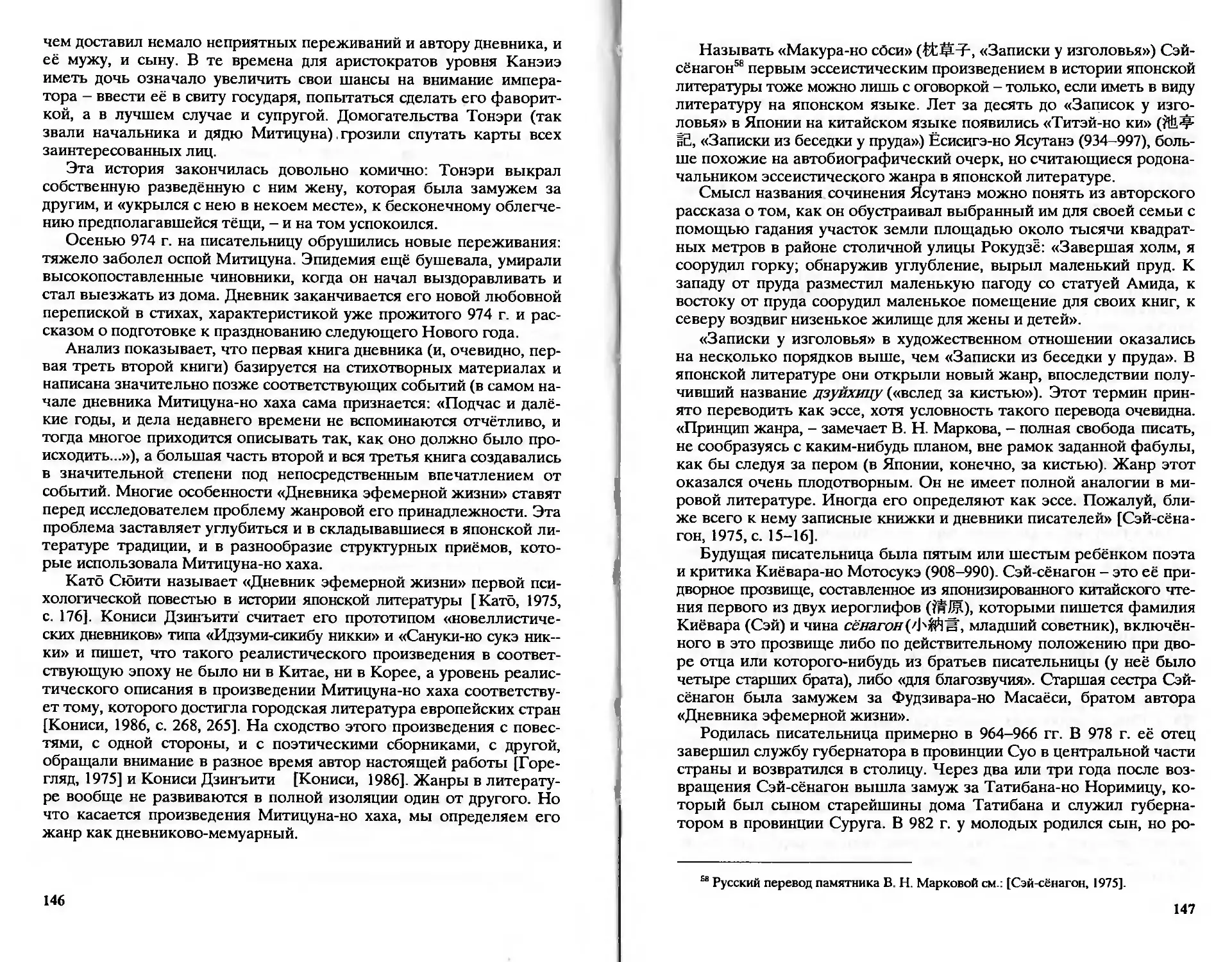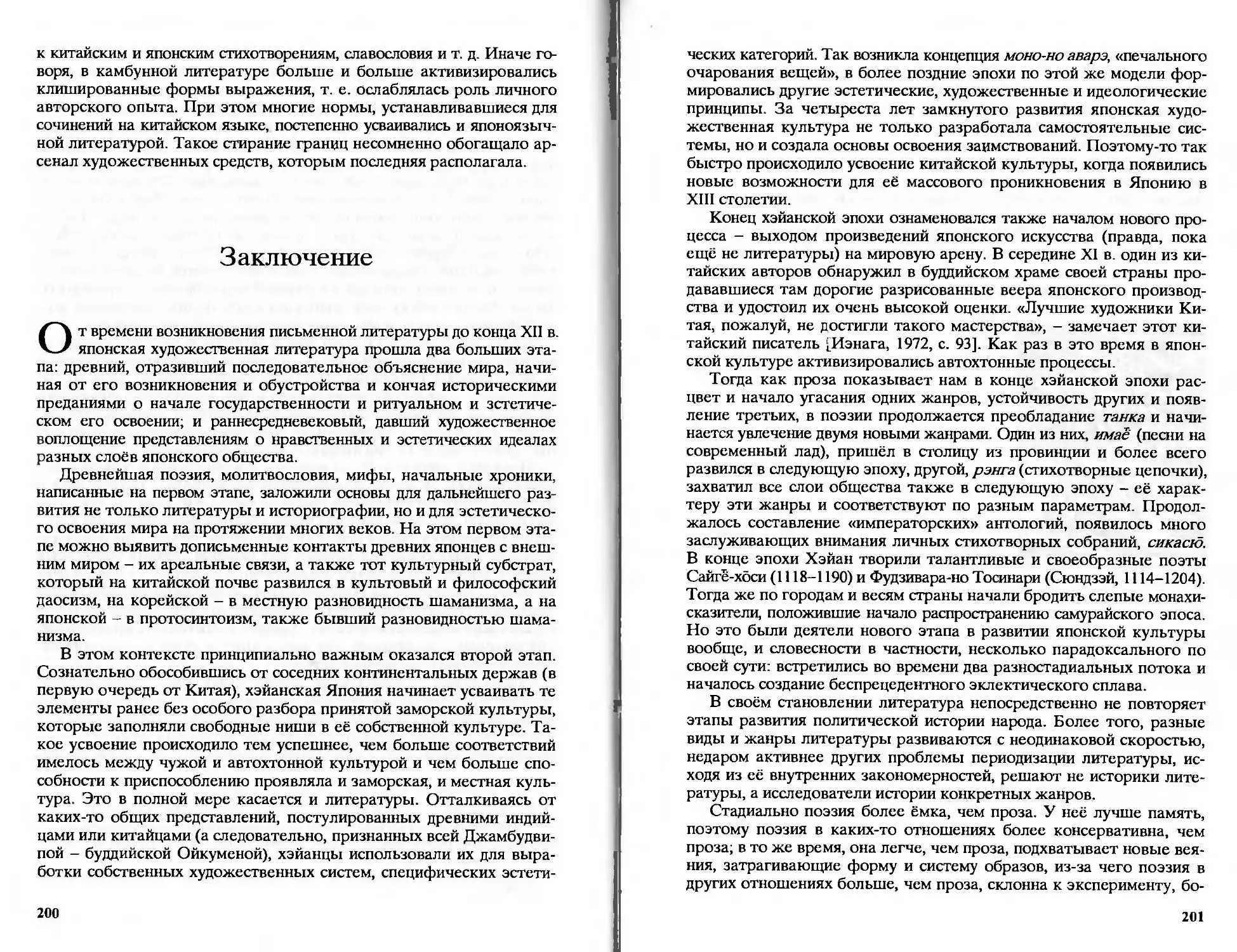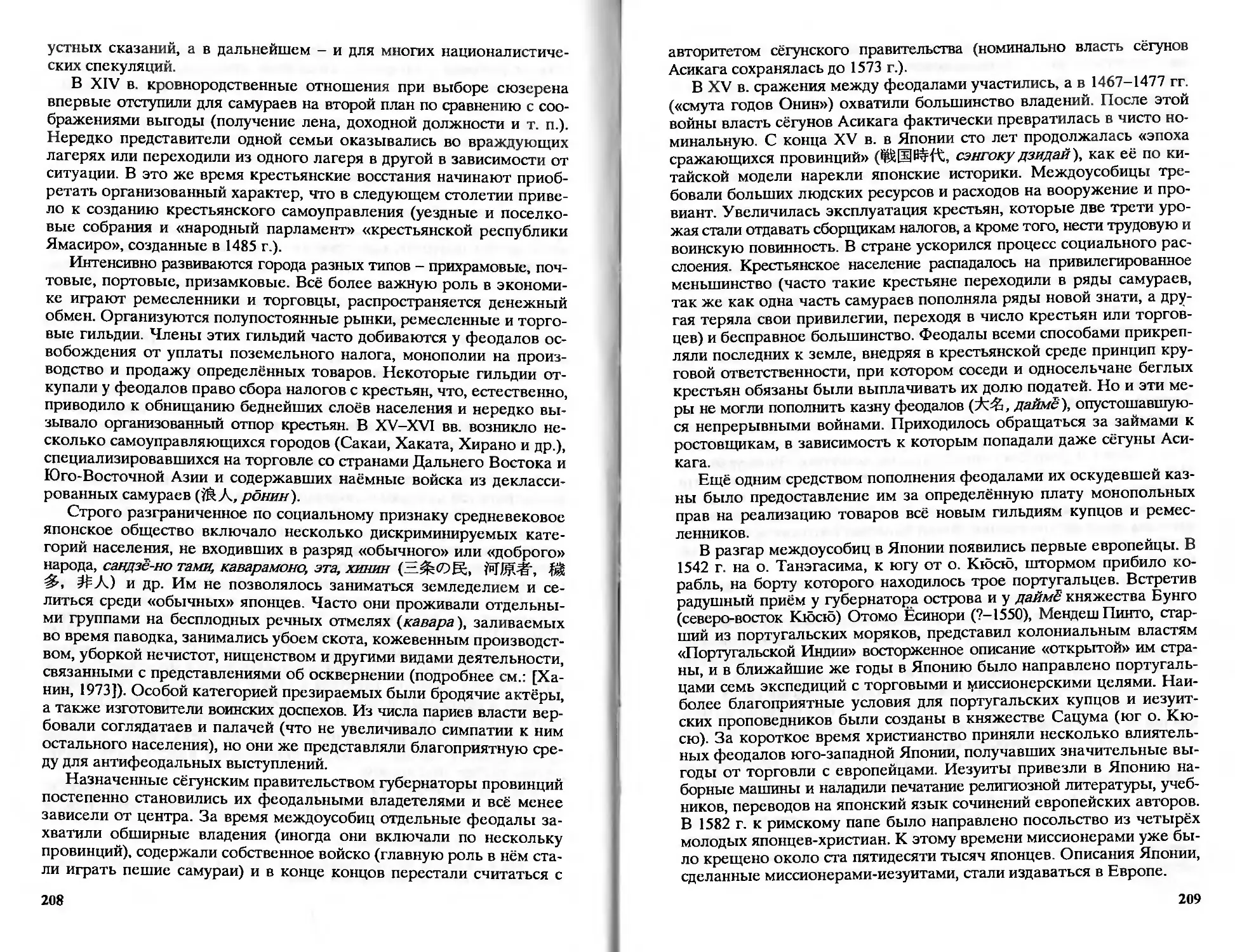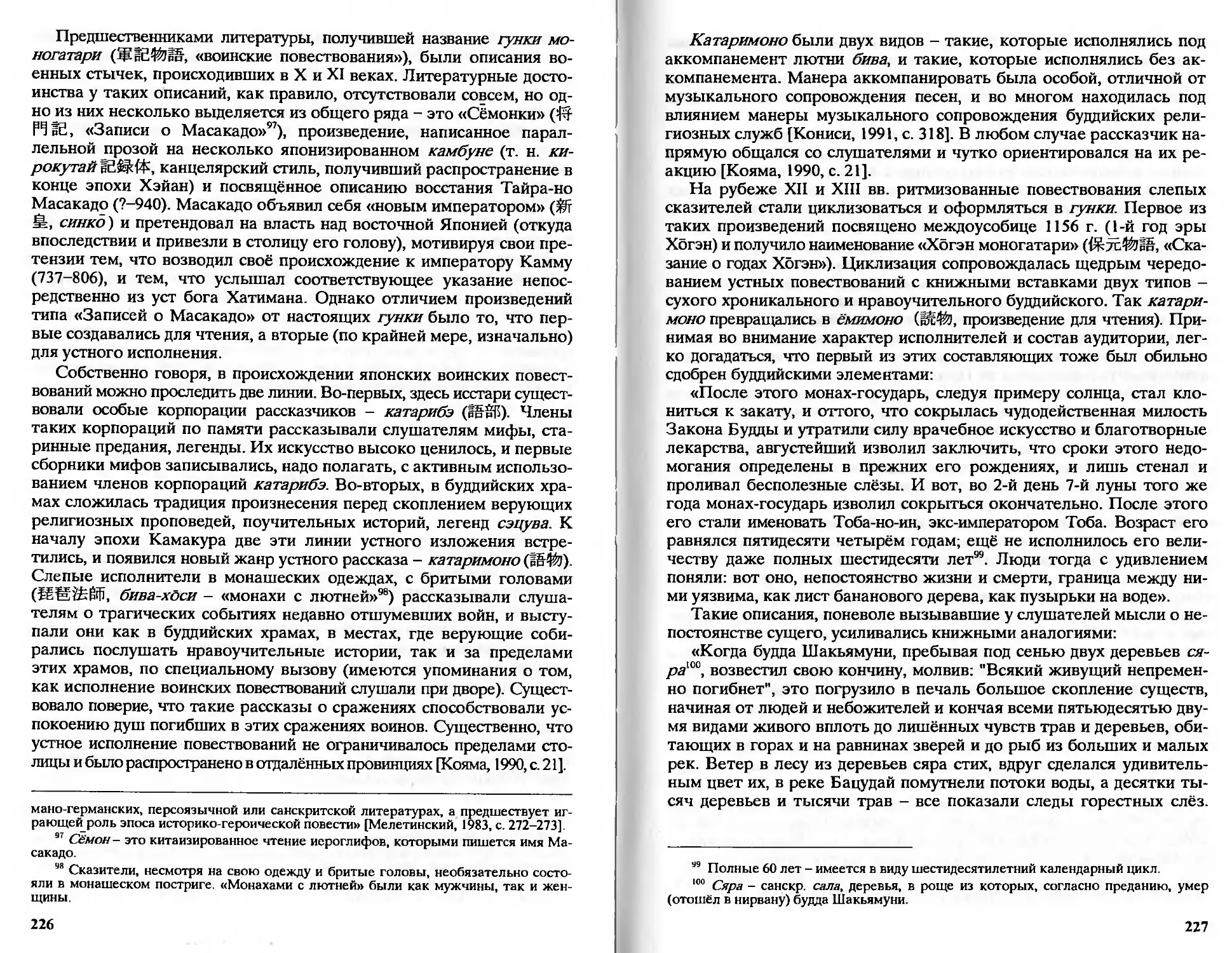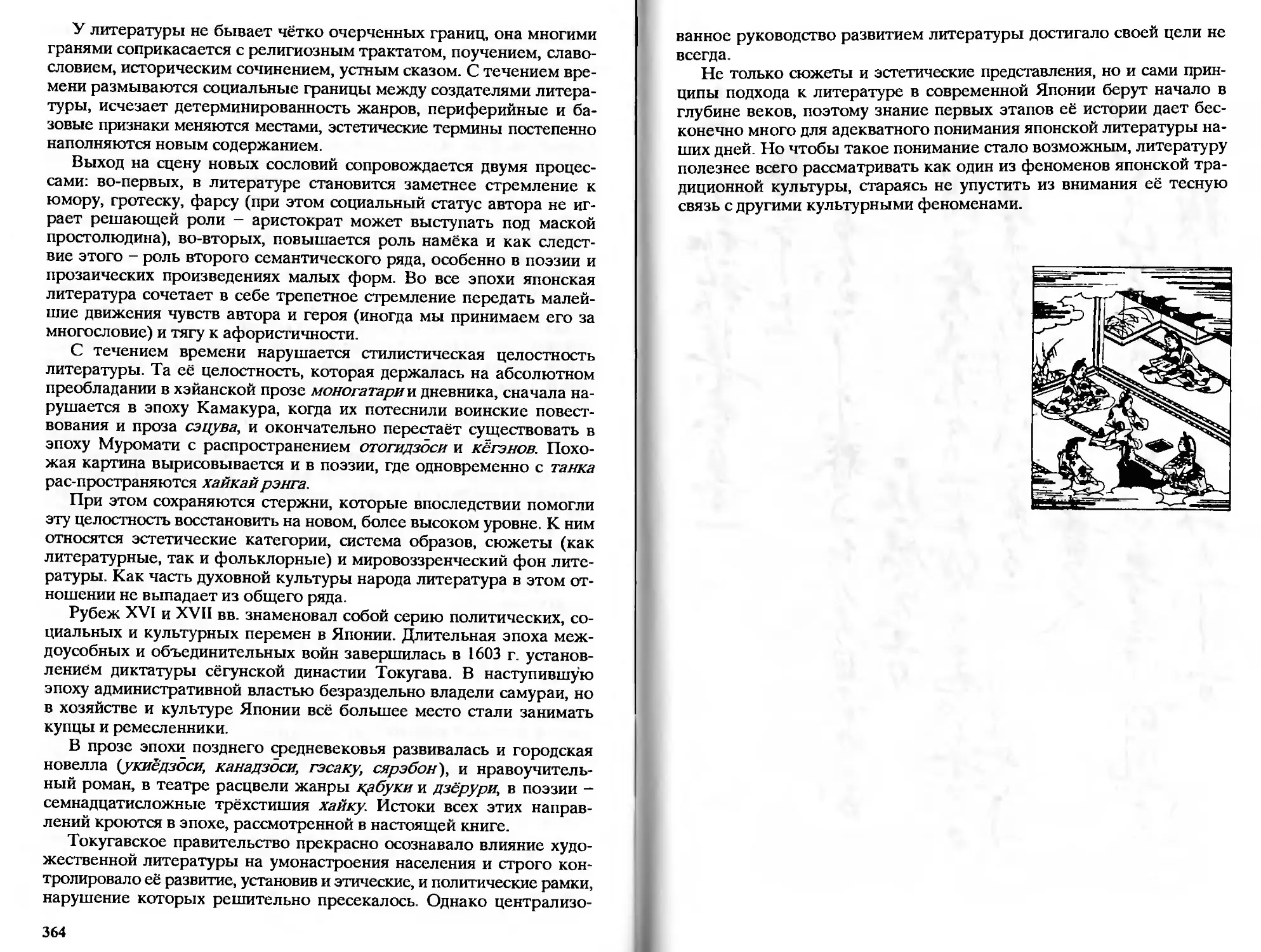Author: Горегляд В.Н.
Tags: средневековая литература востоковедение японская литература
ISBN: 5-85803-076-9
Year: 2001
Text
В. Н. Горегляд
Японская литература
VIII—XVI вв.
ЦЕНТР
«ПЕТЕРБУРГСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ»
®RIENTALIA®
Russian Academy of Sciences
Institute of Oriental Studies
St. Petersburg Branch
V. Cjoregliad
apanese literature
of VIII—XVl centuries
Unfolding
of the tradition
St. Petersburg
2001
Российская Академия наук
Институт востоковедения
Санкт-Петербургский филиал
5^ Торегляд
Начало и развитие
традиций
Санкт-Петербург
2001
ББК Ш5(5Я)4
Горегляд В. Н. Японская литература VIII—XVI вв.: Начало и
развитие традиций. — СПб.: «Петербургское Востоковеде-
Г-69 ние», 2001: 2-е изд. — 400 с. (Orientalia)
Настоящая книга представляет собой первое в России регулярное из-
ложение истории японской литературы от ее возникновения до конца
развитого средневековья. Книга насыщена фактическим материалом,
включает сведения о социальной истории Японии, о разных областях ее
культуры, о религиозных учениях и бытовых повериях. Наряду с общей
характеристикой основных этапов развития японской литературы автор
анализирует отдельные жанры, а также отдельные произведения — как с
содержательной, так и с формальной стороны. Литература рассматривает-
ся как часть духовной культуры японского народа, — без этого понима-
ние своеобразия классической японской литературы невозможно.
Книга предназначена для литературоведов, культурологов, японоведов
и самого широкого круга читателей, интересующихся культурой и литера-
турой Японии, а также может быть использована как учебное пособие для
студентов гуманитарных вузов и учащихся гимназий.
На первой странице обложки: фрагмент свитка иллюстраций к «Тай-
хэйки», выполненного Кайхб Юсэцу (1578—1677). Библиотека префекту-
ры Саитама, Япония
Перепечатка данного издания, а равно отдельных его частей запрещена.
Любое использование материалов данного издания возможно исключительно
с письменного разрешения издательства.
Набор — В. Н. Горегляд, Т. В. Чудинова. Технический редактор — Л. И. Гохман
Редактор — И. П. Сологуб. Корректоры — И. П. Сологуб, О. И. Трофимова
Издательство «Петербургское Востоковедение». ЛР № 065555 от 5.12.1997
191186, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18
Подписано в печать 25.12.2000. Формат 60х901/|б- Бумага офсетная
Гарнитура основного текста «Таймс» Печать офсетная. Объем 25 печ. л.
Доп. тираж. 1000 экз Заказ №3732.
Отпечатано с готового оригинал-макета
в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12
SBN 5-85803-076-9
9785858 030768
© В. Н. Горегляд, 1997, 2001
© Центр «Петербургское
Востоковедение», 1997, 2001
1Зарегистрированная торговая марка
®RIENTALIAin'ZT“
Введение
В средневековой японской культуре, в активе которой числятся
самобытная архитектура и садовое искусство, живопись на свит-
ках, ширмах и веерах, художественные изделия из лака, чайные це-
ремонии, танцы с элементами своеобразной пантомимы, искусство
аранжировки цветов икэбана выращивания карликовых
деревьев бонсай разного рода спортивные развлечения (от
игр в кожаный ножной мяч кэмари до фехтования кэндо (^1
iM) и нескольких видов борьбы), образное слово играло определяющую
роль.
Словом отражались и оценивались события, распространялись
идеи и настроения, формировалась, разнообразилась и приобретала
устойчивость культурная традиция, находил адекватное выражение
один из важных компонентов этой традиции - японская эстетика.
Наконец, искусство слова высоко ценилось само по себе.
Со словом, как и с изобразительным искусством, в Японии тесно
связано понятие гармонии - одно из основных в традиционном эс-
тетическом сознании. Понятие гармонии обнимает взаимоотноше-
ния между живыми людьми и духами, между всеми видами сущего.
Его устойчивость объясняется не только древностью происхожде-
ния и универсальностью, но и тем пристальным вниманием, которое
этому понятию уделяли поколения японских мыслителей.
Художественный слой выделился в письменном слове на очень
раннем этапе; в нём определились роды и жанры с преобладанием
тех или других функций и формальных признаков, установилась их
иерархия.
Древнеяпонская литература - результат проникновения на ост-
рова континентальной культуры, значительно более развитой ста-
диально, чем местная, и для её поддержания требовались особые
институты. Её функции и состав не в точности совпадали с функ-
циями и составом литературы в странах Европы на соответству-
ющих стадиях развития, и это несовпадение стимулирует в совре-
менной японской науке развитие этноцентристских тенденций, ко-
торые начинаются с попыток генерализации частных особенностей
5
японской литературы, японской культуры, японской системы мы-
шления и завершаются нередко противопоставлением их иностран-
ным, прежде всего - европейским. Такие тенденции наблюдались в
разные периоды японской истории. Конец XX века отмечен их
очередной активизацией.
При этом подчас выводы из одинаковых посылок оказываются у
разных авторов взаимоисключающими. Так, профессор Токийского
университета Кумон Сюмпэй, противопоставляя «аналитический»
японский склад ума «синтезирующему» европейскому, утверждает,
что у японцев «процесс познания идет от целого к частям» [Кумон,
1982, с. 9], причём сама эта направленность закодирована в языке, а
дуальность целого и части в культурном сознании японца снимается
воздействием традиционного мировосприятия, идущего от буддий-
ской «Сутры-сердцевины о Праджня-парамите»
«Хання харамицу сингё») [Кумон, 1982, с. 10]. Не менее обстоятель-
но, с экскурсами в область традиционной архитектуры, планировки
усадьбы, синтаксиса японского языка, мифологии и т. д. известный
историк японской литературы Като Сюити аргументирует свой те-
зис о противоположной направленности культурного сознания япон-
цев - «не от целого к части, а от части к целому» [Като, 1975, с. 14].
Читатель оказывается перед парадоксальной ситуацией, которая
неизбежна при ответах на неправильно поставленные вопросы.
Стремление осмыслить специфику собственной культуры, прок-
ламировать её уникальность на общемировой шкале наблюдалось у
японских учёных в разные эпохи. В последние десятилетия оно ак-
тивизировалось в очередной раз и иногда стало проявляться в таких,
к примеру, построениях, как у Цунода Таданобу (по специальности
врача-отоларинголога, автора нашумевшей книги о врождённой спе-
цифике национального сознания японцев), утверждающего тезис об
уникальности устройства мозга японцев, благодаря которому те
адекватно чувствуют природу и способны воспринимать окружа-
ющий мир интуитивно [см.: Алпатов, 1988, с. 111-112].
Литературе присуща непрерывная динамика, и в силу этого после
своего возникновения она в разных формах присутствует в каждой
эпохе. Значение литературного процесса прошедших эпох (как и его
составляющих) заново оценивается всё новыми поколениями людей.
Многофункциональность литературы подчас делает актуальными
памятники, созданные столетия назад, позволяет им каждый раз по-
новому вписываться в меняющийся временной контекст. При этом
неодинакова историко-культурная роль средневековых памятников
одной эпохи, если одни из них непрерывно и широко распростран-
ялись в списках, а другие по каким-то причинам надолго исключа-
лись из литературного обихода.
В современной художественной прозе, открытой многоступен-
чатым и разнообразным влияниям, профессиональный глаз отме-
чает устойчивый комплекс черт, идущих от традиционной японской
культуры. В 1978 г. американская специалистка по классической
6
японской литературе Элеанор Кёркхэм (университет штата Мэри-
ленд) отмечала, что современные японские прозаики только тогда
создают нечто неповторимое, когда находят «единственный в своём
роде баланс или создают в творчестве единственное в своём роде
соотношение между западными и традиционными элементами. Если
мы проглядим или не заметим классические элементы, мы, вероятно,
не поймём, что было сказано». Далее она формулирует собственное
понимание «классических элементов», присутствующих в совре-
менной художественной прозе, сводя их к пяти категориям. «Первой
в моём списке значится лирическая природа современной японской
литературы; вторым - упор на формальное, конкретное и чувствен-
ное богатство и на красоту; с ними тесно связано третье - языковая
непрерывность, использование классического словаря, синтаксиса, а
также стилистических и структурных средств; четвёртое - это то,
что я называю неакадемическим или личным классицизмом; а пятое -
наличие определённого стержня из буддийских концепций» [Кёрк-
хэм, 1978, с. 10].
Можно по-разному относиться к количеству и содержанию «клас-
сических элементов», выделенных американской исследовательни-
цей в современной японской литературе. Да это и не так важно для
нас. Дело в заданности её подхода к предмету исследования. В лите-
ратуре Японии выделяется нечто особенное, определяющее её спе-
цифику в любом культурно-историческом контексте. В культуроло-
гии антиподом такой заданности является европоцентризм, с кото-
рым так горячо и убедительно спорил в своё время акад. Н. И. Кон-
рад.
До последнего времени отношение к японской классической лите-
ратуре в мировом литературоведении было каким-то странным. С
одной стороны, непреложным фактом стало считаться влияние, ко-
торое на зарубежную поэзию оказали японские трёхстишия хайку,
значение, которое для всемирной литературы имеют произведения
средневековых японских драматургов или авторов дневников и пу-
тевых заметок. С другой стороны, с завидным постоянством созда-
тели общих работ по европейским и американским литературам
именуют их работами по всемирной литературе, не потрудившись
задуматься об отсутствии в них разделов, посвящённых огромному
количеству литератур мира, в том числе и древнейших из ныне су-
ществующих.
Португальский литературовед Армандо Мартинс Жанейра, про-
водивший сравнительное исследование японской и западных литера-
тур, обескураженно констатировал: «Когда мы читаем какую-то
книгу по всеобщей литературе, мы очень редко находим отсылку к
литературе Японии. Исследования общего характера, посвящённые
современной новелле или поэзии, пишутся так, будто японской лите-
ратуры вообще не существует... На Западе мало людей сознают, что
Япония сделала ценный вклад в мировую литературу» [Жанейра,
1970, с. 14].
7
В последние два десятилетия усилиями мирового классического
востоковедения ущербность откровенного европоцентризма стала
общепризнанной. В науке ускоренными темпами развивается новое
направление - изучение вклада, который сделали и продолжают
делать народы Востока в земную цивилизацию. Инициатива в его
развитии нередко принадлежит учёным-европеистам. Иногда, как
бы компенсируя прежнюю недооценку такого вклада, востоковеды
(в том числе и специалисты по традиционной японской культуре)
бывают склонны несколько преувеличивать его масштаб. Так, вид-
ный американский японовед Эдвин О. Рейшауэр заявил в докладе на
Международной конференции по японской культуре в 1972 г.: «Кре-
пость японской культурной традиции и ее влияния на другие страны,
вероятно, явственнее всего в области искусства... Здесь очень велик
поток художественных влияний, идущих от Японии к остальному
миру. Вся современная концепция дизайна - в украшении интерьера,
в художественных аспектах повседневной жизни, даже в архитекту-
ре - происходит, я полагаю, более от японских эстетических тради-
ций, чем от западных. Другими словами, люди повсеместно начина-
ют видеть вещи глазами японцев» [Рейшауэр, 1973, с. 72].
В самом изучении японской литературы можно выделить три
подхода. Первый - рассмотрение литературы как таковой: анализ
отдельных произведений, творчества конкретных писателей и по-
этов, специфики жанров с их взаимосвязями и формальными приз-
наками, с обрисовкой социального фона. Второй подход - культур-
но-исторический. Его сторонники представляют литературу как од-
ну из форм художественного сознания. Изучение её чаще всего ори-
ентировано на обобщения общекультурного порядка, имеющие свои
собственные задачи. Третий подход абсолютизирует или преувели-
чивает общественную или воспитательную роль литературы, сосре-
дотачивает внимание на движении идей в литературных произведе-
ниях. Крайние его формы представлены школой вульгарного со-
циологизма, процветавшей в отечественной науке в 1930-1950-е гг.
Сочетание специфики подхода к литературному материалу как
таковому с оценкой национальной литературы на фоне ареальной
или мировой определяет задачи конкретных исследований по исто-
рии литературы. От возможных вариантов таких сочетаний зависит
и многообразие видов историко-литературных исследований.
При изучении истории японской литературы, по признанию ав-
торитетных специалистов в этой области, на первый план выходят
проблемы «её структуры, организации, её исторических подразделе-
ний» [Итико, 1979, с. 1 ]. Между тем имеется ряд аспектов в развитии
древней и средневековой литературы, без освещения которых вряд
ли возможно получить сколько-нибудь полное представление о са-
мой японской литературе, о её роли в системе культуры народа и о
специфике в сравнении с литературами других стран. К числу таких
аспектов относится проблема языка и письменности, отношения
средневекового японского книжника к авторскому тексту, проблема
8
категорий, в разные эпохи служивших для положительной или отри-
цательной характеристики героев
Для представления о древнейшем этапе японской словесности, о
протояпонской культуре, в которой закладывались основы устойчи-
вых отношений человека к внешнему миру и к самому себе, необхо-
димо иметь в виду по крайней мере одно обстоятельство: в доисто-
рические времена территория современной Японии не была отгоро-
жена от континента морями. Сменяющиеся волны миграций прино-
сили сюда культуры этносов Юго-Восточной Азии, Полинезии, кон-
тинентальной Азии от Корейского полуострова до истоков Енисея,
которые оставляли следы в языке, древнейшем ритуале, мифологии,
стиле жизни. Нельзя не согласиться с утверждением Н. А. Иофан о
том, что на раннем этапе «непрерывный приток стадиально и этни-
чески различных культур активизирует процесс становления япон-
ской культуры, в основе которой лежит весьма сложный сплав куль-
тур японского энеолита и эпохи бронзы со свойственными им дина-
микой и гибкостью, способностью плодотворно взаимодействовать
с другими культурами и неуклонно отбирать и накапливать мате-
риал» [Иофан, 1974, с. 245].
Японская письменная культура развивалась в пределах великой
восточноазиатской культурной сферы - достаточно близко от её
центра, которым был Китай, чтобы испытывать подавляющее его
влияние, и достаточно изолированно от него (по крайней мере, в от-
дельные, весьма продолжительные периоды истории), чтобы не по-
терять свою самобытность: время от времени культурный прессинг
из-за моря вызывал сопротивление и в разных формах стимулиро-
вал почвеннические тенденции в общественном сознании, и в пер-
вую очередь - в литературе. Правда, это сопротивление, как прави-
ло, начиналось не в культурной, а в политической области.
В докапиталистическую эпоху художественная литература Япо-
нии развивалась на двух языках - японском и китайском. За не-
большими исключениями языковой признак определял и жанровую
принадлежность произведения, и круг его идей, и систему художест-
венных приёмов. Если авторы, писавшие по-китайски, старались
чётко следовать признанным китайским образцам, т. е. были по-
дражателями по установке, то создатели произведений на японском
языке поддерживали и развивали местную традицию. В литературе
они были не только подражателями, но и новаторами, изобретате-
лями новых форм и средств выражения.
В отличие от Нового времени скрытое цитирование, прямое за-
имствование идей и сюжетов, литературные намеки и реминис-
ценции средневековыми авторами котировались очень высоко - как
свидетельства образованности, умения оперировать знаниями, знаки
уважения к равным знаниям и вкусу читателей. Для нас они во мно-
гом остаются признаками корпоративности носителей книжной
культуры старой Японии.
В авторской оценке героев на первое место в разные эпохи по-
9
следовательно выходили критерии эмоционального, эстетического
и этического порядка. Смена критериев приводила к тому, что по-
следующие поколения ценителей литературы не всегда разделяли (и
даже адекватно понимали) изначальную, авторскую оценку поступ-
ков героев даже очень популярных произведений (таких, как «По-
весть о Гэндзи» Мурасаки-сикибу, XI в.). Временные изменения в
иерархии оценок до сих пор недостаточно учитываются исследо-
вателями. Это приводит к недооценке системы воззрений древних и
средневековых авторов и в конечном счёте - к неполному пони-
манию функций художественной литературы в соответствующую
эпоху. На эту сложную проблему стали обращать внимание лишь в
сравнительно недавнее время.
До конца XIX в. в Японии не существовало традиции исследова-
ния истории художественной литературы в нашем понимании. Сред-
невековые филологические школы выработали методики анализа
отдельных произведений или их групп (поэтических антологий, сбор-
ников мифов или легенд, воинских эпопей и пр.), направлений в
поэзии, создали традиции текстологических и палеографических ис-
следований. Только в 1890 г. появилась из печати первая общая «Ис-
тория японской литературы» (0 ^ZZ^Sfe), написанная недавними
выпускниками Имперского университета (Токио) Миками Сандзи
(1865-1939) и Такацу Кувасабурб (1864-1921).
Авторы этих работ прослушали в университете курсы лекций
выдающихся исследователей классической литературы и одного из
крупнейших западных японоведов того времени Б. X. Чемберлена
(1850-1935), который и научил их европейским принципам изложе-
ния истории литературы (в книге Миками и Такацу материал вы-
строен в хронологическом порядке: эпоха Нара, эпоха Хэйан, эпоха
Камакура, эпохи Намбокутё и Муромати, эпоха Эдо; в последовав-
ших затем книгах других авторов разделы именовались: Древность,
Раннее средневековье, Средняя эпоха, Ближняя эпоха1).
Значение книги молодых учёных состоит в том, что на неё ори-
ентировались создатели авторитетных монографий конца Х1Х-пер-
вой четверти XX в. Хага Яити (1867-1927), Фудзиока Сакутарб (1870—
1910) и др.2 и что она послужила образцом для написания одной из
1 Легко увидеть, что в периодизации литературного процесса, по примеру евро
пейских учёных , японские авторы исходили из общеисторических критериев. Внут
ренние закономерности развития литературы, которые можно было бы использо-
вать в качестве теоретического обоснования её периодизации, не изучены в доста
точной мере до сих пор (внимательнее всего их изучают специалисты по истории
литературных жанров). Более того, принятые японоведами принципы деления ис-
тории литературы на периоды подчас не связаны с особенностями не только лите-
ратурной, но и общественно-политической истории Японии.
2 Историко-литературные работы Хага Яити отличаются упором на филологи-
ческий анализ материала; Фудзиока СакутарО тщательно описывал формальные
признаки поэтических жанров (в хронологической последовательности). Последняя
особенность оказала влияние на ряд ранних исследований основателя советского
научного японоведения Н. И. Конрада (1891-1970).
10
самых полных и популярных на Западе работ такого рода - «Исто-
рии японской литературы» (A History of Japanese Literature) англий-
ского японоведа У. Дж. Астона (1841-1911).
В 1904 г. книга У. Астона появилась в русском переводе, выпол-
ненном слушателем Восточного института во Владивостоке В. М. Менд-
риным, который проделал кропотливую работу, сверив при пере-
воде все выдержки из японских литературных памятников по их
оригиналам. В 1921 г. в сборнике «Литература Востока», составлен-
ном в рамках предложенного М Горьким проекта «Всемирная лите-
ратура», появился компактный, написанный самостоятельно очерк
«Японская литература» С Г. Елисеева (1889-1975). К тому времени
европейские японоведы располагали также обстоятельной «Истори-
ей японской литературы» (Geschichte der Japanischen Literatur) гам-
бургского профессора Карла Флоренца (1865-1939).
Если не считать обзорных статей в энциклопедиях, следующей
работы, посвящённой систематическому изложению этого предмета
на русском языке, пришлось ждать более сорока лет: в 1964 г. в се-
рии очерков «Литература Востока», рассчитанных на широкого чи-
тателя, была опубликована книга Т. Григорьевой и В. Логуновой
«Японская литература. Краткий очерк». Одновременно продолжало
увеличиваться число художественных переводов и монографических
исследований, посвящённых отдельным жанрам, эпохам, авторам. В
1973 и 1974 гг. вышли из печати две книги акад. Н. И. Конрада:
«Очерки японской литературы» и «Японская литература. От "Кодзики"
до Токутоми». По сути они представляют собой очерковые изло-
жения некоторых узловых проблем истории японской литературы,
частью опубликованные в прежние годы в разных изданиях, частью
обнаруженные в архиве ученого после его смерти и подготовленные
к изданию его вдовой Н. И. Фельдман-Конрад.
Заслуживают упоминания и вузовские учебники и учебные посо-
бия последних десятилетий. В учебнике Московского университета
«Литература Востока в средние века» раздел «Японская литерату-
ра» (с. 237-341), описывающий её историю от VIII до XVI в., принад-
лежит перу И. Л. Иоффе (Львовой) и Е. М. Пинус. В 1975 г. под ре-
дакцией Е. М. Пинус издательство Ленинградского университета вы-
пустило курс лекций «Краткая история литературы Японии», а
пятью годами позже Дальневосточный университет во Владивосто-
ке издал учебное пособие Т. И. Бреславец «Японская классическая
литература VIII-XIX веков. Поэзия танка, рэнга, хайку», где рассмат-
риваются вопросы истории, теории и поэтики указанных жанров К
сожалению, последнее пособие издано мизерным тиражом и прак-
тически недоступно даже специалистам.
С 1960-х годов активизировались исследования по историко-ли-
тературной проблематике и в самой Японии, и в западных странах -
прежде всего в США и странах Западной Европы. Проводятся серь-
ёзные исследования и в соседних с Японией странах - в КНР и Юж-
ной Корее. В Японии наиболее активная работа по координации
11
усилий литературоведов и сбору информации о хранящихся в раз-
ных странах рукописных памятниках японской литературы и об их
исследовании проводится Национальным институтом японской ли-
тературы Кокубунгаку кэнкю сирёкан), осно-
ванном в 1972 г. в Токио. В 1987 г. в Киото был основан Междуна-
родный центр по изучению японской культуры (HW В
> 9 , International Research Center for Japanese Studies), в котором
проводятся исследования в разных её областях, в том числе - в
области японской литературы. В Европейском регионе активизации
работ по изучению японской литературы во многом способствуют
регулярные конференции, проводимые Европейской ассоциацией
японоведения (создана в 1973 г.).
На фоне монографических и обобщающих исследований по ис-
тории японской литературы выделяются отдельные узловые проб-
лемы, постановка которых требует привлечения данных смежных
дисциплин, а результаты рассмотрения отражаются в формирова-
нии стереотипа японской культуры. Для периодов древней и сред-
невековой культуры эти проблемы группируются вокруг изучения
мифов и преданий, первых стихотворных антологий, авторской по-
вествовательной литературы и военно-феодальных эпопей.
Старание выдвинуть на передний план при анализе этого мате-
риала идеологические его аспекты или трактовать его в плане эти-
ческой оценки народа-носителя было характерно ещё для традици-
онной японской филологии (в наибольшей степени - для предста-
вителей Кокугакуха Школы отечественных наук, XVII-
XIX вв.). Оно вновь стало заметным на рубеже XIX и XX вв., а за-
тем- в 30-е гг. XX столетия. Не случайно в годы накануне Второй
мировой войны известный японский историк литературы Сасаки
Нобуцуна (1872-1963) подчёркивал в одном из своих фундаменталь-
ных исследований: «Древняя литература - это источник идеологии
народа» [Сасаки, 1935, с. 5]. При этом речь шла не об официальных
концепциях, а об отдельных сюжетах, образах, художественных
приёмах, органичных для миросозерцания древних японцев и связан-
ных с их культурными традициями.
Из каких бы компонентов ни состояла древняя японская словес-
ность, в сознании её создателей и ценителей в наиболее чистом виде
она существовала в поэзии. Изощрённая поэтическая образность,
разнообразные формальные приёмы, отточенный размер обеспечивали
многовековое развитие нескольких поэтических жанров; сложение
стихов было престижным в разных социальных слоях на протяже-
нии всей письменной истории страны. Вместе с тем чисто фонети-
ческая специфика японского языка мало способствовала развитию
поэзии. По характеристике профессора Ёсида Сэйити (университет Ва-
сэда), «силлабическая структура японского языка проста. Даже ког-
да звонкие и стяжённые звуки добавляются к традиционной диа-
грамме в 50 звуков, получается чуть более ста силлабем против бо-
лее чем трёх тысяч, существующих, как говорят, в английском язы-
12
ке... Простота [японского] силлабария и бедность тональных осо-
бенностей, в свою очередь, делают японский язык весьма несовер-
шенным в рифме» [Такэда, 1977, с. 5-6]. Если к этому добавить
обилие омонимов, иммунитет поэтической речи к иноязычным за-
имствованиям, станет ясной необходимость осмыслить Причины бе-
спримерной устойчивости японской поэтической традиции даже в
рамках классической японской культуры.
В 1960-1970-е гг. в Японии появилось много исследований, посвя-
щённых поискам и установлению общего субстрата протояпонской
и континентальной культур. В них анализируются и отдельные сю-
жеты мифов и преданий, зафиксированных в памятниках VIII века.
Противники концепции общего субстрата настаивают на независи-
мом происхождении и изолированном развитии древнеяпонской куль-
туры, а совпадение отдельных японских сюжетов с континенталь-
ными объясняют дописьменными заимствованиями. Отличительной
чертой архаичного японского фольклора они считают его независи-
мость от внешних источников формирования.
При рассмотрении конкретного материала мы затрагиваем и
этот вопрос. Мы рассматриваем также, как проявляется и как ис-
пользовался на протяжении истории идейный аспект литературы.
Особое внимание уделяем проблеме формирования и трансформа-
ции устойчивых традиций в литературе (сквозные сюжеты, системы
образов, форма, эстетические категории), ибо они и определяют
специфику данной национальной литературы на фоне других лите-
ратур даже в пределах одного региона.
В те же 1960-1970-е гг. вышел в свет ряд коллективных моно-
графий, сборников статей и курсов лекций японских учёных, по-
свящённых истории средневековой литературы Японии. Их обзору
посвящена статья Фукуда Хидэити, опубликованная в №37 журнала
«Acta Asiatica» [Фукуда, 1979.].
Като Сюити в своём «Введении в историю японской литерату-
ры» замечает: «Литература Японии имеет несколько примечатель-
ных особенностей в сравнении с западными и китайской литерату-
рами. Эти особенности относятся, во-первых, к роли литературы в
культуре в целом, во-вторых - к типу её исторического развития,
в-третьих - к японскому языку и его письменной системе, в-четвёр-
тых - к социальному фону литературы, в-пятых - к её мировоззрен-
ческому фону. Если рассмотреть взаимоотношения этих особен-
ностей, станет ясной специфическая структура (по меньшей мере,
одна модель этой структуры) того феномена, который носит назва-
ние "японская литература", во временнбй последовательности» [Ка-
то, с. 6].
Профессор КатО детально рассматривает каждый из названных им
аспектов, утверждая, что роль литературы в японской культуре за-
ключается в том, что «в каждую эпоху своей истории японцы
выражали свои мысли не столько в абстрактной, умозрительной фи-
лософии, сколько в конкретных литературных произведениях».
13
«Выражаясь метафорически, - пишет Като, - в Японии литература
взяла на себя роль философии, а в Китае даже литература трактова-
лась философски» [Като, 1975, с. 6, 8].
Говоря о специфике исторического развития японской литера-
туры, Като Сюити усматривает её в том, что «старое никогда не ис-
чезает, в истории японской литературы существуют определённое
единство и преемственность. И поскольку новое всегда добавляется
к старому, с каждой новой эпохой литературные формы и эстети-
ческие ценности становятся всё более разнообразными и многоли-
кими» [Като, 1975, с. 10].
Японский язык, по его мнению, структурно организован по тому
же принципу, что и вся культура Японии (Като называет этот прин-
цип «законом примыкания»). Порядок слов в предложении, соци-
альное спряжение японского глагола, особенности лексики (вплоть
до малой распространённости личных местоимений, лишающей фразу
определённости, характерной для индоевропейских языков) проеци-
руются на разные элементы традиционной японской культуры -
представление о времени, планировку усадьбы у феодалов эпохи
Эдо, структуру прозаических сборников и средневековых повест-
вований (общее направление от части к целому, соединение по прин-
ципу подобия) [Като, 1975, с. 11-15]. Общественный слой японской
литературы, определяемый автором как «литературный класс», ме-
нялся от эпохи к эпохе по своей сословной принадлежности, «при-
водя ко многим новым изменениям в том способе, которым писали
литературные произведения, в её эстетических ценностях и в мате-
риале». Но в каждый данный период времени «литературный класс»
был культурной элитой и обладал повышенной способностью к ин-
теграции в замкнутые группы, отъединённые от остального общест-
ва. «Это - одна из особенностей японской литературы, традиции ко-
торой дошли от "Записок у изголовья" (X в. - В. Г) до наших дней.
И такая особенность в точности отражает общие особенности струк-
туры японского общества» [Като, 1975, с. 24].
Като Сюити отмечает несколько иностранных мировоззренче-
ских систем, заимствованных японцами на протяжении истории и в
разные эпохи служивших фоном в процессе развития художествен-
ной литературы: махаяна-буддизм и его философия, конфуцианство
(особенно чжусианство), христианство и марксизм. Из них буддизм и
конфуцианство проникли в Японию, очевидно, в середине VI века
[Там же, с. 24]. Они накладывались на местное мировоззрение,
сформировавшееся, по-видимому, в IV-V вв. и представлявшее со-
бой политеистическую систему верований, в которую входили вера
в предков, шаманизм и анимизм [Там же, с. 26]. «Исторические из-
менения мировоззрения японцев характеризуются не столько про-
никновением многочисленных иностранных мировоззрений, сколь-
ко настойчивым поддержанием местного мировоззрения и повто-
ряющейся японизацией пришедших из-за рубежа систем» [Там же,
с. 24].
14
Сочетание этих пяти особенностей в их исторической обуслов-
ленности Като Сюити представляет в качестве главной движущей
силы развития японской литературы. Это основное утверждение,
даже если отдельные аргументы его не вполне безукоризненны,
проводится на протяжении всей двухтомной работы Слабость же
доказательств автора «Введения в историю японской литературы» в
его навязчивом подчёркивании уникальности японской литературы
в разнообразных её проявлениях. При этом сомнение вызывает не
сама установка на выявление этой уникальности, а желание автора
всякое автохтонное (или кажущееся таковым) явление в литературе
и культуре представить как превосходное, а заимствованнное - как
в том или ином отношении несовершенное.
Есть более скрупулёзные, фундаментальные исследования и де-
тальные описания истории японской литературы, такие, как шести-
томник под общей редакцией Итико Тэйдзи [Итико, 1979, 1984, 1986]
или объёмистый том «Семена в сердце» Доналда Кина [Кин, 1993].
Но при всей их бесспорной основательности таким исследованиям
недостаёт сплошного культурологического фона, литературовед-
ческой концептуальности. Без характеристики такого фона трудно
признать обоснованной периодизацию истории литературы по вне-
литературным признакам. Развитие литературы как процесс, под-
чинённый собственным законам и связанный с внелитературным ок-
ружением, подробно рассмотрен в многотомнике почётного профес-
сора университета Цукуба Кониси Дзинъити [Кониси, 1984, 1986,
1991].
Литература - организм живой. Могут меняться формы её учас-
тия в духовной жизни, в эстетическом сознании общества, но раз на-
всегда определить формы и меру этого участия невозможно. Лите-
ратура связана со всеми сторонами жизни общества. В разных куль-
турах генетически и хронологически они соотносятся по-разному. В
этом один из источников своеобразия каждой национальной литера-
туры. Посылка многих японских филологов и культуроведов, что
для японской культуры любые заимствования извне неорганичны,
непродуктивны и вредны, а автохтонные явления безусловно поло-
жительны, наивна и неверна. Но её распространённость в японских
исследованиях последнего времени не позволяет пренебрегать ею.
Письменная культура, насчитывающая столетия, не может время
от времени не приходить в сложные, подчас противоречивые отно-
шения как с иноземными культурами, с которыми вступает в кон-
такт, так и с некоторыми собственными тенденциями. Сочетание
непоследовательности со строгой определённостью входит в сущ-
ность культуры.
Целостная культура противоречива в частностях, поэтому боль-
шинству наших генерализаций она может противопоставить микро-
опровержения изнутри самой себя. Обобщение оказывается тем
вернее, чем больший материал оно охватывает. В японской куль-
туре всех эпох к наиболее общим характеристикам принадлежит её
бережное отношение к собственному прошлому.
15
«Особое отношение к прошлому как залогу будущего породило
стремление не преодолевать... а сохранять то, что со причастно под-
линно реальному миру. Это привело сознание к закону традициона-
лизма - не заменять, а сохранять то, что было найдено когда-то»
[Григорьева, 1979, с. 165]. Это о культуре в целом. Теперь о литера-
туре в частности. «История японской литературы не только про-
должительна. В формах её развития были примечательные особен-
ности, - отмечает Като Сюити. - Никогда не бывало так, чтобы
форма литературного выражения, ставшая влиятельной в одну эпо-
ху, была замещена новой формой в следующую эпоху. Новое не за-
меняет старое, а дополняет его» [Като, 1975, с. 9]. С этим наблюде-
нием нужно согласиться. Литературную преемственность обеспечива-
ла распространённость такого приёма, как реминисценция (хонка-
дори - «следование изначальной песне» в поэзии, текстуальные
заимствования, скрытое цитирование, намёки) [см.: Боронина, 1978,
с. 316-326; Горегляд, 1963, с. 37-38].
Рассмотрение истории литературы вызывает необходимость пред-
принимать экскурсы в те области духовной культуры, которые тес-
нее всего связаны с её содержанием, формируют её окружение.
Простое перечисление и характеристика одних только литератур-
ных произведений, даже сопровождаемое сведениями об авторах и
сравнительными данными формального характера, не представляет
собою историю национальной литературы, так же, как словарь,
даже с приложением грамматического очерка, не равнозначен языку.
В разных культурных зонах взгляды людей на задачи литера-
туры, особенно на ранних стадиях её развития, неодинаковы. В од-
них культурах на первом плане стоит её учительская функция, в дру-
гих - информативная, в третьих - сакральная. В предлагаемой вни-
манию читателей книге её автор много цитирует сами памятники ху-
дожественной литературы, пересказывает их содержание и приво-
дит мнения о разных явлениях литературы японских и западных спе-
циалистов, для того чтобы читатель смог наглядно представить и
специфику самой японской литературы, и разнообразие подходов к
ней со стороны представителей разных научных школ.
Российские учёные в последние десятилетия проделали большую
работу по переводу памятников японской классической литературы
на русский язык. Опубликован ряд монографических исследований
классической поэзии танка, прозы сэцува, дневниковой и эссеисти-
ческой литературы, драмы Но, творчества некоторых писателей.
Однако эти переводы и исследования лишь малая часть в сравнении
с аналогичными публикациями, предпринятыми англоязычными
японоведами. Поэтому многие репрезентативные произведения япон-
ской литературы автору книги пришлось представлять российскому
читателю впервые, предлагая выдержки из них в собственном пере-
воде.
Возможность проследить художественное сознание японцев от
самого раннего, дописьменного этапа часто ставит перед исследо-
16
вателем вопрос о генезисе литературы, о стимулах её возникнове-
ния. Так, Сасаки Нобуцуна в своей работе [Сасаки, 1935, с. 6-14]
рассматривал разные версии причин, вызвавших появление литера-
туры: версии об игровом инстинкте, об инстинкте подражания, о
происхождении литературы от религии (т. е. от первобытных моле-
ний богам), о самовыражении (из желания выделиться среди многих
себе подобных - по аналогии с жестикуляцией, повышением голоса
и пр.), о привлечении противоположного пола, о возникновении
практических целей (желание сообщить свои мысли, знания, убеж-
дения, в отдельных случаях сближающееся с функцией религии -
оберег, заклинание перед выходом на охоту и т. п.), о повторении
(подражание звукам и движениям живой природы), о чувствах. «В
изначальных условиях существования литературы, - писал Сасаки, -
была тесная, нерасторжимая связь её с музыкой и живописью» [Там
же, с. 14].
Другой крупный исследователь японской классической литера-
туры, профессор Хисамацу Сэнъити (1894-1970) выделял два вида
стимулов развития литературы на раннем этапе - внутренние и внеш-
ние [Хисамацу, 1962, с. 1-4]. К первым из них он относит психологи-
ческие, ко вторым - социальные стимулы. Те и другие, по его мне-
нию, переплетаются между собою (так, трудовые песни несут эсте-
тическую нагрузку, заклинания - эмоциональную и т. д.), поэтому их
нельзя рассматривать изолированно друг от друга, так же, как не-
правомерно ставить вопрос о том, что возникло раньше - поэзия
или проза: литературу надлежит рассматривать в неразрывном един-
стве поэзии и прозы, поскольку изначально она была составной
частью синкретического искусства, включающего мелодию, словес-
ность и танец (сама эта идея, кстати говоря, высказана ещё в древ-
них китайских трактатах и перефразирована в предисловиях к япон-
ской поэтической антологии «Кокинсю», X в.).
На очень ранней стадии развития литературы в Японии зароди-
лась наука о поэтике. Её быстрому самостоятельному развитию спо-
собствовал не столько собственно японский, сколько китайский опыт
создания художественной литературы и литературной теории. Вы-
деление художественной литературы в самостоятельный вид словес-
ности в Японии ускорилось ученичеством, возможностью сравни-
вать её с высоким внешним образцом. Отсюда же - ранняя дифферен-
циация видов и жанров литературы, их иерархия, включающая по-
мимо прочих также языковой и функциональный признаки.
До сих пор речь шла здесь о трудах, в которых история японской
литературы рассматривалась преимущественно как феномен специ-
фический и тем интересный. Но время от времени на западных язы-
ках выходят концептуальные труды по японской литературе, в кото-
рых демонстрируется односторонность, недостаточность такого подхо-
да. Идеи включить в орбиту литературоведческих обобщений даль-
невосточные материалы находят выход либо в разыскании матери-
алов о международных культурных контактах в более или менее
17
отдалённые времена, либо в компаративистских исследованиях - и те, и
другие ставят своей целью прямо выделить общее в местных или
региональных литературах, чтобы обнаружить наличие в них универ-
сальных категорий. Было бы естественно проследить взаимодейст-
вие двух культур, обладающих столь многими общими признаками...
«Наведение мостов через исторический океан, который скорее
разделял, чем связывал две внешне непохожие цивилизации, должно
способствовать большему культурному взаимопониманию стран и
народов», - писал полстолетия назад канадский дипломат и культу-
ролог К. П. Кирквуд [Кирквуд, 1988, с. 24].
«История литературы как синтез многих элементов на суперна-
циональной шкале, - заключает А. М. Жанейра своё рассуждение о
европоцентристском характере определённого рода исследований, -
должна быть переписана заново». Он разделяет убеждение Рене
Веллека в том, что «литература едина, как едино искусство и чело-
вечество, и в этой концепции лежит будущее исторических исследо-
ваний» [Жанейра, 1970, с. 20].
Естественно, читателя, помимо своеобразия японской литерату-
ры, интересует и её общечеловеческое звучание. «С большим удив-
лением, - отмечено в той же работе, - мы обнаруживаем, что неко-
торые жанры развивались в Японии и в Европе в одно и то же время,
хотя сообщение между ними было невозможно, поскольку Япония
закрыла свои двери для Запада» [Там же, с. 27]. Правда, здесь нас
подстерегает опасность уподобить отдалённо похожее, силой вооб-
ражения достроить недостающее и в результате нарисовать картину,
неадекватную действительной. Факты приобретают ценность дока-
зательств только при достаточной их полноте и строгой классифи-
кации. Скажем, появление перспективы в живописи укиё-э в начале
XIX в., когда Япония действительно придерживалась политики «за-
крытых дверей», откровением местных художников считать нельзя:
известно определённо, что к этому времени они были знакомы с ев-
ропейской живописью по тем образцам, которые попадали в страну
через голландскую факторию на о. Дэдзима в г. Нагасаки.
«Если мы хотим познать прошлое таким, каким оно было "на са-
мом деле"... мы не можем не стремиться к тому, чтобы подойти к не-
му с адекватными ему критериями, изучить его имманентно, вскрыть
его собственную внутреннюю структуру, остерегаясь навязывать ему
наши, современные оценки» [Гуревич, 1972, с. 7].
Рассмотренный в предлагаемой вниманию читателя книге период
развития японской литературы отличают почти все основные приз-
наки, характерные для японской культуры на протяжении её пись-
менной истории чередование столетий интенсивных внешних кон-
тактов со столетиями почти полной изоляции страны, времени за-
имствования целых жанров и литературоведческих концепций со
временем развития в литературе автохтонного начала (включая ак-
тивное отрицание всего иноземного), использование литераторами
идеологических систем и отрешение от всякой идеологии, тонкое эс-
тетизирование и грубое выпячивание физиологии...
18
Мы стремились представить японскую литературу как неотъем-
лемую часть духовной культуры народа, продемонстрировать её
специфику по сравнению с литературой европейских народов. Книга
включает сведения о социальной истории Японии, о разных облас-
тях её культуры, о религиозных учениях. Без этих сведений невоз-
можно по-настоящему представить историю классической японской
литературы, поэтому в целом они подчинены историко-литератур-
ной проблеме. Пересказ сюжетов многих произведений и прямое их
цитирование предназначены для показа движения сюжетов и ис-
пользования идей и формальных приёмов от произведения к произ-
ведению, от жанра к жанру, от эпохи к эпохе.
Книга рассчитана на последовательное прочтение от начала до
конца. Все разделы здесь опираются на предшествующие и перекли-
каются с последующими, и в отрыве от тех и других адекватно поня-
ты быть не могут. Та истина, что одно и то же произведение чита-
тели каждой последующей эпохи понимают по-своему, для японской
литературы справедлива, может быть, как ни для какой другой.
Автор старался максимально выверить все приводимые в книге
данные, а также привести мнения наиболее авторитетных специа-
листов по конкретным вопросам.
Неравномерность развития литературных жанров и многие осо-
бенности японской культуры в целом определили принятую в книге
периодизацию литературы. Условность её очевидна, но всякая иная
периодизация на данном этапе развития науки представляется нам
менее оправданной.
Автор выражает благодарность Японскому фонду, Националь-
ному институту японской литературы в Токио и Международному
центру по изучению японской культуры в Киото, создавшим усло-
вия для сбора материалов и написания данной книги, своим колле-
гам по Санкт-Петербургскому филиалу Института востоковедения
РАН, без дружеской поддержки которых невозможной была бы сама
работа над нею. Особую благодарность автор выражает проф. Фу-
куда Хидэити (Токио), Наканиси Сусуму (Киото) и М. И. Никитиной
(Санкт-Петербург) за ценные советы, высказанные ими во время
работы над книгой. _____
Глава I
Литература древней эпохи
Дописьменный этап
в японской культуре
Новейшие археологические находки всё дальше в глубь времён
отодвигают датировку первых следов, оставленных на терри-
тории нынешней Японии человеком. Японский палеолит, сравни-
тельно недавно представлявшийся многим исследователям игрой во-
ображения некоторых японских археологов, сейчас подтверждается
тысячами новых открытий [Васильевский и др., 1982, с. 3-4]. В эпоху
древнейших поселений нынешние Японские острова были частью
Азиатского материка; племена, обитавшие на их территории, не бы-
ли отгорожены от остального мира возникшими впоследствии мо-
рями. Они мигрировали сюда из разных районов Восточной, Юго-Вос-
точной и Северной Азии, временами оседая здесь, а иногда продол-
жая двигаться дальше.
Около десяти тысяч лет назад на Японские острова начали пере-
селяться две группы племён - сначала протоайнская, затем аустро-
незийская. Начальными пунктами их миграции были обширные зо-
ны Юго-Восточной Азии. Эти племена не подавили культуру более
древних насельников, а стали вступать во взаимодействие с нею. «На
протяжении тысячелетий палеолита и неолита на японской земле, -
отмечает Н. А. Иофан, - одни археологические культуры сменяют
другие, и вплоть до рубежа неолита и энеолита культурный комп-
лекс почти ничем принципиально не выделяется еще из общей ста-
диальной культуры огромного ареала Дальнего Востока, Юго-Вос-
точной Азии и Океании, откуда, как известно, происходят миграции
племён на Японские острова и далее» [Иофан, 1989, с. 102].
На островах постепенно складывается культура орнаментиро-
ванной керамики, получившая в науке название дзёмон верё-
вочный орнамент). Её создавал конгломерат племён разного проис-
хождения. Это определило три её главные особенности: сходство с
20
культурами древних насельников Юго-Восточной Азии, Приамурья,
Камчатки, Аляски и прилегающих к ним районов (не случайно в япон-
ском неолите существовало несколько культурных зон), постоянное
обновление элементов за счёт новых заимствований и одновременно
устойчивость и преемственность традиций. Последняя особенность
обязана своим существованием появлению в культуре японского
неолита собственной специфики на фоне восточноазиатской ареаль-
ной культуры.
На рубеже IV и III вв. до н. э. на север о. Кюсю и юго-запад
о. Хонсю с Корейского полуострова несколькими волнами пересе-
ляются протояпонские племена. Они привозят с собой домашних
животных, приносят культуру поливного риса и навыки изготовле-
ния медных и бронзовых орудий. Вместо охоты и рыболовства в хо-
зяйстве пришельцев ведущее место занимает земледелие, в первую
очередь — поливное рисоводство [НБСТ, т. 1, с. 172].
С III в. до н. э. на Японских островах распространилась культура
ранней бронзы, получившая название яёи (*Й^Ё). Для неё характер-
но обилие церемониальных бронзовых мечей и копий оригинальной
формы, бронзовых же зеркал и колоколов ддтаку «Эти ору-
дия, - полагает Иэнага Сабурб, - олицетворяли собой символы по-
литической власти "царей", применялись они сельскими общинами,
очевидно, для свершения магических обрядов» [Иэнага, 1972, с. 31].
Появились свайные постройки с приподнятым полом и массивной
кровлей с большим выносом, напоминающие жилища Юго-Восточ-
ной Азии [Ито и др., 1965, с. 12]. Вместе с тем культура лея обнару-
живает «связи с так называемыми палеоазиатскими культурами При-
байкалья, Нижнего Амура и Приморья...» [Иофан, 1989, с. 102-103].
Носители культуры лея жили отдельными селениями в долинах,
постепенно занимая всё новые территории, примыкающие к побе-
режью Тихого океана. Древнейшее население этих территорий отчасти
ассимилировалось ими, а в большинстве случаев оттеснялось далее
в северные и южные районы. Одновременно с вытеснением древних
насельников происходило и проникновение некоторых элементов
коренной культуры в духовную культуру пришельцев. Складывался
новый культурный комплекс, корни которого простирались в
разные, изначально не связанные между собою регионы Восточной
Азии.
К I в. до н. э. относятся самые ранние сведения о собственно
японцах (Л, кит. вожэнь, яп. вадзин - люди ва) в китайских
династийных хрониках [Фудзики, 1956, с. 20]. «Среди моря Долан, -
отмечено в «Хань шу» («История династии Хань»), - живут вожэнь.
Они делятся на сто с лишним владений. Ежегодно приезжают с
данью» (цит. по: [Фудзики, 1956, с. 20]).
Из многочисленных мелких владений народа ва в I в. н. э. стали
формироваться родовые и племенные союзы, вожди которых вы-
полняли не только светские, но и сакральные функции. Род (ft, удзя)
являлся основным социальным образованием, скреплённым родст-
21
венными связями, общей территорией, культом бога-основателя (ft-M',
удзигами) и подчинением одному вождю удзи-но ками), кото-
рый осуществлял контакты с соседними родами, судил членов рода
и был его верховным шаманом. К началу нашей эры древнеяпон-
ский род представлял собой и кровнородственное, и территориаль-
ное объединение [Хёрст, Камерон, 1974, с. 40-41; Воробьёв, 1980,
с. 15]. Его организация носила следы матриархата.
Во второй половине III в. наступает ранний железный век, полу-
чивший в японской исторической науке название «Курганный пе-
риод» ('S'WxFft, Кофун дзидай). При захоронении вождей, а затем и
знатнейших членов рода стали насыпать круглые (с конца V до кон-
ца VII в. - «квадратно-круглые», в плане напоминающие замочную
скважину) курганы, в которых находят разнообразный погребаль-
ный инвентарь - от ритуального на раннем этапе до воинского на
более позднем [Воробьёв, 1980, с. 64; Исида, 1974, с. 74].
Наряду с бронзовыми орудиями и украшениями здесь встреча-
ются предметы из железа и стали (лезвия мечей) и глиняные фи-
гурки ханива ), изображающие предметы быта, постройки, ору-
жие, животных и людей. По-видимому, назначение таких фигурок
было разным - от обозначения границ курганного захоронения (ке-
рамические цилиндры) до ритуального использования при имитации
жертвоприношений [Иофан, 1974, с. 49-82].
В III в. существовало три племенных объединения Куна на Цен-
тральном Кюсю, Ематай на Северном Кюсю и Ямато в центральной
части о. Хонсю (район Кинай) [Воробьёв, 1980, с. 82]. Каждое из них
управлялось вождём наиболее сильного племени и поддерживало
самостоятельную связь с континентом. Китайская «Вэй чжи» («Ис-
тория царства Вэй», 297 г.) отмечает обмен посольствами между
Вэйским царством и владением «царицы» Химико (Пимико), распо-
лагавшимся на севере острова Кюсю.
Появление и развитие ремёсел и земледелия, с одной стороны,
было обусловлено влиянием континента, а с другой - повлекло за
собой новый приток и расселение на Японских островах значитель-
ного числа иммигрантов (!)В(кЛ, кикадзии) - китайцев и корейцев,
носителей стадиально более развитой культуры. Их расселяли ком-
пактными группами по побережью Внутреннего Японского моря и в
непосредственной близости к царским ставкам, где ремесленные
изделия иммигрантов пользовались постоянным спросом.
В IV в. японцы, предпринимавшие набеги на корейские земли,
захватили на юге Корейского полуострова владение Мимана и удер-
живали его около 200 лет, до 562 г?
В конце lV-начале V в. изменился характер инвентаря в курган-
ных захоронениях японцев. На смену церемониальной традиции
3 Японские и корейские историки высказывают несколько противоречивые то-
чки зрения на проблему характера владения Мимана.
22
пришла воинская (оружие, конская сбруя) и бытовая. Это изменение
некоторые исследователи связывают с влиянием наезднической
культуры племён, кочевавших к северу от границ Китая и в IV в.
основавших самостоятельное государство на территории Маньчжу-
рии и Северной Кореи, а возможно, и захвативших власть на Япон-
ских островах [Исида, 1974, с. 75].
В эту эпоху у японцев происходило интенсивное разложение пер-
вобытно-общинного общества и формирование феодального, при-
ведшее к образованию раннеклассового государства под эгидой гла-
вы племени Ямато (см.: [Конрад, История, 1974, с. 53]).
Древние японцы не знали религии в собственном смысле этого
слова. Их верования, позднее получившие название синто
Путь богов), имели местные отличия, но в целом представляли со-
бой анимизм, смешанный с культом предков и шаманисгическими
элементами двух типов - североазиатского и малайско-полинезий-
ского. В «Анналах Японии» (VIII в.), в том разделе, где описывается
основание Японии потомками небесных богов, сказано: «В той зем-
ле существовало множество ками (Ж божество, дух- - В. Г}, кото-
рые сверкали блеском, подобным блеску светлячков, и злых духов,
которые жужжали, словно мухи. Были там также деревья и травы,
которые могли говорить».
Каждый род имел собственный ясиро (|±) - святилище, где со-
вершались поклонения предкам рода. С образованием федерации
удзи и усилением правящего рода Ямато все более унифицирован-
ный характер начинает приобретать культ мифической прароди-
тельницы этого рода, богини Солнца Аматэрасу Омиками. Он не
вытесняет местные культы, но поднимается над ними и распростра-
няется на всей территории раннеяпонского государства. В провин-
ции Исэ, на берегу Тихого океана, воздвигают комплекс святилищ
для поклонения Аматэрасу. Главной жрицей этого комплекса стано-
вится незамужняя принцесса. Общеяпонские мифы об основании го-
сударства имеют параллели в архаичном корейском фольклоре и
ритуале [Никитина, 1982, с. 92-110, 134-137, 252-257, 293-294] и вос-
ходят, очевидно, к североазиатским (возможно, тунгусским) истокам
[Исида, 1974, с. 81-82].
Символами власти «царей» Ямато считались «три священные ре-
галии» - меч, яшма и бронзовое зерцало, полученные, согласно ми-
фам, первым из них от «божественных предков» и передаваемые от
поколения к поколению4- Постепенно устанавливается иерархия пле-
мён внутри их объединения, причём в пределах одного племени об-
разуются и привилегированные группы, и наследственные группы
несвободных ремесленников (Й5, бэ) или землепашцев (К «В, табэ).
Усиливается расслоение общинников по имущественному и право-
вому признакам.
4 У глав других древних родов были свои символы власти.
23
Внутри раннеклассового государства сохранялись ещё очень силь-
ные центробежные стремления. Старейшины крупных племён счи-
тались с «царём» Ямато главным образом как с религиозным, а не
политическим предводителем [Наоки, 1964, с. 101-111]. «К наиболее
могущественным родам принадлежали Накатоми и Имибэ, сосредо-
точившие в своих руках жреческие функции, Отомо, Мононобэ и
Cora - телохранители государя, вожди его дружин и казначеи» [Ио-
фан, 1974, с. 85]. Стремление каждого из них занять ведущие пози-
ции в государстве питало межплеменные разногласия и одновремен-
но служило идее государственного единства. Центральные власти
мало-помалу превращали вождей племён в придворных аристокра-
тов, ранжируя их по жёсткой иерархической схеме, сами же племена
трансформировались и структурно, и функционально, специализи-
руясь в определённой области общегосударственного механизма.
Первые государственные образования не имели постоянных сто-
лиц. Каждый «царь» переносил административный центр в новое место.
Это было связано и с представлением об осквернённости прежнего
центра смертью предыдущего «царя», и с междоусобными распрями
представителей сильнейших родов, входивших в государство Ямато
и формировавших придворное окружение.
Потребности государственного управления делали необходимым
создание административного аппарата, идеологического обоснования
централизации, а для регулярного функционирования всех государ-
ственных систем - принятия письменности.
Китайской иероглифической письменностью владели многие им-
мигранты из Китая и Кореи, переселившиеся на острова в IV-V вв.
Отдельные факты свидетельствуют о более широком её проник-
новении в Японию в 30-е гг- VI в. [Воробьёв, Соколова, 1976, с. 17].
Некоторые надписи, сделанные в Японии, датируются и более ран-
ним временем: на бронзовом зеркале, обнаруженном в провинции
Вакаяма (храм Суда Хатиман), проставлена дата, соответствующая
503 г. [НБСТ, 2, 1968, с. 340]. Но непрерывная история письменной
культуры в Японии начинается с VII в. Наиболее богаты древней-
шими текстами в наше время оказывались буддийские храмы, обла-
дающие старинными культовыми предметами из бронзы, исписан-
ными выдержками из сутр.
Отправным пунктом распространения буддизма в Японии счи-
тается прибытие в 552 г. (по другой версии - в 538 г.) посольства из
корейского государства Кудара (Пэкче) с богатыми дарами, среди
которых были скульптурные изображения будд, рукописные тексты
буддийских писаний и дорогая церемониальная утварь. В 594 г. от
имени «царицы» Суйко (554-628) принц-регент Сётоку-тайси (574-
622) обнародовал декларацию о том, что народ должен почитать
«три сокровища» буддийского вероучения - Будду, его учение (дхар-
му?) и общину служителей (сангху?).
В одном из храмов, основанных в эпоху Сётоку-тайси, - Хорю-
дзи - до настоящего времени сохранились выдержки из буддийских
24
сутр, вырезанные в начале VII века: на ореоле статуи будды Якуси
(Бхайшаджья-гуру) - надпись 607 г., а на ореоле триады Шакьямуни
(Сяка Сансон) в Золотом павильоне храма - многострочная надпись
623 г.
В «Анналах Японии» имеется запись о том, что в 3-ю луну 2-го
года правления императора Тэмму (673 г.) в храме Каварадэра при-
ступили к переписыванию буддийского канона «Трипитака» (—W®,
«Йссайкё»). В VII в. буддийский канон распространялся среди япон-
цев в китайском переводе и содержал три тысячи свитков (^, кан,
маки), так что в «Анналах» есть специальное указание на то, что в
его переписывании было занято много людей.
Синтоистская концепция божественного происхождения царству-
ющего рода не была ориентирована на управление государством,
она лишь прокламировала исключительность монарха по сравне-
нию с главами подчинённых ему родов. Для идеологического обе-
спечения государственного образования после длительной борьбы
между влиятельными родами решено было распространять буддизм
(об этом см.: [Буддизм, 1993, с. 18-27]), а впоследствии - заимство-
вать конфуцианство и китайские политические институты.
Японская традиция передаёт, что «царь» Одзин (IV в.) назначил
наставниками своих детей учёных-конфуцианцев, прибывших из Ко-
реи. Активным проповедником буддизма был китайский иммигрант
(522 г.) Сыма Дадэн (яп. Сиба Татито, Датито или Тацуто). Корей-
ские и китайские иммигранты в IV—VIII вв. переселялись в Японию
тремя волнами и селились компактными группами главным образом
в центральных провинциях страны (см.: [Игнатович, 1988, с. 39-43]).
Они принесли с собой с континента на Японские острова последнюю
партию архаичного фольклора, который не всегда просто отделить
от местных мифов и сказаний.
К 604 г. относят появление «Конституции из 17 статей», припи-
сываемой принцу Сётоку-тайси5. В «Конституции» особая роль от-
водится конфуцианской идее гармонии между господином и поддан-
ными, а духовной основой организации государства объявляются
буддийские принципы («почитание трёх сокровищ»). К концу VI в.
относится и появление на Японских островах предметов материаль-
ной культуры из Центральной и Западной Азии.
Японская традиция считает, что правление Сётоку-тайси нача-
лось с попыток вернуть власть над Мимана. Было снаряжено не-
сколько безуспешных посольств и военных экспедиций на Корей-
ский полуостров. Одновременно предпринимались усилия по установ-
лению регулярных отношений с Китаем. В 607 г. Сётоку-тайси от-
правил в Китай крупное посольство во главе с Оно-но Ймоко. По-
слание, адресованное китайскому императору, начиналось словами:
«Сын Неба страны, где восходит солнце, обращается к Сыну Неба
5 А Н. Игнатович датирует её концом VII в., убедительно оспаривая тради-
ционную датировку и атрибуцию «Конституции» [Игнатович, 1988, с. 87-92].
25
страны, где солнце заходит». Тем самым делалась попытка претен-
довать на независимое по отношению к Китаю и равноправное с
ним положение государства Ямато6. В следующем году в Японию
прибыло ответное посольство из Китая.
Распространение буддизма и конфуцианства, введение в середине
VII в. политических институтов по китайскому образцу, развитие
науки и техники способствовали вовлечению Японии в сферу кон-
тинентальной цивилизации. Наложение заимствованных элементов
(восточноазиатского, индо-буддийского и центральноазиатского проис-
хождения) на протояпонский культурный субстрат способствовало
формированию специфического комплекса, для которого было ха-
рактерно, с одной стороны, сохранение традиций, с другой - актив-
ное усвоение нового и приспособление его к привычному миропони-
манию. Эти особенности хорошо прослеживаются в японской исто-
рии на стадии развитой письменной культуры.
Во второй половине VII столетия вместо прежнего названия
Ямато для Японии входит в употребление новое, китаизированное
название - Ниппон (В Нихон, кит. Жибэнь - «Корень Солнца»),
В это время власть японских государей распространялась на острова
Кюсю, Сикоку и большую часть Хонсю, север которого по-преж-
нему занимали непокорённые айнские племена. Японские роды, об-
разовавшие некогда федерацию Ямато, после многократного дроб-
ления и включения в свой состав некровнородственных образований,
изменились структурно и функционально. Указом 664 г. «царь» Тэн-
дзи установил иерархию родов, пожаловав их главам мечи разной
длины. В 666 г. было определено, что глава рода приобретал зак-
онную власть только после утверждения его на посту удзи-но ками
царским эдиктом. Он оказался в полной зависимости от централь-
ной власти.
Становление ранней государственности, помимо идеологическо-
го её обеспечения (синтоистская деификация главы царского рода,
принятие буддизма, распространение конфуцианства с его концеп-
цией мудрого управления подданными и взаимных обязанностей стар-
ших и младших) и образования бюрократического аппарата, повлек-
ло за собой более интенсивное развитие хозяйства, ремёсел, наук и
искусств. Процветали строительное дело (сооружение дворцов и
храмов, дорог, мостов, портовых строений, судов), добыча полезных
ископаемых, металлургия, механика (в употребление вошло водяное
колесо, компас), астрономия (введение календаря, принятие кита-
йской системы деления года на луны, малые и большие сезоны,
суток на часы и т. д., определение сроков сельскохозяйственных
работ), математика, медицина, производство бумаги и принадлеж-
ностей для письма, ткачество, живопись, музыка...
6 М. В. Воробьёв справедливо отметил, что «вызреванию идеи равноправных от-
ношений в какой-то мере способствовало буддийское учение. » [Воробьёв, 1980,
26
На развитии тех или иных видов ремесла специализировались от-
дельные корпорации бэ (й5). При дворе были созданы особые
управления, ведавшие состоянием разных отраслей хозяйства и наук.
По образцу танского Китая в 645 г. была проведена перепись насе-
ления и сельскохозяйственных угодий. Указом 646 г. вводилась но-
вая система наследования, административного деления страны на
провинции и уезды, а столицы - на кварталы, устанавливались
нормы обложения населения податями и повинностями. Были утвер-
ждены новые единицы измерения земельной площади, необходимые
для определения размеров наделов и пожалований. В конце VII в.
разрабатывается детальное законодательство, введение которого сви-
детельствовало об оформлении феодальных отношений в Японии.
Седьмой век для японской государственности был уже письмен-
ным. Официальные документы, буддийские сутры и комментарии к
ним, хозяйственные распоряжения записывались по-китайски. Худо-
жественное же творчество существовало ещё в устной традиции, в
форме любовных, обрядовых, воинских песен и синтоистских молит-
вословий, мифов и сказок, в которых слову придавалось особое зна-
чение.
Одухотворение природы привело к вере в «душу слова» (ЖЖ,
котодама), магическую его силу, которая трактовалась японцами как
проявление воли божества, избравшего плоть сказителя в качестве
сосуда и проявившегося в его облике [Сасаки, 1935, с. 23 - 24].
В японской историографии период с конца VI до конца VII в.
именуется эпохой Асука (по местоположению дворцов большинства
«царей» этого столетия). Важнейшим событием в государственной и
общественной жизни страны в эту эпоху явилась реформа Тайка
(645 г.) и последовавшие за нею преобразования в экономической,
социальной и административной сферах, в системе землепользова-
ния [Воробьёв, 1980, с. 185-212]. Завершением этих преобразований,
определивших на несколько столетий жизнь в стране, стало издание
в 702-718 гг. по образцу танского законодательства «Свода законов
Тайхорё» [Тайхорё, 1985].
Начало VIII столетия знаменовалось в Японии появлением соб-
ственной художественной литературы.
Первые памятники литературы.
Культура эпохи Нара
Укрепление государственности требовало формирования раз-
ветвлённого бюрократического аппарата (он был предусмот-
27
рен первыми пятью законами свода «Тайхорё»7) и строительства по-
стоянной столицы. Столичный город был построен в 710 г. Он полу-
чил название Обитель Мира (Нара или Хэйдзё) и сооружался с со-
блюдением градостроительных принципов, принятых китайскими зод-
чими при планировании столицы государства, - закона «ветров и
вод» (Ж/К, кит. фыншуй, яп. фусуй).
«План Нара представляет собой почти правильный четырёхуголь-
ник, сориентированный по оси фыншуй, т. е. с севера на юг. С вос-
тока на запад город простирался примерно на 10 км, с севера на юг -
на 8,5 км. Широкая дорога - "Красная птица", - пролегавшая с сев-
ера на юг, рассекала город на две примерно равные части: правую и
левую. С севера на юг обе части пересекались девятью (как в Чанъ-
ане), а с запада на восток - восемью (в Чанъане - девятью) прямыми
улицами. Улицы, идущие с севера на юг, были шире, нежели те, что
шли с запада на восток. Пересечением улиц ограничивались квар-
талы площадью 12-16 га каждый, многие из которых были заняты
монастырями - Якусидзи, Кофукудзи (710 г.), Гангодзи (716 г.), Дай-
андзи (729 г.). В северной части располагался так называемый "За-
претный город" - обнесённая деревянной стеной территория, на ко-
торой находился дворец и правительственные постройки» [Иофан,
1974, с. 142].
Строительство города по заранее принятому плану могло осущест-
виться только на достаточно высоком уровне развития градострои-
тельной культуры. И оно же стимулировало дальнейшее ускоренное
развитие этой культуры.
Мы уже упоминали о заимствовании японцами китайского иеро-
глифического письма. Им пользовались для внутренних нужд и при
общении с зарубежными соседями. Знатоки китайского языка и
письменности были не только среди потомков иммигрантов, но и
среди образованных японцев, обучавшихся в Китае или в самой Япо-
нии.
Но для административных нужд иероглифическую письменность
требовалось ещё приспособить к записи японских слов: названия и
имена собственные, чтобы быть узнанными при чтении, в иерогли-
фическом написании должны были читаться однозначно, по-япон-
ски. Иными словами, наряду со смысловым употреблением иерогли-
фов широко стало использоваться и фонетическое.
9 марта 712 г. (28-й день 1-й луны 5-го года Вадо) придворный ис-
ториограф О-но Ясумаро (7-723) представил «царице» Гэммэй (годы
правления - 707-715) три свитка «Кодзики» (tJaWB, «Записи о де-
яниях древности»), включающие мифы (от сотворения Неба и
' Самый большой из этих пяти законов, второй («Штаты ведомств»), состоит из
80 статей, перечисляющих названия должностных лиц для центральных и местных
официальных учреждений. Самое малочисленное из них, «малый уезд», имел в шта
те двух чиновников из придворных ведомств, Управление соколиной охоты имело 9
чиновников, а Левое управление охотонэри-828 [Тайхорё, 1, 1985, с. 11-59].
28
Земли и основания Японии) и древние предания, сказки и песни,
старинные истории и изложенные в хронологическом порядке со-
бытия царствования вождей племени Ямато, начиная с легендарных
и кончая реально существовавшей «царицей» Суйко8 9. Запись произ-
водилась со слов старца (или старицы - по записи это установить
нельзя) Хиэда-но Арэ. Так сказано в предисловии к памятнику.
Начало работы по составлению «Записей о деяниях древности»
традиция датирует 681 годом. На первом этапе она сводилась, по-ви-
димому, к опрашиванию профессиональных сказителей ката-
рибэ) традиции Ямато (существовали, несомненно, и другие, в част-
ности - сказители традиции Идзумо, провинции, представлявшей
западную зону древнейшей культуры), к числу которых и относился
(или относилась) Хиэда-но Арэ. Запись и упорядочение устно испол-
нявшихся мифов подразумевал и перевод из оригинальной, органич-
ной и живой, устной их формы в застывшую письменную форму,
для которой характерны иные законы функционирования - законы
письменного текста.
Современные исследователи считают, что представление исто-
риографом О-но Ясумаро текста «Записей о деяниях древности» двору
было лишь первым шагом формирования этого памятника, завер-
шившегося, вероятно, в эпоху Хэйан (1Х-ХП вв.) [Вацудзи, 1972, с. 194-
201]. К этому можно добавить, что самый ранний из сохранившихся
список «Записей» («Симпукудзибон» - список буддийского храма
Симпукудзи в г. Нагоя) датируется 1371-1372 гг., а его протограф -
1266 г.’
Памятник создавался по высочайшему распоряжению около 30
лет. Несомненно, его составлению придавалось первостепенное зна-
чение в древнеяпонском государстве: политической целью «Записей о
деяниях древности» было обоснование идеи божественного проис-
хождения правящего рода Ямато, его превосходства над другими
родами и тем самым - идеологическое укрепление централизации
государственной власти в стране.
Поэтому вторая и третья книги, описывающие предания о «ца-
рях» Ямато, представлены как естественное продолжение первой,
посвящённой «эре богов». Через все мифы, легенды, исторические
предания последовательно проводится идея кровнородственной пре-
емственности от первобогов - создателей мира - к Небесным бо-
гам, от Небесных богов - к Земным богам, а от них - к «царям»
Ямато, непрерывная линия которых начинается от Дзимму-тэнно (кн. 2-я),
правнука Ниниги-но микото (кн. 1-я), посланного с Равнины Высо-
кого Неба на Землю его бабушкой, богиней Солнца Аматэрасу Оми-
ками, возгласившей: «Эта Страна Обильных Тростниковых Равнин,
8 Русский перевод памятника издан в 1994 г., см: [Кодзики, 1, 1994; Кодзики, 2 и 3,
9 Генеалогия списков японских рукописей устанавливается чаще всего по коло-
фонам Нередко переписчики копировали и текст колофона протографа списка.
29
Молодых Рисовых Ростков - это страна, которой тебе ведать...»
(пер. Е. М. Пинус)10. При этом мифы, легенды и предания отбира-
лись, целенаправленно выстраивались в определенном отношении
друг к другу, редактировались, но не были придуманы самим соста-
вителем, поэтому «Записи о деяниях древности» представляют со-
бой ценный источник для изучения мифологии и архаичного фольк-
лора, истории языка и древнейшей стадии художественного созна-
ния японцев.
К началу VIII в. японцы ещё не выработали устойчивой системы
записи своих текстов. «Составитель памятника Ясумаро использовал
различные способы записи текста при помощи иероглифов. Имена,
названия, песни - их в памятнике более ста, заклинания, ономатопо-
этические слова, - всё, что следовало передать в японском звучании,
он записал, используя иероглифы фонетически, как слоги японских
слов. В других случаях иероглифы выступают как идеограммы, вы-
ражающие значение слова. Ряд мест написан в тексте на китайском
языке, но язык этот носит здесь особый характер: это модифици-
рованный, "неправильный" китайский язык, свидетельствующий о
попытках приспособить его к японскому синтаксису» [Пинус, 1972, с. 11].
Такая система записи японской речи не была единственной в ту
эпоху. Профессиональные писцы буддийских храмов и официаль-
ных учреждений (Ф, фубито, фумихито) употребляли разного вида
условные значки, при помощи которых китайскую фразу перестра-
ивали по законам японского синтаксиса и прочитывали по-японски
(система окототэн). Но такая система не была унифицирована в
масштабах страны и отличалась громоздкостью. Принципы упот-
ребления иероглифического письма, взятые за основу в «Записях о
деяниях древности», оказались более продуктивными и впоследст-
вии привели к созданию двух систем японского силлабического
письма
Первый свиток «Записей» содержит мифы о создании Неба и
Земли из первоначального хаоса и мироустроительные мифы о не-
бесных и земных богах, второй и третий - исторические предания,
начиная с правления мифического основателя царского рода Дзим-
му-тэнно (660 г. до н. э.) и кончая описанием правлений в Ямато до
628 г н. э. (смерть «царицы» Суйко в эпоху регентства Сётоку-тай-
си). В конце первого-начале второго свитка памятника вкраплены
многие элементы архаичного фольклора (волшебные сказки и сказ-
ки о животных, песни), последние полтора столетия правления «ца-
рей» Ямато представлены простым перечислением.
Первоначальный хаос был похож на разлившееся масло, в ко-
тором ещё не различались Небо и Земля. Затем лёгкие и светлые
10 В тех случаях, когда фамилия переводчика не названа, памятники цитируются
здесь в переводах автора настоящей книги. Переводы выполнялись по изданию «Се-
рии японской классической литературы» (НКБТ) издательства Иванами (см. Раздел
Литература в конце книги).
30
части поднялись наверх, а тяжёлые и крупные осели вниз и обра-
зовали особую стихию... С представления этой картины начинается
первый миф, открывающий новый свод.
В 720 г. коллегия под руководством принца Тонэри (676-735) - в
неё входил и составитель «Записей о деяниях древности» О-но Ясу-
маро - завершила составление «Нихон сёки» (0 сокр. «Ни-
хонги», «Анналы Японии»), Состав «Анналов» примерно тот же, что
и «Записей»: 30 книг начинаются с миротворческого мифа и закан-
чиваются 697 годом. «Отличительной чертой "Нихонги" являются
перечисления после каждого мифологического эпизода различного
рода вариантов к нему, которые авторы старательно сообщают. Эти
добавочные записи отличаются от основных лишь в незначитель-
ных подробностях, но зато они существенно дополняют исходные
данные, как они представлены в "Кодзики"» [Сондерс, 1977, с. 409].
Обращают на себя внимание и расхождения в «исторической»
части обоих памятников, при датировке событий и царствований
«императоров». Так, расхождение в определении продолжительнос-
ти пребывания у власти мифического первоцаря Дзимму-тэнно меж-
ду «Записями о деяниях древности» и «Анналами Японии» состав-
ляет десять лет, для десятого «императора», Судзин-тэнно, жизнь
которого отнесена к I в. до н. э., оно составляет 48 лет, для двенад-
цатого «императора», Кэйко-тэнно, - 59 лет и т. д. Мифы в «Анналы
Японии» вошли те же, что и в первый свод «Записей», последо-
вательность «исторических» событий приблизительно одинакова в
них.
Однако есть и ещё одно примечательное отличие второго памят-
ника от первого: он написан по-китайски.
Напрашивается вопрос: зачем через восемь лет после создания
«Записей о деяниях древности» по инициативе тех же центральных
властей создавать не продолжение этого памятника, а версию на
другом языке. Чем объяснить расхождение в датировках, если один
из составителей участвовал в работе над тем и другим памятником,
причём в составлении первого из них играл главную роль? Почему
во втором не только не объясняются эти несоответствия, но и вооб-
ще не упоминается о первом памятнике?
Оба памятника отражают древнейшие верования японцев. Неда-
ром на протяжении многих столетий они считаются священными
книгами синто: в них проводники идеи японского этноцентризма, а
затем и национализма черпали своё вдохновение и в XIV, и в XVIII, и
в XX веке.
В этих памятниках описаны два мира: мир духов - земных и не-
бесных богов - и мир людей и героев. «Трудно установить, - пишет
Като Сюити, - какой из миров был в японском сознании старше,
однако тот и другой вместе делали для умершего человека воз-
можным некоторое время жить в том мире, а затем возвращаться
назад. В этом смысле оба мира были продолжением реального. Боги,
которые жили на Небе, иногда приходили на Землю, а кроме того,
31
хотя и в виде исключения, как это было с Ямато Такэру, земные
люди могли после смерти оборачиваться белой птицей и подни-
маться на Небо. Таким образом, Небо не было отделено от земного
царства. Более того, в "Записях" и "Анналах" зачастую трудно опре-
делить, где происходит событие: в Небесном мире или в мире Зем-
ном. Там боги устраивают заговоры, сражаются, угрожают, нака-
зывают, женятся, танцуют и смеются, плачут. Скорее, Равнина Вы-
сокого Неба была не продолжением двора Ямато, но не чем иным,
как прошлым предков, реализованным в пространстве. На Небе
существовал мир, но боги в нём не рождались: он был необходим
как место для сборищ, для того, чтобы боги, изначально рассредо-
точенные по Земле, сходились вместе. По-видимому, когда японцы
ближе познакомились с представлениями, существовавшими на ма-
терике, такое место стали искать на Небе. Это и есть мир Неба из
"Записей" и "Анналов". Между Небом и Землёй разрыва не было.
Поэтому неудивительно, что эпоха богов безо всякого перерыва, в
том виде, в каком она существовала, естественным образом про-
должилась в преемственности правителей эпохи людей» [Като, 1975,
с. 49-50].
Трудно представить себе, что первые письменные памятники, ко-
торые к тому же несут большую идеологическую нагрузку, выпол-
няют чёткую политическую задачу и обладают несомненными худо-
жественными достоинствами (по крайней мере в мифологической и
фольклорной своей части), не испытали никаких внешних влияний,
особенно если иметь в виду, что составители их были людьми, для
своего времени образованными, знакомыми и с конфуцианством, и с
сочинениями китайских классиков, и с даосским оккультизмом, и с
буддийской письменной культурой.
В работах русских и советских японоведов уже отмечалось от-
ражение в мифах «Записей о деяниях древности» китайских космо-
гонических идей (первоначального хаоса, борьбы Тёмного и Свет-
лого начал - Инь и Ян, Форм Имени) [Иофан, 1974, с. 108]. Амери-
канский японовед Э. Дейл Сондерс отмечал в своё время, что пре-
дисловие составителя «Записей» б-но Ясумаро «отражает привыч-
ные китайские идеи, воодушевлявшие авторов, согласно которым ис-
тория считается основой и меркой для всех мероприятий современ-
ности» [Сондерс, 1977, с. 408]. В японской литературе в последнее
время стали обращать внимание и на влияние буддизма на этот па-
мятник (не столько по содержанию, сколько по форме). Так, буддо-
лог Канда Хидэо выражает уверенность в том, что вкрапление в
прозаический текст «Записей о деяниях древности» песен произво-
дилось под влиянием «Лотосовой сутры» и «Сутры о Вималакирти»,
в текст которых вставлены гатхи - четверостишия, восхваляющие
Будду или выделяющие то или иное положение доктрины (этот
приём берёт начало в Ведах, религиозных текстах древней Индии)
[Икэда, 1979, с. 82].
32
Тот же автор считает, что удивление, высказанное богиней Солнца
Аматэрасу по поводу беспричинного веселья, и ответ ей Амэ-но
Удзумэ, плясавшей под хохот богов перед входом в Небесный Грот,
представляют собой стилистическую кальку эпизода из «Сутры о
Вималакирти», где описываются диалоги Будды с его учениками и с
бодхисаттвами о том, кому надлежит навестить больного Вимала-
кирти, буддийского праведника из города Вайшали [Там же, с. 83].
Но последние наблюдения относятся в первую очередь к организа-
ции текста, а не к его содержанию.
Исследования последних лет показывают, что само слово синто
(}ФЖ), которым обозначают исконно японскую религию, в древних
текстах (прежде всего в «Анналах Японии») было названием различ-
ных простонародных верований и суеверий - не обязательно япон-
ских.
В Китае того времени этим словом обозначали даосизм. «Среди мно-
гих элементов даосского происхождения, перешедших в Японию, -
отмечает Курода Тосио, - имеются следующие: почитание мечей и
зеркал как религиозных символов (вспомним, что меч, зерцало и
драгоценный камень - три символа императорской власти в Японии,
передаваемые из поколения в поколение от "эры богов". - В. Г.)\
титулы, такие, как махито или синдзин (даосское значение - "совер-
шенный человек”, японское - самый высокий из восьми придворных
рангов в древности, которым император награждал придворных),
хидзири или сэн (даосское - бессмертный, японское - святой, им-
ператор или отшельник) и тэннб (даосское - владыка вселенной,
японское - император11); культы Полярной звезды и Большой Мед-
ведицы; термины, связанные со святилищем Исэ12, такие, как дзин-
гу (даосское - зал, где помещено в раку божество, японское - свя-
тилище Исэ), найку (китайское - Внутренний дворец, японское -
внутреннее святилище в Исэ), гэку (китайское - обособленный
дворец, японское - внешнее святилище в Исэ) и тайти (недиффе-
ренцированное происхождение всех вещей, японское - в общем
употреблении более не встречается, за исключением святилища в
Исэ, где используется с древности на флагах, обозначающих Аматэ-
расу Омиками); концепция дайва (в Китае означала состояние иде-
ального мира, но в Японии использовалась по отношению к Ямато,
центру страны) и даосская концепция бессмертия» [Курода, 1981, с. 6].
Сборники мифов, легенд и древнейших преданий, не вошедших в
«Записи о деяниях древности» и «Анналы Японии», - «Кого сюи» (ЁГ
яп]пЖ, «Собрание упущенных прежде древних речений», нач. IX в.),
«Энгисики» (ЙЖ^, «Установления годов Энги», 927 г.), естествен-
но-географические и этнографические описания провинций фудоки
11 Считается, что впервые по отношению к японскому императору слово тэннб
было употреблено в 607 г. в официальном послании японского двора императору Ян-ди.
12 Комплекс синтоистских святилищ в Исэ посвящён культу Аматэрасу Омиками.
2 Зак 3732
33
(VIII в.) - показывают, что меньшее по объёму или иначе организо-
ванное изложение не даёт картины обожествления правящего рода
Ямато и наиболее близких к нему в историческое время родов. Что-
бы такая картина была выстроена, понадобилась целенаправленная
работа с использованием генетически неоднородных и разноста-
диальных источников. Об ориентации только на исконно японские
источники не могло быть и речи. Иноземные мотивы (мы не затра-
гиваем пока проблемы общего субстрата) могли заимствоваться как
из письменных источников, так и из фольклора иммигрантов.
Первоначальное введение в обиход инокультурных мотивов и
структурных элементов было, очевидно, вызвано теми же причи-
нами, что и написание «Анналов Японии». Если «Записи о деяниях
древности» создавались «для внутреннего употребления», для обос-
нования идеи божественной природы царской власти и легитим-
ности централизованного государственного управления в сознании
подчиненных родов, то «Анналы» преследовали в первую очередь
внешнеполитические цели.
Это была первая из «Шести отечественных историй» (АЦШЗЬ,
«Риккокуси»), созданных в течение нескольких столетий по образцу
китайских династийных хроник. Изложение своей истории на китай-
ском языке должно было дать составителям возможность продемон-
стрировать зарубежному читателю, представителю китайской куль-
турной сферы, что Япония - страна древней цивилизации, возник-
шая и развивавшаяся в соответствии с закономерностями, действию
которых подчиняется и сам Китай, что её цари в силу их божествен-
ного происхождения заслуживают почитания не меньшего, чем ки-
тайские императоры, Сыны Неба. Текст памятника нужно было со-
ставлять в китайских культурных координатах.
Первая же фраза «Анналов Японии» ориентирована на человека,
в соответствующих категориях мыслящего: «Издревле Небо и Зем-
ля не были разделены, а инь и ян ещё не различались». Предсмерт-
ная речь «императора» Юряку, царствование которого отнесено «Анна-
лами Японии» к V в. н. э., в основных чертах совпадает со словами,
которые китайская «История династии Суй» приписывает импера-
тору Гао-цзу, умершему в 604 г. В угоду конфуцианским представ-
лениям «император» Нинтоку (по «Анналам» - 313-399 гг.) объявля-
ется «императором-мудрецом»: поднявшись на возвышение, он об-
наружил, что из труб в домах его подданных не поднимается дым, из
чего заключил, что они бедны и не могут готовить для себя пищу. В
результате Нинтоку освободил людей от налогов и повинностей на
три года. Однако этим поступком и ограничивается проявление муд-
рости «императора» Нинтоку. Большая часть повествования о нём
посвящена его личной жизни, в первую очередь - его отношениям с
женщинами. Не связано с китайскими этическими идеалами и про-
возглашение героем принца Ямато: за сетью чужеземных терминов,
сюжетных намёков, прямых цитат просматривается и почвенниче-
ское начало. На протяжении истории подобное сочетание встреча-
лось много раз.
34
В VIII—IX вв. официальные связи Японского государства с Ки-
таем носили оживлённый характер. Продолжалось заимствование
технологии, науки, распространение китайских литературных про-
изведений и ввоз памятников изобразительного искусства. Именно в
это время по образцу китайских династийных историй одна за
другой составляются «Шесть отечественных историй».
В 894 г. двор отменил намечавшееся посольство в Китай, после
чего официальные связи между двумя государствами надолго пре-
рвались.
В 901 г. увидела свет последняя из «Шести отечественных ис-
торий» - «Истинные записи о трёх эрах правления» (ЕЦЗ;Ж^, «Сан-
дай дзицуроку», сост. Фудзивара Токихира), охватившие период с
859 по 888 гг.
Закончилась первая эпоха массовой ориентации японцев на ки-
тайскую культуру. Наступило время отсеивания случайных заимст-
вований, творческой переработки и адаптации наиболее полезных
элементов. Адаптация коснулась прежде всего тех аспектов культу-
ры, которые имели параллели на местной почве, поэтому при иссле-
довании древней культуры Японии труднее всего провести черту
между генетической общностью и дописьменными заимствованиями.
В начале VIII в. в Японии было обнародовано подробное законо-
дательство, созданное по образцу танского. В 713 г. императрица
Гэммэй (годы правления - 708-714) издала указ о создании естест-
венно-географических описаний японских провинций по образцу древ-
некитайских фэятугря(Ж±8Е). Описания (яп. фудоки) должны бы-
ли включать «сведения о населённых пунктах... о добыче серебра и
меди, о рельефе местности, о полях и плодородности почвы, о фло-
ре и фауне и т. д.» [Попов, 1969, с. 13]. В них же были включены
многие фрагменты местных мифов, преданий и легенд, не вошед-
ших в официальные своды «Записи о деяниях древности» и «Анналы
Японии».
Рассмотрим несколько уровней соответствия японских мифоло-
гических сюжетов из «Записей о деяниях древности», «Анналов Япо-
нии» и фудоки с мифологическими сюжетами других народов. Но
прежде изложим основное содержание мифов.
«Имена богов, что явились за ними (тремя первобогами. - В. Г.)
из того, что пробилось на свет, подобно побегам тростника, в то
время, когда земля ещё не вышла из младенчества13 и, подобно
всплывающему маслу, медузой носилась [по морским волнам], были:
Умасиасикаби-хикодзи-но ками - Юноша-Бог Прекрасных Побегов
Тростника; за ним Амэ-но-токотати-но ками - Бог, Навечно Утвер-
дившийся в Небесах» [Кодзики, 1, 1994, с. 38]. (Нужно заметить, что
в японских мифах все объекты, независимо от их внешнего вида и
функций, считаются божествами.) Вслед за этим самозародились
одна за другою ещё семь пар божеств. Э. Д. Сондерс предполагает,
13 Здесь интересен сам взгляд на Землю как на живой организм
35
что они представляют собой персонификацию «порождающих сти-
хий, таких, как ил, испарения, семена...» [Сондерс, 1977, с. 411]. По-
следней из этих пар, богу Идзанаги-но микото и богине Идзанами-но
микото, их предшественниками отдаётся повеление приступить к
акту творения. Божественные супруги (они же брат и сестра) встали
рядом на Небесном Плавучем Мосту (Радуге?), окунули в море хаоса
драгоценное копьё и стали размешивать это море до тех пор, пока
оно не загустело. Капли, упавшие в море с наконечника копья, обра-
зовали остров Оногоро, на который и сошли супруги, чтобы про-
должить акт творения.
Появление всё новых и новых божеств (Моря, Грязи, Гор, Волн и
т д.) закончилось тем, что Идзанами породила бога Огня, Кагуцути,
смертельно опалив себе лоно Вне себя от горя Идзанаги рассёк Ка-
гуцути мечом и устремился за своей супругой в Страну Тьмы, чтобы
возвратить её в Верхний мир. «Прискорбно мне, - отвечает на его
приглашение Идзанами, - что ты не пришел раньше. Я уже отве-
дала пищи с очага Страны Жёлтых Вод (или Страны Тьмы, т. е. под-
земного мира. - В. Г.)». И просит не смотреть на неё, пока она будет
советоваться о том, как ей быть, с местными божествами.
Бог Идзанаги нарушает запрет и при свете факела, сделанного из
зуба своего гребня, видит полуразложившийся труп прежней своей
возлюбленной, на котором кишит великое множество червей и си-
дят восемь богов грома. Ужасное зрелище заставило Идзанаги от-
прянуть и удариться в бегство, а Идзанами, увидевшая, что ее запрет
нарушен, разгневалась и отправила вдогонку ему уродливых жен-
щин страны Тьмы - восьмерых, что по древнеяпонскому счёту
означало бесчисленное множество.
Погоня с преодолением многочисленных препятствий продолжа-
лась долго, покуда Идзанаги не выбежал из Страны Тьмы наверх
через проход в Ровном Холме, вход в который перегородил огром-
ной скалой, отделив мир живых от мира мёртвых. Стоя по разные
стороны этой преграды, супруги обменялись ритуальными фразами,
расторгавшими их брак. Идзанами пообещала супругу уничтожать
на Земле людскую поросль - по тысяче в день, на что тот отвечал:
«Если ты так поступишь, я по тысяче пятьсот домиков для рожениц
в день возводить стану» (пер. Е. М. Пинус).
Совершая ритуальное очищение от скверны смерти, бог Идза-
наги вошёл в среднее течение реки, протекающей через Цукуси, и
произвёл на свет множество новых божеств - из своей одежды, обу-
ви, родимых пятен на теле, капель воды, падающих с него. Из ле-
вого глаза демиурга родилась Великая богиня, Освещающая Небо,
богиня Солнца Аматэрасу бмиками, из правого - бог Лунной Тьмы,
Цукиёми-но микото, из ноздрей - бог Ветра и Грома, Неистовый муж,
Суса-но-о-но микото. Между этими тремя основными божествами
Идзанами-но микото и делит весь мир: Равнину Высокого Неба от-
даёт во власть Аматэрасу Омиками, Царство Ночи - богу Цукиёми,
а Равнину Моря - неистовому Суса-но-о (правда, владения послед-
них двух богов разные источники обозначают по-разному).
36
В «Анналах Японии» появление этих трёх божеств трактуется
иначе, чем в «Записях о деяниях древности». После того, как боги
Идзанаги и Идзанами сотворили Страну Восьми Больших Островов,
они решили между собой: «Отчего бы теперь не создать нам того,
кто стал бы владыкой Поднебесной?» - и сотворили богиню Солнца,
препоручив ей дела Неба. Затем были сотворены бог Луны, Цуки-
ёми, некий уродец-пиявка, которого демиурги поместили в Небес-
ную ладью, сооружённую из камфорного дерева, и отдали на волю
ветров, и неистовый Суса-но-о, которому за его неуживчивый ха-
рактер был отдан во владение Нижний мир, самый дальний из всех
Как уже упоминалось, одна из особенностей «Анналов» состоит в
том, что для некоторых эпизодов в них приводится по нескольку версий,
вводимых в текст поочерёдно словами «А ещё говорят» или: «В дру-
гой записи сказано...»
Ни в том, ни в другом своде нет сколько-нибудь разработанной
линии бога Луны (Цукиёми), тогда как линии Аматэрасу и Суса-но-о
в обоих памятниках представляются базисными. Самый развёрну-
тый сюжет, посвящённый богу Луны в «Анналах Японии», сводится
к тому, что богиня Солнца, как старшая по положению, призвала
его к себе и сказала так: «Слышала я, что в Срединной Стране
Тростниковой Равнины есть богиня Укэмоти. Ступай к ней, бог Цу-
киёми, и сопровождай её». Богиня Укэмоти (или Тоёукэ-бимэ-но
Оками, Дева-Богиня Обильной Пищи) в сонме богов ведала пищей
(по некоторым источникам - злаками) Цукиёми сошел с Равнины
Высокого Неба вниз и направился к Укэмоти. Увидев его, богиня
Пищи наклонила голову к земле и изрыгнула отварной рис, потом
повернулась в сторону моря, и тут же из её рта «изрыгнулись те, что
с плавниками широкими, и те, что с плавниками узкими». После
этого она обернулась лицом к горам, и на этот раз изрыгнула изо
рта «тех, что с волосом грубым, и тех, что с волосом мягким». По-
лученные яства были выложены на ста столах для угощения бога
Цукиёми. Но гостю такие угощения представились отвратительны-
ми, и он возмутился: «Как посмела ты потчевать меня тем, что ис-
торгла из своего рта?!» - после чего выхватил меч и зарубил госте-
приимную хозяйку.
Его рассказ об этом происшествии вызвал гнев у богини Солнца,
которая заявила богу Луны: «Ты - злое божество. Я не должна
встречаться с тобой лицом к лицу!» И они стали жить порознь, по-
делив между собою сутки: ему - ночь, а ей - день.
Младший брат, бог Суса-но-о-но микото, прежде чем отправить-
ся в Страну Тьмы (по одной версии - это его будущее владение, по
другой - место, где он просто намеревался навестить свою матушку,
Идзанами-но микото), просит у Аматэрасу позволения встретиться с
нею на Равнине Высокого Неба. «С добрыми ли намерениями при-
был сюда мой младший брат?» - спросила себя богиня Солнца, за-
слышав его шумное приближение. Из опасения, что брат хочет по-
сягнуть на её владения, богиня вооружается луком и стрелами (в
37
других версиях - также и тремя мечами) и встречает брата в позе
воина, готового к битве. Суса-но-о-но микото выражает удивление
по поводу столь неприступного вида старшей сестры и уверяет её,
что в душе у него нет черных мыслей, и к Подножию Облаков он
прибыл исключительно для того, чтобы попрощаться с сестрой пе-
ред разлукой.
Великая богиня Аматэрасу требует доказательств его чистосер-
дечия, и Суса-но-о предлагает ей обменяться клятвами и посоревно-
ваться в сотворении детей. Если сестра из предмета, принадлежа-
щего Суса-но-о, произведёт на свет девочек, это должно будет озна-
чать, что помыслы его чисты.
Боги встали друг напротив друга по обе стороны Небесной Спо-
койной Реки (т. е. Млечного Пути) и приступили к состязанию. Ама-
тэрасу взяла у Суса-но-о его меч длиною в десять пядей, разломила
его на три части, пережевала и выплюнула («выдула»). На свет по-
явились три девочки. Тогда Суса-но-о поочерёдно разжевал и вы-
плюнул пять драгоценных ожерелий сестры и произвел из них пять
богов мужского пола. Заявив сестре: «Мои намерения чисты и свет-
лы. <...> Так что, само собой, я победил», Суса-но-о принялся буйст-
вовать и в порыве буйства нарушать важнейшие запреты.
В древних синтоистских Молитвословиях Великого Очищения
перечислялись два вида прегрешений - небесные и земные. К пер-
вым из них древние японцы относили такие:
Разрушенье межей на полях,
завал канав орошенья,
разрушенье запруд,
повторный засев,
втыкание вех в поле чужое,
живодёрство,
сдирание шкур от хвоста к голове,
гаженье калом...
(Пер. Н. А. Невского)
Нетрудно заметить, что главное место здесь занимают прегре-
шения, ставящие под угрозу систему жизнеобеспечения раннего зем-
ледельческого общества - от ущерба урожаю до внесения путаницы
в порядок землевладения, а второе по важности - прегрешения, свя-
занные с древней магией. Согласно мифам «Записей о деяниях древ-
ности» и «Анналов Японии», бог Суса-но-о совершил почти все не-
бесные прегрешения, перечисленные в Молитвословиях Великого
Очищения: разрушил границы рисовых полей своей старшей сестры,
завалил оросительные канавы, разбросал экскременты во дворце,
где богиня вкушала небесные яства, и, наконец, забросил шкуру пе-
гой лошади, ободранной от хвоста к голове, сквозь пролом в крыше
в зал, где сидели небесные ткачихи.
Девы с испугу ранили себя ткацкими челноками в тайные места и
умерли, а богиня Аматэрасу, окончательно выведенная братом из
38
терпения, наглухо затворилась в Небесном Гроте, вход в который
задвинула скалой. Дни и ночи перестали сменять друг друга, Равни-
на Высокого Неба погрузилась в темноту.
Собравшись на берегу Небесной Спокойной Реки, сонм богов
решает хитростью выманить Аматэрасу из Небесного Грота. Перед
входом в него на священное дерево сакаки, взятое с небесной горы
Кагуяма, боги подвешивают ожерелье из драгоценных камней, брон-
зовое зеркало, а также голубые и белые одежды, собирают долго-
поющих птиц из Вечного Царства (т. е. петухов из Страны Мёртвых),
которых заставляют кричать наперебой (как бы предвещая рассвет),
а сами исполняют молитвословия. После этого одна из богинь, Амэ-
но Удзумэ-но микото, «пустой котел у двери Небесного Скалистого
Грота опрокинув, ногами [по нему] с грохотом колотя, в священную
одержимость пришла и, груди вывалив, шнурки юбки до тайного
места распустила» (пер. Е. М. Пинус).
Хохот сонма богов пробудил недоумение и любопытство великой
богини, она выглянула из грота, была подхвачена за руки и выта-
щена наружу стоявшими наготове богами и вновь заняла отведённое
ей место на Равнине Высокого Неба.
Провинившегося Суса-но-о жестоко наказали: на него наложили
штраф в тысячу обедов, обрезали ему бороду, вырвали ногти на паль-
цах рук и ног и изгнали божественным изгнанием.
Нужно заметить, что, по версии «Записей о деяниях древности»,
именно в это время Аматэрасу посылает прислужника к богине Пи-
щи, и её посланец не бог Луны, Цукиёми, а неистовый Суса-но-о.
Это он оскорбляется угощениями богини Пищи и убивает её своим
мечом, после чего окончательно изгоняется с Равнины Высокого
Неба на Землю.
В последующих мифах этот буйный, совершающий всяческие пре-
грешения бог неожиданно выступает в новой ипостаси - как бог добрый,
созидательный, как заботливый мироустроитель, не лишённый да-
же поэтического таланта.
Спустившись с Равнины Высокого Неба, бог Суса-но-о оказался
на берегу реки Хи в стране Идзумо, что расположена в западной части
о. Хонсю, обращённой к юго-восточной оконечности Корейского
полуострова. Здесь он увидел палочки для еды, плывущие по тече-
нию, и понял, что выше по реке кто-то живёт. Вскоре Суса-но-о об-
наружил старика со старухой, горько рыдающих над юной девой.
Оказалось, что это земной бог Асинадзути, его супруга Тэнадзути и
их дочь Кусинада-химэ. Старик поведал пришельцу, что всего у них бы-
ло восемь дочерей, но год за годом сюда стал являться огромный вось-
миголовый и восьмихвостый змей и каждый раз съедал по одной де-
вушке, так что теперь настала очередь самой младшей их дочери.
Суса-но-о пообещал спасти обречённую на смерть девушку при
условии, что в награду её отдадут ему в жёны. После этого он велел
приготовить восемь чанов с рисовой водкой сакэ, и когда чудовище
появилось, оно опустило в каждый чан по голове, напилось допьяна
39
и крепко заснуло. Тогда бог Суса-но-о взял свой меч длиною в де-
сять пядей и разрубил змея на куски, а в одном из его хвостов об-
наружил чудесный меч Амэ-но Муракумо-но Цуруги (Меч, Соби-
рающий Клубы Небесных Облаков), который впоследствии полу-
чил название Кусанаги-но Цуруги (Меч, Косящий Траву). Побе-
дитель поднёс его небесным богам, так что наряду со священным
нефритом и зерцалом, висевшим когда-то на дереве сакаки перед
Небесным Гротом, этот меч стал одной из священных регалий им-
ператоров Японии.
Взяв в жёны Кусинада-химэ, Суса-но-о-но микото строит восьми-
ярусный дворец в местности Суга и, поселившись в этом дворце,
производит на свет детей - земных богов.
Один из них, по имени Окунинуси-но ками (Бог-Повелитель Ве-
ликой Страны), или бнамудзи-но ками (Бог-Обладатель Великого
Имени), или Ятихоко-но ками (Бог Восьми Тысяч Алебард), - впро-
чем, имён у него было много и других - выступает как главный ге-
рой следующего цикла мифов, включающего и сказки о животных,
и другие виды архаичного фольклора. Акад. Н. И. Конрад назвал
его вторым циклом космологических мифов (мифы цикла об Идза-
наги и Идзанами он определил как космогонические, об Аматэрасу и
Суса-но-о - как первый цикл космологических мифов, о сошествии
на землю Ниниги-но микото и его спутников - как третий цикл кос-
мологических мифов [Конрад, 1974, с. 15-17]).
Бог Суса-но-о, оставив дворец в Суга, поселился на вершине го-
ры Куманари (очевидно, Кумано) в провинции Идзумо, откуда в кон-
це концов последовал в Нижний мир (по некоторым вариантам - в
Корею), бкунинуси-но ками был младшим из восьмидесяти его сы-
новей (потом он сам стал отцом ста восьмидесяти одного божества)
и отличался добротой и доверчивостью. Вначале он вместе со сво-
ими старшими братьями отправился в Инаба, где проживала краса-
вица Ягами-химэ. Братья намеревались просить её руки, а Окунину-
си-но ками они взяли с собой в сопровождающие, чтобы он нёс их
поклажу.
По дороге герой встречает белого зайца, с которого содрал
шкурку один из обманутых им крокодилов14 (зверёк пообещал пере-
считать родичей крокодила и под этим предлогом заставил их лечь в
ряд и по их спинам перебежал через морской пролив). Старшие бра-
тья героя посоветовали зайцу умерить боль купанием в солёной во-
де и лежанием на ветру. Привлеченный стенаниями несчастного,
бкунинуси-но микото облегчает его страдания, советуя ему выку-
паться в чистой воде, а потом посыпать раны пыльцой с цветов ро-
гоза широколистного. В благодарность за помощь белый заяц пред-
сказывает ему женитьбу на принцессе Ягами-химэ, и это предсказа-
ние сбывается.
н В японском фольклоре, в отличие от русского, заяц - воплощение не трусости,
а хитрости
40
Старшие братья неоднократно пытаются отомстить Окунинуси
за своё поражение (обманом заставляют его поймать в охапку рас-
калённый докрасна камень, стискивают расщеплённым стволом де-
рева), но с помощью старших богов тот всякий раз воскресает из
мёртвых и оборачивается прекрасным юношей. Стремясь укрыться
от преследования завистливых братьев, Бог-Повелитель Великой
Страны спускается в Нижний мир (Страну Корней), где обитает его
отец (по другим источникам - предок в седьмом колене), бог Суса-
но-о. Там в него с первого взгляда влюбляется дочь Суса-но-о, Сусэ-
рибимэ, впоследствии ставшая его главной женой.
В Стране Корней бог Суса-но-о подвергает пришельца, который
выступает здесь в роли и сына, и зятя владыки этой страны, целой
серии испытаний. По всем законам волшебной сказки герою по-
могают выдержать эти испытания красавица дочь хозяина и благо-
дарные животные. В конце концов в памятнике излагается ещё один
вариант погони повелителя Нижнего мира за обитателем земной
тверди, с той разницей, что на сей раз представлена оппозиция отец-
сын (тесть-зять), а не жена-муж, как в случае с Идзанами и Идза-
наги, и прощальная речь преследователя содержит не угрозы, а
благопожелательные советы.
В заключительной части мифов, включённых в первые письмен-
ные памятники Японии, особый интерес представляет сюжет о ку-
ниюдзури (Щ!М 9 , «Передача Страны», - третий цикл космологиче-
ских мифов, по классификации Н. И. Конрада). Составители «Анна-
лов Японии», опустившие многие занимательные эпизоды из мифов
об Окунинуси, этот цикл излагают детально.
Сын богини Солнца Аматэрасу Омиками взял себе в жёны дочь
Такамимусуби-но ками, одного из первобогов, самозародившихся
раньше Идзанаги и Идзанами. От этого брака родился бог Ниниги-
но микото (самое полное из его имён - Амэнигиси-Кунинигиси-Ама-
цухидака-Хикохо-но Ниниги-но микото). Бог Такамимусухи захотел
сделать своего внука правителем Срединной Страны Тростниковых
Зарослей. В той стране (ею тогда управлял бог бкунинуси-но ками)
было бесчисленное множество богов, которые сверкали, как свет-
лячки, и злых божеств, которые жужжали, как мухи. Деревья и тра-
вы там могли говорить.
Первые попытки посланцев небесных богов укрепиться во вла-
дениях Окунинуси оказались безуспешными, и лишь после того, как
по решению совета восьмисот тем богов, собравшегося на Равнине
Высокого Неба, для переговоров с Окунинуси-но ками на землю
спустился бог Такэмикадзути, родившийся когда-то из крови на лез-
вии меча, которым Идзанаги-но микото зарубил своего сына, бога
Огня, - лишь после этого соглашение было достигнуто. Внуки Неба
получали управление страной, а бог Окунинуси сохранял за собой
контроль над сакральными делами в Идзумо.
Тогда внук богини Солнца, Ниниги-но микото, сопровождаемый
пятью спутниками, сошёл с Равнины Высокого Неба на вершину го-
41
ры Такатихо (Тысяча Высоких Колосьев), что в земле Хюга, на
о. Кюсю. Бабушка его, богиня Аматэрасу Омиками, вручила своему
посланцу три знака царской власти, идущей от неё самой, - меч, зер-
цало и драгоценный камень. Их предстояло передавать из поколе-
ния в поколение каждому новому земному монарху. Первым таким
монархом стал правнук бога Ниниги, Дзимму-тэнно, сошедший с го-
ры Такатихо, чтобы начать свой «восточный поход» (667 г. до н. э.),
и 11 февраля (1-й день 1-й луны по лунному календарю) 660 г. до н. э.
занять царский престол в новом дворце на равнине Касивабара у
подножия горы Унэби. Его окружали потомки божественных спут-
ников Ниниги-но микото, от которых впоследствии вели свои родо-
словные важнейшие аристократические роды Японии.
Но ещё до повествования о деяниях Дзимму-тэнно (его прижиз-
ненным именем было Камиямато Иварэбико) в сводах изложена ис-
тория деда первого императора Японии Хикохоходэми-но микото
(Хоори-но микото) и его старшего брата Хосусэри-но микото (Ходэ-
ри-но микото), более известная как сказание об Удачливом в горах
(Ямасатибико) и Удачливом на море (Умисатибико). В ней расска-
зывается, что младший из братьев успешно занимался охотой, а
старший - рыболовством, но однажды Хоори-но микото попросил
своего старшего брата на время обменяться снастями, забросил его
рыболовный крючок в море - и упустил его. Ходэри-но микото рас-
сердился на младшего брата и, не соглашаясь взамен упущенного
принять даже тысячу новых крючков, потребовал найти потерю.
В поисках затонувшего крючка Хоори-но микото испытал много
приключений, покуда перед ним открылась дорога в пучине моря,
которая и привела его ко дворцу Морского царя.
Хоори-но микото женился на дочери Морского царя, принцессе
Тоётама-химэ, и прожил с нею три года. Потом Хоори-но микото
стала снедать тоска по дому, и он рассказал историю своих злоклю-
чений Морскому царю. Пропавший крючок обнаружили в горле ры-
бы тай. Взяв этот крючок и подарок Морского царя - две заго-
воренные яшмы, Хоори-но микото сел на спину крокодилу и возвра-
тился на берег. Дома он отдал крючок старшему брату, но по науще-
нию Морского царя начал при помощи волшебных драгоценностей
то заливать водой, то иссушать поля Ходэри-но микото, так что за
три года не только совершенно разорил его, но и заставил в конце
концов служить себе денно и нощно.
Принцесса Тоётама-химэ, обнаружившая, что скоро ей придёт срок
рожать, тоже направилась к берегу, вслед за своим мужем. Там она
встретилась с Хоори-но микото, соорудила себе на берегу моря до-
мик роженицы (в древней Японии роды, как и смерть, считались не-
чистыми, поэтому для роженицы воздвигали специальный домик, в
который посторонним входить было нельзя) и затворилась в нем,
строго предупредив мужа, чтобы тот за нею не подглядывал.
Хоори-но микото нарушил запрет и увидел, что в момент родов
его супруга приняла свой натуральный вид - обернулась огромным
42
крокодилом. Нарушение запрета закончилось разлукой: присты-
женная Тоётама-химэ кинулась к морю и навсегда скрылась в пу-
чине.
Больше супруги не встречались, хотя продолжали любить друг
друга, - а Хоори-но микото прожил 580 лет. Их сын, Хико Нагаси-
такэ У гая Фукиаэдзу-но микото, который появился на свет в том до-
мике для роженицы, что был сооружён Тоётама-химэ на берегу мо-
ря, остался с отцом и по достижении брачного возраста женился на
своей тётке. От этого брака родилось четверо детей, один из кото-
рых отправился жить в морскую стихию, к своей бабушке, а самый
младший впоследствии стал первым императором Японии и извес-
тен потомкам под именем Дзимму-тэнно.
Истории о братьях, один из которых был Удачлив в горах, а дру-
гой Удачлив на море, посвящено много исследований, в которых она
анализируется с самых разных точек зрения. «Японские исследова-
тели, из числа тех, кто стремится находить в каждом мифе и сказа-
нии какую-нибудь историческую подоплёку, считают, что это сказа-
ние в своеобразной форме отражает борьбу двух групп племён: од-
ной, жившей на побережье и занимавшейся рыболовством, с другой,
жившей в горах и занимавшейся охотой. Эта борьба, согласно ска-
занию, закончилась победой охотничьей группы. Некоторые иссле-
дователи видят в этом отражение победоносной борьбы племени,
жившего на севере о-ва Кюсю, с племенем, жившим на юге этого
острова. Есть даже мнение, что в этом сказании отражён процесс
вторжения на о-в Кюсю сильного племени, жившего на о-ве Хонсю»
[Конрад, 1974, с. 107]. Е. М. Пинус полагала, что «исторический
факт - подчинение племенем Ямато людей из инородческого племе-
ни Хаято, интерпретирован в мифе как спор братьев, старшего и
младшего», и добавляла, что «наряду с фактом из борьбы племён в
основе японского мифа лежит, на наш взгляд, и другой важный ис-
торический факт: отделение рыболовства от охоты» [Пинус, 1972, с. 6].
Несмотря на то, что приведенные высказывания чётко сводятся
к трактовке мифологического сюжета как персонифицированного
изложения социальной или племенной розни и, при привязывании
его к конкретным географическим районам на территории Японии,
казалось бы, свидетельствуют об автохтонном его происхождении,
данные, приводимые другой группой учёных, заставляют рассматри-
вать этот сюжет с гораздо более общих позиций. «Этот мотив, -
свидетельствует проф. Кониси Дзинъити, - широко распространён
через передачу с обеих сторон Тихого океана на континенты и ос-
трова южной части Тихого океана. Но легенду, которая более всего
приближается к истории Хоори-но микото, мы находим на индоне-
зийских островах Палау, Кей и Целебес» [Кониси, 1984, с. 180].
В легенде с о. Целебес (Сулавеси) «Поиски рыболовного крюч-
ка» повествуется о двух приятелях, богатом и бедном. Однажды бед-
няк, удручённый своей долей, глубоко задумался, как бы ему разбо-
гатеть по примеру приятеля. В конце концов он решил каждый день
43
ходить к морю и ловить там на крючок рыбу, ибо понял, что охота в
горах и собирание моллюсков на морском берегу ничего, кроме бед-
ности, ему не приносит. Но у него не было рыболовного крючка, и
бедняк попросил его взаймы у богатого приятеля. К несчастью, чу-
жой крючок заглотила и скрылась с ним в глубинах моря большая
рыба. Богач, к которому неудачник пришёл виниться, не простил
его и велел вернуть потерю. Пришлось бедняку спуститься на мор-
ское дно. Царь той страны, что находится на дне моря, накануне
пронзил этим крючком себе горло и страдал от невыносимой боли.
Бедняк помог ему избавиться от мучений и вернулся домой с этим
крючком и с наградой - побегом бананового дерева, приносящего
золотые плоды. Этот побег он посадил возле родника, а крючок
возвратил владельцу.
Однажды, когда жена богача пошла к роднику, бедняк при по-
мощи браслета, полученного им от Солнца, вызвал грозу. Чтобы
укрыться от дождя, женщина сорвала банановый лист и восполь-
зовалась им вместо зонтика. Вскоре, когда муж её попытался снова
прикрепить этот лист к ветке, бедняк с помощью своего браслета
устроил засуху, отчего лист засох. В конце концов, чтобы возмес-
тить бедняку убытки, вся семья богача поступила к нему в услу-
жение [Масуда, 1970, с. 164-165].
Сходство с японским сюжетом включает здесь и мотив волшеб-
ного предмета, при помощи которого герой насылает на протаго-
ниста то дождь, то засуху (самые существенные природные явления для
земледельческой культуры) и подчиняет его себе. По мнению Ма-
цумура Такэо, индонезийский сюжет был привнесён в Ямато, веро-
ятнее всего, племенами хаято и ама15. В конечном варианте к этому
сюжету был добавлен мотив «запретной комнаты», схему которого
можно представить так:
1) мужчина со сверхъестественными качествами вступает в брак
с некоей женщиной;
2) брак состоится при том условии, что муж никогда не будет за-
глядывать в личную комнату жены;
3) в этой запретной комнате жена оборачивается животным;
4) из-за того, что муж нарушает запрет, жена покидает его [Ко-
ниси, 1984, с. 180].
Иными словами, в цикле миротворческих и мироустроительных
мифов Японии можно выделить мотивы, достаточно распространён-
ные за её пределами. Но этот же цикл содержит элементы, специ-
фические для древних японцев. «Так, например, - отмечает Иэнага
15 Хаято и ама - племена, очевидно, индонезийского происхождения, проживав-
шие в южной части Японских островов. Сохранилось много захоронений хаято в
селении Адаси уезда Ути префектуры Ямато. Археологи обнаружили здесь большое
количество крупных рыболовных крючков из железа [Итико, 1979, с. 83-84]. По
мнению Токуда Кадзуо, на связь с мифом об Умисатибико указывает пантомима ха-
ятомай, исполнявшаяся перед утопленником [Токуда, 1992, с. 427].
44
Сабуро в "Истории японской культуры", - в "Кодзики" повествуется
о том, как после смерти юного небожителя Амэ-но вакахито был
построен траурный павильон, где в течение восьми дней и восьми
ночей продолжалось веселье, собравшиеся пели и танцевали. Эта
траурная церемония аналогична тем, о которых говорится в "Описа-
нии Вэй" («Вэйши» - хроника древнекитайского царства Вэй, вклю-
чающая сведения о японских племенах III в. н. э. - В. Г). Далее рас-
сказывается о том, как бог Идзанаги, вернувшись из Мира Тьмы
Ёми-но куни, спустился в стремнину и совершил церемонию очище-
ния. Этот миф, безусловно, соответствует обычаю ритуального омо-
вения, о котором повествуется в "Описании Вэй". <...>
...Возьмём ли мы обычай петь, танцевать и играть во время тра-
ура, возьмём ли мы обряд омовения, очищения, обряд гадания на
жжёных костях оленя или предсказания девственниц мико'ь, на ко-
торых нисходит божья благодать, - все эти обряды долгое время
существовали и в последующий период как религиозные, по ним
можно отчётливо представить себе древнейшую форму японской
национальной религии» [Иэнага, 1972, с. 35-36].
Свидетельства предметов материальной культуры древности, ри-
туала, отдельные элементы которого зафиксированы в письменных
памятниках древности и средневековья и даже сохранились до на-
шего времени, исследования в области сравнительной мифологии,
культуроведческие и лингвистические реконструкции позволяют ви-
деть в сводах древних японских мифов не зеркальное отражение ис-
торических событий или социальных процессов в первобытном об-
ществе, преломлённых мифологическим сознанием древних японцев,
а совокупность структурно и тематически разнородных мифов (мест-
ных или заморских по происхождению), с одной стороны имеющих
тенденцию к дальнейшему усвоению иноземных элементов, с дру-
гой - носящих следы искусственного сближения.
Мы уже упоминали о влиянии буддизма на ранне синтоистский
культ и религиозные представления японцев. На буддийское проис-
хождение некоторых атрибутов богини Аматэрасу указывают ряд
учёных. «Идея о "божественном указе" Аматэрасу, адресованном Ни-
ниги, также позаимствована из буддизма. О "божественном проис-
хождении" монарха и его абсолютной власти, освящаемой и защи-
щаемой "Законом Будды", много говорится в "Сутре Золотого све-
та" «Конкомё-кё». - В. Г), более того, вопрос о надле-
жащем управлении государством и идеальном царе - главная тема
сутры. Кроме того, для буддийских сутр, в том числе и "Конкомё-кё",
характерен сам сюжет передачи, "вручения" Буддой "Закона" кому-
то из его учеников во время "Великого собрания" на священной горе. *
16 Девственницы мико - синтоистские жрицы, считавшиеся посредницами между
богами и людьми. Их устами боги вещали свою волю. В «Вэйши» (раздел «Описание
вожэнь», т. е. японцев) упоминается царица Химико (Пимико), выполнявшая жре-
ческие функции
45
В этом плане передача "Закона" Буддой своим слушателям на вер-
шине горы Гридхракута в "Сутре Золотого света" и вручение "бо-
жественного указа" богиней Аматэрасу Ниниги имеют четкое функ-
циональное сходство. Поэтому вполне можно согласиться с той точ-
кой зрения, что "Конкомё-кё" (как и другие буддийские сутры) ока-
зала решающее влияние на авторов мифа о "божественном указе"...
Именно на "Сутру Золотого света" опирался составитель "записки"
Сонмона в "Нихонги"» [Игнатович, 1988, с. 157].
При чтении мифа об Удачливом на море и Удачливом в горах
обращает на себя внимание его высокоорганизованная композиция.
Сцеплённость сюжетов и завершённость каждого сюжета в отдель-
ности вообще отличают «Записи о деяниях древности» и «Анналы Япо-
нии» от этногеографических описаний провинций, фудоки. В данном
же случае мы обнаруживаем настолько гармоничную композицию и
тщательную проработку деталей, что это позволило в эпоху позд-
него средневековья при сценическом воплощении мифа о двух братьях
в театре кабуки использовать и наличие двойного сюжета, и иные
его особенности почти без дополнительной шлифовки. Считается,
что окончательное оформление мифа о Хоори-но микото в Японии
произошло в VII в. [Кониси, 1984, с. 180-181].
Можно по-разному оценивать причины близких аналогий япон-
ского мифа о двух братьях, удачливых в разных сферах хозяйствен-
ной деятельности, с индонезийским мифом о двух приятелях с таки-
ми же особенностями, но связь первого из них с легендой о рыбаке
Урасима не вызывает сомнения.
В 14-й книге «Анналов Японии», посвящённой правлению 21-го
«императора» Японии Юряку (по хронологии, принятой в «Анналах», -
457-479 гг. н. э.), в статье за 7-ю луну 22-го года его правления
упоминается сын рыбака Урасима из местности Мидзуноэ, что в
провинции Тамба, который во время рыбной ловли в море поймал
большую черепаху. Черепаха обернулась женщиной, рыбак воспы-
лал к ней страстью, они поженились и вместе отправились далеко в
море, достигли там горы вечной молодости Хорай, где повстре-
чались с бессмертными. В середине VIII в. тот же сюжет в поэти-
ческой форме зафиксирован в IX книге антологии «Манъёсю» (нага-
ута №1740, каэсиута №1741)17, он же встречается в «Сёку Нихонги»
(£ж 0 «Продолжение Анналов Японии», VIII в.) и в фудоки про-
винции Танго (сохранились во фрагментах). В средние века он на-
шёл отражение в новеллах отогидзоси (рус. пер. см.: [Гэндзи-обезья-
на, 1994, с. 110-130]), канадзоси, пьесах ёкёку, а затем - в творчестве
таких крупнейших авторов, как Тикамацу Мондзаэмон (1653-1714),
Цубоути Сёё (1859-1935), Мори Огай (1862-1922), Кода Рохан (1867—
1947) и др.
17 В «Манъёсю» вместо черепахи названа просто «дочь морского божества».
46
В полном варианте (в «Манъёсю», фудоки и средневековых но-
веллах) сюжет о сыне Урасима включает мотив нарушения запрета.
Рыбак, прожив с женою (её имя - Камэ-химэ, Дева-Черепаха) в стране
бессмертных три года, затосковал по родным местам и отправился
навестить их. В дорогу жена дала ему шкатулку, строго наказав не
открывать её. Когда Урасима Таро прибыл к себе в Мидзуноэ, он
был удивлён, не обнаружив там ни своих родственников, ни знако-
мых, ни даже известных ему построек. Оказалось, что за три года,
проведённых им в краю бессмертных, на земле прошло триста лет и
все, кого он знал когда-то в этих местах, давно умерли. В отчаяньи
Урасима Таро приподнял крышку заветной шкатулки, оттуда вы-
шло белое облако, молодой рыбак вмиг покрылся сединой, сделался
дряхлым старцем и умер.
Таким образом, в японской мифологии мотив нарушения запрета
фигурирует минимум в трёх сюжетах: об Идзанаги и Идзанами, о
Хоори-но микото и Тоётама-химэ, об Урасима Таро и Камэ-химэ.
Во всех случаях запрет накладывался женщиной, а нарушался муж-
чиной. Но есть в этих сюжетах существенная разница: первые два
случая связаны с синтоистскими представлениями о скверне (запрет,
основанный на осквернении грязью смерти и грязью рождения, ор-
ганичный для древних японцев), а третий явно выпадает из этого ря-
да. Нарушение запрета в нём связано с изменением хода времени,
т. е. мотивом не синтоистским, а даосским прежде всего. И здесь,
несмотря на внешнее сходство сюжетов о Хоори-но микото и об
Урасима Таро, во многих деталях второго из них проступают специ-
фические особенности - обилие даосских элементов: гора Хорай
(кит. Пэнлай), сэннины (сяни, даосские бессмертные), разница в те-
чении времени между миром бессмертных и реальным миром.
Профессор Кавагути Хисао находил некоторые сходные мотивы
в историях о Хоори-но микото и рыбаке Урасима Таро18, с одной
стороны, и китайской легендой о верной Мэн Цзян-нюй - с другой.
Героиня китайской легенды обнаружила, что её муж, отправленный
на строительство Великой стены, умер там, и его кости смешались с
костями множества безымянных строителей. Мэн Цзян-нюй укуси-
ла себя за палец, кровь из её пальца подтекла под стену и оживила
прах мужа. Этот сюжет зафиксирован среди бяньвэнь в китайских
рукописях из Дуньхуана (коллекция Парижской Национальной биб-
лиотеки) и в рукописном сборнике из буддийского монастыря Сим-
пукудзи в г. Нагоя (список 746 г.). Как образец китайской просто-
народной литературы легенда о Мэн Цзян-нюй была опубликована
18 Для этих двух сюжетов Кавагути Хисао указывает следующие общие эле-
менты: 1) на дереве прячется незнакомый юноша; 2) фигура юноши отражается в
воде, 3) дочь хозяина дома, увидев этого юношу, влюбляется в него; 4) хозяин раз-
решает брак своей дочери с юношей; 5) юноша вскоре возвращается домой; 6) деву-
шка, скучая по юноше, следует за ним.
47
в Шанхае в сборнике, изданном в 1955 г. В целом, по мнению япон-
ского учёного, она бытует более двух с половиной тысяч лет
Кавагути высказал мнение, что её сходство с историями Хоори-
но микото и рыбака Урасима Таро объясняется целенаправленной
деятельностью японских интеллектуалов раннего периода [ Кавагу-
ти, 1970, с. 13-22]. Многие специалисты указывают даже на лич-
ность возможного посредника, перенёсшего сюжет о рыбаке Ураси-
ма на японскую почву: это Иёбэ-но Умакаи-но мурадзи (6587-702?),
бывший губернатор провинции Тамба, участник составления кодек-
са законов «Тайхо Рицурё», человек, сведущий в китайской литера-
туре и культуре [Кониси, 1984, с. 419; Като, 1975, с. 60].
В сюжете об Урасима главную роль играет разница в течении
времени между двумя мирами - мире бессмертных и реальном мире.
В Японии издавна была известна китайская легенда о Лю Чэне и Юань
Чжи, которые отправились однажды на гору Тяньтай набрать це-
лебных трав, но по дороге заблудились и встретили двух девушек,
которые и привели их «на родину сяней». Герои легенды прожили
среди сяней полгода в радости и удовольствиях, а когда возврати-
лись домой, то обнаружили, что за время их отсутствия минуло де-
сять поколений.
Проникновение сюжетов даосского типа в Японию создавало
психологические предпосылки для допущения возможности таких
же чудес в самой Японии. По средневековым законам сюжетообра-
зования требовалось лишь закрепить японский вариант такого сю-
жета во времени и пространстве в местных координатах. Для Хо-
ори-но микото и Урасима Таро такие координаты указываются с
предельной точностью.
Исследуя генезис собственно легенды об Урасима, многие учё-
ные указывают и на место зарождения аналогичных сюжетов в Ки-
тае - район к югу от реки Янцзы. Если до сих пор мы называли
только те китайские сюжеты, которые напоминали, скажем, леген-
ду об Урасима по типу или включали общий с нею элемент, то в на-
званном районе зафиксирован прямой прототип японской легенды.
Один рыбак, говорится в этой легенде, возле озера Дунтинху (про-
винция Хунань) оказал однажды помощь молодой женщине. Эта жен-
щина обернулась драконом (по старинным китайским представле-
ниям - существом мудрым и добрым) и привела рыбака во дворец
дракона. Там рыбак женился на ней, но потом стосковался по своей
матери и возвратился в Верхний мир. При расставании жена-дракон-
ша вручила рыбаку коробку и сказала: «Когда захочешь увидеть
меня, повернись к коробке и назови меня по имени. Но никогда не
открывай её». После того, как рыбак прибыл в родные места, он об-
наружил, что там всё изменилось, и на родине не осталось ни одного
человека из тех, кого он знал. Оказалось, что каждый день, прове-
дённый им во дворце дракона, равнялся пятнадцати земным годам. В
расстройстве рыбак поднял крышку коробки, из неё наружу вышел
белый дым, и молодой рыбак мгновенно превратился в седовласого
старца.
48
Именно детальное сходство с легендой об Урасима Таро дало ос-
нование профессору Кониси Дзинъити заключить, что в Японию
легенда с озера Дунтинху попала благодаря письменной, а не устной
передаче, в китайской, а не японской языковой форме и что в япон-
ской среде рецепиентами её первоначально выступали интеллекту-
алы, благодаря которым легенда получила устное распространение
среди населения [Кониси, 1984, с. 419-420]. Против этой гипотезы
возразить что-либо трудно. Но можно допустить, что это не был един-
ственный путь проникновения сюжета о рыбаке в древний японский
фольклор: он вполне мог быть распространён среди китайских им-
мигрантов, селившихся компактными группами возле культурных и
политических центров древней Японии.
В большинстве случаев заимствование сюжета легко прослежи-
вается и представляет сравнительно высокую ступень художествен-
ного сознания древнего человека. Однако в мифологических циклах
можно обнаружить и более гипотетические межкультурные общнос-
ти, заставляющие предполагать сознательные заимствования не целого
сюжета, а внесюжетных элементов.
Начало миротворческого мифа в «Записях о деяниях древности»
и «Анналах Японии» излагается в трёх вариантах, каждый из кото-
рых содержит перечень самозародившихся первобогов в такой по-
следовательности: вначале единичный бог, затем несколько богов,
появившихся на свет парами, и, наконец, чета демиургов, сотворив-
ших весь остальной мир. Сама сюжетная линия зарождения мира из
первоначального хаоса широко распространена в мифологиях раз-
ных народов от Юго-Восточной Азии до островов Полинезии и Ми-
кронезии, но та её разновидность, которая содержит упоминание
бога Амэ-но Минакануси (Владыка Божественного Центра Неба),
имеет общие «характеристики с традицией Творца, обитающего на
небе, известного как Тангала в Полинезии (Самоа, о-ва Общества) и
как Тандагава в Индонезии (о. Целебес). С другой стороны, Тэнгри (или
Тангри, Тянгара, Тангара, Тагара), божество, почитаемое кочевни-
ками Центральной Азии, язык которых принадлежит к алтайской
семье, имеет более тесное сходство с Амэ-но Минакануси в том, что
является верховным божеством, пребывающим на небесах и сопро-
вождаемым подчинёнными богами. Полагают, что культ Тэнгри про-
ник в Японию через Корею, достиг Полинезии через Индонезию и
Восточную Азию» (реконструкция Обаяси Тарё; см.: [Кониси, 1984, с.
172-173]).
Интересно, что имя Амэ-но Минакануси в японских письменных
источниках не упоминается нигде, кроме «Записей о деяниях древ-
ности» и «Анналов Японии», что в этих источниках нет ни одного
сюжета, героем которого был бы этот бог, что его культу не посвя-
щено ни одно синтоистское святилище [Асакура и др., 1971, с. 49].
Складывается впечатление, что составители «Кодзики» и «Нихон-
ги» вписали в эти своды имя божества, чтимого известными им на-
родами, но неизвестного самим древним японцам. Такие примеры
49
можно во множестве видеть в писаниях «новых религий» Японии,
появившихся на свет от начала XIX в. К явлениям сходного порядка
относятся и соответствия между китайским демиургом Паньгу и боги-
ней Пищи Укэмоти, уже мёртвой. На темени Укэмоти появились
бык и лошадь, на верхней части лба - просо, на бровях - тутовый
шелкопряд, между глазами - могар (вид проса), в животе - рис, в
гениталиях - пшеница, большие и малые бобы. Появление на Япон-
ских островах практически всех перечисленных культур характери-
зует сложившееся земледельческое общество и датируется по ар-
хеологическим находкам. Анализ этих датировок показывает, что
само описание не могло появиться раньше III—IV вв. н.э., а вернее
всего - ещё позднее, когда возникла идеологическая потребность
вписать японский мифологический ряд в континентальный культур-
ный контекст.
Многорядные соответствия, обозначенные прямо или скрытые,
выявляются в японо-корейских сюжетах. Возьмём, к примеру, опи-
сание путешествия Суса-но-о-но микото в сопровождении сына Исо-
такэру-но ками в Страну Силла, где они жили в местности Сосимори,
и их возвращение на глиняной лодке к горе Торигаминэ у истоков
реки Хи в провинции Идзумо или пример из «Записей о деяниях
древности» о том, как бог Ниниги-но микото сошёл на гору Такати-
хо с Равнины Высокого Неба;
«И вот, тот бог Амэ-но-осихи-но микото,
он предок мурадзи [из рода] Отомо,
и бог Амацукумэ-но микото,
он предок атаэ [из рода] Кумэ,
сказали: "Эта земля [находится] против страны Кара, [это] страна,
куда через мыс Касаса прямо приходишь, страна, на которую утрен-
нее солнце прямо светит, которую вечернее солнце освещает...”»
(пер. Е. М. Пинус).
В последнем примере можно выделить три слоя. Внешний слой -
прямое указание на связь места, куда сошёл с Равнины Высокого
Неба Ниниги-но микото, с землёй Кара - Кореей. Второй слой - то-
понимы в этом мифе и в корейских мифах об основании государства
Карак, т. е. Мимана или Имна. Топонимы «Куси» и «Фуру» в леген-
дах о Корее, как утверждает Исида Эйитиро, повторяются не раз и
относятся к корейской территории. В японских мифах эти же эле-
менты составной частью входят в топонимы «Кусифуру-но такэ» и
«Хюга-но Такатихо-но минэ Кусифуру», которые относятся к Япо-
нии. При этом в «Анналах Японии» сочетание «Кусифуру» записано
иероглифами, которые, по мнению Исида, могут читаться и как
«Сохори». Если иметь в виду, что столицей корейского государства
Пэкче был город Сохору (очевидно, Собури. - В. Г), что соотнос-
ится некоторыми специалистами с топонимом «Сеул», можно по-
нять, почему эти специалисты считают, что при обозначении места,
50
куда спустился с Неба внук богини Солнца, японцы использовали
корейский термин, означающий столицу или резиденцию короля
[Исида, 1974, с. 81-82].
Не менее убедительные данные представляет третий, глубинный
слой. Отмечается, что схождение царя с Неба - сюжет североазиат-
ского (возможно, тунгусского) происхождения; и в японском, и в ко-
рейском варианте он включает общие детали: схождение на гору,
обладание божественным мандатом и священными регалиями, обла-
чение в определённую одежду (называемую в мифе) [Исида, 1974, с. 82].
Добавим к этому следующее наблюдение над сюжетом о сокры-
тии богини Солнца Аматэрасу Омиками в Небесный Грот: «Миф о
рождении Дочери-Солнца при освоении его шаманской традицией
переводился в "вертикальную плоскость". Пример тому - миф об
извлечении богини Аматэрасу из пещеры в "Кодзики", в котором од-
ним из вариантов материализованного воплощения мифа о рожде-
нии Дочери-Солнца является дерево с яшмовыми магатама на верх-
них ветвях, кусочками ткани на нижних и зеркалом на средних -
очевидная модель шаманского дерева с ярко выраженным трой-
ственным делением по вертикали. В корейской культуре такой пе-
ревод можно усмотреть в повествовании о том, как сын основателя
Когурё Чумона - Юри наследовал его престол., и в авторских ком-
ментариях Ли Гюбо к поэме "Тонмён-ван"» [Никитина, 1982, с. 298].
Таким образом, прослеживается не только искусно выстроенная
система заимствований, но и генетическая общность японских ми-
фологических сюжетов и древнейших элементов культуры с корей-
скими и тунгусо-маньчжурскими. Однако это, как мы уже отмечали,
только одна линия ареальных связей японского архаического фольк-
лора. Другая прослеживается на примере сюжетов, вошедших в фу-
доки. Описания в фудоки были составлены на китайском языке и
включили часть несистематизированного древнеяпонского фольк-
лора, как правило не дублирующего материал «Записей о деяниях
древности» и «Анналов Японии». В более или менее полной форме
до нашего времени сохранились фудоки провинций Идзумо (733 г.),
Хитати (715 г.) и Харима (723 г.)’ . Отдельные фрагменты сохрани-
лись от фудоки провинций Хидзэн и Бунго, сохранились также вы-
держки из некоторых других фудоки (например, провинции Танго),
включённые в виде цитат в разные средневековые сочинения, глав-
ным образом исторические.
Соотношение исторического факта, народных верований и ле-
генды - предмет особого исследования. Такаги Тосио в своих «Ис-
следованиях японских мифов и легенд» рассуждает по этому поводу
так. «Легенды, разумеется, вышли из истории. Но утверждение о
том, что история - мать легенды, это научный спор, в котором прос-
то рассматривается сущность легенды как таковой. При соотне-
сении с действительностью встречается много случаев, когда этот
19 Заметное место в «Харима фудоки» занимает описание быта, занятий и веро-
ваний корейских иммигрантов, проживавших в этой провинции.
51
спор следует до определённой степени видоизменить. Почему? Да
потому, что в то самое время, когда легенда рождается из истории,
она, в свою очередь, рождает другую легенду... Вторичная легенда
рождает легенду третьего порядка, та рождает легенду четвёртого,
после чего следуют легенды пятого, шестого, седьмого порядка - и
так далее до бесконечности, поэтому при изучении некоей от-
дельной легенды прежде всего необходимо исследовать, является ли
матерью этой легенды исторический факт непосредственно или же
косвенно, через другую легенду.
Однако когда мы говорим, что история порождает легенду, - это
не такой простой процесс, как тот, при котором кошка рождает ко-
тёнка. Детёныш, который рождается от кошки, - это всегда и обя-
зательно кошка. Свойство тождественности объединяет родителей
и детей, поэтому по детям можно судить о родителях. Глядя на ко-
тёнка, можно определить, что его родители - кошки. Но когда ис-
тория и легенда рождают легенду, весьма разные стимулы разъеди-
няют время или объединяют его, в очень сильной степени участвуя
в этом процессе, поэтому во многих случаях сделать противополож-
ное заключение трудно» [Такаги, 1981, с. 6-7].
Легенды, вошедшие в фудоки, по определению Хисамацу Сэнъ-
ити, излагаются в них по схеме: кто, где, когда, что и с кем совершил.
Они включают в себя четыре необходимых фактора: деятель, место,
время и коллизия. Легенда здесь не обязательно носит исторический
характер. Деятелем в ней может выступать и человек, и божество, и
животное или растение, и гора или холм. В тех случаях, когда
действие протекает за пределами реального мира, происходит также
и переход за пределы действительного времени, как это мы видели
на примере легенды об Урасима.
Многорядность времени и места в их взаимном сочетании стано-
вится критерием для классификации легенд. При этом учитывается
также и появившееся различие между дневным и ночным временем
[Хисамацу, 1962, с. 81-83].
Японский учёный предлагает следующую классификацию «мир-
ских легенд» из фудоки: о божественных браках (одна из них - ле-
генда об Урасима), о старших и младших братьях (в их числе - ле-
генда о Хоори-но микото и Ходэри-но микото), о взрослых и под-
ростках, о богатых, об изгнании злых духов, о животных, о расте-
ниях, о горах, о кромке берега, топонимические (или этимологиче-
ские, поскольку в их число включаются легенды, объясняющие имена
людей, названия мест, животных и растений) [Хисамацу, 1962, с. 87-88].
Рассмотрим легенды, сгруппированные Хисамацу Сэнъити под
рубрикой «О горах». Уже упоминалось о корейской мифологиче-
ской модели схождения первого короля с неба на гору. В «Хитати
фудоки» содержится несколько историй о схождении небесных бо-
гов на вершины гор. Характер этих историй свидетельствует об их
оригинальном и очень древнем происхождении, а не о заимствова-
нии извне. Так, в описание уезда Кудзи включена такая легенда:
52
«Большую гору восточнее [села Сацу] называют Кабирэнотака-
минэ. [На ней] обитало небесное божество по имени Татихая. Его
другое имя - Хаяфувакэ. Это божество спустилось с неба и жило в
Мацудзава на широкой развилке сосны. Месть этого божества была
жестокой. Например, если кто-либо из людей ходил по большой или
малой нужде, оборотясь в сторону божества, то его сразу постигали
несчастья, и он заболевал. Люди, жившие поблизости, сильно стра-
дали из-за этого и обратились к царскому двору, излагая обстоя-
тельства [своего] положения. Царь послал [туда] Катаокано-омура-
дзи. Катаока, почтительно помолившись божеству, обратился к не-
му с [такой] просьбой: "[Я опасаюсь, что], находясь здесь, ты видишь,
как окрестные крестьяне утром и вечером творят грязные дела, и
естественно, [что тебе здесь] не следует находиться. Пожалуйста,
переселись отсюда и живи в чистом месте на высокой горе". Бо-
жество услышало эту мольбу и поднялось на пик Кабирэ» [Древние
фудоки, 1969, с. 57].
Анализируя разные описания высоких гор в древних письменных
памятниках Японии, Такаги Тосио выделяет следующие группы пред-
ставлений о них:
а) высокая гора - символ гениальности;
б) обычай восхождения на горы - древний народный обычай;
в) существует вера в божественную сущность высоких гор.
К третьей из этих групп он относит легенды о вершине Асоно-
такэ из «Цукуси-но фудоки», о горе Цукуба из «Хитати фудоки», о
священной Фудзи из «Манъёсю» и др. [Такаги, 1981, с. 48-54].
В древних японских преданиях, отмечает Такаги Тосио, зафикси-
рованы представления о том, что высокие горы опустились с неба.
«Среди макуракотоба ("постоянных эпитетов". - В. Г.) в песнях "Манъ-
ёсю" есть такой: "аморицуку". Аморицуку объясняется как ама ори
цуку- "опустившись с Неба, попавшая на Землю". Среди них самая
главная - Опустившаяся с Неба Небесная Кагуяма, Аморицуку Ама-
но Кагуяма, или Аморицуку Ками-но Кагуяма - Опустившаяся с
Неба Гора Богов Кагуяма. Ама-но (Амэ-но) - определение, которое
наиболее часто употребляется в японских мифах; если судить с на-
ших позиций, это, в сущности, небесный мир по отношению к зем-
ному миру, мир богов по отношению к миру людей. Всё это свиде-
тельствует о вере не только в существование небесного мира, но и в
контакт между двумя мирами, в связь чувств обитателей обоих ми-
ров» [Такаги, 1981, с. 56-57].
Считается, что подавляющая часть мифов и народных преданий
о сошествии с Неба на Землю (на вершины гор) богов-предков была
утеряна: унифицированная структура «Записей о деяниях древнос-
ти» и «Анналов Японии» не допускала их сохранения (достаточно
было одного мифа о схождении бога Ниниги-но микото), а подавля-
ющее большинство кратких записей фудоки не дошло до нас. Тем
не менее о их распространённости можно судить не только по сохра-
нившимся письменным источникам, но и по народным верованиям,
характерным для Японии вплоть до наших дней.
53
В японской филологической традиции древнейшие сюжетно оформ-
ленные повествования о богах называются синва (!Фа5, рассказы о
богах, мифы), если же их связь с мироустроительной или созида-
тельной функцией богов ослаблена или утеряна, такие повествова-
ния обычно именуются сэцува «то, о чём рассказывают», ле-
генды). Этим же термином обозначают инородные иллюстративные
вставки в основное повествование, имеющие признаки самостоятель-
ного сюжета. В более позднее время сэцува организуются в особый
вид прозы, включающий «легенды, притчи, новеллы, анекдоты, сказ-
ки» [Свиридов, 1981, с. 3]. На раннем этапе они тесно смыкаются с
мифом.
В фудоки многие повествования сэцува состоят из объяснений
явлений окружающего мира. Вообще же ценность повествователь-
ных частей фудоки, лежащих на зыбкой границе между мифом, ле-
гендой, преданием и волшебной сказкой (в особенности, если они,
структурно разрушенные, не носят следов позднейшей реконструк-
ции), - в том, что ими маркируется определённый тип мифологиче-
ского сознания, лежащий в основе культурного субстрата ареала.
Изначальные условия жизни этноса-носителя мифа и древней-
шие его внешние связи можно реконструировать и по характеру то-
темных животных. В функции тотемного животного мы уже имели
случай упомянуть черепаху (или крокодила), когда рассматривали
сюжеты, связанные с Хоори-но микото и рыбаком Урасима. В дру-
гих мифах дочь морского царя оказывается непонятным образом
связанной с миром звёзд (очевидно, в основе этой связи лежит забы-
тый к моменту письменной фиксации миф). Другим тотемным жи-
вотным, многократно упоминаемым в японском архаичном фольк-
лоре, является змея (точнее, змей: он вступает в брачную связь с
женщиной или девушкой, от него рождается дитя с необычными
способностями). В «Записях о деяниях древности» это миф о горе Мива
(горе Трёх Колец), в «Хидзэн фудоки» - миф о горе Хирэфури (на
её вершине находилось озеро, и женщина, выследившая навещав-
шего её по ночам мужчину, обнаружила его спящим в этом озере,
причём тело его было человеческим, а голова оказалась змеиной и
лежала на берегу), в «Хитати фудоки» это сюжеты о горе Курэбуси
и др. У змея, с одной стороны, прослеживаются связи с водной сти-
хией, с другой - с Небом. Варианты мифов, в которых фигурируют
сюжеты со змеем, представляют те, в которых тотемное животное -
червь. Хисамацу Сэнъити подчёркивает, что в сходных функциях
змеи встречаются и в корейском архаичном фольклоре [Хисамацу,
1962, с. 125]20.
20 Хисамацу ссылается при этом на «Самгук саги» Ким Бусика (XII в ). Ср. у А. Ф. Тро-
цевич: «"Самгук юса" (Позднее Пэкче. Кёнхвои). "Некогда в северном селении об-
ласти Кванджу жил один богатый человек. Он имел единственную дочь, красивую
обликом [Однажды она] говорит отцу: "Каждый день какой-то мужчина в крас-
ном платье приходит ко мне в постель и живёт со мной как с женой". Отец сказал: "А
54
Внешние связи японских мифов, таким образом, устанавливают-
ся на разных уровнях - от субстратной общности до заимствования
цельного сюжета в письменную эпоху. Последний вариант (типа
рассказа об Урасима) предполагает повышенную способность япон-
цев к адаптации и объяснению иноземных сюжетов в рамках собст-
венных понятийных категорий. Эти рамки подвижны.
Отдельно стоит проблема внутренних связей. Внимательное оз-
накомление с фудоки свидетельствует о том, что каждая провинция,
каждый род имел собственную мифологию. По-видимому, наиболее
развитой мифология была у царствующего рода Ямато и у его со-
юзника и соперника в борьбе за главенство в древнейшем союзе
племён - рода Идзумо. Стройная система, представленная в «Запи-
сях о деяниях древности» и «Анналах Японии», основана на тради-
циях рода Ямато, считавшего, что происходит от богини Солнца
Аматэрасу бмиками. Культ этой богини сформировался в земле-
дельческом обществе. Об этом свидетельствует и миф о богине Пи-
щи Укэмоти, находившейся под несомненным патронажем Аматэра-
су, и перечисление прегрешений Суса-но-о из мифа об удалении
Аматэрасу в Небесный Грот.
Специфика японской мифологии - это деление богов на две ка-
тегории. богов небесных и богов земных. Соответственно, и святи-
лища, посвящённые этим богам, делятся на «небесные» ама-
цуясиро) и «земные» (До|±, куницуясиро). Даже «великие прегре-
шения», зафиксированные в синтоистских Молитвословиях Велико-
го Очищения, делятся на те же две группы - небесные и земные. В
таком делении Уэда Масааки справедливо усматривает политиче-
скую подоплёку [Уэда, 1970, с. 141-142].
Общепризнано, что двум мифологическим традициям соответст-
вовали два пантеона - небесные боги принадлежали к пантеону
Ямато, а земные - к пантеону Идзумо. Обиталищем первого из них
была Равнина Высокого Неба, второго - Срединная Страна Трост-
никовой Равнины. Загробный мир в первой из этих традиций имено-
вался Страной Тьмы (Ёминокуни, иероглифическая запись этого
названия означает «Страна Жёлтого Источника», что, ко-
нечно, отражает не реальные представления жителей Ямато, а под-
лаживание под даосские взгляды, т. е. представления китайцев). Во
второй традиции он именовался Страной Твёрдых Корней (ШО^
'dti Д, Нэнокатасу куни) или Донной Страной (1ЁС0 Д, Соконокуни).
В мифологической традиции Ямато прямая линия родства связы-
вает между собой богов Таками мусухи, Аматэрасу, Ниниги и цар-
ствующий род, начиная с Дзимму-тэнно. Суса-но-о предстаёт в ней
как младший брат Аматэрасу и как её антагонист, совершающий
нарушения, за которые изгоняется сонмом богов с Равнины Высоко-
ты приколи к его одежде иглу с длинной нитью". Она так и сделала. На следующий
день нашли нитку под северной оградой, а игла [была воткнута] в туловище
большого земляного червя» [Троцевич, 1975, с. 113].
55
го Неба на Землю. И опускается там не на вершину высокой горы,
как это подобает Великому богу, а на берег речки.
Но он же вписывается и в другую родословную, представляющую
линию богов Идзумо: Камимусухи - Суса-но-о - Окунинуси (Онаму-
ти). Суса-но-о в ней органичен. Имя бога включает компонент Суса,
который входит в ряд топонимов на территории Идзумо [Уэда, 1970,
с. 142], В стране Идзумо Суса-но-о предстаёт добрым богом: спасает
от смерти девушку, убивает кровожадного змея, добывает и дарит
сестре чудодейственный меч и даже из подземного мира подаёт сво-
ему сыну-зятю благожелательные советы. От начала до конца вы-
ступает как добрый бог и его сын, Окунинуси, которого небесные
боги вынуждают передать им его земную власть. Более того, имя
жены Суса-но-о, принцессы Кусинада-химэ, толкуется как Чудесная Де-
ва Рисовых Полей [Уэда, 1970, с. 143; Кодзики, 1, 1994, с. 238], и со-
единение с нею наводит на мысль о сущности земледельческого бо-
га, которому явно не соответствуют бесчинства Суса-но-о на Равни-
не Высокого Неба.
В итоге естественной представляется мысль о том, что Суса-но-
о-но микото соединяет в себе двух изначально разных богов - доб-
рого созидателя в традиции Идзумо и разрушителя в традиции Яма-
то. Като Сюити полагает, что исторически линии Идзанаги - Идза-
нами (линия Ямато) и Онамути-Сукунахикона (линия Идзумо) созда-
вались как независимые и постепенно возникла необходимость их
объединить ([Като, 1975, с. 50], см. также: [Кин, 1993, с. 42-43]),
Объединение двух мифологических традиций на базе цикла Яма-
то было осуществлено не только при помощи слияния двух персона-
жей в один (японские мифы в этом плане на мировом фоне не уни-
кальны: интересный опыт реконструкции истории формирования
гомеровского эпоса см.: [Клейн, 1994]). В объединённый мифологи-
ческий цикл были включены сюжеты, подчёркивающие верховен-
ство небесных богов над земными, т.е. пантеона Ямато над пантео-
ном Идзумо. Сюда относится изгнание Суса-но-о с Неба на Землю,
преподнесение им священного меча кусанаги-но цуруги небесным
богам (при этом в мифе приводится его рассуждение: «Это божест-
венный меч. Могу ли я решиться присвоить его себе?»21) и миф о
«передаче страны» сыном Суса-но-о, Окунинуси, посланцам богини
Аматэрасу. Показательно, что по версии «Записей о деяниях древ-
ности» и «Анналов Японии» бог Окунинуси передал потомкам Неба
всю созданную им Поднебесную, а по версии «Идзумо фудоки» - ос-
тавил себе во владение страну Идзумо, все остальные земли передав
во владение небесным богам. Как бы то ни было, в официальных
21 Меч вообще принадлежит к числу атрибутов Суса-но-о. Его меч ломала и пе-
режёвывала богиня Аматэрасу, когда состязалась с братом в деторождении, его меч
стал одним из символов императорской власти в Японии Возможно, в образе Суса-
но-о отразилось появление в Японии общества железного века. См.: [Уэда, 1970,
с. 143].
56
записях нигде в дальнейшем не заходит речь о линии богов Идзумо и
их потомках. Начиная с Ниниги-но микото, далее повествуется толь-
ко о пантеоне Ямато. С точки зрения инициаторов и исполнителей
составления «Записей о деяниях древности» и «Анналов Японии», внут-
ренняя идеологическая задача была выполнена: установлена иерар-
хия родов и показан приоритет Ямато над остальными родами.
Нужно признать справедливость слов Е. Г. Комаровского (Свет-
лова) о противоречивом характере самих памятников: «Значение этих
двух сочинений для понимания древней Японии нельзя переоценить.
"Кодзики" и "Нихон секи" - это и самые ранние письменные памят-
ники, и начало японской литературы, и первостепенной важности
исторические источники, и ценнейший ориентир в изучении рели-
гиозных представлений японцев древности. Но в то же время это,
возможно, один из наиболее ранних в истории человечества образ-
цов политически мотивированного искажения и фальсификации ис-
торического процесса, тенденциозного подбора и обработки мифов
и старинных преданий в интересах обоснования права царского дома
Ямато на власть» [ Светлов, 1994, с. 87].
Два основных памятника, последовательно изложившие древне-
японские мифы, обладают особенностью, на которую обычно не об-
ращают внимания исследователи: в их художественную ткань вклю-
чены все сюжеты, устраивающие составителей с идейной, компо-
зиционной или иной точки зрения, независимо от их происхождения.
Это сквозная традиция для всей японской литературы. В VIII в. были
созданы только самые ранние из сохранившихся до наших дней
памятники, впитавшие давние и новейшие заимствования из инозем-
ных культур. В этих заимствованиях мы не обнаружим следов их
иноземного происхождения в именах или названиях местностей. Все
они японизированы В дальнейшем они функционируют в литерату-
ре и художественном сознании японцев как апробированные, мест-
ные по происхождению.
На примере европейской модели отмечено, «что в мифе, в отли-
чие от сказки, все действующие лица и все места, где происходит
действие, имеют название» [Пропп, 1984, с. 238]. Японские мифы в
этом отношении не отличаются от европейских. Но эта же черта
присуща и многим японским сказкам. В художественной же автор-
ской прозе (в первую очередь в прозе сэцува и в путевых заметках)
к ней часто добавляется ещё одна особенность - точная датировка
события, описанного в сочинении. Начало этому также положено в
«Записях о деяниях древности» и «Анналах Японии».
Древние письменные памятники по необходимости комплексны:
в культуре существовало устное слово и его воспроизведение на
письме - без жанровой и видовой дифференциации. Слово имело ду-
шу, оказывающую магическое воздействие на людей и на события.
Поэтому обращаться с ним надлежало уважительно, как обращают-
ся с духами.
57
Вера в душу слова диктовала подбор благопожелательных иеро-
глифов при написании имён богов и тщательную шлифовку лексики
в синтоистских молитвословиях. Ещё одной областью активного про-
явления веры в душу слова была поэзия.
Первые стихотворные антологии.
«Манъёсю»
Одной из специфических особенностей поэзии в древней Японии
было то, что сохранение письменного двуязычия не позволялб
ей в разных языковых вариантах придерживаться одинаковой фор-
мы, одинакового размера и многих иных норм стихотворной речи.
При этом из Китая древнеяпонская лирическая поэзия получила
ощутимое влияние [Итико, 1979, с. 67].
Первые стихотворения на китайском языке ши(ё%, яп. си) япон-
цы стали сочинять в начале VII в., но самые ранние из сохранив-
шихся до нашего времени ши датируются годами правления импера-
тора Тэндзи (668-671) [Кониси, 1984, с. 315].
В 3-м году эры Тэмпё-Сёхб (751 г.) была составлена первая япон-
ская антология стихотворений на китайском языке. Японцы стали
называть такие стихи канси (йО$), «китайскими стихами». Антоло-
гия именуется «Кайфусо» (tB®.^), что условно можно перевести как
«Милые ветры поэзии». В неё вошло 120 стихотворений шести-
десяти четырёх японских поэтов, сочинённые за предыдущие 80 лет.
Порядок расположения стихотворений - хронологический. Авто-
ры - главным образом представители придворной аристократии и
высшего буддийского духовенства. Стихотворения написаны в жан-
ре гуши, без соблюдения правил тонального параллелизма и без
ограничения размеров самого стихотворения.
Канси в этой антологии имеют явные следы влияния китайской
поэзии эпохи Шести династий (Лючао). Кониси Дзинъити приводит
высокую оценку, данную современным китайским учёным стихотво-
рению принца Оцу (663-686), «Прочитанному на банкете в Весеннем
саду» [Кониси, 1984, с. 322]. Одно из немногих стихотворений, опи-
сывающих специфически японские сцены, принадлежит кисти прид-
ворного высокого ранга Фудзивара-но Фухито (659-720) (см.: [Кин,
1993, с. 77]). Общечеловеческие мотивы развивают стихи Исонока-
ми-но Отомаро (7-750):
Ветер гонит пыль за десять тысяч ри.
Три зимы уж грустят орхидеи.
58
Оседает у меня в волосах понемножечку иней,
Зимний воздух всё более хмурит мне брови.
Опускается вечер - неразлучницы-утки вплывают в туман,
По утрам уже дикие гуси страдают на самом краю облаков22.
Распахнул воротник, не ведаю сроков своих,
Пью глотками обиду, скорблю в одиночестве.
Но в целом стихи, включённые в антологию, носят подражатель-
ный характер. По большей части они описывают придворные пир-
шества (например, по случаю приёма посольства из Кореи) или одни
и те же красоты китайской столицы (которыми, кстати говоря, ав-
торам любоваться доводилось не всегда). Двадцать два стихотворе-
ния написаны по августейшему повелению и превозносят мир в стране
и выдающиеся добродетели монарха. Антология «Кайфусо» свиде-
тельствует о начальном этапе развития канси и их чисто этикетной
функции при нарском дворе.
В анонимном предисловии к «Кайфусо» написано, что при импе-
раторе Тэндзи в аристократическом обществе наиболее благоприят-
ную обстановку для создания шедевров каллиграфии, прозы и поэ-
зии создавали официальные собрания (т. е. пиршества). Однако мно-
гие высокие творения обратились в пепел. Чтобы уберечь от такого
удела новые творения, и создана была представленная антология.
Исследователи расценивают это не более как имитацию при дворе
Ямато старинной китайской традиции [Кониси, 1984, с. 316].
Заслуживает внимания первая в истории страны попытка без-
ымянного составителя «Кайфусо»23 в кратком предисловии предста-
вить периодизацию развития в Японии учёности. Автор отмечает,
что в эпоху принца Сётоку-тайси в Японии «процветает письмен-
ность» и «впервые устанавливается ритуал» [Итико, 1979, с. 414].
Поэтическое мастерство исстари высоко ценилось в странах Даль-
него Востока. Стихотворные состязания во время дипломатических
встреч с представителями Китая, государств Корейского полуостро-
ва, королевства Бохай заставляли рассматривать стихосложение как
дело государственной важности, показатель культурного уровня пред-
ставителей соответствующего государства. Языком международно-
го поэтического общения оставался китайский. В придворных кру-
гах пользовались популярностью китайские трактаты по стихосло-
жению, словари рифм, корейские и китайские наставления по тех-
нике китайского стихосложения. Понятно, что в такой ситуации бы-
ло бы наивно ждать от «Кайфусо» особого изящества формы или
свежести мысли.
Что же касается формы, то ши многих авторов «Кайфусо»
больше тяготеют к поэзии конца эпохи Лючао, тогда как ши одного
из поэтов начала VII в., Ыльчи Мундока, - к китайской поэзии на-
22 Дикие гуси - символ осени. Их крики символизировали разлуку.
23 По мнению венгерского японоведа Иштвана Халлы, им был внук императора
Тэмму (?-686) и хранитель дворцовой библиотеки Миката-но Оно [Халла, 1977, с. 2-16].
59
чала этой эпохи [Кониси, 1984, с. 323]. В целом же эта антология
важна скорее как точка отсчёта при сравнении её с памятниками,
созданными на других этапах развития японской поэзии на китай-
ском языке, а также с современными ей собраниями собственно япон-
ской поэзии вака (?□!$:).
В ближайшие 70-80 лет после «Кайфусо» появилось по меньшей
мере ещё три японские антологии канси. Это «Рёунсю ($?ЭЖ, «По-
этическое собрание, рождённое в облаках», ок. 814 г.), составленное
коллегией во главе с Оно-но Минэмори (778-830) из девяноста
стихотворений членов царствующего дома и высшей придворной
аристократии, сочинённых в 784-814 гг., «Бунка сюрэйсю» (ЗсЖ^Яь
Ж, «Собрание щедевров культуры», 818 г.), составленное Фудзива-
ра-но Фуюцугу (775-826) и другими поэтами из 140 стихотворений, и
«Кэйкокусю» (££НЖ, «Стихотворное собрание для упорядочения го-
сударства», 827 г.), составленное из двадцати книг по высочайшему
повелению Ёсиминэ-но Ясуо (785-830) и четырьмя другими признан-
ными мастерами канси. Это собрание включало стихотворения в жан-
рах фу и ши, но до наших дней дошло далеко не полностью: шесть
книг из двадцати, при этом одна книга (20-я) содержит не стихи, а
прозаические ответы на экзаменационные вопросы, заданные по-
китайски молодым аристократам, претендующим на чиновничий
пост.
Задачи, которые ставили перед собой составители этих антоло-
гий, в какой-то степени были однотипны с задачами, стоявшими пе-
ред коллегией составителей «Анналов Японии»: независимо от того,
как оформлялась и развивалась литература на японском языке (а
она появилась примерно в то же время), представить свою страну
цивилизованному миру на понятном этому миру языке и с учётом
принятых этим миром эстетических и этических стандартов. «Кай-
фусо» представляет начало того долгого пути, на котором китай-
ская литература являла японцам образец для многочисленных по-
дражаний и вариаций. «Япония, - по утверждению Умэхара Такэ-
си, - в разных отношениях училась у Китая, а построила ли она куль-
турное или бюрократическое государство, определилось как раз в
начале VIII века» [Умэхара, 1982, с. 169]. И в то же время для ки-
тайцев на протяжении ещё более тысячи лет «японская литература
не означала абсолютно ничего» [Кин, 1973, с. 79].
Официальные антологии японской поэзии на китайском языке
скоро дополнились авторскими сборниками и семейными собрани-
ями. Появление первых сборников означало преодоление психоло-
гического барьера людьми, начавшими творить на чужом языке.
Между тем в эпоху, когда японские авторы постигали азы ки-
тайского стихосложения, в стране уже существовала длительная и
разнообразная в жанровом отношении традиция поэтического твор-
чества на японском языке - народная в своей основе. Она не была
похожа на ту, что представлена в «Кайфусо» и последующих анто-
логиях канси, но была распространена во всех слоях населения, от
60
крестьян до аристократов. Самая большая проблема, с которой
встречались её любители, - это способы передачи японской по-
этической речи средствами китайской графики. Выход виделся
один: иероглифы употреблять преимущественно как фонетики, вне
зависимости от их значения.
Примерно тогда же, когда и «Кайфусо», в середине VIII в., по-
явилась первая антология японской поэзии на японском языке - «Манъ-
ёсю» (7; ЖЖ, «Собрание мириад листьев», полный русский перевод
см.: [Манъёсю, 1-3]). Составитель её неизвестен, однако с большой
долей вероятности работу по составлению антологии приписывают
Отомо Якамоти (717-785)24.
«Около 500 авторов представлены в этом редком собрании, где
наряду с песнями древних правителей, известных поэтов помещены
песни пограничных стражей, рыбаков, землепашцев и других прос-
тых людей Японии. 4516 песен содержится в 20 книгах этого памят-
ника, разнообразных по жанру, стилю и содержанию» [Глускина, 1971,
с. 5]. Таким образом, широта географического и социального охвата,
тематического содержания, жанрового состава и функционального
назначения отличает это собрание от современных ему и более
поздних антологий поэзии на китайском языке.
Большинство вошедших в «Манъёсю» стихотворений датируется
столетием от середины VII до середины VIII в., самые поздние - кон-
цом VIII в., что же касается самых ранних авторских стихотворений,
то датировка их у разных исследователей заметно расходится. Ещё
сложнее обстоит дело с датировкой анонимных стихотворений.
А. Е. Глускина, не без основания полагая, что самые древние сти-
хотворения антологии нужно искать среди анонимных (а они состав-
ляют треть стихотворений «Манъёсю»), отмечает, что исследовате-
ли «самой ранней песней считают песню императрицы Иванохимэ в
кн. П антологии (IV в.)» [Глускина, 1971, с. 26]. Н. И. Конрад пере-
двигал эту дату «по крайней мере на начало V в.» [Конрад, 1974, с. 117],
а Като Сюити обозначает её второй половиной V в. [Като, 1975,
с. 59]. При этом в качестве точки отсчёта у всех названных авторов
представлены одни и те же пять стихотворений (кн. II, № 85-89) «им-
ператрицы» Иванохимэ. Различия в датировке объясняются тем,
что Иванохимэ, согласно «Анналам Японии», была супругой Нинто-
ку-тэнно, который занимал престол в IV в. (Иванохимэ, по версии,
представленной в этом памятнике, умерла в 347 г.). Но, во-первых,
как уже упоминалось, датировки «Записей о деяниях древности» и
«Анналов Японии», особенно там, где дело касается событий ранней
истории, не подтверждаются надёжными источниками и основаны
на устной традиции, которую трудно заподозрить в безукоризнен-
ности, когда она оперирует столетиями и включает мифологические
24 А. Е. Глускина приводит ещё четыре версии, называя императора Хэйдзё, Та-
тибана Мороз, Фудзивара Яцука и других людей, отмечая при этом, что всего су-
ществует до пятнадцати версий [Глускина, 1971, с. 5].
61
сюжеты. Во-вторых, атрибуция упомянутых пяти стихотворений то-
же не бесспорна и вызывает сомнение у многих исследователей.
Однако и стихотворений с более надёжной датировкой в антоло-
гии так много и они представляют такой ранний пласт поэтического
творчества, что «Манъёсю» заслуженно вызывает интерес серьёз-
ных исследователей начальной стадии, художественной словесности
во многих странах.
В отличие от си, стихов на китайском языке, японские называ-
лись ута (Ж, «песнями»), потому что они произносились нараспев,
нередко в сопровождении струнных инструментов. Они не знают
рифмы, а их напевность обеспечивается отсутствием стяжения со-
гласных в японском языке и чередованием строф с пятью и семью
слогами. До VIII в. одним из самых распространённых в японской
поэзии был жанр тёка или нагаута (fi Ж, длинная песня), где одно
стихотворение могло содержать сто и более строф с «последова-
тельным чередованием пар стихов в 5 и 7 слогов» [Конрад, 1974, с. 41].
Другим поэтическим жанром, распространённым в древнеяпонской
поэзии, был ездока песня с повторяющимся началом) - шес-
тистрофные стихотворения с чередованием слогов по строфам: 5-7-
7-5-7-7. С VIII в. преимущественное распространение получили тан-
ка короткая песня) — пятистрофные стихотворения в 31 слог
с построфным делением: 5-7-5-7-7. В такое стихотворное прос-
транство умещается от семи до десяти значимых слов, поэтому сти-
хосложение во все времена требовало от поэтов виртуозного ма-
стерства. При этом танка на много столетий стали ведущим жанром
японской поэзии.
В антологию «Манъёсю» включено около 4200 стихотворений в
жанре танка, 260 тёка (нагаута) и 60 ездока (разница в оценках меж-
ду справочниками объясняется расхождениями в списках памятника,
взятых за основу издания или исследования).
Первое, что обращает на себя внимание при сравнении «Манъ-
ёсю» с «Кайфусо», - множество анонимных стихотворений, боль-
шой социальный разброс среди авторов, целые блоки народной поэ-
зии, наличие которой объясняется, как это ни парадоксально на пер-
вый взгляд, влиянием китайской традиции.
Огромный объём, тематическое разнообразие, широкий социаль-
ный охват авторов, отражение разных сторон жизни древних японцев,
влияние на последующее развитие японской литературы (не только
поэзии, но и прозы) делают «Манъёсю» неисчерпаемым источником
для исследований. В Японии первые научные школы, специализи-
ровавшиеся на изучении этой антологии, возникли ещё в средние века.
Общая ситуация в «эпоху Манъёсю» (так в литературоведении
часто называют VIII век, известный у историков под названием «эпоха
Тэмпё» или «эпоха Нара»25) была непростой. Недаром считается,
25 Строго говоря, девизом Тэмпё обозначались 722-748 гг., кроме того, 749-766 гг.
62
что именно тогда решалась проблема - какой быть японской циви-
лизации: бюрократической или гуманной.
В начале VIII в. завершилось создание единой административной
системы налогообложения по танской модели. Племена (ft, удзи)
были лишены основы экономического могущества - прав собствен-
ности на землю - и превратились в кровнородственные образования
с ограниченными функциями (главным образом административны-
ми, которые были подчёркнуты ранговой маркировкой их глав, и
церемониальными). Земля стала считаться собственностью государя
и распределяться между подданными в виде наделов (кодекс законов
«Тайхо Ёро рё», 701 г., см.: [Тайхорё, 1985, т. 1, с. 90-98])
Население страны состояло из трёх основных групп: наслед-
ственная аристократия (по приблизительным подсчётам - около 12 ты-
сяч человек), крестьяне, получившие подушные наделы, и несвобод-
ные, лишённые земли.
Практически сразу же после введения надельной системы пере-
стал соблюдаться принцип регулярного, один раз в шесть лет, пере-
распределения земельных наделов. Интервалы между переделами
стали достигать сорока-пятидесяти лет. Это приводило к тому, что
целые поколения крестьян рождались и жили без подушных наде-
лов, а обладатели начинали относиться к своим наделам как к част-
ной земельной собственности. То же отношение появилось к долж-
ностным, ранговым и наградным наделам.
Кодекс «Тайхо Ёро рё» провозглашал императора средоточием
государственной власти. При возведении на престол нового государя
кодекс предписывал совершать моления небесным и земным богам,
возглашать ему «Благословение богов небесных» и «преподносить
государю священные регалии - яшму, зеркало и меч» [Тайхорё, 1985,
т. 1, с. 62-63]. Таким образом в правовую систему, созданную по ки-
тайской модели, были внесены существенные поправки - одни из
них диктовались социально-экономическими закономерностями раз-
вития Японии, другие - идеологическими потребностями раннего
государства.
Что касается административной структуры и бюрократических
процедур, то и они, сохраняясь по видимости в той форме, в какой
были зафиксированы в танском законодательстве, постепенно меня-
лись функционально. В 729 г. «император» Сёму женился на дочери
Фудзивара-но Фухито (659-720), крупного сановника, главы рода
Фудзивара, одного из составителей кодекса законов «Тайхо Ёро рё»,
но не принадлежавшего к царствующему роду. При сохранении мат-
риархальных тенденций в укладе жизни и психологии древних япон-
цев это означало и ориентацию государственной политики на кла-
новые интересы Фудзивара, что особенно наглядно проявилось в сле-
дующую эпоху.
обозначались девизами Тэмпё-сёхо, Тэмпё-ходзи и Тэмпё-синго, но в расшири-
тельном смысле термином Тэмпё часто обозначают весь период Нара
63
Происходило расслоение и категории непосредственных произ-
водителей - экономическое укрепление и переход на более высо-
кую социальную ступень одних и обнищание других. Такие процес-
сы в соседнем Китае обязательно находили отражение в литературе,
в том числе и в поэзии, где социальные мотивы во все времена иг-
рали заметную роль. Если учесть интенсивность культурного влия-
ния Китая на Японию того времени, естественно было бы ожидать и
наличия таких мотивов в «Манъёсю».
И ещё одна особенность. В китайской науке о стихе ко времени
составления первой антологии японской поэзии были тщательно
разработаны многие аспекты стихосложения, начиная с проблемы
рифмы и кончая проблемой поэтической образности. «Изящная сло-
весность имеет рифму», - писал Лю Се (465-520) в трактате «Резной
дракон литературной мысли» [Голыгина, 1971, с. 19]. На основании
китайских трактатов по стихосложению поэт Фудзивара-но Ха-
манари (716-782) составил «Руководство по поэзии» (й^®ЖЙ;), в ко-
тором сформулировал понятия рифмы и «болезней стиха». Автор
настаивал на введении рифмы в третью и пятую строфы танка, вы-
делил семь стилевых групп и десять «чистых стилей», с одной сто-
роны, предостерегая поэтов от элементарных ошибок, а с другой -
пытаясь навязать японской поэзии некоторые несвойственные ей
признаки.
Фонетические возможности японской речи крайне ограничены.
В ближайшее столетие после появления «Манъёсю» японская фо-
нетика претерпела существенную трансформацию, после которой ко-
личество гласных в языке сократилось до пяти, а согласных (не счи-
тая озвончённых) - до десяти. Если учесть, что в японском языке и
тогда действовал закон открытого слога, нетрудно подсчитать, что
даже с учётом звонких («мутных») и полузвонких («полумутных»)
согласных в нём насчитывалось не более ста слогов, каждый из ко-
торых заканчивался одним из пяти гласных Такую фонетическую
базу при всём желании нельзя назвать благоприятствующей раз-
витию сколько-нибудь интересной рифмы. Китайские поэтологи-
ческие трактаты были рассчитаны, естественно, на китайскую лек-
сику, китайскую фонетическую систему.
Выработался набор приёмов, благодаря которым японская «пес-
ня» сохраняла продуктивность и интерес слушателя на протяжении
по меньшей мере полутора тысячелетий. Особенностью стихотво-
рения считалась его недосказанность, дающая читателю или слуша-
телю возможность на основании собственного жизненного и эмо-
ционального опыта по-своему интерпретировать слова и образы, от-
крыть свой ассоциативный ряд. Той же цели служил и подбор слов,
сочетание которых целиком или в частях создавало второй, а иногда
и намёк на третий семантический слой.
В набросках крупного политического деятеля Японии эпохи Эдо
Мацудайра Саданобу (1758-1829) « Кагэцу соси» (7ЁЛ «Запис-
ки о цветах и луне») содержится описание такого случая. Одного
64
придворного высокого ранга однажды посетил его сын. От порыва
ветра в комнатах задрожал огонь светильника. Молодой человек
позвал слугу и сказал ему: «Дует ветер и грозит погасить светиль-
ники. Поставь какую-нибудь загородку». Его отец очень рассер-
дился и отчитал сына: «Как же ты собираешься сочинять стихи,
если проявил себя вот таким образом?!» Сын, вконец расстроенный,
вышел. Кто-то присутствовавший при этом, удивился, в чём же тут
заключалась соль урока, и рискнул спросить об этом хозяина дома.
Тот отвечал, что никогда не следует выражать себя по заданной те-
ме исчерпывающе [Ёсида, 1977, с. 11].
Богатые возможности таили в себе иносказания, широко исполь-
зовавшиеся поэтами «Манъёсю». Вот одна из песен девы Аватамэ,
посланных поэту бтомо Якамоти:
Неужели встретиться с тобою
Мне отныне больше не судьба,
Белотканый мой рукав
Я заколдую,
И тебе, любимый, я не дам уйти!
(Кн. IV, № 708. Пер. А. Е. Глускиной)
В японской поэтической традиции белотканый рукав - не толь-
ко символ разлуки (им машут на прощание), но и место, где поко-
ится голова возлюбленного во время любовного свидания. Много-
значность образа ценилась высоко.
Когда мы отмечаем, что в «Манъёсю» отразилось древнейшее
состояние японской поэзии, мы не всегда помним о том, что огром-
ный поэтический материал в ней определённым образом органи-
зован. Наличие кем-то собранного анонимного и авторского мате-
риала без малого в 4500 стихотворений, его поэтический уровень,
выстроенность в жанровом и тематическом отношении свидетель-
ствуют не просто о существовании в стране древней поэтической
традиции, но и о живом интересе со стороны народа, стимулиру-
ющем её развитие. Интерес к старой поэзии у всё новых поколений
прямо зависит от заложенной в ней потенции читательского сотвор-
чества. Нельзя не согласиться с мнением Р. Брауэра и Э. Майнера о
том, что поэзия «живёт лишь постольку, поскольку её понимают и чу-
вствуют, и наше восприятие японской поэзии сегодня должно от-
ражать современные критические стандарты и технические приёмы
анализа, т. е. те способы понимания, которые даны нам нашей соб-
ственной эпохой и культурой» [Брауэр и Майнер, 1957, с. 503].
В «Манъёсю» можно выделить три основных поэтических слоя:
народная поэзия, авторская поэзия придворного круга и авторская
провинциальная поэзия. Разумеется, такое деление условно и нуж-
дается в некоторых пояснениях.
К первому слою принадлежат обрядовая поэзия, поэтические ле-
генды и предания, а также песни рыбаков, уходящих на воинскую
службу. «Собирали народные песни, как свидетельствуют матери-
3 Зак 3732
65
алы самого памятника, и губернаторы, и их помощники в разных
провинциях. Вероятно, был использован опыт Китая, где это пору-
чалось делать всем провинциальным чиновникам, чтобы знать о
мыслях и настроениях, распространённых в народе» [Глускина, 1987,
с. 13]. Здесь мы встречаем местные фольклорные сюжеты о не-
счастной любви, о девах и их возлюбленных, покончивших с собой,
и заимствованные сюжеты, такие, как история рыбака Урасима.
Около 80 песен пограничных стражей, которые были набраны в
восточных провинциях и отправлены для трёхлетней службы на о. Кю-
сю, посвящены либо теме разлуки с любимой (треть стихотворений),
либо теме разлуки с родителями (ещё треть стихотворений), либо
самой пограничной службе [Като, 1975, с. 85-86].
Когда увидел на дороге
Я сосны, что стояли в ряд,
Я вспомнил:
Так же в ряд стояли
Родные, провожавшие меня...
(Пер А. Е. Глускиной)
Большую группу стихотворений этого же слоя (ок. 230 стихотво-
рений) составляют «Адзума ута» («Песни Восточных провинций»).
Из них 196 посвящены воспеванию любви между мужчиной и жен-
щиной, причём некоторые стихотворения восходят к V-VI вв. [Като,
1975, с. 87]. Особенность этой группы в том, что почти вся она пред-
ставляет поэтическое творчество японских крестьян, не затронутое
влиянием ни буддизма, ни конфуцианства, ни других иноземных
идеологических систем и литературных традиций.
В народных песнях встречаются следы древнейшей магии, га-
даний на панцирях черепах, обожжённых лопаточных костях оленей
и т. п., разного рода заговоры. В них исследователи отмечают две
группы глаголов, при помощи которых обозначают любовь между
мужчиной и женщиной. Одна группа относится к плотской, другая -
к духовной сфере. Во всех случаях, когда глаголы обеих этих групп
встречаются в «Песнях Восточных провинций», они стоят в насто-
ящем времени и относятся к конкретному лицу [Като, 1975, с. 90-91].
Как уже отмечалось, особое значение в древнеяпонском обществе
имела вера в «душу слова» (котодама), реализовавшаяся не только в
синтоистских молитвословиях, но и в народной, и даже авторской
поэзии. Подобного рода вера существовала в древности у многих
народов. «Древние полагали, что магическое слово и действие мо-
жет призвать в нашу жизнь могучие силы, обращаться с которыми
нужно крайне осторожно» [Василенко, 1994, с. 25]. Дело не только в
употреблении термина котодама (впервые он встречается в стихо-
творении Яманоэ-но Окура в 5-м свитке «Манъёсю»), а в существо-
вании самой веры в «душу слова», которая полностью лежит в русле
синтоистского мировоззрения. Воплощение этой веры в «Манъёсю»
и синтоистских молитвословиях объясняет, почему такими близ-
кими впоследствии представлялись японцам буддийские концепции
66
Махавайрочаны, повсюду присутствующего своей плотью, речью и
мыслью.
Формальная сторона японской поэзии активнее всего разрабаты-
валась столичными поэтами. Крупнейшим из них на рубеже VII и
VIII вв. был Какиномото-но Хитомаро, представленный в «Манъ-
ёсю» 450 стихотворениями, в том числе двадцатью «длинными пес-
нями», самая длинная из которых содержит 149 стихов (кн. II, № 199).
О жизни Хитомаро известно очень немного. Судя по отрывочным
сведениям, в конце VII-начале VIII в. он занимал невысокий пост в
свите принца Кусакабэ (?-689), старшего сына императора Тэмму и
императрицы Дзито, затем в свитах ещё нескольких принцев, после
чего был чиновником в провинциальных управлениях Оми и Ивами.
Стихотворения Хитомаро, включённые в «Манъёсю», делят на те,
что сочинялись по официальному заказу, и те, что выражали его
собственные эмоции [Като, 1975, с. 68]. Такое деление можно при-
знать справедливым только в одном плане: среди «официальных»
стихотворений Хитомаро заметное место занимали славословия. Плачи
же, принадлежащие в основном к этой категории стихотворений, са-
мыми выразительными были в его «личных» стихотворениях - в
частности тех, что были посвящены смерти жены поэта. Большая
группа тёка Хитомаро представляет собой поэтическое переложе-
ние старинных легенд и преданий.
Поэзия Какиномото-но Хитомаро отличается виртуозным исполь-
зованием специальных поэтических приёмов - макура котоба26 (их
насчитывается у него только в «Манъёсю» 106 вариантов, употреб-
лённых 178 раз) (см.: [Кониси, 1984, с. 235]), параллельных фраз,
сравнений, вводных стихов дзёси и др. Превосходное описание тех-
ники стихосложения, использованной Хитомаро, дал акад. Н. И. Конрад.
Он привёл в транскрипции танка Хитомаро из IV книги «Манъёсю»:
Отомэра-га содэ фуру яма-но мидзугаки-но хисасики токи ю омоики
варэ ва-и следующим образом проанализировал её:
«В этом стихотворении словосочетание отомэра-га содэ заканчи-
вается словом фуру, являющимся сказуемым к содэ: "юные девуш-
ки взмахивают [своими длинными] рукавами". Но вместе с тем слово
фуру входит в состав собственного имени - географического назва-
ния горы Фуруяма. Образ горы вызывает в уме поэта новый образ,
связанный с этой горой. Она находится в провинции Ямасиро, в Исо-
ноками, т. е. в районе, обычно служившем местопребыванием импе-
ратора, поэтому про гору можно сказать, что она является "священ-
ной оградой", мидзугаки. Таким путём рождается словосочетание
Фуруяма-но мидзугаки. Но слово мидзугаки есть готовый постоян-
ный эпитет, макура котоба ко всякому сложному слову, начинающе-
26 Макура котоба - букв : «слова-подушки» или «слова-изголовья» В советской
японоведческой практике их смысл чаще всего передавался термином «постоянные
эпитеты». Недостаточность такой трактовки и разнообразие функций макура кото-
ба показывает И. А. Боронина [Боронина, 1978, с. 100-187].
67
муся со слова хиса - "вечный". Поэтому вполне правомерно, что мы
видим дальше слово хисасики - "долгий", хисасики токи - "долгое
время". В общем поэтический смысл стихотворения, всё его содер-
жание заключается для поэта в этом слове хисасики. Стихотворение
говорит о том, что поэт уже долго, с давних пор мечтает о любимой.
Всё в этом "долго", "с давних пор". И значительность, центральность
этого слова как нельзя сильнее подчёркнута дзе, "предисловиями", как
бы находящими друг друга. Автор так хочет подчеркнуть всю силу
этого слова, что отводит под "предисловия", под подведение к хиса-
сики целых три стиха из пяти, т. е. большую часть стихотворения.
Это естественно: ведь только и нужно сказать одно слово: хисаси-
ки- "долго". Всё стихотворение вызвано ощущением, чувством этой
долготы. А танка передаёт именно ощущение. Поэтому со смысло-
вой стороны для стихотворения ничего, кроме одного слова "долго",
в сущности, не надо; слова варэ - "я" и омоики- "люблю" играют
лишь подсобную роль и подчинены слову "долго". Но это "долго" в
душе автора звучит с силой и остротой. Вот почему все поэтические
средства поэта направлены на это слово Стихотворение это непере-
водимо» [Конрад, 1974, с. 133-134].
Этот пример демонстрирует изощрённое использование поэтом
традиционных для японцев приёмов стихосложения. Если вспомнить
его стихи с использованием фольклорных сюжетов, готовых фор-
мул, зачинов и т. п., можно подумать, что Какиномото-но Хитомаро
в своём творчестве избежал китайского влияния. Это не вполне вер-
но. Даже в «длинных песнях», которые под кистью Хитомаро достигли
расцвета, специалисты отмечают «блестящий и тонкий паралле-
лизм», показывающий, что Хитомаро «усвоил черты китайских ши
и фу. Но концепции его произведений выражены непосредственно в
его собственных мыслях и чувствах, и там нет попыток, какие пред-
принимали поэты "Кокинсю", пересмотреть их, чтобы выразить уже
существующую идею» [Кониси, 1984, с. 61].
Сочетание богатых поэтических традиций своего народа с тех-
ническими приёмами высокой китайской поэзии, использованными
с большим изяществом и чувством меры, создало Хитомаро славу
великого мастера, «мудреца» японской поэзии на века. Разумеется,
отнесение его творчества к слою авторской поэзии придворного круга
до известной степени условно. Основная масса стихов других сто-
личных поэтов значительно уступает произведениям Какиномото-
но Хитомаро.
Авторская провинциальная поэзия представлена в «Манъёсю»
тоже главным образом танка местных чиновников, на определённое
время приехавших служить из столицы. В этом слое поэзии особый
интерес представляет творчество группы поэтов из Дадзайфу.
В VIII в. в Японии существовало несколько поэтических школ.
Одна из них находилась за пределами столицы, на о. Тикуси (или Цу-
куси, совр. о. Кюсю). В VI в. здесь был основан город Дадзайфу, где
расположилась правительственная служба, выполнявшая два вида
68
задач - военной охраны морских границ и торговли со странами
континента, в первую очередь - сбора пошлины с иностранных куп-
цов. Отсюда же снаряжались посольства в танский Китай.
Возглавлял поэтическую школу в Дадзайфу бтомо-но Табито
(6657-731), представитель древнего рода, стоявшего когда-то близко
к «царскому» двору. После того, как Табито возглавил военную экс-
педицию против мятежного племени хаято на о. Тикуси, он получил
предписание занять должность губернатора Дадзайфу. Это означало
почётную ссылку, которая объяснялась интригами соперничавшего
с Отомо рода Фудзивара, члены которого значительно усилили своё
влияние на двор и на нового императора Сёму (724-748).
Самый блестящий период существования поэтической школы в
Дадзайфу как раз и пришёлся на 724-729 гг., годы губернаторства
Отомо-но Табито. Он сгруппировал вокруг себя 32 поэта, и в том числе
Яманоуэ-но Окура (6607-733?) и Мандзэй-хоси, чьи стихи впослед-
ствии украсили «Манъёсю» (Яманоуэ-но Окура даже считается вто-
рым после Хитомаро поэтом этой антологии). Отомо-но Табито час-
то устраивал стихотворные состязания по случаю любования цвет-
ением сливы, или свежевыпавшим снегом, или звёздами в праздник
Танабата в ночь на 7-й день 7-й луны, когда, согласно старинной ки-
тайской легенде, встречаются друг с другом влюблённые Пастух и
Ткачиха (звёзды Алтаир и Вега) на мосту из сорочьих крыльев, пере-
кинутом в ту ночь через Небесную Реку (Млечный Путь).
Выдвинуто несколько версий относительно причин создания на
о. Кюсю поэтической школы или «салона» бтомо-но Табито. Одна
из причин усматривается в том, что поэтов, проведших лучшие годы
своей жизни в г. Нара, объединяла ностальгия по прошлому, тоска
по блестящей столице. Другая - влияние соседнего с Кюсю Китая,
где поэтические кружки были явлением распространённым.
К VIII в. в художественном сознании японцев произошло выделе-
ние изящной литературы из словесности в целом. «То, что японцы в
древности считали "литературой", было, конечно, литературой, по-
добной китайской. Чтобы скопировать в Японии китайскую куль-
турную схему, считалось необходимым иметь то, что называлось "ка-
радзаэ" (гений, талант в китайских вопросах)...» [Кониси, 1984, с. 61].
Среди танка Отомо-но Табито часто указывают на «Тринадцать
стихотворений, воспевающих вино» («Манъёсю», кн. Ill, № 338-350),
как на пример влияния на его творчество китайской поэзии. Указы-
вают также, что сама его идея проведения поэтических встреч заро-
дилась как подражание. Это, видимо, верно. Но посмотрим, как ис-
пользует Табито тему воспевания вина: в трёх танка из тринадцати у
него говорится о «пьяных слезах», а в одном (№ 348) сказано:
Как я могу
Быть счастлив в этой жизни,
Чего бы мне желать,
Когда в грядущей
Я стану насекомым или птицей!
69
Это неожиданный поворот в раскрытии темы, продиктованный
личным опытом поэта, его политическими неудачами, не механи-
ческое пересаживание китайского опыта на местную почву, а его
усвоение
Поэзия на японском языке почти не знала изложения событий.
Её сильная сторона - изображение чувства, вызываемого этим со-
бытием или состоянием, «послечувствования», эмоционального от-
клика. В ограниченном словарном пространстве танка упор делался
на намёк, социальные мотивы в поэзии практически все переко-
чевали в стихи на китайском языке.
«Поэты в "Манъёсю" почти совсем не касались проблем социаль-
но-политических. В этом смысле их стихи составляют примечатель-
ный контраст с китайскими ши примерно того же периода. С одной
стороны, в стихотворениях-щя поэты обнаруживали обострённую
озабоченность политикой, с другой стороны, в ута совершенно не
видно связи с политикой (исключение в "Манъёсю" - опять-таки
Окура). Однако в эпоху Нара никто из аристократии и чиновников,
вероятно, не мог быть заинтересован в политике. По-видимому, этот
интерес, в отличие от ситуации с поэтами тайского Китая, пересе-
кался с их идеологией, был связан с чувством ценности в целом, ка-
сался самых разных сторон характера и в силу этого стал прояв-
ляться в их стихах. С одной стороны, существовал мир политики и
борьба за власть, с другой - был мир стихов и любовь, доверенная
цветам, птицам, ветру и луне, и это были две разные вещи, которые
никак не смешивались» [Като, 1975, с. 77].
Като Сюити приводит в качестве яркого примера разграничения
политики и поэзии 145 стихотворений из XV книги «Манъёсю»
(№ 3578-3722), написанных членами японского посольства в корей-
ское государство Силла (736 г.). Ни одно из них не касается харак-
тера дипломатической миссии: две трети посвящено думам об остав-
ленных на родине жёнах, 10 стихотворений - тоске по Нара, осталь-
ные - описанию мест, которые члены посольства посетили в пути.
Если даже допустить, что существовали и стихотворения, затрагива-
ющие политические темы, следует признать, что составители «Манъ-
ёсю» подходили к отбору с критериями, не позволившими включить
такие стихи в антологию японской поэзии [Като, 1975, с. 77].
Как уже отмечалось, когда говорят об исключении из этого пра-
вила, прежде всего имеют в виду Ямануоэ-но Окура, талантливого
поэта, знатока китайского языка, литературы и философии. В «Пес-
не, посвящённой обращению на истинный путь заблудшего сердца»
(кн. V, № 800) он впервые в японской поэзии излагает конфуциан-
ские принципы отношений между людьми;
Глядя на отца и мать,
Люди почитают их,
Глядя на жену, детей,
Люди нежно любят их.
В мире здесь
70
Закон таков!
Коль живёшь ты на земле, -
На земле есть государь...
(Пер. А. Е. Глускиной)
Здесь же (кн. V, № 793) помещена танка, передающая буддий-
ский взгляд на эфемерность сущего:
Теперь, когда известно мне,
Что мир наш суетный и бренный,
Никчемный и пустой, -
Всё больше, всё сильней
Я тяжкой скорби преисполнен!
(Пер. А. Е. Глускиной)
В предисловии к первому из этих стихотворений поэт упоминает
«три основы» и «пять учений», определяющие отношения людей в
семье и государстве [Манъёсю, 1, с. 580]. Прямые ссылки на «золо-
тые уста Будды» содержит предисловие к стихотворению о любви к
детям [кн. V, № 802]. В нескольких тёка Яманоуэ-но Окура явствен-
но прослеживается влияние стихов китайских поэтов.
Неизвестна родословная Яманоуэ-но Окура, однако историче-
ские хроники сообщают, что в 701 или в 704 г. он в составе большого
японского посольства (3 тыс. человек) выехал в Китай, откуда вер-
нулся в 704 или 707 г. Известно, что в посольстве он занимал невы-
сокую должность, но в 714 г. получил один из низших придворных
рангов, а в 721 г. был назначен наставником наследного принца. Та-
кое назначение обязательно предполагало высокую китайскую учё-
ность - знание литературы, истории, сочинений китайской классики.
Можно полагать, что Окура также неплохо знал буддийский канон:
до отъезда в Китай он занимался переписыванием буддийских сутр.
Несколько позднее Яманоуэ-но Окура служил в должности гу-
бернатора провинции Тику дзэн, а после назначения Отомо-но Таби-
то на службу в Дадзайфу поехал к нему и стал одним из ведущих
участников его поэтических вечеров. В столицу Окура возвратился
около 730 г., очевидно, больной ревматизмом, а через три года, в
возрасте около 73 лет, умер от сердечной недостаточности [Като,
1975, с. 80; Кин, 1993, с. 138-146].
Из всех поэтов «Манъёсю» Яманоуэ-но Окура больше всех уде-
ляет внимание социальным проблемам. Социальные мотивы просту-
пают в его стихах о жене и детях, о непостоянстве жизни, сулящей
человеку дряхлую немощную старость, и, наконец, о бедности. Его
прославленный «Диалог бедных» («Манъёсю», кн. V, № 892), на-
писанный не без влияния творчества Дун Си, китайского поэта эпо-
хи Цзинь (265-419), стал, пожалуй, самым убедительным в антоло-
гии свидетельством реального функционирования надельной систе-
мы землепользования
...Люблю свой труд простой,
Копаюсь в поле,
71
Но платья тёплого
Нет у меня к зиме,
Одежда рваная
Морской траве подобна,
Лохмотьями
Она свисает с плеч,
Лишь клочьями
Я тело прикрываю,
В кривой лачуге
Негде даже лечь,
На голый пол
Стелю одну солому.
У изголовья моего
Отец и мать,
Жена и дети
Возле ног ютятся,
И все в слезах
От горя и нужды.
Не видно больше
Дыма в очаге,
В котле давно
Повисла паутина.
Мы позабыли думать о еде,
И каждый день -
Один и тот же голод...
И вот я слышу
Голос за стеной,
То староста
Явился за оброком...
(Пер. А. Е. Глускиной)
В целом для «Манъёсю» китайские влияния не характерны. Там,
где они всё-таки прослеживаются, они чаще всего не имеют очевид-
ного продолжения на японской почве: темы и формы японской сред-
невековой поэзии развивались по иным направлениям, чем в поэзии
на китайском языке, в том числе той, которая создавалась японски-
ми авторами. В чём эти влияния отразились и были плодотворными,
так это в организации поэтических встреч и литературных «сало-
нов» и во внимании поэтов к форме, которая будет постепенно от-
шлифовываться, пока на каком-то этапе не станет цениться выше
других аспектов стиха.
Но этот процесс начал развиваться в следующую культурную
эпоху. Для подавляющего же числа стихотворений «Манъёсю» ха-
рактерна непосредственность чувств и неотработанность формы,
которая отличает древнюю народную поэзию. Как заметил Н. И. Кон-
рад, «песня в это время была простым переложением в ритмиче-
скую словесную форму живого чувства» [Конрад, 1974, с. 130].
После смерти Какиномото-но Хитомаро основную линию разви-
тия японской поэзии в Нара представлял прежде всего Ямабэ (Яма-
72
нобэ)-но Акахито. Годы его жизни неизвестны, но период наиболь-
шей творческой активности приходится на эру Тэмпё (729-749). В
«Манъёсю» ему принадлежит 13 тёка и 37 танка, многие из которых
посвящены поездкам в провинции Кии, Харима, а также в Ёсино и
Нанива в 724-736 гг. Передают, что дальний предок поэта получил
родовое имя Ямабэ (Яманобэ) в 485 г.,, а сам он занимал должность
мелкого придворного чиновника. Поездки, вдохновившие его на со-
здание многих стихотворений, были совершены Акахито в составе
свиты императора Сёму. Отличительной чертой творчества Ямабэ-
но Акахито исследователи считают то, что многие сюжеты и худо-
жественные образы заимствованы им из народной поэзии. «Его тёг
ка, - по мнению Хисамацу Сэнъити, - совершенны с технической
точки зрения и проигрывают в смысле реализма. Однако его танка
высоко реалистичны, и общепризнано, что именно в них проявился
его гений» [Хисамацу, 1976, с. 46].
Высокая репутация Акахито укрепилась после блестящей оценки,
данной его пейзажным стихам в X в. поэтом и учёным Ки-но Цура-
юки. В новейшее время не все специалисты одинаково высоко оце-
нивают его творчество. Изящество и ясность подчёркивал в его сти-
хах Н. И. Конрад [Конрад, 1974, с 152] искренность, зрелое мастер-
ство и художественную завершенность ценила в них А Е. Глускина
[Глускина, 1987, с. 11] изящное следование высоким образцам отме-
чает в творчестве Акахито Окубо Тадаси [Итико, 1984, с. 322-323]
мастером клише, поэтом, лишённым оригинальности, его называет
Като Сюити [Като, 1975, с. 72].
Одним из составителей «Манъёсю» и «едва ли не самой значи-
тельной фигурой в формировании ранней средневековой поэзии»
[Глускина, 1987, с. 12] был Отомо-но Якамоти (717*?—785), сын Ото-
мо-но Табито, унаследовавший положение главы клана бтомо, по-
томственный недруг набиравшего власть рода Фудзивара. Как отме-
тил Н. И. Конрад, «все мужчины его рода отличались красотой, кра-
савцем считался и он, и этому он был обязан своим включением в
состав "ближней свиты” императора, а также большим успехом у
женщин» [Конрад, 1974, с. 153].
Стихотворений бтомо-но Якамоти в антологии «Манъесю» пред-
ставлено больше, чем стихотворений любого другого поэта. По ним
можно судить о совершенствовании его таланта и формировании са-
мобытных черт в творчестве начиная с отроческого возраста и до
самой его смерти, последовавшей на 47-м году жизни. Юношеские
пылкие танка о любви, светлые стихи о природе, созданные под яв-
ным влиянием поэзии Акахито, раздумья о жизни, послания старин-
ным друзьям - такие стихотворения бтомо-но Якамоти вошли в
«Манъёсю». Вот два примера.
№ 4488; «Песня, в которой говорю о своих думах, слушая изда-
лека пение кукушки ночью 16-го дня четвёртого месяца...
Обратившись к луне
Ночью, чёрной, как ягоды тута,
73
Распевает кукушка - едва слышу пенье её,
Оттого что поёт она очень далёко
От села, где я нынче живу».
(Пер. А. Е. Глускиной)
№ 4483: «Песня, сложенная на поэтическом турнире во время пи-
ра в доме главного инспектора Министерства внутренних дел прин-
ца Миката...
Меняются, проходят времена,
И каждый раз, как видимся с тобою,
Болит душа...
Людей минувших лет
С тоскою в этот миг я вспоминаю».
(Пер. А. Е. Глускиной)
Современники и далёкие потомки признавали у Якамоти высо-
кий уровень карадзаэ таланты и образованность китайского
типа). Кроме танка дошло немало и канси, принадлежащих этому
поэту. Именно он предпринял попытку увязать в единое целое эле-
менты континентальной культуры и японскую мифологию; его «Песня
о Танабата» (влюблённых звёздах - Пастухе и Ткачихе) помещает
китайский фольклорный сюжет во временные границы японских
мифов (№ 4125):
Со времени богини Солнца -
Аматэрасу,
Разделённые рекой
Ясунокава,
Друг ко другу обратясь
И махая рукавом,
На дальних берегах
Горько плачут две звезды...
(Пер. А. Е. Глускиной)
Это не было случайной находкой Якамоти: такова историческая
специфика отношения автохтонной культуры Японии к иностран-
ным заимствованиям.
В середине VIII в. в Нара было завершено сооружение гигант-
ской (ок. 16 м высотой) позолоченной статуи будды Дайнити (санскр.
Махавайрочана) и специального павильона для нее Дайбуцудэн на
территории центрального буддийского храма Тодайдзи. Весь храмо-
вый комплекс, начиная от построек и статуи Большого Будды и за-
канчивая убранством павильонов, был исполнен как совокупный
символ общности всех буддийских святых и одновременно с этим
единства всего населения страны.
Строительство было освящено специальным покровительством син-
тоистского бога Хатимана и особым синтоистским обрядом, назна-
чением которого было привязать общее представление о буддий-
ском учении и о буддийских святынях к координатам, органичным
для религиозного сознания простых японцев27. Распространилась
27 «В самой композиции статуи Великого Будды отразились основные тенденции
74
практика сооружения синтоистских святилищ для сакральной защи-
ты новых буддийских монастырей. Императорский дворцовый ком-
плекс в Нара был репризой соответствующего комплекса в китай-
ской столице, но собственно императорские покои (rtjft), как
полагают, были сооружены «в чисто японском стиле, с крышей из
кипарисовой коры, со стенами и полом из некрашеного дерева»
[Иэнага, 1972, с. 65].
Одно из основных отличий «Манъёсю» от «Кайфусо» заключа-
ется в том, что первая из этих антологий базируется на местной не
только сочинительской, но и составительской традиции, вторая же
следует иноземным образцам.
Основу местной традиции образуют сикасю (?./ЖЖ, частные по-
этические собрания). Издавна в дружеском общении в высших со-
циальных слоях Японии был принят обмен стихотворными послани-
ями по разным поводам - друзьям сообщали в стихах впечатления
от путешествия, от необычного явления природы, от празднества, с
ними делились воспоминаниями, мыслями. Распространился обычай
обмениваться любовными стихами. У многих поэтов образовались
подборки из сотен собственных стихотворений, расположенных в
хронологическом порядке или по темам, и стихотворений друзей и
знакомых, присланных им по разным случаям. Известно, что ещё до
«Манъёсю» существовали личные собрания стихотворений Какино-
мото-но Хитомаро, Каса-но Канамура, Такахаси Мусимаро, Танабэ
Сакимаро и других поэтов. Значительные части личных собраний
вошли в «Манъёсю». Самый большой удельный вес в этой антоло-
гии занимает частное поэтическое собрание Отомо-но Якамоти -
восемь книг из двадцати (III, IV, VI, XVI-XX).
Богатая возможность представить разные слои японской поэзии
была реализована в «Манъёсю» благодаря двум обстоятельствам:
высокому рейтингу поэтического таланта в религиозном и эстети-
ческом сознании народа (об этом свидетельствует огромное число
поэтов, деифицированных в синто) и воспринятой из китайской тра-
диции установке на репрезентативность антологии. Отметим, кстати,
что именно последней обязаны своим помещением в антологию не-
многие канси и стихотворения, включающие корейскую лексику.
Не вызывает сомнения то, что «Манъёсю» - явление уникальное
в мировой литературе. На заре своей письменной культуры, не имея
ещё отработанной системы передачи на письме звуков родного язы-
ка, японцы записали огромную поэтическую антологию, столетия
бывшую художественным образцом для потомков и второе тысяче-
летие являющуюся объектом изучения для литературоведов, исто-
риков, культурологов, этнографов, лингвистов и т. д.
От более поздних поэтических собраний «Манъёсю» отличается
отсутствием предисловия. В предисловие к поэтической антологии
общественно-политического развития Японии в VIII в., а также стремление импера-
торского дома сделать буддизм идеологической опорой процесса централизации
страны» [Авдулов, 1991, с. 100].
75
впоследствии было принято включать по меньшей мере две темы -
историю создания самого памятника (имена инициатора и состави-
телей, дату составления) и концепцию японской поэзии (что такое
поэзия вообще, достоинства и недостатки тех или иных известных
поэтов, «болезни стиха»).
В данном же случае мы впервые встречаемся с описанием ис-
тории создания антологии не в предисловии к ней и не в каком-либо
из современных ей письменных памятников, а в произведении, со-
зданном через триста лет после «Манъёсю», в «Эйга моногатари» («По-
вести о процветании»), где сказано, что в 753 г. императрица Кокэн
(718-770) велела Левому министру Татибана Мороз (684-757) соста-
вить «Манъёсю». В наше время, правда, эта запись не считается до-
стоверной и распространение имеет версия, выдвинутая ещё току-
гавскими учёными, о том, что главным составителем «Манъёсю»
был один из её авторов, поэт Отомо-но Якамоти (7187-785).
Принципиальное значение имеет система записи японских стихов
иероглифами: фонетическое письмо ещё не было изобретено, а ис-
пользовать иероглифы для передачи смысла слов нелепо, поскольку
они не отражают звучание стиха. Составители антологии (их, надо
думать, было несколько) выработали правила использования китай-
ских иероглифов только в качестве фонетика. Такой способ записи
получил название манъёгана и просуществовал до того
времени, когда в употребление вошло японское слоговое письмо.
Долгое время после создания антологии «Манъёсю» её название
воспринималось как имя нарицательное и вызывало у потомков
стремление назвать так же (с присовокуплением того или иного эпи-
тета) очередную поэтическую антологию. Появился образец, на ко-
торый продолжали равняться в веках и поэты, и теоретики япон-
ской поэзии.
Ранняя буддийская книжность
В столице Японии буддийское вероучение в VIII в. укрепилось
прочно и уже оказывало заметное влияние на разные аспекты
культуры. Строительство храмов и сооружение статуй, появление
буддийской религиозной живописи, использование иноземной музы-
ки в ритуалах, переписывание сутр для улучшения кармы и вошед-
шие в практику массовые проповеди и публичные толкования текс-
тов сутр наложили безусловный отпечаток на художественное со-
знание японцев. И живопись, и музыка, и прикладные искусства раз-
вивались и множились в сложном переплетении элементов, пришед-
ших в Японию из Китая, Кореи, Индии, Бохая, Центральной Азии,
76
Индонезии и других стран с сильной местной традицией. Заимство-
ванные виды искусства служили основой формирования неповтори-
мости японского культурного комплекса. Особое место занимает
воздействие буддийской словесности на художественную литературу
Японии.
В Нара процветало и было поставлено на уровень дела государ-
ственной важности переписывание сутр. Особенно высоко ценились
сутры, выполнявшие, по мнению правителей, задачу сакральной за-
щиты государства: «Конко мёкё» «Сутра Золотого све-
та»), «Нинногё» ((ZEE^S. «Сутра о человеколюбивых царях») и «Хок-
кэкё» «Лотосовая сутра») [Иваки, 1986, с. 52-53].
А. Н. Игнатович приводит данные японских учёных, основанные
на документах из сокровищницы Сёсбин (г. Нара), об экзаменацион-
ных требованиях, предъявлявшихся в ту эпоху к будущим монахам.
«В 732 г. от экзаменующихся требовалось умение декламировать
отрывки из Лотосовой сутры, "Сутры золотого света" и др. и пол-
ностью "Сутру о Вималакирти". Наизусть нужно было знать один
свиток из "Сутры о Якуси", главу о Каннон из Лотосовой сутры, а
также "десять заклинаний" из "Сутры-сердцевины" о "праджня-па-
рамите"». Десять лет спустя требования возросли ещё [Игнатович,
1988, с. 122].
Буддийские монахи никогда не составляли в Японии замкнутую
касту. Напротив того, за исключением позднего средневековья (XVII-
сер. XIX в.), когда действовало правительственное предписание о за-
креплении за каждым храмом определённого контингента прихожан,
всегда была велика тенденция к миссионерской или проповедни-
ческой деятельности, которая по самой своей сути предполагает ис-
пользование аргументов, образной системы и структур религиозной
литературы при общении священнослужителей с мирянами. Рас-
пространение религии свидетельствует о действенности её аргументов.
Мы уже имели возможность коснуться вопроса отражения неко-
торых буддийских идей и представлений в «Манъёсю». Можно доба-
вить, что отдельные положения буддизма (эфемерность сущего, закон
нравственной причинности) в стихах «Манъёсю» явно клишированы,
и это временами приводило к появлению нелепых словосочетаний
типа: «бесконечная непрочная жизнь», оригинальная же образность
пришла в буддийские по содержанию стихи из местной поэтической
традиции.
Влияние буддизма на древнюю японскую литературу не ограни-
чивается поэзией. Как замечает Икэда Дайсаку, «часто делают упор
на то, что стиль и построение фраз "Нихон сёки" демонстрирует вли-
яние китайских исторических сочинений, таких, как "Хань шу" ("Ис-
тория [ранней] Хань". - В. Г.) и "Хоу Хань шу" («История поздней
Хань». - В. Г.), или литературных антологий вроде "Вэнь сюань" и
"Ивэнь лэйчу". Но ясно, что авторы также черпали из "Сутры Зо-
лотого света"... И "Кодзики", и "Нихон сёки" испытали влияние таких
буддийских произведений, как "Лотосовая сутра" и "Сутра Золотого
77
света”» [Икэда, 1979, с. 88-89]. Автор приводит примеры влияния
отдельных сюжетов из сутр и принципов композиции на старейшие па-
мятники японской прозы. В следующую эпоху такого рода примеры
значительно умножились, и о них мы будем говорить позже. Сейчас
важно отметить, что ознакомление народа с письменной культурой
целого ареала, стадиально превосходящей культуру народа-реципи-
ента, не ограничивается просто принятием письменности. Оно про-
исходит по многим направлениям и зависит от разных причин, вклю-
чая этнопсихологические.
Вместе с буддийским каноном и храмовыми церемониями в Япо-
нию пришла богатая континентальная традиция буддийской гимно-
вой поэзии сайка (ШЗк). Первоначально японцам было известно два
вида гимнов - бонсан (ЙеЙ), санскритские славословия, исполняв-
шиеся на санскрите, и кансан китайские славословия, испол-
нявшиеся по-китайски. Те и другие, как правило, были посвящены
воспеванию добродетелей Будды. Но в японской церемониальной тра-
диции исстари существовали японоязычные гимны, исполнявшиеся
при дворе и в синтоистских святилищах, обладавшие устойчивой
ритмикой и системой образов. Эти гимны ускорили появление третьего
вида буддийских славословий - васан (ЙгЙ), японских славословий,
которые в дальнейшем представляли самый мощный пласт буддий-
ской поэзии Японии. К разновидностям васан относятся стихотвор-
ные моления, проповеди, поучения, заповеди, заупокойные молитвы и
т. д., но главных разновидностей этого жанра три: сантанка
песни-славословия, кёгэ наставления и када (АюРЁ), гатхи. Все
они построены на чередовании пяти- и семисложных стихов, пере-
шедшем от танка, с мелодикой старинных придворных песен тока
(ЙЖ), исполнявшихся в такт танцу во время моления о счастье на
новогодних синтоистских представлениях.
В числе первых славословий называют дарственную песню, под-
несённую храму Тодайдзи на церемонии освящения статуи Большо-
го Будды в 852 г., «Славословие "Лотосовой сутре”» и «Славословие
Ста камням». По форме все они восходят к японскому поэтическому
жанру ездока.
* *
*
Начиная с VII в. два существенных фактора в японской культуре
выходят на передний план и оказывают определяющее влияние
на дальнейшее её развитие (его темпы и направление). Первый -
это письменность, второй - буддизм.
Был выработан особый способ передачи японского текста при
помощи иероглифики (манъёгана). Иероглифы при таком способе
написания употреблялись либо в функции фонетиков, либо исполь-
зовались как идеограммы. До сих пор среди специалистов (а изуче-
78
ние «Манъёсю» - отдельное направление в японском литературове-
дении) ведутся споры по поводу правильного чтения некоторых слов.
Манъёгана - заметный шаг к созданию японского слогового письма,
появившегося в следующем столетии.
Роль буддизма в развитии художественной словесности сказыва-
лась и в расширении мировоззренческого содержания последней, и в
композиционном усложнении произведений, и в появлении в литера-
туре новых жанров. Основные памятники VIII в. - «Кодзики», «Ни-
хонги», фудоки, «Манъёсю» - многими поколениями японских мыс-
лителей рассматривались как средоточие исконной традиции. В та-
ком подходе таятся по меньшей мере две принципиальные ошибки.
Первая - это абсолютизация традиции, вторая - преувеличение сте-
пени самобытности самих памятников. «Традиция, - как справедли-
во отмечал Роберт Вейман, - не может быть ни чисто историческим,
ни чисто современным литературным явлением; она охватывает и
то и другое, устанавливая взаимосвязи между произведением как
фактом истории и его воздействием на современного читателя, меж-
ду полученным нами по традиции результатом творчества прошлых
эпох ("образцом") и его живой литературной переработкой в совре-
менном мире» [Вейман, 1975, с. 48].
Памятники VIII в. не были началом существования художествен-
ного слова древних японцев. Им предшествовала многовековая тра-
диция устного бытования мифов, архаичного фольклора, культовой,
обрядовой и авторской поэзии. Оценка этих памятников менялась в
зависимости от культурных характеристик последующих эпох. Из-
менялся и сам культурный комплекс.
Проблему самобытности этих памятников нельзя сводить к од-
ним только сюжетам. Мы пытались показать разные её аспекты,
обосновать перспективность дальнейшего её исследования.
На рубеже VIII и IX столетий наступил новый этап в развитии
всей художественной культуры Японии, в том числе - литературы.
Глава II
Литература раннего
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (IX-XII ВВ.)
Новый этап
в истории общества и в литературе
Далеко не всегда эпохи в развитии государства и общества укла-
дываются в те же хронологические рамки, что и эпохи в развитии
культуры и литературы.
В японской историографии IX—XII века называют эпохой «сред-
ней древности» (ФЙ-, тюко) или эпохой Хэйан, по названию города,
построенного в 794 г. в качестве столицы государства - по специаль-
ному плану, в соответствии с законами, которым столичный город
должен был по тогдашним китайским представлениям соответство-
вать (топографические особенности местности в согласии с нормами
фусуй, выбор «благоприятного дня» и расположение небесных све-
тил при его закладке и др.).
Эпоха Хэйан была временем небывалого культурного взлёта. В
развитии общества это второй этап раннего средневековья, в разви-
тии же литературы - эпоха перехода от древнего этапа к средне-
вековому: художественное сознание отреагировало на новое состо-
яние общества лишь тогда, когда оно уже накопило средства это новое
состояние адекватно выразить.
Одной из причин перенесения столицы на новое место было стрем-
ление властей избавиться от настойчивых попыток вмешательства
высшего буддийского духовенства в дела государственного управ-
ления. Город Нара сосредоточил в своих границах много семей ро-
довой аристократии, чиновничества, ремесленников, слуг, священ-
нослужителей. В столице функционировало 48 буддийских храмов.
Историки указывают число столичных жителей того времени - 200
тысяч человек (правда, это число, видимо, значительно завышено).
Чем более централизовалась государственная власть, тем замет-
нее сужался круг аристократических семейств, представители кото-
80
рых сохраняли возможность занимать высшие государственные пос-
ты. Практически единственной социальной сферой, обеспечивавшей
возможность вертикальной динамики своих членов, была буддий-
ская община. Один из её представителей, Югэ-но Доке (ум. 773 г.),
предпринял серьёзную попытку узурпировать государственную власть
(о нём см.: [Мещеряков, 1988, с. 75-98]).
В начале IX в. фактическая власть в государстве перешла к роду
Татибана, а с середины IX в. - к регентскому дому рода Фудзивара,
Сэкканкэ. В 858 г. при малолетнем императоре Сэйва (850-880) пост
регента (сэссё) занял его дед с материнской стороны Фудзивара-но Ёси-
фуса (804-872), который закрепил свою власть, женив в 868 г. им-
ператора на одной из своих младших дочерей и сделавшись сначала
тестем императора, а впоследствии и дедом царствующего Сэйва-
тэнно. Племянник Ёсифуса, Фудзивара-но Мотоцунэ (836-891), в 882 г.
объединил в своих руках посты регента при малолетнем императоре
и канцлера (кампаку) и положил начало господству регентского
дома рода Фудзивара, продолжавшемуся до середины XII в.
По материнской линии японские императоры в эту эпоху принад-
лежали только к этому дому, что при сохранении в японском обще-
стве многих матриархальных традиций удерживало их во власти ав-
торитета старейшин рода Фудзивара.
К западу от Нара, в долине Ямасиро с её «фиолетовыми горами и
светлыми водами», где выстроились строгие кварталы Столицы Ми-
ра и Спокойствия, на протяжении раннего средневековья было пред-
принято несколько попыток отстранить от власти Регентский дом
Фудзивара. В 935 г. поднял восстание и в 939 г. объявил себя «новым
императором Тайра» (Хэй-синно28) крупный феодал, представитель
одной из боковых ветвей императорского дома Тайра-но Масакадо
(7-940), а во Внутреннем Японском море (Сэто Найкай) и в районе
Санъё открыл военные действия против центрального правительст-
ва единомышленник Масакадо Фудзивара-но Сумитомо (7-941). Мя-
теж был подавлен, его зачинщики казнены, а головы их отправлены
в столицу.
Через некоторое время другую форму приняло недовольство ре-
гентами у самих императоров. В 1087 г. император Сиракава (1053—
1129), отказавшись от престола в пользу своего восьмилетнего сына
Хорикава (1079-1107), оставил дела реального управления государ-
ством в своих руках и в ранге экс-императора (Рл, ин) продолжал ос-
таваться у власти ещё более сорока лет, содержа собственный штат
чиновников и телохранителей. Экономическим оправданием такой
системы управления (впоследствии она была названа инсэй, -
правлением экс-императоров) служила деятельность правящего экс-
императора по укреплению поместного землевладения на принадле-
28 «Хэй» - японизированное китайское чтение иероглифа Ч2, которым пишется
фамилия Тайра.
81
жавших императорскому дому землях. Система инсэй продолжала
функционировать и после смерти Сиракава - стараниями его внука
Тоба и правнука Госиракава - до 1192 г. Её возникновение и дли-
тельное функционирование стало возможным благодаря ослабле-
нию Регентского дома, но власть этого дома она заменила не по всем
параметрам.
Силы, противостоявшие роду Фудзивара, к середине XII в. груп-
пировались вокруг соперничавших между собою домов Тайра и Ми-
намото - двух боковых ветвей императорского дома, превративших-
ся в провинциальных земельных магнатов с сильными военными дру-
жинами. После вооружённых столкновений 1156 г. («смута годов
Хогэн») и 1159-1160 гг. («смута годов Хэйдзи») единоличную власть
в Японии захватил глава первого из этих домов Тайра-но Киёмори
(1118-1181), назначивший шестьдесят своих родственников на выс-
шие посты в столице и провинциях. В 1171 г. он выдал свою пятнад-
цатилетнюю дочь Токуко (1155-1213) замуж за одиннадцатилетнего
обладателя престола Такакура (1169-1180). Через семь лет у импе-
ратора Такакура и Токуко родился сын, которого в 1180 г., в двух-
летнем возрасте, возвели на престол под именем императора Антоку.
Таким образом Тайра-но Киёмори стал дедом царствующего импе-
ратора и достиг зенита власти.
Однако в том же 1180 г. против Тайра выступил во главе саму-
раев-дружинников из северо-восточных районов о. Хонсю Ёритомо
(1147-1199), глава дома Минамото. Междоусобная война продолжа-
лась до 1185 г. и завершилась полной победой Минамото, учрежде-
нием новой формы управления государством (1192 г. - провозгла-
шение так называемого сёгуната, военно-феодального управления с
соответствующей административной структурой при сохранении за
императорским двором религиозно-церемониальных функций), рас-
пространением ленной системы землевладения на большинство рай-
онов Японии, выходом на политическую, хозяйственную и культур-
ную арену воинского сословия (самураев) и новыми явлениями в об-
ласти идеологии, культуры и литературы. В Японии наступила эпо-
ха развитого средневековья.
Нарушение принципа регулярного перераспределения земельных
наделов приводило к тому, что целые поколения крестьян рожда-
лись и жили без подушных наделов, а обладатели наделов начинали
рассматривать их как частные земельные владения. То же происхо-
дило с должностными и ранговыми наделами: в условиях наследо-
вания многих высших должностей представителями ограниченного
круга придворных отдельные наделы оставались во владении одной
и той же семьи на протяжении жизни нескольких поколений. По
закону такие наделы не освобождались от обложения налогами. Из
налоговых списков исключались земли, отданные буддийским хра-
мам (^Fffl, дзидэн) и синтоистским святилищам (W HI, синдэн). Наи-
большего распространения и структурной сложности поместное зем-
левладение достигло в XI—XII вв. Развитие крупных поместий при-
82
вело к разделению труда в них, выделению ремёсел и возникнове-
нию ранних феодальных городов.
Социальной опорой сёгуната были самураи, воинское сословие,
возникновение которого относят к VIII в. В 762 г. в четырёх япон-
ских провинциях были созданы вооруженные отряды из сыновей
местных воинов и состоятельных крестьян для выполнения полицей-
ских функций. В 792 г. эта практика, получившая наименование сис-
темы кондэй (t^i?.), распространилась на всю страну. Со временем
отряды самураев стали использоваться в личных целях владельцами
поместий и вождями крупных феодальных домов. Между феода-
лами и их дружинниками устанавливались псевдородственные отно-
шения, предполагавшие взаимные обязанности вассала и сюзерена.
Минамото-но Ёритомо назвал своих непосредственных вассалов го-
кэнин(МК, члены дома сюзерена). В качестве вознаграждения за
службу он наделял своих самураев земельными владениями. Благо-
даря этому в XIII в. в Японии завершилось формирование ленных
отношений.
Государственная структура в эпоху раннего средневековья идео-
логически базировалась на конфуцианстве. В системе образования и
придворном обиходе большое значение придавалось знанию конфу-
цианской классики, «Исторических записок» Сыма Цяня, «Истории
Ранней Хань» и «Литературного изборника». Эти книги широко ис-
пользовались даже в японском придворном ритуале. В год переноса
столицы в Хэйанкё (794 г.) было принято официальное решение, со-
гласно которому преимущественное право занимать высокие посты
в государстве получали молодые аристократы, успешно сдавшие
выпускные экзамены в «университете» дайгаку), где упор
делался на изучение конфуцианской классики и истории.
Некоторая предубеждённость к влиянию буддийских центров про-
должала ощущаться при дворе и в начале IX столетия, когда конфу-
цианские этические нормы (в первую очередь - положение о долге
подданного по отношению к сюзерену) нередко прокламировались в
пику притязаниям высших буддийских священнослужителей на при-
вилегированное положение в государстве. «Аристократы, - отмеча-
ет Дж. Китагава, - стали возмущаться тем фактом, что некоторые
простолюдины претендовали на то, что они являются отпрысками
древней знати. Что касается придворных рангов, то, несмотря на усилия
ранних реформаторов присуждать их людям соответственно их за-
слугам и способностям, в действительности во внимание принима-
лись только потомки влиятельных аристократических семейств, так
что происхождение и придворный ранг служили дополнением друг к
другу. Тех, у кого был придворный ранг, кроме того, жаловали раз-
ного рода экономическими привилегиями. Они получали землю, шёлк,
хлопок, лошадей, экипажи и слуг в соответствии с их постами. Они
также освобождались от определённых налогов, а наказания за пре-
ступления для них были легче. Кроме того, дети людей высшего ранга
по достижении возраста в 21 год освобождались от государственных
экзаменов и получали соответсгвуюпще ранги» [Китагава, 1966, с. 55-56].
83
Недоверие к нарским буддийским центрам побудило хэйанскую
администрацию поддержать новые направления в японском буддиз-
ме, находившиеся в конфронтации к этим центрам. Одно из таких
направлений, тэндай, возглавил Сайте (767-822), известный также
по посмертному буддийскому имени как Дэнгё-дайси (Великий На-
ставник, Распространяющий Учение).
Он построил небольшой монастырь на горе Хиэй, вблизи кото-
рой несколько лет спустя была заложена новая столица. Император
Камму оказал этому монастырю милостивое внимание и вскоре при-
своил ему титул «Главное местонахождение религии для обеспече-
ния защиты государства». Тем самым сакральная защита государ-
ства признавалась за новым направлением буддизма, взявшим за об-
разец для себя доктрины китайской школы тяньтайс их опорой на
«Лотосовую сутру» и включившим в практику разного рода закли-
нания, молитвы, созерцание и возглашение имени будды Амитабха
(ИЙ'Р'Ё, яп. Амида).
«Лотосовая сутра» («Хоккэкё») или «Сутра цветка Лотоса Благо-
го Закона» «Мёхо Рэнгэкё», санскр. «Саддхармапунда-
рика-сутра») в Японии была известна в китайском переводе Кума-
радживы (344-413), выполненном в 406 г. Кумараджива был выход-
цем из Куча, важного торгового центра в Центральной Азии, но
большую часть жизни провёл в Китае. «Лотосовая сутра» считается
изложением последней серии проповедей, произнесённых Буддой
Шакьямуни перед его погружением в нирвану. Многие школы буд-
дизма почитают её как символ их веры, средоточие сути буддий-
ского учения. В переводе Кумарадживы эта сутра состоит из 27 глав
(7 частей). Но Сайтё распространял в Японии дополненный её вари-
ант: основатель школы тяньтай Чжи-и (538-597) под №12 прибавил
к переводу Кумарадживы главу «Дэвадатга», доведя таким образом
общее количество глав до 28 (8 частей). Учение тэндай впервые в
истории японского буддизма стало базироваться не на комментариях к
сутре, а непосредственно на её тексте.
Побывав в 804-805 гг. в Китае «для поисков истины», Сайте
систематизировал учение тэндай, заявив, что всякому существу, не-
зависимо от его добродетелей, присуща изначальная природа Выс-
шего Просветлённого, реализовав которую можно самостоятельно
достичь степени совершенства будды.
Своим учением Сайтё приблизил буддийскую церковь к служе-
нию светской власти, несколько демократизировал идею «просвет-
лённости», объявив её всеобщей и неизбежной, и отделил своё на-
правление от практики старых нарских школ заявлением о том, что
исповеди и обеты «должно приносить не людям-властителям, а са-
мому Будде, т. е. своей собственной сокровенной душе и сущности»
[Анэсаки, 1963, с. 119],
Предками Сайтё были иммигранты из Китая, однако сам он упорно
подчёркивал свою любовь к «Великой Японии». Он «был первым,
кто употребил название Великая страна Восходящего Солнца» (см.:
84
[Буддизм, 1993, с. 125]). В монастыре Энрякудзи, который он осно-
вал на горе Хиэй, Сайтё различал три категории монахов, из кото-
рых нижнюю представляли обычные, рядовые монахи, а верхнюю
составляли, во-первых, обладающие даром слова и деяния, «сокро-
вища нации», которые должны оставаться на горе Хиэй и служить
своей стране религиозным подвижничеством; во-вторых, менее ода-
рённые, которые могут покинуть монастырь и служить стране в ка-
честве наставников, земледельцев и мастеров, радеющих за общее
благо. Основатель тэндай-буддизма изначально проповедовал идею
основания новой столицы и осуществления некоторых администра-
тивных реформ. Многие исследователи отмечают гибкость учения
Сайтё, которая способствовала превращению тэндай-буддизма в
крепкую политическую, экономическую, религиозную и даже воен-
ную организацию - особенно после X в. Тэндай-буддизм в значи-
тельной степени обозначил контуры духовного развития хэйанской
Японии.
Почти одновременно с тэндай стала развиваться ещё одна школа
хэйанского буддизма - сингон (истинное слово), основателем кото-
рого был Кукай (Кобо-дайси, 774-835), оставивший след во многих
областях японской культуры, включая литературу и стиховедение.
Кукай происходил из семьи провинциального чиновника, принад-
лежавшего к роду Отомо. В возрасте пятнадцати лет он был послан
в Нагаока, где тогда располагался императорский двор, для учёбы.
В столице юноша увлёкся вначале конфуцианскими доктринами,
затем даосизмом, а в конце - буддийской философией. Покинув сто-
лицу и получив буддийское посвящение, Кукай занимался отшельни-
ческой практикой в разных провинциях, в результате чего создал
трактат «Санго сиики» «Наставления в Трёх Учениях»,
797 г.).
Трактат был написан камбуном и построен в форме беседы
между представителями разных учений, распространенных в тогдаш-
ней Японии. Он начинается с того, что принц Токаку, последователь
конфуцианского учения, обеспокоенный поведением своего племян-
ника Сицуга, пригласил трёх мыслителей - конфуцианца Кимо, даоса
Кёбу и буддиста Камэй Коцудзи - изложить основы их учений. Ав-
тор подводит читателя к мысли о превосходстве над всеми другими
буддийского учения, охватывающего и конфуцианские доктрины
добра и зла, преданности низших вышестоящим и сыновней по-
чтительности, и даосские представления об отрешении от мирских
забот о достижении бессмертия. Стилистически это произведение
построено по образцу «Вэнь сюань» («Литературный изборник»),
составленного из прозаических и по-этических отрывков лянским
принцем Чжаомин-тайцзы (501-531). «Текст "Санго сиики" весьма
сложен, прежде всего из-за обилия ме-тафор и обширнейшего под-
текста. <...> Като Сэйсин в своём фундаментальном исследовании
"Санго сиики" подсчитал, что Кукай приводит цитаты и использует
имена персонажей из 400 китайских источников» [Буддизм, 1993,
с. 164]. Речь персонажей насыщена китайской ритмической прозой и
стихами в жанрах шин фу [Кониси, 1986, с. 36].
85
В 804 г., так же как и Сайте (в составе того же посольства, но на
другом судне), Кукай отправился на два года в Китай, где успешно
стал осваивать учение школы чжэньянь и обучаться санскриту. Воз-
вратившись на родину, он положил начало учению сингон (японско-
го варианта чжэньянь) и создал несколько религиозных трактатов и
множество стихотворений на буддийские темы, серию очерков по те-
ории китайской поэзии (всё на китайском языке) и множество кал-
лиграфических свитков. Один из учеников Кукая, священнослужи-
тель храма Такаояма по имени Синсэй, после смерти наставника со-
брал его стихотворения (канси), комментарии к сутрам, тексты мо-
лений, прозаические сочинения, надписи на камне, таблицы и т. д., и
составил десять томов «Собрания, выявляющего свойства души Хэн-
дзё» (Хэндзё Конго - Повсюду Сияющий Алмаз - псевдоним Кукая).
Другой его последователь, священнослужитель Сайсэн-содзу из хра-
ма Ниннадзи в 1079 г. составил три тома продолжения этого сбор-
ника.
Разносторонняя деятельность Кукая стимулировала развитие
многих аспектов японской культуры. Первостепенное значение име-
ла его теория комплексного влияния цвета, формы и звука на психо-
логию верующих. Она стимулировала развитие живописи мандала и
ритуальной музыки. Письменное наследие основателя сингон-буд-
дизма привнесло в японскую словесность идеи, образы и художест-
венные приёмы китайской и индийской словесности. «Когда я ви-
дел, - писал он, например, - лёгкие одежды и откормленных лоша-
дей, я тут же с грустью сознавал, что век их скоротечней вспышки
молнии. Когда я видел калеку или нищего, я не уставал потрясаться
неотвратимости воздаяния» (цит. по: [Мещеряков, 1988, с. 133]). В
первой из этих фраз заключён образ спесивого глупца, перенесён-
ный из китайской литературы (впоследствии он был использован
поэтом Фань Лу-гуном (911-964): «Откормленных коней укутав // В
покровы лёгкие из кожи, // Через селенья гордо проноситься...»).
Вторая фраза содержит намёк на легенду о прозрениях принца Сид-
дхартхи (будущего Будды Шакьямуни), встретившего во время сво-
их выездов из дворца сначала дряхлого старца, а потом тяжело
больного, покрытого струпьями и дрожащего в лихорадке нищего.
Эти встречи направили мысли принца к осознанию скоротечности
жизни, пониманию истины («Жизнь есть страдание») и неотврати-
мости воздаяния.
В 819-820 гг. Кукай написал свой самый значительный литера-
туроведческий труд, из которого потомки столетиями черпали идеи
и аргументы, - «Бункё хифурон» (jt^&JWSw), что можно перевести
как «Зерцало словесности - средоточие сокровенных записей» (о смыс-
ле названия см.: [НКБТ, 6, 1974, с. 316]). Трактат в шести свитках
представляет собой критический анализ стихов и прозы китайских
авторов эпох Лючао и Тан, классифицированных им по темам. Сна-
чала Кукай даёт объяснение сущности четырёх тонов литературно-
го китайского языка, затем рассуждает о гармонии звуков и о поэти-
86
ческих формах, анализирует «болезни стиха», то есть недостатки, ко-
торых следует избегать в поэзии. Каждое положение богато иллю-
стрируется примерами. Японские учёные считают, что другой такой
работы, соперничающей с трактатом Кукая по степени систематич-
ности классификации и глубине анализа изящной словесности, не
было создано не только в Японии, но и в Китае, что подобного ис-
следования нет и в западной науке от Горация до Б у ало [Като, 1975,
с. 107].
Учение сингон, буддийское в своей основе, впитало в себя мест-
ные культы народов, с которыми буддизм имел контакт по мере его
распространения на континенте, и вместе с этими культами - эле-
менты мировоззрений небуддийского происхождения. Каждый объ-
ект поклонения по-своему обозначался в скульптуре, в живописи, в
проповеди и письменном слове. Последователи Кукая приложили
много усилий и для интерпретации синтоистских представлений с
буддийских позиций. Ими была разработана концепция хондзи-суй-
дзяку - вариант буддийской концепции двух аспектов
существования вселенной, эмпирического и абсолютного. Абсолют-
ный аспект, трактовавшийся как первичный, получил название хон-
дзи, а эмпирический, объявленный производным, - суйдзяку. Всякое
синтоистское божество, ками, провозглашалось эмпирическим про-
явлением суйдзяку («проявленный след») будды или бодхисаттвы,
т. е. «изначальной сущности», хондзи. Возникла «концепция отожде-
ствления ками и будд» симбуцудотайсэцу), принявшая
законченные формы в санно синто (интерпретация тэндай-буддиз-
ма) или рёбу синто (интерпретация сингон-буддизма).
С 894 г. в танский Китай перестали направлять регулярные япон-
ские посольства; официальные контакты между двумя странами пре-
рвались на несколько столетий. Перерыв в официальных контактах
оказался весьма плодотворным для укрепления культурного само-
сознания японцев, выработки ими форм противостояния мощному и
разноплановому влиянию китайской цивилизации.
Среди японских буддистов, посетивших Китай перед наступлени-
ем этого неблагоприятного времени, нужно назвать Эннина (или Дзи-
каку-дайси, 794-864), прибывшего туда в 838 г. с посольством Фудзи-
вара Цунэцугу и проведшего в буддийских монастырях Китая девять
лет. Через несколько лет после возвращения на родину Эннин воз-
главил школу тэндай, написал 21 сочинение в 559 свитках, но глав-
ным его сочинением остался первый в японской литературе путевой
дневник «Нитто гухо дзюнрэй коки» «Описание
паломничества в страну Тан в поисках дхармы»), В четырёх свитках,
записанных камбуном, Эннин рассказывает о трудностях своего пу-
тешествия, о наблюдениях, сделанных им в пути и во время пребы-
вания в буддийских монастырях и храмах Китая и Кореи, храмовые
предания и легенды (вроде той, что связана с историей статуи бодхи-
саттвы Мондзю в монастыре на горе Утайшань), обратный путь на
корейском корабле вдоль берега Кореи, через Цусимский пролив,
87
вплоть до возвращения на родину, в залив Хаката, в 847 г. Особен-
ность стиля дневника Эннина - его сухость, отсутствие всякого
пристрастия к стилистическим украшениям, безразличие к тради-
циям ритмической прозы. В этом смысле дневник мало что мог дать
подражателям и заметного влияния на развитие японской прозы не
оказал, но он остаётся ценным источником по истории, этнографии и
состоянию буддизма в странах Дальнего Востока того времени.
Одним из самых важных шагов на пути развития культуры хэй-
анской Японии стало изобретение и распространение собственного
письма. Слоговая азбука, основанная на скорописных формах начер-
тания иероглифов, в которых использовался только фонетик (ЧЧй
%, хирагана), позволила записывать японские слова в их реальном
звучании, а японскую фразу - с соблюдением присущего ей порядка
слов, с указанием всех грамматических показателей. Такая система
письма появилась в IX столетии. Примерно в это же время была изо-
бретена и другая слоговая азбука, тоже основанная на иероглифике,
но использовавшая от целого идеографа один несложный элемент в
уставном его написании катакан^). Две системы слогового
письма в сочетании с иероглифами, которые употреблялись для пе-
редачи на письме корней слов, способствовали развитию такого свое-
образного явления, как графическая стилистика.
Расширился и круг грамотных людей в Японии. Заслугу в созда-
нии собственно японской письменности традиция приписывает Ку-
каю, хотя при этом - что, впрочем, вообще свойственно традиции -
не утруждает себя доказательствами.
Появление японского слогового письма привело к поразительно-
му результату: за первые же 100-150 пятьдесят лет было записано
несколько сот рассказов, повестей, легенд и дневников, тысячи сти-
хотворений на японском языке. Литература сделалась общим увле-
чением, героям популярных произведений стали подражать, рас-
пространились разного рода литературные игры и поэтические
состязания.
Культура хэйанской Японии была динамичной. Во многом это
объясняется её синкретизмом, тем, что ни у одной идеологической
системы не было монополии на проповедь. И общество в целом, и
каждый индивид в отдельности, отдавая предпочтение буддизму, при-
нимали и синто, и конфуцианство, и веру в тёмное и светлое начала
(инь-ян), и культ Полярной звезды, и веру в Небо, и другие автохтон-
ные или заимствованные из Китая, Индии или Центральной Азии
(косвенным путём) системы. Все они находились одна по отноше-
нию к другой в постоянном движении: то, что преобладало в конце
X в., становилось второстепенным к середине XI в. и т. д.
Создатели литературы в эту эпоху принадлежали главным обра-
зом к слою средней и низшей аристократии. Проф. Абэ Акио в своей
«Истории японской литературы» привёл статистику социальной при-
надлежности поэтов, сочинения которых включены в официальные
собрания стихотворений на японском и китайском языках, состав-
88
ленные в хэйанскую эпоху. Представителей высшего слоя аристо-
кратии он насчитал в этих собраниях 385 (95 членов императорской
семьи, 112 министров, 178 высших чиновников), чиновников 4 -го ранга
и ниже - 1353 (сюда же отнесены 179 человек, ранг которых не ус-
тановлен), буддийских монахов и монахинь - 195. Соотношение муж-
чин и женщин - примерно 2:1. Приблизительно та же картина полу-
чилась у проф. Абэ при анализе хэйанской прозы [Абэ, 1966, с. 29-30].
Основная группа всех авторов, почти половина общего их числа,
принадлежала к придворным чиновникам 4-го и 5-го рангов. Этот по-
казатель характеризует отличие творений раннесредневековых пи-
сателей и поэтов от творений древних по двум параметрам. Во-пер-
вых, практически сошли на нет записи народного творчества, во-вто-
рых, в хэйанскую эпоху стало формироваться некое подобие лите-
ратурного сословия, творчество представителей которого можно оп-
ределить как литературу чиновников. Она была ориентирована на ки-
тайскую учёность и свободное владение камбуном.
К началу эпохи Хэйан появился особый стиль японизированного
китайского языка, получивший название хэнтай камбун (^(М-ЙЗй.,
видоизменённое китайское письмо), со специальной разметкой текс-
та, позволяющей при чтении перестраивать фразу в соответствии с
законами японского синтаксиса и добавлять в неё японские грам-
матические форманты. Однако лучшие стилисты пользовались так
называемым белым письмом (Й^С, хакубун)- китайским текстом,
не содержащим никаких помет.
Поэзия канси.
Сугавара Митидзанэ
На первую половину IX в. приходится расцвет японской литера-
туры (поэзии и прозы) на китайском языке. Кавагути Хисао,
характеризуя поэзию канси IX в., писал: «Несколько позднее, чем
Татибана Хироми и Симада Тадаоми (высокопоставленные чинов-
ники, писавшие стихи по-китайски. - В. Г), появилось трио великих
поэтов, украсивших литературу чиновников конца IX века. Это [Су-
гавара] Митидзанэ, [Ки-но] Хасэо и [Миёси] Киёцура Благодаря им
литература чиновников второй половины IX века пришла к расцве-
ту и зрелости, свойственной золотому веку» [Кавагути, 1982, с. 190].
Почему такое заметное место в ранней словесности занимала эта
«литература чиновников»? Дело в том, что развитие письменной ли-
тературы на китайском языке продолжало поддерживаться влия-
тельной придворной бюрократией (всё делопроизводство, хроники,
89
научные сочинения записывались «истинным письмом», т. е. по-ки-
тайски), учёными-конфуцианцами, тоже занимавшими официальные
должности при дворе, и буддийскими проповедниками.
Начало IX в. ознаменовалось появлением трёх сборников стихо-
творений и прозы на китайском языке, где подражательство и уче-
нический характер подтверждались даже происхождением отдель-
ных их составляющих: в крупнейшей антологии этого времени «Кэй-
кокусю» (ЙВЖ, «Собрание [сочинений, полезных для] управления
страной», 827 г.) содержатся образцовые экзаменационные работы
хэйанских чиновников, написанные для получения очередного чина.
Сборник, составленный из 917 стихотворных и ста с лишним про-
заических сочинений 178 авторов (20 книг, из которых до нашего
времени сохранилось 6 книг с 210 стихотворениями), по объёму нам-
ного превышает две другие и отражает идею о том, что высокая
поэзия сама по себе помогает управлять государством. Реальной
художественной ценности ни один из сборников этого времени не
имеет.
Японские сочинители к этому времени достаточно хорошо вла-
дели китайским языком, чтобы разнообразить темы своих стихотво-
рений и прозаических опусов, но в основной массе - недостаточно
хорошо для того, чтобы их творения называть художественным твор-
чеством в полном смысле этого слова.
Исключение составляли, пожалуй, Кукай и император Сага (786-
842), основные авторы во всех трёх собраниях китайской поэзии и
прозы, появившихся в начале IX в. В конце того же века на перед-
ний план в этом виде литературного творчества вышел Сугавара
Митидзанэ (845-903).
С личностью Митидзанэ связано много преданий, легенд и пове-
рий. Его культу посвящены синтоистские святилища (он деифициро-
ван под именем Тэмман-тэндзин). Сугавара Митидзанэ был круп-
ным государственным деятелем и литератором, оставившим после
себя почти 700 стихотворений и прозаических сочинений, писавшим
и по-китайски, и по-японски.
Род Сугавара возводил своё происхождение к первопредку, рож-
дённому в знаменитом состязянии между богиней Аматэрасу и богом
Суса-но-о, а затем, под именем Амэ-но-хохи-но микото, посланному
небесными богами в страну Идзумо, чтобы подчинить её племени
сынов Неба (он был первым посланцем небесных богов и с миссией
своей не справился). Первоначально род предков Митидзанэ назы-
вался Хадзи и специализировался на изготовлении глиняных фигу-
рок-жертвоприношений ханива, которые в древности было принято
закапывать в курганные погребения. В родовых преданиях масте-
ром, начавшим изготавливать такие фигурки, числится четырнадца-
тый потомок бога Амэ-но-хохи-но микото, Номи-но сукунэ, который
считается заодно и первым в истории борцом сумо [Нобусада, 1978,
с. 35; Кавагути, 1966, с. 25].
В связи с синтоисткими представлениями об осквернении смер-
тью и распространением осквернения на потомственных исполни-
90
телей похоронных ритуалов, прадед Митидзанэ, Хадзи-но Фурундо
(Кодзин) сукунэ, в 781 г. добился монаршего позволения сменить
фамилию Хадзи на Сугавара - по названию селения в провинции
Ямато, где он проживал, - тем более, что старинный похоронный
обряд ушёл в прошлое и спрос на изделия традиционного промысла
рода Хадзи прекратился.
Фурундо к тому времени был известен своей учёностью и вскоре
получил назначение на должность наставника императора Камму
(на троне - 782-805). Четверо сыновей Сугавара Фурундо стали вид-
ными учёными-конфуцианцами. В 804 г. на том же корабле, что и
знаменитый Сайтё, Сугавара Киёкими (770-842), четвёртый сын
Фурундо, в качестве чиновника японского посольства отправился в
танский Китай и провёл там год. Это помогло ему впоследствии ус-
пешно заниматься составлением сборников поэзии канси, стать зна-
током придворных церемоний и автором нескольких учёных сочи-
нений. Как знатоку китайской книжности и наставнику молодёжи
Киёкими было пожаловано звание «доктор словесности»
мондзё хакаса}. В 838 г., когда в Китай отправлялся Эннин, один из
посольских кораблей возглавлял третий сын Киёкими, Сугавара
Ёсинуси.
Звание «доктор словесности» имел также отец Сугавара Мити-
дзанэ, Корэёси (812-880), который был главой Дайгакурё (Ведомст-
во образования), правительственным советником и известным учё-
ным. Китайские стихи Корэёси вошли в несколько сборников. Мать
будущего поэта происходила из старинного рода Томо (прежнего
Отомо), давшего японской литературе многих знаменитых поэтов.
Сам Митидзанэ, как это было принято в семьях его круга, рано при-
страстился к наукам. Семейные предания утверждают, что в четыре
года он начал читать по-китайски, в семь лет стал сочинять стихи на
китайском языке, а в одиннадцать был отдан для обучения калли-
графии и стихосложению другу отца, поэту и учёному Симада Тадао-
ми, на дочери которого, Нобукико, бывшей моложе его на пять лет,
он женился в пятнадцатилетием возрасте, после того как над ним
была совершена церемония инициации (тогда он и распрощался со
своим детским именем Амаро) [Кавагути, 1966, с. 27].
В том же пятнадцатилетием возрасте Митидзанэ «сломал ветку
лунного лавра», т. е. сдал первый экзамен на должность. По китай-
ской традиции успешно сдать экзамены и в результате занять жела-
емую должность называлось «преодолеть Драконовы ворота». Мать
Митидзанэ, ревностно следившая за всеми его успехами, после экза-
мена подарила сыну своё стихотворение, желая, «чтобы он был изо-
билием счастья» для их семьи. Он же был особенно благодарен за
успехи своему тестю и наставнику, который на многие годы стал его
близким другом. В 891 г. в стихотворении на смерть Симада Тадаоми
Митидзанэ писал:
91
Не о тебе я столь много печалюсь, печалюсь о себе;
Не тот, кто умер, плачет в одиночестве,
одинок тот, кто остался.
(«Канкэ бунсо»)
В 863 г., в возрасте восемнадцати лет, Митидзанэ окончил «уни-
верситет» по разряду прозы, поэзии и истории, получив низший 6-й
ранг, а в 871 г. сдал специальный экзамен, дающий право на занятие
государственной должности. Старшим экзаменатором был Мияко-
но Ёсика (848-879). Вопросов было два: «Объяснить значение по-
нятия сидзоку (клан)» и «Причина землетрясений» [Канкэ бунсо,
1966, с. 549-552]. Его письменный ответ на китайском языке полу-
чил оценку «высшая средняя», что давало Митидзанэ право на повы-
шение в ранге на три ступени. Это означало получение 5-го при-
дворного ранга, т. е. приравнивание к молодёжи из самых привиле-
гированных семей. Такой резкий скачок вверх представлялся опас-
ным, и Сугавара Митидзанэ изъявил желание продвинуться в чине
всего на один ранг и весной 872 г. стал младшим писцом в Ведомстве
переписки (5;SiS, Мондзёдо), одном из отделов Ведомства об-
разования, с обязанностью составлять черновики императорских писем.
Официальная карьера Сугавара Митидзанэ с этой поры развива-
лась ускоренными темпами, так что скоро он стал не только докто-
ром словесности (это было нормально для чиновника его ведомства),
но и обладателем всё новых и новых, более высоких государствен-
ных постов и в 897 г., в возрасте пятидесяти двух лет, занял при бла-
госклонной поддержке императора Уда пост Правого министра, а в
901 г. - 2-й придворный ранг, выше которого располагались только
принцы крови Первого ранга.
К тому времени Митидзанэ прославился своими лекциями по ки-
тайским историческим текстам, предисловием к трактату Эннина,
трудами по истории Японии: участвовал в составлении последней из
Шести отечественных историй «Сандай дзицуроку» «Ис-
тинные записи о трёх эрах правления») и написал предисловие к пя-
той, «Нихон Монтоку-тэнно дзицуроку» (В «Ис-
тинные записи [о правлении] императора Японии Монтоку»). Не-
верно думать, что небывало быстрой карьерой Сугавара Митидзанэ
был обязан только собственному таланту и его справедливой оценке
со стороны двора. Будь всё так просто, было бы непонятно, почему
его отец тревожился по поводу официальных успехов Митидзанэ. В
IX столетии реальная административная власть в Японии уже кон-
тролировалась родом Фудзивара. Другие представители старинной
родовой аристократии были оттеснены на вторые роли ещё в пре-
дыдущем столетии. Но это не значит, что в императорском окру-
жении все смирились с таким положением дел. Род Сугавара, воз-
главляя главное учебное заведение страны, на протяжении жизни
трёх поколений стоял у истоков формирования бюрократической
элиты государства и снабжал своими учениками и сторонниками
средний административный аппарат. Многие столичные чиновники
92
были выходцами из частной конфуцианской школы Сугавара Ко-
рэёси. При возросшем недовольстве бесцеремонностью Фудзивара
многие их противники возлагали большие надежды на младшего
представителя рода Сугавара. Летом 883 г. по рукам в столице стало
ходить анонимное стихотворение, резко критикующее 75-летнего
министра Фудзивара-но Фуюо. Стихотворение было написано по-ки-
тайски, молва приписывала авторство Сугавара Митидзанэ. Так или
иначе, Митидзанэ оказался вовлечён в политическую борьбу. В 886 г.
его освободили от обязанностей в столичных ведомствах и напра-
вили исполнять должность губернатора в провинцию Сануки, на
о. Сикоку.
Можно по-разному оценивать причины усиления критических
мотивов в гражданской лирике Сугавара Митидзанэ в этот период.
Здесь могла сказаться общая ориентация китайской поэзии или в
большей мере отразились его политические взгляды и конфуциан-
ские общественные идеалы, которые поэт проповедовал своим учени-
кам. В стихотворении «На дороге я встретил седовласого старца»,
написанном на следующий год после назначения его губернатором в
Сануки, Митидзанэ писал:
В конце годов Дзёган-начале Ганге 29
В управлении не было ни милосердия, ни любви,
в законах было много несправедливости.
Хоть и бедствовали мы от засухи,
не докладывалось о том верхам;
Хоть и умирали от моровых поветрий,
никто нам не сострадал и не жалел нас.
Более сорока тысяч жилищ
заросли колючками и шиповником,
В одиннадцати уездах не поднимался дым от очагов...
(«Канкэ бунсо», 3)
Заметим, что в этом стихотворении поэт противопоставляет друг
другу двух губернаторов провинции Сануки, отмечая, что о народ-
ных бедствиях «не докладывалось верхам», но он же датирует эти
бедствия девизами правления императоров Сэйва и Ёдзэй. Первый
из них был возведён на престол в возрасте девяти лет, а управление
страной от его имени осуществлял его дед Фудзивара-но Ёсифуса (804-
872) - сначала как регент, а затем как канцлер. Когда императору
исполнилось восемнадцать лет, Ёсифуса женил его на одной из сво-
их дочерей (она приходилась мужу и женой, и тёткой по матери),
ещё больше укрепив свои позиции на вершине власти. Император
Ёдзэй был старшим сыном Сэйва, внуком (а также правнуком) Ёси-
фуса. Он занял престол в десятилетнем возрасте. Регентом и канц-
лером при нём состоял племянник и приёмный сын Ёсифуса, Фудзи-
вара-но Мотоцунэ (836-891), который одного за другим сменил не-
скольких императоров на престоле.
29
Дзёган (859-876) — девиз правления императора Сэйва, Ганге (877—884) — де-
виз правления императора Ёдзэй.
93
Специалисты усматривают в стихотворении «На дороге я встре-
тил седовласого старца» подражание «Новым юэфу» Бо Цзюй-и; но
самое примечательное то, что Митидзанэ описывает в нём действи-
тельную обстановку в японской провинции Сануки.
То же можно сказать и о серии из десяти стихотворений под об-
щим названием «К кому это холод так, рано пришёл?». Они написа-
ны по-китайски на одну рифму и начинаются одной и той же стро-
фой. Вот, например, второе восьмистишие этой серии:
К кому это холод так рано пришёл?
К беглому рано пришёл этот холод.
Убегая, он думал бежать от тяжёлых налогов -
Здесь его снова внесли в списки, добавили выплаты.
Длиною в три сяку одежда из кожи оленя совсем износилась,
Бедна его хижина, тесная, как ракушка улитки.
У него за спиною ребёнок, он за руку держит жену,
Опять и опять он идёт на дорогу просить подаянья.
Последнее восьмистишие серии:
К кому это холод так рано пришёл?
Он рано пришёл к рыбаку.
Земля больше не приносит ему добра.
В лодчонке своей он в одиночестве старится.
Осторожно тянет свою бечеву, как бы она не порвалась,
Разбрасывает он приманку, но бедным быть не перестаёт.
Надеясь пойманной мелочью рассчитаться с налогами,
Снова и снова изучает он ветер и небо.
Государственная служба нелегко давалась Митидзанэ. Ни в од-
ном танка за всю историю японской литературы не было и намёков
на такие обстоятельства, какие прямо отражает в своих канси Суга-
вара-но Митидзанэ. Като Сюити отмечал, что недаром «в одном из
своих стихотворений поэт утверждал, будто даже следы от коровьих
копыт были для него рядами рытвин, а в другом писал, что, видимо,
упадёт на улице мёртвым, прежде чем государство достигнет идеа-
лов» [Като, 1975, с. 117].
Поэт оказался провидцем. Ему не простили прямоты суждений и
опасно головокружительной карьеры. Покровитель Митидзанэ, им-
ператор Уда (869-931) принял постриг, его место занял его сын Дай-
го. Позади у поэта была служба в провинции и при дворе, назначе-
ние послом в Китай (894 г.), в нецелесообразности которого, как и в
нецелесообразности поддержания дипломатических отношений с
империей, переживавшей смутные времена, он убедил двор. Через
восемнадцать дней после присвоения Сугавара Митидзанэ 2-го ранга
он был разжалован по обвинению в государственной измене, разлу-
чен с семьёй (при этом почти всех его детей выслали из столицы в
разные районы страны) и сослан на о. Кюсю, в Дадзайфу. Ему было
предписано взять с собой только двух малолетних сыновей, которые
один за другим вскоре умерли. Считается, что все документы, ка-
94
сающиеся этой трагической истории, были сожжены по указанию
нового императора. Предание же гласит, что экс-император Уда,
узнав об обвинении Митидзанэ, пришёл ко двору просить Дайго за
своего любимца, но сын не пожелал его выслушать, заявив, что пос-
ле того, как суверен уступил трон преемнику, он не должен более
говорить о государственных делах.
В Дадзайфу опальному поэту предоставили полуразвалившееся
здание, в котором в старину останавливались иноземные посольства.
От недоедания и холода он заболел цингой, бери-бери и другими бо-
лезнями. Тяжёлой была для него разлука с женой и старшими деть-
ми, непереносимой смерть младших сыновей. Через два года после
начала ссылки, в 903 г. Сугавара Митидзанэ умер. Смерть наступила
в 25-й день 2-й луны по лунному календарю. А за 11 дней до того из
столицы к нему прибыл гонец, чтобы уведомить: в 25-й день 12-й
луны прошлого года там умерла его жена.
В сборнике «Канкэ косо» (ТеГ^^Ж, «Последующие заметки дома
Сугавара» или «Канкэ коею», «Последующее собрание дома
Сугавара») помещены стихи Митидзанэ последних лет жизни. Вот
что написал Митидзанэ, получив в 902 г. письмо от своей жены:
Три с лишним томительных месяца - без новостей,
Ныне же благоприятный ветер принёс мне письмо:
Кто-то сломал и утащил дерево от западных ворот,
В северном саду остановились ночевать странники.
В бумагу завёрнут имбирь, а помечено: «Лекарство».
В сосуд из бамбука вложена морская капуста,
написано: «Для поста».
Ничего не сказано о том, как жена и дети
страдают от голода и стужи.
От этого горюю я ещё больше, а ведь она
не хотела тревожить меня.
На творчестве этого выдающегося поэта можно наглядно просле-
дить судьбы гражданской лирики в японской поэзии раннего средне-
вековья, трансформацию идей и тем выдающихся китайских поэтов
той эпохи в японской литературе на китайском языке, в первую оче-
редь Бо Цзюй-и (772-846), популярность которого в литературных
кругах Японии была необыкновенно высокой (см.: [Конрад, 1966,
с. 349-352]).
После смерти Сугавара Митидзанэ осталось 514 его стихотворе-
ний на китайском языке. Кроме упомянутого сборника «Канкэ ко-
со» (903 г.) они составили первые шесть из двенадцати книг сбор-
ника «Канкэ бунсо» (1?ЖЗ£Ж, «Литературные наброски дома Суга-
вара», 900 г.). Многие из них написаны в форме восьмистрофных
люйши и четырёхстрофных цзюэцзюй, популярных в Китае того
времени, но немало стихотворений создано также в жанре гуши. По-
следние шесть книг «Канкэ бунсо» занимает ритмическая проза и
разного рода официальные документы, составленные Митидзанэ.
95
Его стихи на японском языке вошли в «императорские»30 антологии
«Сандайсю» «Антология стихотворений за три эры правле-
ния»), «Син Кокинсю» «Новая Кокинсю») и другие. Тема-
тика и художественные особенности его стихотворений на разных
языках различаются коренным образом, являя этим различие по-
этических традиций канси п вака.
Неверно было бы считать, будто канси Сугавара Митидзанэ це-
ликом посвящены социальным проблемам и имеют критическую на-
правленность. Многие стихотворения, вошедшие в сборник «Канкэ
бунсо», написаны в официальной обстановке, на заданную тему. «Бам-
бук», «Сосна», «Веер», «Старые камни» и другие его стихотворения
представляют собой образцы лирической поэзии. Интересна его ин-
терпретация традиционного для китайской поэзии мотива воспева-
ния вина.
В начале 866 г. Высший Государственный совет Японии (Дай-
дзёкан) выпустил указ, запрещающий пить вино в больших компа-
ниях. В тесных компаниях угощения дозволялись только со специ-
ального разрешения. Предлогом для издания этого указа были учас-
тившиеся драки среди придворных чиновников. Четверостишие «Про-
ходя на исходе зимы по особняку Фуми[я], наслаждаюсь ранними
цветами сливы в саду» предваряется пространным вступлением,
назначение которого - ввести читателя в ситуацию:
«Недавно двор издал закон, запретив пить сакэ. После того, как
закон вышел, нарушителей нет. А раз нельзя позвать старых знако-
мых или найти утешение в кругу близких друзей, я не могу выпить
чашечку сакэ и отдать должное сложению стихов. Старые знако-
мые - не обязательно близкие друзья, а близкие друзья - не обяза-
тельно старые знакомые. Тот, кто соединяет в себе то и другое, оби-
тает в особняке Фуми[я]. Моя компания, человек пять-шесть при-
шли как раз, когда у обитателя особняка был отдых, так что мы
смогли немного насладиться стихами и сакэ. Посчитав, как шагает
год, мы поняли, что жестокая зима уже завершается; осмотрев по-
садки в саду, обнаружили цветущие сливы.
Время, которое ожидаешь и которое приходит с трудом, нельзя
не ценить. То, что легко гибнет, нельзя не любить. И уже собрав-
шись компанией старых знакомых, разве не напишем мы о ранних
цветах на благоухающих деревьях? Тем, кто связан с нашими ста-
рыми знакомыми, мы этим самым дадим знать об учении Конфуция.
Чем начинается и чем заканчивается год приходящий?
Взгляни! Это ранние сливы зимою.
Их много уже. Друг друга участьем они согревают.
Оттого что старые знакомые сдвинули бокалы».
(«Канкэ бунсо», 1)
30 «Императорскими» называют поэтические антологии, составленные специаль-
ной редколлегией по распоряжению императора.
96
Такого рода прозаические вступления к стихам оказались весьма
продуктивными в литературе на японском языке. Об этом мы будем
иметь случай говорить в другом месте. Здесь же нужно упомянуть
ещё одну черту Митидзанэ; при всей своей конфуцианской образо-
ванности он показал себя ревностным буддистом. Об этом говорят
не банальные буддийские образы эфемерности сущего или неотвра-
тимости кармы, а стихи, отражающие действительную судьбу поэта
и его поиски милосердия, религиозной защиты;
Болезнь приближает упадок и старость,
Жизнь в изгнанье влечёт за собою печаль.
И негде укрыться от последней беды
Взывайте ещё раз к богине Каннон милосердной
(«Канкэ косо»)
В первую же четверть IX в. в Японии появилось три антологии
стихотворений на китайском языке: около 814 г. - «Рёунсю» («Рёун
синею» «Новое собрание, преодолевающее облака»), куда
вошло 91 стихотворение двадцати четырёх поэтов, которые были
написаны в 782-814 гг.; в 818 г. - «Бунка сюрэйсю»
«Изящное собрание образцов блестящего литературного стиля»),
включившее в себя 148 стихотворений в трёх книгах, где представ-
лено двадцать восемь поэтов того времени (к нашему времени со-
хранилось 143 стихотворения этой антологии) и в 827 г. - «Кэй-
кокусю». По сравнению с антологией «Кайфусо» в них заметно воз-
рос профессиональный уровень стихотворений, но на фоне твор-
чества Сугавара Митидзанэ они выглядят как ученические упраж-
нения рядом с мастерскими образцами.
В начале эпохи Хэйан поэзию канси представляли люди, образо-
ванные конфуциански, начитанные в китайской поэзии того време-
ни и проникнутые буддийским мировоззрением (при дворе наиболь-
шим влиянием пользовался сингон-буддизм). Стихи Митидзанэ -
вершина, которой достигло творчество поэтов этого круга.
Сборники буддийских сэцува
Художественное сознание допускает одновременное существо-
вание в литературе одной эпохи стадиально разнородных струк-
тур. В результате, в зависимисти от ситуации (сфера бытования,
ассоциативные связи, форма проявления), одна и та же социальная сре-
да демонстрирует взаимоисключающие отношения к миру. Старое
сознание сосуществует с новым, влияя на него и само несколько ви-
доизменяясь под его влиянием.
4 Зак 3732
97
Мифологические сюжеты о браках героев с богами, принявшими
облик животных, птиц, волшебных предметов и т. д., отражали пер-
вобытный анимизм. Появившись в глубокой древности, такие сюже-
ты продолжали существовать тысячелетия в форме мифов, сказок,
драматических представлений. В средневековом японском фолькло-
ре бытовали сюжеты, которые не моглд зародиться в древности, по-
тому что отражали более поздние реалии. К их числу относится,
скажем, «мотив Золушки», сюжеты о несчастной падчерице и злой
мачехе, не имевшие основы в реальной жизни древних японцев, где
между супругами были распространены визитные отношения, а дети
жили не с отцом, а с матерью и родственниками по материнской ли-
нии.
Не могли в сознании древних японцев утвердиться и многие буд-
дийские представления, такие, к примеру, как представление о дур-
ной карме, которая привела человека к новому рождению в облике
животного: иной была иерархия социума. Если для буддиста «мир жи-
вотных» ниже «мира людей», то для первобытного человека их вза-
имоотношение может быть противоположным: животное здесь час-
то выполняет тотемные функции, бывает связано с миром богов,
почитаемым выше человеческого.
С формированием средневекового общества в литературе чётко
обозначается интерес к поведенческой характеристике человека, к
действенности нормативных нравственных предписаний.
В IX в. в японской литературе появился новый жанр - буддийские
легенды сэцува, которые оформлялись в виде самостоятельных
сборников. Начало таким сборникам легенд положил сборник из
трёх книг (116 легенд в наиболее полном списке) под названием «Ни-
хонкоку гэмпо дзэнъаку рёи ки» «Записи о
чудесах, случившихся в Японском государстве из-за хорошей или
дурной кармы»). Краткое название сборника - «Нихон рёики» («За-
писи о японских чудесах»)31. Его составил в 822 г. шрамана (яп. ся-
мон) Кёкай (или Кэйкай) из храма Якусидзи в г. Нара. Составитель
«Нихон рёики» в 787 г. стал буддийским монахом, а еще через во-
семь лет получил сан дэнто-хоси (Законоучитель, передающий све-
тильник) и начал переписывать устные легенды, а также рассказы
из китайских буддийских сборников, которые помогали иллюстри-
ровать проповеди о принципах действия кармы, буддийского закона
нравственной причинности, в соответствии с которым поступки че-
ловека в его нынешней жизни предопределяют его нравственные и
физические характеристики в грядущих рождениях.
Время действия в легендах, включённых в сборник, - от V до на-
чала IX в., но в большинстве случаев это эпоха Нара (VIII в.). Место
действия многих из них - центральные провинции Японии, язык -
китайский (хэнтай камбун), принцип расположения записей - хро-
31 Русский перевод см.: [Нихон рёики. 1995].
98
нологический. Каждая из трёх книг вводится отдельным преди-
словием составителя.
В предисловии к первой книге «Записей о японских чудесах» Кё-
кай пишет, что задачей сборника является объяснение посредством
сэцува принципов проявления кармы. Образцами подобных опи-
саний он называет китайские сборники «Вести из преисподней» (Ж
«Мин бао цзи», 650-655 гг.) Тан Линя и «Записи доказательств,
собранных из Ваджрашекхара сутры» «Цзинь
ган бань яо цзин цзи янь цзи», 718 г.) Мэн Сян-чжуна [Рёики, 1975,
с. 61-63, 263-265]. На эти источники опирается 14 легенд сборника,
из них И - на сборник Тан Линя [Свиридов, 1981, с. 14]. Подавля-
ющее большинство сюжетов отнесено к Японии, что закреплено
способом их датировки по девизам правления японских императо-
ров и привязкой к определённой местности. Тем не менее предис-
ловие к первой книге с указанием китайских образцов соотносит
сборник с ареальной культурой, а предисловие к третьей книге ещё
больше раздвигает рамки культурной общности японцев, читающих
сборник:
«В книгах, повествующих о наставлениях Шакьямуни в нынеш-
ней кальпе, говорится о трех временах: во-первых, время истинного
Закона продолжительностью в пятьсот лет; во-вторых, время лож-
ного Закона продолжительностью в тысячу лет; в-третьих, время
конца Закона продолжительностью в десять тысяч лет. К шестому
году эры Энряку, четвертому году Зайца, прошло тысяча семьсот
двадцать два года с тех пор, как Будда достиг нирваны. Времена ис-
тинного Закона и ложного Закона миновали, и настало время конца
Закона. К шестому году Энряку прошло двести тридцать шесть лет
с тех пор, как Закон Будды и монахи впервые появились в Японии»
(пер. А. Н. Мещерякова).
Японская история этой информацией представлена в новых для
самосознания японцев координатах - как часть истории Джамбудви-
пы, буддийского мира. Предание о трёх эпохах, которые должно пе-
режить Учение Будды, в Японии стало широко распространяться
позднее. Его суть заключается в идее о том, что настоящая эпоха -
это стадия деградации и буддийского вероучения, и человечества в
целом. Наступило время предпринимать чрезвычайные меры для ис-
правления кармы, для скорейшего растворения в нирване. В IX в. та-
кой призыв прозвучал бы для японцев чисто декларативно, потому
что люди к его восприятию ещё не были готовы. Синтоистское ми-
ровоззрение, преобладавшее тогда, по сути оптимистично. В X в. его
стало теснить буддийское, по сути пессимистичное, ориентирован-
ное на ключевую формулу: «жизнь есть страдание». Частичная пе-
реориентация на него затрагивала пространственные и временные
категории. В японской культуре появились представления об очень ма-
лых («миг») и огромных {калла) промежутках времени. С оценоч-
ными категориями стали соотноситься даже стороны света.
99
Появилось стремление утвердить, с одной стороны, преимущест-
во категорий большого, буддийского мира над местными категори-
ями, а с другой - не меньшую значимость местного опыта в его срав-
нении с заморским (корейским, китайским и индийским). В этом
смысле правомерно функциональное сопоставление «Записей о япон-
ских чудесах» с «Анналами Японии», только сборник буддийских ле-
генд и преданий был рассчитан не на заморского читателя, а на японца,
на проповедническую работу в местной среде. Древняя стадия куль-
туры не была знакома с морализаторством. На стадии же форми-
рования раннего государства обозначились целых два его направле-
ния - одно конфуцианского, другое буддийского характера. Мало
кто из специалистов сомневается в том, что «Записи о японских чу-
десах» - иллюстративный материал для проповедей. Их могли чи-
тать как самозваные монахи (не прошедшие формального посвяще-
ния), так и официальные проповедники, основной контингент слуша-
телей которых составляли крестьяне и низшие слои городского на-
селения.
Буддизм прививал средневековому японцу наиболее жёсткое осо-
знание причинно-следственной связи. В разных вариантах идея не-
разрывности причины и следствия внушалась ему сутрами, пропо-
ведями, дидактической и художественной литературой. Очень скоро
выражение «не знает связи причины и следствия» в обиходе книжно
образованных японцев стало обозначать умственную ограниченность
человека. Элементарным проявлением такой связи представлялась
личная карма. Сэцува, включённые в «Записи о японских чудесах», с
их стремительным сюжетом и элементарной структурой являли
примеры большого разнообразия её проявлений. Эти проявления
были связаны с соблюдением или нарушением нравственных запо-
ведей, вызывающими добрую или дурную карму.
Чтобы буддийская концепция не была излишне умозрительной,
чтобы действие её приблизить к читателю, новеллы максимально
документируются в манере, распространённой в китайской художе-
ственной прозе (включая волшебную новеллу). Событие закреплено
во времени (указывается год по девизу правления или имени царст-
вовавшего императора) и в пространстве (указывается провинция,
уезд, дворец или храм, где случилось происшествие32). Упоминаются
старинные аристократические роды Японии (Отомо, Фудзивара) и
знаменитые проповедники и распространители буддизма в этой стране
(Сётоку-тайси, Эн-но Убасоку, Гёги-содзу, император Сёму).
Это позволяет облачить идею в форму записи реального события,
придать ей видимость достоверной. Выигрывает и конкретная идея,
и общее представление о равной святости Японии и других стран
буддийской культуры.
32 Наибольшее количество событий «приписано» к провинциям Ямато, Кии и Ка-
вати [Абэ, 1973, с. 129], к столице Нара [Харада, 1972, с. 5-7].
100
Между тем в каждом отдельном сэцува идея личной кармы пре-
дельно детерминирована соответствием его заглавия и морализа-
торской концовки. Это оставляло слушателю или читателю минималь-
ные возможности для сотворчества, т. е. противоречило главным ха-
рактеристикам поэзии вака, базирующейся на пробуждении собствен-
ного воображения у читателя или слушателя. Это - принципиальное
противоречие, и слишком долго оно сохраняться не может. В борьбе
победила тенденция, представленная в национальной поэзии. В бо-
лее поздних сэцува становится необязательной сначала морализа-
торская концовка, а затем вообще буддийская интерпретация сюже-
та (хотя многие сюжеты здесь кочевали из одного сборника в другой
на протяжении нескольких столетий).
Показателен один из аспектов, отличающих раннюю прозу сэ-
цува, созданную на камбуне, от ранних стихов канси из «Кайфусо» и
близких к ней по времени антологий. Стихи «Кайфусо» были эпи-
гонскими, хотя далеко не всегда отсылали читателя к образцам, ко-
торым подражали. В прозе сэцува самые неожиданные детали ука-
зывают на её японскую специфику, хотя автор с самого начала ссы-
лается на китайский образец, которому собирается следовать. Во
втором свитке «Нихон рёики» под № 25 изложена история о том, как
демон-посланец царя преисподней Энра (Эмма), направленный на зем-
лю, чтобы доставить жительницу провинции Сануки по имени Кину-
мэ, отведал в её доме яств, приготовленных этой женщиной для бога
болезней, пожалел её и вместо неё предал смерти и доставил к сво-
ему повелителю её тёзку, жившую в другом селении. К тому време-
ни, когда подмена была обнаружена и царь преисподней распоря-
дился ошибку исправить, тело Кинумэ-второй было уже кремирова-
но, и той некуда было возвращаться. После некоторых мытарств и
объяснений с родителями той и другой дело уладилось, что и поз-
волило автору сделать такое заключение: «Если приготовить яства,
чтобы подкупить духов, без воздаяния это не останется» (пер. А. Н. Ме-
щерякова).
Рассматривая этот сюжет, Като Сюити приходит к выводу, что
преисподняя здесь не что иное, как продолжение реального мира. И
преисподняя, и демон-посыльный, и царь Энра суть не более чем
оформление сцены. Это самая японская черта «Нихон рёики», когда
в рассказах оформление сцены носит буддийский характер, а идео-
логия с буддийским учением не связана. Например, главная идея рас-
сказа о Кинумэ и посланце царя преисподней заключается в том, что
даже подношение демону впустую не пропадает. «Если что-то име-
ешь, следует совершить приношения» [Като, 1975, с. 110-111].
По мнению А. Н. Мещерякова, «...в "Нихон рёики" и более позд-
них аналогичных памятниках содержатся начала психологической
жизни, но не полноценные характеры с присущими им внутренними
противоречиями. Герои, по существу, лишены индивидуализирую-
щих черт, и их характер укладывается в одно-два определения, на-
бор которых жестко задан. Человек описывается или как неискоре-
101
нимый грешник, или как святой, не имеющий изъяна» [Буддизм,
1993, с. 40]. Впрочем, это вообще характерно для средневековой ли-
тературы, в том числе и европейской.
Сборник сэцува «Самбо экотоба» «Иллюстрирован-
ное слово о Трёх сокровищах»), созданный в 984 г. киотоским ари-
стократом Минамото-но Тамэнори, делится на три книги, из кото-
рых одна состоит из житий подвизавшихся в Японии восемнадцати
буддийских священнослужителей высшего ранга, начиная с принца
Сётоку-тайси. Выделение японских буддийских служителей в само-
стоятельную категорию одного из трёх высших буддийских сокро-
вищ (наряду с Буддой и его учением) с точки зрения преемствен-
ности идей было важнее, чем заимствование составителем сборника
некоторых сюжетов и композиционных приёмов «Нихон рёики»33-
Однако для развития художественного аспекта сэцува эта вторая
особенность имеет определяющее значение.
Некоторые рассказы в разных редакциях повторяются в трёх и
даже четырёх сборниках прозы сэцува. Другие не заимствуются це-
ликом, а служат лишь источником сюжетов. Но самые интересные
случаи - это пересылки, упоминание персонажей, известных по дру-
гим рассказам или легендам, даже по другим сборникам.
Рассказы или легенды в сборниках прозы сэцува, как правило,
складываются в сюжетно-тематические циклы, напоминающие ана-
логичные циклы в сюжетных сутрах или «гирляндах джатак». Не-
редко ряд циклов композиционно объединяется либо общим рас-
сказчиком, либо идеей, либо другим приёмом, известным буддийской
же поэтике и распространённым в других странах буддийского куль-
турного ареала (вспомним разные версии «Волшебного мертвеца»).
При таком формальном скреплении частей сборника перекрёстное
упоминание разных персонажей служит дополнительным связующим
звеном не только между рассказами, но и между циклами. В созна-
нии читателя или слушателя создаётся представление об особом ми-
ре буддийской литературы с разветвлёнными связями между его ге-
роями, со специфическими отношениями этих героев с буддами, бод-
хисаттвами и историческими лицами (выход в реальную жизнь, под-
тверждающий их достоверность), с обязательными пространствен-
ными координатами (указание места их проживания по полной ад-
министративной схеме, указание места действия).
Сюжетное сцепление в таких случаях строится по типу сочине-
ний буддийского канона, а закрепление в пространстве вызывает ана-
логии с конфуцианскими сочинениями. Первые столетия существо-
вания прозы сэцува её сборники записывались на китайском языке;
секуляризация этой прозы и распространение в ней почвеннических
идей сопровождались переходом её авторов на японский язык.
33 Подробнее о сборниках сэцува IX-X вв.см.: [Свиридов, 1981, с. 16-22].
Появление
японской письменности
и литература
Как уже упоминалось, в конце IX в. в Японии на иероглифи-
ческой основе были созданы две системы фонетического пись-
ма. Созданию фонетического письма способствовали два обстоятель-
ства. Во-первых, каждый иероглиф отражает на письме слог и мо-
жет быть использован чисто фонетически, без его связи со смыслом.
Во-вторых, знакомство образованных японцев с санскритом подска-
зывало им возможность создания фонетического письма по анало-
гии с нагари. Один из конкретных способов реализации такой воз-
можности был продиктован опытом иероглифической транскрип-
ции индийских имён, названий и религиозных терминов, накопив-
шимся при переводе на китайский язык «Трипитаки» - многотомно-
го буддийского канона, и опытом фонетического использования иеро-
глифов в «Записях о деяниях древности», «Собрании мириад листь-
ев» и других японских письменных памятниках.
Идя по этому пути, японцы закрепили за скорописной формой не-
которых иероглифов функцию силлабем и назвали группу таких иеро-
глифов хэнтайгана письмо изменённой формы). Главным
неудобством знаков хэнтайгана было отсутствие фиксации за опре-
делённым слогом одного иероглифа (некоторые слоги могли обо-
значаться четырьмя-пятью различными знаками, причём один писец
в одном и том же тексте для обозначения одного и того же слога мог
пользоваться разными знаками) и сложность начертания большин-
ства знаков34. Кроме того, иероглифы, скорописные формы кото-
рых использовались в качестве силлабем, продолжали употреблять-
ся в тех же или очень похожих начертаниях в прямой своей функции,
как идеограммы, что подчас вносило серьёзную путаницу в толк-
ование смысла текста.
Для быстрого письма круг таких иероглифов с функцией силла-
бем был сужен, а форма скорописного их начертания предельно
упрощена. Эта упрощённая система, не заменившая старую, хэнтай-
гана, но получившая по сравнению с нею преимущественное распро-
34 Проблема обозначения отдельного согласного перед создателями японского
фонетического письма не стояла, поскольку японский язык не знает стяжения со-
гласных.
103
странение, допускала меньше путаницы с исходным знаком, кото-
рый продолжал использоваться как идеограф. Она получила назва-
ние хирагана и употреблялась как самостоятельно, для на-
писания сплошного текста, так и в сочетании с иероглифами - для
обозначения отдельных слов, падежных показателей, послелогов,
окончаний глаголов и прилагательных..
Примерно в это же время вошла в употребление катакана (К"(5
^) - система слогового письма, знаки которого образовались пу-
тём отсечения от целого иероглифа его фонетика, состоящего не
более чем из трёх черт. За каждым слогом закрепился один знак
катакана. Сфера употребления этой системы письма та же, что и у
хирагана. Каждый алфавит состоял из сорока восьми силлабем.
По санскритскому образцу (система сиддхам) был придуман и
порядок расположения силлабем. Он получил название годзюон-дзу
таблица из пятидесяти знаков): десять столбцов по пять
знаков в каждом35. Кукаю часто приписывалось создание стихотво-
рения «Ироха-ута», предназначенного для заучивания алфавита, -
всё оно состоит из тех же 48 неповторяющихся слогов и заключает в
себе буддийское поучение.
Иро ха нихохэто Тиринуру во. Вага ё тара дзо Цунэ нарану Уви но оку яма Кэфукоэтэ Асакиюмэ мидзи Эхи мо сэдзу Цветы хоть и благоухают, Но осыпаются. В нашем мире кто Вечным остаётся? Глубины суетного мира Пересеки сегодня, Не смотри мелкие сны И не опьяняйся ими.
Традиционную атрибуцию «Ироха-ута» в последние годы всё ча-
ще ставят под сомнение, относя создание этой азбуки к началу XI в.
(см., напр., [Иэнага, 1972, с. 77-78]). Однако само изобретение япон-
ского слогового письма произошло, по-видимому, не позднее середи-
ны IX столетия. Именно в это время в японской литературе появи-
лись первые повествовательные произведения на родном языке,
обозначаемые термином моногатари (^Ви, повествование, расска-
зывание о чём-то36), а позднее сформировалось явление, известное
как «литература моногатари».
Условно говоря, к литературе моногатари по традиции относят
сюжетную прозу на японском языке, созданную в IX-XV вв. Само
слово «моногатари», как правило, входит в названия отдельных её про-
изведений в качестве жанровой (или видовой) меты. По европейской
жанровой номенклатуре такие произведения определяются то как
роман, то как повесть, рассказ, новелла, анекдот, эпопея. Японское
35 Для круглого счета для «и» и «у» существовало в каждой системе по два знака.
36 Японские литературоведы отмечают, что изначальный смысл слова «монога-
тари» ещё не ясен до конца [Итико, 1984, с. 120-121].
104
литературоведение знает несколько классификаций моногатари. Одна
из них делит эти повествования на ута-моногатари (Ж4^йо , песенные
повествования) и цукури моногатари ((Ф^З 1р, сделанные, сочинённые
повествования). Первые признаются более реалистичными из-за ок-
казиональной природы японского стихотворения, лежащего в их ос-
нове Вторые, особенно на раннем этапе, отклонялись от описания
реальной действительности. Одним из основных источников сюже-
тов для этой разновидности моногатари служили старинные преда-
ния, в частности - устные предания о богах и героях, переходившие
от поколения к поколению в кровнородственных объединениях удзи
[Итико, 1984, с 118]. На раннем этапе в «сочинённых повествова-
ниях» отмечается тяготение к «иному» - иному миру, иной стране,
дальней провинции, отдалённому времени. Как реальный факт в них
описывается происшествие, увиденное во сне [Мориока, 1967, с. 222],
В «старых повествованиях» автор «Дневника эфемерной жизни» (X в.)
видела «одни лишь небылицы, которых так много в мире»
Два вида повествований к концу X столетия слились воедино, что
привело к формированию зрелой повествовательной литературы и
расцвету хэйанской художественной прозы.
В крупнейшем произведении художественной прозы средневеко-
вой Японии «Повести о Гэндзи» Мурасаки-сикибу (нач. XI в.) «пра-
родительницей всех моногатари» названа «Такэтори моногатари»
«Повесть о старике Такэтори»)37.
Заглавный персонаж повести {такэтори - букв.: «тот, кто соби-
рает бамбук») встречался в японской литературе и раньше («Манъ-
ёсю», фудоки), встретится и позднее («Кондзяку моногатари сю»,
XII в.), поэтому многими поколениями исследователей восприни-
мался как исконный, стоящий в одном ряду с героями сказок о двор-
це морского царя (ср. сюжет об Урасима Таро) и о девице-лебёдуш-
ке («Небесное платье»). Но в данном случае мы имеем дело с иным
принципом построения: собственно история старика Такэтори ис-
пользуется в качестве рамки в новой для японской литературы фор-
ме - обрамлённой повести.
Повесть начинается с рассказа о старике, который рубил в лесу
бамбук, мастерил из него разные поделки, продавал их и тем жил.
Рубя однажды в лесу бамбук, старик обнаружил в коленце одного
растения чудесное сияние. Оказалось, что оно исходило от крохот-
ного младенца - дивной красоты девочки. Старик, по всем канонам вол-
шебной сказки, был бездетным и удочерил найдёныша. В заключи-
тельной части повести девочка, выросшая в невиданную доселе кра-
савицу, поведала приёмным родителям о своём происхождении - рож-
дении в Лунном царстве и изгнании на Землю за некую провинность.
Повесть заканчивается тем, что лунные жители прилетают за кра-
савицей Кагуя-химэ (так её назвали старики-родители) и она воз-
вращается на Луну.
37 Русский перевод см.: А. А. Холодовича («Дед Такэтори») - в [Восток, 1935,
с. 57-83]; В. Н. Марковой («Повесть о старике Такэтори») - в [Волшебные повести,
1962, с. 29-76; Луна в тумане, 1988, с. 13-50].
105
Начальная часть повести перекликается с зачином «Сокровенной
Дхарани о добродетельной жизни в Обширной башне Великой Драго-
ценности» (санскр. «Маха мани випулавимана вишвасупратистхита-
гухья парамарахасья калпараджа дхарани»)38. Уместно вспомнить,
что и сам жанр обрамлённой повести зародился в Индии в первые
века н. э. [Гринцер, 1963]. В дхарани рассказывается о том, как в
цветке лотоса внезапно появилось сияние и «сам по себе послышал-
ся голос, повествующий об удивительных событиях».
Вставные новеллы «Повести о старике Такэтори» посвящены ис-
ториям сватовства знатных претендентов на руку Наётакэ-но Ка-
гуя-химэ - Лучезарной царевны Гибкого Тростника, молва о красо-
те которой разнеслась далеко по земле. Таких новелл пять - по чис-
лу женихов. Всем пятерым девушка дала невыполнимые задания: прин-
цу Исидзукури - принести чашу из камня Будды, принцу Курамоти -
доставить ветку дерева с горы вечной молодости Хорай, Правому
министру Абэ-но Мимурадзи - добыть одеяние из шкурки огненной
крысы, старшему советнику Отомо-но Миюки - представить краса-
вице драгоценность, пятицветный камень с шеи дракона, а государ-
ственному советнику Исоноками-но Маро - достать из ласточкина
гнезда ракушку, способную облегчать роды. Каждый из претенден-
тов пытается добросовестно или обманным путём выполнить зада-
ние, но терпит неудачу.
На последнем этапе в качестве жениха выступает сам император,
но красавица отказывает и ему. Спустившиеся с неба лунные жите-
ли облачают её в платье из птичьих перьев, дают ей выпить напиток
бессмертия, чтобы она забыла о земных привязанностях, и забира-
ют Кагуя-химэ на небо.
Обращают на себя внимание некоторые детали, знакомые по
прежним памятникам, - японские географические названия и неко-
торые реалии, включённые в текст повести: обозначение должнос-
тей женихов, их чисто японские, действительно существующие ро-
довые имена (исключение - символические имена двух принцев: Де-
лающий Камень и Обладатель Сокровищницы), обычай обмени-
ваться стихотворными посланиями, распространённый в средневеко-
вой Японии, эпизод с сожжением листка бумаги со стихами и эликсира
бессмертия на вершине горы Фудзи, интерпретирующий её название
(в соответствующем иероглифическом написании - «Бессмертная»),
о происхождение дыма, который с тех самых пор непрестанно под-
нимается от её вершины к небу39. Эти детали перекликаются с соот-
38 В раннесредневековой Японии эта дхарани была известна в двух переводах:
Амогхаваджры (яп. Фуку) под названием «Дайхб кобаку рокаку дзэндзю химицу да-
рани кё» и Бодхиручи (яп. Бодайруси) под названием «Кодайхб рокаку дзэндзю хи-
мицу дарани кё» [Дайдзбкё, 1927, 1005-1006].
39 Посланец императора «в сопровождении множества воинов поднялся на ука-
занную ему гору и там, выполняя волю государя, открыл сосуд и открыл напиток
бессмертия. Чудесный напиток вспыхнул ярким пламенем, и оно не угасает до сих
пор. Оттого и прозвали эту вершину "Горой Бессмертия" - Фудзи. Столбом поднялся
106
ветствующими местами из ранней прозы сэцува и топонимическими
сюжетами в фудоки.
Подобные особенности давали повод некоторым нашим исследо-
вателям усматривать в «Повести о старике Такэтори» народные япон-
ские корни, а также отражение в ней быта хэйанской аристократии
и противопоставление простого народа (к нему относили самого ста-
рика и девушку) представителям правящих сословий (женихи) в эти-
ческом плане (см.: [Литература Востока, 1970, с. 271-272; Волшеб-
ные повести, 1962, с. 20-23]).
Такая постановка вопроса приобретает особое значение из-за
того, что создатель повести не установлен. Косвенным путём можно
определить социальную среду, в которой он воспитывался, поэтому
всякие соображения, касающиеся его сословных симпатий, могут
ориентировать исследователя и в атрибуции памятника.
Распространено мнение о том, что симпатии автора повести при-
надлежат старику Такэтори и его дочери-найдёнышу. Причина сим-
патий объясняется тем, что этими героями представлен в повести
простой народ, противопоставленный резко отрицательным обра-
зам аристократов, а «такое изображение наиболее ярко выражает
свободолюбивые стремления народа» [Литература Востока, 1970,
с. 272]. Такое объяснение не сопровождается убедительными дока-
зательствами и сколько-нибудь серьёзной критики не выдерживает.
Если исходить только из материалов японской литературы и древ-
него фольклора Японии, дело можно представить так. В повести вы-
ведены обитатели двух миров - Нижнего (земного) и Верхнего (лун-
ного). Древний фольклор японцев (не будем касаться здесь пробле-
мы генезиса сюжетов) описывает встречи обитателей этих миров в
так называемых легендах о божественных браках - об Урасима Та-
ро, о Небесном платье, о горе Мива, о Красной стреле. Большинст-
во сюжетов объединяет идея брачного союза простолюдина (про-
столюдинки) и небожительницы (небожителя). В «Повести о стари-
ке Такэтори» описан лишь вариант такой оппозиции: простолюдин
не женится на небожительнице, а удочеряет её и таким способом
становится (хотя бы и временно) по одну с нею сторону конфликта
(впрочем, допустимы и другие толкования сложившейся ситуации).
Претендентами же на брачный союз с нею выступают аристократы.
Если в прежних сюжетах мы встречались с частными запретами, на-
рушение которых приводит к разрыву брачных связей, то здесь на-
лицо запрет общий, на само заключение брака между небожителем
и смертным. Таким образом, линия запрета проходит между Кагуя-
химэ, с одной стороны, и её женихами и приёмными родителями - с
другой.
Может возникнуть вопрос: не является ли сюжет с удочерением
небожительницы трансформацией древнейшего сюжета о божест-
венный дым к далёким облакам, к царству светлой луны...» (Пер. В. Марковой.)
107
венных браках? Прежде, чем на него ответить, полезно ознакомить-
ся с аргументами Като Сюити, считающего, что автор «Повести о
старике Такэтори» был высокообразованным интеллектуалом, ко-
торый обладал несомненным литературным талантом40 41.
Во-первых, повесть записана слоговой азбукой с употреблением
китайских иероглифов и в её лексике прослеживается влияние ма-
териковой литературы (включая буддийский канон). Некоторые учё-
ные полагают, что автор повести был начитан в китайской классике.
Во-вторых, структура повести представляет логическую систему,
которая начинается чудесным рождением Кагуя-химэ и завершается
драматическим вознесением её на небо, а в этом обрамлении раскры-
вается в новеллах о женихах. В них представлено пять видов неудач
у пяти человек. То, что неудача одного вида не повторяется в повес-
ти ни разу, указывает на наличие у автора тщательно разработан-
ного плана. Даже среди более поздних моногатари эпохи Хэйан нет
драматического рассказа, построенного так продуктивно и столь же
чётко излагающего пункты сюжета. Это редкое исключение во всей
истории повествовательной литературы Японии. Ни одна частная
деталь не приводится в повести только из-за того, что интересна
сама по себе; всякий раз деталь укладывается в структуру целого и,
увязанная с целым, оказывается необходимой и достаточной Автор
«Повести о старике Такэтори» не просто мог читать по-китайски.
По-видимому, он был весьма образован в китайской классике.
В-третьих, несмотря на то, что зачин и концовка повести имеют
фантастический характер, в описании отдельных её частей есть жи-
вость, тонкое проникновение в человеческую психологию [Като, 1975,
с. 122-123].
Все эти доводы назвать надуманными нельзя, и значит, мнение о
фольклорном происхождении «Повести о старике Такэтори», бы-
товавшее в нашем японоведении долгое время, неосновательно.
Автор повести, как резонно считает Като Сюити, принадлежал к
интеллигенции, представлявшей в Японии китайскую учёность от
Кукая до Сугавара Митидзанэ, и не был, скорее всего, наследствен-
ным аристократом [Като, 1975, с. 123]. О времени создания «Повес-
ти о старике Такэтори» также высказывают разные соображения,
но большинство исследователей относят ее к концу IX-началу X сто-
летия (не позднее 909 г.) [Итико, 1984, с. 129]4*.
Японские филологи ещё в XVII в. (поэт и учёный Кэйтю, 1640-
1701) отмечали, что в буддийских сутрах и исторических сочинениях
40 Я не останавливаюсь здесь на многократно исследованных буддийских и даос-
ских сюжетных вкраплениях в повесть (свет в колене бамбука, легенда о горе Хбрай,
напиток бессмертия, шкурка огненной крысы и др.), а ограничиваюсь менее извест-
ными моментами.
41 В работах некоторых советских японоведов (Н. И. Конрада, Е. М. Пинус, А. А. Хо
лодовича) «Такэтори моногатари» датируется началом IX в По-видимому, эта дати-
ровка исходила из распространённой одно время концепции японских филологов о
том, что слоговое письмо появилось в Японии в конце VIII в Д. Кин пишет, что по-
весть была создана между 871 и 881 гг. [Кин, 1993, с. 435-436].
108
нередки рассказы о рождении ребёнка в стволе бамбука. [Итико,
1984, с. 131]. Мацумото Нобухиро в обстоятельной статье «Истоки
рассказа о рождении ребёнка в бамбуке» (tTопубли-
кованной в 1951 г. в журнале «Сигаку» т. 25, № 2, с. 163-173),
писал, что такие истории распространены в фольклоре народов Юго-
Восточной Азии, населяющих Малайю, Суматру, Филиппины, Бор-
нео, Минданао, Микронезию. Японский учёный назвал среди носи-
телей такого фольклора мантра, негрито, тай лю, батаков, сулу, та-
галогов, самаров, магинов, данао и многие племенные группы Тай-
ваня. Его статья вписала основной сюжет «Повести о старике Такэ-
тори» в широкие ареальные связи дописьменной и раннеписьменной
эпохи и стимулировала интерес к ней многих специалистов.
Неожиданный поворот исследование повести получило в сере-
дине XX в. В 1954 г. китайские фольклористы записали в северо-
восточной части провинции Сычуань (Автономный район Тибет) ис-
торию из Кам под названием «Девушка из пятнистого бамбука». Ис-
тория была опубликована в Шанхае в 1959 г. в фольклорном сбор-
нике, а в 1971 г. появилась в японском переводе, вызвав своим по-
явлением сенсацию. Вот содержание тибетской истории в передаче
проф. Кониси Дзинъити.
1. Жила бедная мать с сыном по имени Ланг-па, которая корми-
лась собиранием бамбука. Жадный владелец той области по дешёв-
ке скупал его.
2. Однажды, когда слуга владельца области пришёл за очередной
порцией бамбука, Ланг-па срезал ствол, который он ценил особенно
высоко, и, чтобы скрыть его от покупателя, бросил в речку.
3. Из этого ствола родилась прекрасная девушка, которую нарек-
ли Девушкой из Пятнистого Бамбука.
4. Когда девушка достигла подходящего возраста, мать Ланг-па
попросила её выйти замуж за её сына. Та пообещала выполнить эту
просьбу через три года.
5. Но Девушку из Пятнистого Бамбука захотели взять в жёны
пятеро влиятельных молодых людей. Это сын начальника управле-
ния, сын торговца, сын чиновника, спесивый, самодовольный юно-
ша и юноша, исполненный радости [Итико, 1984, с. 132]). Каждому
из этих претендентов красавица определила особое задание, пообе-
щав стать женой того из них, кто первым принесёт назначенную ему
диковину: а) золотой храмовый колокол, который не разбивался бы
от сильного удара; б) жадеитовую ветвь, которая не раскрошилась
бы даже от тяжёлого удара; в) несгораемую одежду из шкурки вул-
канической крысы; г) раздвигающий воду драгоценный камень с
головы морского дракона; д) золотое яйцо из ласточкина гнезда.
6. Каждый из пяти влиятельных женихов потерпел неудачу, пос-
ле чего девушка счастливо вышла замуж за Ланг-па [Кониси, 1984,
с. 421-422].
Совпадение в пункте 5 тибетского фольклорного сюжета с сю-
жетом «Повести о старике Такэтори» поразительно. Из всех зада-
109
ний женихам, число которых в обоих версиях одинаково, различа-
ется только одно; в тибетской версии вместо чаши Будды фигури-
рует храмовый колокол (впрочем, тоже предмет буддийского куль-
та) Остальные четыре задания не просто дублируются в легенде о
Лонг-па и «Повести о старике Такэтори», они даже следуют в одном
и том же порядке. Вряд ли можно допустить случайность такого
совпадения.
Среди исследователей вызвал разногласия вопрос о направлен-
ности миграции сюжета, передавался ли сюжет о ребёнке, найден-
ном в коленце бамбука, от народов Юго-Восточной Азии на материк,
к тибетцам, или же наоборот. Вторичность и литературная обрабо-
танность японской версии в сравнении с тибетской представлялись
несомненными.
После первоначального потрясения японские исследователи вы-
двинули несколько гипотез относительно причин бытования одного
сюжета в Японии и на Тибете. В частности, было высказано предпо-
ложение, что в Тибет этот сюжет был занесён в 1920-е годы одним
из японских солдат [Кин, 1993, с. 468-469]. Но оно вызывает такое
количество недоуменных вопросов как из области истории (скажем,
как в Тибете в 1920-е годы оказался японский солдат, да ещё хоро-
шо владевший тибетским языком и установивший с местным насе-
лением доверительные отношения?), так и фольклора (почему, во-
преки всем правилам устной передачи, за столь короткий срок - око-
ло 30 лет - сюжет успел так заметно трансформироваться в его
обрамляющей части?), что безоговорочно быть признано не может.
Таким образом, на примере первой повести, написанной на япон-
ском языке, прослеживается интенсивное вовлечение японской ли-
тературы в региональные литературные процессы. Заметнее всего
его можно видеть в обогащении за счёт формы обрамлённой по-
вести (не исключены Центрально- и, возможно, Восточноазиатские
посредники в трансплантации индийского литературного феномена
на японскую почву) и в обработке готового сюжета, зафикси-
рованного в фольклоре многих народов континента и Юго-Восточной
Азии. На втором месте находятся два мировоззренческих слоя, на-
шедшие отражение в ранней японской художественной прозе, - слой
архаичного мифологического сознания и слой высокой книжной
культуры. Последний содержит буддийские, даосские и конфуциан-
ские элементы. По ареальным признакам он не совпадает с первым,
поскольку пути распространения дописьменной культуры не совпа-
дают с путями распространения культуры письменной. Далее нужно
отметить отточенную литературную технику, которая обнаружива-
ет и писательский талант самого автора «Повести о старике Такэто-
ри», и умелое использование им приёмов, выработанных китайской
и индийской письменными культурами.
Когда региональные литературные процессы стали столь много-
слойно проникать в раннюю японскую художественную прозу и на-
ходить в ней подготовленную почву в виде воспринятых ранее эле-
110
ментов сюжета, идеологических представлений разного характера и
достаточно разработанной стилистики (она шлифовалась в поэзии -
об этом будет сказано в своё время), сами заимствованные элемен-
ты начали искать и находить на японской почве также и специфи-
ческую форму выражения.
От самого раннего этапа и вплоть до Нового времени одним из
типичных направлений в освоении японской литературой инолите-
ратурных произведений сделалась японизация последних, переина-
чивание реалий, имён героев, названий мест, где происходят собы-
тия, и некоторых поступков героев в привычные для японского чи-
тателя формы. К началу IX в. относится и первоначальный этап
осознания японцами эстетических ценностей в литературе. По мнению
Като Сюити, «это определенно можно считать одним из примеров
"японизации" континентальной культуры». Сходное явление исследова-
тель отмечает и в буддийской скульптуре эпохи Тэмпё [Като, 1975,
с. 101].
Что касается «Повести о старике Такэтори», то в связи с её кон-
тинентальными истоками Кониси Дзинъити приходит к двум инте-
ресным выводам. «Первый - принятие вымышленное™ в простона-
родной литературе. Содержание сэцува, идущих от архаической эпо-
хи, воспринималось как бесспорная истина, независимо от того, на-
сколько оно было противоестественным. В противоположность этим
местным сэцува истории иностранного происхождения могли при-
знаваться вымышленными, а занимательность (омосироса), которой
обладал вымысел, могла доставлять удовольствие. Вполне вероятно,
что здесь-то и находится основа, на которой выросли цукури мо-
ногатари (истории с прозаической письменной доминантой) средних
веков. Другой вывод: имели место два сосуществовавших способа
передачи - как низкорожденные, направленные вверх, так и высо-
корожденные, направленные вниз. Их сосуществование свидетельст-
вует об отсутствии в японской литературе классовой оппозиции...
Весьма важной характеристикой японской литературы является
то, что такую оппозицию нельзя обнаружить, какой бы точки зре-
ния ни придерживаться. Конечно, её отсутствие можно вывести из
факта, что истории, которые рассказывались простыми людьми, знать
возвращала в письменные произведения, и из обратного процесса,
при котором истории, оформленные знатью, распространялись сре-
ди простых людей» [Кониси, 1984, с. 422-423].
Иными словами, японский учёный полагает, что широкие заим-
ствования из иностранных источников (и прежде всего рассказов о
чудесных событиях) способствовали, во-первых, признанию права
на существование в художественной прозе моногатари категории
вымысла и, во-вторых, межсословным литературным обменам в са-
мой раннесредневековой Японии.
Японизация разных видов заимствованной культуры становится
особенно активной после прекращения официальных контактов с
Танской империей. «Начиная с X века, - отмечает Иэнага Сабуро, -
111
в Японии создаётся много статуй будд, имеющих спокойный, чисто
японский облик» [Иэнага, 1972, с. 86]. Развитием принципов, разра-
ботанных китайскими живописцами, было появление в X в. школы
ямато-э. Художники этой школы, изображая местные пейзажи и на-
родные обычаи, пользуясь специфической изобразительной техни-
кой, противопоставляли свои работы распространённым в пред-
шествующую эпоху «китайским картинам» школы кара-э. Но про-
тивопоставление осталось в значительной степени чисто внешним:
оно не затронуло логику передачи объекта живописными средства-
ми. В Японии под влиянием китайской живописной традиции фор-
мируется концепция передачи обобщённой сущности элемента при-
роды, а не его «портрета». В живописи интерпретация обобщённой
сущности объекта не столь многозначна, как в произведениях сло-
весного творчества.
Приспосабливать континентальную культуру к местным усло-
виям, в соответствии с этими условиями трансформируя её, японцы
начали ещё до наступления эпохи Хэйан. Неразрывное сочетание
местных элементов с заимствованными из Китая, Восточного Тур-
кестана и Средней Азии элементами отмечает применительно к япон-
ской музыке и сценическим искусством VII—VIII столетий Н. А. Ио-
фан [Иофан, 1974, с. 244]. Интересные данные из области городско-
го строительства в древней и раннесредневековой Японии приводит
Дж. Холл, авторитетный американский японовед. «...Примечатель-
но, - отмечает он, - что некогда для императорской столицы был
выбран план, и планировщики использовали один и тот же общий
план от начала до конца Японские историки как по шаблону утверж-
дают, что этот план пришёл из Чанъани. Но историческая Чанъань
достаточно отличалась как от Хэйдзё, так и от Хэйана (т. е. от Нара
и Киото. - В. Г), поэтому следует допустить, что японцы либо рас-
полагали другим образцом для подражания, либо использовали идеаль-
ный вариант. Среди тех, кто планировал Нанива (столица Японии в
VII в., находилась на территории нынешнего г. Осака. - В. Г), были
люди, которые, по-видимому, посещали танскую столицу Чанъань
Но результат почему-то был совершенно иным - не только по раз-
мерам, но и в расположении зданий и распределении функций в гра-
ницах городских стен» [Холл, 1974, с. 11].
Таким образом, иноземная культура чем дальше, тем больше пе-
реставала быть предметом слепого подражания и начинала воспри-
ниматься японцами как отправная точка или концептуальная основа,
на которой строилась собственная ходожественная традиция. При
этом характер и интенсивность внешнего влияния определялись внут-
ренними потребностями общества-реципиента. Возрастание роли авто-
хтонного фактора в становлении и дальнейшей трансформации япон-
ской повествовательной литературы особенно показательно.
Среди цукури моногатари, дошедших до наших дней от X в., сле-
дует назвать «Отикубо моногатари» или «По-
112
весть о прекрасной Отикубо»)42 и «Уцухо моногатари» или «Уцубо
моногатари» «Повесть о дупле»). Обе повести написа-
ны неизвестными авторами, по-видимому близкими к кругам прид-
ворной аристократии, обе включают в себя фольклорные элементы
и обе имеют этапное значение в формировании японской повество-
вательной литературы крупных форм.
В первом из этих произведений развивается мотив Золушки, по-
явившийся в хэйанской прозе, видимо, не без влияния извне, однако
не раньше, чем стал понятным японскому читателю в результате из-
менений в характере брачных институтов в самой Японии43. Неда-
ром Мурасаки-сикибу в главе «Светлячки» «Повести о Гэндзи» пи-
сала: «Во многих старинных повестях рассказывается о злых ма-
чехах...» [Мурасаки, 2, 1993, с. 151], а в другой главе («Священное
дерево сакаки») упоминала о нелёгкой жизни девушки при мачехе,
госпоже из Северных покоев (т. е. при главной жене отца).
Главная героиня «Повести о прекрасной Отикубо» - дочь Сред-
него советника Минамото-но Тадаёри, прозванная Отикубо по на-
именованию помещения в отцовской усадьбе, которое ей определи-
ли для проживания (отикубо - это помещение с низко опущенным
полом, жилище второго сорта).
Ещё в детстве она лишилась матери, не было у неё ни родствен-
ников с материнской стороны, ни даже кормилицы, поэтому девуш-
ке и пришлось поселиться в усадьбе отца и его главной супруги. Един-
ственной помощницей Отикубо оказывается Акоги, её молодая на-
ходчивая служанка, которая ухитряется преодолевать многочислен-
ные препятствия, чтобы скрасить трудные дни героини, и даже ус-
траивает её брак с красавцем-аристократом, братом младшей супру-
ги самого императора.
Мотив Золушки помог автору сконструировать главную идею про-
изведения - о неотвратимости наказания зла и воздаяния за добро.
Чтобы последовательно провести эту идею, автору потребовалась
поляризация героев по признаку обладания основными качествами.
Отикубо (падчерица) изображается как воплощение положитель-
ных черт, Китаноката (мачеха) - отрицательных. В начале повести
активными чертами наделяется зло, во второй половине - добро.
42 Русский перевод В. Н. Марковой см.: [Волшебные повести, 1962, с. 77-334].
43 Для большей части X в. в Японии зафиксировано преобладание так называ-
емых уксорилокальных браков, при которых супруги проживали в наследственном
доме старшей жены, тогда как младшие жёны поддерживали с мужьями визитные
отношения, оставаясь жить со своими детьми в собственных наследственных домах
[Маккаллоу, 1967, с. 108]. В таких условиях попечение о детях, потерявших мать,
принимал на себя не отец осиротевших детей, а их родственники по материнской ли-
нии. Автору «Повести о прекрасной Отикубо» понадобилось особо оговаривать при-
чину, по которой падчерица вынуждена ютиться в доме недоброй мачехи и отца: её
родная мать рано умерла, и «на всём белом свете не было у неё ни родных, ни близ-
ких». Подобного рода коллизии можно, пользуясь определением Ю. Борева, назвать
«опытом отношений», который «является той ценнейшей информацией, которую
несёт в себе образ» [Борев, 1969, с. 136].
113
Насколько в начале повести изобретательна мачеха Отикубо в изде-
вательствах над героиней, настолько в конце повести изобретателен
муж Отикубо в способах мести за эти издевательства. Это сообщает
произведению композиционную стройность, сопоставимую со строй-
ностью «Повести о старике Такэтори».
«Конечно, - рассуждает в этой связи Като Сюити, - "Повесть о
прекрасной Отикубо" не настолько доведена до совершенства. Если
автор "Повести о старике Такэтори", отталкиваясь от изложения в
целом, приходил к деталям, то автор "Повести о прекрасной Отику-
бо", как нам представляется, отталкиваясь от интереса к деталям и
восхищения ими, придал им форму единого целого». И добавляет к
этому существенное соображение: «То, что сам способ придания про-
изведению формы единого целого был великолепным, видимо, нель-
зя объяснить только влиянием "Повести о старике Такэтори"». «По-
хоже, - отмечает Като, - что "Повесть о старике Такэтори" была
хорошо известна в среде хэйанской аристократии, следовательно,
если бы только её влияние могло породить упорядоченную струк-
туру повести, то такого рода примеры имелись бы и помимо "По-
вести о прекрасной Отикубо"» [Като, 1975, с. 161-162].
Связь причины и следствия в борьбе между идеализированными
добром и злом - вот что, по мнению японского учёного, композици-
онно организует эту «Повесть». Правда, утверждая это, он торопит-
ся отделить такую связь от буддийской концепции кармы, считая,
что к последней она не имеет отношения, поскольку та проявляется
лишь в нескольких жизнях, и что в буддийской интерпретации след-
ствие наступает в иной жизни индивида, а не в той, в которой зало-
жена причина. Это соображение нельзя признать безупречным не
только потому, что оно игнорирует распространённое в средневеко-
вой Японии представление о прижизненной карме (на нём построена
композиция многих буддийских сэцува, «Повести о Гэндзи», отдельных
сюжетных линий в воинских эпопеях)44, а главным образом по той при-
чине, что в «Повести о прекрасной Отикубо» многие буддийские
представления органично переплелись с местным мировоззрением,
и категория причинно-следственной связи являет нам один из на-
глядных примеров такого переплетения.
Мачеха в этой «Повести» не только всячески притесняет бедную
девушку (загружает её трудной работой, ругает, поселяет в тесной
каморке, лишает любимой служанки, пытается отдать во власть
страсти жалкого старикашки), но продолжает ненавидеть её и после
того, как та обрела счастье, простила старухе прежние обиды и сама
стала осыпать милостями мачеху и её детей. Красавец муж героини
44 Ещё в VIII в. на базе представлений о прижизненной карме японский буддизм
выработал идею гэндзэ рияку получение благ в личной жизни) и прак-
тиковал «вызывание удачи (счастья) и изгнание несчастий» [Игнатович, 1988, с. 165—
166]. В следующем столетии сингон-буддизмом была разработана концепция сокусин
дзСбуцу (ЁРЙ'ЙЛД, достижение степени будды в нынешней плоти).
114
совершает головокружительную карьеру при дворе (в конце повес-
ти он Первый министр) и изобретательно мстит обидчице своей
избранницы. Его руками вершится закон прижизненного нравственно-
го воздаяния - наказывается зло, вознаграждается милосердие, тор-
жествует добро. Параллельные линии, связанные с второстепенными
персонажами (Акоги, Саннокими, отец героини), лишь оттеняют ос-
новной сюжет, делают его логически завершённым. Множество бы-
товых деталей (устройство усадьбы, интерьеры жилых помещений, ри-
туалы, связанные со сватовством, стихотворной перепиской и вру-
чением подарков, проведением некоторых буддийских церемоний и
др.) сообщает «Повести о прекрасной Отикубо» жизненную досто-
верность, причудливо соседствующую с фольклорной заданностью
сюжетных ходов.
Переведшая «Повесть» на русский язык В. Н. Маркова отмечает
в этой связи, что «...отдав дань привычным сказочным формулам,
автор применяет совершенно новую технику. Он развёртывает фа-
булу при помощи диалогов, писем, стихотворений, сократив описа-
тельную часть до минимума. Это придаёт его рассказу большую жи-
вость» [Волшебные повести, 1962, с. 23].
Считается, что «Повесть о прекрасной Отикубо» была написана
между 990 и 998 гг., а её автор - известный литератор Минамото-но
Ситаго. Но этот литератор в 983 г. умер, следовательно завершить
эту повесть в названное время никак не мог. Поэтому возникла дру-
гая версия, согласно которой Минамото-но Ситаго написал лишь на-
чало повести, а завершила её писательница и поэтесса Сэй-сёнагон.
Правда, часть исследователей высказывают сомнение в том, что
«Повесть о прекрасной Отикубо» вообще могла быть создана в эпо-
ху Хэйан [Кин, 1993, с. 449]. Самые ранние списки повести до наших
дней не сохранились (в собрании дома Кудзё имеется рукопись «По-
вести о прекрасной Отикубо», датируемая концом эпохи Муромати),
поэтому проверить её датировку палеографическими методами не-
возможно.
В третьей четверти X в. (по версии Кано Тамаро - между 952 и
956 гг.)45 увидела свет «Уцухо моногатари» (^«Повесть о дуп-
ле»), к тому времени, по-видимому, самое крупное в мире произведе-
ние авторской повествовательной литературы. Автор этой «Повес-
ти» также достоверно не установлен, хотя уже давно нет недостатка в
её атрибуциях (один из самых распространённых вариантов - Ми-
намото-но Ситаго, 911-983). Двадцать глав «Повести» делятся на че-
тыре сравнительно самостоятельные части, имеющие различия в язы-
ке и стиле (от следов влияния волшебной сказки до строгого соблю-
дения норм китайского письменно-литературного языка) и незави-
симые сюжетные линии.
45 Существуют и другие датировки. Ока Кадзуо, например, в «Словаре по литера-
туре эпохи Хэйан» указывает (правда, без аргументации) на 980-981 гг. [Ока, 1972,
C.202J, а Д. Кин считает, что в основном «Повесть» создана между 970 и 983 гг., а по-
следняя часть была добавлена к ней после 1000 г. [Кин, 1993, с. 441].
115
«Повесть» открывается рассказом о том, как аристократ по име-
ни Киёвара-но Тосикагэ отправился с официальной миссией в Китай.
В результате кораблекрушения он попал в удивительную страну
Хаси, расположенную в неизвестных краях далеко на западе, и пос-
ле ряда приключений сделался обладателем чудесного музыкального
инструмента - семиструнной цитры кото (^), сработанной руками
небожителей. В стране Хаси Тосикагэ обучается исполнению на цит-
ре «музыки Чистой земли»46 и затем, благодаря благословению Буд-
ды, переносится к себе домой в облачном паланкине (кстати, в буд-
дийских преданиях часто упоминается прибытие в страну того или
иного праведника верхом на пурпурном облаке). Дома Тосикагэ
обучает игре на чудесной цитре свою дочь и спустя недолгое время
умирает.
У дочери Тосикагэ, связавшей свою судьбу со знатным вельмо-
жей по имени Фудзивара-но Канэмаса (позднее он стал командиром
Правой дворцовой гвардии), родился сын Накатада - бодхисаттва в
облике ребёнка. Когда мальчику исполнилось шесть лет, молодую
женщину вместе с сыном по злому оговору изгнали из дома, и в кон-
це концов она поселилась в дупле огромной криптомерии в лесу к
северу от столицы. Это дупло, служившее обиталищем семейству
медведей, обнаружил в горах Накатада. Звери расчувствовались до
слёз, слушая его рассказ о тяготах, выпавших на долю мальчика и
его матери, оставили дупло в их распоряжение и ушли с медвежа-
тами на другую гору.
Живя в дупле, мать передаёт сыну искусство игры на чудесной
дедовской цитре (при этом звуки волшебных струн заставляют уми-
ляться медведей, обезьян и других диких зверей), а мальчик, в свою
очередь, трогательно заботится о матери, показывая образцы сы-
новней почтительности. Так в повести буддийские мотивы перепле-
таются с конфуцианскими.
Однажды Фудзивара-но Канэмаса сопровождал государя в его
загородной поездке, услышал доносившиеся из лесной чащи чару-
ющие звуки цитры и по ним нашёл жену и сына. Он увёз их в сто-
лицу, где выстроил для них дом в одном из фешенебельных районов.
В шестнадцать лет Накатада совершил обряд инициации, а в восем-
надцать поступил на службу, не оставляя, впрочем, увлечения игрой
на цитре.
Вторая часть «Повести о дупле» по содержанию несколько на-
поминает историю Кагуя-химэ из «Повести о старике Такэтори». На
сцене появляются дивной красоты девушка (дочь Левого министра
Масаёри, прекрасная Атэмия) и претенденты на её руку - череда
непохожих друг на друга женихов (здесь их число доведено до шест-
надцати), многие со своими собственными историями, изложение ко-
46 Имеется в виду Сукхавати, Чистая земля будды Амитабха, расположенная да-
леко на западе.
116
торых уводит читателя в сторону от основного сюжета. Особое место
среди претендентов на руку Атэмия занимают Накатада и наслед-
ный принц, который и выходит победителем в соперничестве между
ними. Впрочем, по логике средневековой повести (как и логике
сказки) проигрыш положительного героя не может быть оконча-
тельным и означает лишь, что он заслуживает за свои добродетели
много большей награды: Накатада обручается с принцессой крови,
дочерью императора.
Боковые сюжеты, которые содержат богатую информацию о
жизни, обычаях, хозяйственном укладе и мировоззрениях японцев
эпохи раннего средневековья (такой тщательной проработки бы-
товых, хозяйственных и мировоззренческих деталей в одном произ-
ведении, пожалуй, не было в японской литературе до конца XVII
столетия, когда на передний план вышла культура городского со-
словия), связаны, в первую очередь, с именами двух женихов: круп-
ного провинциального чиновника («губернатора шести провинций»)
Михару-но Такамото и принца Кандзукэ, а также некоего Камуна-
би-но Танэмацу - деда ещё одного претендента на руку красавицы.
Такамото, умело управлявший шестью провинциями, «скопил боль-
шое личное богатство», причём скопил не неправедными деяниями,
но бережливостью, и «управление вершит с мудрым сердцем». Та-
кая характеристика жениха совсем непохожа на ту, которая дава-
лась аналогичной категории персонажей в «Повести о старике Та-
кэтори». Автор здесь даже иллюстрирует бережливость Такамото
примерами: он скромен в быту, не имеет жены (замечание не лиш-
нее, если учесть, что в тогдашней Японии не в диковину было мно-
гоженство), не держит слуг, а по столичным улицам ездит в столь
простом экипаже, что вызывает насмешки прохожих.
Конечно, в отличие от первой японской повести, здесь отсутст-
вует мотив скрытого запрета на брачную связь между героиней и
претендентами на её руку. Поэтому перед автором не стояла задача
опорочить женихов в глазах читателей. В соперничестве побеждает
тот, кто обладает решающим преимуществом перед остальными -
самым высоким социальным статусом. Он определялся только про-
исхождением. Письменные источники свидетельствуют о главен-
ствующей роли социальной детерминированности в оценке челове-
ка обществом и в его самооценке.
Однако возьмём ещё одного героя этой «Повести», Камунаби Та-
нэмацу, и здесь обнаружим характеристики иного ряда. Он принад-
лежит к сильному роду из провинции Кии; в хозяйстве Танэмацу, ок-
ружённом живой изгородью, сто шестьдесят кладовых, двадцать ко-
ней, пятнадцать быков, десять соколов и более ста работников, ко-
торые занимаются земледелием, винокурением, плотницким ремес-
лом, выплавкой металла, кузнечным делом, окраской пряжи и по-
лотна. Пристальный интерес автора «Повести о дупле» к хозяйст-
венным проблемам, апология экономии наводят на мысль о её ста-
диальном отличии от «Повести о прекрасной Отикубо».
117
Но если бы японская художественная проза в течение немногих
десятилетий прошла путь от полуфольклорной стадии к стадии раз-
витой письменной словесности, мировоззренчески ориентированной
на городской плебс, мы обнаружили бы подтверждение её транс-
формации, во-первых, в бросающемся в глаза быстром социально-
экономическом развитии Японии, во-вторых, в фиксации второй стадии
в широком круге литературных произведений.
Ни того, ни другого в действительности не было. Тем не менее
некоторая перестановка ценностных ориентиров в «Повести о дуп-
ле» имеет сравнительно простое объяснение. «Повесть» создана в эпо-
ху кристаллизации японской письменной традиции. Уже существо-
вало представление об иерархии жанров. «Повесть», написанная по-
японски национальным слоговым письмом, котировалась недоста-
точно высоко. Среди прозаических жанров самым авторитетным
считался хроникально-исторический, где за образец были приняты
китайские династийные истории. Японским эквивалентом династий-
ных историй явились «Риккокуси» (AHife, «Шесть отечественных
историй»), написанные камбуномс 720 по 901 гг.: «Нихон сёки», «Сё-
ку Нихонги», «Нихон коки», «Сёку Нихон коки», «Нихон Монтоку-
тэнно дзицуроку» и «Сандай дзицуроку». В подражание им некото-
рые хэйанские придворные вели дневниковые записи, в которых
фактографический, статистический аспект часто становится опре-
деляющим. Оценки в таких записях давались преимущественно с
конфуцианских позиций. В японоязычной прозе того времени они
имеют не много соответствий, зато напоминают художественную прозу
позднего средневековья, непосредственно с ними не связанную.
И всё-таки, среди основных претендентов на руку Атэмия один
обрисован в том же ключе, что и незадачливые женихи из «Повести
о старике Такэтори». Это принц Кандзукэ, способный совершать
очень неблаговидные поступки для достижения своей цели. Он ре-
шил посоветоваться с буддийским монахом (сан его обозначен тер-
мином дайгоку, «великая добродетель», санскр. бхаданта) о том, как
бы ему заполучить Атэмия. Монах, в свою очередь решивший с по-
мощью принца собрать для своего храма денежные пожертвования,
обещает ему содействие каждого из «миллиона синтоистских бо-
жеств и семидесяти трёх тысяч будд», если им совершат соответ-
ствующие подношения. Принц Кандзукэ вынашивает план овладеть
девушкой, когда она отправится в храм на горе Хигасияма, но та
разгадывает коварный замысел, и в засаду угождает подставная «не-
веста». Кандзукэ остаётся ни с чем. Этот эпизод выглядит как са-
мостоятельная новелла, выпадающая из образного, стилистического
и мировоззренческого ряда «Повести о дупле» в целом. И монах,
именуемый Великой добродетелью, и принц Кандзукэ описаны здесь с
оттенком сарказма, прагматичные будды в передаче монаха ничем
не напоминают того идеального Будду, который встречался в на-
чале повести, нарочитая приземлённость изложения контрастирует
с возвышенным, несколько сказочным повествованием о Тосикагэ и
118
его чудесной семиструнной цитре и сентиментальным изложением
жизни матери и сына в дупле старой криптомерии в Северных горах.
Третья часть моногатари напоминает куртуазный роман. Здесь
читатель почти не встречается с мотивом волшебного исполнения
музыки. Рассказ посвящён описанию придворных интриг, которые пле-
тут вокруг назначения нового наследника престола. У нынешнего
наследного принца две жены - Атэмия и Насицубо, и каждая имеет
сына. При дворе образуются две партии: одна, во главе с отцом
обоих претендентов и его тестем, Левым министром Масаёри, под-
держивает кандидатуру сына Атэмия; другая, во главе с императри-
цей, супругой императора Судзаку, и бабушкой обоих мальчиков,
выступает за сына Насицубо.
Императрица пытается привлечь на свою сторону самых влиятель-
ных лиц в государстве, и в их числе Накатада, ставшего генералом,
искушённым придворным политиком. Она раздосадована неуспехом
своих попыток и жалуется императору на то, что среди высших его
придворных нет мудрых и что «все они подобны девчонкам».
В ответ на её жалобу император даёт характеристики прибли-
жённым своим сановникам, замечая между прочим: «...миром долж-
ны управлять Левый министр и Накатада-но асон». Значит, герой
«Повести» занял одно из первых мест в высшем эшелоне власти, он
связан родственными узами с крупнейшими сановниками и даже с
отпрысками царствующего дома. В глазах средневекового японско-
го автора это - высшее вознаграждение за достоинства для смертного.
Четвёртая часть «Повести о дупле» снова возвращает читателя к
теме волшебной цитры. Накатада сооружает у себя в усадьбе вы-
сокую башню и вместе со своей матерью тайно обучает там игре на
этом инструменте свою дочь Инумия. Когда обучение закончено, и в
усадьбе героя собираются придворные, его мать начинает переби-
рать чудодейственные струны. Эхом отзывается на её игру гром,
сотрясается земля, звёзды сбиваются с курса, и до краёв поднима-
ется вода в пруду. Тут замыкается тематическая цепь, связывающая
эту неоднозначную по языку, художественным приёмам и идеям,
структурно несколько рыхлую «Повесть» в единое целое.
Ссылаясь на авторитет исследователей, Иэнага Сабуро отмечает,
что в данном произведении «его композиционные элементы (первая
часть, повествующая об удивительных приключениях матери и ре-
бёнка Тосикагэ, живущих в дупле, вторая часть, в которой речь идёт
о борьбе за императорский трон, и вставленный между ними рассказ
о многочисленных женихах красавицы Атэмия) внутренне не связа-
ны и соединены лишь чисто механически; в нём нет единой, прони-
зывающей всё повествование темы. <...> Нельзя отрицать, что в це-
лом это произведение выглядит рыхлым и непоследовательным»
[Иэнага, 1972, с. 81]. Нужно признать, что Иэнага прав, указывая на
композиционные недостатки «Повести». Вместе с тем,фактом оста-
ётся и огромная её популярность в хэйанском обществе. В конце X в.
Сэй-сёнагон так описывала один из разговоров в придворной среде:
119
«Возле государыни собралось множество дам, присутствовали и
придворные сановники. Шел литературный спор. Приводились для
примера достоинства и недостатки романов.
Сама императрица высказала своё суждение о героях романа "Дуп-
листое дерево"47 - Судзуси и Накатада.
- А вам какой из них больше нравится? - спросила меня одна
дама. - Скажите нам скорее. Государыня говорит, что Накатада ре-
бенком вел жизнь дикаря...
- Что же из того? - ответила я. - Правда, небесная фея спусти-
лась с неба, когда Судзуси играл на семиструнной цитре, чтобы по-
слушать его, но все равно он - человек пустой. Мог ли он, спраши-
ваю, получить в жены дочь микадо?
При этих словах все сторонницы Накатада воодушевились...»
(пер. В. Н. Марковой)
«Повестью о дупле» завершается ранний этап развития цукури
моногатари, одновременно с которым возникает своеобразный по-
этико-повествовательный жанр ута-моногатари.
Ута -монога тари -
поэтико-повествовательный жанр
Крупный японский специалист по литературе раннего средневе-
ковья Акияма Кэн называет середину X в. «эпохой ута-монога-
тари» [Итико, 2, 1984, с. 147]. На протяжении полувека, начиная с
920-х гг., увидело свет три произведения этого жанра: «Исэ монога-
тари», «Ямато моногатари» и «Хэйтю моногатари»48, формально од-
нотипные и вместе с тем настолько разные стилистически, что и по
прошествии тысячи лет питают дискуссии по поводу жанровых ха-
рактеристик ута-моногатари, проблем внутреннего единства каждо-
го из этих произведений, роли прозаического и поэтического эле-
ментов в нём.
Ута-моногатари (ЭК^Ж) - это произведение художественной
литературы, состоящее из большого количества миниатюр, обра-
зованных одним или несколькими стихотворениями-танка, переме-
жающимися прозой. Так, «Исэ моногатари» 920-е гг.?)
включает в себя в зависимости от списка от 125 до 143 таких ми-
ниатюр и до 209 танка в них.
47 Т. е. «Повесть о дупле».
48 На русский язык из них переведены два: «Исэ моногатари» - Н. И. Конрадом
[Исэ-моногатари, 1921] и «Ямато моногатари» - Л. М. Ермаковой [Ямато-моиогата-
ри, 1982]
120
«Когда впервые знакомишься с произведением, носящим назва-
ние "Исэ-моногатари", - писал молодой Н. И Конрад после своего
перевода памятника на русский язык, - то сразу же создаётся впе-
чатление, что все оно слагается из ряда отрывков, совершенно за-
конченных в своих пределах и друг от друга независимых... При
этом начинает казаться, что и самый порядок этих отрывков, их вза-
имное расположение также не играет особенной роли: один отры-
вок как будто может спокойно стать на место другого, без всякого
ущерба к главному смыслу произведения и характеру самой ком-
позиции. И японская критика в общем подтверждает и то, и другое
впечатление: она говорит о возможности - в течение исторического
существования повести - различных вставок, перестановок, каса-
ющихся не только отдельных фраз, но и самих отрывков в целом»
[Конрад, 1974, с. 206].
Отдельная проблема - соотношение стихов и прозы в каждой
миниатюре в отдельности и в «Повести» в целом. Прозаические
части миниатюр напоминают вступления к стихам (ЖЖ, хасигаки
или |в] Ж, котобагаки), помогающие читателю сориентироваться в об-
стоятельствах, при которых они складывались. Такие вступления
очень распространены в поэтических антологиях X в «Кокин вака-
сю» (905 г.) и особенно «Госэн вакасю» (951 г.). Вторую из них иног-
да даже называют стихотворным собранием типа ута-моногатари.
[Итико, 1984, с. 147]. По-видимому, разница между ними прежде
всего функциональная. Подробному рассмотрению подверг в своё
время соотношение между прозаическими и поэтическими частями
«Исэ моногатари» Н. И. Конрад.
«Очень многие из ученых-японцев - исследователей "Исэ-моно-
гатари" считали и считают, что центр тяжести в каждом отдельном
отрывке лежит в его стихотворной части. Ведь стихотворения обя-
зательно входят в состав каждого из них и как будто являются са-
мым значительным элементом всего целого. Если это так, продол-
жает эта теория, то "Исэ-моногатари" следует считать не "повестью",
но книгою стихов, собранием ряда стихотворений, снабжённых
вводными замечаниями, попутными примечаниями и объяснениями,
долженствующими облегчить читателю проникновение в истинный
смысл каждого стихотворения, разъяснив, при каких обстоятельст-
вах, по какому поводу, в какой обстановке было оно создано. Вся
прозаическая часть "Исэ-моногатари" при таком взгляде не более
как пояснительные ремарки. При таком взгляде, конечно, падает
вся ценность произведения, так как большинство его стихотворений
размещено в различных поэтических антологиях того века, где мно-
гие из них также имеют свои, объясняющие ремарки. Всё отличие
"Исэ-моногатари" от этих мест заключается, следовательно, только
в большем развитии этих пояснительных примечаний. Этим, на мой
121
взгляд, уничтожается всякая художественная самостоятельность
"повести" как особого произведения'”.
Однако великая слава именно "повести", неизменно сопутство-
вавшая ей за всё время её существования, сама по себе опровергает
такое мнение49 50. "Исэ-моногатари" не сборник стихов, но вполне са-
модовлеющее художественное произведение, как нельзя лучше пред-
ставляющее собою Хэйан в его подлинной сущности: оно дает нам
картину её быта, уклада, не философию, но является художествен-
ным адекватом своей эпохи... Сквозь эту призму может выясниться
и композиционная сущность отрывков в отношении их двух состав-
ных частей: прозы и стихотворения» [Конрад, 1974, с. 207-208].
Нужно заметить, что большинство стихотворений в «Исэ моно-
гатари» принадлежит кисти прославленного поэта и художника Ари-
вара-но Нарихира (825-880), который был внуком императора, за-
нимал видный придворный пост, славился красотой и многочислен-
ными любовными приключениями. Его же традиция считает героем
«Повести» и наиболее вероятным её автором.
Как литературный герой Аривара-но Нарихира (в «Исэ монога-
тари» - «некий мужчина», «этот мужчина», «мужчина из рода Ари-
вара») положил начало японскому варианту Дон Жуана (дальнейшее
его развитие - образ блистательного принца Гэндзи у Мурасаки-си-
кибу, XI в.). Любвеобильный герой японской литературы отличает-
ся от европейского, во-первых, тем, что для него не существует за-
претных границ в любовных приключениях (в роли его любовниц
выступают даже супруга императора, в 65-м отрывке, и незамужняя
принцесса крови, верховная жрица синтоистского святилища в Исэ -
в 69-м), и, во-вторых, безусловным одобрением не только со сторо-
ны автора, но и со стороны многих поколений читателей «Повести».
Расположение же автора и читателей «Исэ моногатари» вызывают
не любовные похождения героя как таковые, а его элегантность
(Ж мияби). Эстетический критерий становится определяющим при
оценке не только героя, но и явления природы, события и т. д.
Традиционная атрибуция памятника современными специалиста-
ми не считается убедительной. Д. Кин соглашается с выводами япон-
ских учёных о том, что в современной форме «Исэ моногатари» уже
существовала в середине X в., а возможно, и раньше, но что работа
по завершению произведения продолжалась, вероятно, ещё лет 70
[Кин, 1993, с. 453] и состояла из трёх стадий, значительно отдалён-
ных во времени одна от другой [там же, с. 472] (см., также: [Кониси,
49 С этой точкой зрения согласиться трудно. Она основана на европейском пони-
мании специфики стихотворного сборника. Японская поэтика предъявляет к собра-
нию стихотворений строгие композиционные требования, следование которым дела-
ет такое собрание самостоятельным художественным произведением, независимо от
объёма и характера прозаических вступлений.
50 В действительности традиция не доказывает истину, а только указывает на-
правление исследования
122
1986, с. 360]). Соответственно, и автором «Исэ моногатари» нельзя
считать одного человека.
Текстологами в «Исэ моногатари» зафиксированы некоторые де-
тали, заслуживающие внимания в этом плане. Среди многочислен-
ных списков повести выделяется группа, восходящая к нескольким
копиям, снятым крупнейшим японским текстологом, литературове-
дом и поэтом XIII в. Фудзивара Тэйка (Садаиэ, 1162-1241). Они объ-
единяются под общим названием «Дэн Тэйка хицу бон»
«Списки, идущие от кисти Тэйка») и состоят из 125 миниатюр. В
этих списках доля стихотворений Аривара-но Нарихира выше, чем в
более пространных. Но ещё раньше, в конце X столетия, распрос-
транялись списки этой же повести, включающие всего пять-десять
миниатюр и начинающиеся с эпизода, связанного с посещением ге-
роем «Повести» верховной жрицы святилищ Исэ.
Возможно, именно вниманием к этому эпизоду и объясняется
наиболее распространённое название произведения: «Повесть из
Исэ». Интересно также, что краткие списки «Повести» имели наз-
вания, позднее вышедшие из употребления, - те, что указывали не
то на автора, не то на главного героя произведения: «Дзайго-га мо-
ногатари» (-ЙЕЗгЙ^йп) и «Дзайго тюдзе-но никки» 0 IE).
Оба названия нуждаются в некоторых пояснениях. Во-первых, они
включают разные жанровые меты - «повесть» {моногатари) и «днев-
ник» {никки), и, во-вторых, прямо указывают на Аривара-но Нари-
хира: тюдзё- это высокое звание в отряде дворцовой гвардии (впос-
ледствии оно стало считаться эквивалентным званию армейского
генерал-лейтенанта, звание тюдзё имел Нарихира); дзай - японизи-
рованное китайское чтение первого иероглифа из двух, которыми
пишется фамилия Аривара (в то время - замена распространённая,
часто встречается в кансй)', го буквально означает «пять». Здесь не-
обходимо вспомнить, что Аривара для Японии IX в. фамилия новая.
Около 830 г. император Дзюнна (на престоле - 824-833) присвоил её
детям принца Ахо (792-824), сына императора Хэйдзе (правил в
806-809), а Нарихира был пятым ребёнком принца Ахо. Таким обра-
зом, приведенные названия означают соответственно: «Повесть о
пятом из Аривара» и «Дневник тюдзё, пятого из Аривара».
В истории литературы известны и такие дневники, в название
которых выносилось имя или звание автора, и такие, которые назы-
вались по имени автора стихов, положенных в основу произведения,
маркированного как дневник, так что само заглавие ещё не может
служить убедительным аргументом в споре об атрибуции (граммати-
чески допускаются оба толкования). Так или иначе, большая часть сти-
хотворений, помещённых даже в пространных списках «Исэ моно-
гатари», текстуально совпадает со стихотворениями Аривара-но На-
рихира из «Поэтического собрания Нарихира» (Л^РЖ, «Нарихира
сю»). Правда, в наше время трудно установить, послужили ли мате-
риалом для «Исэ моногатари» стихотворения из собрания Нарихира,
или же само это собрание было составлено из стихотворений, взя-
123
тых готовыми из «Повести из Исэ». Нельзя исключать вероятности
того, что у обоих произведений был какой-то третий, не дошедший
до потомков, источник. Бесспорно одно - личность Нарихира как
предполагаемого героя всей или почти всей «Повести из Исэ» со-
общает ей некий вид единства - единства, которого нет в другой по-
вести, созданной в том же жанре в середине X в. (951-952 гг.?),
«Ямато моногатари» (^fQ^an, «Повесть из Ямато» - о её датиров-
ке см.: [Ермакова, 1982, с. 13-15]).
Выдвинуто немало версий относительно атрибуции этой второй
«Повести», начиная от Аривара-но Сигэхару (?-?), сына Нарихира, и
кончая известными поэтессами, служившими в свитах принцев
крови (см.: [Ермакова, 1982, с. 15-16]), но все исследователи сходятся
на том, что автор её занимал достаточно высокое положение.
В этой «Повести» «нет главного героя или группы главенству-
ющих персонажей, однако, несмотря на дробность (в наиболее рас-
пространённом современном издании "Ямато моногатари" состоит
из 173 эпизодов, каждый из которых содержит одну или несколько
танка. - В. Г), произведение имеет общую организацию: развитие
повествования происходит в виде цепи. <...> Связи между эпизодами
оказываются весьма разнородными: даны (отдельные миниатюры,
как правило охватывающие в этой повести один эпизод. - В. Г.) мо-
гут объединяться общим персонажем (уровень композиции), сход-
ностью ситуации (уровень сюжета), ассоциируемостью слов (лекси-
ческий уровень), тождественностью лирической эмоции и т. д.» [Ерма-
кова, 1982, с. 20, 21].
Стилистически «Повесть» делится на две непохожие одна на дру-
гую части, граница между ними проходит после 146 дана. В первой
части много кратких миниатюр, состоящих из стихотворения и про-
заического к нему вступления (дан 33):
Мицунэ сложил и поднёс императору:
Татиёраму Коно мото мо наки Цута-но ми ва Токиха нагара-ни Аки дзо канасики Подобно плклцу, Не имеющему дерева, Чтоб опереться, Всё время зелёный. И осенью это особенно грустно. (Пер. Л. М. Ермаковой)
Во второй части много более развёрнутых данов, небольших но-
велл, часть которых впоследствии дала материал для произведений
литературы, например, 147-й дан, послуживший источником сюжета
для пьесы Но «Мотомэдзука» (см.: [Кин, 1993, с. 473]).
При анализе « Ямато моногатари» вновь встаёт проблема иерар-
хии жанров в хэйанской литературе. Как и во всей средневековой
японской литературе, мастерство автора «Повести» в первый черед
проступает в поэзии. Но прозаическое обрамление стихотворений
занимает в целом здесь более важное место, чем в «Исэ моногатари».
124
В очень обстоятельном исследовании памятника, предпосланном
публикации его перевода, Л. М. Ермакова подчёркивает, «...что уси-
лия автора, осознанно или бессознательно, направлены на то, чтобы
повысить значимость прозаического окружения танка, придать ему
новые функции, фиксировать равноправие ута и моногатари внутри
жанра, сместить рамки текста в сторону прозы» [Ермакова, 1982, с. 93].
Следующим «шагом в развитии структуры повествования» [Ити-
ко, 2, 1984, с. 149] считается появление между 959 и 965 гг. «Хэйтю
моногатари» «Повесть о Хэйтю»), посвященной любов-
ным похождениям мелкого придворного чиновника Тайра-но Сада-
буми (Садафуми, Садафун; ум. в 923 г.), реального лица, который
был известен под прозвищем Хэйтю. 39 эпизодов этой повести
включают 152 стихотворения- танка и одно тека, из которых 99 при-
писываются Садабуми. Эпизоды расположены в порядке времён го-
да. Образ Тайра-но Садабуми, двоюродного племянника императора
Уда (на престоле - 887-897); его отец, Ёсикадзэ, был племянником
принцессы Ханси, матери Уда [Тахара, 1980, с. 170]), встречается в
нескольких литературных памятниках X-XI вв. и представлен чаще
всего в роли, противоположной той, в которой представлен Ари-
вара-но Нарихира, - т. е. как неудачливый любовник, нередко ока-
зывающийся в нелепых ситуациях.
В «Повести о Хэйтю» прозаические описания явно превалируют
над поэтическими, расположены по единому принципу и позволяют
проследить переход японской литературы от стихотворных жанров
к повествовательным. Впрочем, в японской науке существует мне-
ние, сторонники которого относят «Повесть о Хэйтю» либо к днев-
никам, либо к стихотворным собраниям (сю) [Кин, 1993, с. 473].
Хэйанская поэзия.
«Кокин вакасю»
Ока Кадзуо, обозревая хэйанскую литературу, считал, что по
признаку преобладания отдельных видов её уместно делить на
четыре эпохи, из них вторая (887-986) является «эпохой расцвета
поэзии на японском языке» [Ока, 1972, с. 7]. Распространено мнение,
что этому расцвету предшествовал этап некоторого понижения её
уровня после «эпохи Манъёсю» [Итико, 1984, с. 66]. Мы видели, что
в это время активизировалось японское стихосложение на китай-
ском языке, чему, несомненно, способствовал расцвет поэтического
искусства в Китае III—VI вв. (эпоха Шести династий, Лючао) с его
изяществом, отточенной техникой, холодной рассудочностью. Мо-
125
жет быть, под воздействием поэзии Лючао, а возможно, и по другим
причинам стихосложение сделалось в Японии не только одним из
престижных занятий, но и необходимым для повседневного общения
людей.
Среди природных явлений есть несколько, любование которыми
доставляло хэйанцам особое эстетическое наслаждение - это цвете-
ние сакуры, полная луна на безоблачном небе, хризантемы или
ирисы в цвету, багряные листья клёнов, свежевыпавший снег. Ими
чаще всего любовались в компании, особенно если дело касалось
придворных кругов. В IX в. такие коллективные любования в со-
четании со всякого рода развлечениями и церемониями стали вклю-
чать в себя состязания в стихосложении («$?п, утаавасэ). Эти со-
стязания проводили и по большим праздникам (день Танабата в 7-й
день 7-й луны, 15-й день 8-й луны, 9-й день 9-й луны и т. д ).
Достигнув расцвета в XII—XIII вв., утаавасэ практиковались япон-
цами много столетий, вплоть до начала XX в. Насаждавшиеся при
дворе в качестве средства поощрения автохтонной поэзии, стихо-
творные состязания на первых порах привлекали внимание не столько
ценителей поэзии, сколько ревнителей ритуала. Стихи в них часто
высокими достоинствами не блистали.
Подготовка к утаавасэ занимала месяцы. Подбирались участники
каждой из двух соперничающих команд, «левой» и «правой». Для
каждой команды утверждались капитаны, их помощники, деклама-
торы. Тщательно комплектовалась коллегия судей. По её сигналу
одна из команд оглашала стихотворение-танка на заданную тему.
Другая отвечала своим экспромтом, в котором обыгрывались тема-
тика и образы, использованные соперниками. Размах состязания варьиро-
вался: от нескольких десятков до полутора тысяч стихотворений.
Многочисленные знатоки и судейская коллегия оценивали достоин-
ства и недостатки поэтических миниатюр, судьи вырабатывали
критерии оценок, а в конце состязания определяли и его победителя.
Стихотворения стали записывать, их сборники снабжали преди-
словиями. Самым старым из сохранившихся сборников подобного
рода является «Дзай Мимбу-но ке кэ утаавасэ» (ЙЁйКЙ^Э^'а, «Сти-
хотворное состязание в доме Министра народных дел [Аривара]»),
записанный в доме высокопоставленного чиновника и поэта Арива-
ра-но Юкихира (818-893) между 884 и 897 гг.
Осенью 893 г. мать царствовавшего тогда покровителя японской
поэзии императора Уда устроила одно из крупнейших стихотворных
состязяний того времени, получившее известность как «Кампё-но он-
токи-но кисаи-но мия-но утаавасэ» «По-
этическое состязание во дворце вдовствующей императрицы в августей-
шее правление Кампё»). Сугавара Митидзанэ по материалам этого
состязания составил сборник под названием «Канкэ Манъёсю» (ИгЖ
ТзЖЖ, «Манъёсю дома Сугавара»), поместив стихи «левой сторо-
ны» в первый («верхний») свиток, а стихи «правой стороны» во вто-
рой («нижний»). Каждое стихотворение в сборнике сопровождалось
126
его поэтическим переводом на китайский язык, выполненным семи-
словными канси.
Стихотворные состязания устраивали по случаю загородных вы-
ездов императора (темы всякий раз задавались особые), паломни-
честв, разного рода общих увеселений. Роль японских пятистиший в
общественной жизни продолжала повышаться, но теперь всё боль-
шее внимание судей (и поэтов) стала привлекать к себе стихотвор-
ная техника - и в самом звукоплетении (создание с его помощью
второго, а иногда и третьего смыслового ряда), и в использовании
специальных поэтических средств - постоянных эпитетов, стилисти-
ческих введений, метафор, сравнений и других, детально проанали-
зированных И. А. Борониной [Боронина, 1978].
В 894 г. император Уда велел поэту Оэ-но Тисато (?-?) составить
стихотворный сборник, где материал был бы классифицирован по
темам, а осенью 898 г. Уда, бывший уже экс-императором, распор-
ядился провести «цветочный турнир» (ханаавасэ) среди придворных
дам. Дамы во врема турнира соперничали между собой красотой бу-
кетов, а стихо-творения сочиняли известные поэты того времени.
В 913 г. в резиденции экс-императора Уда организовали утаавасэ
под названием «Тэйдзиин». Сборник, ему посвящённый, впервые со-
держит описание процедуры состязания.
Если сделать полный перечень всех стихотворных состязаний
конца IX-начала X в., сборников, составленных по их результатам,
можно обнаружить тенденцию к повышению роли японоязычной
поэзии в жизни общества, к совершенствованию стихотворной тех-
ники, к осознанию необходимости теоретического осмысления япон-
ской поэзии.
Интерес к поэзии на родном языке многие старые японские учё-
ные объясняли покровительством поэзии со стороны двора. В том,
что оно существовало реально и помогало развиваться талантам
хэйанских поэтов, усомниться трудно, однако и само покровитель-
ство было не первопричиной, а следствием объективного процесса ук-
репления культурного самосознания японцев в обстановке сравни-
тельной культурной автономии, установившейся в последней чет-
верти IX в.
«Явлением культурного перехода в Японии в это время является
также ясность в архитектурных стилях, известная как синдэн-дзуку-
ри, стиле жилой архитектуры, который был популярен среди знати
за его естественный и гармоничный вид. Это стиль, отводящий глав-
ную роль обширным садам, устроенным в подражание пейзажу, и
строениям, покрытым тонкими слоями коры кипариса японского.
На ширмах и перегородках внутри зданий должны были находиться
работы лучших художников, изображающие японские пейзажи в
разные сезоны» [Тадзава и др., 1973, с. 45].
Эти слова японских историков культуры как бы обобщает харак-
теристика эпохи, принадлежащая Иэнага Сабуро: «Аристократиче-
ская культура этого периода, когда приток иноземной культуры по-
127
чти прекратился, неизбежно должна была приблизиться к жизни
японцев и стать так называемой национальной культурой с ярко
выраженными специфическими японскими чертами. То обстоятель-
ство, что японская культура обрела независимость от континенталь-
ной и одновременно достигла высокого совершенства с точки зре-
ния своих художественных достоинств, хотя и породило ряд новых
проблем, тем не менее явилось выдающимся событием в её исто-
рии» [Иэнага, 1972, с. 73].
Действительное положение дел в японской культуре вообще, и в
поэзии в частности, представляется ещё сложнее, чем оно обрисова-
но Иэнага. На этой проблеме мы остановимся позднее, а сейчас, в
связи с распространением стихотворных состязаний в повседневной
практике высшего хэйанского общества, отметим лишь, что их про-
ведение сопровождалось коллективной выработкой критериев для
судейских поэтологических оценок, а следовательно, вело к разви-
тию теории японской поэзии. Всё активнее появляются работы по
теории поэзии (®Сйи, карой).
Увлечение стихосложением сказывалось и в том, что стихи запи-
сывали на складных ширмах, на веерах, в домашние (личные) анто-
логии (Я^Ж, ^АЯ^Ж, касю, сикасю). Впервые такие антологии по-
явились в эпоху «до Манъёсю» [Кунайфу, 1948, с. 75]. В качестве от-
дельных блоков в «Манъёсю» вошли домашние собрания бтомо и
некоторых других старинных родов.
Составителями сикасю были самые разные люди, от провинци-
альных чиновников до императоров. Сборники были двух видов - в
одних стихи подбирал сам поэт, в других - сторонние люди. В сика-
сю первого вида поэт записывал свои стихотворения, сочинённые по
разным поводам - при переписке с друзьями и знакомыми, при по-
сещении храмов, во время поэтических состязаний, по заданию им-
ператора во время загородной прогулки, для выражения личных пе-
реживаний и т. д. - а также чужие, полученные во взаимной пере-
писке, услышанные случайно, пришедшие на память под влиянием
случая... Ко второму виду относятся сборники, в которые стихи под-
бирались целенаправленно кем-то из потомков или учеников поэта
по тому или другому признаку.
Большинство стихотворений, включённых в сикасю, снабжалось
прозаическими введениями в ситуацию. Если группа стихотворений
оказывалась связанной по тематическому, ассоциативному или хро-
нологическому признакам, соответствующий раздел собрания напо-
минал или стихотворно-прозаическую повесть ута-моногатари, или
произведение дневниково-мемуарной литературы, или путевые за-
метки. Границы жанров в художественной литературе были зыбкими.
* *
A
В восемнадцатый день 4-й луны Энги 5-го года (28 мая 905 г.) им-
ператор Дайго (на престоле - 989-930) повелел «сведущим в
песнях Ямато людям собраться в некотором месте к востоку от Па-
вильона благовоний», в центре императорского дворцового ансамб-
ля «и представить ныне уже старинные песни» [Икэда, 1968, с. 97-98;
Фудзиока, 1968, с. 70-71]. Император «повелел старшему секретарю
Ки-но Томонори, главному хранителю придворной библиотеки Ки-
но Цураюки, бывшему малому чиновнику из провинции Каи Осико-
ти-но Мицунэ и писцу из Правой дворцовой гвардии Мибу-но Тада-
минэ представить ему не вошедшие в "Манъесю" старинные песни, а
также их собственные» [Кокин вакасю, 1970, с. 102]. На эту работу
предполагалось отвести лет восемь-девять.
Работа по составлению антологии затянулась. После смерти в
том же 905 г. Ки-но Томонори работу редакционного комитета воз-
главил Ки-но Цураюки (?-945), поэт и филолог, специалист в об-
ласти китайской книги. Когда составление было завершено, антоло-
гия была названа «Продолжение "Манъесю"». Состояла она из двадца-
ти книг, внутри которых материал группировался по темам, и вклю-
чала около 1100 стихотворений (в наиболее пространном списке -
1111), предисловие Ки-но Цураюки на японском языке (канадзе) и
послесловие Ки-но Ёсимоти на китайском языке (Ж^ДТ, манадзе).
Это была первая из серии в 21 поэтическую антологию, составлен-
ную по непосредственному повелению императора (ZH—RM, ни
дзюитидай сю ).
Первоначальное название не закрепилось за антологией. В исто-
рию японской литературы она вошла как «Кокин вакасю» (Й'^^Пйк
Ж, сокр.: «Кокинсю», «Собрание старых и новых японских
песен»)51. Большое число стихотворений в антологии принадлежит
неизвестным авторам, а указанных участников антологии в разных
списках 122 или 124 человека. Около 20% стихотворений (по некото-
рым спискам - 22%) сложено самими составителями (Цураюки - 95,
Мицунэ - 55, Томонори - 45, Тадаминэ - 30). Из числа идентифици-
рованных авторов самым ранним по времени является Абэ-но Нака-
маро (698-770). Последнее из датируемых стихотворений относится
к 913 г.
Восемь из идентифицированных составителями антологии поэ-
тов представляли императорскую семью (15 стихотворений), но аб-
солютное большинство - среднюю и низшую аристократию. Многие
стихотворения были в своё время признаны лучшими на поэтиче-
ских состязаниях.
51 На русский язык антология переведена А. А. Долиным, см.: [Кокинвакасю,
1995].
5 Зак.3732
129
«Антология эта для своего времени необычайная. В ней есть
"Введение" главного редактора, в котором определялось, "что такое
поэзия", устанавливалось, как она развивалась. Источником поэзии
было объявлено "человеческое сердце", т. е. мир чувств и эмоций;
очень высоко был оценен сборник "Манъёсю"; два поэта этого сбор-
ника - Хитомаро и Акахито были провозглашены мудрецами (хи-
дзирй), т. е. величайшими учителями всех поэтов; сообщалось, что
после них поэзию вели роккасэн (шесть магов поэзии), как были
названы шесть наиболее прославившихся поэтов IX в. с Нарихира и
Комати во главе; сделан разбор их творчества» [Конрад, 1974, с. 90].
Новаторство составителей сказалось и в распределении поэти-
ческого материала. Если не считать разделов «Песни смешанных
форм», «Песни из собрания Палаты песен» и некоторых других, вы-
деленных по дополнительным признакам, основной поэтический ма-
териал сгруппирован в отдельные книги по тематическому призна-
ку: песни Весны, Лета, Осени, Зимы, Славословия, песни Разлуки,
Странствий, Наименований вещей, песни Любви, песни Скорби... При
этом «сезонные» песни и песни о любви (граница между ними подчас
оказывается условной) составляют более двух третей антологии -
702 произведения. Для японской поэзии такой принцип деления при-
меняется впервые и служит одним из признаков, отличающих «Ко-
кин вакасю» от «Манъёсю».
В работе по истории японской литературы Като Сюити приведе-
но стихотворение Ки-но Цураюки, внесённое в антологию «Кокин
вакасю» под номером вторым:
«Сложено в первый день весны
В день начала весны
растопит ли все-таки ветер
тот покров ледяной
на ручье, где берем мы воду,
рукава одежд увлажняя?»
(Пер. А. Долина)
«Эта тема, - комментирует его японский учёный, - редка в
"Манъёсю" и типична для "Кокинсю". Эстетика "Кокинсю", прида-
ющая такое же важное значение подобным новым темам (сезонные
цветы, птицы, ветер, луна), как и любви, явно отличается от эстети-
ки "Манъёсю". То знаменитое "японское чувство сезонов", которое
через некоторое время привело к сезонной теме в хайку, берёт на-
чало здесь. Кроме того, здесь же, видимо, началось и то, что назы-
вается "японской любовью к природе"» [Като, 1975, с. 131].
Внутри каждого раздела антологии стихотворения расположены
в порядке возникновения, нарастания, расцвета и постепенного уга-
сания признаков того явления, которое обозначено в названии этого
раздела: определённое время года, любовь, чувство разлуки и т. д., -
так что каждый тематический раздел производит впечатление за-
130
конченного целого (оно поддерживается соблюдением общего стиля,
ассоциативных связей, образного строя, лексики), а вся антология,
будучи собранием независимых друг от друга стихотворений, одно-
временно является и художественно единым произведением52. Со вре-
мён «Кокин вакасю» искусство лепить из разрозненных осколков
нерасторжимое целое - одно из самых, примечательных и специфи-
ческих в истории японской поэзии.
С точки зрения формы за полтора столетия, прошедшие от вре-
мени составления «Манъёсю» до эпохи «Кокинсю», в японской поэ-
зии продолжается активное вытеснение жанров сэдока и тёка (нага-
ута ) стихотворениями в жанре танка.
«В "Манъёсю" содержится 4496 стихотворений, из них:
1. Сэдока- 61
2. Нагаута - 262
3. 7атига-4173
В "Кокинсю" заключено 1100 стихотворений, из них:
1. Сэдока- Ь
2. Нагаута - 5
3. Танка - 1091» [Конрад, 1974, с. 42].
Это свидетельствует о том, что в эстетике новая антология де-
монстрирует начало одной мощной тенденции, в стихотворных фор-
мах - завершение другой, в целом же говорит о небывалом подъёме
авторитета японоязычной поэзии. В иерархии жанров танка впер-
вые и надолго заняли верхнюю ступень.
«Кокинсю» - первая «императорская» (т. е. составленная по пря-
мому распоряжению императора) антология поэзии на японском языке,
но не первая официальная антология вообще. Таковыми считаются
появившиеся за сто лет до неё японские сборники стихов на китай-
ском языке «Рёунсю», «Бунка сюрэйсю» и «Кэйкокусю», потому что
сама идея официальной литературы японцами была заимствована в
Китае [Като, 1975, с. 127].
Эпоха Тан (VI-IX вв.) и особенно эпоха Лючао (Шести династий,
III-VI вв.) отмечены в Китае расцветом поэтического искусства. Бы-
ли до тонкости отработаны формальные аспекты стиха, продумано
соотношение формы и содержания. Поэты удостоились официаль-
ного признания, но в творчестве многих авторов на передний план
выходит то экспрессия, то рассудочная надуманность [Ока, 1975, с. 119].
Составление «Кокин вакасю» свидетельствует о том, что при
дворе сочли, что японская поэзия по её роли в общественной жизни
вполне может быть равновеликой поэзии китайской в жизни китай-
ского общества. Тем более, что с прекращением официальных кон-
52 Правило показа каждого явления от его зарождения до угасания соблюдается
составителями антологии не всегда последовательно: кн. XIX отведена для «стихо-
творений смешанной формы» (68 стихотворений), а кн. XX - придворной поэзии (32
стихотворения). Эти отступления от общего правила (ок. 9% всего объёма антоло-
гии) нарушают стройность системы.
131
тактов с Китаем поиски местных эквивалентов китайским культур-
ным феноменам активизировались. Как высшее из искусств поэзия
в хэйанской Японии стала рассматриваться исключительно по при-
меру танского Китая. Замена иноземных образцов местными произво-
дилась по чужому шаблону, однако приводила к преимущественно-
му развитию специфических категорий, остававшихся в тени у тех
же китайцев. К числу таких категорий относятся в первую очередь
эстетические.
Предисловие к репрезентативному собранию японской поэзии
должно было содержать не столько критерии оценки стихов, сколь-
ко провозглашение ценности японской поэзии как таковой. И, как в
случае с «Записями о деяниях древности» и «Анналами Японии», дуб-
лироваться китайским текстом, с тою же целью. В «Собрании ста-
рых и новых японских песен» эту роль выполняет манадзё Ки-но
Ёсимоти, в котором целые обороты заимствуются из главного пре-
дисловия к китайской классической «Книге песен» «Шицзин»)
[Кин, 1993, с. 246].
Ки-но Цураюки представил в своём предисловии не антологию
«Кокин вакасю», а японскую поэзию в целом. Первая группа вопро-
сов, на которые он отвечает, - откуда берётся японская песня, зачем
и как существует, на что способна и какова роль поэзии в жизни
людей.
Песни Ямато, пишет Цураюки в начале своего предисловия, это
людские сердца, которые проросли, как семена, и результатом яви-
лись листья десяти тысяч явлений, т. е. слова, обозначающие всё на
свете. Всё, что видят и слышат, всё, о чём думают и чем заняты лю-
ди, выражается в песне. Поёт - каждый свою песню - и соловей
среди цветов, и лягушка в воде. Всё живое поёт свою песню.
Песня всемогуща: она и движет Небо и Землю, и очаровывает
злых духов и ками, невидимых глазу, и смягчает отношения между
мужчиной и женщиной, и успокаивает сердца жестоких воинов.
В других разделах предисловия трактуется и лирическое начало
японской поэзии, идущее «от правлений древних микадо». Идея искон-
ности японской поэзии подчёркивается недвусмысленно, хотя само
сравнение японских песен с «людскими сердцами, которые проросли,
как семена», заимствовано из предисловия к древнекитайской «Кни-
ге песен». Цураюки здесь даже замечает: «В китайской песне тоже
должно быть так», - как бы отмечая первичность японской поэзии
по сравнению с китайской
Сделав отступление в область функций поэзии, автор преди-
словия к «Собранию старых и новых японских песен» переходит к
проблеме истории японского письменного творчества:
«С древнейших времен передавались меж людей песни, но лишь с
эпохи Нара стали они распространяться повсеместно. В те годы го-
судари ведали душу песен, истинную их сущность, и недаром в их
правление премудрым песнопевцем слыл Какиномото-но Хитомаро,
вельможа третьего ранга. Можно сказать, что тем самым правители
132
воссоединялись с народом. Осенним вечером палые листья, что плы-
вут по течению реки Тацута, казались Государю златотканой пар-
чой; весенним утром цветущие вишни в горах Есино представлялись
Хитомаро белыми облаками. Еще жил в ту пору муж по имени Яма-
бэ-но Акахито. Дивны и чарующи были его песни. Затруднительно
поставить Хитомаро выше Акахито иди же Акахито - ниже Хито-
маро» (здесь и далее предисловие цитируется в пер. А. Долина, см.:
[Кокинбакасю, 1995])
Так Ки-но Цураюки охарактеризовал поэзию «Манъёсю». После
этого он остановился на эпохе «шести гениев» (АЭНФ, роккасэн -
шесть магов, чародеев, бессмертных мудрецов) японской поэзии. Здесь
уже, разбирая творчество «шести», он указывает и достоинства их, и
недостатки.
Первым назван содзё (высший буддийский священнослужитель)
Хэндзё (816-890), мирским именем которого было Ёсиминэ-но Му-
нэсада. Это был образованный человек высокого происхождения и
общественного положения. Внук императора Камму (737-806) и лю-
бимец императора Ниммё (810-850), в молодости он занимал долж-
ности помощника командира Левой дворцовой гвардии, в 849 г. стал
главой Ведомства дворцовых служб, а в следующем году, после кон-
чины своего покровителя, принял постриг в монастыре Энрякудзи.
В «Кокинсю» помещено семнадцать его стихотворений. О стихах
Хэндзё Цураюки замечает: «По форме хороши его песни, но им не
хватает искренности. Словно любуешься красавицей на картине, по-
пусту волнуя свое сердце...».
Вторым в этом перечне назван Аривара-но Нарихира: «Сердеч-
ных чувств избыток, а слов недостает. Песни его - словно увядшие
цветы, чья краска уже поблекла, но аромат еще ощутим...» Соста-
вители включили в антологию 30 его стихотворений.
Третьим из шести великих поэтов значится Фунъя-но Ясухидэ,
поэт второй половины IX в. О нём сохранилось не много сведений:
известно, что отец поэта, Мунэюки, был потомком принца Нага и при-
дворным чиновником. Сам Ясухидэ бывал на официальной службе в
провинциях Микава и Ямато, а в 879 г. занял должность, в которой
состоял некогда его отец, - помощника главы придворной мастер-
ской по пошиву одежд. В 890-е гг. он принимал участие в поэти-
ческом состязании в доме принца Корэсада.
«Фунъя-но Ясухидэ, - пишет Ки-но Цураюки, - в подборе слов
искусен, но форма у него не соответствует содержанию. Словно тор-
говец рядится в роскошные одежды...»
«Монах с горы Удзи» по имени Кисэн, названный следом за ним,
представлен в антологии всего одним стихотворением (он жил в IX в.,
до нашего времени в разных сборниках сохранилось три его стихо-
творения). «У инока Кисэна с горы Удзи, - сказано о нём, - значе-
ние слов смутно и смысл песни не всегда ясен от начала до конца.
Будто любуешься осенней луной сквозь завесу предрассветных об-
лаков...» Однако, судя по тому, к какой категории поэтов его отнёс
133
Цураюки в своём предисловии, репутация Кисэна в начале X в. была
ещё очень высокой.
Из числа названных в Предисловии «шести гениев» только один
мог поспорить с Аривара-но Нарихира личной популярностью - по
количеству разного рода преданий, легенд, литературных сюжетов
о превратностях судьбы - это красавица-поэтесса Оно-но Комати
(IX в.). Стихотворения Оно-но Комати отличаются изяществом, бо-
гаты метафорами и омонимическими рядами, расширяющими воз-
можности танка. По словам Цураюки, поэтесса «подобна жившей в
стародавние времена принцессе Сотоори53. В песнях ее много чувст-
ва, но мало силы. Словно запечатленное в стихах томление благо-
родной дамы. Впрочем, от женских стихов силы ожидать, пожалуй,
и не следует». Первое из восемнадцати её стихотворений в ан-
тологии значится под №113:
Вот и краски цветов
поблекли, пока в этом мире
я беспечно жила,
созерцая дожди затяжные
и не чая скорую старость.
(Пер. А. Долина)
Заключает перечень имя Отомо-но Куронуси, поэта, жившего в
первой четверти IX в. и, как и Нарихира, деифицированного после
смерти. Ки-но Цураюки судит о нём без особого пиетета: «Песни
Отомо-но Куронуси на вид неуклюжи. Будто крестьянин в горах
присел отдохнуть под сенью вишневых цветов с вязанкой хвороста
за плечами...» В «Кокинсю» помещено три его стихотворения.
Если внимательно посмотреть, как Ки-но Цураюки оценивает
творчество отдельных поэтов, можно обнаружить в его критериях
три аспекта: «слово» {котоба), «форма» {сама) и «истина», «душа»
или «очарование» {макото, кокоро, аварэ).
Это был традиционный подход. Интересно, что современный
японский литературовед Нисисита Кёити, исследуя поэзию «Кокин-
сю», рассматривает её под тем же углом зрения. «Важнейшие эле-
менты для становления отдельной песни, - пишет он, - кокоро, ко-
тоба и сугата (форма. - В. Г). Кокоро - это вкус, это внутреннее
содержание песни. Котоба - это слова, которые своим звучанием
выявляют кокоро, это слог. Кроме того, это непрерывный узор слов,
выразительность. Сугата - это то, что, выражая кокоро словами,
умело согласует их тон, вызывает у читателя впечатление прекрас-
ного. Критический разбор песни должен исходить из этих трёх ас-
пектов - кокоро, котоба, сугата » [Нисисита, 1973, с. 17]
Словарный запас «Собрания старых и новых японских песен» -
несколько больше 2000, т. е. составляет пятую часть текста (если ис-
ходить из того, что в танка содержится не более десяти слов).
53 Сотоори - легендарная красавица древности, принцесса крови.
134
Форма, по Цураюки, должна, во-первых, обладать «истинным»,
т. е. не быть надуманной, во-вторых, соответствовать содержанию,
в-третьих, быть определённой (но не грубой).
Задачей поэта Ки-но Цураюки считал достижение единства всех
элементов, составляющих песню. Первоначало творческих поисков,
по его убеждению, лежит в образном слове.
Наиболее распространённым приёмом представить предмет в ви-
де готового художественного образа было «смещение понятий». Уви-
деть предмет странно, образно, в непривычной функции, в неестест-
венных для данной ситуации обстоятельствах становится целью по-
эта. Он принимает снег или гребешки морских волн за буйно рас-
пустившиеся цветы, цветы - за снег или белые облака, дождь - за
слёзы, стаю диких гусей - за вереницу лодок, водную гладь - за небо
под ногами, метёлки степной травы сусуки - за рукава любимой,
которая машет ими при расставании, опавшие листья клёна - за пар-
чу, хризантемы - за звёзды, водопад - за белое полотно и т. д.
Расцвет японской поэзии на китайском языке не прошёл бесслед-
но. По наблюдениям Андо Тэруё, многие образы в «Кокинсю» заим-
ствованы из китайской поэзии: звёзды над облаками уподобляются
здесь небесным хризантемам, снег - цветам, ивы - нитям, цветы -
облакам, слёзы - реке; из китайской же поэзии нередко заимствует-
ся и «форма замысла» [Андо, 1985, с. 181-182].
«Смещение понятий» часто строилось на омонимах - не только
для целых слов, но и для их частей и звукосочетаний. В стихах не-
редко используются такие омонимичные слова, как еру - «ночь»,
«основываться на...», «накатывать» (о волнах); мирумэ - «тот, кто
видит» (надзирает, следит, - например, родители или старшие бра-
тья возлюбленной, создающие помеху для свиданий) и название во-
доросли; мацу - «сосна» и «ждать»; сика - ограничительная частица
«только», «всего лишь» и существительное «олень» и др. «Посред-
ством омонимов, используемых на протяжении всего стихотворения,
создаются не столько дополнительные к основной теме образы, сколь-
ко второй, параллельный смысл, связь которого с основным скрыта
не в самом стихотворении, но в его повествовательном или обстано-
вочном окружении» - так охарактеризовал значение этого явления
(в японской науке оно получило название какэкотоба) акад. Н. И. Кон-
рад [Конрад, 1974, с. 24].
Иногда автор употребляет в стихотворении слово в одном смыс-
ле, на котором и выстроен первый смысловой ряд, а на каком-то
расстоянии от этого слова в другом смысловом контексте вставляет
другое слово, которое, будь оно рядом с первым, заставляло бы вос-
принимать его в другом смысле, как омоним первого. Поскольку
формальной связи между этими двумя словами нет, первое из них
трактуется в одном смысле, но из-за того, что второе слово откры-
вает цепь ассоциаций, показывающую другой его смысл, у стихо-
творения в целом необычайно увеличивается смысловая ёмкость.
Такой приём называется энго. Он широко использовался в перепис-
135
ке. Энго не обязательно бывают основаны на использовании омони-
мии Связь может быть и функциональной, основанной на мировоз-
зренческих категориях и на антонимах. Разного вида энго в антоло-
гии «Кокин вакасю» насчитывают более ста [Боронина, 1967, с. 23].
Своеобразную роль в «Кокинсю» играют и «постоянные эпите-
ты» (оставляем для краткости традиционный перевод термина маку-
ра-котоба). «В поэзии Хэйана, - как отмечает И. А. Боронина, -
наблюдается сокращение числа макура-котоба до 300... Расширяет-
ся образный диапазон многих старых макура-котоба... Получает
развитие унаследованная от Хитомаро тенденция создавать каждый
раз новые, "живые" макура-котоба, обусловленные конкретным со-
держанием и задачами... Наблюдается переносное употребление мно-
гих старых макура-котоба... Часто встречаются эпитеты, построен-
ные на ассоциативно связанных словах {энго)» [Боронина, 1978,
с. 169-170]
В «Кокинсю» закрепились макура-котоба из пяти слогов (вместе
с показателем родительного падежа). В танка они занимают цели-
ком либо первый, либо третий стих В первом случае макура-котоба
выполняют роль зачинов, во втором - более сложной по своим функ-
циям вставки. Нередко вставка бывает связана не только с опреде-
ляемым словом, но и с содержанием предыдущего стиха.
Макура-котоба настолько тесно «приросли» к определяемым су-
ществительным, что впоследствии стали употребляться вместо них,
а также и в тех случаях, когда определяемое слово входило в состав
другого, сложного слова и теряло в нём свой первоначальный смысл.
В антологии впервые наблюдается явление, получившее впо-
следствии распространение и в поэзии, и в живописи, - ута-макура
(букв.: «подушка песни»). Это было сращивание географических назва-
ний с определёнными признаками, характерными для данной мест-
ности, - осенними ветрами, метёлками степной травы сусуки, буй-
ным цветением сакуры.. Упоминание названия местности стало пред-
полагать и намёк на тот признак, который считался для неё опре-
деляющим. Позже художники по этим признакам изображали виды
местности, в которой никогда не были.
Песни о любви в «Кокинсю» по значимости не уступают «сезон-
ным» песням. Не говоря уже о том, что стихи на любовные темы
составили пять книг (360 стихотворений) из двадцати, многие танка,
отнесённые составителями к «сезонным» по формальным призна-
кам (наличие так называемах сезонных слов, особенно в песнях о
весне), на самом деле посвящены теме любви. Но это не та плотская
любовь, которая характерна для древней поэзии (в том числе и для
стихотворений «Манъесю»). В «Кокинсю» это лирическое чувство,
обозначаемое словами: «мысленно страдать», «переживать», «беспоко-
иться» [Като, 1975, с. 133].
Поскольку в «сезонных» песнях предметом воспевания часто
являются кукушка, сакура, соловей, крики диких гусей, ветер, цветы
патринии, туман, кузнечики [Итико, 1984, с. 96], можно бы предполо-
136
жить, что в них представлен внешний мир, а в песнях о любви - мир
душевных переживаний лирического героя. В действительности же
и внешний мир в антологии представлен не сам по себе, а через его
восприятие героем. Вот танка Цураюки из раздела «Осень» (№ 276)
«В думах о быстротечной жизни сложил, созерцая хризантемы»:
Что ж доколе цветут
и струят аромат хризантемы,
я прическу свою
что ни день украшаю цветами,
хоть мой век еще быстротечней...
(Пер. А. Долина)
Автор ценился тем выше, чем неожиданнее была связь эмоци-
онального посыла и отклика в его стихах. И ещё: для составителей
были важны не только образы, вызываемые определёнными слова-
ми-символами, но и само звучание этих слов. С высокой оценкой
звучания стиха и возможности в десяток слов танка вместить мак-
симум иносказаний открывалась многовековая традиция формализ-
ма в японской поэзии. Антология «Кокин вакасю» стала образцом и
для поэтов, и для теоретиков поэзии и составителей новых анто-
логий.
Почти сразу же после появления антология была причислена к
разряду классики и стала активно переписываться от руки. В наше
время известно в отрывках около 40 её списков «древней кисти», т. е.
относящихся к эпохе Хэйан. Они приписываются и знаменитому
поэту и каллиграфу Оно-но Тофу (Митикадзэ, 896-966). Самой ста-
рой рукописью, сохранившейся до наших дней, считается список, со-
ставленный, по преданию, хэйанским литератором и прославленным
каллиграфом Фудзивара-но Юкинари (972-1027). Но и этот список,
как и фрагменты двух других, чуть более ранних (список Такано
кисти Цураюки и список Хонъами кисти Тб[фу]), неполон: это лишь
остатки некогда многотомного собрания. Из полных списков самый
ранний относится к 1120 г., в конце 1-го свитка он имеет дату: Гэнъ-
эй 3-й год, 7-я луна, 24-й день (20 августа 1120 г.). Однако современ-
ные издания антологии «Кокин вакасю» основываются не на этом и
не на других списках «древней кисти», а на разных списках, восходя-
щих к редакции одного из старейших японских текстологов, поэта и
филолога Фудзивара-но Тэйка.
Тэйка за свою жизнь переписывал «Кокин вакасю» 14 или 15 раз.
Более всего распространены и считаются наиболее авторитетными
списки, восходящие к его копиям, датированным 1223 и 1226 гг. К
копии 1223 г. («Дзёббон») восходят и первые ксилографические вос-
произведения антологии. В XVII в. предпринималось несколько кси-
лографических изданий, в том числе одно (1679 г.) - с иллюстраци-
ями (портреты десяти крупнейших поэтов «Кокинсю»),
«Собрание старых и новых японских песен» ознаменовало в япон-
ской поэзии переход от древности к средневековью.
Ки-но Цураюки.
«Тоса никки»
Председатель редакционного комитета антологии «Кокин вака-
сю» Ки-но Цураюки происходил из етаринного аристократи-
ческого рода, был придворным чиновником средней руки, авторите-
том в китайской классике и причисляется к 36 «гениям японской по-
эзии» эпохи Хэйан. В своей практике поэта и составителя несколь-
ких стихотворных сборников, автора предисловий к ним он учиты-
вал китайский опыт теоретического осмысления поэзии и специ-
фику родного языка и культурных традиций, переведя японоязыч-
ную поэзию на новый уровень.
Род Ки возводил своё начало к легендарному воину Такэноути-но
Сукунэ (II—IV вв.). Письменные источники свидетельствуют о том,
что отдалённые предки Цураюки посвящали себя воинскому искус-
ству, прадед же его, Окимити, стал главой придворного Музыкаль-
ного ведомства Гагакурё). Потомки Окимити занимались
науками и искусствами, прославились стихотворным талантом, но в
самый верхний эшелон придворной элиты не входили. Литературная
деятельность и изучение японской и китайской поэзии к концу IX в.
стали фамильным занятием рода Ки.
Отец знаменитого поэта, Мотиюки, умер молодым, когда маль-
чику было от пяти до десяти лет. Его воспитанием стал заниматься
дед, Мотомити, и двоюродный брат деда, Арицунэ, бывший главой
Музыкального ведомства. Когда Ки-но Цураюки исполнилось 20 лет,
его определили учиться в «университете» (Дайгаку), где молодой че-
ловек должен был в течение девяти лет совершенствоваться в хань-
ско-танской стилистике и изучать китайскую книгу [Икэда, 1968, с. 93].
В центре внимания преподавателей находилось изучение цзинов
(китайских классических сочинений); под литературой разумелась
китайская поэзия и проза, а среди этических норм превыше всего
ставилась добродетель скромности, основанная на «Книге перемен»
(«Ицзин») и «Записках о нормах поведения» («Лицзи»),
Придворную службу Ки-но Цураюки начал, видимо, с самых
младших чинов, а к 36 годам был назначен на пост главного храни-
теля придворной библиотеки. В этой библиотеке были собраны цен-
нейшие образцы литературы - почти исключительно на китайском
языке, поэтому её хранителю требовались знание китайской книги и
высокая образованность.
В 910 г. его перевели на службу в Ведомство внутренних служб
на должность младшего, а с 913 г. - старшего секретаря. Служебная
деятельность требовала владения китайской стилистикой (придвор-
ная документация велась на китайском языке) и знание китайской
классики (для ссылок на прецедент или на суждение мудреца). Это
138
были годы составления антологии «Кокинсю»54. Тогда же Цураюки
занимался поэтическим творчеством, а также составлением других,
менее масштабных сборников. В 907 г., во время поездки экс-импе-
ратора Уда на реку Оигава, Ки-но Цураюки составил небольшой
сборник стихотворений участников поэтического турнира (63 танка
семи поэтов), в начале 30-х гг. по распоряжению императора Дайго -
поэтическую антологию «Синсэн вакасю» «Вновь
составленное собрание японских песен», 360 стихотворений). Как и
для «Кокинсю», для каждого из этих собраний он написал предисло-
вия. Идеи во всех трёх предисловиях повторяются: японская песня -
наследие многих поколений, она имеет высокую самостоятельную
ценность, совершенная песня основывается на триединстве котоба,
сама и кокоро.
Мысли, которые занимали Цураюки при его работе над «Синсэн
вакасю», ещё не успели вылиться в конкретные формы, когда в 1-ю
луну 8-го года Энтё (февраль 930 г.) он оставил столицу для новой
службы - в должности губернатора провинции Тоса, расположенной
в юго-восточной части о. Сикоку.
Такое назначение считалось верным средством поправить финан-
совые дела столичного чиновника и было знаком доброго располо-
жения со стороны высоких покровителей (хотя провинция Тоса не
относилась к числу самых богатых). Цураюки провёл в новой долж-
ности около пяти лет. Малолетняя его дочка скончалась в Тоса не-
задолго до отъезда оттуда отца. Радость встречи с домом была от-
равлена. В марте 935 г. поэт возвратился в столицу.
Первое время после возвращения Ки-но Цураюки целиком по-
святил себя поэтическому творчеству. В придворных кругах не сни-
жался спрос на поздравительные стихи, лирические танка для склад-
ных ширм, созданные знаменитым поэтом. На вершину власти в это
время вознёсся Фудзивара-но Тадахира (880-949), который прежде
был Левым министром, а теперь стал регентом-канцлером и Пер-
вым министром. Личное знакомство с ним (в том числе благодаря
бёбу-ута, стихам для складных ширм в его покоях) и двумя более мо-
лодыми Фудзивара, близкими к кормилу власти, Санэёри (900-970) и
Моросукэ (908-960), помогло Цураюки в 3-ю луну 940 г. занять пост
гэмба-но ками, главы учреждения, ведавшего делами по Китаю и
Корее, а также делопроизводством, связанным с буддийскими хра-
мами. В 943 г. он получил 5-й ранг, а в 945 г. - чин и должность
мокугон-но ками, одного из старших чиновников ведомства, занято-
го поддержанием внешнего вида и интерьеров императорского двор-
ца. Было ему тогда около 80 лет.
54 В литературе, не только справочной, но и исследовательской, антологию обычно
датируют 905 г. Но в 905 г. составители лишь начали свою работу, а завершили её
явно позднее. Во всяком случае, примеры с другими антологиями свидетельствуют,
что составление поэтического собрания такого уровня занимает несколько лет.
139
Вскоре после возвращения из провинции Тоса Ки-но Цураюки за-
вершил работу по написанию прозаического «Тоса никки» (ztte 01В;
старояп. «Тоса-но ники», «Дневника путешествия из Тоса»)55.
Первая запись в дневнике датирована 21 днём 12-й луны 4-го года
Дзехэй (28 января 935 г). Заканчивается дневник описанием возвра-
щения в родной дом в 16-й день 2-й луцы 5-го года Дзехэй (23 мар-
та 935 г.) и включает 55 подённых записей общим объёмом около
12500 знаков, от семи до нескольких сот знаков в одной записи.
Каждая запись датирована, ни один день в дневнике не пропущен, не
исключая и те дни, когда никаких событий не происходило. Написан
он почти исключительно слоговым письмом, без употребления ки-
тайских слов. В 26 записях в прозаический текст вставлены стихи
(общим числом 60) - все на японском языке.
«Дневник путешествия из Тоса» описывает от лица безымянной
женщины жизнь маленькой группы путешественников во время пла-
вания на гребном судне, доставлявшем их от Тоса до столицы.
Изложение ведётся в двух планах: внешнем и внутреннем. Пер-
вый включает чисто событийный ряд, второй определяет эмоцио-
нальную напряжённость, драматизм ситуации. Внутренний план стро-
ится на психологическом конфликте между радостью от возвраще-
ния в столицу после многолетнего отсутствия и горем родителей,
потерявших ребёнка в дальних краях («...опять вспомнилась та, что
ушла в прошлое. Да и забудется ли она когда-нибудь?!»). Сам Ки-но
Цураюки нигде по имени не назван - ни как герой, ни в каком-то
ином качестве.
«Дневник» Цураюки - первые в истории путевые заметки на япон-
ском языке, которые со временем стали одним из распространённых
жанров повествовательной литературы Японии. Автор выдаёт в нём
себя за женщину по нескольким причинам, в том числе не желая сле-
довать тем канонам, которые к тому времени сложились для мужских
дневников, писавшихся по-китайски. Отдельные места в этом про-
изведении можно воспринять как иллюстрацию к его прежним рас-
суждениям о поэзии.
Здесь нарисованы путешествующие на судне представители раз-
ных социальных и возрастных групп. Гармония между котоба (сло-
вом) и сама (формой) показана автором «Дневника» на разных уров-
нях - в песнях корабельщиков, кормчего, провожающих, детей, «да-
мы с острова Авадзи», старика - бывшего губернатора и т. д. В пер-
вом случае это соответствие грубого слова грубой форме (народной,
не рафинированной), в последнем - сочетание изящного слова с бе-
зукоризненной формой, а в других - разная степень отклонения от
идеала гармонии. Очевидное несоответствие одного другому ста-
рательно подчёркивается.
55 Русский перевод О. В. Плетнера см.: [Восток, 1935]; перевод В. Н. Горегляда
см.: [Горегляд, 1983].
140
«Корабль не отправляют, всем скучно, и вот один человек читает
стихи:
На берег моря,
О который разбивается волна,
Не зная срока,
Круглый год валит
Всё снег да снеГ - из белой пены.
Эти стихи сложены человеком, не привыкшим к стихосложению.
А другой человек читает:
На берегу морском.
Где ветер гонит волны,
Белеют лишь одни цветы.
Но в них и соловей
Весны не распознает.
Услышав, что стихотворения эти недурны, старец, почитавшийся
на корабле за главного, чтобы развеять многодневную тоску,
прочёл:
Когда встающих волн
Коснётся ветер,
Их разбивая, словно снег или цветы,
Он одного лишь хочет -
Обмануть людей...
Один человек, внимательно послушав, что другие говорят обо
всех этих стихах, тоже сложил стихотворение. Слогов в его стихах
оказалось семь сверх тридцати. Никто не мог удержаться, все рас-
хохотались. Вид у стихотворца очень неважный: но он знай твердит
своё. Захочешь повторить - и не сможешь. Хоть и запишешь - да
правильно никак нельзя будет прочесть. Их даже сразу-то произ-
нести трудно, тем более, как это сделаешь потом?»
С точки зрения разнообразных возможностей показать несколь-
ко уровней поэтического искусства путевой дневник представляет
собой идеальную форму - ситуация, в которой слагают стихи, опи-
сана очень подробно, путники и провожающие - люди разного воз-
раста, социальной принадлежности и культурного уровня, оценку сти-
хов автор вкладывает в уста героев, предоставляет самому читате-
лю или выражает репликой: «Это была превосходная песня!», «Но ка-
ковы стихи в сравнении с принесёнными яствами!», «Люди смеются
над этими песнями...»
В то же время на примере «Дневника путешествия из Тоса» Цу-
раюки показывает, как следует организовать путевой дневник, ка-
кие факты следует в него включать, какими формальными приёма-
ми достигается его наибольшая художественность (т. е. совершенная
форма), как в повествовании можно раскрыть предметы, традици-
онно относимые к компетенции поэзии, и т. д. Произведение проду-
мано в эпизодах и в целом по композиции, что делает его формаль-
но законченным. В японской литературе оно открывает самосто-
ятельный жанр, включающий и путевые заметки, и путевые дневники.
141
В основу сюжета дневника положены реальные события, про-
ведена их сознательная выборка. Кроме чисто внешнего скрепления
текста (датирование всех событий без единого дня пропуска), автор
объединяет его несколькими сквозными темами (тоска по умершей
дочери, рассуждения о достоинствах и существе японской поэзии,
мысли о столице). Это сообщило всему,изложению оттенок художе-
ственного вымысла, а в путевые заметки внесло элемент бытового
дневника.
Литература женского потока.
«Кагэро никки».
«Макура-но соси»
На рубеже IX и X веков начался процесс культурного самоопре-
деления японцев по отношению к странам континента. Созна-
тельный процесс активнее всего протекал в кругах средней при-
дворной аристократии, прежде бывшей в некотором отрыве от сво-
их национальных истоков из-за воспитания и системы образования.
Путь самоутверждения в этих кругах во многом оказался детерми-
нирован китайскими рецептами. Но в рамках того же социального
слоя сформировалась специфическая литературная группа, члены ко-
торой по образованию и роду службы намного меньше других были
связаны с иноземной культурой. Её составляли женщины. В закры-
той для внешних связей стране, по выражению Като Сюити, суще-
ствовала другая закрытая страна - аристократическое общество, а в
нём маленькая закрытая страна - женское общество [Като, 1975,
с. 140]. В Японии возникло явление, незнакомое другим литературам
мира. Это «литература женского потока»: больше столетия - с сере-
дины X до конца XI в. - самый крупный вклад в развитие литерату-
ры сделали женщины. Они принадлежали к сравнительно узкому со-
циальному кругу, ими созданы наиболее выдающиеся произведения.
Мы видели, что Ки-но Цураюки написал «Дневник путешествия
из Тоса» от имени безвестной женщины. Автора первого действи-
тельно женского дневника, «Дневника эфемерной жизни» (/'рЦ’-Ь 9
0 8В, «Кагэро никки», старояп. «Кагэро-но ники»)56, звали Митицу-
на-но хаха, мать Митицуна, - по имени её сына, впоследствии круп-
ного чиновника и поэта; она родилась в 935 г., в год написания
«Дневника путешествия из Тоса», причисляется к 36 лучшим поэтам
эпохи Хэйан и при жизни считалась одной из трёх самых красивых
56 Русский перевод В. Н. Горегляда см.: [Митицуна-но хаха, 1994].
142
женщин Японии своего времени. Её отец, Фудзивара-но Томоясу (ум.
в 977 г), названный самой писательницей «скитальцем по уездам»,
поочерёдно занимал должности губернатора провинций Муцу, Исэ,
Тамба, Ава, Хитати и Кадзуса. Он слыл богатым человеком: в столице
имел несколько усадеб, в бытность свою губернатором провинции
Муцу, в которой имелись золотые рудники, преподнёс император-
ской казне внушительную сумму в 3000 рё золотом.
В 954 г. Митицуна-но хаха вышла замуж за Фудзивара-но Канэиэ
(929-990), принадлежавшего к другой ветви клана Фудзивара, неже-
ли её отец, - к ветви Сэкканкэ (Дом регентов и канцлеров), сто-
явшей на вершине пирамиды государственной власти. Она стала второй
женой Канэиэ. Первой была Токихимэ, дочь губернатора провин-
ции Сэтцу. Впоследствии у Канэиэ появилось также несколько на-
ложниц, доставлявших своим существованием муки ревности обеим
жёнам.
Хотя писательница в начале своего дневника указывает, что Ка-
нэиэ возвышался по своему положению над обычными людьми, как
дуб над другими деревьями, к моменту их женитьбы у него почти не
было шансов занять какой-либо из высших государственных постов.
Он был лишь третьим сыном в семье и представлял в ветви Сэккан-
кэ рода Фудзивара боковое ответвление Кудзё. Старшинство в вет-
ви Сэкканкэ принадлежало его дяде Санэёри (900-970).
Брак с дочерьми двух губернаторов обеспечил Канэиэ денежную
поддержку, а стечение других обстоятельств открыло путь к боль-
шой политической карьере. После смерти Санэёри его сын Ёритада
недолго обладал высшими государственными титулами. Уже в 971 г.
старший брат Канэиэ по имени Корэтада стал регентом (Й5&, сэссё),
но в следующем году умер, и высшие посты в государстве один за
другим переходили ко второму брату, Канэмити, который дожил
до 977 г. В этом году Канэиэ был возведён в ранг Правого министра,
после чего выдал дочь Сэнси замуж за императора и уже через не-
сколько лет стал и регентом при малолетнем императоре, и канцле-
ром, и Первым министром Нечего и говорить, что его головокру-
жительной карьере способствовало то, что Канэиэ к этому времени
был дедом принца Канэхито, сына его дочери от императора Энъю
(959-991), в семилетием возрасте объявленного императором Ити-
дзё (980-1011).
«Дневник эфемерной жизни» охватывает промежуток времени в
21 год, с 954-го по 974 г. и включает в себя различные события, про-
изошедшие в жизни второй жены Канэиэ, матери одного из сыновей
вельможи, Митицуна (955-1020), собственное имя которой не сохрани-
лось. Записи в дневнике производились через некоторое время пос-
ле окончания самих событий, по черновым материалам, и включают
более 250 стихотворений. Стихи и вступительные пояснения к ним за-
нимают явно подчинённое положение по отношению к прозе. В из-
ложении есть большие пропуски - от нескольких дней до трёх лет.
Произведение частично написано от третьего лица и большей
частью - от первого. Оно делится на три книги. Первая включает
143
краткое вступление и записи за 954-968 гг. Писательница рассказы-
вает, как летом 954 г. (Тэнряку 8-го) Фудзивара-но Канэиэ сделал ей
предложение и осенью того же года они поженились. По обычаю
молодая осталась жить в доме своих родителей, а муж навещал её
там. В 10-ю луну её отец уехал на север, в провинцию Митинокуни
(Муцу), куда получил назначение на должность губернатора.
В 8-ю луну следующего года у молодой родился сын (будущий
Митицуна), а в 9-ю луну она случайно обнаружила среди бумаг Ка-
нэиэ письмо, предназначенное им его новому увлечению - «женщи-
не с городской улочки». Начались нелады в отношениях Митицуна-
но хаха с мужем.
В 957 г. «женщина с городской улочки» родила от Канэиэ сына. В
дневнике описываются страдания писательницы, наблюдающей, как
Канэиэ ещё больше привязывается к этой женщине. Довольный
рождением ребёнка Канэиэ нарочно доставляет мучения матери Ми-
тицуна. «Выбрав благоприятное направление, он сел с нею ("женщиной
с городской улочки". - В. Г.) в один экипаж и, подняв на всю столицу
шум, с непереносимым для слуха галдежом проехал в том числе и
мимо моих ворот, - пишет мать Митицуна. - Я была сама не своя...»
В следующем году сын соперницы умер, и Канэиэ стал посте-
пенно охладевать к ней. В дневнике здесь сделан трёхлетний пере-
рыв, а записи за 962, 963 и начало 964 г. рисуют семейное благопо-
лучие, когда муж живёт в доме писательницы, получает повышение
по службе, она же наслаждается его вниманием, проказами сына и
новым домом, в который её перевёз Канэиэ.
С лета 964 г. Митицуна-но хаха снова вступает в полосу невзгод:
сначала её перестаёт навещать Канэиэ, потом умирает её мать и, на-
конец, тяжело заболевает она сама. «Руки-ноги мои, - пишет она в
дневнике, - бесчувственно оцепенели, и готово было уже замереть
дыхание».
Записи за следующий год содержат описания двух поездок: путе-
шествие в горный храм, где скончалась мать писательницы, - чтобы
отметить годовщину её смерти; и отъезд сестры матери Митицуна в
«дальнюю провинцию», куда её муж был назначен на службу. В ок-
тябре 968 г. Митицуна-но хаха совершает паломничество в будди-
йский храм Хассэ, описанное очень живо, а после возвращения до-
мой готовится к празднованию Нового года. Книга завершается
сентенцией: «Я только думаю, что всё в мире быстротечно, и эти за-
писи можно назвать дневником эфемерной жизни, наполненной вся-
ческими недостойными чувствами».
Вторая книга «Дневника эфемерной жизни» содержит записи за
последующие три года: от начала 969-го до конца 971-го. Всё это
время продолжались терзания Митицуна-но хаха из-за невнимания к
ней со стороны Канэиэ и слухов о том, что он опять увлёкся другой
женщиной, сменявшиеся кратковременными радостями по поводу
всё новых успехов взрослевшего сына в состязаниях по стрельбе из
лука, церемонии облачения его во взрослое платье или того внима-
144
ния, которое ему оказывал Канэиэ. Она то жалуется, что «не видела
его ночами тридцать с лишним дней, а днём не видела сорок с лиш-
ним дней», то ревнует его, замечая: «Мне говорили, что в ненавист-
ном мне месте Канэиэ бывает каждую ночь...», то отправляется в
паломничество, то решает стать монахиней и укрепиться в вере.
Третья книга начинается следами: «Итак, снова наступил Новый
год, называется Тэнряку третий57. В этом году тоже будут и радости,
и горести, думала я, но начался год с того, что мой сын впервые от-
правился ко двору в парадном одеянии. Когда я увидела, как, спус-
тившись в садик, он отвесил мне новогоднее приветствие, от гор-
дости за него я чуть не прослезилась». В книге описаны события от
начала 972-го до конца 974 г. Всё больше внимания писательница
уделяет сыну и всё меньше мужу. Конечно, Митицуна-но хаха отме-
чает, когда Канэиэ получает очередной чин (а она по этому слу-
чаю - поздравления), ей небезразличны ухаживания мужа за налож-
ницей и рождение у них дочери, ей приятно, когда во время празд-
нества у синтоистских святилищ Камо Канэиэ узнаёт среди подобо-
страстной толпы отца писательницы и преподносит ему рюмочку
сакэ, - но для неё это уже не главное.
Штрих за штрихом писательница показывает, как взрослеет её
сын. В 972 г. по дороге на празднества Камо юноша обратил внима-
ние на незнакомку («мой сын... поехал следом за экипажем одной да-
мы, которая выглядела очень хорошенькой») и составил первое в
жизни любовное стихотворение. Мать Митицуна настолько близко
принимает к сердцу его увлечение неприступной «дамой из Ямато»,
что помогает сыну в сочинении любовных стихов. Вместе с тем его
повзросление принесло матери сожаление, что у неё нет еще ребён-
ка. Она берёт к себе на воспитание девочку, рождённую от Канэиэ
дочерью придворного вельможи Минамото-но Канэтада, жившей
теперь в глуши, в одиночестве и решившей было посвятить девочку
(ей было лет 12-13) в монахини.
Осенью 973 г. писательница переезжает в загородный дом своего
отца, расположенный в живописном месте, в долине реки Камогава.
В начале 974 г. девятнадцатилетний Митицуна при покровитель-
стве отца был зачислен на официальную службу. В записке, кото-
рую принесли от Канэиэ матери Митицуна (виделись они теперь
редко) говорилось: «Будет помощником главы Правых дворцовых
конюшен». Главой этого ведомства оказался младший брат Канэиэ
по отцу. Когда Митицуна навестил его по случаю своего назначения,
тот в ходе беседы принялся распрашивать его: «Что собою представ-
ляет барышня, которая обитает в вашем доме? Сколько ей лет?» Счи-
тая, что девочке ещё рано думать о замужестве, мать Митицуна не
придала значения рассказам сына, но его начальник проявлял всё
большую настойчивость, домогаясь расположения её воспитанницы,
57 Год Тэнряку третий начался 19 января 972 г.
145
чем доставил немало неприятных переживаний и автору дневника, и
её мужу, и сыну. В те времена для аристократов уровня Канэиэ
иметь дочь означало увеличить свои шансы на внимание импера-
тора — ввести её в свиту государя, попытаться сделать его фаворит-
кой, а в лучшем случае и супругой. Домогательства Тонэри (так
звали начальника и дядю Митицуна) грозили спутать карты всех
заинтересованных лиц.
Эта история закончилась довольно комично: Тонэри выкрал
собственную разведённую с ним жену, которая была замужем за
другим, и «укрылся с нею в некоем месте», к бесконечному облегче-
нию предполагавшейся тёщи, - и на том успокоился.
Осенью 974 г. на писательницу обрушились новые переживания:
тяжело заболел оспой Митицуна. Эпидемия ещё бушевала, умирали
высокопоставленные чиновники, когда он начал выздоравливать и
стал выезжать из дома. Дневник заканчивается его новой любовной
перепиской в стихах, характеристикой уже прожитого 974 г. и рас-
сказом о подготовке к празднованию следующего Нового года.
Анализ показывает, что первая книга дневника (и, очевидно, пер-
вая треть второй книги) базируется на стихотворных материалах и
написана значительно позже соответствующих событий (в самом на-
чале дневника Митицуна-но хаха сама признается: «Подчас и далё-
кие годы, и дела недавнего времени не вспоминаются отчётливо, и
тогда многое приходится описывать так, как оно должно было про-
исходить...»), а большая часть второй и вся третья книга создавались
в значительной степени под непосредственным впечатлением от
событий. Многие особенности «Дневника эфемерной жизни» ставят
перед исследователем проблему жанровой его принадлежности. Эта
проблема заставляет углубиться и в складывавшиеся в японской ли-
тературе традиции, и в разнообразие структурных приёмов, кото-
рые использовала Митицуна-но хаха.
Като Сюити называет «Дневник эфемерной жизни» первой пси-
хологической повестью в истории японской литературы [Като, 1975,
с. 176]. Кониси Дзинъити считает его прототипом «новеллистиче-
ских дневников» типа «Идзуми-сикибу никки» и «Сануки-но сукэ ник-
ки» и пишет, что такого реалистического произведения в соответ-
ствующую эпоху не было ни в Китае, ни в Корее, а уровень реалис-
тического описания в произведении Митицуна-но хаха соответству-
ет тому, которого достигла городская литература европейских стран
[Кониси, 1986, с. 268, 265]. На сходство этого произведения с повес-
тями, с одной стороны, и с поэтическими сборниками, с другой,
обращали внимание в разное время автор настоящей работы [Горе-
гляд, 1975] и Кониси Дзинъити [Кониси, 1986]. Жанры в литерату-
ре вообще не развиваются в полной изоляции один от другого. Но
что касается произведения Митицуна-но хаха, мы определяем его
жанр как дневниково-мемуарный.
146
Называть «Макура-но сбей» «Записки у изголовья») Сэй-
сёнагон58 первым эссеистическим произведением в истории японской
литературы тоже можно лишь с оговоркой - только, если иметь в виду
литературу на японском языке. Лет за десять до «Записок у изго-
ловья» в Японии на китайском языке появились «Титэй-но ки» (№•¥•
йВ, «Записки из беседки у пруда») Ёсисигэ-но Ясутанэ (934 997), боль-
ше похожие на автобиографический очерк, но считающиеся родона-
чальником эссеистического жанра в японской литературе.
Смысл названия сочинения Ясутанэ можно понять из авторского
рассказа о том, как он обустраивал выбранный им для своей семьи с
помощью гадания участок земли площадью около тысячи квадрат-
ных метров в районе столичной улицы Рокудзё: «Завершая холм, я
соорудил горку; обнаружив углубление, вырыл маленький пруд. К
западу от пруда разместил маленькую пагоду со статуей Амида, к
востоку от пруда соорудил маленькое помещение для своих книг, к
северу воздвиг низенькое жилище для жены и детей».
«Записки у изголовья» в художественном отношении оказались
на несколько порядков выше, чем «Записки из беседки у пруда». В
японской литературе они открыли новый жанр, впоследствии полу-
чивший название дзуйхицу («вслед за кистью»). Этот термин прин-
ято переводить как эссе, хотя условность такого перевода очевидна.
«Принцип жанра, - замечает В. Н. Маркова, - полная свобода писать,
не сообразуясь с каким-нибудь планом, вне рамок заданной фабулы,
как бы следуя за пером (в Японии, конечно, за кистью). Жанр этот
оказался очень плодотворным. Он не имеет полной аналогии в ми-
ровой литературе. Иногда его определяют как эссе. Пожалуй, бли-
же всего к нему записные книжки и дневники писателей» [Сэй-сёна-
гон, 1975, с. 15-16].
Будущая писательница была пятым или шестым ребёнком поэта
и критика Киёвара-но Мотосукэ (908-990). Сэй-сёнагон - это её при-
дворное прозвище, составленное из японизированного китайского чте-
ния первого из двух иероглифов (?н!Ж), которыми пишется фамилия
Киёвара (Сэй) и чина селаго//(/]'Й,1Ж, младший советник), включён-
ного в это прозвище либо по действительному положению при дво-
ре отца или которого-нибудь из братьев писательницы (у неё было
четыре старших брата), либо «для благозвучия». Старшая сестра Сэй-
сёнагон была замужем за Фудзивара-но Масаеси, братом автора
«Дневника эфемерной жизни».
Родилась писательница примерно в 964-966 гг. В 978 г. её отец
завершил службу губернатора в провинции Суо в центральной части
страны и возвратился в столицу. Через два или три года после воз-
вращения Сэй-сёнагон вышла замуж за Татибана-но Норимицу, ко-
торый был сыном старейшины дома Татибана и служил губерна-
тором в провинции Суруга. В 982 г. у молодых родился сын, но ро-
S8 Русский перевод памятника В. Н. Марковой см.: [Сэй-сёнагон, 1975].
147
дители разошлись, когда ребёнку не было и трёх лет. Второй брак
Сэй-сёнагон, заключённый с Фудзивара-но Санэката, оказался ещё
быстротечнее первого.
Между 993 и 1001 гг. Сэй-сёнагон служила в свите императрицы
Садако, молоденькой супруги императора Итидзе и дочери Фудзи-
вара-но Мититака, который был старшим сыном Канэиэ от главной
жены и перенял после отца высшие титулы в государстве. В свите
императрицы Сэй-сёнагон пользовалась авторитетом благодаря сво-
ей образованности, наблюдательности и остроумию. Но в январе
1001 г. двадцатитрёхлетняя императрица умерла при родах, её место
заняла двоюродная сестра Садако, дочь её младшего дяди Митинага,
Акико, и свита покойной императрицы оказалась распущенной.
Вскоре после того, как умерла Садако, Сэй-сёнагон (ей тогда бы-
ло около тридцати пяти лет) вышла замуж за губернатора провин-
ции Сэтцу Фудзивара-но Мунэё, который был старше её по крайней
мере вдвое, и уехала по месту его службы. Однако и этот брак ока-
зался непродолжительным: вскоре Мунэё умер. Его вдова вернулась
в столицу и постриглась в буддийские монахини. Последние годы
жизни писательница провела в одиночестве и бедности. После неё
осталось около 50 стихотворений и прозаические «Записки у изго-
ловья». История их создания изложена в послесловии к сочинению:
«Однажды его светлость Корэтика, бывший тогда министром двора,
принёс императрице кипу тетрадей.
- Что мне делать с ними? - недоумевала государыня. - Для госу-
даря уже целиком скопировали "Исторические записки".
- А мне бы они пригодились для моих сокровенных записок у
изголовья, - сказала я.
- Хорошо, бери их себе, - милостиво согласилась императрица.
Так я получила в дар целую гору превосходной бумаги. Казалось,
ей конца не будет, и я писала на ней, пока не извела последний лис-
ток, о том о сём - словом, обо всём на свете, иногда даже о совер-
шенных пустякях.
Но больше всего я повествую в моей книге о том любопытном и
удивительном, чем богат наш мир, и о людях, которых считаю заме-
чательными.
Говорю я здесь и о стихах, веду рассказ о деревьях и травах, пти-
цах и насекомых, свободно, как хочу...» (пер. В. Марковой).
В настоящее время известно несколько десятков списков этого
памятника, из которых двадцать были открыты в конце Х1Х-начале
XX в. Списки делятся на четыре редакции, из которых три, в свою
очередь, на подредакции. В сохранившихся списках памятник пред-
ставляет собой собрание, включающее свыше трёхсот прозаических
отрывков (их количество колеблется в зависимости от редакции).
Отрывки различны по стилю, по теме, неодинаковы по величине,
лишены чёткой фабульной или хронологической связи и по фор-
мальным признакам могут быть разделены на два основных типа -
сюжетные и несюжетные. Все сюжетные отрывки структурно мало
различаются между собою, а среди несюжетных можно выделить
три вида:
148
1) перечислительные, объединённые ударным словом;
2) регистрирующие единичные факты без формального их обоб-
щения ударным словом или заключительным замечанием;
3) рассуждения, нередко напоминающие развёрнутые перечисления.
Ударное слово - это формальный признак класса. Конкретный
признак, по которому сделана выборка внутри этого класса, не ука-
зывается. Это могут быть необычные названия объектов (мостов,
рек, холмов, островов, переправ), их типичность или распространён-
ность (сутры, учёные сочинения, повести, священнослужители, бо-
лезни), известность (храмы, синтоистские святилища, будды).
В «Записках у изголовья» можно также выделить три вида твор-
ческой обработки материала: подборки с нераскрытой мотивиров-
кой, дневниковые записи и художественные обобщения. Возможно,
что подборки - это фиксация творческих замыслов писательницы,
что-то вроде её записных книжек. Так, в отрывке (дане) № 15 безо
всякого комментария приводится три названия горных пиков (Юдзу-
раха, Амида, Иятака), присвоенных им по разным признакам: по-
крывшая склоны растительность, почитаемость среди окрестных
жителей и признак высоты. Но нельзя исключать, что у Сэй-сёнагон
эти названия вызывали другие ассоциации, возможно также, что она
просто хотела подстегнуть воображение читателя, как сплошь и рядом
это делали японские поэты... Некоторые её зарисовки стоят на гра-
ни между дневниковой записью и художественным обобщением. К
таким зарисовкам можно отнести все три части отрывка № 124:
«Монаху с чутким слухом приходится часто смущаться, когда он
ночью читает молитвы в знатном доме.
Собираются молоденькие прислужницы, начинают судачить и
высмеивать людей. Монах всё слышит через тонкую перегородку,
ему тяжело и совестно.
Иногда старшая придворная дама пробует их пристыдить:
- Что за поведение! Не шумите так!
Им хоть бы что! Продолжают болтать, пока не заснут от уста-
лости... А монах долго не может опомниться от стыда» (пер. В. Мар-
ковой).
В отличие от отрывков, описывающих многократно встреча-
ющиеся, типичные ситуации, дневниковые представляют собой од-
норазовые зарисовки, такие, например, как № 100:
«Была ясная лунная ночь в десятых числах восьмой луны. Им-
ператрица, имевшая тогда резиденцию в здании своей канцелярии,
сидела неподалёку от веранды. Укон-но найси услаждала её игрой
на лютне.
Дамы смеялись и разговаривали. Но я, прислонившись к одному
из столбов веранды, оставалась безмолвной.
- Почему ты молчишь? - спросила государыня. - Скажи хоть
слово. Мне становится грустно...
- Я лишь созерцаю сокровенное сердце осенней луны, - ответила я.
- Да, именно это ты и должна была сказать, - молвила госуда-
рыня» (пер. В. Марковой).
149
Вряд ли можно безоговорочно настаивать на абсолютно незави-
симом появлении жанра дзуйхицу в Японии. Когда речь заходит о
его генеалогии, в первую очередь вспоминают «Цзацзуань» («Изре-
чения») китайского писателя Ли Шань-иня (812-85 2) - сборник афо-
ризмов, сгруппированных «в серии, каждая из которых имеет своё
заглавие» [Фишман, 1956, с. 112; Циперович, 1969, с. 2-5]. Ещё бли-
же по форме к «Запискам у изголовья» Сэй-сёнагон стоит много-
томное собрание «Жун-чжай суй би» сунского писателя Хун Мая
(1123-1202). В этом сочинении в разрозненных, не связанных фа-
бульной линией очерках сообщаются всевозможные сведения рели-
гиозного, исторического и справочного характера, приводятся вы-
сказывания древних мыслителей, даются советы по врачеванию,
гаданиям,астрологии и т. д.
Начиная с V-VI вв. в Китае появился ещё один жанр, близкий по
форме к дзуйхицу,- бицзи, сборники смешанного содержания. «На-
ряду с сюжетными произведениями сборники бицзи включали сво-
бодные по форме наблюдения их авторов над жизнью современ-
ников, научные и публицистические заметки» [Фишман, 1971, с. 185].
Сборники смешанного содержания были распространены и в сред-
невековой Корее (XII-XVII вв.), где они были известны под назва-
нием лхэсоль [Елисеев, 1968].
Таким образом, в средние века в странах Дальнего Востока,
связанных культурной общностью, подобная литература была рас-
пространена и имела читателя. В сознании и читателя, и автора
такой сборник или произведение существовали как понятие особое,
отличное от литературы фабульного типа. В японском варианте этот
жанр насчитывает свыше тысячи произведений и, при довольно
больших индивидуальных различиях конкретных памятников, чётко
отделяется от песенно-повествовательного жанра.
Отличительной особенностью «Записок у изголовья» А. Н. Ме-
щеряков, например, разделяющий некоторые традиционные его оп-
ределения, считает «"бесчерновиковый" способ порождения текста».
[Мещеряков, 1991, с. 151]. «Записки» и открытый ими жанр он счи-
тает повинными в начале ослабления или отсутствия сюжетности в
произведениях других жанров. «Свободное следование за кистью
вызвало к жизни те легкоузнаваемые особенности японской прозы
(повторы, рыхлость сюжета, расплывчатость стиля изложения, мно-
гословие), свойственные ей до определённой степени и в наши дни...»
[Мещеряков, 1991, с. 152]. С этими соображениями в основном мож-
но согласиться, исключая, пожалуй, пункт о многословии, которым
всё-таки Сэй-сёнагон никак не грешна (её скорее можно было бы
упрекнуть в лапидарности). Более поздние писатели перенимали его
у других авторов. Впрочем, то, что европейцу представляется мно-
гословием, в глазах японца зачастую может выглядеть как выска-
зывание, лишённое вульгарной прямолинейности. И надо ещё доба-
вить, что черты, отмеченные А. Н. Мещеряковым, великолепным
образом представлены в «Уцухо моногатари» и других предшество-
150
вавших «Запискам» Сэй-сёнагон произведениях, а не вызваны к жизни
этими «Записками». Нельзя признать удачным (даже взятое в кавы-
чки) и определение «бесчерновиковый» по отношению к дзуйхицу, -
оно никак не объясняет появление авторских редакций произведе-
ний этого жанра.
Характерной особенностью «Записок у изголовья» часто счита-
ется хаотичность во взаиморасположении элементов, общая для всех
дзуйхицу. Между тем в этой хаотичности прослеживается то одна,
то другая система - стилистическая соотнесённость, ассоциативная
связь, хронологическая последовательность. Правда, в случае с «За-
писками» Сэй-сёнагон не всегда можно быть уверенным, что в дан-
ном порядке отрывки расположила сама писательница, а не её по-
следователи - редакторы, переписчики и т. д. Впрочем, не это глав-
ное. Важно, что для того или иного расположения отрывков отно-
сительно друг друга автор или редактор выбирал определённый прин-
цип, представлявшийся ему убедительным.
Сэй-сёнагон не отличалась красотой. К сильным её сторонам от-
носится образованность, критический ум и острый язык. Придвор-
ные дамы в свите следующей императрицы, сменившие то окруже-
ние, которое описано в «Записках у изголовья», вспоминали её без
симпатии. Самой известной представительницей этой следующей свиты
была Мурасаки-сикибу.
Мурасаки-сикибу, её дневник
и « Гэндзи моногатари»
Настоящее имя и точные годы жизни Мурасаки-сикибу неиз-
вестны. Её отец, Фудзивара-но Тамэтоки, принадлежал к Север-
ной ветви рода, средней прослойке придворных чиновников, назна-
чался губернатором в провинции, слыл знатоком китайской класси-
ки и писал стихи по-китайски.
По некоторым сведениям, у Тамэтоки было пятеро детей, однако
достоверные записи сохранились только о прославленной писатель-
нице и поэтессе Мурасаки-сикибу и её старшем брате Нобунори. Как
отметил Р. Боуринг, «Мурасаки-сикибу жила в то время, когда арис-
тократия хэйанской Японии была в расцвете и очень мало подозревала
о процессе упадка, который уже надвигался...» [Боуринг, 1985, с. 3].
Когда писательница поступила на службу в свиту императрицы Аки-
ко (это было между 1005 и 1007 гг.), фактической властью в стране
обладал отец Акико, пятый сын Фудзивара-но Канэиэ от главной жены,
которого звали Митинага (966-1027). Ей было тогда 27 или 29 лет; в
1001 г. она лишилась мужа (за которого вышла лишь в 999 г.) и име-
ла на руках малолетнюю дочь Кэнси. После смерти мужа Мурасаки-
сикибу стала пробовать свои силы в работе над любовной и нраво-
151
описательной «Гэндзи моногатари» (ЙЙйЧ^Вп, «Повесть о Гэндзи»). Как
знатоку китайской литературы в свите Акико ей вменили в обязан-
ность быть наставницей императрицы в изучении «новых юэфу» из
«Сборника сочинений господина Бо» (ЙЙЗсЖ, «Бо-ши вэнь цзи»,
яп. «Хакуси мондзю») - поэтического собрания бывшего в тогдашней
Японии в большой моде знаменитого китайского поэта Бо Цзюй-и
(Бо Лэ-тянь, яп. Хакуракутэн).
Придворная служба Мурасаки-сикибу закончилась в 1013 г. На
следующий год в столицу из провинции Этиго возвратился её отец,
три года прослуживший там в должности губернатора. Через два
года он постригся в монахи. Тогда же умер её брат, и около того вре-
мени - она сама (подробнее см.: [Горегляд, 1975, с. 117; Соколова-Де-
люсина, 1992, с. 30])
«Мурасаки-сикибу никки» (^^Й5 В ВВ, «Дневник Мурасаки-сики-
бу») - это записи событий личной жизни писательницы за время её
службы в свите императрицы Акико с середины 7-й луны 5-го года
Канъэй (1008 г.) до 15-го дня 1-й луны 7-го года Канкб (1010 г.).
Между дневниковыми записями за 3-й и 11-й день 1-й луны 6-го года
Канкб вставлен большой, объёмом более четверти всего дневника,
отрывок недневникового характера. В этом отрывке содержатся
характеристики и описания наружности большой группы дам из
придворного окружения (включая тех, кто был близок ко двору ещё
до прихода туда Мурасаки-сикибу), каждой из которых посвящено
от одной строки до нескольких страниц. Чёткая датировка подённых
записей не соблюдается, перерывы между записями составляют от
одного дня до полумесяца.
Некоторые записи содержат такое количество мелких подроб-
ностей и тонких наблюдений, что наводят на мысль о их синхронной
фиксации; однако в других содержатся отступления от реальных
фактов, объяснимые только более поздним их включением в днев-
ник. Те и другие элементы могут относиться к фиксации одного и
того же события. Очевидно, при написании дневника Мурасаки-си-
кибу пользовалась черновыми заметками, которые вела по следам
событий, и впоследствии дополняла этот материал мемуарными за-
писями. Черновые заметки, судя по характеру соответствующих
записий, велись в прозе. Стихи составляют всего около 1% объёма
произведения.
Анализ двух частей «Дневника Мурасаки-сикибу» - дневниковой
и очерковой - показывает, что соединение их в одном произведении
носит случайный характер: нет признаков, по которым вставной части
должно быть помещенной именно в этом месте. Более того, она во-
обще выглядит как инородное тело.
Существует несколько точек зрения на происхождение недневни-
ковой части - одни полагают, что в дневник случайно попали лич-
ные письма писательницы, предназначенные её дочери, другие - что
эта часть намеренно была вставлена в дневник самой писательницей
изначально, третьи - что Мурасаки-сикибу вставила эту часть в свой
дневник после его написания.
152
«Дневник Мурасаки-сикибу» начинается вступлением: «Нет слов,
чтобы выразить, как прекрасен дворец Цутимикадо, когда появля-
ются предвестники осени. Веточки на деревьях возле пруда и зарос-
ли травы вдоль ручья в садике - всё окрашивается по-своему, да и
само небо пробуждает чувство прекрасного; но всё превосходят
очарованием звуки голоса, читающего каждодневные сутры. Всю
ночь он слышится даже в дуновении прохладного ветерка, неотде-
лим от привычно-нескончаемого журчания воды.
Слушая пустые разговоры приближённых своих дам, её величество
терпеливо сносит их, не подавая вида, что её одолевают неприятные
мысли. Облик августейшей как раз и должен быть таким, и лучшим
утешением в этом мире страданий для нас служит то, что никогда
так не изменяется вдруг печальное наше настроение, чем когда нас
вызывает к себе наша повелительница; а с другой стороны, удиви-
тельно, как возле неё забывается всё неприятное.
Укрывшись в сумраке деревьев в ту пору, когда ночь ещё глу-
бока, а луна закрыта тучами, мы переговаривались:
- Ах, только бы открылись ставни!
- Прислуга ещё не работает.
- Пусть открывают служанки! - И тут колокол возвестил по-
следнюю треть ночи: наступило время обряда Пяти алтарей...»
Дальше следует описание обряда, совершённого в покоях бере-
менной императрицы для обеспечения благополучных родов и про-
ведённого летом 1008 г.
Чётко выраженным вступление к дневнику назвать нельзя. То
же касается и последней («заключительной») записи. Отсюда воз-
никли предположения, что дошедший до наших дней текст - это
лишь часть первоначального объёма дневника, составлявшего, воз-
можно, несколько десятков книг.
Свою способность выражаться кратко и однозначно Мурасаки-
сикибу прекрасно демонстрирует в очерковой части произведения.
Но рядовые дневниковые описания иногда кажутся перегруженны-
ми мелкими деталями, однообразными и растянутыми (особенно ес-
ли они касаются проблем ритуала и дамских нарядов).
Пример описаний первого рода: «Госпожа Сайсе - та, что имеет
третий ранг, дочь Китано, - полненькая и фигурой очень похожа на
ребёнка, однако же талантами обладает разносторонними. Когда же
с нею сойдёшься поближе, оказывается, что их несравненно больше,
чем даже представлялось при первом знакомстве; и ко всему этому у
неё есть великолепное чувство смущения перед людскими пересу-
дами. Манеры её превосходны и оставляют блестящее впечатление.
У неё лёгкий нрав, прекрасное сердце, и, кроме всего, она очень
скромна. <...> Есть ещё дама по имени Госэти-но бэн. Ходили слухи,
что она дочь Хэй-тюнагона. Лицо у неё словно нарисованное на кар-
тине, лоб очень широкий, а внешние уголки глаз совсем узкие...»
К описаниям второго рода можно отнести рассказ о той же Сайсе
во время проведения церемонии «покрывания лепёшкой головки»
153
новорожденного принца в 1-й день 1-й луны: «Госпожа Сайсё взяла
меч его высочества и вслед за его светлостью59, который держал на
руках принца, предстала перед государем. Одеяния её были алыми,
попеременно то в три, то в пять слоёв, а потом - семь слоёв того же
цвета, поверх которых наброшена одинарная накидка, а поверх
накидки - пять слоёв с гербами того же цвета, а на утиги пла-
вающим узором вытканы дубовые листья виноградного цвета. И всё
это сшито с большим искусством. Шлейф - в три слоя, а красный
карагину заткан одноцветным узором: всё шитьё выполнено на ки-
тайский вкус. Волосы у неё были очень красиво, тщательнее обычного
прибраны, и весь её облик был прекрасен, без единого изъяна. Дама
она пухленькая, как раз подходящего роста; личико маленькое, цве-
том приятное».
Такое внимание к деталям туалета и ритуала связано и с тем зна-
чением, которое придавалось им в придворных кругах, и с традицией
фиксировать мелочи придворного быта в дневниковых записях реги-
стрирующего типа, которые вели аристократы-мужчины на китайском
языке. Во всяком случае, впоследствии оно нашло выражение не толь-
ко в автобиографической, но и в другой повествовательной литера-
туре Японии. Во главе угла здесь стояло, надо полагать, почтитель-
ное отношение к прецеденту.
Правилами очерчивались рамки явления, и они должны были
фиксироваться. «Дневник Мурасаки-сикибу» определил в литерату-
ре оптимальные параметры объектов изображения для произведе-
ний дневникового жанра. Кроме чисто художественной задачи такое
изображение выполняло ещё несколько, в том числе идеологиче-
скую; в данном случае - задачу описания придворных обычаев и риту-
алов в их реальном функционировании. Идеал общества лежал в
прошлом. Грядущие поколения должны были на него ориентиро-
ваться:
«Из императорского дворца принесли меч. Когда глава гвардии
генерал Ёрисада возвращался сегодня из Исэ, куда он был отправ-
лен посыльным со священными подношениями, он, стоя, так как
входить во дворец ему нельзя, осведомился о благополучном состоя-
нии её величества. Преподнёс он и дары, но я их не видела.
Отсекающей пуповину была супруга его светлости (мать роже-
ницы, старшая жена Митинага. - В. Г), дающей первую грудь - Цу-
нако, придворная дама третьего ранга из рода Татибана; кормили-
цей принца назначили Осаэмон-но Омото, сказав, что она давно слу-
жит и имеет хороший характер. Она - дочь придворного Мунэтоки,
губернатора провинции Битю, и супруга придворного Куродо-но Бэн.
59 Имеется в виду Фудзивара-но Митинага (966 1027), сын Канэиэ (см.: «Дневник
эфемерной жизни»), около 30 лет занимавший высшие посты в государстве, отец
двух императриц и дед двух императоров. Здесь - отец императрицы Акико, дед но-
ворожденного принца.
154
В августейшей купальне около часа Курицы зажгли светильники.
Служанки из дворца, надев поверх зелёных одеяний белые, пришли
к купели. Подставка, на которой была установлена бочка, вся была
покрыта белым. Тикамицу, губернатор провинции Овари, и Накано-
бу, возглавляющий придворные службы, пришли и остановились пе-
ред бамбуковыми шторами.
Подставок для сосудов две. Госпожа Киёко и Харима, доливая
воду, регулировали температуру; две дамы - Омоку и Ума - сообща
отобрали шестнадцать сосудов для горячей воды. Дамы были в тон-
котканых покровах, с шлейфами плотного шёлка, в узорчатых на-
кидках, с серебряными заколками в волосах и белыми лентами во-
круг головы. Причёски их выглядели просто очаровательными. Ку-
пающей принца была госпожа Сайсе, помощницей её - госпожа Дай-
нагон - Минамото-но Судзико. В своих шёлковых купальных одея-
ниях они были прекрасны, несравнимы ни с кем.
Принца держал на руках его светлость, но прежде него в поме-
щение купальни вошли госпожа Косёсё с августейшим мечом (од-
ним из трёх символов императорской власти. - В. Г.) и Мия-но най-
си, державшая для отпугивания злых духов голову тигра. Накидка
на ней была расшита изображениями сосновых шишек, шлейф с вы-
тканным на нём морским берегом был подобен большому изобра-
жению моря. На поясе, где шлейф сужается, вышиты причудливые
узоры. На госпоже Косёсё пояс шлейфа блистал вытканными сереб-
ром осенней травою, бабочками и птицами. Поскольку подбор тка-
ни ограничен предписаниями и не зависит от вкусов самого человека,
только рисунки пояса отличаются один от другого.
Двое сыновей его светлости и младший генерал Масамити с гром-
кими возгласами разбрасывают вокруг жертвенный рис, соревнуясь
в том, кто же бросит свою горсть с большим шумом. Этот рис по-
падал и в голову, и в глаза сбдзу (самая высокая должность в буддий-
ском монастыре. - В. Г) из храма Хэнтидзи, который удостоился
чести провести обряд ограждения августейшего младенца от злых
духов. Монах поднял веер, чтобы защитить лицо, и рассмешил мо-
лодёжь.
Учёный, вслух читающий отрывки из знаменитых китайских со-
чинений, Куродо-но Бэн Хиронари, стоя возле самых перил, читает
первую книгу из «Записок историка»60. Двадцать человек ударяют по
тетивам - десять придворных дам пятого ранга и десять шестого, -
они выстроились двумя рядами.
При вечернем купании, хоть оно и называется так, проводят только
сам обряд. Церемония та же. Может смениться только учёный, вслух
60 «Записки историка» («Исторические записки») - многотомное сочинение ки-
тайского историографа Сыма Цяня (II в. до н. э.). В Японии эпохи Хэйан распрост
ранялось на языке оригинала. У колыбели новорожденного принца отрывки из клас-
сических сочинений читали в надежде воспитать его в атмосфере, подобающей муд-
рому правителю.
155
читающий сочинения. На этот раз это был, кажется, профессор Му-
нэтоки, губернатор провинции Исэ. Читал он, как будто, обычный
"Сяо цзин"61. Кроме того, Такатика читал главу об императоре
Вэнь-ди из "Записок историка". В течение семи дней одно сочинение
сменялось другим».
Такие описания явно создавались в расчёте на постороннего чи-
тателя, могли быть использованы в аналогичной ситуации как ав-
торитетное свидетельство очевидца, т. е. как справочный материал,
в то время как иные части дневника обладают убедительными приз-
наками художественного произведения.
Другие памятники дневникового жанра отличались своими особен-
ностями, то больше, то меньше заимствуя от стихотворных сбор-
ников или сборников повествований, от дзуйхицу или философских
трактатов... Главными разновидностями дневникового жанра стали
бытовые дневники (вроде «Дневника эфемерной жизни» или «Днев-
ника Мурасаки-сикибу») и путевые заметки (начиная с «Дневника
путешествия из Тоса»), Взаимодействие жанров нередко приводило к
нарушению чётких границ между ними, к беллетризации дневников и
к документализации повестей.
* *
*
Вначале XI в. Мурасаки-сикибу написала чисто художественное
произведение, «Хикару Гэндзи моногатари» (УгЖКФЙби, «По-
весть о Гэндзи» или «Повесть о блистательном Гэндзи»), самый объ-
ёмный к тому времени труд (54 свитка) не только в японской, но, по-
видимому, и в мировой литературе62. Примерно за тысячелетнюю
историю существования «Повести» её исследования и переводы со-
ставили целое направление в японском литературоведении (об этом
см.: [Боронина, 1981, с. 6-10]). Переводилась она не только на совре-
менный японский, но и на многие зарубежные языки (см. там же).
Описывая в своём дневнике, как императрица после родов соби-
ралась возвратиться из специального домика для рожениц к себе во
дворец, Мурасаки-сикибу упоминает, что государыня велела ей при-
вести в порядок бумагу для записок. Писательница приготовила при
этом разную бумагу, составила письма в несколько адресов и доба-
вила ко всему этому рукописные листы «повествования». Дальше
говорится, что за указанным занятием её застал канцлер Фудзивара-
но Митинага:
« - Почему же вы, имея ребёнка, занимаетесь этим в таком хо-
лоде? - заметил он и вслед за тем принёс государыне прекрасную
61 «Сяо цзин» («Книга о сыновней почтительности») - одна из книг конфуциан-
ского канона.
62 Перевод памятника на русский язык выполнен Т. Л. Соколовой-Делюсиной, см.:
[Мурасакн Сикибу, 1991-1993].
156
тонкую бумагу, кисти и тушь, а затем изволил принести даже ту-
шечницу.
Когда же государыня передала всё это мне, он громко выразил
неудовольствие, заметив мне с осуждением:
- Оказывается, такими делами вы занимаетесь украдкой! - Од-
нако же и тушь для писания, и кисти, .и всё остальное всё-таки по-
жаловал.
Рукописи повести я принесла и спрятала в своей комнате, но
когда однажды находилась у её величества, его светлость крадучись
прошёл ко мне, отыскал их и передал старшей придворной даме. Все
листы, переписанные набело, растеряли, и меня беспокоит, какая
теперь обо мне пойдёт молва!»
В огромном по размерам, охвату времени (75 лет) и количеству
действующих лиц (не менее трёхсот, в том числе более сорока ос-
новных) полотне главное действие разворачивается в столице и её
окрестностях. Герои в подавляющем большинстве принадлежат к
высшей придворной аристократии, главный из них - побочный сын
императора, «блистательный Гэндзи». Внешняя канва повествова-
ния - любовные приключения принца Гэндзи.
Начинается «Повесть» Мурасаки-сикибу (в первые несколько
столетий после своего написания она была известна под разными
названиями) с рассказа о рождении сына у вымышленного импера-
тора Кирицубо от одной из его наложниц. «Родился у них мальчик,
каких ещё не бывало в мире, прекрасный, словно драгоценная жем-
чужина» (здесь и далее «Повесть о Гэндзи» цитируется в переводе
Т. Л. Соколовой-Делюсиной). Младенец вырос в прекрасного юно-
шу, а потом и в мужчину ослепительной красоты. Молва о его совер-
шенствах распространилась так широко, что многие мечтали хоть од-
нажды просто взглянуть на принца Гэндзи.
Едва герою исполнилось двенадцать лет, над мальчиком по обы-
чаю совершили церемонию «покрытия главы» - изменили причёску,
вместо детского платья одели во взрослое. В скором времени героя
женили на дочери Левого министра, второго по важности лица в
придворной админисгации. И почти сразу же началась череда пыл-
ких влюблённостей принца, его романов и с замужними дамами, при-
надлежавшими к высшему свету, и с девушками попроще. Вре-
менами одно любовное приключение накладывалось у него на дру-
гое, а близко к началу всей этой цепи лежало фабульно очень важ-
ное звено: в возрасте восемнадцати лет Гэндзи вступил в любовную
связь с двадцатитрёхлетней наложницей собственного отца по име-
ни Фудзицубо. От этой связи родился мальчик, разительно похожий
на Гэндзи. Это было началом прижизненной кармы. Грехопадение
героя много лет спустя привело к одноплановому возмездию: теперь
уже его супруга родила сына, вылитого Касиваги, друга героя и сы-
на его давнего друга-соперника. Причина неумолимо породила след-
ствие. По ходу действия Гэндзи переживает болезни и смерти мно-
гих близких ему людей: отца, друзей, возлюбленных, их близких
родственников.
157
Одно время он попал у двора в немилость и жил в добровольном
изгнании в безлюдной местности Сума, на берегу Внутреннего Япон-
ского моря. А положение при дворе у него стало как никогда прочным
после того, как под именем Рёдзэн престол занял его фактический
сын от наложницы отца. В пятьдесят два года, потеряв дорогую для
него красавицу Мурасаки, он сжёг её письма, отдал необходимые рас-
поряжения и «сокрылся в облаках», т. е. умер. «Сокрытие в обла-
ках» - так названа глава, имеющая в виду кончину Гэндзи и не со-
держащая ничего, кроме заглавия.
Жизнь главного героя описана в сорока четырёх главах. Ещё
десять глав «Повести о Гэндзи» посвящены перипетиям жизни Као-
ру - сына, рождённого его женой от Касиваги. Он и его друг Ниоу
(сын императора от наложницы) красотой сравнимы с самим Гэндзи.
В последних главах «Повести» описана новая серия любовных при-
ключений, дружеских связей молодых людей, монашеских постри-
гов... Впрочем, многие учёные считают, что эти десять глав (по мес-
ту действия они условно называются «Удзи») написаны не самой
Мурасаки-сикибу, а её дочерью Дайни-но самми. По традиции, иду-
щей от версии, предложенной писательницей Ёсано Акико (1878-
1942), которая первой перевела «Повесть о Гэндзи» на современный
японский язык, в наше время большинство исследователей делят
«Повесть» на три части: первые 33 главы (от рождения героя до его
расцвета), следующие 8 глав (его закатные годы) и заключительные
13 глав [Соколова-Делюсина, 1992, с. 36]. Специалисты по-разному
определяют и основные характеристики главного произведения Му-
расаки-сикибу, исходя из его сюжета, идей, композиции и т. д. [Кон-
рад, 1974, с. 233; Боронина, 1981, с. 4-11].
Нет сомнения, что для автора материалом описания послужила
та жизнь, которую она видела своими глазами. В этом лишний раз
убеждает сравнение некоторых описаний из «Повести о Гэндзи» с
отдельными описаниями в «Дневнике Мурасаки-сикибу».
Япония рубежа X и XI вв. представляла собой закрытое общест-
во. К тому времени больше ста лет отсутствовали официальные кон-
такты с материком, иноземная культура усваивалась в «классических
образцах» (конфуцианское Пятикнижие, буддийские доктрины, ис-
тория Китая, каллиграфия, астрология, техника, фундаментальные
науки), укреплялось этническое самосознание японцев, мощными
импульсами выталкивались на поверхность собственные культур-
ные ценности. «Повесть о Гэндзи» принадлежит к числу самых заме-
чательных. Но, как и вся японская культура, она формировалась не
в отрыве от внешней среды, а в многоплановой зависимости от неё.
Принято рассматривать в качестве фабульной пружины «Повес-
ти» Мурасаки-сикибу буддийскую концепцию нравственной причин-
ности, кармы. К началу XI в. буддийское учение широко распростра-
нилось в общественном сознании японцев, так что ключевые обще-
буддийские представления, такие, как карма, непостоянство сущего,
многократность рождений, прочно бытовали в обыденном мировос-
158
приятии и постоянно воплощались в произведениях художественной
литературы. Кониси Дзинъити, рассмотрев фабулу «Повести о Гэн-
дзи», пришёл к заключению, что в ней «кармическое страдание» -
«это тема части второй, точнее тема её - карма и предопределённое
страдание» [Кониси, 1986, с. 330]. В несколько других выражениях,
но по существу с тех же позиций характеризует «Повесть» Т. Л. Со-
колова-Делюсина: «Тема равновесия судьбы, т. е. уравновешенности
в ней горя и счастья, определяя жизненные линии отдельных пер-
сонажей, находит воплощение и в общей структуре "Повести". <...>
Если в первой части "Повести" помышления героев сосредоточены
в основном на земных радостях, то во второй возникает тема
неприятия всего мирского, достигающая полноты звучания в треть-
ей, последней части. <...> Параллели и контрасты, пронизывающие
все части "Повести", связывают их в единое целое. Прошлое звучит
в настоящем и определяет будущее - вот основной смысл трёх
частей "Повести о Гэндзи"» [Мурасаки, 1992, с. 42].
Неудивительно, что Мурасаки-сикибу привычно употребляет та-
кие термины из буддийского лексикона, как карисомэ (временный),
садамэнаси (неустойчивый), хаканаси (преходящий), цунэнаси (непосто-
янный), цую (роса, как символ непостоянства), тигири (обет), цуми
(грех), сукусэ (карма), не обнаруживая преимущественного внима-
ния к какой-то одной школе буддизма. Но если в дневнике при опи-
сании экстремальной ситуации (как разрешение императрицы от
бремени) она чаще всего упоминает заклинателей из буддийской шко-
лы сингон, то в «Повести о Гэндзи» обнаруживает склонность к от-
сылкам к культу Амида (Амитабха).
Культ Амида-будды в Японии стал распространяться ещё в VIII в.
[Игнатович, 1988, с. 154] и приобрёл заметное влияние к середине X в. в
рамках традиции тэндай-буддизма. В XII в. он оформился в самосто-
ятельное течение, в границах которого постепенно образовалось не-
сколько сект.
Амидаисты произносили молитвенную формулу, заимствованную
из санскрита: Наму Амида-буцу (О, будда Амитабха!), первоначаль-
но для улучшения грядущей судьбы своих умерших предков. Это
был «лёгкий путь к просветлению», просветлению благодаря «чу-
жой силе» (тарики), силе восемнадцатого, или «основного», обета
(хонган) Амида-будды. Позднее эта молитвенная формула (сокр.
нэмбуцу) стала повторяться последователями этого течения много
раз в день. Рождение после смерти, минуя долгую цепь рождений-
смертей, в Чистой земле Амида-будды (дзёдо, санскр. Сукхавати),
расположенной далеко на Западе, означало прекращение страданий,
составляющих земное существование человека.
Естественно желание многих специалистов определить, какому
из направлений буддизма отдаёт предпочтение Мурасаки-сикибу.
«Повесть о Гэндзи» - произведение сугубо светское, некоторые сред-
невековые критики даже упрекали его в том, что оно проповедует
распущенность, и уверяли, что сама Мурасаки-сикибу в расплату за
159
его написание после её смерти должна оказаться в преисподней.
Правда, высказывались и противоположные суждения. Как бы то
ни было, собственно высказывания буддийского характера встреча-
ются в «Повести» не очень часто, особенно если учесть её размеры.
И тем не менее, если мы с этих позиций рассмотрим две главы
подряд («Вечерний лик» и «Юная Мурараки»), где герою 17-18 лет, у
нас может сложиться впечатление о бесспорном преобладании в их
тексте идей амидаизма.
Вот тяжелобольная кормилица Дайни говорит: «Теперь я буду со
спокойной душой дожидаться, когда снизойдёт на меня свет будды
Амида», а Гэндзи отвечает ей уверениями в том, что после смерти
она займёт почётное место в Чистой земле. Вот монах Содзу заяв-
ляет герою: «Мне пора в храм будды Амида для совершения мо-
литв». Вот он же говорит об эпохе Конца Закона (маппд). Уверен-
ность в её наступлении стимулировала в хэйанскую (а особенно - в
следующую за ней) эпоху возникновение в японском буддизме школ,
исповедующих концепции «кратких путей» к просветлению.
Но рядом с этими фразами в тех же главах «Повести» фигу-
рируют ритуальные предметы сингон-буддийских служб, убеждён-
ная вера некоторых героев в будду Мироку (санскр. Майтрейя), буд-
ду грядущего мира (с течением времени эта вера постепенно вытес-
нялась амидаизмом); в других местах упоминается знаток учения
дзэн.
Всё это приводит к мысли о господстве в сознании придворной
аристократии недифференцированного буддизма, другими словами -
её довольно поверхностного отношения к религии.
Като Сюити усматривает два аспекта в той роли, которую играл
в тогдашнем японском обществе буддизм: это ожидание действен-
ности буддийских церемоний и желание получить помощь «на том
берегу». В этом смысле нельзя не согласиться с его утверждением о
том, что «идеологический фон повести главным образом буддий-
ский» [Като, 1975, с. 181].
Вероятнее всего, Мурасаки-сикибу отнюдь не была буддийской
моралисткой. Идея кармического воздаяния, настигшего Гэндзи при
жизни, использована ею не для пропаганды нравственности, а глав-
ным образом как общий композиционный приём, тем более что в
своём «Дневнике» писательница не даёт оснований для противопо-
ложного заключения.
Из учений, отпечаток которых отчётливо проступает в ткани «По-
вести» Мурасаки-сикибу, помимо буддийского следует прежде всего
отметить конфуцианство в двух его проявлениях - в культивирова-
нии сыновней почтительности и в представлении о связи стихий с
надлежащим поведением монарха. Однако конфуцианские идеи не-
сколько приглушены обилием не связанных с ними описаний. На-
много отчётливее в «Повести о Гэндзи» прослеживается влияние
учения о Тёмном и Светлом началах, проявляющееся во внимании к
предсказаниям, определениям благоприятного и неблагоприятного
160
для совершения поступка дня, благоприятного или неблагоприят-
ного для отправления в путь направления. Это чисто китайское уче-
ние нашло в Японии благодатную почву. Его проявления встреча-
ются в «Дневнике путешествия из Тоса», ими изобилует «Дневник
эфемерной жизни», как нечто само собой разумеющееся оно упо-
минается в более поздних произведениях.
В числе народных верований, описанных в «Повести о Гэндзи»,
одним из самых характерных является убеждённость в существова-
нии одержимости злым духом. Злой дух, по представлениям тогдаш-
них японцев, может принадлежать человеку как живому (икисудама),
так и умершему {спрэй), и в первом случае живёт независимой от
своего обладателя жизнью (во всяком случае, он не в силах обуять
жертву, даже если обладатель духа очень этого желает, и, напротив,
способен мучить жертву и без ведома его обладателя). Он причиня-
ет жертве огромные страдания и иногда даже доводит её до смерти
(как это сделал ревнивый мстительный дух бывшей возлюбленной
Гэндзи Рокудзё в «Повести» Мурасаки-сикибу) (см. по этому поводу:
[Маккаллоу, 1973]).
Разоблачить и изгнать злого духа надлежало посредством закли-
наний (особенно популярными в качестве заклинателей были буд-
дийские монахи школы сингон и отшельники-ямабуся) с помощью
медиума, в качестве которого выступала, как правило, маленькая де-
вочка или незамужняя девица. Для изгнания злого духа из тела
жертвы его пересаживали в плоть медиума.
Представление об одержимости многие японские учёные возво-
дят к исконно синтоистским, указывая как на ранний его образец на
пляску богини Амэ-но Удзумэ-но микото перед Небесным Гротом, в
котором сокрылась Аматэрасу Омиками («Кодзики», «Нихонги»).
Однако ритуал по изгнанию злого духа, описанный в медицинском
справочнике X в. «Иссимпо» (ES-L'^) Тамба-но Ясуёри, заимствован
из китайских источников, а использование медиума - из ритуала
Авеша, принятого в эзотерическом буддизме [Маккаллоу, 1973, с. 97-
98]. Оно принадлежит в японской культуре к наиболее устойчи-
вым - описывается в пьесах дзёрури, произведениях средневековых
и новых писателей, явилось ключевым звеном в появлении многих
«новых религий» (показательный пример - Тэнрикё, религия, осно-
вательница которой поначалу выступала в качестве медиума при
исцелении заклинателем её собственного сына).
Здесь кстати вспомнить слова Эдвина О. Рейшауэра: «...живая, жиз-
ненная культура есть всегда комбинация старых и новых элементов.
Она постоянно сталкивается с новой технологической почвой, ко-
торая воздействует на её течение. Пересекающиеся потоки между
нею и другими культурами непрестанно изменяют её направление. В
результате с течением времени она сильно меняется. Маленький
культурный ручей древности, стиснутый в узкой долине географи-
ческими и техническими ограничениями, вырастает в более широ-
6 Зак 3732
161
кую, более разнообразную и действительно быстрее текущую реку.
И всё-таки достаточная часть этого потока остаётся всё той же,
чтобы дать опознать себя как одну и ту же культурную традицию
спустя века» [Рейшауэр, 1973, с. 69].
Обряды и церемонии, принятые при дворе, Мурасаки-сикибу опи-
сывает так детально, что на ум приходит сравнение «Повести о Гэн-
дзи» с дневником писательницы, уделяющим им такое видное место.
Описания сопровождаются в повести упоминанием о том, какие чув-
ства у зрителей вызывало то или иное зрелище, - явное влияние
японской поэтической традиции, в которой эмоциональная реакция
намного важнее вызвавшей её причины.
Без особого преувеличения «Повесть о Гэндзи» называют «энци-
клопедией японской жизни хэйанской эпохи». По многим показа-
телям - глубине проникновения в психологию действующих лиц, по
разнообразию изображённых типов и ситуаций, по реалистичности
описаний - она на много столетий оставалась образцом для япон-
ских писателей.
Проблема роли «Повести о Гэндзи» в развитии японской литера-
туры, места этой повести в истории литературы заслуживает от-
дельного рассмотрения. И. А. Боронина в обстоятельной моногра-
фии показала в числе прочих особенностей «Повести» её связь с
фольклорной традицией, с произведениями ранней японской лите-
ратуры - «Манъёсю», «Повестью о старике Такэтори», «Повестью
о прекрасной Отикубо», произведениями дневникового и прозопо-
этического жанра (см.: [Боронина, 1981, с. 104-119]; см. также: [Кин,
1993, с. 383-388, 444-446, 446-451, 1116-1118] и др.).
Расцвет «литературы женского потока» достиг апогея в твор-
честве Мурасаки-сикибу. Можно говорить, что с появлением «По-
вести о Гэндзи» вновь сместились устоявшиеся представления об
иерархии жанров. Прежде «настоящей литературой» безоговорочно
признавалась литература на китайском языке. Впоследствии такое
представление слегка поколебалось; литературе на китайском язы-
ке пришлось потесниться на литературном Олимпе под давлением
поэзии вака. Трещина в художественном сознании углубилась: ко
второй половине XI в. появились свидетельства того, что по крайней
мере женщины зачитываются повествованиями на японском языке
{моногатари).
Однажды, когда «Повесть о Гэндзи» читали вслух в присутствии
императора, он высоко отозвался об учёности автора и высказал
предположение, что она читала «Анналы Японии». Анализ «Повес-
ти» показывает, что император имел полные основания для такого
суждения. Ко времени, когда жила Мурасаки-сикибу, были уже опуб-
ликованы все «Шесть отечественных историй», первой из которых и
были «Анналы Японии». На примере последних «Историй» («Нихон
Монтоку-тэннб дзицуроку», и «Сандай дзицуроку») стало особенно
ясно несовпадение принципов китайской историографии с японской
реальностью: хроники стали заполняться описаниями церемоний, ри-
162
туалов, дворцовых приёмов, назначений... Попытка в середине X в.
создать «Синкокуси» «Новая отечественная история») за-
кончилась ничем (работа не была завершена) и больше не предпри-
нималась.
Мурасаки-сикибу, пожалуй, была первым автором, давшим по-
нять, что принципы, по которым создаются официальные истории,
несовершенны. В главе «Хотару» («Светлячки») она вкладывает в
уста главного героя рассу ждение о преимуществах моногатари, по-
вествований на японском языке, перед «отечественными историями»:
« - Боюсь, что я и в самом деле несправедлив к повестям, - улыб-
нувшись отвечает министр. - Ведь они сохраняют для нас всё, что
происходит в мире, начиная с века богов. "Нихонги" и прочие исто-
рические хроники касаются только одной стороны явлений. В по-
вестях же содержатся разнообразные подробности».
Слов нет, обобщение правдивее единичного факта (если, конеч-
но, обобщаются факты, а не вымыслы). Как утверждал Конфуций,
«философ не говорил об удивительном...» («Луньюй», гл. «Шуэр»)
Историк начинается там, где он осмысливает значимый для истории
факт, а описание этого факта встраивает в описание процесса, где
рядом с фиксацией факта значится и его интерпретация как свиде-
тельства чего-то или проявления определённой тенденции. Слово
«моногатари» в хэйанскую эпоху понималось широко («Уцухо моно-
гатари», наряду с весьма реалистичными описаниями, включала в
себя откровенно сказочные вставки, тогда как в обычном слово-
употреблении «моногатари» обозначали письменное закрепление
рассказа о реальном происшествии или предмете). В самой «Повес-
ти о Гэндзи» «историографические потенции» моногатари не реализо-
ваны, но позиция автора обозначена, и через несколько десятилетий
их попытались реализовать другие беллетристы.
Сложной для Мурасаки-сикибу представлялась задача придать
единство огромному произведению. Личности некоторых героев, про-
ходящих через большую его часть (и сам Гэндзи в их числе), и идея
кармы недостаточны для того, чтобы «Повесть» не распалась на де-
сятки отдельных рассказов, - тем более что каждая глава в ней
скомпонована самостоятельно, имеет собственную завязку и развяз-
ку и обладает вполне законченным видом.
«Если смотреть широко, - пишет Като Сюити, - нельзя сказать,
чтобы в "Повести о Гэндзи" не было структуры целого, но в по-
давляющем большинстве части подаются не во взаимосвязи с этим
целым, а сами по себе. Узор, который образуют части, достаточен
для целого, но не всегда необходим» [Като, 1975, с. 14]. Учёный раз-
вивает здесь свою идею о «законе примыкания», отличающем разные
аспекты японской культуры. «План усадьбы дайме начала эпохи
Токугава (1603-1867 гг. - В. Г. ), - пишет он чуть раньше, - явно не
делит большие пространства на малые, но ясно одно: целое создава-
лось само, последовательным соединением всех помещений. По
форме они выглядят в точности, как ряд из повторных пристроек.
163
Японские архитекторы, в противоположность архитекторам китай-
ским и европейским, стремятся идти от части к целому. Можно, по-
видимому, сказать, что специфика порядка слов аналогична япон-
скому стилю законов примыкания применительно к свободным про-
странствам» [Като, 1975, с. 14].
Анализ других памятников средневековой японской литературы
подтверждает, что по сравнению с европейской литературой связи
между разными частями произведения в них действительно сильно
ослаблены и отличаются от европейских по характеру. Получили
распространение жанры, где эти связи почти сходят на нет. Поэтому
подробный анализ таких связей - это разные виды ассоциативной
связи, образы-антонимы, тематическая связь образов, идейное со-
держание - предпринятый И. А. Борониной, очень важен..
Вывод, к которому приходит автор в результате этого анализа,
сформулирован следующим образом: «...для произведения Мураса-
ки Сикибу характерно сложное сочетание различных приёмов ком-
позиции: наряду с сюжетно-фабульными средствами связи, удель-
ный вес которых варьируется по мере развития действия, доходя в
определённые моменты до минимума, писательница использует тра-
диционно-поэтические средства типа ассоциативного подтекста (ёдзё),
реминисценции и особую связь образов и ситуаций типа "энго". По-
мимо последовательной связи событий и эпизодов в романе суще-
ствуют "сквозные" связи, соединяющие между собой главы и эпизо-
ды, далеко отстоящие друг от друга (структурно и во временном
плане), внутренней логикой замысла и дополнительными линиями
ассоциаций. Этот тип композиции, генетически восходящий к "Исэ мо-
ногатари", трансформируется в романе Мурасаки Сикибу в соот-
ветствии с требованиями нового жанра» [Боронина, 1981, с. 229].
К частным случаям связей в «Повести о Гэндзи» относится про-
блема течения времени в ней. «Время в художественной литературе
воспринимается благодаря связи событий - причинно-следственной
или психологической, ассоциативной. Время в художественном про-
изведении - это не только и не столько календарные отсчёты, сколь-
ко соотнесённость событий» [Лихачёв, 1979, с. 213]. Соотнесённость
событий - элемент композиции, придающий произведению допол-
нительную связь. Рассуждая несколько отвлечённо, А. М. Жанейра
пишет, что «концепция времени, принятая в «Повести о Гэндзи», - в
основе такая же, что и в новом японском романе, - показывает
сходство с западной концепцией. Основанная на буддийском мыш-
лении и на китайской традиционной философии, которая подчёр-
кивает преходящий характер всех вещей, «Повесть о Гэндзи» прида-
ёт первостепенное значение такому элементу времени» [Жанейра,
1970, с. 70].
Мурасаки-сикибу регулярно отмечает цикличность сезонных из-
менений природы. Нельзя утверждать, что в её изложении природа
однозначно реагирует на переживания героя. Добровольное изгна-
ние Гэндзи в Сума начинается в конце 3-й луны, «когда ночи длин-
164
ные», там же его застаёт сезон дождей - и это вполне созвучно настро-
ению героя. Казалось бы, по этому же образцу природные циклы
должны вписываться в эмоции героев и в других ситуациях. На деле
всё сложнее. Во время тяжёлой болезни любимой жены Гэндзи, Му-
расаки, когда буддийские священнослужители усердно читали над нею
молитвы, автор замечает: «Был десятой день третьей луны, поэто-
му сакура была в полном цвету...» Цветение сакуры наводит автора
на сравнение ситуации с Чистой землёй, с благой судьбой героини, ко-
торой предстоит рождение в ней. Здесь упоминание о времени года
несет идейную, а не эмоциональную нагрузку.
Субъективное время героев отмечается напоминаниями о прош-
лых событиях. Эти напоминания, во-первых, способствуют укрепле-
нию композиционного единства «Повести», во-вторых, маркируют
ход времени. Мурасаки ребёнком оказывается воспитанницей Гэн-
дзи, вырастая, становится его женой, потом заболевает и умирает.
Фудзицубо напоминает императору его покойную супругу, Мураса-
ки напоминает главному герою Фудзицубо, Тамакадзуна - живая ко-
пия своей матери Югао, безвременно умершей возлюбленной Гэн-
дзи, Каору полюбил Юкифунэ из-за её сходства с сестрой. Впечат-
ления героев накладываются на их воспоминания, новые эмоции на
старые, и это стимулирует ход субъективного времени.
Имя Гэндзи в японской традиции стало нарицательным. Европей-
цы иногда сравнивают его с Доном Жуаном, но это сравнение (как,
впрочем, и почти всякое другое) небезупречно. Главное их отличие
друг от друга - в восприятии современниками, в том, что Гэндзи, при
всех его недостатках, в глазах современников - герой положитель-
ный, достойный восхищения.
Особо нужно упомянуть о языке Мурасаки-сикибу. Японское об-
щество во все времена было строго корпоративным. В средние века
существовала не просто аристократия - она делилась на придвор-
ную и провинциальную. Придворная, в свою очередь, разграничи-
валась не только по вертикали (разряды, приближённость к особе
императора, к дому канцлера-регента, принцев крови и т. д.), но и по
горизонтали: свиты сыновей или дочерей императора были замкну-
ты по интересам, по общей атмосфере (это отлично показано в
«Дневнике Мурасаки-сикибу»), по микрофольклору, даже по лекси-
ке. Мурасаки-сикибу писала «Повесть о Гэндзи» для узкого круга
людей. О её «зыбкой, неясной манере письма» в XVIII столетии с
восхищением отзывался Мотоори Норинага (1730-1801), а в XX сто-
летии вспоминал один из крупнейших современных писателей Кава-
бата Ясунари [Григорьева, 1979, с. 243]. Эта «неясная манера» во
многом определялась тем, что некоторые её намёки оставались не-
понятными для непосвящённых, но для людей её круга никаких по-
яснений не требовали.
Современным исследователям иногда требуется приложить не-
малые усилия, чтобы понять, о ком в данном эпизоде идёт речь, по-
тому что в предложении подлежащее отсутствует, а отношения между
165
героями определяются косвенно - через социальное спряжение
глагола, через онорифические префиксы, специальный подбор лек-
сики... При этом такие косвенные показатели могут относиться не к
взаимоотношениям героев, а к позиции автора по отношению к од-
ному из них. «Художественная ткань произведения, изобилующая
эвфемизмами, иносказаниями, цитатами, настолько сложна и ёмка, -
отмечает Т. Л. Соколова-Делюсина, - что уже в конце XI в., всего
через сто лет после появления на свет "Повести о Гэндзи", возникла
потребность в комментариях, ибо то, что современниками Мурасаки
понималось с полуслова, стало загадкой для её потомков» [Мура-
саки, 1991, с. 4]. Можно добавить к этим словам, что даже авторы
ранних комментариев к «Повести» не всегда были согласны друг с
другом.
По словам Ю. Д. Михайловой, «критикуя комментарии на "Гэн-
дзи моногатари", написанные в духе конфуцианских и буддийских
проповедей, Норинага утверждал, что они не только искажают суть
романа, но и наносят вред "истинной природе человека"» [Михайло-
ва, 1988, с. 88].
Мотоори Норинага и его школа много занимались проблемой
трансформации одной из основных категорий раннесредневековой
японской эстетики, моно-но аварэ (печального очарования вещей).
В «Повести о Гэндзи» это понятие, считал Норинага, выражено че-
рез описание любви и чувственных наслаждений, тогда как в более
поздние времена оно приобрело элегический оттенок [Михайлова,
1988, с. 75 и след.].
О воздействии на последующую японскую культуру многих осо-
бенностей «Повести о Гэндзи» написано очень много. И. А. Борони-
на анализирует влияние произведения Мурасаки-сикибу на творчество
двух крупнейших писателей современной Японии Кавабата Ясунари
и Танидзаки Дзюнъитиро [Боронина, 1981, с. 242-256]. По призна-
нию историка японской культуры Иэнага Сабуро, «несмотря на то,
что проза в жанре моногатари, вершиной которой стала "Гэндзи-мо-
ногатари", представляет собой продукт аристократического общест-
ва, что в основу её содержания легла жизнь аристократических кру-
гов с присущими ей специфическими чертами, благодаря своим ве-
ликолепным художественным достоинствам она и в последующие
эпохи, в период существования феодального общества и позже, вклю-
чая Новое время, высоко ценилась как памятник классической на-
циональной литературы. В разные эпохи она получила признание
представителей различных классов - сначала это были выходцы из
среды военного сословия, затем горожане, наконец, интеллигенция
Нового времени» [Иэнага, 1972, с. 85]. Отмечается влияние «Повес-
ти» Мурасаки-сикибу на театр Но и Кабуки, на все сферы жизни
([Григорьева, 1979, с. 239]; см. также: [Кин, 1993, с. 486, 489, 508, 511
примеч., 1018, 1022-1024]).
В интересном ключе рассматривает «Повесть о Гэндзи» Е. М. Ме-
летинский: «На средневековом Дальнем Востоке роман, притом са-
166
мый "романический" из всех средневековых романов вообще, был
создан не в Китае, а в Японии на рубеже X и XI вв., причем этот ро-
ман не следует хронологически за эпосом, как в романо-германских,
ираноязычной или санскритской литературах, а предшествует игра-
ющей роль эпоса историко-героической повести» [Мелетинский, 1983,
с 272-273].
Позднехэйанские моногатари
Влияние «Повести о Гэндзи» Мурасаки-сикибу на литературу
ближайших десятилетий было мощным и разнонаправленным.
В одних случаях последователей знаменитой писательницы привле-
кал сюжет - многочисленные любовные приключения главного ге-
роя, в других - форма, доведённый до виртуозности язык повест-
вования. В середине XI в. появилось произведение, состоявшее не
менее чем из десяти глав (до нас дошло только пять), «Ёва-но Нэ-
дзамэ» «Пробуждение в полночь», другие названия:
«Ёру-но Нэдзамэ», «Нэдзамэ моногатари»)63. Создание повести при-
писывают разным писательницам, но чаще других - дочери при-
дворного чиновника Сугавара Такасуэ64, известной как автор знаме-
нитого дневника «Сарасина никки».
Атрибуция основана на колофоне Фудзивара-но Тэйка к его соб-
ственноручной копии упомянутого дневника. Некоторые специалис-
ты сомневаются в справедливости атрибуции Тэйка на том основа-
нии, что она не подтверждается никакими доводами, однако осно-
ваний для её отрицания тоже не находят [Кин, 1993, с. 530].
Содержание утерянных частей «Ёва-но Нэдзамэ» (главы между
современными второй и третьей частями и после части пятой) вос-
станавливается благодаря позднейшим пересказам и цитированию
её в других источниках.
Героиня красавица Нэдзамэ (букв.: Пробуждение)- дочь принца
крови, ставшего министром. У её отца было четверо детей от двух
жён, после смерти которых он решил целиком посвятить себя вос-
питанию детей. Его любимица - вторая дочь, Нэдзамэ, проявля-
ющая особые способности в игре на струнном инструменте бива. Мин-
истр передал дочери все известные ему секреты игры на бива, кото-
рые она быстро усвоила. После этого во сне к Нэдзамэ явился
63 Большинство исследователей датируют создание «Ёва-но Нэдзамэ» проме-
жутком времени между 1045 и 1068 гг. Название повести имеет двойной смысл:
«Пробуждение в полночь» или «Нэдзамэ ночью», «Повесть о Нэдзамэ».
Родилась в 1008 г.
167
небожитель, чтобы научить героиню более сложным приемам игры.
Урок повторился ещё раз через год, потом ещё и ещё раз, пока де-
вушка не освоила игру на бива в совершенстве. Во время последнего
визита во сне (а к снам герои средневековой литературы относились
как к реальности) наставник произносит предсказание: жизнь Нэ-
дзамэ будет преисполнена тревог и страданий65.
Отец Нэдзамэ ищет жениха для её старшей сестры, Оигими, и
останавливает свой выбор на Министре двора. Жених был достой-
ным во всех отношениях - родовит, с высоким положением при дво-
ре, умен, красив. Посетовав, что не может выдать за него Нэдзамэ,
так как на очереди её старшая сестра, отец вспомнил предсказание
небожителя и, чтобы не навлечь на молодых несчастье, отсылает
любимицу в загородный дом Так же в своё время поступил отец
Гэндзи, когда решил не возводить сына в ранг принца, чтобы из-
бежать исполнения дурного предсказания, так же поступил отец
принца Сиддхартхи (будущего будды Шакьямуни), оградивший сына
от мира после того, как предсказатель предрёк тому судьбу Спаси-
теля мира.
Незадолго до своей свадьбы Министр двора лунной ночью от-
правился за город навестить свою престарелую кормилицу и услы-
шал чарующие звуки бива, которые лились из соседней усадьбы.
Спрятавшись в укромном месте в бамбуковой роще, молодой чело-
век увидел в той усадьбе прелестную девушку, в которую влюбился
с первого взгляда. Не подозревая, что она - младшая сестра его не-
весты, он пробрался к ней и провёл в её доме всю ночь. Нэдзамэ
тоже влюбилась в юношу с первого взгляда, не зная, кто он такой.
Результатом нежданного свидания явилась беременность красавицы.
Между тем Министр двора обнаружил, что Нэдзамэ - родная
сестра его невесты Оигими, но поправить дело уже невозможно, и
его женитьба состоялась, как и было запланировано прежде. Чтобы
избежать огласки, беременную Нэдзамэ отослали в местность Иси-
яма, где она родила сына.
Вторая часть «Повести» начинается с того, что героиню выдают
замуж за средних лет вдовца, крупного чиновника, который вскоре
после женитьбы назначен государственным регентом. Положение
осложнилось тем, что незадолго до замужества Нэдзамэ к ней снова
пришёл прежний возлюбленный, она опять уступила ему и ещё раз
забеременела. Тем не менее претендент на руку и сердце Нэдзамэ
женится на ней и проявляет трогательную заботу о молодой Правда,
главы с описанием их семейной жизни утеряны и восстанавливаются
по цитатам и описаниям в других произведениях.
6S Эпизод с предсказанием судьбы Нэдзамэ напоминает аналогичный эпизод в
«Повести о Гэндзи», которого отец мальчиком приказал показать предсказателю-
корейцу: «Изумлённый кореец долго всматривался в лицо мальчика, недоуменно по-
качивая головой.
- Черты сего отрока о том говорят, - изрек он наконец, - что может он стать
Отцом государства и достичь высочайшего звания Властителя страны, однако воз-
вышение его сопряжено будет со смутами и бедствиями...»
168
Когда друг за другом умирают муж Нэдзамэ и жена Министра
двора, препятствий для их брака, казалось бы, больше нет, и Ми-
нистр идёт к своей возлюбленной, уверенный, что наконец-то они
будут вместе. Неожиданно Нэдзамэ отвечает на его предложение
отказом.
Далее следует часть, изобилующая пространными описаниями
чувств и размышлений героев. Такие описания сближают «Ёва-но
Нэдзамэ» с психологическими романами XX в. [Кониси, 1986, с. 351].
Образ немолодого регента, по мнению Кониси, принадлежит к луч-
шим в произведении [Там же]. Д. Кин считает, что ситуация брака
Нэдзамэ с регентом напоминает брак Татьяны Лариной с князем
Греминым в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» [Кин, 1993,
с. 533].
Несколько удачнее сложилась судьба другого моногатари, автор-
ство которого на основании того же колофона приписывается этой
же писательнице, - «Хамамацу-тюнагон моногатари»
la, «Повесть о советнике Хамамацу»; другое название - «Мицу-но
хамамацу», «Сосны на побережье Мицу»). Это произве-
дение было создано во второй половине XI в., «лет через 25-30 после
"Гэндзи"» [Ролич, 1983, с. З]66, состоит из шести глав, из которых
первая и последняя были утеряны во время междоусобных войн
XVI в., а в 1930-е гг. последняя глава была обнаружена вновь (сразу
в двух списках). В этом произведении сказывается влияние не толь-
ко «Повести о Гэндзи» Мурасаки-сикибу, но и фундаментальных
буддийских идей об инкарнациях - новых рождениях в ином облике,
через которые проходит всякое живое существо. Вероятно, здесь
образцами для автора «Повести о советнике Хамамацу» служили
буддийские сэцува, где подобные сюжеты встречаются нередко.
Правда, в буддийских сэцува такие идеи разрабатывались с про-
поведнической целью (на первом месте там находилось проявление
личной кармы), а в «Повести о советнике Хамамацу» они служат
цели развития сюжета и, таким образом, выполняют чисто компо-
зиционные задачи. По современным меркам «Повесть» перенасы-
щена соответствующими композиционными приёмами.
Герой «Повести о советнике Хамамацу», сын хэйанского вельмо-
жи, в раннем возрасте потерял отца. Вдова покойного, бывшая «гос-
пожа из Северных покоев», вновь вышла замуж, на этот раз за на-
чальника Левой дворцовой гвардии, у которого было несколько до-
черей Главный герой «Повести» вырастает в красивого молодого
человека и удостаивается чина среднего советника (ФйЙИ’, тюна-
гон). Красавицей стала и старшая дочь его отчима. Между моло-
дыми людьми возникло взаимное влечение, переросшее в пылкую
любовь, и они обменялись любовными клятвами.
66 Время создания «Повести» окончательно не установлено. Некоторые учёные
полагают, что она была написана раньше «.Нэдзамэ моногатари». Самое раннее её
упоминание содержится в «Гэндзи иппон кё» Тёкэна (1166 г.), что позволяет про-
вести верхнюю границу в датировке произведения.
169
Их любовь встречает противодействие со стороны отца девушки,
который вместо неё выдаёт замуж её младшую сестру. Недоразу-
мения в отношениях с отчимом усилили в советнике тоску по умер-
шему отцу, и в это время до него дошли слухи о том, что тот после
своей смерти родился к новой жизни в Китае в облике третьего сы-
на тамошнего императора. Подтверждение таким слухам советник
получает во сне.
Герой твёрдо решил встретиться со своим отцом в его новом
обличии, для чего сел на корабль, отплывающий в Китай, и поехал в
страну Цукуси67. Несчастная его возлюбленная почувствовала, что
она забеременела, и, чтобы избежать людских пересудов, постриг-
лась в буддийские монахини, оставив ни о чём не подозревавшему
советнику родившуюся от него дочь.
Попав в Китай (по замечанию автора, точно такой, каким его
изображают на картинках), юноша без труда нашёл своего отца, оби-
тавшего там в облике семилетнего принца. Вскоре он влюбился в
его мать, наложницу китайского императора, женщину редкой кра-
соты, которая оказалась дочерью бывшего китайского посла к
японскому двору и японки. В пятилетием возрасте девочка была
привезена в Китай, выросла там, достигла высокого положения, но
сохранила самые тёплые чувства к родине своей матери. Советник
Хамамацу покорил китайских сановников многими своими достоин-
ствами, и прежде всего - умением слагать великолепные стихи по-
китайски. Прибывшим в Китай земляком пленилась и прекрасная
наложница китайского императора... В результате их запретной
любви (вспомним связь Гэндзи и Кирицубо в романе Мурасаки-си-
кибу) у них рождается дитя. Опасаясь злой молвы, красавица прин-
яла постриг, а рождённого втайне ребёнка отдала его отцу. Вместе с
ребёнком советник садится на корабль и отправляется назад в
Японию. Дитя переносит дорожные невзгоды так спокойно, не
реагируя даже на корабельную качку, что отец приходит к выводу,
что оно - не что иное, как инкарнация Будды.
Возвратившись на родину, советник поселился в горах Ёсино
вместе с единоутробной сестрой постригшейся в монахини наложни-
цы китайского императора («госпожой Ёсино»), выделявшейся сре-
ди других женщин своей красотой и скромностью. Монахиня между
тем умирает (о её смерти он сначала узнал из сновидения и только
потом получил об этом известие из Китая) и вновь рождается сна-
чала в Земле крайней радости (буддийском рае), а затем и в этом
мире в облике дочери собственной сестры. Герой опять узнал об
этом из сновидения.
Автор «Повести о советнике Хамамацу» словно шахматные фи-
гуры передвигает героев в пространстве и во времени, выстраивает
самые невероятные сюжетные комбинации... Замысловатость сю-
67 Цукуси - старинное название о. Кюсю.
170
жетных ситуаций моногатари отмечали ещё средневековые коммен-
таторы. Отличие этой «Повести» от «Повести о Гэндзи» очевидна: в
произведении Мурасаки-сикибу несколько идеализированные герои
действуют в обстановке, хорошо знакомой самой писательнице и со-
временным ей читателям одного с нею круга. Узнаваемость бы-
товых деталей сообщала оттенок достоверности и поступкам героев.
В итоге у читателей должно было сложиться впечатление реалис-
тичности всего описания. А «Повесть о советнике Хамамацу» из-за
сюжетных хитросплетений, надуманности изображённых в ней ха-
рактеров и условности самой обстановки далека от этого.
Обращает на себя внимание существенная роль сновидений в
развитии сюжета «Повести о советнике Хамамацу» (их только в со-
хранившейся части произведения 11). Граница между сновидением и
реальностью здесь стирается: то, что герой видит во сне, потом ре-
ализуется наяву. Явь здесь - продолжение сна [Ролич, 1983, с. 46-47].
Около 1080 г. появилось ещё одно подражание «Повести о Гэн-
дзи» - «Сагоромо моногатари» «Повесть о Сагоромо»)68,
распространявшаяся поначалу под другими названиями, среди кото-
рых самым старым было просто «Сагоромо» - так звали главного
героя произведения. «Повесть» по-разному атрибутировалась. Мно-
гие исследователи склонялись к мысли о том, что она написана про-
жившей долгую жизнь Дайни-но самми, дочерью Мурасаки-сикибу,
однако в последнее время общепринятым стало мнение о создании
«Сагоромо» другой писательницей - Сэндзи (имя читается также
Сэси или Сэдзи, ум. в 1092 г.), дамой из окружения принцессы Бай-
си - (1039-1096), четвёртой дочери императора Госудзаку (1009-1045,
на престоле - 1036-1045)69, которая в 1046-1058 гг. была верховной
жрицей синтоистских святилищ Исэ. Принцесса Байси слыла в своё
время покровительницей японской поэзии и художественной прозы.
В должности канцлера в правление двух императоров состоял
младший брат императора, известный под именем Министр Хори-
кава. У министра был сын, которого звали Сагоромо, - молодой че-
ловек несравненных талантов и ослепительной красоты, отличав-
шийся скромностью и нерешительным нравом. В одном с ним двор-
це воспитывалась дочь покойного императора, Гэндзи-но-мия, мо-
лочная сестра героя. Сагоромо так был пленён её красотой, что при
виде принцессы Гэндзи-но-мия терял дар речи.
На музыкальном празднике при дворе в 5-й день 5-й луны, когда
Сагоромо принялся играть на флейте, с неба на пупурном облаке
спустился Небесный Отрок (Амэ-но Вакамико), чтобы вознести его
68 О времени создания «Повести» исследователи высказывают разные мнения,
однако все сходятся в одном - оиа была завершена до 1092 г. (см.: [Итико, 1984,
с. 342-343]).
69 Указание Д. Кина на то, что она была дочерью императора Судзаку (см.: [Кин,
1993, с. 519]), - явная опечатка, поскольку Судзаку умер в 952 г., за 87 лет до рожде-
ния принцессы Байси.
171
на небеса. Герой не без труда отказался от такой чести. Здесь от-
ходят в сторону бесспорные завоевания многих поколений японских
писателей от Ки-но Цураюки до Мурасаки-сикибу, чтобы до второй
половины XI века донеслось отчётливо дыхание волшебной сказки.
Это еще раз показывает, что в японской традиции ничто не прохо-
дит безвозвратно, а в культуре сплощь и рядом мирно уживаются
стадиально различные явления.
В «Повести» вдохновенно описываются таланты и красота Саго-
ромо, его быстрая карьера при дворе. Чередой действуют в его
пользу высокие покровители.
Сагоромо открывается в своей любви Гэндзи-но-мия, которая то-
же пленена его красотой и талантами, но император уже решил вы-
дать за юношу свою любимую дочь Ни-но-мия, что, однако, не при-
несло герою радости: в 6-ю луну он обменялся любовными клятвами с
Гэндзи-но-мия. Принцесса же Ни-но-мия, которую Сагоромо никог-
да не видел, на самом деле была красавицей нисколько не меньшей, чем
его избранница. По стечению обстоятельств он проводит с Ни-но-
мия ночь, после чего та забеременела. Роды прошли втайне, и, по со-
вету кормилицы, было объявлено, что настоящая мать младенца -
императрица, а отец, соответственно, император. Таким образом,
вырисовывается ситуация, подобная той, в которой оказался «блис-
тательный Гэндзи» у Мурасаки-сикибу: герой - фактический отец
ребёнка, но формально им считается император. Нужно заметить,
что и героини «Повести» скопированы с некоторых героинь Му-
расаки-сикибу. Знаком читателю и сюжетный ход, когда одна ин-
трига похожа на другую, встречавшуюся раньше.
Императрица-мать, увидев Сагоромо, мгновенно всё понимает,
но не выдерживает психологического напряжения и умирает. Ни-но-
мия скрывается с глаз героя, приняв монашеский постриг. Теперь
император решает выдать за Сагоромо третью свою дочь, Сан-но-мия,
кстати сказать очень похожую на Гэндзи-но-мия.
Герой то твёрдо решает, что должен постричься в монахи, то не в
состоянии выполнить своё решение по не зависящим от него причи-
нам. Прежде, чем его постриг совершился, произошло много собы-
тий: в столице разразилась эпидемия, император стал склоняться к
мысли об отречении от престола и к нему во сне стала упорно яв-
ляться его священная прародительница, богиня Аматэрасу Омиками.
Она заявила императору, что тот продлит себе жизнь, если возведёт
после себя на престол не ребёнка, отцом которого он считается, а
фактического отца этого ребёнка, Сагоромо. В результате Сагоро-
мо вознёсся на самую высокую из мыслимых для смертного ступень,
его отец и мать получили соответствующие титулы, и здесь для ге-
роя наступила пора удалиться от мирской суеты.
Нет сомнений в том, что «Повесть о Сагоромо» - неприкрытое
подражание произведению Мурасаки-сикибу. Но в ней нельзя не от-
метить умение автора выстроить сложную композиционную схему
(кроме основной сюжетной линии, в моногатари развивается не-
172
сколько боковых), его свободное владение стилем, умение исполь-
зовать в прозаическом тексте изящные приёмы поэтической речи. В
прозаический текст здесь включено свыше двухсот стихотворений,
взятых из японских поэтических антологий, а также особо почитав-
шегося в Японии знаменитого Бо Цзюй-и.
Может показаться удивительным, что эта малооригинальная по
сути моногатари сама явилась щедрым образцом для подражаний.
Но не следует распространять наши представления о должном на
другие эпохи и культуры. В средневековой культуре выше ориги-
нальности, которая часто расценивалась как неосновательность, как
отказ от собственных корней, ценилась способность умело исполь-
зовать авторитетный источник, причём не столько в виде цитаты,
сколько в виде намёка, подражания, упоминания той или иной де-
тали. В этой способности автору «Сагоромо моногатари» отказать
трудно.
Рассмотрим ещё два памятника той же эпохи, относимые к числу
моногатари (нужно помнить, что моногатари - не жанровая, а ско-
рее видовая мета). Один из них - «Торикаэбая моногатари» (12 9 W
«Ах, если бы переменить!»), произведение, в котором
изобретательная фантазия неизвестного автора привела его к изо-
бражению незнакомой до тех пор японской литературе коллизии.
По-видимому, в средние века это моногатари было известно в
двух версиях, из которых до наших дней сохранилась одна, более
поздняя, написанная, как полагают, между 1161 и 1183 гг. (ранняя
версия, вероятно, относится к концу XI в.) [Кин, 1993, с. 540]. В нас-
тоящее время оно, в зависимости от списка, известно в редакции из
трёх или четырёх частей.
В «Торикаэбая моногатари» рассказывается, как в семье некоего
Левого министра росло двое детей - мальчик с наклонностями дево-
чки и девочка с наклонностями мальчика. «Ах, если бы их поменять
местами!» - мечтали их родители, а чтобы и детям было удобнее, и
поведение их не бросалось в глаза посторонним, одевали детей со-
ответственно их наклонностям: сына «под девочку», а дочь по-маль-
чишески.
Шли годы, дети подрастали, и детская забава превратилась в при-
вычку, а потом и в стиль жизни. Продолжая играть избранную роль,
девушка под видом юноши поступает на государственную службу,
дослуживается до чина тюнагона (Среднего советника), «женится»,
но потом не выдерживает избранной роли, и героиня вместе со сво-
ей «женой» обе забеременевают обе от одного и того же мужчины.
Её брат, игравший роль женщины, «вышел замуж», встретившись,
соответственно, с недоразумениями противоположного характера.
Описания многих сцен в этой «Повести» выглядят значительно на-
туралистичнее, чем в произведениях начала эпохи Хэйан.
Уже отмечалось, что у хэйанской знати очень большое значение
придавалось семейным связям. Налаживание родственных отноше-
ний, например при помощи выгодных браков, могло открыть огром-
173
ные возможности для карьеры. Естественно, проблема таких связей
не могла не привлекать внимание писателей. В литературе посте-
пенно изменяется и характер освещения любовных отношений - от
акцента на эмоциональные привязанности, душевные переживания
к натуралистическим описаниям. Во второй половине XI и в XII в. в
прозаических произведениях скрупулёзно фиксируются физиологи-
ческие изменения у беременных героинь. В «Торикаэбая моногата-
ри», с одной стороны, придаётся большое значение социальной роли
брака, но с другой - уже без околичностей говорится о гомосексуал-
изме. Позднее, в монастырской литературе, этот мотив станет од-
ним из заметных даже в поэзии. Замкнутые коллективы вырабаты-
вают собственные представления о допустимом.
Кроме крупномасштабных повествований, в XI-XII столетиях
было создано большое количество маленьких рассказов, возникно-
вению которых способствовало распространение литературных игр.
К сожалению, до наших дней дошла лишь небольшая их часть.
Среди сохранившихся заслуживает внимания сборник из десяти
коротких рассказов под общим названием «Цуцуми-тюнагон моно-
гатари» В согласии с иероглифическим обозначени-
ем этого названия на сохранившихся рукописях его переводят как
«Повесть о советнике Плотина», несмотря на то что это не повесть,
а сборник рассказов и ни один из них не содержит никаких упомина-
ний о таком персонаже. Было высказано предположение, что пер-
вый знак в заглавии когда-то был заменён омофоном и должен пи-
саться иероглифом сЗ. (свёрток, пачка), - иными словами, заглавие
означает «Сборник небольших рассказов» [Итико, 1984, с. 365]. Су-
ществует также мнение, что Цуцуми - это название местности. Но в
обоих последних случаях повисает в воздухе слово тюнагоя10. Впро-
чем, многие факты свидетельствуют о том, что часть текста сборни-
ка утеряна [Литература Востока, 1970, с. 281], а в ней, возможно, и
содержится разгадка тайны его названия.
Н. И. Конрад определил рассказы этого сборника как гротеск-
ные [Конрад, 1974, с. 12]. Като Сюити пишет о типе героя, который
не встречается ни в какой другой повести хэйанской Японии [Като,
1975, с. 193]. Е. М. Пинус считала, что рассказы сборника «представ-
ляют собой нечто оригинальное. Все они носят ярко выраженный
юмористический характер... Автор высмеивает то, что безраздельно
господствовало в литературе и искусстве, в быту и любовных отно-
шениях, во всей жизни изнеженной придворной верхушки...» [Лите-
ратура Востока, 1970, с 281].
Неизвестны не только автор, но и время составления сборника.
По косвенным данным, идентифицируя приведённые в рассказах
стихотворения, предполагают, что эти рассказы написаны не позд- 70
70 Правда, на практике было распространено превращение топонима в имя соб-
ственное. По этому принципу были названы многие ответвления старинных родов в
средневековой Японии.
174
нее 1041 г. [Ямагиси, 1959, с. 20]. По другим признакам сборник да-
тируют 1055 г. [Итико, 1984, с. 367]. Нельзя отказываться и от воз-
можности написания рассказов в разные годы и составления самого
сборника в XII в. Существует также мнение, что один из рассказов
сборника, «Афусака коэну гон-тюнагон» «Вре-
менный советник, не пересекший Заставу Встреч»), был написан
Косикибу, дамой из окружения принцессы Байси, в 1055 г., послед-
ний рассказ добавлен в сборник в XIV в., а остальные написаны в
конце XI или начале XII в. [Кин, 1993, с. 542].
В каждом рассказе сборника обыгрывается одна какая-то черта
в характере героя, приключение, забавная ситуация: придворный в
чине тюсе замыслил умыкнуть девушку, другой вельможа попадает
в смешное положение из-за любви к написанию жеманных писем,
девушка одержима пристрастием к гусеницам, потому что из них
выводятся красивые бабочки, и тем доставляет много беспокойства
окружающим. Некоторые сюжеты напоминают уже встречавшиеся
в японской литературе, другие вполне оригинальны. По сравнению с
крупномасштабными повествованиям рассказы написаны гораздо
более энергичным стилем.
Может быть, на язык рассказов повлияла разговорная стихия, та
же, что отразилась на литературе сэцува того же периода. Впрочем,
опыт динамичной речи у японской литературы имелся и помимо сэ-
цува - примером могут служить прозаические вступления к стихо-
творениям в поэтических сборниках, ута-моногатари и многие раз-
делы в «Записках у изголовья» Сэй-сёнагон.
Позднехэйанские дневники
Разноречивые мнения вызывает «Идзуми-сикибу никки»
рР 0 IE, «Дневник Идзуми-сикибу»), героиня которого (или ав-
тор, если условиться, что героиня и автор - один и тот же человек)
наряду с Сэй-сёнагон и Мурасаки-сикибу почитается одним из трёх
гениев хэйанской литературы. Самобытная поэтесса, о которой Му-
расаки-сикибу, допуская, правда, некоторые колкости в её адрес, пи-
сала: «Она показывает аромат даже самых пустячных слов. Стихи
её совершенно очаровательны... Среди стихотворений, сложенных в
порыве вдохновения, у неё непременно встретится одно великолеп-
ное, на котором останавливается взор... Она из того рода поэтов, у
которых стихи, кажется, слагаются один за другим, сами собой».
Идзуми-сикибу прославилась не только поэтическим талантом,
но и красотой и многочисленными любовными приключениями. У
современниц одного с нею круга она вызывала некоторое раздра-
жение пренебрежительными отзывами о чужих стихах.
175
Точные годы её жизни неизвестны, однако по косвенным дан-
ным разные исследователи относят рождение Идзуми-сикибу к про-
межутку времени между 961 и 980 гг. Как бы там ни было, к 999 г.
она уже пользовалась настолько широкой известностью, что много
раз её стихотворения бывали отобраны для включения в очередную
антологию, составляемую по высочайшему распоряжению.
Современные Идзуми-сикибу источники, помогающие восстано-
вить её биографию, сводятся к написанным по-китайски «Мидб кам-
паку ки» (Й'Ш’ЙЙйЕ, «Записки канцлера Мидб») Фудзивара-но Ми-
тинага, поэтическому «Сюи вакасю» (1п1Й?08^Ж, «Собрание япон-
ских песен, не вошедших в прежние антологии», конец X в.) и собра-
нию стихотворений поэтессы Акадзомэ-эмон (9577-1054)
Ж, «Акадзомэ-эмон сю»).
Писательница была дочерью Оэ-но Масамунэ, и Фудзивара-но
Митинага называет её Косикибу, потому что Ко - это японизиро-
ванное китайское чтение иероглифа £Е, входящего вторым компо-
нентом в фамилию Оэ (Х(Т). Её отец многие годы провёл в долж-
ности губернатора в разных провинциях, а одно время служил в сто-
личном Ведомстве церемоний (Сикибу-сё) в должности сикибу-но
сукэ, откуда и пошло прозвище самой писательницы: Сикибу, дочь
Оэ-но Масамунэ (её детское имя - Омотомаро). Позднее он занимал
пост старшего канцелярского чиновника в свите Масако, супруги
экс-императора Рэйдзэй (950-1011), а затем - губернатора провин-
ции Этидзэн. Мать писательницы была дочерью губернатора сосед-
ней с Этидзэн провинции Эттю, Тайра-но Ясухира, и тоже состояла
в качестве придворной дамы в свите Масако. Очевидно, во дворец
Масако была вхожа и их дочь.
Между 996 и 999 гг. молодая поэтесса вышла замуж за приятеля
своего отца, Татибана Митисада, бывшего старше её лет на 12-14.
В 999 г. по рекомендации Оэ-но Масамунэ Татибана Митисада был
назначен губернатором провинции Идзуми (район Кинки). С осе-
ни 999 г. дочь Масамунэ стали называть Идзуми-сикибу.
Молодая женщина уехала с мужем по месту его службы, но про-
была там недолго. Не позднее чем через два года она возвратилась в
столицу. Перед отъездом поэтессы в провинцию серьёзно заболела
Масако. В конце 999 г. она переехала из своего дворца в дом Тати-
бана Митисада, который тогда занимал Оэ-но Масамунэ, где и
умерла в начале следующего года. Во время болезни Масако её час-
то навещал принц Тамэтака (977-1002), сын Рэйдзэя от другой жены,
в пятилетием возрасте лишившийся матери и воспитанный бездет-
ной Масако.
_ После смерти Масако принц Тамэтака продолжал бывать в доме
Оэ-но Масамунэ, и у него здесь завязалась любовная связь с прие-
хавшей к отцу Идзуми-сикибу. Окончательный разрыв с мужем у
неё произошёл, по-видимому, в 1004 г., когда Митисада отправился
по новому назначению служить в провинцию Муцу.
176
За два года до этого, в 1002 г., в столице свирепствовала эпиде-
мия, во время которой умер принц Тамэтака. Через год, едва успев
снять траур по умершему возлюбленному, поэтесса завязала любов-
ную связь с его младшим братом, принцем Ацумити. Через четыре
года, в 1007 г. умер и этот её возлюбленный, а в начале 1009 г. Идзу-
ми-сикибу была принята в свиту императрицы Акико (988-1074), где
состояла Мурасаки-сикибу и где позднее стала служить также Коси-
кибу-но-найси, дочь Идзуми-сикибу и известная в своё время по-
этесса.
Года через три или четыре после поступления на службу к Акико
Идзуми-сикибу вышла замуж за вассала Фудзивара-но Митинага,
Фудзивара-но Ясумаса (958-1036), и уехала с ним в провинцию Танго,
куда Ясумаса был назначен губернатором.
О двух последних десятилетиях жизни Идзуми-сикибу известно
совсем мало. В дневнике Фудзивара-но Митинага есть записи о том,
что её дочь в 1018 г. родила ему внука, а в 1025 г. умерла при родах.
Отчаянье, охватившее Идзуми-сикибу, явственно отразилось в её
стихах.
Незадолго до своей смерти Идзуми-сикибу разошлась с Фудзи-
вара-но Ясумаса. Любовные истории, которые случались у неё во вре-
мя второго замужества, послужили источниками многих литератур-
ных сюжетов, но в их достоверность безоговорочно верить трудно.
Умерла поэтесса, вероятнее всего, около 1030 г. (подробнее см.: [Го-
регляд, 1975, с. 90]).
До наших дней дошло около полутора тысяч её стихотворений в
жанре танка и прозаический «Дневник Идзуми-сикибу». С «Дневни-
ком Идзуми-сикибу» в японском литературоведении связаны три дис-
куссионных вопроса: датировка, первоначальный объём и атрибуция.
В «Дневнике» описана жизнь Идзуми-сикибу с 13 мая 1003 г. по
конец января 1004 г., т. е. на протяжении почти девяти месяцев, на-
чиная с возникновения у неё близких отношений с принцем Ацумити
(в «Дневнике» - Соти-но-мия). В нём немногим более десяти персо-
нажей, включая саму Идзуми-сикибу и принца. Повествование ве-
дётся от третьего лица. Чёткого постатейного деления «Дневника»
нет, местами перерыв между записями достигает нескольких недель.
Здесь мы не встретим описания сколько-нибудь значительных со-
бытий, человеческих характеров, экстравагантных обычаев и т. п.
Основное содержание «Дневника» - любовь героини к молодому че-
ловеку, развитие их отношений. Говорится и о грусти, охватыва-
ющей женщину при наблюдении за явлениями природы.
«Дневник Идзуми-сикибу» носит полностью мемуарный характер,
базируется только на воспоминаниях и старых стихах и создан спус-
тя некоторое время после того, как описанные в нём события ушли
в прошлое и отчасти даже стёрлись в памяти. Так, замечено, что в
записи за 5-й день 5-й луны автор утверждает, будто в этот день
продолжал идти дождь, тогда как в хрониках того времени засвиде-
тельствовано, что в начале 5-й луны года Тёхб 5-го, о котором идёт
177
речь, в столице стояла ясная погода. В записи за новый год Техб 6-й
(1004 г.) содержится упоминание о проведённой тогда церемонии
Ин-но хараи, в то время как эта церемония в действительности про-
водилась в 3-й день 1-й луны... Некоторые стихотворения Идзуми-
сикибу, включённые в «Дневник», текстуально отличаются от тех
же стихотворений, помещённых в собрании стихов поэтессы [Крэн-
стон, 1969, с. 46].
Если часть этих неточностей и можно отнести за счёт поздней-
ших, неавторских изменений текста при переписке, то остаётся до-
статочное количество и таких, которые несомненно идут от автора.
Мнения о том, когда именно написан «Дневник Идзуми-сикибу», раз-
норечивы - от 1007 г. до конца XII столетия (тогда проблема дати-
ровки неизбежно увязывается с проблемой атрибуции).
Существует также несколько разных мнений относительно пер-
воначального объёма произведения: 1) «Дневник» дошёл до нас в
том объёме, в каком был создан его автором; 2) первоначальный
его объём был значительно (возможно, втрое) больше сохранив-
шейся части, причём, по мнению одних исследователей, утерян ко-
нец «Дневника», по мнению других - и начало, и конец [Окада, 1931,
с. 24-25]. Вторая версия по ряду композиционных признаков «Днев-
ника» представляется более вероятной.
Проблема атрибуции «Дневника Идзуми-сикибу» в научной лите-
ратуре стала серьёзно обсуждаться в 30-е гг. XX столетия. До этих
пор почти бесспорным автором произведения считалась сама по-
этесса. На основании колофона в трёх рукописных списках этого
произведения ряд специалистов стали считать автором (или инициа-
тором написания) «Дневника Идзуми-сикибу» знаменитого поэта
Фудзивара-но Сюндзэй (1114-1204). Сам колофон приписывается сыну
поэта, Фудзивара-но Тэйка, подлинность его многими специалиста-
ми подвергается сомнению, а содержание допускает широкий спектр
толкований; и тем не менее сомнения в справедливости первона-
чальной атрибуции вселяет то, что произведение могло быть напи-
сано уже после смерти Идзуми-сикибу, с использованием её поэти-
ческого наследия (в тексте «Дневника» насчитывается 147 стихотво-
рений). Но как бы ни обстояло дело с авторством и даже с жанро-
вым определением произведения (во многих рукописях оно названо
«Идзуми-сикибу моногатари», «Повесть об Идзуми-сикибу»), оно це-
ликом принадлежит предшествующей классической традиции - по
стилю, композиционным приёмам, документальной основе зафикси-
рованных в нём ситуаций, методам обрисовки переживаний героини
(героиня «Дневника» представлена в третьем лице, что, впрочем, не
редкость в японской дневниково-мемуарной литературе).
В 1008 г., которым начинаются записи в «Дневнике Мурасаки-си-
кибу», в семье придворного чиновника Сугавара Такасуэ (род. в
973 г.) родилась дочь, которая до сих пор известна либо как «дочь
Сугавара Такасуэ», либо как автор нескольких прозаических произ-
ведений (уже отмечалось, что от Фудзивара-но Тэйка повелась тра-
178
диция считать её автором «Ёва-но Нэдзамэ» и «Хамамацу-тюнагон
моногатари»), и в первую очередь - «Сарасина никки» (Мй&ВиВ,
«Дневник Сарасина»), Считается, что две её повести не сохранились.
Мать девочки была сестрой «матери Митицуна», автора «Днев-
ника эфемерной жизни». Вторая жена её отца, поэтесса Кадзуса-но-
таю, состояла в родстве с Мурасаки-сикибу. Сам отец принадлежал
к прославленному роду учёных и литераторов. Иными словами, се-
мейных традиций и домашнего окружения вполне хватало, чтобы
пробудить в девочке интерес к литературному творчеству и развить
к нему вкус.
Когда будущей писательнице было девять лет, её отец увёз
семью в северо-восточную провинцию Кадзуса, куда получил назна-
чение на службу в должности вице-губернатора.
«Она выросла, - писала она о себе в третьем лице в "Дневнике
Сарасина", - в ещё большей глуши, чем даже дальний конец Восточ-
ной дороги, и казалась, наверное, такой деревенщиной! Но она слы-
шала, что в мире существуют какие-то повести, и, мечтая любым
способом познакомиться с ними, по вечерам, в часы досуга, слушала,
как старшая сестра, или мачеха (Кадзуса-но-таю. - В. Г.\ или ещё
кто-нибудь из домашних пересказывали отрывки то из одной
повести, то из другой, а то и случаи из повествования о блистатель-
ном Гэндзи. Тогда интерес к ним у неё разгорался ещё больше, но
рассказчики почему-то не помнили повести настолько, чтобы пере-
сказывать так подробно, как ей того хотелось. Она была очень не-
терпелива и поэтому соорудила в рост человека статую будды Яку-
си - исполнителя желаний - и стала, совершив омовение рук, тайком
приходить к нему, когда вокруг никого не было, и, распростершись ниц,
молиться:
- Отправь меня поскорее в столицу! Я слышала, там много по-
вестей, - так покажи мне их все, сколько есть!»
Если сравнить это описание с частями рассмотренных уже про-
изведений писательницы, бросается в глаза реалистичность «Днев-
ника». Пожалуй, одной из самых примечательных его черт является
переданная в его тексте уверенность автора в реальности событий,
увиденных во сне. Как и во многих других памятниках той эпохи (и
особенно в произведениях того же автора), снам в «Дневнике Сарас-
ина» придаётся большое значение.
Служба отца будущей писательницы в провинции Кадзуса за-
вершилась в 1020 г.; его семья отправилась в столицу. По тем вре-
менам путь был непростой, и дочь Сугавара Такасуэ в своём «Днев-
нике» наглядно показывает это.
Путешествие продолжалось три месяца. Однажды во сне юной
путешественнице явились монахи в жёлтых одеяниях и велели ей
учить 5-й свиток «Лотосовой сутры», «Притчу о травах». Но девоч-
ке трудно было усвоить буддийские истины о достоинствах Татхага-
ты, изложенные будущим буддой Шакьямуни Махакашьяпе и дру-
гим его ученикам, она могла думать только о столичных повество-
179
ваииях, представляя героинь «Повести о Гэндзи» Югао и Юкифуиэ
как реально существующих людей. За время пути мать несколько
раз приносила ей почитать эти повествования, но девочка требовала
ещё и ещё...
В 1032 или 1033 г. Сугавара Такасуэ получил назначение на та-
кую же должность вице-губернатора в провинцию Хитати. Вскоре
после окончания срока этой службы его дочь поступила в свиту ма-
лолетней принцессы Юси, дочери императора Госудзаку. Ей тогда
был 31 год. В 1040 г. она стала второй женой 38-летнего Татибана
Тосимити, крупного провинциального чиновника. У них родилось двое
детей, сын и дочь. Когда женщине было 50 лет, муж её заболел и
умер. Наряду с тягой к литературе у неё пробудились религиозно-
мистические настроения.
В 1059 или 1060 г. писательница рассказала о своей жизни в
«Дневнике Сарасина». «Дневник» (в действительности это не насто-
ящий дневник, скорее мемуары) охватывает основные события в
жизни автора за 38 лет, с 1020 по 1058 г.: жизнь в Кадзуса, дорогу до
столицы, увлечение литературой, сновидения, службу в свите принцес-
сы, замужество, смерть мужа и одиночество. По охвату времени и
событий в жизни автора «Дневник Сарасина» в японской дневниково-
мемуарной литературе сравним разве что с «Кагэро никки» (разуме-
ется, не считая камбунных дневников, лишенных, как правило, за-
метных художественных достоинств).
Настроение автора меняется от сентиментального к безысход-
ному. По хронологическому признаку «Дневник» делится обычно на
три части: начальная (или детство), последующая (служба и заму-
жество) и заключительная (старость). Около 10% текста занимают
стихи, причём насыщенность стихами пространства «Дневника» не-
одинакова: большая их часть приходится на период после первого
приезда в столицу и годы службы в свите принцессы Юси. По-ви-
димому, «Дневник Сарасина» создавался частично по памяти (осо-
бенно его начальная и заключительная части), частично на матери-
але сохранившейся у писательницы стихотворной переписки.
Особую проблему составляет название памятника. Дело в том,
что Сарасина - это название местности, в которой не жила ни автор,
ни кто-либо из её родных и знакомых, упомянутых в «Дневнике».
Слово «Сарасина» в нём носит ребусный характер.
При жизни Татибана Тосимити в его доме жили многочисленные
родственники. Писательница каждое утро встречалась со своими пле-
мянниками, жившими здесь же. Когда Тосимити умер, его вдове не
захотелось никого видеть возле себя, и племянники разъехались.
«Но однажды тёмным вечером, - написано в "Дневнике Сарасина", -
её навестил шестой по старшинству племянник. Она удивлённо про-
изнесла:
Когда луна не всходит,
Во тьму погружена
180
Гора Обасутэ.
Зачем же нынче вечером
Её ты навестил?!»
Это стихотворение перекликается со стихотворением неизвест-
ного автора из 17-й книги «Кокинсю».
Сердце мое
безутешно,
когда гляжу на луну
в Сарасина, (что светит)
над горой (несчастной) Брошенной старухи -
Обасутэ-яма...
(Пер. А. Долина)
Гора Обасутэ (букв.: «Покинутая тётка», «Брошенная старуха»)
находится в южной части равнины в Сарасина (одной из нескольких
местностей с таким названием) и славится красивыми видами при
свете полной луны. Сарасина расположена в районе последнего мес-
та службы покойного мужа писательницы. С горой Обасутэ связано
предание о том, как один из жителей Сарасина вместо своих ро-
дителей заботился о престарелой тётке, но по наущению собствен-
ной жены однажды отвёл тётку в горы и бросил её там. С тех пор,
когда горы освещала ясная луна, его одолевало раскаянье71. Эта
легенда послужила темой для приведённого стихотворения, а всё
вместе - для пассажа в «Дневнике» и для его названия. Сложный по-
этический образ здесь причудливо переплетается с разновременны-
ми личными воспоминаниями писательницы.
В целом «Дневник Сарасина» создан целиком в русле повество-
вательной традиции предшествующего столетия. Множеством об-
щих признаков связан он, скажем, с «Дневником эфемерной жизни»
матери Митицуна. Некоторое усиление религиозного начала отра-
жает реальную ситуацию в японском обществе того времени и к
форме произведения отношения не имеет.
Несколько иначе обстояло дело с другим прозаическим жанром,
появление которого относится к последним десятилетиям хэйанской
эпохи, - с рэкиси моногатари, «историческими повествованиями».
Рэкиси моногатари.
Литература или история?
Эпоха Хэйан политически более всего ассоциируется с всевлас-
тием дома Фудзивара. Из членов этого дома наибольшего могу-
71 Легенда наложилась на старинное предание о том, что некогда существовал
обычай оставлять в глухих горах ставших беспомощными стариков.
181
щества достиг Фудзивара-но Митинага, регент и канцлер, двух доче-
рей выдавший за императоров и ставший дедом императоров. Он
родился в 966 г., был пятым сыном Канэиэ, в 995 г., после смерти
своего брата Митиканэ, стал канцлером. Когда под именем Гоити-
дзё он возвёл на престол своего внука от дочери Акико, тому было
девять лет от роду. Позже за своего августейшего внука он выдал
ещё одну свою дочь, окружил себя министрами из собственных де-
тей и ближайших родсгвенников, объявил наследником престола ещё
одного своего внука и в общей сложности находился у кормила го-
сударственной власти три десятилетия. Кроме хитроумных дворцо-
вых интриг эпоха его правления знаменательна процветанием искус-
ства, литературы и строительства (кстати говоря, не единственный в
истории пример такого сочетания).
Смерть Фудзивара-но Митинага в 1027 г. оживила в обществе
старое буддийское поверье о наступлении «Конца Закона», которо-
му предшествует тысячелетний период показного благочестия, ког-
да воздвигается множество пышных храмов и расцветает тяга к
пышности и великолепию.
Поверье это подкреплялось не только многими фактами прав-
ления Митинага, но и тем, что вскоре после его смерти по стране
одна за другой прокатились смуты, закончившиеся в конце XII в.
приходом к власти новой политической и культурной силы - воин-
ского сословия (самураев).
Одна за другой появляются течения «реформированного буддиз-
ма» (несколько разновидностей амидаизма, дзэн, нитирэн) с их кон-
цепциями «кратких» или «лёгких» путей к просветлению. Это посте-
пенно стимулировало развитие новых видов искусства и жанров
литературы, принадлежащих уже следующей эпохе.
В 1073 г. императору Госандзе наследовал его сын Садахито, при
коронации получивший имя Сиракава-тэннб. Когда новый импера-
тор занял престол, ему было всего десять лет. В историческом трак-
тате XIV в. «Дзиннб сётбки» (WSlESEtB, «Записи о правильной пре-
емственности божественных монархов») Китабатакэ Тикафуса (1293-
1354) статья о Сиракава содержит, в числе прочих, и такие данные:
император Сиракава «изволил управлять Поднебесной четырнад-
цать лет. Затем, передав её принцу крови (своему восьмилетнему
сыну. - В. Г.), принял почётный титул [экс-императора]. Впервые
управление миром осуществлялось из дворца экс-императора. По-
том, изволив принять монашество, государь всё так же проводил
всю свою жизнь... Начиная с этого времени, оттого, что стали весо-
мее повеления экс-императора и высочайшие предписания из управ-
ления экс-императора, государь, пребывающий на престоле, тоже
стал просто занимать свой пост, и только».
Всесилие дома Фудзивара ушло в прошлое. На несколько десяти-
летий в Японии внедрился новый административный принцип - уп-
равление экс-императоров (РлЙ, инсэй). По определению Ока Ка-
дзуо, с 1086 по 1184 гг. Япония переживала заключительный (чет-
182
вёртый) период хэйанской культуры [Ока, 1972, с. 8]. Экс-император
заводил все службы, полагавшиеся и номинальному монарху, сосре-
доточивал в своих руках управление в центре и на местах; ускорен-
ными темпами в стране стала укрепляться поместная (£ЕЖ сёэн)
система вместо отжившей своё надельной системы, в литературе
появляются исторический жанр, новые стили, достигает расцвета
проза сэцува, наступает перелом в развитии поэзии. За правлением
экс-императоров последовало правление нового аналога рода Фудзи-
вара - феодального рода Тайра, который к концу XII столетия по-
гиб в жестокой междоусобной войне.
В «Шести отечественных историях», давно ушедших в прошлое,
использовалась, по замыслу их создателей, китайская модель интер-
претации социального процесса (иное дело - она показала себя не-
жизненной на японской почве). Язык их тоже был китайский.
За более чем столетний период существования литературы по-
вествований, дневников и дзуйхицу постепенно оттачивался литера-
турный японский язык, в обществе культивировался эстетизм; стало
очевидным, что для успеха или неуспеха карьеры представителя
высших эшелонов власти решающую роль играют не столько его
конфуцианские добродетели или учёность, сколько его принадлеж-
ность к той или иной чётко ограниченной группе людей, его проис-
хождение и родственные связи. По сравнению с первыми памятни-
ками истории объект изображения нужно было реинтерпретировать
с учётом местной культурной традиции. Появилась возможность
изложить содержание исторических событий в менее строгой, более
беллетризованной форме и на родном языке. Попытки нащупать та-
кие формы делала ещё Мурасаки-сикибу.
Таковы были предпосылки появления нового жанра, обозначае-
мого специалистами термином рэкиси моногатари (ЁЙ’.ЗЙйп, исто-
рические повествования).
Первым из таких повествований стало «Эйга моногатари»
^рп, «Повесть о процветании»), в некоторых источниках именуемое
«Ёцуги моногатари» «Повесть о преемственности поколе-
ний»). Когда-то Н. И. Конрад указал точную дату его появления -
1028 г. [Конрад, 1974. с. 12]. С тех пор многочисленные изыскания
текстологов значительно поколебали убеждённость в корректности
точной датировки этого произведения. Большинство справочников
указывает, что автор «Эйга моногатари» неизвестен. Огромное по-
вествование из сорока свитков {маки) не имеет точной атрибуции,
следовательно, датируется весьма условно.
Сочинение делят на две части: первые тридцать и остальные де-
сять книг. Первая часть обычно именуется «Главный раздел», вторая -
«Продолжение». Обе части в совокупности охватывают промежу-
ток времени с 946 по 1096 гг. Различают и манеру написания этих
частей, и их авторов. Первые тридцать книг большинство исследо-
вателей приписывают поэтессе Акадзомэ-эмон (9577-1054), которая
была приятельницей Идзуми-сикибу и супругой её дяди по отцу, Оэ-
но Масахира (952-1012). Эта основная часть повествования посвя-
щена главным образом выстроенному в хронологическом порядке
183
рассказу о правлении Фудзивара-но Митинага. Исследователи давно
отметили её структурное и функциональное сходство с «Лотосовой
сутрой» [Маккаллоу, 1980, с. 18-21]. Вторая часть произведения де-
лится, в свою очередь, на две половины: книги 31—37 и 38—40. Счи-
тается, что они написаны через несколько десятилетий после первой
части, и приписываются эти книги то одной и той же, то двум раз-
ным писательницам [Итико, 1984, с. 404-408]. Последние десять книг
расцениваются как «сухое, подражающее хронике, малоинтересное
для современного читателя» сочинение [Маккаллоу, 1980, с. VII]. Та-
ким образом, по крайней мере четверть его объёма - сухое изложе-
ние истории, а не образец художественной литературы.
Но что же представляет собой основная часть повествования?
Здесь в хронологическом порядке излагаются события, связанные с
правлением императоров, глав рода Фудзивара (с упором на правле-
ние Фудзивара-но Митинага; его прямые и косвенные характерис-
тики и обусловили появление слова «процветание» в названии па-
мятника), брачными отношениями между государями и разными
представителями рода Фудзивара, рассказывается о празднествах и
церемониях, о внешнем виде и характерах исторических личностей,
излагаются разного рода происшествия. Изложение носит отрывоч-
ный характер, страдает разностильностью и отступлениями от тема-
тического единства. Многие исследователи отмечают насыщен-
ность основного корпуса «Повести о процветании» буддийскими иде-
ями и образами, использование структуры «Лотосовой сутры», ас-
социировавшейся в сознании современников с деятельностью Фудз-
ивара-но Митинага.
В отличие от «Шести отечественных историй» «Повести о про-
цветании» чужда сухая манера изложения. В неё включены описа-
ния чувств персонажей, их манер, их одеяний и т. п. - в чем явствен-
но прослеживается влияние дневниково-мемуарной литературы и
предшествующих повествований.
Главный герой «Повести» откровенно идеализирован. Скорого-
воркой перечисляются его достоинства с точки зрения конфуциан-
ской морали. Факты государственного управления, общественной
жизни, описания явлений природы подобраны таким образом, чтобы
у читателя сложилось впечатление о процветании государства при
благотворном влиянии Митинага. Фудзивара-но Митинага сравни-
вается с Буддой, объявляется реинкарнацией либо Кббб-дайси, либо
Сётоку-тайси.
Признать «Повесть о процветании» чисто историческим сочине-
нием мешают, во-первых, отсутствие авторской концепции истории (со-
общаются разномасштабные факты, лишённые логической связи) и,
во-вторых, фактические ошибки, которыми она изобилует (погреш-
ности в датировках, в атрибуциях титулов и рангов, в описании со-
бытий)72. Некоторые описания в «Повести» от начала до конца явля-
72 Профессор Кано насчитывает в первых 30 свитках «Повести о процветании»
385 фактических ошибок и погрешностей [Маккаллоу, 1980, с. 33].
184
ются плодом авторского вымысла, снабжены эмоциональными реп-
ликами автора типа- «Как это прекрасно!» или «Как это грустно!»
Вот один из примеров грубого нарушения верности фактам. В 5-й
книге «Повести» дедушка беременной императрицы истово молится
о благополучном донашивании ею плода, тогда как на самом деле он
никак не мог этого делать, поскольку умер ещё до зачатия плода.
Впрочем, многие исследователи предполагают, что отступление от
истины допущено автором «Повести» сознательно, для усиления дра-
матического эффекта [Маккаллоу, 1980, с. 27-28].
Анализ «Повести» показывает, что в ней пересказываются мно-
гие современные автору и несколько более ранние источники - за-
писи, дневники (в первую очередь - «Дневник Мурасаки-сикибу», на
котором почти полностью основаны описания, относящиеся к концу
1008 г., вплоть до дословного совпадения отрывков «Повести» и
«Дневника»), личные поэтические сборники, повести, буддийские
тексты - иными словами, обнаруживаются те же принципы автор-
ской работы над текстом, что и в дневниково-мемуарной литературе.
«Повесть о процветании» - это ещё не исторический трактат (даже не
историческое сочинение, оригинальное по форме), но и не вполне
литературно-художественный памятник. Нужно, по-видимому, со-
гласиться с мнением о том, что в «Эйга моногатари» предпринята
попытка сочетать особенности моногатари и хроники. На монога-
тари ориентированы язык, подбор и обработка материала, а на
хронику - основной организующий принцип повествования [Мак-
каллоу, 1980, с. 24-27].
В XII в внутреннее положение в стране стало настолько неустой-
чивым (одно за другим следовали стихийные бедствия, неурожаи,
эпидемии, неурядицы с земельной собственностью, вооружённые
смуты), что прошлое, а ещё в большей степени позапрошлое столе-
тие стало представляться японцам земным раем7’. Этим во многом
объясняется стремление авторов «Повести о процветании» идеали-
зировать образ Фудзивара-но Митинага.
В конце XI или начале XII в. в жанре рэкиси моногатари появи-
лось первое и самое знаменитое произведение из серии «Четырёх
Зерцал» - «Окагами» (Л1я , «Великое Зерцало»),
Самые разные мнения высказывают по поводу автора этого про-
изведения - называют литераторов из рода Минамото, Фудзивара,
Оэ [Итико, 1984, с. 475], но в одном сходятся все специалисты: оно
написано мужской рукой. К концу эпохи Хэйан стала изменяться
иерархия жанров: для мужчин перестало считаться зазорным писать
прозу на родном языке.
В изданном в наше время списке «Повести о процветании» она
состоит из восьми свитков Завязка в «Повести» построена по тому
же принципу, что и в «Сангб сиики» Кукая или ночные беседы 73
73 Первая половина X в. («годы Энги и Тэнряку») скоро стала считаться «золо-
тым веком» Японии.
185
принца Гэндзи с его приятелями у Мурасаки-сикибу: в буддийский
храм Уринъин в окрестностях столицы собираются миряне послу-
шать проповедь по «Лотосовой сутре». В ожидании проповедника
люди начинают внимательнее присматриваться друг к другу.
Повествователь вводит читателей в ситуацию: «Когда я однажды
пришёл в храм Уринъин на проповедь по "Лотосовой сутре", я
увидел двух старых мужчин и жену одного из них - они были намно-
го старше, чем обычные люди». Старый человек с белой головой -
это, по народным поверьям, существо сакральное, может быть - во-
площение божества. Старшему из прихожан, Ёцуги, 150 лет, его со-
беседнику, Сигэки, на десять лет меньше - когда он был ещё маль-
чишкой, первый был уже взрослым.
Завязывается беседа о старине: Ёцуги давно мечтал встретиться
с таким же, как и он сам, старым человеком, чтобы вспомнить бы-
лое, особенно времена «вступившего на Путь его высочества», т. е.
Фудзивара-но Митинага.
Происходит обмен воспоминаниями. В беседе кроме двух старцев
и жены Сигэки принимает участие (в основном подаёт реплики)
некий молодой человек. Для читателя по разным поводам встав-
лены и реплики повествователя. Благодаря такому приёму возни-
кает впечатление стереоскопичности времени, у читателя появляет-
ся возможность одни и те же факты интерпретировать неодинаково,
иногда даже усомниться в точности рассказанного.
Ёцуги - главный рассказчик с поразительной памятью - обна-
руживает все признаки профессионала (считается, кстати, что «ёцу-
ги» - это родовое название для всякой неофициальной хроники, ох-
ватыватывающей несколько поколений (см.:[Маккаллоу, 1980, с. 14]).
Он сопровождает свой рассказ ужимками, закатывает глаза и пони-
жает до шёпота голос, пересыпает речь шутками, играет веером,
поднимает полы своих не совсем чистых одежд. Сигэки вставляет в
его речь рассказы о забавных случаях и грустных происшествиях, о
музыке, танцах и стихах (цитируя их).
В «Великом Зерцале», с одной стороны, продолжена традиция
представить главного рассказчика с феноменальной памятью, нача-
тая ещё «Записями о деяниях древности» (образ Хиэда-но Арэ), а с
другой - как и в «Повести о процветании», заимствуется идея китай-
ских историографов (прежде всего Сыма Цяня, 145-187 гг. до н. э.) о
делении исторических сочинений на анналы и биографии74.
74 Ю. Л. Кроль так характеризует соответствующие разделы в «Записках истори-
ка» Сыма Цяня: «Разделом "Записей историка”, в котором Сыма Цянь специально
ставил перед собой задачу "выяснить принципы, [лежащие в основе] их успехов и по-
ражений, расцвета и гибели", были "Основные анналы”. <...> Именно здесь следует в
первую очередь искать его взгляды на закономерности в истории» [Кроль, 1970,
с. 85]. И о другой части этого сочинения: «Китайская культурная традиция вошла в
"Записи историка" галереей портретов её выдающихся представителей, обильными
цитатами из их произведений, страницами трактатов, специально посвящённых куль-
турным ценностям, важным для государственного управления, а также истории не-
которых аспектов политики и институтов государства» [Кроль, 1970, с. 7]
186
«Великое Зерцало» состоит из вступления (рассказ об обсто-
ятельствах встречи рассказчиков), изложения событий в порядке
правлений императоров с 850 по 1025 гг., кратких жизнеописаний
двадцати членов Северного дома рода Фудзивара начиная с его ос-
нователя Фуюцугу до Митинага, рассказа о роде Фудзивара и его ве-
личии и рассказов о прошлом. В последнюю категорию входят опи-
сания разного рода происшествий, традиций, празднеств, рассказы о
выдающихся личностях и т. п.
Главное внимание автора сосредоточено на фигуре Фудзивара-но
Митинага. Стечение благоприятных для него обстоятельств (вклю-
чая ряд смертей старших родственников) возносит его на вершину
власти. Находясь в зените славы и могущества, на торжествах по
случаю замужества третьей своей дочери, Такако (она, как и две стар-
шие её сестры, выходила замуж за императора), Митинага слагает
стихи:
Считать, что этот мир
Тебе принадлежит, -
Это считать,
Что полная луна
На убыль не пойдёт.
Можно как угодно трактовать эти стихи, но примечателен в них
самый объект сравнения. Автор замечает по поводу неизменных ус-
пехов Митинага: «Могут дуть ветры, могут изо дня в день лить
дожди, но небо прояснится и земля просохнет за два или три дня до
того, как он что-нибудь задумает». Проблема могущества и всесто-
ронних талантов Митинага (помимо всего, он был одарённым по-
этом, и сравнивается здесь с Бо Лэ-тянем, Яманобэ-но Акахито, Ка-
киномото-но Хитомаро, Осикоти-но Мицунэ и Ки-но Цураюки) за-
нимает автора «Великого Зерцала» в первую очередь. Если раньше
он послужил Мурасаки-сикибу прототипом для создания образа
блистательного принца Гэндзи, то теперь литературный образ Мити-
нага стал ориентироваться на выдающихся деятелей древней Японии.
Как исторический источник «Великое Зерцало» грешит неточнос-
тями, особенно в датировках. Но в сравнении с «Повестью о процве-
тании» это произведение больше приближается как к верному изло-
жению исторического материала, так и к художественности этого
изложения.
Смеховое начало в повествовании развернулось в японской лите-
ратуре в полной мере только через несколько столетий - прежде
всего в драме, потом в поэзии и моногатари. «Великое Зерцало», с
юмористических позиций изображающее самого рассказчика, мож-
но рассматривать лишь как предварительную заявку.
В самом конце хэйанского периода увидело свет ещё одно произ-
ведение в жанре «исторических повествований» - «Имакагами» (^
$Й, «Нынешнее Зерцало»). В форме бесед, диалогов и коротеньких
рассказов в нём описываются события, происходившие на протяже-
нии 160 лет, с 1025 по 1170 гг.
187
В предисловии к этому произведению указано, что его написание
завершено в 3-ю луну Као 2-го года (т. е. в конце марта-начале ап-
реля 1170 г.) хэйанским поэтом Фудзивара-но Тамэцунэ (Дзякуте),
четвёртым сыном крупного политического деятеля Фудзвара-но Та-
мэтада (ум. в 1136 г.). Многими исследователями точная дата завер-
шения и атрибуция «Нынешнего Зерцала» подвергалась сомнению.
Назывались даты 1178 г. или «после 1180 г.». Некоторые специалис-
ты всё больше склоняются к мнению о том, что оно действительно
было создано Фудзивара-но Тамэцунэ, однако не в 1178 г., а после
8-ой луны Дзеган 4-го года (сентябрь 1174 г.) [Итико, 1984, с. 427-
428].
Принципы подачи материала, принятые автором произведения, в
значительной степени объясняют другие его названия: «Кокагами»
(d'$t, «Малое Зерцало») и «Секу Ёцуги» (^]М£, «Продолжение
"Ёцуги"»), данные по аналогии с «Великим Зерцалом» и «Повестью
о процветании» («Ёцуги моногатари»).
Как и в «Великом Зерцале», в качестве рассказчика здесь высту-
пает человек с богатым опытом и отличной памятью. На сей раз это
старуха ста пятидесяти лет, внучка <5якэ-но Ёцуги, основного рас-
сказчика из «Великого Зерцала», одно время бывшая в услужении у
Мурасаки-сикибу.
«Нынешнее Зерцало» делится на десять свитков, сгруппирован-
ных в три раздела. В первом разделе (свитки 1-3), «Субэраги», опи-
саны правления тринадцати императоров от Гоитидзе (на престоле -
1016-1036) до Такакура (на престоле - 1168-1180). Второй раздел
состоит из трёх частей (5 свитков): «Фудзинами» (свитки 4-6), где
рассказано о членах рода Фудзивара; «Мураками Гэндзи» (свиток 7),
повествующей о деятелях одного из ответвлений рода Минамото; и
«Дети» (свиток 8) с рассказами о наследных принцах. Третий раздел
состоит из двух частей: «Предания» (свиток 9), сюда включены соб-
ственно предания и короткие рассказы о художественной литерату-
ре и изящных искусствах; и «То, о чём слышали мимоходом» (свиток
10), где нередко указывается, от кого была услышана та или другая
история.
Время, о котором рассказано в «Нынешнем Зерцале», содержит
решающие события в общественной жизни Японии - правление экс-
императоров, приход к власти рода Тайра, гражданские войны эпохи
Хбгэн (1156) и Хэйдзи (1159), когда влиятельные вельможи подни-
мали восстания против власти рода Тайра, однако в тексте памятни-
ка эти события практически не нашли отражения: внимание автора
сосредоточено не на политике или социальных проблемах - оно при-
надлежит церемониям, поэзии, музыке, науке, живописи и каллигра-
фии, развлечениям, информации о сооружении буддийских храмов. Ге-
рои рассматриваются здесь как обладатели талантов в области
изящных искусств, в памятник включены подробные описания хана-
ми любование цветением сакуры) и другие свидетельства
тонкого вкуса героев. Явственно звучит буддийская тема Конца За-
кона. Слияние истории и художественной литературы отразилось на
специфике воззрений на сущность исторического процесса, и роль ху-
188
дожественных элементов в изображении этого процесса можно на-
блюдать в «Нынешнем Зерцале» в полной мере.
Историческое повествование в японском варианте - это не рас-
сказ об определённом отрезке времени, это в первую очередь рассказы
об исторических личностях, расположенные в хронологическом по-
рядке. Упор здесь делался именно на личность, а описание историче-
ского фона использовалось для того, чтобы показать ту или иную
грань его натуры, аромат эпохи. Если фактов не хватало, автор их
придумывал сам.
Развитие прозы сэцува.
«Кондзяку моногатари сю»
Жанр сэцува, представленный некогда сборником «Нихон рё-
ики», продолжал своё бытование и в устной, и в письменной
форме одновременно с развитием литературы моногатари и других
элитных прозаических жанров. В письменной форме произведения
сэцува размером от нескольких строк до одной-двух страниц в виде
отдельных вкраплений включались в памятники других прозаиче-
ских жанров, но в XI1-XIII вв. один за другим появляются несколько
отдельных сборников прозы сэцува. В XII в. увидел свет огромный
прозаический сборник, написанный по-японски, - крупнейший и са-
мый известный в истории прозы сэцува свод «Кондзяку моногатари
сю» (т4 е^япЖ, «Собрание повестей о том, что ныне уже старина»
или «Собрание стародавних повестей»). Составителем его считают не-
известного монаха из крупного буддийского монастыря (есть и другие
атрибуции), а годом окончательного завершения - 1120 г. [Като, 1975,
с. 195; Кониси, 1986, с. 146] или десятилетие между ИЗО и 1140 гг.
[Кин, 1993, с. 572]. 31 свиток собрания (три из них утеряны) делятся
на три части: индийскую, китайскую и японскую. В первой части
(свитки 1-5) все сюжеты касаются жизни Будды; во второй два
свитка посвящены буддийским сюжетам и ещё два (свитки 9-10) сю-
жетам о сыновней почтительности; в третьей буддийская часть при-
ходится на свитки 11-20, а мирская на 22-31 (свиток 21 утерян). Ни
один из сюжетов не взят непосредственно из буддийской сутры или
конфуцианского трактата. Их истоки могут быть прослежены до
сборников легенд, ранее составленных в Китае, так же как истоки
многих японских бытовых сэцува восходят к японским литератур-
ным источникам - сборникам ута-моногатари, разным (в том числе
не дошедшим до нашего времени) поэтическим собраниям и дневни-
кам, а также к местному фольклору. Ряд сюжетов без изменения
заимствован из более ранних японских сборников прозы сэцува.
По поводу структуры этого собрания Г. Г. Свиридов высказыва-
ет такое соображение: «Четкий "страноведческий" и хронологиче-
189
ски последовательный принцип размещения материала, сцепление
последовательного ряда рассказов попарно и более общностью си-
туаций, персонажей или иными приёмами, нередко ассоциативными
нитями - все это создает впечатление единого по структуре произ-
ведения, проникнутого единством на различных уровнях» [Свиридов,
1981, с. 165-166].
В общей сложности это собрание объединяет более тысячи рас-
сказов-сэдува. Каждый сюжет вводится фразой: има-ва мукаси
#, «ныне [это уже] старина» - эквивалент русского: «давным-дав-
но»), а завершается замечанием: -то нам катарицутаэру то я (... k frj
tn *9 < 7г X.Ъ, «вот что [люди] передают друг другу»). Внутри боль-
ших разделов материал расположен от иллюстрации общих положе-
ний к изложению частных случаев. Отдельные сэцува скреплены друг с
другом прежде всего ассоциативной связью, а также многими вида-
ми другой связи. По сравнению с аристократическими повествовани-
ями в лексике «Собрания стародавних повестей» очень высока на-
сыщенность специальными буддийскими терминами, а письменного их
изложения - иероглификой. Ближе всего к разговорному язык пос-
ледних, «бытовых» сэцува.
Как и в более ранних сборниках, место действия в японской час-
ти «Кондзяку моногатари сю» охватывает почти все провинции Япо-
нии, а не ограничивается столицей. Наиболее распространённые сю-
жеты касаются чудесных деяний будд и боддхисаттв, праведных мо-
нахов, чудесной силы буддийских писаний и сооружений, проявления
кармы. Упор на тот или иной аспект буддийского учения различа-
ется в индийской, китайской и в японской частях сборника. В япон-
ской буддийской части «Кондзяку моногатари сю» можно выделить
сюжеты, предпочтительные для какой-либо влиятельной в стране
школы - тэндай, сингон, дзедо.
Мирские сюжеты японской части обладают многими признаками,
указывающими на их фольклорное происхождение. Встречаются сэ-
цува, высмеивающие буддийских монахов, разоблачающие суеверия
или наполненные народным юмором. В этой части «Кондзяку моно-
гатари сю» большое внимание уделяется сексуальной сфере. Есть
рассказы откровенно скабрёзного характера, с описанием детород-
ных органов мужчин и женщин, рассказы о половых актах, где в
качестве действующих лиц выступают представители самых разных
социальных слоёв, от слуг и монахов до императрицы. Тема эта не
обходит и животных. Язык героев сэцува начисто лишён изящества
языка придворных дам и кавалеров, нередки грубые обороты прос-
тонародной речи. Все эти признаки недвусмысленно говорят о жи-
вых народных истоках сборника - от его языка до многочисленных
свидетельств реального существования культа плодородия. С тече-
нием времени сэцува из «Кондзяку моногатари сю» всё больше рас-
пространялись среди читателей и начали использоваться в разных
сферах японской культуры - от живописи до народного театра сред-
них веков (в наше время сюжеты, почерпнутые из этого собрания,
используются и писателями, и художниками-карикатуристами, и ав-
190
торами киносценариев). В хэйанской литературе это один из самых
продуктивных источников сюжетов.
Как заметил Като Сюити, авторы этого собрания не были пред-
ставителями народных масс, но они рассказывали о жизни народа,
мысленно представляя перед собой слушателей из народа, в то вре-
мя как авторы «Повести о Гэндзи» и более поздних хэйанских моно-
гатари изображали придворную аристократию для неё самой [Като,
1975, с. 202].
Нечего и говорить, что большинство сюжетов средневековых сбор-
ников прозы сэцува было почерпнуто из «Кондзяку моногатари сю».
Это особенно важно учитывать при оценке распространённости
данных сюжетов в тогдашней художественной прозе, принимая во
внимание немалое число бытовавших в обществе сборников прозы
сэцува. Такие сборники обладали разными художественными досто-
инствами (в большинстве случаев не очень высокими), одни больше
другие меньше были проникнуты буддийскими идеями, но, повторяя
некоторые особенно популярные сюжеты, повествуя об одних и тех
же героях в отдельных своих частях или упоминая об этих героях
вскользь, они создавали у читателя иллюзию реальности условного
мира.
Несколько небольших (по нескольку десятков сюжетов в каж-
дом) сборников прозы сэцува появились в XII в. Большая часть этих
сборников содержала легенды о буддийских праведниках. «Потреб-
ность в этической оценке людей, - по замечанию А. Н. Мещерякова,
сделанному по поводу литературы сэцува, - тотально маркирующей
все социальные отношения в терминах "плохой"-"хороший", общая
установка на дидактичность определяли и монохромность изображения
человеческих характеров» [Японские легенды, 1984, с. 13].
По сравнению с ранними сборниками в позднехэйанских сэцува
на передний план выходят амидаистские сюжеты.
Завершающий этап развития прозы сэцува приходится на следу-
ющее столетие (речь не идёт, разумеется, о вставных эпизодах ил-
люстративного характера в более поздних крупномасштабных эпо-
пеях, также именуемых сэцува). Всё чаще встречаются новые сюже-
ты о японских государственных деятелях, писателях и поэтах, а раз-
витие процесса секуляризации самой прозы сэцува говорит о неиз-
бежности появления рядом с нею других поэтических жанров, не
перегруженных буддийской дидактикой.
Позднехэйанская поэзия
В 930 г., незадолго до своей смерти, «император эпохи Энги» («зо-
лотого века» Японии), Дайго (885-930), велел Ки-но Цураюки
составить новое собрание японских стихотворений. Собрание не пла-
нировалось как «императорское» (ЙЖЖ, тёкусэнсю), несмотря на
191
то, что инициатором его составления стал правящий император, и
было сравнительно небольшим. Цураюки завершил работу над но-
вым собранием в свою бытность губернатором провинции Тоса и
включил в него 360 «цветов и плодов» японской поэзии - стихо-
творений-га/жа, написанных между 810 и 930 гг. 280 из этих стихо-
творных шедевров были взяты из антологии «Кокинсю». Новая ан-
тология была названа «Синсэн вакасю» (ЗТг Ж Sfe Ж, «Вновь
составленное собрание японских песен»). По аналогии с нею полу-
чила своё название и вторая «императорская» антология - «Госэн
вакасю» сокращенно «Госэнсю», «Позднее составлен-
ное собрание японских песен»).
Антология «Госэнсю» была составлена, как предполагают, меж-
ду 953 и 958 гг75 по распоряжению императора Мураками (926-967),
отданному в 951 г. «пятерым из Грушевого павильона» (так назы-
вался один из павильонов императорского дворцового комплекса) -
поэтам Онакатоми-но Ёсинобу (921-991), Киёвара-но Мотосукэ (908-
990), Минамото-но Ситагау (Ситаго), Ки-но Токифуми (?-?) и
Саканоуэ-но Мотики (?-?)76. По образцу «Кокинсю» она состоит из
двадцати книг, из которых восемь составили стихотворения на темы
о временах года, шесть на тему «любовь» и четыре - стихи смешан-
ного содержания. Антология включает, в зависимости от списка
(будучи одной из первых «императорских» антологий, она много раз
переписывалась от руки), от 1396 до 1426 стихотворений 219 (или
227) поэтов конца IX-начала X в.77. Примерно для половины стихо-
творений авторы не указаны, а из числа подписанных больше всего
стихотворений принадлежат Ки-но Цураюки (81), Исэ (70), Осикоти-
но Мицунэ и Фудзивара-но Канэсукэ (оба по 23).
При том, что по основным признакам вторая «императорская»
антология была ориентирована на первую, «Госэн вакасю» отлича-
ют некоторые только одной ей присущие особенности. Так, в этой
антологии нет стихов, написанных не в жанре танка-, в неё включено
большое количество (180) «парных» танка - стихотворных посланий
и ответов на них. Это обмен стихотворениями между влюблёнными
наутро после свидания, любовные послания молодых аристократов
их дамам сердца и ответы на них, обмен стихотворениями между
друзьями после пирушки. Такого рода переписка представляет бога-
тый материал для изучения нравов хэйанской знати и функций поэ-
зии в хэйанском быту
Расположение стихотворений не подчинено такому строгому по-
рядку, как в «Кокинсю» Во второй «императорской» антологии бо-
лее пространные котобагаки - прозаические вступления к стихам.
Это сближает новую антологию с произведениями прозо-поэтиче-
75 По другой версии - между 955 и 966 гг.
76 Два последних известны главным образом благодаря тому, что их отцы были
знаменитыми поэтами.
77 В «Госэн вакасю» включено также 28 стихотворений из «Манъёсю».
192
ского жанра ута-моногатари. Как и в других стихотворных сборни-
ках того времени, котобагаки в «Госэнсю» написаны от третьего
лица, а лексика самих стихотворений поэтами «Кокинсю» была бы
сочтена недостаточно элегантной, чтобы они заслужили честь быть
отнесёнными к высокой поэзии. Эта особенность, однако, не поло-
жила начало новому стилю в японской классической поэзии, где
законодателем мод по-прежнему оставалась первая «императорская»
антология.
Подробнее всего тематический принцип расположения стихотвор-
ного материала разработан составителями антологии «Кокин вака
рокудзе» «Шесть тетрадей старых и новых японских
песен»), появившейся в конце X в. (предположительно, в годы Дзё-
гэн и Тэнгэн, т. е. в 976-982 гг.). Существует мнение, что соста-
вителями антологии были принц Канэакира (914-987) и поэт Ми-
намото-но Ситаго. 4500 стихотворений «Кокин вака рокудзе» разделе-
ны на 517 тем, таких, как «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», «Поля»,
«Столица», «Человек», «Вода», «Любовь», «Разлука» и др., причём в
большинстве разделов (исключая «сезонные» танка) материал рас-
положен без соблюдения «принципа нарастания». Стихотворения
здесь заимствованы из «Манъёсю» (1140), «Кокинсю» (730), «Госэн-
сю» (400), «Сюисю» (250), а также многих произведений хэйанской
прозы [Итико, 1984, с. 227-228; Кониси, 1986, с. 205]. Не претендуя
на какую бы то ни было оригинальность, «Кокин вака рокудзё» креп-
ко связана с предшествующей художественной литературой Японии.
Художественная литература - зеркало культуры эпохи Хэйан.
Сменялась иерархия жанров, снисходительное отношение к японо-
язычной прозе перешло в серьёзное, но на протяжении всей эпохи
главные позиции в иерархии продолжала занимать поэзия. Одно за
другим в столице проводились стихотворные состязания на задан-
ные темы, по результатам которых составляли сборники. Судейские
коллегии, назначенные на эти состязания, и составители поэтиче-
ских сборников (чаще всего это были одни и те же люди, как прави-
ло - виднейшие поэты) сочиняли специальные трактаты или писали
предисловия к сборникам, в которых они формулировали собствен-
ные взгляды на сущность поэзии, на то, какими должны быть форма
и содержание стиха.
Культуру вообще, и поэзию в частности, каждое поколение оце-
нивает по-своему. Не только современную ему культуру, но и дав-
нюю, не только собственную, но и чужую. В Японии на рубеже X и
XI вв одним из самых авторитетных поэтов и арбитров стихотвор-
ных состязаний был Фудзивара-но Кинтб (966-1041), сочинявший
стихи и по-японски {танка), и по-китайски {ши).
Кинтб принадлежал к высшей придворной аристократии, его имя
упоминается в «Дневнике Мурасаки-сикибу», «Записках у изголо-
вья», «Повести о процветании», «Великом Зерцале» и других памят-
никах литературы. В его личном стихотворном собрании «Кинтб сю»
(4И£Ж) содержится 560 стихотворений. Свои взгляды на поэтиче-
7 Зак.3732
193
ское искусство (в целом они почти не отличались от взглядов Ки-но
Цураюки) Кинтб изложил в небольшом трактате «Синсэн дзуйнб»
(®гЖЙ®Яй, «Сущность поэзии. [Руководство,] вновь составленное»),
где отдельно указываются «болезни стиха», к которым автор от-
носил звуковые повторы и повторы значений слов, говорится, как
должно выглядеть образцовое стихотворение, даны советы по сочи-
нению танка, говорится о таком специфическом явлении, как хонка-
дори (^Wft К), использование в своих танка фрагментов чужого
стихотворения для создания нового образа).
В 984-986 гг., в пору, когда поэтический талант Кинтб был в рас-
цвете, престол занимал император Кадзан (968-1008), любитель и
знаток поэзии, сам сочинявший танка, вошедшие впоследствии в не-
сколько личных собраний. В царствование Кадзана при дворе дваж-
ды, в 8-ю луну 985 г. и в 6-ю луну 986 г., проводились стихотворные
состязания [Итико, 1984, с. 223]. По указанию императора Кадзана в
промежутке между 996 и 999 гг. Фудзивара-но Кинтб составил сборник
из 590 стихотворений (10 книг), не входивших до того в официаль-
ные антологии, и назвал его «Сюисе» (io'iSfcP, «Извлечения стихо-
творений, не вошедших в прежние антологии»).
Впервые в истории «императорских» антологий сборник, состав-
ленный из стихотворений, никогда не входивших в официальные со-
брания, лёг в основу одного из них. Предполагают, что антологию
из двадцати книг (в зависимости от списка, 1350, 1351 или 1357 сти-
хотворений) составил сам экс-император Кадзан около 1005 г. (есть
и другие датировки) Во всяком случае, источники не сообщают ни-
каких подробностей о её подготовке - о назначении коллегии соста-
вителей, о черновом варианте антологии, о представлении его на
высочайшее рассмотрение и последовавших замечаниях экс-импера-
тора и т. д. Она явилась третьей после «Кокинсю» и «Госэнсю»
«императорской» антологией и была названа «Сюи вакасю» (1и
«Собрание японских песен, не вошедших в прежние антоло-
гии»; сокращённо - «Сюисю»). Принцип составления антологии -
тот же, что и в прежних двух.
Четыре раздела антологии отведены временам года (по одному
разделу каждому), в самостоятельные разделы объединены стихот-
ворения о любви, о разлуке, о названиях... В раздел «Смесь» вклю-
чены не только танка, но и ездока и тека. Поэты разных эпох, от
«Манъёсю» до «Госэнсю»: Какиномото-но Хитомаро (104 стихотво-
рения), Ки-но Цураюки (104 стихотворения), бнакатоми-но Ёсинобу
(921-991) (59 стихотворений), отец Сэй-сёнагон Киёвара-но Мотосукэ
(908-990) (48 стихотворений), Мибу-но Тадаминэ (его стихотворени-
ем антология открывается), Фудзивара-но Кинтб, монах Эге (ок. 960-
980) и многие другие - представлены малоизвестными широкому
читателю произведениями. В стихотворениях употребляется лекси-
ка, характерная и для древней (эпохи «Манъёсю», из которой в ней
представлено пятнадцать поэтов), и для новой (эпохи «Госэнсю») по-
эзии [Ока, 1972, с. 124].
194
К особенностям «Сюисю» относится явное предпочтение, отдан-
ное её составителем старинной поэзии. Правда, в антологии встре-
чается восемнадцать стихотворений Эгё и пятнадцать стихотворе-
ний Кинтб, однако в неё не включено ни одного стихотворения по-
пулярных поэтесс рубежа X и XI вв. Мурасаки-сикибу и Сэй-сёнагон,
а Идзуми-сикибу представлена только одним стихотворением.
Многие стихотворения в «Сюисю» посвящены изображениям на
раздвижных ширмах (соответствующие танка были очень популяр-
ны в хэйанской Японии: вспомним, что сочинением танка для раз-
движных ширм много занимался Ки-но Цураюки после возвращения
в столицу из провинции Тоса, их писала и Митицуна-но хаха) - опи-
санию пейзажей, чувств изображённых на ширме людей и зрителя,
любующегося изображением78.
* *
*
В средние века литературы разных стран группировались по при-
знаку общего литературного языка, языка-посредника. Средневе-
ковые европейцы общались друг с другом на латыни, жители Ближ-
него Востока - по-арабски, Дальнего Востока - на китайском пись-
менном языке, вэньяне (яп. камбун). Дипломатические переговоры,
учёные диспуты и обмен стихами велись здесь на китайском языке.
В Корее, Бохае, Аннаме и Японии появлялись сборники стихов и
прозы, сплошь написанные на вэньяне.
78 Представление о характере стихотворений на раздвижных ширмах даёт опи-
сание в «Кагэро никки»: «Глава Левой дворцовой гвардии сказал, что изготовил для
министра в подарок ширму, и попросил меня - так, что отказать было невозможно -
написать для этой ширмы стихи. На ширме там и сям были изображены разные сце-
ны. <—>
Вот на ширме изображено, как в одном особняке происходит поздравительное
пиршество: Как по этому небу Уходят и снова приходят Друг за другом солнце с луной, Так и мы станем Вас поздравлять Бесконечно - отныне и впредь.
Вот путник остановил коня на берегу моря и слушает крики куликов:
Крик услышав, он сразу же понял - Это «тысяча птиц», кулики. Я не знаю, Быть может, продлится веками Ваш расцвет, как в названии их.
Вот на склоне Аватая пасутся кони. В домик рядом вошёл пастух и присматри-
вает оттуда за ними: Гора, у которой Многие годы Домик стоит. Привыкли к нему На привязи кони».
[Митицуна-но хаха, 1994, с. 137-140].
195
Учёные выделяют в китаеязычной литературе эпохи Хэйан два
периода - до Бо Лэ-тяня и после него. Это несмотря на очевидную
справедливость заявления Д. Кина о том, что «ни один из придвор-
ных или священнослужителей, которые писали канси или камбун во
вторую половину периода Хэйан, не смог бы по качеству своих со-
чинений сравниться с Сугаварагно Мцтидзанэ» [Кин, 1993, с. 341].
Отсчет тем не менее идёт не от него, а от знаменитого китайского
поэта Бо Цзюй-и или Бо Лэ-тяня (яп. Хаку Ракутэн; 772-846).
В Японии первый сборник стихотворений Бо Цзюй-и появился в
838 г., когда вице-губернатор Дадзайфу Фудзивара-но Такэмори (808-
851), досматривая китайское торговое судно, среди груза обнаружил
сборники стихов китайских поэтов Бо Цзюй-и и Юань Чжэня (779-
831) Трудно утверждать определённо, что это были за сборники.
Некоторые специалисты предполагают, что это могли быть сборники
«Бо ши Чанцин цзи» («Сборник годов Чанцин господина Бо») и
«Юань ши Чанцин цзи» («Сборник годов Чанцин господина Юань»),
вышедшие в Китае в 824 г. и 823 г. соответственно. Очевидно, до тех
пор со стихами Бо Цзюй-и японцы уже были знакомы в устной пе-
редаче; как бы то ни было, Фудзивара-но Такэмори мгновенно сори-
ентировался и тотчас же отправил сборники поэтов-друзей в пода-
рок императору Ниммё (810-850). Император по достоинству оценил
его поступок: высочайшим рескриптом Такэмори была присвоена
высшая ступень младшего 5-го ранга.
В предисловии, предпосланном сборнику стихотворений друга, Юань
Чжэнь отмечал: «За последние 20 с лишним лет эти стихи появля-
ются всюду - при дворе и в правительственных учреждениях, в даос-
ских и буддийских храмах, на станциях смены лошадей и на веерах и
ширмах». В том же предисловии содержится и свидетельство между-
народной популярности Бо Цзюй-и: «Корейские купцы тщательно
обследуют рынки [в поисках] сочинений Бо. Один человек говорил
мне "Наш Первый министр платит сто золотых монет за каждое
стихотворение Бо Цзюй-и, и он всегда может сказать, которое яв-
ляется поддельным"» [Кониси, 1986, с. 150-152]. В Японии же, как
писал Н. И. Конрад, «популярность его выходила далеко за пределы
узкого круга японских знатоков китайской литературы и даже вооб-
ще образованного слоя господствующего класса того времени: его
стихи, особенно поэмы "Песнь бесконечной тоски" и "Лютня" про-
никли и в народную среду» [Конрад, 1966, с. 250].
Многие специалисты отмечают, что японцы больше всего цени-
ли в творчестве Бо Цзюй-и простоту: простой язык, простую лек-
сику, простые выразительные средства. Эта особенность творчества
великого китайского поэта нашла отражение не только в японских
канси, но и в характере поэзии на японском языке: именно поэтому
влияние его на японскую поэзию признаётся эпохальным.
В 1013 г. увидела свет составленная Фудзивара-но Кинтб анто-
логия «Вакан рбэйсю» (?0?ИЙЯ1йЖ, «Собрание японских и китай-
196
ских стихотворений для декламации»)79. В эту антологию включено
216 (в некоторых списках 217 или 220) танка 80 японских поэтов и
588 (или 590) семисловных двустиший ши30 китайских и 50 японских
поэтов на те же темы (вслед за одним-двумя китайскими помещено
одно японское стихотворение). Из этих 588 китайских стихотворе-
ний 139 принадлежат кисти Бо Цзюй-и. Из китайских авторов луч-
ше других в антологии представлены поэты середины и конца эпохи
Тан (618 907), а из японских сочинителей канси - Сугавара Фуми-
токи (44 стихотворения), Сугавара Митидзанэ (38 стихотворений),
бэ-но Асацуна и Минамото-но Ситаго (по 30 стихотворений). Из ав-
торов танка ведущие позиции в антологии занимают Ки-но Цура-
юки (13), Осикоти-но Мицунэ (12), Какиномото-но Хитомаро и Тай-
ра-но Канэмори (по 8 стихотворений)
Антология «Вакан роэйсю» делится на две книги, каждая из ко-
торых состоит из нескольких тематических рубрик: первая - из че-
тырёх «сезонных» («Весна», «Лето», «Осень», «Зима»), вторая - из
«Смеси» («Ветер», «Облака», «Ясно» и др.). Подбор стихотворений в
антологии оказался настолько удачным, что после эпохи Хэйан она
долгое время служила учебным пособием для японских поэтов [Такаги,
1955, с. 193].
Идея составлять сборники образцов для написания стихов, писем,
прошений и т. д. не оставляла японских авторов много столетий. Это
в первую очередь касается сочинений на китайском языке. В начале
XII в. в Китае увидело свет объёмистое (сто цзюаней) собрание тан-
ских стихов и разного рода прозы «Тан вэнь цуй» (W^C^, «Литера-
турные стили эпохи Тан», сост. Яо Сюань, 1011 г.), вдохновившее
конфуцианского учёного и поэта {канси) из Японии Фудзивара-но
Акихира (9897-1066), основателя «стиля Фудзивара» в камбуне, на
составление похожего собрания «Хонте мондзуй» «Литера-
турные стили нашей страны»), в 14 свитков которого было включе-
но около 430 (в зависимости от списка, от 427 до 431) подборок на
китайском языке, классифицированных по 39 видам (тематическим
рубрикам). Подборки стихов и прозы 69 (67) авторов начала 1Х-на-
чала XI в. состоят не только из художественных текстов. Здесь есть
и императорские эдикты, и высочайшие послания, и удостоверения
о присвоении официального ранга, и бирки чиновников, и предис-
ловия, и образцы прошений, и пр.
Точная дата составления «Хонте мондзуй» не установлена: в спра-
вочниках и исследованиях чаще других указывают 1037-1045 гг. и
1060 г.
Авторы художественных текстов в основном те же, что и в «Ва-
кан роэйсю», - это выходцы из семей бэ и Сугавара. Но текст мно-
гих стихотворений, представленных в «Вакан роэйсю» двустишиями,
79 В хэйанской Японии очень популярными были рдэй, стихотворные экспромты
для декламации или распевания, также популярным было распевание на опреде-
лённый мотив стихотворений вана и ши
197
здесь приведён полностью. Стиль сочинений, включённых в «Хонте
мондзуй», отличается витиеватостью, распространён параллелизм в
стихах и прозе.
В 12-й свиток сборника включено сочинение 5-го года Тэнгэн
(982 г.) Ёсисигэ-но Ясутанэ «Титэй-но ки» «Записки из бе-
седки у пруда») - один из самых известных образцов параллельной
прозы, в XIII в. послуживший образцом для написания «Хбдзёки»
XlEl, «Записки из кельи») Камо-но Темэю. Ясутанэ изобретательно
использует разномасштабный параллелизм для общей характерис-
тики жизни столицы и её окрестностей и для описания условий
жизни самого автора:
«С той поры, как мне минуло двадцать, в столице в целом суще-
ствовало две половины, восточная и западная; в западной половине
число жилищ постепенно уменьшалось, и жизнь здесь стала близка
чуть ли не к полному исчезновению. Были люди, которые отсюда уез-
жали, и не было никого, кто бы приезжал; были дома, которые раз-
рушались, и не было таких, которые бы строились. Люди, которые
оказывались без жилья, исчезали, те, кто не считался с оскудением,
оставались. Некоторые радовались отшельничеству и жизни в бегах,
и не иначе, чем уходя в горы или возвращаясь в поля. Люди, кото-
рые всем сердцем устремлены к накоплению богатства для себя са-
мих, не могли прожить с ним хотя бы один день.
В прежние годы на восточной половине столицы был один особ-
няк. Цветоподобный зал, красные ворота, бамбуковые деревья, род-
ник под камнем - поистине, это было место неземное. Хозяин его по
какой-то причине был понижен в должности, строение охватило ог-
нём, и оно полностью сгорело, а десятки семей его слуг, жившие по-
близости, одна за другой разъехались. Хотя впоследствии хозяин и
возвратился в свой особняк, он не вернул ему прежнего величия.
Хоть и много у него было потомков, не дано им было долго жить.
Кусты ежевики разрослись возле ворот, лисы и барсуки спокойно
чувствуют себя в своих норах. Ясно, что всё это - от разрушения Не-
бом восточной половины столицы, а не от людских провинностей.
Есть на восточной половине столицы, к северу от улицы Сидзе,
северо-западный и северо-восточный угол; люди там не богаты и не
бедны, нередко живут большими скоплениями. Высокие дома равня-
ются воротами, в ряд выстроились павильоны. Малые жилища раз-
делены стенами, соприкасаются карнизами крыш. Если среди домов
на востоке случится огонь, скоплению домов на западе не избежать
ещё большего пожара. Если в южных домах случатся воры, то до-
мам на север от них трудно избежать урагана их стрел.
Южный околоток беден, северный богат. Богатый человек сов-
сем не обязательно добродетелен, но бедный непременно стыдится
за себя. Кроме того, немощные люди, что живут поблизости от сильных,
хоть дома их и разрушаются, тростником их не покрывают, хоть стены
у них и рушатся, не воздвигают их. Если эти люди радуются, они не
могут хохотать, широко разинув рот, а если печалятся, то не могут
198
громко плакать. Приходят ли они, или уходят - они всегда в тревоге;
в душе у них не бывает покоя. Если привести сравнение - они подоб-
ны воробьям, которые живут поблизости от орла.
Нечего и говорить, что тот, кто сначала строит пышный особняк,
вновь и вновь расширяет ворота в него80. Но он окружён маленьки-
ми хижинами, где множество мелких людишек, которые жалуются
друг на друга. Это подобно тому, как дети и внуки бегут из страны
отцов и матерей, словно это святые отшельники сосланы в мирскую
пыль людей. А самые решительные из них - одни добиваются владе-
ния узкой полоской земли и погружения в среду себе подобных не-
вежественных личностей, другие производят гадание и на берегу Вос-
точной реки строят дом81, где в случае большого паводка смешива-
ются с рыбами и черепахами, а иные поселяются в диком поле на
севере от столицы, где в случае сильной жары без воды страдают от
засухи. Разве в обеих этих половинах столицы нет пустующей зем-
ли?! Разве настолько велика сила долготерпения этих людей?!
Кроме того, только в этом диком поле на берегу реки дома не
выстроены в ряд и двери в них не расположены рядами, есть там и
поля, и огороды. Огородник, долго обрабатывая землю, получает из
неё пашню; земледелец, своим чередом, запрудив реку, заливает по-
ле. Каждый год на реке бывает паводок, нарушает запруды. Чинов-
ников по надзору за плотинами на реке превозносят за их вчераш-
ние заслуги, ныне же они пасуют перед разрушениями. <...>
Поначалу у меня не было жилища, и я поселился в чужом доме,
возле Восточных ворот, обыкновенно размышляя о неудобствах и
преимуществах отсутствия постоянного жилья. Но если бы я и стре-
мился иметь его, я не смог бы этого сделать, ведь стоимость его -
тысячи и десятки тысяч монет за два-три сэ82 земли. Сначала к се-
веру от улицы Рокудзё я выбрал при помощи гадания пустынный
участок земли, соорудил там четыре стены с дверью. <...> Всей зем-
ли было более десяти сэ. Завершая холм, я сделал маленькую горку;
обнаружив углубление, вырыл маленький пруд. К западу от пруда
расположил маленькую пагоду с Амида83; к востоку от пруда соору-
дил маленькое помещение для своих книг, к северу - воздвиг ни-
зенькое жилище для жены и детей...»
После 1140 г., в самом конце эпохи Хэйан, было составлено по
образцу этого сборника его «Продолжение» - «Хонте дзоку мон-
дзуй» 229 образцов сочинений, созданных в Японии за
120 лет, разделены в нём по 13 рубрикам: поэмы фу, стихи ши раз-
ной формы, императорские послания, путевые заметки, предисловия
80 Размеры ворот, ведущих в усадьбу, зависели от положения её владельца.
81 Восточная река в столице - Камогава. Перед началом строительства дома при
помощи гадания определяли благоприятное место и день начала возведения дома.
82 Сэ - единица площади, 99,18 м2.
83 Пагода с Амида - пагода, в которой помещена фигурка Амида-будды (будды
Амитабха).
199
к китайским и японским стихотворениям, славословия и т. д. Иначе го-
воря, в камбунной литературе больше и больше активизировались
клишированные формы выражения, т. е. ослаблялась роль личного
авторского опыта. При этом многие нормы, устанавливавшиеся для
сочинений на китайском языке, постепенно усваивались и японоязыч-
ной литературой. Такое стирание границ несомненно обогащало ар-
сенал художественных средств, которым последняя располагала.
Заключение
От времени возникновения письменной литературы до конца XII в.
японская художественная литература прошла два больших эта-
па: древний, отразивший последовательное объяснение мира, начи-
ная от его возникновения и обустройства и кончая историческими
преданиями о начале государственности и ритуальном и эстетиче-
ском его освоении; и раннесредневековый, давший художественное
воплощение представлениям о нравственных и эстетических идеалах
разных слоев японского общества
Древнейшая поэзия, молитвословия, мифы, начальные хроники,
написанные на первом этапе, заложили основы для дальнейшего раз-
вития не только литературы и историографии, но и для эстетическо-
го освоения мира на протяжении многих веков. На этом первом эта-
пе можно выявить дописьменные контакты древних японцев с внеш-
ним миром - их ареальные связи, а также тот культурный субстрат,
который на китайской почве развился в культовый и философский
даосизм, на корейской - в местную разновидность шаманизма, а на
японской - в протосинтоизм, также бывший разновидностью шама-
низма.
В этом контексте принципиально важным оказался второй этап.
Сознательно обособившись от соседних континентальных держав (в
первую очередь от Китая), хэйанская Япония начинает усваивать те
элементы ранее без особого разбора принятой заморской культуры,
которые заполняли свободные ниши в её собственной культуре. Та-
кое усвоение происходило тем успешнее, чем больше соответствий
имелось между чужой и автохтонной культурой и чем больше спо-
собности к приспособлению проявляла и заморская, и местная куль-
тура. Это в полной мере касается и литературы. Отталкиваясь от
каких-то общих представлений, постулированных древними индий-
цами или китайцами (а следовательно, признанных всей Джамбудви-
пой - буддийской Ойкуменой), хэйанцы использовали их для выра-
ботки собственных художественных систем, специфических эстети-
200
ческих категорий. Так возникла концепция моно-но аварэ, «печального
очарования вещей», в более поздние эпохи по этой же модели фор-
мировались другие эстетические, художественные и идеологические
принципы. За четыреста лет замкнутого развития японская худо-
жественная культура не только разработала самостоятельные сис-
темы, но и создала основы освоения заимствований. Поэтому-то так
быстро происходило усвоение китайской культуры, когда появились
новые возможности для её массового проникновения в Японию в
XIII столетии.
Конец хэйанской эпохи ознаменовался также началом нового про-
цесса - выходом произведений японского искусства (правда, пока
ещё не литературы) на мировую арену. В середине XI в. один из ки-
тайских авторов обнаружил в буддийском храме своей страны про-
дававшиеся там дорогие разрисованные веера японского производ-
ства и удостоил их очень высокой оценки. «Лучшие художники Ки-
тая, пожалуй, не достигли такого мастерства», - замечает этот ки-
тайский писатель [Иэнага, 1972, с. 93]. Как раз в это время в япон-
ской культуре активизировались автохтонные процессы.
Тогда как проза показывает нам в конце хэйанской эпохи рас-
цвет и начало угасания одних жанров, устойчивость других и появ-
ление третьих, в поэзии продолжается преобладание танка и начи-
нается увлечение двумя новыми жанрами. Один из них, имае (песни на
современный лад), пришёл в столицу из провинции и более всего
развился в следующую эпоху, другой, ранга (стихотворные цепочки),
захватил все слои общества также в следующую эпоху - её харак-
теру эти жанры и соответствуют по разным параметрам. Продол-
жалось составление «императорских» антологий, появилось много
заслуживающих внимания личных стихотворных собраний, сикасю.
В конце эпохи Хэйан творили талантливые и своеобразные поэты
Сайге-хбси (1118-1190) и Фудзивара-но Тосинари (Сюндзэй, 1114-1204).
Тогда же по городам и весям страны начали бродить слепые монахи-
сказители, положившие начало распространению самурайского эпоса.
Но это были деятели нового этапа в развитии японской культуры
вообще, и словесности в частности, несколько парадоксального по
своей сути: встретились во времени два разностадиальных потока и
началось создание беспрецедентного эклектического сплава.
В своём становлении литература непосредственно не повторяет
этапы развития политической истории народа. Более того, разные
виды и жанры литературы развиваются с неодинаковой скоростью,
недаром активнее других проблемы периодизации литературы, ис-
ходя из её внутренних закономерностей, решают не историки лите-
ратуры, а исследователи истории конкретных жанров.
Стадиально поэзия более ёмка, чем проза. У неё лучше память,
поэтому поэзия в каких-то отношениях более консервативна, чем
проза; в то же время, она легче, чем проза, подхватывает новые вея-
ния, затрагивающие форму и систему образов, из-за чего поэзия в
других отношениях больше, чем проза, склонна к эксперименту, бо-
201
лее прогрессивна. Во всяком случае, появившиеся в XII в. новые яв-
ления в японской поэзии удобнее и логичнее рассматривать вместе с
теми процессами в общественной, духовной и художественной жиз-
ни общества, которые способствовали их наиболее полному раскры-
тию и помогают их адекватному пониманию.
Понятие «хэйанская литература» обязано позднейшей генерали-
зации. Сначала в японском литературоведении определение этапов
развития литературы ориентировалось на отдельные эпохальные
произведения (скажем, «Гэндзи моногатари», «Кокин вакасю»), яв-
ления литературы (литература женского потока), культурные фено-
мены (литература эпох Энги и Тэнряку) и только спустя длительное
время стали ориентироваться на представления об общем состоянии
культуры на протяжении нескольких столетий. Эти представления
со сменой эпох тоже понемногу менялись.
Глава III
Литература развитого
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
(XIII-XVI вв.)
Эпоха смут.
Самурайский этап в истории Японии
Со смелой эпох в литературе меняются идейное содержание, эсте-
тические представления, выразительные средства и другие ком-
поненты. Рассматривать идеологическое значение произведения с точ-
ки зрения его автора необходимо в статике, как ориентированное на
определённое, предполагавшееся автором восприятие, а его истори-
ческое значение - в динамике восприятия в иные исторические вре-
мена, обусловленной и динамикой общественного сознания, и изме-
нением социального состава читающей публики, и сменой норматив-
ных этических и эстетических представлений. В зависимости от это-
го последнего появляется разница в выделении и подчёркивании
разных аспектов произведения, в расширении, сокращении или ос-
лаблении его элементов.
Поэтапное рассмотрение литературы выявляет надуманность её
«объективного идейного содержания». Оно всегда исторично, поэтому
рассматриваться должно применительно к конкретной обстановке:
прежде всего, на фоне разных аспектов жизни современного автору
общества, затем, когда это возможно, - в динамике жизни произве-
дения на протяжении эпох. Литературные и идеологические явления
должны быть синхронизированы исследователем. Иначе мы станем
приписывать автору произведения мысли, которые могли появиться
только при нашем весьма приблизительном знании предмета.
Как ни условно деление истории литературы на периоды по приз-
накам, лежащим за пределами собственно литературы, исследова-
тель бывает вынужден делать это по разным причинам, в том числе
из-за неравномерности развития литературных жанров. Литература
определённого жанра за немногими исключениями зарождается,
203
расцветает и сходит на нет в какую-то определённую эпоху. Нельзя
не согласиться с мнением Кубота Дзюн, высказанном им в книге
«Мир средневековой литературы»: «Если ретроспективно рассмот-
реть историю классической японской литературы, которая начина-
ется с "Кодзики", "Нихонги", песен каё, то видно, что каждая эпоха
продолжалась появившимся новым особым литературным жанром,
характерным для неё. В древности это цукури моногатари, в средние
века в начальный период - ранга и Ндгаку, в Новое время - дзёрури и
кабуки. Их ростки появлялись на свет в предшествующие эпохи, но
все они именно в данную эпоху быстро развивались, достигали за-
вершения и, явственно отражая направление мыслей своей эпохи, в
определённом смысле становились репрезентативными жанрами для
своей эпохи, и по этой причине далее не развивались в этой форме в
следующую эпоху» [Кубота, 1989, с. 3].
В начале XIII столетия в японской культуре возникло новое яв-
ление, скоро ставшее одним из самых характерных в наступающей
эпохе, - «воинские повествования» (ЖЕ гунки или санки, за-
писи о сражениях). Это был нечастый для классической литературы
Японии случай прямой сюжетной связи художественной литературы
с социально-политическими коллизиями.
Хэйанское общество было в основном стабильным, а социальные
проблемы, если их и касались произведения художественной литера-
туры, освещались главным образом в сочинениях на китайском язы-
ке (у Сугавара-но Митидзанэ, Ёсисигэ-но Ясутанэ и некоторых дру-
гих авторов) и очень мало заботили авторов, писавших по-японски.
Только в самом конце эпохи увидели свет первые рэкиси монога-
тари, произведения историко-повествовательной литературы. Правда,
история в них представлена в несколько камерном освещении. Но
завершилась эпоха Хэйан серией социальных катаклизмов, которые
скоро нашли отражение и в художественной литературе.
Силы, противостоявшие власти рода Фудзивара, к середине XII в.
группировались вокруг соперничавших между собой домов Тайра и Ми-
намото - двух боковых ветвей императорского дома. После воору-
жённых столкновений 1156 г. («смута годов Хбгэн») и 1159-1160 гг.
(«смута годов Хэйдзи») единоличную власть в стране захватил глава
первого из этих домов Тайра-но Киёмори (1118-1181), повторивший
потом путь, пройденный когда-то лидерами Фудзивара: назначил
шестьдесят своих родственников на высшие посты в столице и в
провинциях, в 1171 г. выдал свою пятнадцатилетнюю дочь Токуко
(1155-1213) замуж за одиннадцатилетнего императора Такакура (на
престоле - 1169-1180). Через семь лет у Такакура и Токуко родился
сын, которого в 1180 г., в двухлетнем возрасте, возвели на престол
под именем Антоку. Таким образом Киёмори стал дедом царству-
ющего императора и достиг зенита власти.
В том же году против гегемонии Тайра выступил во главе саму-
раев-дружинников из северо-восточных районов о. Хонсю глава до-
204
ма Минамото Ёритомо (1147-1199)84. Междоусобная война продол-
жалась до 1185 г. и завершилась полной победой Минамото, физи-
ческим уничтожением членов рода Тайра (погиб даже малолетний
император Антоку), учреждением новой формы управления государ-
ством (1192 г.), распространением ленной системы землевладения на
большинство районов Японии, выходом на политическую, хозяйст-
венную и культурную арену самурайства и новыми явлениями в об-
ласти идеологии, культуры и литературы.
В 1192 г. Минамото Еритомо получил от императора вновь учреж-
дённый титул «великий полководец, покоритель варваров» (fiEW^
^Ж, сэйи-тайсёгун). Формально это должно было свидетельствовать
о признании им верховной власти императора и придворной админ-
истрации и ограничении его деятельности военными вопросами. Но
основав свою «полевую ставку» (ЖЯ?, бакуфу) в г. Камакура, на
востоке страны, он учредил там несколько ведомств по принципу
мандокоро (ЙСЁГг) - семейных управлений: самураидокоро (fyffiff), ве-
давшее военными делами, полицейскими вопросами и делами васса-
лов сёгуна, кумондзё (-^XrJt) или мандокоро с административными
и юридическими функциями, и монтюдзе (f^SE^f), занятое граждан-
ским судопроизводством. В задачу трёх этих ведомств входил общий
контроль за существовавшими тогда административными и хозяйст-
венными органами.
Контрольными функциями были наделены протекторы (tF®,
сю го), назначавшиеся сёгунским правительством в помощь губерна-
торам провинций, и управляющие (1ЙйЙ, дзитб), направленные в по-
местья. Управляющие с помощью военных отрядов нередко занима-
ли чужие земли или присваивали часть годовой ренты, предназна-
ченной владельцу поместья (будь то отдельное лицо, буддийский мо-
настырь или синтоистское святилище). После 1221 г. («мятеж годов
Дзекю») власть таких управляющих распространилась и на помес-
тья, принадлежавшие придворной знати.
Вассалы дома Минамото получали в ленное владение земли, при-
надлежавшие разгромленным в прошедшей войне противникам. Та-
кой мерой укреплялась и политическая власть, и экономическое мо-
гущество сёгунского правительства.
В 1199 г., после смерти Ёритомо, сёгуном стал его семнадцати-
летний сын Ёрииэ (1182-1204). Однако фактическую власть захва-
тил его дед по матери Хбдзё Токимаса (1138-1215), который возгла-
вил специальный совет и присвоил себе титул сиккэн ($<Ж взявший
власть). Под этим титулом представители дома Хбдзё стояли у влас-
ти до 1333 г.
Социальной опорой сёгуната были самураи, воинское сословие,
возникновение которого относят к VII в.
®* Ёритомо был потомком в 8-м колене внука императора Сэйва (859-876) по
имени Цунэмото (894-961), в год своей смерти принявшего фамилию Минамото. Не-
сколько поколений Минамото возглавляли отряды вооружённой охраны регентов
Фудзивара, за что стали прозываться «зубы и когти Фудзивара».
205
Между феодалами и самураями-дружинниками их кланов уста-
навливались своеобразные псевдородственные отношения, пред-
полагавшие взаимные обязанности вассала и сюзерена. Минамото Ери-
томо, например, прокламировал эти отношения тем, что назвал сво-
их приверженцев «членами дома сюзерена» гокэнин). В
качестве вознаграждения за преданную службу он наделял своих са-
мураев земельными владениями. Благодаря этому в ХШ в. в Японии
завершилось формирование ленных отношений.
Развитие крупных поместий в XI-XI1 вв. привело к разделению
труда в них, выделению ремёсел и возникновению ранних феодаль-
ных городов. Самый многочисленный слой японского населения -
крестьяне выплачивали в виде годовой ренты от 30-40 до 50-60 %
урожая, в зависимости от поместья и статуса конкретной семьи. Кроме
того, они выполняли в пользу землевладельцев трудовые повиннос-
ти. Самую бесправную прослойку крестьян составляли мелкие арен-
даторы. Далее следовали владельцы именных рисовых полей [В,
мёдэн) - месю (<& i), составлявшие основную податную единицу в
поместье.
Владельцы поместий в попытках сохранить или увеличить дохо-
ды шли двумя путями: произвольно нарушали границы своих владе-
ний, пользуясь неточным их определением в документах (отсюда про-
исходили многие тяжбы в судах), и добивались освобождения помес-
тья от налогообложения. На раннем этапе (IX-X вв.) для этого тре-
бовалось внести земельное владение в категорию поднятой целины
или залежи, позднее (с XIII в.) - разделить поместье на две части, от-
дав одну из них дзитб или сюго в обмен на иммунитет своей части
поместья от посещения чиновников и на право вооружённого подав-
ления выступлений недовольных крестьян. Впоследствии такого ро-
да разделы поместий привели к образованию новой категории фео-
далов - сюго-даймё сыгравших активную роль в центро-
бежных движениях XV в.
Вторая половина XIII в. отмечена рядом стихийных бедствий,
эпидемиями, волнениями крестьян и угрозой внешнего вторжения
на Японские острова. Дважды, в 1268 и 1271 г., в Японию прибывали
послы Хубилай-хана с требованием подчиниться его власти и пла-
тить ему дань. По распоряжению бакуфу страна стала готовиться к
отражению нашествия чужеземцев.
В 1274 г. флот Хубилая, приблизившийся к японским берегам,
разметало тайфуном. Вторжение не состоялось. Новых послов, тре-
бовавших покорности, по распоряжению сиккэна казнили, и в 1281 г.
около тысячи судов и стопятидесятитысячная армия Хубилая опять
подошли к юго-западным берегам Японии, но снова были размёта-
ны тайфуном. Больше монголы не пытались завоёвывать Японские
острова. Официальная пропаганда объявила чудесное избавление от
нашествия результатом божественного покровительства Японии и
206
нарекла эти тайфуны «священным ветром» (W®, камикадзэ )8S. Од-
нако подготовка к обороне, неизбежное строительство береговых
укреплений и военного флота, экипировка воинов ослабили эконо-
мику страны и тяжело отразились на положении самураев, вынуж-
денных готовиться к выступлению против чужеземцев самостоятельно,
без финансовой помощи бакуфу. Зачастую они продавали или за-
кладывали у ростовщиков свои ленные владения. Бросали свои зем-
ли и многие обнищавшие крестьяне.
В 1297 г. сиккэны Хбдзё издали указ о ликвидации задолженнос-
ти, объявлявший недействительными все обязательства самураев по
продаже и закладу их земель. В результате ростовщики перестали ссу-
жать деньги самураям или ссужали их с оговоркой о нераспрост-
ранении на данную сделку будущих указов о ликвидации задолжен-
ности. В 1298 г. указ пришлось отменить. Тем не менее в XIV-XV вв.
к изданию таких указов власти прибегали неоднократно - не только
для того, чтобы поправить финансовое положение самурайства, но
и по требованию крестьян, поднимавших восстания против засилия
ростовщиков и произвола самураев.
Недовольство народных масс, ослабление поддержки со стороны
гокэнин, усиление борьбы за власть между разными группировками
феодалов привели в начале XIV в. к падению власти дома Хбдзе и
попытке части феодалов в борьбе за власть воспользоваться лозун-
гом реставрации императорской власти. Антисёгунские силы объ-
единились вокруг императора Годайго (1288-1339, на престоле в 1319—
1338 гг.). Их выступление привело к длительной междоусобной вой-
не, состоявшей из нескольких этапов («война годов Гэнкб», «реста-
врация годов Кэмму», «эпоха Южной и Северной династий»).
Бывший сторонник сиккэнов Асикага Такаудзи (1305-1358), по
материнской линии принадлежавший к роду Хбдзё, а по отцовской -
боковой ветви Минамото, переметнулся в лагерь императора Годай-
го, помог разгромить войска сиккэнов, победителем вошёл в столи-
цу (1336 г.) и сразу же выступил против своего нового сюзерена,
объявив его низложенным и возведя на престол своего ставленника
Кбмё (1321-1380), девятого сына императора Гофусими (1288-1336)
и троюродного племянника Годайго. Сторонники Годайго не признали
нового императора, продолжая содержать двор в местечке Есино к
югу от Киото. Асикага Такаудзи в 1338 г. провозгласил себя новым
сёгуном, а притязания Южного двора объявил незаконными. Двоецар-
ствие продолжалось до 1392 г., когда было достигнуто соглашение о
попеременном царствовании представителей обеих линий. За время
существования сёгуната Асикага центральная власть была значи-
тельно слабее, чем прежде.
Как и война между Тайра и Минамото, феодальные междоусоби-
цы XIV в. дали обильный материал для письменной литературы и
8S Так же, в память об этих спасительных тайфунах, стали именоваться отряды
смертников во время Второй мировой войны.
207
устных сказаний, а в дальнейшем - и для многих националистиче-
ских спекуляций.
В XIV в. кровнородственные отношения при выборе сюзерена
впервые отступили для самураев на второй план по сравнению с соо-
бражениями выгоды (получение лена, доходной должности и т. п.).
Нередко представители одной семьи оказывались во враждующих
лагерях или переходили из одного лагеря в другой в зависимости от
ситуации. В это же время крестьянские восстания начинают приоб-
ретать организованный характер, что в следующем столетии приве-
ло к созданию крестьянского самоуправления (уездные и поселко-
вые собрания и «народный парламент» «крестьянской республики
Ямасиро», созданные в 1485 г.).
Интенсивно развиваются города разных типов - прихрамовые, поч-
товые, портовые, призамковые. Всё более важную роль в экономи-
ке играют ремесленники и торговцы, распространяется денежный
обмен. Организуются полупостоянные рынки, ремесленные и торго-
вые гильдии. Члены этих гильдий часто добиваются у феодалов ос-
вобождения от уплаты поземельного налога, монополии на произ-
водство и продажу определённых товаров. Некоторые гильдии от-
купали у феодалов право сбора налогов с крестьян, что, естественно,
приводило к обнищанию беднейших слоёв населения и нередко вы-
зывало организованный отпор крестьян. В XV-XVI вв. возникло не-
сколько самоуправляющихся городов (Сакаи, Хаката, Хирано и др.),
специализировавшихся на торговле со странами Дальнего Востока и
Юго-Восточной Азии и содержавших наёмные войска из декласси-
рованных самураев (ЖЛ, ронин).
Строго разграниченное по социальному признаку средневековое
японское общество включало несколько дискриминируемых кате-
горий населения, не входивших в разряд «обычного» или «доброго»
народа, сандзе-но тами, каварамоно, эта, хинин (Н^ОК, MUMh
%?, ЙЛ) и др. Им не позволялось заниматься земледелием и се-
литься среди «обычных» японцев. Часто они проживали отдельны-
ми группами на бесплодных речных отмелях (кавара), заливаемых
во время паводка, занимались убоем скота, кожевенным производст-
вом, уборкой нечистот, нищенством и другими видами деятельности,
связанными с представлениями об осквернении (подробнее см.: [Ха-
нин, 1973]). Особой категорией презираемых были бродячие актёры,
а также изготовители воинских доспехов. Из числа париев власти вер-
бовали соглядатаев и палачей (что не увеличивало симпатии к ним
остального населения), но они же представляли благоприятную сре-
ду для антифеодальных выступлений.
Назначенные сёгунским правительством губернаторы провинций
постепенно становились их феодальными владетелями и всё менее
зависели от центра. За время междоусобиц отдельные феодалы за-
хватили обширные владения (иногда они включали по нескольку
провинций), содержали собственное войско (главную роль в нём ста-
ли играть пешие самураи) и в конце концов перестали считаться с
208
авторитетом сёгунского правительства (номинально власть сёгунов
Асикага сохранялась до 1573 г.).
В XV в. сражения между феодалами участились, а в 1467-1477 гг.
(«смута годов Онин») охватили большинство владений. После этой
войны власть сёгунов Асикага фактически превратилась в чисто но-
минальную. С конца XV в. в Японии сто лет продолжалась «эпоха
сражающихся провинций» сэнгоку дзидай), как её по ки-
тайской модели нарекли японские историки. Междоусобицы тре-
бовали больших людских ресурсов и расходов на вооружение и про-
виант. Увеличилась эксплуатация крестьян, которые две трети уро-
жая стали отдавать сборщикам налогов, а кроме того, нести трудовую и
воинскую повинность. В стране ускорился процесс социального рас-
слоения. Крестьянское население распадалось на привилегированное
меньшинство (часто такие крестьяне переходили в ряды самураев,
так же как одна часть самураев пополняла ряды новой знати, а дру-
гая теряла свои привилегии, переходя в число крестьян или торгов-
цев) и бесправное большинство. Феодалы всеми способами прикреп-
ляли последних к земле, внедряя в крестьянской среде принцип кру-
говой ответственности, при котором соседи и односельчане беглых
крестьян обязаны были выплачивать их долю податей. Но и эти ме-
ры не могли пополнить казну феодалов (Л4з, дайме\ опустошавшую-
ся непрерывными войнами. Приходилось обращаться за займами к
ростовщикам, в зависимость к которым попадали даже сёгуны Аси-
кага.
Ещё одним средством пополнения феодалами их оскудевшей каз-
ны было предоставление им за определённую плату монопольных
прав на реализацию товаров всё новым гильдиям купцов и ремес-
ленников.
В разгар междоусобиц в Японии появились первые европейцы. В
1542 г. на о. Танэгасима, к югу от о. Кюсю, штормом прибило ко-
рабль, на борту которого находилось трое португальцев. Встретив
радушный приём у губернатора острова и у даймё княжества Бунго
(северо-восток Кюсю) Отомо Ёсинори (7-1550), Мендеш Пинто, стар-
ший из португальских моряков, представил колониальным властям
«Португальской Индии» восторженное описание «открытой» им стра-
ны, и в ближайшие же годы в Японию было направлено португаль-
цами семь экспедиций с торговыми и миссионерскими целями. Наи-
более благоприятные условия для португальских купцов и иезуит-
ских проповедников были созданы в княжестве Сацума (юг о. Кю-
сю). За короткое время христианство приняли несколько влиятель-
ных феодалов юго-западной Японии, получавших значительные вы-
годы от торговли с европейцами. Иезуиты привезли в Японию на-
борные машины и наладили печатание религиозной литературы, учеб-
ников, переводов на японский язык сочинений европейских авторов.
В 1582 г. к римскому папе было направлено посольство из четырёх
молодых японцев-христиан. К этому времени миссионерами уже бы-
ло крещено около ста пятидесяти тысяч японцев. Описания Японии,
сделанные миссионерами-иезуитами, стали издаваться в Европе.
209
Существенное значение в условиях междоусобной войны имел
ввоз португальцами в Японию огнестрельного оружия и налажива-
ние производства такого оружия самими японцами. К концу XVI в.
соперниками португальцев в торговле с Японией стали испанцы, а
соперниками иезуитов в миссионерской деятельности - францискан-
ские монахи. Японские власти получили первые предостережения о
стремлении европейцев восстановить население против буддийской
церкви, поддержать сепаратистские настроения у новообращённых
феодалов, о вывозе из страны невольников и о планах превратить
Японию в колониальное владение европейских держав. Информа-
ция зачастую поступала от самих «южных варваров» (европейцев),
враждовавших между собой (особенно непримиримая вражда сущест-
вовала между католиками-испанцами и протестантами-голландцами).
Самый активный период распространения в Японии христианст-
ва пришёлся на время объединительной деятельности Ода Нобунага
(1534-1582), феодала из провинции Овари. В возрасте 23 лет Нобу-
нага, владевший тогда наследственной частью провинции Овари, впер-
вые столкнулся с попытками соседей захватить его земли. Через три
года, после очередного нападения, Нобунага перешёл к активной
военной деятельности и полностью овладел провинциями Суруга и
Тбтбми, а к 1568 г. уже вошел в Киото, сделал сёгуном своего став-
ленника Асикага Ёсиаки (1537-1597) и принялся за планомерное во-
оружённое объединение страны под своей единоличной властью: в
1571 г. занял и разрушил монастырский комплекс Энрякудзи, а в
1580 г., после десятилетней осады, монастырь Исияма Хонгандзи,
подорвав этим военное могущество крупных буддийских монасты-
рей, союзников мятежных феодалов. В 1573 г. Ода Нобунага сверг и
взял под арест сёгуна Ёсиаки, попытавшегося возглавить коалицию
феодалов - врагов Нобунага. Так было формально покончено с сё-
гунатом Асикага.
На подчинённой ему территории Ода Нобунага отменял заставы,
снижал поземельные налоги и трудовые повинности крестьян, начи-
нал прокладку дорог, но наряду с подавлением выступлений недо-
вольных феодалов и борьбой с разбоем на дорогах ликвидировал са-
моуправление вольных городов и жестоко расправлялся с крестьян-
скими восстаниями. Нобунага погиб в 1582 г., осаждённый в монас-
тыре Хоннбдзи тридцатитысячным войском одного из своих быв-
ших вассалов Акэти Мицухидэ (1526-1582). К этому времени он объ-
единил 30 из 66 японских провинций, сделав движение за централи-
зацию власти в стране необратимым.
Тоётоми Хидэёси (1536-1598, подробно о нём см.: [Искендеров,
1984]), с успехом продолживший объединительную политику Нобу-
нага, через восемь лет держал в своих руках высшую военную и ад-
министративную власть в Японии, подчинив себе почти всю страну.
Шестнадцать лет правления Тоётоми Хидэёси отмечены также рядом
принципиальных реформ и политических акций, результаты которых
имели определяющее значение для развития страны.
210
В 1588 г. он издал указ об изъятии у крестьян оружия. Одновре-
менно с этим был проведён ряд мероприятий по прикреплению кресть-
ян к земле и строгому размежеванию сословий - самураев, крестьян
и горожан (запрет самураям заниматься земледелием и торговлей, а
крестьянам - воинским искусством и ремёслами). В 1591 г. был опуб-
ликован указ Хидэёси о переписи всех дворов с указанием молодых
и старых мужчин и женщин с их именами и родом занятий и о за-
прете подданным переезжать на жительство в другие провинции и
селения. Указом 1598 г. были существенно ограничены и возмож-
ности феодалов - от свободы заключения брака до права передви-
жения в паланкинах в зависимости от ранга, возраста и расстояния.
К 1595 г. была в основном закончена перепись земельных владе-
ний по провинциям, начатая ещё Нобунага в 1568 г. С её помощью
была упорядочена система налогообложения и повышена норма
эксплуатации крестьян. Основная налогооблагаемая единица обра-
батываемой площади, тая(Ю, по указу 1598 г. стала приравнивать-
ся к 300 бу (ft) вместо прежних 360 бу, что повысило размеры на-
лога сразу на 20%. Крестьянская общинная организация (t't
(Ф, сонраку кедбтай) была превращена в деревенский орган кол-
лективной ответственности за поведение каждого крестьянина. Что-
бы обезопасить налоговые поступления от посягательств недоволь-
ных крестьян, на жителей деревни возлагалась ответственность за
перевозку этих поступлений на расстояние первых пяти ри от деревни,
до передачи груза чиновникам.
Ко времени правления Тоётоми Хидэёси относятся первые указы
об ограничении деятельности христианских миссионеров: подтвер-
див разрешение европейским купцам торговать в японских портах,
Хидэёси приказал под страхом смертной казни в двадцатидневный
срок всем католическим миссионерам покинуть страну (указ 1587 г.).
Успехи в усмирении японских феодалов пробудили у Тоётоми
Хидэёси авантюристическую идею завоевания колоний на континен-
те - подчинения себе Кореи и части Китая. В 1592 г. и 1597-1598 гг.
он дважды предпринимал попытки вторгнуться на Корейский полу-
остров и закрепиться там, однако оба раза терпел поражение. После
потери владения Мимана это была первая попытка японцев органи-
зовать завоевательный поход против Кореи.
Смерть Хидэёси в 1598 г. снова вызвала политическую нестабиль-
ность в Японии, однако уже в 1600 г. лидерство среди влиятельных
феодалов захватил один из близких Хидэёси полководцев, Токугава
Иэясу (1542-1619), который и завершил создание на Японских ос-
тровах абсолютистского государства. Принято считать, что с прихо-
дом к власти Токугава Иэясу в Японии закончилась эпоха развитого
и началась эпоха позднего средневековья.
«Реформированный» буддизм
средневековья
Феодальные войны конца XII в. знаменательны не только тем,
что велись провинциальным воинством, без участия всевласт-
ных когда-то киотоских аристократов, но и тем, что в результате их
произошла скорая перемена ориентации всей жизни Японии - поли-
тической (учреждение воинского управления в Камакура), правовой
(параллельное существование двух видов юрисдикции - император-
ской и сёгунской), хозяйственной (замена надельного землепользо-
вания поместным землевладением), религиозной и литературной.
Впрочем, разделение всех сторон жизни было настолько разно-
масштабным, растянутым во времени и противоречивым, что допус-
кает неоднозначные оценки. Като Сюити, например, имеет все осно-
вания для такого суждения: «Но даже тогда, когда политическая ре-
волюция сопровождалась революцией в "идеологии", это не озна-
чало смену класса, осуществлявшего широкую созидательную де-
ятельность в литературе и искусстве. Двойственная политическая
структура правительства точно отражала двойственную структуру
старого и нового буддизма, однако нельзя сказать, что в этом смыс-
ле она отражала и двойственную структуру культуры. Аристократы
и священнослужители продолжали монопольно удерживать науку,
литературу, а также и искусство, а развивающийся класс воинов сле-
довал за ними...» [Като, 1975, с. 211]. Проблема заключается в том,
которую из существовавших тогда тенденций принимать за точку
отсчёта.
Буддизм к концу эпохи Хэйан занял ведущие позиции в религи-
озной жизни Японии. Синто продолжал существовать рядом с буддиз-
мом, не конфликтуя с ним и впитав в себя многие понятия и пред-
ставления, апробированные не только буддизмом, но и даосизмом и
конфуцианством. Внешне синтоистские верования делились на тес-
но связанные с буддизмом (рёбу синто, саннб итидзицу синто) и не-
зависимые от него
Среди буддийских школ в начале эпохи Камакура выделялись
три основных направления: одни исповедовали Путь Мудрости или
упор на «собственные силы» (это нарские и старые хэйанские шко-
лы), другие - Путь Веры или упор на «посторонние силы» в дости-
жении просветления (разные секты школы Чистой земли и Хоккэ-
сю), третьи полагались исключительно на Путь Созерцания (секты
школы дзэн).
В буддийской традиции существовало предание о том, что в древ-
ности жил некий принц по имени Амитабха (яп. Амида), который по-
стригся в монахи и достиг очищения всех своих помыслов и возмож-
ности раствориться в нирване, т. е. стать буддой. Однако праведник
отказался от этого блага и, оставшись бодхисаттвой, дал сорок во-
212
семь обетов, один из которых (восемнадцатый) стал основным (ЖЖ,
хонган - иногда этот термин переводят как «изначальный обет») и
сводился к обещанию Амитабха не входить в нирвану до тех пор,
пока последний из смертных, уверовавших в него, не возродится
после своей смерти в его Чистой земле (Сукхавати), расположенной
далеко на западе, за много миллионов ри от суетного мира.
Продемонстрировать свою веру в него смертный мог при помо-
щи возглашения имени этого сострадательного будды: «Наму Ами-
да-буцу!» («О, будда Амитабха!»). В понятиях сингон-буддизма такое
возглашение идентифицировалось с одним из трёх таинств, свиде-
тельствующих о том, что первоприрода Будды изначально присуща
каждому (следует только пробудить её), - таинством слова [Анэсаки,
1963, с. 151].
Постепенно вера в действенность основного обета Амида-будды
оформилась в самостоятельное течение, и около 1175 г. Хонэн-сё-
нин (1133-1212) основал школу Чистой земли (дзё'досю), базирую-
щуюся на абсолютной вере в спасительную силу «возглашения име-
ни» как самого надёжного в эпоху Конца Закона способа очиститься
для возрождения после смерти в Чистой земле Амида-будды. Скоро
учение этой школы широко распространилось среди разных со-
циальных слоёв. «Один письменный источник, - свидетельствовал
Н. И. Конрад, - перечисляя приверженцев Хонэна, называет членов
императорской фамилии, представителей знатных семей; называет
таких прославленных воинов, как Кумагаи Наодзанэ, Уцуномия Ёрицу-
на; называет Катано Сиро, грозного предводителя разбойничьих шаек;
упоминает о "гулящих девках" из портовых притонов. Но, конечно,
наибольшее значение для судьбы учения имела приверженность к
нему буси...» [Конрад, 1974, с. 264].
Надо признать, что такая популярность пришла к учению Хонэн-
сёнина уже после его смерти. При жизни знаменитый впоследствии
проповедник подвергался гонениям как со стороны религиозных де-
ятелей, так и со стороны светской администрации (в 1207 г. он был
лишён сана и под именем Фудзии Мотохико выслан из столицы на
о. Сикоку; из ссылки Хонэн-сёнин был возвращён лишь в 1211 г. за
год до своей смерти).
Самым влиятельным из учеников Хонэна был Синран (1173-1262),
ставший его последователем в 29-летнем возрасте, после многолет-
него служения в тэндайском монастыре Энрякудзи, куда его опре-
делили, когда мальчику было девять лет86.
Проповеди Синрана были адресованы прежде всего людям, с то-
чки зрения традиционного буддизма порочным, замутнённым мир-
скими страстями, необразованным, неспособным соблюдать сложные
ритуалы и размышлять об отвлечённых материях. В первую оче-
редь это были самураи - воины-дружинники, участвующие в войнах
86 Заметим, что секты тэндай и хоссо до третьей четверти XV в. были самыми
непримиримыми гонителями дзёдо.
213
и с детства усвоившие типологически сходную с амидаизмом веру в
клановых богов и верность клановым вождям.
В «Таннисе», сочинении, записанном со слов Синрана его учени-
ком Юйэном (1222-1289), учитель заявлял: «Даже добродетельный
человек может достичь рождения в Чистой Земле, и уж само собою -
порочный.
Хотя такова истина, люди обыкновенно говорят: "Даже пороч-
ный человек обретет рождение, и уж конечно, праведный". На пер-
вый взгляд это утверждение кажется разумным, но оно противоре-
чит значению Иной Силы, объявленному в Изначальном Обете.
Ибо человек, уповающий на добро, достигнутое своими силами, не
может довериться всем сердцем Иной Силе и, значит, не соответ-
ствует Изначальному Обету Амида. Когда же он откажется от при-
верженности собственным силам и всецело доверит себя Иной Силе,
то обретет рождение в Истинной Земле Воздаяния.
Для нас, исполненных слепых страстей, невозможно избавиться
от рождения-смерти с помощью какого-либо служения. Скорбя об
этом. Амида произнес Обет, основной целью которого является до-
стижение разума Будды дурным человеком. Поэтому дурной чело-
век, вверивший себя Иной Силе, как раз и обладает истинным зало-
гом возрождения.
Оттого [Учитель] и говорил: "Даже добродетельный человек
возрождается в Чистой Земле, и уж само собою - порочный"» (пер.
В. П. Мазурика).
Синран назвал своё учение Истинной школой Чистой земли (ф±
Дзёдо синею); в отличие от Хонэна, он заявлял, что для вхож-
дения в Чистую землю не требуется многократного Возглашения Име-
ни, но достаточно лишь однократного, разрешал своим последова-
телям есть мясо и вступать в брак и отказался от возведения храмов.
«Своих последователей он упорно отказывался называть учениками,
именуя их приятелями (добо) или спутниками (догё). Те, кто раз-
делял взгляды Синрана, объединялись в общины (ко). Во главе об-
щин стояли наиболее образованные люди, способные разъяснять смысл
учения Синею и руководить проведением служб, которые происхо-
дили в специальных залах (додзё), чаще всего представлявших со-
бой часть жилого дома главы общины. Какая-либо церковная иер-
архия отсутствовала» [Буддизм, 1993, с. 207].
После смерти Синрана последователи его учения делились на всё
новые и новые группировки (Р*]^, монтб). Бродячие проповедники
переполняли дороги Японии. Один из таких проповедников, «рыноч-
ный мудрец» Тисин Иппэн (1239-1289) провозгласил правило отправ-
ления служб в заданное время, по шесть раз в день, в связи с чем ос-
нованная им школа получила название дзи (й^, время). Во время
междоусобной войны годов Онин (XV в.) настоятель амидаистского
храма Хонгандзи по имени Рэннё (1415-1499)87 объединил многие
87 Рэннё был восьмым настоятелем храма Основного Обета (Хонгандзи). В ре-
зультате его активной пропагандистской деятельности храм был в конце XV в.
214
группировки единомышленников. Участники этих группировок с ору-
жием в руках много раз поднимались против своеволия феодальных
и религиозных властей. Восстания амидаистов получили название
икко икки (—(й]—$;). Только в XVI в. произошло около двадцати
таких восстаний, успешно отражавших атаки регулярных войск [Ки-
тагава, 1966, с. 117].
Другая школа «реформированного» буддизма, оказавшая боль-
шое влияние на японский менталитет, на классическую культуру и
литературу Японии, - это дзэн (Ш, кит. чань, санскр. дхьяна), инту-
итивистская школа буддийской медитации88. Учение чань возникло
в Китае на рубеже V-VI вв. в результате трансформации отдельных
положений буддизма под влиянием даосизма и конфуцианства89.
В конце XII в. новые методы духовного упражнения привёз на ро-
дину из Китая бывший тэндайский монах Эйсай (1141-1215), кото-
рый при содействии монахов-иммигрантов из Китая развернул их
пропаганду среди киотоской знати и буддийского духовенства.
На японской почве дзэн-буддизм разделился на несколько направ-
лений, в числе которых наиболее популярными стали риндзай
5к) и сото (WiIbItk). Эйсай считается родоначальником первого из
них, второе основал Дбгэн (1200-1253), проповеди которого были
адресованы как монахам-последователям, так и мирянам-самураям.
При всей специфике разных направлений, все они придерживались
четырёх основных принципов: независимость от письменных знаков
(т. е. отрицание ценности книги), особый вид передачи истины вне
канона (истина, говорили они, передаётся не при помощи слов, а
контактным способом, «от сердца к сердцу»), прямое указание на ду-
ховную сущность человека (внеинтеллектуальное прозрение) и по-
стижение сокровенной природы человека и достижение совершен-
ства будды.
Термин «секта дзэн», по утверждению Дбгэна, выдуман людьми
невежественными, ибо дзадзэн (Ж^, сидение в медитации) и есть
истинная практика, преодолевающая время и пространство. Буддий-
ское учение, говорил он, всегда передавалось через поколения от
учителя к ученику при их непосредственном общении.
Исходным здесь является представление о том, что основу все-
ленной составляет сокровенная сущность, тождественная изначаль-
ной природе будды. Она всё объемлет и во всём присутствует. Эта
сущность есть истинная мудрость и как таковая не знает множест-
венности, а классифицируется как абсолютное единство. Поэтому
изначальная природа будды не дробится, хотя и присутствует в каж-
признан «основным религиозным центром всех монгол [Буддизм, 1993, с. 212].
88 Изначально медитация была одной из трёх составных частей буддийского вос-
питания (две другие - это нравственная дисциплина и мудрость), но с течением вре-
мени абсолютизировалась в самостоятельное направление.
89 Основоположником учения чань был индийский монах, живший в Китае, Бод-
хидхарма (ум. в 528 г.), но широкое распространение оно получило примерно через
двести лет после его смерти.
215
дом человеке. Она едина: обнаружить её в одном месте означает об-
наружить повсюду и в каждом объекте в отдельности. Множест-
венность предстаёт в виде тождественности. Проникнуть в неё - это
«совершить прыжок в высшее бессознательное», в результате чего
снимается дуальная противоположность мира. В результате пости-
жения истины «индивидуальность исчезает в бездонной глубине веч-
ности, естественное окружение видит абстракцию... Эта абстракция
не есть простое логическое обобщение или апатичное состояние без-
различия, а есть проникновение в сердце природы, которая является
основой, пропитанной той же жизненностью, что и душа человека»
[Анэсаки, 1963, с. 213]. Человек оказывается «по ту сторону добра и
зла», когда субъект сливается с объектом.
«Сознательная ориентация на практическую деятельность, ак-
тивное отношение к жизни резко отличают дзэн от традиционного
индийского буддизма. Столь популярная в эпоху Хэйан идея мудзё -
непостоянства всего сущего, повергавшая утонченных аристократов
в состояние меланхолии, уступила в дзэн место активному, жизнеут-
верждающему принципу. Не случайно в дзэн так часто можно встре-
тить юмор и иронию, а активная творческая деятельность стала вос-
приниматься как один из наиболее эффективных методов для дости-
жения "пробуждения"» [Буддизм, 1993, с. 221].
Если в обстановке междоусобных войн в самурайских дружинах
выше всего ценилась клановая сплочённость и преданность сюзере-
ну, то с приходом самураев к власти резко повысился спрос на вос-
питание сильной воли и способности самостоятельно принимать бы-
стрые решения. Дзэн-буддизм стал учитывать эту потребность, от-
тачивать методы такого воспитания, всё дальше уходить от своего
китайского прототипа (хотя некоторые из новых тенденций и были
заложены уже наставниками чань) и больше ориентироваться на мир-
скую жизнь. Проповедники дзэн стали доказывать, что регулярный
тренинг, умение мгновенно сосредоточиться на самой сути любой
проблемы, невзирая на помехи идти к цели имеют большое значе-
ние не только в монашеской, но и в мирской жизни.
Для секты дзэн сёгунатом была официально учреждена по ки-
тайскому образцу «система Пяти монастырей», в соответствии с ко-
торой пять дзэнских монастырей объявили главными и ещё десяти
присвоили второй ранг. Представители пяти высших монастырей
(НФ, годзан) привлекались сёгунским правительством в качестве
наставников в вере и даже политических советников и занимались
проблемами внешней торговли и международных отношений. Вли-
яние их в государственном масштабе было огромным.
В XIII в. возникло своеобразное явление, названное Литературой
Пяти монастырей (ЗЕЦЛЙ^, годзан бунгаку), не только среди мона-
хов, но и среди мирян получил распространение обычай составлять сти-
хотворные исповеди-завещания. Дзэнские наставники разработали
особую методику тренировки в фехтовании, впервые ввели чайные
церемонии с их сложным ритуалом и символикой, при которой каж-
216
дый жест полон глубокого смысла, внесли вклад в развитие японской
архитектуры, распространили новый стиль монохромной живописи,
стали создавать так называемые сухие сады. Благодаря дзэнской
«эстетике недосказанности» в XVII-XVIII вв. это учение оказало
большое влияние на развитие поэзии хайку (#•£]), семнадцатислож-
ных трёхстиший. Проникнуть в суть вещей, чтобы потом передать
«садовость» сада, сущность пейзажа в беглом рисунке и вместе с тем
заставить зрителя соучаствовать в акте творчества стало девизом
дзэн.
Говоря о вкладе дзэн-буддизма в японскую культуру, Судзуки
Дайсэцу заметил, что «монастыри дзэн почти исключительно были
вместилищами учёности и искусства, по крайней мере на протяже-
нии эпох Камакура и Муромати; монахи дзэн были постоянными
противниками установления контакта с иностранными культурами;
сами монахи были художниками, учёными и мистиками, политиче-
ские лидеры того времени даже побуждали их заняться коммерчес-
кими делами, аристократы и политически влиятельные классы Япо-
нии были покровителями дзэнских институтов...» [Судзуки, 1960, с. 28].
Если не считать откровенно пропагандистского стиля изложения и
умолчания автором некоторых фактов, в целом нельзя не признать
правоту Судзуки90.
Традиция свидетельствует, что в 1253 г. в Японии объявился буд-
дийский монах, который начал читать проповеди, открывшие ещё
одну школу «реформированного» буддизма. По имени основателя
школа стала известна как нитирэнсю (В а по названию сим-
вола веры, «Лотосовой сутры», хоккэсю Основатель новой
школы, Нитирэн (1222-1282), родился в рыбацкой деревушке Коми-
нато на полуострове Босон, что отделяет Токийский залив от Тихо-
го океана. Передают, что ещё в раннем возрасте Нитирэн много чи-
тал и размышлял, в одиннадцать лет поселился в монастыре Киёсу-
ми-дэра и провёл в нём пять лет, вникая в премудрости буддийской
доктрины. Однако монастырская библиотека оказалась для него
бедной, а монахи - недостаточно подготовленными для того, чтобы
разрешить все сомнения юноши, намерившегося познать учения десяти
школ японского буддизма. Тогда Нитирэн отправился в Камакура,
где четыре года обучался у тэндайского монаха по имени Сонкай,
после чего вернулся в Киёсуми-дэра, а в 1243 г. в надежде понять,
«что есть доктрина самого Будды», отправился в монастырь Энря-
кудзи.
90 Мнение, будто монахи дзэн противодействовали принятию японцами инозем-
ной культуры, никак не согласуется с истиной. Не говоря уже о том, что Эйсай завёз
из Китая чай, что из Южного Сун дзэнские монахи завезли в Японию и распростра-
нили там новый стиль живописи, именно благодаря дзэнским монахам в Японии рас-
пространилось сунское конфуцианство, и знакомству с китайскими историческими
прецедентами обязано выступление императора Годайго против диктатуры Ходзё в
XIV в. (вдохновителями партии Годайго были опять-таки монахи секты дзэн).
217
Здесь, как говорят жития Нитирэна, он провёл десять или две-
надцать лет, изучая сутры и доктрины всех буддийских школ. Из
Энрякудзи Нитирэн предпринял несколько паломничеств в другие
храмы, пока однажды, весной 1253 г., не взошёл на вершину холма
Сэйтодзан недалеко от Киёсуми-дэра и не узрел с неё восход солнца.
Тогда-то, как утверждают апологеты Нитирэна, у него наступило
прозрение, и он понял, что истина заключается в доктрине «Хоккэ-
кё», как её толковал Сайте, а всё остальное - ложь и обман.
Самая суть учения будды Шакьямуни, постиг Нитирэн, заключе-
на в «Лотосовой сутре», призывание которой (молитвенная фор-
мула: Наму мёхд рэнгэ кё «О, Сутра Цветка Лотоса
Удивительного Закона!») и отвечает воле Шакьямуни. Это и есть
способ возвыситься до высочайшего просветления Будды и отожде-
ствить себя с космической душой. Учения и практика всех других
школ японского буддизма вызывали у Нитирэна решительное не-
приятие. В разных своих выступлениях он отвергал их, заявляя: «Нэм-
буцу - это ад, дзэн - дьяволы, сингон губит страну, рицу - грабители
страны» ЖжСВ, ^ВЖ). Эти «лжеучения»
Нитирэн объявил виновными в том, что Будда отвернулся от стра-
ны, где с небывалой силой стали бушевать тайфуны, землетрясения,
наводнения, чередовавшиеся с засухой, и даже, как предвестник не-
счастий, появилась в небе комета. Естественно, противники правдо-
любца, особенно представители дзёдо, предприняли ответные меры,
и в 1261 г. строптивый проповедник был отправлен сёгунскими
властями в ссылку на полуостров Идзу, где пробыл около двух лет.
Один за другим Нитирэн пишет религиозные трактаты и письма
политического содержания, убеждая современников в том, что Япо-
ния должна стать центром буддийского мира, а государство - перей-
ти на службу буддийской церкви.
В трактатах и всевозможных посланиях Нитирэн предрекал, что
Япония будет разрушена, потому что к нынешним бедствиям доба-
вятся и ужасы иноземного вторжения. Ещё находясь в ссылке, он
разработал 5 положений своей миссии: 1) его учение основано на
единственном авторитете «Лотосовой сутры», вобравшей в себя всё
учение Будды; 2) в условиях Конца Закона должно быть ведомо
только учением Будды, в его наиболее простых проявлениях, безо
всяких примесей; 3) поскольку наше время - это эпоха Конца Закона,
для всеобщего спасения действенна только «Лотосовая сутра»; 4) Япо-
ния - страна истинного буддизма, из неё он будет распространён по
всему миру; 5) другие школы буддизма выполнили свою роль и
подготовили путь для появления Совершенной Истины.
Развивая далее эти положения, Нитирэн объявил грехом отдале-
ние от истины и учения «Лотосовой сутры», себя самого объявил по-
сланцем Будды, а Японию «в идеальном смысле» - всем миром91.
” В этом же смысле он противопоставлял её Сукхавати, Чистой земле Амида-
будды
218
Вскоре после получения японскими властями ультиматума Хуби-
лай-хана с требованием вассального подчинения, Нитирэн отправил
в Камакура главе самураидокоро меморандум, где подчеркивалось,
что прежние его пророчества начинают оправдываться. Очередной
ультиматум Хубилая дал повод Нитирэну еще раз напомнить о его
правоте. К этому добавилась новая вспышка его перепалки с амида-
истами, сумевшими настроить против Нитирэна сёгунские власти. В
1271 г. состоялся арест проповедника и суд над ним. На суде Ни-
тирэн предостерёг власти от репрессий против него во избежание
тяжёлых последствий. «Нитирэн, - заявил он тогда, - столп Японии.
Потерять меня - значит лишить Японию опоры. И сразу же возни-
кнут несчастья, в собственном доме [начнутся] беспорядки, мятеж-
ники нападут на правителей; нападут и [пришельцы] из других стран;
люди нашей страны не только подвергнутся нападению и будут
убиты, но многие будут захвачены живыми [в плен]» (цит. по: [Буддизм,
1993, с. 260]).
Обвиняемого приговорили к ссылке на о. Садо, расположенный в
Японском море, однако власти, как считают авторы житий Нити-
рэна, решили разделаться с ним по дороге к месту ссылки и в приго-
роде г. Камакура отрубить ему голову. К месту казни его привели
глубокой осенней ночью. Всё было готово к казни, и никто, вклю-
чая самого Нитирэна, указывается в его житиях, не видел способа
сохранить ему жизнь. Вдруг небеса как бы запылали. «Что-то похо-
жее на огненный шар пролетело с юго-востока на северо-запад, и
при свете его стали ясно видны лица людей». Это чудесное знамение
повергло чиновников и охранников в панику. Из рук палача выпал
меч, и казнь стала невозможной [Анэсаки, 1963, с. 196-197]. Ссылка
приговорённого на о. Садо продолжалась до начала 1274 г., а умер
Нитирэн осенью 1282 г. на горе Минобу, к западу от Фудзи, где он
провел последние годы своей жизни. Вскоре после кончины Нити-
рэна его последователи разделились на несколько групп, объеди-
нившихся вокруг самостоятельных храмовых центров.
«Организационное размежевание дополнялось разногласиями по
догматическим вопросам. В конце концов, среди ортодоксов выдели-
лись три направления, каждое из которых вело борьбу со сторонни-
ками различных новаций.
В начале XVI в. в среде нитирэнистов Киото начали возникать
военные формирования. Это событие в истории нитирэновского движе-
ния в средние века отразило принципиальную идеологическую направ-
ленность нитирэновского учения в период роста и укрепления эко-
номического и политического положения городского сословия» [Буд-
дизм, 1993, с. 274].
Нужно добавить, что нитирэнсю (или хоккэсю) - первая вероне-
терпимая секта в истории японского буддизма.
Новые веяния в синто
Распространение в разных слоях населения новых направлений
буддизма не могло не стимулировать поиски теоретических ос-
нов и в синто. Если амидаисты находили аналоги своим построениям
в культовой практике воинских кланов, тем проще это было делать
синтоистским жрецам. В быту японцы не противопоставляли буд-
дизм и синто. Каждый старинный род, каким бы пиететом у его чле-
нов ни пользовалось то или другое направление буддизма, имел соб-
ственное синтоистское охранительное божество (удзигами), кото-
рое неукоснительно чтил.
В начале эпохи Камакура служителями Внешнего святилища (Гэку)
комплекса Исэ (по-видимому, Ватараи Юкитада, 1236-1305) было
написано сочинение «Синто гобусё» (WilEpfi#, «Книга в пяти час-
тях о синто»), в которой была предпринята попытка обобщить сущ-
ность исконного японского вероисповедания в 5 пунктах: синтоист-
ские божества, их учение и верующий суть единое целое; «хаос» -
это конечная сущность синто; ками обоих святилищ Исэ (Внешнего
и Внутреннего) образуют одну и ту же божественную природу, со-
относимую с «хаосом» древних писаний; искони присущее синто свой-
ство есть чистота, поэтому основной упор в синто делается на обр-
яды очищения; добродетель правдивости - Путь синтоиста.
Доктринальные положения во Внешнем святилище Исэ разраба-
тывались его жрецами Ватараи Цунэёси (ум. в 1339 г.) и Ватараи
Иэюки (ум. ок. 1355 г.) и в целом получили название Исэ синто, Ва-
тараи синто или Дэгути синто (Дэгути - прежнее фамильное имя
Ватараи). Другая традиция разрабатывалась жрецами киотоского
святилища Ёсида и получила известность как Ёсида синто, Урабэ
синто или Юйицу синто (&Ш~Wilt). Известный теоретик Юйицу
синто Ёсида Канэтомо (1435-1511) утверждал, что в синто просле-
живаются три тенденции: Учение и практика древнего Пути Богов
без изменений соблюдаются в нынешних святилищах; «двусоставное
синто» есть реальное состояние окружающего мира; синто имеет
эзотерический и экзотерический аспекты, и семья Ёсида (Урабэ) де-
лает упор на важность первого из них.
В противоположность буддийской концепции хондзи-суйдзяку,
согласно которой ками считались аватарами (проявленным следом)
будд, в XIV в. синтоистскими жрецами было выдвинуто положение о
том, что ками - это истинные сущности, а будды суть их «проявлен-
ный след» [Миура, 1991, т. 2а, с. 170]92. Собственно говоря, и то, и
92 «В конце XII в. у течения дзимон появилась теория о том, что суйдзяку-это не
ками, а будды, т.е. последние являются "превращенными телами" японских божеств.
Эта разновидность доктрины хондзи-суйдзяку получила название симбон-буцудзя-
ку..у> [Буддизм, 1993, с. 189]. Таким образом, авторы синтоистских доктрин в эпохи
220
другое представляет собой варианты буддийской модели осмыс-
ления мира. Недаром в авторитетном средневековом сочинении по
истории синто «Синтбсю» (4ФШЖ, сер. XIV в.), утверждается, что
«...мир Будды и мир Синто различаются в их относительных формах,
но по сути представляют собою одно и то же» (цит. по: [Курода, 1981,
с. 17]). Ещё позднее во Внешнем святилище комплекса Исэ были
выработаны комбинации синто с китайской космологией и с конфу-
цианством [Анэсаки, 1963, с. 268]. Показательно, что по поводу тео-
ретических построений Ёсида Канэтомо в «Юйицу синто мехб ёсю» (Чё
—Като Сюити замечает: «В теориях синто существо-
вала необходимость не только в совокупном употреблении терминов
континентальных систем - конфуцианства, буддизма, инь-ян, - но,
так как не было классических синтоистских сочинений кроме "Ко-
дзики" и "Нихонги", их необходимо было подделывать» [Като, 1975,
с. 267].
Несмотря на многочисленные заимствования из других мировоз-
зренческих систем, синто в религиозной жизни средневековой Япо-
нии занимал собственную нишу. Без синтоистских обрядов и церемоний
не обходились ни императорский двор, ни земледельцы, ни строи-
тели, ни путешественники. Но вопреки высказываниям многих япон-
ских учёных, это не равнозначно секуляризации синто. Небуддийские
элементы в его практике - это не то же самое, что нерелигиозные.
Другое дело - в синто можно выделить не все элементы сформиро-
вавшихся религий. Соревнование с буддизмом диктовало необходи-
мость в одних случаях искать собственную сферу бытования и фор-
му выражения, в других - включаться в буддийскую систему миро-
понимания, принимать её логику. Для культурного своеобразия тог-
дашней Японии первое было более продуктивным.
Зарождение новой культуры
Нужно отметить также мощное иноземное учение, проникшее в
Японию в эту эпоху. Это философия Чжу Си (сунское конфу-
цианство), насаждавшаяся дзэнскими монахами школы риндзай и
впоследствии сыгравшая важную роль в формировании бусидо, са-
мурайского «кодекса чести».
Разные религиозные и философские системы, каждая на свой лад,
оказывали влияние на формирование и общекультурных процессов,
и специфических видов искусства и культуры. Одним из таких спе-
Камакура и Муромати продолжали развивать идеи, выраженные их хэйанскими
предтечами.
221
цифически японских видов культуры несомненно является чайная
церемония тя-но /о). Дзэн-буддийский монах Эйсай, ещё в
XII в. распространивший в Японии китайский обычай пить чай, был
автором первого японского сочинения об искусстве приготовления и
употребления этого столь полезного напитка «Кисса едзёки» (^^
«Записки о соблюдении здоровья при помощи пития чая»).
Через 300 лет после появления этого сочинения, в XV в., чайная
церемония развилась в сложный, исполненный символикой ритуал
ментального общения, отправляемый в специально оборудованных
маленьких помещениях, связанный с живописью и каллиграфией осо-
бого стиля, с особой керамической посудой и хитроумными приспо-
соблениями, с отличительным стилем аранжировки цветов (икэба-
на). В XVI в. чайные церемонии достигли отточенного мастерства
стараниями нескольких поколений выдающихся мастеров, из кото-
рых больше других знаменит Сэн-но Рикю (1520-1591).
Ещё на заре японской цивилизации из обычая подношений при-
хожанами изображениям будд разнообразных фруктов, цветов и по-
бегов растений зародилась традиция аранжировки цветов (^^Ё, икэ-
бана), которая в XV в. развилась в особый вид искусства со многими
течениями и школами не только религиозного, но и мирского харак-
тера. Так, в Киото появилась школа Икэнобб (Й1Й), отличавшаяся
насыщенностью буддийской символикой. Отдельные цветы, побеги
и их сочетания в композиции икэбана изображали здесь центр все-
ленной, гору Сумеру, и весь космос. Считается, что направление Рикка
(й^Ё), к которому эта школа принадлежит, делится на 29 самосто-
ятельных стилей.
В конце XVI в. Сэн-но Рикю разработал особый стиль икэбана,
получивший наименование нагэирэ ($Л), который распространял-
ся специально в домиках для чайных церемоний. Композиции, вы-
полненные в этом стиле, стали называться «чайными цветами» (^7Ё,
тябана).
« Тябана - цветы для чайной церемонии, условно говоря, букет -
выбирался в соответствии с общими правилами ритуала, но его осо-
бое назначение состояло в подчеркивании сезона, намеке на особен-
ности данной неповторимой ситуации. Сэн-но Рикю считают авто-
ром главного правила тябана: "Ставьте цветы так, как вы их нашли
в поле", то есть главная задача в расстановке цветов для чайной це-
ремонии состояла в наибольшей естественности, без стремления вы-
разить нечто помимо их собственной красоты... Чаще всего в вазу
ставится один цветок или даже полураспустившийся бутон. Большое
внимание обращается на соответствие вазы выбранному цветку, их
пропорциональной, фактурной, цветовой гармонии» [Николаева, 1986,
с. 89].
Развитие всё более утончённых форм чайной церемонии с её ко-
нечной целью достижения внутреннего покоя и умиротворения дик-
товало, помимо всего, и возникновение особого стиля садов, окру-
жающих чайные домики, так называемых родзи нива (вНЁЙ), соз-
222
дающих, как считал Рикю, ощущение спокойствия заброшенной гор-
ной тропы. Старинное, восходящее к VI-VII вв., садовое искусство
Японии в XIV-XV вв. переживало эпоху бурного расцвета. Помимо
опосредованного воздействия, буддизм, когда-то сообщивший этому
искусству первотолчок, оказывал на него и прямое влияние. В дзэн-
буддийских монастырях появились так называемые сухие сады (fell]
/К, карэ сансуй), создатели которых обходились совсем без тради-
ционных зелени и воды. С помощью крупных камней и белого песка
они символически изображали на небольшом огороженном мона-
стырской стеной пространстве целую вселенную, житейское море
со скрытыми в нём рифами. Самыми известными из таких садов ста-
ли «сады камней» киотоских храмов Рёандзи и Дайсэн-ин. Такой же
характер носит «сад мха» в буддийском храме Кокэдзи (Киото)93 94.
Разные виды искусства средних веков, уходящие корнями в буд-
дизм, к концу эпохи постепенно теряли религиозную окраску. В пол-
ной мере это относится к живописи и скульптуре. С ростом популяр-
ности амидаизма увеличивался спрос на скульптурные изображения
будды Амитабха. Изготовление их было поставлено на поток и ско-
ро превратилось в ремесло, имеющее мало общего с высоким искус-
ством. В середине XIV в. достигла расцвета вывезенная дзэнскими
монахами из Китая монохромная живопись сумиэ (1В£с) или суй-
боку-га (zKS®).
Дзэнский монах Мокуан (?—1354?) прославился в живописи этого
жанра своими работами на религиозные темы, а Тэнсё Сюбун (?-
1444?) из киотоского храма Сёкокудзи положил начало пейзажной
живописи тушью на тонкой бумаге в стиле «горы и воды» ([ДтКШ,
сансуй-га). Одним из учеников Сюбуна, получившим всемирную из-
вестность благодаря работам в этом стиле, стал Сэссю Тое (1420-
1506). В ранней молодости он учился в храме Сёкокудзи, где прошёл
основательную школу Сюбуна, а с 1467 по 1469 гг. совершенство-
вался в монохромной живописи в Китае. После возвращения на ро-
дину художник много путешествовал по стране и в конце концов
поселился в провинции Ямагути, в хижине Ункоку-ан, занимался мо-
нохромной пейзажной живописью, работал в жанре «цветы и пти-
цы» и в портрете, не имеющем формальной связи с буддийскими
доктринами .
«...Сэссю можно считать первым в Японии художником, проявив-
шим в своем творчестве подлинно индивидуальные черты» [Иэнага,
1972, с. 127]. Дзэнские принципы восприятия действительности нало-
жились в его свитках на выдающийся талант художника, и это дало
основание Н. С. Николаевой для утверждения о том, что «его произ-
93 Идея «сухого сада» распространилась и за пределы дзэнских храмов. «Сад кам-
ней», к примеру, есть в амидаистком храме в г. Нагаока неподалеку от Киото.
94 Ещё в XIII в. на развитие японской портретной живописи оказала влияние, как
полагает Като Сюити, распространившаяся тогда мода на изображение дзэнских
наставников — сЁдзо-га(Rtfe) [Като, 1975, с. 273].
223
ведения были типом дзэнского "текста" с его функцией медиума,
"канала связи" с невидимым, недоступным человеческим ощущени-
ям Абсолютом. Индивидуальной особенностью Сэссю было то, что ли-
ния у него нередко получала самодовлеющий декоративный смысл
(как, например, в знаменитом пейзаже "Зима”), что, по мнению ис-
следователей, можно считать проявлением чисто национального ху-
дожественного мышления» [Николаева, 1986, с. 136].
Всё это время продолжало существовать чисто религиозное изо-
бразительное искусство (мандалы, портретная живопись, иллюстра-
ции к буддийской житийной литературе и буддийским легендам). Но
помимо неё на рубеже XV и XVI вв. зародилась школа полихромной
настенной живописи Кано (^Bf Ж), которая стремилась синтезиро-
вать японскую и китайскую манеру письма, обогатив свой стиль при-
ёмами, характерными для живописи ямато-э (;fc?n£c) [Иэнага, 1972,
с. 128]. О её значении в истории японской живописи акад. Н. И. Кон-
рад писал так: «Она, эта школа, во-первых, ввела красочность вза-
мен монохромности школы Дзёсэцу, то есть вернулась к живописи
красками, которая под названием ямато-э расцвела еще во времена
Хэйана; она, во-вторых, сочетала сюжеты школы Сэссю с сюжета-
ми китайской ренессансной живописи, тем самым создав то, что впо-
следствии назвали нихонтэки караэ (китайские картины на японский
лад). Но самое главное в том, что художники школы Кано вывели
живопись из сферы эстетических принципов дзэн-буддизма, предъявля-
ющих большие требования к философскому осознанию явлений при-
роды и жизни» [Конрад, 1980, с. 127].
В XVI в. получила необыкновенную популярность жанровая жи-
вопись, отразившая вкусы быстро растущего городского населения-
торговцев и ремесленников, начинавших играть всё более заметную
роль в жизни Японии [Яманэ, 1973].
С переходом к развитому средневековью, в эпоху Камакура, японцы
заимствовали из Китая и внедрили у себя в стране производство
фарфора, в эпоху Муромати - производство хлопка. Непрекраща-
ющиеся войны стимулировали изготовление оружия и воинских до-
спехов, размах замкового строительства. Развитие поместной систе-
мы привело к внедрению нового стиля в архитектуре, к появлению
новых устойчивых деталей в интерьере жилых помещений.
Начало эпохи Камакура стало свидетелем работы трёх выдающихся
скульпторов, творивших в буддийских храмах Нара и Киото. Это были
Ункэй (?-?), его соавтор Кайкэй (?-?) и сын Танкэй (1173-1256). Два
первых мастера оставили после себя ряд выдающихся творений, и
прежде всего - скульптурные изображения буддийских персонажей
у южных ворот нарского храма Тбдайдзи, а третий - изображение
тысячерукой Каннон в тэндайском храме Сандзюсан Гандб в Киото.
Разные виды искусства, развивавшиеся в Японии средних веков,
объединялись на самом общем уровне эстетическими категориями,
признаваемыми всем обществом. Эти категории обозначаются тер-
224
минами, толкование которых весьма расплывчато, и представления-
ми, за которыми определённый термин не всегда был закреплён (не-
даром при объяснении многих понятий средневековые японцы так
часто употребляли обороты «как будто», «это похоже на то, как...»).
К первым относятся саби (®, одиночество), ваби ({'=£, унылость),
югэн (Й£, сокровенная красота), ко вторым - принципы «одного
угла», эстетики незавершённости, предполагавшие «домысливание»
композиции зрителем, его сотворчество, отсутствие жёсткой детер-
минированности в её интерпретации.
Появились трактаты по поэтике, теории сценического искусства,
музыке, живописи, каллиграфии, по садовому искусству, чайной це-
ремонии и аранжировке цветов. Практически все эстетические кон-
цепции оперировали символами и базировались на убеждении в еди-
ной сущности всех видов искусств, ибо все они, по мнению авторов,
вели к осознанию Высшего Абсолюта. В этом обнаруживалась гене-
тическая связь эстетических концепций с буддийскими философски-
ми трактатами95. Связь эстетических представлений с буддийскими
проявляется ещё и в осознании японцами мимолётности всего пре-
красного, которое привело к воспеванию мудзё ($£&, мимолётность)
как непременного свойства всей окружающей действительности.
Гунки моногатари
Сточки зрения истории культуры в Японии средних веков можно
отметить два основных процесса. Первый состоял в пересе-
лении многих деятелей литературы и искусства из охваченной вой-
нами столицы в относительно более спокойную провинцию, в появ-
лении самостоятельных очагов культуры в провинциальных городах,
храмах и замках, второй - в выходе на общеяпонскую сцену выда-
ющихся личностей незнатного происхождения (такое явление позд-
нее было названо японскими учёными «низы одолевают верхи» (Т
Й!1_Ь, гэкокудзё). Второй из упомянутых процессов в какой-то сте-
пени противостоял первому, потому что вызывал к жизни стадиаль-
но более ранние пласты культуры, чем те, которые представлял пер-
вый. Это одна из причин парадоксального на первый взгляд явления:
эпос в Японии моложе романа96.
9S Кониси Дзинъити предполагает, что трансформация понятий сабин вабив эс-
тетические категории - это продукт даосского мышления, переданного через по-
средство дзэн [Кониси, 1991, с. 144-145].
96 На это обстоятельство обратил внимание Е. М. Мелетинский, когда писал о
«Гэндзи моногатари». «...этот роман не следует хронологически за эпосом, как в ро-
8 Зак 3732
225
Предшественниками литературы, получившей название гунки мо-
ногатари (Жйй^Вп, «воинские повествования»), были описания во-
енных стычек, происходивших в X и XI веках. Литературные досто-
инства у таких описаний, как правило, отсутствовали совсем, но од-
но из них несколько выделяется из общего ряда - это «Сёмонки» (W
М1Е, «Записи о Масакадо»97), произведение, написанное парал-
лельной прозой на несколько японизированном камбуне (т. н. ки-
рокутай канцелярский стиль, получивший распространение в
конце эпохи Хэйан) и посвящённое описанию восстания Тайра-но
Масакадо (?-940). Масакадо объявил себя «новым императором» (®г
Ж, синкд) и претендовал на власть над восточной Японией (откуда
впоследствии и привезли в столицу его голову), мотивируя свои пре-
тензии тем, что возводил своё происхождение к императору Камму
(737-806), и тем, что услышал соответствующее указание непос-
редственно из уст бога Хатимана. Однако отличием произведений
типа «Записей о Масакадо» от настоящих гунки было то, что пер-
вые создавались для чтения, а вторые (по крайней мере, изначально)
для устного исполнения.
Собственно говоря, в происхождении японских воинских повест-
вований можно проследить две линии. Во-первых, здесь исстари сущест-
вовали особые корпорации рассказчиков - катарибэ (to Я5). Члены
таких корпораций по памяти рассказывали слушателям мифы, ста-
ринные предания, легенды. Их искусство высоко ценилось, и первые
сборники мифов записывались, надо полагать, с активным использо-
ванием членов корпораций катарибэ. Во-вторых, в буддийских хра-
мах сложилась традиция произнесения перед скоплением верующих
религиозных проповедей, поучительных историй, легенд сэцува. К
началу эпохи Камакура две эти линии устного изложения встре-
тились, и появился новый жанр устного рассказа - катаримоно (IS W).
Слепые исполнители в монашеских одеждах, с бритыми головами
бива-хдси - «монахи с лютней»98) рассказывали слуша-
телям о трагических событиях недавно отшумевших войн, и высту-
пали они как в буддийских храмах, в местах, где верующие соби-
рались послушать нравоучительные истории, так и за пределами
этих храмов, по специальному вызову (имеются упоминания о том,
как исполнение воинских повествований слушали при дворе). Сущест-
вовало поверие, что такие рассказы о сражениях способствовали ус-
покоению душ погибших в этих сражениях воинов. Существенно, что
устное исполнение повествований не ограничивалось пределами сто-
лицы и было распространено в отдалённых провинциях [Кояма, 1990, с. 21].
мано-германских, персоязычной или санскритской литературах, а предшествует иг-
рающей роль эпоса историко-героической повести» [Мелетинский, 1983, с. 272-273].
97 Сёмой- это китаизированное чтение иероглифов, которыми пишется имя Ма-
сакадо.
98 Сказители, несмотря на свою одежду и бритые головы, необязательно состо-
яли в монашеском постриге. «Монахами с лютней» были как мужчины, так и жен-
щины.
226
Катаримоно были двух видов - такие, которые исполнялись под
аккомпанемент лютни бива, и такие, которые исполнялись без ак-
компанемента. Манера аккомпанировать была особой, отличной от
музыкального сопровождения песен, и во многом находилась под
влиянием манеры музыкального сопровождения буддийских рели-
гиозных служб [Кониси, 1991, с. 318]. В любом случае рассказчик на-
прямую общался со слушателями и чутко ориентировался на их ре-
акцию [Кояма, 1990, с. 21].
На рубеже XII и XIII вв. ритмизованные повествования слепых
сказителей стали циклизоваться и оформляться в гунки. Первое из
таких произведений посвящено междоусобице 1156 г. (1-й год эры
Хбгэн) и получило наименование «Хбгэн моногатари» ({£тс$5йп, «Ска-
зание о годах Хбгэн»), Циклизация сопровождалась щедрым чередо-
ванием устных повествований с книжными вставками двух типов -
сухого хроникального и нравоучительного буддийского. Так катари-
моно превращались в ёмимоно произведение для чтения). При-
нимая во внимание характер исполнителей и состав аудитории, лег-
ко догадаться, что первый из этих составляющих тоже был обильно
сдобрен буддийскими элементами:
«После этого монах-государь, следуя примеру солнца, стал кло-
ниться к закату, и оттого, что сокрылась чудодейственная милость
Закона Будды и утратили силу врачебное искусство и благотворные
лекарства, августейший изволил заключить, что сроки этого недо-
могания определены в прежних его рождениях, и лишь стенал и
проливал бесполезные слёзы. И вот, во 2-й день 7-й луны того же
года монах-государь изволил сокрыться окончательно. После этого
его стали именовать Тоба-но-ин, экс-императором Тоба. Возраст его
равнялся пятидесяти четырём годам; ещё не исполнилось его вели-
честву даже полных шестидесяти лет". Люди тогда с удивлением
поняли: вот оно, непостоянство жизни и смерти, граница между ни-
ми уязвима, как лист бананового дерева, как пузырьки на воде».
Такие описания, поневоле вызывавшие у слушателей мысли о не-
постоянстве сущего, усиливались книжными аналогиями:
«Когда будда Шакьямуни, пребывая под сенью двух деревьев ся-
ра99 100, возвестил свою кончину, молвив: "Всякий живущий непремен-
но погибнет", это погрузило в печаль большое скопление существ,
начиная от людей и небожителей и кончая всеми пятьюдесятью дву-
мя видами живого вплоть до лишённых чувств трав и деревьев, оби-
тающих в горах и на равнинах зверей и до рыб из больших и малых
рек. Ветер в лесу из деревьев сяра стих, вдруг сделался удивитель-
ным цвет их, в реке Бацудай помутнели потоки воды, а десятки ты-
сяч деревьев и тысячи трав - все показали следы горестных слёз.
99 Полные 60 лет - имеется в виду шестидесятилетний календарный цикл.
100 Сяра - санскр. сала, деревья, в роще из которых, согласно преданию, умер
(отошёл в нирвану) будда Шакьямуни.
227
При вхождении будды в нирвану в пятнадцатый день второй луны
пятьдесят два вида живого обнаружили знаки горести...»
Хроникальные записи явственнее всего выделяются в начале по-
вествования, где они выполняют функцию исторического введения
в художественную ткань произведения:
«Не так давно жил государь. Он именовался Пребывающим в со-
зерцании монашествующим экс-императором Тоба и был потомком
в сорок шестом колене Великой богини Аматэрасу, семьдесят чет-
вёртым императором со времён царствования Дзимму-тэннб. Был
этот государь старшим сыном императора Хорикава; августейшая
его матушка - вдовствующая императрица Дзбкб, дочь вельможно-
го Санэсуэ, известного под прозванием Старший советник Канъин.
Государь этот родился в шестнадцатый день первой луны пятого
года эры Кова (1103 г. - В. Г. ), а в семнадцатый день восьмой луны
того же года удостоился провозглашения наследником престола. В
девятый день седьмой луны второго года эры Касё (1107 г. - В. Г.)
император Хорикава удалился на покой, а в девятнадцатый день в
пятилетием возрасте наследник престола изволил занять положение
августейшего. Поднявшись на Престол Счастья, он занимал его шест-
надцать лет, и все эти годы моря были спокойными, а Поднебесная
умиротворённой. Ветры и дожди следовали своей чередой, стужа и
жара соблюдали свои сезоны. А в двадцать восьмой день первой лу-
ны четвёртого года эры Хоан (1223 г. - В. Г.) в возрасте двадцати
одного года государь изволил передать власть старшему принцу, на-
званному императором Сутоку, который после отречения стал име-
новаться экс-императором из Сануки...»
В таких же выражениях описывались благополучные правления
государей в хрониках, исторических трактатах и произведениях рэ-
киси моногатари. Здесь существенно не только перечисление со-
бытий с их точной датировкой, не только указание на родословную
высочайших особ, но и убеждение (идущее из Китая) в том, что го-
сударь равно следит за тем, чтобы его подданные были благополуч-
ны, и за правильным чередованием космических ритмов. Неправед-
ные деяния государя вносят диссонанс в ход природных циклов и тем
ставят его вне закона. Стихийные бедствия, природные катаклизмы
начинают преследовать страну, которой дурно управляют, и, напро-
тив, космос благоприятствует стране, высоконравственный государь
которой неустанно печётся о благе народа.
Сам «мятеж», о котором ведет речь «Хбгэн моногатари», сво-
дился к схватке претендентов за высшие посты в государстве и был
мимолётным: внешне он продолжался всего четыре часа, с 4 до 8 ча-
сов утра 11-го дня 7-й луны 1-го года Хбгэн (1156 г.), однако, несмотря
на свои небольшие масштабы, имел, по замечанию Кадзивара Масааки,
большой политический и общественный резонанс. Во-первых, схват-
ка произошла как бы внезапно и в самом центре столицы, во-вто-
рых, беспорядки приняли форму всеобщей зависимости от воору-
жённой силы, в-третьих, воины осознали себя самих как значитель-
228
ную военную силу [Кубота, 1976, с. 17-20]. Влияние «мятежа годов
Хбгэн» на общественное воображение тоже нельзя сбрасывать со
счетов, иначе интерес слушателей к рассказам о нем и к его интер-
претации не был бы столь заметным и вряд ли привёл бы к их цик-
лизации. Рассказу о ходе схватки предпослано подробное изложение
сложного переплетения династических взаимоотношений импера-
торов, нескольких одновременно живущих экс-императоров, а так-
же царедворцев с параллелями из буддийских писаний. Интерес к
событиям подогревался тем, что они послужили предвестниками са-
мой известной войны XII в. - междоусобной войны между родами
Минамото и Тайра.
В 9-й день 12-й луны 1-го года Хэйдзи (19 января 1160 г.) не-
сколько сот воинов во главе с главой придворного Сыскного ведом-
ства Фудзивара-но Нобуёри (1133-1160) и феодалом Минамото-но
Ёситомо (1123-1160) напали на дворец экс-императора Госиракава
на столичной улице Сандзё, перебили дворцовую охрану, поставлен-
ную тогдашним властителем Японии Тайра-но Киёмори (того в это
время не было в столице: мятежники выбрали момент, когда он
вместе со своим старшим сыном Сигэмори отправился на паломни-
чество в древнее святилище Кумано), и доставили экс-императора в
императорский дворец, над одними из ворот коего водрузили голо-
вы нескольких командиров поверженной охраны. Так начался «мя-
теж годов Хэйдзи»101.
Он послужил основой для «Хэйдзи моногатари» (¥7р!Й)1§, «Ска-
зание о годах Хэйдзи»), несколько более развёрнутого и драматизи-
рованного, чем его предшественник. После введения, написанного,
как и в предыдущем памятнике, в конфуцианском стиле и с обяза-
тельными сравнениями с событиями из китайской истории («Сказа-
ние» начинается с отсылок к правлению «3-х императоров и 5-ти го-
сударей», «4-х вершин» - так называли четырех знатнейших вель-
мож времён легендарного китайского императора Яо - и «Восьми
основ» -министров преемника Яо, императора Шуня), мы обнаружива-
ем здесь некоторые буддийские формулировки, за которыми следует
представление Фудзивара-но-асон Нобуёри, потомка бога Амацукоянэ-
но микото102, потомка в восьмом колене Среднего советника Мити-
така (старшего брата всесильного Митинага), внука Мототака и
сына Тадатака, но, несмотря на блестящую родословную и свои вы-
сокие государственные посты, - человека несведущего ни в словес-
ности, ни в воинском искусстве, лишённого способностей и досто-
инств. Развёрнутая характеристика Нобуёри завершается его срав-
101 «Мятеж годов Хэйдзи» обычно относят к 1159-1160 гг., имея в виду, что 1-й
год Хэйдзи соответствует европейскому 1159 г. Но мятеж начался в последнюю луну
этого года, а она приходится на январь-февраль 1160 г., так что все события кор-
ректнее соотносить только с 1160 г.
102 Амацукоянэ-но микото (Амэ-но Коянэ-но микото) - спутник Ниниги-но мико-
то, бог, от которого возводил свой происхождение род Накатоми.
229
нением с персонажами из китайской истории, после чего приведена
столь же доскональная, но с противоположным знаком, характерис-
тика его противника, младшего советника Фудзивара-но Синдзэй
(Митинори, ?-1160), и далее изложена завязка конфликта.
Такое начало и некоторые другие авторские приёмы дали неког-
да повод японским учёным считать, что «Хбгэн моногатари» и «Хэй-
дзи моногатари» написаны одним и тем же автором - неким Току-
нага Харумо. Правда, большинством современных специалистов эта
версия не считается доказанной.
К концу 50-х гг. XII в. окончательно определилось противосто-
яние домов Тайра и Минамото, что позволило уже в завязке пред-
ставить «Хэйдзи моногатари» как рассказ о решительной схватке
между их главами - Тайра-но Киёмори и Минамото-но Ёситомо, а
развязкой считать (в зависимости от списка) смерть то одного, то
другого, то третьего Минамото - самого Ёситомо, его старшего сы-
на, Акугэнта Ёсихира (1140-1160), или третьего сына, Ёритомо
(1147-1199). Некоторые списки «Сказания» завершаются эпизодами
восстания Ёритомо против власти Тайра.
Как и предыдущее сказание, «Хэйдзи моногатари» делится на три
книги. После вступления упоминается об отречении императора Го-
сиракава от престола в пользу его сына, императора Нидзё (1158),
говорится о возрастании неприязни между Синдзэем (союзником
Тайра-но Киёмори) и Нобуёри и приводится витиевато-отрицатель-
ный отзыв Синдзэя в ответ на вопрос экс-императора Госиракава о
соответствии Нобуёри той должности при дворе, которой тот домо-
гался.
Напряжённость повествования нарастает вокруг нескольких ключе-
вых эпизодов. Рассказы о том, как Ёситомо захватил Госиракава и
Нидзё, убил Митинори и сжёг дворец Сандзё, о том, как Тайра-но
Киёмори срочно направил на подавление бунта своего старшего
сына Сигэмори (1138-1179), возвратился в столицу и разбил против-
ников, о бегстве Ёситомо и Нобуёри на восток, в Овари, и о смерти
Ёситомо от руки одного из его вассалов, о двух сражениях между
враждующими партиями и о схватке между двумя молодыми воина-
ми, Акугэнта Ёсихира и Тайра-но Сигэмори, овладевали вниманием
слушателей и демонстрировали, сколь мимолётна мирская слава и
воинская удача.
После смерти Ёситомо в руки Тайра угодили его сын, Ёритомо, и
младшая жена, красавица Токива Годзэн, с тремя детьми. Киёмори хо-
тел предать всех их смерти, но Ёритомо сохранили жизнь благодаря
заступничеству мачехи Киёмори, Икэ-но-дзэнни, которая сказала,
что он очень похож на её покойного сына (казнь Ёритомо заменили
ссылкой в Идзу), а младшим - с тем условием, что их красавица
мать согласится стать наложницей Киёмори. Самый младший, Уси-
вака, был отправлен в монастырь, откуда несколько лет спустя
ушёл, взял себе взрослое имя Ёсицунэ и в конце концов прославился,
когда помог Ёритомо свергнуть Тайра и сделаться сёгуном - воен-
230
ным правителем Японии. Но такая концовка имеется только у про-
странных редакций «Хэйдзи моногатари». Внимание рассказчика здесь
переключается с приключений и судеб героев на события истории,
затем - на психологические проблемы с параллелями из китайской
истории и неослабным комментированием в буддийском ключе.
Сохранилось три свитка эмаки-изображений в стиле ямато-э - к
«Хэйдзи моногатари». Один из них хранится в Бостонском музее
изящных искусств, США, два других - в Японии, в Токийском на-
циональном музее. На двух свитках изображено по одному эпизоду,
на третьем - сразу три.
Сравнивая это сказание с его предшественником, специалисты
отмечают, что оно больше проникнуто духом воинского повествова-
ния, что в нём впервые в японской литературе ощущается дух букэ,
самурайского сословия, тогда как «Хбгэн моногатари» ещё всецело
принадлежит раннему средневековью [Кубота, 1976, с. 29-30]. Обраща-
ет на себя внимание активная позиция повествователя «Хэйдзи мо-
ногатари». Она выражается не только в приведении абстрактных
суждений или параллелей из китайской истории, но и в демон-
страции его отношения к происходящим событиям. Так, несчастья,
обрушившиеся на голову Синдзэя, он комментирует так: «Прямо пе-
ред глазами проявилась истина о непостоянстве деяний. Именно те-
перь подумалось о том, что доброе и дурное переплетено, как во-
локна верёвки».
Излагая события в основном от третьего лица, он нередко пред-
ставляет себя как их очевидец. Вот, например, первое описание То-
кива, попавшей в руки Тайра: «Она выглядела похудевшей и уста-
лой, и никто из тех, кто видел её, не мог не сострадать ей».
Списки этого произведения различаются по двум основным пара-
метрам: по продолжительности описанного промежутка времени и
по соотношению художественного повествования с книжными встав-
ками. Там, где последние преобладают, оно называется «Хэйдзи-но
ки» («Записи о годах Хэйдзи»). То же относится и к «Хбгэн монога-
тари» («Хбгэн-но ки»).
Что касается времени создания памятника, т. е. времени его цик-
лизации, то, соглашаясь в принципе, что датировать его можно на-
чалом XIII столетия, историки литературы расходятся во мнениях
относительно того, создан ли он до или же после «Хэйкэ моногата-
ри» «Повесть о доме Тайра»), огромного сказания, посвя-
щённого событиям конца XII в.103.
События, о которых повествуется в «Сказании о годах Хэйдзи»,
частично освещаются и в «Повести о доме Тайра». В какой-то сте-
пени это можно объяснить тем, что в начале XIII в., ещё до того, как
произошла циклизация обоих сказаний, существовало неучитывае-
мое количество вариантов устных рассказов (катаримоно) об одних
103 Перевод «Повести о доме Тайра» на русский язык выполнен И. Л. Львовой
(см.: [Хэйкэ, 1982]).
231
и тех же событиях. Потом одни варианты закрепились за текстом
одного памятника, а другие - за текстом второго. В начале XIV в. даже
существовала традиция, атрибутирующая «Повесть о доме Тайра».
Кэнко-хоси в своих «Записках от скуки» (дат/226) отмечал:
«Монах Юкинага104 10 106 создал "Повесть о доме Тайра" и обучил слеп-
ца по имени Сёбуцу рассказывать её. Поэтому особенно красочно
описан в том сочинении храм Энрякудзи. Близко зная Курд Хогана,
Юкинага описал его жизнь. С Каба-но Кандзя он, по-видимому, не был
так хорошо знаком и многие из его деяний в своём описании упустил.
Сёбуцу был родом из восточных провинций и, в разговорах с во-
инами узнав многое и о самих ратниках, и о воинском искусстве, по-
мог Юкинага описать всё это.
Теперешние бива-xocji^ учатся подражать природному голосу
Сёбуцу».
Позднее появилась ещё одна версия. Настоятель киотоского буд-
дийского храма Тбдзи по имени Рюгэн (ум. в 1426 г.) в колофоне к
одной из рукописных копий сочинения называет его создателем дей-
ствительного младшего помощника из Министерства народных дел
Накаяма Токинага [Итико, 1986, с. 228]1М.
Таким образом, по старинной традиции первотекст «Повести о
доме Тайра» был авторским, а устное её бытование оказывалось вто-
ричным. Точка зрения о том, что автор «Повести» был интеллектуа-
лом-аристократом, по мнению Като Сюити, подтверждается несколь-
кими её особенностями: тем, что в ней используется материал из
предшествующих хроник и дневников, что она насыщена буддий-
ской терминологией и цитатами из китайских классиков и тем, что
она придерживается почти той же политической позиции, что и «Гу-
кансе» монаха-аристократа Дзиэна (XIII в.) [Като, 1975, с. 254].
Все эти особенности действительно присущи «Повести о доме
Тайра». Но они ещё не доказывают основной тезис Като. Исследо-
ватель, как и многие другие историки литературы, оценивает этот
памятник как авторское произведение, созданное по предваритель-
ному плану. На деле же произведение состоит из разнородных слоёв,
которые присоединялись друг к другу поэтапно: буддийская миро-
воззренческая часть создана раньше, другие - позже. В огромном
числе редакций произведения отмеченные элементы дозируются по-
разному, и далеко не все они пригодны для устного исполнения. Правда,
отрицать решающую роль аристократов в его создании на разных
этапах тоже нельзя, хотя явная ориентация сказителей на вкусы ауди-
тории делает проблему очень неоднозначной. Кроме того, даже ес-
|<м Предполагают, что здесь имеется в виду сын Накаяма Юкитака, который ро-
дился в 1165 г. и до принятия сана был губернатором провинции Синано.
10S Имеются в виду слепые сказители, исполнявшие хэйкёку, баллады на темы
«Хэйкэ моногатари».
106 В_дневнике Фудзивара-но Митииэ «Гёкудзуй» (Э£^), в статье за 24-й день 4-й
луны Дзёкю 2-го года (1220 г.) упоминаются «Хэйкэ» («Дом Тайра») и «Хэйкэ ки»
(Ф^К, «Записи о доме Тайра»), но это не «Хэйкэ моногатари» [Итико, 1986, с. 225].
232
ли основной корпус «Хэйкэ моногатари» написан одним автором, мно-
гие вносили в текст разнообразные дополнения [Исимода, 1963, с. 85].
Распространённый в наше время вариант «Повести о доме Тай-
ра» состоит из двенадцати книг, каждая из которых делится на мно-
го (от пяти до двадцати) глав. Как считает Исимода Се, при чтении
«Повести», её можно разделить на три большие части: от первой до
пятой книги, где в качестве главного героя фигурирует Тайра-но
Киёмори; от шестой до восьмой, где герой - Минамото-но Ёсинака;
и, наконец, от девятой до двенадцатой, героем которых является Ми-
намото-но Ёсицунэ [Исимода, 1963, с. 63].
Итак, в центре внимания повествователя в первых книгах «Хэйкэ
моногатари» - Тайра-но Киёмори. Общее вступление состоит из про-
возглашения мотива бренности сущего общим законом мироздания:
«Истина сия неоднократно подтверждалась во времена минувшие, в
чуждых пределах...» Постепенно этот мотив перерастает в рассказ о
предках Киёмори и о нём самом на вершине власти, когда «всю Под-
небесную средь четырёх морей сжимал Правитель-инок в своей дес-
нице». Приводятся примеры достойного порицания поведения Киё-
мори, приведшего его к конфликту с монахами храмов Энрякудзи и
Миидэра и недовольству им многими жителями столицы. Вещие сны
и дурные предзнаменования, меры по умилостивлению богов и ду-
хов и... новые случаи самодурства Киёмори, вплоть до переноса сто-
лицы на новое место, приведшего к новой серии дурных предзна-
менований.
«С той поры, как столицу перенесли в Фукухару, людям Тайра
снились дурные сны, неспокойно стало у них на сердце и много стран-
ного случилось в то время. Однажды ночью в опочивальню Прави-
теля-инока внезапно просунулась огромная, чуть ли не во весь по-
кой, рожа, и в упор воззрилась на князя. Но Правитель-инок, ничуть
не дрогнув, устремил на неё суровый взор, и привидение исчезло.
Или еще: Дворец на Холме был построен совсем недавно, вокруг не
было больших деревьев, но как-то раз, ночью, внезапно раздался гром-
кий треск, будто рухнуло огромное дерево, и вслед за тем послы-
шался оглушительный хохот...
И еще случилось, что однажды Правитель-инок, встав с постели,
отворил раздвижные двери, а там видимо-невидимо черепов, целая
куча, с громким стуком катаются взад-вперед... Внезапно все черепа
соединились в один, такой громадный, что он заполнил собой весь
двор, наподобие горы высотой не меньше четырнадцати или пятнад-
цати дзё, и в этом огромном черепе появилось вдруг несчетное мно-
жество живых глаз - пристально, не мигая, уставились они на Пра-
вителя-инока. Но Правитель-инок и тут нисколько не оробел, а
лишь грозно взглянул в ответ, и огромная голова исчезла под его
взглядом, как исчезает под лучами солнца иней или роса.
И еще случилось - в хвосте коня, стоявшего в лучшей конюшне
Правителя-инока, мышь в одну ночь свила гнездо и вывела мышат... И
еще - молодому самураю, служившему у тюнагона Масаёри, приви-
233
делся страшный сон... Толки обо всех этих происшествиях дошли до
советника Сэйрая, ныне пребывающего на священной вершине Коя.
- Близится конец владычеству Тайра! - сказал советник» (здесь и
далее - пер. И. Львовой).
Тайра-но Киёмори назван в этих отрывках Правителем-иноком
потому, что последние годы осуществлял правление, приняв буддий-
ский монашеский постриг. Рассказ о его своеволии и необузданном
характере постоянно сопровождается подчёркиванием несокруши-
мой воли и железного характера героя.
В дополнение к злодеяниям, совершаемым против буддийской церк-
ви («ни в Индии, ни в Китае не бывало худшего поругания святого
вероучения»), Киёмори сжигает древнюю столицу Нара, совершает
притеснения императора и его отца. «Дерзость Киёмори, писали мо-
нахи монастыря Кофукудзи, дошла до таких пределов, что в один-
надцатую луну минувшего года (4-го года Дзисё, т. е. в 1180 г. - В. Г.)
он насильно переселил государя-инока Го-Сиракаву из его собствен-
ного дворца в загородную усадьбу Тоба и обрёк на ссылку канцлера
Мотофусу. Ни в наше время, ни в старину нет и не было столь дерз-
кого превышения власти!»
Дурные знамения и вещие сны начинают сбываться. Во главе с
Минамото-но Ёритомо Восточные земли поднимаются против все-
властия Тайра. Скоро к ним присоединяются воины Запада, Севера
и Юга. 64-летнего Киёмори поражает жестокая болезнь. «Тело охва-
тил такой жар, словно Правитель-инок горел в огне. Так нестерпим
был жар, что никто не мог подойти к ложу Правителя-инока ближе,
чем на четыре-пять кэн107. Он ничего не говорил, только стонал:
"Жарко мне! Жарко!” Видно было, что болезнь сия необычна. На-
черпали воды со Святой Горы Хиэй из колодца Тысячерукой Кан-
нои, налили в каменный водоём, и Киёмори погрузился в него, дабы
остудить жар, но вода забурлила, закипела и вскоре вся испарилась.
Тогда, чтобы облегчить его муки, стали поливать его из бамбук-
овых трубок, но вода шипела, как будто падала на раскалённый ка-
мень или железо, и вовсе не достигала тела больного. А те струи, ко-
торые всё же касались тела, превращались в огонь и пылали; черный
дым заволок все покои, пламя, крутясь, вздымалось высоко к небу».
Довершает образ жестокого Киёмори его предсмертное желание.
Не оказывается и тени монашеского благочестия у Правителя-ино-
ка, когда его супруга, видя неминуемую скорую кончину больного,
спрашивает о его заветном желании:
«Со времен Хогэн и Хэйдзи я не раз усмирял ослушников госу-
даря и за то сверх меры осыпан милостями трона. С благоговением
скажу - я стал дедом самого императора и первым его министром.
Мне нечего больше желать на свете! Лишь об одном жалею - что не
довелось мне увидеть отрубленную голову Ёритомо, жителя края Идзу!
107 Кэн - мера длины, равная 1,82 м.
234
Только это мешает мне умереть со спокойной душою! После моей
смерти не воздвигайте храмов и пагод, не служите заупокойную служ-
бу! Без промедления отрядите сильное войско, снесите голову Ёри-
томо и повесьте над моею могилой! Это будет мне лучшее утеше-
ние!»
Неистовство Киёмори, его желание, высказанное на смертном
одре, названо в «Повести» греховным. Вместе с прочими грехами
диктатора, о которых рассказывается в других главах, такое жела-
ние не могло не отразиться на карме. Сама по себе карма (буддий-
ский закон нравственной причинности) бывает разной - по широте
охвата и по длительности влияния Она может быть индивидуальной,
семейной, родовой... Грехи Тайра-но Киёмори оказали губительное
влияние на карму всего рода Тайра. Судьба отвернулась от него, и в
дальнейшем в «Повести» рисуется гибель всех Тайра и их верных
приверженцев. «Поневоле хотелось бы скрыться куда-нибудь в даль-
нюю даль, в глубину гор Ёсино, но ни в Пяти Ближних землях, ни во
всех семи областях Японии больше не осталось у Тайра тихого угол-
ка, где обрели бы они прибежище. Недаром сказано в священной
Лотосовой сутре: "Нигде не обрящете вы покоя, все три мира108 об-
ратятся для вас в пещь огненную!" Поистине, ни на волос не грешат
против правды эти золотые слова!»
Мысль эта повторяется в «Повести» неоднократно; вместе с нею
всё явственнее звучит мотив перехода фортуны от Тайра на сторону
Минамото. «Ясно было, что приходит конец их счастью. Теперь уже
никто не хотел поддержать их, разве что те, кто долгие годы поль-
зовался их милостью. А на Востоке перед Минамото покорно гну-
лись и деревья, и травы!»
Убеждение в том, что природа активно участвует в делах чело-
веческих, было вообще широко распространено в средние века - не
только в Японии и других странах буддийского мира, но и в Запад-
ной Европе, и в России. По замечанию В. О. Ключевского, у русско-
го летописца «природа прямо вовлечена в историю, является не ис-
точником стихийных, часто роковых влияний, то возбуждающих, то
угнетающих дух человека, даже не просто немой обстановкой чело-
веческой жизни; она сама - живое, действующее лицо истории, жи-
вет вместе с человеком, радеет ему, знамением вещает ему волю бо-
жию. У летописца есть целое учение о знамениях небесных и зем-
ных и об их отношении к делам человеческим» [Ключевский, 1956,
с. 100] Легко было бы поверить, что всё это написано о бива-хдси,
средневековом японском сказителе.
Деление Исимода «Повести о доме Тайра» на три части по приз-
наку главного героя не вполне корректно, потому что само представ-
ление о главном герое здесь несколько условно. Двенадцать книг или
свитков, составляющих это произведение, в свою очередь делятся
108 Три мира - мир прошедшего, мир настоящего и мир будущего (будд ).
235
на небольшие главы, представляющие собой новеллы с закончен-
ным сюжетом, описания отдельных эпизодов или отвлечённые мо-
рализаторские рассуждения. Далеко не все главы новеллистическо-
го характера повествуют о героях, которых Исимода называет глав-
ными. В одних рассказывается о том или ином царедворце, в других - о
священнослужителях, храмах или церемониях, в третьих - о танцов-
щицах, о чудесах или сражениях и т. д. И рассказы о названных глав-
ными героях не ограничены рамками, обозначенными японским учё-
ным. Так, в шестой книге Киёмори посвящены четвертая, седьмая и
девятая главы; о Ёсинака, двоюродном брате Минамото-но Ёритомо,
«главном герое» шестой-восьмой глав, из двенадцати глав шестой
книги рассказывается только в трёх, из двадцати глав седьмой - в
шести, из одиннадцати глав восьмой - в трёх, так же, как в трёх (из
девятнадцати) главах девятой книги, главным героем которой счи-
тается Ёсицунэ, младший брат Минамото-но Ёритомо, любимый пер-
сонаж средневековых японских сочинений.
Рассказы о Ёсинака начинаются со знакомства с его происхожде-
нием, с его юностью и первым выступлением против Тайра, затем
следует сюжет о признании его заслуг главою Минамото, несколько
глав о сражениях Ёсинака с Тайра, и наконец, «Повесть» знакомит
нас с его безрассудным поведением в занятой его отрядами столице,
восстановившим против героя и императорский двор, и прежних со-
юзников и покровителей, с выступлением против него войск Ёрито-
мо и со смертью самого Ёсинака.
Находчивость, воинское искусство и полководческий талант Ми-
намото-но Ёсицунэ, победные сражения его войск, разгром Тайра в
решающем морском сражении в бухте Данноура, во время которого
погиб малолетний император Антоку, когда его мать, Ниидоно, ре-
шила вместе с ним броситься в морскую пучину, - кульминация пер-
вой половины этой части «Повести». Рассказ о гибели Антоку впо-
следствии нередко использовался японскими авторами:
«Госпожа Ниидоно давно уже в душе приняла решение. Пере-
одевшись в темные траурные одежды и высоко подобрав край ха-
кама из крученого шелка, она зажала под мышкой ларец со священ-
ной яшмой, опоясалась священным мечом, взяла на руки малолет-
него императора Антоку и сказала:
- Я всего лишь женщина, но в руки врагам не дамся! И не разлу-
чусь с государем! Не медлите, следуйте за мной, все, кто решился!
Императору Антоку исполнилось восемь лет, но на вид он казал-
ся гораздо старше. Черные прекрасные волосы ниспадали у него ни-
же плеч. Он был так хорош собой, что, казалось, красота его, как
сияние, озаряет все вокруг.
- Куда ты ведешь меня? - удивленно спросил он, и Ниидоно, уте-
рев слезы, отвечала юному государю:
- Как, разве вам еще неведомо, государь? В прежней жизни вы
соблюдали все Десять заветов Будды и в награду за добродетель
стали в новом рождении императором, повелителем десяти тысяч
236
колесниц! Но теперь злая карма разрушила ваше счастье. Сперва
обратитесь к восходу и проститесь с храмом Великой богини в Исэ,
а затем, обратившись к закату, прочитайте в сердце своем молитву
Будде, дабы встретил он вас в Чистой земле, обители райской! Стра-
на наша - убогий край, подобный рассыпанным зёрнам проса, юдоль
печали, плохое, скверное место! А я отведу вас в прекрасный край,
что зовется Чистой землей, обителью райской, где вечно царит ве-
ликая радость! - так говорила она, а сама заливалась слезами.
Государь, в переливчато-зеленой одежде, с разделенными на пря-
мой ряд, завязанными на ушах волосами, обливаясь слезами, сложил
вместе прелестные маленькие ладони, поклонился сперва восходу,
простился с храмом богини в Исэ, потом, обратившись к закату, про-
чел молитву, и тогда Ниидоно, стараясь его утешить, сказала:
- Там, на дне, под волнами, мы найдем другую столицу! - и вмес-
те с государем погрузилась в морскую пучину».
Последние главы «Повести» рассказывают о том, как был окле-
ветан перед старшим братом Ёсицунэ, как велено было его тайно
умертвить и как он вынужден был скрываться и тайно бежать на
север. Минамото-но Ёритомо, достигший вершины власти, удосто-
енный звания Великий полководец покоритель варваров, уничтожил
всех до последнего членов рода Тайра. Прежняя императрица, мать
Антоку, спасённая из вод бухты Данноура, приняла монашеский по-
стриг и скончалась в монастыре. «А случились все эти беды только
из-за того, что Правитель-инок всю Поднебесную средь четырех
морей самовластно сжимал в своей деснице, выше себя - не боялся
даже самого государя, ниже себя - не заботился о народе, казнил,
ссылал, поступал своевольно, не стыдился ни людей, ни всего бе-
лого света. И воочию явилась тут истина: "За грехи отцов - возмез-
дие детям!"». Подтвердился закон кармической связи, провозгла-
шённый во вступительных фразах «Повести о доме Тайра».
В основу воинского повествования был положен факт. Сказитель
излагал его так, чтобы вызвать эмоциональное участие (сочувствие,
негодование, переживание за исход события) слушателей. Публич-
ное исполнение повествования бродячими сказителями как нельзя
более подтверждает справедливость мнения Д. С. Лихачева: «Всякое
восприятие произведения искусства совершается по "подсказке" ху-
дожника. Сопричастность воспринимающего творческому акту ху-
дожника и составляет то наслаждение произведением искусства, без
которого не может быть и самого произведения искусства» [Лиха-
чев, 1979, с. 83] Широкая распространённость устного исполнения
неминуемо приводила к выработке стандартных приёмов воздейст-
вия на аудиторию. «Существовала формульная техника повествования,
или катари, принятая сказителем при трактовке событий, положен-
ных в его основу, ведшая через формальные этапы... к вымышлен-
ному миру воинских повестей» [Ямасита, 1979, с. 69].
«Повесть о доме Тайра» является, по-видимому, рекордсменом в
японской литературе по количеству известных списков. К такому
237
результату привела не только богатая традиция устного её исполне-
ния, но и огромная популярность у слушателей. Как отмечал амери-
канский исследователь этой повести К. Д. Батлер, «тот текст, кото-
рый на протяжении последних примерно шестисот лет принимали за
стандартный, был в 1371 г. продиктован знаменитым певцом "Хэй-
кэ" бива-хбси Акаси Какуити ум. в 6-ю луну 1371 г.). Боль-
шинство людей поняли, что существовали более ранние письменные
версии "Хэйкэ моногатари". Действительно, оригинал "Хэйкэ моно-
гатари" традиционно считается записанным во времена экс-импера-
тора Готоба (1198-1221), незадолго до войны Дзёкю 1221 г. Но в
нашем распоряжении мало информации относительно текстуально-
го развития "Хэйкэ моногатари" за период в 150 лет, с 1221 по 1371 гг.,
слушатели из народа после 1371 г., которые слушали или читали
текст "Хэйкэ моногатари" Какуити (и его позднейшие краткие ре-
дакции), принимали его за тогдашнюю оценку событий, о которых
он повествует. Даже те учёные, которые знали последнюю датиров-
ку текста Какуити, склонны были предполагать, что в существен-
ных своих частях рассказ Какуити был тождествен первоначальной
версии. До самого последнего времени большинство учёных лишь
мимоходом упоминали, что текст "Хэйкэ" претерпел некоторую мо-
дификацию в результате его текстуального развития...» [Батлер,
1969, с. 94].
Редакция Какуити долгое время была самой распространённой,
но не самой ранней. По-видимому, началу XII в. принадлежат руко-
писные книги, включавшие четыре сочинения в жанре воинских по-
вествований: «Сёмонки», «Хогэн моногатари», «Хэйдзи моногатари»
и «Хэйкэ моногатари». Сборники получили известность под назва-
нием «Сибу кассэндзё» «Обстоятельства сражений, в
четырёх частях»). Вошедший в них текст «Хэйкэ моногатари» и есть
самый ранний из зафиксированных учёными. Он написан камбуном,
максимально приближенным к чистому китайскому языку.
Между 1242 и 1300 гг. появился ориентированный на устное ис-
полнение текст Ясиро, записанный по-японски стилем канамадзири-
бун (сочетание катаканы и иероглифов), а в начале XIV в. (до 1340 г.) -
текст Камакура, «представляющий собой пространную и более услож-
нённую редакцию» текста Ясиро [Батлер, 1969, с. 97]. Редакция Ка-
куити и является «комбинацией лучших элементов» текстов Ясиро и
Камакура [Там же]. Правда, это не означает, что списки редакции
Какуити отличаются наибольшей полнотой из всех известных (а
известно более ста редакций и изводов «Повести о доме Тайра»).
Так, например, в списках редакций Энкэй и Нагато содержатся
фрагменты, отсутствующие в списках Какуити, а последние, в свою
очередь, изобилуют описаниями, которых нет в списках других ли-
ний [Кониси, 1991, с. 340].
Отдельной редакцией «Повести о доме Тайра» часто считают
«Гэмпэй сэйсуйки» (ЙЙ^Р^ЙрЕ, «Гэмпэй дзесуйки», «Записи о расцве-
те и упадке Минамото и Тайра», сер. XIII в.), огромное (48 свитков)
повествование о тех же событиях, расположенных в хронологиче-
238
ском порядке. В «Записях о расцвете и упадке Минамото и Тайра»
значительно расширены части, посвящённые членам дома Минамо-
то, описания более подробны, включены дополнительные разделы.
В результате эти «Записи» по объёму превышают стандартный текст
Какуити втрое, что многим исследователям даёт основание считать
их самостоятельным произведением, а не просто пространной ре-
дакцией «Повести о доме Тайра»109.
Длительное время «Повесть о доме Тайра» считалась точным от-
ражением действительных исторических событий, имевших место в
конце XII в. В подтверждение этому приводили тот факт, что мно-
гие её описания текстуально совпадают с отрывками из написанной
наполовину по-китайски, наполовину по-японски истории камакур-
ского сёгуната под названием «Адзума кагами» (Ж^я, «Восточное
Зерцало»). На этом совпадении базировались многие идеологиче-
ские построения, включая такие, которые утверждали исконный ха-
рактер самурайской морали, впоследствии сформулированной в кодек-
се чести бусидо «Путь воина»). Однако позднее обнаружи-
лось, что эти отрывки не являются оригинальной записью действи-
тельных событий, а были списаны с той же «Повести о доме Тайра»
и никак не могут подтвердить корректности её описаний, тем более что
многие факты и цифры в разных редакциях памятника между собою
различаются.
Замечено, что чем более раннюю редакцию «Повести» мы рас-
сматриваем, тем меньше она содержит детальных описаний. Но именно
на описание деталей, конкретных поступков героев в критических
ситуациях обращали внимание сторонники бусидо. Как отмечает К.
Батлер, «элементы повествования Хэйкэ, которые в прошлом обычно
принимались за образцы воинского духа времён войны Гэмпэй,
1180-1185, не входили в текст Хэйкэ, по крайней мере приблизи-
тельно до 1300 г...» - и далее: «...мало сомнений в том, что детали ге-
роических поступков воинов, как они представлены в текстах Ка-
макура и Какуити, целиком вымышлены» [Батлер, 1969, с. 103]. Как
к чистой условности нужно относиться здесь ко всем (и прежде все-
го-к многозначным) цифрам, обозначающим количество воинов,
участвовавших в том или ином сражении (в XII в. враждующие ар-
мии попросту не могли состоять из тех многих десятков тысяч рат-
ников, которые указаны в тексте «Повести о доме Тайра»), Ко мно-
гому обязывала сказителей и формульная техника устного повест-
вования.
Н. И. Конрад, например, писал по этому поводу: «"Хэйкэ бива" - "Сказ под
бива о Хэйкэ", т. е. доме Тайра, превратился в две большие эпопеи: первая, самая
знаменитая, стала называться по старому образцу - "Хэйкэ-моногатари", "Повесть о
Тайра"; название второй составилось по образцу названия "Кодзики", старой истори-
ко-мифологической эпопеи: "Гэмпэй сэйсуйки", "Сказание о расцвете и упадке Ми-
намото и Тайра"» [Конрад, 1974, с. 256-257]. Надо признать, что считать "Гэмпэй
сэйсуйки" самостоятельным произведением резоннее, чем редакцией "Хэйкэ монога-
тари", хотя большинство современных японских литературоведов и придерживаются
противоположной точки зрения.
239
Прошло больше полутора столетий после появления первых ска-
заний о войне Минамото и Тайра, когда междоусобная война XIV в.
привела к созданию ещё одного крупнейшего (40 свитков) воинского
повествования, получившего весьма своеобразное для его жанра
название «Тайхэйки» «Повесть о Великом мире»). Новые ска-
зители, тайхэйкиёми, стали рассказывать о событиях, происходив-
ших с 1318 по 1367 гг., - о заговоре императора Годайго, о падении
диктатуры Хбдзе, об Асикага Такаудзи и о войне Южной и Северной
династий. Новые рапсоды выступали без музыкального сопровож-
дения и упор делали не на буддийскую идею эфемерности сущего, а
на конфуцианскую идею верности долгу. Соответственно, и всту-
пление к «Тайхэйки» выглядит иначе, чем вступление к «Хэйкэ мо-
ногатари»:
«Я, невежа, выбрал втайне перемены, что случились от древнос-
ти до наших дней, и узрел причины спокойствия и опасностей.
Покрывать собою всё, ничего не оставляя, - это добродетель Не-
ба. Мудрый государь, будучи воплощением его, оберегает государ-
ство. Нести на себе всё, ничего не отбрасывая, - это удел Земли.
Верноподданные, будучи подобием её, охраняют богов Земли и Зла-
ков110.
Ежели недостаёт ему добродетели - не удержать государю сво-
его ранга, хоть и обладает он им. Тот, кого называли Цзе из ди-
настии Ся, бежал в Наньчао, а Чжоу из династии Инь был разбит в
Муе111.
Ежели уклоняются они от своего удела - недолговечна сила под-
данных, хоть и обладают они ею. Некогда слышали, как Чжао-гао
был наказан в Сяньяне, а Лу-шань убит в Фэнсяне112.
Поэтому прежние мудрецы, проявив осмотрительность, смогли
оставить законы на грядущее. О, последующие поколения! Огляды-
ваясь назад, не пренебрегайте предостережениями прошлого!»
Вокруг создания «Повести о Великом мире» существует немало
гипотез. Большое их количество касается времени появления про-
изведения. Как это часто бывает, доказательства в пользу той или
иной точки зрения делятся на «внутренние» и «внешние». К первым
относятся фраза из 1-го свитка: «Вот уже сорок с лишним лет бое-
вые костры затмевают собою небо, а бранные кличи приводят в
движение землю» и из 39-го свитка, упоминающая тот же отрезок
времени, дающие основание предполагать, что произведение напи-
110 Боги Земли и Злаков - в переносном значении: государство.
1,1 Цзе - последний государь китайской династии Ся, бежал в 930 г. до н. э. в
Наньчао, где и умер. Чжоу - государь династии Шан-Инь (П тыс. до н. э ), один из
мифических тиранов древности, погиб от руки чжоуского императора У-вана.
1,2 Чжао-гао - подданный циньских государей, умертвивший двух императоров. В
210 г. до н.э. был убит (разорван при помощи телег) по приказу внука первого из них.
Лу-шань (Ань Лу-шань) - варвар по рождению, занимал несколько важных постов
при Танском дворе, потом поднял мятеж, объявил себя императором, однако в 757 г.
был убит.
240
сано в годы Оан (1368-1374) или Эйва (1375-1378), а также анализ
способов титулования царствующих императоров и экс-императо-
ров, позволяющий указывать разные годы создания «Повести», от
1370 до 1373 гг. [Итико, 1986, с. 492-493].
В записи за 3-й день 5-й луны 7-го года Оан (13 июня 1374 г.) в
«Тбин Кинсада нитидзи-но ки» (?Н1й<£:аЕ Й «Дневник Тбин Кин-
сада»)113 отмечено, что накануне умер Кодзима-хбси, автор «Повес-
ти о Великом мире». Следовательно, к моменту внесения записи
произведение не просто уже существовало, но было хорошо извест-
но, поскольку никаких комментариев к этой записи её автору не по-
требовалось.
Строятся разные предположения в отношении первоначального
объёма «Повести»: в монастырских древлехранилищах Японии имеют-
ся их списки разного состава (установлено, к примеру, что к 1377 г. бы-
ла известна редакция Эйвабон («Книга годов Эйва», 1375-1379), сос-
тоящая из 32 свитков [Итико, 1986, с. 494]. Несмотря на указание на
Кодзима-хбси как на индивидуального автора «Повести о Великом
мире»114, вряд ли можно сомневаться, что в создании полного её тек-
ста принимало участие много людей.
«Повесть» написана смешанным японо-китайским стилем и кро-
ме рассказа о событиях междоусобных войн XV в. включает поучи-
тельные рассуждения и многочисленные вставные новеллы, заимст-
вованные из китайской классики и буддийской мифологии. Одних толь-
ко китайских сэцува в «Тайхэйки» насчитывается 62, причём около
половины из них происходят из «Записок историка» Сыма Цяня [Ма-
суда, 1976, с. 117-123]. Благодаря этим вставкам в «Тайхэйки» около
350 героев китайских легенд и исторических личностей [Масуда,
1976, с. 21]. Кроме того, часто встречаются поэтические образы и
географические названия китайского и индийского происхождения:
«Во время возглашения славословий Будде цветы Орлиного пика
уступили им свой аромат, а в том месте, где восхваления доброде-
телям Будды пелись, их сопровождало эхо бури с горы Юйшань»
(свиток 2). Читатель или слушатель должен был знать при этом, что
Орлиный пик (Вершина Священного Орла) - это гора, на которой
будда Шакьямуни читал свои последние проповеди, когда слушатели
вместо приношений осыпали его цветами, а с горой Юйшань, ко-
торая находится в Китае, в провинции Шаньдун, связано предание о
том, как один из поэтов эпохи Вэй (III в. до н. э.), гуляя на ней, услы-
шал с неба голос Брахмадэвы, божества одного из высших миров, а в
подражание звукам этого голоса была сочинена мелодия буддийских
славословий.
113 Тонн Кинсада (1340-1399) - Левый министр при дворе Северной династии,
изучал генеалогию древних японских фамилий.
114 Существует несколько разных мнений относительно личности самого Кодзи-
ма-хбси Так, высказывалось мнение о том, что это - Кодзима Таканори (!ЙЙ><®>1®),
воин из провинции Бидзэн (совр. префектура Окаяма), который, согласно преданию,
спасал императора Годайго из ссылки на о. Оки, или что это - один из сказителей
моногатари-сд и т. д. [НБДЦТ, 3, с. 925].
241
Вставные новеллы книжного происхождения имеют, как правило,
дидактический характер, тогда как изложение эпизодов войны Юга
и Севера можно разделить на два вида - сюжетные, касающиеся конк-
ретных происшествий (битва, наказание героя, месть и т. д.), и опи-
сательные, рисующие для нескольких последующих разделов исход-
ную ситуацию и включающие её авторскую оценку. К таким ситуа-
циям относится, скажем, переход Асикага Такаудзи в стан импера-
тора Годайго в 1335 г. (свиток 9, гл. 2):
«Поскольку оба Рокухара115 раз за разом побеждали в сражениях,
они с пренебрежением думали; "Недоставало нам ещё бояться про-
тивников из Западных провинций!"116 И тогда Юки Курб Саэмон-но-
дзе117, на которого они полагались как на выдающегося доблестного
воина, стал их врагом и присоединился к силам, стоявшим в Яма-
дзаки. Кроме того, в ратных силах из провинций то по пять, то по
десять всадников либо возвращались по своим провинциям, устав от
перевозки провианта по суше и воде, либо, сообразно судьбе эпохи118,
примыкали к противнику, отчего сторонники двора, хоть они и тер-
пели поражения, постепенно становились всё сильнее, а у воинских
домов, хоть они и одерживали победы, число ратников день ото дня
убывало. Таким образом, стало много людей, которые опасались за
себя и думали, как им быть дальше. И когда в столицу, подобно об-
лаку и туману, прошло два войска - Асикага и Нагоя119, - сердца у
людей незаметно переменились, цвет лица исправился, и явилось
присутствие духа: что, дескать, теперь-то может случиться!
Но на другой день после прибытия в столицу господин Асикага
велел скрытно отправить посла в Фунаноэ, что в Хоки120, дабы тот
доложил о его переходе на сторону государя. Государь был весьма
доволен и изволил распорядиться составить письменное повеление
собрать правительственные войска из провинций и наказать врагов
императора.
Ни оба Рокухара, ни Нагоя, губернатор Овари, не могли и поду-
мать, что у господина Асикага есть такой замысел, поэтому они каж-
дый день встречались с ним, всё обсуждали в узком кругу и решали,
как выступить против Яхата и Ямадзаки, подробно излагали все без
остатка сокровенные мысли... Как же это было глупо!»
115 Оба Рокухара - здесь: Хбдзё Ясутоки (1183-1242) и Хбдзё Токифуса (1175—
1240), сёгунские губернаторы г. Киото (Рокухара тандай ^резиденция которых нахо-
дилась к востоку от реки Камогава, между улицами Годзё и Ситидзё. В переносном
смысле - правительство сиккэнов Хбдзё, Камакура бакуфу.
116 Жители Западных провинций - сторонники императора Годайго.
117 Юки Курб Саэмон-но-дзё - Юки Тикамицу, первоначально - сторонник Хбдзё,
в 1333 г. оборонявший императорскую столицу от сторонников императора Годайго,
а впоследствии - противник бакуфу, перешедший на сторону Годайго, убит в 1336 г.
||в Судьба эпохи - предопределённость исторических событий, обусловленная груп-
повой кармой.
119 Асикага Такаудзи (будущий основатель нового сёгуната) и Нагоя Такаиэ. (гу-
бернатор провинции Овари), осаждавшие столицу во главе воинских соединений Хбдзё.
120 Фунаноэ - замок в провинции Хоки (район Тюгоку), где император Годайго
укрывался до переезда в Киото.
242
Структурно «Повесть о Великом мире» делится на три части:
свитки 1-12, рассказывающие о событиях, начиная с планов Годайго,
направленных на свержение власти сиккэнов, и кончая «реставраци-
ей годов Кэмму»; свитки 13-21, посвящённые восстанию Асикага
Такаудзи, разделению двора на Южный и Северный и смерти Годай-
го; и свитки 22-40, в которых на сцену выходит Северный двор, про-
исходит становление сёгуната Асикага с его приверженцами.
Постоянно приходится слышать, пишет Масуда Ясуси, что из-за
обилия вставных эпизодов, у человека, «который собирается читать
"Тайхэйки" как рассказ о полувековой брани Южной и Северной ди-
настий, заинтересованность изложением часто перебивается, и его
интерес к чтению снижается» [Масуда, 1976, с. 107]. Это обстоятель-
ство давно обращало на себя внимание специалистов, так что уже в
конце эпохи Муромати получил распространение краткий вариант
(«дайджест») «Тайхэйки» в 40 свитках, получивший название «Тай-
хэйки нукигаки» (ЛЧЧЕЖ#, «Выборки из Повести о Великом ми-
ре»). Особенности краткого списка сочинения сводятся к трём раз-
новидностям:
а) почти полностью опускаются детальные повествования о со-
бытиях, подробные описания разного рода;
б) либо полностью опускаются, либо сильно сокращены не име-
ющие прямого отношения к развитию общего сюжета произведения
вставные описания, сэцува, рассказы о былых происшествиях;
в) почти полностью опускаются разделы, непосредственно выра-
жающие субъективные взгляды и идеи автора [Там же, с. 110].
В результате подобных операций получается не конспект произ-
ведения художественной литературы, признаёт проф. Масуда, а «крат-
кое письменное изложение истории Южной и Северной династий»
(Ж1Ь^5ЁЮ1в&кШ) [Там же, с. 111].
Современный читатель, как правило, с интересом следит за сю-
жетом только первых двенадцати свитков «Повести».
Стилистически «Повесть о Великом мире» представляет неодно-
родную картину. Её сюжетные разделы приводят на память харак-
теристики Ямасита Хироаки, данные им «Повести о доме Тайра», где
«сказитель находится в положении наблюдателя за развитием по-
вествования на протяжении всей работы; он выдвигает свои собст-
венные взгляды, помещая себя отдельно от событий и рассказывая
о них с позиции третьего лица. Точка зрения сказителя в развитии по-
вествования - это, no-существу, точка зрения рассказчика; он в прин-
ципе -всеведущий обозреватель» [Ямасита, 1979, с. 55].
Проследим в этом смысле рассказ о препровождении арестован-
ных священнослужителей из Киото в Камакура, записанный во вто-
ром свитке «Тайхэйки». Кроме пространственной позиции повество-
вателя, в этом рассказе ясно прослеживаются разного рода отсту-
пления от основной интриги, фигуральные выражения и отдельные
религиозные постулаты, в изобилии рассыпанные по всему тексту
памятника:
243
«Тот, кого называли Тюэн-сбдзё, в качестве ученика Дзисё-сбдзе
из храма Чистой земли держал экзамен по разбору десяти спорных
тем и был учёным, не имевшим себе равных в своём монастыре. Тот,
кого называли Монкан-сбдзё, сначала жил в храме Цветка Закона в
провинции Харима, но по достижении зрелого возраста переселился
в храм Дайгодзи и стал Великим адзяри- главным наставником ас-
кетов в сингон, школе Истинного Слова, а потому, заняв место глав-
ного служителя храма Востока и настоятеля храма Дайгодзи, сде-
лался столпом Четырёх видов мандалы и Трёх Таинств121. Тот, кого
называли высокомудрым Энканом, сначала занимал место среди гор-
ной братии122, и вряд ли был во всём монастыре блеск таланта, рав-
ный блеску его таланта в обоих учениях - явном и тайном123, и по-
хоже, что славою сочетания в себе мудрости и добродетельных де-
яний некому было с ним сравниться. Однако он решил, что ежели
долго следовать обычаям, принятым в храме Горных Ворот в нашу
эпоху вероломства, то подверженный гордыне занесётся и в конце
концов неминуемо упадёт в объятия демона зла. Нужно отказаться
от почестей, воздаваемых в залах для диспутов между приглашён-
ными служителями, и возвратиться к установлениям Высокого Ос-
нователя-наставника124, - с этими мыслями отвернулся он однажды
от уз славы и выгоды и надолго затворил двери в уединённой тихой
хижине из мха.
Первое время он определил себе для проживания так называ-
емую Чёрную долину возле Западной пагоды125; осенью, когда листья
лотоса покрываются инеем, надевая одну на другую три ризы и поз-
воляя утреннему ветру насыпать в чашу ему иглы сосен, но - "доб-
родетельный не бывает одинок, он обязательно имеет соседа"126, а
солнцу своего сияния не спрятать, поэтому в конце концов, как на-
ставник пяти мудрых государей127, он стал прародителем трёх видов
чистых заповедей128.
Говорят ведь, что все они были почитаемые мужи, обладавшие
мудростью и высокодобродетельны поведением, - так разве нельзя
было им избежать бедствий тех времён? Или же это зависело от
воздаяния за прежние жизни? Поистине, достойно удивления то, что,
121 Столп Четырёх видов мандалы и Трёх Таинств - здесь: глава школы сингон.
122 Занимал место среди горной братии - был служителем в монастыре Энрякудзи.
123 Явное и тайное учения - экзотерическое и эзотерическое направления в буд-
дизме.
124 Высокий Основатель-наставник - основатель Горных Ворот (монастырского
комплекса Энрякудзи) Дэнгё-дайси.
125 Западная пагода - одна из так называемых Трёх пагод на горе Хиэйдзан.
126 «Добродетельный не бывает одинок...» - выражение из «Луньюй» (JftlRj, яп.
«Ронго», «Беседы и суждения») Конфуция.
127 Энкан-сёнин был духовным наставником императоров Гофусими, Гонидзё,
Ханадзоно, Годайго и Когон.
128 Три вида чистых заповедей (будд.) - заповеди, которые послушники получают
от своих наставников.
244
став узниками далёких варваров, скитаются они под луною подне-
вольных странствий.
Только за высокомудрым Энканом, подобно теням, следовали
три его ученика, которых звали Соин, Энсе и Досе. Они составили
свиту, сопровождавшую паланкин учителя спереди и сзади. Кроме
них у Монкан-сбдзе и Тюэн-сбдзё не было ни одного сопровожда-
ющего; им приходилось ехать на грубых станционных лошадях. В ок-
ружении непривычных для их взоров воинов, в ту пору, когда стояла
ещё глубокая ночь, отправились они в путь на Восток, где птицы
поют129, и на душе у них было печально. Слышались разговоры о
том, что до Камакура им не добраться, что они, должно быть, погиб-
нут по дороге, поэтому священнослужители настолько пали духом,
что, добравшись до одного ночлега, считали, что теперь-то уже и
настал их предел, а отдыхая на другой горе, что предел - вот он, при
этом жизнь свою считали росой, готовой высохнуть...»
Перед исследователями гунки моногатари неминуемо встаёт во-
прос об истории формирования текста памятника (а значит, и его
составляющих, о характере изложения) и о его движении по мере
возникновения всё новых редакций. Характер изложения (обилие
вставных описаний книжного - чаще всего китайского - происхож-
дения, китайских имён, отсылок к прецедентам, письменный стиль
многих разделов и т. д.) заставляет предположить «кабинетное» на-
чало основного корпуса «Повести о Великом мире». В этот основ-
ной корпус были, по-видимому, вкраплены сказания на темы о со-
бытиях эпохи Северной и Южной династий, имевшие широкое уст-
ное хождение. Эти вкрапления по мере необходимости обрабаты-
вались для сообщения им большей нравоучительности и соответ-
ствия окружающим разделам «Повести о Великом мире».
Спустя несколько столетий после создания «Тайхэйки», в эпоху
формирования бусидо, его идеологи и пропагандисты стали героизи-
ровать тогдашнюю обстановку и отсылать к этому памятнику, а
равно и к другим воинским повествованиям, как к образцовому опи-
санию примерного поведения воина. По этому поводу Като Сюити
не без сарказма замечает: «Полководцам, спасавшимся бегством, уг-
рожали "лесные разбойники, намного превосходившие их силы, гра-
бители, нарушители закона" (свиток 9); когда убегавшие войска за-
гоняли в тупик, воины "принимали постриг без душевного к тому по-
рыва", становились священнослужителями (свиток 15). Предводите-
ли воинских отрядов непрестанно совершали повторные предательства
(наиболее вопиющий пример этого - Года-ин-но Мунэсигэ, свиток 11);
кто хотел предупредить предательство - тот брал заложников; кто
оставлял заложников - реализовывал свои предательские планы,
даже жертвуя женой и детьми (например, Асикага Такаудзи в отно-
Восток, где птицы поют - устойчивый поэтический образ Адзума, восточных
провинций Японии. Здесь - г. Камакура
245
шении Хбдзё Такатоки, свиток 9). "Сущность бусидб' проявилась во
времена правления военной диктатуры Токугава, уже после того,
как воины перестали сражаться...» [Като, 1975, с. 292]130.
Впервые на несоответствие названия этого произведения его со-
держанию обратили внимание японские учёные начала эпохи Току-
гава (XVII в.) [Кин, 1993, с. 907]. С тех пор были высказаны разные
мнения о природе этого несоответствия: противоположение антони-
мов [Там же], толкование слова «мир» не как отражения реальной
ситуации, а как цели, к которой стремятся люди, уставшие от три-
дцати лет непрерывных сражений, как чаяние народных масс [Ко-
ниси, 1991, с. 505-506; НКБТ, 34, 1964, с. 8]. Последнее соображение
кажется мне не лишённым резона. Единственный его недостаток - от-
сутствие другого такого примера в истории японской литературы.
Но оно во многом объясняет частые описания бессмыслицы сраже-
ний, гибели малых и старых, оплакивание героями их собственных
жертв. Похвальба участников рукопашных схваток, описания показ-
ного молодечества - другой слой памятника, нередко соединённый с
первым чисто механически, по признаку общности темы. Между этими
двумя слоями помещены назидательные разделы книжного проис-
хождения с их отсылками к историческим прецедентам и обильными
выдержками из «Записок историка» Сыма Цяня и из других китай-
ских источников.
Воинские повествования в средневековой Японии посвящались
не только противостоянию крупных феодальных кланов и сословий,
но и судьбам отдельных личностей. Появилась особая разновидность
гунки - «повести о героях». В крупных буддийских храмах и синто-
истских святилищах перед прихожанами часто выступали проповед-
ники, читавшие поучительные сэцува, рассказывавшие об истории
этих храмов и святилищ, о чудесах, некогда явленных в них. Кроме
проповедников, прихожане нередко слушали уже упоминавшихся сле-
пых сказителей бива-хоси, повествовавших о сражениях Гэмпэй и Нам-
бокутё. Особая группа слепых сказительниц (как правило, с этими
сюжетами выступали женщины) нараспев, под аккомпанемент трёх-
струнных сямисэн, читала баллады о злоключениях малолетних
братьев Cora - Дзюро и Горд, собирая среди прихожан подаяния
Начиная с XIV в., сюжеты о братьях Cora широко распростра-
нились в Японии и стали использоваться не только в балладах, но и в
драматических произведениях. Но самым известным произведением на
эти сюжеты стало воинское повествование «Сога моногатари» (К’Фс
^In, «Повесть о братьях Сога»). В его основе - реальные истори-
ческие события.
130 Ср.: «Облик самурая, даваемый "Повестью о Тайра" и, еще в большей мере,
"Повестью о Великом мире", есть в то же время и облик так называемого Бусидо.
Все поступки японского феодала идут по этому "Пути воина". Это "Путь”, как вся-
кий Путь с большой буквы на Востоке... есть целая система взглядов и норм пове-
дения» [Конрад, 1974, с. 338].
246
В самом конце эпохи Хэйан умер влиятельный воин Ито (Кудб)
Сукэтака, принадлежавший к боковой ветви рода Фудзивара. Перед
смертью Сукэтака завещал принадлежавшие ему три поместья сво-
ему приёмному (а в действительности - родному, но незаконнорож-
дённому) сыну Сукэцугу. Весть о завещании Сукэтака была полной
неожиданностью для его племянника Ито (Кудб-но) Сукэтака (?-
1182) по прозвищу Кавадзу Дзирб, который рассчитывал на получение
дядюшкиного наследства. В результате последовала серия интриг и
убийств, стимулированная поначалу претензиями на наследство, а
потом - кровной местью.
Легенды о братьях Сога возникли на востоке Японии, в районе
Кантб. Списки самой «Повести» имеют две версии. Ранняя, от ко-
торой произошли все списки, состоит из десяти свитков, записана
почти сплошь китайскими иероглифами (но не настоящим, а псевдо-
китайским языком, с небрежным использованием значков окототэн,
для чтения текста по-японски, и с непоследовательным употребле-
нием иероглифики - иногда в качестве идеограмм, иногда в качестве
слоговых графем) и называется манабон или синдзихон
«Книги истинного письма», «Книги истинных знаков»). Са-
мый старый из сохранившихся списков версии манабон принадлежит
древлехранилищу буддийского храма Мёхбдзи и датируется 1546 г., од-
нако известно, что «Повесть о братьях Сога» в десяти свитках уже
существовала в начале эпохи Северной и Южной династий, т. е. к
середине XIV в., и была, по общему признанию, создана монахами
буддийского храмового комплекса Хаконэ.
К рукописи из храма Мёхбдзи восходит список из буддийского
храма Дайсэкидзи, ставший протографом для многих авторитетных
списков этой версии, включая тот, который был наиболее широко
известен в средневековой Японии, - список из библиотеки храма
Хоммондзи, по названию местности известный также как «книга из
Омосу» [НБДДТ, 4, 1974, с. 356].
Другая, несколько более поздняя, версия называется канахон и
имеет две редакции: краткую, состоящую из десяти свитков, и прос-
транную, из двенадцати. В зависимости от вида силлабем, употреб-
лявшихся писцами, среди канахон различаются хирагана хон и ката-
кана хон. Краткая редакция представлена рукописью из храма Дай-
сандзи (провинция Харима) с колофоном 1538 г. и была,
как считается, создана монахами с горы Хиэйдзан (т. е. из храмового
комплекса Энрякудзи). Пространная же, наиболее известная и из-
даваемая в наши дни, приписывается монахам храма Дайсэкидзи и
была, по-видимому, создана между 1361 и 1389 гг. [Араки, 1961, с. 239].
«Повесть» открывается кратким экскурсом в историю островов
Дзитиикиакицусима (Японии), начиная от бога Кунитокотати-но ми-
кото и до высокого происхождния родов Минамото и Тайра, и посте-
пенно переходит к истории братьев Сога - Дзюрб Сукэнари и Горб
Токимунэ. Говорится о том, как вознегодовал Кудб-но Сукэтака, уз-
нав, что его надежды на получение дядиного наследства не оправ-
247
дались, и как он попытался легальными средствами помешать всту-
пить в силу завещанию Сукэтака. Когда же его попытки закончи-
лись неудачей, Сукэтика подговорил некоего священника пустить в
ход магию и наслать на его соперника, Кудб-но Сукэцугу, всевоз-
можные бедствия, от которых тот заболел и умер.
Не подозревая о причине своей болезни, Сукэцугу обращается
перед смертью к злодею с просьбой позаботиться после его смерти
о его малолетних детях. Под надзором Сукэтика и вырастает сын
его соперника, Сукэцунэ, человек изящных манер и обладающий хо-
рошим вкусом. Воспитатель выдаёт за него замуж свою дочь, после
чего Сукэцунэ узнаёт, что Сукэтика обманул его при получении
наследства. Начинается тяжба, но Сукэтика подкупает судью, и по-
местья делят поровну между зятем и тестем. После этого Сукэцунэ
задумывает убить обидчика, а тот подливает масла в огонь, отняв у
него жену (свою дочь) и отдав её за другого, а потом лишив доходов
с его половины поместья. В результате единомышленники Сукэцунэ
устраивают засаду во время охоты и убивают сына Сукэтика по
имени Сукэясу. Казалось бы, порок наказан, справедливость тор-
жествует, но на деле наказан не сам злодей, а его сын, не повинный
ни в чём, и семья этого сына.
Предсмертная просьба Сукэясу была обращена к убийцам: по-
заботиться о его детях, пятилетием Дзюрб и трёхлетием Горб. Мать
этих детей, потрясённая убийством мужа, обращается к ним с просьбой
через десять лет наказать убийцу их отца и принести к ней его
голову. Пятилетний Горб обещает матери выполнить её желание.
После того, как вдова вторично вышла замуж, братья приняли
фамилию своего отчима, Cora Сукэнобу. В тринадцать лет над ними
совершили церемонию совершеннолетия, они получили взрослые
имена и стали готовиться к тому, чтобы отомстить за смерть отца.
Месть совершилась весной 1193 г. у подножия горы Фудзи, где Су-
кэцунэ в качестве любимого оруженосца Минамото-но Ёритомо
принимал участие в охоте.
Братья тайком проникли в охотничий лагерь, у вассала Хатакэ-
яма Сигэтада по имени Хонда Тикацунэ узнали, где находится Сукэ-
цунэ, напали на него и убили. Во время рукопашной схватки стар-
ший из братьев погибает от руки 27-летнего воина из провинции
Идзу Нитта Сиро, а 13-летнего Горб пленил и доставил к сёгуну
Ёритомо некий Горбмару.
Ёритомо был покорён храбростью пленника и его верностью сы-
новнему долгу. Сёгун простил юношу, однако его судьбу решило
вмешательство Инубб, «законного» наследника убитого братьями
Cora Сукэцунэ. У Инубб были свои основания для мести, и он убил
Горб.
Мать братьев Cora после их гибели постриглась в буддийские мо-
нахини и стала получать наставления в истинах школы Чистой зем-
ли у самого высокомудрого Хонэна, а когда пришло время, заслы-
шала в облаках небесную музыку и, окутанная чудесным благоуха-
248
нием, вознеслась в Западную Чистую землю будды Амитабха, где её
приветствовали бодхисаттвы (правда, последний эпизод есть только в
списках редакции канахон).
Если проследить все десять свитков мана бон, то окажется, что
первые его три свитка охватывают события трёх лет, четвёртый
свиток - события следующих десяти лет, а свитки с пятого по де-
вятый - ещё 3,5 года [Итико, 1986, с. 512]. Правда, нужно учесть, что
в ткань «Повести» вплетено большое количество вставных эпизодов,
не связанных с развитием основного её сюжета. Вставные эпизоды
придают произведению выраженный конфуцианский и амидаист-
ский (особенно в пространной редакции) характер.
«Повесть о братьях Сога» нередко выделяют из общего ряда во-
инских повествований, отмечая, что в предыдущих /ункяречь шла о
столкновениях сил, по-разному ориентированных политически, о
столкновениях воинских кланов или социальных слоёв, о борьбе, в
которую была вовлечена вся страна, а в «Сога моногатари» сюжет
замыкается на личных отношениях, на мести двух братьев виновни-
ку смерти их отца. К этому же ряду воинских повествований относят
и «Гикэйки» (йй$1Е, «Повесть о Ёсицунэ»)131, появившееся в кон-
це XIV-начале XV в. и посвящённое личной судьбе Минамото-но
Ёсицунэ, младшего единокровного брата первого камакурского сё-
гуна Минамото-но Ёритомо. Араки Ёсио маркирует это произведе-
ние как «повесть о воинах» [Араки, 1961, с. 224], а Кониси Дзинъити-
как «моногатари о личной мести» (равно как и «Сога моногатари»)
[Кониси, 1991, с. 331].
Уже в XIII в. в устной передаче начали широко распространяться
легенды об этом герое. М. В. Торопыгина различает четыре вида таких
легенд: 1) легенды об Усивака (т. е., о детстве Ёсицунэ), 2) легенды
о войне Гэмпэй (т. е. междоусобной войне между домами Минамото
и Тайра); 3) легенды о последних годах жизни Ёсицунэ; 4) посмерт-
ные легенды о нём. Первые два вида легенд отталкиваются от ис-
торических и литературных источников, а их главный герой - сам
Ёсицунэ; в третьем виде легенд, также основанном на письменных
источниках, центр внимания перемещается на окружение Ёсицунэ;
посмертные легенды, поздние по происхождению, «лишены какого
бы то ни было исторического материала» [Торопыгина, 1988, с. 10].
В числе литературных источников второго и третьего видов этих
легенд на первом месте стоит «Гикэйки». Таким образом, в отличие
131 В русском переводе А. Стругацкого - «Сказание о Ёсицунэ», см.: [Гикэйки, 1984].
Номенклатурный знак ки (12) вообще означает «записи», однако по смыслу не со-
ответствует характеру самого памятника, поэтому и перевод его как «Повесть»,
принятый М. В. Торопыгиной, и перевод как «Сказание» (А. Н. Стругацкого) имеют
равные права на существование. Впрочем, в первые века после своего создания про-
изведение и в оригинале было известно под разными названиями: «Гикэйки» (ГИ-
кэй - китаизированное прочтение иероглифов которыми пишется имя Ёси-
цунэ), «Ёсицунэ-но ки» (£ «Записи о Ёсицунэ»), «Ёсицунэ моногатари»
(йтайь&, «Повесть о Есицунэ»), «Усивака моногатари» «Повесть об
Усивака» - по детскому имени героя), «Хоган моногатари» (ЭДЖ^Вп, «Повесть о
судье» - по его официальному чину).
249
от большинства гунки, первоначально не повествование было напи-
сано по следам множества устных легенд, а наоборот - легенды воз-
никли на базе письменных текстов132. Явление, в мировой литерату-
ре не частое. Можно предположить, что при создании «Повести о
Ёсицунэ» авторы использовали некоторые легенды, распространённые
в устной передаче. Их характер, а также типовые особенности ран-
них гунки (такие, как детальное описание доспехов и вооружения
воинов133, «возглашение имени» перед схваткой, формульное описа-
ние начала и хода сражений и т. п.) нашли отражение в окончатель-
ном тексте произведения. В свою очередь, на базе этого оконча-
тельного текста начало формироваться новое поколение легенд, ко-
торые бытовали и самостоятельно, в виде устных баллад и сказаний,
и в форме театральных представлений. Эти легенды второго по-
рядка начали складываться лет через сто и более после создания
«Гикэйки», и практически не отразились в появлении новых списков
этого хорошо знакомого читателю произведения.
Можно полагать также, что устное исполнение частично отрази-
лось на разговорном характере языка «Повести о Ёсицунэ»134.
Хотя устное исполнение легенд о жизни Ёсицунэ отмечалось в раз-
ных регионах Японии, считается, что само произведение написано в
районе Киото [Итико, 1986, с. 522]. Автор (или авторы) его неизве-
стны, а явные следы конфуцианских мотивов не могут помочь в его
определении. Воспроизводилась «Повесть о Ёсицунэ» в рукописной
(с иллюстрациями и без них) и ксилографической форме, а также в
форме старопечатных книг (здесь самое старое издание содержит
одиннадцать, а следующее - двенадцать строк на одной стороне листа,
а среди списков «Повести», носящих названия «Хоган моногатари» и
«Гикэй моногатари», имеются популярные - руфубон-и побочные).
Почти все известные её списки делятся на восемь свитков, однако
список библиотеки Кабинета министров состоит из трёх свитков по
шесть глав в каждом из них [НБДДТ, 2, 1974, с. 170].
«Повесть» начинается с рассказа о том, как отец героя, Минамо-
то-но Ёситомо, потерпел поражение в междоусобной войне с домом
132 Правда, в послесловии к русскому переводу «Гикэйки» Е. М. Пинус утвержда-
ла «"Сказание о Ёсицунэ", в сущности, компилятивное произведение. Безымянный
автор его собрал воедино десятки коротких и тоже, конечно, безымянных повестей,
рассказывающих об отдельных событиях жизни Ёсицунэ, и выстроил из них связную
историю его приключений, начиная с рождения и вплоть до трагической смерти» Но
уже сама выстроенность «связной истории», мало знакомая средневековой японской
прозе, заставляет сомневаться в такой, а не обратной последовательности всего про-
цесса и согласиться с выводом М. В. Торопыгиной о том, что именно «"Гикэйки" и
другие произведения эпохи Муромати явились литературным источником по край-
ней мере легенд о последних годах Ёсицунэ» (см.: [Торопыгина, 1988, с. 10]).
133 Правда, подробнейшие описания одеяний героев характерны и для произве-
дений прозаической (особенно дневниковой) литературы эпохи Хэйан.
134 Как отмечает Д. Кин, текст «Гикэйки» «написан в стиле, близком к стилю
"Хэйкэ моногатари", - японском со многими китайскими заимствованиями» [Кин,
1993, с. 893], но, надо полагать, наиболее «книжные» её отрывки при устном испол
нении выпускались.
250
Тайра («мятеж годов Хэйдзи»), бежал из столицы на восток и погиб,
о судьбе матери и братьев героя и о том, как в шестилетнем воз-
расте он сам стал прилежным учеником в буддийском храме Курама.
Но через несколько лет ревностных занятий науками мальчик
обратил свои мысли к необходимости поднять мятеж и свергнуть
власть Тайра. Он покинул монастырь, хитростью овладел знаниями
по воинскому искусству при помощи древнего китайского трактата
и в схватке одолел мятежного силача Бэнкэя, бесчинствовавшего на
ночных улицах столицы, после чего тот сделался преданным слугой
героя.
В это же время в провинции Идзу против ненавистных Тайра поднял
мятеж Ёритомо, старший брат Ёсицунэ. Узнав о мятеже брата, тот
заявил: «В такое время мне тягостно пребывать здесь сложа руки. Я
отправлюсь за ним вдогонку и соединюсь с ним и буду командовать
его войсками» (пер. А. Стругацкого).
Ёритомо действительно назначил своего младшего брата глав-
ным военачальником в походе против дома Тайра. События войны
Гэмпэй, рассказу о которых в «Повести о доме Тайра» посвящено
много глав, здесь изложены всего в одной фразе (свиток 4): «...одер-
жав свою первую победу при Фудзигаве, Ёсицунэ в том же третьем
году Дзюэй двинулся на столицу, изгнал оттуда войска Тайра, с не-
слыханной самоотверженностью первым бросался на врага в Ити-
нотани, у Ясимы и в Данноуре и в конце концов полностью поверг
во прах дом Тайра» (пер. А. Стругацкого). Между тем именно эти со-
бытия лучше, чем все остальные в реальной жизни Ёсицунэ, обеспе-
чены документальным материалом, тогда как события его детских и
юношеских лет, о которых рассказывается в первых трёх свитках
«Повести о Ёсицунэ», в исторических источниках почти не освеще-
ны. Недаром Д. Кин подчёркивает: «Самая замечательная черта Ёси-
цунэ - почти полное отсутствие [в этой «Повести»] отсылок к исто-
рическим деталям карьеры Ёсицунэ» [Кин, 1993, с. 893]. Правда, та-
кая особенность присуща и другим сочинениям, посвящённым этому
герою, в каком бы жанре они ни были написаны.
В основу интриги, на которой построена «Повесть о Ёсицунэ»,
положена его размолвка с неким Кадзивара, оклеветавшим его пе-
ред Ёритомо и возбудившим в том недоверие к брату. В большей
части «Повести» рассказывается о преследовании героя его братом, Ка-
макурским Правителем, которому он оказал неоценимую бескорыст-
ную помощь в разгроме врага и захвате власти, о скитаниях Ёсицунэ,
о потере им его возлюбленной Сидзука и о беззаветной преданности
ему верного Бэнкэя. По сравнению с другими воинскими повество-
ваниями, здесь почти полностью отсутствуют вставные новеллы, уво-
дящие далеко в сторону от главного сюжета.
«Повесть» завершается рассказом о самоубийстве преследуемого
воинами своего брата Ёсицунэ, смертью его супруги, пятилетнего
сына и новорожденной - пяти дней от роду - дочери от руки его вер-
ного слуги и бесславной гибелью его врагов: «...богиня Кэнро от-
251
вергает тех, кто нарушает замыслы и последнюю волю отцов своих,
достигших силы и славы праведными путями!» (пер. А. Стругацкого).
Особая популярность сюжетов о Ёсицунэ в средневековой Япо-
нии объясняется не одной их занимательностью, но и общим отно-
шением японцев к безвинно пострадавшему отважному полководцу
и всесторонне талантливому человеку. Как заметила Элен Маккал-
лоу, «...человек с историей Есицунэ не мог не сделаться популярным
героем, особенно когда стала широко распространена уверенность, что
его гибель была результатом клеветы из зависти» [Ёсицунэ, 1966,
с. 5]. Показательно, как под влиянием традиционного убеждения в
том, что талантливый человек не может не быть красивым во всём, с
течением времени трансформировались его внешние характеристи-
ки. В «Гэмпэй сэйсуйки» (свиток 2) Ёсицунэ описан как маленький
бледный юноша с кривыми зубами и выпученными глазами. В «По-
вести о доме Тайра» (свиток 4, глава «Битва в заливе Данноура») он
представлен так: «Куро лицом бел, ростом мал, зубы торчат впе-
рёд - по этим признакам можно его узнать». Сравним с этой харак-
теристикой слова из «Повести о Ёсицунэ» (свиток 4, глава «О том,
как встретились Ёритомо и Ёсицунэ»): «Был он лет двадцати пяти,
белолиц и благороден на вид, с густыми усами... вороной его конь
был мощный и дородный, с пышным хвостом и пышной гривой... С
достоинством выехал этот всадник перед Ятаро...» (пер. И. Львовой и
А. Стругацкого соответственно).
Сами произведения жанра гункя за время его существования пе-
реходили от интереса к причинам и исходу отдельного сражения к
переменам в судьбах рода, законам взлёта и падения крупных масс
народа и к перипетиям жизни отдельных личностей, сблизившись в
конце концов с историческим романом. На «Повести о Ёсицунэ»
трансформация завершилась.
Исторические сочинения
Одновременно со становлением первых воинских повествований,
в той или иной степени трактующих события современной им
японской истории, продолжались попытки создать общую историю
Японии в стиле «Великого Зерцала», т. е. с привнесением беллетри-
зации. В конце XII века появилось сочинение в трех свитках под на-
званием «Мидзукагами» (Л<$г, «Водное Зерцало»), излагающее ис-
торию Японии за 1510 лет, от 660 г. до н. э. (восшествие на престол
мифического первого императора Дзимму-тэннб) до 850 г. н. э., пос-
252
леднего года царствования Ниммё-тэннб (810-850)13Б, т. е. до того
времени, с которого начинается повествование в «Великом Зерцале».
Автором «Водного Зерцала» большинством специалистов приня-
то считать Накаяма (Фудзивара) Тадатика (1132-1195), носившего
прозвище Накаяма-найдайдзин (Внутренний министр Накаяма), хо-
тя высказывались и другие мнения об авторстве. Правда, относи-
тельно датировки произведения (90-е г. XII в.) разногласий среди ис-
следователей нет.
«Водное Зерцало» написано по-японски, слоговым письмом, а
смысл его названия автор объясняет в конце третьего свитка, заяв-
ляя, что в этом сочинении «облик старины виден, словно в зеркале
воды». Сочинением, послужившим автору в качестве исторического
источника, было «Фусб рякки» «Краткая история Япо-
нии»)135 136, написанное между 1094 и 1107 гг. буддийским монахом
(адзяри, санскр. акарья) с горы Хиэйдзан Коэном. По традиции, из-
вестной ещё со времени создания «Великого Зерцала», автор объяв-
ляет, что всё, о чём он пишет, - это переданная из уст в уста живая
традиция: исторические факты изложены со слов отшельника из
Кацураги старой монахиней из буддийского храма Хасэдэра. В ис-
торическую ткань вплетены легенды из «Жизнеописания Сётоку-
тайси», «Японских легенд о чудесах» и других памятников. Послед-
ний из включённых в «Водное Зерцало» императоров, Ниммё, чис-
лится в нём 55-м, тогда как в традиции «Шести отечественных ис-
торий» он считается 54-м в истории Японии, где, согласно офици-
альной версии, первым был Дзимму-тэннб.
В отличие от официальных историй, «Водное Зерцало» в число
японских императоров включает под номером 15 Дзингу-кбгб (170—
268), по преданию - вдову императора Тюаи (род. в 148 г., на престо-
ле - 192-200) и регента при своём малолетнем сыне, императоре
Одзине (200-310). В число императоров, как и следовало ожидать,
не включён Кббун-тэннб (648-672), который, пробыв на престоле
всего восемь месяцев, покончил жизнь самоубийством и официально
включён в общий перечень японских императоров (под номером 39)
только в 1870 г.
Принято считать, что по сравнению с «Великим Зерцалом» «Водное
Зерцало» беднее лексически и содержит много ошибок, что само-
стоятельная его историографическая ценность невелика [НБДДТ, 7,
1974, с 52; HP ДДТ, 8, 1979, с. 28].
135 Д. Кин в своей очень подробной и в целом точной книге по истории японской
литературы приводит ошибочные данные об этом памятнике: период времени, ох-
ваченный «Мидзукагами», определяет в 1522 года, а не в 1510 лет, последним из описан-
ных здесь императоров называет Гоитидзё [Кин, 1993, с. 563], тогда как через 1522
года после признанного древней японской историографией восшествия на престол
императора Дзимму царствовал ие Гоитидзё, а Сэйва-тэннб (на престоле - 859-876),
тогда как Гоитидзё занимал престол в 1008-1038 гг.
136 Фусб (кит. Фусан) первоначально обозначало восточные области Китая, за
тем - земли к востоку от Китая. Здесь - фигуральное обозначение Японии.
253
Среди рукописей и старопечатных книг «Водного Зерцала» из-
вестны две редакции - краткая и пространная. Из них краткая более
распространена (считается руфубон). Между этими редакциями от-
мечены большие различия в стиле. Значительные дополнения в текст
памятника внесены в конце эпохи Камакура. Их наличие вызвало в
своё время расхождения в атрибуции и датировке «Водного Зер-
цала» среди специалистов. Самым авторитетным списком в краткой
редакции памятника является старопечатное издание, а наиболее ре-
презентативным списком другой редакции - «Книга дома Маэда»
[Итико, 1986, с. 178].
Когда речь заходит о беллетризованном изложении японской ис-
тории, о той своеобразной форме, которую это изложение приняло
в «Зерцалах», обычно имеют в виду четыре произведения: «Великое
Зерцало», «Нынешнее Зерцало», «Водное Зерцало» и «Ясное Зер-
цало» (И'И'и, «Масукагами»)137. Четвёртое из них написано, по обще-
му признанию, между 1368 и 1376 гг. известным поэтом, сочинявшим
«стихотворные цепочки» (ЖЯ^, ранга), Нидзё Ёсимото (1320-1388)138.
Как и предшествующие произведения этой группы, «Ясное Зерца-
ло» написано по-японски, слоговым письмом, и представлено как за-
пись воспоминаний о давно минувших событиях их свидетелем, в
данном случае - старой буддийской монахиней.
В зачине, открывающем «Ясное Зерцало», сообщается, что не-
кий мужчина, направляясь в буддийский храм Сэйредзи в киотоском
квартале Сага (район Угёку) на церемонию, посвящённую вхожде-
нию Шакьямуни в нирвану, по пути встретил старую монахиню с
посохом в руках, возраст которой превышал столетний. Как водится,
мужчина интересуется стариной и начинает расспрашивать о ней ста-
руху, которая поначалу отнекивается, а потом поддаётся на уговоры
и пускается в воспоминания - да так успешно, что рассказывает сво-
ему попутчику даже о тех событиях, что случились ещё до собствен-
ного её рождения, - начиная своё повествование с восшествия на
престол 82-го императора Японии Готоба, в 1183 г. Помимо расска-
зов об исторических событиях, «Ясное Зерцало» содержит деталь-
ные описания жизни при дворе императоров (придворные церемо-
нии, обряды совершеннолетия, вкушения императором риса нового
урожая и др.), любовных приключений киотоских аристократов, лич-
ностей камакурских воинов, а также острые психологические зари-
совки.
137 Некоторые специалисты толкуют название произведения как «Обширное»,
«Более Крупное Зерцало» (имея в виду его сравнение с «Великим Зерцалом») При-
чина расхождения в его толкованиях становится понятной из объяснения Д. Кина:
«Слово масу используется как для глагола "добавить к...'', так и для существитель-
ного масуми, "полная ясность"». Скорее всего, в нём скрыто сочетание обоих зна-
чений.
138 Впрочем, в «Полной истории японской литературы» под редакцией Итико
Тэйдзи возможные рамки создания «Ясного Зерцала» значительно расширены. Здесь
указаны 1335-1376 гг., при том, что из четырёх предполагаемых авторов произведе-
ния предпочтение отдастся тому же Ёсимото [Итико, 1986, с. 193-194].
254
Произведение завершается рассказом о возвращении из ссылки в
Оки императора Годайго в 6-й день 6-й луны 3-го года эры Гэнкб
(1333 г.) и о въезде в столицу его сына, принца Моринага, через пять
дней после этого.
Исследователи обращают внимание на несколько особенностей
«Ясного Зерцала». Во-первых, в нём практически отсутствует диа-
лог между условным повествователем и рассказчицей: первый появ-
ляется только в завязке повествования, вторая напоминает о себе в ходе
изложения лишь очень редкими замечаниями. Во-вторых, рассказчица
предпочитает пользоваться языком хэйанских моногатари и совсем
не использует современный ей разговорный язык XIV в. В-третьих,
произведение изобилует описаниями сцен, заимствуемыми из произ-
ведений художественной литературы - «Повести о Гэндзи» (описа-
ние места ссылки императора Готоба скопировано с описания места
ссылки принца Гэндзи из главы «Сума»), «Дневника Мурасаки-сики-
бу» (рождение будущего императора Гофукакуса), «Непрошенной
повести» госпожи Нидзё, XIV в. (любовные сцены, связанные со взрос-
лым Гофукакуса), известных современникам автора танка.
Придворные обряды и нравы рисуются автором так подробно и
реалистично, а художественная литература используется так много-
образно и привлекается так часто, что историки литературы прихо-
дят к мнению: если «Ясное Зерцало» написал не Нидзё Есимото, то
это был человек его уровня - по кругу общения, литературному та-
ланту и образованности (то, что в наше время в литературе сплошь
и рядом расценивается как плагиат, в средние века ценилось как по-
казатель эрудиции и литературного таланта писателя). Во всяком
случае, признано, что автор «Масукагами» был сторонником Южно-
го двора.
Списки «Ясного Зерцала» делят, обычно, на две основные «линии».
В «Линии старых книг» произведение состоит из 17 свитков, извест-
ных в двух редакциях - редакции Оэйбон, содержащей колофоны
1376 г. и 1402 г., и производной от неё редакции Эйсэйбон с коло-
фоном 1521 г. В «Линии книг Мацухо» произведение разделено на 19
(список кисти Госукб-ин) или 20 (список из древлехранилища Мацу и
Кандзи) свитков, причём во второй из этих подредакций имеются как
списки с дополнительными главами, так и списки с иной разбивкой на
главы, иным расположением глав и с главами, иначе, чем в других
редакциях, названными.
Авторы «Четырёх Зерцал» попытались не только создать новый,
сравнительно с «Шестью отечественными историями», тип описания
исторического процесса, но и возродить для этой цели тот приём,
который, согласно преданию, был когда-то использован составите-
лями «Записей о деяниях древности», а именно представить события
прошлого в изложении древнего старца: ведь по синтоистским поня-
тиям в облике седовласого старца нередко выступают боги. Живу-
честь такого представления подтверждают и пьесы театра Но, о ко-
тором речь впереди.
255
Естественно возникает вопрос о преимуществах и недостатках
того типа исторического повествования, который представлен в «Зер-
цалах». На примере «Ясного Зерцала» его очень точно описал Като
Сюити: «Стихия "Ясного Зерцала" скорее в блеске рассказа об отно-
шениях между мужчиной и женщиной в духе хэйанских моногатари.
Например, положение, сложившееся в результате прелюбодеяния
между близкими родственниками - верховной жрицей святилищ Исэ
и её старшим братом от другой матери (свиток средний, гл. 9, "Ута-
макура"), клятвенные беседы после ухода экс-императора от мира меж-
ду его супругой и её подданным (свиток нижний, гл. 11, "Сасигуси").
Каждый из этих случаев связан с беременностью женщины. Ни один
из этих случаев с общим положением дел в стране не связан никак,
однако оба они изложены намного подробнее, чем, например, мон-
гольское вторжение» [Като, 1975, с. 266].
Одновременно с попытками некоторых авторов представить ис-
торию Японии в таком беллетризованном виде был предпринят опыт
осмысления исторического процесса как такового: около 1220 г. уви-
дели свет «Гукансё» (.©ИгЁР', «Мои личные выборки») Дзиэна (1155—
1225)139, первое и самое значительное в средневековой Японии сочи-
нение, посвящённое философии истории.
Дзиэн, известный также по имени Ёсимидзу-касе140 или Ёсими-
дзу-сбдзе, был шестым сыном канцлера (кампаку) Фудзивара-но Та-
дамити (1097-1164) и младшим братом другого канцлера, Фудзивара
(Кудзе)-но Канэдзанэ (1149-1207), настоятелем монастыря Энряку-
дзи и главой школы тэндай (тэндай-дзасу - в 1192-1196, 1201-1202,
1212-1213 и 1213-1214 гг.), мыслителем и крупным поэтом своего
времени. Мальчику было десять лет, когда умер его отец, на следу-
ющий год он поступил в учение в монастырь Энрякудзи, в 12 лет, в
1167 г., там же принял монашеский постриг, а ещё через двадцать
лет получил высший пост не только в этом монастыре, но и и во
всей могущественной школе тэндай. Он поддерживал близкие отно-
шения с императором Дзюнтоку, экс-императорами Госиракава и
Готова и сёгуном Минамото-но Ёритомо.
92 танка Дзиэна были включены в крупнейшую антологию XIII в.
«Син Кокинсю» (по их количеству он уступает в ней только знаме-
нитиму Сайгё). В XIV в. было составлено личное собрание «яшмо-
вых» танка Дзиэна «Сюгёкусю» (]р Н?Ж), где в 7 свитков включено
6117 стихотворений, отличительной особенностью которых является
«буддийская рассудочность».
«Гукансё» состоит из семи свитков. Первые два содержат очерк
основных событий, произошедших во время правлений японских им-
ператоров, начиная с Дзимму-тэннб до «нынешних годов Дзёкю»,
139 По-видимому, основная часть этой работы была написана в 1219 г., а в после-
дующие шесть лет автор вносил в неё некоторые добавления.
140 Касё — «наставник» (искажённое тюркское ходжа). В других японских буддий-
ских традициях имело форму осе, вадзё.
256
следующие четыре - более подробное изложение истории Японии
от времён Дзимму до 10-й луны 2-го года эры Дзекю (1220 г.), а седь-
мой посвящён объяснению характера движения истории, показу
пружины, которая движет историческим процессом.
Описание самой истории Японии в порядке правления импера-
торов напоминает искушённому читателю о том, что император Дзюн-
току, правлением которого оно завершается, был, по официальному
счёту, 84-м в истории Японии, и, согласно старинной китайской те-
ории «Ста монархов» (ПН£, Бай ван, яп. Хякуд), близким к 100-му,
чьё правление должно знаменовать собой наихудшее состояние дел
и нравов за всю предшествующую историю. Силой, которая приво-
дит в движение и государство, и синтоистских богов, и будд, влия-
ющих на изменение хода времени и судьбы государства, является дд-
ри принцип, причинная связь), - некая динамическая сущность,
действенность которой может корректироваться усилиями людей.
Дори пронизывает собой всю историю, сообщает ей смысл и на-
правление.
Буддийская концепция трёх этапов существования Закона (Со-
вершенный Закон, Подобие Закону и Конец Закона), имевшая распро-
странение в современной Дзиэну Японии, и концепция четырёх кальп,
оперировавшая гигантскими промежутками времени, также утверж-
дали постепенное ухудшение явленного мира, но в силу того, что
они имели дело с периодами, не приложимыми к японской истории,
наблюдатель здесь мог увидеть только часть процесса, а именно -
нарушение порядка в государстве и обществе, наступление хаоса.
Концепция «Ста монархов» позволяла рассмотреть начало и отчас-
ти прогнозировать конец соответствующего процесса. Ещё более
дробное деление истории - на 60-летние циклы - также давало воз-
можность заглянуть за их пределы, обнаружить циклическую по-
вторяемость улучшения и ухудшения положения в государстве и об-
ществе, установить меры, которые позволили бы смягчить послед-
ствия процесса объективного его ухудшения.
Анализ хода истории позволил Дзиэну утверждать, что ддри вы-
ступает в двух ипостасях - абсолютной и феноменологической, по-
добно двум частям буддийской мандалы. Абсолютный аспект он на-
звал скрытым, тёмным (Ж, мэй), феноменологический - явным, об-
наружившимся (SI, кэн) и, в зависимости от их взаимоотношения,
формы существования ддри делил на семь категорий 1) когда скры-
тое и явное находятся в гармонии; 2) когда «человек явного» не за-
мечает изменений в «.ддри скрытого»-, 3) когда «человек явного» счи-
тает, что наблюдает ддри, а с точки зрения скрытого, это - ошиб-
ка; 4) когда^всем людям открылась ошибочность того, что они счи-
тали хорошим, и они теряются, «не передумать ли?», 5) когда люди
приходят к правильному решению, обдумав многие варианты; 6) по-
добным же образом, когда, после обдумывания приходят к непра-
вильному решению; 7) когда никто не знает ддри, все ведут себя как
попало, не задумываются о последствиях. Первые три случая от-
9 Зак 3732
257
носятся к взаимоотношениям скрытого и явного, остальные четы-
ре - к чисто политическим ситуациям141.
Упоминания Конца Закона, ставшие общим местом уже в сочи-
нениях конца эпохи Хэйан, как бы объясняли тот хаос, в который
погрузилась страна с падением регенства Фудзивара и наступлением
междоусобных войн, но не указывали пути выхода из тупика. Нача-
лись поиски другой пружины, которая движет историей, и в резуль-
тате разными авторами стала предлагаться категория ддри, по-раз-
ному ими или их читателями толкуемая. Недаром проф. Кониси от-
мечает, что «"бкагами" ("Великое Зерцало") также содержит взгля-
ды, основанные на принципе, названном ддри. Но в этом случае
ддри означает общепринятый или договорный критерий, а не общий
принцип (т. 2, гл. 8). Критические взгляды в "Гукансё" намного бо-
лее продвинуты, чем в "Окагами"»142 [Кониси, 1991, с. 309].
Сочинение Дзиэна написано по-японски, гетероцрафическим пись-
мом, где знаки катакана чередуются с иероглифами ((Й^Йе С
кандзи мадзири катаканагаки). Тем самым автор давал по-
нять, что помещает его между «Шестью Отечественными истори-
ями», написанными по-китайски, и произведениями художественной
литературы, которые записывались хираганой, почти без употреб-
ления иероглифов.
Высокое социальное положение и образованность автора не ос-
тавляют места для сомнений в том, что язык «Гукансё» и его графи-
ческий стиль выбраны сознательно. Можно, конечно, предположить,
как это делает Като Сюити, что писать по-японски автора побужда-
ло убеждение в том, что даже среди тех, кто читает «китайские
письмена», мало людей, проникающихся «сознанием долга», т. е. до
конца понимающих их смысл [Като, 1975, с. 252]. Но такое толкова-
ние проблемы кажется мне несколько однобоким, упрощённо тракту-
ющим сложное явление, которое имеет и мировоззренческий, и эстети-
ческий аспекты, предполагает обязательное рассмотрение с точки зре-
ния графической стилистики.
Автографы самого Дзиэна не сохранились, как не сохранились и
списки сочинения, близкие к автографам по времени написания. В
рукописных собраниях Японии зафиксированы только списки сере-
дины и конца эпохи Эдо (1603-1867) [НБДДТ, 2, 1974, с. 289]. Многие
из катаканабон содержат колофоны 1476 г. (^ВДЛ^Г), кроме них
141 Интересно сравнить эти построения со взглядами средневековых европейских
хронистов, которые, «будучи склонными определять правильность и рациональность
человеческих поступков по их соответствию норме или обычаю... сопоставляли с ни
ми действия субъектов исторического события и так находили их "основания" или
мотивы, которые отождествлялись с причиной происшедшего события» [Хлопин,
1976, с. 152].
142 Даже в самом «Гукансё» термин дорет трактуют по-разному: «принцип», «при-
чинность», «закон», «императивы». Основная трудность в трактовании этого терми-
на состоит в том, что в разных местах сочинения Дзиэн понимает его неодинаково,
считая категорией подвижной, зависящей от исторического контекста
258
отмечено также существование списков "Гукансе", записанных гра-
фикой хирагана-, два списка из библиотеки Дзингу бунко и по одно-
му из Государственной публичной библиотеки в Уэно (бывшая Им-
перская библиотека) и библиотеки бывшего Министерства двора
(список 1784 г. кисти Кавамура Хидэнэ) В сохранившихся списках
сочинения имя Дзиэна как его автора не обозначено, тем не менее
проблема атрибуции «Гукансё» исследователями не поднималась.
В 1339 г. впервые появился (и в 1343 г. вышел в новой авторской
редакции) ещё один известный средневековый историко-политиче-
ский трактат «Дзиннб сётбки» (4ФЛ: ШйОВ, «История правильной
преемственности божественных монархов»), написанный в разгар
междоусобиц крупным придворным чиновником Южного двора Ки-
табатакэ Тикафуса (1293-1354) с целью доказать единственную зак-
онность власти Южного и незаконность власти Северного двора, а
также превосходство Японии над всеми другими державами.
Открывается это сочинение словами: «Великая Япония - страна
богов». Это ключевая посылка, на которой основана концепция ис-
лючительности Страны Обильных тростниковых равнин, Долгих по-
лутора тысяч осеней, Свежих рисовых побегов (Японии), выдвину-
тая почти за сто лет до Китабатакэ Тикафуса теоретиком синто Ва-
тараи Юкитада (1263-1305) в его «Синто гобусё» (?ФЖИр15#, «Кни-
га в пяти частях о синто» ). Дальше автор «Дзинно сётбки» приводит
ещё несколько названий, которыми обозначена Япония в древних
мифах (не отсылая, впрочем, читателя к источникам), и переходит к
толкованию топонима «Ямато» и идеограмм X В («Дай Нихон») и
(«Дай Ва») - «Великая Япония», которыми стало писаться на-
звание его страны после принятия в ней иероглифической письмен-
ности.
Затем Тикафуса излагает сведения, приводившиеся о Японии в
древних китайских хрониках, рассказывает о её географическом по-
ложении по отношению к Китаю, Индии, Персии, океану, Гималаям
и т д., останавливаясь на краткой характеристике некоторых из них,
и переходит к изложению содержания мифов начиная от времени,
когда Небо и Земля не были разделены, и кончая правлениями зем-
ных богов, выстраивая их в хронологическом порядке и уверенно
оперируя цифрами в сотни тысяч и миллионы лет. При этом места-
ми он приводит сравнения с данными из древнейшей истории Китая,
мифические правители которого оказываются несравненно более позд-
ними, чем японские земные боги (так, первые в истории Китая «три
императора» появились только через 770 000 лет после правления пя-
того японского земного бога Угаяфуки-Аэдзу-но микото143, отца
первого императора-человека Дзимму-тэннб).
Правления императоров-людей описаны начиная с Дзимму, кон-
чая 96-м, Гомураками, который был седьмым сыном Годайго и всту-
143 Всего, по версии Китабатакэ Тикафуса, Угаяфуки Аэдзу но микото правил
836 043 года.
259
пил на престол в 1339 г., после отречения отца. В порядке преемст-
венности императоров расположено всё повествование, для каждого
государя указан порядковый номер его царствования, имена его ро-
дителей и время занятия престола в циклическом летосчислении. За-
тем приводятся описания основных событий его царствования. Самые
короткие записи состоят лишь из указания продолжительности цар-
ствования и возраста, в котором данный государь умер. Более про-
странные касаются широкого круга проблем, включая внешнеполи-
тические, иногда содержат оценки событий. Примером развёрнуто-
го описания является раздел о правлении императора Сиракава
(XI в.), с которого началась система инсэй:
Автора «Дзиннб сетбки» интересует именно проблема наследова-
ния престола, а не история государства в целом. Поэтому в его трак-
тате можно увидеть данные о том, какой император чьим был сы-
ном, в каком дворце он проживал, какими средствами осуществлял
управление, но в нём нет ни слова о землетрясениях и засухах, как в
стихах и прозе Сугавара Митидзанэ, о гражданских смутах и доблес-
ти воинов, как в гунки, о распространении учений и буддийских по-
движниках, как в тогдашней житийной литературе. Попытки нашест-
вия на Японию войск Хубилай-хана никак не затронули внимания
Китабатакэ Тикафуса, потому что их описание находилось за преде-
лами задачи, обозначенной им в заглавии трактата: установить пра-
вильное наследование йпонского престола. Рассматривая произведе-
ние Тикафуса, Като Сюити замечает, что его автор «явно не стре-
мится объяснять причины событий и внутренние исторические ос-
нования изменения условий» [Като, 1975, с. 265].
Род Китабатакэ был ветвью Мураками Гэндзи, основанной Масаиэ,
внуком Гэндзи Мититика, Внутреннего министра конца ХП-нач. XIII в.,
и прадедом Тикафуса. В десятилетнем возрасте Тикафуса прошёл
обряд инициации, а ещё через три года, в 1306 г., после того, как его
отец принял монашеский постриг, сделался главой рода Китабатакэ.
Впоследствии Тикафуса на некоторое время уходил от светской
жизни, но в 1318 г., когда Годайго занял трон, стал служить при его
дворе, пользовался монаршим благорасположением, в 1324 г. стал
Великим советником (дайнагоном) и возглавил две высшие школы
для детей придворной аристократии - Дзюнна-ин (1Ж?Ефл) и Сёгаку-
ин (Й^Рл)144.
От официальной службы Тикафуса удалился в 1330 г., приняв мо-
нашеский постриг (его буддийское имя - Сбгэн), после того, как ско-
ропостижно скончался его ученик, юный сын императора Годайго.
Через три года после этого Китабатакэ Тикафуса совершил двух-
летнюю поездку на север страны, в провинцию Муцу, куда на дол-
жность губернатора был назначен его сын Акииэ (1318-1338).
144 Это были наследственные должности глав рода Мураками Гэндзи [Дзиннб
сетбки, 1980, с. 2].
260
В 1335 г. он вернулся в столицу, а затем удалился в своё главное
поместье в провинции Исэ и скоро деятельно включился в воору-
жённую борьбу со сторонниками Асикага Такаудзи (в боях с вой-
сками Такаудзи погиб один из его сыновей, активно участвовал дру-
гой). Сохранился большой архив его писем, свидетельствуюших о
старании создать коалицию сторонников Годайго [Дзиннб сетбки,
1980, с. 5].
Первые записи «Дзиннб сетбки» он сделал в 1339 г. в замке Ода,
а в 1343 г. заново отредактировал трактат. Исследователи отмечают
большое влияние, которое оказало на Китабатакэ Тикафуса при его
работе над трактатом сочинение сунского историка Сыма Гуана (1019—
1086) «Цзы чжи тун цзянь»(?Й?п «Всеобщее зерцало, помогающее
управлению»)145.
История Японии в интерпретации Китабатакэ Тикафуса основана на
трёх главных принципах: а) Япония выше всех других стран; б) это ос-
новано на том, что она - страна богов; в) страной богов она является
потому, что управляется непрерывной линией государей, идущей от
богини Солнца Аматэрасу [Дзиннб сетбки, 1980, с. 7. Кониси, 1991,
с. 501].
Принципы непрерывного наследования японских императоров,
отмечает Кониси, фактически и есть сё (истинное) Тикафуса, и это
отличает его от сунской концепции чжэн. В Китае считалось, что
когда император лишён добродетели, человек, не имеющий с ним
кровной связи, может свергнуть его и основать новую династию.
Согласно Тикафуса, это и было причиной, по которой Китай нахо-
дится ниже Японии. Главное для Японии - точное соблюдение начи-
нающейся от богов линии престолонаследия [Кониси, 3, 1991, с. 502].
Из биографии Китабатакэ Тикафуса ясно, почему эта прямая ли-
ния в «Дзиннб сетбки» ведет к императорам Южного, а не Северно-
го двора.
Существующие в настоящее время списки «Дзиннб сётоки» поч-
ти все относятся к пространной авторской редакции этого сочине-
ния 1343 г. [Итико, 1986, с. 191]. До нашего времени сохранилось бо-
лее двадцати старинных списков сочинения Тикафуса. Самый авто-
ритетный из них датируется началом эпохи Муромати и хранится в
библиотеке синтоистского святилища Сираяма Химэ (провинция Си-
раяма). Он объявлен национальным сокровищем. К этому же времени
относятся списки Парламентской библиотеки, университета Тэнри,
префектуральной библиотеки Муцу и некоторые другие. Современ-
ные печатные издания предпринимались также со списка киотоско-
го павильона Сёрэнъин (копия с него хранится в библиотеке Каби-
нета министров), с рукописного списка комплекса синтоистских свя-
тилищ Исэ дайдзингу. Сохранилось также много ксилографических
145 Известно, что Тикафуса изучал трактат Сыма Гуана и принял за образец идею
«истинного принципа» (jEJa, чжэн ли, яп. сэйри), которой проникнуты труды сун-
ских историков.
261
и старопечатных изданий «Дзинно сётоки». Ксилографы годов бэй
(1394-1427) хранятся в библиотеках университетов Тэнри и Канадза-
ва, в библиотеке Кабинета министров, в Парламентской библиотеке.
Рукописи содержат от одной до шести тетрадей, а большинство кси-
лографических изданий делится на шесть книг.
Поздняя проза сэцува
Несмотря на то, что Тикафуса игнорировал в своём описании
многие крупные политические события, потрясшие страну, са-
мо появление его трактата обусловлено политической ситуацией -
междоусобной войной и двоевластием Южного и Северного дворов,
т. е. конъюнктурными соображениями. В современной ему прозе сэ-
цува, напротив, продолжался естественный процесс: плавно развива-
лись тенденции, наметившиеся в более ранних её памятниках.
«Проза сэцува, - замечает Г. Г. Свиридов, - имеет как бы два ге-
нетических корня. Один из них - японская фольклорная традиция
(сказка, буддийская легенда, синтоистское предание, придворный, а
позже и городской анекдот). Вместе с тем в прозе сэцува, особенно
на ранних этапах ее развития, силен элемент подражания китайской
литературной традиции» [Свиридов, 1981, с. 7-8].
Китайские бяньвэнь, послужившие, как полагают, образцами для
прозы сэцува, были буддийские и мирские. Мирские бяньвэнь дели-
лись на те, которые были основаны на исторических фактах, и те, что
строились на бытовом материале. Подобную же картину представ-
ляла собой и японская проза сэцува в XII в. [Кониси, 1991, с. 126-127].
Всего сборников прозы сэцува сохранилось больше ста [Свири-
дов, 1981, с. 3, 7]. Два столетия после появления «Стародавних повес-
тей» (ок. 1100 г.) можно определить как «золотой век литературы
сэцува ». А произведением, выполнившим задачу соединения прозы
сэцува начального этапа с поздними её памятниками, был «Кодзи-
дан» (ЙЙ, «Беседы о делах древности»)146 [Итико, 1986, с. 144], сбор-
ник, в 6 тематических свитков которого вошло 462 произведения.
Этот сборник был составлен между 1212 и 1215 гг. Минамото-но
Акиканэ (1160-1215)147, крупным чиновником, который в 1212 г., за
три года до своей смерти, принял монашеский постриг. Сведений о
его жизни сохранилось немного. Известно, что он был главой Ве-
146 В XVIII в. был составлен одноименный сборник новелл укиёдздси, никак с ним
не связанный [НБДДТ, 3, 1974, с. 135].
147 Д. Кин по ошибке называет его Фудзивара-но Акиканэ [Кин, 1993, с. 585]
262
домства образования, имел 3-й младший ранг, что в одну из поэти-
ческих антологий, составленных по высочайшему повелению, «Син-
тёкусэн вакасю» вошло одно стихотворение Мина-
мото-но Акиканэ, что «...двое его сыновей получили впоследствии
губернаторские должности» [Свиридов, 1981, с. 36].
Почти все сэцува, помещённые в сборник, Акиканэ выбрал из
старых сочинений - необязательно из более ранних сборников про-
зы сэцува, но также и из исторических хроник, как, например, «Секу
Нихонги» (^ 0 «Продолжение Анналов Японии», 797 г.), сборни-
ков рассказов о возрождении в Чистой земле, дневников, написан-
ных камбуном, легенд, распространённых в народе (например, ле-
генда об Урасима). Тематически материал в «Кодзидан» распреде-
лён следующим образом. Свиток первый: сэцува об императорах и
императрицах; свиток второй: о придворных; свиток третий: о священ-
нослужителях; свиток четвёртый: о героях; свиток пятый: о синтоист-
ских святилищах и буддийских храмах; свиток шестой: о жилых до-
мах и искусствах.
Можно было бы ожидать, что аристократическое происхожде-
ние, недавнее высокое положение при дворе и монашеский сан Ми-
намото-но Акиканэ определят не то чтобы сплошь нравоучитель-
ный, но хотя бы в меру пристойный характер всех историй или слу-
чаев, описанных в его сборнике. Однако составитель не чуждается в
нём и коллизий откровенно скабрёзных, в том числе и в таких сэ-
цува, главными героями которых являются царствующие особы
обоего пола.
Написаны сэцува, вошедшие в сборник, на китайском языке, с
небольшими вкраплениями японского слогового письма (стиль ки-
рокутай, Рукописные списки «Бесед о делах древности»
хранятся в Парламентской библиотеке Японии, в библиотеках Ка-
бинета министров, Токийского государственного университета, уни-
верситета Тэнри и во многих других известных хранилищах, но сре-
ди них нет списков, близких по времени к автографу Акиканэ.
Во многих случаях под теми же обложками, что и «Кодзидан»148,
помещается «Дзоку Кодзидан» (ЙяЙГШ-йЙ, «Продолжение Бесед о делах
древности») (см.: [Кокусё, 1990, с. 432]).
Сборник «Дзоку Кодзидан», как указано в его послесловии, был
составлен в 1319 г. Само его название и расположение материала в
нём свидетельствуют о том, что этот сборник составлялся по образ-
цу его предшественника: он так же делится на шесть свитков, с по-
чти теми же названиями (третий свиток утерян) Единственное от-
личие «Продолжения» от его образца заключается в том, что его
шестой свиток составили китайские легенды (из них многие посвя-
щены учёным талантам).
48 Японские рукописи и ксилографы не переплетались, а помещались между дву-
мя листами плотной (многослойной) бумаги и прошивались кручёной ниткой
263
Составитель «Продолжения Бесед о делах древности» неизвестен,
но в японской науке высказывается предположение, что им мог быть
человек из рода Сугавара, поскольку в сборник включено много
сэцува, посвящённых Сугавара Митидзанэ [Кин, 1993, с. 587]. «Автор
"Кодзидана" обнаруживает хорошее знание китайской классики, им
использованы такие сочинения, как "Лунь юй" и "Ши цзи". Однако
китайская классика, видимо, воспринимается автором как составная
часть японской культуры» [Свиридов, 1981, с. 41]. Включённые в «Дзо-
ку Кодзидан» миниатюры написаны по-японски и, как это признано
исследователями, в занимательности они уступают тем, которые во-
шли в «Кодзидан». Более упорно, чем в его предшественнике, про-
водится здесь идея необходимости возврата к старине.
Приблизительно в те же годы появился ещё один сборник прозы
сэцува - «Удзи сюи моногатари» «Повести, собран-
ные в Удзи»), один из наиболее репрезентативных для зрелого этапа
в развитии этого вида литературы.
По размерам сборник «Повести, собранные в Удзи» не принадлежит
к числу крупных: от 196 до 198 сэцува в пятнадцати свитках (более
всего распространён вариант сборника из 197 сэцува). Но дело не в
размерах памятника, а в его характеристиках. На его примере мож-
но видеть, во что и как воплотились главные тенденции, наметив-
шиеся в развитии хэйанских сборников прозы сэцува.
В отличие от подавляющего большинства сборников XIII в., ма-
териал в «Повествованиях, собранных в Удзи», не разделён по те-
матическому признаку. Как правило, в каждом сэцува описан один
случай или ситуация. Одно описание занимает пространство от не-
скольких строк до нескольких страниц. Описания не обременены мо-
рализаторством, даже если они носят религиозный характер. Мно-
гие сэцува посвящены местным бытовым ситуациям.
Составитель сборника неизвестен, в предисловии о нём говорит-
ся невнятно. Некоторые исследователи предполагают, что сборник
«Повествования, собранные в Удзи» комплектовали несколько со-
ставителей в период между 1210 и 1220 гг. (вариант - 1212-1221 гг.),
после чего в некоторые его части вносились исправления. Сравни-
тельные исследования этого и других сборников сэцува показали,
что 84 миниатюры в том или ином виде (иногда - в несколько из-
менённой форме) встречаются в «Кондзяку моногатари сю», 22 - в
«Кодзидан» (15 из них с полным текстуальным совпадением, осталь-
ные - с небольшими отклонениями [Масуда, 1972, с. 120-121]), мно-
гие сэцува включены в сборники «Хббуцусю» (1177-1180) и «Дзик-
кинсе» (1252).
В сборнике содержатся описания случаев чудесного превращения
буддийской сутры, того, как с помощью буддийского Закона бедняк
стал богачём, как буддийский священнослужитель во время засухи
вызвал дождь, как благочестивый монах, который даже по нужде не
ходил на запад от своей обители, поскольку запад - это направление,
в котором расположена Чистая земля будды Амитабха, после своей
264
смерти возродился в Краю вечной радости. Есть в нем народные
рассказы о благодарности за добро со стороны воробья и черепахи,
они соседствуют с шуточными миниатюрами о монахах и буддий-
ских отшельниках, с рассказами, юмористический эффект в кото-
рых достигается игрой омонимов. Чёрно-белые зарисовки, характер-
ные для «Нихон рёики», вытеснены здесь многоцветными, секуляриза-
ция сюжетов сопровождается изображением реальной жизни просто-
людинов. Юмор некоторых рассказов вызывает в памяти описания,
встречавшиеся в памятниках предшествующей эпохи.
«В старину один житель Востока149 очень любил стихи и сочинял
их. Увидев светлячка, он и сложил в стиле жителей Востока:
Ах, как сверкает
В заду у насекомого огонь!
Глядится,
Как фонарик
Рукотворный.
Действительно, сложил, как Ки-но Цура[юки]!»150
(Свиток 12, № 14)
«В отличие от предшествующих сборников сэцува, - считает Г. Г. Сви-
ридов, - "Удзи сюи" предлагает такой тип повествования, когда гал-
лерея сменяющих друг друга образов, часто разноплановых, выстра-
ивается в русле единой идеи (простота, ясность этой идеи - непре-
менное условие прочной архитектоники). При этом едва ли не ос-
новной пружиной разделенного на не связанные между собою эпи-
зоды действия является некое, условно говоря, "саморазвитие" этой
галереи образов, динамика характеров» [Свиридов, 1981, с. 207]. По
сравнению с ранним этапом развития прозы сэцува в «Повество-
ваниях, собранных в Удзи» заметно расширен социальный состав ге-
роев, демократизированы сюжеты.
При видимом отсутствии деления частей сборника на какие-либо
категории, особое значение приобретает проблема внутренних свя-
зей в нём, и в их числе - роль ассоциативных связей в формировании
целостности всего «Удзи сюи моногатари».
Сборник «Повести, собранные в Удзи» в целом написан литера-
турным японским языком своего времени, но включает много разго-
ворных оборотов, и по этой причине представляет большой интерес
для историков японского разговорного языка.
Рукописные воспроизведения «Удзи сюи моногатари» распрос-
транены в нескольких редакциях, но из них наиболее близкой к пер-
воначальной форме памятника считается рукопись из двух книг. В
последнее время распространены книги-копии с ксилографов 1659 г.,
Житель Востока - житель восточных провинций страны, неотёсанный мужлан
150 Ситуации с сочинением пассажирами судна, провожатыми и корабельщиками
неуклюжих стихотворений с юмором описаны Ки-но Цураюки в его «Дневнике пу-
тешествия из Тоса».
265
также сброшюрованных в два тома (их оригиналы хранятся в биб-
лиотеке Двора, библиотеке Рюмон и личной библиотеке Ёсида Ко-
ити), но они не позволяют говорить о близости к первоначальной
форме [Кобаяси, 1968, с. 5].
После выхода в свет «Повестей, собранных в Удзи» сделалось
очевидным отличие буддийских сборников прозы сэцува от общих,
где религиозные мотивы соседствуют с мирскими, нравоучительные
с развлекательными (религиозные мотивы развивались и в немно-
гочисленных сборниках синтоистских сэцува). Начиная с «Нихон рё-
ики», один за другим появлялись сборники, подразумевавшие в ка-
честве непременного условия наличие «буддийского настроя» и у со-
ставителей, и у аудитории. В сборниках общих сэцува нет непремен-
ных условий. Стали появляться уже и такие сборники, в которых
превалировала та или другая нерелигиозная идея. Такой «идеей» в
сборнике прозы сэцува 1252 г. «Дзиккинсё» или «Дзиккунсё» (+1)11^,
«Извлечения по десяти наставлениям») было настроение ностальгии
по безвозвратно утерянному прошлому - блестящей эпохе Хэйан.
«Извлечения по десяти наставлениям» состоят из 280 сэцува,
разделённых на десять групп, каждая из которых вводится кратким
предисловием, содержащим объяснения нравоучительного смысла
данной категории новелл. Есть и общее предисловие к сборнику, утвер-
ждающее его буддийскую направленность («Вслушиваясь и всмат-
риваясь в быстротечность бренного мира, мы понимаем, что он по-
добен быстрому течению порожистой реки», пер. Г. Г. Свиридова),
однако многие его сэцува ориентированы на нормы конфуцианской
морали (так, первая их группа посвящена отношениям господина и
подданного, шестая - сыновней почтительности) и, как отмечает Ко-
ниси Дзинъити, базируются на обыкновенном здравом смысле [Ко-
ниси, 1991, с. 328].
Составитель сборника неизвестен, хотя в некоторых работах на
основании записи в колофоне одного из списков сборника в качест-
ве составителя предположительно называют некоего Рокухара Дзи-
родзаэмон-нюдо [Араки, 1961, с. 233; Такаги, 1966, с. 92; Свиридов,
1981, с. 44], а иногда и ещё двоих - Татибана Нарисуэ (составителя
сборника прозы сэцува «Кокон тёмондзю») и Сугавара Тамэнага.
Последняя из этих версий, однако, вызывает больше всего сомнений в
связи с тем, что Сугавара Тамэнага умер за несколько лет до завер-
шения сборника, в 1246 г. [НЕДДТ, 3, 1974, с. 409]. Из предисловия к
самому сборнику «Дзиккинсё» ясно только одно: его составителем
был старик.
Кроме более ранних сборников прозы сэцува, материалы для «Дзик-
кинсе» подбирались составителем из многих других источников -
«Анналов Японии» и иных исторических трактатов, «Четырёх Зер-
цал», «Повести о процветании», поэтических антологий, хэйанских
повествований - и «для воспитания молодёжи» включались в корпус
этого сборника как в несколько видоизменённой форме, так и (по
большей части) целиком, безо всяких изменений. В предисловии к
266
«Извлечениям по десяти наставлениям» говорится, что в этот сбор-
ник включены «старые и новые повествования», чтобы научить чи-
тателя распознавать «мудрое и глупое, хорошее и дурное». Большое
внимание составитель уделил проблеме воздаяния за искренность
веры. Вот один пример.
«Жил некогда священнослужитель по имени Рёсю, который ри-
совал буддийские картины. Однажды из ближайшей двери распрос-
транился огонь и охватил его дом, так что заставил его выпрыгнуть
наружу. В доме были будды, нарисованные им по заказу, его жена и
дети - словом, всё. Но ни разу мысль о них не пришла к нему в го-
лову. Спасшись в одиночку, он выбежал и встал напротив дома.
Огонь быстро распространился на всё строение, и священнослужи-
тель стоял, уставившись на вздымающееся пламя и дым.
Он всматривался в это почти безучастно. Даже когда пришли его
друзья принести свои соболезнования, он не обнаружил никаких приз-
наков движения. Друзья вытаращили глаза, удивляясь, что с ним стряс-
лось, потому что Реею застыл на месте, пристально во всё всмат-
риваясь, качая и качая головой и иногда смеясь.
- О, - произнёс он, - это поразительно. Сколько лет я рисую
плохо!
Его друзья при этом воскликнули:
- Как ты можешь так говорить?! Это же ужасно! Ты что, с ума
сошёл?
- С чего вы взяли, что я сошёл с ума? - отвечал Реею. - Годами я
рисовал пламя вокруг Фудб151 совершенно бездарно. Теперь я вдруг
увидел, как это сделать. Это потрясающе! Если я сейчас же начну
делать его таким манером, я изображу великих будд и смогу заполу-
чить множество домов. Вы, люди, у которых они есть, заблуждае-
тесь! У вас нет подобного мастерства, вот вас и терзает потеря иму-
щества.
И он стоял, насмешливо улыбаясь.
Впоследствии картины Реею «Терзающийся Фудб» вызывали
всеобщее восхищение. Хотя рассказ этот и выставляет его сума-
сшедшим, в действительности он был точь в точь как Санэсукэ152»
(свиток 5, № 35).
Рукописными списками сборника располагают Парламентская
библиотека Японии, библиотека Кабинета министров, Токийского и
Нагойского государственных университетов и многие другие храни-
лища. Списки сброшюрованы по-разному: большинство - в три кни-
ги, но есть и варианты по 2, 5, 10 и 12 книг. Текстуальных расхожде-
ний в списках немного.
151 Фудб (Фудб-мёб, Светлый король Фудб), согласно буддийской иконографии, в
руках держит меч, чтобы разбивать силы зла, и верёвку, чтобы вязать их. Обычно
изображается стоящим на скале посреди бушующего пламени.
152 В рассказе об Онономия Санэсукэ (957-1046) описано, чем он завоевал репу-
тацию мудреца: когда его дом охватил огонь, герой дал ему сгореть дотла, спасши из
огня только свою флейту и заявив потом, что огонь таких размеров - воля Неба, и
нечего ей противиться.
267
В 1254 г. увидел свет второй по объёму материала сборник прозы
сэцува «Кокон тёмондзю» «Собрание старого и нового,
известного и услышанного»153) придворного чиновника Татибана На-
рисуэ (ум. в 1272 г.).
О его составителе известно лишь то, что он имел 5-й придворный
ранг, предполагают, что в год выхода в свет сборника ему было око-
ло 50 лет. В «Мэйгэцу ки», дневнике Фудзивара-но Тэйка, написано,
что он был телохранителем регента и канцлера начала эпохи Ка-
макура, Кудзе Митииэ (1193-1252). «Кокон тёмондзю» было, как
считает Д. Кин, «последним сборником сэцува в аристократической
традиции» [Кин, 1993, с. 592].
Основанием для такого мнения служит то, что по многим пара-
метрам «Кокон тёмондзю» ориентировано на образцы «император-
ских» стихотворных антологий, начало которым было положено «Со-
бранием старых и новых японских песен»: открывается предисло-
вием на китайском языке, за которым следует общее оглавление и
двадцать тематических свитков, включает материалы, расположен-
ные в хронологическом порядке. Завершается сборник послесло-
вием составителя на японском языке154.
В двадцать свитков сборника вошло 726 отдельных сэцува, по-
делённых на 30 глав: «Небесные и земные боги», «Учение Будды»,
«Государственное управление», «Любовь», «Поэзия вака», «Музыка и
танцы», «Отважные воины», «Азартные игры», «Чудеса», «Растения»,
«Рыбы, насекомые, птицы и звери» и др. Две трети сэцува относятся
к эпохе Хэйан и проникнуты духом ностальгии по минувшему, при-
чём многие сюжеты заимствованы из хэйанских дневников и записей
хэйанских аристократов, сделанных по-китайски «Около 80 историй
"Коконтёмондзю" имеют варианты в "Дзиккинсё", вследствие чего
возникла версия, что Нарисуэ, возможно, является автором обоих
памятников. По другой версии, истории "Коконтёмондзю", име-
ющие варианты в "Дзиккинсё", не принадлежат Нарисуэ и были до-
бавлены позднее» [Свиридов, 1981, с. 45-46], (см. также [Итико, 1986,
с. 156]).
Самый старый список рукописи «Кокон тёмондзю» хранится
ныне в библиотеке Хиросимского университета и датируется, пред-
положительно, годами Дайэй (1521-1526). Он послужил протогра-
фом редакции, к которой проф. Нагадзуми Ясуаки возводил больше
сорока подредакций [Итико, 1986, с. 156].
Секуляризация прозы сэцува сопровождалась заменой сюжетов,
заимствованных из китайской литературы и буддийских сутр, сюже-
153 Перевод названия сборника, предложенный Г. Г. Свиридовым: «Собрание
древних и нынешних собраний и сказов»; Д. Кин предлагает перевод: «Collection of
Tales Heard, Present and Past», а переводчики «Истории японской литературы» Кони-
си - «Collection of Early and Recent Famous Tales».
154 Через некоторое время после его выхода в свет к сборнику стали добавлять
всё новые сэцува, располагая их позади послесловия, так что в нынешнем виде «Ко-
кон тёмондзю» имеет не вполне обычный вид: послесловие к нему оказалось распо-
ложенным перед последними рассказами.
268
тами, почерпнутыми из японской литературы (художественной, ме-
муарной, фактоописательной, буддийской житийной, исторической).
При этом первоначальная псевдодокументализация (закрепление за
китайскими сюжетами японских реалий) уступила место кажущейся
достоверной ориентации описанного события во времени и простран-
стве (кстати говоря, описание действительных происшествий стало в
эту эпоху проникать и в буддийские проповеди).
Но в послехэйанской прозе сэцува религиозные сюжеты не исчезли.
В дополнение к буддийским сборникам появились и чисто синтоистские,
и конфуцианские. В качестве одного из примеров сборников буддий-
ских сэцува обычно называют «Хоссинсю» 0ё'С?Ж, «Собрание рас-
сказов о духовном пробуждении», ок. 1214 г.), составление которого
приписывается поэту и писателю Камо-но Тёмэю (11567-1216).
В современном виде «Собрание рассказов о духовном пробужде-
нии» насчитывает восемь свитков, хотя в старинных каталогах ука-
зано, что оно состоит из трёх свитков. Специалисты заключают, что
первоначально так оно и было, но к трём свиткам, собранным Камо-
но Темэем, потомки добавили ещё пять [НБДДТ, 6, 1974, с. 411].
«Собрание» упоминается в другом сборнике прозы сэцува «Канкё-но
томо» «Друг уединённой жизни»), составленном Кэйсэном
(1189-1216) в 1216-1222 гг., что помогает уверенно датировать его.
В «Собрании» отражены взгляды, которые исповедовали адеп-
тамы тэндай-буддизма амидаистского толка. Отдельные сэцува за-
имствованы здесь из предыдущих сборников сэцува, из официаль-
ных хроник и буддийской житийной литературы. В них рассказыва-
ется, как тот или другой известный деятель японского буддизма
достиг духовного просветления, какую жизнь вели праведники пос-
ле его достижения и о возрождении их в Чистой земле, о действии
закона воздаяния, о рождении неправедных в облике насекомого,
змеи или демона тэнгу.
Текст «Собрания» написан по-японски, но в ксилографических
его изданиях отмечены две графические разновидности списков: азбу-
кой катакана записано издание 1371 г., а азбукой хирагана - издание
1670 г. Каждое из ксилографических изданий состоит из восьми свитков,
расхождений в содержании между ними нет.
Между 1279 и 1283 гг. дзэн-буддийский монах Мудзю Итиэн (1226-
1312) составил сборник буддийских сэцува (один из последних в этом
виде литературы) под названием «Сясэкисю» (^Р^Ж, «Собрание песка
и камней»), в котором 134 небольших (величиной от нескольких строк
до нескольких страниц) рассказа сгруппированы в десять тематиче-
ских свитков. Этот сборник пользовался у читателей популярнос-
тью благодаря его художественной выразительности, простоте язы-
ка и простонародному юмору, пронизывающему многие его истории.
Вот два примера коротких сэцува ;
«Четверо монахов выполняли обет семидневного молчания. Позд-
ней ночью погасили светильник, и тут один из них подал голос:
- Монахи, зажгите огонь!
269
Другой с упрёком заметил ему:
- Нельзя разговаривать там, где приняли обет молчания!
Третий монах возмутился и сказал, чтобы они перестали болтать.
Тогда четвёртый, старый монах, сан которого был выше, чем у
первых троих, в знак согласия кивнул головой, промолвив:
- Да, монахи, разговаривать не следует» (свиток 4, № 1).
«Двух проповедников позвали на официальную церемонию. Они
взяли с собой соломенные сандалии и перепутали их. Тогда один из
монахов сказал другому:
Перепутали обувь.
Ну, как это,
Как это так?!
Надо бы снова
Теперь поменяться.
Другой в ответ произнёс:
А разве не сам
Перепутал ты обувь?
Ведь сам!!!
А если я прав.
Нет вины у меня!
Стихи действительно выглядели учёными» (свиток 9, № 9).
Героями этого сборника стали монахи и самураи, слуги и кресть-
яне; их повседневная жизнь и психология представлены в нём очень
живо.
В 1352-1360 гг. появился сборник из 52 сэцува (десять темати-
ческих свитков), связанных с синтоистским культом, под названием
«Синтосю» (4ФЖЖ, «Собрание рассказов о Пути богов»). В этом сбор-
нике сосредоточены легенды о происхождении синто, о комплексе
синтоистских святилищ Хатиман-гу, о святилищах разных провин-
ций, о синтоистских символических воротах тории (М®), о местных
синтоистских божествах, о происхождении некоторых собственных
названий и т. д.
В каждом свитке сборника содержится запись: которую
разные специалисты толкуют по-своему. Гото Тандзи, например,
или Такаги Итиноскэ понимают её как «Сделал Агуи», отмечая при
этом, что биография его неизвестна [Такаги, 1955, с. 105; Гото, 1932,
с. 46]. Кониси Дзинъити понимает её как «Сделано в Агуи», объяс-
няя, что Агуи - это дочерний павильон храма Тикурин-ин, славив-
шийся своей традицией устных сказителей, а самыми знаменитыми
сказителями традиции Агуи были Текэн и Сегаку155.
По стилю изложения сборник приближается к отогидзоси (см.
далее), однако влияние прозы сэцува вообще, и сборника «Синтосю»
155 Видимо, поэтому часть источников автором «Синтосю» называет Сёгаку (см.:
[Гото, 1932, с. 46]).
270
в частности, сказалось в другом. После эпохи Муромати появилась
тенденция не составлять новые сборники такого типа, а создавать
оригинальные произведения типа отогидзоси, дзёрури, ковака, сю-
жеты для которых нередко черпались из старых сборников прозы
сэцува.
Старейший список «Синтосю» (с колофоном 1432 г.) хранится в
храме Симпукудзи (сохранились свитки 1, 3 и 7); зафиксированы
также старинные ксилографы из 15 свитков.
Дневниково-мемуарная литература.
Путевые заметки
В большинстве случаев произведения послехэйанской дневнико-
вой литературы сохраняют прежнюю жанровую мету никки
(0 IB, дневник). Но у японского художественного дневника есть своя
специфика: во-первых, он не был дневником в строгом понимании это-
го слова, так как записи в него не вносились сколько-нибудь регу-
лярно - вместо этого или всё произведение, или его крупные части
создавались целокупно, с использованием большого числа стихо-
творных материалов соответствующего периода (результат тради-
ционного отношения к поэзии); во-вторых, жанровая мета могла быть
иной, обозначая произведение как «собрание стихотворений», «по-
вествование» и др., - здесь многое зависело от соотношения в нём
стихотворного и прозаического компонентов (как и в памятниках
прозо-повествовательной литературы эпохи Хэйан) и от того, когда
же реально было присвоено данному произведению его нынешнее
название (нередко это делал не сам автор, а потомки)156. Корректнее
всего такую литературу обозначать как дневниково-мемуарную.
Примером произведения с «неправильной» жанровой метой яв-
ляется «Кэнрэй-монъин Укё-но дайбу касю»
«Стихотворное собрание Уке-но дайбу [из свиты] монашествующей
императрицы Кэнрэй-монъин»). Произведение написано известной
поэтессой своего времени Укё-но дайбу (её стихи включены в «импе-
раторскую» антологию «Синтёкусэнсю», $т$)ЖЖ), известной по-
156 В переводах на русский язык нередко жанровая мета передаётся не буквально,
а в соответствии с реальным содержанием произведения или из-за невозможности
адекватно передать в переводе множество японских терминов, обозначающих, ска-
жем, «записки» (ки, соси, куса, си) Это часто вводит в заблуждение неспециалистов,
судящих о жанровых метах в японской литературе не по оригиналу, а по тому услов-
ному обозначению, какое было предложено переводчиком (условность таких обо-
значений выясняется при сравнении переводов одного и того же произведения на
разные языки).
271
томкам не под собственным именем, а по прозвищу, данному ей,
очевидно, из-за официальной должности её отца, главы администрации
Правой части столицы (Укё-но дайбу), Сэсондзи Корэюки, и месту её
собственной службы в свите монашествующей императрицы Кэнрэй-
монъин (второй дочери диктатора Тайра-но Киёмори, настоящим
именем которой было Токуко). Дневник охватывает период времени
примерно в 50 лет, начиная с 1174 г., когда род Тайра был на верши-
не своего могущества (поэтесса оставалась преданной его поклонницей
до последних дней жизни).
Дневник Уке-но дайбу открывается прозаическим введением, со-
стоит из расположенных в хронологическом порядке танка с про-
заическими введениями в ситуацию (йёШ, хасигаки) и закан-
чивается кратким послесловием, придающим всему произведению
завершённый вид.
Первая запись посвящена описанию великолепной Новогодней
церемонии при дворе Такакура и его супруги Токуко в 1-й день 1-й
луны 1174 г., во время которой только что введённая в свиту госу-
дарыни дочь Корэюки сложила восторженные стихи:
Над облаками
Вижу я сиянье
Такого Солнца и Луны,
Что вся охвачена
Порывом ликованья!
Большую часть дневника занимает рассказ о любви писатель-
ницы и Тайра-но Сукэмори (1158-1185), внука Киёмори (в дневнике
он не назван по имени, но обрисован настолько детально, что опо-
знаётся без труда), о блеске двора в пору её службы у императрицы
и о гибели всего рода Тайра в междоусобной войне.
Последняя встреча Укё-но дайбу и Сукэмори состоялась в 1183 г.,
когда возлюбленный писательницы оставил столицу вместе с войс-
ками Тайра. В момент разлуки мысли Уке-но дайбу метались между
пострижением в монахини и самоубийством... Следующей весной она
узнала, что многие её друзья погибли в битве при Итинотани (доли-
на неподалеку от г. Нагоя); их головы были выставлены на улицах
столицы. В 1185 г. пришла весть и о гибели Сукэмори.
У автора дневника была ещё одна любовная связь, с поэтом и ху-
дожником Фудзивара-но Таканобу (1142-1205), но первую свою лю-
бовь она продолжала помнить до конца жизни.
Нет сомнения, что Укё-но дайбу написала свой дневник в послед-
ние годы жизни и пользовалась в работе над ним своей стихотвор-
ной перепиской и личным стихотворным архивом, хранившимся де-
сятилетия, скомпоновав его сознательно как цельное произведение.
Не исключено, что она искренне считала его стихотворным собранием
(к этому мнению её могло склонить общепринятое представление
об иерархии жанров), но, объективно, написала насыщенный сти-
хами дневник. По общему признанию, стихотворения в нем не очень
272
высокого уровня и эмоционально выигрывают главным образом
благодаря включению в произведение прозаических фрагментов, созда-
ющих фон для стихотворений.
Во многих древлехранилищах Японии зафиксированы разные
рукописные и ксилографические списки этого произведения с не-
большими различиями в написании его названия. К ранним относят-
ся списки университета Кюсю (XIV в.), библиотеки Двора и универ-
ситета Кансай (оба XV в ). Все списки состоят из двух свитков.
В начале 80-х гг. ХШ столетия увидело свет произведение,
ставшее известным под названием «Идзаёи никки» (+В 1Е,
«Дневник полнолуния»). Его автор, монахиня Абуцу (Абуцу-ни или
Абуцу-бо), когда ей было лет семнадцать или восемнадцать, написа-
ла «Утатанэ-но ки» (5 tcTc.i'Z.CDli, «Записки об увиденном сквозь
дремоту»), романтический, в духе хэйанских, дневник о своей первой
любви
Абуцу происходила из семьи придворного чиновника среднего
ранга, в молодости состояла в свите императрицы Кунико (Анка-
монъин, 1209-1283), некоторое время жила в одном из буддийских
храмов г. Нара. Есть свидетельство одного из её пасынков, что ког-
да-то она занималась переписыванием «Повести о Гэндзи» (влияние
этого произведения явно сказалось на первом дневнике Абуцу).
В возрасте около тридцати лет Абуцу (тогдашнее её имя неиз-
вестно) вышла замуж за Минамото-но Акисада, но тот вскоре по-
стригся в монахи, оставив её с тремя детьми. Около 1260 г. Абуцу
вышла за знаменитого поэта Фудзивара-но Тамэиэ (1198-1275), сы-
на и внука крупнейших поэтов своего времени. Она познакомилась с
ним ещё в 1153 г. и была примерно одного возраста с его старшими
детьми (видимо, даже несколько моложе самого старшего из них,
Тамэудзи, 1222-1285).
В 1263 и 1265 гг. у Тамэиэ и Абуцу родились два сына, после чего
муж стал охладевать к своему старшему сыну, Тамэудзи, которого
прежде, в 1259-м или 1260 г., официально объявил своим наследником,
завещав ему три поместья. Дважды, в 1273 и 1274 гг., он составлял
новое завещание, отменявшее наследственную передачу одного из
этих поместий, Хосокава в провинции Харима, Тамэудзи в пользу
десятилетнего Тамэсукэ, его сына, рождённого Абуцу.
В 1275 г. Фудзивара-но Тамэиэ умер, а его вдова приняла мона-
шеский постриг. После смерти отца Тамэудзи отказался выполнить
его волю и уступить Хосокава. Абуцу затеяла имущественную тяж-
бу и стала искать поддержки императорского двора, но не получила
ее: юрисдикция двора запрещала пересмотр первоначального заве-
щания. Тогда она отправилась в Камакура искать поддержки сёгун-
ского правительства.
Дело в том, что свод законов, под действие которых подпадала
придворная аристократия, в части наследования отличался от свода
законов, действительного для прямых вассалов сёгуна. Оба предус-
матривали свободную волю главы семьи в выборе наследника или
273
разделе владений между несколькими наследниками в любое назна-
ченное им время, «однако, - как отметил Э. Рейшауэр, - существо-
вало и примечательное различие между двумя этими системами зак-
онов: Камакура признавало право пересматривать своё завещание
сколько угодно раз и даже брать назад имущество, передача ко-
торого уже была осуществлена, тогда как Киото не допускало этой
привилегии» [Рейшауэр, 1951, с. 43].
Вопрос о наследовании поместья Хосокава не был сразу решён и
сёгунским правительством. Абуцу обратилась к нему со своей проб-
лемой в самый напряженный период - в промежутке между двумя
попытками монгольского нашествия, в разгар крестьянских восста-
ний и стараний феодалов из юго-западных провинций ослабить цен-
тральную власть, во время следовавших одно за другим стихийных
бедствий. Поместье Хосокава сыну Абуцу, Тамэсукэ, всё-таки было
присуждено, но... лишь через 30 лет после её смерти.
Абуцу пробыла в сёгунской столице больше трёх лет. Существу-
ет мнение, что она там и умерла (правда, в последнее время оно счи-
тается ошибочным). После её смерти, по мнению Митани Эйити, из
трёх разных произведений писательницы было составлено одно, по-
лучившее название «Дневник полнолуния» [Митани, 1966, с. 4].
«Дневник полнолуния» можно разделить на три части. Первая
состоит из вступления, объясняющего причины поездки автора в
Камакура и описывающего грусть её расставания с детьми, и из пу-
тевых заметок. Витиеватый стиль изложения требует определённо-
го уровня подготовки читателя.
«Ведь нынешние дети даже во сне не ведают, что название книги,
отысканной в старину внутри стены157, и к ним имеет отношение.
Хотя и подлинны завещания, написанные снова и снова158, словно
листья пуэрарий на холме младых побегов159, непригодным-то оказа-
лось как раз родительское волеизъявление. К тому же, понимая в
душе, что я осталась вне дел управления мудрого государя160, не ос-
тавляющих людей без внимания, и не затронула чувства вернопод-
данных его, занятые народом, что была одной из тех, кому нет числа,
я всё-таки тяготилась этой тревогой, с которой ничего не могла по-
делать, потому что долее так быть не должно».
Путевые заметки включают 14 подённых записей. Каждая запись
содержит помимо даты и названия местности какой-то штрих в её
характеристике или характеристике ситуации, цитату или реминис-
157 Намёк на «Сяо цзин» («Книга о сыновней почтительности»), запись бесед Кон-
фуция о сыновией почтительности, ее-де не соблюдает пасынок писательницы, не
подчинившийся воле отца.
158 Т. е. в 1273 и в 1274 гг.
В оригинале - цепочка соподчинённых постоянных эпитетов, в конечном счё-
те определяющих слова «снова и снова».
160 Намёк на то, что при дворе она ие нашла в своей тяжбе положительного ре-
шения.
274
ценцию из классической литературы, стихотворение, сложенное Абуцу
или кем-либо из её попутчиков, эмоциональную реакцию.
«Восьмое число. Случилась помеха, и мы остаёмся всё там же.
Нынче вечером луна погружалась в море. Глядя на неё, мы вспоми-
нали стихи господина Нарихира:
Раздвиньтесь, гребни гор, -
Хочу, чтобы луна не заходила!
Если бы он слагал их на морском берегу, то сложил бы, наверное,
так:
Восстаньте, волны, помешайте ей -
Хочу, чтобы луна не заходила!
А теперь, вспомнив эти стихи, один человек продекламировал:
Когда смотрю я, как струится
По волнам от луны сияющий поток,
Я представляю -
В этом море
Реки Небесной161 кроется исток».
Намёк на стихотворный диалог с прославленным Аривара-но На-
рихира представлен здесь в форме условного поэтического состяза-
ния, причём цитата из классика оттеняет и по-новому представляет
оригинальное описание. Нарихира делается почти участником сце-
ны. Даётся своеобразный намёк на возможность обратной связи с
ним: писательница помещает его в предложенные ею самой условия
и домысливает его реакцию на них. Это не случайный приём, а отз-
вук внедрения в литературу синтоистского мировоззрения. Подоб-
ную двустороннюю связь мы обнаруживаем в японских мифах, она
же явственно выступает в средневековой драме...
Иногда вступление и путевой дневник рассматриваются как са-
мостоятельные части.
Вторая часть «Дневника» имеет в основном эпистолярный харак-
тер и рассказывает о жизни писательницы в Камакура начиная с 8-й
луны следующего после прибытия года. В переписке с детьми, род-
ственниками покойного мужа и знакомыми, живущими в Киото, зна-
чительная роль отводится стихам (заметим, что Абуцу была извест-
ной поэтессой).
Третью часть составляет нагаута - 151-строфное стихотворение,
сочинённое Абуцу на четверый год её пребывания в сёгунской сто-
лице и представляющее собой её молитву о даровании победы в тяжбе,
произнесённую в камакурском храме синтоистского бога Хатимана.
Эта последняя часть включена не во все списки «Дневника полно-
луния» и часто рассматривается как самостоятельное произведение.
По мнению Тамаи Коскэ, вступление и путевые заметки с самого
начала были единым целым. Они написаны и посланы детям вскоре
161 Небесная Река - Млечный Путь.
275
после прибытия Абуцу в Камакура. Эпистолярная часть составлена
через какое-то время после получения последнего из включённых в
неё стихотворений. Основанием для такого вывода послужила за-
ключительная фраза третьей части дневника: «После этого много
накопилось писем со стихотворениями из столицы. Нужно опять
записывать». Через несколько лет к этим частям была добавлена
последняя, нагаута [Тамаи, 1932, с. 45].
В «Кудзёбон», старинном списке из хранилища книг дома Кудзё,
перешедшем в личное собрание крупного литературоведа Сасаки
Нобуцуна, нет нагаута. Но в автографе Асукаи Масааки, имеющем
колофон, датированный 1-м днём 3-й луны года Эйнин 6-го (13
апреля 1298 г.), нагаута содержится. Значит, уже через 15 лет после
смерти Абуцу состав её «Дневника полнолуния» был таким же, как и
в большинстве сохранившихся доныне списков. Возможно, объедине-
ние компонентов дневника было произведено сыном писательницы,
Фудзивара-но Тамэсукэ.
Название дневнику было присвоено после смерти писательницы
и обязано начальной статье путевых заметок. Идзаёи- это ночь на
16-й день лунного месяца. В 16-й день 10-й луны, в полнолуние, Абу-
цу выехала из императорской столицы в Камакура Поэтому весь
дневник и был назван «Дневником полнолуния». Однако это не един-
ственное его название. Так, список «Масаакибон» озаглавлен «Абу-
цу-но мити-но ки» (И(АГО Ж ГО IE, «Дорожные записи Абуцу»), а
«Кудзёбон», восходящий к автографу праправнука писательницы,
Кудзё Мотитамэ, называется «Абуцу ки» «Записи Абуцу») и
содержит специальное название для той части дневника, в которой
описано пребывание писательницы в Камакура, - «Адзума никки»
(Ж 0 IB, «Восточный дневник»).
Существующие в настоящее время списки «Дневника полнолу-
ния» сравнительно новы. Старейшие из них относятся к XVII в.: кио-
тоское ксилографическое издание 1659 г. и ксилографическое изда-
ние Токугава Мицукуни (1628-1700) 1689 г. В 1824 г. была предпри-
нята первая попытка составления сводного текста на основании трех
рукописных и четырех ксилографических текстов памятника - это
работа токугавского учёного Оямада Томокиё (1783-1847) и его уче-
ника Хбдзё Токитика (1802-1877), названная ими «Выборки об ут-
ренней луне из Дневника полнолуния» («Идзаёи никки дзангэцусё»)
[Рейшауэр, 1951, с. 120-121]. За основу текста в ней взят ксилограф
1659 г. [НБДДТ, 1, 1974, с. 127]. Все современные издания произве-
дения Абуцу базируются на сравнении этого сводного текста с текс-
том «Кудзёбон», открытым позднее и введённым в научный обихид
Тамаи Коскэ.
Хэйанская традиция написания художественных дневников жен-
щинами в XIV-XV вв. почти сошла на нет: до нашего времени сохра-
нились дневники и путевые заметки этого времени, написанные, в
подавляющем большинстве случаев, мужчинами. Пожалуй, единст-
276
венным исключением из этого правила были «Такэмуки-но ки» (ТТ
ГОвВ, «Записки Такэмуки»)162, которые относятся к 1329-1349 гг.
Дневник начинается с описания церемонии совершеннолетия на-
следного принца, будущего императора Кбгон (1313-1364, на престо-
ле - 1331-1333), - описания, напоминающего соответствующие мес-
та из «Дневника Мурасаки-сикибу»: с изложением деталей церемо-
нии и перечислением нарядов придворных дам. «Такэмуки-но ки»
делится на два свитка, «верхний» (1329-1333) и «нижний» (1337-1349);
промежуток времени между ними составляет три с половиной года.
Такэмуки описывает придворную жизнь, бурные события при дворе,
когда опальный император Годайго в 1333 г. бежал из ссылки и его
войска окружили Рокухара, оплот Хбдзё, где укрывались Кбгон-тэнно
со своей свитой и два экс-императора. Она рассказывает о своей
любви к Сайондзи Киммунэ (1309-1335), крупному придворному, слу-
жившему Северному двору, о своём сыне Санэтоки, который родил-
ся уже после смерти его отца, в трёхлетием возрасте прошёл цере-
монию первого вкушения рыбы (с её описания начинается «нижний»
свиток), а к 15 годам уже имел чин советника 3-го ранга.
Многие исследователи считают, что первоначально существовал
и «средний» свиток «Записок Такэмуки», посвящённый событиям 1334-
1336 гг., таким, как арест и смерть Сайондзи Киммунэ, рождение
Санэтоки, политическая ситуация этого времени. Другие же думают
иначе. По версии Д. Кина, например, пропуск во времени объясня-
ется только тем, что автор писала свой дневник для своего сына, для
того лишь, чтобы рассказать ему о жизни его родителей, когда его
самого ещё не было на свете [Кин, 1993, с. 846].
Впервые «Записки Такэмуки» стали известны после публикации
в журнале «Сигаку дзасси» (№ 6 за 1911 г.), осуществлённой Вада
Хидэмацу. Списков сочинения почти не сохранилось; известна руко-
пись хорошей сохранности в библиотеке Парламента. Некоторые со-
бытия, связанные с героями «Записок», описаны в других сочинени-
ях того времени (в частности, смерть Сайондзи Киммунэ - в 13-м свитке
«Повести о Великом мире»),
В предыдущую эпоху центром всей политической, экономиче-
ской и культурной жизни Японии была её столица, и путевые замет-
ки касались либо переездов чиновников из Киото в провинцию (или,
162 Есть некоторый разнобой в толковании слова «Такэмуки» в заголовке. Д. Кин пи-
шет, что автора «Записок» звали, скорее всего, Нако (хотя и не исключено, что Мэй-
си), а «Такэмуки» - это название дворца, где она жила во время написания второй
половины своего дневника [Кин, 1993, с. 844, 849] Иваса Миёко называет автора
Мэйси [Иваса, 1990, с. 71]. ГотоТандзи, Араки Ёсио и Кониси Дзииъити считают, что
название сочинения происходит от имени его автора, Такэмуки [Гото, 1932, с. 31; Араки,
1961, с. 199; Кониси, 1991, с. 471]. Наиболее удовлетворительное объяснение загла-
вия дал проф Фукуда Хидэити, заметивший, что Такэмуки - это прозвище Мэйси (пер-
воначальное имя - Сукэко), дочери крупного чиновника Южного двора Хиио Сукэна
[Фукуда, 1975, с. 187] Впрочем, прозвище человека в древней Японии часто проис-
ходило от названия местности, улицы или дворца, где он долго жил, а имя 4S Т мо-
жет читаться и как Мэйси, и как Нако.
277
по окончании службы, обратно), либо кратковременных поездок сто-
личных жителей на поклонение в известные буддийские храмы.
Маршруты путешествий были разными, мотивы их тоже не были
одинаковыми, поэтому внимание читателей фиксировалось не на одних
и тех же внешних описаниях, однотипных сюжетных ходах или ду-
шевных состояниях героев. Путевые заметки объединяло то, что сто-
лица в них представлялась авторами центром психологического на-
пряжения, записи документировались в пространстве и во времени,
но велись не сразу вслед за событием, а по прошествии какого-то
времени после его окончания и опирались на стихотворения или письма,
написанные в пути; внешний мир виделся глазами главного героя,
который не всегда отождествлялся с повествователем. Авторами
путевых заметок (или произведений, частью которых они были) яв-
лялись представители придворной аристократии, по большей части
женщины.
После того, как власть поделилась между Киото и Камакура, не-
сколько изменилась и эта ситуация. Обе столицы соединял Восточ-
ный приморский тракт - Тбкайдб, на котором были устроены поч-
товые станции с постоялыми дворами для путников и конными
упряжками для курьеров. Обычный путь по этому тракту занимал
две недели, экстренный (на перекладных) - три дня.
Первый по времени камакурский памятник, написанный в жанре
путевых заметок, - «Кайдбки» ((SiMItl, «Записки о Приморском
тракте») - описывает события 1223 г. (2-го года Дзёб): в 4-й день 4-й
луны автор оставил свой дом в столичном районе Сиракава, через
две недели прибыл в Камакура, осмотрел местные достопримеча-
тельности (сёгунский дворец, буддийские храмы и синтоистские свя-
тилища - Эйфукудзи, Цуругаока Хатимангу, Эносима дзиндзя и др.,
долину Тогами, бухту Оисо и пр.) и отправился в обратный путь.
Считается, что произведение это создано сразу же вслед за описан-
ными в нём событиями [Фукуда-Пурутёу, 1975, с. 36].
Структурно «Записки о Приморском тракте» делятся на три час-
ти: 1) вступление, 2) описание путешествия из Киото в Камакура, 3) опи-
сание пребывания автора в Камакура и намерение вернуться в Кио-
то. Вторая часть самая большая в произведении: в ней описываются
дорожные виды и знаменитые места, цитируются литературные па-
мятники, в которых упомянуты соответствующие достопримечатель-
ности (в первую очередь «Исэ моногатари»), сюда вставлены стихи.
Стиль «Записок» лаконичен, приближается к камбунному. Весь па-
мятник отличается буддийской окрашенностью. Сами «восточные
земли» привлекают автора тем, что в них «заново распространяется
Закон Будды», и есть возможность добиться внутренней чистоты
посредством самоуглубления, а обратный путь из Камакура в импе-
раторскую столицу - тем, что продвижение на запад поможет ему
укрепиться в решимости достичь земли Крайней радости (Чистой
земли будды Амитабха), расположенной далеко на западе.
Ещё средневековые филологи много спорили о том, кто автор
«Записок о Приморском тракте» - Камо-но Темэй (1153-1216) или
278
Минамото-но Мицуюки. Первый из них был был известным писателем
и поэтом, автором работ по теории поэзии, убеждённым буддистом.
Самое уязвимое место этой атрибуции - хронологическое несоответ-
ствие: в 1223 г. Камо-но Тёмэя уже семь лет не было в живых. Более
достоверной может показаться вторая атрибуция: Мицуюки (точ-
ные годы его жизни не установлены) участвовал в подготовке «мя-
тежа годов Дзёкю», потом постригся в буддийские монахи и, очевид-
но, был жив в 1223 г. Но в «Записках» упоминается, что их автор
впервые путешествует на восток, а Мицуюки, как известно из дру-
гих источников, уже бывал там до того времени. В 1967 г. Ниваяма
Цуми высказал мнение о том, что автор «Записок о Приморском
тракте» имел в виду не вообще первое своё путешествие на восток,
а лишь первое после принятия монашеского сана [Итико, 1986, с. 253].
При таком (пусть несколько искусственном) толковании вторая
атрибуция может оказаться допустимой.
Очень похожи на «Кайдоки» по содержанию, структуре (вступ-
ление, путевые заметки, рассказ о пребывании в Камакура) и пред-
положениям об их авторстве «Тбкан кикб» (MHeU2?T, «Записки о пу-
тешествии к восточным заставам»). Автор этих «Записок», по-види-
мому, буддийский монах, оставил свою хижину в Восточных горах
возле Киото в 10-х числах 8-й луны 3-го года Ниндзи (начало сен-
тября 1242 г.) и через десять с лишним дней прибыл в Камакура, где
провёл почти два месяца. В 13-й день 10-й луны (7 ноября) он со-
брался в обратный путь и на этом закончил свои «Записки».
Автор заявляет, что описывает то, что попадается ему на глаза,
хотя в действительности часто отходит от прямых описаний, увлека-
ясь историческими и литературными ассоциациями, что позволяет
ему, по замечанию Мики Сумито, путешествовать как сквозь время,
так и сквозь пространство [Мики, 1979, с. 77]. В описаниях хорошо
прослеживаются характер, эрудиция и литературный вкус автора и
особенности путевых заметок как одного из проводников литера-
турной традиции в средневековой Японии.
«Когда мы перевалили через горы Уцу, среди густых зарослей
дикого винограда и клёна каэдэ нам стали непрерывно встречаться
следы старины. Где-то здесь Нарихира передал своё поручение буд-
дийскому отшельнику. Пока я шёл, высматривая, где бы это могло
случиться, у обочины дороги увидел столбик с надписью: "Здесь жи-
вёт человек, оставивший мир, с которым его ничто не связывает".
Было это совсем близко от дороги, и я на минуту зашёл посмот-
реть. В крохотной травяной хижине живёт буддийский монах. Висит
изображение будды Амида с надписью из сутры о Чистой земле. Боль-
ше не видно ничего. Когда я спросил о начале его духовного про-
буждения, хозяин хижины ответил мне так:
- Я и прежде жил в этой провинции, был закононаставником, ма-
ло склонным к размышлениям, но не мог перебарывать свою плоть.
Поэтому когда я взирал на Закон, сердце моё было тёмным, а когда
размышлял о Будде, дух мой оставался ленивым. Хотя и говорят,
279
что недостаточно двух путей аскета - подвижничества и подавления
плоти, вместе взятых, я по наставлению одного человека, сказав-
шего, что спать среди гор лучше, чем прилагать старания, живя в
селении, сплёл в этих горах хижину и провёл здесь многие годы и
месяцы.
Говорят, что в старину Шу Ци, войдя в облака на горе Шоуян,
взял с собой трёхлетний папоротник. Сюй Ю, живя наедине с луною,
отражённой в водах реки Ин, без раздумий повесил на сук сосуд из
тыквы. <...>
Не очень далеко от этой хижины, едва мы достигли места под
названием Перевал, показалась большая ступа, в ней находились книги
для ежегодных записей. Среди множества песен, записанных здесь,
можно прочесть такую:
На всём пути до Адзума
Превыше всех поставлю это место.
В горах Уцу
Тропа укрыта диким виноградом -
Очарованье в нём глубоко.
Песня привлекла моё внимание, и, поразмыслив, я написал рядом:
Я тоже ещё раз
Превыше всех поставлю это место.
В горах Уцу
Роса под диким виноградом
Прелестна, если расстаёшься с ней».
Запись документирована в пространстве. Название местности
привязано к содержанию «Исэ моногатари», памятника, создание
которого приписывается Аривара-но Нарихира. Как и в других за-
писях, выделен определяющий данную местность признак - заросли
дикого винограда. Горная тропа и одинокий монах в травяной хи-
жине служат поводом для намёка на старинную китайскую легенду
о Шу Ци и его старшем брате, которые умерли оттого, что ели па-
поротник на горе Шоуян, и на историю китайского отшельника Сюй
Ю, отличавшегося чистотой помыслов и нежеланием иметь какие-
либо привязанности в быту, а потому не пожелавшего пользоваться
даже простым сосудом из тыквы, который ему подарили, увидев,
что он пьёт воду, зачерпывая её прямо из реки ладонями. Наконец, в
этой же записи содержится своеобразная стихотворная перекличка
с неизвестным путником по поводу неповторимого очарования дан-
ной местности.
Места, не дающие материала для историко-литературных, исто-
рических и прочих экскурсов или для упражнений в стихосложении,
в путевых заметках этого времени, как правило, не упоминаются.
Значительную группу в литературе XIII-XIV вв. составляют пу-
тевые заметки, не выделенные в самостоятельные произведения, а
вошедшие в виде разделов в авторские смешанные сборники или в
произведения других жанров.
280
В их число входит «Синдзё-хоси никки» В IE, «Дневник
закононаставника Синдзё»), представляющий первую часть «Син-
дзё-хоси сю» «Стихотворное собрание закононастав-
ника Синдзё») [Фукуда, 1975, с. 241]. Синдзё-хоси - буддийское мона-
шеское имя поэта Уцуномия Томонари, который в миру был самура-
ем, наследственным вассалом третьего сёгуна Минамото-но Санэ-
томо (1192-1219) и, как сообщают средневековые источники, его
партнёром в поэтических состязаниях.
Он родился и жил не в Киото, а в Тбгоку, Восточных провинциях
Японии. В 1219 г., после смерти своего сюзерена, поэт принял постриг
и уехал в Киото, чтобы пройти аскетическое воспитание в тамош-
них монастырях. Через шесть лет, во второй половине марта 1225 г.
(около 10-го дня 2-й луны 2-го года Гэннин), Синдзё-хоси предпри-
нял по обету странствие в Камакура, куда прибыл 9 апреля. Там он
совершил поминальную службу по Минамото-но Санэтомо, после
чего направился на северо-запад, в знаменитый буддийский храм
Дзэнкбдзи (г. Нагано).
На этом странствия Синдзё-хоси не закончились: были ещё по-
сещения Камакура и родных мест (для проведения поминальной
службы по умершей незадолго перед тем жене), затем новые стран-
ствия. Все они описаны в его «Дневнике», причём рассказ о первом
отрезке пути, от Киото до Камакура, сравнительно невелик, насы-
щен китаизмами [Итико, 1986, с. 257] и уделяет внимание не столько
характеристике пути и достопримечательностей, сколько описанию
личных переживаний автора.
По форме это произведение объединяет с другими путевыми за-
метками сочетание прозаических описаний со стихами (правда, здесь
меньше обычного литературных цитат и реминисценций), по настро-
ению - чувство эфемерности сущего, особенно отчётливо выражен-
ное в статьях о посещении могилы Минамото-но Санэтомо, о встре-
че с Ига-сикибу Мицумунэ, о посещении буддийских храмов и син-
тоистских святилищ.
Ко второй половине XII в. относится группа из нескольких не-
больших путевых дневников, объединённых общим названием «Асукаи
Масаари-но никки» 0 BE. «Дневники Асукаи Масаари»).
Как и «Дневник Синдзё-хоси», их почти все открыл и ввёл в науч-
ный оборот проф. Сасаки Нобуцуна (1882-1963). Это «Мумё-но ки»
(М^С>йЕ, «Записки без заглавия», ок. 1269 г.), «Сага-но каёи дзи»
V' IS, «Дорога в Сага и обратно», 1269 г.), «Могами-но
кавадзи» (ft-ЬоМЙ, «Путь по реке Могами», ок. 1269 г.) и «Мия-
кодзи-но вакарэ» (Й^Й^Ъй'Н, «Отправление в столицу», 1277 г.).
Общее название они получили при первой их публикации в 1949 г. Впо-
следствии к ним присоединили путевые заметки того же автора «Ха-
ру-но фукаямадзи» (^ЮЙ£Ц1!Й, «Дорога в глубь весенних гор», 1280 г.),
известные ранее по публикации в 522-й книге «Дзоку гунсё руйдзю»
«Вторая серия Сочинений, классифицированных по ви-
дам»), составленной токугавским филологом Ханава Хокиноити
(1746-1821).
281
Асукаи - одна из ветвей рода Фудзивара. Дед автора «Дневников»,
Асукаи Масацунэ (1170-1221) был поэтом, одним из составителей
знаменитой «императорской» антологии, а сам Масаари (1241-1301),
поэт, получивший основательное и разностороннее образование, час-
то путешествовал по тракту Токайдо от Киото до Камакура и об-
ратно: он был близок и к придворным кругам Киото, и к сёгунскому
окружению и владел особняками в обеих столицах.
Путевые заметки его коротки, написаны просто, без увлечения
китаизмами, содержат упоминания многих придорожных населён-
ных пунктов и достопримечательностей с указанием их характер-
ных признаков и расстояний между ними. «Дорога в Сага и обратно»
включает и воспоминания Масаари о том, как он учился у Фудзи-
вара-но Тамэиэ пониманию классических памятников «Кокинсю», «Исэ
моногатари», «Гэндзи моногатари». В «Дороге в глубь весенних гор»
он часто цитирует «Нихонги», «Макура-но соси», «Сарасина никки»
и особенно «Исэ моногатари», приводит собственные стихи. В целом
«Дневники Асукаи Масаари» интересны тем, что их автор прекрасно
знал саму дорогу и литературу, ассоциирующуюся с нею, мог руко-
водствоваться многими критериями при выборе предмета описания
и формы изложения. При всём этом он придерживался тех литера-
турных норм, которые были выработаны его предшественниками
по написанию путевых заметок.
Одна из характерных черт путевого дневника - обращение к из-
вестным литературным произведениям, в которых описаны упоми-
нающиеся достопримечательности. Литературные экскурсы не бы-
ли открытием японских писателей. Как особый приём они заимст-
вованы из китайских путевых дневников. Так, путевой дневник ки-
тайского поэта Лу Ю (1125-1210) «Поездка в Шу» (1169 г.) заполнен
ими. По словам Е. А. Серебрякова, «дневник показывает, что вся при-
рода представала перед Лу Ю еще, так сказать, в опосредствованном
виде - отраженной в творчестве предшествующих поэтов. Так, в во-
семнадцатый день седьмого месяца Лу Ю был около гор Дунлян и
Силян, и при виде красивого пейзажа в его памяти всплыли строки
стихотворений Ли Бо, Ван Ань-ши, Мэй Яо-чэня и Сюй Фу. И эти
поэтические образы привнесли в пейзаж дополнительные краски,
придали ему неизгладимую прелесть» [Лу Ю, 1968, с. 132].
В японских путевых заметках ХШ-начала XIV в. литературные
экскурсы стали не просто устойчивым художественным приёмом.
При всей ориентированности таких заметок на документальность
изложения они явились инструментом превращения фактоописаний
в художественные зарисовки, помогали обобщить материал. Поэто-
му отсылка к классическим образцам в описании путешествий не
ограничивалась путевыми заметками, а распространялась на разные
жанры художественной литературы.
Автобиографическая повесть
В№ 9 журнала «Кокуго-то кокубунгаку» за 1940 г. была опубли-
кована сенсационная статья: проф. Ямагиси Токухэй обнару-
жил в библиотеке Императорского двора рукопись с неизвестным
до тех пор художественным произведением в прозе, написанным при-
дворной дамой ХШ в., «Товадзугатари» (i Ъ’Тй'Л: *9 , «Непрошен-
ная повесть»). Её прочтение и подготовка к изданию заняла около
десяти лет, и в 1950 г. «Повесть» была опубликована профессором
Ямагиси в виде отдельной книги в библиотеке Кацураномия. Сочи-
нение стало открытым для новых исследований, комментирования и
переводов на современный язык. Уже в 1966 г. появились три новых
его издания, подготовленные Накада Норио, Токимура Токудзиро и
Цугита Кацуми. Скоро появились и переводы «Непрошенной повес-
ти» на иностранные языки163.
Автор «Повести», дама по имени Нидзе, родилась в 1258 г. и при-
надлежала к высшему слою придворной аристократии. Её отец, стар-
ший советник (дайнагон) Кога-но Масатада (1228-1272)164, был сы-
ном Первого министра Кога-но Митимицу, а мать (её девочка ли-
шилась в двухлетнем возрасте) - дочерью главы Военного ведом-
ства, старшего советника Сидзё-но Такатика.
«Непрошенная повесть» по типу изложения стоит так близко к
дневнику, что многие исследователи причисляют её к дневниковой ли-
тературе. Другие соотносят это произведение с хэйанскими монога-
тари, усматривая в нём черты, отличающие его от дневников. И. Л. Льво-
ва, возводя «Повесть» Нидзё к жанру дневников, отмечала;
«Перед нами не дневник в современном понятии этого слова. Правда,
повесть строится по хронологическому принципу, но очевидно, что
создана она, если можно так выразиться, "в один присест", на склоне
жизни, как воспоминание о пережитом. Начитанная, образованная
женщина, Нидзё строго соблюдает выработанный веками литера-
турный канон, прибегает к аллюзиям и прямому цитированию из зна-
менитых сочинений не только Японии, но и Китая, обильно уснаща-
ет повествование стихами, наглядно показывая, какую важную, можно
сказать, повседневно необходимую роль играла поэзия в той среде, в
которой протекала жизнь Нидзё. Широко используются так назы-
163 Перевод на русский язык сделан И. Л. Львовой (стихи переведены А. А. Доли-
ным) (см: [Нидзё, 1986]).
164 Описывая смерть своего отца во втором свитке «Повести», Нидзё указывает,
что он скончался в 3-й день 8-й луны Бунъэй 9-го года в возрасте 50 лет. Названный
год соответствует 1272 г. по европейскому летосчислению. Но в этом году отцу пи-
сательницы было не 50 лет, а лишь 44 года. Загадка решается просто. По принятому
в средние века на Дальнем Востоке счёту возраста Масатада исполнилось не 44, а 45
лет, а 45-летнего человека уже принято было называть 50-летним [Фукуда, 1981,
с. 130-131].
283
ваемые "формульные слова": "рукава, орошаемые потоками слёз" -
для выражения печали, "жизнь, недолговечная, как роса на траве" -
для передачи быстротечности, эфемерности всего сущего».
Дальше И. Л. Львова привела такие характеристики «Непрошен-
ной повести», которые окончательно заставляют усомниться в дан-
ной ею же чуть раньше жанровой атрибуции произведения: «В текст
повести не только вплетаются образы или фразы, заимствованные
из классической литературы; нетрудно заметить, что многие эпизо-
ды, как они поданы здесь, основаны на чисто литературных источ-
никах, а не подсказаны личным опытом автора. Перепевом тради-
ционных мотивов являются, например, сцены прощания с возлюб-
ленным при свете побледневшей луны на предутреннем небе или се-
тования по поводу пения птиц, слишком рано возвестивших насту-
пление утра, т. е. разлуку, - мотив, перешедший в литературу из
древнейших народных песен...» [Нидзё, 1986, с. 9].
«Повесть» делится на пять свитков. Описания событий располо-
жены в хронологическом порядке и начинаются с изложения сцены
празднования Нового года, 8-го года Бунъэй (1271 г.), во дворце 27-лет-
него экс-императора Гофукакуса, когда сильно захмелевший хозяин
одарил отца писательницы чаркой и лестным предложением: «Пусть с
нынешней весны станет у меня бывать мой желанный дикий гусь!»
Началом весны в старой Японии считался первый день нового года,
дикий гусь, как сразу же стало ясно осчастливленному старшему со-
ветнику, - его 13-летняя дочь Нидзё.
В первом свитке описываются события личной жизни Нидзё до
конца 1274 г., в том числе смерть отца Гофукакуса, экс-императора
Госага, и отца писательницы, её одновременная связь с экс-импера-
тором Гофукакуса и придворным вельможей Сайондзи Санэканэ по
прозвищу Снежный Рассвет, её беременность, роды и ранняя смерть
ребёнка (сына Гофукакуса), отданного на воспитание к дяде Нидзё,
Кога-но Митимицу. В конце первого свитка рассказывается о том,
как любвеобильный Гофукакуса загорелся страстью к прибывшей в
столицу прежней жрице святилища Аматэрасу синтоистского ком-
плекса Исэ (по традиции эта обязанность возлагалась на незамуж-
нюю принцессу крови) и велел Нидзё помочь ему в его домога-
тельствах и как та успешно справилась с августейшим капризом.
Второй свиток опять начинается с описания новогодних обрядов
во дворце экс-императора Гофукакуса, содержит упоминание о том,
что автору «Повести» исполнилось 18 лет, описание придворных за-
бав (состязаний в стрельбе из лука и в стихосложении, попытки устро-
ить инсценировку по одной из глав «Повести о Гэндзи»), непро-
должительной любовной связи с высокопоставленным буддийским
священнослужителем, рождения ребёнка от другого любовника (Снеж-
ного Рассвета), того, как Нидзё по воле экс-императора доставила к
нему в постель девушку, в которую тот влюбился заочно (а после
первой же ночи разочаровался в ней), того, как саму её домогается
старик-министр (Коноэ Канэхира).
284
Третий свиток. Экс-император случайно слышит пылкие объясне-
ния своего давнего знакомца, буддийского священнослужителя, соб-
ственной наложнице; сам, оставшись с нею наедине, говорит ей о
своей любви, а потом под надуманным предлогом отсылает её к это-
му священнослужителю в храм... Нидзё снова забеременела, уже от
третьего мужчины, на этот раз с ведома Гофукакуса, который сам
вызвался порадовать известием об этом будущего отца.
Однажды во время трапезы после беседы о религиозных дог-
матах он произнёс речь о сущности любовной страсти. « - Итак, ес-
ли вникнуть поглубже в священные книги, становится очевидным,
что любовная связь между мужчиной и женщиной не содержит в
себе греха, - сказал государь. - Мы наследуем любовный союз еще
из прошлых наших существований, избежать его невозможно, чело-
век не в силах справиться с могуществом страсти... В древности то-
же не раз такое случалось... Праведный Дзёдзо, влюбившись в жен-
щину из земли Митиноку, пытался убить ее, но не смог и, не устояв
перед соблазном, в конце концов вступил с ней в любовный союз.
Святой монах, настоятель храма Сигэдэра, влюбился в государыню
Сомэ-доно и, не в силах справиться со страстью, превратился в де-
мона... Люди бессильны сопротивляться любви. Бывает, что из-за
любви они превращаются в демонов или в камни...» (пер. И. Льво-
вой) А после пиршества задержал священнослужителя у себя и «су-
мел весьма искусно рассказать ему обо всём». Излагая свою беседу с
ним Нидзё, он прослезился от избытка чувств.
Родившегося мальчика тайно передали на воспитание в семью,
где накануне перед тем умер новорожденный. Отец ребёнка, тайные
встречи с которым продолжались, тяжело заболел и умер, а Нидзё
затворилась в одном из горных храмов, где и обнаружила, что снова
беременна от него. Переехав на время к своим родственникам за
пределами столицы, она родила ещё одного мальчика, оставила его
«у подходящей женщины» и в начале десятой луны того же года
вернулась ко двору.
Далее описывается, как экс-император охладел к Нидзё, как её
вызвал к себе её дед, бывший опекуном писательницы, как дед её
через непродолжительное время умер и как несколько месяцев спус-
тя она получила приглашение на пышное придворное празднество.
На это торжество собралась высшая придворная аристократия, при-
ехали царствующий император, наследный принц и два экс-импера-
тора. Ход многодневного торжества, его участники и их одеяния
описаны подробно. Приводятся стихи участников поэтических сос-
тязаний, организованных тогда же.
Четверый свиток начинается с описания путешествия автора из
столицы на восток, в Камакура. Часть текста утеряна («отрезана но-
жом», как отметил переписчик), но в целом основная часть свитка
посвящена описанию паломничеств. Из первого путешествия, в Ка-
макура и ещё дальше на северо-восток, Нидзё возвратилась в 1292 г.
Интересно сравнить её впечатления о празднествах, принятых среди
285
столичной знати и сёгунского окружения, о нравах на западе и вос-
токе, её путевые заметки и путевые заметки других паломников то-
го времени (она почти не пользуется принятыми трафаретами).
На обратном пути в столицу Нидзё завернула в святилище Явата
(Ивасимидзу Хатимангу). Туда же в это время по обету прибыл экс-
император Гофукакуса. Произошла их неожиданная встреча, заста-
вившая забыть обо всём: «о прошлом, о будущем, о мраке гряду-
щего мира». Едва вернувшись в столицу, женщина снова пустилась в
путь - заканчивать переписку буддийской сутры, начатую в преды-
дущем году. Рассказывается о пожаре в святилище Ацута, случив-
шемся при ней, излагается легенда о принце Ямато Такэру (его
культу и посвящено это святилище), свиток с записью которой со-
хранился в пожаре. Из Ацута писательница направилась в Исэ, по-
том вернулась снова в Ацута, где в полном разгаре были восстанови-
тельные работы, и завершила переписку сутры. Свиток заканчива-
ется описанием ещё одной встречи с Гофукакуса, на этот раз в его
загородном дворце Фусими, с многословными беседами и воспоми-
наниями писательницы о пережитом.
Пятый свиток начинается с рассказа о паломничестве в синто-
истское святилище Ицукусима в провинции Хиросима, предприня-
том в 1302 г., через девять с лишним лет после событий, описанием
которых завершается четвертый свиток. «Этот разрыв в девять лет, -
отмечает И. Л. Львова, — и отсутствие рассказа о пострижении в
монахини - событии исключительно важном в жизни Нидзё - дали
основание японским ученым-филологам, тщательно изучившим по-
весть Нидзё, прийти к выводу, что между третьим, четвертым и пя-
тым свитками, возможно, существовали другие, утраченные» [Нидзё,
1986, с. И].
Теперь Нидзё 45 лет, по меркам своего времени она - «старая
монахиня». В связи с описанием разных достопримечательностей в
«Повести» приводятся исторические предания, ассоциации с литера-
турными произведениями минувших веков, рассказывается о встре-
чах в пути, о блестящем празднестве в святилище Ицукусима. Об-
ратный путь из святилища писательница проделывает на корабле,
по Внутреннему Японскому морю. После высадки на берег её ждут
новые приключения, пережив которые, Нидзё возвращается в сто-
лицу.
Описывается болезнь и смерть экс-императора Гофукакуса, пе-
реживания Нидзё по этому поводу, выполнение ею обетов по пере-
писыванию буддийских сутр, скудный достаток, новые посещения
памятных мест, годовщину со дня кончины Гофукакуса, воспомина-
ния о родных, о былом... В трёх местах в пятом свитке содержатся
лакуны. Одна из них приходится на конец «Повести». Последняя со-
хранившаяся фраза: «А чтобы не пропали бесследно мои думы, на-
писала я сию непрошенную повесть, хотя и не питаю надежды, что в
памяти людской она сохранится...» (пер. И. Л. Львовой). Дальше
здесь отсутствует, надо полагать, не больше одной фразы.
286
По сравнению с хэйанскими произведениями в «Непрошенной по-
вести» более четко прослеживается сквозная сюжетная линия. Иногда
создаётся впечатление, что перед нами, вывернутая наизнанку «По-
весть о Гэндзи» - столько возникает у читателя ассоциаций с нею,
несмотря на то, что главная героиня здесь женщина, а не мужчина,
как у Мурасаки-сикибу. Во многих случаях рассказ о событиях или
размышлениях героини перебивается воспоминаниями, изложением
вещих снов, цитатами из литературных произведений, реминисцен-
циями. Читатель встречает летучие выражения и намёки на «Исэ
моногатари», «Гэндзи моногатари», известные поэтические антоло-
гии, на стихотворения знаменитых поэтов. Стиль изложения, про-
думанная композиция всего произведения, использование изыскан-
ных художественных приёмов позволяют отделить «Непрошенную
повесть» от дневниковой литературы и считать автобиографической
повестью, объединившей особенности и хэйанских моногатари, и
дневниково-мемуарной литературы.
Камо-но Тёмэй. Кэнко-хоси.
Эссеистические произведения
Впослехэйанский период наиболее репрезентативными памятни-
ками, продолжившими традиции «Записок у изголовья» Сэй-сё-
нагон, стали «Записки из кельи» Камо-но Тёмэй и «Записки от ску-
ки» Кэнко-хоси.
Камо-но Тёмэй родился в 1153-м или 1154 г.165 в Киото, в семье
главного жреца крупных и старинных синтоистских святилищ Камо -
Камо-но Тёкэя. Верховными служителями Камо был и дед Тёмэя, и
ещё несколько поколений его предков. Настоящее имя писателя -
Нагаакира, Тёмэй - второе и более известное его имя, образованное
онным, т. е. «китайским», прочтением иероглифов МВД, которыми
пишется имя Нагаакира. Он был вторым сыном в семье, рано ли-
шился родителей - сначала матери, потом и отца. В молодости у На-
гаакира было два серьёзных увлечения: поэзия и музыка. Молодой
человек стал неплохим музыкантом, хорошим поэтом и одним из
лучших теоретиков поэзии своего времени.
Увлечению музыкой обязаны два прозвища Тёмэя - Кикудаю и
Нандаю. Его буддийское монашеское имя - Рэнъин. В 1181 г. появи-
лось собрание стихотворений Тёмэя. Автор собрания был признан
как поэт, и его стали приглашать на стихотворные состязания на
165 Д. Кин указывает (правда, без ссылки на источник) даже 1155 г. [Кин, 1993, с. 759].
287
самом высоком уровне, а стихи включать в официальные антологии.
Репутация известного поэта позволила Камо-но Тёмэю поступить
на службу в придворное Ведомство поэзии.
По долгу службы Тёмэй часто имел дело с экс-императором Го-
това (1180-1239), одним из крупных знатоков японской поэзии того
времени, который высоко ценил его литературный вкус и покро-
вительствовал ему. Около 1201 г. освободилась наследственная дол-
жность, когда-то занимавшаяся отцом поэта, и экс-император ре-
шил помочь Тёмэю занять её. Но должность досталась другому пре-
тенденту. В 1207 г. Камо-но Тёмэй постригся в буддийские монахи и
стал отшельником.
«С самого начала, - писал он через несколько лет в своих "За-
писках из кельи", - я не имел ни жены, ни детей, так что не было
таких близких мне людей, которых тяжело было бы покинуть. Не было
у меня также ни чинов, ни наград; на чем же я мог, в таком случае,
остановить свою привязанность?» (здесь и далее пер. Н. И. Конрада).
Вначале поэт поселился в маленькой хижине в Охара у подножья
горы Хиэй, а через несколько лет перебрался на гору Хино в районе
Фусими, недалеко от Киото, и сплёл там из прутьев и травы свою
знаменитую «келью» в один квадратный дзе хбдзё - ок. 9 кв.
м), в которой и прожил до конца жизни, только однажды оставив её
для поездки в Камакура по приглашению сёгуна Минамото-но
Санэтомо. В ней же Камо-но Тёмэй скончался в 1216 г.
О том, чтобы уехать из столицы, поэт, по-видимому, думал и
раньше. Однажды осенью он отправился в провинцию Исэ и по до-
роге несколько месяцев прожил в Футами [Тамаи, 1932, с. 7-8] В
том путешествии он вёл стихотворный дневник «Исэ-но ки»
«Записки из Исэ»), Ещё в середине XIII в. дневник существовал це-
ликом, был известен в XIV в. в нескольких списках, однако до на-
шего времени сохранился лишь в 38 небольших отрывках, цитируе-
мых тремя разными источниками [Тамаи, 1932, с. 7-8].
Увлечённость поэта буддийским учением подтверждается состав-
ленным им сборником сэцува в трёх свитках «Хоссинсю» (Зё'С?Ж,
«Собрание духовных побуждений»), который содержит буддийские
легенды и предания, записанные Тёмэем в конце его жизни. При-
близительно в то же время (после 1211 г.) он работает над двумя
очерковыми произведениями по теории японской поэзии: «Эйгёку-
сю» ($<Н?Ж, «Полировка драгоценного камня», работа осталась не-
завершённой) и «Мумёсе» «Заметки без заглавия»). В этих
работах он формулирует свои взгляды на историю и природу япон-
ской поэзии, пытается проследить эволюцию её стилей, пишет о
правилах стихосложения.
Однако более всего Камо-но Тёмэй известен как автор «Ходзё-
ки» (^7 jtfd, «Записки из кельи»)166, относимых большинством ис-
166 Перевод на русский язык выполнен Н. И. Конрадом. Первая публикация: [Ка-
мо, 1921, с. 351-376].
288
следователей к жанру дзуйхицу. «Записки» созданы в 1212 г. Произ-
ведение состоит из одного свитка и по содержанию может быть раз-
делено на три части: описание бедствий, свидетелем которых был
автор, описание его монашеской жизни и рассуждения об эфемер-
ности и смысле земного существования.
До конца первой четверти XX в. была широко распространена
редакция «Записок из кельи», известная по названию места хране-
ния наиболее авторитетного её списка как «Сагабон» («Книга дома
Сага») или по её распространённости - как руфубон. Этот список
преимущественно издавался в Японии и переводился на иностран-
ные языки. С него же сделан Н. И. Конрадом и русский перевод па-
мятника. Особенностью руфубон является включение в первый раз-
дел памятника «описания людских бедствий»: киотоского пожара
1177 г., урагана 1180 г., голода 1181 г. и землетрясения 1185 г.: «Горы
распадались и погребали под собою реки, море наклонилось в одну
сторону и затопило собой долину; суда, плывущие вдоль побережья,
носились по волнам, мулы, идущие по дорогам, не знали, куда поста-
вить ногу. Еще хуже было в столице; повсюду и везде - ни один
храм, ни один дом, пагода иль мавзолей не остался целым. Когда они
разваливались или рушились наземь, пыль поднималась словно гус-
той дым. Гул от сотрясения почвы, от разрушения домов был совсем
что гром Оставаться в доме значило быть сейчас же раздавленным;
выбежать наружу - тут земля разверзалась»
В 1923 г. на учредительном заседании Общества охраны классики
был заслушан доклад о списке «Записок из кельи» из буддийского
храма Дайфуккодзи, расположенного в деревне Такахара уезда Си-
мофунаи префектуры Киото [Номура, 1926, с. 80]. Тетрадь из 11 лис-
тов белой бумаги 28,5X47 см озаглавлена «Ходзёки» и заполнена
японским текстом с употреблением иероглифов и катаканы. В кон-
це текста имеется приписка: «Вышеприведённая одна книга являет-
ся автографом Камо-но Тёмэя. Передана из Юго-западного павиль-
она. В день 2-й луны года Кангэн 2-го167 записал Синкай».
Почерк рукописи можно датировать началом XIII в., содержание
её (не совпадающее с содержанием руфубон) не расходится с описа-
нием, приведенным при самом раннем упоминании. Но колофоны с
указанием происхождения текста от автографа писателя встречают-
ся и в списках других редакций
Существующие в настоящее время списки «Ходзёки» по коли-
честву текста подразделяются на две основные группы: «простран-
ные» и «краткие». Рассмотрение пространных списков приводит ис-
следователей к заключению, что они восходят к двум архетипам, бе-
рущим начало от разных авторских текстов - первоначального чер-
нового и правленого чистового. Открытая в 1923 г. рукопись счи-
167 2-я луна года Кангэн 2-го соответствует в григорианском календаре периоду с
11 марта по 8 апреля 1244 г.
10 Зак 37л2 "эоо
тается самой старой и близкой к авторскому оригиналу «Записок из
кельи» Камо-но Тёмэя.
«Записки» Тёмэя состоят из трёх крупных разделов, каждый из
которых делится на несколько мелких, с неустойчивым порядком
следования в разных редакциях. Первый раздел, включающий опи-
сание «пяти бедствий», открывается вступлением, определяющим
общий буддийский настрой произведения. «Струи уходящей реки...
они непрерывны; но они - все не те же, прежние воды. По заводям
плавающие пузырьки пены... они то исчезнут, то свяжутся вновь; но
долго пробыть - не дано им. В этом мире живущие люди и их жили-
ща... и они - им подобны».
Изложение ведётся от общего к частному, от частного к конкрет-
ному - к бедствиям, которые автор наблюдал собственными глазами
и которые иллюстрируют общие положения. Заключается вступление
новым обобщением. Читатель может обнаружить в нем целые обо-
роты, заимствованные из «Записок из беседки у пруда» Ёсисигэ-но
Ясутанэ, приёмы параллельной прозы, характерные для китайских
бяиьвэней: «Вот люди, которые сами по себе не пользуются влияни-
ем и живут под крылом у могущественных домов; случится у них
большая радость, - они не смеют громко смеяться; когда же у них
грустно на сердце, - они не могут рыдать вслух; что бы они ни де-
лали, - они неспокойны. Как бы они ни поступали, - они страшатся,
дрожат. Совсем что воробьи вблизи гнезда коршуна! <...> У кого
могущество, - тот и жаден; кто одинок, - того презирают; у кого
богатство, - тот всего боится; кто беден, - у того столько горя; на
поддержке других, сам - раб этих других; привяжешься к кому-ни-
будь, - сердце будет полонено любовью; будешь поступать как все, -
самому радости не будет; не будешь поступать как все, - будешь по-
хож на безумца».
«В соответствии с тематической сущностью произведения и его
сюжетным замыслом, - писал Н. И. Конрад, - тему первого раздела
можно сформулировать так: "Что приводит к отшельничеству". Те-
му второго - "Как строится жизнь отшельника". И тему третьего —
"К чему она приводит". В таком трояком облике конкретизируется в
сюжетном плане основная тема всего произведения: она разбива-
ется на три производные сюжетные темы. Весь этот строй целиком
укладывается в обычную композиционную схему китайско-японской
поэтики: если первый раздел есть окори- зачин, то второй есть хари -
изложение и третий - му су би- заключение» [Конрад, 1974, с. 306].
«Записки из кельи» имеют подчёркнуто личный, автобиографи-
ческий характер. Эффект эмоционального и рассудочного присут-
ствия повествователя в первом разделе «Записок» поддерживается и
размышлениями, и умозаключениями повествователя, пронизыва-
ющими все элементы этой части.
Второй раздел посвящён непосредственно герою. Этот раздел
начинается словом «я» (вагами), определяющим субъективность всего
последующего изложения. Если в первом разделе описывался мир в
290
восприятии героя, то во втором центром внимания становится внут-
ренний мир героя, воспринимающего всё, что его окружает.
Но и в этом разделе, даже в описании пейзажей и жилища от-
шельника, пространственная позиция повествователя не фиксиру-
ется, а принимается как непременное условие вйдения. Действия ге-
роя и наблюдаемые им картины описаны не как однократные, исклю-
чительные, а как типовые, характеризующие образ жизни повество-
вателя, миропорядок в целом.
Третий раздел имеет наиболее рассудочный характер. Конкрет-
ная ситуация (отшельническая жизнь повествователя) оценивается в
нём с общебуддийских позиций. Мозаичному стилю «Записок из кельи»
не мешает их идейная монолитность, тщательная композиционная
выстроенность. Как и в «Записках у изголовья» Сэй-сёнагон, един-
ство всего произведения Камо-но Тёмэя в большинстве его списков
скрыто за внешней разобщённостью элементов, за кажущейся не-
упорядоченностью их чередования.
Несмотря на большую популярность произведений Сэй-сёнагон и
Камо-но Тёмэя, некоторые учёные считают, что появление в япон-
ской литературе жанра дзуйхицу по-настоящему знаменует лишь по-
явление в XIV веке «Цурэдзурэгуса» ([Т^Ж, «Записки от скуки») Кэн-
кб-хбеи [Кониси, 1991, с. 167].
Кэнкб-хбси - это буддийское монашеское имя известного в нача-
ле XIV в. поэта Урабэ Канэёси (1283—1352)168. Урабэ - одна из древ-
нейших фамилий Японии, ветвь рода Накатоми, свою родословную
возводила к «эре богов», к богу Амэ-но Коянэ-но микото, члена сви-
ты Ниниги-но микото в его путешествии с Равнины Высокого Неба
на землю.
Урабэ Канэёси родился в синтоистском святилище Ёсида в ок-
рестностях столицы (ныне в черте г. Киото). Ёсида - фамильное
святилище рода Фудзивара и место службы нескольких поколений
предков Канэёси, поэтому молодого Кэнкб-хбси часто называют также
Ёсида-но Канэёси, Канэёси из Ёсида. Его дед, Канэна, дал начало
новой ветви рода Урабэ, представители которой стали служить од-
новременно в двух придворных ведомствах - Совете по делам синто
(Дзингикан) и Высшем государственном совете (Дайдзёкан) [Фукуда,
1975, с. 274]. Отец писателя, Канэаки, был главой рода Ёсида и при-
дворным чиновником, ему наследовал и старший брат Канэёси, Ка-
нэо. Правда, в биографии Канэаки и Канэо находят много неясного
[Фукуда, 1975, с. 263]. Сам Канэёси получил хорошее образование.
Токугава Мицукуни (1628-1700) в своей капитальной «Дай Нихон
си» (^ 0 «История Великой Японии», свиток 221) отмечал: «В
детстве [он] был способным и понятливым, любил читать сочинения
Лао-[цзы], Чжуан-[цзы]; имел литературный талант, хорошо слагал
японские песни».
168 Долгое время годом смерти писателя считался 1350 г., ио в последнее время
были открыты документы, свидетельствующие, что он был ещё жив в 1352 г. [Кин,
1993, с. 864]. Год рождения Кэнкб-хбси также установлен не безусловно.
291
Первой официальной должностью Канэёси была служба до-
машним чиновником в доме Хорикава. Этот дом был ветвью рода
Кога и не принадлежал к числу самых мощных, но как раз на рубеже
XIII и XIV вв. пользовался некоторым влиянием, потому что дочь гла-
вы дома, Кога-но Томомори, стала супругой императора Гоуда и в
1285 г. родила сына, который воспитывался в доме Хорикава. В 14-лет-
нем возрасте, в 1298 г., мальчик был провозглашён наследным прин-
цем, а в 1301 г. - императором Гонидзе (1285-1308). Видимо, поэтому
около 1300 г. Канэёси поступил на службу при дворе [Кидд, 1977, с. 282].
Здесь его привлекли к работе в ведомстве, занимавшемся составле-
нием стихотворных сборников. Его собственные стихи стали вклю-
чаться в различные антологии, а первой должностью молодого при-
дворного стала должность «младшего чиновника» (курддо или куран-
до) 6-го ранга. В его официальные функции входила работа по подго-
товке материалов к докладу императору, организация придворных
обедов, разного рода финансовая деятельность. Их выполнение тре-
бовало начитанности и тонкого знания ритуала.
При дворе Канэёси занимал несколько должностей. Имеются сви-
детельства о том, какими были эти должности, какие обязательства
они на него налагали, однако нет уверенности в точности датировки
этих назначений, потому что в разных источниках указываются раз-
ные даты. По-разному датируется и принятие поэтом монашеских
обетов. Фукуда Хидэити приводит четыре разных мнения о времени
и причинах его пострига: 1) 1308 г. - после смерти императора Гони-
дзё; 2) 1318-1319 гг. - по причинам личного порядка; 3) 1324 г. - пос-
ле смерти экс-императора Гоуда; 4) 1326 г. - после смерти принца
Куниёси, сына Гонидзё. Приведя эти мнения, проф. Фукуда заметил,
что остается неизвестным, где и когда Канэёси принял постриг [Фу-
куда, 1975, с. 289]. Ясность в этот вопрос вскоре внес Кудо Сайдзо
сообщив, что осенью 1313 г. поэт купил участок земли (£ [33, мёдэн)
в провинции Ямасиро и в купчей назван «монахом Кэнко» [Кудо,
1977, с. 283]. Тот же год признал предпочтительнее прежней своей
датировки этого события (1324 г.) и Д. Кин [Кин, 1993, с. 852, 864].
Мысль об уходе в монахи отразилась и в стихах Канэёси.
«В вечерние сумерки, задумав отвратиться от этого мира:
Отвратившись
От скорбного мира,
Смотрю отчего-то
На вечер осенний,
Скорбя».
При монашеском постриге полагалось принять буддийское мона-
шеское имя с «китайским» чтением (чтением по ону). Канэёси ре-
шил, не меняя написания своего имени (ЖД), принять «китайское»
чтение составляющих его иероглифов и стал называться Кэнко-хб-
си - «закононаставник Кэнко». Так же в своё время поступил Камо-
но Тёмэй.
292
О жизни Кэнкб-хбси после пострижения можно судить лишь по
очень скудным сведениям из сочинений того времени (прежде всего
из дневника Первого министра Тбин Кинката, 1291-1360, «Эн-
тайряку») и его собственных отрывочных замечаний. Известно, что
сначала поэт почти не жил на одном месте. Проведя некоторое вре-
мя в различных храмах Киото, он отправился странствовать по
тракту Кисбдзи и при этом какое-то время жил в районе Мисака.
Затем Кэнкб-хбси соорудил себе хижину и поселился на месте ста-
ринного селения в окрестностях Магомэ, в провинции Синано. По-
бывав в Камакура и на о. Сикоку, он долго жил возле Киото, а ко-
нец жизни провёл у подножия горы Кунимияма в провинции Ига.
В монашеские годы Кэнкб-хбси много занимался поэтическим
творчеством и даже был причислен к «Четырём небесным королям
японской поэзии». Кроме стихосложения он проводил время в чте-
нии книг, а на пропитание зарабатывал плетением корзин. Вскоре
после принятия сана Кэнко прислал однажды своему другу, поэту и
буддийскому монаху Тонъа (12897-1372), стихи:
< Ь
Ночь холодна.
В пристанище, где просыпаешься, -
На подушке-руке
И обоих рукавах
[Лишь] ветер бесстрастный.
Стихотворение служило своеобразной шифровкой (-Щ-^, куцу-
кабури). Для раскрытия его смысла следовало прочесть подряд од-
ни только первые графемы строф с первой по пятую, а затем послед-
ние в строфах с пятой по первую. После этого получалась фраза:
fatz.Ш L - «Пожалуй мне риса, хочется и денег».
Адресат ответил таким же куцукабури. Из него складывалась
фраза: <£ Lif [-Т HL- «Риса нет, денег мало».
В начале 1352 г. Кэнкб-хбси тяжело заболел169. Император Север-
ной династии Сукб-тэннб (1334-1398), узнав об этом, велел послать
к нему в хижину гонца с продуктами и лекаря. Когда лекарь пришёл
в плетёную из травы и веток хижину монаха, тот отказался от его
помощи, сказав, что истинный буддист должен радоваться прибли-
жению смерти, т. е. конца страданий. Рис Кэнкб-хбси принял, но тут
же раздал его беднякам из окрестных селений. Весной поэт скон-
чался. В его хижине у горы Кунимияма нашли лишь старую копию
«Лотосовой сутры», собственноручно переписанные отрывки из «Лао-
цзы», три главы из «Повести о Гэндзи», 12 свитков бумаги, два ком-
плекта монашеской одежды, постель и скудную домашнюю утварь.
Относительно обнаружения и первоначальной судьбы прозаических
«Записок от скуки», прославивших имя поэта, долгое время имела
распространение версия Сандзениси Санээда (1511-1579), появив-
шаяся на свет примерно через двести лет после смерти Кэнкб-хбси.
169 По разным источникам, это произошло в разные дни 2-й или 4-й луны или да-
же двумя годами раньше.
293
У покойного поэта было два ученика-послушника - Сэкикандб и
Мёмацумару. Последний после смерти наставника продолжал зани-
маться поэзией и обнаруживал незаурядные способности. На него
обратил внимание влиятельный тогда сторонник сёгунов Асикага,
покровитель поэзии, историк и филолог Имагава Рёсюн (1326-1417?).
Рёсюн спросил однажды у послушника, не остались ли после его
учителя какие-либо записи. «Да, - отвечал Мёмацумару, - были и
стихи, и проза. Многие наклеены на стенах хижины. Кроме того,
кое-что я взял себе на память». Тогда Рёсюн отправил Мёмацумару
в Ёсида, а своего слугу Мицусада Икотаро в провинцию Ига собрать
всё, что написано покойным поэтом. В травяной хижине в Ига обна-
ружили 15 листов со стихами Кэнкб, а в Ёсида собрали наклеенные
на стенах хижины текстом внутрь листки буддийского канона, на
оборотной стороне которых были написаны прозаические заметки.
К этим заметкам присовокупили то, что оставил у себя Мёмацумару
и некий Нидзё (предполагают, что это поэт и писатель, занимавший
высокие посты на службе у Северной династии, - Нидзё Ёсимото, 1320—
1388), составили отдельную книгу в двух частях. Этой книгой и были
«Записки от скуки».
Стихи образовали отдельный том, в который вошли 50 стихот-
ворений (всего в собрание стихотворений Кэнкб-хбси включено 285
стихотворений разного времени).
Название прозаическому сочинению по первым его словам (Цу-
рэдзурэ нару мама ни, «Когда одолевает скука») предложил дать
монах Сёб-хбси. Его наново переписал служитель буддийского хра-
ма Сагара Хэда провинции Тотоми - Сбтё-хбси. Старейший из со-
хранившихся доныне рукописный экземпляр сочинения датируется
1431 г. и принадлежит кисти Сётэцу (1381-1459), ученика Имагава
Рёсюна.
Версии Санээда верили вплоть до начала XX в. Новый этап в
изучении «Записок от скуки» знаменовался отказом от неё. Уже в
начале 30-х гг. нашего века японские литературоведы пришли к вы-
воду о том, что это произведение представляет собой единое целое,
отдельные компоненты которого расположены относительно друг
друга в строгой логической последовательности самим автором, и
потому весь рассказ о собирании фрагментов и объединении их пос-
ле его смерти весьма сомнителен. Правда, при жизни Кэнкб-хбси о
существовании его «Записок» вряд ли кто знал, зато в наше время
мало кто знал бы о Кэнкб-хбси, если бы не это произведение. Уже к
началу XVII в. «Записки» стали одним из самых популярных произ-
ведений японской литературы - они переписывались от руки, изда-
вались ксилографическим и наборным способом, комментировались,
иллюстрировались, оказывали влияние на новеллу канадзоси [Лейн,
1957, с. 647-648; Цугита, 1953, с. 562].
Автограф «Записок» не сохранился, но отсутствие сколько-ни-
будь заметных отличий между их списками почти целиком снимает
проблему аутентичного текста. Первоначально «Записки» делились
294
только на два свитка - «верхний» (до нынешнего 136-го дана - пара-
графа - включительно) и «нижний» (со 137-го по 243-й дай). В 1667 г.
Китамура Кигин (1624-1705), издавая комментированный текст «За-
писок от скуки», впервые «для удобства» разделил произведение на
244 дана разной величины (от одной строчки до нескольких страниц
текста) и тематики. В современных изданиях оно считается обще-
принятым (вступление и 243 дана).
По принципам построения можно выделить следующие типы данов.
1. Короткие безапелляционные сентенции типа афоризмов.
«Лучше не исправлять совсем, чем исправлять без пользы» (дан 127).
2. Перечисление фактов, событий, обычаев, предметов и т. д.,
объединенных по одному какому-либо признаку, обозначенному удар-
ным словом или фразой.
«То, что неприятно:
множество утвари возле себя;
множество кисточек в тушечнице;
множество будд в домашнем алтаре;
множество камней, травы и деревьев в садике;
множество детей в доме;
многословие при встрече;
когда в молитвенных книгах много понаписано о собственных
благих деяниях.
Много, а взору не претит:
книги в книжном ящике;
мусор в мусорнице» (дан 72).
3. Длинные рассуждения или нравоучения, сопровождаемые крат-
ким выводом, цитатой или сравнением.
«Женщина, когда у неё красивы волосы, всегда, по-моему, при-
влекает взоры людей. Такие вещи, как характер и душевные качест-
ва, можно определить и на расстоянии - по одной только манере
высказываться.
Иной раз, если представится случай, она может вскружить го-
лову человеку даже каким-нибудь пустяком. Но вообще-то женщи-
на, только потому, что в мыслях её одна лишь любовь, - и спать не
спит как следует, и жалеть себя забудет, и даже то, что невозможно
снести, переносит терпеливо.
Что же касается природы любовной страсти, поистине глубоки
её корни, далеки источники. Хотя и говорят, что изобилуют страст-
ными желаниями Шесть скверн170, все их можно возненавидеть и от-
далить от себя. Среди всех желаний трудно преодолеть одно только
170 Шесть скверн (будд.). - Источниками, порождающими пороки и заблуждения,
являются глаза, уши, нос, язык, плоть и мысль («Шесть корней»). Ими воспринима-
ются загрязняющие сердце Шесть скверн: цвет (сладострастные грёзы), голос (лю-
бовные песни), аромат (запах мужского или женского тела), вкус (чревоугодие), ка-
сание (прикосновение к обнажённому телу) и закон (суетные рассуждения).
295
это заблуждение171. Здесь, видно, недалеко ушли друг от друга и ста-
рый, и молодой, и мудрый, и глупый. Поэтому-то и говорится, что
верёвкой, свитой из женских волос, накрепко свяжешь большого
слона, а свистком, вырезанным из подмёток обуви, которую носит
женщина, наверняка приманишь осеннего оленя172.
То, чего следует остерегаться, питая страх, с чем следует быть
осмотрительным, и есть это заблуждение» (дан 9).
4. Изложение факта (как правило, сюжетный рассказ), снабжён-
ное более или менее обширными авторскими сентенциями или заме-
няющими их цитатами.
«В пятый день пятой луны, когда мы пришли посмотреть камо-
ские бега, перед нашей повозкой стояла толпа, заслонявшая зрели-
ще. Из-за неё не было ничего видно, поэтому каждый из нас, сойдя с
повозки, устремился к краю ограды, но там теснилось особенно
много людей, и между ними нельзя было протиснуться.
По этому случаю какой-то монах взобрался на сандаловое дерево,
стоявшее напротив, и, устроившись в развилке, стал наблюдать за
бегами. Крепко зажатый между сучьями, монах несколько раз креп-
ко засыпал, но всегда, едва только начинало казаться, что он вот-вот
свалится, он просыпался. Те, кто видел это, изощрялись в насмешках:
- Какой несусветный болван! Вот ведь, сидит на такой хрупкой
ветке и преспокойно себе засыпает!
Внезапно мне в голову пришла мысль, которую я тут же и вы-
сказал:
- Смерть любого из нас, может быть, наступит сию минуту, не
так ли? Мы же забываем об этом и проводим время в зрелищах. Это
глупость почище всякой другой!
И тут люди, стоявшие впереди, откликнулись:
- Воистину так оно и есть, совершеннейшая глупость.
Все обернулись назад, расступились и пропустили меня вперёд со
словами:
- Проходите, пожалуйста, сюда!
Правда, подобное соображение могло бы прийти в голову вся-
кому, но тут я высказал мысль свою как раз к случаю, и, видимо, это
тронуло людей за душу. Человек ведь не дерево и не камень173, и
поэтому он не может не поддаться чувству под влиянием минуты»
{дан 41).
171 Это заблуждение - любовная страсть.
172 Согласно поверью, осенью, во время течки, олень-самец наверняка выходит
на свисток, изготовленный из женской обуви асцда. Выражение заимствовано из за-
клинания, обращенного к первому из буддийских божеств гнева - Ямантака-дхаранн.
173 Человек ведь не дерево н не камень - распространённое в китайской поэзии
сравнение В собрании стихов Бо Цзюй-и (цз. 4), в одном из юэфу, сказано:
Человек - не дерево и не камень
Каждый имеет чувства.
В сборнике «Вэнь сюань», в стихотворении Бао Чжао (4217-465?) есть такие
строки:
Человек - не дерево и не камень:
Как он может жить без чувств?
296
5. Простое изложение происшествия или ситуации, без коммен-
тария.
«Один человек говорил: "Современные шляпы намного выше ста-
ринных". Люди, имеющие старомодные шляпные коробки, исполь-
зуют их и теперь, нарастив им, однако, края» (дан 65).
«У высокомудрого Дзёнэна из храма Сайдайдзи была согбенная
поясница, совершенно седые брови и вид, воистину говорящий об
обилии добродетелей. Однажды старца пригласили ко двору. При
взгляде на него господин Внутренний министр Сайондзи восклик-
нул:
- О, какой благородный у него вид! - и проникся к монаху чув-
ством благоговения.
Заметив это, князь Сукэтомо сказал:
- Это все из-за его преклонного возраста.
Как-то после этого он притащил лохматую собаку, страшную,
тощую и облезлую от старости, и поволок её к министру, говоря:
- Ну чем у неё не благородный вид?» (дан 152).
Три из этих типов данов - перечислительный, дидактический и
описательно-повествовательный - можно считать основными, еще
два - переходными.
Ни один дан не имеет сюжетной связи с соседним. Но всё произ-
ведение скреплено в единое целое на другой основе: в нём присут-
ствует тематико-ассоциативная, стилистическая, композиционая типа
дзимон-дзито И Ш сам спрашиваю, сам отвечаю), связь (по-
дробнее о ней см.: [Кэнко-хоси, 1970, с. 32-41]).
Отогидзоси
В годы Кёхо (1716-1735) осакская книготорговая лавка Сибукава
Сэйэмон ксилографическим способом издала иллюстрирован-
ный сборник, включивший 23 ходившие в устной передаче с конца
XIII в. коротких (от 4 до 40 страниц) рассказа, назвав его отоги бун-
ко (^ftOjtM), отоги соси (ШШпЖЖ) или отогидзоси (WftnM~F).
Сборник переиздавался несколько раз и был прозван «чтивом для
женщин и детей» [Итико, 1986, с. 526]. Позднее термин «отогидзоси»
стал употребляться для жанрового обозначения устных рассказов
этого времени174 (от эпохи Муромати до наших дней сохранилось око-
ло 500 коротких рассказов, определяемых как «отогидзоси в ши-
роком смысле» [Итико, 1986, с. 530]), а для обозначения тех из них,
”* 17 рассказов отогидзоси в 1994 г. опубликованы в русском переводе М. В. То-
ропыгиной [Гэндзи-обезьяна, 1994].
297
которые вошли в указанный сборник, был предложен термин отоги
бунко или сибукава-хан (iSJIlKK) [Токуда, 1992, с. 407].
Термин «отогидзоси» состоит из трёх элементов. О - онорифиче-
ский префикс, дздси(сдси) - «записки». «Что касается значения зна-
ка тоги (ЙО), то он обозначает собеседников, застольные разговоры -
т. е. указывает на ситуацию, когда встречается много близких лю-
дей. В просторечии он употребляется в смысле "товарищи, дружес-
кая компания"... и указывает на такие обстоятельства и случаи,
когда из уст в уста переходят красочные истории о старине» [Токуда,
1992, с. 408].
Поскольку подавляющее большинство рассказов отогидзоси много
десятилетий, а то и несколько столетий распространялось устно,
авторство их не установлено. Неизвестна первоначальная форма, в
которой они когда-то были созданы, форма же, в которой отоги-
дздси были зафиксированы письменно, - результат совместного
творчества их авторов и слушателей (в той или иной степени это
происходило и раньше с прозой сэцува, и с гунки).
Строго говоря, относить все отогидзоси к единому жанру не
вполне корректно, потому что под этим термином скрываются про-
изведения нескольких жанров. В целом это прозаическая литера-
тура малых форм, созданная в определённых временных границах.
Есть несколько попыток разделить отогидзоси по тематическо-
му признаку. Один из самых авторитетных современных специалис-
тов по средневековой литературе Итико Тэйдзи предложил такое де-
ление отогидзоси.
I. Рассказы о придворной знати.
1. О любви.
2. О приёмышах.
3. О японской поэзии и о поэтах.
4. Прочие.
II. Рассказы о духовенстве.
1. Повествования о послушниках.
2. О неудачах священнослужителей, нарушающих буддийские
установления.
3. Об озарении и уходе от мира, о раскаянии.
4. О нашей земле.
5. Жизнеописания духовных лиц высокого положения.
6. О приметах.
7. Наставления в законоучении.
III. Рассказы о воинах.
1. Беседы о победах над привидениями.
2. Война между Минамото и Тайра.
3. О мятежах феодалов, о восстановлении порядка.
IV. Рассказы о простолюдинах.
1. Юмористические рассказы, басни.
2. О сватовстве, о любви.
3. О житейском преуспевании, о карьере.
4. О поздравлениях.
298
V. Рассказы о других странах.
1. О чужих странах.
2. О необычных краях.
VI. Рассказы об удивительном.
1. Об удивительных браках.
2. Странное в обычном - стихотворные состязания, любовь,
воинские повествования, уход от мира и др. [Итико, 1986, с. 531].
Д. Кин предлагает более простую схему, с учётом того, что чёт-
кую границу между разными категориями рассказов провести не
всегда возможно, и некоторые из них в равной степени относятся к
нескольким категориям: О знати, О духовенстве, О воинах, О прос-
толюдинах [Кин, 1993, с. 1094].
И развёрнутая схема Итико Тэйдзи, и даже упрощённая схема
Д. Кина даёт достаточное представление о сюжетах отогидзоси. Но
сюжеты - категория не жанровая: одни и те же сюжеты встреча-
ются не только в разных жанрах, но и в разных видах литературы -
в прозе, в поэзии и в драме.
«Сопоставляя жанры, мы видим, что отличие их состоит не столько
в сюжетике, сколько в том, что мы имеем разные образования с то-
чки зрения художественной формы. Каждый жанр обладает особой,
свойственной ему, а в некоторых случаях только ему, художествен-
ностью. Эта специфическая черта и должна быть уловлена и опре-
делена» [Пропп, 1984, с. 37]. Мнение Проппа, высказанное по друго-
му поводу, органично дополняется соображениями американской иссле-
довательницы одной из групп отогидзоси, М. X. Чайлдс: «Для опре-
деления разных жанров решающее значение имеют такие элементы
[произведений], как формальные особенности, типы повествования,
важны [их] содержание, интонация и назначение» [Чайлдс, 1991, с. 15].
Отличительной особенностью отогидзоси часто называют крат-
кую форму большинства из них.
Несмотря на то, что авторами отдельных произведений назы-
вают таких известных поэтов с развитым эстетическим вкусом, как
Иккю (1394-1481), Итидзё Канэра (1407-1481) и Нидзё Ёсимото (1520-
1588), можно встретить весьма нелестные характеристики художе-
ственных достоинств работ этого жанра: «Отогидзоси не различа-
ются между собой стилистически. Одни и те же образы встречаются
бесчисленно много раз: появление красивых женщин почти наверня-
ка влечет за собой сравнение с цветами вишни и багряными осен-
ними листьями; если же эти женщины сравнивались со знаменитыми
красавицами прошлого - то всегда с одними и теми же тремя или
четырьмя китайскими или японскими дамами. Стереотипные фразы
и описания, переходящие от рассказа к рассказу, иногда по-вторяются
в пределах одного произведения» [Кин, 1993, с. 1093].
В результате получается, что стилистический трафарет, отли-
чающий отогидзоси от произведений гунки, дзуйхицу, дневников,
прозы сэцува и т. д., - это их характерный жанровый признак.
На деле не всё оказывается так однозначно. Клишированность -
это характерный приём устного рассказа вообще. Она помогает слу-
299
шателю узнать образ, ситуацию, сюжетный ход. Клише можно встре-
тить и в воинских повествованиях, и в пьесах, рассчитанных на мас-
совую аудиторию, и в рассказах отогидзоси. Это частый прием, но
не исключительный и не обязательный для отогидзоси. Вот два при-
мера.
«Ей было дважды по восемь лет, когда она вошла в покои Яшмо-
вого дворца, чтобы прислуживать перед дверьми с золотыми петуха-
ми. И весь её облик - украшение из молодых персиков, наводящих
грусть о весне, плакучая ива под ветром, - был таким, что Мао Цян
и Си Ши стыдились бы за свои лица, а Цзян Шу и Цин Цинь закрыли
бы свои зеркала. Поэтому и государь в мыслях своих решил, навер-
ное, что она равных себе не имеет».
«Он обернулся и вдруг заметил красавицу лет двадцати. И черты
её лица, и фигура были необыкновенно хороши: длинные, блестя-
щие, как перья зимородка, волосы были заколоты шпилькой, её ис-
синя-чёрные брови напоминали молодой месяц, а красные губы бы-
ли как цветок пиона. Она обладала всеми тридцатью двумя отличи-
тельными признаками Будды, была так хороша, что луна ей завидо-
вала и цветы испытывали зависть».
Первое описание с его отсылками к легендарным красавицам ки-
тайской древности полностью вписывается в рамки определения,
данного Д. Кином портретам красавиц из отогидзоси. Тем не менее
оно взято не оттуда, а из «Повести о Великом мире», воинской эпо-
пеи. Второе, не вполне подпадающее под приведённые характерис-
тики, - из «Саики», вошедшего в «Отоги бунко» Сибукава (приве-
дено в переводе М. В. Торопыгиной). Напрашивается вывод: амери-
канский учёный принимает за жанровый признак отогидзоси приз-
нак стадиальный, характерный одновременно для нескольких жан-
ров средневековой прозы.
Принимая тематическую классификацию Итико Тэйдзи, Токуда Ка-
дзуо предлагает историко-литературную классификацию отогидзоси.
1. Возрождающие традиции классической литературы на матери-
але цукури моногатари, прозы сэцува, гунки моногатари, сборников
японской поэзии и комментариев к ним.
2. Расширяющие границы литературы через глубокую связь с со-
временным сценическим искусством {Но, ковакамай, катаримоно ) и
песнями каё.
3. Фиксирующие в виде письменных рассказов народные мифы,
легенды, предания и т. п.
4. Правдиво изображающие современное им религиозное созна-
ние и реальные чувства через письменную фиксацию рассказов о за-
творничестве, легенд о богах и буддах, буддийских рассказов о чуде-
сах, шуток, пародий и т. п.
5. Пересказывающие факты из истории, науки и литературы, рас-
пространяющие знания о жизни [Токуда, 1992, с. 410—411].
Отогидзоси включают в свой состав произведения нескольких
жайров - повести в псевдоклассическом стиле, буддийскую новеллу,
конфуцианскую притчу, пародию на воинскую повесть, волшебную
300
сказку. При этом записки о красавице-поэтессе Оно-но Комати, ска-
жем, включают многие её стихотворения и напоминают хэйанские
ута-моногатари, повести о хэйанских аристократах содержат многие
реалии придворного быта, буддийские новеллы напоминают соот-
ветствующие сэцува и т. д.
Отдельную категорию образуют отогидзоси об Урасима Таро и о
Иссумбоси (японском мальчике с пальчик), излагающие сказочные
сюжеты и рассчитанные на детей, и шуточные рассказы, предвест-
ники городской литературы. К ним примыкают короткие рассказы,
отражающие распространённые в народе поверия:
«В заброшенном домике поблизости от Кудзё жила одинокая жен-
щина. Ест она однажды толчёные каштаны, которые достала у лю-
дей, как вдруг из угольного ящика, что стоял напротив, протянулась
бледная рука и как будто просит их. Очень странным показалось ей
это, но до того жалкой была та рука, что женщина не ощутила ни-
какого страха и дала ей один каштан. Рука убралась, но тут же
опять высунулась с просьбой. И так несколько раз протягивалась
рука, и всякий раз хозяйка клала в неё по одному каштану. А после
четырёх или пяти раз рука исчезла с глаз. Удивилась женщина, а
когда наутро заглянула под угольный ящик, то увидела: лежит там
прижатая ящиком маленькая белая ручка от ковша. А рядом с нею -
вчерашние каштаны... Очень это странно».
«Лёг один человек поспать после обеда. А рядом стоял горшок с
водой. И вот в этот горшок угодила муха и стала тонуть, но другой
человек взял её и выбросил вон. Муха полетела и попала прямо в
нос спящему. Тот перепугался и вскочил, покрытый испариной.
- Я, - говорит, - только что попал в безбрежное море и чуть бы-
ло не погиб, но кто-то вызволил меня из него.
Очень странная история».
«Повесть о сражениях между воронами и цаплями», которую при-
писывают кисти Итидзё Канэра, как и «Повесть о войне между ры-
бами и птицами», - пародия на «Повесть о доме Тайра», а поучи-
тельные и остроумные «Записки о кормилицах» имеют бытовой ха-
рактер. В «Шепчущем бамбуке» ( $ £ # 'И') рассказывается, как в
некие времена жила чета бездетных супругов, богатых, но простого
положения. Супруги ходили в буддийский храм Курама молиться
Всеслышащему богу Бисямону, чтобы он ниспослал им ребёнка, и
родилась у них дочка. Когда девочке было четырнадцать лет, она
попала на глаза Государственному канцлеру, и тот влюбился в неё.
Но тогда же любовь к ней с одного взгляда зародилась в душе шес-
тидесятилетнего Сайкобо, настоятеля храма Курама. Однажды поздно
ночью он поднёс к подушке её спящих родителей коленце бамбука и
стал нашёптывать в него, что это говорит бог Бисямон и что те
должны отправить свою дочь к настоятелю храма Курама, иначе в
их доме случится нечто непоправимое.
Родители пожалели дочку и вместо неё подослали старику ко-
рову. Тот оторопел и решил, что это девочка обернулась коровой.
301
Чтобы корова опять стала девочкой, монах принялся творить закли-
нания. Об этом узнали окрестные жители, которые стали стекаться
в храм; поглазеть на небывалое зрелище пришли три тысячи мона-
хов храмового комплекса Энрякудзи. В конце концов один мужчина
узнал злополучную корову и даже назвал её хозяина; обман открыл-
ся, а с девушкой счастливо соединился канцлер. Сугиура Мимпэй на-
звал эту коллизию «юмором в духе Боккачо» [Сугиура, 1965, с. 204].
«Двадцать четыре примера сыновней почтительности» - коро-
тенькие зарисовки, взятые из китайских источников. Вот первая из них.
«Словно воины шеренгой на пахоту вышли слоны,
И слетаются стайками птицы выдёргивать травы.
Вслед за Яо воссел на престоле Да Шунь император.
И Небесное сердце тронуто верного сына нравом.
Да Шунь обладал истинным чувством сыновней почтительности.
Имя его отца было Гу Соу, мать слыла твёрдой и вздорной женщи-
ной, младших братьев считали заносчивыми, да к тому же бездель-
никами. А вот Да Шунь следовал исключительно сыновнему долгу.
Однажды, было это в местечке под названием Лишань, во время па-
хоты, Да Шунь особенно почтительно думал о своих родителях. Не-
ожиданно появились большие слоны, вспахали поле. Потом приле-
тели птицы - помогли выполоть сорные травы. В то время власти-
телем Поднебесной был Яо-ван. Он имел двух дочерей, старшую
сестру звали Э-хуан, имя младшей было Нюй-ин. Когда Яо-ван про-
слышал о том, как Шунь исполняет свой сыновний долг, он отдал
дочерей ему в жёны, а потом назначил Шуня императором и передал
ему всю Поднебесную.
Это произошло оттого, что в сердце Да Шуня была настоящая
глубина сыновнего чувства» («Да Шунь»175, пер. М. В. Торопыгиной).
Авторы почти всех отогидзоси неизвестны. Рассмотрение от-
дельных новелл показывает, что среди их авторов есть и аристок-
раты, и представители высшего буддийского духовенства, и воины,
и горожане [Итико, 1986, с. 538]. По сравнению с хэйанскими моно-
гатари у отогидзоси поменялся социальный вектор: если первые со-
здавались придворной верхушкой для распространения в собствен-
ной среде, то вторые, даже если они создавались высшей знатью,
стали распространяться среди простого народа. В начале периода
Эдо имеют хождение иллюстрированные рукописи отогидзоси, ко-
торые, по выражению Джеймса Араки, «по не очень понятным при-
чинам получили название нара-эхон & (нарские иллюстриро-
ванные книги)...» [Араки, 1981, с. 1].
Междоусобные войны продолжались несколько столетий. «Мно-
гие образованные люди, бежав из столицы, селились в провинции, и
литература впервые стала создаваться в отдаленных местах страны.
175 Великий Шунь (Да Шунь) - легендарный китайский император 111 тыс. до н.э.
Образцовый правитель.
302
Эти люди, по большей части аристократы и священники, служили
также наставниками у полуобразованных военных предводителей,
которые пришли к власти, и в конце концов основали школы, где и
преподавали остатки традиционной культуры сыновьям и поддан-
ным этих правителей» [Кин, 1981, с. 40].
Отогидзоси создавались главным образом для устного их произ-
несения. Их популярности среди простого населения способствовала
и форма бытования: в виде рукописных текстов, сопровождающих
рисунки в иллюстрированных тетрадях нара-эхон и свитках эмаки-
моно. Таким образом, главный объединяющий признак отогидзоси -
их внешний вид, а не художественные особенности. Последние вы-
явились лишь в прозе следующей эпохи, в канадзосии укиёдзоси.
Средневековая драма. Но и кёгэн
Пьесы для театра Но (йЁ), впервые появившегося в XIII в., дол-
гое время существовали в устной передаче и на письме были
зафиксированы не раньше второй половины XIV в. Жанровое их
название - ёлгёлу(йй). Они возникли на базе комплексных (от ак-
робатики и фокусов до танцев и песен) представлений саругаку (Ж
$$), которые давали бродячие труппы начиная с VIII в.
Параллельно с ними существовали обрядовые мимические пред-
ставления дэнгаку( И ^), связанные с сельскохозяйственными рабо-
тами; они существенно не отличались от саругаку. Впрочем, сведений о
них сохранилось мало.
Отдельные труппы исполнителей саругаку (саругаку-хоси) сели-
лись в буддийских храмах и синтоистских святилищах, где время от
времени ставили придуманные ими самими пьесы. «...Мы не распо-
лагаем текстами этих пьес. Можно лишь предположить (исходя из
дальнейшей истории театра Но), что это были очень короткие, по-
вествовательного характера религиозно-дидактические пьески для
двух-трех актеров, посвященные какому-либо значительному истори-
ческому событию и легендарному герою, естественно подводящие к
исполнению танца. Сопровождались они мелодией коута ("короткая
песня"), необычайно медленной и однообразной; пение также осу-
ществлялось в монотонной протяжной манере, в духе религиозных
песнопений» [Анарина, 1984, с. 31].
О социальной принадлежности исполнителей можно судить по
записи Осикодзи-но Кинтада (1324-1383) в его «Гогумайки» (f£/S№
ВЁ): «Эти саругаку суть действа нищих» (цит по: [Като, 1975, с. 296]).
Первоначально представления саругаку носили шуточный характер,
сопровождались музыкой и песнями имаё (т'ШЭк) и роэй (ВДай),
303
постепенно превращаясь в инсценировки на темы популярных сю-
жетов - буддийских притч, легенд сэцува, воинских повествований
гунки, народных преданий. Такие представления, в зависимости от
характера труппы, стали называться саругаку-но Но или дэнгаку-но
Но'™. Но, по замечанию Н. Г. Апариной, означает «умение», «мас-
терство»176 177 [Ёкёку, 1979, с. 8].
В церемониальных пьесах, исполнявшихся для достижения мира
и получения богатого урожая пяти злаков, было три роли (самбан
саругаку): Инацуми-но Окина (Старец Урожая Риса), Тити-но Дзё
(Старец-отец) и Ецуги-но Окина (Старец-преемник). Другой вид пред-
ставлений разыгрывался в буддийских храмах. Сохранилась запись
исполнения в 1247 г. в храме Кофукудзи пьесы о путешествии не-
коего аскета на гору даосских бессмертных Конрон (Куньлунь) за
волшебным камнем исполнения желаний [Кониси, 1991, с. 525]. На
представления саругаку собиралось огромное количество зрителей.
В одном из дневников XV в., в записях о посещении сёгуном такого
представления на речном берегу в Киото в 1464 г., отмечено, что
зрителей нельзя было сосчитать. Это возможно при одном условии:
представления собирали зрителей из самых разных социальных сло-
ёв. Такое в японской истории произошло впервые [Като, 1975,
с. 296].
Одним из наиболее ранних представлений театра Но считается
«Окина» (ад, «Старец»), «Под этим наименованием в старинных на-
родных земледельческих представлениях выступает обычно персо-
наж, рассматриваемый как образ родового старейшины, который в
давние времена был руководителем сельскохозяйственных работ и
хранителем культа и обожествлялся после смерти. Это одна из глав-
ных фигур не только земледельческих, но и храмовых представле-
ний, перешедшая туда из народного театрального искусства.
В театре же Но под влиянием новых религиозных и философ-
ских концепций этот образ родового старейшины превращается в
образ божества, одетого в белую маску старца и олицетворяющего
небо.
В представлении "Окина" в театре Но принимают участие еще
два персонажа. Один из них - это Самбасо, персонаж в черной маске,
известный в народных представлениях как божество гор. Здесь, в
Но, он олицетворяет землю. Второй персонаж, без маски, так назы-
ваемый Сэндзай, олицетворяет третье начало Вселенной — челове-
ка» [Глускина, 1979, с. 287].
Важную роль в становлении ранних Но играли представления в
святилище Касуга, и изображение на заднике сцены сосны Его, рос-
шей возле святилища, стало своеобразным символом Но. С него
176 Представления дэнгаку-но Но существовали до XV в. После их исчезновения
представления саругаку-но Но стали называться просто Но.
177 Это определение, по-видимому, относится не к уровню, а к жанру представ-
лений.
304
начинается Ногаку для каждого зрителя. Помимо всего, эта сосна
символизирует дух божества святилища Касуга. В старину, до XII в.,
под этой сосной исполнял священный танец ста-рец, изображавший
божество Касуга, и традиция обращения к нему сохранилась до нас-
тоящего времени [Ясуда, 1989, с. 2].
Первые авторские пьесы театра Но (впоследствии они получили
наименование ёкёку, fig ft) связывают с именем актёра и поста-
новщика Канъами (Кандзэ Киёцугу, 1333—1384). Скудные сведения,
дошедшие до нас от того времени, сообщают, что он родился в
провинции Ига, первоначально выступал в группе Ямада-саругаку в
провинции Ямато, а затем основал свою собственную труппу (потом она
стала называться Кандзэ), в Юсаки в районе г. Нара, и сделал ее
одной из четырех трупп, постоянно выступавших в храме Кофукудзи
и связанном с ним святилище Касуга.
Сохранилось восемь драм Канъами. «Канъами, - по характерис-
тике Н. Г. Апариной, - создал драму остроконфликтную, с действен-
ным мотивом "борение двух сил в одной груди" ("Сотоба Комати").
Наличие конфликта, внутренней напряженности, драматизма превра-
щает бывшие ранее повествовательно-иллюстративными пьесы Но
в полноценные драматургические произведения. Канъами ввел в драму
образ полубезумного, одержимого героя.<...> Канъами удалось до-
биться единства музыки и текста, подчинив и музыку, и сам текст
принципу дзё-ха-кю ("вступление-развитие-быстрый темп"), заим-
ствованному им из придворной музыки искусства бугаку» [Ёкёку,
1979, с. 11].
Текст вошёл в представление саругаку-но Но, когда основы са-
мого этого представления уже сформировались, поэтому рассмот-
рение текста отдельно от сцены, от действа в целом явно недоста-
точно для его адекватного восприятия. Не случайно подавляющее
боль-шинство серьёзных исследований, посвящённых театру Но, со-
держит описание сцены и специфических признаков постановки. Драма
Но «разыгрывалась как синтетический спектакль, в котором слово,
игра, танец, музыка, костюмы, маски - все элементы спектакля сли-
вались в гармоническом единстве» [Ёкёку, 1979, с. 11].
Представление театра Но разыгрывалось в специально для этого
оборудованном месте. Приподнятые над землёй подмостки окруже-
ны балюстрадой и закрыты высокой черепичной крышей с выгну-
тыми скатами. Крыша опирается на четыре столба, каждый из них
имеет собственное название и назначение. На заднике сцены - сти-
лизованное изображение сосны. Подмостки окаймлены широкой поло-
сой крупного белого песка или гравия, которая символизирует реч-
ную отмель, служившую в старину местом, где давались представле-
ния, и кроме этого предназначена для дополнительного освещения
сцены: отражение белым песком солнечных лучей помогает создать
на сцене необычный световой эффект.
Кроме собственно сцены площадью около 30 кв. м, где разыгры-
вается действие, предусмотрено и пространство для музыкантов (ато-
305
дза) в глубине сцены, а справа (если смотреть со стороны зрите-
лей) - место для хора (дзиутаи-дза) и крытый узкий помост для вы-
хода исполнителей из артистической уборной (кагами-но ма) на сце-
ну, именуемый хасигакари. Оркестр состоял из флейтиста и трёх
игроков на трёх разных видах барабана. С левой стороны сцены рас-
полагался хор.
Но - это стилизованный театр масок, главным элементом кото-
рого является не текст, а музыка, поэтому зрители с напряжённым
вниманием следят здесь за характером движения актёров по сцене
(их движения замедленны, словно совершаются в очень плотной сре-
де), исполнительским мастерством музыкантов и хористов (в спектакле
они не создают сплошной фон, а лишь время от времени включают-
ся в действие) и только в третью очередь - за диалогом (тем более,
что речь актёров на сцене театра Но отличается от бытовой речи и
по тембру, и по манере произнесения).
Не считая хора и оркестра, исполнителей в большинстве пьес
двое - главный (ситэ) и второстепенный (ваки). Задачей ваки яв-
ляется призывание ситэ на сцену, побуждение его вопросами к рас-
сказу и танцу. Выполнив свою задачу, он отступает в угол сцены,
чтобы не отвлекать на себя внимание зрителей. Иногда ситэ выхо-
дит на сцену с сопровождающими (слугой, родственником, другом).
Сопровождающие бывают и у ваки. Первые называются ситэдзурэ,
вторые - вакидзурэ.
Хор из восьми или десяти человек комментирует или повторяет
слова главного героя, объясняет зрителям ситуацию. Иногда во время
исполнения главным героем танца хор вместо него произносит сло-
ва его роли. Вот, например, 5-я сцена из драмы Канъами «Эгути»:
Хор
Пока мы слушали рассказ о том,
пока мы слушали рассказ о том,
что в мире бренном некогда случилось,
сгустились сумерки вечерние, и в них
черты твои неясны. Кто же ты?
Ситэ
В вечерней дымке
теряется излучина реки...
Здесь я стою, и сумерки скрывают
лицо... Неловко мне! Ужель не узнаете
«влекомую течением» Эгути?
Хор
(С началом второй строки актер ситэ совершает медленный про-
ход к мэцукэбасира, оттуда - снова к месту дзёдза, где останавливает-
ся, повернувшись лицом к авансцене.)
О да, сомнений нет! На дикий берег
волна нахлынет и исчезнет. Вместе с ней
исчезла и она, но снова
вернулась в этот мир.
306
Ситэ
У дома, что служил когда-то
мне временным приютом на земле,
Хор
«у дома моего сегодня слива
вдруг расцвела.
И ты не потому ли
Ситэ
зашел ко мне сегодня,
Хор
гость нежданный?».
Так знай же. Этот знак нам говорит
о том, что некогда случалось в прежней жизни
искать пристанища под деревом одним
и черпать воду одного ручья.
(Ситэ поворачивается к актеру ваки и делает движение «хираки»,
означающее, что персонаж «открывается» и назовет сейчас свое имя.
Следует пауза-поза. Затем ситэ несколько продвигается вперед.)
Я дух Эгути, да, я дух Эгути!
И, так промолвив, в сумерках исчезла,
И, так промолвив, в сумерках исчезла.
(Актер ситэ возвращается к месту дзёдза, повернувшись к авансцене, по-
вторяет движение «хираки». Медленно покидает сцену. Накаири.)
(Пер. Т. Л. Соколовой-Делюсиной)
Представление театра Но продолжалось весь световой день и
включало пять пьес Но пяти разных типов, чередующихся с фарса-
ми кёгэн. На отдельные типы пьесы делились по тематическому
признаку: о богах, о воинах, о женщинах, о безумных и о демонах. К
первому из этих типов относится древняя мистерия "Окина", испол-
нявшаяся священнослужителями ещё до появления театра Но (для
её исполнения все участники, включая оркестрантов, совершали об-
ряд очищения).
Всего существовало пять известных школ Но-. Кандзэ, Конго,
Компару, Хосё и Кита, каждая из которых имела собственные тек-
сты утаибон) с некоторыми различиями в их чтении [Судзуки,
1932, с. 22], но школа Кандзэ по известности скоро опередила все ос-
тальные. В 1374 г. её представление (ставилась пьеса «Окина») посе-
тил сёгун Асикага Ёсимицу (1358-1408), на которого оно произвело
большое впечатление, что и повлекло за собой его покровительство
школе и начало расцвета сценического искусства Японии.
В представлении 1374 г., которое произвело такое сильное впе-
чатление на сёгуна Асикага Ёсимицу, что решительно изменило судьбу
Ндгаку, участвовал не только 41 -летний Канъами, но и его сын Дзэ-
ами, которому тогда было десять или одиннадцать лет178- Канъами
178 Министр двора Сандзё Кинтада (1324-1383) с неудовольствием отмечал, что
сёгун стал настолько благоволить к Фудзивакамару, что могущественные даймё ищут его
307
прожил после этого десять лет и летом 1384 г., после исполнения
священного танца в синтоистском святилище Асама (пров. Суруга),
скоропостижно скончался. После его смерти труппу возглавил его
20-летний сын Дзэами Мотокиё (13637-1443?). При нём театр Но до-
стиг необычайного расцвета. Дзэами прославился как талантливый
актёр, драматург, теоретик Ногаку. Ему приписывают около полов-
ины пьес из тех двухсот сорока, что ныне входят в репертуар театра
Но Он написал 24 трактата по исполнительскому искусству актёров
Но (их перечень см.: [Дзэами, 1989, с. 9-10]).
В 1976 г. на Всемирном съезде астрономов имя Дзэами Мотокиё
было присвоено кратеру на Меркурии, одному из 135 астрономиче-
ских объектов, названных в честь выдающихся деятелей мировой
литературы и искусства. В японскую часть списка тогда вошли Му-
расаки-сикибу, Андо Хиросигэ, Таварая Сотацу, Ки-но Цураюки, Каки-
номото-но Хитомаро и Сэй-сёнагон [Хейр, 1986, с. 1].
«В детстве, - пишет Н. Г. Анарина, - его звали Киямата и Фудзи-
вака179. Он носил также имя Мицуро и подлинное имя от рождения -
Мотокиё. Был известен и под именем Хатаси, а его артистическое
имя - Дабуцу Дзэами (букв, "повсюду ублажающий мир [своим талан-
том ] магический будда"). Было принято сокращенное употребление
его имени: Дзэами или Дзэа» [Дзэами, 1989, с. 18].
В 1399 г. Дзэами был признан лучшим актёром саругаку-но Но.
Однако после смерти сёгуна Ёсимицу его труппа стала переживать
трудности, потому что новый сёгун Асикага Ёсимоти (1386-1428) от-
дал свои симпатии мастеру дэнгаку-но Но Дзоами. Приход в 1428 г. к
власти нового сёгуна, Асикага Ёсинори, не улучшило положения
труппы Дзэами. В 1432 г. скоропостижно скончался сын Дзэами,
талантливый актёр Мотомаса, на которого отец возлагал большие
надежды. Дзэами тяжело переживал смерть сына и тайны своего
мастерства стал постепенно передавать зятю, Компару Дзэнтику
(14O5-1468180). В 1434 г. знаменитого мастера сослали на о. Садо в
Японском море, где он пробыл около семи лет. О последних годах
жизни Дзэами мы мало что знаем.
Техника исполнения, принятая в XIV-XV вв., точно неизвестна.
Знакомые нам по современным постановкам спектакли Но восходят
к XVII в. Можно лишь предполагать, что существенных изменений в
технике исполнения от XV до XVII в. не произошло. Сцена без деко-
раций была снабжена поворотным кругом. Любой жест актёра (это
были ситэ, ваки и, иногда, их сопровождающие, амплуа которых
обозначалось термином цурэ) или лёгкое движение сцены что-то
расположения, делая мальчику дорогие подарки [ Кониси, 1991, с. 528 ].
179 Точнее - Фудзивакамару А).
‘"° Араки Ёсио писал, что в 1468 г. Дзэнтику было 64 года (по европейскому счё-
ту - 63 года), и похоже, что он скончался в ближайшие после этого три года [Араки,
1961, с. 318], хотя большая часть авторов предпочитают годом его смерти предпо-
ложительно называть 1468 г.
308
символизировали: медленный поворот сцены - долгое путешествие
персонажа, лёгкое опускание маски поднятой актёром рукой - слё-
зы и стенания, едва уловимое движение веера - дворец, степь или
морской берег. Огромное значение здесь приобретало воображение
зрителя, его подготовленность к пониманию сценического языка.
«...Драмы Канъами насыщены открытой религиозной дидак-
тикой, в них нередко встречаются молитвы и заклинания, которые
введены в текст в их натуральном виде. И в то же время сюжеты за-
имствованы из хэйанской литературы, цитируются классические стихи
танка. В спектакле, с одной стороны, сохраняется многое из народ-
ных обрядов - исполняются народные танцы, используются маски
из древних культов (маска старца Окина, например), в актерском ис-
кусстве основное место отведено принципу реалистического подра-
жания мономана; с другой стороны, вступает в силу эстетический
принцип югэн, который корректирует поэтику народного представ-
ления в направлении утонченной красоты и строгого совершенства»
[Анарина, 1984, с. 35].
После смерти Канъами его сын несколько изменил тематиче-
скую направленность пьес. «Во-первых, в качестве материала он брал
не героев массовых легенд (Оно и братья Сога), а, главным образом,
воинов из "Повести о доме Тайра" (Ёримаса, Санэмори, Таданори,
Ацумори) и классических героев эпохи Хэйан (Нарихира и женщина
в "Идзуцу", старуха в "Хигаки", Тору, Цураюки и др ); во-вторых,
драматическое напряжение сводилось не к столкновению многих людей,
а к показу внутренней сути [ситуации] через преображение одного ге-
роя. Например, в случае, если герой - воин, то монах, путешеству-
ющий по провинциям, на месте старинного сражения встречает стар-
ца (маэдзитэ) и слышит от него предание, связанное с этой местнос-
тью, затем этот старец появляется в облике старинного воина (ато-
дзитэ ) и, рассказывая, как он погиб в бою, исполняет танец, монах
же читает сутры, чтобы успокоить его душу» [Като, 1, 1975, с. 299].
Танец ситэ символизирует здесь встречу двух миров - действи-
тельного и потустороннего, ибо, как и в древних мифах, граница
между этими мирами может пересекаться в обоих направлениях, а
противоположение двух ипостасей ситэ {маэдзитэ и нотидзитэ) от-
ражает суть конфликта. На автохтонные представления, по-видимо-
му, наложились буддийские, пришедшие сюда, по мнению Беатрис
Судзуки, вместе с учением школы кэгон181.
181 В работе Б. Судзуки отмечено отражение буддийских идей и представлений в
пьесах Попо семи позициям: идея взаимопроникновения двух миров по обе стороны
смерти в духе учения кэгон («Аватамсака-сутра»); помощь в достижении умершим
степени будды посредством чтения сутр («Саддхарма Пундарика-сутра» и «Праджня-
парамита-сутра»); равная возможность достижения степени будды всеми, включая
травы, деревья и животных; возможность её достижения даже «злыми существами»
вроде демонов и тэнгу (фантастическое существо, обитающее глубоко в горах); тэн-
дайская концепция единства всех живых существ и Будды; вера в Чистую землю и
действенность возглашения Нэмбуцу; вера в милосердие Авалокитешвара и других
бодхисаттв [Судзуки, 1932, с. 42-44].
309
Двухактные пьесы первого типа, о богах, основаны на преданиях,
посвящённых тому или иному буддийскому храму, синтоистскому
святилищу, другому объекту поклонения. В первом акте ситэ в про-
зе или стихах рассказывает о происхождении храма. Во втором акте
он же появляется в виде божества, о котором рассказывал в первом
акте. Иногда такие пьесы состоят из одного акта, например «Небес-
ное платье», где ситэ не принимает временный облик, а сразу появ-
ляется в маске красавицы, парике, головном уборе и костюме феи.
В пьесах о воинах ситэ, как правило, изображает воина времён
междоусобной войны Минамото и Тайра, убитого знаменитым про-
тивником или павшего на поле брани. Здесь дух погибшего воина про-
сит священнослужителя молиться за его успокоение. Материал для
таких пьес брался в основном из «Хэйкэ моногатари» или «Гэмпэй
сэйсуйки».
Пьесы следующего типа, «о героинях в парике», посвящены хэй-
анским красавицам, которые, по мысли драматурга, призваны под-
твердить истину о том, что всё в мире преходяще. Вот, например,
финал пьесы Дзэами «Нономия»:
Ситэ
О старый храм, приют печальной жизни,
мелькнувшей и исчезнувшей росой.
Такой же, как и прежде, он,
Хор
и сал-
он необычен, как и в дни былые.
Ситэ
Непрочна изгородь из хвороста. Росу
стряхнув с неё, пришел сюда он.
Хор
Теперь же все исчезло, мир наш - сон.
Вот гибнет храм в осеннем запустенье,
Звенят цикады в соснах... Но кого им ждать?
Печален милый облик Нономия.
Холодный ветер ночи налетит -
и сердце полнится тоскою безысходной.
(В кружениях танца актер несколько раз проходит сквозь «воро-
та» храма)
Когда-то чтил сей храм богов Исэ.
Вот тории. И, проходя меж ними,
как будто бы блуждаешь по дороге
рождений и смертей.
«Увы, меня осудят, верно, боги», -
промолвила она и, снова сев в карету,
покинула горящую обитель,
покинула горящую обитель.
(Пер. Т. Делюсиной)
310
Большая часть сюжетов для пьес такого рода заимствована из
произведений хэйанской прозы - «Исэ моногатари» и «Гэндзи мо-
ногатари».
Пьесы о безумных женщинах в основном посвящены матерям,
лишившимся рассудка из-за потери детей. В пьесе «Сумидагава»
рассказано о матери, которая проделала путь от Киото до берегов
реки Сумида в поисках маленького сына, украденного у неё рабо-
торговцами. Наконец, ей рассказывают, что на берегу реки когда-то
кремировали и похоронили мальчика, и женщина понимает, что речь
идёт о её ребёнке. Она начинает молиться на могиле сына, и в ре-
зультате ей является дух покойного.
В пьесах последнего типа, о демонах, ситэ в первом акте появ-
ляется в облике человека, а во втором принимает свой истинный
облик.
Каждому типу пьесы соответствует особый темп исполнения -
медленный для первого, «основной» для второго, третьего и четвёр-
того и быстрый для пятого. Текст носил конспективный характер и
передавался актёрами из рук в руки по наследству, причём каждый
исполнитель насыщал его знакомыми зрителю цитатами из попу-
лярных произведений.
По поводу использования в пьесах Но выдержек из литератур-
ных произведений Т. Л. Делюсина замечает: «Умело оперируя го-
товыми элементами, легендами, эпизодами из классических романов,
военных хроник, стихотворными цитатами, строками из прослав-
ленных произведений древности, изречениями японских и китайских
буддийских монахов, автор вплетает их в определенный контекст, и
в этом своеобразном сплетении привычное являет новые оттенки кра-
соты, начинает блистать новыми, подчас неожиданными гранями.
Память зрителя дополняет стихотворную цитату; строка из ро-
мана или военной хроники приносит с собой неотделимый от нее
образный и эмоциональный настрой. Определенность времени года
и места действия играет роль своеобразного знака - ключа к ряду
ассоциативных образов. Достаточно вспомнить пьесу "Ацумори". Сю-
жет ее никак не связан с событиями романа "Гэндзи-моногатари", но
упоминание места действия (побережья Сума) делает оправданным
появление в тексте многочисленных цитат из соответствующей гла-
вы романа - в пьесу привносится атмосфера одиночества и изгнания,
усиливая ее звучание» [Ёкёку, 1979, с. 299].
Дальше Т. Л. Делюсина (переводчица пьес ёкёку на русский
язык) наглядно показывает, как авторы пьес используют богатый
арсенал средств художественной выразительности, накопленный
поколениями японских писателей и поэтов, - ассоциативные слова
(энго), слова-связки (какэкотоба), постоянные эпитеты, зачины,
внутренний ритм текста.
Об эстетическом аспекте искусства Но хорошо написала В. Н. Мар-
кова: «У театра Но есть своя "сверхзадача" - вызвать "сверхчувст-
вование". Страдание, ужас, восторг - все должно разрешиться в осо-
311
бом чувстве наслаждения красотой. Красота эта может вмещать в
себя, казалось бы, уродливое, демоническое, страшное, которое в
театре Но переходит в свою противоположность - "прекрасное".
Для этого в каждом сценическом образе надо отыскать скрытые в
нем возможности стать прекрасным, такое чудо под силу только
высокому искусству» [Маркова, 1989, с. 13].
Соперничество между разными школами Ндгаку вынуждало не
только создавать новые пьесы, но и заботиться о совершенствова-
нии сценического искусства и повышении эстетического уровня спек-
такля. Между 1400 и 1436 гг. Дзэами создал 24 трактата, затраги-
вающие разные аспекты Но (до нашего времени дошёл 21 из них).
Все эти трактаты были предназначены для тайной передачи в пре-
делах школы Дзэами. В целом они интерпретируют три категории,
на которых, по мысли Дзэами, должно базироваться сценическое ис-
кусство: подражание (4Й Ж [И, мономанэ), сокровенная красота (|*Й
югэн) и Цветок (7Ё, хана).
Первые пять частей трактата Дзэами «Фуси кадэн» (Ж§г7Ё(к,
«Предание о Цветке стиля», 1400-1402) написаны на основании взгля-
дов его отца на эстетические идеалы Но. В конце третьей части
трактата Дзэами писал: «Итак, я запечатлел в глубинах памяти пе-
реданное мне покойным отцом учение и записал главное, дабы укре-
пить дом и дать вес [нашему] искусству; я не посягаю вовсе на дру-
гие учения, но пишу, презрев мирскую хулу, побуждаемый мыслью
о том, чтобы путь не прервался. Я просто хочу оставить для потом-
ков учение своего дома» (пер. Н. Г. Апариной).
Сходная мысль выражена автором в заключении к пятой части
трактата, написанной двумя годами позже. На этом основании Ко-
ниси Дзинъити так суммирует взгляды Канъами на искусство Но.
1. Но должен очаровывать своих зрителей, потому что в его ис-
кусстве есть Цветок (привлекательность).
2. Различаются Цветок временный (привлекательность, сущест-
вующая только в данный период карьеры актёра) и истинный (при-
влекательность, которая не убывает никогда). Актёр должен цели-
ком использовать первый из них, но именно второй составляет жизнь
Но.
3. Чтобы получить Цветок, следует приспосабливать своё созна-
ние к любой ситуации:
а) поскольку существует много типов зрителей, игра актёра
должна устраивать и столичного знатока, и провинциала. Он дол-
жен быть способен менять стиль исполнения в зависимости от ауди-
тории и конкретных условий;
б) во время игры актёру следует быть готовым соответст-
венно реагировать даже на появление неожиданностей;
в) на протяжении всей его карьеры актер должен достигать
соответствующего его возрасту уровня исполнительского мастер-
ства.
312
4. Есть разные идеальные образы Цветка, но самый важный и
основной из них - это красота югэн'п. Но, хотя она встречается
редко, выше красоты югэн стоит красота Увядания (сиорэ) [Кониси,
1991, с. 531-532].
Уделяя в «Предании о Цветке стиля» основное внимание прави-
лам исполнения актёрами ролей в пьесах разного типа, необходимо-
сти понимания исполнителями психологии зрителей, Дзэами в шес-
той части трактата останавливается и на специфике построения
самих пьес:
«И вот как надлежит сочинять, ежели это ваки-но саругаку: не
прибегать к полному исчерпанию тонкостей исполнительского сти-
ля; подавать сразу все ее простое содержание; и только в самое на-
чало пьесы должен быть включен яркий эпизод.
А также [надобно помнить, что] по мере возрастания очереднос-
ти пьес необходимо писать их все более и более изощренно, исполь-
зуя до конца возможности слова и стиля.
К примеру, когда названием пьесы является легендарное или ис-
торическое место, надо поместить в основной сцене ее у всех в ушах
звучащие строки из китайских стихов или танок, сложенных в честь
этого места. В места же пьесы, что не связаны с героем ни словом,
ни действием, нет надобности вписывать важнейшие слова. <...>
Стало быть, [создавая пьесу], хорошо использовать строки ки-
тайских стихов и танок, что, будучи изящными, легко улавливаются
на слух и по смыслу. Ежели изящные слова приведены в согласие с
действием, то и тело - удивительно - как бы само собой воплотит
стиль в духе сокровенной красоты. Резкие слова не ладятся с нашей
манерой игры. При всем том, хоть далеки нам резкие слова, и они
могут оказаться к месту: они подходят, когда таков характер пер-
сонажа, составляющего все содержание пьесы.
[При написании текста] также потребно сердечно различать -
лежит в основе китайская или японская история.
Что до грубого, просторечного языка, то он делает пьесу никуда
не годной по стилю.
Итак, говоря, что такое хорошая пьеса, на первое место надле-
жит поставить ту, которая верна источнику [повествования], облада-
ет редкостным стилем, имеет трогающее за душу завершение и в
настроении своем несет сокровенную красоту. Второе место можно
отвести пьесам, которые хоть и не редкостны по стилю, но нескла-
дицы не имеют, хоть и просты в своем настроении, но обладают
притягательной силой» (пер. Н. Г. Апариной).
Трактаты по сценическому искусству Дзэами передал своему
ученику и зятю Дзэнтику, который также принадлежал к одной из
главных трупп Но. Его труппа называлась Эмманъи (НЙШ#) и да-
182 Югэн - понятие, включающее в себя несколько значений, в том числе
«глубина» и «элегантность»
313
вала представления в районе г. Нара После того, как Дзэнтику в
середине XV в. возглавил её, труппа Эмманъи стала называться
Компару (4s#).
Компару Дзэнтику (его детское имя - Ясабуро, настоящее имя -
Удзинобу; 1405-1470) стал преемником Дзэами, считается автором
восьми популярных пьес Но (ещё от двух до пяти пьес приписывают
его кисти предположительно), и вместе со своим учителем угодил в
опалу после того, как сёгуном стал Асикага Ёсинори. В 1468 г., вско-
ре после начала «смуты годов бнин», он стал буддийским отшельни-
ком и поселился вдали от мира, неподалёку от хижины своего друга,
поэта и дзэн-буддийского наставника Иккю (1394-1481). Кроме пьес,
Компару Дзэнтику написал два трактата, посвящённых искусству
исполнения; «Кабу дзуйно ки» (Зк1¥ё8ЯйёЕ, «Записки о сущности пес-
ни и танца», 1456 г.) и «Рокурин итиро-но ки» «Запис-
ки о шести кругах и капле росы», 1455 г.).
Ещё одним известным драматургом той же школы был внук Дзэн-
тику, Компару Дзэмпо (настоящее имя - Мотоясу, род. в 1454 г.).
Школа процветала до конца XVI в. и пришла в упадок после смерти
тогдашнего её главы Компару Дзэнкёку (настоящее имя - Ясутэру,
1549-1621).
До 80-х годов XVI в. считалось нормой, когда в пьесе Но изо-
бражались герои, жившие не менее чем за сто лет до её написания.
Правило было нарушено, когда Тоётоми Хидэёси велел сочинителю
панегириков на него - стихотворцу и прозаику Омура Юко (1536-1596)
создать серию пьес, где бы в амплуа ситэ был выведен он сам. Юко
не был профессиональным драматургом, тем не менее написал о
Хидэёси десять пьес, воспевающих его полководческое искусство и
государственный ум. Как по структуре, так и по формальным при-
знакам они вполне укладывались в рамки традиций Но [Кин, 1993,
с. 1190-1193].
Спектакли Но, собиравшие массовые аудитории самого разного
социального состава и культурного уровня, от сёгунов и министров
до представителей городских низов, в первые века их распростране-
ния играли ведущую роль в деле популяризации сюжетов, идей и ху-
дожественных приёмов классической литературы предшествующих
эпох среди простого народа и имевших широкое хождение среди на-
рода сюжетов и художественных приёмов - в аристократической
среде. Эту последнюю задачу с ещё большим успехом выполняло
исполнение на тех же подмостках фарсов кёгэи.
Кёгэн (£Eg?> безумные слова) - это короткие (на десять-пят-
надцать минут) одноактные фарсы, которые разыгрывались в пере-
рывах между постановками пьес, а иногда - и между актами одной
183 Перевод некоторых из них на русский язык сделан В. В. Логуновой (см.: [Кё-
гэн, 1958].
314
пьесы Но,м. Если в Но речь исполнителей принадлежит к высоко-
му стилю, представляет собой причудливое плетение из стихов, вы-
держек из памятников классической прозы и философско-религи-
озных трактатов с текстом, специально написанным драматургом,
то речь актёров кёгэн максимально приближена к тогдашней прос-
тонародной и произносилась в обычной манере. Сами фарсы соче-
тают юмор ситуаций с забавной игрой слов, содержат не всегда при-
стойные намёки. На основании многих особенностей этих миниатюр
считается, что вышли кёгэны из крестьянской среды [Араки, 1961,
с. 289]. Разные мнения высказываются о происхождении названия этого
жанра, но многие полагают, что оно является частью выражения «без-
умные слова, изящный язык» (кёгэн киго) [Араки, 1961, с. 287], ко-
торое впервые было употреблено Бо Цзюй-и в отношении буддий-
ского учения [Кин, 1993, с. 1030].
В первые столетия тексты этих фарсов имели очень конспектив-
ный характер и давали актёрам богатый простор для импровизаций.
По словам Токуда Кадзуо, «постановка и исполнение не были пре-
дусмотрены до мелочей; одно и то же содержание не могло в одина-
ковой форме исполняться дважды; сущность этого искусства в том,
что интерес к нему всё время менялся» [Токуда, 1992, с. 433]. Не-
смотря на то, что появились они, очевидно, в XIV столетии, а первое
описание их постановки было сделано в XV в., впервые опубликованы
лёгэаь/были только в XVII в. (сборник из 240 пьес, опубликованный
Окура Яэмон Тораакира, 1597-1662, в 1642 г.).
Каждая школа Но располагала собственной традицией исполне-
ния кёгэнов. Школа Кандзэ культивировала выступления труппы кёгэн
направления Саги (Жйш), Компару - направления Окура (^ЖЙС). В
провинции Овари в конце эпохи Муромати пользовались популяр-
ностью выступления актёров кёгэн труппы Идзуми (^П^ЙС)> имев-
шей привилегию выступать при дворе императора. Из нескольких
сотен пьесок, включённых в репертуар двух последних, 174 были об-
щими для них. Тораакира, который был 13-м главой династии Окура,
в 1660 г., за два года до своей смерти, написал первый в истории
трактат о кегэнах, «Варамбэгуса» (Ъ Ъ
Сейчас известно примерно триста пьес кёгэн, из них около двух-
сот и теперь исполняются на сцене. По типу сюжетов они делятся на
пьесы о крупных и мелких помещиках, об их слугах (Таро Кадзя и
Дзиро Кадзя), о мужьях, принятых в дом жены, о супругах, о демо-
нах, об отшельниках-ял/абуси, о принявших буддийский постриг, о
слепцах, о ворах - всего не более 14-15 [Итико, 1991, с. 467]. Замет-
но больше сюжетов, чем в других школах, насчитывают в традиции
Идзуми.
Вопреки долгие годы существовавшему в нашей науке мнению о
том, что главным объектом осмеяния в кегэнах являются «предста-
184 Во времена Дзэами каждый спектакль его труппы состоял из трех пьес Но и
двух фарсов кёгэн, позднее увеличилось число и тех, и других.
31S
вители господствующих классов», и в этом проявляется их демокра-
тизм, осмеивается в них не сословная принадлежность, а свойства
характера, кто бы этими свойствами ни обладал, - даймё, монах,
слуга, крестьянин, его жена или кто-нибудь другой. Объектами вы-
смеивания предстают глупость, спесь, жадность, похоть. Нередко
зрители встречаются в кёгэнах с юмором ситуации. Правда, и в
средние века зрители нередко всё-таки принимали насмешки на свой
счёт, так что актёрам доставалось и от разгневанных феодалов, и от
монахов.
Прежде, чем привести в качестве примера несколько сюжетов
разной тематики, проиллюстрируем один из сюжетов «о богах» кё-
гэномиБог Дзидзо из местности Яо» в переводе В. В. Логуновой.
Действующие лица
Дьявол Эмма
Грешник
Э м м а. Я князь Эмма, властитель ада, в обход иду, осмотреть владения
свои. Я великий князь Эмма, властитель ада. Уж очень умны грешники
ныне стали научились различать законы восьми, а то и всех девяти сект, за
что они в Чистую Землю Мида185 беспрерывно толпами валят, а нам, в аду,
хоть с голоду помирай. И потому я, властелин Эмма, отправляюсь сейчас к
перекрестку Шести Дорог и, как только завижу грешника, загоню его в ад...
{Поет.)
Селение в аду, столь привычное мне,
Я покидаю, я покидаю,
Я в путь иду, я в путь иду,
Вперед шагаю, вперед шагаю,
И вот достиг Шести Дорог я перекрестка.
Недаром я спешил, вот уже передо мной перекресток Шести Дорог.
Здесь и подожду и, как только завижу грешника, схвачу его и насильно
загоню в ад.
Грешник. Грешнику, в грехах не повинному, не повинному, разве кто
может путь в рай преградить? Я жил недалеко от Яо, в провинции Кавати.
Вдруг вихрь превратной судьбы подхватил меня и в царство теней влечет.
Что ж, пойду потихоньку.
Эмма. Что это, человеческим духом запахло! Так и есть, грешник идет.
Сейчас загоню его в ад. Эй, грешник, поторапливайся, поторапливайся, те-
бе говорят! Что ты суешь мне? Что это такое?
Грешник. Это письмо вам с земли от прославленного в грешном ми-
ре бодисатвы Дзидзо из Яо. Сделайте милость, прочитайте его!
Эмма. Вот оно что! Верно, в былые времена я, Эмма, действительно
дружил с ним, и это письмо могло бы тебе пригодиться, но теперь в аду го-
лод, и письмо его мне ни к чему. Так что хочешь не хочешь, иди в ад, благо
он рядом, а до рая еще далеко. Скорее, скорее, тебе говорю! Да, что ты все
суешь мне это письмо? Ладно, так и быть, давай посмотрю. Неси скамеечку!
Грешник. Слушаюсь!
Эмма. Давай письмо. Ну, посмотрим, что там такое. И ты тоже подой-
ди поближе, читай вместе со мной.
Грешник. Слушаюсь.
185 Мида - будда Амида, санскр. Амитабха.
316
Эмма. Сначала посмотрим, кому оно адресовано: «Господину Эмма. С
земли». Смотри ты, все старую дружбу забыть не может. (Оба читают на-
распев.) «Был у меня, бодисатвы Дзидзо, в этом суетном мире, в местности
Яо, что в провинции Кавати, прихожанин. А звали его Матакуро. Сей же
грешник приходится ему деверем186». Так... Значит, ты приходишься деве-
рем этому Матакуро? Воображаю, что за жена у Матакуро. Страшилище,
должно быть, если на тебя похожа!
Грешник. Что вы, что вы! Она красивая, на меня ничуть не похожа.
(Снова читают вместе.) «...Приходится деверем. Меня почитает, ежемесяч-
но приходит на поклон ко мне и всегда подношения приносит, а значит, он
для меня наипервейший из прихожан. Поэтому направь сего грешника в
Чистую Землю, из девяти сфер состоящую. В противном же случае он
вдребезги разнесет все котлы в аду. О, это такой строптивый, такой строп-
тивый грешник!»
Эмма. Жаль, но ничего не поделаешь.
Хор. Сказав так, князь тьмы Эмма взял за руку грешника и повел его в
Чистую Землю, из девяти сфер состоящую. После этого пошел, было, Эм-
ма обратно в ад, но снова вернулся, и, сказав на прощанье: «Ах, грешник,
грешник, как жаль мне, что отпустил я тебя, но нечего делать», — дьявол18
так ни с чем и вернулся в ад.
Бог грома («Каминари»), увлечённый своим занятием, свалива-
ется вниз и сильно ушибается. Земной лекарь из опасения получить
от прикосновения к пациенту удар молнии лечит его иглоукалыва-
нием на расстоянии, пользуясь для этого очень длинной иглой. Вы-
леченный бог пытается взлететь на небеса, не уплатив за лечение,
но лекарь вовремя хватает и не пускает его.
Два спесивых даймё («Футари даймё») останавливают на дороге
горожанина и под угрозой меча заставляют его прислуживать им.
Улучив минуту, горожанин завладевает мечом и заставляет даймё
выполнять все его команды: драться, кукарекать, кувыркаться. Вдо-
воль натешившись, горожанин убегает, прихватив заодно в качестве
трофея барский меч.
Слуга Таро Кадзя («Суэхирогари») по приказу господина отправ-
ляется в столицу купить ему для празднования Нового года склад-
ной веер суэхирогари, но не зная, что это такое (поскольку название
ему дали не общеупотребительное, а образное), приносит вместо веера
зонт. Хозяин хочет его поколотить за это, но слуга напевает новую
песенку, которая вошла в столице в моду, господин подхватывает её
и вместе со слугой пускается в пляс.
Слепой («Цукими дзато»), привлечённый звоном осенних насеко-
мых, выходит в поле, чтобы насладиться сиянием луны, хотя уви-
деть его и не в состоянии. К слепому присоединяется житель столи-
цы, и они вместе поют и танцуют при луне, после чего слепой про-
никается чувством наслаждения лунным светом. Столичный житель
уходит, а потом потихоньку возвращается, чтобы испытать слепого. * 187
188 Должно быть, шурином: деверь - это брат мужа, а не жены.
187 «Дьявол» - не вполне адекватное толкование буддийского понятия «владыка ада».
317
Он сбивает того с ног и лупит его палкой. После того, как он уходит
окончательно, слепой ощупывает палку и делает вывод, что люди
бывают двух типов. Одни таковы, как тот, с которым он пел и тан-
цевал, а другие таковы, как его обидчик.
Два монаха («Сюрон») после паломничества возвращаются в сто-
лицу. Один из них принадлежит к секте нитирэн, другой - к секте
дзёдо. По пути они спорят, каждый отстаивая истинность догматов
своей секты. Дойдя до придорожной гостиницы, они по просьбе мо-
наха дзёдо селятся в одной комнате и продолжают свой увлекатель-
ный спор. В заключении спектакля монахи исполняют общий танец
и окончательно запутываются в споре: каждый выкрикивает воз-
глашения своего соперника.
Мошенник («Нио») притворяется одной из статуй охранителя
Учения, которые устанавливают по обеим сторонам ворот, ведущих
на территорию буддийского храма, а его приятель, другой мошенник,
распускает слух, что желания прихожан исполнятся, если они сдела-
ют ему богатые подношения. Некий хромой прихожанин, в надежде
избавиться от своего физического недостатка, прикасается к ногам
«святого». Тому делается щекотно, и он разражается смехом. Афёра
с треском проваливается.
Ремесленник, изготавливающий лаковые изделия («Нуси»), при-
нимает гостя, с которым давно не виделся, выказывая тому верх гос-
теприимства. В это же время жена ремесленника, опасаясь конку-
ренции со стороны гостя, который живёт в одном с ними городе и
занимается тем же ремеслом, изо всех сил старается обмануть того.
Высмеивая глупых или спесивых даймё, авторы кёгэнов отнюдь
не посягают на изменение социальной структуры общества. Прав
Като Сюити, отмечая, что социальное недовольство выливалось в
крестьянские восстания, а не в сюжеты кёгэнов [Като, 1975, с. 313]. То
же можно сказать и о высмеивании блудливых или жадных монахов
(осуждение монахов было весьма распространено ещё в хэйанской
прозе), не имеющем отношения к взглядам общества на саму рели-
гию и её постулаты. Кёгэны на бытовые темы выделяются на об-
щем фоне более тонким юмором и сочным языком и позволяют на-
глядно судить о реальной жизни простых японцев в средние века.
Соседствуя на сцене с представлениями Но, фарсы кёгэн кон-
трастировали с ними по многим показателям - по своей краткости,
экспрессии, костюмам и речи актёров, широкому спектру сцениче-
ских приёмов. Пьесы кёгэн были значительно короче и живее пьес
Но, актёры в них были одеты не в условно сценическую, а в привыч-
ную для самих зрителей одежду и употребляли простонародную раз-
говорную речь XVI в., пользуясь популярными тогда словечками и
прибаутками. И если в спектакле Но исполнитель изображает плач
тем, что медленно поднимает ладонь до уровня глаз, то в кёгэн в
аналогичной ситуации актёр разражается громкими рыданиями...
Если учесть, что каждое представление Ногаку длилось часами и
включало исполнение нескольких драм разного типа, станет оче-
318
видным, что психологическое переключение зрителя от одного типа
драмы к другому, быстрое снятие стрессовой перегрузки могли про-
изводиться только при помощи контраста. Такой контраст драмам и
составляли фарсы. Като Сюити определяет это явление как «кон-
траст мировоззрений», который надвое делит одних и тех же людей
[Като, 1975, с. 304].
Сочетание в одном представлении драм и фарсов отражало ещё
один процесс - встречи классической традиции, которую развивала
драма Но (с направленностью культурного процесса сверху вниз), с
простонародной культурой, воплощённой в фарсах кёгэн (при на-
правленности снизу вверх). В целом этот процесс типичен для раз-
ных аспектов японской культуры развитого средневековья.
В середине XV в. в самурайской среде стали популярны драмати-
ческие представления кдвакамай (^^=rW), сюжеты которых осно-
ваны главным образом на «Повести о доме Тайра» и «Повести о
братьях Сога». Они получили название по детскому имени (Ковака-
мару) феодала Момонои Наоакира (Наоаки, 1393-1470?), который,
по-видимому, был покровителем этого вида исполнительского ис-
кусства188
Известно чуть больше пятидесяти произведений кдвакамай, из
которых тридцать три базируются на «Повести о доме Тайра» (глав-
ным образом это сюжеты о Ёсицунэ) и семь - на «Повести о бра-
тьях Сога». Два написаны Омура Юко по распоряжению Тоётоми
Хидэёси, авторы остальных неизвестны. Пьесы (подробности о тогда-
шней манере их исполнения не сохранились) написаны торжествен-
ным языком и исполнялись в сопровождении малых барабанов в
храмах, знатных домах и дворцах аристократов. В XVI в. они пользо-
вались покровительством Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси, но к кон-
цу XVII в. почти перестали исполняться. Правда, в начале XX сто-
летия традиция исполнения кдвакамай была зафиксирована японским
учёным Тацуно Тацуюки (1876-1948) в одном из селений в префек-
туре Фукуока. Об этом с отсылкой к работе профессора Гавайского
университета Джеймса Араки сообщает Д. Кин [Кин, 1993, с. 1153—
1154, 1170].
Поэзия вака.
Сайгё-хоси и Фудзивара-но Сюндзэй
К концу эпохи Хэйан японская поэзия пережила два небывалых
взлёта, ознаменовавшиеся появлением в VIII в «Манъёсю», а в
X в. - «Кокин вакасю». Оба памятника более чем через тысячеле-
||И Подробно о нем см.: [Шнейдер, 1968, с. 9-10].
319
тие продолжают составлять гордость японской литературы. Но это
были два самостоятельных этапа в развитии японской поэзии. На
рубеже новой эпохи в поэзии вака опять стали намечаться новые
тенденции, и на свет появился человек, надолго определивший раз-
витие этих тенденций. Его ставят в один ряд с великими Какиномо-
то-но Хитомаро и Мацуо Басё (1644-1694). В литературу этот поэт
вошёл под своим буддийским монашеским именем Сайгё-хоси - за-
кононаставник Сайгё (1118-1190).
Появление новых тенденций в японской поэзии назрело к концу
XII в., когда в ней стала развиваться манерность и формалистиче-
ские изыски, превращающие значительную часть танка в своего ро-
да ребус, заменяющие оригинальные поэтические образы ходячими
штампами и оставляющие всё меньше возможности для передачи
элементарной мысли.
«Новый стиль, - по замечанию Б. Уотсона, - который они (по-
эты из окружения Сайгё. - В. Г) развивали, во многих отношениях
был противоположен манере Кокинсю. В нём потерял значение субъ-
ективный элемент, такой заметный в более раннем стиле, и боль-
шее внимание уделялось описанию, имевшему результатом меньшие
по количеству и более простые глагольные формы и больший удель-
ный вес существительных. Зыбкий эффект, ценившийся предшест-
вующими поэтами, был отвергнут, синтаксис часто нарушался встав-
ленным в середину фразы фрагментом. Хотя лексика оставалась в
основном консервативной, были предприняты усилия, особенно Сайгё,
с целью ввести [в стихи] разговорные слова и расширить их темати-
ческие границы» [Уотсон, 1991, с. 8].
Настоящим именем Сайгё-хоси было Сато Норикиё. Отца его звали
Сато Ясуэмон, мать была дочерью Минамото-но Киёцунэ. Род Са-
то - это одно из провинциальных ответвлений Фудзивара, но несколь-
ко его поколений, включая деда и отца поэта, состояли на придвор-
ной службе, занимая посты в охране императорского дворца. В ран-
ней молодости (очевидно, лет в 15-16) будущий поэт состоял на служ-
бе у Токудайдзи Санэёси (1095-1157)189, который пользовался боль-
шим влиянием при дворе (одна из дочерей Санэёси была супругой
правящего императора, а потом и матерью двух будущих императо-
ров), и это, по-видимому, также помогло зачислению Норикиё в ко-
манду хокумэн-но буен (4Ь[Н СОЙ±), охраны дворца - отряд не
столько военный, сколько церемониальный. Здесь, на службе у экс-им-
ператора Тоба, он стал искусным стрелком из лука, мастером фех-
тования на мечах и в верховой езде, игроком в ножной мяч.
Участие в престижных стихотворных состязаниях и многочис-
ленные высокие связи сулили Норикиё успешную карьеру при дворе.
В 1136 г. началась его многолетняя дружба с крупнейшим поэтом
189 Токудайдзи Санэёси происходил из Северной ветви рода Фудзивара. Построив
в столичном районе Кинугаса буддийский храм Токудайдзи, он получил соответст-
вующее прозвище, которое впоследствии стало фамилией его потомков.
320
того времени Фудзивара-но Сюндзэем (1114-1204). И вдруг в 1140 г. в
22-летнем возрасте он оставил всё (по некоторым свидетельствам -
даже молодую жену и малолетнюю дочь) и принял монашеский пос-
триг, взяв себе буддийское монашеское имя Энъи.
У поэта началась новая жизнь. Потом он принял поэтический
псевдоним Сайгё (Идущий на Запад - очевидно, в сторону Чистой
земли будды Амитабха), с которым прожил более полувека и под
которым прослыл величайшим поэтом-странником, потому что с
котомкой за плечами обошёл всю Японию с юга до севера. Много
поколений историков японской поэзии теряются в догадках: что за-
ставило преуспевающего молодого придворного принять решение о
постриге; по этому поводу высказаны разные предположения (не-
счастная любовь, смерть близкого родственника, политические не-
урядицы эпохи), но ни одно из них не представляется убедительнее
других. Некоторые стихотворения Сайгё-хоси могут навести на мысль
о чисто религиозном побуждении, но они написаны в более зрелые
годы:
«Слышал я, что если случится пробудить в себе "истинное серд-
це", то даже в пламени Вечного ада Аби возможно просветление
Пускай без роздыху
Терзают лютые муки
В самом яром пламени,
Разбуди в себе сердце свое,
И придет наконец озаренье.
(Пер. В. Н. Марковой)
В дневнике Фудзивара-но Ёринака «Тайки» (и1 ВВ), в записи за 15-й
день 3-й луны 2-го года Эйдзи (1142 г.) рассказывается, как к автору
дневника за рукописным фрагментом «Лотосовой сутры» пришёл
Сайгё, который произвёл на него большое впечатление. «С мирских
времён, - сказано там, - он посвятил своё сердце учению Будды; вы-
ходец из богатого дома, молодой годами, не обременённый горес-
тями, он в конце концов удалился от мира. Людей это восхищает»
(цит. по: [Хигути, 1990, с. 30]).
Вскоре после принятия сана Сайгё отправился в горы в поисках
уединения и условий для созерцания. С тех пор два мотива стали за-
нимать в его творчестве видное место - отшельничество (КЗ#, ин-
дзя) и непостоянство сущего (Ж^, мудзё). В постриге он принад-
лежал к секте сингон, хотя жизнь в одиночестве в скромной монаше-
ской хижине и неспешные странствия по отдалённым местам при-
влекали его внимание намного сильнее, чем проблемы религиозной
доктрины.
«Кажется, его путешествия, - считает Д. Кин, - вызывались глав-
ным образом желанием увидеть утамакура, места, которые были
описаны в старой поэзии, но не знаменитые храмы (как можно было
бы ожидать от священнослужителя). Одно путешествие стоит особ-
няком, потому что оно было вызвано другой причиной. В 1168 г.,
11 Зак 3732
321
как мы видели, он совершил путешествие на о. Сикоку, главным об-
разом для того, чтобы поклониться могиле бывшего императора
Сутоку»190 [Кин, 1993, с. 679].
Мне это утверждение представляется не вполне точным. Начать
с того, что поэты того времени не считали обязательным посещать
места, которые они воспевали, ибо представлять их в своём воо-
бражении считалось важнее, чем увидеть собственными глазами. В
1207 г. экс-император Готова заказал четырём художникам распи-
сать раздвижные ширмы сёдзи в одном новом храме видами знаме-
нитых мест, и только один из этих художников пожелал увидеть
заказанный ему пейзаж собственными глазами. Остальные ограни-
чились знакомством с ута-макура, характерными признаками соот-
ветствующих мест, упоминаемыми в поэзии.
Среди поэтов такой подход был еще более распространён (об
этом красноречиво свидетельствуют китайские мотивы в пейзажной
лирике канси). В поэзии Сайгё много места уделяется описанию зна-
менитых мест, которые он посетил. Так, путешествуя по северной
Японии, поэт специально посещал места, когда-то описанные в сти-
хах Ноин-хоси (998-?), высоко чтимого им поэта191. Но он не для то-
го путешествовал по стране, чтобы иметь моральное право встав-
лять в свои стихи ута-макура - их использование было данью тради-
ции, литературного этикета: он вставлял их только тогда, когда за-
трагивал в стихах прославленные в литературе места (а это было
далеко не во всех случаях). Во многих его танка таких вставок нет.
Тогда в них остаётся меньше места для отражения внеличного опы-
та, появляется больше возможности внести свежую струю и в струк-
туру образа, и в язык.
Шел я в небесную даль,
Куда, я и сам не знаю,
И увидал наконец:
Меня обмануло облако...
Прикинулось вишней в цвету.
Сверчок чуть слышен.
Становятся все холодней
Осенние ночи.
Чудится, голос его
Уходит все дальше, дальше...
(Пер. В. Н. Марковой)
Во всяком случае, одной из целей его пеших странствий был сбор
подаяний на буддийские храмы [Кониси, 1991, с. 36-37]. Нужно со-
190 Император Сутоку (на престоле - 1124-1141) умер на о. Сикоку (в пров. Са-
нуки) в ссылке, в 45-летнем возрасте, в 1164 г. Кроме посещения его могилы, Сайгё
ставил целью своего путешествия посещение родины Кукая.
191 Ноин-хоси также много путешествовал. Многие его стихи дают основания
считать, что одной из главных причин его частых странствий была торговля лошадь-
ми (см.: [Кониси, 3, 1991, с. 36]).
322
гласиться с мнением Кониси Дзинъити: «Кажется, Сайгё считал бо-
лее важным посещать места, ассоциирующиеся с событиями прош-
лого, чем путешествовать к местам утамакура» [Кониси, 1991, с. 305]. О
том, как воспринимали странствия Сайгё его современники, отчасти
можно судить по словам Нидзё из «Непрошенной повести»: «Конечно,
я всего лишь женщина, я неспособна подвергать свою плоть столь
же суровому послушанию, как Сайгё, и все же я мечтала о том,
чтобы, покинув суетный мир, странствовать, идти куда глаза глядят,
любоваться росой под сенью цветущей сакуры, воспевать грустные
звуки осени, когда клен роняет алые листья, написать, как Сайгё,
записки об этих странствиях и оставить их людям в память о том,
что некогда я тоже жила на свете...» (пер. И. Л. Львовой).
После принятия сана Сайгё соорудил себе убогую хижину возле
храма Тёракудзи в провинции Сага, но не порывал свои связи с преж-
ними знакомыми - переписывался с ними, посылал им стихи, неод-
нократно бывая в столице, участвовал в стихотворных состязаниях.
Пешком он прошёл от Митиноку на севере до Кюсю на юге, дваж-
ды побывал в Камакура, поклонялся синтоистским святыням в свя-
тилище Исэ, много лет жил в отшельнической хижине на горе Коя.
Вокруг его имени сложили много легенд. В «Адзума кагами», напри-
мер, описано его посещение камакурского повелителя Минамото-но
Ёритомо. После беседы сёгун одарил поэта серебряной фигуркой
кошки. Выйдя из дворцовых ворот, говорится в «Адзума кагами»,
Сайгё отдал дорогую безделушку мальчишкам, игравшим поблизо-
сти, и отправился дальше Красивая легенда, которая рассказывает
потомкам, насколько глубоко презирал поэт мирские блага. Б. Уот-
сон по поводу этой легенды высказал недоумение: сёгунскую сто-
лицу Сайгё посетил в 1186 г., когда он ходил по дорогам страны для
сбора пожертвований на восстановление храма Тодайдзи, за шесть
лет до того сожженного войсками Тайра Было бы логичнее не от-
давать подарок сёгуна детям, а приобщить его к другим пожертво-
ваниям... [Уотсон, 1991, с. 6]. Западному сознанию чужда другая ло-
гика: личный подарок сёгуна поэт не мог счесть пожертвованием в
пользу храма, а в другом качестве он не интересовал Сайгё.
Поэта привлекал вид цветущей сакуры. Однажды он сложил танка:
О, пусть я умру
Под сенью вишневых цветов!
Покину наш мир
Весенней порой «кисараги»
При свете полной луны.
(Пер. В. Н. Марковой)
Кисараги - это старинное название второй луны лунного кален-
даря. Умер поэт в 1190 г, в 16-й день 2-й луны, сразу после того, как
наступило полнолуние. Цвели вишни.
Он умер в горном храме Хирокава (район Кавати к югу от ны-
нешнего г. Осака), куда перебрался из района Сага к западу от сто-
323
лицы. Здесь и находится его могила, которая до сих пор привлекает
к себе толпы поклонников Сайгё.
Война между Минамото и Тайра больно отозвалась в сердце по-
эта. Были разрушены и сожжены знаменитые дворцы и храмы.
Многие друзья погибли в сражениях. Сайгё представлял себе, как
через горы Сидэ-но яма, отделяющие мир живых от мира мёртвых,
движутся вереницы людей. «По всей стране, - писал он, - воины
встают на брань, и нет такого места, будь то на западе или востоке,
на севере или юге, где не шли бы сражения. Страшно слышать, ка-
кое множество людей погибает! Даже не верится, что это правда.
Увы! Из-за чего же разгорелась распря? Бедственные времена! -
помыслил я
Сидэ-но яма.
Идут несметные полчища
Через Горы смерти.
И все не видно конца!
Растет число убиенных...»
(Пер. В. Н. Марковой)
В «императорские» антологии включено 142 стихотворения Сай-
гё, из них 94 - в самую знаменитую антологию XIII в. «Син Кокин-
сю» (®г ЁГт'Ж «Новое Кокинсю»), где по числу стихотворений он
занимает первое место. Дважды он присылал в столицу дзика авасз
сборники состязаний с самим собой). В странствиях, когда
других поэтов рядом не было, он сочинял на одну тему два стихо-
творения и представлял их на суд знатоку, чтобы тот определил, ко-
торое из них лучше. Это и называлось «состязание с самим собой».
В 1187 г. такой сборник под названием «Мимосусогава утаавасэ» (1Й
!§&□', «Стихотворное состязание на реке Мимосусо») Сайгё
выслал на суд Фудзивара-но Сюндзэю, а два года спустя другой сбор-
ник, «Миягава утаавасэ» г!\ «Стихотворное состязание на ре-
ке Мия») - на суд его сыну Тэйка. Главный сборник его стихотворе-
ний «Санкасю» (|1|ЖЖ, «Горная хижина») содержит 1552 танка, из
которых 77 принадлежат другим поэтам192. Стихи сгруппированы в
шесть разделов: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», «Любовь» и «Раз-
ные песни»193, как это было принято в «императорских» антологиях.
К сожалению, автограф «Горной хижины» погиб в пожаре, так что
открытым остаётся даже вопрос о его составителе. Всего до наших
дней сохранилось свыше двух тысяч стихотворений Сайгё - в основ-
ном в жанре танка. Сохранилось и несколько его ранга.
Сайгё-хоси был одним из первых поэтов, нарушивших обычай
непременно завершать стихотворение сказуемым, как то следует из
192 224 стихотворения из этого сборника в переводе В. Н. Марковой в 1979 г. вы-
шли в издательстве «Художественная литература» отдельной книгой «Горная хижи-
на» (см.: [Сайгё, 1979]).
193 Не исключено, что раздел «Разные песни» («Смесь») добавлен в сборник
позднее других.
324
правил японской грамматики. Существительное, поставленное в ко-
нец танка, мгновенно смещало все акценты, производя на читателя
небывалое эмоциональное впечатление.
ЫЫгИЧ
Чувств лишённого1’4,
Меня печаль
Когда-то охватила
На болоте, где бекас поднялся
В осенние сумерки.
Свободное отношение к устоявшимся канонам вообще время от
времени замечается в стихах Сайгё. Так в некоторых его танка на-
рушена ритмика: в первой строфе, как отмечает Б. Уотсон [Уотсон,
1991, с. 12], насчитывается шесть слогов вместо пяти. Традиционная
поэтика не допускала употребления в одном и том же стихотворе-
нии одного слова дважды: слишком тесно лексическое пространство
танка. У Сайгё встречается четырёхкратное употребление одного
слова [Там же]:
Тот, кто отринул мир.
Отринул ли его
На самом деле?
Кто не отринул ничего.
Оказывается, всё отринул.
В 1203 г. экс-император Готоба отметил 90-летие старейшины
японской поэзии Фудзивара-но Сюндзэя, устроив в его честь торже-
ственное угощение. По европейским меркам 90-летний юбилей па-
триарха вака нужно было бы отмечать только в следующем году, но
в странах Дальнего Востока счёт возраста производился по-другому.
Проблема не в этом. Когда мы рассматриваем японскую поэзию
рубежа XI и XII столетий, неизбежно сталкиваемся с дилеммой: к
какой эпохе её отнести? В ней были тогда разные школы; одни ори-
ентировались на прошлое, другие искали новое. Некоторые авторы
причисляют Сайгё к эпохе Камакура (развитое средневековье), а
Сюндзэя к эпохе Хэйан (раннее средневековье), не объясняя внятно
основания для такого их разделения. Сайгё и родился, и умер на не-
сколько лет раньше своего современника, а взгляды этих поэтов на
творчество во многом совпадали. К тому же их связывали многолет-
няя дружба и взаимное уважение. С них обоих начинались новые тен-
денции в развитии танка. По этой причине и творчество Фудзивара-
но Сюндзэя резонно относить к новой эпохе, эпохе Развитого сред-
невековья.
Настоящим именем этого поэта было Акихиро, но в возрасте 63 лет,
в 1167 г., он сменил его на Тосинари или, в более широко принятом
прочтении тех же иероглифов ((§₽5с), - Сюндзэй. Он был отдалён-
194 По-видимому, «лишённым чувств» («бесстрастным») Сайгё называет себя из-
за своего монашеского сана.
325
ным потомком Митинага и сыном действительного Среднего со-
ветника Тоситада, который принадлежал к дому Микохидари, быв-
шему частью ветви Сэкканкэ рода Фудзивара. Матерью Сюндзэя
была Ацуиэ, дочь губернатора провинции Иё. На службе у вдовству-
ющей императрицы Сюндзэй дослужился до 3-го ранга, однако в
1176 г. тяжело заболел, оставил службу и решил принять постриг.
Буддийским монашеским именем его стало Сякуа.
В поэтической жизни двора Акихиро начал принимать участие
лет с двадцати, а в возрасте 25 лет стал учеником поэта консерва-
тивного направления Фудзивара-но Мототоси (1056-1142?), который
передал ему секреты антологии «Кокин вакасю»: текст антологии с
подробными к ним комментариями. К счастью, поэт не стал слепо
повторять приёмы предшественников, а творчески усвоил опыт
великих поэтов прошлой эпохи и стал искать новые пути развития
японской поэзии, новые образы и средства выражения. После того,
как стихи Акихиро были включены в находившийся под высочай-
шим патронажем сборник «Кюан хякусю» «Сто стихотво-
рений годов Кюан», 1150 г.), Акихиро стал постоянным участником
поэтических состязаний - то как поэт, то как арбитр и глава судей-
ской коллегии. В этой последней ипостаси Сюндзэй ввёл новое пра-
вило: отмечать не промахи, а достоинства стихов, заставляя других
поэтов равняться на лучшие образцы.
От нескольких жён, наложниц и возлюбленных у Сюндзэя роди-
лось двадцать детей. Кроме них у него было также много приёмных
детей и воспитанников. Все вместе они образовывали внушитель-
ный отряд поклонников его поэтического таланта и единомышлен-
ников. Наследником отцовского таланта стал восемнадцатый сын
Сюндзэя, Садаиэ, который появился на свет, когда его отцу было
уже 48 лет.
На исходе XII в. в поэтических кругах Японии нарастало про-
тивостояние двух школ. Школа консерваторов объединялась вокруг
группы поэтов Рокудзё, также одной из ветвей рода Фудзивара. Её
возглавлял тогда влиятельный в придворных кругах поэт Рокудзё
Суэцунэ (1131-1221).
Основатель школы Рокудзё (А^гг£) Фудзивара-но Акисуэ (1055—
1123) был придворным не очень высокого ранга, пользовавшимся,
однако, влиянием и в политических делах, и в вопросах поэзии. На-
целив двух старших сыновей на политическую карьеру, он принялся
наставлять третьего, Акисукэ (1090-1155), в традициях стихосложе-
ния. Учение Акисуэ стало передаваться по наследству, от Акисукэ к
его сыновьям и внукам, и на рубеже XII и XIII вв. противостояло но-
ваторским тенденциям школы Микохидари возглавля-
емой Сюндзэем, его потомками и единомышленниками.
Мастерское ведение Сюндзэем судейства во время стихотворных
состязяний при дворе снискало ему авторитет даже среди его ярых
литературных соперников. В его отзывах о стихах участников мож-
но видеть анализ синтаксиса и лексики, оценку эстетического уров-
326
ня. Анализируя утаавасэ, он часто употреблял слова югэн, эн (tfe,
очарование), ю(®, изящество), аварэ печальное), окаси{%5
смешное) [Итико, 1986, с. 51]. Нельзя не согласиться с замеча-
нием Р. Брауэра и Э. Майнера о том, что «мало найдётся более при-
влекательных литературных фигур, чем Сюндзэй, и мало писателей,
из творивших в любую эпоху и на любом языке, чьё мастерство и
влияние продолжалось бы до 90 лет. Нетрудно понять, почему Тэй-
ка гордился тем, что был его сыном» [Брауэр и Майнер, 1967, с. 6].
Весной 1183 г., в разгар междоусобных сражений, как раз нака-
нуне бегства Тайра из столицы, экс-император Госиракава отдал по-
веление, чтобы Фудзивара-но Сюндзэй приступил к составлению седь-
мой «императорской» антологии японской поэзии. Для поэта такое
повеление было равнозначно высочайшей оценке его собственных
способностей. Но составление «императорской» антологии именно в
это время было связано с трудностями особого рода.
Сам инициатор, Госиракава, не увлекался сочинением танка и не
выделялся мастерством в этом жанре. В отличие от своих предшест-
венников, он предпочитал сочинение имаё (т"Ш, четверостишия с
чередованием длинных и коротких строф) и сайбара один-
надцатистрофные стихотворения с нерегулярной метрикой). Тради-
ция же диктовала отбор почти исключительно танка.
Между получением повеления Госиракава и завершением состав-
ления прошло около пяти лет. К 1183 г. уже несколько лет при дво-
ре не проводились стихотворные состязания, по результатам кото-
рых составитель мог бы отбирать стихи своих современников. А
ведь он принадлежал к одному из соперничающих лагерей. Кроме
того, первые два года явно не благоприятствовали включению в ан-
тологию стихотворений политических противников Тайра, а послед-
ние два года, напротив того, стихотворений их сторонников.
Передают, что Тайра-но Таданори (1144-1184) пошёл на смер-
тельный риск, приехав в столицу, уже бывшую в руках Минамото,
просить Сюндзэя включить в антологию его стихи: это одно могло
увековечить его имя после гибели рода Тайра. Высокая требова-
тельность составителя к уровню стихотворений в таких ситуациях
приходила в противоречие с конъюнктурными соображениями. Он
не мог открыто включать в антологию стихотворения поверженных
Тайра и их сторонников, как бы хороши они ни были. Поэтому в
антологии возле стихов Таданори, Цунэмаса, Юкимори и Цунэмори
из рода Тайра и Аракида Удзиёси значится: «Сочинитель неизвес-
тен».
Некоторые полагают, что выбор столь неподходящего времени
для составления седьмой «императорской» антологии был обязан же-
ланию Госиракава умиротворить «гневный дух» умершего в 1164 г. в
ссылке экс-императора Сутоку, который, согласно поверью, уже на-
чал насылать на страну бедствия (см.: [Кин, 1993, с. 320]).
327
Сюндзэй представил антологию на высочайшее утверждение в
1187-м или 1188 г.195 196. Она получила название «Сэндзай вакасю»
«Сэндзайсю», «Тысячелетнее собрание японских песен»). От-
крывалась антология предисловием составителя на японском языке
и состояла из двадцати свитков, в которые вошло 1286 (или 1285 - в
зависимости от списка) стихотворений 387 авторов. Стихотворения
были написаны за последние двести лет и не входили ни в одну из
последних трёх «императорских» антологий.
Главным критерием при отборе стихов были их поэтические до-
стоинства (Сюндзэй позднее отмечал, что его интересовало то, ка-
ковы были стихи, а не то, кем были их авторы). В антологии пред-
ставлены поэты разной социальной принадлежности (от императо-
ров до куртизанок), разных поколений и поэтических школ.
Экс-император мало изменил предложенный на его рассмотре-
ние состав антологии. Самым существенным у него оказалось поже-
лание значительно увеличить в антологии число стихотворений са-
мого составителя - в результате оно было доведено до 36, и по это-
му показателю Сюндзэй занял в «Сэндзайсю» второе место после Ми-
намото-но Тосиёри (10557-1129), представленного 52 танка'96. После
него с большим отрывом следовали Фудзивара-но Мототоси (26) и
экс-император Сутоку (23 танка). Сам Госиракава был представлен
всего шестью стихотворениями.
Более половины стихотворений антологии были взяты из част-
ных собраний, составленных после середины XII в., или поэтических
состязаний того же времени [Кин, 1993, с. 323], но в основу «Сэндзайсю»
положено, видимо, частное собрание Сюндзэя «Сангодайсю»
«Собрание стихотворений за тридцать пять эр правления»), состав-
ленное им раньше [Итико, 1986, с. 54; Кониси, 1991, с. 73].
Двадцать свитков антологии делятся на традиционные после «Кокин
вакасю» тематические разделы с небольшим дополнением. Её раз-
делы: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», «Разлука», «Странствия», «Пе-
чаль», «Радость», «Любовь», «Смесь», «Учение Будды», «Небесные
и земные боги» (последние два раздела введены в «императорскую»
антологию впервые).
Кроме традиционных танка в «Сэндзайсю» богато представлены
нагаута (тёка), ездока, орику (tff'fr), своеобразный акростих, в кото-
ром слоги в танка отделяются друг от друга вставными словами), бу-
цумэйка моно-но на ута - стихи, построенные на омоними-
ческих созвучиях, не связанных с основным смыслом танка), шуточ-
ные трёхстишия хайкай (ffilffi). Другими словами, составитель широ-
ко показал и традиции, и эксперименты, уже пробивавшие себе до-
l9S Предисловие Сюндзэя датировано 1187 г. (Бундзи 3-й г.), а в сочинении Тэйка
«Мэйгэцу ки» годом завершения антологии назван 1188 г. (Бундзи 4-й г.). Возможно,
в первом случае имелось в виду первое представление антологии, а во втором - ее
окончательная редакция.
196 В общей сложности в «императорские» антологии включено 430 стихотворе-
ний Фудзивара Сюндзэя.
328
рогу в реальной жизни. Считается, что общий тон антологии -
грустный.
Только вечер настанет,
Так тело пронзают
Осенние ветры с полей.
А перепел плачет -
Это селенье Фукакуса.
(Раздел «Осень», Фудзивара Сюндзэй)
В 1197 г., в ответ на пожелание второй дочери Госиракава, прин-
цессы Сикиси (Сёкуси, 1153?—1201), Сюндзэй написал трактат по
теории стиха, названный им «Корай футайсё» «Выбор-
ки о поэтических стилях, пришедших от древности»). В нём были
представлены в сжатом виде теоретические взгляды и принципы оцен-
ки танка, принятые школой Микохидари. В начале трактата Сюн-
дзэй рассуждает о смысле и происхождении японских песен, затем
на примерах показывает их достоинства и недостатки, выделяет че-
тыре стихотворных стиля, называет приёмы стихосложения, гово-
рит об использовании утамакура и анализирует формы песен, пред-
ставленных в антологиях начиная с «Манъёсю» и кончая «Сэндзай
вакасю».
В связи с последней, составленной им самим антологией Сюндзэй
пишет: «Что касается "Тысячелетнего собрания", то как я ни глуп,
но, когда я собирал его, я думал только о песнях и забывал о людях»,
подчёркивая тем самым, что песни и их сочинители в его глазах
между собою не связаны, и отклоняя возможные упрёки в полити-
ческих пристрастиях.
Трактат «Корай футайсё» содержит обоснование подхода его ав-
тора к поэзии и отличия от подхода к ней школы Рокудзё, его пони-
мание эстетических аспектов поэзии, прежде всего категории югэн.
В 1201 г. появился дополненный и исправленный автором текст
трактата. Несколько известных поэтических собраний обошло сти-
хотворение Сюндзэя:
О, этот мир!
Мне нет из него дороги!
Даже в горной глуши,
Где в думах я затерялся,
Олень одинокий стонет.
(Пер. В. С. Сановича)
Фудзивара-но Тэйка.
«Син Кокин вакасю»
Осенью 1190 г. в доме Левого министра Гокёгоку Ёсицунэ (1169—
1206) в память об умершем за семь месяцев до того Сайгё со-
брались четверо поэтов, которые прочли «Сто песен о цветах и лу-
329
не». В числе собравшихся был сын Сюндзэя Фудзивара-но Садаиэ
(Тэйка, 1162-1241), талантливый и уже известный в свои 28 лет поэт.
Матерью Садаиэ была Kara, дама из свиты Бикуфу-монъин, мо-
нашествующей супруги императора Тоба. Садаиэ был вторым сы-
ном, рождённым Kara (у неё был и третий, приёмный сын), его дет-
скими именами были Мицусуэ и Суэмицу, а прозвищами - Кёгоку-
нюдо-тюнагон и Кохосёсё. Мальчик рано проявил способности к
стихосложению и стал получать наставления в поэтике у своего зна-
менитого отца (из его многочисленных детей этот проявлял наи-
большие способности). Впоследствии восемь его стихотворений отец
включил в антологию «Сэндзайсю».
Унаследовав от отца его богатый поэтический дар, Тэйка был
начисто лишён его душевной невозмутимости. Может быть, вспыль-
чивость поэта была вызвана его слабым здоровьем (он страдал хро-
ническим бронхитом, частыми простудными заболеваниями, присту-
пами бери-бери, артритом, осенью 1208 г. в собственном экипаже
перенёс апоплексический удар, от которого едва оправился). Понят-
но, что вспыльчивость отнюдь не способствовала придворной карье-
ре поэта. Экс-император Готоба в одном сочинении, написанном в
годы его ссылки на о. Оки, отдавая должное мастерству поэта, вспо-
минал, что «его манера демонстрировать, будто о поэзии он знает
всё, поистине не знает себе равных. Особенно когда он отстаивает
своё мнение, он готов действовать как человек, который настаивал,
что вол - это конь197 -. Из-за того, что сам он не может принять мяг-
кий, небрежный подход к поэзии, даже когда хвалят одно из его
собственных стихотворений, если оно не окажется одним из тех, ко-
торыми он особенно гордится, он недовольно насупится» (цит. по:
[Брауэр и Майнер, 1967, с. 11]). В дневнике одного из покровителей
поэта регента Кудзё Канэдзанэ (1149-1207) в записи за 1185 г. ска-
зано, что Тэйка в запальчивости ударил одного из высших придвор-
ных чиновников светильником, за что и был отлучён от двора. Толь-
ко хлопоты Сюндзэя перед экс-императором Госиракава помогли
его необузданному сыну в следующем году вернуться на службу при
дворе Правда, продвижение его на этой службе шло очень медлен-
но, а вспышки его гнева удавалось умерить только насмешками.
Вдобавок в 1196 г. дом Кудзё, оказывавший талантливому поэту по-
кровительство, впал в немилость, чем и не замедлили воспользоваться
давние соперники школы Микохидари, поэты школы Рокудзё.
Несмотря на огромный авторитет Сюндзэя (помимо всего, он
считался наставником императора Готоба в вопросах поэзии в его
детские годы), он не мог решительно противостоять влиянию Року-
197 Намёк иа эпизод из «Записок историка» Сыма Цяня, в котором Чжао Гао (ум.
в 207 г. до и. э.), замысливший свергнуть императора, привел к нему вола и стал ут-
верждать, что это - конь. Император рассмеялся, ио некоторые придворные под-
держали Чжао Гао, из чего тот определил число своих сторонников и решился на пе-
реворот.
330
дзё. Дело в том, что главным советником того же Готоба был один
из лидеров этой школы, Минамото (Цутимикадо)-но Мититика (1149-
1202), влияние которого особенно возросло после того, как он ввёл в
окружение императора свою приёмную дочь Дзайси (1171-1257),
которая в 1195 г. родила ему первенца, очень скоро ставшего импе-
ратором Цутимикадо (на престоле - 1198-1210). Правда, кроме отца
императору Готоба постоянно давал лестные отзывы о Тэйка его
шурин (младший брат жены) Сайондзи Кицунэ (1171-1244), занимав-
ший при дворе высокое положение [Брауэр, 1978, с. 13-14].
Для Сюндзэя Тэйка был не только сыном, но и единомышленни-
ком, одним из лучших поэтов «нового веяния». Поэтому, когда от-
рёкшийся в 1198 г. от престола экс-император Готоба в 1200 г. пору-
чил поэтам Рокудзё Суэцунэ и Минамото-но Мититика составить
сборник из ста стихотворений, Сюндзэй обратился к нему с письмом,
в котором возражал против самой идеи этих поэтов делить авторов
по возрастному признаку и предлагал включить в их число Тэйка и
его товарищей. Готоба был восхищён представленными ему стихами
этих поэтов, он велел добавить эти стихи в новый сборник и стал часто
устраивать у себя во дворце стихотворные состязания с участием
поэтов разных школ [Хигути, 1990, с. 33]. В 1200 г. Тэйка сам соста-
вил «Сёдзи хякусю» (lEZo К1=Г, «Сборник из ста стихотворений эры
Сёдзи»)198.
Сборники из 5, 10, 15, 20, 30, 50 и 100 стихотворений стали в Япо-
нии распространяться с X в. Их популярность возрастала по мере
роста числа поэтических состязаний. Составление сборников из ста
стихотворений стало особенно популярным в XII в. Были вырабо-
таны и принципы формирования таких сборников, главными из ко-
торых являются ассоциативные связи и нарастание. Из них «ассо-
циация представляла большие трудности и возможности... От сти-
хотворения к стихотворению переходят одни и те же образы, такие,
как горы, напоминающие облака, а те - цветение вишен» [Брауэр, 1978,
с. 5].
Особенности компоновки сборника из ста стихотворений Кониси
Дзинъити характеризует так: «Поскольку сборник из ста стихотво-
рений имел тенденцию оформляться как единое художественное це-
лое, общий эффект гармонии и баланса, разнообразия и контраста
имел наибольшее значение. В создании желаемого впечатления пред-
принимались сознательные усилия менять темп и избегать монотон-
ности в движении вперёд посредством создания определённого чис-
ла высоких и низких точек. Высокими точками являлись отдельные
стихотворения, которые были ударными или примечательными по
техническим или иным основаниям, и эффект от таких стихотворе-
ний в сознании аудитории может быть определён до конца по кон-
трасту: когда они помещались сразу за посредственными стихотво-
Сёдзи — название годов правления императора Цутимикадо, 1199—1201.
331
рениями, которые не производили сильного впечатления. Другими
словами, поэт намеренно включал определённое число мягких или
"лёгких" стихотворений в решающих точках своего собрания, чтобы
усилить эффект от более интересных и создать общее впечатление
извилистого, волнующегося потока. По аналогии с куском ткани
"лёгкие" стихи были названы дзи-ноута (ittl О Ж;), или "стихи-основа",
а более ударные - мон-но ута 0СОй#;), или "стихи-уток": как впе-
чатление красоты в куске материала делается более ударным, когда
образец контрастирует с простой или нейтральной основой, - точно
так же происходило со сборниками стихотворений» (цит по: [Брауэр,
1978, с. 6-7].
В 1198 г. император Готоба отрёкся от престола. Ему было тогда
всего девятнадцать лет, а его преемнику, Цутимикадо, только три
года199. Новоиспечённый экс-император стал активно совершать
паломничества в храмы, интересоваться науками, сочинять стихи и
покровительствовать поэзии. В 1201 г. он организовал у себя во
дворце Нидзё-доно Ведомство поэзии Вакадокоро) из один-
надцати человек, в состав которого включил и Фудзивара-но Тэйка.
В конце того же года шестерым членам Ведомства (в том числе Тэй-
ка) было предписано приступить к составлению очередной, 8-й по
счёту, «императорской» антологии, которая впоследствии получила
название «Син Кокин вакасю» (®f «Новое Кокинсю»).
Составление новой антологии протекало не совсем привычно.
Окончательное решение по её составу принималось не редколлеги-
ей, а самим экс-императором. Редколлегия отбирала заслуживающие
внимания стихотворения, готовила к ним комментарии и в нестоль-
ких экземплярах (для удобства работы) представляла экс-импера-
тору Готоба.
«Согласно "Дневнику Минамото-но Изнага" 0 IE, "Мина-
мото-но Изнага никки"), - пишет Хигути Ёсимаро, - экс-император
с осторожностью осуществлял тщательный отбор: прочтя всё от на-
чала до конца, он выделял поэтические сокровища, веля записывать
их сакон сёгэну Фудзивара-но Киёнори, потом это снова прочиты-
вал - и так до трёх раз» [Хигути, 1990, с. 34].
Летом 1204 г. отобранные экс-императором стихи были возвра-
щены редколлегии, которая занялась размещением их по рубрикам,
в целом выполнив это задание весной следующего года. Просмотрев
готовое собрание, экс-император заметил, что слишком часто разде-
лы в нём открываются стихами поэтов прошлых поколений и велел
поместить в начало трёх разделов танка своих современников, и в
199 Императоров, возводившихся иа престол не по принципу прямого наследо-
вания, а по воле сёгунского правительства из числа многих кандидатов, высокопарно
титуловали «Государями, управляющими Небом» Дзитэн-но кнми). Оче-
видно, пышными титулами чаще всего награждают либо кровавых диктаторов, либо
марионеток. Вспомним, что Цутимикадо «отрёкся от престола» в шестилетнем воз-
расте.
332
том числе Фудзивара-но Тэйка. Так 15-й свиток антологии, «Любовь, V»,
стал открываться его стихотворением:
Рукава, будто белый песок,
На прощанье
Росу обронили.
Охвачено сердце любовью,
Дует ветер осенний.
В 26-й день 3-й луны 2-го года Ганкю состоялся банкет по слу-
чаю завершения антологии. На банкете провели поэтическое состя-
зание. Лучшие стихи решено было присовокупить к завершённому
собранию, сюда же прибавили предисловие Фудзивара-но Есицунэ, и
к 1210 г. составление «Нового Кокинсю» было завершено оконча-
тельно.
Восьмая «императорская» антология по традиции насчитывает
двадцать свитков, разделённых по тематическому признаку. Шесть
из них посвящены временам года, по одному - песням-поздравлени-
ям, песням скорби, песням разлуки и песням путешествий, пять свит-
ков - песням любви, три - песням смешанной формы и по одному -
песням о Пути богов и об учении Будды. Предваряется антология
двумя предисловиями: на японском языке (автор Фудзивара-но Ёси-
цунэ) и на китайском (автор Фудзивара-но Тикацунэ, 1151-1210). В
«Новом Кокинсю» представлены и новые стихотворения, и те, что
вошли в старинные антологии начиная с «Кокинсю» (поэтов Каки-
номото-но Хитомаро, Ки-но Цураюки, Идзуми-сикибу и др.). Боль-
ше всего сюда включено стихотворений Сайгё (94), на втором месте
оказался автор «Гукансё» Дзиэн (92), затем следуют Фудзивара-но
Ёсицунэ (79), Сюндзэй (72), принцесса Сикиси-найсинно (49) и Тэйка
(46 ). Несколько примеров. Дзиэн:
Желаю,
На тёмном пути
Краткий миг отдохнув,
Светильник истины
Поднять высоко.
(Свиток 20, «Учение Будды»)
Принцесса Сикиси-найсинно, автор небольшого (373 стихотворе-
ния) личного собрания. Стихотворение навеяно стихами Бо Цзюй-и:
В листьях бамбука.
Что около окон,
Буйствует ветер.
Под звуки его
На мгновенье вздремнулось.
(Свиток 3, «Лето»)
Стихи Тэйка в «Новом Кокинсю» на привычном тесном стихо-
творном пространстве в 31 слог несут повышенную смысловую и
эмоциональную нагрузку, требуя от читателя высокой культуры для
адекватного их восприятия:
333
Схожу конём,
Рукав встряхну, -
И нет следа.
В Сано на переправе снег
В вечерних сумерках.
Речь, как будто, идёт о игре в японские шахматы, сети (все фигу-
ры в них одинаковой формы и размера, а значение каждой фигуры
обозначено на ней соответствующим иероглифом). Сразу же обра-
щает на себя внимание цезура после третьей строфы (она очень рас-
пространена в стихотворениях антологии) и отсутствие очевидной
связи между первой и второй половиной стихотворения: шахматная
фигура конь в начале и снег на переправе Сано в конце. Непонятно
окончание первой половины танка («нет следа»). Необычно окон-
чание стихотворения на словосочетание «вечерние сумерки».
Дело оказывается в том, что всё это стихотворение ориенти-
ровано на танка Нага Окамаро из 3-го свитка антологии «Манъёсю»
(№ 265):
О, как неприятен
Хлынувший вдруг ливень
На распутье дальних и чужих дорог!
Возле мыса Мива, переправы Сану
Нету даже дома, где б укрыться мог!
(Пер. А. Е. Глускиной)
Фудзивара-но Тэйка использовал здесь приём хонкадори. Шах-
матный конь напомнил ему живого коня, его образ вызвал в вообра-
жении картину переправы Сано (древнеяп. Сану), а снег, который
легко («без следа») можно стряхнуть с рукава, - ливень, от которого
негде укрыться. Нестандартное окончание стихотворения повышает
уровень так высоко ценившегося в эту эпоху «избыточного чувство-
вания» (^fS, ёдз~ё), а старинный образ, переосмысленный в предла-
гаемом поэтом контексте, изобилует новыми оттенками, формируя но-
вое эмоциональное пространство. После прочтения этих стихов в соз-
нании читателя вместе с возникновением многочисленных парал-
лелей восстанавливается идущая из глубины веков литературная
традиция.
Като Сюити приводит основанное на игре омонимов стихотворе-
ние экс-императора Готоба из 8-го свитка «Нового Кокинсю», в ко-
тором едва ли не каждое слово имеет два смысла, из-за чего само
это стихотворение можно понимать либо как плач, либо как песню
любви [Като, 1975, с. 239-240]. Перевести такое стихотворение на
какой бы то ни было иностранный язык невозможно.
«Новое Кокинсю» имеет несколько особенностей, отличающих
его от прежних антологий. Традиционное общество рушилось. При-
дворная аристократия, теряя экономическую и политическую власть,
старалась сохранить культурное превосходство над новыми хозяева-
ми страны, активизировать присутствие хэйанской культуры в Япо-
334
нии эпохи Камакура. Этим и объясняется широкое использование в
антологии приёма хонкадори, воскрешавшего в сознании читателя
многие пласты поэтического наследия.
При отборе материала для антологии упор впервые был сделан
не на любительскую, а, условно говоря, на профессиональную поэзию,
т. е. на авторские стихи, уже включавшиеся в официальные антоло-
гии, и на стихи-победители утаавасэ. По этой причине в «Новом Ко-
кинсю» почти не представлена анонимная поэзия [Като, 1975, с. 238].
За несколько столетий эпохи Хэйан в обществе получила при-
знание женская литература, и это обстоятельство нашло отражение
в авторском составе антологии: около трети авторов, представлен-
ных в «Новом Кокинсю» более чем десятью стихотворениями, - жен-
щины (11 из 31).
Активно утверждаются такие эстетические категории, как югэн,
ёдзё(ёсэй), усин(^<L', - поэт очищает себя, чтобы всецело сосредо-
точиться на сущности, душе, предмета).
В 1221 г. в стране произошли события, получившие название «мя-
теж годов Дзёкю». Это была попытка экс-императора Готоба сверг-
нуть режим сиккэнов Ходзё. Она была без особого труда подавлена,
а замешанные в мятеже экс-императоры отправлены в ссылку: Го-
тоба на о. Оки, Дзюнтоку на о. Садо, а Цутимикадо в провинцию То-
са, на о. Сикоку. Этот невиданный акт камакурского правительства
получил название «ссылка трёх экс-императоров» и отразился не
только на политической жизни Японии, но и на составлении «импе-
раторских» антологий.
Начиная с девятой и до последней, двадцать первой, все их после
просмотра императором стали брать для проверки в Камакура. На
престоле теперь находился девятилетний племянник Готоба (сын
его старшего брата) по имени Гохорикава (1212-1234; на престоле —
1221-1232). Для Тэйка наступила пора продвижения по службе. За
несколько лет до этого его отношения с Готоба стали прохладными,
а с воинскими лидерами более тесными. При Гохорикава родствен-
ники его жены, Сайондзи, стали пользоваться всё большей властью,
сам же Фудзивара-но Тэйка в признание его лояльности бакуфу по-
лучил в 1232 г. придворный чин Действительного среднего советни-
ка и высочайшее повеление составить новую «императорскую» ан-
тологию. Тэйка расценил это как событие беспрецедентное: до него
никто ещё не принимал участия в составлении двух таких собраний.
Между тем экс-император Готоба, лишённый в далёкой ссылке
(он пробыл в ней 19 лет, до самой своей смерти) иных занятий, це-
ликом ушёл в поэзию. Для начала он решил ещё раз пересмотреть
«Новое Кокинсю», некоторые танкаудалил из новой редакции анто-
логии, оставив 1600 стихотворений , и написал послесловие к ней.
2<ю Основная редакция содержит, в зависимости от списка, 1874, 1978 или 1981
стихотворение.
335
Эта редакция стала называться «Окибон» (Ей'й’^, «Книга с острова
Оки»). Своебразным объяснением поэтических экзерсисов Готоба мо-
жет служить его стихотворение из 17-го свитка собрания («Смесь»):
Даже в горной глуши
Тропу протопчешь -
Дорога станет.
И мир, и люди
Пусть об этом знают.
Позднее экс-император Готоба создал сборники «Энто онхяку-
сю» (йа ЛИМ1 «Сто стихотворений с дальнего острова») и «Энто
гохякусю» (йвЖЗгё^ПеГ, «Пятьсот стихотворений с дальнего остро-
ва») и, предложив близким ему по духу пятнадцати поэтам прислать
к нему на о. Оки по десять стихотворений на заданные темы, взял на
себя роль арбитра и составил сборник «Энто онъутаавасэ» (ййЛоЙЖ
«Поэтическое состязание на дальнем острове»).
Примечательной особенностью камакурской литературы было
не только стремление придворной аристократии сохранить класси-
ческие традиции в литературе, но и желание многих авторов - вы-
ходцев из воинского сословия в полном объёме воспринять традици-
онную форму, сюжеты, творческие приёмы и, несколько трансфор-
мируя их, создавать новые произведения. Одним из таких авторов
был Сайгё-хоси.
Во 2-йгодГэнкю (1205 г.) тринадцатилетний сёгун Минамото-но
Санэтомо сочинил двенадцать танка и собственноручно переписал
только что появившееся «Новое Кокинсю». Летом 1209 г. Санэтомо
представил на суд Тэйка 30 своих стихотворений, созданных за пос-
ледние четыре года. Фудзивара-но Тэйка возвратил их со своими
замечаниями и присовокупил к ним составленный им сборник «Кин-
дай сюка» (ifiR^rsK, «Поэтические шедевры нового времени»), С
этой поры третий камакурский сёгун стал прилежным учеником
Тэйка.
Через два года после получения высочайшего распоряжения Тэй-
ка представил экс-императору Гохорикава сделанную им предвари-
тельную подборку из 1498 стихотворений, к которым тот прибавил
несколько своих и готов был уже в целом одобрить девятую «импе-
раторскую» антологию, как вдруг скончался в возрасте 23 лет. Пос-
ле передачи ему материалов для новой антологии прошло около
двух месяцев. Кончина Гохорикава потрясла Тэйка. Она ставила под
удар многие честолюбивые планы поэта: экс-император приходился
племянником его жене. В порыве отчаяния Тэйка сжёг остававший-
ся у него на руках черновик антологии. Только благодаря упорству
тогдашнего регента Фудзивара (Кудзё)-но Митииэ (1193—1252), об-
наружившего среди бумаг покойного экс-императора чистовой эк-
земпляр девятой антологии и заставившего Тэйка довести её состав-
ление до конца, через год она увидела свет. Антология получила на-
звание «Син тёкусэн вакасю» (®т#ЛЖ?Пй£Ж, «Новое императорское
336
собрание японских песен»). Известно также и другое её название -
«Удзигава сю» (^/р)НМ, «Собрание с реки Удзи»).
Перед составителем было поставлено непременное условие: ис-
ключить из «императорской» антологии стихи участников мятежа
годов Дзёкю - экс-императоров Готоба, Цутимикадо и Дзюнтоку, а
также их активных сторонников. Тэйка изъял из прежнего текста
более ста стихотворений и представил регенту собрание из 1376 (в
некоторых списках - 1374) стихотворений в двадцати свитках. По
просьбе канцлера автограф Тэйка в 1235 г. набело переписал калли-
граф из буддийского храма Сэсондзи по имени Юкиёси. Получив
чистовой экземпляр антологии, Митииэ передал составителю благо-
дарность через его сына, известного поэта Фудзивара-но Тамэиэ (1197—
1275). Формально антология была утверждена четырехлетним им-
ператором Сидзё (1231-1242; на престоле - 1232-1242).
По сравнению с предыдущими «императорскими» антологиями в
«Син тёкусэн вакасю» нет разделов «Разлука» и «Печаль», зато бо-
гато представлены разделы «Любовь» и «Смесь» (по 5 свитков в каж-
дом). В последнем свитке («Учение Будды») есть нагаута. Здесь можно
видеть стихотворения многих поэтов «Нового Кокинсю», но коли-
чество собственных стихотворений Фудзивара-но Тэйка ограничива-
ется пятнадцатью. Зато танка Минамото-но Санэтомо и Кудзё Ми-
тииэ насчитывается по 25 у каждого. Впервые много стихотворений
принадлежит поэтам из воинского сословия. Видимо, на это и наме-
кал экс-император Готоба, когда писал, что Тэйка выдаёт вола за
коня.
Первый свиток открывается небольшим введением составителя.
На фоне других антологий такого ранга «Син тёкусэн вакасю» отли-
чается простотой стиля («красотой простоты»). Не исключено, что
стремление к простоте берёт начало в увлечении молодого Тэйка
практикой дзэн-буддизма. Несомненно одно: составитель пытался
выработать в девятой «императорской» антологии новый, созвучный
эпохе подход к оценке танка. Поэтические приёмы, используемые
поэтами «Нового Кокинсю», можно наблюдать и здесь, но акценты
несколько сместились: скажем, для хонкадори «изначальная песня»
чаще берётся из «Кокин вакасю», чем из «Манъёсю».
Больше, чем кто-либо из его предшественников, Фудзивара-но
Тэйка занимался вопросами поэтики. Значительную часть его на-
следия составляют сборники, включающие от 83 до 873 стихотворе-
ний. Среди них особого внимания заслуживают два: «Киндай сюка»
«Поэтические шедевры нового времени») и «Хякунин ис-
сю» (1ГА—И", «Сто стихотворений ста поэтов»)201. Первый из них
состоит из 83 танка 37 известных и 10 неизвестных поэтов и суще-
ствует в двух составительских редакциях. В одной, не классифици-
рованной по темам редакции сборник был выслан сёгуну Минамото-
201 Русский перевод В. С. Сановича см в: [Сто стихотворений, 1994].
12 Зак 3732
337
но Санэтомо в качестве наставления в искусстве поэзии и собрания
примеров для подражания, другая, более поздняя редакция носила
упорядоченный вид и оставалась у самого Тэйка.
Во вступлении к сборнику Тэйка изложил своё понимание сущно-
сти поэзии: «Искусство японской поэзии кажется поверхностным, но
оно глубоко, кажется лёгким, но оно трудно». Характеризуя творе-
ния поэтов классической эпохи, Тэйка замечает в назидание учени-
ку: «В наши дни обучающиеся искусству [поэзии представители] млад-
шего поколения начинают искренне считать, что они сочиняют насто-
ящие стихи, в то время как в действительности они ничего не знают
о надлежащем стиле». Дальше автор предисловия объясняет сущность
и способы применения хонкадори и дзё, анализирует стихи автори-
тетных поэтов.
Вторую авторскую редакцию сборника Р. Брауэр и Е. Майнер
представляют так: «Как и императорские антологии, "Киндай сюка"
имеет две главные группы стихотворений - сезонные, которые от-
крывают подборку, и любовные, начинающие вторую половину.
Структурные ударения сообщает подборке её тематическая слож-
ность и тональное движение. Главный упор - на печаль в жизни.
Больше стихотворений о тонально тёмном сезоне осени, чем о про-
чих сезонах, вместе взятых... За сезонными стихотворениями следу-
ет поздравительное, которое сообщает смысл благоприятствования,
но затем идут жалобы, стихотворение о разлуке и стихотворения о
странствиях, в которых у печали даже больше человеческой непос-
редственности, чем в стихах об осени... Во второй половине подбор-
ки на печаль человеческого существования делается всё возраста-
ющий упор» [Брауэр и Майнер, 1967, с. 31].
Предисловие к сборнику во многом (вплоть до стиля) написано в
подражание предисловию Ки-но Цураюки к антологии «Кокин вака-
сю». Несмотря на название сборника, включённые в него танка от-
нюдь не ограничиваются новым временем. Большинство его стихо-
творений можно отнести к двум эпохам; IX-X вв., эпохе первых трёх
«императорских» антологий, и эпохе современников Тэйка; самое
раннее по времени принадлежит кисти древнего «императора» Тэн-
ти (626-671). Варьируя их последовательность, Фудзивара-но Тэйка
показал образцы компоновки стихотворных миниатюр разных авто-
ров, а также образец использования традиционных приёмов япон-
ской поэтики для создания нового художественного единства.
Сборник «Хякунин иссю» (или «Огура хякунин иссю», —
Ж202) составлен около 1235 г. Специалисты много спорили, действи-
тельно ли его составил Фудзивара-но Тэйка или же поэту приписы-
вают лавры составителя из-за его авторитета в поэтических кругах,
хотя в последнее время мнения почти полностью склонились в поль-
202 Огура - это название поместья Уцуномия Ёрицуна, тестя Тамэиэ (сына Тэйка),
где по просьбе владельца Фудзивара-но Тамэиэ собственной рукой начертал все
танка «Хякунин иссю» на раздвижных ширмах
338
зу Тэйка. Правда, не исключается возможность того, что кто-нибудь
из его сыновей несколько подредактировал работу отца [Кин, 1993,
с. 674]. Как бы то ни было, эстетические идеалы и вкус знаменитого
Тэйка много сот лет служили ориентирами для поэтов, создающих
танка. До наших дней дожила новогодняя игра карута, основанная
на знании «Ста стихотворений ста поэтов».
Свои стихи для критической оценки Тэйка присылал не только
Санэтомо. Поэт и крупный чиновник (Внутренний министр) Фудзи-
вара-но Иэнага (1192-1246) каждый месяц представлял на суд взыс-
кательному мастеру несколько своих стихотворений, и тот возвра-
щал их с подробным анализом. Около 1219 г. появился трактат Тэй-
ка, названный впоследствии «Майгэцусё» (МЛ «Ежемесячные под-
борки»), в котором эти ответы были собраны203. Анализ стихов Иэ-
нага включает здесь и рассмотрение десяти эстетических категорий.
Наличие чувства (усин) объявляется автором трактата главным
свойством танка и необходимым условием создания югэн. Внимание
сочинителей обращается на связь в песне слова и души.
Ценным источником по истории японской культуры является
«Мэйгэцу ки» (₽Я Л 8Е, «Записки при полной луне»), дневник (на кам-
буне), который Фудзивара-но Тэйка вёл с 1180 по 1235 гг. Дневник
сохранился не полностью, но, несмотря на лакуны, содержит важ-
ную информацию о связях между императорским двором и сёгунски-
ми властями и рассуждения автора о проблемах стихосложения.
Многие описания дневника послужили источником для «Адзума ка-
гами», истории камакурского сёгуната.
Поэтическое наследие Фудзивара-но Тэйка составляет в общей
сложности 4600 стихотворений. 445 из них в разное время были вклю-
чены в «императорские» антологии. За свою жизнь великий поэт
знал несколько творческих увлечений. В молодости в поисках новых
средств выразительности он развивал в своих стихах категорию
югэн. Такие стихи он называл дарума ута (т. е. песнями в духе Бодхи-
дхармы), а его литературные противники из школы Рокудзё - «дзэн-
ской тарабарщиной»204.
В более зрелом возрасте Тэйка отдалился от этого стиля. Стихи
его сделались менее вычурными, но отнюдь не лишились духа экс-
периментаторства, прежде всего - в области синтаксиса и образно-
сти. Современников он часто приводил в восхищение изощрённос-
тью звучания своих стихотворных экспромтов и отточенностью об-
разов в них. В более поздние годы Фудзивара-но Тэйка занимался
также сочинением стихов в жанре рэнга, увлечение которым рас-
пространялось всё больше в разных социальных слоях.
203 В последнее время высказываются сомнения в традиционной атрибуции трак-
тата, основанные на утверждении, что некоторые основные его положения не могли
быть выдвинуты ранее конца Х1П в., когда Тэйка уже умер (см.: [Кониси, 1991, с. 200-201,
394-395].
204 По мнению Кониси, сосредоточение на сущности воспеваемого предмета в
стихах Тэйка происходит из тэндайской практики созерцания сикан [Кониси, 1991,
с. 198]
339
Японская литература многим обязана и каллиграфическому ис-
кусству Тэйка. Обладая красивым почерком, до самозабвения пре-
данный родной словесности, он переписал целиком множество па-
мятников нарской (начиная с «Манъёсю») и хэйанской литературы и
для собственной библиотеки, и в дар другим людям (так, собствен-
норучная копия «Манъёсю» была им подарена Минамото-но Санэ-
томо, и тот пришёл от памятника в неописуемый восторг). Многие
литературные памятники имеют списки, известные в текстологии
под названием «Тэйкабон» (книги Тэйка). Специалисты высоко це-
нят такие списки за их верность протографам.
Ещё при жизни Тэйка дом Микохидари205 206 разделился на три са-
мостоятельные ветви, возглавлявшиеся тремя его сыновьями: Нидзё,
Кёгоку и Рэйдзэй. Каждая из них придерживалась собственной кон-
206
цепции развития вака
После смерти Тэйка ведущее место в поэтическом мире занял
его сын Фудзивара-но Тамэиэ (11987-1275), глава школы Кёгоку.
Когда-то первым его шагом на поэтической стезе было участие, в
16-летнем возрасте, в стихотворном состязании. В дальнейшем то
направление, которое развивал Тамэиэ, стало определяться как
псевдоклассицизм, сосредоточение на традиционных образцах. Пол-
ное собрание произведений этого поэта включает 5730 танка.
В 1248 г. экс-император Госага отдал повеление Тамэиэ соста-
вить очередную «императорскую» антологию, и в конце 1251 г. тот
представил её экс-императору под названием «Сёку Госэн вакасю»
(^^Ж?Пй^Ж, сокр. «Сёку Госэнсю», «Продолжение Госэн вакасю»).
В 20 свитков антологии включено 1371 стихотворение, и наиболее
полно из поэтов в ней представлен Тэйка (43 стихотворения). Не-
смотря на то, что в антологии нет предисловия, её состав свидетель-
ствует о стремлении Тамэиэ выдержать поэтическую преемствен-
ность (недаром в названии и этой, и многих других антологий под-
чёркивается, что они являются либо новыми вариантами, либо про-
должениями прежних). «Продолжение Госэн вакасю» стало второй из
тринадцати «императорских» антологий, составленных после «Но-
вого Кокинсю» (в литературе принято выделять их в особую группу).
Последняя «императорская» антология, «Син Сёку Кокин вакасю» (®т
«Новое Продолжение Кокин вакасю»), была состав-
лена Асукаи Масаё (1390-1452) по распоряжению императора Го-
ханадзоно (1419-1470; на престоле — 1429-1464) в 1433-1439 г.
205 Иногда его называют Микоса.
206 Разногласия между ними начались со спора о том, чья школа вернее следует
направлению Тэйка, и обострились на почве имущественной тяжбы о владении на-
следственным поместьем Хосокава, которая продолжалась с 1275 по 1313 гг.
Поэзия рэнга.
Антологии
Танка во всех модификациях представляет «высокий стиль» в
поэзии. Существовали приёмы, использование которых счита-
лось признаком хорошего тона, высокого мастерства поэта. В танка
употреблялась только лексика выспренняя - ни просторечные слова,
ни китайские заимствования здесь не допускались.
Но в прозаической литературе и разговорном языке они употреб-
лялись, в драму тем или иным способом проникали - чем дальше,
тем активнее, так что резонно было ожидать, что рано или поздно
такого рода лексика появится и в одном из поэтических жанров. Та-
кой жанр действительно стал расцветать в эпоху Камакура под на-
званием рэнга сцепленные песни).
Ещё в древних памятниках («Кодзики», «Манъёсю») встречаются
танка, сочинённые не одним, а двумя авторами. Возможно, дело не
обошлось без китайского влияния: там ещё в эпоху Шести династий
были известны групповые стихотворения ляньцзюй, в которых каж-
дую строфу сочинял отдельный поэт. Тогда они не получили особо-
го распространения, но в VIII в., когда среди авторов ляньцзюй по-
явились имена Бо Цзюи-й, Янь Чжэнь-цина (709-84?) и Хань Юя (768-
842), ситуация изменилась [Кониси, 1991, с. 92]. В XI в. появляются
танка с инверсионным порядком их сочинения: вначале один поэт
предлагал окончание стихотворения (две строфы, 7+7 слогов, симо-
но ку), после чего другой должен был надстроить над ним начало
(три первые строфы, 5+7+5 слогов, ками-но ку). При этом изобрета-
тельное использование игры слов вторым автором решительно из-
меняло смысл, заложенный в стихотворение первым поэтом. Следу-
ющее двустишие сочинялось по тому же принципу, в результате че-
го по своему смыслу не имело ничего общего ни с первым, ни с пя-
тым двустишием. В дальнейшем составление таких рэнга практико-
валось одновременно с составлением прежних.
К XII в. на подобное изменение смысла стали обращать особое
внимание. Для его достижения обе части стихотворения должны бы-
ли иметь независимый друг от друга смысл, а при их соединении со-
здавать третий, отличный от смысла частей. Чем неожиданней был
эффект, тем выше ценилось мастерство участников.
В конце XIII в. (в «Имакагами») появился термин кусарирэнга (Ж
стихотворные цепочки), которым стали обозначать стихотво-
рения, состоящие из трех и более куплетов207.
Зародилась поэзия рэнга в аристократической среде и поначалу
культивировалась при дворе, а после мятежа годов Дзёкю - в особ-
207 Другое название кусарирэнга - тёрэнга (ftiS®:, длинные рэнга). Такие стихо-
творения иногда достигали размера тысячи строф.
341
няках киотоской знати. Как мастера рэнга высоко почитались по-
эты нескольких поколений школы Микохидари (Тэйка, Тамэиэ, Та-
мэудзи и др.), стараниями которых в третьей четверти XIII в. (эпоха
экс-императора Госага) жанр рэнга достиг нового расцвета. В это
же время становятся популярными состязания мастеров рэнга «под
цветами»: в столице, на территории буддийских храмов Бисямон-дб и
Хоссёдзи, росли две знаменитые плакучие сакура, в пору цветения ко-
торых вокруг них собиралось множество народа, чтобы насладиться
ходом состязаний поэтов из разных городов. Такие состязания счи-
тались не просто демонстрацией мастерства участников в искусстве
стихосложения, но своего рода сакральным актом «успокоения цве-
тов» [Итико, 1986, с. 344]208.
Разделение поэзии рэнга на два стиля - «высокий» и «низкий» -
обозначают по-разному. Одно из распространённых определений этих
направлений - усин рэнга (W'L'ilSSk, «имеющие душу», серьёзные
рэнга) и мусинрэнга 5k, «не имеющие души», шуточные рэн-
га). Другое деление исходит из социальной принадлежности поэтов,
выделяя додзё рэнга (^5k) и дзигэ рэнга (ffiTi® 5k). Оно появи-
лось в конце XVI в. и различает стихи в традициях Додзё, ветви по-
этологической школы Нидзё, которую соблюдали поэты-аристо-
краты (учёный и поэт Наканоин Митикацу, 1556-1610; принц Тоси-
хито, 1579-1629; Карасумару Мицухиро, 1579-1638), и в простона-
родной манере, распространённой среди чиновников ниже 6-го ранга,
городского плебса и рядовых монахов. Здесь в стихи допускались и
уличные словечки, и китайские заимствования.
В обоих видах рэнга неукоснительно соблюдалось условие ориен-
тации каждого куплета только на тот куплет, который ему пред-
шествует непосредственно. И поскольку при такой ориентации каждый
автор старался истолковать смысл предыдущего куплета необыч-
ным способом (омонимическая игра), два куплета, разделённые
между собою хотя бы одним третьим, по смыслу не были связаны
между собою совершенно. В стострофной рэнга «Минасэ сангин»
(TkMi^H^) начальные строфы, сложенные Сбги (1421-1502) и его
учениками Сехаку (1443-1527) и Соте (1448-1532) выглядят так:
Лежит ещё снег,
Но - в дымке подножия гор.
О, вечер весенний!
(Сбги)
Убегает вода далеко,
Селение в запахе слив.
(Сёхаку)
208 Сакура в разгар цветения наделялась японцами чудодейственной благотвор-
ной силой. Практика «рэнга под цветами» привела к тому, что стихотворения рэнга
народное сознание также стало наделять магической силой. Так, «рэнга под цвета-
ми» стали исполнять как молитву для избавления от недуга или для победы в сра-
жении, причём этот обычай не распространялся на те рэнга, которые сочинялись
при дворе [Кониси, 1991, с. 426].
342
Ветерок на реке,
Стайка ив,
И пахнет весною.
(Сотё)
Лодки, идущей на шестах, звуки
В утреннем я воздухе узнал.
(Сбги)
А луна всё ещё остаётся,
Здесь, в ночи,
Что покрыта туманом.
(Сёхаку)
Иней лежит на полях -
Это поздняя осень настала.
(Сотё)
Таким образом через цепь ассоциаций, связанных со звучанием
отдельного слова, с парными образами, часто встречающимися в по-
эзии, уже шесть первых строк стострофной рэнга меняют изобра-
жение диаметрально, проводя слушателя от ранней весны к поздней
осени, от вечера к утру и от утра к ночи, от подножия гор к селенью,
потом к реке и, наконец, к полям. Стоявшая перед каждым поэтом
задача всякий раз переосмысливать предыдущий куплет определяла
двойной смысл его собственного куплета: во-первых, он ориентиро-
вался на предыдущий, во-вторых, оказывался ориентированным на
последующий куплет.
Когда составление стихотворной цепочки только начиналось,
предусмотреть ход её развития было невозможно, и тем не менее
существовали правила, нарушать которые поэты не могли. Такие
правила касались заданных размеров стихотворения: если в услови-
ях состязания значилось сочинение рэнга из двух, пятидесяти или ста
куплетов, составлялись стихотворные цепочки именно такой длины.
Если какой-либо сезон назывался в качестве темы рэнга, участники
состязания не должны были сбиваться на темы других времён года
[Кониси, 1991, с. 305]. Так что появление стихотворения, приведен-
ного в качестве примера, стало возможным только потому, что «Вес-
на» не была обозначена темой всей стихотворной цепочки.
Игровая стихия, господствовавшая на состязаниях по сочинению
рэнга, была основана на прочных местных культурных традициях: в
строфике и устойчивой образности - на традициях танка, в ориен-
тации на сиюминутность, мгновенность смыслового сцепления куп-
летов - на одной из основных категорий дзэн-буддизма соккон(ВР т",
в данное мгновение). Даже тенденция рэнга к вытеснению тождест-
ва рядом оппозиций находит аналогии в дзэнских коанах. Параллели
со стихами ляньцзюй вызваны ареальными связями рэнга.
Большую роль в объединении додзё и дзнгэ рэнга сыграл Рэй-
дзэй Тамэсукэ, третий сын Фудзивара-но Тамэиэ, уехавший из сто-
343
лицы в Камакура по делам имущественной тяжбы и руководивший
там сочинением рэнга. После его смерти виднейшими мастерами
стали: в школе додзё - высокопоставленный чиновник Северного
двора Нидзё Ёсимото (1320-1388), а в школе дзигэ рэнга - Кюсэй
(12847—1378?).
Первый из них был известен как сочинитель танка (80 его сти-
хотворений были включены в «императорские» антологии) и автор
нескольких трактатов по поэтике. Второй был его учителем, а сам
учился стихосложению у Тамэсукэ (правда, искусству слагать не
рэнга, а танка). В 1357 г. Ёсимото и Кюсэй составили первый в ис-
тории большой сборник рэнга «Цукуба сю» (^£ХЙгЖ)209, который в
том же году удостоился высокого статуса антологии, в поэтической
иерархии следующей непосредственно за «императорскими». Анто-
логия состояла из 20 свитков и включала 2170 стихов 468 поэтов.
Больше всего куплетов в «Цукуба сю» принадлежит Кюсэй (И8),
на втором месте стоит монашествующий принц Кадзии-но мия (90),
на третьем Ёсимото (87). Фудзивара-но Тамэиэ представлен три-
дцатью семью, а его отец Тэйка - двадцатью пятью куплетами.
Впервые в поэтическую антологию включено так много стихов во-
инов и поэтов низших сословий. Этим обозначено мощное движение
одного из направлений аристократической культуры в иную соци-
альную среду.
Первые восемнадцать свитков «Цукуба сю» разделены по таким
же темам, что и антологии танка («Времена года», «Синтоистские
святыни», «Учение Будды», «Любовь», «Смесь», «Песни странствий»,
«Поздравления»), в 19-й свиток вошли шуточные и смешанные ки-
тайско-японские куплеты, а в 20-й одни начальные куплеты. В тех
случаях, когда рэнга были слишком длинными, составители включа-
ли в антологию лишь часть их (в большинстве случаев только два
куплета). Открывается «Цукуба сю» двумя предисловиями - на
японском (канадзё) и на китайском (манадзё) языках. Первое при-
надлежит кисти Нидзё Ёсимото, второе - кисти Правого министра
Северного двора Коноэ Митицугу. Это была не только первая, но и
наиболее представительная антология поэзии рэнга.
Два или три десятилетия, последовавшие за смертью Ёсимото
(1388 г.), были застойным временем в истории рэнга, потому что,
209 Цукуба - название местности, впервые упомянутое в «Записях о деяниях
древности» (свиток 2), в описании встречи принца Ямато Такэру со старцем, вместе с
которым он сложил стихотворение из двух катаута :
Сколько ночей провел я [в пути],
Нипибари
И Цукуба проходя? -
Вместе посчитав -
Ночей - девять ночей,
Дней - десять дней.
(Пер. Л. М. Ермаковой)
Впоследствии это стихотворение было квалифицировано как первая рэнга.
344
несмотря на активность в проведении состязаний, новые выдающие-
ся мастера стихотворных цепочек на них не появлялись [Кин, 1993,
с. 937]. Новый подъём поэзии рэнга связан с именем внука Нидзё
Ёсимото, Итидзё Канэра (Канэёси, 1402-1481), занимавшего высо-
кие официальные должности Первого министра и Канцлера (с 1447 г.).
Он пользовался репутацией мастера танка, возглавлял коллегии су-
дей на многих стихотворных состязаниях и написал оба (на японском
и китайском языках) предисловия для последней «императорской»
антологии «Син сёку Кокинсю» ($ГЙ%Ат'Ж), составленной Асукаи
Масае (1390-1452) по повелению императора Гоханадзоно (1419—
1470) в 1433-1339 гг. Осенью 1452 г вместе с поэтом Такаяма Содзэй
(13867—1455) он написал сочинение «Синсики Конъан» (^Т^СЙЖ,
«Современный подход к новому стилю»), сообщившее новый стимул
для творчества мастеров рэнга на ближайшие полстолетия.
В оценке историков японской поэзии творчества мастеров раз-
ных эпох отразился обычай давать название группе лидеров. Ки-но
Цураюки выделял Шесть гениев японской поэзии, с наступлением
эпохи Камакура часто стали упоминаться Тридцать шесть лучших
поэтов эпохи Хэйан, в XIV в. стали говорить о Трёх небесных коро-
лях японской поэзии, а в XV в. - о Семи мудрецах рэнга. Так опреде-
лил группу японских поэтов-монахов по аналогии с популярным на-
званием группы поэтов-отшельников древнего Китая знаменитый
сочинитель рэнга Иио Соги (1421-1502)*10 [Итико, 1986, с. 359-360].
Поэты, отнесенные им к числу мудрецов рэнга: Содзэй (Такаяма),
Тиун (ум. в 1448), Ноа (1397-1468), Гёдзё (1405-1469), Сэндзюн
(1411-1476), Синкэй (1406-1475) и Сои (Катамори, 1418-1485).
Увлечение разных слоёв общества поэзией рэнга привело не
только к смешению её высокого и низкого стилей, но и к общему
признанию ценности творчества талантливых мастеров низкого со-
циального положения. Иио Соги, намного превзошедший и талан-
том, и эрудицией своих современников-поэтов, по-видимому, не от-
личался знатностью происхождения, однако пользовался огромным
авторитетом, бывал принят и в ставке сёгуна, и во дворцах крупней-
ших даймё, и участвовал в самых изысканных поэтических собра-
ниях.
Предполагают, что он был сыном актёра, исполнявшего танцы
гигаку, и родился в западной Японии - либо в провинции Кии, либо в
провинции Оми. Лет в двадцать с небольшим будущий поэт приехал
в столицу, где принял монашеский постриг в дзэн-буддийском мо-
настыре Сёкокудзи, а изучать искусство рэнга начал в возрасте око-
ло 30 лет. Но прежде, чем приступить к его изучению, Соги, как гла-
сит предание, отправился с просьбой о наставлениях в избранной им
210 Источник определения, данного Соги, подчёркивается им в_названии сборника
рэнга в десяти свитках, где оно впервые приводится: «Тикуринсё» (Ф'гЦ'Н--, «Извле-
чения из бамбуковой рощи», 1476).
345
области к одному известному в то время поэту. Тот «посмотрел на
него и сказал: "Ты слишком стар, чтобы учиться искусству рэнга.
Чтобы его изучить как следует, нужно двадцать лет упорного труда".
Не смутившийся Соги быстро ответил: "Ну что же! Я буду работать
в течение десяти лет, но зато дни и ночи"» [Конрад, 1974, с. 51].
Наставления в искусстве рэнга Соги в течение многих лет полу-
чал от одного из лучших мастеров своего времени Синкэя, который
был священнослужителем столичного храма Дзюдзюсин-ин. Буддий-
ское монашеское имя Синкэй этот поэт принял только в 1451 г.,
когда ему было уже 45 лет, а после пострига, который он принял в
очень раннем возрасте, взял имя Синъэ. Как священнослужитель
Синкэй достиг высокого сана гондайсддзу.
Около 1430 г. Синкэй стал учеником поэта Сётэцу (Сэйган, 1381-
1459), обучавшего его секретам сочинения танка, и оставался тако-
вым вплоть до смерти учителя (Синкэй настолько высоко почитал
талант своего учителя, что после его смерти уверял даже, будто те-
перь история вака закончилась). Именно Сётэцу преподал Синкэю
концепцию югэн (к>эн) школы Рэйдзэй. Неизвестно, кто наставлял
Синкэя в сочинении рэнга, но после сорока лет он уже пользовался
широкой популярностью в столице и её окрестностях как искусный
мастер в сочинении и танка, и рэнга.
Кроме активного участия в сочинении многих (вплоть до тысяче-
строфных) рэнга, Синкэй написал также несколько теоретических
работ, лучшей из которых считается «Сасамэгото» ($ о? ft ~ ,
«Шёпот», 1463), где в форме вопросов и ответов он объясняет смысл
основных эстетических категорий рэнга. Уже после его смерти, в
1488 г., поэт Инавасиро Кэндзай (Кэнсай, 1452-1510) выпустил книгу
устных поучений Синкэя в области рэнга под названием «Синкэй-
содзу тэйкин» (C'Wfi «Поучения Синкэй-содзу в его саду»).
Похоже, что поэтическому искусству Соги действительно обу-
чался день и ночь. Кроме Синкэя он получал наставления у бывшего
канцлера Итидзё Канэра, который до самой своей смерти давал ему
знания по традициям вака, приёмам анализа «Повести о Гэндзи» и
китайской классики и по придворному ритуалу, а также ввёл его в
круги наследственной аристократии. В числе наставников Соги в
поэзии называют также Содзэя, Сэндзюна, Асукаи Масатика (1416—
1490) и Тб-но Цунэёри (1401-1494), от которого он усвоил традиции
изучения «Кокин вакасю» в тайной передаче школы Нидзё. Скру-
пулёзное изучение памятников классической литературы существен-
но повлияло на творчество Соги и в танка, и в рэнга.
В 1466 г. Соги отправился в первое своё продолжительное путе-
шествие - по дороге Токайдо, в восточные провинции. В значитель-
ной степени это путешествие было продиктовано желанием посе-
тить места, связанные с творчеством знаменитых поэтов. В странст-
виях он провёл большую часть войны годов Онин (1467-1477), со-
трясавшей столицу, и вернулся только в 1472 г. Во время этого стран-
ствия Соги написал критические работы, посвящённые технике со-
346
чинения рэнга, - «Тёрокубуми» (ft 1466) и «Адзума мондо» (clii
1470), комментарии к «Кокинсю» (1471) и путевой дневник
«Сиракава кико» ( Й (ST&iff, 1468). Потом Соги много путешествовал
по Японии и наряду с Сайгё и Басё вошёл в историю японской лит-
ературы как один из трёх великих поэтов-странников.
После возвращения в столицу Соги соорудил на её северо-вос-
точной окраине хижину Сюгёкуин, которая стала центром его лите-
ратурной деятельности примерно на тридцать лет. Здесь он прово-
дил поэтические встречи по танка и рэнга, читал лекции по «Кокин-
сю», «Исэ моногатари» и «Гэндзи моногатари»211, писал коммента-
рии на классические произведения, занимался с учениками и готовил
поэтические антологии. Первым сборником его рэнга стал «Васурэ-
гуса» (1ЕЖ, «Трава забвения»), составленный, судя по колофону, в
феврале-марте 1474 г. (во 2-ю луну 6-го года Буммэй ).
Отсюда Соги семь раз отправлялся в странствие на побережье
Японского моря, в провинцию Этиго, дважды в уезд Ямагути, в про-
винцию Суо, и один раз, в 1480 г., на о. Кюсю, где он вёл еще один
путевой дневник. Соги постоянно посещал притягательные для по-
этов места в прилегающих к столице провинциях. Он и умер во вре-
мя странствия, в провинции Суруга, в восточной части о. Хонсю.
Зимой 1494 г. император Гоцутимикадо (на престоле - 1464-1500)
повелел составить новый сборник рэнга наподобие «Цукуба сю». Во
2-й день 6-й луны следующего года Соги, это повеление получивший,
представил черновик, а ещё через девятнадцать дней - окончатель-
ный вариант этой антологии. Беспрецедентная скорость объясняет-
ся сочетанием огромной эрудиции и работоспособности 74-летнего
составителя.
Новая антология рэнга получила название «Синсэн Цукуба сю»
(ЙтЖ^ЖЙЖ, «Вновь составленный Цукуба сю») и считается луч-
шей в истории этого жанра. Она открывается предисловием на япон-
ском языке (канадзё) высокопоставленного чиновника (Регента и
Первого министра) и учёного Итидзё Фу юра (1464-1514, имя чита-
ется также Фуюнага и Фуюёси), сына Канэра. Свыше двух тысяч
куплетов сгруппированы в ней по тематическому признаку в двад-
цать свитков, из которых первые восемнадцать представляют цукэ-
ку, вторые куплеты в рэнга, а остальные два - мажу или хокку, на-
чальные их куплеты.
Социальный состав поэтов разнообразен: от императора до вои-
нов и простолюдинов, но больше всего священнослужителей: из 252
авторов 97 - буддийские монахи. Антология отражает историю рэн-
211 Кроме того, Соги часто приглашали для чтения лекций по классической лите-
ратуре во дворцы представителей высшей придворной аристократии, таких как Сан-
дзёниси Санэтака (1455-1537), Анэгакбдзи Мотоцуна (1441-1504) и Коноэ Масаиэ
(1444-1505). Показательно, что с XV в. доскональное знание классики стало считать-
ся обязательным для поэтов рэнга, которые должны были использовать в своём
творчестве многие образы и стилистические обороты классической литературы [Ко-
ниси 1991, с. 451].
347
га за 60 лет, начиная с 1429 г.; наибольшее количество куплетов
принадлежит Синкэю (125), Содзэю (115) и Гоцутимикадо (109).
Современные Сбги поэты высоко ценили его мнение об их сти-
хах. Особое внимание он обращал на эстетический аспект творче-
ства, причём его понимание таких категорий, как югэн (тонкое оча-
рование) такэтакаку (ДИ, возвышенность) и усин (соответствие
чувству), во многих отношениях отличалось от того, которое в них
вкладывали авторы XIII в. [Кониси, 1991, с. 453-435].
В XIII в. усин (серьёзные) рэнга противопоставлялись мусин (шу-
точным) рэнга как основное течение в этом поэтическом жанре -
побочному. Но в ближайшее же десятилетие после составления «Син-
сэн Цукуба сю» позиции шуточных рэнга стали укрепляться всё
больше. Распространение моды на составление стихотворных цепо-
чек среди широких масс горожан и крестьянства неизбежно влекло
за собой появление в стихотворениях разговорных слов, бытовых
тем, простонародного юмора. Формируется новый поэтический жанр
хайкайрэнга шуточные рэнга).
Как отмечает Като Сюити, среди хайкай рэнга много «пародий»
на вака, на сцену в них часто выходят такие знаменитости, как Хи-
томаро, Нарихира, Комати, Сайгё, а также братья Сога и Бэнкэй
Усивака - эпизоды с их участием тоже используются в юмористи-
ческом духе. Очень часто в хайкай рэнга употребляются слова «моча»,
«ноздри», «усы», «анальное отверстие», «мошонка» и т. п., немыс-
лимые в поэзии прошлых эпох. После эпохи Хэйан, продолжает Ка-
то, японская литература очень мало касается пищи, а в хайкай рэнга
можно увидеть названия повседневной пищи: якигомэ (молодой рис,
который поджаривают прямо в шелухе, после чего толкут и очи-
щают от шелухи), поджаренные бобы, соевый творог тофу, съедоб-
ный корень конняку, лапша, иваси. Затрагиваются гомосексуальные
и гетеросексуальные связи, немало упоминаний мужских и женских
гениталий, полового акта [Като, 1975, с. 288-289].
Несмотря на особую распространенность хайкай рэнга в просто-
народной среде, они не были искючительной ее принадлежностью.
Но даже утончённые, вошедшие в официальные антологии стихот-
ворные цепочки предполагали в качестве жанрового признака мно-
гозначность толкования куплетов, словосочетаний и даже частей
слов и, следовательно, заключали в себе потенцию вульгаризации
образа.
В заключение дружеских встреч мастеров рэнга высокого класса
распространился обычай «бросить на прощание» стихотворную шут-
ку. В одной из записей за 1479 г. в дневнике Сандзёниси Санэтака о
встрече поэтов при дворе императора значится:
Ночь прошла.
Ты бросил на прощание
Хайкай.
(Цит. по: [Токуда, 1992, с. 416]).
348
Предшественником хайкайрэнга нередко считают одного из вер-
ных учеников Сбги, возглавившего после смерти учителя отряд мас-
теров рэнга Сотё (Сайокукэн, 1448-1532). Но подлинным основате-
лем жанра был, по общему признанию, Ямадзаки Сокан, «единст-
венным достоверным фактом биографии» которого, по убеждению
Д. Кина, «можно считать лишь то, что в 1539 г. он переписал от руки
одну пьесу театра Но» [Кин, 1978, с. 10].
Японские исследователи считают, что Сокан родился в провин-
ции Оми в 1464-м или 1465 г. в самурайской семье. Его обычным
именем было Сина Ясабурб Норисигэ, в молодости он был личным
секретарём сёгуна Асикага Ёсихиса (1465-1489), после смерти ко-
торого принял монашеский постриг и жил сначала в Амагасаки, в
провинции Сэтцу, и в селении Такиги, в провинции Ямасиро, а потом
затворился в Ямадзаки, в западном районе столицы. На склоне лет
Сокан сплёл себе крохотную хижину в провинции Сануки на о. Сик-
оку, где и умер в 1552 или 1553 г В монашеские годы Сокан зани-
мался почти исключительно сочинением стихов и каллиграфией
[Итико, 1986, с. 392-393; НДМДДТ, 6, 1979, с. 338].
Очевидно, уже в зрелом возрасте Сокан составил сборник, на-
званный поначалу просто «Хайкай рэнга» или «Хайкай рэнга сё» (W
в ксилографическом издании 1615 г. получивший назва-
ние «Синсэн Ину Цукуба сю» «Вновь составленный
Собачий Цукуба сю»)212. Разделы сборника посвящены четырём се-
зонам года, любви и смешанным темам и содержат в наиболее пол-
ном списке в общей сложности 562 куплета (463 цукэкуи 102 хокку).
Разница в количестве куплетов, вошедших в разные рукописные списки,
ксилографы и старопечатные издания «Ину Цукуба сю», объясняет-
ся и тем, что сам составитель неоднократно возвращался к работе
над сборником, добавляя в него новые куплеты и изымая старые, и
позднейшим вмешательством в его состав потомков [Токуда, 1992,
с. 422].
«Тон всему "собачьему" сборнику рэнга задаёт первое же цукэку,
которому предшествует такой зачин:
касуми но коромо Одеянье из дымки
сусо ва нурэкэри по подолу промокло.
Подразумевается, что низины, не скрытые туманной дымкой, тем-
нее, чем вершины гор, напоминая промокший и потемневший по-
дол одежды, волочащийся по сырой земле. Сокан дополнил образ
таким трехстишием:
Саохимэ но То весна пришла -
хару татинагара и вот богиня Сао
сито о ситэ мочится стоя.
212 В сборник включены в основном стихотворения XV-XVI вв, а самое позднее
из датируемых относят к 1523 г.
349
Чтобы оценить дерзость Сокана, достаточно сравнить его трех-
стишие с цукэку, написанным впоследствии Соте для того же зачина.
Соте известен как крупнейший мастер хайкай-но рэнга, обладающий
весьма богатым воображением. Он всегда отличался вольностью
стиля, но его цукэку звучит так:
навасиро о Будто кто-то вспугнул -
оитатэрарэтэ стаей гуси поднялись
каэру кари с поля заливного».
[Кин, 1978, с. 12-13].
Юмор, несмотря на монашеский статус Сокана, не щадит не
только синтоистские божества, но и наиболее почитаемых будд:
Послушай - вот будды
Спорят друг с другом,
Выставив перед собою
Шакья копьё,
Амитабха же меч.
(«Смешанные песни»)
«Этот смех, - пишет Токуда Кадзуо, - был высмеиванием рели-
гии, которая должна была внушать благоговение, он пародировал
мир традиционной классики, в нём видна также критика, подрыва-
ющая власть, он откровенно и без прикрас обнажает повседневную
жизнь. То есть обычными для собрания являются такие темы, как
пища, плотская любовь между мужчиной и женщиной... Много ку-
плетов, где встречаются и прямо вульгарные вещи, и низменные
характеры; людям, которые любят и понимают хайкай рэнга, здесь
удавалось увидеть собственное отражение, и это тоже вызывало гром-
кий смех» [Токуда, 1992, с 423].
«Ину Цукуба сю» не было первым собранием хайкай рэнга в ис-
тории литературы. В 1499 г., всего через четыре года после выхода
«Синсэн Цукуба сю», увидело свет собрание в десяти свитках (217 цу-
кэку и 20 хокку) «Тикуба кёгинсю» «Собрание сума-
сшедших напевов верхом на палочке»), составленное, как полагают,
неким пожилым буддийским священником. Сорок процентов стихов
этого собрания вошло впоследствии в «Ину Цукуба сю», поскольку
они продолжали пользоваться популярностью среди любителей
этого жанра.
В 1536-1540 гг. служитель Внутреннего святилища Великих хра-
мов Исэ Аракида Моритакэ (1473-1549) составил авторский сборник
«Тысяча куплетов Моритакэ» «Моритакэ сэнку»), отли-
чавшийся от «Собачьего Цукуба сю» «спокойным юмором» и от-
сутствием непристойностей. За сто лет, с конца XV до конца XVI в.
характер хайкай рэнга практически не изменился [Итико, 1979,
с. 400].
Литература Пяти монастырей
{Годзан бунгаку)
В XIV в. вновь стал возрастать объём торговли Японии с Китаем:
в 1342 г. китайские порты были открыты для японских кораб-
лей. Активное участие в этой торговле стали принимать дзэн-буд-
дийские монастыри. Многие монахи направились за море «в поисках
истины». В «Хонтё косо дэн» «Биографии высших буд-
дийских священнослужителей Японии»), изданных ксилографическим
способом в 1702 г., содержатся данные о 469 монахах. В XIII-XFV вв. 93 из
них побывали в Китае. Одновременно среди самураев высших ран-
гов возрос интерес к конфуцианской философии и китайской лите-
ратуре. Главную роль в утолении этого интереса играли дзэнские
монахи, чьи монастыри по китайскому образцу стали делиться по
иерархическому признаку на Пять монастырей (годзан)2'3, Десять
храмов второго уровня (дзиссацу) и рядовые храмы всех провинций
(сёдзан). «Вскоре и сам термин "пять монастырей" стал чисто услов-
ным; в систему годзан после 1353 г. входило уже десять монасты-
рей»* 214 [Буддизм, 1993, с. 224].
Литература Пяти монастырей, достигшая расцвета в XIV-XV вв.,
в широком смысле создавалась в разных дзэн-буддийских монасты-
рях, а не только в тех, что занимали высшую ступень в религиозной
иерархии. «Примерно половину сочинений годзан бунгаку составля-
ют гороку (кит. юйлу) - "записи речей", в которые включались про-
поведи и беседы выдающихся дзэнских наставников со своими уче-
никами, а также принадлежащие им стихи, эссе и т. п. Помимо горо-
ку существовало много произведений и других жанров. Это коммен-
тарии к общебуддийским и дзэнским сочинениям, изложение основ
дзэн-буддизма и полемика с представителями других буддийских
школ, хронологические жизнеописания (нэмпу), философские трак-
таты, истории буддизма, комментарии на сочинения конфуцианских
философов, уставы дзэнских монастырей и толкования к ним, сбор-
ники коанов, дневники и эссе, антологии поэзии и сборники парал-
лельной прозы сирокубун (строки из четырех и шести иероглифов),
путевые записки и монастырские хроники, учебные пособия для изу-
чающих теорию китайского стихосложения и словари дзэнских тер-
минов» [Кабанов, 1983, с. 1].
2,3 Годзан - букв.: «Пять гор>. По традиции, идущей из древней Индии, в старом
Китае буддийские монастыри стремились строить на вершинах гор, что и породило
эту семантическую подстановку.
214 В разные эпохи состав Пяти монастырей колебался. К 1386 г., когда их лите-
ратура находилась в полном расцвете, годзан составляли II храмов - 5 в Камакура
(Кэнтёдзи, Энгакудзи, Дзюфукудзи, Дзётидзи и Дзёмёдзи), 5 в Киото (Тэнрюдзи,
Сёкокудзи, Кэнниндзи, Тбфукудзи и Мандзюдзи) и стоявший над всеми ними храм
Нандзэндзи
351
Как видно из этого перечня, включающего всё вообще письмен-
ное наследие дзэнских монастырей, не всякие виды сочинений го-
дзаи бунгаку имеют отношение к художественной литературе.
Строго говоря, провести чёткую границу между художественной
литературой и религиозными опусами дзэнских монахов не всегда
просто: многое зависит от позиции самого исследователя. Зачастую
религиозные высказывания дзэнских наставников, их диалоги с уче-
никами бывают облечены в художественную форму, насыщены бо-
гатой образностью и в этом отношении не уступают прозе малых
форм (скажем, многим разделам в дзуйхицу), а стихи, даже если они
не являются буддийскими гатхами, настолько изобилуют специфи-
ческой дзэн-буддийской терминологией, что только по форме (как
правило, это семисловные цзюэцзюй) напоминают поэзию.
Начало Литературы Пяти монастырей связывают с именем ки-
тайца Ишаня (яп. Иссан, 1247-1317), известного также под псевдони-
мом И-нин (яп. Итинэй). В 1299 г. Ишань прибыл в Японию с дипло-
матической миссией от юаньского императора, но по подозрению в
шпионаже был арестован. Спасла Ишаня его высокая образован-
ность: сиккэя Ходзё Садатоки (1271-1311) был настолько очарован
знаниями и литературным талантом узника, что сделал его настоя-
телем поочерёдно храмов Кэнтёдзи и Энгакудзи в Камакура, а затем
Нандзэндзи в Киото. Здесь у Ишаня было несколько талантливых
учеников, а сам он внес заметный вклад в развитие японской поэзии
на китайском языке (яаяся).
Под руководством Ишаня в дзэнских монастырях Японии воспи-
талась целая плеяда литераторов, одним из самых известных среди
них был Кокан Сирэн (1278-1346). Он родился в Киото и происходил
из рода Фудзивара. В восьмилетием возрасте мальчик стал послуш-
ником киотоского буддийского храма Сансэйдзи, а ещё через два го-
да принял монашеский постриг. В 1292 г. Кокан Сирэн стал служить
в храме Нандзэндзи, посвятив себя изучению буддийской и конфуци-
анской классики и постулатов разных школ японского буддизма. На-
ряду с Сэссон Юбай (1290-1346) он стал самым известным автором
раннего этапа годзан бунгаку. Правда, если Сэссон представляет
главным образом её поэтическую традицию, то Кокан Сирэн боль-
ше внимания уделял её учёной традиции, написав первую историю
японского буддизма и трактат по «Ланкаватара-сутре».
К литературным работам Сирэна относится сборник его поэзии и
прозы «Сайхокусю» (i^1Lft) и первый в стране сборник китайских
рифм, сразу же получивший большую популярность. Слабое здоровье
не позволило Кокан Сирэну побывать в Китае, но и без того он снискал
себе славу лучшего японского стилиста из всех, кто писал по-китай-
ски после Сугавара-но Митидзанэ.
Кокан Сирэн верил в то, что мысль можно выразить адекватно
на письме ясной фразой, не прибегая к параллельной прозе. Уверен-
ность в преимуществах логически построенной фразы обязана, видимо,
контактам с сунской культурой [Кониси, 1991, с. 369] и противоре-
352
чит дзэн-буддийскому отрицанию ценности логического постижения
истины в противоположность внеинтеллектуальному, «контактному
знанию». Правда, авторитет Кокан Сирэна не помешал параллель-
ной прозе широко использоваться в Литературе Пяти монастырей.
Сэссон Юбай считается первым серьёзным поэтом годзан бун-
гаку. В ранней юности, пройдя в Камакура школу Ишаня и получив
наставления в учении в киотоском монастыре Кэнниндзи, он отпра-
вился в юаньский Китай, где провёл около двадцати трёх лет, посе-
щая знаменитые монастыри для постижения учения Будды, искус-
ства стихосложения и каллиграфии.
На его несчастье напряжённость в отношениях между Китаем и
Японией ещё сохранялась, и в 1313 г. Сэссон Юбай был арестован
китайскими властями по обвинению в шпионаже в пользу Японии и
приговорён к смерти. В конце XIII в. подобное обвинение было вы-
двинуто японскими властями по отношению к китайскому поэту Усюэ
Цзуюаню (яп. Мугаку Согэн, 1226—1286), также дзэнскому монаху.
Усюэ Цзуюань тогда избежал казни тем, что, приготовившись к
смерти, сочинил четверостишие и прочел его своим палачам. Они рас-
трогались и освободили его из-под стражи. Сэссон, вспомнив этот
случай, прочёл перед собственной казнью то же самое стихотворение
и произвел на китайцев такое впечатление, что был сначала возвра-
щен в тюрьму, в потом отправлен в ссылку в провинцию Сычуань.
В Японию Сэссон вернулся в 1328 г. Здесь он основал два дзэн-
буддийских храма, был настоятелем ещё в нескольких храмах в Ка-
макура и составил сборник канси, сочинённых в основном во время
его пребывания в Китае, в провинции Сычуань. По форме это были
пяти- и семисложные четверостишия цзюэцзюй и восьмистишия
люйши. По настроению многие проникнуты ностальгией.
Когда проникают в корни травы
весенние влажные ветры моей страны,
В чьём садике возле дома тростник не родится?
Думы мои далеко, ни на день не забываю печали свои:
Верно, одна, свесив пряди седые,
всё подходишь к калитке, меня ожидая.
(«Тростник, трава забвения горестей»)
Стихи Сэссона насыщены дзэнской парадоксальностью, дзэн-буд-
дийскими ключевыми понятиями, такими, как «пустота» (сюннята,
санскр. шуньята), т. е. рассчитаны не только на знатоков китай-
ского языка, но и на читателей, прекрасно ориентирующихся в тон-
костях дзэн-буддизма. Эта особенность стала и после Сэссона отли-
чать Литературу Пяти монастырей.
Общепринятая периодизация этой литературы с характеристи-
кой каждого из её этапов отражена в работе Като Сюити: «Её по-
эзию и прозу в целом можно разделить на три периода - начальный,
первая половина XIV в., когда создавалось много гатх, средний, вто-
рая половина XIV в., когда главными стали мирская беллетристика и
353
стихи, и последний, от XV до первой половины XVI в., когда она пре-
исполнилась секуляризацией и в ней появилось много стихов о гомо-
сексуальной любви. Во все периоды было заметно влияние конфу-
цианства...» [Като, 1975, с. 273-274]. Границы этапов не у каждого
исследователя совпадают в точности, но второй этап (иногда в него
включают период Намбокутё и начало Муромати) историки лите-
ратуры согласно квалифицируют как эпоху наивысшего расцвета
годзан бунгаку (см.: [Итико, с. 424]).
Эпоха расцвета Литературы Пяти монастырей связана с твор-
чеством двух выходцев из провинции Тоса - Гидо Сюсин и Дзэккай
Тюсин.
Гидо Сюсин (1325-1388) происходил из семьи потомственных зна-
токов конфуцианской классики и дзэн-буддизма. В возрасте шести
лет он начал учить «Лотосовую сутру» и конфуцианское Четверо-
книжие, а на следующий год уже читал основной текст дзэн-буддий-
ской секты риндзай - два свитка «Риндзай року» (Ей#?£?:). В 1338 г.
Гидо Сюсин ушёл в монахи и на следующий год принял посвящение
в тэндайском монастыре Энрякудзи. Ещё через два года молодой
монах стал учеником Мусо Сосэки и вскоре намеревался отправить-
ся для совершенствования знаний в Китай, но из-за болезни не смог
этого сделать и остался в Киото учиться у Мусо Сосэки, через не-
сколько лет составив сборник цзюэцзюй китайских поэтов эпохи ди-
настии Сун (1347).
Двадцать один год своей жизни, начиная с 1359 г., Гидо Сюсин
провёл в камакурских монастырях, после того, как его наставник от-
правил его туда в ответ на просьбу сёгуна Асикага Мотоудзи (1340—
1367) прислать к нему лучшего ученика. В Камакура он написал боль-
шую часть своих стихотворений (в основном семисловные цзюэцзюй)
и продолжал совершенствоваться в буддийской доктрине и конфу-
цианстве. В столицу Гидо Сюсин вернулся в 1380 г., когда уже слыл
одним из ведущих учёных и сочинителей канси.
Первые шесть лет после возвращения Сюсин занимал пост на-
стоятеля монастыря Кэнниндзи и читал сёгуну Асикага Ёсимицу
(1358-1408) лекции по конфуцианской классике и дзэн-буддизму, а с
1386 г. стал настоятелем главного храма в системе годзан Нан-
дзэндзи.
Его кисти приписывают 1739 стихотворений и 476 разного рода
прозаических сочинений '- предисловий, комментариев, поучений,
хотя сам он и не одобрял увлечение дзэн-буддийских монахов стихо-
сложением. Произведения Гидо Сюсина собраны в огромном (20 свит-
ков) собрании «Кугэ сю» (зЕЖЖ). Говорят, название сборника вос-
ходит к отрывку из «Ланкаватара-сутры», в котором сказано, что
«небесными цветами» называют пятна, которые человек с пора-
жёнными болезнью глазами видит перед собой в воздухе и которые
исчезают, как только болезнь излечивают. Мысль о том, что «не-
бесными цветами» называют то, что видят тускнеющими от болезни
глазами, выражена и в предисловии к собранию. Но можно трак-
354
товать это название и иначе - как «Собрание Кугэ», если учесть,
что Кугэ - это один из псевдонимов Гидо Сюсина.
В стихах Сюсина намного больше простого человеческого чув-
ства, которое у ранних поэтов годзан бунгаку уступало место дзэн-
ской символике и разного рода иносказаниям:
В моей старой обители зябко, дорога наполовину заросла мхом.
Но кто это перед воротами останавливает свой экипаж?
Знает мой служка, что звал я желанного гостя,
И потому не убрал он покрывшие землю камелий цветы.
В стихах Гидо Сюсина и его младшего современника и земляка
Дзэккай Тюсина (1336-1405) наглядно прослеживается тенденция
поэзии годзан бунгаку к секуляризации. Дзэккай Тюсин происходил
из рода Фудзивара и первоначальный импульс к образованию, как и
Сюсин, получил в раннем детстве. В возрасте 12 лет он при-ехал в
столицу и стал послушником в храме Тэнрюдзи, где и принял через 2
года монашеский постриг. В 1351 г. он стал обучаться сочинению
канону лучшего знатока китайского стихосложения Рю-дзан Токкэ-
на (1284-1358), монаха храма Кэнниндзи, проведшего в Китае 44 года.
В 32-летнем возрасте, в 1368 г., когда в Китае на смену юаньской
пришла к власти минская династия, Дзэккай Тюсин отправился в со-
ставе группы монахов в Китай для совершенствования в стихосло-
жении и в знании буддийских доктрин. Там он поселился в одном из
чаньских храмов провинции Ханьчжоу, стал получать наставления у
первоклассных мастеров ив 1371 г. занял один из ведущих постов в
монастыре.
В 1376 г. император Тай-цзу (на престоле - 1368-1412) пригласил
его и ещё нескольких монахов в минскую столицу Нанкин для бесе-
ды по вопросам буддийской доктрины. Ответы Дзэккай Тюсина и
его стихи понравились императору. Через несколько месяцев поэт
возвратился на родину, пробыв на чужбине около восьми лет.
В Японии Дзэккай Тюсин стал жить в разных дзэн-буддийских
храмах, порой уезжая из них и проводя время в отшельнических хи-
жинах. Военные власти высоко ценили его мастерство и учёность,
ему покровительствовали сёгуны Асикага Ёсимицу и Асикага Ёси-
моти (1386-1428), поручавшие Тюсину составлять государственные
документы на китайском языке. Правда, отношения между ними не-
сколько раз омрачались. Некоторое время Тюсин жил в одном из
монастырей в провинции Сэтцу, потом был настоятелем буддийско-
го храма в провинции Ава (о. Сикоку), а вернувшись в Киото, стал
настоятелем храма Тодзидзи и главным советником сёгуна (до своей
смерти это положение занимал Гидо). Умер поэт в храме Сёкокудзи в
1405 г., а в 1409 г. был удостоен императором титула коку си, «на-
ставник страны».
Лунной ночью кружат возле ветки, не могут на ней уместиться.
И легко, не оставив следа, разом все улетают на юг.
355
А утром, на посветлевший карниз прилетев, стрекочут -
Вернётся ли странник сегодня домой иль ещё не вернётся?
(«Сороки»)
В нескольких фразах поэт передаёт в этих стихах ощущение ми-
молётности сущего, но по сравнению со стихами первых поэтов год-
зан бунгаку здесь нет специфически дзэнских выражений и даже
терминов. В других его стихотворениях развивается только лирика
природы, и мы не обнаруживаем в них даже общебуддийских мо-
тивов. Недаром стихи Дзэккай Тюсина считаются показательными
для тенденции современной ему Литературы Пяти монастырей к
секуляризации. «Дзэнские поэты всегда ощущали своё единство с
природой, и она их за это щедро вознаграждала. Поэтому небосвод,
затянутый тучами, в нужную минуту мог превратиться в крытую
галерею, спасающую от ливня, а трубочки банановых листьев - в
таинственные письма» [Кабанов, 1985, с. 83].
Поэтический псевдоним Тюсина - Сёкэн. Его стихи были собра-
ны в антологию «Сёкэн ко» («Рукописи Сёкэна»), которая считается
одной из вершин поэзии годзан бунгаку. Кроме 163 стихотворений в
неё включены 38 прозаических отрывков. Большинство стихотворе-
ний посвящено воспеванию старинных буддийских храмов и описанных
китайскими поэтами эпохи Тан знаменитых влюблённых. Сюда же
вошло несколько буддийских славословий.
С началом XV в. заметно увеличилось число монахов, писавших
стихи на китайском языке. Период в 70 лет, начиная с 1394 г., назы-
вают «золотым веком» годзан бунгаку, и большинство известных авто-
ров этого времени выводят из школы Гидо и Дзэккая [Итико, 1979,
с. 426]. В конце эпохи Муромати поэт бсэн Кэйсан (1429-1493) со-
ставил сборник, в который включил по одному стихотворению-яаяся
от ста дзэнских поэтов, назвав его по аналогии с соответствующим
сборником танка, составленным Фудзивара-но Тэйка, «Хякунин ис-
сю» (ВЛ—Ж).
Последний период Литературы Пяти монастырей характеризуют
как «период японизации поэзии на китайском языке», которую срав-
нивают с японизацией в области тематики и образности, имевшей
место в китаеязычной японской литературе эпохи Эдо [Като, 1975,
с. 276]. Авторы годзан бунгаку всё чаще склоняются к любовной те-
матике, а принимая во внимание, что они жили в дзэн-буддийских
монастырях, уставы которых не допускали проживания там женщин,
объектами воспевания у них становится однополая любовь. В XV-
начале XVI в. выходит несколько сборников со стихами подобной
тематики Синдэн Сэйхана (1380-1452), Тосё Сюгэна (1391-1462) и
Санъэки Эйина. Тосё Сюгэн, например, писал в стихотворении, по-
мещённом в его сборнике «Рюсуйсю» (ЙсЛЖ, 1462);
Осталась луна в окне над постелью,
для нас общею в прошлую ночь.
Две наши тени на занавеске, словно от мандаринских уток...
356
Последним крупным поэтом Литературы Пяти монастырей был
Иккю Содзюн (1394-1481). Строго говоря, ни в одном из пяти дзэн-
ских монастырей он не жил, будучи самое большее монахом одного
из монастырей второго ранга, дзиссацу, но дело не в формальной
его принадлежности, а в содержании творчества. Несмотря на про-
тиворечивость мнений многих специалистов относительно уровня
творчества отдельных поэтов годзан бунгаку [Тамамура, 1958, с. 1],
творчество Иккю Содзюна неизменно заслуживает самой высокой
оценки.
Вокруг имени Иккю сложилось немало легенд, образовалось слу-
хов, стимулированных не только его экстравагантными поступками
и весьма нестандартными контактами, но и житийной литературой -
в первую очередь сочинением его ученика по имени Бокусай «Ик-
кю-бсё нэмпу» (—«Основные даты жизни наставника
Иккю»), Оно включило не только достоверные факты, но и осно-
ванные на действительных событиях домыслы и, очевидно, часть
того легендарного ореола, которым уже в те времена было окруже-
но имя учителя.
Традиция считает, что Иккю Содзюн родился в ночь на Новый,
1-й год бэй (1 февраля 1394 г.). Существует мнение (правда, некото-
рые специалисты высказывают сомнения в его доказанности), что
он был незаконным сыном императора Гокомацу (1377-1433; на пре-
столе - 1392-1412). Имя его матери не сохранилось, предполагают,
что она была фрейлиной государя.
В шестилетнем возрасте2'5 мальчик стал послушником буддий-
ского храма Анкокудзи и в очень раннем детстве обратил на себя
внимание способностью к быстрому обучению и умением слагать
стихи по-китайски. В одиннадцать лет мальчик начал учить «Вима-
лакирти-нирдеша-сутру», а к четырнадцати имел репутацию хоро-
шего поэта. Позднее он взял себе псевдоним Кёунси, Дитя Безум-
ного Облака.
«Кочующее в небесном просторе облако, бегущее или неторо-
пливо влекомое ветром, податливо меняющее направление дрейфа,
плотность и очертания, издавна было устойчивым поэтическим об-
разом для обозначения непостоянства бытия, - пишет Е. С. Штейнер
И далее: - ...кёв имени Кёун намекало на то, что его носитель обла-
дал вольной непринужденностью знаменитых безумцев древности, а
также свидетельствовало о высоком сакральном статусе его "сума-
сшедших стихов"» [Штейнер, 1987, с. 86, 89].
После Анкокудзи Иккю некоторое время жил в киотоских хра-
мах, а с конца 1410 г. поселился в скромном храме на берегу оз. Бива
----------------1-----------
215 Часто называют возраст Иккю, автоматически отнимая от соответствующих
указаний в японских биографических справочниках «утробный год», но такое прави-
ло не срабатывает для Иккю Содзюна: он родился в ночь на Новый год, и к следу-
ющему Новому году ему действительно исполнился год, и в японской, и в европей-
ской системе счисления возраста
357
и сделался учеником старого монаха Кэнъб, наставника школы Мё-
синдзи дзэн-буддийской секты риндзай, оставаясь там в течение че-
тырёх лет, до самой смерти наставника.
После смерти учителя Иккю попытался напряжением воли отре-
шиться от горьких переживаний, углубившись в медитацию на бере-
гу оз. Бива, но безуспешно. Тогда он решил покончить с собой,
бросившись в озеро. От рокового поступка его спасло прибытие по-
сланца от матери.
Вскоре Иккю Содзюн твёрдо решил поступить в ученики к дзэн-
скому наставнику по имени Касо Содон (Кэсб Сюдон, 1352-1428),
который прославился своим суровым отношением к собственным
ученикам. Этот наставник, принадлежавший к дзэнской линии Дай-
токудзи, считал себя прямым продолжателем традиций Бодхидхар-
мы, у которого монахи, пожелавшие стать его учениками, подвер-
гались суровым испытаниям. В своё время он оставил родной мона-
стырь и основал небольшую обитель в Катада, на берегу оз. Бива, в
стороне от столичных соблазнов, и установил там строгую монаше-
скую дисциплину.
Преодолев многочисленные препоны, включавшие прямые изде-
вательства со стороны будущего своего учителя, Иккю был принят
в обитель, истово соблюдал все предписания, а в 1420 г., медитируя,
по своему обыкновению, в лодке, качавшейся на волнах озера, ус-
лышал в ночной тишине громкий крик ворона и испытал внезапное
озарение {сатори).
Покинув Катада, беспокойный монах начал бродяжничать. Через
несколько лет он поселился в Сакаи, богатом портовом городе непо-
далеку от Осака. Ушли в прошлое его напряжённые поиски истины
с помощью штудирования сутр, медитаций, жесточайшей самодис-
циплины. Иккю завязал прочные узы знакомства с местными нуво-
ришами, вместо храмов и монашеских хижин стал основное время
проводить в притонах и весёлых кварталах, демонстрировать горо-
жанам приёмы «безумного дзэн».
Передают, как он размахивал перед прохожими деревянным ме-
чом, чтобы наглядно показать им разницу между своим «острым как
сталь» дзэн и тупым («деревянным») дзэн официально утверждён-
ных властями Пяти монастырей.
Одно оставалось неизменным в жизни Иккю Содзюна: при всех
жизненных переменах он не переставал писать стихи. Правда, отно-
сился он к результатам своего творчества безо всякого трепета.
Дух противоречия, казалось, овладел всеми поступками Иккю.
Когда ему было около 60 лет, он, вопреки монашеским установлени-
ям, перестал брить волосы на голове и зарос бородой. На восьмом
десятке самозабвенно влюбился в слепую исполнительницу баллад о
любви, которая, как иногда утверждают, родила престарелому мо-
наху дочь. (
Тем не менее у него насчитывалось много десятков учеников,
широкой популярностью пользовались стихи, его первоклассные
каллиграфические и живописные работы. В 80-летнем возрасте он
358
был посвящён в настоятели храма Дайтокудзи, переживавшего
далеко не лучшие времена в своей истории.
Сохранившиеся гатхи и канси Иккю собраны главным образом в
двух антологиях - «Кёунсю» (£ЕЖЖ, «Собрание Безумного Облака»,
2 свитка) и «Дзоку Кёунсю» «Продолжение Собрания Без-
умного Облака», 1 свиток). В библиотеке Токийского университета
хранится список «Кёунсю» из храма Дайтокудзи, в университете То-
хоку - список 1502 г., а в библиотеке Кабинета министров - руко-
пись начала эпохи Эдо. Некоторые стихотворения в них посвящены
воспеванию плотских удовольствий. Один из любимых терминов по-
эта - фурю (ЖЙЁ). Он употребляет этот термин во многих смыслах -
от утончённости и наслаждения красотами природы до плотской любви.
Иногда кисти Иккю приписывают отогидзоси «Буккигун» ({ДЙ.Ж,
«Война будд и демонов») о борьбе Закона Будды с демонами (см.:
[Араки, 1961, с. 354]).
Литература Пяти монастырей по праву считается самой высокой
из трёх вершин в истории китаеязычной литературы Японии. Третья
вершина, достигнутая в эпоху Эдо, многое почерпнула из её опыта,
но не смогла превзойти её по разнообразию проявлений и богатству
образности. Слов нет, определяющую роль в её становлении играло
знание авторами современной им китайской поэзии и доскональное
усвоение практики и понятий дзэн-буддизма, а в расцвете и в секуля-
ризации - богатый местный культурный контекст. Так же, как и в
вака и рэнга, в годзан бунгаку наблюдался постепенный переход от
рафинированной поэзии, строго ограниченной в выборе лексики, сис-
теме образов и в тематике, к более свободной и в крайних своих
проявлениях нацеленной на эпатаж. XV и XVI вв. были свидетелями
как проникновения норм высокой поэзии в творчество простолюди-
нов, так и создания представителями придворной аристократии псевдо-
народных произведений.
Первое знакомство
с европейскими литературами
Появление в Японии первых европейцев повлекло за собой не
только очень быстрое расширение географических представ-
лений японцев, но и знакомство их со многими видами техники и
культуры европейского Запада. Христианские миссионеры прилага-
ли огромные усилия для учреждения в Японии духовных семинарий,
создания словарей и учебников японского языка, постановки для
новообращённых японцев пьес религиозного содержания. Заметной
частью миссионерской деятельности сделалось ознакомление мест-
ного населения с европейской литературой.
359
В декабре 1587 г. «визитор» Общества Иисуса Алессандро Валинь-
яно (Александр Валеньяни, 1537-1606), основатель многих католи-
ческих общин, храмов, семинарий и больниц в Японии, сообщил в
одном из писем: «...я взял с собою в Японию печатный станок, так
что мы можем печатать там такие книги, которые пригодны для
обращения в Японии, после того как предварительно они будут про-
верены и очищены» (цит. по: [Боксер, 1974, с. 190]). По этому прин-
ципу были пересмотрены для публикации в Японии не только «Басни»
Эзопа (изданы в 1593 г.), но и «Наставления грешнику» (Guia do Реса-
dor, вышли в 1599 г.) испанского писателя правоверного католика
Луиса де Гранада (1599 г.).
Печатный станок, о котором упоминал в своём письме А. Ва-
линьяно, доставили в Японию в 1590 г. За несколько лет до того в
Японии началось распространение христианской литературы в виде
рукописей. Учреждение иезуитских школ и миссионерских центров
потребовало ускорения этого процесса, поэтому издание подвижным
шрифтом христианской литературы, рассчитанной на Японию, нача-
лось ещё до открытия в ней европейских печатен, в Макао и Гоа.
Первая книга, напечатанная в Японии иезуитами, вышла в 1591 г. в
г. Кадзуса префектуры Нагасаки. Это были жития христианских свя-
тых начиная со времен Древнего Рима, выбранные из нескольких
источников и переведённые на японский язык Паоло Ёхо и его сы-
ном Висенте. За неимением в кассе японских литер книга была на-
брана латинскими буквами.
Латинскими же буквами было набрано в 1592 г. адаптированное
издание (рассчитанное на овладение японским языком миссионерами)
«Повести о доме Тайра», предпринятое Обществом Иисуса в г. Ама-
куса: «Nifonno cotoba to Historia no narai xiran to fossuru Fito no tameni
xeva ni yava racvetaru Feike no monogatari» (ныне хранится в Британской
библиотеке в Лондоне). В том же году латинскими буквами была
напечатана в японском переводе вышедшая за десять лет до того в
Саламанке книга Луиса де Гранада (1505-1588) «Е1 Sumario de la In-
troduccion del Simbolo de la Fe». По-японски она называлась «Fides no
doxi to xite P. F. Luis de Granada amaretaru xo no riacu» (ныне хранится в
библиотеке Лейденского университета) [НБСТ, 1966, с. 876].
Наборные издания христианских миссионеров вначале выполня-
лись латинским шрифтом, потом канамадзирибун (первое время -
смешанная с иероглифами катакана, которая позднее была замене-
на литерами хирагана).
В Японии существовали три христианские печатни - в Амакуса
(о. Симосима у южного побережья Кюсю), в Кадзуса (в 1598 г. она
была переведена в Нагасаки) и в Киото.'В разных источниках упо-
минается до 50 изданий, осуществлённых в этих печатнях Общест-
вом Иисуса (Nippon Jesusno Companhia), однако в наше время в книго-
хранилищах Ватикана и Общества Иисуса (Римский архив Общест-
ва), в Британской библиотеке в Лондоне, в Бодлеанской библиотеке
Оксфорда, библиотеке Тэнри (Япония) и в токийской библиотеке
360
Тоё бунко зарегистрированы 28 из них. В их числе восемнадцать книг,
напечатанных латинскими литерами (на латыни и португальском язы-
ке), и десять - японскими, деревянными и металлическими [НБСТ, 8,
1966, с. 379]. Ценность этих книг соизмерима с ценностью первопе-
чатных изданий Гутенберга.
Не все миссионерские издания, как мы видим, были рассчитаны
на японцев. Значительная их часть предназначалась для самих мис-
сионеров, которые нуждались в канонической и проповеднической
литературе и в учебных пособиях для освоения японского языка. Са-
мое последнее по времени пособие по японской грамматике в серии
миссионерских изданий вышло даже не в Японии, а в Макао, в 1620 г.
Это была краткая версия изданной в 1604-1608 гг. «Грамматики япон-
ского языка» Жоао Родригеса, озаглавленная «Arte Breve da Lingoa
lapoa».
В целом японские издания Общества Иисуса принято делить на
три категории: 1) семнадцать религиозных книг для миссионеров и
японских неофитов, включая тексты католических молитв; 2) шесть
произведений художественной литературы (кроме памятников япон-
ской литературы, таких как «Повесть о доме Тайра» и «Повесть о
Великом мире» (в кратком изложении), сюда входят речи Цицерона
на латинском языке, переводы басен Эзопа и сборники рассказов о
прибытии в Японию первых португальцев); 3) пять словарей и грам-
матик японского языка и латинские грамматики для иезуитских школ.
Некоторые книги выдержали по два издания. Отдельные произ-
ведения издавались ксилографическим способом или переписыва-
лись от руки. Миссионерские издания на латинском и португальском
языках пользовались спросом не только у католических священно-
служителей, но также и у японцев, начинавших обучаться европей-
ским языкам.
Католический миссионер Франсиско Пасио в сентябре 1594 г. со-
общал в одном из писем: «Мы сейчас печатаем грамматику отца Ма-
нуэля Альвареса на обоих языках, португальском и японском, и
когда работа будет завершена, мы продолжим её Калепином216 по-
португальски и по-японски, для того, чтобы японцы могли обучать-
ся латыни, а мы, европейцы, японскому языку» (цит. по: [Боксер,
1974, с. 194]).
Несмотря на то, что среди католических миссионеров в Японии
действовали представители разных народов (баск Франциск Ксавье,
итальянец Алессандро Валиньяно, португалец Луиш Фроиш и др.), в
общении между собой они чаще всего пользовались португальским
языком. «Португальский язык, - отмечает Боксер, - был lingua
franca для самих миссионеров, и большая часть их официальной пе-
реписки с Гоа, Лиссабоном и Римом велась на этом языке» [Боксер,
216 Имеется в виду «Dictionarum Latino Lusitanicum ас Japonicum», основанный на
латинском словаре А. Калепио. Он был издан в 1595 г. и явился первым словарём
японского языка, изданным типографским способом.
361
1974, с. 212]. Неудивительно, что в это время появились первые пор-
тугальские заимствования в японском языке.
Влияние европейцев на японскую литературу XVI в. не следует
преувеличивать: практически его не было. Быстрый рост количест-
ва христиан (особенно в южных провинциях Японии)217 объясняется
многими причинами, и не в последнюю очередь согласованной поли-
тикой обращённых в христианство японских феодалов. Нельзя упус-
кать из виду, что представления об окружающем мире у японцев
XVI в. базировались почти исключительно на китайских источниках.
Древнекитайский «Каталог гор и морей» («Шань хай цзин») заслу-
живал у них большего доверия, чем рассказы католических мисси-
онеров. К «Путешествию Ондзоси на острова» широкий читатель
психологически был ближе, чем к повествованиям о странствиях «юж-
ных варваров», потому что оно лучше укладывалось в рамки усто-
явшихся представлений о реальном мире.
Это было особенностью времени, а не страны. Для американцев
«в XVI веке "Европа" была крохотным островком, затерянным в ту-
манной, сумрачной вселенной. В сущности "Европа" тогда состояла
из Великобритании, Нидерландов, Иберийского полуострова, Франции,
Италии и "Австрии" с прилегавшими к ней территориями. Сущест-
вовали еще Скандинавские страны и Германия, с ними поддержива-
лись торговые отношения, но воспринимались они как отдаленные и
дикие пространства земли: путешественники, очутившиеся, допус-
тим, в германских гостиницах, описывали их так, будто речь шла о Си-
бири XIX века. Далеко на Востоке загадочно мерцала "Московия"...»
[ЛИСП!А, 1, 1977, с. 35]. Вспомним, что речь здесь идёт о представ-
лениях потомков американских выходцев из европейских стран, го-
воривших на языках своих предков - европейцев.
Заключение
Третий этап в истории японской литературы охватывает при-
мерно четыреста лет и совпадает с продолжительным периодом
политической нестабильности в стране, начиная с войны между до-
мами Минамото и Тайра и кончая переходом власти в руки Токугава
Иэясу (1542-1616). Политический рубеж между двумя эпохами, наз-
ванными в японской историографии Андо-Момояма (^±^t|Jj B$R) и
Эдо^ТрВЗр^), т. е. концом развитого и поздним средневековьем, при-
ходится на 1603 г. Закончился период междоусобиц и начался 260-
летний период военного абсолютизма.
217 Ко времени выхода законов о запрещении христианства в 1630-е гг. в Японии
насчитывалось около 300 тыс. новообращённых.
362
Укрепление позиций «реформированного буддизма», развитие но-
вых явлений в культуре, неожиданных для их континентальных кор-
ней (чайные церемонии, «сухие сады», икэбана), послужили стиму-
лом для возникновения специфических явлений в литературе, осо-
бенно в драме и поэзии.
Литературный процесс в рассматриваемый период связан с тремя
факторами. Один из них - собственно литературно-художественная
традиция с её специфическими формами в поэзии, прозе и драме, с
развитыми эстетическими представлениями, перетекающими из од-
ной исторической эпохи в другую. Второй - социально-политиче-
ский и идеологический фон, влияющий на возникновение новых
жанров и направлений в литературе (гунки, рэкиси моногатари, ото-
гидздси, кёгэн, годзан бунгаку) и угасание старых (цукури моно-
гатари, нагаута). Третий - внешнее культурное и литературное окруже-
ние (влияние художественных концепций и литератур Китая и Ин-
дии). «Связи между национальными литературными сис-
темами, - по замечанию И. Г. Неупокоевой, - пронизывают все
уровни литературного процесса, все основные его компо-
ненты. Они не только синхронны, но и диахронны, т. е. включают в
себя и использование предшествовавшего инонационального опы-
та» [Неупокоева, 1976, с. 255].
В эпоху развитого средневековья, как можно с некоторой услов-
ностью определить XIII-XVI вв., наблюдается своеобразный процесс
«социальной диффузии» в литературе. Многие носители классиче-
ской литературной традиции упражняются в сочинении простона-
родных по содержанию, языку и художественному стилю произведе-
ний (фарсы кёгэн, стихотворения хайкай рэнга, новеллы отогидзо-
си), а самураи и горожане осваивают высокий стиль, темы и изо-
щрённую форму хэйанской литературы (танка, рэнга, дневниковая
литература, путевые заметки). В эту эпоху приобретает особое зна-
чение явление, названное А. М. Левидовым «филогенетическим пе-
речитыванием»218.
Такое перечитывание предполагает, во-первых, возможность вся-
кий раз по-новому воспринять уже известное произведение литера-
туры, во-вторых, стремление читателей усвоить принципы его со-
здания. И то и другое сводится к сочетанию творческого и учени-
ческого подходов, причём удельный вес творческого подхода с тече-
нием времени увеличивается, а сама литература всё больше обога-
щается новым её видением по мере выхода на культурную авансце-
ну новых социальных сил. Новое видение литературы отличает каж-
дую эпоху и каждое поколение читателей.
218 А. М. Левидов называет «филогенетическим перечитыванием» «перечитыва-
ние какого-либо одного произведения различными поколениями л, объясняя, что оно
«выполняет "резолютивную" функцию: каждый писатель в конце концов занимает
то место, какое ему надлежит; незначительное или ничтожное отсеивается, а зна-
чительное или великое живет, живет не только на полках библиотек или в исследо-
ваниях специалистов, а в сознании нового поколения, в мыслях и эмоциях читатель-
ских масс...» [Левидов, 1977, с. 309-310]
363
У литературы не бывает чётко очерченных границ, она многими
гранями соприкасается с религиозным трактатом, поучением, славо-
словием, историческим сочинением, устным сказом. С течением вре-
мени размываются социальные границы между создателями литера-
туры, исчезает детерминированность жанров, периферийные и ба-
зовые признаки меняются местами, эстетические термины постепенно
наполняются новым содержанием.
Выход на сцену новых сословий сопровождается двумя процес-
сами: во-первых, в литературе становится заметнее стремление к
юмору, гротеску, фарсу (при этом социальный статус автора не иг-
рает решающей роли - аристократ может выступать под маской
простолюдина), во-вторых, повышается роль намёка и как следст-
вие этого - роль второго семантического ряда, особенно в поэзии и
прозаических произведениях малых форм. Во все эпохи японская
литература сочетает в себе трепетное стремление передать малей-
шие движения чувств автора и героя (иногда мы принимаем его за
многословие) и тягу к афористичности.
С течением времени нарушается стилистическая целостность
литературы. Та её целостность, которая держалась на абсолютном
преобладании в хэйанской прозе моногатари и дневника, сначала на-
рушается в эпоху Камакура, когда их потеснили воинские повест-
вования и проза сэцува, и окончательно перестаёт существовать в
эпоху Муромати с распространением отогидзоси и кёгэнов. Похо-
жая картина вырисовывается и в поэзии, где одновременно с танка
рас-пространяются хайкайрэнга.
При этом сохраняются стержни, которые впоследствии помогли
эту целостность восстановить на новом, более высоком уровне. К ним
относятся эстетические категории, система образов, сюжеты (как
литературные, так и фольклорные) и мировоззренческий фон лите-
ратуры. Как часть духовной культуры народа литература в этом от-
ношении не выпадает из общего ряда.
Рубеж XVI и XVII вв. знаменовал собой серию политических, со-
циальных и культурных перемен в Японии. Длительная эпоха меж-
доусобных и объединительных войн завершилась в 1603 г. установ-
лением диктатуры сёгунской династии Токугава. В наступившую
эпоху административной властью безраздельно владели самураи, но
в хозяйстве и культуре Японии всё большее место стали занимать
купцы и ремесленники.
В прозе эпохи позднего средневековья развивалась и городская
новелла (укиёдзоси, канадзоси, гэсаку, сярэбон), и нравоучитель-
ный роман, в театре расцвели жанры кдбуки и дзёрури, в поэзии -
семнадцатисложные трёхстишия хайку. Истоки всех этих направ-
лений кроются в эпохе, рассмотренной в настоящей книге.
Токугавское правительство прекрасно осознавало влияние худо-
жественной литературы на умонастроения населения и строго кон-
тролировало её развитие, установив и этические, и политические рамки,
нарушение которых решительно пресекалось. Однако централизо-
364
ванное руководство развитием литературы достигало своей цели не
всегда.
Не только сюжеты и эстетические представления, но и сами прин-
ципы подхода к литературе в современной Японии берут начало в
глубине веков, поэтому знание первых этапов её истории дает бес-
конечно много для адекватного понимания японской литературы на-
ших дней. Но чтобы такое понимание стало возможным, литературу
полезнее всего рассматривать как один из феноменов японской тра-
диционной культуры, стараясь не упустить из внимания её тесную
связь с другими культурными феноменами.
Литература
Абэ, 1966 — Абэ Акио. Нихон бунгаку си. Тюко хэн (История японской литерату-
ры. Раннее средневековье). Токио, 1966.
Абэ, 1973 — Абэ Акио. Нихон бунгаку си. Тюко хэн (История японской литерату-
ры. Раннее средневековье). Токио, 1973.
Авдулов, 1991 — Абдулов А. А. Статуя Великого Будды в Нара: Символ, памятник,
знак//Дискуссионные проблемы японской истории. М., 1991.
Алпатов, 1988 — Алпатов В. М. Япония. Язык и общество. М., 1988.
Анарина, 1984 — Апарина Н. Г. Японский театр Но. М., 1984.
Андо, 1985 — Андо Тэруё. Кокинсю кафу-но сэйрицу-ни оебосэру кансибун-но
эйке-ни цуитэ (О влиянии китайской поэзии и прозы на становление
стихотворного стиля Кокинсю) И Кокин вакасю (Собрание старых и
новых японских песен) (сер.: Нихон бунгаку кэнкю сире сосё — Мате-
риалы для изучения яп. лит.). Токио, 1985.
Анэсаки, 1963 — Masaharu Anesaki. History of Japanese Religion. With Special
Reference to the Social and Moral Life of the Nation. Rutland, Vermont &
Tokyo, 1963.
Араки, 1961 — Араки Ёсио. Тюсэй — Камакура, Муромати — бунгаку дзитэн
(Словарь по средневековой — эпохи Камакура и Муромати — лите-
ратуре) Токио, 1961.
Араки, 1981 — Araki J. Т. Otogi-zdshi and Nara-ehon. A Field of Study in Flux//
Monumenta Nipponica. Spring 1981. Vol. 36. N 1.
Асакура и др., 1971 — Асакура Харухико, Иногути Акицугу, Окано Хирохико, Ма-
цумаэ Такэси. Синва дэнсэцу дзитэн (Словарь мифов и легенд). Токио,
1971.
Батлер, 1969 — Butler К. D. The Heike Monogatari and the Japanese Warrior Ethic //
Harvard Journal of Asia Studies. 1969. Vol. 29.
Боксер, 1974 — Boxer C. R. The Christian Century in Japan. 1549—1650. Berkeley
(Los Angeles); London, 1974.
Борев, 1969 — Борее Ю. Ленинская теория отражения и борьба вокруг проблем
гносеологии образного мышления // Ленинское наследие и литература
XX века М , 1969.
Боронина, 1967 — Боронина И. А. Поэтика «Кокинсю»: (Проблемы какэкотоба и
энго и их влияние на поэтику «танка») // Литература и фольклор на-
родов Востока. М., 1967.
Боронина, 1978 — Боронина И. А. Поэтика классического японского стиха (VIII—
XIII вв ). М., 1978.
Боронина, 1981 — Боронина И. А. Классический японский роман: («Гэндзи моно-
гатари» Мурасаки Сикибу). М., 1981.
Боуринг, 1985 — Murasaki Shikibu. Her Diary and Poetic Memones / A Transl. and
Study by R. Bowring. Princeton, 1985.
Брауэр, 1972 — «Ex-Emperor Go-Toba's Secret Teachings»: Go-Toba no In Goku-
den / Transl., with an Intro and Notes by R. H. Brower // Harvard Journal
of Asiatic Studies. 1972. Vol. 32.
Брауэр, 1978 — Fujiwara Teika’s Hundred-Poem Sequence of the Shoji Era, 1200/ A
Complete Transl., with an Intro, and Comment, by R. H. Brower. Tokyo, 1978.
Брауэр и Майнер, 1957 — Brower R. H., Miner E. R. Formative Elements in the Ja-
panese Poetic // The Journal of Asian Studies. Aug. 1957. Vol. 16. No. 4.
Брауэр и Майнер, 1967 — Fujiwara Tejka's Superior Poems of Our Time. A Thirte-
enth-Century Poetic Treatise and Sequence / Transl., with an Intro, and
Notes by R. H. Brower and E. Miner. Stanford, 1967.
Бреславец, 1980 — Бреславец T. И. Японская классическая литература VIII—XIX
веков. Владивосток, 1980.
Бреславец, 1992 — Бреславец Т И. Традиция в японской поэзии. (Классический
стих танка). Владивосток, 1992.
Буддизм, 1993 — Буддизм в Японии. М., 1993.
Василенко, 1994 — Василенко Л. И Магия: старое зло или новое благо9 // Воп-
росы философии. 1994. № 2.
Васильевский и др., 1982 — Васильевский Р. С., Лавров Е. Л., Чан Су Бу. Культура
каменного века Северной Японии Новосибирск, 1982.
Вацудзи, 1972 — Вацудзи Тэцуро. Нихон кодай бунка си (История древней куль-
туры Японии). Токио, 1972.
Вейман, 1975 — Вейман Р. История литературы и мифология. М., 1975.
Вельгус, 1987 — Вельгус В. А. Средневековый Китай: Исследования и материалы
по истории, внешним связям, литературе. М., 1987
Волшебные повести, 1962 — Волшебные повести. М., 1962.
Воробьев, 1980 — Воробьев М. В. Япония в 111—VII вв. М., 1980.
Воробьев, Соколова, 1976 — Воробьев М. В., Соколова Г. А Очерки по истории
науки, техники и ремесла в Японии. М., 1976.
Восток, 1935 — Восток: Литература Китая и Японии. [Л.:], Academia, 1935.
Глускина, 1971 — Глускина А От переводчика// «Манъесю* («Собрание мириад
листьев») / Пер. с яп., вступ. ст. и коммент. А. Е. Глускиной. Т. 1. М.,
1971.
Глускина, 1979 — Глускина А. Е. Заметки о японской литературе и театре: (Древ-
ность и средневековье). М., 1979.
Глускина, 1987 — Глускина А. Е. Поэзия заката древности и ранней зари средне-
вековья // «Манъёсю»: Избранное. М., 1987
Голыгина, 1971 — Голыгина К. И. Теория изящной словесности в Китае. М., 1971.
Горегляд, 1963 — Горегляд В Н О некоторых художественных особенностях «За-
писок от скуки» Кэнко-хоси И Краткие сообш. Ин-та народов Азии. 63:
Литературоведение, фольклористика и изучение памятников. М., 1963.
Горегляд, 1975 — Горегляд В. Н. Дневники и эссе в японской литературе X—XIII вв.
М., 1975.
Горегляд, 1982 — Горегляд В. Н. Буддизм и японская культура VIII—XIII вв. //
Буддизм, государство и общество в странах Центральной и Восточной
Азии в средние века. М., 1982.
Горегляд, 1983 — Горегляд В. Н. Ки-но Цураюки. М., 1983.
Горегляд, 1988 — Горегляд В Н. Рукописная книга в культуре Японии // Рукопис-
ная книга в культуре народов Востока Кн. 2. М., 1988.
Гото, 1932 — Гото Тандзи. Муромати дзидай (Эпоха Муромати) // Иванами кодза
Нихон бунгаку (Лекции по яп. лит. в изд. Иванами). Токио, 1932.
Григорьева, 1979 — Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. М., 1979.
Гринцер, 1963 — Гринцер П. А. Древнеиндийская проза: (Обрамленная повесть).
М., 1963.
Гуревич, 1972 — Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.
Гэндзи-обезьяна, 1994 — Гэндзи-обезьяна: Японские рассказы XIV—XVI веков
отогидзоси / Пер. с яп. М В. Торопыгиной. СПб., 1994.
Дайдзбкё^ 1927 — Дайдзбкё (Трипитака махаяна). Т. 19. Токио, 1927.
Дзинно сётбки, 1980 — A Chronicle of Gods and SovereigrtS. Jinno Shotoki of Kitaba-
take Chikafusa translated by H. P. Varley. N.-Y., 1980.
Дзэами, 1989 — Дзэами Мотокиё. Предание о Цветке Стиля (Фуси кадэн), или
Предание о Цветке (Кадэнсё) / Пер. со старояп., исслед. и коммент.
Н. Г. Анариной. М., 1989.
Древние фудоки, 1969 — Древние фудоки (Хитати, Харима, Бунго, Хидзэн) /
Пер., предисл. и коммент. К. А. Попова. М., 1969
368
Елисеев, 1968 — Елисеев Д. Д. Корейская средневековая литература пхэсоль: (Не-
которые проблемы происхождения и жанра). М., 1968.
Ермакова, 1982 — Ямато-моногатари / Пер. с яп., исслед. и коммент. Л. М. Ерма-
ковой. М., 1982
Екёку, 1979 — Ёкёку — классическая японская драма / Пер. с яп. и коммент. Т. Де-
люсиной, сост. и автор предисл. Н. Анарина. М., 1979.
Ёсида, 1977 — Yoshida Seiichi. The Idiom of Classical Japanese Literature // Essays on
Japanese Literature / Ed. by Katsuhiko Takeda. Tokyo, 1977.
Ёсицунэ, 1966 — Yoshitsune. A Fifteenth-century Japanese Chronicle / Transl. with an
Intro, by H. C. McCullough. Stanford (California), 1966.
Жанейра, 1970 — Janeiro A. M. Japanese and Western Literature: A Comparative Stu-
dy. Tokyo, 1970
Иваки, 1986 — Иваки Kamamocu. Нихон-но Буккё-то Нара (Японский буддизм и
Нара). Токио, 1986.
Иваса, 1990 — Иваса Миёко. Дзисё бунгаку-но фукамари — «Ходзёки»-ёри «То-
вадзугатари»-э (Углубление в литературу самоосвещения. От «Записок
из кельи» до «Непрошенной повести») // Нихон бунгаку синси. Тюсэй
(Новая ист. яп. лит. Развитое средневековье). Т_, 1990
Игнатович, 1988 — Игнатович А. Н. Буддизм в Японии: Очерк ранней истории.
М., 1988
Икэда, 1968 — Икэда Цутому. Цураюки // Кодза Нихон бунгаку (Лекции по яп.
лит.) Т. 3. Кн. 1. Токио, 1968.
Икэда, 1979 — Daisaku Ikeda, Makoto Nemoto On the Japanese Classics. Conversation
and Appreciations / Transl. by B. Watson. N.-Y.; Tokyo, 1979.
Иофан, 1974 — Иофан H. А. Культура древней Японии. М., 1974.
Иофан, 1989 — Иофан И. А. Протояпонская и древнеяпонская культура' (К про-
блеме формирования стиля) // Япония. Идеология, культура, литера-
тура. М., 1989.
Исида, 1974 — Eiichiro Ishida. Japanese Culture I A Study of Ongins and Characte-
ristics I Transl. by Teruko Kachi. Tokyo, 1974.
Исимода, 1963 — Исимода Сё. Хэйкэ моногатари (Повесть о доме Тайра). Токио,
1963.
Искендеров, 1984 — Искендеров А. А. Тоётоми Хидэёси. М., 1984.
Исэ-моногатари, 1921 — Исэ-моногатари: Лирическая повесть древней Японии /
Пер. Н. И. Конрада. Пг., 1921.
Итико, 1979 — Итико Тэйдзи (сост.). Нихон бунгаку дзэнси. 1. Дзёдай (Полная
история яп. лит. 1: Древность) Токио, 1979.
Итико, 1984 — Итико Тэйдзи (сост.). Нихон бунгаку дзэнси. 2. Тюко (Полная
история яп. лит. 2: Раннее средневековье). Токио, 1984.
Итико, 1986 — Итико Тэйдзи (сост.) Нихон бунгаку дзэнси. 3. Тюсэй (Полная
история яп. лит. 3: Развитое средневековье). Токио, 1986.
Ито и др., 1965 — Ито Нобуо, Миягава Торао, Маэда Тайдзи, Ёсидзава Тю. Исто-
рия японского искусства. М., 1965.
Изнага, 1972 — Изнага Сабуро. История японской культуры. М., 1972.
Кабанов, 1983 — Кабанов А. М. Поэзия «Годзан Бунгаку» (XIV—XV вв.) и ее мес-
то в истории японской литературы: Автореф. канд. дис Л., 1983
Кабанов, 1985 — Кабанов А. М. Человек и природа в поэзии годзан бунгаку//
Человек и мир в японской культуре. М., 1985
Кавагути, 1966 — Кавагути Хисао. Кайсэцу (Пояснения), Канкэ бунсо. Канкэ
касю. (Сочинения дома Сугавара) Ц НКБТ. Т. 72. Токио, 1966.
Кавагути, 1970 — Кавагути Хисао. Тонко хэмбун-но судзай-то Нихон бунгаку (Ма-
териалы, происходящие от дуньхуанских бяньвэней и японская лите-
ратура) // Нихон синва (Японские мифы). Т. 1. Токио, 1970.
Кавагути, 1982 — Кавагути Хисао. Хэйантё Нихон бунгаку си-но кэнкю, дзе (Ис-
следование истории японской камбунной литературы эпохи Хэйан).
Т. 1: Отё камбунгаку-но кэйсэй (Форма камбунной литературы эпохи
Отё) Токио, 1982.
13 Зак 3732
369
Камо, 1921 — Камо-но Тйомэй. Записки из кельи // Записки Орловского ун-та.
1921. Вып. I.
Катагири, 1968 — Катагири Еити. Исэ моногатари-но кэнкю. Кэнкю хэн (Иссле-
дование «Повести из Исэ». Исследовательский раздел). Токио, 1968.
Като, 1975 — Като Сюити. Нихон бунгаку си дзёсэцу, дзё (Введение в историю
яп. лит. Т. 1). Токио, 1975.
Като, 1980 — Като Cioumu. Нихон бунгаку си дзёсэцу, гэ (Введение в историю
яп. лит. Т. 2). Токио, 1980.
Кёгэн, 1958 — Кёгэн: Японский средневековый фарс / Пер. с яп. и вступ. ст.
В. В. Логуновой. М., 1958.
Кёркхэм, 1978 — Kerkham Е. The Classic and the Contemporary in Modern Japanese
Fiction: Are Japanese Writers Changing their Perspectives? // The Japan
Foundation Newsletter. 1978. Vol. 5. No 3.
Кидб, 1977 — Kudo Сайдзб. Цурэдзурэгуса (Записки от скуки) // Синтё Нихон ко-
тэн сюсэй (Собр. яп. классики [издательства] Синтё). Токио, 1977.
Кин, 1973 — Keene D. Comparisons between Japanese and Chinese Literature // Stu-
dies on Japanese Culture. Vol. 1. Tokyo, 1973.
Кин, 1978 — Кин Д. Японская литература XVII—XIX столетий. M., 1978.
Кин, 1981 — Keene D. Appreciations of Japanese Culture. T.; N. Y.; L., 1981.
Кин, 1993 — Keene D. Seeds in the Heart. Japanese Literature from Earlest Times to
the Late Sixteenth Century. N.-Y., 1993.
Кирквуд, 1988 — Кирквуд К. Ренессанс в Японии: Культурный обзор семнадцато-
го столетия. М., 1988.
Китагава, 1966 — Kitagawa J. М. Religion in Japanese History. N. Y., 1966.
Клейн, 1994 — Клейн Л. С. Бесплотные герои. СПб., 1994.
Ключевский, 1956 — Ключевский В. О. Сочинения: В 8 т. Т. 1: Курс русской ис-
тории. Ч. 1. М., 1956.
Кобаяси, 1968 — Кобаяси Тадао. Удзи сюи моногатари-но гэнкэй-ни цуитэ (Об
изначальной форме «Повестей, собранных в Удзи») // НКБТ. Т. 27.
№ 37, прилож. Токио, 1968.
Кодзики, I, 1994 — Кодзики. Записи о деяниях древности. Свиток 1-й. Мифы /
Пер. Е. М. Пинус. СПб., 1994.
Кодзики, 2 и 3, 1994 — Кодзики. Записки о деяниях древности. Свитки 2-й и
3-й / Пер. Л. М. Ермаковой, А. Н. Мещерякова. СПб., 1994.
Кокин вакасю, 1970 — Кокин вакасю (Собрание старых и новых японских пе-
сен) // НКБТ. Т. 8. Токио. 1970.
Кокинвакасю, 1995 — Кокинвакасю: Собрание старых и новых песен Японии.
Т. 1—3 / Пер. со старояп. и предисл. А. Долина. М., 1995.
Кокусё, 1—9, 1990 — Кокусё сбмокуроку (Сводный каталог японских рукописей).
Т. 1—9. Токио, 1990.
Кониси, 1984 — Konishi Jin'ichi. A History of Japanese Literature. Vol. 1: The Archaic
and Ancient Ages. Princeton (New Jersey), 1984.
Кониси, 1986 — Konishi Jin'ichi. A History of Japanese Literature. Vol. 2: The Early
Middle Ages. Princeton (New Jersey), 1986.
Кониси, 1991 — Konishi Jin'ichi A History of Japanese Literature. Vol. 3: The High
Middle Ages. Princeton (New Jersey), 1991.
Конрад, 1927 — Конрад H. И. Японская литература в образцах и очерках. Л., 1927.
Конрад, 1966 — Конрад Н. И. Запад и Восток: Статьи. М., 1966.
Конрад, 1974 — Конрад Н. И. Японская литература от «Кодзики» до Токутоми.
М., 1974. *
Конрад, История, 1974 — Конрад Н. И. Избранные труды: История. М., 1974.
Конрад, 1980 — Конрад Н. И. Очерк истории культуры средневековой истории.
М., 1980.
Кояма, 1990 — Кояма Хироси (сост ). Нихон бунгаку синси (тюсэй) (Новая исто-
рия яп. лит. Развитое средневековье). Токио, 1990.
Кроль, 1970 — Кроль Ю. Л. Сыма Цянь — историк М., 1970.
370
Крэнстон, 1969 — Cranston Е. A. The Izumi Shikibu Diary: A Romance of Heian
Court I Transl. with an Intro, by Edwin A. Cranston. Cambridge (Massa-
chusetts), 1969.
Кубота, 1976— Кубота Дзюн, Китагава Тадахико (сост.). Тюсэй-но бунгаку (Сред-
невековая лит.) // Нихон бунгаку си (Ист. яп. лит ). Т. 3. Токио, 1976.
Кубота, 1989 — Кубота Дзюн. Тюсэй бунгаку-но сэкай (Мир средневековой лите-
ратуры). Токио, 1989
Кумон, 1982 — Китоп S. Some Principles govering the Thought and Behavior of
Japanists (Contextualists) // Journal of the Japanese Studies. 1982. Vol. 8.
No 1.
Кунайфу, 1948 — Кунайфу тосёрё хэн (Фонды библиотеки Управления двора).
Бунгаку хэн (Лит-ра). Токио, 1948.
Курода, 1981 — Kuroda Toshio. Shinto in the History of Japanese Religion// The
Journal of Japanese Studies. Winter 1981. Vol. 7. No 1.
Кэнко-хоси, 1970 — Кэнко-хоси. Записки от скуки (Цурэдзурэгуса) / Пер. с яп.,
вступ. ст., коммент, и указат. В. Н. Горегляда. М., 1970.
Левидов, 1977 — Девидов А. М. Автор—образ—читатель. Л., 1977.
Лейн, 1957 — Lane R. Modern Japanese Novel: kana-zoshi, 1600—1682// Harvard
Journal of Asiatic Studies. Dec. 1957. Vol. 20. No 3—4.
ЛИСША, 1—3, 1977—1979 — Литературная история Соединенных Штатов Аме-
рики. Т. 1-3. М., 1977-1979.
Литература Востока, 1970 — Литература Востока в средние века. Ч. 1. М., 1970.
Лихачёв, 1979 — Лихачёв Д. С Поэтика древнерусской литературы. М., 1979.
Лу Ю, 1968 — Лу Ю. Поездка в Шу / Пер., коммент, и послесл. Е. А. Сереб-
рякова. Л., 1968.
Луна в тумане, 1988 — Луна в тумане: Японская классическая проза. М., 1988.
Маккаллоу, 1967 — McCullough Ж A. Japanese Marriage Institutions in the Heian
Period // Harvard Journal of Asiatic Studies. 1967. Vol. 27.
Маккаллоу, 1973 — McCullough W. A. Spirit Possession in the Heian Period // Studies
on Japanese Culture. Vol. 1. Tokyo, 1973.
Маккаллоу, 1980 — A Tale of Flowering Fortunes: Annales of Japanese Aristocratic
Life in the Heian Period / Transl. with an Intro, and Notes by W. A. and
H. C. McCullough. Vol. 1. Stanford, 1980.
Манъёсю, 1—3 — Манъёсю (Собрание мириад листьев): В 3 т. / Пер. с яп., вступ.
ст. и коммент. А. Е. Глускиной. М., 1971—1972.
Маркова, 1989 — Маркова В. Классический японский театр // Ночная песня по-
гонщика из Тамба: Японская классическая драма XIV—XV и XVIII ве-
ков. М., 1989.
Масуда, 1970 — Масуда Кацуми. Умисати Ямасати (Счастье в море, Счастье в го-
рах) И Нихон синва (Японский мифы). Токио, 1970.
Масуда, 1972 — Масуда Кацуми. Кодзидан-то Удзисюи моногатари-но канкэй
(Связь между «Кодзидан» и «Удзи сюи моногатари») // Сэцува бунгаку
(Лит. сэцува) (сер.: Нихон бунгаку кэнкю сире сбсё — Материалы для
изучения яп. лит.). Токио, 1972.
Масуда, 1976 — Масуда Ясуси. «Тайхэйки»-но хикаку бунгаку-тэки кэнкю (Срав-
нительно-литературное исследование «Повести о Великом мире»). То-
кио, 1976.
Мацумото, 1951 — Мацумото Нобухиро. Тикутю дзётан дан-но гэнрю (Истоки рас-
сказа о рождении ребенка в бамбуке) // Сигаку. 1951. Т. 25. № 2.
Мелетинский, 1983 — Мелетинский Е. М. Средневековый роман: Происхождение
и классические формы. М., 1983.
Мещеряков, 1988 — Мещеряков А. Н. Герои, творцы и хранители японский ста-
рины. М., 1988.
Мещеряков, 1987 — Мещеряков А. Н. Древняя Япония: Буддизм и синтоизм.
Проблемы синкретизма. М., 1987.
Мещеряков, 1991 — Мещеряков А. Н. Древняя Япония: Культура и текст. М., 1991.
Мики, 1979 — Miki Sumito Essays and Journals in the Medieval Period // Acta
Asiatica: Bulletin of the Institute of Eastern Culture. No 37. Tokyo, 1979.
371
Митани, 1966 — Митани Эйити. Идзаёи никки ёкай («Дневник полнолуния» с
необходимыми объяснениями). Токио, 1966.
Митицуна-но хаха, 1994 — Митицуна-но хаха. Дневник эфемерной жизни (Ка-
гэро никки) / Предисл., пер. с яп. и коммент. В. Н. Горегляда. СПб.,
1994.
Миура, 1991 — Миура Хироюки. Нихонси-но кэнкю (Исследования по японской
истории): В 3 т. Токио, 1991.
Михайлова, 1988 — Михайлова Ю. Д. Мотоори Норинага. Жизнь и творчество:
(Из истории общественной мысли Японии XVIII в.). М., 1988.
Мориока, 1967 — Мориока Цунэо. Хэйантё моногатари-но кэнкю (Исследования
повествовательной литературы эпохи Хэйан). Токио, 1967.
Мурасаки, 1991—1993 — Мурасаки Сикибу. Повесть о Гэндзи: В 4 т. / Пер. с яп.
и прил. Т. Л. Соколовой-Делюсиной. М_, 1991—1993.
Нагадзуми, 1982 — Нагадзуми Ясуаки. Цурэдзурэгуса-о ёму (Читаю «Записки от
скуки»). Токио, 1982.
Наоки, 1964 — Наоки Кодзирб. Нихон кодай-но сидзоку-то тэннб (Кланы и импе-
ратор в древней Японии). Токио, 1964.
НБДДТ, 1—8, 1974 — Нихон бунгаку дайдзитэн (Литературная энциклопедия Япо-
нии) / Сост. Фудзимура Цукуру. Т. 1—8. Токио, 1974.
НБСТ, 1—8, 1966—1968 — Дзусэцу Нихон бунка си тайкэй (Иллюстрированная
серия истории японской культуры). Т. 1—8. Токио, 1966—1968.
НДМДДТ, 1—6, 1979 — Нихон дзиммэй дайдзитэн (Большой биографический сло-
варь Японии). Т. 1—6. Токио, 1979.
Неупокоева, 1976 — Неупокоева И. Г. История всемирной литературы: Проблемы
системного и сравнительного анализа. М., 1976.
Нидзё, 1986 — Нидзё. Непрошенная повесть / Пер. с яп., предисл. и коммент.
И. Львовой, пер. стихов А. Долина. М., 1986.
Никитина, 1982 — Никитина М. И. Древняя корейская поэзия в связи с ритуалом
и мифом. М., 1982.
Николаева, 1986 — Николаева Н. С. Художественная культура Японии XVI столе-
тия. М., 1986.
Нисисита, 1973 — Нисисита Кёити. Кокин вакасю. Кайсэцу («Собрание старых и
новых японских песен». Пояснения) // Нихон котэн бунгаку дзэнсю
(Поли. собр. яп. классич. лит. ). Т. 9. Токио, 1973.
Нихон рёики, 1995 — Нихон рёики. Японские легенды о чудесах: Свитки 1-й, 2-й
и 3-й / Пер. со старояп. и коммент. А. Н. Мещерякова. СПб., 1995.
НКБТ — Нихон котэн бунгаку тайкэй (Серия японской классической литерату-
ры). Т. 1-44, 65-89. Токио, 1956-1966.
Нобусада, 1978 — Nobusada Nishikatsuji. Dazaifu Tenman-gu (Святилище бога Тэм-
мана в Дадзайфу). [Dazaifu, 1978J.
Номура, 1926 — Номура Яцуро. Дзб Камакура дзидай бунгаку синрон (Новая тео-
рия литературы эпохи Камакура). Токио, 1926.
НРДДТ, 1—8, 1979 — Нихон рэкиси дайдзитэн (Историческая энциклопедия Япо-
нии). Т. 1—8. Токио, 1979.
Обаяси, 1961 — Обаяси Таре'. Нихон синва-но кигэн (Происхождение японских
мифов). Токио, 1961.
Ока, 1972 — Ока Кадзуо. Хэйантё бунгаку дзитэн (Словарь по литературе эпохи
Хэйан). Токио, 1972.
Окада, 1931 — Окада Маэро. Идзуми-сикибу // Иванами кодза Нихон бунгаку
(Лекции по яп. лит. в изд. Иванами). Токио, 1931.
Пинус, 1972 — Пинус Е. М. Кодзики — Записи о делах древности (Кн. 1-я. Ми-
фы): Филологическое исследование: Автореф. док. филол. наук. Л., 1972.
Попов, 1969 — Попов К. А. Предисловие// Древние•’фудоки (Хитати, Харима,
Бунго, Хидзэн) / Пер., предисл. и коммент. К. А. Попова. М., 1969-
Пропп, 1984 — Пропп В. Я Русская сказка. Л., 1984.
Рейшауэр, Ямагива, 1951 — Reischauer Е. О., Yamagiwa J. К. Translations from Early
Japanese Literature. Cambridge (Massachusetts), 1951.
372
Рейшауэр, 1973 — Reischauer Е. О. A Historian's View of Japanese Culture and Mo-
dernization // International Conference on Japanese Studies, Report. Vol. 1.
Tokyo, 1973.
Ролич, 1983 — A Tale of Eleven-Century Japan: Hamamatsu Chiinagon Monogatari /
Intro, and Transl. by T. H. Rolich. Princeton, 1983.
Сайге, 1979 — Сайге. Горная хижина / Пер. со старояп. В. Марковой. М., 1979.
Сасаки, 1935 — Сасаки Нобуцуна. Дзёдай бунгаку си. Дзёкан (История литературы
древней эпохи. Том 1) // Нихон бунгаку дзэнси. Маки-но ити (Полная
ист. яп. лит. Том 1). Токио, 1935.
Светлов, 1994 — Светлов Г. Колыбель японской цивилизации: История. Религия.
Культура. М., 1994.
Свиридов, 1981 — Свиридов Г. Г. Японская средневековая проза сэцува: (Струк-
тура и образ). М., 1981.
Синноси, 1984 — Синноси Такамицу. «Синдайки»-ни окэру «Асивара Накацуку-
ни» («Срединная страна Тростниковой Равнины» в «Записях об эре
богов») // Кокуго-то кокубунгаку. 1984. № 6.
Соколова-Делюсина, 1992 — Соколова-Делюсина Т. Л. Приложение // Мурасаки
Сикибу. Повесть о Гэндзи: В 4 т М., 1992.
Сондерс, 1977 — Сондерс Э. Д. Японская мифология // Мифология древнего ми-
ра. М., 1977.
Сто стихотворений, 1994 — Сто стихотворений ста поэтов: Старинный изборник
японской поэзии VII—XIII вв. / Предисл., пер. со старояп., коммент.
В. С. Сановича. СПб., 1994.
Сугиура, 1965 — Сугиура Мимпэй. Сэнгоку рансэй-но бунгаку (Литература смут-
ного времени Сражающихся провинций). Токио, 1965.
Судзуки, 1932 — Suzuki В. L. Wisdom of the East. Nogaku. Japanese No Plays. L.,
1932.
Судзуки, 1960 — Suzuki D. T. Zen and Japanese Culture. N.-Y., 1960.
Сэй-сёнагон, 1975 — Сэй-сёнагон. Записки у изголовья / Пер. со старояп. В. Мар-
ковой. М., 1975.
Тадзава и др., 1973 — Yutaka Tazawa, Shunsuke Okuda, Yasunori Nagahata. Japan's
Cultutal History — A Perspective. Ministry of Forejgn Affairs. Japan, 1973.
Тайхорё, 1985 — Свод законов «Тайхорё». 702—718 гг. Т. 1: (I—XV законы). Т. 2:
(XVI—XXX законы) / Вступ. ст., пер. с древнеяп. и коммент. К. А. По-
пова. М., 1985.
Такаги, 1955 — Такаги Итиноскэ. Нихон бунгаку (котэн) (Японская литература.
Классика). Токио, 1955.
Такаги, 1981 — Такаги Тосио (сост.). Обаяси Тарё. Нихон синва дэнсэцу-но кэн-
кю (Исследования японских мифов и преданий). Т. 2. Токио, 1981.
Такэда, 1977 — Takeda Katsuhiko (ed.). Essais on Japanese Literature. Tokyo, 1977.
Тамаи, 1932 — Тамаи Коскэ. Камакура дзидай-но никки кикб (Дневники и путе-
вые заметки эпохи Камакура) // Иванами кодза Нихон бунгаку (Лек-
ции по яп. лит. изд. Иванами). Токио, 1932.
Тамамура, 1958 — Тамамура Такэдзи. Годзан бунгаку (Литература Пяти монасты-
рей). Токио, 1958.
Тахара, 1980 — Tales of Yamato / Transl. by M. M. Tahara. Honolulu, 1980.
Токуда, 1992 — Токуда Кадзуо. Отогидзбси. Хайкай рэнга. Кёгэн // Нихон бунга-
ку си. Тюсэй (История яп лит. Развитое средневековье) / Кояма Хи-
роси (сост.). Токио, 1992.
Толстогузов, 1995 — Толстогузов А. А. Очерки истории Японии (VII—XIV в.): Ста-
новление феодализма. М., 1995.
Торопыгина, 1988 — Торопыгина М В. «Повесть о Есицунэ» и ее роль в японской
средневековой литературе: Автореф. канд. дис. Л., 1988.
Троцевич, 1975 — Троцевич А. Ф. Корейская средневековая повесть. М., 1975.
Умэхара, 1982 — Умэхара-тё сакуао, 13, Манъёсю-о кангаэру (Собр. соч. Умэхара.
Т. 13: Размышляю о «Манъёсю»), Токио, 1982.
Уотсон, 1991 — Watson В. Introduction // Saigyo. Poems of a Mountain Home /
Transl by В Watson N.-Y., 1991.
373
Уэда, 1970 — Узда Масааки. Нихон синва (Японские мифы). Токио, 1970.
Фишман, 1956 — Фишман О. Л. Из «Изречений» Ли Шан-иня // Сов. востокове-
дение. 1956. № 4.
Фишман, 1971 — Фишман О. Л. Жанровые особенности «Заметок из хижины Ве-
ликое в малом» Цзи Юня // Страны и народы Востока. Вып. 11. М.,
1971.
Фудзики, Иноуэ, 1956 — Фудзики Кунихико, Иноуэ Мицусада (сост.). Нихон си си-
ре (Материалы по истории Японии). Токио, 1956.
Фудзиока, 1968 — Фудзиока Тадахару. Кокинсю дзэнго (Вокруг «Собрания старых
и новых песен») // Кодза Нихон бунгаку (Лекции по яп. лит. ). Т. 3.
Кн. 1. Токио, 1968.
Фукуда, 1975 — Фукуда Хидэити. Тюсэй бунгаку ронко (Очерки средневековой
литературы). Токио, 1975.
Фукуда, 1979 — Fukuda Hideichi. Studies of Medieval Japanese Literature: Recent
Trends and Major Achievements // Acta Asiatica: Bulletin of the Institute of
Eastern Culture. 37. 1979. P. 104-132.
Фукуда, 1981 — Фукуда Хидэити. Кайсэцу (Пояснения) // Фудзихира Харуо, Фу-
куда Хидэити. Кэнрэй-монъин Укё-но дайбу касю. Товадзугатари.
(сер.: Кансё Нихон-но котэн, 12 — Японская классика с ее оценками,
№ 12). Токио, 1981.
Фукуда, Пурутёу, 1975 — Фукуда Хидэити, Пурутё'у Хэрубэруто. Нихон кико бун-
гаку бэнран (Указатель по японской литературе путевых заметок). То-
кио, 1975.
Халла, 1977 — Халла И. О создании первой японской антологии китайских стихо-
творений «Кайфусо» (751 г.): Автореф. канд. дис. М., 1977.
Ханин, 1973 — Ханин 3. Я. Социальные группы японских париев. М., 1973.
Харада, 1972 — Харада Кодзо. «Нихон рёики» хэнсанся-но сюхэн-то соно сэйри
(Географическое окружение составителя «Нихон рёики» и его органи-
зация) // Сэцува бунгаку (Литература сэцува). Токио, 1972.
Хейр, 1986 — Hare Т. В. Zeami's Stile: The Noh Plays of Zeami Motokiyo. Stanford
(California), 1986.
Хёрст, Камерон, 1974 — Herst III, G. Cameron. The Structure of the Heian Court:
Some Thought on the Nature of «Familian Authority» in Heian Japan // Me-
dieval Japan. Essays in Institutional History / Ed. by J. W. Hall and J. P. Mass.
New Hawen; London, 1974.
Хигути, 1990 — Хигути Ёсимаро. Вака-но симпу (Новые веяния в вака) // «Син
Кокин вакасю»-то сорэ иго («Новое Кокин вакасю» и после него) /
Сост. Кояма Хироси (сер.: Нихон бунгаку синси. Тюсэй — Новая ист.
яп. лит. Средние века). Токио, 1990.
Хисамацу, 1962 — Хисамацу Сэнъити. Синва, дэнсэцу, сэцува бунгаку (Мифы, ле-
генды, литература сэцува) (сер.: Нихон бунгаку кёику кодза, дай го
кан — Лекции по преподаванию яп. лит., т. 5). Токио, 1962.
Хисамацу, 1976 — Hisamatsu Sen'ichi. Biographical Dictionary of Japanese Literature.
Tokyo, 1976.
Хлопин, 1976 — Хлопин А. Д. О способах интерпретации причинно-следственных
связей в хрониках XIV века // Из истории культуры средних веков и
Возрождения. М., 1976.
Холл, 1974 — Hall J. W. Kyoto as Historical Background // Medieval Japan. Essais in
Institutional History / Ed. by John W. Hall and J. P. Mass. New Haven;
London, 1974.
Хэйкэ, 1982 — Хэйкэ моногатари. Повесть о доме Тайра / Пер. со старояп., пре-
дисл. и коммент. И. Львовой. М., 1982.
Циперович, 1969 — Циперович И. Э. Китайские изречения цзайзуань и «Цзацзу-
ань» Ли Шан-иня: Автореф. канд. дис. Л., 1969.
Цугита, 1953 — Цугита Дзюн. Кокубунгаку си синко (Новое исследование ис-
тории японской литературы). Токио, 1953.
374
Чайлдс, 1991 — Childs М. Н. Rethinking Sorrow. Revelatory Tales of Late Medieval
Japan. Ann Arbor: Centre for Japanese Studies: The University of Michigan,
1991.
Шнейдер, 1968 — Shneider R. Kowaka-mai Sprache und Stil einer mittelalterlichen
japanischen Rezitationskunst. Hamburg, 1968.
Штейнер, 1987 — Штейнер E. С. Иккю Содзюн. M , 1987.
Ямагиси, 1959 — Ямагиси Токухэй (сост.). Цуцуми-тюнагон моногатари. Окатами
(«Повесть о советнике Плотина». «Великое Зерцало») // Нихон котэн
кансё кодза (Лекции по оценке яп. классики). Т. 10. Токио, 1959.
Яманэ, 1973 — Yamane Yuzo. Momoyama Genre Painting. N.-Y.; Tokyo, 1973.
Ямасита, 1979 — Yamashita Hiroaki. The Structure of ‘Story-telling’ (Katari) in Ja-
panese War Tales — With Special Reference to the Scene of Yoshimoto's
Last Moments // Acta Asiatica: Bulletin of the Institute of Eastern Culture.
37. Tokyo, 1979.
Ямато-моногатари, 1982 — Ямато-моногатари / Пер. с яп., исслед. и коммент.
Л. М. Ермаковой. М., 1982.
Японские легенды, 1984 — Японские легенды о чудесах / Пер. с яп., предисл. и
коммент. А. Н. Мещерякова. М., 1984.
Ясуда, 1989 — Yasuda Kenneth. Masterworks of the No Theater. Bloomington; Indiana-
polis: Indiana University Press, 1989.
*s- м
Указатель имён собственных
Абуцу 273, 274, 275, 276
Абэ Акио 88, 89
Абэ-но Мимурадзи 106
Абэ-но Накамаро 129
Авалокитешвара 309
Аватамэ 65
Авеша 161
Агуи 270
Акадзомэ-эмон 176, 183
Акаси Какуити 238
Акико 148. 151, 152. 177, 182
Акияма Кэн 120
Акоги ИЗ, 115
Акугэнта Ёсихира 230
Акэти Мицухидэ 210
АльвареС, Мануэль 361
Аматэрасу Омиками 23, 29, 33, 36-40, 42,
45, 51. 55, 56, 90, 161. 172. 228, 261, 284
Амацукоянэ-но микото - см.: Амэ-но
Коянэ-но микото
Амацукумэ-но микото 50
Амида - см.: Амитабха
Амитабха 116, 159. 160, 199, 212, 213, 214.
218. 223. 264, 279, 316, 321
Амогхаваджра 106
Амэнигиси-Кунинигиси-Амацухидака-
Хикохо-но Ниниги-но микото - см.:
Ниниги-но микото
Амэ-но Вакамико / 71
Амэ-но вакахито 45
Амэ-но Коянэ-но микото 229, 291
Амэ-но Минакануси 49
Амэ-но-осихи-но микото 50
Амэ-но-токотати-но ками 35
Амэ-но Удзумэ-но микото 33, 39, 161
Амэ-но-хохи-но микото 90
Апарина, Н. Г. 304, 305, 308, 312, 313
Андо Тэруё 135
Андо Хиросигэ 308
Анка-монъин - см.: Кунико
Антоку, император 82, 204, 205, 236, 237
Анэгакодзи Мотоцуна 347
Ань Лу-шань 240
Араки, Джеймс 302, 3/9
Араки Ёсио 249. 277. 308
Аракида Моритакэ 350
Аракида Удзиёси 327
Аривара 122, 123
Аривара-но Нарихира/22-/25, 130, 133,
134, 275. 279, 280, 309, 348
Аривара-но Сигэхара 124
Аривара-но Юкихира 126
Асикага 207, 209, 242, 243, 294
Асикага Ёсиаки 210
Асикага Ёсимицу 307, 308, 354, 355
Асикага Ёсимоти 308. 355
Асикага Ёсинори 308, 314
Асикага Ёсихиса 349
Асикага Мотоудзи 354
Асикага Такаудзи 207, 240, 242, 243, 245,
261
Асинадзути 39
Асукаи 282
Асукаи Масааки 276
Асукаи Масаари 282
Асукаи Масаё 340, 345
Асукаи Масатика 346
Асукаи Масацунэ 282
Астон, У. Дж. //
Атэмия 116, 117, 118, 119
Ахо 123
Ацуиэ 326
Ацумити /76, 177
Ацумори 309
Байси 171, 175
Бао Чжао 296
Басё - см.: Мацуо Басё
Батлер, К. Д. 238. 239
Бисямон 301
Бифуку-монъин 330
Бодайруси - см.: Бодхиручи
Бодхидхарма 2/5, 339. 358
Бодхиручи 106
Боккачо 302
Боксер 361
Бо Лэ-тянь - см : Бо Цзюй-и
Борев, Ю. ИЗ
Боронина, И. А. 67. 127, 136, 162, 164. 166
Боуринг, Р. 151
Бо Цзюй-и 94, 95, 152, 173, 187, 196, 197,
296. 315, 333, 341
Брауэр, Р 65, 327, 338
Брахмадэва 241
Бреславец, Т. И. /1
Буало 87
Будда 24. 32. 33, 45, 46. 84. 99, 102, НО,
116, 118, 170, 184, 189. 213, 214, 217, 218,
221, 227, 236, 237, 241, 273, 279, 300, 309,
321. 333. 353. 359
Бхайшаджья-гуру - см.:Якуси
Бэнкэй 251, 348
Вада Хидэмацу 277
Валиньяно, Алессандро 360 361
Ван Ань-ши 282
Ватараи Иэюки 220
Ватараи Цунэёси 220
Ватараи Юкитада 220, 259
Вейман, Роберт 79
Велле к, Рене 18
Вималакирти 33
Воробьёв, М В 26
Вэнь-ди 156
Гао-цзу 34
Гёги-содзу 100
Гёдзё 345
Гидо Сюсин 354, 355, 356
Глускина, А. Е. 61, 66, 71-74, 334
Годайго, император 207, 217, 240, 242,
243, 244, 255, 259-261. 277
Года-ин-но Мунэсигэ 245
Гоитидзё, император 182, 188, 253
Гокёгоку Ёсицунэ 329
Гокомацу, император 357
Гомураками, император 259
Гонидзё, император 244, 292
Гораций 87
Горегляд, В. Н. 140, 142
Горомару 248
Горький, М. 11
Госага, император 284, 340, 342
Госандзё, император 182
Госиракава, император 82, 229, 230, 234,
256, 327, 329, 330
Госудзаку, император 171, 180
Госуко-ин 255
Госэти-но-бэн 153
ГотоТандзи 270, 277
Готоба, император 238, 254. 256, 288, 322,
325. 330-332, 334, 335, 336, 337
Гоуда, император 292
Гофукакуса, император 255, 284-286
Гофусими, император 207, 244
Гоханадзоно, император 340, 345
Гохорикава, император 335, 336
Гоцутимикадо, император 347, 348
Граиада, Луис де 360
Гремин 169
Григорьева, Т. П. II
Гу Соу 302
Гутенберг 361
Гэммэй, императрица 28, 35
Гэндзи 122, 157, 158. 160, 161, 163-165,
168, 170, 179, 186, 187, 255
Гэндзи Мититика 260
Гэндзи-но-мия 171, 172
Да Шунь -см.: Шунь
Дайго, император 94, 95, 129, 139, 191
Дайнагон - см.: Минамото-но Судзико
Дайни 160
Дайни-но самми 158, 171
Дайнити 67, 74
Дама из Ямато 145
Дама с острова Авадзи 140
Девушка из Пятнистого бамбука 109
Делюсина, Т. Л. - см.: Соколова-Де-
люсина, Т. Л.
Дзайси 331
Дзёдзо 285
Дзёнэн 297
Дзидзо 316, 317
Дзикаку-дайси - см.: Эннии
Дзимму, император 29, 30, 31, 42, 43, 55,
223, 252, 253. 256, 257, 259
Дзингу-кого 253
Дзиро Кадзя 315
Дзисё-содзё 244
Дзито 67
Дзиэн 232, 256, 257, 258, 259, 333
Дзоами 308
Дзоко 228
Дзэами Мотокиё 307, 308, 310, 312-315
Дзэккай Тюсин 354-356
Дзюнна, император 123
Дзюнтоку, император 256, 257, 335, 337
Догэн 275
Додзё 343
Долин, А. А. 129. 130, 134, 137, 181. 283
Дон Жуан 122, 165
Досё 245
Дочь Сугавара Такасуэ 178, 179
Дун Си 71
Дэгути 220
Дэнгё-дайси - см.: Сайтё
Ёдзэй, император 93
Елисеев, С. Г. 11
Ёримаса 309
Ёрисада 154
Ермакова, Л. М. 124, 125. 344
Ёсано Акико 158
Ёсида 220, 291
Ёсида (Урабэ) Канэаки 291
Ёсида (Урабэ) Канэо 291
Ёсида Канэтомо 220, 221
Ёсида Коити 266
Ёсида-но Канэёси - см.: Кэнко-хоси
Ёсида Сэйити 12 *
Ёсиминэ-но Мунэсада - см.: Хэндзё
Ёсиминэ-но Ясуо 60
Ёсино 170
Ёсисигэ-но Ясутанэ 147, 198, 204. 290
378
Ёхо, Висенте 360
Ёхо, Паоло 360
Ёцуги 186
Ёцуги-но Окина 304
Жанейра, Армандо Мартинс 7, 18, 164
Золушка 113
Иванохимэ 61
Иваса Миёко 277
Ига-сикибу Мицумунэ 281
Игнатович, А. Н. 25, 77
Идзанаги-но-микото 36, 37, 40, 41. 47
Идзанами-но-микото 36, 37, 40, 41. 47
Идзуми 315
Идзуми-сикибу 175-178, 183, 195, 333
Идзумо (род) 55-57
Иёбэ-но Умакаи-но мурадзи 48
Иио Соги - см.: Соги
Иккю - см.: Иккю Содзюн
Иккю Содзюи 299, 314, 357-359
Икэ-но-дзэнни 230
Икэда Дайсаку 77
Имагава Рёсюн 294
Имибэ 24
Инавасиро Кэндзай 346
Инацуми-но Окина 304
Инин -см.: Ишан
Инубо 248
Инумия 119
Инь 240
Иофан, Н. А. 9, 20, 112
Иоффе (Львова), И. Л. //, 231, 234, 252,
283-286, 323
Иппэн - см.: Тисин Иппэн
Исида Эйитиро 50
Исидзукури 106
Исимода Сё 233, 235, 236
Исоноками-но Маро 106
Исоноками-но Отомаро 58
Исотакэру-но ками 50
Иссумбоси 301
Исэ 192
Итидзан - см.: Ишан
Итидзё, император 143, 148
Итидзё Канэра 299, 301, 345-347
Итидзё Фуюра 347
Итико Тэйдзи 15, 254. 298, 299, 300
Итинэй - см.: Инин
Ито (Кудо) Сукэтака 247, 248
Ишан 352. 353
Иэнага Сабуро 44-45. 111, 119, 127, 128,
166
Каба-но Кандзя 232
Кавабата Ясунари 165, 166
Кавагути Хисао 47, 48. 89
Кавадзу Дзиро - см.: Ито (Кудо) Су-
кэтика
Кавамура Хидэнэ 259
Kara 330
Кагуцути 36
Кагуя-химэ 105-108, 116
Кадзан, император 194
Кадзивара 251
Кадзивара Масааки 228
Кадзии-но мия 344
Кадзуса-но-таю 179
Кайкэй 224
Какиномото-но Хитомаро 67-69, 72, 75,
130, 132, 133, 187. 194, 197, 308, 320, 333,
348
Какуити - см.: Акаси Какуити
Калепио (Калепин), А. 361
Камимусухи 56
Камиямато Иварэбико - см.: Дзимму,
император
Камму, император 84, 91, 133, 226
Камо-но Тёкэй 287
Камо-но Тёмэй 198. 269. 278, 279, 287-292
Кампару 307
Камунаби-но Танэмацу 117
Камэй Коцудзи 85
Камэ-химэ 47
Канда Хидэо 32
Кандзукэ 117, 118
Кандзэ 305, 307
Кандзэ Киёцугу - см.: Канъами
Каннон 97. 224, 234
Кано 184
Кано 224
КаноТамаро 115
Канъами 305-307, 309, 312
Канъин - см.: Санэсуэ
Канэакира 193
Канэхито - см.: Итидзё, император
Каору 165
Карасумару Мицухиро 342
Каса-но Канамура 75
Касиваги 157, 158
Касо Содон 358
Катано Сиро 213
Катаокано-омурадзи 53
Като Сэйсин 85
Като Сюити 6, 13, 14, 15, 16, 31, 56, 61, 70,
73. 94, 101, 108, III, 114, 130, 142, 146,
160, 163, 174, 191, 212, 221, 223, 232. 245,
256, 258, 260, 318. 319, 334, 353
Кёбу 85
Кёгоку 340
Кёкай 98. 99
Кёркхэм, Элеанор 7
Ки 138
Киёвара 147
Киёвара-но Мотосукэ 147, 192, 194
Киёвара-но Тосикагэ 116. 118, 119
379
Киёко /55
Ким Бусик 54
Кимо 85
Кин, Доналд/5, 108, 115, 122, 169, 171,
196, 250, 251. 253, 254, 262. 268, 277, 287,
292, 299, 300, 319, 321, 333, 349
Ки-но Арицунэ 138
Ки-но Ёсимоти 129, 132
Ки-но Мотиюки 138
Ки-но Мотомити 138
Ки-но Окимити 138
Ки-но Токифуми 192
Ки-но Томонори 129
Ки-но Хасэо 89
Ки-но Цураюки 73, 129, 130, 132-135,
137-142, 172, 187, 191, 192, 194, 195, 197.
265, 308, 309, 338, 345
Кинумэ101
Кирицубо 757, 170
Кирквуд, К. П. 18
Кисэн 133
Кита 307
Китабатакэ 260
Китабатакэ Акииэ 260
Китабатакэ Тикафуса 182, 259-262
Китагава, Дж. 83
Китамура Кигин 295
Китано 153
Китаноката 113
Ключевский, В. О. 235
Кобо-дайси - см.: Кукай
Кобун, император 253
Кога 292
Кога-ио Масатада 283
Кога-но Митимицу 283, 284
Кога-но Томомори 292
Когон, император 244, 277
Кода Рохан 46
Кодзима Таканори 241
Кодзима-хоси 241
Кокан Сирэн 352, 353
Кокэн, императрица 76
Комаровский (Светлов), Е. Г. 57
Комё, император 207
Компару 313, 314
Компару Дзэмпо 314
Компару Дзэнкёку 314
Компару Дзэнтику 308, 313, 314
Конго 307
Кониси Дзинъити 15 43 49, 58 109, 111
146, 159. 169, 225, 249, 258, 261, 266, 268,
270, 277, 312, 323, 331, 339
Коноэ Канэхира 284
Коноэ Масаиэ 347
Коноэ Митицугу 344
Конрад, Н. И. 7,10, И, 40, 61, 67, 72, 73,108,
121,135,174,183,196,213,224,239,288^290
Конфуций 96, 163, 244
Корэсада 133
Корэтика 148
Косёсё 155
Косикибу 175
Коэн 253
Кроль, Ю. Л 186
Ксавье, Франциск 361
Кубота Дзюн 204
Кудзё 115. 143, 276, 330
Кудзё Канэдзанэ 330
Кудзё Митииэ 268, 337
Кудзё Мотитамэ 276
Кудб-но Сукэтика 247, 248
Кудо-но Сукэцугу 247, 248
Кудо-но Сукэцунэ 248
Кудо но Сукэясу 248
Кудо Сайдзо 292
Кукай 85-88, 90. 104, 108, 184, 185, 322
Кумагаи Наодзанэ 213
Кумараджива 84
Кумон Сюмпэй 6
Кумэ 50
Куниёси 292
Кунико 273
Кунитокотати-но микото 247
Курамоти 106
Куро Хоган 232
Курода Тосио 33
Куродо-но Бэн Хиронари 154, 155
Кусакабэ 67
Кусинада-химэ 39, 40 56
Кэйкай - см.: Кёкай
Кэйко, император 31
Кэйсэн 269
Кэйтю 108
Кэнко-хоси 232, 287, 291-294
Кэнро 251
Кэнрэй-монъин 82, 204, 271, 272
Кэнси 151
Кэнъо 358
Кэсо Сюдон - см.: Касо Сбдон
Кюсэй 344
Ланг-па 109, ПО
Лао[-цзы] 291
Ларина, Татьяна 169
Левидов, А. М. 363
Ли Бо 282
Ли Гюбо 51
Лихачев, Д. С. 237
Ли Шан-инь 150
Логунова, В. В. 11. 314. 316
Лу Шань - см : Ань Лучпань
Лу ГО 282
Львова, И. Л. - см.: Иоффе (Львова), И. Л.
Лю Се 64
Лю Чэнь 48
380
Майнер, Э. 65, 327, 338
Майтрейя - см.: Мироку
Маккаллоу, Элен 252
Мандзэй-хоси 69
Мао Цян 300
Маркова, В. Н. 105, 107, ИЗ. 115, 120, 147,
148, 149, 311, 321. 322. 323, 324
Масаёри 116. 233
Масаиэ 260
Масакадо - см.: Тайра-ио Масакадо
Масако 176
Масамити 155
Масуда Ясуси 243
Матакуро 317
Мать Митицуна 142-146, 179, 181, 195
Махавайрочана - см.: Дайнити
Махакашьяпа 179
Мацудайра Саданобу 64
Мацуи Кандзи 255
Мацумото Нобухиро 109
Мацумура Такэо 44
Мацуо Басё 320
Мелетинский, Е. М. 166, 225
Мендрин, В. М. 11
Мещеряков, А. Н. 101, 150, 191
Мёмацумару 294
Мибу-ноТадаминэ 129, 194
Мида - см.: Амитабха
Миёси Киёцура 89
Миками Сандзи 10
Миката 74
Миката-но Оно 59
Мики Сумито 279
Микохидари 326, 329, 330, 340, 342
Минамото 82, 185, 188, 204, 205, 207, 229,
230. 235, 236, 240, 247, 249, 298, 310, 324,
327, 363
Минамото-но Акиканэ 262, 263
Минамото-но Акисада 273
Минамото-но Ёрииэ 205
Минамото-но Ёритомо 82, 205, 206, 230,
234-237, 248, 249, 251, 256, 323
Минамото-но Ёсииака 232, 236
Мииамото-но Ёситомо 229, 230, 250
Минамото-но Ёсицунэ 232.236, 237, 249-252
Минамото-но Канэтада 145
Минамото-но Киёцунэ 320
Минамото (Цутимикадо)-но Мититика 331
Минамото-ио Мицуюки 279
Минамото-но Санэтомо 281, 288, 336-340
Минамото-ио Ситагау (Ситаго) 115, 192,
193, 197
Мииамото-но Судзико 155
Минамото-но Тадаёри ИЗ
Минамото-но Тамэнори 102
Минамото-но Тосиёри 328
Минамото-но Цунэмото 205
Мироку 160
Митани Эйити 274
Митицуна-но хаха - см.: Мать Митицуна
Михайлова, Ю. Д. 166
Михару-но Такамото 117
Мицусада Икотарб 294
Мицунэ - см.: Осикоти-но Мицунэ
Мия ко-но Ёсика 92
Мия-но-найси 155
Мокуан 223
Момонои Наоакира 319
Мондзк><87
Монкан-содзё 244. 245
Мононобэ 24
Монтоку, император 92
Мори О гай 46
Моринага 255
Мотомаса 308
Мотоори Норииага 165, 166
Мотофуса 234
Мугаку Согэн - см.: Усюэ Цзюань
Мудзю Итиэн 269
Мунэтоки 154, 156
Мунэюки 133
Мураками, император 192
Мураками Гэндзи 260
Мурасаки 158, 165
Мурасаки-сикибу 10, 113, 122, 151-153,
156-160, 162-167, 169-172, 175, 179, 183,
187. 188, 195, 308
Мусо Сосэки 354
Мэйси - см.:Такэмуки
Мэй Яо-чэиь 282
Мэн Сян-чжуи 99
Мэн Цзяи-нюй 47
Нага 133
Нага Окамаро 334
Нагадзуми Ясуаки 268
Нагоя 242
Нагоя Такаиэ 242
Наётакэ-но Кагуя-химэ - см.: Кагуя-
химэ
Накада Норио 283
Накаииси Сусуму 19
Наканобу 155
Наканоии Митикацу 342
Накатада 116, 117, 119, 120
Накатоми 24, 229, 291
Накаяма (Фудзивара) Тадатика 253
Накаяма Токинага 232
Накаяма Юкитака 232
Нако - см.: Такэмуки
Насицубо 119
Невский, Н. А. 38
Неупокоева, И. Г. 363
Ниваяма Цуми 279
Нидзё 230,255,283-286,294,323,340,342,346
381
Нидзё, император 230
Нидзё Ёсимото 254, 255, 294, 299, 344, 345
Ниидоно 236, 237
Никитина, М. И. 19
Николаева, Н. С. 223
Ниммё, император 133, 196, 253
Ниниги-но микото 29, 40-42, 50, 53, 55, 57,
229, 291
Ни-но-мия 172
Нинтоку, император 34, 61
Ниоу 158
Нисисита Кёити 134
Нитирэн 217, 218, 219
Нитта Сиро 248
Ноа 345
Ноин-хоси 322
Номи-но сукунэ 90
Нономия 310
Нэдзамэ 167, 168. 169
Нюй-ин 302
ОбаясиТарё 49
Ода Нобунага 210, 211
Одзин, император 25, 253
Оигими 168
Ока Кадзуо 115, 125, 182
Окина 309
Окубо Тадаси 73
Окунинуси-но ками 40, 41, 56
Окура - см.: Яманоуэ-но Окура
Окура 375
Окура Яэмон Тораакира 315
Омоку 1J5
Омура Юко 314, 319
Онакатоми-но Ёсинобу 192, 194
Онамути-но ками - см.: Окунинуси-но
_ками
Оно 185, 309
Оно-но Имоко 25
Оно-но Комати 130, 134, 301, 348
Оно-но Минэмори 60
Оно-но Тофу 137
О-но Ясумаро 28, 29, 30, 32
Онономия Санэсукэ 266
Осаэмон-но Омото 154
Осикодзи-но Кинтада 303
Осикоти-ио Мицунэ 129, 187, 192, 197
Осэн Кэйсан 356
Отикубо 7/3, 114
Отомо 24, 50, 69, 73, 85, 91, 100
Отомо Ёсинори 209
Отомо-но Куронуси 134
Отомо-но Миюки 106
Отомо-но Табито 69, 71, 73
Отомо-но Якамоти 61, 65. 73-76
Оцу 5S
Оэ 176, 197
Оэ-но Асацуна 197
Оэ-но Масамунэ 176
Оэ-но Масахира 183
Оэ-но Тисато 127
Оякэ-но Ёцуги 188
Оямада Томокиё 276
Паньгу 50
Пасио, Франсиско 361
Пимико - см.: Химико
Пинто, Мендеш 209
Пинус, Е. М. 11, 30, 36, 39, 43, 50, 108, 174,
250
Плетнер, О. В. 140
Пушкин, А. С. 169
Регентский дом Фудзивара - см.: Сэк-
канкэ
Рейшауэр, Эдвин 0.8, 161, 274
Рёдзэн 158
Рёсю 266
Родригес, Жоао 361
Рокудзё 161. 326, 329, 330-331, 339
Рокудзё Суэцунэ 326, 331
Рокудзёсай Сэндзи - см.: Сэндзи
Рокухара Дзиродзаэмон-нюдо 266
Рэйдзэй 340, 346
Рэйдзэй, экс-император 176
Рэйдзэй Тамэсукэ 343
Рэннё 214
Рюгэн 232
Рюдзан Токкэн 355
Сага, император 90
Саги 315
Сагоромо 171, 172
Садако 148
Садахито - см.: Сиракава, император
Сайгё[-х6си] 201, 256, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 329, 333, 336, 348
Сайкобо 301
Сайондзи 297, 335
Сайондзи Киммунэ 277
Сайондзи Кицунэ 331
Сайондзи Санэканэ 284
Сайсё /53, 154, 155
Сайсэн-содзу 86
Сайтё 84-86, 91, 218, 244
Саканоуэ-но Мотики 192
Самбасо 304
Сандзё Кинтада 307
Сандзёниси Санэтака 347, 348
Сандзёниси Санээда 293
Саннокими 115
Сан-но-мия 172
Санович, В. С. 329, 337 >
Санэмори 309
Санъэки Эйин 356
Санэсуэ 228
Санэтоки 277
382
Cao 349
Сасаки Нобуцуна 12, 17, 281
Сато 320
Сато Норикиё - см.: Сайгё[-хоси]
Сато Ясуэмон 320
Свиридов, Г. Г. 189, 262, 265, 266, 268
Серебряков, Е. А. 282
Сёбуцу 232
Сёгаку 270
Сёкуси - см.: Сикиси
Сёму, император 63, 69, 73, 100
Сёо-хоси 294
Сётоку-тайси 24, 25, 30, 59, 100, 102, 184
Сётэцу 294, 346
Сёхаку 342, 343
Сиба Татито - см.: Сыма Дадэн
Сибукава Сэйэмои 297, 300
Сигэки 186
Сиддхартха 86. 168
Сидзё, император 337
Сидзё-но Такатика 283
Сидзука 251
Сикиси 329, 333
[Симада] Нобукико 91
Симада Тадаоми 89, 91
Синдзё-хоси 281
Синдэн Сэйхан 356
Синкай 289
Синкэй 345, 346. 348
Синран 213, 214
Синсэй 86
Сиракава, император 81, 82, 182, 260
Сицуга 85
Си Ши 300
Сога 24, 246, 248, 309, 348
Сога Горо 246, 247, 248
Сога Дзюро 246, 247, 248
Сога Сукэнобу 248
Сога Сукацунэ 248
Соги 342, 343, 345- 348
Содзу 160
Содзэй 345, 346, 348
Сои 345
Соин 245
Соколова-Делюсина, Т. Л. 156, 157, 159,
166, 307, 310, 311
Сомэ-доно 285
Сондерс, Э. Дейл 32, 35
Сонкай 217
Соимон 46
Сотё-хоси 294, 342, 343, 349, 350
Соти-но-мия - см.: Ацумити
Сотоори 134
Стругацкий, А. 249, 251, 252
Сугавара 90-93, 197, 264
Сугавара Ёсинуси 91
Сугавара Киёкими 91
Сугавара Корэёси 91, 93
Сугавара Митидзанэ 89-97, 108, 126, 196,
197, 204, 260, 264, 352
Сугавара Такасуэ 167, 178, 180
Сугавара Тамэиага 266
Сугавара Фумитоки 197
Сугиура Мимпэй 302
Судзаку, император 171
Судзин, император 31
Судзуки, Беатрис 309
Судзуки Дайсэцу 217
Судзуси 120
Суйко, императрица 24, 29, 30
Суко, император 293
Суконахикона 56
Сукэтомо 297
Суса-но-о-но микото 36-41, 50, 55, 56, 90
Сусэрибимэ 41
Сутоку, император 228, 322, 327, 328
Сыма Гуан 261
Сыма Дадэн 25
Сыма Цянь 83, 155, 186, 241, 246, 330
Сэдзи - см.: Сэндзи
Сэйва, император 81, 93, 205, 253
Сэйрай 294
Сэй-сёнагон 115, 119, 147-151, 175, 194,
195, 287, 308
Сэкикандо 294
Сэкканкэ 81, 82, 143, 326
Сэн-но Рикю 222, 223
Сэндзай 304
Сэндзи 171
Сэндзюн 345, 346
Сэнси 143
Сэси - см.: Сэндзи
Сэсондзц Корэюки 272
Сэссон Юбай 352, 353
Сэссю Тоё 223, 224
Сюбун - см.: Тэнсё Сюбун
Сюй Фу 282
Сюй Ю 280
Ся 240
Таварая Сотацу 308
Тагара - см.: Тэнгри
Таданори 309
Тайра 82, 183, 188, 204, 205, 207, 229-231,
234-236, 240, 247, 249, 251, 272, 298, 310.
323, 324, 327, 363
Тайра-но Ёсикадзэ 125
Тайра-но Канэмори 197
Тайра-ио Киёмори 82, 204, 229, 230, 233-
236, 272
Тайра-но Масакадо 81, 226
Тайра-но Садабуми (Садафуми, Сада-
фун) 125
Тайра-но Сигэмори 229, 230
Тайра-но Сукэмори 272
383
Тайра-но Таданори 327
Тайра-но Цунэмаса 327
Тайра-но Цунэмори 327
Тайра-но Юкимори 327
Тайра-но Ясухира 176
Тай-цзу 355
Такаги Итиносукэ 270
Такаги Тосио 51, 53
Такакимусухи-но ками 41, 55
Такакура, император 82, 188, 272
Такатика - см.: Сидзё-но Такатика
Такахаси Мусимаро 75
Такацу Кувасабуро 10
Такаяма Содзэй 345
Такэмикадзути 41
Такэмуки 277
Такэноути-но Сукунэ 138
Такэтори 105
Тамаи Коскэ 275, 276
Тамакадзуна 165
Тамба-но Ясуёри 161
Тамэтака 176, 177
Танабэ Сакимаро 75
Тангала 49
Тангара - см.: Тэнгри
Тангри - см.: Тэнгри
Тандагава 49
Танидзаки Дзюнъитиро 166
Танкэй 244
Тан Линь 99
Таро Кадзя 315, 317
Татибана S7, 147
Татибана Митисада 176
Татибана Мороз 61, 76
Татибана Нарисуэ 266, 268
Татибана-но Норимнцу 147
Татибана-но Цунако 154
Татибана Тосимити 180
Татибана Хироми 89
Татихая 53
Татхагата 179
Тацуно Тацуюки 319
Тёкэн 169, 270
Тикамацу Мондзаэмон 46
Тикамицу 755
Тисин Иппэн 214
Тити-но Дзё 304
Тиун 345
Тоба, император 82, 227, 228, 330
Тоётама-химэ 42, 43, 47
Тоёукэ-бимэ-но оками - см.: Укэмоти
Тоётоми Хидэёси 210, 211, 314, 319
Тонн Кинката 293
Тонн Кинсада 241
Токаку 85
Токива Годзэн 230, 231
Токимура Токудзиро 283
Токихимэ 143
Токугава Иэясу 211, 363
Токугава Мицукуни 276, 291
Токуда Кадзуо 44, 300, 315, 350
Токудайдзи Санэёси 320
Токуко-см.: Кэнрэй-монъин
Токунага Харумо 230
Томо 91
То-но Цунэёри 346
Тонъа 293
ТонэриЗ/, 146
Торопыгина, М. В. 249, 250, 297, 300, 302
Тору 309
Тосё Сюгэн 356
Тосикагэ -см.: Киёвара-но Тосикагэ
Тосихито 342
Троцевич, А. Ф. 54
Тэмман-тэндзин - см.: Сугавара Мити-
дзанэ
Тэмму, император 25, 59. 67
Тэнадзути 39
Тэнгри 49
Тэндзи, император 26, 58, 59
Тэнсё Сюбун 223
Тэнти, император 338
Тюаи, император 253
Тюэн-содзё 244, 245
Тянгара - см.: Тэнгри
У-ван 240
Угаяфуки-Аэдзу-но микото 259
Уда, император 92, 94, 125, 127
Удачливый в горах - см.: Хоори-но-
микото
Удачливый в море - см.: Ходэри-но-
микото
Укё-но дайбу 271, 272
Укон-но найси 149
Укэмоти 37, 50
Ума 155
Умасиасикаби-хикодзи-но ками 35
Умисатибико - см.: Ходэри-но-микото
Умэхара Такэси 60
Ункэй 224
Уотсон, Б. 320, 323, 325
Урабэ 291
Урабэ Канэёси - см.: Кэико-хоси
Урабэ Канэна 291
Урасима (Урасима Таро) 46-49, 52, 54, 55,
66. 105, 107, 301
Усивака - см.: Минамото-но Ёсицунэ
Усюэ Цзюань 353
Уцуномия Ёрицуна 213, 338
Уцуномия Томонари -»см.: Синдзё-хоси
Уэда Масааки 55
Фань Лу-гун 86
Фельдман-Конрад, Н. И. 11
Флоренц, Карл 11
384
Фроиш, Луиш 361
Фудзивара 63, 69, 73, 81, 82, 92, 93, 100,
143, 181-185, 187. 188, 204, 205, 247, 258.
282. 291. 320 326, 352, 355
Фудзивара-но Акиканэ 262
Фудзивара-но Акисукэ 326
Фудзивара-но Акисуэ 326
Фудзивара-но Акихира 197
Фудзивара-но Ёринака 321
Фудзивара-но Ёритада 143
Фудзивара-но Ёсифуса 81, 93
Фудзивара-но Ёсицунэ 333
Фудзивара-но Изнага 339
Фудзивара-но Канэдзанэ 256
Фудзивара-но Канэиэ 143, 144, 145, 146,
148, 151, 182
Фудзивара-но Канэмаса 116
Фудзивара-но Канэмити 143
Фудзивара-но Канэсукэ 192
Фудзивара-но Киёнори 332
Фудзивара-но Кинто 193-196
Фудзивара-но Корэтада 143
Фудзивара-но Масаёси 147
Фудзивара (Кудзё)-но Митииэ 232, 336,
337
Фудзивара-но Митиканэ 182
Фудзивара-но Митинага 151, 154, 156, 176,
182, 184-187, 229, 326
Фудзивара-но Митинори - см.: Фудз-
ивара-но Синдзэй
Фудзивара-но Мититака 148, 229
Фудзивара-но Митнцуна 143, 144, 145,
146
Фудзивара-но Моросукэ 139
Фудзивара-но Мототака 229
Фудзивара-но Мототоси 325, 328
Фудзивара-но Мотоцунэ 81, 93
Фудзивара-но Мунэё 148
Фудзивара-но Нобуёри 229, 230
Фудзивара-но Нобунори 151
Фудзивара-но Санэёри 139, 143
Фудзивара-но Санэката 148
Фудзивара-но Синдзэй 230, 231
Фудзивара-но Сумитомо 81
Фудзивара-но Сюндзэй (Тосинари) 178,
201, 319, 321, 324-331, 333
Фудзивара-но Тадамити 256
Фудзивара-но Тадатака 229
Фудзивара-но Тадахира 139
Фудзивара-но Таканобу 272
Фудзивара-но Такэмори 196
Фудзивара-но Тамэиэ 273, 282, 337, 338,
340, 342, 343, 344
Фудзивара-но Тамэсукэ 273, 274, 276, 344
Фудзивара-ио Тамэтада 188
Фудзивара-но Тамэтоки 151
Фудзивара-но Тамэудзи 273, 342
Фудзивара-но Тамэцунэ (Дзякутё) 188
Фудзивара-но Тикацунэ 333
Фудзивара-но Токихира 35
Фудзивара-но Томоясу 142
Фудзивара (Микохидари)-но Тоситада
326
Фудзивара-но Тэйка (Садаиэ) 123, 137,
167, 178, 268, 324, 326-340, 342, 344, 356
Фудзивара-но Фухито 58, 63
Фудзивара-но Фуюо 93
Фудзивара-но Фуюцугу 60, 187
Фудзивара-но Хаманари 64
Фудзивара-но Цунэцугу 87
Фудзивара-но Юкинари 137
Фудзивара-но Ясумаса 177
Фудзивара-но Яцука 61
Фудзии Макохико - см.: Хонэн-сёнин
Фудзиока Сакутарб 10
Фудзицубо 157, 165
Фудо 266
Фуку - см.: Амогхаваджра
Фукуда Хидэити 13, 19, 277, 292
Фуми[я] 96
Фунъя-но Мунэюки - см.: Мунэюки
Фунъя-но Ясухидэ 133
Хага Яити 10
Хадзи 90, 91
Хадзи-но Фурундо (Кодзин) сукунэ 91
Хакуракутэн - см.: Бо Цзюй-и
Халла, Иштван 59
Хамамацу / 70
Ханава Хокиноити 281
Ханадзоно, император 244
Ханси 125
Хань Юй 341
Харима 155
Хатакэяма Сигэтада 248
Хатиман 226, 275
Хаяфувакэ - см.: Татихая
Хигути Ёсимаро 332
Хико Нагисатакэ У гая Фукиаэдзу-но
микото 43
Хикохоходэми-но микото - см.: Хоори-
но микото
Химика 22, 45
Хино Сукэна 277
Хисамацу Сэнъити 17, 52, 54, 73
Хиэда-но Арэ 29, 186
Ходзё 205, 207, 217, 240, 242. 277, 335
Ходзё Садатоки 352
Ходзё Такатоки 246
Ходзё Токимаса 205
Ходзё Токитика 276
Ходзё Токифуса 242
Ходзё Ясутоки 242
Ходэри-но микото 42, 46, 52
Холл, Дж. 112
385
Холодович, А. А. 105, 108
Хонда Такацунэ 248
Хонэн-сёнин 213. 214, 248
Хоори-но микото 42, 43, 46-48, 52, 54
Хорикава (дом) 292
Хорикава (министр) 171
Хорикава, император 81, 228
Хосё 307
Хосусэри-но микото - см.: Ходэри-но
микото
Хубилай-хан 206. 219, 260
Хун Май 150
Хэйдзё, император 61, 123
Хэй-синно - см.: Тайра-но Масакадо
Хэйтю - см.: Тайра-но Садабуми
Хэй-тюнагон 153
Хэндзё 133
Цзе 240
Цзян Шу 300
Цин Цинь 300
Цицерон 361
Цубоути Сёё 46
Цугита Кацуми 283
Цукиёми-но микото 36, 37
Цунода Таданобу 6
Цунэмото - см.: Минамото-но Цунэмото
Цутимикадо, император 331, 332, 335,
337
Чайлдс, М. X. 299
Чемберлен, Б. X. 10
Чжао-гао 240, 330
Чжаомин-тайцзы 85
Чжи-и 84
Чжоу 240
Чжу Си 221
Чжуан[-цзы] 291
Чумон 51
Шакьямуни 25, 84, 86, 99, 168, 179, 218,
227, 241, 254
Штейнер, Е. С. 357
Шунь 229. 302
Шу Цн 280
Ыльчи Мундок 59
Эгё 194, 195
Эгути 306, 307
Эзоп 360, 361
Эйсай 215, 217, 222
Эмма - см.: Энра
Эмманъи - см.: Компару
Энкан 244, 245
Эниин 87. 88. 91. 92
Эн-но Убасоку 100
Энра 101, 316, 317
Энъю 143
Энсё 245
Э-хуан 302
Юань Чжи 48
Юань Чжэнь 196
Югао 165, 180
Югэ-но Докё 81
Юйэи 214
Юки Курс Саэмон-но дзё 242
Юкиёси 337
Юкинага 232
Юки Тикамицу - см.: Юки Куро Саэмон-
но дзё
Юкифунэ 165, 180
Юри 57
Юряку, император 34, 46
Юси 180
Ягами-химэ 40
Якуси 25, 179
Ямабэ (Яманобэ) 73
Ямабэ (Яманобэ)-но Акахито 72-73, 130.
133, 187
Ямагиси Токухэй 283
Ямадзаки Сокан 349, 350
Яманоуэ-но Окура 66, 69. 70, 71
Ямасита Хироаки 243
Ямасатибико - см.: Хоори-но-микото
Ямато (род) 34, 55, 56, 57
Ямато Такэру 32, 286, 344
Ян-ди 33
Яиь Чжэнь-цин 341
Яо 229. 302
Яо-ван 302
Яо Сюань / 97
Ятаро 252
Ятихохо-но ками - см.: Окунинуси-но
ками
Указатель терминов
Аби 321
аварэ 134, 327
аватара 220
Адзума-ута 66
адзяри 244, 253
акарья -см.: адзяри
амацуясиро 55
асида 296
Асука (эпоха) 27
ато-дза 305-306
атодзитэ 309
бакуфу 205-207, 242, 335
бёбу-ута 139
бива 167, 168, 227
бива-хоси 226, 232, 238, 246
бицзи 750
бонсай 5
бонсан 78
бу 211
бугаку 305
букэ 231
бусидо 221, 239, 245, 246
буцумэйка 328
бхаданта - см.: дайтоку
бэ 23, 27
бяньвэнь 47, 262, 290
ваби 225
вадзин 27
вака 60, 96, 101, 162, 197, 319, 320, 325
340, 348, 358, 359
ваки 306, 308
вакидзурэ 306
васан 78
Ватараи синто - см.: Исэ синто
вожэнь 27
вэньянь 195
гатха 32. 78, 352, 359
гигаку 345
годзан 2/6, 251
годзан бунгаку 216, 351-357, 359, 363
годзюон-дзу 104
гокэнин 83, 206, 207
гон дайсбдзу 346
гороку 357
гунки (гунки моногатари) 204, 225, 226,
227, 245, 246, 249, 250, 252, 269, 298-300,
304, 363
гуши 58, 96
гэкокудзё 225
гэку 33
гэмба-но ками 139
гэндзэ рияку 114
гэсаку 364
дайва 33
дайгакувЗ, 138
дайтоку118
дайнагон 260, 283
даймё 763, 209. 307, 316. 317, 318
дан 124, 149, 295-297
дарума ута 339
джатака 102
дзадзэн 215
дзё 68, 288, 338
дзёдо 159, 213, 218
дзёдо синею 214
дзёдосю 213
дзёмон 20
дзёрури 271, 305, 364
дзёрури 161, 204
дзёси 67
дзё-ха-кю 305
дзи 214
дзи-но ута 332
дзигэ рэнга 342, 343, 344
дзидэн 82
дзика авасэ 324
дзимон 220
дзимон-дзито 297
дзингу 33
дзиссацу 351, 357
дзито 205, 206
дзиутаи-дза 306
дзуйхицу 147, 150. 151. 156, 183, 289, 291.
299, 352
дзэн 182, 212. 215-218, 222. 337, 353. 358
длинные песни - см.: тёка
додзё рэнга 342, 343, 344
дори 257, 258
дотаку 21
дхарани 106
дхарма 24
Дэгути синто -см.: Исэ синто
дэнгаку 303
дэнгаку-но Но 304, 308
дэнто-хоси 98
ёдзб 164, 334, 335
ёкёку 46. 303, 311
ёмимоно 227
Ёсида синто 220
ёсэй - см.: ёдзё
ёцуги 186
нкисудама 161
иккоикки 215
икэбана 5, 222, 363
имаё 201, 303, 327
ин 81
индзя 321
инсэй 81, 82, 182. 260
инь 34
инь-ян 88, 221
Исэ синто 220
кабуки 46, 166, 204, 364
каварамоно 208
кагами-но ма 306
када - см.: гатха
каё 204. 300
какэкотоба 135, 311
камбун 85, 87, 89, 101, 118, 195. 196, 197
226, 238. 263, 339
ками 23, 87, 132. 220
камикадзэ 207
ками-но ку 341
кампаку 81, 256
кан - см.: маки
канадзё 129, 344, 347
канадзоси 46, 294, 303, 364
канамадзирибун 238, 360
канахон 247, 249
кандзи мадзири катаканагаки 258
кансан 78
канси 58. 59, 60, 62, 70. 74, 75, 85, 86, 89,
91, 94, 96, 97, 101, 123, 127, 193, 196, 197,
199, 322, 352-356. 358, 359
карагнну 154
карадзаэ 69, 74
кара-э 112
карисомэ 159
карма 157, 159, 235
карой 128
карэ сансуй 223
касё 256
касю - см.: сикасю
катакана 88, 104, 238, 258, 269. 289, 360
катари 237
катарибэ 29, 226
катаримоно 226, 227, 231, 300
катаута 344
каэсиута 46
кёгэ 78
кёгэн 303. 307, 314-316, 318, 319, 363. 364
кикадзин 22
кирокутай 263
кисараги 323
кирокутай 226
коан 351
ковака 271
ковакамай 300, 319
кокоро 134, 139
кокугакуха 12
кокуси 355
кондэй 83
котоба 134, 139, 140
котобагаки 121, 192, 193
котодама 27, 66
коута 303
Кофун дзидай - см.: Курганный период
кумондзё 205
куницуясиро 55
куниюдзури 41
кункада - см.: гатха
Курганный период 22
кусанаги-но цуруги 40, 56
кусари рэнга 341
куцукабури 293
кэгон 309
кэмари 5
кэн 234
кэн 257
кэндо 5
Литература Пяти монастырей - см.: Го-
дзан бунгаку
люйши 95. 353
ляньцзюй 341, 343
маки 25, 183
макото 134
макура котоба 53, 67, 136
манабон 247, 249
манадзё 129, 132. 344
мандала 244
мандокоро 205
манъёгана 76, 78, 79
маппо 160, 257. 258
махито 33
маэдзитэ 309
маэку - см.: хокку
мёдэн 206, 292
мёсю 206
мияби 722
мокугон-но ками 139
мон-но ута 332
моногатари 104, 105, 108, 111, 123, 125.
162. 163, 167, 169, 171-173, 185, 187. 189,
191, 249, 255, 256, 287, 302, 364
моногатари-сб 241
мономанэ 309, 312
моно-но аварэ^/бб
моно-но на ута - см.: буцумэйка
монто 214, 215
монтюдзё 205
мудзё 216, 225. 321
388
мусин рэнга 342. 348
мусуби 290
мэй 257
нагари 103
нагаута (см., тж., тёка) 46, 62, 275, 276,
328, 337, 363
нагэирэ 222
найку 33
накаири 307
нара эхон 302, 303
никки 123,271
нитирэнсю 182, 217, 219
нихонтэки караэ 224
Но (Ногаку) 124 166 204, 255, 300, 303-
309 311, 312, 314 315, 318, 319, 349
нотидзитэ 309
нэмбуцу 159, 218
нэмпу 351
окаси 326
окори 290
окототэн 30, 247
омосироса 111
он 292
орику 328
отоги бунко 297, 298
отоги соси 297
отогидзоси 46. 270, 271, 297, 303, 359, 363,
364
пхэсоль 150
рёбу синто 87, 212
ри 211, 213
риндзай 215
рицу 218
родзи нива 222
роккасэн 130. 133
Рокухара тандай 242
ронин 208
роэй 197, 303
руфубон 250, 254, 289
рэкиси моногатари 181, 183, 185, 204, 228,
363
рэнга 201. 204, 254. 324, 339-349, 359, 363
саби 225
садамэнаси 159
сайбара 327
сама 134, 139, 140
самбан саругаку 304
самураидокоро 205
сангха 24
сандзё-но тами 208
санка 78
санно (итидзицу) синто 212
сансуй-га 223
сантанка 78
саругаку 303, 304
саругаку-но Но 304, 305, 308
саругаку-хоси 303
сатори 358
сё 261
сёги 334
сёгун 205 209 230, 273, 314, 323, 336, 354
сёдзан 351
сёдзи 322
сёдзо-га 223
сёнагон 147
сёэн 183
си - см.: канси
сибукава-хан 298
сиддхам 104
сидзоку 92
сикан 339
сикасю 75, 128, 201
сикибу-но сукэ 176
сиккэн 205, 206, 207, 242, 335, 352
симбон-буцудзяку 220
симбуцу дотайсэцу 87
симо-но ку 341
синва 54
сингон 84 87, 218. 244
синдзин 33
синдзихон 247
синдэн 82
синдэн-дзукури 127
синко 226
синто 23, 33, 220, 221, 259
сиорэ 312
сирокубун 351
сирэй 161
ситэ 306-311, 314
ситэдзурэ 306
содзё 133
содзу 155
соккон 343
сокусин дзёбуцу 114
сонраку кёдотай 211
сото 215
сугата 134
суйбоку-га 223
суйдзяку 57 220
сукусэ 159
Сукхавати - см : дзёдо
сумиэ -см.: суйбоку-га
сумо 90
сэ 199
ездока 62, 78, 131, 194, 328
сэйи-тайсёгун 205
сэйри 261
сэнЗЗ
сэнки - см гуики
сэннин 47, 48
сэссё 81, 143
сэцува 16. 54, 57. 97. 98, 100-102, 107, 111,
389
114, 169, 175, 183. 189, 190, 191. 226, 241,
243, 246. 262-266, 268-271. 288, 298-31,
304, 364
сю 125
сюго 205, 206
сюго-даймё 206
сюннята 353
сяку 94
сямон 98
сянь - см.: сэннин
сярэбон 364
табэ 23
тайти 33
тайхэйкиёми 240
такэтакаку 348
тан 211
танка 16, 62, 67-70, 73. 74. 78. 94. 120
124-126, 131, 134, 136, 139, 177. 192-195,
197, 201, 255, 256, 272, 313, 320, 322-325,
327-329, 332, 334, 336-341, 343-347, 356,
363, 364
тарикн 159
тёкабЛ 67. 71, 73. 125, 131. 194
тёкусэнсю 191
тёрэнга - см., кусари рэнга
тигири 159
тока 78
торин 270, 310
тэнгу 269, 309
тэндай 84. 85, 87, 213, 256
тэндай-дзасу 256
тэнно 33
тюдзё 123
тюко 80
тюнагон / 73, 174
тюсё 175
тябана 222
тя-но ю 222
тяньтай 84
удзи 21, 23, 63
удзигами 22, 220
удзи-но ками 22, 26
укиёдзоси 262. 303. 364
укиё-э 18
Урабэ синто - см.: Ёсида синто
усин 335. 339. 348
усин рэнга 342, 348
ута 62, 125
утаавасэ 126, 127. 327, 335
утаибон 307
ута-макура 136, 322, 329
ута-моногатари/05, 120, 121, 128. 175,
189. 193, 301
утиги 154
фу 60. 68. 85. 199
фубито 30
фудоки 33, 35, 46, 47, 51-54, 55, 79. 105,
107
фумихито - см.: фубито
фурю 359
фусуй 28, 80
фэнтуцзи 35
фэншуй - см.: фусуй
хайкай 328, 348
хайкай рэнга 348-350. 363, 364
хайку 130, 217, 364
хаканаси 159
хакубун 89
хана 312
ханаавасэ 127
ханами 188
ханива 22, 90
хари 290
хасигакари 306
хасигаки 121, 272
хаятомай 44
хидзири 33, 130
хинин 208
хирагана 88, 104, 258, 259, 269, 360
хираки 307
ходжа -см.: касё
ходзё 287
хокку 347, 349
хоккэсю 212, 217, 219
хокумэн-но буси 320
хонган 159, 213
хондзи 87
хондзи-суйдзяку 87, 220
хонкадори 16, 194, 335, 337, 338
хоссо 213
хэйкёку 232
хэнтайгана 103
хэнтай камбун 89, 98
Хякуо 257
цзин 138
цзюань 197
цзюэцзюй 95. 352, 353, 354
цукури моногатари 105, 111, 112, 120, 204,
300, 363
цукэку 347, 349, 350
цуми 159
цунэнаси 159
цурэ 308
цую 159
чжэн 161
чжэн ли - см.: сэйри
чжэньянь 86
ши-см : канси
шрамана - см.: сямон
шуньята - см.: сюннята
эмаки (эмакимоно) 231, 303
эн -см.: югэн
390
энго 135, 136, 164, 311
эта 208
к>327
югэн 225, 309, 312, 313, 327, 329. 335, 339,
346, 348
Юйицу синто - см. Ёсида синто
юйлу - см.: гороку
юэн - см.: югэн
юэфу 152, 296
яёи 21
ямабуси 161, 315
ямато-э 112, 224, 231
ян 34
ясиро 23
Указатель названий произведений
«Абуцу ки» - см.: «Идзаёи никки»
«Абуцу-но мити-но ки» - см.: «Идзаёи
никки»
«Аватамсака-сутра» 309
«Адзума кагами» 239, 323, 339
«Адзума никки» 276
«Адзума мондо» 347
«Адзума ута» 66
«Акадзомэ-эмон сю» 176
«Анналы Японии» - см.: «Нихонги»
«Ацумори» 311
«Асукаи Масаари-но никки» 281, 282
«Афусака коэну гон-тюнагон» 175
«Ах, если бы переменить!» - см.: «Тори-
каэбая моногатари»
«Басни» Эзопа 360
«Беседы и суждения» - см.: «Луньюй»
«Беседы о делах древности» - см.: «Ко-
дзики»
«Биографии высших буддийских свя-
щеннослужителей Японии» - см.:
«Хонтё косо дэн»
«Бог Дзидзо из местности Яо» 316
«Бо-ши вэньцзи» 152
«Бо-ши Чанцин цзи» 196
«Буккигун» 359
«Бунка сюрэйсю» 60. 97, 131
«Бункё хифурон» 86
«Вакан роэйсю» 196, 197
«Варамбэгуса» 315
«Васурэгуса» 347
«Веды» 32
«Великое Зерцало» - см.: «Окагами»
«Вималакирти-нирдеша-сутра» 32, 33, 77,
357
«Вести из преисподней» - см.: «Мин бао
цзи»
«Вновь составленное Собачье Цукуба
сю» - см.: «Синсэн Ину Цукуба сю»
«Вновь составленный Цукуба сю» - см.:
«Синсэн Цукуба сю»
«Вновь составленное собрание японских
песен» - см.: «Синсэн вакасю»
«Водное Зерцало»- см.: «Мидзукагами»
«Война будд и демонов» - см.. «Букки-
гун»
«Волшебный мертвец» 102
«Восточное Зерцало» - см.: «Адзума ка-
гамн»
«Всеобщее зерцало, помогающее
управлению» - см.: «Цзы чжи тун
цзянь»
«Вторая серия сочинений, квалифици-
рованных по видам» - см.: «Дзоку
гунсё руйдзю»
«Выборки из Повести о Великом ми-
ре» - см.: «Тайхэйки нукигаки»
«Выборки о поэтических стилях, при-
шедших от древности» - см.: «Корай
футайсё»
«Выборки об утренней луне из "Дневни-
ка полнолуния"» - см.: «Идзаёи никки
дзангэцусё»
«Вэй чжи» 22
«Вэйши» 45
«Вэнь сюань» 77, 83, 85. 296
«Гёкудзуй» 232
«Гикэйки» 249, 250, 251
«Гогумайки» 303
«Горная хижина» - см.: «Санкасю»
«Госэн вакасю» («Госэнсю») 121. 192,
193. 194
«Гукансё» 232, 256, 258, 259, 333
«Гэмпэй дзёсуйки» - см. «Гэмпэй сэй-
суйки»
«Гэмпэй сэйсуйки» 238. 239, 252, 310
«Гэндзи иппон кё» 169
«Гэндзи моногатари» 10. 105, 113, 114, 122,
151, 152, 156-169, 171, 180, 191, 202, 225,
255, 273, 282, 284, 287, 293, 311, 346, 347
«Дай Нихон си» 291
«Дайхо кобаку рокаку дзэндзю химицу
дарани кё» 106
«Да Шунь» 302
«Двадцать четыре примера сыновней
почтительности» 302
«Дед Такэтори» - см.: «Такэтори мо-
ногатари»
«Диалог бедных» 71
«Дорожные записи Абуцу» - см.: «Идза-
ёи никки»
«Дзай Мимбу-но кё кэ утаавасэ» 126
«Дзиккинсё» («Дзиккунсё») 264, 266, 268
«Дзинно сётоки» 182, 259-262
«Дзоку гунсё руйдзю» 281
«Дзоку Кёунсю» 359
«Дзоку Кодзидан» 263, 264
«Дневник закононаставника Синдзё» -
см.: «Синдзё-хоси никки»
«Дневник Идзуми-сикибу»-см.: «Идзу-
ми-сикибу никки»
«Дневник Минамото-но Иэнага» - см.:
«Минамото-но Иэнага никки»
«Дневник Мурасаки-сикибу» - см.: «Му-
расаки-сикибу никки»
«Дневник полнолуния» - см.: «Идзаёи
никкн»
«Дневник путешествия из Тоса» - см.:
«Тоса никки»
«Дневник Сарасина» - см.: «Сарасина
никки»
«Дневник Тонн Кинсада» - см.: «Тонн
Кинсада нитидзи-но никки»
«Дневник эфемерной жизни» - см.: «Ка-
гэро никки»
«Дневники Асукаи Масаари» - см.: «Асу-
каи Масаари-но никки»
«Дорога в Сага и обратно» - см,: «Сага-
но каёи дзи»
«Дорога в глубь весенних гор» - см.:
«Хару-но фукаямадзи»
«Дорожные записи Абуцу» - см : «Идза-
ёи никки»
«Друг уединённой жизни» - см.: «Канкё-
но томо»
«Дуплистое дерево» - см.: «Уцухо моно-
гатари»
«Ёва-но нэдзамэ» - см.: «Нэдзамэ моно-
гатари»
«Евгений Онегин» 169
«Ежемесячные подборки» - см : «Май-
гэцусё»
«Ёру-но нэдзамэ» - см.: «Нэдзамэ моно-
гатари»
«Ёсицунэ моногатари» - см.: «Гикэйки»
«Ёсицунэ-но ки» - см.: «Гикэйки»
«Ёцуги моногатари» - см.. «Эйга моно-
гатари»
«Жизнеописание Сётоку-тайси» 253
«Жунчжай суйби» 150
«Заметки без заглавия» - см.: «Мумёсё»
«Записи Абуцу» - см.: «Идзаёи никки»
«Записи доказательств, собранных из
Ваджрачхедика-сутры» - см.: «Цзинь-
ган баньяоцзин цзияньцзи»
«Записи о годах Хэйдзи» - см.: «Хэйдзи
моногатари»
«Записи о деяниях древности» - см.:
«Кодзики»
«Записи о правильной преемственности
божественных монархов» - см.: «Дзин-
но сётбки»
«Записи о расцвете и упадке Минамото
и Тайра» - см.: «Гэмпэй сэйсуйки»
«Записи о чудесах, случившихся в Япон-
ском государстве из-за хорошей или
дурной кармы» - см.: «Нихон рёики»
«Записи о японских чудесах» 99, 100
«Записки без заглавия» - см.: «Мумё-но ки»
«Записки из беседки у пруда» - см.: «Ти-
тэй-но ки»
«Записки из кельи» - см.: «Ходзёки»
«Записки историка» - см.: «Историче-
ские записки»
«Записки канцлера Мидб» - см.: «Ми-
до кампаку ки»
«Записки о кормилицах» 301
«Записки о Масакадо» - см.: «Сёмонки»
«Записки о нормах поведения» - см.:
«Ли цзи»
«Записки о Приморском тракте» - см.:
«Кайдоки»
«Записки о путешествии к восточным
заставам» - см : «Токан кико»
«Записки о сущности песни и танца» -
см.: «Кабу дзуйно ки»
«Записки о цветах и луне» - см.; «Кагэ-
цу соси»
«Записки об увиденном сквозь дремо-
ту» - см.: «Утатнэ-но ки»
«Запискн о шести кругах и капле ро-
сы» - см.: «Рокурин итиро-но ки»
«Записки от скуки» - см.: «Цурэдзурэ-
гуса»
«Записки при полной луне» - см.: «Мэй-
гэцуки»
«Записки Сёкэна» - см.: «Сёкэн ко»
«Записки у изголовья» - см.: «Макура-
но соси»
«Записки Такэмуки» - см.: «Такэмуки-
но ки»
«Зерцало словесности - средоточие со-
кровенных записей» - см.: «Бункё хи-
фурон»
«Ивэнь лэйчу» 77
«Идзаёи никки» 273. 274, 275, 276, 277
«Идзаёи никки дзангэцусё» 276
«Идзуми-сикибу никки» 146. 175, 177,
178
«Идзумо фудоки» 56
«Идзуцу» 309
«Извлечения по десяти наставлениям» -
см.: «Дзиккинсё»
«Извлечения из бамбуковой рощи» -
см.: «Тикуринсё»
«Извлечения стихотворений, не вошед-
ших в прежние антологии» - см.:
«Сюисё»
«Изречения» - см.: «Цзацзуань»
393
«Изящное собрание образцов блестя-
щего литературного стиля» - см.:
«Бунка сюрэйсю»
«Иккю-бсё нэмпу» 357
«Иллюстрированное слово о Трёх Сок-
ровищах» - см.: «Самбо экотоба»
«Имакагами» 187, 188, 189, 254, 341
«Ину Цукуба сю» 349. 350
«Ироха-ута» 104
«Иссайкё» -см.: «Трипитака»
«Иссинхо» 161
«Исторические записки» 83, 148, 155, 156,
186, 241, 246, 264, 330
«История Великой Японии» - см.: «Дай
Нихон си»
«История династии Вэй» - см.: «Вэйчжи»
«История династии Суй» 34
«История династии Хань» - см.: «Хань
шу»
«История поздней Хань» - см.: «Хоу
Хань шу»
«История правильной преемственности
божественных монархов» - см.: «Дзин-
но сётоки»
«История [Ранней] Хань» - см.: «Хань шу»
«Исэ моногатари» 120-124, 164, 278, 280.
282, 287, 311, 347
«Исэ-но ки» 288
«Ицзин» 138
«Кабу дзуйно ки» 314
«Кагэро никки» 105, 142, 144, 147, 156.
161, 179-181, 195
«Кагэцу соси» 64
«Кайдоки» 278, 279
«Кайфусо» 58, 59. 60, 61, 62, 75, 97. 101
«Каминари» 317
«Кампё-но онтоки-но кисаи-но мия-но
утаавасэ» 126
«Канкё-но томо» 269
«Канкэ бунсо» 92. 93, 95, 96
«Канкэ косо» 95
«Канкэ коею» - см.: «Канкэ косо»
«Канкэ Манъёсю» 126
«Каталог гор и морей» - см.: «Шань хай
цзин»
«Кёунсю» 359
«Киндай сюка» 336. 337, 338
«Кинто сю» 193
«Кисса ёдзёки» 222
«Книга о сыновней почтительности» -
см.: «Сяо цзин»
«Книга перемен» - см.: «Ицзин»
«Книга песен» - см.: «Шицзин»
«Книга в пяти частях о синто» - см.:
«Синто гобусё»
«Книга о цветах и луне» - см «Кагэцу
соси»
«Кого сюи» 33
«Кодайхо рокаку дзэндзю химицу да-
рани кё» - см.: «Дайхо кобаку рокаку
дзэндзю химицу дарани кё»
«Кодзидан» 262-264
«Кодзики» 28-33, 35. 37-39, 45. 49-51,
53-57. 61. 77, 79, 103, 132, 161, 186. 204,
221. 239, 255, 341, 344
«Кокагами» - см.: «Имакагами»
«Кокин вака рокудзё» 193
«Кокин вакасю» 17, 68, 121, 125, 129-134,
136-139, 181, 192, 193, 194, 202, 268, 282,
319. 320, 326, 328, 333, 337, 338, 346, 347
«Кокин дэндзю» - см.: «Кокин вакасю»
«Кокинсю» - см.: «Кокин вакасю»
«Кокон тёмондзю» 266, 268
«Кондзяку моногатари сю» 105, 189, 190,
191, 262, 264
«Конко мёкё» («Конкомё-кё») 45, 46, 77
«Конституция из 17 статей» 25
«Корай футайсё» 329
«Краткая история Японии» - см.: «Фусо
рякки»
«Кугэ сю» 354
«Кэйкокусю» 60. 90, 97, 131
«Кэнрэй-монъин Укё-но дайбу касю»
27/
«Кюан хякусю» 326
«Ланкаватара-сутра» 352, 354
«Лао-цзы» 293
«Литературные стили нашей страны» -
см.: «Хонтё мондзуй»
«Литературные стили эпохи Тан» - см.:
«Тан вэнь цуй»
«Литературный изборник» - см.: «Вэнь
сюань»
«Ли цзи» 138
«Лотосовая сутра» - см.: «Хоккэкё»
«Луньюй» 163, 244, 264
«Лютня» 196
«Майгэцусё» 339
«Макура-но соси» 142, 147-151. 175. 193,
282, 287, 291
«Малое зерцало» - см.: «Имакагами»
«Манъёсю» 46, 47, 53. 58. 61. 62. 64-73,
75-77, 79. 103, 105, 125, 128-131, 133,
136, 162, 192-194, 319. 329, 334, 337. 340.
341
«Манъёсю дома Сугавара» - см.: «Канкэ
Манъёсю»
«Масукагами» 254, 255, 256
«Маха мани випулавимана вишвасупра-
тистхитагухья парамарахасья калпа-
раджа дхарани» - см.: «Дайхо кобаку
рокаку дзэндзю химицу дарани кё»
«Мёхо рэнгэкё» -см.: «Хоккэкё»
«Мндзукагами» 252, 253, 256
394
«Мидо кампаку кн» 176
«Мимосусогава утаавасэ» 324
«Минамото-но Йэнага никки» 332
«Минасэ сангин» 342
«Мин бао цзи» 99
«Миягава утаавасэ» 324
«Миякодзи-но вакарэ» 281
«Могами-но кавадзи» 281
«Мои личные выборки» - см.: «Гукансё»
«Молитвословия» - см.: «Норито»
«Монтоку дзицуроку» 92, 118, 162
«Моритакэ сэнку» 350
«Мотомэдзука» 124
«Мумё-но ки» 281
«Мумёсё» 288
«Мурасаки-сикибу никки» 152-154, 156,
158, 160 165, 185, 193, 255
«Мэйгэцу ки» 268, 328, 339
«Нарихира сю» 123
«Наставления в трёх учениях» - см.:
«Санго сиики»
«Наставления грешнику» 360
«Небесное платье» 105. 310
«Непрошенная повесть» - см.: «Товадзу-
гатари»
«Нинногё» 77
«Ниб» 318
«Ничто гухо дзюнрэй коки» 87
«Нихонги» 23, 25. 31-38, 41. 46, 49-51, 53,
55-57, 61, 77 79. 100 118, 132, 161-163,
204, 221, 266, 282
«Нихон коки» 118
«Нихонкоку гэмпо дзэнъаку рёи ки» -
см.: «Нихон рёики»
«Нихон Монтоку-тэнно дзицуроку» -
см.: «Монтоку дзицуроку»
«Нихон рёики» 98, 101, 102, 189, 253, 265,
266
«Нихон секи» - см.: «Нихонги»
«Новое Кокинсю» - см.: «Син Кокин
вакасю»
«Новая отечественная история» - см.:
«Синкокуси»
«Новое императорское собрание япон-
ских песен» - см.: «Синтёкусэн вака-
сю»
«Новое Продолжение Кокин вакасю» -
см.: «Син Сёку Кокин вакасю»
«Новое собрание, преодолевающее
облака» -см.: «Рёунсю»
«Новые юэфу» 94
«Нономия» 310
«Норито» 55
«Нуси» 318
«Нынешнее Зерцало» - см.: «Имака-
гами»
«Нэдзамэ моногатари» 167, 168, 169, 170
Нэмбуцу 309
«Обстоятельства сражений, в четырех
частях» - см.: «Сибу кассэндзё»
«Огура Хякунин иссю» - см.: «Хякуиин
всею»
«Окагами» 185-188 193, 252-254, 258
«Окина» 304, 307
«Описание Вэй» - см.: «Вэй ши»
«Описание паломничества в страну Тан
в поисках дхармы» - см.: «Нитто гухо
дзюнрэй коки»
«Основные даты жизни наставника Ик-
кю» - см.: «Иккю-осё нэмпу»
«Отикубо моногатари» 112-115 117, 162
«Отправление в столицу» - см.:
«Миякодзи-но вакарэ»
«Песнь бесконечной тоски» / 96
«Повести, собранные в Удзи» - см.:
«Удзи сюи моногатари»
«Повесть из Ямато» - см.: «Ямато моно-
гатари»
«Повесть о братьях Сога» - см.: «Сота
моногатари»
«Повесть нз Исэ» - см.: «Исэ монога-
тари»
«Повесть о Великом мире» - см.:
«Тайхэйки»
«Повесть о войне между рыбами и пти-
цами» 301
«Повесть о Гэндзи» - см.: «Гэндзи мо-
ногатари»
«Повесть о доме Тайра» - см.: «Хэйкэ
моногатари»
«Повесть о дупле» - см.: «Уцухо мо-
ногатари»
«Повесть о Ёсицунэ» - см.: «Гикэйки»
«Повесть о Идзуми-сикибу» - см :
«Дневник Идзуми-сикибу»
«Повесть о преемственности поколе-
ний» - см. «Ёцуги моногатари»
«Повесть о прекрасной Отикубо» - см.:
«Отикубо моногатари»
«Повесть о процветании» - см.: «Эйга
моногатари»
«Повесть о сражениях между воронами
и цаплями» 301
«Повесть о Сагоромо» - см.: «Сагоромо
моногатари»
«Повесть о советнике Плотина» - см.:
«Цуцуми-тюнагон моногатари»
«Повесть о советнике Хамамацу» - см.:
«Хамамацу-тюнагон моногатари»
«Повесть о старике Такэтори» - см.:
«Такэтори моногатари»
«Повесть о Хэйтю» - см.: «Хэйтю мо-
ногатари»
395
«Позднее составленное собрание япон-
ских песен» - см.: «Госэн вакасю»
«Поездка в Шу» 282
«Полировка драгоценного камня» - см.:
«Эйгёкусю»
«Поучения Синкэй-содзу в его саду» -
см.: «Синкэй-содзу тэйкин»
«Поэтические шедевры нового време-
ни» - см.: «Киндай сюка»
«Поэтическое собрание Нарихира» -
см.: «Нарихира сю»
«Поэтическое собрание, рождённое в
облаках» - см.: «Рёунсю»
«Поэтическое состязание во дворце
вдовствующей императрицы в авгус-
тейшее правление Кампё» - см.: «Кам-
пё-но онтоки-но кисаи-но мия-но ута-
авасэ»
«Поэтическое состязание на дальнем
острове» - см.: «Энто онъутаавасэ»
«Праджня-парамита-сутра» 309
«Предание о Цветке стиля» - см.: «Фуси
кадэн»
«Пробуждение в полночь» - см.: «Нэдза-
мэ моногатари»
«Продолжение Анналов Японии» - см.:
«Секу Нихонги»
«Продолжение Бесед о делах древнос-
ти» - см.: «Дзоку Кодзидан»
«Продолжение Госэн вакасю» - см.:
«Сёку Госэн вакасю»
«Продолжение Ёцуги» - см.: «Имака-
гами»
«Продолжение Манъёсю» - см.: «Ко-
кинсю»
«Продолжение Собрания Безумного
Облака» - см.: «Дзоку Кёунсю»
«Путешествие Ондзоси на острова» 362
«Путь по реке Могами» - см.: «Могами-
но кавадзи»
«Пятьсот стихотворений с дальнего ос-
трова» - см.: «Энто гохякусю»
«Резной дракон литературной мысли» 64
«Рёунсю» («Рёун синею») 60, 97, 131
«Риккокуси» 34, 35, 118, 162, 183, 184, 253
255, 258
«Риндзай року» 354
«Рокурин итиро-но ки» 314
«Ронго» - см.: «Лунь юй»
«Руководство по поэзии» 64
«Рукописи Сёкэна» - см.: «Сёкэн ко»
«Рюсуйсю» 356
«Сага-но каёи дзи» 281, 282
«Сагоромо» - см.: «Сагаромо монога-
тари»
«Сагоромо моногатари» 171, 172, 173
«Саддхарма Пундарика-сутра» 309
«Саики» 300
«Сайхокусю» 352
«Самбо экотоба» 102
«Самгук юса» 54
«Сангодайсю» 328
«Санго сиики» 85, 185
«Сандай дзицуроку» 35, 92, 118. 162
«Сандайсю» 96
«Санкасю» 324
«Сануки-но сукэ никки» 146
«Сарасина никки» 167, 179-181, 282
«Сасамэгото» 346
«Сборник годов Чанцин господина Бо» -
см.: «Бо-ши Чанцин цзи»
«Сборник годов Чанцин господина
Юань» - см.: «Юань-ши Чанцин цзи»
«Сборник из ста стихотворений эры
Сёдзи» - см.: «Сёдзи хякусю»
«Сборник сочинений господина Бо» -
см.: «Бо-ши вэньцзи»
«Свод законов Тайхорё» - см.: «Тайхо
Ёрб рё»
«Сёдзи хякусю» 331
«Сёку Госэн вакасю 340»
«Сёку Госэнсю» - см.: «Сёку Госэн ва-
касю»
«Сёку Ёцуги» - см.: «Имакагами»
«Сёку Нихон коки» 118
«Сёку Нихонги» 46, 118, 263
«Сёкэн ко» 356
«Сёмонки» 226, 238
«Сибу кассэндзё» 238
«Синдзё-хоси никки» 281
«Синдзё-хоси сю» 281
«Син Кокинсю» - см.: «Син Кокин ва-
касю»
«Син Кокин вакасю» 96, 256, 324, 329,
332-337, 340
«Синкокуси» 163
«Синкэй-содзу тэйкин» 346
«Син Сёку Кокин вакасю» 340, 345
«Синсики Конъан» 345
«Синсэн вакасю» 139, 192
«Синсэн дзуйно» 194
«Синсэн Ину Цукуба сю» 349
«Синсэн Цукуба сю» 347, 348, 350
«Син тёкусэн вакасю» 263. 271, 336, 337
«Синто гобусё» 220, 259
«Синтосю» 221, 270, 271
«Сира кава кикб» 347
«Сказание о годах Хогэн» - см.: «Хогэн
моногатари»
«Сказание о годах Хэйдзи» - см.: «Хэй-
дзи моногатари»
«Сказание о Ёсицунэ» - см.: «Гикэйки»
«Славословие "Лотосовой сутре"» 78
«Славословие Ста камням» 78
396
«Собачье Цукуба сю» - см.: «Ину Цу-
куба сю»
«Собрание Безумного Облака» - см.:
«Кёунсю»
«Собрание, выявляющее свойства души
Хэндзё» 86
«Собрание духовных побуждений» - см.:
«Хоссинсю»
«Собрание песка и камней» - см.: «Сясэ-
кисю»
«Собрание повестей о том, что ныне
уже старина» -см.: «Кондзяку монога-
тари сю»
«Собрание рассказов о духовном про-
буждении» - см.: «Хоссинсю»
«Собрание рассказов о Пути богов» -
см.: «Синтосю»
«Собрание с реки Удзи» - см.: «Синтё-
кусэн вакасю»
«Собрание [сочинений, полезных для)
управления страной» - см.: «Кэйко-
кусю»
«Собрание старого и нового, известного
и услышанного» - см.: «Кокон
тёмондзю»
«Собрание стародавних повестей» - см.:
«Кондзяку моногатари сю»
«Собрание старых и новых японских пе-
сен» - см.: «Кокинсю»
«Собрание стихотворений за 35 эр прав-
ления» - см.: «Сангодайсю»
«Собрание сумасшедших напевов
верхом на палочке» - см.: «Тикуба кё-
гинсю»
«Собрание шедевров культуры» - см.:
«Бунка сюрэйсю»
«Собрание японских и китайских стихо-
творений для декламации» - см.: «Ва-
каи роэйсю»
«Собрание японских песен, не вошед-
ших в прежние антологии» - см.: «Сюй
вакасю»
«Современный подход к новому сти-
лю» - см.: «Синсики Конъан»
«Сога моногатари» 246, 247, 249, 319
«Сороки» 356
«Сокровенная дхарани о добродетель-
ной жизни в Обширной башне Вели-
кой Драгоценности» - см.: «Дайхо ко-
баку рокаку дзэндзю химицу дарани кё»
«Сосны на побережье Мицу» - см.: «Ха-
мамацу-тюнагон моногатари»
«Старец»-см.: «Окина»
«Сотоба Комати» 305
«Стихотворное собрание для упорядо-
чения государства» - см.: «Кэйко-
кусю»
«Стихотворное собрание закононастав-
ника Синдзё» - см.: «Синдзё-хоси сю»
«Стихотворное собрание Укё-но дайбу
[из свиты] монашествующей импера-
трицы Кэнрэй-монъин» - см.:
«Кэнрэй-монъин Укё-но дайбу касю»
«Стихотворное состязание в доме Мини-
стра народных дел Ари[вара]» - см.:
«Дзай Мимбу-но кё утаавасэ»
«Стихотворное состязание на реке Ми-
мосусо» - см.: «Мимосусогава утаава-
сэ»
«Стихотворное состязание на реке
Мия» - см.: «Миягава утаавасэ»
«Сто стихотворений годов Кюан» - см.:
«Кюан хякусю»
«Сто стихотворений с дальнего остро-
ва» - см.: «Энто онхякусю»
«Сто стихотворений ста поэтов» - см.:
«Хякунин иссю»
«Сумидагава» 311
«Сутра Золотого света» - см.: «Конкомё
кё»
«Сутра Лотоса» - см.: «Хоккэкё»
«Сутра о Вималакирти» - см.: «Вимала-
кирти-нирдеша-сутра»
«Сутра-сердцевина о Праджня-парами-
те» 6, 77
«Сутра о Человеколюбивых царях» -
СМ.: «Нинногё»
«Сутра о Якуси» 77
«Сущность поэзии. [Руководство], вновь
составленное» - см.: «Синсэн дзуйно»
«Суэхирогари» 317
«Сэндзай вакасю» 328, 329, 330
«Сэндзайсю» - см.: «Сэндзай вакасю»
«Сюгёкусю» 256
«Сюи вакасю» 7 76, 193, 194. 195
«Сюисё» 194
«Сюисю» -см.: «Сюи вакасю»
«Сюрон» 318
«Сяоцзнн» 156, 274
«Сясэкисю» 269
«Тайки»_327
«Тайхо Ёро рё» 27, 28. 48^63
«Тайхорё» - см.: «Тайхо Ёро рё»
«Тайхэйки» 240, 241. 243. 245, 246, 277,
300, 361
«Тайхэйки нукигаки» 243
«Такэмуки-но ки» 277
«Такэтори моногатари» 105-111, 114,
116, 117. 118, 162
«Тан Вэнь цуй» 197
«Таннисё» 214
«Тёрокубуми» 347
«Тикуба кёгинсю» 350
«Тнкуринсё» 345
397
«Титэй-но ки» 147. 198, 290
«Товадзугатари» 283, 284, 286, 287, 323
«Тонн Кинсада нитидзи-но ки» 241
«Токан кико» 279
«Тонмён-ван» 51
«Торикаэбая моногатари» 173. 174
«Тоса никки» 138, 140-142. 156, 161, 256
«Тоса-но ники» - см.: «Тоса никки»
«Трава забвения» - см.: «Васурэгуса»
«Трипитака» 25, 103
«Тысяча куплетов Моритакэ» - см.:
«Моритакэ сэнпу»
«Тысячелетнее собрание японских пе-
сен» - см.: «Сэндзай вакасю»
«Удзи сюи моногатари» 264, 265, 266
«Удзигава сю» - см.: «Синтёкусэн ва-
касю»
«Усивака моногатари» - см.: «Гикэйки»
«Утатанэ-но ки» 273
«Уцубо моногатари» 113, 115, 116, 117,
118, 119. 120, 150, 163
«Уцухо моногатари» - см.: «Уцубо мо-
ногатари»
«Фуси кадэн» 312, 313
«Фусо рякки» 253
«Футари даймё» 317
«Хайкай рэнга» - см.: «Синсэн Ину Цу-
куба сю»
«Хамамацу-тюнагон моногатари» 169-
171, 179
«Хания харамицу сингё» - см.: «Сутра-
сердцевина о Праджня-парамите»
«Хань шу» 83, 77
«Харима фудоки» 51
«Хару-но фукаямадзи» 281, 282
«Хигаки» 309
«Хидзэн фудоки» 54
«Хикару Гэндзи моногатари» - см.:
«Гэндзи моногатари»
«Хитати фудоки» 52, 53, 54
«Хобуцусю» 264
«Хбгэн моногатари» 227, 228, 230, 231,
238
«Ходзёки» 198, 287, 288, 289, 290, 291
«Хоккэкё» 32. 77, 84, 179, 184, 186, 217,
218, 235. 293, 321, 354
«Хонтё дзоку мондзуй» 199
«Хонтё косо дэн» 251
«Хонтё мондзуй» 197, 198
«Хоссинсю» 269, 288
«Хоу Хань шу» 77
«Хэйдзи моногатари» 229, 230, 231, 238
«Хэйдзи-но ки» - см.: «Хэйдзи монога-
тари»
«Хэйкэ» 232
«Хэйкэ ки» 232
«Хэйкэ моногатари» 231-233, 235-240,
243, 246, 250-252, 301, 309, 310, 319. 360,
361
«Хэйтю моногатари» 120, 125
«Хякунин иссю» 337, 339, 356
«Цзацзуань» 150
«Цзинь ган бань яо цзин цзи янь цзи» 99
«Цзы чжи тун цзянь» 261
«Цукими дзато» 317
«Цукуба сю» 344, 347
«Цукуси-но фудоки» 53
«Цурэдзурэгуса» 232, 287. 291, 293, 294,
295
«Цуцуми-тюнагон моногатари» 174
«Четверокнижие» 354
«Шань хай цзин» 362
«Шёпот» - см.: «Сасамэгото»
«Шепчущий бамбук» 301
«Шесть отечественных историй» - см.:
«Риккокуси»
«Шесть тетрадей старых и новых япон-
ских песен» - см.. «Кокин вака
рокудзё»
«Ши цзи» - см.: «Исторические записки»
«Шицзин» 132
«Эгути» 506
«Эйга моногатари» 76, 183-188, 193, 266
«Эйгёкусю» 288
«Энгисики» 33
«Энтайряку» 293
«Энто гохякусю» 336
«Энто онъутаавасэ» 336
«Энто онхякусю» 336
«Юань-ши Чанцин цзи» 196
«Юйицу синто мёхо ёсю» 221
«Ямантака-дхарани» 296
«Ямато моногатари» 120, 124
«Японские легенды о чудесах» - см.:
«Нихон рёики»
«Ясное Зерцало» - см.: «Масукагами»
Оглавление
Введение.................................................5
Глава I. Литература древней эпохи
Дописьменный этап в японской литературе............20
Первые памятники литературы. Культура эпохи Нара...27
Первые стихотворные антологии. «Манъёсю»...........58
Ранняя буддийская книжность........................7^
Глава И. Литература раннего средневековья (IX—ХИ вв.)
Новый этап в истории общества и литературы.........80
Поэзия канси. Сугавара Митидзанэ...................89
Сборники буддийских сэцува.........................97
Появление японской письменности и литература......103
Ута-моногатари — поэтико-повествовательный жанр....120
Хэйанская поэзия. «Кокин вакасю»..................125
Ки-но Цураюки. «Тоса никки».......................138
Литература женского потока. «Кагэрб никки»,
«Макура-но соси»...............................142
Мурасаки-сикибу, её дневник и «Гэндзи моногатари»..151
Позднехэйанские моногатари........................167
Позднехэйанские дневники..........................175
Рэкиси моногатари. Литература или история?........181
Развитие прозы сэцува. «Кондзяку моногатари сю»...189
Позднехэйанская поэзия............................191
Заключение........................................200
Глава III. Литература развитого средневековья (XIII—XVI вв.)
Эпоха смут. Самурайский этап в истории Японии.....203
«Реформированный» буддизм средневековья...........212
Новые веяния в синто..............................220
Зарождение новой культуры.........................221
Гунки моногатари..................................225
Исторические сочинения............................252
Поздняя проза сэцува..............................262
Дневниково-мемуарная литература. Путевые заметки...271
Автобиографическая повесть........................283
Камо-но Тёмэй, Кэнкб-хбси. Эссеистические
произведения...................................287
Отогидздси........................................297
Средневековая драма Но и кёгэн....................303
Поэзия вака. Сайгё-хбси и Фудзивара-но Сюндзэй....319
Фудзивара-но Тэйка. «Син кокин вакасю»............329
Поэзия рэнга. Антологии...........................341
Литература Пяти монастырей (Годзан бунгаку).......351
Первое знакомство с европейскими литературами.....359
Заключение........................................362
Литература.............................................367
Указатель имен собственных.............................377
Указатель терминов.....................................387
Указатель названий произведений........................392