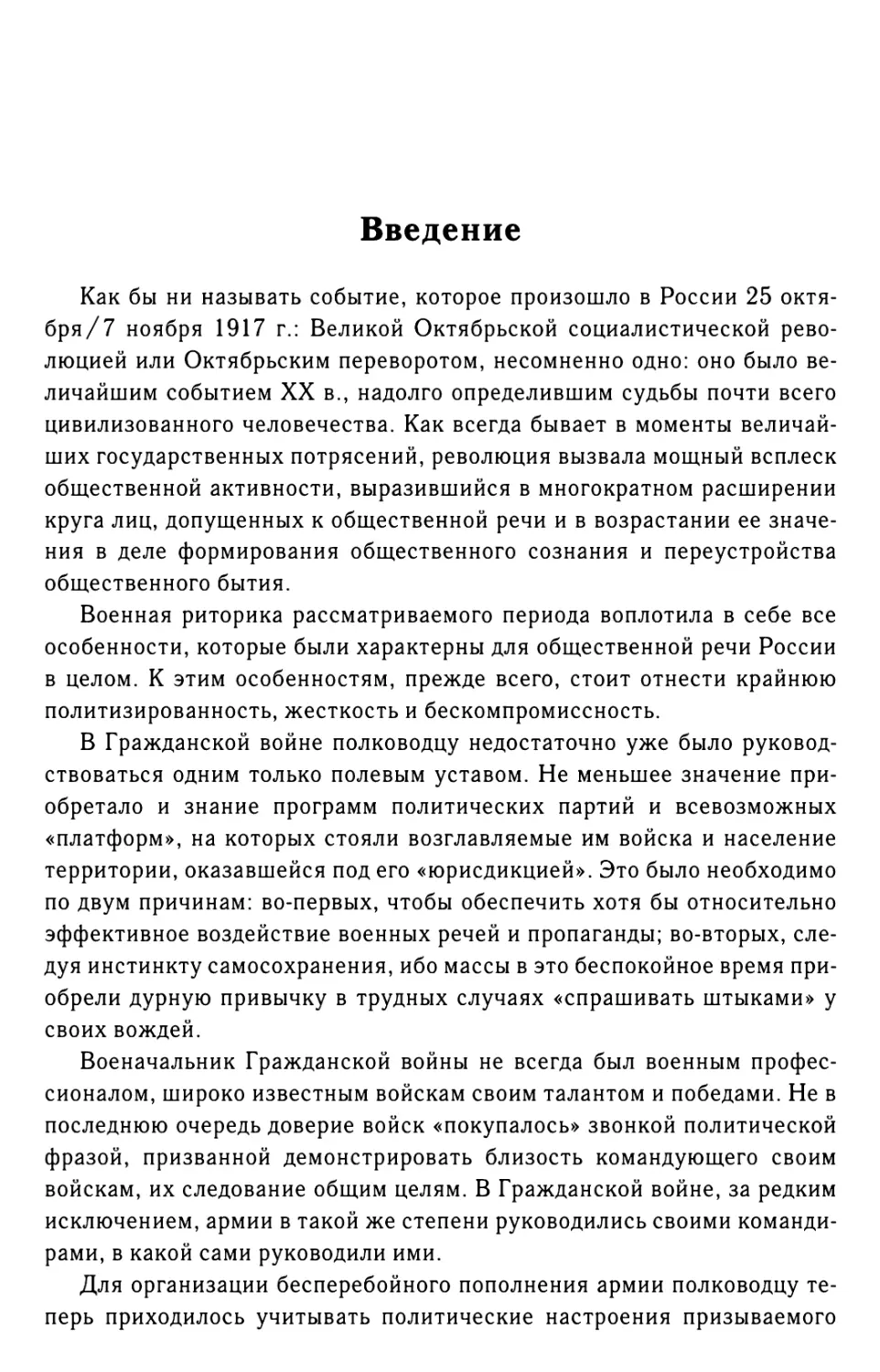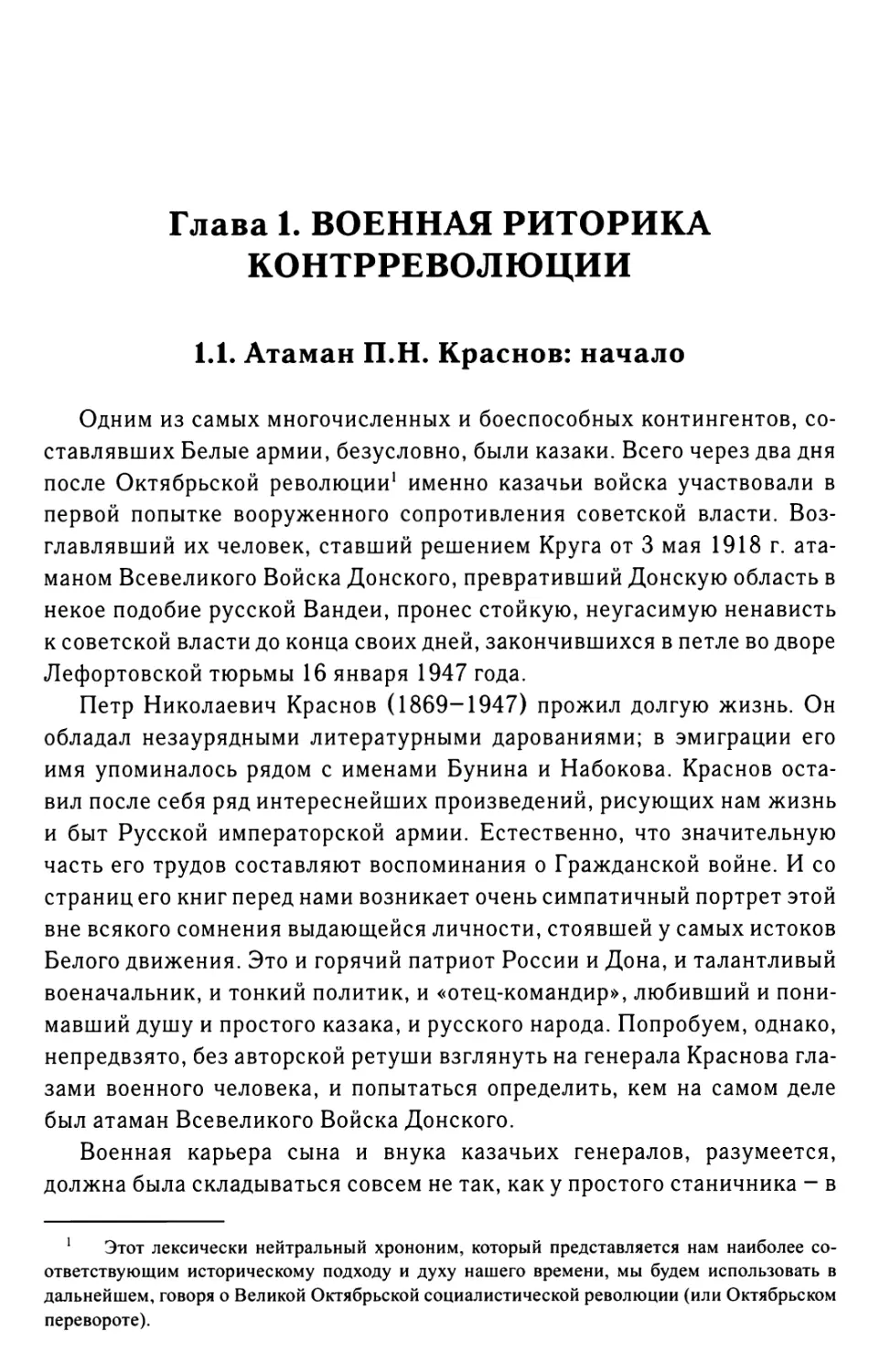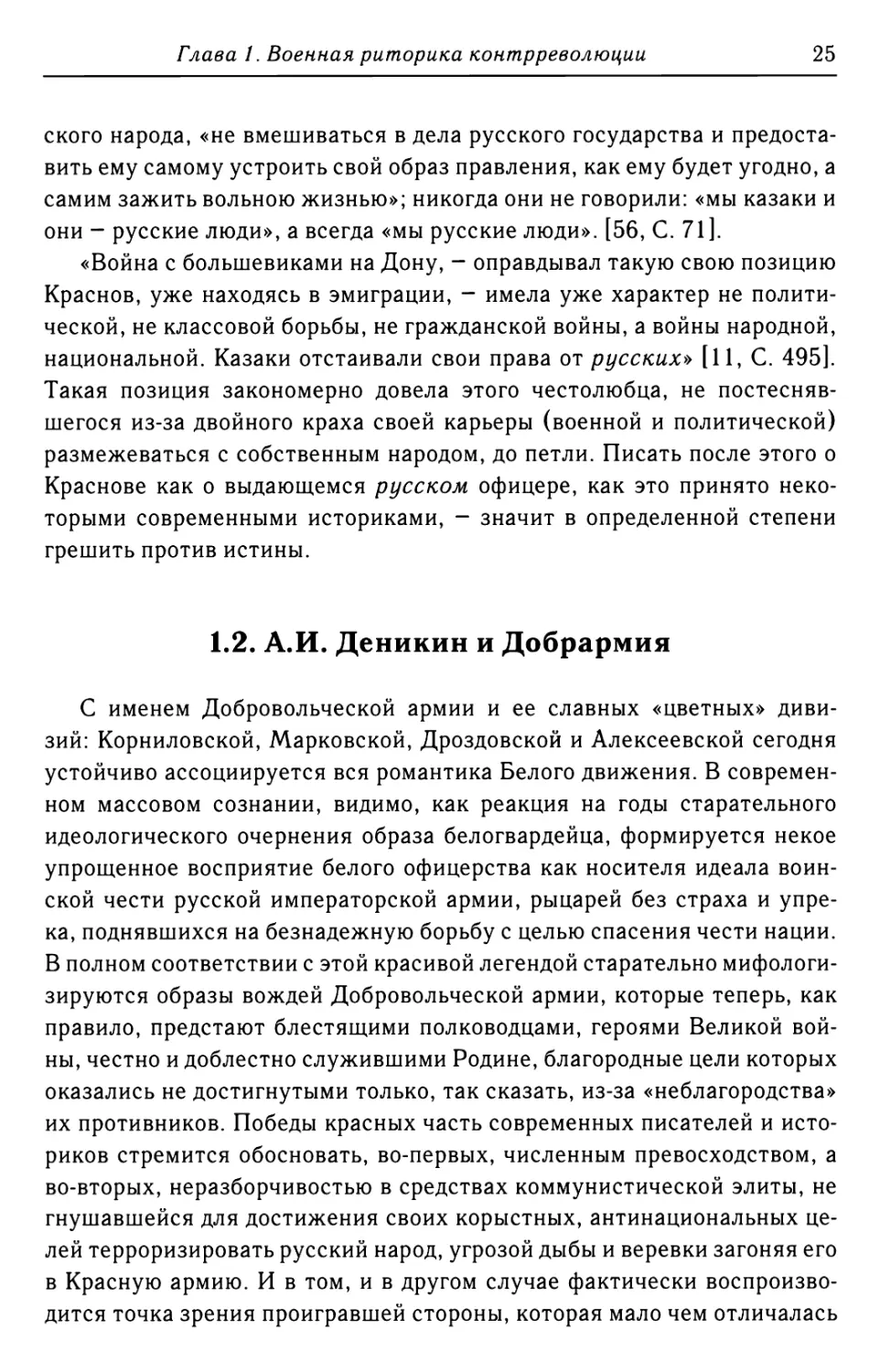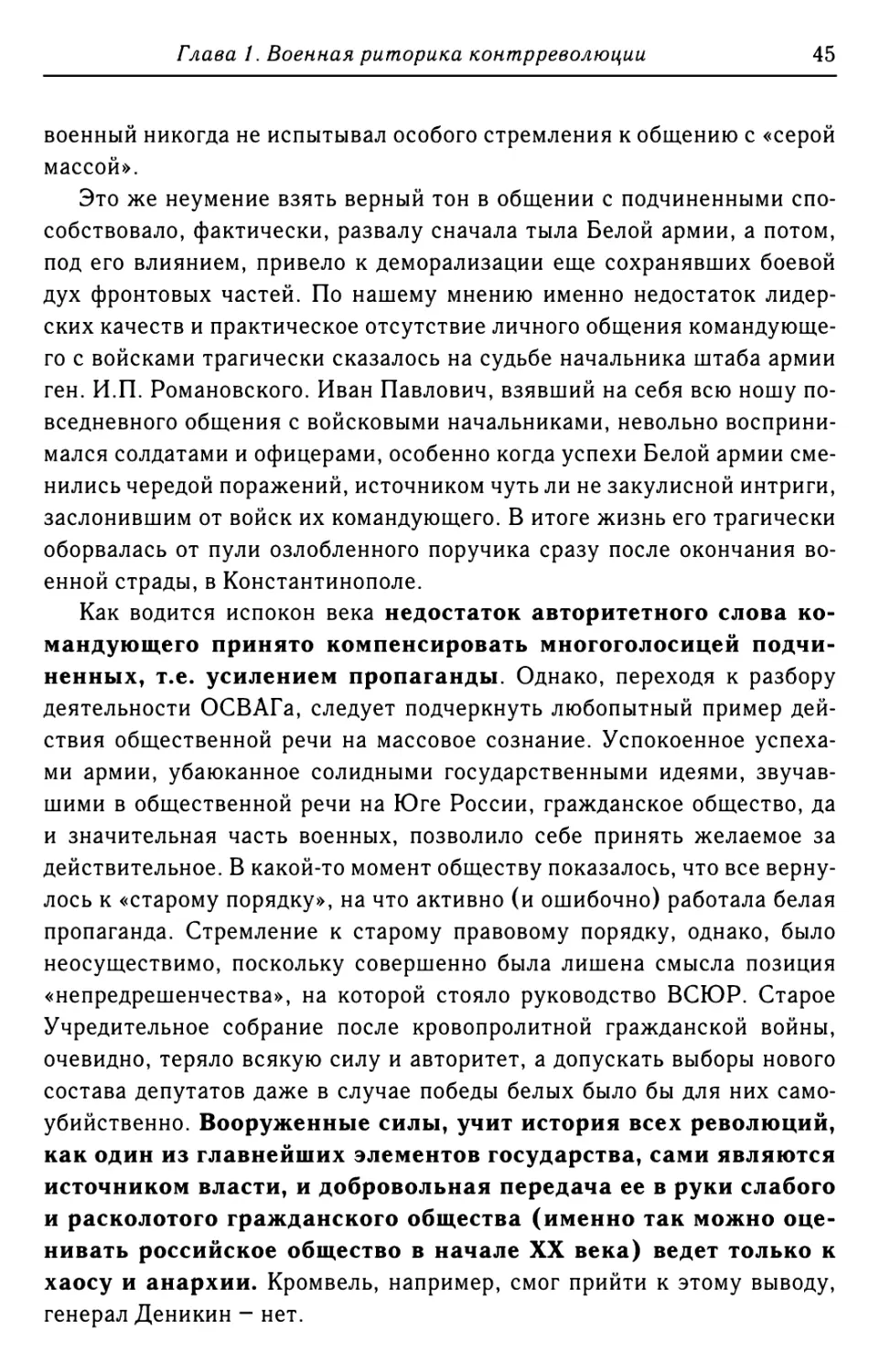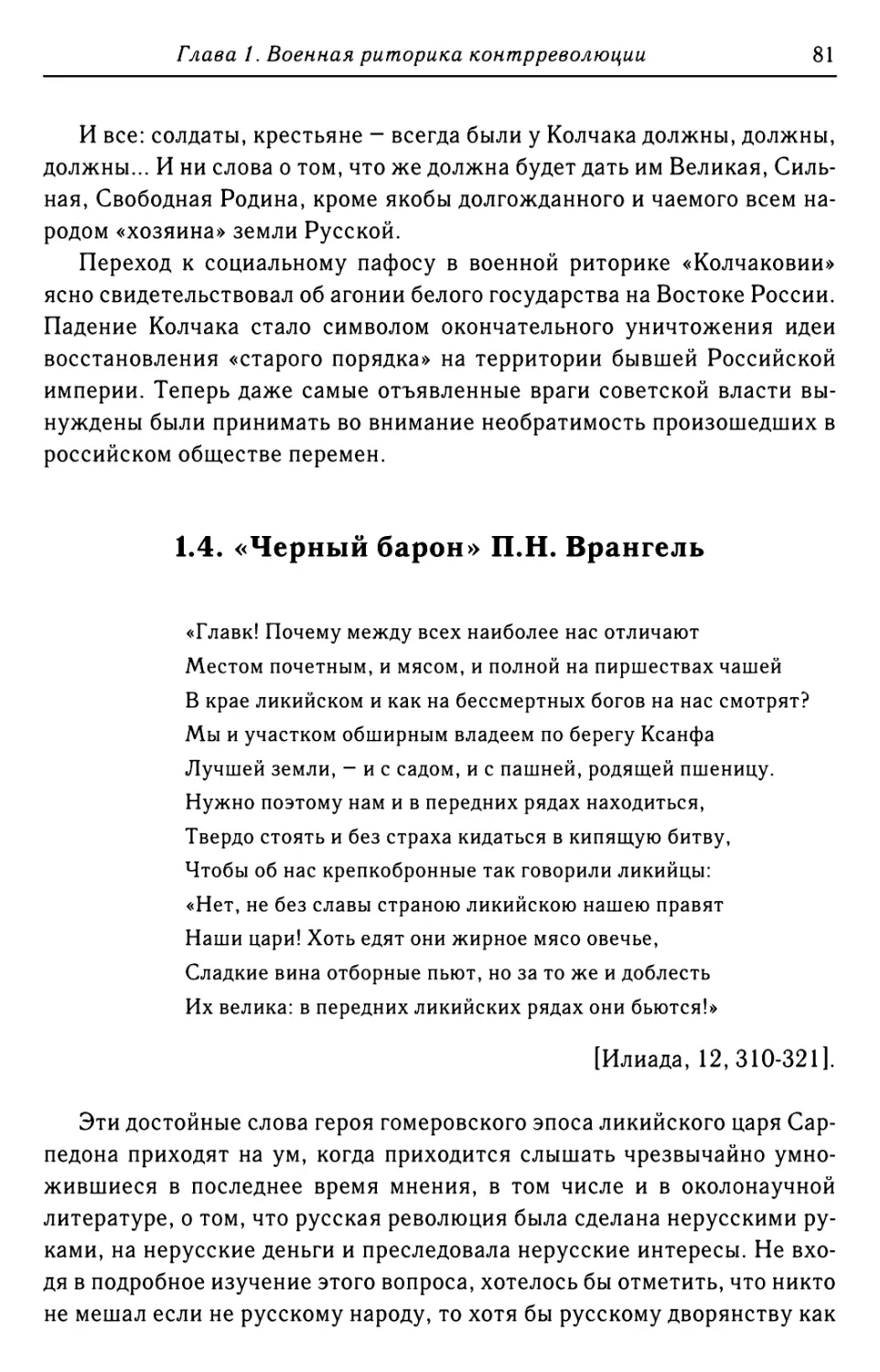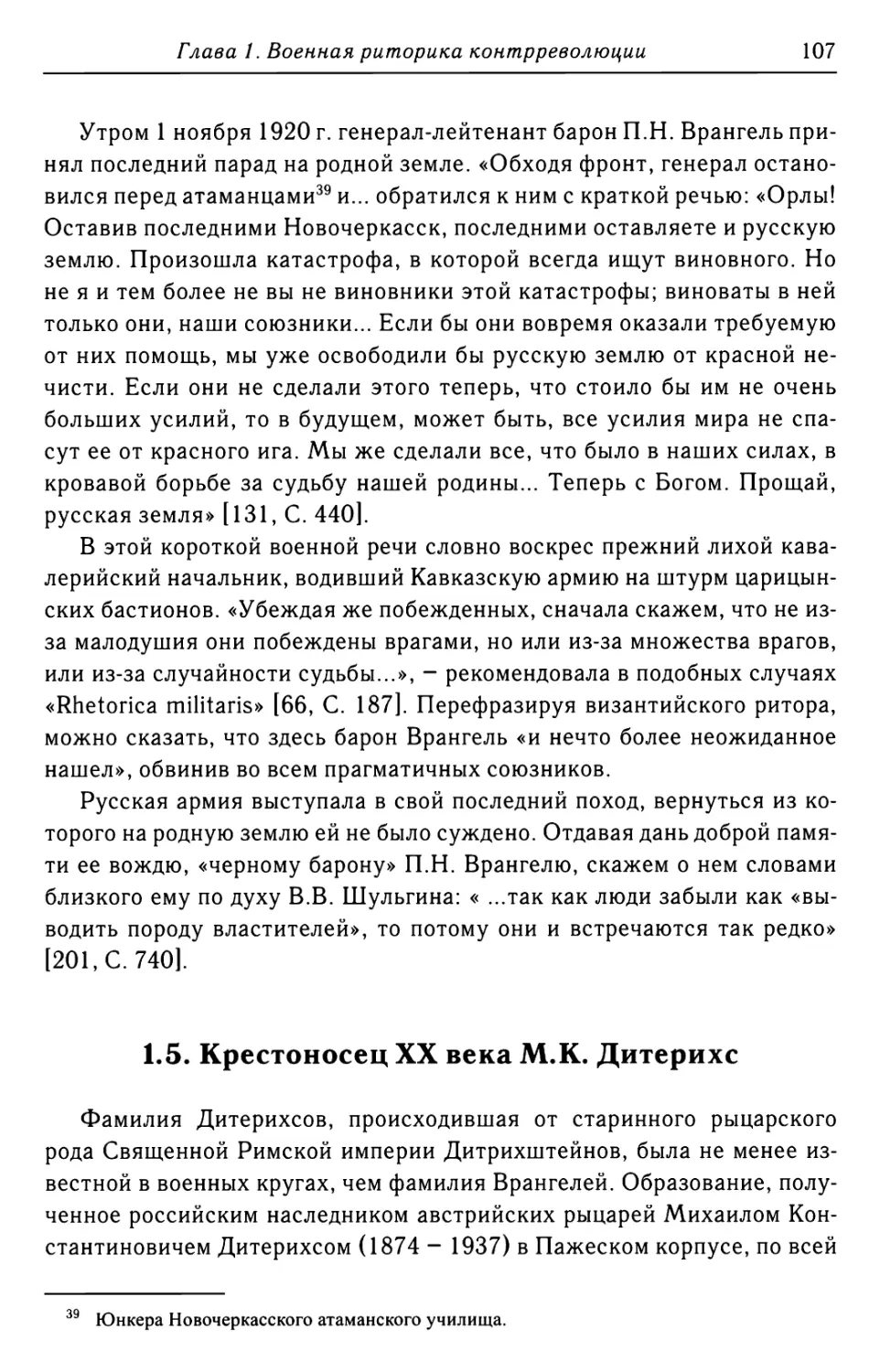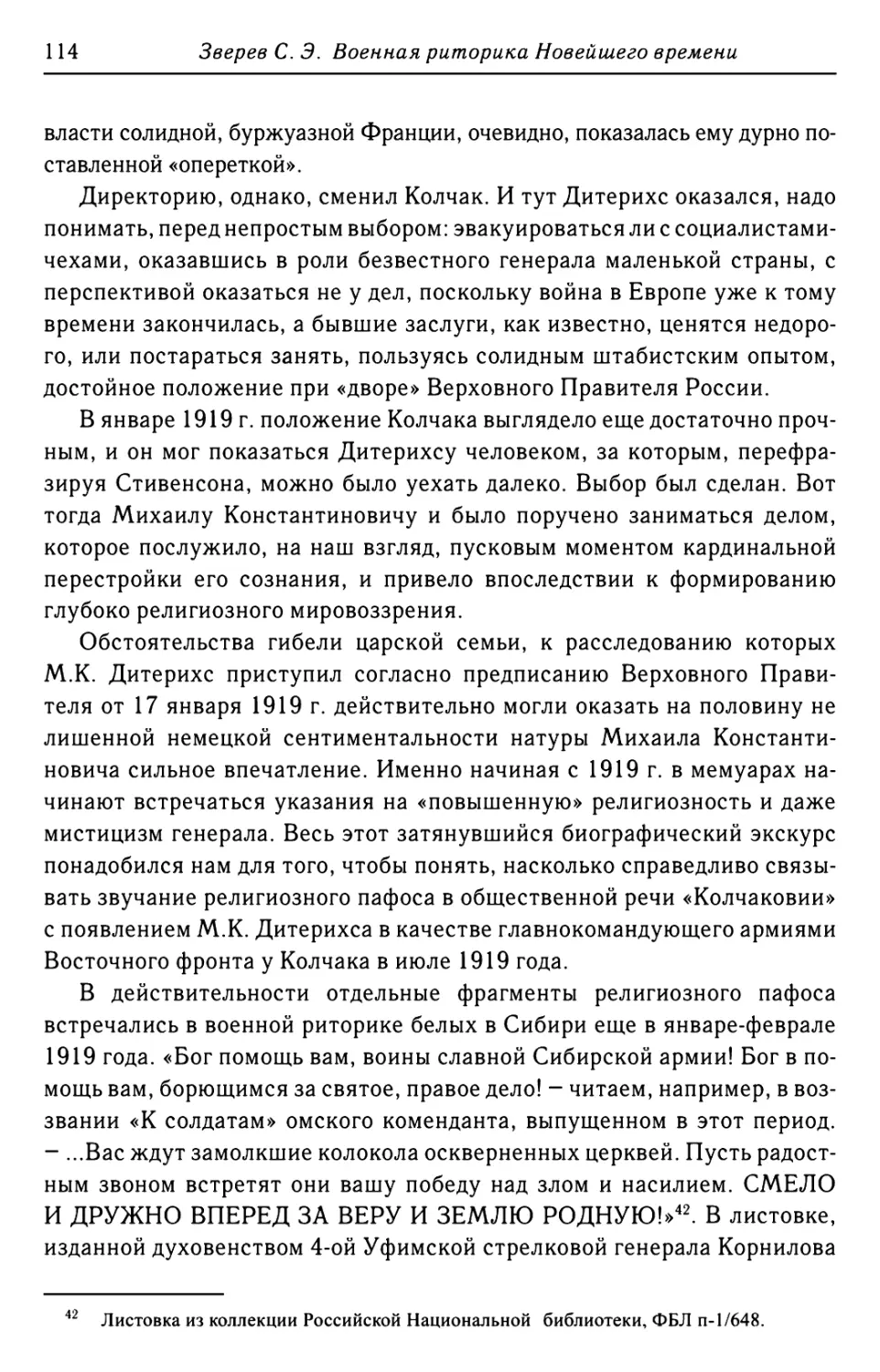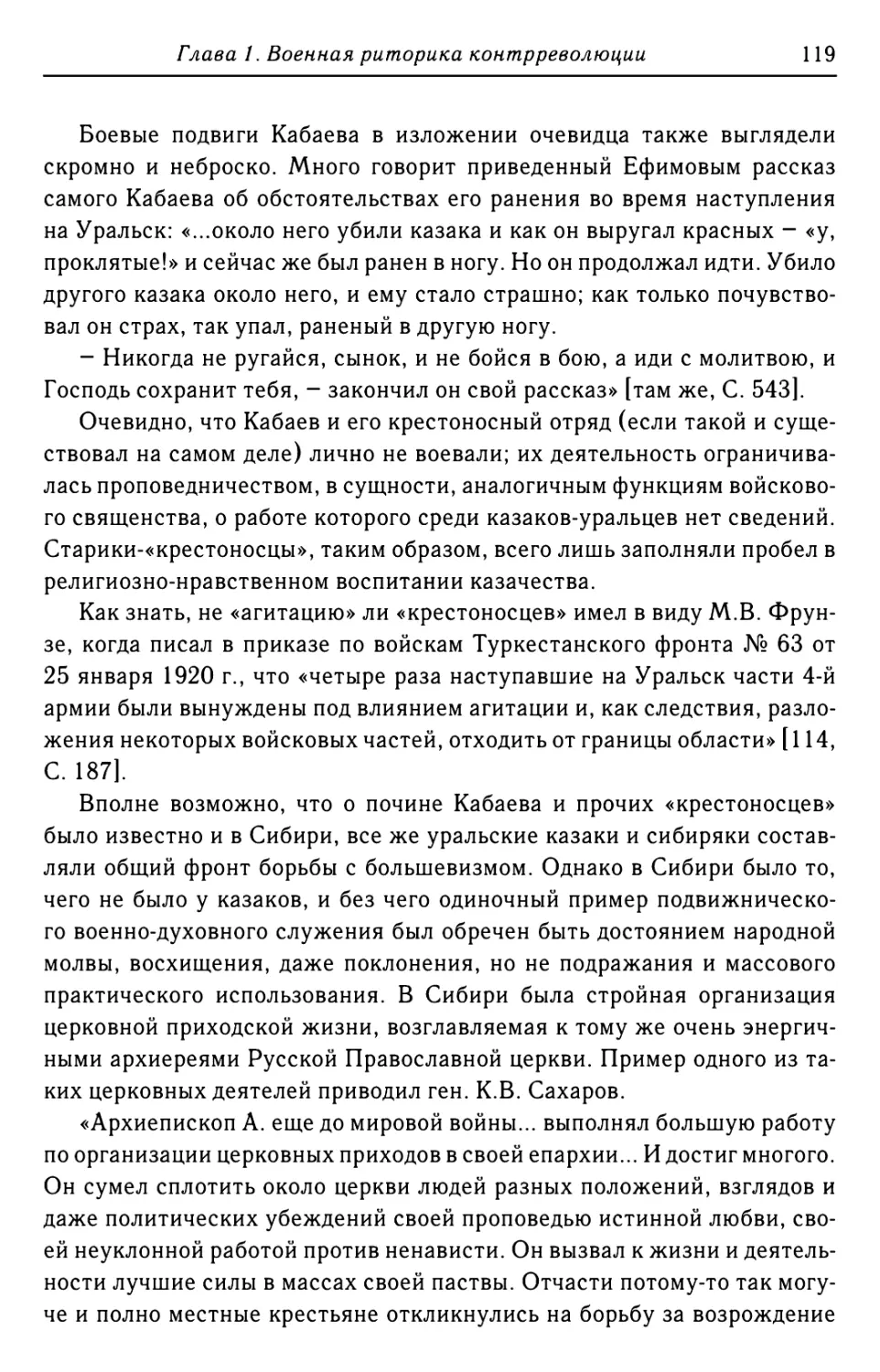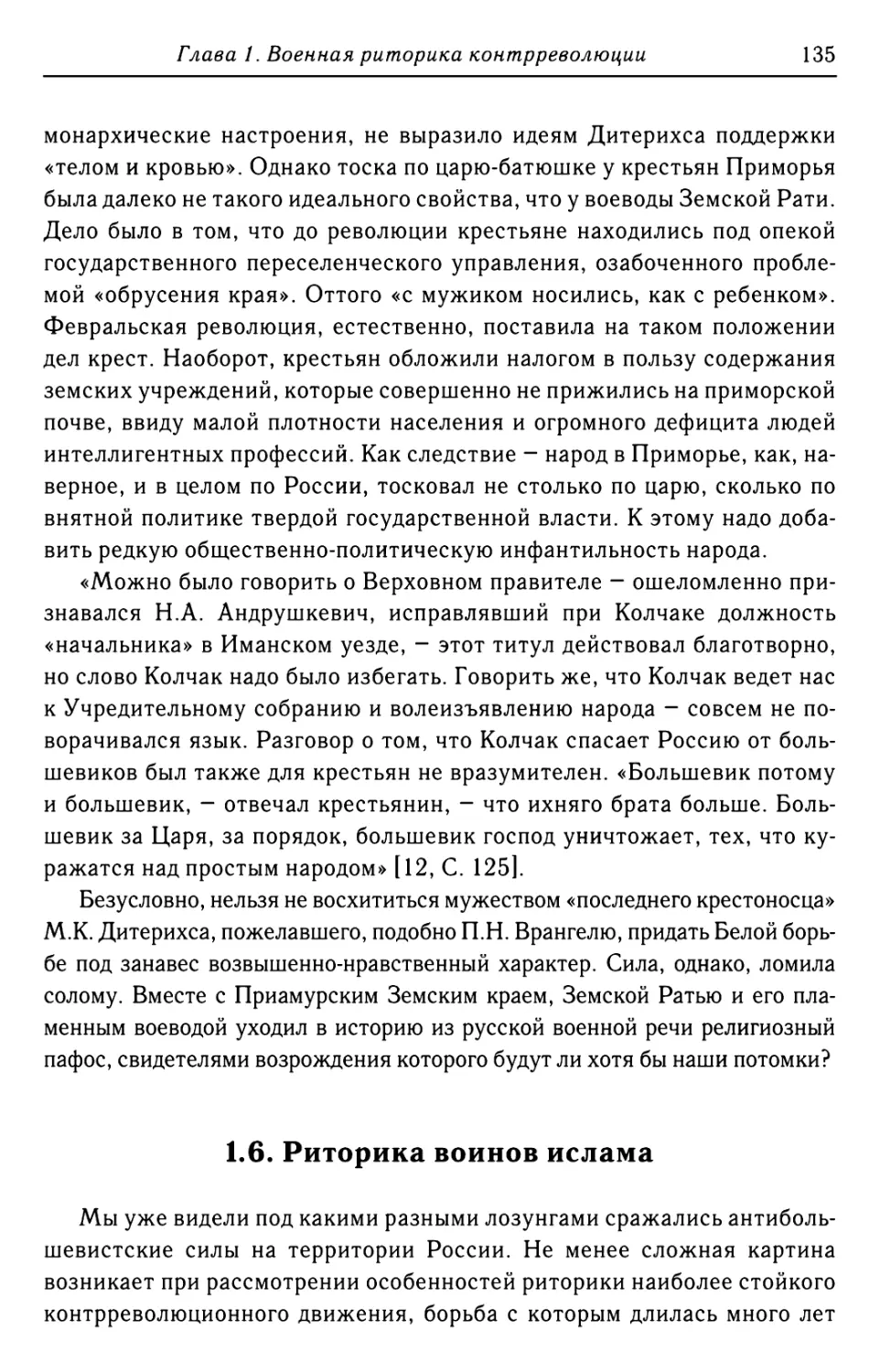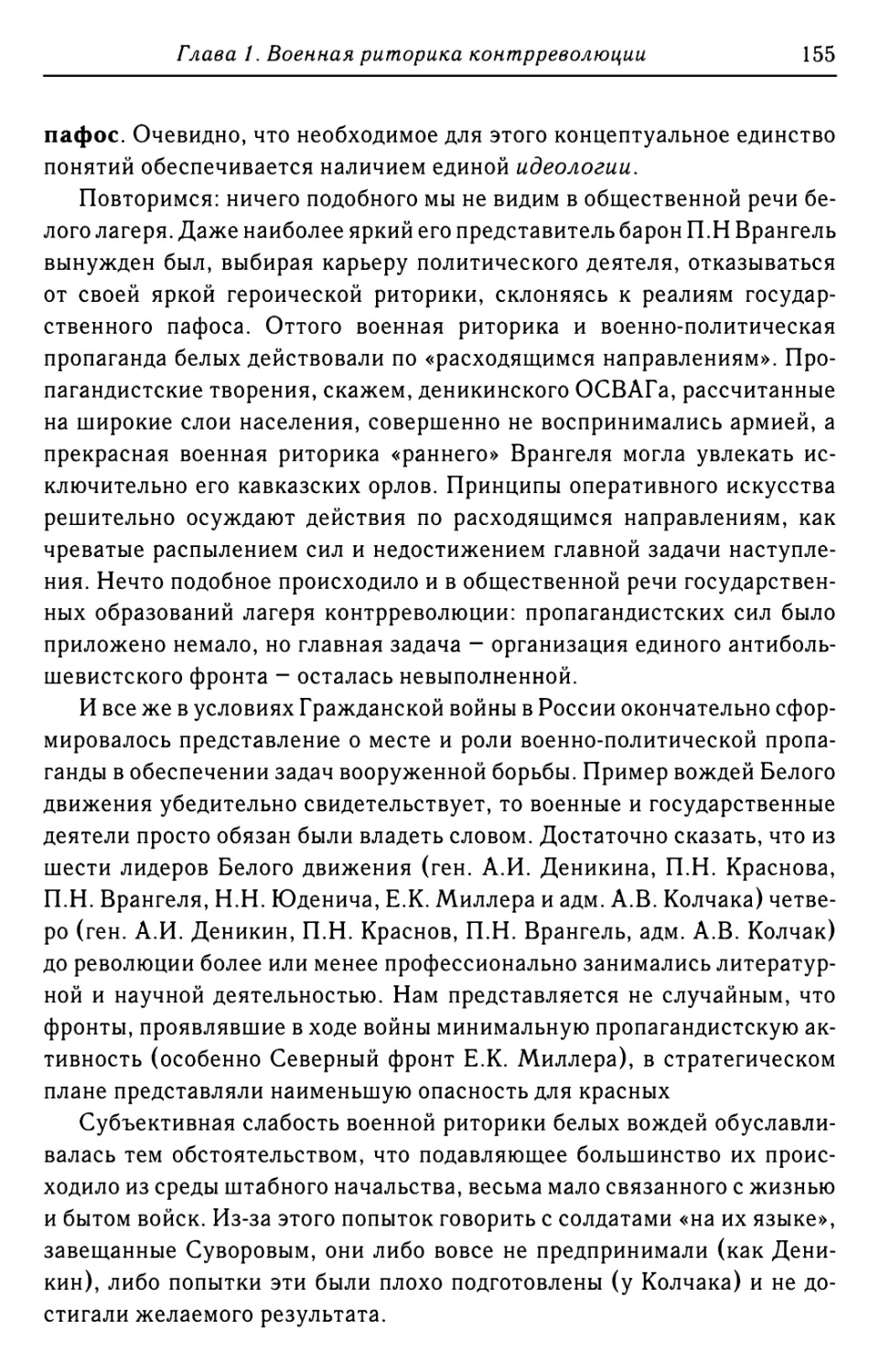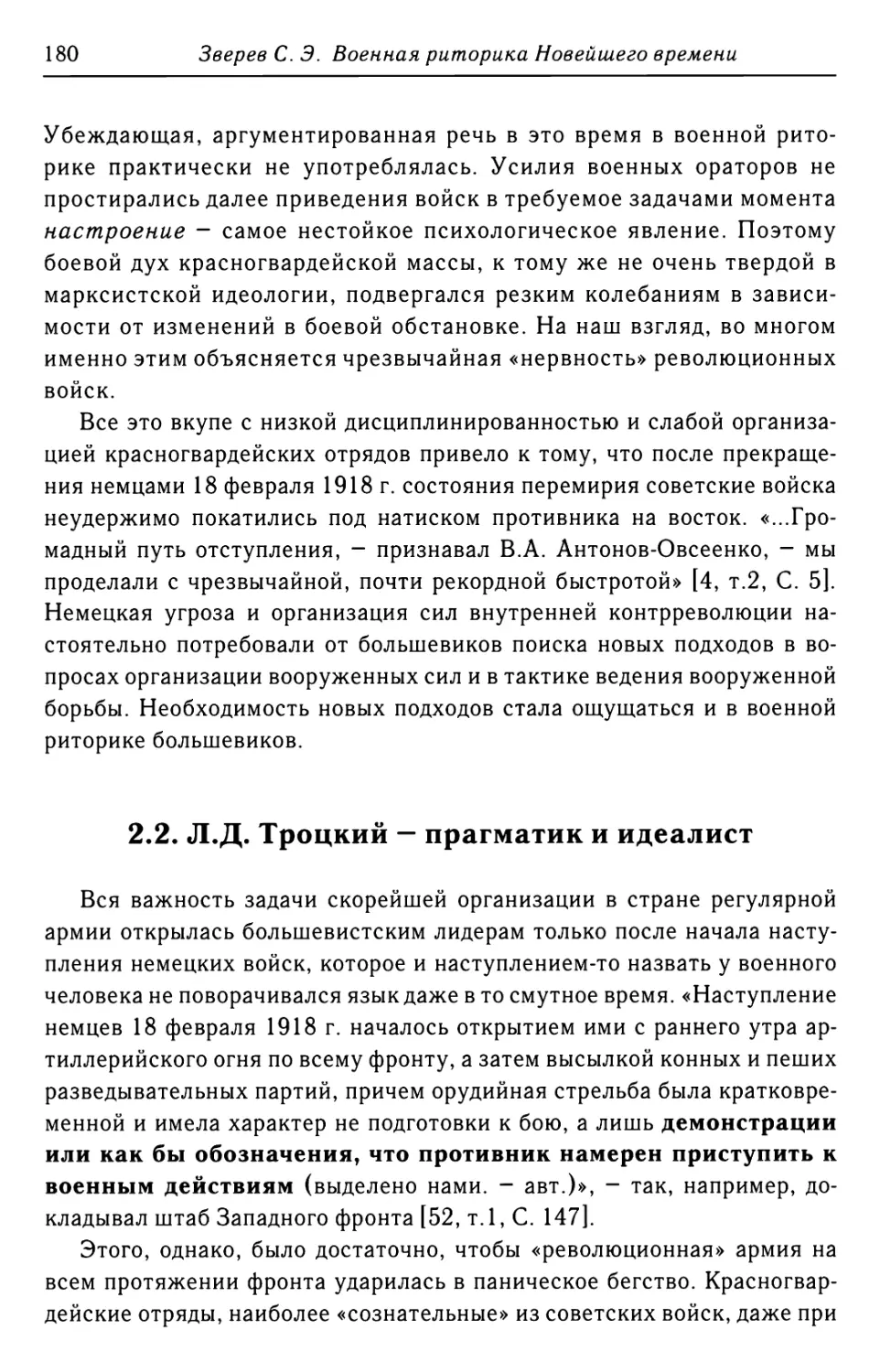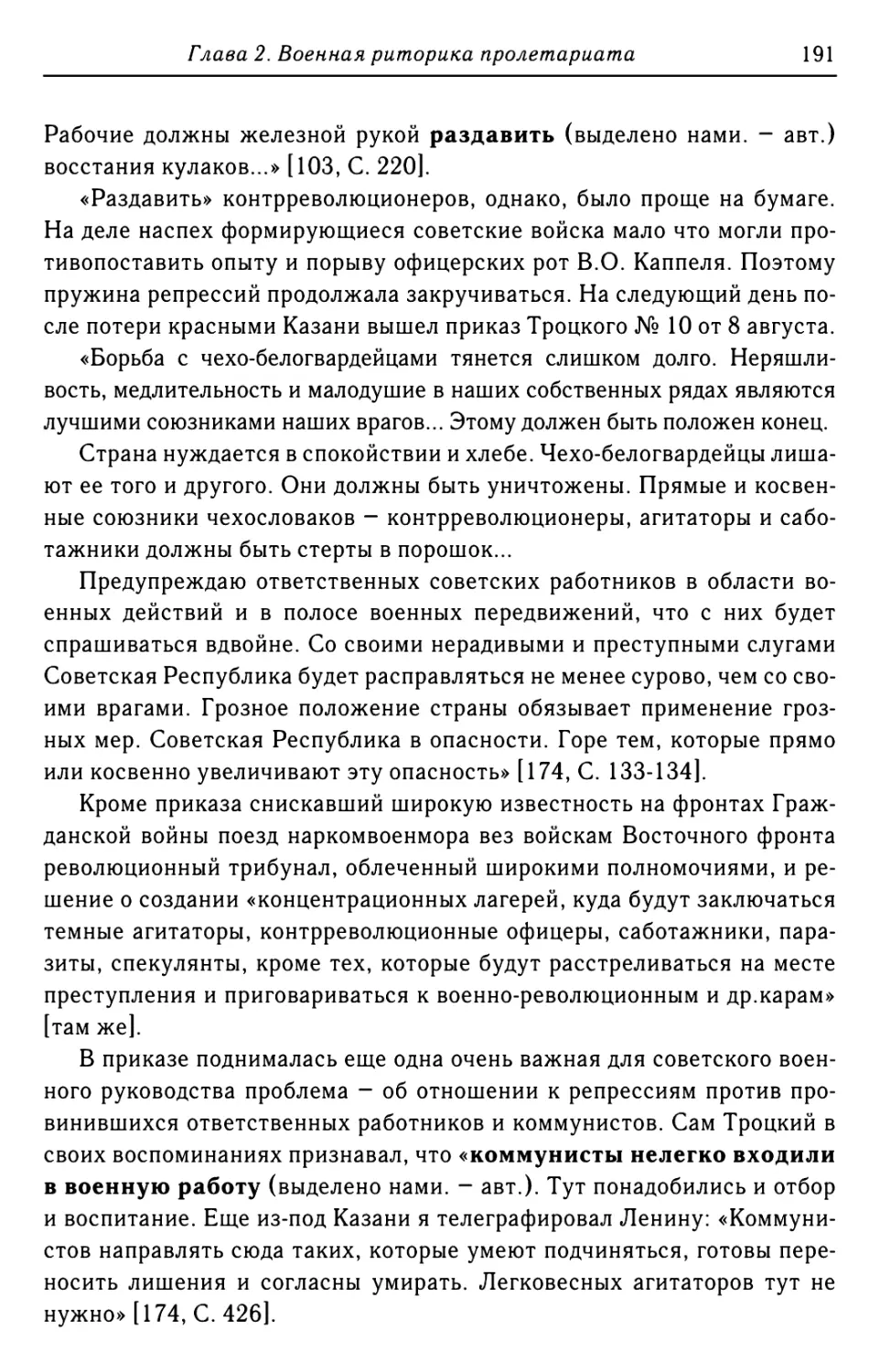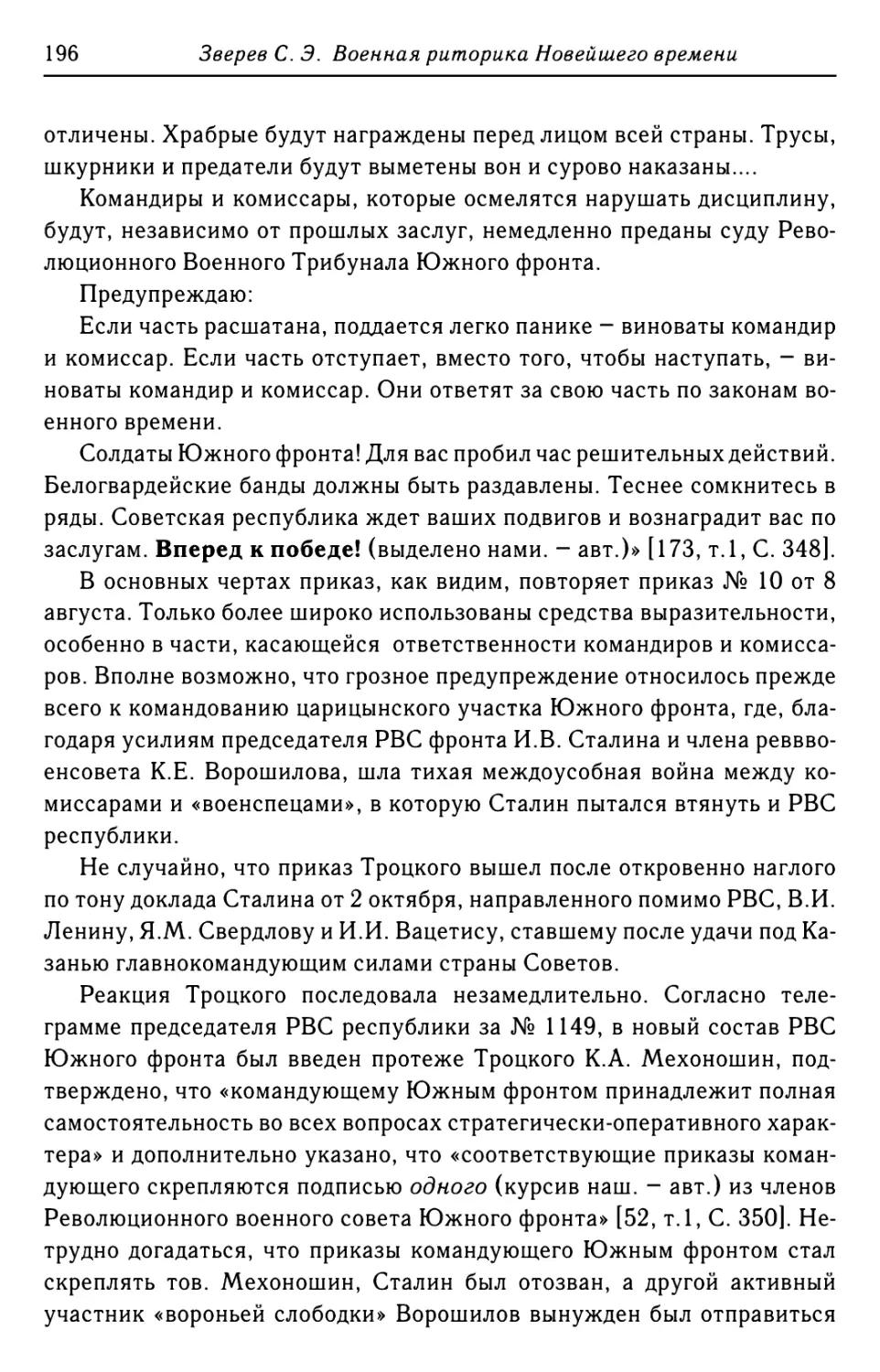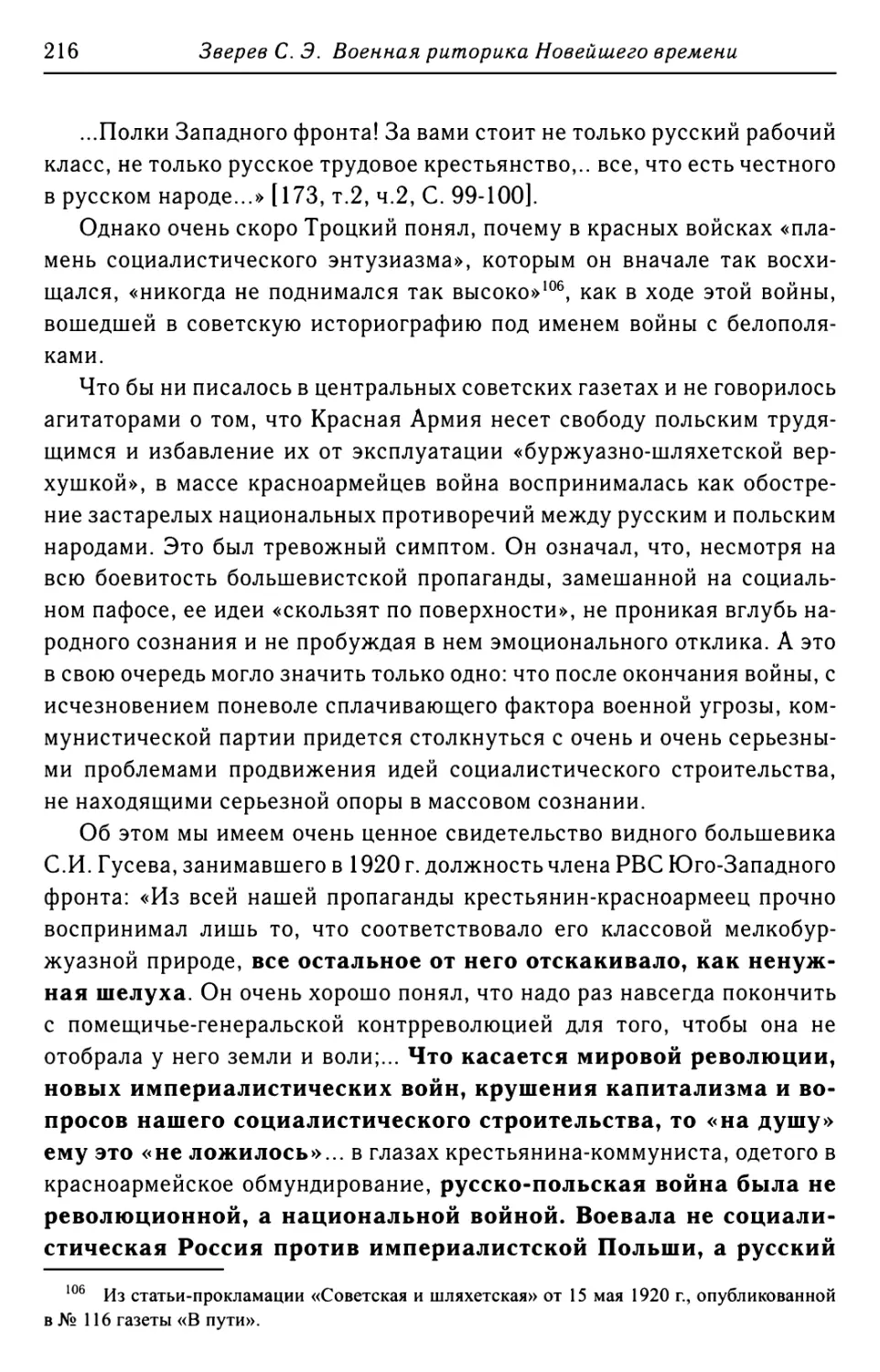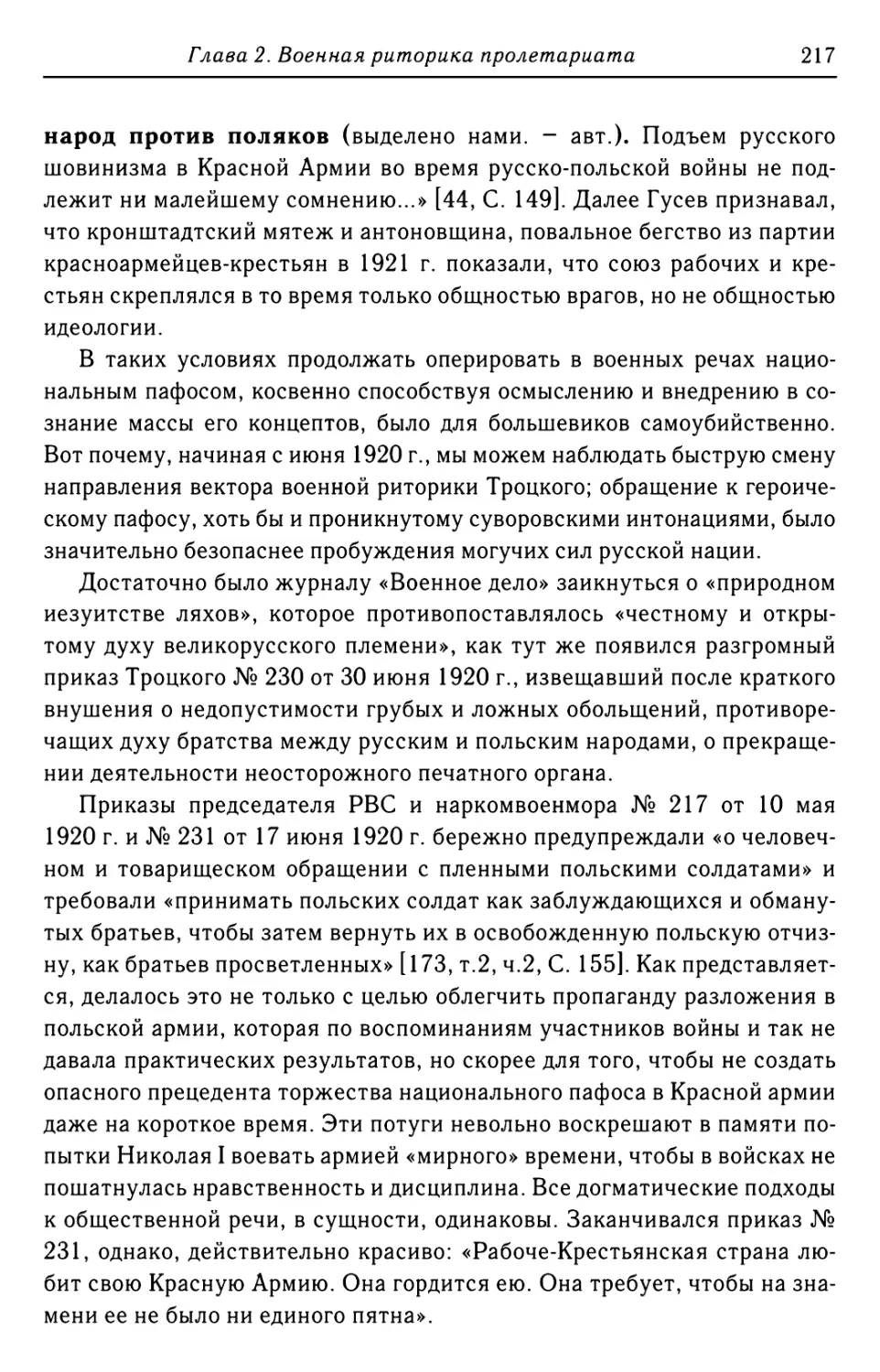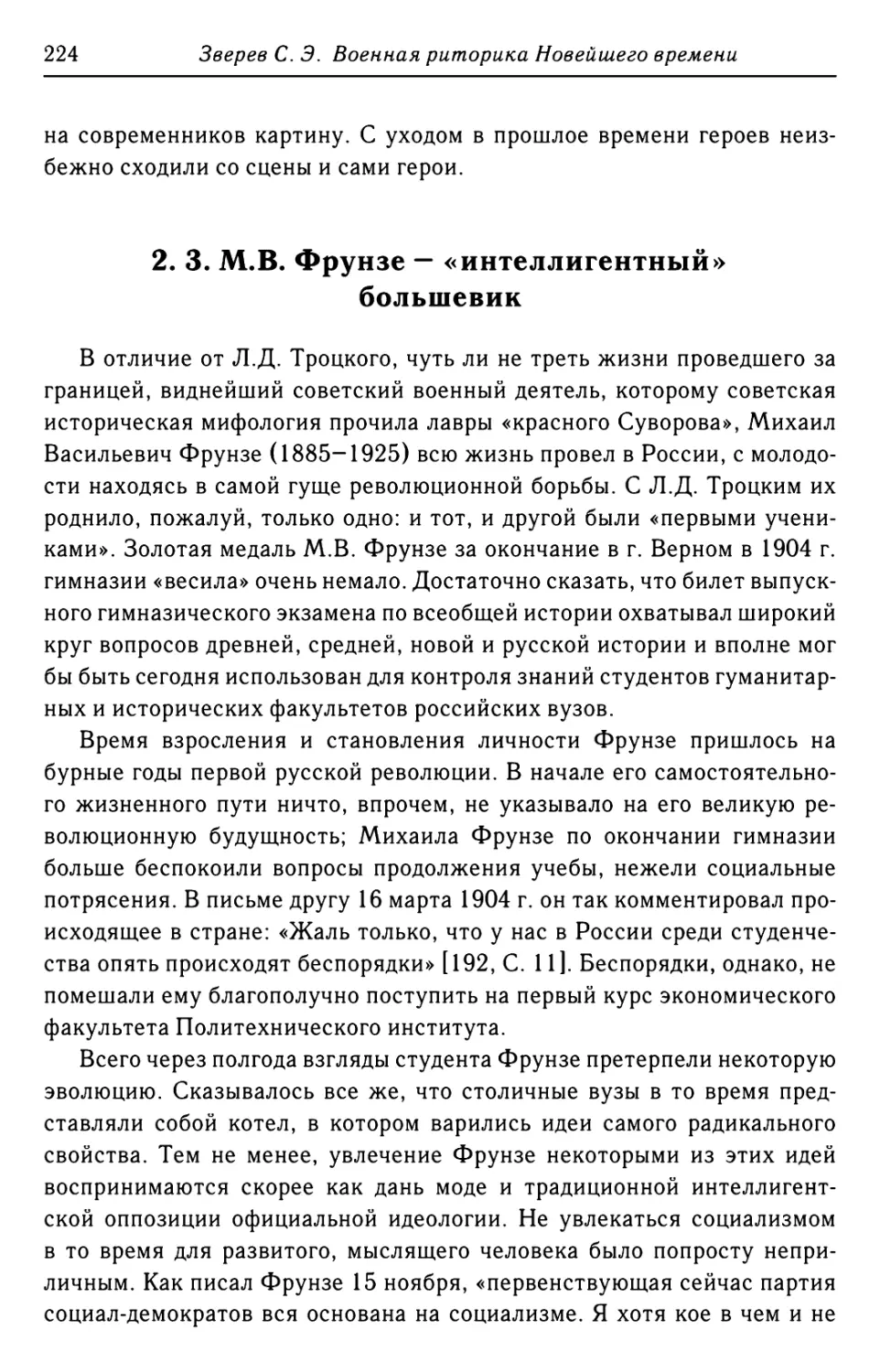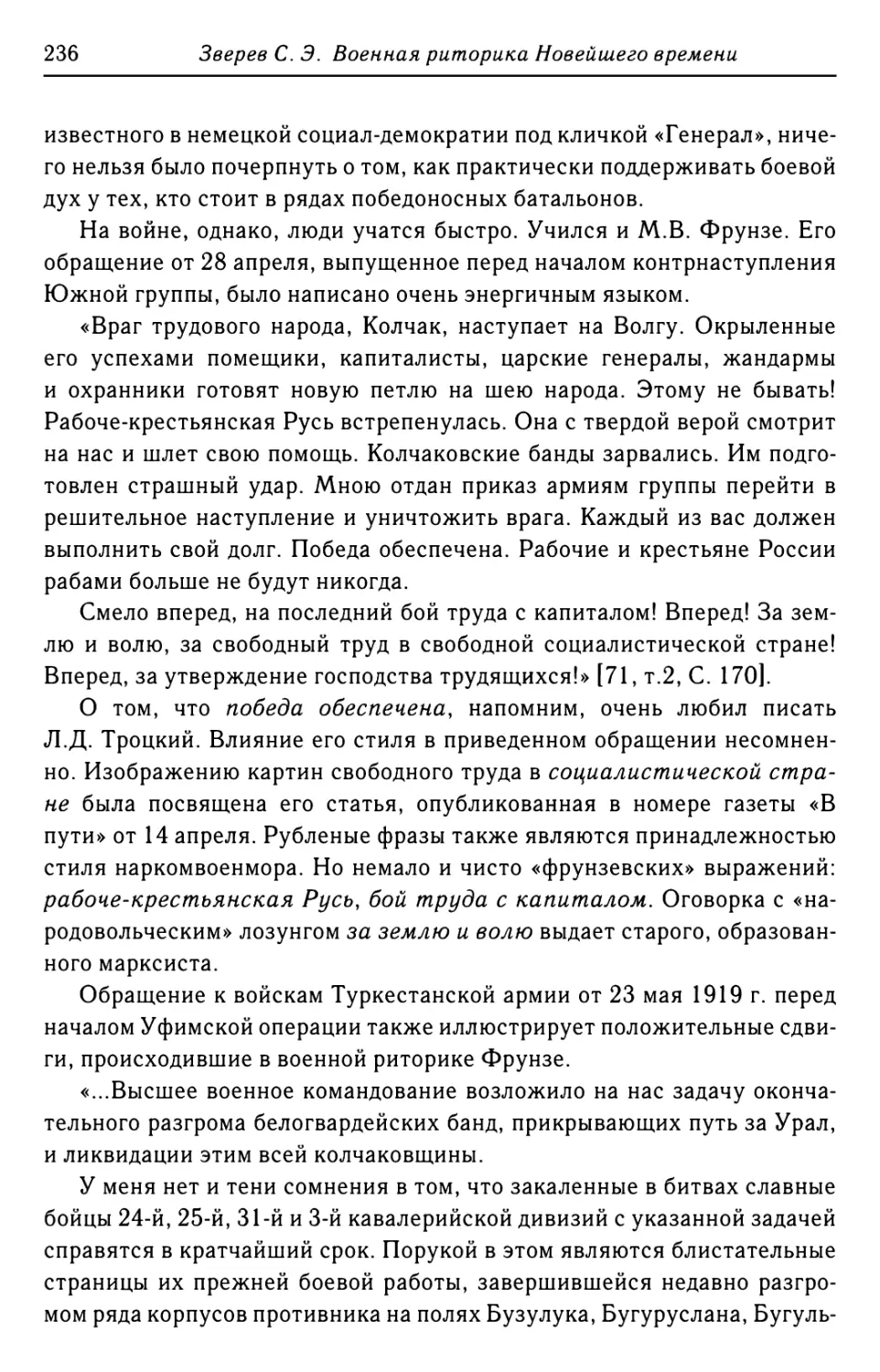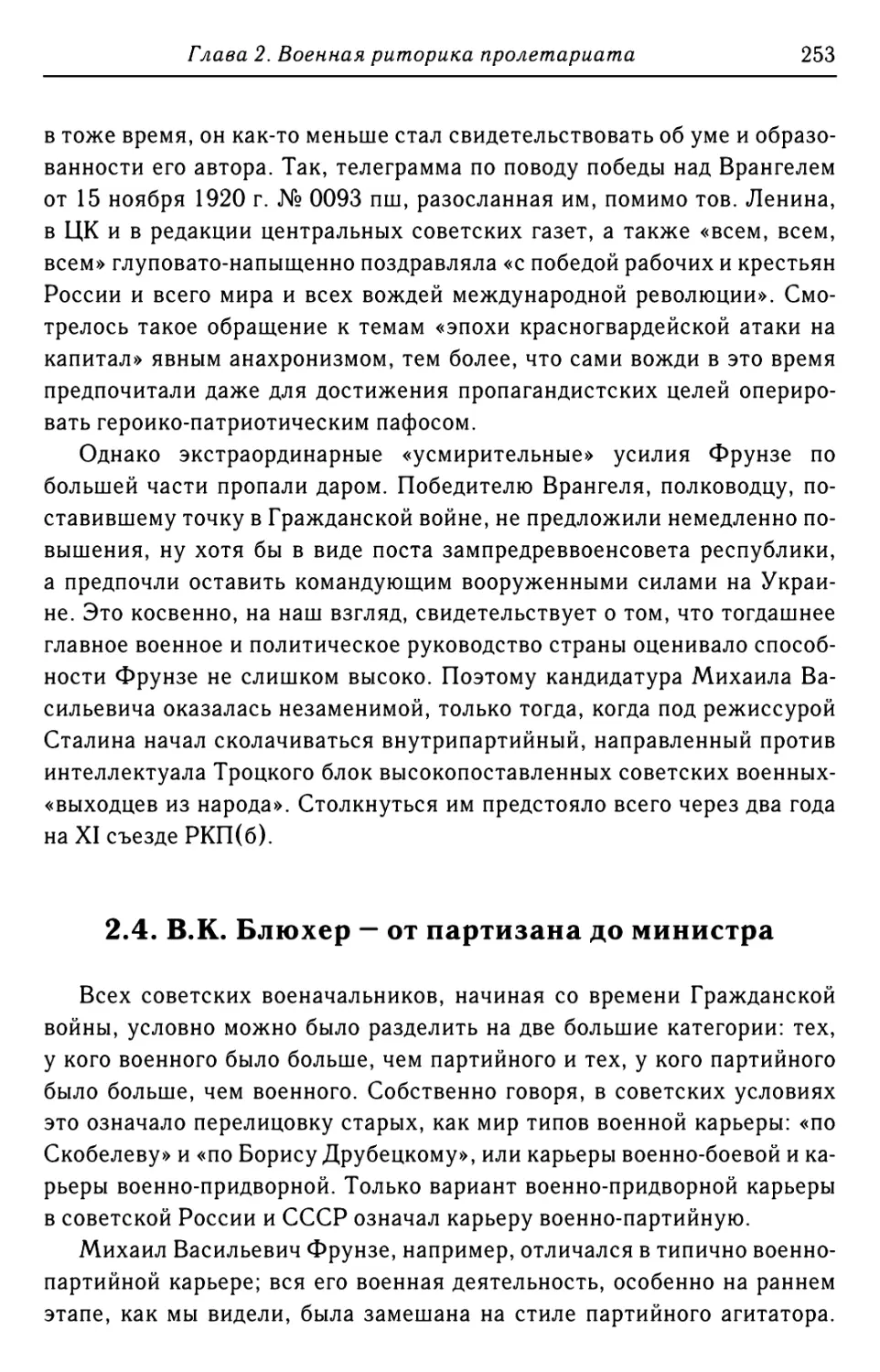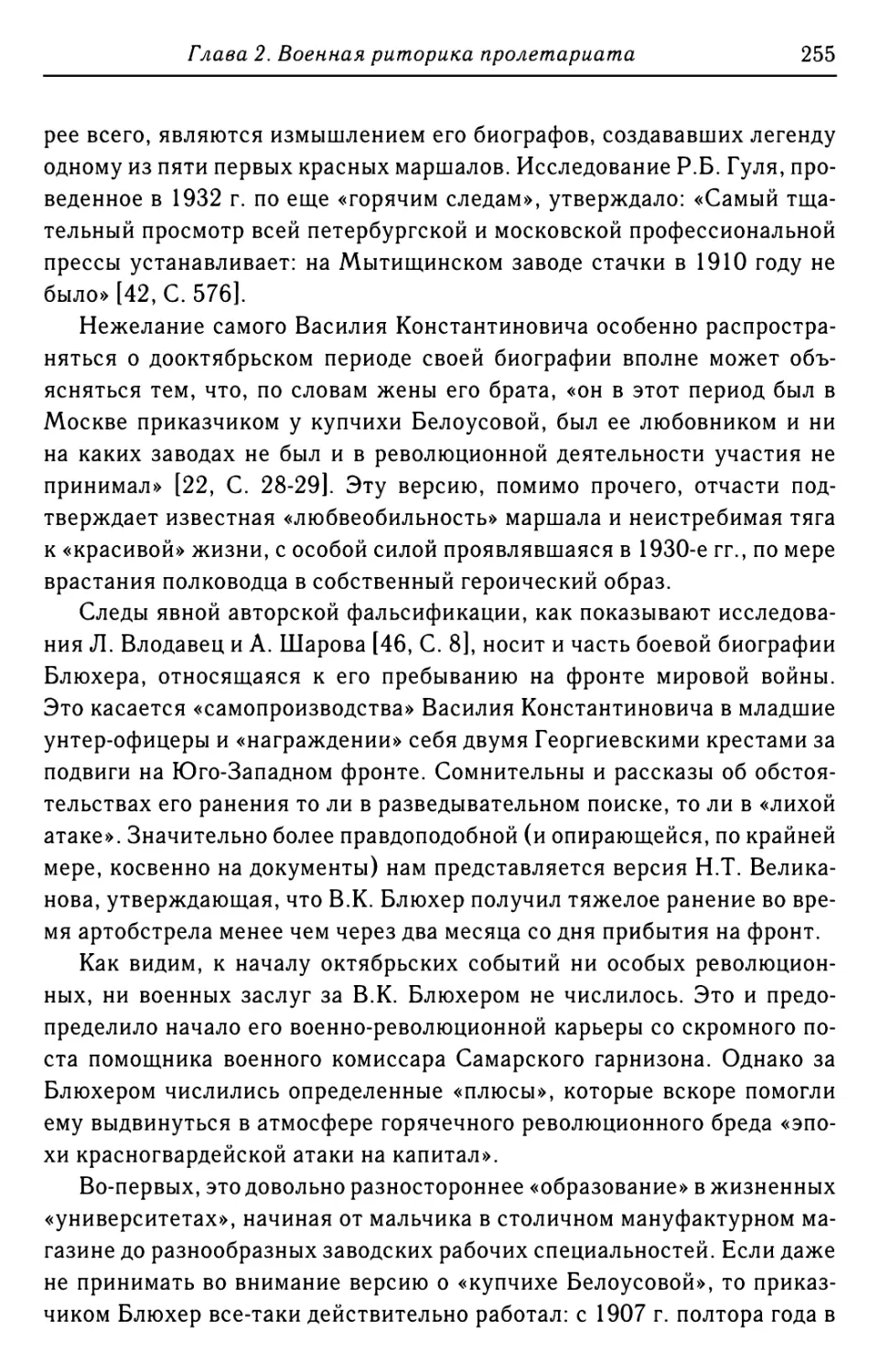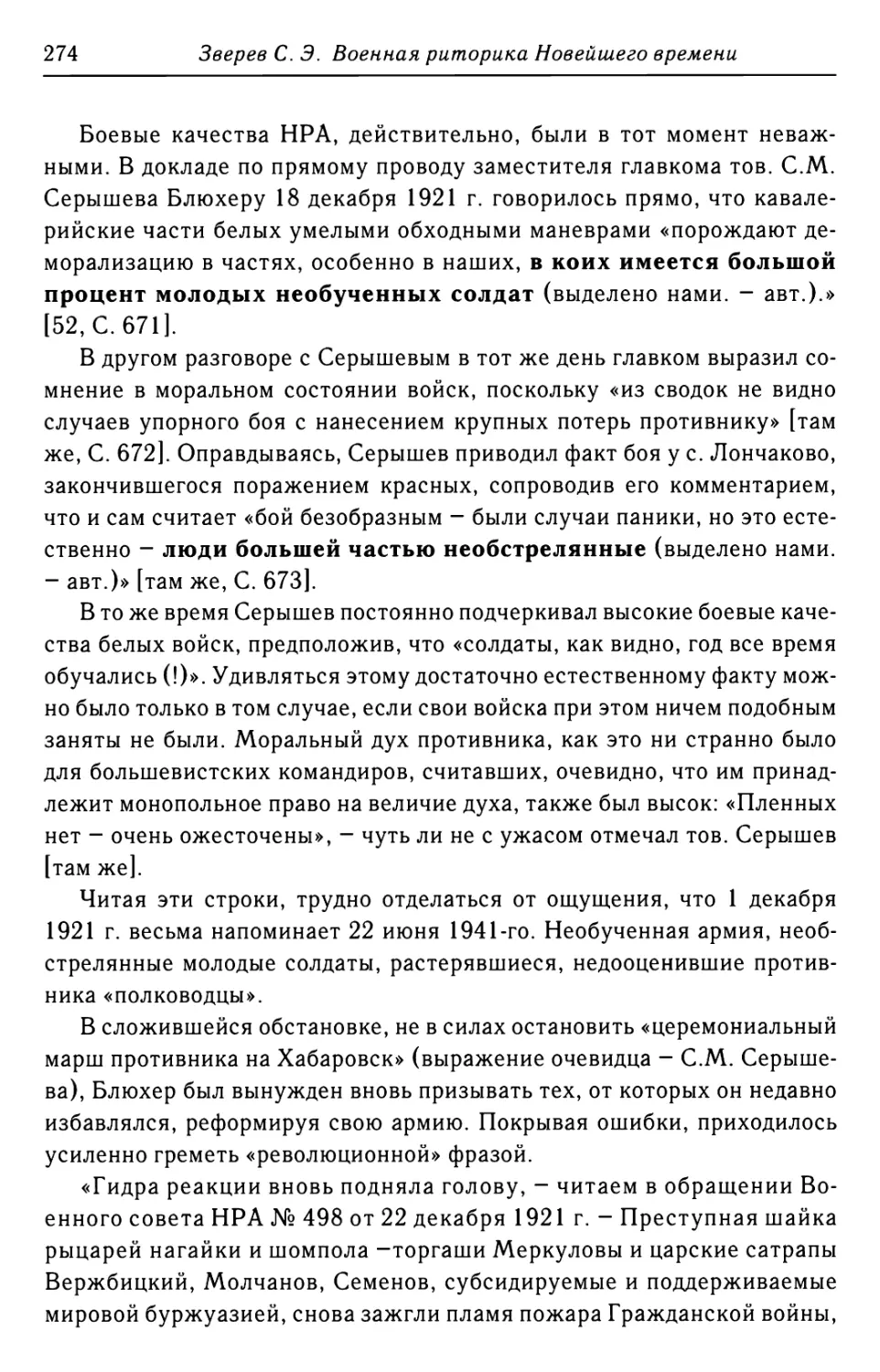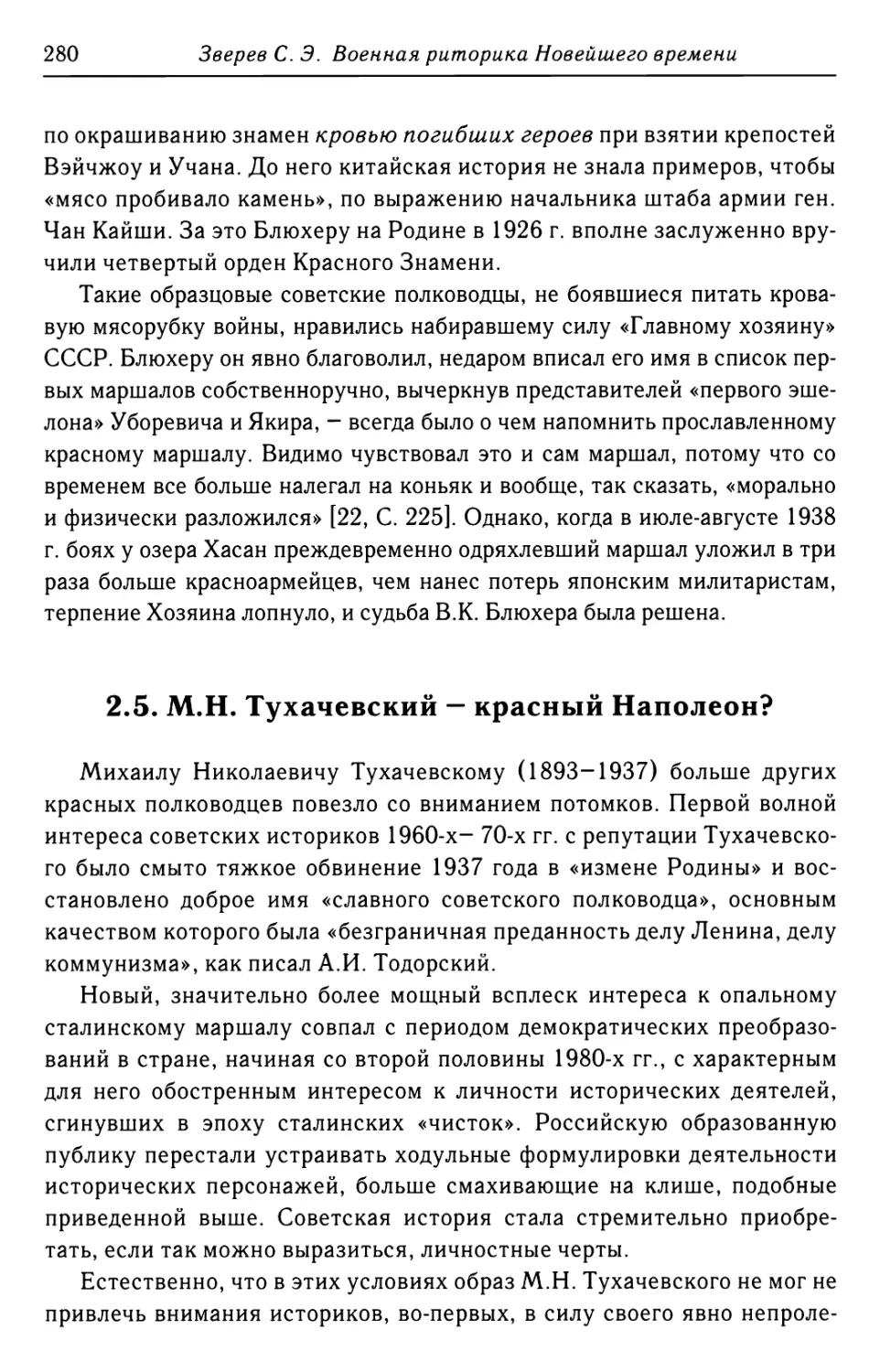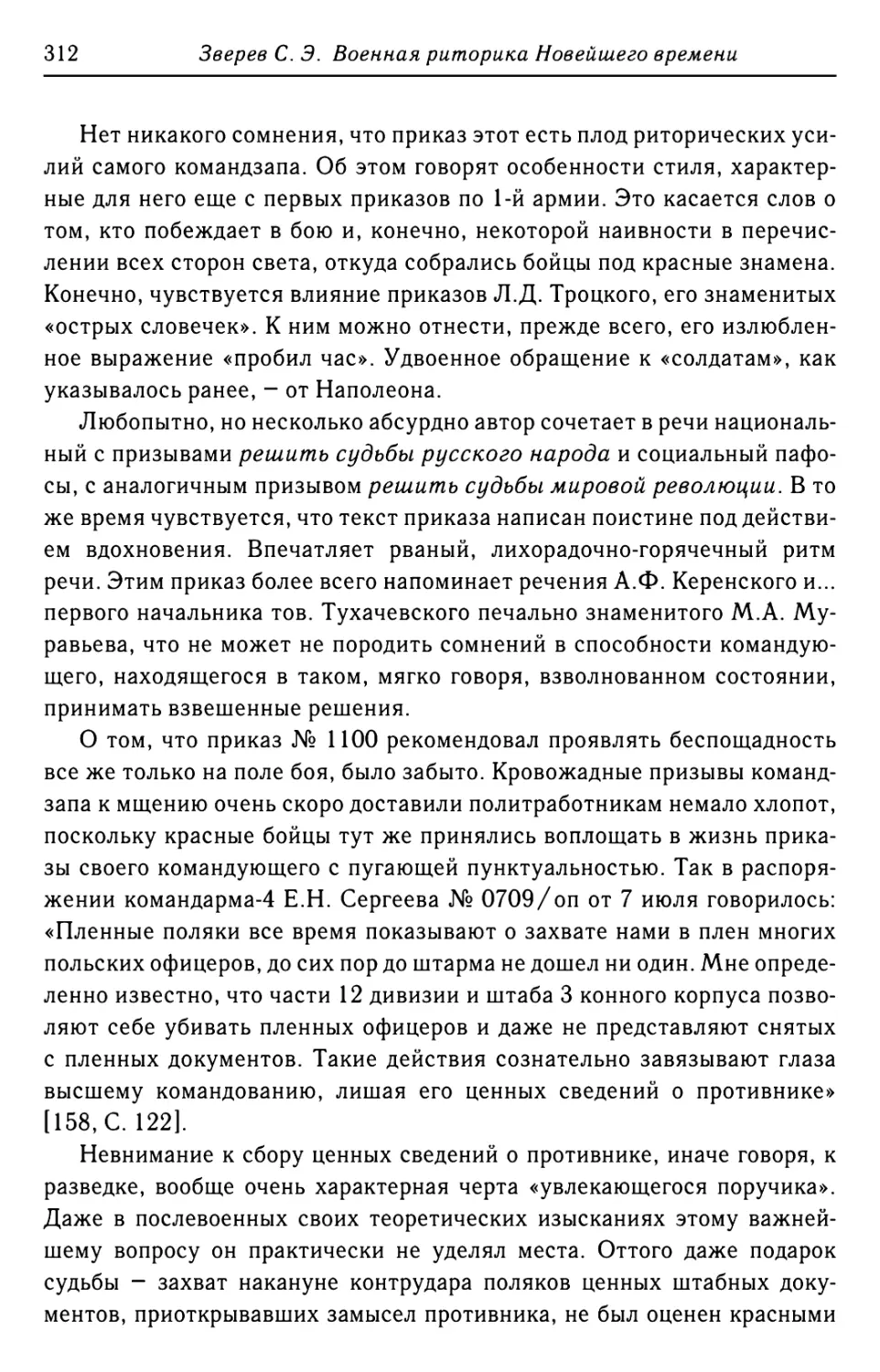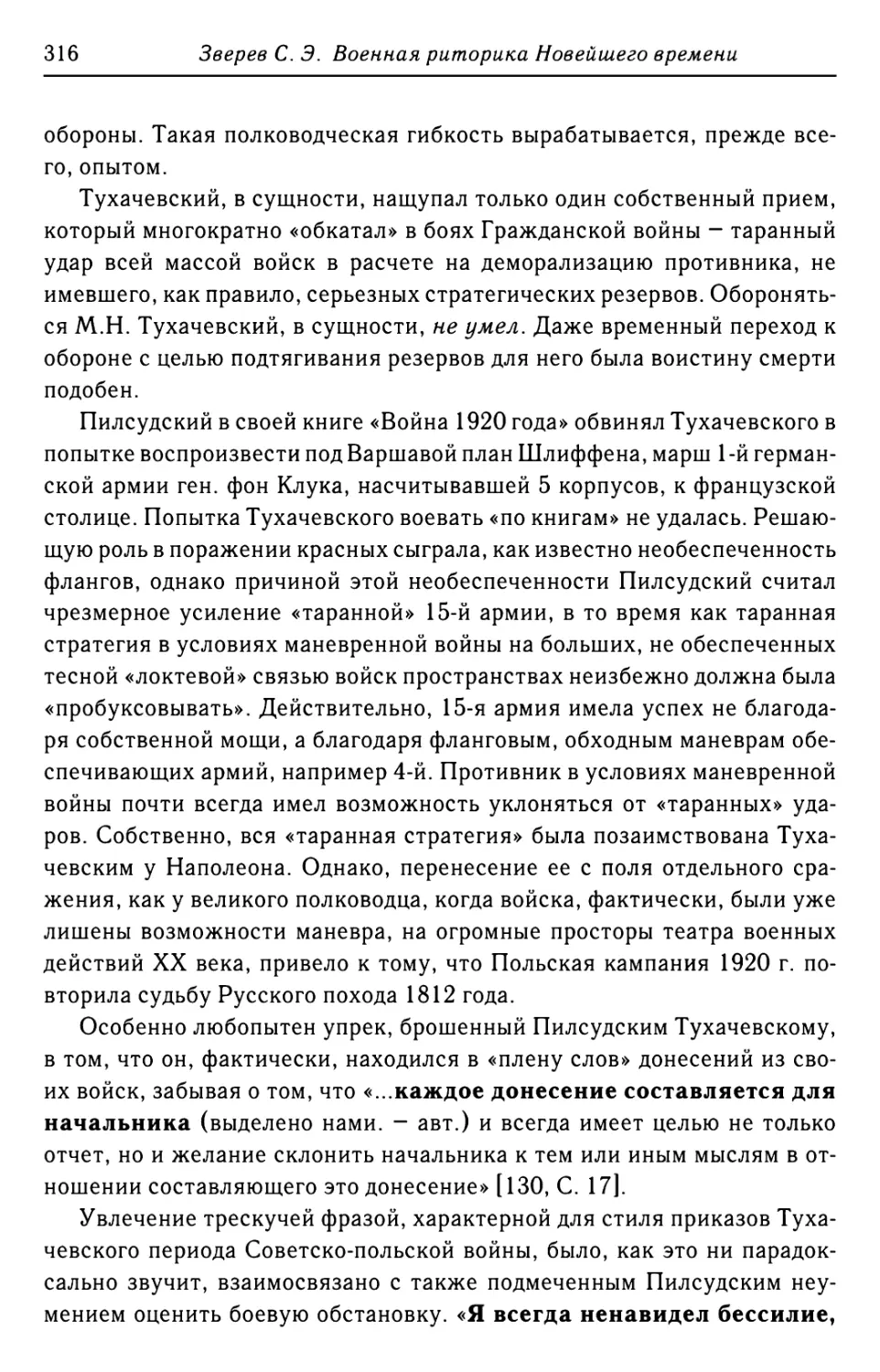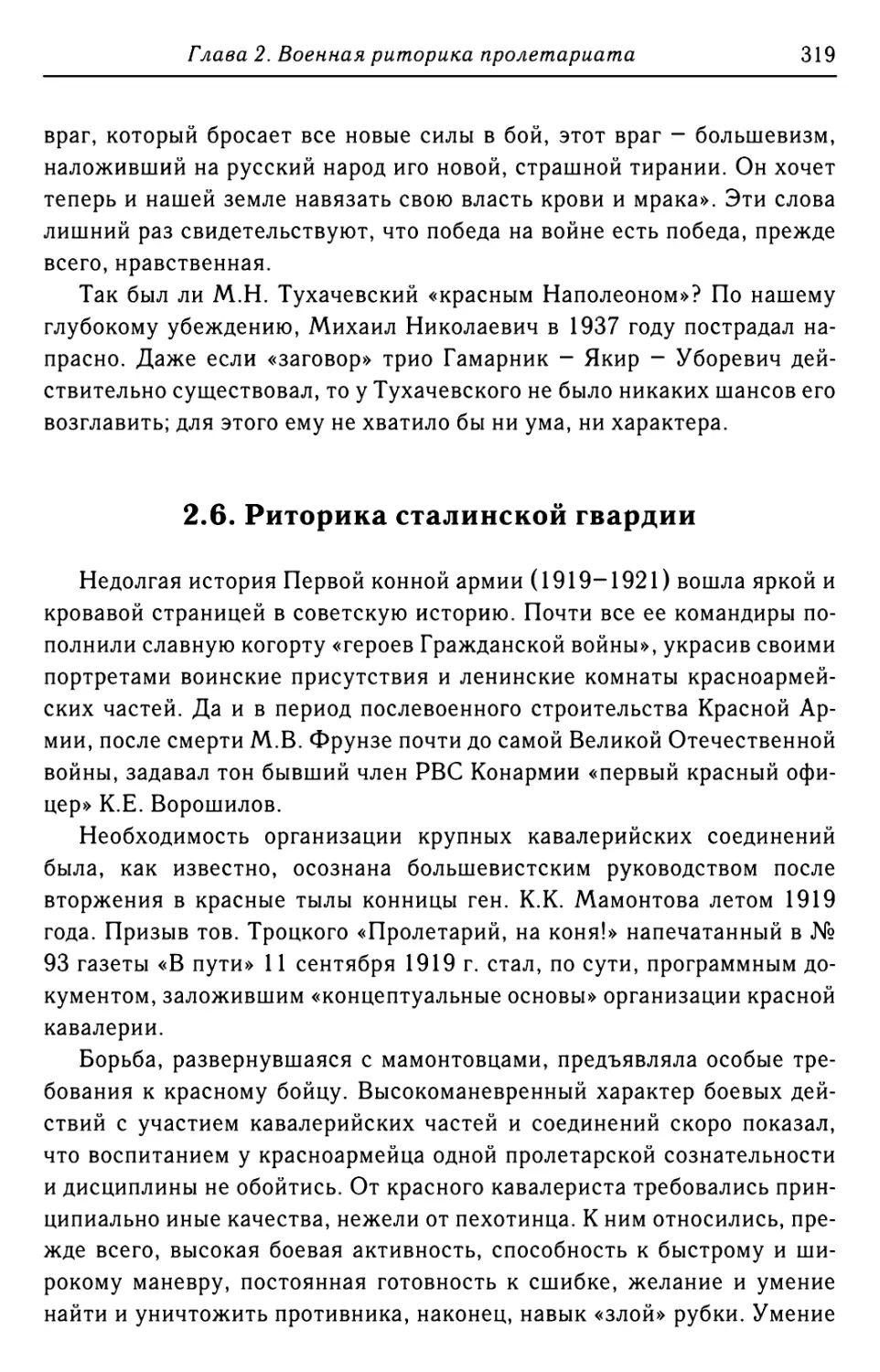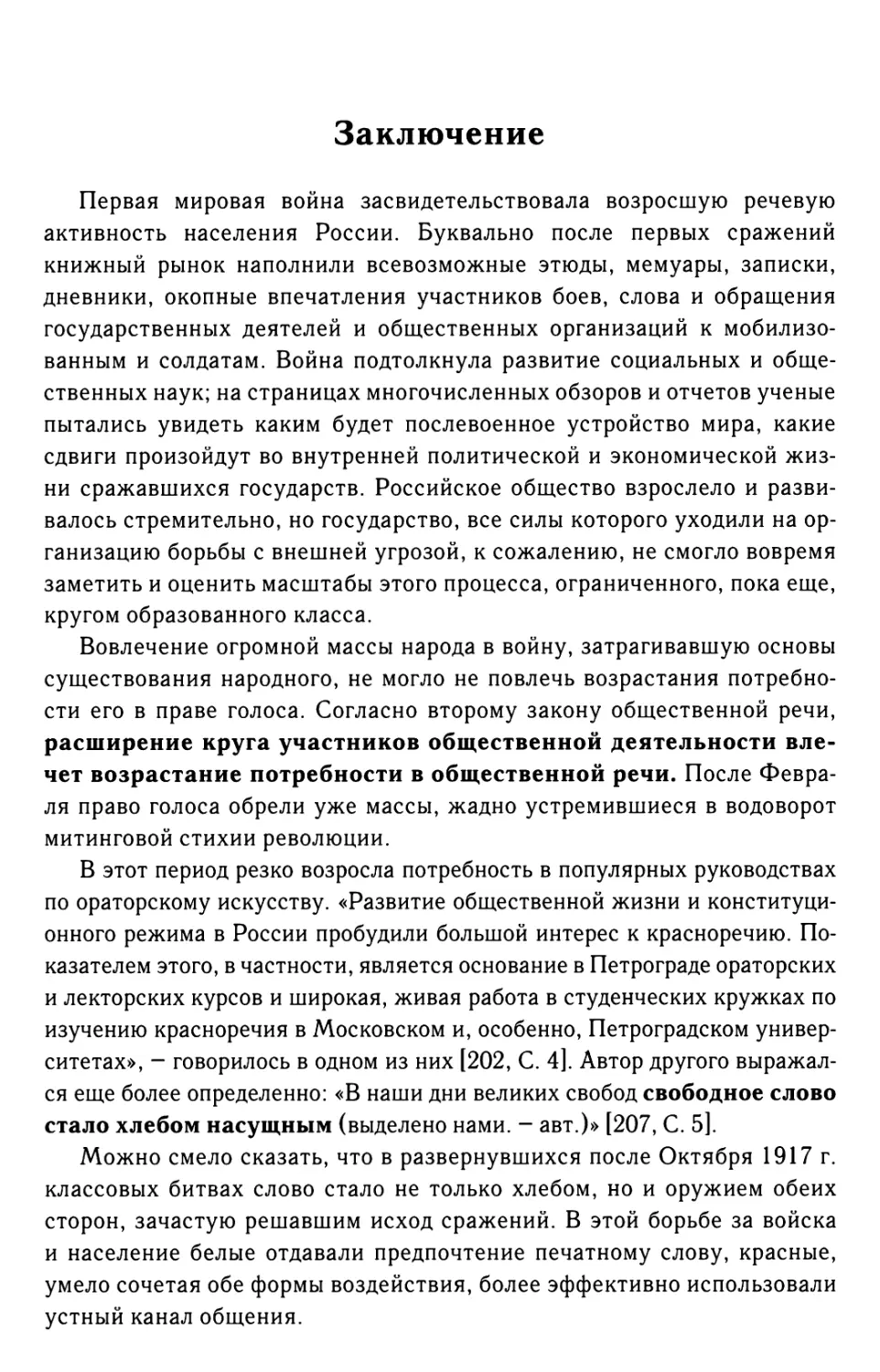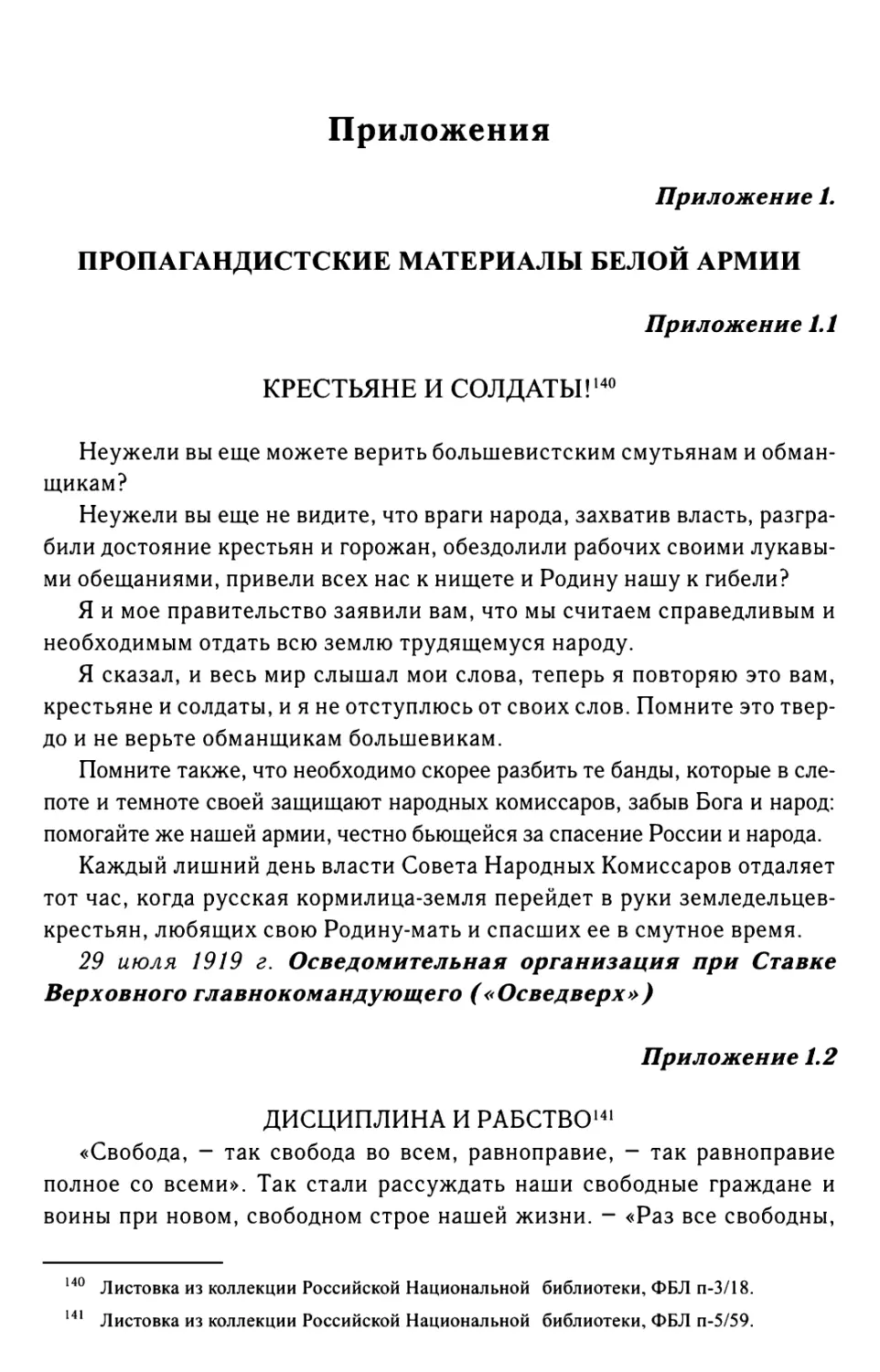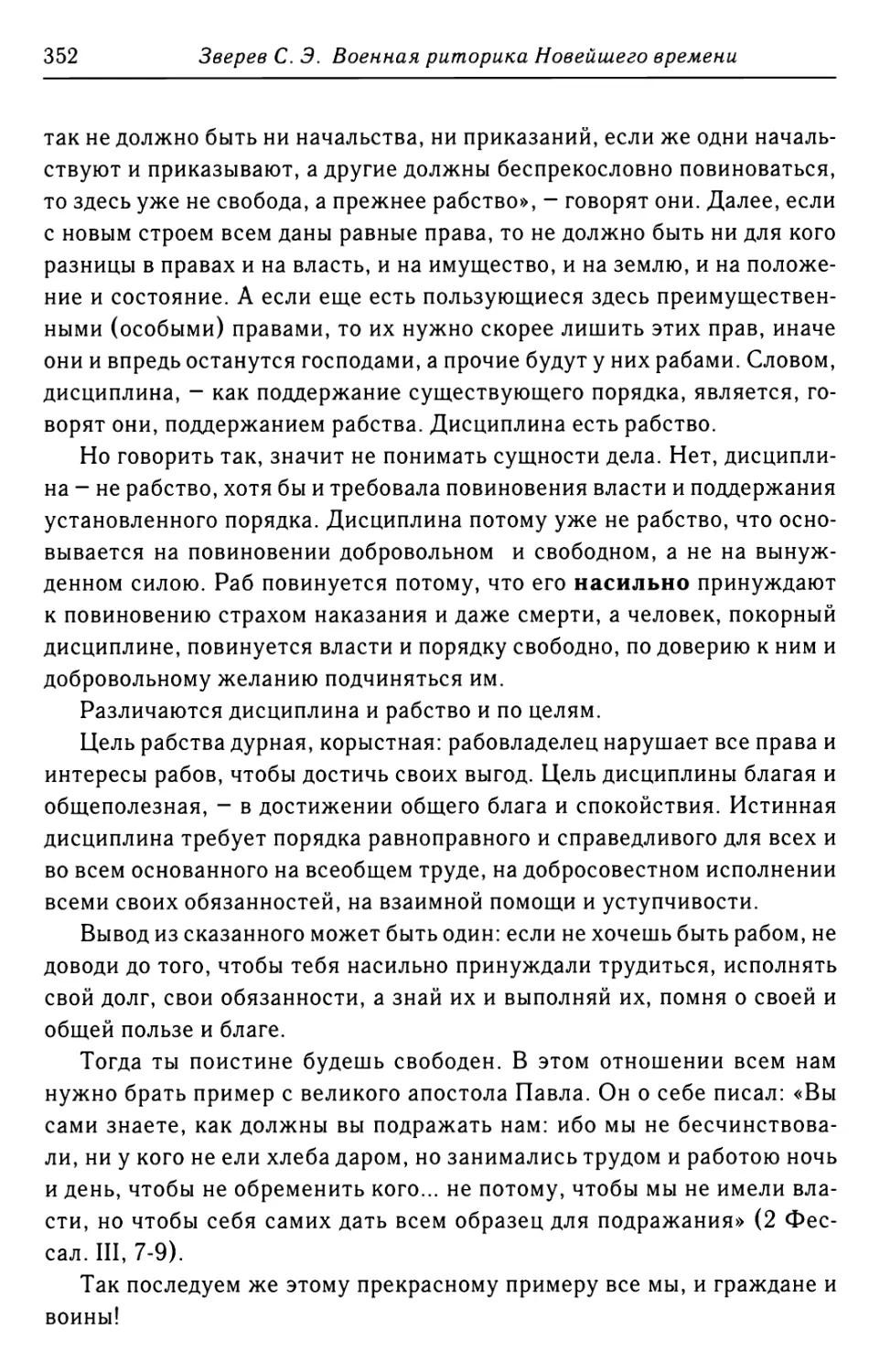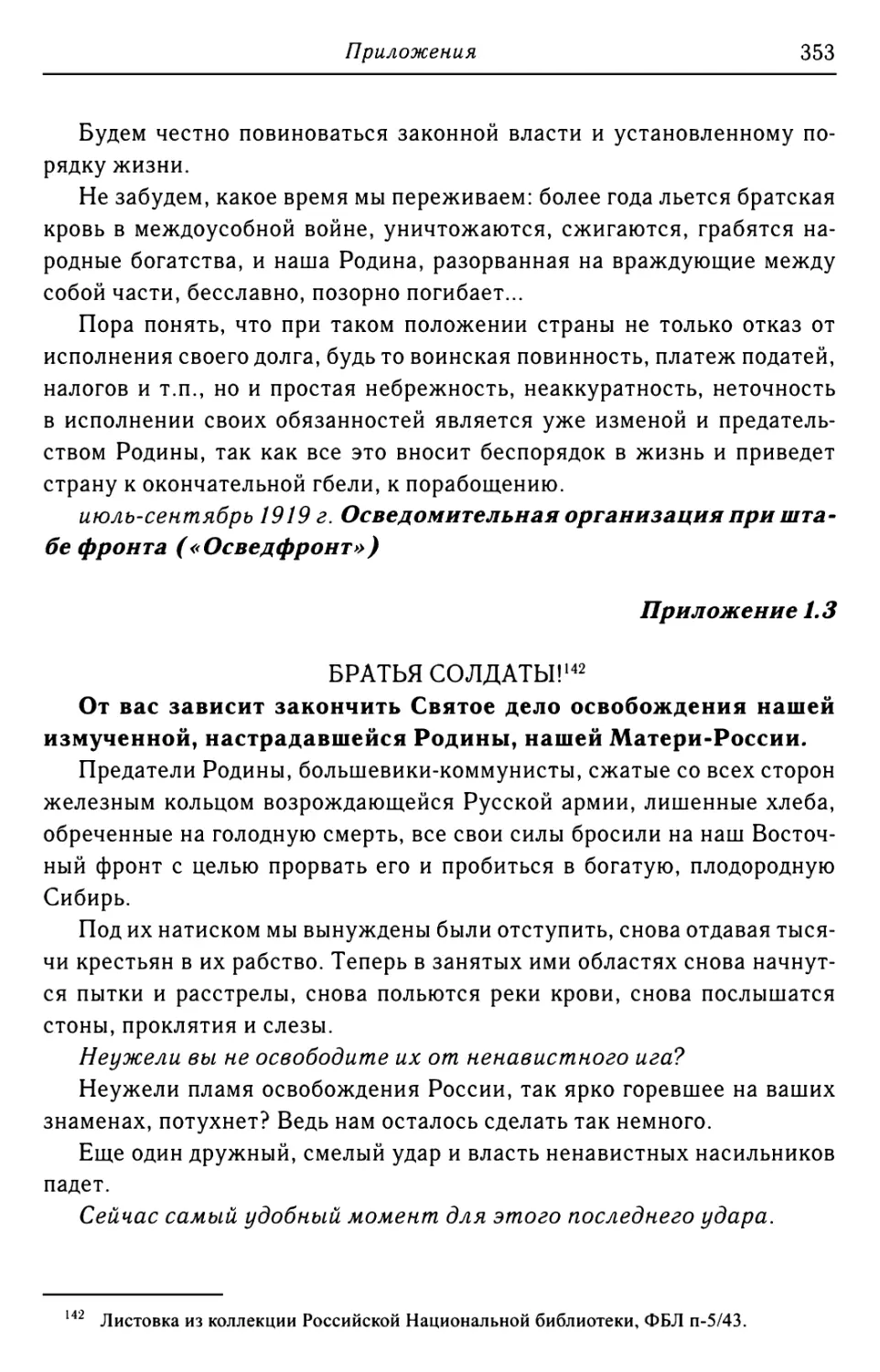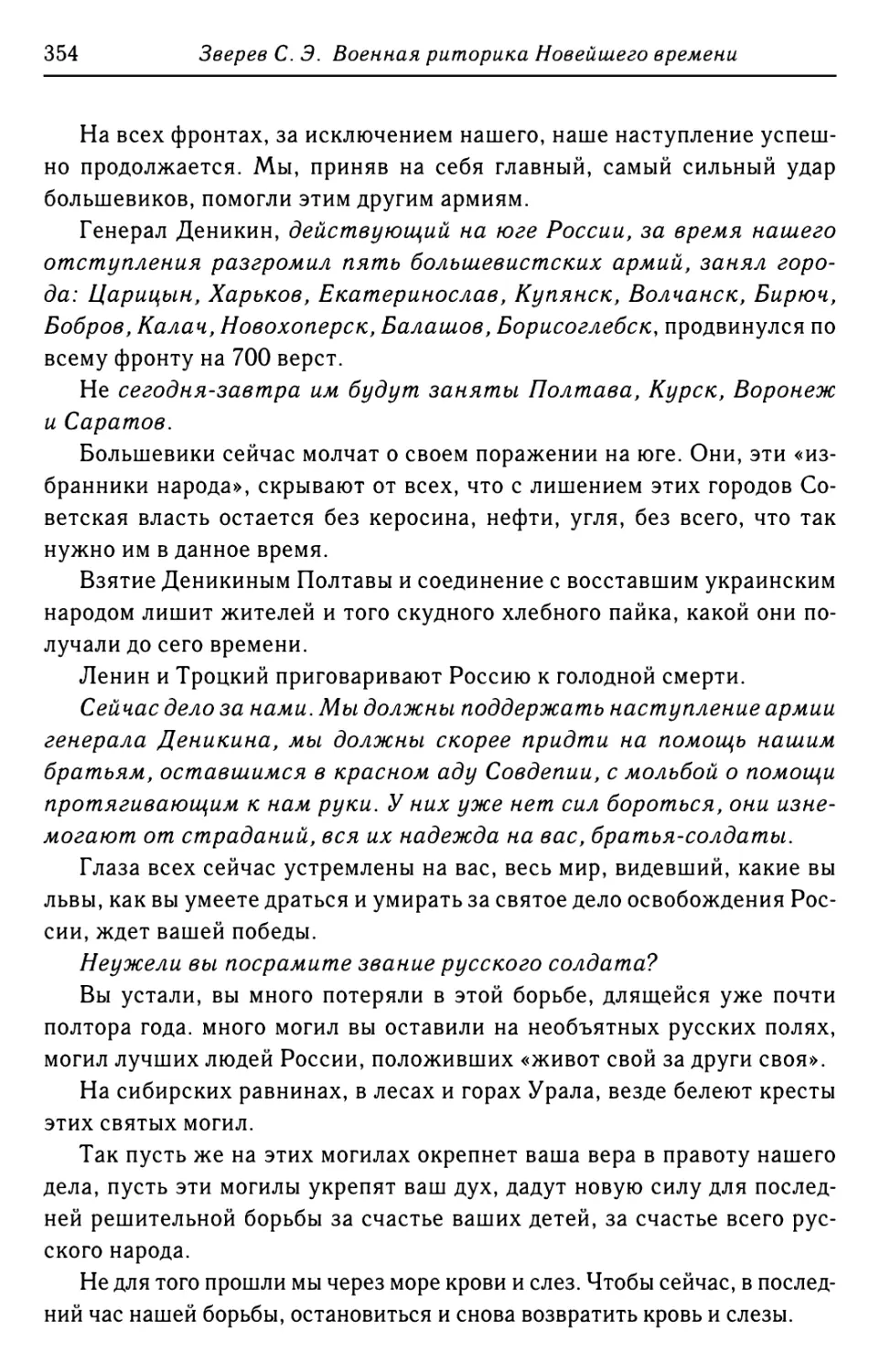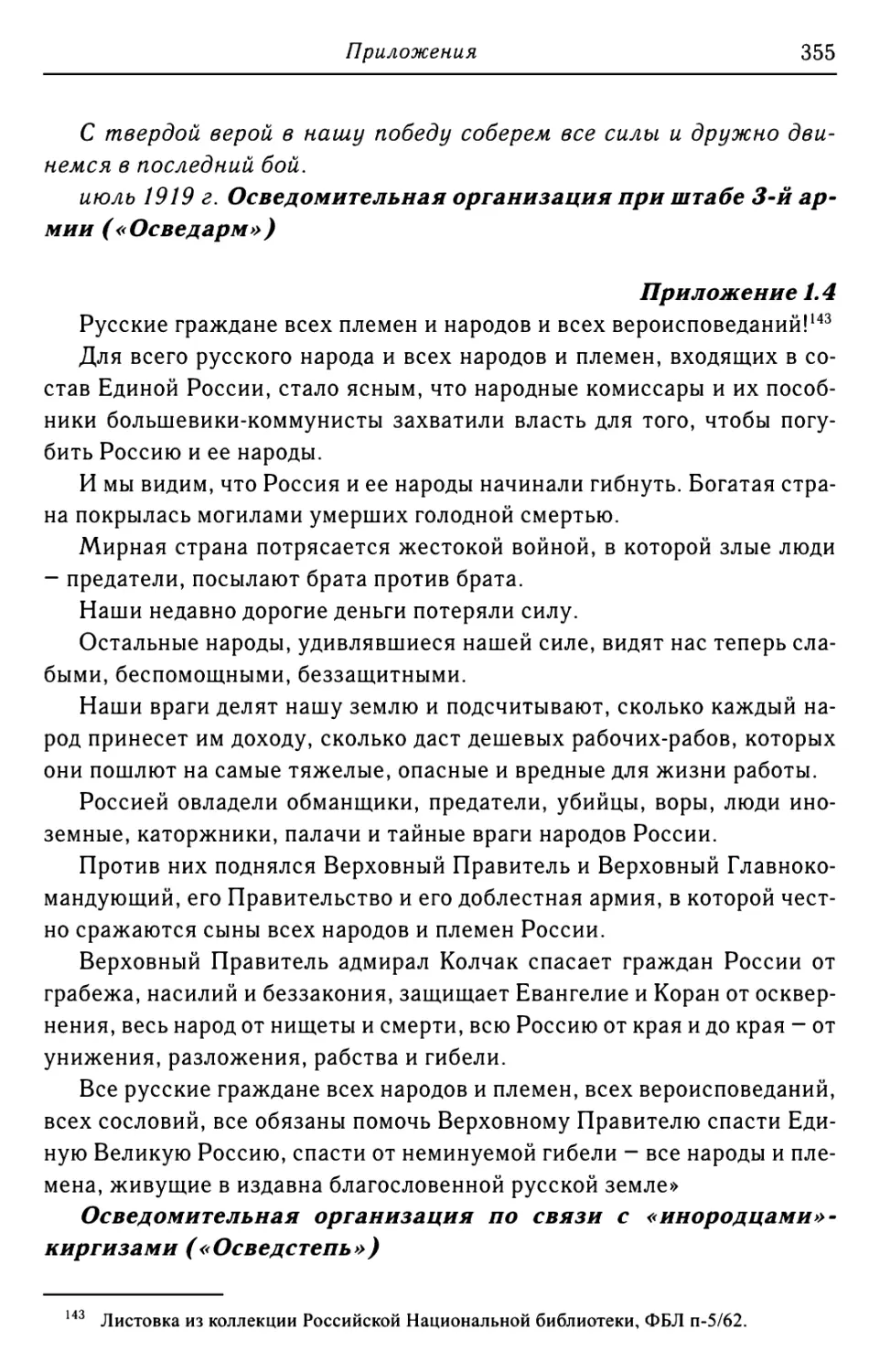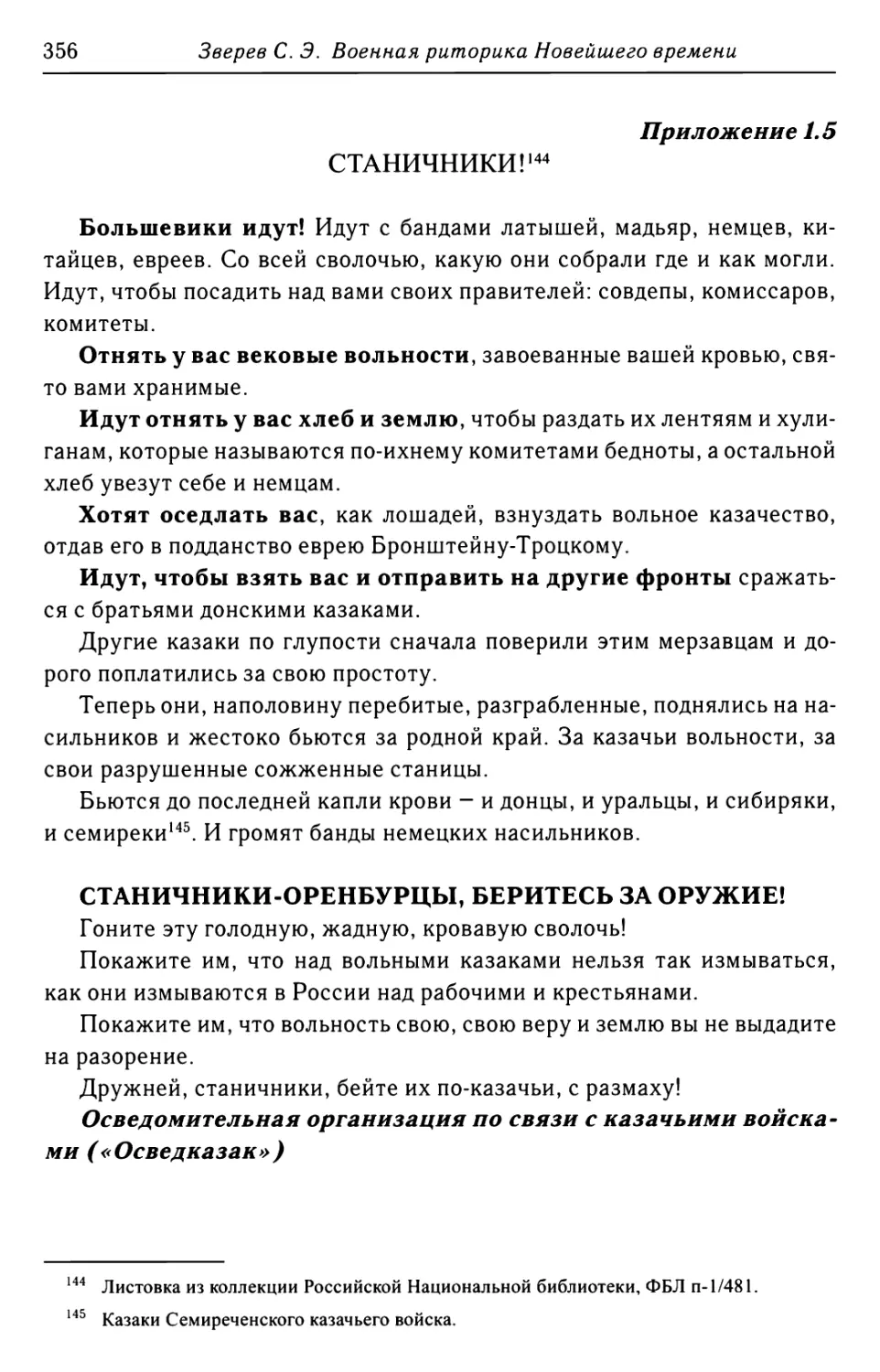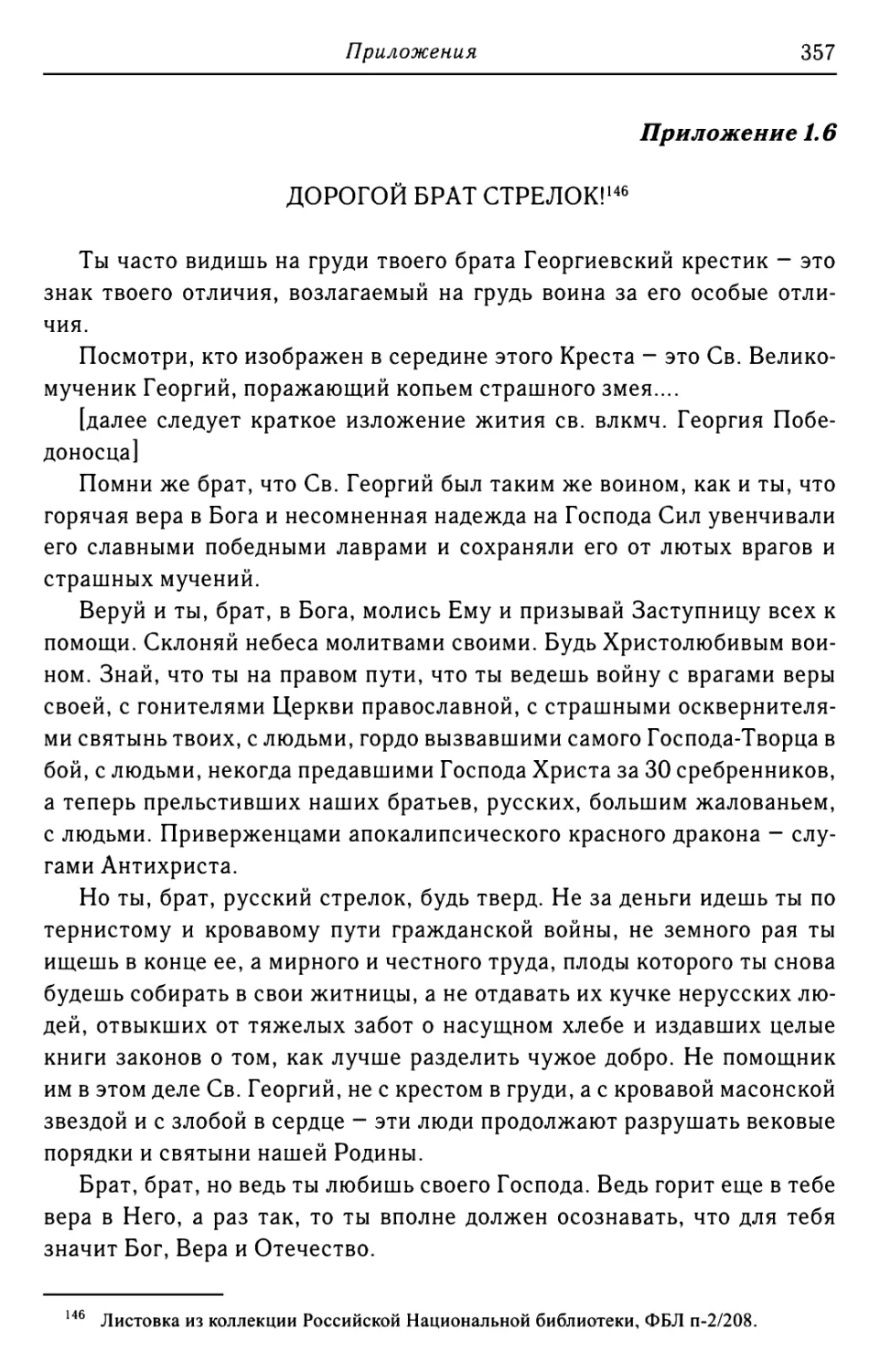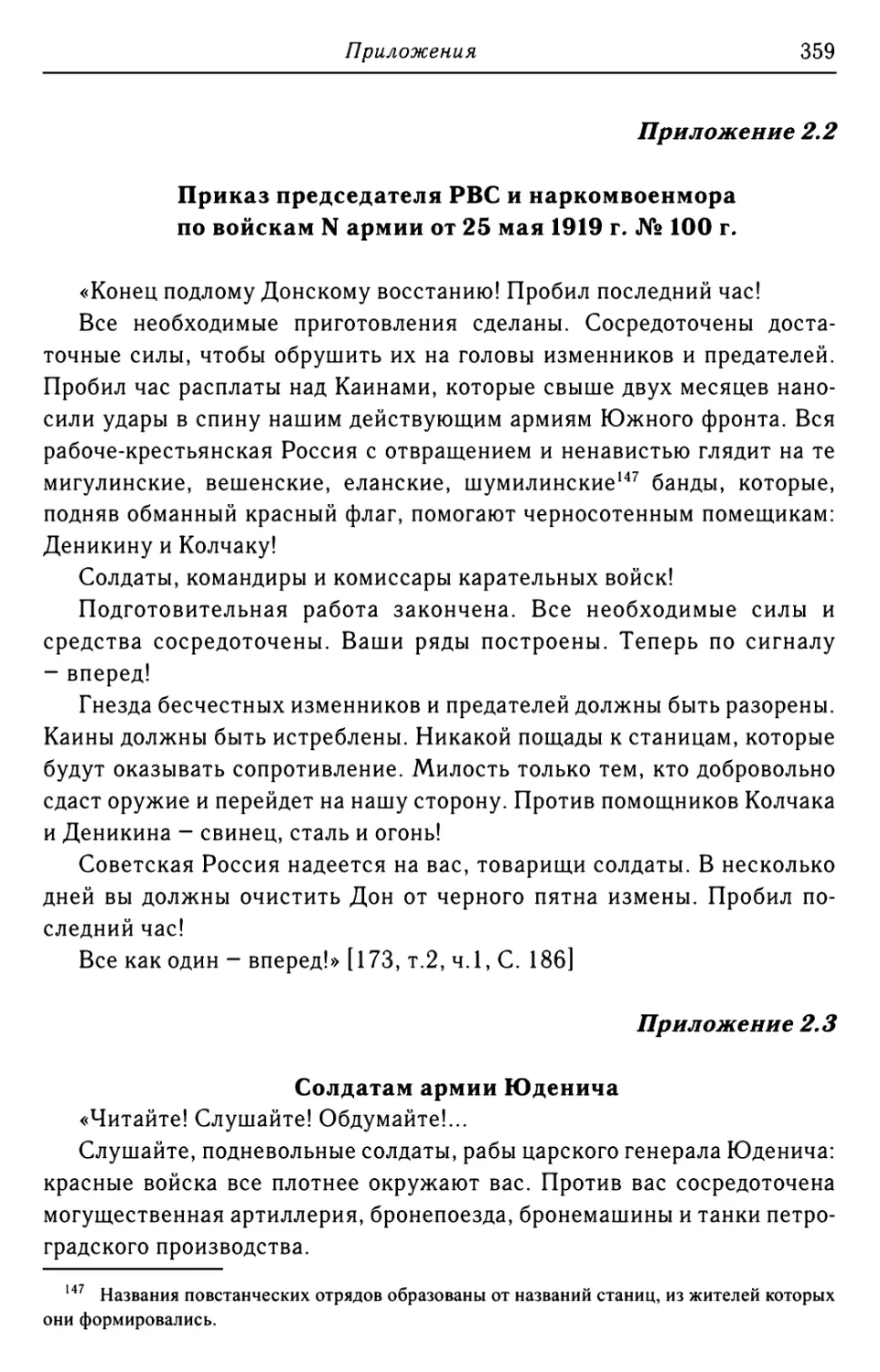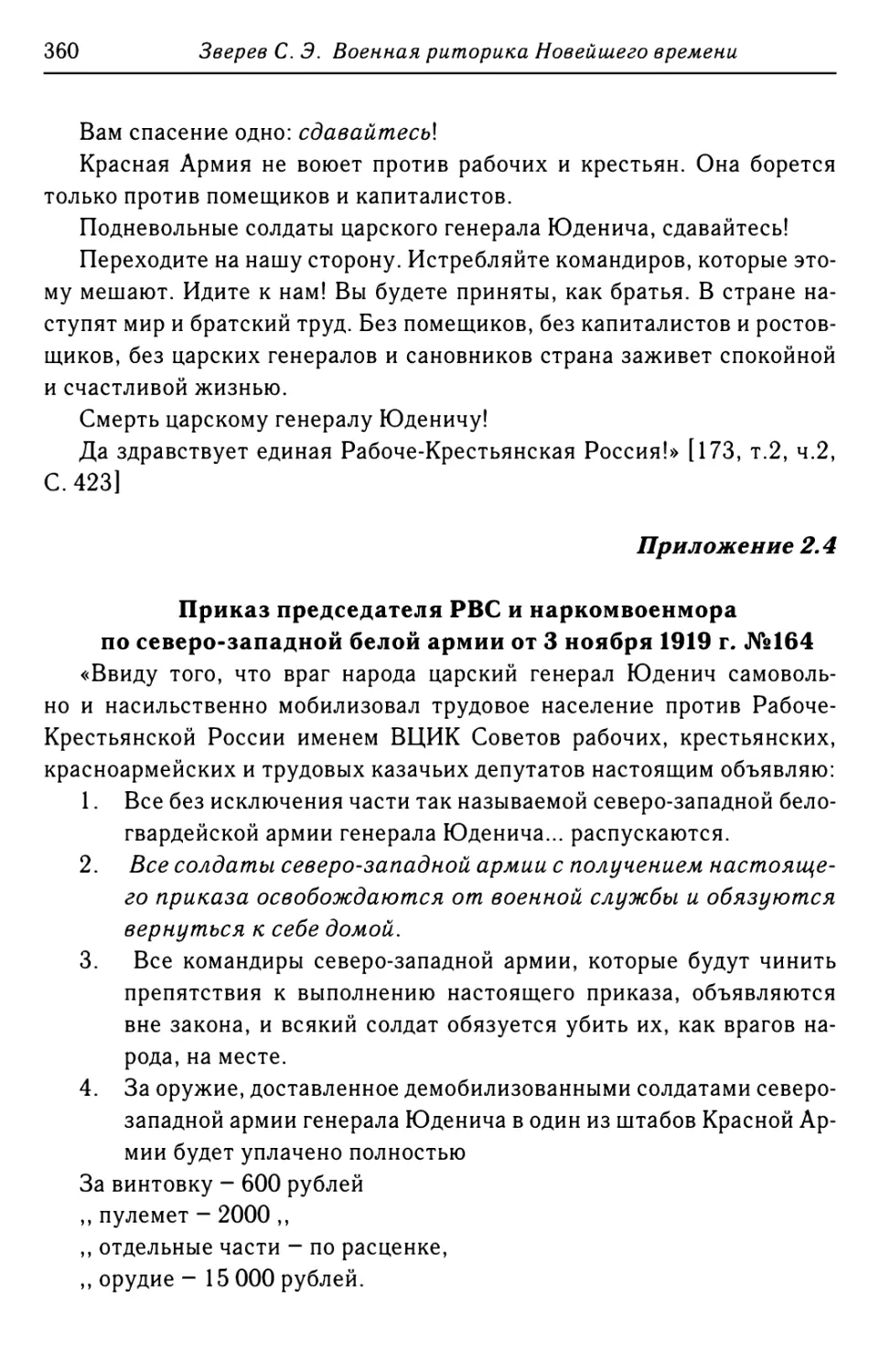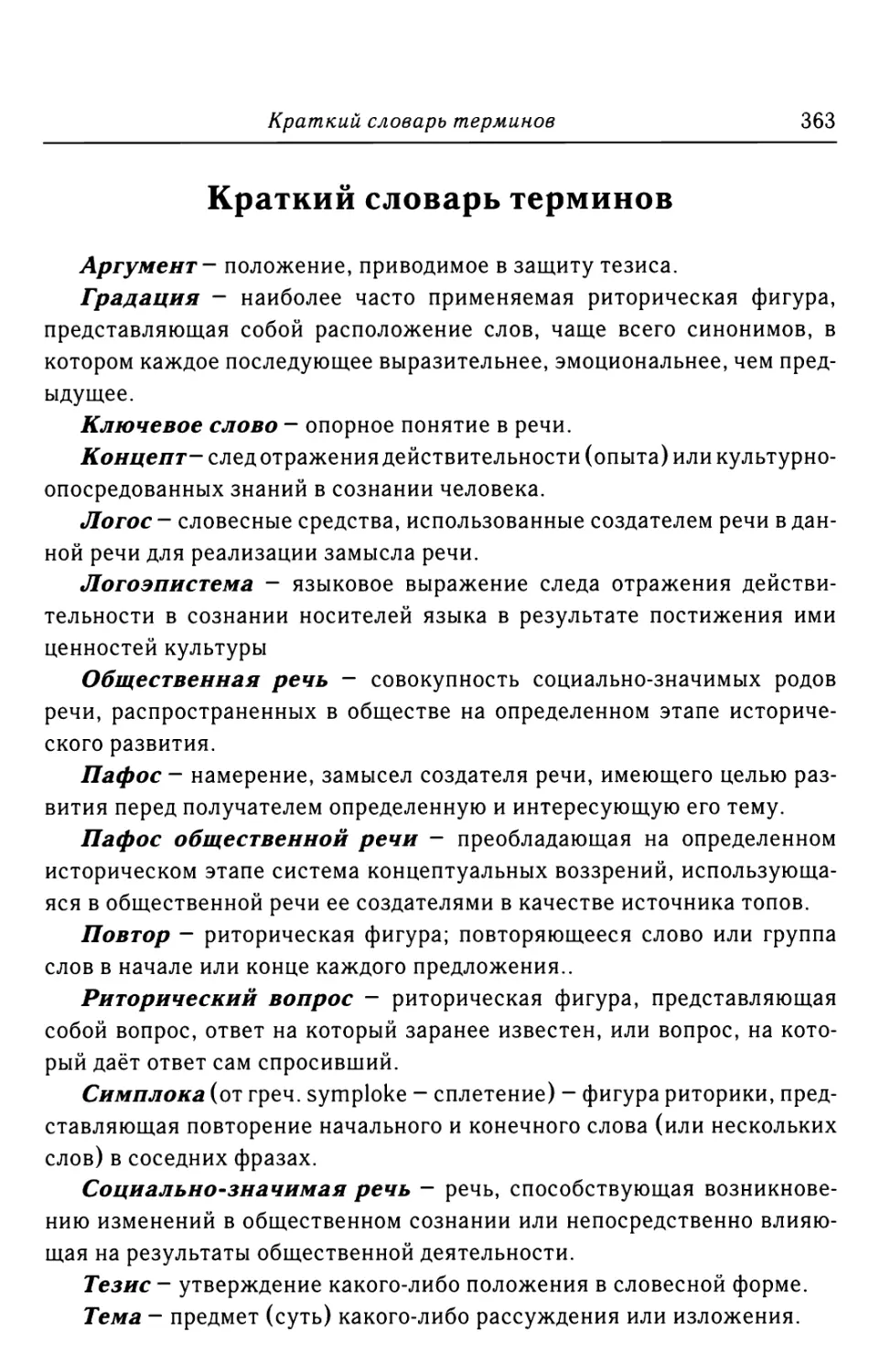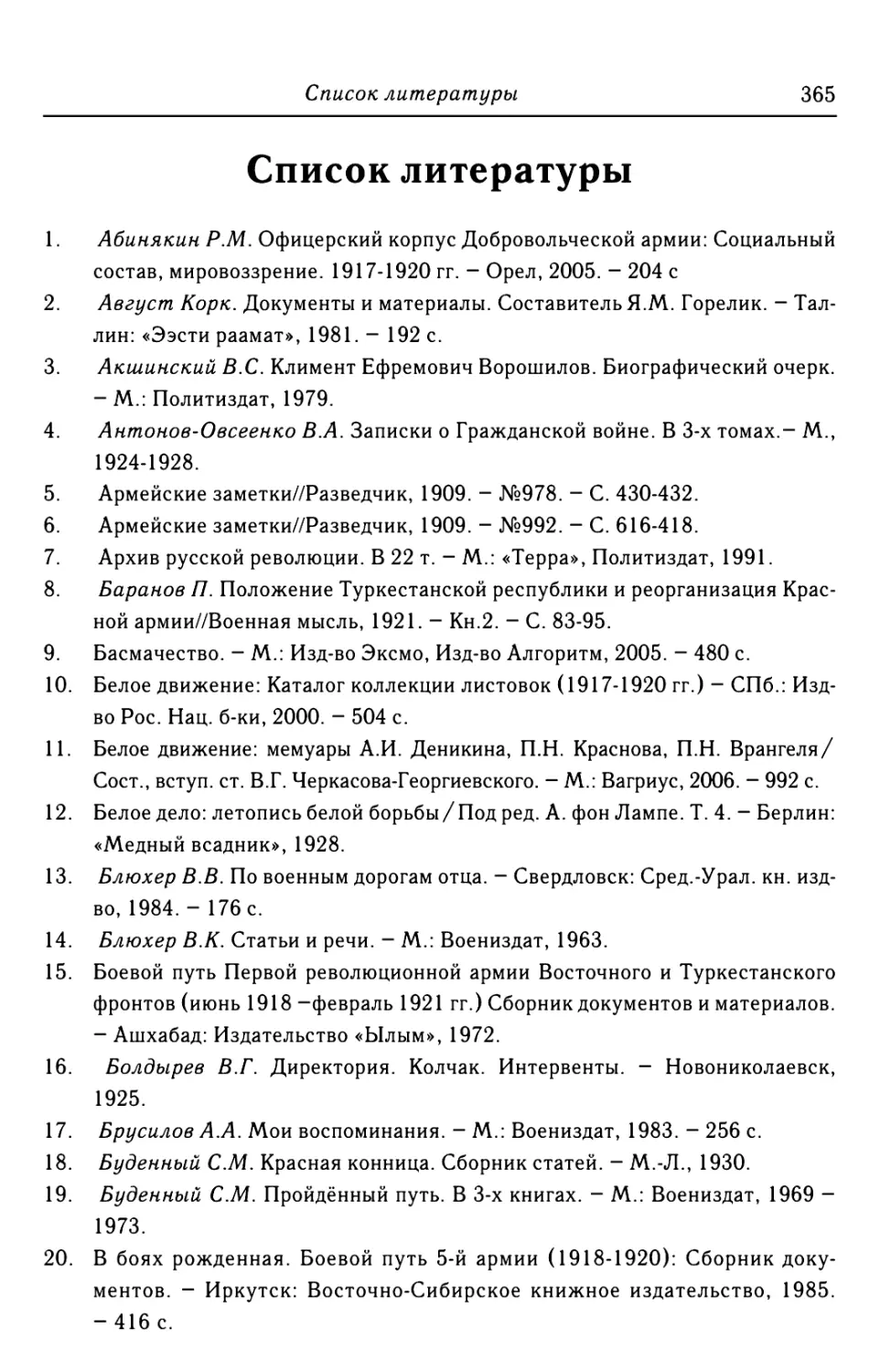Author: Зверев С.Э.
Tags: военное дело в целом риторика устной речи ораторское искусство выразительность речи красноречие военное дело военная наука история риторика гражданская война
ISBN: 978-5-91419-734-3
Year: 2012
ВОЕННАЯ
РИТОРИКА
НОВЕЙШЕГО
ВРЕМЕНИ
Гражданская война
в России
ВОЕННАЯ
РИТОРИКА
НОВЕЙШЕГО
ВРЕМЕНИ
Гражданская война
в России
Сан кт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2012
[АЛЕТЕЙЯ]
9997*
ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА
УДК 355:808.5(470)"1917/1923"
ББК 68
3 433
Рецензенты:
О. Ю. Ефремов, доктор педагогических наук, профессор
(Военная академия связи)
О. Ю. Пленков, доктор исторических наук, профессор
(Российский государственный педагогический университет)
Зверев С. Э.
3433 Военная риторика Новейшего времени. Гражданская война
в России. - СПб.: Алетейя, 2012. -376 с.
ISBN 978-5-91419-734-3
Предлагаемое издание представляет собой исследование
особенностей военной риторики, обеспечивавшей классовые битвы в ходе
Гражданской войны в России. Отмечается многократное возрастание
роли ораторского искусства и в целом общественной речи в этот
период. Анализируются особенности личных риторических стилей
виднейших военных и государственных деятелей эпохи и степень
их влияния на успешность общественной и военной деятельности
рассматриваемого периода.
Книга адресована широкому кругу читателей.
УДК 355:808.5(470)"1917/1923"
ББК 68
ISBN 978-5-91419-734-3
III 111 © С. Э. Зверев, 2012
9 "7 8 s 9 ι 4 "ι 9 7 з 4 з " © Издательство «Алетейя» (СПб.), 2012
Введение
Как бы ни называть событие, которое произошло в России 25
октября/7 ноября 1917 г.: Великой Октябрьской социалистической
революцией или Октябрьским переворотом, несомненно одно: оно было
величайшим событием XX в., надолго определившим судьбы почти всего
цивилизованного человечества. Как всегда бывает в моменты
величайших государственных потрясений, революция вызвала мощный всплеск
общественной активности, выразившийся в многократном расширении
круга лиц, допущенных к общественной речи и в возрастании ее
значения в деле формирования общественного сознания и переустройства
общественного бытия.
Военная риторика рассматриваемого периода воплотила в себе все
особенности, которые были характерны для общественной речи России
в целом. К этим особенностям, прежде всего, стоит отнести крайнюю
политизированность, жесткость и бескомпромиссность.
В Гражданской войне полководцу недостаточно уже было
руководствоваться одним только полевым уставом. Не меньшее значение
приобретало и знание программ политических партий и всевозможных
«платформ», на которых стояли возглавляемые им войска и население
территории, оказавшейся под его «юрисдикцией». Это было необходимо
по двум причинам: во-первых, чтобы обеспечить хотя бы относительно
эффективное воздействие военных речей и пропаганды; во-вторых,
следуя инстинкту самосохранения, ибо массы в это беспокойное время
приобрели дурную привычку в трудных случаях «спрашивать штыками» у
своих вождей.
Военачальник Гражданской войны не всегда был военным
профессионалом, широко известным войскам своим талантом и победами. Не в
последнюю очередь доверие войск «покупалось» звонкой политической
фразой, призванной демонстрировать близость командующего своим
войскам, их следование общим целям. В Гражданской войне, за редким
исключением, армии в такой же степени руководились своими
командирами, в какой сами руководили ими.
Для организации бесперебойного пополнения армии полководцу
теперь приходилось учитывать политические настроения призываемого
6
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
контингента и уметь нейтрализовывать разрушительную пропаганду
вражеских агитаторов, которая становилась вполне осязаемым
средством ведения войны. Ко всему прочему, воинский начальник в ряде
случаев представлял собой единственную власть, действовавшую в районе,
охваченном пламенем гражданского противостояния, и вынужден был
решать вопросы, никогда не входившие в круг его прямых обязанностей.
Верно и обратное: гражданская власть все чаще начинала говорить с
населением жестким, волевым «военным языком», языком
категорического требования и приказа.
Любая гражданская война в крайнем своем выражении есть война на
истребление: победителям и побежденным просто невозможно бывает
отгородиться передвинутой в ту или иную сторону границей и
продолжать жить дальше, как это бывает в обычных войнах, ведущихся между
враждебными государствами. Неумолимая логика подсказывает, что чем
меньше в государстве, построенном победителями в гражданской войне,
останется проживать побежденных, тем надежнее гарантии спокойного
и стабильного развития нового общества. Этой логикой
руководствовались обе стороны в войне, сотрясавшей Россию на протяжении почти
четырех лет; неудивительно, что точное количество жертв, принесенных
страной, не подсчитано до сих пор.
С другой стороны Гражданская война всколыхнула все слои
российского общества и вынесла из его недр великое множество талантливых
людей, которые, по пословице, были талантливы во многом, в том числе
и в ораторском искусстве. Другого и не могло быть. Те относительно
немногочисленные воинские контингенты, игравшие решительную роль в
сражениях Гражданской войны, слагались из людей чрезвычайно
активных, целеустремленных и кровно заинтересованных в победе (поскольку
речь, напомним, шла об их жизни и смерти). Руководить такими людьми
можно было, только владея искусством воздействия на умы и сердца,
реализуя законченный тип харизматического лидера, лидера-вождя, а не
теплохладный вариант «начальства» мирного времени. Для того, чтобы
двигать в сражения массы людей, твердо решивших после трехлетней
мировой бойни: «хватит, навоевались», требовалось обладать поистине
экстраординарными способностями к организаторству и руководству.
Эти способности, как известно, неразрывно связаны и со способностью
к производству социально-значимой речи.
В военном деле ситуация в этот период усугублялась еще и тем, что
полководцы вынуждены были водить в бой войска, представлявшие со-
Введение
7
бой фактически плохо обученные, худо оснащенные и вооруженные
ополчения, не получившие зачастую и зачатков воинского воспитания.
«Две трети регулярных частей русской Красной армии, - писал сразу
после войны видный большевистский руководитель СИ. Гусев, - было
сформировано или деформировано непосредственно фронтовым
командованием, а не общерусским тыловым военным центром, главным
штабом. Работа последнего сводилась по преимуществу к учету и
мобилизации» [45, С. 14].
К тому же армии Гражданской войны создавались под огнем,
немедленно бросались в огонь и весьма часто без остатка сгорали в этом огне,
ввиду физической невозможности командования организовать
нормальную смену и отдых сражавшихся частей. В такой обстановке подвиг
переставал быть чем-то выдающимся; он становился нормой, и эта норма
устанавливалась чуть ли не в дисциплинарном порядке. Естественно,
что приказы, требовавшие подвига, должны были оперировать словами,
заключавшими в себе нечто большее, чем простое указание на
положение противника, соседей и задачу дня.
Все это привело к неуклонному расширению сферы применения
военной риторики и обусловило разнообразие использовавшихся пафосов
общественной речи, обеспечивавших вооруженное противостояние на
просторах России от Черного моря до Тихого океана.
Глава 1. ВОЕННАЯ РИТОРИКА
КОНТРРЕВОЛЮЦИИ
1.1. Атаман П.Н. Краснов: начало
Одним из самых многочисленных и боеспособных контингентов,
составлявших Белые армии, безусловно, были казаки. Всего через два дня
после Октябрьской революции1 именно казачьи войска участвовали в
первой попытке вооруженного сопротивления советской власти.
Возглавлявший их человек, ставший решением Круга от 3 мая 1918 г.
атаманом Всевеликого Войска Донского, превративший Донскую область в
некое подобие русской Вандеи, пронес стойкую, неугасимую ненависть
к советской власти до конца своих дней, закончившихся в петле во дворе
Лефортовской тюрьмы 16 января 1947 года.
Петр Николаевич Краснов (1869-1947) прожил долгую жизнь. Он
обладал незаурядными литературными дарованиями; в эмиграции его
имя упоминалось рядом с именами Бунина и Набокова. Краснов
оставил после себя ряд интереснейших произведений, рисующих нам жизнь
и быт Русской императорской армии. Естественно, что значительную
часть его трудов составляют воспоминания о Гражданской войне. И со
страниц его книг перед нами возникает очень симпатичный портрет этой
вне всякого сомнения выдающейся личности, стоявшей у самых истоков
Белого движения. Это и горячий патриот России и Дона, и талантливый
военачальник, и тонкий политик, и «отец-командир», любивший и
понимавший душу и простого казака, и русского народа. Попробуем, однако,
непредвзято, без авторской ретуши взглянуть на генерала Краснова
глазами военного человека, и попытаться определить, кем на самом деле
был атаман Всевеликого Войска Донского.
Военная карьера сына и внука казачьих генералов, разумеется,
должна была складываться совсем не так, как у простого станичника - в
Этот лексически нейтральный хрононим, который представляется нам наиболее
соответствующим историческому подходу и духу нашего времени, мы будем использовать в
дальнейшем, говоря о Великой Октябрьской социалистической революции (или Октябрьском
перевороте).
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
9
многочисленных казачьих полках, расквартированных по всем границам
необъятной империи. Достичь серьезных высот в продвижении по
карьерной лестнице в русской армии того времени можно было
рассчитывать, либо находясь все время в гуще военных событий, которыми столь
богата была российская история Х1Х-начала XX века, либо находясь
возможно ближе к источнику чинов, наград и назначений -
императорскому двору. Другими словами, либо делать карьеру «по Скобелеву»,
либо, прибегая к образу персонажа романа Л.Н. Толстого, «по Борису
Друбецкому».
«Петербургский казак» П.Н. Краснов уверенно выбрал второй путь.
Для успеха на этом нелегком поприще надо было служить в гвардии,
право выпуска в которую было предоставлено Николаевскому
кавалерийскому, Михайловскому артиллерийскому и Павловскому пехотному
училищам. Выбирая, по невозможности из-за недостаточных средств
учиться в Николаевском училище, «дисциплинарный батальон» (как на
тогдашнем жаргоне именовалось 1-е Павловское пехотное училище),
юный П.Н. Краснов делал решительный и, надо понимать, вполне
осознанный шаг. При всей относительной «интеллигентности» профессии
офицера-артиллериста пехотная служба, ввиду того, что пехота была
самым массовым видом войск, открывала огромные перспективы
карьерного роста.
Карьерную хватку молодой юнкер Краснов проявил с первых шагов
на военной службе. Уже на втором курсе он назначается фельдфебелем
Государевой роты Павловского военного училища, которое он окончил
по высшему разряду, с занесением его имени в 1889 г. на почетную
доску и выпуском с прикомандированием по особой милости Александра
III в лейб-гвардии Атаманский полк.
Однако сказочное назначение не особо радует Краснова: «Здесь я был
первым - там, куда я еду, я буду последним. При-ко-манди-рованным.
В голубой атаманской семье я буду ... «краснокожим»2, как называли в
гвардии прикомандированных от полевых полков», - откровенно
сокрушался он [99, С. 69]. Вот в чем дело - он переставал быть первым, хоть
и распределялся на почетнейшее место, о котором простой смертный
мог только мечтать. Это первое, уже вполне конкретное указание на
карьерную направленность Краснова. Вообще, в его повести «Павлоны» о
юношеских годах, проведенных в Павловском училище напрасно искать
2 Прикомандированные от полевых казачьих полков носили красные лампасы и околыш
на фуражке, в то время как в л.-гв. Атаманском полку приборным цветом был голубой.
10
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
естественных для молодого человека патриотических рассуждений,
описания чувств и переживаний, связанных с осознанием принятого
на себя почетного звания защитника Отечества. Зато мы неоднократно
видим как неотразимо на Краснова действует обаяние царской власти,
монаршие знаки внимания, милости, явленные государем фельдфебелю
Его роты.
В Атаманском полку Краснов, очевидно, очень скоро узнал, если и
не догадывался раньше, о существовании двух форм субординации, так
тонко подмеченных Л.Н. Толстым. В полном соответствии с выбранным
типом карьеры Краснов понимает, что на «павлонском» солдафонстве,
которое хоть и вызывает умиление начальства3, в гвардейском казачьем
полку далеко не уедешь. Надо было как-то отличаться.
Истинной находкой для молодого офицера стали открытые им у себя
литературные таланты. И если уж с чего начинать писать военному
человеку, то, конечно, следуя наитию Павла Ивановича Чичикова, с «истории
генералов». Этой теме был посвящен первый опус П.Н. Краснова -
некролог начальнику Главного управления казачьих войск генералу В.Г.
Золотареву, опубликованный в газете «Русский инвалид» 17 января 1891 года.
Усиленные занятия Краснова литературным трудом даже в ущерб учебе
в Николаевской военной академии, из которой он был отчислен (!) после
первого курса в 1893 г., говорят, на наш взгляд, не столько о безоглядном
увлечении литературой, сколько о расчетливом шаге.
Трудно поверить, что Краснов, этот честолюбец, а иным и не мог быть
юнкер, дослужившийся до фельдфебеля Государевой роты Павловского
пехотного училища, мог настолько пренебречь службой, которую по его
словам он так страстно любил. Скорее всего это была точно
рассчитанная ставка на «светскую» карьеру. Во времена серебряного века русской
литературы писательский талант, известность в литературных кругах
могли сослужить недурную службу, открывая мало кому известному
казачьему офицеру двери великосветских гостиных. Газета «Русский
инвалид», с которой активно сотрудничал молодой атаманец,
принадлежала к печатным органам официоза, ее читал сам император. К тому же
литературные труды Краснова были особого свойства. «Эта моя работа
в «Русском инвалиде», - писал впоследствии Петр Николаевич, - была
очень нужна Военному министерству для подготовки общественно-
3 Сразу после царского смотра военных училищ П.Н. Краснов совершил пеший
12-верстный переход в полевой форме, со скаткой шинели, чтобы представиться офицерам л.-гв.
Атаманского полка и его командиру генерал-майору М.И. Грекову.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
11
го мнения для принятия того или иного предложения министра
(выделено нами. - авт.). Она была нужна и для «комиссии по обороне»
Государственной Думы, и для самой Думы. На «вторниках у генерала
Бетрищева»4 какие-то вымышленные мною люди обсуждали вопросы, а
через несколько дней по этим вопросам приходилось говорить в Думе
или комиссии по обороне, и неизвестный Гр. А.Д.5 невольно
подсказывал решения, благоприятные Военному министерству» [11, С. 116].
Таким образом, фельетонист Краснов, фактически, служил для обработки
общественного мнения, был тем платным правительственным агентом,
которых за глаза нелицеприятно называют «борзописцами».
Любимая строевая служба также приносится в жертву карьерной
целесообразности. Краснов упорно добивается назначения
начальником конвоя Императорской миссии в Абиссинии, и в 1897 г. счастье
ему улыбается. Стремление Краснова на дипломатическую службу
очень понятно: она доставляет быструю известность и не сопряжена
с особыми трудами и опасностями. К тому же он ехал в Абиссинию
отнюдь не на собственный кошт, как скажем Н.С. Гумилев, а на вполне
«казенных» основаниях. Вдобавок ко всему Африка обещала обогатить
его творчество, доставить сказочное разнообразие сюжетов,
пропитанных далекими ароматами, столь ценимыми петербургской читающей
публикой.
Излишне говорить, что дипломатическая служба рассматривалась
Красновым как еще одна очень полезная ступенька в его восхождении на
карьерный олимп. Обилие орденов за относительно скромную миссию -
экзотической Эфиопской звезды 3-й ст., отечественного св. Станислава
2-й ст. и даже Почетного легиона союзной Франции - подтверждение
нашей (и, мы уверены, и Краснова) мысли. Не случайно и посвящение
абиссинского дневника Краснова великому князю Михаилу
Александровичу (на тот момент цесаревичу, шефу казачьих войск и собственно
л.-гв. Атаманского полка) и любимой сестре царя Николая II великой
княжне Ольге Александровне.
И в дальнейшем литератор-гвардеец следует по так удачно
проложенному пути. После командировки-путешествия в Индию,
Маньчжурию, Китай и Японию, которые Краснов предпринимает как
корреспондент «Русского инвалида», он отправляется на Русско-японскую войну
4 Название раздела, который вел в газете «Русский инвалид» П.Н. Краснов.
5 Литературный псевдоним Краснова в период сотрудничества с газетой «Русский
инвалид».
12
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
и снова в качестве уже военного корреспондента того же издания. Эта
трудная и непопулярная война приносит Краснову репутацию
фронтовика, два ордена и мечи к ранее полученному им ордену св. Станислава.
Однако, по своей должности корреспондента проявлял он себя,
фактически, только лихим партизаном, не получив никакого практического
опыта руководства войсками в бою.
Служба в гвардии со всеми очевидными выгодами и преимуществами
имела один весьма существенный недостаток: производство в ней было
крайне затруднено. На войну Краснов, например, ехал только
подъесаулом. Правда, боевые награды сильно продвинули его дела вперед. Но в
еще большей степени продвинули их писательские труды, которые Петр
Николаевич не забывал верноподданно подносить теперь уже
императору Николаю II и цесаревичу Алексею Николаевичу. Помогла и
удачная женитьба на известной камерной певице Л.Ф. Гюрензейн (немке по
национальности): жена часто пела вдовствующей императрице Марии
Федоровне народные датские песни.
После командировки на войну Краснов отправляется на учебу в
элитную Офицерскую кавалерийскую школу, окончив которую (опять с
отличием!) остается в ней преподавать. Когда же дело подошло к
необходимости получить полк (и соответствующий чин), то и эта «операция»
была разыграна Красновым по всем правилам военно-карьерной науки,
о чем он сам, видимо в немалой степени гордясь собой, совершенно
откровенно пишет в своих воспоминаниях.
«Военным министром в 1911 году был генерал-адъютант
Сухомлинов, бывший ранее начальником Офицерской кавалерийской школы и
носивший ее мундир... Помощником военного министра был генерал-
лейтенант Поливанов. Он, в бытность полковником и редактором
«Русского инвалида» увлек меня на постоянное писательство..., он
устраивал мне командировки в Маньчжурию, Китай, Японию и Индию... Мы
с ним «пуд соли съели», были знакомы семьями», - так описывает
Краснов первую заложенную им линию апрошей в осаде вожделенной
должности [97, С. 112]. Далее следует менее заметная сапа:
«Начальником Генерального Штаба был генерал-лейтенант Николай Петрович
Михневич. В чине капитана он читал лекции Военной истории в 1-м
Павловском военном училище, и я был его любимейшим учеником»
[там же, С. 113].
Так что не стоит удивляться, что 9 мая 1910 г. после завтрака у
императора в честь годовщины Офицерской школы сам Николай II подвел
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
13
Краснова к генералу Михневичу и «попросил» дать ему полк6.
Характерно, что и в этом случае, поскольку Краснов все же «прав на получение
полка не имел ни в очередь, ни вне очереди», решающую роль сыграла
закулисная работа генерала Поливанова, т.е. сработала та самая
«неформальная» структура, на которую всю жизнь делал ставку Петр
Николаевич. «Несправедливость? Нет, жизнь», - самодовольно
резонерствовал по этому поводу сам Краснов.
Сухари-службисты Генштаба все же сумели добавить ложку
дегтя к безоблачному настроению новоиспеченного полковника. Вместо
обещанного донского полка, расквартированного в Царстве Польском,
пришлось ему ехать принимать полк под старозаветным названием 1-й
Сибирский казачий Ермака Тимофеевича на самую окраину империи - в
Туркестан. «Назначение это меня не удовлетворяло», - честно
признавался позже Краснов.
Свое настроение командир полка не постеснялся выказать перед
офицерами сразу по прибытии к новому месту службы. «Вы недовольны,.. -
начал свою первую речь Краснов. - Должен вам признаться, что и я
недоволен и не обрадован своим назначением. Я мечтал получить родной
мне Донской полк, где офицеры и казаки меня знают, и я их знаю, где
крупные кровные лошади, где имеются прекрасные казармы, наконец,
получить хорошую культурную стоянку на железной дороге. Я получил
чужой мне полк, где меня не знают, и где я никого не знаю, полк,
разбросанный на сотни верст, с мелкими лошадьми, стоящий в глуши... Вы
видите, что мне приходится делить с вами все тяжести жизни на далекой
окраине в некультурной, почти бивачной обстановке...» [97, С. 171].
Трудно представить себе более неудачное начало речи-
самопрезентации (в терминах современной риторики). Сказывалось все
же отсутствие практического войскового опыта питомца «голубой
атаманской семьи». Немудрено, что после такого многообещающего начала
по лицам его офицеров «как бы какая-то тень пробежала». По счастью
командир полка вовремя это заметил и постарался концовку речи
выдержать в более мажорном тоне, сославшись более-менее удачно на волю
Государя Императора, и далее понес уже совершенную околесину о том,
что не дома, не улицы и площади создают столицу, но люди и их работа.
Любопытно как сам П.Н. Краснов описывает это событие. Накануне, по его словам,
он отравился рыбой, сильно недомогал, вследствие чего на завтраке не имел праздничного
настроения и был грустен. Сердобольный государь не мог этого не заметить и, очевидно,
приписал состояние Краснова огорчению от его долгого сидения в небольших чинах.
14 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Надо полагать, что таким образом Краснов пытался воззвать к
превращению напряженной боевой учебой забытого Богом селения Джаркент
в Петербург, но это совершенно никак не следовало из концовки его
речи, которую увенчала безобразно-казенная фраза: «Можете быть
свободны, господа». Непонятно почему тяжелое молчание офицеров,
седлавших коней под окнами его дома, было воспринято командиром полка,
украдкой подглядывавшим за ними из-за занавески, «хорошим для меня
признаком». Скорее наоборот, речь, вызвавшая отклик в сердцах людей,
немедленно становится предметом если не обсуждения, то хотя бы
обмена мнениями. То, что каждый из офицеров предпочитал молча, в себе
нести груз обиды и недоумения от такого приема, как раз красноречиво
свидетельствовало о подавленном настроении людей, которым только
что лишний раз дал понять приезжий «барин» в какой убогой обстановке
проходит их жизнь и служба.
Разговор с казаками также начался весьма своеобразно. Узнав от
адъютанта, что казаки терпят нестерпимые «унижения» от местных
жителей, вынужденно уступая им дорогу на грязных улочках, командир
полка издает приказ (!), долженствующий вдохнуть в его подчиненных
забытое чувство национальной и воинской гордости: «Звание казака-
солдата высоко и почетно. Государь Император носит воинское звание и
есть первый солдат Российской армии. Мы должны постоянно помнить и
осознавать, какое высокое звание мы носим и обязаны требовать к себе
должное уважение... Казак никому не должен уступать дорогу, кроме
господ офицеров и старших над ним казаков и солдат, стариков, женщин
и детей, как русских, так и туземцев. Все остальные, кто бы они ни были,
должны уступать дорогу казаку. Казак не может позволить, чтобы кто-
нибудь посмел его обругать или тем более ударить. Казак должен
помнить, что Государь Император не напрасно разрешил воинским чинам
ходить при оружии. Дерзкий должен быть наказан» [97, С. 175].
В сущности, ничего особенно крамольного в этом приказе нет.
Только уж больно мелок повод козырять именем Государя Императора. То,
что приказ повлек столкновения с местным населением, кончавшимися
побоями или легкими ранениями, легко покрывалось высшим
начальством Краснова в лице наказного атамана Семиреченского казачьего
войска М.А. Фольбаума, еще одного «литератора», который в свое
время сотрудничал с одним московским журналом в качестве...
карикатуриста и прекрасно был знаком с фельетонными талантами Краснова.
Командующий войсками Туркестана генерал A.B. Самсонов - бывший
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
15
наказной атаман Войска Донского, под заказ которого Краснов написал
популярную историю войска «Картины былого Тихого Дона» - прямо
одобрил его действия. Так что и здесь благоприятно сказывалось
прозорливое решение Краснова искать успеха в свете литературными
занятиями. У «петербургского казака», в сущности, руки были развязаны,
и сам он прекрасно осознавал это: «Я знал, что длиннейший «тетенькин
хвостик»7 тянется через Верный и Ташкент до самого Петербурга и даже
до Царскосельского дворца, знал, что там меня не выдадут, не
посрамят и в обиду не дадут (выделено нами. - авт.)» [97, С. 176].
Для нас этот приказ, с удовлетворением (что совершенно
естественно) воспринятый казаками-ермаковцами, интересен прежде всего тем,
что в нем П.Н. Краснов впервые разыграл карту национальной
гордости или, если угодно, казацкого шовинизма. То, что благодаря этому
нехитрому ходу ему удалось завоевать расположение полка, надо думать,
многому научило Краснова и послужило прецедентом, многократно
воспроизведенным им в дальнейшей его военной и политической карьере.
Несмотря на то, что воспоминания Краснова об этом первом
периоде его «полководческой» карьеры изобилуют описаниями мудрых
распоряжений и поистине суворовских методов воспитания войск, о
фактической стороне его командования приходится читать между строк.
Собственно говоря, почти за три года командования полком, помимо
наведения чисто «гвардейского», не принятого в казачьих войсках порядка
парадно-строевого выравнивания мастей лошадей в полку по сотням, за
Красновым особых заслуг не числилось. Перемешивание ради
достижения результата в сотнях казаков разных станиц трудно отнести к
мероприятиям, вызывающим безоговорочное одобрение: все же чувство
локтя одностаничников, объединенных зачастую и узами кровного родства,
сплачивало казачьи сотни, что имело первостепенное значение, прежде
всего, в боевых условиях. Изменение причесок казаков и приведение в
единообразный вид обмундирования, несмотря на всю важность этого
вопроса, также говорит скорее о «гвардейских» замашках командира
полка.
Нельзя согласиться с уважаемым историком А.К. Тучапским,
полагающим в своей диссертации, посвященной П.Н. Краснову, что это
был «кадровый офицер, никогда не занимавшийся административными
и экономическими вопросами» [180, С. 22]. Командир полка, особенно
Так называлась на военном жаргоне того времени цепочка покровителей.
16
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
кавалерийского, в старой русской армии, был в первую очередь
администратором и хозяйственником, и именно по этой «линии» очень часто
искал продвижения по службе.
Краснов предстает перед нами как очень неплохой администратор,
причем в немалой степени успех его администрирования, безусловно,
основывался на его связях. Такими же правилами «подтягивания»
полков руководствовались сотни полковых командиров в русской армии,
стремившихся сделать карьеру, во всем равняясь на гвардию.
Бессмертное скалозубовское «а в первой армии когда отстали, в чем...?»,
относилось не только к порядкам блаженной памяти николаевского времени.
Недаром Краснов с удовлетворением писал о результатах своего
командования сибирскими казаками в туркестанском захолустье: «Полк
принял совсем гвардейский вид» [97, С. 189].
На Великой войне, судя по наградам, П.Н. Краснов воевал неплохо.
Но и здесь без «тетенькиного хвостика» по всей видимости не
обходилось. Своего Георгия 4-й ст. он получил, командуя 3-й бригадой
Кавказской туземной дивизии, которой предводительствовал великий князь
Михаил Александрович, тот самый, который был в свое время шефом
л.-гв. Атаманского полка и кому Петр Николаевич верноподданнейше
посвящал свои абиссинские дневники. Об этом периоде его карьеры у
нас нет достоверных свидетельств, находили или нет ораторские
таланты генерала применение в его служебной деятельности. Сам Краснов
полагал, что «в настоящей армии речей говорить не принято...»; эта
позиция, как мы помним (см. «Военная риторика Нового времени»), ничем,
в сущности не отличалась от воззрений большинства русских генералов
на военную словесность в период Первой мировой войны.
Однако после Февральской революции без умения воздействовать на
массу невозможно было говорить вообще о каком бы то ни было
командовании войсками. И здесь П.Н. Краснову очень пригодились его
способности к речетворчеству, получившие достаточное развитие,
благодаря литературной деятельности и шестилетнему опыту командования
крупными войсковыми единицами. Командир 1-й Кубанской дивизии
генерал-майор Краснов добросовестно осваивал программы
политических партий, пересказывал их казакам, рассказывал о геополитических
целях войны, «говорил и о патриотизме, о победе». И все же не мог не
видеть, что разговоры остаются разговорами; благодаря им в его
дивизии дело еще обходилось без известных «эксцессов», но они не в силах
были двинуть войска в драку. А это значило, что на военной карьере
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
17
П.Н. Краснова можно было ставить крест. Это повергало генерала в
глубокое уныние. Именно конец блестящей карьеры, а вовсе не отречение
государя, как можно было бы ожидать, которому «монархист» Краснов
был обязан чинами и наградами, приводило его в отчаяние: «Рухнуло
все, чему я молился, во что верил и что любил с самой колыбели в
течение пятидесяти лет, - погибла армия» [ 11, С. 369]. О значении монархии
для генерала в его воспоминаниях за этот период нет ни слова.
Трудно судить о монархических убеждениях генерала только на
основании его писаний эмигрантской поры. Краснов старел, прошлое
начинало представать перед ним в розовом свете. Под Петроградом и
на Дону, пока еще у 48-летнего генерала были силы, все его помыслы
были отданы карьере и только карьере. Тем более, что все блестящие
придворно-литературные связи Краснова в новых, демократических
условиях постепенно начинали работать против него.
Оставалось применяться к
обстоятельствам, что бывший бравый атаманец с
чисто гвардейской нечувствительностью к
проблемам морального свойства ради
достижения успеха и демонстрировал. Все
неубедительные завывания Краснова по
поводу того, что с кем угодно (хоть бы с
ненавидимым и презираемым Керенским),
но за Россию, сейчас представляются
фарсом. Отчаявшийся Керенский в
обстоятельствах большевистского переворота
был как раз тем самым лицом, который
мог вновь вознести П.Н. Краснова к
вершинам власти и карьеры. Недаром хоть
5 суток, но Краснов фактически все-таки
был «главнокомандующим армии,
наступавшей на Петроград». Рис. 1. П.Н. Краснов
Дальнейшее только подтверждает наш
тезис о неизбывном честолюбии и карьеризме Краснова. После
провалившейся попытки переворота надежда на военную карьеру погибла
окончательно, и оставалось только попытаться «оседлать»
политическую власть на родном Дону. Тем более, как мы видели, особыми
военными талантами генерал не отличался, так, обычный командир конного
корпуса, да и то «февральского» производства. Но вот в историю русской
18
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
контрреволюции генерал П.Н. Краснов вошел именно как выдающийся
политик и администратор.
Немногие из историков обращают внимание на факт, что за пышной
риторикой о своем атаманском служении Краснов никогда не предлагал
каких-либо идей о дальнейшем устройстве России и конечных целях своей
борьбы. Суверенный Дон с атаманом Красновым во главе, или, в худшем
случае, находящийся под протекторатом Германии или даже союзников
- вот его политический идеал. Недаром самым страшным врагом атамана
по его собственным словам являлась донская и русская интеллигенция
(т.е. нация), которая после февральской революции недолгое время
осуществляла власть в России и была прямым конкурентом в политической
карьере Краснова. Вторым, личным врагом, естественно, выступал
генерал А.И. Деникин, который, к тому же еще и не очень-то одобрительно
относился к литературному эпигонству донского атамана. Это, как
известно, не прощается. Капитан Деникин вместе с подъесаулом Красновым
когда-то вместе ехали в одном вагоне на Русско-японскую войну, и Антон
Иванович впоследствии отмечал, что «статьи Краснова были талантливы,
но обладали одним свойством: когда жизненная правда приносилась в
жертву «ведомственным» интересам и фантазии, Краснов, несколько
конфузясь, прерывал на минуту чтение: «Здесь, извините, господа,
поэтический вымысел - для большего впечатления...» [11, С. 75-76]. Склонность
Краснова к «поэтическому вымыслу» надо постоянно иметь в виду, когда
читаешь его произведения о Гражданской войне.
В каждой шутке есть доля истины. По крайней мере «при всем своем
великодержавном патриотизме и монархизме атаман
руководствовался прежде всего местными, региональными интересами, - совершенно
справедливо замечает А.К. Тучапский. - При этом он проявлял
удивительную гибкость» [180, С. 22]. При этом под местными интересами
следует, на наш взгляд, понимать интересы сохранения и укрепления
власти самого донского атамана. Что касается гибкости политики
Краснова, то при всей своей ненависти к большевикам он все время своего
правления постоянно пытался завязать с ними политические или хотя
бы торговые контакты.
Амбиции Краснова в полную силу проявились в период его недолгого
атаманства. Правда, первую просьбу казаков в апреле 1918 г. «принять
на себя руководство восставшими казаками 1-го Донского округа, имея в
виду поднять и объединить вокруг него все казачье противобольшевист-
ское движение» будущий атаман и «идейный борец» отверг «крайне гру-
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
19
бо», как пишет «Донская летопись». Председатель Временного
Донского правительства Г.П. Янов отмечал, что Краснов «не проявил никакого
желания участвовать в неблагодарной черной работе и рисковать
ответственностью за возможные неудачи с поднятым казаками восстанием»
[56, С. 25]. Так что на первых порах функции спасителя Дона пришлось
играть Временному Донскому правительству и походному атаману ген.
П.Х. Попову, а также полк. М.Г. Дроздовскому, прибывшему со своим
отрядом в самый критический момент боя за Новочеркасск.
Только после освобождения казаками столицы Дона П.Н. Краснов,
очевидно, убедившись, что восставшие обладают реальными силами,
поддержкой всесильных тогда немцев и русских добровольцев,
соизволил дать согласие занять пост войскового атамана на весьма, впрочем,
драконовских условиях: только после предоставления ему Войсковым
Кругом почти диктаторских полномочий.
Любопытно, что в автобиографической повести «Всевеликое Войско
Донское» Краснов пишет о себе в третьем лице, совсем как Юлий
Цезарь и Наполеон до него. Все это произведение представляет собой
беззастенчивый панегирик мудрости собственного правления,
красноречиво говорящий о том, что за человек стоял у кормила русской Вандеи.
Как бы то ни было, но военно-политическая риторика атамана П.Н.
Краснова представляет собой весьма интересное и оригинальное
явление в истории русской контрреволюции. Это своеобразие проявилось в
выборе преобладающего пафоса его речей.
«Казачий Круг! И пусть казачьим он и останется. Руки прочь от
нашего казачьего дела - те, кто проливал нашу казачью кровь, те, кто злобно
шипел и бранил казаков. Дон для донцов! Мы завоевали эту землю и
утучнили ее кровью своей, и мы, только мы одни, хозяева этой земли.
Вас будут смущать обиженные города и крестьяне. Не верьте им... Не
верьте волкам в овечьей шкуре. Они зарятся на наши земли и жадными
руками тянутся к ним. Пусть свободно и вольно живут на Дону гостями,
но хозяева только мы, только мы одни... Казаки! Помните, не спасут
Россию ни немцы, ни англичане, ни японцы, ни американцы - они только
разорят ее и зальют кровью. Помните нашу старую песню:
У меня молодца было три товарища:
Первый товарищ - мой конь вороной.
А другой товарищ - я сам молодой,
А третий товарищ - сабля вострая в руках!...
20
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Спасет Россию сама Россия. Спасут Россию ее казаки!
Добровольческая армия и вольные отряды донских, кубанских, терских,
оренбургских, сибирских, уральских и астраханских казаков спасут Россию. И
снова тогда, как встарь, широко развернется над дворцом нашего
атамана бело-сине-красный русский флаг - единой и неделимой России. И
тогда кончен будет страшный крестный путь казачества и
Добровольческой армии, путь к свободе России и православного Тихого Дона!» [11,
С. 495-496].
Речь эта, произнесенная П.Н. Красновым на сходе большого Круга 16
августа 1918г., после освобождения Донской области от красных, может
оцениваться как в некотором смысле программная; сам атаман называл
ее «первой большой речью». Многому научил Краснова печальный
пример его предшественника A.M. Каледина, пытавшегося примирить две
равновеликие части населения Донской области: казаков и крестьян.
Казаки, составлявшие 54% населения Дона, владели в то же время 80-
90% земли и отнюдь не собирались делиться ею, идя навстречу
уравнительным желаниям «иногородних». Краснов предпочел сделать ставку
на воинское казачье сословие и решить социальные проблемы с позиции
силы, разжигая в казаках чувство донского шовинизма,
противопоставляя казачество сначала «пришлому» населению, а затем и всей России.
Этот политический ход нельзя не признать талантливым. Краснов
правильно оценивал расклад сил в Гражданской войне: «Боролись
добровольцы и офицеры, то есть господа, буржуи против крестьян и
рабочих, пролетариата, и, конечно, за крестьянами стоял народ,
стояла сила, за офицерами только доблесть. И сила должна была сломить
доблесть» [там же, С. 557]. Естественно, что воевать одними войсками
Дона против всей России атаман не собирался. Казаки нужны были ему
только как организованная вооруженная сила, которая бы позволяла
ему говорить как суверенному правителю с правительствами больших
держав, добиваясь у них помощи и поддержки. В противном случае у
тех же государств возникало бы сильное искушение решить «донской
вопрос» прямой оккупацией, что напрочь перечеркивало бы все краснов-
ские расчеты на верховную власть на Дону.
Возьмем на себя смелость утверждать, что политика Краснова была
самой прагматичной из всех «ориентации» контрреволюционных
лидеров. Его лозунг был прост, короток, понятен и близок массе сведенных
в сотни и полки «серых» станичников, которые, собственно, и делали
власть на Дону. Подкреплялся лозунг надежнейшей аргументацией са-
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
21
мого актуального для всей русской революции «материального»
свойства - однозначным решением вопроса о земле. Естественно, что на так
хорошо разрешенных вопросах практической морали можно было
возводить привлекательное здание диалектической, учительной речи. Можно
было упомянуть (для твердокаменно-подозрительных союзников
добровольцев) о «великодержавном патриотизме», но с тем, чтобы
обязательно свернуть на все те излюбленные «местные интересы» казацкого
шовинизма, которые традиционно находили отклик в сердцах аудитории
атамана. Не случайно Россия и Тихий Дон в концовке речи
недвусмысленно выступают как равноправные государственные субъекты.
Таким образом, выбор в пользу национального пафоса общественной
речи был сделан генералом Красновым вполне осознанно. Об этом он
писал впоследствии открыто: «Большевизму атаман противопоставлял
шовинизм, интернационалу - яркий национализм» [11, С. 475].
Оставим на совести атамана эпитет «яркий». Однако нельзя не признать, что
до ноября 1918 г., пока донские войска опирались на 300 000 немецких
штыков, его риторика имела успех.
Военно-политическая риторика П.Н. Краснова может служить
примером мастерского использования исторического примера в качестве
убеждающего средства. Вот когда атаману, как оратору, пригодились
его исторические изыскания во время работы над «Картинами былого
Тихого Дона». Когда по случаю публикации в газете «Донской край»
известия о панихиде по убиенной большевиками императорской семье на
Круге разгорелись политические страсти, Краснов всю аргументацию
своей речи от 20 августа 1918 г. построил на примерах.
«С чувством грусти и сердечной боли, - говорил донской атаман, -
вхожу я на эту трибуну. С нее третьего дня были брошены громкие,
заезженные слова: «К прошлому возврата нет», и весь Круг дружно
аплодировал этим словам... О каком прошлом здесь говорилось? Потому что
у нас, у казаков, было три прошлых.
Одно давнее, славное прошлое, когда казаки были вольными людьми,
имели свое выборное правительство и своего выборного атамана. Они
жили тогда у себя на Дону сами по себе и в чужие дела не мешались.
«Здравствуй, Царь в Кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом
Дону», - гордо говорили они посланникам царя Московского и сами
слали свои...посольства в царскую Москву. Царь не волен был тогда
распоряжаться казачьими головами, но только Круг Войсковой и донской
атаман...
22
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Знаем мы и другое прошлое. Тоже славное, но тяжелое,
подневольное. Сидели у нас на Дону наказные атаманы из России, служили мы на
задворках российской конницы, спасали Россию и от француза, и от
турка, держали порядок в России, и русский народ звал нас в благодарность
за это палачами, опричниками и нагаечниками.
Знаем мы и недавнее страшное прошлое, алою братскою кровью
залитое и красным знаменем прикрытое, когда правили вами и помыкали
и измывались над вами комиссары и Советы.
Я вел вас к тому отдаленному прошлому, когда Войско Донское было
Всевеликим Войском Донским. Я до мелочей воскрешал в вашей памяти
старый уклад вольного Тихого Дона и будил гордость казачью. Те же,
кто восклицал третьего дня: «К прошлому возврата нет», ведут вас к
страшному кровавому прошлому Советов» [11, С. 488]
Любопытно как в истории причудливо переплетается большое и
малое, общее и частное, общественное и личное. Краснов, хоть и служил в
гвардии, но в казачьих войсках, которые петербургским военным
бомондом воспринимались все же как части второго сорта. Не надо забывать,
что казачьи полки считались иррегулярными. Отсюда и восторженное
изумление, которое в свое время вызвало у Краснова известие о
предполагаемом назначении его помощником начальника Офицерской
кавалерийской школы8. Отсюда и прорвавшаяся в речи и неоднократно
встречающиеся в книге Краснова строки, полные горечи: «Казаки - четвертые
полки кавалерийских дивизий, штабная конница, прикрытие обозов и
конвои - словом, презрительно-ласковое - казачки» [11, С. 477].
Старшинство полка в императорской армии значило очень много.
Четвертые полки в пехоте, например, носили самые невзрачные мундиры. О
«скромном армейском мундире» неоднократно упоминает сам Краснов в
своих мемуарах, значит, это обстоятельство сильно уязвляло его.
В целом же перед нами небольшая, изящная, блестяще риторически
разработанная речь. Аргументация речи выстроена на антитезе тезиса
оратора и антитезиса его оппонентов, который для надежности
запоминания повторен дважды: в начале и конце речи. Народная напевность и
ритмичность речи, реализуемая анафорой, умело подчеркнута
использованием инверсии, градации и многосоюзия, когда речь заходит о периоде
правления большевиков. Такое сосредоточение средств выразительно-
8 В 1913 г. такая возможность рассматривалась, но Краснов предпочел «синицу в руках»,
согласившись после Туркестана командовать 10-м Донским полком, расквартированным в
Царстве Польском.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
23
сти в маленьком фрагменте речи позволяет оратору предельно усилить
эмоциональное воздействие аргумента против антитезиса.
Речь атамана закончилась демонстративным сложением им с себя
полномочий, сопровождавшимся эффектным жестом: он так хватил
атаманским перначом9 по столу, что проломил столешницу. Результат
голосования Круга, естественно, был в пользу атамана.
Однако с отречением кайзера Вильгельма II от трона положение
атамана катастрофически пошатнулось. Место «большого брата» русской
контрреволюции с неизбежностью занимали союзники, которым такие
бойкие перевертыши, как атаман Краснов (который, конечно, тут же
решился предложить им свои услуги) были не нужны, поскольку под рукой
имелся кристально-чистый, не запятнанный сотрудничеством с их
противником генерал Деникин. Атаман Краснов еще отчаянно интриговал,
пытаясь выторговать себе почетное место в добровольческой иерархии,
но дни его были сочтены. Тем более, что перенесение Добровольческой
армией боевых действий на территорию внутренней России, удаление
казаков от родных станиц непосредственно сказалось на
боеспособности казачьего войска. Увлечь его теперь можно было только одним:
перспективой хорошего грабежа. Краснов прекрасно осознавал и учитывал
это: «Перейти границы Войска Донского - это значило из народной
войны сделать войну гражданскую, завоевательную в лучшем случае, идти
ради добычи, ради грабежа» [34, С. 509].
И вдохновенный трибун, патриот и защитник Дона и России П.Н.
Краснов из политических соображений не остановился перед таким
«низким» предметом. Генерал Деникин вспоминал, что «...атаман
Краснов в одном из своих воззваний-приказов, учитывая психологию войск,
атаковавших Царицын, недвусмысленно говорил о богатой добыче,
которая их ждет там...» [11, С. 220].
Речь идет о приказе атамана, отданном перед началом штурма
«красного Вердена» 3 августа 1918 года: «Казаки! Станичники! По взятии
Царицына даю вам полную волю и свободу на три дня. Все, что будет
захвачено в городе - ваше. Можете забирать и направлять к себе домой,
родным. Всем близлежащим станицам, хуторам даю свободу действий в
разделе добра, отбитого у большевиков в Царицыне, и отправке его по
домам. Да поможет нам Бог в победе над красными супостатами!» [171,
С. 162].
Вид булавы или шестопера - символ атаманской власти.
24 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Чем отличались вдохновенные призывы атамана Всевеликого войска
Донского от известного большевистского лозунга «Грабь награбленное!»
- не совсем понятно. Однако прецедент был важен. После этого никого
уже не удивляла ликующая телеграмма ген. Мамонтова,
возвращавшегося в 1919 г. из рейда по тылам красных: «Посылаю привет. Везём
родным и близким подарки, донской казне 60 млн. рублей, на украшение
церквей - дорогие иконы и церковную утварь».
Как мы помним, вдохновлять войска, опираясь только на
практическую мораль, к тому же такого сомнительного свойства, - значит
уничтожать в них нравственную мощь. Пример Наполеона многому бы
должен был научить П.Н. Краснова. Казачьи полки и дивизии очень скоро
закономерно деморализовались. Собственно говоря, погоня «за
зипунами» традиционно была свойственна казакам. Первый же договор
Краснова с немцами (от 27 июня 1918 г.), например, закреплял за казаками
половину военной добычи. Но если с немцами еще приходилось как-
то соразмерять аппетиты, то в отношении соотечественников и вовсе
стесняться было грешно: по свидетельству Деникина, представители
Юго-Восточного союза казачьих войск еще осенью 1917 г. предлагали
Временному правительству в обмен на помощь «оставление за казаками
всей «военной добычи» (!), которая будет взята в предстоящей
междоусобной войне» [11, С. 201].
Так что в историю русской контрреволюции атаман Краснов вошел
как автор совершенно оригинального подхода к выбору пафоса
общественной речи, обеспечивавшего вооруженное противостояние. Атаман
первым в нашей истории предлагал русским бороться против русских
как против враждебного народа. Не как против заблуждающихся, но
все же родных братьев, а именно как против внешнего врага.
Отдельные чересчур смелые выражения уже в первой речи
Донского атамана,10 произнесенной им с трибуны Круга спасения Дона 3 мая
1918 г. вызвали «некоторое смущение» у его слушателей. «При
Каледине и Богаевском, - вспоминал К.П. Каклюгин, - никогда не
идеализировалось то старое время, когда казаки жили самостоятельно в Русском
царстве своею казачьей республикой, в казачьих программах никогда
не выставлялось требований вернуться к этому строю казачьей жизни,
провести резкую грань между казачьим государством и российским
государством. Ни Каледин, ни Богаевский не учили обособляться от рус-
10 Титул, принятый по инициативе самого П.Н. Краснова; до этого должность
именовалась скромнее - войсковой атаман.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
25
ского народа, «не вмешиваться в дела русского государства и
предоставить ему самому устроить свой образ правления, как ему будет угодно, а
самим зажить вольною жизнью»; никогда они не говорили: «мы казаки и
они - русские люди», а всегда «мы русские люди». [56, С. 71].
«Война с большевиками на Дону, - оправдывал такую свою позицию
Краснов, уже находясь в эмиграции, - имела уже характер не
политической, не классовой борьбы, не гражданской войны, а войны народной,
национальной. Казаки отстаивали свои права от русских» [11, С. 495].
Такая позиция закономерно довела этого честолюбца, не
постеснявшегося из-за двойного краха своей карьеры (военной и политической)
размежеваться с собственным народом, до петли. Писать после этого о
Краснове как о выдающемся русском офицере, как это принято
некоторыми современными историками, - значит в определенной степени
грешить против истины.
1.2. А.И. Деникин и Добрармия
С именем Добровольческой армии и ее славных «цветных»
дивизий: Корниловской, Марковской, Дроздовской и Алексеевской сегодня
устойчиво ассоциируется вся романтика Белого движения. В
современном массовом сознании, видимо, как реакция на годы старательного
идеологического очернения образа белогвардейца, формируется некое
упрощенное восприятие белого офицерства как носителя идеала
воинской чести русской императорской армии, рыцарей без страха и
упрека, поднявшихся на безнадежную борьбу с целью спасения чести нации.
В полном соответствии с этой красивой легендой старательно
мифологизируются образы вождей Добровольческой армии, которые теперь, как
правило, предстают блестящими полководцами, героями Великой
войны, честно и доблестно служившими Родине, благородные цели которых
оказались не достигнутыми только, так сказать, из-за «неблагородства»
их противников. Победы красных часть современных писателей и
историков стремится обосновать, во-первых, численным превосходством, а
во-вторых, неразборчивостью в средствах коммунистической элиты, не
гнушавшейся для достижения своих корыстных, антинациональных
целей терроризировать русский народ, угрозой дыбы и веревки загоняя его
в Красную армию. И в том, и в другом случае фактически
воспроизводится точка зрения проигравшей стороны, которая мало чем отличалась
26 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
от позиций всех когда-либо проигрывавших войны, очень склонных
изобретать собственную мифологию событий для того, чтобы хоть немного
смягчить горечь поражения.
И все же если мы хотим уяснить истинные причины и сделать
правильные выводы из такого сложного военного и социального явления
как гражданская война, пора взглянуть на портреты ее главных
действующих лиц не через призму идеологии, а всего лишь дав возможность
заговорить самим персонажам этой грандиозной исторической драмы.
Как известно, у истоков Добровольческой армии стояли бывшие
главнокомандующие русской армии генералы М.В. Алексеев, Л.Г.
Корнилов и А.И. Деникин. Первые два из них окончили свой жизненный
путь в самом начале Белого движения, и только А.И. Деникину (1872—
1947) пришлось вынести вместе с армией всю тяжесть борьбы и всю
горечь разочарования. В годы Гражданской войны в значительной степени
именно он, несмотря на формальное признание главенства Верховного
Правителя адмирала A.B. Колчака, был «лицом» русской
контрреволюции, представлявшим в 1919 г. самую значительную и реальную угрозу
существованию советской власти. Чтобы уяснить себе ту роль, которую
играл А.И. Деникин в исторических событиях, понять почему
руководимая им Добровольческая армия после череды блестящих успехов
стремительно деморализовалась, почему рухнул фронт и погибло Белое
дело, стоит подробнее всмотреться в личность этого человека, не
ограничиваясь трафаретным подсчетом его георгиевских крестов и анализом
послужного списка. Особенно это необходимо потому, что даже среди
соратников по белой борьбе ни одна фигура не воспринималась,
пожалуй, столь неоднозначно как фигура Антона Ивановича Деникина.
Прежде всего: будущий заместитель Верховного Правителя, а после
смерти адмирала Колчака и вовсе глава всей вооруженной силы
антибольшевистской России, который в случае успеха вполне мог бы
рассматриваться как кандидат в конституционные монархи, этот претендент на
титул «царь Антон» был самого пролетарского происхождения. Его
почтенный отец Иван Ефимович Деникин происходил из крепостных
крестьян, лишь благодаря собственному усердию дослужившись до чина
майора корпуса пограничной стражи. Только со стороны матери,
происходившей из семьи обедневших польских землевладельцев, мог Антон
Деникин рассчитывать получить толику «благородной» крови, ибо, как
известно, какой поляк не шляхтич. Как нам представляется, именно
половине польской крови обязан Деникин самолюбием, служившим при-
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
27
чиной как сложных жизненных коллизий, ожидавших его в будущем,
так и упорному продвижению по служебной лестнице.
«Простонародное» происхождение предопределило начало военной
карьеры А.И. Деникина. Ему повезло только в одном: отнюдь не
блестящее Киевское пехотное юнкерское училище было все-таки заведением
с военно-училищным курсом. Это значило, что при всей строгости и
бедности режима юнкерской службы образование Антон Деникин
получил по стандарту военного училища. Еще одна деталь: Киевским
военным округом во время учебы Деникина (1890-1892) командовал
прославленный военный педагог М.И. Драгомиров, отличавшийся помимо
педагогических талантов, ярко выраженным своеобразием, остротой и
независимостью суждений и позиций, часть из которых, например,
отказ подавлять силой студенческие волнения, получили широкую
огласку и носили выраженную либеральную окраску. Впрочем, о
либерализме, ставшем впоследствии основанием его жизненной позиции, юнкер
Деникин тогда не задумывался. Все его усилия употреблялись на благо
службы; недаром через 7 месяцев после поступления он был
произведен в унтер-офицеры. Это, очевидно, было непросто, даже если учесть
имевшийся у него четырехмесячный опыт службы «вольнопером»11 в 1-м
Стрелковом полку.
Благодаря выраженной, начиная со времени учебы в реальном
училище, склонности к точным наукам (аттестаты Деникина демонстрируют
стойкие отличные баллы по геометрии, алгебре, механике и
тригонометрии) и унтер-офицерскому званию Деникин взял вакансию в
артиллерию, что для выпускника пехотного училища было большой удачей.
Всего через два года целеустремленный молодой офицер сдал
экзамены и поступил в Николаевскую академию, однако после первого
курса для «технаря» Деникина непреодолимой преградой стал экзамен по
истории военного искусства. Причина, однако, была не только в этом.
Сам Антон Иванович упоминает в своих воспоминаниях о том, что за
первый год учебы в академии окончательно сформировались его
политические пристрастия: «Я принял российский либерализм в его
идеологической сущности, без какого-либо партийного догматизма. В
широком обобщении это приятие приводило меня к трем положениям: 1)
конституционная монархия, 2) радикальные реформы и 3) мирные пути
обновления страны». Очевидно, что Деникина, оказавшегося после
Вольноопределяющимся.
28 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
провинциального захолустья в самой гуще столичной жизни, занимала
не только учеба, но и злободневные общественно-политические
вопросы. В этом смысле А.И. Деникин в определенной степени отличался
от тогдашнего типа русского офицера, традиционно
интересовавшегося почти исключительно служебными вопросами. Недаром его
сослуживцы впоследствии вспоминали, что во 2-й артиллерийской бригаде
было принято приходить в гости «на Деникина», чтобы поучаствовать
в интересном разговоре. У Деникина «был и незаурядный ораторский
талант. Тогда, в молодости, он выражался лишь в «застольных речах»:
приветствия тем, кого чествовали, прощальные слова тем, кто уходил,
а иногда и в речах на злободневные военные вопросы» [108, С. 22].
Однако академия требовала учебы с полной отдачей, до забвения себя
и всех других интересов, кроме служебных. Итогом неудачи Деникина
на экзамене стало его отчисление обратно в бригаду. Для
самолюбивого офицера это было огромным испытанием. Им рассматривались самые
разные варианты продолжения карьеры, пока предпочтение все же не
было отдано годичному упорному труду в интересах второй попытки.
В отличие от блестящего гвардейца Краснова, испытавшего подобный
удар судьбы, для не обладавшего связями Деникину возможность
продвижения по службе была связана исключительно с академией, причем
не просто с ее окончанием, а с выпуском с причислением к
Генеральному штабу. Именно здесь и крылись обстоятельства, оказавшие
сильнейшее влияние на формирование личности Деникина и без преувеличения
можно сказать сказывавшиеся на его службе и жизни долгие годы.
Отмечавшаяся нами разносторонность интересов и увлечений
Деникина снова сыграла с ним злую шутку перед самым выпуском из
академии в 1899 году. «В академии Антон Иванович учился плохо; -
вспоминал один из его однокашников, - он окончил ее последним из числа
имеющих право на производство в Генеральный штаб... По свойствам
своей личности Антон Иванович не мог не урывать времени у Академии
для внеакадемических интересов в ущерб занятиям» [108, С. 23]. Об
этих интересах сам Деникин и знавшие его люди пишут как-то глухо.
С уверенностью можно только сказать, что одним из них стало, как и у
П.Н. Краснова, занятие литературой.
Летом 1898 г. на страницах «военного и литературного» журнала
«Разведчик» была опубликован рассказ Ивана Ночина «Леснянская
красавица», представлявший собой в общем неплохую стилизацию под
Куприна, изображавший небольшой эпизод провинциальной офицерской
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
29
жизни. Под именем Ивана Ночина скрывался штабс-капитан Деникин.
Рассказ этот, печатавшийся в №№ 406, 407 и 410, весьма любопытен.
В книге Г. Ипполитова «Деникин», второе издание которой в серии
«ЖЗЛ» вышло в 2006 г., отмечается, что «...первый свой рассказ Деникин
написал, еще учась в академии. Он был опубликован военным журналом
«Разведчик» в 1898 году... Сюжет его был взят из бригадной жизни.
Характерная деталь: артиллерийский поручик обращается к денщику на
«Вы» и ведет разговоры по душам» [73, С. 67]. После этих слов автор
позволяет себе предположить, что «в герое рассказа Антона
Ивановича просматриваются черты характера будущего генерала». Неизвестно,
какой рассказ Деникина имеет в виду Г. Ипполитов, но в единственном
опубликованном в «Разведчике» в 1898 г. рассказе И. Ночина «Леснян-
ская красавица» герой его, бравый артиллерийский поручик, обращается
к своему вестовому (!) дважды: один раз расширительно именуя его
вместе с прочими нижними чинами, промышлявшими насчет крестьянской
птицы, «канальями», в другом, адресуясь уже персонально, - «идолом»,
гневаясь на то, что вестовой разбудил позже положенного времени.
Никаких разговоров офицера с солдатом «по душам» нам обнаружить не
удалось; весь рассказ посвящен исключительно описанию
юмористического случая из быта офицеров. И это психологически очень верно и
понятно. «Черты характера будущего генерала» действительно
проявляются здесь весьма выпукло. И главная из них - стремление автора всеми
силами дистанцироваться от народа (которому он принадлежал по праву
рождения), чтобы уверенно почувствовать себя «своим» в благородной
касте офицерского корпуса.
Как бы то ни было, но подобные отвлечения от непосредственных
учебных обязанностей для Деникина не прошли даром. После
пересчета баллов выпускников, произведенного по инициативе
начальника академии, оказалось, что Деникину не хватает баллов для выпуска
в Генеральный штаб. Эту историю его апологеты однозначно трактуют
как происки академического начальства, пытавшегося протащить в
Генштаб чьих то протеже. Обвинения эти по существу бездоказательны,
поскольку Антон Иванович отмечал, что офицеры, которые волею судьбы
передвинулись вверх по академическому «рейтингу», сами выглядели
смущенными. Так не ведут себя люди, пользующиеся высоким
покровительством. К тому же чрезмерно строгая оценка начальника академии
ген. H.H. Сухотина, основанная на нелицеприятных высказываниях
(трудно ожидать, что они могли бы быть иными) самого А.И. Деникина,
30 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
представляется малооправданной. Знакомство с военно-историческими
трудами H.H. Сухотина позволяет характеризовать его как вдумчивого
исследователя; странно предполагать в нем исключительно оголтелое
желание все ломать в период нахождения на ответственном посту
начальника академии.
Симптоматично поведение штабс-капитана Деникина, занявшего
крайне жесткую позицию в вопросе своего распределения, не
остановившись перед жалобой на военного министра (!) лично императору.
Жалобы по такому щекотливому делу как распределения и
представления в русской армии вообще не пользовались особой популярностью.
Тем более если учесть ранг лица, на которого подавалась жалоба. Тем не
менее начальство добросовестно предпринимало попытки спустить дело
Деникина «на тормозах». Однако попытки эти не увенчались успехом,
прямо скажем, из-за твердолобого упрямства капитана (его даже в
следующий чин произвели «за отличные успехи», чтобы хоть как-то
подсластить «пилюлю»), во что бы то ни стало желавшего настоять на своем.
Вполне закономерно, что государь император, рассмотрев
обстоятельства дела, не нашел возможным пожертвовать ради такого случая
авторитетом начальника академии и военного министра, и жалоба Деникина
была оставлена «без последствий». Так что, видимо, не так уж был
неправ ген. А.Н. Куропаткин, сказавший государю на приеме выпускников
военных академий, что в армию капитан выпускается «за характер».
Но если бумагу еще можно было оставить без последствий, то
совершенно точно нельзя этого сказать про действие этой из ряда вон
выходящей истории на характер Антона Ивановича Деникина. Такая
несправедливость очень сильно задела молодого офицера. Д. Лехович
полагал, что «след этого чувства сохранился до конца дней» [108, С. 25].
По крайней мере через десять лет после формального признания его
прав военным министром, после огня и крови Русско-японской войны,
на страницах журнала «Разведчик» отголоском давних обид звучали
строки И. Ночина: «Печать второсортности сопутствовала им
(«академикам», выпущенным в армию. - авт.) во все время прохождения
строевой службы, где некоторое предубеждение, нередкие уколы самолюбию,
а иногда самая обыкновенная мелочная зависть создавали атмосферу не
способствующую ни спокойному состоянию духа, ни поддержанию
надлежащего авторитета... Кто знаком с порядками дореформенной
академии, тот знает какая масса труда и здоровья тратилась на поглощение
огромных академических курсов, несоразмеренных ни со временем, ни с
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
31
силами обучающихся... И если принять во внимание, что основной
причиной «второсортности» для многих академиков является какая-нибудь
одна десятая балла или неполная пригодность лишь к специальной
службе генерального штаба, что многие из них пользуются отличной
репутацией,., то станет понятным тот несомненный минус для строя,
который создала постановка прохождения академического курса»
[5, С. 431]. Основываясь на этих строках, можно предположить, что
истинным поводом к выпуску в армию А.И. Деникина как раз и послужило
неполное соответствие его подготовки какой-либо специальной службе
Генерального штаба.
Совершенно очевидно, что с ощущением собственной
«второсортности» молодой человек, и без того достаточно остро ощущавший
недостаток «благородства» происхождения, всеми силами поэтому
стремившийся быть в центре внимания гарнизонного общества, примириться не
мог. С этого момента честолюбие и самолюбие Деникина переживает
период бурного развития, приобретая столь свойственные либеральной
русской интеллигенции черты, как порой болезненная склонность к
исканию «правды». Чрезмерная любовь к правде, как правило, прикрывает
у ее адептов гордость и неудовлетворенное честолюбие. Такие качества
свойственны также людям молодым или не очень умным. И то, и
другое в равной степени можно отнести к личности А.И. Деникина. Мы,
конечно, не склонны безоговорочно разделять излишне категоричную
точку зрения П. Кенеза, нашедшего возможным использовать для
характеристики Деникина эпитет «туповатый», но то, что он не отличался
блестящими способностями, прослеживается еще со школьной скамьи.
Да и академическая «история» не имела бы места, не замыкай Антон
Иванович полусотню счастливчиков, имевших право на распределение
в Генеральный штаб.
Комплекс интеллигентского правдоискательства с его
поклонением народной «сермяжной правде», в свое время едко и зло высмеянный
И. Ильфом и Е. Петровым, в какой-то степени был свойствен и А.И.
Деникину. Имела место и определенная идеализация «будущим генералом»
классического носителя этой правды - русского солдата.
«За годичное командование ротой12, - пишет его биограф Г.
Ипполитов, - Деникин сумел полностью искоренить рукоприкладство. Однако
военно-педагогический опыт Деникина - командира роты... оказался
12 Годичное (1902-1903) «цензовое» командование ротой 183-го Пултусского пехотного
полка, положенное офицерам Генерального штаба.
32
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
неудачным. Капитан-экспериментатор угодил в силки утопии, полагаясь
исключительно на методы убеждения. Он негласно отменил
дисциплинарные взыскания: «Следите друг за другом, останавливайте
малодушных - ведь вы хорошие люди - докажите, что можете служить без
палки»... Кончилось цензовое командование: рота за год вела себя средне,
училась плохо и лениво» [73, С. 75].
Как видим, попытки привить ростки либерализма на русскую почву
терпели фиаско не только у многократно оплеванного, в том числе и
самим либералом в погонах, А.Ф. Керенского. Как известно либералам в
России элементарно не хватало прагматичности и знания основ русской
жизни. Не хватало близости к солдату, которая всегда является
производной от простоты и твердости начальника, базирующихся на верной
оценке им достоинств и недостатков подчиненных, и А.И. Деникину.
Оттого, наверное, Антон Иванович больше предпочитал службу
штабную. Другой причиной, вполне естественно, выступало уже
отмечавшаяся нами честолюбие, стремление несмотря ни на что доказать свою
«первосортность» перед более удачливыми или лучше обеспеченными
связями сослуживцами. Штабная служба открывала в этом смысле
значительно более широкие перспективы, нежели прозябание в строю.
Из справки о прохождении службы А.И. Деникина, составленной
Г. Ипполитовым, явствует, что из 21 должности, которые Деникин
занимал после выпуска из академии до начала Великой войны, только 3 были
строевыми; из них две должности Антон Иванович исполнял, командуя
по цензу сначала ротой и затем полком.13
Справедливости ради следует признать, что военная карьера
Деникина складывалась непросто, обычное дело для офицеров, не имевших
связей и «гибкости», сродни красновской. После возвращения с Русско-
японской войны он не получил должности начальника штаба дивизии,
несмотря на то, что она была ему «обещана» представлением Ставки
главнокомандующего. Деникин исполнял в Маньчжурии должности
начальника штаба Забайкальской дивизии, отрядов ген. Ренненкампфа и
ген. Мищенко и теоретически мог рассчитывать на такое назначение.
Тем не менее, ему смогли найти должность только штаб-офицера для
особых поручений при штабе 2-го кавалерийского корпуса (по
собственному выбору), расквартированного, правда, ни много, ни мало, в
Варшаве. Службой себя Деникин, впрочем, особо не утруждал; вся его энергия
13 А.И. Деникин командовал 228-м пехотным полком в период лагерного сбора с мая по
сентябрь 1907 года.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
33
уходила на писательскую деятельность: «Я печатал в военных журналах
статьи военно-исторического и военно-бытового характера и читал
доклады об японской войне в собрании Варшавского Генерального
штаба и в провинциальных гарнизонах. Не обошлось и без сенсации, когда
появилась в «Разведчике» моя статья в щедринском духе о быте и нравах
в Варшавском главном интендантстве».
Судя по всему, полковник Деникин, как он сам о себе
свидетельствует, был очень непрост в служебном общении, так что его
характеристика ген. Куропаткиным, очевидно, все же имела под собой определенные
основания. После расформирования 2-го кавалерийского корпуса,
например, он «напомнил о себе по команде Главному управлению
Генерального штаба, но в форме недостаточно корректной». Можно себе
представить реакцию на обращение безвестного армейского полковника
в «святая святых» армии - управление кадров Генерального штаба (в
современных терминах) с требованием должности! Следствием такой
«некорректности» было предложение должности начальника штаба в
8-й Сибирской дивизии, на которое «ясновельможный» пан Деникин дал
совсем уже дикий ответ: «Я не желаю!» Как можно понять из
последовавшего за этим назначения его в штаб 57-й пехотной резервной
бригады, бравого маньчжурца либо решили «загнать в бутылку», либо,
нисходя до объяснения подобной невменяемости офицера последствиями
возможной боевой психической травмы, постарались переместить его в
более-менее спокойное место «с прекрасной стоянкой в городе
Саратове, на Волге». Нет необходимости разъяснять хорошо известную
каждому военному человеку истину: ценность назначения обуславливается не
только должностью, но и местом.
Упрямое правдолюбство Деникина проявило себя и здесь. Вообще,
описание перипетий его борьбы с несправедливостью и самодурством
воинских начальников во время годичного пребывания в Казани
занимает значительно больше места в его воспоминаниях, нежели рассказ о
почти четырехлетнем командовании полком, а о периоде цензового
командования ротой он вообще предпочитает не распространяться. Это и
не удивительно.
В Казани он снова много и остро пишет. Его сотрудничество с
«Разведчиком» была совсем другого рода, нежели фельетонная деятельность
Краснова в «Русском инвалиде». Начать с того, что «Разведчик» был
органом полуофициальным, более того, скорее либерального
направления, и на страницах его публиковались материалы, которые не очень-то
34
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
способствовали карьерному продвижению его корреспондентов.
«Разведчик» был органом прогрессивным, пользовался, как и вообще
частная военная печать, с конца девяностых годов, и в особенности после
1905 года, широкой свободой критики не только в изображении темных
сторон военного быта, но и в деликатной области порядка управления,
командования, правительственных распоряжений и военных реформ»,
- гордо писал А.И. Деникин.
«Армейские заметки» И. Ночина, надо отдать должное их автору,
были весьма толковыми, содержали массу предложений, касавшихся
действительного, практического усовершенствования службы с точки
зрения боевого офицера. Современному исследователю публикации
Деникина любопытны главным образом тем, что они представляют
собой явный отпечаток его личности и обстоятельств служебной
карьеры: «Возьмите обстановку, в которой приходится работать. Ниоткуда
никакой поддержки, - горячился один из его персонажей, «моложавый
артиллерийский полковник», в котором нетрудно узнать самого
Антона Ивановича, - У них там и особый термин создался: «Вас это
устраивает?» - говорят, предлагая должность. Чорт возьми, - заволновался
полковник, - вы узнайте сначала, устраивает ли это назначение
службу, устраивает ли то государево дело, которое вы поручаете человеку»
[6, С. 616-617]. Нетрудно заметить, что в этом отрывке воспроизведены
перипетии назначения Деникина в Казань.
В Казанском округе Деникин, видимо, скоро приобрел известную
репутацию. Он сам не скрывает, что его
«писания... затрагивали не раз авторитет
высоких лиц и учреждений». Мало того,
Антон Иванович живо интересовался
всеми более или менее значительными
армейскими дрязгами, которые даже
впрямую и не касались его обязанностей
по должности. К таким случаям можно
отнести скандал в Инсарском полку,
офицеры которого сочли себя оскорбленными
нелестным отзывом о них командующего
округом ген. Сандецкого и один из них,
некто штабс-капитан Вернер, такой же,
очевидно, правдолюбец, как и А.И.
Деникин, подал военному министру жалобу
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
35
по поводу нанесенного ему лично словами командующего оскорбления.
Как пишет сам Антон Иванович: «Я горячо заинтересовался этим делом
и собирался откликнуться в печати очередной «Армейской заметкой».
Скандал был, однако, предотвращен... назначением Деникина приказом
командующего расследовать это дело. Допуск к секретным материалам
расследования, естественно, лишал его права их обнародования в
открытой печати, чем искусно воспользовалось начальство.
История назначения Деникина на его первую серьезную строевую
должность командира 17-го пехотного Архангелогородского полка в
1910 г. также весьма интересна. По воспоминаниям самого Антона
Ивановича в конце его службы в Казанском округе он имел массу
столкновений с командующим войсками. И все из-за порой откровенно злых его
публикаций в «Разведчике». Причем в этом случае всесильный генерал
Сандецкий, описанный Деникиным в весьма мрачных тонах, как бурбон
и самодур, проявил определенное благородство, отказавшись, к
удивлению самого Антона Ивановича, передать дело о подрыве авторитета
командующего округом в суд. Дело ограничилось тремя взысканиями
«за какие-то якобы мои упущения по службе», - так комментировал
Деникин «кару» за свободу слова. Оставим на его совести оценку
собственной служебной деятельности, за давностью лет и отсутствием
объективных свидетельств разобраться в нем все равно не представляется
возможным.
Чаша терпения начальства Деникина переполнилась, когда он развил
бурную деятельность по поиску правды в деле о попытке представления
к выдвижению на должность командира полка протеже командующего
округом, вопреки решению бригадного аттестационного совещания.
Созванные телеграммами Деникина командиры полков, несмотря на то, что
«у некоторых вид был довольно растерянный», приняли постановление о
недопустимости переаттестации в угоду командующему. Неожиданным
и жестоким результатом такого явного фрондирования стало то, что у
менее стойкого борца за справедливость - пожилого командира бригады
- на нервной почве случился инсульт.
В то суровое время Казанский военный округ по случаю
революционных событий находился на военном положении, и открытое
противодействие власти командующего группой высокопоставленных офицеров
попахивало мятежом. В результате начальство Деникина поступило так,
как обычно поступают в армии с неудобными офицерами - отправили
с глаз долой, к новому месту службы. Причем, памятуя о своеобразной
36
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
репутации Деникина, и чтобы не выносить сора из избы, отправили
формально с повышением - на должность командира одного из старейших
боевых полков русской армии, основанного еще Петром Великим,
старшим по номеру в пехотных войсках, расквартированных в Царстве
Польском. В том, что имел место именно такой подход к назначению А.И.
Деникина, красноречиво говорит факт представления на должность
офицера, имевшего к тому времени не одно взыскание за «упущения по
службе». Это назначение было первым серьезным служебным успехом
Деникина.
Итак, перед началом Великой войны, знаменовавшей взлет военной
карьеры А.И. Деникина, он предстает перед нами как обладающий
боевым, преимущественно штабным опытом, волевой (иначе ни за что не
добиться бы ему утверждения аттестации четырьмя командирами
полков!), самостоятельно мыслящий, но упрямый, самолюбивый и
амбициозный офицер, со вполне сформировавшимися либеральными взглядами
и предпочтениями.
Что бы ни писал потом Антон Иванович о своей склонности к
строевой службе, прямому участию в боевой работе «с ее глубокими
переживаниями и захватывающими опасностями» (!), все это сильно отдает
мемуарной лирикой. Причина же, побудившая его променять спокойную
должность генерал-квартирмейстера 8-й армии Юго-Западного фронта
на должность командира прославленной 4-й отдельной стрелковой
«Железной» бригады, могла быть вполне прозаична: отдельная бригада по
штатам равнялась дивизии. Это, в случае полного разворачивания
бригады, сулило возможность получения генерал-лейтенантского чина.
Как известно, расчеты А.И. Деникина полностью оправдались. В
1915 г. бригада была развернута, и уже в августе этого года Деникин
стал генерал-лейтенантом. Необходимо прокомментировать
многократно встречающееся в современных публикациях восхищение историков
перед высокими боевыми качествами 4-й стрелковой бригады, которая
во все время командования ею Деникиным выступала в качестве
«пожарной команды» армии. Особенно восхищает историков факт того, что
бригада 14 раз сменила принадлежность к различным корпусам, не без
скромного удовлетворения приведенный самим А.И. Деникиным. Если
переводить эти факты на язык военного человека, то становится
понятным, что 4-я бригада своей кровью делала своему «штабному»
командиру блестящую карьеру. Такая легкость в расточительстве своей части
в погоне за лаврами и могла быть свойственна только пришлому «пол-
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
37
ководцу», не сжившемуся с солдатами и офицерами полков еще в
мирное время. Слабое утешение, должно быть, представляло подчиненным
А.И. Деникина какое-то легковесное и весьма умозрительное
соображение их начальника о том, что «железным стрелкам почти не
приходилось принимать участия в позиционном стоянии, временами длительном
и скучном (sic!)».
Продвижение А.И. Деникина по службе сделалось и вовсе
фееричным после Февральской революции, которую он принял всей душой
либерального интеллигента: « 1 ) Возврат к прежнему немыслим. 2) Страна
получит государственное устройство, достойное великого народа... 3)
Конец немецкому насилию14...» [50, С. 142]. Причем прослеживается
определенная закономерность в перемещении на высшие должности в
военной «февралистской» иерархии генералов, начинавших войну в
составе Юго-Западного фронта. В 1914 г. начальником штаба фронта был
ген. М.В. Алексеев, 8-й армией командовал A.A. Брусилов, 48-й
пехотной дивизией - ген. Корнилов; о боевом пути ген. Деникина в составе
фронта мы уже писали. В 1917 г. после калейдоскопической смены лиц
на высших постах у кормила армии стояли, сменяя друг друга, все те же
генералы Алексеев, Брусилов, Корнилов и Деникин, упорно двигавший
за собой ряд фигур более мелкого масштаба, таких как ген. Марков, ген.
Романовский и пр.
Что объединяло этих людей? Не только то, что Юго-Западный фронт
в Великую войну добился наиболее громких успехов, но и то, что ни один
из них не был идейным монархистом, не отличаясь ни знатностью
происхождения, ни богатством, ни связями. Они были (и сами прекрасно
сознавали это) представителями формирующейся российской нации, для
которой война была пробой сил, путем к вершинам власти, выпадавшей
из рук дряхлеющей монархии с ее устаревшим принципом сословности
офицерской касты. Безусловно, они не были заурядными карьеристами;
но основания их патриотизма лежали не в непреложном следовании
долгу воинской чести и верности присяге законному правительству, а в
горделивом сознании исключительной ценности собственной личности,
которой благодарное Отечество было обязано воздавать славой,
почестями, званиями и наградами. Они не задумываясь «разменяли»
монархию на Временное Правительство, не остановились и перед военным
мятежом, как только поняли, что грядет сила, которая не будет нуждаться
Очевидно генерал имел в виду немецкое «засилье» в русской армии..
38
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
в великолепных генералах, и все их так трудно выстраданные чины и
ордена обратятся в ничто.
Программный приказ-воззвание ген. Корнилова, переданный в
войска в ночь на 28 августа 1917 г. был, фактически, началом настоящей
русской контрреволюции, голосом нации, почувствовавшей угрозу
своей власти.
«Русские люди! Великая наша Родина умирает. Близок час ее
кончины. Вынужденный выступить открыто - я, генерал Корнилов, заявляю,
что Временное Правительство под давлением большевистского
большинства Советов, действует в полном соответствии с планами
германского генерального штаба и одновременно с предстоящей высадкой
вражеских сил на рижском побережье, убивает армию и сотрясает страну
внутри. Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в
эти грозные минуты призвать всех русских людей к спасению
умирающей Родины. Все, у кого бьется в груди русское сердце, все, кто верит в
Бога - в храмы, молите Господа Бога об объявлении величайшего чуда
спасения родимой земли.
Я, генерал Корнилов, - сын простого казака-крестьянина, заявляю
всем и каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения
Великой России, и я клянусь довести народ - путем победы над врагом - до
Учредительного собрания, на котором он сам решит свои судьбы и
выберет новый уклад государственной жизни. Предать же Россию в руки
ее исконного врага - германского племени - и сделать русский народ
рабами немцев - я не в силах. И предпочитаю умереть на поле чести и
брани, чтобы не видеть позора и срама русской земли. Русский народ, в
твоих руках жизнь твоей Родины!» [50, С. 220].
Национальный пафос в воззвании выражен ярко и страстно. Слова
«Россия», «русские» встречаются в речи 8 раз, плюс трижды
упомянуто о Родине. Взывание к Богу и пассаж о пролетарском происхождении
«казака-крестьянина», которое долго будет припоминаться Корнилову
монархически настроенными офицерами, - всего лишь дань, с одной
стороны, отжившему религиозному пафосу, господствовавшему в
российской общественной речи на протяжении столетия, с другой -
предвосхищение набиравших силу социально-классовых ценностей.
Собственно говоря, приказ начертал политическую программу
контрреволюции, под знаком которой впоследствии будет вестись и будет
проиграна белыми Гражданская война. Этой программой, несомненно,
руководствовался и А.И. Деникин. Ничего кардинально нового, созда-
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
39
вая на Дону Добровольческую армию, ни он, ни М.В. Алексеев к ней не
добавили. Идеал Учредительного собрания как органа государственной
власти, верность пресловутой политике «непредрешенчества»,
оставлявшей народу право определить форму государственного устройства
страны после завоевания социального мира, сопровождали все
политические декларации русской контрреволюции.
После победы большевистской Октябрьской революции, с
углублением открытой вооруженной борьбы тональность военно-политической
риторики контрреволюционеров начала постепенно меняться.
Набирала силу государственная направленность приоритетов Добровольческой
армией, впервые обнародованных в воззвании, исходившем из ее штаба,
27 декабря 1917 г.: «Армия эта должна быть той действенной силой,
которая даст возможность русским гражданам осуществить дело
государственного строительства Свободной России» [11, С. 54].
В политическом обращении Добровольческой армии, составленном
А.И. Деникиным 23 апреля 1918 г. после завершения Первого
Кубанского похода, говорилось: «Полный развал армии, анархия и одичание в
стране, предательство народных комиссаров, разоривших страну дотла
и отдавших ее на растерзание врагам, привели Россию на край гибели.
Добровольческая армия поставила себе целью спасение России путем
беспощадной борьбы с большевиками, опираясь на все государственно
мыслящие круги населения.
Будущих форм государственного строя руководители армии
(генералы Корнилов, Алексеев) не предрешали, ставя их в зависимость от воли
Всероссийского Учредительного Собрания, созванного по водворении в
стране правового порядка.
Предстоит и в дальнейшем тяжелая борьба. Борьба за целостность
разоренной, урезанной, униженной России; борьба за гибнущую
русскую культуру, за гибнущие народные богатства, за право жить и дышать
в стране, где народоправство должно сменить власть черни. Борьба до
смерти. Таков был взгляд генерала Алексеева и старших генералов
Добровольческой армии (Эрдели, Романовского, Маркова и Богаевского),
таков взгляд лучшей ее части. Пусть силы наши невелики, пусть вера
наша кажется мечтанием, пусть на этом пути нас ждут новые тернии и
разочарования, но он - единственный для всех, кто предан Родине.
Я призываю всех, кто связан с Добровольческой армией и работает на
местах, в этот грозный час напрячь все силы, чтобы немедля сорганизовать
40 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
кадры будущей армии и, в единении со всеми государственно
мыслящими русскими людьми, свергнуть гибельную власть народных комиссаров.
[50, С. 269-270].
В этом первом самостоятельном политическом документе А.И.
Деникина, ставшего после гибели Л.Г. Корнилова командующим Добрар-
мией, уже прослеживается тяготение к государственным ценностям в
военно-политической риторике. Так, дважды упомянуто о
«государственно мыслящих» кругах населения и об установлении правового
порядка как одной из целей вооруженной борьбы. Да и в политическом
наказе командования армии, разосланным в начале мая 1918 г. по
городам и весям, указывалось, что «I. Добровольческая армия борется за
спасение России путем: 1) создания сильной, дисциплинированной и
патриотически настроенной армии; 2) беспощадной борьбы с
большевизмом; 3) установления в стране единства государственного и правового
порядка. II. Стремясь к совместной работе со всеми русскими людьми,
государственно мыслящими, Добровольческая армия не может принять
партийной окраски...» [там же, С. 361-362].
Наиболее выпукло государственный пафос прозвучал в речи
Деникина, произнесенной им 26 августа 1918 г. в Ставрополе:
«...Добровольческая армия поставила своей задачей воссоздание Единой
Великодержавной России... Добровольческая армия не может, хотя бы и временно,
идти в кабалу к иноземцам и тем более набрасывать цепи на будущий
вольный ход русского государственного корабля... Добровольческая
армия, свершая свой крестный путь, желает опираться на все
государственно мыслящие круги населения» [там же, С. 402].
Из этой политической платформы логично следовал знаменитый
лозунг добровольцев «За Единую, Великую и Неделимую Россию!» Этот
лозунг, как и общий переход к государственному пафосу в военно-
политической риторике, представляется, в целом, оправданным. После
поражения Германии в войне, когда невозможно уже было выставлять
большевиков агентами германского генерального штаба, национальный
пафос контрреволюционной борьбы, первоначально заявленный Л.Г.
Корниловым, терял смысл. Старательное дистанцирование
добровольцев от социального пафоса, ассоциировавшегося с главным оружием
большевиков, также можно понять. Ведь социальный состав
Добровольческой армии с преобладанием в ее рядах офицерства, юнкеров,
учащейся буржуазно-помещичьей молодежи имел ярко выраженную классовую
окраску. Это не могло не тревожить Деникина, который впоследствии
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
41
писал, что «печать классового отбора легла на армию прочно и давала
повод недоброжелателям возбуждать против нее в народной массе
недоверия и опасения и противопоставлять ее цели народным интересам»
[там же, С. 270]. Градация целей Добровольческой армии на основе
ценностей социального пафоса была бы, вследствие точно подмеченного
П.Н. Красновым несоизмеримого неравенства сил, губительна для
контрреволюции.
Таким образом, выбор, сделанный руководством Добровольческой
армии в пользу государственного пафоса военно-политической
риторики, нельзя не признать обоснованным реалиями момента. Мало того,
А.И. Деникиным, по собственному опыту хорошо сознававшим силу
печатного слова, были предприняты энергичные попытки создания под
эгидой Вооруженных сил Юга России (ВСЮР)15 особой
пропагандистской организации, призванной обеспечить распространение
положительного образа белогвардейского воинства в широких массах
населения на территориях, занимаемых белыми формированиями. Речь идет о
пресловутом ОСВАГе,16 разросшемся до невероятных размеров к закату
белой России, который, если судить по его штатам, одной агитационной
литературой должен был несколько раз уничтожить Красную армию.
Что же в таком случае послужило причиной гибели белого движения
на Юге России? Возможные ответы, как нам кажется, надо искать не
только на путях анализа объективных военных, политических и
экономических аспектов вооруженной борьбы, но и в особенностях личности
А.И. Деникина, рассказу о формировании которой мы недаром уделили
столько места.
Карьерный эгоизм генерала, приложившего массу усилий, чтобы
добиться признания своей «первосортности» неизменно становился
камнем преткновения в отношениях Деникина с вождями
антибольшевистских сил, особенно не подчиненных ему непосредственно. Многие
исследователи отмечали, сколько энергии, достойной лучшего
применения, было затрачено Деникиным на борьбу с атаманом Красновым.
«Присоединение» Северного Кавказа обострило отношения с
англичанами и региональными кавказскими лидерами. Неумение наладить диалог
с лидерами Кубанской Рады вообще завершилась позорной расправой с
Н.С. Рябоволом и А.И. Калабуховым. Но дороже всего обошлось белой
15 Оперативно-стратегическое объединение белых войск Юга России в 1919-1920 гг.
16 ОСВАГ - осведомительно-агитационное бюро ВСЮР.
42 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
армии нелепое противостояние с украинскими «самостийниками»,
потребовавшее в решающий момент «похода на Москву» отвлечения
крупных сил для занятия Киева. «Войска Петлюры, официально называемые
украинскими республиканскими войсками, дрались с большевиками и
вышибли их из Подольской, Волынской и части Киевской губерний, а
14 августа, одновременно с добровольцами... вступили в Киев. Значит,
в борьбе с большевиками у нас был союзник, который оттягивал на себя
часть советских войск. Значит, нужно было вступить с ним в
соглашение, чтобы бороться общими силами против главного врага -
большевиков. Взамен того, что мы видим? Генералу Штакельбергу
предписывается атаковать украинцев, если они не подчинятся добровольческому
командованию.... Вместо союзника у нас открывается новый фронт...
И когда мы, казаки, говорим: договоритесь с Грузией и с Украиной,
образуйте федерацию, чтобы общими силами справиться с общим врагом -
большевиками, нас вновь обвиняют в «самостийности», ибо мы
предпочитаем сговор с Грузией и Украиной, а не завоевание их», - справедливо
писал лидерам Рады П.М. Агеев в сентябре 1919 года [131, С. 465-466].
«Можно только подчеркнуть, - замечал по этому поводу А.К.
Голицын, - насколько вредны в политике отсутствие гибкости и чрезмерная
прямолинейность. Умение приспосабливаться к обстоятельствам в
политике необходимо, и рубка с плеча по-военному часто приводит к
фатальному концу» [35, С. 519].
Дело, однако, было не в военном подходе к делам политическим. Здесь
сказывалось все то же отсутствие гибкости, что и в вопросе выпуска из
академии в 1899 г., которое, как мы помним, проявил капитан Деникин,
и которое существенно затруднило его первые шаги на военном
поприще. Этот же недостаток стоил ему крушения взлетевшей в зенит летом
1919 г. полководческо-политической карьеры и привел к катастрофе все
белое движение на Юге России.
Упрямое честолюбие Деникина раньше всех разглядел вставший в
резкую оппозицию ему ген. П.Н. Врангель. «Боевое счастье улыбалось
Вам, - писал он Деникину, упрекая его за то, что он предпочел
движение на Москву, а не соединение с адмиралом Колчаком, - росла слава,
а вместе с ней стали расти в сердце Вашем честолюбивые мечты... Вы
пишете, что подчиняетесь адм. Колчаку, «отдавая жизнь горячо
любимой Родине» и «ставя превыше всего ее счастье»... Не жизнь приносите
Вы в жертву Родине, а только власть, и неужели подчинение другому
лицу для блага Родины есть жертва для честного сына ее... Эту жертву
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
43
не в силах был уже принести возвестивший ее, упоенный успехами
честолюбец» [50, С. 507].
Если внимательно изучить мемуары А.И. Деникина, нельзя не
заметить, что этот генерал, так упорно, по его словам, рвавшийся в строй, не
приводит в своих достаточно подробных воспоминаниях ни одной речи,
обращенной к солдатам и офицерам возглавляемых им войск. А ведь
говорить с войсками было абсолютно необходимо, особенно если учесть
признаваемую самим Деникиным важность воинского и политического
воспитания мобилизуемой солдатской массы, которая вливалась в До-
брармию порой прямиком из рядов ее противников. Вместо этого, Антон
Иванович отделывался фразой о том, что этому мешал... «лихорадочно
быстрый темп событий среди непрекращающегося пожара общей
гражданской войны» [131, С. 193].
Оценка ораторских способностей вождя ВСЮР его соратниками
весьма противоречива. Генерал Краснов, например, писал, что он
«считался с обаятельной внешностью Деникина, с его умением чаровать
людей своими прямыми солдатскими речами, которыми он подкупал толпу»
[ 11, С. 557]. «Он отлично владел словом, речь его была сильна и образна,
- признавал и П.Н. Врангель, но тут же добавлял: - В то же время,
говоря с войсками, он не умел овладевать сердцами людей» [там же, С. 643].
Об этом же писал и английский офицер X. Уильямсон: «Деникин - сам
по себе чуткий, решительный и рассудительный человек - был храбрым
и честным, но он был плохим оратором и никогда не мог воздействовать
на воображение войск» [181, С. 219].
Если, однако, не волновать речью сердца людей, то это значит, в
сущности, попусту сотрясать воздух. В чем же дело? Почему свои
довольно пространные военно-политические речи А.И. Деникин приводит
в «Очерках русской смуты» практически без купюр, но на протяжении
всего повествования он не находит и строчки для тех, о ком он так
красиво, сильно и убедительно говорил, прославляя «страстотерпцев -
русское офицерство»? Ответ прост: ген. Деникин не умел говорить со
своими солдатами и офицерами «на их языке».
Еще на стадии формирования Добровольческой армии Антон
Иванович сильно недоумевал, почему М.В. Алексеев, вместо того, чтобы просто
приказать русскому офицерству прибыть на Дон и вступить в ряды
антибольшевистских сил, тратит силы и время на составление каких-то
воззваний и «проспектов», пропагандируя Белую идею. Впоследствии, уже
командуя армией, Деникин «исправил» ошибку престарелого и излишне
44 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
либерального Алексеева и издал совершенно драконовский приказ,
«обращенный к офицерству, остававшемуся на службе у большевиков,
осуждая их непротивление и заканчивая угрозой: «...Всех, кто не оставит
безотлагательно ряды Красной армии, ждет проклятие народное и полевой
суд Русской армии - суровый и беспощадный» [50, С. 444]. Приказ этот,
по свидетельству самого автора, произвел больше вреда, чем пользы,
послужив темой для красной агитации и окончательно запугав тех, кто
втайне сочувствовал белогвардейцам, только силой обстоятельств находясь в
рядах Красной армии.
Ошибкой была и организация комиссии по проверке лиц старшего
офицерского и генеральского состава. Сам Деникин приводит данные о
том, что эта комиссия по тем делам, что дошли до главнокомандующего,
приговорила с сентября 1918 г. по март 1920 г. 25 генералов: 1 к казни,
4 к аресту на гауптвахте и 10 оправдал. Смертные приговоры и
каторжные работы Деникин, правда, не утверждал, но в отношении младших
офицеров на местах не особенно церемонились. «В кубанских походах
поэтому, как явление постоянное, имели место расстрелы офицеров,
служивших ранее в Красной армии...» [50, С. 445].
Самое же главное, что крестьянское население районов,
находившихся под властью белых, от которого зависело пополнение таявшей в боях
Добровольческой армии, совершенно не было охвачено речевым
воздействием командующего: «[Крестьяне] хотели слышать от него слово,
закрепляющее за ними земельный передел и прощающее все прошлые
прегрешения. Но этого слова они не услышали», - так с горечью
комментировал Д. Лехович эту поистине фатальную ошибку [108, С. 524].
Этот же эмигрантский биограф Деникина оставил нам абсолютно
точное наблюдение о характере ораторского дарования генерала:
«Врангель справедливо отметил, что речи Антона Ивановича, обращенные к
войскам, отличались бледностью и сухостью. Он прекрасно, сильно и
образно говорил перед интеллигентной аудиторией (выделено нами.
- авт.). Речи его захватывали и волновали слушателей. Но когда дело
заходило о том, чтобы сказать несколько слов войскам или толпе, этот
человек, сам вышедший из народа, не умел и не хотел пользоваться
приемами митинговых ораторов» [там же, С. 472].
Другого и быть не могло. Стиль Деникина оттачивался в офицерских
кружках и гарнизонных гостиных, на страницах «военных и
литературных» журналов, в штабах и канцеляриях. После первого фиаско в
общении с солдатами роты 183-го Пултусского пехотного полка либеральный
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
45
военный никогда не испытывал особого стремления к общению с «серой
массой».
Это же неумение взять верный тон в общении с подчиненными
способствовало, фактически, развалу сначала тыла Белой армии, а потом,
под его влиянием, привело к деморализации еще сохранявших боевой
дух фронтовых частей. По нашему мнению именно недостаток
лидерских качеств и практическое отсутствие личного общения
командующего с войсками трагически сказалось на судьбе начальника штаба армии
ген. И.П. Романовского. Иван Павлович, взявший на себя всю ношу
повседневного общения с войсковыми начальниками, невольно
воспринимался солдатами и офицерами, особенно когда успехи Белой армии
сменились чередой поражений, источником чуть ли не закулисной интриги,
заслонившим от войск их командующего. В итоге жизнь его трагически
оборвалась от пули озлобленного поручика сразу после окончания
военной страды, в Константинополе.
Как водится испокон века недостаток авторитетного слова
командующего принято компенсировать многоголосицей
подчиненных, т.е. усилением пропаганды. Однако, переходя к разбору
деятельности ОСВАГа, следует подчеркнуть любопытный пример
действия общественной речи на массовое сознание. Успокоенное
успехами армии, убаюканное солидными государственными идеями,
звучавшими в общественной речи на Юге России, гражданское общество, да
и значительная часть военных, позволило себе принять желаемое за
действительное. В какой-то момент обществу показалось, что все
вернулось к «старому порядку», на что активно (и ошибочно) работала белая
пропаганда. Стремление к старому правовому порядку, однако, было
неосуществимо, поскольку совершенно была лишена смысла позиция
«непредрешенчества», на которой стояло руководство ВСЮР. Старое
Учредительное собрание после кровопролитной гражданской войны,
очевидно, теряло всякую силу и авторитет, а допускать выборы нового
состава депутатов даже в случае победы белых было бы для них
самоубийственно. Вооруженные силы, учит история всех революций,
как один из главнейших элементов государства, сами являются
источником власти, и добровольная передача ее в руки слабого
и расколотого гражданского общества (именно так можно
оценивать российское общество в начале XX века) ведет только к
хаосу и анархии. Кромвель, например, смог прийти к этому выводу,
генерал Деникин - нет.
46 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
В результате военная диктатура белых могла считаться таковой
только на бумаге. Тыл начал жить привычной довоенной жизнью, в
каком-то ослеплении полагая, что все устроится само собой. В полной
мере это ощущение относится и к деятельности ОСВАГа - органа,
который обязан был быть самым боевым орудием белой государственности.
Воспоминания А. Дроздова демонстрируют нам совершенно обратное.
«Невозможно сказать, - писал этот работник ОСВАГа, не
понаслышке знакомый с принципами его работы, - на что уходила колоссальная
рабочая энергия этого исполинского механизма... Те, кто работал... три
четверти своей энергии употребляли на борьбу с этими тупыми
щупальцами казенщины, чиновничьего самодовольства, невежества и узости,
которыми Осваг душил творческую мысль и всякую творческую
инициативу... Газеты велись в том направлении, которое можно обозначить
словами: ура, во что бы то ни стало и при каких бы то ни было
обстоятельствах... Конечно, эта мера не привела ни к чему и население уже не
верило осважному ура, громыхавшему в те дни, когда обывателю
хотелось кричать караул,., а в войсках об Осваге говорили не иначе, как
приплетая его имя к имени матушки... Бюрократизм победил,
интеллигенция капитулировала... Агитация хороша, когда она дерзка и напориста...
У большевиков на бронепоездом идет агиопоезд17; у Деникина агиопоезд
турухтел, жалобно и трусливо... вслед за поездом пассажирским...
Военная бюрократия топила и потопила всякий патриотический пыл, всякое
озарение духа, которое освещало хотя бы на миг тусклые и скучные
коридоры ее бездушных канцелярий» [7, т.2, С. 50-53].
Как видим, в работе ОСВАГа задавала тон бюрократия
государственных канцелярий, бывшая истинным бичом императорской России, те
«столоначальники», которые привыкли топить в море бумаг всякое
живое дело еще при «старом порядке». «Государственные деятели, - писал
позже П.Н. Врангель, - ... не могли плодотворно работать при отсутствии
прочно и правильно налаженного административного аппарата в
условиях военно-походной жизни междоусобной войны; в работу они
неизбежно переносили все отрицательные черты нашей старой бюрократии, не
умели близко подойти к населению, вводили в живое дело неизбежный
канцеляризм, служебную волокиту, условные, потерявшие значение
формы» [27, С. 425]. Этот же принцип был перенесен и на организацию
государственной пропаганды ВСЮР. Нетрудно заметить, что наиболь-
Агитационный поезд.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
47
шей популярностью в работе ОСВАГа пользовались письменные жанры
военно-политической пропаганды, в то время как обстоятельства
Гражданской войны часто настоятельно требовали живого, устного слова. Не
казенного славословия, процветавшего на торжественных встречах
буржуазной интеллигенцией своих долгожданных героев-освободителей от
«болыиевистско-жидовского» ига, а честного и сурового слова военного
оратора, призывавшего к исполнению долга.
К сожалению, именно голос долга реже всего звучал на пространстве
белой России. С развитием и углублением вооруженного
противостояния все реже следовали добровольцы строгим правилам, установленным
при образовании бригады полковника М.Г. Дроздовского, послужившей
впоследствии кадром знаменитой и наиболее стойкой белогвардейской
дивизии: «Я поступаю добровольно в Национальный Корпус Русских
Добровольцев, имеющий целью воссоздание порядка и организацию
кадров по воссозданию Русской Армии, причем за все время пребывания в
Корпусе обязуюсь:
1. Интересы Родины ставить превыше всех других, как то: семейных,
родственных, имущественных и прочих. Поэтому защищать с оружием
в руках, не жалея жизни, Родину, жителей ее, без различия классов и
партий, и их имущество от всякого на них посягательств.
2. Не допускать разгрома и расхищения каких бы то ни было
складов.
3. Всюду стоять на страже порядка, действуя против нарушителей
всеми способами, до применения оружия включительно.
4. Быть внепартийным, не вносить и не допускать в свои ряды
никакой партийной розни, политических страстей, агитации и т. д.
5. Признавать единую волю поставленных надо мною начальников и
всецело повиноваться их приказаниям, не подвергая их обсуждению.
6. Всюду строго соблюдать правила дисциплины, подавая собою
пример окружающим.
7. Безропотно и честно исполнять все обязанности службы, как бы
они тяжелы временами ни были.
8. Не роптать, если бы случайно оказался недостаток обуви, одежды,
пищи, или она оказалась бы не вполне доброкачественной.
9. Также не роптать, если бы оказались неудобства в
расквартировании, как то: теснота, грязь, холод и прочее.
10. Не употреблять спиртных напитков и в карты не играть.
48
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
11. Без разрешения своих начальников от своей части не
отлучаться.
12. В случае неповиновения, дезертирства, восстания, агитации
против дисциплины подлежу наказанию по всей строгости законов
военного времени» [1, С. 184-185].
Нет решительно ни одного пункта, который бы не был
многократно нарушен Белой Армией в моменты ее победного марша для захвата
«сердца России - Москвы». Излишне приводить здесь хрестоматийные
примеры длины обозов конного корпуса Мамонтова, возвращавшегося
из рейда по Центральной России, и его откровенно циничную
поздравительную телеграмму с исчислением размеров захваченной добычи.
Об этой язве Белого движения достаточно честно писал его вождь. В то
же время и строгости применения законов военного времени
командованием явлено не было, что позже с запоздалым раскаянием также
признавал А.И. Деникин. «Ошибка Деникина, погубившая белое движение,
заключалась в том, - писал Д.В. Лехович, - что он упустил момент
вовремя ввести в своих войсках железную дисциплину, карающую всякий
разбой и насилие... наказания применялись как-то неумело,
спорадически. Скрытно, как бы стесняясь признаваться в том, что в рядах армии
имеются негодяи» [108, С. 523]. В этой верной оценке только одно
лишнее слово - «как-то». Мы видели, что на протяжении всей своей службы
Деникин не умел и всячески избегал применять наказания, если и не
всегда по отношению к солдатам, то по отношению к офицерам точно.
Например, в мемуарах командующего его бездействие в деле об
убийстве в Киеве трех евреев семью белыми солдатами прикрывается
опасением бунта их товарищей-сослуживцев. Однако выбранный Деникиным
государственный пафос общественной речи властно обязывал, по самой
сущности государства, как образования стоящего над любыми частными
интересами, для того, чтобы слова не расходились с делами, примерного
наказания виновных. Если он хотел, чтобы его государственность не
сопровождалась эпитетом «белая», не приобретала губительного для нее
классового оттенка, требовалось неуклонное соблюдение законности,
независимо от званий, заслуг, происхождения и места, занимаемого
относительно сторон баррикад.
Неспособность Деникина властной рукой подтвердить истинность
исповедуемых им ценностей государственного пафоса обесценила в
глазах населения и армии идеи Белого движения. В армии следствием
этого было моральное одичание и деморализация, в обществе - полнейшее
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
49
равнодушие, бессилие и шкурничество, «в толще народной» -
«безразличное отношение к вопросу - кто победит: лишь бы скорее конец» [11,
с. 149]. Это был конец Белого движения на Юге России.
1.3. Комуч, «Учредилка» и A.B. Колчак
Можно без преувеличения сказать, что Брестский мир, устранивший
самую близкую опасность для советской власти от наиболее грозного
внешнего врага, стал решающим фактором в деле сплочения сил врага
внутреннего, и образования новых, может быть, не менее опасных для
республики Советов фронтов. «Грандиозность гражданской войны в
России - не плод реакции, а последствие непризнания Брестского
договора, который расколол страну на два не только непримиримых внутренне,
но и разнородных по внешней ориентации лагеря», - к такому выводу
приходил бывший министр Омского правительства Г.К. Гинс [31, С. 45].
Возмущение «предательским» миром было наиболее сильно выражено
на востоке страны - в Поволжье, на Урале и на необъятных просторах
Сибири. Объяснений этому факту, нашедшему убедительное отражение
в военной риторике антибольшевистских сил, оперировавших в этих
регионах, может быть несколько.
Во-первых, в районах Поволжья, Урала и Сибири группировалась
значительная часть крупной буржуазии - промышленников и купечества, в
среде которых традиционно были сильны национально-патриотические
чувства и убеждения. Февральская революция «делалась» именно в
интересах этой социальной группы, и захват власти большевиками, в рядах
которых было так много «инородцев», вызвал агрессивное неприятие
Октября «лучшими людьми» российской нации.
Во-вторых, тяготы войны, благодаря удаленности от театров военных
действий, в наименьшей степени коснулись богатых хуторских хозяйств
казачьих войск: Оренбургского, Семиреченского, Уральского,
Сибирского, Забайкальского, Амурского, Уссурийского, казаки которых, в
основном, привлекались к охране пограничных территорий.
В-третьих, на восточных окраинах империи проживали
многочисленные народы, не относившиеся к титульной нации, воспринимавшие
революции, сотрясавшие европейскую часть России, как внутреннее дело
русских, в то время как борьба с внешним врагом была все-таки более
популярна и доступна пониманию масс.
50 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
И, наконец, в-четвертых, восточные регионы на первых порах
просто не успели испытать на себе всех последствий развала центральной
власти, сопряженного с ужасами стихийной демобилизации армии, с ее
известного рода «эксцессами», широким распространением
«революционного» произвола и ростом социального ожесточения.
Однако вооруженная борьба из-за одного только недовольства
властью начаться не может. Тем более, если учесть относительно низкую
плотность населения, особенно в Сибири, прогрессирующую по мере
удаления от центральных районов России. Своеобразное «сибирское
рассеяние» существенно затрудняло информационный обмен и препятствовало
сплочению и самоорганизации недовольных советской властью.
Требовался толчок внешней контрреволюционной силы, под прикрытием
которой это недовольство могло бы обрести некие организационные формы.
Таким толчком стало восстание чехословацкого корпуса,
растянувшегося своими эшелонами по всей длине Транссибирской магистрали. Это
позволило зажечь пожар контрреволюции сразу на значительной территории,
что, безусловно, способствовало подъему духа антибольшевистски
настроенных сил. Эти силы, в отличие от диктаторского принципа, изначально
заложенного в политические организации Дона и Добрармии, первоначально
базировались исключительно на демократических «февралистских»
принципах народовластия. Объяснялось это, с одной стороны, тем, что среди
преимущественно земледельческого населения Поволжья и Сибири всегда
были очень популярна программа партии эсеров18, с ее явной
направленностью на радикальное разрешение крестьянского вопроса. Целенаправленно
выдавливаемые большевиками из власти эсеры представляли собой
взрывоопасную смесь: закаленные царскими репрессиями они имели богатый
опыт подпольной, в том числе и террористической борьбы.
С другой стороны, антибольшевистские силы на Востоке
испытывали сильное давление со стороны военных контингентов и
дипломатических представительств западных государств, которые ревниво, но,
впрочем, достаточно близоруко следили за политической ориентацией своих
сателлитов. В годы Гражданской войны именно на Востоке сложилась
практика определять политическое лицо того или иного деятеля русской
контрреволюции по его «ориентации» на тех или иных союзников.
Нельзя сбрасывать со счетов и то, что «гвардия» восточной контрреволюции
- чехословаки, твердо стояли на позициях буржуазной демократии.
Партия социалистов-революционеров.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции 51
Одним из наиболее интересных эпизодов Гражданской войны на
востоке России является, наш взгляд, недолгая четырехмесячная история
Самарского Комуча19, действующие лица которой и после его падения
активно участвовали в контрреволюционной борьбе под самыми
разными знаменами и оставили значительный след в Белом движении.
Самара была взята Пензенским отрядом чехов под командой
поручика С. Чечека 8 июня 1918 года. С это дня в городе начало действовать
Самарское правительство (Комуч) в составе пяти членов бывшего
Учредительного собрания от партии эсеров: В.К. Вольского, П.Д. Климушкина,
И.М. Брушвита, И.П. Нестерова и Б.К. Фортунатова. Однако,
поскольку чехословаки не собирались заниматься восстановлением «законной»
власти в России, а преследовали собственные интересы, заключавшиеся
в организации беспрепятственной эвакуации на родину через
Владивосток, новообразованное правительство сразу же вынуждено было
предпринимать шаги по созданию собственной вооруженной силы.
В строительстве Народной армии Комуча, основу которой составила
подпольная офицерская организация подполковника H.A. Галкина,
причудливо переплетались как политические эсеровские партийные
установки, так и реальные настроения офицеров, составлявших ее костяк,
которые можно было сформулировать так: «Мы за Учредилку умирать
не будем!». Сослуживец впоследствии знаменитого В.О. Каппеля ген.
П.П. Петров вспоминал: «Члены Комитета будто не задумывались над
такими противоречиями: власть эсеровская, партийная, непримиримая
даже с кадетами, а воинская сила в большинстве из правых элементов,
враждебных эсерам» [87, С. 39].
Задумываться об этом, чтобы как-то выйти из сложного
двусмысленного положения вынуждены были сами военные, хотя бы для того,
чтобы обеспечить приток добровольцев в формирующуюся армию.
Поэтому в прокламации начальника штаба Народной армии полк. H.A.
Галкина, призывавшей население записываться в ее ряды, мы видим
интересную попытку сочетания ценностей национального и
социального пафоса.
«Граждане! Почему большевики посылают красную армию против
своих же братьев русских, а открывают фронт немецким войскам,
которые захватывают наши земли, вопреки Брестскому мирному договору,
продвигаются каждый день вперед, идут вглубь России?
Комуч - Комитет членов Учредительного собрания.
52
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Почему Ленин и Троцкий разбрасывают деньги латышам, китайцам,
немецким и австрийским пленным, - всем, кого соблазняет богатое
жалованье, лишь бы они нападали на верных, любящих свою Родину
русских людей, и на доблестных наших союзников чехословаков, не пуская
их на фронт драться против немецкого империализма, против господ-
ствования немецкого насилия над свободой народа? Потому что измена
родному народу гнездится в Петрограде и Москве, где всем управляет
немецкий посол барон Мирбах, а его приказания послушно исполняются
большевистскими заправилами, насилующими свободную волю
русского народа. Ленин в своих печатных брошюрах и в своих речах заявляет,
что у него нет Отечества, нет Родины, а Россия может погибнуть, лишь
бы торжествовал принцип большевизма, т.е. красный террор насилия
большевиков над мирным населением.
Товарищи, наступает, наконец, рассвет. Заволжье и Сибирь
объединяются, чтобы дать возможность воскреснуть великому русскому
народу, восстановить все гражданские свободы, демократическое
самоуправление земское и городское и организовать законную всенародную власть
через Учредительное собрание, созванное из представителей всех
русских партий на основе всеобщего равного и тайного голосования.
Доблестные чехословаки помогли нам освободиться от большевистского
насилия. Идут казаки к нам и им на подмогу. Но русский народ должен
сам организовать свою защиту, сам должен создать народную армию для
спасения родной земли.
Товарищи, не медлите! Вступайте в Народную армию ради Родины,
ради вашего спасения, ради великого будущего России!» [87, С. 158].
Любопытно, как воспринимали монархически настроенные
офицеры, такие как В.О. Каппель, обращение «товарищ»? Впрочем, они
знали на что шли: в комучевской армии офицерам даже не
положено было носить погон, а вместо кокарды носили почему-то ленточку
георгиевских цветов (тех же самых, что и на кокарде Императорской
армии). Вид, как писал К.В. Сахаров, у воинов Народной армии был
«полутоварищеский». Это же определение можно отнести и к
официальной риторике Комуча. Заметно, что в воззвании участие как чехов,
так и Народной армии в непопулярной в народе Гражданской войне
всячески затушевывается громкой фразой о стремлении сражаться с
немцами за национальные интересы России. Здесь, конечно, налицо
явное передергивание фактов. Однако нельзя не отметить, как
пригодился самарским контрреволюционерам факт заключения Брестского
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
53
мира: с упоминания о таком неслыханном «национал-предательстве»
начинается текст прокламации.
Затем наступает очередь официоза. Гражданские свободы и местное
самоуправление, равно как и малосущественные детали, вроде
«всеобщего, равного и тайного» представляют собой ценности уже
социального пафоса, выступая как своего рода дань лояльности политической
власти. К тому же нельзя забывать, что в подпольную организацию
Галкина входили и боевые эсеровские дружины. Надо было что-то дать
союзникам по борьбе.
Эта часть прокламации эмоционально значительно беднее первой,
где факт предательства большевиками национальных интересов подан с
активным применением средств выразительности: риторических
вопросов, повторов и градации. Заключительная часть, содержащая
обнадеживающее сообщение о грядущей помощи и особенно лозунги-призывы,
очень неплохи.
Однако одной только военно-политической риторикой трудно
двигать войска в бой. Первым из поволжских контрреволюционеров понял
это Владимир Оскарович Каппель (1883-1920). В этом молодом
35-летнем офицере била ключом та огромная, истинно солдатская энергия,
которой так не хватало белым генералам Деникину и Краснову,
приближавшимся к почтенному для военных пятидесятилетнему возрасту. В
аттестации поручика Каппеля за 1908 г., подписанной командиром 17-го
уланского Новомиргородского полка, встречаются такие строчки: «...
Имеет большую способность вселять в людях
дух энергии и охоту к службе» [87, С. 223].
Движения небольшого каппелевского
отряда всегда были исполнены величайшей
энергии. Первый успешный бой по захвату
Сызрани был проведен им уже 11 июня 1918
г., всего через три дня после образования
армии Комуча.
22 июля, после совершения за 4
перехода 140-верстного марша, каппелевски-
ми войсками был взят Симбирск (родина
Ильича). Приказ № 20 по войскам
Народной армии так комментировал это событие:
«Эта победа одержана, этот суворовский
марш совершен благодаря внутренней
Y/,
Рис. 3. В.О. Каппель
54
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
спайке частей, дисциплине, вере в себя, вере в своего начальника,
вере в правое дело...» [там же, С. 54].
Суворовские качества подполковника Каппеля ярко проявились в
боях по захвату Казани, которая была взята дерзким речным десантом
чехословаков и народоармейцев 7 августа 1918 года. «Отдельные белые
роты, состоявшие сплошь из офицеров, - писал позднее Л.Д. Троцкий
об этом периоде борьбы, - совершали чудеса» [174, т.2, С. 125].
От Казани, где был захвачен золотой запас России20, хорошо
послуживший впоследствии борьбе адмирала Колчака, было всего 300 верст
до Москвы, и В.О. Каппель категорически требовал броска на столицу.
Однако силы Народной армии были все же несоизмеримы с силами
начинавшей формироваться Красной армии. Народная армия в силу
нехватки резервов должна была перейти к обороне, что было вдвойне
губительно при таком неравенстве сил. С этого времени стрелковая бригада
Каппеля вынуждена была играть роль «пожарной команды»
Поволжского фронта.
Ожесточенные бои 14-17 августа под Симбирском с 1-й красной
армией М.Н. Тухачевского закончились отражением большевиков от
города. По этому случаю В.О. Каппелем был издан приказ.21
«Пятидневные упорные бои на нашем фронте с численно
превосходящими нас советскими войсками закончились полным поражением
противника. Не выдержав молодецкого удара доблестных войск фронта,
разбитый противник бежал, бросая на пути раненых, пулеметы, обозы,
грабя мирных жителей, угоняя их скот. Полное сознание Вами святого
долга - умереть или победить за правое дело - дало блестящую победу
и возможность продолжать создание боевой мощи Народной армии для
спасения Родины.
Вы, участники этих боев, вписали новую светлую страницу в историю
освобождения нашей измученной Родины от германо-большевистского
ига!.. Поздравляю с победой доблестные войска Народной армии
Симбирского фронта и геройские части наших братьев чехословаков,
самоотверженно и мужественно борющихся с нами для достижения общей
цели. Горжусь, что стою во главе войск, каждый шаг которых ведет к
новому торжеству правого дела!» [87, С. 62].
20 Полезно вспомнить, что золотой запас, захваченный каппелевцами в Казани, был
строго учтен вплоть до отдельных золотых монет, просыпавшихся из разбитых ящиков, вывезен
Самару и в далее - в Омск.
21 №5 по войскам Симбирского фронта от 19 августа 1918 г.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
55
Официальный комучевский социальный пафос словно бы испарился
из текста приказа. Весь он выдержан в бодром и энергичном героико-
патриотическом тоне. Характерное для героического пафоса взывание
к доблести и воинской чести вкупе с трехкратным упоминанием о
победе вселяет в слушателей уверенность в собственных силах. Тем более,
что противник очерчен уничижительно: как сборище деморализованных
трусов и мародеров. И, наконец, из уст белого военачальника
прозвучало великое слово «долг», которого, напомним, так не хватало в речах
старших генералов Добровольческой армии.
Но для того, чтобы взывать к исполнению долга надо и самому
безукоризненно исполнять его; в противном случае это святое слово будет
только, «яко кимвал звенящий», вызывать глухое раздражение
слушателей. Это слово не может звучать из штабного вагона или Ставки,
расположенной в глубоком безопасном тылу, оно должно исходить от
командира, делящего со своими солдатами все тяготы боя и походной
жизни: укрывающегося под одной шинелью на отдыхе и находящегося
рядом под огнем в стрелковой цепи. Именно таким командиром, глубоко
понимающим не только психологию солдата, но, что важнее,
психологию солдата гражданской войны, был В.О. Каппель.
«Когда серые шинели толпились у костра, - писали о Каппеле
газеты, - кто мог сказать, что вот этот человек, мешающий палкой в
котелке, полководец, а этот, лежащий на траве с папиросой во рту, его солдат.
Его знали только его солдаты. В нем каждый солдат прежде всего видел
такого же солдата. Полководец и солдат, стирающие рядом свои
рубашки в Волге, спаяны крепче, чем медью» [87, С. 46].
Вот чего более всего не хватало белым генералам и, по нашему
мнению, было тем средством, которое смогло бы переломить могучую
красную стихию социального пафоса гражданского противостояния. Раз
поиски решения какой быть России - белой или красной - переместились
на поля сражений, белые лидеры обязаны были понять, что в бою
люди меньше всего думают о политической платформе, на которой стоит
их командир. Командира в бою окружает ореол почти нечеловеческой
силы и могущества; того в чьей власти находится жизнь человека, люди
склонны обожествлять, наделять качествами, которыми сам человек
может быть и не обладает, но непременно хочет видеть в лице ведущего его
на подвиг или смерть. В этом инстинктивно создаваемом солдатом
и сознательно культивируемом умными военачальниками
превосходстве образа командира заключается для простого солдата
56 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
надежда не только на победу, но главным образом и на
сохранение собственной жизни. И это чувство почти мистического
превосходства не пропадает сразу после окончания боя, оно сопровождает
начальника, проявляясь в особом, некритическом восприятии массой его
дел и поступков, порождает связь, простирающуюся порой до полного
забвения подчиненными себя и собственных интересов, заглушающую
в них даже инстинкт самосохранения.
Такими качествами обладали в Белой армии очень немногие
военачальники. «В Корнилове, - писал, например, Р. Гуль, - было что-то
«героическое». Это чувствовали все и потому шли за ним слепо, с
восторгом, в огонь и в воду» [42, С. 37]. Было это и у В.О. Каппеля. И это
«героическое» ярко проявлялось в его военной риторике.
Все же под Симбирском войскам Народной армии пришлось
почувствовать крепнущую мощь Красной армии. В тяжелые времена,
наступавшие для государственности Комуча, как никогда было важным слово
фронтовых командиров. После неудавшейся операции по захвату Сви-
яжска 27-28 августа 1918 г., ставшей поворотным пунктом всей борьбы
на Восточном фронте, Каппелем был отдан приказ по войскам сводного
Самарского отряда.
«Доблестные бойцы! Последние бои на правом берегу Волги
протекали при неимоверно трудных условиях и заставили вас напрячь все свои
силы. Кровью своей поливая подступы к Казани, вы наносили советским
наемникам удар за ударом и заставили их оттянуть от Казани
значительную часть лучших войск и тем облегчили положение ее защитников...
При дружной поддержке подходящих новых подкреплений противник
должен быть опрокинут, и побежит перед вами, как он побежал в
Сызрани, Ставрополе22, Симбирске и под Казанью.
Возвращающаяся к новой, свободной и независимой жизни
ВЕЛИКАЯ РОССИЯ не забудет подвигов ее лучших сынов, здесь, на полях
битв своею кровью создающих основу ее будущего величия.
Обращаюсь отдельно к вам, добровольцы Народной армии; вы первые
сознательно, из одного чувства долга пошедшие на великое дело
освобождения Родины, составляете основу и душу Народной армии. Вокруг
вас должны собраться в ее ряды призываемые новобранцы. В них вы
должны влить свойственный вам дух отваги, воинской дисциплины и
патриотизма...
Имеется в виду г. Ставрополь-Волжский, ныне Тольятти.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
57
Солдаты, напрягите все свои силы. Союзные войска уже идут нам на
помощь. С поддержкой их и уже давно сражающихся с нами наших
братьев чехов - спасение Родины в наших руках. В эти великие часы имена
ваши навеки вписываются в страницы русской истории» [87, С. 141].
Нетрудно заметить, что приказы Каппеля, выполненные в жанре
классической вдохновляющей речи, издавались им после окончания
боев или в промежутке между ними и адресовались войскам,
находящимся на отдыхе и формировании. Таким образом, военная риторика
Владимира Оскаровича выполняла по форме преимущественно
функцию оценки трудов армии (см. «Военная риторика Нового времени»).
Это было вполне оправдано особенностями момента с его мгновенными,
порой неожиданными перебросками войск с одного участка фронта на
другой при возникновении критической ситуации.
Как диктуют законы этого жанра военной риторики, приказы
выдержаны в высоком, патетическом стиле, изобилуют яркими,
запоминающимися выражениями, живописующими труды и подвиги войск. На похвалы
здесь скупиться ни в коем случае нельзя. Благородному, жертвенному
подвигу своих солдат антитезой выступает подлое наемничество красных,
унижающее их цели войны. Напоминание о прошлых победах призвано
было хоть немного сгладить остроту восприятия последней неудачи.
Собственно говоря, о неудаче под Свияжском в приказе не было
упомянуто ни словом. Только пассаж о близкой помощи союзников, также
воспроизводящий законы жанра, выдает всю тяжесть реального
положения, в котором оказались войска Народной армии. Действительное
содержание приказа, в сущности, посвящено мобилизации войск на
грядущие подвиги и победы. Это позволяет отнести приказы В.О. Каппеля
к лучшим образцам военной риторики, посвященным поддержанию духа
войск после понесенного ими поражения.
Риторически разработанные приказы издавались командованием
Народной армии и перед началом боев. Силой и искренностью дышит,
например, приказ-воззвание начальника обороны Казанского участка
полк. Степанова, выпущенный им 7 сентября 1918 г. перед началом
решительной борьбы за город.
«ВОЙСКА НАРОДНОЙ АРМИИ! Горя желанием скорее снять с
России большевицкое ярмо, я на свой страх с малыми силами взял Казань,
ибо я верю в великий русский народ, и вера эта во мне не умрет! Пусть
враг напирает отовсюду, но мы Казань на расправу не отдадим. Прочь
малодушие и трусость!
58 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Если вы согнетесь, то под ударами большевицких палачей,
прольется кровь невинных казанцев. Этой крови нам не смыть тогда во всю
жизнь! Я требую, чтобы вы вступили в новую Великую Россию героями-
освободителями. Сомкните же ряды и строго следите за подлым врагом.
Трудные дни скоро кончатся! По воде и по рельсам спешит к нам помощь.
Крепитесь! На нас смотрит с надеждой вся Россия. Умрем или
победим!»23
Приказ также проникнут героическим пафосом. Замечательно ярко
подчеркнута ответственность армии за судьбу защищаемого ей
гражданского населения, мотив, часто встречавшийся в военной риторике
белых. Не все в приказе удачно, особенно требование (!) проявить
героизм и последовательность слов в заключительном призыве. Начинать
надо было все-таки с «победим», даже если принимать во внимание
действительно критическую для Народной армии обстановку,
сложившуюся в тот момент на фронте. Однако несомненным достоинством приказа
можно считать то, что в тексте заявлено личное отношение автора к
делу, реализующее очень важную функцию раскрытия образа военного
руководителя (см. «Военная риторика Нового времени»).
В тяжелые для Самарского правительства и Народной армии дни
августа-сентября 1918 г. профессиональными агитаторами-эсерами
предпринимались и попытки разложения противостоящих красных
войск. В типичной для пропагандистских материалов такого рода манере
эсеры пытались бить врага его же оружием.
«Войска советской власти! Вы обмануты вашей беззаконной,
разбойничьей властью, вашими комиссарами, которые повели вас против
народа, против Учредительного собрания. Они говорил вам, что
против советской власти сражается буржуазия - белая гвардия. Они лгут!
Против советской власти встал весь народ. Вас комиссары заставляют
сражаться против Народной армии, против призванных в ее ряды ваших
братьев и крестьян, против Учредительного собрания, против наших
братьев чехословаков, борющихся с германским империализмом.
Все социалистические партии, все крестьяне и рабочие, весь народ,
кроме большевиков и левых эсеров, стоят за Учредительное собрание.
Ваши комиссары продали Россию германцам, а вас заставляют
сражаться против своих же братьев... Под властью Комитета членов
Учредительного собрания находится огромная часть нашей Родины. Вместе
Листовка из коллекции Российской Национальной библиотеки, ФБЛ п-2/94.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
59
с войсками Народной армии идут все чехословацкие войска, все
Оренбургское и Уральское казачье войско. Вы сами видели, как дерутся эти
войска. Оставьте гибельное для вас сопротивление.
Поймите, что вас обманывают ваши комиссары и заставляют идти
против народа.
Истребляйте ваших комиссаров и переходите на сторону
Учредительного собрания, и вам будут прощены ваши ошибки и ваши заблуждения.
Те же из вас, которые будут продолжать действовать против нас, будут
истреблены без всякого милосердия» [87, С. 149-150].
Командующий войсками Народной армии подполковник Каппель эту
листовку подписал вместе с членами Учредительного собрания Б.К.
Фортунатовым и В.И. Лебедевым, приставленными Комучем к внушающему
некоторые опасения «старорежимными» взглядами офицерству в
качестве своеобразных комиссаров. Судя по преобладанию в прокламации
социального пафоса, составлялась она именно эсеровскими
чрезвычайными уполномоченными.
Риторическая разработка текста листовки проведена, впрочем,
довольно-таки бездарно. Прежде всего, прокламация сочетает два
вида пропагандистского воздействия: она ориентирована
одновременно и на разложение, и на устрашение противника. Оттого
аргументация речи выглядит крайне сумбурно. Не успевают авторы сердечно
убедить «братьев-красноармейцев» в том, что комиссары их
обманывают, как тон меняется, в нем начинает звучать скрытая угроза, когда
речь заходит о высоких боевых качествах войск Народной армии и
ее союзников, с тем, чтобы опять вернуться к медоточивому призыву
не сражаться против народа. К концовке речи, кажется, приложил
нетерпеливую руку неопытный в пропагандистских уловках
энергичный вояка Владимир Каппель, видимо пожелавший тут же расставить
все точки над i.
В результате получилось, как говорится, «ни то, ни се». После
тонкого яда пропаганды разложения попытки устрашить, подавить волю к
сопротивлению действуют как холодный душ, сразу напоминая, что по
другую сторону фронта стоит ярый враг, а не доброхот-человеколюбец,
радеющий за обманутых братьев.
Более талантливыми по содержанию и стилистически выдержанными
являются пропагандистские материалы, относящиеся ко времени
правления Директории (Временного всероссийского правительства), выбранной
на заседавшем в Уфе 16-23 сентября 1918 г. Государственном совещании.
60 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Широкий спектр политических антибольшевистских сил,
представленный на Совещании, имел выраженную социал-демократическую окраску.
«Мы, крестьяне возрожденной России, решили послать вам
весточку, братья крестьяне, ограбленные, скованные и задушенные
проклятыми большевиками и немцами.
Посмотрите вокруг себя и вы увидите, что вас обманывают и
продают на каждом шагу, что вы не можете ступить свободно ни шагу,
сказать слово, чтобы вас не схватили, не арестовали и не расстреляли,
а где ваша землица, которую вы так добивались вместе с нами?
Мыто имеем ее вдоволь, а теперь будет еще больше, так как земли всех
продавшихся большевикам и немцам отберут и отдадут нам и
нашим детям, сражающимся за освобождение России (выделено
нами. - авт.). Мы вздохнули, так как никто тебе не мешает свободно
работать, растить на нашей кормилице хлеб, собирать его и быть
хозяином ее. Как сработаешь, так и соберешь, едешь свободно на базар.
И продаешь хлеб, и никто тебя не остановит, не отберет и не обидит,
как это бывало при большевиках. А у вас где теперь хлеб, где скотинка,
небось, все на записи у комиссаров - все не твое и тебя кнутом гонят в
Красную армию. Все говорили, что плохо было без свободы, а вспомни
- ни хлеба у тебя не отбирали, скотины не продавали. Самого не гнали
драться, а подумай только с кем ты дерешься - да с нами же
крестьянами, а за что? За то, что мы сами сбросили большевистское иго и хотим
помочь вам» [38, С. 154].
Эта листовка, выпущенная в октябре 1918 г. и подписанная
«крестьяне», сразу начинает речь с самого больного вопроса периода «военного
коммунизма» - провозглашения советским государством хлебной
монополии и отмены свободной продажи хлеба. Тезис об обмане крестьян
большевиками теперь аргументируется не голословным утверждением,
что за Учредительное собрание (которое при общей политической
безграмотности населения не воспринималось крестьянами как нечто, за
что стоит отдавать жизнь) стоит весь народ. Речь теперь идет о самом
насущном крестьянском праве - праве распоряжаться плодами своей
земли. Блестяще «разрешен» в листовке вопрос о праве на землю,
который оказался бессильным удовлетворительно разрешить Комуч, хоть и
признавший формально право крестьян на передел помещичьей
земельной собственности, но не нашедший силы последовательно отстаивать
это право перед офицерами-землевладельцами, сражавшимися в рядах
Народной армии.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
61
Земля должна принадлежать тем, кто за нее сражается - вот что
утверждают авторы листовки. Нетрудно заметить, что такая постановка
вопроса снимала остроту классового подхода в вопросе землевладения.
Тем более что «белые» сражались формально против приспешников
внешнего врага, в красные выступали в роли коллаборационистов, в
отношении которых исторические прецеденты были весьма суровы. Еще
со времен Московской Руси, как известно, существовала практика от-
писания поместий «воров» и изменников на великого государя (см. ст.
5 гл. II Соборного Уложения 1649 г.: «...а поместья и вотчины и животы
изменничьи взяти на государя»). Аналогичный, только безнадежно
запоздавший способ решения земельного вопроса был предложен в 1920 г.
ген. Врангелю, когда территория белых была ограничена пределами
одного Крымского полуострова. Но в 1918 году, когда советская власть
держалась только в Центральной России, такой подход выглядел, на наш
взгляд, вполне реалистичным.
Справедливости ради стоит все же отметить, что «златые горы»,
которые сулила листовка красноармейцам, были пропагандистским
миражом. Отмена свободной торговли хлебом на территории Комуча
произошла еще 1 августа 1918 г. на состоявшемся в Самаре областном
продовольственном съезде. Причина - демократическая власть, так же
как и большевистская, не могла накормить город, несмотря на хороший
урожай зерновых. В.В. Кондрашин отмечает, что попытка
правительства Комуча регулировать процесс закупки хлеба привела
фактически к восстановлению продразверстки. В результате на состоявшемся
15-23 сентября Самарском губернском крестьянском съезде в
поддержку Комуча голосовало сначала менее половины из 229 делегатов. После
выступлений лидера партии эсеров В.М. Чернова, чешского
представителя доктора Влассака и французского консула Жанно и
переголосования набралось 129 «за», 33 «против» при 67 воздержавшихся по вопросу
о поддержке политики Комуча, которая была так необходима в связи с
обострением положения на фронтах [95, С. 123].
Тему обмана крестьян-красноармейцев продолжало и обращение,
подписанное Всероссийским национальным союзом24 (?), выпущенное в
ноябре 1918 года.
«...Вам обещали не только землю и волю, но прямо молочные реки в
кисельных берегах, если вы уничтожите «буржуя».
24 Правильнее: Всероссийским национальным центром. Всероссийский национальный
союз прекратил свою деятельность в 1917 г.
62 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Ну-ка! Какие у вас молочные реки в кисельных берегах? Не только
молока и киселя, хлеба насущного нет у вас в Советской республике.
Семьи ваши не знают, чем жить и питаться. А у нас «буржуя» не
обижают и у всего народа хлеба довольно, пропитание дешево и всяк спокоен
за завтрашний день.
Вас научили сражаться будто бы за Революцию, которая вам дала
землю, и за землю, которую мы хотим у вас отнять. Но вас опять
обманули. Разве вам принадлежит теперь земля? Есть у вас на нее права и
документы? Уж если хлеб у крестьянина отбирают силой реквизиционные
отряды, то почем вы знаете, что завтра не придут отбирать силой землю?
Ведь у вас нет порядка, не может быть и земельного порядка. У нас же
все верные сыны Отечества, все проливающие кровь за свою Родину, а
не за Революцию, получат землю в собственность, на вечность, по
закону для себя и детей своих» [38, С. 155-156].
Нельзя не восхититься простой, ясной и безупречной логикой этого
образца пропаганды социал-демократического правительства. Тремя
риторическими вопросами пропагандист, прямо следуя методу
Сократа, приводит слушателя к необходимости разделить свою точку
зрения. Простейшее доказательство «по аналогии», очевидно,
производило действие разорвавшейся пропагандистской бомбы. Самое
удивительное что то, о чем предупреждали крестьян эсеры, на самом деле
впоследствии и произошло. В государстве, в «законодательном»
порядке (да простится нам такая тавтологичность) поправшем нормы права,
действительно не могло быть никакой уверенности в завтрашнем дне.
Насильственная коллективизация была лишь одним проявлением
отсутствия «порядка».
И опять в прокламации повторялась излюбленная эсерами идея о
распределении земли в воздаяние за подвиги на поле брани. Вернемся
к тексту октябрьской листовки. «Земляки! - вещали далее «идеологи»
Директории, - Вот вам наш сказ, все едино - большевикам крышка, они
продались немцам и продали всю Русь-матушку, все ее церкви
закрыты, службы в них нет и не слышно звона колокольного, не можете вы в
церкви святой отдохнуть и помолить Господа за вашу тяжкую судьбину.
Вся мануфактура увезена к немцам, ваше богатство распродано, города
и фабрики, куда вы шли на заработок в голодные года, - разграблены. У
кого все это - да у комиссаров, у них полны карманы денег за проданные
товары, а товары в Германии. Вы думаете, что вы стали богаче, чем мы,
что вам за хлеб платят много, жалованье вашим детям в Красной армии
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
63
большое, а хлеба-то много ли у вас в закутках? Ведь небось с мешками
ездите в даль далекую. Эх, горе горемычное...
Бросайте, крестьяне, ваши дела, берите дубины в руки и идите
освобождать ваших детей в Красной армии и вместе идите к нам. Наше
правительство вас возьмет и простит, знамо дело по глупости вашей и
непониманию. Продали вас и натравили против нас. У нас англичане,
французы пришли нам помогать и вместе отвоюем родину, защитим
свои семьи, скарб, хлебушек.
Э, да вам всего не втолкуешь, сами увидите, как мы здесь живем. Мы
все вам сказали, поверите нам, крестьянам, будет вам хорошо, нет - все
едино, плакать будет каждый из вас. Наша армия полосой пройдет и
истребит всех большевиков, пощады не будет никому. Немец кончит
войну, все пойдут против вас, а потому сбрасывайте скорее большевиков
и очищайте путь нашим войскам и дорожку в Москву Всероссийскому
правительству» [38, С. 155].
Любопытный пассаж про колокольный звон позволяет нам
предположить автора текста. В воспоминаниях Г.К. Гинса мелькает эпизод о том,
что красноармейцы, заслышав колокольный звон, первым делом
открывали стрельбу по куполам храмов. Это на первый взгляд
малозначительная деталь. Однако вот что любопытно: мемуары Гинса по своеобразной
отстраненности от эмоционального восприятия изображаемых событий
несут явный отпечаток эпического повествования. Та же отстраненность
свойственна и тексту прокламации, где противник предстает скорее
достойным жалости, нежели ненависти. Это очень редкое качество для
пропагандистских материалов; в большинстве случаев нет-нет, да и прорвется
«скрежетом зубовным» истинное отношение пропагандиста к
противнику, подобно тому, как это произошло в августовской листовке Комуча
(см. выше). Эпический характер повествования особенно ярко
проявляется в употреблении инверсий {звон колокольный, церковь святая),
которыми насыщена часть текста, повествующая о бедствиях народных.
Лексически прокламация представляет собой талантливейшую
стилизацию под народную речь с ее обилием уменьшительных именований
{кормилица, землица, хлебушек, скотинка, дорожка),
фразеологизмов {молочные реки в кисельных берегах), разговорно-просторечных
выражений {крышка, знамо дело, втолковать, судьбина, хлеб
насущный, горе-горемычное, даль-далекая), междометий {небось, ну-ка, э).
В том, что мы имеем дело именно со стилизацией, убеждают
соседствующие рядом с указанными языковыми средствами элементы книжной
64
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
лексики {иго, сыны Отечества, возрожденная Россия), входящие в
лексикон только образованного человека.
Замечательно тонко, приемом непрямой коммуникации с
употреблением фигуры умолчания (э, да вам всего не втолкуешь...) подведен
итог аргументации речи. Так же тонко, под сурдинку, осуществлена и
угроза истребления... большевиков, с которыми автор листовки явно не
стремится отождествить крестьян-красноармейцев, но... «пощады не
будет никому». Намек достаточно прозрачный, но не оскорбляющий явной
угрозой и не звучащий диссонансом прежнему задушевному тону
прокламации.
Даже формально политически неблагоприятное для социал-
демократической пропаганды событие - выход Германии из войны
- было истолковано в интересах пропаганды, как могущее послужить
высвобождению сил союзников для помощи антибольшевистской
коалиции.
Между тем, неизбежное, ощущавшееся с октября 1918 г. всеми,
поражение Германии в Первой мировой войне отозвалось в России
полной перекройкой политической карты контрреволюционного движения.
Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить две даты: 11 ноября
между силами Антанты и Германией было заключено перемирие, а уже
18 ноября в Омске произошел военный переворот, приведший к власти
адм. A.B. Колчака. Причем дело, как представляется, не исчерпывалось
слабостью социал-демократического правительства. Нельзя однозначно
согласиться с Г.К. Гинсом, считавшим, что «Директория с первых же
дней не владела событиями» [31, С. 249]. Все же под знаменем
российской социал-демократии борьба с большевиками с переменным
успехом шла целых пять месяцев. Вряд ли стоит также пытаться объяснить
произошедшее рецидивом застарелой борьбой партии конституционных
демократов с эсерами, как полагает H.A. Кузнецов [101, С. 24]. Реальной
властью, опиравшейся на солдатские штыки, кадеты не обладали.
Наоборот, «...фронт просто удивился в первые дни перевороту. Даже ярые
противники эсеров говорили: «Нашли время!» [87, С. 69].
Одна из главных причин своеобразного «сменовеховства» русской
контрреволюции видится нам прежде всего в утрате силы лозунга
борьбы с большевизмом как явлением германского коллаборационизма,
в связи с окончанием Первой мировой войны. До тех пор пока не
прекратились боевые действия на союзническо-германском фронте,
российские социал-демократы, с Февраля последовательно выступавшие
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
65
с национально-патриотических позиций в вопросе продолжения
«империалистической» войны, были востребованы в деле организации
контрреволюционных сил. Поражение Германии делало неактуальным
самый главный лозунг, под которым шло сплочение контрреволюционеров
самых разных цветов политической палитры, - непризнание позорного
Брестского мира. В новых условиях требовалось сплотить
чрезвычайно разнородные силы, противостоящие большевизму на востоке страны
под общим злободневным политическим лозунгом. Этим лозунгом
стало, ставящееся Г.К. Гинсом главной заслугой Колчаку объединение сил
контрреволюции под единым «трехцветным стягом», стремление
придать борьбе национальный характер.
Другой причиной, на наш взгляд, стало стремление союзников,
руководствовавшихся, надо полагать, историческими параллелями времен
Великой французской революции иметь во главе контрреволюционных
сил некую сильную личность, которая бы сыграла роль «могильщика
революции» по подобию Наполеона Бонапарта. Об этом говорит
свидетельство полк. Пишона - агента французского генерального штаба в России
в годы Гражданской войны, - приведенное Ф.Г. Поповым: «Почти во всех
странах Европы существуют государственные деятели высшей
квалификации, стоящие над партиями и пользующиеся уважением всех
политических группировок... С самого начала революции мы ждали появления
такого человека, не раз даже пророчили его появление в лице того или
иного деятеля, однако такого человека не оказалось ни среди
политических деятелей, ни среди военных» [137, С. 31]. Это признание, сделанное
задним числом, очень важно, поскольку объясняет мгновенное
«подавление» союзниками антиколчаковской фронды, проявившейся в лагере
восточной контрреволюции сразу после военного переворота.
Впрочем, союзники в этом вопросе не были одиноки. Еще на
состоявшемся 13-20 июля 1918 г. в Омске Сибирском торгово-промышленном
съезде было заявлено о возникшей в «государственно-ответственных»
слоях общества «глубокой тоске по твердому и властному
государственному управлению»... которая привела их к мысли о
«необходимости диктатуры как временного управления, не связанного
никакими тормозами общественного контроля» (выделено нами. - авт.) и
потому «единственно способного к установлению прочного порядка в
стране» [там же, С. 180].
Всероссийский торгово-промышленный съезд (съезд
промышленников Поволжья, Урала и Сибири), проходивший вУфе буквально на-
66
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
кануне заседания Государственного совещания 7-9 сентября устами
его председателя князя A.A. Крапоткина провозгласил: «Для того,
чтобы сохранить Россию нужна сильная власть с каменным сердцем
и твердым разумом (выделено нами. - авт.)... Должна быть единая
власть - военная» [137, С. 182].
В-третьих, государственные деятели российской контрреволюции,
очевидно, не могли не сделать определенных выводов из фактического
краха попытки формирования массовой Народной армии Комуча. Все
наблюдатели того времени отмечали крайнюю политическую
индифферентность массы крестьянского населения Поволжья. Даже лозунг борьбы за
непризнание Брестского мира встречал понимание только в среде
образованных классов. Например, в отчетах о ходе мобилизации
уполномоченных Комуча читаем: «Еманкаевская волость. Мобилизация почти не
прошла. Большое неудовольствие вызывает то, что теперь нельзя
стало свободно говорить, в деревне развивается шпионаж, доносы и
аресты по доносам. Троцкая волость. Мобилизация не прошла. Крестьяне
не хотят вести партийную войну. ... «Как смотрят наши крестьяне на
Брестский мир с немцами?» Докладчик. — У нас о нем не знают (!).
Мы знаем только то, что у нас производятся беспощадные аресты,
арестуют за одно слово (выделено нами. - авт.)». [131, С. 240].
Заметно, что даже социал-демократическая власть вынуждена была прибегать
к репрессиям, чтобы пополнять ряды своих сторонников. Заметно также
и как высоко расценивалась населением свобода слова.
Комментируя итоги мобилизации в Народную армию, В.В. Кондра-
шин пишет: «Это надо констатировать откровенно: ненавидя
большевиков, оно вместе с тем еще больше ненавидело гражданскую войну и в
этой войне участвовало без всякого энтузиазма... Деревня не хотела
больше гражданской войны и жаждала покоя (выделено нами. -
авт.)» [95, С. 124]. Однако «усталость», сказавшаяся в 1918 г. в наборе
всего 2 000 крестьянских добровольцев в Народную армию, не помешала
выставить губерниям Поволжья 454 300 чел. в Красную Армию летом
1919 года. Разница, следовательно, только в размахе государственного
террора.
Опыт Самарского Комуча доказывает, на наш взгляд, не
«политическую недееспособность, закономерность краха «демократической
альтернативы» [95, С. 125], а только относительную мягкость
политики демократического правительства Комуча, связанного партийной
установкой борьбы «за народное счастье, не позволявшей окончательно
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
67
развязать руки для достижения своих целей. Факты крестьянского
недовольства мобилизацией можно объяснить по-троцкистски: отсутствием
«государственного инстинкта» у крестьянской массы, слишком
разобщенной и привязанной к своим сиюминутным интересам, традиционным
отсутствием политической перспективы у их вожаков.
И все же провозглашение «конституционной диктатуры» адм. A.B.
Колчака принесло, пожалуй, больше вреда, чем пользы. Во-первых,
низложение демократического правительства Директории сразу же
лишило антибольшевистский лагерь активной поддержки со стороны
чехов, твердо стоявших на социал-демократических позициях. Как нам
кажется, последующая «измена» чехов, выдавших красным Верховного
правителя, во многом была обусловлена не шкурничеством, а именно
неприятием переворота 18 ноября, который в их глазах, нарушая
слабые начала законности во взбаламученной социальными потрясениями
России, «противоречил идеалам свободы и народоправства» [87, С. 256].
Недаром в мемуарах ген. М. Жанен писал о том, что «чехи чувствовали
глубокое отвращение и омерзение к диктатору и режиму,
установленному им в Сибири [92, С. 143].
Чехи были самыми стойкими и «реальными» союзниками
«белогвардейцев» на Восточном фронте. Даже после падения Казани, 18 сентября
1918 г. они красноречиво убеждали своих русских братьев до конца
бороться с большевизмом.
«Граждане. Братья русские... Не забывайте, что несут вам на штыках
своих подходящие советско-германские войска. Горе русским рабочим
и горе русским крестьянам. Горе русской независимости, над чем пусть
задумаются те, кто в последнее время приняли германскую ориентацию.
Такая перемена взглядов означает совершенное падение духа,
недостойное великого русского народа...
Мы далеко не встретили той поддержки и того понимания, на которое
мы вправе были рассчитывать, когда решили протянуть русскому народу
бескорыстно свою братскую руку. Неужели мы должны сомневаться -
желает ли русский народ действительно у себя порядка, народовластия,
свободы и союза с остальными демократическими и культурными
народами, или он является отделом Берлинского правительства, с которым
он заключил позорный союз...
Мы с вами, братья, мы свою судьбу связали с вашей, мы честно с
открытыми картами выступили на защиту Учредительного
Собрания и действовали до сих пор и будем впредь действовать только
68
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
в согласии с вашими избранниками (выделено нами. - авт.)...
Помогайте нам в великом деле возрождения вашей великой Родины, которая
на время тяжко заболела. Это святая обязанность всех вас, граждане,
считающих себя честными и свою Родину любящими людьми. Мы свою
горячую любовь и преданность русскому народу на деле показали, пусть
наш солдат увидит такую же любовь и преданность у самих же сынов
измученного русского народа... Союзники, которые нам уже несут
подкрепления, пусть найдут нас сплоченными. Казань, Симбирск это
последние усилия врага, который уже близок к падению, уж недалек час,
когда на европейском горизонте появятся тучи счастливого мира
(курсив наш. - авт.).
Больше мужества, граждане, больше спокойствия, братья, больше
преданности и любви к родине» [131, С. 234-236].
За исключением смешной оговорки, вызванной недостаточным
знанием русской фразеологии, прокламация производит впечатление
искренности и силы заявленных в ней чувств. Идеи славянского братства
были очень сильны в чехах, видевших в России залог существования
чешской государственности, это, кстати, проявляется в наиболее
распространенной в прокламации форме обращения к русским людям. Г.К.
Гинс видит причины нарастания, начиная с ноября 1918 г., чешской
пассивности в исчезновении германской угрозы, но в равной степени эти
причины могут крыться и в разочаровании чешских солдат, в массе
своей происходивших из рабочих, в политических принципах их русских
союзников. Тем более, как видно из текста прокламации, чехам уже в
течение лета пришлось убедиться в недостаточной поддержке народом
их жертвенной борьбы с большевиками.
Во-вторых, и это, на наш взгляд, послужило одним из основных
причин падения диктаторского режима в «Колчаковии», ликвидация пусть и
ограниченного, пусть и урезанного и сомнительно легитимного
принципа «народоправства» привела к возникновению опаснейшего
внутреннего фронта подпольной борьбы, которую не замедлили начать опытные в
конспирации эсеры.
Итак, истосковавшаяся по хозяйской руке российская буржуазия
призвала диктатора. Однако беда антибольшевистских сил, и самого
«диктатора поневоле», ясно сознававшего и постоянно
подчеркивавшего тяжесть уготованного ему «крестного пути» была в том, что сам факт
перехода к военной диктатуре был актом отчаяния. Тонкий и ироничный
наблюдатель барон А.П. Будберг оставил достаточно нелицеприятную
Глава 1. Военная риторика контрреволюции 69
зарисовку нравов общества, выразителем идей которого выступал A.B.
Колчак. «В громком названии под родиной, - отмечал Будберг, говоря
о мировоззрении «власть имущих» в белом лагере, - надо понимать
потерянные и угрожаемые капиталы, предприятия и привилегии;
Учредительное собрание пристегнуто для демократичности и в качестве
фигового листа: большинство этих господ желает его как черт ладана» [43, С.
175]. Национальными и даже просто гражданскими чувствами, как
видно в среде элиты антибольшевистской коалиции и не пахло. Опереться
на эту публику диктатор, очевидно, не мог. Оставалось рассчитывать на
ту незыблемую основу любой власти, которая менее всего склонна
«рассуждать» и наиболее способна действовать. Мы имеем в виду армию.
Прежде всего армию надо было вывести из политики, оторвать ее от
эсеров, под лозунгами которых она до этого воевала. Поэтому через три
дня после переворота появился приказ Верховного Правителя № 44 от 21
ноября 1918 г.: «Я требую, чтобы с начавшейся тяжелой боевой и
созидательной работой на фронте и в тылу офицеры и солдаты изъяли из своей
среды всякую политику и взаимную партийную борьбу, подрывающую
устои русского государства и разлагающего нашу молодую армию...»25.
Просто объявить, что армия не должна заниматься политикой
недостаточно. Особенно в обстановке гражданской войны, которая и ведется-
то во имя решения исключительно политических целей. Приказ
адмирала в армии, как мы увидим далее, был понят своеобразно: как отказ от
какого бы то ни было политического воспитания солдат и офицеров.
Рассчитывать на политическую нейтральность армии можно, только
если армия в избытке обеспечена всеми видами довольствия и
«жизненный уровень» ее офицеров и солдат стоит значительно выше, нежели
таковой показатель остального населения. История римских гражданских
войн, по крайней мере, убеждает нас именно в этом. Это, кстати, забегая
вперед, хорошо понимали большевики. Но какой жизненный уровень
мог обеспечить своим войскам Верховный Правитель России, если в
своем первом «манифесте» от 23 ноября 1918 г. он открыто признавал
нерешенность даже элементарных проблем снабжения армии.
«Офицеры и солдаты русской армии. В настоящий день решаются
судьбы мира и с ними судьба нашей родины.
Великая война закончилась великой победой, но мы не
участники на мировом торжестве; второй год мы, отказавшиеся от борьбы с
Листовка из коллекции Российской Национальной библиотеки, ФБЛ п-3/16.
70
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
историческим нашим врагом, немецкими бандами, ведем внутреннюю
борьбу с немецким большевизмом, обратившим великое государство
наше в разоренную, залитую кровью и покрытую развалинами
страну. И вот теперь или, может быть, никогда решается вопрос о бытии
независимой, свободной России или окончательной ее гибели.
Государство создает, развивает свою мощь и погибает вместе с
армией; без армии нет независимости, нет
свободы, нет самого государства... От вас,
офицеры и солдаты, зависит теперь судьба нашей
родины. Я знаю тяжесть жизни и работы:
наша армия плохо одета, плохо обута,
с трудом прокармливается, ограничена
в оружии и средствах борьбы (выделено
нами. - авт.). Но Родина повелительно
требует от вас всех великих жертв, великих
страданий и, кто откажется от них теперь,
тот не сын родине.
В час колебаний государственной
власти и угрозы новой анархии, я на свою
совесть принял страшную тяжесть верховной
власти... Я призываю вас сплотиться около
меня, как первого офицера и солдата,
сковать свои ряды воинской дисциплиной, отбросить мелкие личные счеты,
интриги и вражду, уже приведшие нас однажды к гибели, и выполнить
честно свой долг перед родиной, с оружием в руках смыть тяжкий позор,
...очистить ее от предателей и врагов и создать в ней условия для мирной
и покойной жизни...
Да поможет нам Господь Бог Всемогущий, которого многие из нас в
годы великих испытаний забыли, выполнить свои обязательства и долг
перед родиной и принести труд наш к ее возрождению, счастью и
свободе» [131, С. 299-300].
«Манифест» еще клеймит большевиков наймитами германизма; эта
беспроигрышная карта никогда не переставала разыгрываться
контрреволюционными кругами. Однако заметно, что центр тяжести в
правительственной пропаганде постепенно смещался в сторону ценностей
государственно-патриотического пафоса; сами понятия «страна»,
«родина», «власть», «государство» многократно встречаются в тексте. Нет
никаких упоминаний о политических оттенках государства, за которое
Рис. 4. A.B. Колчак
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
71
призывают бороться армию. Однако заключительный призыв говорит
сам за себя. Упоминание имени Божия, да еще с явным упреком народу
в богоотступничестве, воскрешает в памяти традиционные для
монархической России подходы в военной риторике, когда авторитет религии
призван был освящать государственные деяния власти. Политические
пристрастия адмирала после такого заявления становились вполне
очевидными.
Надо сказать, что адм. Колчак очень верно оценил значение армии
в государственном организме. И все бы шло хорошо, если бы Колчак,
как истинный представитель генерации военных деятелей времен
императорской России, не переоценил значения чисто военного фактора в
гражданской войне в ущерб фактору политическому.
Возрастание важности политической пропаганды в армиях
гражданской войны обуславливалась пропорционально возраставшими
трудностями в воинском воспитании солдат и офицеров. Трудности эти были
объективно связаны, с одной стороны, с общей усталостью населения от
войны, а с другой - со «случайным» принципом комплектования
соединений и частей, когда под знамена сводились и бросались в бой люди, не
успевавшие основательно «перевариться» в котле совместной
служебной деятельности.
Твердости политике адмирала, которой по мысли его «электората»
так не хватало демократическим лидерам Самарского Комуча и
Директории, было не занимать. Грозные приказы и не менее грозные расправы
не только с большевистскими агитаторами, но и с недавними
союзниками «учредиловцами»-эсерами впечатляют. Однако политической
«платформе» Колчака явно не хватало гибкости и умения ответить, как
сейчас принято говорить, на вызовы времени. Аграрное законодательство
Колчака еще предоставляло право крестьянам, засеявшим поля в 1918
г., собрать урожай, но от рассмотрения земельного вопроса фактически
уклонялось. Расплывчатое обещание передать земли из нетрудового
использования трудовому населению на деле, судя по всему, вполне могло
обернуться требованием выкупа земли крестьянами.
Произошло, в сущности, обратное тому, что погубило другого белого
государственника - ген. Деникина. Верховный главнокомандующий в
лице адм. Колчака поглотил, по выражению Гинса, Верховного
Правителя. Внимание, оказываемое властью фронту, переросло в засилье
военщины в делах гражданского самоуправления и пагубно сказалось на
состоянии духа гражданского общества, который, в силу хронического
72 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
недостатка в Сибири интеллигенции, как носительницы национальных
идеалов, и так был не слишком высок. Уже к апрелю 1919 г. усилилось
недовольство населения политикой адмирала. Безрассудная
деятельность многочисленных военных держиморд, выступавших в вопросах
внутренней политики с грацией слона в посудной лавке, привела к
нивелировке значения духа общества, составлявшего тыл армии, и
уничтожению слабых ростков общественной самодеятельности. Г.К. Гинс с
горечью писал: «Жертвы приносятся легко только тогда, когда есть
воодушевлениеу а так как самодеятельность населения была в
значительной степени подавлена, то и воодушевление иссякло» [31, С. 354].
К сожалению, государственность «Колчаковии» была подвержена
тем же порокам, что и государственность Юга России. Относительная
стабильность тыла, обеспечиваемая военной властью в период успеха на
фронтах, мгновенно ознаменовывалась торжеством застоя, бюрократии,
мечтавшей «о подготовке учреждений всероссийских», и казенщины в
общественной жизни. Пагубное воздействие это оказывало и на армию,
поскольку в гражданской войне фронт и тыл связываются особенно
крепкими узами. Любопытную зарисовку состояния общественной речи
в этот период мы находим в дневнике начальника штаба дивизии кол-
чаковской армии капитана Колесникова, захваченного и
зарубленного красным разъездом после челябинской катастрофы: «Литература и
пресса убоги и совершенно не соответствуют ни духу солдата, ни его
пониманию, ни его укладу жизни. Сразу видно, что пишет барин. Нет
умения заинтересовать, поднять дух, развеселить и непреложно доказать.
Во главе прессы стоят люди, не только абсолютно невоенные и далекие
от солдат, но даже просто безграмотные в военной психологии, истории,
не знакомые с душой солдата и его укладом жизни» [97, С. 132-133].
Подобно деникинскому ОСВАГу его колчаковские пропагандистские
собратья «осведомительные» организации под совершенно уже дикими
названиями Осведверх26 (прил. 1.1), Осведфронт27 (прил. 1.2), Осве-
дарм28 (прил. 1.3), Осведстепь29 (прил. 1.4), Осведказак30 (прил. 1.5)
были безнадежно забюрократизированы и превращены в кладбище идей
Осведомительная организация при Ставке Верховного главнокомандующего.
Осведомительные организации при штабах фронтов.
Осведомительные организации при штабах армий.
Осведомительная организация по связи с «инородцами»-киргизами.
Осведомительная организация по связи с казачьими войсками.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
73
и живой мысли. Штаты их были безобразно раздуты. Ген. П.П. Петров
вспоминал, например, о размерах Осведарма Сибирской армии, что «к
концу лета (1919 г. - авт.) один поезд уже не вмещал всего Осведа -
столько там было людей» [25, С. 43]. Такое положение дел было
особенно нетерпимо именно в Сибири с ее огромными расстояниями, где
своевременно и талантливо поданная правительственная информация могла
оказать решающее воздействие на состояние умов.
В результате, нехватку «воодушевления» с лихвой возмещали
испытанным всеми сторонами в Гражданской войне средством -
репрессиями. Только на фронте встречались еще
действительно яркие личности, подобные В.О.
Каппелю и А.Н. Пепеляеву. Последнему -
молодому 27-летнему генералу Анатолию
Николаевичу Пепеляеву - обязана была Сибирская
армия, пожалуй, самым значительным своим
успехом - взятию Перми морозным днем 24
декабря 1918 года. Во многом успех
возглавляемых им войск основывался на том же
«героическом», что жило в его душе, на той же
суворовской простоте, близости к войскам и
способности разделять с ними труды и
лишения, что роднило Пепеляева со старшим
товарищем по борьбе Каппелем. Г.К. Гинс пишет Рис.5. А.Н. Пепеляев
о Пепеляеве в восторженных тонах: «Каждый
день генерал объезжал все свои полки, разговаривал, пел песни с
солдатами (выделено нами. - авт.), и они его обожали» [31, С. 327].
Очень характерным образцом военной риторики этого белого
военачальника является его приказ-обращение к мобилизованным «старым
солдатам старой русской армии» № 114 от 22 марта 1919 г. по
возглавляемому им 1-му Среднесибирскому армейскому корпусу.
«К вам, старые солдаты старой Русской армии, обращаю я свое
братское слово. Вы вновь призваны к оружию для защиты нашей измученной
кровавыми распрями Родины, и я уверен, что оружие в ваших руках не
дрогнет при встрече с изменниками и врагами народа - большевиками,
как не дрожало оно в ваших стальных руках, когда вы дрались с
германцами и австрийцами...
Наша могучая славная Русская армия разрушилась не от снарядов
и пуль вражеских, ее разрушили коварные речи изменников, и наши
74
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
храбрые честные солдаты, удивлявшие весь мир своим героизмом,
бросая оружие и орудия, разбежавшись по домам. Враг нагло
торжествовал. Россия, великая Святая Русь, лежала под его ногами, в крови,
угнетенная, бессильная...
Но в далекой Сибири нашлись люди, которые не смогли пережить
позора Родины. Эти храбрецы восстали и, свергнув власть изменников,
пошли освобождать весь народ. К незначительным отрядам храбрецов
офицеров и боевых солдат стали присоединяться многие граждане.
Образовалась добровольческая армия, которая вместе с чехословаками
освободила всю Сибирь...
Нас было мало, но Сибирская армия взяла верх, победила не числом,
а своею храбростью, готовностью каждого офицера и солдата умереть,
но освободить Россию и сделать ее Великой и свободной. Везде народ,
освобожденный нами, благодарил Бога и молился за своих избавителей
- народ брался за оружие и шел с сибиряками отстаивать свои семьи,
свое достояние, веру, честь, свободу, славу России. Сибирская армия
росла, крепла и ломила все преграды на своем пути...
Теперь призваны все старые солдаты Славной Сибири. Часть из вас
пришла в наш доблестный 1-й Среднесибирский корпус. Я верю, что вы
покроете новой славой ваши храбрые полки. Внесете в полки наши еще
больше доблести, мощи и беззаветной храбрости, которой весь Мир
удивлял Сибирский Стрелок. Я глубоко верю - с вашей помощью мы
сломим скоро врага и дадим измученной Родине нашей мир, покой и
порядок, и русский народ сделается Свободным, Сильным и Великим
народом. Так с Богом же, братья, за веру, за честь, за славу и счастье
Великой России будем бороться до конца» [38, С. 247-248].
Перед нами прекрасный образец командирской вдохновляющей речи,
проникнутый высоким героическим духом. Обилие чисто «военных»
эпитетов «славный», «доблестный», «стальной», особенно последний,
излюбленный обеими враждующими сторонами, как белыми, так и
красными, есть непременный признак употребления героического пафоса в
военной риторике.
Примечательно как бережно и талантливо подошел оратор к
освещению «тонкого» вопроса о разложении и позорной стихийной
мобилизации в конце Великой войны императорской армии, родство со
славными победными традициями которой он стремился внедрить в сознание
слушателей. Здесь очень пригодился использованный впоследствии
германским фельдмаршалом П. фон Гинденбургом тезис о «предательском
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
75
ударе ножом в спину» армии, позволявший сохранить воинскую честь
солдатам и офицерам. Приказ представляет собой один сплошной
панегирик доблести Сибирской армии.
Обращает внимание то же учащение употребления в речи
концептов религиозной тематики, что и в «манифесте» Верховного правителя.
О святой Руси не вспоминали в Белом движении очень долго.
Создается впечатление, что официальная военная риторика колчаковцев всеми
силами старалась возродить в умах солдат ощущение незыблемости
«старого порядка», который был только досадным образом поколеблен
пресловутыми «изменниками», но не низвергнут бесповоротно.
Вольно или невольно, но сам Александр Васильевич Колчак воспроизводил
манеру государственного правления, принятую императором Николаем
Александровичем. Его явное благоволение к военным, частые выезды на
фронты, предпочтение походной обстановки кропотливой
государственной работе по организации тыла воюющей армии - все это было словно
списано с покойного государя. Причем списано, к сожалению, с теми же
ошибками.
Еще в 1924 г. Ф. Михайлов точно подметил лексические и
синтаксические особенности колчаковских документов: «... полное сходство
Колчака с самодержцем... укрепляется. По его «повелению» министры
слушают дела. Он чертит на журналах совета министров «согласен»,
наподобие бывших царей. Во всех документах слова «верховный
правитель» начинают писаться сплошь прописными буквами, как писались
при самодержавии слова «государь император». Он дает «рескрипт»,..
под которым точь-в-точь, как какой-нибудь Александр или Николай
Романов подписывает: «дан 23 ноября 1919 г.». В телеграмме от
17 декабря 1919 г. он говорит о своих «прерогативах верховной
власти». В полученной 19 декабря 1919 г. телеграмме сообщается, что
«на доложенной копии собственной верховного правителя рукою
начертано «утверждаю» [92, С. 151-152]. Эти особенности находят
отражение и в военной риторике адмирала, усиливаясь к концу его
недолгого правления.
Одним из главных недостатков адмирала Колчака как «сухопутного
моряка» было его полное непонимание психологии солдата и неумение
говорить с ним. Офицеры флота, составлявшие касту из каст в
императорской России, даже в лучшие времена были совершенно оторваны от
нужд матросского кубрика, «были лицами, наблюдающими или даже,
правильней, интересующимися, как идет работа и жизнь корабля». За
76
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
организацию повседневной служебной деятельности, непосредственно
связанную с общением с командой, на Императорском флоте
традиционно отвечал класс кондукторов, вызывавший, кстати, самую
ожесточенную ненависть матросов, поскольку «в смысле обыденной жизни матроса
являлся первым его душителем» [99, С. 86]. Здесь и надо искать
объяснение часто возникавшей за время правления Колчака парадоксальной
ситуации, описанной его современниками: «Адмирал рвется к народу, к
солдатам, а когда видит их, не знает, что им сказать» [31, С. 523].
Дневник ген. А.П. Будберга рисует такую картину встречи
адмирала с войсками на фронте: «При посещении ижевцев31впервые видел
адмирала перед войсками; впечатления большого начальника он
произвести не может; говорить с солдатами он не умеет, стесняется, голос
глухой, неотчетливый, фразы слишком ученые, интеллигентные, плохо
понятные даже для современного офицерства. Говорил он на тему, что
он такой же солдат, как и все остальные, и что лично для себя он
ничего не ищет, а старается выполнить свой долг перед Россией. Он роздал
много наград, произвел десятки офицеров и солдат в следующие и
офицерские чины. Привез целый транспорт разных подарков, но сильного
впечатления не произвел. Он не создан для таких парадных встреч;
вместе с тем я уверен, что если бы он объехал стоянки частей, посидел
бы с солдатами, запросто пообедал, удовлетворил бы несложные
вопросы и просьбы. То впечатление бы осталось глубокое и полезное»
[43, С. 307]. Начальник штаба ижевцев А.Г. Ефимов вообще заметил,
что адмирал «старался объяснить цель борьбы с большевиками, хотел
что-то сказать о положении рабочих, но смешался и смутился» [25, С.
472]. Сердобольные солдаты, видя такой конфуз Верховного
Правителя «постарались выручить адмирала»: «Не надо говорить», «Мы вам
верим»» - слышались голоса из строя. Неизвестно что в этом случае
хуже для горе-оратора: молчание массы или такие вот утешительные
реплики.
Копировать манеру великого Наполеона награждать
отличившихся прямо на поле недавней битвы можно только тогда,
когда войска уже находятся под обаянием личности победоносного
полководца. В противном случае это эпигонство обращается в жалкий
фарс и заигрывание.
Дивизия, сформированная из восставших рабочих Ижевского завода, наиболее стойкое
соединение белых.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
77
Будберг прав: «заезжему» полководцу на худой конец лучше играть
роль «значительного лица», поражать воображение солдата блеском
орденов и погон и пышностью свиты, давая почувствовать цену
снисхождения небожителя до массы. Адмиралу полезно было бы помнить
рекомендацию М.В. Ломоносова из его «Краткого руководства к
красноречию» (1810 г.): «...дородство и осанковатый вид приличны, если слово
перед народом говорить должно...» [111, С. 3]. Простой сюртук
Наполеона всегда представал в окружении феерических мундиров его маршалов
и генералов. Но если уж «идти в народ», то надо делать это так, чтобы
народ не встречал задушевные излияния начальника, замерев в строю,
а мог бы и перекинуться с ним хотя бы парой слов. Вот тут можно и
угостить папиросой, и самому «покурить с рабочими». Для создания
атмосферы близости к солдату абсолютно необходим диалог с
ним, поскольку без диалога нет равноправия в общении. И здесь
примером может служить хотя бы знаменитый «итальянский суп» A.B.
Суворова.
В речевой манере Верховного Правителя мы видим типичный
пример нарушения основного закона риторики: всякий род ораторской речи
есть единство пафоса, этоса и логоса. Неумение адмирала реализовать
свои ораторские намерения с элементарным учетом условий речевой
ситуации производило на колчаковских солдат странное впечатление, что
приезжал-де «какой-то аглицкий адмирал Кильчак (!), должно быть из
новых орателей (!), и раздавал папиросы».
Как говорит пословица: «Гром не грянет - мужик не
перекрестится». Креститься сибирские государственные мужи начали примерно с
конца мая 1919 г., когда положение на фронте явственно покачнулось.
Пришлось вспомнить о том, что в свое время строго запрещал приказ
адмирала за № 44. Недостаток боевой силы принялись старательно
компенсировать политической пропагандой. При этом быстро
«обнаружилось» слабое место всех без исключения пропагандистских материалов
белых, в какой бы части России не велись ими боевые действия:
недостаток позитивных ценностей, во имя которых велась борьба. «Трудно было
внедрить в сознание массы задачи белой власти, так как сама власть
не всегда одинаково о них говорила», - признавал ген. П.П. Петров,
описывая ситуацию, сложившуюся еще зимой 1919 года [25, С. 22].
Активность красных агитаторов, проникавших в расположение войск, не
всегда могла быть исправлена усилиями командования, необученного
элементарным навыкам ведения контрпропаганды. Исправлению тако-
78
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
го нетерпимого положения дел служил приказ Верховного Правителя
№ 170, вышедший только безнадежно поздно - 26 июля 1919 года.
«Ко мне поступают сведения, что во многих частях до
настоящего времени остаются неизвестными цели и задачи, во имя
которых я веду и буду вести с большевиками войну (выделено
нами. - авт.) до полной победы. Отношу это явление прежде всего на
крайне неудовлетворительную постановку дела осведомления частей
на фронте.
ПОВЕЛЕВАЮ объявить во всех частях настоящий приказ с
возложением ответственности начальников за невыполнения этого
положения.
Мы ведем борьбу за Русское Национальное дело — дело
восстановления нашей Родины, как свободного, единого и
независимого государства.
Мы ведем борьбу за право самого народа, путем свободных
выборов и голосования в Учредительном Национальном
Собрании, определить свою судьбу в устройстве государственной
власти и в удовлетворении потребностей земледельцев в земле и
рабочих условиями и обстановкой труда.
Чуждые религиозной нетерпимости - мы ведем борьбу за то,
чтобы никто не смел посягать на наши древние и чтимые народом
святыни и нашу веру.
Наша Родина стоит перед потерей государственной и
национальной самостоятельности и разделом. Большевики, обещавшие народу
мир, хлеб и свободу, дали ему братоубийственную войну, голод и
гнет неограниченной власти кучки людей, лишенных Родины, веры
и чести.
Мы ведем борьбу за то, чтобы их уничтожить. Только победа может
дать родине мир и спокойствие - и с ними Национальное
Учредительное Собрание, ибо нельзя жертвующим за возрождение отечества своею
жизнью и кровью отказать в участии в нем, а принять участие в
строительстве государственном они смогут только тогда, когда позорное
пятно большевизма будет стерто с лица Русской Земли.
Если это не удастся, то не только народные чаяния не получат
осуществления, но наступит роковой час, когда нашей судьбой станут
распоряжаться другие. Построить государство, решить земельный и
рабочий вопрос может только сам свободный, победивший большевизм
русский народ, и за его право определить самому свою судьбу мы ведем
Глава 1. Военная риторика контрреволюции 79
и будем вести до победы настоящую борьбу. Будьте же тверды и
непреклонны в боевой работе за свое право и существование»32.
Приказ этот очень важен и интересен. Нетрудно заметить, что все
позитивное содержание борьбы адмирала Колчака и его войск
укладывалось в трехчленную формулу «За Отечество, Народ и Веру!» (в том
порядке, в каком они приведены в тексте приказа). Можно сказать, что
руководствуясь именно этим лозунгом, хоть и не всегда заявленным так
ясно, велась борьба под белыми знаменами на всей территории России.
Такая перелицовка монархического «За Веру, Царя и Отечество!» точно
отражает существо происходивших, начиная с Февральской революции,
мировоззренческих сдвигов в российском общественном сознании.
К сожалению, приказ явно опоздал. Старорежимно-высокомерное
пренебрежение политической пропагандой, демонстрируемое
верховной властью в ноябре 1918 г., попытки опираться на вооруженную силу,
практически не прикладывая усилий к делу ее воспитания, привело
летом 1919 г. к развалу армии и деморализации тыла.
Все вместе взятое: и бездарно поставленная военно-политическая
пропаганда, и неумение адмирала говорить с армией и народом печально
сказались на судьбе «Колчаковии», когда военное счастье стало
окончательно изменять ее армии. Перед лицом красных войск, стучавшихся в
ворота «столицы Сибири», Верховный правитель в конце июля 1919 г.
разразился паническим приказом, который, для пущей убедительности
распорядился печатать в омских газетах на протяжении недели (!).
«Солдаты и крестьяне! Всех вас зову я на общее дело. Солдаты
должны рассеять те банды богоотступников, которые защищают гибельное
для русских самодержавие народных комиссаров. Крестьяне должны
мешать продвижению большевиков и помогать нашей армии, идущей
спасать наш умирающий народ. Все вы должны свергнуть власть
Советов, давших народу голод, войну, нищету и позор.
Спешите! Уничтожив самодержавие большевиков-комиссаров, вы,
крестьяне и солдаты, тотчас же начнете выборы в Учредительное
Собрание. Я вам обещал это перед лицом России и целого света. Порядок
выборов в Учредительное Собрание уже выработан, но война, которую
ведут комиссары с армиями, спасающими родину, мешает всем нам
избрать хозяина Русской земли, навсегда наладить нашу жизнь так, как
решит сам народ.
32
Листовка из коллекции Российской Национальной библиотеки, ФБЛ п-3/68.
80
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Поднимайтесь же все крестьяне, которых вели на защиту родины к
победе Пожарский, Суворов и Кутузов, горожане, рабочие и купцы,
которых в смутное время поднял Минин. Я зову вас во имя России, во имя
русского народа.
Вперед, на народных комиссаров! К Учредительному Собранию!
К спасению России, к ее величию, богатству, счастью, славе! Все
подымайтесь! Все вперед!» [97, С. 134-135].
Вся солидная значимость ценностей государственно-патриотического
пафоса, так велеречиво пропагандируемая в ноябрьском 1918 г.
«манифесте», исчезла, как будто никогда и не звучала в общественной речи
колчаковского «национального» государства, объединившего под
трехцветным флагом территорию Белой России.
В ход пошли эсеровские лозунги, высокомерно отвергаемые в
период успехов. Даже «скомпрометировавшее себя» Учредительное
собрание, которое адмирал на самом деле не только не обещал восстановить,
но даже чурался самого его имени, планируя обзавестись, очевидно,
по образцу союзной Франции Национальным Собранием. Призывы
бороться против самодержавия «большевиков-комиссаров» также
оперируют перефразированным эсеровским термином «комиссародержа-
вие». Кстати то, как старательно адмирал открещивался от «волка»
самодержавия, невольно наводит на мысль о высовывающихся, как их
не прячь, ушах.
Читая приказ, понимаешь, почему М.К. Дитерихс полагал, что у
адмирала к тому времени развился прогрессивный паралич. Бедный
диктатор, хватаясь за соломинку агитации, и не заметил, наверное,
что в своем приказе-прокламации он фактически копировал стиль
своего злейшего врага... тов. Троцкого. Правда, Троцкий не обещал
«перед лицом России и всего света», но ручался «перед лицом всей
Красной армии» (приказ предреввоенсовета и наркомвоенмора №18,
июнь 1918 г.). Цепочка лозунгов-призывов, венчающих основной
текст, также повторяла широко распространенное композиционное
строение листовок РСДРП/ВКП(б), использовавшееся еще с
дореволюционных времен. А что касается энергичного «Все подымайтесь!
Все вперед!» то это практически калька с призыва Троцкого «Все как
один - вперед!» (приказ №100, май 1919 г.). Да и таскание за поездом
Верховного Правителя нескольких вагонов с подарками для солдат
также наводит на мысль о заимствовании пропагандистского стиля у
красного вождя.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
81
И все: солдаты, крестьяне - всегда были у Колчака должны, должны,
должны... И ни слова о том, что же должна будет дать им Великая,
Сильная, Свободная Родина, кроме якобы долгожданного и чаемого всем
народом «хозяина» земли Русской.
Переход к социальному пафосу в военной риторике «Колчаковии»
ясно свидетельствовал об агонии белого государства на Востоке России.
Падение Колчака стало символом окончательного уничтожения идеи
восстановления «старого порядка» на территории бывшей Российской
империи. Теперь даже самые отъявленные враги советской власти
вынуждены были принимать во внимание необратимость произошедших в
российском обществе перемен.
1.4. «Черный барон» П.Н. Врангель
«Главк! Почему между всех наиболее нас отличают
Местом почетным, и мясом, и полной на пиршествах чашей
В крае ликийском и как на бессмертных богов на нас смотрят?
Мы и участком обширным владеем по берегу Ксанфа
Лучшей земли, - и с садом, и с пашней, родящей пшеницу.
Нужно поэтому нам и в передних рядах находиться,
Твердо стоять и без страха кидаться в кипящую битву,
Чтобы об нас крепкобронные так говорили ликийцы:
«Нет, не без славы страною ликийскою нашею правят
Наши цари! Хоть едят они жирное мясо овечье,
Сладкие вина отборные пьют, но за то же и доблесть
Их велика: в передних ликийских рядах они бьются!»
[Илиада, 12,310-321].
Эти достойные слова героя гомеровского эпоса ликийского царя Сар-
педона приходят на ум, когда приходится слышать чрезвычайно
умножившиеся в последнее время мнения, в том числе и в околонаучной
литературе, о том, что русская революция была сделана нерусскими
руками, на нерусские деньги и преследовала нерусские интересы. Не
входя в подробное изучение этого вопроса, хотелось бы отметить, что никто
не мешал если не русскому народу, то хотя бы русскому дворянству как
82 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
элите правящего класса сплотиться вокруг своей русской
национальной власти и отстоять ее своим «телом и кровию», как того и требовала
от них военная присяга. Вместо этого мы видим в рядах предводителей
Белой гвардии людей преимущественно незнатных; только род
Колчаков получил потомственное дворянство, но и то с 1843 г., все остальные
вожди, о которых речь шла выше, не имели и этого.
Их подчиненные были из того же теста. Как показал P.M. Абинякин,
цвет добровольческого офицерства, «первопоходники» почти все
состояли в небольших чинах; «первые добровольцы буквально поголовно
представляли обер-офицерство, то есть не кадровое, а военного времени»
[1, С. 89]. Да и потом, с ростом успехов Добрармии, кадровое и
гвардейское офицерство предпочитало заполнять канцелярии
многочисленных тыловых «присутствий», предоставляя честь умирать за «Единую и
Неделимую» мальчишкам юнкерам, гимназистам, кадетам, студентам и
прапорщикам фронтового производства.
Поэтому когда речь заходит о представителе древнейшего
остзейского дворянского рода, известного с XIII в., давшего миру более 30
генералов, 7 адмиралов и 7 фельдмаршалов, мы видим, каких результатов
могло бы достигнуть Белое дело, если бы вся блестящая потомственная
российская аристократия сохранила рыцарский дух и незыблемые
понятия о чести. О высоких личных качествах барона Петра Николаевича
Врангеля (1878-1928), в полной мере соответствовавших идеалу
аристократа, с восхищением писали все оставшиеся в живых участники
Белого движения. Быть может, именно благодаря его руководству этот
эпитет, применительно к русской контрреволюции, только в период
с апреля по ноябрь 1920 г. можно было употреблять, не заключая его
предварительно в кавычки.
Э.Н. Гиацинтов оставил уничтожающую характеристику всех вождей
белых, но только не Врангеля: «Корнилов был в полном смысле красный.
Он в своих речах уже во время революции неоднократно подчеркивал
свое пролетарское происхождение. Он же, надев громадный красный
бант, арестовал Императрицу и детей. Этого нельзя забыть. Нужно
отдать ему должное: он любил Россию и жертвовал для нее всем. Включая
свою жизнь. Но абсолютно не был монархистом, так как и его
последователь генерал Деникин. Генерал Деникин был яркий представитель
нашей либеральной розовой интеллигенции...
Другое дело Врангель!.. Это был весьма одаренный офицер и
общественный деятель. В глубине души он был, несомненно, монархистом,
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
83
но по соображениям, с моей точки зрения ошибочным, он открыто себя
монархистом не признавал... Но нужно отдать ему должное:
талантливый был военачальник, безусловно храбрый. Он принял
Добровольческую армию, когда уже все Белое дело было проиграно его
предшественниками» [30, С. 319].
От этих своих предшественников П.Н. Врангель отличался весьма
выгодно. Во-первых, он получил прекрасное «гражданское»
образование в Горном институте, который успешно окончил в 1901 году.
Благодаря этому, а также приличному состоянию отца, военную службу
Врангель выбирал не по необходимости, надеясь, подобно
Деникину, что «выйду в офицеры - будет и мундир шикарный, появятся не
только коньки, но и верховая лошадь, а «сердельки» буду есть каждый
день...»33, а по благородному зову сердца. Первый офицерский чин,
полученный в престижнейшем л.-гв. Конном полку, не соблазнял
молодого барона перспективой «тянуть лямку» военной службы мирного
времени. Однако с началом Русско-японской войны Врангель решительно
предпочел скромную должность хорунжего в непритязательном 2-м
Вернеудинском полку Забайкальского казачьего войска блестящей
деловой и статской карьере под крылом отца, крупного финансового
чиновника и общественного деятеля.
Таким образом, на войну Врангеля позвали его военное призвание и
голос чести дворянина, а не надежда на чины и награды. Конечно, ему не
были чуждо желание «законных отличий», как говорил один из
персонажей Р.Л. Стивенсона, но эти отличия были для Врангеля только
знаками благородного славолюбия, которое должно являться неотъемлемой
чертой характера истинного военного, а не ступеньками карьерной
лестницы. Недостаток на первых порах военного образования у молодого
офицера с лихвой возмещался его воинским духом. И это можно считать
правилом: никакая муштровка в казарме военного учебного заведения,
никакое «знание службы», хоть бы и с самых основ солдатского труда не
могут заменить в офицере благородного призвания, которое выражается
ныне почти забытым понятием «военная косточка». Как показывает
личный служебный опыт автора этих строк из современных лейтенантов-
«двухгодичников», оставшихся в «кадрах» после окончания положенного
срока, выходили, как правило, самые профессионально подготовленные,
ответственные и надежные офицеры.
33
Фраза из воспоминаний А.И. Деникина «Путь русского офицера».
84 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Во-вторых, и на Русско-японской, и в начале Первой мировой войне
П.Н. Врангель воевал в небольших чинах неизменно на строевой службе.
Итогом дальневосточного «приключения» барона Врангеля стало тяжелое
ранение. А в Великую войну ротмистр Врангель, сражаясь в Восточной
Пруссии (против «трудных» немцев, а не против «удобных» австрийцев,
приносивших полководческую славу русским генералам Юго-Западного
фронта Алексееву, Корнилову и Деникину), первым из офицеров русской
армии в эту войну был награжден орденом св. Георгия 4-й степени.
Обстоятельства, сопровождавшие подвиг бравого ротмистра были
настолько громкими, что они нашли отголоски даже в романе А.Н. Толстого
«Хождение по мукам». Только брал П.Н. Врангель в конном строю своего
3-го эскадрона л.-гв. Конного полка 6 августа 1914 г. в бою под местечком
Каушен не пулеметы, а германскую двухорудийную тяжелую батарею.
Впоследствии этот подвиг вызвал немало толкований злопыхателей
Врангеля, людей, в общем, достаточно далеких от военной службы.
В ответ на не вполне неуместный комментарий Б.В. Соколова, автора
в целом очень интересной книги о П.Н. Врангеле, что «тактический успех
под Каушеном раздули», можно было привести пример высокой оценки
Наполеоном героической атаки польских улан под Сомо-Сьеррой в 1808
году. Тогда, напомним, эскадрон польской кавалерии также в конном
строю провел абсолютно самоубийственную атаку на четыре батареи
испанской артиллерии, потеряв только убитыми почти 40% своего
состава, но удостоившись причисления к Гвардии и лестной оценки самого
императора-солдата: «Вы самая храбрая кавалерия».
Для нас Каушенский бой интересен прежде всего тем, что он рисует
Врангеля талантливым, решительным и храбрым строевым
кавалерийским начальником. По свидетельству генерал-лейтенанта В.П. Агапее-
ва, «Врангель, прошедший школу жизни в коннице, был весь из
стремительного порыва, который диктовался ему не только его недюжинным
умом, но и всеми его чувствами» [165, С. 87]. Не случайно,
состоявшееся 13 января 1917 г. его производство в генерал-майоры, было самым
«быстрым»34 в русской армии XX века.
В-третьих, Февральскую революцию Врангель решительно не
принял, лишь с силу личной дисциплинированности и движимый чувством
ответственности перед родиной в тяжелых условиях военного времени
оставаясь в рядах «революционной» армии. Скорое продвижение по
34
Врангель был произведен в генералы на тринадцатый год службы.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
85
службе «февралистов-разночинцев» не коснулось П.Н. Врангеля: выше
командира конного корпуса он, как и его тезка П.Н. Краснов, не
поднялся. К аристократам и гвардейцам Временное Правительство относилось
с одинаковой настороженностью. В корниловском движении Врангель
участвовал и даже пытался создать в Петрограде собственную
офицерскую организацию, однако духу корниловской авантюры был чужд,
видимо, не желая окончательно связывать себя с движением откровенно
антимонархическим. Не исключено, что аристократу и гвардейцу просто
претило таскать каштаны из огня для людей «низкого» происхождения.
В-четвертых, и это тоже немаловажно, П.Н. Врангель к началу
Гражданской войны был еще достаточно молодым и энергичным человеком:
ему исполнилось всего 40 лет.
В Белое движение Врангель пришел относительно поздно -
только после окончания Второго Кубанского похода 25 августа 1918 года.
Вряд ли стоит строго судить барона за такое промедление. Находясь
на Украине по делам, связанным с управлением имениями, Врангель
успел достаточно близко познакомиться с «опереткой» своего бывшего
командира по л.-гв. Конному полку гетмана П.П. Скоропадского. Не
было никакой гарантии, что Добровольческое движение,
зарождавшееся на Дону, не окажется такой же бессильной и непродуманной
«опереткой», только затеянной не родовитым дворянином, к которому
Врангель не мог не испытывать хотя бы чувства сословной
солидарности, а людьми, которых не без оснований можно было считать
ответственными за крушение многовекового государственного устройства
России. Призывы и прокламации ген. М.В. Алексеева, возглавившего
в феврале 1917 г. «заговор генералов», закончившийся отречением
императора, не могли на первых порах не вызывать законного скепсиса.
Это, конечно, предположение, но оно, на наш взгляд, больше
соответствует характеру П.Н. Врангеля, чем соображение о расчетливом
выжидании по типу «чья возьмет», предложенное Б.В. Соколовым.
В Добровольческой армии, испытывавшей острый дефицит
хороших кавалерийских начальников, Врангелю сразу же предложили
должность начальника 1-й конной дивизии. В этой должности
прошло становление Врангеля как военачальника Гражданской войны.
Не все, как показывают мемуары Ф.И. Елисеева, у него в этот период
шло гладко, но на войне гладко бывает только на бумаге реляций и
наградных листов. Самое главное, что Врангель очень быстро делал
правильные выводы, учитывая особенности подчиненного ему воинского
86
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
контингента, состоявшего в массе своей из кубанских казаков -
отличных кавалеристов, природных воинов, закаленных пограничной
службой по соседству с вечно неспокойным Кавказом. Именно с этого
времени аристократ Врангель начал носить черкеску, и вместе с ней
начал складываться знаменитый образ «черного барона», которого, по
воспоминаниям очевидцев, вполне можно было принять за кавказского
джигита.
Даже этот внешне
малозначительный эпизод с «переодеванием»
свидетельствует о лабильности
психики Врангеля, выражавшейся в
очень важном умении применяться
к обстоятельствам. Гибкость
Врангеля, в отличие от карьеристской
беспринципности Краснова и упрямого
конформизма Деникина и Колчака
впоследствии выразилась как в ряде
прогрессивных политических
решений, так и в новаторских подходах в
ведении войны, благодаря
комплексному применению разнородных сил:
танков, авиации, кавалерии и пехоты, во многом предвосхитивших
тактику Второй мировой.
Возьмем на себя смелость утверждать, что этот ход способствовал
привлечению на сторону белых традиционно воинственного населения
Дагестана, Осетии, Чечни и Кабарды, для которого очень мало
значило положение русского начальника в официальной «табели о рангах»,
но которое безошибочно угадывало, насколько он был богат воинским
духом. А то, что национальная горская одежда придавала Врангелю вид
чрезвычайно воинственный - безусловно.
С воинами и говорить надо было военным языком. Стиль врангелев-
ской военной риторики периода борьбы за Северный Кавказ очень
хорошо передает приказ войскам Кавказской Добровольческой армии №
2, изданный 10 января 1919 г. генерал-лейтенантом П.Н. Врангелем по
случаю вступления в должность командующего.
«Славные войска Кавказской Добровольческой армии!
Волею Главнокомандующего генерала Деникина я с сегодняшнего
дня поставлен во главе вас.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
87
Горжусь командовать вами, храбрецы. Полгода кровавых битв я
провел среди вас, почти все вы сражались под моим начальством, - и с нами
всюду была победа.
Орлы 1-й конной дивизии, где только мы не били врага. Под
станицами Петропавловской, Михайловской, Курганной, Чамлыкской, Уруп-
ской и Бесскорбной, под Армавиром и Ставрополем, - вы неизменно
громили противника, захватывая пленных, орудия, пулеметы.
Доблестные соратники 1-го конного корпуса, ваше победоносное
«ура» гремело под Михайловской, Дубовкой, Тугулуком, Константинов-
ской, Благодарным, под Спицевкой и Винодельным, под Медведовским,
Елизаветинским, Святым Крестом и Георгиевском, - тысячи пленных,
десятки орудий и пулеметов, огромные обозы попали в наши руки.
Славные войска 10-го армейского, 1-го конного корпусов, 3-й
Кубанской дивизии и пластуны 3-й бригады, рядом с доблестными
войсками генерала Ляхова вы в последних боях разбили наголову врага, -
35 орудий, 53 пулемета, броневики, аэропланы, огромные обозы и
тысячи пленных стали вашей добычей.
Доблестью кубанских орлов освобождена родная Кубань; враг,
пытавшийся укрыться в богатой Ставропольской губернии,
настигнут, разбит и бежал в голодную Астраханскую степь. Очередь за
Тереком; уже поднимаются на защиту родных станиц славные терцы
и каждый день стекаются в наши ряды. Услыхав клич кубанских и
терских орлов, уже встают храбрые кабардинцы и осетины; встал как
один горный Дагестан, джигиты седлают коней, берут оружие и
спешат вместе с нами в бой...
Вперед, кавказские орлы! Расправьте могучие крылья, грудью
прикройте свои гнезда и, как трусливого шакала, гоните от родных станиц и
аулов презренного врага» [11, С. 640-641].
Перед нами, собственно говоря, классика героической военной
словесности. Так, персонифицировано, акцентируя внимания на высоких
боевых качествах каждого из слагающих войско контингентов,
обращался к своим воинам еще Александр Македонский перед сражением
при Иссе [64, С. 77]. Это также прекрасно согласуется с теорией
военной риторики: «Следует после такого благодарения похвалить всех
сообща, затем поименно особо отличившихся, и снова общую похвалу
воздать воинам, и, наконец, указать, что настоящая победа является
доказательством будущих подвигов», - читаем в византийском трактате
VI в. «Rhetorica militaris» [66, С. 187].
88
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Цель, которую преследует многоречивое перечисление мест
победных боев, количества захваченных трофеев и пленных проста: внушить
войскам непреходящую уверенность в собственных силах и старую, как
мир, веру в «звезду» своего полководца. Эту уверенность, которая
вполне может пошатнуться после тяжелых потерь, понесенных хоть бы и в
победных сражениях (вспомним, например, о Пирре!) надо умело
поддерживать. Поэтому вслед за прославлением подвигов войск в приказе
идет часть, главный тезис которой можно бы было передать лозунгом с
известного плаката времен Великой Отечественной войны: «Наши силы
неисчислимы!»
Вот то, о чем мы писали в параграфе 1.3, когда говорили о
героическом пафосе, который один только мог на равных противостоять
разрушительной стихии пафоса классовой борьбы. Заметим, что в приказе ни
словом не упомянуто о характере и целях борьбы, даже тема святости
исполнения воинского долга словно бы отходит на второй план. В
именовании противника нет абсолютно никакой идеологической окраски.
С позиций героического пафоса, в котором выдержана эта типичная
вдохновляющая речь, все выглядит очень просто: «нашим» доблестным
орлам противостоит свора трусливых шакалов, которые презренны не
потому, что стоят на каких-то там неведомых простому солдату
позициях или «платформах», но потому, что они трусы и должны служить
законной добычей храброму. И это правильно. В воспоминаниях
кубанского казачьего офицера Ф.И. Елисеева есть любопытный эпизод, когда
он, подтрунивая над своим другом, старавшимся править деникинские
воззвания так, чтобы было понятнее крестьянам, сознается: «Все мы
тогда и не интересовались, и не разбирались в политике... Наше прямое
дело было: чтобы войска не обижали жителей...» [59, С. 385].
Однако следующий по номеру приказ командующего Кавказской
Добровольческой армией № 3 от 29 января 1919 г. иллюстрирует еще не
закончившийся к тому времени поиск П.Н. Врангелем своего «голоса» в
хоре добровольческого командования.
«Славные войска Кавказской Добровольческой армии! Доблестью
вашей Северный Кавказ очищен от большевиков. Большевистская армия
разбита, остатки ее взяты в плен. В одних только последних боях вами
захвачено 8 броневых поездов, 200 орудий, 300 пулеметов, 21 тысяча
пленных и иная несметная военная добыча. Еще недавно, в октябре
месяце, большевистская армия насчитывала 100 000 штыков с огромным
числом орудий и пулеметов, - теперь от этой армии не осталось и еле-
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
89
да... Полчища врагов разбились о доблесть вашу - вас было мало, у вас
подчас не хватало снарядов и патронов, но вы шли за правое дело,
спасение Родины, шли смело, зная, что «не в силе Бог, а в правде...»
Кубанские орлы, вам обязана родная Кубань за избавление от ужаса
крови, насилия и разорения. Изгнав врага из родных станиц, вы
отбросили его в безлюдные Астраханские степи, вы протянули руку помощи
родному Тереку, гибнувшему в неравной борьбе.
Славные терцы, храбрые кабардинцы, черкесы и осетины - вы долго
боролись с неравным врагом, ожидая помощи. Она пришла в лице нашей
армии, и вы как один стали в ее ряды.
Герои стрелки, доблестная пехота, славные артиллеристы - вы,
кучка верных сынов России, свершили свой крестный путь в палящий зной,
ненастье и стужу, на равнинах Кубани, в Ставропольских степях, в
горах Ингушетии и Чечни... От Черного до Каспийского моря прошла наша
армия, победоносно гоня врага, возвещая несчастному населению мир и
благоденствие.
Как ваш командующий и как один из сынов несчастной, истерзанной
и опозоренной России, земно кланяюсь вам, герои Кавказской
Добровольческой армии, - и твердо верю, что доблестью вашей гибнушая
Родина будет спасена» [11, С. 645-646].
Этот образец военной риторики П.Н. Врангеля, написанный им по
случаю освобождения территории Северного Кавказа от власти
большевиков словно замешан на жертвенных добровольческих принципах,
многократно провозглашенных в воззваниях ген. Деникина и Алексеева, и
ясной, бодрой, агрессивной уверенности в победе, так ярко
проявившейся в предыдущем приказе Врангеля.
«От Деникина» в речи присутствуют порядочно, очевидно, набившее
к тому времени всем оскомину упоминание о «крестном пути» армии
(масса добровольцев отнюдь не стремилась пригвоздиться к кресту),
возвещание «несчастному населению мир и благоденствие», а также
непременный плач по «несчастной, истерзанной и опозоренной» и
гибнущей Родине. «От Алексеева» - бессильные стариковские земные
поклоны, которые бывший главнокомандующий Русской армии отвешивал
часто и не всегда уместно, плюс какие-то невероятные хрестоматийные
сентенции образца XIII в., типа «не в силе Бог, а в правде...». Заметна и
усилившаяся в приказе «большевизация» противника. «От Врангеля» -
персонифицированные обращения, перечисление трофеев и восхваление
победителей. «От Врангеля» - обилие «военных» эпитетов «славный»,
90
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
«доблестный», «храбрый», вкупе со становящимся визитной карточкой
военной риторики «черного барона» обращением «орлы».
Эти самые «орлы», немалую часть которых составляли типичные
горские хищники, хладнокровно резавшие в ставропольском госпитале
глотки раненым и больным красноармейцам, были, видимо, немало
изумлены, услышав из уст своего вождя слова трогательной заботы о
«несчастном населении». Равно как не могли не вызвать у них изумления
и земные поклоны гордого аристократа, который даже на эмигрантских
фотографиях предстает с такой подчеркнуто гвардейской осанкой, что
кажется вот-вот завалится на спину.
Всю фальшь и бессмыслицу подобных словесных эскапад, уместных
разве только в устах прекраснодушного либерального русского
интеллигента, но откровенно смешных в речи воинского начальника, Врангель,
очевидно, уловил и больше не повторял в своих приказах. По крайней
мере, в речах перед «кавказской» аудиторией, по старинке склонной
сражаться не для того, чтобы в один прекрасный день быть почетно убитым,
но чтобы убивать и радоваться жизни, победе и военной добыче.
Вопрос о добыче, кстати, стоял в Добровольческой армии весьма
остро. При отсутствии организованного тыла у Добрармии
довольствоваться войскам приходилось, естественно, за счет «благодарного
населения». Но если богатые станицы Дона и Кубани встречали
добровольцев действительно хлебом-солью, то по мере распространения боевых
действий на территорию Центральной России с ее относительно бедным
сельским населением эта благодарность проявлялась все реже.
Привычка же к «контрибуциям» у войск осталась и, вследствие попустительства
высшего командования, оказавшегося не способным отделить заслуги
«первопоходников» от общегосударственных интересов, постепенно
приобретала явно злокачественные формы.
Генерал Врангель также отдал в свое время дань этому «увлечению»
своих орлов. «Живя исключительно местными средствами,.. -
вспоминал он, - части невольно смотрели на военную добычу как на
собственное добро... Я старался лишь не допускать произвола и возможно
правильнее распределить между войсками военную добычу» [11, С. 618].
То, что военная добыча служила определенным стимулом для
казачьих войск отмечалось, когда речь шла о борьбе атамана Краснова.
Приказ Врангеля № 1 по Кавказской армии35 от 8 мая 1919 года, нацеливав-
Переименована из Добровольческой Кавказской армии.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
91
ший казаков и горцев на овладение Царицыным, также недвусмысленно
намекал на хорошую возможность разжиться «несметными богатствами
большевиков».
«Славные войска Манычского фронта... Кавказ - Родина
большинства из вас, Кавказ - колыбель вашей славы... От Черного до
Каспийского морей пронеслись вы, гоня перед собой врага, - палящий зной и
стужа, горы Кавказа и безлюдные ставропольские степи не могли
остановить вас, орлы...
Орлиным полетом перенесетесь вы и через пустынную степь
калмыков к самому гнезду подлого врага, где хранит он награбленные им
несметные богатства, - к Царицыну и вскоре напоите усталых коней водой
широкой матушки-Волги...
[11,С.671-672].
Прежде чем безоговорочно осуждать П.Н. Врангеля за эту его
единственную попытку стимулировать войска столь «низким» предметом,
как перспектива грабежа, стоит вспомнить, что речь шла о взятии
сильнейшего укрепленного пункта, имевшего важное стратегическое
значение. О Царицын, заслуживший славу «красного Вердена», трижды за
1918 г. обломала зубы Донская армия атамана Краснова.
Кавказская армия ген. П.Н. Врангеля, заплатив дорогую кровавую
цену (по докладу в штаб Деникина было «убито и ранено пять
начальников дивизий, три командира бригад, одиннадцать командиров
полков»), с этой задачей справилась. Такое ее рвение, надо полагать, не в
последнюю очередь было вызвано надеждами на богатую военную
добычу. Ничего особенно крамольного в этом нет; еще A.B. Суворов не
стеснялся использовать это средство, чтобы подогреть храбрость
своих чудо-богатырей, признавая право на добычу неотъемлемым и даже
законным правом воина. Вспомним его бессмертное: «Святая добычь!»
Схожие мотивы звучали позже и в военной риторике героя Кавказа ген.
Д.В. Пассека, и у М.Д. Скобелева в его Ахал-Текинской экспедиции.
Здесь надо только решительно отделить понятие военной добычи,
т.е. имущества противника, взятого в бою или сразу после его
окончания, в обозе или на позициях, от награбленного, представляющего
собой имущество мирных жителей, захваченное силой или с угрозой ее
применения даже в период отсутствия активных боевых действий.
Если обещание военной добычи вполне применимо в качестве
средства, стимулирующего боевую активность войск, то попустительство
грабительству ведет к неминуемому разложению армии и падению ее
92 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
боевого духа. Примером сказанному может служить великий Наполеон,
в Египетской экспедиции (1799 г.) предупреждавший солдат: «Грабеж
обогащает немногих, бесчестит всех...», но не имевший ничего против
того, чтобы французы обирали павших в битве при Пирамидах
мамелюков. Тот же Наполеон в 1812 г. имел несчастье подстрекнуть свое
разноплеменное воинство к грабежу, пообещав перед Бородинским
сражением, что в Москве их ждет «изобилие». Москва была сдана без боя,
а потому не могла считаться укрепленным пунктом, как, допустим,
Измаил, взятый русскими «на штык» и ставший со всеми своими запасами
и имуществом его жителей законной военной добычей. Следовательно,
снискание французскими войсками «изобилия» в Москве априорно
предполагало возможность грабежа. Этот грабеж уничтожил всякую
дисциплину в формально победоносной армии и тем посеял в ней семена
разложения и гибели.
Эту же ошибку повторил в Гражданскую войну ген. Деникин. Его
неспособность строго спросить со старших начальников Добровольческой
армии в деле наведения порядка на подконтрольной ВСЮР территории
привела к разгулу произвола и беззакония в стране, управлявшейся
«целым рядом мелких сатрапов, начиная от губернаторов и кончая любым
войсковым начальником, комендантом и контрразведчиком» [11, С. 715].
Весьма соблазнительно посчитать, вспомнив как «срезался»
поручик Деникин на экзамене по военной истории в академии, что генерала
Деникина подвело недостаточное знание им военно-исторических
прецедентов, но мы этого делать не будем. Ошибки генерала вполне могут
быть объяснены его псевдоинтеллигентской мягкотелостью, в чем его
впоследствии резко упрекал П.Н. Врангель: «Казавшийся твердым и
непреклонным, генерал Деникин в отношении подчиненных ему старших
начальников оказывался необъяснимо мягким. Сам настоящий солдат,
строгий к себе,., смотрел сквозь пальцы на происходивший...
безобразный разгул генералов Шкуро, Покровского и других» [11, С. 665].
Строки о «настоящем солдате» были, очевидно, вписаны уже в
эмиграции, когда П.Н. Врангель, как известно, на восьмую часть сократил
свои мемуары, избавившись от нелицеприятных характеристик ряда
исторических деятелей, не желая бросать тень на Белую идею. Между
тем настоящий солдат был бы обязан как зеницу ока беречь и пестовать
в Добровольческой армии воинскую дисциплину, то единственное, что
отличает армию от вооруженного сброда, представляющего опасность
для кого угодно, но только не для противника. Вопросы «морального об-
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
93
лика» воинства, как мы видели, имеют далеко не отвлеченное значение,
а всегда были напрямую связаны с его боеспособностью.
«Армия развращалась, обращаясь в торгашей и спекулянтов. - Так
характеризовал П.Н. Врангель состояние духа белых армий,
исполнявших летом 1919 г. знаменитую деникинскую «московскую»
директиву. - В руках всех тех, кто так или иначе соприкасался с делом
«самоснабжения», - ... оказались бешеные деньги, неизбежным следствием
чего явились разврат, игра и пьянство. К несчастью, пример подавали
некоторые из старших начальников, гомерические кутежи и бросание
бешеных денег которыми производились на глазах у всей армии...
Население, встречавшее армию при ее продвижении с искренним
восторгом, исстрадавшееся от большевиков и жаждавшее покоя, вскоре стало
вновь испытывать на себе ужасы грабежей, насилия и произвола» [там
же, С. 754].
В конечном итоге потеря боеспособности белых войск и
последующий обвал фронта, закончившийся Новороссийской катастрофой, стали
следствием именно их поголовного морального разложения. Печально
знаменитый рейд казачьего корпуса ген. К.К. Мамонтова, смертельно
перепугавший большевистских вождей, кончился с военной точки
зрения, фактически, ничем. Зато, по великолепному выражению Л.Д.
Троцкого из его речи в Петроградском Совете 19 октября 1919 г., «корпус
Мамонтова, подобно комете с грязным хвостом из грабежей и
насилий, пронесся по целому ряду губерний» [173, С. 188].
Поэтому, когда после ряда серьезных неудач белых на Московском
направлении в октябре 1919 г. потребовалось заменить на посту
командующего Добровольческой армии окончательно дискредитировавшего
себя В.З. Май-Маевского, выбор Деникина закономерно пал на барона
П.Н. Врангеля. Первый же «программный» приказ (№709 от 27 ноября
1919 г.) нового командующего поднимал острые и неприятные для
многих в белых рядах вопросы.
«Славные войска Добровольческой армии! Враг напрягает все силы,
стремясь вырвать победу из ваших рук. Волна красной нечисти
готовится вновь залить освобожденные вами города и села. Смерть, разорение и
позор грозят населению.
В этот грозный час, волею главнокомандующего, я призван стать во
главе вас. Я выполню свой долг в глубоком осознании ответственности
перед Родиной. Непоколебимо верю я в нашу победу и близкую гибель
врага. Мы сражаемся за правое дело, а правым владеет Бог.
94
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Наша армия борется за родную веру и счастье России. К творимому
нами святому делу я не допущу грязных рук. Ограждая честь и
достоинство армии, я беспощадно подавлю темные силы, - погромы, грабежи,
насилие, произвол и пьянство будут безжалостно караться мною.
Я сделаю все, чтобы облегчить ваш крестный путь, ваши нужды
будут моими. Ограждая права каждого, я требую исполнения каждым
долга перед Родиной - перед грозной действительностью личная жизнь
должна уступить место благу России.
С нами тот, кто сердцем русский, и с нами будет победа»
[11,С.747-748].
Этот приказ знаменует собой целый новый этап в военной
риторике П.Н. Врангеля. Начать с того, что он написан, фактически, в жанре
политического манифеста. Почти все то, что слагало славу Врангеля-
военного оратора, исчезает из речи Врангеля-политика. Стилистика
приказа практически повторяет стиль рассмотренного выше приказа
десятимесячной давности (№ 3 от 29 января 1919 г.). Можно сказать,
что с этого времени Врангель переносит центр тяжести в своей работе
на политическую деятельность.
В тексте приказа это сказывается, прежде всего, в решительном
преобладании «добровольческой» великодержавной лексики над военной;
даже излюбленное «черным бароном» обращение «орлы» было
отставлено. Следствием ориентации на официальную великодержавность было и
оживление религиозного пафоса: в речи целых 4 концепта религиозной
тематики: «Бог», «вера», «святость», «крестный путь».
Вместе с тем от деникинских произведений, в которых часто сквозит
пафос героической смерти, приказ Врангеля выгодно отличается пусть
суровым, но оптимизмом: о «победе» упомянуто трижды, этим же
словом начинается и заканчивается речь. Любопытно, что приведенный
здесь приказ очень напоминает речи к войскам... Юлия Цезаря, всегда
предпочитавшего в трудную минуту сгустить краски, с тем, чтобы
устрашенные в должной мере войска видели в своем полководце
единственную надежду на спасение. С речами римских императоров перед своими
преторианцами приказ роднит и «рекламное» обещание полководца
разделять с войсками их нужды. Видно, что для Петра Николаевича занятия
по курсу военной истории в академии (которую он закончил с отличием)
не прошли даром.
Мы не зря упомянули о том, что приказ был для Врангеля
программным заявлением. Налицо явное свидетельство того, что Врангель впер-
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
95
вые открыто начал готовить в армии почву с целью устранения от
командования ген. Деникина, на которого он возлагал всю ответственность за
крушение фронта. В это же время Врангель активно прощупывал
настроения членов Особого совещания при главнокомандующем и изучал
мнения белого генералитета, о чем говорит рассказ командующего
Донской армией ген. Сидорина, о встрече с Врангелем 12 декабря на ст. Яси-
новатой, переданный журналистом Г.Н. Раковским.
Все эти демарши Врангеля были, однако, замечены и верно
истолкованы главнокомандующим ВСЮР. Под предлогом переформирования
Добровольческую армию из-за больших потерь, понесенных ею в
непрерывных боях, свели в корпус и включили в Донскую армию, а ретивого
барона, решившего попробовать силы в политике, отправили 20 декабря
на Кубань формировать пополнения. Однако благодаря непродуманной
политике Деникина, выразившейся в репрессиях против «самостийной»
Кубанской Краевой Рады, разгонять которую всего полтора месяца
назад (5-7 ноября 1919 г.) пришлось П.Н. Врангелю, его личность
совершенно не подходила для выполнения подобной задачи.
В этот период Петр Николаевич, очевидно, пришел к очень важным
для него лично и для продолжения Белой борьбы выводам. В рапорте на
имя главнокомандующего ВСЮР от 25 декабря 1919 г. он писал: «Зная
хорошо настроение казаков, считаю, что в настоящее время
продолжение борьбы для нас возможно, лишь опираясь на коренные русские
силы (выделено нами. - авт.). рассчитывать на продолжение казаками
борьбы и участие их в продвижении вторично в глубь России нельзя.
Бороться под знаменем «Великая, Единая и Неделимая Россия» они
больше не будут, и единственное знамя, которое, быть может, еще
соберет их вокруг себя, может быть лишь борьба за «Права и вольности
казачества» [26, С. 378]. Излишне говорить, что этот последний, по сути,
красновский лозунг был абсолютно неприемлем для государственника
Деникина.
В результате командующим Кубанской армией был назначен ген.
А.Г. Шкуро, а оставшийся не у дел энергичный Врангель перебрался в
Новороссийск. После ряда безуспешных попыток добиться
официального назначения на какую-либо должность, связанную с управлением
войсками, 27 января 1920 г. генерал подал в отставку и выехал в Крым.
В Крыму П.Н. Врангель волею судеб оказался в центре скандальной
«истории» восставшего капитана Н.И. Орлова, боровшегося за
оздоровление тыла белой армии, который в распространенной им прокламации
96
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
писал: «... наш молодой вождь генерал Врангель прибыл в Крым. Это тот,
с кем мы будем и должны говорить. Это тот, кому мы верим все, все, это
тот, кто все отдаст на борьбу с большевиками и преступным тылом. Да
здравствует генерал Врангель, наш могучий и сильный духом молодой
офицер!» [там же, С. 393]. Это послание, засвидетельствовавшее
помимо слегка истерического состояния его автора, немалую популярность36
в войсках имени «черного барона», стало последней каплей,
переполнившей чашу терпения Деникина; 8 февраля генерал-лейтенант
Врангель был уволен в отставку.
Генеральская свара никак, однако, не сказалась на положении дел на
фронте: он коллапсировал. Итогом двухлетней борьбы стала кошмарная
эвакуация из Новороссийска 14 марта 1920 г. деморализованных,
утративших все тяжелое вооружение остатков белых армий.
Собственно говоря, на этом страницу истории Белого движения
в России можно было перелистывать, как о том открыто писали
в своем «ультиматуме» на имя Деникина англичане, посоветовав
главнокомандующему искать контактов с советской властью для
обсуждения более-менее приемлемых условий капитуляции.
Генерал Деникин был морально разбит и утратил способность
принимать решения. Весьма характерно, что А.И. Деникин даже не
попрощался с войсками, найдя в себе силы проститься только с его
охранной ротой, состоявшей из старых добровольцев. «Человеку
с истерзанной душой в такие тяжкие дни его жизни посильна ли
была пытка объездов, смотров, речей...», - оправдывался он
впоследствии [109, С. 57].
Наступал «звездный час» Петра Николаевича Врангеля, срочно
вызванного на совещание высших командиров Белой армии. Совещание,
состоявшееся 21-22 марта, зафиксировало беспрецедентный случай
выборов главнокомандующего. Решение принималось очень трудно.
Примечательно, что Добрармия вся стояла горой за своего испытанного
вождя «старика» Деникина, видимо, хорошо отдавая отчет,
ориентируясь на врангелевский приказ № 709, в том, что со сменой командования
особому положению добровольчества придет конец.
«Популярность его в войске очень велика, так как он всегда с солдатами, деля их
невзгоды. А Деникин был очень далек от армии, поглощенный канцелярщиной в тылу,
читая добросовестно все бумажки, которые по гражданскому ведомству шли к нему, и плохо
в них разбираясь», - так писал об этом бывший министр Северо-Западного правительства
М.С. Маргулиес [38, С. 628].
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
97
Трудно согласиться с мнением, что Врангель решился возглавить
армию из карьерных соображений. Во-первых, обреченность
Белого движения для него к тому времени не могла не быть очевидной. На
совещании генералитета прямо говорилось о том, что никаких
наступательных действий командование уже не планирует, и все усилия
будут сосредоточиваться на спасении войск и гражданского населения. В
этом даже была дана своеобразная подписка (!) по принципу круговой
поруки. Во-вторых, судьба ген. Романовского не могла не заставить
задуматься о том, что ответственность главнокомандующего в условиях
крушения идеалов может принять не предусмотренные никакими
военными и гражданскими законами формы. Ко всему прочему, Врангель не
мог не догадываться о существующей оппозиции ему в рядах наиболее
авторитетной и активной части армии - «старом» добровольческом
офицерстве. Да и ехал Врангель в Крым все же не на отдых, а на войну.
Тем не менее, П.Н. Врангель встал на этот свой теперь уже
действительно «крестный» путь. И встал, по нашему глубокому убеждению,
движимый чувством долга, которое всегда его выгодно отличало от
прочих представителей родовой русской аристократии, хотя бы от того же
великого князя Николая Николаевича (Младшего). Его «монархическое
происхождение» уже никак не могло повредить Белой борьбе в период
ее заката, но оно так и не подтолкнуло бывшего Верховного
главнокомандующего Русской армии к исполнению патриотического долга, хотя
бы в качестве «знамени» осколков Белой России.
Речь, произнесенная новым главнокомандующим войсками ВСЮР
на первом после его «избрания» параде в Севастополе 25 марта 1920 г.,
в полной мере отражала трагические особенности момента.
«Три года тому назад, забыв присягу, честь и совесть, непобедимые
дотоле русские войска открыли фронт германцам, и обезумевший
русский народ пожаром и кровью залил Россию. Горе и страдания - вот что
увидела русская земля.
Нашлись, однако, честные сыны родины, которые, как Давид на
Голиафа, пошли бесстрашно умирать за счастье родной земли. Без
снарядов, без патронов, босые и раздетые, в мороз и стужу, в палящий зной
в степях, на высотах Кавказа, в безводных степях калмыцких, шли они
на великий крестный путь. Ширилась и развивалась эта небольшая
кучка верных сынов Родины, и освобождалась от красной нечисти русская
земля. И чудился уже нам трезвон московских колоколов, уже белели
стены Кремля.
98
Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Но Господу Богу угодно было покарать нас за наши прегрешения и
победоносное движение перешло в тяжелый и крестный путь страданий,
невзгод. Теперь, исстрадавшиеся, измученные, поредевшие наши ряды
нашли убежище в Таврии. Грудь против груди стоим мы против наших
родных братьев, обезумевших и потерявших совесть. За нами бездонное
море. Исхода нет... и в этот грозный час я призван был стать во главе
вас. Без трепета и колебания я сделал это. Я твердо знаю, что Россия
не погибла. Мы увидим ее свободной и счастливой. Я верю, - Господь
Бог даст мне ум и силы вывести армию из тяжелого, безвыходного почти
положения.
Сейчас Великий пост, Великая неделя, когда русский человек
очищается, чтобы без греха встретить радостное Святое Воскресение. Пусть
тяжелый крестный путь будет для нас искуплением, после которого
настанет Воскресение. Пройдем через горнило испытаний, и, подобно
тому, как железо, проходя через горнило, переходит в сталь, будем
тверды, как сталь.
Твердо верю, что русская армия явится оплотом действительно
свободной и счастливой России. Воскресение Родины увидим скоро» [131,
С. 631-632].
Речь эта очень напоминает речь колчаковского генерала А.Н. Пепе-
ляева, приведенную нами в п. 1.3. Главное, что роднит оба текста это
их пронизанность религиозными ценностями, причем в севастопольской
речи ясно звучат уже откровенно апокалипсические мотивы. Помимо
естественной религиозности Врангеля, еще развившейся, надо
полагать, в критических обстоятельствах, усилению звучания религиозной
тематики речь обязана времени Страстной седмицы Великого поста и
предварявшей выступление барона вдохновенной проповеди
присутствовавшего на параде преосвященного Вениамина (Федченкова)
епископа Севастопольского. Владыка, по свидетельству современников,
сыграл значительную роль в деле избрания П.Н. Врангеля
главнокомандующим. Неудивительно, что на первом же торжественном
мероприятии надо было особо отметить значение Церкви, которая по самому
своему принципу была обязана стоять на монархических и
антибольшевистских позициях. Примечательно, что Церковь наиболее активно
поддерживала именно адм. Колчака и ген. Врангеля - людей,
придерживавшихся пусть и не выраженной явно, но все-таки подразумеваемой
монархической «ориентации». Затея ген. Деникина пристегнуть
архиереев южнорусских епархий Православной Церкви в качестве своеобраз-
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
99
ного «идеологического довеска» к ОСВАГу, как известно, не вызвала у
архипастырей особого энтузиазма. А с уходом Деникина ушел, кстати,
и «разбитый душой, глубоко морально потрясенный» протопресвитер о.
Г. Шавельский, придерживавшийся либерального образа мыслей.
Смене тематики военных речей белых вождей способствовало
изменение свойств и состояния этоса. В рядах войск, замерших перед
Врангелем в парадном строю, стояли уже не «кавказские» войска, а
преимущественно офицеры, на 90% исповедовавшие монархические убеждения,
а значит, сохранившие в «горниле» Гражданской хотя бы остатки
религиозности. Кроме того, эти люди, прошедшие через все ужасы разгрома,
отступления и панической одесской и новороссийской эвакуации, остро
нуждались в признании величия уже принесенных ими жертв и
освящении целей, во имя которых они шли на страдания и смерть.
Врангель справился с этой задачей, надо признать, блестяще.
Первая часть речи представляет собой возвышенный панегирик
жертвенному подвигу Белой рати, написанный в ярком эпическом стиле, обильно
украшенный средствами выразительности. Как и в речи Пепеляева у
Врангеля мы не найдем даже упоминания о поражениях армии от врага,
но все дело талантливо сводится либо к заблуждениям народным, либо
к воле Божией. Апелляция к категории справедливости, столь
характерной для средневековых военных речей, оперировавших религиозным
пафосом, наблюдается и здесь.
Однако, военные речи все-таки не церковная проповедь покаяния. И
Врангель повторяет прием сгущения красок, уже использованный им в
цитировавшемся выше приказе № 709, для того, чтобы лишний раз
подчеркнуть, что спасение армии только в его руках. Завершает речь
энергичное уверение, наполненное «металлургическими» сравнениями,
излюбленными в период Гражданской войны, в благополучном исходе дела.
Таким образом, религиозные ценности в военных речах Врангеля
крымского периода употреблялись по своему прямому предназначению:
в качестве средства нравственного воспитания белого воинства, но не
в качестве официально признаваемого религиозного пафоса
общественной речи. Деятельность Русской Православной церкви в Крыму
приобретала важное государственное значение. Православный
праздник Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня (14
сентября) был объявлен государством Днем Покаяния, а два
предшествовавших ему дня - «днями траура и молитвенной памяти убиенных
и в смуте погибших», в течение которых воспрещались увеселения и
100 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
общественные зрелища. Для сравнения полезно вспомнить, что приказ
главного начальника Уральского края С.С. Постникова устанавливал
в качестве неприсутственного дня (т.е. государственного праздника) в
«Колчаковии» 27 февраля, «день годовщины Русской революции».
Активно привлекалось крымское духовенство для пастырского окорм-
ления армии; как писал один из белых офицеров, «кажется, в первый
раз за всю гражданскую войну полковые священники были на месте:
напутствовали части в бой, хоронили убитых и жителям напоминали, что
пришло Христолюбивое Воинство» [75, С. 472]. Восстанавливалась и
преданная забвению проповедническая функция духовенства; в штатах
Управления военного и морского духовенства состояло десять
«проповедников армии», в числе которых были и миряне.
Врангель, как наверно никто из его предшественников, понимал, что
«...белое дело не может быть выиграно, если потеряна честь и мораль»
[201, С. 568]. Именно поэтому наряду с использованием жестоких куте-
повских «фонарных» аргументов в деле наведения порядка он придавал
такое значение напоминанию войскам и населению о нравственности,
коленопреклоненно встречая в Севастополе Курскую-Коренную икону
Божией Матери «Знамение».
Весьма характерно, что о добровольчестве, основательно
дискредитировавшем себя при Деникине, Врангель предпочитает в речи не
упоминать. «Армия, воспитанная на произволе, грабеже и насилии, ведомая
начальниками, примером своим развращающим войска, - такая армия
не могла создать Россию», - писал Врангель Деникину еще в феврале
1920 года [165, С. 243]. Между тем, «черный барон» был одержим идеей
если и не построения новой России, то хотя бы прекращения того
«кабака», которым закончилась таковая попытка ген. Деникина. Концепты
национально-государственной тематики, в ряду которых стоит и
«русская армия», в речи поэтому занимают второе место после религиозных
по частоте употребления.
В реформированной в рекордно короткий срок, за два месяца, армии
о добровольчестве также постарались не вспоминать. Врангелевская
армия получила номерную корпусную структуру, и остатки знаменитых
добровольческих «цветных» дивизий были сведены в 1-й армейский
корпус под командованием ген. А.П. Кутепова, который «железной рукой
приводил свои войска в порядок». Расстреливали, случалось, и
полковников. В результате армия на удивление быстро подтянулась и с 28
апреля 1920 г. стала именоваться Русской.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
101
Увлечение национальными ценностями, активно муссировавшимися
врангелевской пропагандой и находившими широкое распространение
в военной риторике, не должно вводить в заблуждение: пафос,
пронизывающий общественную речь белого Крыма был национальным только
по форме, по духу же - пафосом государственным, как и у Деникина.
От того, что отбросили лозунг «Великой, Единой и Неделимой» и стали
говорить просто о Родине или о России, ничего кардинально не
изменилось. Одна губерния бороться против сорока шести, естественно не
могла, и Врангель, как достаточно трезво и прагматично мыслящий
государственный деятель, прекрасно это понимал. Предел его мечтаний
простирался до устройства в Крыму некоего идеального государства,
которое, опираясь на признание великих держав, смогло бы стать «островом
свободы», служить примером для порабощенной большевиками части
России в надежде на благоприятную политическую конъюнктуру в
дальнейшем. Самый главный упрек Врангеля генералу Деникину
заключался в провале идеи государственного собирания России: «Провозгласив
великую, единую и неделимую Россию, пришли к тому, что... разделили
всю Россию на целый ряд враждующих между собой образований», -
говорил он, выступая перед представителями печати сразу после своего
«избрания» [27, С. 460].
Интересам «собирания» русских государственно мыслящих людей
была подчинена вся политика Врангеля. Изданный 29 апреля приказ
барона гарантировал от репрессий и предоставлял равные права всем,
согласившимся перейти на сторону белых, а также «реабилитировал»
чинов армии и гражданского ведомства, осужденных правительством
Деникина за сотрудничество с советской властью и возвращал им чины
и награды, полученные до 1 декабря 1917 года. Приказом за № 3274 от
8 июня 1920 г. освобождались от ответственности все работники
советских учреждений, за исключением сознательных или запятнавших себя
преступлениями. Этот типично пропагандистский документ,
распространявшийся в виде листовок среди красноармейцев, положил начало
одному из жанров пропаганды разложения, многократно
использовавшегося в годы Великой Отечественной войны. Ввиду особого интереса,
который представляет этот первый пропагандистский опыт, приводим
этот приказ полностью.
«Обновленная Русская армия вышла на путь освобождения России
от анархии и террора. В этот ответственный момент, когда на армию
устремлены взоры русского народа, ожидающего от нее избавления от
102 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
ужасов большевистского гнета и восстановления в стране начал права и
законности и учитывая, что советская служба многих русских людей
носила принудительный характер и вызывалась неблагоприятно
сложившимися для них обстоятельствами и государственной разрухой
ПРИКАЗЫВАЮ:
Освободить от ответственности всех граждан вновь занимаемых
Вооруженными силами областей, кои во время господства там советской
власти состояли на службе в различных советских государственных
учреждениях и вообще принимали участие в работе советских властей,
за исключением лиц, занимавших ответственные руководящие
должности в советском управлении и сознательно осуществлявших или
содействовавших осуществлению основных задач советской власти
(первая часть ст. 1 закона 30 июля 1919 года об уголовной ответственности
участников установления советской власти), а также учинивших одно
из тяжких преступлений, предусмотренных последней частью (пп. 1, 6,
12) 108-й ст. (по редакции приказа Добрармии 1918 года № 390)
Уголовного Уложения. В отношении офицеров и солдат красной армии с ее
учреждениями руководствоваться приказом моим от 29 апреля с.г. за №
3052»37.
Любопытно как была подана в листовке цель борьбы белых.
Врангель всячески избегает персонифицировать врага; война им ведется не
против кого, а против чего - против анархии и террора. Использование
подчеркнуто «суконного», бюрократизированного языка с его длинными
периодами (весь приказ состоит всего из четырех предложений),
наполненного причастными и деепричастными оборотами, перегруженного
ссылками на официальные документы и канцеляризмами (кои,
учинивших), служило приданию тексту солидности и основательности
государственного документа, которые, как известно, действуют
чрезвычайно успокаивающе на русского человека.
Правда, красноармейца, мало знакомого (что вполне естественно) с
правовыми основами государственной жизни Белого Крыма, подробные
ссылки на многочисленные пункты и подпункты неведомых статей могли
и напугать: мало ли что прописано в «ихних» законах, и что будет по ним
полагаться за то, что я в 17-м году стащил борону при «экспроприации»
барского имения. Перед распространением в стане противника приказ
этот стоило бы, конечно, немного переработать. Обещать было бы луч-
Листовка из коллекции Российской Национальной библиотеки, ФБЛ п-2/567.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
103
ше амнистию всем «заблудшим», ведь пропагандистские обещания, с
одной стороны, стоят недорого, а с другой - амнистия не проводила бы
разграничения между беспартийными красноармейцами и
коммунистическим активом, т.е. рядовыми солдатами-коммунистами, которые
делили с бойцами все тяготы походно-боевой жизни. Амнистия не порождала
бы у объекта пропагандистского воздействия чувства измены простому
фронтовому товариществу, но способствовала бы отделению интересов
массы от командирско-комиссарского состава красных.
Впрочем, вышедшее также 8 июня воззвание Врангеля к «офицерам
Красной армии», обещавшее «забвение прошлого» и «возможность
искупить свой грех» красноречиво именовало краскомов тем же званием
офицера, что и представителей собственного офицерского корпуса.
«Осажденная крепость» Крым имела, помимо малочисленности
гарнизона, еще один существенный недостаток: ее продовольственные
ресурсы были явно не рассчитаны на пребывание на ее территории
150 000 пришлых «едоков»38. Поэтому поход в Северную Таврию,
удачно использовавший момент перехода в наступление 25 апреля польской
армии на Польско-советском фронте, был, собственно, вызван жестокой
необходимостью и представлял собой в прямом смысле слова «поход за
хлебом», как в этом откровенно признавался сам Врангель. Этот поход
активно поддерживался французской дипломатией, поскольку
отвлечение советских сил на Врангеля оказывало помощь их традиционным
сателлитам-полякам.
Жребий был брошен. Последнее наступление белых было солидно
подготовлено не только военными, но и пропагандистскими средствами.
На следующий день после высадки десантного отряда ген. Я.А. Слащева
и перехода в наступление 1-го корпуса ген. А.П. Кутепова 25 мая 1920 г.
было обнародовано обращение Врангеля под именем приказа № 3226.
«Русская армия идет освобождать от красной нечисти родную землю.
Я призываю на помощь мне русский народ.
Мною подписан приказ о волостном земстве и восстанавливаются
земские учреждения в занимаемых армией областях. Земля казенная и
частновладельческая сельскохозяйственного пользования,
распоряжением самих волостных земств, будет передаваться обрабатывающим ее
хозяевам. Призываю к защите родины и мирному труду русских людей и
обещаю прощение заблудшим, которые вернутся к нам.
38 Распространенный с обеих противоборствующих сторон термин периода Гражданской
войны, показывавший общее количество лиц, состоявших на довольствии.
104 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Народу - земля и воля в устроении государства. Земле - волею
народа поставленный Хозяин.
Да благословит нас Бог» [11, С. 871]
Написанная в один день с обращением политическая программа
Врангеля была опубликована чуть раньше, 20 мая, перед началом боев.
«Слушайте, русские люди!
За что мы боремся?
За поруганную веру и оскорбленные святыни.
За освобождение русского народа от ига коммунистов, бродяг и
каторжников, вконец разоривших Святую Русь.
За прекращение междоусобной брани.
За то, чтобы крестьянин, приобретая в собственность
обрабатываемую землю, занялся бы мирным трудом.
За то, чтобы честный рабочий был обеспечен хлебом на старости
лет.
За то, чтобы истинная свобода и право царили на Руси.
За то, чтобы русский народ сам выбрал бы себе хозяина.
Помогите мне, русские люди, спасти родину» [131, С. 632].
Надо сказать, что пропагандистские материалы Врангеля отличались
простотой и доступностью слога и (наконец-то!) начали ориентироваться
не только на «государственно-мыслящую» часть населения (мы помним
о том, что часть эта в России была ничтожно мала), а на простого
русского человека. Читая листовки белых генералов и адмиралов,
написанные до этого, невольно создается впечатление, что писали их, в общем-
то, прекрасные люди, но писали, что называется, для себя. В воззваниях
Деникина, например, не было недостатка в благородных мыслях,
переживаниях и чувствах, но они ничего не говорили о самом главном, за
что шла борьба в Гражданской войне, - о земле. Обращения Врангеля
впервые ориентировались на самые насущные потребности массы
трудового населения, а не только на высокие национально-патриотические
чувства офицерства и интеллигенции.
Похвальное внимание «черный барон» уделял и нуждам
собственного войска. Приказ главнокомандующего Русской армией № 3580 от
26 августа 1920 г. устанавливал размеры продовольственного и
вещевого содержания воинских чинов, а также устанавливал ряд разумных
мероприятий (вроде указания замещать должности тыловых служащих
из состава членов офицерских семейств), долженствовавших облегчить
материально-бытовые условия существования армии.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
105
Врангель не пренебрегал информированием войск и населения не
только о своих мероприятиях, военных успехах, но и о поражениях. Так,
после объективно неизбежной неудачи операции в Северной Таврии
командованием было опубликовано официальное сообщение № 661 от 21
октября 1920 г., объяснявшее причины поражения и обрисовывавшее
общее положение дел.
«Заключив мир с Польшей и освободив тем свои войска, большевики
сосредоточили против нас пять армий, расположив их в трех группах...
К началу наступления общая численность их достигла свыше ста тысяч
бойцов, из коих четверть состава - кавалерия. Сковывая нашу армию с
севера и северо-востока, красное командование решило главными
силами обрушиться на наш левый фланг и бросить со стороны Каховки массу
конницы,., чтобы отрезать Русскую армию от перешейков, прижав ее к
Азовскому морю и открыв себе свободный доступ в Крым.
Учтя создавшуюся обстановку, Русская армия произвела
соответствующую перегруппировку... Заслонившись с севера частью сил, мы
сосредоточили ударную группу и, обрушившись на прорвавшуюся
конницу красных, прижали ее к Сивашу. При этом славными частями
генерала Кутепова уничтожены полностью два полка латышской дивизии,
захвачено 216 орудий и масса пулеметов, а донцами взято в плен четыре
полка и захвачено 15 орудий, много оружия и пулеметов. Однако
подавляющее превосходство сил, в особенности конницы,., в течение пяти
дней атаковавшей армию с трех сторон, заставили
главнокомандующего принять решение отвести армию на заблаговременно укрепленную
Сиваш-Перекопскую позицию, дающую все выгоды обороны.
Непрерывные удары, наносимые нашей армией в истекших боях,
сопровождавшиеся уничтожением значительной части прорвавшейся в наш тыл
конницы Буденного, дали армии возможность почти без потерь отойти
на укрепленную позицию» [11, С. 976].
В сообщении был совершенно правильно использован
пропагандистский прием «забалтывания» негативной информации, известный в
русской армии еще с петровской «реляции» о сражении при Головчине
(1708 г.). Учтены и основные принципы информирования методом
повествования, заключающиеся в поддержании атмосферы ожидания на
протяжении всего текста и применения массы уточняющих деталей
(подробнее см. «Военная риторика Нового времени», п. 3.2)
Отражение красной конницы СМ. Буденного, о котором идет речь
в сообщении, действительно было крупным успехом врангелевских
106 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
войск; это позволило белой армии почти беспрепятственно и
организованно в течение 17-18 октября отойти из Северной Таврии обратно
в Крым. Даже их противник М.В. Фрунзе воздал должное стойкости
белых, сохранивших в критических обстоятельствах присутствие
духа.
Наступал последний акт трагедии Белого движения. Нельзя не
отметить, что созданная титаническими усилиями П.Н. Врангеля
государственная машина Белого Крыма практически бесперебойно работала до
самого конца. Информационная политика белых была внятна и честна
настолько, насколько это позволяли обстоятельства. Врангель сумел
организовать дело так, что эвакуация войск и гражданского населения
прошла абсолютно организованно и без жертв. После прорыва 29
октября красными Юшуньской оборонительной позиции, последней
надежды белых, правителем Юга России и главнокомандующим Русской
армией незамедлительно был отдан приказ, предупреждавший население
о неизбежности оставления армией территории Крыма.
«Русские люди, оставшаяся одна в борьбе с насильниками, Русская
армия ведет непрерывный бой, защищая последний клочок русской
земли, где существуют право и правда. В сознании лежащей на мне
ответственности я обязан заблаговременно предвидеть все случайности. По
моему приказанию уже приступлено к эвакуации и посадке на суда в
портах Крыма всех, кто разделял с армией ее крестный путь, семей
военнослужащих, чинов гражданского ведомства с их семьями и отдельных
лиц, которым могла бы грозить опасность в случае прихода врага.
Армия прикроет посадку, памятуя, что необходимые для ее
эвакуации суда также стоят в полной готовности в портах, согласно
установленному расписанию. Для выполнения долга перед армией и населением
сделано все, что в пределах сил человеческих. Дальнейшие наши пути
полны неизвестности. Другой земли, кроме Крыма, у нас нет. Нет и
государственной казны. Откровенно, как всегда, предупреждаю всех о том,
что их ожидает. Да ниспошлет нам Господь всем силы и разума одолеть
и пережить русское лихолетье» [ 11, С. 982-983].
Очень сдержанный, честный и спокойный тон приказа, по
свидетельству самого Врангеля, вместе с твердыми и разумными распоряжениями
власти немало способствовал пресечению возможного распространения
деморализующих и панических слухов. Благодаря стойкости,
проявленной Русской армией в предшествовавших оборонительных боях,
противник особенно не усердствовал в преследовании.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции 107
Утром 1 ноября 1920 г. генерал-лейтенант барон П.Н. Врангель
принял последний парад на родной земле. «Обходя фронт, генерал
остановился перед атаманцами39 и... обратился к ним с краткой речью: «Орлы!
Оставив последними Новочеркасск, последними оставляете и русскую
землю. Произошла катастрофа, в которой всегда ищут виновного. Но
не я и тем более не вы не виновники этой катастрофы; виноваты в ней
только они, наши союзники... Если бы они вовремя оказали требуемую
от них помощь, мы уже освободили бы русскую землю от красной
нечисти. Если они не сделали этого теперь, что стоило бы им не очень
больших усилий, то в будущем, может быть, все усилия мира не
спасут ее от красного ига. Мы же сделали все, что было в наших силах, в
кровавой борьбе за судьбу нашей родины... Теперь с Богом. Прощай,
русская земля» [131, С. 440].
В этой короткой военной речи словно воскрес прежний лихой
кавалерийский начальник, водивший Кавказскую армию на штурм
царицынских бастионов. «Убеждая же побежденных, сначала скажем, что не из-
за малодушия они побеждены врагами, но или из-за множества врагов,
или из-за случайности судьбы...», - рекомендовала в подобных случаях
«Rhetorica militaris» [66, С. 187]. Перефразируя византийского ритора,
можно сказать, что здесь барон Врангель «и нечто более неожиданное
нашел», обвинив во всем прагматичных союзников.
Русская армия выступала в свой последний поход, вернуться из
которого на родную землю ей не было суждено. Отдавая дань доброй
памяти ее вождю, «черному барону» П.Н. Врангелю, скажем о нем словами
близкого ему по духу В.В. Шульгина: « ...так как люди забыли как
«выводить породу властителей», то потому они и встречаются так редко»
[201, С. 740].
1.5. Крестоносец XX века М.К. Дитерихс
Фамилия Дитерихсов, происходившая от старинного рыцарского
рода Священной Римской империи Дитрихштейнов, была не менее
известной в военных кругах, чем фамилия Врангелей. Образование,
полученное российским наследником австрийских рыцарей Михаилом
Константиновичем Дитерихсом (1874 - 1937) в Пажеском корпусе, по всей
Юнкера Новочеркасского атаманского училища.
108 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
видимости, укрепило в нем фамильные черты: религиозность, твердость
и стойкость в отстаивании идеалов, ярко проявившиеся в годы Великой
Российской смуты.
Пажеский корпус, основанный Павлом I, располагался в помещениях
дворца графа Воронцова, превращенного императором в капитул
Мальтийского ордена. Михаил Дитерихс рос и воспитывался под девизом
мальтийских рыцарей: «Ты будешь, тверд, как сталь, и чист, как золото»,
выгравированных на нагрудном знаке об окончании корпуса. Каждому
поступившему пажу выдавалось Евангелие и текст заветов рыцарей
ордена св. Иоанна Иерусалимского: «Ты будешь верен всему тому, чему
учит Церковь, ты будешь охранять ее; ты будешь относиться с
уважением к слабому и сделаешься его защитником; ты будешь любить страну,
в которой родился; ты не отступишь перед врагом; ты будешь вести с
неверными беспощадную войну; ты не будешь лгать и останешься верным
данному слову; ты будешь щедр и всем благотворить; ты будешь везде и
повсюду поборником справедливости и добра против несправедливости
и зла». Пажи сызмальства были приближены ко Двору и участвовали в
дворцовых церемониях, получая возможность близко лицезреть
Императора и членов Царствующего Дома.
Блеск и роскошь придворной жизни, отсвет которой падал на пажей,
не могли, конечно, не вспоминаться подпоручиком Дитерихсом,
выпущенным в 1894 г. из самого привилегированного военного учебного
заведения Империи, в самый отдаленный ее уголок - Туркестан. Сказать,
чтобы это была «забытая Богом провинция, все же нельзя: люди со
связями и известной оборотистостью могли сделать в генерал-губернаторстве
блистательные карьеры. Но человеку, который и в Пажеский корпус-то
поступил, благодаря «заслугам» своего дяди Ф.К. Дитерихса, бывшего в
то время директором корпуса, таких возможностей, очевидно, не было.
Итогом годичного (вместо положенных трех лет «цензовых») служения
Родине в Туркестане стало решение молодого офицера пробираться с
негостеприимной окраины поближе к столице. В этом ему несомненно
должно было помочь близкое знакомство с дочерью военного
губернатора Ферганской области ген.-лейт. А.Н. Повало-Швейковского Марии
Александровной, брак с которой М.К. Дитерихс заключил сразу же
после поступления в академию осенью 1897 года.
Учеба М.К. Дитерихса в Николаевской военной академии (1897 -
1900) познакомила бывшего пажа «со всеми тонкостями военной
теории», как пишет В.Ж. Цветков. Мы бы только не стали восхищаться
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
109
особыми способностями нашего героя, на том только основании, что
«однокашниками Дитерихса по Академии были отнюдь не вчерашние
выпускники, молодые офицеры, а, как правило, те, кто имел солидный
служебный стаж, достигшие чинов капитана или подполковника»,
поскольку в это же самое время, как мы помним, в академии учился и
поручик Деникин. Склонность к «военной теории», видимо, и
предопределила впоследствии службу Михаила Константиновича преимущественно
на все тех же штабных должностях, что и его однокашника Деникина.
Русско-японская война стала для Дитерихса школой отступления, в
котором он впоследствии блистательно отличался, командуя войсками
Восточного фронта у адм. Колчака. Пока же капитан Дитерихс
отступал, собирая обильный урожай государевых наград, с войсками 17-го
армейского корпуса под Ляояном и Мукденом. Вершиной полководческой
карьеры Дитерихса в этот период стал эпизод, когда «в ответственный
период отхода от Мукдена, не поддаваясь панике и хаосу, он смог
организовать планомерный отход с позиций отступающих частей».
Штабная служба М.К. Дитерихса продолжилась и после окончания
войны на вполне приличных местах в европейской части России:
Московском, Одесском и Киевском военных округах. Не стала исключением в
этой традиции и начавшаяся Великая война, в которой служебная
карьера М.К. Дитерихса удивительно напоминает «восхождение» его в
некотором смысле антипода А.И. Деникина. Только служба Михаила
Константиновича по генерал-квартирмейстерской части успешно продолжалась
вплоть до 1916 года. Что послужило основанием для его перевода 25 мая
1916 г. с должности генерал-квартирмейстера Юго-Западного фронта на
фактически первую его строевую должность командира 2-й русской
Особой бригады на Салоникский фронт - сказать трудно. Вполне возможно,
что это был расчетливый ход искушенного службиста A.A. Брусилова, не
желавшего делиться славой удавшегося Луцкого прорыва (начавшегося
22 мая 1916 г.) с человеком, принимавшим непосредственное участие в
разработке планов операции. Нельзя сбрасывать со счетов и возможное
желание самого М.К. Дитерихса пополнить свой «иконостас» орденов
экзотическими союзническими (что ему, кстати, с успехом удалось и
впоследствии в годы Гражданской войны сильно помогло). Не стоит забывать
как то, что должность командира отдельной бригады вполне могла
обернуться генерал-лейтенантской должностью командира дивизии, так и то,
что Салоникский фронт не входил в число самых беспокойных фронтов
Первой мировой: сражаться союзникам приходилось все же не против
110 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
немцев, а против болгар. С любой точки зрения новое назначение
Михаила Константиновича было во всех отношениях удачным продолжением
его карьеры.
Как видим, дореволюционная служебная деятельность М.К.
Дитерихса протекала вполне благополучно, ничем, в сущности, не
отличаясь от многочисленных карьер штабных генералов русской армии того
времени. Нет решительно ничего такого, что указывало бы на особую
религиозность генерал-майора Дитерихса или даже, как писали
впоследствии, его склонность к мистицизму. Впрочем, ничего из ряда вон
выходящего даже в мистицизме Дитерихса не было бы. Мистицизм
был явлением достаточно распространенным в высших эшелонах
русского общества накануне революции. Примером тому может служить
хотя бы бывший начальник М.К. Дитерихса по Юго-Западному фронту
A.A. Брусилов. Алексей Алексеевич же характеризовал своего генерал-
квартирмейстера достаточно сдержанно: как «человека очень
способного и отлично знающего свое дело» [17, С. 176]. Никак не выделяется и
военная риторика М.К. Дитерихса в этот период. Например, его приказ
№ 51 от 12 марта 1917 г. по 2-й Особой бригаде после обнародования
текстов манифеста об отречении имп. Николая II и обращения к народу
вел. князя Михаила Николаевича в п.2 содержал обращение командира
бригады к солдатам и офицерам.
«Воины вверенной мне дорогой 2-й Особой пехотной бригады.
Прежде всего, осени себя крестным знамением, и каждый в своем сердце,
помолись Богу: «Боже милостивый, Боже Всевидящий, даруй нашему
Верховному главнокомандующему великому князю Николаю
Николаевичу победу и одоление над супостатом, а народу нашему, укрепив в
вере в Тебя, даруй мудрость, спокойствие и единение, да выйти на
верные пути истинного блага и величия Родине». Вы же, мои доблестные
молодцы офицеры и солдаты 2-й Особой пехотной бригады, должны
проникнуться еще большим сознанием необходимости полной победы над
нашим врагом во что бы то ни стало. Мы должны победой обеспечить
нашу Родину за все те жертвы, которые она принесла за все те жертвы,
которые она принесла во в эти тяжелые дни войны. Мы должны победой
обеспечить нашему народу, нашим семьям, детям и внукам дальнейшую
спокойную жизнь на долгие годы. Мы все много претерпели за эти годы;
много наших братьев уже легло смертью славной за наше правое дело,
за целость и жизнь своих ближних... Но надо еще больше претерпеть,
надо еще больше развить силы, воли и единения, чтобы достигнуть же-
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
111
ланной победы, желанного конца, желанного возвращения на родину.
Помни, славный воин, что только «претерпевший до конца - спасен
будет» [29, С. 160-161].
Молитва, вкрапленная в текст приказа, не была чем-то чужеродным
для этого жанра служебного документа, в условиях господства в русской
армии религиозного пафоса в период Первой мировой войны (см.
«Военная риторика Нового времени»). Больше всего обилием «должны» и
призывами «претерпеть» приказ напоминает речь дремуче-старорежимного
казачьего генерала из романа М.А. Шолохова «Тихий Дон».
Не очень укладывается в образ духоносного «рыцаря-крестоносца»,
под которым Дитерихс фигурирует в современной истории Гражданской
войны, и явное стремление генерала строить карьеру, опираясь на
связи и даже матримониальные отношения. Здесь мы скорее имеем дело со
своеобразным преломлением его личности в религиозном сознании
некоторых современных историков.
Так, в наиболее полном и интересном труде о М.К. Дитерихсе,
принадлежащем перу В.Ж. Цветкова, читаем: «Во время войны (Русско-
японской. - авт.) произошло еще одно крупное событие в его жизни.
Дитерихс был удостоен Высокой Чести стать Восприемником от купели
долгожданного Наследника Российского престола Алексея
Николаевича Романова. Бывшему пажу такая награда казалась сопряженной
с неким Божественным Провидением, ведь он становился фактически
«крестником» Цесаревича, человеком, ответственным за его судьбу.
Это означало акт особого значения - стать, может быть, одним из самых
близких к Царской Семье людей. Ведь теперь между ними возникла
некая неуловимая Божественная связь...» [29, С. 18].
Если избавиться от обилия прописных букв и некоторого
недоумения каким образом простой капитан, к тому находящийся на фронте, мог
оказаться одним из восприемников цесаревича, в круг которых входили
коронованные особы и члены Императорской фамилии, то становится
ясным, что речь идет о телеграмме императора Николая II
командующему Маньчжурской армией от 11 августа 1904 года. В ней император
писал: «Ее Величество и Я, в душевном помышлении о наших доблестных
войсках и моряках на Дальнем Востоке, в сердце молитвенно
призывали их быть восприемниками новокрещаемого Цесаревича
(выделено нами. - авт.). Да сохранится у Него на всю жизнь особая
духовная связь со всеми теми дорогими для Нас и для всей России от
высших начальников до солдата и матроса, которые свою горячую любовь
112 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
к Родине и Государю выразили самоотверженным подвигом, полным
лишений, страданий и смертельных опасностей». Если буквально
следовать смыслу телеграммы, то приходится признать, что гвардейский
карательный отряд, наводивший годом позже порядок вдоль
Транссибирской магистрали, расстрелял несколько десятков других
«восприемников» цесаревича Алексея.
Женитьба Дитерихса на М.А. Повало-Швейковской помимо
помощи при поступлении в академию, конечно, обеспечила бы Михаила
Константиновича в дальнейшем таким тестем, за которым его военная
карьера развивалась бы без особого труда. Но вот беда: всего через год
после счастливой свадьбы в Ферганской области вспыхнул кровавый
Андижанский мятеж, виновным в недостаточно оперативном
подавлении которого был признан ген.-лейт. А.Н. Повало-Швейковский, в
наказание отставленный от службы с выговором от самого императора.
О поддержке с этой стороны Дитерихсу, естественно, приходилось
забыть, тем более, что сам генерал прожил после такого позора не более
пяти лет.
Не очень соответствует образу рыцаря и развод М.К. Дитерихса с
супругой, имевшей к тому времени от него двоих детей, и повторная
женитьба в 1916 г. на С.Э. Бредовой, которая была моложе его на 11 лет.
Исследование обстоятельств расторжения церковного брака М.К.
Дитерихса никоим образом не входит в задачу нашего исследования, однако
надо признать, что основания к тому должны были быть очень серьезны,
достаточно вспомнить коллизии знаменитого романа «Анна Каренина».
Женитьба же на Софье Эмильевне позволяла Михаилу
Константиновичу породниться с хорошей военной «генеральской» семьей обрусевших
немцев-лютеран, что в условиях известного «немецкого засилья» в
высшей русской военной иерархии могло послужить неплохим трамплином
для его дальнейшей карьеры.
Не менее странно для ярого монархиста, каковым М.К. Дитерихс
предстает на страницах своих книг, политических завещаний,
выступлений эмигрантской поры и из трудов современных историков, было
и взвешенное решение генерала присягнуть Временному
Правительству. Мало того, генерал-лейтенантские погоны и должность генерал-
квартирмейстера Ставки он получил в сентябре 1917 г. от того же
демократического правительства фактически за... неучастие в корни-
ловском мятеже. В октябре во время ликвидации Ставки большевиком
Н.Г. Крыленко и расправы над последним Верховным главнокоман-
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
113
дующим Русской армии ген.-лейт. H.H. Духониным40 М.К. Дитерихс
укрывался во французской миссии Красного Креста41 (вот когда
пригодились генералу ордена союзной державы, полученные им на Сало-
никском фронте). В дальнейшем путь убежденного монархиста привел
его в Киев, где его судьба пересеклась с судьбой полупролетарского
Чехословацкого корпуса, стремившегося, напомним, всего лишь
вернуться на родину, а не приносить жертвы за восстановление русской
монархии.
На первых порах не стремился приносить эти жертвы и М.К.
Дитерихс. Если судить объективно, чехословаки были для генерала неплохим
эскортом в его пути за границу, в союзную Францию, где для кавалера
ордена Почетного Легиона, конечно, нашлось бы подобающее место в
рядах армии, или, на худой конец, Иностранного легиона.
Читая мемуары А.П. Будберга о периоде, когда М.К Дитерихс был
начальником штаба Чехословацкого корпуса и распоряжался в августе
1918 г. приемом иностранных войск во Владивостоке, трудно
однозначно толковать его ответ на жалобу по поводу грабежа чехами русских
складов. «И дальше будем поступать так же, - так передает ответ
генерала Будберг, - у нас ничего нет, и взять нам неоткуда; русского же нам
жалеть нечего» [43, С. 215]. Воспоминания ген. К.В. Сахарова, хорошо
знавшего Дитерихса, об их встрече в Челябинске осенью 1918 г. также
не наделяют личность Михаила Константиновича особой духоносно-
стью. Сахаров писал: «Генерал постарел, осунулся, не было в его глазах
прежней чистой твердости и уверенности» [25, С. 75]. Заметим, ни слова
о религиозности или духовной экзальтированности.
Не дышит патриотизмом и рыцарственностью ответ генерала на
предложение военного министра Уфимской Директории ген. В.Г. Болдырева
примкнуть к российским антибольшевистским силам. «За время нашего
совещания Дитерихс усиленно подчеркивал свою близость к чехам. Подчеркивание
это было настолько ярким, что вызвало даже мой невольный вопрос: считает
ли он себя русским генералом; на что Дитерихс ответил: «Я прежде всего
чешский доброволец», - вспоминал Болдырев [16, С. 57]. Впрочем, трудно
осуждать М.К. Дитерихса: эсеровская Директория, по сравнению с
основательно устроенным Чехословацким корпусом, за спиной которого стояли
40 Выражение «отправить в штаб Духонина» стало в годы Гражданской войны синонимом
слова «расстрелять».
41 Нельзя не отметить схожесть приемов спасения собственной жизни монархиста
М.К. Дитерихса и социал-демократа А.Ф. Керенского.
114 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
власти солидной, буржуазной Франции, очевидно, показалась ему дурно
поставленной «опереткой».
Директорию, однако, сменил Колчак. И тут Дитерихс оказался, надо
понимать, перед непростым выбором: эвакуироваться ли с социалистами-
чехами, оказавшись в роли безвестного генерала маленькой страны, с
перспективой оказаться не у дел, поскольку война в Европе уже к тому
времени закончилась, а бывшие заслуги, как известно, ценятся
недорого, или постараться занять, пользуясь солидным штабистским опытом,
достойное положение при «дворе» Верховного Правителя России.
В январе 1919 г. положение Колчака выглядело еще достаточно
прочным, и он мог показаться Дитерихсу человеком, за которым,
перефразируя Стивенсона, можно было уехать далеко. Выбор был сделан. Вот
тогда Михаилу Константиновичу и было поручено заниматься делом,
которое послужило, на наш взгляд, пусковым моментом кардинальной
перестройки его сознания, и привело впоследствии к формированию
глубоко религиозного мировоззрения.
Обстоятельства гибели царской семьи, к расследованию которых
М.К. Дитерихс приступил согласно предписанию Верховного
Правителя от 17 января 1919 г. действительно могли оказать на половину не
лишенной немецкой сентиментальности натуры Михаила
Константиновича сильное впечатление. Именно начиная с 1919 г. в мемуарах
начинают встречаться указания на «повышенную» религиозность и даже
мистицизм генерала. Весь этот затянувшийся биографический экскурс
понадобился нам для того, чтобы понять, насколько справедливо
связывать звучание религиозного пафоса в общественной речи «Колчаковии»
с появлением М.К. Дитерихса в качестве главнокомандующего армиями
Восточного фронта у Колчака в июле 1919 года.
В действительности отдельные фрагменты религиозного пафоса
встречались в военной риторике белых в Сибири еще в январе-феврале
1919 года. «Бог помощь вам, воины славной Сибирской армии! Бог в
помощь вам, борющимся за святое, правое дело! - читаем, например, в
воззвании «К солдатам» омского коменданта, выпущенном в этот период.
- ...Вас ждут замолкшие колокола оскверненных церквей. Пусть
радостным звоном встретят они вашу победу над злом и насилием. СМЕЛО
И ДРУЖНО ВПЕРЕД ЗА ВЕРУ И ЗЕМЛЮ РОДНУЮ!»42. В листовке,
изданной духовенством 4-ой Уфимской стрелковой генерала Корнилова
Листовка из коллекции Российской Национальной библиотеки, ФБЛ п-1/648.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
115
дивизии, обращавшимся к пастве со словами «дорогой брат стрелок»,
наряду с обычными проповедническими нравственными мотивами
звучали и призывы к борьбе за веру: «Веруй и ты, брат, в Бога, молись Ему и
призывай Заступницу всех к помощи. Склоняй небеса молитвами
своими. Будь Христолюбивым воином. Знай, что ты на правом пути, что ты
ведешь войну с врагами веры своей, с гонителями Церкви православной,
со страшными осквернителями святынь твоих, с людьми, гордо
вызвавшими самого Господа - Творца в бой, с людьми, некогда предавшими
Господа Христа за 30 сребреников, а теперь прельстивших наших братьев,
русских, большим жалованьем, с людьми, приверженцами
апокалипсического красного дракона - слугами Антихриста» (прил. 1.6).
Листовка эта, с выраженной боевой антисемитской направленностью,
проникнутая апокалипсическими настроениями, датируется маем 1919
г., т.е. временем наибольшего напряжения сил белых, в связи с их
«весенним наступлением». Наступление это,
как известно, не достигло решительных
результатов, зато обескровило43 белые армии,
что при ограниченности мобилизационной
базы сибирских армий имело в дальнейшем
для Белого дела на Востоке
катастрофические последствия. После оставления в июне
Перми и Кунгура, после потери в июле
Екатеринбурга белые оказались перед
серьезной проблемой: для продолжение борьбы на
фронте незамедлительно требовались
подкрепления. Решать эту проблему пришлось
М.К. Дитерихсу, назначенному 1 июля 1919
г. сначала главнокомандующим Восточным Рис. 7. М.К. Дитерихс
фронтом, а после челябинской катастрофы
возглавившему 30 июля штаб Ставки Верховного Правителя и
Верховного главнокомандующего.
Именно в это время мы видим как в военной риторике Михаила
Константиновича находит отражение религиозное перерождение его
личности. В приказе командующего Восточной группой армий № 5 от 15 июня
1919 г. встречаются следующие знаменательные строки: «Призываю
всех объединиться в борьбе против общего врага. НАПОМИНАЮ, ЧТО
43 Например, только Ижевская стрелковая бригада белых потеряла в боях с марта до
середины апреля 37 офицеров и 746 солдат.
116 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
МЫ ВЕДЕМ НЕ ПОЛИТИЧЕСКУЮ БОРЬБУ, А РЕЛИГИОЗНУЮ. Не
какие-либо политические платформы или кастовые, классовые начала
заставляют нас проливать кровь наших отцов, братьев и сыновей. Мы
боремся за поруганную и попранную веру наших отцов и дедов кучкою
пришлых людей, чуждых вере в Бога, не признающих религии и
соблазнивших наших братьев высокими словами свободы, а на деле создавших
палочное, полицейское рабство. Мы боремся за воссоздание Единой
Великой России могучей верой своих предков, и борьбу эту будем вести с
неослабной энергией» [29, С. 259-260]. Заметно, что пропаганда целей
борьбы в приказе звучит совершенно в унисон с приведенной выше
прокламацией духовенства Уфимской дивизии. Вдохновляющая часть
обрамляла официальную часть приказа, в которой требовалось провести
«в срочном порядке» принудительную мобилизацию в полосе действия
группы армий. На этом командующий, однако, не остановился.
Первая попытка «свести концы с концами», не прибегая к
принудительной мобилизации, которая только снабжала Красную армию
толпами превосходно одетых и обутых западными эмиссарами
военнопленных, была предпринята в приказе главковостока Дитерихса № 7 от 22
июля 1919 г., в котором предписывалось брать на службу граждан, не
подлежавших мобилизации, но выражавших желание сражаться с
большевиками. Этот благой пример приказ рекомендовал всячески
пропагандировать среди населения.
Мы уже видели в п. 1.3 как оживилась военно-политическая
пропаганда в «Колчаковии» в конце июля 1919 года. Апеллировала она в
основном к государственно-патриотическим чувствам народа, и
эффективность ее, чего не мог не видеть М.К. Дитерихс, была не слишком
высокой. Видимо, Михаил Константинович понимал, что омскую
«благородную» публику, которую так нелестно характеризовал А.П. Будберг,
никакими патриотическими воззваниями в окопы не загонишь.
Крестьянская масса, как показывал опыт Комуча и Директории, к
лозунгам борьбы за неведомую государственность, которая была так горазда
веками выжимать пот из земледельцев, вообще относилась достаточно
индифферентно, даже когда большевиков еще можно было клеймить
предателями Родины и германскими наймитами. Героический пафос
имел хождение в белой риторике только в уже сложившихся боевых
частях, костяк которых составляли офицерские подразделения. Из всего
сказанного следовал достаточно простой вывод: белый лидерам
оставалось попытаться воздействовать на войска и население ценностями
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
117
религиозного пафоса, который, напомним, преобладал в общественной
речи России в течение столетия, в надежде, что впитанная с молоком
матери религиозность людей не умерла вместе с отделением Церкви от
государства.
Однако возникает вопрос: кто являлся автором идеи придать белой
борьбе в августе 1919 г. характер крестового похода против
большевиков? И здесь мы вынуждены признать, что однозначного ответа на него
ожидать трудно. Нечто похожее, наверно, можно было наблюдать,
когда решался вопрос, кто был первым партизаном Отечественной войны.
Идея, что называется, «носилась в воздухе» и приписывать инициативу
формирования получивших широкую известность христианских
дружин Святого Креста и мусульманских отрядов Зеленого Знамени
одному М.К. Дитерихсу вряд ли будет правильно.
Начать с того, что эмблему в виде православного
восьмиконечного креста, исполненную из серебряного галуна (у офицеров, военных
врачей и подпрапорщиков) или белой тесьмы (у прочих чинов) носили
на левом рукаве бойцы добровольческих войск полк. П.Р. Бермондта
(Авалова), сформированного в начале 1919 г. немцами из русских
военнопленных и действовавшего на территории Прибалтики. Выбор
такого рода отличия мог быть вызван тем, что солдаты и офицеры корпуса
вынуждены были носить униформу германской армии. С крестоносным
движением безобразная погромная «оперетка» Бермондта не имел
абсолютно ничего общего; по воспоминаниям И.С. Коноплина-Горного,
западные «крестоносцы» «в кровавые дни, на распутице, потерялись и
ушли с верной дороги» [12, С. 178].
Четырехугольный равносторонний крест из белой тесьмы под
угловым шевроном русских «национальных» цветов, введенный приказом
командира корпуса полк. А.Ф. Дзерожинского 18 марта 1919 года,
можно было встретить и у чинов Северного корпуса Северо-Западной армии
ген. H.H. Юденича, [51, С. 28].
На Юге России, на съезде Союза русских национальных общин,
проходившем 14 июля 1919 г. генералами Н.С. Батюшиным и А.Д. Нечволодо-
вым высказывались идеи о необходимости формирования «специальных
частей», по выражению В.Ж. Цветкова, которые «под знаменем Святого
Животворящего Креста» должны были осуществить крестовый поход
против «захватившего Россию инородческого, противного Богу
интернационала». Эти идеи имели развитие: 24 августа на страницах издававшейся в
Екатеринодаре газеты «Станичник» было опубликовано заявление Союза
118 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
об организации «отряда особого назначения». Этот отряд должен был
именоваться «Легионом Святейшего Патриарха Тихона» и стать первой
боевой единицей в составе будущей «Гвардии Православной Руси» [193,
С. 24]. В качестве знака отличия легионеров предполагалось установить
ношение нагрудного креста черной эмали для нижних чинов и белой
эмали для командного состава. Проектировалось даже введение особых
воинских чинов по образцу принятому еще в... стрелецких полках.
Намерения эти, однако, не получили воплощения, поскольку
руководство Союза совершило непростительную в глазах нетерпимого к какой-
либо «самостийности» ген. Деникина ошибку, заявив о том, что «Гвардия
Православной Руси» помимо главнокомандующего ВСЮР одновременно
должна была подчиняться и своим «партийным» руководителям.
По воспоминаниям сразу двух участников Гражданской войны А.Г
Ефимова и H.A. Дорошина в Уральском казачьем войске еще весной-
осенью 1918 г. был известен старик-старообрядец казак Кабаев,
организовавший группу «крестоносцев» человек в 70, которые «бород не брили,
табака не курили и нехороших слов в разговорах не употребляли», для
борьбы с большевиками. Старик Кабаев, участвовавший еще в скобелев-
ских походах, разъезжал по войскам с медным восьмиконечным крестом
на груди и со старинной иконой Богоматери в руках, пел псалмы, учил
нравственности казацкую молодежь и нередко ходил с ней в атаку. «С
пением псалмов старики мчались в атаку на красных и увлекали за собой
казаков!» - так живописал подвиги первых известных нам
«крестоносцев» H.A. Дорошин. Советские же историки сотворили из этого факта
пропагандистский миф о том, что уральское командование вынуждено
было «бросать в бой наспех сколоченные войска - так называемые
«дружины Иисуса Христа», сформированные из стариков» [76, С. 360].
Более подробное и реалистичное описание старика Кабаева оставил
А.Г. Ефимов, сам несколько раз встречавшийся и беседовавший с ним.
В «крестоносце» не было ничего воинственного. «Его морщинистое
серое лицо, окаймленное тоже серой седой бородой, на первый взгляд не
представляло ничего особенного, и только серые глаза были интересны.
В них светилась бесконечная доброта, любовь и наивность, но в них не
было энергии и решительности вождя. И, глядя в эти глаза, я понял, что
только его доброта, любовь и вера заставляют казаков верить ему и идти
на смерть», - так передавал внешность первого русского «крестоносца»
автор, в годы Гражданской войны хорунжий Уральского казачьего
войска [25, С. 541].
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
119
Боевые подвиги Кабаева в изложении очевидца также выглядели
скромно и неброско. Много говорит приведенный Ефимовым рассказ
самого Кабаева об обстоятельствах его ранения во время наступления
на Уральск: «...около него убили казака и как он выругал красных - «у,
проклятые!» и сейчас же был ранен в ногу. Но он продолжал идти. Убило
другого казака около него, и ему стало страшно; как только
почувствовал он страх, так упал, раненый в другую ногу.
- Никогда не ругайся, сынок, и не бойся в бою, а иди с молитвою, и
Господь сохранит тебя, - закончил он свой рассказ» [там же, С. 543].
Очевидно, что Кабаев и его крестоносный отряд (если такой и
существовал на самом деле) лично не воевали; их деятельность
ограничивалась проповедничеством, в сущности, аналогичным функциям
войскового священства, о работе которого среди казаков-уральцев нет сведений.
Старики-«крестоносцы», таким образом, всего лишь заполняли пробел в
религиозно-нравственном воспитании казачества.
Как знать, не «агитацию» ли «крестоносцев» имел в виду М.В.
Фрунзе, когда писал в приказе по войскам Туркестанского фронта № 63 от
25 января 1920 г., что «четыре раза наступавшие на Уральск части 4-й
армии были вынуждены под влиянием агитации и, как следствия,
разложения некоторых войсковых частей, отходить от границы области» [114,
С. 187].
Вполне возможно, что о почине Кабаева и прочих «крестоносцев»
было известно и в Сибири, все же уральские казаки и сибиряки
составляли общий фронт борьбы с большевизмом. Однако в Сибири было то,
чего не было у казаков, и без чего одиночный пример
подвижнического военно-духовного служения был обречен быть достоянием народной
молвы, восхищения, даже поклонения, но не подражания и массового
практического использования. В Сибири была стройная организация
церковной приходской жизни, возглавляемая к тому же очень
энергичными архиереями Русской Православной церкви. Пример одного из
таких церковных деятелей приводил ген. К.В. Сахаров.
«Архиепископ А. еще до мировой войны... выполнял большую работу
по организации церковных приходов в своей епархии... И достиг многого.
Он сумел сплотить около церкви людей разных положений, взглядов и
даже политических убеждений своей проповедью истинной любви,
своей неуклонной работой против ненависти. Он вызвал к жизни и
деятельности лучшие силы в массах своей паствы. Отчасти потому-то так
могуче и полно местные крестьяне откликнулись на борьбу за возрождение
120 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
России, оттого-то так разумны и сдержаны были рабочие всех заводов
этого района и всего города. Влияние святителя А. распространилось
даже на мусульман, на татарское и башкирское население; муллы шли
к нему за советом и проводили в своих селах его организацию - приход
около мечети» [25, С. 206].
Речь в воспоминаниях Сахарова, судя по всему, идет о
преосвященном Анатолии (Каменском) в течение ряда лет (1914-1919), бывшем
епископом Томским и Алтайским. В 1923 г. (год выхода книги Сахарова)
владыка стал архиепископом Иркутским, о чем генерал, конечно, мог
знать, но, чтобы не бросать тень на остававшегося на советской
территории архиерея, предпочел немудреным образом зашифровать его имя.
В пользу этой версии говорит и факт присутствия владыки Анатолия на
Поместном Соборе 1918г., где как раз обсуждались вопросы оживления
приходской жизни, принимались решения, направленные на то, чтобы
сделать приходы основными ячейками, в которых сосредоточивалась бы
общественно-политическая жизнь в стране. В интервью «идейного
вождя» крестоносного движения в Сибири проф. Д.В. Болдырева газете
«Русское дело» (№7 от 12 октября 1919 г.) отмечалось, что владыка
стоял «во главе религиозного движения» в Томске и Новониколаевске44 [29,
С. 333].
Менее вероятно, что ген. Сахаров имел в виду епископа Уфимского
Андрея (князя Ухтомского), который также принимал активное участие
в антибольшевистской борьбе на территории Сибири. В пределах
епархии владыки Андрея действительно проживала масса татар и башкир, и
при Колчаке он проявил себя ярым антикоммунистом и даже входил в
состав руководства ВВЦУ,45 однако после поражения белых не признал
власть Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Сергия
(Страгородского) и перешел (по некоторым сведениям) к
старообрядцам, в связи с чем так и остался до конца жизни епископом. Впрочем,
идеи епископа Андрея, очевидно, имели влияние на адмирала и М.К. Ди-
терихса. В послании (23 августа 1919 г.) владыки на имя последнего
читаем: «Нужно научиться свято жить, чтобы уметь свято умирать. Нам,
православным русским патриотам, нужно столковаться, как устраивать
свою дальнейшую жизнь, чтобы она была сколько-нибудь похожа на
христианскую» [29, С. 321]. В предложении еп. Андрея собрать «обще-
Ныне Новосибирск.
Временное Высшее церковное управление.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
121
патриотический съезд православных приходских деятелей» нетрудно
заметить ростки мысли о созыве Земского Собора, ставшего впоследствии
любимой идеей М.К. Дитерихса, осуществить которую ему удалось,
однако, только в 1922 году.
Существуют, таким образом, совершенно определенные указания на
то, что оба архиерея активно участвовали в антибольшевистском
движении в Сибири. Об этом свидетельствовал и К.В. Сахаров. С началом
Гражданской войны на востоке России «...архиепископ А. весь
обратился в порыв и еще больше отдался своей высокой миссии. Его идея была
простая и великая... Он говорил: «Чем сильны большевики, чем они
держатся? Во-первых, твердая, ни перед чем не останавливающаяся власть.
Во-вторых, и это главное, они сумели организовать всюду, в городах и
селах, худшие, самые преступные элементы народа. Масса же, всегда
инертная и неорганизованная, идет в поводу этих разных советов
комитетов бедноты. Раз мы собираемся строить разрушенную жизнь, нам
необходимо идти тем же путем, но надо организовать народ у другого
полюса, вокруг лучших людей каждого села и города, вокруг самых
честных, нравственных и трудолюбивых. И ходить далеко не надо; таких
русских людей много, всюду они есть, в каждом церковном приходе. Дайте
только возможность» [25, С. 207].
Именно сплоченные угрозой оказаться под властью большевиков-
богоборцев церковные приходы и стали базой для формирования
«крестоносного» воинства в Сибири. Характерно, что все немногочисленные
документы, дошедшие до наших дней, рисующие картину организации
народного ополчения, подписаны священно- и церковнослужителями, а
также немногими мирянами, очевидно членами приходских советов. Так,
например, в «Иркутской летописи» читаем: «4 сентября46 1919 г. В
Преображенской церкви состоялось собрание членов Союза православных
христиан, обсудившее вопрос о помощи колчаковским воинам на
фронте и в тылу. Председателем союза избран епископ Зосима» [74, С. 381].
Запись, датированная 16 октября, гласит: «В Михайло-Архангельской
церкви под председательством протоиерея о. М. Фивейского
состоялось общее собрание членов Союзов приходов, обсудившее вопросы
формирования добровольческих отрядов Святого Креста для борьбы с
большевиками и создания питательных пунктов для больных солдат кол-
чаковской армии» [там же, С. 383]. На состоявшемся 4 декабря 1919 г.
Даты в летописи приведены по новому стилю.
122 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
собрании общественных организаций Иркутска - «приходских советов
Союза православных христиан, Братства им. свт. Иннокентия,
родительских комитетов, Торгово-промышленного союза, Партии народной
свободы, Союза домовладельцев и других организаций» - религиозные
организации играли, надо понимать, первую скрипку, поскольку
«собрание открыл председатель Союза приходов М.М. Стразов, призвавший
объединиться в Союз защиты веры и спасения Отечества против
большевиков» [там же, С. 385].
Омские газеты, выходившие в августе-сентябре 1919 г., были
буквально переполнены материалами, посвященными организации
добровольческого движения в Сибири. Из наиболее экстравагантных надо
выделить сообщение «Нашей газеты» от 6 сентября 1919 г. о
предполагавшемся решении сибирских мусульман 7 сентября во время
празднования праздника Курбан-Байрам объявить большевикам газават.
Таким образом, документы военной власти, исходившие, в основном,
от наштаверха М.К Дитерихса, только облекали, так сказать, в
законную форму народную инициативу. Об этом косвенно свидетельствовал
он сам в распространенной 1 сентября 1919 г. в виде листовки
телеграмме № 145, в которой говорилось: «В связи с отходом наших войск с
Урала среди многих слоев беженцев и населения Сибири загорелся сильным
пламенем лозунг - идти в ряды армии на защиту веры и земли. К
ВЕРХОВНОМУ ПРАВИТЕЛЮ И ВЕРХОВНОМУ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ стали поступать многочисленные заявления земских,
городских, беженских, приходских, христианских,
мусульманских и старообрядческих организаций (выделено нами. - авт.) о
желательности широко поставить дело организации добровольческих
дружин для оказания немедленной помощи и поддержки нашим войскам на
фронте. Идя навстречу вылившемуся подъему патриотических чувств,
ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ И ВЕРХОВНЫЙ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ принимает на себя особое покровительство над делом
формирования добровольческих дружин,., с привлечением к работе и упомянутых
выше организаций»47
Несколько раньше, в августе 1919 г. появилось утвержденное
начальником штаба Ставки Верховного главнокомандующего (а с конца
июля одновременно и военным министром) ген. М.К. Дитерихсом
оригинальное Положение о дружинах Святого Креста.
Листовка из коллекции Российской Национальной библиотеки, ФБЛ п-7/94.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
123
«1. Дружина Святого Креста есть воинская добровольческая часть,
рота, батальон, борющаяся с большевиками, как с
богоотступниками (выделено нами. - авт.), за веру и родину.
2. Каждый вступающий в дружину Святого Креста, кроме обычной
присяги, дает перед Крестом и Евангелием обет верности Христу и друг
другу, и в знак служения делу Христову, налагает поверх платья
восьмиконечный крест.
Примечание. Крест носится только в строю.
3. Подчиняясь обычной воинской дисциплине, дружина Святого
Креста, кроме того, следует особым правилам, исключающим пьянство,
нечестивость, сквернословие, распущенность, притеснение мирных
жителей и так далее.
4. Нарушающие обет и правила подвергаются, кроме обычных
дисциплинарных взысканий, исключению из дружин Св. Креста, а в особо
тяжких случаях и отлучению от церкви, как предатели дела Христова.
5. Каждая дружина Св. Креста, будучи воинской частью, есть в то же
время и религиозное братство, имеющее своего Небесного Покровителя,
имя которого носит (например, дружина Св. Гермогена, Св. Александра
Невского, Св. Сергия Радонежского и так далее) и свои особые правила или
братский устав, а все дружинники образуют единое братство Св. Креста.
6. Все дружинники именуются братьями.
Примечание 1. При обращении солдат к офицерам допустимо слово
«брат» присоединять к чину, например, «брат поручик», «брат капитан»
и так далее. Примечание 2. Женщины, несущие службу при дружинах
Св. Креста, именуются «сестрами».
7. При соблюдении всей строгости воинской дисциплины между
командным составом и солдатами дружины Св. Креста устанавливается на
время похода полное равенство в пище, в удобстве, средствах
передвижения и так далее.
8. В дружину Св. Креста могут поступать лица всех христианских
исповеданий.
Примечание. При дружинах Св. Креста могут существовать и
нехристианские отряды (например, мусульмане), сражающиеся за веру в
единого Бога, подчиняющиеся своим уставам.
9. Дружины Св. Креста могут быть всех родов оружия, а равно могут
быть соединяемы в более крупные части (дивизии, корпуса).
10. В случае недостаточной численности для образования
самостоятельной части (полка, дивизии и так далее), дружины Святого Креста
124 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
входят в состав других действующих полков, предпочтительно
добровольческих, в виде отдельных рот или отдельных батальонов, но никоим
образом не распределяются между ротами полка»48.
Документ свидетельствует об исключительной для Европейской
России попытке создании войсковых частей антибольшевистской
направленности, использовавших чисто средневековый принцип борьбы
с противниками, как с врагами веры. Положение устанавливало
принципы организации дружин Св. Креста, в сущности, по образцу
рыцарских орденов, или, по крайней мере, ополчений времен Крестовых
походов, особенно это относится к пункту, предусматривавшему отлучение
от церкви за трусость и пороки. Всеобщее равенство членов дружин в
бытовых условиях также напоминает монашеский устав.
«Преимуществом» пользовались только при вступлении в дружины священно- и
церковнослужители. Устав братства св. Гермогена, например, допускал
прием мирян в общество и крестовую дружину по ходатайству не менее
двух членов общества.
Несмотря на принятую Положением подчеркнуто невоенную форму
обращения к начальнику (применялась она дружинниками или нет,
подлинно неизвестно), дружины Св. Креста сражались на фронте храбро,
хоть, по условиям обстановки и бросались в бой практически без
всякого предварительного обучения военному делу. Любопытно, что эта
форма обращения, возможно, и не была изобретена религиозным
сознанием автора Положения, а просто скопирована с принятой формы в
чехословацких частях ген. Р. Гайды. Да и вообще взываниями к братским
чувствам русского народа, призывами прекратить проливать братскую
кровь были переполнены все белые прокламации того времени.
К службе в дружинах привлекались помимо православных
христиан Московского Патриархата и старообрядцы, которых в Сибири было
немало. Воззвания, призывавшие их под крестоносные хоругви,
отличались особой обстоятельностью, регламентируя не только общий порядок
записи в дружины, но и обязанности членов старообрядческой общины,
по обеспечению семей уходящих сражаться воинов-крестоносцев. В
духе евангельской проповеди братской любви и нестяжательности
прижимистым кержакам рекомендовалось не жалеть «никакого богатства,
которое все равно истлеет и погибнет».
«...Братья-старообрядцы!
Листовка из коллекции Российской Национальной библиотеки, ФБЛ п-3/138.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
125
Вы - искренно и горячо верующие люди. Вы - пламенные патриоты,
неизменно преданные своему родному отечеству. Об этом ярко
свидетельствует вся многострадальная история старообрядчества.
Наши братья сражаются в армиях Деникина и Юденича, в армиях
Севера и Сибири. За нас отдают они свою жизнь, умирают на кровавых
полях брани. За святую веру нашу - поруганную и оскверненную, за
истерзанную Мать нашу - Родину ведут они с большевиками героическую
и священную войну.
Война эта — воистину священна (выделено нами. - авт.): ибо она
ведется за самое дорогое и святое для человека - за его богоподобную
душу, за религию, за Церковь, за святыни. Все до одного мы должны
идти на эту войну. По почину омских старообрядцев начали
организовываться добровольческие Крестоносные дружины. Братья-старообрядцы!
Записывайтесь в эти дружины! Покажите свою силу богоотступникам-
большевикам; докажите свою любовь к своей Родине, к своим братьям,
насилуемым и убиваемым большевиками.
Наш Христос говорит: «Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих» (Ин. XV, 13), «И не бойтесь убивающих
тело, души же не могущих убить» (Мф, X, 28). Смерть не страшна в этой
защите измученной Родины. Здесь она славный и святой подвиг!
Идите же, братья, все до одного на это священное и великое дело, -
все, кто может быть хотя чем-нибудь полезным в защите родины. С нами
Бог! Разумейте это большевики и исчезните, как исчезает дым перед
светом!»49
Воззвание выдержано в жанре средневековой военной проповеди,
призывавшей к «священной» войне против неверных с ее обилием
реминисценций к евангельским и апостольским текстам (см. «Военная
риторика Средневековья»). Особенно ярок последний лозунг-призыв,
перефразирующий песнопение из Великого повечерия, являющее собой
стих «Разумейте языцы и покаряйтеся, яко с нами Бог!» из пророчества
пророка Исайи о пришествии Мессии с припевом «Яко с нами Бог».
Продолжение взято из псалма: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его,
и да бежат от лица Его ненавидящий Его. Яко исчезает дым, да исчезнут;
яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия
(Пс. 67, 1-2). Эти же стихи псалма поются на Пасхальной службе,
перемежаемые тропарем Пасхи, и входят в молитву Честному Кресту.
Листовка из коллекции Российской Национальной библиотеки, ФБЛ п-1/90.
126 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
К сожалению, вера в XX веке не заменяла оснащенность, обучен-
ность и боевую слаженность подразделений. Поэтому серьезных
сведений о боевых успехах «крестоносцев» мы не имеем. Скорее всего,
большая часть из них оседала в разнообразных тыловых и гарнизонных
командах, способствуя высвобождению войск для фронта. По крайней
мере, в книге Б.Б. Филимонова, подробно описывавшего состав и
боевые качества колчаковской армии, а также приводившего интересные
факты о боевом пути частей, о крестоносных дружинах нет ни единого
упоминания. Командир 26-й советской дивизии Г.Х Эйхе, воевавший на
колчаковском фронте, вообще считал, что «формированием их
преследовались агитационные и политические цели» [203, С. 20].
Тем не менее, воодушевление, охватившее сибирское население
после начала массовой пропагандистской кампании, очевидным образом
сказалось на результатах последнего наступления белых на Востоке,
так называемой Тобольской операции, результатом которой стал отвод
войск красной 5-й армии за реку Тобол. Часто и порой ядовито
цитируемый знаменитый приказ № 87 от 10 сентября 1919 г. М.К. Дитерихса так
отзывался на это событие.
«Войска фронта! Вместе со мной каждый по своей вере сотворите
благодарственную молитву Богу, Сыну Его Христу и Пророку Магомету
за дарованную победу... Я ждал, что наступление доблестных частей 3-й
армии увенчается успехом. Третья армия - это воплощение единой
Великой России. В ее рядах объединены части самых различных областей
России, народы разных окраин, представители разных профессий... В ее
рядах офицерские организации Европейской России и рабочие
батальоны бессмертных ижевцев. В ней бок о бок, как братья по духу, дерутся и
православный, и старообрядец, и мусульманин, и католик. Все слились
в единое тело армии, и результат - победа. Низкий поклон всем, воины
нашей родины, воины сильной 3-й армии. Первый шаг, великий шаг к
окончательной победе над антихристом - большевиком сделан. Веруйте
в Бога, веруйте в себя. Держитесь друг друга, любите младших и
слушайтесь старших. И полная победа будет обеспечена. Смело, сплоченно
вперед за веру и землю родную!» [29, С. 267].
Приказ, что и говорить, производит двойственное впечатление, чем-
то напоминая исступленный июльский призыв Верховного Правителя
«Солдаты и крестьяне! Всех вас зову я на общее дело...» (см. п. 1.3).
Все-таки сказывалась, видимо, что Михаил Константинович, по отзыву
Сахарова, работал «на износ», всю штабную работу предпочитая делать
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
127
сам, не передоверяя дела помощникам. Первой очевидной странностью
является соединение в одном страстном призыве имен Божиих и
признание пророческого служения основателя религии, чью веру византийцы
и вслед за ними Русская Православная Церковь издревле именовала не
иначе как «агарянским зловерием». Нельзя не признать, что призыв
отдает своего рода религиозным интернационалом. Но чего только нельзя
было услышать из уст военачальников времен Гражданской войны!
Приказ № 91 Дитерихса от того же 10 сентября 1919 г., например, разрешал
священнослужителям не присутствовать при расстрелах «коммунистов-
большевиков», впрочем, изъявившим такое желание - не
препятствовал. Выраженное ожидание успеха от действий армии - вторая
странность; военачальник все-таки не пророк и не должен позиционировать
себя с этой стороны: это как бы умаляет боевые заслуги войск.
Заключительные призывы явно перефразируют евангельские слова:
«Веруйте в Бога, и в меня веруйте» (Ин. 14, 1) и «Заповедь новую даю
вам, да любите друг друга» (Ин. 13, 34). Подобная перелицовка
священных текстов никогда не практиковалась ни в Византии, ни на Руси,
всегда использовавших слова Спасителя и апостольских посланий в точном
цитировании. Гибельная трансформация человеческих чувств и
понятий в братоубийственной резне, к сожалению, коснулась и понимания
духовности. Искажение священных текстов, низведение их до уровня
логоэпистемоидов (в терминах В.Г. Костомарова и Н.Д. Бурвиковой)
также следует отнести к новоизобретениям религиозного пафоса
образца Гражданской войны.
Наконец, как видно из текста приказа, желание класть низкие
поклоны войскам было свойственно не одному пожилому ген. М.В. Алексееву;
это, судя по всему, надо отнести к должности начальников штабов
Верховных главнокомандующих русской армии.
Говоря об истории крестоносного движения в Сибири, нельзя
обойти вниманием сказку, пущенную гулять по страничкам современных
информационных ресурсов, с легкой руки советских историков И.Д.
Этлингера и О.В. Золотарева. Мы имеем в виду миф о существовании
в рядах колчаковской армии добровольческих формирований, в
которые входили «старообрядческие дружины Святого Креста, 333-й имени
Марии Магдалины полк, наконец «Святая бригада», состоящая из трех
полков «Иисуса Христа», «Богородицы» и «Николая Чудотворца» [69,
4.2, С. 102-103]. Приводя в своих трудах эти данные, О.В. Золотарев
повторяет бред некоего «политрабочего» СИ. Зюзина, выпустившего в
128 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
стенах Военно-политической академии им. В.И. Ленина книжонку
«Деятельность Коммунистической партии по атеистическому воспитанию
воинов Красной Армии в период борьбы за победу социализма в СССР
(1918-1937 гг.)», на закате маразматических лет брежневского застоя, в
1980 году.
Абсурдность этих изысканий перекрывает только сообщение «с
мест», помещенное в разделе «Под флагом религии» №№ 6-8 журнала
«Революция и религия» за 1919 г., что «Колчак в свое время формировал
на восточном фронте так называемые Иисусовы полки, наряжая своих
солдат в священнические облачения и пуская их с кадилами в руках на
первую линию наступающих войск» [134, С. 96].
Если принять во внимание грубый, наглый, откровенно циничный
тон публикации, отличающий, кстати, все советские агитки
атеистического содержания, то становится совершенно ясным, что мы имеем дело
с пропагандистским материалом, который по закону своего жанра вовсе
не может (и не обязан) претендовать на достоверность.
Сообщения с мест об «Иисусовых полках» исходили, надо понимать, от
известного впоследствии чешского борзописца Я. Гашека, возглавлявшего
в политотделе 5-й армии интернациональное отделение. То, что в конце
своей хамской «юморески» «Дневник попа Малюты из полка Иисуса Христа»
автор приписал «материал взят из подлинника» не дает оснований считать
его творение историческим источником. С таким же успехом можно
разыскивать сослуживцев «бравого солдата» Швейка. В частности, «дневник»
начинается с марта, т.е. со времени, когда в белой пропаганде только-только
начали звучать религиозные мотивы и заканчивается июлем 1919 г., когда
дружины Св. Креста еще и не начали формироваться. То, что заметка была
опубликована в августовском номере журнала, говорит об исключительной
оперативности красной пропаганды - и только.
«Воевать» с большевиками посредством крестных ходов,
состоящими из настоящего духовенства, но отнюдь не из ряженых, предлагал в
1920 г., снискавший на Юге широкую известность своей
проповеднической деятельностью прот. о. В. Востоков. У Врангеля его идея,
естественно, не встретила понимания.
Пропагандисты из журнала «Революция и религия», кстати, не
обошли вниманием «крестоносное движение» на Юге России.
«За неимением солдат и для придания своему нашествию
значения «крестового похода» (выделено нами. - авт.), - читаем в
заметке под названием «И небесные силы не помогли», - Деникин в свою
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
129
армию призвал попов, диаконов и даже церковных сторожей. В тылу
Деникина под Ставрополем была набрана особая дружина, состоявшая из
700 попов» [134, С. 96].
Из заметки следует, что солдаты, т.е. народу за буржуев воевать не
хотели. Чтобы ошельмовать движение простых верующих людей
необходимо было показать, что под крестоносными знаменами воюют те, кто
использовал «опиум народа» в личных корыстных целях и всеми силами
стремился вместе с помещиками и капиталистами не дать «прозревшему
народу» шествовать к заре новой жизни - вот для чего красным
агитаторам потребовалось сочинять басню про воюющее в рядах белых
духовенство.
На этих пропагандистских материалах, судя по всему, основывались
«воспоминания» бывшего конармейского комиссара СМ. Кривошеина,
литературно обработанные И.Л. Френкелем в 1975 году. В этой
повести героические красные кавалеристы в конце мая 1919 г. на деникин-
ском фронте воевали уже с целой «святой дивизией», набранной из все
тех же «священников, дьячков, монахов и всяких старост, ктиторов».
Авторы рисуют прямо-таки устрашающие образы: «В «святой дивизии»
попы подобрались один к одному, каждый ростом в три аршина, в плечах
- косая сажень. В люстриновых рясах до пят, в клобуках они казались
непомерно большими» [100, С. 47].
Красочное описание атаки «святой дивизии» практически повторяет
аналогичное описание в журнале «Революция и религия», приведенное
выше, относящееся, правда, к колчаковскому фронту: «В каждой цепи
было по нескольку хоругвей и больших серебряных (!) крестов, ярко
сверкавших на солнце. Над цепями висел кадильный дым, трещали
барабаны (!), заглушая их (!), звучала распеваемая неистовыми пьяными
голосами молитва «Спаси, господи, люди твоя». Крепчайшая матерная
ругань... смешались с молитвой в жуткую какофонию» [там же, С. 49].
В этой жуткой какофонии образов фантазии И.Л. Френкеля
нашлось место и огромным баулам, которые таскали на себе «попы», не
снимая их, если верить автору, даже на ночь. Естественно, что в баулах
находилось все самое необходимое для демонизации образа классового
врага: «женские платки, рубашки, вышитые рушники, детские
платьица». И, конечно, «рубали» безжалостно красные бойцы
«христолюбивое воинство полка господа бога Иисуса Христа» [там же]. Согласно
законам жанра советской мифологии в этом бою непременно должны
были сойтись молодой сознательный красный конник и его замшелый
130 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
мракобес-отец. Они и сошлись, в результате чего советская
литература пополнилась еще одним прототипом Павлика Морозова.
«Воинствующая» церковь мерещилась воинствующим безбожникам
буквально с первых шагов народного сопротивления. Вклад в
распространение легенды вносили позже и некоторые советские писатели-
«историки», не гнушаясь даже открытой фальсификацией фактов. Так, в
сборнике М.А. Гнутова «1918 год на родине Ленина» приводилась
цитата из газеты «Правда» от 15 августа 1918 г., упоминавшая, что «особенно
упорный бой пришлось выдержать за село Тетюшское. Здесь противник
бросил в бой офицерский георгиевский батальон, добровольческую роту
«Святая чаша», во главе которой шел поп с крестом и роту «народной
армии» [32, С. 102].
На самом деле заметка «Геройство красных артиллеристов»,
помещенная в упомянутом номере (№ 172) газеты, содержала следующую
информацию: «Инза. В ночь на 8 августа на первый (!) фланг дивизии,
оперирующей против Симбирска, на село Тетюши напал георгиевский
офицерский батальон белых. Бой длился до 11час. дня 8 августа...
Противник понес большие потери. Среди убитых восемь офицеров...».
Как видим, никого упоминания о мифической роте «Святая чаша»;
бой за село Тетюши (а не Тетюшское) велся реально существовавшим
подразделением белых - Георгиевским батальоном. Купюры
приведенного нами текста заметки касаются только описания подвигов красных
артиллеристов и перечисления трофеев.
Советский историк Гражданской войны Н.Е. Какурин, повествуя
о боях с Народной армией Комуча, приводит самое, пожалуй, раннее
«свидетельство» об участии в боях православного духовенства.
«Упорство в борьбе проявляли только белогвардейцы, черносотенцы,
кулаки. Иногда они даже составляли особые отряды, причем даже попы,
злобствуя на советскую власть, лишавшую их доходов,
образовывали собственные отряды для борьбы с нею. Появились особые
поповские полки имени Иисуса, богоматери и т.д. Но, конечно, одним
кулацко-черносотенным отрядам было не под силу задержать
напор красных армий (выделено нами. - авт.)... в сентябре 1918
года...» [81, С. 31].
Если учесть, что эта информация сопровождалась развернутым
антирелигиозным комментарием, о том, что такое есть «Гроб и Крест
Господень», выдержанным в таком же грубом, глумливом тоне, что и
публикация из журнала «Революция и религия», становится понятно, что перед
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
131
нами типичный случай пропаганды, имевший целью сузить социальную
базу контрреволюционного движения и унизить цели его борьбы.
Возможно и другое объяснение. Масштабы истребления советской
властью в годы Гражданской войны священно- и церковнослужителей
настоятельно требовали пропагандистского «оформления» его
обоснованности и «законности». Такой пропагандистской базой мог стать усиленно
тиражируемый миф об участии духовенства в боях на стороне белых.
Итак, золотаревские «специальные боевые формирования из числа
духовенства» на поверку оказываются обыкновенными воинскими
формированиями численностью от роты до батальона. Они возглавлялись
строевыми офицерами50 и вливались, согласно Положению о дружинах
Св. Креста и приказу ген. Сахарова от 14 ноября 1919 г. в фронтовые
войсковые части. После присоединения дружины или добровольческого
баталь она полк получал право добавить к своему номеру и названию
наименование «Добровольческий», но никак не те святые имена,
которыми уверенно оперируют некоторые псевдоисторики.
Историческая ересь, однако, как показывает практика, заразительна,
особенно в обществе с искаженным в результате десятилетий
атеистического воспитания пониманием духовности. И вот уже появляются
«реконструкции» внешнего облика «крестоносцев», принадлежащие
уважаемому художнику А. Каращуку, на которых бравые воины с внешностью
васнецовского Добрыни Никитича предстают с шифровкой славянской
вязью «ИС ХС» на погонах. При этом абсолютно игнорируется факт того,
что в колчаковской армии нумерация войсковых частей вообще не
поднималась выше цифры 80, а соединения и части в старой русской армии
имели 2-х - 4-х звенную структуру, в отличие от принятой в Советской
Армии 3-х звенной.
Не стоит забывать, что само имя Божие, равно как и его изображение,
является в христианстве святыней51 и допускает его нанесение только
на освященные предметы (храмы, элементы церковного облачения,
кресты, иконы, просфоры и т.п.), к числу которых погоны военнослужащих
50 «Иркутская летопись» приводит данные об офицерском составе, сформированной в
городе дружины: «В течение октября-ноября 1919 г. была сформирована добровольная
дружина и ее командный состав: командир - подполковник фон-Франк, его помощник - капитан
Зуев, начальник хозчасти - капитан Образцов. Делопроизводители - штабс-капитан Обрам
и поручик Гзовский, адъютант - чиновник военного ведомства Кузьминец, командир роты -
подпоручик Морганов и младший офицер - подпоручик Пастухов» [117, С. 719].
51 В русском афонском монашестве в начале XX в. было даже распространено движение
т.н. «имябожников», утверждавших, что Имя Божие есть Сам Бог.
132 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
никоим образом отнесены быть не могут. Присваивать себе в качестве
эмблем имена членов Святого семейства не дерзали, как известно, даже
духовно-рыцарские ордена. Говорить здесь о том, что
священнослужитель, проливший кровь, по церковным уставам подлежал извержению из
сана, и вовсе, на наш взгляд, излишне.
Дух русских крестоносцев, как показывает текст присяги членов
дружин Святого Креста, был прост и не имел ничего общего с религиозным
изуверством, приписываемым им потомками. «Я, брат дружины Святого
Креста, обязуюсь и клянусь перед Святым Крестом и Евангелием быть
верным Господу Христу, Святой Церкви и друг другу, быть трезвым,
честным, совершенно не произносить бранных слов (выделено
нами, -авт.), не быть жестоким с врагом, к своим всей душой братора-
сположенным. Аминь» [29, С. 331].
К сожалению, большинство материалов по истории крестоносного
движения в России XX в. относятся к газетным и журнальным публикациям.
Можно поэтому констатировать, что эта страница истории Гражданской
войны еще ждет внимательного и заинтересованного исследователя.
Последний и самый яркий всплеск белой борьбы под знаком
религиозного пафоса в военной риторике наблюдался в сентябре-октябре 1922
г. в Приморье. Этот период неразрывно связан с именем М.К. Дитерих-
са, вызванного Приамурским временным правительством из Харбина,
где он проживал после отставки с поста наштаверха Колчака, в связи с
острыми разногласиями с адмиралом по поводу целесообразности и
возможности обороны Омска после провала планов Тобольской операции.
Выбранный 8 августа 1922 г. Земским Собором правителем
Приамурского земского края М.К. Дитерихс в тот же день своим приказом
№ 138 переименовал вооруженные силы Приморья в Земскую Рать, а
себя, соответственно, объявил воеводой Земской Рати. Шаг, этот, надо
признать, был с одной стороны глубоко символичен, а с другой -
продолжал традицию обращения к историческим истокам, характерную для
последнего царствования, заложенную еще на торжествах по случаю
300-летия Дома Романовых.
Для Дитерихса возвращение к религиозным и монархическим
устоям было своеобразным актом покаяния русского народа, попадавшего
после свержения самодержавия, под так называемую клятву Собора
1613 г., зафиксировавшего в своих решениях верность призванному на
царство дому Романовых за себя и за своих потомков. Без покаяния же,
по его мысли, не могло быть и возрождения. Уже в своем докладе сразу
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
133
после избрания правителем Михаил Константинович заявил: «...заслуга
Земского Собора, самая громадная, удовлетворившая меня в страшных
размерах и дающая мне колоссальнейшую веру в то что, безусловно, это
есть начало нашего возрождения сейчас, заключается в том, что начало
возрождения нашей религиозной идеологии Земский Собор разрешил
смело, открыто, во всеуслышание» [29, С. 395]. Меры по религиозному
возрождению проводились приморскими государственными мужами с
твердостью неофитов: лица, не исповедовавшие никакой религиозной
веры, подлежали высылке на территорию сопредельной
Дальневосточной республики (ДВР).
Оживилась и деятельность церковных приходов. На заседании Земской
Думы 14 августа 1922 г. прозвучали весьма трезвые слова: «В нашем
распоряжении имеются сейчас только две силы - вера и народ, из коих последняя
пока в очень малом количестве. Поэтому мы всемерно должны опереться на
веру. Ее необходимо положить в фундамент всей государственной и
общественной жизни. Для практического выполнения этой задачи необходимо
скорейшее создание церковного прихода» [там же, С. 420].
Однако времени Приамурскому государственному объединению
историей было отпущено немного. Сложные коллизии международной
политики привели к постепенной эвакуации с территории Приморья
последних остатков некогда многочисленных интервентов, надеждой на
которых только и держалась белая государственность. В этой связи
активизировались боевые действия на фронте между войсками Народно-
революционной армии ДВР и силами Земской Рати. Одни из последних
приказов воеводы Дитерихса, отданный им 22 августа, гласил: «...Воины!
Настал час, когда Богу стало угодно поставить нас снова перед лицом
изуверов советской власти... Нет и не может быть в наших сердцах
вражды и мести народу несчастной и истерзанной советской России: он
- наша плоть от плоти и кровь от крови. Мы боремся не с ним, мы не
завоевываем его, мы не хотим усугублять ему зла и той ужасной доли,
в которые его повергли наемные и кровожадные рабы Ленина и
Бронштейна - этих сынов Лжи и антихристовых приспешников. Мы боремся
за попранную большевиками веру Христову, за право крестьянина быть
хозяином своей земли, за право рабочего быть хозяином своего труда, за
право каждого гражданина быть хозяином своей семьи и своего
достояния, за право всего народа по его вере, по его совести самому избрать
себе Верховного хозяина земли русской, как делали это наши деды,
наши предки, и вернуться к миру, покою, благосостоянию народному,
134 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
освященными горячей и глубокой верой, что едина всему воля на земле
- это воля Всевышнего Творца.
Воины Земской рати! Зовите к себе красноармейцев, зовите
партизан, зовите каждого несчастного сына истерзанной земли русской, но
гоните прочь комиссаров, воров, коммунистов и всякую нечисть,
подвизающуюся в органах советской власти и вместе с нею угнетающих
русский народ. Никому, кто верит в Бога, не чините зла и не творите мести.
Не обижайте населения, не трогайте чужого имущества, не грабьте, не
буйствуйте и не пьянствуйте. Помните, что вы прежде всего Христовы
воины, сыны Христовой России, и во имя Святой Родины имейте
твердость спокойно умирать с непоколебимой верой, что нет больше любви к
Родине: да кто душу свою положит за братьев своих» [140, С. 550].
Приказ представляет собой любопытное сочетание «полтавской»
речи Петра I («Воины! Вот пришел час, который решит судьбу
Отечества...») и... напутствия халифа Абу Бекра своему полководцу Абу Су-
фьяну, отправлявшемуся завоевывать Сирию в 633 году.52 Промежуток
между ними заполняет пропагандистское «увещевание», настолько
обычное для риторики практически всех белых лидеров, что кажется
списанным с прокламаций барона Врангеля.
Белое движение в Приморье, основанное на религиозных и
монархических принципах, было, конечно, обречено. Это было настолько
очевидно, что вел. князь Николай Николаевич даже не счел нужным
откликнуться (!) на поздравительную телеграмму, посланную ему М.К.
Дитерихсом, с весьма прозрачным пожеланием «нашему Великому
Русскому Вождю, сил на Водительство заблудшего, но раскаявшегося уже
Русского Народа по его славному историческому пути».
Общественность, даже и приписанная к церковным приходам,
проявлявшая, судя по газетным публикациям, бурную патриотическую
деятельность, была настолько «теплохладна», что из 4000 «добровольцев»,
разверстанных указом правителя на г. Владивосток для пополнения
армии, до фронта дошло только 176 человек. Даже сельское население,
в среде которого, по свидетельству H.A. Андрушкевича, были сильны
52 «Когда вы войдете в эту землю, не убивайте ни старого, ни малого, ни женщины, не сводите
столпника (христианского подвижника, избравшего особый вид духовного подвига -
непрерывную молитву на «столпе» (открытой возвышенной площадке, башне и т. п.). - авт.) с его места, не
обижайте отшельников, потому что они предали себя Богу, чтобы работать ему. Не срезайте
деревьев, не повреждайте растений, не растерзывайте скота, ни быков, ни овец... Те, что не примут
вас, ведите с ними войну и обязательно следуйте всем указаниям и истинным законам, которые
даны вам от Бога через нашего пророка, чтобы вы не прогневили Бога» [125, С. 80].
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
135
монархические настроения, не выразило идеям Дитерихса поддержки
«телом и кровью». Однако тоска по царю-батюшке у крестьян Приморья
была далеко не такого идеального свойства, что у воеводы Земской Рати.
Дело было в том, что до революции крестьяне находились под опекой
государственного переселенческого управления, озабоченного
проблемой «обрусения края». Оттого «с мужиком носились, как с ребенком».
Февральская революция, естественно, поставила на таком положении
дел крест. Наоборот, крестьян обложили налогом в пользу содержания
земских учреждений, которые совершенно не прижились на приморской
почве, ввиду малой плотности населения и огромного дефицита людей
интеллигентных профессий. Как следствие - народ в Приморье, как,
наверное, и в целом по России, тосковал не столько по царю, сколько по
внятной политике твердой государственной власти. К этому надо
добавить редкую общественно-политическую инфантильность народа.
«Можно было говорить о Верховном правителе - ошеломленно
признавался H.A. Андрушкевич, исправлявший при Колчаке должность
«начальника» в Иманском уезде, - этот титул действовал благотворно,
но слово Колчак надо было избегать. Говорить же, что Колчак ведет нас
к Учредительному собранию и волеизъявлению народа - совсем не
поворачивался язык. Разговор о том, что Колчак спасает Россию от
большевиков был также для крестьян не вразумителен. «Большевик потому
и большевик, - отвечал крестьянин, - что ихняго брата больше.
Большевик за Царя, за порядок, большевик господ уничтожает, тех, что
куражатся над простым народом» [12, С. 125].
Безусловно, нельзя не восхититься мужеством «последнего крестоносца»
М.К. Дитерихса, пожелавшего, подобно П.Н. Врангелю, придать Белой
борьбе под занавес возвышенно-нравственный характер. Сила, однако, ломила
солому. Вместе с Приамурским Земским краем, Земской Ратью и его
пламенным воеводой уходил в историю из русской военной речи религиозный
пафос, свидетелями возрождения которого будут ли хотя бы наши потомки?
1.6. Риторика воинов ислама
Мы уже видели под какими разными лозунгами сражались
антибольшевистские силы на территории России. Не менее сложная картина
возникает при рассмотрении особенностей риторики наиболее стойкого
контрреволюционного движения, борьба с которым длилась много лет
136 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
спустя официального завершения Гражданской войны. Вплоть до 1938
г. это движение давало рецидивы, временами настолько сильные, что
советскому автору, скрывшемуся под псевдонимом «В. К-в», это давало
право на страницах журнала «Военная мысль» за 1921 г., говорить о
существовании в Средней Азии целого «басмаческого фронта».
Вопрос о сущности басмачества не потерял своей актуальности по
сей день. Если внимательно присмотреться, то практически все
ошибки советской власти, допущенные ей по отношению к народам Средней
Азии в 20-е гг. XX века, мы добросовестно повторяли, пытаясь разрешить
и «афганский», и «чеченский» вопрос в не столь далеком прошлом.
Советский исследователь В. Алексеенков подверг обстоятельной
критике несколько существовавших в 20-е гг. взглядов на основные
причины, породившие басмачество:
- внутриполитические: субъективные недостатки отдельных
представителей советской власти и ошибки, допущенные ими;
- экономические: вторжение капиталистических форм хозяйства в
натуральное, связанное с распространением хлопковой монокультуры,
повлекшее обнищание значительной части народа;
- национально-освободительное движение против жестокого
советского империализма (эти взгляды высказывались в белоэмигрантской
печати);
- внешнеполитические: интриги Англии, рассчитывавшей
утвердиться в Средней Азии, а также интересы Афганистана, который был не
прочь увеличить свою территорию за счет ближайших соседей.
Наиболее старательно автор открещивался от признания
басмачества формой освободительной борьбы среднеазиатских народов,
проходившей под знаком национально-религиозного пафоса. Действительно,
втиснуть в прокрустово ложе марксистской экономической теории такие
трудноосязаемые понятия как национальность и духовность было
затруднительно. Вообще, забегая вперед, можно заметить, что эти два
понятия оказались минами замедленного действия, приведение в действие
которых и привело в конечном счете к крушению советской системы.
Значительно проще было списывать массовое повстанческое движение
на тяжелое наследие колонизаторской политики царского
правительства и происки национальной буржуазии, совместно с «остатками
феодальных слоев данной страны» использовавших «политическую
отсталость дехканства» в своих корыстных интересах [9, С. 54]. В этом случае
можно было действовать по уже накатанной в ходе Гражданской войны
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
137
схеме: военный нажим на «эксплуататорские» классы в сочетании с
широкой «кооперацией» и улучшением материально-бытовых условий
жизни населения.
В действительности, советская власть в Средней Азии не имела бы
абсолютно никаких шансов на существование, не опирайся она на
штыки советских войск, прибывавших по мере роста успехов красных, из
Центральной России. Вплоть до ликвидации «Оренбургской пробки»
войсками М.В. Фрунзе, т.е. до осени 1919 г. советская власть в Туркестане
распространялась только на города и станции железной дороги.
На наш взгляд, нельзя говорить о существовании каких-то особых,
основополагающих причин, которые привели к возникновению
басмачества. В чрезвычайно запутанной и сложной системе экономических,
политических, социальных и межнациональных отношений,
существовавших в среднеазиатском регионе в первой четверти XX в., имели
место все вышеперечисленные причины, причем действовавшие
неравномерно в дореволюционный и советский периоды. Ко всему прочему само
басмачество было достаточно неоднородно по своему социальному и
национальному составу; в соответствии с этим, в разных группах
басмачества преобладали разные причины, его вызывавшие.
В наиболее общем плане можно выделить три группы, слагавшие
среднеазиатское басмачество.
Первая - басмачество туркестанское, наиболее ярко представленное
ферганским басмачеством, расцветшее на почве обнищания населения
в результате нарушения хозяйственной жизни, базировавшейся на
экспорте хлопка. Этот процесс особенно обострился после Октябрьской
революции с началом Гражданской войны. Неумело проведенная
социализация хлопкового производства привела к разрушению последнего.
«А проведенная вслед за социализацией национализация - выдвинула
бесконтрольных комиссаров, которые при полном политическом без-
людьи были в большинстве авантюристами, не связанными интересами
предприятий и значительно уклонившиеся в сторону личного
обогащения», - писал предводитель Крестьянской армии Ферганской области
К.И. Монстров [70, С. 36].
Декрет Туркестанского СНК от 28 февраля 1918 г. о конфискации
всего урожая хлопка и коллапс железных дорог привели к тому, что хлеб
и мясо из Семиречья и Оренбурга невозможно было ввести, а хлопок
вывезти. Туркестану угрожал голод. Хлопководство, усиленно
насаждавшееся еще царским правительством, в результате чего большая часть
138 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
обрабатываемых земель оказалась занята этой культурой, теперь
фактически приводило к голодной смерти крестьянина, поскольку цены на
хлопок, до революции стоивший в 3 раза дороже хлеба, не успевали за
ростом цен на хлеб. К тому же пайковой хлеб распределялся только
среди городского, т.е. преимущественно русского населения. Смертность
среди киргизов, например, простиралась от 30 до 75 % взрослого
населения [70, С. 32]. Число безработных в Туркестане, начиная с 1918 г.,
составляло приблизительно 750 000 чел.
Вторая - басмачество хивинское, под предводительством Джунаид-
хана53 эксплуатировавшее национальные противоречия между оседлыми
узбеками и кочевыми туркменами, которые после объединения народов
в Хорезмскую народную республику лишились традиционного дохода
путем грабежа узбеков.
Третья - басмачество бухарское, сорганизовавшееся под национально-
религиозными лозунгами восстановления бухарского эмирата. Ярким его
представителем выступал в 1921-1922 гг. турецкий авантюрист Энвер-
паша (1881-1922), занимавший в годы Первой мировой войны пост
военного министра в правительстве султана. Личность это была достаточно
одиозной, даже для того смутного времени, богатого на «неординарных»
деятелей. Энвер-паша мечтал о создании... халифата в составе Бухары,
Афганистана и Туркестана и именовал себя «главнокомандующим всеми
вооруженными силами Ислама». Примечательно, однако, что ислам для
него был только ширмой, прикрывавший вполне светские властолюбивые
устремления. Политические маски менялись им с калейдоскопической
быстротой.
Так, еще в 1920 г. это был убежденный борец с английским
империализмом. В «ультрареволюционной» речи Энвера на 1-м Съезде
представителей народов Востока, проходившем в Баку (киноматериалы о
котором в свое время так напугали М. Горького и Г. Уэллса), содержится
15(!) употреблений обращения «товарищи», а сама речь представляет
собой сплошной панегирик Советской России и ее Красной армии,
«проливающей свою кровь для защиты угнетенных». На съезде Энвер-паша
позиционировал себя ни много, ни мало представителем союза
«революционных организаций Марокко, Алжира, Туниса, Триполи, Египта.
Аравии и Индостана» и выражал уверенность, что «путем применения всех
революционных средств ему (союзу «революционных организаций». -
Настоящее имя Мухаммед-Курбан Сердар (1857-1938).
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
139
авт.) удастся поломать зубы хищным зверям (империалистам. - авт.) и
обессилить их окончательно» [80, С. 158]. Точка зрения на
империалистических эксплуататоров будущего претендента на титул халифа
вообще ничем от пролетарской не отличалась: «По-моему, все, кто думал об
обогащении неработающих, заслуживают быть уничтоженными» [там
же, С. 157].
«Как зять «халифа», священного лица для всякого правоверного и сам, в
силу своего родства с халифом особа в некотором роде священная, Энвер-
паша дал идеологическое выражение всем тем течениям общественной
психологии контрреволюционного лагеря, которые до его прибытия либо
смутно выражались, либо противоречили друг другу... Его лозунг
«Мусульмане всех стран, объединяйтесь» должен был создать условия для
временной блокировки класса несознательного сельского пролетариата
дехкан с классом их поработителей, крупных феодалов против общего
врага Бухарского Советского Правительства и большевиков, о «красном
империализме» которых Энвер широко и неустанно агитировал. Таким
образом, принцип солидарности трудящихся всего мира, основанный на
солидарности интересов, Энвер-паша пытался заменить принципом
религиозного объединения всех мусульман», - так писал о роли Энвера в
бухарском басмачестве Н.Е. Какурин [там же, С. 93-94].
Если перевести текст с «советского языка», то становится ясно, что
политический авантюрист Энвер-паша недаром набивал себе руку в
революционной риторике: тонко уловив господствовавшие в толще народа
настроения, он просто перелицевал социальный пафос своих речей на
пафос религиозный. О преобладании религиозного пафоса в
общественной речи Бухары того времени ясно свидетельствует и сам Н.Е.
Какурин: «...власть религиозной надстройки и до сих пор (1923 г. - авт.)
еще чрезвычайно сильна в Бухаре; во многом я объясняю застойный
характер общества... именно влиянием этой религиозной надстройки»
[там же, С. 91]. Несмотря на то, что марксистская терминология явно
с трудом давалась бывшему офицеру Какурину, значение его честного
свидетельства трудно переоценить, поскольку именно он принимал
непосредственное участие в ликвидации беспокойного Энвера.
И все же корни басмаческого движения, как справедливо полагал
Д.Д. Зуев (с ним отчасти соглашался и В. Алексеенков), надо искать в
идее национального обособления народов Средней Азии, вылившейся
в т.н. «Кокандскую автономию», декретированную 1 декабря 1917 г. на
Чрезвычайном Всетуркестанском мусульманском съезде в Коканде.
140 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
СНК Туркестана не рассмотрел вовремя вопроса об автономии, что
укрепило взгляды туземного населения на советскую власть в Ташкенте
как на явление чисто русское, в противовес власти «автономщиков» в
Коканде. Мало того, на V съезде Советов Туркестана, проходившем в
ноябре 1917 г., коммунистами было прямо заявлено о недопустимости
включения в органы власти мусульман, ввиду того, что «среди
туземного населения нет пролетарских классовых организаций» [9, С. 18].
Несмотря на то, что столкновение преимущественно русской
советской и туземной национальной власти в районе Коканда 11 января 1918
г. закончилось поражением «автономщиков», национальная идея успела
объединить разнородные антисоветские силы Туркестана. Это привело
к тому, что басмаческое движение, которое до революции имело
преимущественно разбойничий характер, скоро приобрело огромный размах
и стало в 20-е гг. движением народным. «После разгрома кокандского
автономного правительства Иргаш курбаши ушел в уезд с 20-30
джигитами, то через 2-3 года после этого события мы имеем перед собой от
6 до 8 тысяч басмачей....», - писал тов. Н.Т. Тюрякулов54 [185, С. 111].
«Мы имеем дело не с организованным боевым противником, а с самим
населением, которое враждебно относится к Советской власти», -
честно признавал в 1921 г. журнал «Военная мысль» [8, С. 88].
Только после того, как в Туркестан прорвался тов. П.А. Кобозев55, на
5-м Чрезвычайном съезде Советов 30 апреля 1918 г. в Ташкенте была,
наконец, декретирована автономия. Но было уже поздно. В условиях
слабости центральной власти Ташкента на территории Туркестана в течение
1918 г. размножились вооруженные формирования, отличавшиеся, в
основном, по национальному признаку. К ним, помимо басмаческих
отрядов, состоявших из коренного населения, можно отнести Крестьянскую
армию К.И. Монстрова, созданную из отрядов самообороны русских
поселений. Не были исключением и отряды правительственных войск.
Ценное свидетельство тому мы находим в статье П. Баранова: «Необходимо
отметить, что значительную часть формируемых отрядов (Красной
гвардии. - авт.) составляли «интернационалисты» - бывшие военнопленные»
[8, С. 91]. В Туркестане в то время находилось порядка 35 000 немецких
и австрийских военнопленных [9, С. 263], так что вполне возможно, что
54 Председатель ЦИК Туркестанской советской республики ( 1920-1921 ).
55 С февраля 1919 член Особой временной комиссии ЦК РКП(б) и СНК РСФСР по делам
Туркестана (Турккомиссия). В июле - сентябре член крайкома КП Туркестана и председатель
ТуркЦИКа.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
141
формирование большевистских отрядов, «руководимых немецкими
офицерами», как о том трубила белогвардейская пропаганда (см. 1.3), было
не только пропагандистским мифом. Весьма способствовали разжиганию
народного восстания и действия «армянских дружин», сформированных
партией «Дашнак-цутюн», услугами которых на первых порах весьма
опрометчиво пользовались ташкентские власти.
В силу ряда причин, из которых главнейшей следует признать
отсутствие воинской риторической традиции на Востоке, как мы писали
о том в «Военной риторике Средневековья», вряд ли можно говорить о
распространенной практике обращения с военными речами
предводителей басмачей к воинам ислама. Поскольку эпистолярного наследия
и мемуарной литературы басмачество после себя практически не
оставило, лозунги и призывы, которыми вполне возможно и оперировали
многочисленные курбаши перед схватками с красноармейцами, также
не могут быть проанализированы. Да и сама партизанская тактика боя,
принятая басмачами, заключавшаяся в избегании столкновений с
регулярными частями, уходе, лавировании и рассеивании при угрозе
уничтожения, исключала, на наш взгляд, какое-либо убеждающее или
вдохновляющее воздействие курбаши на своих джигитов. Однако басмаческие
агитационно-пропагандистские материалы, без которых немыслима
организация какого-либо массового повстанческого движения, имеются, и
они дают наглядное представление о тенденциях в общественной речи
представителей среднеазиатского сопротивления.
В частности, одним из бывших киргизских коммунистов Тюрякулом
Джиназаковым (как и Энвер-паша, кстати, побывавшем на съезде
народов Востока) от имени виднейшего ферганского курбаши т.н. Курширма-
та56 распространялись прокламации следующего содержания.
«От командующего войсками Ислама в Туркестанском крае
Ширмата Бек-Гази. 1339 года Хиджры 6-го числа.
Лунного месяца Зулькада.
№ 8 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вам всем нациям объявляю: полученные нами со всех сторон
известия гласят, что с целью удаления от лица земли большевистских
названий - иностранные державы в объединенном порядке совершают на
них грозное наступление.
56 Кур-Ширмат дословно переводится как «кривой Ширмат». У этого курбаши в детстве
был выбит глаз.
142 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Петроград перешел во владение иностранных держав.
Со стороны Сибири войска упомянутых держав вводят громадные
силы.
Батум тоже перешел в руки иностранных держав, знамена которых в
этом городе восстановлены.
В местности Чарджуи собираются войска иностранных держав и
перейдут на территорию Бухары и Туркестана.
В Патта-Гиссаре57 собрались иностранные войска 300.000 человек,
которые намерены через Бухару пройти в Туркестан.
В местности Мургаб появилось до 200.000 иностранного войска,
которое не сегодня-завтра появится в Туркестане.
- Эй! Родственники-мусульмане, открывая глаза, не обманываясь
ложными словами хитрых большевиков, будьте осведомлены о
происшествиях в странах, как подобает правоверным.
Командующий войсками Ширмат Бек-Гази. Приложил печать» [70,
С. 78].
Заметно, что этот образец военной пропаганды июля 1921 г.
представляет собой чистую дезинформацию, имеющую целью внушить
населению уверенность в победе и тем способствовать притоку
добровольцев в басмаческие отряды. Подобные прокламации
распространялись по кишлакам и аулам в качестве своеобразных газет (отсюда и
их нумерация).
Примерно к этому же времени относится и воззвание Джиназакова
(принявшего с переходом к басмачам фамилию Капаева),
распространявшееся в г. Скобелев от имени помощника Курширмата курбаши Му-
хамета Розы (Мамарозы).
(на русском языке)
«От командира полка белой гвардии Мухамет-Розы.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всем сочувствующим мусульманской партии как русским, так и
мусульманам предлагаю присоединиться к нам возможно скорее. Будете
получать хорошее жалованье и кормиться со всеми членами своих
семей прилично, т.е. без стеснения относительно хлеба, мяса, риса и проч.
Всем не имеющим лошадей или оружия нами будет немедленно
доставлено таковые.
7 мая 1921 г. Мухамет Розы. Прикладываю свою печать.
Около Термеза.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
143
(на узбекском языке)
«Начальника войск Гази Мухамет-Розы
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Настоящим объявляю всем гражданам мусульманам, находящимся
на службе у русских: вам нельзя оставаться в бездействии, в течение
этой недели идите на защиту своего народа и переходите на нашу
сторону, т.к. немного осталось до того времени, когда нашему
мусульманскому войску придет помощь из большого государства.
Если в эту неделю не придете к нам на помощь, то не будет больше
поводов для прощения вашей вины. Поэтому письменно и с доверием
обращаюсь к вам: не слушая всяких обольщений, своей собственной
охотой переходите на услужение своему народу - мы возвеличим вас.
Ожидая вас, посылаю это письмо.
Я, Аскер-баши, Гази-Мухамет Розы приложил печать» [70, С. 80].
Аргументация русского текста прокламации хорошо обыгрывала
ситуацию трудностей со снабжением, которые переживали части Красной
Армии. В Ферганской области, например, потребность войск в мясе в
этот период удовлетворялась по самым оптимистичным подсчетам не
более чем на 40 %.
Никакого особого ожесточения ни по отношению к красноармейцам,
ни по отношению к соотечественникам-мусульманам, еще не вставшим
на путь борьбы с большевиками, в прокламациях не чувствуется.
Первые еще не клеймятся гяурами, вторые - изменниками. Даже
прозрачный намек о вине «малодушных» мусульман перед воинами ислама
старательно прикрывается обещанием наград и почестей «прозревшим».
Объясняется это просто. Военные операции против басмачей в 1921 г.,
движение которых стало в полном смысле этого слова массовым, привели
к значительным потерям с советской стороны (308 чел. убитыми только в
период март-декабрь 1921 г.) и не дали никаких практических результатов.
Советская власть, чувствовавшая себя не слишком уверенно в разоренной
Гражданской войной стране, поэтому была склонна вести с басмачами
переговоры, стараясь использовать старый как мир принцип «разделяй и
властвуй». К этому периоду относится кратковременное заигрывание
Советов с курбаши и их отрядами, попытки наладить «взаимодействие» путем
придания им статуса правительственных территориальных войск; другими
словами - попытка локализации власти отдельных курбаши в занимаемом
их джигитами районах в надежде столкнуть лбами воинов ислама с
«пришлыми» курбаши и просто бандитствующими элементами.
144 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Образование из отрядов сдавшихся курбаши (первый раз - широко
известного Мадамин-бека) войск Красной армии ничего кроме
беспорядка не дало. Положиться на них было нельзя. Курбаши грабили мирное
население и тем снабжали своих «красноармейцев». Кроме того,
«красные» курбаши весьма неохотно сражались против бывших соратников-
единоверцев. Да и средств для того, чтобы эффективно перекупать
басмачей у советской власти просто не было. «Оперирующие против нас
бандитские шайки, - читаем в докладе начальника пофергруппы58) от
10 сент. 1921 г. про 1-й Фертермускавский59 полк, - ...прекрасно
обуты, одеты, обеспечены всем необходимым, что красноармейцы мусполка
прекрасно видят, и им, как бывшим басмачам, безусловно выгоднее быть
на стороне противника, чем у нас, так как они, определенно
деклассированный элемент... Некоторые к-ры эскадронов, превосходно учитывая
это психологическое состояние кр-цев, находят следующий путь
удержания их в наших рядах: начинают заниматься мародерством,
грабежами, наложением контрибуций и т.п. для обеспечения своего эскадрона и
самих себя» [70, С. 61]. И при этом речь шла об относительно надежной
части - бывших басмачах Мадамин-бека, успевших даже побывать в
составе бригады тов. Э.Ф. Кужелло на Южном фронте.
Все же нельзя сказать, что политика переговоров ничего не дала. В
ряде случаев в пользу советской власти срабатывали застарелые
национальные и даже родовые противоречия, раздиравшие стан басмачей.
Однако полностью басмачество не удавалось уничтожить ввиду поистине
бедственного материального положения красноармейцев,
расположенных небольшими постами на огромной территории. Как с подкупающей
непосредственностью писал начпофергруппы про гарнизон «Зеленый
мост» на железнодорожной станции Андижан-Наманган, состоявший
из 5-й роты 17 терстрполка60: «Красноармейцы два месяца не получают
жалованья благодаря отсутствию денежных знаков». В политсводке за
8-15 апр. 1921 г. говорилось: «Нравственное напряжение в борьбе со
всесокрушающими условиями падает у самых сильных». Донесение о
самоубийстве военкома кавэскадрона указывает следующие причины:
«Оно вызвано мародерством и безобразиями, происходящими в части,
чего его натура не терпела и не перенесла» [70, С. 69-70].
Политотдел Ферганской войсковой группы.
Ферганский территориальный мусульманский кавалерийский полк.
Территориального стрелкового полка.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
145
В этот период агитация курбаши была особенно эффективна -
участились случаи перехода к ним красноармейцев с оружием, факты
шпионажа (!) в пользу басмачей и торговли красноармейцами оружием
и боеприпасами, за что, например, было расстреляно в ночь с 29 на 30
октября 1921 г. двадцать (!) человек.
Неудивительно, что в таких условиях курбаши чувствовали себя
достаточно вольготно и позволяли себе даже весьма экстравагантные
выпады в ответ на попытки отдельных представителей советской власти
«договариваться» с ними. Так, в ответ на предложение сотрудничества
начальника гарнизона сел. Каннибадам от курбаши Нуруллы Максума 6
июня 1921 г. был получен откровенно наглый ответ.
«М.Г.61 вы пишете, чтобы я помирился с Советской властью, чтобы
защищать отечество. Спрашивается от кого защищать - про это вы не
упомянули.
Крайне удивлен на ваше наивное предложение. Если так понимать, то
отечество надо защищать от разгрома, грабежа хулиганов, то вы,
милостивый государь, переходите на нашу сторону, т.к. мы защищаем отечество
от узурпации бандитов большевиков, которые нагло разрушили и
разграбили за три года все то, что было создано за тысячу лет. ...Вы, господа
русские коммунисты, одурманились, соблазнившись на хитросплетенный
обман жидов... Известно ли вам положение России, где люди умирают с
голоду, а вы, глупцы, здесь воюете с нами и проливаете кровь забитого
туземного населения, которое кошмарные жиды хотят обратить в колонию.
Известно ли вам, за что мы воюем. Мы воюем именно за то, чтобы спасти
отечество от всех жидов и жить автономно, чтобы население не эксплоа-
тировалось жителями Иерусалима, коих вы признаете за бога.
Вот что, господа, лучше мы, забитые туземцы, сойдемся с вами,
обманутыми русскими, и совместно будем бороться с жидами, чтобы спасти
отечество» [70, С. 81].
Нельзя не заметить, что стилистика и националистическая
аргументация ответа-прокламации чисто европейская. Совершенно очевидно,
что от имени Нуруллы Максума выступал какой-то русский
белогвардеец, которых было немало в басмаческих отрядах. Подобная практика
была весьма распространенной; судя по всему, многие полуграмотные
курбаши норовили обзавестись по примеру того же Курширмата
«заместителями по агитационно-пропагандистской части».
Милостивый государь.
146 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Ситуация кардинальным образом изменилась, начиная с 1922 г.,
который можно считать отправной точкой перехода советской власти к
политике с позиции силы в отношении басмачества. Помимо осознания
заведомой неэффективности соглашательства с мятежниками, всегда
чуждого решительной большевистской политике, среди советского,
особенно военного, руководства, видимо, возобладали взгляды,
выраженные впоследствии Н.Е. Какуриным: «Неопределенность взглядов в
вопросе о борьбе с басмачеством... и переговоры с вождями разбойничьих
и контрреволюционных банд могли быть приняты темным населением
Средней Азии, в течение долгих веков воспитанном на преклонении
перед грубой силой, как признак слабости РСФСР...» [80, С. 93].
В результате в марте 1922 г. появилось обращение комиссии ВЦИК
по делам Туркестана и ТуркЦИК, в котором твердо заявлялось:
«Никаких советских курбаши и никаких советских басмаческих отрядов».
The Kurbashi (chiefs) of several
Turcoman Basmachi
detachments. The fur hats and
cloaks (of men in the rear rows)
are typical for the Turkmenistan
area in 1921.
Puc. 8. Курбаши (фото издательства Osprey)
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
147
Начиная с этого времени, в военной риторике басмачей наблюдается
постепенный отказ от национального пафоса, сопровождавшийся
усилением звучания пафоса религиозного. Объективной причиной такой
трансформации ценностей общественной речи басмаческого движения
может быть названа слабость социальной базы национального пафоса.
Государственные образования Средней Азии (Кокандское и Хивинское
ханства, Бухарский эмират) до включения их в состав Российской
империи объединявшие массу народностей и племен, отличавшихся по
укладу жизни, обычаям и языку, представляли собой типичные
восточные деспотии с характерным для них пренебрежением к значению
общественной речи. Отсутствие укорененных государственных ценностей в
сознании массы населения, влачившей рабское существование,
облегчило России во второй половине XIX в. подавление господствовавших
военно-феодальных группировок среднеазиатских государств и
включение их в состав империи.
Отмечавшееся выше вторжение капиталистических отношений в
сферу хозяйственной жизни привело к образованию национальной
буржуазии и чиновничества, слой которых за ничтожный по историческим
меркам период владычества России был, однако, слишком тонок для
того, чтобы успеть сформировать собственные взгляды на
национальные интересы. Не успело в достаточной степени развиться и светское
образование, которое находилось под полным контролем
мусульманского духовенства, выступавшим в блоке с мусульманскими учеными-
книжниками, полагавшими предел учености в толковании Корана.
Пример общественной речи Средней Азии 20-х гг. XX в. хорошо
иллюстрирует справедливость закона поступательной смены пафосов
(героический - религиозный - государственный - национальный):
национальный пафос не может в достаточной степени сформироваться в
общественной речи, не пройдя стадию пафоса государственного.
Субъективных причин ослабления в военной риторике басмачества
позиций национального и перехода к религиозному пафосу было две.
Первая заключалась постепенном саморазрушении басмачества ввиду
печальной необходимости «самоснабжения» за счет населения,
характерной, как мы помним, почти для любого контрреволюционного
движения. Вторая, тесно связанная с первой, состояла в продуманной
протекционистской политике по отношению к массе дехканства советской
власти, получившей возможность, благодаря переходу к НЭПу,
насыщения туземных рынков российскими товарами.
148 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
В этих условиях басмачам не оставалось ничего другого, как
опереться на преобладавшие в общественном сознании коренного населения
религиозные ценности, выступая с позиций защитников веры. Это сразу
же чрезвычайно обострило противостояние и вызвало всплеск насилия
и поистине средневековой жестокости, с которыми у нас, в основном, и
ассоциируется история басмаческого движения.
Справедливости ради надо признать, что революционная жестокость,
хоть и не оперировала кошмарными пытками, была не менее ужасна. Как
писал тов. Н.Т. Тюрякулов, вовсе, надо понимать, не заинтересованный
в сгущении красок: «Официальная военная сводка говорит о двухстах
тысячах убитых басмачей (это к 1923 г.(!), выделено нами. - авт.)»
«Цифра, которая... способна навести мало-мальски вдумчивого
человека на размышления», - совершенно справедливо замечает далее автор
[187, С. 111-112].
Безусловно, из этого поражающего воображение числа жертв
«активные штыки» воинов ислама составляли ничтожное меньшинство.
Приводимые А.И. Шевяковым документы рисуют своеобразную картину
тактики ведения боя знаменитым курбаши Ибрагим-беком, ставшим
после смерти Энвера-паши главнокомандующим объединенными
басмаческими отрядами в Восточной Бухаре. «Кадровые» басмачи-«мерганы62»,
вооруженные винтовками63, как правило, вели огонь из-за спины толп
т.н. «палочников» - крестьян, чье вооружение составляли в лучшем
случае серп или заржавленная дедовская сабля. В случае неудачи «мер-
ганы» отступали практически без потерь, в то время как масса
палочников безжалостно вырубалась ожесточившимися красноармейцами.
Советскими войсками, очевидно, практиковались и более жестокие
способы ведения войны. Например, Н.Е Какурин, повествуя о ходе
операции по уничтожению Энвера-паши, откровенно сетовал на то, что
химические снаряды в горных условиях не обладали требуемой
эффективностью («отличались слабым действием газов» [80, С. 144]).
Усиление жестокости и бескомпромиссности борьбы немедленно
сказалось на содержании общественной речи в басмаческом движе-
Мерган (тюрк.), мерген (монг.) - меткий стрелок.
63 Огнестрельное оружие, ввиду его дефицита в рядах басмачей, представляло собой
такую ценность, то оперативные сводки советского командования, наряду с цифрами потерь в
живой силе и конском составе, обязательно содержали цифры захваченных или утраченных
войсками винтовок. Факты захвата басмачами пулеметов вообще выделялись особо, с
указанием обстоятельств, приведших к этому.
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
149
нии. В агитационно-пропагандистских материалах воинов ислама,
постепенно терявших почву под ногами (и в прямом и переносном
смысле), все отчетливей звучали ноты типично восточного религиозного
фатализма и обреченности. Видимо как компенсация этих настроений
в военной риторике басмачей стало прослеживаться стремление
придать своей неизбежной жертве характер исполнения высокого
религиозного долга и неразрывно связанная с ним тенденция к «демонизации»
противника. К русским джадидам64 (которые по не изжитой традиции
национального пафоса никак не хотели восприниматься советскими)
правоверные басмачи писать уже не хотели, все свои пропагандистские
усилия сосредоточив на том, чтобы оторвать от советской власти хотя
бы соотечественников-мусульман. Весьма характерными образцами
басмаческой риторики, проникнутой религиозным пафосом, служат
послания известного в Восточной Бухаре курбаши Тангри Берды-дотхо65,
датируемые, судя по всему, 1925 годом.
«Удостоверение и объявление. Привет. Пишу настоящее письмо и
сообщаю, что этот свет есть свет ложный. Все должны помереть. Об этом
вам необходимо подумать. Настоящая власть не знает того, кто для нее
делает хорошее. Если мы хотим помереть, то должны помереть. И наш
пророк, и наши деды и отцы померли. Свет остался нам, но мы также
в один прекрасный день должны помереть, независимо от того, что мы
будем делать - хорошее или плохое...
Друзья мои, настоящая власть - власть вредная - даюс, кушпруш ху-
кумат [ругательство: негодяи, продающие своих жен, власть, торгующая
кровью]. Мы видим, что сейчас власть дает оружие мусульманам для
того, чтобы мы друг друга убивали, уничтожали и пили свою кровь и ели
друг другу мясо. Власть вооружает нас, а мы, как глупые, деремся друг с
другом, убиваем друг друга, уничтожаем свои дома, а власть смотрит на
это, как будто на какую-то тамашу, радуется, что мы, мусульмане друг
друга провожаем на тот свет. Вы подумайте, что власть сейчас старается
приблизить вас к себе, но вы, насколько бы не были преданы ей и
сколько б не пролили крови - в конце концов останетесь в дураках.
Джадиды - сторонники общественно-политического течения в мусульманстве,
высказывавшиеся за ликвидацию некоторых феодальных пережитков, за ограниченную реформу
ислама и религиозных школ, за приспособление ислама к капиталистическому развитию. Имя
«джадид» было для ортодоксальных мусульман синонимом безверия и других преступлений.
65 Дотхо - букв.: «благоденствующий», высокий чин в Бухарском эмирате (по А.И. Ше-
вякову).
150 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Власть старается вас из нашей мусульманской веры перевести в свою
веру. Эта власть ку[ш]пруш [торгующая кровью]. Она хочет нашу веру
уничтожить, уничтожить нашего пророка. Женщин наших старается
открыть, чтобы последние находились вместе с мужчинами. Прочитав это
письмо, вы можете меня считать другом или врагом - это дело ваше.
Безусловно, как вы, так и мы - все мусульмане, если недовольны друг
на друга, то лучше нам помереть. Если мы будем бороться с русскими-
идолопоклонниками, и если русские наши враги убьют нас, то мы будем
шаитами66 - святыми. Если мы убьем русских, то будем гази -
погибшими за веру. Но, если мы будем убивать друг друга, то все мы должны
[попасть] в ад. Вы, имея оружие, полученное от власти, употребляете
его для того, чтобы бороться с нами, но мы имеем еще надежду, что вы,
мусульмане, одумаетесь, сдадите оружие, займетесь своим делом - дех-
канством или же с оружием в руках перейдете на нашу сторону. Если вы
этого не сделаете, то можете, как мусульмане, с нами - мусульманами
- воевать. Что хотите, то и делайте, и мы, что хотим, то и будем делать.
Вы убьете одного человека, мы уничтожим ваш кишлак и убьем сто
человек. Против нас выступает масса солдат и то ничего не могут сделать,
а вы что сделаете.
Нас заставил басмачествовать бог, он сделал нас басмачами, а не
большевики. Если бы нас сделали басмачами большевики, они могли
б уничтожить нас в полчаса. Вы выступаете с 15-20 джигитами, чтобы
убить дотхо, можете брать сколько хотите войска - дотхо не убьете. Пока
будет существовать власть - будет и басмачество. Нам государства не
надо, государство нужно власти. Мы сравняем с землей Шахризабс, Ки-
таб, Якобаг и другие кишлаки и от них останется один пепел. Уничтожа
эти города, я сделаю одно государство, а сам уеду дальше. Нам,
басмачам, никакого государства не надо, мы можем находиться и в другом
государстве. По получении срочно ответьте на мое письмо, напишите свое
мнение, после чего что делать мы сами знаем» [198, URL: http://materik.
ru/pda/rubric/detaiLphpID=10317. Дата обращения: 09.01.2012].
Понятно, что отмечаемый А.И. Шевяковым своеобразный
«анархизм» Берды-дотхо не имел ничего общего с идейным анархизмом, о
Шаит (шахид) - мученик за веру. Так обычно называли тех, кто погиб в
результате религиозных преследований, но не с оружием в руках. В общем смысле термин «шаит»
аналогичен термину «гази», но есть отличия: «гази» обыкновенно называют мусульманского
воина, погибшего с оружием в руках, в то время как «шаит» - лицо не военное, а гражданское,
погибшее за веру, но не в открытом бою с ее врагами (по А.И. Шевякову).
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
151
котором борец за веру, происходивший из простых дехкан, не имел,
естественно, ни малейшего представления. Отрицание необходимости
государства здесь всего лишь иллюстрирует отсутствие опыта
государственного строительства и, как следствие, ценностей государственного
пафоса в общественном сознании и общественной речи среднеазиатских
народов. Отрицается и социальный пафос, который, видимо,
ассоциировался басмачами с орудием ненавистной советской власти и даже пафос
героический, который теоретически мог бы быть использован воинами
ислама. Простые дехкане, в сущности, ассоциировались курбаши с
дойными коровами, уделом и призванием которых, как можно судить из
текста, была покорность и труд для содержания гордых защитников веры.
Тем большее возмущение вызывали у басмачей малейшие попытки
«стада» земледельцев полемизировать с воинами. Тут уже Берды-дотхо
совершенно переставал стесняться в выражениях.
«...После привета сообщаю: я написал вам письмо, и на это письмо от
вас получил ответ. Прочитав его, узнал, что вы пишете, что белый свет
дан бесконечно. Вы пишете, что справедливый человек никогда не будет
грабить кишлаки и убивать мусульман. Вы сначала разберитесь, что вы
делаете сами. Вспомните об окончании мира, о том, как вы будете
отвечать на страшном суде, когда будет допрос божий, и каково будет вам,
когда вы будете лежать зарытыми в земле. Если вы очень справедливые,
честные мусульмане, почему вы выезжаете ловженными в кишлаки,
обижаете мусульман и их жен, берете женщин за женские груди и
забираете их скот и имущество. Если вы справедливые мусульмане и идете
по указанию бога и по законам пророка Магомета, зачем вы убиваете
мужей мусульманских женщин и забираете мусульманок до истечения
срока, указанного в шариате, до истечения которого они не могут вновь
выходить замуж. Мы убиваем таких людей, которые продают свою душу
за золото, и которые творят поступки, противные шариату. Мы, если
кого и убивали и чьих жен уводили, то такие явления от вас, от свиней
зависят, от вас - безрелигиозных проституток. По шариату Магомета
немалая имеется разница между боем мусульман с русскими и
мусульман с мусульманами. Как вы будете отвечать по окончании мира перед
богом? Знаете ли вы о том, что имеется рай и ад, есть и весы правосудия?
Когда вы ляжете в могилу, что скажете вы пророкам и святым, которые
будут вас допрашивать? Вы - кафиры67. Если вы умрете от наших рук,
67 Кафир (араб.), гяур (турецк.) - в исламе не верящий в Аллаха и его пророка Мухаммада
(Магомета).
152 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
вы умрете кафирами, а если мы умрем от ваших [рук] - мы умрем
святыми, правоверными. Конечно, на этом свете ни один человек не
останется. Умрем все, но есть в смерти разница - кому какая смерть. Вы воюете
с помощью свинячьей власти, которая борется против бога, топчет
ногами шариат и повеления Магомета Мустафы68. Откройте свои глаза и не
пишите больше нам так, так как когда-нибудь и вы сдохнете, как собаки.
Вы говорите, что женщин по улицам без штанов не водят, а почему же в
Бухаре несколько женщин бросили паранжу и, говоря про свободу,
ходят под руки с мужчинами? Почему в Шахризябсе дочь ишана Сахиба
ушла от мужа? Свиньи вы. Чем так на свете жить - лучше нам умереть.
Вы говорите, что у нас нет ни кишлаков, ни городов. Это правильно,
но нам их и не надо. Мы делаем свое дело и умрем. Нам не сравниться
с вами. Вы говорите, что мы ничего не можем сделать с большим
количеством войска. Правильно вы говорите. Но у нас есть такие места, где
один человек отобьется от ста красноармейцев. Вы говорите, что где есть
большевики, там басмачей уже нет, остались [басмачи] только в
Шахризябсе, Китабе и Якобаге. Зачем вы нахально врете? Где имеется земля
большевистская - там везде есть и земля басмаческая. Своими словами
вы только утешаете самих себя. Вы были очевидцами, как мы зарыли в
землю Худойберды бо-бачу69. Вы говорите нам, что если мы беки,
почему мы держим связь с чуй-каймой (грабителями). На это ответ: если мы
и воры и басмачи, то слава единственному богу, держим свою веру до
настоящего времени с прихода большевиков, а вы, безумные, ходите и
говорите: нет бога и даете своих жен для пользования красноармейцам.
Свиньи, думайте и знайте: стоя за веру Магомета, кровь таких вояк,
как вы, будет течь с моих рук, как вода (выделено нами. - авт.). Вы
говорите, что через 20 дней дотхо походит по горам и сдастся.
Возьмитесь за ум. Дотхо всех жен власти использует [сексуально] и пусть
тогда власть, если поймает меня, сделает своей рукой из меня одного двух
[разрубит пополам]. Попадетесь вы мне - я буду делать что захочу, а из
ваших городов и кишлаков сделаю пепел.
По благословению бога, Тенгри Берды дотхо Инак» [198, URL: http://
materik.ru/pda/rubric/detail.phpID=10317. Дата обращения: 09.01.2012].
Так у А.И. Шевякова. «Мустафа» в переводе с арабск. значит «избранный». Так что
«Магомета Мустафы» правильнее, по нашему мнению, трактовать как «избранного
Магомета».
69 Бо-бача (бой-бача) - сын или другой потомок бая или просто уважаемого человека;
иногда это почетное звание передается через 5-6 поколений (по А.И. Шевякову).
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
153
Неприкрытая ярость воина, оскорбленного словопрением жалких
дехкан (в тексте содержится 9 злобных и обидных для мусульманина
инвектив), похоже, изощрила язык курбаши настолько, что он даже перешел в
своем послании на широкое использование фигур риторики. Их немало;
особенно часто употребляются анафоры и риторические вопросы,
сгруппированные по 2-3 подряд. Это очень сильный риторический прием.
Применение «оппонентами» аргументов, основанных на Коране (это,
надо полагать, особенно взбесило курбаши), вынудило Берды-дотхо
вступить с ними в настоящую полемику. Послание поэтому
представляет собой настоящую убеждающую речь, построенную на использовании
подробнейшей контраргументации; явление редкое в истории военной
риторики не только среднеазиатской, но и российской контрреволюции.
Мы позволили привести здесь тексты посланий Берды-дотхо
практически без купюр ввиду того, что они, особенно последнее, представляют
собой, с одной стороны, фактически, символ веры «позднего»
басмачества, а с другой - являются любопытной иллюстрацией «смычки»
средневекового мусульманского религиозного сознания и мотивов борьбы
современных воинов ислама.
Заметно также, что, несмотря на прикрытие высокими религиозными
истинами, заканчивало басмачество тем, с чего и начинало, - террором
и профессиональным разбойничеством.
* * *
Катастрофы, неизбежно постигавшие многочисленные
контрреволюционные движения, развернувшиеся на территории бывшей Российской
империи после Октября 1917 г., смело можно считать катастрофами
общественной речи государственных образований, порожденных этими
движениями.
Выше мы наблюдали, что антибольшевистские силы в поисках
«своего голоса» в вооруженной борьбе перебрали все виды пафосов
общественной речи. Напомним, что национальным пафосом вдохновлял
казаков Тихого Дона П.Н. Краснов, пытаясь придать гражданскому
противостоянию характер борьбы казаков с русскими, к государственному
пафосу в стремлении восстановить законные формы власти тяготели
А.И. Деникин, A.B. Колчак и П.Н. Врангель, к религиозному,
рассматривавшему политических и военных противников врагами Божиими,
обращались М.К. Дитерихс и вожди басмаческого движения.
Отдельные попытки бить большевиков их же оружием социального пафоса
154 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
предпринимались эсеровскими партийными правительствами Комуча и
сибирской Директории.
Единого же пафоса, объединявшего все роды общественной речи на
территориях, контролировавшихся контрреволюционными силами, не
было. За столетие господства в общественной речи России
религиозного пафоса, ценности которого подверглись жесточайшему испытанию
в годы Первой мировой войны, в общественной речи совершенно
атрофировались ценности государственные, заложенные державной волей
Петра Великого, и не смогли сформироваться ценности национальные,
всегда находившиеся под пристальным вниманием властей
предержащих, озабоченных как бы не допустить представителей набиравшей
силу нации к браздам правления. Религиозный пафос борьбы нашел
наиболее широкое применение и дольше всего держался в Туркестане,
но и то только в силу живучести феодальных отношений, не успевших
разложиться за короткое время развития капитализма в Средней Азии.
Употребление социального пафоса, к которому вынужденно
прибегали бывшие революционеры, активно выдавливаемые более «зубастыми»
большевиками из власти, не принесло видимых результатов во многом
потому, что не поддерживалось в достаточной степени развитым
управленческим и репрессивным аппаратом.
В военной риторике с большей или меньшей эффективностью еще
применялся древнейший героический пафос, но он питался
преимущественно личной харизмой отдельных военачальников, таких как В.О. Каппель
и П.Н. Врангель (в первом, «кавказском» периоде его полководческой
карьеры). Однако героический пафос никак не мог сплотить в единый фронт
армию и гражданское общество, которому, даже в массе дворянского
сословия, были совершенно чужды благородные, «рыцарские» идеалы
служения и личной чести. «На Руси честь - одно только лишнее бремя», -
проницательно замечал по этому поводу М.А. Булгаков.
Именно расколотость общественного сознания, проявлявшаяся
в общественной речи антибольшевистских государственных
образований (и питавшаяся ей), выступает объективной причиной
краха контрреволюционных движений на территории России.
Вывод, который мы можем сделать на историческом материале
риторики контрреволюции, заключается в следующем: общественная речь
в государстве только тогда бывает успешна, т.е. обладает
способностью формирования общественного сознания и влияния
на общественное бытие, когда во всех ее родах преобладает один
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
155
пафос. Очевидно, что необходимое для этого концептуальное единство
понятий обеспечивается наличием единой идеологии.
Повторимся: ничего подобного мы не видим в общественной речи
белого лагеря. Даже наиболее яркий его представитель барон П.H Врангель
вынужден был, выбирая карьеру политического деятеля, отказываться
от своей яркой героической риторики, склоняясь к реалиям
государственного пафоса. Оттого военная риторика и военно-политическая
пропаганда белых действовали по «расходящимся направлениям».
Пропагандистские творения, скажем, деникинского ОСВАГа, рассчитанные
на широкие слои населения, совершенно не воспринимались армией, а
прекрасная военная риторика «раннего» Врангеля могла увлекать
исключительно его кавказских орлов. Принципы оперативного искусства
решительно осуждают действия по расходящимся направлениям, как
чреватые распылением сил и недостижением главной задачи
наступления. Нечто подобное происходило и в общественной речи
государственных образований лагеря контрреволюции: пропагандистских сил было
приложено немало, но главная задача - организация единого
антибольшевистского фронта - осталась невыполненной.
И все же в условиях Гражданской войны в России окончательно
сформировалось представление о месте и роли военно-политической
пропаганды в обеспечении задач вооруженной борьбы. Пример вождей Белого
движения убедительно свидетельствует, то военные и государственные
деятели просто обязан были владеть словом. Достаточно сказать, что из
шести лидеров Белого движения (ген. А.И. Деникина, П.Н. Краснова,
П.Н. Врангеля, H.H. Юденича, Е.К. Миллера и адм. A.B. Колчака)
четверо (ген. А.И. Деникин, П.Н. Краснов, П.Н. Врангель, адм. A.B. Колчак)
до революции более или менее профессионально занимались
литературной и научной деятельностью. Нам представляется не случайным, что
фронты, проявлявшие в ходе войны минимальную пропагандистскую
активность (особенно Северный фронт Е.К. Миллера), в стратегическом
плане представляли наименьшую опасность для красных
Субъективная слабость военной риторики белых вождей
обуславливалась тем обстоятельством, что подавляющее большинство их
происходило из среды штабного начальства, весьма мало связанного с жизнью
и бытом войск. Из-за этого попыток говорить с солдатами «на их языке»,
завещанные Суворовым, они либо вовсе не предпринимали (как
Деникин), либо попытки эти были плохо подготовлены (у Колчака) и не
достигали желаемого результата.
156 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Неумение говорить не с пресловутой «серой массой», а с людьми,
правильно оценивать состояние этоса с его практическими запросами и
потребностями привело к закономерной попытке компенсировать
недостаток живого общения печатной пропагандой. Не случайно, что
аппараты государственной пропаганды достигли чудовищных размеров именно
у Колчака и Деникина, в то время как у Врангеля, правильно, в общем,
оценивавшего значение устного ораторского слова, на всю армию было
около десятка проповедников, правда, подготовленных, по его
собственному отзыву, весьма посредственно.
И это еще один вывод, который мы можем сделать из опыта военной
риторики контрреволюции: никакое печатное слово не может
заменить обаяния личности митингового оратора или, по крайней
мере, живого, неритуализованного общения военного и
государственного лидера. Именно общепризнанных лидеров и не
хватало Белому движению. Характеризуя, например, Колчака, Деникина и
Юденича, Н. Реден писал, что это были «трое исключительно
способных профессионалов-военных, но не имевших ни подготовки, ни
темперамента, чтобы выступать в роли государственных или политических
лидеров» [151, С. 257].
В качестве жанровых «новшеств», которые привнес в русскую
военную риторику опыт Гражданской войны, можно отметить жанры
воззвания и прокламации, широко применявшиеся в военно-политической
пропаганде. Явной слабостью пропаганды белых, на наш взгляд,
являлась слабая ориентированность на убеждение аудитории, преобладание
в прокламациях вдохновляющего воздействия и определенное
злоупотребление императивными формулами речи. Агитация, преследующая
ближайшие, зачастую сиюминутные интересы, в белом лагере явно
брала верх над пропагандой. Можно сказать, что воспитывающая функция
военной риторики пребывала, таким образом, в некотором забвении.
Из традиционных жанров военной речи в военной риторике белых
господствовал жанр директивы. В целом, если учесть неизбежно
связанную с неразберихой политических целей, характерной для
контрреволюционных движений, недостаточную определенность целей военных
операций, это было закономерным явлением. Приказ до определенной
степени потерял те незыблемые жанровые рамки, в которых он застыл
в годы Великой войны и проявил большую склонность к использованию
вкраплений преимущественно вдохновляющего характера. Лексика
жанра приказа до определенной степени потеряла стилистическую од-
Глава 1. Военная риторика контрреволюции
157
нородность деловой речи, активно заимствуя элементы
публицистического стиля. Особенно это касается жанра благодарственного приказа,
получившего широкое распространение, который обычно оперировал
массой экспрессивных эпитетов и большим количеством
стилистических фигур.
Главным недостатком военной риторики контрреволюции,
как и всей общественной речи белых, была чрезмерная
приверженность диалектической, учительной речи и, соответственно,
слабая ориентированность на практическую мораль аудитории.
Белые вожди брались сразу же взывать к «идеальным» ценностям,
поучать, наставлять в высоких чувствах ответственности, гражданского,
воинского и патриотического долга и мужества, а то и принуждать к
исполнению обязанностей, как они их понимали, перед страной.
Белая риторика, даже те ее образцы, которые могут считаться
безупречными по форме и содержанию, грешила одним: зачастую прекрасно
выраженный пафос ораторов практически не учитывал ожиданий этоса.
Нарушение основного закона риторики иллюстрировало поразительную
политическую близорукость антибольшевистских сил и их неумение (да
почти всегда и нежелание) применяться к реальности, что, в конечном
счете, и послужило причиной их поражения.
ГЛАВА 2. ВОЕННАЯ РИТОРИКА
ПРОЛЕТАРИАТА
2.1. Риторика «эпохи красногвардейской
атаки на капитал»
Вплоть до образования декретом В.И. Ленина от 28 января 1918 г.
Красной армии функция вооруженной защиты советской власти
разделялась между войсками регулярной армии, оставшейся большевикам от
«старого порядка» и Временного Правительства, и вооруженными
организациями рабочих, образованных, главным образом, в период борьбы
с корниловщиной. На первых порах, пока не установилось их
общепринятое название «Красная гвардия» эти организации вооруженного
пролетариата могли именоваться по-разному: Рабочая Красная гвардия,
рабочая гвардия, а на Урале, в Уфимской губернии, например,
существовали особые Боевые организации народного вооружения (БОНВ).
БОНВ отличались тем, что они создавались, финансировались и
руководились партийными организациями большевиков, в то время как отряды
рабочей Красной гвардии подчинялись местным Советам и содержались
на средства предприятий, формировавших отряд. На Юге, в Таганроге
и Одессе существовали отряды Интернациональной Красной гвардии,
составлявшиеся из пленных чехов, австро-германцев и китайцев.
Интернациональная гвардия возглавлялась исключительно своими
офицерами. Отряды интернационалистов, поэтому, скорее как исключение,
отличались дисциплинированностью, стойкостью и высокой
боеспособностью. И, наконец, в Одессе был сформирован Красногвардейский
отряд рабочей молодежи.
Наибольшее доверие у народных комиссаров, заинтересованных,
как в свое время и Временное Правительство, в расширении своей
власти, естественно, вызывала Красная гвардия, поскольку целью всеми ее
организациями признавалась именно защита завоеваний революции.
Красногвардейцем мог стать любой рабочий, рекомендованный
социалистическими партиями, фабрично-заводскими комитетами или
профессиональными союзами. Добровольность вступления в ряды Красной
Глава 2. Военная риторика пролетариата
159
гвардии не исключала в ряде случаев введения «красногвардейской
повинности».
В полном соответствии с указанным принципом организации отряды
Красной гвардии вначале представляли собой нечто среднее между
профессиональным союзом, политической партией, цеховым коллективом
и, наконец, воинским подразделением. Так, красногвардеец согласно
Уставу рабочей Красной гвардии обязан был в первую очередь
«аккуратно посещать занятия и собрания рабочей гвардии», причем лица,
пропустившие собрания 3 раза подряд подлежали исключению из рядов
рабочей гвардии [37, т.1, С. 9].
Всякое воинское воспитание революционеры, напуганные жупелами
«слепой покорности и мертвой дисциплины» старой регулярной армии,
стремились изгнать из немудреной военной подготовки
красногвардейцев. Никаких сомкнутых строев, ружейных приемов и, конечно,
«шагистики» защитникам революции знать не полагалось. Требовалось, в
сущности, одно: «научиться стрелять и привыкнуть к винтовке
настолько, чтобы она вас не обременяла», - такие строки, например, читаем в
«Первой инструкции для стрелка народного вооружения» БОНВ [там
же, С. 33].
Не менее «щадящей» была и дисциплина. За «величайшее
преступление», заключавшееся в упомянутом выше Уставе в «употреблении
оружия без разрешения организации», полагался... бойкот (!), а,
видимо, в особо тяжелых случаях, исключение (!) из рядов Красной гвардии.
За прочие проступки виновного ждал товарищеский суд. Впрочем,
арсенал мер наказания этого суда неясен; Устав Красной гвардии
Московской области, например, упоминает только о выговоре и вовсе туманно о
каком-то «лишении работ».
Но настоящим бичом Красной гвардии, особенно сказывавшимся на ее
боеспособности, была выборность командного состава и слабость
организационной «отрядной» структуры. Как свидетельствовал один из
командиров московской Красной гвардии СИ. Моисеев: «Само слово
«дисциплина» приходилось подчас произносить с большой опаской. В это время
у многих сложилась привычка вместо слова «дисциплина» говорить
«порядочек». Избегали и слова «командир». В документах тех дней, в
различных инструкциях, запросах и т. д. вместо «командир» употреблялись
слова «инструктор» или «организатор». «Организаторами» обычно называли
командиров-коммунистов, «инструкторами» - военных специалистов,
которые обучали красноармейцев, но не пользовались по отношению к ним
160 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
никакой властью» [123, URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/moiseev si/
index.html. Дата обращения: 21.01.2012].
Это воинство еще могло разогнать женский батальон смерти М. Боч-
каревой и мальчишек-юнкеров и худо-бедно выполнять обязанности
милиции, наводя «революционным шагом» ужас на безоружного буржуя,
но сражаться в поле против обученного и дисциплинированного
противника оно было не в состоянии. Мало того, в массе своей
красногвардейцы не особенно стремились на фронт, который очень скоро потребовал,
ввиду развала и стихийной демобилизации регулярной армии, активных
действий против организующихся на Юге сил контрреволюции.
Поэтому большевистское руководство, объявившее 6 декабря 1917
г. «революцию в опасности», начиная боевые действия против сил ген.
Каледина, грозившего перекрыть пути снабжения Центральной России
хлебом и углем Юга, вынуждено было, помимо привлечения рабочих-
красногвардейцев, прибегать к формированию добровольческих сводных
отрядов из частей регулярной армии. В истории Гражданской войны не
прослеживается особого отличия между рабочими и солдатскими
отрядами; все они называются одинаково: Красной гвардией. Отсюда начальный
период вооруженной борьбы в Гражданской войне рядом большевистских
мемуаристов именуется «эпохой красногвардейской атаки на капитал».
На первых порах атака эта производилась весьма своеобразными
методами. Например, В.А. Антонов-Овсеенко (1883-1939) писал, что в
конце декабря 1917 г. в Курске «наводил «революционный порядок» и
соответственно панику на обывателей (выделено нами. - авт.)» «Рос-
лавльский отряд» тов. Щеглова. [4, т.1, С. 53]. Сам народный комиссар,
которого никак не заподозришь в стремлении к самобичеванию, охотно
признавал далее, когда писал о уже о харьковских реквизициях
питерских красногвардейцев: «...были эти ребята бравые..., но малоопытные,
не умевшие находить вежливых оборотов там, где видели
контрреволюционную закорючку или саботажный выверт; а иногда были это и люди
недостойные - пьянчуги и тупые насильники (выделено нами. -
авт.)» [там же, С. 174-175].
В тогдашней печати приводился уже совершенно вопиющий факт
бесчинства революционного балтийского матроса, который «7 декабря в
пьяном виде производил форменный дебош на вокзале. Размахивал
револьвером и пытался стрелять, и в результате - побил атташе японской миссии,
оскорбил и пытался сделать то же самое по отношению к атташе
французской миссии» [37, т.1, С. 51]. За это художество матрос, правда, был рас-
Глава 2. Военная риторика пролетариата
161
стрелян своими же соратниками, чаша терпения которых переполнилась,
поскольку и раньше за ним числилось немало преступлений, например,
хищение «на глазах публики» 10 бутылок вина и... стрельба по товарищам.
Совершенно естественно, что вся эта банда экспроприаторов отнюдь
не стремилась воевать. Несмотря на то, что агитации среди населения
большевики всегда уделяли самое пристальное внимание (только
агитационный отдел Петроградского военно-революционного комитета с
7 ноября по 8 декабря 1917 г. подготовил и разослал около 650 (!)
агитаторов [76, С. 13]), одни только методы убеждения, очевидно, не
срабатывали даже в среде наиболее стойких «борцов». Бывший офицер СМ.
Пугачевский70, занимавшийся в должности помощника комиссара
Московского военного округа формированием в середине декабря 1917 г.
«Кинешмо-Костромского военно-революционного отряда», честно
описывал как командующий округом тов. Н.И. Муралов напутствовал его:
«Делай что хочешь, ничего не скажу, приводи только хороший отряд,
без отряда приедешь, лучше на глаза не попадайся, - голову сниму...».
После такого многообещающего «вдохновляющего» воздействия
комиссару ничего не оставалось как действовать в том же духе. Его
незамысловатая «риторика» поражает решительностью тона, принятого в
общении с подчиненными. Сразу же по прибытии в Кострому
Пугачевский немедленно терроризировал свое расхлябанное за время «великой
бескровной», основательно отвыкшее от приказов войско: «...собрал в
офицерском собрании всех офицеров гарнизона и, сказав им пару
теплых слов, по русскому обычаю, добавил, что если 18-го отряд мой не
выступит из Костромы, так и знайте, - всех перевешаю. Сказал и ушел...
Добровольцам, записавшимся в отряд, сказал, что кто из них не поедет -
расстреляю» [146, С. 358-359].
Ошеломленные таким напором добровольцы подчинились без звука.
Правда, на всякий случай тов. Пугачевский предусмотрительно отобрал
у всех бывших офицеров револьверы (!). Очевидно, из этого
образовавшегося запаса Пугачевский предполагал вооружить своего коллегу,
явно грешившего «идеализмом», для обеспечения большей
эффективности его риторики: «Между прочим т. Мандельштам71 ездит без
револьвера и говорит, что лучшее его оружие, - это язык.... У меня зато три
70 Пугачевский СМ. (7-1937) закончил Гражданскую войну в должности командира
полка; в годы «великой чистки» репрессирован и расстрелян как польский шпион.
71 Мандельштам A.B. (1878 - 1929) - в 1917 г. агитатор при Московском комитете РКП(б),
комиссар штаба Московского военного округа.
162 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
револьвера, дам ему, выручит лучше чем язык» [там же, С. 357]. Таким
образом, большевистские комиссары начинали постепенно нащупывать
формулу успеха в общении с революционными войсками. Сам того не
ведая, тов. Пугачевский воспроизводил алгоритм действий
родоначальника русской регулярной армии Петра Великого: сначала дело (страх,
порядок, дисциплина) - потом слово.
Слово, конечно, тоже не было забыто. За два дня в Костроме было
проведено несколько митингов, которые впоследствии признавались
советскими историками «единственной формой партполитработы72 в
армии» того периода. Приказ Пугачевского по военно-революционному
отряду, изданный им в день отправления отряда на фронт, представляет
собой весьма характерный образец военной риторики «эпохи
красногвардейской атаки на капитал».
«Сего числа отправляется отряд на борьбу со злейшим врагом
трудового народа - Калединым. Отряду предстоит честь вписать одну из
самых славных страниц в истории русской народной революции и
назваться лучшими друзьями народа.
Товарищи, прошу вас (выделено нами. - авт.), ведите себя
достойно звания солдата революционной армии. Знайте, товарищи, что армия
наша сильна не железной дисциплиной, а осознанием своего долга
перед родиной и исполнением приказаний выбранных вами начальников и
старших. В руках ваших судьба родины и ваших семейств.
Товарищи, будьте достойными сынами родины, помогите ей в
трудную годину испытаний и закрепите завоевания нашей общей
Крестьянской, Рабочей Революции.
Итак, товарищи, смело к победе» [146, С. 360].
Нами приведен только первый, «вдохновляющий» параграф приказа.
Полный текст содержал обычные и для современных приказов указания
по организации мероприятий с участием войск. Заметно, что даже во
вдохновляющей части сквозит не изжитый до конца дух уговаривания,
характерный для военной риторики образца революционной демократии,
с его старательным взыванием к сознательности войск и гипертрофией
значения простого факта исполнения воинского долга. Наиболее часто в
речи встречаются концепты «народ», «родина», «революция» и, конечно,
самое главное слово, олицетворявшее завоевания социальной
революции, - «товарищи». Ничего собственно «большевистского» в этой речи
Партийно-политическая работа.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
163
еще нет; так мог бы говорить, например, и «душка» А.Ф. Керенский. Не
заметно в речи и какого-либо озлобления на классового противника, как
нет, собственно, и самого противника, кроме упоминания о
единственном главном виновнике народных бедствий - ген. Каледине.
Судя по всему, таким способом революционные командиры, не
очень-то уверенные в отваге и «сознательности» своих подчиненных,
стремились подчеркнуть слабость противника: справиться
красногвардейцам предстояло всего лишь с одним бывшим царским
генералом, с которых так легко, безопасно и приятно было срывать погоны
в недавнем прошлом. Такого рода синекдохи широко будут
употребляться в речах на протяжение всего советского периода российской
истории. Верно и другое: классовый враг еще не приобрел грозных
очертаний безжалостной казачьей конницы или стойких и опытных
офицерских рот.
Зато и результаты такого подхода, еще не избавившегося от
революционной «романтики», сказались очень быстро. Уже после отъезда
эшелона отряда из Москвы в распоряжение «командующего вооруженными
силами Республики» тов. Антонова-Овсеенко командир записывает в
своем дневнике: «Славная моя Красная гвардия... становится все
требовательней и смелее». Смелость красногвардейцев, однако, была
особого рода: приказание начальника эшелона иметь наготове дежурную
роту постоянно вооруженной «встретили с большим неудовольствием
политработники, говоря, что этим волнуется полк». Волнения солдат
усилилось после лицезрения жертв набега небольшого
белогвардейского отряда на ст. Дебальцево настолько, что полк стал, еще не доходя до
боя, требовать отправки в тыл. В сердцах командир записывал в
дневнике: «...знал бы, что сам поеду на войну (выделено нами. - авт.),
не стал бы насильно брать этих отчаянных трусов» [146, С. 369]. Как
видим командный состав красногвардейцев также не отличался особой
воинственностью.
Требование отряда было оформлено 30-го декабря 1917 г. по всем
правилам партийно-демократической протокольной науки: «Протокол
за №1. Общим собранием делегатов от каждой роты 1-го
Костромского военно-революционного отряда от 30-го декабря 1917 года.
Начальнику отряда. Постановление. Общее собрание делегатов каждой
роты постановило 31-го декабря не занимать никакого поста и просим
Вас немедленно отправить обратно в тыл и до прибытия артиллерии и
пулеметов нашего эшелона, а также всех боевых припасов мы постов
164 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
никаких занимать не будем и просить начальника отряда удостоверить
наше требование, в чем и подписуемся...»73[там же].
Вслед за ретивой реакцией СМ. Пугачевского на такого рода
документы от его «славной Красной гвардии» была подброшена
записка: «Уводи в тыл, а то, мерзавец, убьем». И не миновать бы бравому
командиру революционной пули, не подойди на следующий день
эшелоны с подкреплениями, артиллерией и пулеметами. Впрочем, это
не спасло его от немедленного переизбрания. Вполне понятно, что
менее удачливые красногвардейские командиры мемуаров после себя
не оставляли.
Костромскому отряду еще повезло с начальником, которому, судя по
его дневнику, было не занимать твердости, нехитрыми
организационными мерами сумевшему до определенной степени оградить свое войско
от вражеской пропаганды и разлагающих слухов, личным примером и
постоянным общением поддерживавшим бодрость в красногвардейцах.
И самое главное - костромичи не прибегали к реквизициям по пути
следования на фронт.
Рис. 9. Красногвардейцы
Орфография и пунктуация оригинала.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
165
Там, где эта практика не выдерживалась, войска деморализовыва-
лись, еще не видя противника. В воспоминаниях В.А. Антонова-Овсеенко
нет недостатка в печальных примерах недисциплинированности,
распущенности и, как следствие, низкой боеспособности красногвардейцев.
«Отряд Ховрина74 - так называемый 1-й Петроградский сводный отряд,
почти совершенно разложился на почве реквизиций, обысков и арестов»
[140, Т.1, С. 53]. «Отряд Сиверса75 пытался вести некоторую борьбу с
бандитизмом, каковые попытки превратили штаб отряда в судилище...
членом суда входил прямолинейный матрос Трушин, который считал
всякого белоручку достойным истребления» [там же, С. 55]. Привычка
к ревностному истреблению «паразитов трудящихся масс» по пути
следования закономерно привела к тому, что при встрече с вооруженным
противником «Сивере ... в день по 10 раз взывал о поддержке, хотя почти
не встречал активного сопротивления» [там же, С. 75]. Заняв ст. Зми-
евку 30 декабря 1917 г., отряд Сиверса мгновенно перепился до такой
степени, что его пришлось разоружать, и 300 чел. «с позором» были
отправлены обратно в Москву. «В Купянске Саблина76 также постиг
кризис. Солдаты начали пьяный кутеж, разбежались; ему с трудом удалось
удержать половину отряда, остальных пришлось разоружить [там же,
С. 77]. В итоге в Донбасс для организации там советской власти из
нескольких тысяч красногвардейцев прибыло всего около 500 человек.
Более или менее уверенно Красная гвардия чувствовала себя только
в стычках с войсками украинской Центральной Рады, которые не
отличались высокими боевыми качествами. Первые же столкновения с еще
разрозненными офицерскими корниловскими частями оборачивались
для красногвардейцев настоящим шоком. Потрепанный в бою у ст.
Лихой, 3-й Московский Красногвардейский отряд тут же потребовал своей
отправки «для пополнения» в Москву. «31-го января я говорил с этим
отрядом, - писал Антонов-Овсеенко, - клеймил его за трусость и
отослал в Москву разоруженным и с предупредительной телеграммой о его
постыдном поведении. Лишь незначительная часть отряда
выразила раскаяние и желание загладить свою вину (выделено нами.
- авт.)... Следом за третьим Московским выбыл из строя и казавшийся
74 Ховрин Н. А. (1891-1972) - матрос, участник штурма Зимнего дворца.
75 Сивере РФ. (1892-1918) - в описываемое время командир красногвардейского
«Северного летучего отряда».
76 Саблин Ю.В. (1872-1937) - в 1917 г. командир 1-го Московского революционного
отряда.
166 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
столь боевым Харьковский отряд Рухимовича77. Поддавшись нелепой
панике, отряд потребовал своей отправки в тыл, и, несмотря на прямые
приказы, Рухимович вывез отряд в Харьков...» [4, т.1, С. 212].
Большевистские лидеры охотно признавали слабую боевую
устойчивость своих войск. «Революционные войска - нервные войска,
способные к быстрым метаморфозам, - заявлял в 1919 г. Л.Д. Троцкий.
- Их можно в короткий срок оздоровить, закалить, но в короткий же
срок можно довести до распада» [175, С. 22]. Сам Троцкий объяснял
эту «нервность» четырехлетним сидением в окопах мировой войны,
выделяя, правда, без комментариев, особую «революционную нервность».
Эта «революционная» расшатанность психики развивалась, надо
полагать, в ходе многочисленных экспроприации, реквизиций, контрибуций,
массовых расстрелов соотечественников, зачастую не способных даже
оказать сопротивления. Реалии гражданского противостояния
безжалостно срывали с войны всякий героический флер, которым обычно
украшается страшное дело истребления себе подобных: речь уже не
могла идти о жертвенном подвиге воина, рискующего жизнью в
столкновении с сильным и опасным противником.
Руководить такими «войсками» можно было, как подчеркивал далее
Троцкий, только постоянно учитывая это характерное для них
психическое состояние, быструю восприимчивость, «воспламеняемость»,
склонность к быстрым перепадам настроения. Проще всего это получалось у
людей, которые могли превзойти по невменяемости, если так можно
выразиться, революционную толпу, показаться «своим», придать грубым
животным инстинктам, самым низменным проявлениям человеческой
натуры характер нормы социального поведения.
Одним из таких деятелей был бывший подполковник М.А. Муравьев
(1880-1918), личность которого воспринималась как до некоторой
степени одиозная даже его соратниками в невзыскательном на моральные
совершенства 1917 году. Ввиду того, что он занимал высокие посты в
Красной гвардии и оказал немалое влияние на важнейшие исторические
события того времени, мы будем рассматривать его речи в качестве
образцов военной риторики «красногвардейского» периода Гражданской
войны.
В действиях и военной риторике М.А. Муравьева с избытком
проявлялась та революционная нервность, о которой писал тов. Троцкий. Причем
77 Рухимович М.Л.(1889-1938)-в 1917-1918 гг. был председателем Харьковского военно-
революционного комитета.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
167
вызывалась она, к великому прискорбию, очевидно, субъективными
причинами: неоднократными тяжелыми ранениями Муравьева,
полученными им на фронтах Русско-японской и Великой войны. После ранения в
голову, полученному им в 1905 г., медицинское заключение
неопровержимо засвидетельствовало, что у поручика Муравьева ««остались тяжелые
и неизлечимые последствия, связанные с повреждением нервных
стволов, выраженные в головокружениях, ослаблении слуха и т.д.» [41, URL:
http://zn.ua/SOCIETY/20147.htm. Дата обращения: 21.01.2012].
Антонов-Овсеенко, под началом которого воевал Муравьев сначала на
Украине, а потом и на Румынском фронте, и к которому он явно
благоволил, несмотря на бонапартистские замашки и психическую
неуравновешенность бывшего офицера, оставил интересное и очень подробное
описание личности Муравьева. «Его сухая фигура... с быстрым взглядом - мне
вспоминается всегда в движении, сопровождаемом звяканьем шпор. Его
горячий взволнованный голос звучал приподнятыми верхними
тонами. Выражался он высоким штилем, и это не было в нем
напускным. Муравьев жил всегда в чаду и действовал
самозабвенно. В этой его горячности была его главная притягательная сила,
а сила притяжения к нему со стороны солдатской массы несомненно была.
Своим пафосом он напоминал Дон-Кихота, и того же рыцаря печального
образа он напоминал своей политической беспомощностью и своим
самопреклонением. Честолюбие было его подлинной натурой. Он искренно
верил в свою провиденциальность, нимало не сомневался в своем
влиянии на окружающих, и в этом отсутствии сомнения в себе была его
вторая сила (выделено нами. - авт.)» [4, т.1, С. 78].
Нарисованную картину подтверждает суждение комиссара Л.С.
Дегтерева, знавшего Муравьева по Румынскому фронту: «Движения
его были нервно-порывисты. Казалось, что он подпрыгивает в
движениях. От старого строя он унаследовал безапеляционность суждений и
от подчиненных терпеть не мог возражений» [48, С. 54]. Как известно,
при определенных формах расстройств нервной системы нет людей
более уверенных в своей нормальности, чем сами страдающие этими
заболеваниями. Нечто подобное, очевидно, мы можем наблюдать в случае
М.А. Муравьева, который невропатолог мог бы счесть клиническим.
Еще более определенно высказывались другие советские командиры,
которых судьба столкнула с М.А. Муравьевым. «Впечатление у меня
от Муравьева, как о человеке чрезвычайно нервном, кровожадном -
одним словом, человеке неуравновешенном, ненормальном», - отмечал
168 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
В.М. Примаков78; «Все его жесты, мимика, страшная возбужденность
вызывали у меня ощущение, что передо мною ненормальный человек»,
- вторил ему В.А. Фейерабенд79; «Я никогда не видел таких людей, как
Муравьев: это был совершенно ненормальный человек с явно
выраженной манией величия», - заключал СИ. Моисеев80 [123, URL: http://zn.ua/
SOCIETY/20147.html. Дата обращения: 21.01.2012].
Таким образом, Муравьев, объявивший в июле 1918 г. войну
Германии и провозгласивший себя на закате карьеры ни много, ни мало
«Гарибальди, т.е. спасителем России» [32, С. 57], был ярким, но характерным
представителем революционеров «первой волны», которых П.А.
Сорокин квалифицировал как «всякого рода авантюристов, маньяков,
полуненормальных, самолюбивых и т.п. жертв неуравновешенной
психики...» [169, С. 241].
Все эти недостатки Муравьева в глазах большевистских
руководителей с лихвой искупались важными достоинствами: он был храбр, не
боялся крови и, хоть и нетвердо, но стоял на «платформе» советской
власти, поэтому нет ничего удивительного, что явно больной человек был
назначен на высокую должность начальника штаба войск Красной
гвардии, брошенных под командованием наркома В.А. Антонова-Овсеенко
«против Каледина и его приспешников». Однако Муравьев вовсе не
собирался находиться пусть и под товарищеским, но все же бдительным
присмотром Антонова-Овсеенко. Вся его кипучая энергия жаждала
самостоятельности (или бесконтрольности, это можно трактовать по-
разному).
Отправленный наркомом, которому он закатил форменную истерику,
протестуя против того, что в штабе его «превращали в простого писаря»
(весьма характерная иллюстрация порядков, принятых в Красной
гвардии) «брать» Полтаву, Муравьев развернулся в полную мощь.
В разговорах по прямому проводу со своим начальником и
покровителем Антоновым-Овсеенко Муравьев бодро рапортовал: «...скорее
разрушу до основания город, чем отступлю. Приказал беспощадно
вырезать всех защитников местной буржуазии (выделено нами.
Примаков В.М. (1897-1937) - в описываемое время командир 1-го полка Червонного
казачества.
79 Фейерабенд В.А. - в ноябре-декабре 1917 г. начальник отдела агитации и разведки
Революционного полевого штаба при Ставке Верховного главнокомандующего в Могилеве.
80 Моисеев СИ. (1879-1951) - начальник политотдела 1-й Украинской революционной
армии, составленной из красногвардейских отрядов.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
169
- авт.)» [4, Т.1, С. 136]. У Антонова проявление жестокости соратника
не вызывало никаких возражений, наоборот, в разговоре собеседники
ласково обращались друг к другу не иначе как «дорогой друг». Несмотря
на то, что Муравьев действовал против соотечественников Антонова-
Овсеенко, у того не возникало никаких возражений против прозрачного
намека «дорогого друга» на то, как он собирался обеспечивать
разоружение украинских национальных частей: «Что касается Украинского
полка, то полагаю, что с ним возиться долго не придется, как и с
прочими здешними войсками, во всяком случае вы знаете, что я ни перед
чем не остановлюсь (выделено нами. - авт.)» [там же, С. 137]. И это
не был единичный факт. Хорошо знавший Муравьева Антонов-Овсеенко
впоследствии писал о нем: «Особенно он любил кичиться своей
жестокостью: «сколько крови, сколько крови, сколько крови!» - повторял он,
передавая, как производил какое-нибудь усмирение, и говорил вовсе без
страха перед этой кровью, но с оттенком фатализма и фатовства...»[4,
т.1, С. 86].
С этой же патологической жестокостью и неразборчивостью в
средствах Муравьев, ставший уже во главе красногвардейской «армии»,
действовал и в отношении Киева. Только теперь уже его приказы
требовали не церемониться и с собственными подчиненными. «Командарму 1
Егорову, - читаем в его приказе от 7 февраля 1918 г. - Сегодня усилить
канонаду, громить беспощадно город... возьмите остатки 11-го
полка, горную батарею, назначьте, рекомендую, ответственным
начальником Стеценко, который организовал горную батарею, чтобы он с Киева-
пассажирского двинулся вверх по городу и громил его. Если же солдаты
11-го полка будут действовать трусливо, то скажите Стеценко, чтобы он
подогнал их сзади шрапнелью. Не стесняйтесь, пусть артиллерия
негодяев и трусов не щадит (выделено нами. - авт.)» [там же, С. 152].
«Мать городов русских» громили, по данным Л. Гриневич, в том числе и
химическими снарядами.
В то время как на улицах Киева еще кипели бои, Муравьев поспешил
издать приказ за № 9 от 4 февраля 1918 г., в котором требовал:
«Приказываю беспощадно уничтожать в Киеве всех офицеров и юнкеров,
гайдамаков, монархистов и всех врагов революции» [там же, С. 154]. Этот
приказ Антонов-Овсеенко целомудренно осудил за... бестактность,
допущенную его протеже по отношению к формальной власти
Украинского советского правительства, которому теоретически должно было бы
быть предоставлено право «беспощадно уничтожать» своих гайдамаков.
170 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Впрочем, чтобы «морально поддержать» измученного борьбой
соратника, написал ему и одновременно в Народный секретариат Украины:
«Работа ваша в штабе по борьбе с контрреволюцией была чрезвычайно
благотворна; я ни одного упрека вам не могу предъявить» [там же, С. 161].
После киевских подвигов постепенно начинавший становиться
незаменимым, по крайней мере, в собственных глазах, Муравьев
возглавил войска Румынского фронта. Примечательно, что перед отъездом он
по собственной инициативе встретился с румынским представителем
ген. Куандой и предъявил ему... ультиматум, предупредив, что будет
беспощаден в борьбе с румынским правительством, действия которого
расценивал как контрреволюционные. Это заявление, прозвучавшее
14 февраля 1917 г., хорошо иллюстрирует глобалистские (в
современных терминах) устремления советской власти и ничем, в сущности,
не отличается от официальной большевистской позиции в
отношении будущих войн с капиталистическими государствами (например,
Советско-польской). Уже находясь в пути к новому назначению, в
Одессу Муравьев издал приказ по возглавляемым им войскам.
«Передаю для сведения войск копию телеграммы Ленина. «В виду
серьезного положения на Русско-Румынском фронте, необходимости
экстренной поддержки революционных отрядов в Бессарабии,
главнокомандующий Муравьев и его северные армии причисляются в
распоряжение Румынской коллегии. Не сомневаюсь, что доблестные герои
освобождения Киева исполнят свой революционный долг. Председатель
Совнаркома Ленин».
Приказываю моей доблестной армии, моим дорогим товарищам, с
которыми я разделял трехмесячную беспощадную борьбу с врагами
революции, исполнить свой долг перед всемирной революцией. Все, кому
дороги величайшие лозунги всемирного братства рабочих и крестьян, кто
ненавидит капиталистов, царей и королей, все идите за мной со своими
красными знаменами. Я уверен, что все вы, боевые товарищи, не
покинете меня, своего старого вождя революционных армий.
Главнокомандующий Муравьев» [4, т. 1, С. 163-164].
Документ интересен тем, что представляет собой любопытную
попытку наполнения старой формы новым содержанием. Во времена Великой
войны для воодушевления войск принято было публиковать в приказах
тексты поздравительных телеграмм высокого начальства или государя
императора и верноподданнейшие ответы гг. командующих от лица
возглавляемых ими войск (см. «Военная риторика Нового времени»). С этой
Глава 2. Военная риторика пролетариата
171
практикой Муравьев, несомненно, был знаком. Новым элементом жанра
следует считать призыв к войскам последовать за своим командующим.
Ничего странного, учитывая все вышеизложенное в отношении
порядков, принятых в Красной гвардии, в этом нет. В самом деле, московские
и питерские красногвардейцы после взятия Киева вполне могли
потребовать отправки по домам «для пополнения». Ситуация усугублялась
объявлением общей демобилизации «старой» регулярной армии. «Наши
революционные отряды сильно поредели», - признавал В.А. Антонов-
Овсеенко [4, т.1, С. 164]. Судя по всему, текст телеграммы «Ильича» как
раз и потребовался для того, чтобы придать авторитетность
распоряжению главнокомандующего о передислокации его войск.
Несмотря на звонкую трескотню революционных фраз приказ
производит впечатление абсолютной политической незрелости и «наивности»
его автора. Это касается упоминания пресловутых «капиталистов,
царей и королей», воспроизводящего, так и кажется, детскую считалочку
«На златом крыльце сидели...». С какими «царями, королями» призывал
бороться свое войско М.А. Муравьев остается загадкой.
Озабоченный неуклонным сокращением численности
красногвардейских отрядов Муравьев счел необходимым с одной стороны
подбодрить оставшихся надеждой на новые реквизиции и одновременно
предостеречь от чрезмерного увлечения этой тактикой революционной
борьбы, дабы сохранить боеспособность красных войск. Опыт боев на
Украине, как показывает приказ главкома Южного фронта от 19
февраля 1918 г., пошел впрок. Грабить теперь предписывалось только
«буржуев», проявляя классовую солидарность по отношению к
«пролетариям».
«Советская армия есть армия народная, крестьянская. Конечно, победа
ей обеспечена, ибо за ней стоят, поддерживая, миллионы обездоленных и
угнетенных. В народном сочувствии залог победы советских войск, поэтому
советская армия может быть только страшна угнетателям-эксплоататорам,
банкирам и заводчикам. Трудовой же народ всегда может рассчитывать
на ее помощь. Веками хищная буржуазия тянет соки из народа, грабит
народное имущество. Но пришел час расплаты. То, что у народа было
отнято, должно быть ему возвращено и употреблено в борьбу с его врагами.
Со страхом и трепетом буржуазия ожидает прибытия советских войск.
Рабочие же и крестьяне должны приветствовать наш приход, так как он
несет им избавление от угнетателей. Борясь беспощадно с буржуазией, мы
всеми силами в то же время должны помогать беднейшему населению. На
172 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
основании всего вышесказанного приказываю: 1 ) при реквизициях нужных
для армии продуктов соблюдать осторожность, ни в коем случае не
задевать интересов беднейшего населения. 2) Оказывать всяческое содействие
окружающему беднейшему населению, делясь в случае нужды с ними
своим добром. 3) Обижающих население рассматривать как изменников» [4,
Т.1, С. 164-165].
Налицо, таким образом, первые признаки «социальной политики»,
наметившиеся в военной риторике красных военных руководителей.
Эта политика ревностно проводилась в жизнь, прежде всего, самим
М.А. Муравьевым, немедленно по прибытии обложившим буржуазию
Одессы 10-миллионным налогом. Его подчиненные не отставали от
своего «старого вождя революционных армий». Отряды Муравьева,
сформированные, в основном, из красногвардейцев Питера и Москвы, до
Одессы дошли, уже основательно обросшие люмпенами и всяким сбродом,
под влиянием которого быстро разлагались. «Они принесли с собой
необычайную революционную активность, подвижность, решительность,
энтузиазм, - писал в своих мемуарах Л.С. Дегтерев, - передали часть
этих качеств революционным отрядам фронта, но вместе с тем они
принесли с собой такое бесчинство, своеволие, разнузданность, ... что этим
немало содействовали отходу от революции отсталых и мало
сознательных пролетарских масс Одессы» [48, С. 79]
Обращает на себя внимание, что главком обращался к своим войскам,
как к «советской армии». Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА),
образованная декретом СНК81 от 15 января 1918 г., на первых порах
могла называться по-разному. Так, первым красным главковерхом Н.В.
Крыленко вначале она мыслилась как Народно-Социалистическая гвардия,
Революционная Социалистическая гвардия, Социалистическая гвардия,
наконец, Народная социалистическая армия. Председатель Народного
комиссариата по военным делам Н.И. Подвойский предпочитал
названия Социалистическая революционная армия, Социалистическая армия.
Встречались названия Народная армия, Красная социалистическая
армия, Красная Народная гвардия, интернационально-социалистическая
армия и даже «национально-социалистические полки», которые должны
были «называться полками обороны социалистического отечества». Все
эти наименования в конце декабря 1917 - начале января 1918 гг. в
разных документах использовались параллельно.
Совет Народных Комиссаров
Глава 2. Военная риторика пролетариата
173
Комиссары провинциального Румчерода82 были немного шокированы
хваткой «первого боевого командующего советскими войсками»,
распоряжения которого, по свидетельству того же Л.С. Дегтерева,
заканчивались, как правило, угрозой объявления ослушников «вне закона».
Нельзя сказать, что одесские комиссары страдали излишней интеллигентской
мягкотелостью. Сам тов. Дегтерев, например, без ложного смущения
признавал, что «расстрел саботажника... часто являлся самой
необходимой вещью» [48, С. 57]. Дело было в том, что болезненное состояние
Муравьева, судя по всему, прогрессировало настолько быстро, что он
начинал представлять опасность для окружающих соратников.
Дегтерев, например, решался оспорить распоряжение Муравьева, только
заручившись поддержкой нескольких товарищей, «потому что каждый из
нас в отдельности не мог быть уверенным за сохранение своей жизни в
минуту свирепости Муравьева» [там же]. Очевидно, в подобную минуту
абсолютной невменяемости Муравьевым был отдан знаменитый приказ
вывести на безлюдный о. Тендер отряд одесских красногвардейцев,
некстати замитинговавших и не пожелавших выехать на позиции, и бросить
их без воды и пищи на произвол судьбы.
Трудно осуждать одесских рабочих, сохранявших и в горячке
революции все черты типично одесского отношения к жизни, после того, как
прочитаешь речь М.А. Муравьева, обратившегося к ним на митинге
сразу же после своего прибытия в Одессу.
«Враги нарушили права человечества, разрушают Юг,
расстреливают наших товарищей, идут на революцию. У кого есть социальная
совесть, у кого есть революционная честь, все от повседневных забот к
защите пролетариата, все под ружье! Откиньте все, не ждите, пока враг
подойдет к Одессе, ибо вас назовут изменниками революции. О
материальном обеспечении нечего беспокоиться. Везде, где я проходил, вопрос
об уплате, об обеспечении семей всегда разрешался быстро и
положительно. Я сумею заставить буржуазию дать все пролетариату. Сегодня
требую от вас начать запись в батальоны, батареи и роты. Товарищи
рабочие! Сегодня же объявите всем вашим товарищам по специальности
запись в Красную гвардию. Вернитесь на заводы, дадите гудки, соберите
ваших товарищей, передайте им привет от меня и начните запись. Все
материальные вопросы будут улажены. Борьба идет беспощадно. Сами
на себя надейтесь. Требую к работе всех. Буду сам объезжать заводы,
82 Исполнительный комитет советов Румынского фронта, Черноморского флота и
Одесской области.
174 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
буду просить к себе представителей рабочих. Буду следить за
организацией. Мои армии идут сюда. Они утомлены. Все вы должны стать под
оружие» [48, С. 62].
«Нужны ли к этому какие-нибудь комментарии?» - задается далее
вопросом Л.С. Дегтерев. Действительно более бессвязной речи трудно
встретить в истории русской военно-революционной риторики.
Сокращение длины фраз к концу речи указывает на нагнетание
психологического воздействия; Муравьев, судя по всему, неспособный в силу
переутомления или обострения болезни логически излагать свои мысли, явно
стремился к эмоциональному «заражению» аудитории. Заметно также,
что Муравьев весьма слабо представлял особенности этоса. Его
неуклюжее выражение «товарищи по специальности» ясно свидетельствует,
что рабочая аудитория была ему вовсе не знакома.
Однако, на первых порах его митинговая риторика, по свидетельству
очевидцев, имела успех в Одессе. Помогала, очевидно, громкая «слава»
и прикрываемая революционной фразой бесшабашность, дерзость и
наглость прибывших с ним красногвардейцев. Силу влияния Муравьева
на революционную массу, проявившуюся еще в дни красновского
наступления на Петроград в ноябре 1917 г., отмечал и Л.Д. Троцкий:
«Хлестаков и фанфарон, Муравьев не лишен был, однако, некоторых военных
дарований: быстроты соображения, дерзости, умения подойти к
солдату и ободрить его (выделено нами. - авт.)» [175, С. 251].
Говорить на митингах Муравьев любил. «Чаще устраивайте
митинги и беседы с войсками, особенно с прибывающими, - рекомендовал
он в разговоре «по прямому проводу» с товарищами из Воронежского
ВРК83 - подогревайте их революционный пыл. Мобилизуйте все
агитационные силы, иногда слово бывает сильнее оружия» [52, т.1, С. 25].
Однако его весьма своеобразная, как мы видели, манера
выражаться, исполненная патетики и открытого самолюбования, очень скоро
приелась ироничным одесситам. В красногвардейские отряды рабочие
вступали неохотно. На фронте более-менее отличались только отряды
партийных организаций, как например 2-й Одесский отряд анархистов-
террористов, которые зато требовали непомерных забот, постоянного
внимания и льстивого признания их выдающихся революционных
заслуг. Оттого вся военная риторика Муравьева в период недолгой
борьбы с Румынией была нацелена, главным образом на обеспечение попол-
Военно-революционный комитет.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
175
нения воюющих отрядов. Даже в приказе, отданном перед решающими
боями 24-26 февраля 1918 г., он не переставал агитировать население
Одессы вступать в ряды его армии.
«Самый сильный оплот контрреволюции Киев пал под ударом
революционных советских войск... Российская революция зажгла пожаром
все народы мира, всюду труд восстал на капитал, мы в авангарде
мировой революции и наш священный долг - подать руку помощи нашим
братьям рабочим и крестьянам всех стран, борющихся за социальную
справедливость и восставшим против многотысячелетних тиранов
(выделено нами. - авт.)... Румынский пролетариат и трудящееся
крестьянство, стонущие под игом бояр и капитала, ждут нас на помощь;
их дружины действуют совместно с нашими революционными
войсками за право и свободу пролетариата и всемирное братство. Всех, всех,
кому дороги судьбы нашей революции, у кого горит в груди пламенный
революционный порыв, кто жаждет мести за грубое вмешательство
румынских бояр в наше внутреннее дело, кто горит жаждою мести и будет
против насилия капиталистов, всех, кто ищет выхода своим
революционным чувствам - призываю под красные знамена - организуйтесь в
отряды, батальоны и все идите в мои славные революционные ряды. Все
вперед, на весь мир тиранов и капиталистов, дабы взошло солнце нашей
правды, торжества труда. Да здравствует всемирное братство, да
здравствует всемирная революция, да здравствует советская власть во всей
вселенной» [4, т.1, С. 167-168].
Перед нами ярчайший образчик действия социального пафоса в
военной риторике «эпохи красногвардейской атаки на капитал».
Ключевое слово речи - революция - даже в приведенном отрывке употреблено
вместе со словоформами 9 раз! Поражает размах оратора, призывавшего
сражаться не менее как за всемирное братство и установление соввла-
сти во всей вселенной. Вот уж где полностью реализовалась склонность
Муравьева выражаться «высоким штилем». Речь переполнена
метафорами и громогласными эпитетами: «славный», «священный»,
«пламенный» так и сыплются.
Уже в первые месяцы Гражданской войны в красной военной
риторике начался складываться миф о «мировой революции», ради которого
стоило приносить самые тяжелые жертвы. Собственно говоря, ничего
другого большевикам просто не оставалось. После победы революции
законы пропаганды настоятельно требовали положительных идеалов.
Большевикам, затратившим в свое время массу усилий для разложения
176 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
русской регулярной армии, твердо убежденным в справедливости слов
своего пророка о том, что «рабочие не имеют отечества84», было очень
трудно на следующий день после октябрьского переворота начать
убеждать солдатскую массу в необходимости жертвенной защиты
«социалистического отечества». Да и сам концепт «отечество» является, как мы
помним, принадлежностью патриотического и национального пафосов
общественной речи, которых большевики старательно чурались.
Поэтому место еще недавно оплевываемого отечества в коммунистической
пропаганде закономерно занял образ мировой революции.
Справедливости ради следует признать, что почти все
большевистские лидеры сами были свято уверены в близости этого
светлого события. Антонов-Овсеенко, например, в разговоре с Румчеродом
так ориентировал в международной обстановке одесских
коммунистов: «...на внутреннем фронте все складывается в нашу пользу. На
внешнем: - Берлин и Вена - восстали и восстановлена там
Советская власть (выделено нами. - авт.). Вся Германия загорелась
от Великой Российской революции и мы накануне похода на
Берлин, дабы совместно с демократиями мира покончить с капиталом»
[48, С. 25].
В речи Муравьева удлинение периодов, наполненных
многочисленными стилистическими фигурами, позволяет оратору
сосредоточиться на главном: нагнетать эмоции, услаждая слух аудитории.
Самое длинное предложение речи содержит 59 (!) слов. Ни о каком
осознании смысла фразы говорить в этом случае, естественно,
нельзя. Слушатель успевал воспринять только начало периода, забывая
его, когда оратор доходил до конца. Поэтому оратору чрезвычайно
важно было компенсировать могущую возникнуть
неудовлетворенность слушателя от ускользания смысла речи обильным
употреблением средств выразительности, звонкой фразой на
протяжении всего периода. Удовольствие слушателя от
звучных оборотов речи, радость от узнавания привычных, хорошо
знакомых ему «революционных» слов и выражений
работали на оратора, обеспечивая положительный эмоциональный
фон аудитории, когда дело доходило до венчающих речь лозунгов-
призывов.
К.Маркс, Ф. Энгельс «Манифест Коммунистической партии», гл.2 «Пролетарии и
коммунисты».
Глава 2. Военная риторика пролетариата
177
* * *
Уместно привести два наблюдения об особенностях звучания и
восприятия революционной речи аудиторией начального периода
Гражданской войны. Первое принадлежит Н. Редену, подметившему как
стремился выражаться народ, начиная с первых дней Февральской
революции: «В крестьянах, не умевших читать и писать вдруг развилась
непомерная любовь к иностранным словам. Они считали простой
язык признаком смирения, не подобающим свободному
гражданину, и предпочитали пользоваться тяжеловесными
терминами, значения которых не понимали (выделено нами. - авт.).
Моему дяде, оставлявшему в связи с новым назначением свой пост,
передали пространный документ, подписанный всеми солдатами
полка. Документ подразумевал положительную оценку его деятельности
и начинался следующими словами: «Гражданин полковник, Вы - лев
нашей Конституции!..» [151, С. 78].
Другой забавный эпизод - разговор с муравьевскими
красногвардейцами - приводится упоминавшимся комиссаром Румчерода Л.С. Дегте-
ревым. «Прошу караул... пропустить меня в комендатуру.
- Нельзя! - грубо отвечает один.
- Надо сначала спросить мое удостоверение, а потом говорить, -
разъясняю я ему.
- Да что там. Сказано нельзя, да и все тут...
Достаю свой мандат и настойчиво сую ему в руку.
- Да вы прочитайте сначала...
«М-мы-ан-ды-ат... Э, да у него мандат! Конечно можно! И он дальше
не стал читать, что за мандат: «Раз мандат, значит можно!» - повторил
он» [48, С. 61].
В этих двух наблюдениях скрыта формула успеха революционных
ораторов. Выступая перед малообразованной, «темной», как тогда
любили говорить, аудиторией, они строили речь таким образом,
чтобы фокусировать внимание на опорных понятиях — известных,
безошибочно узнаваемых и безоговорочно принимаемых
слушателями. Большевики были величайшими прагматиками, они
прекрасно понимали, что одной ораторской речью невозможно мгновенно
решить задачу воспитания массы. Зато такой речью можно
манипулировать сознанием массы, постепенно приучая ее доверять
оратору. Этой же цели служило и уснащение речи
многочисленными средствами выразительности, которые создавали у массы
178 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
иллюзию присутствия на неком речевом празднике,
революционном карнавале, до которого всегда так было охоче простонародье.
Доверие интеллигентным лидерам большевиков купить было
нелегко. Масса была болезненно чувствительна к «происхождению»
оратора. Бывшему подполковнику Муравьеву, например, это сильно
вредило в глазах рабочих, и одесские комиссары вынуждены были
прикладывать немало усилий, чтобы убедить пролетариев, что
революции со стороны Муравьева опасность не угрожает. Но зато раз
завоеванное доверие обеспечивало оратора кредитом некритичного
восприятия его идей, простираясь в ряде случаев до явного обожания
и самоотверженной верности. Опираясь на самые низменные
побуждения аудитории, на первых порах избегая идти против
настроений толпы, большевистские ораторы постепенно формировали в
сознании своих слушателей ярко эмоционально окрашенную
«революционную» концептосферу, основанную на предельно
мифологизированном, «черно-белом» восприятии мира. «...Не было ни времени,
ни возможности углублять политзнания в массах, - вспоминал один
из армейских большевиков, - важно было завоевать умы, увлечь
массу за собой (выделено нами. - авт.), а это возможно было лишь
зажигательной митинговой речью, «бьющей» в определенном
направлении» [106, С. 163].
Эффект воздействия метафоризированной, образной речи
митинговых ораторов описал еще в XVII в. Джон Локк в трактате «О воспитании
разума». «Одно дело правильно мыслить, - писал английский философ,
чьи идеи питали впоследствии многих мыслителей, - а другое дело уметь
излагать надлежащим образом, с достаточной ясностью и достаточным
эффектом свои мысли - правильные или неправильные - другим.
Хорошо подобранные сравнения, метафоры и аллегории, в соединении с
методом и порядком, производят этот эффект лучше, чем чтобы то ни
было, так как, будучи заимствованы от объектов уже известных и
для разума уже привычных, они воспринимаются немедленно,
как только они высказаны, и...люди думают, что и предмет
благодаря этому становится понятным... Такие заимствованные и
метафорические идеи могут следовать за реальной и неоспоримой истиной,
могут оттенять ее, если она найдена; но они ни в коем случае не должны
становиться на ее место и приниматься за нее. Если все наше изыскание
не пошло дальше сравнений и метафор, то мы можем быть уверены,
что скорее фантазируем, чем знаем,., довольствуемся тем, что
Глава 2. Военная риторика пролетариата
179
доставляет нам наше воображение (выделено нами. - авт.), чем
[реальные] вещи» [110, С. 268].
Воздействие риторически разработанной речи митингового
оратора на воображение неискушенных слушателей оказывается далеко не
безобидно. «Воображение, - пишет в другом месте Локк, - этот курти-
зан, знает столько приемов обмана, столько способов придать окраску,
видимость и сходство, что человек, который не остерегается принимать
что-либо, кроме самой истины,., обязательно попадет в сети... Это
почти уничтожает то большое расстояние, которое существует между
истиной и ложью, почти сводит его на нет (выделено нами. - авт.);
когда же истина и ложь оказываются столь сильно сближенными, то
вопрос, что должно быть принято за истину, решается страстью,
интересом и т.п.» [110, С. 268].
Именно такая подмена истины ложью, мышления воображением,
реальности метафорой, «бьющей в определенном направлении» и
имела место в истории русской революции. Когда истина и ложь усилиями
митинговых ораторов, активно услаждавших слух и разжигавших
воображение аудитории, в общественном сознании сблизились, дело, как
известно, решилось исключительно практическим интересом, который
на российском пространстве принял форму земельного вопроса, вне
которого не рассматривалась никакая истина. Не отставала от «интереса»
и «страсть», выливавшаяся в формы необыкновенной, слепой
привязанности масс к своим лидерам.
Таким образом, с первых дней революции на российском
риторическом пространстве возникли основания для появления ростков феномена
«вождизма». В окружении главнокомандующего по борьбе с
контрреволюцией В.А. Антонова-Овсеенко людей с бонапартистскими задатками
было немало. Это дало основания СТ. Минакову говорить как о широко
распространившемся в годы революции и Гражданской войны ожидании
«Наполеона», так и о вольном или невольном стремлении целого ряда
советских военачальников соответствовать этому образу.
В военной риторике «эпохи красногвардейской атаки на
капитал» преобладал жанр вдохновляющей митинговой речи. Митинги
были практически единственной формой партийно-политической
работы; на них решалась масса проблем: от ориентировки в военно-
политической обстановке до обсуждения «утилитарных» вопросов:
«перед выборами, для поднятия революционного и боевого
настроения, для ликвидации какого-либо конфликта и т.д.» [106, С. 163-164].
180 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Убеждающая, аргументированная речь в это время в военной
риторике практически не употреблялась. Усилия военных ораторов не
простирались далее приведения войск в требуемое задачами момента
настроение - самое нестойкое психологическое явление. Поэтому
боевой дух красногвардейской массы, к тому же не очень твердой в
марксистской идеологии, подвергался резким колебаниям в
зависимости от изменений в боевой обстановке. На наш взгляд, во многом
именно этим объясняется чрезвычайная «нервность» революционных
войск.
Все это вкупе с низкой дисциплинированностью и слабой
организацией красногвардейских отрядов привело к тому, что после
прекращения немцами 18 февраля 1918 г. состояния перемирия советские войска
неудержимо покатились под натиском противника на восток.
«...Громадный путь отступления, - признавал В.А. Антонов-Овсеенко, - мы
проделали с чрезвычайной, почти рекордной быстротой» [4, т.2, С. 5].
Немецкая угроза и организация сил внутренней контрреволюции
настоятельно потребовали от большевиков поиска новых подходов в
вопросах организации вооруженных сил и в тактике ведения вооруженной
борьбы. Необходимость новых подходов стала ощущаться и в военной
риторике большевиков.
2.2. Л.Д. Троцкий — прагматик и идеалист
Вся важность задачи скорейшей организации в стране регулярной
армии открылась большевистским лидерам только после начала
наступления немецких войск, которое и наступлением-то назвать у военного
человека не поворачивался язык даже в то смутное время. «Наступление
немцев 18 февраля 1918 г. началось открытием ими с раннего утра
артиллерийского огня по всему фронту, а затем высылкой конных и пеших
разведывательных партий, причем орудийная стрельба была
кратковременной и имела характер не подготовки к бою, а лишь демонстрации
или как бы обозначения, что противник намерен приступить к
военным действиям (выделено нами. - авт.)», - так, например,
докладывал штаб Западного фронта [52, т.1, С. 147].
Этого, однако, было достаточно, чтобы «революционная» армия на
всем протяжении фронта ударилась в паническое бегство.
Красногвардейские отряды, наиболее «сознательные» из советских войск, даже при
Глава 2. Военная риторика пролетариата
181
многократном превосходстве в силах также не решались ввязываться
в серьезные бои с грозными немцами. Псков был захвачен 25 февраля
1918 г. «небольшими силами немцев». У Ямбурга, против батальона
германцев, захватившего Нарву 3 ноября и выставившего в сторону
красных всего лишь «жидкую сторожевую цепь», нерешительно топтались
7 красногвардейских отрядов «общей численностью около трех тысяч
с пулеметами», которые, по докладу Д.П. Парского85, проявляли
активность только в «организации» то ли своих, то ли дополнительных сил.
Причем даже краса и гордость революции - матросы - «оборонять
позицию у Ямбурга были несклонны» [52, т.1, С. 93].
Паника обуяла не только войска. Советские военные руководители,
судя по всему, также пребывали не в самом спокойном состоянии духа.
«Неужели не найдется взводов, отрядов по 30-50 человек, которые бы
не пошли на подвиги,.. - отчаянно и сумбурно взывал наркомвоен86
Н.И. Подвойский. - Нужно, наконец, кликнуть клич на героев (!) и
такие, несомненно, найдутся. Пусть агитаторы остановят бегущие части.
Пустите все для устранения87» [там же, С. 70]. Все это очень напоминает
вопль Бармалея из известного фильма «Айболит-66»: «Ну закройте же
кто-нибудь меня своим телом!».
Однако агитация, построенная на прежнем «уговаривании» войск
уже не срабатывала. Напрасно воззвание от 19 февраля командующего
3-й армией тов. Г.Н. Кудинского обращалось к пролетарской
сознательности войск: «Товарищи рабочие, солдаты и крестьяне. Настал
последний час борьбы, тяжелой борьбы. Вопрос поставлен ребром: быть ли нам
свободными, равноправными гражданами или опять на долгие века
заковать себя в цепи рабства и отдаться в жертву неумолимому, жадному
зверю - капиталу... Товарищи, кто был хотя бы день свободным, тот не
захочет быть рабом. Для русского народа, призванного творить великое
дело освобождения - зажечь факел социальной революции, есть один
путь: победить или умереть...
Записывайтесь, товарищи, в мои добровольческие отряды. Еще один,
может быть последний натиск, и солнце социализма яркими лучами
разольется по многострадальной стране. Людям, борющимся за свободу
85 Начальник Нарвского оборонительного района.
86 Народный комиссар по военным делам.
87 Запись разговора по прямому проводу Н.И. Подвойского с членом управления войсками
Северного фронта Б.П. Позерном о положении на фронте и мерах по обороне Пскова 23
февраля 1918 г.
182 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
в моих отрядах, предписываю немедленно подать списки и адреса
своих семейств, коим мною будет оказана помощь как хлебом, так и всеми
предметами первой необходимости. Да здравствует революция! Смерть
капиталу!» [37, т.1, С. 244].
Парадоксальность употребления социального пафоса в красной
военной риторике лучше всего видна из этой короткой речи. Несмотря на
то, что на революционные армии наступали вполне конкретные, хорошо
знакомые по трехлетней войне немцы, оратор даже не упоминает имени
противника, предпочитая призывать дать отпор безликому «капиталу».
Жалкая попытка купить мужество полуголодных войск обещанием хлеба
и «предметов первой необходимости» была, естественно, обречена.
Единственными местами в речи, еще как-то укладывающимся в схему
вдохновляющего речевого воздействия, можно считать упоминание о «последнем,
решительном бое», и традиционную цепочку лозунгов-призывов. Однако
одно это, как и обилие «революционных» метафор и эпитетов, не способно
было склонить мнение массы в сторону выбора одного из членов дилеммы
«победить или умереть». Деморализованное, недисциплинированное
советское «войско» находило, повинуясь могучему инстинкту
самосохранения, третий путь - стремительный «драп» с фронта. Красным комиссарам
полезно было бы вспомнить в этом случае скептические слова Ксенофон-
та, сказанные им в знаменитой «Киропедии» о людях «вовсе не усвоивших
воинских добродетелей», что никакие красивые слова не заставят
человека предпочесть смерть в бою жизни, добытой бегством.
«Мы предполагали, - с сарказмом говорил В.И. Ленин о тех днях на
VII экстренном съезде РКП(б), проходившем 6-8 марта 1918 г., - что
Петроград будет потерян нами в несколько дней, когда подходящие к
нам немецкие войска находились на расстоянии нескольких переходов
от него, а лучшие матросы и путиловцы, при всем своем великом
энтузиазме оказывались одни, когда получился неслыханный хаос, паника,
заставившая войска добежать до Гатчины, когда мы переживали то,
что брали назад несданное, причем это состояло в том, что телеграфист
приезжал на станцию, садился за аппарат и телеграфировал: «Никакого
немца нет. Станция занята нами». Через несколько часов телефонный
звонок сообщал мне из Комиссариата путей сообщения: «Занята
следующая станция. Никакого немца нет. Телеграфист занимает свое место»...
Вот вам реальная история одиннадцатидневной войны88» [93, С. 242].
88 С 18-го по 28-е февраля 1918 г., когда большевистская делегация вернулась в Брест-
Литовск для возобновления переговоров с немцами.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
183
Катастрофа революционной армии выдвинула на высший военный
пост в республике в мартовские дни 1918 г. человека, имя которого у его
современников долгое время устойчиво ассоциировалось с созданием и
организацией РККА - Л.Д. Троцкого (1879-1940). Новый наркомвоен
уже 19 марта на заседании Московского Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов категорично заявил: «Нужна наново и
правильно организованная армия!» [173, С. 19].
Вывод этот, как и последующие мероприятия нового главного
советского военного руководителя, был в значительной степени очевиден. На
протяжении первой половины 1918 г. центральную власть буквально
бомбардировали многочисленные настойчивые требования со всех
концов страны: «...необходимо назначить ответственное лицо с
достаточным боевым опытом, которому и были бы подчинены все комиссары...»89,
«нуждаемся в опытных военных руководителях»90, «большая нужда в
командном составе для советских войск, в особенности в высшем
командовании. Необходимы также профессионалы для полевых и окружного
штабов»91.
Требованиям этим не было числа, мы позволили привести здесь
только наиболее характерные. Отсюда, не надо было обладать особой
гениальностью, чтобы сделать вывод, который, правда, задним числом
был оформлен в воспоминаниях уже упоминавшегося комиссара Рум-
черода Л.С. Дегтерева: «Полуторамесячный опыт строительства
Красной армии... показал необходимость привлечения более широких масс
более опытных военных специалистов, а вместе с этим необходимость
разделения военно-оперативной от военно-политической работы,
необходимость одновременного существования и института «военруков» и
политического аппарата, но взаимоотношения между ними еще не
успели вылиться в более или менее определившуюся форму» [48, С. 79].
Таким образом, первой задачей, вставшей перед наркомвоеном
Троцким, была задача обеспечения Красной армии квалифицированным
командными кадрами и разграничения полномочий между ними и
политическим руководством. Приступая к решению этой двуединой задачи, в
89 Донесение комиссара района Великих Лук Литвина начальнику штаба главковерха М.Д.
Бонч-Бруевичу о положении на фронте 2 марта 1918 г. [146, т.1, С. 89].
90 Донесение оренбургского оперативного штаба В. И. Ленину о положении Оренбурга 12
мая 1918 г. [там же, С. 168].
91 Доклад бакинского комиссара по военно-морским делам Г.Н. Корганова в Совнарком и
в наркомвоен о положении в Закавказье 22 мая 1918 г. [там же, С. 184].
184 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
выступлении на заседании ЦИК 22 апреля 1918 г., Троцкий решительно
заявил: «В вопросах чисто военных, в вопросах оперативных, тем более
чисто боевого характера, военные специалисты во всех
учреждениях имеют решающее слово... Комиссар своею подписью только
ручается перед солдатскими и рабочими массами в том, что данный
приказ продиктован военным замыслом, а не контрреволюционным
подвохом. Это все, что говорит комиссар, подписываясь под тем или иным
оперативным приказом. Ответственность за целесообразность
приказа целиком падает на военного руководителя (выделено нами,
-авт.)» [49, С. 23-25].
Приказ № 617 от 5 августа 1918 г. подтверждал то же самое,
только более ярко: «1. Комиссар не командует, а наблюдает, но
наблюдает зорко и твердо. 2. Комиссар относится с уважением к военным
специалистам, добросовестно работающим, и всеми средствами Советской
власти ограждает их право и человеческое достоинство. 3. Комиссар
не перекоряется92 по пустякам, но когда бьет, то бьет наверняка...5. За
перелет тушинских воров93 на театре военных действий комиссар
отвечает головой» [34, С. 32].
Для того, чтобы придать такую форму взаимоотношениям
«военруков» и комиссаров в условиях господства ультрареволюционных,
«левацких» взглядов на привлечение в РККА военных специалистов старой
русской армии надо было обладать немалым политическим мужеством,
несгибаемой волей, решительностью и способностью к убеждению
оппонентов, позиции которых в большевистском руководстве вплоть до
1920 г. были очень сильны. Об упорной непримиримости ряда
коммунистов в вопросе о «военспецах» косвенно свидетельствует факт введения
в партийную программу (!) РКП(б) на VIII съезде (18-23 марта 1919 г.)
строк, продиктованных велением момента: «... необходимо широкое
привлечение к делу организации армии и ее оперативного руководства
военных специалистов, прошедших школу старой армии» [152, С. 80].
Потребовалось решение партии, чтобы, включив рычаги партийной
дисциплины, обязать ортодоксальных коммунистов подчиняться бывшим
«слугам капитала». В этой связи любопытно, что под целым рядом
военных документов, датированных 1918 годом, подпись военного
руководителя следовала после подписи комиссара.
Имеется в виду не спорит.
Переход военных специалистов на сторону противника.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
185
Вторая задача заключалась в немедленном наведении в частях не
«революционного», а настоящего воинского порядка и дисциплины,
поэтому на том же заседании ЦИК утвердил текст военной присяги РККА,
известной также под названиями «Социалистической клятвы» и
«Формулы торжественного обещания».
«1. Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики,
принимаю на себя звание воина Рабочей и Крестьянской армии.
2. Пред лицом трудящихся классов России и всего мира я обязуюсь
носить это звание с честью, добросовестно изучать военное дело и, как
зеницу ока, охранять народное и военное имущество от порчи и
расхищения.
3. Я обязуюсь строго и неуклонно соблюдать революционную
дисциплину и беспрекословно выполнять все приказы командиров,
поставленных властью Рабочего и Крестьянского Правительства.
4. Я обязуюсь воздерживаться сам и удерживать товарищей от
всяких поступков, порочащих и унижающих достоинство гражданина
Советской Республики, и все свои действия и мысли направлять к великой
цели освобождения всех трудящихся.
5. Я обязуюсь по первому зову Рабочего и Крестьянского
Правительства выступить на защиту Советской Республики от всяких опасностей
и покушений со стороны всех ее врагов, и в борьбе за Российскую
Советскую Республику, за дело социализма и братство народов не щадить
ни своих сил, ни самой жизни.
6. Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжественного
обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение и да покарает
меня суровая рука революционного закона»
Текст этот, набросанный Л.Д. Троцким, по выражению И. Дойчера,
«на одном дыхании», с одной стороны, ярко выражает господствовавшие
в большевистском сознании романтические идеи о цели русской
пролетарской революции - социальном освобождении всего человечества
и достижении братства народов, создании «земшарной Республики
Советов», как позже писал П.Коган. Но вместе с тем в присяге ясно
слышится практический голос государственного пафоса: защита интересов
Советской России, ее суверенитета и территориальной целостности
выводится Троцким на первое место в ряду задач армии. Правда, присяга
принималась перед лицом трудящихся всего мира (!), но это сегодня
воспринимается лишь данью революционной фразеологии и теории
«перманентной революции».
186 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Отражением полной экономической разрухи революционного
времени, нехватки самого необходимого, предвестием хронического
«дефицита» служило требование охранять военное и народное имущество «от
порчи и расхищения», ставшее своеобразным рефреном всех текстов
присяг советского периода. Навеян этот пассаж был, очевидно,
наблюдением за тем, как в ходе недавнего «триумфального шествия немецкого
империализма» «деморализованная масса солдат... бросала и
распродавала многомиллионное разное военное имущество» [52, С. 110].
Глубокое классовое расслоение общества и неуклонно
возраставшее ожесточение гражданского противостояния впервые проявлялись
в призывании военнослужащими на себя кары закона за возможную
измену клятве, что являлось, безусловно, новым явлением в истории
развития жанра российской военной присяги, сообщая ей репрессивно-
карательный дух. Мало того, угроза карательных мер со стороны закона
подкреплялась в тексте обещанием сильнейших морально-нравственных
санкций со стороны общества, что отражало складывавшийся
тоталитарный характер нового строя. Именование военнослужащего,
принимавшего присягу, «сыном трудового народа», еще вносило некую
патриархальность в отношениях с властью, но в последующих редакциях
окончательно трансформировалось в обезличенного «гражданина».
Большевистский опыт разложения старой армии нашел отражение
в категорическом требовании выполнять уже все приказы командиров,
а не только когда этого требовал «долг офицера (солдата) и гражданина
перед Отечеством», как звучало в присяге Временного Правительства.
Последняя формулировка оставляла нежелательную свободу в
трактовке военнослужащими своего долга перед Отечеством.
Очевидно, Троцкий с самого начала предполагал, что на одном
добровольческом принципе и революционном энтузиазме боеспособную
армию в советской России не построить, поэтому на этом же заседании
22 апреля 1918 г. ЦИК для начала принял декрет об обязательном
обучении военному делу рабочих и беднейшего крестьянства. Однако и силу
революционного энтузиазма гибкий, прагматичный политик Троцкий
брал на учет и стремился полностью использовать, заключая его в
соответствующие организационные рамки.
В связи с этим значительно оживилась деятельность организационно-
агитационного отдела (ОАО) Всероссийской коллегии по организации
Красной армии. Уже 28 марта 1918 г. в Москве были открыты
Агитаторские курсы, на которые допускались все желающие, снабженные реко-
Глава 2. Военная риторика пролетариата
187
мендациями организаций, стоявших на «платформе Советской власти».
Ниже приводится типичный образец пропагандистской продукции этого
ведомства.
«Товарищи рабочие, крестьяне и вся беднота! ...Мы должны стать
вооруженным народом.
Всюду, в городах и в селах, по всей стране надо начать немедленно
поголовное обучение взрослого населения военному делу... На каждом
заводе, при каждой мастерской, в каждом квартале, в каждой
деревушке, в каждом селе, при волостных земельных комитетах, при Советах, -
всюду надо создавать вербовочные пункты, военные комиссии, военные
отделы...
Пусть все насильники, хотящие поработить нас, - пусть все увидят
какую силу они разбудили, какую тревогу великую они поселили в
трудящихся... Если нам кликнут клич: под ружье! К оружию! Мы ответим:
мы здесь, мы готовы бороться дружными рядами за освобождение
трудящихся, за землю, за социализм!..
Мы сдались безоружными. На миг мы проявили слабость, усталость
овладела нами. С новыми силами поднимаемся мы. Сила эта -
вооруженный народ. Этой силе не страшны империалисты, она сломит всякое
рабство.
Все за работу. Будем строить эту новую силу - силу вооруженного
народа» [37, С. 197-198]
До 16 июня 1918 г. ОАО и курсы подготовили и разослали по всей
стране около 300 агитаторов. Было выпущено и отпечатано более 15
изданий общим тиражом 2.406.000 экземпляров. Пропагандистская
кампания на результатах набора сказывалась, впрочем, довольно слабо. В
Москве, например, на 30 марта 1918 г. насчитывалось всего 11 000
красноармейцев при 2 000 (!) пулеметов.
На первых порах регулярные армейские части сосуществовали с
отрядами, которые руководствовались еще не изжитыми фабрично-
заводскими принципами организации Красной гвардии. Так от бойцов
Особого Петроградского отряда требовалось «всеми силами не щадя
своей жизни защищать и поддерживать Советскую власть, ни на минуту
не забывая о великих и светлых целях социализма», и «исполнять
боевые приказы хотя бы влекущие верную смерть, если таковые исходят
от начальствующих лиц», «в боевой обстановке не приносить жалоб на
усталость,., на недостаток продовольствия, а в боевое время и на
отсутствие такового, помня, что в боевой обстановке возможны случаи, когда
188 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
совершенно исключена возможность снабжения продуктами», и
служить не менее 2-х месяцев, но... об уходе предупреждать за 2 недели [37,
С. 267]. Особенно охотно, по материалам печати, люди записывались в
красные партизанские отряды, в которых понятия о дисциплине были
более чем символическими, действовавшие исключительно на страх и
риск формировавших их командиров.
Состояние боевой подготовки красноармейцев также оставляло
желать лучшего. Например, результаты стрельб из винтовок в
Петроградском ВО 5 марта 1918 г. были следующими: попадания в щит - 20-30 %,
в мишень - 15-20 %.
Вот с такими вооруженными силами встретила Советская
республика первый серьезный удар организованных сил контрреволюции -
восстание чехословацкого корпуса. Собственно говоря, армии как таковой
у большевиков еще не было. Было некоторое количество «вооруженного
народа», как метко характеризовала советские войска большевистская
прокламация, но не было армии. Эту армию еще предстояло создать
боями и кропотливой повседневной работой тысяч рядовых коммунистов,
командиров и комиссаров, и она создавалась, можно сказать, до
последних сражений Гражданской войны.
После выступления чехословаков, сплочения сил донского
казачества, организации Добровольческой армии, сопровождавшихся ростом
количества контрреволюционных мятежей в тылу, перед советской
властью вставала во весь рост проблема борьбы уже не за отвлеченные
идеалы всемирного братства и мировой революции, а за собственное
выживание «в отдельно взятой стране», борьбы не на жизнь, а на смерть.
Смена целей вооруженной борьбы очень скоро отразилась на
содержании военной риторики большевиков, в которой с этого времени зазвучал
в полную силу страстный и грозный голос Л.Д. Троцкого.
Риторика наркомвоена очень оперативно реагировала на изменения
в военно-политической обстановки. Через 5 дней после падения Самары,
13 июня 1918 г. вышел приказ всем частям РККА, сражавшимся против
мятежников и чехословаков, из которого ясно виден личный
риторический стиль Троцкого, который почти четыре года олицетворял собой
военную риторику революции.
«Солдаты Красной Армии! Враги рабочих и крестьян подняли
восстание. Бывший генерал Краснов восстанавливает на Дону царские
порядки и открывает дорогу чужестранному вторжению. Преступный
мятежник Дутов двигает против рабочих и крестьян темные банды на Урале.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
189
Агенты чужестранных капиталистов путем подкупа, лжи и клеветы
подняли наших военнопленных чехословаков на восстание против русских
рабочих и крестьян. На Дону, на Волге, на Урале, в Сибири помещики,
капиталисты, реакционные генералы поднимают голову...
Вам, солдаты Красной Армии, Совет Народных Комиссаров
приказывает раздавить контрреволюционные банды и стереть врагов народа
с лица земли!
Во всех частях должны царить порядок и дисциплина. Все
приказания лиц командного состава должны выполняться беспрекословно.
Приказываю начальником докладывать мне обо всех подвигах
революционного героизма и воинской доблести. Я буду их поименно публиковать
для сведения всей страны. Пусть каждый город, каждая деревня рабочей
и крестьянской России знает, кто отщепенец, а кто верный и честный
сын народа.
Трусы и изменники должны быть отброшены и раздавлены. На
помощь храбрым придут все честные рабочие и крестьяне России. Да
здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия!» [37, С. 217].
Приказ должен был продемонстрировать всем, что шутки в деле
обороны республики закончились. Начать с того, что излюбленная форма
обращения к войскам «эпохи красногвардейской атаки на капитал»
«товарищи» или даже «дорогие товарищи» была решительно отброшена и
заменена почти наполеоновской «солдаты Красной Армии», которая и
употреблена по-наполеоновски - дважды. Стиль командный,
сдержанный, полный внутренней силы. Фразы короткие, емкие, легкие для
восприятия: 80 % предложений содержат менее 11 слов, самое длинное
предложение - всего 16. Оттого никакой революционной восторженной
велеречивости, стилистические фигуры практически отсутствуют. Зато
используются весьма экспрессивные глаголы, составляющие не менее
16% слов текста. В речи нет и намека на былую практику
«уговаривания» войск; преобладают жесткие императивные формулы «должны»,
«приказываю».
Троцкий очень любил экспрессивные выражения, особенно
словечко «раздавить»; не только враги, но и трусы, дезертиры, изменники у
него должны быть «раздавлены», «уничтожены», «стерты с лица земли»,
«стерты в порошок». Явное его пристрастие к такого рода языковым
средствам можно объяснить двояко. Во-первых, подавляющим
численным перевесом Красной Армии над своими противниками, что Троцкий
неустанно подчеркивал в своих приказах. Слово «раздавить» вызывает
190 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
ассоциацию «навалиться всей тяжестью, массой, числом». Кроме того,
«раздавить» это глагол, который не только передает решительность
действия, но и относительную беспомощность и, мы бы сказали,
неодушевленность объекта воздействия. Раздавить можно жука, таракана, вошь,
наконец, «белую гадину» - все эти представители фауны у человека
обыкновенно вызывают отвращение. Когда Троцкий требовал: «Трусы
и изменники должны быть отброшены и раздавлены» - он, тем самым,
недвусмысленно низводил своих противников до уровня упомянуты
насекомых и пресмыкающихся, освобождая сознание красноармейца от
мыслей о возможной не то чтобы ответственности за убийство (на
шестом году непрерывной бойни о ней никто уже и не помышлял), но и от
естественного чувства гуманности по отношению к соотечественникам.
Человек, фанатически преданный коммунистической идее, Троцкий,
скорее всего, не только не принимал право на существование иных
взглядов, иного мировоззрения, но и воспринимал их как досадные помехи
социальному прогрессу, которые коммунистическая партия не только
была вправе, но и обязана была устранять со своего пути. Интеллектуал
до мозга костей, он, например, просто и абсолютно искренне не замечал
ничего вокруг, что выходило за рамки его любимых идей. Ни красоты
природы, ни культурные памятники России не производили на него ни
малейшего впечатления. Последние, если они выступали атрибутами
враждебного пролетарской идее строя, вызывали у него еще и
агрессивное неприятие. «Тяжелое московское варварство глядело из бреши
колокола и из жерла пушки», - так описывал он впечатления от лицезрения
Царь-колокола и Царь-пушки после переезда советского правительства
в Кремль. Если «варварство» в лице смотрителя Большого Московского
дворца старичка Ступишина заботливо выравнивало перед семьей нар-
комвоена тарелки с царскими двуглавыми орлами, это еще вызывало
снисходительную улыбку, но если оно с оружием в руках дерзало
посягать на Идею, тогда все средства против него были хороши.
Впрочем, Троцкий в этом своем пристрастии не был одинок.
Единственный человек, которого он признавал вождем и учителем, - В.И.
Ленин - при всем своем умении владеть собой примерно в это же
время, 6 августа 1918 г., в статье «Товарищи рабочие! Идем в последний,
решительный бой!», неудержимо изливал яростный гнев на тех, кто им
воспринимался как угроза распространению советской власти в деревне
- на крепких крестьянских хозяев: «Беспощадная война против этих
кулаков! Смерть им! Ненависть и презрение защищающим их партиям...!
Глава 2. Военная риторика пролетариата
191
Рабочие должны железной рукой раздавить (выделено нами. - авт.)
восстания кулаков...» [103, С. 220].
«Раздавить» контрреволюционеров, однако, было проще на бумаге.
На деле наспех формирующиеся советские войска мало что могли
противопоставить опыту и порыву офицерских рот В.О. Каппеля. Поэтому
пружина репрессий продолжала закручиваться. На следующий день
после потери красными Казани вышел приказ Троцкого № 10 от 8 августа.
«Борьба с чехо-белогвардейцами тянется слишком долго.
Неряшливость, медлительность и малодушие в наших собственных рядах являются
лучшими союзниками наших врагов... Этому должен быть положен конец.
Страна нуждается в спокойствии и хлебе. Чехо-белогвардейцы
лишают ее того и другого. Они должны быть уничтожены. Прямые и
косвенные союзники чехословаков - контрреволюционеры, агитаторы и
саботажники должны быть стерты в порошок...
Предупреждаю ответственных советских работников в области
военных действий и в полосе военных передвижений, что с них будет
спрашиваться вдвойне. Со своими нерадивыми и преступными слугами
Советская Республика будет расправляться не менее сурово, чем со
своими врагами. Грозное положение страны обязывает применение
грозных мер. Советская Республика в опасности. Горе тем, которые прямо
или косвенно увеличивают эту опасность» [174, С. 133-134].
Кроме приказа снискавший широкую известность на фронтах
Гражданской войны поезд наркомвоенмора вез войскам Восточного фронта
революционный трибунал, облеченный широкими полномочиями, и
решение о создании «концентрационных лагерей, куда будут заключаться
темные агитаторы, контрреволюционные офицеры, саботажники,
паразиты, спекулянты, кроме тех, которые будут расстреливаться на месте
преступления и приговариваться к военно-революционным и др.карам»
[там же].
В приказе поднималась еще одна очень важная для советского
военного руководства проблема - об отношении к репрессиям против
провинившихся ответственных работников и коммунистов. Сам Троцкий в
своих воспоминаниях признавал, что «коммунисты нелегко входили
в военную работу (выделено нами. - авт.). Тут понадобились и отбор
и воспитание. Еще из-под Казани я телеграфировал Ленину:
«Коммунистов направлять сюда таких, которые умеют подчиняться, готовы
переносить лишения и согласны умирать. Легковесных агитаторов тут не
нужно» [174, С. 426].
192 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Рис.10. Л.Д. Троцкий перед красноармейцами
Таким образом, в формулу успеха Красной армии наряду с
агитацией и суровыми репрессивными мерами вводился третий член -
революционный пример, как его называл тов. Троцкий. Дерзнем
предположить, что безжалостная требовательность Троцкого к примерности
и ответственности коммунистов, за что он и в ходе войны, и после ее
окончания подвергался многочисленным нападкам, была главным
средством сплочения красноармейских коллективов и формирования
боевого духа войск. Чеканная формула Троцкого «коммунисты, уличенные
в проступках и преступлениях против революционного
воинского долга будут караться вдвойне (выделено нами. - авт.), ибо, что
может быть прощено темному несознательному человеку, того нельзя
простить члену партии, стоящей во главе рабочего класса всего мира
(!)» [там же, С. 427], по сути, спасла большевиков. Троцкий
демонстрировал серьезный, нелицеприятный государственный подход к делу; это
было то горькое, но спасительное лекарство, применить которое в Белой
армии, напомним, так и не решился ген. А.И. Деникин.
К обязанностям армейских коммунистов Троцкий обращался
неоднократно. В приказе № 69 от 11 дек. 1918 г. указывалось: «Солдат-
коммунист имеет такие же права, как и всякий другой солдат, - ни
на волос больше; он имеет только несравненно больше обязанностей.
Солдат-коммунист должен быть образцовым воином, он должен в бою
всегда находиться в первых рядах, он должен стремиться и других увле-
Глава 2. Военная риторика пролетариата
193
кать в самое опасное место, он должен быть образцом дисциплины,
добросовестности, мужества... иначе это жалкий самозванец, с которого
нужно взыскивать вдвойне» [173, т. 1, С. 185].
И партия в этом вопросе решительно поддержала Троцкого.
«Принадлежность к коммунистической ячейке, - читаем уже в резолюциях VIII
съезда РКП(б), - не дает солдату никаких особых прав, а лишь налагает
на него обязанность быть наиболее самоотверженным и мужественным
бойцом» [150, С. 98]. В циркулярном письме ЦК «Наша работа в Красной
армии» от 14 июля 1919 г. это положение было подтверждено и усилено:
«Коллективы коммунистов не должны выделяться ничем из общей
красноармейской среды, кроме как большей самоотверженностью и
стойкостью.... Единственная привилегия коммуниста — это привилегия
быть всегда на самом опасном, самом ответственном месте
(выделено нами. - авт.)» [93, С. 98].
Еще более жесткие требования предъявлялись к комиссарам. В
докладе Троцкого на чрезвычайном объединенном заседании ВЦИК V созыва
совместно с Московским Советом рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов 29 июня 1918 г., на котором был провозглашен лозунг
«Социалистическое отечество в опасности!», прозвучали знаменательные слова:
«Кто из комиссаров не чувствует в себе силы, закала и
самоотверженности, пусть уйдет прочь, но кто взял на себя звание комиссара,
должен отдать свою жизнь! (выделено нами. - авт.)» [171, т. 1, С. 227].
Такой суровый подход давал плоды. «Я должен сказать, что в лице
наших комиссаров, передовых бойцов-коммунистов мы получили новый
коммунистический орден самураев (выделено нами. - авт.),
который - без кастовых привилегий - умеет умирать и учит других умирать
за дело рабочего класса», - докладывал Троцкий на VII Всероссийском
съезде Советов 7 декабря 1919 года [173, т.2, ч. 2, С. 7].
Принцип примерности комиссаров и коммунистов со всей
беспощадностью впервые был применен Троцким под Свияжском, когда судьба
советов буквально висела на волоске. В своих воспоминаниях Троцкий,
правда, ограничился фактом ареста и предания суду командира 4-го
латышского полка, позже приговоренного к тюрьме за категорическое
требование сменить полк с позиции. В книге Д.А. Волкогонова похожий
эпизод освещен несколько иначе. По его сведениям, в отражении атаки
каппелевцев на Свияжск участвовали части только что сформированной
5-й советской армии, в том числе необстрелянный 2-й Петроградский
рабочий полк, бежавший с поля боя вместе с командиром и комиссаром.
194 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
По личному указанию Троцкого военно-полевой суд 5-й армии
приговорил к расстрелу каждого десятого из беглецов и первыми из них были
расстреляны командир и комиссар полка [23, т.1, С. 230].
На это событие косвенно указывает самый, пожалуй, знаменитый
приказ Троцкого № 18 от 8 августа 1918 года.
«Мне доложено, будто Петроградский партизанский отряд покинул
позицию. Приказываю комиссару Розенгольцу94 проверить. Солдаты
Рабочей и Крестьянской Красной Армии не трусы и не негодяи. Они хотят
сражаться за свободу и счастье рабочего народа. Если они отступают
или худо сражаются, то виноваты командиры и комиссары.
Предупреждаю: если какая-либо часть отступит самовольно, первым
будет расстрелян комиссар части, вторым - командир.
Мужественные, храбрые солдаты будут награждены по заслугам и
поставлены на командные посты. Трусы, шкурники и предатели не уйдут от
суда. За это я ручаюсь перед лицом всей Красной Армии» [ 173, т. 1, С. 235].
Кроме похожего названия части ничто не говорит о том, что командир
и комиссар Петроградского полка (или отряда, что вернее) были
расстреляны, как нет никаких точных указаний на проведение «децимации» среди
солдат. Тем не менее, даже легенда о расстрелах наркомвоеном
коммунистов, вероятно, сослужила неплохую службу в деле «подтягивания» войск.
Характерно, что «Ильич», всю войну надежно поддерживавший
Троцкого, был вполне солидарен с ним в этом вопросе: «...Не объявить
ли ему (командному составу.- авт.), что мы отныне применим образец
Французской революции, и отдать под суд и даже под расстрел Ваце-
тиса95, как и командарма под Казанью и высших командиров, в случае
затягивания и неуспеха действий?..», - телеграфировал он Троцкому 30
августа 1918 года. [23, т.1, С. 230].
Принятые жесткие репрессивные меры дали требуемый результат.
Боевая устойчивость войск несколько повысилась. Это, вкупе с
численным превосходством, и обеспечило первые успехи Красной армии
в борьбе на Восточном фронте. Важность этого успеха была настолько
велика, что на взятие Казани Троцкий откликнулся особым приказом №
32 от 10 сентября 1918 года.
«День 10 сентября войдет праздником в историю социалистической
революции. Частями пятой армии Казань вырвана из рук белогвардей-
94 Розенгольц А.П. (1889-1938) - в тот период член РВС казанского участка Восточного
фронта.
95 Вацетис И.И. (1873-1838) - главнокомандующий Восточным фронтом.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
195
цев и чехословаков. Это поворотный момент. Натиск буржуазной армии
встретил, наконец, должный отпор. Дух неприятеля сломлен...
Солдаты и матросы пятой армии! Вы взяли Казань. Это зачтется вам.
Те части или отдельные бойцы, которые особенно отличились, будут
соответственно вознаграждены рабочей и крестьянской властью. Здесь же
я перед лицом страны и международного пролетариата заявляю: пятая
армия в целом честно выполнила свой долг. От имени Совета Народных
Комиссаров я вам говорю: «товарищи, спасибо!» [173, т.1, С. 246].
Нельзя не заметить, что жанр революционного благодарственного
приказа сильно отличается от традиционного его варианта,
получившего широкое распространение в русской военной риторике XVIII-XIX
веков. Здесь благодарность войскам выражена сурово и очень
сдержанно. Подчеркивается, что армия всего лишь выполнила свой долг.
Тон приказа, очевидно, сознательно снижался Троцким; он сильно
контрастирует с многочисленными восторженными дифирамбами
расточавшимися «революционным» войскам в недавнем прошлом «эпохи
красногвардейской атаки на капитал». Встречается и откровенно
неудачный, какой-то ворчливо-многозначительный пассаж о том, что
победа «зачтется» 5-й армии. Возможно, Троцкий, близко наблюдавший
поведение своих войск и хорошо осведомленный о численном перевесе
красных, был не в восторге от их героизма. Возможно, что наряду с
объективным, в принципе, нежеланием слишком уж расхолаживать
только что сорганизовавшиеся войска, наркомвоенмору просто лучше
удавались приказы, низводящие на головы врагов и ослушников
всевозможные «казни египетские».
Принципы военной риторики Троцкого, прошедшие первую проверку
на Восточном фронте хорошо прослеживаются и в его приказе № 43 от 5
октября 1918 г. войскам Южного фронта, где к тому времени сложилась
тяжелая обстановка на царицынском участке.
«Именем Совета Народных Комиссаров приветствую войска
Южного фронта! В течение долгого времени вы ведете здесь, товарищи, борьбу
против красновских банд. В этой борьбе было много геройства, много
потерь, много жертв. Но до сих пор ваша борьба еще не дала
желательных результатов....
Причина тому отчасти та, что отдельные части обнаруживали
нередко недостаточную стойкость.... Этого больше не будет.
Подавляющее большинство из вас - честные солдаты рабочей, крестьянской и
казацкой армии. Вы сами подтянете малодушных. Лучшие полки будут
196 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
отличены. Храбрые будут награждены перед лицом всей страны. Трусы,
шкурники и предатели будут выметены вон и сурово наказаны....
Командиры и комиссары, которые осмелятся нарушать дисциплину,
будут, независимо от прошлых заслуг, немедленно преданы суду
Революционного Военного Трибунала Южного фронта.
Предупреждаю:
Если часть расшатана, поддается легко панике - виноваты командир
и комиссар. Если часть отступает, вместо того, чтобы наступать, -
виноваты командир и комиссар. Они ответят за свою часть по законам
военного времени.
Солдаты Южного фронта! Для вас пробил час решительных действий.
Белогвардейские банды должны быть раздавлены. Теснее сомкнитесь в
ряды. Советская республика ждет ваших подвигов и вознаградит вас по
заслугам. Вперед к победе! (выделено нами. - авт.)» [173, т. 1, С. 348].
В основных чертах приказ, как видим, повторяет приказ № 10 от 8
августа. Только более широко использованы средства выразительности,
особенно в части, касающейся ответственности командиров и
комиссаров. Вполне возможно, что грозное предупреждение относилось прежде
всего к командованию царицынского участка Южного фронта, где,
благодаря усилиям председателя РВС фронта И.В. Сталина и члена реввво-
енсовета К.Е. Ворошилова, шла тихая междоусобная война между
комиссарами и «военспецами», в которую Сталин пытался втянуть и РВС
республики.
Не случайно, что приказ Троцкого вышел после откровенно наглого
по тону доклада Сталина от 2 октября, направленного помимо РВС, В.И.
Ленину, Я.М. Свердлову и И.И. Вацетису, ставшему после удачи под
Казанью главнокомандующим силами страны Советов.
Реакция Троцкого последовала незамедлительно. Согласно
телеграмме председателя РВС республики за № 1149, в новый состав РВС
Южного фронта был введен протеже Троцкого К.А. Мехоношин,
подтверждено, что «командующему Южным фронтом принадлежит полная
самостоятельность во всех вопросах стратегически-оперативного
характера» и дополнительно указано, что «соответствующие приказы
командующего скрепляются подписью одного (курсив наш. - авт.) из членов
Революционного военного совета Южного фронта» [52, т.1, С. 350].
Нетрудно догадаться, что приказы командующего Южным фронтом стал
скреплять тов. Мехоношин, Сталин был отозван, а другой активный
участник «вороньей слободки» Ворошилов вынужден был отправиться
Глава 2. Военная риторика пролетариата
197
командовать 10-й армией на не только самый ответственный, но и самый
опасный царицынский участок.
Забегая вперед, заметим, что И.В. Сталин помимо неугасимой
ненависти к Троцкому вынес из огня Гражданской войны некоторые его
выражения, которые он с большим или меньшим успехом пытался
использовать в собственной военной риторике. В частности, явные признаки
влияния риторического стиля Троцкого носил уже сталинский приказ
№ 14 от 11 августа 1918 г. войскам Северо-Кавказского ВО.
«Завоеваниям Октябрьской революции грозит смертельная
опасность. Чехословаки на востоке, англо-французы на севере и на
побережье Каспия, красновско-германские банды на юге угрожают низложить
Советскую власть, отнять землю у крестьян, раздавить свободный
пролетариат и посадить на спину трудящихся буржуазию, помещиков,
коннозаводчиков и генералов.
Царицын окружается. Царицын может пасть. Южная армия окажется
тогда отрезанной, она может лишиться боевых припасов, и ее могут
разбить и раздавить (выделено нами. - авт.) по частям....» [там же, С. 303].
Неумелое эпигонство налицо. Оно проявляется и в начале с краткой
ориентировки в военно-политической обстановке, и в «рубленой» форме
ключевой фразы, и в использовании любимого словечка наркомвоенмора.
Ну а знаменитый лозунг «вперед, к победе!» прозвучит на Красной
площади 7 ноября 1941 г., перед войсками, вынужденными спасать Родину
после тяжелых военных и политических ошибок «маршала
коммунистического движения всего человечества».96 И эти явные заимствования, как
мы убедимся далее, не единственны. Так что, перефразировав известное
изречение, про риторический стиль Сталина, несколько утрируя, вполне
можно было бы сказать, что «Сталин - это Троцкий вчера».
И все же врагов иметь полезно. Не будь доклада Сталина, в
издевательском тоне указывавшего на недостаточность снабжения
одеждой, снаряжением, боевыми припасами и вооружением войск Южного
фронта, как знать, когда вошел бы в формулу успеха Красной армии
четвертый и последний член - организация и снабжение. А так уже
в приказе по войскам 8-й армии № 62 от 20 ноября 1918 г. № 62
читаем: «...Если солдат при отступлении бросил винтовку, сапоги, вообще
какую-либо часть обмундирования, то стоимость вещей должна быть
возмещена вычетами из солдатского жалованья... Одновременно с
96 Из речи К.Е. Ворошилова на I Всесоюзном совещании рабочих и работниц-стахановцев
17 ноября 1935 г.
198 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
этим надо упорядочить органы снабжения...напоминаю, что все
служащие военных учреждений являются военнослужащими, и что всякая
неряшливость, неаккуратность, беспечность, тем более
недобросовестность будут караться по законам военного времени» [173, т.1, С.
356]. Если отбросить в сторону непременные упоминания о суровых
репрессиях, будет ясно, что тыл в понимании Троцкого становился
тем, что он есть в современном строевом уставе - обратной стороной
фронта.
Зорким взглядом талантливого дилетанта Троцкий увидел
традиционно больное место русской армии - ее тыл, организация которого
находилась в руках военных чиновников (в приказе «служащих военных
учреждений») интересы которых, что показывал печальный опыт белых
армий, отстояли от запросов войск, как небо от земли. Одной из
главных заслуг Троцкого стала решительная организация тыла воюющей
Красной армии «на военную ногу». Показателем внимания советского
руководства к организации тыла армии может служить факт того, что
по временному штату штаба тыла армии, введенному приказом коман-
дюгзапа97 № 950 от 8 июня 1920 г., всего две должности - начальника
тыла армии и начальника разведывательного отделения могли занимать
только коммунисты. Об этом свидетельствует особая запись в графе
«выноски» штатного расписания [155, С.3-4].
«Чтобы обеспечить победу над Деникиным, - говорил Троцкий в
беседе с представителями советской печати 26 августа 1919 г., - нужно
создать такую комбинацию баз, транспортных средств, учетных и
распределительных органов, чтобы красноармеец, наступая, был сыт.
Чтобы его не заедала вошь. Чтобы на ноге его были портянки и сапог, чтобы
винтовка его была вовремя вычищена и смазана» [173, т.2, С. 67]. Это
внимание председателя РВС республики и наркомвоенмора к
снабжению солдата не ослабевало до конца войны. «Непременным условием
успеха всех и всяких мер (агитационного, воспитательного,
организационного, карательного характера (выделено нами. - авт.))
для обеспечения боеспособности частей Западного фронта является
правильная постановка дела снабжения», - прозорливо указывал он в
приказе № 213 от 9 мая 1920 года [173, т.З, С. 125]. Именно
недостатки в снабжении красных войск, из-за чего они вынужденно прибегали к
реквизициям среди польских крестьян, по мнению ряда советских воен-
Командующего Юго-Западным фронтом.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
199
ных руководителей, перечеркнули результаты революционной агитации
и привели к тому, что поляки «были склонны видеть в нас не братьев-
освободителей, а чуть ли не врагов» [145, С. 240].
Сам Троцкий неоднократно указывал, что успехи Красной армии,
которые в массовом сознании устойчиво ассоциировались с масштабной
революционной агитацией, на самом деле были обусловлены
правильной организацией дела. Даже многократно битые войска за две-три
недели приходили в себя и восстанавливали боеспособность, если им
могли вовремя «дать хороших командиров, несколько десятков опытных
бойцов, десяток самоотверженных коммунистов, добыть босым сапоги,
устроить баню, провести энергичную агитационную кампанию,
накормить, дать белья, табаку и спичек... Красноармеец плотнее поел, сменил
белье, переобулся, выслушал речь, встряхнулся, подтянулся и - стал
другим» [174, С. 405, 419].
И все же «визитной карточкой» военной риторики Троцкого на
протяжении всего 1918 г. оставалась тема репрессий, переходившая вслед
за его поездом с фронта на фронт. Самый, пожалуй, драконовский
приказ № 65 был издан 24 ноября 1918 г. в дни крупных поражений Красной
армии на Дону, Северном Кавказе и Нижнем Поволжье.
«...1. Всякий негодяй, который будет подговаривать к отступлению,
дезертирству, невыполнению боевого приказа, будет расстрелян.
2. Всякий солдат Красной Армии, который самовольно покинет
боевой пост, будет расстрелян.
3. Всякий солдат, который бросит винтовку или продаст часть
обмундирования (выделено нами. - авт.), будет расстрелян.
4. Во всей прифронтовой полосе определены заградительные отряды
для ловли дезертиров. Всякий солдат, который попытается оказать этим
отрядам сопротивление, должен быть расстрелян на месте.
5. За укрывательство дезертиров виновные подлежат расстрелу.
6. Дома, где будут открыты дезертиры, будут подвергнуты
сожжению...» [173, т.1, С. 358].
Из шести пунктов приказа пять содержат слово «расстрел»,
«расстрелян». В оправдание Троцкого можно сказать, что это был период,
когда революция, по его выражению, находилась «в самой низкой
точке». Во многом катастрофическое положение, сложившееся в ноябре
1918 г. на Южном фронте, объяснялось низкой организованностью и
недисциплинированностью красных войск, из-за чего нередки были случаи
невыполнения приказов, мятежей и переходов целых частей на сторону
200 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
противника. Например, одна часть Вольской дивизии, прибывшей в
район Царицына с Восточного фронта в октябре 1918 г., не доходя до места
назначения, самовольно разошлась, а другая под влиянием
контрреволюционной агитации отказалась выполнить боевой приказ и самовольно
покинула позиции. Разложение частей Вольской дивизии отразилось
на соседней с ней Камышинской дивизии. Часть 1-го Камышинского и
1-го Иловлинского полков отказалась выполнить боевой приказ и ушла в
тыл, а 2-й Иловлинский полк вообще перешел на сторону белых, чем
создалось тяжелое положение на камышинском участке Южного фронта.
«Для приведения в христианский вид разных митингующих полков», по
выражению командующего 10-й армией К.Е. Ворошилова, вынужденно
привлекались отряды кавалерии «особого назначения» штаба армии.
В постановлении ЦК РКП(б) об укреплении Южного фронта,
вышедшем 26 ноября, указывалось, что «никогда опасность самому
существованию Советской республики не была так грозна и близка, как в
настоящий момент», в связи с чем подчеркивалось, что «красный террор
сейчас обязательнее, чем где бы то ни было и когда бы то ни было, на
Южном фронте - не только против прямых изменников и
саботажников, но и против всех трусов, шкурников, попустителей и укрывателей».
Ну а многострадальный командный состав вообще должен был быть
«поставлен перед единственным выбором: победа или смерть» [96, С. 34].
Красный террор в конце 1918г., как видим, обратился не только против
«наемников капитала», но и против своих же собственных войск. Так
что приказы председателя РВС республики только в наиболее яркой и
доходчивой форме воплощали в жизнь решения партии.
И все же «жесткие меры тов. Троцкого для этой эпохи
партизанщины, самовольщины, недисциплинированности и кустарнической
самовлюбленности были98... целесообразны и необходимы, - писал уже
после окончания Гражданской войны СИ. Гусев, которого никак нельзя
назвать поклонником сурового наркомвоенмора. - Уговором ничего
нельзя было сделать, да и времени для этого не было» [44, С. 14].
По мере наведения порядка в армии, по мере формирования стойких
воинских частей, сплоченных не только страхом суда и расправы, но и
боевыми традициями, опиравшимися на чувство локтя у бойцов,
вкусивших радость победы после первых мало-мальски удачных боев,
постепенно менялся и тон военной риторики Троцкого. Она начинала больше
Явный намек на стиль М.А. Муравьева.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
201
апеллировать к чувству воинской гордости, опыту победных боев,
чувству долга и ответственности за судьбы страны, осторожно переходя от
политики кнута и пряника к воспитанию «идеальных» ценностей в
сознании красноармейца.
Новые веяния воплощались, например, в приказе № 87 от 26 марта
1919 г. войскам 2-й армии Восточного фронта, который опять
становился важнейшим фронтом республики.
«Сейчас белогвардейские полки нового самодержца Колчака
поставили себе задачу разбить вашу армию и открыть себе дорогу на Казань.
Этим самым на вашу армию возлагается великая и почетная задача: дать
врагу трудовой России, наемнику американских капиталистов
беспощадный отпор. Ваша армия имеет уже в прошлом великие заслуги перед
Советской Республикой. Не сомневаюсь, что и на этот раз каждый из
вас и все вы вместе окажетесь на высоте. Вся Рабочая и Крестьянская
Россия с надеждой и уверенностью глядит на вас.
2-я армия, теснее ряды!
Смерть и гибель буржуазным и помещичьим бандам!
Смерть и гибель колчаковскому самодержавию!
Смерть и гибель чужестранным империалистам!
Да здравствует красная II армия!
Да здравствует Рабочая и Крестьянская Россия!» [173, т. 1, С. 316].
Обращаясь к знакомым и известным своей доблестью войскам,
Троцкий совершенно не склонен был расточать своих знаменитых
«предупреждений» и не сулил «горя» недостаточно ретивым исполнителям его
приказов. Наоборот, старался в определенной степени «авансировать
доверием», выражая уверенность в способности войск успешно решить
поставленные задачи, важность каковых усиленно подчеркивались
«превосходными» эпитетами. В приведенном приказе в советской
военной риторике окончательно отчетливо оформляется заимствованная из
революционных листовок РСДРП цепочка лозунгов-призывов,
построенная на антитезе «смерть врагам - здравицы своим». Этот прием будет
повторяться многими советскими военачальниками, в том числе и И.В.
Сталиным.
Когда это было необходимо, Троцкий умел волновать души
красноармейской аудитории не только громами небесными, но и рисовать перед
ней чарующие картины социалистического рая. Например, в статье «Что
нужно России?», опубликованной в № 32 от 14 апреля 1919 г. газеты «В
пути», издававшейся в походной типографии поезда председателя РВС
202 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
и наркомвоенмора и оперативно распространявшейся среди
красноармейских частей, он писал: «...Россия, ее трудящийся класс больше всего
нуждается в мире. Но для того, чтобы получить этот мир, надо разбить
банды Колчака... Три четверти Красной Армии, если не девять десятых,
можно будет демобилизовать после победы над Колчаком. Рабочий
вернется к станкам. Крестьянин вернется в деревню. Освобожденные
железные дороги станут работать исключительно в интересах хозяйства.
Из освобожденного Туркестана пойдет хлопок на фабрики. Из
Донецкого бассейна направится на заводы уголь. Железные дороги повезут
крестьянам ткани, инструменты, сельскохозяйственные орудия и станут
доставлять в города хлеб и прочие продовольственные продукты. Страна
свободно вздохнет. Освобожденный труд вступит в свои права. Два-три
года мира и покоя - и России нельзя будет узнать. Наши села расцветут.
Наши города забьют ключом хозяйственной и культурной жизни. Дети
рабочих и крестьян получат доступ ко всем источникам знания.
Социалистическая страна сделает могучий прыжок вперед по пути довольства,
знания и счастья.
Для всего этого нужен мир. Для получения мира надо задушить
главного... нарушителя мира - Колчака...» [173, т.1, С. 349-350].
Риторическая разработка речи проведена безупречно. Главный тезис
«для того чтобы добиться мира, надо разбить Колчака» повторен дважды
- в начале и конце речи. Несложная нисходящая аргументация навевает
умиротворение. Самый привлекательный для крестьянской армии
аргумент - демобилизация - подан в начале, а дальше, собственно говоря,
идет не аргументация, а просто яркими красками рисуется идиллия
мирной жизни. К реальности читателей возвращает только заключительный
призыв «задушить» Колчака.
Прием этот, построенный на фигуре пролепсиса, интересен, но
пропагандистская эффективность его не бесспорна. Равно вероятно, на наш
взгляд, что после «проживания» читателем воспоминаний о мире у него
вместо злобы на врага, как препятствия к миру, может сформироваться
тяга к миру «во чтобы то ни стало», а наиболее легкий путь к этому
лежит, как известно, через соблазн дезертирства. Может быть, поэтому
такой прием использовался Троцким нечасто.
Значительно привычнее звучит статья-прокламация «Задача
Восточного фронта» («В пути», № 36 от 24 апреля 1919 г.).
«...Конец отступлению! Мы должны разбить Колчака. Разбить его
возможно только путем напряженного наступления на всем фронте.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
203
Такое наступление потребует гораздо меньше жертв, чем затяжное
отступление. Один решительный удар - и насилием созданные, плетями
сплоченные полки Колчака рассыплются на части. Такой удар мы
должны нанести.
Комиссары и командиры! Советская Республика налагает на вас
величайшую ответственность в эти дни. Вы не смеете терять ни одного
дня, ни одного часа. Вы обязаны встряхнуть ваши части и пробудить в
них несокрушимую волю к победе. Ни шагу назад! (выделено нами. -
авт.) Пробил час наступления.
Горе тем полкам, которые не выполнят боевого приказа!
Честь и слава мужественным солдатам, командирам и комиссарам
Восточного фронта!» [173, т.1, С. 356].
Эта небольшая прокламация представляет интерес только тем, что
в ней использован лозунг, снискавший широкую известность в годы
Великой Отечественной войны. Любопытно, что номер приказа наркома
обороны Союза ССР И.В. Сталина (№ 227), в котором он прозвучал,
недалеко отстоял от номера приказа тов. Троцкого времен Гражданской
войны (№ 220), вводившего штаты армейских заградительных отрядов.
Случались у Льва Давидовича и явные «проколы» в его пропаганде. В
этой связи крайне интересна прокламация, вышедшая 27 апреля 1919 г.,
под «говорящим» заголовком «Что делаешь, делай скорее!». Дело в том,
что название это представляет собой цитату из фразы Иисуса Христа,
сказанной Иуде на Тайной вечери, после чего тот отправился к
первосвященнику и предложил предать им Спасителя."
Призыв Троцкого, обращенный к учреждениям и работникам тыла
Восточного фронта, ускорить присылку подкреплений, предметов
снабжения, мобилизацию коммунистов, как представляется, был облечен в
крайне неудачную словесную форму, допуская возможность
толкования, что тыл предает сражающиеся армии. Незнакомство Троцкого с
Евангелием вполне возможно, но трудно предположить незнакомство
с известнейшей фразой прецедентного текста массы православного
населения, получившего в недавнем прошлом преимущественно
религиозное воспитание.
Очевидно, Троцкому кто-нибудь из его окружения указал на
ошибку в выборе темы, потому что вышедшая буквально на следующий день
99 «Иисус... обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел
в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее... Он, приняв кусок, тотчас
вышел; а была ночь» (Ин. 13: 26-27, 30).
204 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
прокламация, повторявшая практически дословно тезисы первой,
называлась уже просто «Не теряйте времени!» Эта же тема повторялась и в
прокламации «Еще раз: не теряйте времени!» от 30 апреля, может быть,
чтобы окончательно изгладилась память о «ляпе», допущенном в первый раз.
Только в самом конце Гражданской войны 17 октября 1920 г. в
прокламации «Южный фронт и зимняя кампания» Л.Д. Троцкий опять
позволил себе привести, видимо, полюбившееся ему выражение в
заключительном лозунге, правда, уже не выделяя его разрядкой: «Что делаешь,
делай скорее! Что делаешь - делай вдвойне!» [173, т.2, ч.2, С. 219].
После перехода к массовой Красной армии, формируемой на основе
мобилизации, в военной риторике Л.Д. Троцкого начали звучать
мотивы, питавшиеся осознанием подавляющего количественного перевеса
советских войск. Самым печальным было то, что упование на решающее
значение Числа стало употребляться в качестве аргументов,
рассчитанных на убеждение красноармейской массы в не только возможности, но
и неизбежности победы. Здесь явно сказалось отсутствие у наркомво-
енмора личного военного опыта. Сначала советская военная риторика,
а потом и стратегия Красной армии стала потихоньку ориентироваться
на цифры, а не на качество войск, обусловленное состоянием их
боевого духа и сознанием своего морального превосходства над противником.
«Нужно поставить трех стрелков на том месте, где ныне стоит один, пять
всадников там, где ныне один боец сидит на коне. Это вполне
возможно. Недостатка в живой силе у нас нет. Мобилизация 19-летних и части
18-летних ...все это создает мощный, почти неисчерпаемый источник
пополнения нашей армии...», - писал Троцкий 16 июля 1919 г. в статье под
выразительным названием «До зимы закончить!» [173, т.2, ч.1, С. 229].
Суровая действительность, однако, скоро преподнесла советским
военным руководителям отрезвляющие сюрпризы и «закончить»
оказалось возможным только к зиме следующего года. Оказалось, что Бог не
всегда бывает на стороне «больших батальонов».
Прорыв в тылы красных деникинской конницы под командованием
ген. Мамонтова в августе 1919 г. сначала был явно недооценен Троцким.
Его прокламации и приказы изобиловали залихватскими призывами к...
облаве на белых кавалеристов. Прокламация, опубликованная 18
августа 1919 г. в № 84 газеты «В пути», так и называлась «На облаву!». Она
призывала: «На территорию Тамбовской губернии ворвалась деникин-
ская стая хищных волков, которые режут не только мужицкий скот, но и
рабочий люд. На облаву, рабочие и крестьяне! С оружием и дубьем! Не
Глава 2. Военная риторика пролетариата
205
давайте хищникам ни времени, ни сроку, гоните их со всех концов! Ату,
белых! Смерть живорезам!» [там же, С. 271-272].
Однако по мере продвижения Мамонтова к Воронежу и Туле тон
Троцкого начал меняться. Уже 24 августа выходит прокламация
«Кавалеристам корпуса Мамонтова», которая, взывая, как водится, к «обманутым
кавалеристам», сквозь зубы обещала им от имени рабоче-крестьянского
правительства «предоставить возможность мирного существования в
Советской России или же беспрепятственного возвращения - по вашему
желанию - на родину, когда вы сами того захотите (!)». Такие
неслыханно мягкие условия, при которых сдавшиеся белоказаки даже формально
не рассматривались бы как военнопленные, а также то, что прокламация
была опубликована в правительственном органе «Известия ВЦИК» №
188, а не распространялась силами армейских отделов пропаганды на
пути продвижения мамонтовцев, красноречиво говорит о размере
опасности, которую представляли для советского тыла прорвавшиеся
дивизии белой кавалерии.
Недавних «хищников» уже елейно-велеречиво увещевали: «Вам ли,
трудовые казаки, рабочие люди, отдавать свои головы за угнетателей
народа? Теперь, когда вы узнали правду100, поступите, как велит вам
совесть, и как требует ваш собственный интерес» [173, т.2, ч.1, С. 277].
Приказ Троцкого от 4 сентября 1919 г. № 147 требовал от ревкомов,
расположенных на угрожаемой рейдом территории, организации не
только «классических» заградотрядов, но и «каждому отряду, каждой
команде придать несколько беззаветно-решительных смельчаков». Далее Лев
Давидович, убедившись, видимо, что на войне не все решают
карательные меры, равно как и утроение стрелков и упятерение кавалеристов,
совсем как его предшественник на посту наркомвоена Н.И. Подвойский
во время наступления немцев, чуть ли не панически взывал: «Именем
Революции требую от всех и каждого не только твердости и выдержки,
но и беззаветного героизма!» [там же, С. 281]. Никогда больше на
протяжении всей Гражданской войны председатель РВС и наркомвоенмор
не требовал от своих подчиненных большего напряжения сил.
Действительно, беззаветного героизма требуют только в исключительно
тяжелых условиях, когда речь идет о жизни и смерти.
Именно так и стоял вопрос для Советской Республики, когда
11 сентября Троцкий выбросил свой знаменитый лозунг «Пролетарий,
О полном окружении корпуса красными и о «политическом лице» его командования.
206 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
на коня!», назвав так статью-прокламацию, размещенную в № 93 газеты
«В пути». В ней мы уже не найдем прежнего шапкозакидательного
отношения к противнику. Вся статья была посвящена спокойному,
деловитому, добросовестному разбору причин успеха мамонтовского рейда
и созданию условий для того, чтобы подобная партизанская практика
не стала козырным тузом в игре белого командования. В интересах
эффективной борьбы с Мамонтовым наркомвоенмор даже вынужден был в
определенной степени поступиться своим незыблемым доселе
принципом «регулярства», обратившись за помощью к красным «смельчакам-
партизанам», под которыми имелись в виду небольшие мобильные («от
10-20 смельчаков до кавалерийского отряда в несколько тысяч сабель
с легкой артиллерией и броневиками») противодиверсионные, в
современных терминах, формирования. Этими партизанами должны были
быть «подлинные храбрецы, воины без страха и упрека, для которых нет
ничего невозможного» [173, т.2, ч.1, С. 284].
Неслыханное дело: первый раз вождь, творец и организатор Красной
Армии не полагался на страх, который должны были внушать его
комиссары, комячейки, заградотряды, трибуналы, чрезвычайки, тройки и
прочий замысловатый аппарат подавления и революционного террора.
Страх теперь, похоже, испытывал сам всесильный наркомвоен, иначе не
писал бы в очередном своем призыве № 86 рабочим и крестьянам
выходить на облаву (4 сентября 1919 г.): «...тем из мамонтовцев, которые
будут пойманы с оружием в руках, не может быть пощады: это не
пленные, а застигнутые на месте преступления разбойники. Их нужно
беспощадно истреблять... Истребить их на месте, уничтожить, как
бешеных собак» [там же, С. 282].
Впрочем, уступка партизанству длилась недолго. После того, как
красными была одержана великая победа (именно так была озаглавлена
прокламация от 25 октября 1919 г., повествовавшая об успехе конницы Буденного
против корпусов Мамонтова и Шкуро), страх Троцкого прошел, и основные
усилия власти в дальнейшем опять были сосредоточены на укреплении
начал организованности и дисциплины в Красной Армии. Это стало особенно
актуально после вступления Красной Армии в пределы Украины, на
территории которой действовали многочисленные просоветски настроенные
партизанские отряды и добровольческие формирования (по типу многократно
охаянных советским командованием махновских войск).
Приказ № 180, подписанный Троцким 11 декабря 1919г.,
настоятельно требовал «обезопасить красные полки, продвигающиеся по Украине,
Глава 2. Военная риторика пролетариата
207
от заражения партизанством и махновщиной. С этой целью: а) вести
широкую устную и печатную агитацию, выясняющую преимущества
правильной армии над повстанческими отрядами, использовав примеры
прошлого для выяснения предательской роли махновцев и махновщины,
б) Очищать вступающие в Украину части от недисциплинированных и
склонных к партизанству комиссаров, командиров и членов
коммунистических ячеек» [173, т.2, ч.1, С. 308].
По устоявшейся традиции «своих» не щадили. Слишком велика была
ставка в борьбе за идею. Этот же приказ совершенно хладнокровно
рекомендовал при встрече с не проявляющим желания немедленно слиться
с частями Красной Армии партизанским отрядом «строго и точно
рассчитать удар. Причины расправы должны быть ясны и понятны каждому
крестьянину, рабочему и красноармейцу. Соответственный приказ
разъяснительного характера должен быть заранее своевременно отпечатан в
соответственном количестве экземпляров. Для учинения расправы
должны быть назначены вполне и безусловно надежные части. Разоружение,
следствие и расправа должны совершиться в кратчайший срок, по
возможности не дольше 24 часов» [там же, С. 309]. Приказ лишний раз
поразительно красноречиво говорит о состоянии революционной законности и
гибкости политического хребта большевистского руководства. Печатать
«разъяснительный приказ» о расправе предписывалось заблаговременно,
до того, как следствие установит фактическую вину обвиняемых!
Задолго до сталинской «великой чистки» 1937 г. советскими
руководящими документами открыто проводился бесчеловечный принцип
ответственности членов семей «врагов народа» за их преступления против
власти. Причем это не имело ничего общего с широко распространенной
практикой взятия заложников из числа буржуазии и офицеров,
одобрявшейся и направлявшейся, кстати, самим В.И. Лениным.101 «Каждый
комиссар, - требовала инструкция ответственным работникам 14 армии
от 9 авг. 1919 г., - должен точно знать семейное положение
командного состава вверенной ему части. Это необходимо по двум причинам:
во-первых, чтобы притти на помощь семье в случае гибели командира в
бою, во-вторых, чтобы немедленно арестовать членов семьи в случае
измены или предательства командира» [173, т.2, ч.1, С. 260].
Это же жестокое требование проводилось приказом № 163
председателя РВС и наркомвоенмора по войскам 7-й армии от 2 ноября 1919 г. «Семьи
101 См., например, текст записки В. И. Ленина Э. М. Склянскому от 8 июня 1918 г. [146,
Т.2, С. 96].
208 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
изменников должны быть немедленно арестованы». Кроме того
изобретательный ум Троцкого подсказал ему и вовсе уже экзотическую кару,
долженствующую, очевидно, воздействовать на воображение несчастных
изменников: «Самих предателей занести в Черную Книгу армии, дабы
после близкого и окончательного торжества революции ни один из
предателей не ушел от кары» [там же, С. 421].
Вместе с тем тенденции ставить на Число в советском военно-
политическом руководстве продолжали углубляться. Они, надо
понимать, до некоторой степени заменили в сознании непрофессионалов в
военном деле В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого первоначальную ставку на
террор. Ленин, например, предписывал Троцкому путем поголовной
мобилизации питерских рабочих «добиться настоящего массового (курсив
наш. - авт.) напора на Юденича» [там же, С. 152], а во время Советско-
польской войны и вовсе сгоряча предлагал мобилизовать после уборки
урожая все взрослое мужское население Белоруссии. Тема численного
превосходства Красной армии многократно встречается в приказах и
прокламациях самого Троцкого. Его приказ № 155 по войскам 7-й армии
от 18 октября 1919 г. старательно вбивал в сознание краскомов
аргументы в пользу усиления боевой активности, основанные преимущественно
на количестве красных войск.
«...Заруби у себя в памяти, товарищ командир:
Врага несомненно меньше, чем нас. Враг не держит сплошного
фронта... Ты втрое и вчетверо сильнее, а нередко и впятеро... Стало
быть твой прямой интерес, красный командир, показать красным
солдатам как мало белых, и показать белым солдатам, как много красных. Для
этого ты должен сделать свою часть видимой и осязаемой. Чтобы
сделать ее видимой - ты должен наступать. Чтобы раздавить врага,
нужно только ударить. Чтобы ударить - надо подойти. Поэтому
- вперед, наступай, наступай, наступай! В этом для тебя залог по-
беды» [173, т.2,ч.1, С. 402].
Вслед за признанными вождями воевать, уповая на Число,
постепенно приучались и армейские военачальники. Например, командарм б
тов. A.A. Самойло в указаниях от 16 октября 1919 г. начальнику 18-й
стрелковой дивизии сообщал, что «главное наше преимущество -
численное превосходство» [там же, С. 41]. Про существование морального
превосходства упомянуто было как-то вскользь и неопределенно, с
добавлением «должно быть» и немедленной рекомендацией комиссарам
озаботиться подъемом духа войск. Эта опасная привычка воевать, рас-
Глава 2. Военная риторика пролетариата
209
считывая на свое численное превосходство, сохранилась у советских
военачальников вплоть до начала Великой Отечественной войны. В
1925 г. во вступительной статье комиссара военной академии РККА P.A.
Мулевича к сборнику, посвященному шестой годовщине академии
находим такие строки: «...буржуазные генштабы нам не указ. Мы служим
не буржуазии, а пролетариату, а на стороне последнего преимущество
численности и правоты» [200, С. 4].
Другой не менее вредной тенденцией, прослеживавшейся из этих же
указаний, являлась постепенно складывавшаяся у красных строевых
командиров привычка полагаться на партийно-политический аппарат в деле
формирования и поддержания боевого духа армии. До тех пор, пока
комиссары (политруки, замполиты) истово исповедовали коммунистическую
идею, на них действительно можно было положиться. Но с увеличением
энтропии идейности в их рядах, ростом бюрократизации политорганов
советский офицер оказался лицом к лицу с личным составом, говорить с
которым, а не только командовать им он основательно разучился.
Начиная с 1919 года, приказы Троцкого, как например, приказ №
155, изданный 20 октября перед началом наступления Западного
фронта против войск ген. Юденича, порой вовсе не содержали раздела по
«репрессивно-карательной части», но ободряющие аргументы «к Числу»
в них регулярно повторялись.
«Красноармейцы, командиры, комиссары! Завтрашний день решает
судьбу Петрограда. ...Дальше отступать нельзя. Петроград сдавать
нельзя, - даже временная сдача Петрограда означала бы гибель тысячей
рабочих жизней и неисчислимых культурных ценностей. Петроград
необходимо отстоять какой угодно ценой.
Все меры приняты. Подтянуты свежие части, которые обеспечивают
нам огромный перевес. Освежен и обновлен командный состав.
Привлечены к делу лучшие, закаленные в боях пролетарии. Все условия победы
налицо. Нужно только, чтобы вы захотели и поклялись эту победу
обеспечить.
Помните: на вашу долю выпала великая честь (выделено нами.
- авт.) защищать тот город, в котором родилась рабочая и крестьянская
революция. Вперед! В наступление!
Смерть наемникам чужеземного капитала!
Да здравствует красный Петроград!» [173, т.2, ч.2, С. 405].
Примерно с этого времени в военной риторике Троцкого начинает
встречаться развернутая форма обращения к войскам «по категориям»
210 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
военнослужащих, обязательно начинавшая с красноармейцев и
закачивавшая комиссарами. Этот точно рассчитанный психологический прием
адресации сначала к главным двигателям победы - солдатам и
офицерам, - безусловно, поднимавший их в собственных глазах, к сожалению,
был постепенно утрачен в советской военной риторике в последующие
годы.
Прозвучало, наконец, и слово «честь», которая, с обретением
Красной армией относительно регулярного облика, уже не казалась
буржуазным пережитком. На вопросе воспитания у красноармейцев
«воинского честолюбия» Троцкий останавливался еще в докладе 24 февраля 1919
года. С целью придания гласности подвигам красноармейцев, которые он
обещал всемерно поощрять и пропагандировать, начиная с самых
ранних своих приказов, Троцкий даже готов был поступиться, как принято
говорить сейчас «режимом секретности». Органам красноармейской
печати рекомендовалось приводить в публикациях, посвященных
отличившимся бойцам, полное название части, в которой служил герой, вместо
безликого номера «N». Троцкий совершенно справедливо полагал, что
номера частей обычно и так хорошо известны противнику, а топорная
зашифровка их в периодической печати способна только вызвать
определенное недоверие читателей к публикуемым материалам и снизить их
пропагандистское воздействие, вследствие ненужной анонимности.
Популярность героев, отличившихся подразделений и частей, по мнению
Троцкого, была крайне необходима, прежде всего, для организации
соревнования в боевой доблести.
Воспитанию красноармейской чести служило решительное
осуждение высшей военной властью в лице Троцкого фактов рукоприкладства.
Из этого же доклада наркомвоенмора можно судить, что мордобой в то
время был достаточно распространенной практикой: «Даже некоторые
коммунисты говорили мне откровенно: «Я его рукояткой по зубам!» В
бою, под огнем расстрелять за преступление это одно, но если
красноармеец знает, что его можно бить по зубам, то это такая потеря
нравственного достоинства, такая гнусность, которую нужно искоренить во что
бы то ни стало» [173, т.2, ч.2, С. 81].
Нравственное достоинство воина, а не революционная
сознательность пролетария — вот что выступало в ходе Гражданской
войны на первый план в качестве основания воинской доблести.
В речи на диспуте в Комиссии по исследованию и использованию
опыта мировой войны 28 ноября 1920 г. Троцкий признавал: «...в каждой
Глава 2. Военная риторика пролетариата
211
боеспособной армии существует нравственное начало (выделено
нами. - авт.). ...Религиозная идея для Кудиныча (персонаж часто
цитируемого Троцким писателя Глеба Успенского - авт.) освещала идею
царской власти, освещала его деревенский быт, - и это служило ему хоть
первобытной, но нравственной идеей. В критический момент, когда
пошатнулась старая вера, а новой Кудиныч не обрел - он пошел в плен.
Изменение нравственной идеи повлекло за собой разрушение армии»
[там же, С. 125].
Цитата тов. Троцкого фактически подтверждает высказанную нами в
монографии «Военная риторика Нового времени» мысль, что в русской
императорской армии, начиная с 1814 г., преобладало религиозное
воспитание, в условиях господства в общественной речи религиозного
пафоса. Нравственная идея для красноармейца, очевидно, не могла быть
иной, кроме как идеей социальной, классовой, но она уже не была идеей
мировой пролетарской революции, упоминания о которой мы не найдем
ни в одной военной речи Троцкого периода Гражданской войны.
Небезынтересно, что опора на социально-классовую нравственность
у Троцкого не исключала и некоторое внимание к воспитанию
нравственности общечеловеческой. Характерный в этом смысле приказ по
Красной Армии № 140 от 7 августа 1919 г. приводим здесь полностью.
«Во время стоянки на ст. Конотоп бронированный поезд №26
отличался безобразной руганью своей команды. Не стесняясь тем, что на вокзале
присутствовали гражданские лица, женщины и дети, солдаты
бронепоезда без смысла и цели отравляли воздух отвратительными
ругательствами. Поезд №26 носит высокое звание «Большевик», которое означает
борца за интересы народа. Считаю, что красный воин, как борец за
высокие цели, должен держать себя на бронепоезде, как подобает на месте
высокого служения, а не так, как в кабаке. Брань унижает
человеческое достоинство, отучает человека от разумной речи, отучает его
от мысли и тем самым ослабляет его боевую волю (выделено нами.
- авт.). Командирам и комиссарам вменяется в обязанность изгонять из
обихода Красной Армии безобразные ругательства, каких нет ни в какой
другой стране, и всеми мерами содействовать установлению достойных
форм речи и товарищеских отношений» [173, т.2, ч.2, С. 260].
Мы глубоко убеждены, что выделенные нами слова Л .Д. Троцкого надо
и теперь обязательно писать над входом в каждую казарму Российской
армии. Нравственность отдельного военнослужащего, выражающаяся в
соблюдении им норм морали, отражается, что совершенно естественно,
212 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
и на характере его речевого поведения. Чистая речь солдата и офицера
является, согласно цитате, не просто добрым пожеланием, но, в конечном
счете, несомненным условием высокой боеспособности воинского
подразделения в целом.
С воспитанием нравственности в красноармейской среде, очевидно,
были связаны и регулярно появлявшиеся приказы о гуманном отношении
к пленным. Страшный разгул жестокости по отношению к
обезоруженным классовым врагам представлял несомненную угрозу для морального
состояния войск, которым еще предстояло столкнуться с врагами
вооруженными. Поэтому приказы Троцкого в 1919 г., как, например, приказ
№ 92 от 1 мая, требовали «...сдавшихся и захваченных в плен
противников ни в коем случае не расстреливать. Твердо помнить, что в армии
Колчака часть обманута, другая часть сражается из-под палки... Пусть
палачи Колчака расстреливают пленников. Рабоче-крестьянская армия
раскаявшихся врагов превращает в друзей» [ 173, т.2, ч.2, С. 369].
Неизвестно, впрочем, не был ли это приказ простым пропагандистским
трюком, ибо его предписывалось «придать самой широкой огласке,.,
принять меры к тому, чтобы приказ стал известен всем солдатам и командирам
контрреволюционной армии Колчака». Слащавая елейность вовсе не была
свойственна стилю Троцкого. Всего через три дня, когда обнаружился
перелом в ходе сражения, в статье-прокламации № 41 от 4 мая он писал: «...нам
нужен не перелом, нам необходима полная, решительная, сокрушительная
и, главное, быстрая победа!.. Спешите! Гоните сюда пополнения! Не
теряйте ни дня, ни часа! Колчак дрогнул. Надо его опрокинуть. Надо довести дело
до конца. Надо уничтожить гадину!» [там же, С. 370].
В боях под Петроградом в октябре 1919 г. в прокламациях
Троцкого, наряду с уже отмечавшимися выше мотивами, находилось место и
апелляциям к древнейшему, встречающемуся еще в «Илиаде» чувству
стыда, неразрывно связанного с понятием воинской чести. Любопытно,
что тогда же советские агитаторы впервые столкнулись с
необходимостью преодоления у красноармейцев танкобоязни. Статья-прокламация
Троцкого, опубликованная в № 101 газеты «В пути» за 5 октября так
и называлась «Танки»: «Товарищ-красноармеец! Когда внезапный и
бессмысленный страх охватит твое сердце при слове «танк», вспомни
перепуганную лошадь перед автомобилем, - вспомни и устыдись: ведь
человеку даны не лошадиный разум и не лошадиное сердце. Паника -
мать всех бед. Оттого враг прилагает все силы к тому, чтобы вызвать
панику...
Глава 2. Военная риторика пролетариата
213
Красноармеец, помни, что нас больше, что мы сильнее, что дело
наше правое (выделено нами. - авт.). Помни, что в рядах Юденича
сражаются люди, которые телом не сильнее тебя, а душой слабее. Как
только ты поймешь свою силу и, раз навсегда, изгонишь подлую
панику из своих рядов, ты станешь непобедимым. Тогда закончим борьбу в
короткий срок на севере и на юге. Раздавив врага, вернемся все домой в
города и села к мирному труду» [173, т.2, ч.2, С. 412].
Прокламация не грозит, не заставляет, не призывает испуганного
человека проявлять героизм, она мягко убеждает (даже странно слышать
это из уст Троцкого), что его страхи беспочвенны, а в качестве главного
убеждающего средства приводит яркий пример. В остальном
прокламация базируется нисходящей аргументации типа «их сила - это наша
слабость», которая, как представляется, и является наиболее
предпочтительной в случае, когда человеческая психика сталкивается с новым
видом стресс-фактора.
Таким образом, на примере военной риторики Л.Д.
Троцкого мы можем наблюдать процесс постепенного замещения
социального пафоса в советской военной речи пафосом героико-
патриотическим, о значении которого мы писали в параграфе 1.3.
Конечно, по форме военные речи Троцкого продолжали оперировать
концептами социального пафоса («революция», «пролетариат»,
«капитал» и т.п.), но основной упор в них делался на категории долга перед
страной, отечеством, «рабоче-крестьянской Россией» - понятиями,
являющимися принадлежностью патриотического пафоса.
Красноармейцев призывали проявлять доблесть, опираясь на понятия воинской чести
и «стыда», характерные для древнейшего в мировой военной риторике
героического пафоса.
Пропорционально нарастанию звучания героико-патриотического
пафоса в военной риторике Троцкого постепенно уменьшалась доля
репрессивно-карательного элемента. А в дни величайшего торжества и
одновременно накануне величайшего краха советского военного искусства
периода Советско-польской войны, перед штурмом Варшавы 14 августа
1920 г. в приказе Троцкого № 233 прорывались даже суворовские нотки.
«Герои! Вы нанесли атаковавшей нас белой Польше сокрушающий
удар. Тем не менее преступное польское правительство не хочет мира...
Пилсудский боится приближения отчета перед польским народом за
войну и надеется на вмешательство Англии и Франции... Поэтому
польское правительство уклоняется от мирных переговоров...
214 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Сейчас, как и в первый день войны, мы хотим мира. Но именно для
этого нам необходимо отучить правительство польских банкротов играть
с нами в прятки. Красные войска, вперед! Герои, на Варшаву!
Да здравствует победа!
Да здравствует независимая и братская Польша!
Да здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия! [173, т.2, ч.2,
С. 166].
Так и хочется продолжить: «Богатыри! неприятель от вас дрожит...».
Как знать, не пытался ли красный наркомвоенмор накануне
исторического события - все-таки советские армии впервые готовились
штурмовать одну европейских столиц - хотя бы выбором совершенно
нетипичной для него формы обращения вдохновлять войска намеком на стиль
великого русского полководца триумфально входившего в тот же город
в 1794 году. Нет никакого сомнения в том, что Троцкий изучал наследие
Суворова. По крайней мере в 1922 г. в ходе дискуссии о военной
доктрине на XI съезде РКП(б) он свободно цитировал 7 суворовских законов
войны, записанных в свое время Прево де Люмианом.
Советско-польская война была первой войной, которой советская
Россия вела против враждебного государства. Вместе с множеством
чисто военных вопросов, связанных с изменениями форм и методов
вооруженной борьбы, встававших перед советским руководством, одним из
самых важных был вопрос выбора преобладающего пафоса
общественной речи, призванного формировать в общественном сознании страны
образ войны и отношение к ней. После опубликования 7 мая 1920 г.
в «Правде» письма A.A. Брусилова, отмечавшего необходимость
поднятия народного патриотизма и предлагавшего власти свои услуги, в
центральной советской печати даже развернулась небольшая дискуссия о
правильном понимании сущности войны с Польшей.
Сторонники позиции, которую условно можно назвагъортодоксально-
коммунистическойу быстро учуяли, что в словах старого генерала
поднимает голову национальный пафос, пафос «революционного
оборончества», с которым большевики так упорно боролись во время мировой
войны и Февральской революции. Статья Г.Я. Сокольникова,
опубликованная буквально на следующий день после обращения Брусилова
содержала резкую отповедь генералу: «... начинающаяся с Польшей война как
небо от земли далека от войны национальной. Она представляет собой
прямое продолжение гражданской войны с тем отличием, что враг
находится не внутри, а извне, а потому и война превращается во внешнюю
Глава 2. Военная риторика пролетариата
215
гражданскую войну (выделено нами. - авт.). Эпоха национальных войн
не возродится».102 Автору вторил Н. Осинский (партийный псевдоним
В.В. Осинского): «... залог победы не в русском патриотизме, а в том, что
красные войска уходят на фронт и будут идти в атаку под музыку
«Интернационала», гимна классовой борьбы и международной революции....На
польских белогвардейцев идет не русская национальная армия, а Красная
Армия - отряд социалистической революции».103
Рупором позиции, которую мы назовем коммунистическо-
патриотической, выступал член ЦК РКП(б), известный партийный
публицист К.Б. Радек, последовательно откликнувшийся сразу двумя
статьями на взгляды Сокольникова и Осинского.
«Социальная война пролетариата, которому угрожает
чужестранный капитал, - писал Радек в статье « О характере войны с белой
Польшей», - является не менее национальной войной, чем являлась
борьба буржуазии против чужестранного угнетателя... наша
гражданская война есть одновременно война за независимость России ...».104
Далее он подчеркивал: «Русский рабочий... обязан быть патриотом,
когда власть в его руках, когда он - вождь русского народа,
ответственный за его судьбу».105
Этой позиции на первых порах отчасти отдавал дань и Л.Д. Троцкий.
Его приказ № 210 от 8 мая 1920 г. начинался выделенной им разрядкой
фразой: «На Западном фронте решается сейчас судьба русского
народа» [173, т.2, 4.2, С. 121]. Воззвание «Ко всем рабочим, крестьянам и
честным гражданам России» явно носило следы попытки консолидации
всех патриотически настроенных сил, а не только, как это
практиковалось в годы Гражданской войны, трудящихся. Текст воззвания даже
пестрел обращениями к русским, явно сбиваясь в сторону национального
пафоса общественной речи.
«...Честные граждане! Вы ведь не допустите, чтобы волю русского
народа определял штык польских шляхтичей, которые со
свойственным им бесстыдством неоднократно заявляли, что им безразлично,
кто господствует в России, только бы Россия была беспомощна и
слаба.
«Правда», № 98 от 8 мая 1920 г.
«Правда», № 99 от 9 мая 1920 г.
«Правда», № 100 от 11 мая 1920 г.
«Правда», № 101 от 12 мая 1920 г.
216 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
...Полки Западного фронта! За вами стоит не только русский рабочий
класс, не только русское трудовое крестьянство,., все, что есть честного
в русском народе...» [173, т.2, ч.2, С. 99-100].
Однако очень скоро Троцкий понял, почему в красных войсках
«пламень социалистического энтузиазма», которым он вначале так
восхищался, «никогда не поднимался так высоко»106, как в ходе этой войны,
вошедшей в советскую историографию под именем войны с белополя-
ками.
Что бы ни писалось в центральных советских газетах и не говорилось
агитаторами о том, что Красная Армия несет свободу польским
трудящимся и избавление их от эксплуатации «буржуазно-шляхетской
верхушкой», в массе красноармейцев война воспринималась как
обострение застарелых национальных противоречий между русским и польским
народами. Это был тревожный симптом. Он означал, что, несмотря на
всю боевитость большевистской пропаганды, замешанной на
социальном пафосе, ее идеи «скользят по поверхности», не проникая вглубь
народного сознания и не пробуждая в нем эмоционального отклика. А это
в свою очередь могло значить только одно: что после окончания войны, с
исчезновением поневоле сплачивающего фактора военной угрозы,
коммунистической партии придется столкнуться с очень и очень
серьезными проблемами продвижения идей социалистического строительства,
не находящими серьезной опоры в массовом сознании.
Об этом мы имеем очень ценное свидетельство видного большевика
СИ. Гусева, занимавшего в 1920 г. должность члена РВС Юго-Западного
фронта: «Из всей нашей пропаганды крестьянин-красноармеец прочно
воспринимал лишь то, что соответствовало его классовой
мелкобуржуазной природе, все остальное от него отскакивало, как
ненужная шелуха. Он очень хорошо понял, что надо раз навсегда покончить
с помещичье-генеральской контрреволюцией для того, чтобы она не
отобрала у него земли и воли;... Что касается мировой революции,
новых империалистических войн, крушения капитализма и
вопросов нашего социалистического строительства, то «на душу»
ему это «не ложилось»... в глазах крестьянина-коммуниста, одетого в
красноармейское обмундирование, русско-польская война была не
революционной, а национальной войной. Воевала не
социалистическая Россия против империалистской Польши, а русский
106 Из статьи-прокламации «Советская и шляхетская» от 15 мая 1920 г., опубликованной
в № 116 газеты «В пути».
Глава 2. Военная риторика пролетариата
217
народ против поляков (выделено нами. - авт.). Подъем русского
шовинизма в Красной Армии во время русско-польской войны не
подлежит ни малейшему сомнению...» [44, С. 149]. Далее Гусев признавал,
что кронштадтский мятеж и антоновщина, повальное бегство из партии
красноармейцев-крестьян в 1921 г. показали, что союз рабочих и
крестьян скреплялся в то время только общностью врагов, но не общностью
идеологии.
В таких условиях продолжать оперировать в военных речах
национальным пафосом, косвенно способствуя осмыслению и внедрению в
сознание массы его концептов, было для большевиков самоубийственно.
Вот почему, начиная с июня 1920 г., мы можем наблюдать быструю смену
направления вектора военной риторики Троцкого; обращение к
героическому пафосу, хоть бы и проникнутому суворовскими интонациями, было
значительно безопаснее пробуждения могучих сил русской нации.
Достаточно было журналу «Военное дело» заикнуться о «природном
иезуитстве ляхов», которое противопоставлялось «честному и
открытому духу великорусского племени», как тут же появился разгромный
приказ Троцкого № 230 от 30 июня 1920 г., извещавший после краткого
внушения о недопустимости грубых и ложных обольщений,
противоречащих духу братства между русским и польским народами, о
прекращении деятельности неосторожного печатного органа.
Приказы председателя РВС и наркомвоенмора № 217 от 10 мая
1920 г. и № 231 от 17 июня 1920 г. бережно предупреждали «о
человечном и товарищеском обращении с пленными польскими солдатами» и
требовали «принимать польских солдат как заблуждающихся и
обманутых братьев, чтобы затем вернуть их в освобожденную польскую
отчизну, как братьев просветленных» [ 173, т.2, ч.2, С. 155]. Как
представляется, делалось это не только с целью облегчить пропаганду разложения в
польской армии, которая по воспоминаниям участников войны и так не
давала практических результатов, но скорее для того, чтобы не создать
опасного прецедента торжества национального пафоса в Красной армии
даже на короткое время. Эти потуги невольно воскрешают в памяти
попытки Николая I воевать армией «мирного» времени, чтобы в войсках не
пошатнулась нравственность и дисциплина. Все догматические подходы
к общественной речи, в сущности, одинаковы. Заканчивался приказ №
231, однако, действительно красиво: «Рабоче-Крестьянская страна
любит свою Красную Армию. Она гордится ею. Она требует, чтобы на
знамени ее не было ни единого пятна».
218 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Изучая историю Гражданской войны нельзя не отметить, что пик
организаторской и пропагандистской активности Л.Д. Троцкого
приходился на тяжелейшие для советской республики 1918-1919 годы. Троцкий
был, что называется теперь, «кризисный менеджер». С умалением
непосредственной угрозы власти большевиков умалялось и своеобразие его
военной риторики, в которой все больше начинало ощущаться
стремление использовать трафаретные, испытанные временем формы.
Например, аргументация приказа наркомвоенмора по войскам 9-й
армии, брошенной на уничтожение врангелевского, т.н. ахтарского
десанта на Кубань, № 236 от 26 августа 1920 г. практически слово в слово
повторяет нехитрую аргументацию приказа войскам 7-й армии,
воевавшей против Юденича.
«... Красные воины 9-й армии! Было бы величайшим позором, если
бы дали ускользнуть белой гадине... Десант Врангеля необходимо
раздавить, - и вы это сделаете.
Вас, красные воины 9-й армии, несравненно больше числом, чем
высадившихся белогвардейцев. За спиной у вас стоят большие резервы.
Мною переданы в вашу армию испытанные военные и политические
работники. Все условия полной победы налицо. От вас зависит эту победу
одержать.
От командиров и комиссаров требую высшей энергии наступления.
Всякая нерешительность, медлительность, проволочка будут караться,
как тяжкие преступления перед социалистическим отечеством. Задача
ясна и проста: не дать врагу ускользнуть, застигнуть его, разбить,
стереть с лица земли.
Вперед, храбрейшие! Показывайте дорогу другим! Шкурникам кара!
Дезертирам смерть! Доблестным слава! Вперед!» [173, т.2, ч.2, С. 198].
Как видим, опять те же аргументы «к Числу», к улучшению
командного состава, созданию всех условий для победы. В последнем Троцкий
переусердствовал; употребление личного местоимения явно вредит
делу, создавая впечатление, что оратор ставит себя над партией
(родиной, отечеством), подменяя ее собой. Неудачно и сквозящее в тексте
разделение функций командования и войск; если одно создает условия,
то от другого требуется самое трудное - победить. Налицо нарушение
основной речевой стратегии военной риторики, которую можно
определить как «товарищество и сотрудничество». Наркомвоен-
мору целесообразнее было бы подчеркивать связь с войсками, свою
близость к ним, употребляя местоимение «мы».
Глава 2. Военная риторика пролетариата
219
Выбор языковых средств также ничем не отличается от стандартного
«троцкистского»: разбить, раздавить, стереть с лица земли. В конце приказа
Троцкий, очевидно, сам «заскучал», отделавшись вместо традиционно
сильных, развернутых призывов каким-то канцелярским бубнением:
«шкурникам кара,., дезертирам смерть...». Так и тянет добавить: и т.д. и т.п.
При всей внешней эффектности его риторических приемов,
тиражирование их, однако, начинало постепенно приедаться и даже
раздражать аудиторию. «Тов. Троцкий, - писал, например СИ. Гусев, возлагая
на Троцкого ответственность за недостаточное снабжение Западного
фронта и слабую организацию подготовки резервов в период Советско-
польской войны, - продолжал работать все теми же партизанскими
методами 18-го года: маршрутные поезда (вместо планомерного
снабжения. - авт.), чрезмерное обилие всяческих нажимов и репрессий, мало
организации, много агитации (выделено нами. - авт.). Эту систему
работы один товарищ (если не ошибаюсь, тов. Смилга) метко
охарактеризовал как «систему организованной паники» [44, С. 216]. Что и
говорить, достаточно ядовитое замечание.
И все же Троцкий не был бы величайшим революционным вождем,
если бы не обладал способностью тонко чувствовать настроения масс и
мгновенно реагировать на них. По мере затухания Гражданской войны
мы видим как из военной риторики Троцкого постепенно исчезает
вдохновляющая речь и героический пафос; лозунги, призывы, обещания
наград и угрозы карами уступают место простым аргументам «к здравому
смыслу» красноармейцев, как в приказе по войскам Южного фронта №
246 от 13 октября 1920 года.
«Мир с Польшей подписан... Если бы на Юге не было Врангеля,.,
большая часть армии могла бы быть демобилизована. Рабочие и
крестьяне могли бы вернуться к мирному труду...
Солдат Красной Армии! Кто мешает этому? Врангель. Кто стоит на
пути к миру? Врангель. Дворянско-кулацкие банды Врангеля помогали
наступлению Польши и теперь продолжают громить и разрушать нашу
страну. Мало того: врангелевцы стремятся притянуть за собой
французские войска и превратить Украину во французскую колонию.
Нам нужен мир и труд. На пути к миру и труду стоят врангелевские
банды. Солдаты Красной Армии! Уничтожьте Врангеля! Сотрите его
банды с лица земли!» [173, т.2, ч.2, С. 213].
Перед нами военно-политическое информирование, построенное на
использовании убеждающей речи, снабженной аргументами, оперирующими
220 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
во вступлении энтимемой, а в заключении даже - редчайший случай в
революционной военной риторике! - развернутым силлогизмом. В
основной части речи воспроизводился, фактически, элемент сократического
диалога!
Троцкий не мог не замечать, что войска и население устали от войны.
Оттого ключевым словом, повторявшимся в речи 5 раз, является слово
«мир». Все остальное только выводится как препятствие к
вожделенному народом и армией миру. Никакой «демонизации» противника,
никаких особых инвектив в этом случае и не требовалось.
А на инвективы в адрес классовых противников Троцкий был
изобретателен и охотно применял их в своих речах. Помимо стандартных
«негодяев», «трусов», «предателей», «шкурников», «изменников» и
прочих «отщепенцев», по возрастанию накала чувств можно
расположить «врагов народа», «разбойников», «контрреволюционные банды
(контрреволюционных бандитов)», «наемников буржуазии
(капитала)», «белую гадину», «белогвардейскую нечисть». В особых случаях
могли применяться инвективы, оперировавшие ветхозаветными
персоналиями, ставшими нарицательными, как, например, в приказе № 100
от 25 мая 1919 г. карательным войскам, предназначавшимся для
подавления восстания на Дону: «Каины должны быть истреблены» (прил.
2.2). Но Троцкому, конечно, было далеко до изощренного
революционного словотворчества многочисленных «полевых большевиков», так
точно подмеченного и переданного в прозе А. Платоновым. Чего стоит
в этом смысле, например, прокламация некоего амурского партизана
тов. Каландарашвили, начинавшаяся словами: «Товарищи! Гнусные
рептилии изолгавшейся буржуазной прессы распространяют
провокационные известия о насилиях и грабежах, якобы чинимых отрядом
Каландарашвили...» [141, С. 199].
В целом язык военной риторики Троцкого не отличался большим
разнообразием метафорических, образных выражений. Из речи в речь
перекочевывали метафора «пробил час», требования «тесней строиться в
ряды», «смыкать ряды», «тверже держать винтовку» и т.п. Поэтому
трудно согласиться с М. Вайскопфом, полагающим, что «проигрывая в
бутафорском блеске Троцкому и прочим любителям интеллектуальной
бижутерии, Сталин выигрывал в чисто теологической ясности, связности
и мнимой логичности своих доводов», что в дальнейшем способствовало
«победе генсека над экзальтированным евреем Троцким» [21, С. 159]. Те
качества, которые уважаемый исследователь относит к риторике Стали-
Глава 2. Военная риторика пролетариата
221
на, можно в равной степени отнести к риторике Л.Д. Троцкого, только
без эпитетов «теологический» и «мнимый».
Военную риторику Троцкого именно и отличали ясность, связность и
логичность. Конечно, все эти качества должны рассматриваться с
определенной оговоркой, принимая во внимание, что наркомвоенмор
обращался к аудитории, которая первоначально представляла собой
скопище вооруженных людей, порядком развращенных долгим отсутствием
дисциплины, твердого порядка и организованности. Причем обращался
он к этой массе в военное время, в периоды тяжелейших поражений и
всеобщей деморализации. Конечно, никакая «интеллектуальная
бижутерия», равно как и какая-либо экзальтированность, риторике Троцкого
периода Гражданской войны свойственна не была.
В эти годы мы видим Троцкого как величайшего прагматика
ленинского типа. Об этом ясно свидетельствуют принадлежащие его перу
пропагандистские материалы, ориентированные на войска противника,
в которых он отдавал явное предпочтение пропаганде устрашения.
«Читайте! Слушайте! Обдумайте! - взывала его статья-прокламация № 103
от 3 ноября 1919 г. - Слушайте подневольные солдаты, рабы царского
генерала Юденича: красные войска все плотнее окружают вас. Против
вас сосредоточена могущественная артиллерия, бронепоезда,
бронемашины и танки петроградского производства. Вам спасение одно:
сдавайтесь]» (прил. 2.3).
Показывая противнику кнут, Лев Давидович не забывал и о
прянике, вид которого облекался, подчас в весьма оригинальную форму.
Его пропагандистский «приказ», вышедший в тот же день, на правах
законной власти «демобилизовал» армию ген. Юденича, как
насильственно созданную, устанавливая премии за сданное оружие -
винтовки, пулеметы, орудия, - с казенной сухостью извещая, что части
вооружения оплачиваются «по расценке». Наконец, сдавшимся
солдатам обещался даже «бесплатный проезд на родину по железным
дорогам» (прил. 2.4).
Аргументация военных речей Троцкого также всегда правильно
учитывала особенности момента. В начальный период войны он
воздействовал на «скопища» единственным доступным их пониманию
способом - террором. Но даже в то время Троцкий, обращаясь к аргументам
практической морали, не забывал о диалектической, учительной речи,
неустанно напоминая о наградах и славе, ожидающих отважных бойцов,
закладывая предпосылки возникновения понятия воинской чести.
222 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
С переходом к массовой армии, формируемой на основе мобилизации,
смещаются и акценты в аргументации военных речей Троцкого. Пусть в
качестве доводов практической морали в них использовались
малопочетные указания на значительное численное превосходство Красной
армии. Однако эти речи уже внушали аудитории и мысли о стыде
поражения, и в них слышались первые призывы к доблести и чести. Таким
образом, риторика Троцкого способствовала превращению «скопищ» в
регулярную армию и сама изменялась по ходу этого процесса, чутко
реагируя на условия, обусловленные состоянием этоса.
Здравомыслие и «трезвость» Троцкого проявлялись и в том, что
влияние его личности, его собственная пропаганда и агитация не
расценивались им как панацея на все случаи жизни. Он неустанно подчеркивал,
что только «сочетанием агитации, организации, революционного
примера и репрессии (выделено нами. - авт.)» можно было создать
настоящую армию. Все эти принципы вполне применимы и сегодня в
деле формирования и управления воинскими коллективами.
То же время, как это ни парадоксально, Троцкий продолжал оставаться
типичным революционным идеалистом, свято убежденным в
незыблемости принципов международной солидарности трудящихся. В тяжелейшие
дни обороны Петрограда, в приказе № 159 от 24 октября 1919 г. он писал:
«Но и сейчас, в минуту наших ожесточенных боев против наемника
Англии, Юденича, я требую от вас: не забывайте никогда, что существуют
две Англии. Наряду с Англией барыша, насилия, подкупа, кровожадности
существует Англия труда, духовного могущества, великих идеалов
международной солидарности. Против нас борется биржевая Англия,
низменная и бесчестная. Трудовая, народная Англия за нас» [174, С. 421].
Как знать, может быть в этом соединении идейной жесткости, даже
жестокости, бескомпромиссности, упорства, силы воли и какой-то
беспомощной, интеллигентской веры в «идеалы» и заключалась сила большевиков?
Блестящий панегирик личному ораторскому стилю Л.Д. Троцкого,
оставил Г. Устинов в небольшой книжечке карманного формата,
вышедшей в 1920 году. «Блестящий, подвижной ум, прекрасная диалектика,
пламенный темперамент, поразительная находчивость и остроумие - все
это дает полное право назвать Троцкого одним из самых блестящих
первоклассных европейских ораторов. Поистине - это трибун революции. Его
речи вдохновляют на подвиг. Его насмешки ранят смертельно. Его
призывающий голос звучит как тревожный и приказывающий голос набата,
который, услышав раз, хотя бы и вдали, уже не уснешь спокойно.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
223
Троцкий дал жизнь целому ряду фраз, выражений, отдельных слов.
Острые словечки Троцкого, его меткие определения не сходят по целым
месяцам с языка более мелких ораторов и со столбцов газет» [183, С. 66].
Последнее объективно верно. Мы уже наблюдали как находил отражение
риторический стиль Троцкого в речах даже его злейших врагов и будущих
лучших «друзей». «Крепче возьмите винтовку - враг беспощаден и хитер.
Теснее сомкните ваши ряды», - эти типично «троцкистские» лозунги взяты
нами из приказа № 24 от 12 марта 1920 г. каппелевского ген. С.Н. Войцехов-
ского, отданного им перед началом решающего сражения за Читу.
«Он никогда не пишет даже конспекта своих речей, - продолжал
Г.Устинов. - Он всегда говорит экспромтом. Лишь иногда на клочке
бумаги запишет цветным карандашом отдельные моменты речи, на
которые он в особенности хочет обратить внимание аудитории. Пять-десять
фраз. Одна написана красным карандашом, другая синим, следующая
опять красным - и так далее.
Начало его речей всегда медлительное, периоды длинные. Это
значит, что он еще только загорается. Через три-четыре минуты Троцкий
уже пламенеет, горит. Как фейерверк брызжут остроты. Краткие,
характерные для таланта Троцкого, точные и яркие фразы, одна одной
удачнее, одна одной пламеннее, всегда четкие, - слышны во всех уголках
аудитории, как бы ни был велик зал. Троцкий «подает» каждое свое слово,
каждое выражение. Он не глотает слов, не возвращается назад, потому
что никогда не теряет нити своей мысли. Мысль к него
дисциплинирована так же, как и весь его характер. Вернее - он весь подчинен своей
мысли, своей внутренней логике. Я думаю, нет человека, который был
бы так гармонически создан, как Троцкий» [183, С. 68-69].
К этому своеобразному пособию по поведению идеального оратора
во время выступления нечего добавить. Последняя поразительная фраза
воскрешает в памяти строки «Одиссеи»:
Всем он словами внушает восторг, говорит без запинки,
Мягко, почтительно. Каждый его на собраньи заметит.
В городе все на него, повстречавшись, глядят, как на бога.
[Одиссея, 8, 165]
Личность Л.Д. Троцкого и его риторика олицетворяли собой целую
эпоху, эпоху если не богов, то титанов, в ком «гений и злодейство»
переплетаясь, образовывали потрясающую, завораживающе действовавшую
224 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
на современников картину. С уходом в прошлое времени героев
неизбежно сходили со сцены и сами герои.
2. 3. М.В. Фрунзе — «интеллигентный»
большевик
В отличие от Л.Д. Троцкого, чуть ли не треть жизни проведшего за
границей, виднейший советский военный деятель, которому советская
историческая мифология прочила лавры «красного Суворова», Михаил
Васильевич Фрунзе (1885-1925) всю жизнь провел в России, с
молодости находясь в самой гуще революционной борьбы. С Л.Д. Троцким их
роднило, пожалуй, только одно: и тот, и другой были «первыми
учениками». Золотая медаль М.В. Фрунзе за окончание в г. Верном в 1904 г.
гимназии «весила» очень немало. Достаточно сказать, что билет
выпускного гимназического экзамена по всеобщей истории охватывал широкий
круг вопросов древней, средней, новой и русской истории и вполне мог
бы быть сегодня использован для контроля знаний студентов
гуманитарных и исторических факультетов российских вузов.
Время взросления и становления личности Фрунзе пришлось на
бурные годы первой русской революции. В начале его
самостоятельного жизненного пути ничто, впрочем, не указывало на его великую
революционную будущность; Михаила Фрунзе по окончании гимназии
больше беспокоили вопросы продолжения учебы, нежели социальные
потрясения. В письме другу 16 марта 1904 г. он так комментировал
происходящее в стране: «Жаль только, что у нас в России среди
студенчества опять происходят беспорядки» [192, С. 11]. Беспорядки, однако, не
помешали ему благополучно поступить на первый курс экономического
факультета Политехнического института.
Всего через полгода взгляды студента Фрунзе претерпели некоторую
эволюцию. Сказывалось все же, что столичные вузы в то время
представляли собой котел, в котором варились идеи самого радикального
свойства. Тем не менее, увлечение Фрунзе некоторыми из этих идей
воспринимаются скорее как дань моде и традиционной
интеллигентской оппозиции официальной идеологии. Не увлекаться социализмом
в то время для развитого, мыслящего человека было попросту
неприличным. Как писал Фрунзе 15 ноября, «первенствующая сейчас партия
социал-демократов вся основана на социализме. Я хотя кое в чем и не
Глава 2. Военная риторика пролетариата
225
согласен с программой этой партии, за неимением какой-либо
другой прогрессивной партии (выделено нами. - авт.) принужден
следовать за ней. Потом, может быть, обоснуем партию особую, «национал-
прогрессистов», а теперь сделать это невозможно, ибо я считаю пока
себя неподготовленным к тому, чтобы составлять партию» [там же, С.
13-14]. Помимо забавного юношеского максимализма, это письмо
свидетельствует о том, что взгляды молодого Фрунзе не выходили, в
сущности, за рамки обычного идейного багажа среднего российского
интеллигента.
История любит играть случайностями. «Его величество случай»
вмешался в жизнь М.В. Фрунзе печально известным днем 9 января 1905
г., когда он во время участия в рабочей манифестации получил легкое
ранение в руку, которое на военном сленге, судя по всему, вполне могло
бы именоваться просто «царапиной». Царапина, однако, нанесла
впечатлительному юноше глубокую душевную рану. «События,
совершающиеся сейчас, настолько поражают своей грандиозностью, - взволнованно
писал Фрунзе другу 10 февраля 1905 г., - и в то же время
сопровождаются такими ужасами, что, право, не хочется и писать о них... В
военное107 поступать не советую, испортишь всю жизнь. У меня прямо
сжалось сердце, когда я в бытность в Москве увидел наших земляков.
Боже, что из них делает военщина: ничего не знают, ничего не
слышат (выделено нами. - авт.)» [192, С. 14-15].
Но и здесь ни о каком активном социальном протесте речи еще не
идет; письмо скорее продиктовано сильными, яркими впечатлениями
от пережитого, не более. Выделенные места являются только очень
любопытной иллюстрацией того, что взгляды будущего наркомвоенмора
и председателя РВС республики в то время совершенно не отличались
от обычного «интеллигентского» отношения к армии и военной службе.
Известное письмо Фрунзе к матери, в котором сильно и страстно
говорилось, что «жребий брошен, рубикон перейден...», после чего, по
версии советских историков, Фрунзе всего себя «отдавал революции», было
навеяно, надо понимать, теми же впечатлениями. По крайней мере, в
цитировавшемся выше письме от 10 февраля нет ни слова о
сознательном выборе в пользу дальнейшей революционной борьбы, напротив,
оно было наполнено планами на продолжение учебы в институте.
Любопытно, что вынужденный перерыв в занятиях из-за закрытия высших
Военное училище.
226 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
учебных заведений, который Фрунзе хоть и использовал для активной
революционной работы среди иваново-вознесенских рабочих, отнюдь
не означал еще превращения его в профессионального революционера;
удостоверение, выданное ему 19 сентября 1906 г. подтверждало, что он
является студентом второго курса института.
Риторический стиль М.В. Фрунзе в этот период отличался
школярской основательностью и вместе с тем какой-то наивностью, явным
стремлением подделаться под «понимание рабочего». Прокламации
образца 1905 г. к иваново-вознесенским рабочим хоть и следовали курсом
социал-демократических партийных установок, были проникнуты духом
авторской импровизации, как, например, листовка, выпущенная в июле
1906 г. Иваново-Вознесенским комитетом РСДРП по поводу царского
манифеста о роспуске Государственной Думы.
«...И вот царь в своем манифесте то грозит, то просит, то обещает.
Царь грозит: «Не допустим крамолы!», «Раздавим!», «Подчиним своей
царской воле!».
«Осторожнее, - скажем, - царь. Посмотри, огромное большинство
народа против тебя. Армия «бунтует». Крамола проникает даже в
Петергоф и Царское Село. Каждая победа твоя над народом превращается
в твое поражение. Только кучка насильников еще с тобою.
Осторожнее!».
Царь просит: «Дети мои, объединитесь со мной для блага Родины!»;
«Русские люди, объединитесь - раздавите крамолу!» Жалкий, он не
понимает, что сам над собой смеется. Царь, кто объединится с тобой? Или
ты призываешь всех хулиганов и громил для учинения всероссийского
погрома? У народа спадает пелена с глаз. Жалкий ты!
Царь обещает: «Устрою русскую жизнь»; «Пахарю русскому увеличу
крестьянское землевладение» Царь, кто тебе поверит?.. Довольно лжи и
обмана. Страшись, царь!» [192, С. 29-30].
Заметно, что, автор, оправданно используя для доказательства
главного тезиса о недопустимости верить власти эффективный в данном
случае способ контраргументации, оперировал достаточно
легковесными аргументами, рассчитанными скорее на чувства рабочих, нежели на
их разум. В целом, несмотря на то, что, работая среди текстильщиков,
Фрунзе познакомился с оружием и даже участвовал в налете шуйских
и иваново-вознесенских боевиков на типографию, вся его
революционность даже тогда отдавала задорной юношеской фрондой,
продолжением игры в «сыщики и воры», игры от избытка силы и чувства. В ней еще
Глава 2. Военная риторика пролетариата
227
мало чувствовалась «сознательность», направляемая суровой
партийной дисциплиной.
На формирование характера Михаила Васильевича по-настоящему
повлияли долгие годы тюрьмы, каторги и ссылки, воспоследовавшие
за участие в темной истории с покушением на убийство полицейского
урядника, за что Фрунзе, как известно, дважды приговаривался к
смертной казни. Тюремное заключение сильно сказалось на мироощущении
Фрунзе. Если первые его письма из тюрьмы так и брызжут неистребимой
молодой жизнерадостностью («опять охватывает ощущение полноты и
восторга»108), то к 1914 г. тон его писем постепенно меняется: «Я
страшно рад, что к моменту освобождения не превратился в развалину»109.
Сразу после освобождения, находясь на поселении в сибирском с. Ман-
зурке, он пишет матери: «Чувствуется как-то странно и дико; знаете,
словно ребенок, который учится ходить. 8 лет заключения совершенно
почти отучили действовать самостоятельно»110. А в тюремных стихах
М.В. Фрунзе встречаются и такие печальные строчки:
«Много лет я провел в объятьях тюрьмы,
Много лет непрерывных терзаний,
Без света и солнца, в царствии тьмы,
Средь звона цепей и рыданий.
От гнева и скорби душа огрубела.
Сердце покрылось корой ледяной,
Память ослабла и мысль отупела (выделено нами. - авт.),
А жизнь мне казалась бесцельной порой» [192, С. 54].
Самыми главными недостатками большинства профессиональных
российских революционеров, принимавших на себя карающие удары
власти, было отсутствие правильного систематического образования,
которое далеко не всегда могло быть компенсировано
самообразованием, и изменения в личности, неизбежно происходившие под влиянием
долгих лет тюремной изоляции. Причем последнее, на наш взгляд, было
неизмеримо страшнее первого, поскольку неизбежно порождало у людей
Письмо от 4 апреля 1907 г. [3, С. 39].
Письмо от 7 марта 1914 г. [3, С. 45].
Письмо от 22 сентября 1914 г. [3, С. 46].
228 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
привычку к монологу во внутренней речи (которая на «воле» логично
перерастала в склонность к монологу и в речи внешней), в ущерб
способности воспринимать другое мнение, способности осмысления и принятия
факта многополярности мира идей. Следовавшее из этого стремление
к поиску при анализе сложнейших общественно-политических явлений
одного, правильного взгляда, послужило впоследствии основанием для
утверждения и непоколебимого следования в советской общественной
речи т.н. генеральной линии во всех мыслимых и немыслимых вопросах.
Конфликт, поставивший в середине 1920-х гг. по разные стороны
баррикад, большевиков «эмигрантов», воспитанных в атмосфере свободы
диалектической речи в словесных баталиях на многочисленных
партийных съездах и конференциях, и «борцов-подпольщиков»111, вынужденно
питавшихся преимущественно чужими идеями, но зато привыкших
дисциплинировано, благодаря закаленной годами лишений воле,
«претворять в жизнь» раз принятые решения, был обусловлен объективно.
Точно так же объективно был обусловлен и вал репрессий,
обрушившийся в 1930-х гг. на всевозможных «уклонистов» от сталинской
позиции, которая мало-помалу становилась генеральной линией партии.
Победившим твердокаменным «борцам» была попросту подозрительна
радостная (и мы убеждены искренняя) готовность их бывших
оппонентов немедленно слиться с вожделенной генеральной линией. Людьми,
привыкшими за собственные убеждения расплачиваться страданиями,
кровью, а порой и жизнью, это стремление воспринималось как
приспособленчество, выглядевшее в их глазах едва ли не хуже прямой измены.
Доверять таким членам партии они, конечно, больше не могли.
Возвращаясь к М.В. Фрунзе, заметим, что все эти недостатки к
моменту окончания срока заключения начинали проявляться и у него.
Например, статьи, посвященные анализу мировой войны,
публиковавшиеся им в 1915-1916 гг. в «Забайкальском обозрении», при всей своей
глубине выдают помимо прекрасного владения автором
статистическими данными его увлечение исключительно материальными факторами
войны, ресурсной стратегией. Нельзя не признать, что взгляды Фрунзе
грешили тогда уже некоторой односторонностью. И все же Михаил
Васильевич совершенно не походил на узколобого партийного начетчика;
он безусловно был умен и талантлив, и приходится только сожалеть, что
Градация течений внутри большевистской партии произведена нами довольно
условно - авт.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
229
в его лице Россия возможно потеряла выдающегося ученого-экономиста,
приобретя взамен пролетарского полководца.
Первое «боевое крещение» М.В. Фрунзе получил во время
октябрьских боев в Москве, куда он прибыл с «разведывательной миссией», от
шуйских рабочих организаций. О своем участии в «боях» Фрунзе
потом писал с нескрываемым юмором умного и честного человека: «Вдруг
где-то очень близко раздается выстрел. Весь наш отряд испуганно
шарахается в сторону,., до меня доносится злобная ругань. Раздается еще
несколько выстрелов... Вдруг вблизи себя слышу шипящий от злобы
голос нашего начальника: «Прекратите пальбу, идиоты»... Оказывается
тревога поднялась из-за выстрела, нечаянно сделанного одним из наших
красногвардейцев» [192, С. 142]. Вернувшись в Шую Фрунзе
организовал и выслал на помощь московским большевикам отряд из 900
красногвардейцев, которым, правда, тоже не удалось отличиться, поскольку к 2
ноября 1917 г. бои в городе практически закончились.
В дальнейшем, после кровавого подавления Ярославского мятежа,
М.В. Фрунзе был назначен комиссаром Ярославского военного округа,
должность которого была связана, в основном, с формированием и
обучением войск. Из документов, характеризующих деятельность Фрунзе
на этом посту, заслуживают внимания его приказы №№ 521 и 522 от
13 декабря 1918 г. об организации в каждой губернии округа военно-
агитаторских курсов и приказ № 523, предписывавший «агитационно-
просветительным отделам губернских и уездных военных
комиссариатов озаботиться учреждением школ грамотности в войсковых частях
Красной Армии» [191, т.1, С. 115].
Программа обучения красноармейских агитаторов, рассчитанная
на 144 часа учебных занятий, в качестве главных предметов содержала
изучение военного дела, рабочего законодательства и «агитаторского
искусства» (соответственно 35, 12, 12 часов); под последним, очевидно,
следует понимать некоторый риторический ликбез. Качество подготовки
не могло быть высоким, поскольку практические занятия были
предусмотрены программой только для занятий по военному делу; к тому же за 12
часов можно было получить только общее представление о риторике. Но
агитаторские курсы позволяли выпускать ежемесячно до 100 человек на
губернию, что было в условиях военного времени совсем неплохо.
Любопытно, что в обязанность дежурного по курсам входило
особо следить, чтобы будущие красноармейские агитаторы не допускали
между собой ругани; очевидно, М.В. Фрунзе отдавал себе отчет в том,
230 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
что человек, говорящий языком рыночной площади, не может вызывать
доверия и уважения у своих слушателей.
Немалое место отводилось в приказе № 523 развитию у солдат
способности к речи. Помимо умения читать, писать и ориентироваться в
четырех действиях арифметики преподаватели в школах грамотности
стремились выработать у своих учеников «умение излагать свои
мысли». Для этого рекомендовалось чаще практиковать беседы, целью
которых должно было быть «не сообщение возможно большего количества
фактов, а ознакомление красноармейца с причинной связью явлений
и пробуждения тем самым сознания красноармейца к проявлению
умственной активности» [191, т.1, С. 117].
Первое назначение на уже настоящую строевую должность
командующего 4-й армией Восточного фронта Фрунзе получил в 26 декабря 1918
г., приняв ее с удивительной скромностью, по принципу «раз больше
некого, тогда ладно». Таким образом, только начиная с первого приказа о
вступлении в должность командующего войсками 4-й армии № 409 от
31 января 1919 г., можно с полным правом говорить о феномене военной
риторики М.В. Фрунзе.
«...Товарищи, глаза тыла, глаза рабочих и крестьян всей России
прикованы к вам, - говорилось в этом приказе. - С замиранием сердца, с
трепетом в душе следит страна за вашими успехами. Не для захватов
чужих земель, не для ограблений иноземных народов послала вас, своих
детей, трудовая Русь под ружье.
Здесь, на фронте решается самая судьба рабоче-крестьянской
России; решается окончательно спор между трудом и капиталом.
Разбитые внутри страны помещики и капиталисты еще держатся на
окраинах, опираясь на помощь иностранных разбойников. Обманом
и насилием, продажей родины иностранцам, предательством всех
интересов родного народа они все еще мечтают задушить
Советскую Россию и вернуть господство помещичьего кнута. Они
надеются на силу голода, который выпал на долю центральных губерний
вследствие отторжения от России богатых хлебом окраин.
Напрасные упования!..
Еще одно, два усилия и враг будет разбит окончательно. Под сень
красных знамен социалистической Советской России вернутся все ее
окраины, и работники города и деревни возьмутся за мирный,
спокойный труд. Страна жаждет исцеления от мук голода и холода, она жаждет
хлеба и мира от своей армии...
Глава 2. Военная риторика пролетариата
231
Я надеюсь, что совокупные усилия всех членов армии не дадут месту
в рядах ее проявлениям трусости, малодушия, лености, корысти или
измены. В случае же проявления таковых суровая рука власти беспощадно
опустится на головы тех, кто в этот последний решительный бой труда с
капиталом явится предателем интересов рабоче-крестьянского дела.
Еще раз приветствую вас, своих новых боевых товарищей, и зову
всех к дружной неустанной работе во имя интересов трудовой России»
[114, С. 50-51].
Перефразируя известное изречение, что вся русская литература
вышла из гоголевской «Шинели», можно сказать, что практически вся
пролетарская военная риторика вышла из-под шинели тов. Троцкого.
Реминисценции из приказов тогдашнего наркомвоенмора в этом образце риторики
Фрунзе очевидны. В области композиции речи они касаются, прежде
всего, наличия части, посвященной разъяснению «международного
положения», упоминания, порой в прямом цитировании, слов «Интернационала»
о «последнем и решительном бое»112, а также предупреждения о тяжести
карающей руки советской власти, всегда готовой опуститься на головы
предателей «интересов рабоче-крестьянского дела».
«Обязательная программа» могла, напомним, разбавляться, как это
и сделано в приведенном здесь приказе Фрунзе, изображением картин
мирной жизни в грядущем «социалистическом раю».
Лексика и фразеология военной риторики Фрунзе также
представляет собой смесь из широко распространенных в советское время штампов
социального пафоса, вроде пресловутых «помещиков и капиталистов»,
и выражений, характерных для самого Михаила Васильевича. К
таковым можно отнести переходящее из приказа в приказ упоминание о бое,
тяжбе или счетах «труда и капитала», выражения «трудовая Русь»,
«Россия труда», «сермяжная Русь» и пр.
Можно заметить, что речь Фрунзе более метафорична, чем речь
Троцкого, в ней чаще используются средства выразительности. В то же
время в речи Фрунзе неизмеримо меньше инвектив. Враги
квалифицируются им, в основном, только как «разбойники» и «паразиты», а
относительно своих подчиненных командующий вовсе не допускал и мысли
Эта общая практически для всех революционных ораторов черта даже нашла
отражение в «Инструкции по организации митингов», помещенной в сборнике «Инструкции по
организации лекций, бесед, собеседований, митингов в частях Красной армии Югзапфрон-
та», выпущенном политотделом фронта в 1920 году. «Речь каждого оратора сопровождается
отрывком из Интернационала», - рекомендовали составители сборника [187, С.7].
232 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
о том, что в их рядах могут обнаружиться негодяи, трусы, предатели,
шкурники и изменники, предпочитая упоминать, и то в сослагательном
наклонении, о вероятности проявления «трусости, малодушия,
лености, корысти или измены». Нечего говорить о том, что такой подход
для командира более предпочтителен: нельзя затрагивать честь
войск, которые идут под его началом в бой даже подозрением на
слабость их духа.
Таким образом, общий тон приказа, как и в целом военной риторики
Фрунзе, значительно мягче стиля Троцкого. Объяснялось это,
возможно, тем, что на дворе стоял уже не грозный 1918 год, да и на фронте 4-й
армии наблюдалось в то время затишье. И все нам хочется считать эту
мягкость своеобразной визитной карточкой риторического стиля
Фрунзе первого периода его военной деятельности.
Как иначе объяснить необъяснимую мягкость обращения его с почти
что мятежным комбригом И.М. Плясунковым, когда командующий,
выступая перед разнузданной толпой партизанских командиров, рисковал
собственной жизнью, убеждая их подчиниться требованиям воинской
дисциплины. В этом же тоне был выдержан приказ Фрунзе № 92/39
от 3 марта 1919 г., в котором это вопиющее происшествие явно нашло
отражение.
«За время своего всего лишь месячного командования армией я
натолкнулся на целый ряд фактов, составляющих крупные, подчас,
нарушения порядка службы и дисциплины; случаи эти тем менее
извинительны, что нарушителями дисциплины являются иногда лица высшего
строевого командного состава и отчасти даже военные комиссары.
Так, был случай, когда один из командиров бригады113, получив от
меня за несколько недозволенных поступков словесный выговор,
апеллировал к своим подчиненным, и в результате командный состав этой
бригады, во главе с бригадным военным комиссаром, потребовал меня
для объяснений.
Затем был случай, когда один из командиров бригад требовал смены
своих частей и увода их в резерв, угрожая самовольным уходом...
Разбираясь в каждом из этих случаев в отдельности, я почти
всегда приходил к заключению, что все они базировались не на злостном
умысле, не на желании проявить неповиновение и нарушить
дисциплину, а попросту на непонимании основ службы, взаимоотношений между
Речь здесь, судя по всему, идет о комбриге И.М. Плясункове.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
233
начальником и подчиненными и совершенно превратном, подчас,
толковании требований дисциплины... Приказываю помнить, что
современная дисциплина тем и отличается от дисциплины прежней армии, что,
основываясь не на одном лишь чувстве страха перед ответственностью
и сопряженными с ней карами, дисциплина Красной Армии зиждется
главным образом на высоком чувстве сознания революционного долга....
В этом отношении все лица командного состава всех степеней и все
военные комиссары должны подавать пример...» [114, С. 64-65].
Приказ этот был не единственным средством воспитания частей
армии. Сам Фрунзе в нем упоминает, что все его требования
неоднократно разъяснялись войскам в устном общении. Приказ служил,
фактически, только последним предупреждением, перед решительным
применением командующим суровых дисциплинарных мер. Таким образом,
М.В. Фрунзе был наверно, первым советским военачальником,
отдававшим предпочтение в воспитании войск методу убеждения. Видимо за это
он и был так любим возглавляемыми им войсками, больше привыкшими
к сочетанию мер «агитации, организации, революционного примера и
репрессии» явно склонявшихся в то суровое время, по крайней мере, в
низовом командном звене, в сторону последнего члена формулы.
Конечно, мягкость Фрунзе никогда не обращалась в мягкотелость,
особенно по отношению к классовым врагам. Донесение Фрунзе
Троцкому от 18 марта 1919 г. по поводу подавления восстания в Самарском,
Сызранском, Сенгилеевском, Ставропольском и Мелекесском уездах
(8-16 марта 1919 г.), бодро сообщало, что «при подавлении восстания
было убито, по неполным сведениям, не менее 1 000 чел., расстреляно
свыше 600 главарей и кулаков». Село Усинское, в котором
восставшими был истреблен целиком красноармейский отряд в 170 чел., было
«сожжено совершенно» [114, С. 77].
Такие меры уже не воспринимались закаленным бойцом революции
как жестокость; они всего лишь закономерно вытекали из диалектики
классовой борьбы. В речи, произнесенной 19 сентября 1919 г. на
митинге в Оренбурге, Фрунзе со всей определенностью говорил: «Мы не
размазня, вроде Керенского... Мы знаем, если победят нас,., с нами не
будут разговаривать, нас будут только вешать...» [192, С. 175].
Помимо приказов военная риторика М.В. Фрунзе оперировала
жанром обращения к войскам, под которым очень часто скрывался жанр
благодарственного приказа, именовавшегося так, наверное, только по
неистребимой «гражданской» привычке бывшего иваново-вознесенского
234 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
агитатора. Возможно так Фрунзе, которому как командующему сначала
армией, потом группой армий, а затем фронтом приходилось
разрабатывать и подписывать множество приказов по оперативной части
управления войсками, стремился как-то выделить документы, призванные
поднимать дух красноармейцев. Такого рода обращения, как, например,
к войскам 4-й армии от 19 марта 1919 г. были обычно достаточно
краткими по форме.
«Войска 4-й армии овладели районами Лбищенска и Сломихинской;
ближайшая поставленная им задача, таким образом, выполнена...
Поздравляю все части геройской 4-й армии с победой. Отмечаю
высокодоблестное поведение при тяжелой обстановке всего состава войск,
начиная от рядовых и кончая командирами; особо должен оттенить
деятельность частей 1-й бригады 25-й дивизии, потерявших за время
многодневных боев значительную часть командного состава и тем не менее
геройски бивших и гнавших врага вплоть до Лбищенска.
Именем Рабоче-Крестьянской Советской России приношу
благодарность всему составу войск Уральской и Александро-Гайской групп.
Россия труда может быть гордой своими товарищами» [192, С. 80].
Обращения могли выпускаться и перед началом активной фазы
боевых действий: при переходе в наступление или резком обострении
обстановки. Так, перед началом контрнаступления против левого крыла
колчаковских войск Фрунзе счел необходимым наряду с постановкой
задач оперативным приказом № 021 от 10 апреля 1919 г., который помимо
прочего требовал «проникнуться осознанием необходимости положить
предел дальнейшему развитию успехов противника», поднять дух
Южной группы армий особым обращением.
«Солдаты Красной Армии!
Внимание трудовой России вновь приковано к вам... Красное знамя
вновь развевается над всей великой российской равниной вплоть до
берегов Азовского и Черного морей. Казалось, что отныне народ наш,
истомленный непрерывной тяжелой борьбой, сможет свободно вздохнуть
и приступить к мирному труду... Чуя близость позорного конца, видя
рост революции на Западе, где одна страна за другой поднимают знамя
восстания114, колчаковцы делают последние усилия. Собрав и выучив на
114 Намек на революцию в Венгрии, объявившую страну Венгерской социалистической
республикой, чему было посвящено отдельное обращение М.В. Фрунзе № 0765 от 22 марта
1919 г. [155, С. 83-84].
Глава 2. Военная риторика пролетариата
235
японские и американские деньги армию, заставив ее слушаться
приказов царских генералов путем расстрелов и казней, Колчак мечтает стать
новым державным венценосцем.
Этому не бывать! Армии Восточного фронта, опираясь на мощную
поддержку всей трудовой России, не допустит торжества паразитов.
Слишком велики жертвы, принесенные рабочим классом и
крестьянством. Слишком много крови пролито ими, чтобы теперь, накануне своей
полной победы, позволить врагу вновь сесть на плечи трудового народа.
Дело идет о его настоящем и будущем... Помощь идет. Вперед же,
товарищи, на последний решительный бой с наемником капитала -
Колчаком! Вперед за счастливое и светлое будущее трудового народа!» [192,
С. 97-98].
Стиль обращений, особенно второго, вял и тяжеловат, этот
недостаток характерен, в принципе, для всей военной риторики Фрунзе первой
половины 1919 г., грешившей чрезмерной обстоятельностью. Это
касается и напрасного удлинения фраз текста, которые содержали до 45
слов, и не всегда удачного выбора выражений. Так, обращение от 19
марта почему то оттеняет безликую деятельность «высокодоблестных»
красных войск, вместо того, чтобы отмечать, скажем, их славные
подвиги. В обращении от 10 апреля встречается безобразная сентенция о
Колчаке, заставившем своих солдат «слушаться» путем расстрелов и
казней. Заметно и заимствование из приказа Троцкого № 87 от 26 марта
по войскам 2-й армии, в котором Колчак именовался новым
самодержцем. Фрунзе только именовал его пышнее - державным венценосцем.
Обращает на себя внимание и то, что для Фрунзе показателем
боевой доблести войск выступали потери в командном составе. Это было
печальным свидетельством того, что, во-первых, последствия «ставки на
Число» в советской стратегии начинали давать свои плоды, а во-вторых,
что красные военачальники продолжали следовать устоявшейся
порочной русской традиции подсчета своих жертв, а не потерь противника.
Конечно, трудно упрекать бывшего экономиста за то, что он за три
месяца командования не обрел ни верного стиля в своей военной речи,
ни правильного понимания основ стратегии. Когда и где Фрунзе учился
«военному делу настоящим образом» по сей день остается загадкой.
Пособиями ему, очевидно, могли служить труды признанного партией
военного специалиста Ф. Энгельса, которого Фрунзе очень любил
цитировать при обсуждении разнообразных вопросов военного строительства.
Беда была только в том, что из статей «великого» военного теоретика,
236 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
известного в немецкой социал-демократии под кличкой «Генерал»,
ничего нельзя было почерпнуть о том, как практически поддерживать боевой
дух у тех, кто стоит в рядах победоносных батальонов.
На войне, однако, люди учатся быстро. Учился и М.В. Фрунзе. Его
обращение от 28 апреля, выпущенное перед началом контрнаступления
Южной группы, было написано очень энергичным языком.
«Враг трудового народа, Колчак, наступает на Волгу. Окрыленные
его успехами помещики, капиталисты, царские генералы, жандармы
и охранники готовят новую петлю на шею народа. Этому не бывать!
Рабоче-крестьянская Русь встрепенулась. Она с твердой верой смотрит
на нас и шлет свою помощь. Колчаковские банды зарвались. Им
подготовлен страшный удар. Мною отдан приказ армиям группы перейти в
решительное наступление и уничтожить врага. Каждый из вас должен
выполнить свой долг. Победа обеспечена. Рабочие и крестьяне России
рабами больше не будут никогда.
Смело вперед, на последний бой труда с капиталом! Вперед! За
землю и волю, за свободный труд в свободной социалистической стране!
Вперед, за утверждение господства трудящихся!» [71, т.2, С. 170].
О том, что победа обеспечена, напомним, очень любил писать
Л.Д. Троцкий. Влияние его стиля в приведенном обращении
несомненно. Изображению картин свободного труда в социалистической
стране была посвящена его статья, опубликованная в номере газеты «В
пути» от 14 апреля. Рубленые фразы также являются принадлежностью
стиля наркомвоенмора. Но немало и чисто «фрунзевских» выражений:
рабоче-крестьянская Русь, бой труда с капиталом. Оговорка с
«народовольческим» лозунгом за землю и волю выдает старого,
образованного марксиста.
Обращение к войскам Туркестанской армии от 23 мая 1919 г. перед
началом Уфимской операции также иллюстрирует положительные
сдвиги, происходившие в военной риторике Фрунзе.
«...Высшее военное командование возложило на нас задачу
окончательного разгрома белогвардейских банд, прикрывающих путь за Урал,
и ликвидации этим всей колчаковщины.
У меня нет и тени сомнения в том, что закаленные в битвах славные
бойцы 24-й, 25-й, 31-й и 3-й кавалерийской дивизий с указанной задачей
справятся в кратчайший срок. Порукой в этом являются блистательные
страницы их прежней боевой работы, завершившейся недавно
разгромом ряда корпусов противника на полях Бузулука, Бугуруслана, Бугуль-
Глава 2. Военная риторика пролетариата
237
мы и Белебея. Уверен, что и молодые войска 2-й дивизии, впервые
получающие боевое крещение, пойдут по стопам своих славных товарищей
и учителей.
России труда пора кончать борьбу с упорным врагом. Пора одним
грозным ударом убить все надежды прислужников мира капитала и
угнетения на возможность возврата старых порядков. Начало, и
начало хорошее вами уже сделано. Колчаковский фронт затрещал по всем
швам. Остается довести дело до конца. Бросая вас нынче вновь в
наступление, я хочу напомнить вам, что вы им решаете окончательно спор
труда с капиталом, черной кости с костью белой, мира равенства и
справедливости с миром угнетения и эксплоатации. В этой великой, святой
борьбе рабоче-крестьянская Россия вправе требовать от каждого из
своих детей полного исполнения своего долга. И этот долг мы исполним!
Наш первый этап - Уфа; последний - Сибирь, освобожденная от
Колчака. Смело вперед!» [71, т.2, 165].
В качестве положительного момента можно отметить сокращение
длины фраз: самое длинное предложение содержит в полтора раза
меньше слов, нежели обращение от 19 марта, - их «всего» 33. Другим плюсом
является подробное перечисление соединений, к которым обращался
полководец, а не огульное именование их солдатами Красной Армии,
как в обращении от 10 апреля.
Слуху военного человека вообще приятно звучание номеров и,
особенно, полных названий соединений и частей, в которых он служил или
служит. Это наполняет солдата и офицера гордостью за принадлежность
к конкретной войсковой семье. «Войсковой» патриотизм значит для
воспитания воинского духа, доблести, стойкости, верности боевому
знамени ничуть не меньше, чем патриотизм национальный или
государственный. Мало того, с воспитания именно «войскового» патриотизма может
начинаться государственно-патриотическое воспитание воинов армии и
флота. В традициях воспитания русской армии, по крайней мере, в XVIII
в. Петром Великим и Суворовым был заложен именно такой подход.
Удачно использованы в речи и «военные» эпитеты: «закаленные»,
«славные». Заключительный лозунг-призыв, определявший войскам
рубежи наступления, вообще выше всяких похвал.
После успешного завершения Уфимской операции, длившейся с 25
мая по 19 июня 1919 г., можно было считать, что с ударной силой Колчака
было покончено раз и навсегда. На повестку дня в связи с активизацией
контрреволюции на Юге России перед советской властью ставился вопрос
238 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
о недопущении соединения сил ген. Деникина с уральским и оренбургским
казачеством и, в перспективе, с все еще представлявшими угрозу войсками
адм. Колчака. Ликвидация т.н. «оренбургской пробки», восстановление
железнодорожного сообщения Туркестана с центральными районами России
имела первостепенное значение и для существования советской власти в
Туркестане.
Эту задачу призваны была решать войска образованного 11 августа
1919 г. Туркестанского фронта, в состав которого вошли 1-я и 4-я
армии; командование фронтом было возложено на М.В. Фрунзе.
Восстановление связи советской России с Туркестанской республикой было
осуществлено совместными усилиями 1-й армии и войск советского
Туркестана в ходе Орско-Актюбинской операции, длившейся с 13 августа
по 13 сентября, которая, как водится, «стала яркой страницей истории
Советских Вооруженных Сил» [115, С. 109].
Оставляя в стороне оценку стратегического искусства М.В.
Фрунзе, проявленного в ходе борьбы за Туркестан, ограничимся только
констатацией факта, что его военная риторика в этот период
обрела еще более зрелые формы. Об этом, в частности, свидетельствует
приказ по войскам Туркестанского фронта № 03587/оп от 7 октября
1919 года.
«Вы, доблестные войска 1-й армии, многомесячными усилиями в
бездорожном районе, через горы, леса, по песчаным степям очищали
путь в Красный Туркестан, где ваши братья вели упорную борьбу за
свою свободу, где был приготовлен для окруженной кольцом врагов
Советской России столь нужный ей хлопок, чтобы одеть нашу
пролетарскую семью... Ваш могучий дух воинов-революционеров,
воинов великой Рабоче-Крестьянской Красной Армии дал вам славные
победы. Вы захватили за последний месяц свыше 55 тысяч пленных,
много орудий, около 150 пулеметов, большое количество военной
добычи....
Свершилось! Путь в Туркестан свободен! Совет Обороны РСФСР,
высоко ценя услуги, оказанные Советской Республике вашей
доблестной боевой работой, славные войска 1-й армии, постановил:
1. объявить вам в лице красноармейского и командного состава
благодарность отечества;
2. выдать всему составу 1-й армии, участвовавшему в
победоносном наступлении на соединение с Туркестаном, месячный оклад
жалованья.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
239
Еще раз сердечно поздравляю вас с блестящим боевым успехом;
твердо уверен, что вы навсегда закрепите свои победы там, в Красном
Туркестане...» [114, С. 210-211].
Агитаторское многословие Фрунзе, его склонность к длинным
периодам, особенно во вступлении, были все-таки неистребимы. В прочем -
удвоении обращения (в начале и середине речи), подробном
перечислении трофеев, выражении уверенности в будущих подвигах поощряемых
войск - заметен определенный прогресс.
В «Красном Туркестане» Фрунзе пробыл довольно долго, до сентября
1920 года. Стиль его военной риторики этого периода ничем
принципиально не отличался от рассмотренного нами выше. Заслуживает
внимания, пожалуй, только новогодний приказ войскам фронта от 1 января
1920 г., явление необычное в практике советского красноречия, больше
ориентировавшейся на «революционные» даты.
«Единственная в мире Советская Республика встречает сегодня
третий новый год, - говорилось в поздравлении. - Красные войска
Республики могут гордиться блестящими результатами своих усилий. На
всех фронтах красные полки Республики стремительно идут вперед,
сокрушая врага и подготовляя близкое торжество социалистической
революции. Поздравляя войска фронта с новым годом, выражаю твердую
уверенность, что этот год явится последним годом страданий народов
России и приведет к полному торжеству нашего оружия.
Красноармейцам, командирам, комиссарам, ура!» [114, С. 264].
Надо заметить, что в то время М.В. Фрунзе искренне любил свои
войска, а не рассматривал их только как инструмент утверждения и
торжества Идеи. Душевная теплота его по отношению хотя бы к
собратьям по классу прослеживается во многих приказах и обращениях, как,
например, в цитировавшемся выше обращении от 23 мая, именовавшем
воинов РККА детьми рабоче-крестьянской России, или в приказе №
03587, упоминавшем о пролетарской семье, ради которой армия
приносит жертвы на поле брани. Близость Фрунзе к солдату
демонстрирует и сам факт издания новогоднего приказа, как повод лишний раз
похвалить и подбодрить «серую скотинку», условия службы которой в
годы Гражданской войны действительно нельзя было характеризовать
иначе, кроме как ужасающие. Многократные упоминания в военной
риторике Фрунзе о муках, жертвах и страданиях народа, вкупе с
часто встречающимися эпитетами «истомленный», «исстрадавшийся»,
«измученный» и т.п. выдают его явное сострадание, чего, например,
240 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
совершенно напрасно искать у Троцкого или, тем более, у Ленина,
которого А.И. Куприн, например, характеризовал, как «помесь Калигулы
и Аракчеева». В поле зрения партийных вождей, поглощенных борьбой
за Идею, такие «мелочи» не попадали; к ним могли еще иногда
апеллировать в пропагандистских целях, но искренности при этом ни у того,
ни у другого совершенно не ощущается.
Чего нельзя сказать о Фрунзе. Его искренность подкупала.
Например, Г.К. Жуков так вспоминал о своей встрече с Фрунзе при посещении
им 25-й стрелковой дивизии: «Он остановился в поле и заговорил с
бойцами нашего полка, интересуясь их настроением, питанием,
вооружением, спрашивал, что пишут родные из деревень, какие пожелания
имеются у бойцов. Его простота, обаяние и приятная внешность покорили
сердца бойцов» [61, т. 1, С. 53].
Из новых для Фрунзе, чисто риторических приемов, использованных
в поздравлении, можно выделить молодецкое провозглашение
красноармейцам, командирам и комиссарам,115 «ура»
Этот же прием был повторен в
телеграмме командующего фронтом № 025/оп
от 5 января 1920 г. реввоенсовету 4-й ар-
Смии, взятием г. Гурьева закончившей борь-
■gg\ бу на Уральском фронте и захватившей на
каспийских нефтепромыслах огромные
запасы нефти, столь необходимой советской
России, испытывавшей острый
энергетический голод.
«Сердечно поздравляю геройские войска
4-й армии и их доблестное командование.
Ни недочеты снабжения, ни ужасающие
условия борьбы в пустынных и безводных
местностях, ни страшное действие тифа,
уносившего из наших рядов сотни и
тысячи честных борцов, не удержали их
стремительного удара. Гурьев взят, и красное знамя смотрится в волны
Каспийского моря. Полкам, первым вступившим в Гурьев, полкам
и командованию славной 25-й дивизии, всем частям и полкам 4-й
армии и их доблестному командованию - ура!» [114, С. 248].
ш
ш
%
i
Рис. 11. М.В. Фрунзе
5 Форма обращения, часто встречающаяся в речах Л.Д. Троцкого.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
241
Почти ровно год отделяет время составления этой телеграмму от
времени издания первого приказа М.В. Фрунзе по войскам 4-й армии.
Разница между этими документами, что и говорить, громадная.
Можно считать, что за этот год сложился стиль действительно военной речи
пролетарского полководца.
С точки зрения риторической разработки речи в телеграмме нет
ничего лишнего. Вся она проникнута истинно военным духом бодрости,
энергии, стремительности. При описании тягот и лишений,
преодоленных войсками, хорошо использовано многосоюзие, нагнетающее
воздействие речи. Оттого венчающая период фраза «Гурьев взят...»,
снабженная великолепной метафорой, воспринимается, как катарсис. Точно
такой же прием, напомним, применил М.И. Кутузов в извещении об
оставлении Москвы наполеоновскими войсками (см. «Военная
риторика Нового времени»).
По этому же принципу выстроена и венчающая телеграмму фраза.
В целом, по нашему мнению, это произведение, принадлежащее перу
М.В. Фрунзе, может считаться лучшим образцом не только его
риторики, но и жанра поздравительной телеграммы в военной риторике в
целом.
Венцом полководческой карьеры М.В. Фрунзе традиционно
считается операция возглавляемого им Южного фронта против войск ген.
Врангеля в Северной Таврии и на Крымском полуострове.
Положение советской власти перед началом операции было более
чем угрожающим. Разгромленные поляками войска Западного фронта
частью были пленены, частью интернированы и, казалось, утратили
боеспособность. Резервных закаленных и сколоченных т.н. «перволи-
нейных» формирований у советской России практически не оставалось.
Польская армия показала свою силу и вполне могла рвануть по старой
памяти на первопрестольную, прикрыть которую было нечем. На
Украине оперировали многочисленные вооруженные отряды, стоявшие отнюдь
не на платформе советской власти. Представляли угрозу никем не
исчисленные «зеленые» армии дезертиров. Наконец, страна была
настолько разорена трехлетней гражданской войной, что население вполне
могло попросту плюнуть на защиту интересов соввласти, к которой оно не
испытывало еще той склонности, о которой писали позднее мифотворцы
официальной истории. В последнем смысле Врангель представлял для
Советов особенную угрозу, поскольку его наступление грозило
хлебородному Югу и Донецкому угольному бассейну, служившему основной
242 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
энергетической базой России. Третья голодная и холодная зима могла
стать для действительно измученного населения последней каплей.
Даже сторонний наблюдатель Г. Уэллс отмечал в то время: «Еще один
год гражданской войны - и окончательный уход России из семьи
цивилизованных народов станет неизбежным» [185, С.79].
Поэтому когда в беседе с Фрунзе 20 сентября 1920 г, В.И. Ленин
информировал его о положении в стране и на фронтах, он особенно
подчеркивал, «что главная задача Южного фронта заключается в том, чтобы не
допустить зимней кампании» [115, С. 128]. Так что военные победы на
самом деле были необходимы нашей Красной армии, как воздух.
В соответствии с указаниями вождя, приказ Фрунзе по войскам
Южного фронта от 27 сентября 1920г. прежде всего ориентировал
красноармейцев во всей сложности обстановки.
«...Товарищи! Вся рабоче-крестьянская Россия, затаив дыхание
следит сейчас за ходом борьбы здесь, на врангелевском фронте. Наша
измученная, исстрадавшаяся и изголодавшаяся, но по-прежнему крепкая
духом сермяжная Русь жаждет мира, чтобы скорее взяться за лечение
нанесенных войной ран, скорее дать возможность народу забыть о
муках и лишениях ныне переживаемого периода борьбы. И на пути к этому
миру она встречает сильнейшее препятствие в лице крымского
разбойника - барона Врангеля.
Это - тот самый барон Врангель, который, несмотря на крушение
контрреволюционных затей своих черносотенных предшественников
- адмирала Колчака, генералов Корнилова, Юденича, Деникина и др.,
все еще продолжает пробивать себе дорогу к царскому трону через горы
рабочих и крестьянских трупов.
Это - тот Врангель, который запродал всю Россию - все железные
дороги, рудники и другие богатства - французским ростовщикам и тем
купил их подлую, кровавую помощь против родной страны.
Это - тот Врангель, который в последние дни глубоко вонзил свой
разбойничий нож в спину России, сорвав победный марш армий
Западного фронта и наш мир с Польшей. В тот момент, когда наши красные
полки стояли под Варшавой, когда белая Польша готова была подписать
с нами мир, когда требовалась хотя небольшая поддержка с нашей
стороны, дабы славно закончить борьбу, - крымский разбойник наносит
удар с юга, отвлекая все силы и средства страны. Лишает нас
возможности поддержать Западный фронт в решающий момент и тем вновь
приводит к затяжке борьбы.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
243
Борьба с Врангелем приковывает внимание не только России, но и
всего мира. Здесь завязался новый узел интриг и козней, при помощи
которого капиталисты всех стран надеются подкрепить свое
шатающееся положение. Успехи Врангеля окрылили их надеждами и
поддерживают бодрость в борьбе с надвинувшейся вплотную волной пролетарского
движения в их собственных странах.
На нас, на наши армии падает задача разрубить мощным ударом этот
узел и развеять прахом все расчеты и козни врагов трудового народа.
Этот удар должен быть стремительным и молниеносным. Он должен
избавить страну от тягот зимней кампании, должен теперь же, в
ближайшее время раз навсегда закончить последние счеты труда с капиталом.
Командованием фронта все меры, обеспечивающие его успех, приняты;
очередь за вами, товарищи.
Мне известно, что эту задачу нам придется разрешать в тяжелой
обстановке разного рода недочетов и нехваток. Это известно и всей
России, напрягающей последние усилия, чтобы помочь фронтовикам. И тем
не менее мы ее должны разрешить: Врангель должен быть разгромлен, и
это сделают армии Южного фронта.
Товарищи красноармейцы, командиры и комиссары! Именем
республики обращаюсь к вам с горячим призывом дружно, как один, взяться
за работу по устранению всех существующих в частях недочетов и по
превращению их в грозную, несокрушимую для врага силу. Обращаюсь
ко всем тем, в ком бьется честное сердце пролетария и крестьянина:
пусть каждый из вас, стоя на своем посту, выявит всю волю, всю
энергию, на которую только способен. Шкурников, трусов, мародеров, всех
изменников рабоче-крестьянскому делу - долой из наших рядов! Долой
всякое уныние, робость и малодушие!
Победа армии труда, несмотря на все старания врагов, неизбежна. За
работу, и смело вперед!» [105, С. 81-83].
Если бы не подпись под документом, можно было бы подумать, что
приказ был написан Л.Д. Троцким - настолько чувствуется влияние его
стиля.
Самый сильный пассаж про разбойничий нож в спину России,
например, явно списан с воззвания Троцкого «Смерть польской
буржуазии» от 29 апреля 1920 г., начинавшегося словами «еще один
предательский нож занесен над вами» [173, т.2, ч.2, С. 91].
Уверенная постановка задачи с использованием фигуры пролепси-
са («Врангель должен быть разгромлен, и это сделают армии Южного
244 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
фронта») фактически повторяет выражение Троцкого из приказа на
уничтожение ахтарского десанта противника «десант Врангеля необходимо
раздавить, - и вы это сделаете» (см. п. 2.2). Оттуда же заимствовано
и упоминание об исчерпывающих мерах для обеспечения успеха,
принятых командованием, и о том, что дело, таким образом, остается за
войсками.
Шкурников, трусов, мародеров и изменников Фрунзе совсем по-
троцкистски решительно приказывает вымести вон, а не только
предупреждает о недопустимости проявления шкурничества, трусости,
мародерства и т.п. Судя по всему, таковые явления действительно были
широко распространены в деморализованных поражениями,
отступающих войсках. Фрунзе в докладе В.И. Ленину осторожно сообщал, что
«настроение частей несколько надломленное. Переход в общее
наступление зависит от времени подхода 1 Конной» [52, т.4, С. 395], а сам
Ленин требовал ускорить движение армии Буденного всеми мерами, «не
останавливаясь перед героическими».
Но и в 1-й Конной армии дела обстояли не блестящим образом. Даже
советские историки глухо признавали, что «вырвавшаяся из
окружения116 без основного обоза 1-я Конная армия оказалась разбавленной
случайными элементами местных пополнений» [115, С. 131], и что
поэтому в боях на советско-польском фронте и в ходе передислокации
армии на Южный фронт в полосе ее движения имели место погромы и
насилия над местным населением.
Красу и гордость пролетарской армии следовало срочно приводить в
порядок, прежде чем бросить в решительные бои с Врангелем. Начало,
по воспоминаниям СМ. Буденного, было положено показательным
расформированием трех полков (!) 6-й кавдивизии, отличившейся, помимо
прочего, убийством собственного комиссара, и осуждением выездной
сессией армейского ревтрибунала ее командования. Над
перевоспитанием массы конармейцев, безбожно льстя ей, трудились больше речами.
В то время, когда войска Южного фронта буквально истекали кровью,
с 12 по 21 октября в частях 1-й Конной армии работал агитационно-
инструкторский поезд «Октябрьская революция» во главе с
председателем ВЦИК М.И. Калининым. Будущий «всесоюзный староста» не
уставал превозносить вчерашних разбойников и грабителей: «Можно смело
сказать, что нет в мире лучших, более сознательных войск, чем вы. Мо-
6 В ходе боев с поляками на Западном фронте.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
245
жет быть, у вас есть много и неграмотных людей, но смело могу сказать,
что нет в мире армии, которая была бы так сознательна, которая бы
так хорошо знала, за что она воюет, которая бы так ненавидела людей, с
которыми она воюет, которая бы так доверяла комиссарам
(выделено нами. - авт.)...» [19, т.З, С. 51].
Забегая вперед, укажем, что ничего хорошего такая речевая
тактика не принесла. Первая Конная в боях в Северной Таврии «отличилась»
только тем, что именно через ее боевые порядки прорвались в Крым
отступавшие врангелевские войска. Ну а «фронда» и самомнение ее
славного командования в лице СМ. Буденного и К.Е. Ворошилова вообще не
поддаются описанию.
Агитация в красных войсках в этот период проводилась с широким
размахом. В немалой степени агитационным можно было назвать и
анализируемый нами приказ М.В. Фрунзе. Например, «демонизации»
Врангеля в приказе было уделено беспрецедентно много места; это
самая эмоциональная, самая насыщенная средствами выразительности
часть документа. Эту же цель преследовало и прекрасно оформленное
издание РВС республики «Памятка красноармейца Южного фронта»
(прил. 2.5), клеймившее Врангеля теми же обвинениями в монархизме,
продаже родины зарубежным капиталистам и прочих смертных грехах.
Самое же главное, что памятка, как и приказ, чуть ли не в форме присяги
требовала от красноармейцев не допустить затягивания боев до зимней
кампании.
Решить эту задачу советское командование планировало
испытанным способом - навалиться Числом. Председатель РВС республики
тов. Троцкий вдохновлял войска телеграммой следующего содержания:
«От исхода борьбы зависит не только вопрос о зимней капании и мире
с Польшей, но и о мире с Англией. Советской республике необходим
успех во что бы то ни стало. На нашей стороне огромный перевес
сил (выделено нами. - авт.) и все преимущества стратегического
расположения» [156, С. 4].
Мобилизации коммунистов позволили добиться того, что
«численность партийных организаций в войсках фронта... была значительно
увеличена. В 713 партийных ячейках состоял 16 771 коммунист, или
почти 12 процентов от всей численности бойцов» [115, С. 136]. Это был
очень важный показатель боеспособности Красной армии.
Исследованию оптимального соотношения в частях коммунистов/прочих бойцов
после войны была даже посвящена интересная статья СИ. Гусева, явно
246 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
базировавшаяся на опыте кампании против Врангеля. «Минимальный
процент коммунистов в воинской части, ниже которого часть
становилась совершенно небоеспособной, - резюмировал свои наблюдения
Гусев, - это - 6%. Части, имевшие от 6 до 12% коммунистов, были только
более или менее стойкими, и лишь части, в которых число коммунистов
было выше 12% (кое-где доходило и до 50%) были вполне стойкими и
боеспособными» [44, С. 162]. Видимо, поэтому в сентябре-октябре 1920
г. только с Западного фронта на Южный было переброшено около
тысячи политработников, а также усилена интернациональная «прослойка»
латышских стрелков и венгерских коммунистов во главе с Б. Куном.
Пока 1-я Конная армия избавлялась от «случайных элементов» в
своих рядах, готовясь окончательно решить последнюю тяжбу труда с
капиталом, подавляющего превосходства красных не ощущалось, и
агитационные усилия М.В. Фрунзе в первой половине октября достигают пика.
Как всегда в минуты смятения в ход шло буквально все. Приказ войскам
13 армии № 152 от 2 октября, с одной стороны, требовал словами
Троцкого: «Крепче держите винтовку в руках!», а с другой, - ободрял войска
логоэпистемоидом: «Пусть не смущаются ваши сердца117 постигшими
вас отдельными неудачами» [105, С. 87].
Людей при неудачах, конечно, не считали. Телеграмма Фрунзе
командарму 2-й конной армии № 087/с, 303/оп от 11 октября 1920 г.
жестко требовала: «2-я Конная армия должна выполнить свою задачу до
конца, хотя бы ценой самопожертвования (выделено нами. - авт.)»
[114, С. 375]. За массовое самопожертвование начали хвалить особым
жанром приветствия, как, например, войска 9-й стрелковой дивизии,
грудью прикрывавшей Донецкий бассейн.
«...Полки дивизии, выдержав ряд ожесточенных боев с бешено
рвавшимся вперед противником, и, невзирая на крупные потери, свою
задачу доблестно выполнили. Рабоче-крестьянская Россия может
гордиться такими своими защитниками; пока в рядах Красной Армии
будут такие геройские полки, как 77-й, легший костьми на поле брани
(выделено нами. - авт.), но ни пяди не уступивший врагу, - она будет
непобедима.
Именем Социалистического отечества объявляю благодарность всем
красноармейцам, командирам и комиссарам. Слава 9-й стрелковой
дивизии, вечная память павшим, вечная слава живым!» [там же, С. 357].
117 Евангельские слова Иисуса Христа к апостолам: «Да не смущается сердце ваше;
веруйте в Бога и в меня веруйте» (Ин. 14:1).
Глава 2. Военная риторика пролетариата
247
После переправы врангелевских войск 8 октября на левый берег
Днепра положение красных стало критическим. Телеграмма Фрунзе
реввоенсоветам 6, 13, и 2-й конной армий панически требовала от
руководящего состава уже «проявления сверхчеловеческой энергии
(выделено нами. - авт.) по скорейшей подготовке армий к наступлению»
[там же, С. 363].
Не были забыты и рядовые красноармейцы. Вышедшее на
следующий день обращение к войскам Южфронта рекомендовало:
«...Пусть же каждый красноармеец, каждый командир и каждый
комиссар поставит своим долгом сделать все, что только
возможно, для обеспечения нашей победы. Пусть каждый день, каждый
час он задает себе вопрос: «А все ли им сделано для
обеспечения успеха?» Социалистическое отечество оценит потом все нами
сделанное и каждому воздаст по заслугам.
Вперед же, товарищи, на последний и решительный бой! Вперед
на завоевание нами мира и обеспечение интересов труда! Смело
вперед! Пусть нашим девизом будут слова: «Смерть или победа!» [12, С.
368].
Как воздавало социалистическое отечество своим бойцам, мы увидим
из рассмотрения судьбы Н.И. Махно и его Партизанской армии,
сражавшейся против Врангеля плечо к плечу с красноармейцами. Для нас в
текстах приведенных выше телеграммы и обращения представляет интерес
только возвращение Фрунзе в заключительных фразах к древнейшему,
типично русскому пафосу героической смерти.
Уже из приведенных образцов военной риторики М.В. Фрунзе видно,
как изменился и он сам, и его риторический стиль. Не только
дореволюционная интеллигентность, но и вся «мягкость» и человечность,
характерная для его приказов 1919 года исчезли без следа. И в этом мы видим
глубочайшую трагедию человеческой личности Михаила Васильевича
Фрунзе, постепенно, но неуклонно поглощаемой партийным
функционером, ставящим торжество социальной идеи превыше людских
страданий и самодовлеющей ценности жизни.
В Северной Таврии и Крыму красные полководцы в лице М.В.
Фрунзе получали хороший пример достижения победы любой
ценой, опираясь не столько на военное искусство, заключающееся в
планировании и всесторонней подготовке сражения, сколько в
следовании ядовито сформулированному позже тов. Троцким лозунгу
«При вперед!»
248 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Даже В.И. Ленин раздраженно напоминал телеграммой своему ко-
мандюжу118 о необходимости заблаговременной подготовки инженерно-
артиллерийской атаки укреплений Турецкого вала. Но Михаил
Васильевич, уповая на окружение и уничтожение сил Врангеля в Северной
Таврии, сослался на «объективные» трудности переброски тяжелой
артиллерии и совершенно не озаботился этим. В результате, исход
операции, несмотря на подавляющее численное превосходство Красной
Армии, как известно, повис на волоске.
Одно время решение вопроса удастся ли красным пробиться через
перешейки на Крымский полуостров зависело от колебания уровня воды
в Сиваше. Когда же подъем воды, грозивший отрезать части советских
15-й и 52-й дивизии, начался, Фрунзе, конечно, немедленно принял
«самые решительные меры, - иначе все дело могло погибнуть (!). Такими
мерами явились следующие мои распоряжения - 1) подтверждение
немедленной атаки в лоб частями 51-й дивизии Перекопского вала под
угрозой самых суровых репрессий (выделено нами. - авт.)» [191, С.
114]. Член РВС Южфронта СИ. Гусев впоследствии вспоминал: «Тов.
Фрунзе приказал 51-й дивизии, несмотря на настояния начальника
дивизии, отказывавшегося броситься в ночную атаку (выделено
нами. - авт.), повести наступление...» [71, т.З, С. 440].
В результате, как Фрунзе хладнокровно докладывал Ленину 12
ноября 1920 г., «части шли по узким проходам под убийственным огнем на
проволоку противника. Наши потери чрезвычайно тяжелы. Некоторые
дивизии потеряли три четверти своего состава (выделено нами. -
авт.). Общая убыль убитыми и ранеными при штурме перешейков не
менее 10 тыс. человек» [197, С. 348-349]. Первый полк 30-й дивизии,
прорывавшейся в Крым по трехкилометровой дамбе с Чонгарского
полуострова, потерял 85% своего состава [71, т.З, С. 440]!
Самое удивительное, что об этом своем «успехе» М.В. Фрунзе не
стеснялся вспоминать и говорить позже, после окончания Гражданской
войны, уверенно начиная создавать легенду об особом «революционном»
военном искусстве. Особое мнение о полководческом таланте Фрунзе,
скорее всего, имелось у В.К. Блюхера, командира 51-й дивизии, которой
выпала «честь» пожертвовать теми самыми тремя четвертями своего
состава. По свидетельству жены Блюхера, «Василий Константинович
очень раздражался, когда читал в газетах, слышал по радио чрезмерное
Командующий Южным фронтом - один из «советизмов» эпохи.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
249
прославление Фрунзе,., других военачальников, якобы проявивших
исключительный талант и замечательные организаторские способности
при разгроме Врангеля» [22, С. 117].
Преувеличенное представление о полководческом таланте Фрунзе,
постепенное превращение его в «икону» советского военного искусства
объяснялось на наш взгляд, достаточно просто: операция по разгрому
Врангеля проводилась от начала до конца видным коммунистом. Об
этом «проговорился» в свое время еще один партийный «военный
специалист» тов. СИ. Гусев: «...это была операция в ударном стиле, которая
нам чрезвычайно удалась... Самое замечательное во всей этой
операции — это то, что она направлялась... без участия военспецов
(выделено нами. - авт.). Тов. Фрунзе, который проводил эту операцию,
не военспец, а простой коммунист. И вот, несмотря на то, что в штабе не
было ни одного военспеца, операция была проведена в самом лучшем
военном стиле» [71, т.З, С. 440-441]. Примечательна беспомощность тов.
Гусева в употреблении военных терминов. Что он понимал под военным
стилем остается загадкой по сей день.
Чудес на войне не бывает, и недостатки скверно спланированной
и организованной неопытными, хоть бы и партийными,
военачальниками операции всегда приходится искупать кровью и подвигами
войск. Старательное акцентирование внимания вождя на потерях
преследовало, помимо свидетельства о доблести войск, еще одну,
главную цель. Фрунзе необходимо было всеми силами
реабилитироваться перед весьма, кстати, скептически оценивавшим его успехи
В.И. Лениным в свете понемногу становившейся очевидной
невозможности воспрепятствовать эвакуации армии Врангеля. А ведь
всего пять дней назад командюж вместе с реввоенсоветом 1-й
Конной поздравлял вождя с третьей годовщиной Октября хвастливой
телеграммой № 027/пш.
«Сегодня, в день годовщины рабоче-крестьянской революции, от имени
армий Южного фронта, изготовившихся к последнему удару на логовище
смертельно раненого зверя, от имени славных орлов 1-й Конной армии -
привет (!). Железная пехота, лихая конница, непобедимая артиллерия, зоркая
стремительная авиация дружными усилиями освободят последний участок
Советской земли от всех врагов.
В день великого праздника приветствуем рабочий класс России,
взявший уже власть в свои руки, и выражаем уверенность, что его примеру в
скором времени последуют рабочие всего мира» [114, С. 429]
250 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Согласно воспоминаниям Буденного, этот выспренний бред сочиняли
сообща. На самом деле, судя по разухабистому тону телеграммы,
исполненному грубого бахвальства и шапкозакидательства, чувствуется стиль «первого
красного офицера» К.Е. Ворошилова. К тому же самый яркий пассаж о
железной пехоте, лихой коннице и пр. был сворован у М.Н. Тухачевского (приказ
войскам Западного фронта № 1423 от 2 июля 1920 г.).
Телеграмма эта очень важна - она свидетельствует о явном
стремлении Фрунзе найти свое место в раскладе внутрипартийных сил после
близящегося окончания войны. К тому были серьезные основания. Уход
основных сил врангелевцев в относительном порядке за перешейки
означал прямое невыполнение указаний вождя партии. Да и в целом
операция, проводившаяся при двойном численном перевесе Красной армии и
не увенчавшаяся громким успехом, не сулила суворовских лавров.
Следовало заблаговременно озаботиться поиском союзников. Тем более,
что союзники, как мы помним, также не особенно отличались в
последних классовых битвах Мифологизированное впоследствии советскими
историками трио героев Гражданской войны Фрунзе - Буденный -
Ворошилов, при маячившей на заднем плане фигуре И.В. Сталина, стало
складываться, на наш взгляд, именно в ночь на 7 ноября 1920 года.
«Ильич» на телеграмму, естественно, никак не отреагировал. Трудно
было бы написать что-нибудь менее отвечающее установкам этого холодного
прагматика, всецело ориентировавшегося только на результат.
И вот тут мы подходим к самому неприглядному эпизоду полководческой
деятельности М.В. Фрунзе. Реабилитироваться ему, повторимся, оставалось
только одним - захватом армии Врангеля в Крыму, коль скоро не удалось это
сделать в Северной Таврии. Директива командующего Южным фронтом №
0032/пш от 10 ноября требовала от обеих конных армий «иметь в виду
самое энергичное преследование противника, ни в каком случае не
допуская его посадки на суда (выделено нами. - авт.)» [52, т.4, С. 492].
Однако упорное сопротивление белогвардейцев, судя по всему, несколько
охладило пыл бравых конармейцев, отнюдь не торопившихся преследовать
загнанных в угол людей, к тому же с перспективой оказаться под огнем
орудий кораблей белого и союзных ему флотов.
Еще раз сказалась недостаточность подготовки к операции. Самое
главное оружие красных - их агитация - не смогло «выстрелить»: листовки не
были заранее отпечатаны. Предложение врангелевским войскам сдаваться в
плен смогло быть передано только по радио, но дальновидный «черный барон»
приказал заблаговременно опечатать корабельные радиорубки своего флота.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
251
Таким образом, «благородные» пропагандистские усилия Фрунзе,
стремившегося сохранить жизнь своим классовым врагам и с этой целью даже
призывавшего красноармейцев в своем приказе № 0066/пш от 11 ноября быть
старорежимными рыцарями по отношению к побежденным, пропали даром.
Оставались средства менее благородные, и «красный Суворов», видимо,
памятуя о крылатых словах своего великого предшественника о недорублен-
ном лесе, который рано или поздно вырастает, не замедлил прибегнуть к ним.
Директива Фрунзе № 0361 /с, 1132/оп от 13 ноября требовала, от на-
чвоздухофлота119 Южфронта «после занятия нами ст. Джанкой, срочно
организовать в районе последней передовую авиабазу, откуда
организовать ежедневные налеты на порты Евпатория, Севастополь, Ялта,
Феодосия и другие с задачей бомбометания, не давая противнику
производить планомерную эвакуацию (выделено нами. - авт.)» [114,
С. 446], а приказ командующему морскими силами Южфронта № 0089/
пш от 15 ноября гласил: «Радио определенно указывает о
затруднительном положении судов противника, вышедших в море и оказавшихся без
запаса угля и прессой воды и сильно перегруженными. При таких
условиях транспорты противника не смогут далеко оторваться от берега, и
для наших подводных лодок открываются самые широкие возможности.
Приказываю развить самую энергичную работу подводных лодок
и ликвидировать попытки противника ускользнуть морем
(выделено нами. - авт.) из-под ударов наших армий» [114, С. 448].
Михаилу Васильевичу полезно было бы помнить, что из тех 145 693
чел., вывезенных Врангелем с Крымского полуострова, не менее двух
третей составляло гражданское население, к тому же это были его
соотечественники. Приказы бомбардировать и торпедировать
переполненные ранеными, стариками, женщинами и детьми суда слишком
напоминают (и предвосхищают) фашистскую практику грядущей Второй
мировой.
Но уж если чего не удалось с белогвардейцами, то расправиться с
бывшими союзниками у М.В. Фрунзе вполне получилось. Серия его
приказов на уничтожение махновской Партизанской армии поражает
кровожадной жестокостью, которая воспринимается нами как
продолжение попытки оправдаться за крымское фиаско. Махновцами занялись
сразу же после Врангеля, наверно, чтоб не давать передышки ни своим,
ни чужим. Приказ от 24 ноября 1920 г. № 00155/пш сурово и лихо
9 Начальник воздушного флота фронта.
252 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
предупреждал и одновременно требовал: «...красные полки
фронта, покончившие с Врангелем, заговорят с махновскими
молодцами другим языком. Товарищи красноармейцы, командиры и
комиссары, будьте наготове в любой момент раздавить (выделено нами.
- авт.) семя подготовляющейся кулацко-анархистской авантюры.
С махновщиной надо покончить в три счета. Всем частям действовать
смело, решительно и беспощадно» [там же, С. 455]. В последующих
приказах и директивах это полюбившееся Фрунзе «решительно и
беспощадно» повторялось рефреном.
Приказ командарму 4 № 321 /ш от 27 ноября: «Приказываю
действовать со всей решительностью и беспощадностью...» [там же, С. 456].
Директива армиям Южфронта № 322/ш от 27 ноября: «Борьбу вести со
всей решительностью и беспощадностью, ставя задачей полное
истребление банд и уничтожение очагов бандитизма. При занятии районов
расположения махновских отрядов провести беспощадное разоружение
всего населения. В случае выхода каких-либо частей противника из-под
наших ударов вести конными частями безостановочное преследование,
не стесняясь никакими границами и имея в виду полное уничтожение
всех остатков шаек» [114, С. 457].
Приказ № 0448/с от 5 декабря предписывал расстреливать каждого
у кого будет обнаружено оружие, а директива № 00449/с от 5 декабря
требовала начать наступление 11 декабря «для самого беспощадного
истребления махновщины».
Беспощадности у Фрунзе теперь вполне доставало и на собственных
солдат. Приказ № 0450/с, 1509/оп от 6 декабря требовал от всех
командармов, окрвоенкомов120 и начукрепрайонов121 «внушить сознание
серьезности и важности поставленной задачи всему командному и
красноармейскому составу вверенных вам частей. Всякое проявление
нераспорядительности, расхлябанности и проч. карать беспощадно» [там же,
С. 460].
Можно заметить, что военная риторика Фрунзе в 1920-м
заканчивала тем, с чего начинала военная риторика Троцкого в 1918-м году.
Прежде всего это касалось лексики; даже любимое словечко наркомвоенмо-
ра раздавить не было забыто. Изменился и тон приказов и обращений
Фрунзе. Он стал значительно грубее, категоричнее, требовательнее, и,
Комиссар военного округа.
Начальник укрепленного района.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
253
в тоже время, он как-то меньше стал свидетельствовать об уме и
образованности его автора. Так, телеграмма по поводу победы над Врангелем
от 15 ноября 1920 г. № 0093 пш, разосланная им, помимо тов. Ленина,
в ЦК и в редакции центральных советских газет, а также «всем, всем,
всем» глуповато-напыщенно поздравляла «с победой рабочих и крестьян
России и всего мира и всех вождей международной революции».
Смотрелось такое обращение к темам «эпохи красногвардейской атаки на
капитал» явным анахронизмом, тем более, что сами вожди в это время
предпочитали даже для достижения пропагандистских целей
оперировать героико-патриотическим пафосом.
Однако экстраординарные «усмирительные» усилия Фрунзе по
большей части пропали даром. Победителю Врангеля, полководцу,
поставившему точку в Гражданской войне, не предложили немедленно
повышения, ну хотя бы в виде поста зампредреввоенсовета республики,
а предпочли оставить командующим вооруженными силами на
Украине. Это косвенно, на наш взгляд, свидетельствует о том, что тогдашнее
главное военное и политическое руководство страны оценивало
способности Фрунзе не слишком высоко. Поэтому кандидатура Михаила
Васильевича оказалась незаменимой, только тогда, когда под режиссурой
Сталина начал сколачиваться внутрипартийный, направленный против
интеллектуала Троцкого блок высокопоставленных советских военных-
«выходцев из народа». Столкнуться им предстояло всего через два года
на XI съезде РКП(б).
2.4. В.К. Блюхер — от партизана до министра
Всех советских военачальников, начиная со времени Гражданской
войны, условно можно было разделить на две большие категории: тех,
у кого военного было больше, чем партийного и тех, у кого партийного
было больше, чем военного. Собственно говоря, в советских условиях
это означало перелицовку старых, как мир типов военной карьеры: «по
Скобелеву» и «по Борису Друбецкому», или карьеры военно-боевой и
карьеры военно-придворной. Только вариант военно-придворной карьеры
в советской России и СССР означал карьеру военно-партийную.
Михаил Васильевич Фрунзе, например, отличался в типично военно-
партийной карьере; вся его военная деятельность, особенно на раннем
этапе, как мы видели, была замешана на стиле партийного агитатора.
254 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Своей недолгой работой на высоких военных постах после окончания
войны М.В. Фрунзе также целенаправленно реализовывал, прежде
всего, принцип партийности, не останавливаясь, как мы увидим далее, в
решении военных вопросов даже перед выбором парадоксальным с точки
зрения теории военного искусства. Напротив, самый «орденоносный»
из красных маршалов В.К. Блюхер никогда не был партийным
функционером. Он был избран делегатом и зачитывал приветствие XVI съезду
ВКП(б) только в 1930 году.
Рассказом о военной риторике Василия Константиновича Блюхера
(1889-1938) мы переходим к изучению особенностей стиля советских
военачальников, делавших карьеру преимущественно военно-боевую.
Сразу надо оговориться, что военно-партийная карьера, в духе ее
старорежимного прообраза, обеспечивала более легкий путь к вершине
советского властного Олимпа. Так, М.В. Фрунзе сразу начал с
командующего армией. В отличие от него, путь В.К. Блюхера к должности
командующего ОКДВА122 и маршальскому званию был «нелегок и не
прост». Сказывалось, прежде всего, различие в двенадцать лет
партийного стажа. Блюхер в своей автобиографии показывал 1916 г. годом
вступления в РСДРП, в то время как Фрунзе состоял в рядах боевого
авангарда пролетариата с 1904 года.
На этом пути не обходилось и без подчисток биографии, особенно,
что касалось раннего, недостаточно героического ее этапа. Судя по
всему, вымышленным вполне может оказаться пресловутый «срок» в 2 года
и 8 месяцев, якобы полученный молодым рабочим Блюхером в 1910 г.
за организацию стачки на Мытищинском вагоностроительном заводе.
По крайней мере, ни сам Блюхер, ни его соратники после революции
нигде не упоминали о тюремных эпизодах жизни героического борца за
революцию и советскую власть. Это странно; в то время такими
фактами люди открыто гордились. М.В. Фрунзе, например, не упускал
возможности напомнить слушателям о собственных годах, проведенных в
заключении, особенно о том, что он дважды приговаривался к
расстрелу. Правда, и здесь не обходилось без лукавства, поскольку к расстрелу
«красный Суворов» приговаривался дважды по одному и тому же делу
о неудавшемся покушении на жизнь полицейского урядника. Так что
красочные рассказы об отбывании срока Блюхером в одиночной камере
в «Пугачевской башне Бутырского тюремного замка» [206, С. 21], ско-
Отдельная Краснознаменная Дальневосточная армия.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
255
рее всего, являются измышлением его биографов, создававших легенду
одному из пяти первых красных маршалов. Исследование Р.Б. Гуля,
проведенное в 1932 г. по еще «горячим следам», утверждало: «Самый
тщательный просмотр всей петербургской и московской профессиональной
прессы устанавливает: на Мытищинском заводе стачки в 1910 году не
было» [42, С. 576].
Нежелание самого Василия Константиновича особенно
распространяться о дооктябрьском периоде своей биографии вполне может
объясняться тем, что, по словам жены его брата, «он в этот период был в
Москве приказчиком у купчихи Белоусовой, был ее любовником и ни
на каких заводах не был и в революционной деятельности участия не
принимал» [22, С. 28-29]. Эту версию, помимо прочего, отчасти
подтверждает известная «любвеобильность» маршала и неистребимая тяга
к «красивой» жизни, с особой силой проявлявшаяся в 1930-е гг., по мере
врастания полководца в собственный героический образ.
Следы явной авторской фальсификации, как показывают
исследования Л. Влодавец и А. Шарова [46, С. 8], носит и часть боевой биографии
Блюхера, относящаяся к его пребыванию на фронте мировой войны.
Это касается «самопроизводства» Василия Константиновича в младшие
унтер-офицеры и «награждении» себя двумя Георгиевскими крестами за
подвиги на Юго-Западном фронте. Сомнительны и рассказы об
обстоятельствах его ранения то ли в разведывательном поиске, то ли в «лихой
атаке». Значительно более правдоподобной (и опирающейся, по крайней
мере, косвенно на документы) нам представляется версия Н.Т. Велика-
нова, утверждающая, что В.К. Блюхер получил тяжелое ранение во
время артобстрела менее чем через два месяца со дня прибытия на фронт.
Как видим, к началу октябрьских событий ни особых
революционных, ни военных заслуг за В.К. Блюхером не числилось. Это и
предопределило начало его военно-революционной карьеры со скромного
поста помощника военного комиссара Самарского гарнизона. Однако за
Блюхером числились определенные «плюсы», которые вскоре помогли
ему выдвинуться в атмосфере горячечного революционного бреда
«эпохи красногвардейской атаки на капитал».
Во-первых, это довольно разностороннее «образование» в жизненных
«университетах», начиная от мальчика в столичном мануфактурном
магазине до разнообразных заводских рабочих специальностей. Если даже
не принимать во внимание версию о «купчихе Белоусовой», то
приказчиком Блюхер все-таки действительно работал: с 1907 г. полтора года в
256 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
акционерном обществе Воронина, Лютиш и Чешер и с 1913 до призыва в
армию в мануфактурно-галантерейном магазине Львова и Смирнова [94,
С. 43, 48]. Кстати, весьма сомнительно, чтобы солидные купцы,
державшие магазин в центре Москвы, взяли в приказчики «неблагонадежного»
работника, да еще с только что закончившимся «сроком» за
революционную деятельность за плечами.
Работа приказчика, заметим, требовала определенного «подхода к
людям». Так что в 1917 г. Василий Блюхер предстает человеком,
неплохо знавшим тогдашнюю жизнь, которая сводила его и учила общению с
представителями самых различных слоев российского общества.
Во-вторых, за плечами Блюхера была оконченная
церковноприходская школа, что, несмотря на современное скептическое к ней
отношение, было совсем неплохо. Многие «люди из народа» не имели
порой и этого. Помимо того, есть сведения, что в 1914 г. молодой Блюхер
учился на подготовительных курсах при Московском городском
народном университете им. А.Л. Шанявского.
И, в-третьих, 26-летнему молодому человеку, явно стремившемуся
до войны найти свое место под солнцем, непросто было смириться с
инвалидностью, закрывавшей перед ним двери в прежнюю, пусть и не
блестящую, но сытую и обеспеченную жизнь. Целеустремленность и
упорство, проявленные мальчиком Васей Блюхером в его пути к должности
приказчика, сила воли, не давшая рядовому Блюхеру умереть за год,
проведенный на госпитальных койках, очень пригодились большевику
Блюхеру, когда 22 ноября 1917 г. он был назначен комиссаром
сводного красногвардейского отряда, брошенного против мятежного атамана
оренбургских казаков А.И. Дутова.
Борьба с Дутовым, за которую три года спустя В.К. Блюхер был
удостоен третьего ордена Красного Знамени, оставила мало
документальных свидетельств его деятельности, как и интересующих нас образцов
его военной риторики. По стилю воззвания, изданному Челябинским
военно-революционным комитетом не ранее 16 декабря 1917 г.,
можно только судить, что он полностью соответствовал просительно-
увещевающему тону, распространенному в то время в общении с
войсками и населением.
«Граждане! Власть в стране перешла в руки Советов, которые
опираются на широкие слои трудящихся масс. Советы обеспечат народу мир,
свободу и независимость... Наш долг - освободить из-под ига дутовщи-
ны города Троицк, Верхне-Уральск, Оренбург, Кустанай, Орск и спасти
Глава 2. Военная риторика пролетариата
257
двенадцатимиллионное пострадавшее от засухи и голодающее
население Средней Азии.
Граждане города Челябинска и уезда! Сохраняйте полное
спокойствие и порядок! Революционные силы Северного летучего отряда -
солдаты и матросы - ваши внуки, дети и братья. Они посланы к вам
охранять ваш мирный труд, восстановить ваши права и провести в жизнь
лозунги свободной России» [22, С. 47].
Ничего особенного этот образец использования социального
пафоса в общественной речи, подписанный в числе прочих
революционных деятелей и комиссаром военно-революционного комитета В.К.
Блюхером, из себя не представляет. Хорошо уже и то, что документ
не содержал исступленных призывов к борьбе со злейшими
врагами трудового народа и прочих романтических атрибутов первого
периода Гражданской войны. Заметно, что его писали твердые и, в
целом, достаточно уравновешенные люди. Правда, образ действий
новоявленных внуков, детей и братьев челябинцев не сильно
отличался от общепринятых красногвардейских методов наведения
«революционного порядка», описанных нами в п. 2.1. Экспроприациями
и репрессиями, конечно, «панику на обывателей» наводили, но это
была естественная дань духу времени; поборы с «буржуев» не
переходили границ и производились как-то даже добродушно, а где-то и
принципиально.
По свидетельству самого В.К. Блюхера, он не разделял курса на
беспощадное подавление оренбургского казачества карательными
акциями, реализовывавшегося «некоторыми товарищами». Пренебрежение
агитационно-пропагандистской работой в стане противника затягивало
борьбу и очень скоро сказалось, когда восстали части чехословацкого
корпуса.
Оренбург, в котором в это время во главе Уральского
красногвардейского отряда находился и В.К. Блюхер, в этой ситуации оказывался
отрезанным от основной территории большевистской России. На
совещании командиров отрядов, слагавших оренбургский гарнизон, мнения
разделились: одна часть предлагала отступать в Туркестан, другая,
мнения которой выражал Блюхер, склонна была пробиваться на
соединение с главными силами, продвигаясь по маршруту, пролегавшему через
промышленно развитые районы Урала, рассчитывая довольствоваться и
пополняться на их фабриках и заводах, традиционно считавшихся базой
советской власти.
258 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Отказ Блюхера подчиниться мнению большинства и его решение
самостоятельно, во главе своего отряда, Южноуральского,
Челябинского и 1-го Уральского полков пробиваться на север послужило 1
июля 1918 г. началом знаменитой полуторатысячекилометровой
эпопеи. Переход партизанской армии по территории, занятой белыми, «в
невозможных условиях, - как отмечалось в докладе РВС 3-й армии
советского Восточного фронта, - может быть приравнен только к
переходам Суворова в Швейцарии» [132, С. 364]. За этот поход, как известно,
Блюхер был вполне заслуженно награжден орденом Красного Знамени
за № 1.
Несмотря на то, что руководство на протяжении всей эпопеей
связывается с именем Блюхера, номинально в командование партизанской
армией, собравшейся к 16 июля в г. Белорецке, он вступил только 2
августа 1918 года. До этого армию возглавлял командир наиболее
многочисленного верхнеуральского отряда И.Д. Каширин, избранный на этот
пост в лучших традициях партизанской вольницы общим собранием
командиров. Только после его ранения в боях под Верхнеуральском
командование армией перешло к В.К. Блюхеру, что и было закреплено в
подписанном им приказе № 24.
Самый пространный параграф 5 этого приказа, очень характерного
для партизанских нравов, посвящался подробному обоснованию
дальнейшего маршрута. Связано это было с тем, что после видимого успеха
под Верхнеуральском партизаны были вынуждены менять
первоначальное направление движения на Екатеринбург, ввиду полученных
сведений о захвате его еще 25 июля чехословаками.
Партизанским командирам требовалось срочно менять планы.
Однако сообщить об этом массе требовалось умело, и Блюхер в своем
приказе демонстрирует незаурядное понимание партизанской психологии.
В приказе мы не найдем ни слова упоминания об ошибочности выбора
первоначального направления, как и упоминания о падении
Екатеринбурга. Такие сообщения могли бы только деморализовать партизанское
воинство, большая часть которого тут же предпочла бы разбежаться по
домам. Наоборот, Блюхер всячески старался вселить в сознание
подчиненных представление о правильности решений командования. «Наши
предположения уже оправдались, - писал он, - в рядах противника
началось уже разложение, распад был близок, достаточно еще было
сделать один сильный нажим... наша задача близилась к благоприятному
для нас разрешению» [14, С. 182].
Глава 2. Военная риторика пролетариата
259
После такого вступления в качестве предлога к изменению маршрута
Блюхером называется измена бывшего казачьего офицера Енборисова,
которая якобы раскроет противнику все карты красного командования.
Прием талантливый и работающий практически всегда безотказно.
Действительно, на измену пенять легко и безопасно, она была способна
только послужить сплочению собственных рядов и попутно разжечь в
партизанах ненависть и презрение к врагу, в ряды которого вливаются
низкие предатели. Правда, измена Енборисову не помогла, его
приговорил к смерти собственный отец, доблестно сражавшийся в рядах армии
Колчака.
Новое направление на Самару расписывается и преподносится с
точки зрения как слабости противостоящих на этом пути белогвардейских
войск, так и наличием значительных сил Красной армии, оперирующих
в районе Самары, и удобством местности, по которой будет пролегать
путь, для действий красной кавалерии, которой у белых якобы не
хватает. На самом деле, конечно, все было наоборот: в Уральском корпусе
ген. Ханжина преобладали казачьи конные полки, в чем партизанам
скоро пришлось убедиться [132, С. 108].
Обращает на себя внимание как мягко и осторожно автор приказа
подходил к описанию на самом деле критического положения партизан:
«Оставаться здесь, в Белорецке, мы не можем, так как противник наш
отказ (от движения по новому маршруту. - авт.) сочтет за нашу
слабость и безусловно поведет против нас активные действия, с тем чтобы
нас взять в кольцо, и тогда нам трудно будет прорывать это кольцо».
Никакого трагизма: не то, чтобы прорваться из окружения будет
невозможно, но сделать это, по словам оратора, будет только трудно.
В заключении находится место и развенчанию антитезиса: «Может
быть, у многих красноармейцев возникнет сомнение в том, стоит ли идти
в новом направлении, не лучше ли остаться здесь и где-нибудь укрыться.
Товарищи! Такое решение будет весьма гибельным, так как легче всего
переловить и передушить нас поодиночке, а когда же мы будем
двигаться кулаком, справиться с нами трудно, потому что мы будем пробивать
себе путь сплоченной силой. Итак, вперед! Кто малодушен, оставайся,
но помни, что одиночки - не сила и легко могут быть переловлены
противником» [14, С. 182].
Если посчитать количество встретившихся в этом приказе
употреблений ключевых слов «сила», «сильный», «кулак» (11 раз!), то
становится ясным, что своей подробно аргументированной речью Блюхер
260 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
стремился, прежде всего, внушить своим подчиненным уверенность в
себе и успешном окончании похода. Хорошо были выбраны глаголы для
показа незавидной участи малодушных - Блюхер говорит, что их
могут легко «переловить и передушить». Напрашивающееся продолжение
устойчивого выражения - «как кур» - придает яркую эмоциональную
окраску антитезе линии оратора.
Стиль «партизанского» Блюхера выгодно отличался от стиля его
соратников, предпочитавших щеголять выспренней ультрареволюционной
фразой, характерной для ораторов «эпохи красногвардейской атаки на
капитал». «Мощные духом, - говорилось, например, в приказе,
изданном первым главнокомандующим партизан И.Д. Кашириным 25 июня
1918 г., - с верой в победу, с железной пролетарской товарищеской
дисциплиной, мы выступаем против врагов и предателей трудового народа.
Пощады никакой, «борьба не на живот, а на смерть». Смело вперед!»
[132, С. 66].
В цитировавшемся нами приказе № 24 мы не найдем ни одного
употребления средств выразительности. Зато в этой типично убеждающей
речи очень неплохо использована двусторонняя аргументация -
случай редчайший для красной военной риторики 1918 г., больше
предпочитавшей эмоционально воздействовать на красноармейскую
аудиторию. Вообще, видно, что за строками приказа стоит спокойный,
уравновешенный, рассудительный командир. Такие привлекательные
в военном человеке черты, помноженные на сильную, волевую
личность его автора, во многом обеспечили твердость управления
партизанской армией. В немалой степени способствовали этому глубокое
знание свойств этоса и умелый учет его особенностей в военной
риторике главнокомандующего.
Прорыв партизан Блюхера 12 сентября на участке 3-й советской
армии тов. Р.И. Берзина пришелся для последней, терпевшей тяжелые
поражения в боях с войсками адм. Колчака, как нельзя более кстати. Более
10 тыс. обстрелянных партизанских бойцов, закаленных беспримерным
рейдом по тылам противника, были немедленно влиты в состав наиболее
потрепанной 4-й стрелковой дивизии и снова брошены в бои.
При этом Блюхер, назначенный начальником дивизии, оказался,
надо понимать, в непростой ситуации, поскольку совершенно очевидно,
что в ходе труднейшего похода он был просто вынужден неоднократно
подбадривать своих партизан в духе «последнего и решительного боя» и
обещании грядущего отдыха при соединении с главными силами Крас-
Глава 2. Военная риторика пролетариата
261
ной армии. Не мог он забывать и о своих новых подчиненных, также
только что вышедших из тяжелых, но, в отличие от партизан,
малоуспешных боев. Поэтому первый же его приказ, изданный по вступлении
в должность начальника 4-й Уральской стрелковой дивизии № 56 от 21
сентября 1918 г., стремился воздействовать на обе эти группы личного
состава.
«Товарищи красноармейцы! После трудного полуторатысячного
перехода123 по горной, лесной и болотистой местности, на значительной
части пути в кольце врага, с которым пришлось вести ряд упорных боев,
часто доходивших до штыковых ударов, вы имели законное право,
прорвавшись на соединение с нашими товарищами по оружию,
рассчитывать на отдых; но, к сожалению, к нашему приходу в район г. Кунгура
обстановка для наших войск, действующих в этом районе, сложилась
крайне неблагоприятно, и г. Кунгуру стала угрожать опасность захвата
противником, а с падением этого пункта противник приложит все силы
для захвата г. Перми, имеющего весьма важное военное значение как
ближайшая база снабжения всем необходимым войск, действующих на
Восточном фронте. Взятием Перми противник может нанести
смертельный удар нашим войскам, действующим на Северном Урале; вот почему,
не считаясь с усталостью, во имя спасения завоеваний революции нам
приходится выступить на позиции.
Уверен, что вверенные мне войска, не раз разрывавшие железное
кольцо врагов, преодолевшие препятствия природы на протяжении
полутора тысяч верст и с честью вышедшие из тяжелых испытаний,
обогащенные боевым опытом, покажут врагу, что, какой бы боевой экзамен
не готовил нам враг, мы выдержим его с честью, ибо каждый из знает,
за что он борется. Уверен и в том, что боевые товарищи, вступающие в
нашу семью из состава бывшей 4-й дивизии, несколько упавшие духом
под неудачами последних дней, забудут тяжелые дни и в дружном
натиске сломят зарвавшегося врага и разобьют наемников буржуазии...»
[14, С. 183-184].
И снова спокойствие и уравновешенность в каждом слове. Даже то,
что может быть отнесено к недостаткам речи - чрезмерная длина
периодов, самый длинный из которых насчитывает 99 (!) слов - объективно
работает на замысел оратора. Определенный «монотон», обусловленный
наворачиванием придаточных предложений, конечно, присутствует.
Так в документе. - авт.
262 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Этот главный недостаток, свойственный начинающим ораторам, вообще
характерен для Блюхера. Однако, безусловным достоинством речи
является всесторонняя аргументация главного тезиса, которой посвящена
значительная часть текста.
Только после того, как была серьезно обоснована необходимость
немедленного выступления на позиции, автор счел возможным
немного подбодрить войска вдохновляющей речью с характерным для
нее употреблением средств выразительности, которые, тем не менее,
были использованы крайне экономно: всего одна анафора и
несколько метафор.
Нельзя сказать, что со времени назначения Блюхера начдивом-4 его
военная карьера начала продвигаться вперед семимильными шагами.
Тяжелые и не всегда удачные бои с колчаковскими войсками на
Восточном фронте приносили много хлопот, но немного славы, тем более,
что зима 1918-1919 гг. было временем успехов Колчака. Сдавать
города (те самые, упоминавшиеся в приказе № 56 Кунгур и Пермь) - не
самый лучший для полководца способ прославиться. Особенно тяжким
ударом для красных было оставление Перми, вошедшее в историю под
названием «пермская катастрофа», после чего Блюхер отправился на
достаточно странное «повышение» на должность помощника
командующего 3-й армией.
В неписаной армейской табели о рангах должность командира
дивизии всегда «весила» несравненно больше должности помощника
командарма. Так что, несмотря на оптимизм современных историков, можно с
определенной долей уверенности считать, что назначение В.К. Блюхера
в апреле 1919 г. командовать Вятским укрепрайоном на самом деле было
понижением за неудачи на фронте. Тем более, что с переводом Блюхера
совпали замены и командующего Восточным фронтом И.И. Вацетиса, и
командующего 3-й армией Р.И. Берзина. В пользу нашей версии говорит
то, что только после мытарств Блюхера сначала по Вятскому, а потом
и Пермскому укрепрайонам, в августе 1919 г. ему было поручено
формировать знаменитую впоследствии 51-ю стрелковую дивизию. Таким
образом, по прошествии почти года войны Василий Константинович
вернулся, фактически, на свою прежнюю должность начдива. Для
сравнения, М.В. Фрунзе в это время уже командовал фронтом.
Время нахождения Блюхера на должности помощника
командующего армией, видимо, окончательно убедило честолюбивого молодого
командира, что, готовя к обороне укрепрайоны, полководческих лавров не
Глава 2. Военная риторика пролетариата
263
сыщешь. А первому в Красной армии орденоносцу эти лавры, конечно,
мерещились.
Настоятельно требовалось отличаться. Судя по чрезвычайно
интересному приказу войскам 51-й стрелковой дивизии №5/А от 20 августа
1919г., определенные выводы за время своей тыловой «опалы» Блюхер
для себя сделал.
«Приказом Реввоенсоварма я назначен начдивом 51-й стрелковой
дивизии в момент победоносного продвижения Красной Армии в
Сибирь с великой целью освобождения трудящихся из-под ига мировых
хищников империалистов. Учитывая горький опыт партизанщины на
юге и считая лучшим учителем для правильного формирования новой
дивизии весь полуторагодовои опыт строительства рабоче-крестьянской
армии, мы призываем всех товарищей, участвующих в формировании и
боевой работе нашей дивизии, приложить все усилия к тому, чтобы она
в ближайший срок оказалась на должной высоте как по своей
боеспособности, так и полному осознанию великих задач, возлагаемых на нее
трудящимися....
Все товарищи командиры и комиссары обязаны строго проводить
линию центра, точно выполнять все распоряжения, зная заранее, что
никакие ссылки и отговоры не могут быть приняты во внимание. Полная
централизация в работе и твердая революционная дисциплина в рядах,
а также дружное сотрудничество всех работников в дивизии есть залог
успеха и боевой мощи последней. Все разгильдяи, плохо учитывающие
серьезность момента для Советской власти и играющие легкомысленно
интересами рабочего класса, не могут ждать пощады, получая должную
кару по всем строгостям законов военного времени...
Товарищи красноармейцы! Очередной задачей нашей дивизии
является продолжение славного дела июньских дней, когда было заложено
прочное начало полному уничтожению банд Колчака. Славные дивизии
и бригады нашей армии не уступали по храбрости, стойкости,
легендарному геройству другим частям могучей Красной Армии... Мы должны
довести до конца славно начатое дело и быть во главе тех, кому выпадет
на долю великое счастье ликвидировать, т.е. разбить наголову банды
Колчака.
В Вашем сознании, дисциплинированности, готовности к последнему
решительному бою с врагами - залог освобождения рабочих и крестьян
от ига мировых паразитов. Сплоченными рядами вперед, славные полки
51-й стрелковой дивизии! [14, С. 188-189].
264 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Если сравнить текст этого приказа с приведенным ранее приказом от
21 сентября 1918 г., то можно подумать, что принадлежат они перу
абсолютно разных людей. При чтении его возникает такое ощущение, что
пассаж про «горький опыт партизанщины» являлся для Блюхера
автобиографическим. Весьма возможно, что среди командования и состава
4-й Уральской (а по переименовании ее, и в 30-й стрелковой) дивизии не
все было в порядке в отношении полного осознания великих задач, на
нее возлагаемых.
Наверно поэтому все своеобразие военной риторики Блюхера
«партизанского» периода его деятельности из приказа №5/А напрочь
исчезает. Ни о какой аргументации требований начдива речи уже не идет.
Место убеждения занимают жесткие императивные требования
«должны», «обязаны». Ну а разгильдяям (заметим, не трусам, шкурникам,
дезертирам и пр., а разгильдяям, т.е. своим же товарищам, только не
выказывающим должной дисциплинированности, свойственной
истинному «регулярству») приказ совсем в духе тов. Троцкого сулит уже
суровые кары.
Да, Блюхер всерьез был намерен полностью использовать выпавший
ему второй шанс стать выдающимся красным полководцем. Кроме того,
Василий Константинович явно стремился брать пример со «старших
товарищей» в том, что касалось «правильной» революционной речи.
Возвышенно-патетический тон приказа, во вступлении и заключении
изобилующий прежде несвойственным Блюхеру революционным
воляпюком, убеждает в том, что он разглядел, что одними боевыми
заслугами карьеры в Красной армии не сделаешь. Требовалось добавить толику
«партийности» и чуть-чуть эпигонства стиля высоких начальников.
В избранном стиле и речи и деятельности В.К. Блюхер быстро
преуспевал. Правда, боевая судьба по-прежнему кидала его из огня да в
полымя. Но теперь уже возглавляемая им 51-я дивизия участвовала
на Восточном фронте преимущественно в наступательных боях в
ситуации постепенного перехода стратегической инициативы на сторону
Красной армии.
Однако звездный час В.К. Блюхера и его дивизии пришелся на
борьбу с ген. Врангелем. К моменту переброски на Юго-Западный фронт в
июле 1920 г. дивизия Блюхера представляла собой внушительную
боевую силу в 10,5 тыс. штыков, причем, что немаловажно, с приличной
коммунистической прослойкой: по докладу Блюхера «от 15 до 20%
военнослужащих, связанных помимо служебного долга еще и партийной
Глава 2. Военная риторика пролетариата
265
дисциплиной» [22, С. 107]. С такой дивизией ее начальнику вполне
можно было рассчитывать выйти в герои Гражданской войны.
Но полководческая судьба готовила Василию Константиновичу еще не
одно испытание. Начать с того, что в наступление, увенчавшееся
захватом Каховского плацдарма, дивизия в составе группы Р.П. Эйдемана была
брошена в ночь на 7 августа, что называется, «с колес», даже не успев
полностью выгрузиться из эшелонов. Отсюда, полным успехом наступление
не увенчалось. Врангелевцы оттеснили части 52-й и Латышской дивизий,
действовавших совместно с войсками Блюхера, хотя сбросить их в Днепр
так и не смогли. Начдив 51 тяжело переживал неудачу, в которой сгоряча
обвинил начальство в лице командующего 13-й армией И.П. Уборевича:
«Вверенная мне дивизия, находясь в процессе сосредоточения, не могла
принять в начальном форсировании Днепра участие,.. - докладывал
Блюхер командарму. - Участие дивизии в форсировании Днепра было
необходимо потому, что дивизия, будучи самой боеспособной и равняясь по
численности всей группе, взятой вместе, своим появлением создала бы
колоссальное превосходство на фронте» [14, С. 19].
В развернувшихся вскоре на каховском плацдарме ожесточенных
боях дивизия Блюхера, основательно зарывшаяся в землю по всем
правилам позиционной войны, зарекомендовала себя очень хорошо.
Заслуга в этом, как представляется, принадлежит, главным образом, на-
чинжу124 фронта Д.И. Карбышеву, впоследствии признанному корифею
советской военно-инженерной науки, и, возможно, «военспецу» Датю-
ку, исполнявшему должность начальника штаба дивизии. Последнее
соображение основывается на том, что приказы по дивизии, касающиеся
организации обороны, несмотря на то, что подписывались они, конечно,
начдивом, были абсолютно свободны от речевых и стилистических
ошибок, неизменно присутствовавших во всех известных до того времени
приказах В.К. Блюхера.
Жанрово-стилистические особенности приказов самого
Блюхера показывают, что в своей риторике комдив 51 все больше тяготел
к «стандартной» революционной вдохновляющей речи, оперирующей
многочисленными средствами выразительности. В полной мере этот
«новый голос» Блюхера проявился в приказе частям 51-й стрелковой
дивизии № 112 от 10 сентября 1920 г. об итогах недавнего
августовского наступления.
Начальник инженерной службы.
266 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
«...После ряда удачных продвижений вперед мы вынуждены были
вновь возвратиться к своему исходному положению.
Противник учел опасность нашего наступления, сосредоточив на
участке дивизии огромные силы, путем хитроумных обходов с фланга
решил смять бесстрашные ряды сибиряков и, обратив их в бегство, на
их же плечах ворваться в Каховку, захватить переправы через Днепр
и таким образом раз и навсегда стереть с лица земли ненавистную ему
51-ю стрелковую дивизию
Свой «великолепный» план барону Врангелю полностью выполнить
не удалось, хотя для этой цели им были использованы все средства: 400
пулеметов взяли прицел прямо в грудь сибирским стрелкам, шрапнель
более 60 орудий рвалась над головами красноармейцев, эскадрильи
аэропланов десятками сбрасывали бомбы на обозы и конницу,
бронемашины забирались нам в тыл. Но герои-сибиряки не дрогнули под этим
огненным дождем. Они вынуждены были отступить и отступили, но
заставить бежать их ничто не могло. И своевременно остановившись на
укрепленной позиции, усталые, окровавленные, доблестные
красноармейцы дивизии все же нашли в себе силы дать должный отпор
наседавшему противнику и на этот раз отбили у него охоту к занятию переправ
через Днепр.
Оскандаленный, со смешной попыткой устрашить нас танками,
противник, оставив их три штуки нашим соседям, тихо и смирно под
прикрытием ночи отошел назад, отскочил от наших окопов, как резиновый
мяч от стены. И если в этой операции мы понесли большие потери, то
потери противника в сравнении с нашими колоссальны.
Красноармейцы, командиры, комиссары! В минувших боях вы, как не
может быть лучше, показали барону Врангелю, с кем он имеет дело. До
конца своей жизни преданные интересам трудящихся классов, вы
своей исключительной стойкостью и железным хладнокровием вселяете в
сердца пролетариев непоколебимую уверенность в победе пролетарской
революции. Здесь, на юге, наступают последние решительные минуты:
от Перекопа идет девятый вал вооруженной контрреволюции. Вы смело
встретили натиск первой волны. Эта волна разбилась о вашу могучую
грудь. Честные и стойкие защитники свободного труда, крепче
сжимайте винтовку. Победа близка!
И если наследникам Колчака и Деникина объявит себя Врангель,
пусть он будет наследником до конца, пусть разделит с ними их участь»
[14, С. 190-191].
Глава 2. Военная риторика пролетариата
267
Писать приказы с целью поднять дух войск после тяжелых
оборонительных боев - задача не их простых. Как мы отмечали ранее, здесь
не надо бояться перехвалить. «Воспеванию» подвига красноармейцев
служит редкое обилие (более двадцати!) ярких эпитетов, доходящее до
некоторой стилистической избыточности, особенно в заключительной
части речи. Любопытное выражение, основанное на простом сравнении
«отскочил, как резиновый мяч», на самом деле находило в Гражданскую
войну широкое употребление по обе стороны баррикад; «отскочил»
часто встречается в речи и белогвардейских военачальников. Правда,
в приказе Блюхера выражение это, передающее стремительность
действия, плохо сочетается с предшествующим ему упоминанием о том,
что противник «тихо и смирно» отошел, да еще и назад. Отойти вперед,
естественно, было невозможно; это один из случаев неудачного
выбора языковых средств, встречающихся у Блюхера (сказывалось все-таки
церковно-приходская школа), о наличии которых мы говорили чуть
ранее, когда характеризовали риторический стиль красного полководца.
Обращает внимание то, что автор приказа не стремился нагнетать
ненависть к противнику, пытаясь выставить его смешным, что явно
свидетельствует о том, что врангелевцы были сильны и умели воевать;
не имело смысла «демонизировать» противника, который и так
способен был вызывать страх. Этот интересный прием часто употреблялся в
пропагандистских материалах красных агитаторов. На трудность
борьбы указывает и упоминание Блюхером о больших потерях, понесенных
51-й дивизией.
Завершающий неизбежный призыв крепче держать винтовку вкупе с
ободряющим указанием на близость победы можно, как мы уже отмечали,
считать своеобразным речевым штампом красной военной риторики.
Говоря о массовом подвиге красноармейцев 51-й дивизии, явленном
ими 30 октября и 8-9 ноября 1920 г. при штурме перекопских позиций,
нельзя не удивляться тому редкому сочетанию трагических
случайностей, от которых, в основном, и зависит жизнь человека на войне. В этом
смысле бойцам 152-й бригады 51-й дивизии и Ударной огневой бригады
тов. Ринка, брошенным в лоб на колючую проволоку, под шквал орудийно-
пулеметного огня с Турецкого вала, явно не повезло с начальством.
Командующему фронтом тов. М.В. Фрунзе позарез надо было
оправдаться перед партией за неудачу при попытке ликвидировать Врангеля еще
в Северной Таврии. Командующему 6-й армией, куда входила 51-я дивизия,
тов. А.И. Корку, пару месяцев назад вдребезги разбитому поляками, также
268 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
не мешало восстановить свое реноме «игравшего первую скрипку» на
Западном фронте, по выражению красного «главковерха» С.С. Каменева,
гордостью которого он до того являлся. Ну а их славному комдиву, первому в
Красной армии орденоносцу тов. В.К. Блюхеру, в памяти которого
наверняка еще свежи были воспоминания о строительстве тыловых рубежей,
проявлять несвойственную большевику мягкотелость и вовсе было не с руки.
Правда, к чести последнего, как все-таки наиболее близкого к
войскам военачальника, он пытался заикнуться о необходимости «положить
начало правильной систематичной подготовке борьбы за укрепления»,
для чего предлагал подтянуть тяжелую дальнобойную артиллерию [14,
С. 196], но после резкой отповеди «красного Суворова» благоразумно
предпочел выполнять, а не обсуждать. Тем более, что после Каховки,
после награждения 51-й стрелковой дивизии Почетным Красным
знаменем Московского совета и присвоении ей наименования Московской,
акции ее начальника резко пошли вверх. Он вторично за свою военную
карьеру отметился в самых высоких эшелонах советской власти.
Вот и шли «честные и стойкие защитники свободного труда» могучей,
но голой грудью на перекопскую колючку «волнами» цепей. Интересно,
что не только советские, но и некоторые современные историки видят, что
в этом проявлялось особое «творческое начало в полководческом таланте
Блюхера». «Как при обороне Каховского плацдарма, - пишет, например,
Н.Т. Великанов, - он и здесь проявил нестандартные подходы... Блюхер...
принял рискованное решение бить в лоб неприступной врангелевской
обороны четырьмя людскими волнами до полной победы» [22, С. 116].
Про один из нестандартных подходов, явленных в боях на Каховском
плацдарме, поведал сын красного маршала В.В. Блюхер в книге «По
военным дорогам отца». Повествуя о бое 457-го стрелкового полка с «бро-
неконницей» корпуса ген. И.Г. Барбовича, автор отмечал, что советские
бойцы «в красных рубашках... поднялись из окопов (!) и встретили «броне-
конников» в чистом поле» [13, С. 100]. Причем в этом самоубийственном
порыве красноармейцы руководствовались специальной памяткой своего
начдива, разработанной им для обучения действиям против кавалерии.
Согласно ей, бойцы должны были образовывать «ежи», т.е., как можно
понять, сбиваться в ощетиненные штыками «кучки» - тактика,
рекомендовавшаяся еще застрельщикам в первой половине XIX века. Век спустя
она, однако, была не столь эффективна, поскольку «многие гибли под
шквалом огня с пулеметных тачанок» [там же]. Итог нестандартного
подхода был плачевен - в полку погибли все командиры батальонов, семь
Глава 2. Военная риторика пролетариата
269
ротных командиров, военком с помощником. О простых красноармейцах
автор упоминать постеснялся, ограничившись замечанием, что
«оставшаяся горстка бойцов» была спасена подходом батальона соседнего полка.
Конечно, за такой подвиг, щедро оплаченный солдатской кровью,
457-й полк «первым на Южном фронте был награжден Почетным
революционным Красным знаменем» [там же].
Возвращаясь к прославленному плану атаки Турецкого вала в лоб
пехотными «волнами», следует заметить, что и здесь В.К. Блюхер пороху
не выдумал. Это была распространеннейшая практика мировой войны,
только «империалистами» атаки «волнами» проводились исключительно
после серьезной артподготовки, которая могла длиться сутками. В
противном случае наступление на неподавленные огневые точки переднего
края обороны противника имело все шансы обернуться массовым
самоубийством атакующих. Вот только собственного опыта организации атаки
волнами у Блюхера не было; к 1916 году, когда Русская армия перешла к
позиционной войне, рядовой Василий Блюхер был уже уволен из рядов
«вчистую» с пенсией первого разряда. Так что все «глубокомысленное»
решение начдива-51, свидетельствующее о творческом начале в
полководческом таланте Блюхера, скорее
всего, было порождением какого-нибудь
«военспеца» с солидным фронтовым
опытом.
Нестандартным подходом, с точки
зрения военного искусства, таким образом,
надо считать решение красного
командования заваливать ров перед Турецким
валом трупами собственных «товарищей»
солдат.
Поразительна при этом нравственная
нечувствительность отдельных «героев
Перекопа». После взятия Юшуньских
позиций 11 ноября Блюхер лихорадочно
рапортует «всем, всем, всем»: командарму-6
тов. Корку, командюжу тов. Фрунзе, пред-
реввоенсовета республики тов. Троцкому, Рис 12, в.К. Блюхер
предсовобороны тов. Ленину и, наконец,
Московскому совету о том, «задача, поставленная дивизии, - пробить
дорогу в Крым - выполнена». «Много вышедших из Каховки осталось
270 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
убитыми, - недрогнувшей рукой выводил В.К. Блюхер, - масса
выбыла из строя ранеными, всего потерь насчитываем несколько тысяч, но
дух велик, как был, так и остался и увеличился» [14, С. 200]. И ни тени
скорби о трех четвертях состава 51-й дивизии, ни слова сожаления о
павших, чью кровь впитал второй орден Красного знамени, украсивший
грудь В.К. Блюхера.
Можно констатировать, что помимо выполнения главной задачи -
пробить дорогу в Крым - штурмом Перекопа Василий Константинович
наконец выполнил и другую, не менее важную задачу - пробил дорогу
собственной блистательной военной карьере. Всегда особо
востребованная большевистской властью непреклонная решимость и непоколебимая
твердость полководца были настолько высоко оценены советским
правительством, что через три года вспомнили о его заслугах по ликвидации
«дутовщины» и... награда Родины, как говорится, нашла героя - третий
орден догнал будущего маршала уже на Дальнем Востоке.
Может быть и не обязательно было уделять в нашем исследовании
столько места анализу сугубо военных дарований Василия
Константиновича Блюхера. Все же к содержанию его военной риторики они, как
кажется на первый взгляд, имеют весьма опосредованное отношение.
Однако, анализируя языковую личность, чрезвычайно важно иметь
представление о мотивационном компоненте (по Ю.Н. Караулову) ее
структуры, представленном системой коммуникативно-деятельностных
потребностей, целей, мотивов, установок личности, выражающейся в ее
прагматиконе.
Процессы постепенного превращения партизана Блюхера сначала
в красного полководца, а потом и в высокопоставленного военного
деятеля, естественно, были тесно связаны с формированием и развитием
его языковой личности и непосредственно отражались в ней. Сама же
языковая личность В.К. Блюхера (конечно, в ряду многих других)
оказывала сильнейшее воздействие на формирование обобщенного образа
советского полководца с его стремлением решать боевые задачи,
сообразуясь, во-первых, исключительно с достижением поставленной цели,
а, во-вторых, избирательно трактуя морально-нравственные категории
в процессе достижения этой цели. На этих двух «китах», на наш взгляд,
стояло все советское общественное сознание, что стоило нашему
народу моря крови в войнах XX века.
Назначение В.К. Блюхера военным министром и
главнокомандующим вооруженными силами опереточной Дальневосточной республи-
Глава 2. Военная риторика пролетариата
271
ки сразу выдвигало его из военачальников второго эшелона (посылать
кого-то из первого эшелона на Дальний Восток было невозможно по
политическим соображениям) в первые ряды пролетарских полководцев.
После вступления в командование армией ДВР125 26 июня 1921 г.
первыми мерами Блюхера, направленными на повышение
боеспособности вверенных ему войск стало решительное сокращение ее состава.
Из рядов были демобилизованы народоармейцы старших возрастов,
сокращен на треть боевой состав частей и в 2-3 раза тыловые учреждения
ΗΡΑ.126
Естественно при этом упор делался на повышение большевистской
сознательности войск. «Только хорошо обученные, идейно
воспитанные, спаянные сознательной революционной дисциплиной бойцы, -
наставительно вещал приказ главкома № 3 от 30 июня, - смогут
составить крепкие надежные боевые ряды, способные на выполнение
ответственных задач, и подготовка таких бойцов является нашей
первой неотложной задачей. Никакая расхлябанность, никакая
организационная расстроенность не должны иметь место в рядах нашей
армии... Предательским наемным силам, неиствующим (sic!) во
славу мирового капитала, мы должны противопоставить твердые боевые
ряды, спаянные единым стремлением отстоять свою свободу,
воодушевленные светлой идеей и крепко связанные единой волей и твердой
дисциплиной» [14, С. 201].
Ксожалению, сокращение армии диктовалосьне военно-политической
обстановкой, которая, с провозглашением 26 мая во Владивостоке
Приморской республики во главе с правительством братьев Меркуловых,
поддерживаемого японскими оккупационными войсками, была крайне
напряженной, о чем, кстати, упоминал сам Блюхер в первых строках
приказа № 3. Сокращение ΗΡΑ проводилось, по доброй отечественной
традиции, «в силу продовольственных затруднений», как отмечалось
в докладе главкома и военмина ДВР в РВС Советской Республики в
октябре 1921 г., т.е. ввиду невозможности накормить дальневосточное
народно-революционное воинство.
В результате организационных мероприятий Блюхера ΗΡΑ
оказалась ослабленной как количественно, так и качественно, поскольку
лишилась, прежде всего, опытных бойцов, прошедших неплохую школу
Дальневосточная республика.
Народно-революционная армия.
272 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
партизанских боев против армий адм. Колчака. С молодым
пополнением, влившимся в армию, занятий, судя по всему, организовать, опять же
по традиции, «не успели», когда 1 декабря 1921 г. белогвардейские части
(называть их армией при численности чуть более 5 000 чел. не
поворачивается язык) перешли «в наступление на всем фронте».
Виновником эскалации боевых действий в Приморье принято
называть происки японцев, якобы стремившихся сорвать русско-японскую
конференцию, заседавшую в Дайрене с августа 1921 года. Если же
внимательно читать секретные директивы военного совета ΗΡΑ по
организации партизанской войны в Приморье, регулярно выходившие, начиная
с июля того же года, и особенно текст директивы № 1560/оп от 26
октября, то впечатление складывается прямо противоположное.
«Тайная поддержка японским командованием реакционных
элементов Приморья, - говорилось в директиве, - затяжной характер Дайрен-
ской конференции, провал нашей организации во Владивостоке,
сильный террор меркуловского правительства по отношению к рабочим во
Владивостоке, Сучане и других районах, прибытие врангелевцев в
Приморье усилили меркуловское правительство и угрожают дальнейшим его
укреплением. Указанная обстановка требует принятия мер по
ослаблению и разрушению меркуловской власти путем... создания
невыносимых условий жизни в сфере японо-каппелевского влияния... во
исполнение чего Военсовет решил: перейти от пассивной обороны
к активным мерам борьбы партизанами с меркуловцами в
Приморье,., для чего приказываю:
1. ... перейти к активным действиям борьбы как партизанскими
отрядами, так и отдельными террористическими актами с меркуловцами,
нападая на штабы, уничтожая их отдельные части, склады снабжения
с артимуществом, продовольствием, разрушая связь, мешая
продвижению частей. В своих действиях стремиться к выполнению поставленной
задачи, не стесняясь в крайнем случае столкновения с
японцами, но строго отмежевываясь от регулярных войск ДВР Южного
Приморья.
2. В отношении Китайско-Восточной, Уссурийской, Сучанской
железных дорог перейти к действительным способам разрушения
железнодорожных построек, водокачек, взрывам мостов, полотна,
уничтожению подвижного состава как спуском поездов, так и порчей в депо, имея
конечную задачу терроризировать противника, разрушая его работу по
подготовке к более широким действиям активного характера.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
273
3. Ввиду сильного недостатка продовольствия во Владивостоке
прекратить подвоз как по линии железной дороги, так и из-за
границы мерами постоянного нападения на линию железной
дороги ...
4. В случае наступления японских войск в районы расположения
регулярных частей ни в коем случае не допускать столкновения последних
с японскими войсками, демонстративно отмежевываясь от
партизанских отрядов, и отходить, уклоняясь от встречи, одновременно
усиленно выделяя добровольцев в партизанские отряды с целью
усиления последних и образования новых (выделено нами. - авт.)...»
[148, Т.4, С. 662-663].
Подготовка к вооруженному восстанию во Владивостоке велась по
партитуре, разрабатываемой в советской Сибири, достаточно долго.
После срыва большевистских планов В.К. Блюхер, принимавший личное
участие в Дайренской конференции, судя по всему, решил по-своему
способствовать смягчению жесткой позиции японской делегации,
предъявлявшей действительно наглые требования к правительству ДВР.
Первым пунктом этих требований стояло «сделать Владивосток вольным
городом, поставив его под иностранный контроль...» [161, С. 129].
Согласиться на это ни российские, ни дальневосточные большевики не
могли, естественно, ни под каким видом. Когда же японцы прозрачно
намекнули, что в их распоряжении имеется другое, более сговорчивое
русское правительство, готовое выполнить все их требования, Блюхер
предпочел приступить к разработке спецоперации (в современных
терминах) по свержению меркуловского правительства, действуя по
принципу «нет человека - нет и проблемы».
На наш взгляд, именно участившимися диверсиями приморских
партизан надо объяснять переход в решительное наступление группы ген.
Молчанова. Правительство братьев Меркуловых явно чувствовало, что
руками приморских партизан с ними воюет правительство ДВР, и что
если не принять немедленных радикальных мер по сокрушению
противника судьба Владивостока будет решена в кратчайшие сроки.
Превентивный удар белогвардейцев стал полнейшей
неожиданностью для Блюхера. Его главной ошибкой стало то, что он ввязался в
сомнительные авантюры, чреватые большими международными
последствиями, не озаботившись предварительно приведением в полную
боевую готовность армии, которая, к тому же, находилась на стадии
реформирования.
274 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Боевые качества ΗΡΑ, действительно, были в тот момент
неважными. В докладе по прямому проводу заместителя главкома тов. СМ.
Серышева Блюхеру 18 декабря 1921 г. говорилось прямо, что
кавалерийские части белых умелыми обходными маневрами «порождают
деморализацию в частях, особенно в наших, в коих имеется большой
процент молодых необученных солдат (выделено нами. - авт.).»
[52, С. 671].
В другом разговоре с Серышевым в тот же день главком выразил
сомнение в моральном состоянии войск, поскольку «из сводок не видно
случаев упорного боя с нанесением крупных потерь противнику» [там
же, С. 672]. Оправдываясь, Серышев приводил факт боя у с. Лончаково,
закончившегося поражением красных, сопроводив его комментарием,
что и сам считает «бой безобразным - были случаи паники, но это
естественно - люди большей частью необстрелянные (выделено нами.
- авт.)» [там же, С. 673].
В то же время Серышев постоянно подчеркивал высокие боевые
качества белых войск, предположив, что «солдаты, как видно, год все время
обучались (!)». Удивляться этому достаточно естественному факту
можно было только в том случае, если свои войска при этом ничем подобным
заняты не были. Моральный дух противника, как это ни странно было
для большевистских командиров, считавших, очевидно, что им
принадлежит монопольное право на величие духа, также был высок: «Пленных
нет - очень ожесточены», - чуть ли не с ужасом отмечал тов. Серышев
[там же].
Читая эти строки, трудно отделаться от ощущения, что 1 декабря
1921 г. весьма напоминает 22 июня 1941-го. Необученная армия,
необстрелянные молодые солдаты, растерявшиеся, недооценившие
противника «полководцы».
В сложившейся обстановке, не в силах остановить «церемониальный
марш противника на Хабаровск» (выражение очевидца - СМ.
Серышева), Блюхер был вынужден вновь призывать тех, от которых он недавно
избавлялся, реформируя свою армию. Покрывая ошибки, приходилось
усиленно греметь «революционной» фразой.
«Гидра реакции вновь подняла голову, - читаем в обращении
Военного совета ΗΡΑ № 498 от 22 декабря 1921 г. - Преступная шайка
рыцарей нагайки и шомпола -торгаши Меркуловы и царские сатрапы
Вержбицкий, Молчанов, Семенов, субсидируемые и поддерживаемые
мировой буржуазией, снова зажгли пламя пожара Гражданской войны,
Глава 2. Военная риторика пролетариата
275
угрожая целости завоеваний революции, отвлекая трудовой народ от
мирного строительства.
Военный совет ΗΡΑ и флота в этот грозный час призывает все
трудовые элементы республики стать на защиту своих интересов и
целости государственных границ республики и дружным напором
опрокинуть всю эту свору интервентских наемников в море и этим самым
очистить страну от гадов, отравляющих воздух и тормозящих мирное
строительство Дальневосточной республики...» [14, С. 209].
Если сопоставить текст обращения с директивой № 1560/оп,
становится ясным, что упорное стремление советских государственных
деятелей к мирному строительству было вполне в духе оруэлловского
«двоемыслия». Выражения, адресованные Блюхером противнику, при
этом невольно будят воспоминания об убогих речевых штампах
социальных ораторов со страниц романа И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев»
так квалифицировавших работников буржуазной прессы: «Эти
акробаты пера,... виртуозы фарса, шакалы ротационных машин...».
В этом же духе был выдержан приказ-обращение № 45 от 17 января.
«Славные бойцы Восточного фронта! Снова пошли на нас предатели
революции - ослепленные каппелевцы и семеновцы, руководимые
продавшимися за иностранное золото бывшими царскими холопами,
кровожадными золотопогонниками и империалистами. Снова последыши царского
режима грозят надеть на нашу свободную республику ярмо рабского
подчинения и нашей братской кровью напоить истомленную землю Дальнего
Востока. Разбитые всюду, они последними остатками своих банд
стремятся на Амуре нанести возможный вред всему русскому свободному народу,
передав нашу окраину в жадные лапы иностранных капиталистов.
Народоармейцы, командиры и комиссары! Мы должны выполнить
славную задачу разгрома последних остатков реакции на Дальнем
Востоке и дать дружный отпор этой зарвавшейся последней своре
кровопускателей России, сбросив их с наших сопок в бухту, чтобы
навсегда избавиться or угроз нашим свободным полям, избавиться от всего
кровавого кошмара, который навис над нашей молодой республикой
и угрожает Советской России.
В этой борьбе над нами реет Красное знамя освобожденного
человечества, и мы должны доблестно пронести его по полям наших
сражений, как символ раскрепощения всех народов Востока. И все, что
встретится на нашем тяжелом пути борьбы, все лишения и невзгоды
мы должны стойко выдержать во имя блага грядущих поколений...
276 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Шайка авантюристов затеяла последнее каиново дело, спустив на
нас с цепи всех засидевшихся собак Приморья, готовых за золотой
кусочек подачки, брошенный желтой рукой, вырвать клочья мяса из
изнуренного тела своей бывшей родины. Мы должны навсегда выбить
злобные, окровавленные клыки у этой своры бывших русских людей
и, освободив захваченный ими богатейший край нашего Дальнего
Востока - Приморье, доказать им не на словах, а на деле мощь великого
революционного народа, защищающего свое право на самостоятельное
государственное бытие, то право, которое они так дешево и подло
продают на всех мировых биржах и во всех заграничных кабаках.
Товарищи бойцы! В этой великой последней борьбе на нашей
стороне правда, совесть и разум истории. Наши знамена, обагренные
кровью мучеников за великое дело свободы, никогда не будут игрушкой
в продажных руках наемников иноземного капитала. Наша борьба за
угнетенных - единственная в мире борьба, достойная носить название
«священной»!
Кто против нас? Насильники и хищники, которых рука истории
уже выбросила за борт жизни. Ваш долг вбить последний кол в их
позорную могилу.
Знайте, красные орлы Дальнего Востока, что в этой последней
борьбе мы не будем одиноки: за нас трудовые массы братской
России и всего мира» [14, С. 211-212].
Если в искусстве водить войска, как показывает непредвзятый
разбор его военных операций, В.К. Блюхер и не очень преуспел, то в
овладении коммунистическим «новоязом» к 1921 г. у него явно имелись
положительные сдвиги. Можно было бы и усомниться в авторстве текста,
предположив, что написать его мог какой-нибудь бойкий комиссар из
ближайшего окружения Блюхера, если бы в абсолютно аналогичном по
стилю воззвании, обращенном к бывшим партизанам Амурской
области, не встречался призыв «сошвырнуть (sic!) в море всех последышей
мировой реакции и наймитов - палачей Антанты».
Небольшие языковые ошибки, как мы помним, постоянно
встречаются в военных речах Блюхера. Это, а также, главным образом,
явственное звучание национального пафоса в его речах и двух письмах
ген. Молчанову, про которые имеются указания, что их писал лично
Василий Константинович, позволяет нам с определенной степенью
уверенности предполагать авторство Блюхера во всех приведенных здесь
документах.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
277
Впрочем, с национальным пафосом в приказе причудливо
сочетаются ценности социального, взывающего к освобождению человечества
и народов Востока, героического, обращавшегося к красным орлам
и даже религиозного пафосов, намекавшего на священный характер
борьбы «за угнетенных».
Речь, безусловно, написано очень ярко. Она, что называется,
«производит впечатление» в основном благодаря насыщенности
метафорикой. Читая ее, понимаешь почему еще в 1920 г. Г. Уэллса и великого
пролетарского писателя М. Горького так ужасала близкая перспектива
торжества азиатчины на просторах России. Обилием пышных эпитетов
и метафор приказ очень напоминает... средневековую персидскую
военную риторику. Еще в VI в. византийцы точно подметили ее особенности
и главную слабость: «Или вы не знаете этот народ, гордый и
легкомысленный, треском пустозвонных слов заменяющий свою силу
(выделено нами. - авт.)?» [66, С. 189].
Именно этими двумя словами ГОРДОСТЬ и ЛЕГКОМЫСЛИЕ
можно было бы выразить качества всех советских полководцев, выросших
на крови Гражданской войны. Да и как иначе можно характеризовать
политику военного министра ДВР, затеявшего и проводившего
крупномасштабные подрывные операции против сопредельного государства, в
то время как его собственная армия находилась в состоянии
организационного развала?
Непонятно только почему и так охаянные оратором каппелевцы
и семеновцы выставлялись еще и предателями революции] ни те,
ни другие никогда на стороне революции не были, следовательно, не
вполне правильно было обвинять их помимо каинова еще и в иудином
грехе. Пятикратное употребление слов «должны», «долг» лишний раз
свидетельствует о полном перерождении партизана-Блюхера, в свое
время еще стремившегося разъяснять свои требования, в Блюхера-
министра, Блюхера-государственного человека, постепенно
привыкающего покрикивать на безгласные массы исполнителей его
державной воли.
Пропагандистский треск, однако, не мог заменить обученных и
хорошо вооруженных войск. Напрасно своей «громокипящей» риторикой
старался Василий Константинович «собрать вокруг себя совсем не
воинственные толпы» [там же] народоармейцев. Не очень помогали и меры
материального стимулирования, обещанные Блюхером в разговоре с Се-
рышевым еще 18 декабря: «В целях большего придания бодрости вашим
278 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
частям мною приказано начснабу127 немедленно выдать жалованье,
начиная с декабря месяца» [52, т.4, С. 675]. Деньги эти, очевидно, были
взяты из перечисленных в середине ноября из советской России по
распоряжению В.И. Ленина полутора миллионов золотых рублей.
Сгоряча схватились было за испытанное средство - репрессии.
Однако после сдачи Хабаровска 22 декабря в панике хватили через край:
приказ № 15 от 26 декабря командующего Восточным фронтом тов. Се-
рышева предавал военно-полевому суду командиров и комиссаров
полков, а также каждого десятого из народоармейцев, объявленных
виновными в ошибках собственного командования. Приказ этот Блюхер
уговорил Серышева отменить, все-таки на дворе стоял не 1918-й год, но
о карах по отношению к своим подчиненным задумывался теперь и он.
В своей директиве № 4/оп от 12 января 1922 г. о ликвидации
недостатков, выявленных в организации боев, в частности, полного отсутствия
разведки, Блюхер писал: «Указывая на эти, хронически повторяющиеся
грубые недочеты, пользуясь которыми противник с Имана до Волоча-
евки бьет части Приамурского округа, приказываю: в будущем
начальников всех степеней за подобные нарушения элементарных правил боя
подвергать суровой каре» [52, т.4, С. 695].
Падение Хабаровска, очевидно, живо напомнило Блюхеру «пермскую
катастрофу». Главком и военмин ДВР занервничал; дело опять могло
закончиться обустройством тыловых укрепрайонов. Тем более, что
буквально у него под боком, в Сибири командовал 5-й советской армией
военачальник из первого эшелона И.П. Уборевич, к услугам которого вполне
могло прибегнуть разочаровавшееся в Блюхере московское руководство.
Поэтому в решающих боях под Волочаевкой 10-13 февраля 1922 г.
закономерно повторился перекопский сценарий. Войска лезли на
опутанную проволокой высоту Июнь-Карань даже без всякого саперного
инструмента. Героические краскомы рубили проволоку шашками,
несмотря на то, что лично руководивший операцией главком и военмин
распорядился своим приказом № 312/оп/пох от 5 февраля
«штурмовые колонны в полной мере снабдить гранатами, ножницами, кошками
и топорами». Но, видимо, проконтролировать его исполнение забыл.
Хорошо еще, что выручил интернациональный китайско-корейский
батальон, повисший своими трупами на проволоке и обеспечивший прорыв
обороны противника.
Начальник снабжения.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
279
Так что Василий Константинович Блюхер, отдавший 12 февраля
своим войскам приказ «Взять Волочаевку любой ценой!», напрасно
лицемерно-красноречиво убеждал ген. Молчанова не умножать число
русских трупов и русских страдальческих костей, пытаясь играть на
национальных чувствах белого генерала. Русские кости изобильно
рассеивал по дальневосточным просторам сам будущий красный маршал.
Видимо поэтому ответа от своего противника он так и не дождался.
Гекатомба под Волочаевкой не принесла Блюхеру сразу особых
дивидендов. Над прославлением полководческого таланта Блюхера еще
предстояло потрудиться советским историкам и пропагандистам. Как
писал в свое время Р. Киплинг, «В газетах правду скрыли, но в армии-то
знали, / И нас верблюдов чистить определили в тыл...». Определили
Василия Константиновича в июле 1922 г. все же не верблюдов чистить, а в
Петроград, но вот должность командира 1-го стрелкового корпуса
приискали только через два месяца, да и очередного ордена за Волочаевку
он так и не получил.
Его место на Дальнем Востоке вполне прогнозируемо занял И.П.
Уборевич, под руководством которого красные войска «на Тихом
океане свой закончили поход». Интересно, что заканчивать поход Блюхер,
очевидно, планировал сам, поскольку в приказе № 350 от 13 февраля
1922 г., изданном по итогам волочаевских боев, он писал: «Подвигов
доблестных бойцов Восточного фронта я был свидетелем. Я видел
ваше геройство и ваши победы, но этот подвиг должен быть
подвигом до конца. Ваша светлая победа должна быть светлой радостью для
всех трудящихся, она не должна омрачиться никаким темным пятном,
проявлением какого-либо насилия, грабежа, сведением личных счетов,
и совершением чего-нибудь противного великой справедливости
трудового народа... Я настойчиво требую, чтобы войска Восточного фронта,
показавшие свою беспримерную доблесть и героизм в последних боях
и еще гуще окрасившие свои красные знамена кровью
погибших героев (выделено нами. - авт.) боев Волочаевки, не запятнали
этих священных для революции красных знамен даже единичными
случаями позора, помня, что этими знаменами будет гордиться потомство»
[14, С. 217]. Главком и военмин ДВР явно был озабочен тем, чтобы
надлежащим образом войти в историю, не допустив свои войска до
оголтелого грабежа буржуазии «вольного города» Владивостока.
Отличиться В.К. Блюхеру удалось только в Китае, где он на
благодатном человеческом материале в полную силу применил свои таланты
280 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
по окрашиванию знамен кровью погибших героев при взятии крепостей
Вэйчжоу и Учана. До него китайская история не знала примеров, чтобы
«мясо пробивало камень», по выражению начальника штаба армии ген.
Чан Кайши. За это Блюхеру на Родине в 1926 г. вполне заслуженно
вручили четвертый орден Красного Знамени.
Такие образцовые советские полководцы, не боявшиеся питать
кровавую мясорубку войны, нравились набиравшему силу «Главному хозяину»
СССР. Блюхеру он явно благоволил, недаром вписал его имя в список
первых маршалов собственноручно, вычеркнув представителей «первого
эшелона» Уборевича и Якира, - всегда было о чем напомнить прославленному
красному маршалу. Видимо чувствовал это и сам маршал, потому что со
временем все больше налегал на коньяк и вообще, так сказать, «морально
и физически разложился» [22, С. 225]. Однако, когда в июле-августе 1938
г. боях у озера Хасан преждевременно одряхлевший маршал уложил в три
раза больше красноармейцев, чем нанес потерь японским милитаристам,
терпение Хозяина лопнуло, и судьба В.К. Блюхера была решена.
2.5. М.Н. Тухачевский — красный Наполеон?
Михаилу Николаевичу Тухачевскому (1893-1937) больше других
красных полководцев повезло со вниманием потомков. Первой волной
интереса советских историков 1960-х- 70-х гг. с репутации
Тухачевского было смыто тяжкое обвинение 1937 года в «измене Родины» и
восстановлено доброе имя «славного советского полководца», основным
качеством которого была «безграничная преданность делу Ленина, делу
коммунизма», как писал А.И. Тодорский.
Новый, значительно более мощный всплеск интереса к опальному
сталинскому маршалу совпал с периодом демократических
преобразований в стране, начиная со второй половины 1980-х гг., с характерным
для него обостренным интересом к личности исторических деятелей,
сгинувших в эпоху сталинских «чисток». Российскую образованную
публику перестали устраивать ходульные формулировки деятельности
исторических персонажей, больше смахивающие на клише, подобные
приведенной выше. Советская история стала стремительно
приобретать, если так можно выразиться, личностные черты.
Естественно, что в этих условиях образ М.Н. Тухачевского не мог не
привлечь внимания историков, во-первых, в силу своего явно непроле-
Глава 2. Военная риторика пролетариата
281
тарского происхождения, во-вторых, из-за бросающейся в глаза, мы бы
сказали, вызывающей интеллигентности, которая стала таким
дефицитом в наше время в среде военных высокого ранга. Думается, что этим
и была во многом обусловлена тоска перестроечного общества по
«поручикам Голицыным», вылившаяся в массу публикаций об
обстоятельствах жизни и боевой деятельности человека, который как нельзя лучше
подходил на эту роль, только с добавлением эпитета «советский».
Из наиболее серьезных современных исследований, посвященных
М.Н. Тухачевскому, можно отметить, прежде всего, труды СТ. Минако-
ва и Ю.З. Кантор. Однако в указанных сочинениях авторов, так сказать,
целиком поглощает личность Тухачевского в свете довлеющего над ними
главного вопроса: стоял ли он действительно во главе антисталинского
заговора в 1937 году? В попытке ответить на этот вопрос не обходится
даже без порой весьма остроумного обращения к классикам
психоанализа. В увлечении дооктябрьским периодом жизни и деятельности
будущего маршала уважаемые историки почти совсем не уделяют места
анализу его полководческой карьеры в важнейший период Гражданской
войны, который важен для понимания личности зрелого Тухачевского в
1930-е годы.
Несколько больше внимания уделяет этому вопросу Б.В. Соколов,
однако его мнения по чисто военным аспектам деятельности Тухачевского,
на наш взгляд, грешат некоторым субъективизмом и мало основаны на
анализе исторических фактов. Сказывается, что серьезный,
профессиональный разбор операций Гражданской войны в нашей историографии
толком не проводился. Наиболее взвешенные оценки полководческой
деятельности красных военачальников содержатся в работах Н.Е Ка-
курина, вышедших еще в 20-х-30-х гг. XX в., но и они не свободны от
идеологического влияния; чувствуется, что автор еще не мог встать «над
схваткой». С укреплением сталинской линии в советской историографии
объективный взгляд на события и вовсе стал недопустимой роскошью:
история боев и походов «несокрушимой и легендарной» все больше
откочевывала в область мемуаристики, с присущей ей эмоциональностью
и крайне сомнительной достоверностью.
Наше небольшое исследование, не претендуя на открытие новых черт
личности или фактов биографии М.Н. Тухачевского, будет посвящено
исключительно анализу его военной риторики, т.е. текстов обращений,
воззваний и боевых документов, сопровождавших его полководческую
деятельность в годы Гражданской и Советско-польской войны. Конечно,
282 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
для успешного анализа исторических текстов методом риторики
исследователю, как мы неоднократно указывали ранее, чрезвычайно важно
представлять истинное намерение создателя речи, выражающееся
категорией пафоса. Поэтому в своем исследовании мы будем приводить свою
трактовку личности и деятельности М.Н. Тухачевского; несогласным с
ней мы рекомендуем обращаться к трудам вышеуказанных авторов, в
которых читатель, возможно, найдет факты и формулировки, более
отвечающие его представлениям об исторической действительности.
Михаил Николаевич Тухачевский происходил из очень хорошего
рода, представители которого верой и правдой служили своей стране,
в полной мере сочетая в себе достоинства и недостатки старого
русского дворянства. Если учесть, что предки Михаила Николаевича исстари
служили в л.-гв. Семеновском полку, служба в котором, помимо
высокой чести предполагала еще и весьма существенные материальные
затраты по поддержанию положения гвардейского офицера, можно
предположить, что род этот был не из бедных. Об этом говорит и наличие
имений в Смоленской и Пензенской губерниях, в которых прошло
детство Михаила Николаевича. Однако достаточно прочное общественное
положение, как это достаточно часто случалось, было поколеблено на
протяжении жизни всего одного поколения.
Отец М.Н. Тухачевского Николай Николаевич был, по выражению
Б.В. Соколова, «добрым, но непрактичным человеком». То, что при
этом он «был передовых для своего времени воззрений, свободным от
дворянской спеси» [167, С. 12], говорит о том, что перед нами явление
типично русское, к сожалению, весьма распространенное в дворянском
обществе XIX в., хорошо описанное Н.С. Гончаровым. Пресловутая
доброта русского помещика, заставлявшая его целомудренно отводить
глаза, когда, гуляя по своему лесу и встречая крестьян-порубщиков,
«он старался пройти мимо, не глядя в сторону виновных» [169, С. 8],
на деле означала безволие и безответственность. Естественно, что из-
за подобной «непрактичности» достойной себя партии, как и его
литературный прототип И.С. Обломов, Николай Николаевич не нашел,
вынужденно удовольствовавшись на склоне лет любовью простой
крестьянки, зарегистрировать брак с которой, к тому же, он счел
необходимым только после того, как она родила ему первых четверых детей.
Так что дворянское происхождение М.Н. Тухачевский обрел, как
показывают документы, найденные Ю.З. Кантор, будучи уже восьми лет
от роду.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
283
С недостатком мужских качеств характера у Николая Николаевича,
очевидно, пагубно сочеталась типично барская страсть к лошадям,
бегам и скачкам, доведшая финансы семьи до того, что в 1913 г. он
вынужден был обратиться к государю с просьбой принять воспитание его
девяти детей на казенный кошт. Неудивительно, поэтому, что его четвертый
ребенок - Михаил Николаевич - за всю жизнь не написал про отца ни
строчки, предпочитал женское общество и в то же время всеми силами
старался внешне выглядеть и вести себя, как мужчина. Только в 1937
г. он с невысказанным укором вспомнил о том, «как я в детстве просил
купить мне скрипку, а папа из-за вечного безденежья не смог сделать
этого» [167, С. 15].
Единственно, что, помимо любви к музыке и чтению, смог привить
отец сыну - это активную, в детстве даже агрессивную
антирелигиозность, которая, на наш взгляд, во многом объяснялась именно
нивелировкой роли отца в семейной иерархии Тухачевских. Увлечение
гимнастикой и борьбой, интерес к военной истории, любовь к военной
форме, равно как и шалости, и низкая успеваемость во время обучения
в гимназии - все это характерные следы «сверхкомпенсации»
недостаточного влияния отца у мальчиков, получивших преимущественно
женское домашнее воспитание. Заметим, что ситуация с учебой
кардинально изменилась, как только перед Тухачевским замаячила
перспектива военной карьеры.
Многие исследователи отмечали явно гипертрофированную
ответственность и карьерную направленность М.Н. Тухачевского во время
учебы в 1-м Московском кадетском корпусе и, особенно, в бытность
его фельдфебелем Александровского военного училища. При этом
приводились факты, трактуемые как свидетельствующие о жестокости и
бессердечности будущего маршала, как, например, сообщение А.Н.
Посторонкина о доведении Тухачевским своей придирчивой
требовательностью до самоубийства трех юнкеров. В объективности
свидетельства имеются, конечно, известные сомнения, но дело, собственно не
только в этом. Жесткая требовательность фельдфебеля Тухачевского,
на наш взгляд была прямым следствием того, что в кадетском корпусе,
в котором его питомцам закладывались основы, так сказать, военного
«мироощущения», он проучился всего год, вместо семи, положенных по
полному курсу. У нас нет сведений, процветал ли «цук» в либеральном
по духу Александровском училище, но вот то, что за год, проведенный
в корпусе, у М.Н. Тухачевского не успели выработаться «неуставные»
284 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
понятия о кадетском товариществе и проистекавшая отсюда
определенная терпимость к мелким нарушениям устава, на которые в армейской
среде традиционно было принято смотреть сквозь пальцы, - очевидно.
Девятнадцатилетний юноша впрягся в лямку армейской службы со всем
жаром и бескомпромиссностью неофита; естественно, что на
окружающих это производило не всегда благоприятное впечатление.
Действительной загадкой представляется, каким образом М.Н.
Тухачевский, даже несмотря на блестящие успехи в учебе и службе, даже
несмотря на заслуги предков - старых семеновцев - смог выпуститься
в один из привилегированнейших полков российской гвардии. Вполне
возможно, что здесь, как и в случае с П.Н. Красновым, скрывалась
высказанная явно или неявно монаршая воля. Тем более, что выпускался
подпоручик Михаил Тухачевский, фактически, на войну.
Воевал М.Н. Тухачевский, как и положено было воевать офицеру
прославленной Петровской бригады, хорошо. Сколько бы ни получил
Тухачевский орденов за период с 20-го августа 1914 г., когда л.-гв.
Семеновский полк впервые побывал под огнем австрийцев под Владисла-
вовым (Люблинская операция), до 19 февраля 1915 г., когда он в
результате ночного боя (под Ломжей) попал в германский плен, существа дела
это не меняет.
Конечно, он не был каким-то фантастическим героем, о котором А.Н.
Тодорский пристрастно пишет, что «будучи офицером 24-го
Сибирского стрелкового полка, сражавшегося в Варшавском районе, я не помню,
чтобы встречал за всю войну еще кого-нибудь, кто, подобно
Тухачевскому, за полгода получил шесть боевых наград» [168, С. 18]. В
обстоятельствах награждения Тухачевского имеет место известная путаница;
это естественно для тех тяжелых обстоятельств, в которых оказалась
русская армия с началом мировой войны. Однако, сам факт
награждения боевого офицера орденами св. Владимира 4-й ст. и всем
«офицерским бантом» доступных ему по чину орденов св. Станислава и св. Анны
нельзя считать исключительным. Например, капитан Ф. Веселаго,
заработавший орден св. Георгия 4-й ст. в том же бою под Кржешовым 2
сентября 1914 г., за который Тухачевский был отмечен орденом св.
Владимира, все свои «Анны» и «Станиславы» получил в течение одного 1905
г., когда боевые действия велись в лучшем случае четыре месяца.
Другой однополчанин М.Н. Тухачевского подпоручик И.Н. Толстой
предстает на фотографии 1914 года с орденами св. Владимира 4-й ст. и
св. Станислава 3-й и 2-й степеней. Если при этом принять во внимание,
Глава 2. Военная риторика пролетариата
285
что награды в императорской армии негласно делились на те, что давали
«за подвиги» и те, что полагались «за участие», становится понятным,
почему Тухачевский «позднее, уже в 1920-е годы, даже в узком кругу
лиц никогда не бравировал этими наградами».
И дело здесь, конечно, не в нежелании «будить ностальгию», как
полагает Ю.З. Кантор, а просто в том, что по-настоящему боевой наградой
Тухачевским мог считаться орден св. Владимира, который поэтому
полагалось носить постоянно (в отличие от прочих, носившихся на
парадной форме, т.е. как элемент военного «декора») и св. Анны 4-й степени.
Кстати, в боях 3-5 ноября 1914 г. под Краковом у пос. Скала, за участие
в которых Тухачевский получил свою «клюкву»128, сражались, по
воспоминаниям А. Зайцова, преимущественно 1-й и 4-й батальоны семенов-
цев, а наш герой служил, как известно, во втором батальоне. Забегая
вперед, заметим, что дело даже не в скромности, поскольку будущим
коллегам по Красной Армии Тухачевский не стеснялся представляться
капитаном гвардии, как о том свидетельствовало издание,
посвященное годовщине Первой революционной армии [34, С. 19], хотя к этому
званию он был только представлен командиром гвардии
Семеновского резервного полка полк. Р.-Ф. Бржозовским по возвращению из плена
«для уравнения в чинах со сверстниками».
Обстоятельства подвига 26 сентября, за который Тухачевский
был награжден орденом св. Станислава 3-й ст., в наградных
документах изложены, как и положено, молодцевато-брутально:
«переправившись... на противоположный берег реки Вислы, нашел и сообщил
место батареи неприятеля...» [86, С. 51]. В воспоминаниях барона
A.A. Типольта они же выглядят более прозаически: «Перед нашим
батальоном посредине (курсив наш. - авт.) Вислы находился
небольшой песчаный островок. Офицеры нередко говорили о том, что вот,
дескать, не худо бы попасть на островок и оттуда высмотреть, как
построена вражеская оборона, много ли сил у немцев... Миша
Тухачевский молча слушал такие разговоры и... вот однажды он раздобыл
маленькую рыбачью лодчонку,., вечером лег в нее, оттолкнулся от
берега и тихо поплыл... Он провел на островке всю ночь, часть утра
и благополучно вернулся на наш берег, доставив те самые сведения,
о которых так мечтали в полку» [166, С. 152]. Речь, таким образом,
может идти о смелости и предприимчивости проявленных молодым
128 Так на армейском жаргоне назывался орден св. Анны 4-й степени, носимый на красном
(в отличие от обычного черного) темляке холодного оружия.
286 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
подпоручиком, но никак не о мужестве и героизме, сопутствующих
рискованному разведывательному поиску. Сам Тухачевский, по
словам Типольта, отнюдь не был уверен, что его не накажут за подобную
инициативу.
Наконец, не стоит забывать, что подпоручик Тухачевский служил
в гвардии, к которой начальство всегда было щедрее на награды, а не в
каком-нибудь «24-м Сибирском стрелковом полку». Впрочем, и армейскую
пехоту в мировую войну наградами не особо обижали. Об этом может
свидетельствовать хотя бы послужной список известнейшего впоследствии
белого генерала, командира Дроздовской дивизии А.И. Туркула.
Обстоятельства пленения и поведения в плену гвардии подпоручика
Тухачевского наводят на размышления. То, что в рукопашном бою на
рассвете 19 февраля 1915 г. командир 6-й роты георгиевский кавалер к-н
Веселаго пал смертью храбрых, а подпоручик Тухачевский был пленен
лишний раз подтверждает, что распределение наград за Кржешовский
мост было справедливо.
В рапорте, поданном по возвращении командующему Семеновским
резервным полком, в котором он сам излагал «свои похождения с...
протокольной точностью» [86, С. 63], объяснению обстоятельств пленения
места не нашлось. Рапорт изобилует красочными описаниями
многочисленных побегов (включая экзотические - в ящике с грязным бельем),
которые вполне удавались товарищам Михаила Николаевича, но... не
ему самому - такому атлету и здоровяку, что он, по свидетельству
одного из мемуаристов, запросто мог подтягиваться на руках, сидя на
лошади (!). Это, как мы уже писали, заставляет задуматься, поскольку,
естественно, ни одного достоверного свидетельства геройского поведения
Тухачевского в плену, кроме его собственных показаний, мы не имеем.
Интересно, что даже о том, как г-н «лейтенант» Тухачевский откровенно
нахамил немецкому коменданту, отказавшись его приветствовать, он в
рапорте упомянуть не забыл.
Побег Михаилу Николаевичу удался только из крепости (!) Инголь-
штадт, во время прогулки, на которую заключенных человеколюбиво
выводили, связав их только честным словом, что они не попытаются бежать.
Восхищение Ю.З. Кантор смелостью и «жаждой освобождения» молодого
офицера, решившегося бежать, даже зная о грозящей ему смертной казни
за нарушение «честного слова», не очень уместно, поскольку он,
очевидно, прекрасно знал, что в случае неудачи ему достаточно будет назваться
первым пришедшим в голову солдатским именем, чтобы быть отправлен-
Глава 2. Военная риторика пролетариата
287
ным в ближайший солдатский лагерь. Тем более, что такое он уже
проделывал во время побега 6 сентября 1916 г. из лагеря в Бад-Штуере, когда
он назвался именем солдата Михаила Дмитриева.
Объяснение Тухачевского, что он подделал подпись под обещанием
не бежать своего товарища по побегу капитана Чернивецкого, а тот
- его, никак не свидетельствуют о ненарушении ими обоими
«честного слова»; оно только свидетельствует об обмане доверчивого и
не искушенного в бесчестной казуистике начальства лагеря. Можно
только поражаться «беззубости» сбитого с толку наглостью русских
немецкого военного правосудия, при таких обстоятельствах не
только не применившего смертную казнь к пойманному вскоре капитану
Чернивецкому, но и даже засчитавшему ему два месяца нахождения
под следствием по делу о побеге «в зачет» назначенного трехмесячного
срока ареста.
Так что «эрозия чести» в плену, в случае с М.Н. Тухачевским, как
совершенно правильно полагал Б.В. Соколов, по существу, была. То, что
он в своем труде несколько исказил фамилию капитана Чернивецкого,
не дает никаких оснований сомневаться в истинности сделанных им
моральных оценок поступка гвардии подпоручика Тухачевского.
Трудно осуждать за это молодого гвардейца, поскольку, судя по
наблюдению видевшего его в то время русского офицера, у него начал
проявляться т.н. «психоз колючей проволоки», развившийся за 2,5 года,
проведенных в неволе, исступленное желание вырваться любой ценой
из «круга тоски», по выражению A.A. Успенского [182, С. 142].
Воспоминания его «сокамерников» также говорят в пользу этой версии.
Возможно, что бегство от «колбасников» воспринималось им как очередное
проявление лагерной антинемецкой фронды или как еще одна забавная
мистификация, к которым Михаил питал склонность с детства. Но факт
остается фактом.
Что же могло ожидать в России молодого М.Н. Тухачевского,
прибывшего на родину за неделю до октябрьского большевистского
переворота? За что и на чьей стороне ему предстояло воевать? В Бога он не
верил, Царя к тому времени уже не было, Отечество можно было
толковать расширительно, по состоянию его дворянство мало чем
отличалось от крестьянства, от традиций родного полка, как и от офицерских
традиций вообще, за годы плена он, как мы видели, успел основательно
оторваться. Выбор Михаила Николаевича Тухачевского был
предопределен - он пошел к большевикам.
288 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
В самом начале своего пути к вершинам военной карьеры у новых
хозяев России М.Н. Тухачевский сразу же сделал очень правильный
выбор, во многом обеспечивший ему в дальнейшем благоприятные
«стартовые» условия. Он вступил в партию большевиков. Выбор этот нельзя
не признать талантливым и точно рассчитанным ходом. Действительно,
при том незначительном чине, в котором он закончил службу в старой
армии, в новой он мог рассчитывать только на пост третируемого и
практически бесправного «военного руководителя» какого-нибудь
красногвардейского отряда, по боевым качествам больше напоминавшего
банду, нежели воинское подразделение. Для хорошо воспитанного бывшего
гвардейца, даже решившегося делать ставку на «сволочь», не было
никакого резона пытаться подлаживаться к «сволочи» или
терроризировать ее, что неминуемо пришлось бы делать, непосредственно командуя
«личным составом». Как мы помним, это были единственно доступные
речевые стратегии «эпохи красногвардейской атаки на капитал».
Поэтому, заручившись поддержкой и протекцией видного партийца
В.В. Куйбышева, Михаил Николаевич начал работать чиновником в
Военном отделе ВЦИКа. Вступление в партию 5 апреля 1918 г.
открыло перед ним двери уже во Всероссийское бюро военных комиссаров,
учреждение более солидное, уже обладавшее немалой властью по
осуществлению контроля за деятельностью классово чуждых «военных
специалистов». Так что свою военную карьеру Михаил Николаевич по-
настоящему начал 27 мая 1918 г., как и М.В. Фрунзе, военным
комиссаром, только, конечно, не окружного масштаба (партийный стаж этого
явно не позволял), но стратегически важного Московского района
Западной завесы.129 Работа в Военном отделе ВЦИКа и во Всероссийском
бюро военных комиссаров обеспечила Тухачевского очень ценными
знакомствами в партийной среде и высокими покровителями,
заступничество которых ему скоро пригодилось.
Сомнительно, чтобы за время своей короткой комиссарской
деятельности М.Н. Тухачевский успел сильно отличиться, поскольку в связи
с опасным развитием чехословацкого мятежа он уже 19 июня был
«командирован в распоряжение главкома Восточного фронта Муравьева
для использования работ исключительной важности по организации и
формированию Красной Армии в высшие войсковые соединения и ко-
129 Завеса - оперативное объединение вооруженных сил Советской республики,
предназначенное для обороны демаркационной линии, установленной после заключения Брестского
мира.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
289
мандования ими» Историки указывают, что назначение на должность
командующего армией устроил Тухачевскому председатель Всебюрово-
енком К.К. Юренев, ходатайствовавший за него перед начальником
оперативного отдела наркомвоена СИ. Араловым [121, С. 111]. Но вполне
возможно, что с «переводом» Тухачевскому помог все тот же Куйбышев
- в то время председатель Самарского губернского комитета партии, -
в кризисные дни после падения 8 июня Самары вспомнивший о своей
бывшей креатуре. Видимо, не случайно он вместе с О.Ю. Калниньш стал
военным комиссаром у молодого командующего.
Мандат, выданный Тухачевскому, очень точно передавал суть его
новых обязанностей. Войска, скрывавшиеся под гордым именем 1-й
Революционной армии, представляли собой типичное «скопище»
разнообразнейших формирований, ведущих разгульную «эшелонную» жизнь,
отличавшуюся высокой «маневренностью»: в случае малейшей боевой
неудачи вся эта полупартизанская масса просто забивалась в вагоны и
откочевывала от греха подальше на пару десятков верст в тыл. В панике
могли, конечно, рвануть и дальше.
«...И начальники, и красноармейцы страдали необычайным
эгоцентризмом, - так изящно и не без юмора выражался впоследствии о своих
подчиненных командарм-1. - Ни о какой серьезной дисциплине не было
и речи... Были и такие части (особенно некоторые бронепоезда и бронео-
тряды), которых нашему командованию приходилось бояться чуть ли не
так же, как противника» [32, С. 43].
Для сообщения этому воинству основ «регулярства» Тухачевскому,
для начала необходимо было выгнать солдат из вагонов, приучить к
ведению «правильной» полевой войны. Поэтому на следующий же день после
прибытия в штаб армии им был издан приказ № 1 от 28 июня 1918 г.,
нацеливавший армию на скорое расставание с привычным «укладом жизни».
«...Вступая на должность командующего армией, обращаюсь ко всем
красноармейцам, защитникам революции, с призывом напрячь все свои
силы, чтобы смелыми и правильными (выделено нами. - авт.)
действиями раздавить самую сильную, но и последнюю
контрреволюционную попытку. Помните, что единственный способ победить - это быть
смелым и не отступать от раз принятого решения. Эту твердость солдату
дает только дисциплина.
Всегда поддерживайте связь по фронту и в глубину, содействуйте
друг другу. Итак, все вместе, на контрреволюцию, на врагов Российской
Республики! Ура!» [15, С. 26].
290 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Нельзя удержаться от улыбки, читая, как 25-летний командарм
обещал своим подчиненным «последний и решительный бой» в самом
начале только набиравшей обороты Гражданской войны. Если судить в
целом, приказ демонстрирует невысокую риторическую культуру
Тухачевского. Это выражается в наличии, фактически, трех главных
тезисов, заключающихся в требовании от красноармейцев быть смелыми,
дисциплинированными и умелыми бойцами. Все три тезиса в этой
короткой речи-призыве брошены без разъяснения, отчего речь производит
впечатление директивного указания. Сентенция о главном способе
добиться победы больше подходит для убеждения полководца, но не
войск. Из первого приказа командующего войскам совершенно не видна
личность его автора, которая, несомненно, представляла для его
подчиненных определенный интерес. К тому же приказ слишком короток;
выраженной молодцеватостью он импонировал бы солдатам регулярной
армии, но никак не революционным войскам, высоко ценившим
словотворчество речевого карнавала.
Не очень удачный дебют Тухачевского в революционной военной
риторике не удивителен. За плечами бывшего гвардейского подпоручика
не было школы партийной публицистики, как у Л.Д. Троцкого или
опыта агитаторской работы, как у М.В. Фрунзе. Оттого приказ выдает
явное стремление его автора подделаться под энергичный «суворовский»
стиль. При желании в требовании поддерживать связь по фронту и в
глубину можно усмотреть сочетание аллюзии к знаменитому
наполеоновскому окрику «Под предлогом увода раненых не расстраивать ряда!»
с формулировкой строевого устава.
Требовалось также немедленно обеспечить формирующиеся части и
соединения 1-й армии опытным командным составом. Эту задачу решал
приказ от 4 июля 1918 года.
«Российская Советская Федеративная Республика переживает
тяжелые дни. Долг каждого русского гражданина - взяться за оружие. Для
создания боеспособной армии необходимы опытные руководители, а
потому приказываю всем бывшим офицерам, проживающим в Симбирской
губернии, немедленно стать под Красные знамена вверенной мне армии.
Сегодня, 4 сего июля, офицерам, проживающим в городе Симбирске,
прибыть к 12-ти часам в здание Кадетского корпуса, ко мне. Неявившие-
ся будут преданы военно-полевому суду» [15, С. 26].
Очевидно, это была та, самая верная форма воздействия на сознание
русских офицеров, о которой мечтал А.И. Деникин. Волшебное слово
Глава 2. Военная риторика пролетариата
291
«приказ», с солдатской прямотой подкрепленное недвусмысленной
угрозой, как показала практика Красной армии, на самом деле
подействовало лучше всяких воззваний. Вот тут большевикам и пригодился
гвардейский шарм их командарма, который подкупающе действовал на многих
приходивших записываться. Один вид «порядочного человека» в рядах
красных, очевидно, способствовал снятию последних моральных
запретов в сознании бывших офицеров; создавая впечатление, что служат они
все-таки не только «за страх».
В своих воспоминаниях о Тухачевском Б.Н. Чистов (тогда работник
Симбирского комитета РКП(б)) указывал, что «Приказ по 1-й
Восточной армии» командарм составил сообща со старым большевиком И.М.
Варейкисом, возглавлявшим указанный комитет. Мы склонны полагать,
что авторство заключительной фразы приказа о мобилизации офицеров
принадлежит именно ему.
Современные историки утверждают, что командарм-1 выступил
инициатором создания в Красной армии дивизионных и армейских
трибуналов [86, С. 124]. Такая категоричность, на наш взгляд, не вполне
оправдана. Правда, сам командарм в 1921 г. старался приписать эту
сомнительной ценности, но зато вполне «революционную» идею себе [178,
т. 1, С. 77]. Но тут следует понимать, что после сокрушительного
поражения в 1920 г. под Варшавой, о чем речь пойдет далее, Тухачевскому надо
было во что бы то ни стало «набирать очки» перед советской властью.
Интересно свидетельство комиссара 1-й армии О.Ю. Калнина.
«Насколько мы руководствовались твердым намерением создания 1 армии,
- писал О.Ю. Калнин, - настолько же строги и необычны были и наши
мероприятия. Пусть судит нас за то сознание коммуниста и история
будущего, но мы не могли поступать иначе при существующих
обстоятельствах, не могли и не умели» [32, С. 47]. Насколько можно судить по
патетическому тону правоверного большевика Калнина, перед нами еще
один претендент на инициативу в деле создания органов пролетарской
диктатуры в Красной армии.
Командир знаменитой впоследствии Железной Симбирской дивизии
Г.Д. Гай вспоминал, что «только в конце июля отдельные политические
работники по инициативе и настоянию командующего организовали
«юридически-следственную комиссию»... Эта комиссия исполняла роль
и политотдела, и трибунала, и особого отдела» [28, С. 23]. Как видим,
хоть инициатива командующего действительно была, но организация
карающих органов не являлась самоцелью Тухачевского.
292 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Слова Гая подтверждает и информация, приведенная в сборнике
«Годовщина Первой революционной армии», написанном по горячим
следам, в 1920 году: «Положение об учреждении прифронтовых местных,
полковых и ротных судов было введено еще 23 июля 1918 года приказом
№ 585, однако, фактическое проведение в жизнь этого приказа
состоялось гораздо позже... При дивизиях в это время работали также и
чрезвычайные комиссии, на долю которых, главным образом,
выпадала усиленная борьба с пьянством (выделено нами. - авт.). Бывали
случаи расстрела самогонщиков» [34, С. 36]. И здесь дела обстояли
далеко не так сурово и страшно, как указывали впоследствии Тухачевский и
Калнин. Уместно вспомнить, что 22 июля белыми был взят Симбирск, и
положение большевиков сделалось по-настоящему критическим.
У нас, таким образом, нет никаких оснований считать, что к
формированию своей армии М.Н. Тухачевский подходил методами Льва
Давидовича Троцкого. В 1918 году в характере молодого Тухачевского не было
места расчетливой жестокости даже по отношению к пленным врагам.
Недаром и в 1920-м году Тухачевский производил на Буденного
впечатление что это «...просто молодой человек, красивый, румяный, который
не привык еще к своему высокому положению» [19, т.1, С. 434].
Приказ от 24 августа требовал «под личную ответственность
командиров и политических комиссаров: никаких насилий и распоряжений
(?!) над перебежчиками и пленными из мобилизованных
белогвардейцами крестьян и рабочих не чинить, а доставлять в штаб дивизии.
Политические комиссары сумеют расправиться с явными врагами
революции и сохранить жизнь тем рабочим и крестьянам, которые, будучи
мобилизованы чехословаками, не захотели идти против своих братьев-
красноармейцев» [86, С. 132]. Весьма примечательно, что этот
человеколюбивый, хоть и с неизбежным классовым оттенком, приказ подписал
кроме Тухачевского В.В. Куйбышев - еще один интеллигентный
человек в 1-й армии.
Первые бои только-только начавшей формироваться армии были
удачными. Войсками Тухачевского была взята Сызрань. Радости
командарма не было предела. Помимо хвастливой телеграммы, отправленной
«крестному» партийному отцу H.H. Кулябко, счастье от сознания
первого боевого успеха сквозит и в приказе № 13 по войскам 1-й армии от 8
июля 1918 года.
«Сегодня, 8 июля, в 8 часов утра доблестными революционными
частями Инзенской и Пензенской дивизий после упорного сопротивления
Глава 2. Военная риторика пролетариата
293
чехословаков и белогвардейцев занят г. Сызрань. Преследуемый
противник в панике отступает к г. Самаре.
От лица Российской Советской Республики объявляю всем войскам,
борцам за свободу и революцию, мою искреннюю благодарность.
Опираясь на революционный дух храбрых, дисциплинированных и
сознательных солдат и командного состава нашей славной армии, твердо уверен в
наших дальнейших боевых успехах. Враг уже подавлен. Смело и дружно
вперед без сомнений и колебаний... Надеюсь, в предстоящих операциях
под мудрым руководством всех начальствующих лиц армии, довести
возложенную на армию задачу до конца...» [15, С. 27-28].
Немного нескромно (про мудрое руководство), зато очень искренне;
немного самонадеянно (про то, что враг
уже подавлен и в панике отступает),
зато бодро и уверенно. Да и можно ли
было требовать большего от молодого
человека ни разу не командовавшего в
бою даже ротой, а теперь берущего
города во главе десятитысячной армии. И
все же легкомыслие и самонадеянность
плохие спутники командующего.
Красным войскам противостояли не
только мобилизованные Комучем
крестьяне Поволжья, но и офицерские роты
неудержимого В.О. Каппеля. Они очень
скоро дали почувствовать бравым «пер-
воармейцам» остроту своих штыков. По рис. 13. М.Н. Тухачевский
тому, как старательно большевистские
военные вешали всех собак за очень кстати случившуюся «измену» на
собственного главнокомандующего Восточным фронтом Муравьева можно
заключить, от противного, что дело было не только в нем. Действительно,
ведь не перебежал же он к врагу, выдав все оперативные планы. Мятеж
Муравьева был локализован и подавлен, и сам он уничтожен в считанные
дни, а города Красная армия продолжала сдавать и неделями позже.
Как мы уже писали, самым тяжелым ударом для красных было
падение Симбирска 22 июля 1918г. Первая попытка отбить город 23 июля не
увенчалась успехом. В этот же день, громко сетуя на измену Муравьева
в докладной записке новому главковостоку И.И. Вацетису, Тухачевский
развил некоторые любопытные мысли.
294 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
«Наши войска в настоящее время небоеспособны, - честно
признавал он. - Единственным средством исправить этот недостаток является
военная техника... Не надо забывать, что хорошую пехоту после тех
потрясений, которые всем пришлось перенести, не скоро удастся создать.
Поэтому, как уже и было указано, надо налечь на техническую
сторону... Надо, наконец, овладеть революционным гением и создать новые
формы, сообразные обстановке, а не накладывать тридцатые заплатки
на отжившие системы» [15, С. 36].
Итак, причины неудач виделись Тухачевскому, с одной стороны, в
отсутствии техники. Чтобы начать успешно воевать молодому красному
полководцу требовалось по приведенным тут же расчетам одних
только орудий до 222 стволов, не считая 200 грузовиков и 4-х эскадрилий
аэропланов. Неудивительно, что старые «военспецы» посчитали его
«фантазером-поручиком»; такого количества техники в Гражданскую
войну не имели порой и фронты. Да и каппелевцами Симбирск был взят,
почитай, одними штыками. Вацетис же, излагая в докладе В.И. Ленину
причины падения Симбирска, заметил, что «во главе армий стояли
совершенно неопытные люди» [71, т.1, С. 359].
С другой стороны, без ложной скромности Михаил Николаевич
пенял на бездарность красного командования, естественно, не в своем
лице, а скорее в лице тех самых заскорузлых «военспецов», о которых
впоследствии он будет выражаться предельно нелицеприятно. В чем же
предполагал великий 25-летний стратег веление гения революции}
Обескураживающе простой ответ на этот важнейший вопрос давался в этом
же донесении: «Когда наши части наступают большими силами, то они
всегда спокойны, чем наступая порознь. Таким образом, сосредоточенное
действие сил важно не только в смысле численного превосходства над
противником, но и в смысле поднятия духа в Красной Армии» [там же].
Вот, собственно, и все новаторство революционного гения,
питавшегося, надо понимать, известнейшим афоризмом «Бог всегда на стороне
больших батальонов». Наблюдение и вывод, вполне доступные здравому уму
закончившего полный курс военного училища младшего офицера. После
этого до знаменитого «при вперед!» было, как говорится, рукой подать.
Как ни странно, но именно на этих двух нехитрых постулатах и
строилась воспеваемая некоторыми современными историками
глубокомысленная «таранная стратегия» талантливейшего красного полководца.
После второй неудачи со штурмом Симбирска 8 августа «страшно
разгневанный» член РВС Востфронта П.А. Кобозев и О.Ю. Калнин хо-
Глава 2. Военная риторика пролетариата
295
тели снять Михаила Николаевича с должности и назначить на его место
Г.Д. Гая. Спасло тогда Тухачевского только заступничество комиссара
Куйбышева. Наступление было перенесено на 9 сентября. Время было
горячее, и хоть вины командарма в провале наступления было немного,
все же части и соединения были действительно «сырыми», Вацетис и
Троцкий непрестанно требовали «побольше энергии со стороны
командного состава и солдат»130 и даже угрожали Тухачевскому трибуналом. И
тут его выручило заступничество СИ. Аралова и самого В.И. Ленина.
В таких «невыносимых» условиях первоначальная революционная
восторженность молодого командарма явно пошла на убыль. С этого
момента вплоть до знаменитых приказов-воззваний периода Советско-
польской войны, когда он уже был признанным баловнем
большевистской кадровой фортуны, из принадлежащих его перу боевых документов
напрочь исчезает всякая «риторическая» романтика.
Приказ № 7 по войскам 1-й Восточной Революционной армии от 8
сентября 1918 г. еще содержал небольшой параграф, который можно
трактовать, как лирическое отступление в духе донесения Вацетису от
23 июля: «Всем помнить, что бывает некогда ждать распоряжений и что
упорство, спокойствие и смелость всегда дают перевес над
колеблющимся, нерешительным. Донесения присылать точные и верные, не
поддаваться преувеличению, а тем более панике, учитывая, что на первых
порах противник всегда кажется сильнее, чем на самом деле. Нас
впятеро больше (выделено нами. - авт.), мы можем взять Симбирск, лишь
стоит только захотеть и постараться» [71, т.1, С. 77].
При таком перевесе в силах можно, в принципе, надеяться
отличиться в полководческом искусстве. И самый молодой в Красной армии
командарм намерен был использовать свой шанс. С этой целью он твердо
пообещал штабу фронта: «...удар рассчитываю закончить (!) на
Симбирск в три дня, считая с утра 8 сентября». Не с этого ли
опрометчивого заявления берет начало распространенная с советский период мода
приурочивать боевые достижения к какому-либо сроку или дате?
Складывается впечатление, что как при взятии Симбирска, так и
в Самаро-Сызранской операции 1918 г. главным действующим лицом
в 1-й армии был не «поручик-командарм», а командир Симбирской
дивизии Г.Д. Гай. За этим действительно авторитетным в войсках
командиром стояла огромная популярность в войсках. Пользовал-
Указание И.И. Вацетиса командованию 1 армии № 7 от 16 августа 1918 г. [146, т.1, С. 428].
296 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
ся он и благосклонностью со стороны комиссаров, по крайней мере,
О.Ю. Калнина, который был с ним, по словам И.И. Корицкого, «в
большой дружбе». Любопытно, что донесения в штаб фронта о взятии
городов подписывались отнюдь не командармом-1, как того требовала
бы элементарная субординация, а командирами соединений и все тем
же политическим комиссаром Калниньш.
Например: «Симбирск под могучим ударом Железной дивизии пал,
дивизия вошла в город. Начдив Гай, политкомарм Калнин» [15, С. 54]
или: «Нашими войсками, Инзенской и Симбирской дивизиями сегодня,
3 октября, в 12 часов занят г. Сызрань. Начдив Лацис, политком армии
1 Калнин» [15, С. 66]. Телеграмма П.А. Кобозева, отправленная главко-
востоку С.С. Каменеву, так оценивала заслуги войск: «Поздравляю
взятием Сызрани усилиями Железной дивизии Гая, вновь выдержавшего в
точности не только план наступления, но и срок, обещанный им мне в
Симбирске при вручении Красного Почетного знамени» [32, С. 136].
В отличие от Тухачевского Гай свои обещания сдерживал. А
Михаилу Николаевичу его попытка отличиться не удалась: Симбирск был взят
только 12-го сентября, т.е. через четыре с лишним дня, вместо трех
заявленных. Напрасно друг В.В. Куйбышев пытался прикрыть своего
протеже, рапортуя В.И. Ленину о том, что «Симбирск после трехдневного
(курсив наш. - авт.) боя занят войсками 1-й армии» [71, т.1, С. 376].
В статье Кобозева о мужестве и отваге Железной дивизии,
опубликованной в «Известиях ВЦИК», фамилия Тухачевского была упомянута лишь
раз, и то с оговоркой, что он «ошибся лишь на одни сутки» (напрасно сам
Тухачевский указывал что «вся операция овладения Симбирском
продолжалась три дня с половиной»), в то время как фамилия Гая с
«превосходными» эпитетами встречалась в 8 раз чаще. Апофеозом торжества
Г.Д. Гая стала хрестоматийная телеграмма вождю мирового
пролетариата, отправленная им по случаю взятия Симбирска: «Дорогой Владимир
Ильич! Взятие Вашего родного города - это ответ на Вашу одну рану, а
за вторую - будет Самара!»
Таким образом, командуя 1-й армией, Тухачевский еще только
учился, отличаясь, главным образом, в организационных вопросах. Нет
сомнения, что самый молодой командующий был сознательно «подперт»
сильными и авторитетными политработниками членами армейского
РВС О.Ю. Калниньш и В.В. Куйбышевым. В среде последних, судя по
всему, наблюдалось явное разделение в мнениях и предпочтениях.
Интеллигентный Куйбышев благоволил «классово-близкому» командарму,
Глава 2. Военная риторика пролетариата
297
латыш Калнин - опытным командирам дивизий Гаю и Лацису. Из них
Г.Д. Гай лучше всего вписывался в образ «героя гражданской войны». И
не в последней степени благодаря яркому, типично «революционному»
красноречию. Его приказ-обращение к войскам дивизии перед штурмом
Симбирска представляет собой настоящий шедевр военной риторики,
выгодно отличающийся от неумелых воззваний командарма
Тухачевского.
«Ко всем молодцам солдатам Железной Симбирской дивизии!
К вам, мои дорогие товарищи Симбирской дивизии, обращаюсь!
Настал час мщенья за невинно убитых и расстрелянных наших братьев
в Симбирске и Самаре! Настал час мщения за реки слез беззащитных
матерей и детей рабочих, которые беспощадно истреблены буржуазной
сволочью и белогвардейцами! Настал час, когда вы на деле должны
будете доказать вашу любовь, вашу привязанность к Советской власти.
Помните, мои дорогие товарищи, что вся Россия, весь рабочий класс и
крестьянская беднота в настоящее время смотрят на вас, ждут победы
и самоотверженной борьбы со всеми бандами, которые стремятся
путем оружия своего вырвать власть от бедняков и передать ее паукам-
помещикам и мародерам-капиталистам... Вся наша Федеративная
Советская Республика и весь трудовой беднейший люд мрет с голоду, потому
что белогвардейцы не дают провезти хлеб голодным...
Вы же, славные революционеры-симбирцы, должны одним порывом
отбросить всю эту банду и разбить ее, помня, что ваша храбрость будет
дорого оценена теми, которые вас послали.
Вперед же, славные герои, в бой на защиту Советской власти! Да
здравствуют стойкие борцы за освобождение беднейшего класса, за
социализм - жизнь будущего!» [175, С. 53-54].
Речь, надо сказать, написана с большим вкусом. Средства
выразительности употреблены в меру, особенно хороша анафора, открывающая
речь; нет и перебора в инвективах классовым врагам. Самое
удивительное, что речь написана отнюдь не «пролетарием от сохи», как известно,
Г.Д. Гай воевал на фронте мировой войны офицером (это выдает первая
фраза, звучащая несколько старорежимно). Но прекрасно
использованное далее обращение «мои дорогие товарищи» оставляет впечатление
искренности и неподдельной любви командира к своим бойцам.
Исполненная героическим пафосом речь не содержит и намека на аргументы
в пользу численного превосходства. После такой речи солдату
действительно хочется быть героем.
298 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Подводя итоги полководческого дебюта М.Н. Тухачевского, напрасно
искать здесь проявлений выдающегося таланта командарма. Только
советская военно-историческая мифология могла задним числом
распространять заслуги выдающихся военачальников на все их действия,
начиная чуть ли не со школьной скамьи. Первый блин не вышел у 25-летнего
«поручика-командарма» комом только благодаря наличию прекрасных
командиров соединений и штабных работников. Прощальный приказ
Тухачевского по войскам 1-й армии от 4 января 1918 г. справедливо
воздавал славу его «ближайшим помощникам».
«...Дорогие товарищи! Расставаясь ныне с вами, с 1-й армией,
которой пришлось мне командовать более шести месяцев, я не могу, конечно,
расстаться с легким чувством. Вместе выдержали мы первые жестокие
удары контрреволюции, вместе создавали мы нашу армию, покрывшую
себя славою революционных побед, изыскивая новые формы, новый дух
Красной Армии.
1-я армия наша была не только первой по номеру, но и первой по
доблести и героичности. Беспрерывный ряд побед, 11 городов,
возвращенных Советской республике, и тысяча верст пути преследования белой
гвардии - вот великая наша заслуга, товарищи! Я верю, что
социалистическое отечество наше воздаст должное боевым подвигам 1-й армии
и история оценит по достоинству. Сила 1-й армии была в ее объединен-
ности, в стремлении всех к одной цели - защите нарождавшегося
социализма.
Приношу мою глубочайшую благодарность, - всем красноармейцам и
всем ближайшим помощникам. Я убежден, что на другом фронте я с той
же радостью и столь же часто буду читать о победе ее нового
доблестного командующего. С нашими старыми заветами: «Вся власть Советам!» и
«Да здравствует Красная армия!» - вперед, товарищи» [15, С. 88-89].
Риторика М.Н. Тухачевского первого периода его полководческой
деятельности, как можно заметить, была далека от идеала. Приведенный
приказ написан вяло и неубедительно, выбор языковых средств в ряде
случаев не вполне удачен. Такими приказами революционные войска трудно
было двигать в классовые битвы. Видимо поэтому Михаил Николаевич
был так озабочен изысканием новых форм, нового духа армии.
Плохую службу сослужило происхождение командарма. У
комиссаров его личность явно не пользовалась доверием и популярностью.
Тухачевский так и не смог взять верный тон в общении с ними. «Манеры
Михаила Николаевича, его вежливость изобличали в нем хорошо воспи-
Глава 2. Военная риторика пролетариата
299
тайного человека. У него не было ни фанфаронства, ни высокомерия, ни
надменности. Держал себя со всеми ровно, но без панибратства, с
чувством собственного достоинства», - такие отмечавшиеся И.И. Корицким
«барские церемонии», конечно, настораживали и раздражали отдельных
представителей «семьи трудовой» [117, С. 54]. Это было тем более
опасно, что с некоторыми политработниками 1-й армии вел переписку лично
В.И. Ленин. Так, в одном из писем политкомиссару СП. Медведеву он
писал: «...Вы-де уверены были, что можно и должно взять Сызрань, но
не хотели писать сюда. Если это так, то вы не правы. Комиссар на то
и поставлен, чтобы жаловаться. Непременно пишите (и телеграфируйте)
мне обо всем и чаще. Вы ни разу ни строчки. Нехорошо. Непартийно и
неисполнение вашего государственного долга! Ей-ей нехорошо» [32, С. 98].
Наверно, после такого отеческого приглашения политком
Пензенской дивизии тов. Медведев, в сентябре 1918 г. ставший комиссаром 1-й
армии вместо В.В. Куйбышева, и начал «стучать» на своего командарма,
найдя активную поддержку в лице тов. Калнина. Эта комиссарская
склока дорого стоила М.Н. Тухачевскому и многому научила его. Научила,
прежде всего, тому, что даже «командарму и коммунисту», как любил он
себя величать, небезопасно связываться с комиссарами. Несмотря на
заслуги в деле возвращения Советской республике 11 городов, молодой
командарм был фактически лишен реального командования и назначен
на должность помощника командующего Южным фронтом.
В конце января 1919 г. Тухачевский принял командование 8-й армией,
сражавшейся против Донской армии ген. Краснова. На новом посту
Михаил Николаевич прославился скорее ссорами с командюжем В.М. Гит-
тисом из-за направления ударов 8-й армии, полагая, очевидно, что перед
«военспецом» показывать характер куда легче, чем перед комиссаром.
Тухачевский, руководствуясь исподволь вызревавшими у него идеями о
новом содержании революционного гения, т.е. классовой стратегии,
не без основания считал, что его армии целесообразнее действовать,
имея за спиной обеспеченный тыл в Донбассе, чем наступать через
Донскую область, отвлекая силы на подавление в массе
контрреволюционно настроенного казачества. При этом «сам Тухачевский «самостийно»
избрал для своей армии миллеровское направление, хотя командующий
фронтом В. Гиттис склонял его в юго-восточном направлении...», - так
комментировал эту ситуацию А.Н. Тодорский [170, С. 47].
Историки сейчас, как правило, пеняют на недалекость бывшего
царского полковника Гиттиса, забывая о том, что вышестоящее командование
300 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
могло руководствоваться соображениями, отличными от предоставления
режима наибольшего благоприятствования юным, но подающим надежды
военным теоретикам. В 1919 г. в Наркомвоене, видимо, на это посмотрели
именно так, и убрали Тухачевского сначала «в распоряжение Главкома»,
а потом обратно на Восточный фронт. Перевод, по словам Тодорского,
состоялся по личной просьбе Михаила Николаевича в связи с
ухудшившимися отношениями с комфронтом; протокол РВС республики от 15 марта
содержит формулировку «по болезни» [150, С. 199]. Нельзя исключать, что
с назначением командующим 5-й армией Тухачевскому помог его старый
знакомый В.В. Куйбышев, занимавший должность члена РВС Южного
боевого участка Востфронта.
Здесь в период борьбы с Колчаком начала по-настоящему восходить
звезда Тухачевского. Возглавляемой им 5-й армии в планах контрудара
правого крыла Восточного фронта, задуманного С.С. Каменевым и
непосредственно проводившегося Южной группой войск под командованием
М.В. Фрунзе, отводилось центральное место.
На Урале и в Сибири окончательно определились особенности
полководческого стиля М.Н. Тухачевского, намечавшиеся еще в августе-
сентябре 1918 года. Основывались они на незыблемом правиле:
воевать, обеспечив себе максимальное превосходство в численности.
Если не удавалось обеспечить таковое за счет главного командования,
и так бросавшего в 5-ю армию значительные подкрепления, или
усилиться помощью соседей, которым частенько приходилось приходить
на помощь рвущемуся к победам и славе «поручику-командарму», то
Тухачевский решительно и безоглядно перегруппировывал свои
войска для достижения на ударном участке подавляющего превосходства
над противником.
При этом «стратегия» Тухачевского правильно учитывала очевидный
факт неустойчивости белого тыла, прикрытого «тонкой красной
линией» боевых частей. В таких условиях сокрушение фронта в одной точке
практически мгновенно сказывалось на деморализации сначала
беззащитного тыла, а затем и войск на незатронутых участках фронта.
Анализ приказов Тухачевского по войскам 5-й армии показывает его
упорное стремление вложить все силы в первый, зачастую
оказывавшийся единственным удар. В приказе № 2 от 4 мая 1919 г. о задачах в
Бугурусланской операции читаем: «... ввиду решительности
предстоящей операции приказываю всем начдивам действовать с крайней
смелостью и сразу вводить в бой крупные силы, не ослабляя себя резервами
Глава 2. Военная риторика пролетариата
301
(курсив наш.- авт.). Главные силы держать сосредоточенно и наносить
ими решительные и сокрушительные удары» [20, С. 87].
Приказ № 1218/н от 7 июля 1919 г. о нанесении удара на Златоу-
стовском направлении, содержал такие строки: «...начдивам для
развития максимума силы удары наносить сосредоточенно на узком фронте,
избегая излишней разброски и ненужных резервов (курсив наш.-
авт.)» [там же, С. 139].
Читая приказы, создается впечатление о некотором
«головокружении от успехов» командарма, заключавшемся в его явном
пренебрежении азами военного искусства - необходимостью иметь резервы. А ведь
резервы - это гарантия от случайностей, которыми так богата любая
война, предусмотреть которые не под силу никакому военному гению.
Но может быть красный командарм, благодаря блестяще
поставленной у него агентурной и войсковой разведке знал о противнике
буквально все? Его командиры уверяют, что это было не так. Начальник 26-й
стрелковой дивизии Г.Х. Эйхе с нескрываемым раздражением описывал
обстоятельства похода его дивизии по узкому дефиле в Уральских горах
по руслу р. Юрюзань во время знаменитой Златоустовской операции 5-й
армии: «...присланная рация оказалась неисправной: она не передала и
не приняла ни одной радиограммы. Проводники не прибыли... Больше
недели не имели даже связи с Реввоенсоветом и со штабом армии...
Чтобы задуманный маневр удался, от всего личного состава требовался
подвиг» [148, С. 152].
Дивизии повезло, она беспрепятственно вышла в тыл колчаковским
войскам. Тем не менее, из разбора этой даже удачной операции видна
другая ахиллесова пята полководческого искусства Тухачевского -
неумение организовать связь с войсками. Нетрудно понять педантичного
латыша Эйхе, оказывавшегося из-за этого один на один с противником:
«Больше всего меня злило безответственное отношение командования
армии» [там же, С. 155]. Интересно, что Г.Х. Эйхе оценивался в
воспоминаниях А.П. Кучкина, бывшего в то время комиссаром 27-й дивизии,
как «молодой и талантливый командир», в то время как М.Н.
Тухачевский остался у него в памяти преимущественно как «организатор»,
проявлявший интерес к довольствию красноармейцев и беспокоившийся об
их отношении к пленным [135, С. 78].
Отработанный в Бугурусланской и Златоустовской операциях
прием активно использовался Тухачевским и позже. Приказ № 1653/н
от 12 октября 1919 г. войскам армии о проведении Петропавловской
302 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
наступательной операции требовал: «...наступление вести с самой
крайней энергией и дерзкой смелостью, не ослабляя своих сил_не-
нужными резервами (курсив наш.- авт.)» [20, С. 169]. В этом же
духе был выдержан и приказ № 1681/н от 17 октября 1919 г.: «...
войскам удвоить энергию для окончательного разгрома противника.
Действовать сосредоточенными массами, вводя их в бой сразу
(курсив наш.- авт.)...» [там же, С. 177].
Советские военные историки, сами имевшие немалый боевой опыт,
такую безоглядность не приветствовали. Бывший подполковник
Генштаба Н.Е. Какурин на страницах своей книги «Восстание чехо-словаков и
борьба с Колчаком», вышедшей в 1928 г., имя Фрунзе упоминает 15 раз,
в то время как фамилия Тухачевского упомянута всего дважды, когда
автор говорит о том, что «Златоустовское сражение от начала до конца
было проведено товарищем М.Н. Тухачевским». Надо понимать, что эта
была та самая операция, за которую генштабист Какурин справедливо
мог похвалить Тухачевского, хотя бы за дерзость задуманного маневра.
Войска Тухачевского добились главного - «как снег на голову
обрушились на беспечно отдыхавшие неприятельские резервы» [81, С. 66].
Про Челябинскую операцию автор говорит только как о последней
попытке сопротивления белых. Но там 5-ю армию спасла от окружения и
гибели только стойкость полков 26-й дивизии и усиливших ее отрядов
челябинских рабочих. Помогла и вовремя подоспевшая соседняя 3-я армия.
Бои в августе 1919 г. на р. Тобол ведутся уже не тов. Тухачевским,
а 5-й армией, из чего можно заключить, что автор не очень одобрял
развитие ее наступления на Петропавловск с открытым правым
флангом. Только из-за бездействия и нераспорядительности командующего
Сибирским казачьим корпусом ген. П.П. Иванова-Ринова 5-я армия не
была разгромлена, а всего лишь «попала в трудное положение» [там же,
С. 72]. «Усилившись потоком свежих пополнений» отступившая за
Тобол 5-я армия смогла возобновить наступление не ранее 14 октября, т.е.
протоптавшись на месте в течение 2 месяцев.
Из тяжелых уроков М.Н. Тухачевский выводов делать не спешил.
Приказ № 1712/н от 25 октября 1919 г. как ни в чем ни бывало
требовал: «...войскам направить все силы, чтобы опередить отступающего
противника и нанести ему полное поражение... Все трудности и
опасения должны быть забыты (курсив наш.- авт.)» [20, С. 183].
Самонадеянность Тухачевского, помимо боевых успехов,
объяснялась, на наш взгляд, его твердыми позициями во мнении армейских
Глава 2. Военная риторика пролетариата
303
и фронтовых политработников. Член РВС армии старый большевик
И.H Смирнов попал под обаяние молодого командарма, и именно его
работе на «невидимом фронте», в среде подпольщиков и партизан,
действовавших в колчаковском тылу, 5-я армия была во многом обязана своими
успехами. На уровне фронта Тухачевского прикрывал авторитетнейший
партийный деятель СИ. Гусев (Я.Д. Драбкин), стоявший в то время и во
главе советской военной разведки.
С такими покровителями М.Н. Тухачевский совершенно уже
перестал стеснять себя в отношениях с командующими фронтом,
пытавшимися как-то регулировать безудержный порыв революционного гения.
Бывший генерал царской армии A.A. Самойло, еще не освоившийся в
должной мере со сложной обстановкой, и из-за этого несколько раз
уточнявший задачу 5-й армии, заслужил от бывшего подпоручика
суровую отповедь. Тухачевский телеграммой попросил его соблюдать
19-ю статью Полевого устава, не рекомендовавшую командирам
изменять или отменять раз изданные приказы. А про другого
командующего, также бывшего генерала В.А. Ольдерроге, проявлявшего
осторожность в деле прикрытия фланга армии при ее стремлении к Омску,
Михаил Николаевич впоследствии высказался настолько
уничижительно, что даже забыл присовокупить к имени боевого генерала слово
«товарищ».
И вовсе удивительно как во время проведения серии непрерывно
сменяющих друг друга наступательных операций «поручику-вундеркинду»
удавалось еще... преподавать на организованных им армейских курсах
подготовки комсостава. Командные курсы 5-й армии, в шутку
называемые между краскомами «Академией генштаба имени Тухачевского»,
наряду с тактикой, фортификацией, топографией, стрелковым делом и
администрацией содержали в качестве предмета «прикладную стратегию»
(!), которая, как представляется, командирам дивизионного и полкового
звена была совсем необязательна. Но... курс «Стратегии национальной и
классовой» читал сам командарм (для чего, как нам кажется, эти курсы
и создавались). При этом совершенно отсутствовал курс оперативного
искусства, в котором у командарма, очевидно, не было никакого опыта.
На курсах учились от 3-х до 6-ти месяцев - срок отрыва командиров от
ведущих бои войск очень и очень приличный.
Успехи в ликвидации «колчаковщины» вкупе с «научным»
марксистским подходом к вопросам стратегии выделили Михаила
Николаевича в рядах советских военачальников, обычно страдавших некоей
304 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
односторонностью своего развития: либо «военспец», но не наш, либо
свой, пролетарский, но умеющий только «шашкой махать».
Свою уникальность Тухачевский скоро решительно «застолбил» в
докладе на имя самого В.И. Ленина 19 декабря 1919 г., самые интересные
выдержки из которого мы позволим себе привести. «Русский
офицерский корпус старой армии... состоял из лиц, получивших ограниченное
военное образование, совершенно забитых (!) и лишенных всякой
инициативы... Среди старого офицерства способные начальники являются
исключением... Хорошо подготовленный командный состав, знакомый
основательно (!) с современной военной наукой и проникнутый духом
смелого ведения войны, имеется лишь среди молодого офицерства...
Итак, мы не можем смотреть на общую массу старого офицерства как
на знатоков военного дела, а тем более как на хороших командиров...
Очень часто у нас на ответственные должности назначения делаются
не из числа младших, отличившихся начальников, а из числа тыловых
работников, старых военспецов. Этот порядок очень тяжел для фронта.
Начинают проводиться стратегические и тактические приемы, не
соответствующие обстановке, младшие революционные начальники не
считают этих начальников авторитетами, и, в общем, дело не клеится» [178,
С. 27-28, 30].
Особенно трогательно звучит пассаж об основательном
знакомстве с военной наукой молодых революционных начальников, к
которым, очевидно, надо было относить самого автора. О характере этого
знакомства хорошо высказался A.A. Самойло, приводя характеристику
тов. Гусева, обычно без комментариев цитируемую современными
авторами: «...старый большевик, хорошо осведомленный в военном деле».
При этом почему-то не обращают внимание на ядовитый подстрочник
старого генерала: «...до революции был редактором военной
энциклопедии изд. Сытина» [154, С. 250].
Именно такое знакомство с военным искусством было характерно и
для М.Н. Тухачевского, в чем прекрасно разобрался СТ. Минаков: «...
следует особо отметить именно «книжный», несистематический
характер его образованности и эрудиции, хотя и весьма обширной и
разнообразной. Такую образованность правильнее было бы называть
«начитанностью» [121, С. 128].
Выступление 24 декабря 1919 г. перед профессорами академии
Генерального штаба с многократно «обкатанным» на курсах комсостава
5-й армии докладом «Стратегия национальная и классовая» закрепило
Глава 2. Военная риторика пролетариата
305
мнение большевистского руководства о тов. Тухачевском, как о крупном
военном ученом, талантливом и удачливом стратеге. По нашему
скромному мнению, в докладе, наполненном множеством несообразностей,
которые здесь не место комментировать, «поручик-командарм» показал
себя настоящим «стратегическим младенцем». Чего стоило, например,
его «программное» заявление: «Стратегические резервы, польза
употребления которых всегда (!) была сомнительна, в нашей войне и вовсе
неприменимы... это делает употребление стратегических резервов с целью
нанесения противнику удара в решительный момент совершенно
излишним и вредным самоослаблением» [178, С. 47]. Комментарии излишни.
Что при этом дает Б.В. Соколову право утверждать, что Тухачевский «от
колчаковских «вундеркиндов» и «стратегических младенцев» отличался
сильно и в лучшую сторону» [166, С. 226], - решительно непонятно.
Теоретические изыскания полководцев поверяются только войной. На
тот момент за идеями Тухачевского стоял неоспоримый титул «победителя
Колчака и завоевателя Сибири», присвоенный ему по иронии судьбы И.В.
Сталиным, который, правда находился в то время далеко от Восточного
фронта и судить мог только на основании конечного результата. А
результат, как и импонирующая молодая напористость командарма, был за него.
В итоге М.Н. Тухачевский отправился в феврале 1920 г. на
Кавказский фронт добивать Деникина уже в должности командующего
фронтом вместо старого «военспеца» В.И. Шорина, убранного благодаря
склоке, затеянной красными героями 1-й Конной К.Е. Ворошиловым и
СМ. Буденным.
Быстро сориентировавшись в обстановке, комфронтом своей
директивой № 19/п от 9 февраля немедленно предписал 8-й армии,
прикрывавшей Ростов и Новочеркасск, «удлинить свой фланг», с тем, чтобы
дать возможность соседней армии создать на своем участке
возлюбленный командующим «таран», и всем армиям к 14 февраля быть готовым
перейти в наступление. Словно позабыв о ст. 19 Полевого устава,
Михаил Николаевич, не дожидаясь сосредоточения всех своих сил, наступать
начал 12 февраля, о чем уведомил подчиненных приказом 42/п от 12
февраля 1920 г., который, в полном согласии с самой передовой военной
теорией, гласил: «Наступление начать одновременно всеми наличными
силами, не ослабляя себя излишними резервами (курсив наш. - авт.).
Действовать плотными ударными группами» [52, т.2, С. 483].
Однако, противник, отступать которому было уже некуда, проявил
неслыханную стойкость и даже на первых порах изрядно потрепал
306 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
красных конников Кавказской дивизии Г.Д. Гая, 2-й дивизии им.
Блинова и пехотинцев 28-й стрелковой, командир которой В.М. Азии был
захвачен в плен. Мало того, на участке 8-й армии он нанес по ее
удлиненному (т.е. ослабленному флангу) удар, закончившийся падением
Ростова и Нахичевани. Большевистское политическое руководство
занервничало. Ленин слал телеграммы Сталину, требуя немедленно
переброски сил 42-й и Латышской дивизий с Юго-Западного фронта
для ликвидации прорыва, поскольку своих фронтовых резервов у
Тухачевского, естественно, не было.
Главнокомандующий вооруженными силами республики С.С.
Каменев вел неприятные разговоры по прямому проводу с самим М.Н.
Тухачевским, пытаясь выяснить, почему наступление началось раньше срока
и где находятся войска, призванные усилить Кавказский фронт. На
тревожные вопросы главкома Михаил Николаевич безмятежно и немного
меланхолично докладывал: «Место нахождения их сейчас не знаю...
Начдив 52 доносит, что из лошадей, шедших в эшелонах, погибло 60%...
В вопросе об этой дивизии с самого начала было чрезвычайно трудно
разобраться благодаря отсутствию связи и переезда (!). Когда фронт
подвинулся вперед, связь не была налажена... многое запуталось, и
лишь только в Миллерово мне удалось разобраться в делах армии, и то
еще есть кое-что неизвестное (курсив наш. - авт.). Соберу все
сведения и доложу...» [52, т.2, С. 489].
В ответ на самый главный вопрос Михаил Николаевич заявил, что
наступление он начал, «чтобы расстроить готовившегося к наступлению
пополнившегося противника». Спору нет, в этом случае встречное
движение несколько путает планы врага, хотя о том, чем заканчивается
атака полностью изготовившегося к бою неприятеля, обладающего, к тому
же, преимуществом в маневре, дает представление катастрофа
советской Харьковской наступательной операции 1942 года. Но вот, по словам
самого М.Н. Тухачевского, белые планировали переход в наступление
11 февраля ст. стиля, т.е. 24 февраля по новому стилю. Какой выигрыш
дал Тухачевскому перенос сроков своего наступления на два дня, хотя
и плановый срок и так упреждал на 10 дней дату наступления Деникина,
остается загадкой. Апофеозом полководческой мудрости надо считать
соображение Тухачевского, приведенное им в том же разговоре с
главкомом, о том, что «фронт был без штыков (курсив наш. - авт.),.. а
противник силен» [там же]. Наступать без штыков, следуя логике Михаила
Николаевича, конечно, было легче, чем обороняться.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
307
Как бы то ни было, но положение спасло, как обычно, превосходство
в численности красных армий (Какурин указывал, что «на Батайском
направлении... красные превосходили белых почти вдвое в отношении
живой силы и от трех до пяти раз в отношении техники,., и на Маныч-
ском участке красные значительно превосходили противника в
количестве штыков, сабель, орудий и пулеметов [78, URL: http://militera,
lib.ru/h/kakurin_vatsetis/index.html. Время обращения: 16.02. 2012]).
Сказалась и трагическая для белых случайность - до 30% кавалеристов
ударной группы ген. Павлова, посланной отрезать пути отхода
советского «тарана», составленного из частей Буденного и войск 10-й армии,
обморозилось на 22-градусном морозе, не дойдя до боя. Из этих
измученных лишениями людей, с легкостью отбитых буденовцами в ночь с 18 на
19 февраля от ст. Торговая, больше половины к утру просто вымерзло в
ледяной степи.
После прибавления к титулу победителя Колчака титула победителя
Деникина М.Н. Тухачевский стал, фактически, единоличным
претендентом на командование Западным фронтом в развернувшихся вскоре
сражениях Советско-польской войны.
Воистину, «кого Юпитер хочет погубить, того лишает разума».
Действительно, обстановка, складывавшаяся входе боевых действий, не раз
должна была заставить Тухачевского задуматься о том, в какой степени
универсален «изобретенный» им таранный удар. Последним
предупреждением стал фактический срыв наступления возглавляемого им
Западного фронта, так блестяще начатый 14 мая 1920 года.
На этапе подготовки удара события разворачивались по сценарию
недавнего наступления Кавказского фронта. «Запфронт упредил
противника в переходе в наступление,.. - признавалось в разработке A.M. Пе-
ремытова для слушателей академии РККА, вышедшей в 1934 г. - В то
же время Запфронт не был готов к наступлению с решительной целью...
Поспешность наступления привела к тому, что дивизии фронта в
большинстве ступали в операцию недостаточно укомплектованными...» [129,
С. 36, 111].
«Боевая численность войск Западного фронта (81 тысяча штыков
и сабель), - свидетельствовал работник оперативного управления
штаба Запфронта A.A. Ермолин, - не намного превышала численность
противостоящих нам 1-й и 4-й армий белополяков (63 тысячи штыков
и сабель)... В течение марта-апреля фронту надлежало получить
дополнительно 11 стрелковых дивизий, одну кавалерийскую и 42 тысячи
308 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
человек в виде маршевых пополнений. Получили же мы к концу апреля
всего три дивизии и 31 тысячу маршевиков...» [117, С. 124].
Это обеспечивало советским войскам превосходство на
направлениях главных ударов над поляками «всего» в какие-то полтора-два раза. Но
командзап ждать подхода всех дивизий, конечно, не стал. И здесь, как
он сам признавал впоследствии, «для того, чтобы получить наибольший
успех в наикратчайшее время, начальникам дивизий было предложено
вводить свои войска в дело сразу, не оставляя никаких резервов
(курсив наш. - авт.)» [176, С. 37].
В результате, когда легко прорвавшие кордонную оборону поляков
советские войска столкнулись с польскими резервами, уже к 19 мая
темп наступления заметно снизился. «Для развития успеха требовались
свежие силы, а резервов не было», - печально комментировал ситуацию
Ермолин [там же].
Нельзя сказать, чтобы М.Н. Тухачевский совсем не пытался сделать
выводов из майского поражения. Эти выводы, воплощенные в приказе
№ 1100 от 6 июня 1920 г., представляются настолько интересными, что
текст пространного приказа мы приводим здесь полностью.
«Борьба с польскими белогвардейцами принимает все более и более
ожесточенный характер. Армиям Западного фронта приходится
выдерживать напор польских войск, поддерживаемых союзниками.
Завязывается борьба не на живот, а на смерть. Или белый орел польской шляхты
заклюет наше Красное знамя и тогда горе трудовой России, или же
Красная армия огнем и мечом сотрет с лица земли ясновельможных панов
Польши. Никакого соглашения между нами и ими не будет. Мы должны
победить и мы можем победить. Но для этого мы должны добиться того,
чтобы Западный фронт стал таким же сильным и несокрушимым, как
фронты, победившие Колчака и Деникина.
Необходимо, чтобы все работники фронта, начиная с Реввоенсоветов
и кончая рядовыми красноармейцами, прониклись бы единой волей к
победе. Советские учреждения и все население должны твердо усвоить,
что лозунг «Все для борьбы с Польшей» не пустой звук, а
действительное требование величайших жертв во имя торжества революции. Между
командирами, комиссарами и красноармейцами должна существовать
боевая и товарищеская скрепа на основе добросовестного и
беспрекословного выполнения приказов и подчинения младшего старшему.
Настоящим приказом Командование Западным фронтом
объявляет беспощадную борьбу всем, подменивающим живое дело
Глава 2. Военная риторика пролетариата
309
бумажным творчеством. Со всеми, кто осмелится по злому умыслу,
нерадению или глупости писать бессмысленные бумажки (выделено
нами. - авт.) в ответ на приказания и требования начальства, будет по-
ступлено по закону военно-полевого правосудия.
Преступления их будут приравнены к преступлениям изменников и
дезертиров. Западный фронт стал важнейшим фронтом для Советской
Республики. Измученная страна отдает нашему фронту последние силы
и средства. Наша же задача заключается в том, чтобы целесообразно
и разумно использовать все ресурсы фронта. Там, где льется кровь, не
должно быть спячки и разгильдяйства. Умирающий за свободу России
красноармеец должен быть снабжен всем необходимым. Кующая себе
бессмертную славу на поле брани часть должна иметь связь с соседями
и старшим командованием.
В своей работе начальники и комиссары должны твердо
руководствоваться правилом, - лучше расстрелять десять лодырей, шкурников
и волокитчиков, чем дать погибнуть по их вине одному честному солдату
Красной армии.
Политработники и коммунисты должны показать пример воинской
доблести. Неустанно должны разъяснять бойцам смысл и цели этой
борьбы. Каждый красноармеец должен знать, что война нам навязана и
ведется нашими врагами с неслыханной жестокостью. Беспощадность
к врагу во время боя, великодушие к пленным, дружеское отношение к
трудовому населению, - вот наш лозунг в борьбе с белой Польшей...»
[128, С. 73-74].
Итак, этот, пожалуй, самый «риторический» (в смысле внимания,
уделенному им характеру речевой деятельности подчиненных) приказ
показывает, что основную причину неудач на фронте Тухачевский видел
в том, что «майская операция задыхалась от неустройства тыла и связи»
[129, С. 111]. Не все в порядке, как можно догадываться, обстояло дело
и с исполнительностью и дисциплиной, особенно в организации
штабной службы. Судя по всему, слишком молодого командующего фронтом
умудренные опытом командармы и комдивы не очень-то воспринимали
всерьез, а «военспецы», занятые в штабной работе, нередко старались
спускать его распоряжения «на тормозах», благо официально-деловая
переписка в русской армии всегда предоставляла этому богатейшие
возможности. В докладах главкому Каменеву Тухачевский буквально
«вопиял» о страшном дефиците подготовленных для уровня армии-фронта
оперативных работников.
310 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
К сожалению, в области лечения этих язв командзап не изобрел
ничего того, что не было бы к тому времени многократно опробовано
в практике Красной армии. Мы имеем в виде репрессии. Причем в
этом он со всем пылом молодости пошел даже дальше Л.Д. Троцкого,
предлагая стрелять не только изменников, дезертиров и
многострадальных шкурников, но даже лодырей и волокитчиков. Если
абстрагироваться от красивой «революционной» фразы в первом абзаце,
роль которой, как представляется, заключалась в том, чтобы немного
скрасить жесткую императивность тона всего текста, то получится,
что ни о каком воспитании войск приказ совершенно не заботился.
Он только требовал и требовал; глаголы «должен», «должны»
употреблены 12 раз! Впрочем, дальше угроз дело не пошло, и в этом
смысле приказ постигла печальная участь критикуемого им бумажного
творчества.
Практический вывод из майского поражения Тухачевским был
сделан, фактически, один, о чем не без юмора писал A.M. Перемытов: «В
условиях 1920 г. появился новый вид директив. 4.7131 Полевкомдезерт-
запфронта132 указал: «В связи с переходом в наступление на участке 4,
15 и 3 А устанавливается основная заградительная линия в
ближайшем армейском тылу фронта (выделено нами. - авт.)...
Заградительные отряды передвинуть на указанную линию» [128, С. 44].
Этого вывода было явно недостаточно, что и показали
последующие события. Тухачевский обязан был учитывать в своих оперативных
планах, прежде всего, степень «нравственной упругости» поляков и их
способность к маневру, наблюдая насколько быстро в мае противник
мог перебрасывать резервы, пользуясь отсутствием «разрухи» на своем
транспорте.
Вместо этого командующий, вполне осознавая слабость своего тыла
и управления, еще раз сделал ставку исключительно на Число и на
пресловутый «таран». К июлю Запфронт получил подкрепление в виде
восьми стрелковых дивизий, четырех стрелковых бригад и 3-го конного
корпуса Г.Д. Гая. Политработники распропагандировали даже порядка
100 тыс. дезертиров, повылезавших из укромных мест, воодушевляясь
перспективой «национальной» войны.
131 4 июля 1920 г.
132 Расшифровать этот советизм затруднительно, возможно, под сокращением имелся в
виду «полевой комитет (комиссар (?)) (полевая комиссия (?)) по дезертирам (дезертирству
(?)) Западного фронта».
Глава 2. Военная риторика пролетариата
311
Перед началом наступления «командармам IV, XV, III, XVI и
командующему Мозырской группой» был разослан приказ командзапа № 1423,
который надлежало прочесть войскам не позднее 3 июля. Тухачевский,
видимо, сознавая, что поставлено на карту, счел необходимым
подбодрить свои армии, чего почти никогда не делал, развернутым приказом-
обращением.
«Красные солдаты! Пробил час. Солдаты! Наши войска по всему
фронту переходят в наступление, сотни тысяч бойцов изготовились к
страшному для врага удару, великий поединок решит судьбы русского
народа и польских наемников. Войска Красного Знамени и войска
гниющего белого орла стоят перед смертельной схваткой.
Прежде чем броситься на врагов, проникнитесь смелостью и
решительностью; только наполнив сердца отвагой, можно победить. Да
не будет в нашей среде трусов и шкурников; в бою побеждает только
храбрый. Перед наступлением наполните сердца свои гневом и
беспощадностью. Мстите за сожженный Борисов, поруганный Киев,
разграбленный Полоцк, мстите за все издевательства польской
шляхты над революционным русским народом и страной, разграбленной
польской армией. Утопите преступное польское правительство Пил-
судского.
В наступлении участвуют полки, разбившие разбойников Колчака,
Деникина и Юденича. На защиту Советской власти собрались бойцы с
востока, юга, запада и севера. Железная пехота, лихая конница,
грозная артиллерия неудержимой лавиной должны смести белую нечисть.
Разоренные империалистической войной места да будут свидетелями
кровавой расплаты революции со старым миром и его слугами. Красная
Армия да покроет себя новой неувядаемой славой. Взгляды всей России
устремлены на Западный фронт.
Измученная, разоренная страна отдала все для организации победы
над врагом. Рабоче-крестьянский тыл наш с трепетом ожидает победы и
мира. Оправдаем же надежды социалистического отечества. Докажем
на деле, что усилия страны не пропали даром.
Бойцы рабочей революции! Устремите свои взоры на запад. На
западе решаются судьбы мировой революции. Через труп белой Польши
лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир
трудящемуся человечеству. На Запад! К решительным битвам, к
громозвучным победам! Стройтесь в боевые колонны! Пробил час наступления. На
Вильну, Минск, Варшаву - марш!» [83, С. 470-471].
312 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Нет никакого сомнения, что приказ этот есть плод риторических
усилий самого командзапа. Об этом говорят особенности стиля,
характерные для него еще с первых приказов по 1-й армии. Это касается слов о
том, кто побеждает в бою и, конечно, некоторой наивности в
перечислении всех сторон света, откуда собрались бойцы под красные знамена.
Конечно, чувствуется влияние приказов Л.Д. Троцкого, его знаменитых
«острых словечек». К ним можно отнести, прежде всего, его
излюбленное выражение «пробил час». Удвоенное обращение к «солдатам», как
указывалось ранее, - от Наполеона.
Любопытно, но несколько абсурдно автор сочетает в речи
национальный с призывами решить судьбы русского народа и социальный пафо-
сы, с аналогичным призывом решить судьбы мировой революции. В то
же время чувствуется, что текст приказа написан поистине под
действием вдохновения. Впечатляет рваный, лихорадочно-горячечный ритм
речи. Этим приказ более всего напоминает речения А.Ф. Керенского и...
первого начальника тов. Тухачевского печально знаменитого М.А.
Муравьева, что не может не породить сомнений в способности
командующего, находящегося в таком, мягко говоря, взволнованном состоянии,
принимать взвешенные решения.
О том, что приказ № 1100 рекомендовал проявлять беспощадность
все же только на поле боя, было забыто. Кровожадные призывы
командзапа к мщению очень скоро доставили политработникам немало хлопот,
поскольку красные бойцы тут же принялись воплощать в жизнь
приказы своего командующего с пугающей пунктуальностью. Так в
распоряжении командарма-4 E.H. Сергеева № 0709/оп от 7 июля говорилось:
«Пленные поляки все время показывают о захвате нами в плен многих
польских офицеров, до сих пор до штарма не дошел ни один. Мне
определенно известно, что части 12 дивизии и штаба 3 конного корпуса
позволяют себе убивать пленных офицеров и даже не представляют снятых
с пленных документов. Такие действия сознательно завязывают глаза
высшему командованию, лишая его ценных сведений о противнике»
[158, С. 122].
Невнимание к сбору ценных сведений о противнике, иначе говоря, к
разведке, вообще очень характерная черта «увлекающегося поручика».
Даже в послевоенных своих теоретических изысканиях этому
важнейшему вопросу он практически не уделял места. Оттого даже подарок
судьбы - захват накануне контрудара поляков ценных штабных
документов, приоткрывавших замысел противника, не был оценен красными
Глава 2. Военная риторика пролетариата
313
полководцами, одержимыми идеей «при вперед!» Да и как было поверить
важной информации, если по свидетельству того же E.H. Сергеева «об
обстановке не думал почти никто (выделено нами. - авт.) кроме
некоторых начальников дивизий» [ 158, С. 83]. Но где же и кому думать
о боевой обстановке, как не на войне, и не командующим фронтом и
армиями?! Эта поразительная цитата, как и приказ № 1423,
красноречиво говорят о том, что до Варшавы красные войска, как и их
командующий, докатились в состоянии некоего «угара», по удачному
выражению Романа Гуля.
Больше всего военная риторика М.Н. Тухачевского последнего
периода Советско-польской войны напоминает «риторику» незабвенного
гоголевского Ноздрева.
«Бейте его!» - кричал он таким же голосом, во время великого
приступа кричит своему взводу: «Ребята, вперед!» какой-нибудь отчаянный
поручик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую
известность, что дается нарочный приказ держать его за руки во время
горячих дел. Но поручик уже почувствовал бранный задор, всё пошло
кругом в голове его; перед ним носится Суворов, он лезет на
великое дело. «Ребята, вперед!» - кричит он, порываясь, не помышляя,
что вредит уже обдуманному плану общего приступа, что миллионы
ружейных дул выставились в амбразуры неприступных, уходящих за
облака крепостных стен, что взлетит, как пух, на воздух его
бессильный взвод, и что уже свищет роковая пуля, готовясь захлопнуть его
крикливую глотку».
В сущности, за всю войну Михаил Николаевич Тухачевский так и не
поднялся выше уровня упомянутого великим писателем поручика. Вся
его глубокомысленная «стратегия» немногим отличается от «стратегии»
ротного командира, все силы бросающего в атаку своего участка
переднего края обороны противника. Недостаток знаний и, самое главное,
опыта вождения войск, усугублял, к тому же, «известный налет
авантюризма», по выражению маршала И.С. Конева.
Расплата за это была тяжкой. Таких катастроф, как в августе 1920-го
под Варшавой, Красная армия не знала на протяжении всей
Гражданской войны. Великий стратег вообще, по воспоминаниям Г.С. Иссерсона
[163, С. 157], на сутки заперся в своем салон-вагоне и не подавал
признаков жизни, пока его войска гибли под саблями польских улан и на
штыках легионеров.
314 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Напрасно, чуть придя в себя, он пытался вдохновить неудержимо
бегущие войска истерическим приказом № 1847 от 20 августа.
«Солдат Красной Армии. Прикрываясь лживым стремлением к миру,
польские белогвардейцы готовили нам удар на линии реки Вислы.
Изнуренные героическим маршем от Полоцка до Варшавы части Красной
Армии отходят под давлением превосходных сил врага. Белогвардейцы
всего мира ликуют по случаю нашей временной неудачи...
Герои Киева, Вильны, Минска, Брест-Литовска и Полоцка.
Очевидно, что только на развалинах белой Польши может быть заключен мир.
Только окончательно разгромив дело бандитов, мы обеспечим России
спокойный труд. Победоносно начатое наступление должно быть
победоносно закончено.
Позор тому, кто думает о мире до Варшавы. Несокрушимой стеной
встает на защиту Советской власти трудовой народ России, Украины
и Белоруссии. Сотни тысяч новых бойцов пополнят поредевшие ряды
славных полков. Не видать победы панам. Стальной кулак Красной
Армии разобьет голову польской белогвардейщине. Бойцы Красной Армии,
помните, что Западный фронт есть фронт мировой революции. На этом
фронте мы должны победить.
Красноармейцы, коммунисты, командиры и комиссары! Советская
Россия требует от нас величайшего напряжения сил для достижения
победы. Ни шагу назад! Победа или смерть!» [141, URL: balancer.ru Время
обращения: 16.03.2012].
Напрасно слал Ильич телеграммы реввоенсовету Запфронта,
требуя, чтобы «белорусские рабочие и крестьяне, хотя бы в лаптях и
купальных костюмах (выделено нами. - авт.) но с немедленной и
революционной быстротой дали вам пополнение в тройном и четверном
количестве»133 [71, т.З, С. 359]. Трудно решить, что делать: смеяться
или ужасаться такому бесстыдному цинизму «вождя мирового
пролетариата», с которым он требовал жертвы «телом и кровью» даже не от
военных, а от простого народа. Свежие, но совершенно необстрелянные
пополнения, с ходу бросаемые в красными полководцами в бой,
стремительно деморализовывались и сдавались в плен целыми полками134.
Почти в тех же выражениях был составлен и приказ командзапа
№ 2255 от 12 октября, только теперь уже речь шла не о победе на раз-
133 Телеграмма от 19 августа 1919 года.
134 Как, например 210-й стрелковый полк 24-й Симбирской Железной дивизии,
захваченный в плен 22 сентября 1920 г. всего одним эскадроном польской кавалерии [209, С. 83].
Глава 2. Военная риторика пролетариата
315
валинах Польши, а о необходимости выторговать у нее хотя бы мало-
мальски пристойные условия мира.
«Польское правительство тянет с подписанием перемирия.
Происходит это потому, что на фронте армия Белой Польши продолжает
теснить наши войска. Каждая пядь проигранной земли в настоящее время
означает ухудшение мирных условий для Советской России.
Отступление Красной Армии несет стране кат оржный мир. Солдаты
Красной Армии, положите предел алчности хищных панов. Напряжением
всех сил разбейте наступающего врага и обеспечьте тем самым России
достойный мир. Командиры, комиссары, коммунисты.
Социалистическое отечество требует от вас нового подвига в первых рядах. Ведите в
бой свои части. Побеждайте или умирайте. Горе тому, кто в это время
забудет свой долг перед родиной и революцией. Вперед. Победа или
смерть» [158, С. 514].
Главное отличие этого приказа от предыдущего в... лице местоимений
и глаголов. Командующий призывал войска побеждать или умирать,
неуловимо отделяя себя от них. Недаром после войны Тухачевскому
нечего было ответить на упрек И.П. Уборевича в том, что он не сделал даже
попытки прорваться в боевые порядки гибнущих по его вине войск и
сохранить хотя бы честь, сражаясь вместе с ними. Читая приказ,
понимаешь, почему вливать в морально разбитые кадры сырое человеческое
тесто (изящнейшее выражение Льва Давидовича Троцкого о
формировании и переформировании красных частей) не имело смысла. В своем
приказе № 2255 Тухачевский забывал даже ставить восклицательные
знаки. Бредовое бормотание раздавленного командзапа означало, что
войну Советская Россия проиграла окончательно и бесповоротно.
* * *
Пилсудский и Тухачевский на первых порах каждый играли в «свою»
войну. Пилсудский пытался реализовать солидный опыт позиционной
борьбы, полученный им на полях сражений мировой войны,
Тухачевский стремился действовать в духе революционной «маневренной»
войны, многократно опробованной им в ходе войны Гражданской, на что
определенно указывал В.К. Путна, в Польском походе командовавший
27-й стрелковой дивизией [147, С. 240]. Превосходство Пилсудского как
полководца над красным «вундеркиндом» заключается в том, что он
первый смог отдать себе отчет в изменившихся условиях и примениться к
ним, начав действовать без постоянной опоры на подготовленные линии
316 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
обороны. Такая полководческая гибкость вырабатывается, прежде
всего, опытом.
Тухачевский, в сущности, нащупал только один собственный прием,
который многократно «обкатал» в боях Гражданской войны - таранный
удар всей массой войск в расчете на деморализацию противника, не
имевшего, как правило, серьезных стратегических резервов.
Обороняться М.Н. Тухачевский, в сущности, не умел. Даже временный переход к
обороне с целью подтягивания резервов для него была воистину смерти
подобен.
Пилсудский в своей книге «Война 1920 года» обвинял Тухачевского в
попытке воспроизвести под Варшавой план Шлиффена, марш 1-й
германской армии ген. фон Клука, насчитывавшей 5 корпусов, к французской
столице. Попытка Тухачевского воевать «по книгам» не удалась.
Решающую роль в поражении красных сыграла, как известно необеспеченность
флангов, однако причиной этой необеспеченности Пилсудский считал
чрезмерное усиление «таранной» 15-й армии, в то время как таранная
стратегия в условиях маневренной войны на больших, не обеспеченных
тесной «локтевой» связью войск пространствах неизбежно должна была
«пробуксовывать». Действительно, 15-я армия имела успех не
благодаря собственной мощи, а благодаря фланговым, обходным маневрам
обеспечивающих армий, например 4-й. Противник в условиях маневренной
войны почти всегда имел возможность уклоняться от «таранных»
ударов. Собственно, вся «таранная стратегия» была позаимствована
Тухачевским у Наполеона. Однако, перенесение ее с поля отдельного
сражения, как у великого полководца, когда войска, фактически, были уже
лишены возможности маневра, на огромные просторы театра военных
действий XX века, привело к тому, что Польская кампания 1920 г.
повторила судьбу Русского похода 1812 года.
Особенно любопытен упрек, брошенный Пилсудским Тухачевскому,
в том, что он, фактически, находился в «плену слов» донесений из
своих войск, забывая о том, что «...каждое донесение составляется для
начальника (выделено нами. - авт.) и всегда имеет целью не только
отчет, но и желание склонить начальника к тем или иным мыслям в
отношении составляющего это донесение» [130, С. 17].
Увлечение трескучей фразой, характерной для стиля приказов
Тухачевского периода Советско-польской войны, было, как это ни
парадоксально звучит, взаимосвязано с также подмеченным Пилсудским
неумением оценить боевую обстановку. «Я всегда ненавидел бессилие,
Глава 2. Военная риторика пролетариата
317
старающееся разукрасить себя пустыми звуками слов без
содержания! - писал мудрый маршал. - Г-н Тухачевский избрал другой путь:
любит слова, не вкладывая в них содержания. Для него 15 армия
является таранной массой; для него ничтожные две тысячи конницы -
полдивизии в 1914 г. - являются конной массой, названной для большего
ошеломления себя и других корпусом... Он играл словами, не
имеющими содержания (выделено нами. - авт.)» [там же, С. 168].
С этим можно согласиться. Речь и способность к ее адекватному
восприятию всегда является индикатором психического состояния
человека и его способности к принятию взвешенных решений. Тухачевский в
1920 г. не просто увлекался звонкими революционными фразами, он,
что много опаснее для полководца, не умел увидеть за номерами частей
реальной силы войск (его ударная армия равнялась одному корпусу 1-й
Мировой войны), что привело к переоценке им своих возможностей и
катастрофе фронта. В этом он был не одинок. Полнейшая риторическая
(в настоящем понимании этого слова) беспомощность, была
свойственна значительному числу красных командиров.
Подтверждением нашей мысли может служить анализ речевой
деятельности командиров Красной армии в период июльской операции
Западного фронта, проведенный A.M. Перемытовым. «Штабная
служба сильно хромала,., особенно поражает неумение кратко, четко,
ясно формулировать мысли в оперативных документах даже в
высших штабах (выделено нами. - авт.). Длинные, временами
нудные разговоры по прямым проводам, длиннейшие приказы армиям,
колоссальнейшие по размерам приказы дивизиям и бригадам, последние
сначала дословно повторяли приказы по дивизиям, а затем излагали
собственно приказ бригаде, что приводило к тому, что воля начдива
доходила до комполка через 4-6-8, даже 10 часов».
Заканчивал свой анализ автор замечательным выводом, с трудом
осознаваемым и сегодня: «Нужна военным работникам культура
слова (выделено нами. - авт.)» [128, С. 69].
В вышедшем после войны очерке «Поход за Вислу» Тухачевский
всеми силами стремился доказать правильность своей классовой
стратегии, что-де, что «при подходе нашем к Варшаве рабочее население
Праги, Лодзи и других рабочих центров глухо волновалось». Интересно,
как это мог почувствовать красный командзап, сидя в Минске? Все его
рассуждения о том, что «революция извне» была возможна, являлись,
на наш взгляд, достаточно неуклюжей попыткой повысить ставки в игре.
318 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
К тому же, с «правоверного» твердолобого марксиста спрос обещал быть
меньшим. Тухачевский этими заоблачными перспективами как бы
завораживал власть предержащих, отвлекая их от трезвого анализа ошибок
их командующего. В противном случае мнение И.А. Ильина о нем:
«Кажется, не умен», - возможно, было справедливо.
Тухачевский тут же противоречит себе, признавая, что
«формирование буржуазных добровольческих частей шло очень успешно», в чем
польскому правительству очень помогали ксендзы, которые «призывали
польское население к национальной самообороне» [174, С. 66]. Вывод
будущего красного маршала о том, что в этих условиях надо было
наращивать силу удара, не давая сорганизоваться врагу, представляется в
чистом виде лукавством.
Неумение организовать управление войсками также было налицо.
Развернувшиеся в конце июля бои на Буге и Нареве также показали, что
«средства связи наши неизменно оставались недостаточными, и
управление войсками было до чрезвычайности затруднено» [176, С. 67].
Лукавство Тухачевского проявляется особенно в заключении, когда
он уверяет читателей, что войну проиграла не политика, а стратегия.
«Основными причинами гибели операции можно признать недостаточно
серьезное отношение к вопросам подготовки управления войсками» [там
же, С. 87]. Но в этих-то вопросах, собственно, и заключается искусство
войны, а не в увлечении «трудными, рискованными и смелыми»
задачами. Тухачевский просто-напросто спасал здесь свою излюбленную
теорию о классовой стратегии, которая выдвинула его в «первый эшелон»
красной военной элиты. Кивание на «неподготовленность некоторых
наших высших начальников», как и сетования на «несуразные действия 4-й
армии» [там же], принявшей на себя всю тяжесть боев и позор плена и
вовсе неуместны. Несуразными, скорее, можно назвать действия
неподготовленного к занятию такого высокого поста «поручика-фантазера».
Любопытно сравнить образцы красной и польской риторики. Почти в
то же самое время, когда М.Н. Тухачевский исступленно звал свои
войска перешагнуть через труп белой Польши, 5 июля 1920 года в приказе
по польской армии прозвучали взвешенные и благородные слова
начальника Польского государства Ю. Пилсудского: «Сражаясь за свободу,
свою и чужую, мы ныне сражаемся не с русским народом, а с порядком,
который, признав законом террор, уничтожил все свободы и довел свою
страну до голода и разорения». В тот же день в воззвании польского
Совета Государственной обороны утверждалось: «Не русский народ тот
Глава 2. Военная риторика пролетариата
319
враг, который бросает все новые силы в бой, этот враг - большевизм,
наложивший на русский народ иго новой, страшной тирании. Он хочет
теперь и нашей земле навязать свою власть крови и мрака». Эти слова
лишний раз свидетельствуют, что победа на войне есть победа, прежде
всего, нравственная.
Так был ли М.Н. Тухачевский «красным Наполеоном»? По нашему
глубокому убеждению, Михаил Николаевич в 1937 году пострадал
напрасно. Даже если «заговор» трио Гамарник - Якир - Уборевич
действительно существовал, то у Тухачевского не было никаких шансов его
возглавить; для этого ему не хватило бы ни ума, ни характера.
2.6. Риторика сталинской гвардии
Недолгая история Первой конной армии (1919-1921) вошла яркой и
кровавой страницей в советскую историю. Почти все ее командиры
пополнили славную когорту «героев Гражданской войны», украсив своими
портретами воинские присутствия и ленинские комнаты
красноармейских частей. Да и в период послевоенного строительства Красной
Армии, после смерти М.В. Фрунзе почти до самой Великой Отечественной
войны, задавал тон бывший член РВС Конармии «первый красный
офицер» К.Е. Ворошилов.
Необходимость организации крупных кавалерийских соединений
была, как известно, осознана большевистским руководством после
вторжения в красные тылы конницы ген. К.К. Мамонтова летом 1919
года. Призыв тов. Троцкого «Пролетарий, на коня!» напечатанный в №
93 газеты «В пути» 11 сентября 1919 г. стал, по сути, программным
документом, заложившим «концептуальные основы» организации красной
кавалерии.
Борьба, развернувшаяся с мамонтовцами, предъявляла особые
требования к красному бойцу. Высокоманевренный характер боевых
действий с участием кавалерийских частей и соединений скоро показал,
что воспитанием у красноармейца одной пролетарской сознательности
и дисциплины не обойтись. От красного кавалериста требовались
принципиально иные качества, нежели от пехотинца. К ним относились,
прежде всего, высокая боевая активность, способность к быстрому и
широкому маневру, постоянная готовность к сшибке, желание и умение
найти и уничтожить противника, наконец, навык «злой» рубки. Умение
320 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
управлять конем при этом, как показывала боевая практика Первой
конной было, конечно, необходимым, но отнюдь не достаточным условием
хорошего кавалериста.
Естественно, что требовать проявления таких качеств от
мобилизованного крестьянина или рабочего было трудно. Оттого с самого
начала создания красной кавалерии она формировалась преимущественно
добровольцами. Естественно, что поначалу кадры брались из
«иногородних» крестьян Донской области и ряда богатых южных российских
губерний, как и природные казаки сызмальства приучавшихся к
верховой езде. Это давало весьма внушительную цифру, поскольку на Дону
иногородних было практически столько же, сколько и казаков. Нельзя
забывать и о том, что в результате классового расслоения немало
казаков пошло на службу советской власти, особенно много среди них
было фронтовиков. Причем, среди красного казачества пролетарской
голытьбы было не так уж и много. «Представлять себе дело так, что в
буденовской коннице были только бедняки, крестьяне и рабочие, было
бы неверно. В большинстве, бойцы были зажиточными
крестьянами, а иногда арендаторами и собственниками (выделено нами.
- авт.)... земли у казака было не меньше 20-25 десятин», - писал сразу
после окончания войны О.Л. Леонидов - историограф СМ. Буденного
[107, С. 47]. Ценность этого свидетельства трудно переоценить, оно
объясняет многие традиционно «казачьи» черты, характерные для боевой
биографии Первой Конной.
Однако социальный и национальный состав красной кавалерии
непрестанно менялся. После окончания Польского похода в Конной армии,
например, казаки составляли уже только 13,8%. Убыль
компенсировалась за счет самого боевого пролетарского и интернационального
элемента и, конечно, добровольцев Ставрополья, Кавказа, Дона и Кубани.
По наблюдению конармейца В. Зеленского, «здесь были - калмыки,
чеченцы, латыши, татары, кубанские и донские казаки, украинцы, армяне,
грузины, евреи, немцы и отпрыски всех национальностей, населяющих
необъятную территорию Советской Республики. И не было конца той
пестроте, которая окутывала ряды Конной армии. Чувствовалось, что
это не армия, а вооруженный народ, восставший против своих вековых
эксплоататоров135» [67, С. 6]. Примечательно, однако, что автор среди
всех этих «двунадесяти языков» забыл упомянуть о русских.
Орфография оригинала.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
321
Удачный опыт боевых действий под Орлом и Кромами 1-го конного
корпуса, возглавляемого СМ. Буденным, против кавалеристов ген.
Мамонтова и Шкуро побудили советское военное руководство принять
решение о продолжении массирования сил красной кавалерии. В результате
протоколом РВСР № 68 от 17 ноября 1919 г. на основании
постановления РВС Южфронта от 11 ноября № 505/а было утверждено решение о
создании 1-й Конной армии [150, С. 472]. Во исполнение постановления
РВСР был издан приказ по войскам Южного фронта № 1801 от 19 ноября,
устанавливавший переименование 1-го конного корпуса в армию во главе
с командующим т. Буденным и членами реввоенсовета тт. Ворошиловым
и Щаденко.
Представляет определенный интерес выбор названия новой армии.
Общепринятые именования кавалерийских частей и соединений в
Красной армии относились только к уровню полка-дивизии; высшие
организационные структуры кавалерии в звене корпус-армия носили название
«конные». С чем связывалось такое предпочтение коня перед всадником
сказать трудно. Во-первых, возможно, с широким распространением в
советской речи терминов «конник», «конница», требующих значительно
меньших произносительных усилий, чем традиционные «кавалерист»,
«кавалерия». Во-вторых, кавалерийских армий военная история до того
не знала, что вызывало законную гордость красных командиров; надо
было как-то отметить собственную исключительность. Можно
предположить, что и это проявилось в не вполне удачном с точки зрения
семантики словотворчестве.
Во главе армии встали бывший кадровый кавалерийский унтер-
офицер Буденный и «простой луганский слесарь» Ворошилов, как
пелось о нем в популярной в 1920-е гг. песне. В этом, надо сказать, очень
удачном тандеме ведущую роль («бродило всей армии», - писал про него
Бабель) всегда играл именно Ворошилов, даже в приказах его фамилия
очень часто стояла на первом месте, «заслоняя», в какой-то степени,
командующего. Объяснялось это достаточно просто: партийным
стажем слесаря «Володи» (с 1903 г.); по этим псевдонимом Ворошилов был
хорошо известен в среде донецких шахтеров. Значило это, как мы уже
отмечали, в то время много. «Сам Буденный, - писал Е.А. Щаденко, -
нередко на митингах заявлял, что он хочет быть «таким же прекрасным
коммунистом, как Ворошилов» [77, С. 54]. Так ли уж стремился СМ.
Буденный стать хорошим коммунистом, доподлинно неизвестно, но партии
и советской власти он послужил действительно неплохо.
322 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
С другой стороны Ворошилов к моменту создания 1-й конной успел
повоевать на высоких должностях, имея опыт командования 10-й
армией, прославившись в прямом и переносном смысле в период т.н. второй
обороны Царицына (сентябрь 1918 - февраль 1919 гг.). Его
организаторские способности очень пригодились Буденному, серьезно
относившемуся, пожалуй, только к одной вещи на свете - к лошадям. «В
быстром развертывании армейского аппарата колоссальное значение имел
опыт т. Ворошилова в командовании армией, чего у меня, естественно,
еще не было, - охотно признавал заслуги старшего товарища в деле
подбора штабных кадров Семен Михайлович. - И все это в значительной
степени должно быть отнесено на долю организаторского таланта т.
Ворошилова» [18, С. 40].
Бывший унтер-сверхсрочник на «шибко грамотных» вообще смотрел
с некоторым подозрением и открыто кичился тем обстоятельством, что
у него под началом никогда не было ни одного «военспеца». Только
командуя армией, он вынужден был смириться, как с необходимым злом, с
присутствием среди своих бравых рубак «интеллигенции», под которой,
очевидно имел в виду политработников типа И. Бабеля, но и тех - «не
более 2 %»!
«Долгое время Буденный не
имел никакого штаба, -
свидетельствовал О.Л. Леонидов. - Он
появился только в дивизии. А до
этого времени все делалось лично
Семеном Михайловичем, с
минимальной затратой времени и
усилий на «писанину».
- Все донесения, -
рассказывает Буденный, - я прочитывал
и рассовывал по карманам. По
окончании операции, когда все
уже было выполнено, я очищал
карманы, выгребая из них
донесения, рвал и бросал эти бумажки.
Когда Буденный принял
командование дивизией, он завел
Рис.14. К.Е. Ворошилов
и СМ. Буденный для дел специальный ящик, куда
по вечерам бросал накопившиеся
Глава 2. Военная риторика пролетариата
323
за день в карманах сводки, рапорта и проч.» [107, С. 48]. Ворошиловым
«бумажное дело» в конной армии было поставлено на более солидное
основание; выходила даже газета «Красный кавалерист».
Таким образом, распределение обязанностей между двумя
«вождями» красной конницы (Щаденко никогда не мог подняться до их уровня
популярности) сложилось достаточно естественно и органично.
Буденный, который «по воспоминаниям всех его знавших, отличался редким
косноязычием» [162, С. 31], никогда не претендовал на роль оратора,
сосредоточившись на командовании, обучении бойцов рубке и
обращению с лошадьми, а «горячий человек» (по Бабелю) Ворошилов взял на
себя обязанность по «по борьбе с личным составом», как переиначивали
армейские острословы должность заместителя по работе с личным
составом в 1990-е годы. Тем более, что состав Первой конной, как мы
увидим, был настолько своеобразен, что управлять им в ряде случаев можно
было только буквально под дулом пулемета.
Когда явного рецидива не наблюдалось, воспитание бойцов
организовывалось привычными средствами революционной риторики.
Приоритеты в воспитательной работе были расставлены первым же приказом по
войскам армии от 6 декабря 1919 года.
«На Реввоенсовет Конной армии возложена чрезвычайно тяжелая и
ответственная задача сплотить части красной конницы в единую,
сильную духом и революционной дисциплиной Красную Конную Армию.
Вступая в исполнение своих обязанностей, реввоенсовет, напоминая о
великом историческом моменте, переживаемом Советской Республикой
и Красной Армией, наносящей последний смертельный удар бандам
Деникина, призывает всех бойцов, командиров и политических комиссаров
напрячь все силы в деле организации армии. Необходимо, чтобы каждый
рядовой боец был не только бойцом, сознательно выполняющим приказы,
но сознавал бы те великие цели, за которые он борется и умирает.
Мы твердо уверены, что задача будет выполнена, и армия, сильная
не только порывами, но и сознанием и духом, идя навстречу победе,
беспощадно уничтожая железными полками и дивизиями банды
Деникина, впишет еще много славных страниц в историю борьбы за Рабоче-
Крестьянскую и советскую власть.
Да здравствует Первая Конная Красная Армия! Да здравствует
скорая победа! Да здравствует мировая Советская власть!» [36, С. 72]
Весьма любопытно, что первый приказ по только что
сформированной армии практически полностью был посвящен не боевым задачам,
324 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
как можно было бы ожидать, не организации боевой учебы и
налаживанию и отработке взаимодействия частей и соединений, а именно
вопросам воинской дисциплины. Это дает представление о том человеческом
материале, который составлял ряды конной армии.
При том профессионализме конармейцев, которых член РВС
республики тов. A.C. Бубнов называл прирожденными конниками говорить
об обучении было, наверно, действительно излишне. Армия, напомним,
была фактически переименована из закаленного в боях конного
корпуса, получив только некоторое количество обеспечивающих частей и
организовав штаб.
Рискнем предположить, что для конармейцев проблема разделения,
характерная вообще для всего российского общества того времени,
стояла особенно остро, поскольку и красная, и белая кавалерия
формировалась, в основном, из одного источника. Это пехотные мобилизованные
части, перебрасываемые с фронта на фронт, имели мало шансов воевать
с земляками, но и то, наиболее устойчивой красной пехотой
справедливо считались латышские стрелки и интернациональные части, не
испытывавшие никакой рефлексии в братоубийственной войне.
Бойцам-кавалеристам, куда бы ни забросила их судьба, приходилось
сходиться в беспощадной рубке с земляками-одностаничниками,
нередки были случаи, когда в бою сталкивались близкие родственники. Это
ставило кавалериста в особые условия. Сдаться в плен красному
кавалеристу, переступившему через братскую кровь, было практически
невозможно. Конечно, такое «теплое» чувство было взаимным. Комдив О.И.
Городовиков приводил в воспоминаниях характерные высказывания
своих подчиненных при виде пленных белоказаков:
«Конвоиры ворчали, зло поглядывая на белых:
- Моду придумали - белогвардейцев в плен забирать!
- Рубить их на месте, а не цацкаться!» [36, С. 42]. Оттого Буденный,
например, писал, что в плен попадали буквально единицы конармейцев.
Немыслимое ожесточение гражданской войны ярче всего проявлялось
именно в кавалерии.
Нельзя сравнивать и оружие, и способ действия им в пехоте и
кавалерии. В пехоте преобладал огневой бой; успехи офицерских рот
во многом были обусловлены именно их стремлением кончать дело
штыковым ударом. Из интереснейших воспоминаний Н.И. Кирюхи-
на следует, что на Восточном фронте (который, мы полагаем, мало
чем отличался от прочих фронтов Гражданской войны) на ружейно-
Глава 2. Военная риторика пролетариата
325
пулеметный огонь смотрели, зачастую, как на «средство морального
воздействия».
Сам Кирюхин - командир роты 214-го стрелкового полка 24-й
Симбирской Железной дивизии - признавался, что «после боя, несмотря
на то, что он кончился нашим отступлением, - испытываешь чувство
необыкновенного облегчения... Хочется, чтоб наступившая тишина
продолжалась как можно дольше» [89, С. 29-30]. И это свидетельство
неоднократно раненого командира, коммуниста, несомненно храброго
человека, служившего, к тому же, в прославленном боевыми традициями
соединении. Как видим, советская пехота, за исключением отдельных
частей, не отличалась в то время особенно высоким боевым духом.
В кавалерии основным способом был бой холодным оружием, та
самая знаменитая буденовская рубка, к которой человеку очень непросто,
как показано М.А. Шолоховым, было привыкнуть, но раз привыкнув, не
менее трудно было и отвыкнуть. Для ведения конного боя холодным
оружием, необходим был огромный запас психологической устойчивости;
он, судя по всему, порождал совершенно определенный тип бойца,
достаточно необычный в войнах пулемета и аэроплана, сильного и
страшного врагу, прежде всего, своей волей и стремлением к победе,
решительностью, отчаянностью и, мы бы сказали, своего рода «отпетостью».
В результате феномен Первой Конной укладывался в формулировку
О.Л. Леонидова: «При ознакомлении с составом конной армии, стало
ясно, что для этих людей борьба есть все, что у них только одно
желание — победить или умереть (выделено нами. - авт.)» [107, С.
56]. О своих бойцах с восторгом отзывался и сам Семен Михайлович
Буденный: « Это были индивидуумы!.. Каждый знал, за что он борется,
знал, что его подстерегает смерть, не боялся ее и думал только о
том, чтобы не дешево отдать свою жизнь (выделено нами. - авт.)»
[там же, С. 50].
В воспитательной работе с таким контингентом очень важно было
не дать ему скатиться до уровня простых головорезов, с каковыми
красные кавалеристы имели сильное сходство, облагородить и возвысить в
их глазах хотя бы конечные цели их кровавой борьбы. Без осознания
великих целей, за которые боролся и умирал боец красной кавалерии
будущее Конармии было туманно; в перспективе перед К.Е.
Ворошиловым и СМ. Буденным всегда маячил грозный призрак деморализации
их воинства, очень уж озабоченного традиционным казачьим
стремлением к походу за зипунами. Член РВС республики И.Т. Смилга писал
326 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
в статье «Совершенные ошибки», что с советской властью у обывателя
ассоциируется только красная пехота, в то время как «...нашу конницу
часто сравнивают с конницей Мамонтова и Шкуро». «Очевидно, -
делал выводы высокопоставленный партиец, - нравы в красной кавалерии
оставляют желать лучшего» [162, С. 27].
Военная риторика Ворошилова и Буденного достаточно правильно
учитывала особенности своего этоса. Приказ по войскам Первой конной
армии № 3 от 10 января 1920 г., написанный после взятия Ростова,
представляет собой очень характерный образец «конармейской» риторики.
«Доблестными Красными Орлами136 1-й Конной армии, в боях 7 и 8
января с.г. на подступах к Ростову и Нахичевани137, на голову разбиты
банды белых. Врагу нанесен сокрушительный удар, от которого ему уже
не оправиться. Нами уничтожено огромное количество живой силы
противника; одних пленных взято больше 10.000 человек. Нам сдались
полки в полном боевом составе во главе со своими командирами. Взято 36
орудий, множество пулеметов, 9 танков и весь обоз двух дивизий.
В результате полного разгрома врага, поздно вечером 8 января наши
части вступили в Ростов и Нахичевань. Красные бойцы, как и прежде,
отличались беззаветной храбростью и доблестью. Командиры и
комиссары с честью и полным самоотвержением выполнили свои
ответственные задачи.
ЧЕСТЬ И СЛАВА ВАМ, КРАСНЫЕ ГЕРОИ!!!
Революционный Военный Совет Конармии от лица Советской
Республики приносит глубокую благодарность героям Красной Кавалерии.
Красная армия окончательно побеждает врагов рабочих и крестьян.
Скоро наступит долгожданный мир, а с ним свободный и радостный
труд. Прочь с дороги, все пособники Деникина, грабежами и темными
деяниями поддерживающие черное дело белых генералов! Долой
бандитов и воров!
Да здравствует Красная конная Армия!
Да здравствует Советская Республика!
Да здравствует мировая революция!» [77, С. 24].
Любопытно сравнить этот приказ с приказом П.Н. Врангеля по
войскам Кавказской Добровольческой армии № 2, изданным ровно за год до
«конармейского» - 10 января 1919 года. Сходство «белой» и «красной»
136 Сохранена орфография оригинала.
137 Имеется в виду Нахичевань-на-Дону, пригород Ростова, впоследствии включенный в
его территорию.
Глава 2. Военная риторика пролетариата
327
риторики поражает, начиная с формы обращения («орлы») и
заканчивая подробным перечислением мест сражений и захваченных трофеев.
Возвышенно-патетический тон и обилие славословий войскам также
общие для обоих документов. Вот только ворошиловский стиль несколько
грубоват и топорен.
Мы, конечно, далеки от мысли обвинять тов. Ворошилова в
сознательном плагиате; сходство его риторики с риторикой «черного барона»,
на наш взгляд, следует отнести к общим для обоих ораторов свойствам
их этоса. Как и Врангель, Ворошилов командовал настоящими воинами,
и то, что он сумел правильно уловить на каких струнах следует играть в
разговоре с ними, служит только к его чести, как оратора.
«Красные орлы» в богатом Ростове не упустили случая изрядно
поживиться. Настолько изрядно, что командование армии вынуждено
было всерьез озаботиться проблемой разложения в рядах пролетарской
конницы. Дневники Бабеля передают как именно конармейцы
выполняли в то время «свои ответственные задачи»: ««Иван Иванович - сидя на
скамейке, говорит о днях, когда он тратил по 20 тысяч, по 30 тысяч. У
всех есть золото, все набрали в Ростове, перекидывали через седло
мешок с деньгами и пошел» [164, С. 142].
Конечно, не к лицу было Ворошилову честить в своем приказе
красных героев мародерами, пьяницами и насильниками. Да это было и
небезопасно. Вместо этого им разыгрывается беспроигрышная карта, к
которой прибегали в трудные времена практически все советские
военачальники. Собственные грехи списывались на происки коварного врага,
наводнявшего вооруженный оплот советской власти своими
прихвостнями, бандитами и еще, чего доброго, белогвардейскими шпионами, денно
и нощно занятыми усиленной дискредитацией пролетарского воинства.
На это намекают два лозунга, предшествующие обычной для советской
риторики цепочки здравиц, венчающих речь.
Ростов чуть было не стал для Конной армии тем же, чем для Великой
армии Наполеона стала Москва. Брошенные после недели разгульной
жизни 18 января в наступление на Батайск красные части были жестоко
биты и отброшены за Дон, потеряв до 40 % своего состава.
Однако нет худа без добра. «После занятия... Ростова конной
армией, - вспоминал Е.А. Щаденко, - приток добровольцев настолько
усилился, что РВС 1-й конной армии пришлось принять специальное
постановление, запрещающее принимать добровольцев в части
непосредственно. Несмотря на такой приказ, инициатива бойца-агитатора,
328 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
бойца-организатора не прекращалась. Боец сам принимал бойца,
находил себе друзей и сочувствующих, вербовал, приводил в часть, вооружал
его, находил коня в бою» [77, С. 55]. Если переводить это высказывание
с советского официоза образца 1935 г., то становится понятно, какое
применение находили те 20-30 тысяч экспроприированных у ростовской
буржуазии рублей, которые сотни красных героев «Иванов Ивановичей»
спускали на зависть одностаничникам.
Ну а военные неудачи всегда можно было списать на недалекость
«военспецов», не понимавших великой роли конницы в Гражданской
войне, которая открылась просветленному единственно верной
теорией драгунскому унтеру и старому большевику-слесарю. Читая
воспоминания СМ. Буденного, нельзя не поражаться той бездне косности,
непонимания, злопыхательства и чуть ли не явного вредительства,
которые окружали славный дуумвират, всеми силами пытавшийся спасти
«рабоче-крестьянскую и (курсив наш. - авт.) советскую власть».
Впрочем, с ненавистными интеллигентами «вожди» не особо
считались, благо за их спинами стоял очень авторитетный нарком по делам
национальностей и по совместительству член РВС республики и ряда
других фронтов И.В. Сталин. Их дружный хор, вопиявший к небу
советской государственности, возобладал, и командующий Кавказским
фронтом «военспец» В.И. Шорин, поставивший «Конную армию на
грань гибели», был, как известно, заменен юным «победителем Колчака
и завоевателем Сибири».
С новым двадцатисемилетним командующим «вожди» Конармии,
приближавшиеся к солидному сорокалетнему возрасту, и вовсе не
церемонились: непринужденно отвечали вопросом на вопрос, навязывали
свое понимание обстановки, настаивали на принятии собственных
планов и вообще всячески подчеркивали перед «начитанным» полководцем
свою боевую и житейскую опытность.
Поддержка Сталина и его земляка Г.К. Орджоникидзе
способствовала настолько быстрому заражению тт. Ворошилова и Буденного
«звездной болезнью», что вскоре на совещании у С.С. Каменева они уже не
стеснялись требовать подчинения Конармии непосредственно главкому.
Буденный бывал еще и недоволен, если Каменев не сразу же претворял
в свои распоряжения предложения «конармейцев». Читая документы
тех лет, трудно отделаться от ощущения, что в сознании «вождей»
Конармия представляла собой не просто одно из объединений Красной
армии, а некую особую Конную Красную армию, недаром ее порядковый
Глава 2. Военная риторика пролетариата
329
номер писался преимущественно именем числительным и слово
«Конная» чаще всего начиналось с прописной буквы.
Вслед за командирами каждый конармеец очень быстро проникался
сознанием собственной исключительности и высокой чести
принадлежать к прославленной Армии. В этом ему помогали политработники.
Например, А.И. Еременко приводил в своих воспоминаниях такую речь
члена РВС (судя по всему, Щаденко) перед молодым пополнением,
прибывавшим на усиление Первой Конной.
«Товарищи! Конная армия под руководством Реввоенсовета и своих
легендарных командиров Ворошилова и Буденного разгромила полчища
белых и гонит их остатки к Черному морю.
Разгром под станицей Егорлыкской Кубано-Донской и
Добровольческой армии положил начало полному разгрому на этом фронте всей
белой сволочи.
Но, товарищи, гидра контрреволюции еще шипит вокруг нас.
Интервенты шлют вновь и вновь своих наймитов, вооружая и снабжая их,
чтобы свергнуть советскую власть. Они хотят отобрать у нас все, что
завоевали в кровопролитных битвах рабочие и крестьяне нашей страны.
Но это им никогда не удастся.
Ваша часть молодая, не так давно влилась в ряды Первой Конной
армии, так будьте достойны этой чести. Будьте храбрыми, стойкими,
беззаветно преданными Коммунистической партии и советской власти, как
ветераны Первой Конной. Помните, что вы добровольцы, посланники
Красного Шахтерского Донбасса» [60, С. 23].
Как видим «вожди» красной кавалерии очень быстро обрели статус
«легендарных» в глазах своих подчиненных. Это даже немного беспокоило
вождя мирового пролетариата, просившего «не делать из Буденного
легендарного героя и не восхвалять его как личность в печати,., так как это очень
пагубно влияет на него» [162, С. 183]. Насколько пагубно влияла на Семена
Михайловича его популярность сказать трудно, но он с достоинством нес
свалившееся на него «сладкое бремя славы» и всеми силами стремился
соответствовать образу народного героя, по крайней мере, внешне.
Интереснейшее описание командования армии и характерных типов
конармейцев пред началом Польского похода привел бывший командир
кавполка Н.В. Ракитин. «Ворошилов в темно-серой каракулевой шапке
и серой бекеше... На Буденном темная черкеска с золотыми газырями,
кинжалом, шашкой и поясом. Из-под черкески полыхает ярко-красная
шелковая рубаха и, кажется, такой же бешмет» [149, С. 74].
330 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Никакого отношения к Кубанскому казачьему войску Семен
Михайлович, как и П.Н. Врангель, конечно, не имел. Но, как и его противник,
предпочитал носить «воинственную» горскую одежду, только в отличие
от барона Врангеля, выбиравшего благородное серебро приборного
«металла», красный командующий не удержался и «присвоил» себе золото,
очевидно, для пущего шику.
«Noblesse oblige». Положение легендарного командира
действительно обязывало, и Буденный это очень хорошо понимал, как понимал
это, кстати, и Ворошилов, своим обликом явно работавший на «имидж»
командующего. На фоне подчеркнуто неброской серой одежды этого
«серого кардинала» Конармии великолепие Буденного блистало еще ярче.
Напрасно будет искать в деятельности СМ. Буденного каких-то особых
полководческих дарований. Сила Конармии была не в них. Но один вид
этого «красного Мюрата» производил на войска магнетическое действие. «Как
только появился Буденный среди красной конницы,.. - так описывал О.Л.
Леонидов эпизод боя при прорыве польской обороны у Сангородка, - в
настроении бойцов произошел резкий перелом. Все воодушевились,
загорелись надеждой на близкую победу. Это, между прочим,., обычное явление,
когда Буденный лично появлялся на линии боя» [107, С. 90].
Мы уже писали, что красная кавалерия комплектовалась отнюдь не
сермяжной «серой скотинкой». И все же, читая горделивое описание
конармейцев у Ракитина, трудно удержаться от изумления. «Первая
Конная армия того периода не производила впечатления регулярной
конницы... Вот на рослом рыжем жеребце сидит коренастый, среднего
роста боец. На нем пальто из отличного шевиота, с котиковым
воротником. Для езды в седле пальто сзади разрезано по живому месту. На
ногах ярко-желтые хромовые сапоги и новые галоши с глянцем. На
груди огромный, ярко-красный бант. На желтой портупее - кавказская
шашка в серебре, перехваченная поясом с серебряными побрякушками.
С правой стороны в деревянной кобуре висит маузер, с левой - наган
или браунинг. К правой переметной суме привешен карабин. На животе
болтается граната, подхваченная ремешком от охотничьего патронташа,
набитого винтовочными патронами. Седло казачье. Поверх него кусок
дорогого персидского ковра с яркими узорами...
Недалеко от него - другой. Этот огромного роста. По всему лицу от
левого виска до середины подбородка - красный шрам... На великане
цветистая фуражка какого-то царского уланского полка с синим верхом
и ярко-желтым околышем, офицерское пальто и лакированные сапоги с
Глава 2. Военная риторика пролетариата
331
непомерно большими шпорами. На руках перчатки... Из кармана
пальто торчит эфес шашки, оттопыренные бока говорят о присутствии под
пальто справа и слева револьверов или гранат. Винтовка у бойца висит
слева впереди седла, дулом вниз... Под детиной великолепная серая
кобыла... У великана и у кобылы что-то одинаковое в глазах: море удали,
радость жизни, силушка непомерная.
А вот еще яркая фигура. На бочкообразном вороном коне,
безобразном своей мощью, высится толстяк в кубанке. Оружие и всякие
атрибуты на толстяке те же, что и на большинстве. Но лицо у него особенное.
Это не лицо, а скорее искрошенная шашкой и ножом маска. Про таких
говорят: «Перед сном встретишь - пропала ночь».
Части и подразделения так же не похожи друг на друга, как не похож
этот толстяк на красавца в офицерском пальто...
Я никогда не видел ничего подобного. Перед атакой этих тысяч
немыслимо устоять» [149, С. 73].
Рис. 15. Типы красных кавалеристов
Картина, что и говорить, достойная кисти Васнецова. Даже масти
коней соответствуют. Чувствуется, что конармейские Алеша Попович,
332 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Добрыня Никитич и Илья Муромец не даром проводили время в Ростове,
истребляя «живую силу врага, защищавшую осиные гнезда дворянско-
буржуазной контрреволюции», как о том гордо сообщали в свое время
т. Ленину их вожди. Немало того, что украшало эту бывшую «живую
силу», как видим, перекочевало на бойцов красной кавалерии и их
верных росинантов. Видимо зря Семен Михайлович обижался на Бабеля,
оставившего такую правдивую, как показывают мемуары, зарисовку ко-
нармейского великолепия: «... сабли в красном бархате, кривые сабли,
жилетки, ковры на седлах».
Все это роскошное убранство особенно ярко контрастировало с
откровенным убожеством пехотинцев. «Обмундирование у всех
износилось, - свидетельствовал о состоянии обмундирования и обуви
бойцов своей роты Н.И. Кирюхин, - от гимнастерок и брюк остались одни
клочья, более половины стрелков - босые и без шинелей... Более или
менее сносные ботинки остались только у 10 красноармейцев...
Многие бойцы совершенно босы. Решил одеть их в лапти» [89, С. 39, 47].
Внешний вид основной массы советской пехоты, судя по всему,
действительно мало чем отличался от описания Бабеля: «Русский
красноармеец пехотинец - босой, не только не модернизированный, совсем
«убогая Русь», странники, распухшие, обовшивевшие, низкорослые
голодные мужики» [164, С. 149].
По сравнению с этим воинством увешанная оружием и трофеями
конармейская «уважающая себя», подлинно боевая красноармейская
семья», по выражению Н. Ракитина, смотрелась настоящей гвардией.
Недаром на нее, как на своеобразный «ultima ratio» стремились делать
ставку все советские командующие фронтами, в чьем подчинении
оказывалась Конармия.
Но для всякой гвардии чрезвычайно важна уверенность в
собственной непобедимости, в противном случае она ничем не отличается от
прочих войск. Это в полной мере понимал Наполеон, с равным
усердием поддерживавший миф о непревзойденных боевых качествах своих
«старых ворчунов» и берегший их от кровавых потерь на поле брани.
Советские же военачальники были совершенно лишены возможности
беречь свои отборные войска, наоборот, они были вынуждены тратить
их без остатка в огне Гражданской войны, ибо кроме них воевать было
практически некому.
Оставалось только утверждать в отборных бойцах залихватскую
уверенность в себе и... надеяться на чудо. Поэтому речь К.Е. Ворошилова на
Глава 2. Военная риторика пролетариата
333
смотре Конармии перед выступлением на Польский фронт представляла
собой типичное внушение.
«Красные воины! Великая честь выпала на нашу армию, принять
наглый вызов польского барича, тяжелой мозолистой пролетарской рукой
снять боевой саблей его дворянскую голову.
...Для того, чтобы выполнить задачу, возложенную на нас рабочими
и крестьянами, - разбить наголову и уничтожить последнюю силу
контрреволюции в лице польской помещичьей армии, вы должны не только
захотеть победить во чтобы то ни стало, но вы должны от командира и
военкома до последнего бойца напрячь все свои силы при выполнении
этой задачи...
Вы победите потому, что уже не раз побеждали помещиков и
капиталистов. Вы победите потому, что боретесь за правое дело освобождения
угнетенных, вы победите потому, что стремитесь к победе, что она идет
вместе с вами» [3, С. 105].
Однако внушение не убеждение, а значит и речь внушающая
не есть речь воспитывающая. В речи Ворошилова мы не найдем ни
одного серьезного аргумента, вся она построена на иррациональных
доводах. Действие их кратковременно. Такие речи можно произносить
перед боем, взвинчивая себя и слушателей, но ее явно недостаточно перед
выступлением в длительный поход. Тогда требуется дать пищу уму и
чувству слушателей, побудить к трудной работе их сознание, чтобы во
время долгих маршей они мысленно возвращались к сказанному,
обдумывали и передумывали слова командира с тем, чтобы этой внутренней
работой, в беседе с товарищами на привалах и дневках постепенно
претворить чужие мысли в собственные убеждения.
В явной «неглубокости» идейного содержания военной риторики
сталинской гвардии скрыты, на наш взгляд, истоки культа феномена
«вождизма», характерного для Первой Конной и давшего впоследствии такие
печальные рецидивы в общегосударственном масштабе Советской России.
В самом деле, в чем было черпать уверенность в победе бойцу-конармейцу,
если его командующий не мог предложить ему ни одного разумного
основания благополучного исхода тысячеверстного похода и борьбы с
противником, который тоже, очевидно, всеми силами стремился к победе.
В Бога советский боец не верил. В Совнарком, наполненный
ненавистными простому казаку евреями, тоже. Оставалось положиться на
товарища, доброго коня, шашку и собственную бесшабашную храбрость.
Оставалось положиться на ум, мудрость, способность предвидения, удачливость,
334 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
наконец, того, кто под красным революционным знаменем вел его в бой. Не
случайно про конармейцев говорили, что они верны советской власти, но с
оговоркой: «через своего командира».
Оттого красная кавалерия постоянно ходила по тонкой и, надо
сказать, порой весьма условной черте, разделяющей оба враждующих
лагеря. «Советскость» ее была, перефразируя Лескова, сомнительна.
Нередки были случаи перехода к противнику целых частей. Еще в феврале
1921 г. командир первой бригады 4-й кавалерийской дивизии Маслаков
поднял бунт против советской власти и с тремястами сабель ушел в ряды
белых. В боях под Кременцом неожиданно в полном составе перешел к
полякам Кубанский полк, до этого пользовавшийся прекрасной боевой
репутацией. Потому, наверно, заезжие высокопоставленные партийцы,
вроде М.И. Калинина, предпочитали играть на самолюбии
красноармейской массы, что как огня боялись нарушить неустойчивое равновесие
лояльности «красных героев».
Их собственные «вожди», хорошо зная свойства этоса, в
экстраординарных случаях говорили с ними предельно конкретно, для
убедительности расположив перед фронтом пулеметы. Конечно, никакой
надобности в заградотрядах с их пулеметами в тылу здесь не
возникало. «У этой санкюлотской армии, - по выражению Романа Гуля, - было
только одно оружие сумасшедшая храбрость», которую не пытались
оспаривать даже враги. Но неистребимая тяга к «барахольству» начала
сказываться в Конармии еще на подходе к фронту, на территории
Украины. «...Наша армия идет зарабатывать, не революция, а восстание
дикой вольницы», - набрасывал в дневнике Бабель. Попытки пресекать
эту почти узаконенную форму самоснабжения приводили чуть ли не к
бунту, как например, в Особом полку. Случай «усмирения» полка под
дулом пулемета приведен в воспоминаниях Н.В. Ракитина, бывшего
его очевидцем.
Вести воспитательную работу с конармейцами было непросто.
Комиссар 31-го полка СМ. Кривошеий рассказывал о своеобразном
«бунте», разыгранном его «воспитуемыми» с целью проверить своего полит-
бойца на прочность. «Отаки у нас экзамены! - комментировал позже
спектакль один из его организаторов. - Мы, бывало, как заорем, как
шашками замахаем, так все агитаторы и «мама» сказать не могут, бегут
куда кому ближе» [100, С. 185].
Непросто было и командовать ими. Простейшие требования не
покидать самостоятельно колону во время марша запросто могли спрово-
Глава 2. Военная риторика пролетариата
335
цировать реакцию: «Ты што, шкура, наводишь тут старорежимные
порядки?» [там же, С. 173].
С началом активных боевых действий всю эту вольницу стало еще
труднее держать в руках. Ожесточение боев нарастало, а с ним
постепенно умалялось даже то небольшое воспитывающее воздействие
политработников, которое еще имело место в Конармии в промежутках
между боями. Насколько можно судить, явление это было общим для
всей Красной армии в период Советско-польской войны.
«Политическая работа замерла, - свидетельствовал, например, о
положении дел в соседней с 1-й Конной 12-й армии Н.И. Кирюхин. - А с
красноармейским составом надо работать и работать... Недавно я был
свидетелем беседы бойцов между собой. Они говорили о том, что мы
воюем не с белой Польшей, а с Польшей вообще, которая будто бы требует
какую-то автономию, что когда мы покорим Польшу своей власти, тогда
и войне конец. У части бойцов нет ясного представления о целях войны,
о задачах Красной армии... «Усмирить поляков», «бей поляков» -
нередко слышишь от красноармейцев» [89, С. 39, 49].
В самой Конармии также явно недоставало сознательности.
Ворошилов передавал, что в армии еще перед выступлением ходили слухи о том,
«что идем на фронт, чтобы воевать с поляками, чтобы взять «Париж». До
Парижа вооруженному отряду революции добраться не пришлось, да и из-
под богатого Львова его в самый неподходящий момент отозвали спасать
положение, сложившееся на Западном фронте. По простодушному
свидетельству В. Зеленского, от Львова отходили с сожалением: «Тяжело было
оставлять добычу, которая казалась столь близкой и заманчивой
(выделено нами. - авт.) после столь трудного похода» [67, С. 23]. Сам СМ.
Буденный, вынужденный разъяснять своим «орлам» обоснованность
приказа, отмечал, что «бойцы пали духом и недовольны» [19, т.2, С. 341]
На «национальной» войне «серой» массе красноармейцев
подозрительно быстро стали совершенно чужды революционные лозунги. «Чего
только не кричали бойцы для подбадривания друг друга. Ротный санитар
т. Петряев, бежавший впереди всех, размахивал стойкой от носилок и,
матерясь, орал не своим голосом:
- Даешь!.. А-а-а! - бегут, братишки, бегут!..
Не отставали и пулеметчики. Потные, грязные, напрягая все силы,
они волочили «максимки» по вспаханному полю и кричали:
- Братва, обожди. Дай нам «пустить» по панам ленточку... на
закуску, так их мать...» [89, С. 34].
336 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Этот густой мат, висевший над полем боя, зримо свидетельствовал
о том, что даже в период успехов Красной армии с ее моральным духом
не все было в порядке. Еще одним грозным признаком этого был
потрясающий разлив жестокости по отношению и к вооруженным, и к
пленным врагам. Только в самом начале Польского похода еще наблюдались
проявления, правда, обычно лицемерной, и запоздалой, но хоть какой-то
жалости и гуманизма. Так, В. Зеленский приводит в своих
воспоминаниях такие строки, касающиеся зрелища двух батальонов изрубленных
поляков: «Жесткая злобная накипь в сердце по отношению к полякам, как
к врагу сменялась великой мягкостью и сочувствием к ним, невольным
рабам капитала» [67, С. 9].
Недостатки в воспитательной работе среди конармейцев особенно
тяжело сказались в период неудач, сменивший недолгое «угарное»
шествие советской власти по польской земле. Весь накопившийся в душах
запас жестокости вылился на беззащитных жителей еврейских
местечек, которые были виноваты только тем, что принадлежали к одной
нации с теми советскими руководителями, кто бросал Конармию в жерло
вулкана, близоруко руководствуясь иллюзорными надеждами на
пробуждение «мировой революции».
«Вожди» еще держались на тонкой ниточке своего «легендарного»
авторитета, но для них было очевидно, что рано или поздно придется
делать выбор: или разделять участь комиссара 6-й кавдивизии
Шепелева, или возглавлять свое разбойное воинство, вставая в оппозицию
ко всему и вся, но на этом пути предостережением им служила судьба
комкора Думенко. Обвинительное заключение по делу
расстрелянного истинного основателя красной конницы гласило: «Комкор Думенко
и его штабные чины своей деятельностью спекулируют на животных
инстинктах массы, пытаясь завоевать себе популярность и поддержку
тем, что дают полную волю и поощрение грабежам, пьянству и
насилию. Злейшими их врагами является каждый политработник,
пытающийся превратить разнузданную и дикую массу в регулярную,
дисциплинированную и сознательную боевую единицу» [162, С. 117]. Оба
пути, как видим, вели в тупик.
Оставалось попытаться обуздать войска, сочетая «пулеметные»,
проверенные на Украине, и риторические, обкатанные в Ростове,
аргументы. Поэтому 11 октября 1920 г., как только армия вырвалась из боев,
самая «прославившая» бесчинствами 6-я дивизия была заперта в угол,
образованный железнодорожными путями с курсировавшими по ним
Глава 2. Военная риторика пролетариата
337
бронепоездами, и окружена Особой бригадой с артдивизионом, после
чего под дулами пулеметов ее составу «тов. Мининым138 был прочитан
артистически следующий приказ» вождей.
«Мы, Революционный Военный Совет 1-й Конной красной армии, -
говорилось в нем, - именем Российской Социалистической Советской
Рабоче-Крестьянской Республики объявляем:
Слушайте, честные красные бойцы, слушайте преданные до
конца трудовой республике красные командиры и комиссары! 1-я Конная
армия в течение почти целого года на разных фронтах разбивала
полчища самых лютых врагов рабоче-крестьянской власти, была грозой
неприятеля и любовью и надеждой трудящихся не только в России, но
и за границей. Особенно прогремела ее слава после могучих
сокрушительных ударов на фронте против польских помещиков и капиталистов.
Окруженная этой славой 1-я Конная армия согласно приказу Главкома
начала выходить из боя для приведения частей в полный порядок перед
выполнением новой боевой особой задачи. Гордо реяли красные
знамена, орошенные кровью павших за святое дело героев, окропленные
радостными слезами освобожденных тружеников.
И вдруг совершилось черное дело и целый ряд неслыханных в рабоче-
крестьянской армии преступлений. Эти чудовищные злодеяния
совершены частями одной из дивизий, когда-то тоже боевой и победоносной.
Выходя из боя, направляясь в тыл, полки 6-й кавалерийской дивизии,
31, 32, и 33, учинили ряд погромов, грабежей, насилий и убийств. Эти
преступления появились еще раньше отхода. Так 18 сентября
совершено было 3 бандитских налета на мирное население; 19 сентября - 3
налета; 20 сентября - 9 налетов; 21 числа - 6 и 22 сентября - 2 налета, а
всего за эти дни совершено было более 30 разбойничьих нападений...
В местечке Любарь 29/IX был произведен грабеж и погром
мирного населения, причем убито было 60 человек. В Прилуках, в ночь
со 2 на 3/Х тоже были грабежи, причем ранено мирного населения
12 человек, убито 21 и изнасиловано много женщин. Женщины
бесстыдно насиловались на глазах у всех, а девушки, как рабыни,
утаскивались зверями-бандитами к себе в обозы. В Вахновке 3/Х убито
20 чел, много ранено, изнасиловано, и сожжено 18 домов. При
грабежах преступники не останавливались ни перед чем, и утаскивали даже
у малышей-ребят детское белье.
С.К. Минин в то время занимал пост члена РВС 1-й Конной армии.
338 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Там, где прошли преступные полки недавно еще славной 1-й Конной
армии, учреждения советской власти разрушены, честные труженики
кидают работу и разбегаются при одном слухе о приближении
бандитских частей. Красный тыл разорен, расстроен и через это уничтожено
правильное снабжение и руководство красных армий, борющихся на
фронте.
Трудовое население, встречавшее когда-то ликованием 1-ю Конную
армию, теперь шлет ей вслед проклятия. Имя Первой конной армии
опозорено. Наши славные боевые знамена залиты кровью невинных жертв.
Враг ликует от предательской помощи ему и от разложения частей
нашей армии» [164, С. 167-168].
Приказ написан действительно талантливо. Перед нами настоящее
эпическое повествование о немыслимых подвигах и неслыханных
злодеяниях конармейцев, о взлете и грехопадении красного воинства. Сама
эта антитеза должна была сильно подействовать на воображение
бойцов. После такой прелюдии последовало распоряжение запятнавшим
себя полкам сдать оружие и революционные знамена. Требование это,
не без колебаний, но было выполнено. Не в последнюю очередь
благодаря талантливо организованному речевому воздействию. Без него,
возможно, не обошлось бы без жертв. «Бандитские» части, на что
указывают воспоминания СМ. Буденного, были готовы к использованию
«пулеметных» аргументов, отчего и держали усиленные команды
коноводов и даже «засадный полк в зеленой дубраве». Не готовы эти
отчаянные головорезы оказались к применению риторических аргументов,
особенно, надо понимать ранил их заскорузлые в крови души пассаж о
воровстве рубашонок у малышей-ребят.
Так риторика предотвратила казавшееся неминуемым
кровопролитие. И хотя без жертв и репрессий по итогам работы армейского
трибунала и специальной комиссии ЦК партии большевиков все же не
обошлось, они не шли ни в какое сравнение с возможным их количеством в
случае попытки разрешения проблемы исключительно силовым путем.
В дальнейшем при подготовке армии к боям на Южном фронте
проводилась усиленная пропагандистская обработка красноармейской массы.
И все же армия была уже не та. Ее слава и гордость - состав, условно
говоря, первого формирования, безвозвратно сложил свои буйные
головы на полях Украины и Галиции. В Польше успех Буденного объяснялся
«редкими достоинствами его бойцов. Энергично отдаваемые приказы
добросовестно и со вниманием выполнялись младшими начальниками
Глава 2. Военная риторика пролетариата
339
и с особой лихостью - рядовыми кавалеристами. Учтено и понято было
буденовцами одно из важнейших условий современного боя -
взаимная выручка...», - как писал О.Л. Леонидов. Любопытно, что
Конармии были свойственны черты, отличавшие... наполеоновские,
«революционные» полки периода войн 1805-1806 и 1807-1809 гг. «Отмечается
также движение частей «на выстрел» и самодеятельность начальников»,
-читаем далее у того же автора [107, С. 86]. Это движение «на выстрел»,
демонстрировавшее величайшую энергию и боевую активность войск,
было характерно и для Великой армии. Так что если и есть за что
именовать М.Н. Тухачевского «Красным Наполеоном», так это за то, что он,
водивший в сражения такие прекрасные войска, так же, как его великий
предшественник, и погубил их.
В разговоре с влившимися по окончании Польского похода в
Конармию пополнениями ее «вожди» теперь оперировали, в основном,
социальным пафосом и, - неслыханное прежде дело! - намекали на
скорую поддержку мирового пролетариата, как, например, в
«юбилейном» приказе по войскам 1-й Конной армии № 93 от 7 ноября
1920 года.
«...Это вы мощными рядами разорвали на военном фронте роковое
кольцо контрреволюции и разбили его звенья по частям. За три года
борьбы на внешнем военном и внутреннем трудовом фронте
пролетариат своими победами разбил все надежды контрреволюции.
...В начале этого года должна закончиться борьба с последним
остатком внутренней контрреволюции - бароном Врангелем. Во имя
скорого возвращения к мирному труду мы должны в этом четвертом
году добить и уничтожить этого наследника российской
контрреволюции.
Мы били его не раз раньше, и мы добьем и уничтожим его
теперь. Мы должны помнить, что близка поддержка мирового
пролетариата.
Буржуазия слышит поднимающийся рокот восстающего мирового
пролетариата. Это он, сокрушая свою буржуазию, идет нам
навстречу. Этот год будет решающим годом, когда наша победа, уничтожив
врагов трудящихся масс, приведет нас к солнцу мировой революции.
Да здравствует мировая Советская власть!
Да здравствует штаб мировой революции - III Коммунистический
Интернационал!
Да здравствует мировая революция!» [105, С. 119-121].
340 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Само обращение к социальному пафосу, вместо ставшего привычным
за годы войны героического, лучше всего свидетельствовало о духовном
истощении Красной армии к концу 1920 года. Все эти утопические
призывания мировой революции, равно как и обещания закончить борьбу
и обратиться к мирному труду лучше всего показывают, что дух «дикой
вольницы» в рядах гвардии вооруженного пролетариата угас вместе с
наведением в ее рядах относительного порядка. Конная армия была сильна
своей стихийной, былинной, первобытной, если угодно, мощью. Об этом
говорят и наблюдения Н.В. Ракитина перед началом Польского похода:
«Если дисциплина строя обычно символизирует его мощь, то Конная
армия, двигаясь без всякого следа дисциплины, стихийным потоком людей
и лошадей демонстрировала непреодолимую, безудержную силу» [149,
С. 73]. Обещать таким людям помощь мирового пролетариата не было
никакой необходимости.
Падение боеспособности Первой конной в операциях на врангелев-
ском фронте очевидно. Воспевание ее подвигов в Северной Таврии и
Крыму - удел советских ангажированных историков. Значительно
большее значение в этих операциях имели действия 2-й конной армии, о чем
в свое время неоднократно писали ее обиженные ветераны.
Изданный Реввоенсоветом Конармии под лозунгом «Республика
ждет полного уничтожения барона Врангеля!» приказ № 95 от 12
ноября 1920 г. пытался поднять дух подчиненных, красноречиво
расписывая подвиги красной пехоты и разложение в рядах белых.
«Красные орлы!
Войска барона Врангеля, не добитые нами в боях на левом берегу
Днепра, укрылись на Крымском полуострове в полной уверенности,
что им удастся отсидеться за естественными и искусственными
укреплениями.
...Доблестные геройские полки 51-й стрелковой дивизии под
руководством беззаветно преданных революции и республике командиров и
комиссаров, при содействии 52-й стрелковой и Лат. дивизии, под
ураганным огнем противника с моря и суши, голодные и усталые,
беспрерывными штурмами овладели этой крепостью. Во время боев с 3 ноября
они, прорезывая несколько линий проволочного заграждения, устилая
трупами своих лучших бойцов путь к победе, многочисленными атаками
нанесли колоссальные потери противнику.
Сбитый пехотой, разложенный паникой, потерявший с падением
этой единственной укрепленной полосы Крыма надежду в дальнейшем
Глава 2. Военная риторика пролетариата
341
успехе своего черного дела, противник откатывается вглубь Крыма.
Среди кадрового и молодого офицерства идут раздоры и ссоры.
Дисциплина и подчиненность отсутствуют. Впереди у них гибель от
вашей меткой пули и сабли, позади волны бездонного Черного моря,
преграждающего путь к спасению.
Пехота блестяще выполнила возложенную на нее задачу.
Теперь дело за вами. И вы также славно и блестяще выполните его,
как выполняли свои задачи на Дону, Кубани, в Галиции и Польше.
Республика ждет от вас уничтожения Врангеля и его банд» [105, С.
128-129].
Создается впечатление, что командование армии пыталось создать
у своих «красных орлов», отнюдь не горевших боевым задором,
впечатление, что главная работа уже сделана пехотой и им остается только
преследовать и гнать разбитого противника, собирая пленных и
вожделенные трофеи.
Дело, однако, обстояло далеко не таким радужным образом, как его
пытались представить «вожди», и красные кавалеристы, уже
испытавшие на себе силу ударов якобы разложенной паникой Русской армии
совершенно не рвались «окружать», «отрезывать» и вообще
геройствовать. Несмотря на все зажигательные призывы и грозные приказы
красных командующих врангелевская армия организованно погрузилась на
суда и покинула Крым.
Вот то, о чем мы говорили, сравнивая Старую гвардию Наполеона и
Конную армию Буденного. Битая гвардия уже не гвардия, а просто
сборище надломленных духом людей, по привычке кичащихся былой силой
и славой, при воспоминании о вчерашних сражениях и победах.
Такая Конная армия советской Республике была не нужна. Поэтому
почти сразу же после того, как стихли сражения Гражданской войны,
ее безжалостно урезали до размера кавалерийского корпуса. Над
наведением лоска на историю ее побед и поражений теперь предстояло
потрудиться поколениям «былинников речистых», усиленно создававших
миф о том, как Конармия всегда «с честью выполняла ответственные
задания командования»! 19, т.З, С. 3].
* * *
Подводя итоги развитию красной военной риторики в период
Гражданской войны, в качестве самого главного вывода следует
отметить относительную «нестойкость» социального пафоса в военных
342 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
речах советских полководцев. Смена «идеальных» топов социального
пафоса, таких как «мировая революция», «освобожденный труд»,
«социальная справедливость», «всемирное братство» и проч., более
почвенными, «приземленными» понятиями героико-патриотического и
государственного пафосов обуславливалась реальным содержанием
вооруженной борьбы. Социальный пафос начал выходить из
употребления с февраля 1918 г., когда германские войска прекратили
состояние перемирия. Критические обстоятельства, в которых вскоре
оказалась советская власть, стиснутая «кольцом фронтов»
антибольшевистских движений, побуждали советских лидеров быстро
переориентироваться в общественной речи на решение задач более
практического свойства, нежели создание всемирной республики Советов.
Отечественная история дает нам любопытнейший пример
«опережающего» действия общественной речи на общественное
сознание. Ничего подобного мы не увидим при изучении
революционных движений Западной Европы XVII—XVIII веков.
Английская революция насаждала новые, буржуазные ценности в
общественном сознании, развиваясь под знаком старого,
средневекового религиозного пафоса в общественной речи. Новый, национальный
пафос общественной речи, двигавший толпы парижской черни на штурм
Бастилии и Тюильри, был в значительной степени подготовлен трудами
нескольких поколений великих французских просветителей, исподволь
трудившихся над изменением общественного сознания.
И только в русской революции, всколыхнувшей огромные массы
населения, практически не затронутые какой-либо осознанной
революционной идеей, старое общественное сознание реформировалось под
непосредственным воздействием новых ценностей общественной речи.
Функцию замещения религиозных ценностей, на которых стояло
общественное сознание массы русского народа до 1917 года, был призван
исполнить социальный пафос общественной речи.
Это было выполнено в ходе бурных митингов, сходок,
манифестаций первого периода революции, который мы условно назвали «эпохой
красногвардейской атаки на капитал». В этот период красная риторика
ставила перед собой ограниченные цели - трескучей революционной
фразой, построенной на топах нового, социального пафоса, «приручить»
массу вооруженного народа сделать ее восприимчивой идеям,
исходившим из уст большевистских агитаторов. После того как эта задача была
решена ценности социального пафоса все более отходили на второй
Глава 2. Военная риторика пролетариата
343
план, оставаясь в виде «декларируемых» ценностей преимущественно в
области пропаганды.
Вынужденные отстаивать свое право на существование в
бескомпромиссной вооруженной борьбе большевики очень скоро осознали, что
агитация, с ее близкими и понятными всем установками «сегодняшнего
дня» должна оперировать относительно простыми и доступными
массовому тиражированию средствами. Так в практике организатора Красной
Армии Л.Д. Троцкого сложилась «формула успеха», заключавшаяся в
сочетании организации - агитации - революционного примера - и
репрессии. Употребляясь в разумной пропорции, эти средства принесли
красным победу в Гражданской войне.
Правильно оценивая примитивный образовательный уровень
российского этоса, которому были глубоко чужды тонкости политических
программ враждующих сторон, большевики в своей военной риторике
сознательно, на наш взгляд, избегали серьезной положительной
аргументации даже в пользу советской власти. Агитаторы обходились
обычно ходульными формулировками о «власти рабочих и крестьян», давшей
народу землю и свободу от «эксплоататоров» - «помещиков и
капиталистов».
Красные военные ораторы избегали и чрезмерно подробной и
глубокой контраргументации, и вообще серьезной критике позиций своих
политических противников. Делалось это также, надо полагать, вполне
осознанно: чтобы не привлекать ненужного внимания массы к
существованию какой бы то ни было альтернативной точки зрения.
Применительно к классовым врагам отдавалось предпочтение инвективам
самого общего свойства, которые не столько характеризовали политическое
лицо противника, сколько нагнетали страх и ненависть к звериному
оскалу империализма.
Практическое отсутствие полноценного убеждения слушателей в
речах советских полководцев, обусловило смещение акцентов в сторону
внушения, с целью приведения слушателей в требуемое оратору
эмоциональное состояние. Для этого широко употреблялась агрессивная
метафорика и яркие эпитеты. Из стилистических фигур наибольшее
распространение получили повторения, которым отдавал предпочтение еще
Наполеон Бонапарт. В целом можно констатировать, что в советской
военной риторике всю войну преобладал жанр вдохновляющей речи.
Увлечение средствами выразительности речи приводило к
удлинению и усложнению периодов, создавая у слушателей ощущение некоего
344 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
революционного «речевого карнавала», что косвенно способствовало
маскировке скудости положительного содержания речей и
располагало к некритичному восприятию оратора и венчающих его выступление
лозунгов. Это было тем более необходимо, что ключевым словом в
выступлениях подавляющего большинства советских военных ораторов
были слова «должен», «должны». Отсутствие разумных аргументов в
поддержку указанных императивов сначала возмещалось указанием на
неминуемые репрессии, которые не замедлят обрушиться на
ослушников и просто недостаточно ретивых исполнителей воли советской
власти. По мере увеличения численности Красной Армии тема репрессий
сменилась в советских военных речах темой подавляющего численного
превосходства «вооруженного пролетариата».
Все эти тенденции с древности были свойственны восточной
воинской речевой традиции. На Востоке, как проницательно заметил
Ф.М. Достоевский, никто никого не убеждает: «Велит Аллах, и
повинуйся, «дрожащая тварь!» Перенесение этих установок на российскую
почву имело печальные следствия в отсутствии твердых убеждений в
массе красноармейцев, слабости воинской дисциплины, особой
«революционной нервности» войск, испытывавших сильнейшие перепады
настроения в зависимости от боевой обстановки. Возможно поэтому
советские полководцы так порой безоглядно, всеми силами пытались
наступать, не всегда трезво сообразуясь с требованиями момента.
Поддержанию бодрого настроения наступающих войск приносилась в
жертву оперативно-стратегическая целесообразность. Своеобразная
«азиатчина» проявлялась и в слабости военной организации, и в отсутствии
серьезного подхода к делу. Например, М.Н Тухачевский в докладе С.С.
Каменеву 12 июня 1920 г. так и заявлял: «Надо сознаться, что от
организации нашей армии чрезвычайно отдает азиатчиной, а от польской веет
европеизмом» [128, С. 79].
Недостаток в советской общественной речи убеждения,
построенного на рациональной аргументации, помноженный
на «рецидивы» остатков религиозного сознания массы, имел
следствием возникновение и быстрое распространение
феномена «вождизма», черпавшего силу в иррациональной уверенности
в могуществе и превосходстве собственного руководства, которое при
СССР переросло в уверенность в превосходстве всего советского. Так
что «культ личности», на что указывал еще Л.Д. Троцкий, был в
некотором смысле, обусловлен объективно. Это наследие долго изживалось
Глава 2. Военная риторика пролетариата
345
в советской России и СССР, но не вполне изжито до сих пор во многом
благодаря тому, что политические лидеры редко могли противостоять
соблазну быстро добиваться сиюминутных целей путем внушения и
манипуляции.
К явным успехам красной военной риторики можно отнести то,
насколько быстро с переходом к героико-патриотическому пафосу она
смогла выбить из рук своих оппонентов их главное оружие. Активно
эксплуатируя факт поддержки союзниками России в Первой мировой
войне антибольшевистских движений, красные агитаторы смогли
внушить массе, что истинными государственниками, собирателями русских
земель, патриотами, защищающими Россию от «интервентов и
белогвардейцев», являются именно они. Во время Советско-польской войны
наблюдалось даже кратковременное обращение советского руководства
к ценностям национального пафоса.
Нельзя не отметить и обращение красной военной риторики к темам
воспитания сначала классовой, а в отдельных случаях и
общечеловеческой нравственности, основанной на идеалах служения своему классу,
всем «обездоленным и угнетенным», воспитанию войскового
товарищества и личной чести вооруженных защитников революции.
В этой связи обеспечение единства взглядов государственного и
военного руководства на личную примерность коммунистов и широкое
освещение этой темы в военных речах стало тем могущественным
средством, которые выдвинули РКП(б) в авангард советского общества. По-
крайней мере, многочисленные кровавые жертвы, приносимые партией
на полях сражений Гражданской войны, придавали силу ее словам и
подкрепляли моральное право требовать этих жертв и от народа. К
сожалению, именно это, похоже, и объясняет ужасающую нас сегодня
жестокость и хладнокровие, с которыми эти жертвы приносились.
Красная военная риторика в годы войны, наряду с традиционными
жанрами военной речи, часто использовала жанр обращения. Эти
обращения, обычно составленные с соблюдением всех риторических
канонов, могли облекаться в форму отдельных приказов командующих
войсками, но могли входить и в тексты обычных боевых документов.
Остается упомянуть о том, что значительную часть советского
руководства составляли люди, не лишенные дара слова. «Большинство
их лидеров были людьми с литературными и ораторскими
способностями и не имели никакого управленческого опыта», - так
характеризовал российских большевиков Г. Уэллс [184, С. 880]. Остается только
346 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
удивляться тому, насколько быстро эти «писатели» подчинили своему
влиянию могучую стихию русского бунта, заключив его в еще зыбкие
на первых порах организационные рамки государственной работы.
Этот ярчайший пример торжества слова лишний раз свидетельствует
о его силе и в пользу необходимости для военного и государственного
деятеля владеть ораторским искусством.
Заключение
Первая мировая война засвидетельствовала возросшую речевую
активность населения России. Буквально после первых сражений
книжный рынок наполнили всевозможные этюды, мемуары, записки,
дневники, окопные впечатления участников боев, слова и обращения
государственных деятелей и общественных организаций к
мобилизованным и солдатам. Война подтолкнула развитие социальных и
общественных наук; на страницах многочисленных обзоров и отчетов ученые
пытались увидеть каким будет послевоенное устройство мира, какие
сдвиги произойдут во внутренней политической и экономической
жизни сражавшихся государств. Российское общество взрослело и
развивалось стремительно, но государство, все силы которого уходили на
организацию борьбы с внешней угрозой, к сожалению, не смогло вовремя
заметить и оценить масштабы этого процесса, ограниченного, пока еще,
кругом образованного класса.
Вовлечение огромной массы народа в войну, затрагивавшую основы
существования народного, не могло не повлечь возрастания
потребности его в праве голоса. Согласно второму закону общественной речи,
расширение круга участников общественной деятельности
влечет возрастание потребности в общественной речи. После
Февраля право голоса обрели уже массы, жадно устремившиеся в водоворот
митинговой стихии революции.
В этот период резко возросла потребность в популярных руководствах
по ораторскому искусству. «Развитие общественной жизни и
конституционного режима в России пробудили большой интерес к красноречию.
Показателем этого, в частности, является основание в Петрограде ораторских
и лекторских курсов и широкая, живая работа в студенческих кружках по
изучению красноречия в Московском и, особенно, Петроградском
университетах», - говорилось в одном из них [202, С. 4]. Автор другого
выражался еще более определенно: «В наши дни великих свобод свободное слово
стало хлебом насущным (выделено нами. - авт.)» [207, С. 5].
Можно смело сказать, что в развернувшихся после Октября 1917 г.
классовых битвах слово стало не только хлебом, но и оружием обеих
сторон, зачастую решавшим исход сражений. В этой борьбе за войска
и население белые отдавали предпочтение печатному слову, красные,
умело сочетая обе формы воздействия, более эффективно использовали
устный канал общения.
348 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
«Советская власть энергично агитировала, - признавал колча-
ковский генерал П.П. Петров. - Помимо газет, воззваний,
проникали и агитаторы. Мобилизованных же легко было сбить с пути,
особенно в тех полках, где офицерство было пассивное, со слабым духом,
вышедшее на фронт тоже по призыву, а не по собственному желанию...
Агитаторы били в одну точку: «уходи с фронта, кончай воевать;
Советская власть даст всякие блага». Контрагитации почти не было
(выделено нами. - авт.)» [25, С. 22].
В «Военной риторике Нового времени» мы приводили цитату,
принадлежащую перу A.A. Брусилова, свидетельствовавшую о том, что
русское офицерство на фронтах мировой войны было совершенно не
подготовлено к организации и ведению пропагандистской работы,
призванной противостоять разлагающему воздействию противника и
антиправительственных партий. Те же недостатки, как видим, были
свойственны и командирам белых армий.
Напротив, советская власть с первых шагов своего существования
уделяла самое пристальное внимание массовой подготовке армейских
агитаторов. Вопросы организации устной агитации и пропаганды
регулярно поднимались на партийных форумах. «Члены партии должны сами
приучаться к массовой работе по агитации», - говорилось в тезисах
об использовании новых членов партии, принятых 8-й Всероссийской
конференцией РКП(б) в 1919 году. [93, С. 210].
Умение агитировать требовалось не только от рядовых коммунистов,
но и от партийных руководителей самого высокого звена. «В армии
члены реввоенсоветов, комиссары ... должны как можно чаще, не
отговариваясь неимением времени (выделено нами. - авт.), бывать в гуще
красноармейских и рабочих масс, вести с ними беседы, делать
разъяснения и давать информацию о положении на фронтах и в тылу», - читаем
в резолюциях 9-й Всероссийской партконференции, проходившей в
сентябре 1920 года [93, С. 301].
Таким образом, победа красной военной риторики есть победа,
продемонстрировавшая, прежде всего, превосходство устного
ораторского слова над печатным источником информации,
условно говоря, агитации над пропагандой. Теоретическое обоснование этого
феномена было предложено еще в конце XIX в. французским
социальным психологом Г. Тардом в интереснейшем исследовании
«Общественное мнение и толпа»: «Люди, собравшиеся вместе гораздо легковернее,
чем каждый из них, взятый в отдельности, так как один тот факт, что их
Заключение
349
внимание сосредоточено на одном предмете, наподобие коллективного
моноидеизма, приближает их к состоянию сна или гипноза, когда поле
сознания, удивительно суженное, целиком захватывается первой идеей,
которая представится ему. Тогда всякое утверждение, высказанное
уверенным и сильным голосом, так сказать несет с собой доказательство».
В гражданском противостоянии на просторах России нашли
активное применение все известные виды пафоса общественной речи. Причем
красная военная риторика с не меньшей эффективностью оперировала
всеми ими (кроме национального), а не только социальным пафосом, как
можно было бы ожидать, который активно использовался только в
первый период Гражданской войны. Логика государственного и военного
строительства закономерно привела к возвращению в советской
общественной речи к героико-патриотическому и государственному пафосам,
только с обновленным содержанием входящих в них концептов.
При слабой укорененности в общественном сознании классово-
социальных ценностей с одной стороны и национально-государственных
- с другой, в военной риторике и красными, и белыми с наибольшей
эффективностью применялся древнейший героический пафос. Практика
Гражданской войны показала, что победы одерживали те полководцы,
у которых лучше получалось сформировать боевой настрой
возглавляемых ими войск. В противном случае «скопища» насильно
мобилизованных легко разбегались либо при малейшем изменении боевого счастья,
либо под воздействием пропаганды противника. Вообще, армии
Гражданской войны, за исключением отдельных «ударных» формирований,
не отличались особенно высоким боевым духом. Оттого в военной
риторике даже призывы к проявлению героизма почти всегда подкреплялись
темой «последнего и решительного боя», который должен был привести
к долгожданному миру.
Основные подходы в белой и красной риторике были практически
одинаковыми. Сюда можно отнести, в первую очередь, преобладание в речах
внушения над убеждением. «Митинговый оратор старается
воздействовать главным образом на чувство своих слушателей», - замечал один из
риторов того времени А. Яров [205, С. 10]. Любопытно, но при всей своей
«западной» активности, напористости, боевитости, характерной для
красной риторики,139 она впитала в себя и даже не самые удачные традиции
139 На XI съезде РКП(б) в 1922 г. М.В. Фрунзе отстаивал тезис о том, что Гражданская
война в России носила маневренный характер не только в силу объективных условий,
присущих российской действительности: низкая социальная активность массы населения, большие
350 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
русского военного красноречия. Это касается широкого распространения
в военных речах красных полководцев и государственных деятелей
пафоса героической смерти.
«Я слышал от начальника дивизии, находившейся на самом опасном
участке, - говорил, например, тов. Зиновьев в речи на собрании Петро-
совета 7 ноября 1919 г. - следующее замечание: «Товарищи
коммунисты идут на смерть так, как если бы шли на завод выполнять важное и
трудное дело; не волнуясь, не рисуясь героизмом, идут умирать
(выделено нами. - авт.), защищая Советскую власть и рабоче-крестьянскую
Россию» [172, С. 16].
Близость общественного сознания красной и белой элит, их
нацеленность прежде всего на результат, при определенном пренебрежении к
средствам, которыми этот результат достигался, находили отражение
и на уровне речи, и на уровне языка. Если абстрагироваться от
некоторой концептуальной специфики, то речи отдельных представителей
белого воинства можно было легко принять за речи красных
полководцев и наоборот. На уровне языка общность менталитета обоих лагерей
демонстрирует, на наш взгляд, явная склонность к образованию
всевозможных, не всегда удобопроизносимых аббревиатур. Лидерами в этом
искусстве всегда считались красные «словотворцы», но и белые, надо
сказать, немногим уступали своим классовым противникам.
Перефразируя В.В. Шульгина можно сказать, что «это был грозный признак,
свидетельствовавший о полном помутнении, если не покраснении умов» [201,
С.582].
Оттого, наверно, многострадальная российская деревня почти
одинаково ненавидела «близнецов-братьев» обоих лагерей. В результате,
при явном дефиците нравственности враждующих сторон исход войны
определило не нравственное превосходство, а степень
моральной нечувствительности победителя. Это имело самые трагические
последствия для всей истории России в XX веке.
просторы и т.д., но и в силу классовых «боевых» особенностей пролетариата, как русского
аналога прусского юнкерства (!) с присущими ему решительностью, твердостью и
последовательностью.
Приложения
Приложение 1.
ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ АРМИИ
Приложение 1.1
КРЕСТЬЯНЕ И СОЛДАТЫ!140
Неужели вы еще можете верить большевистским смутьянам и
обманщикам?
Неужели вы еще не видите, что враги народа, захватив власть,
разграбили достояние крестьян и горожан, обездолили рабочих своими
лукавыми обещаниями, привели всех нас к нищете и Родину нашу к гибели?
Я и мое правительство заявили вам, что мы считаем справедливым и
необходимым отдать всю землю трудящемуся народу.
Я сказал, и весь мир слышал мои слова, теперь я повторяю это вам,
крестьяне и солдаты, и я не отступлюсь от своих слов. Помните это
твердо и не верьте обманщикам большевикам.
Помните также, что необходимо скорее разбить те банды, которые в
слепоте и темноте своей защищают народных комиссаров, забыв Бога и народ:
помогайте же нашей армии, честно бьющейся за спасение России и народа.
Каждый лишний день власти Совета Народных Комиссаров отдаляет
тот час, когда русская кормилица-земля перейдет в руки земледельцев-
крестьян, любящих свою Родину-мать и спасших ее в смутное время.
29 июля 1919 г. Осведомительная организация при Ставке
Верховного главнокомандующего («Осведверх»)
Приложение 1.2
ДИСЦИПЛИНА И РАБСТВО141
«Свобода, - так свобода во всем, равноправие, - так равноправие
полное со всеми». Так стали рассуждать наши свободные граждане и
воины при новом, свободном строе нашей жизни. - «Раз все свободны,
Листовка из коллекции Российской Национальной библиотеки, ФБЛ п-3/18.
Листовка из коллекции Российской Национальной библиотеки, ФБЛ п-5/59.
352 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
так не должно быть ни начальства, ни приказаний, если же одни
начальствуют и приказывают, а другие должны беспрекословно повиноваться,
то здесь уже не свобода, а прежнее рабство», - говорят они. Далее, если
с новым строем всем даны равные права, то не должно быть ни для кого
разницы в правах и на власть, и на имущество, и на землю, и на
положение и состояние. А если еще есть пользующиеся здесь
преимущественными (особыми) правами, то их нужно скорее лишить этих прав, иначе
они и впредь останутся господами, а прочие будут у них рабами. Словом,
дисциплина, - как поддержание существующего порядка, является,
говорят они, поддержанием рабства. Дисциплина есть рабство.
Но говорить так, значит не понимать сущности дела. Нет,
дисциплина - не рабство, хотя бы и требовала повиновения власти и поддержания
установленного порядка. Дисциплина потому уже не рабство, что
основывается на повиновении добровольном и свободном, а не на
вынужденном силою. Раб повинуется потому, что его насильно принуждают
к повиновению страхом наказания и даже смерти, а человек, покорный
дисциплине, повинуется власти и порядку свободно, по доверию к ним и
добровольному желанию подчиняться им.
Различаются дисциплина и рабство и по целям.
Цель рабства дурная, корыстная: рабовладелец нарушает все права и
интересы рабов, чтобы достичь своих выгод. Цель дисциплины благая и
общеполезная, - в достижении общего блага и спокойствия. Истинная
дисциплина требует порядка равноправного и справедливого для всех и
во всем основанного на всеобщем труде, на добросовестном исполнении
всеми своих обязанностей, на взаимной помощи и уступчивости.
Вывод из сказанного может быть один: если не хочешь быть рабом, не
доводи до того, чтобы тебя насильно принуждали трудиться, исполнять
свой долг, свои обязанности, а знай их и выполняй их, помня о своей и
общей пользе и благе.
Тогда ты поистине будешь свободен. В этом отношении всем нам
нужно брать пример с великого апостола Павла. Он о себе писал: «Вы
сами знаете, как должны вы подражать нам: ибо мы не
бесчинствовали, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь
и день, чтобы не обременить кого... не потому, чтобы мы не имели
власти, но чтобы себя самих дать всем образец для подражания» (2 Фес-
сал. III, 7-9).
Так последуем же этому прекрасному примеру все мы, и граждане и
воины!
Приложения
353
Будем честно повиноваться законной власти и установленному
порядку жизни.
Не забудем, какое время мы переживаем: более года льется братская
кровь в междоусобной войне, уничтожаются, сжигаются, грабятся
народные богатства, и наша Родина, разорванная на враждующие между
собой части, бесславно, позорно погибает...
Пора понять, что при таком положении страны не только отказ от
исполнения своего долга, будь то воинская повинность, платеж податей,
налогов и т.п., но и простая небрежность, неаккуратность, неточность
в исполнении своих обязанностей является уже изменой и
предательством Родины, так как все это вносит беспорядок в жизнь и приведет
страну к окончательной гбели, к порабощению.
июль-сентябрь 1919 г. Осведомительная организация при
штабе фронта («Осведфронт»)
Приложение 1.3
БРАТЬЯ СОЛДАТЫ!142
От вас зависит закончить Святое дело освобождения нашей
измученной, настрадавшейся Родины, нашей Матери-России.
Предатели Родины, большевики-коммунисты, сжатые со всех сторон
железным кольцом возрождающейся Русской армии, лишенные хлеба,
обреченные на голодную смерть, все свои силы бросили на наш
Восточный фронт с целью прорвать его и пробиться в богатую, плодородную
Сибирь.
Под их натиском мы вынуждены были отступить, снова отдавая
тысячи крестьян в их рабство. Теперь в занятых ими областях снова
начнутся пытки и расстрелы, снова польются реки крови, снова послышатся
стоны, проклятия и слезы.
Неужели вы не освободите их от ненавистного ига?
Неужели пламя освобождения России, так ярко горевшее на ваших
знаменах, потухнет? Ведь нам осталось сделать так немного.
Еще один дружный, смелый удар и власть ненавистных насильников
падет.
Сейчас самый удобный момент для этого последнего удара.
Листовка из коллекции Российской Национальной библиотеки, ФБЛ п-5/43.
354 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
На всех фронтах, за исключением нашего, наше наступление
успешно продолжается. Мы, приняв на себя главный, самый сильный удар
большевиков, помогли этим другим армиям.
Генерал Деникин, действующий на юге России, за время нашего
отступления разгромил пять большевистских армий, занял
города: Царицын, Харьков, Екатеринослав, Купянск, Волчанск, Бирюч,
Бобров, Калач, Новохоперск, Балашов, Борисоглебск, продвинулся по
всему фронту на 700 верст.
Не сегодня-завтра им будут заняты Полтава, Курск, Воронеж
и Саратов.
Большевики сейчас молчат о своем поражении на юге. Они, эти
«избранники народа», скрывают от всех, что с лишением этих городов
Советская власть остается без керосина, нефти, угля, без всего, что так
нужно им в данное время.
Взятие Деникиным Полтавы и соединение с восставшим украинским
народом лишит жителей и того скудного хлебного пайка, какой они
получали до сего времени.
Ленин и Троцкий приговаривают Россию к голодной смерти.
Сейчас дело за нами. Мы должны поддержать наступление армии
генерала Деникина, мы должны скорее придти на помощь нашим
братьям, оставшимся в красном аду Совдепии, с мольбой о помощи
протягивающим к нам руки. У них уже нет сил бороться, они
изнемогают от страданий, вся их надежда на вас, братья-солдаты.
Глаза всех сейчас устремлены на вас, весь мир, видевший, какие вы
львы, как вы умеете драться и умирать за святое дело освобождения
России, ждет вашей победы.
Неужели вы посрамите звание русского солдата?
Вы устали, вы много потеряли в этой борьбе, длящейся уже почти
полтора года, много могил вы оставили на необъятных русских полях,
могил лучших людей России, положивших «живот свой за други своя».
На сибирских равнинах, в лесах и горах Урала, везде белеют кресты
этих святых могил.
Так пусть же на этих могилах окрепнет ваша вера в правоту нашего
дела, пусть эти могилы укрепят ваш дух, дадут новую силу для
последней решительной борьбы за счастье ваших детей, за счастье всего
русского народа.
Не для того прошли мы через море крови и слез. Чтобы сейчас, в
последний час нашей борьбы, остановиться и снова возвратить кровь и слезы.
Приложения
355
С твердой верой в нашу победу соберем все силы и дружно
двинемся в последний бой.
июль 1919 г. Осведомительная организация при штабе 3-й
армии («Осведарм»)
Приложение 1.4
Русские граждане всех племен и народов и всех вероисповеданий!143
Для всего русского народа и всех народов и племен, входящих в
состав Единой России, стало ясным, что народные комиссары и их
пособники большевики-коммунисты захватили власть для того, чтобы
погубить Россию и ее народы.
И мы видим, что Россия и ее народы начинали гибнуть. Богатая
страна покрылась могилами умерших голодной смертью.
Мирная страна потрясается жестокой войной, в которой злые люди
- предатели, посылают брата против брата.
Наши недавно дорогие деньги потеряли силу.
Остальные народы, удивлявшиеся нашей силе, видят нас теперь
слабыми, беспомощными, беззащитными.
Наши враги делят нашу землю и подсчитывают, сколько каждый
народ принесет им доходу, сколько даст дешевых рабочих-рабов, которых
они пошлют на самые тяжелые, опасные и вредные для жизни работы.
Россией овладели обманщики, предатели, убийцы, воры, люди
иноземные, каторжники, палачи и тайные враги народов России.
Против них поднялся Верховный Правитель и Верховный
Главнокомандующий, его Правительство и его доблестная армия, в которой
честно сражаются сыны всех народов и племен России.
Верховный Правитель адмирал Колчак спасает граждан России от
грабежа, насилий и беззакония, защищает Евангелие и Коран от
осквернения, весь народ от нищеты и смерти, всю Россию от края и до края - от
унижения, разложения, рабства и гибели.
Все русские граждане всех народов и племен, всех вероисповеданий,
всех сословий, все обязаны помочь Верховному Правителю спасти
Единую Великую Россию, спасти от неминуемой гибели - все народы и
племена, живущие в издавна благословенной русской земле»
Осведомительная организация по связи с « инородцами »-
киргизами (« Осведстепь » )
Листовка из коллекции Российской Национальной библиотеки, ФБЛ п-5/62.
356 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Приложение 1.5
СТАНИЧНИКИ!144
Большевики идут! Идут с бандами латышей, мадьяр, немцев,
китайцев, евреев. Со всей сволочью, какую они собрали где и как могли.
Идут, чтобы посадить над вами своих правителей: совдепы, комиссаров,
комитеты.
Отнять у вас вековые вольности, завоеванные вашей кровью,
свято вами хранимые.
Идут отнять у вас хлеб и землю, чтобы раздать их лентяям и
хулиганам, которые называются по-ихнему комитетами бедноты, а остальной
хлеб увезут себе и немцам.
Хотят оседлать вас, как лошадей, взнуздать вольное казачество,
отдав его в подданство еврею Бронштейну-Троцкому.
Идут, чтобы взять вас и отправить на другие фронты
сражаться с братьями донскими казаками.
Другие казаки по глупости сначала поверили этим мерзавцам и
дорого поплатились за свою простоту.
Теперь они, наполовину перебитые, разграбленные, поднялись на
насильников и жестоко бьются за родной край. За казачьи вольности, за
свои разрушенные сожженные станицы.
Бьются до последней капли крови - и донцы, и уральцы, и сибиряки,
и семиреки145. И громят банды немецких насильников.
СТАНИЧНИКИ-ОРЕНБУРЦЫ, БЕРИТЕСЬ ЗА ОРУЖИЕ!
Гоните эту голодную, жадную, кровавую сволочь!
Покажите им, что над вольными казаками нельзя так измываться,
как они измываются в России над рабочими и крестьянами.
Покажите им, что вольность свою, свою веру и землю вы не выдадите
на разорение.
Дружней, станичники, бейте их по-казачьи, с размаху!
Осведомительная организация по связи с казачьими
войсками ( «Осведказак» )
Листовка из коллекции Российской Национальной библиотеки, ФБЛ п-1/481.
Казаки Семиреченского казачьего войска.
Приложения
357
Приложение 1.6
ДОРОГОЙ БРАТ СТРЕЛОК!146
Ты часто видишь на груди твоего брата Георгиевский крестик - это
знак твоего отличия, возлагаемый на грудь воина за его особые
отличия.
Посмотри, кто изображен в середине этого Креста - это Св.
Великомученик Георгий, поражающий копьем страшного змея....
[далее следует краткое изложение жития св. влкмч. Георгия
Победоносца]
Помни же брат, что Св. Георгий был таким же воином, как и ты, что
горячая вера в Бога и несомненная надежда на Господа Сил увенчивали
его славными победными лаврами и сохраняли его от лютых врагов и
страшных мучений.
Веруй и ты, брат, в Бога, молись Ему и призывай Заступницу всех к
помощи. Склоняй небеса молитвами своими. Будь Христолюбивым
воином. Знай, что ты на правом пути, что ты ведешь войну с врагами веры
своей, с гонителями Церкви православной, с страшными
осквернителями святынь твоих, с людьми, гордо вызвавшими самого Господа-Творца в
бой, с людьми, некогда предавшими Господа Христа за 30 сребренников,
а теперь прельстивших наших братьев, русских, большим жалованьем,
с людьми. Приверженцами апокалипсического красного дракона -
слугами Антихриста.
Но ты, брат, русский стрелок, будь тверд. Не за деньги идешь ты по
тернистому и кровавому пути гражданской войны, не земного рая ты
ищешь в конце ее, а мирного и честного труда, плоды которого ты снова
будешь собирать в свои житницы, а не отдавать их кучке нерусских
людей, отвыкших от тяжелых забот о насущном хлебе и издавших целые
книги законов о том, как лучше разделить чужое добро. Не помощник
им в этом деле Св. Георгий, не с крестом в груди, а с кровавой масонской
звездой и с злобой в сердце - эти люди продолжают разрушать вековые
порядки и святыни нашей Родины.
Брат, брат, но ведь ты любишь своего Господа. Ведь горит еще в тебе
вера в Него, а раз так, то ты вполне должен осознавать, что для тебя
значит Бог, Вера и Отечество.
Листовка из коллекции Российской Национальной библиотеки, ФБЛ п-2/208.
358 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Иди же, иди на защиту Веры и Родины своей. Защищай смело и
безбоязненно. Пусть образ и подвиги Св. Георгия воодушевляют тебя в
великом и святом ратном деле.
Итак, христолюбивый воин, брат, с Богом на врага Веры и Родины.
Помоги тебе Бог заслужить на память о великих ратных делах крест Св.
Великомученика Георгия.
май 1919 г. Издание духовенства 4-ой Уфимской стрелковой
генерала Корнилова дивизии.
Приложение 2
ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МАТЕРИАЛЫ КРАСНОЙ АРМИИ
Приложение 2.1
Крестьянам и рабочим Казанской губернии
27 авг. 1918 г.
«Враги трудового народа, помещики, капиталисты, офицеры и их
наемники - чехословаки, пытаются мобилизовать трудовое население
Казанской губернии для борьбы против рабочих и крестьян.
Сим объявляю, дабы позднее никто не мог отговариваться незнанием
революционных законов и распоряжений Советской власти:
1. Всякий, кто подчиняется мобилизации белогвардейцев чехосло-
ваков и вступает в армию врагов народа, совершает тягчайшее
государственное преступление.
2. Все рабочие и крестьяне, уже вступившие по принуждению в
ряды неприятельской армии должны немедленно перейти в
лагерь советских войск; при этом условии им будет обеспечено
полное помилование.
3. Те рабочие и крестьяне, которые продались белогвардейцам и
добровольно не сложат оружия, будут расстреляны заодно с
офицерами, буржуазными и помещичьими сынками. Все их имущество
будет передано раненым и искалеченным красноармейцам и
семьям солдат Рабочей и Крестьянской Армии.
4. Рабочие и крестьяне Казанской губернии! Слово Советской
власти твердо. Кара ее сурова. Ни одного солдата продажным
белогвардейцам! Все на поддержку Советской власти!» [173, т.1, С.
240]
Приложения
359
Приложение 2.2
Приказ председателя РВС и наркомвоенмора
по войскам N армии от 25 мая 1919 г. № 100 г.
«Конец подлому Донскому восстанию! Пробил последний час!
Все необходимые приготовления сделаны. Сосредоточены
достаточные силы, чтобы обрушить их на головы изменников и предателей.
Пробил час расплаты над Каинами, которые свыше двух месяцев
наносили удары в спину нашим действующим армиям Южного фронта. Вся
рабоче-крестьянская Россия с отвращением и ненавистью глядит на те
мигулинские, вешенские, еланские, шумилинские147 банды, которые,
подняв обманный красный флаг, помогают черносотенным помещикам:
Деникину и Колчаку!
Солдаты, командиры и комиссары карательных войск!
Подготовительная работа закончена. Все необходимые силы и
средства сосредоточены. Ваши ряды построены. Теперь по сигналу
- вперед!
Гнезда бесчестных изменников и предателей должны быть разорены.
Каины должны быть истреблены. Никакой пощады к станицам, которые
будут оказывать сопротивление. Милость только тем, кто добровольно
сдаст оружие и перейдет на нашу сторону. Против помощников Колчака
и Деникина - свинец, сталь и огонь!
Советская Россия надеется на вас, товарищи солдаты. В несколько
дней вы должны очистить Дон от черного пятна измены. Пробил
последний час!
Все как один - вперед!» [173, т.2, ч.1, С. 186]
Приложение 2.3
Солдатам армии Юденича
«Читайте! Слушайте! Обдумайте!...
Слушайте, подневольные солдаты, рабы царского генерала Юденича:
красные войска все плотнее окружают вас. Против вас сосредоточена
могущественная артиллерия, бронепоезда, бронемашины и танки
петроградского производства.
147 Названия повстанческих отрядов образованы от названий станиц, из жителей которых
они формировались.
360 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Вам спасение одно: сдавайтесь\
Красная Армия не воюет против рабочих и крестьян. Она борется
только против помещиков и капиталистов.
Подневольные солдаты царского генерала Юденича, сдавайтесь!
Переходите на нашу сторону. Истребляйте командиров, которые
этому мешают. Идите к нам! Вы будете приняты, как братья. В стране
наступят мир и братский труд. Без помещиков, без капиталистов и
ростовщиков, без царских генералов и сановников страна заживет спокойной
и счастливой жизнью.
Смерть царскому генералу Юденичу!
Да здравствует единая Рабоче-Крестьянская Россия!» [173, т.2, ч.2,
С.423]
Приложение 2.4
Приказ председателя РВС и наркомвоенмора
по северо-западной белой армии от 3 ноября 1919 г. №164
«Ввиду того, что враг народа царский генерал Юденич
самовольно и насильственно мобилизовал трудовое население против Рабоче-
Крестьянской России именем ВЦИК Советов рабочих, крестьянских,
красноармейских и трудовых казачьих депутатов настоящим объявляю:
1. Все без исключения части так называемой северо-западной
белогвардейской армии генерала Юденича... распускаются.
2. Все солдаты северо-западной армии с получением
настоящего приказа освобождаются от военной службы и обязуются
вернуться к себе домой.
3. Все командиры северо-западной армии, которые будут чинить
препятствия к выполнению настоящего приказа, объявляются
вне закона, и всякий солдат обязуется убить их, как врагов
народа, на месте.
4. За оружие, доставленное демобилизованными солдатами
северозападной армии генерала Юденича в один из штабов Красной
Армии будет уплачено полностью
За винтовку - 600 рублей
,, пулемет - 2000 ,,
,, отдельные части - по расценке,
,, орудие - 15 000 рублей.
Приложения
361
...Всем демобилизованным солдатам армии Юденича обеспечивается
бесплатный проезд на родину по железным дорогам» [173, т.2, ч.2, С.
425].
Приложение 2.5
Памятка красноармейца Южного фронта
1
«Я, красноармеец, воин рабочей и крестьянской армии, послан сюда,
на Южный фронт, для борьбы с бароном Врангелем
2
Барон Врангель - монархист. Он стоял и стоит за восстановление
власти царя. Барон Врангель - дворянин-аристократ. Он стоит за
восстановление господства белой дворянской кости. Барон Врангель -
генерал. Он воюет за восстановление старого генеральского насилия.
Барон Врангель - бывший богатый помещик. Он воюет за восстановление
помещичьего землевладения.
3
Я, воин рабоче-крестьянской армии, стремлюсь к мирному и
дружному труду рабочих и крестьян на общее благо. Я не могу допустить
восстановление власти царя, князей, графов, баронов, помещиков,
капиталистов и генералов. Вот почему я воюю против барона Врангеля и всех,
кто идет за ним....
4
Я, красноармеец Южного фронта, прислан сюда рабоче-крестьянской
властью для того, чтобы принять участие в разгроме и истреблении
армии барона Врангеля. Я сознаю и понимаю свой священный долг перед
рабоче-крестьянской Республикой.
Оружие, которое мне вручено, я верной рукой направлю для
крепкого удара. Мои товарищи и братья будут действовать так же, как и я.
Единодушным натиском мы сомнем, опрокинем и уничтожим
врага.
Мы будем действовать неудержимо без передышки, пока не
добьемся цели. Мы не позволим врангелевцам ускользнуть и запереться от нас
в Крыму. Мы не остановимся, доколе не очистим от них всю рабоче-
крестьянскую землю до последнего вершка. Мы выполним эту работу
в течение осени, чтобы не доводить дело до зимней кампании.
362 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Я, красный воин Южного фронта, обещаю это трудящимся всех
стран, и слово мое крепко!» [173, т.З, С. 206-209].
Краткий словарь терминов
363
Краткий словарь терминов
Аргумент - положение, приводимое в защиту тезиса.
Градация - наиболее часто применяемая риторическая фигура,
представляющая собой расположение слов, чаще всего синонимов, в
котором каждое последующее выразительнее, эмоциональнее, чем
предыдущее.
Ключевое слово - опорное понятие в речи.
Концепт- след отражения действительности (опыта) или культурно-
опосредованных знаний в сознании человека.
Логос- словесные средства, использованные создателем речи в
данной речи для реализации замысла речи.
Логоэпистема - языковое выражение следа отражения
действительности в сознании носителей языка в результате постижения ими
ценностей культуры
Общественная речь - совокупность социально-значимых родов
речи, распространенных в обществе на определенном этапе
исторического развития.
Пафос - намерение, замысел создателя речи, имеющего целью
развития перед получателем определенную и интересующую его тему.
Пафос общественной речи - преобладающая на определенном
историческом этапе система концептуальных воззрений,
использующаяся в общественной речи ее создателями в качестве источника топов.
Повтор - риторическая фигура; повторяющееся слово или группа
слов в начале или конце каждого предложения..
Риторический вопрос - риторическая фигура, представляющая
собой вопрос, ответ на который заранее известен, или вопрос, на
который даёт ответ сам спросивший.
Симплона (от греч. symploke - сплетение) - фигура риторики,
представляющая повторение начального и конечного слова (или нескольких
слов) в соседних фразах.
Социально-значимая речь - речь, способствующая
возникновению изменений в общественном сознании или непосредственно
влияющая на результаты общественной деятельности.
Тезис- утверждение какого-либо положения в словесной форме.
Тема - предмет (суть) какого-либо рассуждения или изложения.
364 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
Топ- положение (аргумент), которое признается истинным или
правильным и на основе которого конкретное обоснование представляется
истинным и доказательным.
Троп- слова и выражения, используемые в переносном смысле,
когда признак одного предмета переносится на другой, с целью достижения
художественной выразительности в речи.
Фольклор - вид коллективной словесной деятельности, которая
осуществляется преимущественно в устной форме.
Эвфемизм (от греч. eu - хорошо+ phemi - говорить) - слова или
выражения, смягчающие или заменяющие оборот, который по каким-то
причинам не может быть употреблен.
Эпос - героическое повествование о прошлом, содержащее
целостную картину народной жизни.
Этос - условия, которые получатель речи предлагает ее создателю.
Список литературы
365
Список литературы
1. Абинякин P.M. Офицерский корпус Добровольческой армии: Социальный
состав, мировоззрение. 1917-1920 гг. - Орел, 2005. - 204 с
2. Август Корк. Документы и материалы. Составитель Я.М. Горелик. -
Таллин: «Ээсти раамат», 1981. - 192 с.
3. Акшинский B.C. Климент Ефремович Ворошилов. Биографический очерк.
- М.: Политиздат, 1979.
4. Антонов-Овсеенко В.А. Записки о Гражданской войне. В 3-х томах.- М.,
1924-1928.
5. Армейские заметки//Разведчик, 1909. - №978. - С. 430-432.
6. Армейские заметки//Разведчик, 1909. - №992. - С. 616-418.
7. Архив русской революции. В 22 т. - М.: «Терра», Политиздат, 1991.
8. Баранов П. Положение Туркестанской республики и реорганизация
Красной армии//Военная мысль, 1921. - Кн.2. - С. 83-95.
9. Басмачество. - М.: Изд-во Эксмо, Изд-во Алгоритм, 2005. - 480 с.
10. Белое движение: Каталог коллекции листовок (1917-1920 гг.) - СПб.: Изд-
во Рос. Нац. б-ки, 2000. - 504 с.
11. Белое движение: мемуары А.И. Деникина, П.Н. Краснова, П.Н. Врангеля/
Сост., вступ. ст. В.Г. Черкасова-Георгиевского. - М.: Вагриус, 2006. - 992 с.
12. Белое дело: летопись белой борьбы/Под ред. А. фон Лампе. Т. 4. - Берлин:
«Медный всадник», 1928.
13. Блюхер В.В. По военным дорогам отца. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-
во, 1984.- 176 с.
14. Блюхер В.К. Статьи и речи. - М.: Воениздат, 1963.
15. Боевой путь Первой революционной армии Восточного и Туркестанского
фронтов (июнь 1918 -февраль 1921 гг.) Сборник документов и материалов.
- Ашхабад: Издательство «Ылым», 1972.
16. Болдырев ВТ. Директория. Колчак. Интервенты. - Новониколаевск,
1925.
17. Брусилов A.A. Мои воспоминания. - М.: Воениздат, 1983. - 256 с.
18. Буденный СМ. Красная конница. Сборник статей. - М.-Л., 1930.
19. Буденный СМ. Пройденный путь. В 3-х книгах. - М.: Воениздат, 1969 -
1973.
20. В боях рожденная. Боевой путь 5-й армии (1918-1920): Сборник
документов. - Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1985.
-416с.
366 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
21. Вайскопф М. Писатель Сталин. - М.: Новое литературное обозрение,
2001.-384 с.
22. Великанов Н.Т. Блюхер. - М.: Молодая гвардия, 2010. - 317 с.
23. Волкогонов Д.А. Троцкий. - Политический портрет. - В 2-х книгах. - М.:
ООО «Фирма «Издательство ACT», АО «Издательство «Новости», 1998.
24. Воробченко В.И. Слово в бою: (О лит.-проп. деятельности М.В. Фрунзе).
- Кишинев: Картя молдовеняска, 1988. - 154 с.
25. Восточный фронт адмирала Колчака/Сост., научн. ред., предисл. и комм.
СВ. Волкова. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. - 651 с.
26. Врангель П. Главнокомандующий. - М.: «Вагриус», 2004. - 668 с.
27. Врангель П.Н. Воспоминания: в 2-х частях. 1916-1920/Библиографиче-
ские справки СВ. Волкова. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. - 783 с.
28. Гай Г.Д. Борьба с чехословаками на Средней Волге. - Ульяновск, 1928.
29. Генерал Дитерихс/Ред. и сост. В.Ж. Цветков, при участии A.A. Петрова,
С.С. Балмасова, Р.Г. Гагкуева, В.Г. Чичерюкина-Мейнгардта, С.А. Вычужа-
нина. - М.: Посев, 2004. - 640 с.
30. Гиацинтов Э.Н. Записки белого офицера. - СПб.: «Интерполиграфцентр»,
1992.
31. Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской
истории. 1918-1920: впечатления и мысли члена Омского правительства. - М.:
Крафт+. - 704 с.
32. Гнутое М.А. 1918 год на родине Ленина. - Саратов: Приволжск. кн. изд-
во, 1988.- 196 с.
33. Гоголевский A.B. Революция и психология. Политические настроения
рабочих Петрограда в условиях большевистской монополии на власть. 1918-
1920. - СПб.: Изд-во Петерб. Ун-та, 2005. - 219 с.
34. Годовщина Первой революционной армии. - М., 1920.
35. Голицын А.К. Воспоминания. - М.: Русский путь, 2008. - 608 с.
36. Городовиков О. В рядах Первой Конной. - М., Воениздат, 1939.
37. Гражданская война/Материалы по истории Красной армии. В 3-х т. -
Москва, 1923.
38. Гражданская война в Прикамье, май 1918 -январь 1920 гг. Сборник
документов. - Пермь, 2008.
39. Гражданская война в России: новые подходы, открытия, находки.
Материалы научной конференции в Челябинске 19-20 апреля 2002 г. - М.: Посев,
2003.
40. Гражданская война и интервенция. Отсрочка Октября на Западе. - М.,
1925.
Список литературы
367
41. Гриневич Л. Следственное дело главкома Красных войск в Украине М.
Муравьева//Зеркало недели, №15, 2000. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://zn.ua/SOCIETY/20147.html. Дата обращения: 21.01.2012.
42. Гуль Р.Б. Красные маршалы. - M.: ТЕРРА, 1995. - 656 с.
43. Гуль Р.Б. Ледяной поход. Деникин А.И. Поход и смерть генерала
Корнилова. Будберг А. Дневник. 1918-1919 годы. -М.: Мол.Гвардия, 1990. - 318 с.
44. Гусев СИ. Гражданская война и Красная Армия. - М.-Л.: Госиздат, 1925.
45. Гусев СИ. Уроки гражданской войны. - М.: Госиздат, 1921.
46. Дайнес В.О. В.К. Блюхер - страницы жизни (К 100-летию со дня
рождения) - М.: Знание, 1990. - 64 с.
47. Двингер Э.Э. Армия за колючей проволокой. Дневник немецкого
военнопленного в России 1915-1918 гг./Пер.с нем. E.H. Захарова. -М.: ЗАОЦен-
трполиграф, 2004. - 350 с.
48. Дегтерев Л. «Румчерод и организация Крансой Армии/Гражданская
война. Материалы по истории Красной армии. - Т. П. - М., 1923. - С. 7-80.
49. Декреты, положения и приказы по Красной Армии. Выпуск 1.- Москва,
издательство Всерос. Центр. Исполн. Комит. Сов. Р., С, К. и Кр. Деп., 1918.
50. Деникин А. Путь русского офицера. - М. «Вагриус», 2002.
51. Дерябин А.И. Гражданская война в России 1917-1922. Белые армии. - М.:
ООО «Фирма «Издательство ACT», 1999. - 48 с.
52. Директивы Главного командования Красной Армии (1917-1920): Сб.
документов. - М., 1969.
53. Дойчер И. Троцкий. Безоружный пророк. 1921-1929 гг./Пер. с англ. Л.А.
Игоревского. - ЗАО Центрполиграф, 2006. - 495 с.
54. Дойчер И. Троцкий. Вооруженный пророк. 1921-1929 гг. /Пер. с англ.
Л.А. Игоревского. - ЗАО Центрполиграф, 2006. - 495 с.
55. Долгоруков П.Д. Великая разруха. Воспоминания основателя партии
кадетов. 1916-1926. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. - 367 с.
56. Донская летопись. - №3. - Белград, 1924.
57. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. -
М., 1991.
58. Егоров А.И. Героическая эпопея. - Сталинград, 1937.
59. Елисеев Ф.И. С Корниловским конным. - М.: ООО «Издательство «ACT»:
«Издательство «Астрель», 2003. - 655 с.
60. Еременко А.И. Боевые эпизоды. Походы Первой Конной. - Ростов н-Д,
1957.
61. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 2 т. - М.: ОЛМА-ПРЕСС,
2002.
368 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
62. Зайцов А. Семеновцы в 1914 г. - Гельсингфорс, 1936.
63. Зачем ты призван в Красную Армию. Обращение к т. призывнику. -
Красноярск, издание Енгубкома Р.К. П., 1924.
64. Зверев С.Э. Военная риторика Древнего мира.- СПб.: Алетейя, 2011. -
176 с.
65. Зверев С.Э. Военная риторика Нового времени. - СПб.: Алетейя, 2012. -
400 с.
66. Зверев С.Э. Военная риторика Средневековья. - СПб.: Алетейя, 2011. -
208 с.
67. Зеленский В. 1-ая Конная в боях. - М.: «Военный вестник», 1928.
68. Зимина В.Д. Белое дело взбунтовавшейся России. Политические режимы
Гражданской войны 1917-1920. - М., 2006.
69. Золотарев О.В. Стратегия духа армии. Армия и Церковь в русской
истории, 988-2005 гг. Антология: 2-е изд., доп.: в 2-х кн. - Челябинск: Социум,
2006.
70. Зуев Д.Д. Ферганское басмачество (1918-1924 гг.) (опыт исторического
исследования / Гражданская война. Материалы по истории Красной
армии. - Т. III. - М., 1923. - С. 11-90.
71. Из истории гражданской войны в СССР. В 3-х томах. - М.: «Советская
Россия», 1961.
72. Инструкции по организации лекций, бесед, собеседований, митингов в
частях Красной армии Югзапфронта. - Харьков, 1920. (35.56.6.204)
73. Ипполитов Г. Деникин. - М.: Молодая гвардия, 2006.
74. Иркутская летопись 1661-1940 гг./Сост., предисл., и прим.Ю.П. Колмако-
ва. - Иркутск: «Оттиск», 2003. - 848 с.
75. Исторические портреты: Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Врангель.../
Сост. A.C. Кручинин. - М.: ООО «Издательство «ACT»: «Издательство
«Астрель», 2003. - 541 с.
76. История гражданской войны в СССР. Т.З. - М.: Политиздат, 1957.
77. Как мы освобождали Ростов. - Ростов н-Д, Азчериздат, 1935.
78. Какурин H. Е., Вацетис И. И. Гражданская война. [Электронный ресурс]
- Режим доступа:Ьир://гшШега.lib.ru/h/kakurin_vatsetis/index.html
Время обращения: 16.03. 2012.
79. Какурин Н.Е. Боевые действия крупных войсковых частей в маневренной
войне. Опыт тактического исследования. В 2-х ч. - Москва, 1923.
80. Какурин Н.Е. Боевые операции в Бухаре (1922 г.) /Гражданская война.
Материалы по истории ферганского басмачества и боевых операций в
Бухаре. - М., 1923. - ТЛИ. - с. 91-159.
Список литературы
369
81. Какурин Н.Е. Восстание чехо-словаков и борьба с Колчаком. - М.-Л.:
Воениздат, 1928.
82. Какурин Н.Е. Как сражалась революция. - М.-Л., 1926.
83. Какурин Н.Е., Меликов В.А. Война с белополяками. 1920 г. - Москва,
Государственное военное издательство. 1925.
84. Какурин, Н. Русско-польская кампания 1918-1920 гг. [Текст]. - Москва,
1922.
85. Каменев С.С. Сборник статей 1918-1923. - М., 1923.
86. Кантор Ю.З. Война и мир Михаила Тухачевского. - СПб.: Нестор, 2008.
- 596 с.
87. Каппель и каппелевцы. - Μ.: НП «Посев», 2007.
88. Кенез П. Красная атака, белое сопротивление. 1917-1918/Пер с англ. К.А.
Никифорова. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. - 287 с.
89. Кирюхин Н. Из дневника командира (1920 г.). - М.-Л., Воениздат, 1930.
90. Ковтюх. Е. Походы Таманской армии/Гражданская война. Материалы по
истории Красной армии. - Т.1. - М., 1923. - С. 420-506.
91. Козлов А.И. Антон Иванович Деникин. - М.: ООО «Издательство
«Собрание», 2004.
92. Колчаковщина. Из белых мемуаров/Под ред. H.A. Корнатовского. - Л.:
«Красная газета», 1930.
93. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). Т. 2. 1917-1922. - 9-е
изд., доп. и испр. - М.: Политиздат, 1983. - 606 с.
94. Кондратьев Н.Д. Маршал Блюхер. - М.: Воениздат, 1965. - 296 с.
95. Кондрашин В.В. Крестьянство России в Гражданской войне: к вопросу об
истоках сталинизма. - М.: РОССПЭН, 2009. - 575 с.
96. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК»,
т. 2.-М, 1970.
97. Краснов В.Г. Колчак. И жизнь, и смерть за Россию. Кн. 2. - М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2000. - 353 с.
98. Краснов H.H. Атаман: Воспоминания. - М.: Вагриус, 2006. - 650 с.
99. Кривошеее А. Октябрь на Юге/Гражданская война. Материалы. - М.,
1923.-Т.Н.-с. 80-131.
100. Кривошеий СМ. Чонгарцы. - М., «Сов. Россия», 1975. - 272 с.
101. Кузнецов H.A. Александр Васильевич Колчак. - М.: ООО «Издательство
«Цейхгауз», 2007. - 48 с.
370 Зверев С Э. Военная риторика Новейшего времени
102. Культура русской речи: учебник для вузов/под ред. проф. Л. К. Граудиной
и проф. Е. Н. Ширяева. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999.
-560 с.
103. Ленин В.И. Избранные сочинения. В 10-ти т. - Т.8. Οκτ. 1917 - май 1919.
- М.: Политиздат, 1987. - XXIV, 711 с.
104. Ленин о Троцком и троцкизме. - Хабаровск, 1925.
105. Ленин, Сталин, Фрунзе, Ворошилов о разгроме Врангеля. - Симферополь,
Госиздат Крымской АССР, 1940.
106. Леонидов Б. Октябрь в старой армии (воспоминания о Юго-Западном
фронте) / Гражданская война. Материалы по истории Красной армии. - Т.
И. -М., 1923.-С. 131-163.
107. Леонидов О.Л. СМ. Буденный вождь красной конницы. - Л., 1925.
108. Лехович Д. Деникин. Жизнь русского офицера. - М.: «Евразия», 2004. -
888 с.
109. Лехович Д.В. Белые против красных. - М.: Воскресенье, 1992. - 368 с.
110. Локк Д. Педагогические сочинения. - М.: Учпедгиз, 1939.
111. Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию. - СПб., 1810.
112. Лопухов Вл. Из истории политической работы в Красной армии
Туркестана//Военная мысль, 1921. - Кн. 1. - С. 89-98.
113. Люди из легенды. - Саратов, 1986.
114. М.В. Фрунзе на фронтах Гражданской войны. Сборник документов. - М.:
Воениздат, 1941.
115. М.В. Фрунзе: Военная и политическая деятельность. - М.: Воениздат,
1984.-275 с.
116. Максимов В.И. Русский язык и культура речи. - М.: Гардарики, 2004. -
413с.
117. Маршал Тухачевский. Воспоминания друзей и соратников. - М.:
Воениздат, 1965.-248 с.
118. Мельгунов СП. Трагедия адмирала Колчака: в 2-х книгах. - М.: Айрис-
пресс, 2005. - 576 с.
119. Минаков СТ. 1937. Заговор был! - М.: Яуза: Эксмо, 2010. - 320 с.
120. Минаков СТ. Россия и Наполеон. Монография/Минаков СТ. - 2010. -
168 с.
121. Минаков СТ. Сталин и его маршал. - М.: Яуза, Эксмо, 2004. - 640 с.
122. Мишагин-Скрыдлов А.Н. Россия белая, Россия красная. 1903-1927. - М.:
ЗАО Центрполиграф, 2007. - 238 с.
Список литературы
371
123. Моисеев С. И. Полк рабочей Москвы. - М.: Воениздат, 1960.
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://militera.lib.ru/memo/russian/moiseev si/
index.htm. Дата обращения: 21.01.2012.
124. Новиков П.А. Гражданская война в Восточной Сибири. - М.: ЗАО Цен-
трполиграф, 2005. - 415 с.
125. Нольте Э. Европейская гражданская война (1917-1945). Национал-
социализм и большевизм. - М.: Логос, 2003. - 528 с.
126. Основная военная задача момента. Дискуссия на тему о единой военной
доктрине. Доклад т.т. Троцкого и прения по ним. стенографический
отчет 2-го дня заседания военных делегатов XI-го съезда Р.К.П. 1-го апреля
1922г.-Москва, 1922.
127. Памятники агитационной литературы РСДРП. - Т.VI (1914-1917). Период
войны. - Вып.1. Прокламации 1914 г. - Москва-Петроград, 1923.
128. Перемытое A.M. Июльская операция Западного фронта (рукопись). - М.:
Военная академия РККА, 1934.
129. Перемытое A.M. Майская операция Западного фронта (1920 год)
(рукопись). - М.: Военная академия РККА, 1934.
130. Пилсудский Ю. 1920 год. - М.: Военный вестник, 1926.
131. Пионтковский С. Гражданская война в России (1918 - 1921 г.г.) - М.,
1925.
132. Плотников И. Ф. Героическая эпопея Уральской партизанской армии
Блюхера. - Уфа: Башк. кн. изд-во, 1986, - 400 с.
133. Поварнин СИ. Искусство спора. О теории и практике спора. - Петроград,
1923.
134. Под знаменами религии // Революция и религия, 1919. - №№6-8. - С. 95-
96.
135. Подвиг Пятой Красной: Сборник. - Западно-Сибирское книжное
издательство, 1984.- 160 с.
136. Поляков И.А. Донские казаки в борьбе с большевиками: Воспоминания
начальника штаба Донских армий и войскового штаба Генерального штаба
генерал-майора И.А. Полякова. - М.: Кучково поле; Гиперборея, 2007. -
624 с.
137. Попов Ф.Г. За власть Советов. Разгром Самарской учредиловки. -
Куйбышев, 1959.
138. Попов Ф.Г. Разгром деникинцев под Орлом. - Орел, 1959.
139. Попов Ф.Г. Чехословацкий мятеж и самарская учредилка. - Самара.:
ОГИЗ, 1932.(32-1/1626)
372 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
140. Последние бои на Дальнем Востоке/Сост., научн. ред., предисл. и комм.
СВ. Волкова. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. - 815 с.
141. Последние дни колчаковщины. -М.-Л., [Госиздат], 1926.
142. Практика ораторской речи. [Сборник статей]. - Л.: Институт агитации,
1931.
143. Приказы М.Н.Тухачевского обр. 1920 г. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://www. balancer.ru >prikazy-m-n-tukhachevskogo-obr-1920. Время
обращения: 16.03.2012.
144. Примаков В.М. Афганистан в огне. - Л., 1933.
145. Примаков В.М. Тактические задачи и военные игры, предложенные
офицерам германского рейхсвера в 1933 г. - М.: Воениздат. 1934.
146. Пугачевский С. За власть Советов (из дневника участника гражданской
войны)/Материалы по истории Красной армии. - Т.1. - М., 1923. - С. 339-
420.
147. Путна В.К. К Висле и обратно. - М.: Военный вестник, 1927.
148. Разгром Колчака. Воспоминания. - М.: Воениздат, 1969.
149. Ракитин Н.В. Записки конармейца. - М.: «Федерация», 1931.
150. Реввоенсовет Республики. Протоколы 1918-1919 гг. - М.: «Русский мир»,
1997.-640 с.
151. Реден Н. Сквозь ад русской революции. Воспоминания гардемарина. - М.:
ЗАО Центрполиграф, 2006. - 287 с.
152. Рождественский Ю. В. Теория риторики - М.: Флинта: Наука, 2006. - 512 с.
153. Рота. Сборник статей о «реальной» пехоте. - М.: «Выстрел», 1924.
154. Самойло A.A. Две жизни. - М.: Воениздат, 1958.
155. Сборник секретных приказов армиям Юго-Западного фронта Р.С.Ф.С.Р.
1920 года.
156. Сборник секретных приказов армиям Южного фронта Р.С.Ф.С.Р. 1920
года.
157. Свободников В. Воспитание дара слова. - СПб.: Товарищество М.О.
Вольф,1914.
158. Сергеев E.H. От Двины к Висле. - Смоленск, 1923.
159. Симбирская губерния в годы Гражданской войны (1918-1920). -
Куйбышев, 1958.
160. Слащев-Крымский Я.А. Требую суда общества и гласности (оборона и
сдача Крыма). - Константинополь, 1921.
161. Слащов Я. Крым в 1920 г. Отрывки из воспоминаний. - М.: Госиздат,
192?
162. Смилга ИЛ. Военные очерки. - М., 1923.
Список литературы
373
163. Смирнов Г.В. Очищение армии. - М.: Алгоритм, 2008. - 368 с.
164. Соколов Б.В. Буденный: Красный Мюрат. - М.: Молодая гвардия, 2007.
-335 с.
165. Соколов Б.В. Врангель. - М.: Молодая гвардия, 2009. - 502 с.
166. Соколов Б.В. Михаил Тухачевский: жизнь и смерть «Красного маршала».
- Смоленск: Русич, 1999. - 512 с.
167. Соколов Б.В. Тухачевский. - М.: Молодая гвардия, 2008. - 447 с.
168. Соколов К.Н. Правление генерала Деникина. - М.: Кучково поле, 2007.
- 304 с.
169. Сорокин П.А. Социология революции. - М.: Эксмо, 2008.
170. Тодорский А.И. Маршал Тухачевский. - М.: Политиздат, 1966.
171. Толмачев И.П. В степях донских. -М.: Воениздат, 1959.
172. Троцкий JI., Зиновьев Г. Две речи. - Петербург, 1920.
173. Троцкий Л.Д. Как вооружалась революция. - M.: ВРВС, 1923.
174. Троцкий Л.Д. Моя жизнь. - М.: Вагриус, 2001.
175. Троцкий Л.Д. Сочинения. Том 17, часть 2. - М.-Л., 1926.
176. Тухачевский М. Поход за Вислу. - Пилсудский Ю. Война 1920 года. - М.:
Изд-во «Новости», 1992. - 320 с.
177. Тухачевский М.Н. Война классов. Статьи 1910-1920 г. - Москва,
Госиздат, 1920.
178. Тухачевский М.Н. Избранные произведения. В 2-х томах. - М.:
Воениздат, 1964.
179. Тухачевский М.Н. Памятка бойцу на маневрах. - Москва, Госиздат ,
1929.
180. Тучапский А.К. Петр Николаевич Краснов: судьба русского офицера: Ав-
тореф. дисс... канд. ист. наук. - СПб., 2006. - 23 с.
181. Уильямсон X. Прощание с Доном: Гражданская война в дневниках
британского офицера. 1919-1920. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. - 303 с.
182. Успенский A.A. В плену. - Kaunas, 1933.
183. Устинов Г. Трибун революции. - М., 1920.
184. Уэллс Г.Дж. Всеобщая история мировой цивилизации / Герберт Дж.
Уэллс [пер. с англ.] Изд-е 2-е, испр. и доп. - М. Эксмо, 2008. - 928 с.
185. Уэллс Г.Дж. Россия во мгле/Пер. с англ. И. Виккер, В. Пастоева. - М.,
Госполитиздат, 1958.
186. Федор Раскольников. О времени и о себе. Воспоминания, письма,
документы. - Л.: Лениздат, 1989.
187. Ферганская проблема // Военная мысль, 1921. - Кн.2. - С. 108-118.
374 Зверев С. Э. Военная риторика Новейшего времени
188. Ферганский район: военный обзор//Военная мысль, 1921. - Кн.1. - С. 217-
226.
189. Филимонов Б.Б. Белая армия адмирала Колчака. - М.: Рейтар, 1999 - 144 с.
190. Фрунзе М.В. Избранные произведения. - М.: Воениздат, 1984. - 559 с.
191. Фрунзе М.В. Избранные произведения. Сборник документов в 2-х т. - М.:
Воениздат, 1957.
192. Фрунзе М.В. Неизвестное и забытое: публицистика, мемуары, документы,
письма. - М.: Наука, 1991. - 272 с.
193. Фрунзе М.В. Статьи и речи. - М.: Госиздат, 1936.
194. Херсонская Е.П. Публичное выступление.- М.: Красная новь, 1923.
195. Цветков В.Ж. «Легион Святейшего Патриарха Тихона» - Гвардия
Православной Руси: из неосуществленных проектов//Военная быль. - 1995. -
№6(135).-С. 23-24.
196. Цветков В.Ж. Белое дело в России. 1919 г. (формирование и эволюция
политических структур Белого движения в России). - М., 2009.
197. Цветков В.Ж. Формирование и развитие политического курса Белого
движения в России в 1917-1922 гг.: Автореф. дисс... докт. ист. наук. - М.,
2010.-39 с.
198. Шевяков А.И. Борьба с басмачеством: уроки прошлого [Электронный
ресурс] - Режим доступа: http://materik.ru/pda/rubric/detail.php?ID=1031 7. Дата
обращения: 09.01.2012.
199. Шейнис З.С. Солдаты революции: Десять портретов. - 2-е изд., доп. - М.:
Сов. Россия, 1981. -352 с.
200. Шестая годовщина военной академии Р.-К.К.А. - Москва, издательство
«Военный вестник», 1925.
201. Шульгин В.В. Годы. Дни. 1920 год. - М.: Изд-во «Новости», 1990. - 832 с.
202. Щегольков А. Об ораторском искусстве. - Петроград, 1917.
203. Эйхе Г.Х. Тактические поучения гражданской войны. - М.: Госиздат,
1931.
204. Юденич под Петроградом. Из белых мемуаров. - Ленинград: «Красная
газета», 1927.
205. Якир Н.Э. Воспоминания о гражданской войне - М.: Воениздат, 1957.
206. Янгузов З.Ш. Забвенья нет. - Хабаровск: Кн. Изд-во, 1990. - 336 с.
207. Яров А. Ораторское искусство. - М.: Новая книга, 1917.
208. Яров СВ. Источники для изучения общественных настроений и культуры
России XX века. - СПб.: Нестор-История, 2009. - 430 с.
Содержание 375
Содержание
Введение 5
Глава 1. ВОЕННАЯ РИТОРИКА КОНТРРЕВОЛЮЦИИ 8
1.1. Атаман П.Н. Краснов: начало 8
1.2. А.И. Деникин и Добрармия 25
1.3. Комуч, «Учредилка» и A.B. Колчак 49
1.4. «Черный барон» П.Н. Врангель 81
1.5. Крестоносец XX века М.К. Дитерихс 107
1.6. Риторика воинов ислама 135
ГЛАВА 2. ВОЕННАЯ РИТОРИКА ПРОЛЕТАРИАТА 158
2.1. Риторика «эпохи красногвардейской атаки на капитал».. 158
2.2. Л.Д. Троцкий - прагматик и идеалист 180
2. 3. М.В. Фрунзе - «интеллигентный»большевик 224
2.4. В.К. Блюхер - от партизана до министра 253
2.5. М.Н. Тухачевский - красный Наполеон? 280
2.6. Риторика сталинской гвардии 319
Заключение 347
Приложения 351
Приложение 1 351
Приложение 1.1 351
Приложение 1.2 351
Приложение 1.3 353
Приложение 1.4 355
Приложение 1.5 356
Приложение 1.6 357
Приложение 2 358
Приложение 2.1 358
Приложение 2.2 359
Приложение 2.3 359
Приложение 2.4 360
Приложение 2.5 361
Краткий словарь терминов 363
Список литературы 365
С. Э. Зверев
Военная риторика Новейшего времени.
Гражданская война в России
Главный редактор издательства И. А. Савкин
Дизайн обложки И. Н. Граве
Оригинал-макет О. В. Петрицкий
Корректор И. Е. Иванцова
ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
Редакция издательства «Алетейя»:
СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304, тел. (812) 577-48-72
E-mail: office@aletheia.spb.ru (отдел продаж),
aletheia92@mail.ru (редакция)
www.aletheia.spb.ru
Заказ книг: fempro@yandex.ru, тел. (812) 951-98-99
Книги издательства «Алетейя» в Москве
можно приобрести в следующих магазинах:
«Историческая книга», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95
«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. (495) 915-27-97
Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
Магазин «Гилея», Тверской б-р., д. 9. Тел. (495) 925-81-66
Магазин «Циолковский», Новая площадь, 3/4, подъезд 7д.
Тел. (495) 628-64-42
«Галерея книги „Нина"», ул. Бахрушина, д. 28. Тел. (495) 959-20-94
Интернет-магазин: www.ozon.ru
Формат 60x88 Мб. Усл. печ. л.23.5 . Печать офсетная.
Заказ №