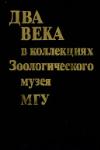/
Author: Пиотровский Б.Б.
Tags: искусство развлечения зрелища спорт музеи постоянные выставки искусствоведение русская культура
ISBN: 5-210-01374-Х
Year: 2000
Text
Государственный Эрмитаж
Издательство «Искусство» Москва
Б. Б. Пиотровский
ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА
КРАТКИЙ ОЧЕРК МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ
Издательство «Искусство» Москва 2000
УДК 7.0:069 ББК 85 П 32
Вступительная статья и общая редакция М. Б. Пиотровского
Публикация осуществлена при участии Р. М. Д жанполадя н- П иотровской
Редакционная подготовка И.И.Никоновой
По программе государственной поддержки культуры и искусства издание получило грант Президента Российской Федерации
Федеральная программа книгоиздания России
© Б. Б. Пиотровский, текст и составление, 2000 г.
© М. Б. Пиотровский, вступительная статья, 2000 г. © Н.В.Мелыунова, оформление и макет, 2000 г.
© Государственный Эрмитаж, 2000 г.
ISBN 5-210-01374-Х © Издательство «Искусство», 2000 г.
Содержание
От издательства 7
М.Б.Пиотровский. История Эрмитажа
как история культуры России 9
I История Эрмитажа. Краткий очерк 19
II Материалы и документы 125
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II 127
2 Эрмитаж в царствование Николая I 183
3 От первого директора (1863 г.) до 1917 года 219
4 После Октябрьской революции 270
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат» 352
6 Продажа. 1928—1932
Защита Эрмитажных сокровищ 419
7 Аукционы 477
8 Эрмитаж в 1930-е годы 496
9 Годы Великой Отечественной войны 511
10 После войны 523
Указатель имен 549
Список иллюстраций 569
ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА
От издательства
В 1988 году Борис Борисович Пиотровский написал краткий очерк, посвященный истории Эрмитажа, приуроченный к 225-летию Музея, юбилей которого отмечался в следующем, 1989 году. Этот очерк опубликован издательством в книге «Эрмитаж. История и современность» (М., 1990). Но был лишь частичным воплощением замысла большого исследования, основанного на многолетней работе академика Б.Б.Пиот- ровского над архивными материалами и литературными источниками, издание которого после завершения он предполагал поручить издательству «Искусство». В своем обращении к нам в1986 году Борис Борисович писал: «Предлагаю издательству работу, посвященную истории Гос. Эрмитажа (с 1764 — до нашего времени). Книга будет основана на архивных материалах и литературных данных. Почти вся история советского Эрмитажа прошла на моих глазах, я пришел в Эрмитаж школьником в 1922 г. и принимал участие в работах Отдела древностей. Книга может быть связана с 225-летием музея (1989 г.). Общий объем книги 15 авторских листов.<...> Директор Эрмитажа Б.Пиотровский. 25.06.86». В соответствии с этим предложением издательством в том же году был заключен договор.
Завершив работу над кратким очерком, предназначенным для книги «Эрмитаж. История и современность», в которую вошли также и статьи других ученых музея, Борис Борисович не оставлял мысли о публикации своего большого труда. Он усиленно работал в Архиве Эрмитажа, встречался и переписывался с множеством людей, так или иначе причастных к материалам истории музея, постоянно пополняя свое исследование новыми сведениями.
В конце 1989 — начале 1990 года Борис Борисович передал редактору издательства ксерокопию ряда собранных им материалов для возможной публикации этих архивных документов и литературных источников в качестве второй части, как бы сопровождающей написанный им краткий очерк, находившийся к тому времени в печати. К сожалению, крайняя перегруженность директорскими и другими многочисленными обязанностями, затем неожиданная тяжелая болезнь в конце июля 1990 года и последовавшая 15 октября кончина не позволили воплотить этот замысел Бориса Борисовича при его жизни.
Издательство считало своим долгом осуществить публикацию собранных им материалов и с благодарностью приняло от Рипсимэ Микаэловны Джанполадян-Пиотровской, вдовы Бориса Борисовича, и его сына Михаила Борисовича Пиотровского ксерокопию рукописного оригинала.
Однако представленный материал в силу своей разнохарактерности и большого объема потребовал определенной, и прежде всего технической, кропотливой обработки, к сожалению, длительной по времени: многократной перепечатки, расшифровки скорописи, уточнения печат-
I История Эрмитажа
8
ных источников, уточнения некоторых датировок, имен, а также сверки архивных материалов (а в ряде случаев и определения их источника), проставления новых номеров дел, измененных Архивом Эрмитажа уже после окончания работы над ними Б.Б.Пиотровского.
Определенные сложности вызвало и то обстоятельство, что рукопись, переданная в издательство, аккуратно сложенная по временным разделам Борисом Борисовичем, не имела как общей нумерации, так и нумерации внутри разделов, поскольку он постоянно пополнял материал, вкладывая все новые страницы. Встречались и повторы, нуждающиеся каждый раз в специальном рассмотрении, дабы не нарушить при публикации авторский замысел.
Сотрудники Архива Государственного Эрмитажа, и прежде всего Г.И.Качалина, Е.М.Яковлева, Л.А.Зайцева, а позднее Е.Ю.Соломаха и Л.В.Бантикова, провели сверку приводимых в рукописи материалов и уточнили их архивные источники.
В рукописи Б.Б.Пиотровского содержались и ксерокопии ряда документов, хранящихся в Архиве Эрмитажа. Издательство сочло возможным параллельно с текстом воспроизвести фотокопии некоторых из них, а также воспроизвести страницы рукописного оригинала, раскрывающие характер работы Бориса Борисовича и, главное, его подход к ней.
Фотосъемка проводилась Л.Г.Хейфецем с листов оригинала рукописи и с архивных документов, в чем большую помощь в их подборе оказали издательству Е.С. Щукина и сотрудники Архива Эрмитажа. Немалую роль в подготовке издания сыграл художник С. Р.Николаев, разработавший систему подачи сложного и разнохарактерного материала, содержащегося в рукописи Б.Б.Пиотровского.
При публикации документов издательство сохранило написание оригинала. Многие документы и литературные источники приведены Б.Б.Пиотровским в собственном пересказе либо конспективно, что также оставлено редактором без каких-либо дополнений и изменений в пользу источника.
Издательство лишь сочло возможным (в основном это относится к материалам конца 1920-х — начала 1930-х годов) убрать явные повторы, если это не противоречило смыслу изложения, и внести некоторую хронологическую последовательность для удобства пользования приводимыми материалами, при этом не нарушая композиции, избранной Б.Б.Пиотровским.
Подготовка публикации и определение структуры издания велась нами при непосредственном участии Рипсимэ Микаэловны Джанпола- дян-Пиотровской и Михаила Борисовича Пиотровского, которым издательство выражает свою глубокую признательность.
ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА
М. Б. П иотровский.
История Эрмитажа как история культуры России
Борис Борисович с детства был влюблен в Эрмитаж, с которым была связана вся его жизнь до последних минут. В восьмидесятые годы он остался одним из немногих, для кого история Эрмитажа за 70 лет была частью собственной биографии. Он не мог не писать об Эрмитаже. В течение многих лет Борис Борисович увлеченно работал с архивными материалами, радостно делясь с окружающими большими и малыми открытиями. Статьи и доклады прокладывали путь к книге «История Эрмитажа», которую он так и не успел дописать. Однако то, что было написано и частично опубликовано, а также тщательно подобранный и систематизированный материал не только интересны и увлекательны сами по себе, но и дают ясное представление о той концепции истории Эрмитажа, которую избрал и разработал Борис Борисович.
В этой книге законченный текст сопровождается большой подборкой архивных документов, организованных Борисом Борисовичем таким образом, что они читаются и рассматриваются с увлечением не меньшим, чем при чтении основного текста. Опытный археолог и издатель археологических находок, Борис Борисович умел заставить материал говорить сам за себя и привык не вмешиваться там, где комментарий не требуется. В какой-то мере эта незавершенная часть труда Бориса Борисовича рассказывает о методах его работы и манере мыслить и рассказывать больше, чем законченные труды. А для тех, кто его знал близко, за краткими примечаниями на копиях архивных листов встают его увлекательные рассказы, на которые он был так щедр.
Одно из важнейших явлений российской культурной истории — Эрмитаж — предстает у него одновременно и символом русской истории, и живым и легко узнаваемым организмом, движимым человеческими судьбами и характерами. История Эрмитажа у него совмещает большие события с мелкими деталями, делающими эти события реальными.
В книге есть несколько основных акцентов. Эпоха Екатерины, начало императорского музея, естественным образом является одним из главных сюжетов. При всей изученности событий удалось найти много нового и во многом разобраться. В частности, в том, как название «Эрмитаж» постепенно перемещалось от одной части дворца к другой, отражая постепенное превращение его в целый культурный институт, далеко не ограничивавшийся просто небольшим салоном или картинной галереей. История архитектурных ансамблей оживает благодаря расшифровке функций и назначения отдельных помещений. Появились даже неизвестные ранее документы. Дух аристократичной утонченности и решительной агрессивности, присущие музею с екатерининских времен, заложенные ею, увлекают читателя и ведут дальше.
М.Б.Пиотровский
10
Особо выделена эпоха Николая Павловича, значение которой иногда оставалось в тени из-за отрицательных стереотипов, традиционно и не очень справедливо связываемых с этим императором. Николай не просто добавил еще одно здание к музею. Именно он создал публичный музей, размещенный в удивительном здании, и сегодня являющемся шедевром мировой музейной архитектуры. Именно при нем музей стал научным учреждением, со своими организационными традициями, писаными и неписаными правилами. Многие из них живы и по сей день. Из рассказов Бориса Борисовича и материалов, им собранных, предстают те основы музейной работы, которые были заложены тогда.
Особое внимание Борис Борисович уделил истории эрмитажных директоров, многие из которых незаслуженно ушли в тень больших политических событий и фигур. Он обработал огромный архивный материал и рассказал не только об интересных людях, но и раскрыл сложную систему сочетания политических, придворных и научных авторитетов, совместной деятельности директоров и их помощников, из которой на протяжении десятилетий складывался особый тип учреждения, называемого Императорским или Государственным Эрмитажем, института одинаково важного и для культуры, и для науки, и для политической жизни России и вне ее.
Вернув истории образы эрмитажных директоров и сотрудников, Борис Борисович открыл и еще одну малоизученную страницу эрмитажного прошлого — деятельность Совета Эрмитажа после революции 1917 г. Именно этот Совет, определяя политику музея в сложные годы политической борьбы и идейной перестройки, заложил традиции и правила музейной жизни, которые позволили ему выполнять свою просветительскую миссию на высоком научном уровне, не занимая резких идеологических и политических позиций, максимально уменьшая вред, наносимый науке и просвещению примитивным социологизмом. Манера и тактика взаимоотношений с властью, заложенные тогда, позволили Эрмитажу не только сохранить свое достоинство и престиж, но и преумножить его в течение XX века.
В книге Бориса Борисовича впервые публикуются в широком масштабе архивные документы, посвященные истории продаж коллекций Эрмитажа за границу. В отличие от злорадных по духу публицистических публикаций на эту тему в отечественной прессе и как бы отвечая им, Борис Борисович выбирает тон спокойного, но полного осуждения анализа, учитывающего как реальные экономические и психологические обстоятельства времени, так и общий вывод о невозвратном ущербе, нанесенном музею. Представляя архивные материалы, он избрал эрмитажный акцент — «защита эрмитажных сокровищ», показывая, как в сложнейшей ситуации сотрудники Эрмитажа пробовали разные пути для защиты музейных коллекций от разграбления и в конце концов нашли способ, позволивший в чуть изменившихся условиях остановить безумные разрушительные действия правительства и «Антиквариата». Публикуемые им материалы совершенно уни¬
История Эрмитажа как история культуры России
11
кальны и удивительны по той красноречивой картине эпохи, которую дают скупые телеграммы и акты о выдачах.
Военные годы Эрмитажа по праву окрещены «Подвигом». Они хорошо и широко известны, однако Борис Борисович, непосредственный участник событий, и здесь сумел извлечь из архивов и из своей памяти новые и яркие сведения об эрмитажниках той поры и о мистической жажде жизни, сделавшей музей одним из вечных символов сопротивления Разума безумию. Список погибших на войне эрмитажников венчает этот раздел.
Послевоенная история Эрмитажа в книге освещена лишь бегло. Борис Борисович не успел должным образом его разработать. Кроме того, значительная часть этого периода — время его собственного директорства. Борис Борисович был очень щепетилен в описании близких времен, а тем более — собственных заслуг. Послевоенный Эрмитаж еще ждет аналитического описания.
Политическая жизнь страны, как и прежде, отражалась на жизни музея, хотя традиции и опыт руководства помогали смягчить удары и восстанавливать нормальную жизнь. Обострение политической борьбы после войны отразилось в отставке И.А.Орбели. «Оттепель» сделала Эрмитаж местом художественных манифестаций, порой находившихся на грани политических. Новое обострение стимулировало отставку М.И.Артамонова, а политические конфликты времени перестройки, напоминавшие по духу послереволюционные годы, ускорили кончину Б.Б.Пиотровского, положившего силы и жизнь на то, чтобы Эрмитаж продолжал оставаться Эрмитажем, а не рядовым полем битв политических сил и частных амбиций.
К чести Эрмитажа, резкие смены не прервали единую временную линию жизни Эрмитажа. Об этом заботились все его директора, сменявшие друг друга, этого хотели лучшие люди музея, этого хотел сам музей, давно уже ставший самостоятельным организмом.
Самостоятельный организм, однако, нуждается в постоянной поддержке и заботе. Послевоенное время — это поэтапное развитие и реставрация зданий Эрмитажа. Ремонты военных повреждений перешли в художественную реставрацию исторических залов, которая этап за этапом идет и по сей день. Великий музей не может не расширяться. Одним из важных этапов стала передача музею Дворца Меншикова на Васильевском острове. После долгой и тщательной реставрации здесь возник совершенно особый музей, восстанавливающий атмосферу петровского времени. Отдел Эрмитажа, Дворец Меншикова стал и новым центром культурной жизни города, с его музыкальными и литературными вечерами, научными конференциями и Голландским клубом.
Опыт воссоздания дворца Меншикова был плодотворно использован при реконструкции здания Эрмитажного театра (1985—1990 гг.). Под его сценой были обнаружены остатки первого этажа Зимнего дворца Петра Великого. Произведенная реставрация и создание особой экспозиции, посвященной Петру и организованной вокруг «Восковой
М.Б.Пиотровский
12
персоны» и личных инструментов и вещей Петра, подарили стране еще один новый тип живой экспозиции. Реконструкция самого здания театра и его сцены вернули в Эрмитаж активную театральную жизнь. Как и во времена Екатерины, имя Эрмитаж означает не только музей, но и театральные вечера самого высокого класса. Музей продолжает быть пристанищем всех муз.
Работы в здании Эрмитажного театра были первым шагом и образцом для общего Генерального плана реконструкции Эрмитажа. Он включает в себя реконструкцию исторических зданий и введение в них современных технологий. Осуществлено кондиционирование части Нового Эрмитажа, идут работы по реконструкции водоотводных систем, осуществляются проекты применения новых систем освещения, вводится новая схема пожарной сигнализации, строится система компьютерного обеспечения посетителей информацией.
Готовится давно задуманная реконструкция Малого Эрмитажа с созданием залов для временных выставок и защитой Висячего сада. Постепенно осуществляется восстановление интерьеров Зимнего дворца, есть планы использования для входа двора Зимнего дворца. Эрмитажу передано левое крыло здания Главного штаба и Арка Славы. Идет подготовка к созданию там особого рода экспозиции декоративного искусства, соединенной с основным комплексом музея подземным переходом.
Близка к завершению первая очередь реставрационно-хранитель- ского комплекса в Старой деревне. Там будут размещены, освободив дворцовые здания, многие технические службы. Там же построено огромное Фондохранилище, где многие «запасники» Эрмитажа в режиме «открытого хранения» будут широко доступны исследователям и просто посетителям. Сам комплекс станет культурно-просветительским центром этой части Петербурга.
Все эти свершения и планы представляют собой прямую и последовательную линию развития Эрмитажа, начатую и осуществлявшуюся с первых послевоенных лет. В разное время входили или будут входить в строй новые или отреставрированные части музея, обновляться его системы жизнеобеспечения. Появлялись и будут появляться новые по составу и характеру экспозиции. Все это — последовательное движение, в осуществление которого Борис Борисович внес огромный вклад, обеспечивая концентрацию сил и государственных ресурсов, зажигая своим энтузиазмом творческую активность архитекторов, строителей, художников, научных сотрудников.
В послевоенное время, как и прежде, Эрмитаж был оазисом мировой культурной традиции, убежищем для ума и эталоном вкуса, в ко-^ тором тысячи людей находили отдохновение от тягот окружающей жизни. Эрмитаж настойчиво осуществлял свои возможности знакомить людей с сокровищами мировой культуры. Постепенное, тихое, а потом и «шумное» открытое экспонирование работ импрессионистов, постимпрессионистов, Пикассо, Кандинского и т.д. прорывали суровые запреты на современный язык в искусстве и сыграли огромную
История Эрмитажа как история культуры России
13
В Павильонном зале Эрмитажа
М. Б. Пиотровский
14
В 1980-е годы
История Эрмитажа как история культуры России
15
На заседании
Президиума Академии наук СССР
М. Б. Пиотровский
16
В рабочем кабинете
История Эрмитажа как история культуры России
17
роль в художественном воспитании нескольких поколений российских художников. Это дополняли выставки современных зарубежных мастеров, становившиеся как бы художественным клубом интеллигенции. В закрытом советском обществе великими событиями были выставки из крупнейших музеев мира, знакомившие сограждан с иначе недоступными им мировыми шедеврами. Появление этих выставок во многом было обеспечено авторитетом Эрмитажа, его способностью на ответные жесты и авторитетом его специалистов и руководителей.
Борис Борисович уделял особое внимание выставкам, географически расширявшим кругозор советского зрителя, лично организовывая и осуществляя (вплоть до подготовки каталогов) выставки Сокровищ Тутанхамона, Искусства Нигерии, Золота Колумбии и многих других.
В закрытом советском обществе Эрмитаж был одним из самых открытых миру учреждений, его международные связи всегда были активными, будь то выставочная или научная деятельность. Тысячи гостей со всего мира вспоминают, какой радостью для них бывало посещение Эрмитажа, работа с его сотрудниками или просто встреча с его экскурсоводами, на фоне знакомства с другими отечественными учреждениями и институтами. Здесь всегда дышалось легче, чем в мире вокруг. Эрмитаж упрочил свое значение музея мировой культуры, музея для всего мира. Постепенное нарастание количества выставок из Эрмитажа и об Эрмитаже по всему миру было знаком этой мировой роли музея, щедро делящегося своими сокровищами с миром. Борис Борисович был одним из прекрасных посланников русской культуры в мире. Этому помогал не только титул директора Эрмитажа, но его неоспоримая слава знаменитого археолога и его замечательное умение общаться с людьми любых культур и любых рангов просто, открыто и всегда с высоким чувством собственного достоинства.
Собственная научная деятельность Бориса Борисовича, его археологические работы и книги были частью важнейшей стороны деятельности послевоенного Эрмитажа. Сенсационные археологические раскопки в Пазырыке, Пенджикенте, Кармир-блуре, Пскове и на многих других памятниках (включая Нубию) не только обогащали коллекции музея, вдыхая в него жизнь во времена почти полного отсутствия других источников поступления экспонатов. Они закрепляли престиж музея, его ученых и его реставраторов, были поводом и стимулом для совершенствования всех видов музейной работы, которыми был и остается знаменит Эрмитаж.
Эрмитаж был заповедником хорошего вкуса и хороших манер в общении, науке и искусстве. В том, что он хотя бы частично продолжает быть таким, заслуга и Бориса Борисовича, никогда, впрочем, не отделявшего себя от своих коллег, предшественников и учеников.
Он не успел придать этой книге об Эрмитаже окончательный вид, но он оставил тексты, которые изданы уже после его смерти и дополняют то, что публикуется здесь. Воспоминания «Страницы моей жизни» (СПб., 1995) доведены до пятидесятых годов XX в. В них много
М. Б .Пиотровский
18
рассказано о жизни и людях Эрмитажа того времени, когда он не был директором, но занимал по очереди все мыслимые места в постепенном иерархическом движении от школьника-практиканта до заместителя директора. «Путевые заметки» (СПб., 1997) посвящены заграничным путешествиям Бориса Борисовича, которые практически все были частью его международной деятельности в качестве директора Эрмитажа и связаны с международной активностью музея и его руководителя.
Эта книга об Эрмитаже, обо всех, кто в нем работал и работает, и она — о его директоре на протяжении 26 лет, который отдал Эрмитажу, как этого и требует вековая музейная традиция, всю свою жизнь, силы, ум и любовь.
02.12.97.
КРАТКИЙ
ОЧЕРК
Этот очерк написан Борисом Борисовичем Пиотровским к 225-летию Государственного Эрмитажа, с которым он был связан большую часть жизни и который он возглавлял свои последние двадцать шесть лет.
Изучение истории Эрмитажа для академика Б.Б.Пиотровского, крупнейшего историка и археолога, ученого, кому наука уже была обязана открытиями в изучении древних цивилизаций, стало в 80-е годы предметом его научных за¬
нятий, постоянной внутренней потребностью, ибо история Эрмитажа для Б.Б.Пиотровского была теснейшим образом связана с культурой России и была отражением ее истории.
Краткий очерк для ученого являлся как бы подготовкой к большому исследованию, задуманному им в середине 80-х годов, но неосуществленному. Однако подготовительные материалы были им собраны. Они публикуются во втором разделе книги.
ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА
Краткий очерк
Историю Эрмитажа обычно начинают с 1764 года, с доставки в Зимний дворец картин, купленных в Берлине у купца Гоцковского при посредстве посла В.С.Долгорукого. Эта большая коллекция, собранная в свое время для прусского короля Фридриха II, состояла из 225 картин, преимущественно голландских и фламандских художников.
Остается неизвестным, в каких помещениях Зимнего дворца были они развешаны, вероятно, в разных, так как очень давно цельность этой коллекции нарушилась при развесках, а происхождение картин даже забылось, вплоть до 1881 года.
Зимний дворец был закончен в основном в 1762 году, через два года в него переехала императрица Екатерина II, в свои личные апартаменты, в юго-восточном углу дворца. Эти комнаты императрицы были роскошно отделаны Валлен-Деламотом.
Особенно парадным был Зеркальный кабинет, устроенный в 1776 году на месте Библиотеки, из него скрытый ход через створки шкафа вел на антресоли, где располагались интимные комнаты с личными коллекциями императрицы, которые она называла «Эрмитажем».
Эти антресоли, именовавшиеся также «зелеными» или «китайскими», сохранялись до пожара дворца 1837 года, но после не восстанавливались.
Еще до переезда Екатерины в Зимний дворец, в 1763 году, было дано указание о постройке на территории, примыкавшей ко дворцу с востока, Висячего сада с двумя павильонами, его замыкающими. В одном из них, северном, называвшемся Оранжерейным домом, предполагалось устроить «Эрмитаж», комнату для интимных приемов.
Во многих западноевропейских дворцах XVIII века, в окружающих или примыкающих к ним парках, сооружались отдельные павильоны, называвшиеся Эрмитажем, то есть местом уединения; такой павильон был и в Петергофском дворце Петра I. Они представляли собой двухэтажную постройку, в нижнем этаже которой пребывали повара и слуги, готовившие и сервировавшие еду, доставлявшуюся посредством подъемных устройств на верхний этаж, где собиралось небольшое общество.
В XVIII веке вокруг Зимнего дворца садов не было, здесь простирались военные плацы, и Екатерина поручила Валлен-Деламоту в северном павильоне на конце Висячего сада, в Оранжерейном доме, устроить «Эрмитаж».
В небольшой комнатке были сооружены два подъемных стола на двенадцать персон. Позднее стены ее были сплошь увешаны картинами,
I История Эрмитажа
22
которые покупались за границей и в большом количестве стали поступать в Зимний дворец.
Первый ужин в «Эрмитаже» состоялся в 1769 году.
Подобный «Эрмитаж» с подъемным столом на шестнадцать персон был и во временном дворце Елизаветы Петровны (находившемся на территории нынешнего сада перед Зимним), где Екатерина жила со своим мужем, тогда еще наследником престола.
Императрица страстно и, по ее словам, «жадно» увлеклась собиранием картин. После первого привоза картин из Берлина через маркиза Маруцци в 1767 году поступила вторая партия из Венеции. Екатерина с нетерпением ждала эту покупку, о чем свидетельствует ее записка обер-гофмейстеру И.П.Елагину: «Перфильевич, можно ли без Маруцция достать, открывать и смотреть привезенные картины? Мы еще вчерась любопытствовали». Годом позже начались закупки, производившиеся замечательным дипломатом Д.А.Голицыным, близким другом Дидро, продолжавшиеся около пятнадцати лет. Можно сказать, что на аукционах конкурентов ему не было, и целым потоком ценнейшие произведения западноевропейской живописи стали стекаться в Петербург, в Зимний дворец. Деятельность Д.А.Голицына длилась до 1783 года, до того времени, как он вышел в отставку.
По мере роста коллекций для развески картин в 1775 году были построены две галереи по сторонам Висячего сада. Эти галереи и помещения северного павильона на протяжении двенадцати лет, до постройки дополнительного здания Фельтеном, были всей территорией картинной галереи Екатерины.
И замечания гостей, М.Корберона и И.Бернулли, о развеске картин, узости помещений и низко расположенных окон следует отнести именно к галереям по сторонам Висячего сада.
Попасть в картинную галерею можно было только через личные покои императрицы, другого пути не было. Коллекции ювелирных изделий, серебра, фарфора, резных камней и других предметов прикладного искусства хранились в интимных покоях Екатерины, на антресолях, описания которых нам известны по архивным материалам. Там были четыре комнаты, которые на протяжении длительного правления хозяйки неоднократно ремонтировались и заново обставлялись.
Первая из них служила приемной, стены ее были обиты цветной персидской тканью, в зеркальном алькове стоял диван, а по всей комнате были размещены различные китайские предметы (стулья, столы, ширмы, деревянные, лаковые и бронзовые фигурки).
Вторая комната — «картинная», была обита голландским полотном, на стенах висели картины, повсюду стояло множество китайских фарфоровых статуэток.
Третья комната — «большая», служила спальней, кровать стояла в алькове, но и в ней было множество мелких предметов, а также комодов, шкафов и сундуков.
Четвертая комната находилась над ризницей дворцовой церкви. В ней
Краткий очерк
23
стояли шесть золоченых кресел и три столика. Возможно, сидя в ней, императрица могла слушать церковную службу.
Екатерина образно описала свои антресольные комнаты, «свой Эрмитаж», в письме М.Гримму от 10 января 1778 года, по поводу присланного им столового сервиза. Она писала: «Этот сервиз очень хорошо приняли, он находится на моих антресолях, в комнате, именуемой музеем, рядом со своими золотыми и серебряными друзьями и драгоценными камнями, прибывшими со всех четырех сторон света, чтобы составить ему компанию, а также с большим количеством яшм и агатов, прибывших из Сибири; там им любуются только я да мыши, даже томы (собачки) заходят туда редко».
Кстати сказать, из письма Екатерины от 10 сентября 1777 года мы узнали, что над упомянутым «сервизом господина Бретеля» нависла большая опасность от разразившегося урагана, вызвавшего и наводнение: «Большое окно упало на пол возле самого стола, весьма прочного, на котором сервиз расставлен. Ветром сорвало с него покрывало из тафты, но сервиз остался целым».
«Моим Эрмитажем» Екатерина называла также предметы, хранящиеся на антресолях. Это видно из записки от 14 декабря 1770 года графу И.Э.Миниху, главному начальнику таможни, об освобождении от пошлины перевозимых предметов: «Г-ин граф Миных, через сие Вам объявляю что все вещи и Эрмитажен мои с собою привезет сожительница генерала Баура, коя суда едит, суть свободны от пошлинного збо- ра, Екатерина» и приписка: «Под сим разумею и сервиз мой серебряный, который привезут весной». Эту записку я обнаружил в коллекции г-жи М.Пост, в музее Хиллвуд (США).
Наряду с картинной галереей, которая размещалась только в «Де- ламотовом павильоне», увеличивалась и коллекция императрицы в ее интимных покоях.
Картинная галерея росла быстро, в нее вливались обширные по размеру, неимоверной ценности коллекции, закупаемые за границей, принадлежавшие знаменитым и именитым коллекционерам: Кобенцлю, Брюлю, Кроза... Уже через десять лет после покупки картин у Гоц- ковского галерея дворца насчитывала 2080 картин, причем русские дцп- ломаты не только приобретали целые собрания, но и делали заказы художникам, которые в то время пользовались популярностью.
В связи с ростом картинной галереи было решено в линию с Зимним дворцом, на набережной Невы, вплоть до Зимней Канавки, построить новое здание, разрушив на этом месте особняки знати. Новое здание было сооружено по проекту архитектора Ю.Фельтена. Это здание, называющееся ныне Большим Эрмитажем, имеет два этапа строительства: сначала был возведен трехэтажный корпус в 10 окон, законченный в 1776 году, затем, после разборки домов Олсуфьева и Кошелева, был достроен в 1784 году новый корпус в 17 окон, общий фасад обоих корпусов относится к 1787 году. Таким образом, территория выставочных залов екатерининского Эрмитажа увеличилась не сразу, а постепенно.
I История Эрмитажа
24
Еще до окончания фельтеновского здания архитектором Дж. Кваренги было построено здание театра, возведенное на месте старых дворцов Петра I и Екатерины I.
Указ о постройке театра к концу августа 1785 года был подписан Екатериной в 1783 году, но строительство было закончено на три месяца позже, и театр начал свою жизнь 16 ноября 1785 года с комической оперы «Мельник — колдун, обманщик и сват» (Е.Фомина на текст А.Аблесимова). Кваренги торопился с постройкой здания театра и поэтому сохранил части старых дворцов не только как фундаменты, но оставлял и стены. Произведенные в подвалах здания исследования обнаружили в засыпке старых стен большое количество кафелей от печей как голландских, так и русских.
Ввиду поспешности при постройке театральный зал был встроен в «скорлупу» петровского дворца, о котором Екатерина в своих письмах пишет как о существующем. Завершение фасада здания, выходящего на набережную Невы, было закончено Кваренги лишь в 1802 году.
1 сентября 1778 года императрица вследствие дурной погоды пребывала не в духе, но успокоилась при рассмотрении гравюр, изображающих фрески лоджий Ватиканского дворца. Об этом она написала Гримму: «Сегодня днем мне в руки попали плафоны лож Рафаэля. Я прошу Вас немедленно напишите Рифенштейну скопировать в натуральную величину эти своды, а также стены, и я даю обет святому Рафаэлю во что бы то ни стало выстроить эти ложи и поместить в них копии, так как непременно нужно, чтобы я видела каковы они. У меня к этим ложам и потолкам такое благоволение, что в честь них жертвую средства на постройку здания и не буду иметь ни покоя, ни отдыха пока все не будет окончено».
И.Ф.Рейфенштейн, друг Винкельмана, по рекомендации И.И.Шувалова стал комиссионером при русском дворе, заказывая картины художникам, закупал в Риме античные древности, давал императрице советы в области искусства и приобретения картин, посылал ей книги и альбомы.
Копирование росписей Лоджий Рафаэля он поручил Х.Унтерберге- ру, выполнявшему росписи Ватиканской библиотеки, и тот привлек к работе живописца Д.Анджелони и его сына. Работа была закончена быстро, и Кваренги получил поручение возвести для них здание на Зимней Канавке, которое и было закончено в 1787 году, почти одновременно с фельтеновским зданием. Разумеется, копии росписей Лоджий Рафаэля соответствовали требованиям своего времени, их нельзя считать точными, многие недостающие детали были дополнены произвольно. Кроме того, на одной из аркад герб папы Льва X был заменен в копии двуглавым орлом с вензелем Екатерины II.
Лоджии Рафаэля примыкали к торцовому фасаду фельтеновского здания, который посредством арки с большим холлом, перекинутой через Зимнюю Канавку, непосредственно соединялся с театром. Под аркой находился подъезд, который одновременно вел и в театр, в новую картинную галерею, и в Лоджии Рафаэля.
Краткий очерк
25
Дворцовая площадь.
Вид на Зимний дворец и Александровскую колонну Зимний дворец. 1754—1762.
Вид со стороны Дворцовой площади. Архитектор Ф.Б.Растрелли
История Эрмитажа
26
Зимний дворец. Вид со стороны Невы
Краткий очерк
27
С окончанием постройки фельтеновского здания и театра начался новый, последний период истории Эрмитажа Екатерины II. Императрица увлеклась театром и несколько остыла к своей картинной галерее. Д.А.Голицын вышел в отставку, и последним крупным приобретением картин была покупка в 1783 году коллекции Бодуэна во Франции, и та при активном участии А.Д.Ланского.
Увлекаясь театром, Екатерина «Эрмитажем» называла также вечера, устраиваемые для придворных и знати. «Малый Эрмитаж» собирал от шестидесяти до восьмидесяти приглашенных. Обычно в театре давали спектакли, играли пьесы, большей частью сочиненные лицами из общества императрицы, иногда иностранцами, а некоторые и ею самой. По сведениям, приведенным Ф.Жилем, «императрица садилась на вторую полукружную скамейку театра, имея перед собой, у ног своих, на первой скамейке нескольких избранных особ». После спектакля ужинали «в галерее на арках» (в фойе театра), танцевали в павильоне, проходя через залы фельтеновского здания, где были выставлены картины, «там нередко останавливались для осмотра этих картин, тут же стоял биллиард, привлекавший любителей, нередко из женского пола». Такие вечера устраивались несколько раз в месяц.
Вероятно, к ним относятся сохранившиеся выписанные на доске «Правила, по которым поступать всем входящим в сии двери». Эти правила висели в средней части западной (Романовской) галереи у Висячего сада, при проходе в Павильонный зал, около портрета Екатерины работы Эриксена._ В них, в частности, предписывалось: «1. Оставлять все чины вне дверей, равномерно как и шляпы, а наипаче шпаги. 2. Местничество и спесь, или тому что либо подобное, когда бы то случилось, оставлять у дверей. 3. Быть веселым, однако ничего не портить, и не ломать, и ничего не грызть». Последним, десятым, правилом было: «Ссоры иаизбы не выносить, а что войдет в одно ухо, то бы вышло в другое прежде нежели выступят изо дверей». Нарушителям этих правил предписывалось выпивать стакан холодной воды, прочесть вслух «страницу Телемахиды» или выучить из нее несколько строк. Нарушение же десятого правила каралось запрещением посещать вечера. Императрица старалась этим вечерам придать непринужденность и веселость. «Большим Эрмитажем» назывались вечера, на которых бывало до двухсот приглашенных, бывал наследник Павел, великие княжны, камергеры, камер-юнкеры, офицеры гвардии.
На праздник 1 января во дворец по билетам приглашалось громадное количество гостей, но Эрмитаж предназначался только для придворных, высоких сановников и старших офицеров. Ужин на шестьсот персон устраивался в Эрмитажном театре, причем искусственный настил соединял сцену со зрительным залом.
Об Эрмитажном театре и об увлечении им императрицей много сведений, иногда интимных, содержат «Дневниковые записи» ее статс- секретаря А.В.Храповицкого, относящиеся ко времени 1782—1793 годов. Записи рассказывают об Эрмитажном театре, выборе и заказах пьес, об успехах постановок, об артистах. Рассказывается, что веду¬
I История Эрмитажа
28
щему артисту И.А.Дмитриевскому «дана табакерка с червонцами, а для автора было приказано сыскать антики». Собирание антиков (античных камей) и миниатюр отмечается часто, сообщается о привозе медалей из «мраморного дома» и о том, что «примечено тщание Лужкова в разборе антиков и медалей, его велено принять в Академию наук почетным членом, с прибавкой жалованья».
Разговоры часто происходили во время причесывания императрицы, имели место взаимные жалобы на самочувствие, обмен мнениями и на политические темы. Так, императрица просила Храповицкого передать графу А.А. Безбородко, что для достижения скорейшего мира со Швецией следует поспешить совершением зимней кампании, осуждала А.В.Суворова за неподготовленные атаки с большими потерями солдат в Турции, сокрушалась по поводу известия о казни Людовика XVI.
Долгое время Храповицкий был руководителем придворного театра, но из-за интриг в феврале 1791 года ему пришлось это место покинуть. Он записал: «В вечеру играли в Эрмитаже «Федула», и Лизка (артистка Е.С.Уранова) подала на нас просьбу. В тот же вечер прислана записка и Трощинского, чтобы заготовить указ об увольнении нас от управления театрами... мы уволены, а князь Юсупов директор... В малой церкви венчали Лизку и Сандунова...» Но и после того как Храповицкий был отставлен от театра, его придворная карьера продолжалась: в сентябре 1793 года он был пожалован в тайные советники и сенаторы; заканчивая свою придворную деятельность, он «благодарил Ее Величество в ее кабинете, поднес на прощание три резных камня, был принят благосклонно».
Об Эрмитаже последних лет правления Екатерины II в 1793 году писал И.Георги в книге «Описание столичного города Санкт-Петербурга». Он подробно описал тридцать два зала придворного музея, отметив, что «картины висят в трех галереях, отчасти в комнатах Эрмитажа и расположены не столько по точному порядку школ, мастеров и пр., как по виду ими производимому...». Надо добавить, что в развеске соблюдалась иногда и принадлежность картины к определенной купленной для музея коллекции.
Посетитель екатерининского Эрмитажа проходил на внутреннюю лестницу, ведущую во второй этаж, с подъезда под аркой, перекинутой через Зимнюю Канавку; он попадал в помещение с тремя дверьми и скульптурной группой в центре его, изображающей Амура и Психею. Дверь напротив входа вела в фойе театра, на стенах которого было развешано 94 картины; левая дверь открывала вход в галерею Лоджий Рафаэля и в три смежных с нею зала, в которых были размещены минералогические коллекции, собранные Палласом, драгоценности и 160 картин, среди них выделялось крупное полотно Д.Рейнолдса «Молодой Геркулес, удушающий змей», заказанное художнику Екатериной.
Второй галереей была анфилада из четырнадцати залов фельтеновского здания, выходящих окнами на Неву. Стены их были увешаны картинами, стояли скульптуры, а в шкафах находился фарфор.
Краткий очерк
29
Зимний дворец. Центральная часть фасада со стороны Невы
История Эрмитажа
30
Зимний дворец.
Вид с запада
Вид со стороны Миллионной улицы на Зимний дворец и Дворцовую площадь
Краткий очерк
31
В третьем зале от угла напротив театра висело 128 картин, в частности Рубенса, Рембрандта и Ван Дейка, в шкафах был выставлен фарфор Мейссенской мануфактуры, а посреди зала — витрины с резными камнями.
В следующем зале, увешанном картинами, в 1784 году, после смерти А.Д.Ланского, была временная опочивальня императрицы, о которой она рассказывала в письмах к Гримму. На конце анфилады зал, перед большим овальным залом, была билиардная комната; Екатерина неоднократно в тех же письмах отмечала свою любовь к этой игре.
Переход из фельтеновского здания в корпус Деламота вел в его северную часть, где на конце Висячего сада находилась крытая оранжерея с различными деревьями и птицами разных пород, которые, по словам английского гостя Кокса, «составляют резкий контраст с самым неприветливым временем года». Екатерина любила посещать оранжерею, играть с обезьянкой, смотреть голубей, попугаев, «американских птичек синего, красного и желтого цвета».
В северо-восточной части павильона находилась комната «Эрмитаж», о которой говорилось выше, с двумя подъемными столами, каждый на шесть персон. На стенах висели 92 картины, в углах стояли бюсты П.А.Ру- мянцева и Б.П.Шереметева работы Ф.И.Шубина, а на камине бюст Дидро. Екатерина любила обедать в этом уединенном помещении.
Картины размещались и в четырех помещениях западной (Романовской) галереи. В средней ее части был выстроен пандус, ведущий в нее с первого этажа, тут же висели гобелены, портрет императрицы, стоял бюст Вольтера. В части галереи, примыкавшей к переходу в Зимний дворец, в личные покои Екатерины, были развешаны портреты лиц дома Романовых.
Восточная галерея начиналась небольшим, очень уютным и красивым кабинетом, отделанным Кваренги. Следующие за ним два зала были заполнены картинами, а последнее просторное помещение было отведено художникам для копирования картин Эрмитажного собрания. Русские художники получили возможность, не выезжая за границу, хорошо ознакомиться с шедеврами западноевропейской живописи, изучить мастерство великих художников прошлого. Копированием картин в Эрмитаже занимались знаменитые русские художники: Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, а А.И.Иванов в 1797 году копировал картину П.Веронезе «Оплакивание Христа», оказавшую влияние на все его творчество.
К концу XVIII века Эрмитаж стал одной из самых значительных картинных галерей Западной Европы, включавшей, согласно каталогу 1783 года, 2658 картин, но и другие экспонаты музея имели не меньшую, чем картины, ценность.
В письме к Гримму от 18 сентября 1790 года Екатерина писала: «Мой музей в Эрмитаже состоит, не считая картин и лоджий Рафаэля, из 3800 книг, четырех комнат, наполненных книгами и гравюрами, 10 ООО резных камней, приблизительно 10 000 рисунков и собрания естественно-научного, заполняющего два больших зала».
I История Эрмитажа
32
Переписка императрицы с Гриммом является бесценным источником для изучения екатерининского Эрмитажа. Письма довольно подробны, эмоциональны и содержат те сведения, которые без них пропали бы бесследно.
Мельхиор Гримм был близким другом Дидро, он способствовал закупкам картин для Эрмитажа, при его посредстве в 1766 году была приобретена библиотека Дидро. Гримм выполнял различные поручения Екатерины, от покупки картин и книг до приглашения актеров в Эрмитажный театр и заказа пьес. После того как Гримм покинул Париж и переехал в Германию, он стал состоять на русской службе, получая жалованье. Многочисленные знакомства и связи Гримма делали его для русского двора нужным человеком, этим и объясняется его дружба с императрицей.
Описание екатерининского Эрмитажа закончу выдержкой из письма императрицы Гримму от 29 августа 1794 года: «Холод выгнал меня из Таврического дворца; конец Августа точно Октябрь. Я приехала в свою зимнюю лачужку, поднялась по мраморной лестнице и прошла в залы, которые вновь отделаны под мрамор к свадьбе Александра... Я пошла в церковь посмотреть что там делается, потом в знакомую Вам галерею, а оттуда в свои комнаты, потом в Эрмитаж, в тамошний театр, из театра в ложи Рафаэля, прошла три зала, где помещается кабинет естественной истории и вернулась к себе в комнату, где и села Вам писать, после того как обошла весь дворец и Эрмитаж, что составляет версты две или три».
При вступлении на престол Павла I нарушилась непосредственная связь Эрмитажа с Зимним дворцом, так как императорской резиденцией стал Михайловский (Инженерный) замок, летом же император жил в Павловске и Гатчине.
Указом от 12 ноября 1796 года «ведение» Эрмитажем было поручено В.С.Попову, одному из приближенных Екатерины И, но вскоре Павел изменил свое решение, и 14 декабря того же года «в свое ведение» Эрмитаж и придворные театры принял Н.Б.Юсупов, сопровождавший Павла во время его путешествия по Европе в 1782 году и еще при Екатерине назначенный директором Эрмитажного театра. Н.Б.Юсупов был широко образованным придворным, имевшим свою картинную галерею, театр и библиотеку, но Эрмитажем занимался мало.
Отрыв музея от дворца привел к финансовым затруднениям. Для пополнения картинной галереи приобретались лишь отдельные художественные произведения, при оплате резных камней, заказанных еще Екатериной II, было указано — «впредь оных более не выписывать». Появились и хозяйственные затруднения и в части снабжения и штатов служащих. В одном из своих докладов Н.Б.Юсупов жалуется на недостаток корма для «птиц и зверьков» оранжереи. Это понятно, так как при Екатерине II жизнь Эрмитажа была неотделима от жизни дворца, причем все регулировалось непосредственными указаниями императрицы.
В административном отношении Эрмитаж при Павле I делился на три части, картины были поручены Ф.И.Лабенскому, эстампы архи¬
Краткий очерк
33
тектору В.Бренна, резные камни Г.К.Кёлеру, крупному ученому в области античного искусства (он же Е.Е.Кёлер).
Музей продолжал пользоваться заслуженной славой. В 1797 году Петербург посетил возвратившийся из ссылки король Польши Станислав-Август, который трижды побывал в Эрмитаже и был поражен его грандиозностью. Он подробно ознакомился с картинной галереей, с библиотекой Вольтера, «особенно любопытной вследствие помет, собственноручно сделанных Вольтером», и обратил внимание на модель его дома в Фернэ.
В Эрмитажном театре король слушал оперу «Зенобия» с декорациями Гонзага, а также слушал трагедию Сумарокова «Лжедимитрий», получив перевод на французский язык.
При Павле в Эрмитажном театре была введена строгая регламентация при раздаче билетов и относительно платья публики.
После вступления на престол Александра I в 1802 году Эрмитаж «был поручен» Д.П.Бутурлину, внуку фельдмаршала, воспитывавшемуся в семье графа А.Р.Воронцова, с которым дружил отец А.С.Пушкина. Д.П.Бутурлин жил в Москве, где в Немецкой слободе имел свой особняк с садом, знаменитой библиотекой и музеем. После гибели в 1812 году этого дома со всем имуществом он переселился во Флоренцию.
В архиве Эрмитажа сохранилась его записка 1804 года о положении Эрмитажа, в которой рекомендовалось изъять второстепенные картины и усилить собрание итальянской живописи, об открытии доступа в музей публики, особенно ученых и художников, а также установление правил посещения музея.
Русский библиографический словарь неправильно называет Д.П.Бутурлина «директором Эрмитажа», хотя и указывает на то, что он «не принимал в действительности никакого участия в управлении музеем». Тогда штата директоров еще не было, Эрмитаж не был обособленным учреждением и управлялся Министерством Двора. Иногда император давал своим приближенным особые поручения для ознакомления с придворными учреждениями. Интерес к Эрмитажному театру постепенно затухал, спектакли в нем прекратились, и в 1823 году указом императора он был передан для учения 1-го батальона Преображенского полка, казармы которого находились рядом с театральным зданием.
Выдающейся фигурой в жизни Эрмитажа первой половины XIX века был Ф.И.Лабенский, прослуживший в музее с 1796 по 1849 год. К сожалению, в архиве Эрмитажа сохранилось мало сведений о его деятельности (особенно при Павле I и Александре I). До нас дошли три его портрета, Ъдин живописный неизвестного автора, второй, рисованный художником К. Фогелем фон Фогельштейном, а третий, скульптурный, работы скульптора Каприоли. Копия завещательного распоряжения Лабенского, содержащая биографические сведения, была получена Эрмитажем из Фрейбурга в 1984 году, и она дополняет наши сведения об этом замечательном человеке, вся жизнь которого была связана с Эрмитажем. Ф.И.Лабенский, по поручению Н.Б.Юсупова, руководил комиссией по полной инвентаризации картин в Эрмита¬
I История Эрмитажа
34
же, Таврическом и Мраморном дворцах и составлению каталога живописи.
В апреле 1805 года Александром I было подписано «Положение полагаемое к учреждению по Эрмитажу», по которому в музее было образовано пять отделений: 1. Библиотека, резные камни и медали (нач. Г.К.Кёлер), 2. Картинная галерея, кабинет редкостей, бронза, изделия из мрамора (нач. Ф.И.Лабенский), 3. Гравюры (нач. И.С.Клаубер), 4. Рисунки (нач. М.М.Иванов), 5. Кабинет натуральной истории. Минералогическая коллекция (нач. Орловский).
Ведущим отделением в музее было, несомненно, II отделение, и Ла- бенскому приходилось заниматься многими общеэрмитажными делами. Он внимательно относился к покупкам картин за границей и во время командировки в Париж в 1808 году приобрел две замечательные картины: «Лютнист» Караваджо и «Госпожу со служанкой» Питера де Хоха.
В 1805 году Лабенским было предпринято издание «Галерея Эрмитажа», состоящее из гравюр, воспроизводивших картины музея, и их описания на французском и русском языках, составленное каталогизатором Камилем, но это издание было прервано в 1809 году из-за недостаточности средств, собранных при подписке.
Лабенский много разъезжал по делам музея, и не случайно ему выдавалось годичное «предписание почтовым станциям об ускорении поездок» по упомянутым в предписании трактам. Ныне нам трудно представить всю сложность работы многочисленной армии ямщиков, обеспечивавшей междугородние связи на широчайших просторах России.
По-прежнему в Эрмитаже работали художники по копированию картин, вместе с тем для пополнения галереи Эрмитажа Лабенский покупает произведения у русских художников: Ф.Матвеева, Венецианова, Орловского, Егорова, Шебуева. Ему приходится заниматься вопросами реставрации картин. В помощь Лабенскому для наблюдений за состоянием картин был придан придворный лакей А.Ф.Митрохин, занимавшийся живописью и ставший позже выдающимся реставратором, разработавшим метод перевода живописи с дерева на холст.
Проект Лабенского об учреждении при Эрмитаже реставрационной школы был осуществлен лишь в 1817 году.
В 1812 году после вступления армии Наполеона в Москву поступило распоряжение Александра I о немедленной упаковке и вывозу «в секретную экспедицию» Эрмитажных ценностей («разных редкостей, картин, антиков, бриллиантовых и золотых вещей»). Этот секретный груз был направлен в Вытегру, Лодейное Поле и Каргополь и возвратился в Петербург в июне 1813 года.
Скупые архивные материалы не: могли отражать участие Лабенского в этом деле, так же как и его заботы по приему в 1814—1815 годах поступивших коллекций картин и ликвидации последствий наводнения 1824 года. В делах сохранился только «Реестр Петергофских картин, поврежденных от бывшего ноября 7-го дня 1824 года наводнения».
Краткий очерк
35
Гораздо полнее отражена деятельность Лабенского в Эрмитаже во время царствования Николая I, до 1849 года.
Он заботился о парадной форме начальников и смотрителей отделений, приравненных к советникам придворной конторы. Он представил записку гофмаршалу К.А.Нарышкину о «прекращении вкравшихся в Эрмитаж беспорядков» с предложением о каждодневном дежурстве в музее «всякого звания придворных служителей», с их перечислением. Он представил проект, запрещающий посещать музей «в шинелях или шубах», с обязательным оставлением у дежурного тростей, зонтиков и калош. При Лабенском был введен допуск публики по билетам, выдаваемым хранителям, причем лицам хорошо известным мог выдаваться постоянный билет, который В.А.Жуковский в письме к А.С.Пушкину образно назвал «билетом на всю вечность».
Об Эрмитаже 1827 года мы можем судить по небольшой книжке И.Шнитцлера, изданной в Берлине, с описанием на французском языке залов и маршрута обзора. Посетитель поднимается по лестнице, ведущей в Картинную галерею и апартаменты директора, на второй этаж и в прихожей предъявляет свой билет, разовый или постоянный. Один из лакеев, находящихся в прихожей, следует с ним по Эрмитажу. Средняя в прихожей дверь ведет в фойе театра, где стоит «крупная ваза из колыванской яшмы и колонна в честь Полтавской битвы». Через правую дверь посетитель проходит в Лоджии Рафаэля, в которых установлено 30 шкафов с минералогическими коллекциями Палласа, а в прилегающих залах картины испанской школы и из Мальмезонской коллекции Жозефины. Посреди залов статуи Кановы.
Основной обзор начинается с залов фельтеновского здания. Почти во всех залах стоят русские художественные каменные вазы и столы, составляющие самостоятельную коллекцию музея. Картинная галерея начинается с жанровых картин разных школ, затем посетитель знакомится с шедеврами итальянской школы, размещенными в четырех залах. Зал, около Овального, занят картинами Рембрандта и его школы, посредине зала знаменитое музыкальное бюро Гамбса, а на месте, где раньше стоял бильярд, — бюст Екатерины II. Бюсты русских полководцев екатерининского времени установлены в Овальном зале, там же портрет Екатерины II работы Лампи.
В первой комнате Деламотова здания, где находился екатерининский «Эрмитаж», подъемных столов уже нет, они были разобраны еще при Екатерине II, в 1785 году, на их месте ваза из порфира и стол с «монументом в честь Екатерины», а на стене повешена большая картина Миньяра «Семейство Дария».
В книжке указывается, что сопровождающий лакей отсюда обычно возвращается, исключая обзор галерей по сторонам Висячего сада.
Первая часть восточной галереи была занята картинами французской школы, а во второй было развешано 16 картин русских художников. Третья часть, где в екатерининском Эрмитаже было помещение для копирования картин, в Эрмитаже 1827 года висели крупные картины Снейдерса. В Романовской, западной, галерее вместо портре¬
I История Эрмитажа
36
тов царского рода Романовых были развешаны картины разных школ, но «правила» для входящих в екатерининский Эрмитаж остались на прежнем месте, но прикрытые занавеской. Некоторые залы Эрмитажа этого времени известны нам по контурным рисункам Ю.Фриденрей- ха, выполненных в 1839—1841 годах.
В 1828 году нижний этаж фельтеновского здания был перестроен для государственных учреждений, служащим Эрмитажа оставался лишь третий этаж, с входом через театральную лестницу, там же находилась и квартира Лабенского.
Комитету министров передавались три помещения, выходящие на Неву, примыкающие к восточному подъезду здания. Залом заседаний Комитета служила выделенная средняя комната (ныне кабинет директора). Вся западная анфилада комнат, с залом заседания у западного подъезда, была отдана Государственному Совету. Западный подъезд и парадная лестница, ведущая на второй этаж, построены по проекту А.Штакеншнейдера, причем Овальный зал екатерининского Эрмитажа был перестроен в ее верхнюю площадку. Стены зала заседаний Комитета министров были обтянуты зеленым бархатом с изображением двуглавого орла, а зал Государственного Совета имел бархатную обивку малинового цвета, также с золотыми орлами. Об его внешнем виде можно судить по картине Зичи, изображающей последнее в здании Эрмитажа общее заседание членов Государственного Совета в 1884 году. На следующий год помещения первого этажа фельтеновского здания были возвращены Эрмитажу.
При Александре I Эрмитаж пополнился двумя крупными собраниями картин — коллекцией Кузевельта, купленной в Амстердаме, и приобретенной в Париже Мальмезонской картинной галереи супруги Наполеона Жозефины, а также отдельными покупками картин и скульп- тур у разных лиц. Лично сам император своим придворным музеем интересовался мало.
При Николае I Картинная галерея стала неотъемлемой частью Зимнего дворца и по-прежнему находилась в ведении Министерства Двора как собственность императорской фамилии. После подавления восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади для допроса арестованных декабристов был предоставлен большой зал невской анфилады фельтеновского здания, где висело 108 картин художников итальянской и испанской школ. Сам Николай во время хода следствия находился рядом, в надворном зале, среди картин Рубенса и Ван Дейка.
Император постоянно вмешивался в дела музея и дворца, естественно, им были убраны из галереи героев 1812 года портреты декабристов, но он также удалил из дворца и музея портреты фаворитов Екатерины II Зубова, Ланского и других. Не пощадил Николай и семейные драгоценности своей бабушки. Так, в 1847 году была переплавлена значительная часть сервизов Екатерины, на общую массу в 90 пудов. Известна также и нелюбовь государя к Вольтеру и его приказ убрать с глаз статуи Вольтера работы Гудона, с формулировкой «истребить эту старую обезьяну».
Краткий очерк
37
Главная галерея Зимнего дворца
История Эрмитажа
38
Главная
(в XVIII в. Посольская,затем Иорданская) лестница Зимнего дворца. 1756—1761. Архитектор Ф.Б.Растрелли
Краткий очерк
39
Главная лестница Зимнего дворца. Центральная часть
История Эрмитажа
40
Главная лестница Зимнего дворца. Фрагмент стены
Краткий очерк
41
Н.Н.Врангель в статье «Искусство и государь Николай Павлович», напечатанной в 1913 году в журнале «Старые годы», описывает уничтожение по указанию Николая польских художественных ценностей, привезенных в 1832 и 1834 годах. Сохранился рапорт Планата и Митрохина на имя Лабенского об «истреблении и сожжении польских портретов, картин и прочих вещей», привезенных из Варшавы в 37 ящиках. Можно себе представить душевное состояние Лабенского, поляка по национальности, получившего в руки этот рапорт.
Несмотря на то, что доступ посетителей в Эрмитаж осуществлялся через Дворцовое управление, музей с начала XIX века начинает занимать все более и более значительное место в развитии русской культуры. Художники и скульпторы этого времени Ф.П.Толстой, КП.Брюллов, А.Г.Венецианов, П.А.Федотов и многие другие изучали в Эрмитаже творения великих живописцев прошлого, часто их копировали, совершенствуя свое мастерство. Долговременное пребывание русских художников в Италии привело к осознанию необходимости расширения в музее коллекции картин старых мастеров Западной Европы. С 1801 года в экспозицию Эрмитажа стали поступать и картины русских художников. Так, произведения А.П.Лосенко, О.А.Кипренского, А.А.Иванова, А.Е.Егорова, В.К.Шебуева и других были развешаны в среднем помещении восточной галереи у Висячего сада в Деламотовом здании.
Любил Эрмитаж и хорошо его знал А.С.Пушкин, многие картины и галерея портретов героев 1812 года в Зимнем дворце нашли отражение в стихах поэта, а в 1832 году Пушкин был допущен к библиотеке Вольтера и на листке своей записной книжки сделал рисунок статуи знаменитого философа работы Гудона.
Во второй четверти XIX века значение Эрмитажа в развитии русской культуры настолько возросло, что особенно стали чувствоваться затруднения, связанные с тем, что музей был частью Зимнего дворца с ограниченным доступом, и передовая общественность стремилась повлиять на превращение Эрмитажа в общедоступный музей. Несмотря на то, что осцову Эрмитажа представляли Картинная галерея и собрание драгоценностей, он постепенно превращался в музей западноевропейской, античной и русской культуры, постепенно становился научным центром Петербурга. После первых научных археологических работ в Крыму, после раскопок в 1830 году богатого погребения бос- порского царя в кургане Куль-Оба в Эрмитаж стали поступать скифские и греческие древности, обнаруженные на юге России.
Хранителем I отделения Эрмитажа долгое время был крупнейший исследователь античных древностей Г.К.Кёлер, член Петербургской Академии наук с 1817 года, там же работал и филолог-классик, также член Академии наук, Ф.Б.Грефе, а исследование русских древностей было сосредоточено в отделении нумизматики того же отдела.
В декабре 1837 года грандиозный пожар, длившийся более суток, уничтожил весь Зимний дворец. Эрмитаж был спасен тем, что переходы из дворца в Малый Эрмитаж были разобраны, а окна, прилегающие к пожару, были заложены.
I История Эрмитажа
42
После пожара Николай I предписал восстановить Зимний дворец в кратчайшие сроки, к пасхальным праздникам 1839 года. Для выполнения этого предписания была создана комиссия во главе с министром Двора князем П.М.Волконским, в состав которой вошли архитекторы
А.Е.Штрауберг, В.П.Стасов, А.П.Брюллов и инженер А.Д.Готман. Была проделана громадная работа по составлению проекта восстановления и оперативного выполнения строительства. Менее чем через 15 месяцев после пожара, в марте 1839 года, состоялись торжества по поводу восстановления парадных залов, а в ноябре того же года царская семья вернулась в Зимний дворец.
Казна Министерства Двора оказалась настолько мощной, что сразу же после восстановления дворца встал вопрос о новом строительстве здания для Эрмитажа и реконструкции интерьеров фельтеновского корпуса.
После рассмотрения нескольких проектов был принят проект постройки нового здания для Эрмитажа, представленный в 1839 году архитектором Лео фон Кленце, строителем Пинакотеки в Мюнхене. Согласно проекту, сносился Шепелевский дом на Миллионной улице, в пристройке которого была устроена мастерская художника Дж.Доу, выполнявшего портреты для галереи героев 1812 года, а также конюшни с манежем. Новое здание должно было составить с фельтеновским корпусом замкнутый прямоугольник.
В 1842 году на проектных чертежах этого здания император наложил резолюцию «быть по сему», и сразу же началось строительство, которое велось под наблюдением специально образованной комиссии во главе с В.П.Стасовым, при ближайшем участии архитектора Н.Е.Ефи- мова.
Первоначально Л.Кленце, по-видимому, предполагал не только перестроить фельтеновский корпус, но и снести деламотовское здание с Висячим садом с тем, чтобы открыть площадь между дворцом и главным фасадом нового здания. Но уже на начальной стадии проектирования архитектору пришлось переменить решение и переместить главный вход на южный фасад, который по первоначальному замыслу должен был представлять глухую стену со статуями в нишах далеко не главных персонажей, таких как историка античного искусства Вин- кельмана, гравера эпохи Возрождения М.Раймонди, мифического греческого архитектора Дедала. Первоначальным замыслом Л.Кленце можно только объяснить то, что главный фасад нового здания с фронтоном, украшенным статуями Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта и А.Остаде, оказался выходящим на узкий двор. Тогда вестибюлем музея должен был быть зал с громадной колыванской вазой из яшмы, в нем сохранилась дверь, ведущая на лестницу, соединяющую три этажа здания. Портик главного входа Кленце украсил десятью гранитными статуями атлантов (по выражению Кленце — «телемонов»), образцом для которых ему послужила, судя по дошедшему рисунку, статуя из античного храма в Агригенте, в Сицилии. Мощные фигуры атлантов были выполнены под руководством скульптора А.И.Теребенева с высочайшим мастерством, поразившим Кленце, который сравнивал их
Краткий очерк
43
по точности обработки с монументальными скульптурами Древнего Египта. Это была высшая оценка работы русского скульптора.
Строительство Нового Эрмитажа, так он был назван по «Высочайшему повелению» от 14 сентября 1850 года, переданному через Придворную контору Министерства императорского Двора в Царском Селе, заняло шесть лет напряженного труда. За это время Л.Кленце несколько раз приезжал в Петербург, но вся работа, очень сложная, учитывая приспособление проекта к условиям северного климата, велась вне его руководства. К строительству были привлечены крупнейшие фабрики и заводы России, изготовлялись металлические конструкции перекрытий, чугунные решетки, зеркальные стекла, крупные колонны из цельного камня, стены облицовывались искусственным мрамором или покрывались сложными росписями, полы первого этажа были каменные, выложенные узором или мозаичные. Все это производило сильное впечатление на посетителей.
Для украшения интерьеров залов в них были расставлены вазы, торшеры, столы из цветного камня, изготовленные на знаменитых гранильных фабриках — Колыванской, Екатеринбургской и Петергофской, часто по рисункам выдающихся архитекторов, как Росси и Воронихин. Из этих изделий из цветного камня, как русских, так и иностранных, заказанных или приобретенных для Нового Эрмитажа, вместе с теми, которые были уже ранее в екатерининском музее, можно составить особый, великолепный музей.
Одна из знаменитых ваз этой коллекции, самая крупная, изготовленная в 1831 году из ревневской яшмы на Колыванской фабрике, была установлена в предполагавшемся вестибюле на западном фасаде здания, еще до завершения возведения стен. Так она и осталась там, ныне в окружении памятников античной культуры.
Одновременно со строительством здания проводилась большая работа по разбору и пополнению коллекций для новой экспозиции, по заказу и выполнению мебели в залах и по определению необходимого штата хранителей и обслуживающего персонала. И во все эти дела император вмешивался постоянно.
После ухода Ф.Лабенского из Эрмитажа ведущее положение в нем занял Ф.Жиль, во всем дилетант, но очень активный человек. Он обучал наследника французскому языку, затем стал придворным библиотекарем и заведующим Царскосельским Арсеналом.
При Николае I Эрмитаж делился на два отделения, и Ф.Жиль занял место заведующего I отделением, став, по существу, руководителем музея, оттеснив Ф.А.Бруни, в ведении которого были картины и скульптура. Он постоянно получал указания императора, передаваемые через гофмаршала Двора князя Трубецкого, а иногда и непосредственно от министра Двора князя П.М.Волконского.
К открытию Нового Эрмитажа была проведена большая подготовительная работа по учету коллекций музея и по составлению плана новой экспозиции по залам, с расстановкой существующей и вновь заказанной мебели.
I История Эрмитажа
44
В архиве Эрмитажа хранится обстоятельный рапорт Жиля, на русском и французском языках, о состоянии I отделения, необходимом пополнении коллекций, о личном составе отделения и о привлечении к работе в Эрмитаже академика Л.Стефани, специалиста по античности, для заполнения должности скончавшегося академика Г. К. Кёлера и ар- хеолога-нумизмата, также академика, М.И.Броссе. От Петербургской Академии наук было получено согласие на их работу в Эрмитаже.
Штат Эрмитажа в то время состоял из 31 работника музея и 90 служащих, в число которых входила и охрана.
В рапорте Жиля ставился вопрос о допуске посетителей в музей по билетам, подготовке небольшой книжки путеводителя, о постЬянном дежурстве сотрудников музея и об охранной службе.
Все это легло в основу «Инструкции управления Императорского Эрмитажа», изданной типографским способом в 1851 и 1853 годах. Эта инструкция окончательно оформила Эрмитаж как самостоятельное учреждение, но император упорно не хотел отказаться от роли его полновластного хозяина.
В 1848 году он дал поручение начальнику II отделения Ф.А.Бруни с двумя его сотрудниками пересмотреть все собрание картин во дворцах, общее число которых составляло примерно 4500, и разделить его на четыре группы. В первую включались картины для развески в залах нового музея (815 шт.), во вторую группу — предназначенные для украшения дворцов (804 шт.), третья группа выделялась для хранения в запасниках (1369 шт.), а четвертая была признана лишенной музейной ценности (1569 шт.). Сам Николай оставлял за собой право отнести рассмотренные картины в одну из этих групп.
Четвертая группа картин около пяти лет пролежала в кладовых, и в 1853 году 1219 картин из них были назначены к продаже «за негодностью». Летом 1854 года состоялась их продажа на аукционе, чистый доход от которой составил всего 16 447 р. 30 к., приблизительно 14 рублей за картину, а среди них были и шедевры, безвозвратно ушедшие из Эрмитажа.
Антиквар Кауфман на аукционе купил две знаменитые створки триптиха Луки Лейденского за тридцать рублей, а продал их Эрмитажу обратно, уже при Александре II, за 8 тысяч рублей. Н.Н.Врангель с правом назвал этот аукцион одним из «величайших» заблуждений николаевского времени.
В 1851 году здание музея было закончено, все коллекции распределены по залам, не всегда по их первоначальному определению, на что указывает несоответствие украшений помещений с экспозицией, и 5 февраля 1852 года состоялось торжественное открытие Нового Эрмитажа. Современники восторженно отзывались об этом празднике: «Все, что роскошь и богатство, в сочетании с искусством, могли представить в своем соединении, блистало на этом празднике».
Сразу же после открытия была предпринята большая работа по документальным акварельным зарисовкам залов и экспозиции, в которой приняли участие художники К.А.Ухтомский (25 акварелей), Э.П.Гау (20)
Краткий очерк
45
Главная лестница Зимнего дворца. Вид на верхнюю площадку
История Эрмитажа
46
Д.Гаспаро.
Плафон Главной лестницы Зимнего дворца
Краткий очерк
47
и Л.Премацци (10), закончившие зарисовку всех помещений в 1861 году. Эти акварели являются ныне основным материалом, по которому мы можем ознакомиться с развеской картин и расстановкой экспонатов в Эрмитаже.
В первом этаже кленцевского здания размещались залы античного искусства, античная и русская скульптура, собрание гравюр и рисунков и библиотека. В отдельных шкафах была размещена библиотека Вольтера, около которых стояла и мраморная статуя Вольтера, до удаления ее из музея по приказу императора.
В музей были доставлены и монументальные памятники Древнего Египта — крупные каменные саркофаги военачальника Яхмеса и его матери, привезенные герцогом Лейхтенбергским, и статуя львиноголовой богини Сохмет, попавшая в Петербург в 1837 году благодаря стараниям путешествовавшего по Египту А. Норова и долго стоявшая в здании Академии художеств в вестибюле под лестницей.
Второй этаж был занят Картинной галереей, преимущественно произведениями старых западноевропейских мастеров, но один из залов был отведен картинам русских художников, где выделялись два крупных полотна — «Последний день Помпеи» К.Брюллова и «Медный змий» Бруни.
Два зала в юго-восточной части здания были отведены монетам и медалям, выставленным в специально изготовленных для нового музея витринах, украшенных позолоченными аллегорическими фигурами.
В записке Ф.Жиля от 16 февраля 1848 года по поводу «домебели- ровании зал» Нового Эрмитажа писалось: «Витрины для медалей и монет новейшего времени имели бы украшением женские кариатиды в костюме, облегающем обыкновенно фигуры, которыми олицетворяются города, с коронами на голове, наподобие башни. Для восточных монет кариатиды сии могли быть заменены львиными головами, фигурой многозначительной в восточной нумизматике, что касается греческих и римских медалей, то вместо львиных голов можно было бы избрать головы грифонов, многозначительной эмблемы в древней нумизматике».
Архитектор Л.Кленце очень внимательно относился к мебели, которая предназначалась для проектируемых им зал, и постоянно утверждал рисунки витрин, присылаемые ему из Петербурга. Любопытна рекомендация Кленце использовать для эрмитажной мебели ящики красного дерева, в которых из Бразилии привозился сахар.
Жиль в своих рапортах часто указывает на то, что Кленце пользовался представленными им рисунками, несколько их изменяя. Сегодня эрмитажная мебель XIX века уже перестала быть связанной с определенными залами, и только Двадцатиколонный зал в Отделе античного мира сохранил кленцевские витрины.
Новый Эрмитаж поражал посетителей роскошью, красотой залов, разнообразием коллекций, в нем представленных. Открытие этого музея для широкой публики было крупнейшим событием в культурной жизни не только Петербурга, но и всего государства.
I История Эрмитажа
48
В 1854 году, накануне Крымской войны, Петербург посетила миротворческая делегация английских квакеров с целью отговорить императора России от начала военных действий. Николай, оттягивая встречу, поручил своему министру иностранных дел графу Нессельроде занять членов делегации и показать им новый музей.
Квакеры в своих письмах на родину восторженно о нем отзывались, музей поразил их дворцовой архитектурой и богатством коллекций.
Приведу некоторые выдержки из их писем. Так, член делегации Дж.Стуркс писал, что они были в «Эрмитаже», примыкающем к Зимнему дворцу, где живет император, но не являющемся его частью. «Если бы мы могли описать красоту и величие этого места, что едва ли возможно, то наши друзья сочли бы это преувеличением. Конечно, мы смогли получить только общее представление, хотя и прошли, наверно, милю или больше, по галереям и залам, выполненным в пышном, но в то же время строгом стиле. Некоторые посвящены медалям и монетам... другие — скульптуре классической и современной. Большая же часть — картинам... Однако более всего, пожалуй, поражает пышный характер мебели в различных комплексах залов, богатство и высокая тщательность обработки множества колонн итальянского мрамора, обычно из одного монолита, красота потолков...». Другой член делегации, Г.Пииз, заметил, что «обилие золота напомнило ему рассказ о том, как Соломон в изобилии использовал этот металл в Иерусалиме». Руководитель делегации Роберт Чарлтон особое внимание обратил на зал монет и медалей разных стран, его поразило на выставке обилие английских монет «от Этелреда до Виктории, за период более тысячи лет».
Действительно, нумизматическое собрание Эрмитажа было первоклассным, росту его способствовали покупки крупных коллекций монет и медалей у частных лиц и за границей. Хорошо известно, что в XVIII и в первой половине XIX века во всех музеях, имевших нумизматические собрания, проводилась активная и серьезная работа по историческим темам. Так было и в Эрмитаже. В начале XIX века в работе нумизматического кабинета принимали участие такие крупнейшие ученые, как специалист по античности академик Петербургской Академии Г.Кёлер и академик Ф.Круг, а в середине XIX века в кабинете стали работать такие крупнейшие ученые, как востоковед академик М.Броссе и виднейший специалист по славяноведению и русской истории академик А.Куник.
Таким образом, уже с самого своего основания Новый Эрмитаж как музей стал крупным научным центром, связанным с Петербургской Академией наук.
С начала существования Нового Эрмитажа как музея вход в него разрешался только по пригласительным билетам, по которым могли пройти не более пяти посетителей в установленное для действия музея время.
Входные билеты выдавались Придворной конторой начальникам I и II отделений, которые при раздаче их представляли в контору сведе¬
Краткий очерк
49
ния о том, кому и под каким номером билет выдавался, с возвращением их после использования в контору. Император часто вмешивался в выдачу билетов, менял их форму и правила распределения. В 1853 году были введены постоянные именные билеты, выдававшиеся лишь по высочайшему его величества разрешению. В 1854 году начальники отделений были лишены права раздачи билетов, и они стали выдаваться непосредственно в Придворной конторе. С 1857 года были введены персональные годовые билеты восьмиугольной формы из картона разного цвета по годам (зеленые, белые, желтые) и право их выдачи было предоставлено обер-гофмаршалу А. Шувалову.
В архиве Эрмитажа хранится подробная переписка Придворной конторы с администрацией музея, передающая указания государя императора, ослабляющие или ужесточающие выдачу билетов в музей.
В январе 1852 года обер-гофмаршал А.Шувалов передал Ф.Жилю высочайшее указание о том, чтобы «впредь до разрешения на впуск публики в Эрмитаж по предложенным печатным билетам, посетители, кроме особых от высшего начальства разрешений, не были допускаемы в оный с половины первого часа до двух с четвертью, так как в сие преимущественно время Его Величество изволит сам посещать каждодневно Эрмитаж».
Я привел подробно документы по регламентации посещения Эрмитажа в николаевское время для того, чтобы показать, в каких трудных условиях работали хранители музея, постоянно ожидавшие окрик императора.
Н.Н.Врангель в своей уже упомянутой статье дал следующую характеристику Николая Павловича: «Человек узких мыслей, но широкого их выполнения; ум небольшого кругозора, всегда непреклонный, почти упрямый и никогда ни в чем не сомневающийся... мощный властитель, часто с нерусскими мыслями и вкусами, но с размахом всегда чисто русским; непреклонный, повелительный, непомерно честолюбивый, император во всем, что он делал: самодержавен в семье, в политике, в военном деле и в искусстве. В последнем он мнил себя особым знатоком, знатоком, каким должен быть всякий в его положении. Но прежде всего и во всем император был военным, военный в муштровке, в манерах и вкусах, военный во всех помыслах и делах». Эта характеристика блестяще подтверждается необъяснимыми действиями императора по отношению к памятникам искусства и той тяжелой обстановкой работы хранителей музея, которая открывается в их переписке с Министерством Двора и Придворной конторой.
По первоначальному проекту Л.Кленце фельтеновское здание должно было в перестроенном виде включаться в здание Нового Эрмитажа, но это предложение осуществлено не было. После перенесения всех коллекций екатерининского Эрмитажа в новый музей освободившееся здание так называемого Большого Эрмитажа было поставлено на ремонт с реконструкцией интерьеров, длившийся до 1860 года. Эта большая работа была поручена архитектору А.Штакеншнейдеру, который превратил все интерьеры Кваренги, в основном строгих форм,
I История Эрмитажа
50
в парадные залы. Особенно роскошным стал главный зал, в котором в свое время происходил допрос декабристов. В нем над дверьми в овальных медальонах были помещены портреты фельдмаршалов русской армии: П.Румянцева, Г.Потемкина, А.Суворова, В.Долгорукого, М.Кутузова и И.Паскевича. Роскошными стали и двери, выполненные в стиле Буля, украшенные узором из ажурной золотистой бронзы, заполненным массой из расплавленных панцирей черепах.
На месте большого Овального зала была сооружена парадная лестница, названная Советской, так как за стенкой ее вестибюля находилась зала присутствия Государственного Совета. Новый подъезд открывал доступ на эту лестницу и далее по невской анфиладе зал фельтеновского здания в театр.
Совершенно был реконструирован и северный павильон Малого Эрмитажа: на конце Висячего сада были разобраны стены небольших помещений, в том числе и «Эрмитажа» Екатерины И, и у сохраненной крытой оранжереи был устроен большой зал с колоннами и верхней галереей, очень красивой, но по стилю крайне эклектичной, что было характерно для творчества А.Штакеншнейдера. Переделка интерьеров была проведена также в галереях по сторонам Висячего сада. Анфилада зал фельтеновского здания, выходящая окнами на Неву, и надворные помещения стали называться «седьмой запасной Зимнего дворца».
После вступления на престол в 1855 году Александра II положение Эрмитажа при императорском дворе стало изменяться. В 1852 году министром Двора был назначен В.Ф.Адлерберг, заменивший скончавшегося князя П.М.Волконского. Эрмитаж стал постепенно выходить из непосредственного подчинения управлению Дворцовой конторы, как было при Николае I, получая некоторую самостоятельность.
В 1861 году вышла книга «Музей Императорского Эрмитажа. Описание различных собраний, составляющих музей, отпечатанная в типографии Императорской Академии наук». Она в полной мере отражает положение Эрмитажа в то время.
По существу, эта книга касалась преимущественно выставок I отделения, в котором работали наиболее авторитетные ученые.
В начале 60-х годов XIX века в Эрмитаже интенсивно проводилась музейная работа, учет музейных ценностей, составление описей, каталогов и путеводителей. Обо всем этом говорилось и в объяснительной записке Ф.Жиля, поданной им при организации Нового Эрмитажа.
Наиболее сложным делом было составление каталога Картинной галереи, порученное Н.А.Лукашевичу и Симону. В.Ф.Левинсон-Лессинг справедливо указывает на то, что в то время история искусства не находилась еще на должной высоте, отсутствовали серьезные научные исследования, да и опубликованный материал из европейских музеев был крайне ограниченным.
Левинсон-Лессинг дал следующую характеристику искусствоведческой работы в Эрмитаже в 1850 году: «Вполне естественно, что познания Лукашевича и Симона, при всей их добросовестности, были весьма ограничены. Бруни, довольно много бывавший за границей, обладал
Краткий очерк
51
более широким кругозором и опытом, но вопросы истории искусства его интересовали мало, а исторической подготовкой он не обладал. Короче говоря, в галерее работали культурные и во многом сведущие дилетанты».
Выход из положения был только один — приглашение в Петербург квалифицированного консультанта из зарубежных музеев. Выбор пал на директора картинной галереи Берлинского музея Г.Ф.Вагена, известного в то время авторитета в области искусства.
Ваген был в Эрмитаже дважды, в 1860 и 1861 годах, ему было поручено редактирование каталога картин, вышедшего в 1863 году, экспертиза произведений живописи не только в Эрмитаже, но и в других петербургских коллекциях. В результате этой работы Ваген выпустил собственную книгу о Картинной галерее Эрмитажа, им были также высказаны замечания по составу коллекций, экспозиции, освещению и отоплению и предложение — картины русских художников, органически не связанные с музеем, передать в Академию художеств.
Несмотря на то, что по наследству от екатерининского Эрмитажа главным разделом музея была Картинная галерея, Новый Эрмитаж формировался как музей искусства и археологии. Из петербургских и пригородных дворцов в Эрмитаж были доставлены античные скульптуры и среди них статуи Венеры (Таврической) и пастуха, привезенные в Россию еще при Петре I, скульптуры из коллекции Д.Лайд Брауна, купленные при Екатерине И, античные предметы из собраний Демидовых и Лаваль.
Античная скульптура в Новом Эрмитаже значительно пополнилась приобретением в 1861 году С.А.Гедеоновым в Риме коллекции маркиза Д.Кампана.
Д.В.Григорович, любивший Эрмитаж, в своей книжке «Прогулка по Эрмитажу» (1865 г.) писал: «Я помню еще очень хорошо, когда собрание Эрмитажа помещалось в залах старого здания; главную роль играли картины; античных предметов было так мало, что они не составляли даже особого отдела. Теперь антикам тесно в обширных залах нижнего этажа, нарочно для них устроенных».
С основанием Нового Эрмитажа продолжалась и расширялась научно-исследовательская работа, преимущественно по античности и нумизматике.
Труды академиков Ф.Круга и Г.Кёлера, ушедших из жизни до 1851 года, прямо не касались памятников античного искусства, но эта работа значительно оживилась при вступлении в Эрмитаж академика Л.Стефани в 1851 году. Он провел основную работу по созданию капитального труда «Древности Боспора Киммерийского» (1854 г.), хотя его издателем числился вездесущий дилетант Ф.Жиль.
Ф.Круг и Г.Кёлер принимали участие в работе над античными монетами в Отделе нумизматики, так же как и академик М.И.Броссе, занимавшийся более общими проблемами археологии Грузии и Армении. Изучением русской нумизматики занимался академик А.А.Куник, а собрание и исследование западноевропейских монет находилось в
I История Эрмитажа
52
руках Б.Кёне, постоянного соперника Ф.Жиля и пользовавшегося дурной репутацией в связи с его обыкновением заполнять частные коллекции фальшивыми монетами.
Так же как в Европе, в Эрмитаже, именно в Отделе нумизматики, сосредоточивалась научная работа по истории, связанная с изучением событий по медалям и уточнению хронологии по монетам. Углубленное исследование медалей и монет приводило к историческим обобщениям, а, с другой стороны, исторические обобщения постоянно подкреплялись нумизматическим материалом. Этим объясняется и то, что Отдел нумизматики Эрмитажа с самого его основания и до наших дней постоянно занимался историей русской культуры.
После смерти Николая I со стороны императорского двора отношение к Эрмитажу стало изменяться. Ранее штат Эрмитажа подчинялся Придворной конторе и через нее получал распоряжения министра Двора и императора, если не считать устных указаний Николая I при посещении музея.
При Александре II отношения Эрмитажа с императорским двором стали иными, сильно возрос авторитет руководящего состава музея и встал вопрос о введении должности Директора Императорского Эрмитажа с присвоением ему высокого придворного чина, равного чину начальника Придворной конторы.
Но для занятия этой должности необходимы были близость к императорскому двору и авторитет в широких кругах петербургской интеллигенции. Выбор пал на Степана Александровича Гедеонова, сына директора Императорских театров, одаренного человека, крупного ученого по ранней истории России, имевшего уже заслуги перед Эрмитажем в деле приобретения коллекций античных древностей и картин.
Окончив в 1835 году Университет, Гедеонов стал секретарем президента Петербургской Академии наук С.С.Уварова, занимаясь вместе с тем литературной, драматургической деятельностью.
В 1841 году ему было присвоено звание камер-юнкера Двора его императорского величества, а в 1848 году стал помощником заведующего, а позже и заведующим «Археологической комиссии для приискания древностей», проработав в Риме четырнадцать лет. Приобретение в Италии античных скульптур и коллекций древностей связало его деятельность с Эрмитажем, и понятно, что самым подходящим кандидатом на учреждаемый пост директора Эрмитажа был С.А.Гедеонов. С 1861 года император Александр II и министр Двора В.Ф.Адлер- берг неоднократно вызывали его для участия в «суждениях по некоторым делам, касающимся Императорского Эрмитажа», а с 4 июня 1863 года Министерством Императорского Двора он был уведомлен о его назначении Директором Императорского Эрмитажа.
В том же году Гедеонов получил титул гофмейстера Императорского Двора и был избран почетным членом Петербургской Академии наук, позже, в 1867 году, он стал также директором Санкт-Петербургских и Московских театров, заменив в этой должности своего отца.
Краткий очерк
53
Гедеонов активно занялся упорядочением дел в Эрмитаже, особое внимание он обращал на издание каталогов коллекций музея, сам написал каталог древней скульптуры, выдержавший несколько изданий и переизданный в 1901 году с иллюстрациями (из-за трудностей полиграфии того времени каталоги печатались без иллюстраций, иногда к ним добавлялись таблицы, выполненные литографическим способом, или издавались отдельные альбомы).
Гедеонов заботился также о широком посещении Эрмитажа, отменил сначала выдачу билетов через Придворную контору, а позже установил беспрепятственный вход публики в Эрмитаж, сняв обязательное требование о парадной форме посетителей, упростил правила работы художников, занимавшихся копированием картин.
Через два года после своего назначения он докладывал дворцовому управлению: «...предоставленные публике в последние полтора года удобства к доступу в императорский музеум, новые приобретения значительных художественных коллекций, издания каталогов и т.п. имели следствием постоянное посещение Эрмитажа с.-петербургскими жителями».
Была изменена и структура музея, вместо двух крупных отделений стало пять: 1) отделение греческих и римских древностей (заведующий академик Л.Стефани), 2) отделение медалей и монет (заведующий академик М.Броссе), 3) отделение скифских и русских древностей, с включением Галереи драгоценностей и Петровской галереи (заведующий академик А.Куник), 4) отделение гравюр и рисунков (заведующий профессор Академии художеств Ф.Иордан), 5) отделение картин и портретов Романовской галереи (заведующий профессор Академии художеств Т.Нефф, с 1864 г.).
В 1863 году закончилась карьера в Эрмитаже Ф.А.Жиля, который, будучи учителем наследника Александра Николаевича, в 1854 году был причислен к Министерству Императорского Двора, а в 1860 году назначен начальником I отделения Эрмитажа; эту должность он совмещал с заведованием личной библиотекой императора и был хранителем дворцового арсенала.
При министре Двора В.Ф.Адлерберге его положение пошатнулось, он подал прошение об отставке и уехал* за границу, в Любек, где через два года покончил с собой.
В Эрмитаже выдвинулся его соперник Б.Кёне, ставший «ученым советником при Директоре».
Научная деятельность Гедеонова была разносторонней, но основным трудом его была двухтомная монография «Варяги и Русь», опубликованная в 1876 году, направленная против нормандской теории происхождения славян. Первоначально, еще в 1862 году, краткие выводы этой работы были опубликованы в приложениях к «Запискам Императорской Академии Наук», с критическими замечаниями крупнейшего историка А.Куника, приверженца нормандской теории. Так, в Эрмитаже уживались два крупнейших русских историка, стоявшие на разных научных позициях.
I История Эрмитажа
54
Гедеонов заботился о пополнении собрания Эрмитажа. Кроме покупки в Италии археологических коллекций, в 1864 году в Милане в семье графов Литта, связанных с русским императорским двором, он приобрел знаменитую «Мадонну Литта» кисти Леонардо да Винчи или его ближайшего ученика, не уступающего по таланту своему учителю, а позднее он приобрел для Зимнего дворца «Мадонну Конестабиле» Рафаэля, поступившую в залы музея в 1881 году.
После Гедеонова в 1879 году назначение директора Эрмитажа получил Александр Алексеевич Васильчиков, состоявший в ведомстве иностранных дел, с причислением к миссии в Риме. В 1866 году он получил должность церемониймейстера Двора его императорского величества, с оставлением в Министерстве иностранных дел, что свидетельствует о его близости к царской семье и подкрепляется воспоминаниями его родственников, рассказывающих о его непринужденном поведении в обществе царя.
Приняв должность директора Эрмитажа, он заботился об умножении коллекций музея. В 1882 году во Флоренции им была приобретена фреска из монастыря Сан Доменико во Фьезоле, в 1885 году в Париже за семь миллионов франков была куплена замечательная коллекция А.П.Базилевского, содержащая первоклассные памятники Средневековья и эпохи Возрождения. При нем в Эрмитаж была возвращена статуя Вольтера в кресле работы Гудона, изгнанная из музея Николаем I, состоялась передача в Эрмитаж из Монплезира в Петергофе картины Рембрандта «Давид и Ионафан» и картины Тьеполо «Меценат перед Августом» из Гатчины. Пополнились и коллекции античных памятников. В 1885 году в Эрмитаж поступило богатейшее собрание оружия, в том числе художественного, из Царскосельского Арсенала, основанного в 1811 году.
Васильчиков занимался историей русского искусства: кроме книги об Эрмитаже (1880 г.) им написана книга о портретах Петра I, пятитомная монография о семье Разумовских и «Список русских портретов». Русскую картинную галерею музея он дополнил портретами работы Левицкого и Аргунова, хотя сам он был противником включения в Картинную галерею Эрмитажа произведений русских художников.
В своих рапортах 1881 и 1883 годов Васильчиков писал, что эрмитажное собрание русских картин дает неверное представление о развитии русского искусства, так как в нем представлены в основном образцы «эпохи псевдоклассицизма и слепого подражания избитым европейским образцам», которые «бледнеют» перед гениальными творениями старых мастеров.
Он предлагал в Москве, в Румянцевском особняке, который остается пустым, организовать достойный музей русского искусства. Там русскую живопись можно представить на образцах разных школ, что даст более полное представление о ее величии.
В 1882 году Васильчиков назначается председателем Императорской Археологической комиссии, сменив на этом посту графа С.Г.Строганова,
Краткий очерк
55
Георгиевский (или Большой Тронный) зал Зимнего дворца. 1795.
Архитектор Дж. Кваренги.
Восстановлен после пожара 1837 г.
В.П.Стасовым и Н.Е.Ефимовым
История Эрмитажа
56
Галерея 1812 года в Зимнем дворце. Первоначальный проект 1826 г. архитектора К.И.Росси
Краткий очерк
57
не прерывая работы в Эрмитаже, где он старался поднять научный уровень, привлекая к работе выдающихся русских ученых. С 1880 года в музее стали работать египтолог В.С.Голенищев, сохранивший возможности долговременных поездок в Египет, и исследователь античной культуры Г.Е.Кизерицкий, составивший рукописный каталог собрания Отделения древностей. Эрмитаж в 1886 году пополнился выдающимся знатоком византийского искусства Н.П.Кондаковым и крупнейшим историком искусства А.И.Сомовым, поднявшим искусствознание в Эрмитаже на уровень западноевропейской науки.
В 1885 году структура Эрмитажа была вновь изменена и музей был разделен на пять отделений: 1) классической археологии, 2) Средних веков и эпохи Возрождения, 3) живописи, гравюр и рисунков, 4) нумизматики и 5) русского искусства.
В путеводителе по Петербургу, изданному в 1885 году под редакцией Р.С.Попова, дано подробное описание Эрмитажа, с размещением экспонатов по залам.
В летнее время (июль, август) музей был открыт с 10 до 4 часов пополудни, кроме пятницы и больших праздников, а в остальные месяцы ежедневно. Для осмотра галерей Петра Великого и драгоценных вещей посетители впускались по особым билетам. Вход в Эрмитаж был с Миллионной улицы. Через портик с атлантами, из вестибюля, посетители попадали в три зала с античными вазами и далее на выставку гравюр, рисунков и в библиотеку. Влево от вестибюля и парадной лестницы был зал Древнего Египта, античной культуры, городов Северного Причерноморья и скифских древностей. Статуя Венеры Таврической находилась в среднем по дворовому фасаду зале (ныне в зале перед Особой кладовой).
Число посетителей в год достигло 50 тысяч человек.
В октябре 1888 года А.А. Васильчиков по болезни покинул пост директора Эрмитажа и его занял князь Сергей Никитич Трубецкой, недавно произведенный в чин обер-гофмаршала императорского двора.
В архиве Эрмитажа хранится «Формулярный список о службе Вре- менно-заведывающего Императорским Эрмитажем, обер-гофмаршала Двора Его Императорского Величества князя Сергея Никитича Трубецкого». Этот документ очень ярко отражает жизненный путь Трубецкого, близко стоящего к императорскому двору и, по-видимому, по этой причине выдвинутого на должность заведывающего (директора) Императорским Эрмитажем. Окончив Пажеский корпус, он был причислен к лейб-гвардии Преображенскому полку, быстро продвигаясь в чинах, получая русские и иностранные ордена. В 1849 году он участвовал в походе в Венгрию, а с 1850 года находился на Кавказской линии, подавляя сопротивление горцев и «возмущение» в Закавказье.
В русско-турецкой войне 1877—1878 годов участвовал в боях при Аладже, вел переговоры с турецкими уполномоченными о сдаче Ба- тума и вступил в него с русскими войсками, состоял при наместнике Кавказском и в свите его императорского величества.
I История Эрмитажа
58
По принятии должности директора Эрмитажа Трубецкой длительное время жил в Тифлисе, куда ему переводилось «содержание» (979 руб. 99 коп. в месяц, состоящее из 653 руб. 33 коп. жалованья и 326 руб. 66 коп. — столовых). В отсутствие Трубецкого его обязанности выполнял академик А.А.Куник. Десять последних лет своей жизни Трубецкой состоял в должности «заведывающего» (директора) Эрмитажа, но ввиду периодических долгих отсутствий из Петербурга он так и не был утвержден постоянным директором.
В начале своей деятельности в музее он им интересовался и в 1889 году был командирован за границу «для ознакомления с настоящим состоянием наиболее известных иностранных музеев и с теми в устройстве этих учреждений особенностями, которые полезно иметь в виду управлению Императорского Эрмитажа...». Но позже, пребывая долгое время на Кавказе, он отошел от активной работы в музее, который был всецело в руках академика А.А.Куника.
Эрмитаж считался собственностью императорской семьи, и благополучие Эрмитажа зависело от отношения к нему царствующего императора, и если к музею не было особого интереса, то он рассматривался как часть Зимнего дворца. В последней четверти XIX века резко снизились средства на приобретение ценностей для пополнения коллекций, несмотря на то, что в культурной жизни России Эрмитаж играл важную роль, хотя эта роль и не удовлетворяла многих деятелей культуры.
В.В.Стасов, сын архитектора, много потрудившегося для создания интерьеров Зимнего дворца и Нового Эрмитажа, считавший Эрмитаж «сильным впечатлением юности», еще в 1877 году писал о том, что музей из-за ограниченности доступа не выполняет своего назначения для воспитания широких кругов русской интеллигенции.
В среде художников Эрмитаж пользовался большой популярностью. Как и раньше, на образцах старой живописи они учились и совершенствовали свое мастерство. В последней четверти XIX века в Эрмитаж пришли представители нового поколения русских художников: В.Г.Пе- ров, И.Н.Крамской, В.И.Суриков, И.Е.Репин. Но посетителей в залах было немного.
В этом отношении очень характерна статья писателя Д.Н.Мамина- Сибиряка, напечатанная в 1891 году в петербургской биржевой газете «Новости». В ней автор, страстный любитель археологии, пишет: «Я уверен, что найдется немало таких коренных петербуржцев, которые совсем не бывали в Эрмитаже или бывали в нем 10—15 лет назад. Зато «наивный» провинциал, приезжая в Петербург, считает своим долгом урвать свободную минуту, чтобы «обежать» столичные музеи и прежде всего, конечно, побывать в Эрмитаже...
В обширной передней вас охватывает дремлющий полусвет и таинственное эхо осторожных шагов, как где-нибудь в старинном храме. Да, это и есть храм, храм искусств... Таинственный полусвет как нельзя больше идет к нижнему этажу, в котором почивают древности Азии, Африки и Европы...»
Краткий очерк
59
Анфилада в Зимнем дворце
История Эрмитажа
60
Малахитовый зал в Зимнем дворце. 1839. Архитектор А.П.Брюллов
Краткий очерк
61
Описав выставку памятников Древнего Египта, писатель переходит к античным: «Гораздо богаче, полнее и в прямом смысле слова рельефнее его сосед — отдел античных древностей Греции и Рима. Светлая, ликующая жизнерадостная Греция слетела сюда всем своим Олимпом... Здесь царит красота, вернее сказать — статика красоты, для выражения которой мрамор является лучшим материалом... Переходим к Риму, семихолмному Риму, залившему своей и чужой кровью всю всеобщую историю. Вот римские боги — обломки греческого Олимпа, переиначенные на свой римский лад...» Мамин-Сибиряк обращается к скульптурным римским портретам знаменитых людей, «вскормленных железным молоком римской волчицы», и считает, что «для изображения этих лиц нужен не мрамор, а железо».
Закончив описание Отдела древностей, писатель обращается к «скромному русскому читателю»: «Наш долг заинтересовать его, чтобы он сам отправился в Эрмитаж и осмотрел все то, о чем мы говорили выше. Нам лично приходилось бродить по совершенно пустым залам, не считая двух-трех торопливо промелькнувших художников». Затем Мамин-Сибиряк обращается ко второму этажу и так же эмоционально описывает скульптуру и живопись, выделяя жемчужины Эрмитажа. Но он обратил внимание лишь на залы, на проходивших мимо него художников, но ведь кроме выставочных помещений в музее были и хранилища, и научные кабинеты, где проводилась большая работа, где трудились выдающиеся представители русской исторической науки и многих из них, особенно археологов, писатель знал лично, ведь позже Мамин-Сибиряк был избран членом-корреспондентом Московского Археологического общества.
В 1899 году директором Эрмитажа стал обер-гофмейстер Двора, зани мавший также пост директора Императорских театров, Иван Александрович Всеволожский. Окончив в 1856 году Петербургский университет, он начал свою службу по дипломатической линии в Министерстве иностранных дел, но с 1881 года, после назначения директором Санкт-Петербургских и Московских театров, он отошел от дипломатической службы, сосредоточив всю свою деятельность в области искусства. Понятно, что после кончины С.Н.Трубецкого в 1899 году именно ему было предложено занять место директора Эрмитажа, музея, который И.А.Всеволжский хорошо знал, будучи старым другом
А.А.Васильчикова.
Соответственно положению новому директору Эрмитажа была отведена квартира в Зимнем дворце, ранее занимаемая Трубецким. Всеволожский, широко образованный человек, имевший широкие связи за границей и в кругах петербургской интеллигенции, позже избранный почетным членом Академии художеств, хорошо понимал значение Эрмитажа и его роль в развитии культуры.
Его помощниками по научной части были А.И.Сомов, выдающийся искусствовед, и Г.Е.Кизерицкий, известный археолог. Они помогали директору укрепить научный штат музея и провести ряд работ по улучшению хранительской и экспозиционной части. Во главе основных
I История Эрмитажа
62
подразделений Эрмитажа стояли крупные специалисты, привлеченные к работе в музее еще в 80-х годах, люди широких интересов и больших знаний. Их круг пополнился исследователями западноевропейского искусства Э.К.Липгартом и Д.А.Шмидтом, востоковедом Я.И.С- мирновым, а в арсенале с 1903 года стал работать Э.Э.Ленц.
Следует заметить, что многие сотрудники Эрмитажа состояли в нем сверх штата, без оплаты, но официально оформленные, а иные, активно принимавшие участие в жизни музея, с решающим голосом на совещаниях, приходили в музей по доброй воле, без оформления. Эта традиция существовала в Эрмитаже очень долго, и еще в 1922 году над столом вахтера служебного подъезда висел список академиков, которым разрешался свободный доступ в музей для участия не только в научной, но и хранительской работе.
Крупнейший египтолог В.С.Голенищев в 1880 году был «определен на службу в Императорский Эрмитаж без содержания, но с правами государственной службы».
В 1886 году он был «зачислен хранителем Эрмитажа с годовым окладом содержания 2750 руб.», но с 1899 года, по личной просьбе, снова перешел на должность «сверх штата», вероятно для того, чтобы иметь возможность проводить долгое время в Египте.
В архиве Эрмитажа хранятся благодарности Голенищеву за «пожертвованную Эрмитажу библиотеку, состоящую из 848 томов по ассириологии», за передачу Эрмитажу для распространения изданных на его средства двух книг «Описание ассирийских памятников, находящихся в Эрмитаже» (1400 экз.) и каталога египетских древностей (210 экз.).
При расширении научной работы по истории культуры Древнего мира, стран Востока и по археологическим материалам, поступающим из Императорской Археологической комиссии, ослабла работа по расширению Картинной галереи музея, и в печати стали снова появляться пессимистические статьи о затухании Эрмитажа, о запустении в его залах, статьи более тревожные, чем очерк Мамина-Сибиряка. Действительно, средства на приобретение новых музейных экспонатов, на что требовались особые ассигнования Министерства Двора, значительно снизились, и многие очень нужные для Эрмитажа картины из частных собраний уплывали за границу. Приобретения музея стали довольно скромными.
В годы первой русской революции, в 1905 и 1906 годах, в Эрмитаже было тревожно, дирекция опасалась нелегальных сборищ в залах музея и даже диверсий. В секретной переписке дирекции музея и Министерства Двора ставился вопрос о временном удалении из музея наиболее ценных экспонатов.
Было установлено ограничение доступа посетителей с требованием предъявления при входе паспорта или визитной карточки и расписки в книге гостей. Сотрудники Эрмитажа проверялись на благонадежность дворцовой полицией.
Разумеется, все это не могло не оказать влияния на нормальную жизнь музея.
Краткий очерк
63
Ротонда в Зимнем дворце. 1830-е гг. Архитектор О.Монферран
История Эрмитажа 64
Ротонда в Зимнем дворце Большая церковь в Зимнем дворце. Внутренний вид. Фрагмент. Архитектор Ф.Б.Растрелли.
Краткий очерк
65
28 октября 1909 года скончался И.А.Всеволожский, и 1 декабря того же года было объявлено «Всемилостивейшее повеление быть Директором Эрмитажа Д.И.Толстому, с оставлением его церемониймейстером и состоящим в ведомстве Министерства иностранных дел».
Дмитрий Иванович Толстой окончил юридический факультет Петербургского университета, служил чиновником особых поручений при Министерстве иностранных дел, был «товарищем управляющего Русского музея императора Александра III».
После вступления в должность директора Толстой был командирован за границу для ознакомления с музеями, оставив в Петербурге своим заместителем Э.Э.Ленца.
Привлечение в штат Эрмитажа крупных искусствоведов и углубленная работа по изучению западноевропейской живописи выдвинули вопрос о перестройке Картинной галереи.
В 1910—1912 годах на основе детального изучения всей коллекции картин эрмитажного собрания Э.К.Липгартом и Д.А.Шмидтом была проведена новая развеска картин, с удалением в запасники второстепенных произведений и дополнением экспозиции картинами, ранее не выставленными. Наряду с новой экспозицией посетители Эрмитажа получили великолепный подарок — небольшой по формату, но очень содержательный и красиво изданный «Путеводитель по Картинной галерее Эрмитажа», составленный А.Н.Бенуа.
Бенуа принадлежал к той группе художников, которые не были связаны с Эрмитажем по службе, но играли значительную роль в сближении сотрудников музея с художественной средой Петербурга и художественными журналами, в первую очередь с журналом «Старые годы», в котором постоянно печатались статьи об Эрмитаже и о выдающихся произведениях из его коллекций, которые продолжали пополняться.
Особенно сенсационной была покупка в 1914 году «Мадонны с цветком» Леонардо да Винчи, принадлежавшей семье Бенуа. По сообщенным в печати сведениям, она была приобретена в Астрахани и принадлежала странствующему итальянцу-музыканту.
Вокруг этой картины разбушевалась полемика. За авторство Леонардо решительно, несмотря на активные возражения, выступил Лип- гарт, не предрешая вопрос об авторстве, за покупку картины Эрмитажем высказалось и собрание Академии художеств. Постепенно принадлежность этой небольшой замечательной картины кисти Леонардо стала общепризнанной, но вместе с тем и рухнула красивая легенда о итальянце-музыканте, хранившем этот шедевр. В Астрахани была обнаружена опись коллекции картин генерала Корсакова, которая начиналась картиной «Мадонна с цветком», уже тогда считавшейся произведением Леонардо да Винчи. Остаются неясными причины, по которым Сапожников, купивший эту картину в Астрахани, скрыл ее действительное происхождение.
Также крупным приобретением была покупка картин в 1911 и 1912 годах из коллекции Строгановых в Риме и Петербурге. В ее состав
I История Эрмитажа
66
входили такие шедевры, как «Мадонна» Симоне Мартини и реликва- рий, расписанный Фра Беато Анджелико.
В 1910 году Эрмитажем была куплена большая коллекция голландской живописи у знаменитого русского путешественника П.П.Семе- нова-Тян-Шанского, собиравшего картины с пониманием их художественной ценности. Эта коллекция оставалась у ее бывшего владельца до 1915 года.
Приведенная в порядок Картинная галерея вместе с залами нумизматики, удобная для обозрения развеска картин, чистота, представительность обслуживающего персонала, дежурившего в форме, введенной еще в первой половине XIX века, небольшое количество посетителей и полумрак в зимнее время производили на гостей музея большое впечатление.
Не менее внимательно сотрудники Эрмитажа отнеслись и к первому этажу, где располагались выставки античного мира, графики и библиотека.
На смену старому составу сотрудников Отделения древностей пришел выдающийся знаток античного искусства, с широким кругозором и солидной подготовкой за границей Оскар Фердинандович Вальд- гауер, начавший работу в Эрмитаже еще при Всеволожском кандидатом хранителя без жалованья и получивший должность старшего хранителя лишь в 1913 году.
В отделении Древнего Египта помощником В.С.Голенищева стал тогда еще молодой египтолог В.В.Струве, зачисленный в штат Эрмитажа в 1914 году. Струве был учеником академика Б.А.Тураева, постоянно принимавшего активное участие в работе Эрмитажа. Интересна переписка Тураева с Голенищевым, находившимся в Египте, об организации русской археологической экспедиции в Египет, к сожалению, так и неосуществленной.
После перестановки скульптур и реэкспозиции расписных ваз на выставку Отделения древностей были включены и археологические материалы из скифских курганов и античных городов Северного Причерноморья, но в запасниках Эрмитажа оставалось еще много другого не менее ценного и интересного материала из раскопок, ежегодно передаваемых Эрмитажу из Императорской Археологической комиссии, но им места в музее не хватало. Второй этаж фельтеновского здания принадлежал дворцовому ведомству, «VII запасная половина» служила гостиными для приема гостей Эрмитажного театра, где ставились спектакли, проводились костюмированные вечера с участием царя, членов его семьи и приближенных, включая и директора Эрмитажа.
Это соседство парадных дворцовых помещений с залами музея приводило к тому, что при больших празднествах в театре гостевые помещения расширялись за счет музея и в выставочных залах расставлялись столы для буфета и карточной игры.
Для расширения экспозиции Эрмитажа ему был передан пустовавший после выезда Государственного Совета и Комитета министров первый этаж фельтеновского здания. В этих помещениях была устроена
Краткий очерк
67
Большая церковь в Зимнем дворце. Внутренний вид.
Архитектор Ф.Б.Растрелли.
История Эрмитажа
68
Большая церковь в Зимнем дворце. Внутренний вид
Краткий очерк
69
постоянная выставка материалов, отсутствовавших в залах Нового Эрмитажа: оружие различного времени из Царскосельского Арсенала и других собраний, коллекция памятников средневекового искусства и эпохи Возрождения из собрания Базилевского, приобретенного Эрмитажем в 1885 году, а также древности из раскопок на территории России, передаваемые Археологической комиссией.
Экспозиция в этих залах существенно отличалась от выставок Нового Эрмитажа, в них было тесно, материал выставлялся без необходимого разграничения, часто в неудачных для обозрения витринах.
В этих комнатах находились такие замечательные экспонаты, как крупная фаянсовая ваза Фортуни из Альгамбры, сибирские древности, великолепные русские золотые и серебряные изделия домонгольского периода, художественные изделия средневекового Египта, Ирана и Ирака, серебряные сасанидские блюда, древности из раскопок средневекового города Сарай-Берке на Волге и др.
Залы арсенала имели декоративные обрамления, оружие развешивалось на стенах, создавая причудливые узоры, как в старинных замках и во дворцах. Особенно тесно было в комнатах, выходящих во внутренний двор Нового Эрмитажа, ныне превращенных в коридор.
У администрации музея и тогда было много трудностей и технических проблем: протечки застекленного потолка в «больших просветах», появившиеся трещины на ногах атлантов портика главного входа, сухость в залах от системы отопления, отсутствие освещения и необходимость в темное время пользоваться фонарями и свечами, забота о гардеробе для посетителей. А популярность Эрмитажа и число посетителей неизменно росло, это число в 1914 году перевалило за 180 тысяч человек.
Назревала потребность проведения в музее экскурсий, но, несмотря на многочисленные заявки, дирекция Эрмитажа допускала лишь ограниченное число групп, считая, что Эрмитаж посещают люди, знакомые с искусством и не нуждающиеся в объяснениях. В 1914 году число экскурсантов доходило до 14 тысяч.
В связи с трудностями в организации экскурсий большевистская газета «Правда» в 1913 году (тогда она называлась «За правду») печатала краткие методические указания порядка осмотра петербургских музеев и Эрмитажа в частности.
Мирная жизнь Эрмитажа была прервана осенью 1914 года первой мировой войной. Сразу же с началом военных действий на фронтах Эрмитаж стал готовиться к эвакуации, которая была осуществлена только после свержения самодержавия, уже при Временном буржуазном правительстве, в 1917 году.
Февральскую революцию 1917 года Эрмитаж, как большая часть петербургской интеллигенции, принял спокойно, сразу же сделав заявление о признании новой власти. Хотя формально Эрмитаж был отделен от Зимнего дворца, он был в ведении комиссара бывшего Министерства Двора Ф.А.Головина, от которого и получал все распоряжения.
I История Эрмитажа
70
В марте 1917 года на общем собрании сотрудников Эрмитажа обсуждался вопрос о продолжении работы в музее, было решено работу продолжать в полном объеме, но от впуска публики временно воздержаться.
Но вскоре и этот вопрос был решен положительно, хотя персонал служителей требовал предоставления им свободного дня по воскресеньям, что собранием было отклонено.
25 августа, после того как немецкие войска вступили в Ригу, комиссар Головин поставил вопрос об эвакуации в Москву «только самого драгоценного». При обсуждении этого вопроса указывалось, что Эрмитажу «грозит серьезная опасность от бомб с цеппелина, от разграбления чернью или немцами и, наконец, от пожара». Говорилось о том, что меньшую опасность представляют немцы, так как , по всей вероятности, они потребуют возвращения только некоторых из мальмезон- ских картин, захваченных в свое время Наполеоном в Германии.
После дебатов было вынесено решение об общей эвакуации Эрмитажа, для чего потребуется 650 ящиков для упаковки и 20—21 товарных вагонов для отправки ящиков в Москву.
В архиве Эрмитажа хранятся фотографии упаковки коллекций, снятия картин со стен, перетаскивания ящиков солдатами.
Была определена дата отправки — 15 сентября 8 часов утра (все даты до 14 февраля 1918 года приводятся по старому стилю) и дано поручение «договориться с солдатами относительно работы во все эти дни». Было поручено постоянному заместителю директора Я.И.Смирнову и С.А.Гамалову-Чураеву сопровождать железнодорожный состав, конвоируемый юнкерами, до Москвы.
По прибытии в Москву эрмитажные ящики были размещены в Историческом музее, Оружейной палате и Большом Кремлевском дворце. Крупный по размерам ящик со статуей Вольтера работы Гудона был установлен в вестибюле Благовещенского подъезда дворца. Ящики отправлялись в Москву двумя партиями, третья партия ящиков, подготовленная к отправке, так и осталась в Петрограде.
Великую Октябрьскую социалистическую революцию Эрмитаж встретил растерянно, так как его штат был настроен реакционно и аполитично.
Штурм Зимнего дворца Эрмитажа не коснулся, музей и в предшествующие дни был совершенно изолирован от дворца, да и сразу после штурма в Эрмитаж для охранной службы был направлен отряд красноармейцев.
7 ноября по старому стилю, через две недели после победы революции, на совещании служащих Эрмитажа обсуждался вопрос об установлении связи с батальоном Преображенского полка, находившимся на противоположном Эрмитажу берегу Зимней Канавки, для усиления охраны музея, о проверке сигнализации и внутренних телефонов и о постоянной проверке всех дверей, «соприкасающихся с помещениями Зимнего дворца».
Краткий очерк
71
Через три дня, 10 ноября, собралось совещание служащих Эрмитажа, на котором был заслушан доклад В.В.Воинова о собрании членов Союза служащих бывшего Министерства Двора и было единогласно принято решение: «присоединиться к Союзу союзов служащих всех правительственных учреждений и в частности к мерам бойкота представителей захватчиков власти с целью не дать им возможности укрепиться, выражающемуся в следующем: не признавать власти представителей захватчиков и продолжить исполнение всей текущей работы. В случае вмешательства: а) персонального — отвечать бойкотом в той форме, которая окажется наиболее целесообразной в каждом отдельном случае, б) письменного — пакеты вскрывать, но оставлять без действий».
Советское правительство отнеслось к этому акту со стороны служащих Эрмитажа спокойно, А.В.Луначарский привел даже в качестве аналогии поведение штата Лувра в дни Парижской коммуны, и было решено, при участии Г.С.Ятманова, комиссара по защите музеев и дворцов, не обращать на бойкот служащих Эрмитажа внимания и для сохранения ценностей дать им возможность работать, даже с обещанием не вмешиваться в дела музея (письмо А.В.Луначарского в январе 1918 года).
Вся музейная работа: собирание памятников искусства, распределение национализированных художественных частных коллекций и распределение их между музеями Петрограда и Москвы — была сосредоточена в Коллегии по делам музеев, ученым секретарем которой был молодой тогда, но уже известный востоковед И.А.Орбели.
Через Коллегию по делам музеев в Эрмитаж стали поступать большие и весьма ценные национализированные коллекции, значительно обогатившие собрание музея, но Совет Эрмитажа считал национализированные сокровища на временном хранении и даже вынес решение — запросить иностранные дипломатические миссии о стабильности положения.
Эрмитаж жил в тревоге по поводу эвакуированных в Москву своих сокровищ, сначала до Петрограда доходили панические слухи о разрушении Кремля, а затем сведения о перемещении ящиков, об их вскрытии для проверки сохранности. В связи с этим заместитель директора Я.И.Смирнов, избранный в мае 1917 года академиком, дважды совершал трудный путь в Москву для выяснения истинного положения. Тревоги оказались необоснованными.
В начале августа комиссаром Эрмитажа был назначен Н.Н.Пунин, что вызвало неудовольствие, так как он активно поддерживал футуризм. Совет Эрмитажа вспомнил обещание Луначарского не вмешиваться во внутреннюю жизнь музея, но Пунин этот протест парировал: «дав обещание не вмешиваться, власть и не вмешивалась, пока не нашла работу Эрмитажа недостаточной и несоответствующей. Эрмитаж сам виноват в том, что мало работал».
По настоянию Луначарского директор музея Д.И.Толстой поставил на обсуждение вопрос о «предстоящих работах по реорганизации Эр¬
I История Эрмитажа
72
митажа», в члены Совета были дополнительно выбраны С.А.Жебелев, М.И.Ростовцев и А.Н.Бенуа.
Реорганизация музея началась с перевыборов всего научного состава, с участием представителей других учреждений. Для проведения выборов Совет Эрмитажа был дополнен тремя представителями (делегатами) Академии наук, представителями Университета, Русского музея и Археологической комиссии, а также «лицами из числа деятелей искусства».
На заседании Совета под председательством академика А.С.Лаппо- Данилевского было избрано 28 научных сотрудников.
Летом 1918 года Д.И.Толстой был освобожден от должности директора Эрмитажа, сначала он уехал в Киев, а оттуда на юг Франции.
Директором был избран Сергей Николаевич Тройницкий, заведующий Галереей драгоценностей, работавший в музее с 1908 года. Он был одним из основателей журнала «Старые годы» и издателем журнала «Гербовед», поскольку его основные интересы поначалу были связаны с исследованием гербов, позже он занимался ювелирным делом и предметами из серебра.
Осенью 1919 года, после обсуждения отчетов избранных работников Эрмитажа, коллегией под председательством академика В.В.Бартольда было проведено окончательное утверждение состава сотрудников музея и упорядочена структура четырех отделов (Отдела древностей, прикладного искусства, Картинной галереи, нумизматики и глиптики), состоящих из 19 отделений.
В конце 1918 года началась и просветительская работа. В Николаевском и Гербовом, самых крупных залах Зимнего дворца, устраивались кинематографические сеансы, концерты и лекции. Вся работа проводилась в трудных условиях, так как за состоянием зданий не могло быть должного надзора, многие помещения Зимнего дворца пустовали, зимой в нем было холодно и посетители принуждены были не снимать верхнюю одежду.
Были начаты робкие попытки восстановить и выставки. Проводилась распаковка ящиков, подготовленных для эвакуации, но в Москву не отправленных.
Эрмитажу было передано Ламотовское здание с Аполлоновым залом, примыкающим к Тронному залу Зимнего дворца, и «VII запасная половина». В апреле 1919 года была устроена первая эрмитажная выставка живописи из оставшихся в Петрограде картин, а в августе того же года небольшая выставка Отдела древностей «Заупокойный культ Древнего Египта». На эти выставки проходили с набережной Невы, через Советский подъезд. К выставкам были выпущены небольшие брошюрки, выполненные на весьма высоком полиграфическом уровне.
Естественно, из-за небольшого числа открытых залов и посещаемость Эрмитажа в 1919 году была небольшой, достигала всего 11 130 человек, но по мере устройства выставок уже в 1920 году она увеличилась до 20 132 человек.
Краткий очерк
73
Сохранившийся журнал совещаний при Отделе древностей за 1919 и 1920 годы свидетельствует об интенсивной научной деятельности сотрудников Эрмитажа, с участием членов Археологической комиссии, находившейся в одном с Эрмитажем здании. Обсуждались также и организационные вопросы о создании музея русской археологии и было решено, что этот музей не должен быть вне Эрмитажа.
В 1920 году Эрмитаж жил в тревоге по поводу возвращения из Москвы эвакуированных коллекций. Доходили сведения об устройстве в Москве временных выставок эрмитажных сокровищ, о выделении картин Эрмитажа для пополнения коллекций московских музеев.
В апреле по вопросу об ускорении реэвакуации в Совет Народных Комиссаров РСФСР было направлено соответствующее письмо, подписанное М.Горьким (избранным в январе 1918 года почетным членом Эрмитажа), академиками Н.Я.Марром, С.Ф.Ольденбургом, А.А.Шах- матовым и другими крупными учеными. Письмо это было передано
А.В.Луначарскому, и 22 июня Совнарком наконец вынес решение о возвращении коллекций Эрмитажа из Москвы полностью. Но организация транспорта тогда было делом весьма сложным, и реэвакуацию ценностей удалось осуществить лишь в середине ноября.
Но еще до этого памятного для Эрмитажа дня, 1 ноября 1920 года, Совет музея вынес решение об образовании «Отделения мусульманского Востока» и о назначении И.А.Орбели его заведующим.
Это решение не было случайным, оно было подготовлено всем развитием передового русского востоковедения, признававшего значительную роль народов Востока в создании мировой культуры. Это решение явилось следствием и того, что крупнейшие представители русского востоковедения Н.Я.Марр, С.Ф.Ольденбург были деятельными членами Коллегии по делам музеев и принимали активное участие в жизни Эрмитажа.
Образование восточного отделения в Эрмитаже следует рассматривать как живой отклик на происходившие в стране события.
В сентябре 1920 года был свергнут эмир Бухарский, в Средней Азии была уже установлена советская власть, но значительная часть Закавказья, Армения и Грузия находились еще в руках дашнаков и меньшевиков. Поэтому при образовании отделения упор был сделан на мусульманские страны, и именно культура этих стран стала изучаться активно, и лишь в 1921 году отделение мусульманского Востока было реорганизовано в отделение Кавказа, Ирана и Средней Азии, что значительно расширило поле его деятельности.
Наконец для Эрмитажа настал долгожданный день. 19 ноября 1920 года в Эрмитаж был внесен последний ящик с эвакуированными в Москву музейными ценностями и завершился период тревог и организационных хлопот.
Разумеется, в ходе реэвакуации возникали большие сложности. Трудности были с формированием железнодорожного состава, с автомобильным транспортом и с такелажными работами, выполняемыми солдатами.
I История Эрмитажа
74
Обо всем этом с большой выразительностью свидетельствуют архивные документы, подробные и очень эмоциональные сообщения лиц, принявших участие в этой громадной работе.
Сначала в Москву прибыли Г.С.Ятманов и С.Н.Тройницкий, затем Л.А.Мацулевич, М.В.Доброклонский, А.А.Зилоти с помощником реставратора и шестью опытными музейными служителями-такелажни- ками. Позже в Москве к ним присоединились И.А.Орбели, Г.С.Верейский, К.В.Тревер. Ведь работа предстояла очень большая.
От Комиссариата путей сообщения был выделен опытный ответственный работник М.М. Аржанов, но в архивных делах упоминается еще множество официальных лиц, со специальными поручениями «чрезвычайной революционной тройки по реэвакуации сокровищ Эрмитажа», созданной Комиссариатом по просвещению.
Ящики с картинами были размещены в Античном отделе, в зале Юпитера, а ящики с прикладным искусством в Ламотовом павильоне.
Вскрытие ящиков показало, что все ценности дошли в полной сохранности.
Героическая эпопея по возвращению сокровищ Эрмитажа из Москвы в Петроград, несмотря на значительные трудности и возникавшие непредвиденные ситуации, была успешно закончена.
Радость возвращения была большой, и пресса отметила, что в связи с окончанием реэвакуации в «Малахитовом зале Дворца искусств» (Зимнего дворца) состоялся банкет.
Работая над распаковкой ящиков и восстановлением экспозиции, Эрмитаж жил бурно, с подъемом, тем более, что интеллигенция Петрограда с нетерпением ждала восстановления музея.
Уже через девять дней после доставки ящиков в Эрмитаж, 28 ноября, был восстановлен зал Рембрандта, посетители вновь увидели произведения великого художника на своих местах, изменился лишь вход в музей, был открыт Советский подъезд фельтеновского здания, который до революции принадлежал дворцовому ведомству.
2 января 1922 года были открыты восстановленные 22 зала Картинной галереи, и в день их открытия, по сведениям газеты «Петроградская правда», на вернисаж пришло 850 гостей.
Три года после возвращения коллекций из Москвы Эрмитаж жил восстановлением своих прежних выставок и устройством временных.
1 июня 1922 года были открыты залы Отдела древностей в первом этаже Нового Эрмитажа, посетители вновь увидели памятники Древнего Египта и античного мира, вместе с тем и вход в музей был восстановлен через портик с атлантами.
Эта выставка, и особенно ее раздел Древнего Египта, была первой выставкой в Эрмитаже, на которой силами сотрудников отдела под руководством Н.Д.Флиттнер начали проводиться систематические экскурсии. С 1921 года обслуживание экскурсий Эрмитажа проводилось также через городскую экскурсионную базу Губернского отдела политического просвещения, и только в 1925 году в Эрмитаже было организовано собственное экскурсионное бюро. В экспозицию были вве¬
Краткий очерк
75
дены дополнительные рисунки, объясняющие выставленные предметы, преимущественно копии с древнеегипетских, изображающих ремесло, культовые действия, сцены быта.
До января 1923 года вход в Эрмитаж был бесплатным, но и после введения входной платы многочисленные экскурсии по заявкам школ, заводов и учреждений проводились бесплатно. Так, в 1924 году из общего числа 118 014 посетителей 57 412, то есть около половины, были бесплатными экскурсантами. Такое положение имело большое значение для пропаганды искусства и эстетического воспитания широких масс.
За пять лет, прошедших после возвращения сокровищ музея из Москвы, за 1922—1927 годы, Эрмитажем была проведена громадная экспозиционная работа, причем выставки его располагались не только в Новом Эрмитаже, но и в Зимнем дворце, переданном Эрмитажу в 1922 году, окончательно еще не освоенном и не разделенном с музеем Революции, в нем находящимся, а также в филиалах Эрмитажа: музее Штиглица, дворце Строгановых на Невском проспекте и в Конюшенном музее.
В 1923 году в двух залах Зимнего дворца, Александровском и Пикетном, была устроена большая выставка оружия XVIII—XIX веков, а годом позже в бывшем Тронном зале блистательная выставка рыцарских доспехов XV—XVII веков. В залах дворца устраивались также экспозиции итальянской живописи XVII и XVIII веков, а также отдельная выставка картин XIX века, ранее в Эрмитаже не экспонированных.
Под руководством А.Н.Бенуа и Д.А.Шмидта была предпринята и к 1927 году в основном закончена перевеска западноевропейских картин эрмитажного собрания. К этой большой работе был привлечен поступивший в 1921 году в Эрмитаж В.Ф.Левинсон-Лессинг, широко эрудированный специалист в области искусствоведения, обладавший энциклопедическими знаниями. Этому свидетельство его замечательная книга «История Картинной галереи Эрмитажа (1764—1917)», вышедшая в 1985 году.
Бывший Придворный Конюшенный музей, переданный Эрмитажу в 1922 году, хранил богатую коллекцию парадных экипажей и карет начиная с первой половины XVIII века. После научной обработки этой большой коллекции она была перевезена в Зимний дворец, а помещения Конюшенного музея переданы городу. Более значительным филиалом Эрмитажа был музей барона А.Л.Штиглица, основанный в 1881 году при школе прикладного искусства как учебно-показательный музей, великолепно подобранный и имевший богатейшую библиотеку по искусству. В музее были восстановлены не только прежние залы, но устраивались и выставки по прикладному искусству с включением материалов эрмитажных собраний; особенно интересны были выставки по культуре Востока, выставки шпалер, мебели.
«Строгановский дом», переданный Эрмитажу в 1924 году, представлял собою выдающийся памятник архитектуры, связанный с имена¬
I История Эрмитажа
76
ми Растрелли и Воронихина, имевший свою картинную галерею, лучшие произведения которой вошли в основную экспозицию Картинной галереи Эрмитажа.
Во дворце Строгановых кроме собственной экспозиции устраивались также отдельные выставки, как выставка итальянских медалей эпохи Возрождения (1923 г.).
К десятилетию Октября в Эрмитаже были открыты выставки элли- но-скифских древностей, Византии и отличавшаяся по своему характеру от прежних экспозиций выставка: «Быт эпохи борьбы за освобождение Нидерландов». Закончились и длительные переговоры, начатые со времени реэвакуации Эрмитажа, относительно выделения первоклассных картин эрмитажного собрания для передачи московским музеям. Так, в рапорте от 22 сентября 1927 года исполняющий обязанности заведующего Картинной галереей Д.А.Шмидт сообщал: «несмотря на все изложенные обстоятельства, Картинная галерея Эрмитажа неуклонно старалась по мере сил и возможности снабжать Музей изящных искусств художественными произведениями и удовлетворила громадную часть требований МИИ» (из испрашиваемых 527 картин музею в Москву было передано 460 картин, среди которых были произведения выдающихся мастеров мировой живописи).
К 1927 году Эрмитаж стал представлять собою сложный производственный и социальный организм, совершенно отличный от дореволюционного, где, с одной стороны, была администрация, полностью подчинявшаяся дворцовому ведомству, ученые, занимавшиеся своими научными проблемами, а с другой стороны, технический персонал, преимущественно из бывших военных, сохранявших военную дисциплину. В фототеке Эрмитажа сохранилась групповая фотография технического персонала в парадной форме, причем многие из служащих имеют на груди боевые солдатским медали.
После революции* основной научный и хранительский персонал Эрмитажа состоял из старых сотрудников высокой квалификации, но на протяжении десятилетия он мало пополнялся новыми сотрудниками, хотя Эрмитаж был связан и с Институтом истории искусств, и Петроградским университетом. Руководителем сотрудников Отдела древностей был О.Ф.Вальдгауер, а лидером Отдела западноевропейского искусства являлся А.Н.Бенуа, покинувший Эрмитаж в 1926 году. В архиве Эрмитажа и в отделении рисунков хранятся графические портреты (рисунки и литографии) эрмитажных деятелей того времени, а также отдельные зарисовки музейных событий, исполненные Г.С.Верейским, А.Н.Бенуа и другими художниками, тогда работавшими в Эрмитаже.
При стабильности научного состава Эрмитажа большие изменения произошли в администрации, инженерно-техническом персонале и охране музея, там уже стали работать отдельные члены партии, коммунисты, но если профсоюзная организация Эрмитажа образовалась без труда, то партийная организация из-за малого числа членов партии оформилась лишь в 1930 году. До того коммунисты Эрмитажа входи¬
Краткий очерк
77
ли в общую организацию с музеем Революции и Государственной Академией истории материальной культуры.
При внешнем спокойном течении эрмитажной жизни и при возрастающей роли музея в эстетическом воспитании широких масс внутренняя жизнь научного коллектива не была спокойной. Судя по протоколам совещания директора, постоянно возникали конфликтные ситуации, в результате которых в мае 1927 года по постановлению коллегии Народного комиссариата просвещения С.Н.Тройницкий был освобожден от должности директора Эрмитажа с временным возложением обязанностей директора на О.Ф.Вальдгауера, который менее чем через восемь месяцев, в феврале 1928 года, был освобожден, согласно его заявлению, не только от обязанностей временно исполняющего обязанности директора Эрмитажа, но и члена Правления.
Подходящего кандидата на место директора Эрмитажа найти не удалось, и снова в феврале 1928 года был назначен временно исполняющий обязанности. На этот раз Герман Владимирович Лазарис, беспартийный, ранее примыкавший к меньшевикам. Он проработал в должности менее года, не успев войти в дела музея, так как он с ним никогда не был связан. При нем Главнаука, заслушав отчет Эрмитажа, предложила музею в основу экспозиции положить учение К.Маркса о социально-экономической формации, широко обсудив этот вопрос, в частности записку И.А.Орбели, поданную за год до обсуждения о «ненаучное™ выставок Эрмитажа». Вместе с началом этой большой методологической работы в Эрмитаже, в Белом зале Зимнего дворца, был открыт лекторий с циклом лекций по истории искусства, с привлечением и крупнейших искусствоведов из Москвы.
Наконец, 1 декабря 1928 года директором Эрмитажа был назначен Павел Иванович Кларк, видный политический деятель, имевший интересную и сложную биографию. Профессиональный революционер, организатор народовольческих кружков в Уфе, в 1906 году за участие в вооруженном восстании в Чите был приговорен к смертной казни, замененной 15-ю годами каторги. Вместе с сыном и двумя товарищами бежал, сначала в Японию, а затем в Австралию, где продолжал вести политическую работу. В 1917 году вернулся в Сибирь под псевдонимом П.Грей, занимал ответственные посты. В 1918 году после подавления революционного движения на Дальнем Востоке, как иностранец, был выслан обратно в Австралию. После возвращения стал работать в области социального обеспечения и культуры.
Как директор Эрмитажа Кларк активно включился в работу музея, проводил в жизнь решения Главнауки, поддерживая тенденцию введения историзма в экспозицию, и содействовал росту партийных кадров.
В Эрмитаже оживилась не только просветительская работа, но и научно-теоретическая. В результате широкой дискуссии по поводу книги С.Дубровского об «азиатском способе производства» именно в Эрмитаже оформилась концепция В.В.Струве о «рабовладельческой общественно-экономической формации на древнем Востоке», принятая советской исторической наукой.
I История Эрмитажа
78
К сожалению, Кларк вступил в директорскую должность будучи тяжело больным и проработал в Эрмитаже немногим более года, оставив заметный след в улучшении всей деятельности музея.
После ухода Кларка обязанности директора 28 декабря 1929 года были временно возложены на Владимира Ивановича Забрежнева, заместителя директора по научной части, довольно случайного для Эрмитажа человека, проработавшего в должности директора немногим более месяца.
1 февраля 1930 года был назначен новый директор — Леонид Леонидович Оболенский, сын писателя, видный партийный деятель, выполнявший дипломатические поручения, бывший член коллегии (с 1919 года) Наркомфина.
Частая смена за два с половиной года директоров учреждения особенно не влияла на работу Эрмитажа в целом. В его отделах шла интенсивная научная и экспозиционная работа, руководимая заведующими, а административная часть находилась в надежных руках ученого секретаря М.Д.Философова, состоявшего в этой должности с 1925 года, очень четко выполнявшего свои обязанности. Философов в 1918 году работал в Комиссии по охране памятников искусства и старины, в 1919 году был зачислен ассистентом Эрмитажа. Он занимался каталогизацией антикварного серебра, хранящегося в Гохране, и коллекциями фарфора, но основной его деятельностью все же была администрация. Помощником Философова был делопроизводитель Б.И.Игнатьев, хорошо знавший иностранные языки, с 1898 года служивший делопроизводителем Министерства Двора по ведению иностранной переписки.
При Л.Л.Оболенском заместителем директора по научной части был назначен Борис Васильевич Легран, крупный политический и военный деятель, с широким кругозором. Легран начал свою политическую работу в Тифлисе, будучи членом социал-демократической партии.
После призыва в армию он продолжал активную политическую деятельность, достигнув высоких постов: члена коллегии Наркомвоен- мора (1917 г.), члена Реввоенсовета Южного фронта и 10-й Красной армии, защищавшей Царицын (1918—1919). В 1926 году Легран был уполномоченным (послом) РСФСР в дашнакской Армении, принимая активное участие в советизации республики, а в 1926—1927 годах работал генеральным консулом СССР в Харбине.
Разумеется, человек такого масштаба, как Легран, был крайне нужен больному Оболенскому, с трудом выполнявшему обязанности директора, пробывшему на этом посту всего около восьми месяцев.
Значительный рост эрмитажных коллекций, расширение территории музея за счет Зимнего дворца и филиалов, увеличение посещаемости, быстро развивающаяся научно-просветительская и научная работа создавали значительные организационные трудности. Вместе с тем рос и престиж Эрмитажа за границей, и поводом к этому было участие советской делегации во II Международном конгрессе по иранскому искусству и археологии, созванном в конце 1930 года в Лондоне. К конгрессу была организована большая выставка, и почетное место
Краткий очерк
79
Малый Эрмитаж. 1767 — 1769.
Вид со стороны Невы.
Архитектор Ж.-Б.Валлен-Деламот
История Эрмитажа
80
Висячий сад в Малом Эрмитаже. Архитекторы
Ж.-Б.Валлен-Деламот и Ю.М.Фельтен
Краткий очерк
81
на ней заняли экспонаты Эрмитажа: сасанидское серебро, золотые и серебряные предметы Перещепинского клада и другие всемирно известные памятники восточного искусства. Эрмитажные коллекции в Лондон сопровождал И.А.Орбели, представивший конгрессу доклад о сасанидских памятниках в Эрмитаже и рассказавший английской научной общественности о работе советских музеев.
Участие советской делегации на конгрессе с предоставлением музейных экспонатов неимоверной научной и материальной ценности вызвало фурор среди обывателей, веривших слухам об утрате советским государством своих культурных ценностей. Вместе с тем участие советских ученых в работе конгресса сразу же восстановило положение советского востоковедения в мировой науке. Возобновленные научные контакты привели к тому, что единодушным постановлением конгресса было решение о созыве следующей конференции в Советском Союзе, на базе Эрмитажа.
В Эрмитаже значительно усилилась работа по перестройке научной работы и экспозиции на социологической основе, на органической связи исследований в области истории искусства и культуры с историей общественно-экономического развития.
Для этого в марте 1930 года были созданы «структурные комиссии», соответственно основным формациям: доклассовому обществу, античности, феодализму и капитализму.
В приказе указывались и задачи этих комиссий: «1) теоретическое обоснование данных формаций, 2) выявление материала, могущего иллюстрировать жизнь этой формации, как имеющегося в музее, так и вне его, 3) конкретное планирование экспонируемого материала по помещениям».
В связи с этим была введена и новая структура Эрмитажа, музей делился на четыре основных сектора: доклассовый, античный, феодализма и капитализма, с сохранением вспомогательных отделов: графики, нумизматики, реставрации и библиотеки.
После кончины Оболенского с 26 сентября 1930 года Легран выполнял обязанности директора и 4 января 1931 года был утвержден директором Эрмитажа.
Вся громадная, предусмотренная решениями инстанций и самого Эрмитажа работа по реконструкции музея проводилась под руководством Леграна.
Еще при прежнем директоре в помощь работе структурных комиссий в качестве консультантов были приглашены философы, социологи и историки из ленинградского отделения Коммунистической Академии и из Ленинградского университета. Позже, уже 30 мая 1931 года, распоряжением Главнауки в Эрмитаже был создан методологический сектор и в штат музея были введены крупнейшие историки и искусствоведы, как П.П.Щеголев, А.И.Молок, Н.Н.Розенталь, И.И.Иоффе.
В связи с принятием новой структуры в Эрмитаже был образован распоряжением от 28 января 1931 года Отдел доклассового и раннеклассового общества с тремя оделениями: доклассового общества, ранне¬
I История Эрмитажа
82
феодального и причерноморских городов. Заведующим отделом был назначен археолог и лингвист И.И.Мещанинов, привлекший к работе в Эрмитаже видного археолога-марксиста В.И.Равдоникаса, вскоре заменившего его на посту заведующего отделом.
Организация Отдела доклассового и раннеклассового общества еще более укрепила традиционные связи между Эрмитажем и Государственной Академией истории материальной культуры, созданной на базе Археологической комиссии, давно связанной с Эрмитажем.
Расширялась деятельность музея и в других направлениях. В 1931 году в здании музея Штиглица был основан сектор художественнопромышленной техники, а после передачи Эрмитажу из Института истории и теории музыки коллекции музыкальных инструментов был организован новый отдел, позднее ставший сектором, — Отдел музыкальной культуры и техники. В Эрмитажном театре силами этого сектора, с привлечением ведущих артистов Ленинграда, стали устраиваться концерты старинной музыки и ставиться небольшие оперы. Это было очень полезным и удачным расширением деятельности музея.
Много внимания Легран уделял и научно-просветительской работе, расширилась тематика лекций и экскурсий в музее и за его пределами. Был создан методологический кабинет, координирующий всю научно-просветительскую деятельность, но особенно важным для жизни музея являлось отношение Леграна к молодежи. При реконструкции структуры Эрмитажа были широко открыты двери для молодых кадров, и штат музея в 1931 году значительно пополнился молодыми специалистами из высших учебных заведений, причем в штат зачислялись студенты, связанные с музеем еще до окончания ими университета или института. Этот приток молодежи оживил всю работу Эрмитажа, еще скованную старыми традициями. Значительно расширилась и аспирантура музея, готовившая кадры не только для Эрмитажа, но и для союзных республик.
Тридцатые годы были трудными годами для нашего государства, надо было налаживать работу в учреждениях, расстановку кадров, поднять профессиональную компетентность.
В связи с этим Рабоче-крестьянская инспекция РСФСР проводила проверку соответствия служащих учреждений занимаемым ими должностям. Такая «чистка» коснулась Эрмитажа в середине 1931 года, когда Комиссия областной рабочей инспекции провела тщательную, но, к сожалению, тенденциозную проверку служащих музея, с обсуждением их деловых и политических качеств. Многие сотрудники Эрмитажа, работавшие в нем долгие годы, по своему социальному происхождению и по связям с заграницей были представлены к увольнению, с разными формулировками и сроками запрещения работы в советских учреждениях.
Центральный комитет РКИ при пересмотре решений первой инстанции, признав многие обвинения несостоятельными и неоднозначными, отменил большинство решений, и все нужные для Эрмитажа работники были восстановлены сразу или же через некоторый срок.
Краткий очерк
83
Павильонный зал в Малом Эрмитаже. 1850-1858.
Архитектор А.И.Штакеншнейдер
История Эрмитажа
84
Павильонный зал в Малом Эрмитаже
Краткий очерк
85
Выше уже указывалось на то, что в предреволюционное время много художественных ценностей из частных коллекций увозилось за границу.
В 20-х годах в комиссионных магазинах и на рынках, особенно Москвы и Ленинграда, предметы искусства были очень дешевыми, и иностранцы покупали их в большом количестве.
В конце 20-х годов возникла более серьезная опасность потери Советским Союзом художественных сокровищ. В связи с тяжелым положением нашего государства на международном рынке, в связи с блокадой советской торговли для пополнения валютного фонда Государственного банка «Антиквариат», по решению Комиссариата внешней торговли, стал направлять на заграничные аукционы предметы искусства из музейного фонда и из музеев Советского Союза. Против этого в сентябре 1928 года решительно выступил народный комиссар просвещения А.В.Луначар- ский, проведя закон о запрещении вывоза из Советского Союза памятников искусства, но он не смог противостоять комиссару внешней торговли, который, по согласованию с правительством, установил сношения с фирмой Р.Лепке в Берлине, организовавшей в ноябре 1928 года аукцион с продажей предметов искусства и мебели из музеев Ленинграда и его пригородных дворцов. Одновременно в Париже велись переговоры с фирмой Зелигмана о продаже на аукционе картин импрессионистов и других французских художников XIX и начала XX века из Музея нового западного искусства в Москве. Но фирма, опасаясь, к нашему счастью, иметь дело с продажей картин национализированных частных коллекций, отвергла это предложение.
Активная продажа памятников искусства и культуры из советских музеев на заграничном рынке происходила в 1929—1932 годах при посредстве многих фирм-комиссионеров. В архиве Эрмитажа хранится переписка по этому поводу — правительственные распоряжения, письма и телеграммы.
Поначалу Эрмитажу предписывалось организовать специальные «бригады» специалистов для отбора «экспонатов экспортного значения», но потом «Антиквариат», встречая сопротивление в отборе экспонатов специалистами музея, добился вынесения решений непосредственно Комиссариатом просвещения, в лице его сектора Главнаука. Распоряжения, направляемые в Эрмитаж, подписывались часто заместителем заведующего сектором Главнаука товарищем Вольтером, фамилия которого, по иронии судьбы, в написании совпадала с именем великого французского просветителя Вольтера, способствовавшего Екатерине II в собирании картинной галереи.
Одним из распоряжений (январь 1930 года) Эрмитажу было предложено «в ближайшее же время закончить выделение тех золотых и платиновых предметов, которые не нужны Эрмитажу, и передать эти предметы согласно данным указаниям». 21 февраля 1930 года по акту Отдела нумизматики из дублетного фонда было выделено 347 золотых и 17 платиновых монет, редкие монеты нумизматической коллекции тогда оставались еще в неприкосновенности.
I История Эрмитажа
86
Но активность «Антиквариата» возрастала, и письмом от 5 января 1930 года Эрмитажу предлагалось допустить представителя «Антиквариата» для отбора, совместно с представителями Эрмитажа, 250 картин, стоимостью в среднем не ниже 5 тысяч рублей каждая, оружия из Арсенала на сумму 500 тысяч рублей, скифского золота из особых кладовых «на сумму по соглашению с правлением Эрмитажа» и из Отделения гравюр вторых и третьих экземпляров.
Наиболее быстро были выделены дублетные гравюры, и они сразу же поступили в продажу на аукцион Бёрнера (Лейпциг), выделение картин и оружия заняло длительное время, а от предоставления для продажи скифского золота правление Эрмитажа решительно отказалось, так же как и при повторном требовании «скифского золота и сассонитского серебра» (от 11 сентября 1930 года).
Кроме отправки музейных ценностей на аукционы, главным образом при посредстве фирмы Маттисен в Берлине, стали вестись непосредственные переговоры с нефтяным королем Галустом Гюльбенкя- ном, тогда жившим в Париже.
Первая покупка, еще до широкого развертывания сделок, имела место в апреле 1929 года и состояла из 24 предметов «французского серебра и золота» и одной картины «Благовещение» Дирка Боутса (XV век). Во вторую покупку (февраль 1930 года) вошло 15 серебряных предметов и портрет Елены Фурман работы Рубенса. Я помню, какое впечатление на сотрудников Эрмитажа произвела эта первая утрата шедевра Картинной галереи, за которую было уплачено всего 55 тысяч фунтов стерлингов. В письме Народного комиссариата просвещения предписывалось продать «Антиквариату» картину, не указав ее названия, «приняв все меры для соблюдения строжайшей секретности этого дела». Но одна из жемчужин эрмитажного собрания картин в зале Рубенса исчезла навсегда, и скрыть это было невозможно.
Третья покупка Гюльбенкяна (июнь 1930 года) стала еще более ценной: в нее вошли скульптура Гудона «Диана», две картины Рембрандта («Афина-Паллада» и «Портрет Титуса»), картины Ватто («Влюбленный мецетен»), Тер Борха («Урок музыки») и Ланкре («Купальщица»).
За пять картин было уплачено 120 тысяч, а за скульптуру 20 тысяч фунтов стерлингов.
Гюльбенкян в это время несомненно прослышал о переговорах относительно покупки эрмитажных картин с министром финансов США Э.Меллоном и сильно опасался этого мощного конкурента. Поэтому он заключил соглашение с одним из крупнейших представителей рынка художественных сокровищ, Вильденштейном, имевшим свои агентства в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и в Буэнос-Айресе, и уступил ему за 100 тысяч 250 фунтов стерлингов перечисленные картины, оставив себе «Афину-Палладу» Рембрандта и «Диану» Гудона. Вместе с тем, учитывая аппетиты Меллона, Гюльбенкян в своих письмах Г.Л.Пятакову убеждал его не продавать за границу шедевры, так как это сразу же понизит на рынке цены и нанесет ущерб престижу советского государства. В книге о коллекции Гюльбенкяна красочно описывается при¬
Краткий очерк
87
езд в Ленинград его агента с секретным поручением проверить состояние скульптуры Гудона, и то, как упаковка этой статуи производилась в Эрмитаже в обстановке секретности, ночью, при свечах.
Четвертая, последняя покупка Гюльбенкяна состоялась в октябре 1930 года. Коллекционер покупал лишь одну картину Рембрандта, «Портрет старика» (за 30 тысяч фунтов стерлингов), для Вильденштейна, но, зная о том, что Меллон его уже обошед по части приобретения шедевров, отказался от своего прежнего намерения и картину Рембрандта оставил у себя.
Переговоры «Антиквариата» с фирмой М.Кнёдлера, закупавшей картины для Меллона, шли медленно, так как Меллон ставил условия о самостоятельном выборе картин по книге Н.Н.Врангеля «Шедевры Картинной галереи Эрмитажа», изданной на французском языке в 1909 году издательством Хафштенгль.
Первая сделка с агентами Меллона состоялась в апреле 1930 года и закончилась покупкой ими двух картин Рембрандта и одного портрета работы Ф.Халса (559 190 долларов).
Переговоры с фирмой Кнёдлера шли долго, «Антиквариат» не соглашался с предлагаемыми ценами, но на него жали с мощной силой, и представителю «Антиквариата» Н.Ильину приходилось яростно торговаться, но он всегда выходил из игры побежденным. Годы 1928—1933, когда происходила продажа художественных ценностей из советских музеев, были годами финансовой депрессии на Западе и в США, и цены на памятники искусства были чрезвычайно низкими, ведь крупные приобретения иностранных музеев и частных коллекционеров относятся именно к этому времени.
Трудные переговоры между фирмой Кнёдлера и агентами, закупавшими в Советском Союзе картины для коллекции Меллона, длились год. Комиссионер Геншель вспоминал, что он часами ожидал представителей «Антиквариата» в Ленинграде, в гостинице, находился в трудном положении без знания русского языка и развлекался икрой и водкой. Но в результате девяти сделок с апреля 1930 года по апрель 1931 года в США в личную колекцию Меллона перешел 21 шедевр Картинной галереи Эрмитажа на общую сумму в 6 миллионов 654 тысячи 053 доллара. Возможно, иностранные обозреватели были правы, когда писали, что покупка Меллоном за бесценок первоклассных картин из Эрмитажа способствовала открытию больших государственных кредитов Советскому Союзу, поскольку в то время Меллон был министром финансов.
Действительно, покупные цены, выжатые фирмой Кнедлера, были чудовищно низкими. За портрет папы Иннокентия X работы Веласкеса Советский Союз получил всего 223 562 доллара, а за портрет Изабеллы Брандт кисти Рубенса 223 563 доллара, на один доллар больше (!). «Поклонение волхвов» С.Боттичелли было оценено в 338 350 долларов, триптих Перуджино «Распятие» в 195 602 доллара и, наконец, два мировых шедевра «Мадонна Альба» Рафаэля и «Венера перед зеркалом» Тициана, обе вместе, были куплены за один миллион семьсот де¬
I История Эрмитажа
88
сять тысяч пятьсот пятьдесят восемь (1 710 558) долларов. Такую сделку трудно признать честной, и не стоит удивляться, что Меллон был привлечен правительством США к ответственности за неправильную уплату налогов и был принужден передать свою коллекцию картин Вашингтонской картинной галерее. Переход Меллона на дипломатическую должность прекратил запланированное им «ограбление» Эрмитажа, и намечавшиеся к продаже картины Леонардо да Винчи, Джорджоне, Симоне Мартини, Мурильо остались в музее.
В эти трагические годы Картинная галерея Эрмитажа потеряла более 50 шедевров. Кроме крупных покупок Гюльбенкяна и Меллона картины разными путями попали в музеи Западной Европы (Амстердам, Нюрнберг, Кёльн), США (Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Художественный музей Филадельфии), а картина Тьеполло «Пир Клеопатры» ныне находится в галерее Мельбурна, в Австралии.
Переписка Комиссариата просвещения и «Антиквариата» с Эрмитажем свидетельствует о сопротивлении Эрмитажа, несогласии с предписаниями, о затяжке отправки картин, что вызывало запросы, требования об ускорении выполнения и наложения взысканий на сотрудников Эрмитажа, затягивающих выполнение приказов.
Сохранившиеся телеграммы и письма лаконичны, не всегда точны и требовали добавочных уточнений. Такова телеграмма: «Подтверждаю первую телеграмму вместо Ван Дейк читать Ван Эйк» или «Передайте ходатайству распоряжение Антиквариата картины Рембрандт Паллада Рембрандт Татус Ватто Музыкант картина стакан лимонада Вандондиана». Передаю текст с имеющимися в нем ошибками, и если в имени Татус без труда можно узнать Титуса, то «Вандондиана» с трудом расшифровывается как «Гудон Диана».
Кроме картин из Эрмитажа ушло за границу громадное количество предметов прикладного искусства, ценнейших монет и медалей, ювелирных изделий, фарфора, ковров, мебели.
В одном случае по инициативе И.А.Орбели у конторы «Антиквариата» был выкуплен принадлежавший ей «бронзовый водолей в виде коровы-зебу с сосущим теленком под ней и терзающим львом на спине», этот прекрасный образец иранского искусства, изготовленный, согласно надписи, в 1206 году, хранившийся ранее в коллекции Б.И.Ха- ненко в Киеве. В виде компенсации Эрмитаж передал «Антиквариату» золотую лицевую пластинку иконы-мощехранительницы высокопробного золота (акт от 4 мая 1930 года).
Продажа эрмитажных ценностей и после крупных сделок затягивалась, но не прекращалась. В Берлине, в конторе Маттисена, накопилось большое количество предназначенных к продаже художественных ценностей.
Директор Эрмитажа Б.В.Легран, несмотря на свой большой авторитет, не мог принять действенные меры для прекращения продажи музейных ценностей.
Пользуясь своими давними партийными связями, он предложил своему заместителю ИАОрбели написать соответствующее письмо И.В.Ста¬
Краткий очерк
89
лину и обещал его передать через своего друга А.Енукидзе непосредственно адресату.
Орбели, как заведующий Отделом Востока, написал такое письмо и в скором времени получил ответ: «Уважаемый товарищ Орбели! Письмо Ваше от 25.Х. получил. Проверка показала, что заявки Антиквариата не обоснованы. В связи с этим соответствующая инстанция обязала Наркомвнешторг и его экспортные органы не трогать сектор Востока Эрмитажа. Думаю, что можно считать вопрос исчерпанным. С глубоким уважением И.Сталин. 5.Х1.32».
Письмо было написано на листке из простого блокнота, без всякого грифа и заклеено в также простом конверте, на котором Сталин собственноручно написал адрес. Отправлено оно было не через аппарат Центрального Комитета партии или Совета Народных Комиссаров СССР, а через органы Комиссариата внутренних дел, в двойном конверте. Внутренний имел гриф НКВД г. Москвы, наружный — НКВД г. Ленинграда.
По-видимому, Сталин не был в достаточной мере осведомлен о широкой продаже через «Антиквариат» ценностей из советских музеев, в частности кавказских древностей из Отдела Востока, чем и был вызван решительный тон письма.
Вопрос о продаже эрмитажных ценностей за границу был закрыт совсем, и в музей стали возвращать из-за границы непроданные его экспонаты. Так закончилось одно из тягчайших испытаний в жизни Эрмитажа, нанесшее громадный ушерб цельности коллекций музея, с потерей всемирно известных произведений искусства эрмитажного собрания.
Продажа художественных ценностей из музеев была в 1933 году совершенно прекращена, но Всесоюзное объединение «Антиквариат» еще продолжало коммерческие связи с иностранцами. Так, г-жа М.Пост, дочь крупного американского богача и коллекционера, супруга посла США в Москве Д.Дэвиса, за период с 1931 по 1938 год собрала большую коллекцию предметов русского искусства.
В ее поместье Хиллвуд, около Вашингтона, хранится множество картин, фарфора, ювелирных предметов, образцов мебели, личных предметов русских царей и их фотографии. Лестница дома, ведущая из вестибюля на второй этаж, сплошь увешана портретами лиц русского императорского дома, очень разных по качеству.
Предметами русского прикладного искусства через «Антиквариат» и непосредственно от эмигрантов из России 1917—1919 годов пополнили свои собрания многие коллекционеры Европы и Америки, и до сих пор в зарубежных антикварных магазинах и на аукционах постоянно встречаются русские иконы, золотые и серебряные изделия, и особенно популярной фирмы Фаберже, многие из которых принадлежали царской семье и русской знати.
Ныне наши музеи не только полностью сохраняют свои коллекции, но и приобретают художественные ценности за границей, о чем будет сказано в последующих разделах очерка.
I История Эрмитажа
90
Несмотря на короткий срок работы Леграна в Эрмитаже, немногим более четырех лет, он внес заметный вклад в его жизнь, проведя реконструкцию музея на основе марксистско-ленинской методологии, с привлечением в уже «состарившийся» состав сотрудников музея молодежи, оживившей всю работу Эрмитажа.
Принципы нового построения музея были изложены Леграном в его небольшой книжке «Социалистическая реконструкция в Эрмитаже», изданной в 1934 году.
Особенно активно работал сектор Востока, закончивший в 1931 году постоянную выставку культуры народов Востока, подробная проблематика которой была составлена И.А.Орбели и А.Ю.Якубовским. Эта выставка, занявшая залы Зимнего дворца, явилась крупным событием в жизни музея, так как на ней впервые были выставлены предметы ценнейших коллекций.
Б.В.Легран считал «сектор Востока самым передовым в научном смысле» и постоянно подчеркивал значение научной работы для перестройки музея, но вместе с тем указывал на то, что сектор Востока при разработке проблем культуры восточных стран уделял недостаточное внимание вопросам искусства, нарушая общую тенденцию выставок Эрмитажа, которые по характеру коллекций принуждены быть в первую очередь искусствоведческими. Легран был отчасти прав, но сектор Востока и его руководитель Орбели ломали установившуюся традицию, считавшую Эрмитаж музеем искусства, и свою научную работу и экспозицию строили направленными на историю культуры в широком смысле, и основным требованием к музейным работникам сектора было знание языка и литературы тех восточных народов, памятники которых ими экспонировались.
В июле 1934 года Б.В.Легран был назначен проректором Академии художеств и, покидая Эрмитаж, своим преемником на пост директора выдвинул И.А.Орбели, последний год работавшего его заместителем по научной части.
Этот выбор был обоснован. Орбели пришел в Эрмитаж в 1920 году уже сложившимся ученым, имевшим большой научный опыт и известным своими трудами по культуре и эпиграфике Кавказа и Ирана. Он был ближайшим помощником академика Н.Я.Марра по раскопкам средневековой столицы армянского Багратидского царства — города Ани. Работал с ним в 1916 году в Ване, где открыл знаменитую каменную стелу-летопись урартского царя Сардури, сына Аргишти (VIII век до н.э.), самый крупный эпиграфический памятник Ванского царства. Он заведовал отделом археологии Армении и Грузии в Государственной Академии истории материальной культуры, действительным членом которой был избран. С 1920 года Орбели всецело всю свою деятельность отдал Эрмитажу, и назначение его директором музея не было случайным. При Орбели Эрмитаж становится крупнейшим центром советского востоковедения, в его стенах стала проводиться большая работа по изучению культуры стран Востока и, благодаря его энергии, в музей начали поступать ценнейшие коллекции, хранившиеся в
Краткий очерк
91
Старый (или Большой) Эрмитаж. 1771-1787.
Вид со стороны Невы.
Архитектор Ю.М.Фельтен Советская лестница
в Старом (или Большом) Эрмитаже. 1858. Архитектор А.И.Штакеншнейдер
История Эрмитажа
92
Зал Леонардо да Винчи в Старом (или Большом) Эрмитаже. 1858. Архитектор А.И.Штакеншнейдер
Краткий очерк
93
других учреждениях и музеях. Орбели сам предпринял поездки в аул Кубани Дагестана для сбора знаменитых каменных рельефов и на Урал в связи с новыми находками иранских серебряных изделий сасанид- ского времени.
В период 1933—1934 годов в Эрмитаж из Академии наук СССР и музеев Ленинграда поступили такие знаменитые коллекции, как древности из раскопок П.К.Козлова «мертвого города в песках» Хара-Хото и предметы из его же раскопок курганов Ноин-ула, также в Монголии. Большую и очень ценную коллекцию буддийской глиняной скульптуры и стенных росписей Эрмитажу передал Музей антропологии и этнографии Академии наук СССР (раскопки С.Ф.Ольденбурга и других археологов в Китайском Туркестане), а из Русского музея Эрмитаж получил коллекцию византийских икон.
Так складывались ныне богатейшие фонды Отдела Востока Эрмитажа.
В 1934 году в Иране и Советском Союзе отмечался 1000-летний юбилей средневекового иранского поэта Фирдоуси, в котором деятельное участие принял и Эрмитаж, организовавший в мае юбилейного года совместно с Институтом востоковедения АН СССР научную конференцию, а в Эрмитаже большую выставку. В сентябре того же года юбилейные торжества проходили в Москве, в Большом театре, на которых основной доклад о творчестве Фирдоуси делал Орбели, связывая творчество великого иранского поэта с культурой народов Ирана и Средней Азии.
В октябре того же года торжества, посвященные 1000-летнему юбилею Фирдоуси, состоялись в Тегеране, и в них в составе советской делегации принял участие Орбели. Востоковеды хорошо помнили выставку ко II Международному конгрессу по искусству и археологии Ирана, на которой коллекция золотых и серебряных иранских изделий из собраний советских музеев произвела большое впечатление и в английской прессе расценивалась как «советский сюрприз». Доклады советских востоковедов в Тегеране и Мешхеде, на родине Фирдоуси, были хорошо приняты, так как общение советских ученых с иностранными были в то время еще редкостью.
По этой причине значительный интерес вызвал среди ученого мира III Международный конгресс по искусству и археологии Ирана, созванный в сентябре 1935 года в Ленинграде на базе Эрмитажа, с заключительным заседанием в Москве.
Председателем организационного комитета конгресса был народный комиссар просвещения А.С.Бубнов, а его заместителем был И.А.Орбели, взявший на себя все организационные трудности. Обязанности главного секретаря конгресса выполняла профессор К.В.Тревер. Незадолго до конгресса Орбели был избран академиком Академии наук СССР, а позже председателем Армянского филиала Академии.
Основная работа конгресса проходила в Эрмитаже, где была устроена большая выставка по истории культуры восточных стран, с включением экспонатов из разных музеев Советского Союза. Богатая коллек¬
I История Эрмитажа
94
ция иранских древностей была представлена Тегеранским музеем, отдельные экспонаты были получены из Лувра и от известного археолога А.Попа.
В работе конгресса приняло участие 188 членов и 153 гостя («чле- нов-соревнователей») из 18 стран.
Годом позже, в связи с блестящим выходом советских шахматистов на мировую арену, с завоеванием М.Ботвинником звания чемпиона мира по шахматам, Орбели, совместно с Тревер, выпустил небольшую, красиво изданную книгу «Шатранг», посвященную истории шахматной игры на Востоке.
В стенах Эрмитажа, под непосредственным руководством его директора Орбели, стали отмечаться юбилейные даты, связанные с историей культуры народов Советского Союза. Устраивались специальные выставки, проводились конференции.
В 1937 году вся наша страна отмечала 100-летие со дня смерти А. С. Пушкина. В 12 залах Эрмитажа была организована большая выставка, посвященная пушкинскому времени, а на сессию Академии наук СССР Орбели представил доклад «Пушкин и грузинская литература», он очень хорошо знал пушкинскую эпоху и позже, к 150-летнему юбилею великого поэта, подготовил небольшую книжку «Невский проспект в 1834 г.», изданную Эрмитажем.
В 1938 году в Эрмитаже была организована выставка, посвященная 750-летнему юбилею Шота Руставели, грузинского поэта, создавшего поэму «Витязь в тигровой шкуре», был выпущен юбилейный сборник «Памятники эпохи Руставели», а Орбели был одним из организаторов празднования этого юбилея как в Москве, так и в Тбилиси и редактором издания поэмы на русском языке, иллюстрированного художником С.Кобуладзе.
В том же, 1937 году, осенью, отмечался 1000-летний юбилей армянского народного эпоса «Давид Сасунский». Эрмитаж принимал деятельное участие в торжествах как в Ленинграде, так и в Ереване. Под руководством Орбели, как председателя Армянского филиала АН СССР, был издан научный свод вариантов текста эпоса.
Эти юбилеи постоянно укрепляли совместную деятельность и дружбу Эрмитажа с Союзом писателей СССР.
Захваченный громадной организационной работой, Орбели продолжал научную и научно-организационную работу, в 1936 году он руководил раскопками средневековой армянской крепости Амберд на склоне горы Арагац, в Армении, организовывал археологические экспедиции, ставшие неотъемлемой частью научной работы музея. Археологические работы Эрмитажа, как правило, проводились совместно с республиканскими Академиями наук, учреждениями и музеями союзных республик, что способствовало правильному направлению в них научных исследований, так же как и подготовка кадров через аспирантуру Эрмитажа.
В Эрмитаже была образована и своя издательская часть под руководством Ф.Ф.Нотгафта, хорошо известного по художественным до¬
Краткий очерк
95
революционным изданиям. К сожалению, условия того времени не могли обеспечить нужный полиграфический уровень изданий.
В 1939 году был торжественно отмечен 175-летний юбилей Эрмитажа, превратившегося в подлинно мировой музей.
В Министерском коридоре Зимнего дворца была развернута большая выставка по истории музея, отражавшая все этапы его жизни начиная с середины XVIII века. Выставка отчетливо показывала, как музей при дворце русского императора стал подлинно народным музеем, центром эстетического воспитания широких кругов.
На выставке в фотографиях была показана широко развернувшаяся научно-просветительная работа Эрмитажа: школьные кружки, выездные лекции и так называемые «культпоходы» в промышленные предприятия города, в совхозы и в военные организации. В этих выездах принимали участие ведущие работники музея, часто вместе с дирекцией. Значительно увеличивающаяся посещаемость музея требовала большой и налаженной работы со стороны просветительской части Эрмитажа, ставшей крупным самостоятельным отделом.
С 30-х годов в широком масштабе стала проводиться строительная деятельность Эрмитажа, освобождение интерьеров Зимнего дворца от поздних достроек, разборка антресолей, расширение экспозиционных залов. Наиболее ярким примером этой деятельности является освобождение Растреллиевской галереи, соединяющей Иорданскую лестницу (главный вход в музей) с Комендантским подъездом, от поздних антресолей и раскрытие ее в прежнем великолепии.
В процессе этих работ заменялись каменные полы первого этажа Зимнего дворца, реставрировались и заново выполнялись художественные паркеты парадных зал, закладывались старые и пробивались новые дверные проемы для упорядочения потока посетителей музея. В связи с этим, вновь построенным переходом Новый Эрмитаж был соединен с Зимним дворцом. Он связал античные залы с коридором Ламо- това павильона, из которого лестницы вели в манеж и конюшню, превращенные в обширные залы, занятые ныне музейными кладовыми. Кухня, расположенная под Тронным залом, была перестроена, и новое помещение стало большим экспозиционным залом.
Все реконструкционные работы проводились Отделом главного архитектора Эрмитажа под руководством А.В.Сивкова.
Ремонтные работы в Зимнем дворце позволили разместить в его залах выставки, находившиеся в здании Нового Эрмитажа. Так, в конце 20-х годов в залах фельтеновского здания, в анфиладе помещений, выходящих на Неву, размещались выставки Отдела истории первобытной культуры, после ремонта в Зимнем дворце они были перемещены, а освободившиеся помещения переданы для дирекции.
В связи с изменением структуры и заменой секторов отделами отделение Древнего Востока, входившее в Отдел древностей, было включено в состав Отдела Востока и перемещено из залов Нового Эрмитажа в Растреллиевскую галерею с примыкающими к ней двумя залами, выходящими на Большой двор Зимнего дворца.
I История Эрмитажа
96
При изменении структуры музея сектор музыкальной культуры был ликвидирован, и собрание музыкальных инструментов возвратилось в бывшее здание Института искусства, но уже в Институт истории и теории музыки.
Вместе с тем прекратились и концерты старинной музыки, проводившиеся в Эрмитажном театре и снискавшие большую популярность в среде ленинградцев.
В апреле 1941 года произошло очень важное изменение в структуре музея: был образован Отдел истории русской культуры. В помещениях Эрмитажа хранилось большое количество памятников русской культуры, начиная с археологических коллекций домонгольских русских древностей. Хранилась также русская мебель, костюмы, множество предметов прикладного искусства, особенно фарфоровых, стеклянных, каменных.
Кроме того, и мемориальные залы, как Военная галерея 1812 года, Петровский тронный зал, Гербовый зал, также связаны не только с русской культурой и искусством, но и с историческими событиями нашей Родины.
В Эрмитаже с самого его основания, особенно с организации Нового Эрмитажа, исследования по истории России, русской нумизматике и живописи занимали важное место, и было странным, что, хотя многие картины русских художников в 1898 году и были переданы во вновь основанный Русский музей, в структуре Эрмитажа отсутствовал Отдел истории русской культуры. Понимая, что это противоречит истории музея, И.А.Орбели внес изменения в его структуру.
Сразу после образования в Эрмитаже Отдела истории русской культуры в него вошло большое и очень ценное собрание исторического отдела Государственного музея этнографии народов СССР, в составе которого находились десятки тысяч предметов, характеризующих русскую культуру XVIII—XIX веков, среди них особенно ценными были предметы из бывшей Галереи Петра Великого, которые в свое время находились в Эрмитаже.
Не менее ценным фондом нового отдела Эрмитажа стала коллекция приборов и инструментов XVII—XIX веков, числом свыше 1200, полученная из Института истории техники Академии наук СССР также в 1941 году.
Отдел истории русской культуры начал активную работу по разбору полученных коллекций и составлению экспозиционного плана, но, не успев толком разобрать большой поступивший в отдел материал, сотрудники начали упаковывать его обратно в ящики.
В 1938 году стали уже явными агрессивные планы гитлеровской Германии, а во второй половине 1939 года Советский Союз находился перед реальной опасностью войны, причем угроза одновременно была как с запада, так и с востока. Договор о ненападении, заключенный в конце 1939 года Советским Союзом и Германией, почти на год отодвинул вступление нашей страны во вторую мировую войну, но война была неизбежной.
Краткий очерк
97
За это время Эрмитаж провел громадную работу по подготовке своих сокровищ к эвакуации в глубокий тыл, но место, куда они будут отправлены, оставалось в секрете.
Эрмитаж смог заранее изготовить основную часть ящиков для упаковки ценностей, которые предназначались для отправки двумя железнодорожными составами. Ящики готовились для определенных экспонатов, и в них находился список предметов, предназначенных для упаковки в каждом ящике, со всеми необходимыми данными и упаковочными материалами. Это позволяло эвакуировать экспонаты в очень короткий срок и обеспечить их сохранность при транспортировке.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистские войска вступили на советскую территорию, и война началась.
Эвакуация Эрмитажа была объявлена двумя днями позже. Для упаковки музейных ценностей на помощь сотрудникам Эрмитажа пришли художники, артисты, ученые, студенты, не призванные в армию, а для такелажных работ — прикрепленные к Эрмитажу военные подразделения.
Упаковка производилась круглые сутки, и зрительный зал Эрмитажного театра служил местом отдыха и сна.
Для руководства эвакуацией из Москвы прибыли председатель Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР М.Б.Храпченко и представитель Комиссариата внутренних дел, имевший право оперативных решений.
Эвакуация и жизнь Эрмитажа во время войны и блокады Ленинграда подробно описаны в документальной повести С.Варшавского и Б.Реста «Подвиг Эрмитажа», выдержавшей несколько изданий. Авторы в полной мере использовали документы и собрали воспоминания многих сотрудников музея, живые и достоверные, а также немногочисленные хроникальные записи. Часто ставят вопрос: почему сотрудники Эрмитажа, работавшие в это тяжелое время, не вели дневниковые записи. Это объясняется тем, что в тяжелой повседневной работе свободного времени было мало, да и необходимость записей тогда не ощущалась.
Первый железнодорожный эшелон, состоявший из багажных вагонов с бесценным грузом, пассажирских вагонов для сотрудников музея, сопровождавших его в далекий путь, и платформы с зенитными орудиями, увозивший около полумиллиона экспонатов, отошел рано утром 30 июня. Его начальником и директором филиала Государственного Эрмитажа на месте прибытия был назначен В.Ф.Левинсон- Лессинг, лишь один знавший, куда эшелон направлен.
9 июля железнодорожный состав благополучно прибыл в Свердловск, и ящики с эрмитажными коллекциями были размещены в Картинной галерее, костеле и в подвалах особняка Ипатьева, где в 1918 году был расстрелян последний русский царь.
Так начал свою трудную и ответственную работу Свердловский филиал Государственного Эрмитажа. Кроме заботы по сохранению кол¬
I История Эрмитажа
98
лекций и их проверки, сотрудники филиала вели научную и большую просветительскую работу, оставившую у свердловчан добрую память.
Второй эшелон отбыл из Ленинграда 20 июля, в 23 вагонах он увозил 1422 ящика, в которых было упаковано около 700 тысяч экспонатов.
В первые дни войны Эрмитажем для хранения и эвакуации были приняты ценнейшие рукописи архива Академии наук СССР, в частности Ломоносова и Кеплера, рукописи Пушкина из музея Института русской литературы, самородки золота из Горного музея, портреты астрономов Пулковской обсерватории.
Подготовлявшийся третий эшелон из-за ухудшения обстановки на фронте отправлен не был, и упакованные ящики остались в Эрмитаже.
Кроме общей эвакуации Эрмитажем в глубокий тыл 24 июля было отправлено 146 детей сотрудников музея, совершивших длинный и тяжелый путь на восток, с переменой места назначения, во главе с работником научно-просветительного отдела Эрмитажа Л.В.Антоновой. В архиве Эрмитажа сохранились материалы по эвакуации музейных ценностей и детей, но они не могут в полной мере отразить все те трудности, которые люди испытывали в пути и при налаживании жизни в местах назначения.
После эвакуации в Ленинграде осталась большая группа сотрудников Эрмитажа для завершения работ по консервации зданий и сохранения большого количества экспонатов, которые остались в Ленинграде и требовали надежного укрытия. Кроме того, на хранение в Эрмитаж стали поступать предметы из пригородных дворцов-музеев, а также художественные коллекции частных лиц.
8 сентября 1941 года немецкие самолеты, прорвавшиеся к городу, первый раз бомбили Ленинград, позже воздушные вражеские налеты стали для ленинградцев обычными, они начинались с наступлением темноты и вошли в расписание дня ленинградцев.
Враг был уже вблизи города, и почти одновременно с воздушными налетами начался обстрел Ленинграда из дальнобойных орудий, что нанесло значительные повреждения городу и увеличило человеческие жертвы.
Один из первых снарядов, направленных на Ленинград, разорвался на мосту через Зимнюю Канавку на улице Халтурина (Миллионной), и сегодня на каменном цоколе здания Нового Эрмитажа можно видеть следы разорвавшегося снаряда.
Для защиты от вражеских воздушных налетов и обстрелов в Эрмитаже были сформированы подразделения гражданской обороны и в надежных подвалах зданий музея было оборудовано 12 бомбоубежищ, в которых до начала 1942 года постоянно жило около 2 тысяч человек. Всей этой большой и сложной работой руководил директор Эрмитажа И.А.Орбели.
Среди документов этого времени особый интерес представляют зарисовки бомбоубежищ, залов музея и набережной реки Невы, выполненные архитектором А.С.Никольским, жившим в одном из бомбоубежищ и оставившим также дневниковые записи.
Краткий очерк
99
Корпус Лоджий Рафаэля. 1783—1787. Архитектор Дж. Кваренги
История Эрмитажа
100
Лоджии Рафаэля. Внутренний вид
Краткий очерк
101
Обстановка бомбоубежищ производила странное впечатление: около наскоро сколоченных коек и столов стояла золоченая музейная мебель, а после прекращения подачи электричества на столах появились коптилки и свечи разного калибра, и среди них массивные позолоченные венчальные свечи, сохраненные старыми работниками музея.
Существует представление, особенно в зарубежной литературе, о том, что ленинградцы в дни блокады города пассивно ждали свою судьбу. Это совершенно неверно, и такое представление может относиться лишь к тем жителям, которые оставались жить в своих квартирах. В учреждениях картина была обратная. Служебные приказы по Эрмитажу второй половины 1941 года и первой половины 1942 года отражают активную жизнь, в них можно найти четко сформулированные задания по охране музея, отправку сотрудников в ряды действующей армии, отправку сотрудников на оборонные работы за пределы города, перемещения в должности. В приказах отражены благодарности, выговоры за опоздания на работу (конечно, не за минутные), увольнения за нарушение дисциплины и требований военного положения, и только длинные списки сотрудников музея, исключенных из списков по случаю их смерти, свидетельствовали о трагической обстановке.
В Эрмитаже все время шла напряженная, непрерывная работа по приведению зданий музея и прилегающих к ним территорий в порядок.
Обстрелы города нанесли непоправимые раны Ленинграду. Кроме повреждений и разрушений отдельных зданий в городе было выбито множество оконных стекол в Эрмитаже и в Зимнем дворце, особенно по фасаду на Неву и на Адмиралтейство. Через открытые окна в здания попадал снег, значительно были повреждены наборные паркетные полы и архитектурная лепка.
До войны на многих окнах парадных залов Зимнего дворца можно было видеть автографы гостей и хозяев дворца, выполненные бриллиантами перстней. Зафиксировать их вовремя не успели, а при уборке битого стекла после воздушных налетов и обстрелах о них забыли. Одна такая надпись сохранилась на стекле окна, выходящего на Неву у северо-западного угла дворца: этот автограф на английском языке, вероятно, был начертан перстнем царицы Александры Федоровны и сообщал, что 17 марта 1902 года «Ники» (Николай И) отсюда смотрел на гусаров.
В блокадные дни пустые, наскозь промерзшие залы музея производили сильное впечатление. В них гулко звучали шаги, фанера в окнах создавала и днем полумрак, а в роскошных позолоченных рамах зияла чернеющая пустота, особенно в рамах от крупных картин, где стены зала оставались недокрашенными. В один из таких залов пришли солдаты для уборки битого стекла. Их сопровождал научный сотрудник П.Ф.Губчевский, выполнявший тогда обязанности начальника охраны, один из лучших экскурсоводов Эрмитажа в довоенное время, и он провел экскурсию по пустым рамам, рассказывая о тех картинах, которые были из них вынуты. Этот эпизод напоминает новеллу
I История Эрмитажа
102
Ст.Цвейга «Незримая коллекция», в которой рассказывается о том, как слепой коллекционер показывал гостям альбом и рассказывал о гравюрах, не подозревая о том, что ценные гравюры были родственниками проданы и в альбом были вклеены пустые бумажки. Экскурсия по пустым рамам нашла отражение в нашей литературе.
В архиве Эрмитажа хранятся рисунки художников В.Милютиной и
В.Кучумова, запечатлевшие вид залов в дни блокады и причиненные им разрушения. Надо иметь в виду, что документальных фотографий этой поры мало, так как фотоснимки в условиях военного времени могли делать только фотокорреспонденты, а они заходили в Эрмитаж редко.
Зима 1941/42 года была особенно суровой, что ограничивало действия вражеской авиации, но значительно ухудшало жизнь ленинградцев, погибавших от холода и голода. Ведь с 20 ноября 1941 года дневная норма хлеба на человека снизилась до 200 и 125 гр., а на обогрев жилья в печках шла мебель и книги. Разумеется, в Эрмитаже дело обстояло иначе, довоенные запасы дерева в мастерских музея и экспозиционные щиты временных выставок обеспечивали обогрев небольшого количества отапливаемых помещений, но в значительном большинстве залов и помещений Эрмитажа царил холод.
В эти тяжелые дни научная жизнь в Эрмитаже не прекращалась, сотрудники, находившиеся на казарменном положении в Эрмитаже, в свободное от оборонной работы время продолжали работать по своим научным темам.
Не прервалась и традиция отмечать юбилейные даты, связанные с культурой народов Советского Союза. 19 октября 1941 года в Эрмитаже состоялось торжественное заседание, посвященное 800-летию со дня рождения азербайджанского поэта Низами Ганджеви. По настоянию Орбели в этот день с фронта были откомандированы в Ленинград поэт Н.С.Тихонов и профессор Эрмитажа М.М.Дьяконов. Оба прибыли в военной форме, и оба выступали с докладами. На этот праздник науки собралось много гостей, которые проходили через служебный подъезд Эрмитажа, предъявляли пригласительный билет и документы. На заседание пришел и академик И.Ю.Крачковский, организовавший заседание памяти Низами в Институте востоковедения Академии наук СССР. На «Большой земле», как называли ленинградцы советскую страну за пределами кольца блокады, юбилей Низами был отложен.
10 декабря, когда перестали в городе ходить трамваи, когда перестал работать водопровод и те, кто жили в Эрмитаже, брали воду из проруби на Неве, в школьном кабинете Эрмитажа состоялось торжественное заседание, отмечавшее 500-летие узбекского поэта Алишера Навои. После вступительного слова академика И.А.Орбели и научных докладов поэт
В.С.Рождественский, прибывший с фронта, и сотрудник Эрмитажа Н.Ф.Лебедев читали свои переводы стихов Навои. В витрине зала были выставлены фарфоровый бокал и коробочка с росписями на темы произведений Навои, выполненные к этому дню художником М.Н.Мохом.
Краткий очерк
103
Для обжига этих изделий в Эрмитаже ток для муфельной печи дал корабль «Полярная звезда» (база подводных лодок), стоявший на Неве, около служебного подъезда музея.
В эту суровую зиму на Неве находились вмерзшие в лед военные корабли, которые при налетах вели заградительный зенитный огонь, так что вражеские самолеты не могли вести прицельное бомбометание.
На следующий день, 12 декабря, юбилейное заседание было целиком занято чтением переводов Н.Лебедева, выступавшим уже тяжелобольным от истощения. После этого он слег и не смог уже подняться.
Прекращение трамвайного движения преобразило весь город, появилось громадное число пешеходов, тянущих санки, часто с небольшой поклажей, а иногда и с покойником, закутанным в одеяло или простыню. Действительно, детские саночки могут с полным правом быть символом блокадного Ленинграда.
С февраля 1942 года, когда стала активно функционировать «Дорога жизни» по льду Ладожского озера, наступило в жизни города некоторое улучшение, но до дня прорыва блокады, до 18 января 1943 года, было еще далеко.
В марте 1942 года Эрмитаж посетил А.Н.Косыгин, ознакомившийся с положением музея, после чего было принято решение о сокращении в Ленинграде обслуживающего персонала. 30 марта директор Эрмитажа И.А.Орбели выехал в Ереван, в Ленинграде осталось 36 научных сотрудников во главе с М.В.Доброклонским и кроме них по хозяйственной части 38 рабочих и 42 человека охраны.
Обстрел города еще не прекращался, сохранности здания и музейных предметов угрожало весеннее таяние снега, работы было очень много, а число научных сотрудников сокращалось.
Когда фронт отошел от Ленинграда, Совет Народных Комиссаров СССР 24 августа 1944 года вынес решение о восстановительных работах в Эрмитаже и отпуске необходимых для этого материалов.
Еще до окончания войны можно было подвести и печальные итоги. Из числа научных сотрудников Эрмитажа на фронтах погибло 6 человек, а в блокированном Ленинграде умерло 43 сотрудника. Потери среди рабочего и административного персонала были значительно большими. В здания музея попали две авиационные бомбы и 17 артиллерийских снарядов, причинившие большие разрушения.
При эвакуации затерялась одна картина, по размерам она не вошла в приготовленный ящик, была заменена другой, что отмечено в описи, но куда ее дели упаковщики, скончавшиеся в дни блокады, неизвестно. Снарядом, попавшим в каретный сарай, было разбито семь парадных карет и два паланкина XVIII века. Выбитой взрывной волной фрамугой была отбита голова у скульптуры Россетти «Эсмераль- да», разбились обрушившиеся с потолка массивные бронзовые люстры...
Восстановительные работы были начаты с Павильонного зала и галерей по сторонам Висячего сада, именно там к ноябрьским праздни¬
I История Эрмитажа
104
кам 1944 года было решено устроить выставку памятников искусства и культуры, остававшихся в Ленинграде во время блокады.
Из Еревана вернулся директор Эрмитажа И.А.Орбели.
Для организации этой выставки надо было произвести большие работы: убрать около 30 кубометров песка, натереть около 1500 квадратных метров паркетного пола, вымыть и восстановить выбитые стекла в 45 окнах, привести в порядок 14 люстр.
В ноябре 1944 года эта выставка была открыта и вызвала большую радость у ее устроителей и посетителей. В Павильонном зале стояла скульптура Кановы «Амур и Психея», в Кабинете Кваренги бронзовый бюст римского императора Марка Аврелия работы французского скульптора Э.Гастклу (1795 г.), доставленный в музей партизанами, пустившими под откос поезд, увозивший в Германию металл. Много ценных экспонатов было вынуто из ящиков неотправленного третьего эшелона.
Так, в разделе памятников русской культуры посетители могли видеть Манифест Петра I об измене гетмана Мазепы (1708 г.) с собственноручной подписью царя. С 8 ноября 1944 года по 31 июля 1945 года выставку посетило 29 243 человека.
9 мая 1945 года, когда весь советский народ торжественно праздновал День Победы, в Эрмитаже шла работа по восстановлению залов для большой выставки с реэвакуированными сокровищами музея. Работали не покладая рук как в Ленинграде, так и в Свердловске.
3 октября 1945 года там начали грузить ящики в вагоны двух эшелонов. 10 октября они прибыли в Ленинград, 13-го их разгрузка была закончена, и 14-го началась развеска картин.
Трудно себе представить темпы и напряженность работы по организации выставки в 69 залах за 20 дней. Памятником этих усилий служит огромный билет, приглашавший 4 ноября 1945 года на открытие залов, восстановленных после реэвакуации. Вход был через портик с атлантами Нового Эрмитажа, а на следующий день гости были приглашены на торжественное заседание в Эрмитажный театр, где состоялся доклад И.А.Орбели. 8 ноября 1945 года восстановленные залы были открыты для публики.
Закончился тяжелейший этап из истории Эрмитажа, о котором можно кратко рапортовать: «сотрудники Эрмитажа были на своих местах».
Эрмитаж долго залечивал раны, нанесенные войной 1941 — 1945 годов. Надо было не только ликвидировать разрушения от прямого попадания снарядов и бомб, но и производить реставрационные работы в залах, промерзавших и оттаивавших в дни блокады и длительное время стоявших с выбитыми в окнах стеклами. Особого ремонта требовали наборные паркетные полы и декоративная лепка парадных залов.
Строительные и ремонтные работы в широком масштабе производились в Зимнем дворце также для расширения экспозиций и приспособления помещения для музейных целей. Эта работа требовала
Краткий очерк
105
Эрмитажный театр. 1783—1787. Общий вид.
Архитектор Дж. Кваренги Зимняя Канавка.
Вид на Новый Эрмитаж и корпус Лоджий Рафаэля
История Эрмитажа
106
Новый Эрмитаж,
Южный павильон Малого Эрмитажа, Зимний дворец.
Вид со стороны Миллионной улицы
Краткий очерк
107
громадного напряжения не только от сотрудников строительной части, но и от всего штата музея.
В конце войны в Эрмитаж на временное хранение поступали в большом количестве коллекции немецких музеев и предметы искусства, захваченные фашистским правительством Германии в оккупированных странах. Особенно ценными были предметы древневосточного и античного искусства из Берлинских музеев. Для обеспечения сохранности знаменитые скульптуры Пергамского алтаря были вынуты из ящиков и смонтированы в помещении бывшей конюшни в Малом Эрмитаже. Там же были размещены и ценнейшие древнегреческие скульптуры архаического и классического периода.
В Отделе Востока хранились знаменитые древнеегипетские памятники искусства, предметы из раскопок в Тель-Амарне, и среди них замечательная каменная головка царицы Нефертити из мастерской скульптора Тутмеса.
Много и других ценнейших коллекций, в которые входили картины, прикладное искусство, оружие и этнографические предметы, были на временном хранении в Эрмитаже, и забота о них отнимала много времени у сотрудников музея, которым приходилось в первую очередь приводить в порядок и размещать в кладовых эрмитажные коллекции, возвратившиеся из эвакуации.
Дирекция и Ученый совет Эрмитажа много внимания уделяли и улучшению структуры музея, и реконструкции экспозиции. Естественно, в послевоенное время на первый план выдвигалась история русской культуры и культура народов, входящих в Советский Союз. Расширялась экспозиция Отдела истории русской культуры, в которую органически вошли парадные и мемориальные залы Зимнего дворца. Так, Военная галерея 1812 года была дополнена портретами солдат и двумя крупными картинами П.Хесса («Бородинское сражение» и «Переправа через Березину»), в 1949 году, к юбилею А.С.Пушкина, в галерее была установлена мраморная доска со стихотворением поэта «Полководец», описывающая галерею.
Значительно расширилась деятельность археологических экспедиций Эрмитажа, особенно в Средней Азии и в Закавказье.
Крупнейшим событием в жизни Эрмитажа была передача в 1948 году 316 картин из расформированного в Москве Музея нового западного искусства и поделенного между Эрмитажем и Музеем изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в Москве.
Это поступление в Эрмитаж картин западноевропейских художников конца XIX — начала XX века, первоклассных по качеству, сразу же сделало музей обладателем ценнейшей коллекции и заполнило большой пробел в экспозиции. Вместе с тем это значительное приобретение картин, выходящих за хронологические рамки прежней экспозиции, стимулировало расширение коллекции Эрмитажа произведениями современных художников.
Картины, переданные Эрмитажу из Музея нового западного искусства, были приобретены до 1914 года, до начала первой мировой вой¬
I История Эрмитажа
108
ны, когда это новое направление в живописи не получило еще общего признания. В собрании особенно полно представлены такие художники, как К.Моне, О.Ренуар, П.Сезанн, П.Гоген, А.Марке, П.Боннар. Разносторонне подобраны произведения А.Матисса, включая его монументальные полотна «Танец» и «Музыка», а также полотна П.Пикассо, показывающие различные этапы его творчества.
Картины эти ныне размещены в помещениях 3-го этажа Зимнего дворца, выходящих на Дворцовую площадь, лишенных дворцового интерьера, что соответствует характеру живописи.
В ноябре 1950 года Эрмитаж принял большую выставку по истории культуры Китая, в которую вошли более тысячи экспонатов, 600 из них относились к древней истории и 482 — к современности. Выставка из Китайской Народной Республики была первой из зарубежных выставок, устраиваемых после окончания войны, и на ней кроме памятников большого культурного наследия хорошо было представлено искусство современного Китая.
В это время установились связи с международными организациями. И хотя Международный совет музеев (ИКОМ) при ЮНЕСКО был учрежден в 1947 году, однако советские музеи вошли в него значительно позже и приняли деятельное участие лишь в генеральной конференции 1956 года в Нью-Йорке.
После войны было восстановлено и издательство Государственного Эрмитажа, регулярно выпускались «Сообщения Эрмитажа», содержащие информацию о жизни музея, небольшие статьи об изучении отдельных памятников из коллекций музея, краткие сведения о результатах работ археологических экспедиций, сведения об открытии постоянных и временных выставок. Научные статьи публиковались в «Трудах Эрмитажа», которые комплектовались по научным отделам. Издательство Эрмитажа выпускало также книги монографического или обобщающего характера, каталоги, путеводители, популярную литературу для школьников. Широко была развернута и научно-просветительская работа, которая проводилась не только сотрудниками специального отдела, но и научным составом всего музея, включая дирекцию.
Работали школьные кружки, проводились занятия со студентами высших учебных заведений, читались эпизодические и цикловые лекции в лектории, которому был передан Эрмитажный театр, построенный архитектором Дж.Кваренги. Практика концертов старинной музыки после войны не возобновлялась.
Устраивались выездные лекции на заводах города, в совхозах Ленинградской области и в воинских частях. В этих мероприятиях часто участие принимали директор музея и руководящие работники отделов.
Расширяя научно-просветительскую деятельность, Эрмитаж сохранил свое положение крупного научного центра по истории культуры, сохранил научные связи с Академией наук СССР и Академиями наук союзных республик.
Краткий очерк
109
Разработка новой структуры Эрмитажа, с усилением технической и инженерной служб, в связи с перманентными реставрационными работами, вызывала много разногласий. Директор Эрмитажа академик И.А.Орбели экспрессивно защищал интересы музея, вступал в конфликт с руководством Министерства культуры СССР, и поданное им заявление об отставке в 1951 году было удовлетворено. Директором Эрмитажа был назначен археолог Михаил Илларионович Артамонов, занимавший пост проректора Ленинградского университета. Он был хорошо известен своими трудами по славянской и древнерусской археологии и занимался также культурой скифов Причерноморья. За свои научные труды Артамонов был избран действительным членом Польской Академии наук.
По своему характеру он был полной противоположностью Орбели и спокойно проводил в жизнь генеральный план размещения отделов, разработанный в 1950 году. При нем была расширена археологическая работа Эрмитажа, обогатившая коллекции музея. Вместе с тем, много внимания было уделено хранительским и реставрационным службам. Хранилища музея заново оборудовались, расширялись реставрационные лаборатории, увеличивался штат реставраторов, разрабатывались новые методы реставрации.
Для развития этой музейной деятельности большое значение имела созванная Международным советом музеев (ИКОМ) в 1963 году международная конференция по вопросам реставрации. Местом ее проведения был избран Эрмитаж. На выставке и конференции была отражена деятельность реставрационных мастерских советских музеев, а в докладах обсуждались новые методы реставрации, вошедшие в мировую практику. Это общение советских и зарубежных реставраторов имело большое значение для расширения реставрационных работ в Советском Союзе. Руководителем конференции был В.Ф.Левинсон-Лессинг.
В январе 1958 года в Эрмитаже работала Первая Всесоюзная конференция художественных музеев СССР, на которой присутствовало более 200 делегатов и было заслушано 26 докладов. Конференция не только ознакомила широкие круги музейных работников с теорией и практикой музейного дела, но и укрепила связи центральных музеев с периферийными.
Конференции предшествовала организованная в 1956 году поездка лекторской группы на Урал, за месяц работы было прочитано около 200 лекций с охватом 20 640 слушателей.
В июне 1958 года вышло правительственное распоряжение о передаче Германской Демократической Республике художественных сокровищ из музеев Германии, находящихся в Советском Союзе.
В связи с этим до выполнения правительственного распоряжения в Эрмитаже с 7 августа по 10 сентября 1958 года была устроена выставка произведений искусства из музеев Германской Демократической Республики.
Эта громадная выставка, на которой находилось 640 тысяч предметов, вызвала большой интерес. Посетители выставки увидели античную
I История Эрмитажа
110
скульптуру, хорошо известную по учебникам и книгам, великолепные памятники Древнего Египта, западноевропейскую скульптуру, картины, рисунки. Выставка показала, какие художественные сокровища сохранил Советский Союз после победы и вернул их немецкому народу. Еще до ее устройства, 3—16 сентября 1956 года, состоялась передача произведений изобразительного и прикладного искусства Польской Народной Республике.
В Эрмитаж вместе с коллекциями из немецких музеев поступили также и произведения искусства, захваченные гитлеровцами в 1938— 1944 годах в польских музеях. Акт о возврате Польше ее культурных ценностей был подписан министром культуры СССР Н.А.Михайло- вым и министром ПНР К.Курылюком.
Эрмитаж к 1960 году полностью выполнил работы по экспоцизион- ному плану, значительно увеличилось число посетителей музея не только нашей страны, но и иностранных туристов.
Расширилась связь с иностранными музеями, и начался систематический обмен представительными выставками. Зарубежные художники стали часто посещать Эрмитаж. В 1959 году американский художник Рокуэлл Кент передал Эрмитажу ряд своих картин, а в 1960 году председатель Союза художников ГДР Леа Грундиг подарила музею несколько своих живописных и графических произведений и картины своего мужа Ганса Грундига. Стало возможным раздел выставки произведений художников XX века дополнить интересными экспонатами. Путеводители по Эрмитажу издавались также на иностранных языках. Расширилась деятельность издательства, и в 1958 году были изданы два тома каталога Картинной галереи, подготовленные под руководством В.Ф. Левинсон-Лессинга.
В 1964 году в Эрмитаже шла подготовка к празднованию 200-летия музея. К этому дню готовились издания и выставки, посвященные истории одного из старейших музеев страны. Неожиданно в апреле того же года директор Эрмитажа М.И.Артамонов был освобожден от должности. Поводом тому послужила выставка живописных работ сотрудников музея, устроенная без ведома руководящих организаций и вызвавшая их резкое осуждение.
В начале мая директором Эрмитажа был назначен я, пришедший в него очень давно, в 1922 году, еще школьником. В Отделении классических древностей у Н.Д.Флиттнер я занимался чтением древнеегипетских иероглифов, выполнял рисунки для экспозиции и для работ старших коллег-египтологов, показывал диапозитивы на лекциях. В 1929 году, студентом Ленинградского Государственного университета, я в том же отделении проходил производственную практику как египтолог, но уже к концу университетских занятий, сознавая, что Египет для меня труднодостижим, я, не оставляя египтологию, стал заниматься археологией Кавказа.
В штат Эрмитажа я был принят в 1931 году и прошел все ступени должностей, от младшего научного сотрудника в Отделе истории первобытной культуры, а позже в Отделе Востока, где занимался коллекциями
Краткий очерк
111
Новый Эрмитаж. 1839—1852.
Вид со стороны Миллионной улицы. Архитектор Л. фон Кленце Зал Геракла в Новом Эрмитаже
История Эрмитажа
112
Двадцатиколонный зал Нового Эрмитажа
Краткий очерк
ИЗ
по древнему государству Урарту, до заведующего Отделом Востока и заместителя директора Эрмитажа (с 1949 по 1953 год). Все это время я совмещал эрмитажную работу с работой в Институте истории материальной культуры, реорганизованном позже в Институт археологии АН СССР.
В Эрмитаже стало традицией его директора назначать не из специ- алистов-искусствоведов, а ученого, занимающегося историей культуры, и я продолжил дело М.И.Артамонова, моего старшего товарища по школе кавказской археологии.
Эрмитаж, с того времени как он сделался музеем с широким доступом, с 1851 года стал крупным научным центром страны по изучению античной, русской и восточной культуры. Картинной галереей ведали художники, и только с 1886 года, когда во главе Картинной галереи стал А.И.Сомов, можно говорить о подлинной искусствоведческой работе в Эрмитаже, ранее страдавшей дилетантизмом.
На всем протяжении второй половины XIX века Эрмитаж был тесно связан с Петербургской Академией наук, и он сохраняет связи с Академией наук СССР и Академиями наук союзных республик Украины, Кавказа и Средней Азии. Совместно с ними устраиваются конференции и выставки, и многие археологи и музейные работники республик Средней Азии и Закавказья получили свое образование в аспирантуре Эрмитажа.
Археологические экспедиции занимают важное место в научной деятельности музея, и материалы, добытые при раскопках, существенно дополняют коллекции Эрмитажа, даже при твердом принципе оставления основных находок в республиках, в земле которых памятники древней культуры были обнаружены.
В Эрмитаже постоянно производится разработка научных тем по истории западноевропейского и русского искусства, их связей, по изучению культуры и искусства стран Востока, по археологии Восточной Европы, Сибири, Средней Азии и Кавказа, по прикладным дисциплинам, как нумизматика и история оружия. По этим вопросам производится повседневная работа с докладами на заседаниях отделов, на конференциях Эрмитажа и общесоюзных и международных. Труды сотрудников Эрмитажа печатаются в изданиях музея и других научных учреждений. Большая научная работа проводится по составлению проблематики и планов экспозиции, по составлению путеводителей к выставкам, по созданию каталогов.
В 1976 и 1981 годах был переиздан в двух томах дополненный и исправленный каталог западноевропейской живописи. Издательство «Искусство» также издавало книги сотрудников Эрмитажа по общим вопросам и отдельным разделам коллекций музея. Издательство «Аврора» выпускало альбомы с репродукциями сокровищ Эрмитажа, преимущественно для распространения за рубежом. Некоторые зарубежные издательства (Японии, Италии, Франции и других стран) публиковали подготовленные Эрмитажем работы, преимущественно по коллекциям музея, по археологии и каталоги временных выставок, по¬
I История Эрмитажа
114
лучаемых из нашего музея. Особенно следует упомянуть издание 16- томного каталога западноевропейской живописи собрания Эрмитажа, осуществляемое итальянским издательством «Джунти» при сотрудничестве с издательством «Искусство».
1950-е и 1960-е годы были годами подъема популяризации Эрмитажа, быстрыми темпами росла посещаемость музея, вызванная усилением интереса к истории культуры, к культурному наследию прошлого и к большому числу выставок из-за рубежа, организованных по плану Министерства культуры СССР и по прямым соглашениям Эрмитажа с зарубежными музеями.
И если в 1922 году, когда я школьником переступил порог Эрмитажа и вошел в него через вестибюль с атлантами и мог бродить и заниматься в почти пустых залах, то через тридцать лет обстановка коренным образом изменилась. Тогда, в 1922 году, в Эрмитаже за год было 84 тысячи 984 посетителя, а в 1964 году, когда я стал директором музея, это число выросло до 2 миллионов 113 тысяч 459 человек в год. Понятно, что такой рост посещаемости создавал громадные трудности для эксплуатации музея.
20 октября 1964 года Эрмитаж торжественно отметил свое 200-ле- тие. На заседании в зале Государственной филармонии, которое вела министр культуры СССР Е.А.Фурцева, Эрмитажу «за большие заслуги коллектива музея в художественном воспитании трудящихся» был вручен орден Ленина. С приветствиями выступали представители общественности, ученые, художники, музейные работники, представители заводов города и зарубежные музейные деятели.
Юбилею была посвящена научная сессия, состоявшая из 69 докладов. На пленарном заседании выступали: М.В.Алпатов (значение Эрмитажа в русской и советской культуре), П.Ф.Губчевский (о научнопросветительской деятельности музея), В.Ф.Левинсон-Лессинг (об истории Картинной галереи) и А.В.Банк (о научной работе музея).
Были организованы две тематические выставки: «Эрмитаж после Великой Октябрьской социалистической революции» и «Эрмитаж в рисунках, акварелях и чертежах XVII—XIX веков», на которых были представлены здания музея, его экспозиции, результаты археологических исследований и материалы по истории музея. Особое значение имела выставка «Западноевропейская живопись XIV—XV веков» из музеев Советского Союза, из разных городов РСФСР и союзных республик (Москвы, пригородных дворцов Ленинграда, Еревана, Каунаса, Киева, Львова, Одессы, Перми, Риги, Саратова, Таллинна, Тамбова, Ташкента, Тбилиси). Такая представительная выставка шедевров западноевропейской живописи, занявшая Георгиевский зал Зимнего дворца, могла быть осуществленной лишь благодаря тому положению Эрмитажа, которое он занял в культурной жизни всей страны, благодаря постоянной совместной работе с центральными, республиканскими и областными музеями.
Неуклонно росло и число экспонатов Эрмитажа, увеличивались коллекции всех отделов. Ныне музей хранит свыше двух миллионов 811
Краткий очерк
115
тысяч экспонатов, причем численность их за три последних десятилетия росла довольно равномерно, от 105 тысяч до 154 тысяч за десятилетие.
Но следует учесть, что среди экспонатов Эрмитажа наибольшей численности, свыше одного миллиона, достигают коллекции Отдела нумизматики, многочисленен также археологический материал и графика, а число картин в Отделе западноевропейского искусства не превышает 7869. Пополнение эрмитажных коллекций происходит главным образом через закупочную комиссию, работающую под руководством заместителя директора В.А.Суслова. Комиссия старается заполнить лакуны в эрмитажных коллекциях и кроме первоклассных предметов планомерно закупать предметы искусства стиля модерн, на которые раньше должного внимания не обращалось.
За последние четверть века Эрмитаж приобрел такие первоклассные произведения, как картины: «Кающаяся Магдалина» художника Джам- петрино из школы Леонардо да Винчи (первая половина XVI в.), «Клеопатра» М.Станционе (конец XVI — начало XVII в.), «Оплакивание Христа» французского художника Ж.Белланжа (начало XVII в.), эскиз Кандинского к его «композиции № 5». Из покупок за границей следует упомянуть бюст А.Д.Меншикова работы Б.К.Растрелли, отца архитектора, шпалеру русской мануфактуры времени Анны Иоанновны, русские эмали XVIII века.
Особенно следует отметить художественные произведения высокого класса, поступившие в Эрмитаж в качестве даров или по завещанию.
В мае 1966 года посол Индии в СССР Т.Н.Кауль передал Эрмитажу коллекцию памятников древнего и средневекового искусства Индии, значительно пополнившую эрмитажное собрание. Особенно ценной для музея была скульптура III—X веков.
Ценным пополнением собрания произведений французского искусства конца XIX — начала XX в. явился дар Л.Н.Делекторской живописных, скульптурных и графических произведений А.Матисса. Л.Н.Делекторская постоянно активно содействовала получению Эрмитажем и даров от других коллекционеров, в частности увражей с литографиями М.Шагала, составивших почти полную коллекцию таких произведений знаменитого художника.
В 1972 году А. Хаммер подарил Эрмитажу портрет артистки Антонии Сарате работы Ф.Гойи, картины которого в музее отсутствовали.
По завещанию Эрмитаж получил девять картин западноевропейских художников из собрания А.И.Шустера, переданные его сыном,
С. А.Шустером, и большую разнообразную коллекцию художественных произведений разного рода из собрания московских художников Т.Б.Александ- рова и И.Н.Попова.
Из собрания коллекционера С.П.Варшавского, вместе с Б.Рестом написавшего четыре книги об Эрмитаже, по его завещанию в Эрмитаж поступила коллекция нэцке и японских цветных гравюр.
Ценные предметы западноевропейского и русского прикладного искусства поступили от С.Т.Павлова, Б.А.Шелковникова и А.А.Чистова,
I История Эрмитажа
116
но особенно дарами коллекционеров Е.А.Пахомова, К.В.Антипина, Б.Е.Быховского, Г.Л.Гервица.
В настоящем очерке нет возможности упомянуть все имена дарителей своих коллекций или отдельных художественных произведений. При реконструкции экспозиции Эрмитажу предстоит особо выделить залы постоянной выставки даров, коллекционеров и частных лиц.
Жизнь Эрмитажа хорошо отражена в материалах, хранящихся в архиве музея. Архив состоит из 27 067 единиц хранения и содержит документы Императорского и Государственного Эрмитажа с 1767 года по настоящее время. В архиве хранятся документы, связанные с музейными предметами, их поступлениями, покупками, с реставрацией и археологическими работами. Среди рукописей имеются описи и каталоги собрания Р.Уолпола (1767), каталог Миниха (1773) и Ф.Ла- бенского (1797). По существу, материалы архива отражают всю историю Эрмитажа.
Большая и сложная работа по учету и хранению всего многочисленного собрания Эрмитажа ведется специальным отделом, работой которого с 1957 по 1974 год руководил заместитель директора П.И.Ма- линин, а ныне заместитель директора Ю.Л.Дюков.
Хранение громадного фонда Эрмитажа требует постоянного наблюдения за сохранностью предметов, их консервацией и реставрацией, что лежит на обязанности особого отдела. Реставраторы Эрмитажа всегда славились высокой квалификацией и мастерством и нередко спасали ценнейшие экспонаты от гибели.
Популярность Эрмитажа росла и вследствие установившихся контактов с зарубежными музеями, путем обмена выставками на паритетной основе. Эрмитажу удавалось получать великолепные по составу выставки из музеев всех континентов и вместе с тем посылать за границу не менее ценные выставки из своего собрания.
Особенно популярны эрмитажные выставки скифского золота, французской живописи второй половины XIX и начала XX века (импрессионистов и последующих художественных направлений), а также шедевров Картинной галереи, как специальная выставка произведений Рембрандта или других знаменитых художников.
Трудно переоценить широко развернувшиеся связи Эрмитажа с зарубежными музеями, выразившиеся в обмене выставками, литературой и научной информацией.
За время, истекшее после 200-летнего юбилея Эрмитажа, музей принял более 250 выставок разной значимости и размеров из 45 стран пяти континентов земного шара. Посетители Эрмитажа имели возможность непосредственно общаться с шедеврами живописи разных стран и времен и памятниками древней культуры, хорошо им знакомыми по репродукциям с юности. Такие замечательные выставки были предоставлены Лувром, Национальной галереей и Галереей Тейт Лондона, Старой пинакотекой в Мюнхене, Национальной галереей Вашингтона и Музеем Метрополитен в Нью-Йорке. Наиболее представительные
Краткий очерк
117
зарубежные выставки, как правило, экспонировались кроме Эрмитажа также в Музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в Москве и часто в одной из столиц союзных республик.
Из крупных выставок, организованных на материале многих музеев как зарубежных, так и советских и рассматривающих широкие проблемы истории культуры, в первую очередь следует назвать выставку «Россия — Франция. Век просвещения», на которой был представлен разнообразный материал из архивов, библиотек и музеев, показывающий разносторонние взаимосвязи русской и французской культур. Эта представительная выставка экспонировалась в Париже, Ленинграде и Москве (1986-1987).
Некоторые мировые музеи представили советским музеям монографические выставки; так, музеи Нидерландов знакомили посетителей Эрмитажа с произведениями Рембрандта (1956), музей Прадо в Мадриде — с шедеврами испанской живописи (1980).
Особое значение имели выставки из музеев социалистических стран, как «Сокровища венгерского искусства за 1000 лет» (1971) и «Готическое искусство XIV—XVI вв. в Чехии и Словакии» (1971).
Громадный интерес вызывал показ в залах Эрмитажа прославленных коллекций древнего искусства. Из их числа следует в первую очередь назвать выставку «Сокровища гробницы Тутанхамона» из Каирского музея (1974); средства, полученные египетским правительством за ее предоставление, были направлены на реставрацию и охрану древнеегипетских архитектурных памятников. Эту выставку посетило свыше 800 тысяч человек, и 1974 год стал рекордным по числу посетителей, достигшему 4 миллионов 492 тысяч 369 человек.
Также исключительный успех имели выставки: «Сокровища древней культуры Ирака» из музея в Багдаде (1968), в состав которой вошли предметы из знаменитых царских гробниц в У ре и другие материалы, характеризующие культуру древнего Шумера.
Необходимо также отметить значительную выставку «Скульптура древней и средневековой Японии» (1969). В Ленинград прибыли священнослужители японских храмов, предоставивших экспонаты для выставки, принявшие участие в церемонии открытия.
Большие выставки золотых изделий племен северной части Южной Америки были присланы из Колумбии, из знаменитого Музея золота в Боготе (1979) и из музеев США (1976). На них были выставлены предметы искусства, преимущественно золотые, относящиеся к периоду до завоевания .Америки испанцами (с конца 2 тыс. до н.э. до XVI в.). К выставке Эрмитаж выпустил буклет со сведениями испанских хроник XVI века о культуре племен, к которым относятся экспонаты позднего периода, а издательство «Искусство» выпустило книгу хранителя Музея золота Луиса Дуке Гомеса (1982).
Интересные и малоизвестные нашей стране памятники древней культуры были представлены на выставке из Нигерии (1983), на которой выделялись реалистические, выполненные в металле и глине головы правителей средневекового города-государства Ифе. И к этой выставке
I История Эрмитажа
118
Эрмитажем был выпущен соответствующий буклет, характеризующий памятники культур Нок, Ифе и Бенина.
Небольшие выставки были получены Эрмитажем и из других африканских государств: Республики Чад (1967), Конго (1981) и Камеруна (1981).
Большие выставки были посвящены творчеству художников Америки. Первая из них детально, на великолепных художественных образцах характеризовала различные этапы творчества художника Диего Риверы, друга В.Маяковского. Выставка монументальных полотен эквадорского художника Гуаясамина характеризовала его творчество, проникнутое борьбой за мир, реалистически показывая беды, принесенные войной и фашизмом (1982). На второй выставке того же художника (1986) была представлена его графика.
Некоторые выставки, преимущественно археологические, полученные Эрмитажем из зарубежных стран, имели научное значение и не предназначались для широкой публики. К ним относятся: «Археология Франции. Палеолит» (1982), «Наскальные изображения Швеции» (1982) и «Сокровища викингов». На них были выставлены хорошо известные археологам предметы палеолита и бронзового века, постоянно воспроизводимые в учебных пособиях и научных трудах. Ознакомление с этими предметами в натуре для археологов представляло большой интерес, никакие репродукции не могли дать полное о них представление.
Бывали случаи, когда зарубежные выставки дополнялись материалами собрания Эрмитажа и становились предметами двустороннего обсуждения. Так, выставка «Искусство Египта X—XVI вв.» из Музея исламского искусства в Каире была дополнена археологическими материалами из раскопок на Северном Кавказе и на Волге, содержащими египетские изделия, попадавшие в эти районы через Крым. Другая выставка из Британского музея, «Амударьинский клад», была также дополнена предметами из этого клада или связанными с ним из музеев Советского Союза. Выпущенный к этой выставке каталог отражает новое объяснение этого замечательного клада, относящегося к древней Бактрии.
Оправдала себя также практика экспозиции одной картины, выдающейся по своему качеству. Так, в 1985 году Эрмитаж получил из Флоренции картину Боттичелли «Афина Паллада и кентавр», в 1986 году «Портрет маркизы де Понтехос» работы Ф.Гойи из Вашингтона и «Моление о чаше» Эль Греко из музея в Толидо (1987). В свою очередь и Эрмитаж посылал в эти музеи свои шедевры, что также имело хороший отзыв. Когда в Толидо (США) экспонировалась картина Рембрандта «Святое семейство», Эрмитаж получил из Толидо от школьников разных классов отзывы о картине и даже прорисовки изображенной сцены. Особенно были интересны письма младших школьников, с восторженными отзывами о картине и с приглашениями сотрудникам Эрмитажа посетить их дома при приезде в Толидо.
Краткий очерк
119
Я остановился подробно на обмене выставками между Эрмитажем и зарубежными музеями, так как эта деятельность имеет громадное значение для ознакомления посетителей Эрмитажа с мировыми шедеврами и малоизвестной культурой стран, которым ранее не уделялось достаточно внимания, а также и для установления контактов между работниками музеев разных стран.
В апреле 1989 года Фондом Онасиса в Греции Эрмитажу была вручена премия «Олимпия». В речи на торжественном заседании профессор О.Реверден сказал: «Эрмитаж всегда открыто и доброжелательно относился к зарубежным коллегам. Даже в те времена, будем надеяться, навсегда ушедшие, когда холодная война сеяла рознь между европейскими народами, Эрмитаж умел поддерживать культурный диалог со всей Европой и Америкой. Он помогал исследователям в их работе, он предоставлял свои сокровища для зарубежных выставок. Такова была политика этого музея за долгие годы».
Большое значение для укрепления международного сотрудничества имело вступление советских музеев в Международный совет музеев (ИКОМ) при Организации Объединенных Наций (ООН). Эрмитаж, так же как и другие крупные музеи СССР, принял в этом комитете активное участие с представительством в руководящих органах, как в президиуме Совета, так и в его комитетах. Вице-президентом ИКОМ был избран заместитель директора Эрмитажа В.А.Суслов, заменивший на этом посту директора Музея изобразительных искусств И.А.Анто- нову. В 1981 году директору Эрмитажа было присуждено звание почетного члена ИКОМ.
В мае 1968 года в Эрмитаже проходила конференция ИКОМ на тему «Роль музеев в воспитательной и просветительной работе», в которой широкое участие приняли представители разных стран (США, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Германской Демократической Республики, Федеративной Республики Германии, Чехословацкой Социалистической Республики, Туниса, Нигерии и др.). Работа конференции была продолжена в Москве.
В сентябре 1970 года в Эрмитаже состоялась конференция ИКОМ, посвященная проблемам экспозиции в музеях археологического и исторического профиля.
В стенах Эрмитажа происходили конференции и симпозиумы и других международных организаций, как, например, Международного комитета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС, сентябрь 1969 г.) и Международной ассоциации музеев оружия (1966), международный симпозиум «2500-летие Иранского государства» (1971). К этим конференциям устраивались и большие выставки, посвященные обсуждаемым темам.
Выставки из зарубежных музеев и организованные к международным конференциям были очень популярными и приводили к увеличению роста числа посетителей в Эрмитаже. Уже указывалось, что в 1914 году посетителей было 180 тысяч 324 человека в год, в пустых залах можно было любоваться картинами, получать эстетическое на¬
I История Эрмитажа
120
слаждение и вместе с тем отдыхать на диванах и банкетках. В 1927 году после восстановления Эрмитажа число посетителей достигло уровня 1914 года и начало расти. В 1952 году годовое число посетителей выросло до одного миллиона 30 тысяч человек, и это число стало прогрессивно увеличиваться: 1960-й — 1 миллион 844 тысячи человек; 1965-й — 2 миллиона 575 тысяч человек; 1970-й — 3 миллиона 170 тысяч; в 1974 году в связи с выставкой сокровищ Тутанхамона, как указывалось, число посетителей музея стало создавать угрозу для сохранности экспонатов и пришлось принимать меры для регулирования числа посетителей в пределах 3 миллионов (от 2 миллионов 500 тысяч). В основном музей посещают городские жители и гости, приезжающие из других городов нашей страны; число же иностранных туристов не достигает полумиллиона.
Такая огромная посещаемость требует налаженной организации их обслуживания, что в основном лежит на Научно-просветительном отделе Эрмитажа, организующем экскурсии по музею как силами своих сотрудников, так и экскурсоводами городских организаций. Но кроме экскурсионного обслуживания, у Научно-просветительного отдела много и других обязанностей, и в первую очередь лекционная работа. В Эрмитажном театре ежедневно, кроме понедельников, читались лекции по определенным циклам, среди которых особенным успехом пользовались циклы «Искусство Западной Европы с древнейших времен до наших дней», «Крупнейшие музеи мира» и «Мастера западноевропейского искусства с XIII по XX век». Кроме того, в Эрмитаже проводил свои занятия, рассчитанные на три года, Университет истории зарубежного изобразительного искусства. В программе предусматривались не только лекции, но и занятия в залах музея. Сотрудники Эрмитажа читают лекции и ведут беседы как в стенах своего музея, так и в лекториях города, на предприятиях и в сельской местности. Особое внимание уделялось работе с профессионально-техническими училищами.
Сотрудничая с обществом «Знание», работники Эрмитажа участвовали в выездных лекциях от Украины до Камчатки и от северных пограничных застав до южных окраин Средней Азии. Организовались и передвижные тематические выставки по зарубежной и русской культуре также в разных городах республик нашей страны, и администрация музея с трудом удовлетворяла получаемые заявки на плановые и специальные выставки.
Большую работу проводит Эрмитаж со школьниками и студентами. Для детей дошкольного возраста организуются кружки рисования, для школьников — специальные тематические кружки. Расширяя деятельность школьного сектора, Эрмитаж проводит занятия с руководителями и детьми детских садов, исходя из убеждения, что человеческая натура складывается очень рано, в возрасте от 4 до 5 лет, и именно в этом возрасте необходимо дать детям эстетическое воспитание, помочь понять красоту, развить чувство доброты к окружающим их людям, животным и растениям.
Краткий очерк
121
Работа Научно-просветительного отдела очень разнообразна, и она дает ощутимые результаты: многие из детей, занимавшихся в школьных кружках, стали сотрудниками Эрмитажа, а те, которые выбрали иную специальность, с благодарностью вспоминают Эрмитаж.
Научно-просветительная работа была одним из оснований для награждения в 1972 году Центральным Комитетом КПСС, Президиумом Верховного Совета, Советом Министров СССР и Центральным советом профессиональных союзов Эрмитажа юбилейным почетным знаком «За достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании в ознаменование 50-летия образования Союза Советских Социалистических Республик».
Работа Эрмитажа протекала в зданиях, являющихся выдающимися памятниками русской архитектуры, что требовало заботливого отношения к их охране и перманентных реставрационных работ. Это привело к необходимости организации службы главного архитектора, которая ведет большую научно-исследовательскую и проектную работу, наблюдая за правильной эксплуатацией зданий и производством всех строительных работ.
Здания Эрмитажа требуют постоянного ремонта не только фасадов, что производится городскими организациями, но и интерьеров. Первоначально и эти работы выполнялись подрядными организациями города, но в апреле 1971 года при Эрмитаже были созданы специальные научно-производственные мастерские, на правах хозрасчетного предприятия, которые стали вести все работы по реставрации интерьеров.
Но их деятельность значительно шире архитектурно-реставрационных работ. Мастерские проводят общестроительные работы, изготовляют музейное оборудование, обеспечивают тару для отправки экспонатов на выставки за пределы Ленинграда и вместе с тем производят также художественную реставрацию мебели и элементов архитектурного убранства в залах. В этих мастерских были великолепно выполнена реставрация музыкальных бюро Д.Рентгена для Отдела Запада и Г.Гамбса для экспозиции Отдела истории русской культуры. Паркетчики мастерских великолепно реставрируют и создают заново по старым рисункам наборный паркет из различных пород деревьев, а столяры, производя художественную реставрацию мебели, восстанавливают тонкие наборные украшения и композиции столешниц XVIII и XIX веков.
Большая работа была проведена реставрационными организациями города и Эрмитажа во дворце А.Д.Меншикова на Васильевском острове, одном из самых ранних каменных зданий Петербурга (1711), переданном Эрмитажу и открытом для обозрения в 1981 году.
Работам по восстановлению дворца предшествовало начатое в 1966 году глубокое научное изучение памятника, установившее остатки различных этапов строительства и вскрывшее многие интересные элементы, в частности, плафон в Ореховом кабинете с изображением воина (Петра?).
I История Эрмитажа
122
Реставрация интерьеров проведена с большой тщательностью и достоверностью. Восстановление же фасада здания на первую треть XVIII века, с высокой крышей, имеющей перелом, несколько нарушило ансамбль не только комплекса построек бывшего Кадетского корпуса, но и всей набережной в целом.
Во дворце Меншикова организована постоянная выставка «Культура России первой трети XVIII века», устраиваются временные выставки, а также совместно с Государственной консерваторией проводятся концерты русской старинной музыки.
Все здания, занимаемые Эрмитажем, включая и дворец Меншикова, представляют собой выдающиеся памятники архитектуры XVIII— XIX веков и требуют постоянного архитектурного надзора.
За последние годы в связи с реконструкцией отопительной, водопроводной и энергетической систем значительно усилилась инженерная служба музея и отдел электронной техники и сигнализации.
Эрмитаж в настоящее время представляет собою сложный организм, он является государственным хранилищем художественных ценностей, научно-исследовательским и научно-просветительским учреждением всесоюзного значения с научно-производственной реставрационной деятельностью (музейных экспонатов и интерьеров). Вместе с тем он является одним из крупнейших в нашей стране музеев истории культуры и изобразительного искусства народов мира с древнейших времен и до наших дней.
В связи с этими задачами и была выработана новая структура музея, по которой Эрмитаж стал состоять из девяти основных подразделений: дирекции, отдела внешних связей, отдела главного архитектора, отдела капитального строительства, научной части, учетно-хранительской части, производственно-технической и административно-хозяйственной части, специальных научно-производственных мастерских и службы кадров и режима (охраны).
Численность штата стала превышать тысячу человек.
Научная часть Эрмитажа состоит из следующих отделов: археологии Восточной Европы и Сибири, истории культуры античного мира, зарубежного и советского Востока, истории русской культуры, западноевропейского искусства, нумизматики и арсенала.
Особо выделен сектор русской культуры первой трети XVIII века, занимающий дворец Меншикова, одно из старейших зданий петровского времени в Петербурге.
В научную часть входят также Научно-просветительский отдел, реставрационные мастерские и лаборатории, научная библиотека и архив.
225-летний юбилей совпал с реконструкцией всей деятельности Эрмитажа в связи с новыми задачами по эстетическому воспитанию советского народа, с сохранением и развитием великого культурного наследия русского народа и народов, входящих в Советский Союз.
Основная задача Эрмитажа состоит не только в улучшении обслуживания посетителей музея, экспозиции которого размещены в четы¬
Краткий очерк
123
рех зданиях и занимают громадную площадь, но и в значительном расширении экспозиции, использовании большого числа экспонатов, находящихся в запасниках. Это в первую очередь мебель, костюмы, предметы прикладного искусства, оружие, медали и монеты.
Для осуществления новых экспозиций и для расширения хранилищ Эрмитаж получает часть здания Главного штаба (архитектор К.И.Росси) на площади напротив Зимнего дворца.
Расширение и улучшение хранилищ музея, в которых находится более двух с половиной миллионов экспонатов, имеет целью более широкий в них доступ и переоборудование, открывающее возможность проведения в хранилищах занятий и работы специалистов. Только при таких условиях памятники культурного наследия, хранящиеся в Эрмитаже, могут быть активно использованы и органически войти в нашу жизнь.
Особое внимание уделяется также коренной реконструкции реставрационных и производственных мастерских, созданию новых лабораторий, использованию в музее компьютерной техники. Только при выполнении намеченных задач Эрмитаж сможет и впредь сохранять свое положение как крупного научного центра и музея мирового масштаба.
1988 г.
МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ
Во втором разделе публикуются материалы и документы, собранные Борисом Борисовичем Пиотровским в период его работы над книгой об истории Эрмитажа. Рукопись была передана в издательство М.Б.Пиотровским, ныне директором Государственного Эрмитажа, уже после кончины его отца.
Это своего рода подготовительный материал к задуманному Б.Б.Пиотровским фундаментальному труду. Небольшая часть материала нашла отражение в кратком очерке, публикуемом в первом разделе книги. Однако большая часть, связанная с изучением
архивов и литературных источников, осталась в виде рукописи.
Незадолго до своей болезни Б. Б. Пиотровский склонялся к мысли о публикации собранных им материалов как приложения к краткому очерку, однако обработать рукопись для печати не успел.
Издательство, понимая значение труда ученого, приняло решение опубликовать рукопись после определенной редакционной подготовки, в которой принимали участие М.Б.Пиотровский, сотрудники Архива Государственного Эрмитажа и работники издательства.
ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
Петербургская Академия Наук имела художественный департамент, но попытка Якоба Штелина превратить его в Академию Художеств в 1745—1748 гг. не увенчалась успехом.
1758 г. — основание Петербургской Академии Художеств, создание при ней картинной галереи в основном из коллекции И.И.Шувалова, в 1762 г. были к ней присоединены 48 картин из Зимнего дворца (в том числе 16 картин русских художников). В 1765 г. 44 картины из дворца в Ораниенбауме.
Время Елизаветы Петровны
Письмо В.В. Ефимова, зам. Главного архитектора музея1
Пояснения к «Сочинениям Екатерины II» о том, что могли означать указания на существование в 1746 г. в Зимнем дворце стола «Эрмитаж».
Борис Борисович,
В 1746 году по указанию Елизаветы Петровны арх. Ф.Б.Растрел- ли для увеличения площадей Зимнего дворца (возведенного им же в бытность Анны Иоанновны в 1732—1735 гг.) пристраивает Г-образный флигель к юго-западному ризалиту, как бы увеличивая протяженность южного фасада резиденции в сторону Адмиралтейства. (В современном состоянии красная линия пристроенного флигеля, вероятно, проходила бы по цоколю мельцеровской ограды Собственного садика в сторону Адмиралтейства на расстоянии до 70 метров. Возможно существование фундаментов.)
Возведение нового флигеля могло объясняться созданием условий для проживания молодой четы: в.к. Петра Федоровича и в.к. Екатерины Алексеевны — будущих наследников престола. Пристройка была выполнена деревянной в два этажа на каменном цоколе и насчитывала 55 покоев (количество помещений на протяжении лет менялось). Вот как писал сам Растрелли: «В том же (1746) году ее И.В. после своего возвращения приказало мне построить двухэтажный деревянный дворец. Первый эт£ж был возведен из камня: это здание было присоединено к большому каменному дворцу, построенному в царствование императрицы Анны. Апартаменты числом 55 были закончены в течение восьми месяцев». (Цит. по м.п. рукописи Ю.М.Денисова «Третий Зимний дворец». РГИА, ф. 470, оп. 5 /76/188/, д. 260, с. 59).
Как свидетельствует иконографический материал, пропорциональные отношения этажей Зимнего дворца и построенного флигеля соот¬
1 Текст письма в виде машинописного оригинала приложен к данному разделу рукописи Б.Б. Пиотровского. — Примеч. ред.
II Материалы и документы
128
ветствовали друг другу. А декоративное решение фасадов было аналогичным.
В этом флигеле с запада, на повороте к церкви, северную и южную анфилады замыкало просторное помещение, называемое «Эрмитажным покоем» или «Эрмитажем». В центре Эрмитажного покоя и был установлен специальный механический подъемный стол на 16 персон, который в общении хозяев мог быть прозван «Эрмитажем».
Об отделке интерьеров пристроенного флигеля сведений почти не сохранилось, но известно, что полы в Эрмитаже были из черного и белого мрамора, а двери дубовые. Очевидно, у «Эрмитажного покоя» было несколько функций, но можно предположить, что назначение «Эрмитаж» (не только «HERMITS») в том понимании, какое мы вкладываем сейчас в это слово, не исключено1.
В 1755—56 гг. (за 6 месяцев) Ф.Б.Растрелли возводит временный деревянный дворец на Мойке у Зеленого моста, в котором разместился двор на период перестройки старой резиденции и строительства последнего Зимнего дворца (1755—1764 гг.). К этому периоду относится разборка упомянутого Эрмитажного флигеля, деревянные конструкции и декоративные элементы которого могли быть использованы для возведения дворца на Мойке.
С уважением, зам. Гл. архитектора музея
Ефимов В.В. 29.07.87
1746 г. «Аппартаменты великого князя (будущего Петра III. - Б.П.), примыкали к комнате, в которой императрица (Елизавета Петровна. - Б.П.) устроила «стол с машиною», что называется в России Эрмитажем (une table a machine qiTon nomme en Russia Ermitage) дверь выходила в другую комнату, составляющую часть аппартаментов императрицы, где был «стол с машиной», поднимавшийся и опускавшийся так, что можно было обедать без прислуги»2.
Хроника событий при Екатерине II
1762 Вступление на престол Екатерины II.
1763 Решение построить конюшню и висячий сад.
1764 Покупка коллекции картин Иоганна Эрнеста Гоцковского. Неизвестно, где были размещены картины. О них забыли, вспомнил Б.Кёне, определив их по печатям кн. Долгорукова.
1765 Завершение работ по опочивальне Екатерины II в Зимнем дворце. Завершение южной части сада.
1766 Контракт с Фальконе на памятник Петру I. Южный павильон сада (для Г.Г.Орлова). Указание о постройке «Оранжерейного дома», устройство в нем «Эрмитажа наподобие Царскосельского». Он находился в здании, завершающем южную часть Висячего сада. Фасад украшен статуями богинь Флоры (цветов) и Помоны (плодов). Комната «Эрмитаж».
1767 Указание построить «Эрмитаж с садом». Поручение Маруцци при¬
1 По Екатерине: «там можно было обедать без прислуги»!
2 Сочинения императрицы Екатерины с примеч. акад. А.Н.Пыпина. Изд. Имп. Академии Наук, т. XII. Автобиографические записки. Спб., 1907.
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
129
обрести в Италии античные памятники. (Маруцци было поручено приобретение в Италии античных памятников, что вызвало трудности из-за конкуренции и запрещения вывоза антиков. Это было выполнено И.И.Шуваловым, жившим в Риме с 1767 по 1773 г. Шувалов организовал изготовление слепков с античных памятников для Академии Художеств.)
1774 Каталог галереи (печатный на франц.яз.). Рукописный каталог составлен в 1773—1783 годах. На нем имя графа Эрнста Мини- ха. Два тома; в 1785 г. вышел еще третий.
1775 Завершение галерей по сторонам сада.
1776 Посещение «Эрмитажа» Корбероном. Покупка библиотеки Дидро.
1777 Первая часть Фельтеновского здания (10 окон). Письмо Фредерику Мельхиору Гримму — «Музей в угловой комнате...».
1778 Письмо к Гримму — «... и всем этим любуются мыши и я». Посещение «Эрмитажа» Иоганном Бернулли. Проект воссоздания Лоджий Рафаэля.
1779 Покупка коллекций Роберта Уолпола. (Коллекция приобретена за 40 тысяч фунтов. Джонсон, друг Рейнольдса, решительно выступил против продажи коллекции.)
1783 Покупка собрания Бодуэна — последнее крупное пополнение картинной галереи Екатериной И.
1787 Окончание Фельтеновского здания (начало 1775 г.). Эрмитажный театр (начало деятельности 16.XI.1785). Завершение копий Лоджий Рафаэля (строительство здания завершено в 1792 г.).
1788 Сведения А.В.Храповицкого. Посещение П.Стернельдом «Эрмитажа» Екатерины И.
1790 Письмо Гримму — «Мой музей состоит из...».
1794 Описание Эрмитажа И.Г.Георги (Мартинелли помогал Георги в описании Эрмитажа. Состоял заведующим Картинной галереей с 1775 по 1797 г.)1. Привоз англичанином Тиоре из Англии картин, после смерти Екатерины они оставались у него и потом были распроданы.
1795 К западному входу в Эрмитаж пристроен пандус. Разборка столов в комнате «Эрмитаж».
1796 Умерла Екатерина II.
1797 Опись картин. Гоцковский забыт! Посещение «Эрмитажа» Станиславом-Августом (Юсупов).
Апартаменты Екатерины в Зимнем дворце
В антресолях первого этажа находилась построенная еще Деламотом «императорская мыльня». Она включала три основных помещения: 1) под проходной в Малый Эрмитаж располагалась купальня, 2) под ризницей Большой церкви — уборная, 3) непосредственно под алтарем — обширная баня с бассейном. В первую комнату — купальню, обшитую сукном палевого цвета, Екатерина спускалась из своих покоев по небольшой
1 Левинсон-Лессинг В.Ф. История Картинной галереи Эрмитажа (1764—1917). Л., 1985, с. 116.
II Материалы и документы
130
деревянной лесенке. Деламот отделывал личные комнаты царицы: уборную, две спальни, будуар, кабинет, библиотеку. Библиотеке он придал парадность, устроив ниши в углах и украсив ее скульптурой. Деламот выступал как декоратор, переделывавший интерьеры Растрелли, как представитель раннего классицизма.
В 1765 г. крупные отделочные работы завершили. Парадную опочивальню Екатерины превратили в Алмазный покой. Вместо алькова поставили застекленный шкаф, где хранились царские драгоценности. Но основной «Эрмитаж» Екатерины, которым любовались лишь мыши и она сама, находился на «китайских антресолях», разрушенных при восстановлении дворца после пожара. Туда вела потаенная дверь из библиотеки, но можно было подняться и другим путем.
Эрмитаж с Зимним дворцом связывал единственный проход. Попасть в Эрмитаж из Зимнего дворца можно было только через интимные помещения императрицы, и там на антресолях находилась и сокровищница, ее «Эрмитаж»1.
Записи по статье С.Ф.Янченко «К истории зданий Эрмитажа»
Над личными комнатами Екатерины II в юго-западном углу Зимнего дворца были «китайские антресоли», они состояли из четырех комнат (семи — ?) и назывались еще — «зелеными».
В 1787 г. граф П.Б.Шереметев писал: «вечор был в антресолях: так называются парадные покои на подобие мусии (музея) ... они почти не топятся. Меня ничего не удивило здесь (в Зимнем дворце) окромя антресолей государыни, то в истину сказать, что со вкусом и пребогато убраны и редкостей много и особливо вроде китайских вещей»2.
В начале 1833 г. вице-президент Гоф-интендантской конторы граф П.И.Кутайсов предложил реставрировать китайские антресоли. «Все прочее подвергалось влияниям моды, кроме китайских антресолей времен новейших, но напоминающих эпоху царствования Екатерины II, столь славную для России». Реставрационные работы там производились с 1833 по 1835 г. под руководством придворного архитектора Л.И.Шарлеманя 2-го. Антресоли надо было приблизить к екатерининскому времени, так как они дважды подвергались крупным ремонтам (1797 — Бренна ив 1818 г. — Росси), в результате которых были утрачены китайские обои.
Антресоли состояли из четырех комнат, в первую из них (переднюю) поднимались из зеркального кабинета (с 1797 г. — библиотека) по небольшой деревянной лесенке, устланной цветным ковром.
Стены передней «были обиты персидской цветной с золотом и птицами материей... потолок покрывал написанный по штукатурке живописный плафон. В зеркальном алькове, убранном той же персидской тканью и страусовыми перьями, помещался золотой диван. В комнате находилась китайская мебель: лакированные стулья красного и черного дерева, расписные ширмы, комоды, ящики, декорированные перламутром и черепахой на фоне бумажного бархата, сундуки с теремами,
1 Эрмитаж. История и архитектура зданий. Л., 1974.
2 Суслов А. Зимний дворец (1754 — 1927). Исторический очерк. Л., 1928, с. 22.
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
131
• и г И
ф
*{****№»% , 4«4.4«J* K»U4«4«|« I ЯДМ^АХ.
, O<iui^>out« «С*Ч* j
* 1.уцЯ«римммХ« , 4*t*
Л^^и-ОМлАО ^
.UW«M*UA * '
<Д* <4?Ч , ftttAJbU ИА lj
КМ*Ш14Ми
« «Л—«» «.«***•««
^^К.Р«л^*д,и. *¥-»“* **'
-л i**~
* »t—!**• *■-»*«**•
ПЧ)
U*uwu 4
^мий! , мм^.аЛ.
Лист рукописи с рисунком генерального плана Третьего Зимнего дворца, фрагмента плана Санкт-Петербурга (1753 г.) и рисунком проекта перепланировки анфилады Адмиралтейского дома и Третьего Зимнего дворца (с указанием помещения «Эрмитаж» с подъемными столами)
II Материалы и документы
132
£ч*Да4аЛ\л>
УиДчАО
VJMtV^XluJLSuul >AA>4/W^A**>AAAAA «лМ* *ti <LaJk^*X/VWIbs*'
vv -Cn^y вч-Алю-uuu л/\м*
ij *дЛ iYATM^uiu l ААллм. •
^ VhUU^uvvwY^**^
(MAUrtwW- А^-ОаААА^АмД
fa.CO-JV*>-A» . . p л.
«гг
iMJVYKAfJUA**- C^ib'
<Um; hwuMi *• vva-TU-A^
^e*JL&JUCV* (/WC^WviUa чМсЛААЛА МЛО(^МЛа< 1Л<^Ци ^ ОИАИ^иЛ^ ^VU^vO , ^ CMCULCvU. )^<rhjV *U^u5W**> $WW ~
VKMX4J * (r? *a£'*julc‘v*jmjL £rx vyv^tu5^A vv •y^uik'UV-A'Vu-i ^ КААААЫД £ ywOL^nt U. ^{VAA-u4 ^ LM^jJ*- V»^£V*<yJl
Qi CJLA^UA^ ^AVVW^vkjUL V05UU- VtAAANfA'VU/.yV Л *>^А^АО«л£ А-4-ШЛАо ЧЛАЛЛАЯД *-^K
p£VcvVyOb*A~AA( J MJMA. i^4^VVVV4u(Lu/4*A£jJ J4MUAA/C0 \LJJXLCM^\UA-Uu2
ft 1744 v *4^0^ co^Jlc-umu ^JW*< scOvvuocuca we^A^A^uo м ^JUjJUa*
iA*U^yVV^YAA^UC ^ »уи^ЛАМЯ1>иД. ^ .Ад JUAMJnA-U HA/tUU. < ^Ад*ЖС *>Ц\ССК4а. Vl0<1>WA&aXg 3 Лл^а^илхлла^А\ илд^ , ok v^a^uaj-uJ и>с^счилА ‘UXoC^nU< C^V’ 72-1V)
Г Vto iCO-СидмГ И ^Juua/vvumu. * Dwuv^mAjVU^Uk кУ^ *А>и,чГИ o^A-u>J Лллиу.
J^AAAM и СЛАА tfUUi, V^U^uW»4 poyV^YMXAAAAMV^. Y*
^т^оялииА КЦи*«. vv^ . yyv^K 0~U ^
ддд F uXajlu^VUAUU 7 V-G *I-U/KUAA3 C^U-и VwOwC#KJf> и (З^р*"* *|
*V?.\
^MUWUAU. с ^UaACVU-UAa ^~CV*V4»-*~A q£*MjL4£*4LUJ
vyw-f^b , VLwolcvwJ € ^vuoi.vv^Aau ид W-^ада^ч;
*y9^ 'MAjyUUU> ‘^Utb тиЮ-Ги-О 1VM VMAAM-U-AAAMOC ИчЯЬидлу^М
VUJbLv>j^UU»Y4<UiU fu tKCUU vuu О-аалча^^С^Х/ (A^t&OiUl t/ СчЛуиДчААЧ VAAUO^- ) «. И Э-fl .АА44*КА**] * 7fi
^роид-WA/W . IWfJi и ^ЙИМ»*^ iWuu,
Л.С)1Ч
>) ИЛ »UA**U *£гу^ <лм< *~vU*>rt „ 'C^fc£w^UM «*^VtO.-tAA*-U **
Лист рукописи с рисунком плана юго-западной части Зимнего дворца
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
133
разнообразные столики, на которых демонстрировались всевозможные бронзовые китайские фигурки, черепаховые чашки, блюдца, чарки, ложечки, оловянные чайники, «составные башни о восьми ярусах», пряничные куклы и т.п. Пол был затянут цветным ковром.
Следующая комната «картинная»... на стенах, обитых голландским полотном, висело множество картин... мебель простого золоченого дерева, большой овальный стол с круглым зеркалом, двадцать один стул, обитые белым «барканом», диван с полкой, на которой размещались китайские фарфоровые статуэтки и экран «простого дерева золоченый, вышитый битью и атласом работы Екатерины II».
Третья комната «золотая», украшенная желтой китайской материей. Над дверями золоченые драконы. Два фарфоровых фонаря освещали альков, где стояла золоченая кровать. Здесь находились всевозможные китайские расписные шкафчики, столики и скамеечки, китайские фигуры — шесть больших глиняных и семь небольших мраморных.
Стеклярусными обоями была затянута небольшая комната над соборной ризницей. Обстановку ее составляли шесть золоченых кресел, обитых «белым травчатым» штофом, и три расписных столика с бронзовыми накладками.
К истории зданий Эрмитажа
Статья С.Ф.Янченко «К истории зданий Эрмитажа»1
До восшествия на престол Екатерина Алексеевна занимала помещения 2-го этажа в западном корпусе Зимнего дворца, расположенные между Большим тронным залом и Оперным домом. В начале 1763 г. Екатерина II решила разместиться в юго-восточной части дворца, изначально предназначенной для царствующего лица.
Капитальную перестройку комнат юго-восточного ризалита, ранее занимаемых Петром III, осуществил в 1763—1764 гг. Деламот при участии Ю.М.Фельтена. Одновременно велбсь строительство южной части Висячего сада, завершенное в 1765 г.
К этому времени относится начало активной собирательной деятельности императрицы, заложившей основу крупнейшего в мире музея. Где же размещались многочисленные коллекции до строительства специальных зданий, ведь известно, что Эрмитаж, или Оранжерейный дом (Северный павильон Малого Эрмитажа), закончен отделкой лишь в 1769 году, картинные галереи вдоль Висячего сада — в 1775 году, а «здание в линию с Эрмитажем» (Большой Эрмитаж) — в середине 1780-х гг.?
Вероятнее всего, лучшая их часть украшала парадные и жилые помещения хозяйки коллекций. В этой связи небезынтересно остановиться на расположении и функциональном назначении комнат императрицы с момента перестройки юго-восточного ризалита Деламотом, отметить последующие изменения в связи со строительством эрмитажных зданий. Первоначально на месте Пикетного зала (№ 196) находи-
1 Машинописный оригинал статьи со¬
держится в рукописи Б.Б.Пиотровского. Печатается с разрешения автора. — Примеч. ред.
II Материалы и документы
134
лась построенная Растрелли и сохраненная Деламотом большая парадная лестница, называвшаяся «Красной». Она вела в Предцерковный зал (№ 210) и Церковь во имя Спаса нерукотворного образа (№ 271). Из Предцерковного зала можно было пройти через южную дверь в личные (внутренние) покои императрицы, через западную дверь — в парадные. Со времен Деламота площадь нынешнего Александровского зала (№ 282) занимали три разновеликие парадные комнаты: Первая антикамера (углом во двор), Портретная (средняя) и Кавалерская, обращенная окнами на Дворцовую площадь. По описи 1793 года («Опись Зим- няго каменнаго дворца Средняго апартамента». 1793 г. РГАДА, ф. 1239, оп. 3, ч. 116, д. 62467, л. I)1 парадные залы имеют другие названия: «Совет» (углом во двор), «Сержантская, где пост Гвардии Ундер афице- ров» (средняя) и самая большая из них — Кавалергардская (бывшая Кавалерская), заново отделанная в 1782—1784 гг. Фельтеном в стиле раннего классицизма с обильным использованием позолоты в декоре архитектурных элементов. Между пилястрами зала помещались шесть беломраморных барельефов и три статуи работы скульптора Ф.Г.Гор- деева (РГИА, ф. 470, on. 1 /82/516/, д. 66, л. 20-21).
Кавалергардская сообщалась с Тронной Екатерины II — залом для аудиенций (№ 281), где, по словам И.Г.Георги, находился «...великолепный трон, в старинном вкусе, с четырьмя красным бархатом покрытыми ступенями. Самый трон состоит из больших красным же бархатом покрытых кресел, под балдахином из такого же бархата и с короною; все вышито золотом и чрезвычайно богато украшено золотыми бахро- мами, кистями и проч. При публичных аудиенциях стоят государственные регалии подле трона на бархатных подушках, лежащих на маленьких столиках...» (Георги И.Г. Описание российского императорского столичного города С.-Петербурга. СПб., 1794, т. 1, с. 76).
За Тронным залом императрицы следовала комната с эркером- фонариком на площадь (зал № 280). Ее функциональное назначение несколько раз менялось. В документах 1764 года она значится как Столовая (РГИА, ф. 468, оп. 45, д. 665, лл. 109-112.), в 1770 г. — Бильярдная (РГИА, ф. 467, оп. 2 /73/182/, д. 116, л. 92-93), а Столовая устраивается рядом с Большой церковью (зал № 269). В середине 1780-х гг. Бильярдная перемещается в Эрмитаж, а зал с эркером-фонариком на площадь получает наименование «Кавалерский» (РГАДА, ф. 1239, оп. 3, ч. 116, д. 62467).
Следующая комната (зал № 279) первоначально служила Парадной опочивальней, а с 1770 г. — Бриллиантовой (РГИА, ф. 467, оп. 2 / 73/182/, д. 116, лл. 92-93). «Комнату с Государственными регалиями, — писал Георги, — можно почесть самым богатым кабинетом драгоценных вещей. Государственные регалии стоят в нем на столе под большим хрустальным колпаком, через который все ясно рассмотреть можно. Большая золотая корона подложена красным бархатом и почти вся покрыта разными, частию весьма большими, драгоценными каменьями; особливо в верху есть большой яхонт необыкновенной величины. Малая корона... украшена бриллиантами высокой цены. Верхушка у ски¬
1 Здесь и далее по тексту ссылки на
источник даны в круглых скобках. — Примеч. ред.
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
135
петра состоит из достойнаго примечания алмаза... весом 194 карата... Государственная держава с золотым крестом над оною покрыта более нежели до половины поверхности разными драгоценными каменьями. По стенам сея комнаты разставлено несколько шкапов со стеклами, где лежит множество украшений алмазных и иных драгоценных каменьев; в других же великое число орденских знаков, портретов Ея Император- скаго Величества, табакерок, часов и цепочек, готовальней, перстней, бантов, золотых шпажных ефесов и других драгоценных вещей, из сего выбирает Монархиня, что ей угодно, на раздаваемые ею подарки...» (Георги И.Г. Указ. соч., с. 77).
В личные покои Екатерины Алексеевны вела Малая лестница (находилась на месте Комендантской), примыкавшая с юга к Столовой (зал № 269). По словам М.Пыляева, «... внутренние комнаты императрицы отличались большою простотою, в них было очень мало позолоты и драгоценных тканей Собственных ея комнат было немного: взойдя на малую лестницу, входили в комнату, где на случай скорейшего исполнения приказаний государыни стоял за ширмами для статс-секретарей письменный стол с чернильницей. Комната эта была окнами к малому дворику (зал № 266)1, из нее вход был в уборную (зал № 278); окна последней комнаты были на Дворцовую площадь. Здесь стоял уборный стол, отсюда были две двери: одна направо, в Бриллиантовую комнату (зал № 279), а другая налево, в спальню (зал № 277), где государыня обыкновенно в последние годы слушала дела... Из спальни прямо выходили во внутреннюю уборную (Будуар, зал № 276), а налево — в кабинет (зал № 275, на конец 1770-х гг. — Турецкий кабинет) (По данным от 17 июня 1796 г., Опочивальня, Будуар и Кабинет были убраны белым штофом. См.: РГИА, ф. 468, оп. 37, д. 158, л. 1-3.) и Зеркальную комнату (№ 273, 274), из которой один ход в нижние покои (лестница за залом № 272), а другой прямо через галерею в так называемый «ближний дом» (Южный павильон Малого Эрмитажа); здесь государыня жила иногда весною...» (Пыляев М. Старый Петербург. СПб., 1889, с. 192-194).
За Зеркальным кабинетом, окнами на Малый дворик, помещались две комнаты камер-юнферы Екатерины II Марии Саввишны Перекуси- хиной (залы № 263, 264) (РГАДА, ф. 1239, оп. 3, ч. 116, д. 62467, л. 1.).
Однако вернемся к Зеркальному кабинету, о котором упоминал М.Пыляев и который представляет для нас немалый интерес. Он располагался, как уже упоминалось, на месте современных залов № 273 и № 274 и был отделан в 1776 г. вместо находившейся здесь с 1764 г. Библиотеки Екатерины И, что зафиксировано в документе за июнь 1776 г.: «Библиотека императрицы переехала в Эрмитаж, шкапы отданы в Новодевичий монастырь, а на место библиотеки учреждается Зеркальный кабинет» (РГИА, ф. 468, оп. 45, д. 652, л. 87 об.).
Известно также, что в 1764 г. во время капитальной перестройки юго-восточного ризалита Деламотом Библиотека и соседние с ней помещения — Проходная и Малый Эрмитаж (зал № 272) и ризницы Большой церкви (№ 701) — были перекрыты антресолями, входившими в состав личных комнат Екатерины II (РГИА, ф. 468, оп. 45, д. 665, л. 130).
I Здесь и далее по тексту М.И.Пыляе-
ва автором указаны также современные номера залов. — Примеч. ред.
II Материалы и документы
136
Антресоли сообщались с Библиотекой небольшой (потайной) деревянной лесенкой, огражденной библиотечными шкафами красного дерева так, что одна из створок шкафа служила дверью, через которую можно было пройти на эту лесенку и подняться на антресоли.
К сожалению, мы не располагаем сведениями о первоначальном характере использования четырех антресольных комнат над Библиотекой. Можно только предположить, что именно они являлись «колыбелью Эрмитажа», поскольку в 1777—1778 гг. сама Екатерина в письмах барону Гримму называла эти антресоли «Императорским Музеумом»: «... я этой зимой великолепно поместилась; у меня целый лабиринт комнат, несмотря на то, что я одна; все это полно роскоши. Сервиз Бретеля был причиной того, что из кладовых вытащено было на свет божий большое количество аналогичных вещей из самых разнообразных материалов и различных стилей} \ все эти вещи составляют прелестнейшую в мире обстановку. Это помещение получило название императорского музея, и раз туда попадешь, то трудно оттуда уйти — столько там любопытного...» (Цит. по кн.: Суслов А.В. Эрмитаж. Краткий исторический очерк. Л., 1927, с. 10-11). «Чего вы беспокоитесь о Бретелевском десерте? Он отлично принят и пребывает у меня в антресолях, в комнате, именуемой Музеуму куда, чтобы ему не было скучно, снесены с четырех концов света золотыя и серебряные вещи и драгоценные камни, с огромным количеством Сибирских яспидов и агатов. Мыши да я ходим туда смотреть на него...» (РА, 1878, кн. 3, с. 41).
Последняя фраза Екатерины II имеет двоякий смысл, так как известно, что в «Музеуме» на антресолях императрица устраивала вечерние обеды в кругу наиболее близких друзей. Об одном из таких вечеров, по случаю рождения Александра Павловича, Екатерина II с восторгом писала Гримму 14 февраля 1778 г.: «... все приглашенные отправляются в назначенное место, для чего им приходится взбираться по маленькой и очень узкой винтовой лестнице, однако не на чердак, но в известные антресоли} где все дышет Азиатскою амврозией. Там приготовлены для игры в Макао три больших стола, с покрышками из бархатных ковров... после чего спустились тою же лестницею вниз, прямо в зеркальную комнату: стены, потолок, все из зеркала. Против лестницы большое окно, коего занавески внезапно распахнулись, и гостям представилась огромная буква «А», в аршин величины и толщиною в руку, вся из самых больших бриллиантов...» (РА, 1878, кн. 3, с. 42).
По мере строительства эрмитажных зданий многие вещи, находившиеся в «Императорском Музеуме», сменяли вновь приобретенные, и если в 1770-е гг. в антресоли были «снесены с четырех концов света золотыя и серебряные вещи и драгоценные камни», то к середине 1780-х гг. здесь были сконцентрированы восточные редкости, ибо антресоли получили название «Китайские».
Китайские антресоли, по всей видимости, отличались особой роскошью убранства, так как произвели большое впечатление на графа Петра Борисовича Шереметева, бывшего обер-камергера императрицы, одного из состоятельнейших людей России. В 1787 г. он писал по этому
1 Здесь и далее по тексту статьи кур¬
сив С.Ф.Янченко. — Примеч. ред.
Основание Эрмитажа. Екатерина II
137
поводу: «... вечор был в антресолях: так называются парадные покои на подобие мусии (музея. — С.Я.) они почти не топятся... Меня ничего не удивило здесь (в Зимнем дворце. — С.Я.) окромя антресолей государыни... то в истину сказать, что со вкусом и пребогато убраны и редкостей много и особливо вроде китайских вещей...» (Цит. по кн.: Суслов А. Зимний дворец (1754—1927 гг.). Исторический очерк. Л., 1928, с. 22. Из письма П.Б.Шереметева к «калмычке» Анне Николаевне. 1787 г. — Отголоски 18 века. СПб., 1889, в. 4).
Мы не располагаем сведениями об авторе отделки Китайских антресолей, как и не знаем создателя «Китайской темной», которая по описи 1793 г. находилась недалеко от Иорданской лестницы, но где именно, пока остается загадкой. Между тем содержание письма Шереметева свидетельствует о том, что антресоли получили новое оформление незадолго до 1787 г., иначе граф видел бы их раньше, так как часто приглашался во дворец.
Некоторое представление об отделке Китайских антресолей дают лишь более поздние документы. В начале 1833 г. вице-президент Гоф- интендантской конторы граф Павел Иванович Кутайсов предложил реставрировать Китайские антресоли, подробно изложив значение этих работ в служебной записке, выдержки из которой интересно привести, так как в них ярко выражено новое отношение к архитектурным памятникам прошлого.
«...Зимний дворец, — писал Кутайсов, — обиталище могущественнейших Государей в свете прелюбопытнейших событий, сохранил только наружный вид; во внутренности же его оставались: одни огромные коридоры нижнего этажа, парадная лестница и большая церковь в первобытном виде. Все прочее подвергалось влияниям моды; кроме китайских антрессолей времен новейших, но напоминающих эпоху царствования Екатерины И, столь славную для России. Совершенно будучи уверен, что сохранение сих памятников равно полезно как для истории, так и для археологии, я имею честь представить о возобновлении нынешним временем сих комнат... предлагая при сем и смету употребления несколько десятков лет, и бесполезно подвергающихся порче...» (РГИА, ф. 470, оп. 2 /106/540/, д. 93, л. 4).
Предложение Кутайсова было принято. Реставрационные работы проводились с 1833 г. по 1837 г. казенными мастерами под руководством придворного архитектора Л.И.Шарлеманя 2-го (РГИА, ф. 470, оп. 2 /106/540/, д. 93, л. 11-14). Нам неизвестно, в какой степени Шарлеманю удалось приблизить «возобновленные» антресоли к екатерининским, ведь последние дважды подвергались крупным ремонтам (в 1797 г. — Бренна ив 1818 г. — Росси), в результате которых могли быть утрачены некоторые элементы отделки (например, как известно, китайские обои (по описи Китайских антресолей, составленной по окончании ремонтных работ в 1818 г., стены всех четырех комнат были оштукатурены и выбелены, а роспись и позолота «поправлены в колерах» — РГИА, ф. 468, оп. 35, д. 492, лл. 83-84) и, что вполне естественно, многие предметы декоративно-прикладного искусства. Тем
II Материалы и документы
138
не менее интерьеры возобновляли в «китайском вкусе» времен Екатерины II, о чем сказано в записке Кутайсова, поэтому документы первой трети XIX века остаются пока единственным источником, из которого можно почерпнуть некоторые любопытные сведения об отделке Китайских антресолей.
Они состояли из четырех смежных комнат, ориентированных окнами на восток. В первую из них — Переднюю — поднимались из Зеркального кабинета (с 1797 г. — Библиотека Павла I) по небольшой деревянной лесенке, крытой цветным ковром. Стены Передней, расчлененные расписными пилястрами, были обиты «...персидской цветной с золотом и птицами материей...» (РГИА, ф. 470, оп 2 /106/540/, д. 165, л. 244). Зеркальные рамы, деревянные панели, наличники и карниз... «прозрачной резной работы...» были вызолочены, потолок покрывал написанный по штукатурке живописный плафон (РГИА, ф. 468, оп. 35, д. 492, л. 83 об.). В зеркальном алькове, убранном той же персидской тканью и страусовыми перьями, помещался золоченый диван. В комнате находилась китайская мебель: лакированные стулья красного и черного дерева, расписные ширмы, комоды и ящики, инкрустированные перламутром и черепахой «сундуки с теремами», разнообразные столики, на которых демонстрировались всевозможные бронзовые китайские фигурки, черепаховые чашки, блюда, чарки, ложечки, оловянные чайники, «составные башни о восьми ярусах», тряпичные куклы и т.п. (РГИА, ф. 470, оп. 2 /106/540/, д. 165, л. 244). Простой пол Передней, как и в остальных антресольных помещениях, был затянут мягким цветным ковром.
Следующая комната именовалась «Картинной». Ее стены были обработаны золочеными полуколоннами; резной деревянный карниз, обрамления дверных и оконных проемов — вызолочены. На стенах, обитых голландским полотном, висело множество картин (в 1833—1835 годы для Китайских антресолей было реставрировано 98 картинных рам — РГИА, ф. 470, оп. 2 /106/540/, д. 93, л. 14). Комнатное убранство составляли бронзовые фонари с хрустальными подвесками (шесть стенных и два висячих) и мебель золоченого дерева: большой овальный стол с круглым зеркалом, двадцать один стул, обитый белым «барканом», диван с полкой, на которой размещались китайские фарфоровые статуэтки, и экран «...простого дерева золоченой вышитой битью и атласом, работы Екатерины И...» (РГИА, д. 165, л. 245).
Третья комната могла бы называться «Золотой», поскольку в ее отделке преобладали золотистые тона. Окна, двери и альков, оформленный золочеными колоннами и пилястрами, украшали драпри желтой китайской материи. Над дверями помещались резные вызолоченные драконы. Два фарфоровых фонаря освещали альков, где стояла роскошная золоченая кровать, и шесть «...китайских деревянных с жестью...» фонарей — комнату. Здесь находились всевозможные китайские расписные шкафчики, столики, скамеечки и «...китайские фигуры — шесть больших глиняных и семь небольших мраморных...» (РГИА, д. 93, л. 11). Стеклярусными обоями была затянута небольшая комната над соборной
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
139
■■ail iiisiiii
MtMnn mn
^щмаивг ,имсЛ«мм; 4П Avmv^jutm .«r
mti’.W Кк4Укгнн*ул* //’
Висячий сад в Малом Эрмитаже. Гравюра 1773 г.
II Материалы и документы
140
Апартаменты Екатерины II в Зимнем дворце. План
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
141
ризницей. Обстановку ее составляли шесть золоченых кресел, обитых «белым травчатым» штофом, и три расписных столика с бронзовыми накладками (РГИА, д. 165, л. 247 об.).
После холодной парадности дворцовых интерьеров уютная экзотика Китайских антресолей, в сочетании с изысканной роскошью их отделки, несомненно, поражала воображение очевидцев. К сожалению, бесценные антресоли Екатерины II навсегда уничтожил пожар 1837 г., восстановлены они не были.
Апартаменты Екатерины II в Зимнем дворце
Пояснение к плану1 1 — Кавалерская (Кавалергардская); 2 — Антикамера (1793 — «Совет»; во времена Екатерины нынешний Александровский зал был из трех залов); 3 — Малая лестница; 196 — Красная парадная лестница; 265 — секретарская; 269 — Столовая; 270 — Предцерковный зал; 273—278 — личные покои Екатерины II (273 — до 1770 г. Библиотека; 274 — Зеркальная комната; 275 — кабинет, с 1770 г. Турецкий кабинет; 276 — Будуар; 277 — спальня; 278 — уборная; 279 — Парадная опочивальня (с 1770 г. — Бриллиантовая); 280 — Столовая, Биллиардная; 281 — Тронный зал; 282 — Портретная (с 1793 г. — Сержантская).
Малый Эрмитаж
На месте старых домов адмирала Крюйса (по Дворцовой набережной) и генерал-адмирала Головина (по Дворцовой площади).
В 1762 г. на их месте предполагалось построить дворцовые конюшни. Проект Фельтена. Но в 1763 г. было дано указание между конюшнями и Зимним дворцом построить манеж и висячий сад. Из этих построек сохранился только Висячий сад. Его автором скорее всего был Ж.-Б.Валлен-Деламот (висячие сады существовали в Московском Кремле, Красном Селе и в доме Бецкого на набережной Невы). Висячий сад не доходил ни до Невы, ни до Миллионной улицы. Сад строился долго и в процессе постройки проект изменялся.
В 1765 г. была завершена южная часть сада и тогда же было принято решение построить жилой павильон для Г. Г.Орлова (закончен в 1766 г.). После окончания южного павильона приступили к постройке северной части сада для уединенного отдыха, с парадным залом, несколькими гостиными и оранжереей2. Первоначально он назывался «Оранжерейным домом». Было дано указание (1767 г.), чтобы в этом доме был устроен «Эрмитаж наподобие Царскосельского».
Этот Эрмитаж был построен Валлен-Деламотом, он выдвинул его на набережную Невы, в одну линию с Зимним дворцом.
В феврале 1769 г. «во вновь построенном Эрмитаже состоялся первый вечер с ужином, играли и театральные представления. В связи с увеличением картин галереи Зимнего дворца было принято решение о строительстве двух картинных галерей вдоль Висячего сада,
1 См. с. 140. — Примеч. ред.
2 Эрмитаж. История и архитектура зданий. Л., 1974, с. 188.
II Материалы и документы
142
они были завершены лишь в 1775 г. Первоначальная отделка Кваренги, затем переделка — А.И.Штакеншнейдером1.
Парадный зал северного павильона — «Эрмитажа» — сохранился в рисунке Ю.Фриденрейха 1840 г. В нем находился большой портрет императрицы, а на стенах — картины (но это уже поздняя обстановка).
Большие работы по переделке эрмитажных зданий в 1786—1787 гг. проводил Дж.Кваренги. Для въезда в сад в 1795 г. к западному крыльцу Эрмитажа был пристроен пандус (архитекторы И.Е.Старов и Дж.Кваренги). В 1804—1807 гг. Кваренги переделал восточную картинную галерею (галерея французской живописи). Им же в северной части был построен «Кабинет Кваренги» (свод тогда был с росписью). Западная галерея в 1833 г. была зарисована А.Н.Мокрицким.
Висячий сад в Малом Эрмитаже сохранился по гравюре 1773 г. (вид с севера).
Поперечный разрез северного павильона известен по чертежу Фельтена 1769 г. Планировка Висячего сада была изменена в связи с реконструкцией здания в 1840—1841 гг. (Л.Кленце, В.Стасов). Завершение работ в 1845 г. Тогда же была изменена и отделка галерей.
В 1850 г. Штакеншнейдер составил проект коренной перестройки Малого Эрмитажа. Был создан огромный двусветный зал с верхней галереей, сочетавшей формы итальянского Возрождения и элементов мавританского стиля. Пристенные фонтаны, наподобие бахчисарайского «фонтана слез», три люстры с хрусталем, мозаика на полу перед дверьми Висячего сада, она исполнена в Риме в 1847—1851 гг. как копия пола античных терм (но копия очень неточная!).
«Эрмитаж» (его конец)
К 90-м годам XVIII в. увеселительные вечера, устраивавшиеся Екатериной, были забыты, подъемные столы бездействовали, и в мае 1795 г. Екатерина повелела разобрать эти столы и устроить на месте «Эрмитажа» гостиную2. Екатерина II в своих автобиографических записках (за 1746 г.) пишет: «Аппартаменты великого князя (Петра III в Зимнем дворце3), о которых я говорила выше, примыкали к комнате, в которой императрица (Елизавета Петровна) устроила «стол с машиною», что в России называется Эрмитажем (une table a machine qu’on nomme en Russia Ermitage), дверь выходила в другую комнату, составляющую часть ап- партаментов императрицы, где был «стол с машиной», поднимавшийся и опускавшийся так, чтобы можно было обедать без прислуги»4.
Фельтеновское здание («Большой Эрмитаж»)
21 мая 1776 г. было принято решение о возведении нового «строения в линию с Эрмитажем», вдоль набережной Невы (значит, Деламотов павильон назывался «Эрмитажем»!). По проекту Ю.Фельтена первоначально выстроили небольшое здание в 10 окон по фасаду. Трехэтажный корпус с южной стороны примкнул к конюшням, с восточ-
1 Подробно об этом в кн.: Эрмитаж, него Зимнего и на месте сада перед Адми- История и архитектура зданий, с. 185—191. ралтейством.
2 См. там же, с. 191. а Суслов А.В. Эрмитаж. Краткий исто-
3 Это дворец, который не сохранил- рический очерк. Л., 1927, с. 6.
ся, он был на месте западной части преж-
Основание Эрмитажа. Екатерина II
143
Павильонный зал в Малом Эрмитаже.
Северо-восточная часть,
где располагалась комната «Эрмитаж»
II Материалы и документы
144
чЩсЬЛЛлл
>ДаЛслЛЛ4 СЛ\Ауи $Ьд*ХХ*-$ (Х^хиуА^!. 1^)ИМ4СА £vu> b^iyv«)iUAS j
и 'VLu - aOoU • *700-0&u-U< (^VAO . КлЛлЛча^оЭ^. J
1762 ИД. LL*. ОДМШ VyukS>A49 UOAO. JUc*-^/ VWt^wy4HAW
UaAaaAHa-UA«< • Vy^CiM^. 0рг+>4*ыьил . Чо в 17^ 3 т • JlcwtO Ъ&Ло уА1А\Сиции/
уС(ЛА>СО U * M.JL JULIa И 4iuLUUbtt ^^Ц04< ^^H^VyUHlW ИАвм£<М<
и Сбир . ил >УУМЛ# VC© t-uyMXC-U. U<yMM<j4^ ЛСО^Ги-в &Ы* JAAll
С.О-Э . fc/VO слЛг++А>^.А*+Л4 елиуЧ ОллЛО JU 7U - ^ • QcLJLJUbH -*Ъси
;
(2 Ujumxav5c4<u>U« У^дОи*^
,
^ £ча-сО/\аа< СомКч С*^с<Л VuwJLoQ
Q Цсуч^лио^и Сих и • &*оил4 (пГе^илиз их иж£> Ил£<с);
CVu-oU-TNAjUU С<х9 V* У-Ч^лКа VA-U *Н> КЛ^Л , Vu* 4t««AX*A^U-UU>tx jjJ •
Со$ С^^ъсМх*Л-Л %TDO/VO и € vyvAfc^tcui И4>сллулМ«иж4 Уу-ОЪЧЛ-М» WV)«UuU*JULJ> Ка 'vy-wvt^u 17CS"-!. «TVcju. ь о&уо-ииыдх и/\и-иесЛ *1«или/ са-£х. и
J XcujLO-J Kftlwjeit
owyM
ЛЛллА. 'Хад cTU-JU> rywMi, JLWCQ рЛММАЙМ хд>
*йчУ> 1.1.0 p-t-o4-C (> ^АМЛАЛиСЛД € *7$(\ ) ;■ - j ;
Пл>СаЛХ СГ\А4ЛАЛ4сАД-С~Х У\о4-и^/«лжв «учллл-у*Д^гхи*и« U XADuyWV
СдХулдлл! *2CU/WVAa loJ&X -rn «^aJKmjuCU-Cu/Lo OVX-fcN*U. , c
Ь&АООд 1 ^с^тьиАЛлилС LA oyv*4MyAJu! Г (**y.i&l) .
\ЛЛ^Х<ЛЛАЛСХ^ч/и-о OX \AAA"0^<A,>W* .« О P OAMUA|UU »A<*U ^РОа-Юа**
IrT O-t-OO b-«L-U*o tUJUU. -ИЛмД & »YVt-OJU $Уо JU_« (Пса (ft* ^Y«M4f
•t ^^Хслл/ИА<к^и И ал*-оФу"5ич. b) <yvcAA^acX*>J gaaa/u^
3WWWL- vUXWVV-euVU £Ъ<~К rVOVWyvA>-e^tA I^A4AUlO«A< ^ftdAUMXUJ^ , tfw
б-<>-А^>-в-иХА^ л. 0*-0 XX \AA^yvJtXA4A-^-0 HjlIa , Q ЛЛДЛАЛЫ-О t £ lUl^ UA
^^OyLA^OOA* CJ>A«-oS vpyjbjuuJLM СПЛЛЛЛА^aojuu tToOLA-ui ^dJUy^A (\bJL±**Jb#J
VA Wo а-СЧГИ-6-L ( WwL-O$“0-tf )
П ay^Ot^WV-U ^«UA С OV-OL^LJtA-M VUL ^ *>&A^U> lAjpJ^XXx-U>^L*> U
О^ЖЛАЛСОуиЛ I W"*T|> <XU.iytA.LA* L>> U. Gaaa^A/V С»АА.Д^ COt^j
ft yjd^OtUA |7(S^А. И &o &уумЛи vvotAvyu>*AAiueiA« ^д*к . <Х>лиД СОСлЛи>Жоии/> wyJtAAA> -^глу < yxCUXpA t iAA^>aajuu и (ХА(ЛлАуЖАлУил^хии уучлО иижД aaaajuA-JL»»
ft vJ0OCVVL с ^«^JUaAXAjUUxOA UywfWWAAt «lAay<U.
b u m«<AO Ы! «у «|ИК «JVca-О у *L<Ul AAA • ^SUMUUM
о CAVy>,AMAXVLa Д CatxAjT йулуими*Л^ IdUAjyii
CX^D'aJ (VulOA4jU> ca-jt , СЛААА JWaaa & ftXyxuAM AaaaaJ в I7 7C . Wj/JmaaAala^ <лгучЖ*-А»ил 'R4<уии*Ад»’, t<иуи* ' ** 4* ' WY*)umO. tAUvLAAUAIiUAUX^V4^ ;
ЪрМлАУУУиЛЛи , и.(ХАлуиЛ X <уЧиААХДЛАлХу^|А ^Зхиич^Г 1^1
I ц
иытт.^:
)у«и.илИААК
Лист рукописи с рисунком плана северного павильона Малого Эрмитажа
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
145
[Vuiyuu I/O . • 184 О а. Л >А4ад mamOimo So^/W)
«КуччучЛ** Ь4 , A MA С/ИЛЛХЛА*С U4^WU4*W^ . f UX> УУИ-О ^OU-/
4mTvwjUi*-5vca J
VVooJWaxjС p cvj^w^-c И-0 HjyuD CUAUL dykJLAM^ЛААЛСЛ^ЛуС b^duUJLU* (? I 7 6^-87*».
'WL . OfJHtAM
*£>-0» б СаЗ в I 79V*. VL J»a>V<u*9vA^U-y tysTWu/ui^ Э^оЫ^ИЖЛ4лЛ. сГУих
‘VM^WYU»<UA ‘'V.OXaAjC С СунС . U Ъ. Cwuy*^ U we^v^^u') .
ft I $04- 1807*. 4.6 «yu«XX/VX<. y^yvu<) UAJ € О t^V^anAJU^O Чулчл.** 4ЫЛ..£<1 lOvC^tce-
^ПйАД^и-О ЧЛ.^ у» е*ил*и OUXA-&/VlXAC44.} . UUt* OU4 б t*J$^UVCO*r IfU^nUf
5Wx v\^cwycvX4i л ЪШ-сГилд-ы*. 1<1&<=учлхлл« [ сХ<£) ук-олЛх. J^cu с ц-о ohjua/w*)
•S <МА . 'ЮлА^иЛ £ 1ИЗ<». Лихх &<^иия^ОЛ(Д J) . Ц . JU. О vy^Obtj iAAJUlM •
lVu<OOU\XJUU С*^ 6 чД^А-Д-ОХа &-^«IX4/C*V>XUUaX CA?*fAAAJU~JU) yVo 'Ц'хХео^е*
177S-». t сдХухи )
*\o vvyxa*AiU^ p c^Xyw-vbO \a oJLu^JUjmjl. уллЬлЛЪА* Кл> 'ЪЛ^лг^лаЬ-^
и. 17C<3«
П U. OvXA^AyW&CA. &*Х4~ХЛЛ/иО COmK \fht*Jt иЛ^ЛДДЛАхи 6 l&JVyu t -
Vi^ лЪоиижА e 1840-41 U. (Ujuul^u } СтаиьЙ 7 * ^ «Хиу«лж4лдеид jujAtOv* t I Й HV *’ WU/V&J. -ЛМ Л-tAe. u
trWe^CUAUL OOvljyxJ
. 0
0
Эр*и*
и
1
«НАТЧ
a DDDD
полон
tOltUMi
N
ц
П
(ЛИХА
п
я
)J
Л
на
zzxzzvazzx^ox
ft iSSD'»* ^и^гу^СХЛДиелЫлЛДхЛ^З^ OO-tVKfrjfc*» A Vyu>«>UU*V\ 1Лч^и>ЛДДХЧ*-и vuyu e^V^-O-JV JU.0UWVO ^XauH(V)UA. SVt-U СХ^ЪлЛА ОЛ^ЧЭДЛ^иГ &«-* С
QjjfJlAKJU 'lOvJmpJUUA s СО-гДилллХ^хе! C^W^u-O-i vuw ою>/лАияМч)
** *ЛА. оЛ^алМА. о^ааалал^О twUU-Л ' *Улх.сллАХид>ЛчГ <|Э(пимД<ф >
Htvvu^^v-^A*. 5V)U44AC«^J0CM CaXV^O „ <у> сЛЛ/\Л*ДХлА СОХ*' , wyvX* 4лЮ сХ*у*Л с Н/^е *V*axU^
чЛЛуО у ОЛАЛА-А- MJL VbOsJ^ &ии*АЛ4лх> СА$ц . 0UA и CALOOXAAeui
9 РиилА в I ЪЧ7-S~l 'l*- МЖлС уЧОЛАЛаЛ 1М»АА. «ХчалМДаЛалЛ-А. vVJ^evU [[их» ичллх-*^ OIX-oJ 1АД. V>vOn.MX^ I *}
9р-ихм^йм( ^елю Wa*uAaT1
* 90 4М vU *Vlttf ^СДХАЛД^Л/VU. е^АА^.^лрАхДл^иЛ tXAAAV^UXMJ JV^JUA *лЛ«**-И. , KXaA'WUMWU. VWUbUM. fcU < ОХАХ «r^ \l*?n ^МА^илдлА VW^XUUL peuwJVivvui >A4M t^M^M U ^^AyUMxW ил n ^XA^iUU." »U? t/VVUMA^vo >^4JUUVMZ1U . Ujuvm^y^ m Su^vvU'aAVV^V^ »
Jl, 1974 * ему. 191
Лист рукописи
с рисунком поперечного разреза северного павильона Малого Эрмитажа
И Материалы и документы
146
Кабинет с подъемным столом в Малом Эрмитаже. Чертеж
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
147
ной соединился с домом Олсуфьева. Первая часть была сооружена в 1771 — 1776 гг., она соединилась переходом с северным павильоном Малого Эрмитажа. В 1776 г. был разрушен дом Олсуфьева и Фель- тен продолжил достройку до «первого каменного моста на Невской набережной», то есть до Зимней Канавки. Строительство Большого Эрмитажа закончилось в 1784 г., но общий фасад был закончен в 1786— 1787 гг.
В 1843—1847 гг. в юго-восточной части Большого Эрмитажа, примыкавшей к Лоджиям, по проектам В.П.Стасова и Н.Е.Ефимова на месте узкого лестничного помещения была построена парадная лестница (ныне Театральная. На это время Ф.И.Лабенский переселился в другую квартиру). Парадные анфилады Большого Эрмитажа были оформлены Кваренги с некоторыми изменениями архитектора Луиджи Руска.
В 1851 г. все коллекции из фельтеновского здания были перенесены в Новый Эрмитаж и началась «генеральная реконструкция» интерьеров по проектам А.Штакеншнейдера. Закончены работы были в 1860 г. Первый этаж фельтеновского здания был передан государственным учреждениям (Комитету министров и Государственному Совету), которые въехали в Мариинский дворец в 1885 г.
После ремонта одно время в парадных залах фельтеновского здания находились картины французской школы, в 1899 г. они были перенесены в Новый Эрмитаж, и все залы и Советская лестница были реставрированы под руководством Н.И.Крамского.
После этого они были присоединены к дворцу как жилые помещения (главным образом надворная часть) и стали называться «Седьмой запасной половиной» Зимнего дворца.
Эрмитаж Екатерины II 1
«С прошедшего столетия часто упоминали об этом приюте, смежном с Дворцом наших государей, куда императрица Екатерина II с любовью приходила отдыхать от царственных забот и где, посреди малого числа лиц, составлявших ее искреннее общество, она сама забывала и требовала от других забвения ее величия, желая оставлять государыне одни приятные развлечения умной и непринужденной беседы. Вечера, спектакли и праздники Эрмитажа еще памятны многим умным и образованным людям, кои живы еще поныне...».
«Теперь мы попытаемся сказать, что такое были Эрмитажные вечера, что называли Беседами, что Малым и что Большим Эрмитажем... В то время состав двора был немногочисленным. Кроме придворных чинов, должности которых соответствуют нынешним, и кава- лерственных дам, было всего при дворе 12 камергеров, 12 камер-юнкеров и 12 фрейлин. Было также несколько генерал-адъютантов. Императрица любила маленькие искренние вечера, где она собирала около себя очень ограниченное число избранных, иногда только двенадцать или пятнадцать особ. Об этом упоминает граф Строганов в своих записках...»2.
1 Жиль Ф. Музей Императорского Эрмитажа. Спб., 1861, X—XXII.
2 Далее говорится о так называемых Эрмитажных записках, которые были записаны на специальной доске, см. Варшавского и Рестд.
II Материалы и документы
148
«Сама Екатерина давала название «Беседы» этим маленьким домашним вечерам, начинавшимся в 7 часов... «Малым Эрмитажем» назывались вечера, на которых было от 60 до 80 приглашенных, редко более. Тогда обыкновенно бывал спектакль: играли пьесы так называемого Эрмитажного театра, большею частью сочиненные лицами из общества императрицы, некоторые же самою Ею... призывались и французские актеры Императорского театра — иногда была очередь русских актеров, между которыми главнейшим был Дмитриевский. Императрица садилась на вторую полукружную скамейку театра... имея перед собой у ног своих, на первой скамейке, несколько избранных особ».
«После спектакля ужинали в галерее на арках, бывшей прихожей театра... танцевали в Павильоне, проходя таким образом (идучи из театра или к ужину) залы обширного здания, построенного Фельтеном, где были выставлены картины богатой галереи; там нередко останавливались для осмотра этих картин — тут же Стоял биллиард, привлекавший любителей, нередко из женского пола... На вечера Малого Эрмитажа собирались несколько раз в месяц».
«Во время Екатерины II Тронная зала прилегала к балкону с фонариком, над Комендантской лестницей, откуда императрица являлась народу, чтобы принять дань его преданности и самой приветствовать его в большие торжественные празднества... В эти дни народного веселья на Дворцовой площади устраивался народный пир: это было то, что называлось призом».
«Большим Эрмитажем» назывались вечера, не очень частые в течение года, на которых бывало до 200 приглашенных и на которые являлись Великий князь Павел Петрович, Великие княгини, все особы их двора, камергеры, камер-юнкеры, из коих некоторые были в то же время офицерами гвардии...».
«Праздники в Эрмитаже продолжались и в следующие царствования, но уже с характером совершенно отличным от прежних — ежегодно в день Нового года продолжали давать под именем маскарад такой праздник, который получил начало еще при императрице Елизавете... 1 января залы Зимнего дворца становились доступными довольно большой части народонаселения столицы посредством раздачи 30 000 билетов... Один только Эрмитаж оставался незанятым, он предназначался для особ Двора, для высших сановников, для старших офицеров... Ужин на 500 кувертов помещался в самом театре, коего зала часто исчезала под импровизированным полом, сделанным так, чтобы из зала и сцены становилась одна обширная ограда... Обычай давать этот праздник существовал до 1837 года».
Заметки о коллекции
Опись 1797 г. — 3996 картин (вместе с дворцами), по каталогу 1783 г. — 2658 картин (только в Эрмитаже и Зимнем дворце), по каталогу 1774 г. — 2080.
Екатерина писала Ф.М.Гримму 18 сентября 1790 г.1: «Мой музей в Эрмитаже состоит, не считая картин и лоджий Рафаэля, из 38 000 книг,
I Левинсон-Лессинг В.Ф. История Кар- тинной галереи Эрмитажа (1764—1917). Л., 1985, с. 109.
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
149
четырех комнат, наполненных книгами и гравюрами, 10 ООО резных камней, приблизительно 10 ООО рисунков и собрания естественно-научного, заполняющего две большие залы». Описи 1797 г. указывают число рисунков 7 тысяч, а гравюр 79 7841.
Флигель Деламота имел двойное назначение — расширение интимной части дворца, связанной с личными комнатами Екатерины, и для размещения картин. Далее картинная галерея распространилась в фельтеновское здание, начатое постройкой в 1770-х годах и оконченное в 1780-х. Принцип развески картин был декоративный. Как можно судить из описания галереи англичанина Кокса2, развеска была связана с отдельными крупными коллекциями, что подтверждается и каталогом галереи 1774 г.
1791 г. В дневниковых записях Храповицкого: «Семеновского полку из поповичей солдат Ильин применился в покраже образа из Дворцовой церкви. Занимается (императрица) околичностями сего дела». Происшествие в Эрмитаже: «в одной зале второго этажа, расположенной возле театра», были обнаружены под тростниковой циновкой три «мошенника» (на окне оказалась и бутылка от водки)3.
«Музей Императорского Эрмитажа». Описание различных собраний, составляющих музей, с историческим введением об Эрмитаже императрицы Екатерины II и об образовании Музея Нового Эрмитажа. Санкт- Петербург, 1861. (Авторы: общая часть — Ф.Жиль, Библиотекарь Государя императора, Управляющий 1-м отделением Императорского музея; Рисунки итальянских художников — Н.Лукашевич; Рукописи и библиотека — Ф.Жиль; Галерея изящных искусств — Ф.Бруни; Эстампы — Ф.Иордан; Кабинет малых бронзовых вещей (Помпеи, Византия, Чудь, Тибет, ранневосточные и сибирские вещи, включая Китай, сасанидские вещи, среди них — ножны из Мельгуновского кургана, предметы Урартские, доставленные в 1859 г. Н.П.Колюбакиным; вещи из Сарая: бронзовые античные статуэтки и древнеегипетские). Все это выставлено в зале IX, там, где недавно были античные геммы, около зала перед Особой кладовой — Ф.Жиль; Расписные сосуды в 20-ти колонном зале — Л.Стефани; древняя скульптура (в зале Августа), включая древнюю египетскую скульптуру в Кабинете скульптуры (зал ныне Помпеянский), и другие залы древней скульптуры — Б.Кёне. Древности Боспора Киммерийского в зале перед ныне Особой кладовой — Ф.Жиль; в вводной статье Ф.Жиля сведения об екатерининском Эрмитаже.
Покупки картин
Екатерина II
Доверенные лица: Ф.М.Гримм в Париже, Рейфенштейн в Риме.
1763—1776 Коллекция И.Гоцковского в Германии (225 картин), 180 000 голл. гульденов.
1768 Брюссель (принц де Линь, граф Кобенцль), Дрезден (граф Брюль).
1 Левинсон-Лессинг В.Ф. Указ. соч., с. 109. Engrawings by Williame Сохе... London, 1803,
2 Сохе W. Travels in Poland, Russia, Swe- vol. 2, p. 52 — 55, 91,92. — См. там же, с. 110.
den and Denmark, Illustrated with Charts and з «Русская старина*. Т. 1,1870, с. 225,134
II Материалы и документы
150
1772 Париж (Кроза), 440 ООО ливров. Париж (Шуазель), 107 940 ливров. 1777 Париж (Конти).
1779 Лондон (Уолпол), 36 ООО ф. ст. (198 картин).
1781 Бодуэн (119 картин).
Павел I
12 ноября 1796 г. «препоручил» Эрмитаж в «ведение» В.Попова, затем
Н.Юсупова. Куплена картина Рубенса «Союз Земли и Воды».
Александр I
1805—1806 Переустройство Кваренги галереи у Висячего сада.
1812 В сентябре тайная эвакуация ценностей Эрмитажа в Вытегру, Лодейное Поле и Каргополь (а также в Астрахань). «Секретная экспедиция».
1815 Коллекция Кузвельта. Мальмезонская картинная галерея. Николай I
Постройка Нового Эрмитажа. Покупка некоторых коллекций (голландской королевы Гортензии, Мануэля Годоя («князя Мира»), Кузвельта, А.Я.Лобанова-Ростовского, Ноэ и др.). Картины из Польши. Продажа с аукциона 1219 картин.
Александр II Покупки С.А.Гедеонова.
1865 «Мадонна Литта».
1872 «Мадонна Конестабиле».
Александр III 1882 Фреска фра Беато Анджелико.
1884 Покупка в Париже коллекции А.П.Базилевского, 5 500 000 франков. Николай II
72 русские картины переданы в новый Русский музей Александра III. 1910 Покупка коллекции П.П.Семенова-Тян-Шанского, 250 00.0 руб. 1913 «Мадонна Бенуа», 150 000 руб.
На конец царствования Екатерины II
По Георги, 1793 г. Пояснение к плану1.
1 — Петербургские виды; За — портреты дома Романовых; 36 — «пандус», путь Екатерины — 4 картины и бюст Вольтера; Зв — гобелены, 190 картин, «правила Эрмитажа», портрет Екатерины II Эриксена; 4-7 — 175 картин (в угловой — фламандцы); 8 — ныне «Павильонный» — ИЗ картин, бронза; 9 — Зимний сад; 10 — «Эрмитаж», столовая. Два подъемных стола на 6 приборов каждый). 92 картины (4-10 — в этих помещениях 380 картин); 11 — кабинет Кваренги; 12а — Рембрандт и 181 картина; 126 — скульптура^ 12в — картины для копирования; 13 — 51 картина (?); 14 — Овальный зал; 15 — биллиардная, 59 картин; 16 — бюсты Орлова и Чичагова, 27 картин; 17 — 62 картины, фарфор; 18 — Вольтер (Гудон), фарфор, картины; 19 — 46 картин; 20 — рисунки; 21-22 — опочивальня императрицы в 1784 г., 85 картин, 45 картин; 23 — зал Рубенса, 128 картин
1
См. с. 152.— Примеч. ред.
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
151
ЬЙр-у^ (.. Эрим'илМК. )
2.1 Оил I 7 ? 6 * • Лс«М VyvWAuCVVW fbUjuJL&M1 0 Ьо*ХсУсЛкММ ЧД>Ал* ц С-ууукл^ихил f
VWUKtU* С ^pxccww A/W-CAl * J 6^v~*j ЧичГ *. КД-W jJblU^vMAVl ЯЗ e_u>_x^cv»w^ клИиУЛ* WtfA-N^ (LU^ i, >^yUAA^vV^HAA-%JU u
^ Uo. »yu>A ИД/^АлАЛПЛОчЛлД> Wwywuu# HxXVjsAuWL 6 lOl'UA/V
VVJO ^A.Cft^ v rv^rvv^u>i \Ллу^ с KOLUAAmJ CvK«Y4rta< iC У^ИИЯ^/
С ОМ>>ММД-ХЛ < Wu*4a fcvAC^vCO*.
y^jJU* JW» cakyajvcC»*. £ 17 Jb (7?f **/ «Ли. UM-&aujUU-J Ky<W»vU. с оХулАлЛ^
rVC-UWVvM*^U JU.A~WVO JVfUAAWWX'VAU. ъ ПтСп. c/Ua Р«ХЛ^ЛАЛ4Л* IKm< fovVc^yXtL*. U С|>€-а1им*а «уч^одцлм. ^A«Y<MfW«| <^o К n^iwo чсичддмАллЖ jlum^vu. W-U VuVc4MM4 дсмГуддилдо-С *', wu.t. Ь> ^ujluaa<7 [ССшлЛли Стл/днд^их^ c^ll IrT^/Wvo itXUAAkAALJUlX 9 I7<W« ' » Vtu «Г>/Ц Vuf
JWa чодии/ч* ** 17 &6"®7
ofu^№u «рлжаО 17в/
/776
Л IS1! 3-1 ft4?i. I u/Vo - Со-cm. ?a**%*A4. frw-дЛичл* ^uulwvaauc , i-a*i *-ff .«цу? и l,V*c(MMa' Смал<д*4|» ь И Л - i^uuilc ко, j> inyu. |Ммл« .ucvwum/Waoo wojujuu^axiu-a ЛсДч «««*«*. Cu^
0^идДа5\Н CiVaAuvA* >уЛ4ДЛ*1ЛАЛ*Л JWau e^V«Y**JUMUA64 Ил» VyuAAACWC^ idJyAUAA,
t ъиддя,у|мул^ии *M AaJUUUA-UMA* СучД . P«J *44«. .
ft l&Sl 6c* ЧлаАдлд^и-и im ер ы7 vv^tua.'-S-cu-ou; Ч-Зсчид Лил чудлддсСиАА 4 КдДди* <tyAUcf>w
и иллаодл! .. 'VCUY^JW» JUAMAicvy-fAAA,^ *w «у^и^оОл^Ы<н<vuakiaakcw
6 ССЧр илди* paJ^vwv Л—Си. в I $ Со 1 •
Уирилл*4 VrAA^VU. fcuJVyv4AA«-6-UMA0 Ч^ЖлаЛ *Лм \АуАл)би*. CO-СЛ^О YwC<H*-ft<jUAACU ^х^ииШиХ*-1А*Ы< t V ЬчачЫ, Дл ( с“-*Ттл\^*^Аилдси СлдучтС и. 'lo-cspcyu^vvOt-bU-><i АН»«Ui4cyWy ) » Кд*Ч*уЛл. IAcMXU / Д\уЧМ,КЛАА*ь? *ЬС*ух4) 2 lftV<».
(Д~ДнЛА*»Л , o^vue £{*-и*» ■* V- ‘bM^S^OAj' в KyvOvWA Ч еддд С-АЛ^АилХ-АД^Л-о д^оди, VCy^lWuVA ^»^Ади«ч^Л 1ЛЧ>-^ иАДСО-ДИг! | С 1в^У. <Лн-Си Иуии-UMA f Ua^C/W Э^иидДДЛААИи,
ч 6v«. 4CUIA a Cc6*vVJUA-A ЛДАЛЛСиЛдду» «Wu ^АдчлдМ^дуд^ ЛДчЛ VW^ jixjAu^v-^V»v4^
к.и- КрлДхсидгО •
VWcou. WVCVU; | <лки «fVuU* •уиДСАА^СыиДД «• VUIAC оидини. НД>ОАМАу«Д*Л [ ^Д>
чда^улмл T^*j ) Ч us^M^Xr, к Ca^a^J ЪЬ**и^'ы+1шь4хщ 4 и^исии^
Лист рукописи с рисунком фасада Старого (или Большого) Эрмитажа
II Материалы и документы
152
f И. S cb*vi faft/i*]
Jsf^a VW1 Ьл
eU JUa*Ur «U
oc Wu>' &*♦«*►
ftvwb'*!.| < Й18 /
ЛудЗ <VMYJ‘Ocn*<** Of ftAvipM *
“ Ъсддии*** (*л/$гд^ у «^/«.ым
**. 4»«^VMuu^> 2*5*')
wyuuMW iiuiri u*yvw. ae^ywu. , i
WV-\ ц. ^ж*«,. vyw*A tb4C*«J)
UJ Г*/Ьн 1<циу/Ч*.Лм|у<) h^iM» ) t. Puu", ■* CSjp«~ b,A\hW C'ftU! ivynlw^
~ 4
I и /3-L
. .««Ч—• «Wr*?*
4-^L—Ь-П7>Ьп Т^щ
«fVrwt-Л ** ~т
^.*ub t *—*».
O«.io*u.»y« ** *uu*« >«UC»<UA« KA.-U*»
/ JL, /=/7t\MK*»W / iL—
ъ P^Jmu. J W t~* j «,*•->*** 1 ^P***
“'"MW / / ГкЛм,!^ W ( и 3fVJULXLM«
4*) 17Уи^~" у J <jM4Ji*4&«i
^ a >**«-<<
Ь *л+**им yi^JkUA^*^*^ rpw*. 3?0 <v*^.
d^VJUbCUtMAAU. k
«*»чвя*ил . vu. *иЛ-мл*л< uwu кд. ( *yWV»f iolmJmJ-
9a»
9f «*•»«« |ЧС«уяш«
ЫЧ*
VC«yvMAMAM Ьлд^а-«Л # 'уц g«4a^
v ид и««Лм) *Ч> лм» уии»ол^ цьууай^ и*ди:4 , .иллмл^А
Члм. и* |л»Ц,иОМ* *учм**£||Э и~М*Д4^ ... "
rj ^сив-ьмлид 6 32.
ft <fuL^lv\UAb*ic«J> )Н ^3
£**£*. - 2 US’
<AUAA**UyU 6 bUi имкшш. ItfJULU^lnbи
V-,
Лист рукописи с рисунком планов и обозначением расположения коллекций в Малом Эрмитаже,
Старом (или Большом) Эрмитаже и корпусе Лоджий Рафаэля (по И.Георги. 1793 г.)
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
153
(Рубенс, Рембрандт), мебель; 24 — 50 картин, бронза; 25 — 38 картин, бронза, античная скульптура; 26 — выход на лестницу главного входа в Эрмитаж, сделанную из дикого тесаного камня, 77 картин; 27 — фойе театра над аркой, 94 картины; 28 — комната перед фойе, «Амур и Психея»; 29 — Лоджии Рафаэля; 30 — 76 картин, Рейнолдс «Молодой Геркулес», минералогическая коллекция; 31 — 76 картин, 5 картин Снейдерса; минералы; 32 — 85 картин, драгоценности.
Ламотов павильон1 открыт в 1769 г. (7 февраля). Фельтеновское здание окончено в 1784 г. Общее число картин в корпусе Деламота — 632. В Фель- теновском корпусе — 1483.
«Картины висят в трех галереях и отчасти в комнатах Эрмитажа и расположены не столько по точному порядку школ, мастеров и пр., как по виду, ими производимому...»2.
1 Малый Эрмитаж —Примеч. ред. митажного театра, Фельтена и Деламота
2 [f.GSchnitzler]. Notice sur les principaux (подъезд у Фельтена на Набережную есть!), tablaux du Musee 1шрёпа1 de l’Ermitage к Перечень залов Картинной галереи, с указа- Saint-P6terbourg. Saint-Pdterbourg — Berlin, нием картин (нумерация зал и расположение 1828. Перед форзацем гравюра. Здания Эр- картин иное). Все перевешеано.
История Картинной галереи Эрмитажа. Отдельные записи 3
На оборотной стороне картин, купленных у Гоцковского, имеются печати кн. Долгорукова4. Составленная Я.Штелином выборочная опись (Vornehmste Stticke aus dem an Ihre Kays. Maj. verkauften Gotzkowsky Cabinet aus Berlin) имеется в архиве.
Принц де Линь, хорошо знавший Екатерину II, писал, что он соглашается с нею, что она не имела понятия ни в живописи, ни в музыке5.
Дмитрий Алексеевич Голицын. По возвращении из Петербурга в 1774 г. Дидро прожил три месяца у Голицына в Гааге. Он писал Фаль- коне, что Голицын занимается переводом на русский язык жизнеописаний наиболее знаменитых итальянских, фламандских и французских художников. В 1766 году избран почетным членом Академии художеств. Он был близок к Фальконе и за свой счет издал его сочинения.
В 1766 г. через посредство Гримма была куплена библиотека Дидро. Гримм стал постоянным комиссионером Екатерины, выполнявшим всевозможные поручения от покупки косметики и материй до приобретения книг, заказа пьес для Эрмитажного театра и приглашения актеров. Главным поручением ему было приобретение художественных произведений. С 1776 г. он состоял на русской службе, получая 2000 руб. в год. В 1796 г. был назначен русским посланником в Гамбурге6. Гримм — друг Дидро, которому он передал свои заботы об Эрмитаже с 1773 года. Помощь Дидро в приобретении картин для Эрмитажа отражена в его переписке с императрицей7. Предложения Дидро о покупке картин шли через Фальконе и Бецкого, но эти документы в архивах не сохранились. Да и не все покупки картин времени Екатерины отражены архивными документами.
Предложения Дидро шли обыкновенно одновременно через Фаль-
3 4 Левинсон-Лессинг В.Ф. У каз. соч.
4 Koehne В. von. Die Gotzkowskische Gemaldesammlung in der Kaiserlichen Ermi- tage. St.Petersburg, 1882. — См.: Левинсон- Лессинг В.Ф. Указ. соч., с. 255.
5 Бильбасов В А. Исторические моногра¬
фии. СПб., 1901, т. 4, с. 512—513. — См. там же.
6 Грот Я.К. Екатерина II в переписке с Гриммом. СПб., 1884. — См. там же, с. 258.
7 Бильбасов ВА. Дидро в Петербурге. СПб., 1884. — См. там же.
II Материалы и документы
154
коне и Бецкого. Утрата переписки Бецкого чрезвычайно затрудняет выяснение покупки некоторых картин Эрмитажа.
После смерти Брюля (1763 г.) на его имущество из-за больших долгов был наложен секвестр, снятый в 1768 г., и наследники готовились к продаже его картинной галереи, о чем известил Панина русский посланник в Дрездене А.М.Белосельский. Екатерина сразу же заинтересовалась ею, и Белосельский купил картины за 180 тысяч голландских гульденов.
22 апреля 1768 г. переведено кн. Д.А.Голицыну «для покупки у принца Делигнии (де Линь) в Брюсселе картин и протчего 10 445 р.».
Переписка о покупке коллекции Р.Уолпола опубликована в сборнике Русского исторического общества1. Портрет Р.Уолпола работы Ж.-Б.Ванлоо находится в Эрмитаже.
Поручение Маруцци собирать памятники античной скульптуры, но это было чрезвычайно трудно ввиду запрета на вывоз из Италии античных памятников. Это удалось сделать И.И.Шувалову, проживавшему в Риме с 1767 по 1773 год. Шувалов одновременно установил связи с художниками и археологами. (В Россию ввозил также слепки и мраморные части древних скульптур.) Шувалов составил также для себя коллекцию античных ваз. С отъездом Шувалова из Рима покупки античных предметов, за исключением резных камней, прекращаются. Античные статуи, купленные Шуваловым, отправлялись в Царское Село.
Покупка в 1783 году коллекции античных скульптур Д.Лайд Брауна. Эта покупка, так же как коллекция Гоцковского, была забыта, и Гедеонов предпринял розыски каталогов собрания, которые нашел в Британском музее.
25 августа 1778 г. через банкира Фридрикса Голицыну были переведены в Гаагу 10 тысяч рублей. 22 августа 1779 г. уплачено купцам Броуэру и Багге за провоз присланных от Д.А. Голицына из Голландии 104 картин 68 р. 27 к. 20 августа 1780 г. им же «за вексель» уплачено 630 голландских гульденов, употребленных на покупку присланной из Гааги от кн. Голицына картины 340 р. 53 к. 26 октября 1781 г. Голицыну за купленных им в Голландии картин 1328 р. 90 к.2. Деятельность Голицына полностью прекращается в связи с выходом в отставку.
Собрание графа Бодуэна. Прервавшиеся было в 1782 г. переговоры о покупке возобновились от имени А.Д.Ланского. Коллекция была куплена в 1783 г. Она состояла из 119 картин, большей частью первоклассных. 4 Рембрандта («Старик», «Старушка», «Портрет Деккера», «Девушка, примеряющая серьги»), 6 портретов Ван Дейка, 4 Остаде, 3 Рейс- даля, 6 Тенирса3. Заключительная крупная покупка при Екатерине.
1765 г. Голицын заказывает Шардену для Академии Художеств аллегорический натюрморт «Атрибуты искусств»4. Приобретает у Грёза «Паралитика».
1768 г. Екатерина поручила Голицыну заказать картины Буше, Верне, Ванлоо и Вьену. Но были осуществлены только две: Ванлоо «Испанский концерт» и картина Вьена «Марс и Венера».
1779 г. Приобретены две картины Райта: «Извержение Везувия» и «Фейерверк в Риме».
1 Сборник Русского исторического общества. 1876, т. 17, с. 395—401. — См.: Левинсон-Лессинг В.Ф. Указ. соч., с. 266.
2 Все по данным ЦГИА СССР, ф. 468,
on. 1, ч. 2, ед. хр. 3896. — См. там же, с. 266.
3 Левинсон-Лессинг В.Ф. Указ. соч., с. 91.
4 См.: Нотгафт Е.Г. «Атрибуты искусств» и проблема аллегорического натюрморта у Шардена. — Ежегодник Гос. Эрмитажа, 1937, т. 1,вып. 2, с. 1—14. — См. там же, с. 258.
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
155
1785 г. Английский посланник (? — Б.П.) лорд Кэрисфорт обратил внимание императрицы на малое количество английских картин, и последовали заказы Д. Рейнолдсу. Куплена картина « Геркулес, удушающий змей» (аллегория на Россию). Заказы Гюберу Роберу1.
I Трубников АЛ. Материалы для истории 43; его же. Картины Гюбера Робера в России —
Царских собраний. Картины Рейнолдса. — «Старые годы», 1913, январь, с. 3—20. —См.: «Старые годы», 1913, июль—сентябрь; с. 40— Левинсон-Лессинг В.Ф. Указ. соч., с. 274,275.
Отзывы иностранцев о картинной галерее Эрмитажа 2
«Насколько можно судить из описания галереи, данного англичанином Коксом3, в этой развеске была, по крайней мере частично, соблюдена система размещения по отдельным крупным коллекциям, что находит свое подтверждение и в каталоге 1774 г., где картины были описаны в той последовательности, в какой они висели в галереях и где можно проследить группировку по собраниям, хотя далеко и не строго проведенную».
«Бернулли, посетивший Эрмитаж в 1778 г., пишет в своих записках: «Картины висят без всякого порядка и подбора, разные школы вперемежку, но длинная сторона по левой руке отведена преимущественно лучшим произведениям итальянской школы» (с. ill).
«Я могу поручиться, — писал Бернулли, — что это собрание заключает в себе неожиданные сокровища драгоценных картин, хотя не всегда согласен с подлинностью приписываемых величайшим мастерам холстов...».
На плохое расположение картин жаловался и Корберон, писавший в своем дневнике в 1776 году, что «галерея слишком узка, нет достаточного пространства, чтобы видеть картины, и свет падает не с достаточной высоты или, говоря точнее, окна опущены чрезмерно низко, это простые окна, которые совсем иначе расположены в Кассельской галерее»4.
«Еще суровее звучит отзыв французов Фортия де Пиля и Буаже- лена: «Собрание картин бесспорно является самым многочисленным в Европе, но оно далеко не из первых по своему подбору: у императрицы та же незадача, как у тех, кто обычно покупает целые коллекции, то есть они обладают обыкновенно большим числом посредственных вещей и малым — хороших; ее агенты страдали или отсутствием добросовестности или познаний»5 (c.lll—112).
И.Георги в «Описании столичного города Санкт-Петербурга» 1794 года пишет: «Картины висят в трех галереях и отчасти в комнатах Ерми- тажа и расположены не столько по точному порядку школ, мастеров и пр., как по виду, ими производимому, и по местоположению, чем не только помещено много картин на небольшом пространстве, но и произведен приятнейший вид, переменяемый иногда переставлением картин» (с. 110).
Эрмитажный театр 6
23 сентября 1783 года Екатериной был подписан указ о строении при Эрмитаже каменного театра, который надлежало «производить по плану и под надзиранием архитектора Гваренги» и «чтобы оный в конце
2 Левинсон-Лессинг В.Ф. Указ. соч., с. 110, 111, 112.
3 Сохе W. Op. cit, р. 52—55,91—92. — См. там же, с. 279.
4 СогЪетоп M.D. Journal intime de Chevalier de Corberon, charge d’affaires de France en Russie. Paris, 1901, vol. 1-2. — См. там же.
5 [Fortia de Piles]. Voyage de deux Francais en Allemagne, Danemarck, Sudde, Russie et Pologne, fait en 1790—1792. Paris, 1796, t. 3, p. 16-23. — См. там же.
6 Авраменко С.И. Эрмитажный театр. Л., 1975.
И Материалы и документы
156
августа 1785 года непременно отделан был». Театр был построен на месте старого Зимнего дворца, который целиком разобран не был (и как выясняется ныне, стены дворца были использованы для новой постройки).
Сначала в центре старого здания дворца был построен зрительный зал, затем возведена коробка сцены, архитектурно неоформленная кирпичная стена, которая выходила на набережную Невы. Отделка фасада на набережной Невы была закончена лишь в 1802 году, после смерти Екатерины.
По сравнению с проектом Кваренги, зал театра претерпел изменения: свободно стоящая колоннада была заменена полуколоннами коринфского ордера и арками, вместо бюстов в верхней части просцениума были помещены медальоны, к скамьям типа античного амфитеатра были приделаны диванные спинки.
Архивные документы сохранили имена многих мастеров, работавших при сооружении театра.
Занавес сцены был написан в 1796 году по эскизам художника Габриэля Дуайена, на нем была продолжена в живописи стена с пилястрами и нишами, и полотно занавеса было заполнено аллегорическими фигурами, с бегущим Пегасом в центре.
Театр был открыт с опозданием относительно намеченного срока, 15 ноября 1785 года, «пробной комической оперой» «Мельник-колдун, обманщик и сват» Евстигнея Фомина на текст Александра Абле- симова. Это была репетиция, официальное представление оперы состоялось 22 ноября 1785 года. С 1785 года театр стал работать регулярно три-четыре раза в неделю (театром ведал Храповицкий, которого потом заменил Юсупов, в нем также устраивались праздники императрицей).
При Павле I театр сначала прекратил свои действия, но спектакли вскоре с конца 1797 года были возобновлены, впуск был по билетам со строгой регламентацией, одна сторона амфитеатра была занята дамами, другая кавалерами, регламентировалось и платье, в котором надлежало быть в театре.
В царствование Александра I жизнь Эрмитажного театра окончательно замерла до начала его реставрации в 1826 году (Л.И.Шарле- мань и Д.И.Висконти).
Правила поведения во время собраний 1
Правила, по которым поступать всем входящим в сии двери2.
1. Оставить все чины вне дверей равномерно как и шляпы, а наипаче шпаги.
2. Местничество и спесь, или тому что либо подобное, когда бы то случилось, оставить у дверей.
3. Быть веселым, однако ничего не портить, и не ломать, и ничего не грызть.
4. Садиться, стоять, ходить, как кто за благо рассудит, не смотря ни на кого.
1 Доска с этими правилами висела в западной у сада галерее, по которой проходила Екатерина II из своих апартаментов, среди гобеленов и картин, там же был портрет императрицы работы Эриксена (по Георги, 1793).
2 См. илл. на с. 164. — Примеч. ред.
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
157
5. Говорить умеренно, и не очень громко, дабы у прочих тамо находящихся уши или голова не заболела.
6. Спорить без сердца, и без горячности.
7. Не вздыхать, и не зевать, и никому скуки или тягости не наносить.
8. Во всяких невинных затеях что один вздумает, другим к тому
приставать.
9. Кушать сладко и вкусно, а пить со умеренностью, дабы всякий
всегда мог найти свои ноги, выходя из дверей.
10. Ссоры из избы не выносить; а что войдет в одно ухо, то бы вышло в другое прежде нежели выступят изо дверей.
Если кто противу вышесказанного поступится, то по доказательству двух свидетелей за всякое преступление каждый проступившийся должен выпить стакан холодной воды, не исключая из того и дам, и прочесть страницу Тилемахиды громко.
А кто противу трех статей в один вечер проступится, тот повинен выучить шесть строк из Тилемахиды наизусть.
А если кто противу десятой статьи проступается, того более не впускать.
Дневниковые записки Александра Васильевича Храповицкого 1
1 мая 1787 г. [Во время пребывания на Украине]
«Хорошо, что отдыхаю теперь, со свежей головой и лучшими сведениями можно прилежнее работать в Эрмитаже» (с. 21).
«Благодарность за сбережение антиков и миниатюр — приказано заказать ручные заливные трубы для Ермитажа: ибо редкостей уже купить не можно» (с. 26).
17 августа 1787 г.
«В сундуке отыскал для себя и читал секретный проект князя Потем- кина-Таврического, чтоб, воспользуясь персидскими неустройствами, занять Баку и Дербент, и, присоединяя Гилян, назвать Албанией, для будущего наследия великого князя Константина Павловича. В сей день играли в Ермитаже Сегюрова «Кориолана»2 (с. 27).
13 августа 1787 г.
«Приметил, что читает [т.е. Екатерина] «Pratique de thatre». Сию книгу вынесли из Ермитажа и лежит в спальной на столе» (с. 29).
23 августа 1787 г.
«Играли в Ермитажном театре в первый раз «Архидеича» (с. 29).
7 октября 1787 г.
«Привез из Мраморного дома все медали в Ермитаж, и приказано, чтоб дал я в них расписку» (с. 30).
28 октября 1787 г.
«При выходе из Ермитажа подозван [императрицей] и сказано, что кроме шведской почты и московских газет ничего не получено» (с. 31).
Январь 1788 г. [Относительно пьесы «Расстроенная семья»]. «Спрашивали, исполнил ли повеление относительно пьесы? Ее в тот же день играли в Ермитаже и были довольны... Дмитриевскому дана
1 Александр Васильевич Храповицкий, Екатерина определила Храповицкого состо-
придворный, приближенный к императри- ять «при собственных ее делах и у приня- це Екатерины II (с мая 1782 г. по сентябрь тия подаваемых Е.В. челобитей» (с. XII). 1793 г.). См.: Барсуков Н. Дневник А.В.Хра- 2 Сепор — французский посланник при
повицкого. М., 1904. В 1782 г. императрица Петербургском дворе, автор пьес.
II Материалы и документы
158
табакерка с червонными. Приказано для автора сыскать антики, мне пожаловано 10 т.» (с. 35).
26 февраля 1788 г.
«Показывали бриллианты шведу Стиернельду» (с. 39). [Об этом же говорит записка Екатерины Храповицкому (с. 370): «... для того вас извещаю, что вы отнюдь не сегодня и не в такой час, когда я дома, но во время бытности моей у обедни водили его посмотреть днем Ермитаж и антресоли, как я вам сего утра приказывала при графе Брюсе. 29 февраля 1788 г.»].
1 марта 1788 г.
«Показывал Ермитаж Стиернельду [le baron de Stiemeld]1, который, примечается, довольно ветрен. Он в прошлое воскресенье 27 февр., осматривая бриллианты, сказывал, что камень, шведским королем подаренный, был в короне королевы Христины. Морков (посланник в Швеции) нам тоже подтвердил с укоризною, что король не властен был его подарить» (с. 39).
8 июля 1788 г.
«Были у обедни в Летнем дворце и там обедали, возвратились в 4-м часу, отдыхали в Ермитаже. Читали с удовольствием гвардейскую песню о походе» (с. 60).
14 августа 1788 г.
«С турками было дело 25 и 27 июля. Сшалил Суворов, бросился без спроса, потерял с 400 человек и сам ранен. Он, конечно, был пьян. Не сказывай ничего о Суворове [указание императрицы] Был на даче у вице-канцлера и воротясь застал Е.В.-о уже в Ермитаже» (с. 75).
1 сентября 1788 г.
«У Салтыкова взял звезду и орден Св. Александра Невского и привязал ленту — приказали смотреть комедию в Ермитаже при малом собрании и держать орден в кармане: но его не спросили и после спектакля велели положить в будуар» (с. 83).
3 октября 1788 г.
«Две последние провербы привез после обеда для посылки Гримму. Тут приказано отправить к нему еще Алкоран, здесь напечатанный, и мне дозволено приезжать в Ермитаж на малые спектакли, за труд в переписке многих пьес — поцеловал ручку и был в театре; играли французы Нанину» (с. 96).
Октябрь 1788 г.
«Играли в Ермитаже L’ecole de colomnie с английского на французский язык переведенную пьесу, сочинения Шеридана, другая Фокса и оратора в парламенте... при волосочесании продолжали разговор о той же пьесе, спрашивали, кому перевести ее по-русски, и я рекомендовал Вейдемее- ра, Шлафову ноту переводившего, которой перевод был похвален» (с. 98).
15 октября 1788 г.
«К вечеру играли при малом собрании в Ермитаже L'insouciant и как сам Л.А.Нарышкин, так все зрители много смеялись» (с. 100).
18 октября 1788 г.
«Перед волосочесанием, прохаживаясь в Ермитаже, пришло на мысль и мне приказано сказать гр. А.А.Безбородко, чтоб, для достижения скорей-
1 P.Stiemeld, шведский путешественник.
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
159
шего мира со Швецией, поспешить совершением зимней кампании» (с.101). 23 октября 1788 г.
«Приказано напечатать пьесы французские, в Ермитаже игранные, сочинения гр. Сепора, гр. Кобенцля и принца де Линя»* (с. 103).
23 декабря 1788 г.
«Поднес 1-ый том французских ермитажных пьес, принято с благоволением, и мне пожалован экземпляр как издателю» (с. 126).
17 апреля 1789 г.
«В Ермитаже играли «Горе-богатыри» (с. 160).
11 сентября 1789 г.
«Примечено тщание Лужкова в разборке антиков и медалей; его велено принять в Академию Наук comme membre honoraire и хотят прибавить жалование» (с. 179).
29 января 1790 г.
«Играли в Ермитаже «Дианино древо». Лиза и музыка похвалены» (с. 189). 22 октября 1790 г.
«Назначено первое представление «Олега» в Ермитажном театре. Им ДОВОЛЬНЫ» (с. 204-205).
20 января 1791 г.
«В Ермитаже давали еще «Федула» и комедию «О время!» (с. 208).
11, 12, 14 февраля 1791 г.
«В вечеру играли в Ермитаже «Федула», и Лизка2 подала на нас просьбу. В тот же вечер пришла записка и Трощинского, чтобы заготовить указ об увольнении нас от управления театрами» «Мы уволены, а князь Юсупов директор». «В малой придворной церкви венчали Лизку и Сан- дунова» (с. 209-210).
3 сентября 1791 г.
«Явился у нас гр. Эстергази, генерал-поручик французский; его приняли в Ермитаже, и он был от 3-х до 6 часов после обеда и приглашен на спектакль» (с. 218).
29 августа 1792 г.
«Головку младого Ахиллеса, на камне вырезанную, поднес Ея Вел. Попов, а я фокса и два антика, принятые с удовольствием» (с. 238).
31 января 1793 г.
«Поутру дошло к Ея Вел. известие, что несчастный Людовик XVI обезглавлен 10 (21) января 1793 г. Наложен траур на шесть недель. Замечательно стечение чисел: 10 января 1775 года в Москве казнен Пугачев». Сентябрь 1793 г.
«Я пожалован в тайные советники и сенаторы, оконча тем службу при дворе. Благодарил Ея Величество в ее кабинете и поднес на прощание три резных камня, быв принят благосклонно» (с. 256).
Нумизматика при Екатерине II
До Эрмитажа главной нумизматической сокровищницей в России был Минцкабинет Кунсткамеры Академии Наук. Он возник на основе личной коллекции Петра I. В Минцкабинет поступали коллекции, собран-
1 В дневниковых записях много сведе¬
ний о самочувствии императрицы и самого Храповицкого, с подробностями, друг другу постоянно жаловались. Ему поручалась переписка пьес и писем.
2 Елизавета Семеновна Уранова, выдающаяся актриса, избегая преследования Безбородки, которому она нравилась, вышла замуж за Сандунова и перешла на московскую сцену.
II Материалы и документы
160
ные в конце XVII и в начале XVIII в. (П.С.Салтыкова, Я.В.Брюса, П.В.Меллера, А.И.Остермана, П.И.Мусина-Пушкина). По законам Российской империи за Кунсткамерой было закреплено получение кладов, найденных на казенных землях. Кунсткамера была первым очагом научных нумизматических исследований и долгое время сосуществовала с возникшим в Эрмитаже при библиотеке Минцкабинетом.
Минцкабинет Кунсткамеры был разделен между разными учреждениями. В 1818 году восточные монеты были переданы Азиатскому музею. Эта большая коллекция (38 тысяч монет) в 1930 и 1931 годах влилась в собрание Эрмитажа. В 1894 г. в Эрмитаж была передана коллекция (35 тысяч монет) Музея древнеклассической археологии Академии наук. Собирание монет и медалей было распространено в XVII—XVIII веках по примеру Запада.
Собирание монет и медалей было свойственно и Екатерине II, крупные приобретения начались для Эрмитажа с 1771 года (покупка минцкабинета капитана кавалергардов М.К.Бремзена за 1000 рублей).
Нумизматической коллекцией и коллекцией резных камней в 1773 году стал ведать А.И.Лужков, работой которого Екатерина была довольна, что отражено в дневниковых записях Храповицкого и в письме императрицы Марии Федоровне (22 сентября 1789). Опись античных монет Лужковым была составлена на латинском языке. О нумизматической коллекции Эрмитажа Георги подробно писал в «Описании столичного города Санкт-Петербурга». В 1775 году шкафы с витринами находились в парадных залах Эрмитажа — Овальный зал?1.
После ухода в 1797 году Лужкова хранителем библиотеки, коллекции древностей и Минцкабинета с января 1798 года стал Карл (Егор Егорович) Кёлер (1765—1837), избранный позднее, в 1817 году, членом Петербургской Академии наук2.
1 АА.Георги. Описание столичного 2 Спасский И.Г. Нумизматика в Эрми- города Санкт-Петербурга. Ч. II. СПб., 1794, таже. Очерк истории Минцкабинета. — Сб.: с. 512. Нумизматика и эпиграфика. Т. VIII. М., 1970.
Лоджии Рафаэля
Осенью 1778 года у Екатерины рождается проект восстановления в ее дворце Лоджий Рафаэля. 1 сентября 1778 года императрица была не в духе вследствие дурной погоды и вдруг ей попались в руки гравированные листы, изображающие фресковую роспись Ватиканских лоджий. Рассматривание их ее немного успокоило. «Сегодня днем мне в руки попали плафоны Лож Рафаэля, — пишет она Гримму. — Я прошу вас немедленно написать Рифенштейну3 скопировать в натуральную величину эти своды, а также стены, и я даю обет Святому Рафаэлю во что бы то ни стало выстроить эти ложи и поместить в них копии, так как непременно нужно, чтобы я видела, каковы они. У меня к этим ложам и потолкам такое благоговение, что в честь них жертвую средства на постройку здания, я не буду иметь покоя ни отдыха, пока все не будет окончено».
з Иоганн Фридрих Рейфенштейн Он помогал императорскому русскому дво- (1719—1793), друг Винкельмана, обосновался ру заказывать картины современным худож- в Риме с 1762 г. Археолог-любитель, широ- никам и давал советы русской императрице ко вошедший в круг высшего общества. Бла- по постройке дворца и убранству; посылал годаря стараниям И.И.Шувалова он стал в Екатерине книги по архитектуре, которыми роли комиссионера. Его имя в переписке она увлекалась. Императрица называла его Екатерины II с Гриммом появляется в 1778 г. «божественным Рифенштейном».
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
161
В ноябре 1778 года в Лоджиях уже были сооружены леса для снятия копий. Копии снимались под руководством Христофора Ун- тербергера, сотрудника Менгса, прославившегося росписями Ватиканской библиотеки. Унтербергер снял картоны в натуральную величину, и по ним живописцем Джованни Анджелони и его сыном Винченцо были написаны копии на холсте, партиями отправлявшиеся в Петербург. В частности, средняя аркада была украшена гербом папы Льва X, в копии он заменен двуглавым российским орлом с вензелем Екатерины II. Над дверями «геральдические шары Медичи заменены медальонами с Рафаэлем». (При реставрации Лоджий Рафаэля, когда полотна были сняты для закрепления, то на их обороте и деревянных конструкциях была обнаружена маркировка на итальянском языке.)
Работы были закончены к 1782 году, и на следующий год Кваренги была поручена постройка для них здания, законченная в 1787 году. Кваренги был приглашен в Россию по рекомендации Рейфенштейна. (Разумеется, росписи Лоджий Рафаэля могут быть признаны копиями лишь условно. Помню, какой переполох вызвала у ботаников копия римского мозаичного пола античной поры, на которой оказались помидоры (?!), появившиеся в Европе лишь после открытия Америки. Копии того времени отвечали относительным требованиям точной передачи оригинала)1.
Из писем и документальных источников
Дневник Корберона (1776 г.). «После обеда у Потемкина он повел нас в галерею императрицы... После этого нам показали Эрмитаж: это интимные аппартаменты (les petits appartements) императрицы»2.
В «Записках» С.А.Порошина говорится о посещении императрицей Эрмитажа в 1765 году (!): «После ученья... пошли мы в верхний маленький садик. На ту пору пошел дожжичек, и мы во все почти время в Эрмитаже пробыли, картин смотрели. Его высочество ходил по галерейке, что от Эрмитажу на Канал к лугу, и от дожжа несколько вымочился...»3
1 Трубников АЛ. Материалы для истории alier de Corberon, charge d’affaires de France Царских собраний. Ложи Рафаэля. — «Старые en Russie. Paris, 1901, vol. 1-2.
годы», 1913, июль—сентябрь, с. 34-38. з Цит. по кн.: Левинсон-Лессинг В.Ф.
2 Corberon M.D. Journal intime de Chev- Указ. соч., с. 279.
Записка Екатерины II к И.П.Елагину4 о картинах, купленных маркизом Маруцци (октябрь 1767 г.):
«Перфильевич, можно ли без Маруцция достать, открывать и смотреть привезенные картины? Мы еще вчерась любопытствовали» (приведен «каталог картинам, из Венеции присланным», 37 картин)5.
3 мая 1986 года при посещении Hillwood’a в Вашингтоне, дома г-жи М.Пост, жены Эванса, посла США в СССР, я обратил внимание на закантованную записку Екатерины И.
4 Елагин Иван Перфильевич (1725— «слагал» для них стихи. Отставка Елагина была 1794) — писатель и государственный деятель, связана с его активным участием в масонстве,
сенатор и обер-гофмейстер, с 1766 г. до 1779 г. в Петербургской провинциальной лете англий- управляющий Императорскими театрами ской системы в 1770 г. получил звание велико- (к этому времени относится и записка Екате- го мастера. Увлекался Калиостро, рины). Вместе с Храповицким сотрудничал в 5 См. Сборник Русского историческо- литературных произведениях Екатерины И, го общества. Т. X. СПб., 1872, с. 255.
II Материалы и документы
162
«Господин граф Минних1 через сие Вам объявляю, что все вещи и Эрмитажи мои с собою привезет сожительница генерала Баура2 коя суда едит суть свободна от пошлинного сбора. Екатерина. 14 декабря 1770 г. Под сим разумею и сервиз мой серебряный, который к нам привезут весной».
7 февраля 1769 г. английский посол был приглашен в Эрмитаж, куда он проходил через покои гр. Орлова. Для входа в Эрмитаж со стороны Невы было «подъездное крыльцо, что напротив маленького дворика». Из Зимнего дворца до 1790-х годов можно было войти в Эрмитаж через единственный проход вдоль Миллионной улицы, на 2-м этаже находился двусветный зал на Неву, с прилегающим к нему Зимним садом, устроенным на уровне ее (т.е. Екатерины) личных комнат. Орлов жил в антресолях под личными комнатами Екатерины II. Письмо 29 (25?) ноября 1777 г. (Екатерина — Гримму) сообщает, что музей «помещается в угловой комнате» антресоли! (первый этаж Зимнего дворца в северо-восточном углу, у Комендантского подъезда).
I Иоганн Эрнст Мннних (обычно эту
фамилию пишут с одним «н»), сын фельдмаршала Минниха, был на дипломатической должности, с 1737 г. началась его придворная карьера, прерванная высылкой в Вологду. При Екатерине II Эрнст Мннних был главным на¬
чальником таможни, президентом Коммерцкол- лепш и депутатом Законодательной комиссии. 2 Баур упоминается в записке Екатерины к А.Храповицкому от 22 августа 1788 г. Дневник Храповицкого. М., 1901, с. 374 (№ 81), также с. 30.
Письма Екатерины Второй к барону Гримму
30 августа 1774 г.
«За проповедью следуют удивительные комплименты господину Тома, который в эту минуту храпит изо всех сил на Турецком диване4 позади меня. Вы, Французские собаки, и не подозреваете, что могут существовать подобные диваны; генерал Потемкин ввел их в употребление, и они такие просторные, что на них могут ежиться и корчиться хоть двенадцать человек с испорченными кишками. И так, если вы останетесь в Париже, советую приобрести подобный диван; если же Жорж Дантен решится вернуться сюда, то я сама ему куплю за свой счет» (с. 9-10).
10 п-итявря 1777 г. Воскресенье, в 8 ч. утра.
«Я очень рада, что вчера в полдень возвратилась в город из Царского Села. Была отличная погода; но я говорила: «посмотрите, будет гроза», потому что накануне мы с князем Потемкиным воображали себе, что берем крепость ^приступом. Действительно, в десять часов по полудни поднялся ветер, который начал с того, что порывисто ворвался в окно моей комнаты. Дождик шел небольшой, но с этой минуты понеслось в воздухе все что угодно: черепицы, железные листы, стекла, вода, град, снег. Я очень крепко спала; порыв ветра разбудил меня в пять часов. Я позвонила, и мне доложили, что вода у моего крыльца и готова залить его. Я сказала: «коли так, отпустите часовых с внутренних дворов; а то, пожалуй, они вздумают бороться с напором воды и погубят себя». Сказано, сделано. Желая узнать поближе, в чем дело, я пошла в Эрмитаж. Нева представ-
з «Русский Архив», 1878, кн. 3.
i Здесь п далее в текстах писем Екате¬
рины II курсивом дано та, что выделено в
ксерокопии их публикации С.Ф.Янченко. -
Примеч. ред.
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
I 163
tf $/А**'7У4уЯб 4f S/y?& ‘'asdf Pfyz>4-
e&S-S>^ <¥
Ю^(<*
о* &* '’^гУЬУъ^.
Jjfttf/sJfr t ./*?£'. *?.
<4?ey у lb*'/ zffisss? *y? .
xit& k£^f“•*]/£ /W>»*
'ey? у* ff,
Письмо Екатерины II графу И.Э.Миниху от 14 декабря 1770 г.
II Материалы и документы
164
ТТ. РА. В И А А. по которыми поступать встъ вхолпщинъ въ cm ря.
1.
Оставить вся, чипы внп> ятей. жиомток шляпы, а наипаче, шпаги
2.
Местничество к спесь, иян тому то ли so то случи»
лось, оставить у
3.
Ъыть веселымъ,однако ничего н&портнть,инелом не грызптъ .
4*.
Садиться, стоять, ходить,какъкгпо смЫся пи на кого.
J 5.
Говорить умеренно, я не очень громко, даны томо находящихся
уши или голова не засолила.
Споришь саъ сердцах, и сезъ горячности.
7.
Не вздыхать ,инетьвать, я пн кому скуки или. тягости не наноентъ.
8.
Во всякихъ невинныхъ затаюсь то одинъ вздумаешь, кътпому приставать.
9.
■ Кушсипь сладко и вкусно, а пить со улкредаеы всякие всегда могъ
пакт к свои нот, вы ходя изо дверей.
1C.
Ссоры изъ избы не выносить; а что ыждетъ въ одно ухо, то вы вышло
гое прежде нежели выс
Ест КТО ПРОТИВУвышесказаннатопро
ащшлт MmmwEcmABHiE КАЖД
пить СТАШЪ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, НЕЮМЮЧАП ИЗЪ ТОГО ИДАМЪ ПРОЧЕСТЬ СТРАНИЦУ ТЩТ ГРОМКО.
Акто ПРОТИВУ ТРЕХЪ СТАТЕЙ ВЪ ОДИНЪ ПРОСТУДИТСЯ ЛО£И~
ИЕНЪ вы УЧИТЬ ШЕСТЬ СТРОНЬ ИЗЪ НА
А ЕСЛИ КТО ПРОТИПУ ДЕСЯТОЙ СТАТЬИ ПРОСТУШТСЯ ,ТОГО ВОЛНЕ не впшлть .
Правила посещения «Эрмитажных» собраний
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
165
ляла зрелище разрушения Иерусалима. По набережной, которая еще не кончена, громоздились трехмачтовые купеческие корабли. Я сказала: «Боже мой! Биржа переменила место: графу Миниху придется устроить таможню там, где был Эрмитажный театр». Сколько разбитых стекол! Сколько опрокинутых горшков с цветами! И как будто под стать цветочным горшкам, на полу и на диванах лежали фарфоровые горшки с каминов. Нечего сказать, тут-таки похозяйничали! И к чему это? Но об этом нечего спрашивать. Нынче утром ни к одной даме не придет парикмахер, не для кого служить обедню и на куртаге будет пусто. Кстати: сервиз господина Бретеля (который давно прибыл и покоится после трудов и опасностей, весь целый, ненадтреснутый и неразбитый, в последней комнате Эрмитажа) нынешнею ночью тоже едва не сделался жертвою урагана. Большое окно упало на землю подле самого стола, весьма прочного, на котором сервиз разставлен. Ветром сорвало с него тафтяную покрышку, но десерт остался целехонек» (с. 13-14).
10 января 1778 г.
«Чего вы безпокоитесь о Бретелевском сервизе? Он отлично принят и пребывает у меня в антресолях, в комнате, именуемой Музеум, куда, чтобы ему не было скучно, снесены с четырех концов света золо- тыя и серебряные вещи и драгоценные камни, с огромным количеством Сибирских яспидов и агатов. Мыши да я ходим туда смотреть на него. Даже Томасов редко туда пускают, ради прекрасных ковров. Но когда они там бывают, вся их семья выражает особенную радость. Подумаешь, что они любят хорошую обстановку»1 (с. 41).
14 февраля 1778 г.
«... Хочу просто разсказать вам о празднике господина Азора. Прежде чем приступить к делу, надо вам напомнить, о чем я уже вас уведомляла, что мы были по уши в праздниках и маскарадах и перекатывались по городу из дому в дом, словно мыши в закроме. 13 февраля выбрался несчастный денек роздыха. Оглушенные музыкою, усталые от танцев и возни, все разсчитывали отдохнуть у себя по домам. Не тут-то было! Замешался чорт, этот враг спокойствия. Что же он сделал? Он внушил вельможному Африканскому дворянину выбрать оперный день, когда ложи были почти пусты, а в партере довольно мест незанятых. Вельможа является в убранстве страны своей и раздает человекам тридцати, из самых значительных, прилагаемое объявление. Этим прекрасным произведением, в котором никто ничего не понимал, произведено общее движение. Что это такое? Что будет? О, я знаю! А я так не могу догадаться. Ломают себе голову, делают предположения и смеются. «Доброе начало праздника!» — говорит Азор. В середине спектакля, по желанию Африканского вельможи, все приглашенные отправляются в назначенное место, для чего им приходится взбираться по маленькой и очень узкой винтовой лестнице, однако не на чердак, но в известные антресоли, где все дыгиет Азиатскою амврозией. Там приготовлены для игры в Макао три большие стола, с покрышками из бархатных ковров. На каждом столе небольшой ящик, золотая ложечка и прилагаемая афиша... Общество с усердием соответствовало намерениям хозяина. Нет живее
1 Текст французского письма опубли¬
кован в Сборнике Императорского Русского исторического общества. XXIII. СПб., 1879. Письма императрицы Екатерины II к Гримму (1774 — 1796), изд. Я.Грот, с. 76-77.
II Материалы и документы
166
этой игры, говорили мужчины. Нет ничего забавнее, говорили женщины. Как весело играть в брилианты! Это похоже на Тысячу и Одну Ночь. Золото и драгоценные безделушки перекатываются. Словом, эта прекрасная игра продолжалась полтора часа до ужина, и ящики все еще не опорожнились. Решено было поделить остатки, после чего спустились тою же лестниг^ею вниз, прямо в зеркальную комнату: стены, потолок, все из зеркала. Против лестницы большое окно, коего занавески внезапно распахнулись, и гостям представилась огромная буква А, в аршин величины и толщиною в руку, вся из самых больших коронных брилиантов. Под этим громадным А стояло человек двадцать пажей в золотом платье с голубыми атласными поясами. Они были тут для прислуги за столами и картинно расположились в углублении окна под брилиантовым А. Столы были разставлены вдоль стен, направо и налево, так что пирующие могли видеть себя в зеркалах (с. 43). Но как описать вам сервиз, размещенный перед зеркалами? Тут были все безделушки из четырех вам известных шкапов и покрывали собою лучшия вещи Бретелева сервиза. Рисунок и все устройство казались чем-то волшебным. Я велела снять на бумагу и потом выгравировать. Я вам пришлю. Каждый входивший в комнату буквально ослеплялся красотою и богатством зрелища, и прошло полчаса, прежде чем гости пришли в себя и разместились на указанных местах. Восторг не прекращался все время ужина, после которого на несколько минут надо было уйти на верх. Забыла сказать, что сначала проходили через эту комнату, и в ней ничего не было. Все устроилось, пока шла игра в брилианты. Еще забыла: против большого А в окне, на противоположном конце, в углублении, было такое же А, только из жемчугу».
ОБЪЯВЛЕНИЕ *
Франциск Азор имел честь несколько раз заявить в присутствии свидетелей, что он действительно Африканский дворянин. Многие выражали в справедливости сего сомнение; ему неизвестно, какая тому причина, зависть или что другое. Но теперь дело не в том. Он решил наконец объявить перед лицем публики, что он есть представитель своего отечества, страны золота, серебра, драгоценных камней и чудовищ, словом великой части земного шара, именуемой Африкою. Он сделает больше: он вызывается доказать это всякому, кто получит от него из рук в руки или чрез уполномоченного настоящую бумагу под условием, чтобы получивший благоволил, по выходе из спектакля сего 13 февра¬
ля 1778 года, явиться в покои Императрицы, имея при себе сию бумагу. Просвещенные люди согласятся, что Африканский вельможа выбрал для своего заявления наиболее пригодную минуту, так как земля, небеса, воды и существа всей природы соревновались между собою в эти дни, для возвеличения нынешней эпохи. В заключение он желает, чтобы после его игры и ужина, сладкий сон низошел на утомленные вежды его гостей.
АФИША 2
Африканский вельможа выложил на каждом столе ящик с брилиантами, не на продажу, а чтоб играть в Макао. Каждое девять будет оплачиваться камнем в один карат.
Игра в Макао, ныне довольно редкая, а в прошлом веке весьма распространенная, состоит в том, что каждому участнику игры сдается по три карты; для наибольшего выигрыша надо, чтоб число очков в трех его картах составляло цифру 9. При этом фигуры (т. е. король, дама, валет и десятки) не считаются вовсе. Например, вам сдано: дама, король и тройка; вы открываете и заявляете три очка. Если у противника ваше¬
1 См. текст письма Екатерины II к барону Гримму от 14 февраля 1778 г. на с. 165. — Примеч. ред.
2 См. там же. — Примеч. ред.
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
167
го, примерно, десятка, тройка и шестерка, то он берет все деньги, поставленные остальными играющими. Брилиант в один карат представляет собою сравнительно малую ценность, так что у Екатерины игра, пожалуй, обходилась дешевле иной нынешней. (Карат около теперешних ста рублей.) Вероятно, брилианты были необделанные, либо вынутые из оправ.
Мы видели, с каким восторгом Екатерина отнеслась к рождению внука, и в дальнейших письмах ея к Гримму сохранилась, можно сказать, история детства Александра Павловича. Все эти праздники происходили в честь события, коим упрочивалось престолонаследие в России. Сохранилось современное рукописное описание этого праздника, которое приводим в дополнение и объяснение к письму о нем Екатерины (с. 42-46).
Современное описание придворного праздника по случаю рождения Александра Павловича. Месяц февраль 1778 года. (с. 44).
13 числа во Вторник ея императорское величество обеденное кушанье изволила кушать во внутренней, где вещи брилиантовые, комнате (зал 279) \ к которому столу приглашены были:
1. Князь Федор Сергеевич Барятинской
2. Семен Гаврилович Зорич
В столовой комнате (зал 280) кушали господин гоф-маршал и дежурные кавалеры, 5 персон. К вечеру, в исходе 6-го часа, в присутствии ея императорского величества и их императорских высочеств, в оперном доме представлена была Итальянская опера, называемая Ахилл.
В продолжение оной оперы, находящийся при ея императорском величестве Арапчик Азор, представлявший Африканского вельможу и блюстителя всего света сокровищ, разносил нижеследующим знатным обоего пола особам билеты, приглашая во внутренние ея императорского величества покои.
Пред окончанием оной оперы, в исходе 8-го часа, ея императорское величество изволила с их императорскими высочествами шествовать во внутренние комнаты, куда и приглашенные Азором особы следовали, которым представлены были 3 стола карточные, на которых столах поставлено было по ящику брилиантов, во всяком ящике по 52 камня, а каждый камень по 1 крате, и продолжалась игра в Макао: у кого выходило 9, тот и брал из ящика один камень.
Когда каменья были разиграны, просил помянутый Азор за стол кушать, от которого было представлено в двух комнатах 3 стола. В 1-й комнате, которая убрана зеркальными стеклами (зал 273-274), было 2 стола; за 1-м столом кушать изволили их императорские высочества с знатными обоего пола особами, а за другим кушали знатные-ж особы. Во 2-й комнате, которая называется Турецкая (зал 275), за круглым столом кушали знатные-ж одне мужского пола особы. Ея императорское величество кушать не изволила, а изволила как с их высочествами, так и с заседающими персонами в обеих комнатах продолжать разговоры. На означенных столах вместо десертных штук поставлены были пирамиды, которые на (с. 45) оный случай нарочно сделаны, представляющие разные
1 Здесь и далее обозначение современ¬
ных номеров залов сделано С.Ф.Янченко. — Примеч. ред.
II Материалы и документы
168
древности и украшенные драгоценными каменьями, как брилиантами, яхонтами, изумрудами, жемчугом, так золотою рудою и разных родов редкими каменьями.
Когда их императорские высочества изволили пойти в первую комнату, при самом их вступлении в оную отдернут был у окошка занавес, и в ту самую минуту блеснула в глаза зрителей литера А, выложенная драгоценными брилиантами; таковые две литеры на зеленом бархате были убраны: одна брилиантами, а другая жемчугом крупным.
При тех столах их императорским высочествам и заседающим персонам служили пажи, которые одеты были в длинное платье, шитое нарочно вновь из золотого глазету; чрез плечи их висели перевязки из голубого атласу; распущенные волосы завязаны были белыми лентами. При столе сервиз был золоченый и шандалы золоченые-ж.
Приглашены были следующие:
1. Его императорское высочество
2. Ея императорское высочество
3. Ея светлость герцогиня Курляндская (не была)
ШТАТС-ДАМЫ
4. Графиня Марья Андреевна Румянцова (не была)
5. Графиня Анна Алексеевна Матюшкина
6. Княгиня Дарья Алексеевна Голицына
7. Графиня Катерина Михайловна Румянцова
8. Анна Никитишна Нарышкина (не была)
9. Графиня Анна Родионовна Чернышова (не была)
10. Графиня Прасковья Александровна Брюсова
11. Княгиня Катерина Николаевна Орлова
ДАМЫ
12. Марина Осиповна Нарышкина
13. Княгиня Наталья Александровна Репнина
КАВАЛЕРЫ
14. Князь Александр Михайлович Голицын
15. Граф Никита Иванович Панин
16. Граф Захар Григорьевич Чернышов
17. Александр Александрович Нарышкин
18. Граф Миних
19. Князь Василий Михайлович Долгоруков
20. Князь Григорий Григорьевич Орлов (с. 44)
21. Иван Иванович Бецкой
22. Николай Иванович Салтыков
23. Лев Александрович Нарышкин
24. Иван Иванович Шувалов
25. Князь Николай Васильевич Репнин
26. Граф Иван Григорьевич Чернышов
27. Князь Григорий Александрович Потемкин
28. Князь Федор Сергеевич Барятинской
29. Семен Гаврилович Зорич, (с. 46).
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
169
Стол кончился в 11-м часу, и изволили их императорские высочества отбыть в свои покои, а прочие персоны разъехались.
Март 1778 г.
«Сервский сервиз, который я заказала, назначен для первого в свете кусателя ногтей, для моего милого и возлюбленного князя Потемкина; а чтоб сервиз вышел получше, я сказала, что он для меня» (с. 47).
26 мая 1778 г.
«Еще анекдот. Африканский вельможа больше не называется иначе как Гваделупским Григорием Александровичем [мы видели из приложенного современного описания, что это был один из придворных Арапов, которому теперь Екатерина дала имя и отчество князя Потемкина], и имя Азора, воспитателя черепах, сделалось ненавистно ушам его. Очень рада, что праздник, на котором играли в Макао, заслужил ваше благоволение. Снимок с десерта делают из поддельных брилиан- тов, и даже в этом виде он будет прекрасен. Эстамп с него вы получите, а может и не получите, отчего вам будет ни тепло, ни холодно» (с. 47).
16 апреля 1779 г.
«Если синьор маркиз Гримм захочет сделать мне удовольствие, то он напишет Рейфенштейну, чтобы тот сыскал мне двух хороших архитекторов, родом Итальянцев, искусных в своем деле, пригласил бы их в службу ея величества императрицы Всероссийской по контракту, на столько-то лет и препроводил их из Рима в Петербург, в виде ящика с инструментами. Он не даст им.миллионов, но приличное и сходное жалованье и выберет людей честных и разсудительных, отнюдь не в роде Фальконета, ходящих по земле, а не летающих на воздухе. Он велит им обратиться ко мне, или к барону Фридрихсу, или к графу Брюсу, или к Эку, или к Безбородко или к черту и его бабушке, лишь бы мне иметь их; потому что все мои стали либо слишком стары, либо слишком слепы, либо слишком медлительны, либо слишком ленивы, либо слишком молоды, либо слишком бездельны, либо слишком тяжеловесны, либо слишком легкомысленны... словом, все что угодно, только не то что мне нужно» (с. 56).
30 июля 1779 г.
«Я нахожу, что вы искусный негоциатор и ходите как кошка кругом горшка, прежде чем раскроет его. В деле двух архитекторов вы поступали, словно заключали мир или присутствовали на конгрессе. Это несравненно и служит прекрасным обращиком, как вести дела. Любезный Тишбейн, с тех пор, как он здесь, представил нам модель одного театра и рисунок другого; один будет построен в Петергофе, а другой в Москве. Вы знаете, между прочим, что страсть к постройкам усилилась у нас как никогда, и ни одним землятрясением не разрушено столько зданий, сколько мы их строим. Стройка дело дьявольское, она пожирает деньги, и чем больше строишь, тем больше хочется строить. Это болезнь, как запой, или она обращается в какую-то привычку. Теперь я завладела мистером Камероном. Это Шотландец родом, Якобит по вероисповеданию, великий чертежник, напитавшийся древностью и известный книгою о древних банях. Мы здесь устраиваем терассу с баня¬
И Материалы и документы
170
ми внизу и галлерею на верху. Выдет прекрасно! Я очень рада, что Гва- ренги приедет с женою; будет с кем провести время жене Паизиелло, которая всегда почти одна прогуливается у меня в саду. Я давно уже желала, чтобы ей было с кем гулять» (с. 60).
30 сентября 1782 г.
«Кстати о Гваренги, о котором вы мне пишете, скажу вам, что, по мнению Александра, Гваренги говорит слишком громко. Александр спросил у меня, отчего это. Я ему отвечала: оттого, что в детстве ему не говорили, чтоб он не возвышал через чур голоса. А Константин заметил, что у него очень крупен нос, вероятно (с. 80) оттого, что он слишком часто хватался за него пальцами. Я очень рада, что этот искусный архитектор доволен. Его дарованиям здесь простор, потому что страсть к постройкам у нас разыгралась. Есть места, которых вам не узнать, если вы их в другой раз увидите; напр, побережье Фонтанки. Ее очищают, и строится каменная набережная» (с. 79).
16 ноября 1782 г.
«Я, так сказать, поставила верх дном не одно Царское Село: и здесь в городе вы не узнаете моей спальной комнаты (зал 277). Я нашла способ устраивать спальни, как вы придумать не можете. У меня было углубление', теперь его нет. Кровать моя против окон; но чтобы свет не мешал глазам, к кровати приставлено зеркало, обращенное к окнам, и под ним диван, почти такой же ширины, как кровать. С обоих боков у кровати стоят скамеечки. Просто прелесть, и это изобретение вашей покорнейшей услужницы распространяется теперь по всем Петербургским домам. Кроме того у моей кровати нет балдахина, и только одни занавески» (с. 81).
19 мая 1784 г.
«Большая фабрика в Итальянском стиле, которую господа Ланской и Гваренги вместе строят, ломают, перестраивают, воздвигают вновь, находится на площади против зимнего дворца. (Говорится о доме, который строился для Ланского. — С.Я.). На Адмиралтейскую площадь будут переведены все Коллегии, Сенат и присутственные места, и набережная будет продолжена» (с. 98).
5 марта 1785 г.
«Я успела глубоко убедиться в том, что у меня есть друзья; самый могучий, самый деятельный, самый прозорливый из них, безспорно, фельдмаршал князь Потемкин. О, как он приставал ко мне, как не давал мне покоя, как я его бранила, как на него сердилась! Но он не унывал, подступая то с той, то с другой стороны, пока вытащил меня из моего кабинета длиною в десять сажень1 в Эрмитаже, в котором я поселилась. Надобно отдать ему справедливость: он умнее меня и все, что он делал, было глубоко обдумано» (с. 104).
22 апреля U85 г.
«С 16-го февраля я уже более не живу в Эрмитаже; я перешла в свои комнаты в зимнем дворце, о чем князь Потемкин вел переговоры в продолжении большей части зимы. Но у нас сохранилась большая нежность к Эрмитажу, и в особенности к одной зале в десять сажень длины, которая в продолжении шести месяцев служила нам кабинетом» (с. 109).
1 Северо-западная часть Павильонного
зала. — СЯ.
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
171
28 июня 1785 г.
«Знаете ли, что я никогда не могу видеть этого маленького кабинета без того, чтобы у меня не явилось желание остаться в нем, и что в этой зале (с. 115) я все более люблю бывать даже и до сих пор? Нет того дня, чтобы, не взирая на ветер и погоду, я не проводила в ней несколько часов, когда бываю в городе» (с. 114).
20 августа 1785 г.
«Я вчера переехала в город совершенно также, как в прошедшем году, невзначай. Я нахожу, что это премило: никто меня не провожает, никто не встречает; я просто воровски, незаметно, а когда узнают вдруг, что я приехала, то повторяют целые сутки: она приехала неожиданно! И вот пустые мечтатели и политики придумывают, для объяснения, самые тонкие и мудрые причины, а ваша покорнейшая услужница, между тем, разгуливает по Эрмитажу, глядит на картины, играет с своей обезьяной, смотрит своих голубей, своих попугаев, своих американских птичек синяго, красного и желтого цвета1 и предоставляет всем волю говорить, сколько угодно, точь в точь как городу Москве» (с. 118).
22 августа 1785 г.
«Хотите знать мой образ жизни? Вот он за последние три дня: утром я встаю в шесть часов и тотчас после кофею бегу в Эрмитаж, где в своем десятисаженном кабинете принимаюсь за свой винегрет, который называется у меня экстрактом. Когда он мне надоест, я гуляю и смотрю на картины или на Неву, сплошь покрытую судами; затем приходит фактотум; (с. 119) когда я покончу с ним и со всеми утренними навождениями, то возвращаюсь в свои аппартаменты одеваться и прихожу обедать в Эрмитаж. После обеда назад к себе и в три часа иду опять в Эрмитаж, и тогда наступает очередь камей, которые мы раскладываем, перекладываем и т.д. Около шести возвращение во дворец; в шесть прием; к восьми я возвращаюсь к себе, и мы играем, болтаем до одиннадцатого часа; около одиннадцати ложусь спать. По этому начертанию вы можете следить за мной шаг за шагом» (с. 118).
28 октября 1785 г.
«Этот Гваренги строит нам прелестные вещи: уже весь город полон его построек; он строит Банк, Биржу, множество магазинов, лавок и частных домов, и его постройки лучшие в городе. Он построил мне в Эрмитаже театр, который будет готов через две недели и который внутри представляет прекрасный вид; в нем могут поместиться от двух до трех сот человек, но не более, что для Эрмитажа и составляет самую крайнюю цифру» (с. 119).
1 ноября 1785 г.
«Если я много разъезжала этим летом, то и за нынешнюю осень тоже мало сижу на месте, и с того самого дня, как возвратилась в город, встаю каждое утро в шесть часов, выпиваю чашку (с. 121) кофею, потом бегу в Эрмитаж, и там от шести до девяти ворочаю и переворачиваю винегрет, который называется у меня экстрактом; за тем являются сир фактоум и все фактоумы; в одиннадцать возвращаюсь в свои комнаты — одеваться и шалить с толпою внуков и внучек; одевшись, возвращаюсь в Эрмитаж обе¬
1 На полях заметка Б.Б.Пиотровского: 4Это в оранжерее?». — Примеч. ред.
II Материалы и документы
172
дать. После обеда опять ухожу в свои покои, а оттуда опять в Эрмитаж, где прежде всего кормлю орехами белку, которую сама приручила; потом играю несколько партий на биллиарде; затем иду разсматривать свои камеи или какие-нибудь эстампы, или брожу среди картин, после чего делаю визит прелестной обезьяне, которая у меня есть и которую я не могу видеть без смеха: до того она дурачится. В четыре часа возвращаюсь в свои комнаты, до шести читаю или пишу; в шесть у меня бывает прием, с которым я теперь помирилась; в восемь поднимаюсь на свои антресоли, где у меня собирается более избранное общество; в одиннадцать ложусь спать. Теперь вы можете проследить за мной шаг за шагом целую зиму, буде пожелаете» (с. 120).
20 ноября 1785 г.
«Кстати, надобно вам сказать еще, что Гваренги прервал меня на половине фразы, явившись с докладом о прелестном театре, выстроенном им на краю Эрмитажа, который теперь идет аркой через канал и соединяется со старым дворцом Петра 1, что иначе называется корпусом, где живет все принадлежащее к Русскому театру» (с. 123).
27 ноября 1787 г.
«... в Эрмитаже, за две комнаты от камей, в пяти от Рафаэлевских лож, в шести от прелестнейшего театра, какой только может быть, в чем согласны все очевидцы.
Теперь восемь часов утра. Если мне дадут время, я буду отвечать на ваш № 93-й; но прежде скажу вам, что эти Рафаэлевские ложи одно из самых изящных и прелестнейших произведений, какие только можно видеть» (с. 149).
18 сентября 1790 г.
«Вот вам, г-н козел отпущения, две гравюры с шестью ребятами. Это ребятежь ростет наглядно. Г-н Александр, телесно, сердечно и умственно — редкий образец красоты, доброты и смышлености. Он жив и основателен, скор и обдумчив, с глубокими, своеобытно-простыми идеями, и всякое дело у него спорится, словно он век им занимался. Он велик и силен для своего возраста, и притом гибок и легок. Словом, мальчик этот соединяет в себе множество противоположностей, отчего отменно любим окружающими. Сверстники легко сходятся с ним в понятиях и охотно за ним следуют. Одного боюсь: женщин, потому что за ним будут гоняться, и нельзя, чтоб этого не было, так как у него наружность самая завлекательная. Впрочем он не знает, что прекрасен, и до сих пор не придает значения своей красоте. Вы понимаете, что отнюдь не желательно сделать из него фата. Кроме того, он очень сведущ для своих лет: говорит на четырех языках, основательно знаком со всеобщей историей, любит чтение и никогда не бывает празден. Он охотно предается всяким удовольствиям своего возраста. Когда с ним заговариваю о чем-нибудь дельном, он понимает, слушает и отвечает с одинаким удовольствием; заставлю я его играть в жмурки, он и на это готов. Все им довольны, и я также. Воспитатель его Лагарп находит, что он — личность замечательная. Теперь он занимается математикой, которая ему также легко дается, как и все прочее. Короче сказать, я представляю вам Александра как личность замечательную между ему подоб¬
Основание Эрмитажа. Екатерина II
173
ными, и если ожидания наши не сбудутся, то я и не знаю, кто же после того может разсчитывать на успех. Заметьте еще, что, когда Александр болен или утомлен, когда ему скучно, он обращается к изящным искусствам, и тогда картины, медали, резные камни доставляют ему немалое развлечение.
Второе место на эстампе занимает Константин. Живость его характера иногда переходит в дерзость; но он очень умен, и сердце у него предоброе. У него все выражается порывами, и нет в характере той последовательности, какою отличается старший брат; но он заставит говорить о себе. Владеет он также четырьмя языками, но вместо Английского, на котором говорит старший, он изучил все диалекты Греческого. Недавно он заметил брату: «Что это ты читаешь плохие французские переводы? Я так читаю все в подлинниках». Увидал он у меня Плутарха и говорит мне: «Такое-то и такое-то место очень дурно переведено; я лучше переведу и принесу вам». Действительно, он мне принес несколько страниц, которые он перевел по своему; внизу стояло: «переведено Константином». Я чрезвычайно люблю беседовать с Константином; он очень воинственен по природе и более всего любит морское дело. В начале этой войны случилось, что некто капитан Сакен, на Черном море, видя себя окруженным Турками, взорвался на воздухе с своим кораблем; Сакен этот тотчас же стал его героем. Несколько раз я уже замечала, что геройские поступки возбуждают в нас удивительную охоту поступать также: в таких случаях он приходит в восторженное состояние. Вообще личность радующая.
Третий портрет представляет девицу Александру. До шести лет она ничем не отличалась особенным, но года полтора тому назад вдруг сделала удивительные успехи: похорошела, выросла и приняла такую осанку, что кажется старше своих лет. Говорит на четырех языках, хорошо пишет и рисует, играет на клавесине, поет, танцует, учится без труда и выказывает большую кротость характера. Меня любит более всех на свете, и я думаю, что она готова кинуться в огонь, чтоб только понравиться мне или хоть на минутку привлечь мое внимание.
Четвертая головка — Елена. Она, кажется, будет красавицей в полном смысле слова: у ней необыкновенно правильные черты лица; она стройна, легка, ловка и грациозна от природы; характер у ней очень живой и шаловливый, сердце доброе. Все сестры любят ее за ее веселый нрав. Вот все, что можно о ней сказать.
Пятая головка — Мария. Ей бы следовало быть мальчиком: привитая натуральная оспа ее совсем изуродовала, все черты огрубели. Она сущий драгун, ничего не боится, у нее и наклонности, и игры мужские; не знаю, что из нее выйдет. Обыкновенно она ходит подпершись кулаками в бока: это ее любимая привычка.
Шестой (великой княжне Екатерине Павловне, родившейся перед самою Шведскою войною 10 Мая 1788 г.) только два года. О ней еще нечего говорить: она слишком мала и далеко не то, что были братья и сестры в ее лета (с. 177). Она толста, бела, глазки у нее хорошенькие, и сидит она целый день в углу с своими игрушками, болтает без умолку, но не говорит ничего достойного замечания.
II Материалы и документы
174
Кроме этого эстампа дарю вам также работу г-на Жаркова: портрет в меховой шапке, который вы видели у г-на Сегюра. Вместе с эстампом, изображающим ребятишек, найдете еще головку в каске, которую великая княгиня вздумала выгравировать на крепком камне. Вот еще приобретение для вашего музея. Мой музей в Эрмитаже состоит, кроме картин и Рафаэлевых лож, из 38 тысяч книг. Четыре комнаты полны книгами и гравюрами, 10 тысяч резных камней, почти столько же рисунков, и в двух больших залах кабинет естественной истории. Ко всему этому прелестный театр, в котором смотришь и слышишь чудесно, с удобным сиденьем и без сквозного ветра. Мое маленькое убежище таково, что пройти туда и назад из моей комнаты составляет три тысячи шагов. Я в нем гуляю посреди многих вещей, которые люблю и которые доставляют мне удовольствие. От этих прогулок по зимам я на ногах и здорова» (с. 175).
29 апреля 1791 г.
«Да будет известно моему козлу отпущения, что вчера фельдмаршал князь Потемкин дал нам великолепный праздник... Публика же, приглашенная по билетам во дворец князя, прошла через великолепные сени и первую залу в другую громадную залу, которая по размерам и по красоте постройки уступает, как говорят, только Св. Петру в Риме. В зале два ряда колонн; за колоннами с одной стороны обширный зимний сад, украшенный статуями и вазами, которые кажутся очень маленькими. По этому вы можете судить о размерах. Я набросала вам рисунок залы, а вы постарайтесь себе представить, как все было1.
Большая зала в длину имеет, я думаю, сажен 35; она построена из кирпича, но удивительно изящна и величественна. Как только я вошла в залу, князь подвел меня к стульям, стоявшим рядами, на месте, означенном буквою Д; я уселась посреди публики... и тогда (с. 186) из сада, где я поставила значик ++, появились две кадрили, одна розовая, другая голубая; в первой был великий князь Александр, во второй великий князь Константин. Каждая кадриль состояла из двадцати четырех пар... После того князь повел меня и все остальное общество в театр, где была представлена комедия. Когда представление кончилось, мы опять вернулись в большую залу, и начался бал... По окончании танцев я ушла во внутренние комнаты, которые также великолепны, как и все в этом волшебном замке, и там отдыхала; в двенадцать часов ночи доложили, что ужин готов в театральной зале; обе кадрили ужинали на сцене. Все мужчины, участвовавшие в кадрилях, были одеты Испанцами, все дамы Гречанками. Остальными столами наполнялся амфитеатр. Зрелище было чудное. После ужина в первой зале был вокальный и инструментальный концерт, после которого я и уехала в два часа утра. Вот как, государь мой, проводят время в Петербурге, не смотря на шум, и войну, и угрозы диктаторов!» (с. 185).
9 мая 1792 г.
«Гваренги совершенно здоров: он только что окончил прекрасную большую залу в Зимнем дворце.
Живописец Лампи, приехавший к нам из Вены, недавно списал большой портрет с вашей покорнейшей услужницы, и все говорят, что
1 К подлинному письму приложен сде¬
ланный Екатериною чертеж Таврического дворца.
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
175
Портрет Екатерины II с фигурами Сатурна и Истории. Копия Ф.Багневского с одноименного эскиза И.Б.Лампи Старшего. 1793
II Материалы и документы
176
Вид набережной Невы с Эрмитажным театром.
Рисунок П. Гонзага. После 1802 г. Корпус Лоджий Рафаэля.
Рисунок Ю. Фриденрейха. 1839
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
177
никогда не видали ничего подобного. Зато же и мучили меня в восемь приемов» (с. 201).
27 августа 1794 г.
«Сегодня 27 Августа, погода ужасная, а я все еще в Таврическом дворце. Лета совсем не было, ни одного жаркого дня... На дворец этот пошла мода; он в один этаж, с огромным прекрасным садом; вокруг же все казармы по берегу Невы: направо Конногвардейские, налево Артиллерийские, а позади сада Преображенские. Для осени и весны нельзя желать ничего лучшего. Я живу направо от галлереи со столбами; такого подъезда, я думаю, нет еще нигде на свете; Александр помещается налево. Правда, что прежде в этом дворце было не немного, а чрезвычайно сыро, так что из под колонн в зале текла вода, и на полу стояли лужи; происходило это от того, что фундамент залы был ниже уровня (с. 212) воды в пруду. Но я помогла горю, приказав вырыть между домом и прудом сточную трубу и выложить ее камнем; труба идет вокруг всего дома и так хорошо отводит воду, что теперь совсем нет сырости в доме и не пахнет гнилью, как прежде» (с. 211).
29 августа 1794 г.
«Холод выгнал меня из Таврического дворца; конец Августа точно Октябрь. Я приехала в свою зимнюю лачужку, поднялась по мраморной лестнице и прошла в залы, которые вновь отделаны под мрамор к свадьбе Александра по рисункам и указаниям Гваренги. Эти три прелестные залы ведут в комнаты Александра; прошлый год оне были роскошно убраны; теперь уничтожили всю роскошь, мешавшую удобству, и вышли очень приятные комнаты, хотя прежней роскоши в них нет. Оттуда я прошла в комнаты, назначаемые для восьмого ребенка великой княгини Марии Федоровны, который, вероятно, явится на свет или в конце нынешнего года или в начале 1795-го. Невестка ея еще не в таком положении. Оттуда и прошла коридорами в комнаты Александры, которой уже минуло одиннадцать лет, и она с нынешнего лета считается взрослой девицей; от нее отправилась к Елене: ее спальня (с. 213) так мило убрана, что она наверное не заснет в эту ночь от удовольствия. Оттуда я пошла в церковь посмотреть что там делается, потом в знакомую вам галерею, а оттуда в свои комнаты, потом в Эрмитаж, в тамошний театр, из театра в ложи Рафаэля, прошла три залы, где помещается кабинет естественной истории, и вернулась к себе в комнату, где и села вам писать, после того как обошла весь дворец и Эрмитаж, что составит версты с две или три. Я вам все это рассказываю для того, чтобы вы подивились, как ваша покорная услужница до сих пор еще проворна» (с. 212).
14 июня 1795 г.
«Вот что я вам скажу касательно поездки г-жи Бюэль в Россию, так как вы хотите, чтобы я решила этот вопрос, и просите дать вам помещение при дворе. Вот теперь я и хлопочу, где бы вас поместить. В настоящую минуту Зимний дворец не то, что прежде, когда вы приезжали ко мне в свите покойной ландграфини: тогда нас было только двое, я да сын; теперь же тут помещается женатый сын, семеро его детей, из кото¬
II Материалы и документы
178
рых один уже женился, и весь необходимый штат. Второй сын должен будет поместиться в другом доме, рядом, который теперь переделывают и устраивают для него; он будет примыкать (с. 225) к Эрмитажу. Стало быть, чтобы успеть вам приготовить жилище в Зимнем дворце, где я провожу большую часть года, я должна отложить удовольствие вас видеть до будущей весны, когда вы отправитесь в путь. Я тогда успею вам выслать денег, и вы поедете с детьми летом, найдете меня на даче и к зиме переселитесь в свое жилище» (с. 224).
8 ноября 1795 г.
«В царствование Людовика XIV Французская школа живописи отличалась благородством в изображениях, и можно было ожидать, что она сумеет сочетать ум с благородством и приятностию. Теперь приезжает к нам г-жа Лебрен, в Августе, когда я перебралась в город, и уверяет, что может соперничать с Анжеликой Кауфман, которая несомненно умеет придать благородство своим фигурам; даже больше: ее фигуры отличаются идеальной красотой. Соперница Анжелики для первого опыта рисует портрет великих княжон Александры и Елены; у первой из них благородное, выразительное лицо и царственная осанка; вторая — красавица в полном смысле слова и смотрит совершенною невинностью. Г-жа Лебрен усаживает обеих на диван, заставляет младшую совсем вывернуть шею, и выходят точно две обезьяны, которые греются на солнце, или, если хотите, две отвратительные маленькие Савоярки, с виноградными кистями в волосах как у Вакханок, в каких-то малиновых с фиолетовым туниках; одним словом, не только люди спрашивают, которая из них старшая и которая младшая. Приверженцы г-жи Лебрен превозносят картину до небес; но на мой взгляд, это дрянь, потому что без всякого вкуса и благородства, да и сходство-то отсутствует; нужно большое тупоумие, чтобы, имея перед глазами такой оригинал, не суметь ничего сделать: нужно было рисовать природу как она есть, а не придумывать такие положения, что вышли обезьяны вместо детей» (с. 230).
5 января 1796 г.
«Вот уже три дня, как я немного прихрамываю от ревматизма в колене, но это значит только, что я три года тому назад упала с лестницы в 15 ступенек1, когда шла в ванну, и с тех пор, как дурная погода, так у меня начинает болеть ушибленное колено...» (с. 232).
18 февраля 1796 г.
«Свадьба вел. кн. Константина была назначена 13-го, но в Воскресенье у невесты его сделалась лихорадка и такая страшная зубная боль, что пришлось отложить до Пятницы 15-го февр., так как у ней щека распухла и один глаз стал совсем маленький. Наконец, в Пятницу их обвенчали; в мраморной Георгиевской зале был обед, потом бал, после которого новобрачных отвезли в Мраморный дворец, где они теперь живут. На другой день они обедали у меня, а вечером были бал и вечерний стол в большой зале, которую не нужно смешивать с Георгиевской (та гораздо меньше). Воскресенье 17-го мы все отдыхали. Сегодня в двенадцать часов дня было народное угощение, где все очень веселились, а потом я обедала в Мраморном дворце у в.к. Константина. Я ду-
1 Антресоль первого этажа, где была
«мыльня».
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
179
маю, трудно найти дом красивее и удобнее, где б было все так роскошно, изящно и с таким вкусом. До обеда и после обеда мы все осматривали дом, и я осталась очень им довольна, и в.к. Константин тоже» (с. 232)1.
Пребывание короля Станислава-Августа в Петербурге 2
После взятия Варшавы 24 сентября 1794 г. Суворов получил предписание императрицы Екатерины II отправить короля Польши Станислава-Августа в Гродно, в ссылку. Павел I амнистировал польского короля и пригласил его в 1797 г. посетить Петербург3.
6 марта 1797 г. король посетил Эрмитаж и был поражен его грандиозностью. Он обратил внимание на модель дома Вольтера в Фернэ, на его библиотеку, «особенно любопытную вследствие помет, собственноручно сделанных Вольтером» (с. 589).
После возвращения из Москвы, 30 мая, он вновь посетил Эрмитаж, в сопровождении сенатора князя Николая Борисовича Юсупова. Он интересовался рисунками, обратил внимание на картины Кл.Лор- рена, Тенирса и на этюды Рубенса триумфальных арок Фердинанда. «Картина Гвидо Рени, представляющая четырех отцов церкви и При- снодеву, явившуюся им на небесах, считалась князем Юсуповым самой лучшей из всей императорской коллекции» (с. 590).
Король встречался и с петербургскими коллекционерами. «Тогда в С.-Петербурге из их числа был известен некто Лабенский, поляк, брат которого находился хранителем картинной галереи Эрмитажа и который три года был учеником художника Баччиарелли. Лабенский, незадолго до посещения его королем, только что вернулся из Гамбурга и привез оттуда много картин, из которых большинство приобретено им у французских эмигрантов» (с. 596).
«Кроме того, король видел в Эрмитаже и в Павловске много работ императрицы, вырезанных из слоновой кости и камня, достойных удивления по их количеству и достоинству» (с. 599).
Английский сервиз «Зеленая лягушка» в Чесменском дворце, за семь верст от Петербурга (с. 602).
В Эрмитажном театре 13 ноября видел оперу «Зенобия» с декорациями Гонзага. Там же он видел комедию Корнеля «Le menteur» и балет «Adele de Penthievre» с декорациями того же Гонзага. На сцене театра Эрмитаж давались и русские представления. Трагедия Сумарокова «Лжедмитрий», где Марина Мнишек была заменена княжной Ксенией. Ему давали перевод на французском языке. На французской пьесе «Le philosophe sans le savoir» «зрители плакали» (с. 605-606).
Николай Борисович Юсупов
Юсупов Николай Борисович родился 15 октября 1750 г., умер в 1831 г. Сенатор. Член Государственного Совета.
1781 г. — Действительный камергер. 1782 г. — в свите цесаревича Павла во время его путешествия по Европе. 1783 г. — посланник и полномочный посол в Турции (Двор Сардинского короля Амедея III), вы-
1 После текста писем Екатерины II Б.Б.Пиотровским была сделана заметка: «От С.Ф.Янченко. 19.08.87». — Примеч. ред.
2 Горянинов С. Художественные впечат¬
ления короля Станислава-Августа о своем
пребывании в С.-Петербурге в 1797 г. — «Старые годы», 1908, октябрь, с. 587-606. з Данная статья приводится Б.Б.Пиот- ровским в отрывках и в его собственном пересказе. — Примеч. ред.
II Материалы и документы
180
полнял поручения Екатерины за границей. 1791—1799 гг. — Директор Императорских театров. В 1796 г. «ему поручено было принять в свое ведение Императорский Эрмитаж и возложено заведование придворным театром и музыкой». В 1797 г. в день коронации Павла I был пожалован орден Андрея Первозванного, а 20 ноября назначен главным Директором Мануфактур-коллегии. «После него, кроме огромного имения, остались: драгоценная библиотека, отличная картинная галерея, мраморные статуи лучших художников и домашний театр»1.
Дмитрий Петрович Бутурлин
Дмитрий Петрович Бутурлин, внук фельдмаршала Александра Борисовича Бутурлина (1694—1767), сын графа Петра Александровича, родился 14 декабря 1763 г., восприемницей его была Екатерина И, которая при крещении пожаловала его сержантом гвардии; 1784 г. — адъютант Потемкина, 1802 г. — действительный камергер, 1803 г. — посланник при папском дворе, 1817 г. — тайный советник и сенатор. Навсегда покинул Россию, переехав во Флоренцию, где и умер в 1829 г. Был женат на дочери гр. Артемия Воронцова, Анне Артемьевне, своей троюродной сестре, которая в 1825 г. перешла в католичество.
Бутурлин участвовал в числе нескольких лиц в составлении сатиры с рисунками на видных деятелей екатерининского царствования и даже на Екатерину И, за что был отставлен с запрещением въезда в местопребывание Екатерины И. Приобрел известность двумя своими библиотеками: первая — 30 000 томов, очень редких, с замечательными оранжереями, музеем и садом — находилась в Немецкой слободе, сгорела в Москве в 1812 г.; вторая собрана им во Флоренции и продана с аукциона в Париже его наследниками.
Черновик всеподданнейшей записки о положении Эрмитажа (Tableau de l’Hermitage Imperial)
«Императорский Эрмитаж, наблюдение за которым доверено мне уже более двух лет и управление которым, несмотря на мое назначение в Риме, Ваше Императорское Величество желаете оставить за мной, дает мне тем самым слишком лестное доказательство Вашей доброты ко мне, чтобы я мог пренебречь каким либо случаем, когда мое усердие и мои небольшие познания могли бы быть каким нибудь образом использованы».
В записке Д.П.Бутурлин предлагает указать: 1) какие разнообразные коллекции содержит Императорский Эрмитаж; 2) меры, требуемые для поддержания или увеличения его коллекций; 3) средства по управлению им для общественной пользы.
Обзор коллекций: а) картины всех школ; Ь) эстампы; с) рисунки;
d) резные камни; е) монеты и медали; f) минералогические коллекции;
g) ювелирное искусство; h) библиотека.
а). «Коллекция картин смело может выдержать сравнение с любой из таких же коллекций, наиболее известных в мире» (3113 картин). «Но если следует прибавить к ней несколько предметов для доведения ее
1 См. Русский биографический словарь.
Изд. ими. Русским историческим обществом. 1912, с. 353-354.
1 Основание Эрмитажа. Екатерина II
181
постоянно до совершенства, к чему она достойна, то не менее необходимо изъять из нее большое количество слабых произведений или малозначительных, которые нарушают цельность и отнимают место, которое они не заслуживают. В этом случае изъятие является надежной мерой предосторожности. Много сотен картин должны быть удалены, но они могут еще очень хорошо служить для убранства комнат в разных дворцах и покоях императорской фамилии».
b). Эстампов 100 ООО экз. Коллекция отражает «беспорядочность ее образования. Есть эстампы во многих экземплярах, а некоторые важные отсутствуют. «Количество старинных гравюр в ней наиболее полно, чем современных».
c). Рисунки — 6798 шт. Хороший подбор, но следует его увеличить.
d). Резных камней — 11 302, оттисков 30 ООО шт. «Основательница этого отдела Екатерина II, Ваша августейшая бабка, находила отдохновение в течение многих лет в резных камнях, которые соединяют в себе очарование искусства и пользу для истории». Подробное описание коллекции и рекомендация изъять те камни, «которые не представляют ничего интересного ни по природе камней, ни по сюжету, ни по красоте и особенностям самого камня или из-за характера сюжета».
e). Медали, монеты. Точные сведения о количестве медалей и монет.
f). Минералы. «Обширные владения России дают натуралисту-ис- следователю множество разнообразного материала, который он тщетно искал бы в других европейских странах».
g). Старинные и редкостные драгоценные предметы — 1345 шт. Целая зала Эрмитажа предназначена для этой редкостной коллекции... «Точное и подробное описание всех этих предметов было бы весьма интересно, но сомнительно найти в данное время достаточно достоверные материалы, чтобы сделать это описание».
h). Библиотека. «Многотомная библиотека (свыше 40 000 томов) совершенно не полна во всех ее частях. Содержит много дублетов, часть которых уже размещена по воле Вашего Императорского Величества.., часть библиотеки, поступившей от Дидро, не имея ни одного замечательного экземпляра, никакой выдающейся особенности, распылилась в общей массе и попала в общий каталог. Я застал это уже тогда, когда принял управление. Библиотека Вольтера не имела подобной участи»1. Отдельный фонд русских книг для служащих Эрмитажа. Екатерина II давала служащим читать книги и «давать ей отчет в прочитанном». Эта библиотека находится в отдельном помещении под присмотром старшего камердинера — Медкова 1-го.
Хранение, поддержание и пр. «Если бы возник вопрос о том, чтобы разрознить это прекрасное собрание, то одно имя Екатерины, как эгиды Минервы, достаточно, чтобы сохранить Эрмитаж в неприкосновенности и предупредить от всякого на него посягательства».
Все коллекции должны иметь прирост. «Допуская публику наслаждаться и пользоваться этими коллекциями в определенное время года, при соблюдении ненарушаемых правил и под присмотром назначенных для сего служащих, что было бы для нее источником образования, сред¬
I Славословие в честь Вольтера, «Не¬
стора литературы».
И Материалы и документы
182
ством и облегчением посвятить часть своего времени знанию...». «Такое учреждение как Эрмитаж, не имея определенное назначение, царская сокровищница, находящаяся во дворце наших государей, посвящена специально для их пользования». Рекомендуется написание сочинения об Эрмитаже и публикация каталогов»1.
I В деле французский оригинал и рус¬
ский его перевод, выполненный зав. архивом Эрмитажа А.В.Сусловым в 1928 г. См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 2, 1804, ед.хр., 13, л. 1-14.
ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА
2 Эрмитаж в царствование Николая I
Франц Иванович Лабенский (1769—1850) 1
Завещание Ф.И.Лабенского (копия, поступившая в архив в 1984 г.)
Завещательные мои распоряжения и выражения последней моей воли, изображенные в духовной моей, написанной 31 января 1840 г., должны считаться недействительными относительно всего того, что касается брата моего Михаила. Право его на мое наследство в равной степени с моими тремя племянниками уничтожается преждевременной его кончиною.
Я назначаю моими универсальными наследниками трех моих племянников, а именно: Ксаверия, Камилла и Станислава, сыновей покойного брата моего Ксаверия, скончавшегося в Петербурге, а если их не будет, то их место заступают дети их.
Подразумевается, что если племянник мой Ксаверий умрет в безбрачном состоянии, в котором он ныне находится, то доля, причитающаяся ему из моего наследства, останется естественным образом двум младшим его братьям.
Завещаю им: картину, писанную Леонардо да Винчи, оцененную в 15 ООО руб., оригинальные рисунки, литографии, гравюры, библиотеку, произведения искусства и вообще редкости, оружие, драгоценности, гравированные камни, серебро, фарфор, фаянс, хрусталь, столовое белье, гардероб, белье, шубы, экипаж, лошадей и проч. Из сего я исключаю некоторые предметы, о коих будет упомянуто ниже. Они должны совершить раздел как следует добрым братьям, или полюбовно или продав вещи с публичного торга.
Сверх того я отказываю им: <...> во время смерти моей в С.Петербурге, то я препоручаю и прошу господина коллежского советника Андрея Ивановича Кремера заступить место его, и поступать во всем как следует душеприказчику моему.
Действительный статский советник и кавалер
Франц Иванов сын Лабенский
Сие духовное завещание по воле завещателя действительного статского советника Франца Ивановича Лабенского писал я — коллежский советник Андрей Иванов сын Кремер2
Сведений о Ф.И.Лабенском сохранилось незаслуженно мало! Франц Иванович Лабенский (его подлинное имя Франциск Ксаверий) был назначен в 1796 (или 1797) году к смотрению картин в Эрмитаже.
1 Действительный статский советник 2 Далее следует приписка к завещанию о Франц Иванович Лабенский. С 1805 г. зани- смерти Лабенского 11 февраля 1850 г. См. Армат должность смотрителя 2-го отделения. хив ГЭ, ф. 1, оп. 2,1840 г., ед. хр. 109, л. 1 —7.
II Материалы и документы
184
Полная инвентаризация картин, находившихся в Эрмитаже, Таврическом и Мраморном дворцах, была составлена комиссией в составе Лабенского и профессоров Акимова, Угрюмова, Гордеева и Козловского. Между дворцовыми и эрмитажными картинами не существовало строгого разграничения. Каталог составлен по повелению Н.Б.Юсупова1.
С 1805 г. Лабенский занимает должность начальника 2-го отделения Эрмитажа. Много покупок делает Лабенский у русских художников: Ф.Ма- твеева, Венецианова, А.Орловского, Егорова, Шебуева.
1801 г. Покупка двух картин Г.Робера: «Мост» и «Храм Конкордия».
1807 г. Покупка картины «Утро» Клода Лоррена.
1808 г. Командировка в Париж. Приобретения: Караваджо «Лютнист», Питер де Хох «Госпожа и служанка».
Лабенский внимательно следил за покупками картин и нередко критиковал купленные картины.
1819 г. О приостановлении издания Лабенского «Описание картинной галереи Императорского Эрмитажа» вследствие невзноса денег подписавшимися на него (см. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 2,1819, ед. хр. 12).
Лабенскому было поручено размещение картин в новом здании Эрмитажа из числа находящихся в разных дворцах2.
Лабенский много внимания уделял вопросам реставрации. В одном из своих рапортов он указал, что «должность механического реставратора оставалась забытой, через что картины весьма претерпевали»3.
В разговоре с министром народного просвещения АН.Голицыным в 1817 г. Лабенский высказался о необходимости устройства в Эрмитаже реставрационной школы под руководством Митрохина; Голицын поддержал эту мысль, Пашков, обер-гофмаршал, сменивший Толстого, обиделся на то, что Лабенский его обошел, и противился этому проекту, который получил одобрение Александра I и был проведен в жизнь.
1 См. Левинсон-Лессинг В.Ф. Указ. соч., А.Ф.Митрохин, придворный лакей, с 1797 г. за-
c. 125. ним алея живописью и был придан в помощь
2 См. там же, с. 153. Лабенскому для наблюдения за картинами
3 Рапорт 1825 г. См.: Гамалов-Чураев С А. Эрмитажа и дворцов и под руководством Ла-
Реставратор 9-го класса Андрей Митрохин. — бенского стал реставратором, разработавшим •«Старые годы», 1916, апрель-июнь, с. 51-66. перевод живописи с дерева на холст.
Лабенским было предпринято издание «Галерея Эрмитажа», с текстом на французском и русском языках и с 75 гравюрами (1805— 1809), составителем этого труда на титульном листе значился Камиль, а издателем Лабенский. Издание не было закончено из-за недостатка денег по подписке4.
Доступ публики в Эрмитаж производился хранителем по билетам, выдававшимся Лабенским, причем лицам, лично известным хранителю, могли даваться постоянные билеты5. Разовые давались даже до 8 персон.
В 1825 г. Эрмитаж был открыт для посетителей зимой от 12 до 15 часов, для художников от 9 до 17, летом для посетителей с 12 до 16, а для художников с 8 утра до 8 часов вечера6. Придворная контора обращала внимание Лабенского на необходимость более тщательного надзора за теми, кто посещает музей.
4 Левинсон-Лессинг В.Ф. Указ. соч., с. 163, примеч. 200, с. 290.
5 «Билет на всю вечность» был предоставлен Пушкину Жуковским!
6 См. Левинсон-Лессинг В.Ф. Указ. соч., с. 165.
2 Эрмитаж в царствование Николая I
185
К.П.Беггров.
Набережная около Зимнего дворца. 1826. Литографированная акварель
II Материалы и документы 186
Е. Ф. Крендовский.
Тронный (Малый) зал на половине императрицы Марии Федоровны в Зимнем дворце. Около 1831 г.
2 Эрмитаж в царствование Николая I
187
Господину обер-гофмаршалу и кавалеру действительного статского советника Лабенского рапорт о возвращении в залы картины Рейнольдса и просьба денег на реставрацию рамы для нее (Архив гэ, ф. 1, оп. 2, 1835, ед. хр. 36).
18 января от 1835 г. О командировке Лабенского в Англию.
Ф.И.Лабенский не участвовал в создании Нового Эрмитажа. Его деятельность ограничилась екатерининским Эрмитажем. Он умер за границей в 1850 г., но многие его предложения, высказанные ранее, были включены в текст «Правил» 1851 г., введенных Николаем I.
16 сентября 1821 г. Лабенский был избран Академией Художеств «почетным вольным общником»1. В 1805 г. Лабенский получал жалованье в размере 2000 руб. в год (то есть 166 руб. 60 коп. в месяц).
Лабенский ежегодно имел «Предписание почтовым станциям об
ускорении ПОеЗДОК» ПО УПОМЯНУТЫМ В Предписании Трактам (см. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 2, ед. хр. 45, л. 1).
О назначении Лабенского дежурным при теле императрицы Елизаветы Алексеевны (см. там же, ед. хр. 54, л. 1-3).
Предписание от 21 октября 1827 г. о повелении эрмитажным чиновникам присвоить на торжественные и праздничные дни мундиры со следующим разделением:. 1) чтобы начальникам и смотрителям отделений, равно библиотекарям употреблять шитье на воротнике, обшлагах и клапанах такое же, какое для советников Придворной конторы назначено. Нижнее платье белое суконное (Архив ГЭ, ф. 1, оп. 2,1827 г., ед. хр. 60, сл. 1-2).
Письмо Ф.И.Лабенского гофмаршалу КА.Нарышкину (дата не поставлена): «Для прекращения вкравшихся в Эрмитаж Его Императорского Величества беспорядков, от которых впоследствии, есть ли они остановлены не будут, могут родиться еще важнейшие злоупотребления, необходимым нахожу представить Вашему превосходительству на рассмотрение сделанные мною распоряжения относительно дежурства всякого звания придворных служителей при Эрмитаже. Каждый день дежурными при Эрмитаже находятся следующие лица, а именно: камердинер, гоф-фурьер, камер-лакей, 9 лакеев и 8 истопников...» (далее указано, в каких комнатах должны они пребывать, много места отведено правилам копирования картин). «В шинелях или шубах по Эрмитажу не ходить. Трости, зонтики и калоши оставлять в передней у дежурного» (см. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 2, 1827 г., ед. хр. 64, л. 1-5).
Реестр петергофским картинам, поврежденным от бывшего ноября 7-го 1824 года наводнения (см. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 2, 1824 г., ед. хр. 26, л. 26-33).
Письмо от 31 мая 1833 г. титулярному советнику Планату о «смотрении за всеми предметами по 2 отделению Эрмитажа, за исключением драгоценных и прочих вещей», на время отсутствия за границей смотрителя по 2 отделению Эрмитажа действительного статского советника Лабенского (см. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 2, 1833 г., ед. хр. 15, л. 5).
5 марта 1844 г. Ф.ИЛабенскому. «На рапорт Вашего превосходительства от 2 марта честь имею уведомить, что об отводе Вам на время переделки эрмитажной лестницы квартиры в театральном здании,
1 Левинсон-Лессинг В.Ф. Указ. соч.,
с. 163.
II Материалы и документы
188
бывшей капитана Воробьева, предписано мною майору от ворот Зимнего дворца. Министр Императорского двора князь Волконский» (Ар-
хив ГЭ, ф. 1, оп. 2, 1844 г., ед. хр. 10, л. 1 [кв. X? 34]).
Рапорт г. Кёне от 28 февраля 1851 г. о покупке книг покойного Ф.И.ЛабеНСКОГО (см. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 2, 1851 г., ед. хр. 28, л. 1).
Хранители картин императорского дворца и Эрмитажа 1
1743 Приглашение Георга Фридриха Гроота на службу в качестве портретиста и для наблюдения над дворцовыми картинами и их реставрацией (покупка картин при Елизавете Петровне для Царскосельского дворца).
1749—1775 После смерти Гроота его место занял его помощник Пфандцельт (Лукас Конрад Пфандцельт), ставший впоследствии хранителем Эрмитажной галереи. Пфандцельт добавлял картины в картинный зал Екатерининского дворца в Царском Селе. Им выполнена первая развеска картин Эрмитажа.
1775—1797 Художник Мартинелли, заведующий Картинной галереей Эрмитажа. О нем известно очень мало, он упоминается в письмах Екатерины Гримму. Мартинелли был подчинен Бецкому. В 1773— 1783 гг. рукописный каталог Эрмитажной галереи был составлен графом Эрнестом Минихом.
1797 Князю Николаю Борисовичу Юсупову было поручено Павлом I «взять Эрмитаж в свое ведение». С 1781 г. Юсупов ведал Императорскими театрами. До него при Екатерине был В.С.Попов.
1797—1849 Во главе Картинной галереи был поставлен художник Ф.И. (Франциск Ксаверий) Лабенский, работавший под руководством Брен- на над росписью комнат Гатчинского дворца.
1802 Д.П.Бутурлину «был поручен Эрмитаж», он высказал мнение о возможности допуска в Эрмитаж публики «в определенное время года, при соблюдении нерушимых правил и под надзором назначенных для сего служащих» (должности директора не было, Бутурлин, так же как Юсупов, имел личное поручение).
1805—1816 Заведовал Эрмитажем обер-гофмаршал Н.А.Толстой.
1849 На место ушедшего Лабенского (скончался в 1850 г.) назначен Ф.А.Бруни.
1850 Л.Стефани назначен заведовать античными коллекциями.
Эрмитаж при Ф.И.Лабенском 2
Вход в Эрмитаж. Большая лестница налево ведет в Картинную галерею и апартаменты Директора (на 3-м этаже).
В прихожей предъявляется карточка на вход в Эрмитаж, временная или постоянная.
Три двери: правая в Лоджии Рафаэля, левая в галерею, прямо в фойе театра. В прихожей находится слуга, готовый следовать за Вами по Эрмитажу.
1 Петербург и Царское Село. См.: Левинсон-Лессинг В.Ф. Указ соч.
2 См.: Schnitzler I.H. Notice sur les prin- cipaux tableaux du Musee Imperial de l’Ermitage a Saint-Petersbourg. Berlin, 1828.
2 Эрмитаж в царствование Николая I
189
1. В центре ваза из фиолетовой яшмы колыванской работы, выс. 2 арш. 4 вершка. Жанровые и пейзажные картины: Лоррен, Пуссен, С.Роза, П.Поттер. 39 картин.
2. Жанровые картины: С.Роза, Рубенс, Поттер, Карраччи. 30 картин.
3. Итальянская галерея. Шедевры: Тициан, Джорджоне, Гарофало, Пьембо, П.Веронезе, Гверчино, С.Роза. В центре фарфоровая ваза С.Петер- бургской фабрики с росписью Адамса. 42 картины.
4. Большой зал. Большая ваза из фиолетовой яшмы, по сторонам два канделябра. Часы с изображением памятника Минину и Пожарскому. Картины испанской школы. Перуджино, Андреа дель Сарто, П.Веронезе. 108 картин.
5. Небольшая комната с диваном, мозаичным столом. Она содержит итальянские картины: Леонардо да Винчи «Джоконда» (?), Тициан, Гарофало, Рафаэль «Св. семейство», Карраччи, Андреа дель Сарто. 40 картин.
6. Зал Воувермана. Шкаф с бюстом королевы Луизы Прусской, два канделябра с вазами из малахита. 54 картины.
7. В комнате помещены часы работы Штрассера, купленные императором у вдовы пастера в Петербурге. Картины Воувермана, Брауера, Остаде.
8. Зал Тенирса. Малахитовый стол. Картины тех же художников.
9. Гранитная ваза. Разные картины фламандской школы.
10. Без картин. В нише античная статуя Цереры. Бюст Ахилла.
11. Зал Рембрандта. В нем стоит бюро Гамбса. На месте, где ранее стоял биллиард — бюст Екатерины. Два золотых подноса с барельефами, поднесенные ко дню коронации. 39 картин Рембрандта [вероятно, и школы его].
12. Овальный зал. Мраморные бюсты Шереметева и Румянцева работы Шубина. Бюсты Суворова и Чичагова, бюст Голицына работы Мар- тоса. Портрет Екатерины работы Лампи.
13. Маленький кабинет в стене зала, несколько голландских картин, среди них «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта.
14. Антресоли по лестнице из Овального зала. 6 комнат, в первых трех в шкафах гравюры и эстампы, коллекция камней, в двух комнатах — медали. Тут же картины Менгса, Тициана, портрет Веллингтона.
15. Переход из здания Фельтена в Ламотовский1. Картины французской школы (Пуссен, Верне).
16. Небольшой зал. Бывший Эрмитаж, с подъемными столами, которых уже нет. Ваза из порфира с золочеными кариатидами. Стол с «монументом» из бронзы в честь Екатерины И. Картина Миньяра «Семейство Дария», картина Лесюера «Св. Этьен», две картины Ван Лоо. П.Миньяр. «Великодушие Александра Македонского» в помещении № 16 в комнате «Эрмитаж». Поступила в 1792 г. из собрания князя Г.А.Потемкина-Тав- рического. Размер 298x451,5.
17. Кабинет Кваренги. Две картины (La Hire u Madame Le Brun).
18. Восточная галерея около сада. 120 картин. Тут был пандус Екатерины II. Залы украшены скульптурой Альбани, украшены канделябрами и вазами, одна из них малахитовая парижской работы. Картины
1 Сопровождающий лакей обычно воз¬
вращался обратно в фельтеновское здание, исключая галереи около Висячего сада.
II Материалы и документы
190
Клода Лоррена, Миньяра, Пуссена, Бурдона, Верне, Фрагонара и других.
19. Зал русских художников. «Храм из алебастра». Тут был выход пандуса. Картины Лосенко, Иванова, Егорова, Кипренского, Шебуева, Воробьева, Венецианова, Матвеева, Орловского (названо 16 картин).
20. Галерея Снейдерса. 90 картин разных школ, среди них 12 (?) Сней- дерса, Дюрер, Кранах.
21. Коридор [ныне «Петербургские виды»]. Несколько картин, в частности, Карраччи.
22. Переход в Зимний дворец. Картина «Мадонна» Пармиджанино. А. Кауфман.
23. «Желтая галерея» (западная у сада).Картины разных школ (Италия, Бельгия, Менгс). Небольшая модель из белого воска — «ферма».
24. Без картин. 4 античных бюста и две вазы.
25. «Старая галерея». 180 картин (Италия, Франция, Германия). Андреа дель Сарто, Веронезе, Батони, Каналетто, Тициан. Тут же под занавеской Екатерининские правила посещения Эрмитажа.
26. 27. Картины итальянских художников. Манекен «Голландка — хозяйка дома в Саардаме, в котором жил Петр I». У пояса — связка ключей.
28. Небольшая комната, сплошь увешанная картинами «малых голландцев» (Доу, Метсю, Мирис, ван дер Верф, Остаде). Тут же модель домика в Саардаме, где жил Петр I.
29. Большой зал. Фарфоровые вазы, мебель, часы. Портрет Марии Федоровны работы Виже-Лебрен. 50 картин голландской школы, Ван Дейк.
30. 31. Картины фламандской и голландской школ. Большая ваза из яшмы. Бюст Суворова.
32. Ван Дейк, Рубенс. Большая ваза.
33. Продолжение фламандской школы: Рубенс, Ван Дейк, Иордане.
34. Темная комната. Иордане, Рейсдаль.
35. Фойе театра. «Самая большая ваза из колыванской яшмы. Высота 4 1/2 арш., диаметр 2 арш., 4 вершка». Колонна в честь Полтавской битвы.
36. Лоджии Рафаэля. 2 фарфоровые вазы. Около 30 шкафов с коллекциями минералов Палласа, купленные Екатериной II.
37. Испанская галерея. Колыванская ваза работы Лаутина (?). Верхняя часть серебряной античной вазы, найденной в 1812 г. на берегу Прута. Скульптура Кановы. 106 картин (Рибальта, Веласкес).
38. Картины из Мальмезона [Жозефины]. Канова. «Амур и Психея». Картины итальянской школы, фламандской, голландской1.
Нас. 121—151 список художников по школам и названия картин, с указанием их размещения по залам. Надо проверить, не связана ли развеска картин с покупкой коллекций, уж очень большая пестрота в развеске.
Эрмитаж в 30-е годы XIX века
В восточной галерее, примыкающей к нынешнему Павильонному залу, — картины французской школы, в центральной части картины русской школы, а далее картины Снейдерса и фламандских художников. В западной галерее картины разных школ, в части, примыкающей к нынешнему
1 При перечне картин в залах надо учи¬
тывать старую их атрибуцию, ныне измененную.
Франц Иванович Лабенский (1769—1849). Рисунок К.X.Фогеля фон Фогельштейна. 1836
II Материалы и документы
192
VJ-A Hju> Те-Кглжл
•KKm^Ll T-vY-p^-n'c-i >U о.
■"3 » И. ^tivw-If*а.£*л .
fttsJLSvi; \ЪЪ%
6сАума^^1 * I 89*7»
ЛЦ) jV^/v>ysJl>C^jL-U VVO чА^ЫЛХАД-ии*л ил 0^кХ\у^ЛС -л~и. b ХИЛ>>И<
■ft v^uu ****. в
у»-.МП,: ,s »v vv^>~^
ил^мл**а< Л«л*л^ ,*vi^vu>-u> , v^v**|i*W <g) W^ ил -^*/«««* <
иъоо-W, , ...
Л?) HxJWWT л^.^иДлиД ,.
Лс^* ^ ^ \ЛJS>>^ПЛA/VV^uЛU~Л^ • ''VVUM «. tv -ХичуЛл^илд^лллллд^
И «Ty-(/vcW4 в "LccaajJ Ълл-ллли^сси-Л W
w , _ гилл«4^сшЛ W • ^ *:rr ‘ | .
VO^VVVJUOUA JbUu-vcC J-ДОЬ 11 CA-J-s_Lyt C/wJLtf ^ OyU-Jk t <ЛД^лЛАЛла ^ vULUA. j h.V1 ^w\l Cn)w J U^vvUJAJV ft СИЛ * Л*4И> , f ~"
). I Wvy^Wu) сли^уа A<Uuu^ \ tA/Wvu^
t С^У <^k( VVU^ACtUU. i-^ИЛЯЛ^ , U. <yu.jul0 1 CUJs X cui-улд* OV-O-чЛ-г» Сил-иьъни?
> coJU.*]
(г ^ "> (C.ys)\.
Лист рукописи с планом и обозначением расположения коллекций в Малом Эрмитаже, Старом (или Большом) Эрмитаже и корпусе Лоджий Рафаэля (по И.Шницлеру. 1827 г.)
Эрмитаж в царствование Николая I
193
30*? Х\Х?-
(3 г«\АД(а« I u. >mc*uuaucajlwj V\<JLu^/Wu^a^ &алл| - ^«у^ммм»/
tffiXbMMyvctLdX Щ-ШЫ* , & Ч ТОчли-и ищи! UMUKfck ^ Л
^vv^AtUft СуиьСГ9oftm и ^'ДОЛЛАл^-сдЛА»-* >C*^/»maaxaU>-1
ft SfeAe^u-J O^jLyui vcy*wc<cuu*c /ихлим. , 6 ЧоАлЛЛМ v^xacud Дймца! * HK,e'M1w^ j
lr\ aAacJs/ 1ЛШ*ии^ ^ U^MAUU44 M*^ftuJjLAAlMiA-<C. М^У*А*Ш.А<Ц>-1
i»JU U ич5чСилДСуии1А Ua, VSAJ^Ju^MMjyU-UA V\<%flu^<A<JUUA<> Л««Ж-и риЛ«иШДЛ-4< iW^^^tuAV
OOU.a »uu3-UAAU4 U p<vrv^(. VUAUIU • Л
S<ux “♦■V “/f ЛА«^М«МхуЛ Лсл SOJJ^JU» ^WUUCAUCU ^UM-/V^*---
1 !>a^c- « 18 га •»• vu»juao^ УидлАлмдьци А^а-уу^и ууд^мД^
<й t^L4 icu*. K’t^X.UA., V4A*L4LpOl u. (W^l^wUOLMA. , U Cl \UJLJUM ^4* i<U-e *• v^y-w 11"J
ССлУ\Л*л1-Слачсич* Ui-VL*-aA< | А с WouUju8^m*v » vyi.1 .АЛла^Й-усшм. VC WCAAWyLjJ - fttu
pouywcc ЧЛАЛСЙи..
V o>/ум^) vtojjju^v^j. VlU. i<uu Л*лОо <лу4.«3лли> чм^ууслис*ju. t«
4jVO-U<. WVAtVtfUf», - \\Afnf*JUM+*. poOrVsA-C UUMa -
p^ >v^c+. , cacwubtUV- с ?0c^>l>juc^ch-c4xjcoo хо^пмсаиииц - Ja CuU m«^<acouj> ила.идсч-.'и
'fceuc/W VACV\eCUO(JLfJ> ШЛС0ОД U 6 VCOCJU>tf-Ub «CUM. и^лмиссл p<wwc* идлсиа.
S^-cOs рмилА*л*Ли»% Чул/идл* Леи. (сслсо-llI w^oui гил-илсс*. иудллмдлГ *укало. срд*скиА.и»~&лсл>
S$-ftAu*, С кллл*лу*А ^<»vuuu)AtU >OWS*JUL*U4 W. ^ЛС^ЛМЦ . Cnti| .1^0
V |^ ^c.«uc< Jktcu иЬиа4и<4. *kcJwJ , i ■6^-wv U-e
и пл^иулАу-*-и-оч« гр.илсси»Ас*.£. ^чм/^и-Ал , Vu cva3c4<uao \лул-&чмкл»>-1
* ил wJWc^ в vuAWa е^иид^ис Лоа >ичдилллуЛ**л.
VUVV~1 о , .il^JLXU. ».|Щ . Л VVAKJuOVut-U. 4(Ut*
Oi VW»>WAC-H. Ра^Х-Л Ь^уиллии V Aj^vyCVbU*^^ ,
Лл, >у»ли'. С 13 иДлклу**- и ууулл- Йллл^уамс*-^ Л**>-0 ^иси.еч« <■«■*> ^
< >WW41 '**«- »«-** «о^иЛхс-А-иЛ ТалЛи. it WaJvCu^*'
И. а. С-су-*'* о-аЛмла Vlju ( ujwc G><. Лд^умлсадУ'*) “Т^ "'x,t/*0sA- 0*'с4 >длл** U^-u-j /
-j>cu^ ^ ■ *»№•*»**
Лист рукописи.
Вверху план верхнего этажа Старого (или Большого) Эрмитажа
II Материалы и документы
194
Флориан Антонович Жиль (1801-1864).
Литографированная фотография
2 Эрмитаж в царствование Николая I
195
Павильонному залу, картины итальянских художников. В зале и комнатах на территории Павильонного зала были развешаны картины голландской и разных школ. Зал нынешний около Советской лестницы был занят картинами Рембрандта (в зале рядом в 1932 г. помещены керченские золотые предметы). Далее залы Берхема, Тенирса и Воувермана, за ними два зала с картинами итальянской школы, а в двух последних, примыкающих к театру, — пейзажи разных школ. В надворных комнатах два зала было отведено картинам Рубенса и Ван Дейка, фойе театра — картинам разных школ. В трех залах, смежных с Рафаэлевскими Лоджиями, — мальмезонская коллекция, дальше — испанская школа и в последнем зале — картины разных школ. Для размещения картин был использован также третий этаж фельтеновского здания, в котором хранились эстампы и рисунки. В залах были расставлены мебель, скульптура, каменные вазы колыванского завода, петергофской гранильной фабрики, все это создавало парадность. В одном из надворных кабинетов в подвесных витринах была экспонирована резная кость.
В Лоджиях Рафаэля — витрины с резными камнями. В последнем зале вдоль Лоджий в 13 шкафах и трех витринах было размещено собрание драгоценностей. На хорах Овального зала предметы восточного искусства, стекло, итальянская майолика, преимущественно из собрания художника Орловского, приобретенного в 1832 году.
В 1828 году помещения фельтеновского здания были переданы правительственным учреждениям: западная половина (с залом заседаний) — Государственному Совету, восточная половина — Комитету министров (зал заседаний был там, где ныне кабинет директора). Архитектор Л.Шарлемань переделал все помещения. В комнатах антресолей и первого этажа стены обклеили бумажными обоями пунцового цвета с золочеными орлами или окрасили в желтый, серый и голубой тона. Своды расписывались орнаментом «под лепной вид». Роспись выполнял КП.Бег- гров. Лепщик А.Балин исполнил в комнатах карнизы с прорезами. Мебельщики А.И.Тур, Г.Гамбс и П.Гамбс изготовили специальную мебель. Наиболее торжественными среди административных помещений были залы заседаний: стены зала Государственного Совета обтянули малиновым бархатом, а зала Комитета министров — зеленым. Драпировки украсили золочеными орлами. В комнатах присутствий стены облицовали дубовыми панелями с резными филенками, лепными фризами и карнизами.
Новый Эрмитаж. Образование музея 1
Министерство Императорского Двора по Придворной конторе в С.-Петербурге. 18 марта 1848 г., № 1684
Начальнику 1ого Отделения Императорского Эрмитажа, г. Действительному статскому советнику Жилю.
Г. Министр Императорского Двора предложением от 11 сего марта за № 893, известил меня, что по всеподданнейшему докладу Его Светлостью предположений, относящихся к омеблированию Императорского
1 См.: Дело о новом образовании Им¬
ператорского Музеума. Начато 2 апр. 1847 г.
II Материалы и документы
196
Музеума, Государь Император высочайше утвердил: а) показанное на составленных Вами двух планах нижнего и первого этажей Императорского Музеума, назначение зал и мест, где должна быть поставлена мебель для хранения предметов заведываемого Вашим Превосходительством отделения, и Ь) двадцать шесть рисунков мебели, с некоторыми изменениями, повелеть соизволил:
1). Быть мне членом комиссии о возведении Музеума по части внутреннего украшения, с тем чтобы в случае надобности и Ваше Превосходительство были приглашаемы для совещания в сию комиссию.
2). Вместо предположенных у каждого окна в кабинетах висячих рам, для выставки на смотр каких-либо достопримечательных произведений, ограничиться устройством всего только двух или трех подсобных рам.
3). Новых шкафов для библиотеки не делать, а оставить ныне имеющиеся с нужным в чем окажется исправлением, и
4). На изготовление всей вообще мебели составить предварительно в упомянутой комиссии смету и произвести торги.
О таковой Высочайшей воле имею честь уведомить Ваше Превосходительство, для надлежащего сведения.
Гофмаршал граф АШувалов
Архив ГЭ, ф. 1, on. 1, ед.хр. 14, ч. 1, л. 19.
Министерство Императорского Двора по Придворной конторе в Царском Селе. 14 сентября 1850 г., № 6066
Начальнику 1ого Отделения Императорского Эрмитажа Господину Действительному статскому советнику Жилю.
Вследствие Высочайшего повеления, объявленного в предложении г. Министра Императорского Двора от 8го сего сентября за № 3687м имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что здание Музеума должно впредь называться: «Новый Эрмитаж».
Обер-гофмейстер Олсуфьев
Архив ГЭ, ф. 1, on. 1, ед.хр. 14, л. 94.
Начальнику 1ого Отделения Императорского Эрмитажа г. Действительному статскому советнику Жилю. 20 февраля 1849 г., № 1078
Комиссии Высочайше утвержденной для возведения здания Императорского Музеума нужно иметь сведения о числе чиновников канцелярии I Отделения Эрмитажа, долженствующих заниматься в Музеуме постоянйо, по предметам до оного относящимся.
Вследствие сего я покорнейше прошу Ваше Превосходительство доставить мне упомянутые сведения, для сообщения их по принадлежности. Гофмаршал граф АШувалов Архив ГЭ, ф. 1, on. 1, ед.хр. 14, л. 23.
Список чиновников 1го отделения Эрмитажа, кои постоянно обязаны заниматься в канцелярии сего отделения. 23 февраля 1849 г. Действительный статский советник Грефе
2 Эрмитаж в царствование Николая I
197
Статский советник Фрейтаг Коллежский советник Нумере Надворный советник Кёлер Коллежский асессор Шардиус Коллежский асессор Кёне Доктор философии Муральт А. Вольф
Коллежский регистратор Брант Подписал помощник начальника отделения В.Кёлер См. Архив ГЭ, ф. 1, on. 1, ед.хр. 14, л. 25.
Господину Гофмаршалу Двора Его Императорского Величества.
17 февраля 1848 г. Рапорт.
Имею честь представить Вашему Сиятельству портфель с рисунками г.Кленце о мебели для нового Музеума и составленную мною по сему предмету записку.
ФЖиль
См. Архив ГЭ, ф. 1, on. 1, ед.хр. 14, л. 18.
Подробная записка ФЖиля от 16 февраля 1848 г., о «домеблировании» зал, назначенных для 1го отделения Эрмитажа, адресованная гофмаршалу Двора графу А.Шувалову для доклада министру Императорского Двора1.
Эти материалы в прошедшем году [1847] были отправлены в Мюнхен к Кленце, который их одобрил и возвратил их в Эрмитаж, но «по возвращении его портфеля он без сомнения забыл вложить в него большую часть оригинальных рисунков. Я счел нужным велеть восстановить один из главнейших рисунков, то есть рисунок шкафов-витрин для медалей».
Жиль дает описание мебели по разделам:
1. КАБИНЕТ МЕДАЛЕЙ И МОНЕТ (L, М, N, О).
Витрины для медалей и монет новейшего времени имели бы украшением женские кариатиды в костюме, облегающем обыкновенно фигуры, которыми олицетворяются города, с коронами на голове наподобие башни.
Для восточных монет кариатиды могли бы быть заменены львиными головами, фигурой многозначительной в восточной нумизматике; что касается греческих и римских медалей, то вместо львиных голов можно было бы избрать головы грифонов, многозначительной эмблемы в древней нумизматике [часто Жиль указывает, что Кленце пользовался его рисунками витрин, несколько их изменяя].
«Все сии витрины должны были бы, по моему мнению, быть красного дерева (г.Кленце говорит, из дерева ящиков, в которых привозится сахар, без сомнения бразильского, что было бы то же самое, ибо ящики сии из красного дерева), кариатиды были бы из позолоченной бронзы или бронзированной гальванопластики, которая получила свое начало в С.-Петербурге». «При устройстве сей мебели должно иметь в виду существование ее не на несколько годов, а целых столетий»2.
1 Записка содержит 13 страниц (рус¬
ский и французский текст). В ней говорится об изготовлении рисунков шкафов, столов, витрин и обелисков вместе с мебелью чдля резных камней и антиков».
2 Столярное мастерство было еще в
прошлом столетии настоящим искусством, чему доказательством служат оставшиеся в Эрмитаже образчики, как, например, прекрасные шкафы Нейвида в итальянском зале.
II Материалы и документы
198
«Долгом считаю объявить, что для простой части мебели столярный мастер Кленер в С.-Петербурге, работавший неоднократно для Эрмитажа, придворный мастер Якобс в Царском Селе, работавший для Арсенала Его Величества, люди совестливые, которых талант и умеренность цен имел случай испытать».
2. КАБИНЕТ КЕРЧЕНСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ.
Для ожерелий, браслетов, цепочек и небольших золотых предметов «я предложил большую восьмиугольную витрину, обращающуюся на стержне. Кленце одобрил мой рисунок. Обелиск с зеркальными стеклами» («Кленце воспроизвел мой рисунок»).
3. КАБИНЕТ РЕЗНЫХ КАМНЕЙ.
Большой стол, поддерживающий шесть восьмиугольных пирамидальных подставок... обращающихся на стержнях («г. Кленце воспроизвел мой рисунок»), поддерживаемый шестью фигурами грифонов с распущенными крыльями (из позолоченной гальванопластики).
4. КАБИНЕТ ЭСТАМПОВ (ЗАЛ 7).
5. БИБЛИОТЕКА (М, N, О, Р).
Жиль не поддерживает мнение Кленце и советует оставить прежние шкафы («они еще продержатся 20 или 25 лет»).
См. Архив ГЭ, ф. 1, on. 1, ед.хр. 14, л. 11-17.
I отделение Императорского Эрмитажа. 1851 г.
ПРЕЖНИЙ ШТАТ
Помощник Начальника отделения и почетный Директор кабинета антиков
Действительный статский советник Грефе1 — 1143 сер. р. Хранители и Библиотекари
Коллежский советник Нумере — 857 р.
Надворный советник Кёлер2 — 857 р.
Коллежский асессор Шардиус — 857 р.
Доктор богословия Муральт3 — 857 р.
Кабинет эстампов
Надворный советник Уткин — 857 р.
Русская библиотека
Коллежский регистратор Вольф — fcOO р.
Письмоводитель
Губернский секретарь Брант — 429 р.
Вакансии
г. Фрейтаг — 857 р. г. Кёне — 857 р.
Итого: 8171 р.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ НОВЫЙ ШТАТ
Хранитель древних греческих и римских медалей г. Грефе — 1285 р. Хранитель медалей новых времен г. Шардиус — 1285 р.
Два библиотекаря, по 1285 р. каждому, г. Нумере и г. Кёлер — 2570 р.
1 Грефе Федор Богданович (1780— 1851). Член Петербургской Академии Наук с 1820 г. по кафедре греческой словесности. Почетный директор эрмитажного кабинета медалей и антиков.
2 Сын академика Кёлера.
3 Эдуард Муральт (1808—1895). Исто рик, с 1837 г. хранитель богословских рукописей и книг Императорской Публичной библиотеки.
2 Эрмитаж в царствование Николая I
199
Помощник библиотекаря (г.Вольф, должность помощника) — 728 р. Хранитель эстампов г.Уткин — 1285 р.
Письмоводитель г. Брант — 500 р.
Писец — 215 р.
Новая должность ориенталиста по Высочайшему повелению — 1285 р.
Итого: 10 296 р.
Сверх штата Муральт — 857 р.
Итого: 11 153 р.
Архив ГЭ, ф. 1, on. 1, ед.хр. 14, ч. II, л. 30.
В архиве имеются также следующие документы, относящиеся к вышеприведенному:
31 июля 1851 г.
Помощника начальника 1го Отделения почетного Директора кабинета антиков, действительного статского советника Грефе и доктора философии (богословия) Муральта оставить в Эрмитаже сверх штата, с оставлением в звании и содержания. При их выбытии должности упраздняются (л. 124).
5 мая 1851 г.
На освободившиеся вакансии после перехода во 2“ отделение Кёне и увольнения Фрейтагса зачислить г.Стефани и г.Броссета [оба академики] (л. 82)1.
15 мая 1851 г.
Секретарь Имп. Академии Наук Фукс сообщал, что Академия не имеет препятствий против зачисления в Эрмитаж М.Броссе (л. 85).
30 мая 1851 г.
Дано согласие Академии Наук на работу в Эрмитаже академиков 6 класса Стефани и статского советника Броссе (л. 92).
Новое штатное расписание Императорского Эрмитажа. 16 июня 1851 г.
I ОТДЕЛЕНИЕ
Начальник отделения — 1; Хранитель древностей и греческих и римских медалей — 1; Библиотекарей — 2, помощник Библиотекаря — 1; Хранитель эстампов — 1; Хранитель восточных медалей и монет — 1; Хранитель медалей нового времени — 1; письмоводитель — 1; канцелярский служащий — 1; унтер-офицеров — 6.
II ОТДЕЛЕНИЕ
Начальник отделения — 1; по живописным картинам — 1; помощник по живописным картинам загородных дворцов — 1; по фигурным рисункам — 1; помощник по скульптуре — 1; реставратор по части механической — 1, помощник реставратора — 1; реставраторы по живописи — 3, их помощник — 1; письмоводитель — 1; канцелярский служащий — 1; унтер- офицеров — 2.
1 См.: Дело о новом образовании Им¬
ператорского Музеума. Начато 2 апр. 1847 г.
II Материалы и документы
200
ПРИ КОМНАТАХ ЭРМИТАЖА
Камер-курьер — 1; камердинеров — 2; гоф-курьеров — 2; камер-лакеев — 36; истопников — 44; швейцар — 1; фельдшеров — 2.
См. Архив ГЭ, ф. 1, on. 1, ед.хр.14, ч. II, л. 105—106.
Штат должностных чиновных лиц Императорского Эрмитажа Содержание в год (жалованье + столовые).
Сентябрь 1851 г.
I ОТДЕЛЕНИЕ
Начальник отделения (1) — 715 + 429 = 1144 р.
Хранитель древностей и греческих и римских медалей (1) - 572 + 286 = 858 р.
Библиотекарей (2) — 572 + 286 = 858 р.
Помощники библиотекаря (1) — 350 + 250 = 600 р.
Хранитель эстампов (1) — 572 + 286 = 858 р.
Хранитель восточных медалей и монет (1) — 572 + 286 = 858 р. Хранитель медалей новых времен (1) — 572 + 286 = 858 р. Письмоводитель (1) — 286 + 143 = 429 р.
Канцелярский служитель (1) — 215 р.
Унтер-офицеров (6) — 86 + 141 = 227 р.
Всего: 16 человек
На канцелярские материалы — 228 р.
На приобретение антиков — 857 р. 14 коп.
На покупку и переплет книг — 2000 р.
II ОТДЕЛЕНИЕ
Начальник отделения (1) — 715 + 429 = 1144 р.
Помощник по живописным картинам (1) — 572 + 286 = 858 р. Помощник по рисункам (1) — 572 + 286 = 858 р.
Помощник по скульптуре (1) — 572 + 286 = 858 р.
Реставратор механический (1) — 600 + 400 = 1000 р.
Реставратор живописи (3) — 572 + 286 = 858 р.
Помощник их (1) — 250 + 180 = 430 р.
Письмоводитель (1) — 286 + 143 = 429 р.
Канцелярский служащий I разряда (1) — 215 р.
Унтер-офицеры (2) — 86 + 141 = 227 р.
Всего: 13 человек
На канцелярские материалы — 228 р.
На мелочные работы, исправление рам и др. — 857 р. 14 коп. На реставрацию картин — 2000 р.
Всего по двум отделениям: 29 человек — 25 176 р. 28 коп. Подписал
Обер-Гофмаршал граф АШувалов
2 Эрмитаж в царствование Николая I
201
Лео фон Кленце (1784—1864). Гравюра
II Материалы и документы
202
Л. Премацци. Вид здания Нового Эрмитажа. Акварель. 1861
гйЭТГ \\\\ ^ ^
2 Эрмитаж в царствование Николая I
203
*+*> 4» у4м^»у Л At Jndt А/ Ъ-«ч^ «*
/i/Sl
Л. фон Кленце.
Проект росписи II Библиотеки Нового Эрмитажа Л. фон Кленце.
Проект отделки зала копиистов Нового Эрмитажа
II Материалы и документы
204
J5 ь ’.а >• *■*>* г. г, *1ъ глкж.ъъъ* / л. л, а * А л * а а л л ала ' ала « ла л «я а кллаллааалл аалая лл л а а лл л /
* • * # ^ . * # * • • * * • • **
Л. фон Кленце.
Проект росписи зала монет и медалей Нового Эрмитажа
Эрмитаж в царствование Николая I
205
Высочайше утвержденный 28 ноября 1850 г. штат придворнослужите- лей и прочих чинов Императорского Эрмитажа.
Содержание в год (жалованье + столовые)
Камер-фурьер (1) — 572 + 858 = 1430 р.
Камердинер (2) — 429 + 715 = 1144 р.
Гоф-курьер (2) — 286 + 286 = 572 р.
Камер-лакеи (2) — 143 + 115 = 258 р.
Лакеи (36) — 115 + 86 = 201 р.
Истопники (44) — 86 + 58 = 144 р.
Швейцар (1) — 143 + 115 = 258 р.
Фельдшеры (2) — 58 + 58 = 116 р.
Правила для Управления Императорским Эрмитажем1 СПб. В типографии Эксбертса. 1853 г.
Высочайше утверждено 27 августа 1853 г.
Граф Адлерберг
РАЗДЕЛ I
§ 1 Императорский Эрмитаж подчиняется главному ведомству Министра Императорского Двора, находится в ведении Придворной Его Величества конторы, под ближайшим наблюдением Обер-Гофмаршала Высочайшего Двора.
§ 2 Эрмитаж состоит из двух отделений: первого и второго, из которых каждое имеет свои подразделения по разным частям, ниже сего означенным.
§ 3 Первое отделение заведывает: медалями, монетами, резными камнями, библиотеками, гравюрами и разными предметами древностей.
§ 4 Ведению второго отделения принадлежат картины, портреты, оригинальные рисунки, скульптурные и мозаичные произведения и вообще все редкие и драгоценные как в изящно-художественном, так и искусственном отношениях вещи: металлические, фарфоровые, каменные, хрустальные, стеклянные, деревянные, костяные и прочие.
§ 5 В заведывании сего же отделения состоят учрежденные в Зимнем Дворце галереи: 1) драгоценных вещей; 2) портретов Высочайших особ дома Романовых; 3) Петра Великого; 4) Петербургских видов: кроме того, все картины, помещаемые как в Зимнем Дворце и здании прежнего Эрмитажа, так и находящиеся в других Императорских Дворцах в С. Петербурге и загородных местах, а именно: Таврическом, Елагиноостровском, Петергофских, Царскосельских и Гатчинском.
РАЗДЕЛ II
§ 6 Каждым Отделением Эрмитажа управляет начальник Отделения.
§ 7 При Отделениях и начальниках оных состоят помощники, хра¬
нители, библиотекари и другие должностные лица, поименованные в прилагаемом при сей инструкции особом штате, под литерой А.
§ 8 Определение всех находящихся при Отделениях Эрмитажа должностных лиц, увольнение их, представление кого следует к производству в чины, к знакам отличия беспорочной службы, к пенсионам, наградам и проч., остаются в ведении Придворной конторы <...>
1 Дается в сокращении. В 1851 г. была
опубликована аналогичная «Инструкция Управлению Императорским Эрмитажем». — Примеч. ред.
II Материалы и документы
206
§ 10 Все служители разделяются по дежурству на две смены, кроме швейцара, который обязан находиться на бессменном дежурстве. Распределение их по залам, галереям и кабинетам Эрмитажа, согласное с воспоследовавшими Высочайшими указаниями, подробно излагается в особой при сей инструкции табели, под литерой В.
§ 12 Все, что касается до управления придворнослужителями Императорского Эрмитажа, как-то: определения их, увольнения, перемещения, повышения, назначения им содержания, наград и пособий, в дозволенных законах случаях, а также наблюдения за их нравственностью, вежливостью, исполнением служебных обязанностей, опрятностью и чистотою в одежде, состоит в ведении Придворной конторы, на тех самых правилах и постановлениях, какие учреждены вообще для служителей Императорского Двора <...>
§ 13 Суммы, потребные на жалованье и прочее содержание чиновных должностных лиц и служителей Эрмитажа, а также на все штатные по оному расходы, состоящие в ведении Придворной Его Императорского Величества конторы, вносятся ею в представляемые ежегодно Министру Императорского Двора сметы о предстоящих расходах.
§ 14 В те залы Императорского Эрмитажа, которые определены для хранения под печатями многочисленных и по своему объему мелких вещей, или вообще таких предметов, которые по свойству и местному их положению требуют особенно тщательного надзора, для сохранения их в целости от повреждений, назначаются на дежурство гренадеры из Дворцовой роты, которые в отношении прямой их подчиненности, содержания и сметы, состоят на тех же правилах, как и прочие гренадеры, находящиеся на главной половине Зимнего Дворца.
§ 15 У подъездов здания Эрмитажа и у всех выходов из оного находятся нижние чины от Дворцовой Инвалидной команды <...>
§ 16 Наблюдение за исправностью здания Эрмитажа и принадлежностями, которые относятся ко внутреннему убранству оного, не состоят в заведывании начальников отделений, а также распоряжения, в случае необходимости произвести какие либо исправления и починки, составляют предмет ведения Майора-от-Ворот Зимнего Дворца; частию же собственно строительную заведывать, по его начальству положенному по оной Бау-адъютанту, на основании Высочайше утвержденному 25 апреля 1840 г. положения.
РАЗДЕЛ III
§ 17 Заготовление для Эрмитажа дров и освещения оного состоят в распоряжении Придворной конторы <...>
РАЗДЕЛ IV
§ 18 Для размещения предметов в Эрмитаже определяются: залы, галереи и кабинеты, по особым повелениям Государя императора, для удобнейшего хранения вещей многочисленных и небольших по их объему назначаются шкафы, витрины и другого рода мебель, устраиваемая по Высочайше утвержденным рисункам.
§ 19 Медали и монеты располагаются в предназначенных для них витринах в систематическом порядке. При распределении этих предметов
2 Эрмитаж в царствование Николая I
207
принимаются во внимание: 1) время, к которому они относятся, так, например: древние, средних веков и новейших времен, 2) народы и государства, которым они принадлежали или принадлежат, по их учреждению, как то: греческие, римские, восточные, русские, польские и разных других земель.
§ 20 Все монеты и медали, подлинность которых не подвержена сомнению, должны быть на виду; но двойные, или так называемые дублеты и сомнительные, как не составляющие в ученом отношении особого интереса, сохраняются в закрытых ящиках витрин.
§ 21 Резные камни размещаются в систематическом порядке, с разделением их по государствам, на древние и новых времен, с распределением каждой из сих двух категорий по предметам; так, например, предметы мифологические, героические, исторические, занятия житейские, знаменитые люди по алфавитному порядку и т.д.
§ 22 Предметы древностей преимущественно располагаются в географическом порядке, то есть по государствам и различным их частям <...> § 25 Книги в библиотеках размещаются в шкафах по разным отраслям наук, словесности, художеств и искусств, а самые драгоценные и редкие рукописи из коллекций выставляются поочередно, в особо устроенных для них витринах.
§ 26 Живописные картины и портреты распределяются в Эрмитажных галереях, кабинетах и залах, по ближайшем соображении с самою местностью, по школам, художникам и эпохи их произведения.
§ 29 При размещении этих вещей [скульптуры] также обращать особое внимание на выгоднейшее освещение оных.
§ 34 Предметы, которые остаются не помещенными в Императорском Эрмитаже и не получили еще назначения, хранятся впредь до особого о них распоряжения высшего начальства, в Эрмитажных кладовых, где и должны быть распределены в удобных местах, по роду их и качеству, с соблюдением всех мер предосторожности для лучшего их хранения.
§ 35 Вообще на предметах, состоящих в заведывании Императорского Эрмитажа и хранимых в учрежденных в Зимнем Дворце галереях и Эрмитажных кладовых, непременно выставляются в удобных местах нумера <...> под которыми они будут подробно описаны в каталогах<...> § 36 Все шкафы, витрины и прочая мебель, назначенная для внутреннего хранения вещей, а также Эрмитажные кладовые должны быть хорошо заперты и запечатаны.
§ 37 Заведывание ключами, приложение и вскрытие печатей принадлежит тем именно чиновникам Эрмитажа, которым вверяется непосредственное, под их печатями хранение коллекций оного.
§ 40 На основании Высочайшей воли, изъявленной блаженной памяти Императором Александром Павловичем 15 апреля 1805 года, ни одна вещь из Эрмитажа не должна быть выпускаема без письменного сообщенного об этом кому следует Высочайшего повеления.
РАЗДЕЛУ
§ 41 Вещи для хранения в Эрмитаже, галереях и кладовых, по поручению от Министра Императорского Двора, препровождаются к началь¬
II Материалы и документы
208
никам Отделений по принадлежности, всякий раз, при особых от имени Обер-Гофмаршала предписаниях.
§ 43 Вещи вносятся в каталоги немедленно по получении о том предписаний, с подробным пояснением именования и качества предметов, изображений, ими представляемых, эпохи, к которой они относятся, а также с показанием каких художников те произведения и откуда и когда они приобретены <...>
§ 44 Вообще находящимся в Императорском Эрмитаже и входящих в состав оного галереях предметам должны быть содержимы самые верные и полные каталоги, отдельно по каждой части <...>
§ 46 Кроме того, в каталоге против каждой вещи порознь отмечается:
1) кем она прислана в Эрмитаж, 2) число, месяц, год и нумер той бумаги, при которой она препровождена, а если вещь передана в Эрмитаж не через посредство Обер-Гофмаршала, то против оной отмечается кем именно передана, потом число, месяц, год и нумер того предписания, которым предложено будет внести переданный предмет в каталог, и 3) против каждого предмета, с достоверностью, обозначать в какой зале, галерее, кабинете или кладовой оный хранится и если вещи расположены в шкафах или витринах, то в каких именно, дабы во всякое время легко и скоро можно было оную отыскать.
§ 50 Верные копии с каталогов, засвидетельствованные подписью хранителей Эрмитажных коллекций и библиотекарей, представляются начальниками Отделений в Придворную контору <...>
§ 53 Независимо от сего, в Придворной Его Величества конторе ведутся два, особые на каждый год дела: одно о предметах, поступающих в Императорский Эрмитаж по 1ому отделению оного, а другую о таковых же предметах по 2ому отделению. Дела эти будут основными документами для проверки, все ли предметы, поступившие в Эрмитаж, внесены согласно с предписаниями начальства в каталоги и все ли они состоят налицо.
§ 54 Всем предметам, поступающим в заведывание Императорского Эрмитажа, производится ежегодно ревизия.
РАЗДЕЛ VI
§ 59 По окончании годичной ревизии, назначенной по распоряжению начальства, лица, которым оная будет поручена, представляют по порядку подробный рапорт о всем, что ими будет найдено по таковой ревизии.
§ 60 Независимо от сего, по истечении каждых пяти лет со времени открытия Нового Эрмитажа, будет назначаема общая или генеральная ревизия всем без исключения коллекциям и предметам, состоящим в за- ведывании Императорского Эрмитажа.
РАЗДЕЛ VII
§ 65 Обязанности лиц, служащих в Императорском Эрмитаже, определяются самим назначением их должностей.
§68 В назначенные для впуска посетителей дни помощники начальников Отделений обязаны по очереди дежурить при Эрмитаже для наблюдения за порядком, а также для руководства посетителей при
2 Эрмитаж в царствование Николая I
209
Петровская галерея в Малом Эрмитаже. Акварель Э.П.Гау. 1861
II Материалы и документы
210
Галерея драгоценных вещей в Малом Эрмитаже.
Акварель К.А.Ухтомского. 1861
2 Эрмитаж в царствование Николая I
211
обозрении Эрмитажа и для удовлетворения, по мере возможности, их любознательности.
§ 77 Помощники, хранители, реставраторы и все чиновники, состоящие исключительно на службе Императорского Эрмитажа, обязаны находиться при вверенных им частях ежедневно, кроме воскресных и табельных дней, от 10 часов утра до 3 часов пополудни, а дежурные по общим для них правилам.
§ 83 Реставрация [музейных предметов] производится в назначенных для оной мастерских <...>
РАЗДЕЛ VIII
§ 86 Назначенные в Эрмитаж служители находятся на дежурстве в тех лишь залах, галереях и кабинетах, куда будут наряжены, согласно с приложенной в конце этой инструкции табелью под литерой В.
§ 87 Они обязаны: 1) быть постоянно в трезвом виде и соблюдать в отношении к ним самим чистоту и опрятность, на точном основании правил, учрежденных вообще для служителей Высочайшего Двора; 2) деятельно смотреть, чтобы температура в залах и прочих помещениях не превышала установленного числа градусов; 3) иметь крайнюю предосторожность от огня и строгий присмотр за целостью печатей на шкафах и витринах, и вообще за сохранностью вещей, наблюдая, чтобы посетители до оных не дотрагивались; 4) в залах, галереях и во всех прочих помещениях соблюдать совершенную чистоту, а при обращении с вещами иметь сколь возможно более осторожности, чтобы не причинить им какого-либо повреждения; 5) при впуске посетителей в Эрмитаж каждый из служителей сопровождает их в той только зале, галерее или кабинете, в которых он назначен для дежурства; при переходе посетителя в другие залы или кабинеты обязанность сопровождения его относится уже к находящейся в оных прислуге и так далее; 6) служители должны в отношении к посетителям соблюдать вежливость и благопристойность; 7) прием от них денег за сопровождение строжайше воспрещается, под опасением наказания.
§88 [Те же правила для «состоящего у главного подъезда» швейцара и «командируемого ему в помощь истопника»].
§ 89 Независимо от сего швейцар и состоящий при нем истопник имеют непрерывное наблюдение: 1) чтобы впуск посетителей в Эрмитаж производился в положенные дни и не прежде установленного времени,
2) чтобы они были одеты благопристойно и опрятно, 3) чтобы верхняя одежда мужская и женская, как то: шубы, шинели, пальто, салопы и тому подобное, а также галоши, трости и зонтики оставляемы и хранимы были в целости, в сенях, с выдачей на таковые вещи нумерованных ярлыков, по которым посетители получают свои принадлежности обратно, 4) чтобы каждый из посетителей вносил свое имя в заведенную и хранящуюся у швейцара книгу. При посещении же Эрмитажа особами знатными, имена их вписываются в книгу самим швейцаром и 5) чтобы по истечении определенных часов для впуска публики в Эрмитаж дальнейший вход посетителей был прекращен, исключая особых приказаний Высшего начальства.
II Материалы и документы
212
§ 90 Выписка сих правил, а также о днях и часах для впуска посетителей, об одежде их, о времени, в которое закрывается вход в Эрмитаж, о билетах и проч. должны быть напечатаны и выставлены в удобном месте, у входа на парадную лестницу, с приложением и образцовых билетов.
§ 91 Строгий присмотр за точным исполнением всеми служителями Эрмитажа и швейцаров учреждаемых постановлений составляет прямую и непосредственную обязанность состоящих при Эрмитаже камер- фурьера, камердинеров и гоф-фурьеров, которые, кроме того, имеют ближайшее на месте наблюдение: а) за поведением служителей и всегдашней их трезвостью, б) за порядком при впуске посетителей и соблюдением с их стороны установленных сею инструкцией правил и в) внутри Эрмитажа — за исправною чисткою полов, мебели, окон и прочих принадлежностей, за своевременной топкой печей, за свежестью и чистотою воздуха и за освещением в определенное для того время.
§ 92 [Обязанности унтер-офицеров при Эрмитаже. Рассылки с казенными бумагами и вещами, дежурство при письмоводительских частях и другие возлагаемые на них служебные обязанности].
РАЗДЕЛ IX
§ 95 По всем делам Эрмитажа, требующим какого-либо со стороны Высшего начальства разрешения, начальники Отделений входят всякий раз с надлежащими представлениями на имя Обер-Гофмаршала для дальнейшего с его стороны распоряжения и испрошения, в чем будет следовать, по установленным правилам предписания Министерства Императорского Двора.
§ 96 По делам, не требующим новых разрешений, начальники Отделений делают представления свои на имя Придворной Его Величества конторы.
РАЗДЕЛ'Х
§ 97 По 1ому отделению Императорского Эрмитажа назначается ежегодно на приобретение антиков по 857 руб. 14 к. и на покупку и переплет книг по 2 ООО руб. серебром <...>
§ 98 По 2ому отделению ассигнуется ежегодно на исправление рам и прочие по этой части мелочные расходы также по 857 руб. 14 к. и особо на реставрацию картин по 2 ООО руб. серебром <...>
§ 99 [Сумма на канцелярские материалы ежегодно 228 руб. серебром].
РАЗДЕЛ XI
§ 103 Императорский Эрмитаж, как хранилище редких и драгоценных коллекций по разным отраслям наук, художеств и искусств, может быть посещаем учеными, художниками и вообще любителями изящного как из русских подданных, так и иностранных и путешественников, временно пребывающих в России.
§ 104 Впуск в Эрмитаж производится на следующих основаниях: 1) Для посещения Эрмитажа назначаются все дни недели, кроме следующих табельных дней: первого дня Рождества Христова, первого дня нового года и первого дня праздника Св. Пасхи. 2) В случае особенных, непредвиденных обстоятельств <...> могущих воспрепятствовать впуску
2 Эрмитаж в царствование Николая I
213
в установленное время публики в Эрмитаж, выставляется о сем у парадного подъезда оного на русском, французском и английском языках краткое объявление. 3) Посетители имеют вход в Эрмитаж зимою с 10 часов утра до 1 часа по полудни, а летом с 8-ми часов утра до 4-х по полудни; оставаться же могут в Эрмитаже зимою до 3-х, а летом до 6- ти часов по полудни. 4) Из них военные должны быть одеты в мундирах, а статские во фраках, или другом платье, смотря по их званию или сословию. 5) Вообще впуск публики не иначе производится как по установленным нумерным билетам, заготовляемым Придворною конторой и под ее печатью; каковые билеты, для выдачи желающим осмотреть Эрмитаж, отсылаются к начальнику 2ого отделения, потому что предметы ведению его подлежащие, находятся почти во всех залах, галереях и кабинетах Эрмитажа. 6) Билет служит для одного раза и с ним не могут войти более пяти лиц. 7) Билеты отбирает от посетителей при входе на парадную лестницу дежурный шф-фурьер, который на другой день представляет их в Придворную контору, при краткой, за подписью, записке, с обозначением сколько было впущено посетителей и по скольким билетам. 8) Прежде установленного § 89 этой инструкции записания имен посетителей в учрежденную на этот предмет книгу, они ко входу в Эрмитаж не допускаются. 9) [О запрещении трогать выставленные предметы].
§ 105 Желающие заниматься копированием картин в Эрмитаже, для получения на это дозволения, обязаны представить начальнику 2ого отделения оного художники от Академии Художеств, а любители от кого- либо из известных лиц удостоверение в том, что они действительно занимаются живописью и будут строго подчиняться предписанным на этот предмет правилам.
§ 106 [По этим удостоверениям начальник 2ого отделения выдает за своей подписью дозволение, которое должно каждый год возобновляться].
§ 107 Время для занятия таковых лиц определяется каждодневно, с утра в зимнее время до 4-х, а в летнее до 7-ми часов по полудни, в особо устроенном для сего в Эрмитаже помещении.
§ 108 [Предписывается осторожность при копировании и «строгий надзор за сим» имеют начальник Отделения и его помощники].
§ 109 При списывании копий не снимать картин с мест без особого на то разрешения; но копировать на местах, где висят, употребляя в случае значительной высоты устроенные для сего подвижные подмостки.
§ 110 Копирующим картины дозволяется быть вместо фраков в сюртуках.
§111 [Разрешение на копирование рисунков и эстампов выдается начальником 1ого отделения].
§ 112 [Для копировщиков заводится особая книга, в которую записываются звания и фамилия тех лиц, с показанием, что они именно копировали и когда взяты их копии из Эрмитажа].
§113 Известные лица, желающие заняться какими-либо учеными исследованиями и разысканиями, допускаются для этого в Эрмитажную библиотеку по особым запискам от начальника 1ого отделения.
II Материалы и документы
214
§ 114 [Это разрешение не распространяется на книги и сочинения, запрещенные цензурой].
§ 116 [Строгий надзор за читателями лежит на обязанности библиотекаря и дежурного чиновника от 1ого отделения Эрмитажа].
РАЗДЕЛ XII
§ 117 [Книги и рукопси из Библиотеки, без «особых высочайших по сему письменных повелений, никому на дом не отпускаются»].
§ 119 Для чтения придворнослужителей находится особая Библиотека <...>
§ 120 В случае утери или порчи, или невозвращения в срок служителями выдаваемых им книг [на месяц, § 121], они подвергаются вычету из их жалования той суммы, чего стоили те книги.
§ 123 За несоблюдение вообще правил, учреждаемых этой инструкцией, виновные подвергаются ответственности на основании существующих постановлений.
Подписал Обер-Гофмаршал граф А.Шувалов
См.: Архив ГЭ, ф. 1, on. 1, ед.хр. 14, ч. 1, л. 134—169.
О входных в Эрмитаж билетах 1
9 СЕНТЯБРЯ 1851 г.
Г. генерал-фельдмаршал Министр Императорского Двора 2 числа сего сентября за № 3522 объявил, что Государь Император изволил утвердить, чтобы билеты для входа публики в Эрмитаж отпускаемы были по прилагаемой при сем-форме из Придворной конторы начальником 1 и 2 отделений Эрмитажа по их требованиям с тем, чтобы всякий раз представлять записки, кому и под каким номером эти билеты розданные возвращены при том, которыми уже посетители воспользовались <...> Подписано А. Шуваловым (л. 135)2.
17 ДЕКАБРЯ 1851 г.
Покорнейше прошу Ваше Превосходительство уведомить меня: к какому времени Вы полагаете будут готовы каталоги для посетителей Императорского Нового Эрмитажа.
Обер-Гофмаршал граф А.Шу валов (л. 150).
20 января 1852 г.
Письмо Министерства Двора по Придворной конторе г-ну Жилю. Покорнейше прошу Ваше Превосходительство сделать ныне же распоряжение, чтобы впредь, до разрешения на впуск публики в Эрмитаж по предложенным печатным билетам, посетители, кроме особых от высшего начальства разрешений, не были допускаемы в оный с половины первого часа до двух с четвертью, так как в сие преимущественно время Его Величество изволит сам посещать каждодневно Эрмитаж.
Обер-Гофмаршал граф АШувалов (л. 162).
14 февраля 1852 г.
Государь император распорядился, чтобы в комнаты, назначенные для художников-копиистов в двух павильонах Нового Эрмитажа, перевести
1 См.: Архив ГЭ, ф. 1,оп. 1,ед.хр. 14,4.11.
2 Здесь и далее архивный источник указан в подстрочном примечании. — Примеч. ред.
2 Эрмитаж в царствование Николая I
215
ЩШШШ -гЩ
т г <&&/&/// г//,
SxjbJ
////у/
^ I //г <t .мсь
^ j(( <yf. /< /<у/г// < У//*
// у?/ с*//// /£////>/ Jf;
ч х ^ . *рТ ^
г У/^с /г, ъ. ftu’p Ь * К>ф* ъш^риихи Ъ ^ЦЦ(н)1.1^Въ. * Ч
С *УУугш,/^#"Уь ffl/t r /г>.
^УУ#/////€*//*/
///
/
&гщелУ
&ь
УгА
у//г
Постоянный билет
для входа в Императорский Эрмитаж, галерею Петра I и драгоценных вещей на 1859 г.
II Материалы и документы
216
Олс^^с|
Лист рукописи с образцами подписей должностных лиц
2 Эрмитаж в царствование Николая I
217
для дежурства по одному лакею или истопнику [для надзора] (л. 166.). 14 апреля 1852 г.
Государь император разрешил допускать публику в Новый Эрмитаж по временным билетам, впредь до пересмотра инструкции. Жилю прислано 150 номерных билетов для раздачи (л. 189).
16 мая 1852 г.
Жиль просит у Придворной конторы дополнительно 300 билетов, посещаемость Эрмитажа увеличивается (л. 197).
8 июля 1852 г.
Жиль сообщает, что в разное время им было роздано 300 билетов для посещения Эрмитажа. Посетителей было 817. Циркуляции билетов недостаточны. Билетов не хватает! (л. 212).
27 января 1853 г.1
Господину Обер-Гофмаршалу Двора Его Императорского Величества Имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство приказать сделать распоряжение об отпуске 1-му отделению двухсот билетов для входа в Императорский Эрмитаж.
Действительный Статский Советник ФЖиль (л. 223).
30 марта 1853 г.
По Высочайшему повелению сверх существующих ныне для входа единовременных билетов установить еще постоянные именные билеты, но выдавать их не иначе как с Высочайшего Его Величества разрешения (л. 115)2.
30 марта 1853 г.
Государь император дозволил посетителям обозревать Эрмитаж во весь круг года (не исключая времени Высочайшего присутствия) в Зимнем Дворце, равно воскресных и праздничных дней (л. 225).
16 мая 1853 г.
Жиль снова (после 27 января 1853 г.) просит «приказать отпустить еще 200 экземпляров [билетов]», т.к. за 45 дней было израсходовано большинство из 200 штук (л. 228).
8 января 1854 г.
«Гоф-фурьер Нового Эрмитажа довел до сведения моего, что лица, желающие получить билеты для посещения Эрмитажа, проходят через залы оного в канцелярию вверенного Вашему Превосходительству отделения, а потому я полагал бы раздачу всех билетов сосредоточить в канцелярии 2ого отделения, как находящейся внизу близь швейцарской». Подписал А.Шувалов (л. 231).
9 января 1854 г.
В письме Ф.Жиль с этим предписанием не соглашается, так как «лица, желающие посетить Эрмитаж, адресуются или ко мне на дом с требованиями о билете, или подают таковые на мое имя швейцару» (л. 232).
23 января 1854 г.
На это последовал ответ Ф.Жилю из Придворной конторы: «Государь император изволил разрешить выдачу билетов для впуска посетителей в Эрмитаж <...> производить впредь не от начальников Отделений Эрмитажа, а в Придворной конторе <...>» ежедневно, кроме праздничных
1 Приписка: 200 билетов выдано.
2 Из письма обер-гофмаршала графа А. Шувалова.
II Материалы и документы
218
дней <...> с учреждением для этого особой шнурованной книги». Вместе с письмом препровождается 150 билетов с просьбой их подписать и вернуть в Придворную контору. Подписал А. Шувалов (см. л. 233).
8 февраля 1854 г.
Введение особого билета для галерей Петра I и драгоценностей, «в отвращение большого стечения публики» (см. л. 236).
31 января 1857 г.
Государь император постоянные билеты (годовые) для посетителей поручил выдавать Обер-Гофмаршалу Шувалову (см. л. 241).
Билет 1859 г. содержал следующую надпись на лицевой стороне: «Постоянный билетъ для входа в Императорский Эрмитажъ и галереи Петра 1ого и драгоценныхъ вещей» и подписи обер-гофмаршала графа Шувалова и начальника отделения Придворной конторы.
На обороте: Выдан: (имя и фамилия). Билет сей служит по 1 января 1860 г. и с оным может войти в Эрмитаж одно только лицо, обозначенное в билете, который, по предъявлении швейцару, остается у посетителя. Вход в Эрмитаж дозволяется во все дни года. Зимнего с 10 часов утра до 2 часов по полудни, а летом с 9 часов утра до 4 часов. Место печати Придворной конторы
Годовые билеты были разного цвета: 1857 г. — зеленый, 1858 г. — белый, 1859 г. — зеленый, 1860 г. — желтый, 1861 г. — ?, 1862 г. — зеленый.
ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА
3 От первого директора Эрмитажа (1863 г.) до 1917 года
Структуры Эрмитажа
1805 Положение полагаемое к учреждению по Эрмитажу.
1. Библиотека, резные камни и медали (акад. Кёлер). 2. Картинная галерея. Кабинет редкостей, бронза, изделия из мрамора (Лабенский). 3. Гравюры (Клаубер). 4. Рисунки (Иванов). 5. Кабинет натуральной истории — минералы (Орловский).
1851 Два отделения
1863 1. Отделение греческих и римских древностей (Стефани). 2. Отделение медалей и монет (Броссе). 3. Отделение скифских и русских древностей. Галерея драгоценностей и Петровская галерея (Куник).
4. Отделение гравюр и рисунков (Иордан). 5. Отделение картин и портретов Романовской галереи (Нефф, с 1864 г. — Лукашевич).
1885 1. Отделение классической археологии; 2. Отделение Средних веков и эпохи Возрождения; 3. Отделение живописи, гравюр, рисунков. 4. Отделение нумизматики. 5. Русское отделение.
Степан Александрович Гедеонов (1815—1878)
Из Формулярного списка о службе С.А. Гедеонова1
1835 Секретарь при президенте Императорской Академии Наук.
1841 Камер-юнкер Двора Его Императорского Величества.
1848 Помощник Заведывающего Высочайше учрежденной в Риме археологической комиссии для приискания древностей, с жалованьем 2 тысячи рублей в год из Государственного казначейства.
1859 Ноябрь 20. Назначен Заведывающим Римской комиссией археологических разысканий и попечителем над находящимися в Риме пансионерами Академии Художеств.
1861 Октябрь. «Во внимание особенных заслуг по успешному вполне удовлетворительному выполнению Высочайшей воли относительно приобретения для Императорского Эрмитажа многих замечательных произведений древностей принадлежащего Маркизу Кам- пана Музею, всемилостивейше пожалована аренда по чину на 12 лет по 1500 рублей в год.
1862 Январь 15. «Высочайшим указом, данным Правительственному Сенату, Всемилостивейше назначен Директором Императорского Эрмитажа2 о чем объявлено в Высочайшем приказе по Императорскому Двору за № 12».
1 Формулярный список о службе Ди- нова 1872 года. См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 12 л/с, ректора Императорских С.Петербургских и ед. хр. 21.
Московских театров Гофмейстера Двора Его 2 Письмо Гедеонову о его назначении Величества Степана Александровича Гедео- датировано 4 июня 1863 г.
И Материалы и документы
220
1863 Назначен в должность Гофмейстера Высочайшего Двора, с оставлением Директором Эрмитажа. 30 августа избран в почетные члены Императорской Академии Наук1.
1867 Август 22. «Высочайшим указом, данным Правительственному Сенату, Всемилостивейше повелено быть Директором С. Петербургских и Московских театров, с оставлением по-прежнему Гофмейстером и Директором Эрмитажа».
1868 Избран в почетные члены Императорской Академии Художеств.
От Канцелярии Министерства Императорского Двора. 1 июля 1861 г.
Министр Императорского Двора, свидетельствуя совершенное почтение Его Превосходительству Степану Александровичу, имеет ^честь уведомить, что Государь Император изволит принять его в Петергофе, в понедельник, 3 сего июля, в 1 час по полудни.
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 12 л/с, ед. хр. 21, л. 28.
От Канцелярии Министерства Императорского Двора. 4 июня 1863 г.
Господину Действительному Статскому советнику, в звании Камергера, Гедеонову.
Высочайшим Указом, данным Правительствующему Сенату во 2-й день сего июня, Государь Император Всемилостивейше изволил назначить Ваше Превосходительство Директором Императорского Эрмитажа.
Уведомляя Вас, Милостивый Государь, о таковом назначении, имею честь присовокупить, что об оном будет объявлено и в Высочайшем по Министерству Императорского Двора Приказе.
Министр Императорского Двора Архив ГЭ, ф. 1, оп. 12 л/с, ед. хр. 21, л. 40.
21 марта 1863 г.
Гедеонов приглашен к Министру Императорского Двора «для принятия участия в суждениях по некоторым делам, касающимся Императорского Эрмитажа» (см. там же, л. 41).
И мая 1863 г.
Помощниками Гедеонова в «размещении скульптуры и археологических предметов в залах нижнего этажа Эрмитажного здания» назначаются Ф.А.Жиль и Ф.А.Бруни. Тут же говорится об «отводе» квартиры на 3 этаже здания Старого Эрмитажа и помощнике в административной части (наряды солдат, перегородки, драпировки) генерал-майора Кубе. «О назначении служителя в означенной квартире» и «об отпуске Вам стола, когда Вы потребуете», «что же касается до экипажа, то будет о сем сделано особое распоряжение». Подписал Обер-Гофмаршал Шувалов (см. л. 43-46).
Декабрь 1864 г.
Об избрании С.А.Гедеонова действительным членом Московского Археологического Общества (см. л. 56).
1 В 1863 г. «Ученым советником» при директоре Эрмитажа был назначен нумизмат Б.В.Кёне.
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
221
'“"У
ММШ'Ш
— диогл^-
КЛНЦКД1Р11
CWlbUH (< /
'Л с яг
jp^y'плиисьму (пиммссжму (* Фнг/шлту. а }€ЛКШ и/т, О&аниу.
Yjr/*»
<yW*
\уЩ
l3thiMvattuiUiU%
IP.U/l, °0и,нтииъ Un tytfUf tUip (f ti Я,пу ^ ~
('0ftt ( cm , Z/vcyj&flt
'Ж tmefuwivfi' Ъ &сб4ш~с4 СЛ1Шnuuct т6*л<лл4, /им#* иипл Жcuu r 3C/i4ffcJc>f$ttZt*<* tm/t <к <п4>/иы1 b i!/C it
ru/wtrri vh ctMLW Сс$/ысигпле-
CtCJL -
ot / i
trrutXuAt tft/pa/vi, v гплсжл —
tAMA tut з п«гснли/
btcrru п/иил&купилпл, -un*
erg enfiM.'i Jyttint> cttjuh и Ct -tit 4 С С 1X4 U i Ъ tu> <Jtu.
ih/ ^иль^/сжгпл^г - С A (t 'If WJ«/« УС/глисЛНУг*
nt< Unt/uuriiy
Степан Александрович Гедеонов (1815-1878).
Литографированная фотография Уведомление Министерства Императорского Двора о назначении С.А.Гедеонова Директором Императорского Эрмитажа. 1863 г.
II Материалы и документы
222
в 1УММММММ ibhfWMpl u „‘►'Г МЛЛЛХ^ЛЛД ft <ХДх ххид-ЛЛ ) УдлЛ. Ал
„“l/YVLO 'AJJL UACOX*U-<l frx> ^AAa/IM'i/VUfc 1 сА^ДлиЛЛ. О uUU. с*> JuOA*^ ООпГоЧ ^ СлЛ-Су^КА-йЛАХХ*
VW$bw САД. - ^0 <р >Xuy^jJuXJL VAUj£ «-wU>6 .
18£4л. ОтГ С» J\, 1/¥\л&лиилхь-оЛ1л\А ~ljuujjr***' ЛЛсии-Сиио
А**^ХдЛДЛиХил* ChiU^LOu^f • VU^u-loU ^
^ WWa*M^4 WOvA^-LUUX^ Po CwO-U Сдьил* и \ХЛ4ч>-<ИЛ^ССилЛ>! СА^4-и-<Я? j VyUA/ltvU й-~Л
\ЛД>чЛ-улд-сиЛ 'ХХХ£<^и/уЧА^ЦХ\Л/. Of*btAA4>£ VVA^JLtlVe A-J_bL-«J p O^UUU-tiCUCUt •Ъо-С^-О
V'Uju/vcyA/vuYpJL •
(JUUA^VLAX *A ухчаЗ'АлдаЛо
in КС
v^-vCxHA^'A^VVOLyj-')
ПЙС^
'^'AX-JU/V^AjULJUA. I0vbi. l£r67' v ( О^оу-в^4 1дрДХСМЛЧАД«Д П/О-^Ъ JU-йЛД ОЛЛА-^Ь^ 'bc^«4’’VWiM| .
N .-, ....... t L
YW ^Ллвгои
VUJULM|
wy^-4^bi
^ iVw
^ииии*лхлид ^T^*iX*A/UU. ил*АЛач'Л^-с^иСлОА^ VV^C^VAA-fwAOA-^ ^
1 n^VCLY <A v лДЯлр S 4^ ~
\0 JLO) 'IooyN^ ииилА^ААМЛр И CAMaJ^JUMA p О^Ж-ихдЛ ftcWv^AUj yJr<^-0^
t^VJu^JtwJ^ , UA^vilM С Wvuu> -^СуЛ-ЛиА “UW*Ait’* 'Ь^Л » '«UVU ^ wyyj*
CJU^VUkTU ЫШ хЛОЛЛаД* "l <Х-4Л\ЛдО tU. U ^
V**i« oa^L^WjwA e iicWL^O ^ЛХ*ЛИ* *
OU^ (Vuuiaou^ихди w,'1 (A л
^«Ч^сл ^tvu^ С.Л.^САД^ waa^Lua *a 4*A*a и
Vol'WAjL v\,0 ОСхААЖЛЛХ. VWCMUU - 'KU. vVOLJLiA^AXUXiA .
iV«
^иил УмОлаЛоалЛ f и^лх^лх
П <^» • l874*i. ^W-Ajccjz^—«Twowga*
Л>><А^ьс•vuajuauJ U<o«juuxcuaa Поaa^’K^-1 u^aa/sa^mx/ha^y- &am-aa/vax/hi />yvvij ^ a/V‘/U'u5r^^ vo. С» A. Q«x)«a>vu>4a‘
It S-tu. l«*7V. * Vumcui^JauM Дсоа в^хмммчл H* 'ЧЪи ^
vuxaoaa^ouax, ^ ) - fb* kAAf^-W ^ ^
3 о ou* . 187 » . OnT u^jyAAAXU/ uW^UauXoJ^Wa -l^JUU^U °^'
wvvuwUL uwMput и росс^САЛА^е ^ *^Wouo<
'У VUoJ^OCLAVXAAt •
tp&- n^CAAU>^.
^ООд^бС KWA* U^UAIAA , T-YAsiW
0^VX*JUv' ^yUA.\ IYxJW-4^
JUM * М^идИИ ^tcaACUi
LKauAJl oujUjUA и кЦрЛ*^ Нхдахлм mjl v^uam oouajJU « vOxa/XUUXuJ rv^bv. tpucOMY mu-XM}'
nvui , WKAX Пи)<ипм^ (tfcS'M'O
Ka U^UAWJL VX^Y^MA* WfAU
t VUtyUiVU < JbutASUA* i »XAAXt) НЛ VUAVWycOwU. KftAAHA4U VWCvUAOjl. AwyUMX.
KoJLy^ \m»cuvx/-*aua* XLutjy
ХА рЛА1и*ЙЛААМА)иХ!-Л ЛХ^_и.~ c^U JVACX-kxa/^v-
Лист рукописи с изображением герба рода Гедеоновых
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
223
1 АВГУСТА 1867 г.
Телеграмма1 «ПБГ Дворец Эрмитажа Гофмейстеру Гедеонову. По Высочайшему повелению Вы имеете немедленно вступить во временное управление Императорскими театрами. Граф Адлерберг 2ой» (см. л. 73). 10 мая 1868 г.
Государь Император «соизволил разрешить Вашему превосходительству, наравне с теми вторыми чинами Двора, кои по обязанности службы имеют счастье часто видеть Их Императорские Величества, право являться в Малую церковь Зимнего Дворца, когда бывают в оную Высочайшие выходы» (два письма, одно за подписью А.Шувалова).
17 февраля 1874 г.
Во время увольнения в отпуск Председателя Археологической комиссии Государь Император возлагает эту должность на С.А.Гедеонова (см. л. 115). 30 октября 1875 г.
Об избрании действительным членом Императорского Общества истории и древностей Российских при Императорском Московском университете (см. л. 113).
ГЕРБ РОДА ГЕДЕОНОВЫХ
Голубое поле щита, черный одноглавый орел, серебряный меч. Щит увенчан дворянским шлемом и короной. Намет на щите голубой, подложенный серебром. На щите идущий орел в короне с мечом в лапе, на котором нанизана также корона. Наверху рыцарский шлем и развевающиеся аканфовые листья. Предок рода Хрисанф Тимофеев, сын Гедеонов (1654).
Из «Русского биографического словаря»2
Гедеонов, Степан Александрович, гофмейстер, тайный советник, директор Императорского Эрмитажа и Императорских театров, сын Александра Михайловича (Гедеонова). Родился в 1815 г. Одаренный светлым, блестящим умом и редкой памятью, Гедеонов был глубоко и всесторонне образованным человеком. С юных лет он любил искусство. В детстве Гедеонов прошел через строгую классическую школу и в университете уже был известен как знаток древних языков. Он мог не только с легкостью переводить экспромтом с латинского языка на греческий, но даже, как гласит предание, перекладывал на греческий язык сочинения Шиллера. В 1835 г. Гедеонов кончил Петербургский университет со степенью кандидата и поступил секретарем к президенту Имп. Академии Наук С.С.Уварову (впоследствии графу и министру народного образования). В свободное от службы время он занимался литературными трудами.
В 1848 г. Гедеонов был назначен помощником кн. Г.П.Волконского, заведовавшего Высочайше учрежденной в Риме археологической комиссией для приискания древностей. С этого времени начались его близкие отношения к Петербургскому Эрмитажу, которые продолжались все 14 лет его пребывания в Риме. По должности помощника кн. Волконского Гедеонов должен был делать покупки древностей, и он проявил
1 В.Ф.Адлерберг пишет С.А.Гедеонову письма на французском языке и даже посылает такие же телеграммы.
2 Биография С.А.Гедеонова написана К.Сивковым. — Русский биографический словарь, т. 4. СПб., 1914, с. 308—311.
II Материалы и документы
224
в этом деле много вкуса и умения. В 1851 г. он приобрел для Императорского музея статуи Аполлона (со стрелой в руке), Афродиты, Аполлона вроде флорентийского Аполлино и Л.Аврелия Коммода. В том же году у венецианского антиквария Санквирино он купил статую дорийского эфеба и целый ряд других скульптурных произведений.
В 1859 г. им были проведены новые покупки, стоившие ему много труда и денег: так, например, статуя Венеры была куплена им за 42 тысячи франков. Еще больших трудов и хлопот стоило ему приобретение в 1861 г. (в этом году Гедеонов стал заведывающим археологической комиссией в Риме и попечителем пансионеров Императорской Академии Художеств) известной коллекции маркиза Кампана. Общественное мнение и правительство Италии сильно противилось вывозу сокровищ из Италии, и Гедеонову с большим трудом удалось прибрести (за 75 ООО франков) и вывезти коллекцию Кампана, а по поводу сделанной им тогда же покупки (за 310 ООО франков) Мадонны Рафаэля заговорила вся европейская печать, а в итальянский парламент был даже внесен по этому поводу запрос.
Вместе с этой коллекцией он приехал в Петербург, где работал два года при Эрмитаже над установкой купленных статуй и ваз. Кроме того, ему было поручено составить проект для нового устройства Эрмитажа, и он привлекался на заседания в разных комиссиях, учрежденных по этому делу. Составленный им проект нового устройства Эрмитажа был принят и утвержден. 2 июня 1863 г. была создана должность директора Эрмитажа и на эту должность был назначен Гедеонов. Вскоре были введены в Эрмитаже новые штаты и упорядочено управление им; теперь вся власть и инициатива сосредоточилась в руках директора. Первой заботой Гедеонова было издание каталогов. Дело это было уже начато раньше, но он ускорил выход каталога картин, а вслед за ним при его ближайшем участии каталог галереи древней скульптуры. Через год вышло новое издание — уже труд самого Гедеонова, сначала на французском языке, а в следующем году и на русском. Затем Гедеоновым был поднят вопрос о широком допущении публики в Эрмитаж для осмотра его художественных богатств. До того в Эрмитаж надо было приходить в виц-мундирах или фраках по особым входным билетам, выдававшимся Придворной Конторой; для того, чтобы получить право снять копию с какой-нибудь картины, нужно было проделать такую процедуру, что многие предпочитали скорее отказаться от своего намерения, чем пойти на эту канцелярскую волокиту. Поэтому Эрмитаж посещался мало, и его богатства оставались неизвестными. Гедеонов облегчил вход копиистам и стал добиваться пропуска публики на широких началах. Было образовано несколько комиссий для рассмотрения этого вопроса, и Гедеонову без труда удалось добиться, что публику стали пускать без всяких билетов и в обыкновенных костюмах, но с сокращением числа часов открытия Эрмитажа по сравнению с прежним порядком. Дело издания каталогов продолжалось, и в 1867 г. был выпущен каталог рисунков, в 1872 г. издан русский перевод Керчен¬
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
225
ских древностей и описание бронз и терракота, а в 1873 г. вышло доступное для публики описание расписных ваз. Особенное значение Гедеонов придавал археологическим сокровищам Эрмитажа. Вот что он писал 28 октября 1865 г. министру Двора по поводу предложения передать Эрмитажные дублеты в Одесский музей: «здесь, где дело идет о единственной в мире коллекции древностей Киммерийского Босфора, Эрмитаж почитает неприкосновенность ее жизненным для себя вопросом, себя же, в той мере, какая подлежит влиянию его, ответственным в этой неприкосновенности перед всей Россией. Каждый из предметов, входящих в состав Керченских древностей, принадлежит как часть одного целого той или другой знаменитой и в археологическом мире всеи- звестной находке. От охранения в ненарушимой целости даже ничтожнейших к таким находкам относящихся мелочей зависит и самое значение Императорского музея, как единственного обладателя единственными на свете сокровищами».
Став директором Эрмитажа, Гедеонов продолжал пополнять его коллекции; с этой целью в 1865 г. он побывал в Милане и в Париже, где на аукционе купил для Эрмитажа немало ценных вещей. В 1867 г. он ездил в Лондон, где работал в библиотеке Британского музея. В том же году Гедеонов был назначен директором Императорских театров, что отвлекало его от работы по Эрмитажу. Сначала он проявил на этом посту энергичную деятельность, но потом охладел ввиду фактического ограничения его власти, и дела театров шли плохо; расходы по театральному хозяйству были очень велики, а надзор за ними был очень слаб <...>
<...> Научная деятельность Гедеонова не ограничилась названными выше трудами. Ему еще принадлежит небольшое исследование «Мертвый ребенок на дельфине. Группа из мрамора, приписываемая Рафаэлю» (Приложение к XXI тому «Записки Имп. Академии Наук». С.-Пб., 1872), в котором он доказывает, обнаруживая знакомство со многими иностранными источниками, что эта группа есть настоящая и принадлежит действительно Рафаэлю. По этому поводу он вел полемику в печати с немцем Доббертом и итальянцем Джене- ралли.
Но особенно важно его исследование «Варяги и Русь» (2 тома, С.-Пб., 1876). Этим вопросом Гедеонов занимался еще будучи в Италии, и отрывки из его труда вошли в 1862 г. в приложение к I—III тт. «Записок Имп. Академии Наук» под заглавием «Отрывки из исследований о варяжском вопросе. С.Гедеонов. I—XVI. С критическими замечаниями Куника», а в полном виде он вышел через 14 лет, обратив на себя внимание ученого мира. В своем исследовании Гедеонов выступил решительным противником норманизма. Занимаясь вопросом о варягах много лет (Гедеонов задумал эту работу уже в 1846 г., но служба, путешествия и слабое зрение мешали работе), он хорошо изучил источники и литературу и пришел к выводу, что варяги западно-славянского происхождения, а Русь — восточно-славянский народ. В своей книге Гедеонов подверг своих противников меткой и верной критике, но и его (как он говорил) «протест против мнимо-
II Материалы и документы
226
норманского происхождения Руси» не разрешил вопроса, давно спорного в исторической науке. Особенно большое значение труду Гедеонова придавал Погодин, который говорил, что «норманская система, со времен Эверса, не имели такого сильного и опасного противника», как Гедеонов, и считал его книгу «отличным украшением нашей историкокритической богатой литературы о происхождении варягов и Руси»; но, несмотря на это, Погодин находил по-прежнему правильным основные положения норманской школы. Сочинение Гедеонова «Варяги и Русь», снабженное обширными примечаниями, было удостоено Академией Наук Уваровской премии. Гедеонову неправильно приписывается иногда участие в книге «Описание Российской империи в историческом, географическом и статистическом отношении» — там писал М. А Гедеонов. Умер Гедеонов после продолжительной болезни 15 сентября 1878 г. в С.-Петербурге, 62 лет. Погребен на Лазаревском кладбище Алек- сандро-Невской Лавры.
Александр Алексеевич Васильчиков (1832—1890) 1
Из Формулярного списка о службе А.А.Васильчикова2 17 октября 1856 г.
Министерство иностранных дел причислило его к миссии в Риме.
17 октября 1859 г.
Министерство иностранных дел причислило его к миссии в Карлсруэ. 15 декабря 1869 г.
«Назначен состоять в ведомстве Министерства Иностранных дел».
6 февраля 1879 г.
Всемилостивейше назначен Директором Императорского Эрмитажа и в должности Гофмейстера Двора Его Величества с производством в статские советники. [Далее идет список иностранных орденов, которые ему Высочайше разрешено принять и носить.]
7 мая 1884 г.
«С Высочайшего соизволения командирован за границу для изучения устройства заграничных музеев, с выдачею на подъем 2000 руб.».
1 февраля 1886 г.
Согласно прошению Всемилостивейше уволен от должности председателя Императорской Археологической комиссии с оставлением Директором Императорского Эрмитажа.
29 октября 1888 г.
Именным Высочайшим указом, данным Правительствующему Сенату в день 29 октября 1888 г., Всемилостивейше пожалован в Гофмейстеры Двора Его Императорского Величества с увольнением, согласно прошению, от должности Директора Эрмитажа.
ГЕРБ РОДА ВАСИЛЬЧИКОВЫХ 3
Голубое поле. Горизонтальная золотая сабля, серебряная стрела, серебряное крыло, золотой ключ.
1 А.А. Васильчиков родился 30 сентября 1830 г. Окончил в 1855 г. Московский университет. Служил в Министерстве Иностранных дел. С 1879 по 1888 г. — Директор Императорского Эрмитажа. В 1882—1886 гг. председатель Археологической комиссии.
2 Формулярный список о службе Ди¬
ректора Императорского Эрмитажа Его императорского Величества, Действительного Статского Советника Александра Алексеевича Ва- сильчикова. См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 12 л/с, ед. хр. 14, л. 5—10.
з См. иллюстрацию на с. 227. — При¬
меч. ред.
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
227
ft a vuuJL ги-R^iW •
Qoujy vbO^e * 1«ku/wuJs СвиГаД ^
Оу** раж** сллА^^в , CAya^pjucM. Урлса-о , налог
^ WlUVA^JUUM* yv«uUU Г\аI
(juUkmjU, V^. rwo^o^4 ,д.и*1.*Ч.*-«ЪЧ«ЛС) а-и«Пмд* 4
p^t.1lM J*.J*. Vl<ibMwJ-vu>U^U 1 вуи^ЛЛЛДА tAO в PuoM%
rvifniifimM - («л^-u «л«м jj’f*» 4* w(uf“*“Mt“^ ^ 11 '
IW^MUM «ЛЛ UuammlC V^w« , 4»«J V^f^uA,w^rv- **
aoOU^UA^UAO u ЪЬ ^UA*A toUM/U> (\u^U^Vt4». m**M. «МД^.
e<UMMUi ru^^J^AM в cy^ *** <• Л****- OM^S^AUi.
TWx6WV4kA С Vyw«rWx ft *«AwJ*VUUM>4<Aa. I I^UaO. *M/U*A c
>*a 'UyJToUA. f JUAr ■
«jyn Wn VU4a» ил WvUMAUL vaaoJoa>-*C*a WVWUU ЧаММ*МАХ <UmA*<
«лл t cyut~u. ****** <hTW*«
U ><m«wuA ^A^MAuua/ va ир^АЛАЛ) ^услСА>и "МгЛааа Jxxyv. A*>xAf • В АсА*-|4‘М1АЛ#4^*7
},roJi^JLaAJLS I V*vC*. «* AAuwy^ vt^a^A4AA^ 0 ииЛА^^Ли>,и ^длр4, v^o (avA \uc<stwuA рч^м-и>е>мнГ и-иЛс* U**u. M4.
UWV JbLOUMM , yyuuWMAi V^OWUAU-A Ь илчу^мдкАс «МЛ^Л lu р»Н«»*М<Д«ИИГ
«Г^Оум^илда I C^A ЧА ^«уиМДХЛО tUAA l/UoA О^ЧА^МО. I ОдАМ***^
2.4 > XU. 8sT.
Лист рукописи с изображением герба рода Васильчиковых
II Материалы и документы
228
Александр Алексеевич Васильчиков (1832— 1890).
Офорт К.Кастелли. 1880
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
229
Зал русской школы в Новом Эрмитаже. Акварель Э.П.Гау. 1850-е гг.
:И*^ЁКи*аё»
II Материалы и документы
230
Зал русской школы в Новом Эрмитаже. Акварель Э.П.Гау. 1856
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
231
В собрании Узаконений и Распоряжений Правительства, создаваемого при Правительствующем Сенате, от 28 октября 1886 г. (№ 108) имеется решение об учреждении опекунского управления над имуществом и делами в должности Гофмейстера Высочайшего Двора, действительного статского советника Александра Васильчикова (из двух человек, один по выбору владельца имущества).
Опекуны имеют право совершать продажу имущества Васильчикова, с тем, что денежные средства были бы обращены на погашение ныне существующих долгов Васильчикова.
Васильчиков и картины русских художников в Эрмитаже 1
А.А.Васильчиков в своем рапорте от 8 октября 1881 г. указывал на то, что в Эрмитаже собрание картин русских художников находится в жалком состоянии2, только один портрет Левицкого, нет ни одного Рокотова, нет совсем работ Ге, Крамского, Куинджи и ряда других художников3.
В марте 1883 г. Васильчиков снова писал, что эрмитажное собрание дает неверное представление о развитии русского искусства (он, так же как и Стасов, был противником псевдоклассицизма). «Две Эрмитажные залы представляют как бы назло самую жалкую страницу истории русской живописи — эпоху псевдоклассицизма и слепого подражания избитым европейским образцам»... Эти произведения, по мнению Васильчикова, бледнеют перед гениальными творениями старых мастеров.
Он выдвигал предложение о создании музея русского искусства. «Несомненно, что крайне было бы желательно у нас в России устройство исключительно русской публичной галереи картин».
Васильчиков решительно выступал против создания провинциальных музеев за счет картин, находящихся в кладовых Эрмитажа (проект Боголюбова).
Он указывает: «В первопрестольной столице России [Москве] уже более 20 лет стоит на одной и той же точке публичный музей, с таким шумом основанный в начале царствования Александра II. Несмотря на великолепные помещения, этот музей, за исключением библиотеки и Румянцевского музея, представляет бесформенные наброски разных коллекций».
По мнению Васильчикова, музей русского искусства следует создавать не в Петербурге, который богат музеями, а в Москве4.
В Москве «встречаются до сих пор лишь одни остовы музеев, лишенные всякого серьезного содержания». Он писал о том, что в первую голову в Румянцевский музей следует передать из кладовых Эрмитажа картины К.Маковского «Перенесение священного ковра» и Ге «Петр и Алексей».
Доклад Васильчикова успеха не имел, но собрание русских художников в Эрмитаже пополнилось портретами Левицкого и Аргунова.
Васильчиков содействовал изданиям фотографий большого размера с картин Эрмитажа знаменитыми фирмами Рётгера (1867) и
1 См.: Левинсон-Лессинг В.Ф. Указ. соч., с. 207, 298, 299. Дается в отрывках или пересказе.
2 В книге В.Ф.Левинсона-Лессинга по¬
дробно изложена позиция А. А Васильчикова о
неудовлетворительном состоянии Картинной
галереи Эрмитажа (с. 210—212). — Примеч. ред.
3 А.А.Васильчиков особенно интересовался портретами, написанными русскими художниками, у него есть даже книга об этом.
4 Сам Васильчиков, по существу, был москвич, в Москве он имел собственный дом.
II Материалы и документы
232
Брауна (1882); в 1872 г. вышло издание офортов Н.С.Мосолова с картин Эрмитажа, один из выпусков этого издания был посвящен Рембрандту.
В доме Е.П.Васильчиковой
У Екатерины Павловны Васильчиковой, внучки директора Эрмитажа, хранится альбом с рисунками А.А. Васильчикова времени его пребывания в Риме. Портреты-шаржи (карикатуры на окружающих его лиц). В автошаржах отражен его очень высокий рост, есть карикатуры на Все- волжского и два рисунка самого Всеволжского. Такие шаржированные портреты в середине XIX века были модными.
Печатка с гербом Васильчиковых, фарфоровая чашка тоже с тем же гербом.
Муж Екатерины Павловны, Александр Андрианович Егоров, из донских казаков. На стене комнаты висел портрет его предка, служившего у Суворова. Предок обвешан орденами.
Имеется рукопись на французском языке Марии Александровны Васильчиковой, привозившей в 1915 г. из Австрии предложения о сепаратном мире, но она касается родословной семьи. Екатерина Павловна подтвердила, что от Маши, привезшей предложение о сепаратном мире, все родственники отвернулись, она из Царского Села была отослана в Звенигород1.
Из воспоминаний Е.П.Васильчиковой 2
Дед мой Александр Алексеевич Васильчиков родился 30 сентября 1830 г. (1832. — Б.П.), умер 13 мая 1890 г.
Умер он в своем подмосковном имении «Каралово» (сомовские акварели на террасе караловского дома). Когда-то оно называлось «Ка- раулово», и река по нему текла Сторожа, впадающая под Звенигородом в Москва-реку, и сторожили гор. Москву!
По словам моего дяди, известного музейного работника, Олсуфьева Юр. Алекс, (человека крайне осторожного в своих суждениях и высказываниях, который хорошо знал Александра Алексеевича и его окружение, будучи близким родственником ему): «Это был человек абсолютного вкуса и ума!»
Подмосковное имение Васильчиковых «Каралово» и имение Олсуфьева Вас. Дм. «Ершово» находились в близком соседстве. Помню рассказ, как, когда бабушку Ольгу Васильевну Олсуфьеву сосватали (когда ей было 16 лет) за деда, она сидела на окне в зале ершовского дома, болтала ногами, говоря: «Не было печали, Черкасские накачали». Роста дед был чрезвычайно высокого, очень длинноног.
Дом их был в Москве на Поварской улице (сейчас улица Воровского), № 22 и назывался дом у Арбатских ворот. В настоящее время он надстроен. Этаж, где они жили, это этаж с балконом и до недавнего времени были видны медальоны над дверями с портретами в комнате, выходящей на балкон. Этот дом был перестроен после пожара 1812 года.
1 В конце записей о доме Е.П.Васильчиковой в оригинале рукописи Б.Б.Пиотровского стоит дата: 24 декабря 1985 г. — Примеч. ред.
2 В оригинал Б.Б.Пиотровским вло¬
жены страницы, написанные Е.П.Васильчиковой, видимо, по его просьбе. В конце записей стоит подпись Е.Васильчико- вой и дата: 15 декабря 1986 г. — Примеч. ред.
От первого директора Эрмитажа до 1917 года
233
Если войти во двор, то видна белокаменная кладка апсиды, которую сохранили нетронутой. До 1925 года в этом доме жил старый камердинер деда по имени Василий Трофимович — замечательный старик!
Думаю, что дед был веселого нрава и многое ему прощалось.
Как-то он был приглашен во дворец на завтрак к Государю и... опоздал! Когда он прибыл — все уже были за столом. Положение было критическое... Он вошел (на четвереньках. — Б.П.) — хрюкая! Все засмеялись и положение было спасено!
Альбом его рисунков-шаржей характеризует его как великолепного рисовальщика с острым взглядом и восприятием1. Он очень был дружен с Всеволжским.
[.А.Васильчикова 2
Мария Александровна Васильчикова, дочь директора Эрмитажа гофмейстера Васильчикова и жены его, урожденной графини Олсуфьевой. В 1880 г. стала фрейлиной царицы. Купила в 1906 г. в Австрии виллу «Клейн Вартенштейн» на Земмеринге. В 1914 г. в Австрии М.А.Василь- чикова интернирована не была и продолжала жить на вилле, могла «пользоваться телефоном, переписываться, принимать у себя друзей»3.
Занималась шпионажем, тайной перепиской, передаваемой ею от немцев и австрийцев Государю Императору Николаю II относительно сепаратного мира России с Германией (два письма из Австрии от 28 февраля и 17 марта 1915 г. и одно из Берлина 27 мая 1915 г. Берлинское письмо о мире было послано после беседы с фон Яговом, кайзеровским министром иностранных дел. Письма передавались через дежурного флигель-адъютанта, который, вероятно, их содержание не знал).
Письма, «продиктованные Вильгельмом и Францем-Иосифом, дошли быстро, в депеше от 9 марта 1915 г. царица Александра Федоровна писала Николаю И: «Посылаю тебе письмо Маши из Австрии. Ее т$м просили написать тебе в пользу мира».
2 декабря 1915 г. М.Васильчикова прибывает в Россию. Несмотря на пропуск, выданный русским посольством в Стокгольме, она была задержана начальником штаба ставки. Генерал Алексеев требует немедленного отпуска Васильчиковой без досмотра. Она провезла много писем от кронпринца, «принцев и принцесс прусских и баварских» царской семье, а также С.Д.Сазонову, А.М.Голицыну, АД.Самарину.
Первое время она жила в «Астории» (где в ее номере был произведен полицейский обыск, обнаруживший письмо Франца-Иосифа, инструкции относительно встреч в Петрограде, но полиция не смогла пустить это дело в ход).
В начале 1916 г. она перебирается в Царское Село. Просачиваются сведения о том, что Маша [Васильчикова] является передатчицей писем из Германии. Княгиня Голицына обвинила ее в «шпионаже и прочих преступлениях». Царица считает, что «Маша поступила во многом необдуманно и, опасаюсь, из жадности к деньгам».
1 По рассказу Екатерины Павловны неегипетской статуэтки Среднего царства.
Васильчиковой, альбом с рисунками-шаржа- 2 См.: Касвинов М.К. Двадцать три сту- ми был сохранен камердинером А.А.Василь- пени вниз. М., 1982, с. 280-287. чикова, жившим в его доме на улице Воров- з Отдел рукописей Гос. библиотеки им. ского. Среди многочисленных антикварных Ленина, ф. 259, кат. 12, д. 11. Письмо Василь- вещей у Е.П.Васильчиковой имеется верх- чиковой в редакцию «Русское слово» от 31 няя часть великолепной базальтовой древ- мая (13 июня) 1917 г.
II Материалы и документы
234
Летом 1916 г. Александра Федоровна пишет Николаю II: «Мария Васильчикова поселилась в зеленом угловом доме и оттуда из окна, как кошка, следит за всеми, кто входит и выходит из нашего дворца». Ей жить стало несладко, появляются газетные статьи, в которых ее обливают грязью, называя «изменницей».
Осенью 1917 г. М.А.Васильчикова бежала из России, через Финляндию пробралась в Швецию, а с мая 1918 г. вновь стала жить на своей вилле в Австрии.
Владимир Семенович Голенищев 1 Из личного дела В.С.Голенищева2
4 июля 1880 г.
Письмо директора Эрмитажа А. А.Васильчикова на имя Министра Императорского Двора о зачислении В.С.Голенищева в Эрмитаж сверх штата. От Министерства поступил запрос: «На каких данных основано донесение «о том, что кандидат восточных языков Голенищев с юных лет пристрастился к египтологии и отлично окончив курс в здешнем Университете, особенно занимался историей народов Средней Азии, еврейским, сирийским и арабским языками и затем отправился в Египет, где в продолжении 8 месяцев на месте изучал памятники древности».
24 декабря 1880 г.
Определен на службу в Императорский Эрмитаж без содержания, но с правами государственной службы.
Январь 1886 г.
В.С.Голенищев зачислен хранителем Эрмитажа с годовым окладом содержания 2750 р. (жалование 1000 р., столовые 1000 р., квартирные 500 р., добавлено 250 р.). От этой должности был отстранен по собственному желанию с 21 июня 1899 г.
19 июля 1909 г.
Письмо Министра народного просвещения Шварца директору Эрмитажа И.А.Всеволжскому с просьбой принять на временное хранение в Эрмитаж ящики с собранием египетских и восточных древностей Голенищева, приобретенным Музеем изящных искусств императора Александра III при Императорском Московском университете.
28 сентября 1909 г.
Просьба Голенищева на имя директора Эрмитажа о разрешении вступить в брак с Цецилией Ивановной Маттен (французской подданной). Резолюция: «Разрешаю, если нет законных препятствий». За директора Э.Ленц. 17 ноября 1909 г.
Благодарность за принесенный в дар Эрмитажу труд Голенищева, изданный на его средства, «Описание ассирийских памятников, находящихся в Эрмитаже» (1400 экз).
6 ноября 1910 г.
Благодарность за принесенный в дар Эрмитажу труд, изданный на собственные средства, заключающий в себе описательный каталог египетских древностей, входящих в состав Эрмитажа (210 экз).
1 B.C. Голенищев, действительный стат- 2 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 12 л/с, ед. хр.
ский советник. Родился 17 января 1856 г. В 25-26.
1879 г. окончил С.Петербургский университет по восточному факультету. С 1880 г. при Эрмитаже сверх штата.
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
235
Парадная лестница и вестибюль в Новом Эрмитаже.
Акварель К.А.Ухтомского. 1853
II Материалы и документы
236
Сергей Никитич Трубецкой (1829—1899). Литографированная фотография
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
237
19 МАРТА 1911 г.
Благодарность за «пожертвованную Эрмитажу библиотеку, состоящую из 848 томов по ассирологии, не имеющихся в Эрмитаже».
[Многочисленные прошения Голенищева о предоставлении ему отпуска за границу, разрешенные Министерством Императорского Двора]. 22 апреля 1911 г.
Запрос С.-Петербургского Окружного суда о местопребывании Голенищева. Ответ: «Голенищев проживает в настоящее время в Каире, постоянное место жительства его за границей: город Ницца, где Голенищев имеет собственный дом» (Nica. rue de la Buffa, 44)1.
МЕТРИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
В метрической книге Исаакиевского собора под № 11 значится: у царскосельского первой гильдии купца Симеона Васильевича Голенищева и законной жены его Софии Гавриловны, обоих православного вероисповедания, первобрачных, сын Владимир родился семнадцатого генва- ря, а крещен 4 февраля 1856 г. Восприемниками были: пятигорской гильдии купец Петр Васильев Голенищев и жена с.петербургского 3й гильдии купца Иосифа Александрова Леонтьева, Александра Михайловна. Ген- варя 10 дня 1857 года.
Член консистории протоиерей Андрей Окунев Секретарь Орлов
Князь Сергей Никитич Трубецкой (1829—1899)
Из Формулярного списка о службе С. Н.Трубецкого2
Родился 9 июня 1829 г. В послужном списке его участие в походах и сражениях: в Венгрии в составе гвардейского корпуса (1849), против горцев в Шапсугском отряде (1860), перечислены сражения и «истребление аулов» (таких записей в послужном списке очень много!). В 1866 г. — произведен в генерал-майоры с назначением состоять при Его Императорском Высочестве наместнике Кавказском и главнокомандующем Кавказской армией. 1871 г. — назначен в свиту Его Императорского Величества с оставлением в должности Директора походной Канцелярии наместника Кавказского. Имеет серебряные медали за покорение Чечни и Дагестана в 1857—1859 гг. и Западного Кавказа в 1859—1864 гг. Участвовал в сражениях против турок (1877—78) при Аладасе и взятии Карса, в 1866 г. «производил в Кронштадте исследование о покраже пороха» с форта «Император Павел I», в 1868 г. усмирил Закатальское восстание («возмущение»). В 1878 г. вел переговоры с турецкими уполномоченными о сдаче Батума и вступил в него с русскими войсками (и за эти дела получил ордена).
Именным Высочайшим указом, данным Правительствующему Сенату, Всемилостивейше пожалован 30 августа 1888 г. в Обер-Гофмар- шалы Высочайшего Двора.
1 Далее в личном деле В.С.Голенищева находятся сведения о предоставленных ему с 16 апреля 1915 г. отпусках за границу, которые периодически продлевались. 13 января 1917 г. отпуск был продлен еще на 6 месяцев. B.C.Голенищев из отпуска так и не вернулся, продолжая жить за границей.
2 Формулярный список о службе временно заведывающего Императорским Эрмитажем Обер-Гофмаршала Двора Его Императорского Величества, князя Сергея Никитича Трубецкого. 1899 г. См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 12, ед. хр. 77, л. 190-199.
II Материалы и документы
238
31 октября 1888 г.
Письмо Воронцова-Дашкова на имя С.Н.Трубецкого о том, что Государь Император Высочайше «изволил повелеть: за увольнением Гофмейстера Васильчикова от должности Директора Императорского Эрмитажа, заведывание Императорским Эрмитажем временно, впредь до особого распоряжения возложить на Ваше Сиятельство».
См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 12, ед. хр. 77, л. 1 17 июня 1889 г.
Воронцов-Дашков извещает о командировке Трубецкого за границу1 «для ознакомления с настоящим состоянием наиболее известных иностранных музеев и с теми в устройстве этих учреждений особенностями, которые полезно иметь в виду управлению Императорского Эрмитажа» (см. там же, л. 3).
ТЕЛЕГРАММА
«Смету на 1892 г. по прошлогоднему представьте если до 1 ноября отложить нельзя. Князь Трубецкой»2 (см. л. 19).
РАСПИСКА
«Содержание за (названы разные месяцы. — Б.П.) месяц 1892 года девятьсот семьдесят девять рублей 99 коп. получил»3 (см. л. 22-26).
ЗАПИСКА КАРАНДАШОМ
Тело скончавшегося в Берлине Обер-Гофмаршала князя Сергея Никитича Трубецкого прибудет во Вторник 15 июня в 7 ч. 45 м. утра на Варшавский вокзал, откуда последует вынос в Новодевичий монастырь для погребения после обедни, которая начнется в 11 утра (умер 2 июня 1899 г.) (см. л. 220).
Иван Александрович Всеволжский
Из Формулярного списка о службе И.А.Всеволжского4
Родился 21 марта 1835 г., окончил Петербургский университет в 1856 г. Определен на службу в Азиатский Департамент канцелярским чиновником (1856), затем помощником столоначальника (март 1858), откомандирован Министерством иностранных дел в Миссию в Гааге (октябрь 1858), пожаловано звание камер-юнкера Двора Его Императорского Величества (январь 1860), причислен к канцелярии Министерства Иностранных дел (февраль 1864). Назначен чиновником Особых поручений
VI класса при Вице-Канцлере (апрель 1864). Назначен первым секретарем Министерства иностранных дел (декабрь 1870), назначен состоять при посольстве в Париже сверх штата (июнь 1876), назначен Директором Императорских С.Петербургских и Московских театров (сентябрь 1881). Утвержден в должности Директора Императорских театров с производством в тайные советники (апрель 1886), стал Обер-Гофмейстером Двора Его Императорского Величества (май 1896), избран почетным членом Академии художеств (декабрь 1904). В день 50-летия служебной деятельности пожалован портретом Его Императорского Величества (1906).
1 На время отсутствия С.Н.Трубецкого заведование Эрмитажем возлагалось на
А.А.Куника.
2 Телеграмма С.Н.Трубецкого из Тиф¬
лиса.
3 Расписка С.Н.Трубецкого. Его жалованье составляло 653 руб. 33 к., столовые 326 руб. 66 коп.
4 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 12, ед. хр. 20, л. 13-25.
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
239
Иван Александрович Всеволожский (1835-1909).
Фотография
II Материалы и документы
240
j*?/
ЯИЙНЙ*^) ^
ДВОРА. ' v 111Л met э%с If
Г
ы. cbcvi л №9ъ
(fywxozoxvvit ггил/1 ъ
11 .■£* Sf, j, Л у Ъал-хл-хъл^х ъ ~
№tjj &IUbrtvy fe^/умь
^ сего ckos1л ; ыкьрсФг пгоууъ
уУ. -
^11лФп^рат<^рсйф^я:^
clii axm poSb, 0&сръ - Socfy •
.11 f itc m<rps ^){xrpa S?<? ^ILvuxepevrnopeftixt о CBc'iwiccm&cv (&сс£ю- *КП\СС%УУ\Л' @>CC«VIVI4.гО -
наш* ^/M> £!lVt^frtru?pcwi?> rupcvmopcfia го <9рл ш -
truT^v<%x, cb ocrrux^ietiir^» (f’cVpi-
^C^H^VlCtTl^X444 Ъ •
(f) mil fj^£cnV (BvtCOta44t^w»i ^адуь cooSxvijX+o ^Цллги’ратор - cfu\4xij typ/wtxttuvtocy.
^и?р«хл^-е4^ьл1га>1тг е/оугы,
(Bjxvutfmw? 6rHjw бакп t\i и сЧа m «а
pi сю Г< pC m 6a , ii cl& татж» (*mamcf*ii'i Й*^»пти^
Уведомление Министерства Императорского Двора о назначении И.А.Всеволожского Директором Императорского Эрмитажа. 1899 г.
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
241
Иностранные ордена: Нидерландский (1864), Португальский (1865), Французский Офицерский почетный легион (1873), Болгарский (1883), Персидский (1884), Черногорский (1893), Австрийский (1894), Прусский (1897), Сиамский (1897), Абиссинский (1897), Японский (1897), Румынский (1898).
Министр Императорского Двора. Императорскому Эрмитажу. 23 июля 1899 г.
Высочайшим указом, данным Правительствующему Сенату в 22-й день сего июля, Директор Императорских Театров, Обер-Гофмейстер Двора Его Императорского Величества Всеволжский Всемилостивейше назначен Директором Императорского Эрмитажа, с оставлением Обер-Гофмейстером.
О таковой Высочайшей воле сообщаю Императорскому Эрмитажу.
Генерал-Адъютант Барон Фредерикс Временно Заведывающий Канцеляриею Министерства, Действительный Статский Советник Злобин1
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 12, ед. хр. 20, л. 1.
Извещение о том, что И.А.Всеволжский 27 июля 1899 года прибудет в полдень в Эрмитаж, «дабы познакомиться со служащими в нем»2 (см. там же, л. 2).
От должности Директора театров Всеволжский был освобожден, однако с сохранением содержания, которое «производилось по должности Директора Императорских театров: жалованье 4000 руб., столовых 2000 руб., разъездных 2000 руб., всего 10000 руб. в год, с отводом Вам помещения в Императорском Зимнем Дворце, которое занимал бывший Обер-Гофмаршал князь Трубецкой». Подпись барона Фредерикса. (См. там же, л. 3 об.)
Министр Императорского Двора. И.А.Всеволжскому. 3 февраля 1903 г.
Милостивый государь Иванъ Александровичъ.
Имею честь сообщить, что Государю Императору благополучно было Всемилостивейше соизволить на предоставление Вашему Высокопревосходительству, на летнее время сего года, помещения на Елагинском острове, во флигеле Его Императорского Высочества Государя Наследника, которое Вы занимали в прежние годы.
Сообщая о таковомъ Высочайшемъ соизволении, имею честь просить Ваше Высокопревосходительство принять уверение въ совершенном почтении и преданности.
Барон Фредерикс
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 12, ед. хр. 20, л. 68.
Иван Александрович Всеволжский скончался 28 октября 1909 года. В Архиве ГЭ хранится документ, содержащий оплату певчих на панихиде, венков, восковых свечей. На венки подписались: Б.К.Веселовский, О.Ф.Ретов-
1 На документе с левой стороны текс- А.Сидоров, М.Сидоров, Г.Кизерицкий, М.Чи-
та надпись: «Предъявить чинам Эрмитажа за жов, барон Ливен...
Директора А.Сомов. Г.Кизерицкий».
2 Подписи в прочтении: Евг. Придик,
II Материалы и документы
242
ский, ДАШмидт, ГАКоскуль, Э.КЛипгарт, М.АЧижов, B.C.Голенищев,
О.Ф.Вальдгауер, ААТрубников, С.Н.Тройницкий, Л.Н.Углова, САГама-
лов-Чураев, А.Н. Кубе и др.
Дмитрий Иванович Толстой (1860—1940) 1
Из личного дела Д.И.Толстого2
1883 Окончил юридический факультет С.Петербургского университета.
1884 Определен на службу в Департамент внутренних сношений (Министерство иностранных дел) чиновником сверх штата.
1889 Пожалован в церемониймейстеры Высочайшего Двора.
1901 Уволен, согласно прошению, от должности чиновника особых поручений VI класса при Министерстве иностранных дел, с оставлением церемониймейстером в ведомстве Министерства. «Повелено быть товарищем Управляющего Русским музеем императора Александра III».
1909 «В первый день декабря 1909 г. Всемилостивейше повелено ему быть Директором Императорского Эрмитажа, с оставлением его церемониймейстером и состоящим в ведомстве Министерства иностранных дел». Подпись барона Фредерикса.
1910 С 15 июля по 15 сентября находился в командировке за границей для посещения иностранных музеев.
1911 Находился в Риме на открытии Международной выставки. Председатель комиссии по наблюдению за производством работ по устройству отопления и вентиляции в зданиях Императорского Эрмитажа. С 15 августа по 6 октября командировка за границу (его замещает Э.Э.Ленц).
1914 В феврале утвержден в должности ктитора церкви св. Михаила Архангела в селе Чертовицком.
1915 О пособии женам призванных на военную службу служителей и сторожей Императорского Эрмитажа.
1916 Назначен членом Особого совещания при Министерстве юстиции для выработки законоположения об охранении памятников древнерусской иконописи (письмо министра юстиции А.Хвостова). Выбран «членом Суда чести Министерства иностранных дел на 1916-1918 гг.»3.
10 АПРЕЛЯ 1917 г.
Письмо временно исполняющего обязанности Директора Института истории искусств (Исаакиевская пл., 5) В.Н.Ракинта об избрании Д.И.Толстого почетным членом института. В апреле дано разрешение на поездку в Киев, с пребыванием там одного месяца (заместитель Я.И.Смирнов). Вернулся в июле 1917 г.
27 мая 1918 г.
«Вследствие расстроенного здоровья, а также положения моих личных дел, я нуждаюсь в отпуске, ввиду чего позволяю себе с согласия Совета и Исполнительного комитета Эрмитажа обратиться к Вам г. Комиссар
1 Дмитрий Иванович Толстой родился 30 мая 1860 г. Умер в 1940 г. в Ницце.
2 См. Архив ГЭ, ф 1, оп. 12 л/с, ед. хр. 74.
3 Граф Д.И.Толстой, Н.И.Маслов, КА.Засецкий от избрания отказались.
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
243
Дмитрий Иванович Толстой (1860—1940). Фотография
II Материалы и документы
244
Борис (Бернгард) Васильевич Кёне Эдуард Каспарович Муральт
(1817-1886). (1808-1895).
Литографированная фотография Литографированная фотография
Арист Аристович Куник Лудольф Эдуардович Стефани
(1814-1899). (1816-1887).
Фотография Литографированная фотография
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
245
(адресовано А.В.Луначарскому. — Б.П.) с просьбой о разрешении мне воспользоваться двухмесячным отпуском в г. Киев с сохранением содержания, и о выдаче мне пропуска для проезда в этот город и обратного возвращения к месту службы в Петербург. Председатель Исполнительного комитета, Директор Д.И.Толстой». Отпуск предоставлен и продлен Народным Комиссариатом имуществ Республики РСФСР.
28 сентября 1918 г.
В Административный отдел Комиссариата имуществ Республики: Управление делами Эрмитажа уведомляет для опубликования, что приказом от 26 октября № 68 «Директор Эрмитажа Д.И.Толстой увольняется, согласно прошения, в отставку, с 1 сего сентября, Зав. Отделом драгоценностей С.Н.Тройницкому предлагаю исполнять обязанности Директора Эрмитажа с уплатой ему жалованья по окладу Директора, считая с 1 сентября сего года. Комиссар Эрмитажа Пунин».
26 ноября 1918 г.
«Уведомление. Выдано сие Управлением делами Эрмитажа Марье Андреевне Ковалевской в том, что с разрешения тов. Комиссара ей дозволено вывезти принадлежащие Д.И.Толстому домашние вещи из бывшей его квартиры». Подписано Управляющим делами Войновым.
О пополнении коллекции
1864 Покупка из коллекции графа Литта (Милан) «Мадонны Литта» и трех других картин итальянской школы.
1870 «Мадонна Конестабиле» из собрания графа Конестабиле.
1882 Фреска Беато Анджелико «Мадонна со святыми», передача картин из пригородных музеев.
Рембрандт «Давид и Ионафан» из Монплезира, Тьеполо «Меценат перед Августом» из Гатчины. Приобретения античных собраний Сабурова и Блудова.
1885 Приобретение коллекции А.П.Базилевского; передача собрания оружия из Царскосельского арсенала.
1886 Из Голицынского музея — прикладное искусство XVIII в.
1910 Приобретение коллекции П.П.Семенова-Тян-Шанского.
1911—1912 Поступления древностей из Археологической комиссии. Коллекция Хитрово.
Научная работа (с 1850 по 1900 г.)
Хотя самым значительным собранием Эрмитажа была его Картинная галерея, научная работа интенсивно производилась с 1851 г. в других отделах, особенно в античном и в отделе нумизматики, а также по Востоку (М.Броссе, В.С.Голенищев).
ОТДЕЛ АНТИЧНОГО МИРА
Научная работа началась с привлечения академика Е.Е.Кёлера1, но его труды прямо не касались памятников искусства, он отдавал предпочтение античной нумизматике, и эрмитажные нумизматы с полным пра-
1 Академик Кёлер, Генрих Карл Эрнст наук с 1803 г., академик с 1817 г. по лите- (Егор Егорович) (КбЫег,Heinrich Karl Ernst) ратуре и древностям греческим и римским. (1765—1838) — историк-археолог. Был Его труды изданы под редакцией Л.Стефа- смотрителем (заведующим) 1го отделения ни «КбЫег Gesammelte Schriften» (СПб., Эрмитажа. Член-корреспондент Академии 1850—53).
И Материалы и документы
246
вом считают его своим. Ф.Б.Грефе уделял большое внимание эпиграфическим памятникам античности1. Академик Л.Стефани2, который заменил Е.Кёлера, прямо занимался античными древностями. В 1854 г. был издан капитальный труд «Древности Босфора Киммерийского», который числился за «неутомимым дилетантом» Ф.Жилем, но основную работу провел Л.Стефани, издавший в 1856 г. первый путеводитель по античным древностям Эрмитажа. Затем С.Гедеонов в 60-х годах XIX в. издал небольшую книжку «Галерея древней скульптуры» (второе издание 1886 г., переизданное с иллюстрациями в 1901 г. с предисловием Г.Кизерицкого). В 1873 г. вышла анонимная книжечка «Расписные вазы». В 1889 г. — работа Л.Стефани «Собрание ваз» (с отдельными таблицами).
1 Грефе Федор Богданович (Grafe Christian Friedrich) (1780—30.XI.1851), филолог-классик, академик с марта 1820 г. по греческой и римской словесности.
2 Стефани Лудольф Эдуардович (1816— 1887). Крупный античник. Историк и архео¬
лог по греческим и римским древностям. Долгое время жил в Греции и Италии, академик с 1850 г. Директор египетского музея при Академии и хранитель античного отдела Императорского Эрмитажа. Активный член Императорской Археологической комиссии.
ОТДЕЛ НУМИЗМАТИКИ
С образованием Нового Эрмитажа (и до него) Отдел нумизматики в своем составе имел выдающихся русских ученых, антиковедов и историков России. С одной стороны, углубленные работы в области нумизматики приводили к историческим обобщениям, а с другой стороны, исторические труды в области хронологии обращались к нумизматике (по античности — академики Ф.Круг, Е.Кёлер, по восточной нумизматике — М.Броссе3, по русской нумизматике — академик А.Куник4, по западноевропейской и русской — Б.Кёне5).
з Броссе Марий Иванович (Brosset Marie-Felicite) (1802—1880). Крупнейший востоковед, связавший свою жизнь с Россией. В 1827—1836 гг. в журнале парижского Азиатского общества были помещены его статьи по Закавказью. С 1836 г. академик Петербургской
Академии наук. Вел археологические исследо¬
вания в Закавказье в 1847—1848 гг., на основании археологических и эпиграфических материалов написал историю средневековой столицы Армении — города Ани, изучал средневековые грузинские летописи, читал лекции в Петербургском университете, с 1842 г. состоял библиотекарем Публичной библиотеки, в 1851 г. назначен хранителем восточных монет в Эрмитаже, с 1864 г. был Директором нумизматического кабинета. В 1847 г.
избран членом Петербургской Академии наук.
4 Куник Арист Аристович (1814— 1899). Хранитель нумизматического музея Академии наук. Крупный историк. Академик Петербургской Академии наук с 1850 г. С 1859 г. начал работать в Эрмитаже.
5 Кёне Борис Васильевич (1817—1886). Крупный нумизмат и геральдик. Советник по ученой части Императорского Эрмитажа, хранитель Отдела нумизматики Эрмитажа, начальник гербового отделения Департамента геральдии Правительствующего Сената. Один из организаторов Русского археологического общества, был его секретарем (1846). Автор книги «Исследование об истории и древностях Херсонеса Таврического» (СПб., 1848).
ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА
До 1860 г., приезда в Петербург директора картинной галереи Берлинского музея Г.Вагена, изучение картин западноевропейских художников было на дилетантском уровне, хотя издавались каталоги и альбомы. Каталог 1863 г. вышел в трех томах. Научное изучение собрания началось с А.И.Сомова,
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
247
Андрей Иванович Сомов (1830—1909). Эдуард Эдуардович Ленц (1856—1919). Литография Фотография
Эрнест Карлович Липгарт (1847—1932). Фотография
II Материалы и документы
248
Лист рукописи с планом нижнего и антресольного этажей Старого (или Большого) Эрмитажа, перестроенных в 1828 г. архитектором Л.И.Шарлеманем для Государственного Совета и Комитета министров
Посуд АРСТЙЕКИЫИ СО ft ет
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
249
возглавлявшего галерею с 1885 по 1909 г. Он сосредоточил свое внимание на составлении каталогов: том I (итальянская и испанская школа) — четыре издания с 1889—1901 гг., том II (голландская, фламандская и немецкая школы) — три издания с 1893 по 1902 г.; том III (французская и английская школы) — четыре издания с 1895 г. Эти каталоги были на уровне европейского искусствознания того времени.
Директора Эрмитажа и их ученые помощники
С.А.Гедеонов (VI. 1863—X. 1878)
В 1863 г. «ученым советником» директора Эрмитажа назначен нумизмат Б.В.Кёне. В Эрмитаже работали академик М.Броссе и академик Л.Стефани.
A.А.Васильчиков (II.1879-X.1888)
В Эрмитаже стали работать: В.С.Голенищев с 1880 г., Г.Е.Кизерицкий1 с 1880 г., Н.П.Кондаков2 с 1886 г., А.И.Сомов с 1886 г.
С.Н.Трубецкой (Х.1888—VI.1899)
С 1859 г. в Эрмитаже начал работать академик А.А.Куник. На время отсутствия С.Н.Трубецкого на него было возложено заведование Эрмитажем. После смерти С.Н.Трубецкого за директора подписывались А.Сомов и Г.Кизерицкий.
И.А.Всеволжский (VII.1899—X.1909)
В Эрмитаже работали А.Сомов и Г.Кизерицкий; затем: 1898 — Я.И.Смир- нов; 1901 — Д.А.Шмидт; Э.КЛипгарт; 1903 — Э.ЭЛенц.
Д.И.Толстой (XII.1909-IX.1918)
С 1910 г. в Эрмитаже начал работать А.Н.Кубе. Академик Я.И.Смир- нов в 1917 г. замещал Д.И.Толстого.
Министры Императорского Двора
П.М.Волконский (1776—1852)
Петр Михайлович Волконский, князь, генерал-фельдмаршал. В день коронации Павла I назначен министром Императорского Двора.
B.Ф.Адлерберг (1791—1884)
Владимир Федорович Адлерберг, с 1817 г. адъютант Великого князя Николая Павловича, помощник следственной комиссии по декабристам. 1852—1870 — министр Императорского Двора.
А.В.Адлерберг (1818—1889)
Александр Владимирович Адлерберг, с 1870 г. по 1881 г. — министр Императорского Двора.
Государственный Совет и Комитет министров в Старом Эрмитаже 3
В 1828 г. нижний и антресольный этаж Старого Эрмитажа были перестроены архитектором Л.И.Шарлеманем 2-м для Государственного Совета и Комитета министров. В 1850 г. перестроен архитектором А.И.Шта- кеншнейдером (нынешнее состояние).
Комитет министров: 1 — гардероб; 2 — дежурный фельд-ку-
I Кизерицкий Гангольф Егорович 2 Кондаков Никодим Павлович (1844—
(1847—1903). С 1880 г. помощник хранителя 1925). Академик (1898). Крупный историк древностей Эрмитажа и Ученый хранитель древнерусского и византийского искусства. С Музея классической археологии до его пере- 1886 г. старший хранитель Отделения Сред- дачи в 1894 г. в Эрмитаж. С 1886 г. старший них веков и эпохи Возрождения в Импера- хранитель Эрмитажа. Написал инвентарь торском Эрмитаже.
Отдела древностей. з См. ил. на с. 248. — Примеч. ред.
II Материалы и документы
250
рьер; 3 — комната для завтрака; 4 — общее присутствие (зал заседаний); 5 — канцелярия. Квартира «Майора от ворот» Зимнего дворца.
Государственный Совет: 1 — канцелярия; 2 — гардероб чиновников; 3 — комната статс-секретарей; 4 — гардероб; 5 — комната для завтрака; 6 — передняя; 7 — общее присутствие (зал заседаний); 8 — Советский подъезд.
Нумизматические коллекции 1
Д.П.Бутурлин, получивший от Александра I поручение заботиться
об Эрмитаже (его ошибочно именуют Директором Эрмитажа), дал распоряжение хранителям музея представить сведения о составе коллекций.
По его записке 1803 г. (или 1804) нумизматические коллекции Эрмитажа насчитывали более 15 тысяч монет и медалей. Вместе с тем начался учет коллекций и была заведена книга новых поступлений.
В 1805 г. Минцкабинет был перенесен со второго в изолированные комнаты третьего этажа Фельтеновского здания.
Во время эвакуации 1812 г. ящики были упакованы, остались в Петербурге и долгое время не распаковывались.
При Кёлере в Минцкабинете два раза были кражи: в конце 1827 г. из шкафа похищены 32 золотых и серебряных монеты боспорских царей. Большая часть была возвращена полицией; в 1837 г. похищено 67 золотых монет и медалей. По-видимому, большинство из них было возвращено. Это случилось за месяц до смерти Кёлера.
Росту нумизматических коллекций Эрмитажа способствовали чиновники русской дипломатической службы, особенно работавшие в странах Востока.
В Минцкабинете Эрмитажа с 1804 г. работал академик Петербургской Академии наук Ф. И.Круг, но его работа не была активной. В середине 1837 г. Кёлер, уже больной, уволился и начальником I отделения стал Карл Иванович Седжер (1788—1840). После Седжера начальником I отделения стал Ф.А.Жиль (1804—1865), принимавший непосредственное участие в работе Минцкабинета. С 1845 г. в Минцкабинете стал работать Бернгард (Борис Васильевич) Кёне (1817—1886), развивший бурную деятельность, но он был принужден в 1850 г. оставить Минцкабинет, его работы в области нумизматики были не только неудачны, но и «скандальны». В конце 1840-х и в 1850-х годах Минцкабинет Эрмитажа собрал сильный по составу научный коллектив: М.И.Броссе (1802-1880), А.А.Куник (1814-1899).
5 февраля 1852 г. открылся Новый Эрмитаж, и нумизматическая коллекция получила два зала: нынешний зал оружия и угловой. В 1865 г. Минцкабинет стал именоваться Отделением монет и медалей, его руководителем, старшим хранителем стал М.И.Броссе. Деятельность его стала активной особенно потому, что с 1859 г. Императорская Археологическая комиссия стала распоряжаться всеми монетными кладами из территории Российской империи. Кроме того, было очень много покупок коллекций как в России, так и за рубежом.
1 См. статью И.Г.Спасского в сб. «Ну¬
мизматика и эпиграфика». VIII, 1970, с. 123— 234. В статье обстоятельно дана история Отдела нумизматики, перечислены все работники отдела с краткой характеристикой
их деятельности, даны сведения о поступивших в Эрмитаж коллекциях, с приведением портретов коллекционеров. Показано, что в отделе проводилась громадная научная работа с участием крупнейших специалистов.
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
251
УХО n.fcwtfri’iH>A4 , Юл& р.С.КЦли^
<ЖГ 1886
U. vU/wxp а^ллл-ц^ч мл>/\ ^pvU-cuvNA.Дли ( НА tL^usMUujS p. Н-еАч* и (о оо-С илдЮ
Ди«.АЛЛСОК-КДиГ ^МЛАХ)|к), СЛ*>у.10 ч - l7V
^UMuua до-цмьи A -U^vu Э-р-илммжлил р«моши^йлМк # сллу^'^'
VUyxSKu CuUtSytO^JU) VU. ltO*JL«AJUU^UM '. •) (Ж-А^хХ\Л/У\*л^-иЛХ У^О~ил£лЪ вЖ-ихГ lUUt fyoXu-СЦ) |>Мл^а ) WlCUl Ц g-a->l 11Л п I?ч 1 и f JUAu-ЛЛАД/Ч)-^ ЮьВчЛ-О C^XUXUA.- kitXMsO&iA и илес » 2.^ J)^A/iu<o-6*-<t. (Uaa^<ъй * 3} ро-МА-ихиХ«< С*, 4) fyxiivM) CWJUl ГГос^
у(л^и .1. Y“ оаллл , V>^U-vv«4A> (S'o-oJUjuauio *гахлдхЛ« ил иладиж Россилх , аЛ<
U*«.<J в S^jj2^-*-0 СЛАЛА* Д^ЛЛХСЛМАА ЮОчХОЛДЛил 'j s) и-<Х~ихжЛ иждд рдлл^л-lt VAA-AAAA-CaS
"Дихл*. илллллул* -ДХу-ООААД KXOU) в-ихижхх *-С C^r«-*UAAj Ьл>-сллх-0-аж bwvfi>^ \ ь) хим-хл* и 4-хлЗ аихи j иихллдлллл с. A^jiXvuai ихн.у ; и 7) <y«UAAvu-fl*kA>Ax рл*л_*^чхли>-( >4*^*Ьг>иЛ*ЛА в U^ojjl/ulcavUU. Фч> (2.0-0-0 wwwa,щм>*. - VW<^ ^ аахл^
ЛЯллАрл Р>*~и>-ичЛл , v\^0 сва-илеидАхЛ 'р а^хДолЛОдЫи. vyjt^uxxwuuU u-cu-^xcvuA^- и
rY4^*~<JL-<\^AXvUeXLWjO ЬЛЛД-U | 1 -^уу» р и ту-j i ^ хдд^ил Keu\»a-J-5ww* о-\Гуллл-и» Олл-идуи/ и. aXwJUM*
>MkW e^UUCuLUAO 0-СЛО>8 АЛЛЛАО->> l^JlAVy^-«r^^/VA J Д Q-aA-V^~N> *^-Os>-VkYX-W-0-^ ОЧЛЛл! ^ оил*
P о ад. алсо-Сл^с. и Д с—щ/х*» ллчм^ьилхЛ-^ &хии)едГ" • Ю<»)
ЭрАхлхлууДли С АЛлд.Хчххиллхи>й') | **Л VXC4V4X^4jUjULULJU ихохо» ^ аХчлрлучА , £
VUC/VU^IMa UA^e«-U - A ХЛАл-ЛЧЛЫ^ к ) л W-«UU/VUje 5"о<л-£иАсчс wyv^A3vxxxu>^ ; ft-0 ®4-E- ‘Хчллла.с/'
ЛЛИ PfXi.cH ru^a C/yva-Wj-CVvvi t/uJL&A> w-ftJEate , с с^эайумххл vv^> u-cou4 » <*vv 10 ^~° 4 7 -
AWui-b^ixu , e. < CjU-iavuJ-JV>> ‘'UJ <p li^sОхдД - UVW 10 So *i-». 'Ли^ч-o^L^ibvu . К о схилуум^
Д Q^yjyosuu У\хллл^э a. R> ыламл* и 8y^w-<^ «лилЛч( Buw)u«' v'-o «-Д^^ихиллй-ои 9wx^>cua -.
w/yvw> КД u-члад VUMC 1АЖ> ^иждиллсгд» ^ и. ид S'owUu , va-лах. уЛч> Z0 imjl . S о^д-о ^
^ичхлллх! ^чм^аихчиЛ ) ц^-ооад б-о соу^еллдчдх &vca^> и *Гоа£ ujuax >л^7 <хл-^у.дх и_о-^ > в
\СОм^a^u^uuu* 'd^pjuu<j^wiаллл-л , ww К 6-о 1т. и-оичм^Эи-u- '
*£> О^алл. ууАл^«>^-\дА1\хЖ> (лл-лл с cmjUxa. „ 0-JVaj вхо р еи^лл* Uuau-Mxjua , с v\-yaJVuiU>u А в-*Ди>^>
и. СХААДХХ^Л <ХдАА>АяхЛХ ^4M>VWV»X^VW^.
^cu^uw^ ИХ - .) ^-идлП^
(*V0 V^MXUVA^ Uxtvu^t) ,z) OWU^XM ^р^иМАПЛАли
и ,»)
,0 ^ K^, и Ч-, to M!y),4)W
^VJXCUVVAAU ".
<b ^ААДЛАЛАОлиЧ. КО-МД^ UaVjuX </VU>~M) 0. lHl-0
vm^wouaa , УД, >|UAU>V)U5ULU 1*ГЬ I (<J'^U ДиоаХиМ. tu Д Глг.Д «4 I I j vv VJ^VO-JJkl. VWWO J U^WWUAy (^JtUAXM^ >U^\$t/yua*aaal*4 • v4 . JU C\A\v6 U-i«- > А»
«Л*» (Длисо , ft i Ц.Ц.оА«.И (ЛЭ , Л . WJL <JJUu>fi* > Л •
(VtAUU^ <иг\ХО-Йд » <л . t/Uy^yllm. , kft . tUjufV^xi^. ) U. hT|Vvoua-a»-4< v 0 » V6u-vyX»AAA*-«A<> I V' K4, «Д1. 1д*.^й. , A - (X^vCоАсачлЛ I с. u^ вД^ССЧА , U , JV-u Ал . VwAtAUA4 VA, &p .
Лист рукописи с изложением текста, посвященного Эрмитажу, в издании «Путеводитель по Петербургу» под редакцией Р.С.Попова. (Спб.,1886) и планом Нового Эрмитажа
II Материалы и документы
252
ic*puwt«
ил ЛЛ±ЛЛхл Wjy-vAXLAA •
[ihbt*- UA аиМЛХ
Л lx> wuy^-D KiuwuAAuA (to С^АлД-л 'YmTU^ о-ио-л й*А & JWcuUau * И77 И 14 82v>).
(зТ) Рй^й^Л-М) • <4- C4-UJLUMT*i* С ci . U-Oou_^*J. ^Лл «fly-**-*4) * Л°
Д*А^АМАААА»-саЛаа> 5wU3 th&VA. «А 4jUo3v\Mi ) кЧЛАЛ-**"^ HAMXf
CC4 « IVTK>1. flvtJi 'Ч/'М «П.Л 1ЛЛЛДЧХ*г» (к OyWVUAAlA. >rtAA И^лА-ИаК. UA**#9-|~
Ji&xJ Q lOuU^JU Mf-Ujl/U M ny^O-^W-UAL JVuA»
«^VWfWV*; ^-a U O-UJbt^HUAAul 'HCA*JUyvVAAJblV^ ^ л |A J С~У*Л~М
rvuu* U йЦ>чНк a-
(793 p«^Vaa^va . (Wv^jw, HMJJJL <S"ou^vuax3 ( vm^-AKAUUfl.. 'ТГЛАЛ
'Д^А.ч*Х*ЛА ДА. С«1К» UAA&fW'P')- £ «ЛСЙvAjO ДааааЛААЖ НА/^ЛГЛСЫл. ^*1»А»Ли UAL l^lMA. J
(jO?X) VUv^. TVUaaa^ C^rv^u^ (VY-^^АЛ АЛо*\и*Т\мИ <^Ш-
СОСЛАЛА VM/^AV\AAAL*. и чели - 70. «НЮ Cpi* *ло*»4 ) •
<5И> ^ ‘VO^-C V-C . 'I V**^ '*JUL > y^yvuL»^**A^yvuu & JUAv * i А Гу\Л^ ил^-wwAo-jj
S <W\-jLAAAAA-0 IV“TH5 С^Х^УЧЛЛЛ. Un^j .
^■"^VUAAAJM * Роид WA 4 СААААХЛЛ-4. >Wl>vuAAAAAA«f 4 iOOJl АмЛ JL. WWLe 0-Д W-*uJ
Лист рукописи с изложением текста, посвященного Эрмитажу, в издании «Путеводитель по Петербургу» под редакцией Р.С.Попова. (Спб.,1886) и планом Малого Эрмитажа
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
253
После Броссе руководителем отделения нумизматики стал А.И.Гримм, а его помощником Ю.Б.Иверсен. При Иверсене помощником хранителя стал работать Алексей Константинович Марков (1858—1920) — с 1888 г. После смерти Иверсена он стал старшим хранителем отделения, а на освободившуюся вакансию хранителя был принят Отто Фердинандо- вич Ретовский (1849—1925). Без содержания к Эрмитажу был приписан Степан Артемьевич Гамадов-Чураев (1857—1923).
С 1910 г. в отделении стал работать Роман Романович Фасмер (1888—1938), сотрудником по вольному найму работал и синолог Василий Михайлович Алексеев (1881—1951). С 1912 г. начал работать Николай Павлович Бауер (1888—1942). Впоследствии А.А.Ильин (1858— 1942), А.Н.Зограф (1889-1942), А.А.Быков (1896-1977).
Таким образом, в работе нумизматического отдела Эрмитажа принимало большое количество ученых-востоковедов, историков Западной Европы и России.
Императорский Эрмитаж 1
«Кроме картинной галереи в Музее Эрмитажа размещены в стройном порядке следующие коллекции: 1) скульптурных произведений как древнего резца, так и величайших мастеров нового времени — Кановы и Торвальдсена; 2) бронзовых вещей; 3) расписных сосудов; 4) древностей Босфора Киммерийского, добытых большей частью из Южной России, где находились в древности греческие колонии; 5) камеев или резных камней, в числе которых многие не оценены по своему достоинству; 6) монет и медалей, начиная с древнейших, и 7) оригинальных рисунков художников в количестве до 12 ООО экземпляров. Там же находится галерея Петра Великого, посвященная различным предметам искусства и промышленности, изображающая наглядным образом жизнь и деятельность великого основателя Петербурга, галерея портретов особ Дома Романовых и галерея драгоценных вещей» (с. 106).
«Эрмитаж (вход, с Миллионной), за исключением июля и августа, в каждой неделе — пятницы, а также больших праздников, во все остальное время года открыт ежедневно, с февраля по июль, от 10 до 4 часов пополудни, а с сентября по февраль — от 10 до 3 часов пополудни. К осмотру галереи Петра Великого и драгоценных вещей посетители пускаются не иначе как по билетам и не более, как по 20 человек в одно время; билеты выдаются, кроме воскресных дней и больших праздников, в канцелярии Эрмитажа, от 11 до 1 часа пополудни».
Далее приводится описание «общего расположения», с перечнем залов и указанием основных экспонатов.
Описание делится на: 1) Эрмитаж (по проекту Кленце), 2) Старый Эрмитаж Екатерины И, 3) Второй, или новый, Эрмитаж императрицы Екатерины II (состоит из 10 комнат на Неву и 4-х во двор), 4) «Театр Эрмитаж».
В Эрмитаже находится около 2000 картин, на экспозиции 1561 (все они перечислены по залам) и, кроме того, картины русских худож¬
1 См. Путеводитель по Петербургу. Под
редакцией Р.С.Попова. СПб., 1886, с. 104—174.
II Материалы и документы
254
ников: А.Матвеева, А.Лосенко, В.Боровиковского, А.Иванова, А.Венеци- анова, А.Егорова, В.Шебуева, К.Брюллова, О.Кипренского, Ф.Бруни, Т.Неффа, А.Орловского, С.Щедрина, И.Айвазовского и др.
ИЗ ОПИСАНИЙ КАРТИН
13 Литтова Богоматерь (одна из самых древних картин, которую Леонардо написал во время пребывания его в Милане в 1477 и 1482 гг.). 37 Рафаэлло. Св. Семейство со св. Иосифом (без бороды). По всей вероятности это одна из двух Мадонн, которые Рафаэль написал в 1500 г. для герцога Урбинского (картина эта некогда находилась в галерее герцога Ангулемского и продана была Барруа, который дал ее очистить живописцу Вандику и затем уступил ее Кроза).
797 Рембрандт. Возвращение блудного сына; картина эта куплена за 6000 ливров (около многих картин указаны их цены. — Б .П.).
1052 Поттер. Жизнь охотника (приводится подробное описание картины и цена — 70 000 франков. — Б.П.).
1391 Рейнольдс. Геркулес, удушающий змей. За эту картину заплачено 1500 фунтов стерлингов. («Кузнецы» Райта в списке экспонатов в зале английской школы нет. — Б.П.у
ПОЯСНЕНИЕ к ПЛАНУ2 I — древнейший сосуды; II — гидрия из Кум (вазы); III — вазы; V — библиотека; VI — гравюры; VII — рисунки; VIII — гравюры; IX — скифские и сибирские древности; X — библиотека; Венера Таврическая; XI — зал муз; XII — Никопольская Керченская зала; XV — Август; XVI — Юпитер-громовержец; XVII — греко-римская скульптура; XVIII — Египет и Ассирия.
М.Н.Мамин-Сибиряк. Из прогулок по Петербургу 3
Характеристической особенностью петербуржца является то, что он чрезвычайно мало знает Петербург, именно те сокровища, которые можно видеть, изучать и которыми культурный человек наслаждается. Происходит это оттого, что таких сокровищ слишком много, и затем, что они всегда под рукой, следовательно, куда торопиться? Я уверен, что найдется немало таких коренных петербуржцев, которые совсем це бывали в Эрмитаже или бывали в нем 10—15 лет тому назад. Зато «наивный провинциал», приезжая в Петербург, считает своим долгом урвать свободную минуту, чтобы «обежать» столичные музеи и прежде всего, конечно, побывать в Эрмитаже...
В один из последних воскресных дней я отправился в Эрмитаж, в котором, по независящим обстоятельствам, не был лет пятнадцать.
...В обширной передней вас охватывает дремлющий полусвет и таинственное эхо осторожных шагов. Как где-нибудь в старинном храме.
Да, это и есть храм, храм искусства... Таинственный полусвет как нельзя больше идет к нижнему этажу, в котором парадно почивают почтенные древности Азии, Африки и Европы. На пространстве нескольких зал побратались разные исторические эпохи, климаты и народнос-
1 Эта картона была одной из любимых з См.: «Новости. Биржевая газета», картон Б.Б.Пиотровского. — Примеч. ред. 1891 г.
2 Императорский Эрмитаж в 1886 г.
Пояснения к плану Путеводителя Р.С.Попо- ва. См. с. 251 и с. 252. — Примеч. ред.
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
255
Кабинет скульптуры египетской
в Новом Эрмитаже (I этаж).
Акварель К.А.Ухтомского. 1858
II Материалы и документы
256
Зал греческой скульптуры
в Новом Эрмитаже (I этаж).
Акварель К.А.Ухтомского. 1853
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
257
ти. Здесь говорит каждый кусочек камня, глины, металла... Сорок веков похоронены под этими каменными изваяниями, архаическими рисунками, античной бронзой и терракотами...Все лучшее наследие выражается памятниками египетской древности: сколько в них царственного покоя, а угнетавшая всякого человека мысль об уничтожении точно окаменела и глядит на все застывшими каменными очами. Таинственные иероглифы, непривычное для нашего глаза сочетание красок, подавляющая массивность форм — все это заставляет вас сдерживать шаги, чтобы не разбудить векового сна этих мумий...
Не забывайте, что под этим камнем, металлом, глиной, краской и рисунками притаилась неумирающая история с ее кровью, слезами, не- сбывшимися надеждами и лучшими мыслями излюбленных людей. Ох, сколько слез и крови пролил этот ветхий человек и какое тяжелое наследие оставил он после себя, недаром большинство его богов отличаются грозной специальностью.
Сравнительно египетский отдел невелик. Гораздо богаче, полнее и в прямом смысле слова рельефнее его сосед — отдел античных древностей Греции и Рима. Светлая; ликующая, жизнерадостная Греция слетела сюда всем своим Олимпом: вот Зевс-громовержец, Афина Паллада, Посейдон, Эрот, целый рой муз, полубогов и героев, удостоившихся бессмертия. Здесь ветхий человек словно сразу стряхнул с себя все мрачные мысли и радостными глазами взглянул на свое голубое небо, на вечно шумящее море и прекрасную Грецию, эту жемчужину древнего мира... Здесь царит красота, вернее сказать — статика красоты, для выражения которой мрамор является лучшим материалом. Рядом с египетскими древностями Греция выделяется особенно рельефно: веет приморским теплом, уравновешенной мыслью, гармоническим чувством. От статуй переходим к предметам домашнего обихода древнего грека, к его украшениям и оружию — здесь, как на всем греческом, лежит печать тонкого художественного изящества, чувства меры и опять неумирающей красоты. И здесь царит эта античная красота, красота форм и линий... Невольно чувствуешь себя варваром, скифом, когда рассматриваешь все эти мелочи домашнего обихода, окружавшие древнего грека. Прежде всего он умел постичь вполне тайну своего греческого дня, скрыв от наших глаз разъедавшую его язву рабства... Оно, это рабство, съело впоследствии всю греческую цивилизацию, но от этой эпохи не осталось художественных памятников, потому что прекрасная Греция покрылась мраком.
Переходим к Риму, семихолмому Риму, залившему своей и чужой кровью всю всеобщую историю. Вот римские боги — обломки греческого Олимпа, переиначенные на свой римский лад. В них уже нет гармонической цельности греческих богов, а каждый живет и действует на свою голову. Эти римские божества мало говорят нашей душе, да и в жизни Рима едва ли они играли видную роль. Рим был весь на земле, всеми своими мыслями и чувствами, и в этом царстве крови и железа слишком мало осталось места для высших религиозных представлений, а о будущей жизни римлянин думал с точки зрения таинственных похорон и мавзолея. Но зато какой глубокий интерес представляют бюс¬
II Материалы и документы
258
ты знаменитых римлян, вскормленных железным молоком римской волчицы! Вот они, эти железные люди: Август, Юлий Цезарь, Брут, Сципион Африканский, Сулла, Марий... Для изображения этих лиц нужен не мрамор, а железо. Но тут же рядом кроткое чело тогдашнего живого слова — Саллюстия и Вергилия: эти имена прошли в истории «вечного города» как-то бочком, не попав в унисон с жестоким настоящим. Но всего интереснее, по моему мнению, целый ряд римских матрон, этих удивительных женщин, которые любили своих железных римлян и дарили миру маленьких железных римлян, — тут Агриппина Старшая, и Сабина, супруга Адриана, Филопагора, и Фаустина, и Дидия Клара... каждое такое мраморное лицо стоит целого тома писаной истории, потому что дает живое представление о типе настоящей римской женщины. Что касается предметов домашнего обихода, то в отделе римских древностей первое место по праву должно принадлежать римскому оружию, а остальные вещи служат подражанием лучшим греческим образцам.
Египетские, греческие и римские древности выражены в Эрмитаже с известной полнотой, так что дают вполне определенное впечатление. Отдельно стоят памятники ассирийской культуры, древности скифские, сибирские, собственно азиатские и собственно русские.
Мы этим заканчиваем наше беглое описание нижнего этажа, чтобы не утомить подробностями скромного русского читателя. Наш долг — заинтересовать его, чтобы он сам отправился в Эрмитаж и осмотрел все то, о чем мы говорили выше. Нам лично приходилось бродить по совершенно пустым залам, не считая двух-трех торопливо промелькнувших художников.
По великолепной мраморной лестнице мы поднимаемся в бельэтаж — переход от древнего мира к новому. Да, ветхий человек остался там, внизу, окруженный своими богами, амулетами, реликвиями и символами, а здесь нас сразу охватывает яркая волна света, потому что этот новый мир и ближе и понятнее нам, и роднее. Органически связующим звеном между этими мирами служат мраморы, встречающие нас при входе в анфиладу зал бельэтажа. Картин в собственном смысле слова ветхий человек не оставил, потому что все памятники этого рода исчезли при разных неблагоприятных условиях: благодаря войнам, пожарам и всесокрушающей руке времени. Но зато античные мраморы блещут неувядаемой красотой, и новейшие скульптурные произведения являются естественным их продолжением, как дети наследуют родителям — каменные родители и каменные дети. Преемственность выражается здесь не столько во внешних формах, сколько в духе творчества, в его идейной основе. Мы здесь воочию можем убедиться в этой родословной мраморной семьи: часть греческого Олимпа перенеслась и сюда, а с ней вместе нашли свое место полубоги, герои и великие люди античного мира: Венера, Амур и Психея, Ахиллес, Парис — все эти имена пришли сюда не случайно, а как исконные дети. Заметьте, что между античным мрамором и нашим легла страшная пропасть в две тысячи лет, а между тем мы встречаемся в них с той же неумирающей идеей красоты, которая одушевляла и античного художника. Поражающая живучесть, которая граничит с бессмертием...
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года 259
Кабинет скульптуры
в Новом Эрмитаже (I этаж).
Акварель К.А.Ухтомского. 1854
II Материалы и документы
260
Зал новейшей скульптуры
в Новом Эрмитаже (I этаж).
Акварель Л.Премацци. 1856
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
261
Рассматривая мраморы Эрмитажа в последовательном порядке, мы убедились в глубокой духовной связи, которая соединяет их в гармоническое целое. Дело совсем не в том, что они собраны под одной кровлей и размещены в известном механическом порядке — по сюжетам и национальности скульпторов. Канова, Гудон, Колло, Ставассер — все они дали то, что отвечало их времени, и каждый в своем роде: единственная мерка каждого художественного произведения в том, чтобы прежде всего отделить, что принадлежит эпохе, в которую жил художник и незаметно для себя самого платил известную дань, и то, что принадлежит только ему одному, что он внес нового, в чем выразилась его художественная физиономия. Нужно совместить много усилий, чтобы из мертвого камня вышло живое художественное произведение как дань классическому прошлому; мы видим и венер, и вакханок, и нимф, и амуров, и сатиров, но тут же рядом появляется и Христос, и Моисей, и Каин, а затем целый ряд бюстов уже новых людей.
Нет спора, что мраморы Кановы на классические сюжеты великолепны, даже, может быть, они стоят вне сравнения в нашем масштабе, но, вглядываясь и изучая их, вы все же чувствуете, что чего-то недостает вот именно в этих мраморах и что антики недосягаемо выше этих новейших амуров и психей. Все дело, конечно, в том, что античный ваятель верил в свои сюжеты и отливал в них целое миросозерцание, — сказывалась вся мощь языческих представлений и сила непосредственного чувства, а новейшие ваятели только подражают. Повторялась истина, что сравнительно слабый оригинал всегда будет лучше самой хорошей копии, потому что нельзя подделать творческую мысль и творческие чувства.
Посмотрите на Гудонова Вольтера, на Даламбера, чтобы убедиться, что можно сделать из мертвого мрамора — от этих скульптур веет такой жизненной силой, что все эти нимфы и вакханки совершенно теряются. В мраморах Гудона глядит на вас великий век, окрыленный гениальным смыслом и осадной артиллерией знаний.
Вы чувствуете страшную силу в этих мраморах-гениях, в складе рта, в каждой линии — ведь эти люди дали имя целой эпохе, они явились электрической искрой, разрядившей веками накопившуюся силу.
...Меня всегда охватывает некоторое смущение, когда я прохожу по этим высоким залам, отделанным с царственной роскошью. В самом деле, здесь собрано столько имен и столько национальных шедевров, что трудно ориентироваться.
Представьте себе только такую простую вещь, что за каждой картиной стоит не живой творец со всем его художественным обликом — в картине он весь, вернее сказать, — лучшая его часть. Дело даже не в сюжете, не в жанре письма, не в языке, не в национальности, а именно в том, что равняет всех и всех соединяет, и всех собрало вот именно сюда, в Эрмитаж. Есть неумирающие идеи, чувства, представления, и они нашли свое воплощение вот здесь, в этой пестрой комбинации красок. Вся задача — найти в полотне живого человека, живую душу, все то, чем болел и радовался художник, что томило его мозг, чем он горел
II Материалы и документы
262
и что соединяет его с нами на расстоянии целых эпох. Да, он не умер, а живет и заставляет нас жить, и в этом величайшая тайна всякого искусства, хотя Гейне и назвал живопись «плоской ложью».
Итак, мы в самом избранном обществе. Над нами незримо витают великие тени великих старинных мастеров, имена которых сделались нарицательными. Четыре столетия фигурируют здесь, и почти все национальности старушки Европы. Америка, Азия, Австралия и «черный материк» не имеют пока представителей. Мы всецело в области европейской новой истории и проходим ее по этим картинам еще раз.
Первое смутное впечатление, которое является само собой при беглом обзоре картин, это то, что как смешны все эти бесконечные споры о романтизме, об академическом стиле, классической манере и т.д. Все эти клички и ярлыки, имеющие значение только в самом микроскопическом масштабе, а в общем они теряют всякий смысл. Гораздо важнее то, чтобы каждый был только самим собой, а талант пробьется сквозь какую угодно форму. Мне кажется неудобным только одно: что художественная критика очень уж щедра на громкие титулы, как гений, — и Рафаэль гений, и Рубенс гений, и Рембрандт, и Мурильо, и Тициан, и Микеланджело, и наш Брюллов. Всякая национальность выставляет своего собственного гения, существование которого зиждется главным образом на более или менее сильном подмигивании по адресу всех остальных гениев, являющихся, таким образом, в большом подозрении по части подлинной гениальности. Впрочем, терминология художественной критики доброго старого времени довольно бедна и ограничена высокопарными фразами: Леонардо да Винчи — «стиль строгий», Микеланджело — «могучая и напряженная рельефность, гордая сила», «громадность замыслов и широкий стиль», «прелесть девической невинности», Тициан — «роскошь красок, нежность, смелость, разнообразие и гармония», Веронез — «свобода и твердость кисти удивительные», Гвидо Рени — «кисть игрива и весела», Рубенс — «лишите Рубенса красок — и он будет обыкновенным талантом», Рембрандт — «царь светотени». Всего более досталось на долю Рафаэля, который называется прямо божественным. Но нашлись и эклектики, которые соединяли в одном лице лучшие достоинства других, как Мурильо, который «смешал» на своей палитре краски Тициана, Рубенса и Ван Дейка. Затем выражения: «красота Рафаэля», «колорит Тициана», «светотень Рембрандта» получили значение ходячей монеты. В сущности, во всей этой терминологии больше хороших намерений, чем ясности и той простоты правды, которая не нуждается в пышных словах и в фальшивом блеске риторических фраз.
Первое впечатление, которое поражает глаз при беглом обзоре старинных картин, это тот особенный, темноватый черепаховый тон, в котором они написаны почти все, за очень немногим исключением. На все легла какая-то старческая тень, сквозь которую вы видите коричневую воду, точно вырезанные из кожи деревья, полный солнечный свет. Нужно, чтобы глаз привык к этим сумеркам, чтобы из них живыми выступили все эти языческие богини и боги, рыцари и средневековые дамы, дожи и папы, короли и яркий цвет дворянства, бюргеры, купцы, ремесленники, дети и
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
263
Зал итальянских школ в Новом Эрмитаже ( II этаж). Акварель Э.П.Гау. 1853
II Материалы и документы
264
Зал французской школы в Новом Эрмитаже (II этаж). Акварель Л.Премацци. 1859
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
265
т.д. Особенно эффектно из этого черепахового тона выступает мягкое человеческое тело,, которое не оскорбляет глаз нахальством, как произведения некоторых современных художников, а, напротив, вызывает в вас глубокое и серьезное чувство, даже благоговение, вот именно, к этому телу, как проявлению наивысшей органической красоты.
В самом деле, ведь человеческое тело — верх красоты, и вы здесь чувствуете именно эту высшую красоту, а не гаденькое и неприличное подмигивание по адресу голых женщин и мужчин. На картинах старинных мастеров выступает именно эта благородная классическая нагота, как далекий отблеск античных мраморов. В этом отношении Рубенс является кульминационной точкой — это какой-то безумный разгул живого тела, опьяняющий вас своей силой, свежестью и весельем. Заканчивается он шаловливыми сюжетами Ватто и поэтическими головками Греза — пенящее веселье здесь уже прикрыто шелком, бархатом и дорогими кружевами. Скажем кстати, что секрет писать живое человеческое тело старинные мастера унесли с собой, потому что это был настоящий культ красоты и картины писались совсем не для того, чтобы разлакомить толпу зрителей. Великая «старина» не опускалась до толпы и не эксплуатировала ее дурных инстинктов.
Описывать картины в отдельности в пределах нашей статьи мы, конечно, не можем, даже не можем этого сделать по рубрикам каталога, где размещены по национальностям, школам и хронологическим данным — нужно написать целую книгу, а нам приходится ограничиваться беглыми заметками. Ведь всех картин около двух тысяч, и о них существует громадная специальная литература. Скажем только, что Эрмитаж представляет нам все средства, чтобы изучить во всех подробностях и последовательных стадиях развития такие подотделы живописи, как пейзаж, жанр и, специально, портреты. Вы идете от первоисточников до совершенных образцов и выносите цельное художественное представление. Современная живопись имеет здесь свои корни у старинных мастеров и всегда будет черпать полной рукой из этого неиссякаемого ключа живой воды, хотя у всякого времени «свои птицы и свои песни». Наш реализм явился прямым наследником всех великих идеалистов, причем фламандская школа служит органически связующим звеном. В наших картинах не повторяется только вот эта наивная прелесть и какое-то детство в трактовке сюжетов, возьмите хоть такую страшную вещь, как война, а между тем она здесь является такой школой и картинной игрушкой, точно и существовавшей специально для того, чтобы ее рисовали наивные художники для гобеленов...
...Эрмитаж — это наше национальное сокровище.
Относительная польза классической живописи очевидна сама собой: по этим образцам будут учиться последующие поколения художников, как мы уже говорили выше, а поучиться здесь есть чему... Но ведь не все же люди художники и какая польза от подобной галереи среднему обывателю, который с грехом пополам отличает гравюру от фотокопии? Большинство так и смотрит на картины, как на диковинки или балаганные редкости и даже не ставит себе никаких вопросов. А между тем, сколько здесь поучительно-
II Материалы и документы
266
го материала, именно того, что не дают никакие слова, а что нужно видеть собственными глазами. Достаточно указать на одну портретную галерею, которая сама по себе представляет неоцененное сокровище — вы видите живых людей, оставивших в истории широкий след, и просто типичные лица разных национальностей и эпох, а ведь с каждым человеком, по выражению Гейне, родится и умирает вселенная. Художники, поэты, ученые, полководцы, принцы, короли и вообще «князья мира сего» проходят перед глазами живой чередой, дополняя наши представления о минувших веках, событиях и великих людях в той или другой области. Жанровые картины жизнеописуют всю домашнюю обстановку отживших поколений, и это особенно дорогой материал, по которому мы можем восстановить сгладившиеся или совсем исчезнувшие бытовые формы. В самом деле, как жили люди прошлых веков, при какой обстановке они работали и как веселились? Все это мы можем проследить по этим картинам, сохранившим нам до мельчайших подробностей разные исторические эпохи. При некотором даже воображении невольно погружаешься в их жизнь и повторяешь ее день за днем. Разве же это не интересно и не заслуживает серьезного изучения?..
Из жизни одного из младших служащих 1
Обложка дела: «Дело № 39, 1886 г. О службе служителя Иуды Метки на. Началось 25 августа 1886 г., окончилось 27 апреля 1893 г.»2
23 августа 1886 г. № 216.
Письмо ст. секретаря Канцелярии Министерства Императорского Двора Его превосходительству А.А.Васильчикову: к Г-ну Министру Императорского Двора обратился бывший его подчиненный Лейб Гвардии Гусарского полка штаб-трубач Меткин с просьбой поместить его на службу в один из императорских дворцов (л. 1).
20 мая 1891 г.
«Его Сиятельству господину временно заведывающему Императорским Эрмитажем Обер-Гофмаршалу князю Трубецкому старшего унтер-офицера Лейб Гвардии Гусарского Его Величества полка Меткина прошение. Имею честь покорнейше просить о принятии меня служителем на открывающуюся вакансию. Меткин». Резолюция: «Принять на вакансию умершего Усачева» 22 мая К[нязь] Трубецкой (л. 4).
24 мая 1891 г. № 222.
Письмо в Главное Дворцовое Управление: «Императорский Эрмитаж имеет честь уведомить Главное Дворцовое Управление для зависящего распоряжения, что согласно желанию господина Министра Императорского Двора с первого июня с/г определяется к Эрмитажу служителем отставной старший унтер-офицер Лейб Гвардии Гусарского Его Величества полка (ныне служащий вахтером при дровяном складе Таврического Дворца) Иуда Меткин». Подписали ст. хранитель А.Куник, делопроизводитель Шладгауэр (см. л. 5).
13 июля 1891 г.
Письмо в Главное Дворцовое Управление: «Ввиду того, что квартира умершего служителя Императорского Эрмитажа Усачева в фуражном доме
1 Архив ГЭ, фонд 1, оп. 12 л/с, ед. хр. 50. Личное дело служителя Эрмитажа.
2 К делу приложена фотография И.Меткина, см. л. 13.
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
267
предназначается для вновь определенного служителем Эрмитажа бывшего старшего унтер-офицера Лейб Гвардии Гусарского Его Величества полка Иуды Меткина, Императорский Эрмитаж имеет честь покорнейше просить Главное Дворцовое Управление не оставить распоряжением о производстве, в чем окажется нужным, ремонте в упомянутой квартире». Подписали ст. хранитель А.Куник, делопроизводитель Шладгауэр (см. л. 7). Письмо Министерства Императорского Двора в Канцелярию Императорского Эрмитажа с препровождением письма от Роты Дворцовых Гренадеров с просьбой уведомить о поведении и образе жизни отставного трубача Лейб Гвардии Гусарского Его Величества полка, ныне состоящего лакеем Императорского Эрмитажа Иуды Меткина (см. л. 8).
1 апреля 1893 г. № 105.
Ответ Г. командиру Роты Дворцовых Гренадеров: «На отношение Ваше в СПб Дворцовое Управление от 17 минувшего марта за № 156 Императорский Эрмитаж имеет честь сообщить Вам, милостивый Государь, что служитель Эрмитажа, по найму, отставной трубач Лейб Гвардии Гусарского Его Величества полка И.Меткин поведения отличного и образ жизни ведет скромный и вполне приличный». Подписали ст. хранитель А.Куник, ст. делопроизводитель Шладгауэр (см. л. 10).
Книга для записывания посетителей
Книга для записывания посетителей на Комитетском подъезде Зимнего Дворца с 18 сентября 1909 г. Эта книга в порванном виде была подобрана мною среди мусора, предназначенного к выбросу. Сдал ее в архив1. Записи сделаны с орфографическими ошибками не только в написании фамилий. В книге посетителей со служебного подъезда (главным образом в Археологическую комиссию) указаны и иные адреса прихода и их посетители: г-н Сутулло; г-н Раевский, полковник Асфенциров; полковник Давлетшин, Фуратанов, из комиссии по постройке мечети, Татер, представитель азиатских евреев Туркестанского края, эмир Бухарский, казначей эмира Бухарского, подполковник Савельев, мальчик с фабрики орденов, полковник Сарчев, полковник Цейль, доктор Писаренко при эмире Бухарском, полковник Мирбаба, капитан Соколов, мулла Асабеков, работники разных магазинов (в буфет). Книга содержит 164 листа. В ней указаны часы (с минутами) прихода и ухода посетителей.
1909 год
3 декабря Орбели. Студент СПб Университета, Васильевский остров,
2 линия, д. 25 — к г-ну Фармаковскому
4 декабря г-н Миллер (очень часто. — Б.П.) — в Археологическую комиссию
5 декабря г-н Репников (очень часто. — БЛ.) — в Археологическую комиссию 19 декабря г-н Жебелев — в Археологическую комиссию
г-н Тураев — к г-ну Веселовскому 28 декабря г-н Орбели — к Чистякову (фотограф Археологической комиссии) г-н Фармаковский, художник (очень часто. — БЛ.) — в Археологическую комиссию
1
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 50.
II Материалы и документы
268
29 декабря г-н Ростовцев (часто упоминается. — Б.П.) — в Археологическую комиссию
1910 год
2 января г-н Мацулевич, Екатерингофский пр., д. 77, кв. 31 — к г-ну По- крышкину
27 января Талепоровский, студент Академии Художеств, Знаменская ул., д. 40, кв. 45 — к г-ну Покрышкину
Сабонеев, академик — в Археологическую комиссию
Котов, директор школы барона Штиглица — в Археологическую
комиссию
4 февраля Оцуп — фотограф (часто упоминается. — Б.П.) — к полковнику Давлетшину 6 февраля Булла, фотограф — к Давлетшину 8 февраля Марр, профессор — в Археологическую комиссию 16 марта Бартольд, профессор — к г-ну Веселовскому 19 марта графиня Уварова — в Археологическую комиссию 24 марта Лихачев, профессор — в Археологическую комиссию 1 апреля г-н Рерих — к г-ну Спицыну
6 апреля Никиладзе, командир Михайловского училища — к г-ну Сутулло 19 мая Кондаков, профессор — в Археологическую комиссию 28 мая 1-3 июня Флиттнер от Тураева — к Фармаковскому 10 июня Мальберг [Мальмберг], профессор — в Археологическую комиссию 18 сентября Скадовский из Херсона — к Фармаковскому
1911 год
13 апреля г-н Арне — в Археологическую комиссию 4 мая Энман, барышня — к Фармаковскому 7 мая Сивков, студент Академии Художеств — к Фармаковскому 10 мая Лебединская, барышня — к Спицыну
21 мая Марр, профессор — в Археологическую комиссию
22 мая Оцуп, придворный фотограф — к казначею эмира Бухарского 27 мая Антони и Казан от Фаберже — к казначею хана Хивинского
1 июня Буре с часового магазина — к свите хана Хивинского
(Много представителей фирм и магазинов, мальчики из булочных и продуктовых магазинов, идущие в буфет. — Б.П.)
6 июня Камальев, доверенный с фабрики золотых и серебряных вещей Эдуард — к свите хана Хивинского 17 августа Фон-Штерн — в Археологическую комиссию 26 августа г-н Эберсольдт из Парижа (часто; иногда именуемый «французским гражданином») — к г-ну Латышеву1
1912 год
4 мая г-н Богаевский — к Фармаковскому 18 мая г-н Рерих — в Археологическую комиссию
1 С 21 декабря 1911 г. по 10 апреля 1912 г. страницы вырваны.
3 От первого директора Эрмитажа до 1917 года
269
5 июня барон Тизенгаузен — к Фармаковскому 4 сентября Лихачев, профессор — в Археологическую комиссию 29 октября г-н Арне, «финляндец» — к г-ну Спицыну 5 ноября г-н Арне, «швед» — к г-ну Спицыну
15 ноября Зубов, граф — в Археологическую комиссию
16 ноября граф Бобринский — в Археологическую комиссию
22 ноября Талепоровский, чертежник — в Археологическую комиссию
23 ноября Толстой, граф — в Археологическую комиссию
15 декабря Трейвер (Тревер. — Б.П.), барышня — к Фармаковскому 23 декабря Коковцев, министр финансов — в Археологическую комиссию
1913 год
2 января Слободская, барышня — в Археологическую комиссию
Английский посланник Страсольд — к графу Бобринскому Оберн, секретарь английского посланника — к графу Бобринскому
3 января граф Турк, австрийский посланник — к графу Бобринскому
4 января Психо, греческий министр — к графу Бобринскому
19 января Фон Энгтер, камердинер Е.В.Двора, Олиф, фрейлина Великой княгини Марии Павловны, Великая княгиня Мария Павловна, Великая княгиня Мария Александровна, Великий князь Борис Владимирович, граф Шевенди, фрейлина Пассован, граф Коста- льяк с супругой (правильность написания фамилий под вопросом. — Б Л.) — в Археологическую комиссию 30 января Уварова, графиня из Москвы — в Археологическую комиссию 30 января Тревер, барышня — к Фармаковскому1
(Наиболее частые посетители: Миллер, худ. Фармаковский, профессор Ростовцев, Репников, Моисеев, барышня Слободская, архитектор Романов. — Б Л.)2
1 Конец книги после 11 февраля 1913 г. вырван.
2 Приведенные выше списки, содержащиеся в «Книге записывания посетителей» приведены выборочно, однако с сохранением написаний имен и званий. — Примеч. ред.
ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА
4 После Октябрьской революции
Из протоколов заседаний Общего собрания Эрмитажа 1
13 МАРТА 1917 г.
Гр. Д.И.Толстой доложил о приеме его вновь назначенным Комиссаром Временного правительства Ф.А.Головиным и помощником его П.М.Макаровым. Ставится вопрос: 1. Следует ли возобновить текущие научные и другие занятия в отделениях теперь же? Собрание признало это необходимым вне вопроса об открытии Эрмитажа для публики. 2. Насколько является возможным открыть Эрмитаж для публики в ближайшее время? Э.Э.Ленц считает, что вопрос может касаться лишь Картинной галереи, но полагает, «что доступ публики в Эрмитаж является преждевременным, так как отдельные группы лиц могут воспользоваться помещением музея для посторонних целей, т.е. для устройства собраний, митингов и тому подобное, чем, даже независимо от какого-либо злого умысла, не исключена возможность повреждения хранящихся в Эрмитаже сокровищ». Против открытия 12 человек: «город еще не очищен от подонков общества, которые выпущены на свободу из тюрем вместе с политическими заключенными»; 5 высказались за открытие. Решено не открывать (см. л. 1-3)2.
1 июня 1917 г.
Д.И.Толстой доложил о своем отъезде и возложении своих обязанностей на Я.И.Смирнова. Решили продолжать ночные дежурства в Эрмитаже (залы уже открыты для публики). Служительский персонал выразил желание о закрытии в летнее время Эрмитажа по воскресеньям и понедельникам. На эту часть заседания были вызваны и.о. гоф-фу- рьер Счастнев и служители Петров и Ефимов. Хранительский персонал считает крайне нежелательным закрывать Эрмитаж по воскресеньям, служители же настаивали на своих пожеланиях, считая, что свободными днями для них являются только летние воскресенья и двунадесятые праздники. Но затем отказались от празднования июньских воскресений.
«Решено доложить г.Комиссару о желании служительского персонала закрыть Эрмитаж для посетителей в воскресные дни июля и августа, при этом г.Директор предупредил, что могущие произойти на этой почве неудовольствия со стороны посетителей будут всецело на ответственности служителей». Особым письмом, подписанным Н.Петровым, Ефимовым и Счастневым (с орфографическими ошибками), они протестуют против этой формулировки протокола и «слагают с себя ответственность».
1 Дело начато 13 марта 1917 г., кончено 28 декабря 1917 г. См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, 1917, ед. хр. 45.
2 Здесь и далее краткие выписки из
дела, указанного в примеч. 1. — Примеч. ред.
4 После Октябрьской революции
271
25 августа 1917 г.
Председатель гр. Д.И.Толстой. Вопрос об эвакуации сокровищ Эрмитажа, Ф.А.Головин склоняется к вывозу «только самого драгоценного (враг овладел Ригой)». Эрмитажным коллекциям грозит серьезная опасность от бомб с цеппелина, от разграбления чернью или немцами и наконец от пожара. Но и вывоз представляется также опасным. Д.А.Шмидт считает, что неприятеля не очень нужно опасаться, разве что Вильгельм потребует возвращения картин из Мальмезона, ранее принадлежавших немцам и вывезенных Наполеоном, «гораздо серьезнее опасность от разграбления и разгрома Эрмитажа чернью». Опрос присутствующих, много разных мнений, в частности, Шмидт за вывоз только картин Мальмезона. Трудность в осуществлении работ, нет упаковочного материала, досок и рабочих рук (см. л. 22).
Соображения Эрмитажа по вопросу эвакуации. Упаковка картин в ящики должна занять 1—2 месяца. В настоящее время уложены и готовы к отправке 650 ящиков, для перевозки которых требуется 20—21 товарных вагонов.
2 сентября 1917 г.
Обсуждение вопросов эвакуации. Упоминается Дементьев (не тот ли, который рассказывал нам о штурме Зимнего? — Б .П.). Общее руководство эвакуацией возложено на кн.Гагарина (эвакуация имущества б. дворцового ведомства) (см. л. 29).
12 сентября 1917 г.
Вопрос об организации перевозки ящиков из Эрмитажа на Николаевский вокзал. Поезд будет подан 15-IX в 8 часов утра. В Москву с поездом уезжают Я.И.Смирнов и С.А.Гамалов-Чураев. В Эрмитаже при отправке автомобилей признано необходимым присутствие Н.Е.Макаренко, как уполномоченного лица. «Сегодня же следует договориться с солдатами относительно работ во все эти дни» (см. л. 34).
3 октября 1917 г.
И.Э.Грабарь и А.М.Эфрос поднимают вопрос об устройстве в Москве выставки эрмитажных картин, о распаковке и проверке сохранности привезенных экспонатов. Большинство членов собрания против распаковки ящиков в Москве, но полагают возможным сделать проверочные вскрытия ящиков Н.Е.Макаренко и А.Н.Кубе. Против выставки все протестуют (см. л. 37-39).
18 октября 1917 г.
Ознакомление собрания с работой комиссии, образованной при б.Ка- бинете Его Величества по вопросу эвакуации служащих и их семей. Размещение ящиков в Москве: Исторический музей, Кремль (вместо Кремлевского дворца желательна Оружейная палата). Кремлевский дворец — ящики со скульптурой и мебелью, Оружейная палата — средневековый отдел, монеты, драгоценности, Исторический музей — библиотека, архив, Картинная галерея, гравюры, рисунки, миниатюры.
Ящики с тяжелыми скульптурами «Диана» и «Вольтер» помещены в вестибюле Благовещенского подъезда Большого Кремлевского дворца.
Н.Е.Макаренко сообщил собранию частные подробности тех условий,
II Материалы и документы
272
в которых пришлось совершить поездку в Москву. Вагоны оказались грязными, нетопленными, с выбитыми стеклами. На станции Бологое имела место попытка солдат занять места на тормозных площадках и буферах с целью доехать до Москвы. Юнкерам, сопровождавшим поезд, с трудом удалось удержать солдат, пытавшихся силою захватить места (см. л. 43-48)1.
7 ноября 1917 г. (старый стиль)
Совещание служащих Эрмитажа
под председательством графа Д.И.Толстого
Присутствовали: А.К.Марков, Е.М.Придик, Э.К.Липгарт, О.Ф.Ре- товский, Д.А.Шмидт, барон Г.А.Коскуль, С.Н.Тройницкий, Н.А.Сидо- ров, барон А.Ф.Криденер, А.Э.Каулл, С.А.Гамалов-Чураев, Н.Е.Макарен- ко, В.А.Шугаевский, Е.Г.Лисенков, Л.П.Альбрехт, А.А.Счастнев,
H.П.Петров, В.Ефимов и секретарь собрания В.В.Воинов.
I. Обсуждался вопрос о внешней охране и установлении связи с батальоном Преображенского полка.
Постановлено уполномочить В.В.Воинова и Н.П.Петрова переговорить с комитетом полка об усилении поста около дверей Эрмитажа еще одним часовым для связи с помещением запасного батальона в случае тревоги. Мотивом такой меры послужило расклеенное на улице расписание воинских частей, к которым надлежит обращаться в случае каких-либо нападений.
2. По предложению Д.А.Шмидта постановлено проверить сигнализацию и внутренние телефоны, соединяющие Эрмитаж с охраной Дворца.
3. Гр. Д.И.Толстой обратил внимание на пожарную опасность от костров, устраиваемых около здания Эрмитажа и на Эрмитажном дворе часовыми, охраняющими винный погреб, и красногвардейцами, несущими охрану на улице. Равным образом графом Толстым была отмечена опасность от пулеметов, установленных около винного погреба. Из прений выяснилось, что снять охрану в настоящее время от винного погреба, а также вывести винный погреб в другое место не представляется возможным из опасения погрома, могущего распространиться и на здание самого музея.
4. Постановлено образовать комиссию в составе: С.Н.Тройницкого,
Н.Е.Макаренко, А.А.Счастнева для осмотра всех дверей, соприкасающихся с помещениями Зимнего дворца, и выработать меры для укрепления этих дверей (см. л. 49).
10 ноября 1917 г.
Совещание служащих Эрмитажа
под председательством графа Д.И.Толстого
Присутствовали: Ленц, Придик, Марков, Смирнов, Веселовский, Ретовский, Исперский, Шмидт, Коскуль, Сидоров, Богословский, Шервуд, Гамалов-Чураев, Макаренко, Каулл, барон Криденер, Углова и секретарь собрания В.В.Воинов.
Заслушав доклад делегата от Эрмитажа в Союз служащих б. Министерства Двора В.В.Воинова, во-первых, об образовании Союза служащих б. Министерства — собрание постановило единогласно присо-
1 Проверка ящиков в Москве и посыл¬
ка представителей Эрмитажа обсуждались и дальше на «совещаниях гг. служащих Эрмитажа». В архиве Эрмитажа хранятся фотографии упаковки эрмитажных коллекций для эвакуации: снятие со стен, упаковка ящиков,
маркирование.ящиков, готовых для отправки, перенос солдатами их через главный подъезд. При снятии картин присутствуют директор Д.И.Толстой, ДАШмидт и мальчик (это Джемс Джемсович Шмидт, передавший позже фотографии Эрмитажу).
4 После Октябрьской революции
273
Подготовка к эвакуации в 1915 г.
Э.Э.Ленц (второй слева),
Д.И.Толстой (второй справа)
II Материалы и документы
274
В одном из залов античной скульптуры. Подготовка к эвакуации.
Август 1917 г.
Зал «Большие просветы» в годы эвакуации 1916—1917 гг.
4 После Октябрьской революции
275
Подготовка к эвакуации. В центре Д.И.Толстой. Август 1917 г.
II Материалы и документы
276
Э.К.Липгарт и Д.И.Толстой. Фотография. 1918
4 После Октябрьской революции
277
единиться к Союзу и опросить остальных служащих, не присутствовавших на заседании.
Во-вторых, о принятом делегатским собранием решении присоединиться к Союзу союзов служащих всех правительственных учреждений и в частности к мерам бойкота представителей захватчиков власти с целью не дать им возможности укрепиться, выражающемуся в следующем: не признавать власти представителей захватчиков и продолжать исполнение всей текущей работы.
В случаях вмешательства: а) персонального — отвечать бойкотом в той форме, которая считается наиболее целесообразной в каждом отдельном случае; б) письменного — пакеты вскрывать, но оставлять без действий. Собрание присоединилось к решению делегатского собрания.
В-третьих, сообщение об образовании редакционной комиссии по разработке проекта Устава служащих б. Министерства Двора.
Постановлено делегировать совместно с В.В.Воиновым в редакционную комиссию и делегатское собрание Н.Е.Макаренко с предоставлением им одного голоса при решении того или иного вопроса (см. л. 50).
Эрмитаж в 1918—1920 годах
В 1918 г. по письму Луначарского ставится директором Д.И.Толстым вопрос о «предстоящих работах по реорганизации Эрмитажа», в связи с этим были «довыборы» членов Совета — С.А.Же6елева, М.И.Ростов- цева и А. Н.Бенуа.
28 октября 1918 г. Толстой освобождается от должности директора Эрмитажа, сначала уезжает на Украину, а оттуда на юг Франции. Одновременно с ним в Прибалтику уехал и барон Коскуль. Толстой после эмиграции имел визитную карточку «Граф Дмитрий Толстой, экс- директор Императорского Эрмитажа» (на французском языке).
Комиссаром Эрмитажа в августе 1918 г. был назначен Н.Н.Пу- нин, вопреки возражению Я.И.Смирнова: «Пунин — футурист, а Эрмитаж ВчРоссии единственный и неповторимый». Было принято на Совете решение о реформах, но о каких именно, не говорилось. В Российскую Академию наук было направлено письмо: «Совет Эрмитажа на заседании своем от 18 сентября постановил произвести выборы на должности ученых хранителей Эрмитажа при участии делегатов от некоторых ученых учреждений. Ввиду этого Совет обращается в Российскую Академию с покорнейшей просьбой избрать по одному делегату от 1) отдела русского языка, 2) отдела исторических наук и филологии, 3) разряда изящной словесности — и не оставить Совет Эрмитажа уведомлением о результатах выборов». Кроме представителей Академии наук в выборах хранителей Эрмитажа участвовали представители 1-го Петербургского Университета, Русского музея, Археологической комиссии и «особо кооптированные лица из числа деятелей искусства», всего 28 человек (среди избранных оказались две женщины, одна из них М.И.Максимова).
В Зимнем дворце осенью были киносеансы, концерты и лекции — в Николаевском и Гербовом залах (в Гербовом зале было 1200 нумерован-
II Материалы и документы
278
ных мест). Началась распаковка ящиков с предметами, подлежавшими эвакуации, но не отправленными, и была организована небольшая экспозиция Отдела древностей, выставка дополнялась «фотографиями, наклеенными на картон». Для восстановления Картинной галереи Эрмитажу передается «VII запасная» и «Малый павильон» с Аполлоновым залом. Она была открыта со входом с Советского подъезда 22 апреля 1919 г. На выставке организовывались и популярные лекции. К ней был выпущен и путеводитель: «Первая Эрмитажная выставка», Госиздат, 1920, 24 с., 3 л. иллюстраций. Сохранились фотографии зала Леонардо да Винчи.
В конце 1918 г. из Москвы тревожные слухи: эрмитажные сокровища хотят распаковать для выставки. 5 декабря за подписью М.Горь- кого в Москву идет телеграмма протеста. В январе 1919 г. Ленин как будто дал согласие на реэвакуацию Эрмитажа.
Решение об улучшении быта ученых в 1919 г. распространилось и на Эрмитаж. «Настоящим объявляю, что положение Декрета, республиканского от 27 октября... о переводе профессоров в I-ую категорию (по продуктовым карточкам) распространяется на всех научных специалистов Государственного Эрмитажа и Русского музея». Подписал нарком Луначарский.
В апреле 1920 г. был поставлен вопрос о реэвакуации сокровищ Эрмитажа из Москвы. Записку о возвращении подписали М.Горький, академики Марр, Ольденбург, Шахматов. Эта записка была получена Лениным, и на нее наложена короткая резолюция «Луначарскому». Вскоре М.Горький получил уведомление о том, что «Ходатайство Эрмитажа относительно возвращения коллекции из Москвы получило благоприятное разрешение». Но вместе с вопросом о возврате коллекций перед Эрмитажем встал другой трудный вопрос: как отапливать Эрмитаж? Дров нет. Добыли 10 саженей дров. Их до весны хватило. В мае к Эрмитажу была подвезена баржа с дровами, и эрмитажники вздохнули свободно.
22 июня на заседании Совнаркома было вынесено решение о возвращении коллекций из Москвы полностью, что подтвердил Луначарский. (19 июня 1920 г. Ленин был около Эрмитажа на митинге на Дворцовой площади).
На III сессии ВЦИК Луначарский докладывал: «Очень выросло также количество музеев... Сейчас даже музееведы заявляют, что они изумлены и очарованы тем, в какой мере вся толща народа при Советской власти прониклась желанием собирать и охранять древности. Эрмитаж у нас увеличился в полтора раза».
Но пока эрмитажники ждали возвращения коллекций из Москвы, в музей поступили новые коллекции. «Эрмитаж увеличился в полтора раза!» (26 сентября 1920 г.). Много было дела по их изучению, разбору и описанию. Подводы привозили вещи из брошенных особняков, из тайников. Луначарский просил Ленина улучшить положение служащих музеев, заслуживавших доверия, и Ленин отозвался. Музейным служащим были предоставлены пайки.
Реэвакуация сокровищ Эрмитажа из Москвы затянулась. Председатель музейной коллегии в Москве Троцкая тормозила дело, так как
4 После Октябрьской революции
279
хотела оставить коллекции Эрмитажа в Москве. Ящики были сложены в Большом Кремлевском дворце и в Оружейной палате. Сокровища Эрмитажа вернули 18 ноября 1920 г. Разгружали военные курсанты, и теперь военные части — постоянные помощники Эрмитажа.
Погрузка ящиков на автомобили в Москве началась 15 ноября, работали военные, и вечером 16 ноября ящики были официально переданы представителям Эрмитажа. Поезд прибыл в Петроград 18 ноября, и первый ящик был внесен в музей 18 ноября в 22 ч. 7 мин.
Распаковка ящиков началась 23 ноября, и дирекция Эрмитажа вынесла решение открыть 28 ноября зал Рембрандта и показать его посетителям. На открытии этой выставки говорилось, что все разработанные планы переустройства Эрмитажа могут быть проведены только сейчас, по возвращении в Петроград Эрмитажных собраний. Но это не так, перестройка была раньше. Свидетельство тому создание отдела Востока! За открытием зала Рембрандта в декабре месяце последовало открытие других залов. Вход был с Советского подъезда.
В 1918—1920 гг. Эрмитаж жил активной жизнью, в феврале 1919 г. в Малахитовом зале собралась первая музейная конференция. В 1921 г. на ремонт Эрмитажа было отпущено 250 миллионов рублей.
0 работе Отдела древностей свидетельствует подробно Журнал заседаний совещания при отделе. Так, 24 декабря 1918 г. Вальдгауер ставит вопрос об устройстве выставки «Заупокойный культ Древнего Египта», об устройстве выставки вещей, найденных в России за последние годы, организации Отделения археологии России, об организации в Петербурге Археологического музея. Решили, что организация такого музея должна быть передана Эрмитажу.
27 октября 1920 г. И.А.Орбели избран на должность хранителя мусульманского отделения, это было созданием Отдела Востока. И в этот же день решение: Г.И.Боровка «в связи с предстоящей эвакуацией (реэвакуация) назначается ответственным по Отделению эллино-скиф- ских древностей».
1 июня 1922 г. в час дня открылась выставка отделений классического Востока, греческих и римских древностей.
В сентябре 1922 г. я пришел в Эрмитаж и стал заниматься у Натальи Давыдовны Флиттнер, вместе с Николаем Шолпо, Сергеем Черниковым, позже, в 1923 г., к нам присоединился Исидор Лурье.
Хроника событий. Газета «Жизнь Искусства» 1 Обзор статей по подборкам Н.Н.Лемана
30 октября 1918 г.
«Ревекуация [Реэвакуация] картин». Возврат эрмитажных картин из Москвы. «Советом союза коммун Северной области» на это дело ассигновано 300 000 руб. (Председателем Совета союза коммун Северной области был Г.Зиновьев. — Б.П.). «Ревекуация» продлится не менее двух месяцев, так как сокровища будут перевозиться каждый раз пятью вагонами.
1 Газета «Жизнь Искусства». Издание харов (Москва), В.Коломийцев, С.Кондаков, Петроградского театрального отделения Нар- АКони, М.Кузмин, А.Луначарский, СЛюбош, компроса. Редакционная коллегия: М.Андрее- В.Никонов, Н.Носков, АПоляков, Сергей Рад- ва, Игорь Глебов, Евгений Кузнецов, Г.Ромм. лов, Алексей Ремизов, Вс. Рождественский, Вл. Ближайшее участие в газете принимали: Соловьев, П.Старицын, Н.Стрельников, К.Чу-
В.Адарюков, Ю.Анненков, Александр Блок, ковский, Виктор Шкловский, С.Штрайх, Э.Голлербах, Максим Горький, НДолгов, Н.За- Н.Энгельгардт, Б.Эйхенбаум и др.
II Материалы и документы
280
2 ноября 1918 г.
«Реорганизация Эрмитажа». На последнем заседании художественного совета, состоящего при Отделе по охране памятников старины и искусства, обсуждался вопрос о реорганизации Эрмитажа. План реорганизации был выработан в специальной комиссии, в которой участвовали члены художественного совета Марр, Нерадовский, Романов и Миллер. Основные положения реорганизации Эрмитажа утверждены советом. Согласно принятому положению, Эрмитаж должен представлять собою музей иноземного искусства. Все то, что имеет отношение к русскому искусству, должно быть передано в другие музеи.
Реорганизованный Эрмитаж будет состоять из 4-х отделов вместо прежних 5-ти отделений. В первый отдел войдут все древности — классическое искусство, а также археология России. Второй отдел обнимает все искусство средних веков. Третий отдел составят картины и скульптуры нового времени. В четвертый отдел включены всякого рода монеты и резные камни.
В настоящее время происходят выборы новых штатов Эрмитажа. Образована специальная коллегия, которая производит эти выборы. Одна треть этой коллегии состоит из нынешних служащих Эрмитажа, другую треть составляют представители музеев и ученых учреждений — Русского музея, Академии наук, Университета и т.д. Последняя треть коллегии состоит из кооптированных лиц. Всего в коллегию входят 30 человек.
«Кандидатура. Александра Бенуа». Александр Бенуа включен в список кандидатов на должность хранителя Эрмитажа. Предполагается, что ему будет поручено заведовать средневековым отделом.
12 ноября 1918 г.
О реэвакуации картин Эрмитажа. Мало перевозочных средств. Открытие Эрмитажа для публики откладывается.
14 ноября 1918 г., № 13.
«Выборы хранителей в Эрмитаже». Под председательством академика А.С.Лаппо-Данилевского состоялось заседание комиссии, избранной для производства выборов новых хранителей Эрмитажа. В комиссии участвовали представители ученых учреждений — Университета, Академии наук, Русского музея и т.п., а также представители служащих Эрмитажа. Кроме того, в выборах участвовали разные лица по приглашению. Выборы происходили записками.
Результаты выборов следующие: в отдел древнего искусства избраны: О.Ф.Вальдгауер (древние Рим и Греция), В.С.Голенищев (древний Восток) и прив.-доцент Петроградского университета И.И.Толстой (сын покойного городского головы гр. И.И.Толстого). В отдел средних веков и нового времени хранителями избраны — Э.Э.Ленц, А.Н.Кубе, С.Н.Тройницкий (он будет заведовать памятными комнатами Зимнего дворца) и В.К.Макаров.
В состав хранителей галереи живописи и скульптуры по избранию вошли: Э.К.Липгарт (испанская и итальянская школы), Д.А.Шмидт (старо-нидерландская, немецкая и фламандская школы), О.Э.Браз (гол¬
4 После Октябрьской революции
281
ландская школа), Александр Н. Бенуа (французская, английская школы и живопись XIX века), В.Н.Аргутинский-Долгоруков (рисунки) и С.П.Яремич (гравюры).
В отдел нумизматики избраны А.К.Марков, О.Ф.Ратковский (Ре- товский. — Б.П.) и [P.P.] Фасмер.
Как видно из результатов выборов, в состав хранителей Эрмитажа вошел ряд новых лиц, известных по своей художественной деятельности.
Результаты выборов новых хранителей будут представлены на утверждение народного комиссара по просвещению А.В.Луначарского. 19 ноября 1918 г.
От Отдела по делам музеев и охраны памятников искусства и старины. Экскурсия по музеям Петербурга (так! — Б.П.). Зимний Дворец. — Сал- тыковский подъезд, вход через сад с набережной.
19 ноября 1918 г.
Государственный совет по делам искусства под председательством А.В.Луначарского. Координация деятельности всех отделов, занимающихся искусством. Зам. Луначарского — правительственный комиссар по делам искусств Д.П.Штеренберг.
21 ноября 1918 г.
«Сокровища искусства для народа». Осмотр 50-ти усадеб и характеристика находящихся в них памятников искусства.
24 ноября 1918 г.
Митинг об искусстве в Зимнем дворце на тему «Храм или завод». Вместо А.В.Луначарского со вступительным словом выступил комиссар Н.Н.Пунин. 10 января 1919 г.
Заседание Совета музеев под председательством Г.С.Ятманова. Представители из Москвы И.Э.Грабарь и Н.Б.Бакланов. Организация новых музеев в Москве (музей западного искусства, Востока и русского искусства).
13 февраля 1919 г.
11 февраля во Дворце искусств (Зимний дворец) состоялась первая Всероссийская конференция по делам музеев. Первое заседание открыл
А.В.Луначарский. Доклады Н.Н.Пунина («Декларация художников») и П.Ю.Шмидта о просветительской работе музеев. Избран президиум: председатель А.А.Миллер, товарищи председателя И.Э.Грабарь и
А.Е.Ферсман.
18 февраля 1919 г.
Народные концерты с 18 по 23 февраля в Гербовом зале Дворца искусств (Зимнем дворце).
20 февраля 1919 г.
17 февраля — музейная конференция. Ассоциация музеев и объединение издательской деятельности. Доклад А.Е.Ферсмана, выступления С.М.Брика и Н.Я.Марра. Доклад А.А.Миллера об учреждении органа по музеям в составе ученых, художников и музееведов.
25 февраля 1919 г.
Выставка Эрмитажа для членов конференции «Произведения искусств,
II Материалы и документы
282
приобретенные в 191-8 году, сданные на хранение и находившиеся в кладовых».
4 марта 1919 г.
Репертуар народных концертов, устраиваемых музейным отделом в Гербовом зале Дворца искусств (Зимний дворец) с 4 по 9 марта.
6 марта 1919 г.
Выработанный репертуар спектаклей в Эрмитажном театре. Шекспир «Генрих IV», Байрон «Каин», Гоголь «Женитьба», Метерлинк «Чудо странника Антония», Эсхил «Агамемнон».
7 марта 1919 г.
«Просветительные концерты в Гербовом зале». Концерт из произведений М.И.Глинки; симфонический концерт, посвященный произведениям Н.Черепнина.
7 мая 1919 г.
Выставка в Эрмитаже «Заупокойный культ в Египте». Организатор Б.А.Тураев.
14 мая 1919 г.
Заметка Э.Голлербаха о постановке музейного дела, о едином музейном фонде. «Юсуповский музей»: разборка коллекций под руководством хранителя Эрмитажа О.Э.Браза.
14 мая 1919 г.
Лекция художника О.Э.Браза о реставрации картин. Показ реставрации в Эрмитаже. Э.Ф.Богословский.
23 мая 1919 г.
«Судьба Эрмитажа». Опасность захвата Москвой эрмитажных сокровищ, находящихся в Москве.
3 июня 1919 г.
«Судьба петроградских музеев». Тревога о судьбе художественных произведений Эрмитажа и Русского музея, эвакуированных в Москву. И.В.Жолтовский и А.В.Щусев хотят устроить выставку в Москве, а это грозит оставлением части собрания в Москве, куда спешно выезжают представители Эрмитажа и Русского музея.
6 июня 1919 г.
«Преобразования Эрмитажа». Комиссия для рассмотрения двух вопросов: 1. Расширение помещений Эрмитажа и 2. Выделение из эрмитажного собрания картин для организуемого в Москве Музея западноевропейского искусства. Комиссия в составе: Г.С.Ятманова, Н.Н.Пунина (комиссара Эрмитажа), С.А.Жебелева, С.К.Исакова и С.Н.Тройницко- го. Комиссия считает возможным дать экспонаты в Москву из Эрмитажа, но вместе с тем получить часть картин из собраний Морозова и Щукина. Решение о расширении Эрмитажа за счет Зимнего дворца.
7—9 июня 1919 г.
«Музеи и выставки». 1. Первая Государственная свободная выставка во Дворце искусств (б. Зимний дворец). Вход с площади Урицкого. 2. Первая выставка произведений в Эрмитаже. Вход с Советского подъезда.
13 июня 1919 г.
Выборы профессоров Института истории искусств под председатель¬
4 После Октябрьской революции
283
ством С.Ф.Ольденбурга. Избраны: Вальдгауер, Фармаковский, Айналов, Орбели, Струве, Головань, Ракинт, Зубов, Жарновский, Рылов, Сычев, Мацулевич, Курбатов и Лапшин.
29 октября 1919 г.
Историко-бытовой музей в доме С.Д.Шереметева на Фонтанке. Описание залов и художественных произведений, в них выставленных.
30, 31 октября 1919 г.
«Музей в б. особняке Строганова». «Вслед за Юсуповским, Шуваловским, Шаховским и Шереметевским особняками пришел черед и Строгановского собрания». Описание залов и коллекций.
9 ДЕКАБРЯ 1919 г.
Коллегия по делам музеев и по охране памятников искусства и старины приступила к обсуждению вопроса о музеях разного профиля. Заслушаны доклады: С.А.Жебелева, А.А.Миллера, предполагается доклад К.К.Романова.
10 ДЕКАБРЯ 1919 г.
О музейном фонде, составленном из предметов, поступивших из разных дворцов и особняков, 12 ООО предметов. Предполагаемая выставка в Зимнем дворце.
16 декабря 1919 г.
О книге московского музейного деятеля Н.И.Романова (автор В.Ада- рюков).
23 декабря 1919 г.
Экскурсии по музеям с 14 ноября 1918 г. по 1 ноября 1919 г. В Эрмитаже 215 экскурсий с 6396 посетителями.
15—16 мая 1920 г.
Лекции в Эрмитаже (вход с Советского подъезда). И.И.Жарновский «Об итальянской скульптуре»; ДДБушен «Возникновение фарфора»; А.А.Зи- лоти «Развитие техники масляной живописи».
15 июня 1920 г.
На первой Эрмитажной выставке художественных произведений в Павильонном зале объявлены воскресные лекции: Д.Д.Бушен «История Севрской мануфактуры», П.П.Вейнер «История французской мебели XVIII в.», С.Р.Эрнст «Иностранные живописцы XVIII века в России», лекция А.П.Келлера, вторая лекция С.Р.Эрнста, Д.Д.Бушена, И.И.Жар- новского, Ф.Ф.Нотгафта, В.Н.Ракинта, А.А.Автономова.
16—19 июня 1920 г.
Реэвакуация картин Эрмитажа. Из Москвы вернулись С.Н.Тройницкий и А.Н.Бенуа. Совет Народных Комиссаров решил вернуть картины из Москвы.
20 июня 1920 г.
Факультет музейного дела в Эрмитаже. Разработка программы комиссией в составе С.Н.Тройницкого, А.Н.Бенуа, Д.А.Шмидта, О.Ф.Вальд- гауера, Л.А.Мацулевича, А.Н.Кубе, В.В.Воинова и других.
25 июня 1920 г.
«По инициативе Совета Эрмитажа организуется специальный памятный отдел Эрмитажа, имеющий целью собирания всего, что касается
И Материалы и документы
284
жизни Эрмитажа и его служащих. В «Музее музея» будут собраны биографии хранителей, их портреты, научные труды, снимки с их произведений, виды Эрмитажа в разные периоды, входные билеты, разные инструкции, приказы и т.п. Имеется уже интересный материал, касающийся Эрмитажа в начале нынешней революции».
8—7 июля 1920 г.
При Эрмитаже организуются курсы руководителей экскурсиями. Хранителями Эрмитажа производится обследование Павловского парка. «Недавно им удалось отыскать в парке дворца великолепную античную статую, перенесенную теперь во дворец».
9 июля 1920 г.
«Музей придворного быта» организуется в Эрмитаже. Комиссия: С.Н.Тройницкий, А.Н.Бенуа, Б.Л.Модзалевский и др. Музей будет размещен в залах б. Зимнего дворца.
23 июля 1920 г.
«По инициативе Эрмитажа при Союзе работников искусств организуется научно-художественная секция для защиты профессиональных интересов музейных деятелей».
29 июля 1920 г.
Экспертной комиссией из Музейного фонда передана Эрмитажу коллекция египетских вещей, очень ценных.
4, 5 сентября 1920 г.
«Объединение музеев». Комиссия в составе С.Ф.Ольденбурга, Н.Я.Мар- ра, С.А.Жебелева, А.А.Миллера и Н.Н.Пунина вынесла рекомендации объединить историко-бытовые отделы Русского музея и Эрмитажа и объединить этнографический отдел Русского музея с Музеем этнографии Академии наук.
19—21 ноября 1920 г.
При Российской Академии истории материальной культуры Обществом поощрения художников и популяризации художественных знаний еженедельно организуются лекции (Э.К.Кверфельд «История фарфора Императорского завода»).
3—5 декабря 1920 г.
«Праздник Эрмитажа. (Реэвакуация художественных сокровищ России)».
Документы и материалы. 1918—1920 годы
О возвращении коллекций из Москвы
Москва. Ленину. 5 декабря 1918 г.
Петроград
Крайне встревожены опасностью, которой подвергаются сокровища Эрмитажа, Русского музея и Академии в Кремлевском Дворце, благодаря затее выставки, на что потребуется распаковка ящиков без возможности соблюсти надлежащие гарантии целости.
Совет Эрмитажа, собравшись у Максима Горького, единогласно просит Вас воспрепятствовать устройству выставки и сделать все зави-
4 После Октябрьской революции
285
Всеволод Владимирович Воинов
(1880-1945).
Фотография
Яков Иванович Смирнов (1869-1918).
Фотография
Леонид Антонович Мацулевич (1886-1959).
Фотография
II Материалы и документы
286
Заседание Совета Эрмитажа. Слева направо:
Д. А. Шмидт, С. Н. Тройницкий, Л. А. Мацу левич, А. Н. Кубе,
В. А. Г оловань, М. И. Максимова Фотография 1920-х гг.
4 После Октябрьской революции
287
сящее от Вас для возвращения коллекций обратно в Петроград, что является единственным спасением их.
Члены Совета Эрмитажа: Тройницкий, Аргутинский-Долгоруков, Бенуа, Браз, Вальдгауер, Кубе, Липгарт, Марков, Вейнер, Шмидт, Яремич. Всецело присоединяюсь к ходатайству Совета.
М.Горький
Журнал 79-го (XX) экстренного заседания Совета Эрмитажа. 26 мая 1919 г.
Присутствовали: Заместитель Председателя Директор С.Н.Тройницкий Члены: В.Н.Аргутинский-Долгоруков, АН.Бенуа, О.Э.Браз, О.Ф.Вальдгауер, Э.К.Липгарт, М.И.Максимова, А.К.Марков, Л.А.Мацулевич, П.И.Нера- довский, Е.М.Придик, О.Ф.Ретовский, В.В.Струве, Р.Р.Фасмер, Д.А.Шмидт, С.П.Яремич.
Ученый Секретарь: Ю. С.Ляпунов Управляющий Делами: А.В.Суслов Начало заседания в 2 ч. 10 мин.
Слушали:
1. С.Н.Тройницкий сообщает о возобновившихся попытках использовать эрмитажные сокровища в Москве для создания Музея западного искусства. Известие это, появившееся в газете «Жизнь Искусства», было подтверждено приехавшим из Москвы Покрышкиным, передавшим со слов Троцкой, что если Эрмитаж и Русский музей хотят отстоять свои вещи от поползновений И.Э.Грабаря, то А.А.Миллер и С.Н.Тройницкий должны немедленно выехать в Москву. С.Н.Тройницкий считает с принципиальной точки зрения всякие попытки захвата эрмитажной собственности недопустимым, с практической же находит возможным согласиться на распаковку картин, которые могут попортиться от долгого лежания в ящиках и которым в упакованном виде скорее угрожает разгром, ограничив это согласие рядом определенных условий и истребовав часть ящиков обратно в Эрмитаж.
Л.А.Мацулевич указывает, что опасность угрожает не только картинам, так как византийские древности ГЦекотов уже считает своими и высказывал это в разговоре с ним.
В.В.Струве высказывает опасение, вернутся ли вещи, будучи распакованы в Москве, когда-нибудь обратно в Эрмитаж, и предлагает возбудить опять вопрос о полной реэвакуации.
О.Э.Браз и С.Н.Тройницкий считают полную реэвакуацию абсолютно невозможной из политических соображений.
О.Ф.Вальдгауер считает, что выставку эрмитажных вещей может устраивать только Эрмитаж сам.
Д.А.Шмидт находит устройство выставки Эрмитажем в чужом городе слишком ответственным и трудным.
О.Э.Браз предлагает ни в коем случае не соглашаться на вскрытие и осмотр эвакуированных в Москву собраний, подчиниться лишь принуждению, поставив в таком случае непременным условием, чтобы вскрытие происходило под контролем Эрмитажа.
II Материалы и документы
288
С.Н.Тройницкий считает, что Эрмитаж не должен добровольно соглашаться на вскрытие вещей, но если бы таковое произошло, настаивать, что вещи вскрыты лишь для выставки. При этом — указать, что в Москве нет ни приспособленного для музея помещения, ни штата ученых, ни даже специалистов-техников, так как за реставраторами постоянно присылают в Петербург (командировки Богословского и Васильева).
С.Н.Тройницкий сообщает, что в среду состоится по этому вопросу заседание Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины, на которое приглашены вместе с ним А.Н.Бенуа и
0.3.Браз, и предлагает командировать в Москву для отстаивания перед Московской Коллегией интересов Эрмитажа С.П.Яремича, В.В.Воинова и Л.А.Мацулевича.
П.И.Нерадовский сообщает, что от Русского музея в Москву едут четыре представителя с тем же поручением. В случае невозможности отстоять неприкосновенность коллекций они должны вытребовать по прямому проводу из Петербурга реставраторов.
2. С.Н.Тройницкий предлагает ввиду того, что в четверг 29-го мая приходится праздник Вознесения Христова, открыть выставку вместо четверга в среду 28-го мая.
П.И.Нерадовский сообщает, что Русский музей будет открыт в четверг, несмотря на праздник.
3. Оглашается план мобилизации художественных сил в Петрограде для защиты музеев, памятников искусства и старины, выработанный Художественной секцией Совета Профессиональных Союзов (вх. № 494).
С.Н.Тройницкий считает, что внутренняя охрана Эрмитажа достаточно обеспечена, для внешней же — желательно войти в контакт с Художественной секцией.
Постановили:
1. Эрмитаж представляет собой живой музей мирового значения и никакое дробление его в интересах того или иного города не может быть допущено, явится актом величайшего вандализма, не оправдываемым никакими практическими, ни научными целями и будет служить лишь личным интересам его инициаторов. Все без исключения находящиеся в Москве собрания Эрмитажа должны быть при первой возможности возвращены в Эрмитаж, и лишь после этого может быть поставлен на решение вопрос о том, какие части собраний, как не подходящие к программе Эрмитажа, могут быть переданы в другие музеи на основании общего плана музейного строительства. Всякое вскрытие находящихся в Москве эрмитажных собраний без наличия достаточно опытного и подготовленного аппарата специалистов, которых в Москве нет, так как для всех серьезных московских реставраций выписывались мастера из Эрмитажа, грозит величайшей опасностью незаменимым и в большинстве единственным в мире художественным памятникам.
2. Командировать в Москву для защиты интересов Эрмитажа
С.П.Яремича, В.В.Воинова, Л.А.Мацулевича.
3. Открыть выставку в четверг, 29-го мая.
4 После Октябрьской революции
289
4. Установить связь с Художественной Секцией Совета Профессиональных Союзов.
Заседание закрыто в 3 часа.
Заместитель Председателя Директор С.Тройницкий Члены: А.Марков, О.Ретовский, Р.Фасмер, О.Вальдгауер, Е.При- дик, А.Кубе, С.Яремич, Д.Шмидт, В.Аргутинский, Л.Мацулевич, М. Максимова
Ученый Секретарь Ю.Ляпунов Управляющий Делами А. Суслов Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, 1919, ед. хр. 65, л. 73—74.
Журнал 103-его (XXIV) экстренного заседания Совета Эрмитажа. 18-го октября 1919 г.
Присутствовали: Заместитель Председателя Директор С.Н.Тройницкий. Члены: В.Н.Аргутинский-Долгоруков, О.Э.Браз, В.А.Головань, М.И.Мак- симова, А.К.Марков, Л.А.Мацулевич, Е.И.Придик, О.Ф.Ретовский,
В.В.Струве, Д.А.Шмидт, Р.Р.Фасмер, С.П.Яремич.
Вр. ис. об. Ученого Секретаря А.В.Суслов.
Начало заседания в 3 ч. дня.
Слушали: С.Н.Тройницкий предлагает на обсуждение Совета вопрос об установлении в Эрмитаже, ввиду тревожного времени, ночных дежурств старших служащих. Основанием для установления дежурств служат: 1) возможность стрельбы из орудий с Петропавловской крепости и, как следствие этой стрельбы, разбитие стекол от сотрясения; 2) возможность захода в Эрмитаж военных частей и необходимости объяснить этим частям, что представляет собой Эрмитаж.
Постановили: Установить с 18-го октября ночные дежурства с 8 ч. вечера до.8 ч. утра следующего дня. На дежурства назначать ежедневно по 2 лица. В число дежурных входят и служащие Канцелярии. От дежурств освобождаются женщины и лица, по состоянию здоровья и возрасту не подходящие для исполнения обязанностей дежурного. Выработать инструкцию для дежурных и составить расписание дежурств. Заседание закрыто в 3 ч. 50 м.
Заместитель Председателя Директор С.Тройницкий Члены: О.Ретовский, Е.Придик, Д.Шмидт, М.Максимова.
Вр. исп. об. Ученого Секретаря А.Суслов Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 65, 1919, л. 157.
Протокол заседания Совета Эрмитажа. 1919 г.
Слушали: 1. «Внутренний и внешний мир в творчестве Рембрандта». Постановили: Вступительное слово просить произнести А.Н.Бенуа. Доклады: Г.С.Верейского «Рембрандт как гравер» и Д.А.Шмидта «Внутренний и внешний мир в творчестве Рембрандта».
2. С.Н.Тройницкий сообщает о том, что по обсуждении в Отделах Эрмитажа программы курсов для служащих по учету и регистрации па¬
II Материалы и документы
290
мятников искусства и старины представляется возможным разбить эти курсы на два отдела: 1) технический — по материалам (керамика, кость, стекло, эмаль и пр.); 2) по известным вопросам, по группам, т.е. не излагая всей истории искусства, а пользуясь эрмитажным художественным материалом, осведомить на этом материале слушателей в смысле достаточной подготовки их произвести более или менее точную экспертизу художественных предметов. С.Н.Тройницкий оглашает проект программы курсов, составленный применительно к этим двум отделам с указанием имен лекторов и добавляет, что, за отсутствием в Эрмитаже специалистов по некоторым вопросам, не придется ограничиться для курсов одним эрмитажным персоналом, а пригласить посторонних Эрмитажу лиц, например, члена Совета Русского музея Белобородова.
Постановили: Одобрить разделение программы на 2 отдела; по выработке программы войти в сношение с Музейным отделом об окончательной организации курсов (изыскание средств и проч.). Заместитель Председателя Директор С.Тройницкий Члены: О.Браз, С.Яремич, О.Ретовский, Д.Шмидт, Р.Фасмер, Е.Придик, В.Головань, В.Струве, М.Максимова, А.Марков Вр. ис. об. Ученого Секретаря А.Суслов Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 65, 1919, л. 153.
В Совет Эрмитажа.
Отчет Ассистента В.В.Воинова о командировке в г.Москву. 4 июня 1919 г.
Выехав по поручению Совета Эрмитажа в г.Москву в пятницу 30-го мая, я прибыл на место в субботу 31 мая и в тот же день присутствовал на заседании Коллегии по делам музеев. Среди присутствующих были: Заведывающая Московским Отделом Н.И.Троцкая, представители Русского музея: Пунин, Околович, Романов и Серебряков, а также — Эфрос, Муратов, Машковцев и Щекотов. (Отсутствовал Грабарь, уехавший в командировку на Волгу для осмотра помещичьих усадеб и художественных сокровищ.)
Предварительно обсуждения вопроса об Эрмитажных коллекциях зашла речь о перевозке некоторых ящиков с вещами Русского музея, причем К. К. Романов просил представителей Отдела озаботиться предварительной вентиляцией ящиков, путем отвинчивания крышек на 1/2—1 сантиметр, без снятия пломб и проволок. Совещание постановило принять меры к исполнению требования Русского музея о вентиляции ящиков и возбудить перед СНК ходатайство о перевозке ящиков в Петроград.
Затем, по моей просьбе, Н.И.Троцкая ознакомила меня с положением вопроса о судьбе Эрмитажных собраний в Москве. Уже давно в художественных кругах Москвы раздавались голоса о необходимости, пользуясь случаем пребывания там Эрмитажных картин, устроить выставку. За последнее время требования устройства этой выставки сделались особенно настоятельными и стали исходить из рабочих и общественных кругов.
4 После Октябрьской революции
291
Ввиду этого Московский Отдел по делам музеев решил не откладывать больше этого вопроса, почему Совету Эрмитажа и была послана телеграмма о командировании в Москву своих представителей. Выставка эта, по словам Н.И.Троцкой, является делом первостепенного значения, в целях ознакомления широких народных масс с шедеврами Эрмитажа.
Я изложил перед Собранием точку зрения Совета Эрмитажа на этот предмет, в тех основных положениях, которые были сообщены Петроградскому Отделу, согласно резолюции Совета от 25-го мая 1919 г.
В развитие данных, сообщенных Н.И.Троцкой, П.П.Муратов отметил три существенные стороны вопроса. 1. Контрольное вскрытие ящиков для проверки состояния картин, столь долгое время находившихся в ящиках. Эта мера, конечно, не может не интересовать живейшим образом и Совет Эрмитажа. 2. Устройство выставки для ознакомления с картинами великих мастеров широких народных масс в Москве и 3. Вопрос о распределении Эрмитажных картин, главным образом, между Москвой и Петроградом.
В настоящее время особенно остро стоит вопрос об устройстве выставки, с которым теснейшим образом связывается контрольное вскрытие ящиков. Что же касается третьей части вопроса, то с этой стороны Совету Эрмитажа нечего опасаться, так как этот вопрос огромного объема и значения не может быть решен отдельно от общего плана музейного строительства страны, в общегосударственном масштабе; ч^го представляется сейчас в более или менее отдаленном будущем и, никоим образом, не связывается ни с контрольной распаковкой, ни с уст1 ройством выставки.
Само собою разумеется, что ни вскрытие ящиков, ни устройство выставки не мыслятся без участия представителей Эрмитажа.
Н.Н.Пунин от лица Петроградской Коллегии заявляет, что вскрытие и контроль ящиков ею также признается необходимыми, совершенно также Петроградская Коллегия, хотя и не единогласно, сочувственно высказалась об идее устройства в Москве выставки Эрмитажных картин, в чем несколько расходится с мнением Совета Эрмитажа. Что касается условий устройства выставки, то Петроградская Коллегия солидарна с Советом Эрмитажа в его требованиях: 1) чтобы никакие меры не принимались без участия представителей научного и технического персонала Эрмитажа, 2) чтобы при вскрытии ящиков были обеспечены как помещения для этих работ, так и помещение и оборудование реставрационной мастерской, 3) чтобы были соблюдены подходящие условия температуры и влажности, во всяком случае, не ниже 4% тепла, без особых колебаний, 4) необходимы гарантии полной сохранности вещей (охрана), 5) недопустимо выставление картин без рам и на мольбертах.
А.М.Эфрос указывает на то, что упаковка картин Эрмитажа производилась кустарным способом, не на винтах, а путем забивания в крышки гвоздей. Что Эрмитаж сам, спустя 2—3 месяца, намеревался произвести проверку состояния картин в ящиках, но таковая до сих пор
II Материалы и документы
292
не сделана. Ввиду этого он считает, что такое контрольное вскрытие необходимо произвести немедленно, и просить Эрмитаж командировать в Москву для этого теперь же трех представителей по ученой части и одного-двух реставраторов для участия в особой контрольной комиссии. Параллельно с этим надо начать работы по выбору картин для выставки, оборудованию помещений и проч. Рамы найдутся, для чего надо немедленно же взять на учет все многочисленные и хорошие рамы у московских антикваров. Помещение также найдется', например, Музей Изящных искусств.
Я довожу до сведения Совещания, что ввиду предполагаемой перевозки ящиков с вещами Русского музея Эрмитаж просит о присоединении к этой партии также некоторого количества ящиков с наиболее ценными картинами и древностями Эрмитажа.
[Н. М.] Щекотов, ставя устройство выставки на первый план, находит неясным и немотивированным желание Совета Эрмитажа перевезти ящики с лучшими картинами. Это, во-первых, в корне разбивает идею выставки лучших произведений, а во-вторых, непонятно, почему Эрмитажу понадобилось возвращение картин в настоящий момент, в столь трудный для всякого рода перевозок и неопределенный в смысле стратегического положения Петрограда. Я указываю на то, что вполне понятно желание Музея вернуть именно лучшие свои вещи, пользуясь благоприятным к тому случаем, и что если в перевозке ящиков Русского музея Собрание не усматривает никакой нелогичности, то ее не может быть и в отношении перевозки весьма скромного количества эрмитажных ящиков. Кроме того, Эрмитаж, желая перевезти ящики в Петроград, тем самым хочет поставить находящиеся в них картины в обычные и нормальные условия температуры и влажности и соответствующей охраны, а также иметь возможность, в случае необходимости, принять меры к их реставрации во вполне оборудованных реставрационных мастерских.
А.М.Эфрос считает реэвакуацию, без предварительной проверки, невозможной, так как, ввиду кустарности упаковки, может понадобиться их переупаковка и даже устройство новых ящиков. Без этой проверки в Москве, по его мнению, нельзя посылать картины обратно в Петроград. Надо теперь же образовать контрольную Комиссию, с участием представителей Эрмитажа, и сделать это в Москве.
Н.И.Троцкая отмечает, что в Москве сейчас, несомненно, центр художественной жизни страны и потому устройство выставки Эрмитажных картин стало неотложной необходимостью; кроме того, ввиду выяснившегося опасения за судьбу картин, в случае их дальнейшего пребывания в ящиках, сделалось столь же неотложным производство контрольного вскрытия. Дальнейшее пребывание картин в ящиках и промедление с их вскрытием ложится целиком на ответственность Эрмитажа.
В результате было признано необходимым как контрольное вскрытие, так и устройство выставки, и постановлено просить Совет Эрмитажа взять на себя организацию этого дела.
4 После Октябрьской революции
293
В воскресенье, 1 июня, я рассмотрел филиальное Отделение Румянцевского музея (Черногряжская Садовая, у Красных Ворот, д. № 6, б. Зубалова), где устроен склад картин и икон и предполагается устройство выставки. Это — большой барский дом, во втором этаже которого имеется семь комнат значительного размера, пригодных для устройства выставки, но отнюдь не Эрмитажных картин. Распаковку там производить негде, да и само здание слишком удалено от центра и вряд ли обеспечено в пожарном отношении.
В понедельник я ознакомился с порядком хранения ящиков с Эрмитажным имуществом в Историческом музее, в чем мне способствовал Директор Музея Щербатов и П.Д.Эттингер. В одном из зал верхнего этажа хранится 17 ящиков с картинами. Произвести там распаковку совершенно немыслимо, так как там находится еще много других ящиков, музейные витрины и проч. 13 ящиков большого размера и с картинами, накатанными на валы, ввиду их громоздкости, оставлены на хранение в вестибюле музея, и также совершенно немыслимо произвести где-либо их распаковку, для чего в музее не имеется подходящих помещений.
Ввиду неясности фактического положения вещей, в связи с предполагаемой контрольной распаковкой и устройством выставки, я просил Н.И.Троцкую принять меня, с целью получить от нее более или менее определенные ответы на те вопросы практического характера, без ответа на которые считал свою миссию по командировке невыполненной.
1. Прежде всего, я сообщил ей о своих впечатлениях от осмотра Исторического музея и свое заключение о невозможности выполнить там распаковку (мало места для раскрытия ящиков, нет реставрационной мастерской и проч.). На вопрос Н.И., нельзя ли сделать распаковку в вестибюле, я ответил, что это совершенно немыслимо. Кроме того, вообще усомнился в том, насколько допустимо трогать картины, снятые со специально приспособленных подрамников (оставленных в Эрмитаже), и раскатывать их на каменном полу.
2. Так как Московская Коллегия не указала мне определенно, в каком именно помещении можно было бы произвести распаковку, не дала мне ясных указаний, может ли быть оборудована при этом помещении реставрационная мастерская, то, не имея этих данных, мне крайне трудно будет дать определенный ответ Совету Эрмитажа, и дальнейшая присылка Эрмитажных представителей может оказаться бесплодною.
3. Также осталось для меня неясным, будет ли происходить контрольное вскрытие в том же помещении, где мыслится выставка или где-либо в другом месте. Отдаленность этих мест друг от друга повела бы за собой совершенно недопустимое, излишнее потрясение для картин, потребовала бы их новой упаковки и перевозки.
Н.И.Троцкая пригласила вновь участников предыдущего заседания (за исключением представителей Русского музея) и просила меня повторить все свои вопросы. Из прений выяснились следующие детали. Помещение окончательно не намечено, предположены или Большой
II Материалы и документы
294
Кремлевский дворец, или Музей Изящных искусств, для чего на следующий день назначается осмотр этого Музея. Разработку и детализацию данного вопроса постановлено отложить до прибытия делегатов Эрмитажа, которые на месте, окончательно, могли бы указать на необходимость выполнения тех или иных подготовительных работ. А.М.Эфрос полагает, что наиболее подходящим в музейном смысле является здание Музея Изящных искусств, и снова подчеркивает, что Московская Коллегия озаботится оборудованием мастерской по указаниям Эрмитажа и очисткою помещения для предстоящих контрольных работ и выставки. Рамы также будут обеспечены.
В заключение я указал на то, что, при существующих условиях, поездка в Москву, особенно для длительного в ней пребывания, может оказаться невыполнимой ни для одного из членов Эрмитажного состава. На это Н.И.Троцкая сказала, что тогда придется сделать намеченное уже без представителей Эрмитажа. На мои слова, что в таком случае Эрмитаж не может взять на себя ответственности за последствия этих работ, Н.И.Троцкая ответила, что, конечно, это так, но это будет не в пользу Эрмитажа, оставляющего в такой момент вверенные ему собрания на произвол судьбы.
Во вторник утром, совместно с П.П.Муратовым и А.М.Эфросом, я посетил Музей Изящных искусств, и мы, в сопровождении Директора Музея В.К.Мальмберга, осмотрели намеченные Эфросом и Муратовым помещения: для выставки, большой, центральный зал верхнего этажа (в нем в настоящее время находятся в ящиках две мраморные статуи). Представители Московской Коллегии, ввиду невозможности прикрепления картин к каменным стенам, высказывали предположения о возможности устроить выставку на специально поставленных щитах, обтянутых материей. Мною было обращено внимание на то, что довольно много больших стекол в потолке разбиты и не вставлены. Разбиты они, по словам моих спутников, залетавшими пулями. Зал этот имеет один главный вход и две двери на внутренние лестницы; наверху имеются хоры.
Для распаковки и частью реставрационной мастерской Муратовым и Эфросом намечен большой запасной зал № 25, в котором сейчас лежат ящики с картинами из Академии Художеств и неразобранные коллекции, принадлежащие Музею Изящных искусств.
Затем нами было осмотрено отдельное помещение (вход с Анти- пьевского переулка), где сейчас устроена выставка предметов прикладного искусства, состоящее из 4 или 5 комнат с отдельным входом с улицы. Муратов и Эфрос признали это помещение недостаточно парадным и потому неподходящим для выставки.
К изложенному я считаю необходимым прибавить, что мне удалось побеседовать со старшим контролером Отдела просвещения и пропаганды КНП и Заместителем Председателя Междуведомственной Комиссии по оценке и инвентаризации эвакуированных в Москву имуществ Виктором Александровичем Никольским. От него я узнал: во-первых, что списки с эвакуированными вещами Эрмитажа находятся у него, и
4 После Октябрьской революции
295
во-вторых, что он ревизовал в истекшую зиму Музей Изящных искусств и констатирует весьма тяжелое положение этого Музея в температурном отношении и в отношении влажности. Зимой там был сильный холод и сырость, и рассчитывать в предстоящую зиму на лучшие условия совершенно нельзя.
Помимо прямой задачи, возложенной на меня Советом, я посетил Румянцевский музей, где Хранитель Н.И.Романов и его помощница ознакомили меня с карточным каталогом Отделения гравюр и рисунков и со старой и вновь принятой системами регистрации гравюр и рисунков. Я осмотрел также, как хранятся гравюры и рисунки. Мне были любезно предоставлены образцы карточек с соответствующими объяснениями. Об этой части моих работ я подам отдельную записку Хранителю С.П.Яремичу. Ознакомиться с положением инвентарей других музеев у меня, к сожалению, не хватило времени.
Ассистент Всеволод Воинов
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 65, 1919 г., л. 84—92.
22 марта 1920 г. состоялось совещание Совета Эрмитажа с представителями Русского музея о реэвакуации собраний музеев из Москвы.
Из протокола Совета Эрмитажа. 5 апреля 1920 г.1
«Председатель докладывает о том, что записка, составленная Советами Эрмитажа и Русского Музея о реэвакуации музейных и дворцовых собраний, отправлена в Москву и будет лично передана Председателю Совета Народных Комиссаров Ленину М.Андреевой».
Это письмо было в двух экземплярах, одно Ленину, другое Луначарскому. Оба они благосклонно отнеслись к ходатайству о реэвакуации. «На самом деле, пора уже восстановить музеи Петрограда в их естественном, нормальном виде» (Ленин). В конце апреля 1920 г. вопрос былчрешен окончательно.
ЗАПИСКА ЧЛЕНОВ СОВЕТОВ ЭРМИТАЖА И РУССКОГО МУЗЕЯ. 1920 г.
В 1917 году, по распоряжению Временного правительства, приступле- но было к эвакуации из Петрограда в Москву собраний Эрмитажа, Русского музея, Академии Художеств и дворцов-музеев, причем предполагалось вывезти все предметы, имеющие художественную, научную или материальную стоимость. После государственного переворота 25 октября 1917 года дальнейший вывоз коллекций был приостановлен, и эвакуация, таким образом, не только не была закончена, но ни в одном из поименованных учреждений, по разным причинам, не была вывезена ни одна из намеченных категорий полностью.
Так, из Эрмитажа перевезено было в Москву около половины картин различных школ, часть собрания рисунков и гравюр, отдельные предметы из Отделения средних веков, некоторые единичные экземпляры из Отделения древностей, часть минц-кабинета, резные камни и часть архива и библиотеки.
1 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед.хр. 139, л. 30-36.
II Материалы и документы
296
Из Русского музея — часть рисунков и лишь небольшое количество картин и икон, подобранных исключительно по признаку малого размера и удобства упаковки и отдельные части коллекций разных местностей и народностей из Отдела этнографического.
Из Академии художеств вывезено: часть картин, гравюр, рисунков, художественных изданий и несколько скульптур.
Из дворцов-музеев в Петрограде, Царском Селе, Гатчине и Петергофе вывезено некоторое количество картин и художественной мебели, составляющих части исторических ансамблей.
С осени 1917 года эвакуированные коллекции находятся в Москве в упакованном виде.
В 1919 году музеями и Коллегией по делам музеев и охране памятников искусства и старины постановлено было приступить к работам по обратной перевозке всех эвакуированных коллекций в Петроград, и с этой целью организован был транспорт, закончена вся подготовка, и только исключительно по причинам политического и военного характера реэвакуация была приостановлена.
В настоящее время обстоятельства изменились в том смысле, что нет уже никаких причин, могущих помешать осуществлению столь важного дела, и затруднения, которые будут неизбежно связаны с транспортом, могут быть устранены на практике путем надлежащей организации перевозки собраний по частям.
Реэвакуация теперь же представляется делом совершенно необходимым прежде всего для восстановления двух крупнейших наших музеев, остающихся вот уже в течение почти трех лет в полуразрушенном состоянии в то время, как столь большая организационная работа в этих учреждениях уже сделана, и они могли бы быть устроены в полном соответствии с лежащими на них культурно-просветительными, так и научными задачами. В настоящее время это является совершенно необходимым делом в связи с все развивающимися научными организациями Петрограда и необходимостью наши собрания памятников искусства и старины, имеющие мировое значение, привести в организованное и удобное для изучения состояние накануне возобновления международных отношений.
Советы Эрмитажа и Русского музея, полагая, что все работы по реэвакуации и реконструкции должны будут закончены в течение предстоящего лета, просят разрешение о безотлагательном возвращении в Петроград всех художественно-исторических и научных собраний, эвакуированных в 1917 году.
Члены Советов Эрмитажа и Русского музея подписали: М.Горький, академик Н.Марр, академик С.Ольденбург, академик Шахматов, профессор С.Жебелев, директор Русского музея А.Миллер, директор Эрмитажа С.Тройницкий, профессор М.Максимова, профессор О.Вальд- гауер, академик Э.Липгарт, заместитель директора Эрмитажа профессор Л.Мацулевич, заведыв. Худ. Отд. Русского музея П.Нерадовский, Д.Шмидт, П.Вейнер, профессор В.Струве, С.Яремич, академик О.Браз, член Археологической комиссии П.Шеффер, О.Ретовский, член Акаде-
4 После Октябрьской революции
297
мии истории материальной культуры А.Бенуа, Р.Фасмер, В.Головань, Д.Митрохин, член Академии истории материальной культуры К.Рома- нов, профессор А.Марков, Д.Золотарев1.
О реэвакуации. Хроника
Из материалов Н.Н.Лемана 2
Осенью 1917 г. по постановлению Временного правительства была эвакуирована в Москву большая часть собрания Эрмитажа. Первый транспорт был отправлен в ночь с 16 на 17 сентября, второй — в ночь с 6 на 7 октября. Назначенное на 29 октября отправление третьего транспорта было задержано Октябрьским переворотом, а вслед за тем эвакуация была приостановлена Советской властью. Всего из Эрмитажа было вывезено восемьсот одиннадцать ящиков и баулов. После эвакуации в Эрмитаже могли быть открыты для осмотра только небольшая часть Отделения античного и Отделения гравюр и рисунков.
В Москве коллекции Эрмитажа были помещены в Собственной половине Большого Кремлевского дворца, в Оружейной палате и в Историческом музее.
В июне 1918 г. Московской Коллегией по делам музеев был поднят вопрос о перевозке ящиков из Дворца в новое помещение, в видах большей безопасности; Совет Эрмитажа возражал против лишнего передвижения ящиков и настаивал на возвращении их в Эрмитаж.
В сентябре 1918 г. Московская Коллегия согласилась на перевозку в Петербург частями отдельных коллекций; Эрмитаж требовал возвращения всех собраний полностью. В том же сентябре полная реэвакуация была разрешена, но была отменена в связи с политическими и военными осложнениями.
В ноябре 1918 г. Московская Коллегия постановила выставить в Москве Эрмитажные собрания.
В мае 1919 г. Московская Коллегия постановила использовать часть коллекций Эрмитажа для устраиваемого в Москве музея западноевропейской живописи, причем было предположено часть коллекции распределить между провинциальными музеями, а затем потребовала контрольного вскрытия ящиков и переупаковки.
Контрольное вскрытие произведено 5 сентября 1919г.; ввиду блестящей сохранности вещей переупаковка отменена.
Совет Эрмитажа, неусыпно стоя на страже интересов этого старейшего очага культуры России и ясно сознавая громадную опасность возможного уничтожения Эрмитажа и распыления его драгоценных собраний по Московским и провинциальным музеям, не прекращал настоятельных хлопот о возвращении коллекций.
Непрерывные с июня 1918 г. хлопоты Эрмитажа о возвращении вывезенных в Москву собраний увенчались постановлением Совета Народных Комиссаров от 23 июня 1920 г. о реэвакуации коллекций после заключения мира с Финляндией.
1 Воспроизводится с машинописной Российская Государственная Академическая
копии. — Примеч. ред. Типография. Отпечатано 28 ноября 1920 г. в
2 Цит по изд.: Государственный Эрми- количестве 200 экземпляров. — Примеч. ред.
таж. 16 сентября 1917 г. — 28 ноября 1920 г.
И Материалы и документы
298
Вслед за заключением мира с Финляндией в октябре 1920 г. образованы тройки для осуществления реэвакуации, одна для работ в Москве в составе Крыкалова, Мацулевича и Рахлина-Румянцева, другая для работ в Петербурге в составе Визеля, Исакова и Тройницкого. Чрезвычайным уполномоченным при ВЦИК по реэвакуации художественных ценностей из Москвы в Петербург назначен Ятманов.
Работы по разбору и подготовке к реэвакуации ящиков в Москве начались 8 ноября 1920 г. и были закончены 12 ноября. В работах принимали участие, кроме членов тройки, сотрудники Эрмитажа Добро- клонский, Зилоти, помощник реставратора Васильев и галерейные служащие Эрмитажа Богданов, Варакса, Воронцов, Никулин, Нуждаев и Филиппов.
К началу погрузки Эрмитажем были командированы в Москву сотрудники Эрмитажа Бауэр, Боровка, Верейский, Гесс, Головань, Жар- новский, Лисенков, Лорис-Меликов, Ж.Мацулевич, Орбели и Тревер. Руководил перевозкой начальник военных сообщений Республики Аржанов. Погрузка ящиков на автомобили началась 15 ноября в 12 ч. 45 м. дня, погрузка поездов была закончена 17 ноября в 8 ч. утра. Перевозка произведена двумя поездами: первый поезд вышел из Москвы 17 ноября в 10 ч. 55 м. утра, второй вслед за ним. Первый поезд прибыл в Петербург 18 ноября в 5 ч. вечера. Первый ящик прибыл в Эрмитаж 18 ноября в 10 ч. 7 м. вечера, последний 19 ноября в 7 ч. 15 м. утра. Первый ящик вскрыт 20 ноября, восстановление зала Рембрандта, временно — в первоначальном виде, начато 22 ноября, закончено 26 ноября.
27 ноября состоялось постановление Совета Эрмитажа об открытии зала Рембрандта для публики.
28 ноября в 12 ч. дня зал Рембрандта открыт.
Эвакуация произведена при директоре Эрмитажа Толстом. Реэвакуация произведена при директоре Эрмитажа Тройницком.
Э.Голлербах. Праздник Эрмитажа 1
Музейные деятели Петербурга и все люди, причастные к искусству, справили только что большой праздник, пережили великий день, который не скоро забудется; в Петербург вернулись величайшие сокровища Эрмитажа, приковывающие к себе внимание всей Европы и ставящие его в ряд хранилищ мирового значения. Эвакуированные во время войны царским и Временным правительством в Москву, ныне великие chefd oeuvres’bi Рембрандта, Рафаэля, Ван-Дейка, Тициана и др. вновь заняли свои места на стенах музея.
22 ноября в Малахитовом зале Дворца искусств в 8 часов вечера состоялся банкет по поводу события, приветствуемого историками искусства, художниками и всеми, кому дороги судьбы нашей культуры. На банкете присутствовали все виднейшие деятели музейного дела, искусства и науки, заведующие и научные сотрудники отделов Наркомпроса, директора и ассистенты музеев и лица, причастные к реэвакуации.
Вступительную речь сказал правительственный комиссар Отдела по делам музеев и охране памятников искусств и старины Г.С.Ятманов,
1 Газета «Жизнь Искусства», 1920, 3—5 декабря, № 623—624.
4 После Октябрьской революции
299
Возвращение Эрмитажных коллекций. 1920
II Материалы и документы
300
Сергей Николаевич Тройницкий
(1882-1948).
Фотография 1920-х гг.
4 После Октябрьской революции
301
поздравивший присутствующих с радостным событием и отметивший успешность перевозки. Реэвакуация была произведена со сказочной быстротой: на нее потребовалось всего двое суток. Еще один день потребовался на доставку музейных ценностей из Петербурга в пригородные дворцы. Все картины и вещи, привезенные из Москвы, оказались в безупречной сохранности. Успешность реэвакуации тов. Ятманов объяснил энергией и преданностью делу всех лиц, участвовавших в транспортах. Особенную признательность выразил комиссар начальнику военных сообщений Республики тов. Аржанову, благодаря содействию которого удалось достигнуть совершенно невероятной быстроты перевозки, а также гарантировать сохранность и безопасность перевозимых ценностей.
Выступивший затем директор Эрмитажа С.Н.Тройницкий подтвердил полную сохранность всех коллекций и прочел адрес, от имени сотрудников Эрмитажа, в котором выражалась глубокая признательность тов. Аржанову, обеспечившему благополучную и быструю перевозку. Благодарил он и тех сотрудников, которые не щадя своих сил, денно и нощно трудились по приемке вещей и картин.
От лица Российской Коммунистической партии говорил тов. Куз- мин, сказавший, что ныне устранена опасность на боевых фронтах и все силы будут направлены на трудовой фронт, где в первую очередь ставятся задачи культуры и просвещения. «О большевиках говорят, что они губят и разрушают все старое, в том числе искусство; ныне всем представляется случай убедиться в том, как бережно и заботливо охраняем мы интересы искусства и культуры».
Непременный Секретарь Академии Наук акад. С.Ф.Ольденбург приветствовал в своей речи драгоценное волевое творчество, волевую энергию, давшую возможность осуществить такое трудное и ответственное дело, и пожелал, чтобы и впредь в России, которая всегда была так бедна волею, чаще свершались дела, подобные этой реэвакуации.
Начальник военных сообщений Республики М.М.Аржанов отклонил воздаваемую ему честь и приписал всю успешность реэвакуации железной дисциплине и трудовой сознательности доблестной Красной Армии, совершающей чудеса как на боевом, так и на трудовом фронтах.
Далее выступали с речами заведующая художественным под’отде- лом Петросовета М.Ф. Андреева, приветствовавшая реэвакуацию как чудо, за которым последует еще много чудес, много побед на фронте культурно-просветительного и художественного творчества, заведующий Отделом высших учебных заведений тов. Кристи и снова С.Ф.Ольденбург.
После этого тов. Ятманов предложил высказаться молодым художникам, какое их отношение к этому событию, так же ли крепки их позиции, так же ли сильно их презрение к старому искусству. Тов. Ят- манову отвечал комиссар Отдела изобразительных искусств Н.Н.Пунин.
«С достаточно лукавой улыбкой задал мне свой вопрос тов. Ятманов, — сказал Н.Н.Пунин, — но я поднимаю брошенную мне перчатку. Да, наши позиции все так же крепки и мы искренно желаем, чтобы молодые художники возможно реже посещали Эрмитаж и возможно чаще
И Материалы и документы
302
оставались наедине с внутренним голосом своего творчества. Нужно отказаться от старого, чтобы строить новое светлое будущее».
Говорили еще художник Филонов о переживаемом нами «вводе в мировой расцвет», Илья Иванов и др. Банкет окончился около полуночи.
Комиссариат по просвещению РСФСР. Отдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины. Отдел по охране, учету и регистрации памятников искусства и старины
25 ноября 1920 г. № 2797.
Дворец искусств (бывш. Зимний). Петербург УДОСТОВЕРЕНИЕ 1
Сим удостоверяется, что предъявитель сего Член Чрезвычайной Революционной Тройки по реэвакуации сокровищ Эрмитажа, Чрезвычайный Уполномоченный по снабжению учреждений Областного Отдела по охране памятников искусства и старины и Заведующий Иногородней Охраной того же Областного Отдела тов. Рахлин-Румянцев, постоянно находясь в разъездах, должен пользоваться особым содействием всех революционных властей по делам, возложенным на него указанными выше должностями и в целях наилучшего обеспечения работающих с ним сотрудников все лица и учреждения Местных Прод’органов приглашаются предоставить ему, Рахлину-Румянцеву, внеочередные и по возможности исключительные наряды продовольствия.
Народный Комиссар А.Луначарский Правительственный Комиссар Б.Крыкалов С подлинным верно: Секретарь (подпись)
В Наркомфин. Постановление Совета Народных комиссаров РСФСР 2
Совет Народных Комиссаров в заседании 24 ноября 1921 г., рассмотрев вопрос о пополнении имеющихся в Государственном Эрмитаже коллекций монет, постановил:
1. Для пополнения имеющихся в Государственном Эрмитаже коллекций монет, предложить Монетному двору в Петрограде выдать Эрмитажу по одному экземпляру каждого рода монет, отчеканенных при Советской Власти.
2. Обязать Монетный двор на будущее время выдавать Эрмитажу также по одному экземпляру каждого рода вновь выпускаемых им монет.
Секретарь А.Тарасов Делопроизводитель М.Смирнова Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, 1922, ед. хр. 236, л. 10.
Эрмитаж (1920 г.)
Ученый Секретарь Эрмитажа честь имеет просить Вас пожаловать на открытое заседание, имеющее быть в 4 ч. дня в пятницу 26 марта 1920 года в помещении Эрмитажа.
1 Воспроизводится копия документа. — Примеч. ред.
2 Копия документа. — Примеч. ред.
4 После Октябрьской революции
303
Предметы занятий: Доклад О.Ф.Вальдгауера: О стиле и датировке статуи Юпитера из Кастель Гандольфо в Эрмитаже.
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, 1920 г., ед. хр. 172, л. 9.
Выписки из протоколов. Декабрь 1917 — декабрь 1920 годов
10 ноября 1917 г.
«О принятом делегатским собранием решении присоединиться к Союзу союзов служащих всех правительственных учреждений и в частности к мерам бойкота представителей захватчиков власти с целью не дать им возможности укрепиться, выражающемуся в следующем: не признавать власти представителей захватчиков и продолжать исполнение всей текущей работы. В случаях вмешательства а) приказного — отвечать бойкотом в той форме, которая окажется наиболее целесообразной в каждом отдельном случае, б) письменного — пакеты вскрывать, но оставлять без действий» (Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 45, л. 50).
13 ноября 1917 г.
Оглашается поступившая 12 ноября бумага № 9 от лица, именующего себя «Помощником Народного комиссара по ведомству Дворцов Российской Республики» В.Игнатова. В соответствии с прежним решением «Об игнорировании письменных заявлений, исходящих от лиц самочинно распоряжающихся от имени народных комиссаров» отложить обсуждение частных вопросов [об эвакуации] до следующего заседания (там же, л. 51).
14 ноября 1917 г.
«Оставаясь на принятой уже ранее принципиальной точке зрения, оставить бумагу Игнатова без ответа» (о передаче Украинской Раде украинских предметов. — Б.П.). «Совещание признало необходимым в случае письменного предписания оставить таковое без всякого ответа...». [Передача вещей из Эрмитажа] «входит в компетенцию исключительно верховной Власти, каковою никоим образом нельзя считать власть, образовавшуюся после Октябрьского переворота. Разрешить этот вопрос может лишь та власть, которая сконструируется законным образом по воле Учредительного собрания» (там же! л. 52).
21 декабря 1917 г.
Докладывается о получении от Народного Комиссара А.В.Луначарско- го бумаги, приглашающей графа Д.И.Толстого и всех хранителей для переговоров в 1 ч. дня 22 декабря (делегируются гр. Д.И.Толстой, С.Н.Тройницкий, В.В.ВОИНОВ) (там же, л. 62).
22 декабря 1917 г.
«Гр. Д.И.Толстой докладывает Собранию, что уполномоченные для переговоров с Луначарским лица, явившиеся в назначенное время, прождали 3/4 часа и принуждены были уйти, не дождавшись результатов» (там же, л. 63).
4 марта 1918 г.
«Совет выслушал и одобрил составленное Я.И.Смирновым1 отношение Народному комиссару по просвещению и Имуществам Республики с
1 Я.И.Смирнов был избран академиком
17 мая 1917 г.
II Материалы и документы
304
представлением мнения Совета о недопустимости занятия Кремля, в частности Большого Кремлевского Дворца, советскими организациями и органами Советской власти, так как это создало бы серьезную угрозу целости перевезенного в Москву художественного имущества Эрмитажа И национальным СВЯТЫНЯМ Кремля» (Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 54, л. 4).
5 июня 1918 г.
Заслушана бумага комиссара Киммеля с предложением допустить в Эрмитаж экскурсию под руководством хранителя Вальдгауера. Это же было подтверждено в самой категорической форме комиссаром Ятма- новым. Я.И.Смирнов предлагает три возможности решения вопроса: 1) закрыть двери и не пускать экскурсантов, не считаясь с требованием комиссара Киммеля, 2) беспрекословно подчиниться требованиям, 3) допустить экскурсантов, но объяснить им, что это делается вопреки постановления Эрмитажа, и тем дать возможность тем из них, которые не пожелают идти против мнения научной коллегии Эрмитажа, отказаться от посещения. Решили: ввиду категоричного требования комиссара Киммеля, [Совещание] считает нужным допустить экскурсантов в указанные ИМИ ДНИ... (там же, л. 28).
И июня 1918 г.
«Слушатели курсов при сложившихся обстоятельствах не считают для себя возможным посещение Эрмитажа» (там же, л. 30).
6 августа 1918 г.
«В январе в Эрмитаже было получено письмо Комиссара Луначарского с обещанием не вмешиваться во внутреннюю жизнь Эрмитажа, ежели Эрмитаж будет спокойно продолжать свою работу...». Комиссар
Н.Н.Пунин указывает, что «дав обещание не вмешиваться, власть и не вмешивалась, пока не нашла работу Эрмитажа недостаточной и несоответствующей. Эрмитаж сам виноват, что мало работал...» (там же, л. 51).
Из журнала заседаний Совещания при Отделе Древностей за 1919 год 1
О создании Отделения Археологии России 29 ноября 1918 г.
Заседание комиссии по организации Отделения Археологии России в составе Отдела Древностей.
Присутствовали: Н.Я.Марр, С.Ф.Ольденбург, С.А.Жебелев, Н.П.Сычев, А.А.Миллер, Б.В.Фармаковский, О.Ф.Вальдгауер.
24 декабря 1918 г.
Присутствовали: О.Ф.Вальдгауер, Н.Я.Марр, С.Ф.Ольденбург, С.А.Жебелев, Н.П.Сычев, С.Н.Тройницкий. О должностях Отделения Археологии России: Л.А.Мацулевич — хранитель византийских древностей,
Н.Е.Макаренко — на должность помощника хранителя по русским древностям, Г.И.Боровка — на должность помощника хранителя по классическим древностям.
Доклад Г.И.Боровки о курганных находках «Семи Братьев». Предложение О.Ф.Вальдгауера об устройстве выставки вещей, найденных в России за последние годы. Об урегулировании передачи находок
1
См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 109.
4 После Октябрьской революции
305
из Археологической комиссии в Эрмитаж. Предлагается 5-летний срок. 28 января 1919 г.
Предлагается на замещение должности ассистента по Отделению Археологии России Н.Д.Флиттнер. Жебелев против. Вальдгауер возражает Жебелеву. Предлагается две должности и рекомендуются Н.Д.Флиттнер и К.В.Тревер.
До возвращения В.С.Голенищева хранителем египетских древностей представляется В.В.Струве.
Доклад Г.И.Боровки «Головной убор Чертомлыкского кургана» (л. 3).
3 февраля 1919 г.
О передаче мумий из Академии наук в Эрмитаж. Докладывает В.В.Стру- ве. Академия возражает, так как мумии имеют этнографическое значение.
В Отделе Древностей три отделения: 1) Восточное, 2) Греко-римское, 3) Археологии России. Вальдгауер считает полезным на совещаниях оглашать краткие отчеты хранителей о произведенных за неделю работах (л. 5).
28 февраля 1919 г.
Вальдгауер сообщает об организации инструкторских курсов, имеющих целью подготовить руководителей для экскурсий по музею. Ставит вопрос о лекциях и проекционном фонаре. Решено в состав Отделения Археологии России передавать исключительно раскопанные предметы, а купленные — в Отделение греко-римское. Доклад Г.И.Боровки «Бронзовая плакетка из Ольвии с рельефным изображением Афины» (л. 20-21).
7 марта 1919 г.
Вальдгауер прочитывает полученную от комиссара Киммеля телеграмму о предоставлении женщинам-служащим возможности посетить митинг 8 марта и освобождении их от занятий в 12 ч.
Доклад В.В.Струве «Эрмитажный папирус № 1116 В recto и пророческая литература Древнего Египта» (л. 25-26).
22 марта 1919 г.
Закрытая баллотировка в состав Совещания по организации Отделения Археологии России, в которой работают лишь Б.А.Тураев и Б.В.Фар- маковский, включить М.И.Максимову и Г.Ф.Церетелли.
О комнате для Отделения Археологии России (одна из трех, хотя и меньшая).
28 марта 1919 г.
Об устройстве в Никопольском зале выставки поступлений за последние годы предметов из Археологической комиссии.
Самым частым докладчиком выступает Г.И.Боровка.
11 июля 1919 г.
И.А.Орбели избирается членом Совещания Отдела Древностей «в связи с переводом в отдел — отделение мусульманского Востока».
3 октября 1919 г.
Рапорт о разрешении работать в Отделе до 10-ти часов вечера передан на рассмотрение исполнительного комитета (разрешение получено).
И Материалы и документы
306
19 ДЕКАБРЯ 1919 г.
Осмотр извлеченных из кладовой ваз перуанской культуры. Часть из них оказалась египетскими. О.Ф.Вальдгауер рассматривает их как «зачаток коллекции американской культуры», с ним соглашается Б.А.Ту- раев. М.И.Максимова — против и предлагает перуанские предметы передать в Этнографический музей взамен мумии. Тураев сообщает, что в Строгановском собрании имеется мексиканская коллекция, которую желательно соединить с перуанской.
Из Журнала заседаний Совещания при Отделе Древностей за 1920 год
8 сентября 1920 г.
Сообщение О.Ф.Вальдгауера о выдаче Н.Д.Флиттнер г-же Матье книги без расписки (занести в протокол факт выдачи книги без расписки).
Зал бывш. гравюр и рисунков отвести под римскую портретную скульптуру.
5 октября 1920 г.
Помещение для лекций отводится в бывшей канцелярии Академии истории материальной культуры.
27 октября 1920 г.
Избрание И.А.Орбели на должность хранителя мусульманского Отделения. В связи с предстоящей реэвакуацией ответственным лицом по Отделению эллино-скифских древностей назначить Г.И.Боровку.
1 ДЕКАБРЯ 1920 г.
Доклад Б.Г.Крыжановского об организации Археологического музея в Петербурге. Решение правления ГАИМК: организация такого музея должна быть передана Эрмитажу.
8 декабря 1920 г.
Сообщение о начатой эвакуации Арсенала и о возможности Эллиноскифскому отделению скоро перебраться в его помещение.
Выставки. 1920—1928
По записям Н.Н.Лемана
19 ноября 1920 г.
В Эрмитаж внесен последний ящик из эвакуированных в 1917 г. в Москву. Банкет в Малахитовом зале Дворца Искусств (Зимний дворец)1.
28 ноября 1920 г.
Открытие зала Рембрандта.
2 мая 1921 г.
Открыты 22 зала Картинной галереи в том виде, в котором они были до эвакуации. В первый день Эрмитаж посетило 850 чел. («Петроградская правда», 4 янв. 1921, № 2).
19 ноября 1921 г.
15 залов VII запасной половины. Прикладное искусство, восточный и европейский фарфор. Были открыты два раза в неделю. Путеводители С.Н.Тройницкого и А.Н.Кубе, статья Э.Голлербаха в журнале «Среди коллекционеров», 1922, № 5—6, с. 81—83.
1 См. статью Э.Голлербаха в газете
«Жизнь Искусства», 3—5 дек. 1920, № 623— 624.
4 После Октябрьской революции
307
Общая посещаемость Эрмитажа в 1920 г. — 20 тысяч человек, в 1921 — 63 тысячи посетителей.
11 ноября 1921 г.
Закончены занятия в семинаре по подготовке экскурсоводов (30 лекций).
2 мая 1922 г.
Выставка картин Раннего Возрождения в Италии. 60 картин; каталог со статьей А.Н.Бенуа.
1 июня 1922 г.
15 залов античного искусства и Древнего Египта. Путеводитель О.Ф.Вальд- гауера. См. К.Э.Гриневич, газета «Жизнь Искусства», 1925, № 10, 15,16, 22; ответ Вальдгауера в № 12.
[Сентябрь 1922. Стал заниматься в Эрмитаже у Н.Д.Флиттнер. — Б.П.] 29 октября 1922 г.
10 залов Второй запасной половины Зимнего дворца (от Октябрьского подъезда до Малого Эрмитажа, Дворцовая площадь). Временная выставка (новые поступления) французских художников XVII—XVIII вв., организованная А.Н.Бенуа. В день открытия было 3200 чел.
29 октября 1922 г.
Галерея серебра (нынешний зал майолики Эрмитажа. — Б.П.). Организована С.Н.Тройницким, написавшим путеводитель.
5 ноября 1922 г.
В 7-ми залах третьего этажа Старого Эрмитажа временная выставка церковной старины. Часть предметов, реквизированных из церквей Комитетом помощи голодающим Поволжья. Организатор Л.А.Мацулевич. Его листовка и статья в журнале «Среди коллекционеров», 1923, № 1—2, с. 45—47. 20 ноября 1922 г.
Временная выставка сасанидских древностей (Эрмитаж, Академия наук, ГАИМК, собрание Строганова). Организатор И.А.Орбели.
Всего за 1922 г. Эрмитаж открыл свыше 40 залов, совершенно заново распланированных, а вместе с открытыми в 1921 г. доступны для обозрения 83 зала, общим протяжением около 4 верст1.
Эрмитажу был передан Конюшенный музей, Строгановский особняк, работали сотрудники и в Юсуповском особняке.
1 апреля 1923 г.
Выставка вееров XVIII в. Тройницкий издал каталог. (Во время ночного дежурства Орбели была кража нескольких вееров. Это был скандал на моих глазах. — Б.П.)
3 июня 1923 г.
Александровский и Пикетный залы. Выставка оружия. А.Автономовым издана листовка. Его же статья в журнале «Среди коллекционеров», 1923, №7-10, с. 52-57.
16 июня 1923 г.
Выставка античных резных камней. М.И.Максимова написала краткий путеводитель и статью в журнале «Среди коллекционеров», 1924, № 3— 4, с. 9-17.
20 сентября 1923 г.
Выставка французской литографии первой половины XIX в. Листовка
1 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 234, л. 119 и сл.
II Материалы и документы
308
написана Г.С.Верейским. См. статью В.Воинова в журнале «Среди коллекционеров», 1924, № 3—4, с. 49—53.
4 ноября 1923 г.
В Строгановском дворце-музее выставка итальянских медалей эпохи Возрождения. Каталог А.Н.Зографа.
11 ноября 1923 г.
Две выставки: 1. Новые поступления итальянской живописи XVII— XVIII вв. 2. Западноевропейская живопись XIX в. Листовка А.Бенуа и И.Жарновского по первой выставке и А.Бенуа и С.Эрнста по второй. 18 ноября 1923 г.
Выставка кружев, зеркал, мушечниц, табакерок, перстней и часов XVII и XVIII вв. в Павильонном зале. Путеводитель Ж.А.Мацулевич и С. Н. Т ройницкого.
2 декабря 1923 г.
В Музее 6. Училища Штиглица, переданном Эрмитажу в августе 1923 г., было открыто 18 зал прикладного искусства Ближнего и Дальнего Востока, а также европейского фарфора. В большом зале нижнего этажа большая выставка мусульманских изразцов. Были изданы две брошюры И.А.Орбели к изразцам и А.Н.Кубе к майолике и французскому фаянсу.
Всего к концу 1923 г. постоянные и временные выставки Эрмитажа размещались в 151 зале.
В 1924 г. была начата новая развеска Картинной галереи под руководством А.Н. Бенуа и Д.А.Шмидта. Перевеска закончилась осенью 1926 г., в это время А.Н.Бенуа уехал за границу.
В 1927 г. к десятилетию Октября была открыта выставка Отделения эллино-скифских древностей и две временные выставки: «Быт эпохи борьбы за освобождение Нидерландов» и «Гравюры и карикатуры из эпохи Французской революции».
6 января 1928 г. Лекторий. Цикл лекций по истории искусства. Первая лекция А.А. Федорова-Давыдова в Белом зале Зимнего (показывал диапозитивы. — Б. П.).
1928 г. — Эллино-скифская выставка (директорские апартаменты).
Список служащих Государственного Эрмитажа. 1922 год1
1 Тройницкий Сергей Николаевич,
ХРАНИТЕЛИ
Директор
7
Айналов Дмитрий Власьевич
2 Ильин Алексей Алексеевич ,
8
Боровка Григорий Иосифович
Замдиректора
9
Верейский Григорий Семенович
3 Бенуа Александр Николаевич
10
Кубе Альфред Николаевич
(написано Николай Александрович),
И
Липгарт Эрнест Карлович
Зав. Картинным отделом
12
Максимова Мария Ивановна
4 Вальдгауэр Оскар Фердинандович,
13
Мацулевич Леонид Антонович
Зав. Отделом древностей
14
Орбели Иосиф Абгарович
5 Гесс Федор Федорович, Ученый
(написано Обгарович)
Секретарь
15
Придик Евгений Мартынович
6 Головань Владимир Александрович,
16
Ретовский Оттон Фердинандович
Старший библиотекарь
17
Шмидт Джемс Альфредович
1 В круглых скобках даются пометки
сотрудников Архива ГЭ. — Примеч. ред.
4 После Октябрьской революции
309
18 Струве Василий Васильевич
19 Фасмер Роман Романович
20 Яремич Степан Петрович ПОМОЩНИКИ ХРАНИТЕЛЕЙ
21 Автономов Александр Александрович
22 Бушен Дмитрий Дмитриевич
23 Бауер Николай Павлович
24 Воинов Всеволод Владимирович
25 Гамалов-Чураев Степан Артемьевич
26 Ернштедт Елена Викторовна
27 Жарновский Иван Иванович
28 Зилоти Александр Александрович
29 Крижановская Наталья Анатольевна
30 Крюгер Оттон Оскарович
31 Мацулевич Жаннетта Андреевна
32 Нотгафт Федор Федорович
33 Тревер Камилла Васильевна
34 Флиггнер Наталия Давыдовна АССИСТЕНТЫ
35 Бич Ольга Ивановна
36 Веселовский Борис Константинович
37 Гайдин Сергей Михайлович
38 Гаршина-Энгельгард Наталия Евгеньевна
39 Доброклонский Михаил Васильевич
40 Лисенков Евгений Григорьевич
41 Матье Милица Эдвиновна
42 Прокопе-Вальтер Анна Германовна
43 Ракинт Владимир Николаевич
44 Ушакова Тамара Николаевна
45 Штегман Вильма Карловна
46 Философов Марк Дмитриевич
47 Эрнст Сергей Ростиславович НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ
48 Дервиз Павел Павлович
49 Доброклонская Олимпиада Дмитриевна
50 Зарудный Сергей Митрофанович
51 Измайлова Наталья Васильевна
52 Келлер Алексей Павлович
53 Котельникова Ольга Михайловна
54 Левинсон-Лессинг Владимир Федорович (Францевич)
55 Ленц Валентина Аркадьевна
56 Лепунова Ксения Сергеевна
57 Малкина Екатерина Романовна
58 Николаева Вера Алексеевна
59 Паппе Аркадий Матвеевич
60 Сидоров Николай Николаевич
61 Степанова Мария Владимировна
62 Татищев Юрий Владимирович
63 Углова Лидия Николаевна
64 Уханова Анастасия Васильевна
65 Каменская Татьяна Давыдовна, библиотекарь
66 Вальтер Георгий Юльевич, н.с. [научный сотрудник] библиотеки
67 Краснова Наталия Борисовна, н.с. [научный сотрудник] библиотеки
68 Мясоедова Мария Тимофеевна, н.с. [научный сотрудник] библиотеки
69 ГЦербачева Мария Илларионовна, н.с. [научный сотрудник] библиотеки
70 Сидоров Сергей Николаевич, научно-технический сотрудник
71 Филатов Александр Алексеевич, научно-технический сотр[удник]
72 Сидоров Николай Александрович, реставратор
73 Альбрехт Леонид Павлович, помощник реставратора
74 Байкеев Меразаджан Кураман Шалилович (неразборчиво), скульптурная мастерская
75 Будрис Иван Осипович, оружейный мастер
76 Гаврилов Федор Гаврилович, монетный мастер
77 Ухов Иван Кузьмич, фотомастер
78 Суслов Александр Васильевич, Управляющий делами
79 Девцов (Денцов?) Александр Васильевич, Зав.счетно-финансо- вой частью
80 Тепленко Ольга Васильевна, делопроизводитель
81 Оприц Эммануил Николаевич, зав. хозяйственной частью
II Материалы и документы
310
82 Михайлов Федор Степанович, пом. зав.хозяйственной частью
83 Столбов Семен Терентьевич, бухгалтер
84 Петрова Евгения Ивановна, бухгалтер
85 Желковская Э.Б. (имя, отчество неразборчивы), счетовод (написано щитовод)
86 Пресвецова Ольга Александровна, машинистка
87 Таль Софья Карловна, машинистка
88 Червецкая Елена Павловна, машинистка
89 Шапицина-Крашенинникова Мария Михайловна, машинистка
90 Девцова Юлия Александровна (фамилия неразборчива), машинистка
91 Никулин Сергей Васильевич, старший вахтер
92 Воронцов Василий Семенович, вахтер
93 Рижекалов Гавриил Гавриилович (фамилия неразборчива), вахтер
94 Пестов Тимофей Яковлевич, вахтер ГАЛЕРЕЙНЫЕ СЛУЖАЩИЕ
95 Аникин Василий (фамилия и отчество неразборчивы)
96 Александров Тимофей Александрович
97 Арсеньев Василий Арсеньевич
98 Артемьева Елена Онуфриевна
99 Бобров Андрей Степанович (фамилия неразборчива)
100 Бобров Дмитрий Иванович
101 Богданов Лаврентий Богданович
102 Бекарев Николай Иванович (фамилия неразборчива)
103 Большаков Семен Емельянович
104 Борисевич Афанасий Иванович (фамилия неразборчива)
105 Березанская Виктория Францевна (фамилия неразборчива)
106 Бочков Степан Ильич
107 Бутурлин Иван Павлович
108 Варакса Иван Дмитриевич
109 Васильева Мария Васильевна
10 Васильев Василий Васильевич
11 Гаврилов Петр Гаврилович
12 Гулида Антон Филиппович
13 Дормидонтов П.Д. (фамилия, имя, отчество — неразборчивы)
14 Егоров Семен Павлович
15 Милько Семен Осипович (фамилия неразборчива)
16 Загревский Тихон Иванович
17 Здаславский Антон Валентинович (фамилия неразборчива)
18 Ингелевич Михаил Банифатьевич
19 Козлова Агриппина Ивановна
20 Кулиманин Михаил Иванович, киоскер
21 Лесков И. Петрович (имя неразборчиво)
22 Логинов Капитон Логинович
23 Никитин Степан Никитич
24 Николаев Михаил Николаевич
25 Нуждаев Федор Андреевич
26 Петров Евгений Петрович
27 Петров Михаил Петрович
28 Петров Николай Петрович
29 Петрова Татьяна Николаевна
30 Плешаков Иван Харитонович
31 Плешакова Анна Михайловна
32 Прохоров Дмитрий Григорьевич
33 Прытков Федор Алексеевич
34 Русаков Николай Тимофеевич
35 Русакова Васса Тимофеевна
36 Рымша Станислав Казимирович
37 Семенов Алексей Семенович
38 Сергеев Тимофей Сергеевич
39 Степанов Николай Алексеевич
40 Титов Анисим Андреевич
41 Титова Елизавета Анисимовна
42 Трофимов Александр Константинович
43 Ушаков Савва (отчество неразборчиво)
44 Федоров Сергей Федорович
45 Филиппов Василий Филиппович
46 Чижиков Матвей Терентьевич
47 Шахнюк Ирина Илларионовна (фамилия неразборчива)
4 После Октябрьской революции
311
148 Шулецкий Ян Станиславович
149 Громов Александр Михайлович, маляр-живописец
150 Силановский Алексей Иванович, маляр
151 Павлов Виктор Павлович, зав. электрической станцией
152 Колесов Яков Яковлевич, механик
153 Ракимов Б. Ракимович (имя неразборчиво), помощник механика
154 Коробовский Фаддей Аннаньевич, электромонтер
155 Егоров Михаил Семенович,
электромонтер
156 Игнатьев Алексей Игнатьевич,
электромонтер
157 Тихомиров Николай Николаевич, машинист
158 Галкин Александр Васильевич, машинист
159 Сохряков Иван Александрович, машинист
160 Громов Михаил Николаевич, машинист
161 Круг-Кулак Степан Степанович, машинист
162 Яковлев Андрей Яковлевич, слесарь
163 Ко л пан Георгий Антонович (фамилия неразборчива), кочегар
164 Масюк Степан Иванович, кочегар
165 Смирнов Петр Дмитриевич, водопроводчик
166 Сипицкий Иван Васильевич (фамилия неразборчива), кочегар
167 Клач Михаил Казимирович (фамилия неразборчива), установщик
168 Иванов Петр Ювенальевич, установщик
169 Прошкин Иван Егорович, слесарь
170 Корочкин Иван Петрович (фамилия неразборчива), кочегар
171 Крамской Николай Иванович, архитектор
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, 1922 г., ед. хр. 234, л. 17—19.
О созыве Международного съезда музейных работников
Предложение было выдвинуто в 1922 г., но отложено.
«Надо полагать, что к лету будущего года, т.е. 1923, организация наших музеев будет вполне закончена и что развернувшийся Эрмитаж явит небывалую грандиозность и картину. Казалось бы, что тогда настанет время показать миру, как Российская Революция умеет ценить и хранить наследие прошлого». На нескольких заседаниях Совет Эрмитажа возвращался к этому вопросу, активно обсуждалось, кого следует пригласить, какой должен быть порядок съезда.
В связи с этим Эрмитаж не принимал деятельного участия в Губернской конференции петроградских музеев, которая состоялась 7— 10 июня 1923 г. Эта конференция имела отчетный характер, на ней были представлены 65 петроградских музеев. Доклад С.Н.Тройницкого «Основы строительства гуманитарных музеев в Петрограде» и А.Н.Бенуа «Дворцы-музеи»1.
Похищение картины
21 января 1923 г. из зал Картинной талереи Государственного Эрмитажа в Петрограде была похищена нижеописанная картина. Эрмитаж просит о содействии к возвращению похищенной картины.
1 Идея международного съезда провалилась, но в 1925 г., в связи с 200-летием Академии наук, иностранным ученым был показан Эрмитаж и во многих зарубежных журналах появились статьи о советских му¬
зеях, опровергавшие ходячее мнение о вандализме в Советской России. См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, 1923 г., ед. хр. 294 (9), л. 27, 29- 34, 46, 47, 50.
II Материалы и документы
312
РАЗБИТОЕ ЯЙЦО, КИСТИ ФРАНСА ВАН МИРИСА СТАРШЕГО
Справа, при входе в каменное строение, сидит на земле, повернувшись влево, молодая босоногая крестьянка в белой рубашке с расстегнутым и раскрывшимся воротом, в красном лифе и голубой юбке. Держа в левой руке у себя на коленях скомканный серый платок, она смотрит на лежащее перед нею на земле разбитое засиженное яйцо и на вывалившийся из него зародыш цыпленка. Возле крестьянки, направо, стоит корзина с яйцами, неподалеку от которой ползет по камню улитка. На заднем плане — деревья.
В правом нижнем углу картины подпись: F. van Mieris.
Написана на меди. — Вышина 21,5 см, ширина 17,5 см. — Картина гравирована Муаттом в издании галереи Брюля. — По кат. № 9171.
Картина возвращена в Эрмитаж 6 марта 1923 г.
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, 1923 г., ед. хр. 300, л. 9.
Заседания Совета Эрмитажа. 1924 год
21 января 1924 г.
Выборы в Совет Эрмитажа В.В.Бартольда, Н.Я.Марра, С.Ф.Ольденбурга. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, 1924 г., ед. хр. 36 (И), л. 2.
7 июня 1924 г.
О передаче московским музеям картин из Эрмитажа — 144 (см. там же, л. 20)2.
21 июня 1924 г.
Утверждение научного штата Эрмитажа. Научных сотрудников 81 (всего 1.04) (см. там же, л. 29—32).
1 сентября 1924 г.
Предложение В.В.Струве приобрести для Эрмитажа несколько мелких египетских предметов, всего на сумму 12 руб. (Может быть, от Корф, если это так, то Корф подарила мне брошку со скарабеем, а ожерелье с амулетами продала в Эрмитаж. Тогда сумма 12 рублей была приличная! — Б.П.) (см. там же, л. 44).
Сергей Николаевич Тройницкий 3
Родился в 1882 г.
1904 Окончил Училище правоведения.
1906 Один из основателей журнала «Старые годы».
1913—1914 Издавал и редактировал журнал «Гербовед».
1908 Весной поступил в Эрмитаж в Отделение Средних веков и эпохи Возрождения, занимался собранием А.П.Базилевского и инвентаризацией.
1909—1911 Был в заграничных командировках.
Был членом юридической комиссии при Временном правительстве по вопросу о государственном флаге и гербе.
В списке трудов большинство статей о гербах. Позже статьи о фарфоре и часах.
1 Этот текст также отпечатан на франц., немец, и англ. яз. — Примеч. ред.
2 В 1926—1927 гг. Эрмитажем было передано в Музей Изящных искусств 460 произведений.
3 Из личного дела (Архив ГЭ, ф. 1, оп. 12, ед. хр. 76).
4 После Октябрьской революции
313
16 МАРТА 1913 Г.
Участие в выставке к 300-летию царствования дома Романовых (л. 67). Ноябрь 1913 г.
Назначен хранителем Отделения драгоценностей Эрмитажа.
23 августа 1918 г.
Избран и.о. Директора и заместителем Председателя Совета.
Декабрь 1918 г.
Директор Эрмитажа и одновременно зав. Отделом прикладного искусства. Осенью 1919 г.
Ученый секретарь Российской Академии истории материальной культуры, с 25 апреля 1921 г. — товарищ председателя ГАИМК и зав. разделом искусств XVIII в. (Тройницкий прекратил работу в ГАИМК с 20 мая 1929 г.).
Распоряжением по Главнауке № 62 от 6 мая 1926 г. назначается Правление Гос.Эрмитажа: С.Н.Тройницкий (председатель), О.Ф.Вальдгауер (зам. председателя), члены: И.А.Орбели, Э.Э.Эссен, МДФилософов (л. 305).
13 ноября 1926 г.
Тройницкий временно освобождается от обязанностей Директора ввиду болезни. Подпись: Зам. Директора О.Ф.Вальдгауэр (л. 334).
9 февраля 1927 г.
Справка о том, что Тройницкий в должности Директора Эрмитажа получает «содержание по Эрмитажу» в размере 180 р. в месяц (л. 337).
19 мая 1927 г.
«На основании постановления Президиума коллегии НКП от 10 мая 1927 г. предлагаю Вам должность и дела Директора Эрмитажа сдать
О.Ф.Вальдгауэру. Исполнение сообщить. Уполномоченный НКП По- зерн (л. 346). Должность сдана 23 мая 1927 г. (л. 350). Освобожден с 1 июня 1927 г. (л. 359).
Неоднократные поездки за границу: апрель 1928 г. — Германия, Франция, Италия, Голландия (л. 195).
Загранкомандировки: Польша (1921), 1923, 1925 (две последние не расшифрованы).
О продаже предметов искусства на аукционе фирмы Лепке. Письмо торгпреда в Германии т.Бегге (л. 421).
2 октября 1929 г.
Тройницкий по совместительству с работой в Эрмитаже сотрудничает с Ленинградским отделением Главной конторы Госторга РСФСР («Антиквариат»), в должности члена экспертно-оценочной комиссии (л. 450).
Распоряжение по Гос. Эрмитажу от 13 сентября 1931 г.
На основании постановления Обл. Комиссии РКИ по чистке Госаппарата от 27.VI.1931 г. с 19 сентября с/г. освобождается от занимаемой должности Действительный член Тройницкий С.Н.
С того же числа предлагается Тройницкому С.Н. приступить к сдаче оставшихся в его ведении музейных материалов, а именно: Особую кладовую — зав. сектором Запада Лиловой Т.Л.
II Материалы и документы
314
Бронзу, фарфор, кость и мебель — Действ, члену Келлеру А.П. Ткани, кружева, шпалеры, имущество б. Конюшенного музея и пр. — научному сотруднику 1-го разряда Степановой М.В.
Зав. сектором Лиловой Т.Л. представить в 3-х дневный срок календарный план сдачи-приемки имущества.
Подписал директор Б.Легран
Записка М.Д.Философова ученому секретарю т. Кудрявцеву о том, что 30.IV.32 г. закончена приемка ценностей от Тройницкого и с 1 мая он должен быть снят с зарплаты по Эрмитажу, о чем он был осведомлен своевременно. Работа по проверке будет идти без участия Тройницкого.
Наркомвнешторг. Всесоюзное объединение по экспорту «Антиквариат» 10 мая 1932 г. «Настоящим уведомляется, что эксперт Всесоюзного объединения по экспорту «Антиквариат» Тройницкий С.Н. был в служебной командировке в Москве с 7 по 20-IV с/г. включительно».
Резолюция и.о. ученого секретаря А.Кудрявцева: «Канцелярии оформить его окончательное освобождение 14-V 1932 г.».
Экстренное заседание Совета Эрмитажа. 27 апреля 1927 г.1
Директор Тройницкий С.Н. сказал, что при последнем его разговоре с начальником Главнауки Ф.Н.Петровым в Москве стало известно «то тяжелое положение, в котором находится Эрмитаж из-за постоянных разногласий между Директором и большинством Правления»..., «но помимо разногласий, происходивших на заседаниях Правления, отдельными лицами велась и ведется кампания персонального характера, вне стен учреждения, и таким образом подготовлялось общественное мнение, неблагоприятное как Директору, так и Эрмитажу вообще».
В связи с этим С.Н.Тройницкий и ставит вопрос о доверии к нему, как Директору и Председателю Совета. Тройницкий сообщил, что Ф.Н.Петров получил от И.А.Орбели заявление об отставке, мотивом которой выставлена невозможность для Орбели работать с Тройницким.
И.А.Орбели заявил, что до подачи заявления Петрову он подал соответствующее заявление Б.П.Позерну, являющемуся лицом, инспектирующим наркомпросовские учреждения в Ленинграде, но ответа не получил. Он считает, что вопрос о недоверии Директору мог поставить сам Ф.Н.Петров, и высказывается против этого обсуждения на Совете. К.М.Кочиашвили поддерживает И.А.Орбели.
Начались прения. Д.А.Шмидт, М.Д.Философов, В.В.Струве против обсуждения, М.И.Максимова, Д.В.Айналов — за обсуждение. В результате при голосовании 11 голосами против 5-ти постановлено обсуждать вопрос, поднятый Тройницким. Л.А.Мацулевич заявляет, что он воздержался от голосования.
Орбели, Струве, Кочиашвили снова поднимают вопрос о переносе обсуждения, снова голосуют: 11 голосов — за и 6 против обсуждения.
Тройницкий передает председательство М.Д.Философову, но тот отказывается и Совет избирает председателем А. А. Ильина.
1 Выписки из протокола. См. Архив ГЭ,
оп. 5, ед. хр. 627, л. 40—41.
4 После Октябрьской революции
315
М.И.Максимова говорит о том, что оппозиция Отдела древностей Директору в течение всех 8 с половиной лет известна всем.
И.А.Орбели выступает против Тройницкого, отмечая нарушение им правил, установленных в Эрмитаже (курение в залах, доступ для осмотра Особой кладовой личных знакомых), разногласия с музеем Штиглица, Директор действует самостоятельно без Правления.
А.А. Ильин просит Орбели сократить свое выступление, так как ему слово предоставлено не для доклада. Орбели заявляет, что он подчиняется указанию председательствующего. После прений и пререканий закрытой баллотировкой решается вопрос «может ли Совет и впредь работать с Тройницким, как с Директором и Председателем Совета».
Закрытая баллотировка. «За» — 12 записок, «против» — 2, «воздержались» — 4.
О численном составе Эрмитажа. 1927—1928
Научный состав 137 1/2 штатных единицы (в уточненном списке 159): Директор 1, Зам. Директора 1, член. Правления 1/2 оклада, Ученый Секретарь 1, Зав. Отделами 5, Хранители 16, Старшие Помощники Хранителей 24, Помощники Хранителей 26 и др. (Таким образом, научная часть 71 человек. — Б.П.)
1928. г. Зав. Учреждением, зам. Заведующего 1, Член Правления 1, Ученый Секретарь 1, Зав. Отделами 6, Действительный член 1, научные сотрудники 1-го разряда 46, научные сотрудники 2-го разряда 40, научно-технические 64.
Штат Эрмитажа в 1917 году
Директор 1, Старший Хранитель 5, Хранители 7, реставраторы 3, делопроизводитель 1, пом. делопроизводителя 1, кандидаты на классную должность 2, инвентаризаторы 8, скульпт. подмастерье 1, пом. реставратора 1, писарь 3, химик 1, сторож 4, гоф-фурьер 1, пом. гоф-фу- рьера 2, швейцар 1, пом. швейцара 1, служители 44, оружейник 1.
Кроме указанных платных (штатных) лиц в Эрмитаже до Революции постоянно работали ряд научных работников бесплатно, выполняя работу штатных сотрудников. Количество означенных лиц колеблется от 6 до 10 человек.
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 748, л. 37.
Утраты Эрмитажа1
Смирнов, Яков Иванович Старший Хранитель. В Эрмитаже с 1898 г., ум. 23 октября 1918 г.
Ленц, Эдуард Эдуардович Старший Хранитель. В Эрмитаже с 1899 г., ум. 24 июня 1919 г.
Ляпунов, Юрий Сергеевич Ученый Секретарь. В Эрмитаже с 1919 г., ум. 26 февраля 1920 г.
Марков, Алексей Константинович Старший Хранитель. В Эрмитаже с 1888 г., ум. 1 августа 1920 г.
1 Эрмитаж за десять лет. 1917—1928. Краткий отчет. 1928 г.
II Материалы и документы
316
Гесс, Федор Федорович Ученый Секретарь. В Эрмитаже с 1920 г., ум. 1 октября 1922 г.1
Гамалов-Чураев, Степан Артемьевич Старший Помощник Хранителя. В Эрмитаже с 1912 г., ум. 28 сентября 1923 г.
Сидоров, Николай Александрович Реставратор. В Эрмитаже с 1886 г., ум. 9 октября 1923 г.
Ретовский, Отто Фердинандович Хранитель. В Эрмитаже с 1900 г., ум. в 1925 г.
Будрис, Иван Осипович Реставратор. В Эрмитаже с 1912 г., ум. 27 марта 1926 г.
Паппе, Аркадий Матвеевич Старший Помощник Хранителя. В Эрмитаже с 1922 г., ум. 19 января 1927 г.
Мясоедова, Мария Тимофеевна Помощник Библиотекаря. В Эрмитаже с 1922 г., ум. 8 октября 1927 г.
Из младшего технического персонала скончалось 23 лица, в том числе много лиц, прослуживших в Эрмитаже долгие годы, как: И.Прохоров (36 лет), АСчастнев (36 лет), С.Ушаков (36 лет), Г.Разсказов (32 года), Ф.Ми- хайлов (29), В.Ефремов (28 лет), А.Михайлов (28 лет), А.Сасс (28 лет).
Джемс Альфредович Шмидт
Из личного дела
1899 Кизерицкий рекомендует Д.А.фон-Шмидта на место писца при Отделении Древностей с жалованием 900 руб. в год.
1901 Сентябрь. Переходит в Отделение картин, гравюр и рисунка с согласия АИ.Сомова.
1904 25 июня определен на службу кандидатом на классную должность по Императорскому Эрмитажу с 1904 г. 19 июня.
1906 Хранитель Императорского Эрмитажа2.
См. Архив ГЭ, оп. 13, ед. хр. 954.
О службе Хранителя А.Н.Бенуа. 1918—19263
16-VI-19. УДОСТОВЕРЕНИЕ № 868 Выдано сие переписчику инвентарей Историко-художественного отдела Государственного Эрмитажа Бенуа Н.А. (сын А.Н.Бенуа. — Б.П.) для свободного проживания в пределах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
11 ноября 1918 г.
Избран на должность Хранителя.
28 июля 1920 г.
Удостоверение на имя Заведующего Отделом Картинной галереи Хранителя А. Н. Бенуа.
26 июня 1923 г.
О командировке за границу. (Срок: на три месяца). Во Францию и
1 В день похорон Гесса я пришел на
занятия к Н.Д.Флиттнер и занятия были отложены.
2 Деятельность Д.А.Шмидта также
освещена и в других документах, приво¬
димых Б.Б.Пиотровским. — Примеч. ред. з Восемь лет вместе с командировками за границу. См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 13, ед. хр. 72.
После Октябрьской революции
317
Александр Николаевич Бенуа (1870-1960).
Автолитография Г.С.Верейского. 1922
II Материалы и документы
318
3&ej)JS&SG
у Jhucraxm Художестжекких^о
’ g ^Этмитжъ
Зосхрескш
i XWOXA&* t. Ъ.
(ЖАЯиЛЪбККЫК
а июля C.fSPKGT шасглаюск е жишшсцы* Х/ХХ. & fOCCWL
16 ихгля
JbJS.JZruitK^ лхйссъяский РЛРГОГ XS июля ЧЖЖагкохский pxtfar
1 <ХСТ YCTGL
SPPJComcpr ржщузскоя жи&аиьи съ JttTA&bi
ЛОЯ.9ЛУХЫХ1Х*.
/3 июня J8. SbJPvtm/c
uGTvfux еехрслш ^
лсахуракглрн, ']
% 9 июня
J&ftJfciLKtP ucroms,гтщухкой макси, t дуда*
дг ихгкя.
а.-гЭяксг
u?urcrp&KKbct жишашсчьс л
XYHl X X WCCUU * июля JLJtKtxxtP Ашят€зюхш~л<гстя&№ { иаассгм к& еялжйскую
хуЪож . *f>0M.%cuLxetuo»cn-XiU!t
6 Ktpyer*
Л.К Лвскилт
жгиолиско стекло
&Х&д
f 1Э % (У
Афиша воскресных лекций в Эрмитаже. 1920
4 После Октябрьской революции
319
Экспозиция живописи раннего итальянского Возрождения. 1926 Экспозиция изделий серебра Середина 1920-х гг.
II Материалы и документы
320
Александр Васильевич Суслов Рисунок А.Н.Бенуа. 1921 Георгий Семенович Верейский (1886-1962).
Автопортрет. Литография
Степан Петрович Яремич (1869-1939).
Литография Г.С.Верейского. 1922 Мария Ивановна Максимова (1885-1973).
Рисунок Э.К.Липгарта. 1919
4 После Октябрьской революции
321
Германию. В сопровождении жены Анны Карловны, «которая будет исполнять обязанности секретаря».
20 июня 1923 г.
Письмо в Главнауку, подписано Директором С.Н.Тройницким, зам. Ученого секретаря И.Орбели.
Зарплата в 1924 г. 4347 р. (25 р. 27 к. черв.). Апрель 1924 г. — 39 руб. 10 коп.
ЗАПИСКА В БУХГАЛТЕРИЮ:
«Прекратить выписку содержания Зав. Отделом Картинной галереи АН.Бе- нуа с 1 декабря 1924 г.» (командирован во Францию 15 августа 1924 г.).
1 июля 1926 г.
Вернулся в Эрмитаж и приступил к исполнению своих обязанностей.
15 октября 1926 г.
Командируется за границу за свой счет.
16 октября 1926 г.
Дж.А.Шмидт назначается Зав. Картинной галереей, а А.Н.Бенуа освобождается от своих обязанностей.
Заседание Правления Гос. Эрмитажа от 11 октября 1929 г.
Об исключении из списка штатных служащих Зав. Отделом Картинной галереи А.Н.Бенуа, находящегося уже третий год за границей. «Исключить А.Н.Бенуа из списка служащих Гос. Эрмитажа, поставив вопрос об утверждении его снятия с должности Зав. Отделом Картинной галереи и оставлении его членом Совета Гос. Эрмитажа перед Главнаукой».
Мария Ивановна Максимова Из личного дела1
Родилась в 1885 г. в Петербурге в семье купца 2-ой гильдии Максимова Ивана Максимовича. Окончила гимназию М.П.Стоюниной.
1903 Осенью поступила на историческое отделение Высших женских Бестужевских курсов, занималась древней историей у М.И.Ростовцева. В 1909 г. была оставлена при кафедре древней истории и получила заграничную командировку.
1909 Весной поступила в Боннский Университет к проф. Георгу Лёшке, под руководством которого работала в Бонне, а затем в Берлине. Занятия сопровождались поездками в Грецию и Италию.
1914 В феврале сдала экзамены на степень доктора философии при Берлинском Университете, но степени получить не успела из-за начала первой мировой войны.
1917 Сдала при Петроградском Университете магистрские экзамены.
1918 Весной защитила там же диссертацию «Античные фигурные вазы» и получила ученую степень магистра теории и истории искусств.
1918 С осени состоит преподавателем Университета и в Институте истории искусств.
1 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 13, ед. хр. 514.
II Материалы и документы
322
В Эрмитаже работает с осени 1914 г. Первое время занималась там составлением инвентаря греческих ваз, найденных на юге России, а затем коллекцией резных камней и слепков с них.
10 сентября 1914 г.
Его Сиятельству г-ну Директору Императорского Эрмитажа Обер-церемониймейстеру графу Дмитрию Ивановичу Толстому рапорт Старшего Хранителя Ев.Придик.
Просьба о причислении М.И.Максимовой к Императорскому Эрмитажу. М.И. согласна вначале заниматься совершенно безвозмездно, так что для Эрмитажа ее занятия кроме пользы никаких издержек за собой не повлекут. Кроме того, при ее сотрудничестве дело упорядочения инвентаризационной части Отделения древностей, срок которого кончается в 1915 г., будет доведено до успешного окончания; ввиду долгого отсутствия Б.И.Пульяновского и военных осложнений это дело иначе рискует не быть оконченным к сроку.
УДОСТОВЕРЕНИЕ
5 декабря 1918 г. № 1218 Дано сие ассистенту Эрмитажа Марии Ивановне Максимовой, родившейся 4 апреля 1885* г., для свободного проживания в пределах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
4 декабря 1918 г.
Избрана на должность ассистента по отделу глиптики.
10 августа 1926 г.
Командировка в Керчь с 31 августа по 25 сентября.
10 августа 1926 г.
Просьба на имя Директора о разрешении публиковать греческие и этрусские вазы из коллекции Эрмитажа.
7 апреля 1928 г.
Комиссия по научным заграничным командировкам при Наркомпросе РСФСР разрешила командировку в 1927/28 с субсидией от НКП.
Командирована для работы над памятниками искусства и археологии в музеях Германии и Франции (командировка предоставлена Гос. Академией истории материальной культуры с 20 июня по 10 сентября 1928 г.).
Письмо М. И.Максимовой из Парижа о назначении ее доклада в Германском Археологическом обществе на 23 октября и просьба продлить командировку до 1 ноября 1928 г. (Разрешено в счет отпуска.)
1 октября 1929 г.
Переводится на должность старшего помощника Хранителя эллиноскифских древностей по секции скифской. С 1931 г. — Отделение Раннего феодализма1.
Справка о том, что М.И.Максимова работает в ГАИМК с 7 декабря 1925 г.
Справка от Ленинградского Гос. Университета. Зачислена 23 сентября 1918 г. приват-доцентом по кафедре теории и истории искусств истори-
1 Я работал вместе с ней на антресолях
Директорского коридора.
4 После Октябрьской революции
323
ко-филологического факультета, с октября 1923 г. состояла профессором.
Справка о загранпоездках. С 1909 по 1914 г. жила в Германии, совершила поездки в Грецию, Италию, Австрию, Францию и Англию.
В 1928 г. командировка от ГАИМК — музеи и библиотеки Берлина и Парижа.
7 октября 1931 г.
Справка. Дана сия Максимовой Марии Ивановне, уволенной из Государственного Эрмитажа в связи с чисткой аппарата Эрмитажа, в том, что протокол Комиссии Обл РКИ по чистке Эрмитажа до сих пор не получен (подписал Легран).
21 февраля 1932 г.
Выписка из протокола № 16 заседания Центральной Комиссии по чистке соваппарата.
3. Слушали: Апелляция гр. Максимовой М.И. (докладчик т. Макеев), научного сотрудника 1-го разряда Гос. Эрмитажа. Ленинградской Областной РКИ отнесена к 3-ей категории сроком на 2 года по мотивам: за реакционные группировки, монархические издания, связь с контр- революционерами-белоэмигрантами Европы, сотрудничество в контрреволюционном белоэмигрантском журнале.
Постановили: Так как предъявленные обвинения документами не подтверждаются, решение Ленинградской Областной РКИ отменить. Не возражается работать гр. Максимовой по специальности, поступление на общих основаниях. Трудсписок заменить новым. Исключить из него запись Комиссии по чистке соваппарата.
21 декабря 1945 г.
Зачисление на работу в Отдел античного мира.
Служба: 1930 — библиотекарь Ленинградского Отделения Коммунистической Академии; 1935 — библиотекарь Лесо-технической Академии;
1938—1941 — Грузинская Академия Наук, Гос. музей Грузии; 1941 — ГАИМК; 1942—1945 — находилась в эвакуации в Елабуге; 1945—1947 — Академия Художеств, Зав. кафедрой; 1945 — восстановлена в Эрмитаже.
20 апреля 1953 г.
Освободить от работы в Эрмитаже в связи с запрещением совместительства, оставив постоянные пропуска на вход в Эрмитаж и рабочие места в ОАМ. (Отдел античного мира. — Ред.)
Исидор Михайлович Лурье 1
В 1923 г. перевелся в Ленинградский Университет (окончил в 1925). Поступил в Эрмитаж в 1927 г.
1933—1934 — зам. Директора по научной части.
Зав. Отделением Востока в 1938—1946 гг.
Владислав Иосифович Равдоникас 2
Зачислен зав. Отделением Раннего феодализма с 1 февраля 1931 г. 1/2 ставки. Родился 27 ноября 1894 г. в Тихвине. В 1923 г. окончил историко-филологический факультет Петроградского Университета.
1 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 13, ед. хр. 494.
2 См. Архив ГЭ, оп. 13, ед. хр. 703.
II Материалы и документы
324
1918—1919 Преподаватель школы II ступени в Тихвине.
1919—1920 Красная Армия.
1921 — 1927 Тихвин.
1928—1929 Лектор при Ленинградском бюро СНР, работал сверх штата в МАЭ и ГАИМК.
1929 Аспирант АН СССР.
1930 Сотрудник 1-го разряда ГАИМК 1932—1935 Зав. сектором доклассового общества.
А где же «Аврора»? Комендант Петропавловки? А где же «смолянки», с которыми танцевал? По его словам, биография была более богатой. Где «исключение из партии»? Очень противоречивая личность!1
Владимир Николаевич Васильев 2 Родился в 1910 г.
1932—1934 Зав. сектором и зав. Отделом Горкома ВЛКСМ Ленинграда
1934—1939 Секретарь Кронштадтского Горкома ВЛКСМ
1936—1937 Секретарь Фрунзенского РК ВЛКСМ Ленинграда
1937—1938 Первый секретарь Обкома ВЛКСМ АССР немцев Поволжья
1938—1939 Секретарь Горкома ВКП(б) г. Энгельса
1938—1944 Верховный Совет РСФСР
1939—1941 Зав. Научно-просветительным отделом Эрмитажа
1941 — 1942 Зам. зав. Отделом истории русской культуры Эрмитажа
Марк Дмитриевич Философов 3
Родился 14 мая 1892 г. в Петербурге. Окончил Петербургский Университет по юридическому факультету. В феврале 1918 г. зачислен сотрудником в Художественную Комиссию при Зимнем дворце. В июне 1918 г. переведен в Комиссию по охране памятников искусства и старины. С февраля 1919 г. Ассистент Эрмитажа, с 15 ноября 1925 г. — Ученый секретарь Эрмитажа. Работал над лягушачьим сервизом («Сервиз зеленой лягушки», Веджвуд) и над каталогом антикварного серебра, хранящегося в Гохране. 1927 г. — врио Директора Эрмитажа (несколько раз). 2 февраля 1932 г. освобождается от должности Ученого секретаря и назначается на должность Зам. заведующего сектором Запада (дела передал И.А.Кислицыну).
27 января 1933 по 2 апреля 1933 г. — перерыв в работе из-за ареста; 12 июля 1933 по 18 марта 1935 г. — Ученый секретарь Эрмитажа; 18 марта 1935 г. — уволен из Эрмитажа ввиду отъезда из Ленинграда.
Борис Иванович Игнатьев 4
Родился 28 февраля 1870 г. Знает немецкий, французский языки. С 1898 до 1918 г. был делопроизводителем Министерства Двора (с ведением некоторой переписки).
8 сентября 1923 г.
Зачисляется делопроизводителем с зарплатой 17 р. 42 к. в месяц (при Ученом секретаре).
1 Замечание Б.Б.Пиотровского по по- 2 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 13, ед. хр. 123. воду сведений, имеющихся в личном деле. — з См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 13, ед. хр. 895.
Примеч. ред. 4 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 13, ед. хр. 802.
4 После Октябрьской революции
325
Оскар Фердинандович Вальдгауер Владислав Иосифович Равдоникас
(1883-1935). (1894-1976).
Фотография 1920-х гг. Фотография
Джеймс Альфредович Шмидт
(1876-1933).
Фотография 1910-х гг.
II Материалы и документы
326
Марк Дмитриевич Философов и Борис Иванович Игнатьев. Фотография 1920-х гг.
Наталья Давыдовна Флиттнер (1879-1967).
Фотография
4 После Октябрьской революции
327
19 августа 1924 г.
Письмо Б.И.Игнатьева: «Ввиду угрожающих сведений о новой квартирной плате, возобновляю прошлогоднее ходатайство о предоставлении мне самостоятельно маленькой квартиры, если таковая освободится в доме № 31 по ул. Халтурина, как, например, № 16 Полякова или № 26 Богдановой».
25 октября 1926 г.
«Ввиду исключительно тяжелого, можно сказать безысходного материального положения, в коем нахожусь в данное время (болезнь жены, отсутствие дров, недостаток в самом насущном), обращаюсь к вам с просьбой» (выдать аванс в размере 50 руб.).
Дело прерывается 6 августа 1931 г.
Ольга Васильевна Тепленко 1
Родилась в 1880 г.
9 октября 1920 — делопроизводитель Эрмитажа.
Дело прерывается 11-IV-32
Оскар Фердинандович Вальдгауер
Deutsches Generalkonsulat. Leningrad, den 14.02.1934, NC 84134.
Директору Археологического института Германии г-ну Виганду, Берлин, сообщается:
1. На днях я говорил с проф. Вальдгауером о выборах г-на Сергиевского в качестве члена-корреспондента Археологического института. Вальдгауер тепло приветствовал это намерение и подчеркнул, что Юрий Владимирович Сергиевский, как зам. заведующего сектором музейных дел Комиссариата Народного Образования РСФСР в Москве, может содействовать развитию связей между Германией и Советским Союзом и связей между Эрмитажем и Археологическим институтом. Кроме того, выборы Сергиевского упрочат позицию Вальдгауера.
В связи с этим я направил в посольство в Москве письмо, адресованное Сергиевскому для передачи ему.
2. На днях я просил проф. Вальдгауера во время беседы, что для Археологического института было бы весьма важно получать ежегодные отчеты об археологических мероприятиях, находках и новых приобретениях в России. Вальдгауер обещал направить в Институт отчет о новых приобретениях в Музеях Москвы и Ленинграда. О находках и археологических мероприятиях он не может писать, так как нет соответствующих материалов.
3. Проф. Вальдгауер упомянул об уже состоявшихся в феврале прошлого года беседах об избрании: Стрелкова, Блаватского и Лазарева чле- нами-корреспондентами Археологического института. Выборы ему кажутся желательными потому, что Москва, где они проводят серьезную работу, слабо представлена в Институте. Выборы трех ученых, из которых Стрелков является специалистом по среднеазиатскому искусству,
1 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 13, ед. хр. 843.
II Материалы и документы
328
Лазарев — по позднеантичному и византийскому искусству, и Блават- ский ведет серьезную работу как классик, важны с точки зрения получения отчетов о новых исследованиях в РСФСР.
С другой стороны, факт избрания мог бы подчеркнуть то, что в немецко-русских связях ничего не изменилось.
Госпожу Манцевич проф. Вальдгауер охарактеризовал как лучшего знатока скифского искусства в настоящее время в РСФСР.
Если невозможно удовлетворить новые предложения Вальдгауера в полном объеме, как об этом сообщалось в письме № 5194 (33) от 26.04 прошлого года, то я прошу передать их дальше и рассмотреть их, чтобы по крайней мере удовлетворить хотя бы часть из них.
4. Относительно направления молодого немецкого ученого в Эрмитаж Вальдгауер сообщил, что в прошлом году это не представлялось возможным и в будущем тоже вряд ли выполнимо. Просьбы США, Англии и Австрии были отклонены и не рассматривались вообще.
В России в настоящее время поощряется архивное дело и экспедиции. Вальдгауер посоветовал ученому посетить СССР во время поездки куда- либо с остановкой в Ленинграде. Но 500 немецких марок, выделенных МИД Германии для этого, будет недостаточно. Причины, которые делают желательным по культурно-политическим мотивам направление молодого немецкого ученого в Эрмитаж, изложены в сообщении Генконсульства в МИД Германии (№ 299/33 от 15.11.1933) и действительны в настоящее время. Они стали еще более важными, так как здоровье Вальдгауера сильно расстроено и его возможность работы очень ограничена.
Я советовал бы Вам обсудить этот вопрос с соответствующим референтом МИД Германии. Хотел бы указать на то, что Русский отдел Эрмитажа труднодоступен.
5. Проф. Вальдгауер благодарит за присылку 500 немецких марок. Он с благодарностью также подтверждает регулярное получение ежемесячно 30 немецких марок по установленному пути.
6. Сообщает о работе известного киевского профессора Макаренко, который руководил раскопками на Украине.
Подпись (неразборчиво)
Архив 2STA Deutsche Botschaft. Moskau, № 406. Bb. 200—2031.
Когда О.Ф.Вальдгауер в начале 1928 г. был заменен Г.В.Лазари- сом, беспартийным, много лет состоявшим в партии меньшевиков, партбюро было встревожено, высказалось о необходимости назначения Директором члена партии и указало: «Лазарис в работе своей равняется не на партию, а на бывшего Директора Тройницкого и Орбели, что составляет тесную связь».
1 декабря 1928 г. Наркомпрос назначил Директором Эрмитажа коммуниста П.И.Кларка. Были поставлены вопросы реорганизации музея на социологической основе, и о разработке его структуры. 1927 г. — записка И.А.Орбели «О ненаучности организации Эрмитажа». Завершение плана перестройки Эрмитажа было назначено на 1 июня 1929 г.
I Перевод передан из Управления
Внешних сношений АН СССР.
4 После Октябрьской революции
329
Заместителем Кларка был В.И.Забрежнев. Из купеческой семьи, был социал-демократом, меньшевиком, перешел к анархическому коммунизму, занимался разным делом за границей. Многократно арестовывался. В 1918 г. вступил в ВКП(б).
О ПРОСВЕТРАБОТЕ
В 1929 г. Эрмитаж посетили 292 1/2 тысяч человек. Был организован «Кружок друзей Эрмитажа», детская выставка, выставки по истории Эрмитажа. Доклады и лекции на фабриках и заводах, выездные выставки (во всем этом я принимал участие, рисовал, обслуживал фонарь, но в штат Эрмитажа меня не брали).
Производственная конференция музейных работников Эрмитажа (11 — 12 декабря 1929 г.). Доклад Ф.В.Кипарисова «Об основных задачах союзной работы среди музейных работников».
К истории парторганизации Эрмитажа По записям Н.Н.Лемана
1917 25 октября (7 ноября) за несколько часов до штурма Зимнего Петроградский Военно-революционный комитет назначил двух комиссаров по охране музеев, художественных коллекций и других культурных ценностей — Г.С.Ятманова и Б.Д.Мандельбаума (оба беспартийные!). Они утром 26 октября побывали в Эрмитаже, убедились в том, что музей не пострадал, но охрана снаружи недостаточна.
1917 Декабрь. Назначение Ю.Н.Флаксермана «комиссаром над центральными установлениями бывш. Министерства Двора». (Урегулирование бойкота в Эрмитаже.)
1919—1920 Создание партячейки во Дворце искусств (Зимний дворец), в коллективе Музея Революции, прикрепленной к партячейке Дворца Труда.
1920 В начале года в Эрмитаж приняты только что поступившие в партию коммунисты: И.А.Сохряков, машинист электростанции, М.Н.Козин, дровонос-истопнйк, и Н.В.Васильев, завхоз музейного отделения. В дальнейшем они были повышены в должности: Сохряков стал зав. хозяйственной частью музея, Козин — начальником наружной охраны Эрмитажа и Зимнего, Васильев заведовал историческими комнатами Дворца.
1924—1925 Партийные коллективы «музейных работников» и «при Главнауке». Сохряков был назначен партуполномоченным по Эрмитажу. В Правление Эрмитажа включен коммунист Эдуард Эдуардович Эссен, образованный марксист, которого знал и ценил Ленин, но он в партийную ячейку Эрмитажа не входил. После ухода Эссена в Правление Эрмитажа был включен коммунист К.М.Кочиа- швили, назначенный зам. Директора по административно-хозяйственной части Эрмитажа.
1928 Были созданы цеховые ячейки, в ячейку № 1 вошли коммунисты
И Материалы и документы
330
Эрмитажа, Музея Революции и Гос. Академии истории материальной культуры (всего 20 человек). Первым секретарем был избран Т.И.Кондуков.
1928 1 декабря. Вместо беспартийного Лазариса, которым партбюро было очень недовольно, Директором Эрмитажа был назначен коммунист П. И. Кларк.
1930 Ячейка № 1 преобразована в «Коллектив ВКП(б) при Эрмитаже», ее секретарем стала А.Э. (Августа Эрнестовна) Капман, член партии с 1913 г.
1931 В начале 1931 г. была «чистка соваппарата».
1933 Парторганизация Эрмитажа выросла до 32 членов (в 1931 г. — 11 членов). В 1939 г. — 58 членов.
1934 Секретарь парторганизации Эрмитажа Н.В.Куранов (после 1935 г. конфликты с дирекцией). На руководящую работу был принят член партии В.П.Кипарисов.
1936 Проверка партийных документов, Куранов не прошел проверку, бюро было распущено, секретарем нового партийного бюро стал Василий Филиппович Мухин.
Леонид Леонидович Оболенский
Из личного дела1
Родился в 1872 году в городе Орле, где в то время жил отец, только что вернувшийся из ссылки. Отец, сын маленького уездного чиновника, старый революционер, народоволец; привлекался по каракозовско- му делу, два года просидел в Петропавловской крепости и несколько лет отбыл в ссылке, был женат на сестре известного каракозовца — Маликова, в ссылке женился вторично на моей матери, по происхождению крестьянке. «Княжеского» в моем происхождении ничего не имеется. С 1878 года мы переехали в Петербург и с тех пор, до 1897 года, т.е. года моей высылки, все время вращался в кругу литературной братии начала девяностых годов. Около отцовского журнальчика и его редакции группировались тогда и молодые и старые литературные силы и общественные деятели самых разнообразных течений — от Н.А.Руба- кина и толстовцев до сторонников «Освобожденного Труда»2.
1 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 13, ед. хр. 616, Эрмитажа с 1 февраля 1930 г. Скончался 26
л. 50—51. Л.Л.Оболенский был директором сентября 1930 г.
В 1896 и 1897 году, по окончании Университета, примкнул к группе товарищей, которые образовывали в то время в заводских центрах Петербурга так называемые «Окраинные консультации помощников присяжных поверенных». В связи с забастовками 1895 и 1896 годов в Петербурге эти консультации подверглись строжайшей ревизии со стороны администрации; товарищи частью были арестованы, частью высланы. Я попал в число последних, получив после высылки в предварилке предложение выбрать город для жительства и на три года покинуть Петербург.
2 Оболенский Леонид Егорович — пи- до 1891 г., позже сотрудничает в <Новостях»
сатель (1845—1906), отец директора Эрмита- и «Новом Свете», занимается редактировани- жа. В 1866 г. за близость к некоторым карако- ем переводов целого ряда сочинений по фи- зовцам был выслан из Петербурга. В 1878 г. лософии. Писал романы и повести под псев- совместао с проф. Вагнером начал издавать донимом М.Красов и критические статьи в журнал «Свет». В 1883 г. приобретает в соб- «Мысли». См. Новый энциклопедический сло- ственность «Русское богатство» и издает его варь Брокгауз—Ефрон, т. XXIX. П., 1916, ст. 3.
4 После Октябрьской революции
331
Я выбрал Нижний Новгород, у меня были кое-какие знакомства, среди ссыльных журналистов, и в 1897 году я переехал в этот город.
Серьезной революционной работы не было, вел нелегальные занятия с кружками молодежи.
В 1898—1899 году мой старый знакомый по Петербургу Н.Н.Нечаев был назначен в Нижний Управляющим Казенной палатой, человек близкий к революционным кругам («Народной Воле»). Н.Н.Нечаев предложил мне должность помощника податного инспектора в г. Арзамасе.
В 1899 году, после довольно серьезных колебаний, я эту должность принял, рассчитывая воспользоваться своим положением как для изучения деревни, так и для работы среди крестьян и уездной интеллигенции.
Никакой партийной организации в Арзамасе в то время не было. Вместе с А.М.Храбровым (инспектором народных училищ) мы решили начать работу среди народных учителей.
Мы сгруппировали около себя молодежь — учителей городского училища, ремесленного и др. Меня выбрали Председателем Арзамасского отделения Общества. Это дало возможность начать широкую культурно-просветительную работу и давало нам возможность постепенно отбирать более надежный элемент для образования партийной ячейки и работы над этой ячейкой.
Так велась скромная партийная работа до 1905 года. В этом году небольшая революционная ячейка в Арзамасе невольно сгруппировалась около только что мною описанных организаций, которые и стали руководить всем движением в уезде. Я в качестве председателя комитета имел непосредственную связь с Нижегородским центром (через товарища Израилевича). Работа в уезде заключалась преимущественно в организации митингов, пропаганде, вооружении дружин.
В 1906 году я переехал в Нижний Новгород. С группой с.д. в то же время мы вошли в состав Общества распространения начального образования («Народный Дом»). Здесь велась преимущественно просветительская работа. Мне давались поручения литературного характера, писание брошюр и листовок. Связь моя с с.д. не прерывалась, но активной работы я не вел вплоть до выборов в 4-ю Думу, когда мы начали определенную кампанию за нескольких наших кандидатов.
Губернатор А.Н.Хвостов потребовал моего перевода из Нижнего на Урал. Не увольнения, а перевода, т.к. он считал и говорил, что за мной удобнее наблюдать, если я останусь на службе.
В 1913 году я был переведен в Пермь. Я сразу вошел в организацию с.д., группировавшуюся около «Народного Дома» (А.Шнееров,
Н.П.Бусыгин, рабочий Шулов и мн. другие). В 1914 году была организована легальная марксистская газета «Пермская Жизнь», в которой мне было поручено редакторство. Около этой газеты группировались все с.д. без различия направлений, здесь я впервые встретился с Н.Н.Крестин- ским. Активная работа с.д. меньшевиков в Перми была поставлена сравнительно слабо. Здесь впервые у меня зародилась реальная связь с боль¬
II Материалы и документы
332
шевиками в лице партийных рабочих — П.А.Галанина (металлист), П.М.Обросова (мотовилитинец), Анишева (резчик-столяр), под влиянием которых я в высшей степени критически стал относиться к меньшевистскому лозунгу по поводу того, что «рабочее движение в России должно развиваться так, чтобы оно не запугивало буржуазию».
Когда в этот период один из ближайших наших товарищей по газете, мой соредактор большевик Валериан Лежава, стал вести переговоры с нашей группой (и в частности со мною) о слиянии с Екатеринбургской организацией большевиков, я несомненно был на стороне осуществления этого слияния. Не вошел я тогда в партию (1915—1916 гг.), потому что общее соглашение не состоялось, а лично мне пришлось срочно выехать в Петербург. В Петербурге я пробыл до марта 1917 года; активного участия в Февральской революции не принимал. В марте был вызван товарищами в Пермь и вошел в состав первого Губернского Комиссариата, принимая в то же время участие в работах первого Исполкома Совета Рабочих и Красноармейских депутатов. Оставаясь в партии с.д. меньшевиков, я и до Октябрьской революции по всем принципиальным вопросам в работе и в моих выступлениях солидаризировался с фракцией большевиков, делая это совершенно открыто и вызывая на себя нарекания со стороны меньшевистской организации.
После Октябрьского переворота политическая половинчатость моих бывших друзей стала для меня окончательно неприемлема и я резко порвал с ними, приняв на себя ответственную работу по приглашению уже большевистского исполкома. Первое время (с конца 1917 года) я работал, не вступая в партию. Но вот подошли дни Колчаковского нашествия. Колчак занял Екатеринбург и половину Пермской губернии. Пермь ожидала его вторжения со дня на день, и вот в этот трудный момент, когда буржуазия вместе с моими бывшими политическими друзьями (меньшевиками) готовились к торжественной встрече Колчака, я подал заявление о принятии меня в партию большевиков, рекомендовали меня рабочий П.М.Обросов и интеллигент С.Н.Седых, а я написал мотивированное письмо в газете. Это было в конце октября 1918 года, и через несколько недель после моего принятия в партию (в ноябре 1918 г.) я уже убегал из Перми от Колчака под орудийным огнем с последним поездом стрелковой бригады, где был прицеплен вагон с нашими ценностями, порученный мне для эвакуации в Вятку. Остается сказать несколько слов о моей советской и партийной работе последнего времени (т.е. после Октябрьской революции). В Перми я вел всю работу Финансового отдела Губернского Исполкома. В 1918 году также и Финансового отдела Уральского Областного Исполкома. После эвакуации в Вятку в начале 1919 года я был Губ. Партийным Комитетом, по согласованию с Областным Партийным Комитетом, назначен членом Вятского Губисполкома и Заведующим Финансовым отделом; был в то же время членом Президиума Вятского Губисполкома. В марте 1919 года Москва вызвала меня на съезд Губ. Финотделов, и Н.Н.Крестинский оставил меня (против моего желания и против желания пермских товарищей) в Москве. Я был назначен членом Коллегии Наркомфина и членом Малого Совета. В Москве на этих мес-
4 После Октябрьской революции
333
тах я работал до сентября 1920 года, когда был командирован в Ригу в качестве члена Мирной Делегации для переговоров с Польшей. Там вел переговоры по всем финансово-экономическим вопросам, будучи председателем Финансово-Экономической Комиссии.
Борис Васильевич Легран 1
Борис Васильевич Легран проработал в Эрмитаже только четыре года — с 21 апреля 1930 г. до 16 мая 1934 г. Но какие это были годы! Конец первой пятилетки — начало второй, период развернутого наступления социализма по всему фронту, годы новых успехов культурной революции.
Легран пришел в Эрмитаж, имея большой опыт партийной, профсоюзной и административной работы. С 15—16 лет он начал принимать участие в работе марксистских кружков. Социал-демократ с 1901 г., со времени раскола партии — большевик, Легран не раз арестовывался жандармами. Будучи студентом юридического факультета Петербургского университета, он входил в состав Петербургского комитета партии. После одного из арестов его выслали в Орел. Университетский курс он продолжил в Казани, где и сдал экзамены в 1909 г. Работал помощником присяжного поверенного в Тифлисе, Петербурге, Москве. В 1915 г. был призван в армию, окончил школу прапорщиков и был отправлен на фронт, где пробыл до лета 1917 г., когда по распоряжению командования дивизии его изъяли из полка по обвинению в большевистской пропаганде и отправили под надзор штаба Двинского округа в Витебск. Осенью 1917 г. он прибыл в Петроград.
С первых же дней Октября Б.В.Легран на ответственной партийной и советской работе: в 1917 г. — член коллегии Наркомвоенмора, в 1918—1919 гг. — член Реввоенсовета Южного фронта и 10-й Красной Армии, которая защищала Царицын, затем председатель Реввоентрибуна- ла республики; в 1920 г. — уполномоченный РСФСР в дашнакской Армении, принимал активное участие в ее советизации. В 1926—1927 гг. — генеральный консул СССР в Китае.
К музейной работе он начал приобщаться еще с 1923 г., когда в качестве председателя Петроградского губернского отдела союза Раб- проса присутствовал на конференции музейных работников, затем он заведовал культотделом Ленинградского горпрофсоюза. Участвовал в работе 1-й межсоюзной производственной конференции музейных и экскурсионных работников Ленинграда (декабрь 1929 г.).
Так что соглашаясь на новое назначение — заместителем директора Эрмитажа по научной части, Легран, в общем, знал, куда он идет, и, как партиец с широким кругозором, знал, зачем он идет.
Конечно, Эрмитаж был уже во многом не тот, что до революции. Значительно выросло количество экспонатов, поступивших из национализированных дворцов и особняков или из коллекций, брошенных на произвол судьбы бежавшими за границу и к белым. С передачей Эрмитажу Зимнего дворца в несколько раз расширилась экспозиционная площадь музея. Все это заставляло подумать о некотором изменении экспозиции. Начали появляться даже отдельные участки комплексных экспозиций.
1 Статья Н.Н.Лемана, написанная в
1984 г. к столетию со дня рождения Б.В.Ле- грана. Опубликована в «Сообщениях Государственного Эрмитажа», XLIX, 1984, с. 67—70.
II Материалы и документы
334
Неизмеримо, по сравнению с дореволюционным временем, возросла просветительная роль и деятельность музея. Например, в 1929 г. Эрмитаж посетило 292 500 человек1. Функционировал Вечерний рабочий университет. И все же музей явно отставал от требований реконструктивного периода. Мертвое еще пыталось мешать живому. В подтверждение можно привести такой эпизод. В апреле 1928 г. Главнаука заслушала отчет Эрмитажа и, отметив некоторые его достижения, потребовала перестройки всей работы музея на научной социологической основе. Но реальные шаги по перестройке музея были сделаны буквально за несколько дней до прихода Леграна. 29 марта 1930 г. был издан тогдашним директором Л.Л.Оболенским приказ о создании так называемых структурных комиссий по общественно-экономическим формациям. Всего было создано четыре комиссии: по доклассовым образованиям, по античному обществу, по феодализму и капитализму. «Задача этих комиссий, — говорилось в приказе, — 1. Теоретическое обоснование данных формаций; 2. Выявление материала, могущего иллюстрировать жизнь этой формации, как имеющегося в музее, так и вне его;
3. Конкретное планирование экспонируемого материала по помещениям»2.
Легран побывал на заседаниях нескольких комиссий, провел 27 апреля 1930 г. первое объединенное заседание их бюро и убедился, что комиссии не смогут самостоятельно справиться с поставленными перед ними задачами. Он добился приглашения целой группы философов, социологов и историков-марксистов из Ленинградского отделения Комакадемии (ЛОКА) и из Университета в качестве консультантов. С их помощью под непосредственным руководством Леграна летом и осенью 1930 г. была выработана принципиально новая стройная система структуры музея, и уже в завершающем, так называемом «ударном» квартале года в основном она была проведена в жизнь. Были созданы четыре основных сектора по формациям (доклассовый, античный, феодализма и капитализма) и несколько вспомогательных отделов (графики, нумизматики, реставрации, библиотека). Эта структура вызвала значительное перераспределение коллекций и тем самым создала возможность подлинно научного построения экспозиций.
Тогда же, в «ударном» квартале, он провел большую работу по подготовке 1-го музейного съезда, состоявшегося в Москве в начале декабря 1930 г.
4 января 1931 г. Легран был утвержден в должности директора Эрмитажа (до этого с 26 сентября 1930 г., после смерти Л.Л.Оболенского, — вр. и.о.).
Легран был единоначальник — твердый, настойчивый. Но, единоначальник-большевик, он всячески стремился развить инициативу, активность сотрудников, не стеснялся учиться у них, прислушивался к их голосу. Он не боялся признавать свои ошибки и просчеты и каждым своим выступлением учил это делать других. В этом отношении очень показательны годовые отчеты Эрмитажа за годы работы Леграна — очень подробные, смелые, самокритичные, с перспективой.
В 1931 г. на базе бывш. Музея Штиглица был создан Сектор художественно-промышленной техники, а в связи с получением большой кол¬
1 Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 687, л. 11.
2 Там же, ед. хр. 1000, л. 1.
4 После Октябрьской революции
335
лекции старинных музыкальных инструментов из ликвидированного Наркомпросом музея Филармонии был образован еще один вспомогательный отдел — музыкальной культуры и техники (в дальнейшем он был преобразован в сектор). Но главной задачей стала перестройка экспозиции и просветительной работы. И в этой связи исключительное значение приобрело создание Методологического сектора. Он был создан по распоряжению Главнауки от 30 мая 1931 г. для систематической разработки методологических вопросов всей работы музея, его оперативных и перспективных планов, для идеологического контроля над изданиями, для руководства подготовкой аспирантов и для работы по марксистско-ленинскому воспитанию кадров. Тут уже невозможно было ограничиться привлечением марксистов из Л ОКА и Университета только для консультаций. Поэтому многие из них были назначены в штат Эрмитажа (П.П.Ще- голев, И.И.Иоффе, А.К.Розенберг, Н.Н.Розенталь, А.И.Молок и др.). Хорошо зная указание В.И.Ленина об отношении к старым специалистам, Легран старался привлечь к участию в работе сектора и музейных работников Эрмитажа. Это оказалось тем более возможным, что при Легране состав научных кадров обновился более чем на треть за счет выпускников советских вузов и аспирантов.
Заседания происходили не реже чем раз в месяц, иногда чаще. По каждому вопросу плана работы выделялась специальная комиссия, готовившая материал. Иногда устраивались открытые заседания (например, в марте 1933 г. — памяти Маркса), привлекавшие широкую аудиторию. Особенно много внимания было уделено постановке просветра- боты и выработке целеустановки Эрмитажа на вторую пятилетку. По мнению сектора, во второй пятилетке перед музеем должна была стать огромной важности задача: разработка плана уже не просто комплексного, а синтетического показа искусства, то есть не только изобразительных его видов, но и по возможности вместе с другими его отраслями: музыкой, театром, литературой и архитектурой того или иного этапа развития. Начали с «музыкальных экспозиций», которые должны были дополнить живописно-скульптурные выставки. В 1933 г. Эрмитажный театр посетили десятки тысяч слушателей1.
В 1931 г. особенно широко развернулась экспозиционная работа в двух секторах — западноевропейского искусства и Востока. Были развернуты совершенно новые опытные выставки французского искусства от феодализма до XX века, отдельные участки немецкого и нидерландского искусства. Сектор Востока закончил также экспериментальную экспозицию в десяти залах. Весь выставленный материал относился к области Передней Азии и Египта, Средней Азии и Юго-Восточной Европы. Два других сектора — доклассовый и античный — только готовили планы новых экспозиций. Все выставки прошли общественный просмотр и неоднократно переделывались.
В 1932 г. продолжались доделки и улучшения выставок 1931 г. Кроме того, были значительно расширены тоже совершенно новые экспозиции искусства Италии и Голландии, а также создана выставка западноевропейского фарфора. В порядке сверхплановых работ были подготовлены две
I См.: Гинзбург С. Звучащий музей. — «Литературный современник», 1934, № 1, с. 137-142.
II Материалы и документы
336
выездные выставки для театров: в Малом оперном театре — к опере «Мейстерзингеры», а для Большого драматического театра — по Шекспиру. Ряд новых выставок организовал и сектор Востока: культуры и искусства Ирана, Бактрии и Армении и некоторых других государств Азии, а также Византии V—VIII вв. В секторе античного общества была развернута выставка «Искусство Италии доримской эпохи». Сектор доклассовых образований продолжал разрабатывать планы экспозиции своих материалов, требовавших еще дополнительного тщательного изучения.
В области научно-исследовательской работы к достижениям этого года относилось ее решительное подчинение задачам перестройки музея. Для развертывания просветработы стало необходимым привлечь к консультационной и экскурсионной деятельности всех научных сотрудников секторов, а для координации и помощи им был образован в просветчасти методический кабинет.
К концу года внимание Методологического сектора было привлечено к подготовке 2-й пятилетки музея. Тут, в частности, прежде всего нужно было закрепить целеустановку Эрмитажа, очень четкую формулировку которой Б.В.Легран дал еще в самом начале своей работы в Эрмитаже: «музей истории культуры и искусства». Теперь эта формулировка общепринята, но тогда Леграну пришлось поломать немало копий за нее1.
К сожалению, приказом Наркома т. Бубнова 16 мая 1934 г. Легран был переведен заместителем ректора Академии художеств СССР.
При Легране не закончилась реконструкция Эрмитажа, да при тогдашнем уровне развития таких наук, как социология, эстетика, марксистская история искусств, ее вообще еще нельзя было закончить и выполнить те требования, которые были поставлены в постановлении Президиума ВЦИК от 1 января 1934 г. о музейном строительстве2.
Но «встряска» была очень основательной, общее направление развития намечено правильно, и хотя многое из сделанного при Легране в дальнейшем, при новом руководстве, было отвергнуто (прекратил существование Методологический сектор, ликвидировали концерты исторической музыки в Эрмитажном театре и т.д.), музей был уже не тот, что в начале 30-х гг., и в этом огромная заслуга Б.В.Леграна.
Не случайно же, что в 1937 г. на первой научно-производственной конференции Эрмитажа все без исключения упоминали о Б.В.Ле- гране с большой теплотой и благодарностью. Наиболее, пожалуй, четко об этом сказал А.Ю.Якубовский. Отмечая, что в Эрмитаже «приятно работать», он продолжал: «Я считаю, что поворот к тому произошел несколько лет назад, когда к нам в качестве директора пришел Б.В.Легран. Легран, действительно, сумел поставить работу. С одной стороны, он глубоко и серьезно повернул Эрмитаж в сторону марксистско- ленинского направления, потому что до этого времени о марксизме в Эрмитаже, в сущности, говорить не приходилось, а с другой стороны, несомненен и тот факт, что, поворачивая наш путь, Легран сумел освободить нас и от тех колоссальных ошибок, которые делали другие научные учреждения, переходя на марксистско-ленинский путь. Я говорю о вульгарном социологизме»3.
1 См.: Легран Б.В. Социалистическая з Архив ГЭ. Стенографический отчет о
реконструкция в Эрмитаже. Л., 1934, с. 46. первой научно-производственной конферен-
2 См.: «Советский музей», 1934, № 1, ции, с. 81—82.
с. 3-7.
4 После Октябрьской революции
337
Борис Васильевич Легран
(1884-1936).
Фотография
II Материалы и документы 338
&L>C
элсссэ/с
SO
СоЯСжсКкк под&дU+CL^a^ TLoD'flJ
$
а
bid
кЯ
*
JL — —
/О
11
/3 /2
и1- +
/4
td
/8
/5
Г-
ь
77
Vccrc-U, 7Ю<£е-3<£
*5
В
4
?
*
ЪСсКЛЛС*' ^CCJUTTCy^OTCCO
План Государственного Эрмитажа.
1-й этаж. 1929
4 После Октябрьской революции
339
В Академии художеств Легран проработал очень недолго. С обычной для него напористостью он взялся за организацию издательства и типографии Академии, но сердце не выдержало...
24 февраля 1936 г. в «Ленинградской правде» появилось извещение о «внезапной смерти Бориса Васильевича Леграна».
План Государственного Эрмитажа с указанием зал 1 На обороте титула указано:
Напечатано по распоряжению Государственного Эрмитажа Зам. Директора В.Забрежнев
Ленинградский Областлит № 35413. — 1 1/4 печ. л. — Тираж 5000 Государственная Академическая Типография. В.О., 9 линия, 12
УКАЗАТЕЛЬ ОТДЕЛОВ ЭРМИТАЖА И ЗАНИМАЕМЫХ ИМИ ЗАЛ ОТДЕЛ ДРЕВНОСТЕЙ
Отделение Классического Востока (Египет и Ассирия) 1 эт. з. 12—14
Отделение Греко-Римское 1 эт. з. 1—10, 15—18
Отделение Эллино-Скифское
Секция Скифская 1 эт. з. 21—24
Секция Эллинская 1 эт. з. 19—20, 25—31
Отделение Византии 3 эт. з. 1—18
ОТДЕЛ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ
Итальянская живопись и скульптура 2 эт. з. 2-3, 5-12, 25, 56
Испанская живопись 2 эт. з. 4
Нидерландская и Старо-Немецкая живопись 2 эт. з. 14
Голландская живопись 2 эт. з. 13, 15—18
Фламандская живопись 2 эт. з. 19—22
Французская живопись и скульптура 2 эт. з. 52—55, 96—101
Английская живопись и скульптура 2 эт. з. 59
Немецкая и Скандинавская живопись 2 эт. з. 57—58
Миниатюры 2 эт. з. 25
Гравюры 1 эт. з. 11
Рисунки 2 эт. з. 24
Скульптура 18—19 веков 2 эт. площадка Главной лестницы,
з. 1 и 60, Висячий сад, з. 79—80
ОТДЕЛ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Отделение Средних Веков и
Эпохи Возрождения 2 эт. з. 33—38, 42, 50
Отделение Оружия 2 эт. з. 88, 90—91, 95
Отделение Прикладного Искусства Нового Времени 2 эт. з. 26—32,
43-45, 108-111
ОТДЕЛ НУМИЗМАТИКИ
Монеты и медали 2 эт. з. 23, 5
Античные резные камни 1 эт. з. 9—10
Резные камни Нового Времени 2 эт. з. 25
отдел востока 2 эт. з. 162-195
1 В материалах, собранных Б.Б.Пиотровским, содержится ксерокопия брошюры 4 План Государственного Эрмитажа с указанием зал». 3-е изд. Л., Изд. Государственного Эрмитажа, 1929, с. 1—20. Редак¬
ция сочла возможным полностью воспроизвести текст этого издания с прилагаемыми к нему планами, сохранив написание имен и названий и характер принятых обозначений.
II Материалы и документы
340
УКАЗАТЕЛЬ ЗАЛ ЭРМИТАЖА
1-ЫЙ ЭТАЖ
1 Зал. Позднегреческая и эллинистическая придворная скульптура 4—2 вв.
до н.э.
2 Зал. Греческая декоративная садово-парковая скульптура 3—1 вв. до н.э.
3 Зал. Монументальная скульптура греческих храмов 5 в. до н.э. Рим¬
ские саркофаги 2—3 вв. н.э.
4 Зал. Греческая декоративная скульптура 3—1 вв. до н.э. У окна в полу
римская мозаика.
5 Зал. Греческая декоративная скульптура 3—2 вв. до н.э. Ваза из яшмы
русской работы середины 19 в.
6 Зал. Италийские расписные вазы 5—3 вв. до н.э.
7 Зал. Двадцатиколонный. Греческие расписные вазы 9—4 вв. до н.э.
Италийские расписные вазы 5—4 вв. до н.э.
8 Зал. Греческие, этрусские и римские бронзовые статуэтки 5—1 вв. до н.э.
Греческие и италийские предметы обихода 6—1 вв. до н.э.
9 Зал. Греческие и италийские терракотовые статуэтки 10—2 вв. до н.э.
Производство Мегары, Коринфа, Танагры. Римские терракотовые рельефы 1—2 вв. н.э. Эгейские резные камни второго тысячелетия до н.э. Греческие и римские резные камни 8 в. до н.э. — 3 в. н.э.
10 Зал. Италийские и греческие чернолаковые сосуды 3—2 вв. до н.э. Рим¬
ские краснолаковые сосуды 1 в. до н.э. — 2 в. н.э. Греческое стекло 1 в. до н.э. — 4 в. н.э. Римское стекло 1 в. до н.э. — 4 в. н.э. Римские и греческие камеи 3 в. до н.э. — 3 в. н.э.
11 Зал. Образцы европейской гравюры 15—18 вв. н.э. Временная выставка:
Французская революция в гравюрах и карикатурах 1783—1792 гг.
12 Зал. Египетские саркофаги и мумии первого тысячелетия до н.э. Па¬
мятники египетской письменности второго тысячелетия до н.э.
13 Зал. Ассирийские барельефы 9 в. до н.э. Памятники вавилонской кли¬
нописи и вавилонские резные цилиндры (печати) четвертого тысячелетия до н.э.
14 Зал. Египетская скульптура третьего тысячелетия до н.э. Предметы
житейского обихода и заупокойного культа с шестого по второе тысячелетие до н.э.
15 Зал. Римские портретные статуи и бюсты 1 в. до н.э. — 4 в. н.э. Образ¬
цы римского декоративного искусства.
16 Зал. Греческие портретные бюсты 4—2 вв. до н.э. Римские портретные
бюсты 1 в. до н.э. — 2 в.н.э. Статуи типа Праксителя и Лизиппа 4 в. до н.э.
17 Зал. Греческая скульптура 4 в. до н.э. Статуи типа Праксителя и Ско-
паса. В полу греческая мозаика из Херсонеса 7 в. н.э.
18 Зал. Греческая скульптура 5 в. до н.э. Статуи типа Поликлета и Фи¬
дия.
19 Зал. Скульптура греческих городов Скифии 5 в. до н.э. — 2 в. н.э.
20 Зал. Керченские надгробия 2 в. до н.э. — 2 в.н.э.
21 Зал. Древности Сибири бронзового и железного века второго тысяче¬
летия до н.э. по первые века н.э.
4 После Октябрьской революции
341
22 Зал. Древности Скифии из курганов Приднепровья, Крыма, устья Дона
и Прикубанья 7—4 вв. до н.э.
23 Зал. Древности больших скифских курганов. Курган Солоха, Чертом-
лыцкий курган, Александропольский курган 5—3 вв. до н.э.
24 Зал. Древности сарматского времени 2 в. до н.э. по первые века н.э.
«Скифские» древности Приуралья римского времени и до 8 в. н.э.
25 Зал. Древности Ольвии — греческой колонии в устье Буга и Днепра 7 в.
до н.э. — 4 в. н.э.
26 Зал. Древности греческого поселения на острове Березани 7—5 вв. до н.э.
27 Зал. Древности городов Боспорского царства в греческую эпоху: Пан-
тикапей (Керчь) и поселения на Таманском полуострове 6—2 вв. до н.э.
28 Зал. Древности курганов Боспорского царства 7—5 вв. до н.э. Семиб¬
ратние курганы, курган Куль-оба.
29 Зал. Древности курганов Боспорского царства. Каменный склеп из цепи
курганов на Юз-оба около Пантикапея кон. 5 в. — нач. 4 в. до н.э.
30 Зал. Древности курганов Боспорского царства 4 в. до н.э. — 4 в. н.э.
Курган Большая Близница и Артюховский курган на Таманском полуострове.
31 Зал. Древности городов Боспорского царства римской эпохи 1 в. до
н.э. — 4 в. н.э. и Херсонеса 5 в. до н.э. — 4 в. н.э.
2-ОЙ ЭТАЖ
Площадка Главной лестницы. Скульптура 19 в. Статуи: Бартолини, Бьенеме, Тенерани, Прадье, Дюпре, Вольфа.
1 Зал. Скульптура 18 в. и начала 19 в. Статуи и бюсты: Гудона, Фаль¬
коне, Кановы, Торвальдсена.На стенах живопись Хильтеншпер- гера середины 19 в.
2 Зал. Итальянская живопись 16—18 вв. Тициан, Паоло Веронезе, Себас-
тьяно дель Пьембо, Тинторетто, Бассано, Сальватор Роза, Креспи, Фети, Тьеполо, Каналетто, Маньяско.
3 Зал. Итальянская живопись 15—18 вв. Франческо Франча, Боттичи-
ни, Гарофало, Джулио Романо, Караваджо, Гверчино, Гвидо Рени, Караччи, Дольчи, Альбано, Доменикино.
4 Зал. Испанская живопись 16—17 вв. Греко, Моралес, Рибера, Зурба-
ран, Веласкез, Мурильо, Переда.
5 Зал. Итальянская мелкая скульптура 15—17 вв. Микельанджело, Джован¬
ни Болонья, Дюкенуа. На стенах фрески школы Рафаэля 16 в.
6 Зал. Итальянская живопись 13—15 вв. Примитивы: Джентиле да Фаб¬
риано, школа Джотто и Дуччо, Фра Беато Анджелико.
7 Зал. Итальянская живопись 15 в. и начала 16 в. Леонардо да Винчи,
Перуджино, Боттичелли, Чима да Конельяно, Филиппино Липпи.
8 Зал. Итальянская живопись и рельефы 15 в. и нач. 16 в. Поллайу-
оло, школа Франча. Рельефы: Антонио Роселлино, Мино да Фиезоле.
9 Зал. Итальянская живопись 16 в. Леонардо да Винчи, Луини, Больт-
раффио, Мельци, Чезаре да Сесто, Рафаэль, Джулио Романо, Бронзино, Корреджо, Андреа дель Сарто, Доссо Досси.
II Материалы и документы
342
10 Зал. Венецианская живопись конца 15 в. и 16 в. Джорджоне, Тициан,
Парис Бордоне.
11 Зал. Итальянская живопись конца 16 в. и 17 в. Караваджо, Караччи,
Фети, Прокаччини.
12 Зал. Итальянская живопись 17—18 вв. Маратти, Гварди, Маньяско,
Розальба Каррьера.
13 Зал. Голландская живопись конца 16 в. и 17 в. Эльсгеймер, Блумарт,
Ластман, Конинксло, Муйарт, Пейнас.
14 Зал. Нидерландская и старо-немецкая живопись 15—17 вв. Кампэн, Ян
фан-Эйк, Рогир фан дер-Вейден, Кульмбах, Лука Лейденский, Лукас Кранах, Ян Брейгель, Антонис Мор.
15 Зал. Рембрандт, Хонтхорст, Фердинанд Боль, Экхоут, Саломон Кон-
нинк, Барент Фабрициус, Саломон де Брай 17 в.
16 Зал. Голландская живопись 17—18 вв. Н.Маас, Берхем, Пуленбург,
Венике, Нетшер, Пейнакер, Трост.
17 Зал. Голландская живопись 17 в. Марины и натюрморты. Я.Д. де-Хем,
фан-Стрек, Флигер, Хондекутер, Клас, Виллем фан-де-Фельде.
18 Зал. Шатровый. Голландская живопись 17 в. Франс Хальс, Хельст,
Рейкхальс, Хеда, Кальф, Гойен, Терборх, Питер де Хох, Метсю, Мирис, Воуверман, Рейсдаль, Ян Стен, Остаде, Поттер, Кейп, Тем- пель, Венике.
19 Зал. Фламандская живопись 17—18 вв. Броуер, Сегерс, де-Фос, Миль,
Лерес, Снейерс.
20 Зал. Фламандская живопись 17 в. Снейдерс, Пауль де-Фос, Тенирс.
21 Зал. Фан-Дейк 17 в.
22 Зал. Рубенс, Иордане, Ромбаутс 17 в.
23 Зал. Монеты, медали и денежные знаки всех стран и народов с 7 в. до
н.э. до современных монет СССР.
24 Зал. Рисунки западно-европейских мастеров 15—20 вв.
25 Зал. Лоджии Рафаэля — точная копия, сделанная в Ватикане в 18 в.
Витрины вдоль окон: Западно-европейская миниатюра 16—19 вв. Резные камни: итальянские, французские, английские, немецкие и русские 18—19 вв.
26 Зал. Серебряная утварь 16—18 вв. Французская работа: мастера Бал-
лен, Жермен, Огюст, Бьенне, Одно. Немецкая работа: мастерские Аугсбурга, Нюренберга, Гамбурга, Данцига, Берлина. Английская работа: мастера Кендлер, Ламери. Русская работа: мастерские Москвы, Петербурга и Сибири. Гробница Александра Невского русской работы 1750 г. Тронное кресло Петра I английской работы 1714 г.
27 Зал. Выставка: «Техника серебряного производства».
28 Зал. Площадка перед фойе театра.
28 а Фойе театра.
28 б Эрмитажный театр.
29 Зал. Русский фарфор 18 в. и начала 19 в. Изделия императорского фар¬
форового завода и завода Гарднера.
30 Зал. Берлинский и венский фарфор 18 в.
4 После Октябрьской революции
343
31 Зал. Мейссенский фарфор 18 в. (Сакс). Изделия Бетгера. Статуэтки
Кендлера. Статуя апостола Павла по модели Кирхнера.
32 Зал. Английский фарфор 18 в. Лягушечий сервиз завода Веджвуд.
Флаконы завода Чельси. Вазы севрского фарфора конца 18 в.
33 Зал. Венецианское стекло 15—17 вв. Немецкое и русское стекло 18 в.
Французский фаянс Сен-Поршера 16 в.
34 Зал. Французский фаянс Бернара Палисси 16 в. Французская резная
кость 14 в.
35 Зал. Западно-европейская резная слоновая кость 9—15 вв. Француз¬
ские расписные эмали 15—17 вв.
36 Зал. Испано-мавританская майолика 15—16 вв. Валенсиа. Итальянская
майолика 16 в. Дерута.
37 Зал. Итальянская майолика 16 в.
38 Зал. Итальянская майолика 15—18 вв. Фаэнца, Урбино, Губбио, Ве¬
неция, Кастелли.
42 Зал. Западно-европейская серебряная и медная церковная утварь 12—
16 вв. Лиможские и рейнские выемчатые эмали на меди 12—14 вв. Фламандская резьба по дереву 15—16 вв. Антверпен.
43 Зал. Немецкий фарфор мелких заводов 18 в. Заводы: Франкенталь,
Хёхст, Людвигсбург, Нимфенбург и Тюрингии.
44 Зал. Французский фарфор, Севр 18 в. Статуэтки по моделям Фальконе.
45 Зал. Французский фарфор, бисквит 18 в. Заводы Сен-Клу, Менесси,
Шантильи. Итальянский фарфор 18 в. завода Капо ди Монте и др.
50 Зал. Площадка Советской лестницы. Итальянская майолика 15—16 вв.
51 Зал. Павильонный. Часы-павлиц английской работы 18 в. Итальянская
декоративная скульптура 18 в. В полу мозаика, работы русских художников в Риме 1851 г.
52 Зал. Французская живопись и скульптура 18 в. Лаллеман.
53 Зал. Французская живопись и скульптура 18 века. Натье, Каравак, Ан¬
туан Пен, Токе, Ванлоо, Фрагонар, Шарден, Грёз, Удри, Гюбер Робер, Жозеф Верне, Буальи, Маргарита Жерар, Фальконе, Сали, Пажу, Колло, Рашетт, Клодион.
54 Зал. Французская живопись и скульптура конца 18 в. Виже-Лебрен,
Жерар, Жироде, Бозио, Гишар.
55 Зал. Французская живопись и скульптура 19 в. Монье, Давид, Герен,
Мейер, Тоне, Свебах, Энгр, Делакруа, Коро, Руссо, Диаз, Тройон, Добиньи, Роза Бонер, Жак Гудон, Шоде, Бари.
56 Зал. Итальянская живопись и скульптура 18 в. Белотто, Растрелли.
57 Зал. Немецкая живопись и скульптура конца 18 в. и 19 в. Менгс, Ан¬
желика Кауфман, Тишбейн, Деннер, Фюгер, Лампи, Винтергаль- тер, Калам, Ахенбах, Каспар Фридрих, Лейбль, Фейербах, Ханс фон Маре, Шадов, Вольф, Раух.
58 Зал. Скандинавская живопись 18 в. Рослин, Хиллестрём, Юль.
59 Зал. Английская и скандинавская живопись и скульптура 18 в. и нач.
19 в. Эриксен, Генсборо, Рейнольдс, Ребёрн, Джонс, Уильки, Морланд, Райт, Лауренс, Доу, Робертсон, Торвальдсен, Ноллекенс, Джибсон.
II Материалы и документы
344
60 Зал. Скульптура 19 в. и начала 20 в. Раух, Вихман, Д’Эпине, Далу, Кар-
рье-Беллез, Роден, Бартоломе.
61 Зал. Скульптура 18 в.
63 Зал. Читальный зал Библиотеки Эрмитажа.
68—70 Залы Временных выставок.
71—76 Залы История Эрмитажа
71 Зал. Эрмитаж и советская общественность.
72 Зал. Научная, организационная и систематизационная работа совет¬
ского Эрмитажа.
73 Зал. Рост собраний в революционный период.
74 Зал. Общественное и научное значение императорского Эрмитажа.
75 Зал. Накопление собраний в императорском Эрмитаже.
76 Зал. Эрмитаж как придворный музей Екатерины II.
77 Зал. Комната отдыха для экскурсионных руководителей.
79 Зал. Скульптура 19 в. Бьенеме, Бенцони, Клезинже, Гульельми.
80 Зал. Скульптура 19 в. Вольф, Вюон-Гойер.
86 Зал. Большой Фельдмаршальский.
87 Зал. Петровский, бывший Малый Тронный зал.
88 Зал. Гербовый. Оружие и доспехи восточных народов.
89 Зал. Галерея 1812 года. Портреты участников войны 1812 года раб. Дау.
90 Зал. Георгиевский, бывший Тронный. Оружие и рыцарские доспехи
западно-европейских народов 12—18 вв.
91 Зал. Пикетный. Охотничье оружие 16—19 вв.
92 Зал. Предцерковный.
93 Зал. Большая церковь Зимнего дворца, отделка Растрелли.
95 Зал. Александровский. Арсенал. Европейское строевое оружие и об¬
разцы обмундирования 18—19 вв.
96 Зал. Французская живопись и скульптура первой половины 18 в. Ватто,
Ланкре, Буше.
97 Зал. Французская живопись первой половины 18 в. Лемуан, Куапель,
Натуар, Де-Труа.
98 Зал. Французская живопись и бронза 17 в. Никола Пуссен, Клод Лор¬
рен.
99 Зал. Французская живопись 17 в. Лесюер, Лагир.
100 Зал. Французская живопись и бронза 17 в. Миньяр, Ларжильер, Жи¬
рардон.
101 Зал. Французская живопись конца 16 в. и начала 17 в. Клуе, Ленен,
Валантен.
108 Зал. Белый зал.
109 Зал. Золотая гостиная. Русский фарфор 19 в. Советский фарфор
Государственного завода в Ленинграде.
110 Зал. Малая Столовая.
111 Зал. Русские фарфоровые статуэтки 19 в.
154 Зал. Площадка Иорданской лестницы. Образец архитектурного украшения зодчего Растрелли середины 18 в.
162 Зал. Вводный кабинет Отдела Востока.
163-169 Залы Отделения Дальнего Востока.
После Октябрьской революции
345
План Государственного Эрмитажа.
2-й этаж. 1929
II Материалы и документы
346
Г Г I Г 1
* 1 4 1 5 ГГ 1 8
2
1
, - 7 пп _
ЕЕ
;
СоВСтская />Сст"*ца Э TTJCDfi
План Государственного Эрмитажа.
3-й этаж. 1929
4 После Октябрьской революции
347
170 Зал. Памятники Ирана и Кавказа сасанидского периода 3—7 вв.
171 Зал. Памятники Ирана и Кавказа сасанидского периода 3—7 вв.
173 Зал. Памятники культур послесасанидского периода в Персии, Сред¬
ней Азии и на Кавказе 8—9 вв.
174 Зал. Памятники Кавказа и Персии 10—11 вв.
175 Зал. Памятники Кавказа и Персии 11 — 12 вв.
176 Зал. Памятники Кавказа и Персии 12—13 вв.
177 Зал. Памятники Персии и Кавказа 12—14 вв.
178 Зал. Памятники мусульманского Египта 9—14 вв.
179 Зал. Памятники Самарканда 9—14 вв.
180 Зал. Памятники Средней Азии 15—17 вв.
181 Зал. Памятники городских культур Сарая, Хорезма и Ани 12—13 вв.
182 Зал. Памятники скрещенных культур Сев. Кавказа. Станица Белоре¬
ченская и др. 14—16 вв.
183 Зал. Памятники Персии. Исфахан, Кашан, Иезд и др. 16—17 вв.
184 Зал. Торговые связи Персии и Европы 17 в.
3-ИЙ ЭТАЖ
ВИЗАНТИЯ И ЭПОХА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ
1. Площадка лестницы. Памятники коптской письменности 4—14 вв.
2 Зал. Коптские шелковые ткани 5—7 вв.
3 Зал. Древности поздне-античного и византийского Египта. Коптские
ткани, бронза и керамика 4—7 вв. Надгробия и архитектурные фрагменты 4—7 вв.
4 Зал. Поздне-античные и ранне-византийские памятники Средиземно¬
морья. Византийская серебряная утварь, саркофаги и скульптура
4—7 вв. Консульские диптихи 5—6 вв.
5'Зал. Памятники византийской культуры 8—15 вв. Эмали, мозаика и резьба из слоновой кости.
6 Зал. Древности византийского Херсонеса 4—13 вв.
7 Зал. Памятники эпохи переселения народов в области Крыма и южной
России 4—7 вв. Могильник Керчи 4—5 вв. Могильник Суук-су 6—7 вв.
Алфавитный указатель
имен мастеров, мест производства и мест раскопок 1
Александра Невского гробница. И, 26 Александропольский курган. I, 23 Альбано. II, 3
Анджелико, Фра Беато. II, 6 Ани. II, 181 Антверпен. II, 42 Артюховский курган. I, 30 Аугсбург. II, 26 Ахенбах. II, 57
Баллен. II, 26
Бартолини. II, Главная лестница Бартоломе. II, 60
Белотто. II, 56
Белореченская станица. И, 182 Бенцони. II, 79 Березань. I, 26
Берлин, серебро, фарфор. II, 26, 30
Берхем. II, 16
Бетгер. II, 31
Блумарт. II, 13
Бозио. II, 54
Болонья, Джованни. И, 5 Боль, Фердинанд. II, 15 Больтраффио. II, 9 Большая Близница курган. I, 30
1 Крупные цифры (здесь — римские) указывают этаж, арабские — номер зала.
II Материалы и документы
348
Бонер, Роза. И, 55
Бордоне, Парис. И, 2, 10
Боспорское царство. I, 27, 28, 29, 30, 31
Боттичелли. И, 7
Боттичини. II, 3
Брай, Саломон де. II, 15
Брейгель, Ян. II, 14
Бронзино. II, 9
Броуер. II, 19
Буальи. II, 53
Буше. II, 96
Бьенеме. II, Главная лестница, зал 79 Бьенне. II, 26
Валантен. II, 101
Валенсиа. II, 36
Ванлоо. II, 53
Ватто. II, 96
Веджвуд. И, 32
Вейден, Рогир фан-дер. II, 14
Веласкез. II, 4
Венеция, стекло, майолика. II, 33, 38 Венике. II, 16, 18 Верне, Жозеф. II, 53 Веронезе, Паоло. II, 2 Винтергальтер. И, 57 Винчи, Леонардо да. И, 9, 7 Вихман. И, 60
Вольф. II, Главная лестница, зал 57, 80 Воуверман. И, 18,16 Вюон-Гойер. И, 80
Гамбург. II, 26 Гарднер. И, 29 Гарофало. И, 3 Гварди. II, 12 Гверчино. И, 3, 11 Генсборо. И, 59 Герен. И, 55 Гишар. И, 54 Гойен. И, 18 Грёз. II, 53 Греко. И, 4 Губбио. И, 38 Гудон. II, 1, 55 Гульельми. И, 79
Давид. II, 55 Далу. II, 60
Данциг. И, 26 Дейк, фан. И, 21 Делакруа. II, 55 Деннер. II, 57 Дерута. II, 36 Де Труа. И, 97 Джибсон. И, 59 Джонс. И, 59 Джорджоне. II, 10 Джотто школа. И, 6 Диаз. И, 55.
Днепровские курганы. I, 22 Добиньи. II, 55 Дольчи. И, 3 Доменикино. И, 3 Донские курганы. I, 22 Доссо Досси. И, 9 Доу. И, 59, 89 Дуччио школа. II, 6 Д’Эпине. II, 60 Дюкенуа. II, 5
Дюпре. И, Главная лестница
Екатерина II. И, 76
Жак. II, 55 Жерар. И, 54 Жерар, Маргарита. И, 53 Жермен. И, 26 Жирардон. И, 100 Жироде. И, 54
Зурбаран. II, 4
Иезд. И, 183 Иордане. И, 22 Исфахан. II, 183
Кальф. II, 18 Калам. II, 57 Кампэн. II, 14 Каналетто. II, 2 Канова. И, 1 Капо ди Монте. II, 45 Караваджо. II, 3, 11 Каравак. II, 53 Караччи. II, 3, 11 Каррье-Белёз. II, 60 Каррьера, Розальба. II, 12 Кастелли. II, 38
4 После Октябрьской революции
349
Кауфман, Анжелика. II, 57 Кашан. II, 183 Кейп. И, 18
Кендлер (серебро). II, 26
Кендлер (фарфор). II, 31
Керченские раскопки. I, 20, 27, III, 7
Кирхнер. II, 31
Клас. И, 17
Клезинже. II, 60, 79
Клодион. II, 53
Клуе. II, 101
Колло. II, 1, 53
Конельяно, Чима да. II, 7
Конинк, Саломон. II, 15
Конинксло. II, 13
Коптские памятники. Ill, 1, 2, 3
Корреджо. II, 9
Коринф. I, 9
Коро. II, 55
Кранах, Лука. II, 14
Креспи. II, 2
Крым курганы. I, 22, раскопки III, 7 Куапель. II, 97 Кубанские курганы. I, 22 Кульмбах. II, 14 Куль-оба курган. I, 28 Курганы. I, 22, 23, 28, 29, 30 Кутюр. II, 55
Лагир. II, 99 Лаллеман. II, 52 Ламери. II, 26 Лампи. II, 57 Ланкре. II, 96 Ларжильер. II, 100 Ластман. II, 13 Лауренс. II, 59 Лебрен, Виже1. II, 54 Лейбль. II, 57 Лейденский, Лука. II, 14 Ленен. И, 101
Ленинград. Госуд. Фарфоровый завод. И, 109
Лемуан. И, 97 Лерес. II, 19 Лесюер. II, 99 Лизипп. I, 16
Лиможские эмали. II, 42, 35 Липпи, Филиппино. II, 7 Лоррен. II, 98 Луини. II, 3, 9 Людвигсбург. II, 43
Маас, Николас. II, 16 Маньяско. II, 2, 12 Маратти. II, 12 Маре, Ханс фон. II, 57 Мегара. I, 9 Мейер. II, 55 Мейссен. II, 31 Мельци. И, 9 Менгс. II, 57 Менесси. II, 45 Метсю. II, 18 Микельанджело. II, 5 Миль. II, 19 Миньяр. И, 100 Мирис. II, 18 Монье. II, 55 Мор, Антонис. II, 14 Моралес. И, 4 Морланд. И, 59 Москва. И, 26 Муйарт. II, 13 Мурильо. II, 4
Натуар. II, 97 Натье. И, 53 Нетшер. II, 16 Нимфенбург. И, 43 Ноллекенс. И, 59 Нюренберг. II, 26
Опост. II, 26 Одио. И, 26 Ольвия. I, 25 Остаде. II, 18
Пажу. II, 53 Палисси, Бернар. II, 34 Пантикапей (Керчь). I, 27 Пейнакер. И, 16 Пейнас. II, 13 Пен, Антуан. И, 53 Переда. И, 4 Перуджино. И, 7
1 Правильно: Виже-Лебрен, Мари Луиза Элизабет. — Примеч. ред.
II Материалы и документы
350
Петербург, серебро. II, 26.Фарфор. II, 29
Петра I трон. II, 26
Поликлет. I, 18
Поллайуоло. И, 8
Поттер. И, 18
Прадье. И, Главная лестница Пракситель. I, 16, 17 Прокаччини. И, 11, 12 Пуленбург. И, 16 Пуссен. И, 98
Пьембо, Себастьяно дель. И, 2 Райт. II, 59
Растрелли. II, 56, 93, 154 Раух. II, 60, 57, 58 Рафаэль. И, 9, 5, 25 Рашетт. И, 53 Ребёрн. И, 59 Рейкхальс. II, 18 Рейнольдс. И, 59 Рейнские эмали. И, 42 Рейсдаль. II, 18 Рембрандт. И, 15 Ренн, Гвидо. И, 3 Рибера. И, 4 Робер, Гюбер. И, 53 Робертсон. И, 59 Роден. И, 60 Роза, Сальватор. И, 2 Романо, Джулио. И, 3, 9 Ромбаутс. И, 22 Роселлино, Антонио. И, 8 Рослен. И, 58 Рубенс. И, 22 Руссо. И, 55
Сакс. И, 31 Сали. И, 53 Самарканд. И, 179 Сарай. И, 181
Сарматские древности. I, 24 Сарто, Андреа дель. И, 9 Сасанидские памятники. И, 170,171,173 Свебах. И, 55 Севр. И, 44, 32, 45 Сегерс. И, 19
Семибратние курганы. I, 28 Сен-Клу. И, 45
Сен-Поршер. И, 33 Сесто, Чезаре да. И, 26 Сибирь, серебро. И, 21 Сибирские раскопки. I, 21 Снейдерс. II, 20 Снейерс. И, 19 Солоха курган. I, 23 Стен, Ян. II, 18 Стрек. И, 17 Суук-су. III, 7
Таманский полуостров. I, 27, 30 Танагрские статуэтки. I, 9 Темпель. И, 18
Тенерани. II, Главная лестница, зал 1
Тенирс. И, 20
Терборх. II, 18
Тинторетто. И, 2, 10
Тициан. II, 2, 10
Тишбейн. II, 57
Токе. II, 53
Тоне. II, 55
Торвальдсен. И, 1, 59
Тройон. И, 55
Трост. И, 16
Турин. И, 29
Тьеполо. И, 2, 12
Тюрингия. И, 43
Удри. II, 53 Уильки. И, 59 Уральские древности. I, 24 Урбино. И, 38
Фабриано, Джентиле да. И, 6
Фабрициус, Барент. И, 15
Фальконе. И, 1, 53, 44
Фарфоровый завод, б. императорский.
И, 29, 109-111
Фаэнца. И, 38
Фейербах. И, 57
Фельде, Виллем фан-де. И, 17
Фети. И, 2, 11
Фидий. I, 18
Фиезоле, Мино да. II, 8
Флигер. И, 17
Фос, Корнелис и Симон де. И, 19 Фос, Пауль де. И, 20
4 После Октябрьской революции
351
Фрагонар. II, 53 Франкенталь. II, 43 Франча, Франческо. И, 3, 8 Фридрих, Каспар. II, 57 Фюгер. II, 57
Хальс, Франс. II, 18
Хеда. II, 18
Хельст. II, 18
Хем, Ян Давиде де. II, 17
Херсонские раскопки. I, 17, 31, III, 6
Хёхст. II, 43
Хиллестрём. II, 58
Хильтеншпергер. II, 1
Хондекутер. II, 17
Хонтхорст. II, 15
Хорезм. И, 181
Хох, Питер де. II, 18
Чельси. И, 32
Чертомлыцкий курган. I, 23
Шадов. II, 57 Шантильи. II, 45 Шарден. И, 53 Шоде. II, 55
Эгейские резные камни. I, 9
Эйк, Ян фан. II, 14
Экхоут. И, 15
Элам. И, 163
Эльсгеймер. II, 13
Энгр. II, 55
Эриксен. II, 59
Эрмитажа история. II, 71—76
Юз-оба курганы. I, 29 Юль. II, 58
ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
Из книги Р.Уильямса «Русское искусство и американские деньги»
В книге английского путешественника, коллекционера, альпиниста, члена парламента Мартина Конвея (Martin Conway. Art Treasures in Soviet Russia. London, 1925) описывается его путешествие в Советский Союз в 1924 г. Конвей хотел ознакомиться с положением евреев в Советской стране, но получилось так, что его миссия изменилась и он стал знакомиться с памятниками искусства и их сохранением. Конвей с апреля по 14 июня 1924 г. посетил Эрмитаж, Троице-Сергиеву лавру, а также дворцы Юсуповых, Шуваловых и Строгановых в Ленинграде. Он отметил их богатство и сохранность, но, возможно, это знакомство и подробное описание сокровищ в его книге послужило поводом для того, что эти сокровища стали приманкой для дельцов, связанных с торговлей художественными ценностями. Ведь знаменитый Дювин был его другом.
Стали распространяться слухи о том, что большевики уже распродают сокровища своих дворцов, музеев и церквей, что отрицалось в письме С.Н.Тройницкого от 11 октября 1924 г.
Но в 1924 г. в Москве главу торговой делегации Ф.И.Рабинови- ча спросили о продаже художественных ценностей в Россйи, на что он ответил — дайте Ваши предложения1.
Северо-западное областное отделение Госторга РСФСР
О совместной работе с Отделом Востока Эрмитажа. 9 января 1928 г. Проект2
В ПРАВЛЕНИЕ ЭРМИТАЖА
Из переговоров Заведывающего Отделом Востока И.А.Орбели с н/со- трудниками Н.Н.Ильиным и М.Я.Торопыгиным выяснилась возможность совместной работы Эрмитажа с Ленинградгосторгом по экспорту за границу восточной керамики и предметов древнего* восточного искусства и быта.
По нашему мнению, эта работа могла бы быть построена на следующих принципах:
1. Отдел Востока принимает на себя подбор для экспорта как отдельных предметов, так и целых коллекций восточной керамики и предметов древнего искусства и быта.
2. В этих целях он устанавливает более тесную связь со своими постоянными поставщиками этих предметов и инструктирует их как в отношении состава привозимых ему этими поставщиками партий, так и их
1 См. Williams R.C. Russian Art and american Monay. 1980, p. 153.
2 До договора Госторговли с Главнаукой от 13 февраля 1928 г.
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
353
объема, постепенно усиливая и увеличивая размер операций по покупке.
3. Как правило устанавливается, что все отношения с этими поставщиками ведутся непосредственно Отделом Востока и Ленинградгосторг в эту сторону операции не вмешивается.
4. Приемка предметов производится Отделом Востока на тех же основаниях, как она производилась и до сих пор.
5. Все принятые от поставщиков вещи поступают в распоряжение Эрмитажа по Отделу Востока и оплачиваются Эрмитажем из специальных, отпущенных ему для этой цели Ленинградгосторгом, авансов.
6. Отделу Востока предоставляется право из принятых от поставщиков партий оставлять за собою необходимое для пополнения его коллекций количество предметов по его выбору. Для оплаты этих предметов Ленинградгосторг предоставляет Эрмитажу специальный аванс, размеры которого будут ниже указаны.
7. Отдел Востока принимает на себя обязанность составлять из оставшегося после его отбора предметов, а равно и из предметов, могущих быть выделенными из его постоянных коллекций, специальные коллекции для экспорта за границу, причем дает этим коллекциям соответствующую письменную характеристику.
8. Составленные таким образом коллекции и отдельные предметы, предназначенные для экспорта, принимаются Ленинградгосторгом от Эрмитажа по ценам поставщиков с прибавлением к этим ценам в качестве вознаграждения за труды Отдела Востока пятнадцати процентов в пользу Эрмитажа по Отделу Востока.
9. В целях облегчения Эрмитажу совместной с Ленинградгосторгом указанной выше работы по экспорту, Ленинградгосторг принимает на себя финансирование всего предприятия на следующих основаниях:
а) Для погашения имеющейся в настоящее время задолженности Эрмитажа по Отделу Востока поставщикам Ленинградгосторг выдает Эрмитажу аванс в размере фактической задолженности, но не свыше четырех тысяч рублей.
б) Для оплаты вновь поступающих от поставщиков партий Ленинградгосторг выдает Эрмитажу аванс в сумме до одной тысячи рублей, возобновляемый Ленинградгосторгом по мере его исчерпания платежами Эрмитажа за поставки.
в) Для пополнения собственных коллекций Отдела Востока Ленинградгосторг открывает Эрмитажу кредит в сумме одной тысячи пятисот рублей.
10. Погашение этих авансов производится Эрмитажем следующим образом:
а) Кредит по пункту «в» предыдущего параграфа погашается пятнадцатипроцентными начислениями на цены, устанавливаемые параграфом 8. В случае непогашения этого аванса указанным способом в течение 7 месяцев, остающаяся непогашенной сумма оплачивается Эрмитажем из средств, отпускаемых ему в общем порядке на его содержание.
б) Аванс по пункту «б» параграфа 9 погашается Эрмитажем оплаченными им счетами поставщиков. Разница между стоимостью оп¬
II Материалы и документы
354
лаченных поставщиком партий и стоимостью предметов фактически переданных Эрмитажем Ленинградгосторгу относится на счет Эрмитажа по кредиту, указанному в п. «в» § 9.
в) Срок аванса, выдаваемого в порядке п. «а» § 9, определяется в один год с момента его выдачи. Выбор способов погашения в течение всего времени предоставляется усмотрению Эрмитажа.
Представляя Правлению Эрмитажа настоящую схему отношений между Эрмитажем и Ленинградгосторгом на почве совместной работы для экспорта, мы позволяем себе надеяться, что в этой схеме достаточно обеспечены интересы обеих организаций и устранены все моменты, могущие служить предметом спора или препятствием к взаимному доверию.
Ставя во главу угла своей деятельности развитие и усиление экспорта, мы тем не менее будем искренно рады, если в результате нашей работы в этой области сможет получиться некоторая польза и для Эрмитажа.
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 859 (72), л. 200.
13 февраля 1928 г.
Договор Госторга с Главнаукой о комиссионных отношениях.
4 октября 1928 г.
Рапорт Уполномоченному Наркомпроса по Ленинграду Б.П.Позерну о том, что отобранные для экспорта музейные предметы дали сумму около 1 400 ООО руб., что превысило намеченную сумму на 100 000 руб. Предполагалась закупка для окраски фасадов Зимнего дворца краски, но в настоящий момент это предположение отпадает.
За 1928 г., с 10 марта по 26 октября, выделено в экспорт 11 партий, в количестве 1251 номеров (из них античные золотые предметы 544-1063- 519 номера переданы в 1929 г.), таким образом фактически выдано всего 732 номера.
18 октября 1928 г.
Продано Госторгу 127 названий книг Собственной Библиотеки в Зимнем дворце. Также передавались книги из Строгановского дворца.
И октября 1928 г.
За выданные ценности из Эрмитажа на сумму 718 600 руб. Эрмитаж должен получить 25% аванса в сумме 179 650 руб. и за вторую партию следует получить около 150 000 руб.
Большая партия фарфоровых предметов 2250 шт., преимущественно из сервизов №№ 1252—3497: Севр, Мейссен, Берлин, Китай, Россия. Отдельные скульптурные фигуры.
В конце 1928 г. С.Н.Тройницкий был в командировке в Германии и ознакомился с аукционом Р.Лепке. Его рапорт касается цен на античное золото и на западноевропейское серебро. Г. С. Верейский подает соответствующий рапорт о повышении цен на гравюры. В рапортах С.Н.Тройницкого, В.Ф.Левинсон-Лессинга и других говорится о
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
355
регулярных аукционах. В отчете 1928 г. указано, что реализовано 122 предмета в сумме 352 011 руб. 43 коп. против 343 015 руб. (превышение 8996 руб. 43 коп.). Первоначальную оценку превысили только вещи сравнительно недорогие; категория более ценных вещей прошла с сильным недобором и многие были сняты с продажи1.
В письме от 18 февраля 1929 г. Уполномоченному НКП по Ленинграду указывается, что ввиду значительного сокращения ассигнований Эрмитажу к его бюджету многие первоочередные работы можно выполнить только из спецсредств. Поэтому Эрмитаж просит убыстрить поступление денег в сумме 171 787 руб., причитающиеся Эрмитажу за продажу музейных предметов на аукционе в Берлине, в противном случае Эрмитаж вынужден будет приостановить выделять имущество для экспорта. Подписал директор П.И.Кларк.
Записка С.Н.Тройницкого о сдаче музейных ценностей в 1928—1929 гг.
24 августа 1929 г.
Уполномоченному Наркомпроса т. Позерну Б.П.
Государственным Эрмитажем по 23 августа 1929 г. сдано Ленинград- госторгу и конторе «Антиквариат» для экспорта нижеследующие вещи:
Оценка
1.
10 марта 1928 г.
46 табакерок
84 550 р.
14 шпалер
316 500 р.
17 предметов мебели
113 000 р.
48 предметов серебра
9 055 р.
57 предметов фарфора
43 000 р.
4 эмали
800 р.
11 предметов майолики
800 р.
37 картин
61 500 р.
15 восточных ковров
3 470 р.
127 листов гравюр
85 425 р.
Итого НА ОБЩУЮ СУММУ
718 100 р.
2.
31 июля 1928 г.
37 картин
95 550 р.
3.
17 августа 1928 г.
24 предмета французского серебра
197 300 р.
4.
18 августа 1928 г.
139 предметов оружия
21 400 р.
53 гравюры
8 790 р.
30 190 р.
5.
26 октября 1928 г.
90 предметов восточного фарфора;
1 стол с бронзой, французский
} 66 965 р.
4 картины
)
6.
25 января 1929 г.
4 картины на сумму
315 000 р.
7.
И марта 1929 г.
2 серебряные раковины
2 000 р.
8.
9 апреля 1929 г.
1 картина
500 000 р.
9.
21 июня 1929 г.
166 картин на сумму
73 000 р.
1 Перечислены в документах
Архива ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 856, л. 198.
II Материалы и документы
356
10. 5 июля 1929 г. 102 картины на сумму 154 075 р.
И. 11 июля 1929 г. 19 предметов мебели и бронзы
на сумму 61 850 р.
12. 24 июля 1929 г. 34 картины, оценка которых не закончена.
Итого выделено и сдано 1052 предмета на сумму 2 214 030 р., не считая последних 34 картин.
Кроме того, выделено, но еще не сдано:
1. 520 античных украшений из золота, оцененных 256 120 р.
2. 2014 предметов фарфора, бронзы и т.п. — оценки нет.
3. 93 предмета золотых и серебряных изделий — оценка не закончена. Что касается до качества выделенных предметов, то первоклассное значение имели: а) табакерки, 10 шпалер, 5 предметов мебели, весь фарфор, некоторые картины и все гравюры из первой группы; 6) около 30 картин из второй группы; в) все серебро третьей группы; г) стол и картины пятой группы; д) все картины шестой группы; е) картина восьмой группы; ж) ряд картин, мебели и бронзы из последних групп, а также ряд античных золотых украшений.
С.Тройницкий 24.VIII.29 г.
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, № 859 (72), л. 177.
Выдача на экспорт в 1928—1932 годах 1
1 — 197, акт от 10 марта 1928.
198—246, акт от 18 августа 1928.
247—250, акт от 16 июня 1928.
251—292, акт от 18 августа 1928.
293—471, акт от 10 марта 1928.
472—495, акт от 17 августа 1928.
496—543, акт от 18 августа 1928.
544—1063, акт от 29 сентября 1929, античное золото.
1064—1103, акт от 3 июня 1928.
1104—1156, акт от 18 августа 1928.
1157—1251, акт от 26 октября 1928, фарфор Отдела Востока и 5 предметов Отдела Запада.
1252—1255, акт от 25 января 1929,
картины Лотто, Бордоне, Басса- но, Кранаха.
1256—1273, акт от 4 октября 1929, серебро и золото.
1275—1348, акт от 4 октября 1929, серебро и золото.
1995—2762, акт от 20 июля 1929, серебро.
2763—2958, акт от 25 июля 1929, фарфор.
1349—1367, мебель и бронза.
1370—3383, акт от 21 ноября 1929, фарфор.
3385—3433, акт от 12 июня 1929, картины.
3434—3470, акт от 14 июня 1929, картины.
3471—3512, акт от 17 июня 1929, картины.
3513—3551, акт от 18 июня 1929, картины.
3552—3608, акт от 26 июня 1929, картины.
3609—3653, акт от 27 июня 1929, картины.
3654—3687, акт от 24 июля 1929, картины.
3688—3757, акт от 4 октября 1929, серебро, золото.
3764—3783, акт от 1 октября 1929, картины.
3784—3835, акт от 26 октября 1929, античные вазы.
3836—3855, акт от 25 октября 1929, картины.
I Основание: «Личные распоряжения
начальника Главнауки Директору Эрмитажа». Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 856—859, 1033— 1034, 1379; ф. 1, оп. 17, ед. хр. 137, 205, 234.
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат» 357
3856—3866, акт от 27 ноября 1929,
9621—9645, акт от 8 марта 1932,
оружие.
бронза.
3869—4040, акт от 11 декабря 1929,
9646—9658, акт от 14 марта 1932,
гравюры.
фарфор.
4041—4126, гравюры.
9659—9680, акт от 16 марта 1932,
4127—4167, картины.
серебро.
4489—4522, акт от 16 февраля 1930,
9681—9721, акт от 21 марта 1932,
античное золото.
фарфор.
4590—4829, акт от ноября 1929,
9722—9764, фарфор.
картины.
9765—9769, фарфор.
4851—5027, акт от 5 марта 1930,
9770—9827, серебро.
гравюры.
9828—9875, фарфор.
5035—5481, акт от 5 марта 1930,
9876, стекло.
гравюры1.
9877—9958, серебро.
9314—9324, акт от 4 января 1932,
9680—10077, картины.
олово.
10078—1010, расписное стекло.
9325—9353, акт от 4 января 1932,
10102—10113, картины.
расписное стекло.
11213—11232, картины.
9354—9378, акт от 7 января 1932,
ВЫДАЧА НА ЭКСПОРТ ФАРФОРА 2
картины.
3227—3694, акт от 30 июля 1929.
9379—9509, акт от 8 января 1932,
гравюры.
3695—4133, акт от 1 августа 1929.
9510—9529, акт от 13 января 1932,
4134—4633, акт от 2 августа 1929.
рисунки.
4634—5055, акт от 2 августа 1929.
9530—9562, акт от 1 февраля 1932,
5056—6087, акт от 10 августа 1929.
картины.
6088—7990, акт от 14 августа 1929.
9563—9581, акт от 5 февраля 1932,
7991—9491, акт от 16 августа 1929.
картины.
9492—10132, акт от 16 августа 1929.
9582—9620, акт от 7 марта 1932,
10133—10601, акт от 17 августа 1929.
мебель.
10602—11201, акт от 17 августа 1929.
Приказ № 875 Комиссии Госфондов при Уполномоченном Наркомпроса в г. Ленинграде от 11 июня 1928 г.
Отпустить со складов Госфонда Эрмитажа Ленинградгосторгу на комиссионных началах, согласно договора от 13 февраля 1928 года.
ТАБАКЕРКИ
9с 114 Табакерка круглая золотая, украшенная фиолетовой эмалью, а по ребрам разноцветным эмалевым орнаментом и таким же в центре. 135,5 гр. 750 руб.
9с115 Табакерка золотая в виде туфельки, украшенная миниатюрой на фарфоре на крышке, бант из розочек. 60,5 гр. 150 руб.
9с 116 Табакерка золотая 4-х угольная высокая, украшенная зеленой эмалью, с 2 миниатюрами гризалью. Эмаль потерта, с реставрацией.
156,5 гр. 1000 руб.
9с117 Табакерка 8-ми угольная золотая, с 8 миниатюрами гризалью по синему фону (под стеклом). 131 гр. 800 руб.
1 Порядковые номера оказались сбитыми и повторяющими друг друга.
2 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 859.
II Материалы и документы
358
9с118 Табакерка круглая золотая, украшенная зеленой эмалью, с круглой эмалевой (на золоте) миниатюрой в жемчужном ободке на крышке. 129 гр. 750 руб.
9с 119 Табакерка 8-ми угольная золотая, украшенная синей эмалью со вставками из перламутра, с однотипными миниатюрами (по дну и верху крышки). 200 гр. 1500 руб.
9с 120 Табакерка овальная золотая, покрытая синей эмалью в сетке из розочек, с мужской миниатюрой под стеклом в ободе из мелких бриллиантов. 333,5 гр. 5000 руб.
9с 121 Табакерка овальная золотая, украшенная синей эмалью, с миниатюрой (эмаль на золоте) на верхней крышке. По ребрам и вокруг миниатюры орнамент цветной эмали. 148 гр. 1000 руб.
9с 122 Табакерка овальная золотая, украшенная голубой эмалью с синими и белыми прослойками, с миниатюрой овальной на фарфоре (на верхней крышке), эмаль с одного боку сильно повреждена. 135 гр. 300 руб.
9с123 Табакерка овальная золотая, с миниатюрой на фарфоре на верхней крышке, осыпанной небольшими бриллиантами, украшенная серой эмалью и разноцветной эмалью — цветами по золоту. Бриллиантов 33 шт. от 0,15 до 0,1, всего 2.5 карата — 185 руб. Золото — 140 руб. 92,5 гр. 1000 руб.
9с 124 Табакерка золотая овальная, украшенная эмалью вишневого цвета (по ребрам — белою), с миниатюрой на фарфоре на верхней крышке. 104 гр. 500 руб.
9с 125 Табакерка квадратная золотая, украшенная на верхней крышке по дну и бокам 8-мю миниатюрами с подп. Бларанберга. 207 гр. 12 000 руб.
9с 126 Табакерка овальная золотая, украшенная красной и белой эмалью, с женской миниатюрой на эмали на верхней крышке и с 4 малыми миниатюрами по бокам. 219 гр. 1000 руб.
9с 127 Табакерка овальная золотая, украшенная зеленой эмалью с 4 малыми и 1 большой миниатюрой (на крышке) на фарфоре. 210,5 гр. 500 руб.
9с 128 Табакерка 8-ми угольная золотая, украшенная синей эмалью и 6 золотыми овальными барельефами под стеклом (одно стекло разбито), по ребрам — орнамент разноцветной эмали 235 гр. 3000 руб.
9с 129 Табакерка овальная золотая, украшенная золотыми барельефами по белой эмали, по ребрам орнамент зеленой эмали, с миниатюрой женской на верхней крышке и с голубками — на нижней (под стеклом). 175,5 гр. 600 руб.
9с 130 Табакерка овальная золотая, украшенная коричневой эмалью, а по ребрам — белая, с миниатюрой (мужской) на верхней крышке. 133,5 гр. 1000 руб.
9с131 Табакерка квадратная золотая, украшенная по верхней крышке розами, рубинчиками и мелкими изумрудами, по передней стороне розами, изумрудиками и 1 каратн. бриллиантом. Бриллиан-
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
359
тов около 4 карат — 375 руб. Рубины — 50 руб. Золото — 250 руб.
211.5 гр. 3500 руб.
9с 132 Табакерка золотая овальная, украшенная зеленой эмалью, по ребрам орнамент белой эмали, с золотым медальоном на крышке. 138,5 гр. 500 руб.
9с 133 Табакерка овальная золотая, украшенная голубой и розовой эмалью, на верхней крышке миниатюра на эмали (женщина с амурами) в ободе из мелких бриллиантов, по борту бриллиантовый орнамент. Бриллиантов 10 карат — 1000 руб. Золото — 150 руб. 131,5 гр. 1500 руб.
9с 134 Табакерка изумрудной плазмы, покрытая золотым рельефным чеканом, изображающим фигуры на фоне архитектурного пейзажа.
265.5 гр. 400 руб.
9с 135 Табакерка овальная золотая, украшенная красной эмалью, на ней 6 миниатюр (верни-мартен), борта чеканные. 141 гр. 1000 руб. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 856 (72), л. 277.
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к перечню работ по капитальному ремонту и строительству по зданиям Гос. Эрмитажа, необходимых к производству в 1928—29 бюджетном году (2—4 кварталы)1
На текущий строительный сезон Наркомпросом утверждена смета Гос. Эрмитажа по спец. средствам в сумме 419.357 рублей. Кроме сметы по спец. средствам Эрмитаж возбуждал ходатайство об отпуске средств по Гос. бюджету на работы, сметой спец. средств не предусмотренные, в сумме 178.337 рублей, так что общая стоимость предположенного в текущем году расхода на капитальный ремонт и строительство выражалась в сумме 597.694 рубля. Но ассигнования на ремонтные работы по Гос. бюджету Эрмитажем на настоящий год не получено и Государственный Эрмитаж, учитывая весьма тяжелое финансовое положение, сокращение ассигнования и сообразуясь с намеченным развертыванием коллекций Музея и необходимостью сокращения расхода, принужден был пересмотреть план предположенных строительных работ на текущий год.
В результате нового рассмотрения Эрмитаж нашел возможным, оставляя лишь самые неотложные работы, сократить общий расход на капитальный ремонт до 420.842 рублей.
Эта цифра является минимальной для выполнения работ по поддержанию зданий от разрушения и по развертыванию коллекций Эрмитажа, и невыполнение части намеченных работ неминуемо отразится на перепланировке Музея и на сохранности самих зданий, так что в дальнейшем на те же цели потребуются суммы значительно большие, чем в настоящее время.
Переходя к рассмотрению отдельных работ по прилагаемому перечню, Эрмитаж считает необходимым остановиться на некоторых цифрах.
1 На копии документа заметка Б.Б.Пи- отровского: «Объяснение, на что идут средства, в частности, полученные от продажи музейных ценностей». — Примеч. ред.
II Материалы и документы
360
Все работы по сметам, предположенным к выполнению из средств по Гос. бюджету, за исключением п.п. 2, 5 и частично 4, обнимают собой работы, необходимые для предохранения зданий Эрмитажа от разрушения.
Сокращение расхода на кровельные работы признано возможным, при замене части работ капитального характера частичным ремонтом. Сокращена часть работ каменных, штукатурных и малярных и ремонт полов, вследствие перенесения на будущий год восстановительных работ по Эрмитажному театру, но все же сумма на ремонт полов и перекрытий остается весьма значительной (52.422 рубля), так как из этой суммы — около 35.000 рублей приходится на изоляционные работы по Висячему саду, а состояние перекрытий в Висячем саду таково, что дальнейшая задержка в выполнении намеченной работы послужит к необходимости капитального ремонта самих перекрытий.
Ремонт отопления по всем зданиям принят в минимальном размере для поддержания системы.
Устройство лестницы необходимо для внутреннего сообщения между II и III этажами 2-ой запасной половины б. Зимнего дворца.
По смете спец. средств самый большой расход ложится на электрификацию Эрмитажа — 130.000 рублей, вместо ранее намеченных 39.398 руб. 21 к. Увеличение расхода произошло вследствие предположенного устройства в Эрмитаже освещения для экспозиции, взамен указанного в смете дежурного освещения. Из 130.000 рублей по договору с ГЭТ’ом, уже заключенному Эрмитажем, предусмотрено работ на сумму 104.895 руб., прочий расход ложится на работы, выполняемые Гос. Эрмитажем хоз. способом.
Устройство калориферов предполагается в местах, где таковых недостаточно, на сумму — 9.500 руб.
Электрификационные работы по б. Зимнему дворцу, вследствие их большого объема и стоимости, Эрмитаж признал возможным перенести в следующий год, в текущем же году решено выполнить самые неотложные работы в сумме до 8.000 рублей, только для дежурного освещения во вновь оборудываемых залах, равно и по б. Строгановскому дворцу на электрооборудование расход сокращен на текущий год до 1.500 рублей.
Особенно Эрмитаж обращает внимание на общестроительные работы по вновь устраиваемым музейным помещениям. Сметой в 84.061 р. 41 к. предусматривались работы лишь по восстановлению помещений после имеющих место общественных работ в б. Зимнем дворце.
В настоящее время объем работ значительно увеличен, охватив, кроме указанных работ, весь 2-ой этаж б. Зимнего дворца, Малый и Большой Эрмитажи в связи с перемещением в залы б. Зимнего дворца коллекций Музея, но на эту работу Эрмитаж намечает расход лишь в 64.000 рубл., причем значительная часть этой суммы приходится на ремонт полов. Сокращение расхода по указанной статье объясняется тем, что Эрмитаж прибег к выполнению большинства каменных и штукатурных работ силами курсантов Ленинградского Института Труда, причем Эрмитаж предостав¬
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
361
ляет для работ необходимый материал, не оплачивая совершенно работу курсантов, находящихся на соц. обеспечении.
Водопроводные работы ограничены на текущий год лишь суммой в 3.200 рублей.
Ремонт вентиляции предположен в полном объеме, в целях улучшения хранения картин, так как отсутствие вентиляции сильно отражается на их сохранности.
Весьма существенным для музея является устройство перехода из Павильонного зала Малого Эрмитажа (со стороны набережной) во вновь устраиваемые выставочные помещения, т.к. только с его устройством возможна правильная циркуляция посетителей по музею, без создания наблюдающихся в настоящее время «пробок» (скоплений публики), в особенности при прохождении экскурсий.
Устройство центральной телефонной станции весьма необходимо, учитывая большое протяжение музея и необходимость связи отделений между собою и с Управлением.
Ремонта фасадов б. Зимнего дворца Эрмитажа в текущем году не намечается из-за недостатка средств <...>
Эрмитаж заявляет, что все работы могут быть выполнены только при условии своевременного получения необходимых для этого средств и что отсюда вытекает необходимость обеспечить поступление денег, причитающихся Эрмитажу по реализации выделенного для этой цели имущества и принятия радикальных средств к поднятию доходных статей Эрмитажа.
Подписали: директор Кларк, управ, делами Коблянский,
архитектор Сивков
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 856 (72), л. 178.
В Архиве Эрмитажа хранятся документы, относящиеся к 1928— 1929 гг. Вот некоторые:
Предварительный расчет на аукционную продажу антикварнохудожественных вещей в Германии (Берлин, фирма Лепке), принятых по договору с Главнаукой от 13 февраля 1928 г. 66 номеров картин — оценка от 200 (Каульбах. Дама) до 3000 руб. (Брандт. Конская ярмарка); гобелены — от 800 руб. до 75 000 руб.; табакерки — от 150 р. до 12 000 руб.; восточные ковры — от 80 р. до 700 руб.; серебро — от 5 руб. до 250 руб.; мебель и часы — 8000—25 000 руб. Общая сумма 343015 руб.
Акт № 312 от 14 марта 1928 г.
Предварительная оценка художественных предметов комиссией в составе Э.3иварт[?] (председатель), Тройницкий, М.Глазунов, Кверфельд, Яремич, Израилевич (секретарь). Табакерки, шпалеры, мебель, серебро, фарфор, эмали, восточное оружие, восточные ковры, гравюры.
25 февраля 1929 г.
Протокол № 5 заседания Комиссии по экспорту о выделении золотых табакерок, золотых и платиновых предметов, серебряных изделий и мебели. Подписали С.Н.Тройницкий, А.А.Ильин, А.А.Автономов, П.П.Дервиз.
И Материалы и документы
362
Список книг, отобранных для экспорта, — от 15—1500 руб.
28 февраля 1929 г.
Заключение Комиссии по экспорту по предварительному расчету на аукционную продажу в Германии (Берлин, фирма Лепке) античных вещей, принятых от Эрмитажа.
9 апреля 1929 г.
Акт, подписанный П.И.Кларком и С.Н.Тройницким, о сдаче «Антиквариату» картины Дирка Боутса «Благовещение» (первая картина для Гюльбенкяна).
Начальнику Главнауки НКП
Копии: Уполномоченному НКП гор. Ленинграда,
Комиссии по реализации Госфондов и Ленинградгосторгу
29 января 1929 г.
Государственному Эрмитажу, как собственнику имущества, передаваемого для продажи в Комиссию по реализации Госфондов и в Ленин- градгосторг, конечно, совершенно необходимо вести бухгалтерский учет такового имущества. Представители Госфинконтроля также неоднократно словесно заявляли и, наконец, в п.п. IV и VII акта от 12/VII-1928 г. за № 30570 своей ревизии Государственного Эрмитажа дали категорическое указание о необходимости ведения такового учета. Однако Государственный Эрмитаж до сих пор не знает, что сделано с переданным им для реализации весьма ценным имуществом: все ли оно реализовано, по какой цене, все ли причитающиеся ему за проданное имущество суммы им действительно получены (здесь и далее выделено Б.П.), и потому бухгалтерского учета такового имущества не ведет.
Как это ни странно, но ни Комиссия по реализации Госфондов, ни Ленинградгосторг не только не отчитываются перед Государственным Эрмитажем в получении им от него для продажи имущества, но и не сообщают ему, продано ли оно, и если продано, то кому и за сколько, а если оно продано не все, то что сталось с имуществом непроданным. Таковые отчетные сведения Ленинградгосторг должен своевременно представлять в Главнауку, согласно заключенного им с нею договора от 13 февраля 1928 г., и, полагаю, что в Главнауке эти сведения, конечно, имеются несомненно и Комиссия по реализации Госфондов тоже представляет таковые же сведения в Главнауку, но последняя в Государственный Эрмитаж их не сообщает; и потому он лишен возможности вести бухгалтерский, да и вообще какой бы то ни было учет этому весьма ценному имуществу.
За все время кампании по реализации имущества было передано разных антикварных и других предметов: Комиссии по реализации Госфондов на 341.226 р. 74 к. и Ленинградгосторгу на 1.338.315 р., причем в эту сумму входят по ориентировочной цене три группы предметов (французское серебро, западноевропейское оружие и гравюры), оценка их еще с Эрмитажем не согласована. Кроме того, еще 27/V-28 Ленинградгосторгу Эрмитажем было выделено 510 золотых античных украшений, оцененных Эрмитажем в сумму 500.000, и списки на них были высланы в Ленин-
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
363
градгосторг, но до сих пор Ленинградгосторг не принял еще мер к их оценке, хотя переговоры о их продаже ведутся. Необходимо в срочном порядке оценить означенную золотую коллекцию или отказаться от нее. Что сталось со всем переданным для продажи имуществом — Государственному Эрмитажу неизвестно, но очевидно, что была реализована только часть его, ибо от вырученной от продажи этого имущества суммы за все время кампании по реализации его Гоа/дарственным Эрмитажем было получено', от Комиссии по реализации Госфондов — 116.295р. 36 к. и от Ленинградгос- торга 14/V.28 г. - 179.650 p.; 20/V - 18.000 p.; 29/V - 13.000 р. и 10/VI - 63.000 р., а всего от Ленинградгосторга 278.650 р. Где находится еще не проданное имущество и будет ли оно когда-нибудь реализовано — Государственному Эрмитажу неизвестно.
Желая завести бухгалтерский учет имущества, переданного и передаваемого Государственным Эрмитажем для реализации, и тем выполнить совершенно справедливое требование Госфинконтроля, я одновременно с сим прошу как Комиссию по реализации Госфондов, так и Ленинградгосторг не отказать прислать мне копии тех отчетных сведений, которые были препровождены ими в Главнауку за все время кампании реализации антикварных предметов Государственного Эрмитажа, и впредь не отказать препровождать мне копии отчетных сведений в Главнауку, в части, касающейся только имущества Государственного Эрмитажа.
Докладывая все это, я прошу Вас оказать мне содействие в представлении мне Комиссией по реализации Госфондов и Ленинградгос- торгом вышеупомянутых отчетных сведений.
Директор: Кларк
Бухгалтер: Братчиков
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, № 856 (72), л. 174.
1 марта 1929 г. начала работать комиссия под председательством С.К.Исакова1 при участии зав. Картинной галереей Д.А.Шмидта, научного секретаря В.Ф.Левинсон-Лессинга и секретаря Эрмитажа художника С.П.Яремича.
Просмотрены все картины в запасниках, которые были разделены на три группы: 1) для пополнения экспозиции, 2) для научно-исследовательской работы и 3) выделение для реализации — в экспорт и Госфонд. Просмотрено около 5387 картин (с 1 марта по 18 апреля 1929 г.), большинство их было собрано в кладовых (частью развешаны на стенах, частью лежат в штабелях). Картины эти не занесены в основные инвентарные книги Гос. Эрмитажа и учитывались по делам хранения, состоящих из рукописных описей с номерами (названы авторы картин и сюжеты). Тут же и картины собрания Семенова-Тян-Шанского, не выставленные в залах.
1 марта 1929 г.
Акт № 1
Ленинград, 1 марта 1929 г. Мы, нижеподписавшиеся, Комиссия по проверке и выявлению запасов антикварных ценностей в Ленинградских музеях, в составе Председателя Комиссии т. Исакова, членов Комиссии т.т. Еланского, Церницкого, Богнар и Разика, в присутствии Членов Правления Гос. Эрми¬
1 В дальнейшем профессор ЛГУ, искусствовед.
II Материалы и документы
364
тажа тов. Великосельцева, Зав. Картинной галереей т. Шмидта и научных сотрудников т.т. Левинсон-Лессинга и Яремича составили настоящий акт в том, что при осмотре картинных кладовых за №№..., помещающихся в бывш. Зимнем Дворце на Фрейлиновском коридоре, выяснилось следующее:
1. Картины частью развешаны на стенах, частью лежат в штабелях, имеют номера на обороте картины, написанные черными красками, и эти номера совпадают с номерами в делах хранения.
2. По заявлению т.т. Шмидта и Левинсон-Лессинга, картины, находящиеся в этих помещениях, экспонированы в целях отбора:
а) для пополнения имеющейся экспозиции и комплексной экспозиции
б) для исследовательской работы
в) выделения для реализации: в экспорт и Госфонд.
Однако письменный материал по изучению этих картин, поступивших в период 1918—22 г., имеется только на незначительную часть их и в черновом виде.
3. Картины эти не занесены в основные инвентарные книги Гос. Эрмитажа, а учитываются лишь по делам хранения, состоящих из рукописных описей с номерами, названием автора картин и сюжета.
4. При выявлении картин, пригодных для реализации, Зав. Картинной галереей т. Шмидт и научные сотрудники т.т. Левинсон-Лессинг и Яре- мич дали определения устно, без обоснования письменными материалами.
5. На основании этих определений картины разбиваются в нижеследующем порядке:
Для экспозиции. Для экспорта. Русский музей. Госфонд1.
См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 157 (160), л. 89.
Ленинград, 15 апреля 1929 г.
Акт № 20 (с грифом — секретно)
Мы, нижеподписавшиеся, члены Комиссии по проверке и выделению запасов антикварных ценностей в Ленинградских музеях — тт. Исаков, Богнар, Зорин и Айзенштадт, в присутствии Зав. Картинной галереей т. Шмидта, составили настоящий акт в том, что при осмотре коллекции картин Тян- Шанского (Семенова) при выделении картин, пригодных к реализации, Зав. Картинной галереей т. Шмидт дал соответствующие определения2.
См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 11, ед. хр. 157 (160), л. 106.
19 апреля 1929 г.
Совершенно секретно Выписка из протокола № 3 Заседания Подкомиссии по проверке запасов антикварных ценностей при Комиссии т.Хинчука от 19 апреля 1929 г. Присутствуют:
Члены Комиссии:
Представитель Наркомпроса т. Исаков ОГПУ т.т. Еланский, Церницкий, Айзенштадт Наркомторга т. Богнар Наркомфина т. Зорин
Председатель — т. Еланский, секретарь — т, Богнар
1 Далее приведены номера произведе- 2 В акте перечислены номера 111 про-
ний, предназначавшихся для отбора, разбитые изведений для экспозиции и для экспорта — по указанным рубрикам. номера 86 произведений.
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
365
Слушали: 1) Об окончании проверки запасов Картинной галереи Гос. Эрмитажа.
Постановили: 1) Во исполнение постановления Правительственной Комиссии, протокол от 20/111-1929 г. § 1 п. «б», в связи с окончанием отсортировки и отбора запасов Картинной галереи Гос. Эрмитажа Подкомиссия постановляет:
Отобранные для экспорта по согласованию совместно с заведующим Картинной галереей Гос. Эрмитажа т. Шмидт картины вывезти в помещение Ленинградского Отделения Главной конторы Госторга РСФСР «Антиквариат» в 4-х дневный срок.
Ответственность за выполнение настоящего постановления по части выдачи возложить на Директора Гос. Эрмитажа, тов. Кларк, а по части приемки — на тов. Богнар.
Для укладки и приемки обязать Контору «Антиквариат» дать нужный состав работников, технический персонал и средства для перевозки.
Для подготовки помещения для приемки поставить срочно в известность Контору «Антиквариат».
Слушали: 2) Об усилении работы по проверке предметов прикладного искусства.
Постановили: 2) Предложить Дирекции Гос. Эрмитажа для усиления работы по выделению предметов прикладного искусства выделить в помощь т. Тройницкому — т. Кверфельда.
С подлинным верно:
Э.Богнар
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 137.
Перечень актов выдач из Гос. Эрмитажа в Госторг и Гос. Контору Антиквариата [с марта 1928 по март 1930 г.]1
1928 год
Март
10
376
Август
18
192
Июнь
16
7
Октябрь
18
127
Июль
31
37
Октябрь
26
95
Август
17
24
858 предм.
1929 год
Январь
25
4
Июнь
3
120
Март
11
2
Июнь
5
106
Апрель
9
1
Июнь
7
83
Апрель
30
67
Июнь
12
500
Май
8
102
Июнь
14
134
Май
11
117
Июнь
18
331
Май
15
114
Июнь
19
304
Май
17
114
Июнь
21
165
Май
21
120
Июнь
25
481
Май
24
120
Июнь
28
160 (169-9)
Май
28
151
Июнь
29
429
1 Для удобства прочтения изменен характер подачи материала по отношению к архивному источнику. — Примеч. ред.
II Материалы и документы
366
Июль
1
153
Август
14
1903
Июль
3
534
Август
16
1501
Июль
5
102
Август
16
641
Июль
9
344
Август
17
469
Июль
И
19
Август
17
600
Июль
15
56 (61-5)
Сентябрь
28
520
Июль
20
767 (768-1)
Октябрь
1
20
Июль
24
68
Октябрь
4
92
Июль
24
9
Октябрь
4
75
Июль
24
34
Октябрь
25
2
Июль
25
196
Октябрь
25
20
Июль
29
49
Октябрь
26 51 (52-1)
Июль
30
218
Ноябрь
15
12
Июль
30
468
Ноябрь
21
2014
Август
1
439
Ноябрь
27
13
Август
2
500
Декабрь
И
258
Август
2
422
Декабрь
12
4
Август
10
1032
17355 предм.
1930 год
Февраль
9
1
Февраль
28
10
Февраль
9
320
Март
1
6
Февраль
16
40
Март
2
70
Февраль
16
2
Март
5
7
Февраль
19
41
Март
6
199
Февраль
20
19
Март
6
624
Февраль
25
15
1354 предм.
Итого передано по 6 марта [1930 г.] включительно 19 547 предметов.
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 1034, л. 92 и об.
Материалы по выделению музейных предметов Эрмитажа
для экспорта. Том 1
Списки, акты, переписка с Главнаукой, Госторгом РСФСР, Комиссией Госфондов.
1928 год
4 октября 1928 г.
Уполномоченному НКП по Ленинграду Б.П.Позерну Эрмитаж сообщает, что отобраны для экспорта музейные предметы на сумму ок. 1 400 ООО, более намеченной суммы на 100 ООО р. Уполномоченным С.Н.Тройницким выделена также группа предметов, оцененная в 66 965 р. На нее предполагалось закупить за границей химической краски для фасадов Зимнего дворца и частично как эквивалент на те предметы музейного фонда, которые Эрмитаж считает желательным оставить за собой. Вопрос о закупке красок за границей в настоящее время отпадает, а стоимость тех предметов, которые Эрмитаж желает
1 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5,1928/29, ед.
хр. 856 (72).
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
367
откупить, не превысит нескольких десятков тысяч. Поэтому Эрмитаж ставит перед Вами вопрос, надо ли сейчас сдавать Госторгу 3-ю группу (на сумму 66 965 р.) или же оставить предметы в Эрмитаже.
Подписали: зам. Директора Лазарис,
помощник Ученого секретаря Дервиз (л. 16)1.
III группа предметов, выделенных Эрмитажем на экспорт, 1157— 1251. Китайский фарфор, письменный стол (Франция) — 3500 р., четыре панно Гюбер Робера — 50 ООО р. Общая сумма 66 965 р. (л. 2).
Рапорт и.о. хранителя Строгановского дома Т.Сапожниковой директору Эрмитажа о том, что в «бесспорный» список для передачи в Госторг включены книги, на оставлении которых настаивает Центральная библиотека и гравюрный отдел (приведены названия 7-ми книг) (л. 12).
Список книг, выделенных экспертами Госторга, согласованный с Эрмитажем. Подписан Т.Сапожниковой (л. 13).
Рапорты Т.Сапожниковой от 11 и 15 октября 1928 г. на неправильные действия представителей Госторга. Просит снять с нее ответственность за эту работу и прервать работу по проверке книжного фонда библиотеки (л. 20,21).
18 октября 1928 г.
Акт, подписанный М.Д.Философовым и О.И.Бич, о сдаче Госторгу книг из «Собственных библиотек в Зимнем дворце» (127 названий) (л. 42).
10 декабря 1928 г.
Письмо в Правление Эрмитажа из Гос. Педагогического института им. Герцена о недопустимости продажи за границу книг из Библиотеки Строгановского дома-музея. Подписала Лазуркина (л. 84).
Оправдательная записка Т.Сапожниковой о том, что отбор книг в Библиотеке Строгановского дома производил т. М.М.Саранчин при всех сотрудниках, в общей комнате, без соблюдения секретности (л. 85).
11 октября 1928 г.
Уполномоченному Наркомпроса в Ленинграде т. Б.П.Позерну За выданную Эрмитажем группу предметов на сумму 718 600 р. Эрмитаж получил 25% аванс в сумме 179 650 р. Ныне за вторую партию предметов Эрмитажу следует получить аванс ок. 150 000 р. Согласно личным переговорам с т. Гинзбургом и Криммером, Госторг согласен выделить в счет этого аванса в ближайшие дни 100 000 р. при условии Вашего согласия получения аванса непосредственно Эрмитажем, а не Управлением У пол наркомпроса (л. 55).
Записка (ответ на письмо Главнауки от 10 ноября 1928 г.) зав. Отделом нумизматики А.А.Ильина Ученому секретарю Эрмитажа М.Д.Фи- лософову о том, что выделение монет для Госфонда задерживается.
В основном собрании дублетов нет, а отбор монет из Плюшкинского собрания может быть произведен после окончания выделения 11 000 монет польской эквивалентной коллекции (Эрмитажу поручена эквивалентная компенсация нумизматической коллекции, увезенной из Польши) (л. 79).
Акт от 13 сентября 1928 г.
П.П.Дервиз и реставратор С.Н.Сидоров приняли из Гос. Академии ис-
1 Здесь и далее архивный источник
указан в построчном примечании. — Примеч. ред.
II Материалы и документы
368
тории материальной культуры картины: 1. Седестрём «Перенесение тела Карла XII». 2. Групповой портрет семьи герцога Альтенбургского. 3. Ка- ульбах «Портрет Александры Иосифовны в молодости» (л. 87).
Списки предметов Отделения прикладного искусства Нового времени, выделенных в Госфонд. 2250 шт. 1252—3497. Се.вр, завод Попова, Мейссен, Китай, Берлин. Фарфоровые фигурки — считанные экземпляры, в большинстве, отдельные предметы сервизов (л. 89).
1929 год1
25 января 1929 г.
Протокол заседания комиссии по экспорту.
Считать возможным выделение: 1. Л.Лотто «Портрет супругов», № 1963.
2. П.Бордоне «Портрет молодого человека», № 2364. 3. Я.Бассано «Портрет Контерини», (№ 7152). 4. Л.Кранах «Портрет Фридриха Мудрого», № 3461 (л. 156).
25 января 1929 г.
Акт оценки: Лотто — 200 ООО р. Бордоне — 35 ООО р., Бассано — 40 ООО р., Кранах — 40 000 р. Подписали члены экспертной комиссии: Я.Л.Израилевич, С.К.Исаков, А.П.Келлер, В.Ф.Левинсон-Лессинг, С.Н.Тройниц- кий, Д.А.Шмидт, С.П.Яремич (л. 161).
24 января 1929 г.
Выписка из журнала Отдела Картинной галереи.
Присутствовали: М.В.Доброклонский, В.Ф.Левинсон-Лессинг, Ф.Ф.Нот- гафт, Д.А.Шмидт, М.И.Щербачева. Оценки даны заниженные: Лотто — 30 000, Бордоне — 30 000, Бассано — 15 000, Кранах — 12 000 р. (л. 164).
29 января 1929 г.
Рапорт С.Н.Тройницкого Директору П.И.Кларку.
После своей поездки за границу Тройницкий считает нужным повысить оценку золотых античных предметов до 500 тыс. руб. (вместо 400 тыс. руб.) (л. 167).
Подобный же рапорт С.Н.Тройницкого о повышении цены на французское серебро (после разговора с гр. Карре) со 197 тысяч до 232 тыс. р. (л. 168).
31 января 1929 г.
Рапорт Г.С.Верейского о повышении оценки 53 листов на 1565 руб. (общая сумма 10 355 р.) (л. 169).
18 февраля 1929 г., № 763.
Уполномоченному НКП по Ленинграду
О необходимости представления Гос. Эрмитажу копий квартальных отчетов по реализации передаваемого имущества, что предусмотрено договором.
15 февраля Эрмитаж получил из Антиквариата сведения, где отсутствуют суммы расходов Ленинградгосторга по аукциону и суммы, остающиеся после него Эрмитажу. По-видимому, Эрмитаж должен получить 171 787 р. 49 к. Два дня назад Гинзбург и Криммер говорили мне лично, что они могут выплатить эту сумму теперь же.
1 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5,1928/29, ед.
хр. 857 (72).
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
369
В смете Госбюджета (здесь и далее выделено Б.П. — Ред.) в текущем году на ремонт зданий Эрмитажа и Зимнего дворца не сделано никакого ассигнования, а между тем эти капитальные ремонты требуют 420 ООО руб. — Весь этот расход можно произвести только из спецсредств.
Желая обеспечить своевременное производство капитального ремонта зданий и обеспечить выполнение производственного плана Эрмитажа, прошу Вашего распоряжения Ленинградгосторгу о выплате Эрмитажу теперь же 171 787 р. Одновременно прошу сделать распоряжение о своевременной высылке нам копий отчетных ведомостей. В противном случае Эрмитаж вынужден будет приостановить выделение имущества для экспорта. Директор П.Кларк (л. 176).
Материалы по выделению музейных предметов Эрмитажа для экспорта. Том 2 1
ЗАПИСКА Д.А. ШМИДТА
Зав. Ленинградской конторой «Антиквариат» Ф.Э.Криммер предложил Эрмитажу картину П.Ластмана «Вирсавия в купальне» за эквивалент картинами на сумму 40 ООО руб. Эрмитаж отказался, так как картины Ластмана в нем имеются (л. I)2.
30 апреля 1929 г.
Акт, подписанный П.И.Кларком и Д.АШмидтом, о принятии«Антиквари- атом» 67 картин, среди них Л.Джордано «Иисус среди книжников» (л. 7). И мая 1929 г.
Акт, подписанный П.И.Кларком и Д.А.Шмидтом. О принятии «Антиквариатом» картин: Деларош «Магдалина у гроба»; Грёз «Головка девочки»; Менгс; Ян Брейгель (?), подп. 1607, «Деревенская дорога»; Ван Лоо «Несс и Деянира»; Тенирс «Крепость на берегу моря»; Остаде «Внутренность крестьянской избы»; Валлотон (подп. 1908) «Портрет женщины с веером»; Тенирс «Школа обезьян» (л. 12).
21 мая 1929 г.
Акт, подписанный В.И.Забрежневым и ДАШмидтом. Картины из Академии художеств (120); Л.Джордано, Гарофало, «Св. семейство», Гвер- чино «Эндимион»; Снейдерс «Собака и кошка»; Пуссен «Возвращение блудного сына»; Брейгель «Мадонна в гирлянде» (л. 23).
24 мая 1929 г.
Акт подписан В.И.Забрежневым и Д.АШмидтом. 120 картин из Академии художеств; Делакруа «Бретонка»; Верне «Дама с цветком», «У окна», «Буря» (л. 29).
28 мая 1929 г.
Акт подписан В.И.Забрежневым и Д.АШмидтом. 151 картина (среди них Гвидо Рени «Мария Магдалина», ГЭ 4099). По строгановскому акту, из портретов Английского дворца (л. 34).
3 июня 1929 г.
Акт подписан В.И.Забрежневым и Д.АШмидтом. 120 картин собрания Семенова-Тян-Шанского. Рейсдаль, Мирис, Блумарт, Рембрандт «Голова мужчины» (?) (л. 44).
1 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, 1928—29, ед. хр. 857(72).
2 Материалы, как правило, приводятся Б.Б.Пиотровским в порядке их расположения в деле. — Примеч. ред.
II Материалы и документы
370
5 июня 1929 г.
Акт подписан В.И.Забрежневым и Д.А.Шмидтом. 106 картин, по-видимо- му, из разных поступлений; две картины из «основных запасов» (л. 50).
I июня 1929 г.
Акт подписали М.М.Саранчин, Н.А.Юдин, А.В.Уржумцев. 127 книг из библиотеки Гос. Эрмитажа на сумму 8 660 руб., от 5 до 500 руб. (л. 61). 7 июня 1929 г.
Акт подписан В.И.Забрежневым и Д.А.Шмидтом. 88 картин, преимущественно голландской и фламандской школ — XVII—XVIII вв., среди них Поттер «Голова старика» (л. 73).
II июня 1929 г.
Акт подписали В.И.Забрежнев и И.А.Орбели. Орбели сдал (акт от 28 марта 1929 г.) один ковер, оцененный в 2 000 руб. (л. 81).
12 июня 1929 г.
Акт подписан В.И.Забрежневым и Э.К.Кверфельдом, 500 предметов стекла и бронзы из 1 филиала ГЭ (коллекции Мусина-Пушкина, Тимрод, С.Г.Альтенбургского) и мебель (л. 84).
12 июня 1929 г.
Акт подписан В.И.Забрежневым и Д.А.Шмидтом. 134 картины (Г.Ре- ни, Джулио Романо, Г.Робер, ГЭ 2743), у некоторых шифр ГЭ (л. 94).
ПИСЬМО НКП ЗА ПОДПИСЬЮ А.А.ВОЛЬТЕРА
Из Гос. Исторического музея в Госторг была передана бронзовая группа «Крещение», оцененная в 8 000 р. Она на аукционе Лепке в Берлине продана не была, ее видел С.Н.Тройницкий. Между тем, после аукциона в журнале «Zeitschrift fur bildende Kunst» 1929, Heft 10, появилась статья Р.Витковера, отмечающая ее исключительное художественное значение. Просьба срочно произвести ее переоценку (л. 109).
11 июня 1929 г.
Акт подписан М.Д.Философовым. Сдан ковер, оцененный в 2000 р., и за это получено 13 предметов для Отдела Востока (? — Б.П.): котел бронзовый (200 р.), топор, ступка, тарелка и блюда поливные, обрезки парчи на сумму 1550 р. Принял И.А.Орбели (л. ill).
18 июня 1929 г.
Акт подписан П.И.Кларком и С.Н.Тройницким о сдаче 331 номеров серебра (шифр Ю.Э.) (л. 114).
19 июня 1929 г.
Акт подписан П.И.Кларком и А.Н.Кубе. 304 серебряных предмета № 332-635 (?) (л. 125).
20 июня 1929 г.
Акт подписали М.Д.Философов, С.Н.Тройницкий, Г.И.Боровка о сдаче «Антиквариату» 520 золотых и серебряных предметов из собрания Нелидова (L.Poliak. Klassisch-antike Goldschmide arbeiten in Besitze
A.I.Nelidov). Ожерелья, бусы, диадемы, бляшки, браслеты, серьги, перстни. Общая оценка 256 120 рублей (л. 135).
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат:
371
5 июня 1929 г.
Акт подписан П.П.Дервизом, С.Н.Тройницким. О сдаче Антиквариату 101 картины, числящихся по списку 10-й группы предметов, выделенных Эрмитажем по №№ 3552—3653, оцененных по актам 170 и 171 (л. 162).
12 июня 1929 г.
Акт подписан С.К.Исаковым, Я.Л.Израилевичем, В.Ф.Левинсон-Лессин- гом, Д.А.Шмидтом. Оценка 49 картин на общую сумму 25 750 р. от 50— 2000 руб. (л. 171).
Материалы по выделению музейных предметов Эрмитажа для экспорта. Том 3 1
21 июня — 4 октября 1929 г.
25 июня 1929 г.
Акт подписан П.И.Кларком, А.Н.Кубе, П.П.Дервизом. Выдача Госторгу 481 серебряных предмета (636—1116). Россия XVIII—XIX вв. «Скандинавский сервиз». Оценки не проставлены (л. 24).
28 июня 1929 г.
Акт подписан П.И.Кларком и Д.А.Шмидтом. 169 картин. Есть картины, отнесенные к Воуверману, Гольциусу, Верне (л. 31)2.
29 июня 1929 г.
Акт, подписанный П.И.Кларком, Д.А.Шмидтом, М.В.Доброклонским о сдаче сотруднику Госторга А.А.Андрееву 429 миниатюр. Много русских миниатюр — портреты Александра I и Николая I, великих князей, военных и общественных деятелей, еще больше западноевропейских миниатюр — копии картин Рафаэля, Тициана, Гвидо Рени, Фрагонара и др. (л. 53).
1 июля 1929 г.
Акт подписан П.И.Кларком, Д.А.Шмидтом, М.В.Доброклонским. Миниатюры — 154 номера. Принял А.А.Андреев по доверенности «Антиквариата» (л. 63).
19 июля 1929 г.
Эрмитаж извещает, что из числа 599 миниатюр (указанных в актах) он оставляет 17 миниатюр (л. 162).
Протокол совещания от 31 мая 1929 г. по вопросу об фотографировании картин, выделенных для экспорта
Присутствовали: Ученый Секретарь М.Д.Философов,
ст. пом. Хран[ителя] Отд. Карт. Гал. В.Ф.Левинсон-Лессинг и
М.И.Щербачева.
Фотографы: В.В.Пресняков, И.К.Ухов, М.И.Чистяков.
1. Заявление представителей Отдела Картинной Галереи о необходимости изготовления в течение ближайшего месяца 700 снимков с картин, выделяемых для экспорта. Фотографирование указанных картин является необходимым в целях устранения возможных недоразуме-
1 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, 1928/29, ед. хр. 858 (72).
2 Как и в предыдущих актах, основание: Личное распоряжение начальника Главнауки директору Эрмитажа.
II Материалы и документы
372
ний, связанных с обоснованностью выделения этих картин, принадлежащих к основному собранию Эрмитажа и также в научно-исследовательских целях.
Указанная работа не может быть выполнена в условиях нормальной работы фотографов, обслуживающих Отдел Картинной Галереи, ввиду чего часть работы должна быть отнесена на сверхурочное время, а персонал соответственно усилен.
2. О порядке производства работ по фотографированию и условиях оплаты работы.
Фотографы В.В.Пресняков и М.И.Чистяков выполняли согласно норме по 60 снимков в месяц (включая лабораторную работу); остающиеся около 600 снимков должны быть выполнены Пресняковым и Чистяковым по сдельной оплате, исходя из расчета 2 р. за снимок. Ввиду заявления обоих фотографов, что они не смогут выполнить свыше 300 снимков сверх нормы, предложить И.К.Ухову производить указанную работу во внеурочное время, исходя из той же нормы оплаты. В случае необходимости дальнейшего усиления персонала привлечь к данной работе Кубеша, исходя из тех же условий сдельной оплаты. Общее руководство работами поручить ст. пом. хран[ителя] В.Ф.Левинсон-Лес- сингу; распределение работы между фотографами и распределение фотографического материала поручить В.В.Преснякову.
3. О расходах, связанных с производством работы и закупке фотографического материала.
Оплата работы фотографов за производство 600 снимков сверх плана потребует 1200 р. Ввиду нецелесообразности тратить на производство указанных работ имеющийся в ограниченном количестве заграничный материал необходимо закупить соответственное количество пластинок. Учитывая, что % брака пластинок составляет около 50 %, для получения 700 негативов необходимо около 1050 пластинок, на что потребуется 400 р. Расход на бумагу составит 360 р.
Таким образом, расходы на материал составят ок. 760 р; расходы на оплату работ около 1200 р. Всего на производство работ необходимо ассигновать около 2000 р.1.
Подписал В.Левинсон-Лессинг
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 858, л. 66.
14 июня 1929 г.
Письмо из Обл. Госторга РСФСР «Антиквариат». О картине Н.Диаза де ла Пенья «Венера с амурами» (61 х 42). Расценка в Ленинграде 3000 р. «Картина была выставлена на аукционах Лепке 20 ноября 1928 г. и 9 апреля 1929 г., но лимитов не достигла. В настоящее время за нее предлагают 2800 герм, марок. Как сообщает нам наше торгпредство, эта цена по условиям заграничного рынка считается приемлемой. Просим срочно дать ваше заключение». Подписали: Директор-распорядитель Самуэ- ли, зав. отделом реализации Шмальц (л. 91). Это письмо было переадресовано в Эрмитаж из Главнауки НКП А.А.Вольтером (л. 90).
1 В документе приписка П.П.Дервиза:
«В спецассигнованиях отказано».
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
373
3 июля 1929 г.
Акт подписан Директором П.И.Кларком, и.о. зав. отделом А.А.Автоно- мовым (хранитель), ст. пом. хранителя П.П.Дервизом (ОПИНВ — Отдел прикладного искусства Нового времени). Серебро 424 номера: русское серебро середины XIX в., серебро XVIII в. с московскими и петербургскими клеймами; немецкое, Нюрнберг (л. 72).
9 июля 1929 г.
Акт подписан П.И.Кларком, А.А.Автономовым, П.П.Дервизом. 344 серебряных предмета: французское серебро, Англия, Аугсбург, XVI—XIX вв. Берлин, Лейпциг, Италия, Польша, Нюрнберг XVI—XVII вв. Вена. (Оценки нет!) (л. 114).
12 июля 1929 г.
Председателю оценочно-экспортной комиссии т.Исакову С.К. «Несмотря на неоднократные просьбы Эрмитажа до сих пор еще остаются не оцененными Вами 520 антиков (скифских) золотых украшений и 93 предмета золотых и художественных изделий, а также давно уже готовы к сдаче свыше 2000 предметов фарфора, которые до сих пор Вами не оценены». Подписали П.И.Кларк, П.П.Дервиз (л. 127).
12 июля 1929 г.
Акт. «Мы, нижеподписавшиеся, директор ГЭ П.И.Кларк и секретарь «Антиквариата» А.А.Андреев составили настоящий акт в том, «что Кларк сдал, а Андреев принял картину «Купальщицы» работы Ланкре (по списку № 1706), передаваемую на основании постановления Правления Гос. Эрмитажа от 11-VII-1929 г. и разрешения Уполнаркомнауки от того же числа в обмен на одновременно сданный Андреевым и принятый Кларком принадлежащий конторе «Антиквариат» «Мужской портрет» работы Удри, причем Эрмитаж в случае, что рыночная оценка работы Ланкре превысит рыночную оценку портрета работы Удри, имеет получить от конторы «Антиквариат» соответствующую разницу художественными произведениями» (л. 129). Записка и.о. хранителя галереи Ф.Нотгафта о целесообразности этого обмена (л. 146а).
Материалы по выделению предметов Эрмитажа для экспорта. Том 4 1
30 июля 1929 г. — 26 октября 1929 г.
13 августа 1929 г.
Акт № 185а подписан Т.Л.Лиловой, Я.Л.Израилевичем и А.П.Келлером. Оценка 48 предметов прикладного искусства XVII—XIX вв.; кресла, стулья, буфет, вазы, часы, канделябры, жирондели. Общая оценка 26025 р. (л. 1). 30 июля 1929 г.
Акт подписан П.И.Кларком, А.А.Автономовым, П.П.Дервизом. Фарфор 468 номеров (3227—3694). Тарелки Охотничьего сервиза с живописью охотничьих сцен (Мейссен). Сервиз был в употреблении, отмечены мелкие повреждения (л. 2).
30 июля 1929 г.
Акт подписан П.И.Кларком, А.А.Автономовым, П.П.Дервизом. Фарфор
1 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр.
859(72).
II Материалы и документы
374
218 номеров (2959—3176). Тарелки русских заводов, Гарднер; предметы были в употреблении — щербинки, трещины, потертость живописи (л. 19).
1 августа 1929 г.
Акт подписан В.И.Забрежневым и А.А.Автономовым. Фарфор. 439 номеров (3695—4133). Мейссен, Орденский сервиз Андрея Первозванного (Андреевский сервиз). Предметы также были в употреблении (л. 23 об.).
2 августа 1929 г.
Акт подписан В.И.Забрежневым и А.А.Автономовым. Фарфор. 500 номеров (4134—4633). Сервиз Александра Невского (Гарднер). Повреждения (л. 38).
2 августа 1929 г.
Акт подписан В.И.Забрежневым и А.А.Автономовым. Фарфор. 422 номера (4634—5055). Мейссен; сервизы Яхтинский и Арабесковый (Императорский фарфоровый завод); Берлин; Вена (л. 47).
Акт № 172а подписан С.К.Исаковым, Я.Л.Израилевичем, М.К.Гла- зуновым. Экспертиза и оценка 19 предметов — мебель и бронза (8403— 8421) на сумму 61850 р. (л. 62).
10 августа 1929 г.
Акт подписан Б.Н.Великосельцевым и А.А.Автономовым. Фарфор. 1903 номера (6088—7990). Владимирский Орденский сервиз (Гарднер); Мейссен; фабрик Корнилова и Попова; предметы сервиза Александра Невского и др. (л. 81).
16 августа 1929 г.
Акт подписан Б.Н.Великосельцевым и АААвтономовым. Фарфор. 1501 номер (7991—9491). Готический сервиз; Коронационный сервиз; Кобальтовый сервиз; Сервиз Георгиевский Орденский; французский сервиз XIX в. Из русских сервизов — подражание Севру; Орденский сервиз Андрея Первозванного (Гарднер); мейссенские тарелки с прорезным бортом (л. 104).
16 августа 1929 г.
Акт подписан Б.Н.Великосельцевым и А.А.Автономовым. Фарфор. 641 номер (9492—10132). Различные заводы; французские тарелки завода Даготи; Севрский кобальтовый сервиз; Андреевский сервиз (Мейссен); французские тарелки завода Шантильи (л. 125).
17 августа 1929 г.
Акт подписан Б.Н.Великосельцевым и С.Н.Тройницким. Фарфор. 469 номеров (10133—10601). Императорский фарфоровый завод — копии севрского сервиза с камелиями (?); «военные тарелки» (на всех живопись повреждена); Кабинетный сервиз (виды Италии) (л. 130).
8 мая 1929 г.
Акт подписан П.И.Кларком и Д.А.Шмидтом. Передача «Антиквариату» 102-х картин. Виже-Лебрен «Портрет Г.Чернышова с маской в руке»; итальянская школа XVI—XVIII вв., Роза да Тиволи; Прянишников. «Конский завод»; много копий (л. 154).
15 мая 1929 г.
Акт подписан В.И.Забрежневым и Д.А.Шмидтом. Передача «Антиквариату» 114 картин. Фламандские художники XVI в.; Франция XVIII в.;
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
375
Голландия XVI—XVII вв.; Италия XVI—XVIII вв.; Ф.Винтергальтер «Портрет Е.Д.Воронцовой» (л. 162).
9 августа 1929 г.
Протокол совещания Отдела Картинной галереи.
Председатель Ф.Ф.Нотгафт, секретарь В.Ф.Левинсон-Лессинг; М.И.Щерба- чева, М.М.Семенов, Е.Г.Нотгафт, А.АДветкова.
Слушали: Об обмене с «Антиквариатом» следующих картин: Рибера «Катон» (3000 р.), Рейкхалс «Ферма» (1000 р.), Гиллеманс «Ва- нитас» (350 р.). Общая стоимость 4350 р.
Постановили: выделить для обмена «Девушку с барашком» Грёза (Р 76/24) (л. 199).
26 октября 1929 г.
Акт о передаче О.Ф.Вальдгауером для «Антиквариата» 52 предметов античной керамики (№№ 3784—3835) (л. 220).
Оценки картин 1
21 апреля 1929 г. — 4 октября 1929 г.
№ описи ГЭ
Акт № 160а от 12 июня 1929 г.
Акт N°162a от 17 июня 1929 г.
249/78
Я.Б.Венике. Стадо у ручья —
223/2
Нидерландская школа 2-ой
700 р.
пол. XVI в. Жертвоприноше¬
249/14
К. Беккер. Браво — 2000 р.
ние Исаака — 750 р.
249/90
Копия XVII в. с Рафаэля.
167/120
Гране. Галилей в темнице —
Битва Константина — 1000 р.
1200 р.
248/27
Ш.Жак. Овцы — 1000 р.
167/42
Панини. Внутренний вид со¬
248/80
Расмуссен. Норвежский фи¬
бора св. Петра — 1000 р.
орд — 2000 р.
167/11
Сассоферрато. Сон младенца
248/41
Итальянская школа XVIII в.
Христа — 3000 р.
Руины с обелиском — 1500 р.
98/130
Фламандская школа XVII в.
29/82
Ахенбах. Канун праздника
Вакханалия — 1000 р.
в Риме — 2000 р.
98/50
Итальянская школа XVII в.
29/88
ГМаке. Голова мальчика —
Неизвестный святой — 1000 р.
1000 р.
98/49
Фламандская школа XVII в.
29/93
Л.Мельби. Морской вид —
Амур — 1500 р.
1000 р.
(л. 7)
29/117
КНетшер. Женский портрет
Акт №163а от 18 июня 1929 г.
- 1500 р.
247/12
Бургиньон. Сражение —
246/62
П. делла Веккиа. Искушение
2000 р.
- 1000 р.
70/44
Г. Робер. Колонна Траяна —
(л. 2)
12 000 р.
Акт № 161 а от 14 июня 1929 г.
80/44
В. ван Хове. Внутренний вид
242/9
Я.Б.Веникс. Битый заяц и
комнаты — 1500 р.
птицы — 2000 р.
(л. 10)
242/17
Зим. Венеция — 1200 р.
Акт (б/н) от 28 июня 1929 г.
(л. 5)
326/1374
Школа Наттье. Портрет дамы
1 По материалам Архива ГЭ, ф. 1, оп.
5,1928-29, ед. хр. 858(72), т. 3.
И Материалы и документы
376
1196/1414
А. Орловский. Воин с круж¬
3570
Виже-Лебрен. Автопортрет —
кой и трубкой
25 000 р.
1197
А.Орловский. Мужчина
3579
Венецианская школа XVIII в.
в панцире у стола с бокалом
Дворец Дожей — 3000 р.
в руке
3582
Вуаль. Женский портрет —
[Копии или неверные атри¬
1000 р.
буции]:
3587
Фр. да Санта Кроче. Покло¬
3113/1703
Рубенс. Вознесение Марии
нение волхвов — 1500 р.
31120
Ван Дейк. Скачущая лошадь
3599
Крюгер. Портрет кн. Оболен¬
Ван Дейк. Тайная вечеря
ского — 3000 р.
3279/1739
Воуверман и др.номера
3660
Круг Лемуана — 3000 р.
(7 картин)
247/43
Лампи. Портрет Ф.Мусина-
3322/1754
Верне. Спасение погибающих
Пушкина — 8000 р.
в бурю
247/148
Крюгер. Александр II —
3359/1768
Верне. Приморский вид
35 000 р.
3538/1819
Гольциус. Обрезание Христа
(л. 95)
3579/1820
Гольциус. Поклонение
Акт Nb 17 1а от 27 июня 1929 г.
волхвов
246/147
Мастерская Андреа дель Сар¬
3743
Мирис. Больная и врач
то. Св. семейство с Иоанном
3760
Ф. дер Нер. Лунный пейзаж
Крестителем — 2500 р.
(л. 31)
98/148
Круг В.Катена. Мадонна
[Непонятный отбор!]
с младенцем — 2000 р.
Акт № 170а от 26 июня 1929 г.
80/15
Виже-Лебрен. Портрет
3558
Французская школа XVII в.
С.В.Строгановой с сыном.
Цветы — 2000 р.
Эскиз — 15 000 р.
3559
Грёз. Голова девушки —
247/10
Ф.Винтергальтер. Женский
4000 р.
портрет — 5000 р.
3561
К.Лоррен. Порт — 10 000 р.
223/38
Т.Лоуренс. Мужской портрет
3563
Французская школа XVIII в.
- 12000 р.
Грот — 12 000 р.
(л. 97)'
Из материалов 1929 г.2
Обращение Эрмитажа в Управление Уполномоченного НКП в Ленинграде
В Ленинградском отделении «Антиквариат» находится бронзовая статуя мальчика, вынимающего занозу, копия знаменитой античной статуи, находящейся на Капитолийском холме в Риме.
Эта статуя принадлежала в свое время к собранию бывш. германского посла Пурталеса и потому не подлежит, согласно распоряжению НКВД, экспорту. Ввиду такого положения зав. «Антиквариатом» тов. Криммер устно изъявил согласие на передачу означенной бронзовой статуи в Эрмитаж без компенсации (л. 130).
15 июля 1929 г.
Акт о передаче 61 картины. Из Эрмитажа 28 картин (среди них — Лука Джордано «Избиение младенцев»), из Музфонда двух (среди них Се-
1 Непонятно, как в список второсте- это, принесение в жертву, на «алтарь отечест-
пенных картин вдруг вторгаются первокласс- ва»? Во всех актах основанием служит «личные с высокой оценкой! В списках значатся ное распоряжение начальника Главнауки», картины с расценкой до 3000 руб. и вдруг две 2 Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, 1928/29, ед. хр. или одна с оценкой от 10 до 25 тысяч! Что 858(72).
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
377
дерстрём «Перенесение тела Карла XII», 253 х 369), из Строгановского дома — четыре картины Гюбер Робера (л. 137 об.)
Примечание к акту: Седерстрём. «Перенесение тела Карла XII». Картина не была передана из-за размера, так как, натянутая на подрамник, не проходила в двери; будет передана дополнительно после снятия с подрамника (л. 42).
19 июля 1929 г.
В Ленинградгосторг Гос. Эрмитаж препровождает при сем требовательную ведомость на сверхурочную работу научных сотрудников Картинной галереи и прикладного искусства, выполненную по срочному заданию Правительственной комиссии под председательством замнаркомторга тов. Хинчука для Ленинградгосторга, и просит таковую оплатить. О последующем благоволите сообщить. Подписали: П.И.Кларк, П.П.Дервиз (л. 147).
Этому предшествовала служебная записка гл.бухгалтера Эрмитажа о том, что Эрмитаж оплатить сверхурочную работу в сумме 989 р. 50 к. не может (л. 148).
20 июля 1929 г.
Акт о передаче серебра по описи с № 1995 по № 2762 включительно — 767 предметов.
Табакерки — 95; серебряные изделия, ювелирные предметы. Данцингское серебро XVII—XVIII вв. Бреславль, XVII—XVIII вв., Кенигсберг XVII—XVIII вв., прибалтийское и скандинавское серебро (л. 163).
Уполномоченному НКП в Ленинграде В конторе «Антиквариат» находится картина П.Ластмана «Вирсавия в купальне», представляющая для Гос. Эрмитажа большой интерес. Прежняя оценка 40 ООО руб. теперь понижена до 25 ООО руб. Приблизительно в такой сумме оценивается имеющийся в Эрмитаже «Портрет Нарышкиной» работы Виже-Лебрен (7225/81), который Гос. Эрмитаж считал бы вполне целесообразным передать конторе «Антиквариат» в обмен на упомянутую картину. Подписали: П.И.Кларк, П.П.Дервиз (л. 164). Обмен разрешен Л.О. НКП за подписью Б.Позерна (л. 191). Обмен завершен (л. 192).
24 июля 1929 г.
Акт, подписанный С.Н.Тройницким, П.П.Дервизом. Список картин (34 картины, числящиеся по списку II группы) (л. 194). Картины преимущественно копии, но есть два портрета — Доу и Креспи (л. 194).
24 июля 1929 г.
Акт. Сдано 68 картин (без номеров) голландской, фламандской, немецкой школ; подражание Боттичелли (XIX в.), Орловский, Ф.Васильев, «школа Рембрандта» (л. 196).
24 июля 1929 г.
Акт на передачу 9 картин, временно задержанных Эрмитажем по актам от 28 июня и 15 июля 1929 г. (10-й картиной была: Седерстрём «Перенесение тела Карла XII», но она вычеркнута. — Б.П.)
И Материалы и документы
378
24 июля 1929 г.
Акт, подписанный П.И.Кларком и Г.С.Верейским, о передаче Госторгу 63 гравюр (л. 202).
25 июля 1929 г.
Акт, подписанный П.И.Кларком, А.А.Автономовым, П.П.Дервизом о передаче фарфора (№№ 2763—2958): — 195 предметов: тарелки, чашки, блюда XIX в. (л. 204).
29 июля 1929 г.
Акт, подписанный П.И.Кларком, А.А.Автономовым, П.П.Дервизом. Передача мебели (№№ 3177—3225): 49 предметов — стулья, кресла, шкафы, часы, канделябры, вазы (л. 208).
17 июля 1929 г.
Письмо «Антиквариата» Эрмитажу: «Сообщаем, что у нас нет твердой уверенности в том, что картина Ланкре («Купальщицы») представляет большую рыночную стоимость, чем портрет Удри, тем более, что покупатель, который видел обе вещи, нашел, что портрет является более рентабельным».
Резолюция П.И.Кларка: «Просить произвести оценку обеих картин через экспертно-оценочную комиссию, которая и покажет рыночную стоимость их, следовательно, выяснит, кто и сколько должен получить добавочного возмещения».
16 сентября 1929 г.
Акт, подписанный М.Д.Философовым и Е.Г.Лисенковым. О получении Эрмитажем нижеследующих гравюр из бывш. собрания Карловой: 1—4. четыре офорта Коро, 5. офорт Фейта, 6. офорт Мане, 7-9. три гравюры Бозио (л. 215).
16 сентября 1929 г.
Акт о принятии Эрмитажем из «Антиквариата» 275 гравюр и литографий из бывш. коллекции Карловой (л. 216).
4 октября 1929 г.
Акт, подписанный М.Д.Философовым и С.Н.Тройницким. 94 предмета (1256—1273, 1275—1348) из золота и серебра: золотые табакерки, часы, тарелки, ложки. Всего на сумму 110 025 руб. (л. 242).
4 октября 1929 г.
Акт, подписанный М.Д.Философовым и С.Н.Тройницким. 75 предметов (3688—3757, 3759—3763) на сумму 463 000 руб.: золотые табакерки (среди них петербургских мастеров Кейлера и Адора), коробочки, чаши, часы, блюда, чарки, стаканы и др. (л. 246).
В конце раздела, посвященного передаче Эрмитажем музейных ценностей за 1929 год, содержатся некоторые подсчеты, произведенные Б.Б.Пи- отровским на основе актов.— Ред.
Картины с указанием номеров и оценок — 301 (231.725 руб.); кроме того, без номеров и оценок 237.
Серебряные и золотые предметы — 1812. Оценка № 1256—1273 (92- 110 025 руб); № 3682-3757 (75-463 000 руб).
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
379
Мебель и бронза — 68 предметов. Оценка № 1349—1367 (19—61 350 руб; 49 без оценки).
Миниатюры — 582 предмета.
Фарфор — 195 предметов.
Гравюры — 65 штук.
Материалы о выделении на экспорт 1 1929-1930 годы2
22 июня 1930 г.
Список серебряных предметов работы Жермена, Парижского сервиза, Орловского сервиза, Салтыковского сервиза + Рубенс «Елена Фурман» для Г.Гюльбенкяна (л. 21).
ТЕЛЕГРАММА В.И.ЗАБРЕЖНЕВУ:
«Высылайте спешной почтой мотивы разногласий Эрмитажа отправки картин Москву. Вольтер» (л. 28).
18 марта 1930 г.
Об упаковке картины Ван Дейка «Портрет лорда Ф.Уортена», вслед за этим «Девочка с метлой» Рембрандта (л. 35).
Появился Меллон!
I августа 1930 г.
Письмо ААВольтера Л.Л.Оболенскому: «Вам надлежит озаботиться передачей: Рубенс «Изабелла Брандт», Ван Дейк «Молодая женщина», Гейнсборо «Портрет герцогини Бофор» (последний портрет Эрмитаж не дал) (л. 79).
II сентября 1930 г.
Требования сассонитского (т.е. сасанидского) серебра (50 000 р.), скифского золота — 50 000 руб. и два французских портрета — 200 000 руб. Руководитель художественной группой Главнауки Вольтер. Эрмитаж отказал (л. 84).
Акты экспертизы, оценки и передачи картин и художественных предметов из Эрмитажа, Павловского и Строгановского дворцов, предназначенных на экспорт, конторе «Антиквариат».
25 сентября 1929 г. — 9 июня 1930 г.3
25 октября 1929 г.
Акт составлен Вр. ис. об. директора В.И.Забрежневым и исп. об. Зав. Отделом Картинной Галереи Д.А.Шмидтом, с одной стороны, и сотрудником Госторга А.А.Андреевым, с другой стороны, о передаче картин: Фламандская школа XVII в. «Поклонение пастухов младенцу» и Сёдерстрём «Перенесение тела Карла XII» (Акт от 13.IX.28, № 1) (л. 12)4.
25 октября 1929 г.
Акт № 241а. Подписан Т.Л.Лиловой (председатель), С.Н.Тройницким, М.К.Глазуновым (члены комиссии), О.Ф.Вальдгауером и Т.В.Книпович (эксперты). Оценки античных ваз и стекла.
26 октября 1929 г.
Акт о передаче 51 предмета: античные вазы — Апулия, Аттика; античное стекло: (№№ 3784—3835) на сумму 12 815 руб. (л. 17).
1 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 157 (160).
2 С 28 декабря 1929 г. по 1 февраля 1930 г. и.о. директора ГЭ В.И.Забрежнев. С 1
февраля 1930 г. до 25 сентября 1930 г. — ди¬
ректор Л.Л.Оболенский. С 26 сентября до июля 1934 г. — директор Б.В.Легран.
3 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5,1929—30 гг., ед. хр. 1033(70).
4 Эту картину помню по Мраморному дворцу, под ней я работал по разбору материалов северокавказской экспедиции 1927 и 1928 гг.
II Материалы и документы
380
2, 3 и 4 ноября 1929 г.
Акты подписаны Т.Л.Лиловой, А.П.Келлером, М.В.Доброклонским,
В.Ф.Левинсон-Лессингом, С.П.Яремичем, Д.А.Шмидтом. 41 картина — 22 ООО руб., №№ 3245—3308 (с перерывом) (л. И4)1.
10—12 ноября 1929 г.
Акт подписан М.В.Доброклонским, В.Ф.Левинсон-Лессингом, С.П.Яремичем, А.П.Келлером, Д.А.Шмидтом. Экспертиза и оценка 82 картин на сумму 49 145 руб., №№ 4027—4142 (с перерывом) (л. 116).
15 ноября 1929 г.
Акт подписан М.Д.Философовым и Г.С.Верейским. Сборники гравюр и литографий (12 экз.) из собрания Карловой (л. 56).
21 ноября 1929 г.
О передаче фарфора на сумму 36 141 руб. в количестве 2014 номеров. Документ подписан М.Д.Философовым и Уполномоченным НКП по выделению предметов экспорта в Государственном Эрмитаже (л. 64).
29 октября 1929 г.
Акт с перечнем предметов и их оценками, составляющий 56 страниц машинописного текста (л. 67-95)2.
4 декабря 1929 г.
Акт № 287а. Оценка картины, выделенной Эрмитажем и находящейся в помещении конторы «Антиквариата», —Рубенс «Снятие со креста» — 15 000 руб. (л. 125).
11 декабря 1929 г.
Акт подписан М.Д.Философовым и С.Н.Тройницким и представителем «Антиквариата» А.А.Андреевым. 258 гравюр на сумму 66 940 руб., №№ 4041—4126 (л. 96).
5 января 1930 г.
Эрмитаж письмом просит разрешить обмен картинами: ЖЛ.Жером «В гареме» (ГЭ, 4212) на картину того же автора «Продажа невольницы» (л. 121). 3 октября 1929 г.
20 картин — 146 300 руб., №№ 10924—10943 (без перерыва) (л. 142).
28 октября 1929 г.
20 картин — 90 850 руб., №№ 11213—11232 (л. 171).
5—9 ноября 1929 г.
68 картин — 32 745 руб., №№ 3925—4026 (с перерывом) (л. 142).
12—15 ноября 1929 г.
Акт № 257а, подписанный М.В.Доброклонским, А.П.Келлером, С.П.Яремичем, В.Ф.Левинсон-Лессингом, Д.АШмидтом. Оценка 74 картин на сумму 27 260 руб., №№ 4145—4256 (с перерывом) (л. 126).
15—20 ноября 1929 г.
88 картин — 59 280 руб., №№ 4258—4339 (с перерывом) (л. 142).
15 ноября 1929 г.
20 картин — 74 450 руб. №№ 3252—9262. Гвидо Рени. «Сивилла» — 3000 р., Дж. Франча «Св. семейство» — 5000 р., Воуверман «Путники на дороге» — 10 000 р., Тинторетто «Портрет дожа» — 20 000 р. (л. 142).
21—30 ноября 1929 г.
Акт № 278а, подписанный М.В.Доброклонским, АП.Келлером, В.ФЛевин-
1 Указанные номера перекрывают но¬
мера фарфора!
2 Материалы даны Б.Б.Пиотровским в
соответствии с расположением и нумерацией дела Архива ГЭ. — Примеч. ред.
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
381
сон-Лессингом, С.П.Яремичем, Д.А.Шмидтом. Экспертиза и оценка 44 картин на сумму 72 350 руб. (№№ 4590—4709) и по акту от 2—6 декабря 1929 г. 94 картины на сумму 17 115 руб., №№ 4710—4829 (л. 128). 1—10 января 1930 г.
Переоценка двух картин Каналетто «Вид палаццо Дожей» и «Палаццо Лабиа». Первоначально обе — 7000 р., новая — 7000 + 12 000 руб. (л. 224а). 15 февраля 1930 г.
40 золотых античных предметов №№ 4489—4528 (л. 142).
19 февраля 1930 г.
41 картина на сумму 474 000 руб., №№ 4127—4167 (л. 171).
6 марта 1930 г.
Акт подписан П.Я.Ирбитом и Г.С.Верейским. 177 рисунков №№ 4851 — 5027 и 147 рисунков №№ 5035—5481 (л. 204).
2 марта 1930 г.
70 предметов оружия №№ 4582—4651 (л. 221)1.
Докладная записка С.Н.Тройницкого
Директору Гос. Эрмитажа Ввиду того, что имеется предположение использовать раку Александра Невского в качестве металла, считаю своим долгом высказать нижеследующее:
1 Рака Александра Невского является исключительным художественным произведением середины XVIII века и в настоящее время почти единственным в мире памятником такого рода. Она была выполнена русским мастером по проекту, несомненно принадлежащему знаменитому зодчему Растрелли.
2 Вместе с тем рака представляет собою и культурно-исторический памятник исключительного значения и широко используется по линии антирелигиозной пропаганды.
3 Вес ее, несомненно, далеко не так значителен, как это принято думать, т.к. самая крупная часть сооружения состоит из тонких листьев, положенных на дубовую основу.
Следовательно, такой уникальный и вошедший в музейную работу памятник может оказаться уничтоженным для получения сравнительно ничтожной суммы, что, конечно, вряд ли может считаться целесообразным.
Зав. Отд. Прикл. Иск. С.Тройницкий На подлинном:
Резолюция тов. Саакова. Оставить в Гос. Эрмитаже. 20/1Х-30 г. Верно: Копылов
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 205(177), л. 63.
1 марта 1930 г. № 727/с
Директору Государственного Эрмитажа. Секретно В дополнение и разъяснение телеграммы ГНК от 28/Н-ЗО г. № 50127 сообщается, что в вопросах о передаче выделенного имущества Анти¬
1 Эти номера уже заняты!
II Материалы и документы
382
квариату Вам следует руководствоваться инструкцией для бригады, точное толкование коей допускает непосредственную выдачу отобранного имущества только по бесспорным спискам.
Вещи, значащиеся в спорных списках, ни при каких условиях выдаваться Антиквариату не могут впредь до получения подтверждения об утверждении Главнаукой и разрешения их выдать.
Согласно просьбы Антиквариата Гос. Эрмитажу предлагается незамедлительно выдать Лен. Конторе Антиквариата все предметы, выделенные по бесспорным спискам на оружие и книги.
Зам. Завед. Главнаукой Вольтер Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 157(160), л. 27.
18 июня 1930 г.
Акт N° 477
18-го июня 1930 г. Мы, нижеподписавшиеся, Члены Экспортно-оценочной Комиссии при Правлении Всес. Гос. Экс. Имп. объединения «Антиквариат» — Лиловая Т.Л., Тройницкий С.Н. и Автономов А.А., составили настоящий акт в том, что нами произведена переоценка двух доспехов, оцененных по акту 292 в 87 ООО рублей.
Переоценка — Руб.: 60 000.
№№ №№ Описание Оценка Переоценка
инвент. ввозн. по акту №292
11516 3861 Доспех Максимилиана, первой чет- 12 000 10 000
верти XVI в., нагрудник помечен клеймом мастера Вормса, шлем с контрольными клеймами гор. Ню- ренберга
11517 3862 Доспех боевой, конц. XVI в., оправ- 75 000 50 000
лен. полосами хорошей Нюренберг. раб. (ноги подобраны)
Всего: 87 000 60 000
Оценка по акту № 292: Восемьдесят семь тысяч рублей Переоценка: Шестьдесят тысяч рублей Подписи: Т.Лиловая, С.Тройницкий, А.Автономов Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 1034(70), л. 262.
Акты экспертизы, оценки и передачи предназначенных на экспорт картин и художественных предметов Эрмитажа, Павловского и Строгановского дворцов конторе «Антиквариат».
1 июля — 29 сентября 1930 г.1
13 июля 1930 г.
Протокол № 29 экспортно-оценочной комиссии: Т.Л.Лиловая, М.В.Доб- роклонский, В.Ф.Левинсон-Лессинг, С.П.Яремич.
Рубенс «Портрет Елены Фурман» 79 х 60. Происходит из собр. Павла Строганова. Комиссия считает его безусловным произведением
1 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 1035 (70).
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
383
Рубенса, хотя исполненного в несколько необычной для мастера манере. Ввиду высшего качества комиссия оценивает в 100 ООО р. (л. 10).
14 июля 1930 г.
Акт оценки картин (подписи Т.Л.Лиловой, М.ВДоброклонского, А.П.Кел- лера, В.Ф.Левинсон-Лессинга и С.П.Яремича)
177 картин — оценка 3 082 950 р.
Ван Дейк «Портрет Триеста». 100 000; Рафаэль «Св.семейство с безбородым Иосифом». 1 500 000 р.; Хонхорст «Портрет принцессы Марии Оранской. 300 р. (?); Остаде «Крестьяне в сарае». 5000 р.; Ланкре «Танец под деревьями». 20 000 р.; Тициан «Мужской портрет». 100 000 р. (л. 19).
1 СЕНТЯБРЯ 1930 г.
Из «Антиквариата» — Весьма срочно. Директору Эрмитажа «Просим В/срочного распоряжения о выдаче нам прибывших из провинции и находящихся у Вас на ответственном хранении предметов так называемого сассонидского серебра. Зам. председателя правления Са- муэли» (л. 166).
27 августа 1930 г.
Акт о выдаче 191 гравюры. № 8519—8709 (л. 167).
4 сентября 1930 г.
Акт на обмен. Эрмитаж передает «Антиквариату» картину К.Лоррена «Пейзаж» (кат. № 1433, ГЭ 1782) в обмен на картину также Лоррена «Пейзаж» из собрания Строганова (инв. 18302), причем картины признаны эквивалентными. Подписали Л.Л.Оболенский и Э.И.Богнар (л. 184).
Протокол от 23 августа 1930 г. Комиссия в составе Н.Н.Ильина,
Э.И.Богнара, представителя Наркомпроса В.Н.Лазарева и члена экспертной комиссии Д.А.Шмидта «произвела осмотр части имеющихся в Правлении картин и пришла к следующему выводу: «принадлежащий бывш. собранию Строганова К.Лоррен ранней эпохи «Пейзаж» (инв. 18302) желательно обменять с Эрмитажем на какое-либо более зрелое произведение мастера. Имеющийся ныне в «Антиквариате» мужской портрет Ван Дейка (инв. 18315) представляется настолько интересным, что до отправки за границу его следует опубликовать.
Предложено Д.А.Шмидту» (л. 186).
13 сентября 1930 г.
Акт подписан Л.Л.Оболенским и О.Ф.Вальдгауером. Античные золотые предметы. № 8710—8862 (л.^ 190).
26 августа 1930 г.
Акт № 614 оценочной комиссии: Т.Л.Лиловая, М.В.Доброклонский,
А.П.Келлер, С.П.Яремич, Д.А.Шмидт. 8 картин — оценка 59 500 р. Ф.Ми- рис. «Женский портрет» (1665) из собрания Брюля — 12 000 р.; Тициан. «Св.Иероним» из собрания Кочубей («Старые годы», 1912, январь, с. 28) — 25 000 р.; Я.Рейсдаль. «Марина» — 15 000 р. (л. 217).
12 сентября 1930 г.
Акт № 643 об экспертизе и оценке картин (подписан Т.Л.Лиловой, А.П.Келлером, В.Ф.Левинсон-Лессингом) № 20592—20998 на сумму 313 500 р.
II Материалы и документы
384
Среди них Жерар «Портрет Наполеона» (собственность вел. кн. Николая Михайловича) — 3000 р.; Терборх «Завтрак» (собственность П.Строганова) — 150 ООО р. (л. 243).
23 сентября 1930 г.
Акт об оценке трех картин — 18 000 руб. Две картины Лагрене — 3000 р.; Лемуан — 15 000 руб. №№ 20988—20990 (л. 246).
23 июня 1930 г.
Акт. 23 июня 1930 г. мы, нижеподписавшиеся, Директор Гос. Эрмитажа Оболенский Л.Л. и вр. исп. об. Зав. Отделом Картинной галереи Миллер В.Ф., с одной стороны, и действующий на основании доверенности Всесоюзного Государственного экспортно-импортного объединения «Антиквариат» от 22 июня 1930 г. сотрудник «Антиквариата» т. Каплан, с другой, составили настоящий акт в том, что Оболенский и Миллер сдали, а Каплан принял нижепоименованную картину под № 8062, а именно:
Рафаэль. «Св. семейство с безбородым Иосифом»
Х[олст]. 73,5 х 57, инв. №№ 91/2293.
Основание: разрешение Директора Гос. Эрмитажа Л.Л.Оболенского от 23/VI-30 г. и приказ Особой части по Госфондам ОБЛФО от 21/VI-30 г. за№ 1272.
Настоящий акт составлен в 4-х экземплярах, из коих один для канцелярии Государственного Эрмитажа, второй сдан т. Каплану, третий для Отдела Картинной галереи и четвертый для ОБЛФО.
Сдали: Оболенский, Миллер
Принял: Каплан
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 1034, л. 240.
И сентября 1930 г.
Народный Комиссариат по Просвещению РСФСР Сектор Науки — Государственному Эрмитажу Копия «Антиквариат»
Согласно утвержденного для «Антиквариата» на 4-й квартал плана Вам необходимо выделить для реализации Гос. к-ре «Антиквариат» сас- сонитское серебро на сумму 50 000 руб., скифское золото на сумму 50 000 руб. и два французских портрета на сумму 200 000 руб.
И.о. Зав. Сектором Науки:1
Руковод. художествен, группой: Вольтер
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 157 (160), л. 84.
И августа 1930 г.
Секретно Гос. Эрмитаж Акт № 5
1930 года Августа И дня, Комиссия по выделению в Госфонд предметов из благородных металлов немузейного значения в составе представителей: НКФ — ст. Инспектора Особой Части по Госфондам Ленингр. Облфо — И.Б.Разика, Управления Уполнаркомпроса, Заместителя
1 Подпись неразборчива. — Примеч. ред.
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
385
Директора Государственного Русского музея — К.Т.Ивасенко; Заместителя Завёдывающего Иностранным отделом Ленинград. Областной Конторы Госбанка — Г.Е.Анисимова и Директора Государственного Эрмитажа — Л.Л.Оболенского, действующая на основании правительственного распоряжения от 18/VI-30 г. за № 90/ВЗ, 23 июня и 11 августа произвела обследование предметов из благородных металлов основного и запасного фондов Гос. Эрмитажа нижеследующих Отделов:
1. ОТДЕЛ ВИЗАНТИИ
Из числа просмотренных Комиссией предметов из серебра и золота религиозного культа выделено в Госфонд 392 порядковых номера, согласно при сем прилагаемой описи № 1. Кроме того, по этому Отделу произведено дополнительное выделение предметов религиозного культа в количестве 8 порядковых номеров, поименованных в прилагаемом при сем списке № 2. Все выделенные в Госфонд предметы с Научной частью Отделения Византии согласованы полностью. Причем выделеное в Госфонд имущество, перечисленное в описи № 1, утверждено Управлением У пол наркомпроса полностью.
2. ОТДЕЛЕНИЕ ОРУЖИЯ И БЫВШАЯ ЦЕРКОВЬ
Обследованием установлено, что б. церковь представляет из себя в данное время кладовую разного имущества. В отделении оружия имеется кладовая запасного фонда военного снаряжения. Из числа предметов религиозного культа и военного обмундирования выделено в Госфонд — 321 порядковых номеров предметов, поименованных в при сем прилагаемой описи за № 5, ненужных музею. Выделение в Госфонд этих предметов с Научной музейной частью согласовано полностью.
3. ОТДЕЛ ВОСТОКА
Обследованием установлено, что 22 порядковых номера предметов из серебра и золота, как неимеющих музейного значения, и дубликаты, согласно при сем прилагаемой описи за № 4, выделены в Госфонд полностью и выделение коих с Научной частью Отдела Востока согласовано полностью. Кроме того, в этом Отделе имеется масса китайских золотых разных цветочных изделий, сосредоточенных в 5-ти ящиках запасной кладовой, масса оружия в оправах благородного металла, находящегося в Особой кладовой на выставке Отдела Востока, в запасном фонде отделения оружия и на основной выставке оружия Отдела Прикладного искусства, масса разных серебряных предметов, имеющих дубликаты, сосредоточенных в шкафу № 3 Особой кладовой Отдела Востока и т.д. Часть этих предметов, не только по заключению Комиссии, но и по заявлению Заведывающего Отделом Востока т. Орбелли (так в документе. — Ред.) подлежит строгому просмотру и части ненужного Музею имущества выделению в Госфонд. Отбор на выделение в Госфонд этого имущества Комиссия произвести не могла на том основании, что — эта работа, по заявлению т. Орбелли, требует привлечения научных работников, которые в данное время находятся в отпуске, а также потому, что т. Орбелли не может один дать определение, какие предметы будут нужны для основной, заново устраиваемой выставки Отдела Востока, каковая по производственному плану должна быть за¬
II Материалы и документы
386
кончена через год. Комиссия, учитывая предстоящий спор с Научной частью по каждому предмету в отдельности, а также указанные выше доводы Заведывающего Отделом Востока т. Орбелли, постановила: предложить Администрации Гос. Эрмитажа произвести тщательный просмотр экспонатов и на ненужное Отделу Востока имущество составить в срочном порядке список, который препроводить в Особую часть по Госфондам Ленинградского Облфо.
4. ОТДЕЛ НУМИЗМАТИКИ
Комиссия от обследования этого Отдела воздержалась на том основании, что Отдел Нумизматики получил задание произвести отбор предметов для Конторы Антиквариата и других музеев. Поэтому Комиссия постановила — предложить Администрации Музея произвести выделение в Госфонд медалей и монет и списки таковых выслать в Особую часть по Госфондам Ленинградского Облфо.
5. ОТДЕЛ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Комиссией выделено в Госфонд 24 порядковых номера серебр. предметов, поименованных в при сем прилагаемом списке за № 3. Причем № 24 выделенная в Госфонд Комиссией рака Александра Невского из церкви Александра Невского Лавры, весом около 100 пудов, Заведываю- щим Отделом Прикладного искусства Гос. Эрмитажа С.Н.Тройницким оспаривается, как вещь массивная, имеющая художественное значение. Протест С.Тройницкого при сем прилагается.
Что касается так называемого Петровского зала, в котором в настоящее время имеются: большой портрет Петра I в деревянной золоченой раме, под портретом золоченое деревян. кресло, 1 серебрян, большая люстра, 6 больших серебр. торшеров, 8 больших серебрян, бра, 2 серебрян, консоли-стола и 4 серебр. канделябра, общим весом примерно 50 пудов. Комиссия находит, что все перечисленное выше, серебряные предметы работы XIX века, что этот зал ни в настоящем своем виде, ни в какой-либо иной подаче зрителю, при наличии тронных зал в более законченном виде в других дворцах, не дают ничего нового, тем более, что по новому распланированию эта часть Зимнего дворца, где ныне помещается «Петровская комната» с вышеперечисленной обстановкой, уже не является собственно дворцовым помещением, а отводится под выставочные залы Эрмитажа.
Ввиду чего комиссия постановила:
1) серебрян, люстру — 1 шт.
2) серебрян, торшеры — 6 шт.
3) серебрян, бра — 8 шт.
4) серебрян, консоли — 2 шт.
5) серебрян, канделябры — 4 выделить в Госфонд полностью.
Также Комиссией выделено 7 порядковых нижеперечисленных №№ предметов немузейного значения в кладовой б. церкви Зимнего дворца, а именно:
1. Ларчик серебр. от пистолетов — 1
2. Жетоны серебр. в футлярах ведом, учрежд. импер. Марии Федоровны — 8
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат:
387
3. Накладки разн. серебр. от адресов, альбомов и бюваров — 12
4. Мастерок и кирюшка серебр. от закладки здания — 2
5. Родословное дерево серебр. — 1
6. Рамка с иконы богоматери, золот. — 1
7. Ризы серебр., большие, с икон на стенах в б. церкви — 3 выделение в Госфонд коего согласовано с Научной частью, в лице А.А.Ав- тономова полностью.
Кроме того, в Отделе Прикладного искусства сосредоточено множество разных серебр. и золотых предметов, находящихся на выставке и в кладовых запасного фонда. Комиссия пришла к выводу, что часть этого имущества могла быть выделена в Госфонд без ущерба Музея. Но, приступив к выделению, Комиссия встретила со стороны Заведывающего Отделом в лице т. С.Н.Тройницкого категорический протест в недопустимой форме в виде угрозы отставки, называя действия Комиссии головотяпством. Учитывая такой протест, Комиссия временно, до получения директив, от выделения в Госфонд имущества в Отделе Прикладного искусства Гос. Эрмитажа воздержалась с тем, чтобы сделать об этом предварительный доклад Упол- наркомпроса.
О чем составлен настоящий акт в шести экземплярах.
Члены Комиссии: (подписи)
Автономов
Разик
Оболенский
и одна подпись неразборчивая Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 205 (177), л. 64—65.
13 декабря 1930 г.
Акт 8с
Мы, нижеподписавшиеся, Зам. Директора по Адм.-хоз. части В.В.Чул- ков, Зав. Отделом Запада Т.Л.Лиловая и Консультант Отдела Запада С.Н.Тройницкий, составили настоящий акт в том, что согласно распоряжения Зам. Директора Гос. Эрмитажа тов. Леграна, нами обследованы Отделы Эрмитажа на предмет выявления золота, серебра и платины, не имеющих музейного значения; причем нами обнаружено:
1) В Отделении Византии серебро и золото, не имеющие музейного значения, взятое на учет Комиссией Облфо.
2) В Отделе Востока обнаружено золото в виде оправ от камней, взятое также на учет Облфо.
3) В Скифском отделе золота и серебра не музейного значения не обнаружено.
4) В Отделе Античного общества обнаружено золото в виде оправ на камнях, могущих быть снятыми, о чем дано соответствующее задание.
5) В Отделении Нумизматики дано задание подобрать монеты из золота и серебра все, не имеющие музейного значения.
6) В Отделе Запада выделены: а) ордена и звезды в количестве 59 шт., согласно прилагаемого списка; б) золото и серебро, не нужные От-
II Материалы и документы
388
делу, но имеющие антикварное значение и могущие быть реализованными на валюту, выше стоимости металла.
С.Тройницкий
В.Чулков
Т.Лиловая
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 205 (177), л. 19.
Из материалов по выделению музейных предметов во Всесоюзное объединение «Антиквариат» для реализации за границей с 1 января по 19 декабря 1931 г.1
16 января 1931 г.
Из Отдела Запада переданы 18 свитков торы (№ 9181—9198). Акт подписан Б.В.Леграном и А.А.Автономовым, от «Антиквариата» — Рони- ным. Оценка 4775 руб.
6 мая 1931 г. — переоценка. Сумма та же (л. 5).
26 декабря 1930 г.
Акт № 881 подписан Т. Л. Л иловой, как членом Экспертно-оценочной комиссии В/О «Антиквариат» и А.А.Автономовым — экспертом-кон- сультантом Эрмитажа. Западноевропейское оружие (119 предметов на сумму 84 750 руб.): доспехи-щиты, шлемы, рапиры, пистолеты, шпаги, арбалеты и др. XVI—XVII вв. Оценки от 100—6000 (ружье 1621 г. с инкрустацией, Германия) (л. 30).
30 января 1931 г.
Акт № 1004. Экспертиза и оценка античного золота на сумму 950 675 руб. (№ 23584—23807): пластины, серьги, ожерелья, диадемы, браслеты, булавки, перстни и др. от 50 руб.; бляшка — до 150 000 р. (две пластины с изображением геральдических драконов), 125 000 руб. — пластина золотая, литая, с изображением тигра и верблюда под деревом. Подписал один О.Ф.Вальдгауер (л. 47).
25 января 1931 г.
Акт № 985. Экспертиза и оценка античного золота, доставленного из Эрмитажа и находящегося в помещении «Антиквариата», № 22875— 23027 на сумму 197 281 500 руб. от 200 до 15000 руб. (цепь золотая с подвесками и звериными головками III в. до н.э.). Подписал один О.Ф.Вальдгауер (л. 61).
16 декабря 1930 г.
Акт № 859. Подписан одним М.В.Доброклонским. Экспертиза и оценка миниатюр № 7083—7664 и 7157, 7152 (с пропусками), общая оценка 9382 руб., от 5 руб. — 150 руб. (л. 73).
18 марта 1931 г.
Акт № 1128. Подписан Т.Л.Лиловой и А.П.Келлером. Фарфор с №№ от 9345—18220 с очень большими пропусками. Тарелки мануфактур Яковлева, Соловьева, Щетинина, Нестерова и др. по 40 руб. (л. 90).
19 марта 1931 г.
Акт № ИЗО. Подписан Т.Л.Лиловой, А.П.Келлером, С.П.Яремичем,
В.Ф.Левинсон-Лессингом. 10 картин на сумму 23 950 р. Картины из собрания Семенова, Юсупова, Горчакова. От 100—300 руб. (л. 96).
I См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 1213 (88).
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
389
16 МАЯ 1931 г.
Письмо «Антиквариата» директору Эрмитажа Б.В.Леграну.
«16 марта с/г просили Вас о принятии из наших складов около 200 картин для возврата Эрмитажу (для снабжения провинциальных музеев). 22 марта получили приказ от ЛенОблфо для Эрмитажа... но картины все же до сих пор лежат без движения на наших складах». Подписал Э.Богнар. Резолюция Б.В.Леграна 7 мая. «Поручить Лиловой в 3-х дневный срок закончить приемку» (л. 113).
6 мая 1931 г.
Акт подписан Б.В.Леграном и М.Э.Матье о выдаче «Антиквариату» 23 коптских тканей №№ 9199—9221 (л. 114).
14 мая 1931 г.
Акт об обратном приеме тканей. Приняли М.Д.Философов и К.С.Ляпу- нова (л. 114).
Сектор науки Наркомпроса и Эрмитаж 1
2 ФЕВРАЛЯ 1931 г.
Циркулярное письмо Наркомата Просвещения о передаче всех предметов музейного значения только после утверждения Сектором науки Наркомпроса, согласно декрету ВЦИК и СН РСФСР от 20-VIII- 28 Г. (л. 77).
23 февраля 1931 г.
Предписание за подписью И.К.Луппола о выдаче картин Рафаэля «Св. Георгий» и Рембрандта «Молодая женщина с гвоздикой» (л. 72).
24 апреля 1931 г.
Письмо Наркомпроса директору Эрмитажа т. Леграну о возвращении нерентабельных для реализации музейных экспонатов, выделенных в свое время музеями Антиквариату, последний обязан незамедлительно доставить таковые в помещение запасов Эрмитажа, с указанием их принадлежности тому или иному музею (рассмотреть целесообразность такого возврата).
Подписали: Зав. Сектором науки И.Луппол,
руководитель научно-художественной группой А.Вольтер (л. 82).
26 апреля 1931 г.
Выдайте немедленно Перуджино. Подписал И.К.Луппол (л. 83).
26 апреля 1931 г.
Выдайте «Мадонну Альбу». Подписал А.С.Бубнов (л. 84).
1 АПРЕЛЯ 1931 г.
Просьба выделить для нужд «Антиквариата» 2—3 портрета молодых женщин кисти Виже-Лебрена и Винтергальтера (л. 85). (Вероятно, такой заказ покупателей. — Б .П.).
20 октября 1931 г.
Директору Гос. Эрмитажа Копия: Председателю Правления «Антиквариата»
По вопросу: Упорядочения взаимоотношений Гос. Эрмитажа с «Антиквариатом»
1 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 205 (177).
II Материалы и документы
390
Настоящим Сектор Науки Наркомпроса предлагает дирекции Гос. Эрмитажа в лице товарищей Леграна, Ирбита и Чулкова установить беспрепятственный допуск к осмотру экспозиции и запасов Гос. Эрмитажа представителями «Антиквариата» в лице: Председателя Правления тов. Рутенбурга, члена Правления тов. Прусакова и тов. Богнара, которые имеют право пригласить для консультации и экспертизы нужных им лиц. Без участия перечисленных руководящих товарищей «Антиквариата» никакие сепаратные посещения в целях осмотра сотрудниками «Антиквариата» не допускаются.
Ответственность за выполнение настоящего распоряжения одновременно возлагается как на Директора Гос. Эрмитажа тов. Легран, так и Председателя Правления «Антиквариата» тов. Рутенбурга.
Зав. Сектором Науки НКП И.Луппол
13 октября 1931 г.
Препровождается копия докладной записки члена Правительственной комиссии и зав. Сектором науки т. Луппола т. Бубнову о передаче «Антиквариату»* музейных ценностей. Подписал секретарь комиссии по заграничным командировкам Пинус (л. 102).
Из докладной записки, указанной выше:
«Из Эрмитажа: 1. Фигурка св. Диакона (серебро XVIII в., исправлено — XV в. — Б.П.) — 30 ООО долл. 2. Воин на коне — 20 ООО долл. 3. Лиможский нагрудный знак — 10 000 долл. 4. Бюст Мадонны (кость) — 15 000 долл. 5. Ведерко (кость) — 50 000 долл. 6. Фигура Амура работы Фальконе — 200 000 долл. 7. 2 вазы из кости — 50 000 долл. 8. Крышка переплета с лиможской эмалью — 12500 долл. 9. 4 блюда сасаницкого (так! — Б.П.) серебра — 100 000 долл. 10. Один кувшин большой сасаницкого серебра — 40 000 долл. И. Оружие: 6 шлемов, максимилианов- ский комплект и готический комплект — еще не оценено».
(Все предметы из Павловского, Гатчинского дворцов, «Антиквариата» и Музея Штиглица оценены на сумму 1.200 000 рублей золотом. — Б.П.) Резолюция А.С.Бубнова «Согласен за исключением сасаницкого (так! — Б.П.) серебра»
А.БубноВ' 6.9.31 г.
См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 205 (177), л. 103.
18 ноября 1931 г.
Акты на выдачу упомянутых выше предметов с включением 6 шлемов (инв. 28010—28015), максимилиановского и готического доспехов и 2 гобеленов из Музея Штиглица (инв., по-видимому, «Антиквариата») (л. 118,119). 17 ноября 1931 г.
В Сектор науки Наркомпроса В ответ на № 1605/с от 1/XI-31 г. Государственный Эрмитаж сообщает, что из перечисленных в списке картин не встречают особо серьезных возражений следующие:
1087. Дюжарден. Пейзаж с коровами 936. Дюк. Игорный дом.
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
391
1768. Охтерфельт. Покупка рыбы.
970. Бега. Игроки.
1369. Кальф. Натюрморт.
680. Тенирс. Крестьянин.
3.18.232. А. ф. де Вельде. Скот на пастбище.
3.17.53. Я. де Хем. Натюрморт.
Картина п. 1692, Брейгель. Крестьянская свадьба — передана Антиквариату 27 июня 1930 г.
Следующие картины находятся в Музее Изящных Искусств: 1212. Я[н] д[ер] Хейден. Вид города Ксантена.
518. Я. Брейгель. Пейзаж.
889. Нетшер. Женский портрет.
В отношении следующих картин Государственный Эрмитаж находит необходимым предложить замену их равноценными, но менее важными для Эрмитажа картинами тех же мастеров для того, чтобы, по возможности, не разрушать систематичности собрания:
ВМЕСТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ
1) Берхем. Закат солнца — 1077 Берхем. Пляшущая девушка 1084 (Вейнер, 207)
2) П.Клас. Завтрак. 3.18.91 Клас. Завтрак. 1836
3) Нэр. Ночной пейзаж. 1119 Нэр. Ночной пейзаж. 1121
4) А. Остаде. Деревенские музыкан- А. Остаде. Крестьянское семейство, ты. 951 (воспр. у Вейнера-Хонтш- 946
тенгль 161)
5) Я.Рейсдаль. Деревня в дюнах. Я.Рейсдаль. Дорога на берегу пру- 1148 (Вейнер, 172) да. 1141
6) 1216. Беркхейде. Площадь в Гарлеме. — Эта картина наравне с другой картиной того же художника (п. 1214) являются единственными в собрании видами голландского города. Было бы возможно предложить взамен этой картины один из двух городских пейзажей Я. в[ан] д[ер] Хейдена (пп. 1207 и 1206), типологически и документально для Эрмитажа менее интересных, но художественно не менее ценных. Оба мастера одинаково ценятся на антикварном рынке.
Следующие две картины указаны в списке с неверными номерами, ввиду чего трудно выяснить, какие именно картины данных художников имеются в виду:
991. Флигер. Морской вид.
1928. Хейсум. Цветы в вазе.
Государственный Эрмитаж считал бы возможным выделение только следующих картин этих художников:
XVII. 43. Флигер. Волнующееся море с судами.
3.16.42. Хейсум. Цветы в вазе.
Что касается остальных названных в списке картин, большинство которых относятся к наиболее выдающимся картинам Эрмитажного собрания, то изъятие их нанесет исключительно тяжелый ущерб как полноте собраний Эрмитажа, так и их мировому уровню, уже значительно снизившемуся в результате предшествующих изъятий.
II Материалы и документы
392
Картины эти следующие:
1) Хальс. Мужской портрет.
В настоящее время в Государственном Эрмитаже имеется всего две работы этого крупнейшего после Рембрандта голландского художника. Из имевшихся ранее еще двух его портретов один был передан в Музей Изящных Искусств, а другой изъят по особому распоряжению Наркомпроса. В пределах Эрмитажного собрания голландской живописи, занимающей по полноте одно из первых мест в мире, эти два портрета принадлежат к тем основным звеньям экспозиции, с изъятием которых собрание теряет научно-организованный характер и превращается в случайное нагромождение материала.
2) Терборх (Вейнер 175, 177, 178), Питер де Хох, Метсю.
В заявке не указаны определенные произведения этих художников.
Картины этих художников — крупнейших голландских мастеров — принадлежат к наибольшим драгоценностям Эрмитажного собрания и являются теми краеугольными камнями всего собрания голландской живописи, с изъятием которых в Эрмитаже нельзя будет дать представления об основных устремлениях и достижениях голландского искусства. После размежевания с Музеем Изящных Искусств в Эрмитаже остались лишь безусловно необходимые для его собрания картины этих художников. Три картины Терборха, в том числе такое капитальное произведение, как «Концерт» (Вейнер, 179), были переданы в «Антиквариат». П. де Хох представлен в Эрмитаже всего двумя картинами, одна из которых ярко характеризующая высший этап его творчества, является одной из самых ярких и типичных голландских картин всего собрания («Госпожа и кухарка» Вейнер-Хонтштенгль, 167), а вторая (Вейнер-Хонтштенгль, 162), относящаяся к поздним работам художника, важна для характеристики эволюции идеологии голландской буржуазии в переломную эпоху середины 17 века. Ни одна из картин Терборха и П. де Хоха не может быть изъята из Эрмитажа без нанесения его собраниям исключительно тяжелого ущерба. Что касается Метсю, то в случае крайней необходимости было бы возможно выделить следующие две картины этого художника:
1838. Швея.
Кавалер и дама. Эта картина считается некоторыми крупными специалистами работой Питера де Хоха.
3) Я.Рейсдаль. Речка в лесу. 1138.
Капитальное произведение крупнейшего пейзажиста Голландии, в такой же степени необходимое для Эрмитажа, как указанные выше картины.
4) Стэн. Гуляки. 1788 (Вейнер, 192)
Стэн. Сцена в шинке. (Вейнер, 898)
Стэн наиболее разносторонний из бытовых живописцев Голландии, ярко отразивший колеблющуюся идеологию мелкой буржуазии, характеристика которой возможна только при наличии нескольких картин художника. Картина «Гуляки» является наиболее значительной из Эрмитажных картин мастера. После размежевания с Музеем Изящных Искусств
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат:
393
в Эрмитаже остались лишь безусловно необходимые для полноты его собрания картины художника.
5) 3.18.28. С.Рейсдаль. Вид на реке.
Наиболее яркий и типичный образец раннего голландского пейзажа в Эрмитаже. Близкая по мотиву и качеству картина художника была передана ранее в «Антиквариат».
6) Гойен. Зима. 1129 [Гойен]. Пейзаж. 1128
Как и предыдущая картина, являются наиболее яркими образцами голландского пейзажа в Эрмитаже. Сравнительно богато представленный раньше в Эрмитаже художник, после передачи нескольких его картин в Музей Изящных Искусств и в «Антиквариат», представлен в настоящее время лишь абсолютно необходимым минимумом.
7) Кейп. Закат солнца. 1101.
Этот крупнейший представитель голландского пейзажа второй половины 17 в. охарактеризован в Эрмитаже в недостаточной мере, особенно после размежевания с Музеем Изящных Искусств, ввиду чего данная картина особенно важна для его собрания.
8) Амбергер. Два парных портрета (Вейнер, 264, 265).
9) Кранах. Сивилла Клеве (Вейнер, 268).
10) И.Остаде. Замерзшее озеро. По тем же соображениям необходима для полноты собрания.
Эти три картины являются основными памятниками чрезвычайно бедно представленной в Эрмитаже немецкой живописи 16 века, с изъятием которых эта часть его собрания будет разрушена.
Директор
Гос. Эрмитажа Легран
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 205 (177), л. 113-114.
Списки и акты передачи музейных предметов из Эрмитажа в другие музеи и учреждения. 3 января — 27 июня 1931 г.1
21 октября 1930 г.
Сектор науки НКП предлагает Эрмитажу срочно выделить из фондов Музея художественного производства для краевого музея в Хабаровске (приведен список рисунков, гравюр, оружия, фарфора, античных предметов, прикладного искусства, картин первоклассных) (л. 220). (Чем вызвано такое отношение к Хабаровску? — Б .П.).
31 декабря 1930 г.
Письмо Сектора науки Наркомпроса РСФСР о выявлении и направлении в Исторический музей нумизматических собраний музеев: 1) краеведческие и областные музеи должны прислать подлежащие сдаче коллекции не позднее 1 февраля в Исторический музей; 2) Эрмитаж, Русский музей, Музей изящных искусств должны немедленно прислать в Исторический музей уже подготовленные к сдаче коллекции и всю передачу закончить к 1 марта 31 г.; 3) Исторический музей должен незамедлительно начать передачу СФА2 как своих, так и полученных
1 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 1214, т. 1.
2 Советская филателистическая ассоциация. — Примеч. ред.
II Материалы и документы
394
собраний, но (так в тексте, вероятно, нужно читать не. — Б.П.) задерживая выполнение договора.
Подписали: зав. Сектором науки И.Луппол, уч. специалист С.Бессонов (л. 2).
Декабрь 1930 г.
«Сектор науки НКП предлагает из фондов Эрмитажа выделить 15 картин для Наркоминдела (для полпредств). Списки выделенных картин прислать в Сектор науки». Подписали: зам. зав. Сектором А.Камчеев, руководитель научно-художественной группой А.Замошкин (л. 12).
7 февраля 1931 г.
Упакован один ящик с 296 монетами для отсылки в Москву, в Исторический музей. Подписали: МД.Философов, Н.П.Бауер, А.Н.Зограф (л. 21).
Списки: монеты античные, восточные, западноевропейские и русские слитки; древнегреческие (Акрагант, тетрадрахма; Сиракузы, декадрахма; Афины, тетрадрахма VI в., много македонских Филиппа и Александра); Армения, Тигран, тетрадрахма; Пантикапей; Иудея; восточные монеты, западноевропейские; византийский солид Ираклия с сыном; русские слитки, новгородские гривны (всего 293). Подписали: Н.П.Бауер, А.Н.Зограф, Р.Р.Фасмер, А.А.Ильин (л. 25-32).
31 января 1931 г.
Из рапорта Директору Эрмитажа — и.о. зав. отделом нумизматики Н.П.Бауера.
Закончено выделение 198 экземпляров монет со снятием со всех гипсовых оттисков и оформления изъятия. Однако «подобное изъятие нарушает принцип научного подбора, которого мы придерживаемся при разработке собрания. Нарушение этого принципа ставит под вопрос возможность научной работы» (л. 25).
12 марта 1931 г.
Акт об отправке одного ящика с 733 монетами для Советской филателистической ассоциации (СФА) (л. 86).
Далее списки монет (л. 100-122): греческие (включая боспорские) 1—301; западноевропейские 302—675; русские монеты 676—733. Подписали: Н.П.Бауер, А.А.Ильин, А.Н.Зограф (л. 86).
Отправка новой партии монет 13 544 экз. (из них русских — 10 764, античных —1472 (римские монеты), западноевропейских — 1308 (л. 152-158).
8 апреля 1931 г.
Акт о передаче в Филателистическую ассоциацию 2270 западноевропейских монет с XV по XX в. (л. 347).
9 июня 1931 г.
Список монет (западноевропейские монеты — 2270 шт.), направляемых в Филателистическую ассоциацию в Москву (л. 267).
7 июня 1931 г.
Рапорт Н.П.Бауера Директору Эрмитажа «Для комиссии Эйферта, работавшей в Эрмитаже весной 1930 г., были мной отобраны серебряные и медные монеты из имевшихся у нас дублетов западноевропейских монет. Так как комиссия не требовала их и
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
395
работа ввиду многочисленности монет затянулась, список в Сектор науки на эти монеты не был передан. Из них мною было выделено 2270 экземпляров, когда Сектором науки было предложено, в обеспечение составления собрания для Украины, 50% имеющихся у нас Эйфертовских монет задержать и не высылать Филателистической ассоциации. Ныне прошу Вашего разрешения, представляя при сем список вышеназванных 2270 западноевропейских монет, отослать (л. 355).
Таким образом, для экспорта в 1931 г. выделено 16 743 монеты.
Документы о передаче музейных предметов Наркомвненггоргу. 1931 год1
4 января 1931 г.
Акт № 4с о передаче Госфонду (инспектор Федорова) и Монетному двору (т. Иванов) «церковного имущества» (серебро и золото). Передача утверждена тов. Сааковым. Сдали: Б.В.Легран, Л.А.Мацулевич (л. 1).
Опись церковных предметов из золота и серебра, выделяемых из Гос. Эрмитажа (оклады икон, паникадила, лампады, потиры, кресты и др.). Подписал Л.А.Мацулевич (л. 10).
Письмо за подписью директора Б.В.Леграна и зав. секретной частью Эрмитажа М.И.Кулиманина о том, что перечисленные в списке предметы (см. л. Ю) «не нужны Эрмитажу, не имеют антикварного значения и могут быть реализованы на валюту выше стоимости металла» (л. 18). Список орденов, выделяемых в Отделе Запада (л. 20).
Список серебряных изделий, преимущественно XIX в., с указанием мастеров и дат (л. 22). Теперь бы их приобрели через Закупочную комиссию за солидную сумму!!
Список золотых изделий (кресты, кольца, подвески, булавки, часы, цепочки). Общий вес золотых часов с механизмом 1366,5 гр. Общий вес других предметов с эмалью и номерками 2320,2 гр. (л. 27).
Материалы о передаче художественных ценностей из Эрмитажа Всесоюзной конторе «Антиквариат». 1932 год
7 января — 11 декабря 1932 г.
Архивные материалы о передаче музейных ценностей свидетельствуют, что за период с 4 января по 17 июня 1932 г. передано В/О «Антиквариат»: 183 картины, из них 98 второстепенного значения; 20 рисунков; 31 гравюра; серебро — 275 предметов; золото — .33; бронза — 46, олово и свинец — 11; фарфор — 188 предметов; стекло — 49; мебель — 91 предмет.
04.01.32. 9314-9324 11 предметов из олова и свинца. Западная Европа
XVI-XVIII вв.
04.01.32. 9325—9353 9 рам с расписными стеклами, 4 стеклянных со¬
суда конца XV—XVIII вв., плакетки свинцовые и бронзовые (16 шт.) XV—XVII вв.
1 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 205(177).
II Материалы и документы
396
07.01.32.
9354-9378
9 предметов английского серебра (5 номеров), 20 картин (приписка: Браувер «Гуляки», Поттер «Молодая молочница», Остаде «Замерзшее озеро» — временно оставлены)
08.01.32.
9379-9509
31 гравюра
13.01.32.
9510-9529
20 рисунков
01.02.32.
9530-9562
33 картины (Тенирс «Музыкант» и др.)
09.02.32.
9563-9581
19 картин
07.03.32.
9582-9620
39 номеров мебели (фактически 56 предметов)
08.03.32.
9621-9645
25 номеров бронзы, фигурные часы, канделябры (фактически 35 предметов)
14.03.32.
9646-9658
13 предметов фарфора (фактически 53 предмета)
16.03.32.
9659-9680
серебро, 22 предмета XVII—XVIII вв.
21.02.32.
9681-9721
фарфор, 41 предмет
21.03.32.
9722-9764
фарфор, 42 предмета
03.04.32.
9765-9769
5 китайских фарфоровых предмета из Отдела Востока
04.04.32.
9770-9827
58 номеров серебряных предметов (фактически 75 предметов)
31.03.32.
9828-9875
48 фарфоровых изделий
03.04.32.
9876
Винтергальтер «Портрет кн. Юсуповой»
11.04.32.
9877
серебро, 23 номера (фактически 173 предмета)
28.03.32.
9878-9909
32 золотых предмета, преимущественно табакерки — 47
28.03.32.
9910
табакерка золотая Огюста
28.03.32.
9911-9946
35 предметов мебели
04.04.32.
9947-9957
11 предметов бронзы, серебра, фарфора
9958-9979
отсутствует акт на 22 предмета
14.04.32.
9980-10077
98 картин, по-видимому второстепенных
17.05.32.
10078-10101
24 предмета расписного стекла XVI—XVII вв.
17.06.32.
10102-10113
12 картин (Тенирс, Моленар)
В актах за 1932 г. (от 1 февраля, 9 февраля, 14 апреля, 17 июня) названы, например, следующие картины, переданные в «Антиквариат»: Тенирс «Жанр» (592), «Деревенский пейзаж» (1721), «Музыкант» (579), «Игра в карты» (6431), «Мужчина с кружкой» (7710); Хереманс «У корчмы»; Винтергальтер «Царский портрет» (4499); Крафт «Женский портрет» (5107); В. дер Неер «Женский портрет» (2073); Моленар «Завтрак» (2846),«Зимний пейзаж» (1960); Неффе «Собор» (1893), «Внутренний вид церкви» (1891); Браувер «Жанр» (3066); Воуверман «Кузница» (1738).
См. Архив ГЭ, оп. 5, ед. хр. 1383 (95), л. 49, 50, 160, 183.
Относительно произведений живописи впечатление такое, что хранители галереи избавлялись от не экспозиционных картин. Все бралось из запасников. Ныне же через Закупочную комиссию мы покупаем, причем за большие суммы, много не экспозиционных картин.
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
397
29 января 1932 г.
Акт № 41/с Секретно
29 января 1932 года мы, нижеподписавшиеся, Председатель Правления В/О «Антиквариат» Рутенбург, с одной стороны, и Директор Гос. Эрмитажа т. Легран — с другой, составили настоящий акт в том, что Рутенбург сдал, а Легран принял на временное хранение с правом передачи в экспозицию 3 картины:
1) Рембрандт — «Аман»
2) Рембрандт — «Портрет молодого человека»
3) Рафаэль — «Мария с Христом и безбородым Иосифом».
О чем и составлен настоящий акт в 2-х экз., из коих один передан Гос. Эрмитажу, второй хранится в секретных делах Антиквариата.
Сдал: Пред. Правления Антиквариата: Рутенбург Принял: Директор Гос. Эрмитажа Легран Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 156 (204), л. 16.
20 марта 1932 г. № 134/сс
Правление В/О «Антиквариат» — Гос. Эрмитажу. Мобилизационная часть Совершенно секретно Просим Вас сообщить, не сочтете ли Вы возможным отвести нам достаточно вместительную кладовую, куда могли бы быть свезены все ценности Антиквариата, не подлежащие эвакуации на случай объявления мобилизации.
Ремонт, если потребуется, мы произведем своими средствами.
Г. Прусаков
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 234 (203).
13 октября 1932 г.
Акт № 83/с 1 Секретно
13-го Октября 1932 года мы, нижеподписавшиеся, Директор Гос. Эрмитажа Легран Б.В., с одной стороны, и член Правления Гос. К-ры В/О «Антиквариат» т. Богнер, с другой, составили настоящий акт в том, что Легран сдал, а Богнер принял на основании распоряжения Сектора Науки от 11/Х с.г. за № 2425/с реликвии Наполеона I:
4718 Модель коронационной туфли Наполеона.
4721 Личная печать Наполеона с гербом и цепью Почетного] Легиона, резана на сердолике резчиком Санторелли.
4083 Маленький крест ордена Поч. Легиона, принадл. Наполеону.
4716 Дорожная туалетная шкатулка имп. Наполеона с серебрян, золоч. прибором, состоящ. из 53 предмет, работы Бьенне.
2213 Шпага с золотым эфесом раб. Бьенне с герб, и вензел. Наполеона I. 2228 Два пистолета со стволом вороненой стали с зол. и серебр. орнамент. 4713 Серебряный кофейный сервиз с вензелем Наполеона, захвачен, при Ватерлоо прусским пехотным полком Ф.Лютцова.
1 Документ воспроизводится в соответ¬
ствии с его написанием имен и названий. — Примеч. ред.
И Материалы и документы
398
2682 Серебрян, золочен, чернильница, раб. Одно с портр. Летиции Бо- нопарт.
147 Серебрян, знак Вестерильск. ордена установлен, корол. Жеромом в 1809 г.
6227 Бокал хрустальн. с гербом и вензелем короля Жерома.
4697 Золотая табакерка с изображен, рельефов с колонны Трояна. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, из коих один — для Гос. К-ры В/О «Антиквариат», второй — хранится в Секретной части Гос. Эрмитажа. Сдал Б.Легран Принял: Э.Богнер Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 156 (204), л. 70.
О передаче в Эрмитаж художественных ценностей из учреждений и от частных лиц 2 июля 1932 г. — 1 декабря 1932 г.1
4 июля 1932 г.
Возврат из «Антиквариата». Принято 99 картин согласно прилагаемого списка. Отпущено со склада «Антиквариата» Эрмитажу «безвозмездно» (л. 14).
Акт от 4 июля 1932 г. на 36 картин. Сдал представитель «Антиквариата» Д.Н.Дарьяновский, приняла Р.М.Хай. (Списка в деле нет. — Б.П.) (л. 22).
КАРТИНЫ, ВОЗВРАЩЕННЫЕ С АУКЦИОНА ЛЕПКЕ
Акт от 29 сентября 1932 г. «Мы, нижеподписавшиеся, Уч. секретарь Гос. Эрмитажа Кислицын И.А. и сотрудник В/О «Антиквариат» т.Дарьянов- ский составили настоящий акт в том, что на основании приказа Облфо от 1 августа с/г за № 3593 Антиквариат закрепил за Эрмитажем находившиеся за Эрмитажем на ответственном хранении нижеперечисленные предметы и картины в количестве 105 номеров — 110 предметов.
11. Лоренце Лоти [Лоренцо Лотто] «Портрет супругов» (2129); 12. Рембрандт «Старуха с библией» (2333); 30. Ван Дейк «Портрет ученого» (13296); 31. Ван Дейк «Портрет дамы» (13299); 32. Пуссен «Вакханалия» (1830); 33. Пуссен «Отдых в пути» (18301); 38. Ван Дейк «Мужской портрет» (18315); 81. Рембрандт «Христос и самаритянка» (20996); 83. Буше «Триумф Венеры» (21043); 84. Буше «Туалет Венеры» (21044) (л. 96).
«Отбракованные картины». Список картин, предназначенных для передачи в музеи: Гатчина — 9; Музейный фонд — 7; Павловск — 4; Аничков дворец — 1; Москва (ГМИИ) — 9; Рыбинск — 2; Детское Село — 2; Русский музей — 2; Эрмитаж — 67; остальные без указания прежнего места хранения (л. 15).
Документы Зав. Отделом Запада Т.Л.Лиловой, о передаче художественных ценностей из Эрмитажа. 1932—1933 гг.2
Докладные записки Т.Л.Лиловой Директору Эрмитажа Б.В.Ле- грану против продажи в «Антиквариат» памятников искусства. О запрете продавать оставшиеся произведения великих художников3 (л. 1-6).
1 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 1379.
2 В Архиве Эрмитажа (ф. 1, оп. 5, ед.
хр. 1521а) находятся копии документов. — Примеч. ред.
3 По-видимому, 1933 г.
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат:
399
Письмо Т.Л.Лиловой И.В.Сталину (дата «лето 1933»). Послано через секретную часть (КПК Пб). В сентябре т.Стецкий вызвал в ЦК Леграна и Лиловую и сообщил Постановление Политбюро о запрещении продавать предметы из экспозиции Эрмитажа (л. 7).
Письмо Б.В.Леграна и Т.Л.Лиловой в Сектор науки Наркомпроса против продажи эрмитажных ценностей с указанием на чрезвычайно заниженные цены. Выражено несогласие по поводу продажи фарфора, предметов лиможской эмали и ведерка из слоновой кости Оттона III (л. 8).
ДОКЛАДНАЯ Т.Л.ЛИЛОВОЙ
Директору Эрмитажа:
«10 января [1933 г.?] я видела у председателя Правления Антиквариата Н.Н.Ильина список уникальных картин из Эрмитажа, который он собирался представить т.Розенгольцу (Пуссен — «Исторический ландшафт с Геркулесом» и «Ландшафт с Полифемом»; Клод Лоррен — два пейзажа из серии «Моменты дня»; Ланкре — «Танцовщица Камарго» и «Концерт в парке»; Симоне Мартини — «Мадонна»; Филиппино Липпи — «Поклонение младенцу»; Джорджоне — «Юдифь»; Рафаэль — «Мадонна Конес- табиле»; Мурильо — «Мальчик с собакой»; Питер де Хох — «Госпожа и служанка») (л. 9).
Письмо [б/д] Т.Л.Лиловой в Музейный отдел Наркомпроса Ф.Я.Кону о продолжении попыток продавать скульптуры, вопреки запрещению Политбюро. К тому же указывается, что оценки значительно занижены.
«Другие, поименованные в списке, были предметом запроса в течение 1932—33 годов и рассматривались в различных комиссиях Наркомпроса, комиссии тов. Беленького и кончая Совнаркомом и всюду Антиквариат получал отказ» (л. 10).
28 января 1933 г.
Письмо Б.В.Леграна и Т.Л.Лиловой Оголу (Наркомпрос) против-про- дажи скульптуры. О заявке «Антиквариата» за подписью С.Н.Тройниц- кого. Упоминается приезд в сентябре 1931 г. антиквара Дювина. Оценка комиссии Наркомпроса в составе Воробьева, Клейна и Лазарева. Высокая оценка майолики была сделана специалистами Эрмитажа проф. Кубе и проф. Келлер (л. И).
21 августа 1933 г.
Список произведений, прилагаемых к выделению из Отдела западноевропейского искусства Гос. Эрмитажа, против выдачи которых Наркомпрос решительно возражает: Морланд, Клодион, фаянс Сен-Поршер, лиможская эмаль, водолей и др. на сумму 160 ООО р. (л. 12,13,14).
21 августа 1933 г.
Возражения Наркомпроса против выдачи предметов из Отдела Востока. 1. Ваза Фортуни (50 ООО р.). 2. Ваза майоликовая персидская ок. 1300 г. с изображением игры в поло (60 000 р.). 3. Лампа горного хрусталя арабской работы IX в. (35 000 р.) и четыре других предмета (л. 16).
IT Материалы и документы
400
Перечисление картин и предметов прикладного искусства по школам, считающихся «первоклассными», с разделением на «шедевры» и «особо выдающиеся», с указанием, что выделено в «Антиквариат» (А), в свое время было передано в Москву (М), с итогами сколько было предметов и сколько осталось. К спискам приложены ацнотации с указанием, какое место в мире занимала данная коллекция и какое стала занимать после выделения шедевров и особо выдающихся произведений (л. 19-36).
Сведения о картинах Рембрандта. Отмечено 47 картин, с разделением: «шедевры» («Даная», «Блудный сын»), «особо значительные» картины, из которых из Эрмитажа ушло 14; «значительные» 21 — ушло 4, четыре картины сомнительные. В «Антиквариат» — 11, в Москву — 6; возвращен в Польшу — 1 (л. 33, 34).
Список так называемых «шедевров», выданных «Антиквариату» с экспозиции Эрмитажа в течение 1930—1932 гг., 65 номеров, из них возвращены: Рафаэль «Мадонна с безбородым Иосифом»; Рембрандт: «Портрет молодого человека», «Портрет старика», «Аман в немилости», «Христос и самаритянка», «Старушка с библией»; Ван Дейк «Портрет женщины с ребенком» и «Портрет Рубенса с сыном» (л. 39, 40).
Передано в «Антиквариат» (А) и в Москву (М)
1. ФЛАМАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ 17 в.
а) Рубенс: «Портрет Елены Фурман» (А); «Вакханалия» (М); «Пейзаж с радугой» (А); два эскиза триумфальных арок (М).
б) Ван Дейк: «Изабелла Брант» (А); «Сусанна Фурман» (А); «Филипп Уортон» (А); «Портрет молодой женщины» (А); «Портрет Ва- увера» (М).
в) Снейдерс «Натюрморт» (А); Тенирс «Семейный праздник» (А), «Сельский праздник» (М) (л. 19).
2. ПРЕДМЕТЫ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 8-14 вв.
Кропильница резной кости IX—X вв. (А), серебряная подставка для креста (А), серебряная чаша (А), эмаль, рипида (А), пластина с Древом познания (А), пластина с двумя ангелами (А), XIII в., реликварий св. Елизаветы (А), реликварий в виде руки (А), дарохранительница в виде голубя (А). В 1930 г. выдано 2 предмета французских эмалей 13 в. (А), монстранц св. Генриха (А), монстранц с 12-тью апостолами (А) (л. 20, 21).
3. ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Бароччи «Голова в профиль» (М), Хоршфогель «Всадник» (А), Тобиас Штаммер: герб (А) и витраж с аллегорией (А), витраж (М), Мануэль «Юноша и ростовщик» (А), Христоф Маунер — большой витраж (М), витраж с двумя святыми (А) (л. 22-24).
4. ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ 13-18 вв.
Боттичелли. «Поклонение волхвов» (А); Перуджино Триптих (А); Чима де Конельяно «Оплакивание» (М); Перуджино «Мадонна» (М); Ботти-
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
401
челли «Благовещение» (М), «Св. Иероним» (М); Рафаэль «Мадонна Альба» (А), «Св. Георгий» (А); Тициан «Венера с зеркалом» (А); Больт- раффио «Св. Людовик» (М); Тициан «Христос в терновом венке» (М, картина погибла); Б.Луини «Мадонна» (М); Веронезе «Вознесение Христа» (М), «Моисей, спасенный из воды» (М), «Минерва» (М); Креспи «Св. семейство» (М); Фети «Давид» (М); Карраччи «Явление Христа» (М); Гвидо Рени «Поклонение пастухов» (М); Гверчино «Св. Себастьян» (М), «Вера» (М), «Явление Мадонны св. Лаврентию» (М); Тьеполо «Пир Клеопатры» (А); Каналетто «Обручение дожа с морем» (М); Тьеполо «Смерть Дидоны» (М) (л. 25, 26).
5. ИСПАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ И РЕМБРАНДТ
Веласкез «Иннокентий X» (А); Мурильо «Девочка с цветами» (М); Переда «Натюрморт» (М);
Рембрандт: «Даная» (А), (ошибка? — Л.Я.), «Титус» (?), «Ян Собесский» (А), «Портрет женщины с гвоздикой» (А), «Девушка с метлой» (А), «Портрет пожилой дамы» (М), «Пейзаж» (А), «Монах» (А), «Иосиф и жена Пентефрия» (А), «Отречение Петра» (А), «Неверие Фомы» (М), «Паллада» (А), «Турок» (А), «Голова Христа» (А), этюд головки (А) (л. 27).
РИСУНКИ
6. ФРАНЦИЯ
Круг Демустье, 6 рисунков (А); Пуссен «Смерть» (М); Ватто, декоративный картуш (А); Буше, рисунки (9 рисунков, А); Хиэ (5 рисунков, А); Ле Пренс (4 рисунка, А); Натуар (2 рисунка, А); Фрагонар (3 рисунка, А); Гюбер Робер (8 рисунков, А); Грёз (7 рисунков, А); Сент Обен (1 рисунок, А); Моро (4 рисунка, А); Моро Младший (5 рисунков, А); Лавренс «Портрет Густава IV» (А); Бларенберг «Битва» (А); Ланкре «Стоящая дама» (А), «Два негра» (А); Перке (10 рисунков, А) (л. 28-30).
7. ГЕРМАНИЯ XV-XVI вв.
Дюрер «Автопортрет» (А); Кранах «Крещение» (А); Альтдорфер «Крещение» (А), «Деревья» (А); Урс Граф «Мадонна» (А), «Фантазия» (А); Линдмалер, витраж (А) (л. 31).
8. ИТАЛИЯ
Тьеполо (3 рисунка, А), 6 рисунков (М); Гварди (1 рисунок, М) (л. 32).
9. РЕМБРАНДТ
«Иосиф и жена Пентефрия» (А), «Отречение Петра» (А), «Неверие Фомы» (А), «Портрет старушки» (М), «Паллада» (А), «Портрет Сабес- ского» (А), «Голова Христа» (А), этюд головы (А) (л. 33, 34)1.
В Архиве ГЭ имеется следующий документ:
В Министерство Госконтроля СССР
СПРАВКА
Подлинных актов, ведомостей или списков от 1 февраля 1927 г., 28 мая 1933 г. (входящий № 657) и 25 октября 1934 г., подтверждающих передачу из Государственного Эрмитажа в «Госфонд» и Всесо-
1 См. лист 27, там упомянуто значительно больше картин.
II Материалы и документы
402
юзное Объединение «Антиквариат» (он же «Госторг») картин, в архивных материалах Гос. Эрмитажа по состоянию на 31 декабря 1952 г. не обнаружено.
Ленинград 31 декабря 1952 г.
И.о. ст.научного работника Архива Гос. Эрмитажа
В. Колокольникова
Документы о передаче предметов В/О «Антиквариат»
7 января — 31 декабря 1932 г.1
8 января 1932 г.
В правление «Антиквариата». Гос. Эрмитаж просит оставить на временное хранение три картины: 937 — Браувер «Гуляка», 954 — Остаде «Замерзшее озеро», 1054 — Поттер «Молодая молочница». Подписал Б.ВЛег- ран (л. 2).
17 января 1932 г.
«Ввиду необходимости отгрузки наших грузов на Гамбург 20-го с.м. и двух полученных телеграмм о срочной отправке проданного Дювину Оранниенбаумского стола за № 1712, прошу Вас, в силу полученного Вами распоряжения, срочно выдать его, во избежание крупных для нас неприятностей». Подписал Г.Прусаков (л. 3).
21 января 1932 г.
Б. В. Леграну
«24 ноября, согласно извещения н/сектора науки НКП Эрмитажу надлежало выделить для «Антиквариата» 40—50 голландцев (ценою от 100 марок и выше). В переговорах с тов. Левинсон-Лессингом по поводу этого выделения мы согласились на передачу в счет этих 40—50 картин мелких фламандцев и французов. И вот прошло два месяца, а отбор все еще не произведен. Тов. Левинсон-Лессинг считает для себя допустимым в течение вот уже 3-х недель обещать закончить отбор, уславливаться с нами о приемке, и систематически не выполнять своих обещаний. Между тем в конце января должен приехать к нам покупатель как раз на этого рода картины.
Прошу Вас вмешаться в это дело и распорядиться о срочном отборе для нас картин.
Если же этот отбор затрудняет Ваших работников, прошу [разрешить] эту операцию произвести нашими работниками, согласно имеющегося у Вас соответствующего распоряжения на этот счет Сектора Науки.
Список намеченных к передаче нам в этом случае картин мы, естественно, представляем на Ваше усмотрение». Подписал Г.Прусаков (л. 7).
23 февраля 1932 г.
Письмо Б.В.Леграна в «Антиквариат», в котором Эрмитаж извещает о том, что он не может выдать 22 предмета по списку № 11,.так как они находятся на экспозиции или входят в план ближайших экспозиций (это
1 Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 156 (204).
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
403
все мебель). Эрмитаж может выдать эквивалентные вещи на ту же сумму по списку № 13 (л. 18).
3 марта 1932 г.
Из письма Б.В.Леграна в «Антиквариат» «Лондонское серебро очень редко вообще, а многие из упомянутых в списке предметов являются к тому же вещами первоклассными и для экспозиции совершенно необходимыми, ввиду чего, конечно, выданы быть не могут» (л. 29).
3 марта 1932 г.
Зав. Сектором Науки Наркомпроса РСФСР т.Лупполу
Секретно
Просим дать распоряжение Директору Гос. Эрмитажа о выдаче «Антиквариату» серебряной дракодрахмы (исправлено на «декадрахмы»), за которую мы имеем твердое предложение 30 ООО г.м.
Директор Эрмитажа т.Легран не возражает против выдачи. Для Вашего сведения сообщаем, что покупатель оговорил действие сделки кратким сроком. Подписал Брук (л. 37).
4 мая 1932 г.
Акт о передаче «Антиквариату»: 1) монстранец серебряный золоченый с эмалью императора Генриха, 2) монстранец серебряный золоченый с эмалью «Двенадцать апостолов», 3) серебряная фигура св. Христофора. Сдал Б.В.Легран, принял Н.Н.Ильин (л. 46).
17 июня 1932 г.
Акт № 53а. Секретно. О передаче «Антиквариату». 1. Рембрандт «Отречение Петра». 2. Рембрандт «Пейзаж». 3. Амброзиус Гольбейн «Портрет молодого человека»; Подписали Лиловая, Прусаков (л. 53).
28 июля 1932 г.
Акт о передаче картины Пуссена «Триумф Амфитриты» (л. 58).
26 сентября 1932 г.
Акт о передаче картины Рубенса «Ландшафт с радугой» (л. 66)'.
31 декабря 1932 г.
Акт 106с, подписанный Леграном и Богнаром, о передаче на основании распоряжения Наркомпроса (А.С.Бубнов) от 28 декабря 32 г. за № 2920 «Антиквариату» картины художника Тьеполо «Пир Клеопатры» (л. 86).
Акт о сохранности составлен 1 января 1933 г., под занавес распродажи!
Список выбывших по инвентарю картин. 1929—1933 2
инв. Ms название картины
куда выдано
дата выдачи
ИНВ.1
85
Рафаэль. Св. Георгий
(Меллон)
д. И с. 1931
88
Рафаэль. Мадонна Альба
(Меллон)
д. И с. 1931
157
Боттичелли. Поклонение волхвов
(Меллон)
д. И с. 1931
158
Веронезе. Дочь фараона находит
(Меллон)
д. И с. 1931
Моисея
187
Тьеполо. Пир Клеопатры
(Австралия)
Акт 106-с. 1932
254
Перуджино. Триптих
(Меллон)
Акт 49-с. 1931
1 Все составлено наспех, неряшливо, а предписания НКП на маленьких бланковых листах. Экономия бумаги!
2 Оформлен 18 апреля 1952 г.
II Материалы и документы 404
373
Веласкез. Иннокентий X
(Меллон)
Акт 105-с. 1930
412
Ян ван Эйк. Благовещение
(Меллон)
Акт 60-с. 1931
418
Ян ван Эйк. Две створки триптиха
(Меллон)
Акт 33-с. 1933
421
А. Мор. Томас Грешем
Акт 17-с. 1931
422
А. Мор. Леди Грешем
Акт 17-С.1931
440
Д.Боутс. Благовещение
(Гюльбенкян)
Акт 76-с. 1929
481
Рубенс. Елена Фурман
(Гюльбенкян)
Акт 11-с. 1930
ИНВ. II
530
Ван Дейк. Портрет молодой женщины
Акт 11-с. 1930
535
Ван Дейк. Портрет Изабеллы Брандт (Рубенс? — Б Л.)
Акт 80-с. 11-VIII-1930
554
Ван Дейк. Портрет Филиппа Уортона
Акт 22-11-1930
571
Тенирс. Сцена в кабачке
(Антиквариат)
Акт 7-1-1932
579
Тенирс. Деревенский музыкант
(Антиквариат)
Акт 19-11-1932
592
Тенирс. Деревенский врач
(Антиквариат)
Акт 1-II-1932
618
К. де Хем. Фрукты
(Антиквариат)
Акт 91-с. 14-XI-1932
648
Я.Миль. Пляшущие крестьяне
(Антиквариат)
Акт 1-II-1932
673
Фламандский художник XVII в. Завтрак
(Антиквариат)
Акт 1-II-1932
726
Рембрандт. Портрет мужчины в польском костюме
(Антиквариат)
Акт 11-с. 1930
734
Рембрандт. Отречение Петра
Акт 52с. 17-VI-1932
739
Рембрандт. Портрет женщины с гвоздикой
Акт 26-с. 27-11-1931
743
Рембрандт. Старик в шляпе с пером и с посохом
Акт 89-с. 14-IX-1930
746
Рембрандт. Афина-Паллада
(Гюльбенкян)
Акт 11-с. 1930
749
Рембрандт. Девушка с метлой
Акт 11-с. 1930
773
Рембрандт. Портрет Титуса
Акт 11-с. 1930
789
Рембрандт. Портрет молодого человека
(Наркоминдел)
24.III.1928
857
Воуверман. Скачка под кошкой
(Антиквариат)
Акт 9-с. 1933
880
Терборх. Урок музыки
Акт 11-с. 1930
940
Я.Рейсдаль. Дорога на берегу пруда
(Антиквариат).
Акт 7-1-1932
948
А.Кейп. Коровы на водопое
Акт 11-с. 1932
954
Я. ван дер Хейден. Вид в Кельне
(Антиквариат)
Акт 7-1-1932
956
Я. ван дер Хейден. Вид в Амстердаме
(Антиквариат)
Акт 69-с. 7-IX-1933
957
Я. ван ден Хейден. Замок
(Антиквариат)
Акт 11-с. 27-Х-1932
962
Я.А.Дюк. Игорный дом
(Антиквариат)
Акт 7-1-1932
966
К. Бега. Игроки
(Антиквариат)
Акт 7-1-1932
968
К.Дюжарден. Пейзаж с животными
(Антиквариат)
Акт 7-1-1932
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
405
981
В.Кальф. Закуска на темно-зеленой скатерти
(Антиквариат)
Акт 7-1-1932
983
Я.Равестейн. Портрет ребенка
(Антиквариат)
Акт 76-с. 19-IX-1933
984
Ф.Хальс. Портрет офицера
Акт 11-С.1931
ИНВ. III
1004
Г. Метсю. Молодая швея в окне
(Антиквариат)
Акт 7-1-1932
1037
Я. ван дер Капелле. Вид на реке
(Антиквариат)
Акт 11-С.1931
1100
К.Берхем. Пляшущая девушка
(Антиквариат)
Акт 7-1-1932
1127
Демарн. Базар на берегу реки
Акт 85-с 19-Х-1932
1134
Свебах. Французские войска на бивуаке
(Антиквариат)
Акт 19-Х-1932
1141
Ватто. Гитарист
Акт 65-с 19-VI-1930
1155
Демарн. Дорога на берегу реки
(Антиквариат)
Акт 14-VI-1932
1160
Демарн. Постоялый двор
(Антиквариат)
Акт 9-II-1932
1175
К.Ж. Верне. Приморский вид
(Антиквариат)
Акт 28-V-1933
1180
К.Ж. Верне. Вид в окрестностях
Реджа в Калабрии
(Антиквариат)
Акт 28-V-1933
1184
Пуссен. Триумф Нептуна и Амфитриды
Акт 62-с. 28-VIII-1932
1207
К.Ж.Верне. Буря в Неаполитанском заливе
(Наркоминдел)
26-XII-1933
1218
Шарден. Карточный домик
Акт 33-с. 23-III-1931
1266
А.Муат. Семья точильщика
(Антиквариат)
Акт 27-VI-1930
1292
Грёз. Девочка, смотрящаяся в зеркало
(Антиквариат)
Акт 19-11-1930
1295
Г. Робер. Архитектурный пейзаж
(Наркоминдел)
26-XII-1933
1296
Г. Робер. Архитектурный пейзаж. Развалины храма
(Наркоминдел)
26-XII-1933
1298
Демарн. Переправа через реку
(Антиквариат)
Акт 25-Х-1929
1306
Лабиль Гиар. Женский портрет
(Антиквариат)
Акт 28-V-1933
1307
Французский художник XVII в. Портрет молодого принца
(Антиквариат)
Акт 91-с. 14-XI-1932
1313
Эриксен. Юлиана-Мария датская
Акт 86-с. 28-IX-1933
1317
Рослин. Луиза Ульрика шведская
(Антиквариат)
Акт 28-V-1932
1333
Платцер. Концерт
Акт 11-с. 1932
1359
К.Д.Фридрих. Закат солнца
Акт 85-с. 19-Х-1932
1366
Дюжарден. Возвращение с охоты
(Антиквариат)
Акт 25-Х-1929
1371
Неизвестный художник XVIII в. Портрет придворной дамы
(Антиквариат)
Акт 25-Х-1929
II Материалы и документы
406
1373 Неизвестный художник XVIII в. Портрет придворной дамы
1374 Неизвестный художник XVIII в. Портрет придворной дамы
1375 Неизвестный художник XVIII в. Портрет придворной дамы
1376 Неизвестный художник XVIII в. Портрет придворной дамы
1380 А. фон Олен. Домашние птицы среди пейзажа
1397 Ферсхюринг. Водопой
1398 Охтервельт. Певица у окна
1399 Венике. Стадо с женщиной, доящей козу
1401 Бракенбург. Семейная сцена 1406 Г.Хут. Кавалерийское сражение
1408 А.Кломп. Пейзаж с коровами и овцами
1409 Торенбург. Дом в окрестностях Дельфта
1411 Дитрих. Старик в чалме
1412 Дитрих. Мужской портрет
1414 Орловский. Курильщик
1415 Орловский. Воин в латах с бокалом в руке
1417 П.Боутс и Н.Бодевинс.
Пейзаж с замком налево
1416 П.Боутс и Н.Бодевинс.
Пейзаж с замком направо
1418 Торенфлит. Молодая женщина и старуха
1419 Маргарита Жерар. Две музыкантши за пением
1420 Филипп ван Дейк. Две девочки с птичкой
1428 Лаккре. Купальщицы
1429 Подражание Тенирсу. Французские солдаты, грабящие селение
1439 Голландский художник XVII в. Пейзаж с двумя крестьянами у забора
1448 Нидерландский художник XVI в.
Мадонна с младенцем 1450 Эвердинген. Пейзаж с избушкой на скалах 1471 Испанский художник
(копия с П.д.Сеснедес). Голова Христа
(Антиквариат) Акт 15-VII-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 19-11-1930 (Антиквариат) Акт 27-VI-1930
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 1-И-1932
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930
(Антиквариат) Акт 14-IV-1932
(Антиквариат) Акт 12-VII-1929 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930 (Антиквариат) Акт 27-VI-1930 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат:
407
1495 Итальянский художник XVI в. (Антиквариат) Акт 24-VII-1929
(подражание). Иоанн Креститель
HHB.IV
1541 Неизвестный художник XVII в.
Обручение св. Екатерины 1550 А.Карраччи. Св. семейство с младенцем Иоанном 1564 Альбани. Св. семейство со св. Екатериной 1574 Итальянский художник XV в. (копия).
Поклонение волхвов 1591 Дольчи. Скорбящая мадонна 1594 Романо (копия). Военная сцена 1608 Джордано. Рождение Марии (эскиз) 1619 Платцер. Вакханалия 1623 Ланкре (подражение). Танец под открытым небом 1625 Франс ван Мирис Младший.
Пирующие у бочки 1629 Французский художник XVIII в. Пейзаж с дорогой у руин
1632 П.Молейн. Остановка у харчевни (Наркомдел)
1633 Паламедес. Сцена у ворот крепости •1634 Паламедес. Сцена в караульне 1638 Рубенс (копия). Детская вакханалия
1640 Голландский художник 2-й пол. XVII в. Зимний пейзаж
1641 Голландский художник XVII в. Пейзаж с высокими деревьями у воды
1643 Неизвестный художник XVII в. Пейзаж с виллой на берегу озера
1644 Голландский художник XVII в. Пейзаж с руинами
1649 Бодуэн. Пейзаж со стадом овец 1653 Фламандский художник конца XVI в.
Пейзаж с крестьянами 1660 Платцер. Праздник Вакха и Цереры
1665 Фламандский художник XVII в.
Пейзаж с большими деревьями 1668 Бургиньон. Кавалерийская схватка 1671 Неизвестный художник XVII в.
Битва на мосту
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 15-VII-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 24-VI1-1929 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 27-VI-1930 (Антиквариат) Акт 27-VI-1930
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930
Акт 24-III-1928
(Антиквариат) Акт 28-VI-1930 (Антиквариат) Акт 28-VI-1930 (Антиквариат) Акт 28-VI-1930 (Антиквариат) Акт 14-IX-1932
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 27-VI-1929
II Материалы и документы
408
1678 Голландский художник XVII в. Мужской портрет
1679 Голландский художник XVII в. Портрет старухи
1682 Венецианский художник XVIII в.
Вид Большого канала
1683 Венецианский художник XVIII в.
Вид на Большой канал от Дворца Дожей
1685 Э.Квеллин. Явление Марии св. Доменику
1686 Э.Квеллин. Св. семейство в цветах
1694 Школа Ван Дейка. Портрет А.Приеста
1695 Школа Ван Дейка.
Портрет Я.Мальдерюса
1704 Копия Ван Дейка. Гнедой конь
1710 Круг Поттера. Мальчик с белой лошадью
1711 Дюжарден. Стадо на пастбище 1717 Д.Тенирс. Пейзаж со стадом баранов
1720 Д.Тенирс. Курильщики
1721 Д.Тенирс. Фламандский праздник
1722 Д.Тенирс. Фламандский праздник
1723 П. де Блот. Трое крестьян за курением
1725 Фаленс. Соколиная охота
1726 Фаленс. Отъезд на охоту с дамами
1728 Воуверман. Езда на открытом воздухе
1729 Воуверман. Пейзаж с повозкой на мосту
1730 Воуверман. Бой турок с поляками
1731 Воуверман. Сцена из лагерной жизни
1732 Воуверман. Конюшня
1736 Воуверман. Проезжие на привале
1738 Воуверман. Кузница при дороге
1739 Воуверман. Остановка на прогулке
1741 Воуверман. Приключение на охоте
1742 Воуверман. Соколиная охота
1743 Воуверман. Зимний пейзаж с лошадьми
174 Воуверман. Лошадь на водопое 1745 Воуверман. Лошадь, пасущаяся у реки 1747 Воуверман. Путешественники у реки 1753 К.Ж. Верне. Лунный морской пейзаж с костром 1758 Неизвестный художник XVII в. Пейзаж с лежащей статуей
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930
(Антиквариат) Акт 91-с.
14-XI-1932 (Антиквариат) Акт 91-с.
14-XI-1932 (Антиквариат) Акт 27-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 23-VI-1930 (Антиквариат) Акт 14-V-1930
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 13-VI-1932 (Антиквариат) Акт 19-11-1930 (Антиквариат) Акт 27-VI-1930 (Антиквариат) Акт 1-II-1932 (Антиквариат) Акт 23-VI-1930 (Антиквариат) Акт 27-VI-1930 (Антиквариат) Акт 14-VI-1932 (Антиквариат) Акт 1-II-1932
(Антиквариат) Акт 1-Х-1929
(Антиквариат) Акт 19-11-1930
(Наркоминдел) 24-111-1928
(Наркоминдел) 24-111-1928
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 18-IV-1932 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 19-11-1930 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930 (Антиквариат) Акт 19-11-1930 (Антиквариат) Акт 19-11-1930 (Антиквариат) Акт 1-Х-1929
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
409
1762 К.Ж.Верне. Буря (Антиквариат) Акт 28-VI-1929
1765 Гюбер Робер. Развалины храма (Антиквариат) Акт 28-V-1933
Конкордии в Джордженти 1767 Пуссен (копия). Завещание Эвдамида (Антиквариат) Акт 28-VI-1929
ИНВ. V
1770 К.Ж.Верне. Вид греческого архипелага 1787 Мастерская Кранаха.
Фридрих Мудрый 1797 Деннер. Старик в меховой шапке 1799 Роза да Тиволи. Пещера со стадом 1801 Роттенхаммер. Мадонна с младенцем и Иоанном
1803 Лингельбах. Ливорнская гавань
1804 Лингельбах. Привал охотников 1807 А.Грейф. Охотничья добыча и собаки 1825 Хельст. Портрет женщины в чепце
1843 Л. де Мони. Гуляка
1844 Л. де Мони. Продавщица морской рыбы
1846 Э. ван дер Пуль. Крестьянское семейство
1847 А.Остаде. Крестьянское семейство в комнате
1852 Моленар. Крестьянское семейство в избе
1853 Б.Кейп. Крестьянская ссора
1857 В.Мирис. Гитарист
1858 Ф.Мирис. Молодая женщина с письмом 1861 Э. ван дер Нер. Мальчик с апельсином
1863 Метсю. Молодая девушка за завтраком
1864 Нетшер. Дама с мальчиком
1865 Нетшер. Дама в белом платье
1867 Нетшер. Маленькая кружевница 1869 А. ван дер Нер. Лунный пейзаж с готической церковью 1878 Я.Рейсдаль. Пейзаж с овцами
1881 Подражание Я. Брейгелю Старшему. Лесной пейзаж с всадником
1882 Бренберг. Вид в Тиволи близ Рима
1883 Я. ван дер Дус. Пейзаж со стадом коз
1884 Б. Галь. Придорожная гостиница
1890 Охтервелт. Певец
1891 П.Неффе. Внутренний вид готической церкви
1893 П.Неффе. Внутренний вид церкви с белой собачкой
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Экспорт) Акт 25-1-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 15-VII-1929
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
Акт 25-Х-1929 Акт 28-VI-1929 Акт 24-VII-1929 Акт 27-VI-1930 Акт 27-VI-1930 Акт 27-VI-1930 Акт 17-VI-1932 Акт 7-1-1932
Акт 27-VI-1930 Акт 27-VI-1930 Акт 1-Х-1929 Акт 1-Х-1929 Акт 11-V-1930 Акт 27-VI-1930 Акт 19-11-1930 Акт 91-е 14-XI-1932 Акт 11-V-1930 Акт 24-VII-1929
(Антиквариат) Акт 19-11-1930 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 1-II-1932 (Антиквариат) Акт 14-V-1930 (Антиквариат) Акт 14-IV-1931(?)
(Антиквариат) Акт 14-IV-1932 (?)
II Материалы и документы
410
1899 Ромейн. Скот на пастбище
1900 Вейнантс. Пейзаж с песчаным холмом
1904 Я. де Вит. Аллегория тщеславия
1905 Я. де Вит. Амур-охотник
1908 Спрангер. Венера и грации
1909 Пейнакер. Итальянский пейзаж
1910 Дюжарден. Пейзаж с дровосеком
1911 Дюжарден. Берег речки с пастухом и собачкой
1913 Сафтлевен (?). Пейзаж с дровосеком
1914 Я. ван дер Мер. Итальянский пейзаж с караваном ослов
1915 Венике. Стадо коз у развалин 1919 Берхем. Брод возле развалин 1922 Берхем. Итальянский пейзаж
со стадом
1926 Берхем (копия). Придорожная гостиница
1927 Берхем. Придорожная гостиница
1928 Берхем. Закат солнца
1932 Кейп (школа). Пейзаж с коровами на берегу
1933 И.Глаубер. Купающиеся нимфы
1938 Мушерон. Стадо в роще
1939 Мушерон. Пейзаж с ручьем и дорогой 1941 Мушерон. Пейзаж с замком на скале
1948 А.Босхерт. Букет цветов
1949 П.Фальх. Куст репейника со змеей 1952 А.Грейф. Птичий двор
1954 П.Фальх. Пресмыкающиеся у куста репейника 1956 Я. де Хейс. Итальянский пейзаж с источником 1960 Моленар. Зимний пейзаж
1966 Грасдорн. Букет цветов
1967 Н.Х.Рудиг (?). Виноград и цветы с мышкой на кукурузе
1968 Дрекслер; Цветы в вазе
1969 Э. ван дер Брук. Цветы в вазе
1970 Рудиг. Цветы в вазе
1971 Подинг. Фрукты в корзине
1972 И.Нигг. Букет в вазе
1973 Я. ван Ос. Цветы и плоды в вазе
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 27-VI-1930 (Антиквариат) Акт 24-VII-1929 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Наркоминдел) 24-111-1928 (Антиквариат) Акт 14-IV-1932 (Антиквариат) Акт 27-VI-1930
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930
(Наркоминдел) 24.111 1928
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930 (Антиквариат) Акт 25-Х-1929 (Наркоминдел) 24-111-1928
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930 (Антиквариат) Акт 11-V-1930 (Антиквариат) Акт 27-VI-1930
(Антиквариат)
(Наркоминдел)
•(Антиквариат)
(Наркоминдел)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
Акт 27-VI-1930 24-III-1928 Акт 14-VI-1932 24-III-1928 Акт 91-е
14-XI-1932 Акт 23-VI-1929 Акт 28-VI-1929 Акт 14-IV-1932
(Антиквариат) Акт 14-VI-1932
(Антиквариат) Акт 17-VI-1932 (Антиквариат) Акт 9-И-1932
(Антиквариат) Акт 1-И-1932
(Наркоминдел) Акт 24-111-1928 (Антиквариат) Акт 14-IV-1932 (Антиквариат) Акт 27-VI-1930 (Антиквариат) Акт 14-IV-1932 (Антиквариат) Акт 24-VII-1929 (Антиквариат) Акт 27-VI-1930
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат» 411
1976
1981
Школа Рембрандта. Мужчина
в меховой шапке
Янсенс ван Кейлен. Кавалер
(Антиквариат)
(Антиквариат)
Акт 24-VI-1930 Акт 27-VI-1930
2021
ИНВ. VI
Голландский художник середины XVII в. (Антиквариат)
Акт 28-VI-1929
2022
Сельский пейзаж Нидерландский художник XVI в.
(Антиквариат)
Акт 14-V-1932
2027
Пейзаж с замком у реки Дюсарт. Крестьянин в трактире
(Антиквариат)
Акт 28-XI-1929
2028
Рейнер. Пейзаж со стадом
(Антиквариат)
Акт 28-VI-1929
2035
Охтервельт. Завтрак
(Антиквариат)
Акт 19-V-1930
2042
А.Турки. Плач над Христом
(Антиквариат)
Акт 28-VI-1929
2049
Бургиньон. Кавалерийская схватка
(Антиквариат)
Акт 28-VI-1929
2052
Итальянский художник XVII в.
(Антиквариат)
Акт 20-VI-1929
2059
Голова Иоанна Крестителя Итальянский художник XVIII в.
(Антиквариат)
Акт 28-VI-1929
2062
Св. Цецилия Лонги. Св. Екатерина
(Антиквариат)
Акт 14-IV-1932
2073
Э. ван дер Нер. Дама с красным
(Антиквариат)
Акт 14-1V-1932
2074
шарфом
Воуверман. Палатка маркитантки
(Антиквариат)
Акт 28-VI-1929
2080
Школа Пуленбурга. Венера и Сатир в пейзаже
(Антиквариат)
Акт 25-Х-1929
2088
Итальянский художник XVI в. Иоанн Креститель
(Антиквариат)
Акт 28-VI-1929
2107
Леклерк. Город с морским каналом
(Антиквариат) Акт 15-VII-1929
2109
Голландский художник XVII в.
(Антиквариат)
Акт 14-VI-1932
2110
Пейзаж с двумя всадниками Я.Бот (копия). Гористый пейзаж
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930
2114
со стадом
Венике. Прибрежный пейзаж
(Антиквариат)
Акт 27-VI-1930
2116
с мраморной вазой Венецианский художник XVI в.
(Антиквариат)
Акт 28-VI-1929
2122
Распятие
Итальянский художник XVII в.
(Антиквариат)
Акт 28-VI-1929
2134
Иосиф с Христом-младенцем Пуленбург. Пейзаж с купальщицами
(Антиквариат)
Акт 28.VI 1929
2138
Круг Остаде. Игроки в карты
(Антиквариат)
Акт 27-VI-1930
2139
Голландский художник XVII в.
(Антиквариат)
Акт 27-VI-1930
2142
Сельская школа
Воуверман (школа). Белая лошадь
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
2143
в конюшне
Фламандский художник XVII в.
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
2145
Курильщики
Воуверман. Отъезд на охоту
(Антиквариат)
Акт 27-VI-1930
II Материалы и документы
412
2149
2150 2161
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171 2175
2181
2183
2184 2194 2198
2205
2206
2207
2208 2217 2221
2229
2262
2266
2281
2282
2283
Голландский художник XVIII в.
Море с парусными судами Паула Форг (Франц де).
Пейзаж с караваном верблюдов Голландский художник XVII в.
Пастух с козами Локлерк. Морская гавань А. ван дер Верф (копия). Молодая женщина, играющая на лютне Фламандский художник XVII в. Лесной пейзаж
А. ван дер Верф (копия). Молодая женщина, играющая на лютне Фламандский художник XVII в. Лесной пейзаж с селом и дорогой Я.Брейгель. Лесной пейзаж с всадником в чалме Я.Брейгель (подражание).
Улица в деревне Я.Брейгель (подражание).
Деревня с ветряной мельницей Итальянский художник XVII в. Тритоны и Нереида Т.Фернахт. Гористый пейзаж Лутербург. Скалистый берег Лутербург. Скалистый пейзаж А. ван Остаде. Осязание Беллекин. Сельский праздник Итальянский художник XVII в. (копия). Мадонна во славе Моннуайе. Цветы в вазе Немецкий художник XVIII в.
Розы в стеклянной вазе Лафосс. Ревекка и Елеазар Ю.Якобс. Битая дичь и собака Немецкий художник XVIII в.
Гористый пейзаж
Брейгель (подражание). Пейзаж
Испанский художник XVII в.
Явление Мадонны св. Антонию Дирк Хальс. Веселое общество Рубенс (копия). Мадонна с младенцем
Ф.Ферфлут. Вилла в Неаполе Немецкий художник XVI в.
Женщина с рубиновой подвеской
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 14-IV-1932
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 14-IV-1932
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 14-IV-1932 (Антиквариат) Акт 14-IV-1932 (Антиквариат) Акт 14-IV-1932 (Антиквариат) Акт 11-V-1930 (Антиквариат) Акт 27-VI-1930 (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
(Антиквариат) Акт 14-VI-1929 (Антиквариат) Акт 14-VI-1932
(Антиквариат) Акт 25-Х-1929 (Антиквариат) Акт 1-Х-1929 (Антиквариат) Акт 24-VII-1929
(Антиквариат) 1932
(Антиквариат) Акт 14-VI-1929
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930 (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
(Антиквариат) Акт 14-VI-1929 (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
413
2284 Немецкий художник XVI в. (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
(подражание). Воин в латах
2285 Э.Гебауэр. Мадонна из картины (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
Сассоферрато
2286 Боттичелли (копия XIX в.). (Антиквариат) Акт 24-VI-1929
Мадонна с младенцем
2287 Итальянский художник XVII в. (копия). (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
Мадонна с младенцем
2289 Э.Гебауэр (копия). (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
Деталь «Сикстинской Мадонны»
2290 Итальянский художник XVI в. (копия). (Антиквариат) Акт 14-VI-1929 Мадонна с младенцем
2291 Фольнер. Ваза с цветами (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
2292 Ян тен Компе. Пейзаж (Антиквариат) Акт 1-II-1932
с городской стеной
2293 Художник начала XIX в. (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
Христос, преломляющий хлеб
2296 Ян тен Компе. Вид голландского города (Антиквариат) Акт 14-IV-1929
2297 Жуэннь. Букет цветов и фрукты (Антиквариат) Акт 27-VI-1930
2300 Воуверман (круг). Пейзаж с кузницей (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
2302 Итальянский художник XVII в. (копия). (Антиквариат) Акт 14-VI-1929 Явление Мадонны Феликсу Кантел
2303 Итальянский художник XVI в. (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
Положение во гроб
2304 Рейсх. Яблоки, виноград (Антиквариат) Акт 1-II-1932
и другие фрукты
2307 Бренеленкам. Туалет молодой дамы (Антиквариат) Акт 19-V-1930
2309 Гверчино (подражание). Христос (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
2310 Французский художник XVI в. (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
Женщина с ожерельем
2315 Ракштуль. Царскосельский сад (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
2316 Праш. Львы, нападающие на лань (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
2352 Итальянский художник XVII в. (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
Явление Св. семейства монаху 2356 Нидерландский художник XVI в. (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
Поклонение пастухов 2359 Фурини (копия). Девочка в голубом (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
2362 Художник XVII в. Сретение (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
2367 Паннини. Римские развалины (Антиквариат) Акт 19-Х-1932
с пирамидой
2371 Художник XVII в. (Антиквариат) Акт 28-VI-1929
Раскаяние св. Петра 2373 Г.Дюге (школа). (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
Пейзаж с отдыхающими 2377 К.Ж. Верне. Приморский вид (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
2379 Гюден. Морской берег с прибоем (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
II Материалы и документы
414
2380 Ф.Белле. Внутренний вид церкви с процессией
2381 Роза да Тиволи. Козел среди стада 2383 Кверфурт. Военная сцена
2386 Кверфурт. Купание лошадей 2390 Дитрих. Жертвоприношение Исаака 2392 Д. ван дер Лиссе. Купальщицы 2394 Доминикино (копия).
Причащение св. Иеронима 2397 К. Бега. Кумушки
2400 Берхем. Пейзаж со скотом
2401 А. ван дер Нер (круг). Река ночью
2402 Голландский художник XVII в.
Дорога, освещенная луной
2404 Гойен (круг). Вид на реке
2405 Р. де Фис. Вид на реке 2407 П.Неффе. Внутренний вид
готической церкви
2409 Голландский художник XVII в. Внутренний вид церкви
2410 Беркхейде. Вид города
2411 Немецкий художник XVIII в. Пир
2414 А.Питлос. Вид Неаполя
2415 Голландский художник XVII в.
Рыбаки
2416 А.Питлос. Вид в окрестностях Неаполя 2423 Неизвестный художник XIX в.
Вид Колизея 2425 Нетшер. Женский портрет 2430 Голландский художник XVII в.
Ночной пожар в деревне 2432 Художник XVIII в.
Пейзаж со строением у залива 2434 Ф.Диофеби. Внутренний вид капеллы церкви 2437 Художник XVIII в. Пейзаж 2449 Ф.Хамильтон. Битые птицы 2455 Паламедес. Сцена в караульне 2463 В. фон Кобель. Телега, переезжающая через реку
2477 Каналетто (подражание). Вид Венеции 2479 Я.М.Рейтен. Зимний вид 2481 Итальянский художник XVII в. Изгнание Агари
2489 А.Остаде. Странствующие музыканты
2490 Монограмма — Р. Охотники на отдыхе
(Антиквариат) Акт 14-VI-1929
(Антиквариат) Акт 14.VI 1929 (Антиквариат) Акт 14-VI-1929 (Антиквариат) Акт 14-VI-1929 (Антиквариат) Акт 14-VI-1929 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930 (Антиквариат) Акт 25-Х-1929 (Антиквариат) Акт 20-VI-1929 (Антиквариат) Акт 14-IV-1932
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930 (Антиквариат) Акт 1-II-1932 (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
(Антиквариат) Акт 14-VI-1929
(Антиквариат) Акт 27-VI-1930 (Антиквариат) Акт 14-VI-1929 (Антиквариат) Акт 14-VI-1929 (Антиквариат) Акт 1-II-1932
(Антиквариат) Акт 14-VI-1929 (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
(Антиквариат) Акт 24-VII-1929 (Антиквариат) Акт 24-VII-1929
(Антиквариат) Акт 14-VI-1929
(Антиквариат) Акт 15-VII-1929
(Антиквариат) Акт 14-VI-1929 (Антиквариат) Акт 14-VI-1930 (Антиквариат) Акт 27-VI-1930 (Антиквариат) Акт 27-VI-1930
(Антиквариат) Акт 14-VI-1929 (Антиквариат) Акт 24-VII-1929 (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 14-IV-1929
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат:
415
2493 Нидерландский художник нач. XVI в. (Антиквариат) Акт 27-VI-1930 Обручение
2499 Э. ван Хемскерк. Операция (Антиквариат) Акт 27-VI-1930
ИНВ. VII
2502 И.Хухтенбург. Отъезд на охоту 2506 П.Сторк. Вид на Рейне 2508 Ф.Франкен (школа).
Брак в Кане Галилейской 2535 Р.Кессель. Пейзаж с птицами 2546 Ф.Мирис. Домашний концерт
2552 Фламандский художник XVII в.
Пан и Сиринкс 2554 К.Нетшер. Больная и врач 2565 Т.Мишо. Пейзаж с повозками 2568 Зиверт. Букет цветов 2574 К. де Мор. Кухарка, чистящая рыбу 2577 Хемскерк. Сценз в шинке 2588 Я.Иордане. Пан и Сиринкс 2596 Сольмакер. Пейзаж со стадом 2611 Лагрене. Аллегория живописи
2613 Немецкий художник XVII в.
Истязания Христа 2626 К. ван Эссен. Торг лошадьми 2656 Голландский художник XVII в.
Снятие с креста [2669—2681 — картины переданы в Госфонд 1- 2682 К. Кю гель ген. Пейзаж с озером среди гор 2685 К.Кик. Букет цветов
2689 Венецианский художник XVIII в. Большой канал от Пьяцетты
2690 П.Боутс. Сцена в кабачке 2692 Доменикино. Сивилла
2695 Флорентийский художник XVI в. Мадонна с младенцем и Иосифом
2697 Школа Веронезе. Сусанна. Этюд
2698 Школа Романо. Амуры, охотящиеся на кабана
2711 Каналетто (копия).
Вид Большого канала 2715 Л. де Ионге. Дуэт
2742 Гюбер Робер. Фонтан в саду
2743 Гюбер Робер. Пейзаж с обелиском 2747 Л. ван Лейден (копия).
Христос перед народом
(Антиквариат) Акт 14-IV-1929 (Антиквариат) Акт 28-V-1933 (?) (Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 24-VII-1929 (Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
(Антиквариат)
Акт 91-е.
14-XI-1932
Акт
14-IV-1932
Акт
28-VI-1929
Акт
27-VI-1930
Акт
14-VI-1929
Акт
14-IV-1932
Акт
14-VI-1929
Акт
14-VI-1929
Акт
14-VI-1929
Акт 76-е.
17-IX-1933
Акт
14-VI-1929
Акт
14-IV-1929
Акт
14-VI-1929
И-1927 13 картин 2-го сорта] (Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 1-II-1932 (Антиквариат) Акт 28-VI-1929
(Антиквариат) Акт 28-VI-1929 (Антиквариат) Акт 15-VII-1929 (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
(Антиквариат) Акт 14-VI-1929 (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
(Антиквариат) Акт 14-VI-1929
(Антиквариат)
(Антиквариат)
Акт 27-VI-1930 Акт 19-11-1930
(Антиквариат) Акт 14-VI-1929 (Антиквариат) Акт 14-VI-1929
II Материалы и документы
416
Список выбывших картин по инвентарю (постоянные выдачи) проработан мною до стр. 30 (до 2777 — Смит «Фортуна»). В томе инвентаря VI — выдано в «Антиквариат» еще 64 картины; инвентаря VII — 158 картин; VIII — 155 картин; IX — 138 картин; X — 31 картина; XI — 55 картин; XII — 15 картин; XIII — 33 картины; XIV — 20 картин; XV— 5 картин; XVI — 2 картины; XVII — нет; XVIII — нет; XIX — нет; дополнительный список — 3 картины. Таким образом, 679 картин + 364 (учтенных мною). По спискам Отдела учета и хранения выдано в «Антиквариат» 1043 картины из инвентарей Эрмитажа (несомненно, возможны некоторые неточности!).
В сводном списке (ф. 1, оп. 17, ед. хр. 234 (203), л. 9) значится выданных 2730 картин, возвращенных 1280. Таким образом, продано 1450 картин. Получается, что 407 картин из других музеев (Строгановская кол- леция?). Но и тут возможны неточности, так как из-за «строгой секретности» этот список оформлен лишь в 1952 г., то есть через 19—20 лет после передачи картин в «Антиквариат».
Несмотря на то, что я проработал по содержанию картин лишь одну треть всего списка, ясно, что, в «Антикзариат» из основной коллекции Эрмитажа (за исключением продажи правительством Гюльбенкяну, Меллону и отдельных картин в разные музеи) выделялись в большинстве случаев второстепенные произведения и картины тех известных художников, которые представлены в Эрмитаже несколькими произведениями. Можно заключить, что, несмотря на большую беду продажи (!), произошло некоторое очищение коллекции, что сознавалось и членами комиссии по отбору картин для «Антиквариата».
5 Главнаука. Госторг. «Антиквариат»
417
Владимир Францевич Левинсон-Лессинг (1893-1972).
Фотография
Михаил Васильевич Доброклонский
(1886-1964).
Фотография
Алексей Алексеевич Ильин (1858-1942).
Литография Г.С.Верейского. 1926 Павел Павлович Дервиз (1897-1942).
Фотография
II Материалы и документы 418
Лист рукописи,открывающий раздел «Продажа. 1928—1933.
Защита Эрмитажных сокровищ»
ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА
6 Продажа. 1928—1933.
Защита Эрмитажных сокровищ
Начало продажи. 1928-
1929 годы
Перечень актов выдач
[ из Гос. Эрмитажа в Госторг и Гос. Контору «Антиква-
риата». 10 марта 1928
— 10 августа 1929 гг.1
1928 год
Март
10
376
Август
18
192
Июнь
16
7
Октябрь
18
127
Июль
31
37
Октябрь
26
95
Август
17
24
858 предм.
1929 год
Январь
25
4
Июнь
28
160 (169-9)
Март
11
2
Июнь
29
429
Апрель
9
1
Июль
1
153
Апрель
30
67
Июль
3
534
Май
8
102
Июль
5
102
Май
11
117
Июль
9
344
Май
15
114
Июль
И
19
Май
17
114
Июль
15
56 (61-5)
Май
21
120
Июль
20
767 (768-1)
Май
24
120
Июль
24
68
Май
28
151
Июль
24
9
Июнь
3
120
Июль
24
34
Июнь
5
106
Июль
25
196
Июнь
7
83
Июль
29
49
Июнь
12
500
Июль
30
218
Июнь
14
134
Июль
30
468
Июнь
18
331
Август
1
439
Июнь
19
304
Август
2
500
Июнь
21
165
Август
2
422
Июнь
25
481
Август
10
1032
Письмо В.И.Невского
Народному Комиссару Просвещения тов. Луначарскому А.В. [конец 1928 г.]2 Дорогой товарищ Анатолий Васильевич!
До меня дошли слухи, что заграничные антиквары, принимающие участие в скупке произведений искусства, находящихся в русских музеях, в
1 См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 1034, бургом, поскольку далее приводятся его слова
л. 92. (л. 103). Это мнение разделяет также Б.НДудоч-
2 Письмо В.И.Невского было написано кин, редактор издательства «Искусство», предо-
в конце 1928 г. после встречи с С.Ф.Ольден- ставивший мне в 1989 г. этот материал.
II Материалы и документы
420
самое последнее время стали интересоваться и древними рукописями, латинскими и в том числе древневизантийскими, хранящимися в русских книгохранилищах, как, например, в Академии Наук СССР. Как мне стало известно, агент антиквара Лепке-Кригера затребовал Каталоги именно указанных рукописей.
Отсюда понятно, почему я взял на себя смелость обратиться к Вам с настоящей запиской, так как то народное бедствие, которое уже коснулось произведений искусства, — их распродажа, по-видимому, угрожает и рукописным собраниям. Я употребил выражение «народное бедствие» и настаиваю на этом названии, так как иначе не могу назвать те меры, которые, если они будут осуществлены, делу увеличения валютного фонда не послужат, а кредит наш за границей подорвут окончательно.
В самом деле факты показывают следующее. В марте текущего года было отправлено за границу музейных предметов на сумму около 700 ООО руб. Продано же из них только на сумму около 10 ООО руб. Это показывает, что 1) рынок на Западе обладает ограниченной емкостью для предметов искусства и 2) что западноевропейские антиквары вошли в соглашение, стакнулись друг с другом и, вероятно, с русскими спекулянтами, с целью понижения цен на вывозимые нами на рынок предметы. Что это действительно так, что уже теперь на почве продажи наших предметов искусства создана нездоровая спекуляция и грабеж народного достояния, иллюстрируют нижеприводимые факты.
Агент антикваров Гульбентян (Гульбенкян. — Б.П.) предлагает продать ему 18 лучших картин Эрмитажа за 10 мил. рублей, причем в число этих картин входят такие шедевры, как «Блудный сын» Рембрандта и «Мадонна Альба» Рафаэля. Гульбентян предлагает 10 мил. рублей за 18 лучших картин в то время, как только две указанные картины могут дать сумму более 2 млн. рублей.
Опыт с продажей алмазного фонда показывает также, что стачка антикваров тормозит реализацию вещей на рынке.
Известный антиквар Ашберг делает нам предложение купить русские старые иконы на сумму 200 мил. рублей, причем ставит условием вывоз тех икон, которые он отберет, к нему, для того, чтобы определить их ценность. Не говоря уже о том, что продажа икон на сумму 200 мил. руб. есть чистейшая фантазия (самая высокая ценность, какую могут дать иконы, не превышает 50 мил. руб., а реализация их дала бы не более 2 мил. руб. в течение 2 лет). Это предложение, конечно, имеет в виду полнейшее разрушение наших музейных учреждений.
Парижский антиквар Зелигман соглашается приехать в Союз под условием продажи первоклассных произведений искусства.
Эта стачка заграничных антикваров поддерживается явным невежеством или, выражаясь мягко, желанием ввести в заблуждение власть советских агентов: тов. Гинзбург предлагает продать обстановку Строгановского музея за 3 мил. руб., в то время как она стоит по самой преувеличенной оценке не более 350 тыс. руб. Бурная фантазия т. Гинзбурга оценивает обстановку Павловского дворца в 10 мил.-руб., между
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 421
тем как продажа этой обстановки не дает более 1/10 части указанной цифры, то есть 1 мил. р.
Спекулянтские предложения, которые я выдержал, когда голландские евреи хотели купить у нас рукописи барона Гинзбурга, также свидетельствуют о стачке антикваров на Западе: они предлагали 2 ООО фунтов за рукописи, которые оцениваются в сотни тысяч рублей.
Недавний факт, когда берлинское торговое представительство предложило понизить стоимость вывезенных гобеленов на 30% и так с уже низкой оценкой в 75 т.р. вместо 120 т.р., показывает, что стачка и спекуляция налицо.
Можно смело сказать, что если реализация предметов, оцененных в 8 мил. руб., дала в течение 2-х лет сумму не более 200 т.р., то вывоз предметов искусства, как предполагается на 30 мил. руб., не даст желанных результатов и вместо 30 мил. руб. возможно будет получить всего несколько миллионов руб. в течение многих лет.
Но более всех этих фактов убеждают в ненужности предположенных мер следующие соображения:
1. Продажа ставит целью получение валюты в короткий срок. Эта цель может быть достигнута только продажей лучших картин Эрмитажа, т.е. разрушения мирового музея.
2. Однако и продажа лучших картин Эрмитажа не даст желаемого результата, так как западные антиквары определенно будут выжидать и снижать цены.
3. Факт продажи лучших предметов искусства из нашего мирового хранилища будет служить сильнейшим аргументом в пользу
того мнения, что советское государство накануне финансового банкротства.
4. Белая пресса использует как нельзя лучше этот факт, тем более что ни для кого не тайна, что белые уже примазались к этому делу: бывший кадет Аджемов принимает в этих делах какое-то участие.
5. Госторг уже сейчас предполагает открыть конторы по продаже музейных ценностей в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Берлине, Ленинграде, Москве и Харькове. Содержание этого аппарата, куда уже намечаются лица, поглотит такую массу денег, что государству останется ничтожная крупица от всей операции, а между тем мировые хранилища будут разрушены.
6. Скрыть продажу ни от русской широкой рабочей массы, ни от иностранных рабочих будет уже нельзя. И сейчас, когда я был за границей, директор Дрезденского Музея говорил мне, что, по-видимому, русское правительство против развития искусства, раз оно стало на путь продажи первоклассных произведений искусства.
А раз нельзя было скрыть распродажи, то рабочие вправе будут спросить у нас: «Зачем же их обманывали 10 лет, уверяя, что без изучения старого искусства нельзя создать нового и что во имя просвещения масс нужно идти на жертвы и сохранять музеи». Факт продажи покажет наиболее передовым рабочим, что мы подходим к краху, если хватаемся за соломинку.
II Материалы и документы
422
Раз став на путь распродажи, остановиться нельзя: сегодня продали Рафаэля, завтра продадим Корреджио, а затем начнем продавать рукописи Толстого или Достоевского.
Раз продавать, так продавать. Разделить рукописи Толстого по клочкам и продавать американцам по частям, а за рукописями Толстого рисунки Иванова, автографы Достоевского и т.д. Как Директор Ленинской Библиотеки, человек близко стоящий к науке и искусству и как коммунист, я обращаюсь к Вам, уважаемый Анатолий Васильевич, и прошу Вас войти с ходатайством в ЦК ВКП(б) о приостановке этого губительного разрушения рассадников культуры и просвещения.
Кажется, краеугольным камнем нашего учения служит мысль, что не голым отрицанием прошлой культуры — науки, искусства и техники — пролетариат может создать свою, новую культуру. Только перерабатывая лучшее, что осталось от старой культуры, пролетариат создает свою новую культуру.
Этому мы учили доселе, исходя из этой мысли, мы самые тяжелые годы разрухи берегли Эрмитаж, библиотеки, музеи, увеличиваем и расширяем их, собирали предметы искусства и миллионы рабочих пропускали через уроки экскурсий.
И оказывается, мы это делали для того, чтобы за ничтожные суммы пустить с молотка Эрмитаж и другие собрания, причем так, что продажа эта, быть может, не окупит расходов по реализации, подорвет окончательно наш кредит на Западе и внушит сомнения в ряды широких трудящихся масс и в СССР во славу белых Аджемовых, уже теперь от радости потирающих руки.
Не о продаже предметов искусства нужно говорить, а о том, как бы уменьшить излишние расходы, и о том, как изыскать те суммы, какие предположено выручить от продажи.
Небольшие жертвы (несколько сот тыс. руб.), понесенные государством на издание каталогов, обзоров, описаний и монографий о том, чем мы обладаем, не только окупились бы, но и дали бы валюту на том же западном рынке: издание описаний эрмитажных коллекций, каталогов и монографий (рисунков Иванова, фототипических копий сочинений Толстого на манер известного собрания работ Леонардо да Винчи, Достоевского и т.п.) покупалось бы нарасхват за границей.
Широкая популяризация наших сокровищ искусства за границей повлекла бы за собой большой приток иностранцев туристов и дала бы нам все же довольно большое количество валюты.
Обращаю Ваше внимание еще и на следующее в высшей степени важное обстоятельство: по Рижскому договору поляки не посягнули на некоторые картины Эрмитажа, на которые они имели формальное право; их усилия разбивались об аргумент неразрушения Музея мирового значения.
Не заявят ли они снова своих претензий теперь, когда станет известно, что само советское правительство посягнуло на целость Эрмитажа.
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 423
Несомненно заявят, и не только в отношении Эрмитажных собраний, но и в отношении других ценностей — книг и рукописей.
Конечно, заявят, так как утаить такой огромной важности факт, как распродажа Эрмитажа (а без распродажи Эрмитажа мечтать о выручке 30 мил. безумно), нельзя.
Уже сейчас неудачная продажа даже тех ценностей, которые вывезены на Запад, взволновала широкие круги советской общественности: продажа эта производит впечатление какой-то ужасной государственной катастрофы. Самый способ реализации вызывает большую тревогу: с каких пор и на основании каких данных Госторг сделался верховным судьей в оценке предметов искусства и науки.
Я глубоко убежден, что не найдется не только ни одного советского ученого, но даже мало-мальски культурного коммуниста, который бы не понимал, что продажей Рембрандтов и Рафаэлей затруднений с валютой не изживешь, и который бы не высказался против продажи мировых уникального значения предметов искусства.
Уважаемый Анатолий Васильевич. Вы, как Народный Комиссар Просвещения, лучше чем я понимаете всю роковую важность совершающихся явлений и, конечно, будете отстаивать целость Эрмитажа и других хранилищ искусства; Вы поднимете свой авторитетный голос против попытки некоторых товарищей, не уясняющих всей пагубности предложенных мероприятий, разрушить или обесценить мировые сокровища культуры, вы войдете с ходатайством в ЦК ВКП(б) о пересмотре принятого решения.
Прошу Вас, если Вы найдете нужным, присоединить и мой голос к Вашему авторитетному Заявлению в ЦК ВКП(б).
С ком. приветом
Невский
Список картин, намеченных к изъятию и продаже
1
Рафаэль. Мадонна Альба
14
Питер де Хох. Хозяйка и
2
Корреджо. Мадонна
служанка
3
Боттичелли. Поклонение
15
Роки фон [Рогир ван] дер Вейден.
волхвов
Святой Лука и Мадонна
4
Джорджоне. Юдифь
16
Ван Эйк. Благовещение
5
Рембрандт. Блудный сын
17
Ватто. Меццетен
6
Рембрандт. Флора
18
Ватто. Ля Бондеузе
7
Рембрандт. Афина-Паллада
Рембрандт. Флора. 2.500.000
8
Рембрандт. Девушка с метелкой
Рембрандт. Портрет старухи.
9
Рембрандт. Портрет старухи
1.500.000
10
Рубенс. Пейзаж
Д.Баутс. Благовещение. 500.000
И
Рубенс. Пейзаж
Рубенс. Портрет старухи. 1.000.000
12
Рубенс. Персей и Андромеда
Ватто. Затруднительное положение.
13
Рубенс. Портрет старухи
1.000.000
Все эти вещи воспроизведены у Хауф. тенгль'е [Хафштенгль], издание 1923 года. стр. стр. 125, 143, 106, 221 и 287.
II Материалы и документы
424
С трудом верится, чтобы могли такие картины продавать!
С. Ольденбург
На первом листе резолюция М.И.Калинина карандашом:
«Много правды!»
Рядом чернилами: В архив. М.К.
Документ лежит в деле за 1928 г.1
Письма С.Ф.Ольденбурга.
Материалы, переданные И.Д.Серебряковым 2
Москва. 30.3.89
Глубокоуважаемый Борис Борисович!
Как мы условились, посылаю Вам черновую копию моего материала для «Огонька» и ксероксы писем С.Ф.Ольденбурга М.И.Калинину, А.С.Енукидзе и Н.И.Бухарину. Если Вас не затруднит, то по использовании прошу Вас ксероксы переслать мне. Я, к сожалению, из-за нездоровья не смог организовать повторное ксерокопирование.
Надеюсь, что с 10-го по 18 апреля я смогу поработать в Ленинграде и повидаться с Вами.
С наилучшими пожеланиями
искренне Ваш И.Серебряков
P.S. Письмо А.И.Рыкову дошлю позднее или привезу с собой. И.С.
(Письма к А.И.Рыкову у меня нет. — Б.П.)
Статья И.Д.Серебрякова для журнала «Огонек» (черновая копия)
Прошу слова!
За последние месяцы в разных органах печати («Литературная газета», «Огонек» и других) опубликованы материалы о происходившей в конце 20 — начале 30-х годов распродаже и расхищении национальных ценностей, торговле музейными сокровищами под предлогом создания необходимых для индустриализации валютных фондов. В них, однако, не очень четко просматривается позиция собственно музейных работников и интеллигенции вообще. В этом отношении некоторые важные обстоятельства вскрываются при обращении к архивам, в частности к архиву академика Сергея Федоровича Ольденбурга, хранящегося в Архиве АН СССР.
Как Непременный Секретарь Академии наук, он должен был часто выезжать в Москву из Ленинграда. По поводу одной из таких поездок его жена Е.Г. Ольденбург записала в своем дневнике:
«В Москве было очень сложно, кредиты урезали, и если бы не присутствие самого С.Ф., дело было бы еще хуже. Но тяжелее еще стоит вопрос с продажей музейных ценностей. Прямо какая-то вакханалия, во главе которой стоит Нарком торговли Микоян. В первый же день приезда в Москву по телефону Сергею позвонил Вл.Ив.Невский и просил Сергея и Марра приехать к нему в Ленинскую библиотеку. Он рассказал им, как катастрофически стоит дело с продажей ценностей Эр-
1 Российский центр хранения и исполь- 2 Серебряков Игорь Дмитриевич, док-
зования документов по новейшей истории Тор филологических наук. Институт Востоко- Росархива (ранее - Центральный партийный ведения Академии наук СССР, архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС), ф. 78 [М.И.Калинин], on. 1, д. 296, л. 96-103.
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 425
митажа, показав под секретом листы предметов, предназначенных к продаже, — 5 Рембрандтов, Рафаэль, Корреджио и разные ценности, которых С.Ф. не запомнил. Надо торопиться и спасать от такого расхищения... От Невского С. поехал вместе с Марром к Литвинову, который замещает Чичерина. Тот возмущен продажей, но говорит, что он ничего поделать не может. От него Сергей был по этому делу у Ену- кидзе, затем у Калинина. Калинин страшно против, он ничего не знал, это сделали в его отсутствие. Он приблизительно сказал Сергею так: «Наживутся на этом примазавшиеся сюда люди, мы получим от этих миллионов гроши в сравнении с тем, что нам надо, а сраму не оберешься». Он обещал сделать все, что от него зависит. Луначарский также против, хотя, конечно, он имеет слишком мало влияния» (Архив РАН, ф. 208, оп. 2, ед. хр. 61, л. 352а).
А тем временем предпринимались попытки создать общественное мнение в пользу распродаж. Утверждалось, например, на собрании научных работников в Ленинграде, «...что можно и все продать до последней вещи, раз это нужно для строительства». Тогда Сергей не вытерпел и с места крикнул, что это не так, что продавать культурное достояние государства нельзя, что это ни к чему не приведет, что нельзя на продаже музейных вещей строить индустриализацию страны, т.к. от этого кроме проигрыша ничего не будет. ...Время для музеев очень тяжелое... прожили такие годы, как 18, 20, 21, а теперь продают...».
А ведь еще 9 ноября 1917 года было издано правительственное обращение ко всему народу с призывом к охране и сбережению культурного наследия, всех музейных сокровищ и ценностей! Действительно, вопреки всем трудностям было многое сделано для постановки музейного дела, сбережения культурного наследия. Однако перемены, происшедшие после кончины В.И.Ленина, возымели свое влияние и в области культуры. Был начат, в сущности, поход против интеллигенции, своего рода рецидив махаевщины, направленный и против Академии наук, и против краеведческих учреждений, и против таких средоточий культуры, как всемирно известные музеи. Использовались при этом самые разные поводы — от спекуляции на национальных чувствах до вопроса о... социальном происхождении музейных работников и т.п.
Как Непременный Секретарь АН, С.Ф.Ольденбург был в курсе не только научной, но и вообще культурной жизни, тесно сотрудничал с Наркомом просвещения А.В.Луначарским, был одним из активнейших участников строительства социалистической культуры. Естественно, он был крайне встревожен всеми действиями, направленными на распродажу музейных ценностей. Е.Г.Ольденбург записывает 21 января 1928 года:
«Кроме Микояна, здесь в Ленинграде главный вредитель музеев Б.П.Позерн. Оказывается, намечены к распродаже Строгановский музей-дворец, он уже даже запродан, далее б. музей Штиглица и приказано из Драгоценной кладовой выделить золота и бриллиантов на 600 ООО валюты...».
И Материалы и документы
426
Позднее, 7 марта того же года, она записывает:
«В Эрмитаже работает теперь комиссия по изысканию вещей к продаже... Что творится в картинном отделении! Бедные наши картинщики! На них лица нет! Все картины из запаса — все в продажу!.. В отд. серебра все допытывались, где же тайные кладовые, где запрятаны драгоценности? Взломали пол, шарили под полом. Смотрят в печных трубах, отдушинах! (Этого не было! Слухи из-за секретности. — БЛ.) Тяжелая обстановка! Кларк (тогдашний директор Эрмитажа. — И.С.) просил Сергея заступиться за Эрмитаж».
С.Ф. Ольденбург с готовностью отозвался на эту просьбу и, будучи вооружен чуть ли не полувековым научным и политическим опытом, он прежде всего захотел выявить силы, на которые он мог бы опереться. Из того же источника известно, что он на этот счет советовался с секретарем СНК Н.П.Горбуновым и А.В.Луначарским. В этих беседах были даны любопытные характеристики отдельных личностей. Отмечалось, например, что влияние Н.И.Бухарина упало, что «...в походе против интеллигенции идет еще Молотов...», Луначарский отметил, что с его, Луначарского, словами не считаются, «...говорили о Сталине, о котором Луначарский отзывался как о человеке замечательного ума, но что отношение Сталина к науке не ясно, он скрывает свое отношение, не принимая участия в обсуждении научных вопросов, ссылается на то, что он сам человек без всякого образования и не любит говорить о том, чего сам не знает».
Выбор оказывался крайне узким. В конечном счете С.Ф. Ольденбург решил обратиться с письмами к Председателю СНК А.И.Рыкову, Председателю ВЦИК М.И.Калинину, Председателю Коминтерна Н.И. Бухарину и Председателю Комиссии по содействию Академии наук
А.С.Енукидзе. Письма в основном своем содержании были едины, но каждое из них имело, разумеется, и свою специфику, будучи адресовано к конкретному лицу. Вот что он писал Н.И.Бухарину: Многоуважаемый Николай Иванович.
Пытался увидеть Вас в Москве, но Вы уехали в отпуск. Дело не терпит, пишу одновременно и Алексею Ивановичу [Рыкову], и Михаилу Ивановичу [Калинину], и Авелю Софроновичу [Енукидзе], с двумя последними говорил в Москве.
Дело идет о начавшейся продаже культурных, художественных ценностей. Не боюсь сказать, что здесь проявляется изумительное непонимание дела. Из-за более чем проблематических нескольких миллионов создать нам на весь мир репутацию разорившейся страны, продающей последние ценности. Наши враги, разумеется, сумеют великолепно это использовать, чтобы как можно больше испортить наше международное положение. Вам, как главе Коминтерна, видно это лучше, чем кому-либо другому.
Одиннадцать труднейших лет мы держали и хранили культурные наши сокровища, и все за границей восхищались этим. Теперь вдруг мы начинаем продавать. Вне Союза и внутри его это произведет громадное и тяжелое впечатление. Будут наживаться маклаки и примазав¬
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 427
шиеся к нам (не сомневаюсь, что дело кончится скамьею подсудимых, а денег мы получим по масштабу наших потребностей — гроши).
Николай Иванович, к Вашим словам прислушиваются, вмешайтесь в это дело. Не дайте сделаться делу, о котором все будут жалеть, когда уже будет поздно его поправить.
Искренне Вас уважающий Сергей Ольденбург
Ленинград 11.Х.928
Вскоре после этого, 20 октября 1928 года, Елена Григорьевна сделала в дневнике следующую запись:
«Письма Сергея о распродаже музейных ценностей произвели свое действие, о них везде говорят, и м.б. это вызовет остановку в продаже».1
Письмо к А.С.Енукидзе
Многоуважаемый Авель Софронович Пишу Вам и одновременно Алексею Ивановичу, Михаилу Ивановичу и Николаю Ивановичу Бухарину, пишу о деле, о котором мы с Вами говорили и по которому не могу молчать, как человек искренне преданный советскому строю. Опять появились антиквары и тому подобные люди и, видимо, спешно готовят распродажу редчайших картин и других художественных ценностей. Готовятся сделать непоправимую ошибку, которая ляжет неизгладимым пятном на нашей революции. Эта продажа основана на непонимании и необдуманности одних и на желании нанести его — других. Около этого дела наживутся многие, а государство получит жалкую по масштабу его потребностей сумму. Между тем отрицательное впечатление, которое произведут эти продажи во всем мире, будет крайне вредно для нас: скажут, что бесхозяйственностью мы разорили страну, а теперь распродаем ее последние ценности. Не знаю, кто у нас стоит за эти продажи: или это крайне недальновидные или недобросовестные люди, так что ясно, что ни о каких крупных суммах и речи быть не может. Не может быть сомнения, что дело это кончится в пролетарском суде. Но тогда уже будет поздно, вред нашему строительству будет уже нанесен громадный. Надо остановить эти бессмысленные, вреднейшие продажи теперь же. Знаю, как дорого Вам дело нашей революции — сделайте все от Вас зависящее, чтобы не было этого позора и вреда советскому строю.
Искренне Вас уважающий
Сергей Ольденбург
Ленинград 11-Х-928
Письмо к М.И.Калинину
Глубокоуважаемый Михаил Иванович Пишу Вам по делу, о котором говорил с Вами, — о продаже наших культурных сокровищ. Одновременно пишу Алексею Ивановичу, Авелю
1 Приписка И.Д.Серебрякова: «Как мы
уже теперь знаем, письма С.Ф.Ольденбурга не приостановили распродажу культурных ценностей. 20.3.1989».
II Материалы и документы
428
Софроновичу и Николаю Ивановичу Бухарину, потому что не могу молчать, слишком вопиюще это дело. Все, кто стоит у нас за эту продажу, видимо, люди неопытные и не учитывающие последствий подобных продаж, о которых скоро наши враги торжествующе будут кричать по всему миру, подрывая наш кредит. Те жалкие деньги, которые мы могли бы получить, не помогут нам при наших громадных потребностях, а лишат нас величайших культурных ценностей и опозорят нас на весь мир.
Нельзя делать таких государственных ошибок, воображая, что продажею картин наша громадная страна, с своими 150 миллионами жителей, может поправить свои финансы. Вы так верно сказали, что наживутся негодяи, мы получим гроши, а сраму будет без конца.
Помогите и вступитесь, пока не поздно.
Искренне Вас уважающий
Сергей Ольденбург
Ленинград 11.Х.928
Письмо В.Н.Лазарева И.К.Лупполу1
Совершенно секретно Начальнику Главнауки тов. И.К.Лупполу
Считаю своим долгом обратить Ваше внимание на то вопиющее положение вещей, которое создалось в музеях СССР в связи с деятельностью «Антиквариата», совершающего один перегиб за другим.
В настоящее время «Антиквариат» имеет антикварных ценностей на сумму ок. 45.000.000. Специально назначенная бригада выделила в плановом порядке ценностей на 30.000.000 (из них 6.000.000 спорных), старые музейные выделения составили сумму примерно в
15.000.000 рублей. Весь этот товар является абсолютно экспортным, поскольку он состоит в своей подавляющей части из первоклассных вещей (достаточно сказать, что бригада выделила наряду с картинами Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка и такой шедевр, как «Мадонну с безбородым Иосифом» Рафаэля). Особенно значительны полученные «Антиквариатом» памятники прикладного искусства (мебель, гобелены, серебро), представляющие совершенно уникальные предметы. Владея тем, что находится в его распоряжении, «Антиквариат» является в настоящее время крупнейшей антикварной фирмой мира. Несмотря на это, возглавляющие «Антиквариат» лица систематически распространяют слухи, будто бы музеи выделили им лишь хлам, не имеющий никакого экспортного значения. Ничего не понимая в антикварном товаре, специфичность которого они абсолютно не улавливают, работники «Антиквариата» сознательно вводят в заблуждение ответственных партийных товарищей, поскольку они внушают им мысль, что нельзя ничего продать, кроме мировых уникальных шедевров...
В результате у музеев забирают, в самом анархическом порядке, такие вещи, которые составляют основу крупнейших музеев СССР
1 Машинописная копия. Кроме маши¬
нописной копии этого письма И.К.Лупполу, подписанной В.Н.Лазаревым, в его архиве есть р>укописный оригинал письма сходного содержания, датированный 15 января 1929 г.,
но без указания адресата. Судя по содержанию, оно предшествует (если было послано) более сдержанному тексту приводимого письма, по-видимому, 1930 г.
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 429
и уход которых приводит фактически к полному распаду прославленных на весь мир художественных коллекций. Не предупреждая даже Наркомпрос, «Антиквариат» продал за границу за полтора года следующие шедевры, относящиеся к числу стержневых вещей Эрмитажа и Гос. Музея изящных искусств: 1) Д.Баутс. Благовещение; 2) Ван Дейк. Портрет Филиппа Уортона; 3) Рембрандт. Ян Собесский; 4) Рембрандт. Девочка с метлой; 5) Ван Эйк. Благовещение; 6) Рубенс. Портрет Елены Фоурмен; 7) Ван Дейк. Портрет Сюзанны Фоурмен с дочкой; 8) Гальс. Мужской портрет. Интересно отметить, что две последние вещи были проданы за границу, несмотря на то, что они были переданы, в порядке планового музейного обмена, из Эрмитажа в московский Музей Изящных искусств. Это было тем более недопустимо, что широкая советская общественность была прекрасно осведомлена о полученных из Ленинграда картинах. Она видела их на специально устроенной выставке, прошедшей с огромным успехом. Многие тысячи людей прошли через эту выставку, о ней писали в советской и мировой прессе. Уже сейчас ряд посетителей спрашивали хранитель- ский состав Музея, когда будут выставлены портрет Гальса и Сюзанна Фоурмен Ван Дейка. Легко себе представить, в какое ложное положение ставили эти вопросы не только работников Музея, но и Главнауку.
Уход всех вышеназванных картин из Эрмитажа и Музея Изящных искусств создает непоправимую брешь в коллекциях двух крупнейших музеев СССР. Достаточно продать еще 15—20 аналогичных по качеству вещей, чтобы Эрмитаж, могущий явиться главным центром притяжения для иностранного туризма, фактически перестал бы существовать как мировое собрание. Ибо совершенно ясно, что значение Эрмитажа базируется не на количестве картин, а на качестве двух-трех десятков мировых шедевров, восемь из которых уже проданы «Антиквариатом».
Теперь возникает основной вопрос, за какую цену были проданы эти шедевры, равные которым не появлялись на антикварном рынке Европы за последние 70 лет. Я не осведомлен о ценах, по которым были проданы эти уникальные вещи. Однако имеющиеся у меня случайные, отрывочные сведения позволяют думать, что эти цены были исключительно низки. Поэтому считаю своим долгом специалиста поставить Вас в известность об объективных ценах на вышеназванные картины, дабы Вы сами смогли сделать вывод о степени выгодности их продажи: 1) Д.Баутс. Благовещение — 500—750 тысяч рублей (все цены привожу в золотых рублях); 2) Ван Дейк. Портрет Филиппа Уортона — ок. 1.000.000;
3) Рембрандт. Ян Собесский — ок. 1.200.000; 4) Рембрандт. Девочка с метлой — ок. 1.000.000; 5) Рубенс. Портрет Елены Фоурмен — 1.500.000—
2.000.000; 6) Ван Эйк. Благовещение — 2.500.0000—3.000.000; 7) Ван Дейк. Портрет Сюзанны Фоурмен с дочкой — ок. 1.200.000; 8) Ф.Гальс. Мужской портрет — ок. 1.000.000. Не говоря уже о том, что при продаже таких уникальных шедевров возможны огромные злоупотребления, я считаю крайне важным обратить Ваше внимание на следующие моменты,
И Материалы и документы
430
которые могут быть приведены как решающие аргументы против торговли мировыми шедеврами:
1) Невозможность сохранять в секрете долгое время продажи уникальных шедевров. Механизм капиталистического собирательства таков, что покупатели обязательно сделают достоянием гласности факт приобретения ими того или иного шедевра. Предание же гласности подобных фактов приведет неизбежно к сильнейшему падению престижа Советской Власти в кругах революционно настроенной интеллигенции Запада, что крайне затруднит работу за границей ВОКСа и подобных ему учреждений.
2) Необходимость обставлять строгой секретностью продажу мировых шедевров логически приводит к тому, что за них удается выручить от половины до одной четверти их реальной стоимости. Продажа же второстепенных и третьестепенных вещей могла бы протекать в условиях полной гласности, что дало бы возможность выручить за эти вещи более или менее правильные цены.
3) Выуживание у нас мировых шедевров, являющееся, без сомнения, результатом шантажа темных дельцов капиталистического мира, шантажа, на который с подозрительной легкостью попадаются работники «Антиквариата», фактически срывает весь дальнейший план реализации антикварных ценностей. Поэтому совершенно ясно, что после покупки капитальнейших вещей нас заставят продать второстепенные вещи за совершенный бесценок.
4) Неизбежность быстрого распада Эрмитажа и Музея Изящных искусств как собраний мирового значения. Уже сейчас Эрмитажу нанесен сокрушительный удар. Выделение каждого очередного шедевра приведет в кратчайший срок к фактической ликвидации Эрмитажа. Между тем и Эрмитаж и Музей Изящных искусств являются центрами притяжения мирового туризма, развитие которого могло бы дать стране десятки миллионов валюты. При распаде Эрмитажа этот туризм, без сомнения, сильно сократится, поскольку отпадет один из главнейших центров его притяжения. Если уж продавать картины за границу, то надо начинать эти продажи снизу, а не сверху.
Все приведенные здесь соображения настоятельно диктуют срочный пересмотр вопроса о деятельности «Антиквариата» в целях введения этой деятельности в строго организованные рамки1. Следующие мероприятия представляются мне необходимыми для урегулирования создавшегося в «Антиквариате» положения вещей:
1) Коренная реорганизация аппарата «Антиквариата» путем замены ничего не понимающих в антикварном деле и совершающих один вредительский акт за другим работников такими партийными товарищами, которые ощущали бы глубокую принципиальную разницу между торговлей солеными огурцами и Рембрандтами. С этой целью необходимо мобилизовать с музейного фронта ряд партийцев, могущих принести своими знаниями и опытом действительную пользу государству в деле реализации антикварных ценностей.
2) Образование смешанной комиссии из представителей музеев и «Антиквариата» для организации плановых выделений и для оценки
1 В архиве В.Н.Лазарева есть рукопис- ценностей П.И.Воробьева, В.К.Клейна и
ный черновик письма (без окончания и без В.Н.Лазарева — о деятельности «Антиквариа- даты) на имя народного комиссара просвеще- та», а также черновик заявления В.Н.Лазарева ния А.С.Бубнова, черновик докладной запис- от 26 августа 1930 г. директору «Антиквариа- ки Бубнову, написанной рукой Лазарева, от та» о результатах знакомства с деятельностью имени членов правительственной комиссии « Антиквариата», по выделению, в целях экспорта, музейных
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 431
этих выделений. Категорическое запрещение «Антиквариату» вырывать из музеев мировые уникальные шедевры, торговля которыми ни с какой точки зрения себя не оправдывает. Если государству понадобятся и впредь новые валютные суммы от продажи антикварных ценностей, то необходимо предоставить возможность самим музеям, по своему выбору, выделять вещи для покрытия намеченной суммы. Практикующийся же до настоящего времени порядок, когда «Антиквариат» вырывает по своему усмотрению любую, хотя бы самую уникальную вещь, должен быть решительно пресечен.
3) Выяснение вопроса о предшествующей деятельности «Антиквариата». Продажа им 8 мировых шедевров представляется мне крайне подозрительной. Почему «Антиквариат» не организовал в течение двух лет работоспособный торговый аппарат, который дал бы возможность регулярно продавать имеющиеся у него первоклассные вещи, а довел дело до того, что ему внезапно понадобилось вырвать из музеев СССР ряд уникальных шедевров. Для меня не подлежит сомнению, что здесь мы имеем дело с фактом преступной бездеятельности оглавляющих «Антиквариат» лиц, сознательно или бессознательно (это должен выяснить ОГПУ) причинивших государству непоправимый моральный и материальный ущерб.
Хранитель Гос. Музея Изящных искусств: ВЛазарев1
В архиве находится и письмо В. Н.Лазарева (машинописная копия и рукописный черновик) Сталину от 10 сентября 1935 г. с протестом против постановления ЦК (от 26 августа 1935 г.) о ликвидации Музея Изящных искусств и реорганизации его в музей архитектуры. В то время Лазарев был уже зам. директора Музея по научной части2.
Докладные записки С.Н.Тройницкого С. секретно
Директору Государственного Эрмитажа П.И.Кларку Копии: зам. зав. Главнауки т. Лиэ,
Уполномоченному НКП т. Позерну Уведомившись о распоряжении срочно передать в Госторг две с лишком тысячи картин, предназначенных к выделению для экспорта комиссией т. Исакова, считаю своим долгом, как уполномоченный] НКП по выделению из Эрмитажа для экспорта художественных ценностей и как заведующий Отд. Прикладного искусства Гос. Эрмитажа, возражать против этого распоряжения, могущего иметь вредные для государства последствия по нижеследующим причинам.
1. Работа по расслоению запасов Картинной галереи Гос. Эрмитажа происходила в условиях не только не гарантирующих интересы музея, но, напротив, вполне обеспечивающих нарушение этих интересов в отношении переустройства всей экспозиции на новых основаниях, т.к. заключение давал только один зав. Картинной галереи т. Шмидт, на решение вопроса о необходимости данного объекта для экспозиции
1 В архиве В.НЛазарева, как сообщил даты) в связи с продажей картин, передан- В.Н.Гращенков, передавший публикуемое ных по его инициативе из Эрмитажа в мос- письмо И.К.Лупполу, есть черновик «проше- ковский Музей.
ния В.Н.Лазарева об отставке» от работы в 2 Сведения переданы В.Н.Гращенко- Музее Изящных искусств (без адресата и без вым 17 января 1989 г.
II Материалы и документы
432
Эрмитажа предоставлялось в среднем около 30 секунд и совершенно не были приняты во внимание интересы Отд. Прикладного искусства, который, согласно постановлению правления Гос. Эрмитажа от 26.1.29 г., должен проводить новую экспозицию, учитывая весь материал обоих Отделов как единый.
2. Подобная срочная передача свыше 2000 музейных объектов, без их фотографирования, несомненно поведет к целому ряду недоразумений, подобных тому, которое имело место при выделении в январе с.г. четырех картин без их фотографирования до передачи. Срочная передача 2000 картин несомненно поведет и к порче целого ряда из них.
3. Срочная передача такого огромного количества картин Ленинградской конторе Антиквариата является нецелесообразной и потому, что там не имеется достаточного помещения для безопасного хранения всего этого колоссального материала и что в запасах конторы находятся и без того несколько сот картин, совершенно непроработанных и не оцененных. Следовательно, подлежащие передаче картины будут очень долгое время лежать в условиях худших, чем в Эрмитаже, и без всякой проработки, особенно ввиду отъезда за границу двух членов экспертно-оценочной комиссии.
4. Кроме того, означенные картины уйдут из Эрмитажа без соблюдения основных условий Эрмитажа: просмотра их внутренней комиссией Эрмитажа и составления оценочных актов.
Ввиду всего нижеизложенного считаю срочность передачи не только не обоснованной, но и грозящей нанесением прямого ущерба интересам государства, о чем и считаю своим долгом довести до Вашего сведения.
С.Тройницкий 24.IV.29
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 137 (140), л. 2.
С. секретно
Директору Государственного Эрмитажа П.И.Кларку Копии: зам. зав. Главнауки т. Лиэ,
Уполномоченному НКП т. Позерну Ввиду возможных недоразумений в связи с работой комиссии т. Исакова во вверенном мне Отделении, считаю своим долгом письменно изложить свое мнение, которое я устно неоднократно высказывал, о нецелесообразности постановки этой работы.
1. Совершенно невозможно, при отсутствии в достаточной мере конкретно проработанного плана новой экспозиции Отдела, решать, что необходимо для будущей экспозиции, а что может быть без ущерба выделено для экспорта, особенно когда на каждый предмет тратится от 20—30 секунд. Следствием чего, несомненно, будет ряд непоправимых ошибок.
2. Поскольку ни один из членов комиссии не только не может судить о необходимости того или другого предмета для нужд Эрмитажа, но и не обладает знаниями, необходимыми для квалификации подлежащих осмотру предметов и определения их во времени и пространстве, я являюсь, по существу, единственным экспертом в этом вопросе и, следовательно, присутствие при работе от 2—5 членов комиссии, из ко-
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 433
торых один только ведет под мою диктовку запись, является непроизводительной тратой рабочего времени.
3. По темпу работы, который при данных условиях является максимальным, с просмотром до 500 предметов в день, при наличии в Отделении свыше 60.000 предметов, на это будет потрачено около 120 рабочих дней, т.е. около 4-х месяцев, кроме тех двух, которые уже прошли. При этом в конечном результате этой работы будет возможным только установить, что из общего числа значащихся по описям Отделения предметов может быть условно выделено для экспорта такое-то число, но без их хотя бы групповой характеристики и без возможности какой- либо ориентировочной оценки.
4. Эта же работа, возложенная на Отделение в целом, могла бы быть произведена в срок от 2—3 недель с полной гарантией интересов Музея и с приблизительным учетом реализационной ценности выделяемого материала.
5. Необходимо учитывать, что моя почти повседневная работа в этой плоскости, в связи с рядом других возложенных на меня обязанностей, в корне подрывает всю музейную работу Отдела и сильно тормозит ту срочную работу Антиквариата, в которой я принимаю участие в качестве члена экспортно-оценочной комиссии.
6. Самый характер запасов Отдела Искусства Нового Времени, в котором совершенно не имеется высоковалютных вещей, дает в результате вышеуказанной работы лишь очень незначительную сумму, которая могла бы быть получена значительно безболезненнее и с меньшей затратой рабочей силы, если бы Гос. Эрмитажу с самого начала экспертной комиссии было дано такое задание, вместо предъявления ему требований о выделении высокорентабельных предметов.
7. Необходимость в срочности работ комиссии т.Исакова опровергается еще тем обстоятельством, что до настоящего времени Эрмитажем выделено антикварных ценностей на сумму свыше 2 миллионов руб., а за 14 месяцев, прошедших с начала выделения, реализовано органами Госторга на сумму, не достигающую и 400.000 руб. Следовательно, для реализации на ближайшее время имеется товара на значительную сумму, считая только выделенный Эрмитажем материал.
Ввиду всего вышеизложенного позволяю себе утверждать, что работа комиссии т. Исакова, нарушая музейную работу Эрмитажа и не гарантируя соблюдения его интересов, не может иметь и реальных положительных результатов для дела экспорта антикварных ценностей.
С.Тройницкий 24.IV.29
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 137 (140), л. 3.
Рапорт Д.А.Шмидта
Директору Государственного Эрмитажа
Рапорт
В исполнение данного мне поручения представляю Вам свои соображения относительно возможных последствий для общего характера и
II Материалы и документы
434
мирового значения Картинной галереи Гос. Эрмитажа в случае изъятия из ее состава некоторого количества картин Рембрандта и некоторых других великих мастеров.
Слава Эрмитажной Картинной галереи, как общеизвестно, определяется наличием в ней огромного числа самых выдающихся произведений эпох расцвета всех школ (за исключением немецкой). По части голландской школы Эрмитажная галерея безусловно стоит на первом месте среди всех художественных хранилищ мира благодаря большому числу картин первейших мастеров и количеству шедевров среди них. Касательно Рембрандта собрание, состоящее из 39-ти достоверных произведений великого мастера и дающее полную, исчерпывающую и всестороннюю картину всего его многогранного творчества, является в своем роде феноменом, с которым нельзя сравнивать знаменитое собрание творений Веласкеса в Мадридском музее Прадо. Таким образом, эрмитажная коллекция Рембрандтовских картин является не столько количественно, сколь качественно во всей ее совокупности стержнем мировой славы Эрмитажа, и какие-либо изъятия отдельных картин разрушили бы имеющуюся только в Эрмитаже полную картину эволюции Рембрандта, обесценили бы в значительной мере остальное собрание голландских картин и нанесли бы вред значению как Эрмитажа в целом, так и его Картинной галереи в частности. Эта опасность является тем более опасной вследствие того, что Эрмитажу за последние годы уже пришлось уступить три картины Рембрандта Гос. Музею Изящных искусств в Москве и одну вернуть Польше на основании Рижского договора. Нельзя умолчать о том, что разрушение полной целостной картины творчества Рембрандта нанесло и величайший ущерб просветительной работе Эрмитажа, ибо широким массам посетителей идея художественного творчества лучше всего может быть разъяснена на примере беспрерывной эволюции одного из величайших мастеров мирового искусства.
Переходя затем от таких более или менее идеологических соображений к более практическим сторонам данного вопроса, надо указать на то, что изъятие из Галереи некоторого числа Рембрандтовских картин несомненно понизит притягательную силу Эрмитажа для иностранных туристов, которые ведь главным образом обращают внимание на художественные хранилища культурных центров, а это принесло бы явный ущерб для развивающегося туризма по СССР.
Если, далее, обратить внимание на возможность реализации изъятых картин, то не следует увлекаться весьма крупными суммами, предлагаемыми в отдельных случаях американскими коллекционерами за картины Рембрандта. Каждая такая сделка обусловлена индивидуально особыми условиями спроса, и курсирующие цифры в очень редких случаях поддаются контролю. При этом эти сделки по американскому обычаю заключаются всегда при помощи крупных антикваров, которые в случае появления на международном рынке Эрмитажных Рембрандтов, конечно, начнут игру на понижение. Это по законам рынка легко объяснимо, ибо емкость рынка для художественных произведений такого ранга и такой ценности, наконец такого неслыханно знатного происхождения, как Эр-
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 435
митажные Рембрандты, должна оказаться весьма ограниченной. Поэтому возможно утверждать, что реализация и ограниченного числа Эрмитажных Рембрандтов заняла бы очень продолжительный промежуток времени и при этом Эрмитаж получил бы далеко не те максимальные суммы, которые уплачиваются при более выгодных условиях продажи.
Почти все изложенные выше соображения имеют силу и относительно произведений других величайших мастеров мирового искусства, представленных в Картинной галерее Эрмитажа более или менее полно, хотя и не так широко, как Рембрандт, например Рубенс, Ван Дейк, Мурильо, Тициан, Пуссен, Ватто, Терборх, Брауер. Каждый из них представлен в Галерее достаточным количеством картин для получения впечатления о его творчестве в целом. И тут изъятие отдельных произведений уничтожит целостность общей картины творчества каждого из них и повлечет за собой те же последствия, как и изъятие из состава Галереи некоторого числа Рембрандтовских картин. Еще более ощутительным явилось бы изъятие тех или иных картин таких мастеров мирового значения, которые представлены в Галерее, действительно очень ценными, но ужасающе малочисленными образцами их творчества.
Появление каждой картины одного из этих первейших мастеров мировой живописи за пределами СССР будет принято за сигнал распродажи Эрмитажных сокровищ вообще. Помимо губительного влияния такого мнимого сигнала на все операции по реализации художественных ценностей он послужит источником разных кривотолков о якобы изменении курса культурной политики советского правительства, которому до сих пор всем миром ставилось в заслугу сохранение Эрмитажа в целости и неприкосновенности.
И.О. Заведывающего Отделом Картинной галереи
Д. Шмидт
1-го апреля 1929 г.
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, 1928/29 гг., ед. хр. 859, л. 222—225.
Б.В.Легран — И.К.Лупполу [1931-1932]
Иван Харитонович1 Антиквариат снова устремляется на сасанидов. Сегодня Прусаков обратился с настоятельной просьбой допустить Богнара к составлению списков, подлежащих выделению вещей этой категории, спорных и «бесспорных».
Я Вам неоднократно докладывал, что считаю величайшей и непоправимой ошибкой выделение сасанидского серебра на экспорт. Обесценение наших восточных собраний — неизбежное, если мы допустим это покушение Антиквариата, — уничтожит последнее и единственное теперь (после того, что испытало наше собрание картин) основание, дающее нам право занимать место в ряду мировых музеев. (Я бы хотел обойтись без этой формулы, которая, к сожалению, успела стать сакраментальной фразой, но здесь ее нечем заменить.)
Я не согласился допустить Антиквариат к составлению списков до выяснения в Наркомпросе принципиального вопроса о том, является ли
1
Так в документе. — Прим. ред.
II Материалы и документы
436
допустимым вообще расширение экспортных операций Антиквариата за счет ценностей Восточного Отдела, которые одни лишь и поддерживают в настоящее время мировую репутацию всего Эрмитажа в целом.
Очень прошу Вас срочно поставить этот вопрос в Наркомпросе и дальнейших инстанциях и добиться соответствующего ограничения Антиквариатской экспансии.
До Ваших указаний я буду строго держаться занятой позиции, несмотря на то, что она грозит и новыми осложнениями с Антиквариатом и, быть может, новым обращением его в ОблКК, на этот раз уже с жалобой не на Капман, а на меня, но иных способов поведения в моем распоряжении нет.
Директор Гос. Эрмитажа Б.Легран1 Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 205 (177), л. 112.
Список предметов, намеченных к реализации из Гос. Эрмитажа2
1
Лампа из горного хрусталя, арабская IX в. в золотой с эмалью оправе 16 в. (Худ. Сокр. Росс., 1902, № 12, с. 322; Старые Годы, 1915, декабрь, с. 6).
100.000
2
Рог стеклянный арабский 14 в. в серебр. оправе немецкой раб. 16 в. Из Кунсткамеры, вероятно, подарок Августа II.
50.000
3
Рог костяной, фатимидский 13 в.
10.000
4
Ваза испано-мавританская, серед. 14 в., т. называемая ваза Фартуни. Собр. Базил. (Старые Годы, 1914, май, с. 3).
150.000
5
Ваза персидская, поливная, с рельефными изображениями игры в поло. Около 1300 г.
100.000
6
Кинжал персидский 16 в. в золотых ножнах с великолепной эмалью. Из Кунсткамеры (с. 323).
25.000
7
Серебряный сасанидский кувшин № 84 с полуптицами, полуверблюдами.
40.000
8
Кувшинчик серебряный сасанидский с полуобнаженными фигурами № 80.
15.000
9
Блюдо с изображением царя Вахрона V (420—438) № 53.
50.000
10
Блюдо серебряное со сценой охоты царя Шитура II № 58.
50.000
11
Блюдо серебряное с лежащим козерогом (№ 607).
20.000
12
Блюдо со львом, терзающим лань (106). Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, № 15231 а, л. 18.
20.000
12 февраля 1932 г.
В/О «Антиквариат»
На В/№ 1349 от 10-11-1932 Гос. Эрмитаж сообщает, что В/списки в 2-х экземплярах намеченных Вами предметов получены 11-II с.г. и будут просмотрены в ближайшее время.
Что касается В/ультимативных сроков, то Гос. Эрмитаж таковых не принимает.
Директор Эрмитажа Легран секретарь Секретной части Балонский
1 Текст, несомненно, написан И.А.Орбели в 1932—1933 гг.
2 Сохраняется написание документа. — Прим. ред.
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 437
14 февраля 1932 г.
Директору Гос. Эрмитажа т. Леграну (лично)
Секретно
Уважаемый товарищ!
По существу Вашего письма о том, что Эрмитаж не принимает ультиматумов «Антиквариата», хочу сказать, что никаких ультиматумов последний не предъявлял и не предъявляет.
Если нами обуславливается определенный и довольно жесткий срок рассмотрения наших списков, то это делается потому, что рассмотрение списков Эрмитажем тянется неделями, а порою и месяцами. Затем такая же процедура начинается и в Наркомпросе. Цены же на антикварном рынке падают все время, и каждый лишний день волокиты с выделениями стоит государству немало валюты.
Если наше стремление сократить потери валюты Вы, вместо того, чтобы его целиком и полностью поддержать, характеризуете как «ультиматум», то объяснимыми становятся «ударные» темпы рассмотрения Эрмитажем наших списков.
Поскольку, однако, вопросы потери валюты от проволочек в выделениях для нас не безразличны, мы вынуждены будем и в дальнейшем обуславливать жесткими сроками наши просьбы о рассмотрении списков выделений и драться за большевистскую ударность в проведении этой работы.
Вполне понятно, что те «темпы», какие имели место в вопросе допуска нас в запасы Эрмитажа для осмотра, на предмет выделений бронзы, нас совершенно не устраивают и устраивать не могут. Мы хотим, чтобы работа по выделениям шла бы быстро, энергично и с полным сознанием того, что каждый лишний день обесценивает товар и для государства убыточен.
Если это наше желание, на наш взгляд абсолютно законное, Вами квалифицируется как «ультиматум», нам это, как большевикам, непонятно и для нас совершенно необъяснимо.
Нам представляется полезным, чтобы компетентные партийные органы рассмотрели этот вопрос и установили бы, являются ли наши требования о рассмотрении списков в 5-дневный срок «ультиматумами» или насущнейшей необходимостью и частью той борьбы, которую ведет вся партия за валюту.
С коммунистическим приветом
Председатель Правления В/О «Антиквариат» Рутенбург
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 156 (204), л. 25.
21 июня 1932 г. № 289
Наркомпрос РСФСР
Зав. Сектором науки т. Агол
Копия: Гос. Эрмитаж т. Леграну
Секретно
Эрмитаж прислал нам копию письма Вам от 18/IV за № 51 /с.
Тов. Ильин сейчас находится в Берлине и по приезде, вероятно, сообщит Вам свои соображения относительно этого письма.
И Материалы и документы
438
Я же хочу дать свои пояснения в части, касающейся меня.
Тов.Легран пишет в своем письме:
«На это, тем более, надо было бы обратить внимание т. Ильина, что такую же легкость в предъявлении обвинения он проявляет и к партийным работникам. Так, например, не так давно он направил в Контрольную] Комиссию жалобу на меня. Комиссия дважды меня вызывала: ознакомилась со всеми документами и по всем пунктам обвинения признала действия Эрмитажа правильными. (Речь шла о картинах новых французских художников.)»
Этот абзац письма содержит две неточности:
1) Обвинения в ГорККРКИ т. Леграну предъявлял не т. Ильин, а я и это обстоятельство ему доподлинно известно.
2) Верно то, что т. Легран дважды вызывался в КК и абсолютно неверно утверждение, что действия Эрмитажа были признаны правильными.
Дважды вызывался в КК по этому делу и я. Первый раз из-за болезни отдельно от т. Леграна, второй раз — одновременно с ним.
Зам. Зам Гор[одской] КК т. Ошеров мне заявил по поводу моей жалобы, что он беседовал по ее поводу с т. Леграном и решил, поскольку и Эрмитаж и «Антиквариат» являются учреждениями не областного, а всесоюзного масштаба, все дело направить в ЦКК.
Второй раз мы оба одновременно были вызваны к т. Цветкову, который выслушал меня, затем т. Леграна и предложил нам обоим изложить наши показания письменно для направления их в ЦКК. Своего мнения по существу вопроса он не высказал ни прямо ни косвенно. Так обстоит дело и до сих пор.
Зам. Пред. Правления
В/О «Антиквариат» Прусаков
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 156 (204), л. 56.
Письмо И.В.Сталина И.А.Орбели
Уважаемый т-щ Орбели!
Письмо Ваше от 25/Х получил1. Проверка показала, что заявки Антиквариата не обоснованы. В связи с этим соответствующая инстанция обязала Наркомвнешторг и его экспортные органы не трогать Сектор Востока Эрмитажа.
Думаю, что можно считать вопрос исчерпанным.
С глубоким уважением
И.Сталин 5X1-32
Директору Государственного Эрмитажа академику Б.Б.Пиотровскому
24 января 1989 г.
Глубокоуважаемый Борис Борисович!
На Ваш запрос от 23.01.89 сообщаю следующее:
Письмо И.В.Сталина к И.А.Орбели от 5 ноября 1932 года хранится в
1 В первой части книги Б.Б.Пиотров¬
ским подробно изложены обстоятельства, связанные с письмом И.А.Орбели. — Примеч. ред.
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 439
личном фонде И.А.Орбели в ЛО Архива АН СССР (ф. 909, оп. 3, д. 163, лл. 35-37).
Вместе с письмом сохранились два бумажных конверта. Первый — белого цвета, размером 187 мм х 128 мм, типографским способом набран текст: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Секретариат Центрального Комитета ВКП(б). Москва, Старая площадь, д. 4».
Далее идет текст от руки, фиолетовыми чернилами: «Лично. Ленинград, Государственный Эрмитаж. Заведующему Сектором Востока профессору А.И. (так! — Б.П.) Орбели». На лицевой стороне оттиск круглой фиолетовой печати «ЦК ВКП(б). Для пакетов». В графе «№ »,
значится «б/н» (т.е. без номера).
На обороте конверта, на местах склеек, имеется пять сургучных печатей кирпичного цвета с текстом «ЦК ВКП. Секретный отдел». Второй конверт (был вложен в первый) белого цвета, размер 187 мм х 125 мм.
Рукой И.В.Сталина зелеными чернилами (ими же написано и письмо) написан текст: «Ленинград. Государственный Эрмитаж. Заведующему Сектором Востока профессору А.И. (так! — Б.П.) Орбели от И.Сталина».
Конверт сделан из двойного слоя бумаги, нижний слой («подкладка») имеет черный «лакированный» цвет. Конверт был просто заклеен.
Других палеографических особенностей конверты не имеют1.
С глубоким уважением
Заведующий Архивом Академии наук СССР
(Ленинградское отделение), кандидат исторических наук
В.С.Соболев
Письмо Т. Л Лиловой И.В.Сталину
т. Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович, обращаюсь к Вам, т.к. только Вы один можете помочь мне в моем деле.
Я ведаю Сектором западноевропейского искусства в Гос. Эрмитаже. Антиквариат в течение пяти лет продает предметы искусства из этого сектора. Пять лет я боролась за то, чтобы продавали второстепенные вещи, но последние три года продаются главным образом первоклассные вещи и шедевры. Самое же последнее время идут почти исключительно шедевры и уники. Продано за это время вещей из моего Сектора на сумму не меньше 20.000.000 зол. рублей. Сейчас продают страшно дешево, например, из 3-х имевшихся в Эрмитаже картин Рафаэля две уже проданы 2 года назад: одна — Георгий, за 1.250 т.р. и другая — Мадонна Альба — за 2.500 т.р. Сейчас берут последнего Рафаэля (остается одна сомнительная картина, которую Антиквариат возил за границу и не продал) — Мадонну Констабиле, причем Антиквариат ее ценит только в 245 т.р.
По моим подсчетам, в Эрмитаже осталось вещей, которые можно сейчас продать, никак не больше чем на 10.000.000 руб. зол., но мои оценки Антиквариат понижает обыкновенно по крайней мере в 2 раза. Но
1 Внешний конверт с грифом «НКВД Ленинграда» не сохранился.
II Материалы и документы
440
тогда в Эрмитаже не останется ни одного шедевра и Эрмитаж превратится в громадное собрание произведений искусства среднего достоинства, в громадное тело без души и глаз. Между тем, если сейчас запретить им продавать шедевры, мы сумеем сохранить музей первоклассного достоинства. Необходимый нам как громадный политико-просветительный фактор в деле воспитания непрерывно растущих культурно широких масс и необходимейшее пособие для воспитания наших художников, работающих над усвоением достижений культуры отживших формаций. Нужно полагать, что пролетариат, строящий первое в мире соц. государство, имеет право на изучение культурного наследия на первоклассных образцах. Ведь никому не придет в голову изучать философию или историю классовой борьбы без Маркса или Энгельса. Все понимают, что если изъять эти имена из 19 века или Ваше и т. Ленина из 20-го, то никакой истории и философии, полезной для пролетариата, не получится, а в вопросе культурного наследства думают легко обойтись без таких гигантов, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Рембрандт, Рубенс и Тициан, и без зазрения совести продают их.
Очень прошу Вас вмешаться в это дело и остановить ретивых продавцов. Пусть лучше организуют как следует продажу рядовых вещей, которую они совершенно забросили1.
Необходимо вмешаться сейчас же, т.к. теперь они продают уже последние шедевры. В последнем полученном мною приказе находятся картины, уход которых обезглавливает собрание голландского и итальянского искусства, и собрание драгоценностей, и целый ряд самых лучших и редчайших произведений прикладного искусства. Если немедленно не .остановить их, то потом будет поздно.
Т.Лиловая
Лето 1933 г.
Приписка Т.Л.Лиловой от руки:
Послано через секретную часть ЦК ВКП(б). В октябре меня вызывал т. Стецкий в ЦК вместе с Б.В.Леграном, директором Эрмитажа в то время. Было совещание, затем состоялось Постановление П.б. [Политбюро] о запрещении продавать вещи из экспозиции Эрмитажа2.
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 1521а, л. 7.
В конце октября 1932 г. И.А.Орбели, через А.С.Енукидзе, направил И. В.Сталину письмо об Отделе Востока и получил личный ответ от 5 ноября 1932 г. Это письмо послужило указанием о прекращении продажи музейных ценностей.
Докладная записка Т.Л.Лиловой. [Конец 1932 — начало 1933 г.]
Директору Гос. Эрмитажа тов. Легран
Настоящим ставлю Вас в известность, что последний отбор музейных ценностей, сделанный Антиквариатом на новых марксистских экспозициях, наносит непоправимый ущерб этим экспозициям. Одну разрушая
1 Т.Лиловая не знала о требовании что ее письмо, а не письмо И.А.Орбели сыг-
Э.Меллона, все было в секрете. рало роль в прекращении продажи. Она об
2 Октябрь (?) — эта приписка Т. Л .Ли- этом рассказывала всем слишком много, ловой поздняя, ей очень хотелось показать,
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 441
почти совершенно, другую искривляя таким образом, что она теряет чрезвычайно много в своей убедительности.
Наиболее сильный удар наносится самой показательной из реконструированных частей Сектора западноевропейского искусства — выставке французского искусства эпохи разложения феодализма и буржуазной революции. Выставке, которой Эрмитаж уделил чрезвычайно много сил и средств, дающей наиболее близкое решение новой марксистской экспозиции. Выставка эта вызывает живейший интерес как у нас в СССР, давая наглядное понятие об истории классовой борьбы в образной форме искусства буржуазии и дворянства в эпоху разложения феодализма, а также служит источником громадного мастерства для наших художников, работающих над использованием старого культурного наследства отживших классов. Выставка вызвала также живейший интерес на Западе среди ученых, работающих над вопросами искусства в духе марксизма-ленинизма (доктор Анталь). Достоинства выставки были признаны и буржуазными учеными, приезжавшими в СССР и дававшими о ней самые лестные отзывы (директор Гаагского музея и др.).
В Эрмитаже это наиболее посещаемая, наиболее любимая часть музея. Идя навстречу многочисленным запросам зрителей, Эрмитажем разработано и напечатано пособие по этой выставке в виде специальной книги, в которой дан подробный анализ целого ряда произведений искусства, находящихся на выставке, в том числе и намеченных к продаже в настоящее время Антиквариатом (например, мраморный бюст идеолога революционной буржуазии — Бюффона работы Гудона — совершенно исключительный по выразительности, и мастерству).
С осуществлением намерений Антиквариата не только будет нанесен громадный ущерб данной экспозиции, но также будет разрушено самое понятие комплекса, так как уйдет вся наиболее характерная и качественно высокая культура XVIII века и целый ряд первоклассных образцов прикладного искусства. В намеченный список входят: три мраморных бюста крупнейшего скульптора II половины XVIII — Гудона:
1. бюст Бюффона.
2. бюст молодой девушки.
3. бюст Марии Антуанетты.
4. Лемуан. Бюст молодой девушки (единственная вещь Лемуана в Эрмитаже).
5. Пажу. Бюст графини Дюбари (необычайно характерный экспонат — ничем заменен быть не может).
6. Фальконе. Обнаженная девушка (небольшая мраморная статуэтка исключительно высокого качества — единственный маленький мрамор).
7. Клодион. Женщина с ребенком. Терракота.
8. Клодион. Сатиренок. Терракота.
9. Буазо. Сидящая девушка. Мрамор.
10. Бушардон. Фавн с птицами. Бронза.
11. Бушардон. Фавн с птицами. Бронза (парный).
12. Два слона с сидящими мальчиками. Мейссенский фарфор в бронзовой оправе. Франция XVIII в.
II Материалы и документы
442
13. Два слона китайского фарфора XVII века, в оправе из французской бронзы XVIII века. Редчайшие экземпляры.
14. Часы бронзовые в виде кухни, работы знаменитого французского мастера Каффиери, середины XVIII века. Единственная бытовая композиция в бронзе.
15. Ваза слоновой кости в бронзе, работы Гутьера, с монограммами Людовика XVI и Марии Антуанетты. Редчайшая работа.
16. Два канделябра золоченой бронзы с женскими фигурами. Франция XVIII в. Совершенно исключительного качества, ничем заменены быть не могут.
17. Часы золоченой бронзы со стразами. Франция XVI в.
18. Часы золоченой бронзы с севрскими фигурками, по модели Фальконето. Никакой аналогии в Эрмитаже не имеется.
19. Стенник золоченой бронзы.
20. Два тагана бронзовых с фигурами китайцев. Необходимы на экспозиции как яркое отражение колониальной политики. Аналогии не имеют.
21. Часы золоченой бронзы в виде лодки с контрабандистами, чрезвычайно интересны для экспозиции тематически.
22. Комод, работы Кресона. Аналогии не имеет.
23. Стенники золоченой бронзы. Единственные оставшиеся в Эрмитаже стенники с фигурами.
24. Стенники золоченой бронзы в стиле Рокайль. Единственные оставшиеся в Эрмитаже.
25. Две банки фарфоровые в золоте. Единственный экз.
26. Две пермины золоченого серебра — единственные образцы тончайшего выполнения стиля Рокайль. Замены не имеется.
27. Чаша Сен-Поршер. Французская керамика XVI века. Необходимо принять во внимание, что еще во время устройства выставки Антиквариатом были изъяты и проданы такие шедевры французского искусства, как знаменитая Диана работы Гудона, картина Шардена «Мальчик, строящий карточный домик», картина Ватто «Меццетен», Ланкре «Лето».
Кроме того, в течение последнего года уже с выставки были изъяты — стол французской работы середины XVIII века в великолепной бронзовой оправе; комод китайского лака французской работы середины XVIII века; две акварели работы французского художника Моромладшего, большое количество первоклассной бронзы, целый ряд превосходных рисунков Грёза, Буше и др., картина Пуссена «Амфитрита». Все это нанесло огромный качественный ущерб Эрмитажному собранию французского искусства, которое занимало и, несмотря на все, продолжает занимать одно из первых мест в мире после Лувра.
Наличие достаточного материала позволило Эрмитажу, реконструируя Картинную галерею и отдел Прикладного искусства, представить на материале французского искусства историю классовой борьбы в образной форме искусства, начиная с XI—XII вв. и кончая современностью, т.е. показать искусство Франции в эпоху феодализма, периода
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 443
первоначального накопления капитала, капитализма и зарождающегося пролетарского искусства, над собранием которого работает Эрмитаж в настоящее время.
Уход намеченных Антиквариатом вещей делает невозможной эту задачу, т.к. это собрание превратится в ряд отдельных не связных между собой вещей.
Непоправимый удар отбор Антиквариата наносит также выставке феодализма, в которой центральное ядро составляют французские экспонаты. Эта выставка недавно понесла огромные потери в связи с уходом шести важнейших романских и раннеготических реликвариев. Намеченные же сейчас к выдаче — ларец св. Валерии лиможской эмали, французской работы XII века (самый замечательный экземпляр из имеющихся во всем мире); серебряная фигура дьякона французской работы XII века — совершенно уникальная и единственная оставшаяся фигура романской эпохи; крест процессиональный — лиможской эмали, французской работы XIV века, представляющий наиболее характерную отрасль романской художественной промышленности; водолей в виде охотника XII века, наилучший по сохранности экземпляр из всех шести имеющихся в мире экземпляров водолея.
Уход этих вещей с выставки феодализма лишает ее наиболее высоких образцов художественной промышленности искусства эпохи феодализма.
Кроме того, Антиквариатом намечен ряд вещей из золота, находящегося в Особой кладовой, среди которых находится такая совершенно исключительная вещь, как подвеска в виде корабля из изумруда испанской работы, около 1500 г., представляющая выдающийся интерес по форме и художественной отделке, а также по качеству изумруда, вероятно вывезенного из Америки ее завоевателями. Других предметов такого рода в Эрмитаже не имеется.
Табакерка золотая с портретом Фридриха II — одна из лучших в Эрмитаже по качеству работы по золоту, чеканке и лепке фигур на крышке.
Табакерка золотая Фридриха II овальная с инкрустацией из резных камней на фоне яшмы с запиской Фридриха II и др. вещи.
Предметы из серебра на экспозиции серебра:
Кубок серебряный с камеями. Антверпен, нач. XVII в. — единственная вещь антверпенской работы в собрании Эрмитажа.
Кружка с монетами. Швеция, XVII век. В Эрмитажном собрании имеется всего только 4—5 шведских кружек, причем эта является лучшей.
Рукомойник с блюдом серебряный, золоченый, работы мастера Крамер 1620 г. Рукомойников этого периода в Эрмитаже больше нет. Необходим для экспозиции Германии XVII века.
Кубок серебряный, золоченый, большой — Нюрнберг. Мартин Эреллейн — 1570 г. Единственный большой кубок южнонемецкой работы этого времени.
На выставке миниатюр:
Галль. Семья Воронцовых. Единственный экземпляр по качеству.
II Материалы и документы
444
Буат. Людовик XV. Эмаль в медальоне с камнями.
Эриксен. Граф Орлов в маскарадном костюме.
Рит. Портрет Демидовой (самый лучший из имеющихся портретов Рита в Эрмитаже).
Фюгер. Принц Насаузиген.
Зав. Сектором западноевропейского искусства Т.Лиловая Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, № 1521а, л. 1—4.
Письмо И.А.Орбели в Отдел Музеев Наркомпроса
9 июня 1935 г. т. Феликсу Кону Секретно
Вследствие Вашего запроса о шашке в золотой оправе с драгоценными камнями, сообщаю, что из предметов этого рода, могущих представить интерес для международного рынка, имеется только одна изумрудная шашка, выставленная нами в Лондоне, на персидской выставке в 1931 г., и очень тогда прославленная иностранной прессой.
О ликвидации этой шашки, разумеется, не может быть и речи, так как все ее в Лондоне видели, по богатству она заняла там, бесспорно, первое место и, конечно, должна будет привлечь к себе особое внимание каждого, кто будет в Ленинграде и на конгрессе1 и позже. Сейчас она выставлена в Особой кладовой.
Я уверен, что покупатель имеет в виду именно ее, и думаю, что Антиквариату сделано это предложение именно с целью создать неловкость в случае удовлетворения «выгодного» предложения: в случае его удовлетворения сейчас же по открытии конгресса и выставки последовали бы десятки вопросов непосредственно и в международной прессе, куда девалась уникальная шашка, которой мы украсили Лондонскую выставку.
Директор Гос. Эрмитажа Орбели Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 234 (203), л. 12.
29 марта 1929 г.
Секретно
Государственный Эрмитаж. Директору Кларк П.И.
Копия: Уполномоченному НКП по Ленинграду тов. Позерн Б.П. Главнаука НКпроса предлагает выдать Антиквариату Госторга картину «Благовещение» работы художника Дирк Боутса, проданную Правительством за границу.
Зам. Зав. Главнаукой В.Лиэ
Секретарь: подпись
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 137 (140), л. 1.
9 августа 1929 г.
Протокол Совещания Отдела Картинной Галереи Председатель Ф.Ф.Нотгафт, Секретарь В.Ф.Левинсон-Лессинг Присутствовали: М.И.Щербачева, М.М.Семенов, Е.Г.Нотгафт, ААЦветкова.
1 Речь идет о III Международном кон¬
грессе по искусству и археологии Ирана (сентябрь 1935 г.) — Примеч. ред.
Продажа. 1928-1933. Защита Эрмитажных сокровищ 445
О (Гр «иПлМАчМАЛА
07\ S’
esi
(•г-*? o.e — d-»v-a^J
tnr\ Г Jj
8S7
(n-w — 19-vi-as)
Ста Г ^
»*3
^ai-V( - Ч-Х - ij J
en* S" «>0
ЗГ*
(Зв-vil- lfc-X - aij
<л* 'Г
8 4,1
(tt-XXI- -4j
Г >1
»033
(if •*•*! - »-*('3o)
*»n J ^
1034
l<r»VlVu)
ЦП £
JOBS’
-a*-«•**)
fc>v >Г *
I 037
(m Т- ^
юз?
(М-И. 19-«I 'jjJ
(па С d
Щ
ног l И**)
m S' *
i г±±а.
» taa (193О
in* S' *4
iaw
(i-i -ai-Vi* 5»)
гл Г M
IVM
(l-vii -t-x* -32.)
лГ-w
(5 83
I 7-1-U-xi-jj )
<n\
l91i
ЩЗЗ}
«nrv t| w ICO ({-‘У'Ч!*)
owl7.*H40 (Чгг~г,“^
*| 17/
T IT HI 7TI |
л П л 2oj (ЦЯ-'154) n, П ~ 1 *4 f-r-3‘-K‘' 31)
Лист рукописи с перечнем обработанных Б.Б.Пиотровским дел Архива Эрмитажа, связанных с продажей
II Материалы и документы
446
YM/
» КСФ;С-В. ЭКЗ.кАи $jf //dfiCAV
вредный Комиссариат л /^Жг^ьс“>•
pSw1 teaitt л»- /
Uw:- w h.
/8Х. ,N&
Г ДХ
SJ
дало!?. Йр9Р^тельстгзм^агоад^^ у ф ож HHVl° 10 я£
a'i. Зар. Гларяэд гой: ■ fijL
^9Тфь;/^у
J7
ожение на листах.
^Т.^ЩПИ I .«ц
7+
^Огвет"ожидается к
- 11п*7|>«
ГвЖ7
Ю II
ycS С
расе
■шжес
с* Эри
§Иоас ходила в у\]$аяяхне только не гарантирующих интересы
jBKPBTHO |
iLiiT а ж 1
— СЕК
Гос. Эрм
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ по
ПРОСВЕЩЕНИЮ
—□
Москва. Чистые Пруды, в.
Тел. 2-84*1.
i
CuB.СвКрвТЙУ.
Q~2шт
сквшно. •
I (Л/
Зам.Директору Гос.Эр/вта»а т.
.ЧШОВУ.-
Коиия-Ленинградскому Антиквариату.-
¥
М «-1931
?им" стр.
С получением сего немеддевво передайте представителю Гос.Конторы "Антиквариата* тов. ПРУсСАКОВУ следующие картины по каталогу Вайнер 19?3 г.:
1/Картаву худол.Рафраеяял "Святом Георги
29 и
2/Картиву худою. Рембрандта "Молодчин мевщнна с гвоадмком" стр. 148.
Об исполнении довести телеграфий: "Ваше расиоря- леиие h. 4“в|£,исполнево.
Отд. § вив.
2 экв.-адр.
I экв.- в Дело АП 25/II—31 г.
Распоряжение Главнауки Наркомпроса директору Эрмитажа П.И.Кларку о передаче -«Антиквариату» картины Д. Боутса «Благовещение».
29 марта 1929 г.
Распоряжение заведующего Сектором науки Наркомпроса И.К.Луппола о передаче «Антиквариату» картины Рафаэля «Св. Георгий» и картины Рембрандта «Молодая женщина с гвоздикой».
25 февраля 1931 г.
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 447
Слушали: 1. Об обмене с «Антиквариатом» следующих картин: Рибера. Катон (3000 р.), Рейкхальс. Ферма (1000 р.), Гиллеманс. Вани- тас (350 р.), оцененных в общую сумму 4350 р.
Постановили: 1. Выделить для обмена «Девушку с барашком» Грёза (Р 76/24).
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, № 859 (12), л. 199.
23 апреля 1931 г.
Директору Гос. Эрмитажа т. Леграну Копия — «Антиквариат» тов. Богнару1 Секретно
Выдайте немедленно Перуджино № 23.
Зав. Сектором науки И.Луппол Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 205 (177), л. 83.
26 апреля 1931 г.
Директору Гос. Эрмитажа т. Леграну Копия — «Антиквариат» тов. Богнару Секретно
С получением сего немедленно передайте представителю «Антиквариата» т. Богнару картину Рафаэль «Мадонна Альба» № 27 по катал. Вайнера. Нарком по просвещению А. Бубнов
На документе резолюция: Поручить Лиловой выполнить. Подписал: Легран 27/IV
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 205 (177), л. 84.
Из документов передачи музейных ценностей Всесоюзному объединению «Антиквариат». 1930 г.2
Письма Уполномоченного НКП Б.П.Позерна
Январь 1930 г.
Предлагаю: 1) в ближайшее же время закончить выделение тех золотых и платиновых предметов, которые не нужны Эрмитажу, и передать. эти предметы согласно данным указаниям (л. 6.).
Получено 5 января 1930 г.
Директору Гос. Эрмитажа т. Забрежневу «Во исполнение постановления Правительственной комиссии от 20 декабря 1929 г. прошу допустить представителя Антиквариата т. Богнара Э.И. к отбору совместно с представителями Эрмитажа следующих предметов для экспорта:
1. 250 картин, стоимостью в среднем не ниже 5000 р. каждая (фламандской, голландской, французской и итальянской школ)
2. Оружие из арсенала Эрмитажа на сумму 500 т.р. (доспехи, шлемы, щиты и различного рода оружие)
3. Из особых кладовых Гос. Эрмитажа скифское золото, на сумму по соглашению с Правлением Эрмитажа
1 Э.Богнара я знал, перед войной 1941 г. он работал в Эрмитаже. Вместе с ним был зачислен (1942 г.) в партизанский отряд Дзержинского района Ленинграда. Он был партизаном на Дальнем Востоке во время гражданской войны и считался опытным, бывалым партизаном. В казарме на наб. р.
Мойки он много рассказывал о партизанских делах, но об «Антиквариате» мало. Не знаю его судьбу, куда его направили после расформирования нашего отряда. (Э.И.Богнар умер в 1942 г. во время блокады Ленинграда — Ред.) 2 Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 157 (160).
II Материалы и документы
448
4. Из Отделения гравюр вторые и третьи экземпляры в пропорции 75% и 25% третьих экземпляров. Обращаю Ваше внимание на необходимость срочного разрешения вопроса о выделении гравюр, которые могут быть реализованы в течение ближайшего времени
5. Из запасов Эрмитажа — книги, имеющие экспортное значение и не связанные непосредственно с экспозицией и научной работой (библии, манускрипты, инкунабулы и т.п. из Голицынского собрания) (л. 8).
Из письма Зам. Заведующего Главнаукой А.А. Вольтера
25 января 1930 г.
«В связи с ожидаемым приездом крупных антикваров из Парижа Вам надлежит в срочном порядке наметить возможное выделение для нужд «Антиквариата» предметов, относящихся к античному искусству, эпохи ренесанса и готтики (так в тексте. — Б .П.), преимущественно изделий из золота, эмали, слоновой кости, других драгоценных металлов, мебель, гобелены, бронза, ковры» (л. Ю.)1.
Письмо Заведующего Главнаукой И.К.Луппола2
31 января 1930 г.
На основании распоряжения СНК РСФСР от 6-1-30, прот. № 10/16 из вверенного Вам Музея мобилизуются на работу в бригаду по выявлению к отбору музейных ценностей экспортного значения тов. Ирбит и тов. Кверфельд сроком до 15 марта 1930 г. (л. 12).
19 февраля 1930 г.
Директору Эрмитажа т. Оболенскому Копия: «Антиквариат» т. Ф.В.Горскому «Предлагаю немедленно по предъявлению сего выдать лицу, которое укажет Управляющий Гос. к-ры «Антиквариат» т. Ф.В.Горский, переименованные в прилагаемом списке предметы серебра (13 шт.) и картину (Рубенс. Портрет Елены Фурман. — Б.П.), приняв все меры для соблюдения строжайшей секретности этого дела».
Подписали: Председатель Правительственной Комиссии Замнар- комторг СССР Л.^Синк и от Наркомпроса А.Бубнов (л. 20)3.
Из письма Управляющего «Антиквариата» Ф.В.Горского
15 марта 1930 г.
«На основании распоряжения Главнауки просим выдать <...> одну картину Ван Дейка» (л. 31)4.
4 мая 1930 г.
Акт, подписанный Директором Л.Л.Оболенским и зав. Отделом Востока И.А.Орбели, о том, что они приняли от Э.П.Богнара «выкупаемый у конторы «Антиквариат» принадлежащий ей бронзовый водолей в виде коровы-зебу с сосущим теленком под нею и с терзающим львом на спине
1 Вольтер из Франции помогал Екате- з Продажа Г.Гюльбенкяну.
рине II создавать Эрмитаж, Вольтер из Мос- 4 Портрет лорда Ф.Уортона; продажа
квы помогал разрушать Эрмитаж. Меллону.
2 И.К.Луппол с 1.02.1933 — член-кор¬
респондент АН СССР, с 26.01.1939 — акаде¬
мик (философия).
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 449
(per. № конторы 5595). Означенный водолей выкупается у конторы «Антиквариат» Эрмитажем для включения в инвентарный состав коллекции отдела Востока».
В виде компенсации Эрмитажем передана «золотая лицевая пластинка иконы-мощехранительницы высокопробного золота с грузинской надписью» (инв. № 5570) (л. 46).
3 июня 1930 г.
Директору Гос. Эрмитажа тов. Оболенскому
Секретно
В полученной Вами сегодня телеграмме вкралась досадная ошибка, которая объясняется недостаточной внимательностью ее составителей. Т. к. я участвовал в предварительных переговорах относительно этой картины, присутствовал при предварительном обсуждении этого вопроса и в Наркомторге, и также лично разговаривал об этом с т. Лупполом, я удостоверяю, что речь идет, разумеется, об известной картине Ван Эйка, а не Ван Дейка, у которого такой картины, насколько мне известно, нет.
Удостоверяя это для того, чтобы облегчить Вам исполнение вышеуказанной телеграммы, я одновременно принимаю меры к тому, чтобы Вы получили телеграмму в исправленном виде. Сегодня же телеграфирую об' этом Москве.
Пред. правления Антиквариата Ильин На документе следующая надпись: В личном разговоре по телефону с тов. Вольтером 3 июня в 51/2 (171/2)тов. Вольтер подтвердил, что в телеграмме вкралась ошибка и что речь идет о картине Ван-Эйка, а не Ван-Дейка.
Оболенский
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 157 (160), л. 62.
6 июня 1930 г.
Телеграмма: «Подтверждаем первую телеграмму вместо Ван Дейк читать Ван Эйк. 51501 Луппол» (л. 63)
19 июня 1930 г.
Акт о сдаче согласно распоряжению НКП тов. Бубнова картин Рембрандта:
1) Афина-Паллада, 2) Титус; Ватто: Мецетен; П. де Хоха «Концерт» (л. 65)2. 18 июня 1930 г.
Телеграмма. Директору Ленинградского Эрмитажа Оболенскому Копия Ильину «Антиквариат», Ленинградский Мраморный Дворец Передайте ходатайству распоряжение Антиквариата картины 1) Рембрандт Паллада, 2) Рембрандт Татус (Титус. — Б.П.), 3) Ватто Музыкант, 4) картина стакан лимонада, 5) Вамдондиана (Гудон. Диана. — Б.П.). А. Бубнов № 171/м (л. 69)3.
Из письма И.К.Луппола
10 июля 1930 г.
«Сектор науки НКПроса предлагает Вам передать незамедлительно Всесоюзному Объединению «Антиквариат» (Л-д, Набережная 9 января,
1 «Благовещение», продажа Меллону.
2 Продажа Гюльбенкяну.
3 Продажа Гюльбенкяну.
II Материалы и документы
450
18) выделенные Ударной Бригадой предметы согласно акта от 24-Н-ЗО на сумму рубл. 364 500.
Из перечисленных в акте предметов следующие №№ не передаются Антиквариату: №№ 6—17, на сумму руб. 100 000, выбранные же вещи согласованы с Антиквариатом» (л. 73)1.
Из письма и.о. зав. Сектором Науки НКП А.Камчеева и руководителя Художественной группой А.А. Вольтера
11 сентября 1930 г.
«Согласно утвержденного для «Антиквариата плана на 4-ый квартал, Вам необходимо выделить для реализации Гос. Конторе «Антиквариат» сассонитское (в тексте так! — Б.П.) серебро на сумму 50 000 руб., скифское золото на сумму 50 000 рублей и два французских портрета на сумму 200 000 рублей» (л. 84).
И ноября 1930 г.
Врио Директора Эрмитажа т. Легран «Согласно распоряжению правительства Вам предлагается незамедлительно передать в распоряжение Ленинградской Гос. Конторы «Антиквариат» портрет «Папы Иннокентия Х-го», работы художника Веласкеса (испанской школы)» (л. 117)2.
Акт № 17 с Секретно
21 января 1931 года мы, нижеподписавшиеся, Директор Гос. Эрмитажа Б.В.Легран и Зам. Председателя Гос. Конторы «Антиквариат» Богнар Э., составили настоящий акт в том, что Легран сдал, а Богнар принял из Эрмитажа следующие три картины:
1 «Поклонение волхвов» — работы художника Боттичелли
2 Мужской портрет, Томас Грешем — работы художника Моро
3 Женский портрет, Анны Грешем — работы художника Моро. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, из коих один находится в секретном отделе Гос. Эрмитажа, а второй передан Конторе «Антиквариат».
Сдал: Директор Гос. Эрмитажа Б.Легран
Принял: Зам Председателя Конт. «Антиквариат» Э.Богнар
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 205 (177), л. 60.
Письмо Сектора науки Наркомпроса
25 февраля 1931 г.
Сов. секретно. Спешно Зам. Директора Гос. Эрмитажа т. Чулкову Копия — Ленинградскому Антиквариату С получением сего немедленно передайте представителю Гос. Конторы «Антиквариата» тов. Пруссакову следующие картины по каталогу Вайнер 1923 г.
1 Подобное же письмо от 10 июля 1930 г: табакерки — 20000 руб.; Лимож — 541000 (не
о Центральной библиотеке — 12500 руб.; гра- передаются на сумму 125000 рублей) (л. 74). вюры — 20485 руб.; гравюры — 38490 руб.; 2 Продажа Меллону.
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 451
1. Картину худож. Раффаелля «Святой Георгий», стр. 29 и
2. Картину худож. Рембрандта «Молодая женщина с гвоздикой», стр. 148. Об исполнении донести телеграфно: «Ваше распоряжение № 190/с исполнено».
Зав. Сектором Науки И.Луппол Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 205 (177), л. 72.
Продажа Г.Гюльбенкяну 1
Первая покупка Г.Гюльбенкяна через «Антиквариат». 1928 — апрель 1929 г.
24 предмета французского серебра и золота.
Две картины Гюбера Робера (сады Версаля), картина Дирка Боутса «Благовещение» (XV в.) и столик работы I.H.Riesener’a. За все уплачено 54000 фунтов и 150 фунтов за упаковку и доставку из Ленинграда в Берлин. Серебро и картина Боутса (!) из коллекций Эрмитажа.
Вторая покупка. 1929 — февраль 1930 г.
15 серебряных предметов и портрет Елены Фурман Рубенса.
За серебро уплачено 100 тысяч фунтов и за картину 55 тысяч фунтов.
Третья покупка
Пять картин и скульптура Гудона «Диана» (по письму Гюльбен- кяна в Ленинградское отделение «Антиквариата» от 28 мая 1930 г.). Рембрандт «Титус»; Рембрандт «Афина-Паллада»; Ватто «Меццетен»; Тер Борх «Урок музыки»; Ланкре «Купальщицы».
Уплачено за картины 120 тысяч фунтов и 20 тысяч фунтов за скульптуру.
Четыре картины Гюльбенкян уступил, по соглашению, Вильденш- тейну за 100,250 фунтов (который перепродал их Музею Метрополитен, Нью-Йорк), оставив себе «Афину-Палладу» и «Диану».
Статуя Гудона была отправлена из Ленинграда в Лондон на теплоходе «Феликс Дзержинский».
Рассказывается о том, что Гюльбенкяном в Ленинград был тайно направлен его эксперт для установления состояния статуи Гудона, который жил в гостинице «Европейская» и должен был в телеграммах шифровкой передать о сохранности статуи (с. 110), но встречи с представителями «Антиквариата» затягивались. Через некоторое время все решилось.
Рассказывается также и о том, что упаковка статуи для отправки производилась секретно, ночью (с. 113).
В телеграмме А.Бубнова в Эрмитаж от 18 июня 1930 г. говорится о передаче в «Антиквариат» четырех картин: («Афина-Паллада», «Титус», Ватто «Музыкант» и «картины — стакан лимонада». За стакан лимонада, вероятно, были даны картины Тер Борха «Урок музыки» и «Купальщицы» Ланкре. По акту сдачи от 19 июня 30 г. вместо «стака-
1 J. de Azeredo Perdigao. Calouste Gul- benkian. Collectos C.Gulbenkian Foundation. Lisben. 1979. С г-ном Пердигао и племянником Г.Гюльбенкяна — Робертом Гюльбенкяном я встретился в Багдаде на открытии ста¬
диона. Во время обеда имел с ними разговор, и Роберт пригласил меня в Лиссабон ознакомиться с «письмами г-на Пиатакова», Этот материал и опубликован в книге Пердигао.
II Материалы и документы
452
на (бокала) лимонада» значится картина Питера де Хоха «Концерт». Так что состав картин этой покупки долго обсуждался и изменялся.
Г-н Рибейра из Фонда Гюльбенкяна, посетивший Эрмитаж 10 июня 1986 г., рассказал, что когда Рембрандтовскую «Афину-Палладу» доставили в Париж, то французское правительство, он называл А.Мальро, противилось вывозу ее в Лиссабон и у Гюльбенкяна по этому поводу было много хлопот.
Четвертая покупка (письма от 16 сентября — 4 октября 1930 г.)
«Портрет старика» Рембрандта куплен за 30 тысяч фунтов. Начались переговоры между Гюльбенкяном и Вильденштейновской компанией в Нью-Йорке о продаже этой картины, но Гюльбенкян не захотел с ней расстаться, и она осталась в его Фонде.
Вильденштейн и К° имела свои агентства в Париже, Лондоне, Нью- Йорке и в Буэнос-Айросе. Соглашение Фонда Гюльбенкяна с фирмой Вильденштейна было вызвано тем, что Гюльбенкян боролся со своими крупными и сильными конкурентами. Корреспондент R.R.Tetlak в «Daily Telegraph» писал о том, что крупный коллекционер Э.Меллон проявляет интерес к Эрмитажу и в выпуске «Daily Telegraph» от И ноября 1931 г. сообщал, что он закупил уже коллекцию эрмитажных картин на сумму 1.600.000 долларов. Г-н Тэтлок указывает, что интерес к закупке картин в Советской России начался давно, в 1924 г., когда председатель коммерческой делегации СССР в Великобритании, ссылаясь на письмо директора Эрмитажа С.Тройницкого (от 11 октября 1924 г.), опровергал слухи о продаже произведений искусств из Эрмитажа1.
Проданные картины Эрмитажа (исключая продажу Меллону) 2
Рубенс
Рембрандт
Рембрандт
Ватто
Ланкре
Рембрандт
Боутс
Рубенс
Рубенс Ван Дейк
Ван Дейк
Портрет Елены Фурман Портрет Титуса Афина-Паллада Меццетен
Тер Борх Урок музыки
Купальщицы Портрет старика Благовещение Аллегория вечности (собр. Строганова) Мадонна Ян Мальдерус (приписывается) Антуан Триест
январь 1930, Гюльбенкян (Лиссабон)
май 1930, Гюльбенкян (Рейксмузеум)
продано Гюльбенкяном галерее Вильденштейна в мае 1930 г. Музей Метрополитен
продано Гюльбенкяном в мае 1930 г. галерее Вильденштейна
октябрь 1930, Гюльбенкян (Лиссабон) (апрель 1929 — Б.П.), Гюльбенкян галерея Тимкен
Ганновер, Пеликанверке
I Документы архива Эрмитажа под- 2 Из книги: R.C.Williams. Russian Art тверждают опасения Гюльбенкяна относи- and American Money. 1900—1940. Harward тельно сильных конкурентов; переговоры с University Press, Cambridge, Massachusetts and Меллоном начались также в 1930 г. London, England, 1980.
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 453
Ван Дейк
Этюд лошади
Ван де Вельде
Пейзаж со стадом
Пуссен
Триумф Нептуна
1932, Филадельфия, Музей искусств
и Амфитриты
Тьеполо
Пир Клеопатры
Мельбурн, Национальная галерея Вик¬
тории
Рембрандт
Отречение Петра
1933, Амстердам, Рейксмузеум
Ван Эйк
Распятие
и Страшный суд
Музей Метрополитен
Платцер
Концерт
1934, Нюрнберг, Германские музеи
Буркмайер
Ганс Шеленберг
Кёльн, музей Вальраф-Рихартц1.
На с. 28—32 описывается эпопея продажи эрмитажных коллекций за границу. Указывается, что сам Эрмитаж никакого отношения к этому делу не имел. Руководитель отдела Левинсон-Лессинг был привлечен как эксперт в «Антиквариат», но относился к этой своей работе «без энтузиазма». Также против продажи был и нарком Луначарский, который в сентябре 1928 г. настоял на законе, запрещающем вывоз памятников искусства из Советского Союза.
Но его положение пошатнулось, и он не мог противостоять комиссару внешней торговли А. Микояну. И в ноябре 1928 г. началась продажа через фирму Рудольфа Лепке (аукционы в Берлине). Осенью 1928 г. состоялось и решение Политбюро о продаже. Сначала через представителя Советского Союза Пятакова в Париже, который имел переговоры с фирмой Зелингмана. Зелингман остерегался покупать в Советском Союзе импрессионистов и произведения французских художников XIX и начала XX века, опасаясь претензий бывших хозяев этих картин.
Среди американцев, торговавших картинами из советских музеев, был и Арманд Хаммер, но его прельщали больше произведения Фаберже из царских собраний.
Наибольшие продажи картин из советских музеев были в 1928— 1933 гг. Шла длительная дискуссия о цене, но Запад находился в финансовой депрессии, и цены были значительно понижены (тогда именно Тиссены и собрали свою галерею. — Б.П.).
Среди торгашей упоминается Геншель, бывший в контакте с галереей Маттисен в Берлине и Николаем Ильиным, главой «Антиквариата». Американцы сильно жали, торговались как только могли, требовали шедевры.
Продажа картин была в секрете, и только В.Ф.Левинсон-Лессинг в 1967 г. обмолвился, что некоторые бывшие эрмитажные картины находятся ныне в Национальной галерее искусства в Вашингтоне.
Говорится о контактах Гюльбенкяна — Меллона (Гюльбенкян освещает это по-иному).
Подробное описание торгов и продажи картин из Эрмитажа помещено на с. 149—154.
Покупки Гюльбенкяна и его взаимоотношения с Пятаковым (с. 158-162).
1 В перечне указаны и другие картины,
отмеченные Б.Б.Пиотровским как возвращенные Эрмитажу. — Примеч. ред.
II Материалы и документы
454
Роль Сталина в распродаже музейных ценностей не подчеркивается, он упоминается в книге в связи с Эрмитажем попутно, лишь два раза в общей форме, зато А. Микоян часто. Хаммер попадается в книге часто, но он тогда не имел еще силы, но старался не отставать от «больших».
К главе «Rubens and Rubles» эпиграфом приведено: «Вы можете получить картины прямо сейчас. Мы также не возражаем, если вы возьмете их на некоторое время.
Но мы произведем революцию в вашей стране и заберем их назад».
Анастас Микоян — Арманду Хаммеру, 1929.
Продажа Э.Меллону
Эндрю Меллон (1855—1937) стал президентом Меллоновского банка до 30 лет. Банк Меллона финансировал многие производственные компании. В 1921 г. — «секретарь Казначейства сокровищ». Состояние семьи Меллонов ок. 2-х биллионов. Коллекционер по призванию. По должности ведал национальными долгами. Величайший казначей после Александра Гамильтона. Во время Депрессии Меллон становится объектом критики. Акции Меллона имели громадные прибыли, и семья обходила оплату налогов. В феврале 1932 г. Меллон становится послом в Лондоне (при президенте Гувере). При Рузвельте Меллон был обвинен в фальсификации своего налога. Правительство требовало уплаты налога и штрафа в сумме 3 миллионов 89 тысяч 261 долларов. В 1935 г. Меллон объясняет требование уплаты налогов преследованием. В 1937 г. Меллон передал стране свою галерею вместе с фондами. Этот подарок оценивался в 65 миллионов долларов, за что получил благодарность Рузвельта.
В конце 1937 г. Меллон скончался.
Картины из собрания Эрмитажа, проданные М.Кнёдлеру и К° для Эндрю Меллона в период с апреля 1930 по апрель 1931 гг.1
Художник
Название
Дата
Цена в дол.
Хальс
Портрет молодого человека
апрель
559.190
Рембрандт
Девушка с метлой
Рембрандт
Польский дворянин
Рубенс
Портрет Изабеллы Брант
май 1930
223.563
Ван Эйк
Благовещение
июнь 1930
502.899
Рембрандт
Турок
июль-ноябрь 1930
1.084.953
Рембрандт
Женщина с гвоздикой
Ван Дейк
Филипп, герцог Уортон
Ван Дейк
Портрет фламандки
Ван Дейк
Сюзанна Фурман с дочерью
Рафаэль
Чудо св. Георгия
январь 1931
745.500
Веласкес
Портрет Папы Иннокентия X
223.562
Боттичелли
Поклонение волхвов
февраль 1931
838.350
Рембрандт
Обвинение Иосифа женой
Потифара
167.543
1 R.C.Williams. Russian Art and Ameri¬
can Money. 1900—1940. Harward Univ. Press, 1980.
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 455
Веронезе
Нахождение Моисея
март 1931
402.333
Ван Дейк
Вильгельм II Нассаусский
и Оранский
Хальс
Портрет офицера
Шарден
Карточный домик
Перуджино
Распятие
апрель 1931
195.602
Рафаэль
Мадонна Альба
апрель 1931
1.710.558
Тициан
Венера с зеркалом
Всего 24 картины
6.654.053 дол.
Джон Уолкер
Давайте обменяем Ван Дейка и Рембрандта на Джорджоне 1
Удивительно, что именно в Питтсбурге родились два величайших коллекционера произведений искусства, которых когда-либо знала история собирательства, — Эндрю Меллон и Генри Клей Фрик. Оба занимались бизнесом, и их окружение с подозрением и с явной неприязнью восприняло новое увлечение своих коллег в начале их пути. Так, отец Эндрю Меллона, судья Томас Меллон, послал агента своего банка узнать о кредитоспособности Фрика и получил следующий ответ: «Земли хорошие, печи хорошо сложены, сам весь день в трудах, вечерами занимается бухгалтерией, может быть, слишком увлечен картинами, но не настолько, чтобы это внушало подозрение...»
При более близком знакомстве судья Меллон полюбил молодого энергичного коксопромышленника, который впоследствии стал ближайшим другом его сына.
Фрик был пятью годами старше Эндрю Меллона и более опытным. В возрасте двадцати с небольшим лет (в 1880 г.) оба молодых человека впервые отправились в Европу, и Фрик играл тогда роль наставника. Меллон приобрел для себя картину за тысячу долларов, и его партнеры, ранее восхищавшиеся его практическими качествами, сразу же поставили под сомнение свои прежние суждения.
Фрик познакомил Эндрю Меллона с Чарльзом С.Карстерсом (фирма «Кнёдлер и К0»), роль которого в истории американского коллекционирования была явно недооценена. Чарльз был общительным человеком и имел обширные связи. В период с 1899 по 1920-е гг. почти каждая картина, купленная Меллоном, проходила через фирму Кнёдлера. И это несмотря на то, что Меллон в двадцатые годы познакомился с Джозефом Дювином. И только в конце жизни он сделал значительные покупки через фирму соперников. За исключением одного случая, когда он вел переговоры о покупке картины непосредственно с ее владельцем, Меллон приобрел все свои шедевры через Кнёдлера или Дювина.
В 1900 г. Эндрю Меллон женился и перевез свою молодую жену из прелестного английского поместья в уродливый дом на Форсбес-стрит (часть Ист Энда Питтсбурга, долго остававшаяся крайне непривлекательной), который был слишком скромен для уже достаточно богатого
1 См. John Walker. Let’s trade the Van Dyck and the Rembrandt for the Giorgione. The Inside Story of the Mellon Art Collection. — The Atlantic. Dec. 1972 vol. 230, № 6 (Boston Mass). Сокращенный перевод В.Л.Алешиной.
II Материалы и документы
456
владельца. Его сын Пол Меллон вспоминал о своем первом жилище: «Залы были темные, стены темные, да и сам Питтсбург был очень темным».
Желая, по-видимому, немного скрасить серость окружения, Меллон судя по описи, составленной фирмой Кнёдлера в 1899 г., тратит на картины сумму в 20 тысяч долларов. Надо сказать, что он купил тогда очень средние картины и все они, к счастью, пропали.
...Много позже он спросит Ролана Кнёдлера: «Когда я только начал заниматься коллекционированием, почему Вы не предлагали мне Гейнсборо, Рембрандта, Хальса и т.д.?» На что торговец ответит: «Потому что Вы не купили бы их». Одному Богу известно, правда ли это.
Эти фразы четко прослеживают эволюцию Эндрю Меллона в качестве коллекционера, вплоть до 1928 г.: первый период характеризуется наивными покупками начинающего любителя изящных искусств художников Барбизонской школы и их окружения по явно завышенной цене. Картины эти висели в его старом доме на Форсбес-стрит. Однако шум автомашин и запах выхлопных газов сделали жизнь семьи там невозможной, и в 1916 г. Меллон купил новый дом на Вуд- ленд Роуд, одной из немногих приятных и малолюдных улиц Ист Энда. Дом был построен Александром Лафлином... в стиле, отдаленно напоминающем якобинскую архитектуру. Вокруг был чудесный сад. Весь ансамбль вызывал в памяти очаровательный уголок старой Англии, чудом ожившей в задымленном промышленном Питтсбурге. Именно это обстоятельство, должно быть, привлекло Эндрю Меллона, давно любившего Англию, где он неоднократно бывал и провел лучшие дни своей жизни. Англомания пронизывала всю его частную жизнь, и Национальная галерея на Трафальгарской площади всегда была для Меллона идеальной моделью музея, который виделся ему в Вашингтоне.
Несмотря на дым питтсбургских доменных и сталеплавильных печей, дом на Вудленд Роуд всегда был полон солнечного света, а ночью, среди царящего вокруг мрака, неожиданно вспыхивающие полосы света освещали приглушенные тона на картинах английских и голландских художников. Вспоминаю, как я однажды видел там возникшего из тени изящно одетого худого пожилого человека, с высокими скулами, холеными ушами и седыми волосами. Он производил впечатление аристократичного патриция. Однако он хранил полное молчание, терпеливо выслушивая мои восторги по поводу его коллекции. Даже разговор об искусстве не расшевелил его, и упоминание авторов хранимых им картин наталкивалось на стену молчания. Лишь только любовный взгляд, бросаемый владельцем на свои сокровища, выдавал его чувства. Подобное родство, устанавливающееся у коллекционеров с их коллекциями, я наблюдал не раз.
Картины, представленные в доме на Вудленд Роуд, составляли вторую фазу деятельности Эндрю Меллона на пути к созданию всемирно известной коллекции. Картины были прекрасного качества, и многие перешли в фонды Национальной художественной галереи. Когда Меллон стал министром финансов в 1921 г., он снял квартиру на Массачу¬
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 457
сетском проспекте, 1785, и украсил ее прекрасными произведениями искусства. Так, в 1926 г. он писал герцогине Рутланд: «Я не стремился создать галерею живописи или гобеленов. Я покупал только те картины и гобелены, которые могли найти себе достойное место в моем доме и украсить его. Я никогда не ставил цель демонстрировать свою коллекцию посторонним зрителям».
Возможно, Меллон окружал себя только теми полотнами, которые уводили его в идеальный мир, населенный высокодуховными персонажами, часто окруженными прекрасной природой. Проводя большую часть жизни в Вашингтоне, среди скучны^ чиновников, и в Питтсбурге, где день за днем дым и грязь, трансформируясь, творили его богатство, он всегда мечтал о красивой жизни. Портреты Георга IV и герцогини Девонширской кисти Гейнсборо, мисс Ирхвуарт Реберна и портрет Каролины Хоуар Рейнольдса создавали ему общество приятных людей, которые никогда не раздражали его и не нарушали его покой.
Ему совсем не хотелось постоянно видеть перед собой лица, напоминающие тех политиков, с которыми невольно приходилось общаться. Однажды Дювин прислал ему портрет Джулиано Медичи Рафаэля. Меллон возвратил портрет. Позже он напишет Эллен Фрик, которая обдумывала покупку картины: «Это очень сильная вещь, но не для частной гостиной». Возможно, в его оценке сыграло роль интуитивное сомнение в атрибуции картины, которое неоднократно высказывалось современными исследователями. В настоящее время полотно считается копией с картины Рафаэля, что закреплено в каталоге Музея Метрополитен. Но более вероятно, ему неприятна была личность изображенного на картине. На втором этапе коллекционирования Меллон избегал религиозной тематики, и поэтому в его собрании было мало итальянской живописи. Особенно ему не нравились сцены Распятия. Он приобрел «Распятие» Перуджино только потому, что в нем царило величественное спокойствие, без тени страдания. Под запретом была также обнаженная натура. И полуобнаженная «Венера с зеркалом» Тициана была самой обнаженной в его коллекции. Таковы были причуды и вкус коллекционера Меллона. Когда же он решил основать Национальную галерею, ему пришлось преодолеть свое неприятие религиозного искусства. Табу на обнаженную натуру оставалось в силе даже тогда.
Трудно точно установить, когда Эндрю Меллон решил превратить свою коллекцию в музей (третий этап коллекционирования). Дювин во время судебного разбирательства по поводу уплаты налогов упомянул, что уже в 1923 г. они с Меллоном обсуждали создание такой галереи. Однако такой человек, как Дювин, всячески стремившийся акцентировать свою несуществующую дружбу с Меллоном, мог легко выдать несколько случайных фраз за обсуждение. Об обратном свидетельствует письмо баронессе Рутланд от 1926 г., в котором он сообщает ей, что пока еще ничего не купил для «общественного показа».
Но во второй половине 1927 г. он, по-видимому, решился. Меллон поговорил о строительстве нового музея с Дэвидом Финли, своим личным помощником в Казначействе, и, со свойственным ему чутьем в
II Материалы и документы
458
выборе подходящих кандидатур, предложил ему стать первым директором музея. Он записал в дневнике в 1928 г.: «Аилза (дочь) позвонила утром из Саттон плейс. Она только что вернулась из Бостона. Спрашивает, передал ли я галерею правительству». Это первое документально подтвержденное свидетельство налогов Меллона относительно будущего своего собрания. С этого момента начинаются поиски подходящего места для строительства.
Изменился также принцип коллекционирования. Два года спустя представилась крупнейшая в XX веке возможность пополнить коллекцию и создать ядро будущей знаменитой Национальной галереи: на рынке появились шедевры живописи из ленинградского Эрмитажа.
История тех распродаж русских коллекций чрезвычайно сложна. Множество жаждущих торговцев атаковали СССР в конце 1920-х годов, но Эрмитаж оставался для них недосягаемым. Первая попытка проникнуть туда была предпринята Армандом Хаммером в начале 1928 года. Действуя от имени Макса Стейера, известного юриста из Нью-Йорка, который, в свою очередь, был, по-видимому, нанят Дювином, Хаммер предложил 5 млн. долларов за 40 вещей. Это была ничтожная сумма, на что с раздражением указал коммисар по делам культуры. Он был уполномочен предложить сумму в 2 млн. долларов за «Мадонну Бенуа» кисти Леонардо да Винчи. Микоян, к которому он обратился за советом, назвал 2.600.000 долларов, но ни Стейер, ни Дювин не хотели уступать.
Очень скоро Галуст Гюльбенкян, чьи успешные рекомендации по поводу продажи российской нефти на мировом рынке завоевали ему симпатии комиссаров советского правительства, смог при поддержке членов правительства приобрести для своей личной коллекции первые выставленные на продажу шедевры Эрмитажа. По его словам, один торговец, а именно Затценштейн, доставил ему массу хлопот. Стремясь снизить цену и избежать конкуренции, он хотел использовать Галерею Маттисен в Берлине (фирму Затценштейна) в качестве своего посредника. Однако Затценштейн отказался работать на условиях, предложенных Гюльбенкяном. Когда он узнал, что коллекции Эрмитажа действительно продаются, он решил, что было бы выгоднее купить что-нибудь для себя. Не имея большого капитала, Затценштейн обратился за помощью к самому старому торговцу в Лондоне, Кольнаги. Они сотрудничали с Кнёдлером, который обладал бесценным сокровищем — среди его клиентов был человек по имени Эндрю Меллон. Тройственный союз между Кнёдлером, Кольнаги и Галереей Маттисен относится именно к этому времени.
Когда стало ясно, что Галерея Маттисен и Кольнаги имеют реальную возможность приобрести картины из Эрмитажа, Чарльз Геншель, президент компании «Кнёдлер», написал своему представителю ДЖоржу Дэви 15 января 1930 г.
«Дорогой Джордж!
Я хотел бы, чтобы Вы связались с Гутекунстом и узнали у него все детали, а потом договориться с Затценштейном о встрече с целью посмот¬
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 459
реть картины... При отборе вещей мы будем руководствоваться приятностью сюжета, размером полотна и его состоянием. Например, Рубенс, о котором упомянул Гутекунст в телеграмме, без сомнения, прекрасное произведение искусства, но картина неудобного формата и очень большая. Поэтому это не та вещь, в которую мы хотели бы вложить деньги, по крайней мере, такую сумму, как 80 тысяч фунтов (400 ООО долларов). Она, возможно, и стоит этих денег, но не для нас. Относительно «Титуса» Рембрандта, я могу судить о нем только по книгам и исходя из размера картины. Если сравнивать с прекрасным автопортретом, который мы приобрели год назад, эта картина не стоит и половины, или приблизительно 25 ООО фунтов (125 ООО дол.), или чуть больше».
Необходимо сказать несколько слов о каждом из участников событий. Гутекунст был главой фирмы Кольнаги, а его партнер, Гус Мейер, играл ведущую роль во всех торговых операциях с Россией. Галерея Маттисен служила основным источником информации о распродажах в Эрмитаже. Галерея связывалась с Кнёдлером через Кольнаги. Галерею возглавлял Затценштейн, чей помощник, Мэнсфелд, был их «агентом в Москве».
Ситуация осложнялась еще тем, что Затценштейн, урожденный Катценштейн, изменил имя и принял название фирмы как свое собственное и впоследствии стал называться Маттисен.
Кармен Мессмор, другой партнер Кнёдлера, немедленно связался со своим клиентом Эндрю Меллоном и предложил оригинальную сделку.
В письме от 24 апреля 1930 г., подтверждающем устные договоренности, он писал следующее:
«Уважаемый г-н Меллон!
Вы уполномочили нас приобрести для Вас некоторые картины из собрания Эрмитажа в Петрограде. В том случае, если Вы захотите оставить картины у себя, Вы выплачиваете нам 25% от стоимости картины. В противном случае мы продаем их от вашего имени и платим 25% прибыли, которую мы получили при продаже. Мы познакомили Вас с репродукциями картин, которые мы решили купить из названной выше коллекции. Мы приобретем их по цене, по которой, мы считаем, их можно продать, получив при этом 50% прибыли, если Вы не захотите оставить их для своей коллекции».
В марте того же года, как бы в подтверждение намерений Советов начать продажу картин, полотно «Лорд Филипп Уортон» кисти Ван Дейка прибыло в Нью-Йорк и было куплено Меллоном за 250 000 фунтов. В апреле одна картина Франса Хальса и две Рембрандта были куплены за 575 000 фунтов, что было недорого даже в 1930 г. Из переписки видно, что Чарльз Геншель с неохотой вел дела с Советами и готов был купить картины у русских по минимальной цене. В случае отказа Меллона приобрести их для себя, Геншелю пришлось бы продавать их с 50%-ой прибылью, с тем чтобы выплатить 25% своему клиенту. Сказывалась также Депрессия. В 1932 г., когда все русские сделки Меллона уже были позади, положение настолько осложнилось, что Чарльз
II Материалы и документы
460
Геншель вынужден был обратиться к Эндрю Мел лону, бывшему в то время послом в Лондоне, за финансовой поддержкой. У Кнёдлера была прямая кредитная линия с нью-йоркскими банками на более чем миллион долларов. Однако кредит был урезан вдвое, когда банки начали уменьшать займы. Конечно же, Меллон помог Кнёдлеру, как и банк Меллона помог Дювину в подобной ситуации.
Однако через всю переписку Кнёдлера красной нитью проходит стремление заставить Советы снизить цену, что наложило отпечаток на отношения Кнёдлера с Маттисеном и Кольнаги.
В связи с этим Чарльз Геншель получил многозначительную телеграмму от Гуса Майера из фирмы Кольнаги: «Гюльбенкян покупает «Титуса» [Рембрандта] и «фурман» [Рубенса]. Когда поступят предложения он будет иметь возможность поднять цену. Мэнсфелду дано указание изменить ситуацию в нашу пользу. Джо [Дювин] развивает бурную деятельность. Гус».
Похоже, эта телеграмма была послана 25 февраля 1930 г., когда Геншель возвращался в Нью-Йорк после поездки в Лондон 7 февраля, о которой говорится в его письме к Дэви.
Все три фирмы относились друг к другу с большим подозрением. Дэви не было разрешено отправиться в Ленинград (что было предложено Геншелем). Ему удалось поехать туда только в начале апреля. Тогда же он написал письмо Геншелю с критическими замечаниями в адрес своих лондонских и берлинских партнеров и с сомнениями в возможности успешной продажи.
«Дорогой Карл,
Из всего увиденного и услышанного я сделал вывод, что они [Советы] не хотят продавать лучшие картины. Они прекрасно отдают себе отчет, чем они обладают. Затценштейн не оказывает никакой помощи. Я чувствую, он недоволен моей поездкой в Россию и напуган, как бы я не встретился с официальными представителями. Я жалею, что последовал его совету, так как все, что мне нужно было сделать — это попросить моего друга дать мне карточку для Директора Эрмитажа, который показал бы мне все необходимое. Я написал бы тогда лучший доклад. Через моего друга я мог бы получить все желаемые картины, предложив ему 10% или 5% комиссионных».
Интересно, что оба — Геншель и Дэви — чувствовали, что смогут купить картины из Эрмитажа без помощи Маттисена и Кольнаги. Но факт остается фактом, что неудачу потерпели братья Хаммеры, Дювин; Вильденштейн, не получив поддержки Гюльбенкяна, тоже потерпел неудачу. Ни для одной из этих фирм Советы не расстались бы со своими шедеврами, хотя Виктору и Арманду Хаммерам показалось, что сделка могла бы состояться, если их таинственный клиент был бы менее скупой. Затценштейн, имеющий репутацию сочувствующего коммунизму, имел кредит доверия у комиссаров. Он работал прямо с «Антиквариатом», официальной организацией, занимающейся продажей произведений русского искусства, и платил наличными за все операции. Он знал, что дирекция Эрмитажа противодействовала распродаже, но они
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 461
были бессильны. Казначейству требовались деньги, и последнее слово было за ним.
Во-первых, удивительно, что Дювину не удалась сделка с Советами. Это был крупнейший провал в его карьере. На процессе Меллона по неуплате налогов он в своих показаниях дал такое объяснение своей неудаче. Он сказал, что Советы ни за что не стали бы иметь с ним дело, потому что он покупал картины для себя. «Они дали мне понять, — сказал он, — точнее, они заявили, что если бы они продавали картины через посредника и он получил бы большую прибыль от этой сделки, не сносить бы им головы. Возможно, они не могут продавать картины для вывоза из страны». Предположим, Дювин сказал правду, тогда удачей может выглядеть то, что Советы не знали ничего о переговорах Геншеля с Меллоном о продаже картин с 50%-ной надбавкой. К счастью для комиссаров, г-н Меллон взял все картины.
Хотя объяснения Дювина были вполне понятны, они вызывают подозрения. Кнёдлер купил у них французскую живопись через Галерею Маттисен в 1932 г. и перепродал коллекционерам. Сэми Розенберг также купил мебель и предметы декоративного искусства в 1920-х годах, а братья Хаммеры пополнили свою галерею картинами российского происхождения и продавали их по Соединенным Штатам с большой прибылью. По всей вероятности, Дювин был персона non grata для советской стороны по другим причинам. Возможно, причиной была его любовь к гласности, тогда как в тройном союзе Маттисен—Кольнаги— Кнёдлер они могли рассчитывать на благоразумие. Они были уверены, что распродажа останется в тайне.
Несмотря на разочаровывающее письмо Дэви от 15 апреля, Чарльз Геншель был так окрылен продажей Эрмитажем первых четырех картин Эндрю Меллону, что он решил поехать в Россию. Он отправился в поездку в начале мая 1930 г. Меллон очень хотел приобрести «Благовещение» Ван Эйка, однако переговоры между Галереей Маттисен и советскими официальными представителями затянулись на неопределенное время. Как-то раз, на борту парохода, направлявшегося в Англию, Геншеля попросили к телефону. «Олимпия», на борту которой плыл Геншель, имела один из первых телефонных аппаратов на море. На другом конце провода был Мэнсфелд.
«Русский, по фамилии Ильин, находится сейчас в Берлине. Он говорит, что они продадут Ван Эйка за 500.000 долларов». Геншель позвонил Кармену Мессмору в Нью-Йорк. Мессмор поехал на поезде в Вашингтон и позвонил оттуда, сообщив, что: «Г-н Меллон просил продолжать дело и купить картину как можно дешевле. Он переведет деньги на наш счет Гарантийной трастовой компании в Лондоне». Через несколько дней в Берлине Ильин, представитель «Антиквариата», получил чек и доставил туда картину. Никакие операции с Советами полностью не оплачивались до окончательной передачи материала, хотя подчас практиковалась предоплата в 10%.
Поездка Геншеля в Россию оказалась результативной, хотя на Геншеля и его коллег — его племянника Бали из «Кнёдлера» и Гуса
И Материалы и документы
462
Мейера из «Кольнаги» — она произвела ужасное впечатление. Никто (кроме Мэнсфелда, представителя Галереи Маттисен), не говорил по- русски, и их ежедневный рацион составляла водка, икра и севрюга. Как- то Геншель предложил сигарету сотруднику Эрмитажа. Дар был отвергнут с тоской во взгляде и замечанием о том, что, если Геншель еще раз рискнет предложить кому-нибудь, даже охраннику, подобный подарок, это может стоить последнему работы.
Торговцы были рады покинуть Россию. Прогресс на переговорах также внушал им оптимизм. В период с июня 1930 по апрель 1931 г. Меллону были доставлены следующие полотна:
Боттичелли
Поклонение волхвов
Рафаэль
Мадонна Альба
Рафаэль
Св. Георгий
Перуджино
Распятие
Тициан
Венера с зеркалом
Веронезе
Нахождение Моисея
Вай Эйк
Благовещение
Рубенс
Портрет Изабеллы Брант
Ван Дейк
Сюзанна Фурман с дочерью
Ван Дейк
Вильгельм II Нассаусский и Оранский
Хальс
Портрет офицера
Рембрандт
Женщина с гвоздикой
Рембрандт
Обвинение Иосифа женой Потифара
Веласкез
Папа Иннокентий X
Шарден
Карточный домик
Рембрандт
Турок
Ван Дейк
Портрет фламандки
Некоторые полотна были переданы в Галерею Матти(
лине, а некоторые отправились в Нью-Йорк. Последними прибыли «Мадонна Альба» Рафаэля и «Венера с зеркалом» Тициана. Они были собственноручно привезены Борисом Краевским, членом коллегии Комиссариата по внешней торговле, и Николаем Ильиным. Как настоящие коммунисты, они приехали в Америку третьим классом, остановились во второсортной гостинице, но вдохновленные большими деньгами (два полотна стоили вместе 1.355.200 долларов), они тут же перебрались в Билтмор и возвращались домой первым классом.
Трудно понять, почему сумма в несколько миллионов долларов от продажи картин была столь важна Советам. Партнеры Маттисен были в полном недоумении. Затценштейн писал Геншелю 14 января 1931 г. на своем варварском английском: «Лично я не могу понять, почему они продают свои картины. Ведь они торгуют так много и получают гораздо большие суммы, чем на продаже картин. Я не верю, что они вынуждены делать это. Русские требуют денег сразу же по заключении договора. Для решения этой проблемы мы с банком ввели блокированный счет, что дает им возможность получить кредит в счет причитающихся им денег до прибытия картины».
6 Продажа. 1928-1933. Защита Эрмитажных сокровищ 463
РСФСР
^199
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
по
ПРОСВЕЩЕНИЮ
.—о ■ ‘ ’
Москва, Чистые Пруды, в. КОПИЯ
Тел. 2-84-21.
¥
По вопросу:
в.-Л-злеяни не- Щ 1н?1кв агна¬
та. 3 э;;и.
2-адрес. a-в дело* *♦2,31г. а*.
Запогюв!#»-* Houoifjieнно* сдаф* Гос.Конторе "4нт$£сварпат" тов. ПРэСМШУ следующий картины:
1) художника Фравд Галс 7 "Лдипрал" \ .
(по Вайно твсксгцу кат.стр.115;
2) """ Вардена "Карточный доиик" \
(по Вайноровск.катал. <^тр.301;
3s
ьт.кштт 9Ш
ОТ» ■
.л I
Выдайте веыедлеяно Парудяино В= 23 "Антиквариат Богнару.-
За2.Сектором науки
отп.З экз.
Ш-Лег рану
К^-т.Вогнару. j
Цф-в дело • • I —
23.4.31г.а.^.
Распоряжение заведующего Сектором науки Наркомпроса И.К.Луппола о передаче «Антиквариату» картины Ф.Халса «Адмирал» и картины Шардена «Карточный домик». 20 марта 1931 г.
Распоряжение заведующего Сектором науки И.К.Луппола о передаче «Антиквариату» картины Перуджино.
23 апреля 1931 г.
II Материалы и документы
464
IV На В/.
С Печение отавитапЛ эль "Мадо1;« JM
уедайте Картину ' М$ нева.
неые,
отп.З ака. 2-адр.
1-в дело I
Ответ
листах
ВСЕcoto^fto|V>K СПРРТНОЕ ОВ'ЕДИНЕНЙЕ П » Т б А Р И А Т“ =
января, д. N8,16.' тсд. 55.45;
-аджМ/4*».
в, 199-05.
Вс
.ft Л-
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
/9321.4.
СЬКР1:ТИ(»л:
Гос. Ъ р SAU т u л. £хрд. Hi/V*-'
lgfft
Кому Дир^мору 1*оф»Эрм*та«а тов.Л2ГРШ.
по вопросу:
ПРавад,првдпи*аив сам о выдаче двух Рембрандтов вигрыиа вреыенш?Г° нар0,И0Р0 иа -оохвш. «елаетоя это их
„ «“вен категорвчвокое предпиоанве отправить картавы се- J®*** поэтому прошу Щр сдедать раопорявевве о веывиавно* вшдаче этах картшв.чтобн онг lioFS^ оегодвх Йе быть отправлен-
Зав.пред.правления;
J ' (ируоаков)
Распоряжение наркома по просвещению А.С.Бубнова о передаче «Антиквариату» картины Рафаэля «Мадонна Альба».
26 апреля 1931 г.
Служебная записка заместителя председателя Правления «Антиквариата» Г.Прусакова о передаче двух картин Рембрандта. 17 июня 1932 г.
6 Продажа. 1928-1933.. Защита Эрмитажных сокровищ 465
Зал итальянской живописи в Эрмитаже. В центре «Мадонна Альба» Рафаэля. Экспозиция середины XIX в. Акварель
II Материалы и документы
466
flfi'cAuc* f~»r~ %/4~
Р tAli* * /7**“
7 U ‘ '^U * ^-<-
/ry/U^t*—6) /*&- „ё'Ъг*-'
рлrtf-*-****- ^У14*'
Д —Tl'^- •
A
r/*r-^
Письмо И.В.Сталина на имя И.А.Орбели. 8ноября 1932 г.
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 467
Письмо было закончено 9 февраля, так как Затценштейн заболел. Он сообщает в письме о том, что Мэнсфелду удалось заполучить Боттичелли и Рембрандта. Он также подтверждает получение от Геншеля сообщения о покупке Ханнемана и Веронезе. Он добавил также, что занялся восстановлением репутации Ханнемана. «Портрет Вильгельма II Оранского» всегда считался произведением Ван Дейка. Он предложил Буркхарду и Глюку, которые считались специалистами по фламандскому искусству, 20 ООО марок. Потом приложил свидетельства обоих о том, что портрет принадлежит кисти Ван Дейка, и указал на то, что для картины Ханнемана цена 15 ООО фунтов (75 ООО дол.) слишком высока, но если речь идет о Ван Дейке — это отличная сделка.
Он признал, что Кнёдлер заплатил огромную сумму, «но не надо забывать, что иначе дело бы не пошло... Не надо забывать, что мы являемся отделением Кнёдлера и мы удачно демонстрируем миру, как можно выгодно иметь дело с большевиками...»
Далее он писал:
«То, что Вы пишете относительно сэра Джо [Дювина], было верно в тот момент, когда Вы писали свое письмо. Он, конечно же, восстановил часть утерянного, но, я боюсь, Вы скоро будете одиноким воином на поле искусств. Вас ждут скверные сюрпризы... Ничто не останется в тайне и русские изменят тактику, стремясь войти в контакт с частными торговцами и музеями. Им удалось удачно продать много картин по 1000—20 000 фунтов: это были как небольшие вещи французских и голландских мастеров, так и картины Терборха, Метсю, Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Рафаэля и других, по совершенно удивительной цене... Совсем недавно Дювин повторил свои предложения относительно самых лучших картин...
Обычно в бизнесе время работает на Вас, и вы сможете купить дешевле. В нашем деле конкуренция растет, и мы рискуем потерять не одно полотно.
В настоящее время я следую Вашим инструкциям, но если Вас интересует мое собственное мнение, я должен сказать, что, думаю, Ваш путь был ошибочным, так как каждая картина могла быть куплена гораздо дешевле полгода назад. Мы считаем, что Вы не слишком доверяете нашим дипломатическим способностям и поэтому в последнее время Вы не даете нам своих цен, чтобы мы не называли больших сумм с самого начала. Должен сказать, что наши контрагенты хорошо осведомлены о потолке цен и поэтому существует минимальный шанс купить что-нибудь по дешевке.
Мы сделали все возможное, разработали особую тактику и с честью выполняли нашу дипломатическую миссию».
Из письма видно, какие усилия предпринимал Чарльз Геншель для того, чтобы заставить русских снизить цены. Затценштейн был прав. Глупо переплачивать за средние произведения искусства. Нужно ли винить в этом Меллона? Начиналась Депрессия, и цены на все падали. Искусство также снижалось в цене. Однако картины, которые попадали на рынок в Нью-Йорке и Лондоне, не могли сравниться с вещами
II Материалы и документы
468
одной из крупнейших коллекций мира, которые шли через Дювина, Вильденштейна и других коллекционеров. В конце концов Меллон приобрел 21 картину редкой красоты за 6.654.000 дол. В то время это была громадная сумма, однако всего за одну картину Веласкеса в 1970 г. он получил бы столько же, сколько стоила 21 вещь. Хотелось, однако, чтобы энтузиазм Меллона и Геншеля, имевших редчайшую возможность за всю историю коллекционирования, был бы побольше.
После доставки Ильиным и Краевским двух последних картин, покупка которых была согласована заранее, представители советской стороны, казалось, были готовы обсудить с Геншелем дальнейшие приобретения. 11 апреля 1931 г. Мессмор написал Меллону преинтереснейшее письмо:
«Г-н Меллон!
Сообщаю Вам все также относительно Джорджоне и двух вещей Леонардо. Они назвали цену в 700 тысяч фунтов (3.500.000 дол.) за три картины и 500 тысяч фунтов (2.500.000 дол.) за Джорджоне и «Мадонну Бенуа» Леонардо. В эту партию они хотели бы включить хотя бы три из названных ранее картин (цены привожу ниже):
19
С.Мартини
15 000 фунтов
(75 000 дол.)
12 000 фунтов
(60 000 дол.)
96
Мурильо
40 000 фунтов
(200 000 дол.)
30 000 фунтов
(150 000 дол.)
163
де Хох
40 000 фунтов
(200 000 дол.)
35 000 фунтов
(175 000 дол.)
40
Чима
56 000 фунтов
(280 000 дол.)
48 000 фунтов
(240 000 дол.)
Пожалуйста, подумайте, хотите ли Вы предложить им следующую цену за 6 картин:
42 Джорджоне
170 000 фунтов
(850 000 дол.)
30 Леонардо
120 000 фунтов
(600 000 дол.)
31 Леонардо
100 000 фунтов
(500 000 дол.)
163 де Хох
30 000 фунтов
(150 000 дол.)
96 Мурильо
10 000 фунтов
(50 000 дол.)
19 Симоне Мартини
10 000 фунтов
(50 000 дол.)
450 000 Ф.
« 2.250 000 д.
Я не включил в список Чима (40).
На эту картину они дают номинальную цену в 48 000 ф. (240 000 д.), тогда как мы считаем, что она не стоит более 25 000 ф. Если мы выгодно заключим эту сделку, мы приобретем лучшие вещи из всей коллекции. Единственно ценное, что осталось, — это Джорджоне и два Леонардо. Позднее, если мы сможем купить раннего Веласкеса и Филиппино Липпи по низкой цене, надо это сделать».
По-видимому, Мессмор получил согласие своего клиента, так как через месяц Геншель был уже в Лондоне и вел переговоры с представителем СССР. 12 мая 1931 г. он писал МессмРру:
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 469
«Кармен,
Сегодня утром я сказал нашему русскому другу, что, по-видимому, нас не заинтересует Джорджоне по той цене, которую они предлагают. Он сказал, что не огорчен, так как сможет продать картину Джо [Дювину] и что нам не надо больше беспокоиться. Я также сказал ему, что цена на де Хоха явно завышена и что 25 ООО ф. (125 ООО д.) будет максимальная ее стоимость. Я даже сомневаюсь, можно ли ее продать за такие деньги. Он ответил, что им совсем не обязательно продавать все вещи и они продадут их только в том случае, если получат хорошую цену.
Если Джо купит Джорджоне и сообщит об этом в газетах, нам нужно отреагировать сильным ударом — статьей о наших покупках, написанной в интересной манере. Конечно же, ни при каких обстоятельствах не надо упоминать имени Э.У.М. [Меллона]. Пресса должна взять это на себя. А его надо предупредить, что его имя может появиться в газетах».
В письме ничего не говорится о двух полотнах Леонардо и ничего о предлагаемой сделке. Это весьма печально, и если бы дело завершилось подобным образом, Национальная галерея имела бы две несомненные вещи Леонардо и две приписываемые ему, а также три полотна Джорджоне — таким богатством может похвастаться только Лувр. Что самое печальное, цены, называемые Мессмором, схожи с ценами, которые платил Меллон. Если на эти цифры можно положиться, похоже, русские снизили цену на «Мадонну Бенуа» с 2.600.000 дол. в 1928 г. до 2.500.000 дол. за Леонардо и «Юдифь» Джорджоне — в 1931 г. Инфляция, наконец, достигла и Россию.
Трудно понять, зачем нужна была дальнейшая торговля. Дювин свидетельствовал (хотя в дальнейшем отказался от своих показаний), что картина Леонардо «Мадонна Бенуа» была куплена царем в 1913 г. за 1.500.000 дол. И даже если на свидетельство Дювина редко можно положиться, в любом случае покупка этой картины плюс «Юдифь» Джорджоне за 2.500.000 дол. могла бы быть выгодной сделкой.
После прекращения переговоров по продаже этих трех сокровищ Геншель занялся импрессионизмом и постимпрессионизмом, хотя в письме Мэнсфелду (последнем, которое я видел), от 3 марта 1933 г., он писал: «По-видимому, г-н Меллон скоро вернется сюда, и я надеюсь убедить его заключить* что-то типа сделки по вопросу о Джорджоне. В случае, если он захочет купить эту картину, я уверен, что он вернет «Женский портрет» Ван Дейка или «Турка» Рембрандта (или обе). Я собираюсь собрать группу из произведений французских художников, Ван Эйка (Музей Метрополитен) и Джорджоне и выдвинуть ряд предложений по поводу их всех. Большие деньги будут вовлечены, что может понравиться Ильину».
Из того предложения ничего не вышло, но Меллон купил у Кнёдлера несколько ценных полотен, помимо тех, о которых я говорил выше.
Вскоре после удачных дел с Эрмитажем Э.Меллон покинул Вашингтон и свой пост в Казначействе. Он был назначен послом ко двору Сент Джеймса. В этот период его контакты с Дювином окрепли. Влияние Кнёдлера после заключения сделки с русскими ослабло, однако все крупнейшие приобретения были сделаны через Чарльза Геншеля и
И Материалы и документы
470
Кармена Мессмора, работавших от «Кнёдлера». Картины, купленные через Дювина, хотя и включали несколько шедевров живописи, были в целом скромнее и до 1936 г. их было немного.
Распоряжение Сектора науки Наркомпроса
№ 299. 20 марта 1931 Сов. Секретно
Директору Гос. Эрмитажа тов. Леграну Копия: Гос. Конторе «Антиквариат»
Немедленно сдайте Гос. Конторе «Антиквариат» тов. Прусакову следующие картины:
1) художника Франц Галс — «Адмирал»
(по.Вайноровскому кат. стр. 115)
2) художника Шардена «Карточный домик»
(по Вайноровск. катал, стр. 301)
Зав. Сектором науки И.Луппол
На письме резолюция Б.В.Леграна: Выдать 23.111 к 4 ч. 30 мин.1 Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 205 (177), л.78.
Акт № 33-с о сдаче картин Ф.Хальса и Шардена в «Антиквариат» от 23 марта 1931 г. за подписями директора Эрмитажа Б.В.Леграна и Заместителя председателя Гос. конторы «Антиквариат» Г.Прусакова.
Акт № 34-с (второй экземпляр) от 23 марта 1931 г. (с указанием картин по каталогу Вайнера, с. 115 и 301), утвержденный Б.В.Легра- ном 24 марта 1931 г.
См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 205 (177), л. 79, 81.
Всесоюзное экспортное объединение «Антиквариат» 17 июня 1932 г.
Директору Гос. Эрмитажа тов. Леграну Секретно
Служебная записка Против правил, предписание Вам о выдаче двух Рембрандтов дается через нашего нарочного из Москвы. Делается это для выигрыша времени.
Мы имеем категорическое предписание отправить картины сегодня же. Поэтому прошу Вас сделать распоряжение о немедленной выдаче этих картин, чтобы они могли сегодня же быть отправлены.
Зам. Пред. Правления Г.Прусаков Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 156 (204), л. 54.
Список предметов, переданных из Гос. Эрмитажа в В/О «Антиквариат» за 1929, 1930, 1931 годы2
1 Дирк Боутс. «Благовещение»
Акт № 76/с от 9 апреля 1929 г.
2 Жермен. Группа «Бахус и Амур»
1 При работе над документом 2 Составлен 26 марта 1932 г. Документ Б.Б.Пиотровский здесь делает пометку: с грифом: секретно. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17,
«спешка!» — Примеч. ред. ед. хр. 156 (204), л. 40—41.
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 471
3 Жермен. «Детство Комедии»
4 Жермен. «Просонки любви»
5 Жермен. Две суповые чаши из Парижского сервиза
6 П.Червилл. Две суповые чаши из Орловского сервиза
7 Легендрик. Две суповые чаши из Орловского сервиза
8 Легендрик. Два канделябра из Орловского сервиза
9 Огюст. Два соусника из Салтыковского сервиза
10 Рубенс. Портрет Елены Фурман
Выдано согласно распоряжению Председателя Правительственной Комиссии Зам. Наркомторга СССР и Наркомпроса — тов. Бубнова.
Акт от 13 февраля 1930 г. № 92/м.
11 Ван Дейк. Портрет лорда Филиппа Уортона Акт № 44/с от 19 марта 1930 г.
12 Рембрандт. «Девочка с метлой»
Акт № 41/с от 24 апреля 1930 г.
13 Рембрандт. Портрет поляка Акт № 45/с от 26 апреля 1930 г.
14 Золотая лицевая пластинка от иконы мощехранителей высокопробного золота, разм. 19 х 12,5 с/м, вес 224,25 гр.
Акт № 49/с от 11 мая 1930 г.
15 По безусловному списку особой ударной бригады из Центральной библиотеки Эрмитажа выдано 4 (четыре) книги: 1) Дуранти Рационалэ — 1459 г. 2) Атулэй — 1469 г. 3) Сенека — 1475 г. 4)Ги- ероним 2 тома на пергаменте
Акт № 51/с от 11 мая 1930 г.
16 Фиктерк. «Переправление через реку»
•17 Ф.Мирис. Женский портрет
18 Кейп. Портрет пожилой женщины
19 Нетшер. Семейная сцена
20 Нетшер. М-м Монтенон с сыном
21 Остаде. «Сцена в шинке»
22 Э. фан дер-Нер. «Мальчик с апельсином в руках»
23 Берхем. «Закат солнца», аллегория солнца, аллегория осени Отобраны бригадой Наркомпроса.
Акт № 52/с от 11 мая 1930 г.
24 Ван Эйк. «Благовещение»
По распоряжению Бубнова.
Акт № 60/с. — 1930 г.
25 Рембрандт. «Афина-Паллада»
26 Рембрандт. «Титус»
II Материалы и документы
472
27 Ватто. «Мецетен»
28 Терборх. «Урок музыки»
По распоряжению НКП — Бубнова.
Акт № 65/с от 19 июня 1930 г.
29 Рубенс. Портрет Изабеллы Брандт
30 Ван Дейк. Женский портрет По распоряжению Вольтера.
Акт № 80/с от 11 августа 1930 г.
31 Рембрандт. «Раввин с посохом»
Акт № 89/с от 14 сентября 1930 г.
32 Фальконе. Терракотовая статуя «Пигмалион и Галатея»
Акт № 102/с от 3 ноября 1930 г. и приказ ОБЛФО №2281 от 2 ноября 1930 г.
33 Веласкез. Портрет папы Иннокентия Х-го По распоряжению НКП — Бубнова.
Акт № 105/с от 13 ноября 1930 г.
34 Веронезе. «Нахождение Моисея»
35 Ханнеман. «Вильгельм Оранский»
По распоряжению Луппола.
Акт № 120/с от 6 декабря 1930 г.
36 Терборг. «Последний глоток».
Акт № 123/с от 8 декабря 1930 г.
37 Рембрандт. Портрет молодого человека.
Акт № 129/с от 21 декабря 1930 г.
38 Боттичелли. «Поклонение волхвов»
39 Моро. Мужской портрет «Томас Грешем»
40 Моро. Женский портрет «Анна Грешем»
Акт № 17/с от 21 января 1931 г.
41 Рембрандт. «Молодая женщина с гвоздикой»
42 Рафаэль. «Святой Георгий»
По распоряжению Луппола.
Акт № 26/с от 27 февраля 1931 г.
43 Франц Гальс. «Адмирал»
44 Шарден. «Карточный домик»
По распоряжению Луппола.
Акт № 33/с от 23 марта 1931 г.
45 Перуджино. «Триптих»
По распоряжению Луппола. Акт № 49/с от 26 апреля 1931 г.
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 473
46 Рафаэль. «Мадонна Альба»
По распоряжению НКП — Бубнова. Акт № 51/с-а от 27 апреля 1931 г.
47 Предметы шведского и датского оружия:
1) ружей Датских 3
2) ружей Шведских 16
3) пистолетов Шведских 14
4) мундштук
5)знамен 3
По распоряжению Сектора Науки.
По акту от 29 июля 1931 г.
48 Фламандская шпалера (гобелен) 1-ой четверти XVI в. «Мадонна на троне с младенцем и славящими ангелами». Из Штиглица По распоряжению Вольтера.
Акт № 87/сс от 13 октября 1931 г.
49 Рембрандт. «Аман в гневе».
По распоряжению Эпштейна.
Акт № 95/с от 14 ноября 1931 г.
50 № 28001 Фигура святого диакона (серебро,
XVIII в. — дата ошибочна. — Ред.)
Хо 28002 Воин на коне (серебро)
№ 28003 Лиможский нагрудный знак № 28004 Бюст Мадонны (кость)
№ 28005 Ведерко (кость)
№ 28006 Крышка переплета с лиможской эмалью
N9 28007 Две вазы из кости
№ 28008 Фигурка амура работы Фальконе
№ 28010 Оружие — шлем
Хо 28011 шлем
Х° 28012 шлем
Хо 28013 шлем
X® 28014 шлем
Хо 28015 шлем
Хо 28016 Максимилиановский комплект Хо 28017 Готический комплект Из музея Штиглица Хо 28018 Гобелен Хо 28019 Гобелен
По распоряжению НКП — Бубнова.
По акту 100/с ноябрь 1931 г.1
51 Ораниенбауманский стол за X® ГЭ 1712 По распоряжению Вольтера.
Акт № 3/с от 19 января 1932 г.
1 Не все произведения под № 50 были проданы. Они находятся в Эрмитаже.
II Материалы и документы
474
52 57 рисунков — список на 2-х листах
По распоряжению т. Луппола.
Акт № 8/с от 26 января 1932 г.
53 Кейп.
«Коровы»
По распоряжению Луппола.
Акт № 6/с от 27 января 1932 г.
54 Гудон. «Диана»
Продажа для Г.Гюльбенкяна
Видимо, по распоряжению председателя Правительственной ко¬
миссии заместителя Наркомторга СССР и наркома по просвеще¬
нию А.С.Бубнова
Боутс.
Благовещение. 29.03.29.
Передано Вильденштейну Акт № 76/с от 9.04.29.
Рубенс.
Портрет 19.02.30. Елены Фурман.
Рембрандт.
Портрет Титуса. 19.06.30.
Передано Вильденштейну
Рембрандт.
Афина-Паллада. 19.06.30
Ватто.
Мецетен. 19.06.30.
Передано Вильденштейну
Тер Борх.
Урок музыки. 19.06.30.
Передано Вильденштейну
(указан и Питер де Хох. Концерт).
Ланкре.
Купальщицы.
Передано Вильденштейну
Рембрандт.
Портрет старика.
Акт №30 от 11.08.30.
Продажа для Э. Меллона
По распоряжению Сектора Науки Наркомпроса
Хальс
Портрет молодого человека
Рембрандт
Женщина с гвоздикой
59.190 дол.
Рембрандт
Знатный поляк
Рубенс
Портрет Изабеллы Брандт
223.563 дол.
Ван Эйк
Благовещение
502.899 дол.
Рембрандт
Турок
Рембрандт
Девушка с метлой
1.084.953 дол.
Ван Дейк
Лорд Ф.Уортон
Ван Дейк
Сусанна Фурман с дочерью
Рафаэль
Св. Георгий
745.500 дол.
Веласкес
Портрет папы Иннокентия X
223.562 дол.
Боттичелли
Поклонение волхвов
238.350 дол.
Рембрандт
Иосиф и жена Пентефрия
167.543 дол.
Веронезе
Нахождение Моисея
Ван Дейк
Вильгельм II Оранский
402.333 дол.
Хальс
Портрет офицера (адмирала)
Шарден
Карточный домик
6 Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ 475
Перуджино Распятие
195.602 дол.
Рафаэль Мадонна Альба Тициан Венера с зеркалом
j 1.710.558 дол.
Из актов передачи Государственным Эрмитажем произведений живописи1
29 марта. 1929 г.
Дирк Боутс. «Благовещение»; предписание заместителя заведующего Главнауки Наркомпроса (ед. хр. 137 (140), л. 7)
21 января 1931 г.
Боттичелли. «Поклонение волхвов»; А.Мор. Портреты семьи Грешем; предписание И.К.Луппола, заведующего Главнауки Наркомпроса (ед. хр. 205(177), л. 60, 62)
27 февраля 1931 г.
Рафаэль. «Св. Георгий»; Рембрандт. «Молодая женщина с гвоздикой»; предписание И.К.Луппола (там же, л. 72,73, 76)
23 марта 1931 г.
Ф.Гальс. «Адмирал»; Шарден. «Карточный домик»; предписание И.К.Луппола (там же, л. 78, 79, 81)
23 апреля 1931 г.
Перуджино. «Распятие»; предписание И.К.Луппола (там же, л. 83, 87, 89)
26 апреля 1931 г.
Рафаэль. «Мадонна Альба»; предписание А.С.Бубнова (там же, л. 84,90,92) 11 ноября 1931 г.
Веласкес. «Папа Иннокентий X»; предписание А.С.Бубнова (там же, ед. хр. 157, л. 20)
17 июня 1932 г.
Рембрандт. «Отречение Петра»
28 июля 1932 г.
Пуссен. «Триумф Амфитриты» (там же, ед. хр. 156 (204), л. 58, 59)
31 декабря 1932 г.
Тьеполо. Пир Клеопатры (там же, ед. хр. 156 (204), л. 96)
26 сентября 1933 г.
Рубенс. Пейзаж с радугой (там же, ед. хр. 156 (204), л. 66, 67). Картина была возвращена, находится в Эрмитаже.
Аукцион 1931. Собрание Строгановых
В книге R.C.Williams’a «Russian Art and American Money» (1980) неверно изложены результаты аукциона Лепке в Берлине в мае 1931 года, когда продавались картины Строгановского собрания. Известно, что этот аукцион прошел неудачно, многие картины, как Ван Дейк «Портрет Ро- кокса», «Портрет Бальтазарины ван Линник», так же как Рембрандт «Христос и самаритянка у колодца», не получили даже первоначальной цены, были сняты с аукциона и возвращены в Эрмитаж (в ноябре 1932 г.).
Между тем, Уильямс указывает, что оба портрета Ван Дейка были куплены амстердамским дельцом в области искусства Гудштинером
1 Архив ГЭ, оп. 17, ед. хр. 137 (140), 156 (204), 205(177).
И Материалы и документы
476
(Goudstinner) за 157 ООО долларов (с. 178), а картина Рембрандта «Христос и самаритянка», купленная за 49 980 долларов, поступила в Timken Art Gallery, San Diego (с. 179).
Также неверные сведения о продаже «Амура» Фальконе за 15 232 доллара, в действительности он возвратился в Эрмитаж.
Из актов возврата Государственному Эрмитажу переданных ранее произведений живописи1
29 января 1932 г.
Рембрандт «Аман» («Падение Амана»), Рембрандт «Портрет молодого человека», Рафаэль «Мадонна с безбородым Иосифом»
(См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 156 (204), л. 16).
29 сентября 1932 г.
Лоренцо Лотто «Портрет супругов» («Семейный портрет»), Рембрандт «Старуха с библией», «Христос и самаритянка», Ван Дейк «Портрет ученого» («Портрет Николаса Рококса»), «Портрет дамы» («Портрет Бальтазарины ван Линник»), «Мужской потрет» («Портрет молодого человека»), Пуссен «Вакханалия», «Отдых на пути в Египет», Буше «Триумф Венеры», «Туалет Венеры» (см. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 1379, л. 96—97).
1 Некоторые из возвращенных работ
принадлежали Строгановскому дворцу-музею. — Примеч. ред.
ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА 7 Аукционы
Выдача в «Антиквариат»
Согласно «Ведомости картинам и другим предметам, выданным Всесоюзному объединению по экспорту «Антиквариат» за время с 10 марта
1928 г. по 10 октября 1933 г.
было
передано1:
картины
2730
табакерки
161
рисунки
426
майолика, фаянс,
гравюры
2280
расписное стекло
ИЗ
миниатюры
613
предметы слоновой кости
4
скульптура
2
оружие
313
шпалеры
25
бриллианты
3
ковры
55
японские и китайские
ткани
55
предметы, фарфор,
книги
705
фаянс, бронза
689
фарфор
10275
эллино-скифские
мебель, бронза
555
древности
520
эмали
36
греко-римские древности
52
серебро
3205
золото античное
415
золотые предметы
35
свитки, торы
18
оловянные предметы
И
восточные предметы
2
В 1927/28 г., 1928/29 г. и 1929/30 г. возвратов не было.
Начиная с 1931 г. по 10 октября 1933 г. начался возврат экспонатов.
ВСЕГО ЗА ЭТО ВРЕМЯ ВЫДАНО:
картин — 2730
предметов прикладного искусства — 16111 рисунков и гравюр — 2706
ПОЛУЧЕНО ОБРАТНО: картин —1280
предметов прикладного искусства — 944 рисунков и гравюр —2223
РЕАЛИЗОВАНО (ИЛИ ОСТАЛОСЬ В «АНТИКВАРИАТЕ*?)
картин — 1450
предметов прикладного искусства —15167 рисунков и гравюр — 488
1 Таблица составлена Б.Б.Пиотровским
по материалам Архива ГЭ, ф.1, оп. 17, ед. хр. 234 (203), л. 9—10. — Примеч. ред.
И Материалы и документы
478
Эти сведения касаются коллекций Эрмитажа, Пушкинского и Гатчинского дворцов, Строгановского дворца и национализированных ценностей.
Аукционы
Кроме продажи музейных ценностей через фирмы, «Антиквариат» передавал их также на аукционы.
На протяжении 1928—1932 гг. состоялось шесть аукционов с распродажей художественных ценностей из музеев Советского Союза и пригородных ленинградских дворцов. Организованы они были фирмой Р.Лепке (R.Lepke) в Берлине (6—7 ноября 1928 г., 4—5 июня 1929 г., 12—13 мая 1931 г.), фирмой Бёрнера (Воегпег) в Лейпциге (21 апреля 1931 г. и 4 мая 1932), а также фирмой А.Кенде (A.Kende) в Вене.
Все они не дали желаемых результатов; многие первоклассные экспонаты вернулись в Советский Союз.
На первом аукционе было реализовано 122 предмета на сумму 352 011 руб., и лишь 543 прошли с превышением первоначальной оценки на сумму около 8000 руб., «причем первоначальную оценку превысили только вещи сравнительно недорогие, категории же более ценных вещей прошли С СИЛЬНЫМ недобором» (см. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 856 (72), л. 198).
С превышением первоначальной оценки были проданы картины, табакерки и серебряные изделия, с недобором — первоклассные шпалеры (5 из 14 представленных) и мебель.
В рапорте С.Н.Тройницкого, В.Ф.Левинсон-Лессинга и Н.Кура- нова от 18 февраля 1929 г. указывается, что вообще на аукционе были представлены экземпляры сравнительно недорогие. Так, среди картин только три полотна французской школы достигали 10 000 руб., среди 44 табакерок только две стоили дороже 10 000 руб., и только два серебряных предмета по стоимости были выше 1000 руб. (см. там же.).
Но в связи с этим аукционом возникли и некоторые неприятности, в ироничной заметке из «Berliner Lokal Anzeiger» сообщалось, что 15 русских эмигрантов возбудили судебное дело против фирмы Р.Лепке в связи с продажей на аукционе национализированных советской властью предметов.
Берлинская газета «Руль» (22 мая 1929 г.), издававшаяся на русском языке, описывала иск фирме Р.Лепке со стороны князя Дабиша, на национализированные вещи, которые были представлены на аукцион. Его иск поддерживал М.М.Филоненко, бывший комиссар Временного правительства. Германский суд, несколько раз слушавший это дело, вынес заключение о том, что поскольку спорные вещи были национализированы в России, то и вопрос о правах собственности на них определяется русским законом, законом того государства, которое признано Германией.
Второй аукцион Р.Лепке проходил уже без инцидентов. К аукциону был издан каталог с описанием продаваемых картин, и гвоздем
7 Аукционы
479
аукциона считалась картина Лоренцо Лотто «Портрет супружеской пары» (из Гатчинского дворца), оцененная в 310 тысяч марок, на которую, по газетным сведениям, претендовали французские коллекционеры. Так же высоко оценен (100 тысяч марок) был «Портрет старика» Иоса ван Клеве, купленный берлинским коллекционером. На аукционе были проданы «Голова Христа» Рембрандта (130 тысяч марок), «Св. Иероним» Тициана, из Гатчинского дворца, ранее в собрании Кочубей (26 тысяч марок), «Портрет саксонского курфюрста Фридриха Мудрого» работы Л.Кранаха (28 500 марок). Но все же другие, как картины Лотто и П.Рубенса «Положение во гроб», оцененная в 42 тысячи марок, куплены не были, вернулись в Советский Союз и в середине 1932 г. были переданы в Эрмитаж.
Особую популярность на аукционе имел секретер парижской работы 1780 г., принадлежащий императору Павлу I, проданный за 38 500 марок. Аукцион в Берлине проходил во время тяжелого финансового кризиса, охватившего всю Европу, и дорогостоящие картины проходили с трудом. Газеты того времени отмечали, что цены картин на аукционе «были высокими», даже «непомерно высокими», что вызвало, по их мнению, и на этот раз «крах аукциона».
Для того чтобы исправить положение, надо было предоставить фирме Р.Лепке собрание значительных по качеству картин, и в 1931 г. в жертву была принесена коллекция Строгановского дворца, филиала Эрмитажа.
Предоставленные на аукционе работы были опубликованы в роскошно изданном каталоге (R.Lepke’s Kunst-Auction-Haus. Sammlung Stro- ganoff. Leningrad, 1931). Вступительная статья О. фон Фальке. Среди них были первоклассные картины знаменитых художников: Рембрандта, Ван Дейка, Пуссена, Клода Лоррена, Буше, Гюбера Робера, Верне и др.
В Эрмитаже хранится экземпляр этого каталога с пометками оценки предметов в рублях, в марках, и красным карандашом отмечена сумма, предложенная при покупке, притом у непроданных картин эта сумма заключалась в овал, и таковых было около одной трети всей выставленной на аукцион коллекции. В этом проявилась невысокая платежеспособность покупателей, связанная с финансовым кризисом.
Из 105 картин (по отметкам в каталоге) не были проданы и поступили в основную коллекцию Эрмитажа 57 произведений и среди них портреты Николаса Рококса и Бальтазарины ван Линник работы Ван Дейка, считавшиеся гвоздем аукциона. В каталоге не указана даже заявленная при торгах цена.
В Эрмитаж, как непроданные на аукционе, поступили также: Рембрандт «Христос и самаритянка», Пуссен «Отдых на пути в Египет», Буше «Триумф Венеры» и «Туалет Венеры», Клод Лоррен «Утро в гавани», пейзажи Гюбера Робера и др.
В книге R.Williams’a. Russian Art and American Money (1980) многие из этих картин, в частности портреты Ван Дейка и картины Рембрандта, Пуссена, Буше и другие, указаны как проданные, что повторили и статьи в наших популярных журналах.
II Материалы и документы
480
К сожалению, проданными оказались: Лукас Кранах «Адам и Ева» (заявленная цена 25 ООО марок, продана за 47 ООО марок), Андреа дель Сарто «Святое семейство» (4000/4600), Петрус Кристус «Мадонна» (2000/3000), Паннини «Внутренний вид храма» (3000/4200), Ван Дейк «Портрет Триеста» (цена не обозначена). С недобором от первоначальной цены прошли Ромни «Портрет Воронцовой с дочерью» (70 000/50 000) и эскиз лошади работы Ван Дейка (3000/2000).
Из 148 предметов из бронзы, камня, мебели, скульптуры, гобеленов и икон вернулось также около одной трети — 47 предметов и среди них скульптура Фальконе «Сидящий Амур».
На двух аукционах Бёрнера в Лейпциге (апрель 1931 г. и май 1932 г.) продавались преимущественно рисунки и гравюры из Эрмитажа, Музея изящных искусств в Москве и других музеев. Частично они продавались наряду с другими музейными ценностями и на аукционе Кенде в Вене (апрель 1932 г.).
При отборе рисунков и гравюр для продажи Эрмитаж старался Выделить парные или дублетные листы, а также поступившие в недавнее время из частных собраний, но это не всегда удавалось и по настоянию свыше приходилось выделять уникальные рисунки, потеря которых невосполнима. После трех довольно крупных выделений в 1930—1931 гг. заведующий Отделением графики М.В.Доброклонский подал дирекции Эрмитажа записку о нежелательности выделения «Антиквариату» дополнительной партии рисунков и гравюр, что явится для Эрмитажа катастрофой.
Он указал, что «при современных условиях заграничного рынка реализация даже значительной изъятой из Эрмитажа партии графического материала вообще не может дать особенно крупной суммы и достигнутый таким образом результат не явится достаточной компенсацией того ущерба, который в случае подобного изъятия был бы нанесен делу музейного строительства».
К сожалению, на указанных аукционах были проданы уникальные листы, потеря которых действительно невосполнима (Урс Граф «Сражающиеся ведьмы», четыре рисунка Тьеполо, «Архитектурный эскиз» Пиранези, около 20 рисунков Грёза из большого собрания рисунков этого художника, четыре рисунка Рембрандта).
Но и на аукционах Бёрнера и А.Кенде значительная часть рисунков, выделенных Эрмитажем, продана не была и возвратилась обратно. По сведениям, сообщенным И.С.Григорьевой, вместе с возвращенными рисунками, выделенными Эрмитажем, в Эрмитаж поступило около 270 листов, полученных «Антиквариатом» из других музеев Советского Союза.
При возврате «Антиквариат» не всегда учитывал источник получения рисунков, предназначенных для аукционов, и многие эрмитажные экспонаты были возвращены в другие музеи. Так, в Музей изящных искусств (ГМИИ) поступили рисунки АДюрера «Стоящая мужская фигура», Буше «Пейзаж с рыболовом», Габриэль де Сент Обена «Водный праздник», не проданные в 1932 г. на аукционе Бёрнера, но, с дру-
7 Аукционы
481
гой стороны, Эрмитаж получил рисунок Рембрандта, ранее находившийся в Харьковском музее.
По-видимому, был прав М.В.Доброклонский, считавший, что ущерб, нанесенный Эрмитажу продажей его экспонатов на иностранных аукционах, не может считаться оправданным.
Каталоги аукционов картин и графики из музеев Советского Союза показывают, какая угроза нависла над музеями, и только финансовый кризис, охвативший страны Западной Европы, вернул нам значительную часть художественных сокровищ, объявленных к продаже.
Возвращенные произведения
Аукцион Бёрнера.
Лейпциг 29 апреля 1931г. и 4 мая 1932 г.
1 Даниэль Дюмустье. Портрет дамы (инв. Mb 3005)
2 Даниэль Дюмустье. Портрет мужчины (инв. Mb 2998)
3 Аноним Лекюрье. Портрет Карла IX (?) (инв. Mb 2918)
4 Аноним Лекюрье. Портрет мужчины с серьгой (инв. Mb 2972)
5 Грёз. Меланхолия (?) (инв. Mb 14768)
6 Рубенс. Сенека (инв. № 5499)
7 Я.Рейсдаль. Пейзаж с развалинами (инв. Mb 5530)
8 А.Ватто. Панно с композицией «Рождение Венеры» (инв. Mb 40764)
На аукционе Альберта Кенде в Вене 12—14 апреля 1932 г. были представлены рисунки из Эрмитажа. Приблизительно из 300 рисунков около 125 возвращены.
Аукцион Р.Лепке
Берлин.
12—13 мая 1931 г.
(Rudolph Lepke’s. Kunst-Auction-Haus. Versteigerung am 12 und 13 Mai 1931. Sammlung Stroganoff. Leningrad).
Из каталога аукциона Р.Лепке
Произведения, не прошедшие на аукционе и поступившие в Эрмитаж1
1.
Шампень. Портрет кардинала Ришелье
ГЭ 4100 (Mb 3 -)
2.
Деннер. Портрет старой женщины
ГЭ 7152 (Mb 18 - 600 р.)
3.
Якоб Кейп. Женский портрет
ГЭ 6891 (Mb 23 - 2 000 р.;
в марках 15 000 — 8200)
4.
Грёз. Портрет П.АСтроганова ребенком
ГЭ 4063 (Mb 36 - 8000 р.)
5.
Беллини. Мадонна с младенцем
ГЭ 2096 (Mb 36 - 1500;
40 000 марок — 8200)
6.
Лампи. Портрет князя А.А.Безбородко
ГЭ 8382 (Mb 42 - 3000 р.;
4000-3600)
7.
Клод Лоррен (Клод Желле). Прибытие
Улисса ГЭ 1784 (Mb 47)
ко двору Ликомеда
8.
Клод Лоррен. Утро в гавани
ГЭ 1782 (Mb 48)
1 В скобках указаны номера каталога и
цены в рублях, марках и предложенные цены.
II Материалы и документы
482
9.
Натуар. Амур, точащий стрелу
ГЭ 7653 (№ 52 - 5000; 10 000 марок — 9000)
10.
Чезаре Дандини. Св. семейство (в каталоге как Карраччи)
11.
Арт ван дер Нер. Лунная ночь
ГЭ 1868 (№ 53 - 7000 р.;
12 000-10 500)
12.
Буше. Триумф Венеры
ГЭ 7656 (№ 62 - 50 000-100 000)
13.
Буше. Туалет Венеры
ГЭ 7655 (К> 63)
14.
Пуссен. Отдых на пути в Египет
ГЭ 6741 (№ 67 - 75 000)
15.
Пуссен (копия). Вакханалия
ГЭ 6504 (№ 66 - 75 000)
16.
Шипионе Пульцоне. Портрет
ГЭ 7159 (№ 68 - 5000 р.;
кардинала Колонна
4000-3300)
17-22.
Г. Робер. Серия из шести
(№ 69 — за 6 картин 150 000;
пейзажей
200 000 марок — 157 000)
18.
Г. Робер. Пейзаж с обелиском
ГЭ 7734
19.
Г. Робер. Пейзаж с водопадом
ГЭ 7735
20.
Г. Робер. Пейзаж с аркой и куполом собора св. Петра
ГЭ 7733
21.
Г. Робер. Пейзаж со скалами
ГЭ 7736
22.
Г. Робер. Пейзаж с триумфальной колонной ГЭ 8409
23.
Г. Робер. Кипарисы
ГЭ 8410
24.
Хелст. Женский портрет
ГЭ 6833 (№ 70 - 15 000;
15 000 марок —предложенная сумма 10 000)
25.
Рембрандт. Христос
ГЭ 714 (№ 71 - 300 000 руб.;
и самаритянка
210 000 м.)
26.
Ван Дейк. Портрет Рококса
ГЭ 6922 (№ 77 - 250 000 - )
27.
Ван Дейк. Портрет молодой женщины с ребенком
ГЭ 6838 (№ 78 - 400 000 - )
28.
Жозеф Верне. Скалы у берега
ГЭ 7584 (№ 87 - 10 000;
моря
12 000-6000)
29.
Виже-Лебрен. Портрет
ГЭ 7587 (№ 89 - 75 000;
Строгановой с сыном
40 000-37 000)
30.
Якоб де Вит. Аллегория
ГЭ 7396 (№ 96 - 16 000;
музыки и поэзии
2500 - 1550)
31.
Якоб де Вит. Аллегория
ГЭ 7395 (№ 97 - 1600;
живописи
2500-1550)
32-37.
Роде. Аллегорические фигуры
(№ Ю5 - 30 000; 9000-8500).
Из 108 картин недобрали цену 55, то есть более 50%, некоторые недобравшие цену все же продавались.
АУКЦИОН Р.ЛЕПКЕ
4 июня 1929 г.
Из 46 предметов, приведенных в иллюстрациях каталога, вернулись 5: № 229. Часы «Бдение и Учение» (две женские фигуры, орел на барабане часов)
№ 229, 230. Канделябры КЬ 311, 312. Пастух, Пастушка
7 Аукционы
483
Из 27 предметов Строгановской коллекции вернулось 5:
№ 170. Настольные часы Д.Кокса со львом и носорогом № 171, 172. Пара 3-х метровых торшеров № 132, 133. Пара канделябров
18 февраля 1929 г.
Директору Государственного Эрмитажа
РАПОРТ
Ознакомившись согласно Вашего распоряжения с предварительным расчетом на аукционную продажу в Германии (Берлин, фирма Лепке) антикварных художественных вещей, принятых от Гос. Эрмитажа, должны указать:
1. В заголовке расчета указано, что означенные вещи приняты 11-го июня 1928 г., тогда как все числящиеся вещи в указанном расчете сданы сотруднику Ленинградгосторга <...> 10-го марта 1928 г. по акту за № 1516. Кроме того, в предварительном расчете указано, что означенные предметы являются второй партией выделенных Гос. Эрмитажем, тогда как все они входили в первую партию.
2. Всего в предварительный расчет включено 122 предмета, реализованных в сумме 352 011 руб. 43 коп., против первоначальной оценки 343 015 руб., то есть с превышением этой оценки на 8 996 руб. 43 коп. В присланном расчете видно, что первоначальную оценку превысили только вещи фавнителъно недорогие; категории же более ценных вещей прошли с сильным недобором (курсив — Б.П.).
Картины в числе 27 штук, вместо 23 250 руб. первоначальной оценки, дали 32 482 рубля, то есть с превышением 9 232 руб., но среди этих картин суммы в 10 ООО руб. достигла только серия из 3-х картин французской школы, все же остальные стоили гораздо меньше.
Первоклассные шпалеры в числе пяти штук (из числа 14, выделенных Гос. Эрмитажем) дали 110 400 руб., против 123 000 руб. первоначальной оценки, то есть со снижением 12 600 руб.
Табакерки в количестве 44 штук дали 106 533 рубля, против 82 550 рублей, то есть с превышением на 23 983 рубля, в числе этих 44 табакерок только две стоили дороже 10 000 рублей.
10 восточных ковров дали 2356 руб. 40 коп., вместо 2285 рублей, то есть с превышением на 71 рубль 40 коп. (ни одного ковра дороже 700 рублей не было).
30 предметов серебра дали 7272 руб. 90 коп, против 3930 рублей первоначальной оценки, то есть с превышением на 3342 руб. 90 коп.; в этой партии серебра только два предмета были выше стоимости 1000 руб.
6 предметов первоклассной мебели, вместо 108 000 руб. первоначальной оценки, дали только 91 700 руб., то есть с недобором 17 230 руб.
3. Непонятным является отсутствие в первоначальном расчете ряда картин, бесспорно проданных у Лепке на аукционе 7 ноября 1928 г., как например:
1. Бассано. Мужской портрет (опись Гос. Эрмитажа № 1064)
2. Грёз. Белокурый мальчик (опись Гос. Эрмитажа № 1085)
II Материалы и документы
484
3. Поленбург. Героическая сцена (опись Гос. Эрмитажа № 1085)
4. Сустрис. Св. семейство (опись Гос. Эрмитажа № 1064)
5. Тенирс. Крестьяне перед кабачком (опись Гос. Эрмитажа № 1079)
6. Вуверман. Отправление на охоту (опись Гос. Эрмитажа № 1077)
7. Вуверман. Шпион (опись Гос. Эрмитажа № 1071)
Означенные семь картин входят во вторую группу выделенных от Гос. Эрмитажа для экспорта.
С.Тройницкий
Н.Куранов
В.Левинсон-Лессинг
Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 856, л. 198. Копия документа.
Отклики немецкой прессы на аукционы в Германии 1
Berliner Tageblatt. 7 Apr. 1929 N 164. P.Schejfer. Der Ausverkauf des alten Petersburg. «Серая статья» об угасающем Петербурге. Очереди за сахаром, солью, керосином и мылом. Рестораны заменены «столовыми». Но культурные ценности от прошлых владельцев еще остаются. При Комиссариате внешней торговли Рыков создал «Антиквариат». Музеи потеряли свой индивидуальный облик. В Эрмитаже закрыт отдел церковных ценностей, в Зимнем дворце — комнаты Александра III и Николая II; остались только Николая I. В галерее Щукина, в Москве, экспозиция картин заменена фарфором. Материалистическое мировоззрение везде, вместе выставлены памятники искусства, мебель и другие предметы. Выставки подчинены идеологии марксизма. Эрмитаж не имеет своего облика. «Лес рубят — щепки летят». Ленинград сереет. Жизнь все труднее и труднее (л. 1).
Фотография аукциона Лепке. Продается секретер Павла I «Fort mit Grinnerungen an alte Zeiten...». Общий заголовок «Советская Россия продает свои музейные сокровища». Упомянуты: картина Рембрандта «Голова Христа», продана в Париж за 130 000 марок; Тициан «Св. Иероним» — за 26 000 марок; «Мадонна», приписываемая Тициану, вытянула только 25 000 марок (л. 3).
Вырезка из газеты «Сегодня», № 156 от 7 июня 1929 г. (по-видимому, газета, издававшаяся в Латвии). «Распродажа музейных ценностей большевиками». Извещается, что картина Лоренцо Лотто «Супруги» продана за 310 000 марок. (Но она вернулась!) (л. 4).
«Kunst Spiegel» (других данных нет).
Фотографии картин Морони, П.Бордоне, Рубенса «Оплакивание Христа», Рембрандта «Голова Христа», Веронезе (л. 6).
Фотографии секретера Павла I и картин Ф.Боля, Содомы и Пьяцетты (л. 7).
Вырезка из газеты «Руль» № 2578 (Берлин). 20-е числа мая 1929 г. (указана радиограмма по 23 мая 1929 г.). Статья «Еще о деле Лепке» (подпись В.Б.). В последней книжке «Journal du Drait Intern» напечатана статья М.М.Филоненко, бывшего верховного комиссара Временного правительства, теперь французского адвоката, по делу князя Дабиша
1 В Архиве ГЭ хранятся газетные вы¬
резки о проводимых аукционах (ф. 1, оп. 5, ед. хр. 1037). Они относятся главным образом ко второму аукциону Р.Лепке 4—5 апреля 1929 г.
7 Аукционы
485
*Агэ. Ф2 ^.17 W2o3 .a.^
*U*W~
^ -bc^w^ ..-W^' “ <W« <• .олм^чги ~ »»«^и„чау
н
f
*
i
i
i
S*
f
i
Г
Г
1
t
2
I
’S?
О
t
!
i
3
i
4
Г
r
s-
M
A
*3*
4
*
4
4
m
£
C^a
V
1
4% 9 * •Л
11
0
l
*
i
if
ii
Ц
(W^fauX
1730
час
2Ш
С»3
2
2 S'
ie
ЛМ
?S
70'S
10275*
SSS
3C
J2oy
3f
И
I6l
Its
ч
то
узо
16чЗ
-
1
—
—
•47
-
1
ЧЫ
1
|W
t\i. 1
8
—
—
-
?*r ions) _ ftu*o avus £—~*~0 .. _ ум*7?
4 4W <• “ г-****-*-»
Ъ S'ol
ГЬ №11/2*,. *> Mi3/x$v». u №гЭ/30г vu. JWc
У\ллл*логл с *u <0 t«l33 >*wia<^ &<к^Алгi Wu.vm.-ku^hu.^
Л-» ll Л cc\x* **. QfAjLw» С<Лм^о :
»Ссц»»у»лд^ц 17 Зо
‘Y~cO ju~«.wwt vy%*«uia. UL441 4-C t 6 • H
»» ^»jtui^ 17 0 b
^-S-Vcw ^мГ1лмалсс '
J r il&O
4cyvVVWA4«
ty*3vU*^VL*4 <rv^k tui л«Л». um 4r S 4 *f
faV.T>t V* V|> 121 3
Peru^v^ CUcC (u. « ■• ^Wfafaicyu^AWA^ ?)
___.. l ЧЧ7)
Vtfy^wwav
Vyxitju . •учлл.'и-А . ич^а-<Л« - t 6 7
V5 n ^Jlfai^-t U. ^ 'Ц* o^vi^y» — 4 83
V-wvu 0*9^ viac^w^
кб^ЛАЛЛЬЦ wuT Э'Р AAMMfi&S***1 I <*'lf144’ VcU(UXUvVc ii гАимлд-и^ж*^ ‘fcfcopv^, CwyV't^A^tfaU'W k^yfa«)« w
з
*
T*
C-
0
I
i
1
vo
u
!i
ij
P
i ^
||
11
ll
3 »3
*
68*
£10
si
41 г
18
2.
28 i
—
~
—
-
-
-
-
31
Лист рукописи с таблицей, составленной Б.Б.Пиотровским
на основании «Ведомости картинам и другим предметам, выданным Всесоюзному объединению «Антиквариат» с 10 марта 1928г. по 10 октября 1933 г.
II Материалы и документы
486
На аукционе Р.Лепке. Берлин. 1929 г. Продажа секретера Павла I Секретер Павла I. 1780. Парижская работа. Продан на аукционе Р.Лепке
7 Аукционы
487
и комиссионного дома Лепке. В мае суд вновь занимался этим делом. (Об аукционе произведений искусств, отобранных большевиками у частных лиц.) Аргументация суда, так же как и в прошлый раз, была следующая: 1. Ввиду того, что спорные вещи находились в России, вопрос о праве собственности на них по нормам частного международного права определяется русскими законами. 2. Отступление от этого принципа могло бы быть допущено лишь в силу параграфа 30 вводного закона в Германском Гражданском Уложении, исключающего применение германскими судами иностранных законов, противоречащих добрым нравам или целям германского законодательства. 3. Применение в данном случае параграфа 30 не может иметь места, ибо «вторжение в суверенный акт иностранного правительства в отношении собственных подданных недопустимо, в особенности когда такое правительство признано Германией».
Но так как русские эмигранты не могут быть признаны подданными советской власти, ландтаг подкрепил свою резолюцию добавочным пунктом, в котором указывается: «безвозмездная экспроприация» у частных лиц в интересах государства во время войны или крайней необходимости не может рассматриваться под углом зрения параграфа 30, как безнравственное, ибо само германское законодательство знает такого рода экспроприятия.
Автор статьи указывает, что, по мнению Филоненко, «экспроприация» советского правительства находится в глубоком непримиримом противоречии с понятием экспроприации по германскому праву.
У кн. Дабиша в 1918 г. были экспроприированы два старинных женских портрета и ценный дорожный несессер. О них и идет речь (см. л. 27).
Вырезка из газеты «Berliner Borsen Zeitung» 8 мая 1929 г. Извещение о том, что в следующую среду возобновляется процесс, поднятый русскими эмигрантами против фирмы Лепке «Der Furst Dabische Kontromanier» (см. л. 31).
Статья из «Berliner Tageblatt», 4 Juni 1929. «Die zweite Russenauk- tion». Указывается, что второй аукцион прошел без инцидентов в отличие от первого, когда были демонстрации эмигрантов по поводу продажи национализированных вещей, теперь же была продажа из государственных собраний. Отмечается, кто прибыл на аукцион: «Die Preise sing gut, zum Teil uberraschend gut». 4 июня продавались картины, на следующий день — «выдающаяся» французская мебель (см. л. 36).
«Berliner Lokal Anzeiger» (Berlin) — крошечная заметка о том, что 15 русских эмигрантов возбудили дело против Лепке, на аукционе которого продавались национализированные художественные сокровища (см. л. 83).
Вырезка из газеты «Acht uber Abendblatt» (Berlin). Заголовок «Auch diesmal grosser Krach?». Короткая информация об аукционе Р.Лепке с изображением: бюро Павла I, Тициан «Св. Иероним», Рембрандт «Христос» (см. л. 56).
II Материалы и документы
488
Несмотря на активную газетную рекламу произведений живописи, выставленных на аукционе Лепке 4 и 5 апреля 1929 г., большинство шедевров не было продано.
Статьи, опубликованные в немецкой печати 1 Берлинер Тагеблатт, 5.VI. 1929, N° 266
11/4 миллиона за ленинградские картины
Русский аукцион у Лепке Первый день второго русского аукциона, предпринятого Лепке, вчера, как сообщают, дал заслуживающий внимания результат: 109 картин (первая часть) продана за 1 1/4 миллиона марок (примерно). Самую высокую цену принесла «Супружеская пара» Лоренцо Лотто. (Картина вернулась. — Б.П.) Не менее чем за 310 ООО марок эта картина отправится в Париж, а также, можно поручиться, и упомянутая нами вчера маленькая «Голова Христа» Рембрандта, за которую заплачено 138 ООО марок. И третьей по высоте цены достиг фламандский «Портрет старика» Иоса ван Клеве: он за 100 ООО марок поступит в собственность одного берлинского торговца произведениями искусства. Остальные цены этого второго русского аукциона у Лепке также были высоки. Среди итальянцев «Портрет старика» Морони достиг 25 ООО м, «Юный Аполлон» Кантарини — 20 000, приписываемая Тициану «Мадонна» из ленинградского Эрмитажа 25 000 и «Маленький Иероним» Тициана, вариант луврской картины, 26 000 марок. «Геркулес» Париса Бордоне принес 28 000, портрет венецианца Якопо Бассано 21 000 марок. За приобретенную когда-то Екатериной II картину «Фридрих Мудрый» Лукаса Кранаха заплачено 28 500 м, за набросок «Положение во гроб» Рубенса 42 000 марок (вернулся. — Б.П.). Рубенс продан в Париж. Из французских картин 18 в. два пейзажа Гюбера Робера пошли за 33 000 марок.
Газета «Дер Таг» за то же число, № 133 считает цены за Кранаха и Тициана низкими (заголовок «Великие имена, маленькие цены»)2.
Локаль Анцайгер, 5.VI. 1929, N° 160
Русские художественные ценности с молотка 109 картин принесли (округл.) 1,2 миллиона марок Рудольф Лепке приглашал вчера и сегодня на второй аукцион художественных сокровищ из ленинградских музеев и дворцов. В бело-голубом ампирном зале на Курфюрстенштрассе еще раз встретились директора музеев, искусствоведы, собиратели и торговцы, в то время как колоссальные люстры — не в пользу картин — боролись с дневным светом. Жужжание, как от роящихся пчел, наполняло помещение, так как перед началом каждый хочет что-то еще узнать, что, кроме него, не знает никто другой. Многое установлено: цены, которые еще в памяти от коллекции Спиридон, не будут достигнуты, поэтому Германия сможет принять живое участие в покупке.
1 В архиве С.П.Яремича (Архив ГЭ, ф. 7, on. 1, ед. хр. 524) хранятся переводы статей.
2 Сообщаемые в этих публикациях сведения недостоверны, а частью неверные.
7 Аукционы
489
Картины, когда-то принадлежавшие Эрмитажу в Петербурге, гобелены и бронзовые светильники из великолепных залов русских дворцов, французская мебель, подписанная мастером 18 в., часы рококо, комоды в стиле Людовика XVI, стильный и грациозный маленький пюпитр — когда-то они были призваны придать индивидуальный отпечаток помещениям, теперь они стали объектом холодной и расчетливой оценки.
В пестрой географической и временной последовательности начало принадлежит картинам. Французы 18 в. сменяются фламандцами и голландцами 17 в., венецианских мастеров 16 в. сменяют далее поздние нидерландцы. Первая большая цена, 14 ООО м, заплачена берлинским торговцем за вид Венеции Каналетто; Берлин приобрел пока также «Портрет старика» Иоса ван Клеве за 100 ООО марок, низкая цена за шедевр того времени, тогда как маленькая картина Рембрандта, голова Христа, о которой недавно сообщалось, подскочила с 30 ООО до 130 ООО. Прекрасный вид южной гавани Жозефа Верне приобретен г-ном Кюль- манном за 16 ООО м. Это имя одного коллекционера, которое можно услышать; другие, по неписаному требованию, стоят безмолвно, это знает и уважает каждый, кто когда-либо занимался торговлей, связанной с искусством. Кто покупатель великолепного парного портрета, написанного венецианцем Лоренцо Лотто в 16 в.? Шкала предложенной суммы поднимается до 310 000 м. Куда отправится Парис Бордоне, чей «Геркулес в саду Гесперид» принес 28 000 м, куда — портрет молодого венецианского дворянина Якопо Бассано, купленный за 21 000 м? А оба произведения Тициана «Мария с младенцем» (25 000 м) и «Св. Иероним» (26 000 м), как долго они еще останутся в Германии? За отличный портрет курфюрста Фридриха Мудрого Саксонского работы Лукаса Кранаха заплачено 28 500 м, а за «Положение во гроб» Рубенса даже 42 000 м. Колонка сумм, которые за знаменитые произведения кажутся низкими, а за незначительные — высокими, это факт, который останется в памяти. Затем все устремляется врозь: картины — люди — и судьба тех и других.
Записка заведующего Отделением графики М.В.Доброклонского
16 НОЯБРЯ 1931 г.
Говорится о нежелательности выделения «Антиквариату» партии рисунков и гравюр, что «явится для Эрмитажа равносильно катастрофе».
То, что можно выделить из Эрмитажа, «не сможет служить приманкою европейского аукциона».
Дается характеристика групп. По Франции XVIII в. сказано: «Все то, что представлялось первоклассным и в то же время известным образом дублировало материал, было выделено «Антиквариату» при предыдущем изъятии».
Относительно гравюр сказано то же самое: «При предшествовавшем выделении было изъято много листов уникального порядка».
II Материалы и документы
490
Указывается, что «при современных условиях заграничного рынка реализация даже значительной изъятой из Эрмитажа партии графического материала вообще не может дать особенно крупной суммы и достигнутый таким образом результат не явится достаточной компенсацией того ущерба, который, в случае подобного изъятия, был бы нанесен делу музейного строительства».
См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 205, л. 115—117.
Записка И.С.Григорьевой, зав. Отделением рисунков 1
Продажа рисунков
Выдавались в «Антиквариат» для аукционов в 1930—1932 гг.:
Акт от 14.06.1930 — 304 номера (по списку, утвержденному 15.03.1930). Предварительная оценка в Эрмитаже 130 000 — 150 000 руб.
Акт от 26.01.1932 — 08.01.32 — 131 гравюра; 13.01.32 — 20 рисунков
См. Архив ГЭ. ф. 1, оп. 5, 1932, ед. хр. 1383.
Часть рисунков проданы не были; они возвращены по актам:
Акт от 29.03.1932 — 102 (или 105) номеров Акт от 24.01.1934 — 3 номера Акт от 03.06.1934 — 25 номеров (?)
Однако, помимо указанных выше возвращенных эрмитажных рисунков, в эти акты входят еще и рисунки из других собраний, видимо также возвращенные с распродаж, но переданные не в прежние собрания, а в Эрмитаж. Так, по акту от 29.03.1932 г. пришло 373 рисунка, то есть около 270 пополнили собрание Эрмитажа.
Точно так же некоторые рисунки Эрмитажа, не проданные, из «Антиквариата» переданы в другие музеи. Примеры:
А.Дюрер. Стоящая мужская фигура («Автопортрет») (Аукцион Бернера, 1932, 4 мая, № 137) — передан в ГМИИ.
Нидерландский мастер XV в. Мадонна с младенцем. (Аукцион Бернера, 1932, 4 мая, № 139), помеченный Z, то есть, видимо, не продан, но и не возвращен в Эрмитаж.
Франсуа Буше. Пейзаж с рыболовом (Жантильи) (Аукцион Бёрне- ра, 4 мая 1932, № 10) — передан в ГМИИ.
Габриэль де Сент Обен. «Водный праздник» (Аукцион Бёрнера, 1932, 4 мая, № 122) — передан в ГМИИ.
И наоборот:
Рембрандт (теперь школа Рембрандта). Двое беседующих мужчин, из Харьковского музея — передан в Эрмитаж (Аукцион Бёрнера, 1931, 29 апреля, № 191).
Таким образом, очевидно, получились эти цифры, приведенные в архиве при подсчете, говорящие о том, что в Эрмитаж возвращено больше рисунков, чем ушло.
Однако, к сожалению, проданы лучшие рисунки, а вернулись, в какой- то мере, второго сорта (не очень твердые атрибуции, школа, мастерская и т.п.).
1 Составлена 5 сентября 1989 г.
7 Аукционы
491
В целом ясно, что при отборе рисунков для продажи эрмитажники старались давать парные, дублеты, школу и рисунки из только что поступивших частных собраний и пр. Но, видимо, иногда не получалось, и по настоянию свыше приходилось выделять уникальные листы, потеря которых невосполнима.
Например:
Урс Граф. Сражающиеся ведьмы. Инв. 30.
Дж. Б.Тьеполо. 4 рисунка («Св. семейство», «Поклонение волхвов», «Крещение», «Группа святых»). Инв. 14115, 20109, 20112, 20113.
Дж. Б.Пиранези. «Архитектурный эскиз». Инв. 25172.
Ланьо. «Портрет мужчины в берете». Инв. 7402.
Было продано около 20 рисунков Грёза, но осталось в Эрмитаже еще много, так как собрание очень большое.
Габриель де Сент Обен. «Армида» (53), но остался парный рисунок. Белланж. Инв. 15722.
Рембрандт. 4 рисунка (инв. 5524, 5321, 5313, 5303) и так далее. Лучшие из возвращенных рисунков:
Рембрандт. Набросок фигуры (инв. 5297)
Рубенс. Сенека (инв. 5499)
Рейсдаль. «Руины» и «Водяная мельница»
Пармиджанино. Группа фигур (инв. 4916)
Фейт. Собаки (инв. 15303)
С.Риччи. Голова юноши (инв. 5338)
Розальба Каррьера. Портрет молодой женщины (инв. 18997) и другие.
В записке И.С.Григорьевой названы аукционные каталоги:
1 Бёрнер, 1931, 29 апреля. Рисунки старых мастеров XVI—XVIII вв. из собрания Эрмитажа и других собраний СССР (Харьков, Москва). Всего эрмитажных — 192 рисунка. Возвращены многие, но второго сорта.
2 Бёрнер, 1932, 4 мая. Рисунки старых мастеров из собрания Эрмитажа. Главным образом французская школа. Всего 140 рисунков (и
2 из Харьковского музея).
Часть возвращены. 31 рисунок не продан. 4 в Эрмитаж не вернулись, 2 — в ГМИИ.
3 Альберт Кенде, Вена, 1932, 12—14 апреля.
Рисунки входили небольшой частью, наряду с картинами, мебелью и пр.
Всего эрмитажных рисунков — 9, продан только 1 — Н.Ланкре «Женский портрет» (за 160 австр. шиллингов). Небольшими частями, возможно, эрмитажные рисунки входили и в другие распродажи.
Из протокола Комиссии по экспорту от 25 января 1929 г.
Считать возможным выделить для экспорта четыре картины:
1 Л.Лотто «Портрет супругов» (№ 1963)
2 П.Бордоне «Портрет молодого человека» (№ 2364)
3 Я.Бассано «Портрет Контарини» (JMb 7153)
II Материалы и документы
492
4 Л.Кранах «Портрет Фридриха Мудрого» (№ 3461)
Подписи: С.Н.Тройницкий, А.А.Ильин,
А.А.Автономов, М.Д. Философов.
Оценка: Лотто — 200 ООО руб.; Бордоне — 35 ООО руб.; Бассано — 40 ООО руб.; Кранах — 40 ООО руб.
Подписи: Я.Л.Израилевич, С.К.Исаков, А.П.Келлер,
В.Ф.Левинсон-Лессинг, С.Н.Тройницкий, Д.А.Шмидт, С.П.Яремич. См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 856, л. 155.
Акт от 29 сентября 1932 г.
«Мы, нижеподписавшиеся, уч. секретарь Гос. Эрмитажа Кислицын И.А. и сотрудник В/О «Антиквариат» т. Дарьяновский, составили настоящий акт в том, что на основании приказа Облфо от 1 августа с/г за № 3593 «Антиквариат» закрепил за Эрмитажем находившиеся в Эрмитаже на ответственном хранении нижеперечисленные предметы и картины в количестве 105 номеров — 110 предметов»
(см. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 1379, л. 96).
Справка В.М.Потина, зав. Отделом нумизматики1
О распродаже монет и медалей Эрмитажем в конце 1920-х — начале 1930-х гг.
Эпидемия распродаж произведений искусства и антикварных вещей конца 20-х — начала 30-х годов не миновала и нумизматическое собрание Эрмитажа. Распродажа монет, медалей и орденов проводилась через две организации: СФА (Советская филателистическая ассоциация) и «Антиквариат». Ранее занимавшаяся торговлей марками, бонами, монетами и медалями организация Уполномоченного по филателии и бонам постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 25 октября 1926 г. была преобразована в Советскую филателистическую ассоциацию при Комиссии ВЦИК фонда имени В.И.Ленина помощи беспризорным детям. Хотя СФА была создана в «качестве подсобного предприятия для пополнения ресурсов этого фонда», судя по периодической печати того времени, денежные отчисления были эпизодическими и составляли только незначительную часть доходов. Во главе СФА (председателем президиума) в указанное время был Ф.Г.Чучин. В Берлине ее представителем был Н.И.Кондаков, в Польше (в Лодзи) М.Г.Кучинский, представительства СФА были в ряде других городов Европы. В Америке, в Нью-Йорке, действовала Russian Stamp, Coin and Art collection Company («Всероссийская марочная, нумизматическая и коллекционная компания»). СФА производила закупки монет, торговала конфискованными нумизматическими товарами, а затем и экспонатами музеев.
Всесоюзное объединение «Антиквариат» стало активно действовать после передачи широких полномочий торговли антикварными изделиями Комиссариату внешней торговли (А.И.Микоян). В конце 20-х гг. «Антиквариат» возглавлялся Н.Ильиным. Членом экспертно-оценочной
1
Составлена 21 февраля 1990 г.
7 Аукционы
493
комиссии при «Антиквариате» был В.Ф.Левинсон-Лессинг. Систематические записи в документах Отдела нумизматики о передаче нумизматических предметов (монет и медалей) имеются за 1931, 1932 и 1933 гг. В книгах поступлений 44а и 583, например, имеются записи о передачах в СФА, а также «в Москву». Сопоставление записей в книгах поступлений и каталогах монет (где также имеются пометки) позволяет определить, что монеты, отправлявшиеся «в Москву», предназначались для «Антиквариата» (в каталогах античных монет пометки о выдачах открыто называют «Антиквариат»). В эти же годы встречаются часто записи об «аннулировании» монет. Это или монеты, признанные негодными и отправлявшиеся на переплавку, или это условная запись (как «в Москву») монет, предназначенных для продажи.
Монеты, отправлявшиеся в СФА или «Антиквариат», были из основного собрания и из новых поступлений. Так, 611 монет, полученных 18 сентября 1930 г. из АН СССР, уже 7 февраля были переданы СФА (поступление 583/76). Часть золотых монет знаменитого Строгановского собрания, полученного Эрмитажем в сентябре 1925 г., в начале 1931 г. отосланы СФА (пост. 44а/476). Западноевропейские монеты и медали, полученные из музея Штиглица, в апреле и июле 1932 г. были отосланы СФА. В «Антиквариат» было отослано особенно много античных монет и различных золотых монет.
В каталогах Отдела указывалась передача той или иной единичной монеты или медали, в книгах поступлений количество обычно не указывалось. Записи были такого характера: «из золотых монет отосланы в СФА», «из них отосланы в Москву». Так что для оценки количества монет необходимо поднимать архивные акты. Но можно с уверенностью сказать, что количество проданных монет исчисляется тысячами. Среди них редкая сицилийская декадрахма (оценена была 30.000 герм, марок), дорогие пантикапейские тетрадрахмы, византийский солид имп. Ираклия, тройной золотой дукат архиепископства Зальцбург, древнерусские слитки (киевские, новгородские) (АГЭ, оп. 5, 1931, ед. хр. 214; книга поступлений 44а, № 612, книга поступлений 583, № 87 и др.). Особенно сильно пострадало античное собрание Эрмитажа.
Некоторые монеты возвращались уже в 1930-е годы, видимо не реализованные. Так, например, некоторые монеты Македонии, переданные «Антиквариату» в августе 1933 г., были возвращены в сентябре 1936 г. (см., например, Каталог античных монет Македонии и Фракии, с. 75, 83). Сотрудники Отдела нумизматики признавали в отдельных монетах поступления 583/905 (Гохран, 1949 г.) эрмитажные экземпляры, изъятые в свое время для продажи. Но возвращена была только часть (думаю, незначительная) монет, отправленных в 1920—1930-е гг.
Дополнения к справке. № 1
Определенная часть монет из собрания Эрмитажа продавалась через фирму А.Хесс (Франкфурт н/М., Германия) — Adolph Hess Nacht. Эти распродажи нашли отражение в следующих аукционных каталогах фирмы.
И Материалы и документы
494
1. Russische Miinzen des 19. Jahrhunderts. Dubletten russischen Mu- seen. Katalog 204 (аукцион 18 февраля 1931 г.). 2473 экз., среди них платиновые монеты и редкие пробные экз. семейных 1 1/2 рублей (5 экз., варианты). Надо отметить, что все монеты названы «дублетами» из «русских музеев».
2. Russische Miinzen des 14.—18. Jahrhunderts. Dubletten russischen Mu- seen. Katalog 210 (25 апреля 1932 г.). Та же схема «дублеты русских музеев». Среди них древнерусские слитки (9 экз.), 3 древнерусских сребреника; редчайшие золотые Ивана IV, Федора Ивановича, четырехкратный дукат Михаила Федоровича — всего 53 экз. золотых XVI—XVII вв., включая некоторое количество новоделов; рубли Алексея Михайловича; 15 ефимков и др. достаточно редкие монеты.
По мнению И.Г.Спасского, значительная часть монет, перечисленных в этом каталоге, вернулась в Эрмитаж (в том числе вместе с передачей из Гохрана в 1949 г., пост. 583/905), 3 древнерусских сребреника, происходившие из Нежинского клада, возможно, не из Эрмитажной коллекции.
3. Griechische Miinzen aus dem Besitz eines auslandischen Museums. Katalog 208 (14 декабря 1931 г.). «На экз. каталога библиотеки Отдела нумизматики рукописная надпись неизвестного немецкого нумизмата — «Leningrad» (813 номеров).
Кроме того, судя по составу и отдельным редким экземплярам, из Эрмитажа происходят монеты, опубликованные в каталогах фирмы Шлессингер (Берлин).
1. Sammlung aus auslandischen Museumbesitz (2 мая 1933 г.). 1640 номеров, среди них древнерусские слитки, золотые монеты XVII—XVIII, ефимки и монеты западноевропейских государств, медали.
2. Sammlung aus auslandischen Museumbesitz. 2 Abt. Antike. (Аукцион 26 февраля 1934 г.) 401 экз. (преимущ. греческие монеты).
3. Sammlung aus auslandischen Museumbesitz. 3 Abt. sowie aus Pri- vathand. Как видно из названия каталога, среди 1405 экз. монет и медалей часть происходит из частных коллекций.
Это — известные нам распродажи эрмитажных монет значительными группами, в остальных случаях монеты, медали, слитки продавались, видимо, без указания происхождения (или даже намека на него). Не исключено, что кроме монет из собрания Эрмитажа в вышеуказанные каталоги вошли монеты других советских музеев.
26 февраля 1990 г.
Дополнение № 2
В Отделе нумизматики сохранилась часть документов, касающихся продаж (главным образом античных монет).
Список монет о выдаче СФА 1.02.1931 имеет 296 номеров (198 античных монет, 66 восточных монет, 25 западных, 1 византийская, 6 —. русские слитки). Кроме того, сохранились 3 списка передачи в «Антиквариат» 1.08.1933 г. В них все монеты — античные, всего 2733 экз. (возвращено 529. — Б.П.у.
1 Среди возвращенных в Эрмитаж мо¬
нет имеются редкие и ценные; нам не известны мотивы отказа от покупки, возможно из- за высокой цены.
7 Аукционы
495
Монеты подбирались не только из дублетов, но из основного собрания и даже с выставки (целой витриной) согласно указаний представителя «Антиквариата» Сосновского1.
Списки выделенных для продажи античных монет
1 августа 1933 г.
1 Экспозиция. Два варианта: в одном 680 наименований монет, в другом 767 (во втором варианте возвращенных 209 номеров, продано 558 номеров).
1 августа 1933 г.
2 «Запас греческих монет»
Первый вариант 899 номеров, второй 906 номеров (возвращенных 286 номеров, продано 620 номеров).
1 августа 1933 г.
3 «Монеты античного сектора Гос. Эрмитажа, подлежащие выдаче « Антиквариату».
Первый вариант 19 номеров и монеты с выставки — 89 (всего 108), по второму варианту 29 номеров и 91 номер с выставки (всего 120), из них возвращено 34 номера, продано 86 номеров). Второй вариант правильный, он скреплен штампом «Всесоюзное объединение по экспорту Антиквариат» и подписью Э.Богнара.
4 «Материалы по передаче в Исторический музей» (то есть в СФА). 7 ФЕВРАЛЯ 1931 г.
Акт об упаковке от 7 февраля 1931 г. 296 монет в ящик, направляемый в Гос. Исторический музей (подписи: Ученый секретарь М.Д.Филосо- фов, зав. Отделом нумизматики Н.П.Бауер, Действительный член Отдела нумизматики А.Н.Зограф).
Вторая записка, подписанная директором Б.В.Леграном и ученым секретарем М.Д.Философовым, о посылке второй партии выделенных нумизматических материалов (Основание: инструкция Сектора науки НКП от 31 июля 1930 г. за № 50103 и предложение от 9 августа того же года за № 51501). 198 античных монет, 92 восточных и западноевропейских, 6 русских слитков (сведений о возврате на описи нет)2.
1 А.Толмачев-Сосновский упомянут в документах и в одном из каталогов Hessa. Очень активный деятель СФА по продаже нумизматических коллекций.
2 В деле имеются три страницы «Спис¬
ка греческих, западноевропейских и русских монет» (обрывается на 102 номере) с оценкой в германских золотых марках — до 300 марок. Все монеты золотые и электровые. Никаких пометок на листах нет.
ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА
8 Эрмитаж в 1930-е годы
Распоряжение № 207 от 26 декабря 1930 г.
С 18 декабря 1930 г. Отдел древностей расформировывается. Отделение Греко-Римского общества преобразовывается в отдел Античного общества.
Отделение Эллино-скифское (с секциями эллинской и скифской) входит в состав вновь организуемого IV Отдела Доклассового и Раннеклассового общества. Зав. отделом назначается И.И.Мещанинов с 18 декабря с/г.
См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 18, ед. хр. 20, л. 212 а.
Распоряжение № 9 от 28 января 1931 г.
Объявляется структура и штат Отдела IV — Доклассовых и Раннеклассовых обществ
Зав. отделом Мещанинов И.И.
Отделение I Доклассовых обществ
научных сотрудников I разряда — 1 Отделение II Раннего феодализма Действительных членов — 1 научных сотрудников I разряда — 2 научных сотрудников II разряда — 1 Секция готская
Действительных членов — 1 научных сотрудников I разряда — 1 научных сотрудников II разряда — 1 Отделение III Причерноморских городов Действительных членов — 1 научных сотрудников I разряда — 1 научных сотрудников II разряда — 4
См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 18, ед. хр. 20, л. 223а, 2236.
Распоряжение № 11 от 31 января 1931 г.
I ОТДЕЛЕНИЕ ДОКЛАССОВЫХ ОБЩЕСТВ
Научный сотрудник I разряда Иессен А.А. (с 1 февраля с/г)
II РАННЕГО ФЕОДАЛИЗМА
Действительный член, заведующий Равдоникас В.И. (с 1 февраля с.г.) Научный сотрудник I разряда Максимова М.И.
8 Эрмитаж в 1930-е годы
497
Научный сотрудник II разряда Манцевич А.П. (с 1 февраля с/г) Научный сотрудник II разряда, вакансия1
СЕКЦИЯ ГОТСКАЯ
Действительный член, заведующий Мацулевич Л.А.
Научный сотрудник I разряда Крижановская Н.Л.
Научный сотрудник II разряда, вакансия
III ПРИЧЕРНОМОРСКИХ ГОРОДОВ
Действительный член, заведующая Книпович Т.Н.
Научный сотрудник I разряда Прушевская Е.О.
Научные сотрудники II разряда Силантьева П.Ф.
Ушакова Т.Н.
Худяк М.М.
Сашевская М.В. (Маргарита Васильевна)
См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 18, ед. хр. 20, л. 225а.
Распоряжение 27 от 18 марта 1931 г.
8. Считать зачисленными: Пиотровского Б.Б. на должность научного сотрудника II разряда по отделу Доклассовых и Раннеклассовых обществ С 11 марта 1931 года. (См. там же. ед. хр. 20, л. 241 об.)
Чистка Эрмитажа
Сводка о количестве лиц, снятых по I, II, III категориям, продолжающих работу в Государственном Эрмитаже:
1. Кубе Альфред Николаевич, I кат. Обл. РКИ от 27-VI-31, протокол № 412 (решение отменено. Оставить на работе)
2. Мацулевич Леонид Антонович, I кат. Решение отменено. Оставить на работе
3. Прушевская Евгения Оттовна, II кат. Решение отменено. Оставить на работе
4. Дервиз Павел Павлович, III кат. Объявлен строгий выговор с оставлением в Эрмитаже
5. Щербачева Мария Илларионовна, III кат. Объявлен выговор с оставлением в Эрмитаже
6. Ушакова Тамара Николаевна, III кат. Подтвердить
7. Краснова Наталия Борисовна, III кат. Отменить
8. Войтов Александр Александрович, без категории. Снять с работы в отделе нумизматики
9. Ильин Алексей Алексеевич, I кат. Отменить
10. Зенгер Николай Григорьевич, без кат. Подтвердить.
См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 1353.
17 мая 1932 г. Акт о проверке предложений комиссии по чистке
Подписали: Г.С.Есаянц (Гор К РКИ), Федотов (пред. м/п Эрмитажа), Кудрявцев (представитель коллектива ВКП (б), Философов (представительадминистрации), Балова (ВЛКСМ), Кислицин (Ученый секретарь), Аджян
1 С 11 марта 1931 г. зачислен Б.Б.Пиот-
ровский.
II Материалы и документы
498
(СНР Эрмитажа), Скалой (СНР), Лебедев (рабочий), Беликов (рабочий- строитель), Коночинин (рабочий-строитель), Кудряшев (подшефная школа им. Склянского), Багонский, Банк (СНР), Капман (СНР), Апухин (охрана).
«Штаб отмечает, что существенным тормозом более решительного внедрения подлинно марксистских методов в ряде отделов (сектора Востока, Запада, ХПТ) является отсутствие материалов, относящихся к эксплуатируемым классам, при наличии огромного количества материалов господствующего класса. За последний год пополнение этого рода экспонатов идет удовлетворительно».
«Орабочение Эрмитажа идет весьма медленно, принимая во внимание характер учреждения».
«С момента чистки в Эрмитаже принят ряд членов ВКП(б) (Зам. Директора по административно-хозяйственной части, Ученый секретарь, рационализатор, начальник охраны, зав. канцелярией) и ряд научных работников из молодежи и научных работников марксистов (Балова, Муретова, Розенберг, Розенталь, Ефименко, Латынин, Оболдуева, Шмидт, Артамонов, Вольценбург, Шолпо)».
«Предложение комиссии по чистке — пункт 12-й об изжитии индивидуалистических тенденций в научно-исследовательской работе — выполнено».
«По пункту 25 предложить администрации к 10 июня с/г. разработать форму введения дневников для научных сотрудников».
См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 1353, л. 5—19.
Сводка о засоренности аппарата
а. белогвардейцев нет. Офицеры старой армии — 7 (библиотека — 1, запад — 3, доклассовое общество — 2, аспирант — 1);
б. жандармерия, полиция — сведений нет;
в. быв. фабриканты, помещики — 1 (нумизматика — 1);
г. дети служителей духовного культа — 5 (сектор Востока, отдел нумизматики — 3);
д. торговцы, купцы — 4 (охрана — 2, отдел нумизматики — 1, отдел Запада — 1);
е. дворяне — 55 (руководство — 3, технич. работники — 12, специалисты — 40);
ж. потомственные, почетные и личные граждане — 13.
«В целях приближения музея к массам и увязки музейной работы с культурным строительством, а также методологически правильного осмысления музейных объектов на базе марксизма и ленинизма, комиссия предлагает провести следующие мероприятия как по Эрмитажу в целом, так и всех его составных частей». См. там же.
Иосиф Абгарович Орбели
Родился 8 (20) марта 1887 г. в Кутаиси. Умер 2 февраля 1961 г. Февраль 1919 г. — Ученый секретарь Коллегии по делам музеев. Август 1919 г. — член совета Отдела Древностей Эрмитажа: 1920 — заве-
8 Эрмитаж в 1930-е годы
499
дующий издательством ГАИМК Хранитель Гос. Эрмитажа, зав. отделением мусульманского Востока.
Институт Истории Материальной Культуры им. Н.Я.Марра (ГАИМК): 20 августа 1919 г. — избран Ученым секретарем; 2 декабря 1919 г. «избран зав. разрядом»; 4 июля 1927 — утвержден Действительным членом Гос. Академии истории материальной культуры; 22 марта 1931 — освобожден от обязанностей Действительного члена ГАИМК; 1 июня 1937 назначен Директором ИИМК 15-11-1939 освобожден от обязанностей Директора ИИМК 1924—1925 Помощник Директора Эрмитажа.
1924 Член-корреспондент Академии наук.
1928 Поездка И.А. Орбели в Дагестан.
1929 Дагестан и Армения.
1931 Лондон. II конгресс по иранскому искусству и археологии. Выставка экспонатов Эрмитажа. Отправлено 7 января; дополнительный материал — к 25 января.
1931 Закончена постоянная выставка Отдела Востока (И.А.Ор6ели,
А.Ю.Якубовский).
1934 Директор Эрмитажа (июль).
1934 Орбели член правительственного комитета СССР по празднованию 1000-летия великого иранского поэта Фирдоуси. Сессия, издание книг, поездка в составе делегаций в Иран (октябрь).
1935 И.АОрбели избирается Академиком Академии наук СССР (1 июня).
1935 III конгресс по иранскому искусству и археологии (сентябрь). Заседания конгресса с 11 по 16 сентября проходили в Эрмитаже, и два заключительных — в Москве. Председатель конгресса нарком просвещения А.С. Бубнов, Орбели, его заместитель. Делегаты из 17 стран. Выставка.
1936 Экспедиция Эрмитажа и АН Армении.
1936 Председатель Армянского филиала АН СССР.
1937 100-летие со дня смерти А.С.Пушкина (15 февраля). Доклад Орбели «Пушкин и грузинская литература». Выставка.
1937 Юбилей Шота Руставели, подготовка к изданию русского перевода поэмы «Витязь в тигровой шкуре».
1938 1000-летие армянского эпоса «Давид Сасунский».
1939 Юбилей Эрмитажа.
1940 Большая выставка изобразительного искусства Армении.
1940 Действительный член Всесоюзной Академии Архитектуры.
1941 Юбилеи Низами и Навои (октябрь и декабрь).
1943 Организация Академии наук Армянской ССР, ее действительный член, до 1947 г. — ее президент.
1944 Приступил к работе по восстановлению Эрмитажа.
1944 Член чрезвычайной комиссии по обследованию Ленинградских пригородных дворцов по установлению ущерба, нанесенного фашистами.
Почетный профессор Тегеранского университета, Член-консультант Американского института по изучению иранского искусства, Почетный член
II Материалы и документы
500
Лондонского Археологического общества, Действительный член Иранской Академии наук.
30 апреля 1957 г.
Благодарность И.А.Орбели «за большую, успешно проведенную работу по организации и научному обслуживанию выставки Китайской Народной Республики в Ленинграде».
20 июля 1957 г.
«Освободить тов. Орбели И.А. от обязанностей Директора Государственного Эрмитажа с 25 июля 1957 г.». Подписал Председатель Комитета по делам искусства Н. Беспалов См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 13, ед. хр. 627.
Из записей Н.Н.Лемана
В 1937 г. состоялась специальная конференция по просветработе с докладом Директора И.А.Орбели «Эрмитаж за время Советской власти и его задачи к 20-летию Октябрьской революции». Была обстоятельная критика как доклада, так и выступления зав. просветчастью т. Череш- кова. Наиболее благополучной была работа по учету и хранению, руководилась Кипарисовым.
Секретарь Дзержинского райкома партии А. Кузнецов в своей статье «Разоблачать врагов на идеологическом фронте» писал: «По инициативе парткома Гос. Эрмитажа была организована научно-производственная конференция, на которой выступило свыше 50 человек. Выступавшие подвергли резкой критике директора, вскрыли безобразия и непорядки в научной и издательской деятельности, в работе отдельных секторов. В результате этих мероприятий (каких?! — Б.П.) вокруг парткома сплотился актив из беспартийных научных работников, начали функционировать производственные совещания по секторам, научные работники стали во весь голос критиковать недостатки в работе музея и его руководстве. Все эти мероприятия помогали значительно оздоровить и создать деловую обстановку в Музее»1.
Стали появляться критические статьи в адрес Эрмитажа. «Эрмитаж должен стать образцовым музеем» («Советское искусство», № 99 от 28 июля 1938, статья в «Ленинградской правде» от 23 марта 1938).
Весной 1938 г. Совнарком прислал постановление о «Реконструкции Эрмитажа». Выделено 3 млн. рублей на скорейшее завершение приспособления Зимнего дворца к потребностям музея. К сентябрю было освоено всего около 17—18% этой суммы. Бюро Райкома вызывало по этому поводу Орбели, зам. директоров по административно-хозяйственной части Тутанова и Мухина и вынесло постановление об «исключительно слабой организации руководства этой работой».
Райкомом в Эрмитаж был направлен Константин Леонтьевич Круглов, погибший на фронте в 1942 г. Он заведовал лекторием, был зам. заведующего Отделом Запада, а затем и заведующим этим отделом.
После конфликта Мухина с Орбели в 1939 г. Дзержинский райком вынес решение «изменить неправильное отношение к Директору,
1 ««Партийное строительство», 1937, №
13, с. 26.
8 Эрмитаж в 1930-е годы
501
Иосиф Абгарович Орбели (1887 — 1961).
Фотография
II Материалы и документы
502
Вводный зал к экспозиции французского искусства XVIII в. Начало 1930-х гг.
Экскурсия в залах Эрмитажа. Зима 1939-1940 гг.
8 Эрмитаж в 1930-е годы
503
академику Орбели, и установить с ним нормальные отношения» (Решение Дзержинского райкома от 4 сентября 1939 г. по отчету парторганизации Эрмитажа). Мухина в 1939 г. секретарем заменил С.Ф.Беляев.
Беляев секретарем был недолго. 1 сентября 1940 г. секретарем избран В. Н. Васильев, пробывший в этой должности более 15 лет. Зам. Директора по научной части был Д.Д.Тимофеев.
В конце марта 1941 г., во время войны, В.Н.Васильев вместе с Орбели уехал в Ереван и секретарем партгруппы оставшихся в Ленинграде сотрудников Эрмитажа стала Александра Павловна Ильина.
В январе 1943 г. партгрупоргом стал А.А.Тарасов (а после него председатель Обкома профсоюза политпросветработников Т.Н.Наумов, занятый своей работой).
В.Н.Васильев вернулся в Ленинград из Свердловска в августе 1944 г.1
Эрмитаж должен стать образцовым музеем2.
Впервые за 180-летнюю историю Эрмитажа в его стенах собралась научно-техническая конференция. Общественные организации Эрмитажа придавали этой конференции огромное значение. Действительно, давно пора было коллективно обсудить важнейшие вопросы работы этого замечательного музея.
Конференция работала 7 дней. Около 70 научных работников из 150 использовали трибуну конференции, чтобы вскрыть недостатки в работе Эрмитажа. Решения конференции об организации научной работы, об издательской и литературной деятельности, о политпросвет- работе, об учете и хранении имущества и т.п. были полностью приняты дирекцией Эрмитажа.
Больше года прошло со дня закрытия этой многообещающей конференции. Но ни одно из ее основных решений не выполнено. Более того, некоторые активные участники конференции, смело и резко критиковавшие руководство Эрмитажа, вынуждены были покинуть музей «по собственному желанию».
По-прежнему нельзя признать благополучным состояние основных стационарных- и временных экспозиций Эрмитажа. На многих из них лежит печать формализма, многие отмечены политическими извращениями. Так, в экспозиции выставки «Германского оружия и доспехов» (Рыцарский зал) пропагандировались враждебные нам идеи. Эта экспозиция, организованная, как ныне выяснилось, вражеской рукой, была снята только под давлением общественности музея. Не может Эрмитаж похвалиться и результатами своей научно-исследовательской и популяризаторской деятельности. Нет научных каталогов и путеводителей по выставкам. Эрмитаж не сумел выпустить ни одной популярной брошюрки о своих бесценных сокровищах.
«Планирование» научной работы ведется так, что актуальные проблемы не разрабатываются. Дискуссии о формализме, вопросы о классическом наследии и социалистическом реализме, о народности в искусстве не нашли никакого отражения в деятельности Эрмитажа.
1 25 декабря 1945 г. секретарем пар¬
тийного бюро избрана А.А.Передольская; затем секретарем снова стал В.Н.Васильев. В апреле 1949 секретарем партийного бюро избран И.М Лурье; 1951 секретарем партийного бюро избрана В. Н. Кир санов а; 1953 и.о. секретаря партийного бюро П.И.Малинин; май
1954 — В.П.Кипарисов; 1955 — снова В.Н.Ва- сильев; июнь 1961 — В.Д.Белецкий; 1962 — снова В.Н.Васильев; февраль—июнь 1963 — И.Н.Новосельская; далее: Г.Н.Комелова, И.И.Саверкина, С.О.Андросов, В.Ю.Матвеев. 2 См. «Советское искусство», 1938, 28 июля, № 99.
II Материалы и документы
504
Научные заседания, как правило, в Эрмитаже не проводятся, в полном загоне и лекционная работа.
Отвратительно поставлена работа с аспирантами. Под угрозой срыва прием аспирантов (25 человек) этого года...
Обо всем этом писала недавно «Правда», но даже сигнал «Правды» не был принят руководством.
Вполне понятно, что такое руководство не могло препятствовать вражеской деятельности пробравшихся в музей вредителей. Враги срывали подготовку кадров, засоряли план ненужными, второстепенными темами, протаскивали враждебную идеологию в экспозиционной работе и т.п.
На заседании парткома музея директор Эрмитажа академик Орбели не только не смог наметить конкретную программу действий по ликвидации последствий вредительства, но и попытался преуменьшить последствия вредительства в Эрмитаже. В своем решении партийный комитет отметил, что руководство Эрмитажа не принимает никаких мер для ликвидации последствий вредительства. Но и это не произвело впечатления на И.А. Орбели1.
За последнее время парторганизация стала проявлять больше активности. В частности, одна сыграла большую роль в подборе кадров на курсы по подготовке экскурсоводов и в разоблачении контрреволюционного характера упомянутой выше выставки.
Партийная организация оказала большую помощь политпросвет- части музея в критике методразработок, составленных экскурсоводами Левиной («Язык живописи»), Асаевич («Бельгийское искусство»), Изер- гиной («Искусство Франции второй половины XIX века») и др. Словом, партийная организация выносила свои решения по крупнейшим вопросам деятельности Эрмитажа. Но, к сожалению, ей не всегда удается добиться реализации этих принципиальных решений, направленных к ликвидации позорного состояния, в котором вот уже несколько лет пребывает Эрмитаж. Отсутствует необходимый деловой контакт между руководством и общественными организациями Эрмитажа.
Следует указать, что к деятельности Эрмитажа и ленинградские организаций подошли в качестве сторонних наблюдателей. Немногим лучше «усердие», проявленное работниками Изоуправления ВКИ. Бесконечные обследования — вот методы руководства этого управления.
Культпросветотдел горкома ВКП(б) еще в феврале проверял работу Эрмитажа, но до сих пор выводы комиссии горкома не стали достоянием общественности Эрмитажа.
Созидатель2
К 100-летию со дня рождения академика И.А.Ор6ели
В 1920 году Эрмитаж жил в ожидании возвращения своих сокровищ из Москвы, куда они были направлены в дни первой мировой войны. 23 июня Совет народных комиссаров РСФСР вынес решение о возвращении их в Петроград. Только 18 ноября ящики с музейными ценностями стали поступать в музей. Но уже в начале ноября Совет Эрмита-
1 9 сентября 1939 г. Решение Дзержинского райкома ВКП(б): <Изменить неправильное отношение к Директору, академику Орбели, и установить с ним нормальные отношения».
2 «Советская культура», 1987, 21 марта.
8 Эрмитаж в 1930-е годы
505
ЛЕКТОРИЙ
КАЛЕНДАРЬ
ЛЕКЦИЙ НА 1938 год
Мщ ылт
ШОТА РУСТАВЕЛИ
XV—XIX и.
государственный эрмитаж
БЫСТПАВКА
ПОСВЯЩЕННАЯ ЭПОХЕ
Шота Риставели
ОТКРЫТА с 7 февраля 4936 г с АЛ до Л1 ч
ВХОД С ГЛАВНОГО ПОДЪЕЗДА — «а/£*кдо|скхи1 9 “ SULoIul. >6 ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИИ о* 4- 88 - 70
План лектория Эрмитажа на 1938 г. Афиша выставки
к юбилею Шота Руставели. 1938
II Материалы и документы
506
шРЕтий международный конгресс иранского искусства и архЕологии ЛЕнинград
-.
ГОСУЛОРСШВЕННЫй
эрмитаж
выставка
искусство и культура востока
ПРОДЛЕНА с 10 до 16 час.
ВЫСТАВКА
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ
С Т 0 И ЯТИ лЕСЯТ И ЛЕТ ИЛ
ФРАН ЦУЗСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ РЕВОАЮЦИ И
1789 -
ВЫСТАВКА ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО с II ш. 31 ... д. 18 чк
Афиша к III Международному конгрессу Афиша выставки
иранского искусства и археологии. в ознаменование 150-летия
1935 Французской буржуазной революции.
1939
8 Эрмитаж в 1930-е годы
507
жа вынес решение об образовании «отделения мусульманского Востока» и назначил его заведующим молодого востоковеда Иосифа Абгаро- вича Орбели.
Великую Октябрьскую социалистическую революцию Орбели встретил тридцатилетним ученым, с широким научным кругозором, известным трудами по археологии и эпиграфике Кавказа. В первые месяцы Советской власти вместе со своим учителем академиком Н.Я.Мар- ром он активно включился в работу по сохранению и реорганизации музеев страны. Иосиф Абгарович назначается ученым секретарем Коллегии по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса РСФСР. Одновременно он участвует в организации Российской Академии истории материальной культуры, избирается ее членом, заведующим отделом археологии и искусства Армении и Грузии, а позднее заведующим издательством. Он настолько увлекся типографским делом, что даже освоил труд наборщика.
С 1920 года начался более чем тридцатилетний «эрмитажный» период в жизни Иосифа Абгаровича. Всю свою энергию, знания он отдал становлению и развитию всемирной сокровищницы искусства — Государственному Эрмитажу. Он старался, в частности, чтобы экспозиции памятников Востока, а вместе с тем изучение проблем истории искусства народов Востока заняли здесь достойное место. Предпринимал огромные усилия по сохранению, изучению и пропаганде величайших художественных произведений западноевропейского искусства. А в 1941 году с таким же увлечением создавал Отдел истории русской культуры.
Но прежде всего Иосиф Абгарович остается ученым-востокове- дом. Он собирает в Эрмитаже лучшие памятники искусства Востока. Так, Азиатский музей Академии наук одним из первых передал Эрмитажу свои восточные археологические коллекции. В частности, ценнейшие материалы экспедиции академика С.Ф.Ольденбурга в Восточный Туркестан. Трудами Иосифа Абгаровича была собрана большая коллекция серебряных блюд сасанидской династии Ирана (IV—VI вв.), найденных в Поволжье и Сибири. Музейные коллекции, собранные И.А. Орбели и КВ.Тревер, его постоянной помощницей, наглядно доказали, что и они наряду с материалами научных исследований могут служить самым высоким научным целям. В Эрмитаже была также развернута первая наиболее полная выставка памятников искусства феодальной эпохи Кавказа, Ирана и Средней Азии XII—XVII веков.
Работа по организации Отдела Востока в Эрмитаже всецело захватила Иосифа Абгаровича. Он совместно с Государственной Академией истории материальной культуры организовал археологические экспедиции. Добивался для Эрмитажа права самостоятельного ведения раскопок.
Орбели совершил поездку в Дагестан для собирания и изучения албанских каменных рельефов XII—XIII веков. Он исследовал Дербентскую крепость, взял на учет более ста замечательных рельефов. Затем возглавил экспедицию в Армению, предпринял поездку на Урал.
II Материалы и документы
508
В конце 1930 года Иосиф Абгарович был командирован в составе советской делегации в Лондон, на II Международный конгресс по иранскому искусству и археологии. К этому событию была организована выставка, на которой экспонаты Эрмитажа заняли почетное место. Она имела громадный успех. Большой интерес на конгрессе вызвал доклад Орбели о сасанидской коллекции Эрмитажа, а также о работе советских музеев.
Надо сказать, что в те годы Эрмитаж переживал большие трудности. В связи с тяжелым экономическим положением страны решено было продать за границу некоторые музейные художественные и археологические ценности. В том числе из Эрмитажа. Иосиф Абгарович поистине совершил высокий гражданский подвиг. Он через тогдашнего директора Эрмитажа Б.В.Леграна направил личное письмо И.В.Ста- лину, в котором призывал защитить наше национальное достояние. Вскоре он получил ответ с заверением, что компетентным органам Внешторга дано указание не трогать художественные и исторические памятники нашей страны. Продажа ценностей советских музеев за границу была прекращена.
В 1934 году Орбели назначается директором Эрмитажа, а на следующий год избирается академиком, действительным членом Академии наук СССР. В это же время Иосиф Абгарович принимает участие в организации в Ленинграде, на базе Эрмитажа, III Международного конгресса по иранскому искусству и археологии. Это явилось большим международным событием и подняло авторитет Советского Союза. Была открыта и прекрасная выставка, на которую были собраны экспонаты из многих музеев нашей страны и зарубежных государств. Достижения отечественной науки, изложенные в докладах советских ученых, встречались с огромным интересом участниками конгресса. Эти выступления по-новому осветили ряд проблем развития иранского искусства. Иосиф Абгарович не только руководил работой конгресса как один из его председателей, но прочел доклад о сельджукском искусстве. Он же редактировал «труды» конгресса, вышедшие в 1939 году.
После этого конгресса Эрмитаж стал как бы центром проведения юбилейных торжеств, посвященных культуре республик Советского Союза и стран Востока. Так, в 1934 году Орбели, как член правительственного комитета по празднованию 1000-летнего юбилея великого поэта Востока Фирдоуси, руководил организацией специальной сессии Академии наук СССР, изданием книг к знаменательному событию, устройством выставки в Эрмитаже. На торжественном заседании в Москве Иосиф Абгарович прочел блестящий доклад о творчестве великого поэта. Он вошел в состав советской делегации, которая побывала на юбилейных торжествах в Тегеране и Мешхеде.
В феврале 1937 года Орбели принял деятельное участие в проведении мероприятий, приуроченных к столетию со дня смерти А.С.Пуш- кина. На торжественном заседании, посвященном памяти великого поэта, прочел прекрасный доклад «Пушкин и грузинская литература». Он вел активную подготовку к празднованию юбилея великого грузинского
8 Эрмитаж в 1930-е годы
509
поэта Шота Руставели, готовил к изданию русский перевод поэмы «Витязь в тигровой шкуре». А в Эрмитаже была открыта выставка, посвященная культуре Востока эпохи Руставели.
В 1938 году Иосиф Абгарович избирается председателем президиума Армянского филиала Академии наук СССР. В то время его буквально захлестнула работа по подготовке празднования 1000-летия армянского героического народного эпоса «Давид Сасунский». Он становится редактором армянского его текста и русского перевода, руководил сессией Армянского филиала Академии наук СССР, делал доклады, писал статьи, выступал с лекциями.
Талант блестящего организатора, патриота Советской страны, выдающегося ученого Орбели полностью раскрылся в трудные годы Великой Отечественной войны. Иосиф Абгарович проявил незаурядную энергию по спасению и эвакуации сокровищ Эрмитажа в глубокий тыл, в Свердловск. Но сам Орбели остался в осажденном Ленинграде. Он не мог оставить город — надо было надежно укрыть остававшиеся исторические и художественные коллекции музея, произвести консервацию зданий, подготовить их к разным военным неожиданностям. В подвалах Эрмитажа были устроены бомбоубежища. Здесь зимой 1941—1942 годов проживало несколько тысяч человек.
В здание Эрмитажа попадали артиллерийские снаряды, бомбы. Большинство окон было выбито, в залах лежал снег. Но коллектив Эрмитажа под руководством Иосифа Абгаровича не только сберегал здания, но проводил необходимые восстановительные в нем работы. О жизни Эрмитажа в дни блокады Ленинграда верное впечатление дают зарисовки залов и бомбоубежищ, выполненные художниками. В частности, рисунки архитектора А.С.Никольского, жившего в подвале Эрмитажа, его дневниковые записи.
В то трагическое, страшное время в Эрмитаже не затухала научная работа. В октябре 1941 года здесь состоялось заседание, отметившее 800-летие со дня рождения великого азербайджанского поэта Низами. Докладчики — поэт Н.С.Тихонов и профессор М.М.Дьяконов прибыли прямо с фронта. 10 декабря 1941 года, когда перестали ходить трамваи и прекратилась подача воды и света, в Эрмитаже было организовано торжественное заседание, отметившее 500-летие со дня рождения великого узбекского поэта Навои. Для участия в нем с фронта приехал поэт В.АРождественский. С корабля «Полярная звезда», стоявшего на Неве около Эрмитажного подъезда, перекинули в музей кабель — для обжига фарфоровых изделий, расписанных на темы поэм Навои.
Душой всех этих событий был, конечно, Орбели. Кроме огромной организационной деятельности, он вел в войсковых частях, защищавших город, политическую и культурно-просветительную работу. Так, в ночь на 1 января 1942 года Иосиф Абгарович выступил по радио с приветствием защитникам Ленинграда.
Вскоре Орбели был командирован в Ереван, где в 1943 году организовал Академию наук Армянской ССР. Он был утвержден действительным ее членом, становится до 1947 года первым президентом.
II Материалы и документы
510
В июле 1944 года Орбели вернулся в Ленинград и приступил к восстановлению Эрмитажа. Уже в ноябре 1944 года здесь было открыто несколько залов, в них организована выставка произведений прикладного искусства, остававшихся в блокадном Ленинграде. А через год посетители музея могли уже встретиться с возвращенными из Свердловска картинами, гравюрами, скульптурами, другими экспонатами. Только тогда Иосиф Абгарович в полной мере вернулся к своим незавершенным трудам, работу над которыми он не прерывал и во время блокады города.
Покинув пост директора Эрмитажа, Орбели продолжал руководить археологическими раскопками в Армении, завершал свои многочисленные труды по ряду проблем истории культуры Востока. Вскоре он становится деканом восточного факультета Ленинградского университета, позже заведует Ленинградским отделением Института народов Азии Академии наук СССР.
Иосиф Абгарович Орбели умер в 1961 году. Он был выдающимся советским ученым-востоковедом, сохранившим лучшие традиции отечественного востоковедения. Он поднял Государственный Эрмитаж до уровня крупнейшего центра по изучению истории мировой культуры. Иосиф Абгарович был видным организатором советской науки и музейного дела. Особой благодарности заслуживает его поистине подвижническая деятельность по спасению ценнейших памятников искусства в тяжелые годы прошедшей войны.
Б. Пиотровский,
академик, директор Государственного Эрмитажа,
Герой Социалистического Труда
ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА
9 Годы Великой Отечественной войны
Приказы по Государственному Эрмитажу. 3 июля 1941 — 31 декабря 1941 года 1
Приказ № 188, 7 июля 1941 г.
5 июля с/г. и.о. старшего научного сотрудника Отдела Востока Рев- нов В.В., уходя с работы, вечером оставил освещенным опечатанное музейное помещение.
Освещение было выключено начальником пожарной команды.
Приказываю: уволить Ревнова В.В с сего числа с работы в Эрмитаже, произвести немедленно расчет.
Директор Эрмитажа
Академик Орбели
Приказ № 189, 8 июля 1941 г.
Список сотрудников Эрмитажа, добровольно ушедших с 5-VII с/г. в ряды РККА (30 человек).
Приказ № 197, 13 июля 1941 г.
За предоставление явно неправильных сведений о ходе работы особого значения и за сдачу заказа на ящики для упаковки ценных экспонатов по неправильным меркам, значительно преуменьшенным против потребности и исключающим возможность использования для этих экспонатов, уволить проф. В.КМакарова с сего числа.
Директор Эрмитажа
Академик Орбели
Приказ № 199, 17 июля 1941 г.
Счетовода-табелыцицу Коротченок В.Е. за повторный отказ от выполнения срочных заданий приказываю уволить немедленно без выплаты выходного пособия.
Директор Эрмитажа Академик Орбели
Приказ № 206, 24 июля 1941 г.
1 Увольняется за нарушение 23 июля правил о пропусках на тер-
1
См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 18, ед. хр. 147.
II Материалы и документы
512
ритории Эрмитажа Марышева, технический исполнитель отдела снабжения, с сего числа.
2 Увольняется постовая наружной охраны Травина М.М. за допущение на территорию Эрмитажа 23 сего числа сотрудницы Эрмитажа Мары- шевой А.А. и за неподчинение приказанию начальника охраны сдать пост после имевшего место нарушения его правил о пропусках, с сего числа. Директор Эрмитажа Академик Орбели
Приказ № 206, 25 июля 1941 г.
24-го сего июля старший научный сотрудник отдела Запада Соловейчик Р.С., уходя с работы, вечером оставила освещенным запертое и опломбированное ею музейное помешение, не сдав ключей в охрану.
Приказываю: уволить Соловейчик Р.С. с сего числа с работы в Эрмитаже, провести немедленно расчет.
Директор Эрмитажа Академик Орбели
Приказ № 241
Объявляю строгий выговор дежурным телефонисткам штаба МПВО Гос. Эрмитажа т. Кулиманиной AM. и т. Дадаевой М.А за задержку телефонограммы, принятой 26-VIII в 2 ч. 25 мин., до 9 ч. 20 м. сего августа. Директор Эрмитажа Академик Орбели
Приказ № 254, 26 сентября 1941 г.
О введении жесткого лимита на потребление электроэнергии. «В случае нарушения настоящего распоряжения виновные будут привлекаться к судебной ответственности».
Приказ № 262, 12 октября 1941 г.
11 октября с/г постовая охраны тов. Стржельчик самовольно оставила свой пост, притом лично мною порученный ее особому попечению, и перешла на соседний пост для беседы с постовой.
Объявляю тов. Стржельчик строгий выговор.
Директор Эрмитажа Академик Орбели
Приказ № 269, 26 октября 1941 г.
Числить н.с. т. Ненарокову Е.Н. под фамилией Орбели. Основание — свидетельство о браке, выданное бюро ЗАГС Петроградского района от 6-Х-41 за № 1740.
Зам. Директора Гос. Эрмитажа Матье
9 Годы Великой Отечественной войны
513
Зал Рембрандта в годы войны М.В.Доброклонский в дни блокады Ленинграда
II Материалы и документы
514
Новый Эрмитаж. Портик с атлантами. Фотография 1942 г.
9 Годы Великой Отечественной войны
515
Приказ № 278, 12 ноября 1941 г.
11 ноября постовая охраны Герц В. К вновь опоздала на работу, явившись утром на пост с опозданием и вечером выйдя вновь на работу опять-таки с опозданием.
Приказываю уволить В. К. Герц с работы в Эрмитаже немедленно. Директор Эрмитажа Академик Орбели
Приказ № 294, 6 декабря 1941 г.
Некоторые, немногие, из работников Эрмитажа позволяют себе в служебном разговоре назойливо пользоваться выражениями, принятыми когда-то в царской армии, изъятыми в первые же дни после революции из советского обихода, и совершенно неуместными в советской обстановке, как-то: «здравия желаю», «никак нет» и «точно так».
Не возражая против проявления дурного вкуса этими товарищами, не имевшими к тому же случая усвоить эти выражения в царской армии, и против применения ими этих выражений в их частном семейном быту, категорически требую от них, чтобы в служебном обиходе они (поправлено «сотрудники Эрмитажа». — Б.П.) пользовались общепринятыми русскими выражениями — «да», «нет» и т.п.
Директор Эрмитажа
Академик Орбели
Приказ № 302, 16 декабря 1941 г.
Восстанавливается на работе ввиду чистосердечного признания своей вины т. Соловейчик Р.С. научным сотрудником ОИЗЕИ, на оклад 450 руб. в месяц, с 14/ХИ с/г. за счет вакансии старшего научного сотрудника. Директор Эрмитажа Академик Орбели
Приказ № 312, 26 декабря 1941 г.
Категорически воспрещаю явку в мою рабочую комнату без предварительного звонка по телефону № 57 и без получения моего на явку согласия.
Директор Эрмитажа Академик Орбели
Список научных сотрудников Эрмитажа, погибших на фронте и в годы блокады1
1. Аносов Сергей Николаевич,
научный сотрудник ОИПК 1913—1941 — погиб на фронте.
2. Кесаев Владимир Николаевич,
старший научный сотрудник ОВ 1904—1941 — погиб на фронте.
1 Проверено по имеющимся докумен¬
там в Архиве ГЭ Г.И.Качалиной 29.05.97. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 3029. — Примеч. ред.
II Материалы и документы
516
3. Рабинович Борис Зиновьевич,
старший научный сотрудник ОИПК 1905—1941 — погиб, народное ополчение.
4. Нехлюдов В.М.,
аспирант ОН 1902—1941, доброволец.
5. Шолпо Н.А., научный сотрудник.
6. Круглов КЛ.,
зав. ОЗЕИ, погиб на фронте.
Погибшие в городе во время блокады
1. Альбрехт Леонид Павлович, художник-реставратор, 1872—1942
2. Бауер Николай Павлович,
старший научный сотрудник ОН, 1912—1942
3. Брандт Мария Михайловна,
научный сотрудник, библиотека, 1889—1941
4. Борисов Андрей Яковлевич,
старший научный сотрудник ОВ, 1903—1942
5. Богнар Эрнест Иосифович,
старший научный сотрудник ОЗЕИ, 1892—1942
6. Виноградова Анна Михайловна, научный сотрудник ОИПК, 1895—1942
7. Вестфален Эльза Христиановна, старший научный сотрудник ОВ, 1877—1941
8. Вальтер Георгий Юльевич,
старший научный сотрудник ОАМ, 1896—1941
9. Геккер Ольга Васильевна,
старший научный сотрудник ОЗЕИ, 1899—1942
10. Дервиз Варвара Павловна,
старший научный сотрудник ОЗЕИ (ХПТ), 1896—1942
11. Дервиз Павел Павлович,
старший научный сотрудник ОЗЕИ, 1897—1942
12. Зограф .Александр Николаевич, заведующий ОН, 1889—1942
13. Ильин Алексей Алексеевич,
член-корреспондент Академии наук, старший научный сотрудник ОН, 1858-1942
14. Крутиков Михаил Захарович, заведующий ОИРК, 1900—1942
15. Кубе Альфред Николаевич,
профессор, зав. отделением прикладного искусства ОЗЕИ, 1886—1942
16. Казин Всеволод Николаевич,
старший научный сотрудник ОВ, 1907—1942
17. Лебедев Николай Федорович,
научный сотрудник ОВ (филолог-турколог), 1901—1941 (1942 — в приказе по Эрмитажу)
9 Годы Великой Отечественной войны
517
У Малого подъезда Эрмитажа
II Материалы и документы
518
Двенадцатиколонный зал после обстрела 28июля 1942 г. Фотография 1944 г.
9
Годы Великой Отечественной войны
519
18. Ляпунова Ксения Сергеевна,
старший научный сотрудник ОВ, 1895—1942
19. Лежоева Ольга Михайловна, экскурсовод, НПО, 1897—1942
20. Липпольд Елена Максимилиановна,
старший научный сотрудник ОЗЕИ (гравюры), 1900—1942
21. Малицкая Елена Гурьевна,
научный сотрудник ОЗЕИ, 1895—1942/43 (?)
22. Нотгафт Федор Федорович, заведующий издательским отделом, 1886—1942
23. Нотгафт Елена Георгиевна,
старший научный сотрудник ОЗЕИ, 1903—1942
24. Некрасова Евгения Васильевна, научный сотрудник ОЗЕИ, 1898—1942
25. Пигорева Анна Андреевна,
ОИРК
26. Порецкая Екатерина Вячеславовна, научный сотрудник ОЗЕИ, 1907—1942
27. Прушевская Евгения Оттовна,
старший научный сотрудник ОН (ОАМ), 1890—1942
28. Птицын Григорий Викторович, аспирант ОВ, 1912—1942
29. Покровская Екатерина Алексеевна, научный сотрудник ОЗЕИ, умерла в 1942
30. Рейхардт Ксения Петровна, экскурсовод, НПО, 1899—1942
31. Рейхардт Сергей Александрович,
НПО, 1904-1942
32. Ростовцев Иван Александрович,
старший научный сотрудник ОИРК, 1902—1942
33. Прокопе-Вальтер Анна Германовна,
ОАМ (работала в Эрмитаже до 1933 г., затем в Академии художеств, умерла в 1942 г.)
34. Сауков Павел Евграфович, научно-технический сотрудник О В, умер в 1942
35. Сиваев Мирон Степанович, аспирант ОЗЕИ, 1896—1942
36. Соколова Елизавета Павловна,
старший научный сотрудник ОЗЕИ (мебель), 1887—1942
37. Труханова Александра Яковлевна, научный сотрудник ОИРК, 1886—1942
38. Хольцов Валентин Борисович,
старший научный сотрудник ОИРК, 1889—1942
39. Шер Михаил Абрамович, научный сотрудник О В, 1901—1942
40. Юдина Софья Александровна, научный сотрудник ОИРК, 1895—1942
II Материалы и документы
520
41. Бороздюк,
42.
43.
Бороздюк,
научно-технический сотрудник ОЗЕИ (канцелярия), умер в 1942 Бажо Дарья Максимовна,
научно-технический сотрудник ОЗЕИ, умерла в 1942 Русаков Николай Тимофеевич,
научно-технический сотрудник ОЗЕИ (рисунки), 1878—19421
Штат Эрмитажа. Апрель 1942 года2
152 человека
1-4 Управление (во главе М.В.Доброклонский)
5—35 Научная часть (31 человек)
36-41 Административно-хозяйственная часть 42-48 Бухгалтерия
49—59 Отопительная и осветительная часть 60-63 Управление делами 64-70 Строительная часть 71—109 Подсобные рабочие (38 человек)
110-152 Охрана (42 человека). Начальник П.Ф.Губчевский, А.М.Лазаре- ва (ключи).
Лечебный стационар открыт 1 февраля 1942 г. За 89 дней работы прошло лечение 313 человек.
См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 2, ед. хр. 2795, л. 5, 46, 47.
Выставка «Памятники культуры и искусства, оставшиеся в Ленинграде во время блокады»
8 ноября 1944 г. выставка в Павильонном зале и галереях по сторонам Висячего сада.
Выставку с 8 ноября 1944 г. по 31 июня 1945 г. посетило 29.243 человека. Для ее организации: убрано 30 куб. м. песка; натерто 2000 кв. м. пола; застеклено и вымыто 45 окон; вымыто 14 люстр.
См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 2937, 3028, 2923.
3 октября 1945 г. началась реэвакуация. Погрузка ящиков в Свердловске (два эшелона).
См. Архив ГЭ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 3043, л. 15.
1 Многие из этого списка погибли не Отдел нумизматики; ОЗЕИ — Отдел запад-
в 1942, а в 1941 году. Приведенный спи- ноевропейского искусства; О AM — Отдел сок, составленный в 1945 г., является не- античного мира; ОИРК — Отдел истории полным. Принятые в списке сокращения: русской культуры; НПО — Научно-просве-
ОИПК — Отдел истории первобытной тительный отдел.
культуры; ОВ — Отдел Востока; ОН — 2 После отъезда И.А.Орбели в Ереван.
9 Годы Великой Отечественной войны
521
Клуб имени С.Орджоникидзе в Свердловске, где находился филиал Эрмитажа в 1941 — 1944 гг. Реэвакуация Эрмитажа.
В центре И.А.Орбели. 1945
II Материалы и документы 522
ВРЕМЕННАЯ
СТАВКА
ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА 14 КУЛЬТУРЫ,
ОСТАВАВШИХСЯ в ЛЕНИНГРАДЕ во время БЛОКАДЫ ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО
cii Ч.УТРА ДО 16ч •ДНЯ КРОМЕ ПОНЕДЕЛЬНИКОВ
ДВОРЦОВАЯ иль. 54
СОВЕТСКИЙ подъезд
Афиша Выставки памятников искусства и культуры, остававшихся в Ленинграде во время блокады. Ноябрь 1944 г.
ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА 10 После войны
Наиболее крупные выставки из зарубежных собраний
Шедевры мировой живописи
1,
Выставка Рембрандта из Голландии. 1956.
2.
Живопись импрессионистов из музеев Франции. 1970.
3.
Готическое искусство XIV—XVI вв. в Чехии и Словакии. 1971.
4.
Сокровища венгерского искусства за 1000 лет. 1971.
5.
Итальянская живопись XVIII века из музеев Италии. 1974.
6.
Шедевры Дрезденской галереи. 1974.
7.
100 картин из Музея Метрополитен. 1975.
8.
От Ватто до Давида. Франция. 1978.
9.
Шедевры итальянской живописи XV—XVII вв. из музеев США. 1979.
10.
Шедевры испанской живописи из Прадо. 1980.
И.
Старая пинакотека. Мюнхен. 1984.
12.
Живопись немецких импрессионистов. 1985.
13.
Шедевры французской живописи второй половины XIX — начала XX в. Вашингтон. 1986.
14.
Шедевры французской живописи от Делакруа до Матисса. США. 1988.
Выставки отдельных картин
1.
Боттичелли. Паллада и кентавр. 1985.
2.
Гойя. Портрет маркизы де Понтоха. 1986.
3.
Эль Греко. Моление о чаше. Толидо. США. 1987.
Выставки, знакомящие с выдающимися коллекциями
1.
Творчество Кацусико Хокусайя. Япония. 1966.
2.
Роден и французская скульптура XIX в. 1966.
3.
Сокровища Ирака. 1968.
4.
Скульптура древней и средневековой Японии. 1969.
5.
Западноевропейский пейзаж 1560—1660 гг. Из музеев социалис¬
тических стран. 1972.
6.
Сокровища гробницы Тутанхамона. 1974.
7.
Тернер. Живопись, рисунок, акварель. 1975.
8.
Золото древней Америки из музеев США. 1976.
9.
Искусство Мексики. 1977.
II Материалы и документы
524
10.
Искусство Древней Греции и Рима из Музея Метрополитен. 1979.
и.
Золото Колумбии. 1979.
12.
Западноевропейская живопись из коллекции Тиссен. 1983.
Выставки, имеющие научное значение
1.
Югославские средневековые фрески. 1970.
2.
Искусство Египта X—XVI вв. 1973.
3.
500-летие со дня рождения Микеланджело. 1975.
4.
Шведские наскальные изображения. 1978.
5.
Амударьинский клад из Британского музея. 1979.
6.
Сокровища викингов. Швеция. 1979.
7.
Древнее искусство греческих островов Эгейского моря. 1981.
8.
Археология Франции. 1982.
9.
Троя — Фракия. ГДР, Болгария. 1983.
10.
Древности Пальмиры. 1986.
Выставки, знакомящие с малоизвестными культурами
1.
Скульптура эскимосов. 1972.
2.
Античная мозаика из Туниса. 1976.
3.
Искусство Камеруна. 1984.
4.
Живопись художников школы Пото-Пото, Конго. 1981.
5.
Искусство Нигерии. 1983.
6.
Прикладное искусство Республики Чад. 1976.
7.
Современные художники Танзании. 1971.
Выставки художников
1. Рокуэл Кент. 1958. 2. Г. и Л.Грундиги. 1959. 3. Мунк. 1960. 4. Пи-
кассо
. 1967. 5. Гуттузо. 1972.6. Моранди. 1973.7. Й.Манес. 1973.8. Тернер.
1975. 9. Диего Ривера. 1978. 10. Ф.Мессина. 1978. 11. Эмилио Греко. 1979.
12. Ороско. 1980.13. Цорн. 1981.14. Мурер. 1982.15. Серрано. 1982.16. Гуа-
ясамин. 1982, 1986. 17. Сикейрос. 1984. 18. Манцу. 1986. 19. Ходлер. 1988.
Эрмитаж после 1964 года
1964
200-летний юбилей Эрмитажа. Торжественное заседание. Награж¬
дение орденом Ленина. Юбилейная сессия. Выставки: «Эрмитаж пос¬
ле Великой Октябрьской социалистической революции», «Эрмитаж
в рисунках, акварелях и чертежах XVIII—XIX вв.», «Западноевро¬
пейская живопись из музеев Советского Союза».
1965
Всесоюзная научная сессия, посвященная истории живописи стран
Азии (совместно с Институтом археологии). 45 докладов.
1966
Дар Республики Индии. Скульптура III—X вв., бронзовая пластика
XII—XVIII вв. Акт передачи послом Индии в СССР г-ном Каулем.
И июня 1966 г. IV конгресс Международной ассоциации музеев
оружия и военной истории. Делегаты 43 стран.
10 После войны
525
1967 Выставка живописи средневекового Востока. Сопровождалась сессией с участием Публичной библиотеки, Института востоковедения, Музея изобразительных искусств им. Пушкина, Музея антропологии и этнографии, представителей Киева и Таджикистана. Новые поступления: Рокуэл Кент, Ж.Белланж, произведения Матисса от Л.Н.Делекторской. Отдел истории русской культуры — расширение художественной коллекции: модерн, иконы, портреты русских художников и общественных деятелей. Отдел Востока — нубийская экспедиция 1961—1963 гг., городище Кара-Корум; коллекция тибетских икон Ю.Н.Рериха; поступления из экспедиций в Среднюю Азию. Отдел античного мира — геммы Лемлей- на, Отдел нумизматики — собрания Пахомова, Быховского, буллы и печати от Н.П.Лихачева.
1968 Май. Конференция ИКОМ’а «Роль музеев в воспитательной и просветительской работе». Иностранные делегаты.
Конференция «Архитектурное и декоративное решение русского интерьера XVIII — середины XIX в.».
1969 2—8 сентября. Международный симпозиум ИКОМОС’а (Международный совет достопримечательных мест) «Памятники культуры и общество». Иностранные делегаты.
1970 200-летие В.П.Стасова. Конференция по культуре и искусству Дагестана.
Конференция секции исторических музеев, посвященная проблемам экспозиции музеев археологического и исторического профиля.
1971 25—26 мая. III Всесоюзная конференция историков оружия.
1971 Октябрь. 2500-летие Иранского государства. Выставка «Сокровища искусств Древнего Ирана, Кавказа и Средней Азии» (Памяти И.А.Орбели).
1972 Награждение Эрмитажа Знаком за социалистическое соревнование в связи с образованием (50-летием) Союза Советских Социалистических Республик.
Дар А.Хаммера. «Портрет А.Сарате» работы Гойи.
Выставка «Искусство портрета». Всесоюзная конференция по этой выставке.
Открытие выставки «Культура и искусство древнего населения Сибири». Пазарыкские курганы.
1973 В декабре в Иран направлена выставка «Шедевры искусства са- санидов»; выставка «Искусство Египта X—XVI вв.» из Музея исламского искусства в Каире.
1974 К 250-летию АН СССР выставка «Петербургская Академия наук в XVIII веке»; «Сокровища гробницы Тутанхамона из Каирского музея» (880 тысяч посетителей).
1977 Генеральная конференция ИКОМ’а — избрание В.А.Суслова (1977—1983)1.
1979 Франческо Месина. 7 пастелей.
1981 20 февраля. Открытие Дворца Меншикова после реставрации.
1 Виталий Александрович Суслов, за¬
меститель директора Эрмитажа по научной работе. — Примеч. ред.
II Материалы и документы
526
Культура России первой трети XVIII в. (начало реставрационных работ в 1966 г.).
Скульптура и рисунок Эмилио Греко.
1984 Коллекция Варшавского (нецке, гравюры. Япония).
1987 Дж.Манцу
Из «Сообщений Государственного Эрмитажа»
Выставка, посвященная Отечественной войне 1812 года, в Гербовом зале (XXIV, 3).
Выставка Ренато Гуттузо. 10 октября — 17 ноября 1961 г. (XXIV, 61).
Выставка графики Жана Эффеля. Октябрь — ноябрь 1961 г. (XXIV, 63).
Выставка Макса Лингнера (Франция). Ноябрь 1961 — январь 1962 г. (XXIV, 66).
«Костюм в России XVIII — начала XX в.». Декабрь 1961. Открытие (XXIV, 68).
Четыре ритона из Нисы. Середина I в. до н.э.; переданы летом 1961 г. правительством Туркменской ССР (XXIV, 71).
Выставка венгерского искусства XIX—XX вв. 6 апреля — 31 мая 1962 г. (XXV, 66).
Современная живопись Японии. 17 августа — 16 сентября 1962 г. 160 произведений «Нихонга» (XXV, 66).
Гуковский М., Павлова Ж. «Библиотека Государственного Эрмитажа» (XXVI, 3—5). Во второй половине XVIII в. к небольшой «комнатной» коллекции книг Екатерины II было присоединено несколько крупных книжных собраний (Дидро, Вольтера, географа Бюнеинга, книгопродавцев Николаи, Циммермана и др.). Первоначально Библиотека размещалась рядом с жилыми комнатами Екатерины II, а потом была переведена в верхний этаж Зимнего дворца. В Овальном зале Фельтеновского здания размещалась так называемая Эрмитажная российская библиотека для «придворнослужителей». Библиотека входила в состав I отделения Эрмитажа (Ф.Жиль). В связи с постройкой Нового Эрмитажа Библиотека, после реорганизации и пополнения в 1849 г., была переведена в 5 залов нижнего этажа Нового Эрмитажа. С разрастанием античных коллекций Библиотека «ужималась» и часть ее была передана Публичной библиотеке.
Иерусалимская А. Новые материалы с Северного Кавказа в Эрмитаже (XXVI, 51-54). Северокавказская экспедиция Е.И.Крупнова. Глиняные статуэтки из Сержент Юрт (баран, бык, лошадь, свинья, собака).
Выставка 1962 г. болгарского художника Младенова и народных художников-примитивистов Югославии (XXVI, 62-65).
Эрмитажу 200 лет
Указ Верховного Совета СССР о награждении Государственного Эрмитажа орденом Ленина. «В связи с 200-летием со дня основания и отмечая большие заслуги коллектива музея в художественном воспитании
10 После войны
527
Михаил Илларионович Артамонов (1898 —1972). Фотография.
В 1951 году после отставки И.А.Орбели директором Государственного Эрмитажа был назначен Михаил Илларионович Артамонов. Он был широко известен своими трудами по славянской и
древнерусской археологии,занимался также и культурой скифов Причерноморья.
При М.И.Артамонове была расширена археологическая работа Эрмитажа, обогатившая коллекции музея, много внимания было уделено хранительским и реставрационным службам.
II Материалы и документы
528
На открытии выставки «Древняя и средневековая скульптура Японии». 1969 Выставка «Венгерское искусство за 1000 лет». 1971
10 После войны
529
Р.Гуттузо на выставке своих работ. 1972
Выставка «Роден и его время». 1966
II Материалы и документы
530
Выставка «Золото древней Америки» из музеев США. 1976 Выставка «Бронза Томира» из фондов Эрмитажа. 1984
10 После войны
531
трудящихся наградить Государственный Эрмитаж орденом Ленина». Председатель Президиума Верховного Совета СССР А.Микоян, секретарь Президиума ВС СССР М.Георгадзе. Москва, Кремль, 19 октября 1964 г. (XXVII).
Хроника юбилея: 20 октября 1964 г. торжественное заседание, открытое Е.А.Фурцевой. В.С.Толстиков вручил орден. Многочисленные приветствия: зам. министра культуры РСФСР Г.П.Бердников, президент Академии художеств В.А.Серов, член президиума Академии наук СССР Е.М.Жуков, токарь Балтийского завода А.В.Чуев, представители музеев Украины, Москвы (И.А.Антонова), Грузии, директор Национального музея в Варшаве Ст.Лоренц, директор Музея Каподимонте (Неаполь) Р.Кауза.
Научная сессия Эрмитажа, посвященная 200-летию Эрмитажа, состояла из 69 докладов на пленарном заседании и в секциях. Доклады: М.В.Алпатова (общий), П.Ф.Губчевского о научно-просветительской деятельности, В.Ф.Левинсон-Лессинга об истории коллекций Эрмитажа и А.В.Банк о научной работе.
Выставки: «Эрмитаж после Великой Октябрьской революции», «Эрмитаж в рисунках, акварелях и чертежах XVIII—XIX вв.» и «Западноевропейская живопись из музеев СССР». На выставке были хорошо представлены издания Эрмитажа, результаты археологических работ и материалы по истории музея. На выставке западноевропейской живописи XIV—XX вв. были экспонаты 19 музеев Советского Союза. Она была открыта в Георгиевском зале Зимнего дворца. Участники: Гос. музей искусств Грузинской ССР; Киевский музей западного и восточного искусства; Художественный музей в Таллине; Гос. музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (Москва); Львовская картинная галерея; Тамбовская картинная галерея; Рижский государственный музей; Одесский музей западного и восточного искусства; Каунас, Музей Чурлёниса; Пермь, Гос. художественная галерея; Ульяновск, Областной музей; Саратов, Государственный художественный музей им. А.Н.Радищева; Ташкент, Государственный музей Узбекистана; г. Пушкин, Екатерининский дворец-музей; Павловск, Дворец; Ереван, Гос. картинная галерея.
Выставки 1962—1968 гг.
Выставка финского эстампа, декабрь 1962 — 1 января 1963 г.; Искусство Болгарии, 1963 г.; Шведская архитектура из национального музея (Стокгольм), 1963 г.; Английская гравюра XVIII в., декабрь 1963 г.; Молодые художники ГДР, март—апрель 1964 г.; Современная шведская графика, 1964 г. (XXVII, 99-108).
Эстампы Ф.Айхенберга (США); художник подарил Эрмитажу свои гравюры.
Современная бельгийская графика, июнь—июль 1965 г.; Выставка работ Ф.Кремера (ГДР), 1965 г. (XXVIII).
Большая научная сессия, посвященная истории живописи стран Азии, совместно с Институтом археологии СССР — 45 докладов; научные
II Материалы и документы
532
сотрудники Ленинграда, Москвы, Таджикистана, Бурятской АССР, Грузии, Армении, Киева, Азербайджана, 15—20 ноября 1965 г. (XXVIII, 71-73).
Дар Республики Индии, 19 мая 1966 г. Посол Индии передал Эрмитажу коллекцию памятников древнего и средневекового искусства Индии, образцы которого ранее в Эрмитаже отсутствовали. Скульптура III—X вв. н.э., бронзовая пластика XII—XVII вв. (XXIX, 67-69).
Выставка из Монголии, 1963 г. (XXIX).
Выставка в Бордо и Париже из собраний Эрмитажа и ГМИИ им. А.С.Пушкина (XXIX).
Большая выставка «Роден и его время» (XXIX).
IV конгресс Международной ассоциации музеев оружия и военной истории. Делегаты из 43 стран, 11 июня 1966 г.; прием в Эрмитаже (XXIX, 82).
Выставка «Эрмитаж за 50 лет Советской власти». Статья Б.Пиотровского «Эрмитаж после Великой Октябрьской социалистической революции» (XXX, з-б).
Покупка в 1967 г. картины М.Станционе «Клеопатра» (XXX, 11-13).
Выставка «Современный польский плакат», 22 июня — 22 августа 1966; выставка работ Дж.Кваренги в Тронном (Георгиевском) зале к 150-летию со дня смерти, открыта 2 марта 1967 г.
«Живопись средневекового Востока», 31 марта — 21 мая 1967 г. Впервые был показан вклад народов Востока в мировую культуру (участвовали: Эрмитаж, Гос. Публичная библиотека, Институт востоковедения, ГМИИ им. А.С.Пушкина, МАЭ, Таджикистан, Киев).
Выставки: Живопись Чили, 1966 г.; Кацусико Хокусайя, 1966 г.; Сербская графика, ноябрь 1966 г.; Молодые художники ГДР, 1967 г.; Графика и керамика Пабло Пикассо, 1967 г.; Ян Кулик и Тибор Барт- фан (Словакия), 1967 г.; Цорн и Лилиефорс, 1967 г.; Шедевры Нихонга, 1967 г.; Искусство борющееся (ЧССР), 1967 г.; Пиццинато, 1967 г.; Современное румынское искусство, 1967 г.
Выставки: «Художественное стекло», 6 февраля — 12 ноября 1968 г. Развитие стеклоделия с древнейших времен (II тысяч, до н.э.) до наших дней. Выставка была экспонирована в Николаевском (Большом) зале и в Аванзале (XXXI, 81).
Выставка из Дрезденской галереи, 1967—1968 гг.; «Сокровища Ирана», 1968 г.; Словацкие художники группы «Жизнь», 1968 г.
Дар Б.Е.Быховского, 1500 медалей, в большинстве советских памятных. Дар Е.А.Пахомова, части его нумизматической коллекции древнего и средневекового Востока. 10 903 монеты (XXXI, 91,92).
Новые поступления
ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА
1963—1968 гг. (за пять лет). 134 картины. 26 скульптур: Доменико Бран- ди «Пастушеская сцена», 1730; Джованни Монтини «Явление Христа Антонию Падуанскому», 1658; Станционе; Р.Гуттузо; Адриан ван Остаде «Сцена в кабачке», 1671; из Павловского дворца две картины «Екатерина II» и «Павел I в юности» датского художника XVIII в. Эриксена.
10 После войны
533
Рокуэл Кент. 26 пейзажей, преимущественно с видами Гренландии; К.Д.Фридрих «Два брата» (из Музея Советской Армии); 3 картины антифашиста Ганса Грундига (подарок Л.Грундиг); Жак Белланж «Оплакивание Христа» (начало XVII в.); Э.Буден «На пляже»; А.Ма- тисс, живописные и скульптурные произведения, бронзы «Венера», «Ника Самофракийская» и «Нога» (этюд к картине «Танец») — подарок Л.Н.Делекторской.
ОТДЕЛ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Материалы археологических экспедиций: псковская, Торопец. Общее число купленных экспонатов свыше 2,5 тысяч. Иконы, произведения знаменитых русских художников, портреты Ломоносова, Соймонова, Державина, Чулкова, Растрелли, Лабзина; много предметов прикладного искусства, в частности, принадлежавших декабристам (М.С.Лунину), костюмы.
ОТДЕЛ ВОСТОКА
Нубийская экспедиция 1961 — 1962 гг.; Монгольская экспедиция АН СССР 1949 г. и 1957—1959 гг. С.В.Киселев, городище Кара-Корум и развалины Кондуйского дворца в Забайкалье, XIII—XIV вв.; другие археологические экспедиции (Анберд, раскопки И.А.Орбели, Мингечаур, раскопки А.А.Иессена, его же Орен-кала, Кара-тепе Б.Я.Стависского, южноалтайская экспедиция С.С.Сорокина. Материалы Таджикской экспедиции АН СССР и АН Таджикистана (А.М.Беленицкий). Коллекция ламайских икон на ткани из собрания Ю.Н.Рериха (44 иконы).
ОТДЕЛ АНТИЧНОГО МИРА
254 античные геммы собрания Г.Г.Лемлейна (по завещанию), другие мелкие дары и приобретения.
ОТДЕЛ ИСТОРИИ ПЕРВОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ
Обогащается за счет экспедиций Института археологии СССР, Эрмитажа и других учреждений.
ОТДЕЛ НУМИЗМАТИКИ
За 1962—1967 гг. пополнился 31 954 предметами. По завещанию Е.А.Па- хомова поступили 10 903 монеты, преимущественно восточные, и отдельные уникальные русские. Б.Е.Быховский передал свою коллекцию (7486 предметов) советских медалей и значков советского и дореволюционного времени. Регулярно поступали образцы монет и медалей из монетных дворов СССР (2570 предметов). Сфрагистическая коллекция Н.П.Лихачева. 327 вислых русских печатей и 2887 пломб. Коллекции пополняют археологические экспедиции, поступления монетных кладов. Много монет и медалей от частных лиц в виде дара (XXXII, 77-90).
Выставки 1968—1983 гг.
Выставки: Английская бытовая карикатура XVIII— нач. XIX в., 1968 г.; Офорты Ф.Бренгвина, 1968 г.; Международная выставка революционного плаката, декабрь 1968 г. — май 1969 г.; Живопись и графика Фужерона, 1968 г.; Древнее болгарское искусство, 1968 г.; Интергра¬
II Материалы и документы
534
фика, 1967—1968 гг.; Современные польские шпалеры и декоративные ткани, 1967—1968 гг.; Выставка эстампов П.Пикассо, 1968 г.; Французская живопись из музея Белграда, 1968—1969 гг.; Живопись французского романтизма из Лувра, 1969.; Древняя и средневековая скульптура Японии, 1969 г. (XXXII, 92-105).
С 14 по 17 мая 1968 г. в Эрмитаже проходила конференция Международного Совета музеев (ИКОМ) на тему «Роль музеев в воспитательной и просветительной работе». Участвовали представители США, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Нидерландов, ГДР, ЧССР, Туниса, Нигерии и др. стран. Работа конференции была продолжена в Москве (XXXII, 106).
Выставки: Современная румынская живопись и скульптура, 1968 г.; Произведения финских художников А.Галлен-Каллелы и Пена Хало- нена, 1968 г. (XXXIII, 1251-26).
Конференции: «Архитектурные и декоративные решения русского интерьера XVIII — сер. XIX в.», 25 декабря 1968 г.; «Проблемы искусства XX в.», 14—16 мая 1969 г.; заседание, посвященное 300-летию со дня смерти Рембрандта, 3 октября 1969 г.; конференция «Из истории культурных связей России со странами Западной Европы», 23—24 декабря 1969 г., широкий диапазон с XVI по XIX в. (XXXIII, 127-129).
Международный симпозиум ИКОМОС’а с 2 по 8 сентября 1969 г. на тему «Памятники культуры и общество». Выступление президента ИКОМОС’а П.Гоццола (Италия), А.Г.Халтурина, Д.Бошковича (Югославия) и Х.Дайфуку (ЮНЕСКО). Представители Великобритании, Бельгии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Голландии, Дании, Италии, Польши, Румынии, Франции, ФРГ, ЧССР, Югославии. В Эрмитаже была открыта выставка «Памятники архитектуры СССР» (XXXIII, 128).
В «Сообщениях Государственного Эрмитажа» постоянно даются сведения о временных выставках из собрания музея и других музеев Советского Союза и о выставках Эрмитажа, организуемых за границей.
Выставки зарубежные: Рисунки и гравюры Джакомо Манцу, август 1969 г.; Испанская живопись XVI—XIX вв. из Будапештского музея, 1969 г.; Выставка художника ГДР Вальтера Вомаки, 1969—1970 гг.; Выставка польских художников Шрамкевича, Ф.Стрынкевича, 18 декабря 1967 г. - апрель 1968 г. (XXXIV, 97-100).
Заседание, посвященное 200-летию со дня рождения В.П.Стасова, 6 февраля 1970 г.; Конференция по культуре и искусству Дагестана с древнейших времен и до наших дней. Эрмитаж проводил ее совместно с Дагестаном и центральными учреждениями, 24—26 февраля 1970 г. (XXXIV, 101).
Выставки: Венгерская революционная графика, 1970 г.; Югославские средневековые фрески, 26 мая — 6 июня 1970 г.; Сокровища Кипра, 1970 г.; Шедевры рисунка из Музея изобразительных искусств в Будапеште, 1970—1971 гг. (XXXV, 111-117).
Конференция ИКОМ'а в Эрмитаже 9—13 сентября 1970 г. Доклады: В.Г.Вержбицкой (Москва), Ж.Колло (Франция), Б.Пиотровского, Г.Смирновой, Г.Р.Майер (ГДР). Конференция была посвящена пробле¬
10 После войны
535
ме экспозиции в музеях археологического и исторического профиля. Это было заседание одного из комитетов ИКОМ’а (XXXV, 118).
III Всесоюзная конференция историков оружия, 25—26 мая 1971 г. Участники: Эрмитаж, Институт археологии (Москва), Рига, Тбилиси, Львов, Киев, Ашхабад.
Научное заседание памяти Растрелли, 27 мая 1971 г. (XXXV, 118,119).
Зарубежные выставки: Николае Григореску (Румыния), январь 1971 г.; Скульптура Э.Барлаха, 1970 г.; Современная живопись Танзании, 1971 г.; Живопись и графика Ван Гога из Музея Крёллер-Мюллер (Нидерланды, 1971 г.); Сокровища венгерского искусства за 1000 лет, 1971 г. (XXXVI, 109-112).
В декабре 1972 г. Центральным комитетом КПСС, Президиумом Верховного Совета СССР, Советом Министров СССР, ВЦСПС за достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании и в ознаменование 50-летия образования Союза Советских Социалистических Республик наградили Государственный Эрмитаж юбилейным Почетным знаком (XXXVII, 3).
В октябре 1971 г. была открыта выставка «Культура и искусство Передней Азии в древности».
Выставка «Сокровища искусства Древнего Ирана, Кавказа и Средней Азии» открылась в Георгиевском зале Зимнего дворца 28 сентября
1971 г. к 2500-летию Иранского государства. Тогда же состоялся в Эрмитаже и международный симпозиум, посвященный этой дате. Персидскую делегацию возглавляли вице-министр шахиншахского двора (XXXVII, 110,101).
Зарубежные выставки: Готическое искусство XIV—XVI вв. в Чехии и Словакии, 1971 г.; Словацкая графика в борьбе, 1971 г. — январь
1972 г.; Эмиль Антуан Бурдель. Скульптура и графика, 1972 г.; Избранные рисунки XVI—XX вв. из Национальной галереи в Праге, 1972 г. (XXXVII, 105-109).
В марте 1972 г. конференция «Ближний Восток, Кавказ, Средняя Азия. Проблемы взаимодействия культур в эпоху средневековья», посвященная памяти И.А.Орбели. В конференции приняли участие ученые Ленинграда, Москвы, Еревана, Баку, Душанбе, Ташкента (XXXVII, 110).
Губчевский П.Ф. «Посетители Эрмитажа» (с марта 1971 по январь
1973 г.). Посещаемость: 1968 г. — 2 950 617 чел., 1969 г. — 3 268 468 чел., 1970 г. - 3 170 674 чел., 1971 г. - 3 331 218 чел., 1972 г. - 3 422 199 чел. Социологическая сводка (XXXVIII, 70-73).
Дар А.Хаммера 23 октября 1972 г. Портрет Антонии Сарате работы Ф.Гойи (XXXVIII, 79).
С 20 июля по 3 октября громадная выставка «Искусство портрета» (на материалах коллекции Эрмитажа). Всесоюзная конференция 20—22 сентября 1972 г.
Рисунки Дрезденского кабинета графики, 1972 г.; Скульптура эскимосов, 1972 г.; Румынское искусство XX в., 1972 г.; Древности римской Панонии, 1972 г.; Рисунки Илии Бошкова (Болгария), 1972 г.; Современная польская графика, 1972 г.; Западноевропейская живопись и рисунок
II Материалы и документы
536
из коллекции А. Хаммера, 1972 г.; Западноевропейский пейзаж из собрания Эрмитажа и музеев ГДР, ВНР, ПНР, ЧССР (XXXVIII, 100-107).
Открытие выставки «Культура и искусство древнего населения Сибири». Пазарыкские курганы, 1972 г.; в Гербовом зале замечательная выставка «Костюм в России XVIII — начала XX веков», 1972 г.
Зарубежные выставки: Вальтер Арнольд. ГДР, 1972—1973 гг.; Ре- нато Гуттузо, декабрь 1972 г. — январь 1973 г.; Хамид Овейс и Гамаль Сагини. Египет, 1972—1973 г.; Айно Канерва (Финляндия), 1973 г.; Шедевры рисунка из Музея Альбертина, 1973 г.; Джорджо Моранди, 1973 г.; Мексиканская живопись и графика (Ороско, Ривера, Сикейрос), 1973 г.; Западноевропейская живопись из Национального музея в Варшаве, 1973 г.; Французская живопись и графика XIX—XX вв. из Гавра, 1973 г.; Йозеф Манес (ЧССР), 1973 г.; Графика и произведения народного искусства Мексики, 1973 г.; Куба. Плакат, живопись, 1973 г.; Прикладное искусство Корейской Народно-Демократической Республики, 1973 г. (XXXVIII, 90-99).
С 25 мая по 13 сентября 1974 г. в Георгиевском зале была открыта временная выставка «Петербургская Академия наук в XVIII веке» к 250-летию Академии. Материалы из фондов Эрмитажа, Архива и Библиотеки Академии наук СССР, Центрального Государственного архива, Русского музея, Института русской литературы и Дворца-музея Пет- родворца (XLI, 79-80).
Сокровища гробницы Тутанхамона из Каирского музея, 1974 г. Выставку за четыре месяца посетило 880 тысяч человек. Статья Б.Пиот- ровского. Выпущено три издания каталога и небольшой буклет (XLI, 82-83).
В 1974 г. выставки: Шедевры Дрезденской галереи; Рисунки фламандских и голландских мастеров XVII в. из музеев Бельгии и Голландии; Современная венгерская графика; Искусство чешского барокко; Сокровища древней Фракии из Болгарии (XLI, 83-87).
22—23 октября 1974 г. Научная конференция к 100-летию первой выставки импрессионистов (XLI, 89).
Итальянская живопись XV—XVIII вв. из Будапешта, 1973 г.; Немецкая графика 1910—1950 гг. из Берлина (ГДР), 1973 г.; Искусство Египта X—XVI вв. из Музея исламского искусства в Каире, 1973 г.; Итальянская живопись XVIII в. из музеев Италии, 1974 г.; Шпалеры Франции XVI—XX вв., 1974 г.
В Иран в декабре 1973 г. была направлена выставка «Шедевры искусства сасанидов» (XL).
19—21 ноября 1973 г. Всесоюзная конференция «Античные города Северного Причерноморья и варварский мир». К конференции выставка «Архаическая керамика из раскопок на острове Березань» (XL, 121).
21—25 января 1974 г. Научная конференция по вопросам консервации и реставрации памятников в мастерских Эрмитажа (XL, 121).
Выставки 1975 г.: Немецкие реалисты XIX в. 1974—1975 гг.; Английские рисунки и акварели XVIII—XIX вв. из Уитвортской галереи; Святослав Рерих. Живопись; Австрийская живопись второй половины XIX в. из Австрии; Графика Ганса Тео Рихтера, ГДР; 100 картин из Музея Мет-
10 После войны
537
рополитен; К 500-летию со дня рождения Микеланджело (фото и мраморный «Брут»); Рауль Дюфи (Гавр); Тадеуш Кулисевич (Польша) (XLII, 78-85).
Выставки 1976 г.: Тернер (из галереи Тейт); Современные французские художники; Античная мозаика из Туниса; Севрский фарфор из Франции; Западноевропейская и американская живопись из США; Берлинское чугунное литье; Акварели мексиканских художников; Эстампы из Гамбурга; Эрнесто Треккани (Италия); Современная живопись Японии; Сегон- зак (Франция); выставка «Золото Америки» из США (XLIII, 83-89).
Выставки 1977 г.: Польский портрет XVII—XVIII вв. из музеев Польши; В.Аалтонен. Скульптура, живопись, графика (Финляндия); Образ крестьянина в графике ГДР; Рисунки Дж.Манцу; Искусство майя. Скульптура и керамика; Три столетия французского плаката; Выставка произведений Ф.Кремера (ГДР); Ксаверий Дуниковский. Живопись, скульптура, графика; Итальянский рисунок XVI в. из Британского музея; Пейзажная живопись Канады (Группа семи); «Лицо Мексики». Из музеев Мексики. От середины II тысяч, до н.э. до современности; Э.Буден. Живопись из Гавра (XLIV, 80-85).
3 апреля 1983 г. — 500 лет со дня рождения Рафаэля; Художественное убранство русского интерьера XIX в.; Статья Б.Пиотровского «2000 лет искусства Нигерии» (LI, 84-85).
1983. Апрель. Конференция по Рафаэлю; Всесоюзная конференция «Древние культуры Евразии и античная цивилизация».
Посетители
1914 г. - 180 324 чел.; 1915 г. - 121 750; 1916 г. - НО 167; 1917 г. - 60 311; 1918 г. — музей закрыт; 1919 г. — 11 130; 1920 г. — 20 312; 1921 г. — 62 756; 1922 г. - 84 884; 1923 г. - 103 463; 1924 г. - 118 818; 1925 г. - 118 014; 1926 г. - 169 327; 1927 г. - 188 516; 1950 г. - 800 160; 1951 г. - 885 301; 1952 г. - 1 039 226; 1953 г. - 1 240 990; 1954 г. - 1 196 142; 1955 г. -
1 448 194; 1956 г. - 1 514 238; 1957 г. - 1 390 373; 1958 г. - 1 676 675; 1959 г.
- 1 666 000; 1960 г. - 1 844 000; 1961 г. - 2 056 382; 1962 г. - 1 989 466;
1963 г. - 1 972 363; 1964 г. - 2 113 459; 1965 г. - 2 358 764; 1966 г. -
2 575 402; 1967 г. - 2 653 906; 1968 г. - 2 950 617; 1969 г. - 3 268 468 (Скульптура древней и средневековой Японии); 1970 г. — 3 170 674; 1971 г. —
3 231 218; 1972 г. - 3 422 199; 1973 г. - 3 446 498; 1974 г. - 4 492 369 (Сокровища гробницы Тутанхамона); 1975 г. — 3 418 818; 1976 г. — 3 442 181; 1977 г. - 3 317 100; 1978 г. - 3 535 697; 1979 г. - 3 421 535; 1980 г. - 2 518 876; 1981 г. - 2 819 997; 1982 г. - 2 931 911; 1983 г. - 3 042 163; 1984 г.
- 3 119 284; 1985 г. - 3 114 753; 1986 г. - 3 096 083; 1987 г. - 3 316 211.
Страны, из которых были выставки в Эрмитаже
Австралия, Австрия, Бельгия, Боливия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германская Демократическая Республика, Федеративная Республика Германии, Голландия, Греция, Дания, Египет, Индия, Исландия, Испания, Ирак, Иран, Италия, Камерун, Канада, Кипр, Китай, Колумбия,
II Материалы и документы
538
Конго, Куба, Мексика, Монголия, Нигерия, Норвегия, Польша, Сирия, США, Румыния, Тунис, Финляндия, Франция, Чад, Чехословакия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Югославия, Япония.
Выставки из 45 стран 6 континентов мира.
Выставки в Эрмитаже из зарубежных собраний. 1956—1964
09.05.56. Выставка Рембрандта из Гос. музея в Амстердаме
25.01.57. Выставка художников Румынской Народной Республики
14.07.57. ВОКС. Швейцарская графика
04.03.58. ВОКС. Рокуэл Кент
23.01.59. Современная графика Югославии
30.01.59. Изобразительное искусство Объединенной Арабской Республики
17.02.59. Выставка произведений Ганса и Леи Грундиг
12.01.60. Выставка произведений Яна Матейки
25.04.60. Выставка произведений Э.Мунка
07.05.60. Выставка 9-ти картин
31.05.60. Выставка произведений Святослава Рериха
15.06.60. Британская живопись. 1700—1960 гг.
05.07.60. Выставка графики Флорики Кордеску (Румыния)
29.07.60. Мексиканская графика
05.09.60. Австралийская выставка. Живопись, графика (рисунки)
14.09.60. Выставка художников Румынии
30.06.61. Выставка Херлуфа Бидструпа
30.06.61. Выставка японского художника Т.Тэссай
27.09.61. Выставка Жюля Перахима
11.10.61. Выставка Макса Лингнера
06.04.62. Венгерская живопись
19.06.62. Выставка П.Младенова
01.08.62. Японская современная живопись
06.08.62. Графика финских художников Турку
09.12.62. Выставка художников Югославии (живопись, скульптура)
05.02.63. Выставка живописи и графики Болгарии
05.03.63. 45 картин исландских художников
06.08.64. Выставка шведской графики
Международные выставки Эрмитажа. 1955—1964
1955 Джорджоне «Мадонна в пейзаже». Венеция, август—октябрь
1956 Рембрандт (6 картин). Юбилейная выставка в Амстердаме и Роттердаме, май—октябрь
1953 К.Д.Фридрих (2 картины). ГДР
Прикладное искусство Византии. Эдинбург, Лондон
1959 Отто Нагель «Старый рабочий». Берлин, ноябрь—декабрь
1960 Ван Гог (4 картины). Париж, музей Жакмар Андре, январь—июль
А.Гольбейн «Портрет молодого человека». Базель, июль—сентябрь Ян ван Гойен «Берег Схевенингена». Лейден, июнь—сентябрь
10 После войны
539
A. Ван Дейк (2 рисунка). Антверпен и Роттердам, июль—ноябрь П.Пикассо (7 картин). Лондон, август—октябрь
Изразцовые панно с Мавзолея Ишрат-хана в Самарканде. Париж, июль—декабрь
1962 Ф.Хальс (3 картины). Гаарлем, июль—сентябрь
B.В.Кандинский «Зима», 1909. Франция, октябрь—сентябрь
1963 Прикладное искусство коптского Египта (20 предметов). Эссен, март—сентябрь
8 рисунков немецких художников. Дрезден, апрель—май Делакруа «Марроканец, седлающий коня». Париж, Лувр, май—июль
В.Карпаччо «Этюд двух стоящих фигур». Венеция, июнь—август Ф.А.Маульперч «Крещение евнуха». Австрия, г. Брегенц, июнь- декабрь
Западноевропейский рисунок (150 листов). Швеция, август—сентябрь Венецианские рисунки XV—XVIII вв. (144 листа). Венеция, август- сентябрь
Древнерусское искусство (золото; 125 экспонатов). Италия, 4 месяца П.Пикассо (4 картины). Канада (Оттава, Торонто, Монреаль), ноябрь 1963 — апрель 1964
1964 Древнерусское искусство (23 экспоната; археология). Япония
4 картины западноевропейских художников. Бордо, май—сентябрь Картины и рисунки. Дания, Швеция, Норвегия (в связи с поездкой Н.С.Хрущева), июль—сентябрь Делакруа (2 картины). Эдинбург, август—ноябрь Б.Белотто (8 картин). Варшава, сентябрь—ноябрь
Эрмитаж в 1978 году
Тезисы отчета в Москве
Посетителей — 3 535 697.
Экскурсий — 32 644 (в том числе обзорные 17 030, школьные 4397). Культпоходы — 35.
Лекции — 1180 (лекторий 239, Ленинградская обл. 318, другие города 623).
Финансовый план перевыполнен на 21 тыс. рублей.
Экспозиционная работа
Главный упор на временные выставки из фондов музея (18) и из зарубежных музеев (17). За рубеж отправлено 8 выставок и участие Эрмитажа в 12 выставках.
На основных экспозициях производилось лишь обновление и улучшение (20 выставок). Это объясняется тем, что Эрмитаж не имеет возможности заказать оборудование (металл—стекло).
Временные выставки из фондов Эрмитажа:
Рубенс и фламандское барокко; Античные перстни; Произведения Паоло Веронезе; Невский проспект в изобразительном искусстве.
II Материалы и документы
540
Временные выставки на материале зарубежных собраний: Выставка картин французских художников из Центра Помпиду (Париж); 35 произведений из собрания Королевской Академии художеств (Великобритания); Американская живопись XIX—XX вв. (США); Диего Ривера и Хосе Мария Веласко (170 картин). Мексика; Немецкая живопись. 1890—1913 (ФРГ); Итальянское искусство XVI—XX вв. (Милан); Франческо Мессина (Италия); От Ватто до Давида (Франция); Западноевропейский и австралийский рисунок (Австралия); Чешское и западноевропейское искусство (ЧССР); Медальерное искусство Польши (ПНР).
Выставки Эрмитажа за рубежом:
Золото скифов (Италия); «Даная»; Искусство скифов (Япония); Русское искусство первой половины XIX в. (университетские города США); Западноевропейский рисунок XVI—XX вв. (Австралия).
Передвижные выставки:
Графика Домье и Гаварни (Одесса, Бендеры, Витебск, Запорожье); Русское декоративно-прикладное искусство (Запорожье, Измаил, Одесса, Старочеркасск, Таганрог).
Научные каталоги и текущая каталогизация — 73 каталога.
Научно-исследовательская работа. 120 тем: история западноевропейского искусства; изучение творчества отдельных мастеров, связи западноевропейского и русского искусства; русская культура XVIII—XX вв.; проблемы русской архитектуры и интерьера; культура и искусство Востока; взаимодействие культур; археология Восточной Европы; культура и искусство античного мира; нумизматика.
Научные конференции:
400 лет со дня рождения Рубенса; Шведские наскальные изображения; 275 лет Петербурга—Ленинграда; Паоло Веронезе. Участие в других конференциях СССР — 14. Участие в конференциях за рубежом — 14.
Научные заседания в Отделах — 137 (прочитано 150 докладов).
Защита диссертаций — 3 (кандидатские); подготовлено — 22.
Аспирантура: 7 — с отрывом от производства, 3 — без отрыва от производства.
Научные экспедиции в РСФСР, на Украину, в Фергану, Таджикистан, Киргизию. Командировки: по СССР — 150, за рубеж — 65 (ПНР, ВНР, ГДР, НРБ, НРР).
Прием иностранных специалистов — 66 в связи с организацией выставок, 13 по научному обмену. Консультации — 2377. Стажировки — 28 чел. (2 из США). Студенческая практика — 19 высших учебных заведений (ПНР и ЧССР). Книгообмен международный: получено 3712 книг, разослано 3417 книг.
Обслужено читателей 890 (посещение 28 073).
Издательская деятельность:
«Сообщения Государственного Эрмитажа»; Археологический сборник; монографии — 3; альбомы — 6; Каталоги временных выставок — 12 (в печати — 9); краткие путеводители — 3. Статьи в разных изданиях — 69 (за рубежом — 7).
10 После войны
541
Научно-просветительская работа: экскурсиии и цикловые группы; научно-методическая работа; семинар экскурсоводов, новые маршруты экскурсий, циклы лекций, методические пособия. Лекционная и внемузейная работа.
Выставки в Эрмитаже
Живописные произведения из фондов Эрмитажа. 1967—1973
1967
Живопись средневекового Востока.
1968
Древнерусская икона XIII—XVIII вв.
1969
Рембрандт, его предшественники и последователи;
Анри Матисс;
Тибетские иконы из собрания Ю.Н.Рериха.
1970
Пастели западноевропейских мастеров XI—XX вв.;
Древнерусская живопись (результаты собирательской работы).
1971
Франсуа Буше;
Древнерусская живопись;
Виды городов Италии.
1972
Ватто и его время;
Искусство портрета;
Западноевропейская пастель XVII—XX вв.
1973
Караваджо и караваджисты.
Временные выставки из фондов Эрмитажа. 1974—1976
1974 Ленинград 1924—1974. Памятные медали и знаки к 50-летию переименования Петрограда в Ленинград;
Каспар Давид Фридрих и романтическая живопись его времени; Живопись импрессионистов;
Русское наборное дерево XVIII—XIX вв.;
Современный польский плакат;
Анри Матисс (новые книги);
Памятники культуры и искусства, приобретенные музеем в 1973 г.; К истории Академии наук в XVIII в.;
Прикладное искусство конца XIX — начала XX вв.;
Фламандский и голландский рисунок XVII в.
1975 Памятники русского декоративно-прикладного искусства XVII в.; Выставка произведений Валантена;
Выставка новых поступлений;
К 30-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне;
Культура и искусство Византии в музеях СССР;
Рисунки итальянских театральных художников XVIII в.; Выставка детского рисунка;
К 200-летию со дня рождения Росси;
К 300-летию со дня рождения Растрелли.
II Материалы и документы
542
1976 Осветительные приборы России конца XVI — начала XX вв.; Выставка новых поступлений;
Резные камни Уильяма и Чарльза Браунов;
Ранняя русская литография;
Русская майолика конца XVII — начала XX вв.
Выставки из зарубежных собраний. 1966—1988
1966 1. Выставка картин из музеев Франции. 2. Живопись Чили. 3. Молодые художники ГДР. 4. Творчество Кацусико Хокусая. 5. Графика Курта Магритца. 6. Роден и французская скульптура XIX в. 7. Сербская графика.
1967 1. Цорн и Лилиефорс (Швеция). 2. Симердзидис. 3. А.Рефрежье (США). 4. Искусство борющееся. Живопись и скульптура Чехословакии XX вв. 5. Армандо Пиццинато (Италия). 6. Современное румынское искусство (живопись, скульптура). 7. 10 картин из Дрезденской галереи. 8. Произведения польского художника Шрамкевича. 9. Шедевры Никхонга. 10. Графика и керамика Пикассо.
1968 1. Живопись и графика А.Фужерона. 2. Выставка работ словацких художников группы «Жизнь». 3. Французская живопись из собрания Народного музея Белграда. 4. Международная выставка интерграфики. 5. Революционная графика 1871—1917. 6. Международный революционный плакат. 7. Сокровища Ирака. 8. Современная польская шпалера. 9. Древнеболгарское искусство.
1969 1. Произведения финских художников. Галлен-Каллела и Хало- нен. 2. Живопись французского романтизма из Лувра и других музеев. 3. Испанская живопись XVI—XIX вв. из Музея изобразительных искусств в Будапеште. 4. Произведения Вальтера Вома- ки. 5. Болгарский скульптор Любомир Далчев. 6. Скульптура древней и средневековой Японии. 7. Рисунки и литографии Дж.Манцу.
1970 1. Образ Ленина в современном польском искусстве. 2. Сокровища Кипра. 3. Живопись импрессионистов из музеев Франции. 4. Югославские средневековые фрески. 5. Венгерская революционная графика 1910—1945. 6. Шедевры рисунка Музея изобразительных искусств Будапешта.
1971 1. Николае Григореску (Румыния). 2. Боливийский художник Хиль Имана. 3. Живопись и графика Ван Гога из собрания Крёллер- Мюллер. 4. Готическое искусство XIV—XVI вв. в Чехии и Словакии. 5. Современные художники Танзании. 6. Сокровища венгерского искусства за 1000 лет. 7. Эрнст Барлах. 8. Словацкая графика в борьбе.
1972 1. Румынское искусство XX в. 2. Илия Бошков (Болгария). 3. Западноевропейская и американская живопись и рисунок из коллекции Арманда Хаммера. 4. Западноевропейский пейзаж 1560— 1660 гг. (из музеев социалистических стран). 5. Ренато Гуттузо. 6. Хамид Овейс и Гамаль Сагини (АРЕ). 7. Э.А.Бурдель. 8. Избранные рисунки XVI—XX вв. из Национальной галереи в Праге.
10 После войны
543
9. Шедевры Дрезденского кабинета графики. 10. Скульптура эскимосов. 11. Древности Римской Паннонии. 12. Современная польская графика. 13. Вальтер Арнольд (ГДР).
1973 1. Айно Канерва (Финляндия). 2. Джорджо Моранди (Италия).
3. Мексиканская живопись и графика (Ороско, Ривера, Сикейрос).
4. Западноевропейская живопись XVII—XVIII вв. из Национального музея в Варшаве. 5. Французская живопись и графика XIX— XX вв. Из музея Гавра. 6. Й.Манес и традиции чешского искусства. 7. Изобразительное искусство Кубы. 8. Итальянская живопись
XV—XVIII вв. из музея в Будапеште. 9. Шедевры рисунка из Музея Альбертина. 10. Графика и произведения народного искусства Мексики. И. Прикладное искусство КНДР. 12. Искусство Египта X—XVI вв. 13. Немецкая графика 1910—1930 гг.
1974 1. Итальянская живопись XVIII в. из музеев Италии. 2. Шедевры Дрезденской галереи. 3. Немецкие реалисты XIX в. (ФРГ). 4. Английские рисунки и акварели XVIII—XIX вв. из галереи Уитворт;
5. Шпалеры Франции XV—XX вв. 6. Сокровища гробницы Ту- танхамона. 7. Фламандский и голландский рисунок XVII в. из бельгийских, голландских и французских собраний. 8. Современная венгерская графика. 9. Фракийское искусство и культура болгарских земель.
1975 1. С.Н.Рерих (Индия). 2. Поэтический реализм. Австрийская живопись второй половины XIX в. 3. 100 картин из Музея Метрополитен (Нью-Йорк). 4. Произведения Рауля Дюфи (Гавр). 5. Тернер. Живопись, рисунок, акварель (Англия). 6. Живопись современных французских художников. Салон 1974—1975 гг. 7. Графика Рихтера. 8. К 500-летию со дня рождения Микеланджело. 9. Гравюры и рисунки Т.Кулисевича.
1976 1. Античная мозаика и шедевры изобразительного искусства Туниса. 2. Севрский фарфор (из музеев Франции). 3. Картины из музеев США. 4. Берлинское художественное литье из чугуна. 5. Акварели мексиканских художников. 6. Эстампы из Гамбурга. 7. Эрнесто Треккани (Италия). 8. Современная живопись Японии. 9. Живопись и графика Анри Дюнуайе де Сегонзака. 10. Золото древней Америки (из музеев США). И. Художественное оружие XV— XVIII вв. из собрания Исторического музея Дрездена (к дням Дрездена в Ленинграде). 12. Прикладное искусство Республики Чад. 13. Нумизматика Мексики. 14. Польский портрет из собраний Польши. 15. Вайне Аалтонен. 16. Образ крестьянина в искусстве (ГДР).
1977 1. Рисунки Джакомо Манцу (Италия). 2. Искусство майя. Скульптура и керамика (Мексика). 3. Три столетия французского плаката (Франция). 4. Произведения Ф.Кремера. 5. Ксаверий Дуни- ковский. Скульптура, живопись, рисунки. 6. Итальянский рисунок эпохи Возрождения из собрания Британского музея. 7. Пейзажная живопись Канады (Группа семи). 8. Искусство Мексики («Лицо Мексики») из собраний Мексики. 9. Картины Эжена
II Материалы и документы
544
Будена (из Музея изобразительных искусств в Гавре, Франция).
10. Произведения Стейнлена. Живопись, графика (из Швейцарии). И. Графика Эдварда Мунка (из собраний Гравюрного кабинета Государственных музеев Берлина). 12. Индийская миниатюра (из собраний музеев Индии). 13. Английское серебро (из собраний Великобритании). 14. Рисунки Ренато Гуттузо (из мастерской художника).
1978 1. Выставка картин из Национального центра искусства и культуры им. Ж.Помпиду. 2. Тридцать шесть произведений из собраний Королевской Академии художеств Великобритании. 3. Американская живопись второй половины XIX—XX вв. (США). 4. Произведения Г.Драке (ГДР). 5. Диего Ривера и его учитель Хосе Мария Веласко (Мексика). 6. Немецкая живопись 1890—1913 гг. (ФРГ). 7. Итальянское искусство XVI—XX вв. из собраний музеев Милана. 8. Древнее искусство Мексики. 9. Европейское искусство XIX—XX вв. из собрания французского коллекционера М.Ка- гановича. 10. Франческо Мессина. Скульптура, графика (Италия).
11. Чешское и европейское искусство первой половины XX столетия из собрания Национальной галереи в Праге. 12. Медальерное искусство Польши. 13. Фламандские шпалеры (Бельгия). 14. Янтарь в творчестве старых и новых мастеров (ПНР). 15. Шведские наскальные изображения (Швеция). 16. От Ватто до Давида (Франция).
1979 1. Искусство Древней Греции и Рима из Музея Метрополитен (США). 2. Амударьинский клад (из Британского музея). 3. Финская живопись 1750—1900-х гг. из художественных собраний Финляндии. 4. Произведения западноевропейских художников конца XIX—XX вв. из японских собраний. 5. Реалистическое искусство Польши XVI—XX вв. 6. Искусство Венеции XV—XX вв. 7. Шедевры итальянской живописи XV—XVII вв. из музеев США. 8. Произведения Эмилио Греко (Италия). 9. Австрийская графика с 1900 г. ^до наших дней (из собрания Музея Альбертина, Вена). 10. Золото Колумбии. 11. Питер Брейгель в графике (из собрания Королевской библиотеки Бельгии). 12. Французская живопись 1909—1939 гг. из собрания Национального центра искусства и культуры им. Ж.Помпиду. 13. Австралийская живопись XIX в. (из музеев Австралии). 14. «Сокровища викингов» (из Швеции). 15. Искусство ранних земледельцев на территории Югославии в VI—III тыс. до н.э.
1980 1. Ороско. Живопись и графика из собраний Мексики. 2. Произведения Дюлы Дерковича, Иене Кереньи, Иштвана Деши Хубера (живопись, скульптура, графика). 3. Искусство Камеруна. 4. Шедевры испанской живописи из собрания Национального музея Прадо в Мадриде. 5. Литографии Джорджо де Кирико из собрания вдовы художника. 6. Шедевры западноевропейской живописи XVI—XVIII вв. из собрания Художественно-исторического музея в Вене. 7. Западноевропейское декоративное искусство IX— XVI вв. из собраний музеев Лувра и Клюни.
10 После войны
545
1981 1. Древнее искусство греческих островов Эгейского моря. 2. Польское серебро XIII — начала XX вв. 3. Цорн и его современники (из музеев Швеции). 4. Искусство и культура Монголии (из Музея изобразительных искусств МНР). 5. От Мане до Матисса (из музеев Парижа). 6. Словацкая живопись XX в. из Словацкой национальной галереи и других музеев Братиславы. 7. Выставка работ Рабиндраната Тагора (живопись, графика). Из Национальной галереи современного искусства в Нью-Дели. 8. Живопись художников школы Пото-Пото (Конго). 9. Немецкие экспрессионисты (живопись и графика из музея Вильгельма Лембрука, ФРГ).
1982 1. Произведения Э.Мунка. Живопись, графика (из музеев Норвегии). 2. Современное венгерское медальерное искусство (Венгрия).
3. А.Мурер. Скульптура, рисунки (Италия). 4. Археология Франции (из музеев Франции). 5. П.Серрано. Скульптура (Испания). 6. Ян Штурса и его ученики. 7. О.Гуаясамин (Эквадор). 8. Рисунки итальянских мастеров из Уффици. 9. Памятники византийского искусства из собраний Государственных музеев Берлина. 10. Произведения В.Лембрука (Дуйсбург). 11. Шедевры прикладного искусства Норвегии.
1983 1. Живопись, графика, скульптура ГДР (1949—1959). 2. Чешские и словацкие медали XIX—XX вв. 3. Женевские расписные эмали 1650—1850 гг. 4. Троя — Фракия (ГДР — Болгария). 5. Искусство Нигерии. 6. Картины западноевропейской живописи из собрания Тиссен.
1984 1-3. (Указаны три выставки из музеев США и ФРГ. — Ред.). 4. Прикладное искусство Индии. 5. Сербское искусство (Югославия).
6. Прикладное искусство Австрии. 7. Выставка из собрания Старой пинакотеки. Мюнхен (ФРГ). 8. Мейссенский фарфор (ГДР). 9. Картины Сикейроса (Мексика). 10. Шедевры Дрезденской галереи.
1985 1. Боттичелли «Паллада и кентавр». Уффици, Италия. 2. Восемь картин Эдуарда Мане (Музей Орсе, Франция). 3. Венецианская живопись эпохи Возрождения (Италия). 4. Финское медальерное искусство. 5. Западноевропейский рисунок XIX—XX вв. из музеев ВНР. 6. Живопись немецких импрессионистов (Ганновер, ФРГ). 7. Спасенные шедевры. Из Дрезденской галереи. 8. Эстампы Оскара Кокошки (Зальцбург, ФРГ). 9. Древняя керамика Колумбии.
1986 1. Шедевры французской живописи второй половины XIX — начала XX вв. Из Национальной галереи Вашингтона. 2. Шедевры пяти веков. Из собрания А.Хаммера. 3. Рисунки Луки Камбиазо.
4. Картина Ф.Гойи «Портрет маркизы де Понтоха». Национальная галерея, Вашингтон. 5. Шедевры прикладного искусства. Из собрания Тиссен-Борнемис (Лугано). 6. Рисунки Освальдо Гуа- ясамина (Эквадор). 7. Шедевры западноевропейской живописи
XVI—XIX вв. Из музея Бойманс-ван Бейнинген. 8. Джакомо Ман- цу. 9. Древности Пальмиры. 10. Современная лаковая живопись
II Материалы и документы
546
Китая. 11. Историзм и модерн (Гамбург). 12. Фракийский клад (Болгария).
1987 1. Часы Мейссенской фарфоровой мануфактуры XVIII—XX вв. (ГДР) 2. Работы Ив Сен-Лорана (Франция, Париж). 3. Западноевропейская живопись и рисунок из Музея изящных искусств Лиона (Франция). 4. Шедевры западноевропейской живописи из собрания Тиссен-Борнемис. 5. Выставка одной картины. «Моление о чаше» Эль Греко. 6. Прикладное и ювелирное искусство Индии
XVII—XX вв. 7. Классическое искусство Индии с 3000 г. до н.э. до XIX в.
1988 1. Финское стекло XX в. (Финляндия). 2. Фердинанд Ходлер. Живопись, рисунок. Фонд культуры (Швейцария). 3. Французская живопись XIX—XX вв. Из музеев и частных коллекций Японии.
4. Шедевры французской живописи «От Делакруа до Матисса». Из собраний Музея Метрополитен в Нью-Йорке и Художественного института в Чикаго. 5. Выставка «Война и мир» (ФРГ). 6. Выставка из Национальной галереи Лондона. 7. Выставка Г.Басмад- жана (Париж). 8. Пикассо (из Барселоны).
ОТ РЕДАКЦИИ
Этот последний, десятый, раздел публикации материалов и документов в основном освещает выставочную деятельность Государственного Эрмитажа; его международные контакты, научную и научно-просветительную работу 1960—1980-х годов.
Изучение материалов этого периода Б.Б.Пиотровским было только начато и были обозначены основные его направления. По всей видимости дальнейшая работа над публикацией не стала бы для Бориса Борисовича слишком трудоемкой, поскольку значительное время, с 1964 по 1990 год, год своей кончины, он возглавляя Эрмитаж, находился в центре событий сложной и многогранной жизни музея, и ему вряд ли требовалось их специальное исследование.
Можно лишь сожалеть, что Борис Борисович мало успел написать об этом времени в жизни Эрмитажа. Но даже те материалы, которые он систематизировал , крайне важны для последующих исследователей и найдут своего благодарного читателя.
10 После войны
547
Выставка «От Делакруа до Матисса» Конференция посетителей Эрмитажа.
из собраний музеев США. 1985
1988
шт
II Материалы и документы
548
Борис Борисович Пиотровский (1908-1990).
На работу в Эрмитаж
ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА
Указатель имен1
Аалтонен Вайне 537 543 Аблесимов АО. 24 156 Август II 436
Автономов А А. 283 307 309 361 373 374 378 382 387 388 492 Адамс 189
Адарюков В.Я. 279 283 Аджемов М.С. 421 422 Аджян АА 497 Адлерберг А В. 249 Адлерберг В.Ф. 50 52 53 205 223 249
Адор Жан Пьер 378 Айвазовский И.К. 254 Айзенштадт, сотрудник О ГПУ 364 Айналов Д.В. 283 308 314 Айхенберг Ф. 531 Акимов И.А. 184
Александр I 32 33 34 36 136 156 167 170 172 174 177 184 207 250 Александр II 44 50 52 53 150 231 Александр III 150 484 Александр Павлович, вел. кн., см.
Александр I Александра Павловна, вел. кн. 173 177 178
Александра Федоровна, имп. 101 233
Александров Т.А 310
Александров Т.Б.; собр. 116
Алексеев В.М. 253
Алексеев М.В. 233
Алешина В.Л. 455
Алпатов М.В. 114 531
Альбани Ф. 189
Альбрехт Л.П. 272 309 516
Альтдорфер Альбрехт 401
Амбергер Кристоф 393
Амедей III, король Сардинии 179
Анджелико Беато фра (фра Джованни) 66 245
Анджелони Виченцо 24 161
Анджелони Джованни 24 161
Андреев А.А 371 379 380
Андреа дель Сарто 189 190 376 480
Андреева М.Ф. 279 295 301
Андросов С.О. 503
Аникин В. 310
Анисимов Г.Е. 385
Анна Иоанновна, имп. 115 127
Анненков Ю.П. 279
Аноним Лекюрье 481
Анталь 441
Аносов С.Н. 515
Антипин К. В. 116
Антонова И.А. 119 531
Антонова Л.В. 98
Апухтин, сотрудник охраны Эрмитажа 498
Аргунов И.П. 54 231 Аргутинский-Долгоруков В.Н. 281 287 289
Аржанов М.М. 74 298 301 Арне 268 269 Арнольд Вальтер 536 543 Арсенев В.А. 310 Асаевич К.Ф. 504
Артамонов М.И. 11 109 110 113 498 527 Артемьева Е.О. 310 Ахенбах Освальд 375 Ашберг, антиквар 420
Багневский Ф. 175 Багонский 498 Бажо Д.М. 520
Базилевский А.П. 54 69 150 245 312 Байкеев М.К. 309
1 В Указатель не включены имена, со- с указанием зал». Л., 1929 (с. 339—351), а так- держащиеся в приводимой Б.Б.Пиотровским же в <Списке выбывших по инвентарю кар- броппоре чПлан Государственного Эрмитажа тин. 1929—1933» (с. 403—415). — Примеч. ред.
История Эрмитажа
550
Байрон Джордж Ноэл Гордон 282 Бакланов Н.Б. 281 Балин А 195
Балова, сотрудник Эрмитажа 497 498 Балонский, сотрудник Эрмитажа 436
Банк АВ. 114 498 531 Бантикова Л.В. 8 Барлах Эрнст 535 542 Бароччи Федерико 400 Барруа 254
Бартольд В.В. 72 268 312 Бартфан Тибор 532 Барятинской Ф.С. 167 168 Басмаджан Г. 546
Бассано Якопо 356 368 483 488 489 491 492
Батони Помпео Джироламо 190
Бауер Н.П. 253 298 309 394 495 516
Баур, генерал 23 162
Баччиарелли М. 179
Бега Корнелис Питерс 391
Бегге К.М. 313
Беггров К.П. 185 195
Безбородко АА 28 158 159 169
Бекарев Н.И. 310
Беккер К. 375
Беленицкий AM. 503 533
Беленький 399
Белецкий В.Д. 503
Беликов, рабочий-строитель 498
БеллаЦж Жак 115 491 525 533
Беллини Джованни 481
Белобородов АЯ. 290
Белосельский AM. 154
Белотто Бернардо 539
Беляев С.Ф. 503
Бенуа АК. 321
Бенуа АН. 65 72 75 76 277 280 281 283 284 287 288 289 297 307 308 311 316 317 320 321 Бенуа Н.А 316 Бердников Г.П. 531 Березанская В.Ф. 310 Бёрнер (Воегпег); фирма, аукцион 86 478 480 481 490 491 Бернулли Даниил Иоганн 22 129 155
Беркхейде Геррит Андриане 391 Берхем Николас Питерс 195 391 471 Беспалов Н.А 500
Бессонов С., сотрудник Главнауки НКП 394
Бецкой И.И. 141 153 154 168 188 Бидструп Херлуф 538 Бич О.И. 309 367 Блаватский В.Д. 327 328 Бларенберг 401 Блок АА 279 Блудов АД. 245 Блумарт Абрахам (?) 369 Бобринский А.А. 269 Бобров Д,И. 310 Богаевский К.Ф. 269 Богданов Л.Б. 298 310 Богнар (Богнер) Э.И. 363 364 365 383 389 390 397 398 403 447 448 450 495 516 Боголюбов АП. 231 Богословский Э.Ф. 272 282 288 Бодуэн; собр. 129 150 154 Бозио, гравер 378 Боль Ф. 484
Больтраффио Джованни Антонио 401 Большаков С.Е. 310 Боннар Пьер 108
Бордоне Парис 356 368 484 488 489 491
Борисов АЯ. 516 Боровиковский В.Л. 31 Боровка Г.И. 279 298 304 305 306 308 370
Бороздюк, сотрудник Эрмитажа 520 Ботвинник М.М. 94 Боттичелли Сандро 88 118 377 400 423 450 454 462 467 472 474 475 523 545 Боутс (Баутс) Дирк 86 362 423 429 444 446 451 452 470 474 475 Бочков С.И. 310 Бошков Илия 535 542 Бошкович Д. 534
Браз О.Э. 280 282 287 288 289 290 296
Брандт Юзеф 361
Указатель имен
551
Бранди Доменико 532 Брандт М.М. 516
Брант, письмоводитель 197 198 199 Братчиков, сотрудник Эрмитажа 363
Браувер (Броуер) Адриан 189 396
402 435 Браун Уильям 542 Браун Чарльз 542 Браун; фирма 231 Брейгель Питер Старший .544 Брейгель Ян Младший 369 391 Брейгель Ян Старший (Бархатный)
369
Бремзен М.К. 160
Бренгвин Фрэнк Уильям 533
Бренна В.Ф. 33 130 137
Бретейль Луи Опост де Тонелье; собр.
23 165 166 Брик С.М. 281
Броссе (Броссет) М.И. 44 48 52 53 199 219 245 246 249 250 253 Броуэр, купец 154 Брук, сотрудник «Антиквариата»
403
Бруни Ф.А. 43 44 47 149 188 220 254 Брюллов А.П. 42 60 Брюллов К.П. 41 47 254 262 Брюль Генрих; собр. 23 149 154 312 383
Брюс Я.В. 153 160 169 Брюсова П.А. 168 Буажелен 155 Буазо Луи Симон 441 Буат, миниатюрист 444 Бубнов АС. 94 336 389 390 403 430 447 448 449 451 464 471 472 473 474 475 499 Буден Эжен 533 537 543 Будрис И.О. 309 316 Булла В. К. 268 Буль Андре Шарль 50 Бургиньон (Жак Куртуа) 375 Бурдель Эмиль Антуан 535 542 Бурдон Себастьян 189 Буркмайер Ганс 453 Буркхард Якоб 467
Бутурлин АБ. 180 Бутурлин Д.П. 33 180 188 250 Бутурлин И.П. 310 Бутурлин П.А 180 Бусыгин Н.П. 331 Бухарин Н.И. 424 426 427 428 Бушардон Эдм 441
Буше Франсуа 154 398 401 442 476 479 482 490 541 Бушен Д.Д. 283 309 Быков АА 253
Быховский Б.Е. 116 525 532 533 Бьенне Мартен 397 Бюэль, г-жа 177
Ваген Г.Ф. 51 249 Вагнер 330
Валантен (де Булонь) Жан 541 Валлен-Деламот (Ламот) Жан-Батист 21 31 79 80 129 130 133 134 135 141 142 149 153 Валлотон Феликс 369 Вальдгауер О.Ф. 66 76 77 241 279 280 283 287 289 296 303 304 305 306 307 308 313 325 327 328 375 379 383 388 Вальтер Г.Ю. 309 516 Ван Гог Винсент 535 538 542 Ван Дейк (Вандик) Антонис 31 36 88 154 190 195 254 262 298 376 379 383 398 400 428 429 435 448 449 452 453 454 455 459
462 467 469 47 1 475 476 479
480 482 539 Ван Лоо Жан-Батист 154 189 369 Ван Эйк, см. Эйк Ян ван Варакса И.Д. 298 310 Варшавский С.П. 116 526 Васильев В. В. 310 Васильев В.Н. 324 503 Васильев Н.В. 329 Васильев Ф.А 377 Васильева М.В. 310 Васильчиков А А 54 57 61 226 228 231-233 249 266 Васильчикова Е.П. 232 233 Васильчикова М.А 232 233
История Эрмитажа
552
Ватто Жан Антуан 86 88 401 423 435 442 449 451 452 472 474 481 533 540 541 544 Вейдемеер, переводчик 158 Вейнер П.П. 283 287 296 Веккиа П. делла 375 Веласкес Диего да Сильва 88 190 401 434 435 450 454 462 468 472 474 475 Веласко Хосе Мария 540 544 Великосельцев Б.Н. 364 374 Вельде Адриан ван де 391 453 Венецианов А.Г. 34 41 184 190 254 Венике Я.Б. 375 Вергилий 258
Верейский Г.С. 74 76 289 298 308 317 320 354 368 380 381 Вержбицкая В. Г. 534 Верне Клод Жозеф 154 189 369 371 376 479 482 489 Веронезе Паоло 31 189 190 401 455 462 467 472 474 539 540 Верф Адриан ван дер 190 Веселовский Б.К. 241 268 272 309 Вестфален Э.Х. 516 Виганд, немецкий археолог 327 Виже-Лебрен Элизабет Луиз 178 190 374 376 377 389 482 Визель 298
Вильгельм, имп. 233 271 Вильденштейн 87 451 452 468 474 Винкельман Иоганн Иоахим 24 160 Виноградова А.М. 516 Винтергальтер Ф.К. 375 376 389 396 Висконти Д.И. 156 Вит Якоб де 482 Витковер Рудольф 370 Влигер (Флигер) Симон де 391 Воинов В. В. 71 245 272 277 283 285 288 290-295 303 308 309 Войтов А.А. 497 Волконский Г.П. 223 Волконский П.М. 42 43 50 188 249 Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) 31 33 36 47 85 179 181 448 526 Вольтер А.А. 85 370 372 379 382 384 389 448 449 450 472 473
Вольф А. 197 198 199 Вольценбург О.Э. 498 Вомака Вальтер 534 542 Воробьев М.Н. 190 Воробьев П.И. 430 Воронихин АН. 43 76 Воронцов Артемий 180 Воронцов АР. 33 Воронцов B.C. 298 310 Воронцов-Дашков И.И. 237 Воронцова А.А (в замуж Бутурлина) 180
Воуверман (Вауверман) Филипс 189 195 371 376 380 396 484 Врангель Н.Н. 41 44 49 87 Всеволожский И.А. 61 65 232 234 238 239 240 241 249 Вуаль Жан Луи 376 Вьен Жан-Батист 154
Гаварни Поль 540 Гаврилов П.Г. 310 Гаврилов Ф.Г. 309 Гагарин, кн. 271 Гайдин С.М. 309 Галанин П.А 332 Галкин АВ. 311 Галлен-Калл ела Аксель 534 542 Галль (Халль) Петер Адольф 443 Гамалов-Чураев С.А 70 241 253 271 272 309 316 Гамбс Генрих 35 121 189 195 Гарофало (Бенвенуто Тизи) 189 369 Гаршина-Энгель гард Н.Г. 309 Гаспаро Дициани 46 Гастклу Э. 104 Гау Э.П. 47 209 229 230 263 Гварди Франческо 401 Гваренги, см. Кваренги Джакомо Гверчино (Джованни Франческо Барбьери) 189 369 401 Ге Н.Н. 231 Гедеонов AM. 223 Гедеонов М.А 225
Гедеонов С.А. 51 52-54 150 153 219— 220 221 222 223-226 246 249 Гедеонов Х.Т. 223
Указатель имен
553
Гейне Генрих 266 Гейнсборо Томас 379 456 457 Геккер О. В. 516
Геншель Чарлз (Карл) 87 458 459 460 461 462 467 468 469 Георгадзе М.П. 531 Георги Иоган Готлиб 28 129 134 150 152 155 160 Гервиц Г.Л. 116 Герц В.К. 515 Гесс Ф.Ф. 298 308 316 Гиллеманс Старший Ян Паувель 375 447
Гинзбург, сотрудник «Антикариата» 367 368 420 421 Глазунов М.К. 361 379 Глебов Игорь (Б.В.Асафьев) 279 Глинка М.И. 282 Глюк Густав 467 Гоген Поль 108 Гоголь Н.В. 282
Годой Альварес де Фария Мануэль 150
Гойен Ян ван 393 538 Гойя-и-Лусиентес Франсиско Хосе де 115 118 523 525 535 545 Голенищев B.C. 57 62 66 234 237 241 245 249 280 305 Голенищев П.В. 237 Голенищев С.В. 237 Голенищева С.Г. 237 Голицын А.М., вице-канцлер 168 Голицын А.М. 233 Голицын А.Н. 184 Голицын Д.А. 22 153 154 Голицына Д.А. 168 Голицына, кн. 233 Голлербах Э.Ф. 279 282 298 306 Головань В.А. 286 289 290 297 298 308 Головин Ф.А. 70 270 Гольбейн Амбро^иус 403 538 Гольциус Хендрик 371 376 Гонзага Пьетро ди Готтардо 33 176 179 Горбунов Н.П. 426 Гордеев Ф.Г. 134 184 Горский Ф.В. 448 Горчаков; собр. 388
Гортензия, голландская королева (Гортензия Богарне, герцогиня Сан Лё) 150
Горький Максим (AM.Пешков) 73 278 279 284 287 296 Готман А.Д. 42
Гоцковский Иоганн Эрнест 21 128 149 153 154 Гоццола П. 534 Грабарь И.Э. 271 281 287 290 Гране Франсуа Мариус 375 Граф Урс 401 480 491 Гращенков В.Н. 431 Грёз Жан-Батист 154 265 369 375 376 401 442 447 480 481 483 491 Греко Эмилио 524 526 544 Грефе Ф.Б. (Христиан Фридрих Герман) 41 196 198 199 245 Григореску Николас 535 542 Григорович Д.В. 51 Григорьева И.С. 480 490 491 Гримм А И. 253
Гримм Фредерик Мельхиор 23 24 31 32 129 133 148 149 153 158 160 162 165-174 177-179 188 Гриневич К.Э. 307 ГромовАМ. 311 Громов М.Н. 311 Гроот Георг Фридрих 188 Грундиг Ганс 110 524 533 538 Грундиг Леа 110 524 533 538 Гуаясамин Освальдо 524 545 Губчевский П.Ф. 102 114 520 531 Гувер Герберт Кларк 454 Гудон Жан Антуан 36 41 54 87 261 441 442 449 451 474 Гудштинер (Goudstinner) 475 Гуковский М.А. 526 Гулида АФ. 310
Гутекунст, глава фирмы Кольнаги 458 459
Гуттузо Ренато 524 526 529 532 536 542 544 Гутьер Пьер 442
Гюльбенкян Галуст 86 87 88 362 379 420 448 449 451 452 453 458 460 Гюльбенкян Роберт 451
История Эрмитажа
554
Дабиш, кн. 478 484
Давид Жак Луи 523 544
Давлетшин, полковник 267 268
Дадаева М.А. 512
Дайфуку X. 534
Дандини Чезаре 482
Дантен Жорж 162
Дарвиновский Д.Н. 398 492
Делакруа Эжен 369 523 539
Деламот, см. Валлен-Деламог Жан-Батист
Деларош Ипполит Поль 369
Далчев Любомир 542
Девцов (Денцов?) А.В. 309
Девцова Ю.А 310
Делекторская Л.Н. 115 525 533
Дементьев 271
Демидовы; собр. 51
Денисов Ю.М. 127
Деннер Бальтазар 481
Дервиз В.П. 516
Дервиз П.П. 309 361 367 371 373 377 378 417 497 516 Деркович Дюла 544 Джампетрино (Джан Пьетро Рицци) 115
Джанполадян-Пиотровская P.M. 7 8 Дженералли, художественный критик 225
Джонсон С. 129 Джордано Лука 369 376 Джорджоне (Джорджо да Кастельфранко) 88 189 399 423 455 468 469 538 Джулио Романо 370 Диаз де ла Пенья Нарсис Вержиль 372
Дидро Дени 31 32 129 153 181 526 Дмитриевский И.А 27 157 Добберт, художественный критик 225
Доброклонский М.В. 74 103 298 309 368 371 380 382 383 388 417 480 481 489 513 520 Доброклонская О.Д. 309 Долгов Н. 279 Долгорукий B.C. 21 128 153 Долгорукий В. В. 50 Долгоруков В.М. 168
Домье Оноре 540 Достоевский Ф.М. 422 Доу Герард 190 Доу Джордж 42 377 Драке Г. 544 Дуаен Габриэль 156 Дубровский С. 78 Дудочкин Б.Н. 419 Дуке Гомес Луис 118 Дуниковский Ксаверий 537 543 Дэви Джордж 458 460 Дэвис М., посол США 89 Дювин Джозеф 352 399 402 455 457 458 460 461 467 469 470 Дюжарден Карел 390 Дюк Я. 390 Дюков Ю.Л. 116 Дюмустье Даниэль 401 481 Дюнуайе де Сегонзак Андре 537 543 Дюрер Альбрехт 190 401 480 490 Дюфи Рауль 537 543 Дьяконов М.М. 102 509
Егоров АА 232
Егоров АЕ. 34 41 184 190 254
Егоров М.С. 311
Егоров С.П. 310
Екатерина I 24
Екатерина II 12 21 22 23 24 27 28 31 32 35 36 50 51 85 127 128 129 130 133 135 136 137 138 141 142 147 148 149 150 153 156 157 158 159 162 163 165-174 177-179 180 181 188 189 190 448 488 526 Екатерина Алексеевна, вел. кн., см.
Екатерина II Екатерина Павловна, вел. кн. 173 Еланский, сотрудник ОГПУ 363 364 Елагин И П. 22 161 Елена Павловна, вел. кн. 173 177 178 Елизавета Алексеевна, имп. 187 Елизавета Петровна, имп. 22 127 128 142 148 188 Енукидзе АС. 89 424 426 427 440 Ернштедт Е.В. 309 Есаянц Г.С. 497
Указатель имен
555
Ефименко, сотрудник Эрмитажа 498
Ефимов В.В. 127 128 Ефимов В., служащий Эрмитажа 270 272
Ефимов Н.Е. 42 55 147
Ефремов В., служащий Эрмитажа 316
Жак Шарль Эмиль 375 Жарков П.Г. 174
Жарновский И.И. 283 298 308 309 Жебелев С.А. 72 267 277 282 283 284 296 304 305 Желковская Э.Б. 310 Жерар Франсуа 384 Жермен Франсуа Тома 379 470 471 Жером, король 398 Жером Жан Леон 380 Жиль ФА 27 43-44 47 49 50 51 53 149 194 195 196 197 198 214 217 220 246 250 526 Жозефина Богарне 35 36 190 Жолтовский И.В. 282 Жуков Е.М. 531 Жуковский ВА 35
Забрежнев В.И. 78 329 369 370 374 379 447 Загревский Т.И. 310 Зайцева Л А 8 Замошкин А И. 394 Зарудный С.М. 309 Засецкий КА 242 Затценштейн (урожд. Катценштейн, впослед. Маттисен) 458 459 460 467 Захаров И. 279 Зелигман; фирма 85 Зенгер Н.Г. 497 Зиварт Э. 361
Зилоти АА 74 283 298 309 Зим Феликс 375 Зиновьев Г.Е. 279 Злобин, врем. зав. Канцелярией Министерства двора 241 Зограф АН. 253 308 394 495 516 Золотарев Д. 297
Зорин, сотрудник НКФ 364 Зорич С.Г. 167 168 Зубов ПА 36 Зубов В.П. 269 283
Иванов А А 41 254 422 Иванов А И. 31 190 Иванов Илья 302 Иванов М.М. 34 219 Иванов Ц.Ю. 311 Ивасенко К.Т. 385 Иверсен Ю.Б. 253 Игнатов В. 303 Игнатьев АИ. 311 Игнатьев Б.И. 78 324 326 327 Иессен АА 496 533 Изергина АН. 504 Измайлова Н.В. 309 Израилевич Я.Л. 331 361 368 373 374 492
Ильин АА 253 308 314 315 361 367 394 417 492 497 516 Ильин Н.Н. 87 352 399 403 437 438 449 453 461 462 468 469 492 Ильина АП. 503 Имана Хиль 542 Ингелевич М.Б. 310 Иордан Ф.И. 53 149 219 Иордане Якоб 190 Иоффе И.И. 82 335 Ирбит П.Я. 381 390 448 Исаков С.К. 282 298 363 364 368 374 432 433 492 Исперский, служащий Эрмитажа 272
Каганович М.; собр. 544 Казин В.Н. 516
Калинин М.И. 424 425 426 427 Калиостро, граф (Жозеф Бальзамо) 161
Кальф Виллем 391
Камбиазо Лука 545
Каменская Т.Д. 309
Камерон Чарлз 169
Камиль из Женевы 34
Кампана Д., маркиз; собр. 51 219 224
Камчеев А 394 450
История Эрмитажа
556
Каналетто (Канале Антонио) 190 381 401 489 Кандинский В.В. 12 115 539 Канерва Айно 536 543 Канова Антонио 35 104 190 261 Кантарини Симоне 488 Каплан, сотрудник «Антиквариата» 384
Капман А.Э. 330 435 498 Каприоли 33
Караваджо (Микеланджело Меризи да Караваджо) 34 184 541 Карлова Н.Ф.* собр. 378 380 Карпаччо Витторе 539 Карраччи, семья художников 189 190 401
Каррьера Розальба 491 Карстерс Чарлз С. 455 Катена Виченцо 376 Кауза Р. 531 Каулл А.Э. 272 Кауль Т.Н. 115 Каульбах Герман 361 Кауфман А.А. 44 Кауфман Анжелика 178 190 Качалина Г.И. 8 515 Кваренги Джакомо 24 50 55 99 104 105 108 142 147 150 155 156 161 170 171 172 174 177 189 532 Кверфельд Э.К. 284 361 365 370 448 Кейлер, ювелир 378 Кейп Алберт 393 474 Кейп Якоб 471 481 Кёлер В.Е. 197 198 Кёлер Генрих Карл Эрнст (Е.Е.) 33 34 41 44 48 51 160 197 198 219 245 246 250 Келлер А.П. 283 309 314 368 373 380 383 388 399 492 Кенде Альберт (AKende); фирма, аукцион 478 480 481 491 Кёне Б.В. (Бернгард) 52 53 128 149 188 197 198 199 220 244 246 249 250 Кент Рокуэлл 110 524 525 533 538 Кеплер Иоганн 98 Кереньи Иене 544 Кесаев В.Н. 515
Кизерицкий Г.Е. 57 61 241 246 249 316 Киммель, комиссар 304 305 Кипарисов В.П. 330 500 503 Кипарисов Ф.В. 329 Кипренский О.А 41 190 254 Кирико Джорджо де 544 Кирсанова В.Н. 503 Киселев С.В. 533 Кислицын И.А. 324 398 492 497 Кларк П.И. 77 78 328 329 330 355 361 362 363 368 369 370 371 373 374 377 378 426 431 432 444 446 Клас Питер 391
Клаубер Игнац Себастьян 34 219 Клеве Иос ван 479 488 489 Клейн В.К. 399 430 Кленер, столярный мастер 202 Кленце Лео фон 42—43 47 49 111 142 197 198 201 203 204 Клодион (Клод Мишель) 399 441 Кнёдлер М.; фирма, аукцион 87 454 455 458 467 Кнёдлер Ролан 456 458 459 460 469 Книпович Т.Н. 379 497 Кобенцль И.Ф.; собр. 23 149 159 Коблянский, сотрудник Эрмитажа 361 Кобуладзе С.С. 94 Ковалевская М.А. 245 Козин М.Н. 329 Козлов П.К. 93 Козлова АИ. 310 Козловский М.И. 184 Коковцев В.Н. 269 Кокошка Оскар 545 Кокс Джеймс 483 Кокс Уильям 31 149 155 Колесов Я.Я. 311 Колло Мари Анн 261 Колло Ж. 534 Колокольникова В. 402 Коломийцев В. 279 Колчак АВ. 332
Кольнаги; фирма 458 459 460 461 Колюбакин Н.П. 149 Комелова Г.Н. 503 Кон Ф.Я. 399 444 Конвей Мартин 352
Указатель имен
557
Кондаков Н.И. 492 Кондаков Н.П. 57 249 268 Кондаков С.Н. 279 Кондуков Т.И. 330 Конестабиле; собр. 245 Кони А.Ф. 279
Коночинин, рабочий-строитель 498 Константин Павлович, вел. кн. 157 170 173 174 178 179 Конти; собр. 150
Копылов, сотрудник Главнауки НКП 381
Корберон М.Д. 22 129 155 161 Кордеску Флорика 538 Корнель Пьер 179 Коро Жан-Батист Камиль 378 Коробовский ФА 311 Коротченок В.Е. 511 Корреджо (Антонио Аллегри) 423 425 Корсаков А.И. 65 Коскуль Г.А 241 272 277 Косыгин АН. 103 Котельникова О.М. 309 Кочиашвили К.М. 314 329 Кочубей; собр. 383 479 Краевский Б. 462 468 Крамер 443 Крамской И.Н. 58 231 Крамской Н.И. 147 311 Кранах Лукас 190 356 368 393 401 479 480 488 489 492 Краснова Н.Б. 309 497 Крачковский И.Ю. 102 Крафт П. 396 Кремер А.И. 183 Кремер Фриц 531 537 543 Крендовский Е.Ф. 186 Кресон (Крессан) Шарль 442 Креспи Джузеппе Мария 377 401 Крестинский Н.Н. 331 332 Криденер АФ. 272 Крижановская Н.А. 309 497 Криммер Ф.Э. 367 368 369 376 Кристи М.П. 301 Кристу с Петрус 480 Кроза; собр. 23 150 254 Круг Ф.И. 48 51 246 250
Круг-Кулак С.С. 311 Круглов К.Л. 500 516 Крупнов Е.И. 526 Крутиков М.З. 516 Крыжановский Б.Г. 306 Крыкалов Б. 298 302 Крюгер О.О. 309 Крюгер Франц 376
Кубе АН. 241 249 271 280 283 287 289 306 308 370 371 399 497 516 Кудрявцев А 314 497 Кудряшев, школьный работник 498 Кузвельт У.К.; собр. 36 150 Кузмин МА 279 Кузнецов АА. 500 Кузнецов Е.М. 279 Кузьмин, партийный работник 301 Куинджи А.И. 231 Кулик Ян 532 Кулиманин М.И. 310 395 Кулиманина AM. 512 Кулисевич Тадеуш 537 543 Куник АА. 48 52 53 54 58 219 238 244 246 249 250 266 267 Куранов Н.В. 330 478 484 Курбатов В.Я. 283 Курылюк К. 110 Кутайсов П.И. 130 137 138 Кутузов М.И. 50 Кучинский М.Г. 492 Кучумов В.Н. 102 Кэрисфорт, лорд 155 Кюльманн, коллекционер 489
Лабенский Камилл 183 Лабенский Ксаверий 183 Лабенский Михаил 183 Лабенский Станислав 183 Лабенский Ф.И. (Франциск Ксаверий) 32 33-36 41 43 116 147 179 183- 184 187-188 191 219 Лаваль; собр. 51 Лавренс 401
Лагарп Фредерик Сезар де 172 Лагрене Луи Жан Франсуа Старший 384
Лазарев В.Н. 327 328 383 399 428 430
История Эрмитажа
558
Лазарева А.М. 520 Лазарис Г. В. 77 328 330 367 Лазуркина, библиотечный работник 367
Лайд Браун Джон 51 154 Лампи Иоганн Баптист Старший 35 174 175 189 376 481 Ланкре Никола 86 373 378 383 399
401 442 451 452 474 491 Ланской А.Д. 27 31 36 154 170 Ланьо 491
Лаппо-Данилевский АС. 72 280 Лапшин Н.Ф. 283 Ластман Питер 369 377 Латынин Б.А 498 Лафлин Александр 456 Лебедев Н.Ф. 103 516 Лебедев, служащий Эрмитажа 498 Левина И.М. 504
Левинсон-Лессинг В.Ф. 50 51 75 97 109 110 114 231 309 354 363 364 368 371 375 380 382 383
402 417 444 453 478 484 492 493 531
Левицкий Д. Г. 31 54 231 Легендрик 471
Легран Б.В. 78 81 82 89 90 314 323 333-337 379 387 388 389 390 393 395 398 399 402 403 435 436 437 438 440 447 450 470 495 508 Лежава Валериан 332 Лежоева О.М. 519 Лейден Лукас ван 44 Лейхтенбергский, герцог 47 Леман Н.Н. 279 297 306 329 333 500 Лембрук Вильгельм 545 Лемлейн Г. Г. 533 Лемуан 376 441
Ленин В.И. 278 295 335 425 440 542 Ленц В.А. 309
Ленц Э.Э. 62 65 234 242 247 249 270 272 273 280 315 Леонардо да Винчи 42 54 65 88 115 183 189 262 278 422 440 458 468 469 Леонтьев И.А. 237
Леонтьева AM. 237 Ле Пренс Жан-Батист 401 Лепке Рудольф (Rudolph Lepke);
фирма, аукцион 85 313 354 362 370 372 398 420 453 478 479 481 482 483 484 486 487 488 Лесков И.П, 310 Лесюер Эсташ 189 Лёшке Георг 321 Ливен Г.Э. 241 Лилиефорс Бруно 532 542 Лиловая Т.Л. 313 314 373 379 380 382 383 387 388 389 398 399 403 439 440 444 447 Лингнер Макс 526 538 Линдмалер, рисовальщик 401 Линь Шарль Жозеф де, принц 149 153 154 159
Липгарт Э.К. 62 65 241 247 249 272 276 280 287 296 308 320 Липпи Филиппино 399 468 Липпольд Е.М. 519 Лисенков Е.Г. 272 298 309 378 Литвинов М.М. 425 Литта, граф 54 245 Лихачев Н.П. 268 269 524 533 Лиэ В., сотрудник Главнауки НКП 431 432 444 Лобанов-Ростовский А.Я. 150 Логинов К.Л. 310 Ломоносов М.В. 98 Лоренц Ст. 531
Лорис-Меликов, сотрудник Эрмитажа 298
Лоррен Клод (Клод Желле) 179 184 189 376 383 399 479 481 Лосенко АП. 41 190 254 Лотто Лоренцо 356 368 398 476 479 484 488 489 491 492 Лоуренс Томас 376 Лужков А И. 28 159 160 Луини Бернардино 401 Лука Лейденский, см. Лейден Лукас ван Лукашевич НА 50 149 219 Луначарский АВ. 71 73 85 242 277 278 279 281 295 302 303 304 419 423 425 426 453
Указатель имен
559
Лунин М.С. 533
Луппол И.К. 389 390 394 403 428 431 435 446 447 448 449 451 463 470 472 474 475 Лурье И.М. 279 323 503 Любош С. 279 Людовик XIV 178 Людовик XVI 28 159 442 489 Лютцов Ф. 397 Ляпунов Ю.С. 287 289 315 Ляпунова (Лепунова) К.С. 309 389 519
Магритц Курт 542 Мазепа И.С. 104 Майер Г.Р. 534
Макаренко Н.Е. 271 272 277 304 328
Макаров В.К. 280 511
Макаров П.М. 270
Маковский К.Е. 231
Максимова М.И. 277 286 287 289 290
296 305 306 307 308 314 315 320 321-323 496
Маке Г. 375 Маликов 330 Малинин П.И. 116 503 Малицкая Е.Г. 519 Малкина Е.Р. 309 Мальмберг В. К. 268 294 Мальро Андре 452 Мамин-Сибиряк Д.Н. 58 62 254 Мандельбаум Б.Д. 329 Мане Эдуард 378 545 Манес Иозеф 524 536 543 Мануэль 400 Манцевич А.П. 328 497 Манцу Джакомо 524 526 534 537 542 543 545 Мария Антуанетта 442 Мария Федоровна, вел. кн., жена Павла I 160 177
Мария Павловна, вел. кн. 173 Марке Альбер 108
Марков А. К. 253 272 281 287 289 290
297 315 Маркс Карл 77 335 440
Марр Н.Я. 73 90 268 278 280 281 284 296 304 312 424 425 507
Мартинелли Джузеппе Антонио 129 188
Мартини Симоне 66 88 399 468 Мартос И.П. 189
Маруцци Паоло, маркиз 27 f28 129 154 161
Марышева А А. 512 Маслов Н.И. 242 Масюк С.И. 311 Матвеев Андрей 254 Матвеев В.Ю. 503 Матвеев Ф.М. 34 184 190 Матейка Ян 538
Матисс Анри 108 115 523 525 533 541 545
Маттен Ц.И. 234
Маттисен; галерея, фирма 86 89 453 458 461 462 Матюшкина А А 168 Матье М.Э. 306 309 389 512 Маульперч Франц Антон 539 Маунер Христоф 400 Мацулевич Ж.А 298 308 309 Мацулевич Л.А. 74 268 283 287 288 289 296 304 307 308 314 395 497 Машковцев Н.Г. 290 Маяковский В.В. 118 Мейер Гус 459 460 461 462 Меллер П.В. 160 Меллон Пол 456 Меллон Томас 455 Меллон Эндрю Уильям 86 87 88 379 440 448 449 450 452 453 454- 469
Мельби Л. 375
Менгс Антон Рафаэль 161 189 190 369
Меншиков АД. 121 Мессина Франческо 524 525 540 544 Мессмор Кармен 459 461 468 469 Метерлинк Морис 282 Меткин Иуда 266—267 Метсю Габриел 190 392 467 Мещанинов И.И. 82 496 Микеланджело Буонарроти 262 524 537 543
Микоян АИ. 424 425 454 458 492 531
История Эрмитажа
560
Миллер А.А. 267 269 280 281 283 284 287 296 304 Миллер В.Ф. 384 Милютина В.В. 102 Миних Иоганн Эрнст 23 116 129 162 165 168 188 Миньяр Пьер 35 189 Мирис Франс Ян ван Старший 190 312 369 376 383 471 Митрохин А.Ф. 34 184 Митрохин Д.И. 297 Михайлов А. 316 Михайлов Н.А. 110 Михайлов Ф.С. 310 316 Младенов Петр 526 538 Модзалевский Б.Л. 284 Мокрицкий А.Н. 142 Моленар Клас 396 Молок А.И. 82 335 Молотов В.М. 426 Моне Клод 108 Монтини Джованни 532 Монферран Огюст 63 Мор ван Дасхорст Антонис (Антонио Моро) 450 472 475 Моранди Джорджо 524 536 543 Морков 158 Морленд Джордж 399 Моро см. Мор ван Дасхорст Антонис Моро Младший Жан Мишель 401 442
Моро Старший Луи Габриэль 401 Морозов И.А. 282 Морони Джованни Баттиста 484 488 Мосолов Н.С. 232 Мох М.Н. 103 Муатт Жан Гийом 312 Мунк Эдвард 524 538 544 545 Муральт Э.К. 197 198 199 244 Муратов П.П. 290 291 294 Мурер А. 524 545 Муретова, сотрудник Эрмитажа 498
Мурильо Бартоломе Эстебан 88 262 399 401 435 468 Мусин-Пушкин П.И. 160
Мухин В.Ф. 330 500 Мэнсфедд, сотрудник галереи Маттисен 459 460 461 462 467 469 Мясоедова М.Т. 309 316
Навои Алишер 103 499 509 Нагель Отто 538
Наполеон I Бонапарт 34 36 70 271 397
Нарышкин А А 168 Нарышкин К.А. 35 187 Нарышкин Л.А. 158 168 Нарышкина АН. 168 Нарышкина М.О. 168 Натуар Шарль Жозеф 401 482 Наттье, школа 375 Наумов Т.Н. 503 Невский В.И. 419 423 424 425 Нейвид, мебельная фабрика 197 Некрасова Е.В. 519 Нелидов А.И.; собр. 370 Ненарокова Е.Н. 512 Нер Арт ван дер 391 396 482 Нер Эглон Хендрик ван дер 471 Нерадовский П.И. 280 287 288 296 Нессельроде К. В. 48 Нетшер К. 375 391 471 Нефф Т.А 53 219 254 Неффе Петер Старший 396 Нехлюдов В.М. 516 Нечаев Н.Н. 331 Низами Ганджеви 102 499 509 Никитин С.Н. 310 Николаев М.Н. 310 Николаев С.Р. 8 Николаева В.А 309 Николаи, книгопродавец 526 Николай I 35 36 42 43 44 49 50 52 150 187 249 484 Николай II 101 150 233 484 Николай Михайлович, вел. кн. 384 Николай Павлович, вел. кн., см.
Николай I Никольский А.С. 101 509 Никольский В.А 294 Никонов В. 279 Никулин С.В. 298 310
Указатель имен
561
Новосельская И.Н. 503 Норов АС. 47 Носков Н. 279 Нотгафт Е.Г. 375 444 519 Нотгафт Ф.Ф. 95 283 309 368 373 375 444 519 Ноэ; собр. 150 Нумере В.Ф. 201 202 Нуждаев Ф.А. 298 310
Оболдуева Т. Г. 498 Оболенский Л.Е. (псевд. М.Красов) 330
Оболенский Л.Л. 78 330—333 334 379 383 384 385 387 448 449 Обросов П.М. 332 Овейс Хамид 536 542 Огол (Агол), зав. Сектором науки НКП 399 437 Опост Робер Жозеф 471 Околович И.С. 290 Окунев А 237 Олсуфьев В.Д. 232 Олсуфьев 196 Олсуфьев Ю.А 232 Олсуфьева О. В. 232 233 Ольденбург Е.Г. 424 425 427 Ольденбург С.Ф. 73 93 278 283 284 296 301 304 312 419 424 425 426 427 428 507 Онасис; фонд 119 Оприц Э.Н. 309
Орбели И.А. 11 71 73 74 77 81 88 89 90 93-94 101 103 104 109 267 279 283 298 305 306 307 308 313-315 321 328 352 370 385 386 438 439 440 444 448 466 498-500 501 503 504 507- 510 511 512 515 521 525 533 535
Орлов Г.Г. 128 141 162 168 Орлова Е.Н. 168
Орловский АО. 34 184 195 254 376 377 Орловский (нач. Минералогич. колл.) 34 219
Ороско Хосе Клементе 524 536 543 544
Остаде Адриан ван 42 154 190 383 391 471 532
Остаде Изак Янс ван 154 369 393 396 402
Остерман А.И. 160 Охтерфельт Якоб Лукас 391 Оцуп П.А. 268
Ошеров, партийный работник 438
Павел I 32 33 148 150 156 179 180 188 479 484 487 Павел Петрович, вел. кн., см. Павел I Павлов В.П. 311 Павлов С.Т. 116 Пажу Огюстен 441 Паизиелло Джованни 170 Паллас Петр Симон 28 35 190 Панин Н.И. 154 168 Паннини Джованни Паоло 375 480 Палпе AM. 309 316 Пармиджанино (Франческо Маццола) 190
Паскевич И.Ф. 50 Пахомов Е.А 116 525 532 533 Пашков В.А 184 Перахим Жюль 538 Переда Антонио де 401 Передольская АА 503 Перекусихина М.С. 135 Перке, рисовальщик 401 Перов В. Г. 58
Перуджино Пьетро 88 189 400 447 455 457 462 463 472 475 Пестов Т.Я. 310
Петр I И 12 21 24 51 104 128 159 172 190
Петр III 127 128 133 142
Петр Федорович, вел. кн., см. Петр III
Петров Е.П. 310
Петров М.П. 310
Петров Н.П. 270 272 310
Петров Ф.Н. 314
Петрова Е.И. 310
Петрова Т.Н. 310
Пигорева А А 519
Пииз Г. 48
Пикассо-и-Руис Пабло 12 108 524 532 534 539 542 546
История Эрмитажа
562
Пинус, сотрудник Главнауки НКП 390 Пиотровский М.Б. 7 8 9 18 126 Пиранези Джованни Баттиста 480 Пиццинато Армандо 532 542 Планат Опост 187 Платцер Иоганн Георг 453 Плешаков И.Х. 310 Плешакова А. М. 310 Плутарх 173 Погодин М.П. 226
Позерн Б.П. 313 314 354 355 366 367 377 425 431 432 447 Покровская Е.А. 519 Покрышкин П.П. 268 287 Поляков А. 279 Поп А. 94
Попов B.C. 32 150 159 188 Попов И.Н.; собр. 116 Попов Р. С. 57 Порецкая Е.В. 519 Порошин С.А. 161 Пост М. 23 89 161
Потемкин Г.А. 50 157 161 162 168 169 170 174 180 189 Потин В.М. 492
Поттер Паулюс 189 254 370 396 402 Премацци Луиджи 47 202 260 264 Пресвецова О.А. 310 Пресняков В.В. 371 372 Придик Е.М. 241 272 287 289 290 308 322
Прокопе-Вальтер А.Г. 309 519 Прохоров Д.Г. 310 Прохоров И. 316 Прошкин И.Е. 311 Прусаков Г. 390 397 402 403 435 438 450 464 470 Прушевская Е.О. 497 519 Прытков Ф.А. 310 Прянишников И. М. 374 Птицын Г.В. 519 Пугачев Емельян 159 Пульцоне Шипионе 482 Пульяновский Б. И. 322 Пунин Н.Н. 71 245 277 281 282 284 290 291 301 304 Пурталес, германский посол 376
Пуссен Никола 189 369 398 399 401 403 435 442 453 475 476 479 482
Пуленбург (Поленберг) Корнелис ван 484
Пушкин А.С. 33 35 41 94 98 107 499 508
Пфандцельт Лукас Конрад 188 Пьяццетта Джованни Баттиста 484 Пятаков Г.Л. 87 451 453 Пыляев М.И. 135
Рабинович Б.З. 516 Рабинович Ф.И. 352 Равдоникас В. И. 82 323 325 496 Радлов С.Э. 279 Раймонди Маркантонио 42 Райт из Дерби Джозеф 154 254 Разик И.Б. 363 384 387 Разсказов Г. 316 Ракимов Б.Р. 311 Ракинт В.Н. 242 283 309 Расмуссен 375
Растрелли Бартоломео Карло 115 Растрелли Франческо Бартоломео
25 38 64 67 76 127 128 130 134 535 541
Рафаэль (Раффаэлло Санти) 24 42 54 88 129 148 160 161 174 177 189 190 195 224 225 254 262 298 371 383 384 389 397 399 400 401 420 422 423 425 428 439 440 446 447 451 454 455 457 462 465 467 472 473 474 475 476 537 Рахлин-Румянцев 298 302 Реберн Генри 457 Реверден О. 119 Ревнов В.В. 511 Рейкхалс Франсуа 375 447 Рейнолдс Джошуа 28 129 153 155 254 457 Рейсдаль Саломон ван 154 393 Рейсдаль Якоб ван 154 190 369 383 391 392 481 491 Рейфенпггейн Иоганн Фридрих 24 149 160 161 Рейхардт К.П. 519 Рейхардт С.А. 519
Указатель имен
563
Рембрандт Харменс ван Рейн 31 35 42 54 86 87 88 117 119 150 153 154 189 195 231 245 254 262 279 298 306 369 377 379 389 392 397 398
400 401 403 420 423 425 428 429 430 431 434 440 446 449 451 452 453 454 455 456 459 460 462 464 467 469 470 471 472 473 474 475 476 479 480 481 482 484 487 488 489 490 491 513 523 538 541
Ремизов А.М. 279
Ренн Гвидо 179 262 370 371 380 401 Рентген Давид 121 Ренуар Пьер Огюст 108 Репин И.Е. 58 Репников Н.И. 267 269 Репнин Н.В. 168 Репнина НА 168 Рерих Н.К. 268 269 Рерих С.Н. 536 538 543 Рерих Ю.Н. 525 533 541 Ретовский О.Ф. 241 253 272 281 287 289 290 296 308 316 Реет Б. (Ю.И.Рест) 116 Рётгер; фирма 231 Рефрежье Антон 542 Рибальта Франсиско 190 Рибейра (фонд Гюльбенкяна) 452 Рибера Хусепе де 375 447 Ривера Диего 118 524 536 540 543 544 Ритт Августин Христиан 444 Рихтер Ганс Тео 536 543 Риччи Себастьяно 491 Робер Гюбер 155 184 367 370 375 377
401 451 479 482 488 Рогир ван дер Вейден 423 Роде 482
Роден Опост 542
Рождественский Вс А 103 279 509 Роза Сальватор 189 Роза да Тиволи 374 Розенберг А. К. 335 Розенберг Сэми 461 498 Розенгольц, 399 Розенталь Н.Н. 82 335 498 Рокотов Ф.С. 31 231 Романов К.К. 280 283 290 297
Романов Н.И. 283 295
Романовы, царский род 31 36 313
Ромм Г. 279
Ромни Джордж 480
Ронин, сотрудник «Антиквариата* 388
Россетти 104
Росси К.И. 43 56 122 130 137 541 Ростовцев И.А 519 Ростовцев М.И. 72 268 269 277 321 Рубакин НА 330
Рубенс Питер Пауль 31 36 86 88 150 153 179 189 190 195 262 265 376
379 380 382 383 400 403 423 428
429 440 448 451 452 454 459 460
462 467 471 472 474 475 479 481
484 488 489 491 539 540 Рузвельт Франклин Делано 454 Румянцев П.А 31 50 Румянцова Е.М. 168 Румянцова М.А 168 Русаков Н.Т. 310 520 Русакова В.Т. 310 Руска Луиджи 147 Руставели Шота 94 499 505 509 Рутенбург, председатель Правления «Антиквариата* 390 397 437 Рутланд, баронесса 457 Рыков А.И. 424 426 484 Рылов А.А. 283 Рымша С.К. 310
Сааков 381 Сабанеев Е.А 268 Сабуров ПА; собр. 245 Саверкина И.И. 503 Сагини Гамаль 536 542 Сазонов С.Д. 233 Салтыков И.П. 158 Салтыков Н.И. 168 Салтыков П.С. 160 Саллюстий 258 Самарин АД. 233 Самуэли, директор-распорядитель «Антиквариата* 372 383 Сандунов С.И. 28 159 Санквирино, антиквар 224 Сантакроче Франческо ди Симоне 376
История Эрмитажа
564
Сантарелли Джованни Антонио 397 Сапожникова Т. 367 Саранчин М.М. 367 370 Сасс А. 316
Сассоферрато (Джованни Баттиста Сальви) 375 Сауков П.Е. 519 Сашевская М.В. 497 Себастьяно дель Пьомбо (Себастьяно Лучиани) 189 Седестрём Г. 367 377 379 Седжер К.И. 250 Седых С.Н. 332
Сепор Луи-Филипп 157 159 174 Сезанн Поль 108 Семенов А.С. 310 Семенов М.М. 375 444 Семенов-Тян-Шанский П.П. 66 150 245 363 364 388 Сен Лоран Ив 546 Сент Обен Габриэль 401 480 490 491 Сергеев Т.С. 310 Сергиевский Ю.В. 327 Серебряков И.Д. 424 427 Серов Вл.А. 531 Серрано Пабло 524 545 Сиваев М.С. 519 Сивков А.В. 95 268 361 Сидоров А.С. 241 Сидоров М.С. 241 Сидоров Н.А. 272 309 316 Сидоров Н.Н. 309 Сидоров С.Н. 309 367 Сикейрос Давид Альфаро 524 536 543 545
Силановский А.И. 311 Силаньтьева П.Ф. 497 Симердзидис Валиас 542 Симон, составитель каталога Картинной галереи 51 Скалой К.М. 498 Слободская 269 Смирнов П.Д. 311
Смирнов Я.И. 62 70 71 242 249 270 271 272 285 303 304 315 Смирнова Г. И. 534 Смирнова М. 302
Снейдерс Франс 36 153 190 369 400 Соболев B.C. 439
Содома (Джованни Антонио Бацци) 484
Соколова Е.П. 519 Соловьев B.C. 279 Соловейчик Р.С. 512 515 Соломаха Е.Ю. 8
Сомов АИ. 57 61 113 241 247 249 316 Сорокин С.С. 533 Сохряков И А 311 329 Спасский И.Г. 250 494 Спицын 268 269 Ставассер П.А. 261 Стависский Б.Я. 533 Сталин И.В. 89 399 426 431 438 439 440 466 508 Станислав Август IV (Станислав Понятовский) 129 179 Станционе Массимо 115 532 Старицын П. 279 Старов И.Е. 142 Стасов В.В. 58 231 Стасов В.П. 42 55 142 147 525 534 Стейер Макс 458 Стейнлен Теофиль 544 Стен Ян 392 Степанов Н.А. 310 Степанова М.В. 309 314 Стернельд П. 129 158 Стефани Л.Э. 44 53 149 199 219 244 245 246 249 Стецкий А И. 399 Столбов С.Т. 310 Стоюнина М.П. 321 Страссер И.Г. 189 Стрелков А.С. 327 Стрельников Н. 279 Строганов А.С. 147 Строганов П.С.; собр. 382 384 Строганов С.Г. 57 Струве В.В. 66 78 283 287 289 290 296 305 309 312 314 Струкс Дж 48 Стрынкевич Ф. 534 Стулло 267
Стржельчик, служащая Эрмитажа 512
Указатель имен
565
Суворов АВ. 28 50 158 179 232 Сумароков А.П. 33 179 Суриков В.И. 58
Суслов АВ. 136 137 182 287 289 290 309 320 Суслов В.А 115 119 525 Сустрис Ламберт 484 Счастнев А.А 270 272 316 Сычев Н.П. 283 304
Талепоровский В.Н. 268 269 Таль С.К. 310 Тарасов А А. 503 Тарасов А. 302 Татищев Ю.В. 309
Тенирс Давид Младший 154 179 189 195 369 391 396 400 484 Тепленко О. В. 309 327 Тер Борх (Терборх) Герард 86 384 392 435 451 452 467 472 474 Теребенев А И. 43 Тернер Джозеф Мэллорд Уильям 524 537 543 Тизенгаузен 269 Тимофеев Д.Д. 503 Тинторетто (Якопо Робусти) 380 Тиоре 129 Тиссен; собр. 546 Титов А А 310 Титова Е.А 310 Тихомиров Н.Н. 311 Тихонов Н.С. 102 509 Тициан (Тициано Вечеллио) 88 189 190 262 298 371 383 401 435 440 455 457 462 475 479 484 487 488 489 Тишбейн Иоганн Генрих Вильгельм 169
Толмачев-Сосновский А 495 Толстиков B.C. 531 Толстой Д.И. 65 72 242 243 245 249 270 271 272 273 275 276 277 298 303 322 Толстой И.И. 269 280 Толстой И.И., сын 280 Толстой Л.Н. 422 Толстой НА. 184 188
Толстой Ф.П. 41 Торвальдсен Бертель 253 Торопыгин М.Я. 352 Травина М.М. 512
Тревер К.В. 74 94 269 298 305 309 507 Треккани Эрнесто 537 543 Тройницкий С.Н. 72 74 77 241 245 272 280 282 283 284 286 287 288 289 290 296 298 300 301 303 304 306 307 308 311 312-315 321 328 354 356 361 362 365 366 368 370 374 377 378 379 380 381 382 386 387 388 399 431 432 433 452 478 484 492 Трофимов А.К. 310 Троцкая Н.И. 278 287 290 291 292 293 294 Трощинский Д.П. 28 159 Трубецкой С.Н. 57-58 61 236 237- 238 249 266 Трубников А.А. 241 Труханова АЯ. 519 Тураев Б.А. 66 267 268 282 305 306 Тур АИ. 195
Тутанов, сотрудник Эрмитажа 500 Тутмес 107
Тьеполо Джованни Баттиста 54 88 245 401 403 453 475 Тьеполо Джованни Доменико 480 Тэссай Т. 538 Тэтлок Р. 452
Уваров С.С. 52 223 Уварова П.С. 268 269 Углова Л.Н. 241 272 309 Угрюмов Г.И. 184 Удри Жан-Батист 373 Уильямс P. (Williams R.C.) 352 454 475 479
Унтербергер Христофор 24 161 Уолкер Джон 455
Уолпол Роберт; собр. 116 129 150 154
Уранова Е.С. 28 159
Уржумцев АВ. 370
Уткин Н.И. 198 199
Уханова А В. 309
Ухов И.К. 309 371
История Эрмитажа
566
Ухтомский К.А. 47 210 235 255 256 259 Ушаков С. 310 316 Ушакова Т.Н. 309 497
Фаберже Карл 453 Фальке О. фон 479 Фальконе Морис Этьен 128 153 169 390 441 442 476 480 Фальконето, см. Фальконе Морис Эгьен Фармаковский Б.В. 267 268 269 283 304 305
Фасмер P.P. 253 281 287 289 290 297 309 394 Федоров С.Ф. 310 Федоров-Давыдов АА. 308 Федотов П.А 41 Фейт Ян 378 491
Фельтен Ю.М. 22 23 80 91 133 134 141 142 147 148 153 189 Ферсман АЕ. 281 Фетти Доменико 401 Фиктерк 471 Филатов А.А. 309 Филиппов В.Ф. 298 310 Филоненко М.М. 478 484 487 Филонов П.Н. 302 Философов М.Д. 78 309 313 314 324 326 367 370 378 380 389 394 492 495 497 Финли Дэвид 457 Фирдоуси Абулькасим 93 Флаксерман Ю.Н. 329 Флиттнер Н.Д. 74 110 268 279 305 306 307 309 316 326 Фогель фон Фогелынтейн К.Х. 33 191 Фокс 158
Фомин Е.И. 24 156
Фортиа де Пиль 155
Фрагонар Жан Оноре 189 371 401
Франц Иосиф, имп. 233
Франча Дж (Франча Франческо?)
380
Фриденрейх Юлиус 36 142 176 Фредерикс В.Б. 241 242 Фрейтаг (Фрейтагс) Ф.К. 196 199 Фридрих Каспар Давид 533 538 541 Фридрих II, король Пруссии 21 443
Фридрихе, барон 169 Фрик Генри Клей 455 Фрик Эллен 457 Фужерон Андре 533 542 Фукс, секретарь Имп. Академии наук 199
Фурцева Е.А 114 531 Фюгер Генрих 444
Хай P.M. 398 Халонен Пен 534 542 Халтурин А. Г. 534
Халс (Гальс) Франс 87 392 429 454 455 456 459 463 470 474 475 539 Хаммер Арманд 115 453 454 458 460 461 525 535 536 542 545 Хаммер Виктор 460 461 Ханенко Б.И. 88 Ханнеман Адриан 467 472 Хвостов А 242 Хвостов АН. 331 Хейден Ян ван дер 391 Хейсум Юстус ван (?) 391 Хейфец Л.Г. 8
Хельст Бартоломеус ван дер 482 Хем Ян Давиде де 391 Хереманс Томас 396 Хесс A (Adolph Hess Nacht); фирма 493 495 Хесс Петер 107 Хинчук Л.М. 364 377 Хитрово А.З.; собр. 245 Ходлер Фердинанд 524 546 Хокусайя Кацусико 523 532 542 Хольцов В.Б. 519 Хонтхорст Геррит ван 383 Хоршфогель 400
Хох Питер де 34 184 392 399 423 449 452 468 474 Храбров AM. 331
Храповицкий АВ. 27 28 129 149 156 157 158 159 160 161 162 Храпченко М.Б. 97 Христина, королева Швеции 158 Хрущев Н.С. 539 Хубер Иштван Деши 544 Худяк М.М. 497
Указатель имен
567
Цвейг Стефан 102
Цветков, партийный работник 438
Цветкова А.А. 375 444
Церетелли Г.Ф. 305
Церницкий, работник ОГПУ 363 364
Циммерман, книгопродавец 526
Цорн Андерс Леонард 524 532 542 545
Чарлтон Роберт 48
Червецкая Е.П. 310
Червилл П. 471
Черепнин Н.Н. 282
Черешков, сотрудник Эрмитажа 500
Черников С. С. 279
Чернышов З.Г. 168
Чернышов И.Г. 168
Чернышова А. Р. 168
Чижиков М.Т. 310
Чижов М.А. 241
Чима да Конельяно Джамбаттиста 400 468 Чистов А.А. 116 Чистяков М.И. 267 371 372 Чичерин Г. В. 425 Чуев А.В. 531 Чучин Ф.Г. 492 Чуковский К.И. 279 Чулков В.В. 387 388 390 450
Шагал М.З. 115 Шампень Филипп де 481 Шапицина-Крашенинникова М.М. 310 Шарден Жан-Батист Симеон 154 442 455 462 463 470 474 Шардиус Ф.Л. 197 198 Шарлемань Л.И. 2-й 130 137 156 249 Шахматов А.А. 73 278 296 Шварц А.Н. 234 Шебуев В.К. 34 41 184 190 254 Шекспир Уильям 282 336 Шелковников Б.А. 116 Шер М.А. 519 Шервуд Л. В. 272 Шереметев Б.П. 31 Шереметев П.Б. 130 136 137 Шереметев С.Д. 283 Шеридан Ричард Бринсли 158
Шеффер П. 296 Шиллер Фридрих 223 Шкловский В. Б. 279 Шладгауэр, делопроизводитель 267 Шмальц, сотрудник «Антиквариата» 372
Шмидт А. В. 498
Шмидт Д.А. 62 65 75 76 241 249 271 272 280 283 286 287 289 290 296 308 314 316 321 325 363 364 365 368 369 370 371 374 379 380 381 383 431 433 435 492
Шмидт Д.Д. 272 Шмидт П.Ю. 281 Шнееров А. 331
Шнитцлер И.Г. (Schnitzler I.H.) 35 192 Шолпо Н.А. 279 498 516 Шрамкевич Казимеж 534 542 Штакеншнейдер А. И. 36 50 83 91 92 142 147 249 Штаммер Тобиас 400 Штегман В.К. 309 Штелин Якоб фон 127 153 Штеренберг Д.П. 281 Штиглиц А.Л. 75 Штрайх С. 279 Штрауберг А.Е. 42 Штурса Ян 545 Шуазель; собр. 150 Шубин Ф.И. 31 189 Шувалов А.П. 49 196 197 200 214 217 218 220 223 Шувалов И.И. 24 127 129 154 160 Шугаевский В.А. 272 Шулецкий Я.С. 311 Шустер А.И.; собр. 116 Шустер С.А. 116 Щеголев П.П. 82 335 Щедрин С.Ф. 254 Щекотов Н.М. 287 290 292 Щербатов Н.С. 293 Щербачева М.И. 309 368 371 375 497
Щукин С.И. 282 484 Щукина Е.С. 8 Щусев А.В. 282
История Эрмитажа
568
Эверс Иоанн Филипп Густав 226 Эйк Ян ван 88 423 429 449 454 461 462 469 471 474 Эйхенбаум Б.М. 279 Эксбертс; типография 205 Эль Греко Доменико 118 523 546 Энгельгардт Н. 279 Энгельс Фридрих 440 Энман 268
Эпштейн, сотрудник Главнауки НКП 473
Эреллейн Мартин 443
Эриксен Вигилиус 27 150 444 532
Эрнст С.Р. 283 308 309
Эссен Э.Э. 313 329
Эстергази, граф 159
Эсхил 282
Эттингер П.Д. 293
Эфрос А.М. 290 291 292 294 Эффель Жан (Франсуа Лежен) 526
Юдин Н.А 370 Юдина С.А. 519
Юсупов Н.Б. 28 32 33 129 150 159 179 184 188 Ягов Готлиб фон 233 Якобс, придворный мастер 198 Яковлев АЯ. 311 Яковлева Е.М. 8 Якубовский А.Ю. 90 336 499 Янченко С.Ф. 130 133 162 167 Яремич С.П. 281 287 288 289 290 295 296 309 320 361 363 364 368 380 381 382 383 388 488 492 Ятманов Г.С. 71 74 281 282 298 301 304 329
ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА Список иллюстраций
Б.Б.Пиотровский в Павильонном зале Эрмитажа. 13
Б.Б.Пиотровский в 1980-е годы. 14
Б.Б.Пиотровский на заседании Президиума Академии наук СССР. 15
Б.Б.Пиотровский в рабочем кабинете Эрмитажа. 16
Дворцовая площадь. Вид на Зимний дворец и Александровскую колонну.
25
Зимний дворец. 1754—1762. Вид со стороны Дворцовой площади. Архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. 25
Зимний дворец. Вид со стороны Невы.
26
Зимний дворец. Центральная часть фасада со стороны Невы. 29
Зимний дворец. Вид с запада. 30
Вид со стороны Миллионной улицы на Зимний дворец и Дворцовую площадь.
30
Главная галерея Зимнего дворца. 37
Главная (в XVIII в. Посольская, затем Иорданская) лестница Зимнего дворца. 1756—1761. Архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. 38
Главная лестница Зимнего дворца. Центральная часть. 39
Главная лестница Зимнего дворца. Фрагмент стены. 40
Главная лестница Зимнего дворца. Вид на верхнюю площадку. 45
Дициани Гаспаро. Плафон Главной лестницы Зимнего дворца. 46
Георгиевский (или Большой Тронный) зал Зимнего дворца. 1795. Архитектор Джакомо Кваренги. Восстанов¬
лен после пожара 1837 г. В.П.Стасовым и Н.Е.Ефимовым. 55
Галерея 1812 года в Зимнем дворце. Первоначальный проект 1826 г. архитектора К. И. Росси. 56
Анфилада в Зимнем дворце. 59
Малахитовый зал в Зимнем дворце. 1839. Архитектор А.П.Брюллов. 60
Ротонда в Зимнем дворце. 1830-е гг. Архитектор Опост Монферран. 63
Ротонда в Зимнем дворце. 64
Большая церковь в Зимнем дворце. Внутренний вид. Фрагмент. Архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. 64
Большая церковь в Зимнем дворце. Внутренний вид. Архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. 67
Большая церковь в Зимнем дворце. Внутренний вид. 68
Малый Эрмитаж. 1767—1769. Вид со стороны Невы. Архитектор Жан-Батист Валлен-Деламот. 79
Висячий сад в Малом Эрмитаже. Архитекторы Жан-Батист Валлен-Деламот и Ю.М.Фельтен. 80
Павильонный зал в Малом Эрмитаже. 1850—1858. Архитектор А.И.Штакенш- нейдер. 83
Павильонный зал в Малом Эрмитаже.
84
Старый (или Большой) Эрмитаж. 1771— 1787. Вид со стороны Невы. Архитектор Ю.М.Фельтен. 91
Советская лестница в Старом (или Большом) Эрмитаже. 1858. Архитектор А.И.Штакеншнейдер. 91
Зал Леонардо да Винчи в Старом (или
История Эрмитажа
570
Большом) Эрмитаже. 1858. Архитектор А.И.Штакеншнейдер. 92
Корпус Лоджий Рафаэля. 1783—1787. Архитектор Джакомо Кваренги. 99
Лоджии Рафаэля. Внутренний вид. 100
Эрмитажный театр. 1783—1787. Общий вид. Архитектор Джакомо Кваренги.
105
Зимняя Канавка. Вид на Новый Эрмитаж и корпус Лоджий Рафаэля. 105
Новый Эрмитаж, южный павильон Малого Эрмитажа и Зимний дворец. Вид со стороны Миллионной улицы. 106
Новый Эрмитаж. 1839—1852. Вид со стороны Миллионной улицы. Архитектор Лео фон Кленце. 111
Зал Геракла в Новом Эрмитаже. 111
Двадцатиколонный зал Нового Эрмитажа. 112
Лист рукописи с рисунком генерального плана Третьего Зимнего дворца, фрагмента плана Санкт Петербурга (1753 г.) и рисунком проекта перепланировки Адмиралтейского дома и Третьего Зимнего дворца (с указанием помещения «Эрмитаж» с подъемными столами). 131
Лист рукописи с рисунком плана юго- западной части Зимнего дворца. 132
Висячий сад в Малом Эрмитаже. Гравюра 1773 г. 139
Апартаменты Екатерины II в Зимнем дворце. План. 140
Павильонный зал в Малом Эрмитаже. Северо-восточная часть, где располагалась комната «Эрмитаж». 143
Лист рукописи с рисунком плана северного павильона Малого Эрмитажа.
144
Лист рукописи с рисунком поперечного разреза северного павильона Малого Эрмитажа. 145
Кабинет с подъемным столом в Малом Эрмитаже. Чертеж 146
Лист рукописи с рисунком фасада Старого (или Большого) Эрмитажа. 151
Лист рукописи с рисунком планов и
обозначением расположения коллекций в Малом Эрмитаже, Старом (или Большом) Эрмитаже и корпусе Лоджий Рафаэля (по И.Г.Георги. 1793 г.). 152
Письмо Екатерины II графу И.Э.Мини- ху от 14 декабря 1770 г. 163
Правила посещения «Эрмитажных» собраний. 164
Портрет Екатерины II с фигурами Сатурна и Истории. Копия Ф.Багневско- го с одноименного эскиза Иоганна Баптиста Лампи Старшего. 1793. 175
Вид набережной Невы с Эрмитажным театром. Рисунок Пьетро Гонзага. После 1802 г. 176
Корпус Лоджий Рафаэля. Рисунок Юлиуса Фриденрейха. 1839. 176
К.П.Беггров. Набережная около Зимнего дворца. 1826. Литографированная акварель. 185
Е.Ф.Крендовский. Тронный (Малый) зал на половине императрицы Марии Федоровны. Около 1831 г. 186
Франц Иванович Лабенский (1769— 1849). Рисунок К.Х.Фогеля фон Фо- гелынтейна. 1836. 191
Лист рукописи с планом и обозначением расположения коллекций в Малом Эрмитаже, Старом (или Большом) Эрмитаже и корпусе Лоджий Рафаэля (по И.Шнитцлеру. 1827 г.). 192
Лист рукописи. Вверху план верхнего этажа Старого (или Большого) Эрмитажа. 193
Флориан Антонович Жиль (1801 — 1864). Литографированная фотография.
194
Лео фон Кленце (1784—1864). Гравюра.
201
Луиджи Премацци. Вид здания Нового Эрмитажа. Акварель. 1861. 202
Лео фон Кленце. Проект росписи II Биб-лиотеки Нового Эрмитажа. 203
Лео фон Кленце. Проект отделки зала копиистов Нового Эрмитажа. 203
Лео фон Кленце. Проект росписи зала монет и медалей Нового Эрмитажа
204
Список иллюстраций
571
Петровская галерея в Малом Эрмитаже. Акварель Э.П.Гау. 1861. 209
Галерея драгоценных вещей в Малом Эрмитаже. Акварель К.А. Ухтомского. 1861. 210
Постоянный билет для входа в Императорский Эрмитаж, галерею Петра I и драгоценных вещей на 1859 г. 215
Лист рукописи с образцами подписей должностных лиц. 216
Степан Александрович Гедеонов (1815— 1878). Литографированная фотография.
221
Уведомление Министерства Императорского Двора о назначении С.А. Гедеонова Директором Императорского Эрмитажа. 1863 г. 221
Лист рукописи с изображением герба рода Гедеоновых. 222
Лист рукописи с изображением герба рода Васильчиковых. 227
Александр Алексеевич Васильчиков (1832-1890). Офорт ККастелли. 1880.
228
Зал русской школы в Новом Эрмитаже. Акварель Э.П.Гау. 1850-е гг. 229
Зал русской школы в Новом Эрмитаже. Акварель Э.П.Гау. 1856. 230
Парадная лестница и вестибюль в Новом Эрмитаже. Акварель К.А. Ухтомского. 1853. 235
Сергей Никитич Трубецкой (1829— 1899). Литографированная фотография.
236
Иван Александрович Всеволожский (1835—1909). Фотография. 239
Уведомление Министерства Императорского Двора о назначении И.А.Всеволожского Директором Императорского Эрмитажа. 1899 г. 240
Дмитрий Иванович Толстой (1860— 1940). Фотография. 243
Борис (Бернгард) Васильевич Кёне (1817—1886). Литографированная фотография. 244
Арист Аристович Куник (1814—1899).
Фотография. 244
Эдуард Каспарович Муральт (1808— 1895). Литографированная фотография. 244
Лудольф Эдуардович Стефани (1816— 1887). Литографированная фотография.
244
Андрей Иванович Сомов (1830—1909). Литография. 247
Эдуард Эдуардович Ленц (1856—1919). Фотография. 247
Эрнест Карлович Липгарт (1847—1932). Фотография. 247
Лист рукописи с планом нижнего и антресольных этажей Старого (или Большого) Эрмитажа, перестроенных в 1828 г. архитектором Л.И.Шарлеманем для Государственного Совета и Комитета министров. 248
Лист рукописи с изложением текста, посвященного Эрмитажу, в издании «Путеводитель по Петербургу» под редакцией Р.С.Попова (Спб., 1886) и планом Нового Эрмитажа. 251
Лист рукописи с изложением текста, посвященного Эрмитажу, в издании «Путеводитель по Петербургу» под редакцией Р.С.Попова (Спб., 1886) и планом Малого Эрмитажа. 252
Кабинет скульптуры египетской в Новом Эрмитаже (I этаж). Акварель К А. Ухтомского. 1855. 255
Зал греческой скульптуры в Новом Эрмитаже (I этаж). Акварель КА.Ухтом- ского. 1853. 256
Кабинет скульптуры в Новом Эрмитаже (I этаж). Акварель К.А.Ухтомского. 1854. 259
Зал новейшей скульптуры в Новом Эрмитаже (I этаж). Акварель Луиджи Пре- мацци. 1856. 260
Зал итальянских школ в Новом Эрмитаже (И этаж). Акварель Э.П.Гау. 1853.
263
Зал французской школы в Новом Эрмитаже (И этаж). Акварель Луиджи Премацци. 1859. 264
Подготовка к эвакуации в 1915 г. Э.Э.Ленц
История Эрмитажа
572
(второй слева), Д.И.Толстой (второй справа). 273
В одном из залов античной скульптуры. Подготовка к эвакуации. Август 1917 г.
274
Зал «Большие просветы» в годы эвакуации 1916-1917 гг. 274
Подготовка к эвакуации. В центре Д.И.Толстой. Август 1917 г. 275
Э.К.Липгарт и Д.И.Толстой. Фотография. 1918. 276
Всеволод Владимирович Воинов (1880— 1945). Фотография. 285
Яков Иванович Смирнов (1869—1918). Фотография. 285
Леонид Антонович Мацулевич (1886—
1959). Фотография. 285
Заседание Совета Эрмитажа. Слева направо: Д.А.Шмидт, С.Н.Тройницкий, Л.А.Мацулевич, АН.Кубе, В.А.Головань, М.И.Максимова. Фотография 1920-х гг.
286
Возвращение Эрмитажных коллекций. 1920. 299
Сергей Николаевич Тройницкий (1882— 1948). Фотография 1920-х гг.
300
Александр Николаевич Бенуа (1870—
1960). Автолитография Г.С.Верейского. 1922. 317
Афиша воскресных лекций в Эрмитаже. 1920. 318
Экспозиция живописи раннего итальянского Возрождения. 1926. 319
Экспозиция изделий серебра. Середина 1920-х гг. 319
Александр Васильевич Суслов. Рисунок А.Н.Бенуа. 1921. 320
Георгий Семенович Верейский (1886— 1962). Автопортрет. Литография. 320
Степан Петрович Яремич (1869—1939). Литография Г.С.Верейского. 1922.
320
Мария Ивановна Максимова (1885— 1973). Рисунок Э.К.Липгарта. 1919.
320
Оскар Фердинацдович Вальдгауер (1883— 1935). Фотография 1920-х гг.
325
Владислав Иосифович Равдоникас (1894— 1976). Фотография. 325
Джеймс Альфредович Шмидт (1876— 1933). Фотография 1910-х гг. 325
Марк Дмитриевич Философов и Борис Иванович Игнатьев. Фотография 1920-х гг. 326
Наталья Давыдовна Флиттнер (1879— 1967). Фотография. 326
Борис Васильевич Легран (1884—1936). Фотография. 337
План Государственного Эрмитажа. 1-й этаж 1929. 338
План Государственного Эрмитажа. 2-й этаж. 1929. 345
План Государственного Эрмитажа. 3-й этаж. 1929. 346
Владимир Францевич Левинсон-Лессинг (1893—1972). Фотография. 417
Михаил Васильевич Доброклонский (1886—1964). Фотография. 417
Алексей Алексеевич Ильин (1858— 1942). Литография Г.С.Верейского. 1926. 417
Павел Павлович Дервиз (1897—1942). Фотография. 417
Лист рукописи, открывающий раздел «Продажа. 1928—1933. Защита Эрмитажных сокровищ». 418
Лист рукописи с перечнем обработанных Б.Б.Пиотровским дел Архива Эрмитажа, связанных с продажей. 445
Распоряжение Главнауки Наркомпроса директору Эрмитажа П.И.Кларку о передаче «Антиквариату» картины Дирка Боутса «Благовещение». 29 марта 1929 г. 446
Распоряжение заведующего Сектором науки Наркомпроса И.К.Луппола о передаче «Антиквариату» картины Рафаэля «Св. Георгий» и картины Рембрандта «Молодая женщина с гвоздикой». 25 февраля 1931 г. 446
Список иллюстраций
573
Распоряжение заведующего Сектором науки Наркомпроса И.К.Луппола о передаче «Антиквариату» картины Ф. Халса «Адмирал» и картины Шардена «Карточный домик». 20 марта 1931 г.
463
Распоряжение заведующего Сектором науки Наркомпроса И.К.Луппола о передаче «Антиквариату» картины Перуджино. 23 апреля 1931 г. 463
Распоряжение наркома по просвещению А.С.Бубнова о передаче «Антиквариату» картины Рафаэля «Мадонна Альба». 26 апреля 1931 г. 464
Служебная записка заместителя председателя Правления «Антиквариата» Г.Прусакова о передаче двух картин Рембрандта. 17 июня 1932 г. 464
Зал итальянской живописи в Эрмитаже. В центре «Мадонна Альба» Рафаэля. Экспозиция середины XIX в. Акварель.
465
Письмо И.В.Сталина на имя И.А.Орбели. 8 ноября 1932 г. 446
Лист рукописи с таблицей, составленной Б.Б.Пиотровским на основании «Ведомости картинам и другим предметам, выданным Всесоюзному объединению «Антиквариат» с 10 марта 1928 г. по 10 октября 1933 г. 485
На аукционе Р.Лепке. Берлин. 1929 г. Продажа секретера Павла I. 486
Секретер Павла I. 1780. Парижская работа. Продан на аукционе Р.Лепке.
486
Иосиф Абгарович Орбели (1887—1961). Фотография. 501
Вводный зал к экспозиции французского искусства XVIII в. Начало 1930-х гг.
502
Экскурсия в залах Эрмитажа. Зима 1939-1940 гг. 502
План лектория Эрмитажа на 1938 г.
505
Афиша выставки к юбилею Шота Руставели. 1938. 505
Афиша к III Международному конгрессу
иранского искусства и археологии. 1935.
506
Афиша выставки в ознаменование 150- летия Французской буржуазной революции. 1939. 506
Зал Рембрандта в годы войны. 513
М.В.Доброклонский в дни блокады Ленинграда. 513
Новый Эрмитаж. Портик с атлантами. Фотография 1942 г. 514
У Малого подъезда Эрмитажа. 517
Двенадцатиколонный зал после обстрела 28 июля 1942 г. Фотография 1944 г.
518
Клуб имени С. Орджоникидзе в Свердловске, где находился филиал Эрмитажа в 1941—1944 гг. 521
Реэвакуация Эрмитажа. В центре И.А.Орбели. 1945. 521
Афиша Выставки памятников искусства и культуры, остававшихся в Ленинграде во время блокады. Ноябрь 1944 г.
522
Михаил Илларионович Артамонов (1898— 1972). Фотография. 527
На открытии выставки «Древняя и средневековая скульптура Японии». 1969.
528
Выставка «Венгерское искусство за 1000 лет». 1971. 528
Ренато Гуттузо на выставке своих работ. 1972. 529
Выставка «Роден и его время». 1966.
529
Выставка «Золото древней Америки» из музеев США. 1976. 530
Выставка «Бронза Томира» из фондов Эрмитажа. 1984. 530
Выставка «От Делакруа до Матисса» из собраний музеев США. 1988. 547
Конференция посетителей Эрмитажа. 1985. 547
Борис Борисович Пиотровский (1908— 1990). На работу в Эрмитаж. 548
Фронтиспис: Б.Б.Пиотровский
Источники иллюстрирования:
Отдел рукописей и документального фонда Государственного Эрмитажа, архив Р.М.Джанполадян-Пиотровской, фотоархив издательства «Искусство», в том числе принадлежащие издательству фотографии, выполненные АААлександровым, Д.В.Белоусом, Б.В.Кузьминым.
Фотосъемка специально для данного издания рукописных и документальных материалов осуществлена Л.Г.Хейфецем.
Подготовка иллюстраций для воспроизведения Ю. М. Водопьянова.
Борис Борисович Пиотровский
ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА Краткий очерк Материалы и документы
Редактор И.И.Никонова Художественный редактор Н.В.Мелыунова Компьютерная верстка, И.Э.Орловская техническое редактирование
Корректоры Ю.А.Евстратова,
Н. А. Медведева
Лицензия ЛР № 010157 от 14.02.97.
Сдано в набор 09.06.99. Подписано к печати 05.06.2000.
Формат издания 70x108/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Петербург. Офсетная печать.
Уел. печ. л. 50,4. Уел. кр.-отт. 52,16. Изд. № 20120. Тираж 2000. Зак. 4787. Издательство «Искусство», 103009 Москва, Малый Кисловский пер., 3 Отпечатано в типографии ОАО «Иван Федоров»
191119 Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 11.