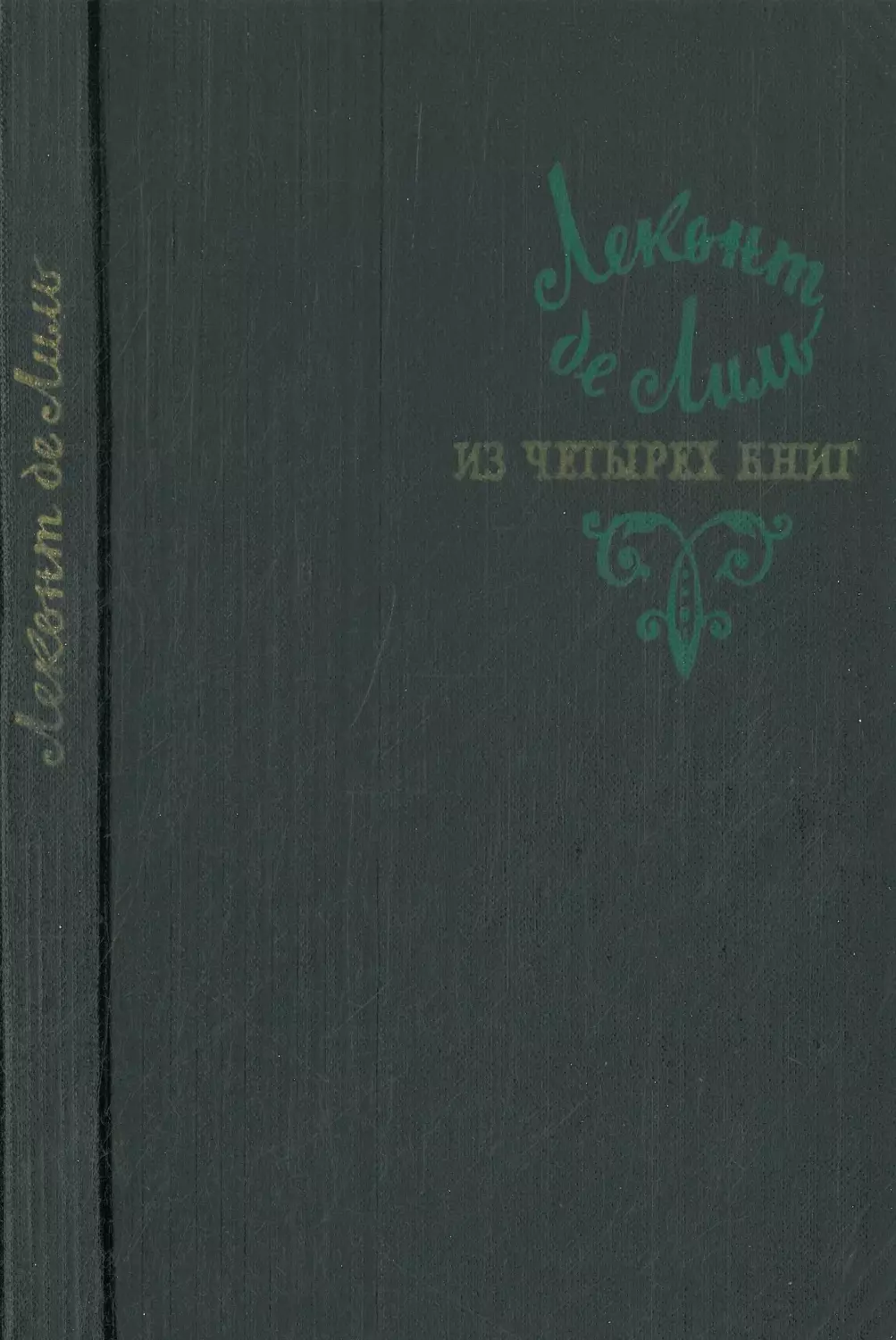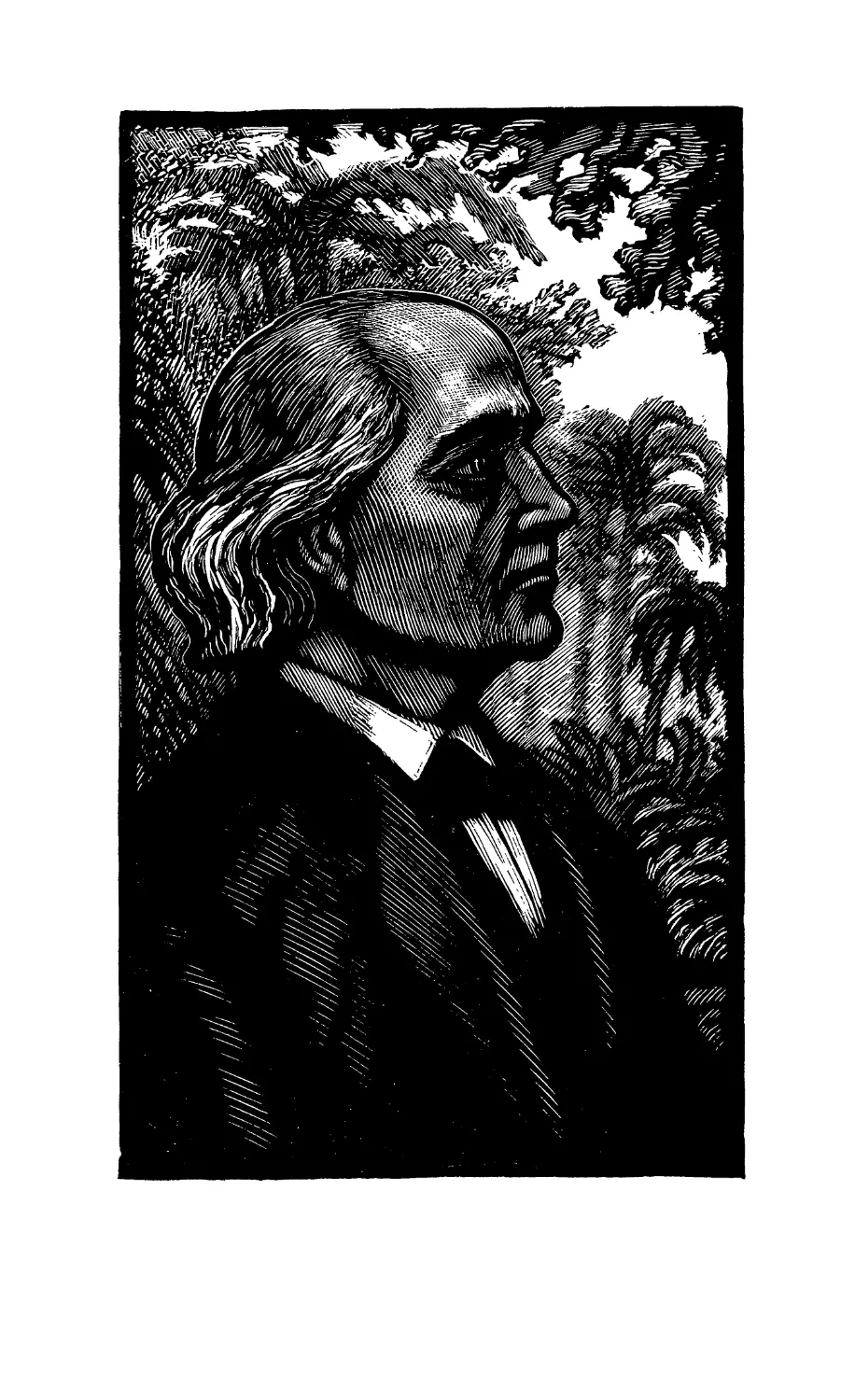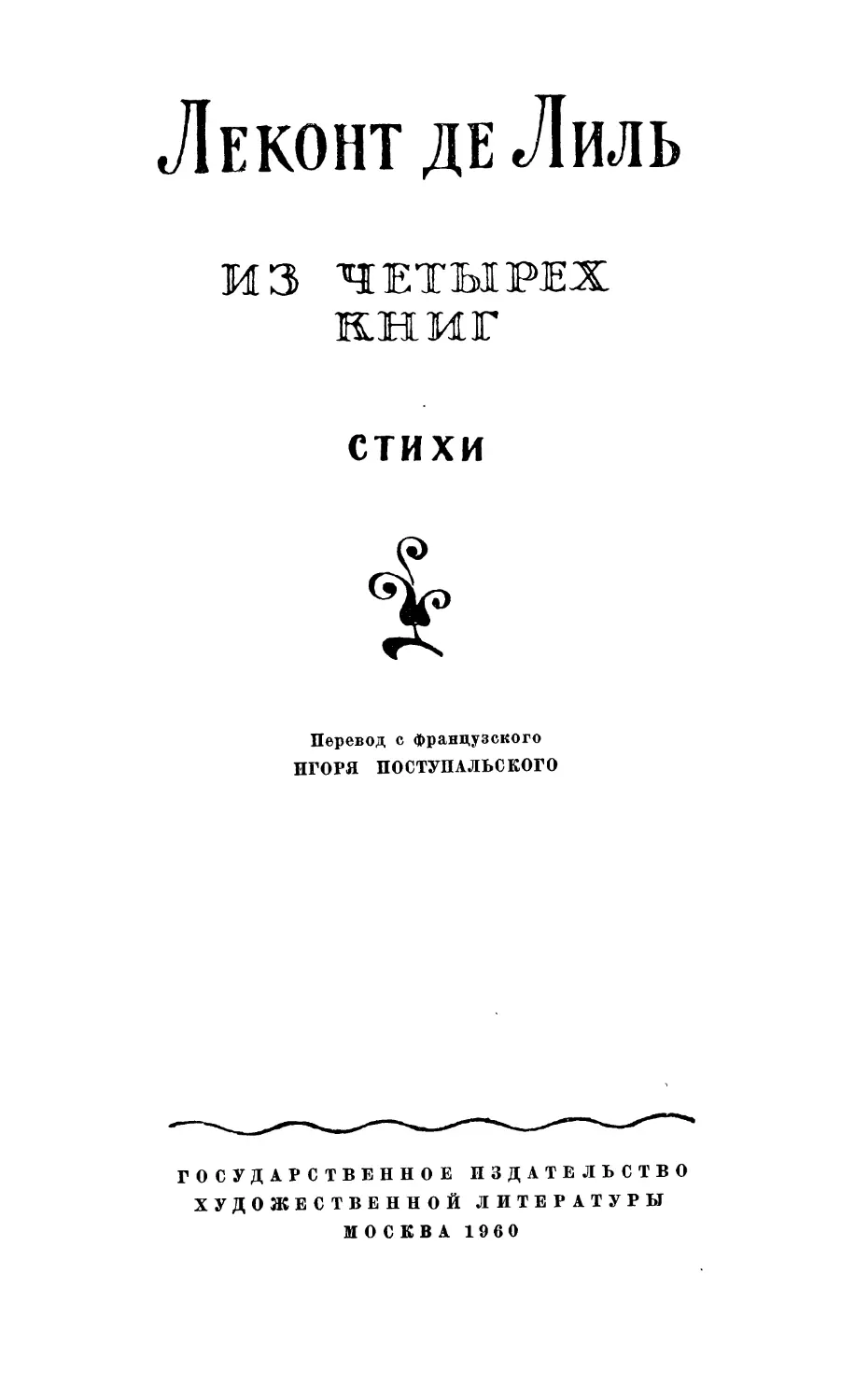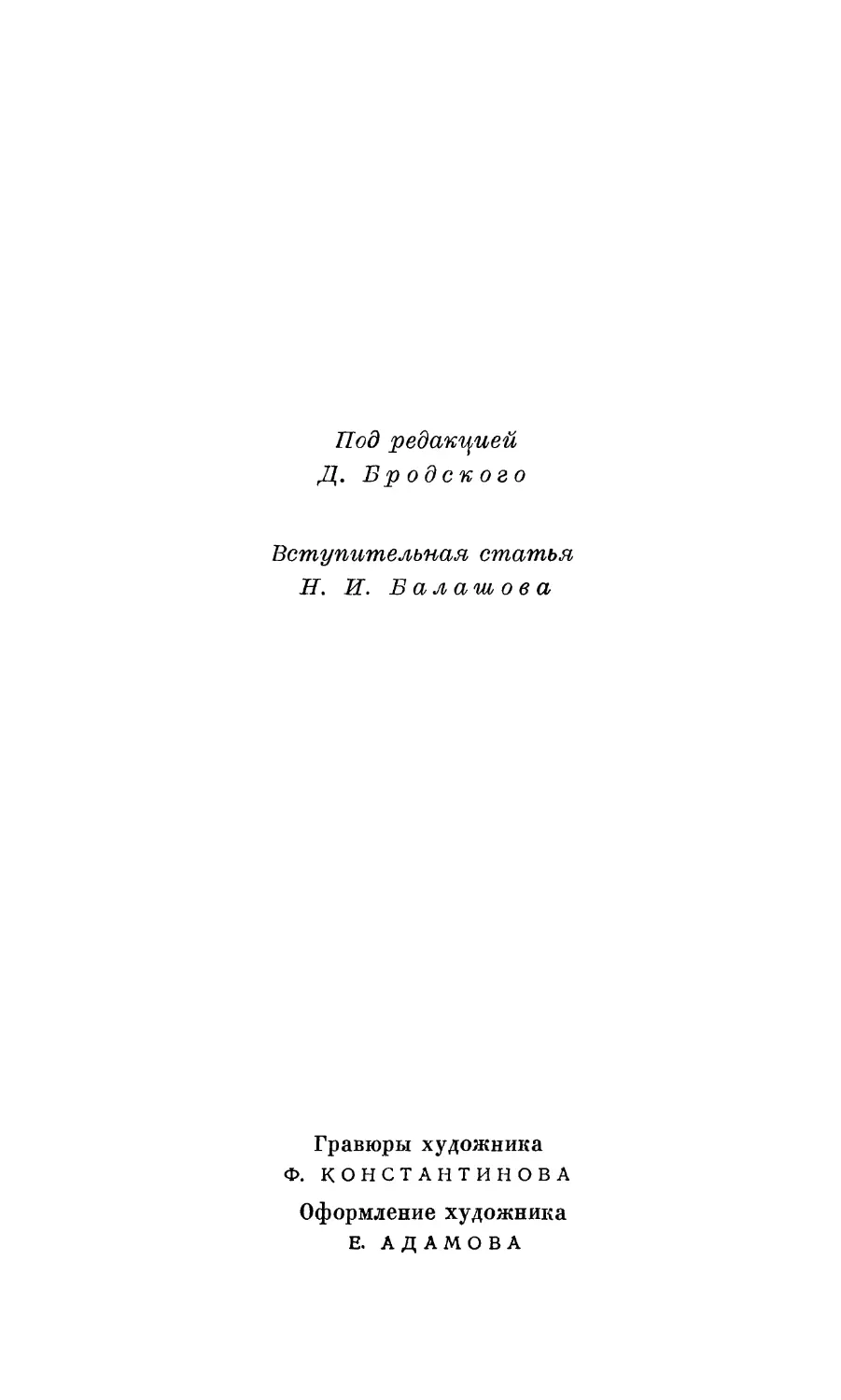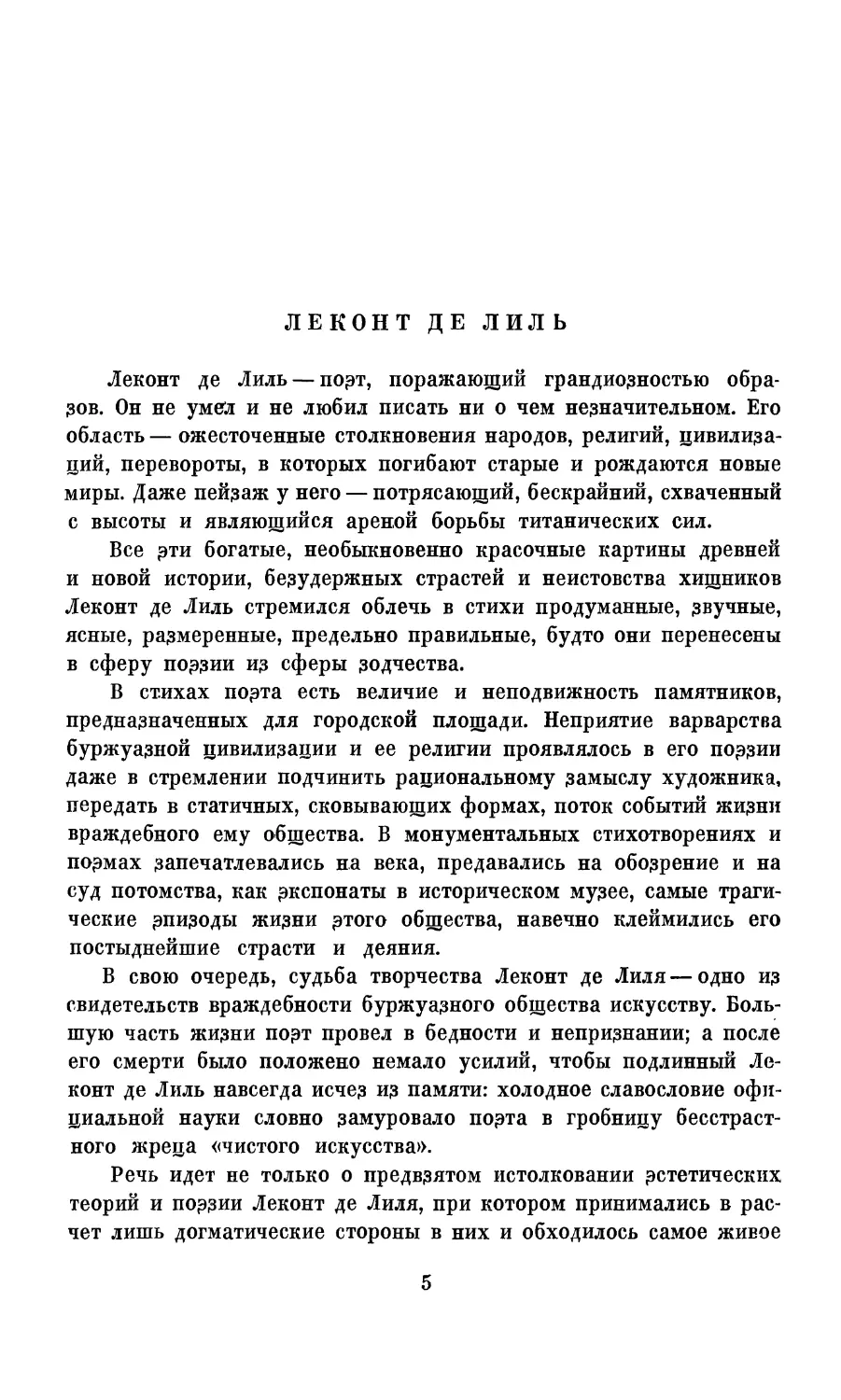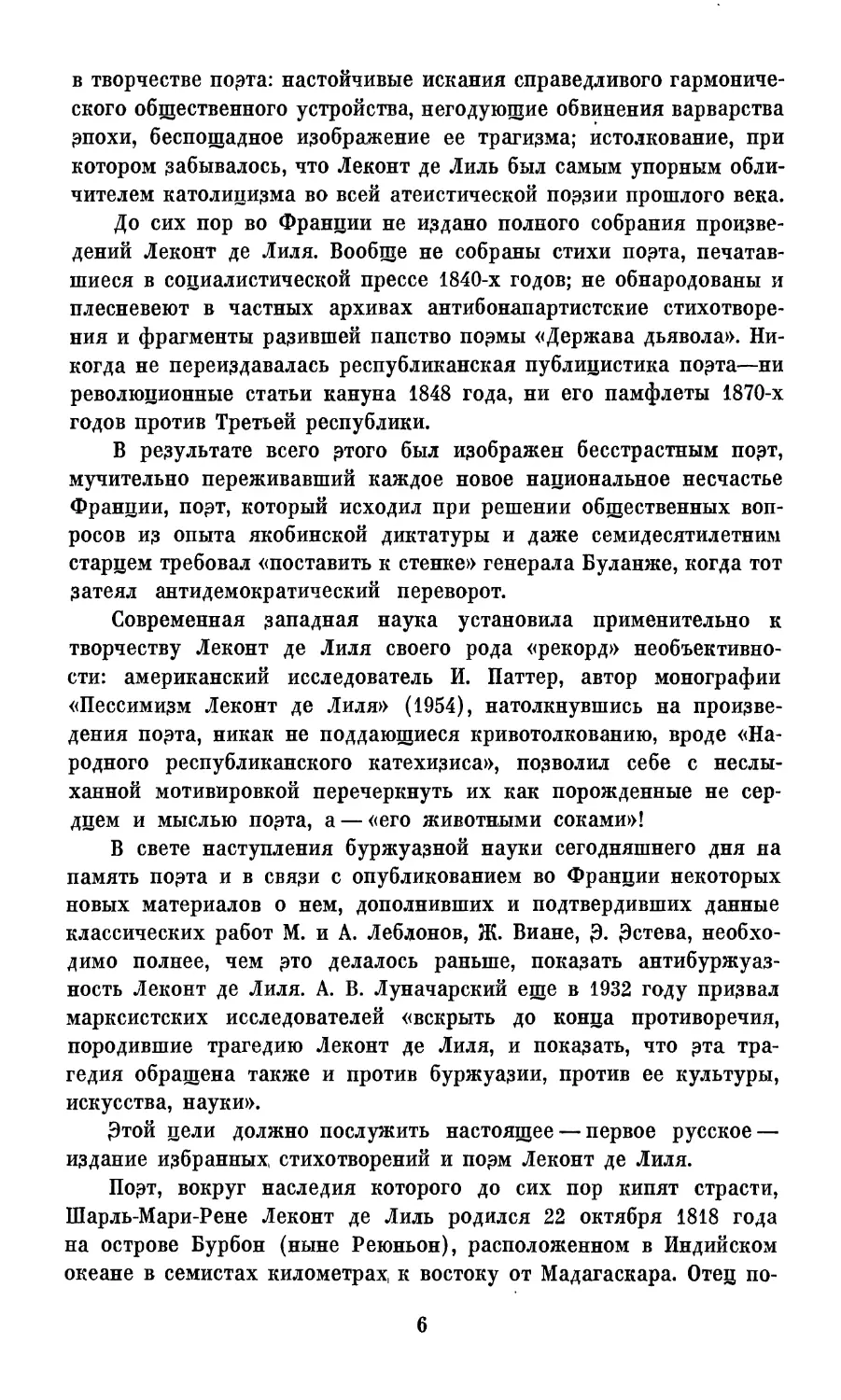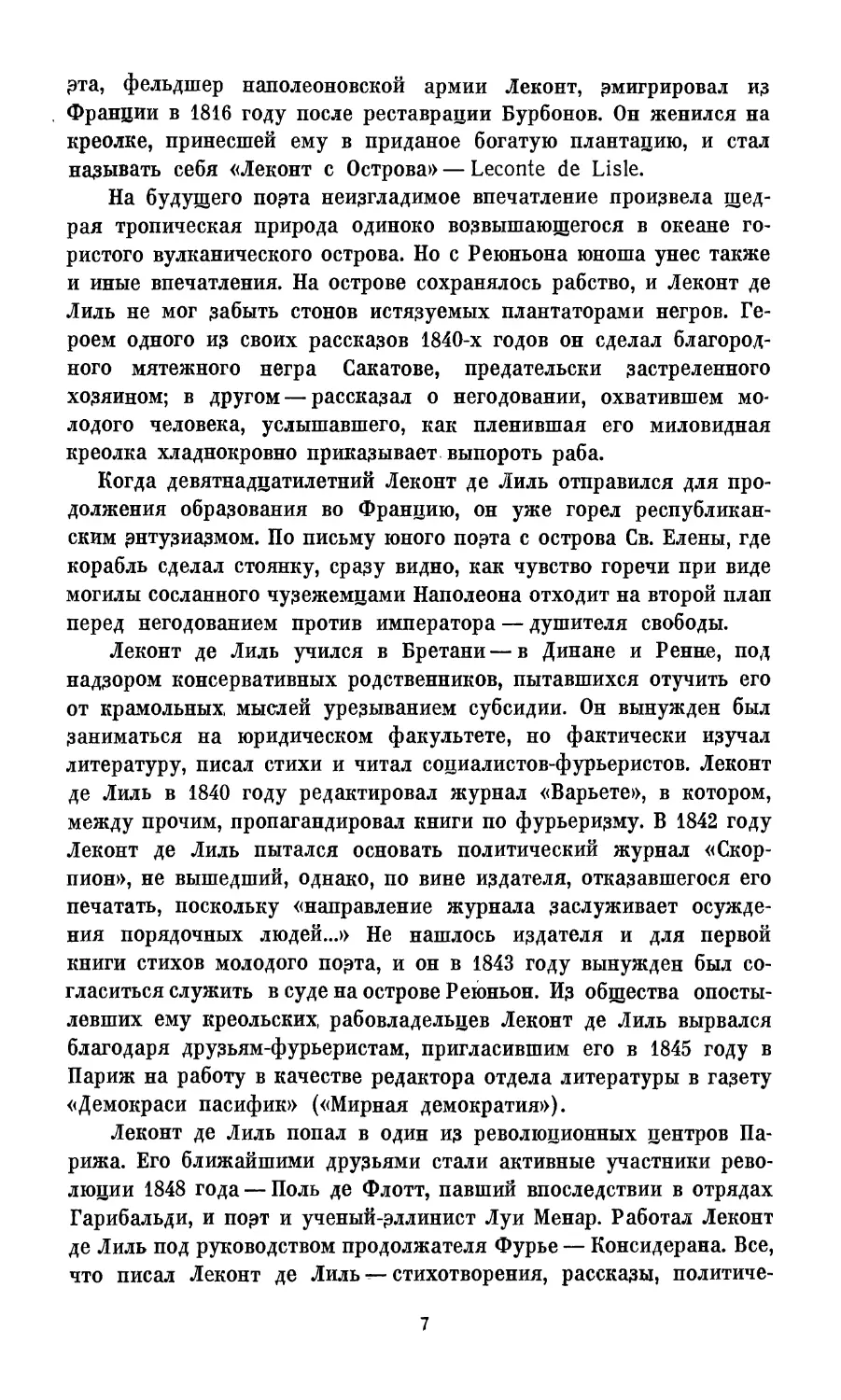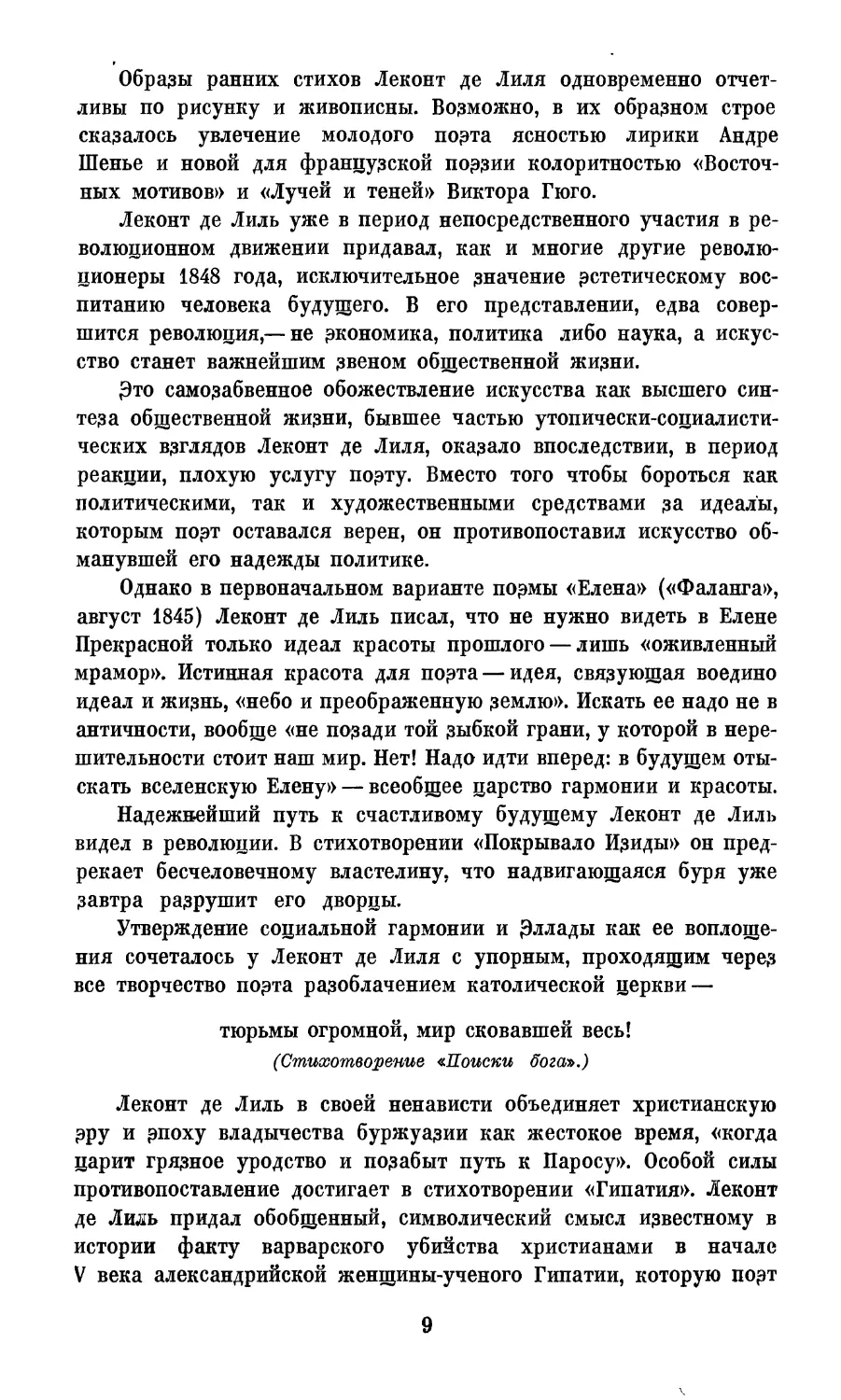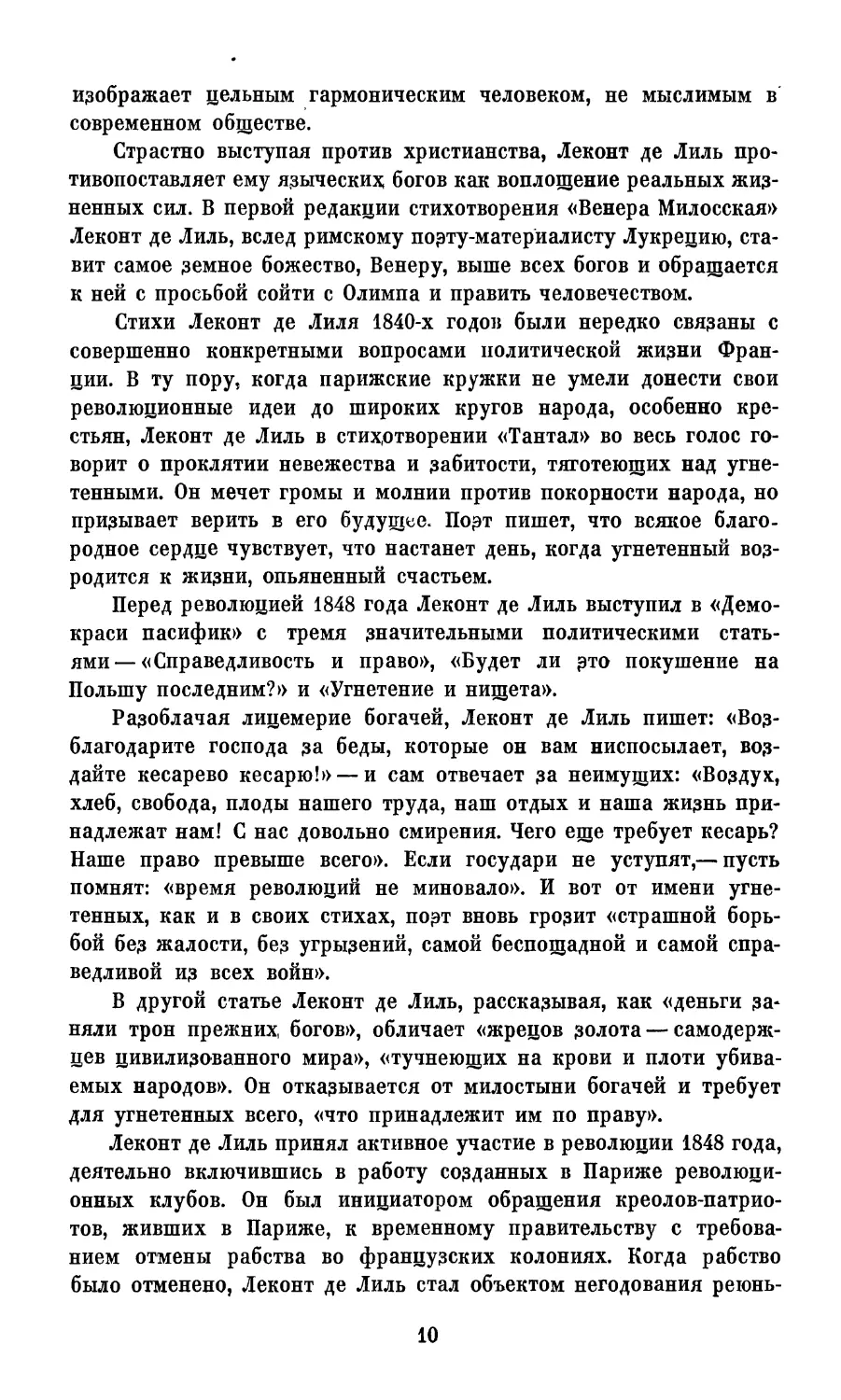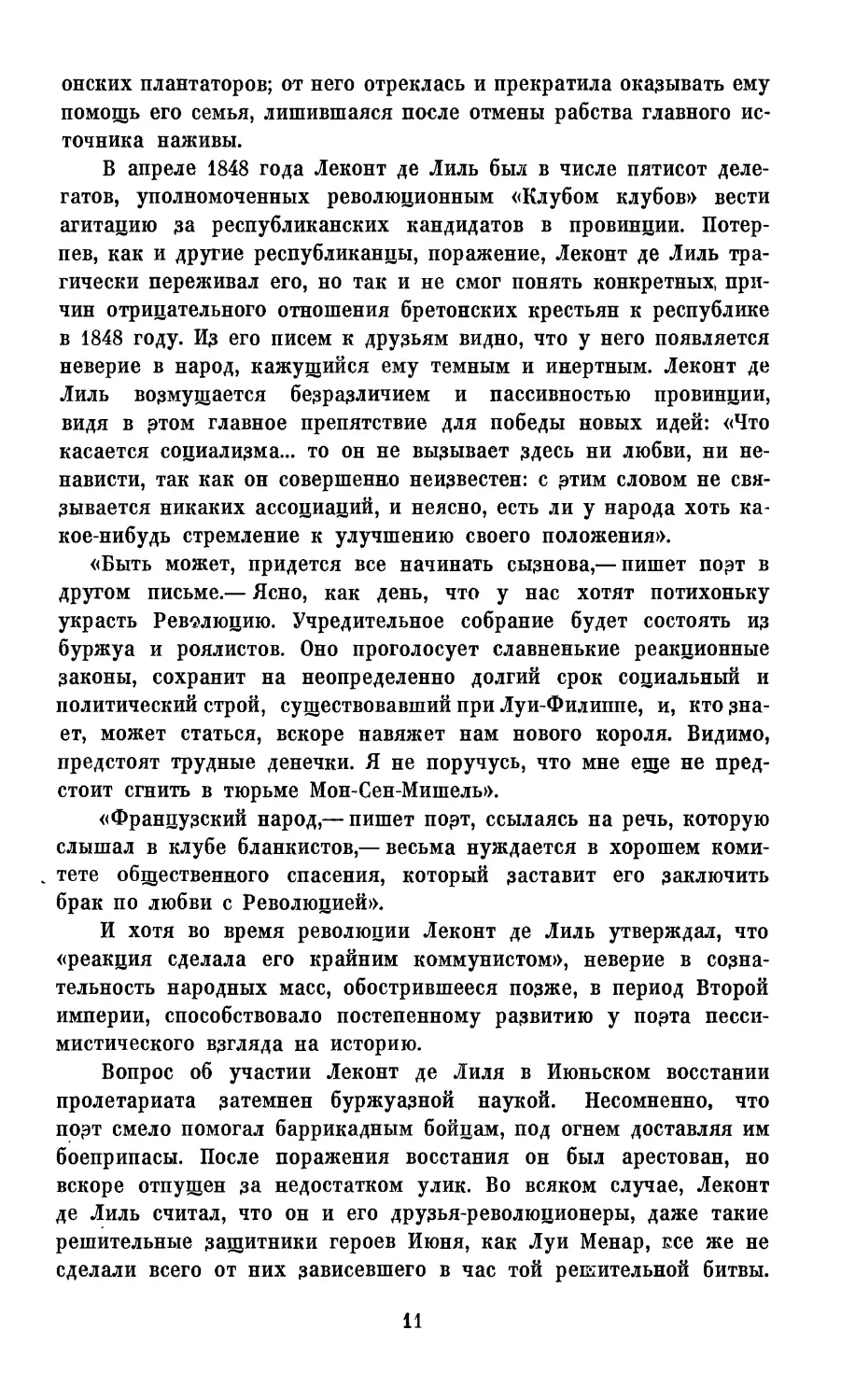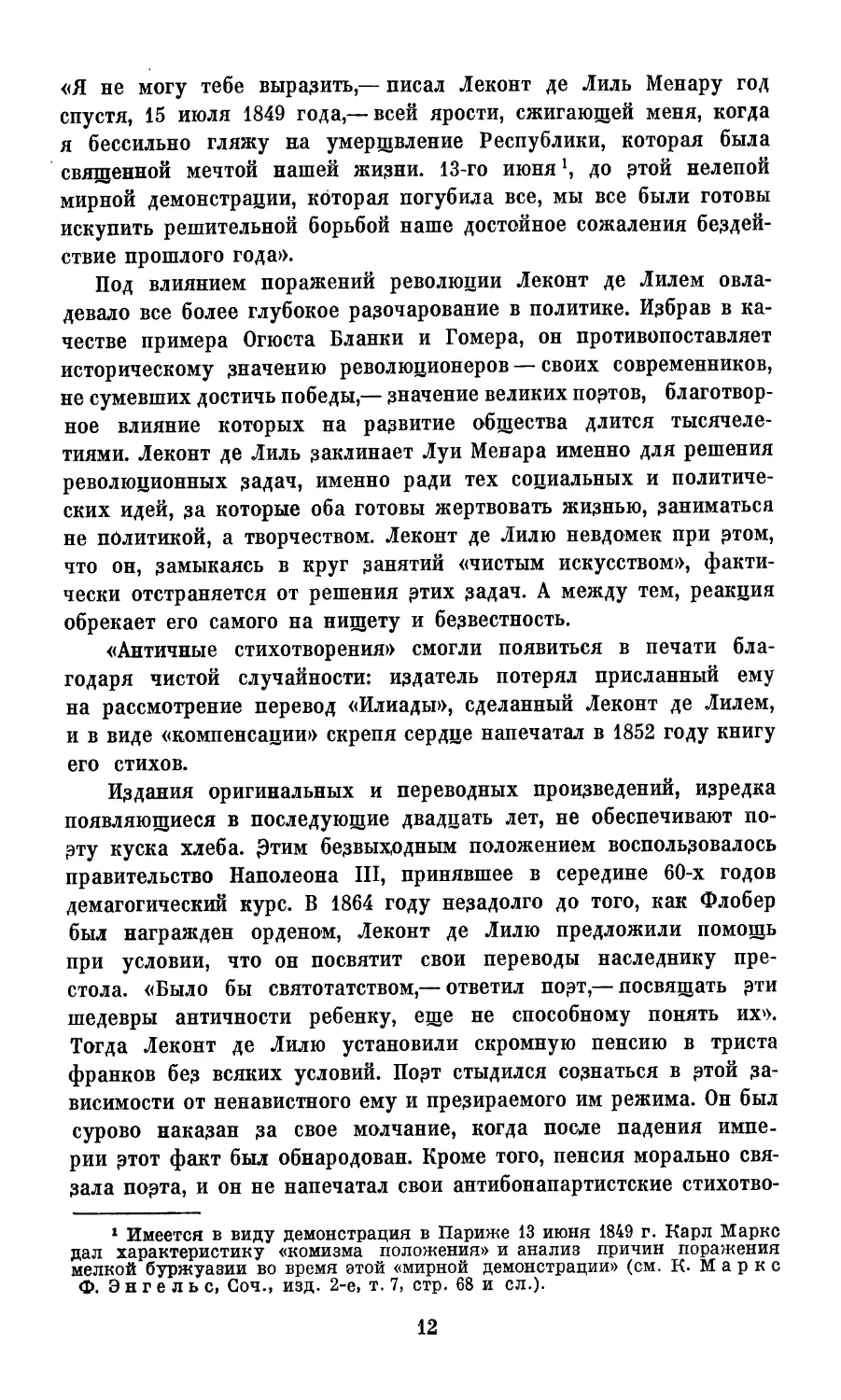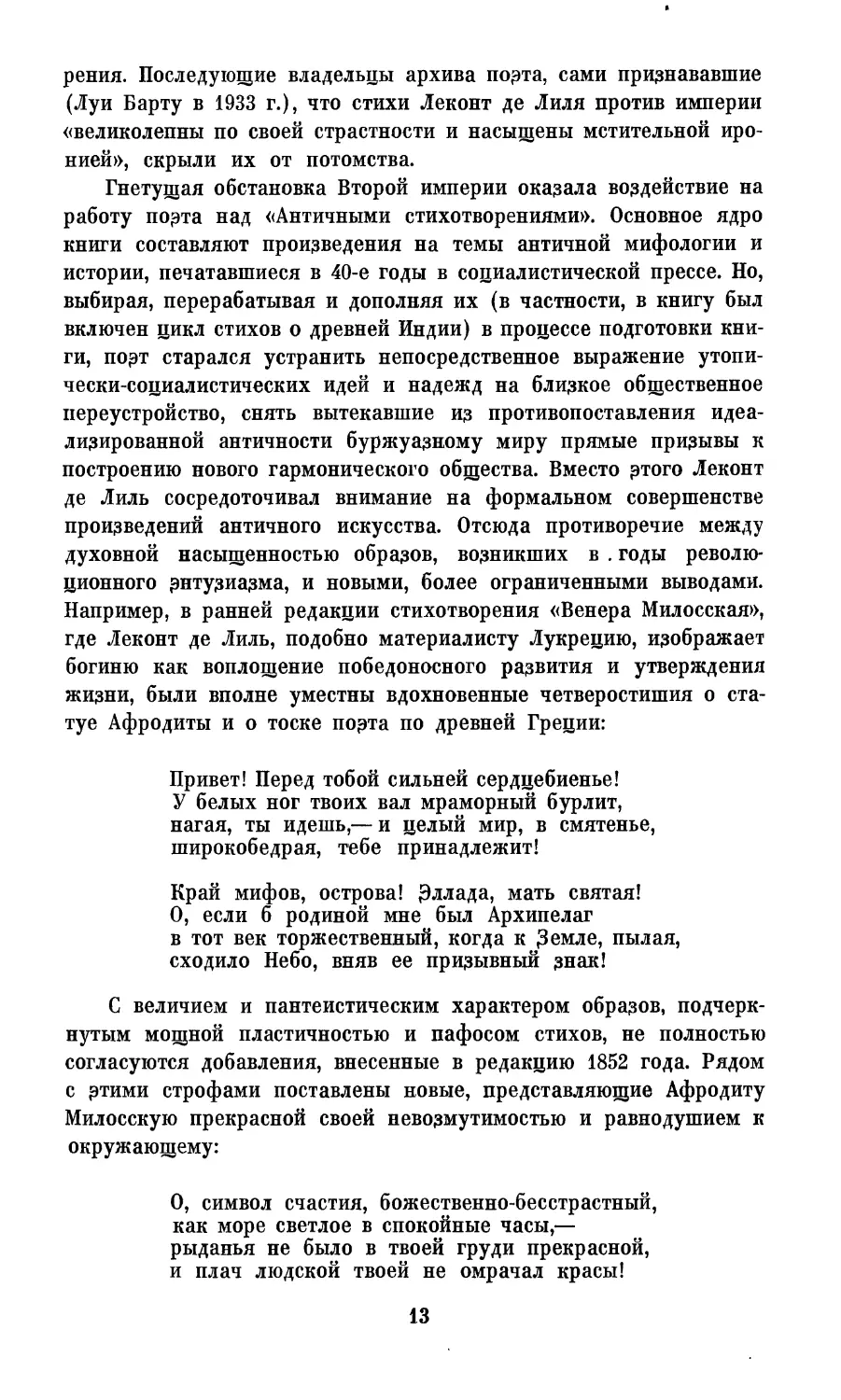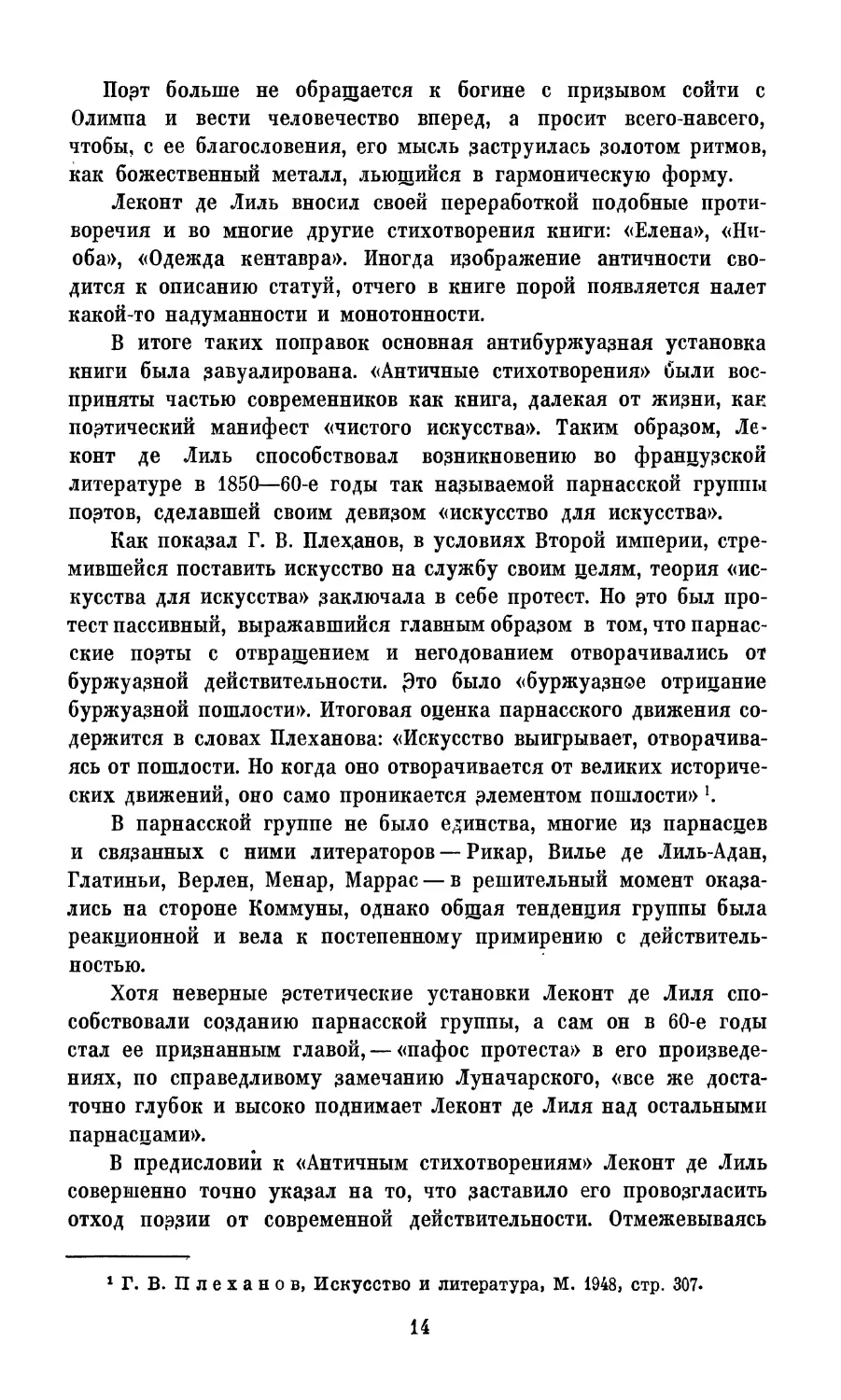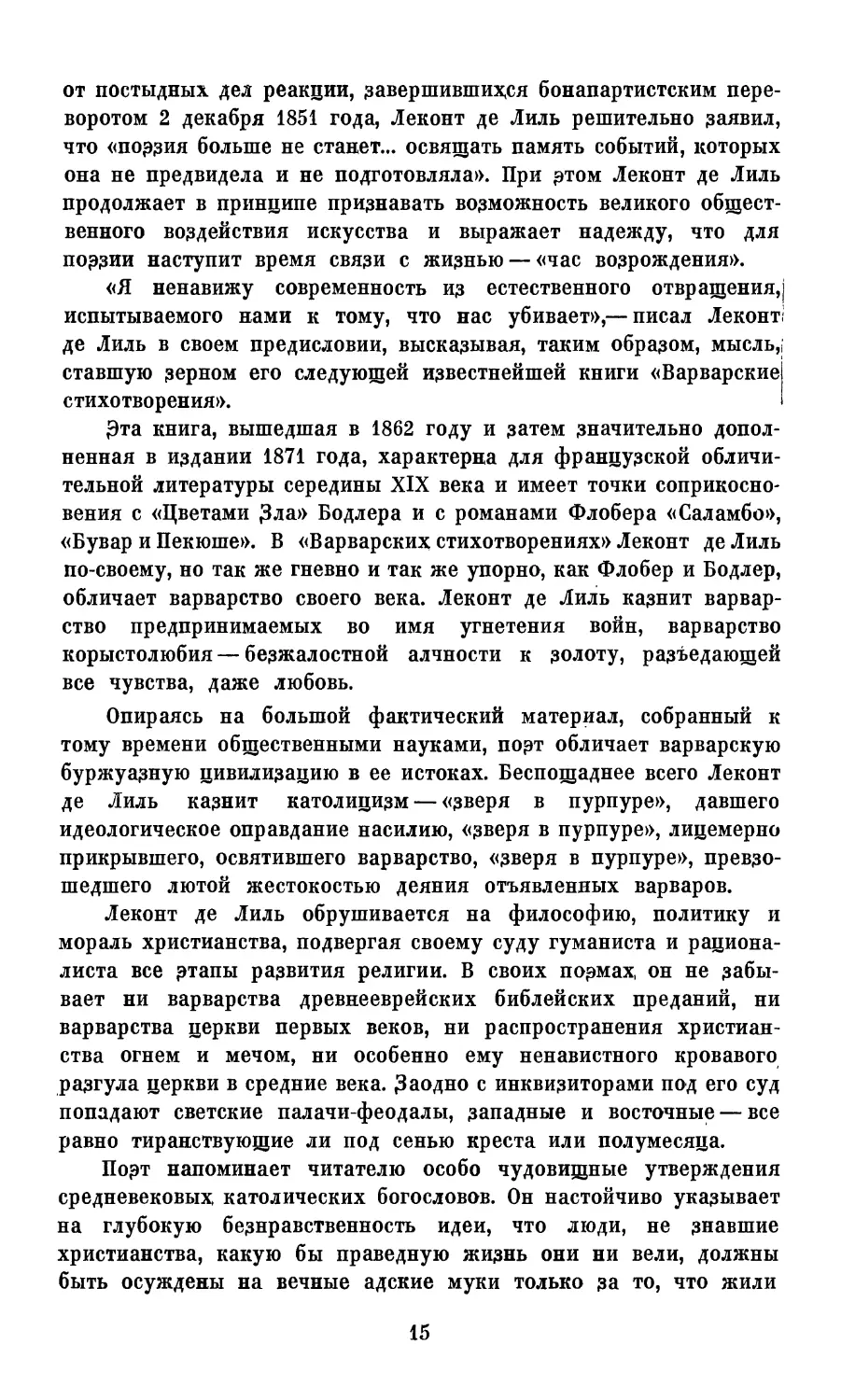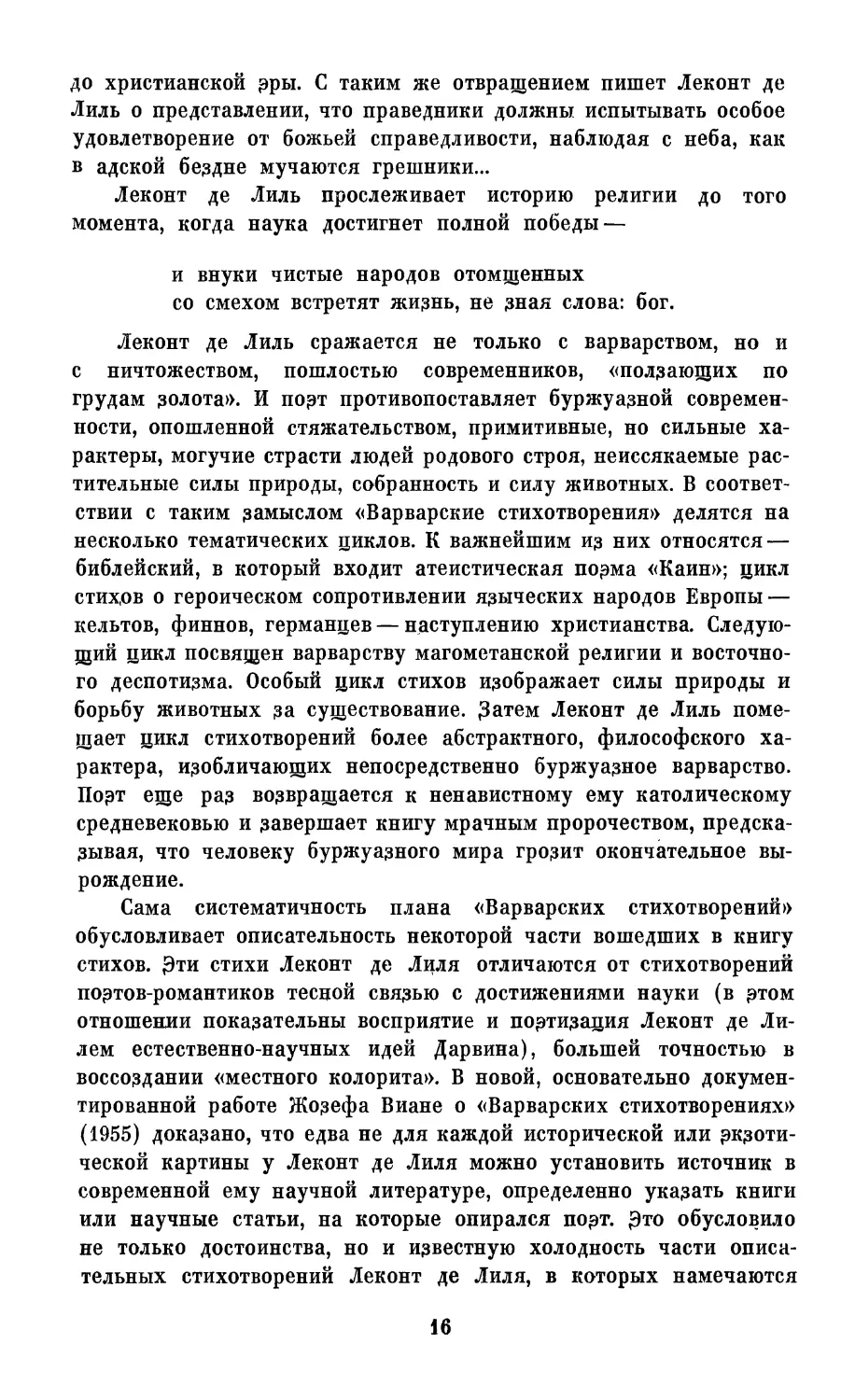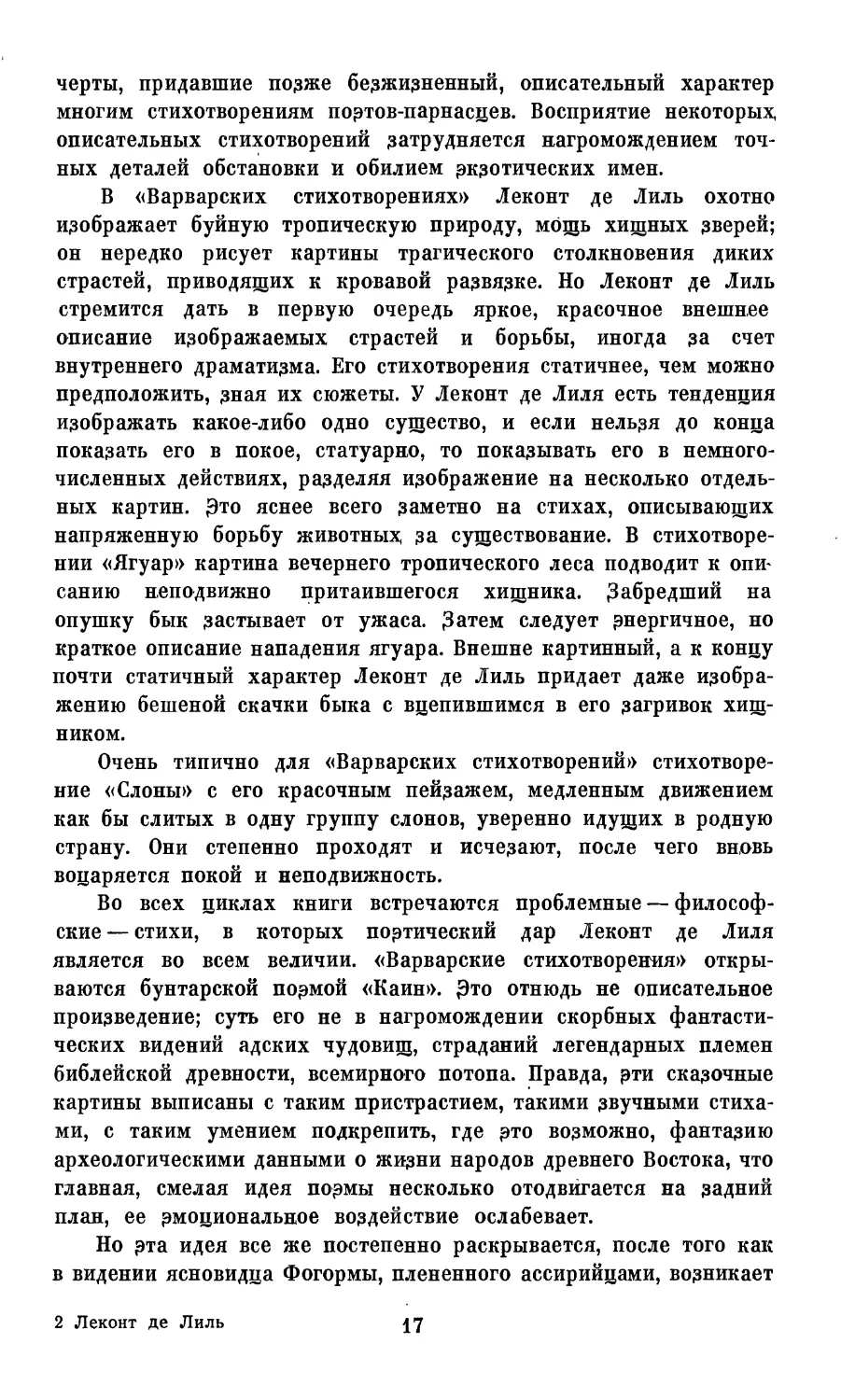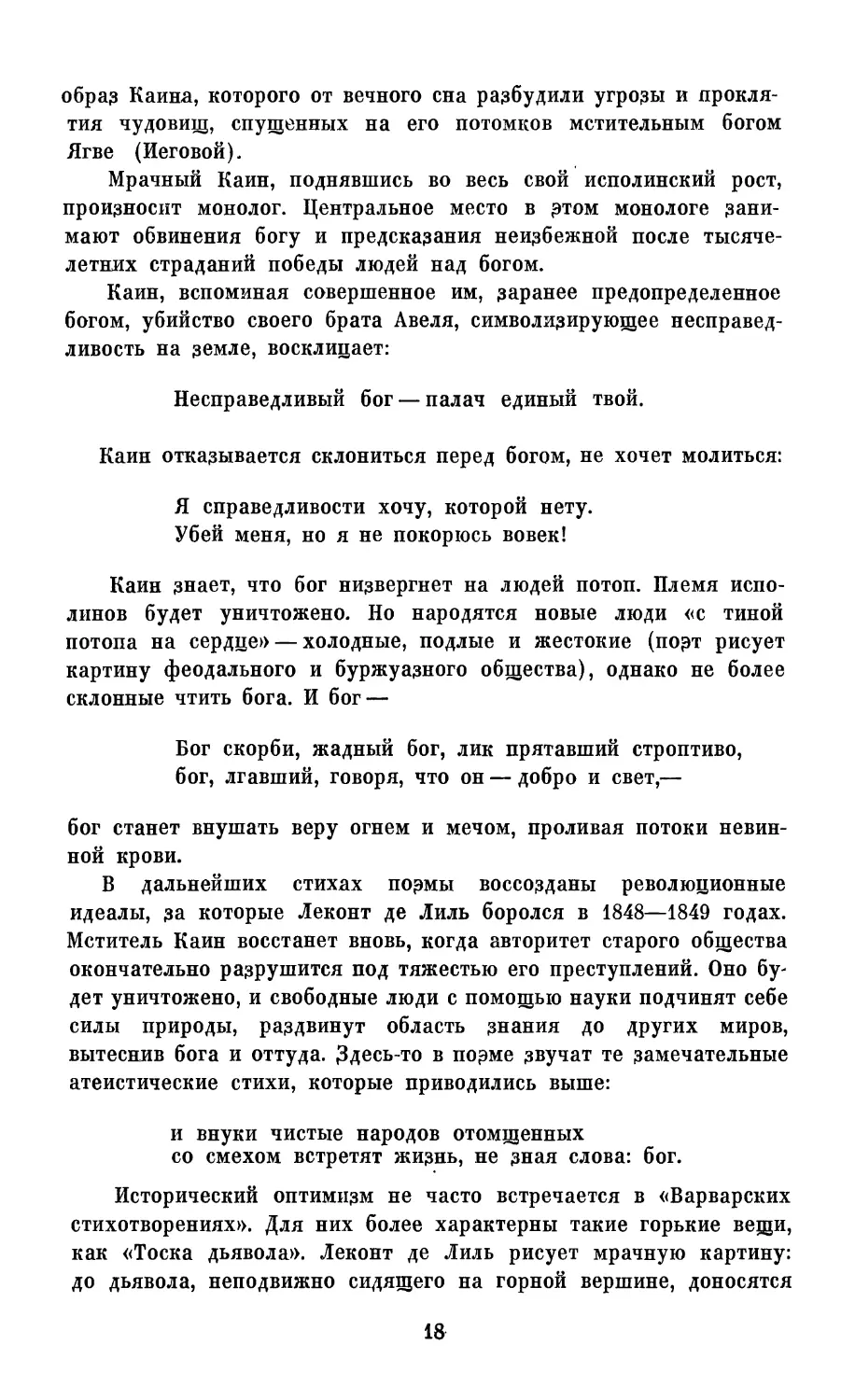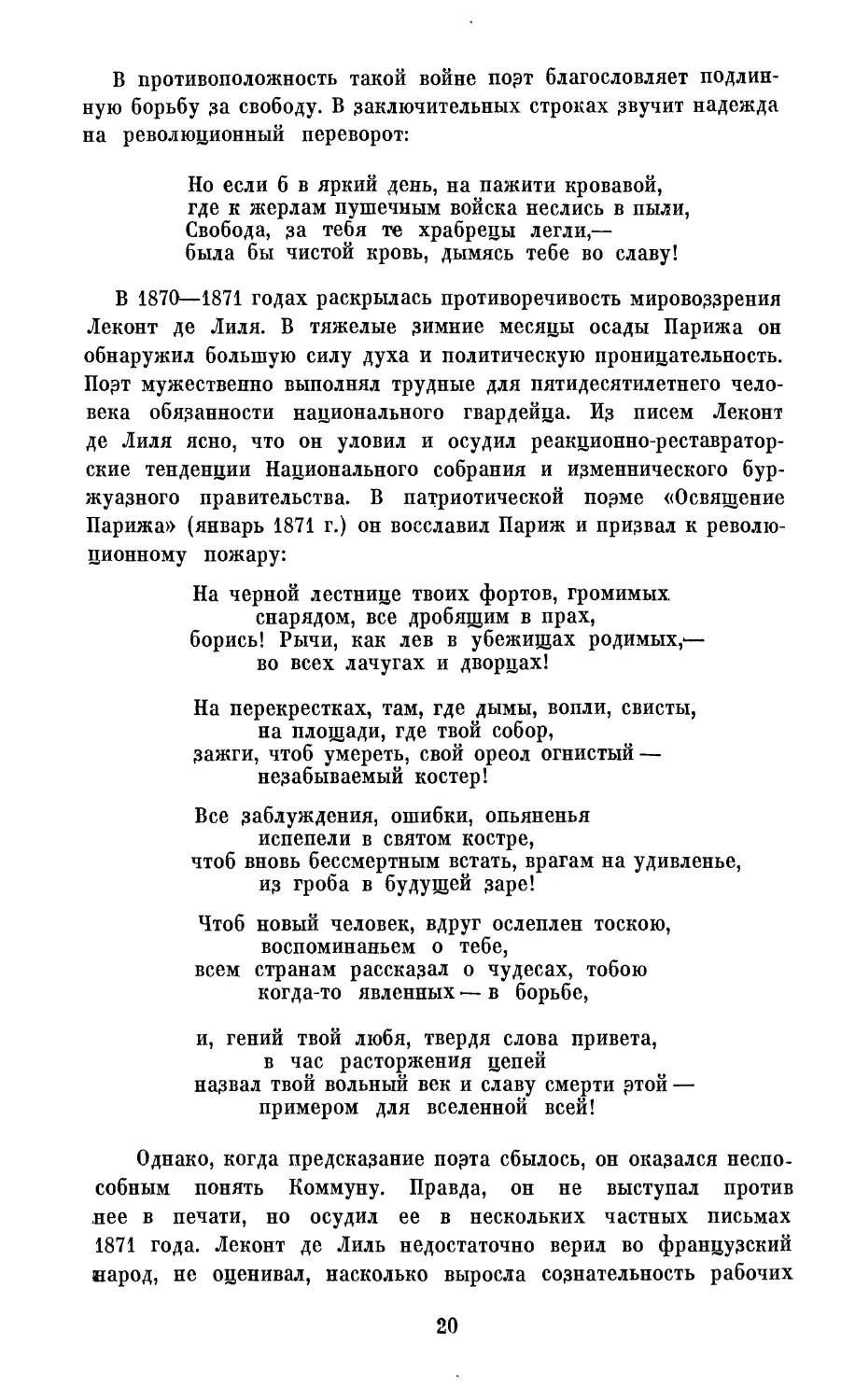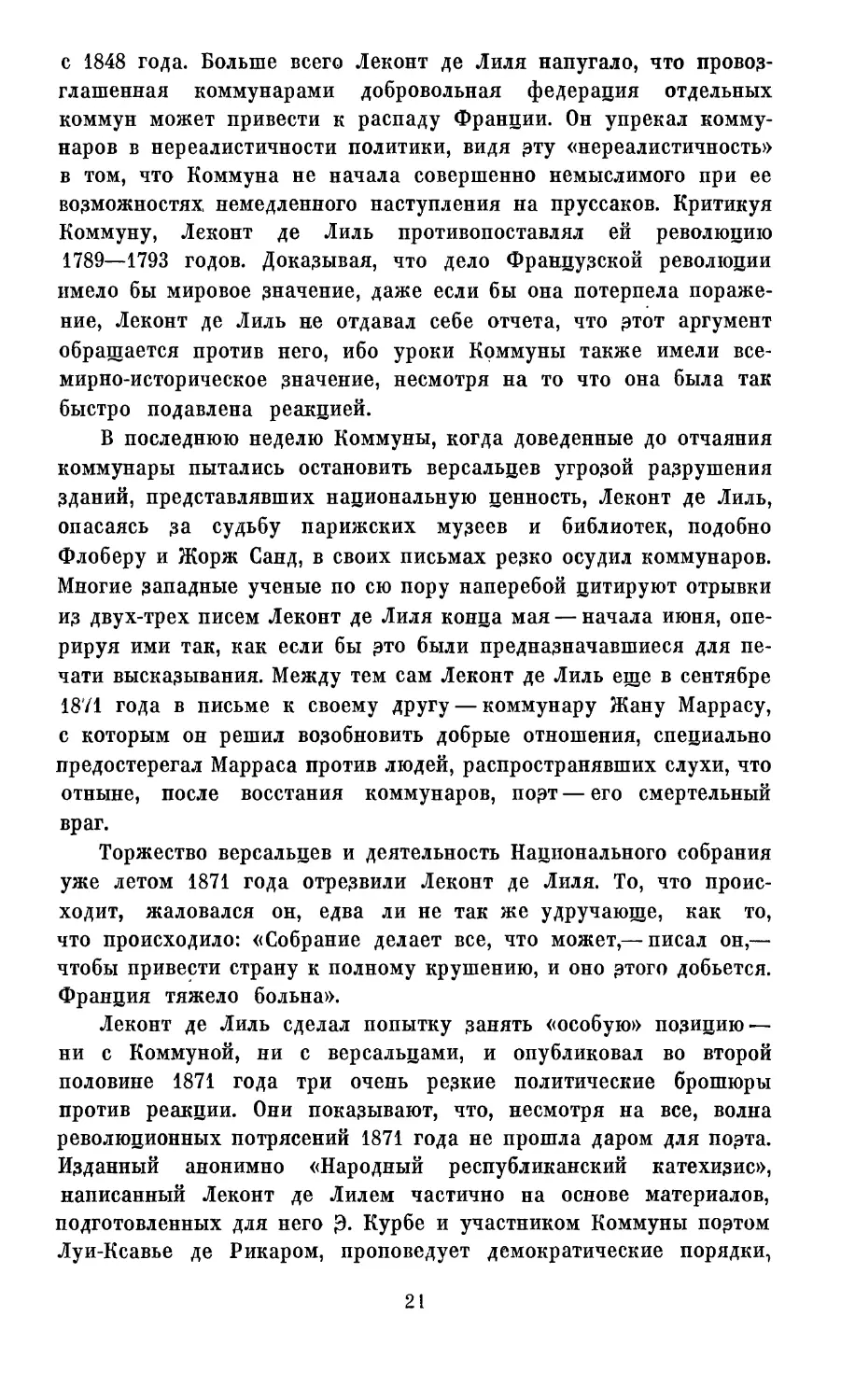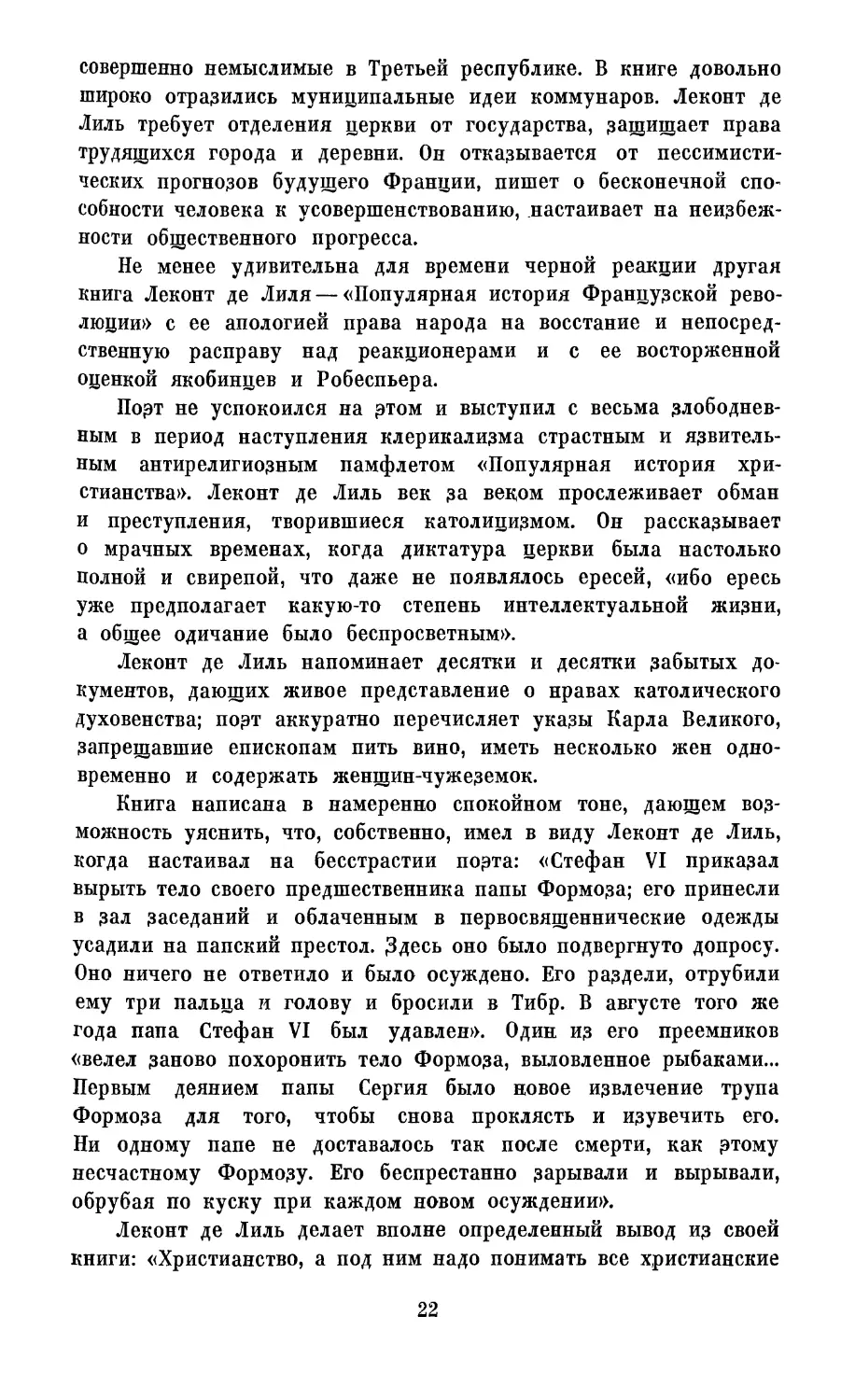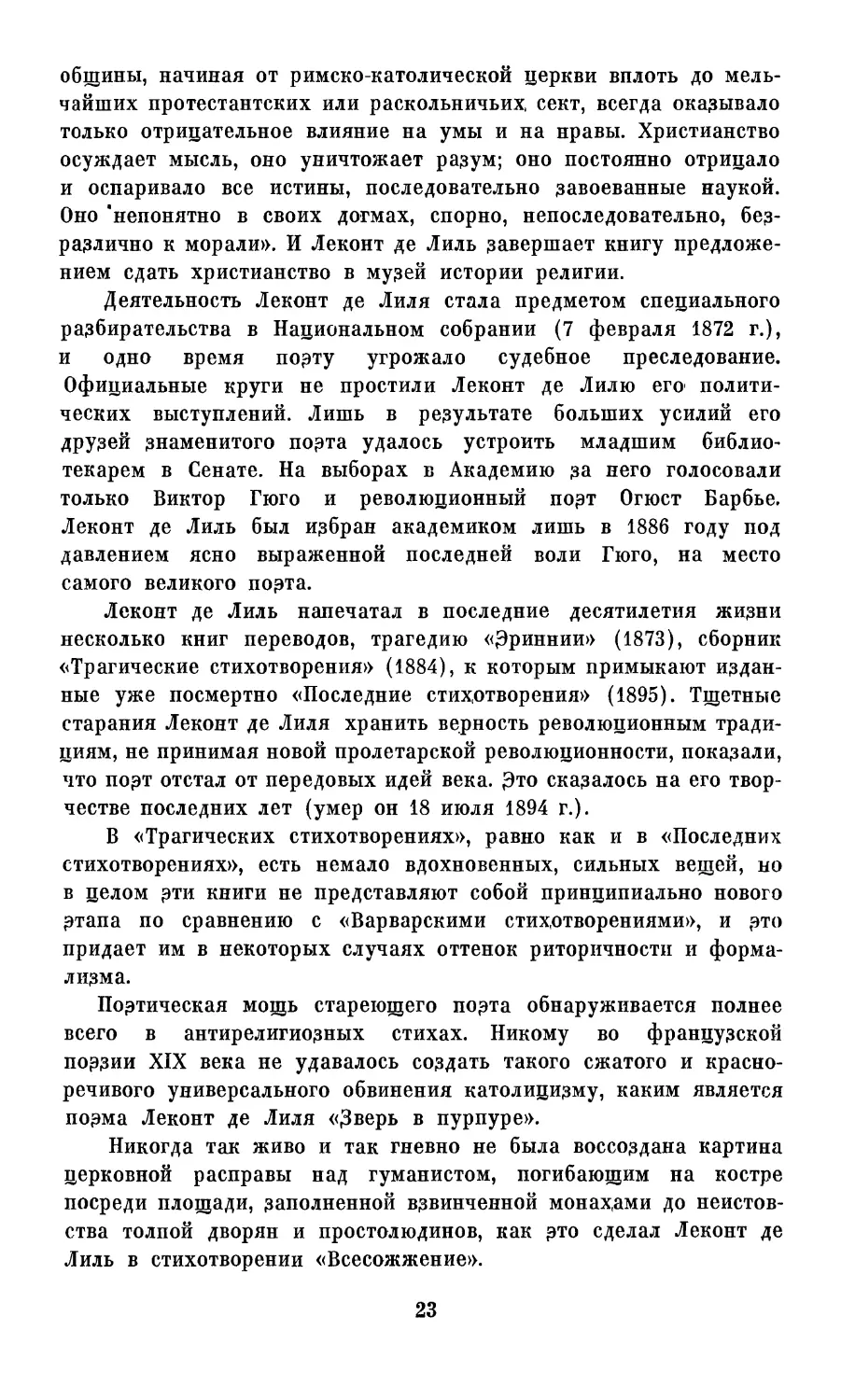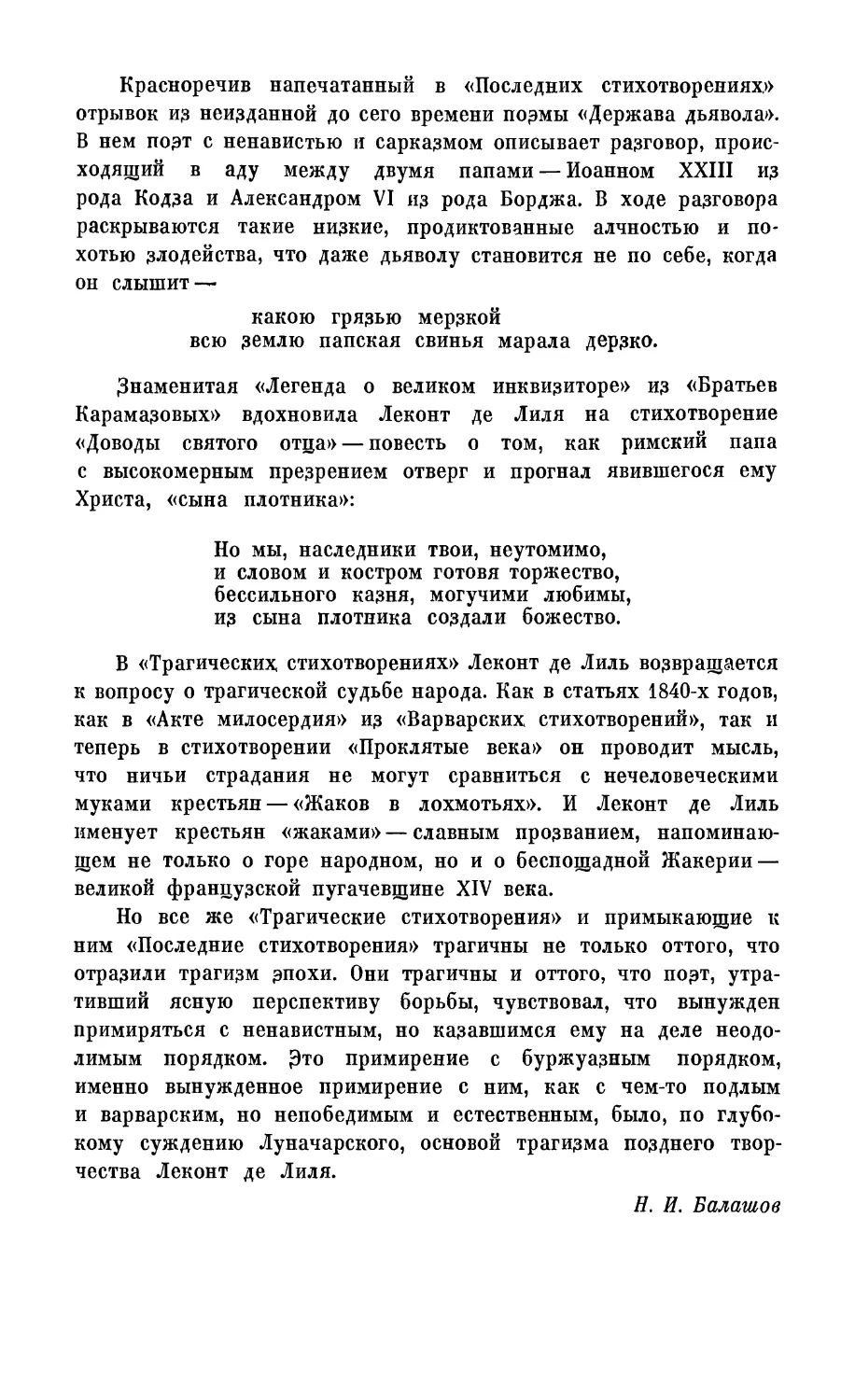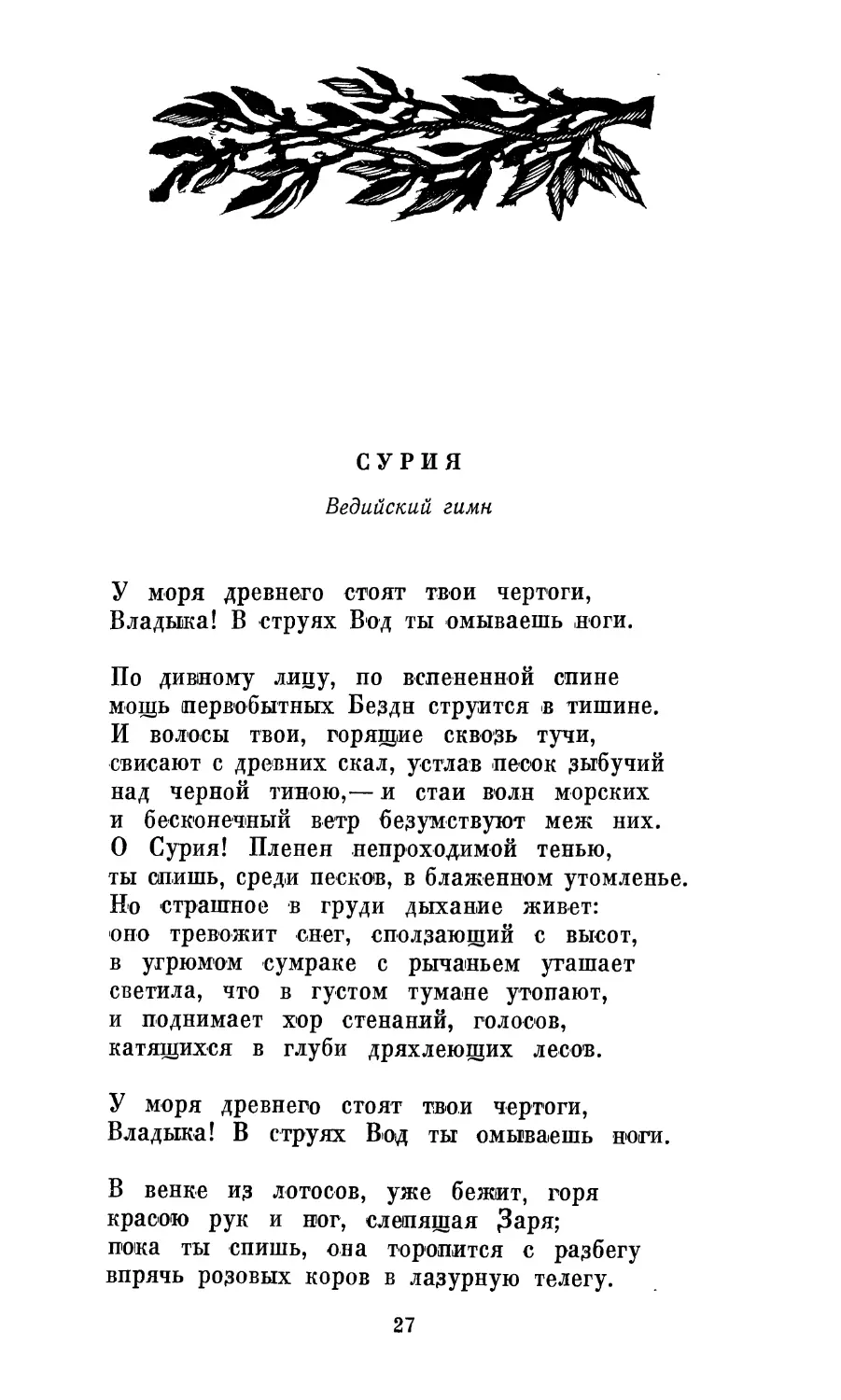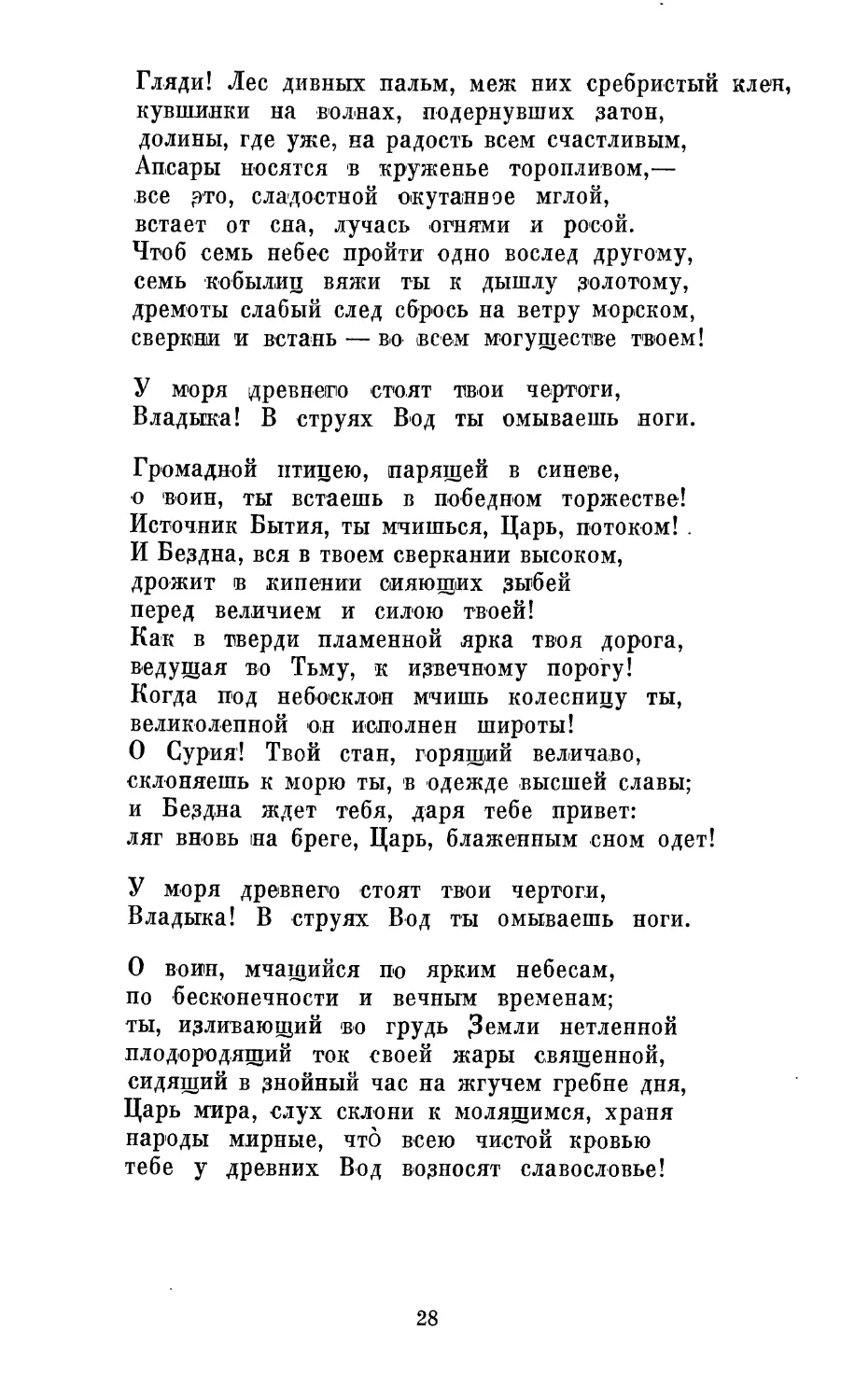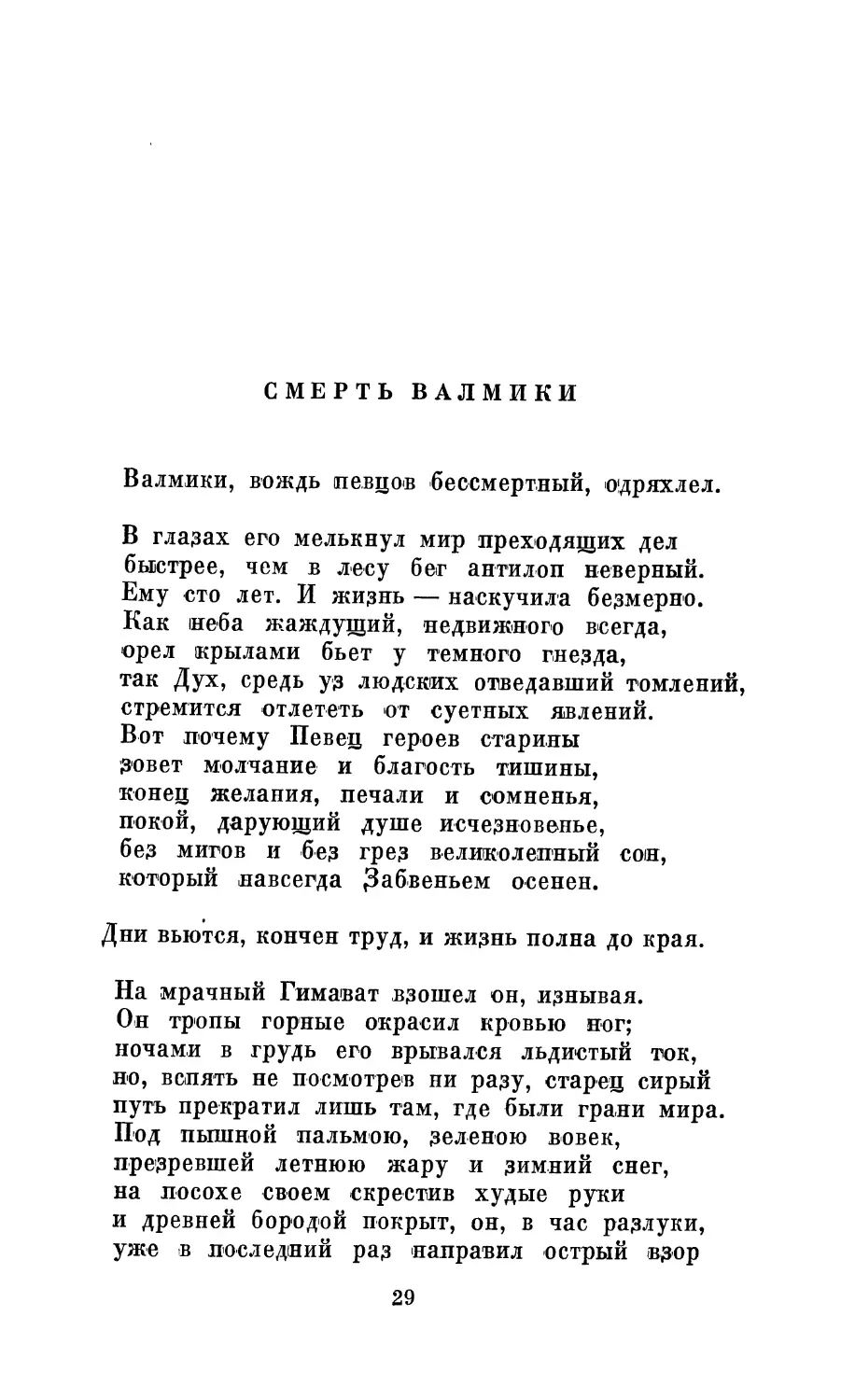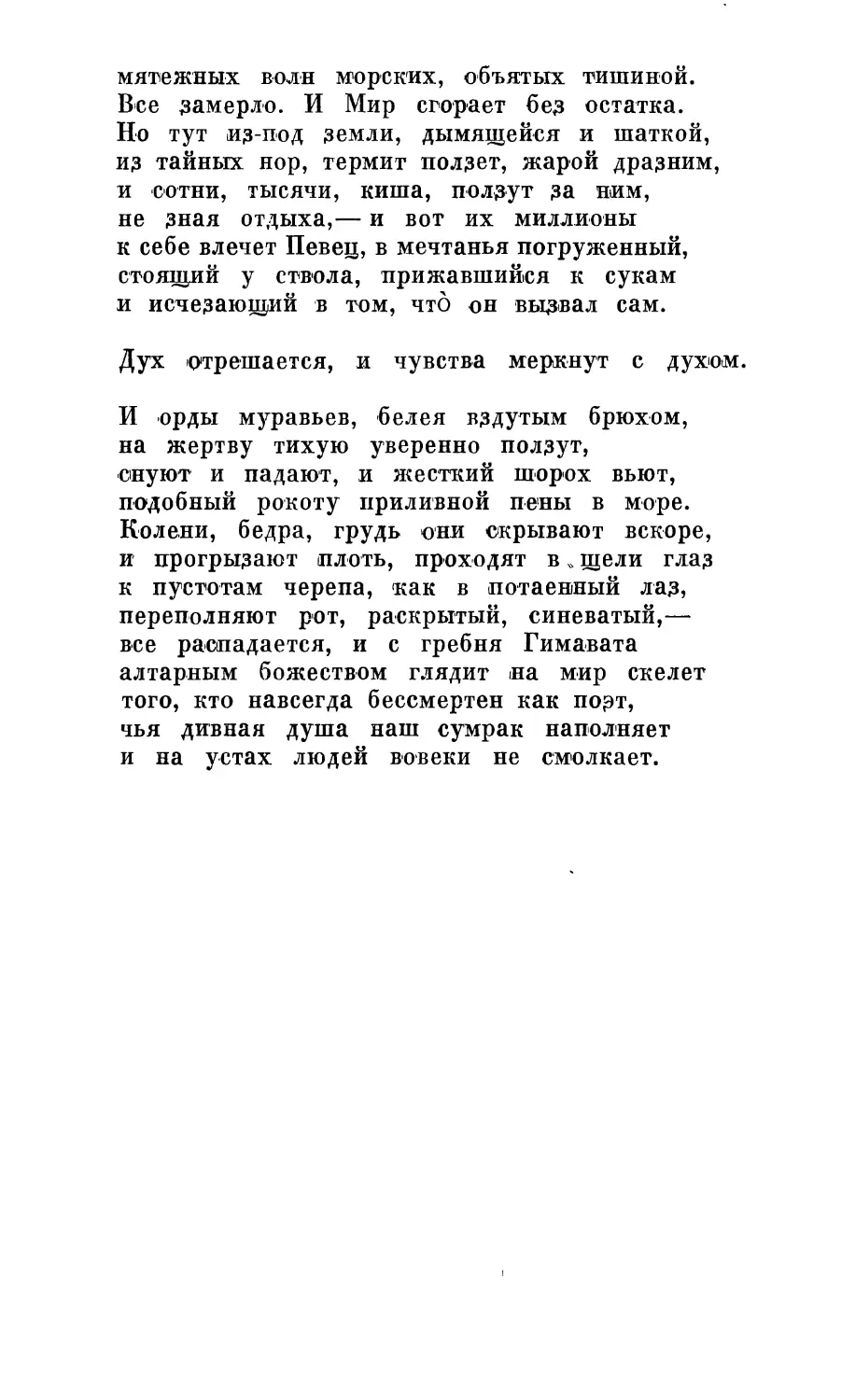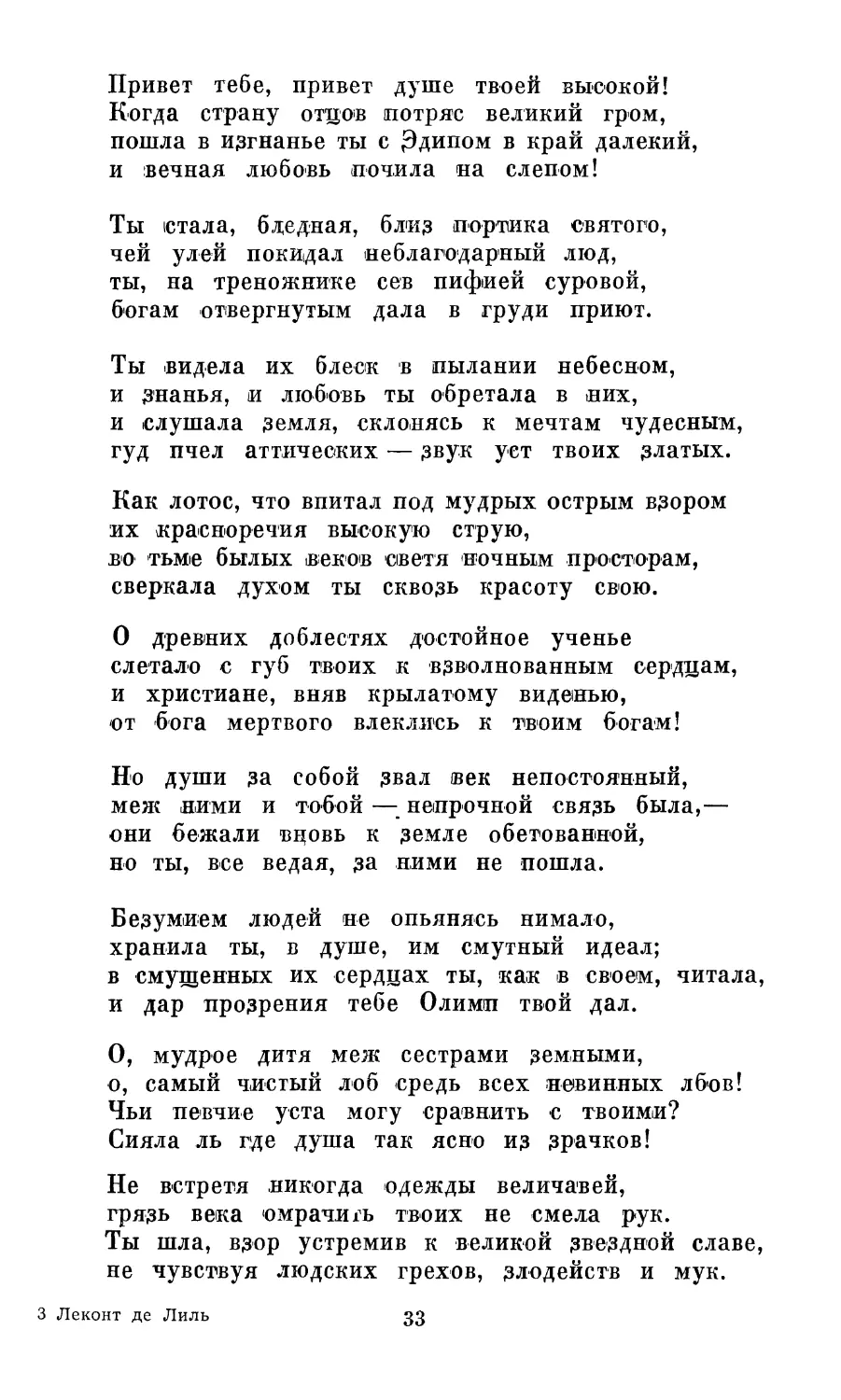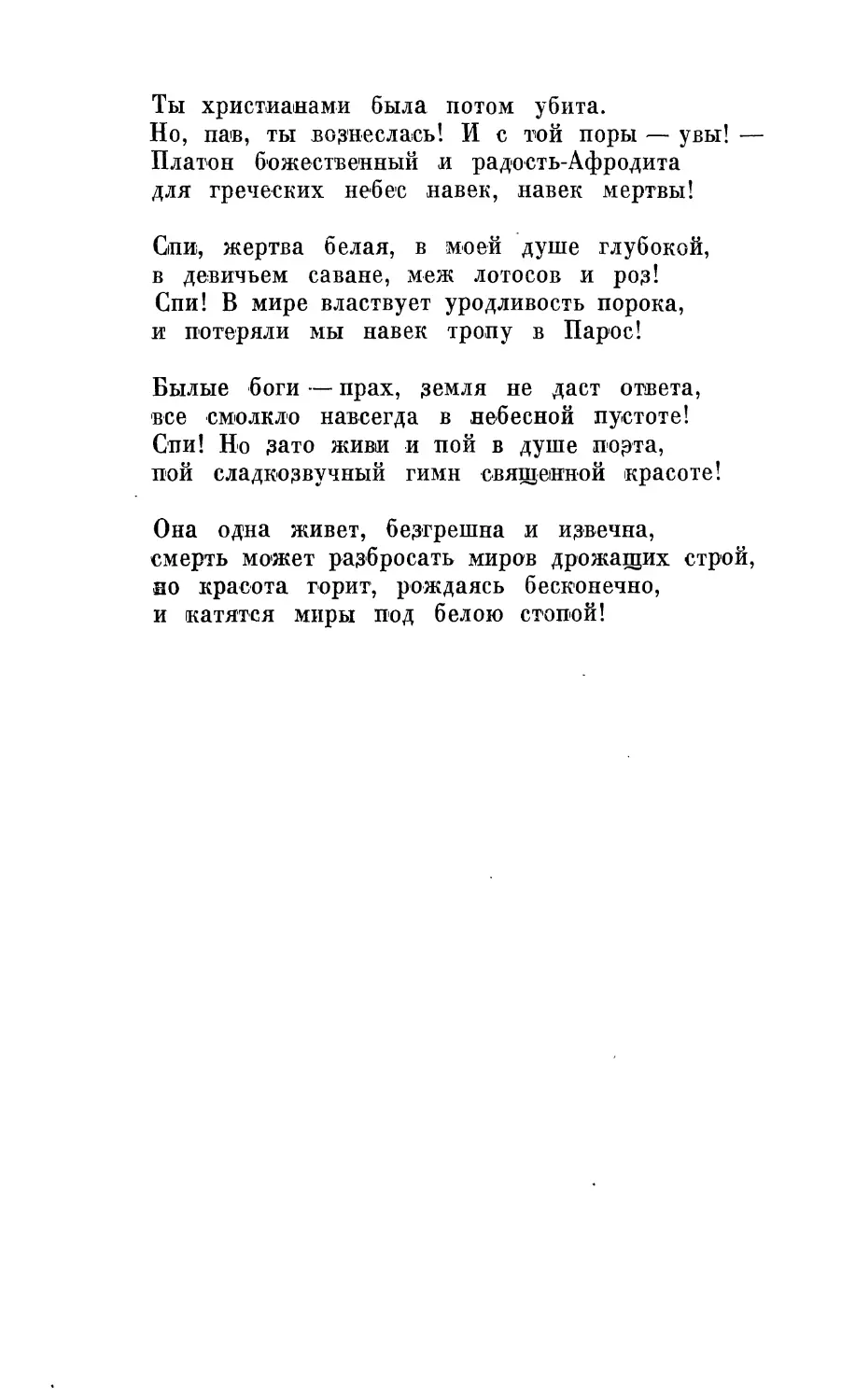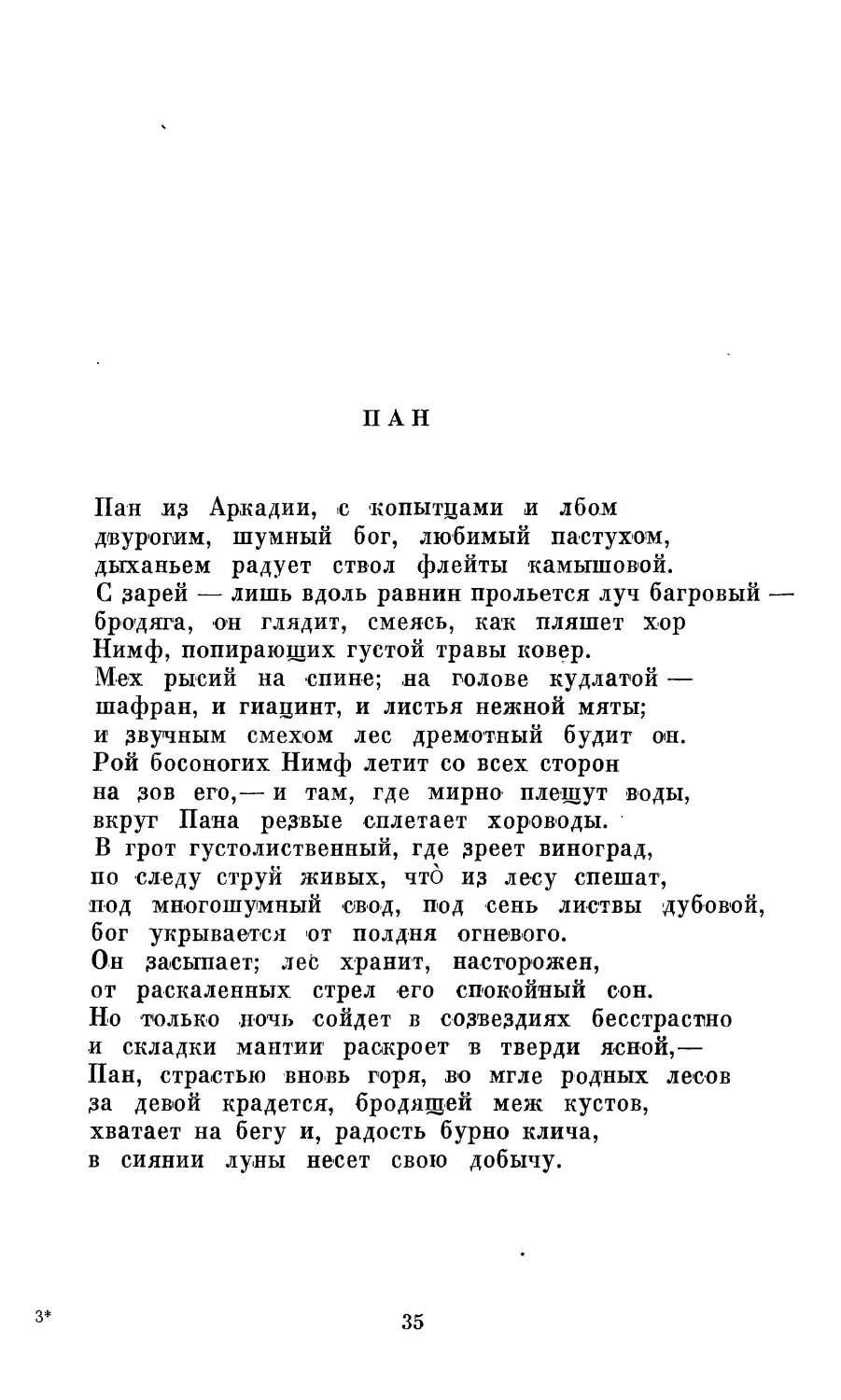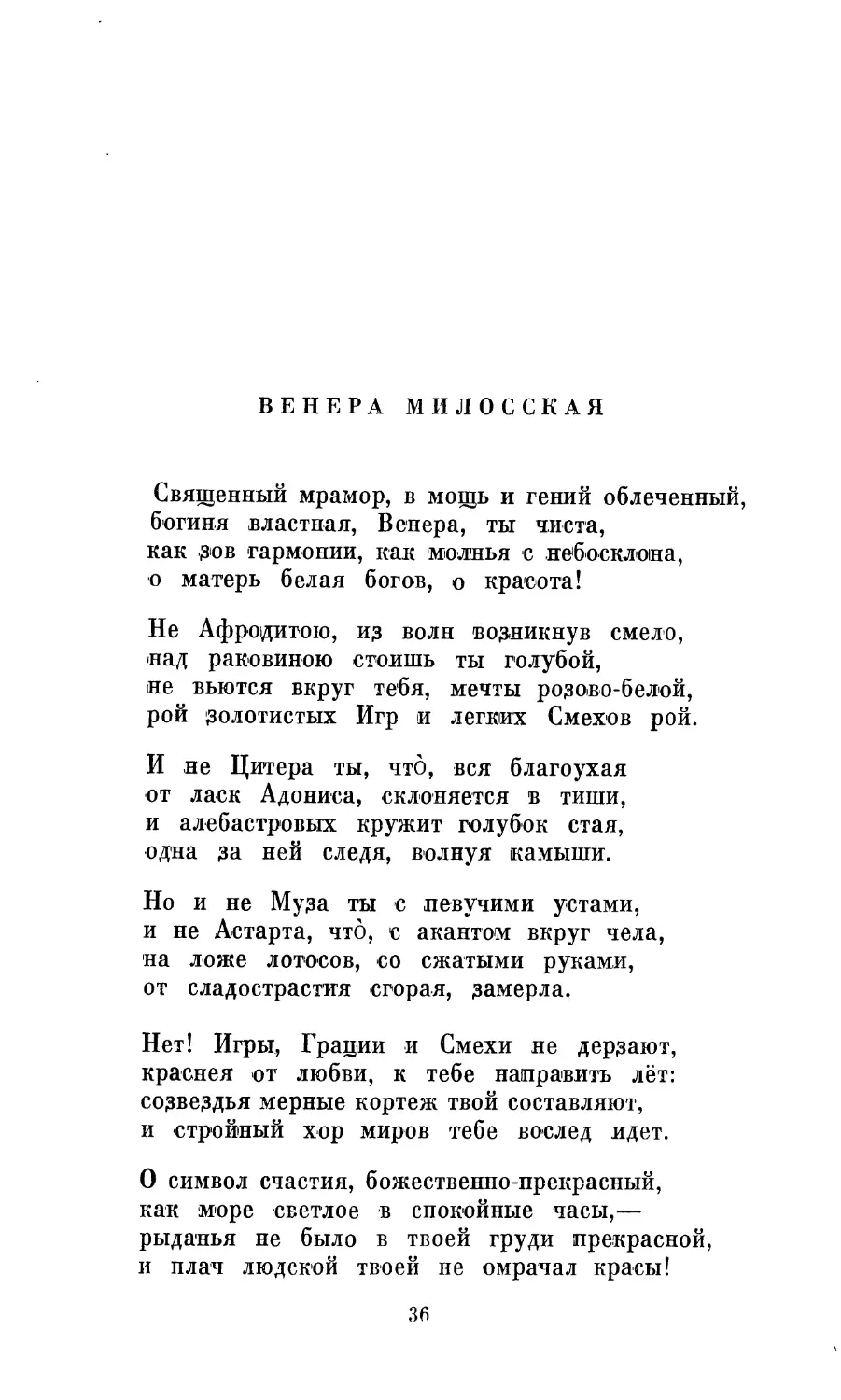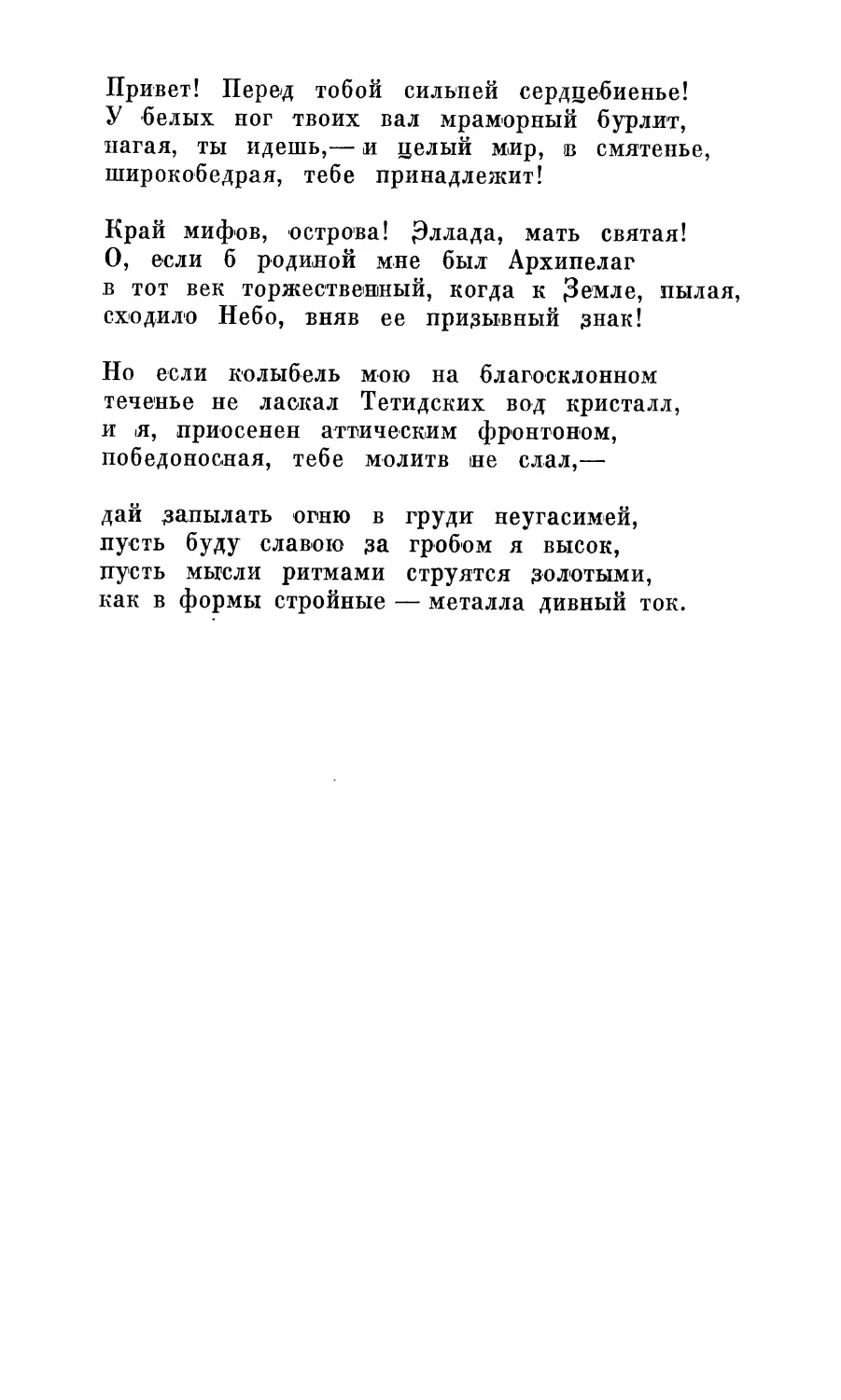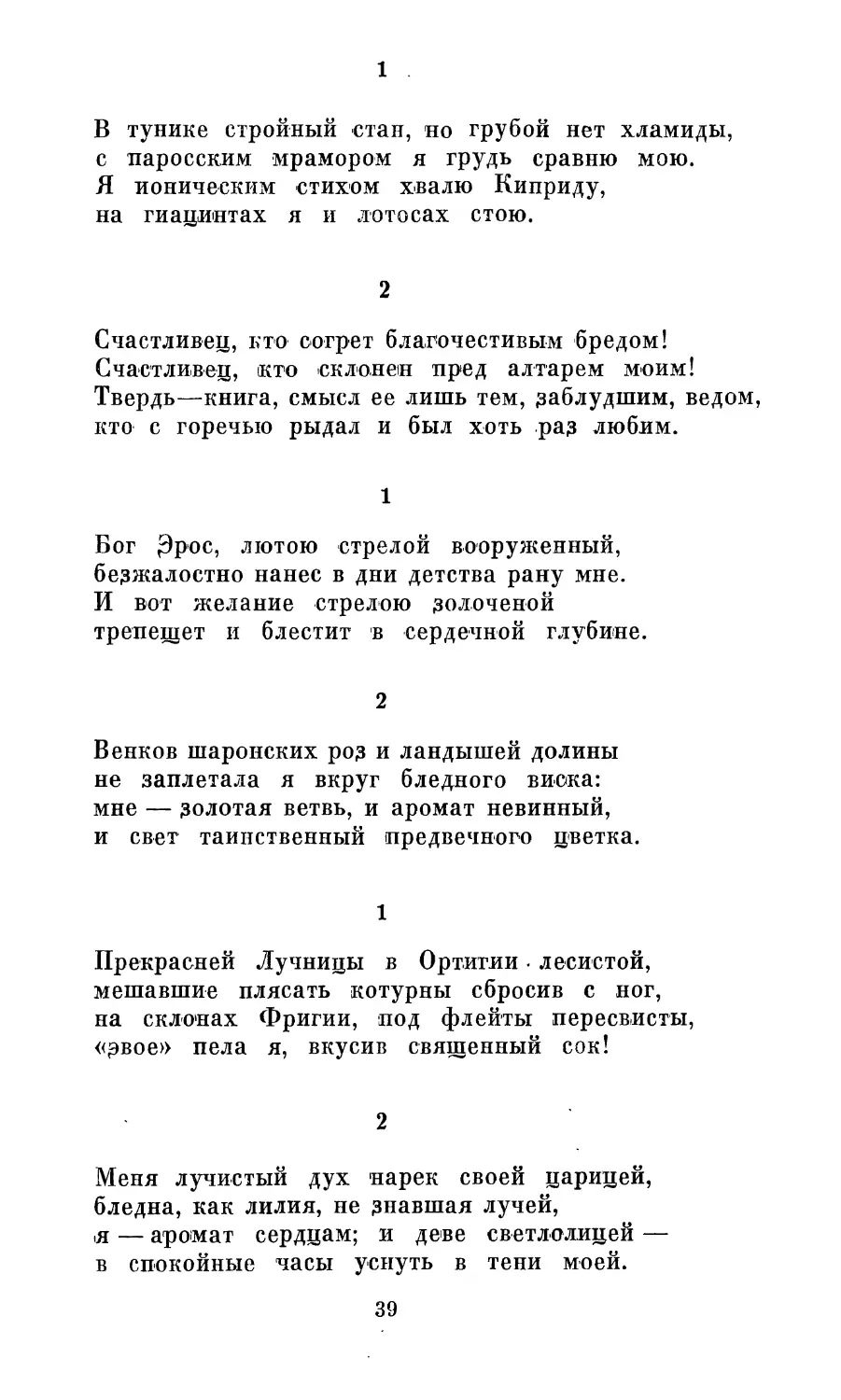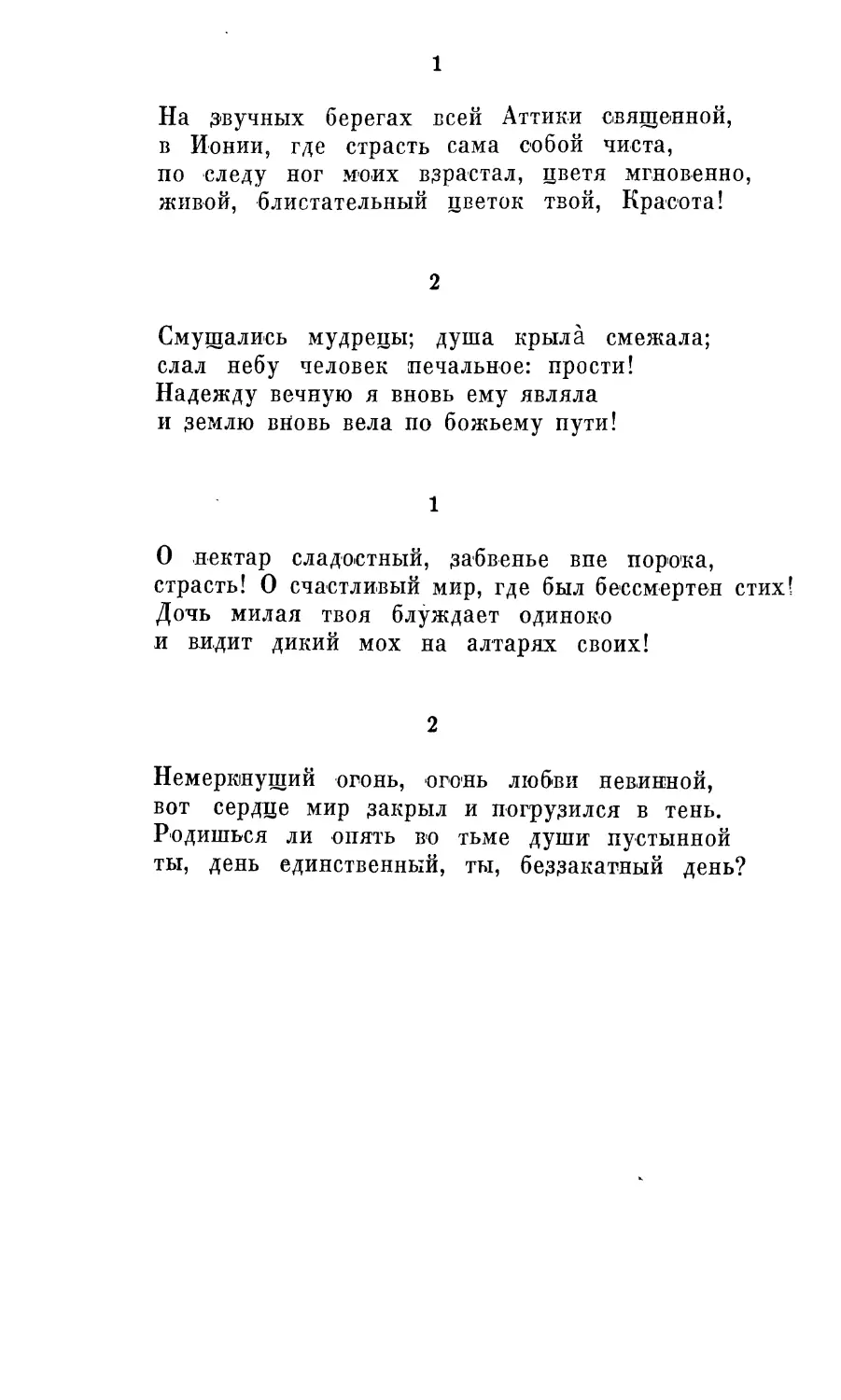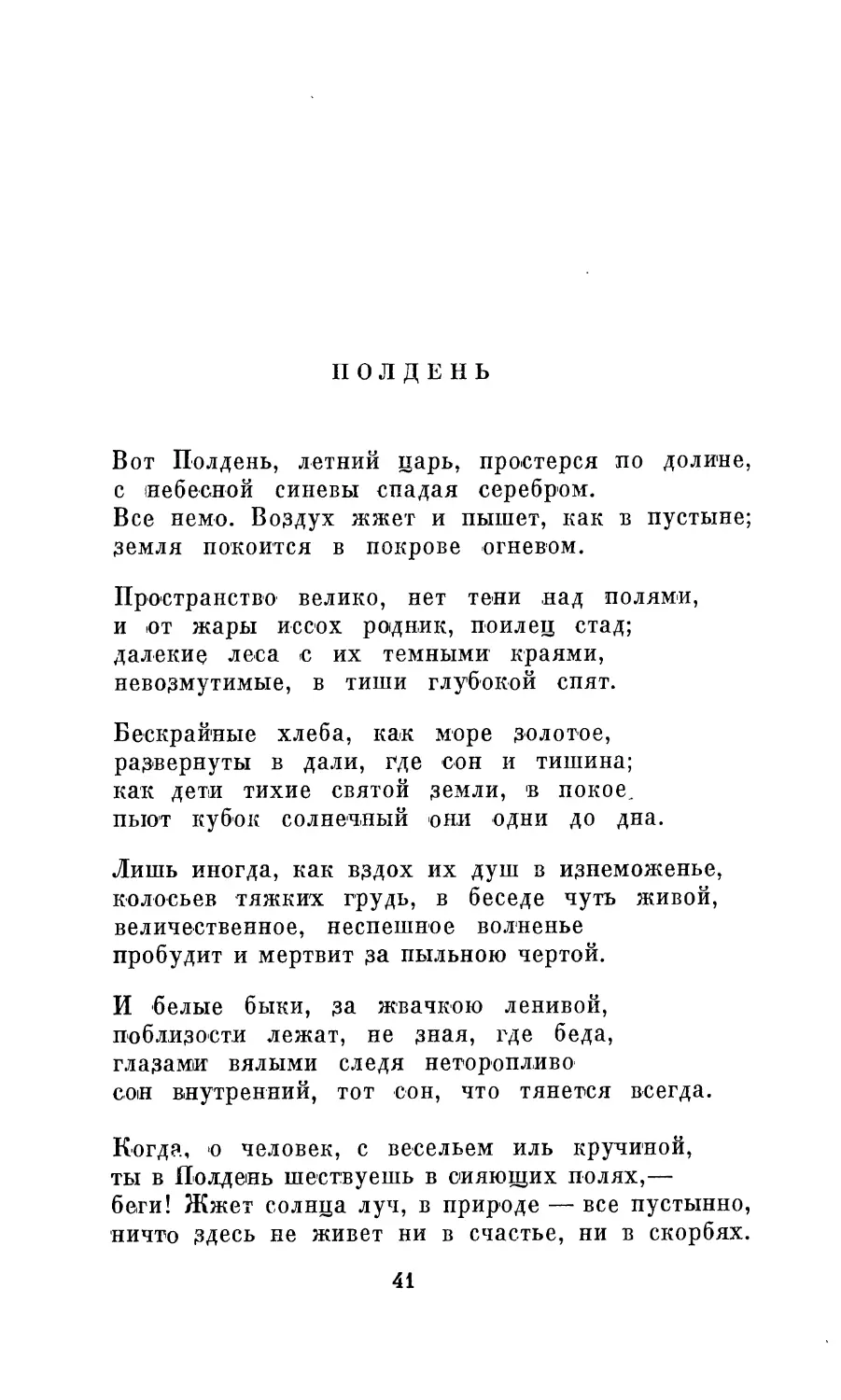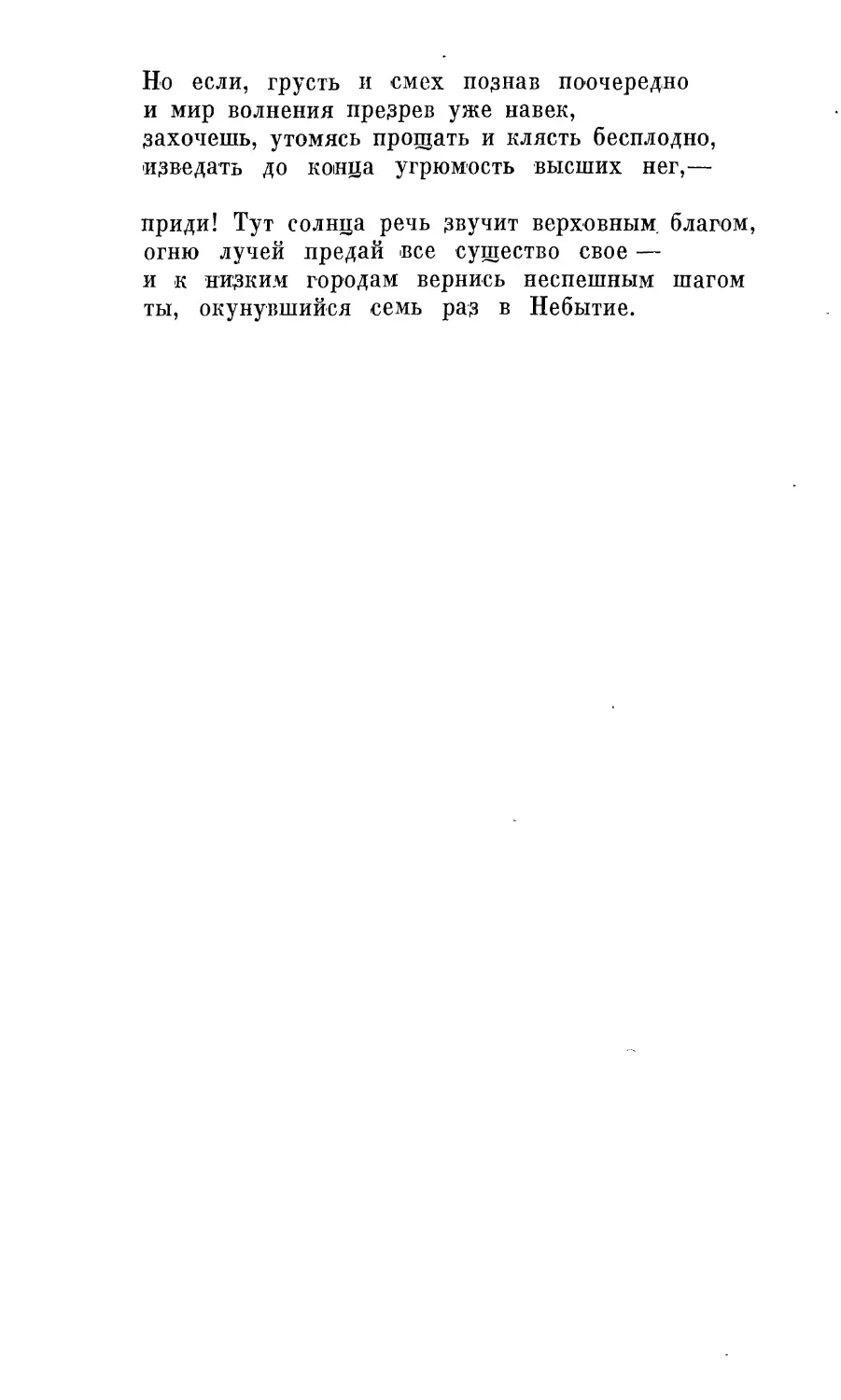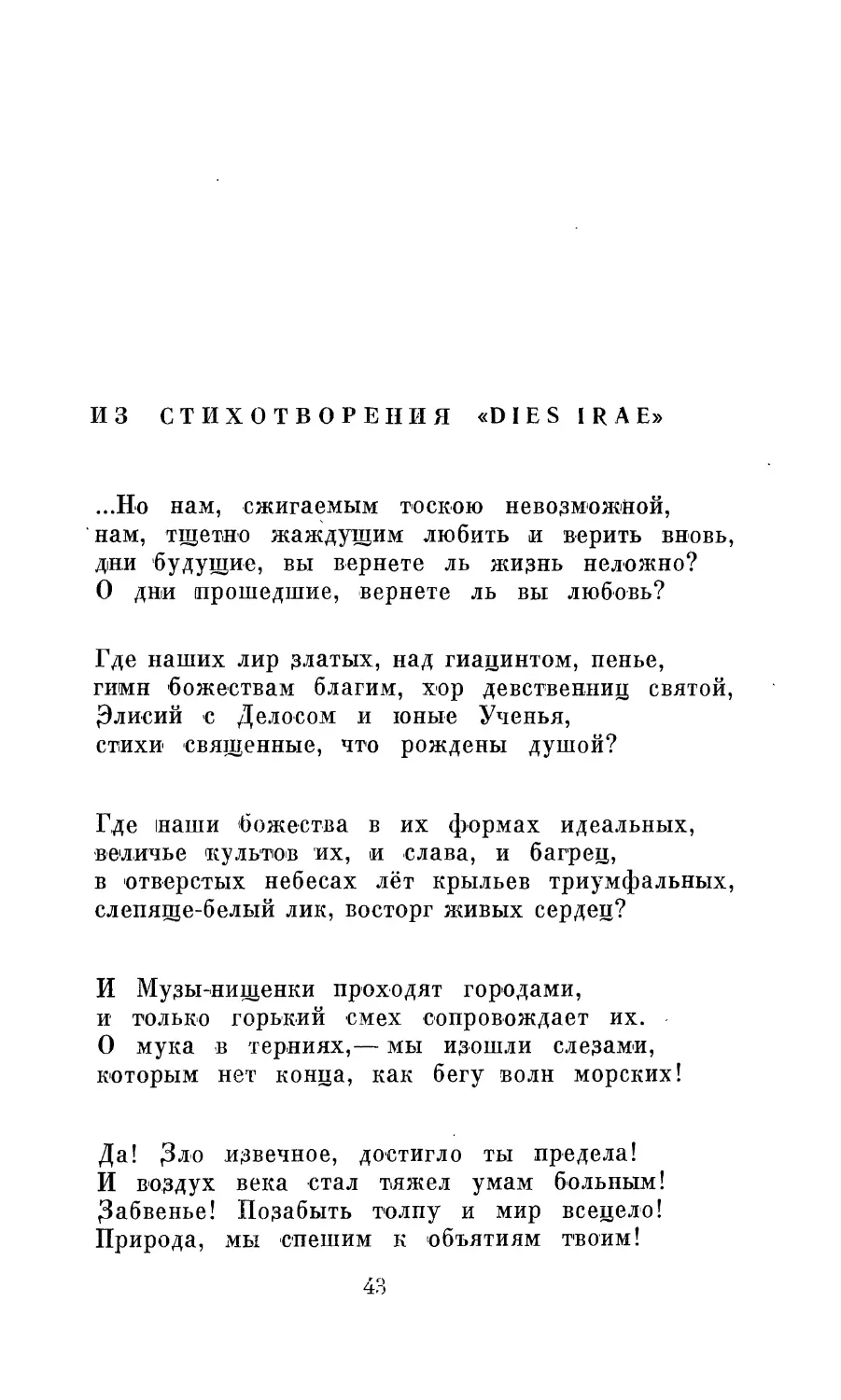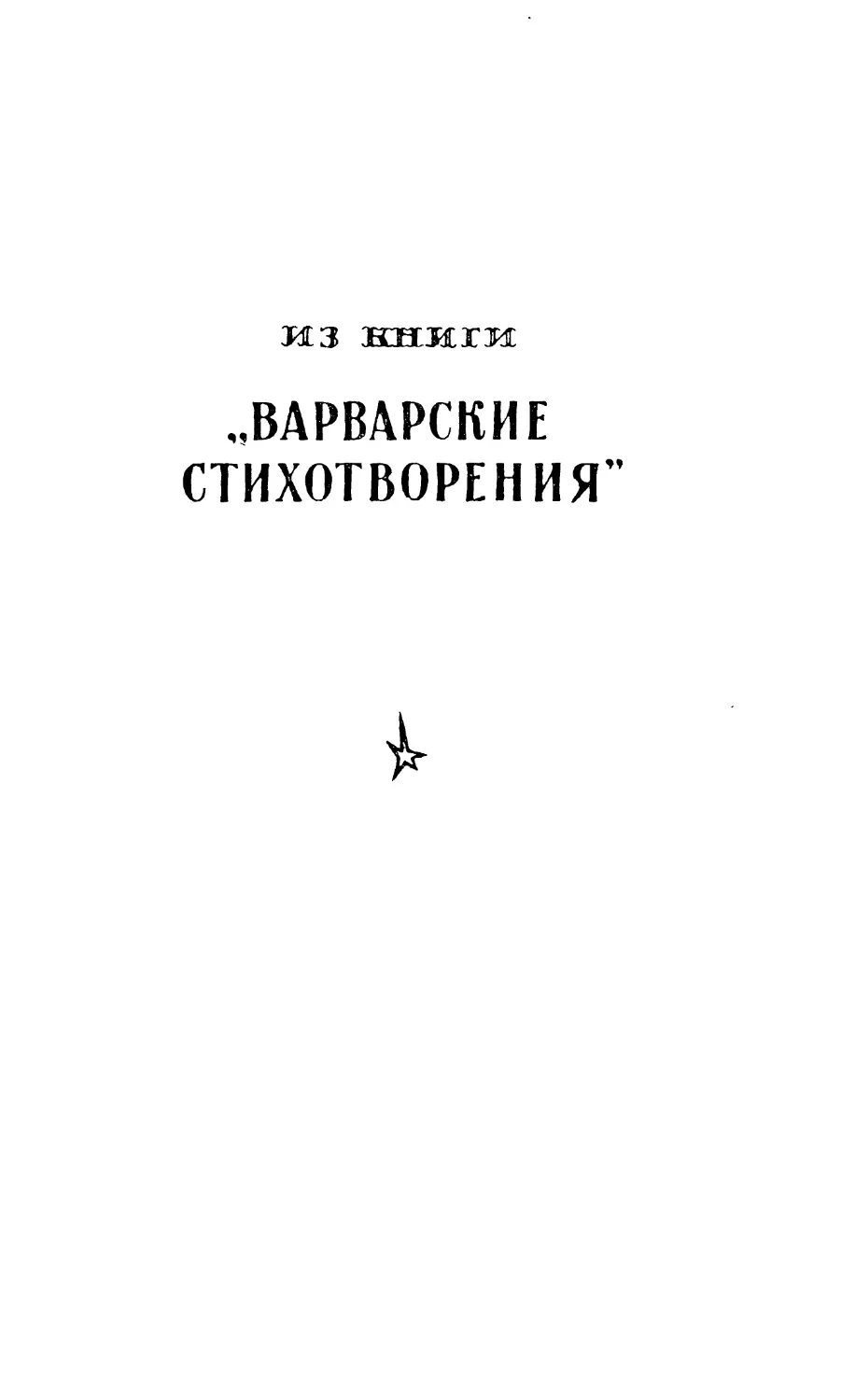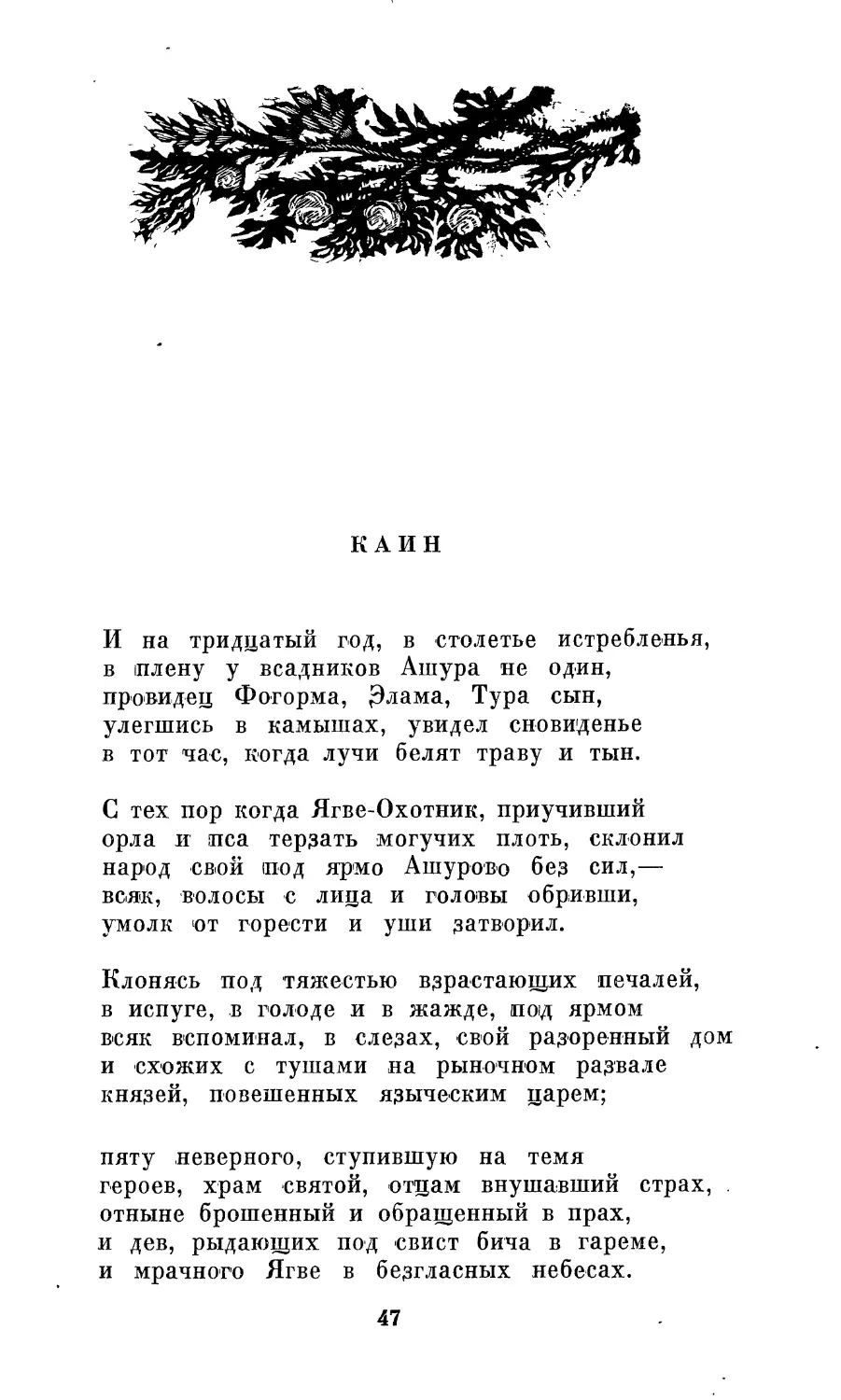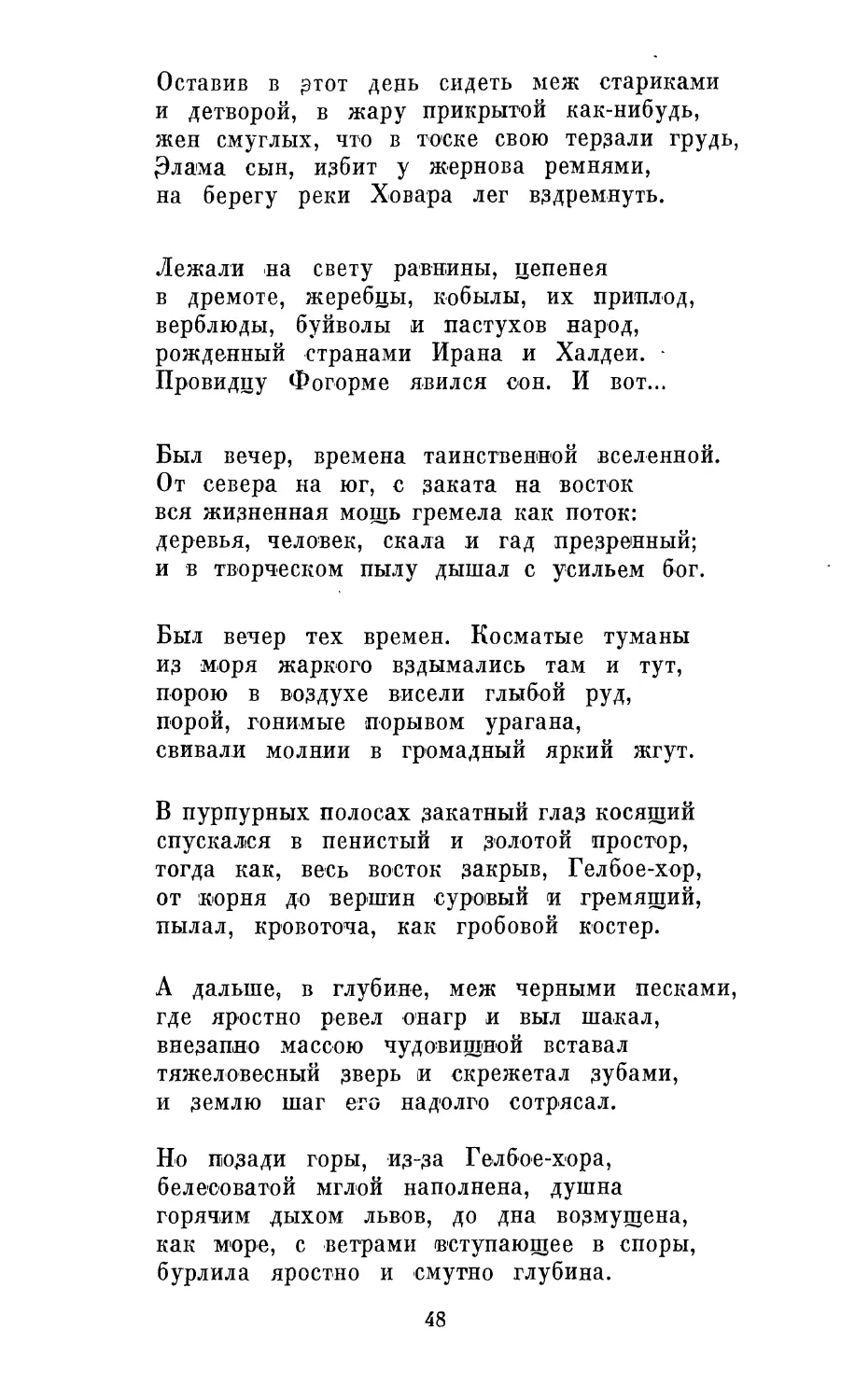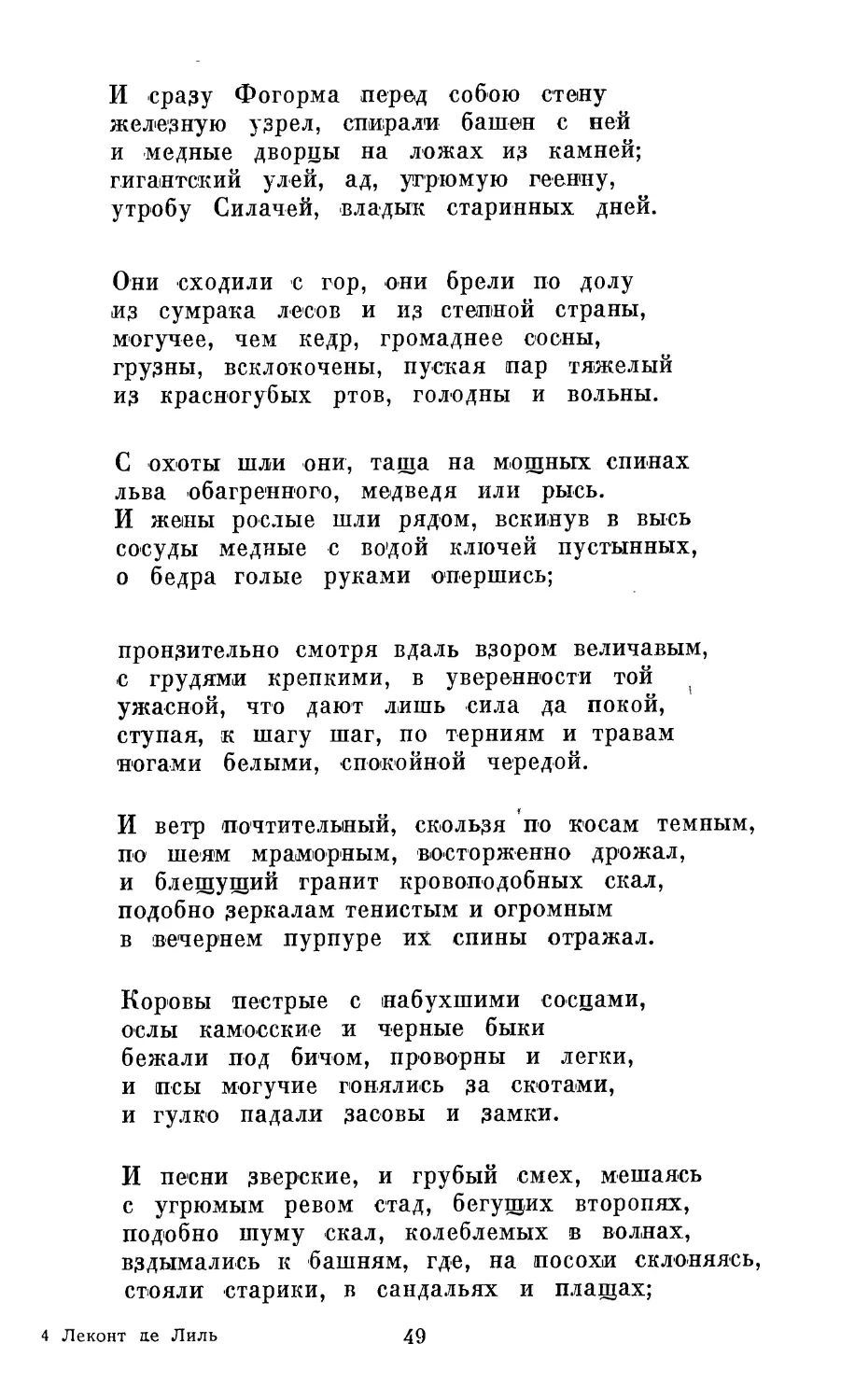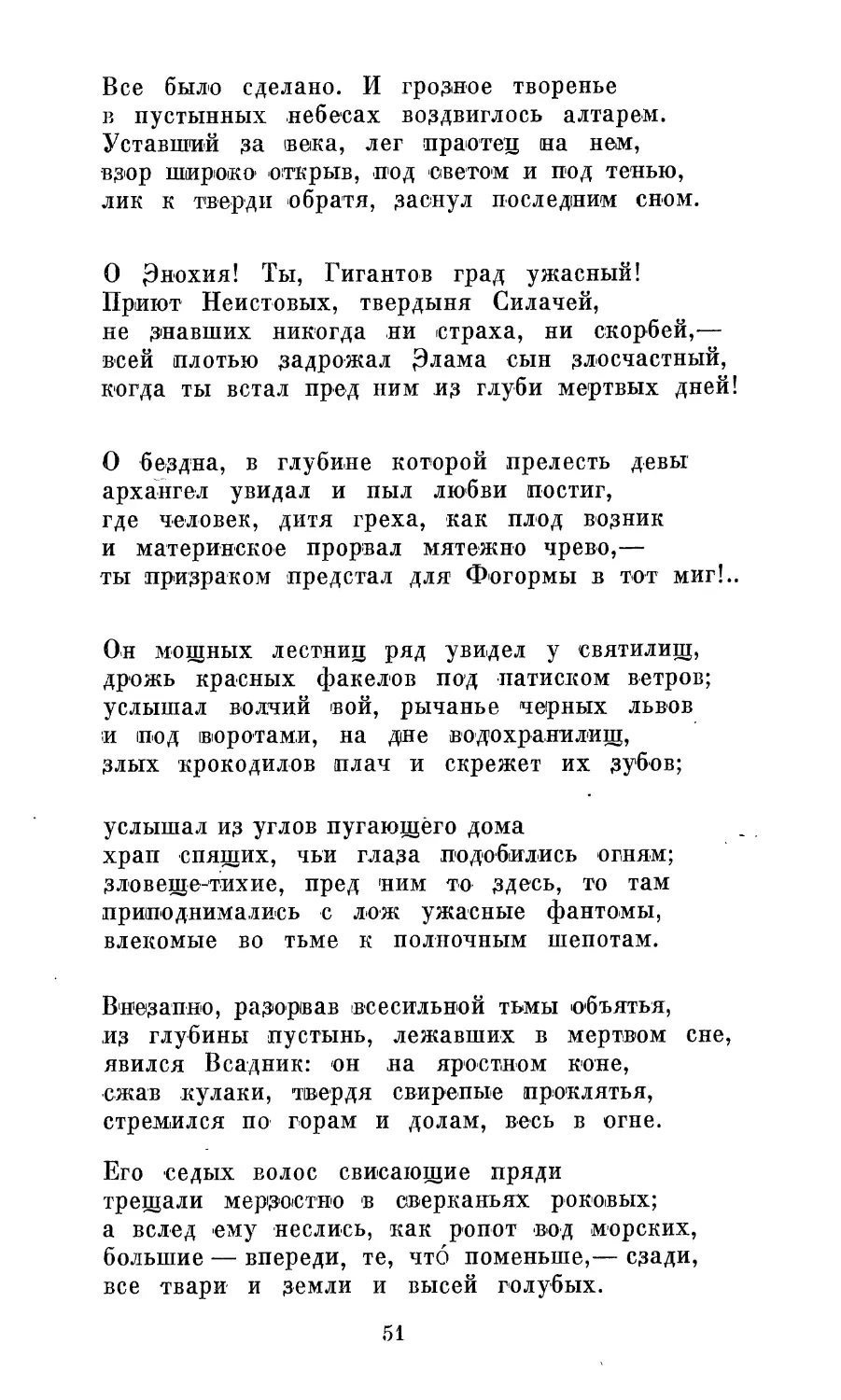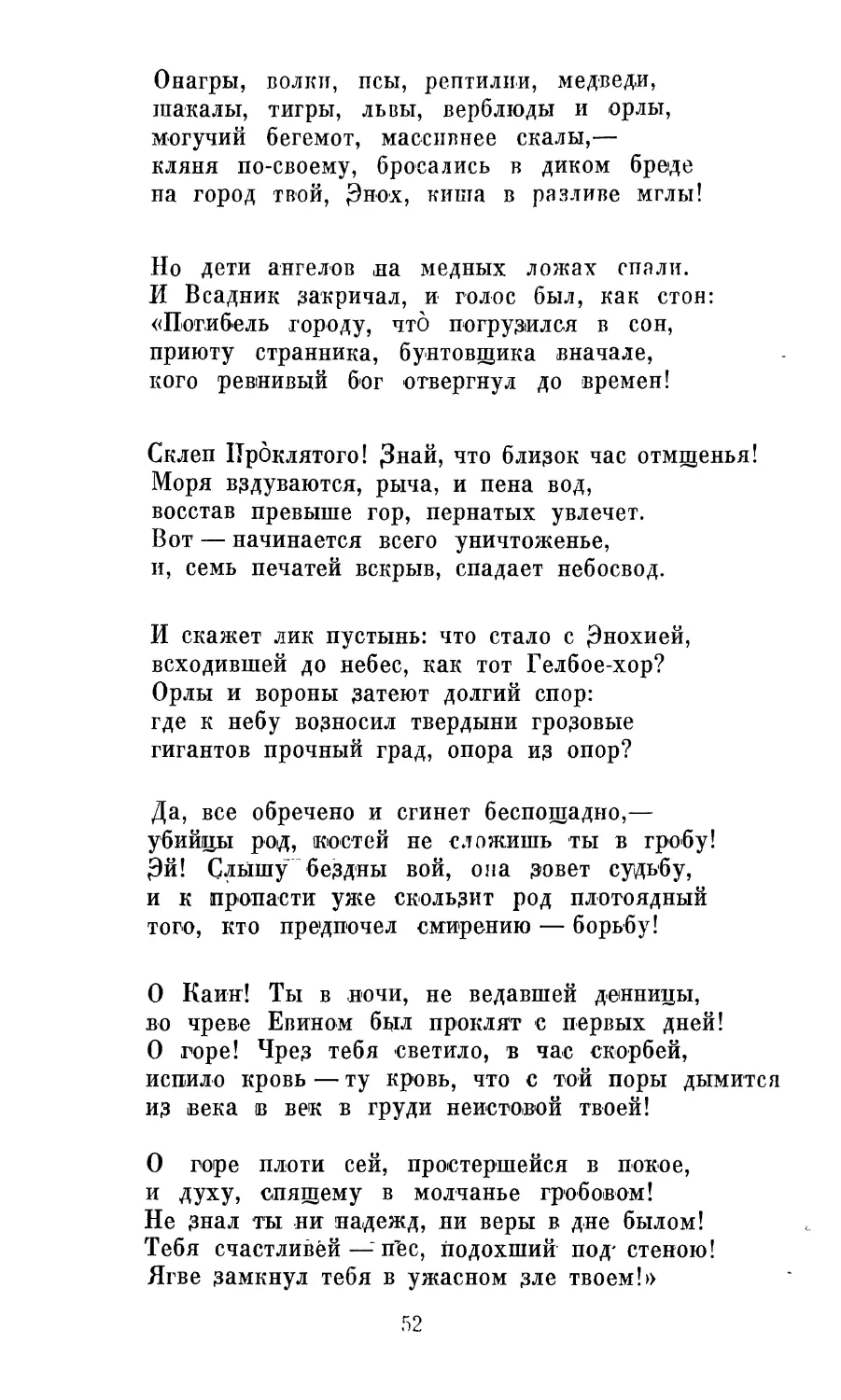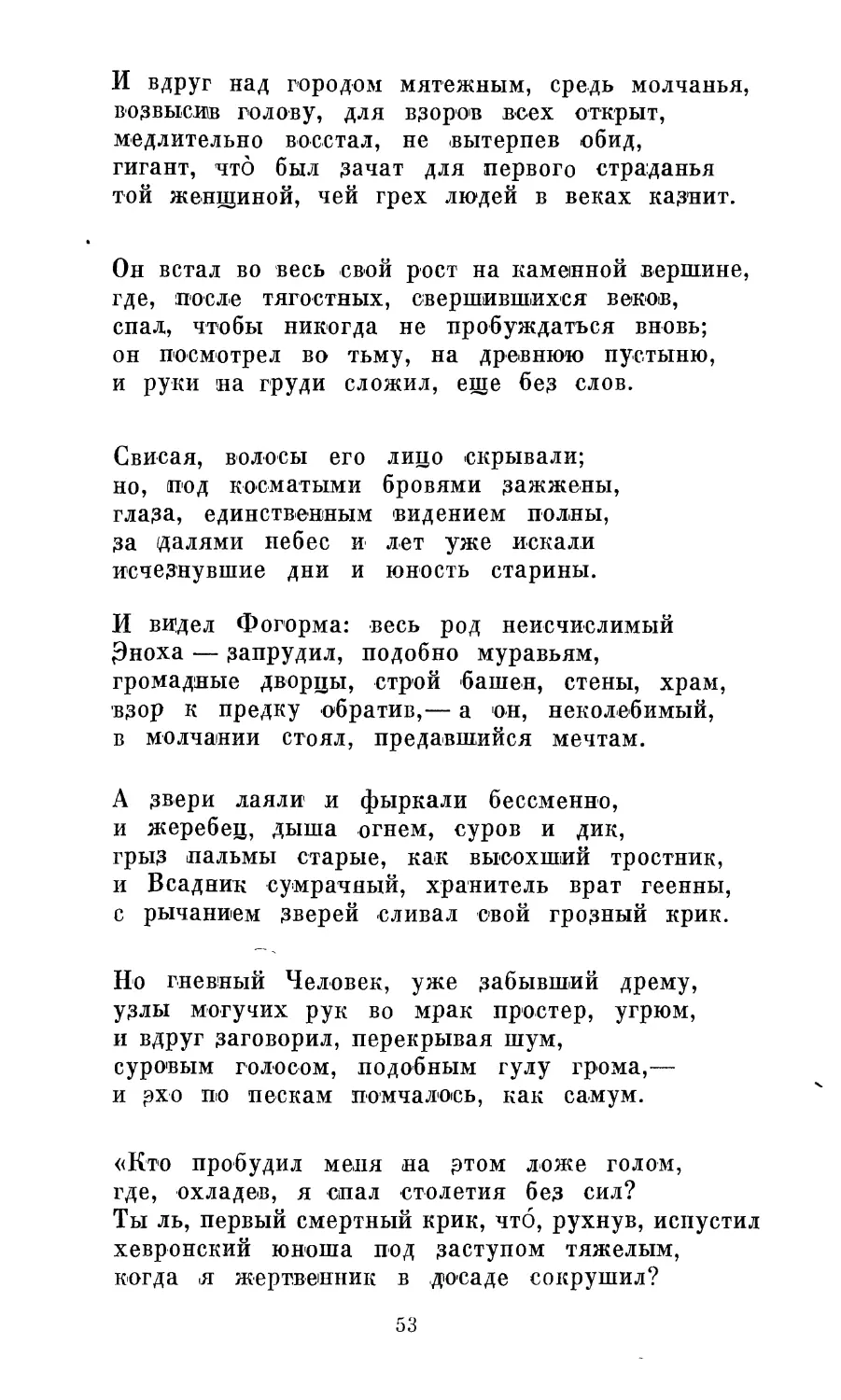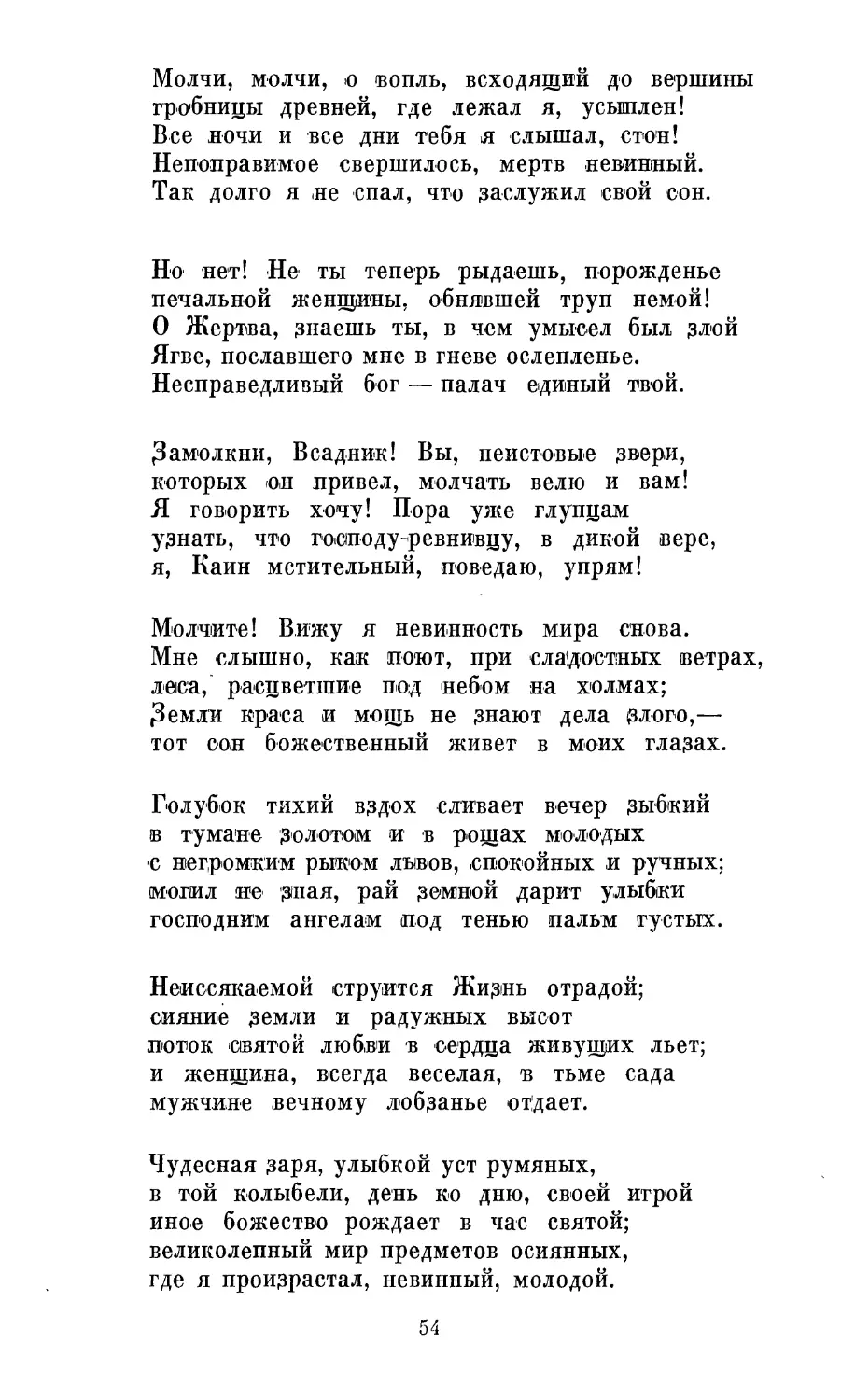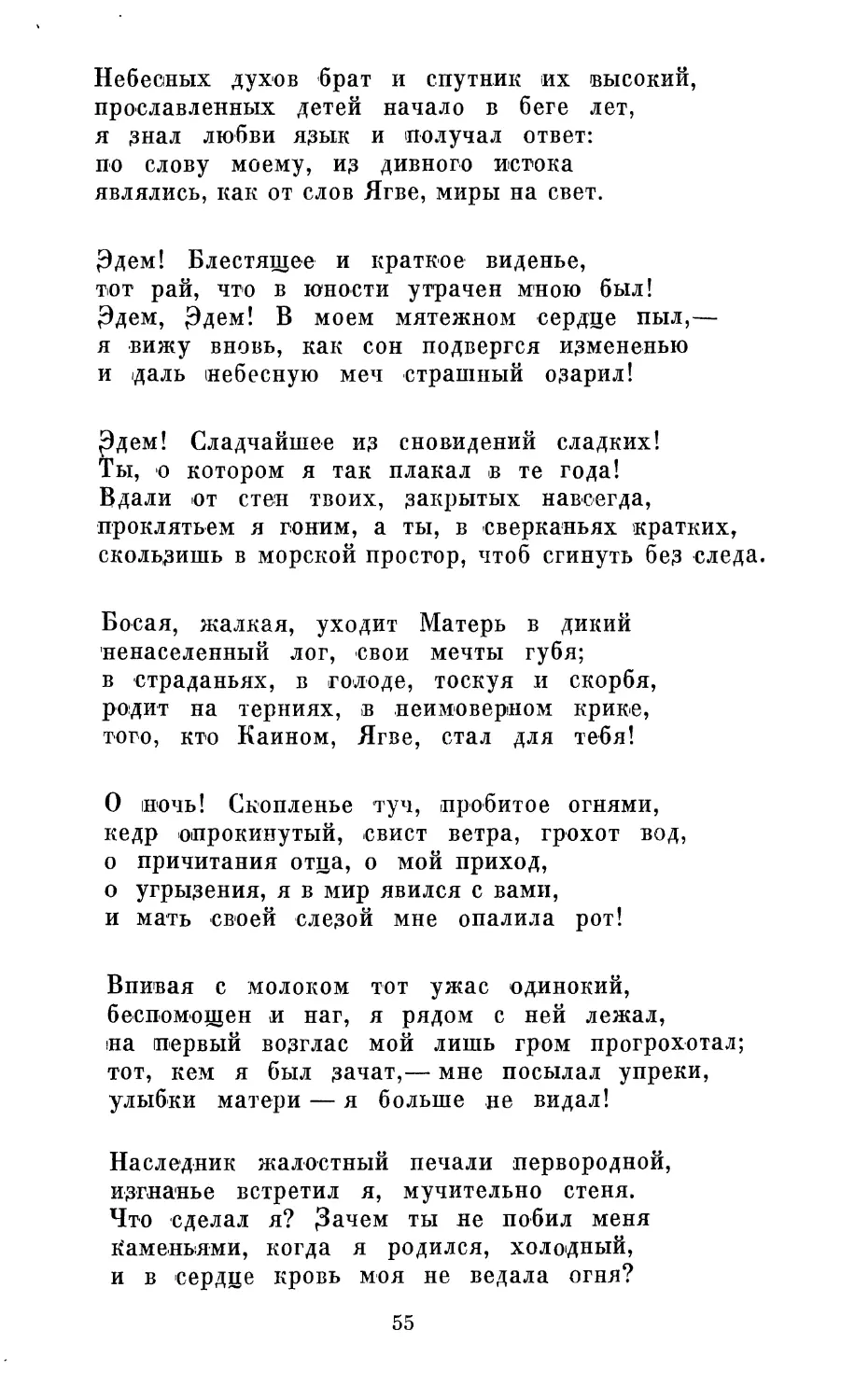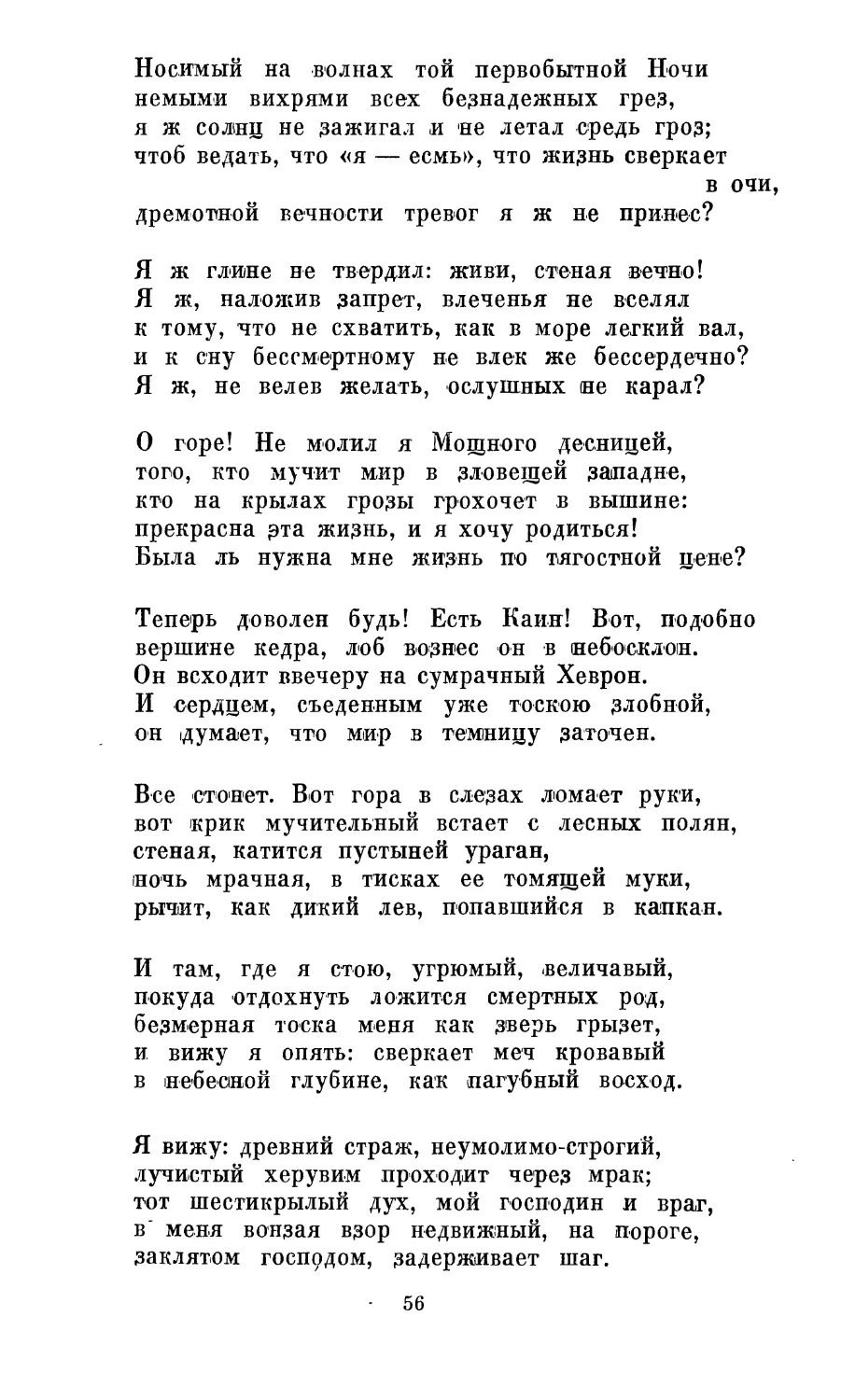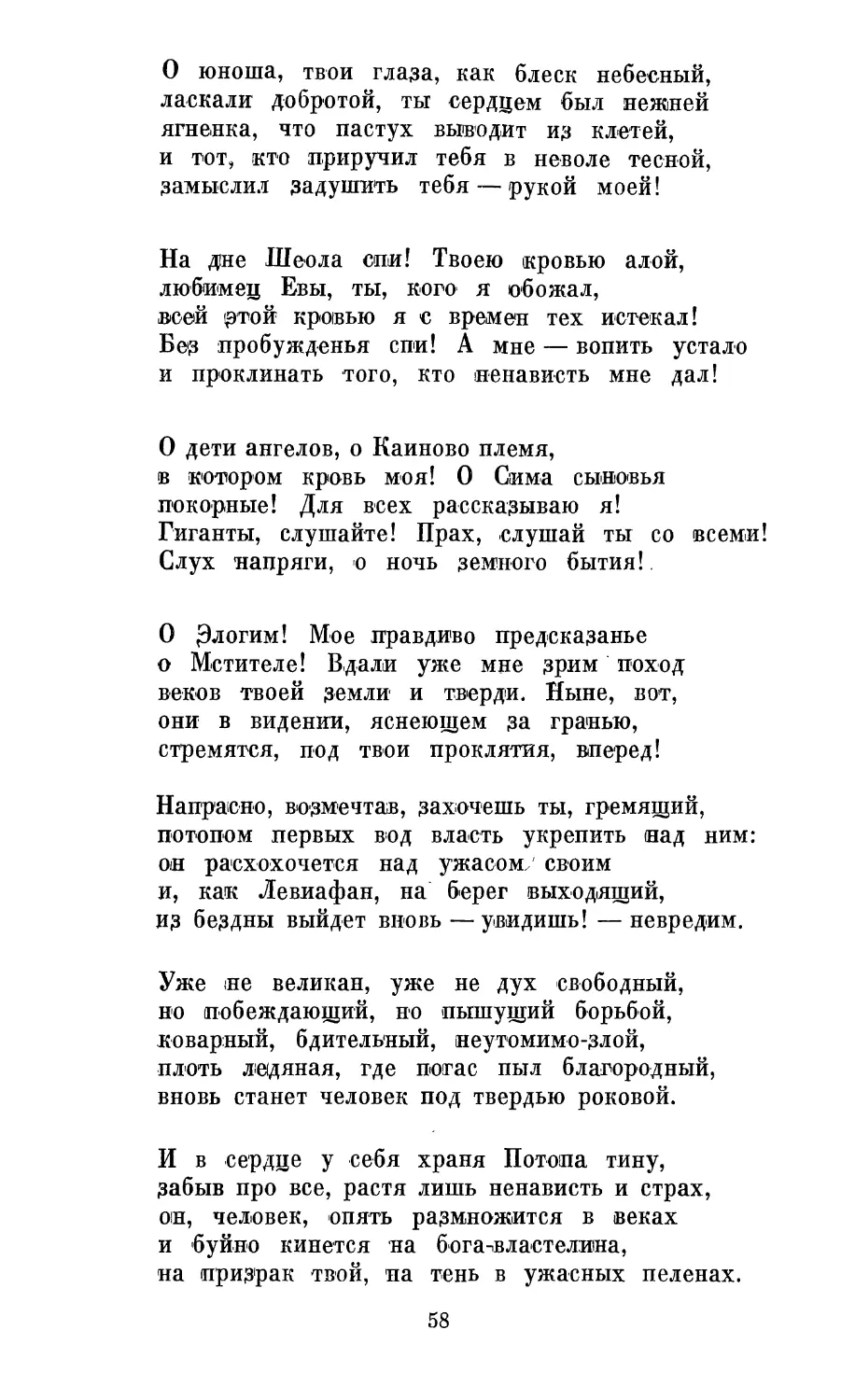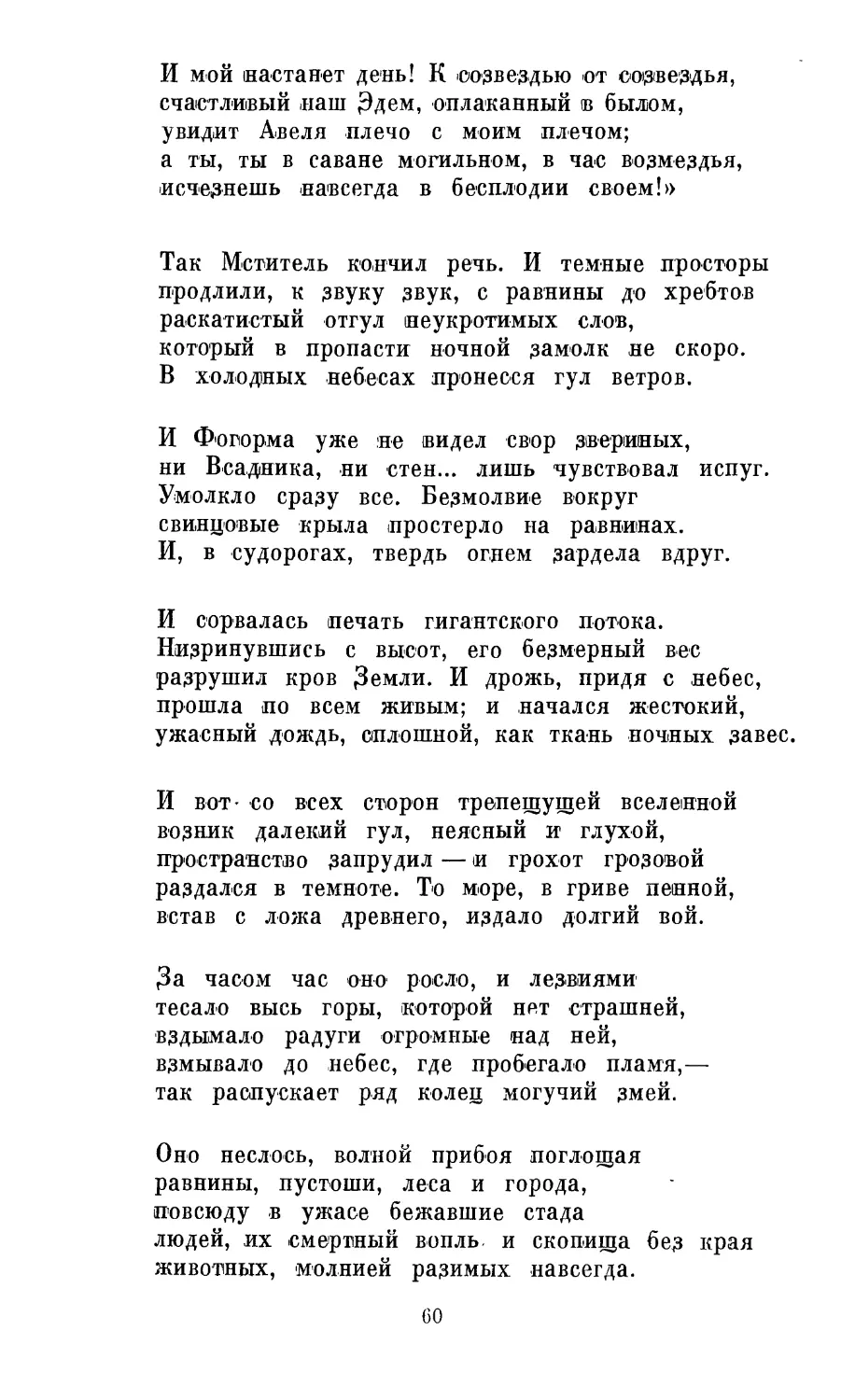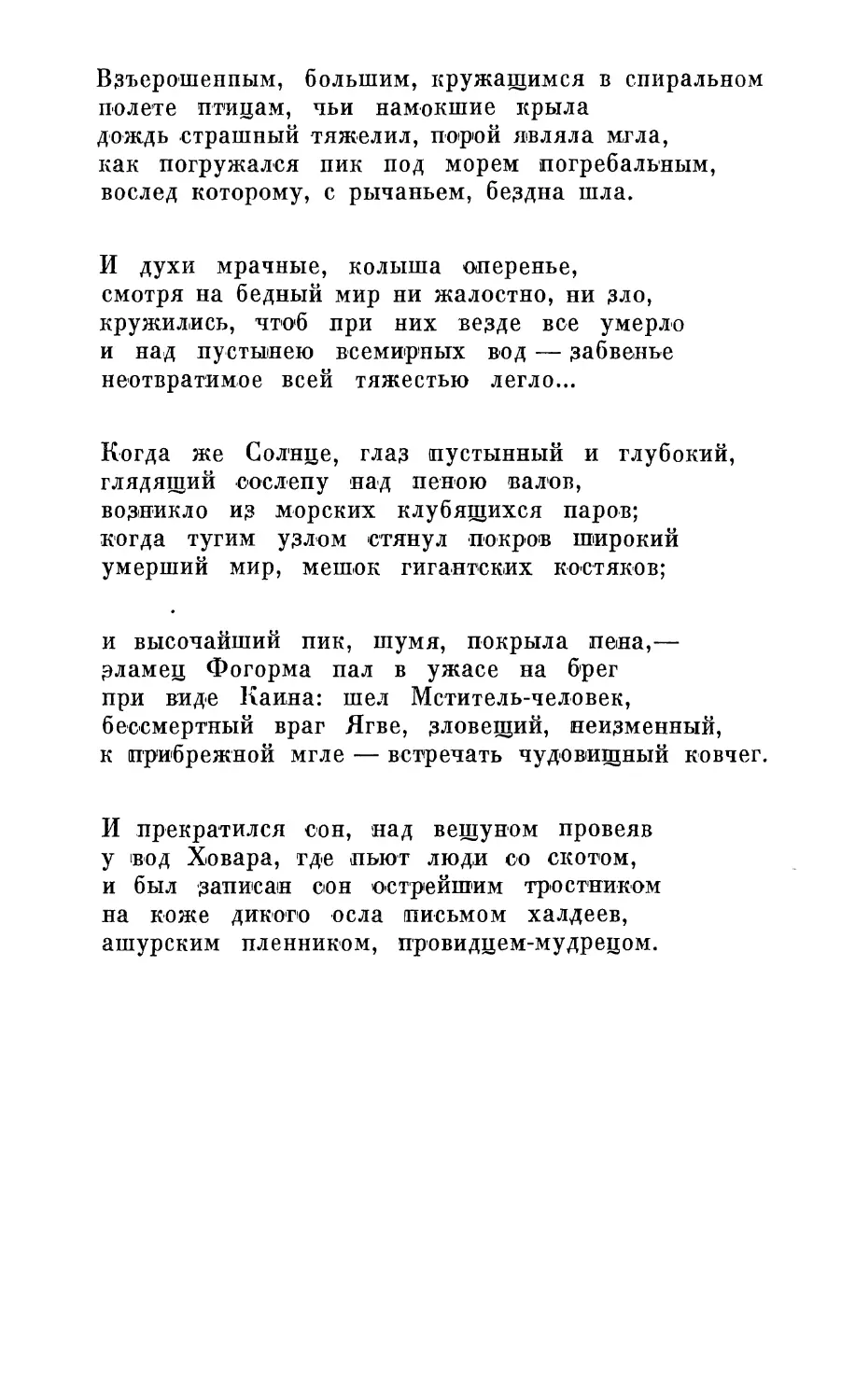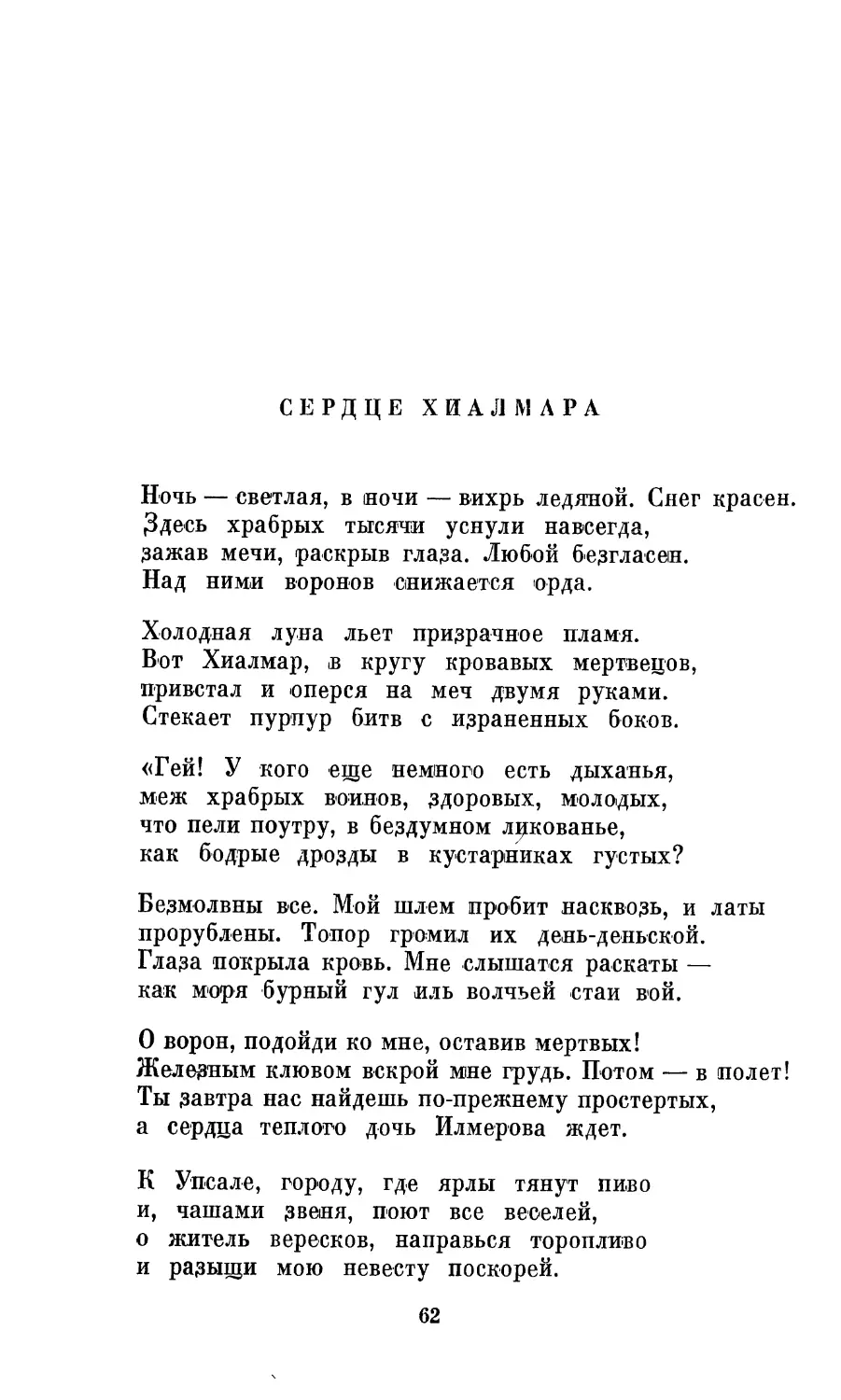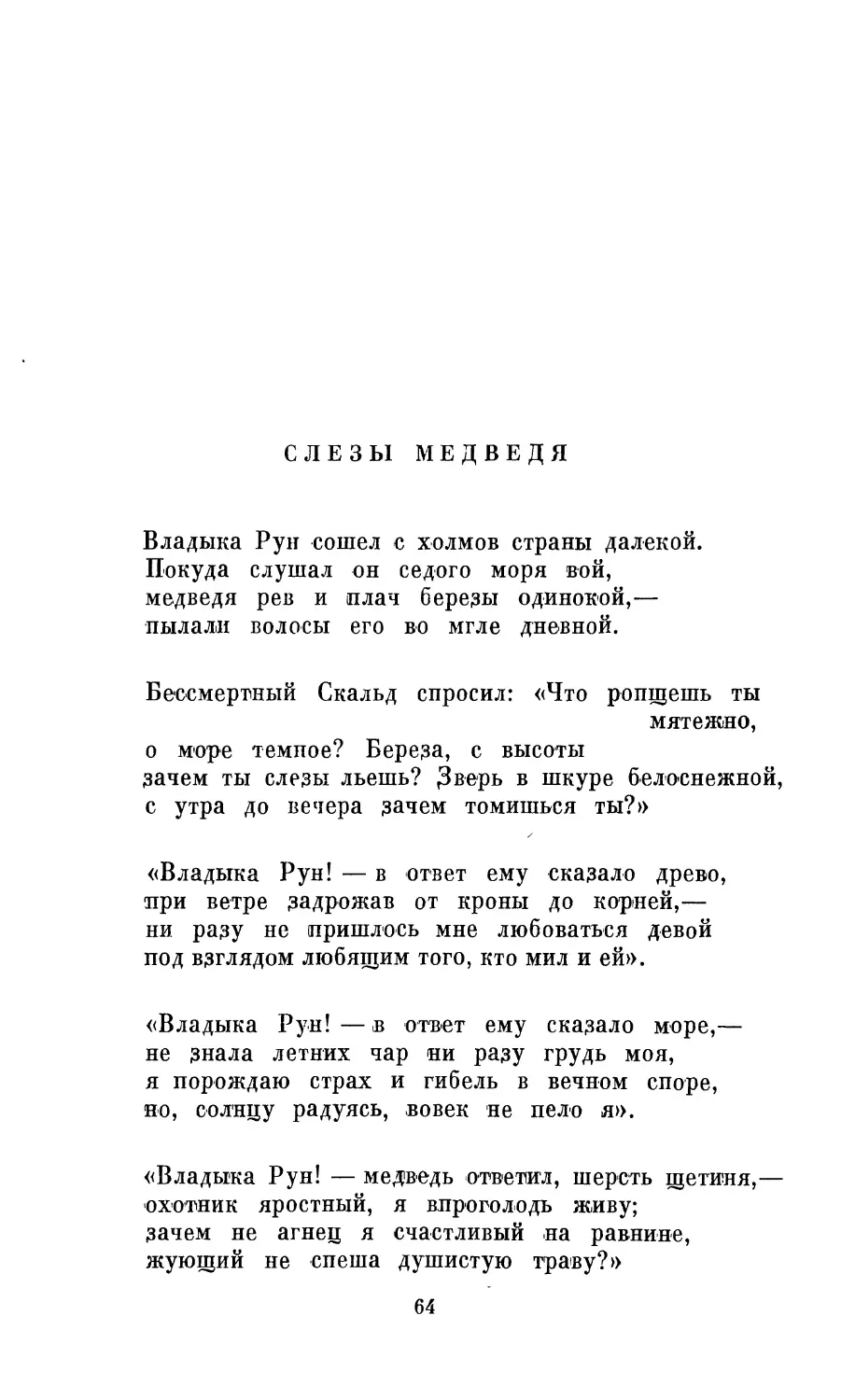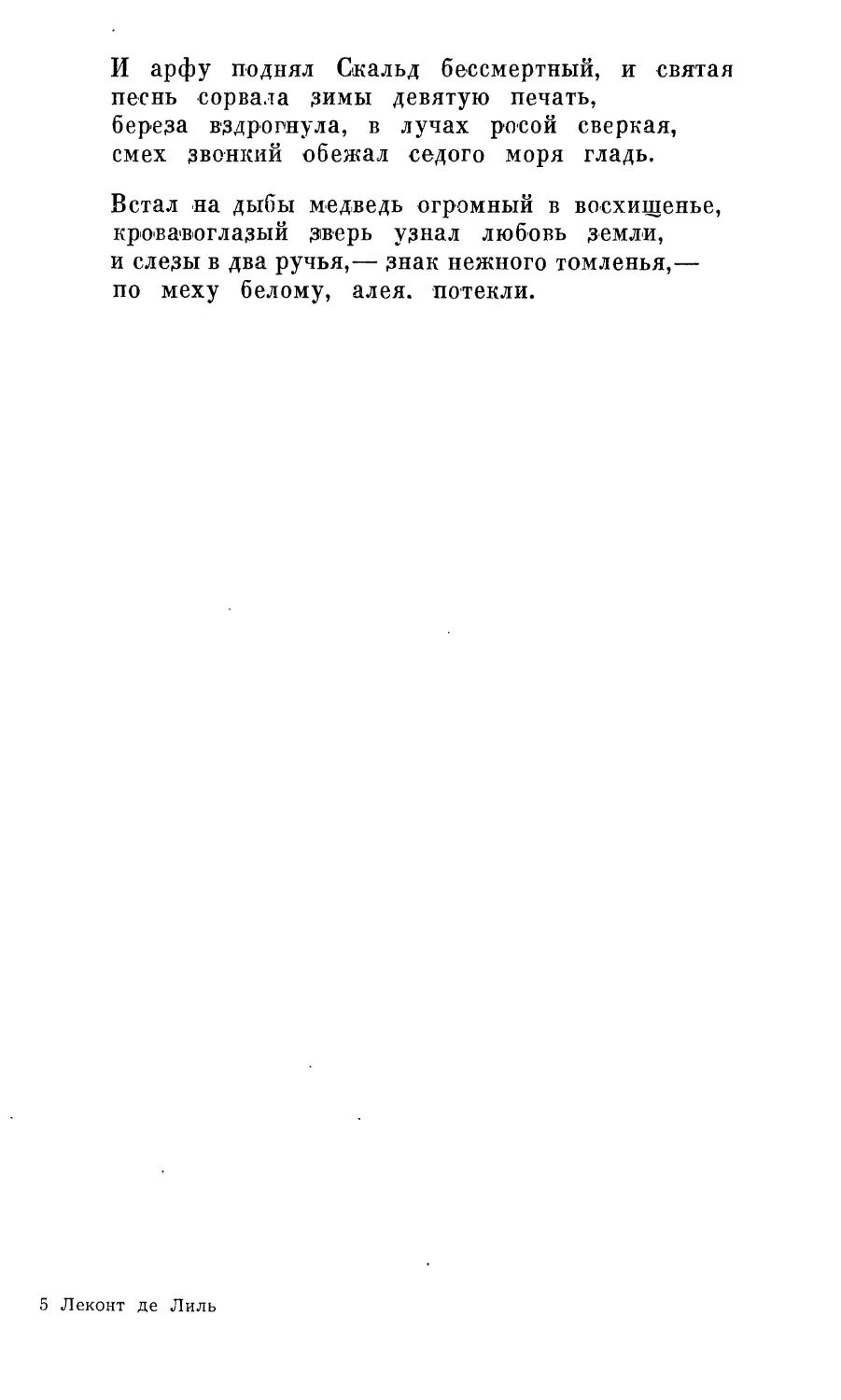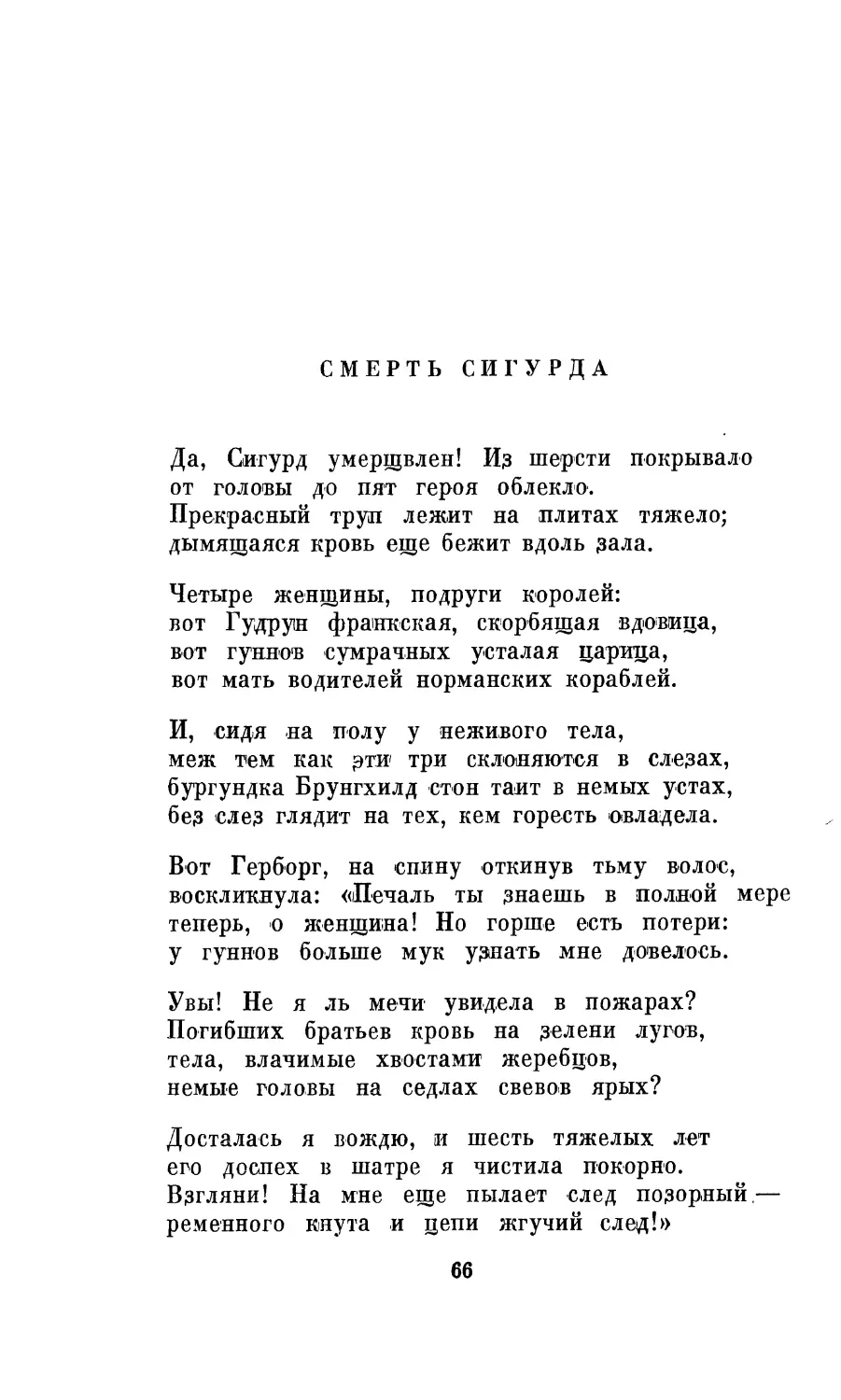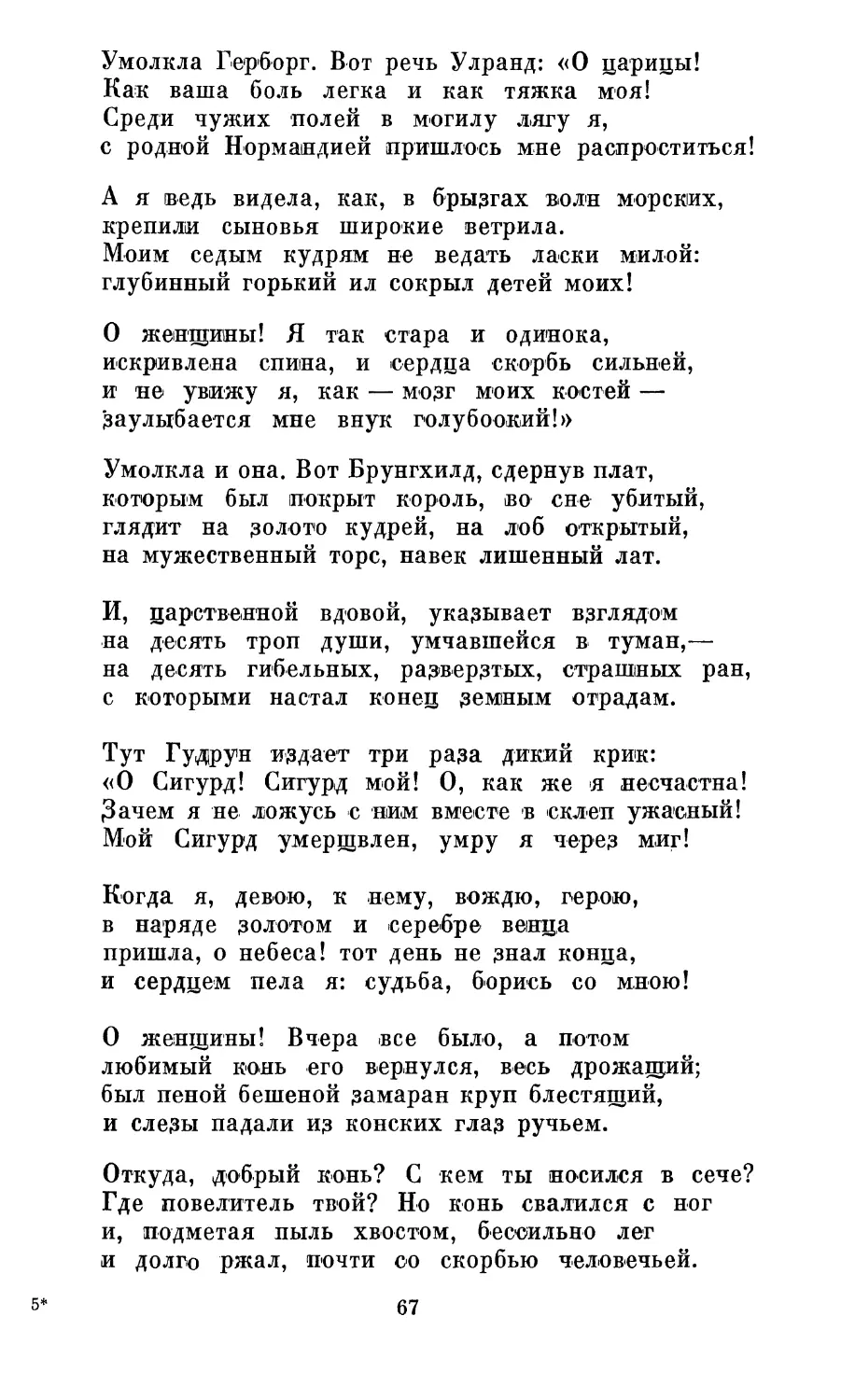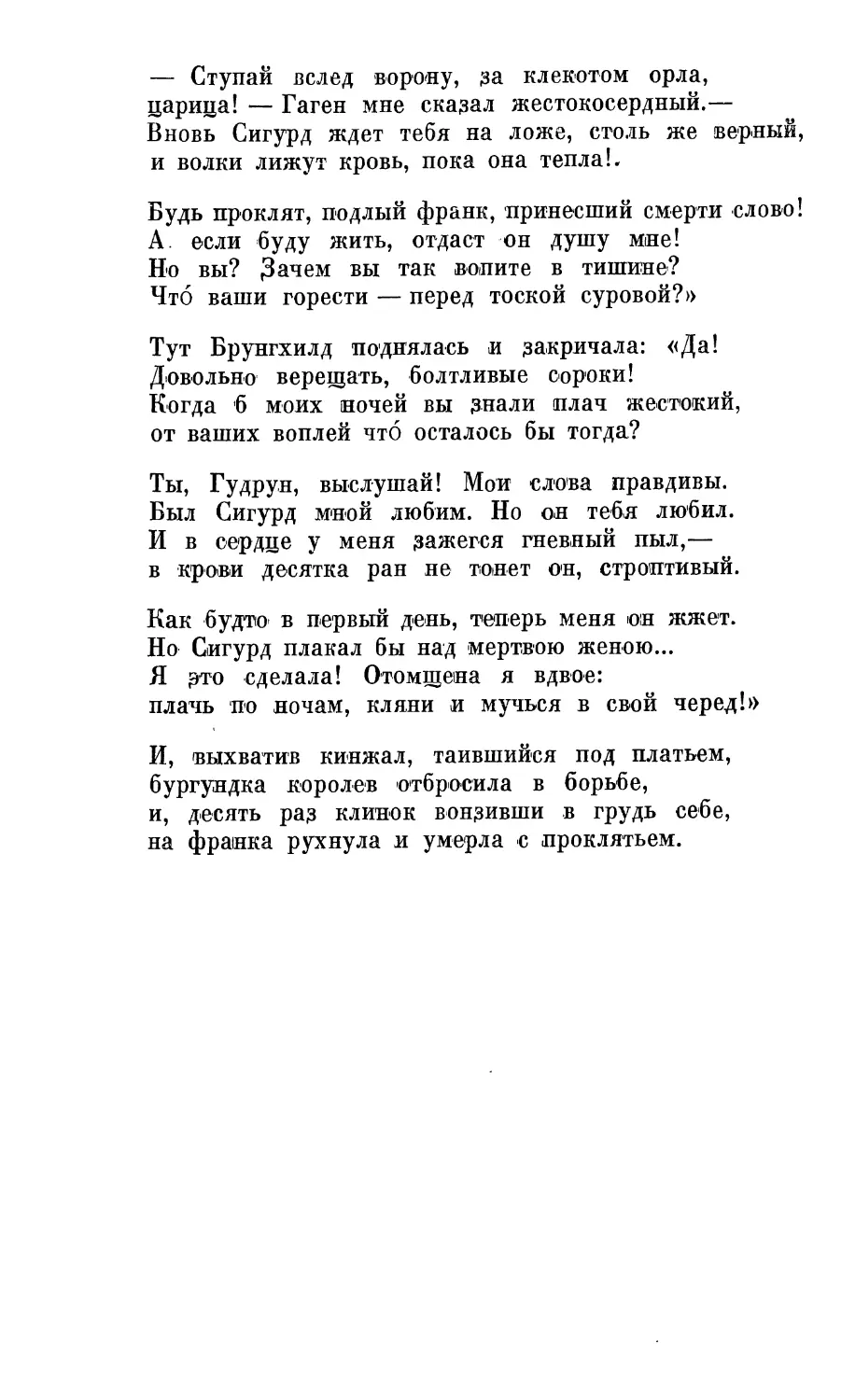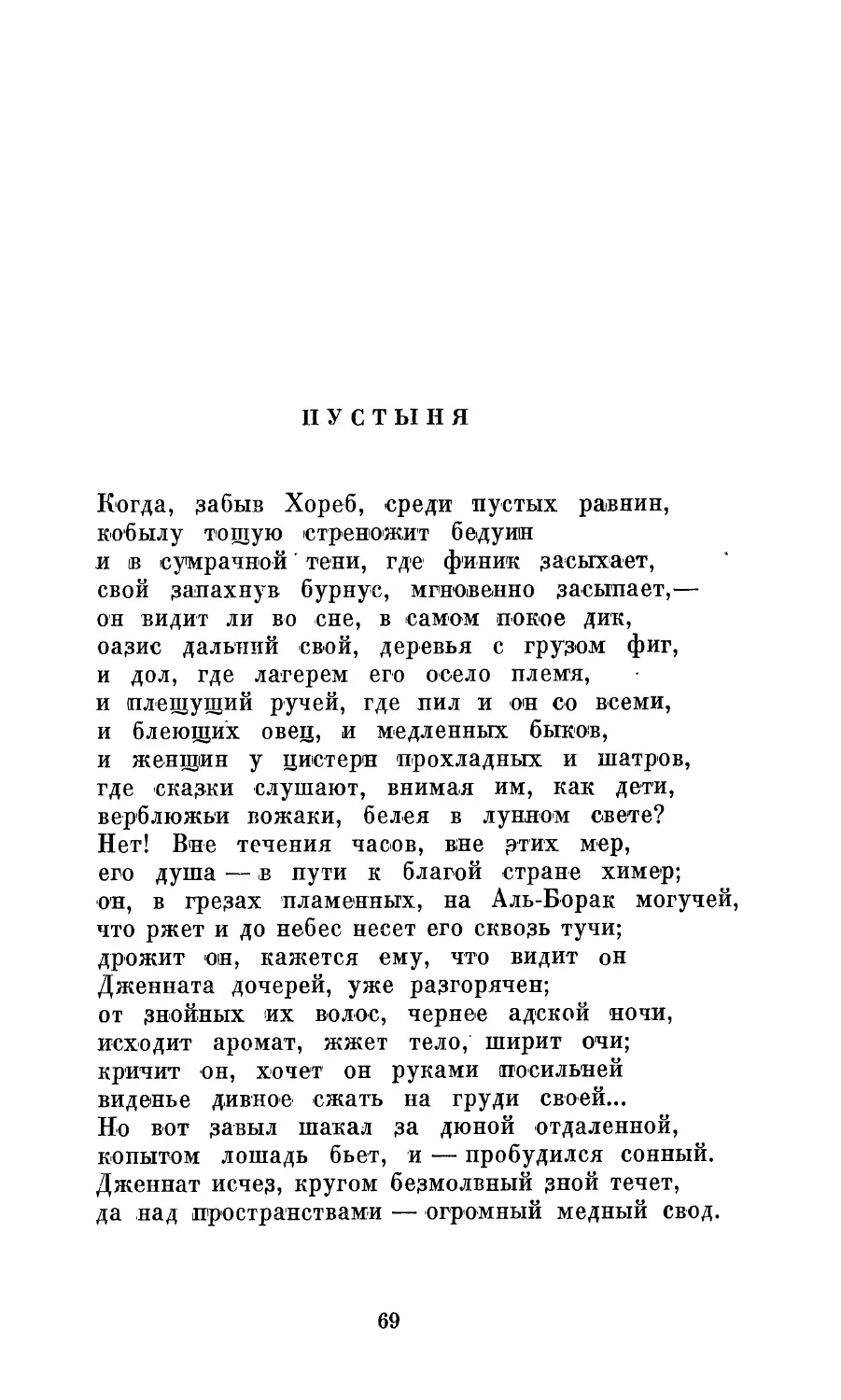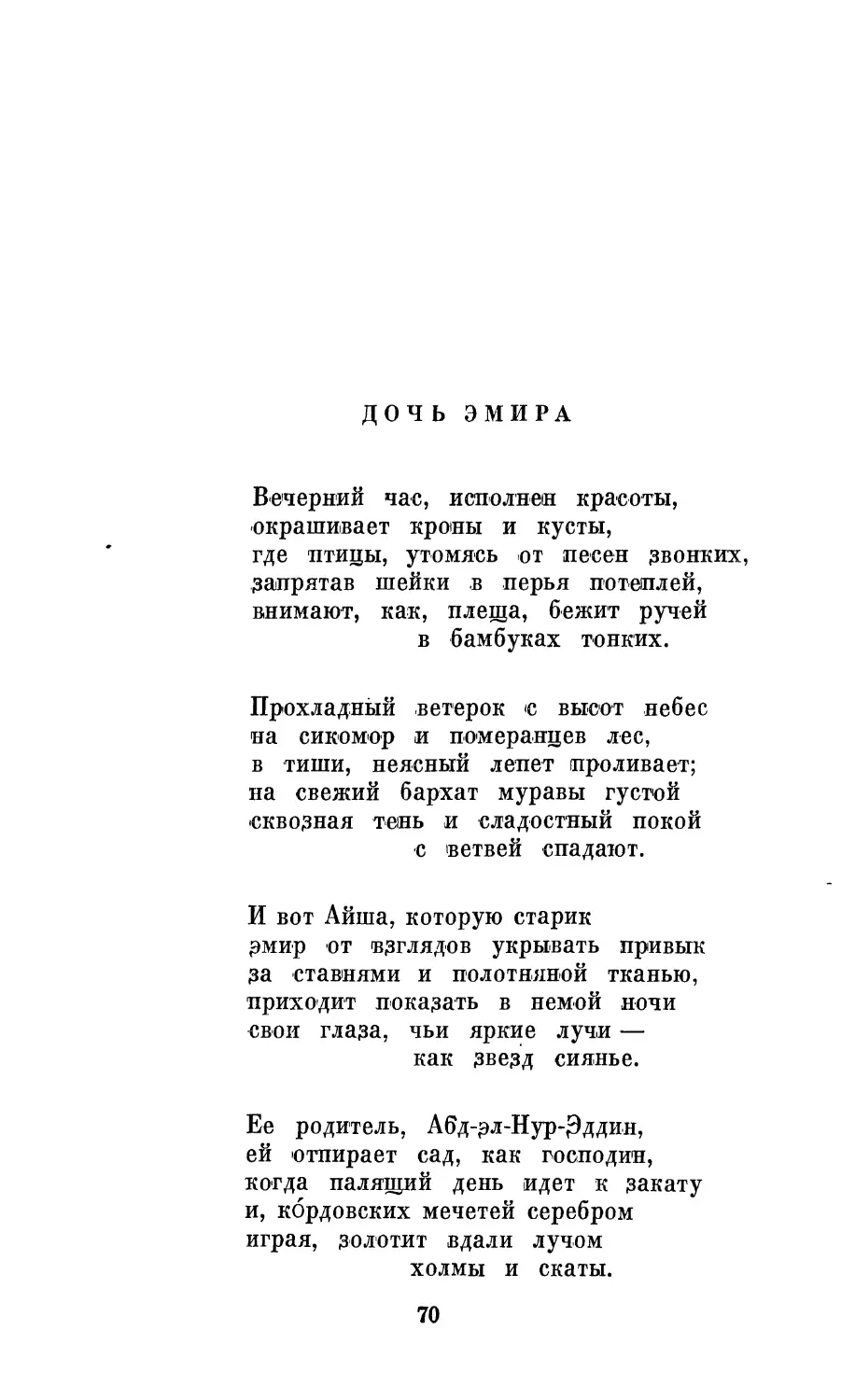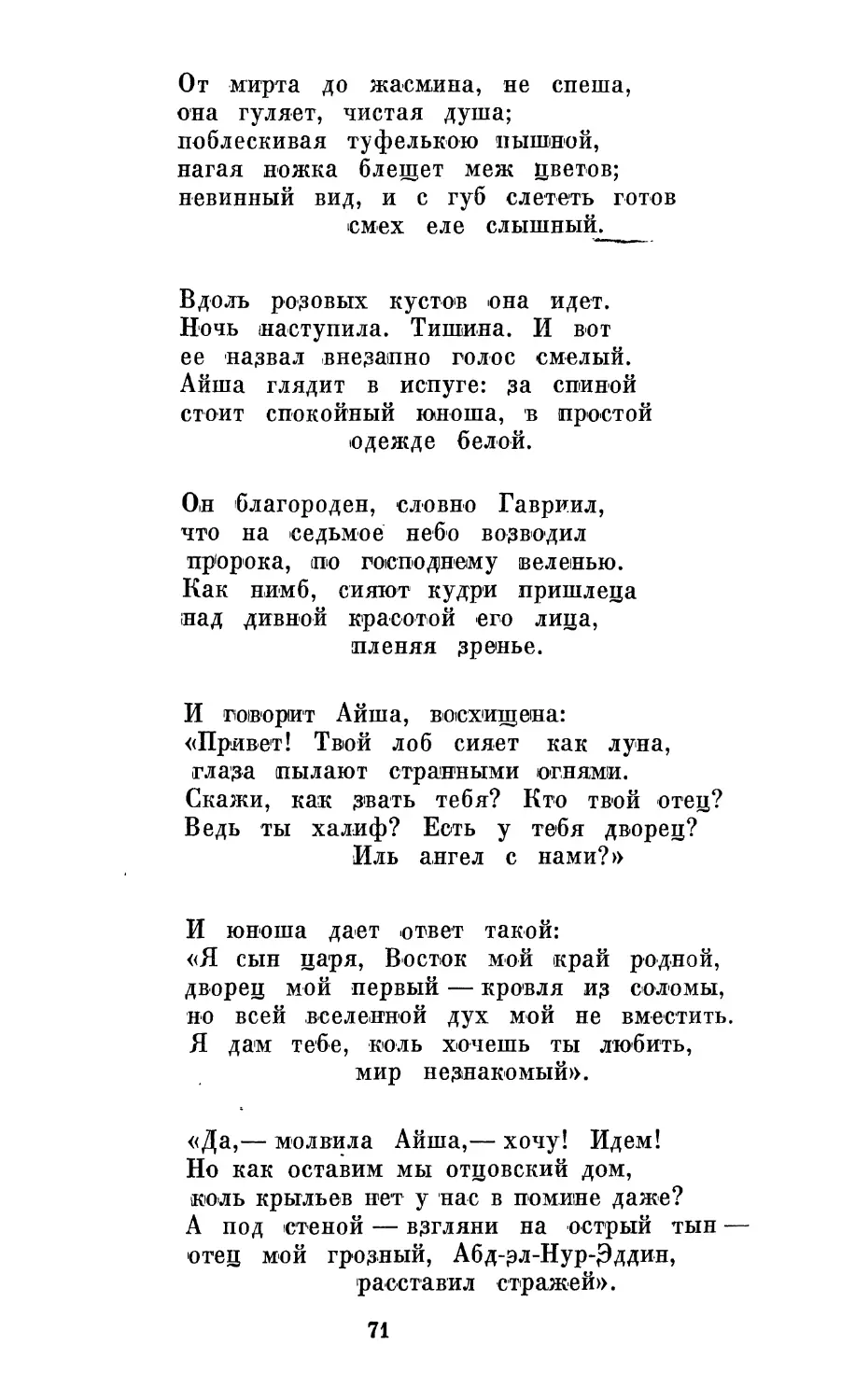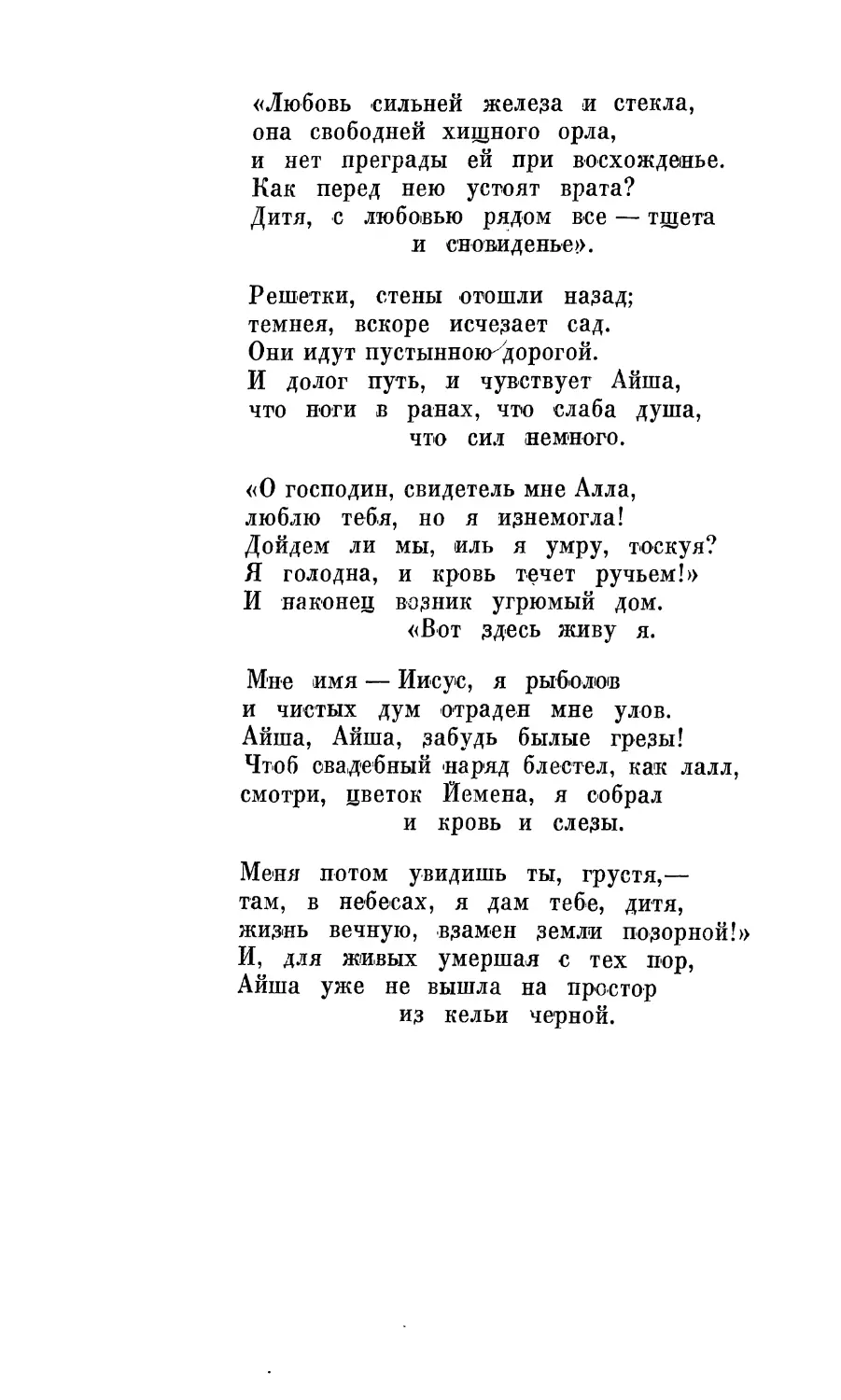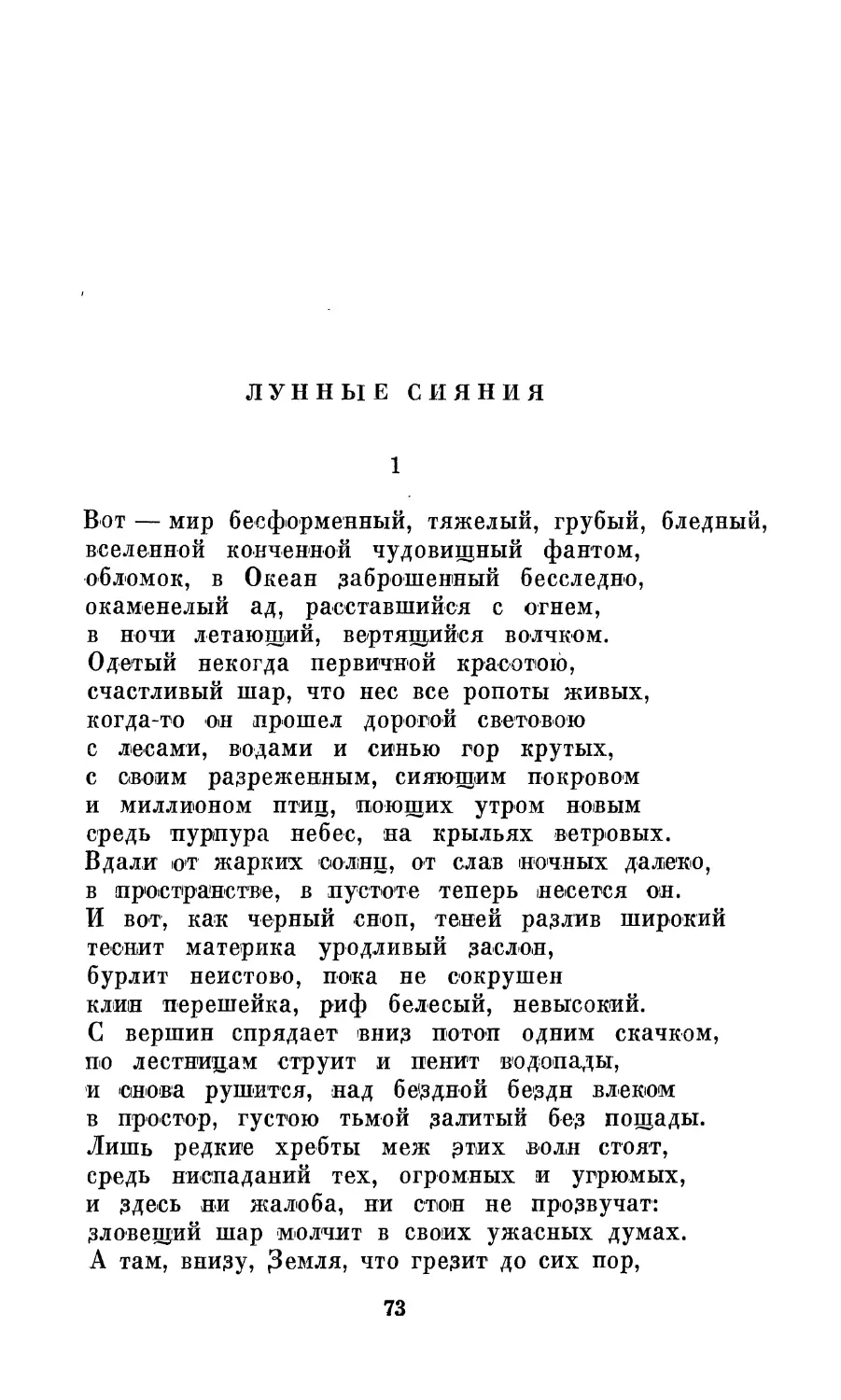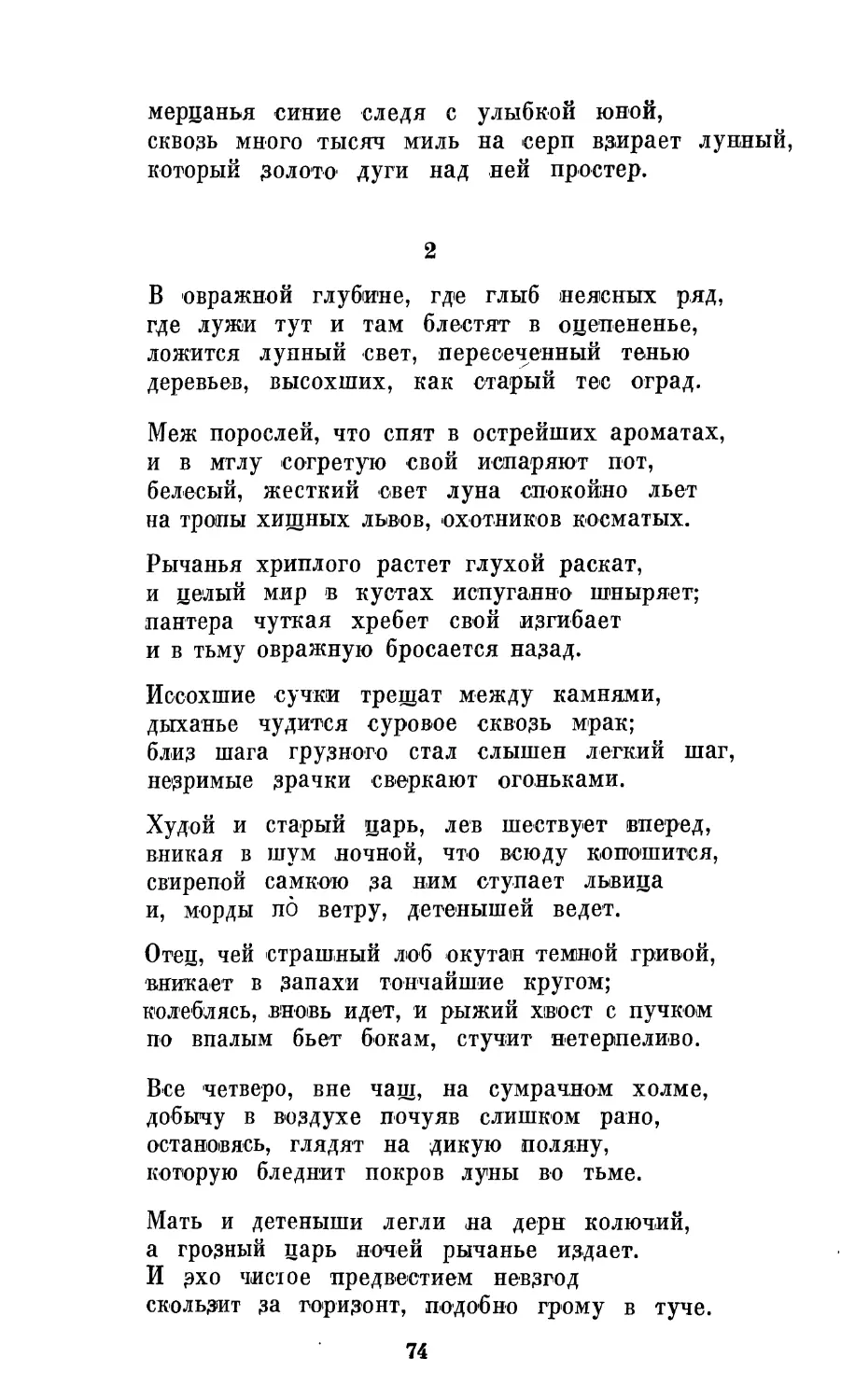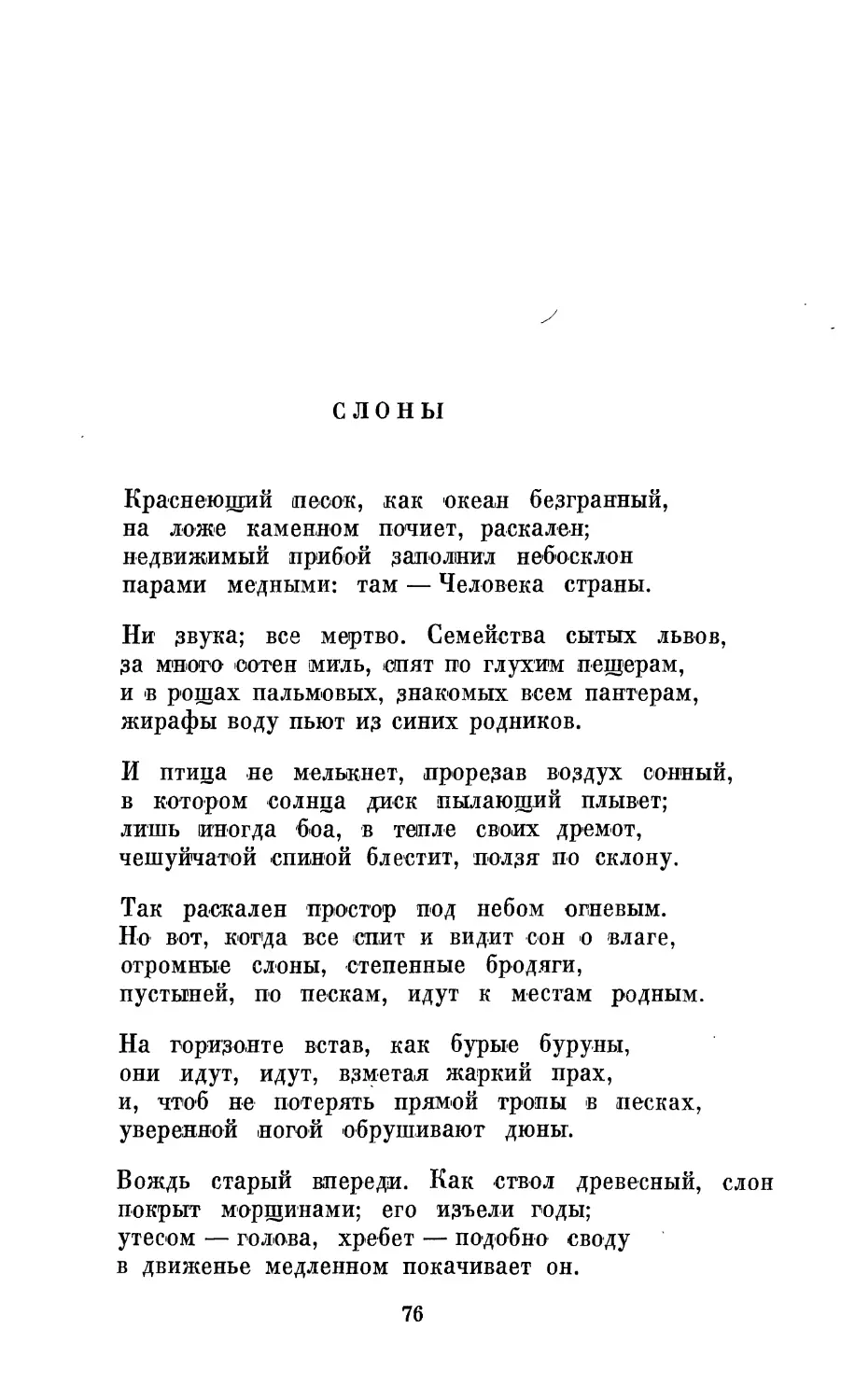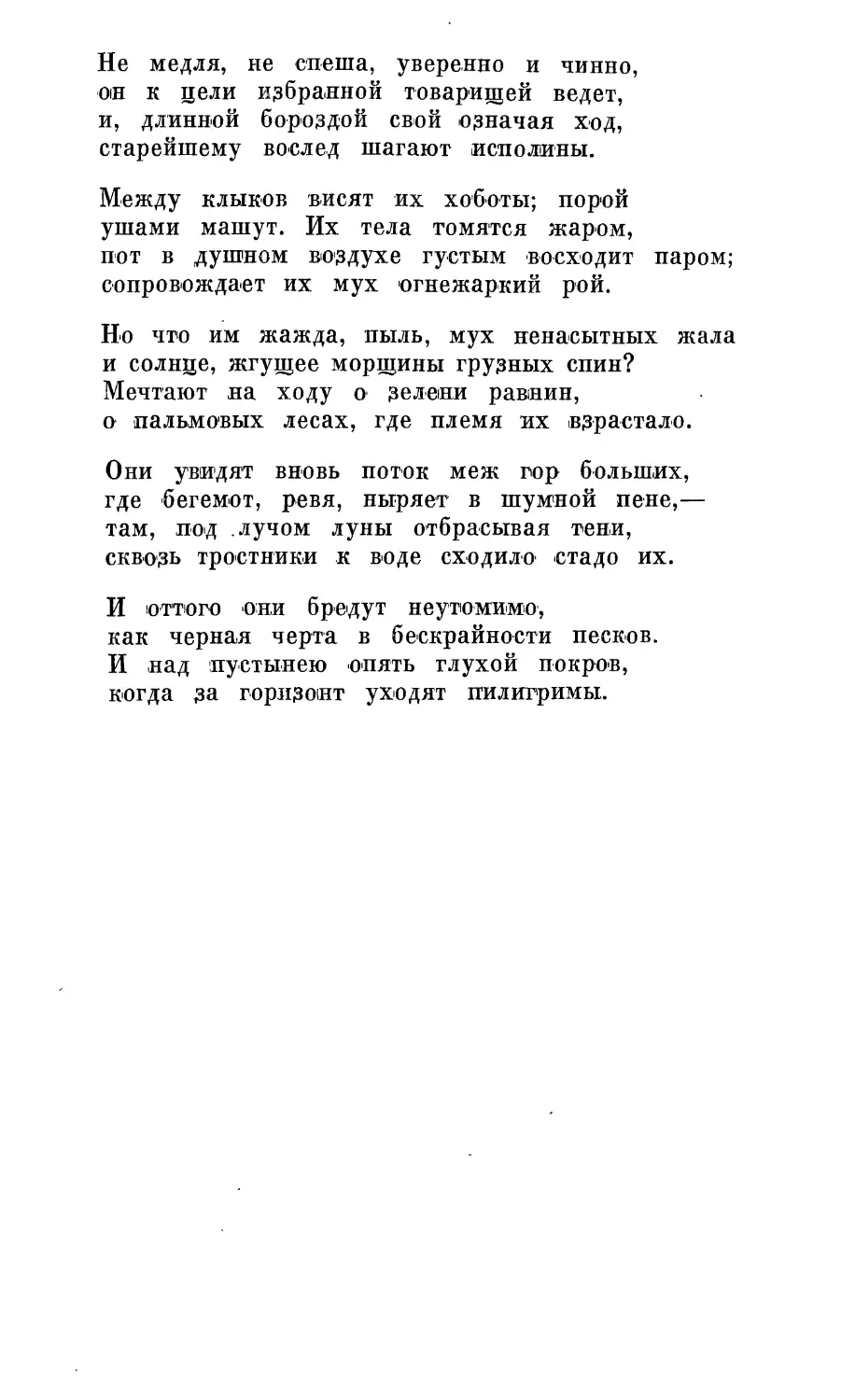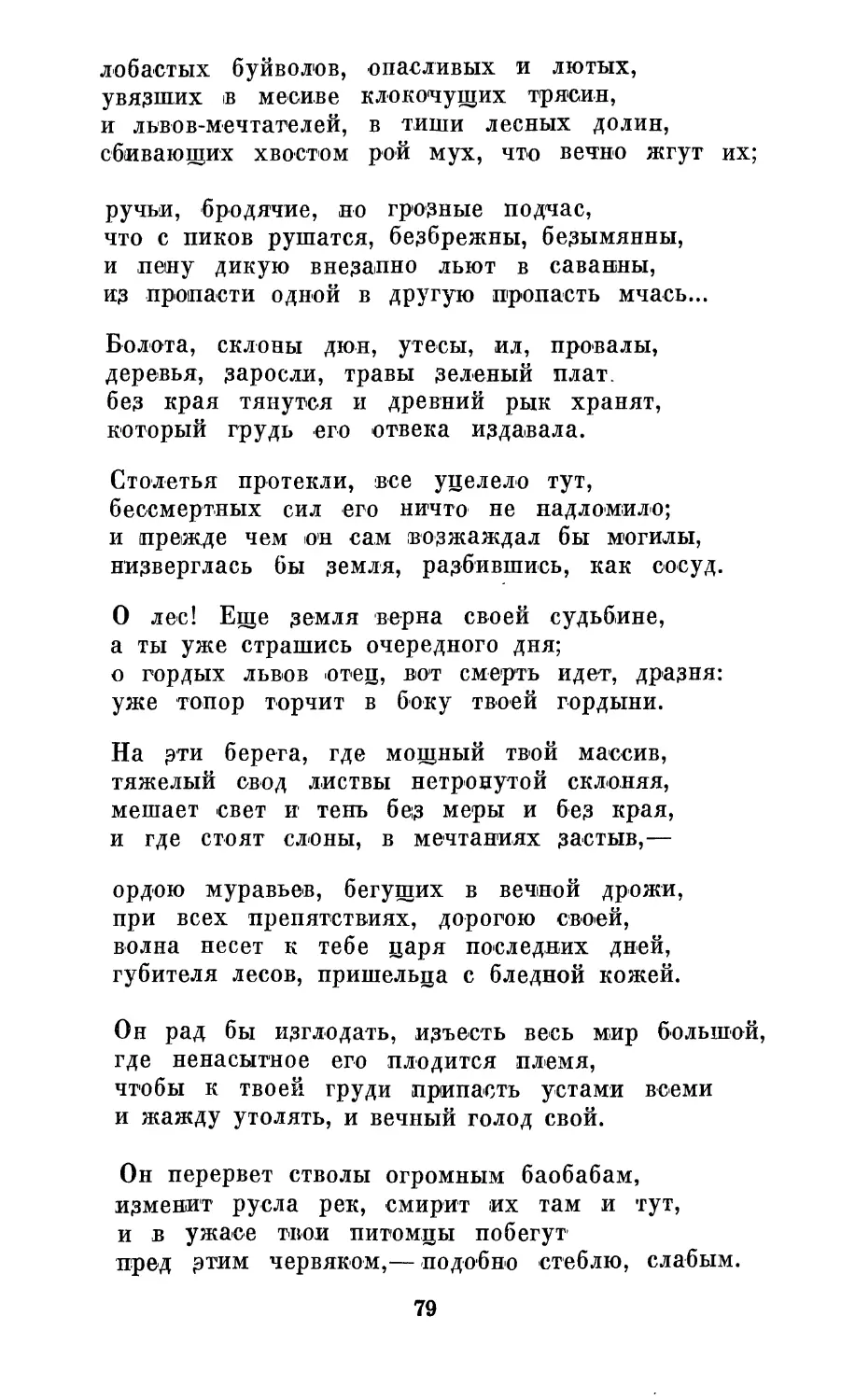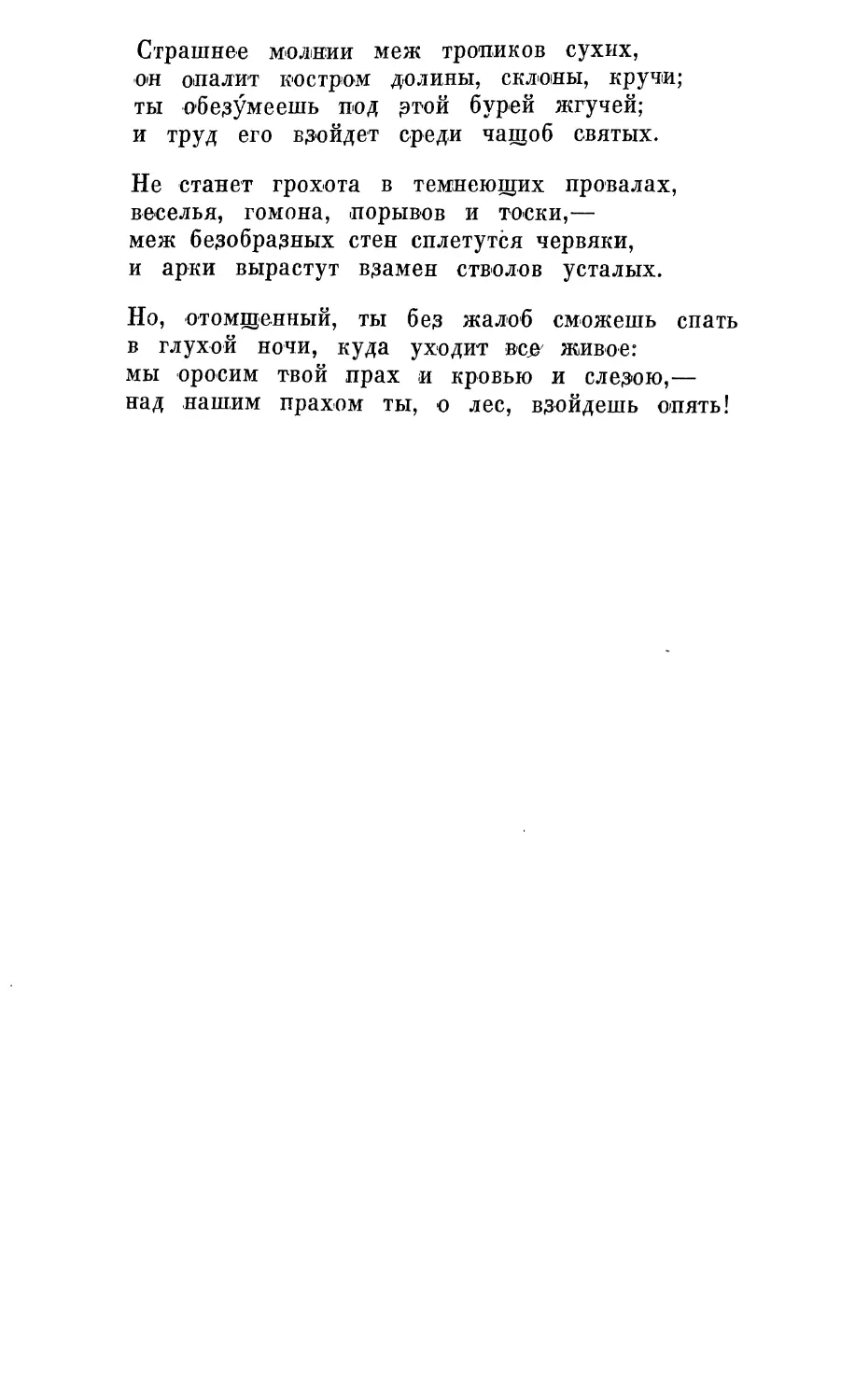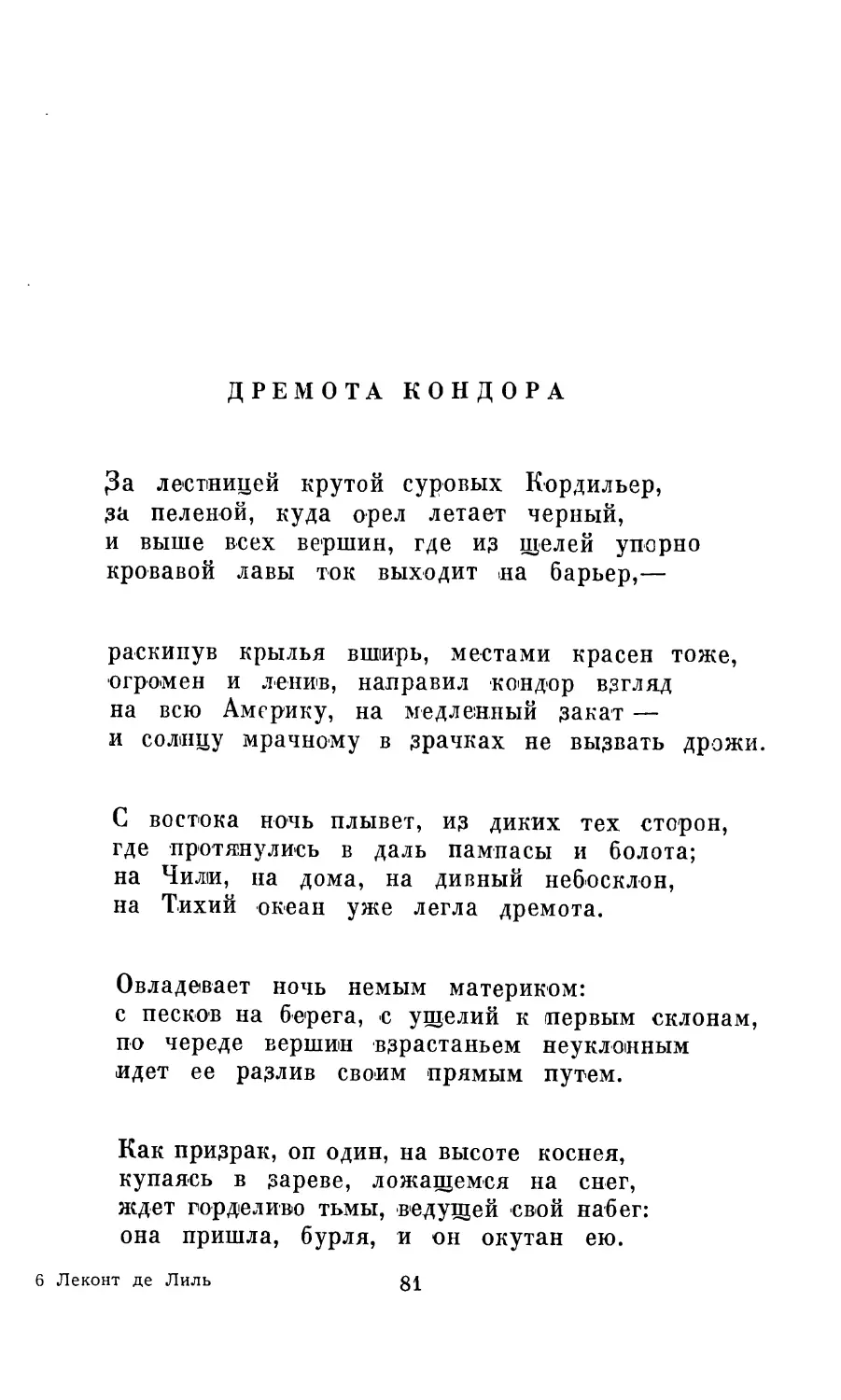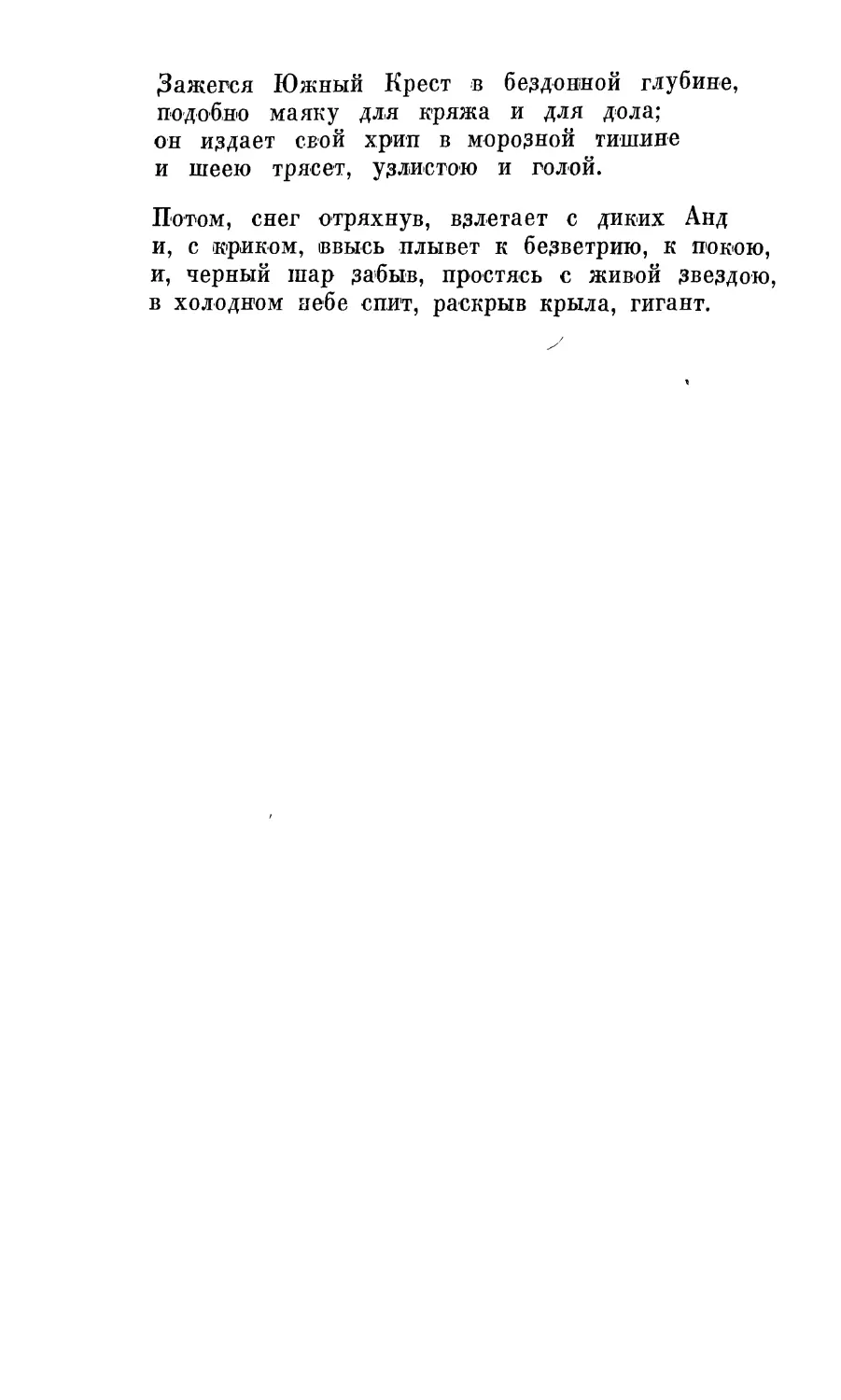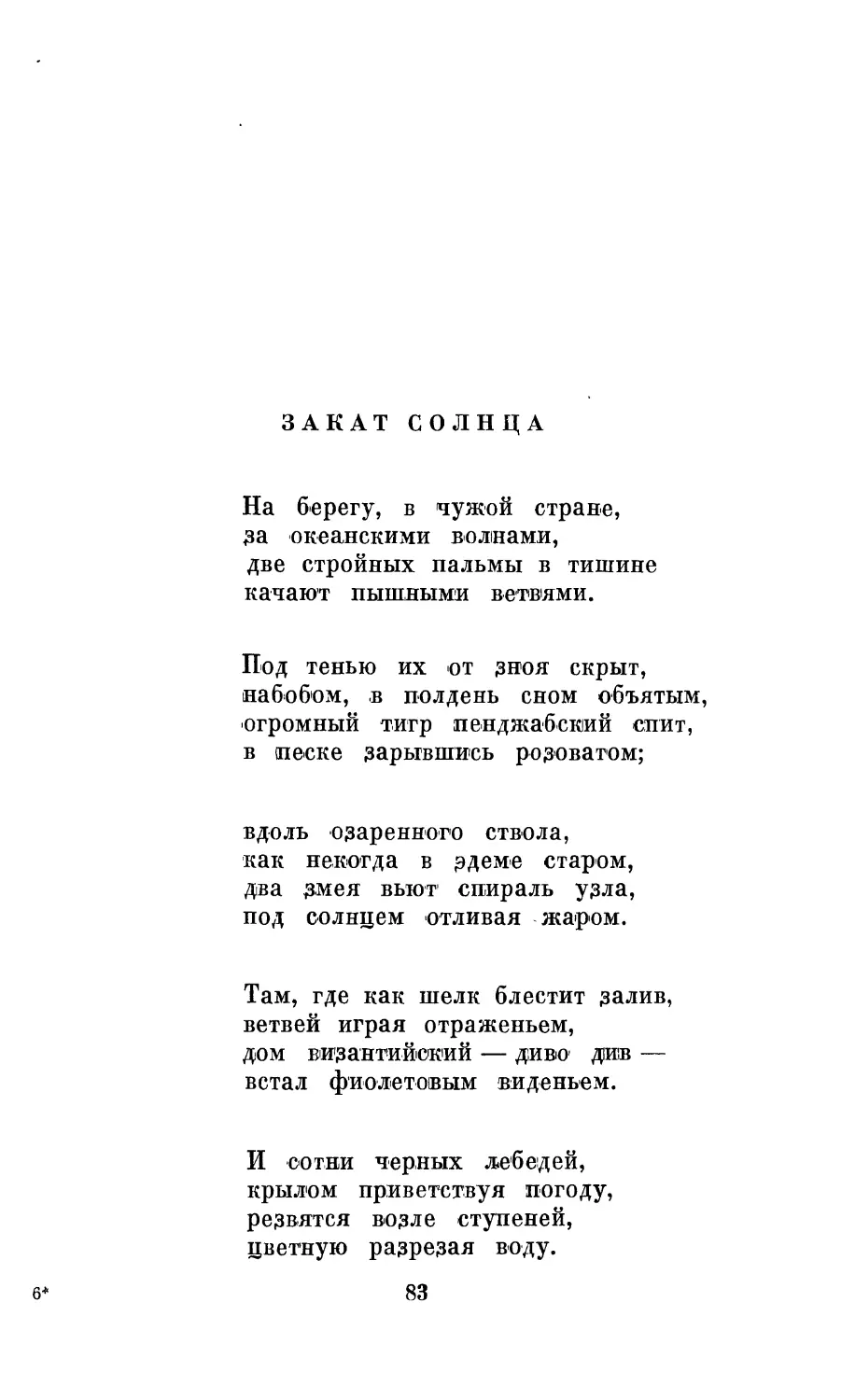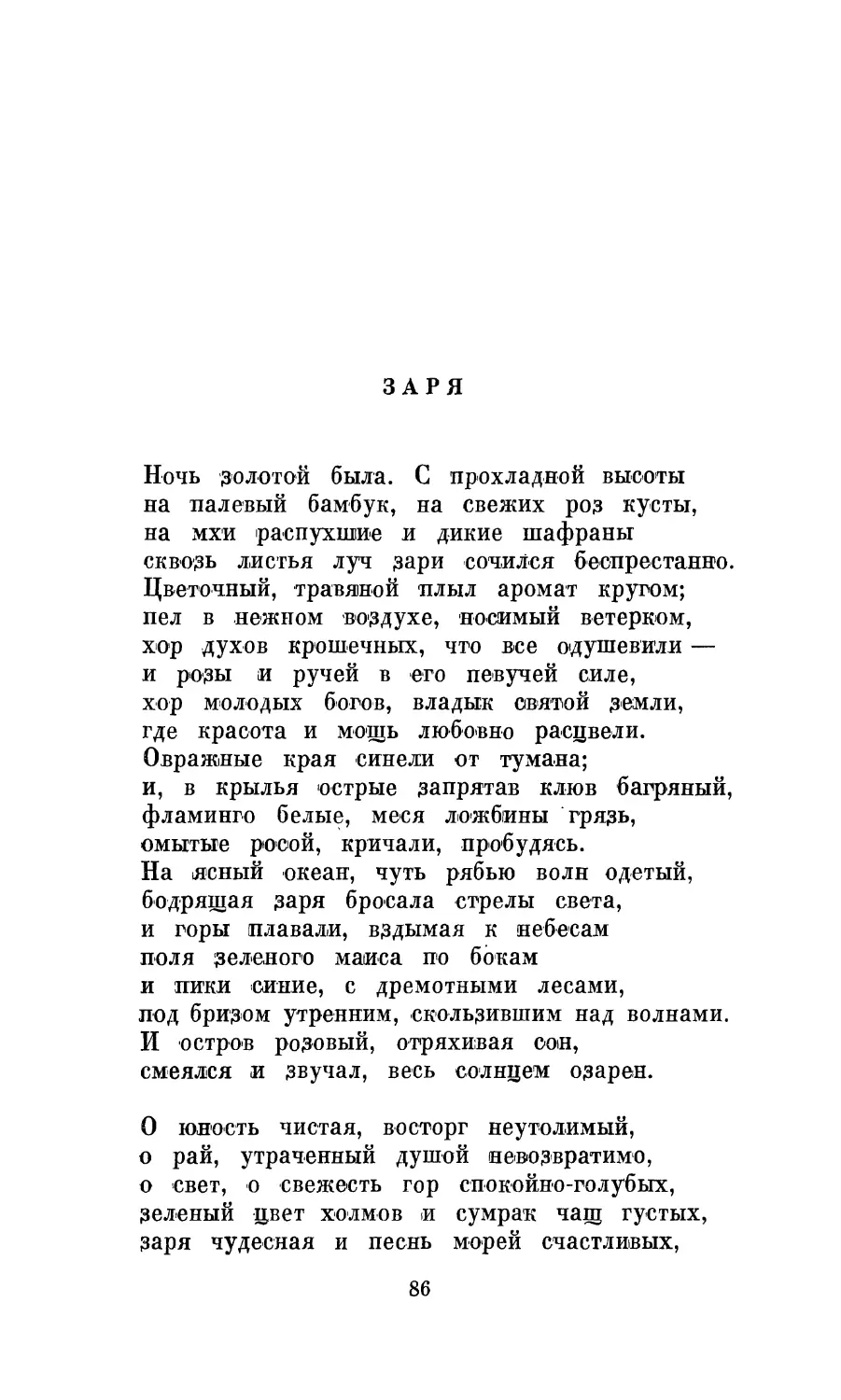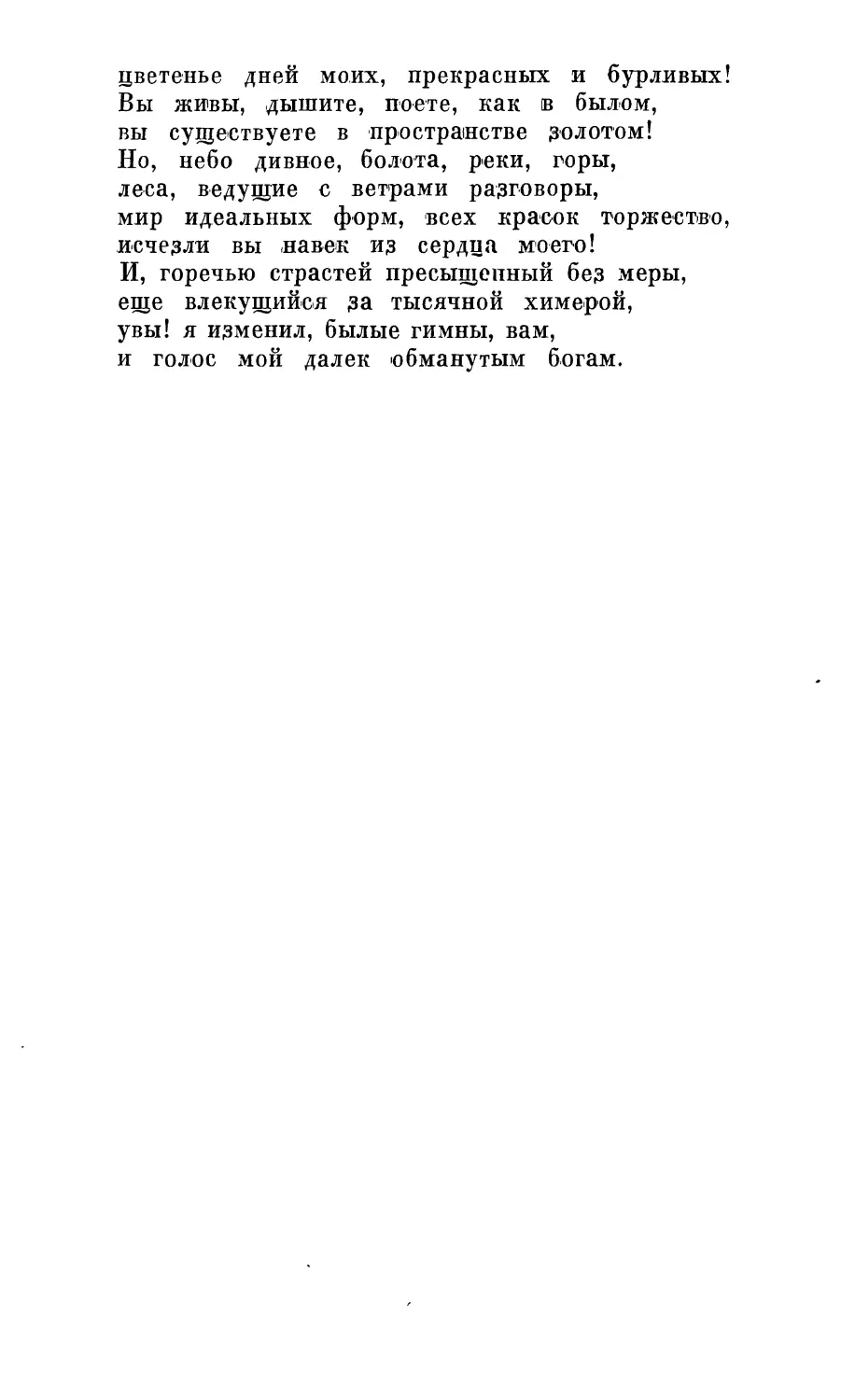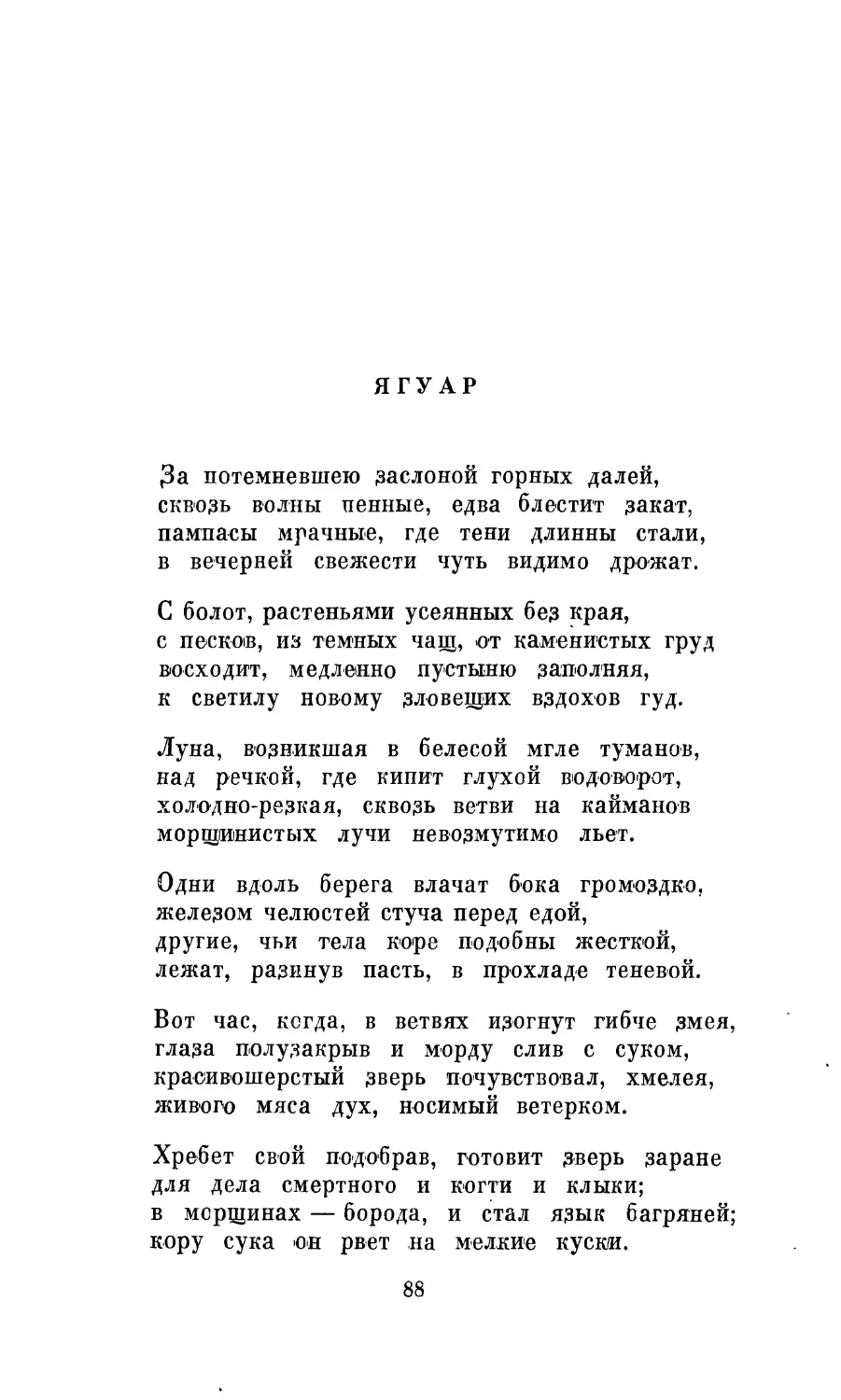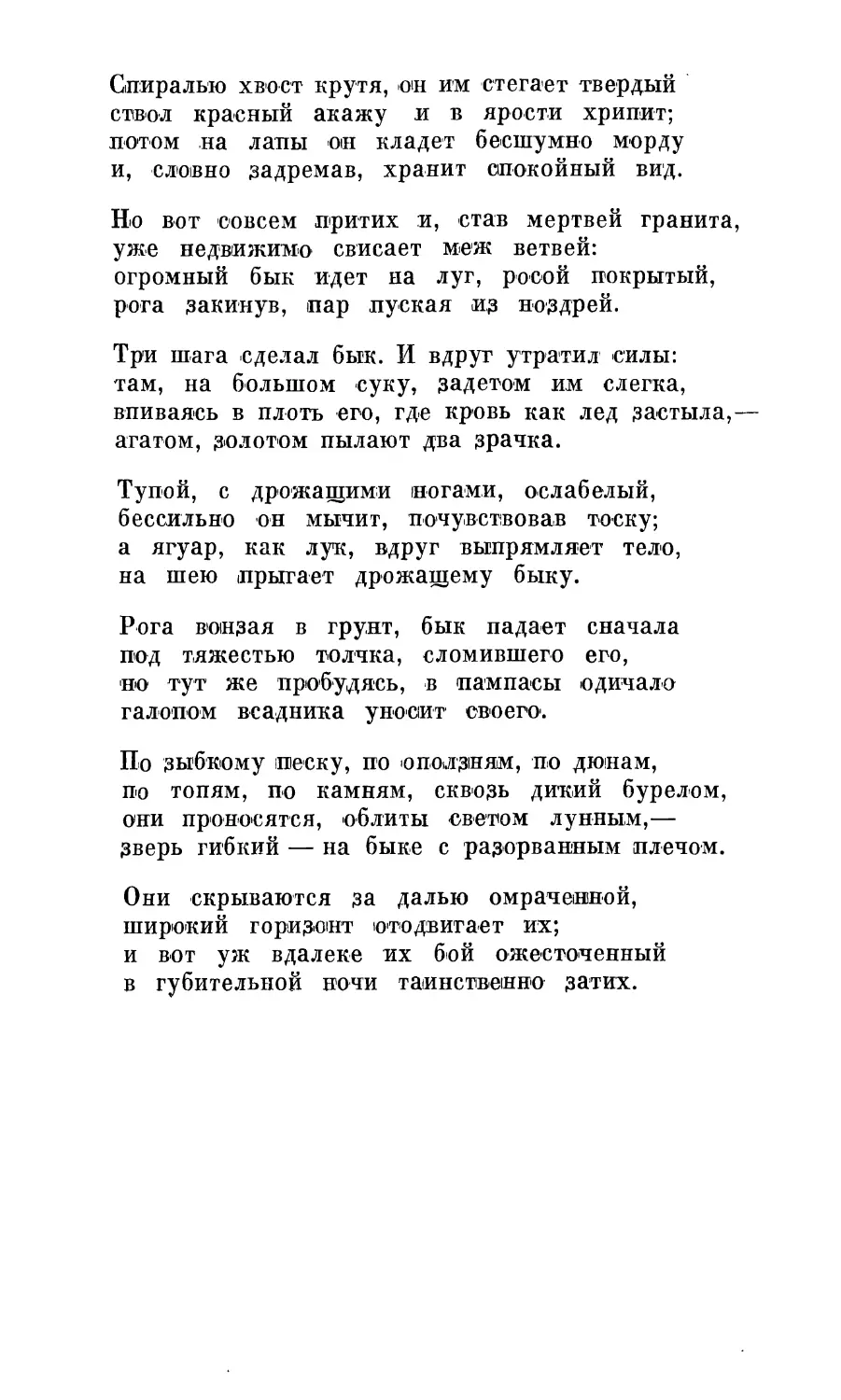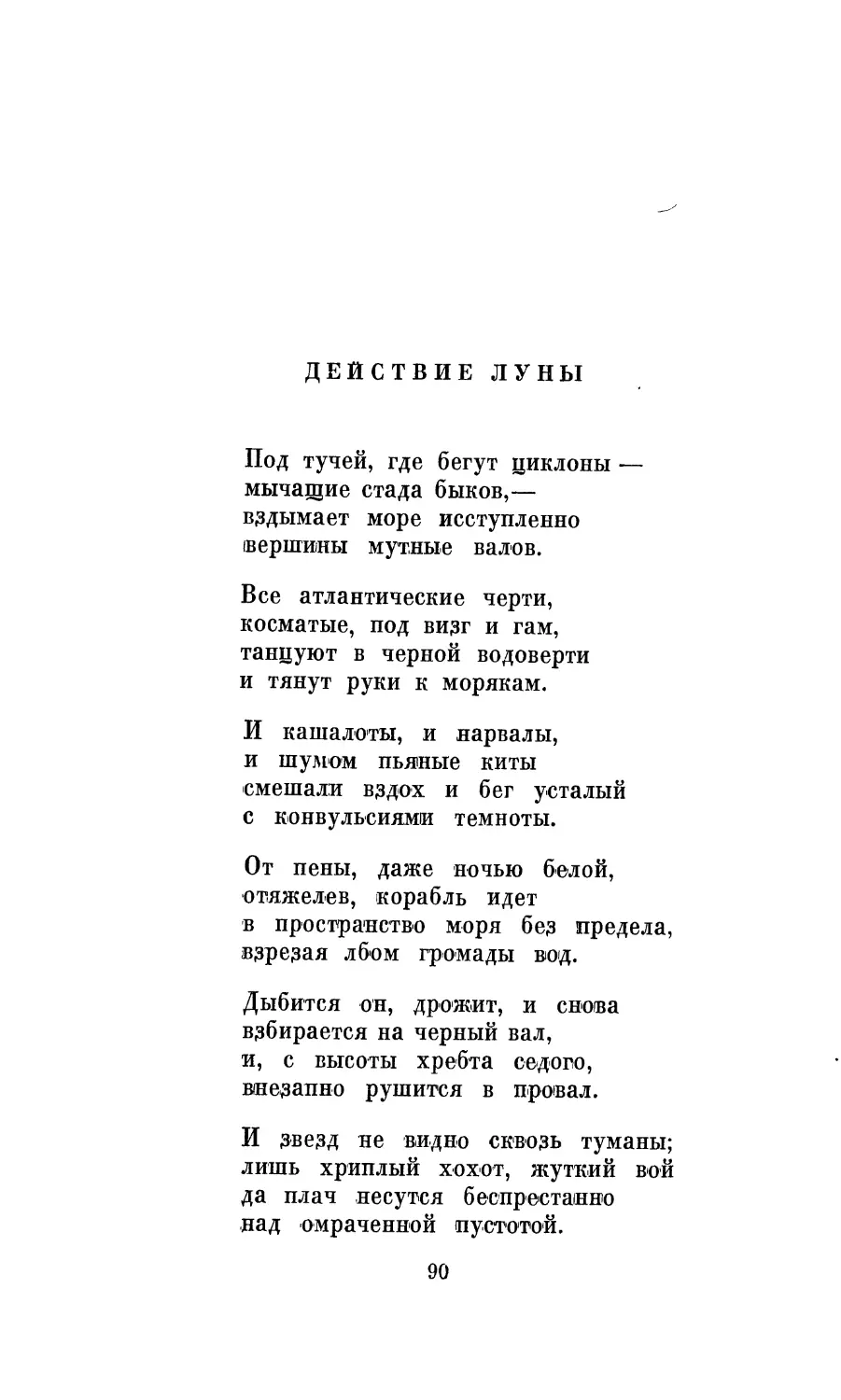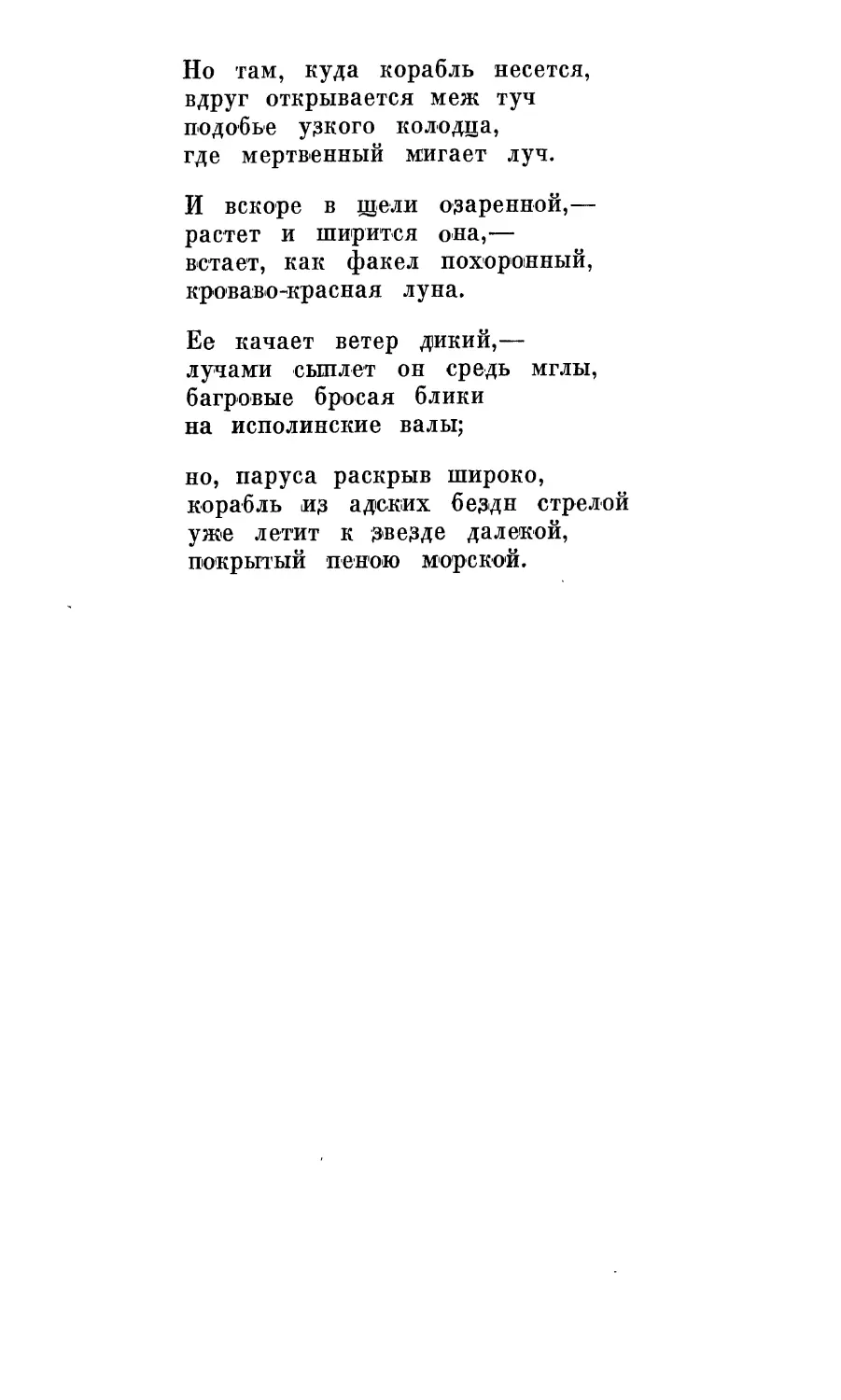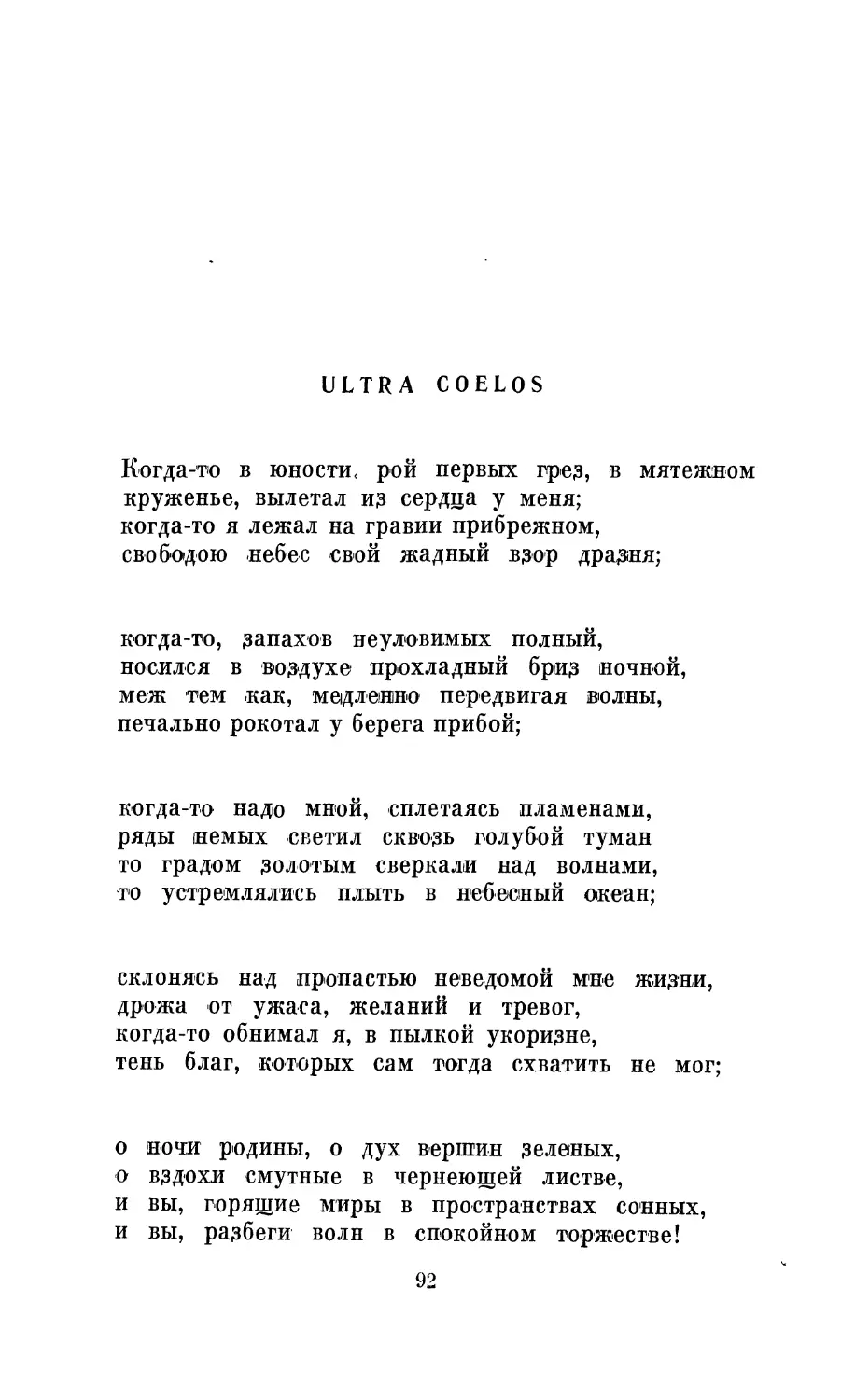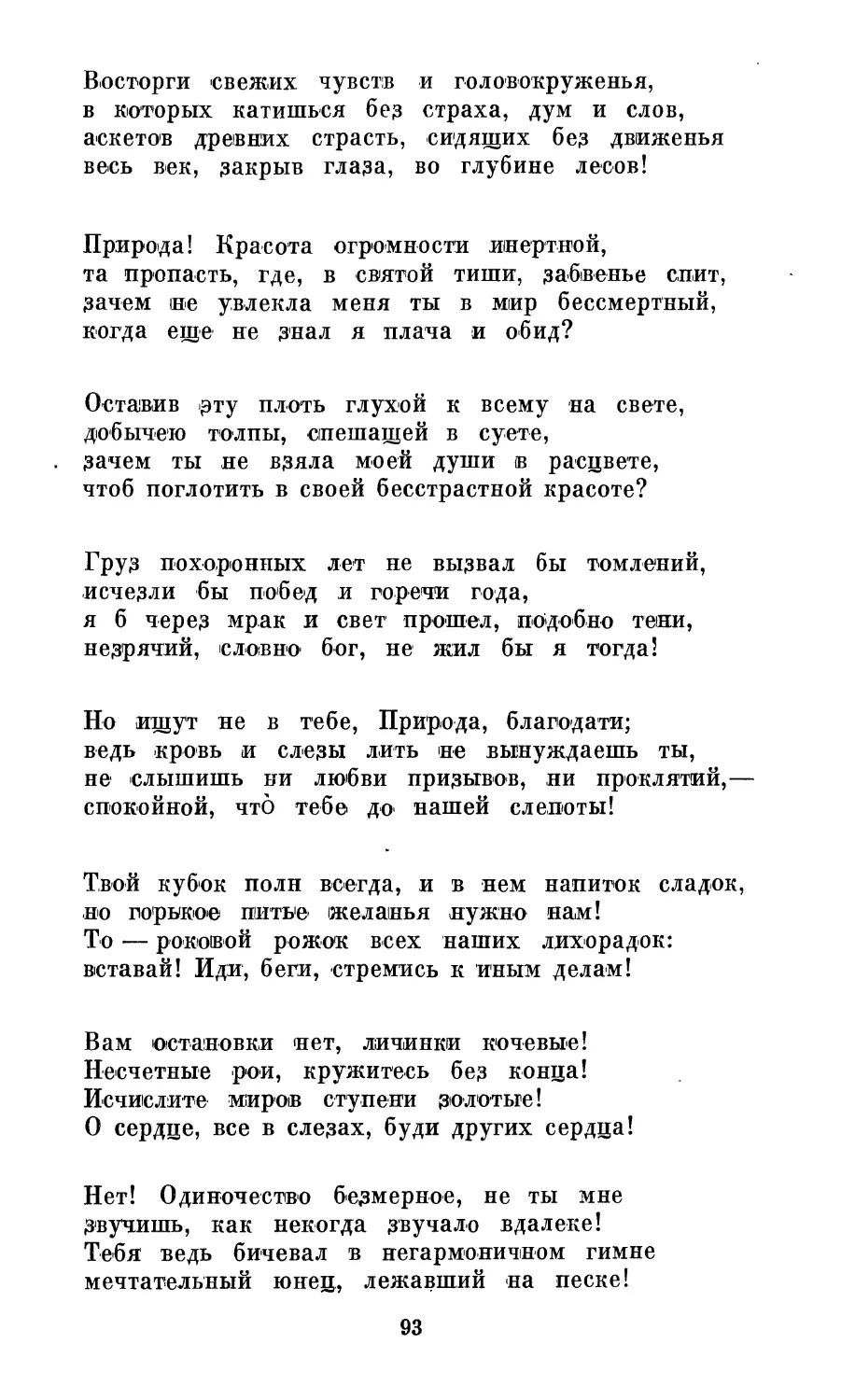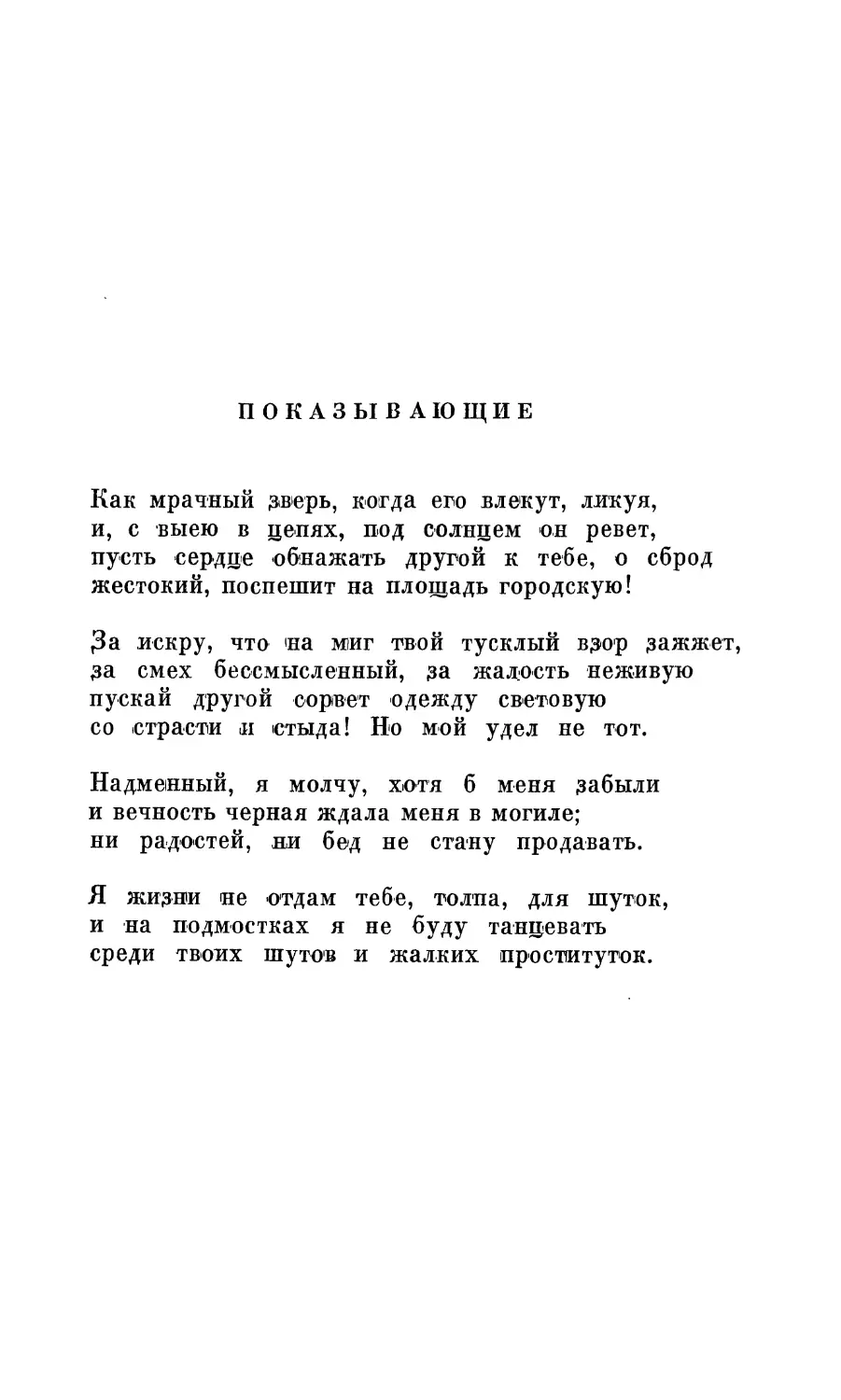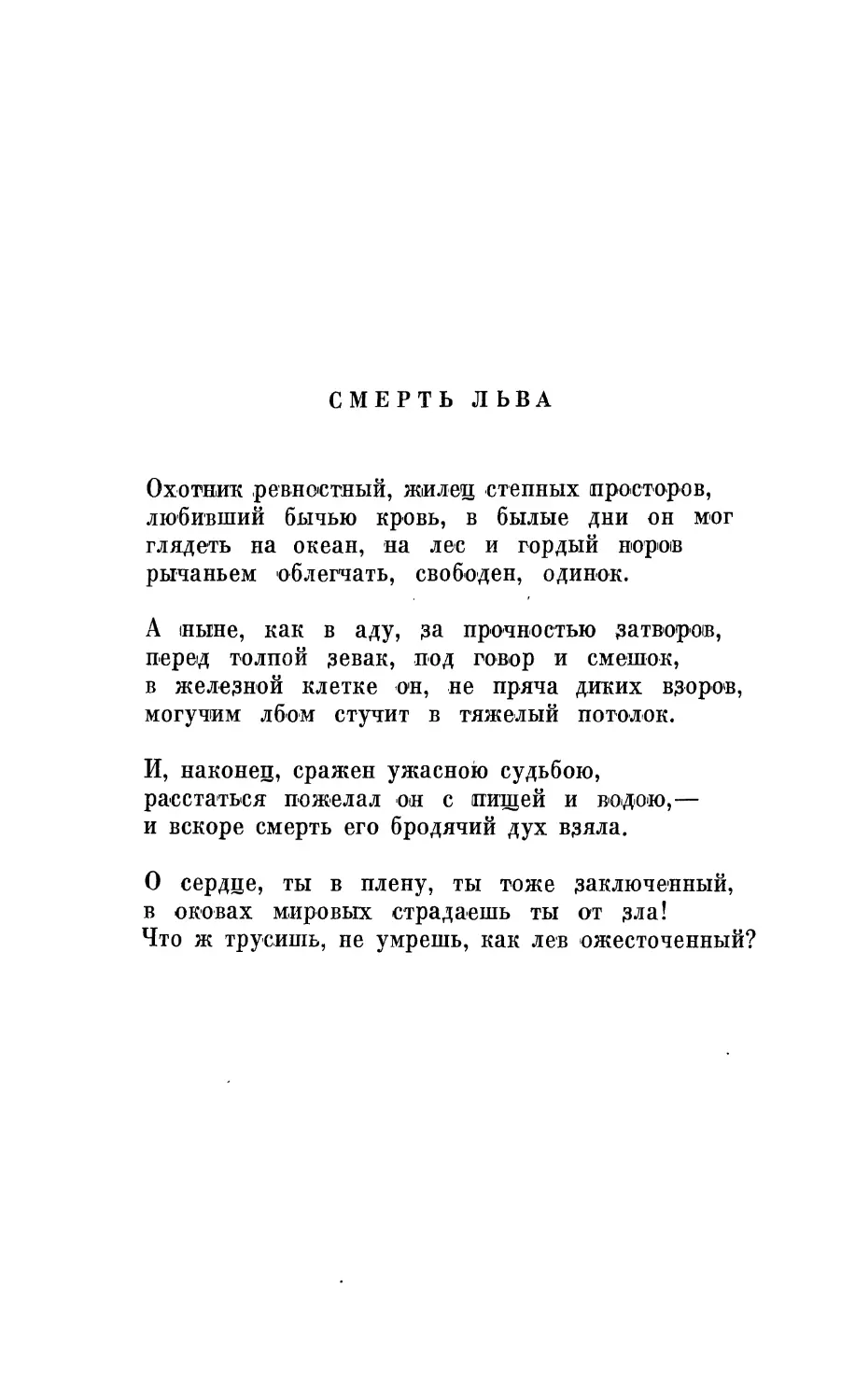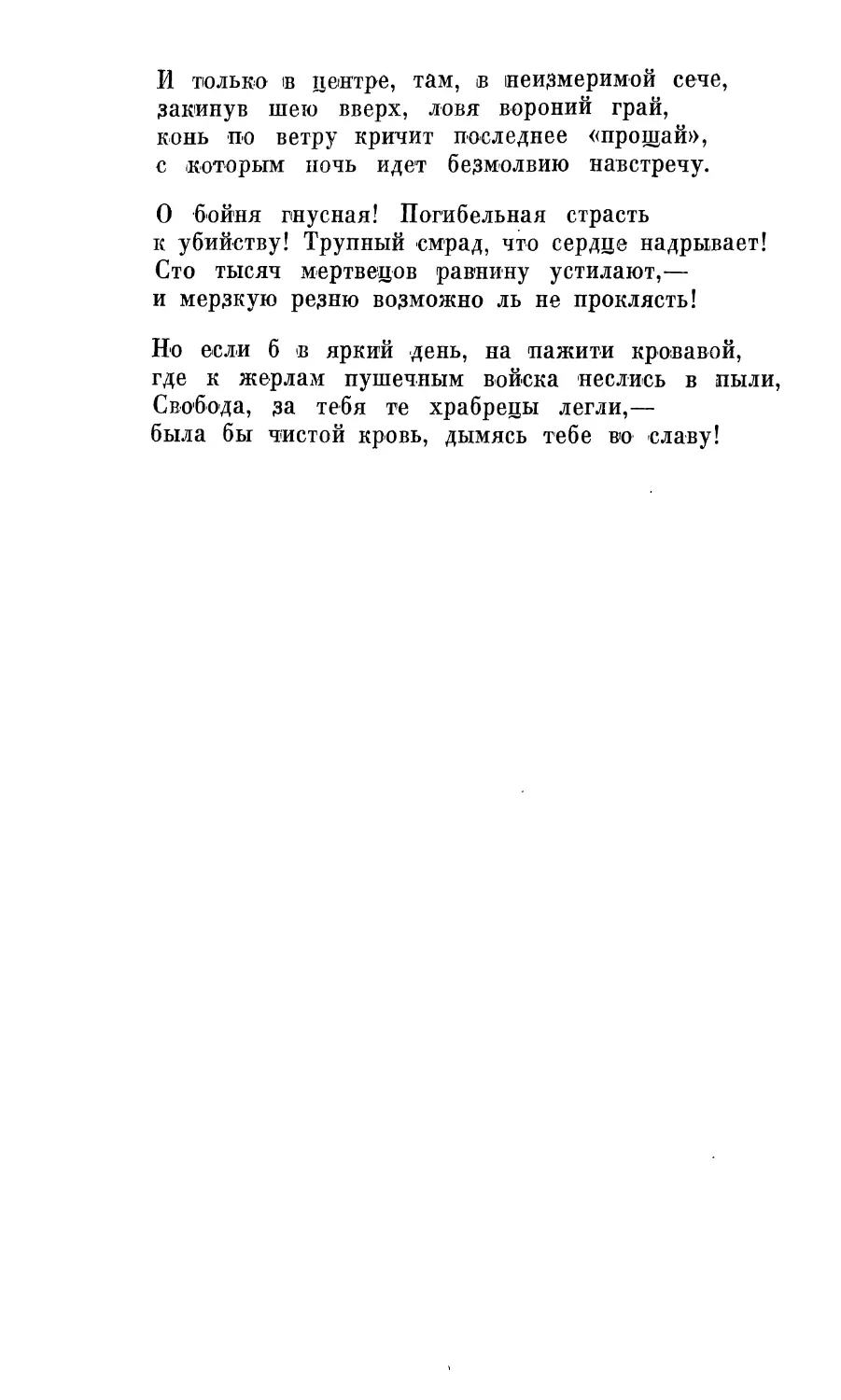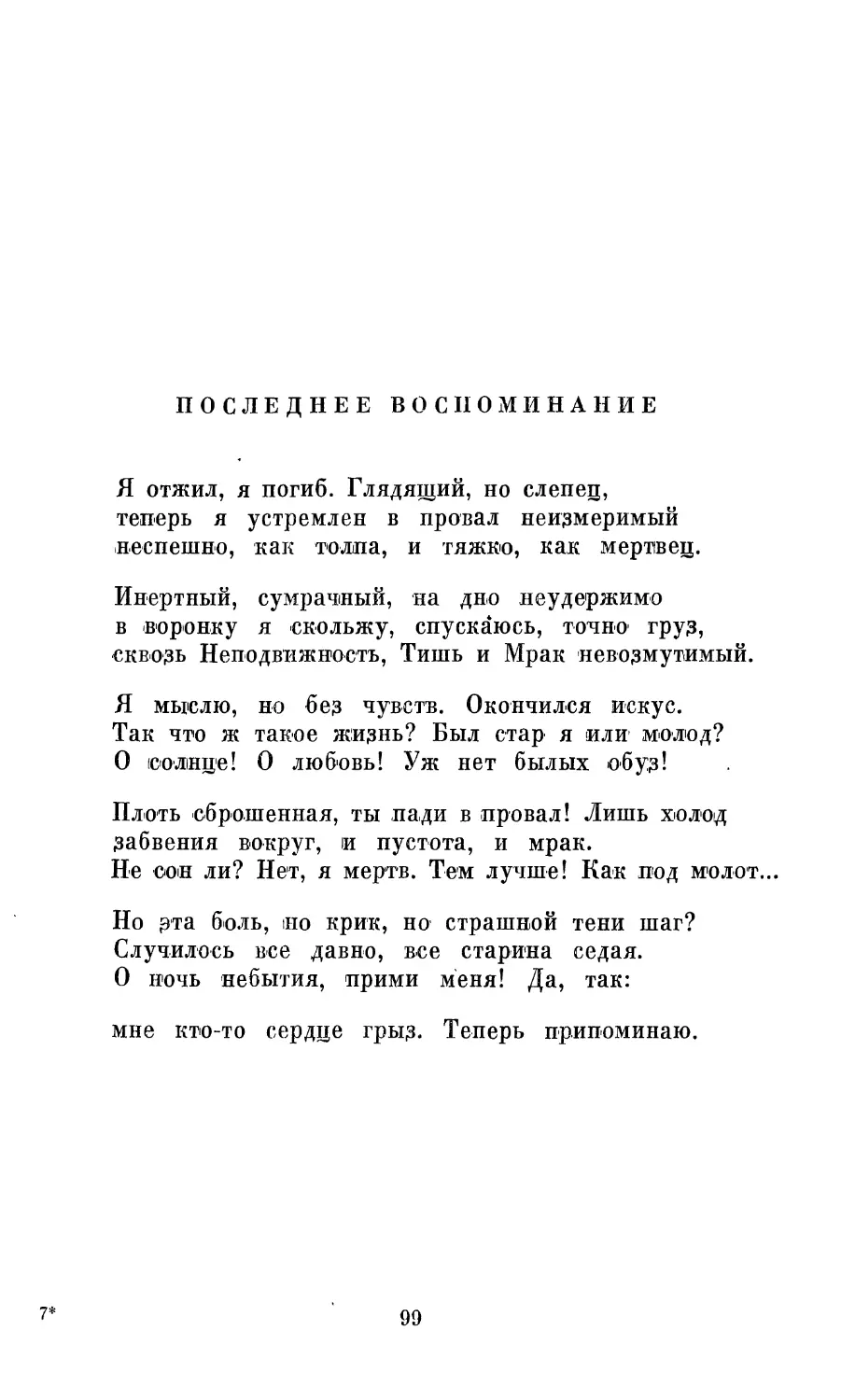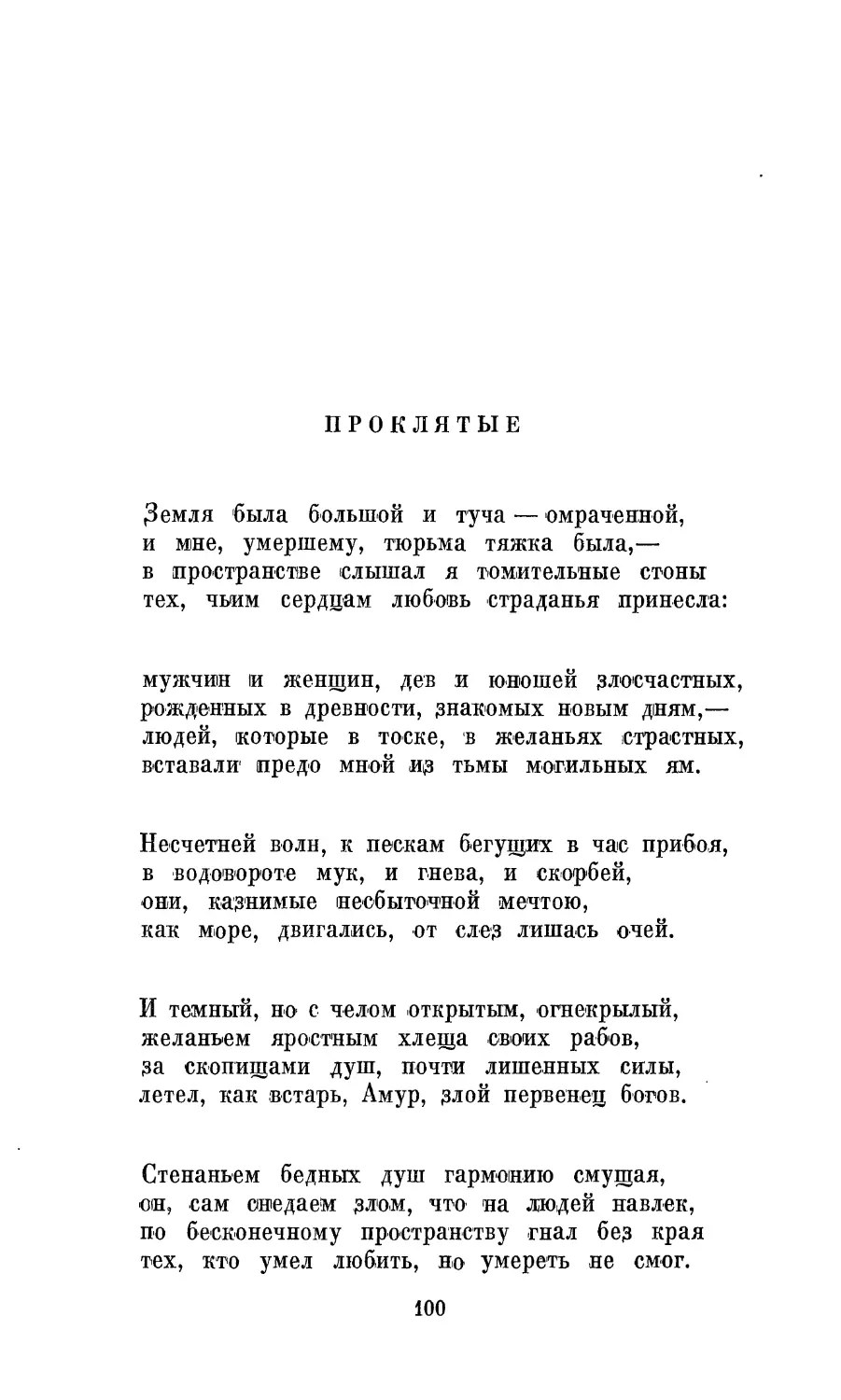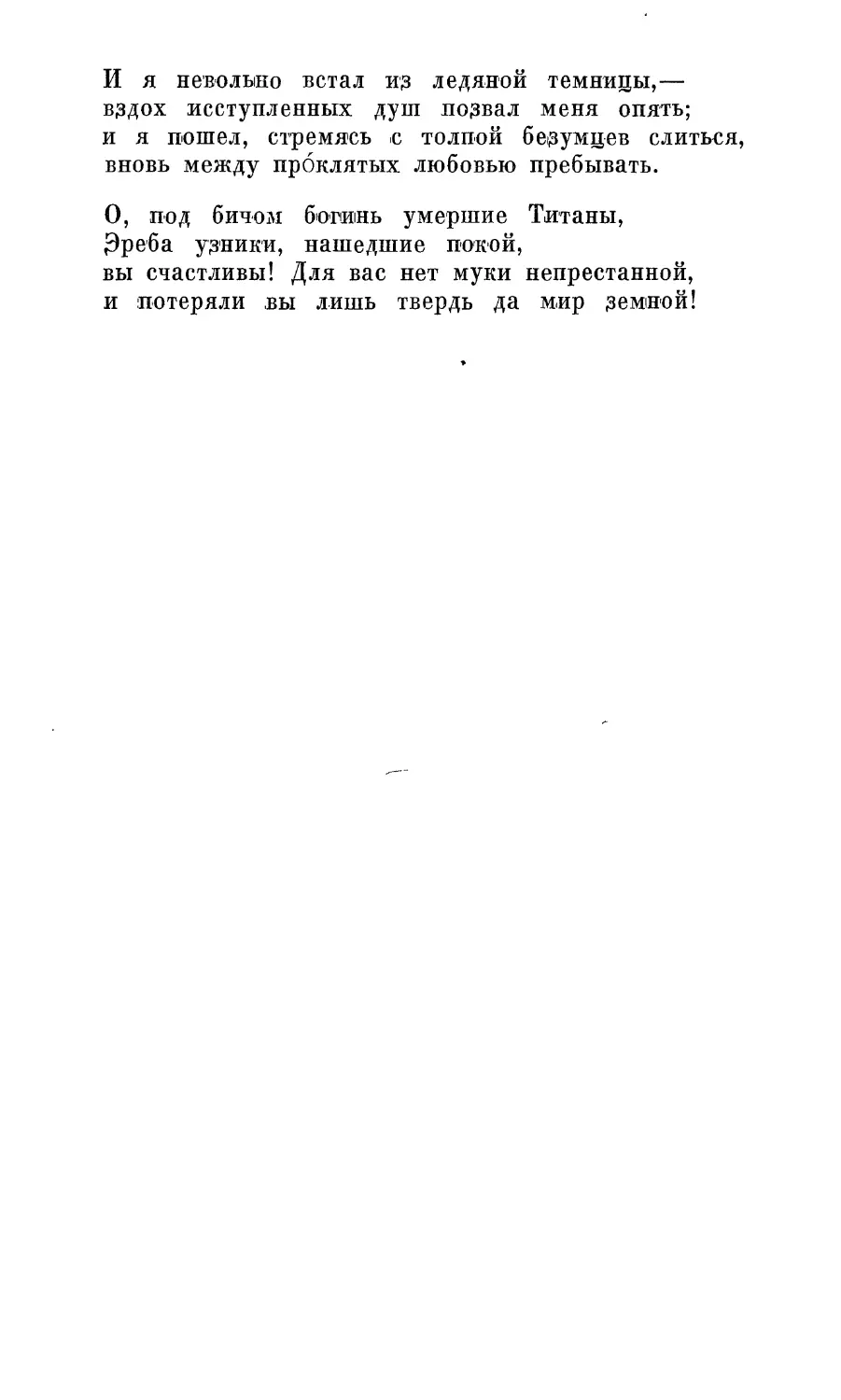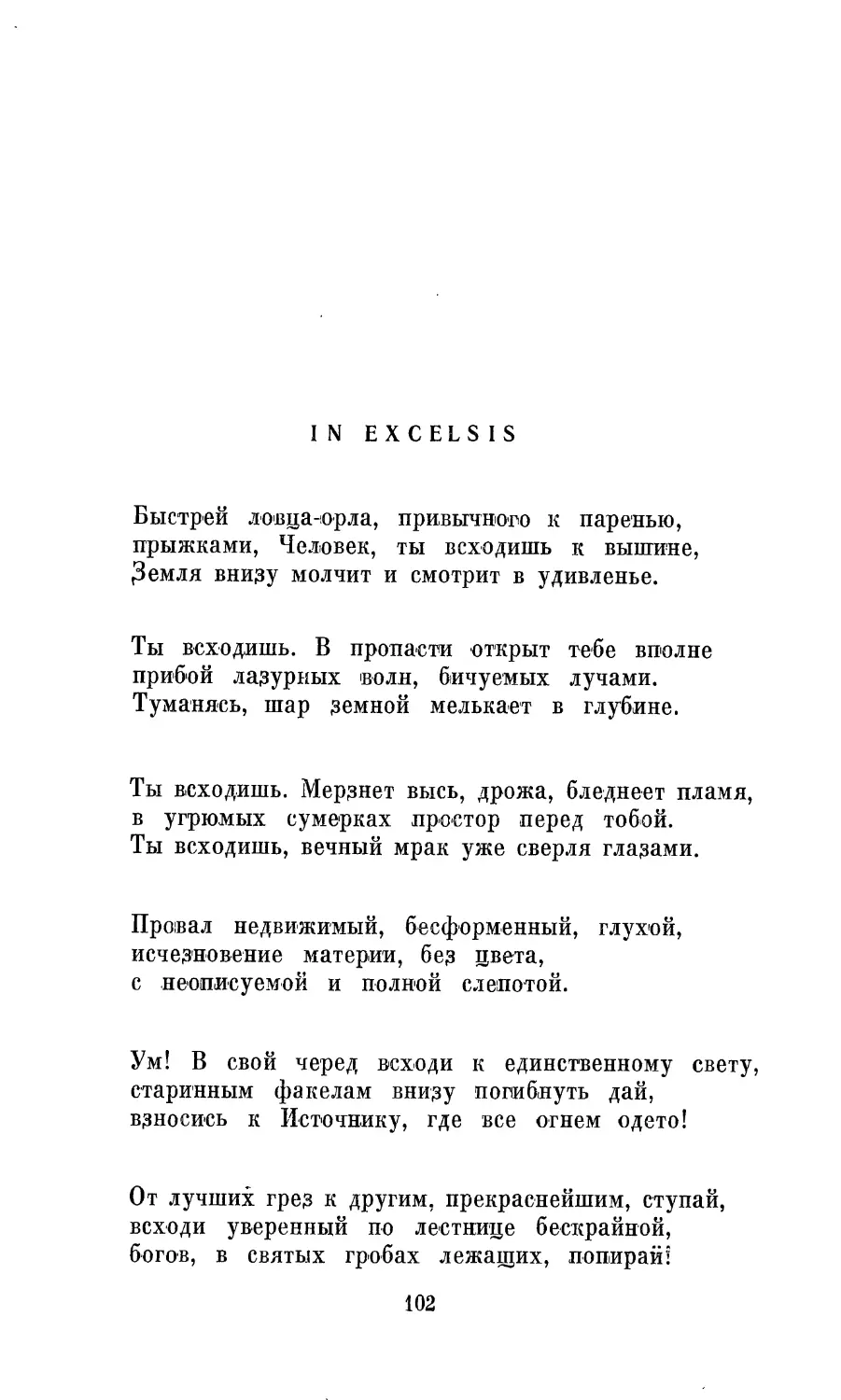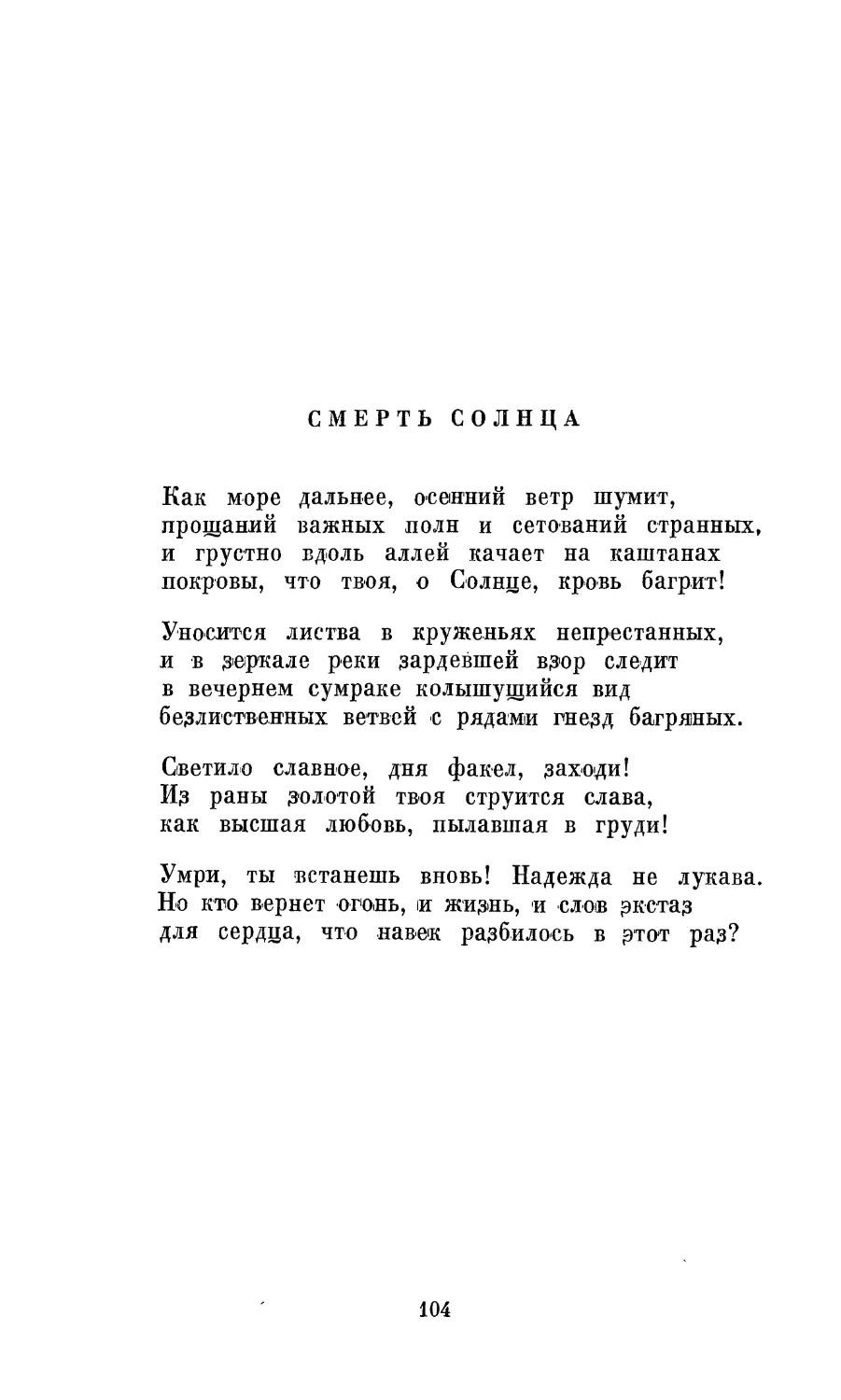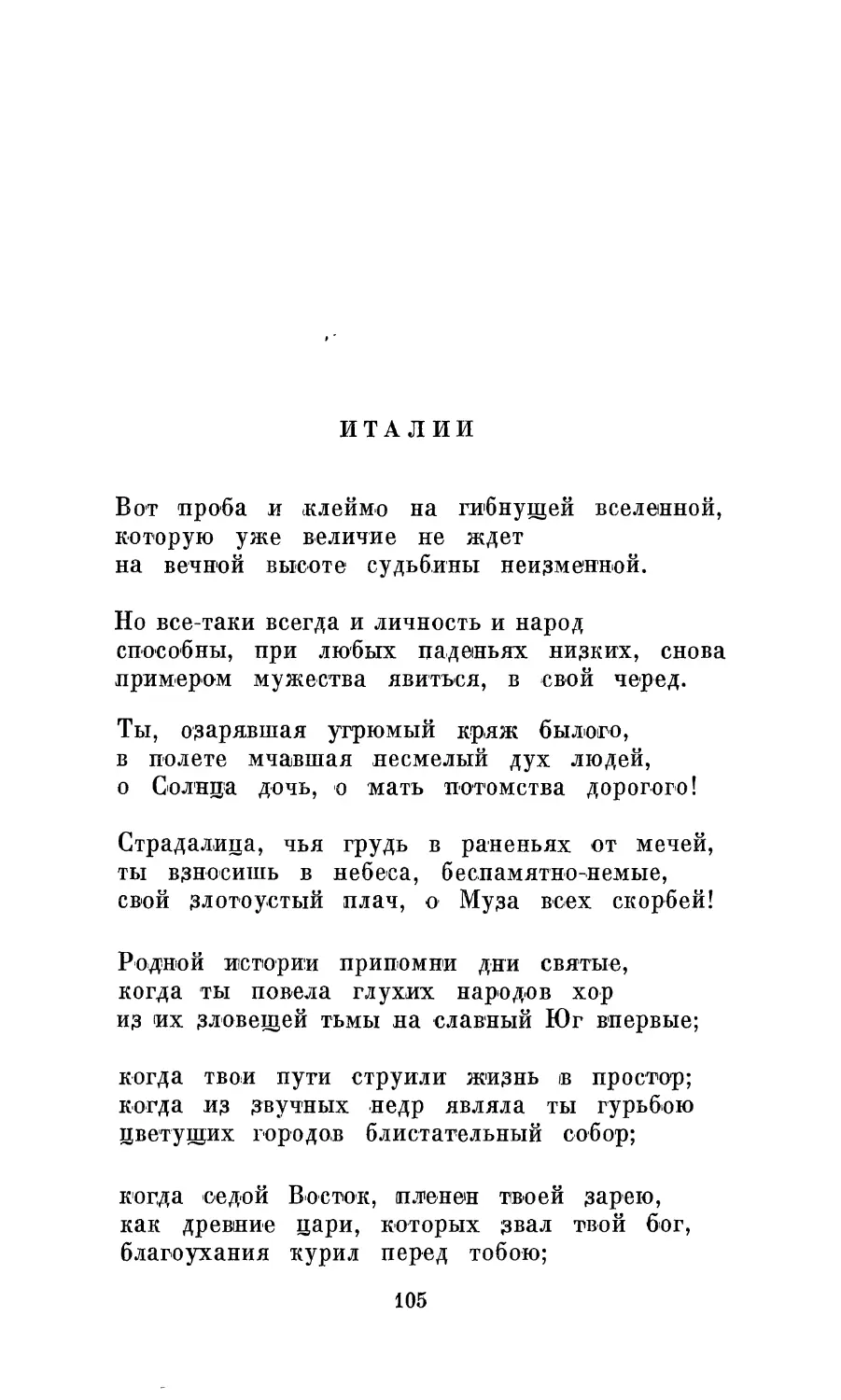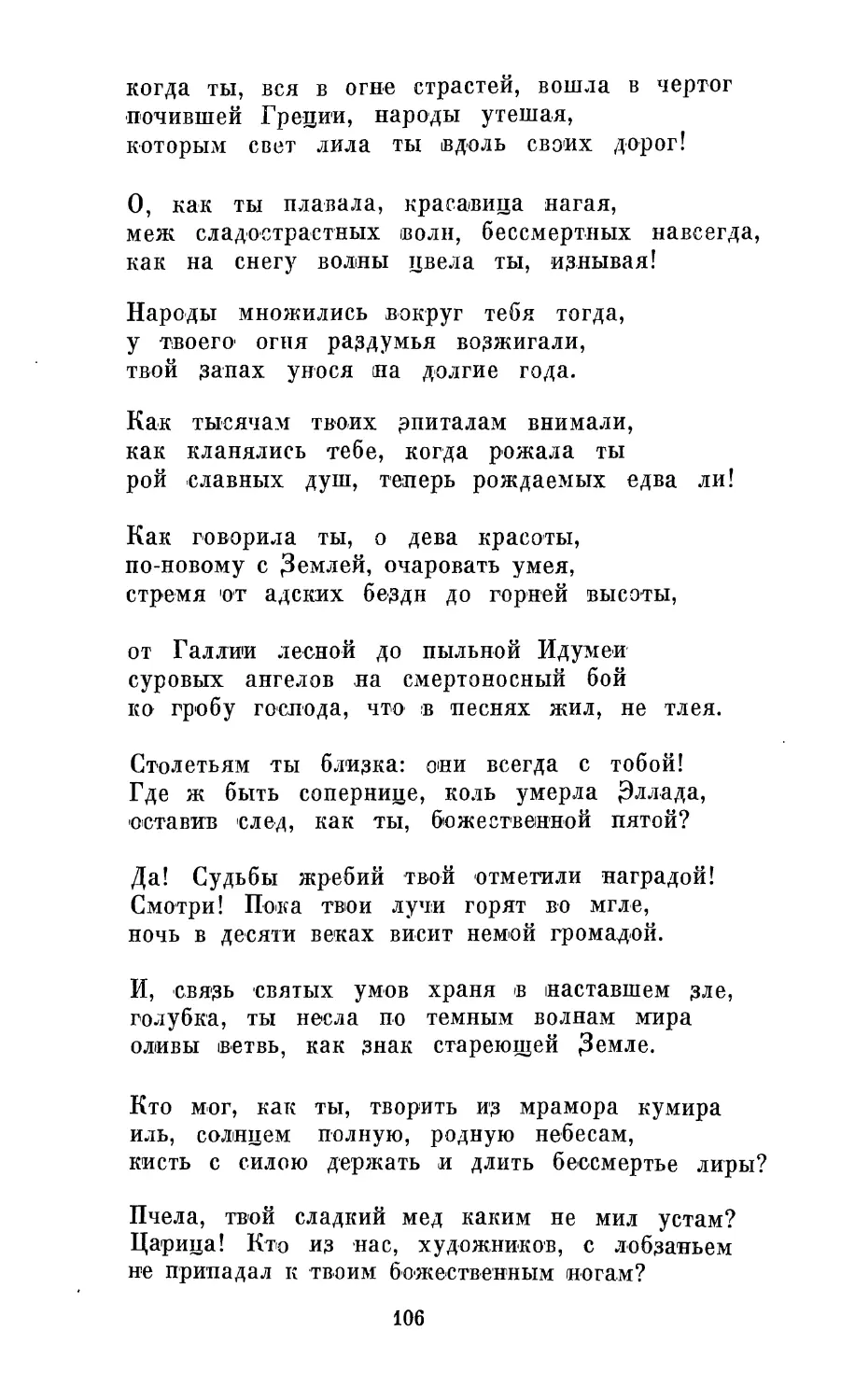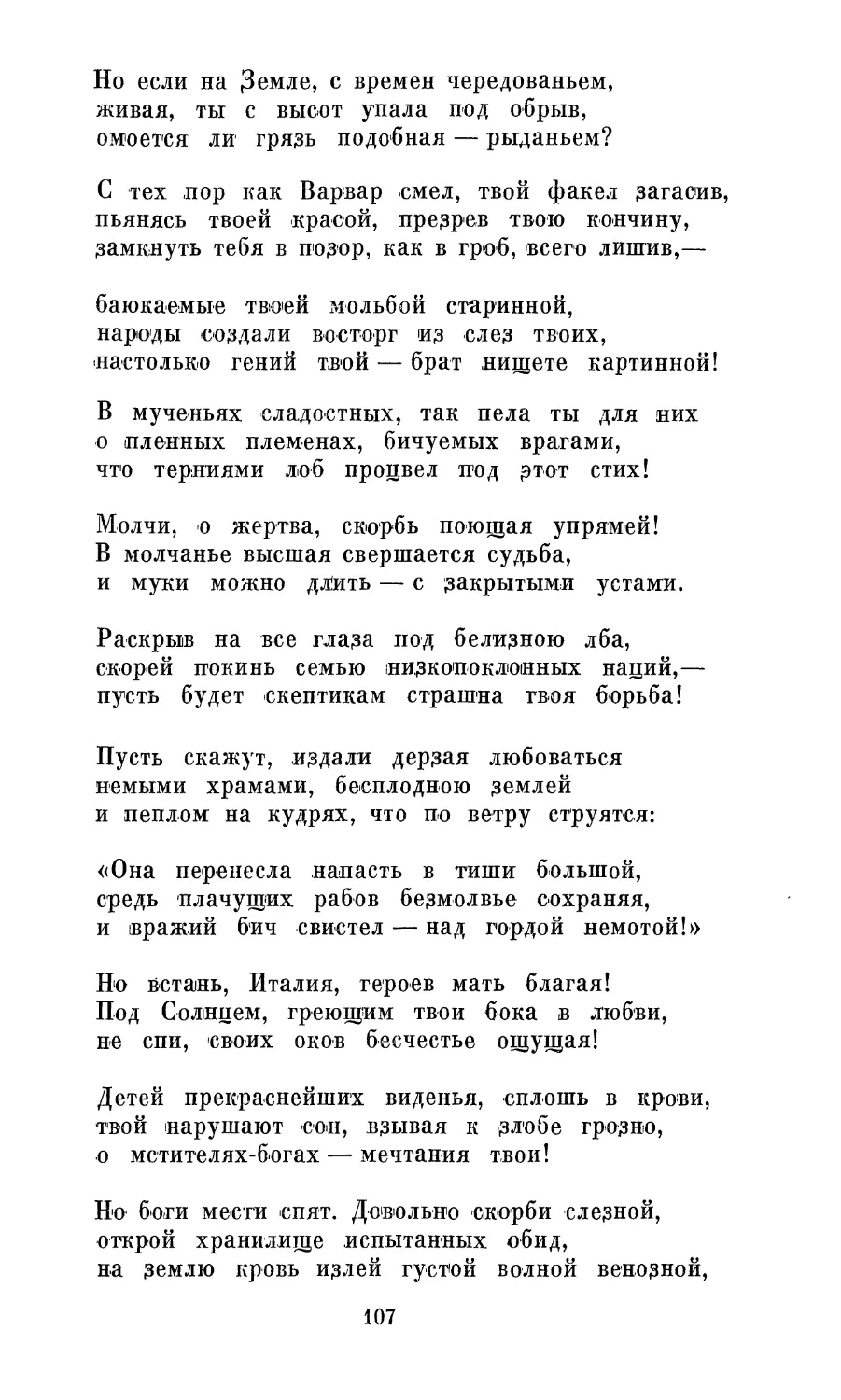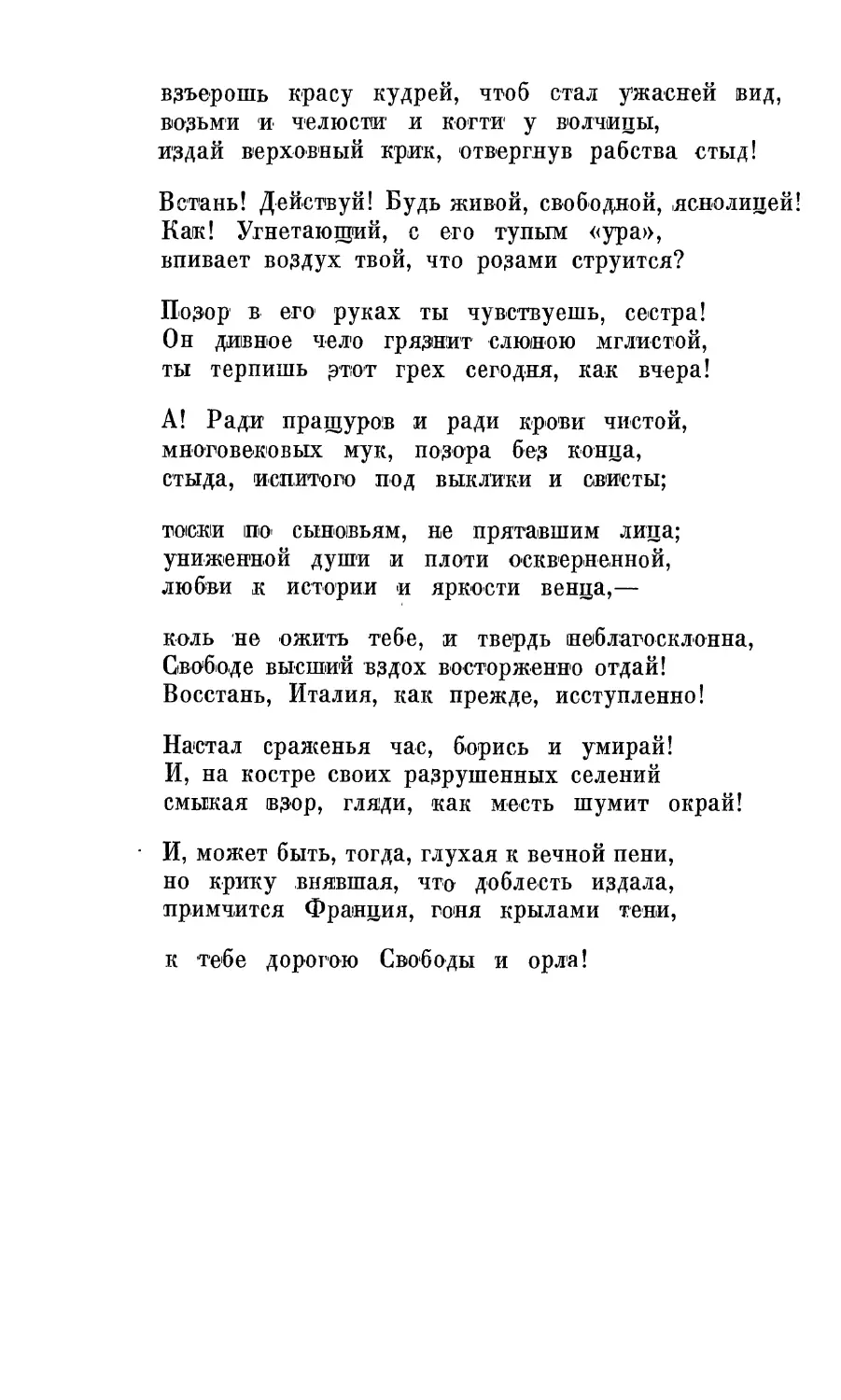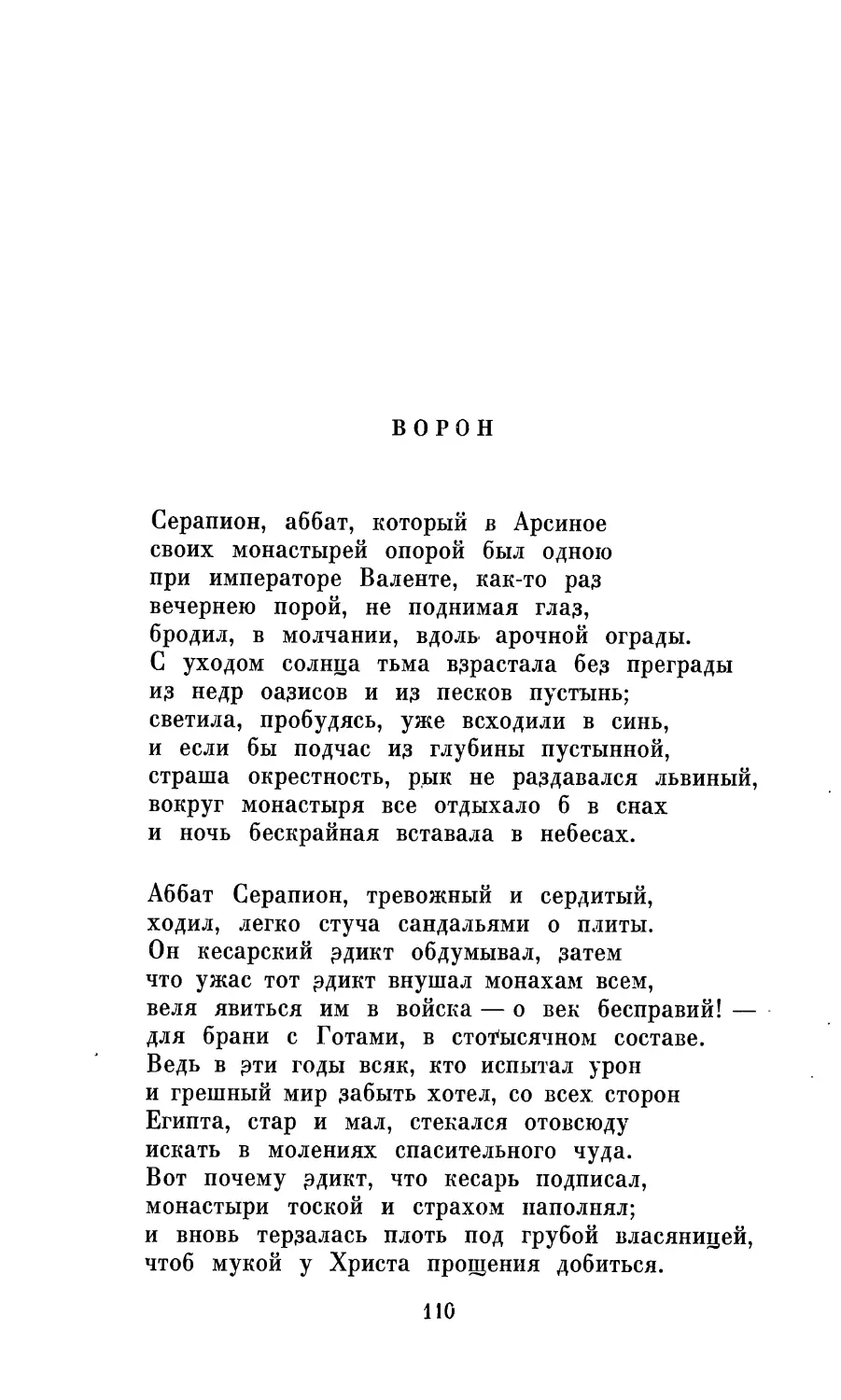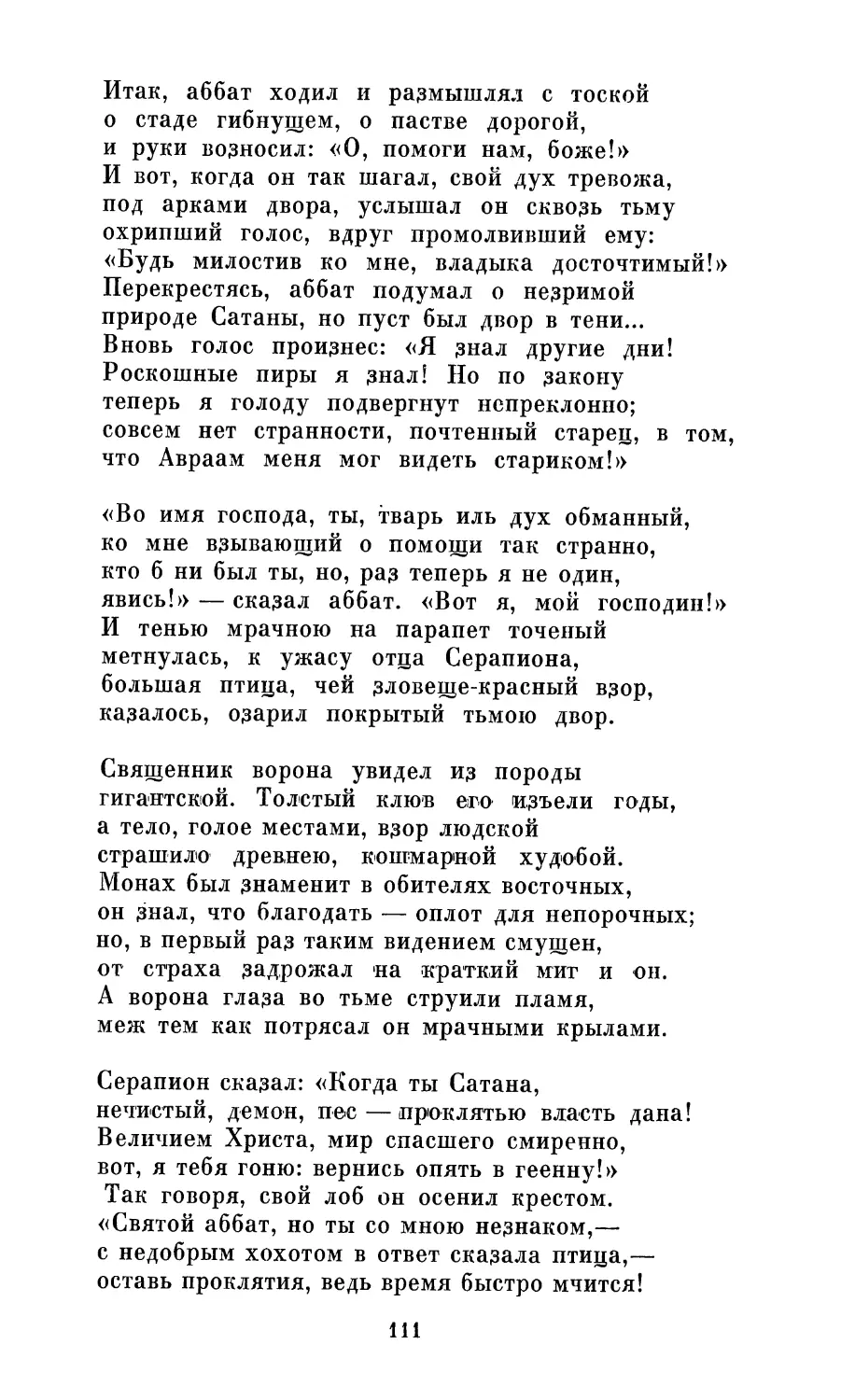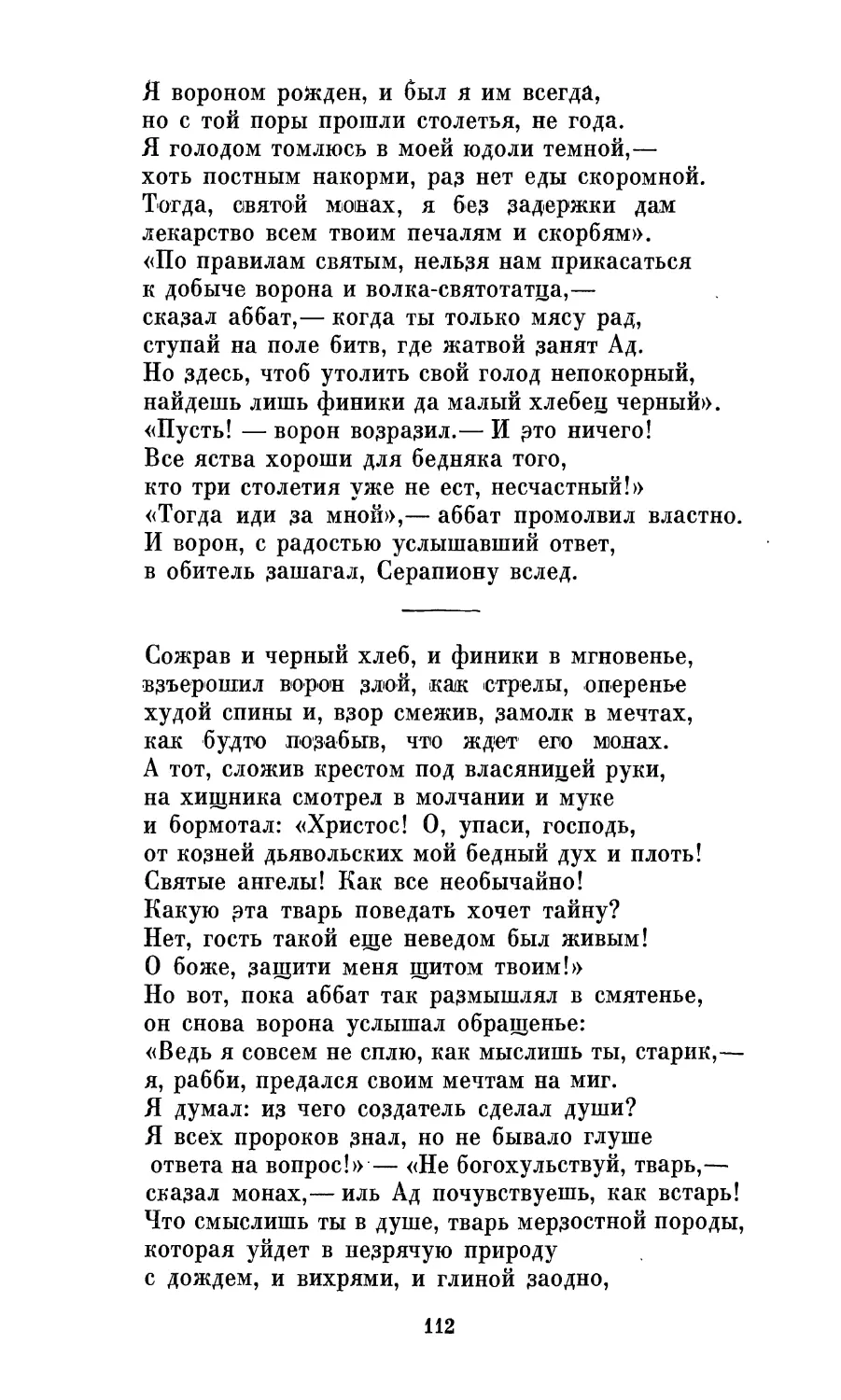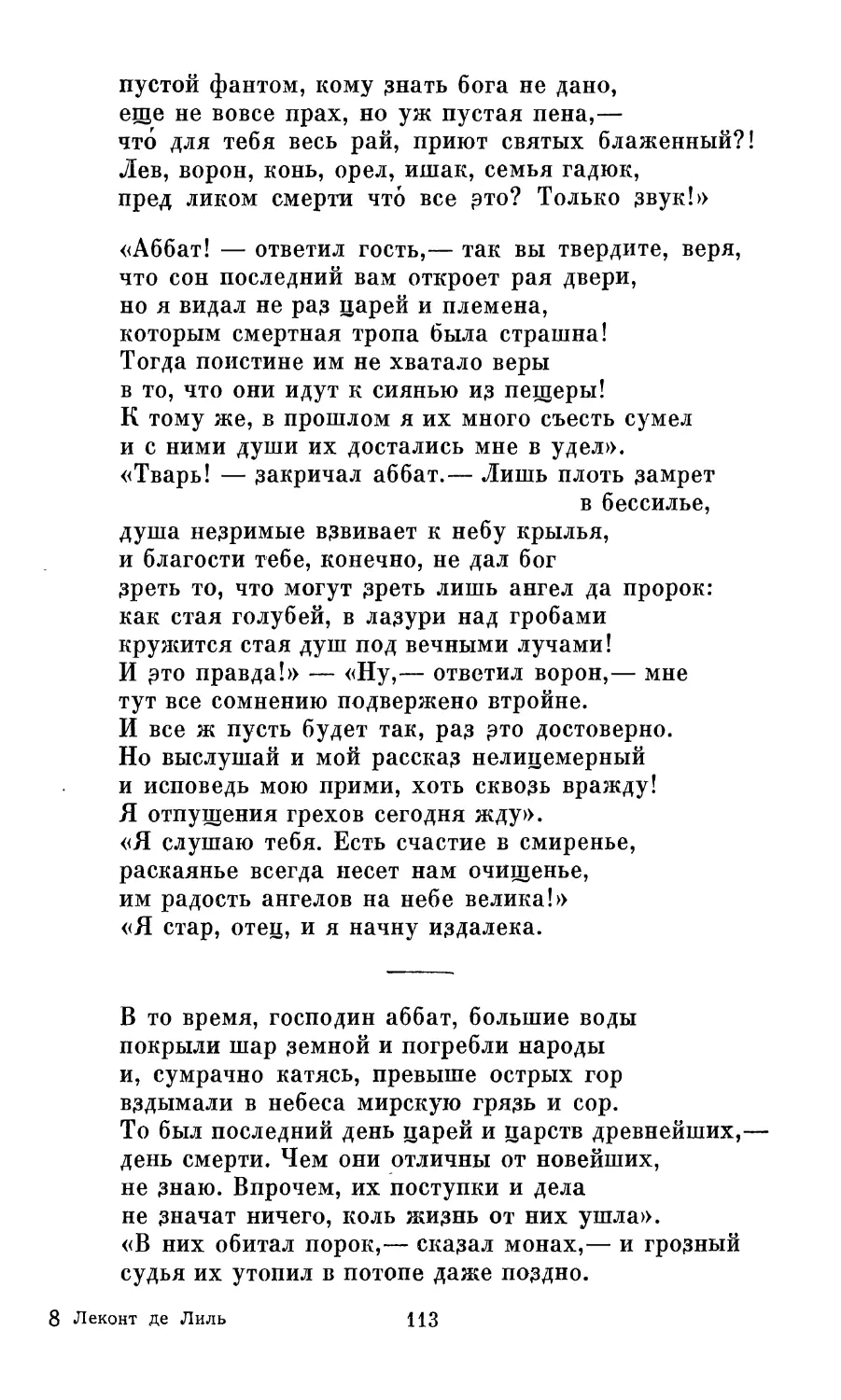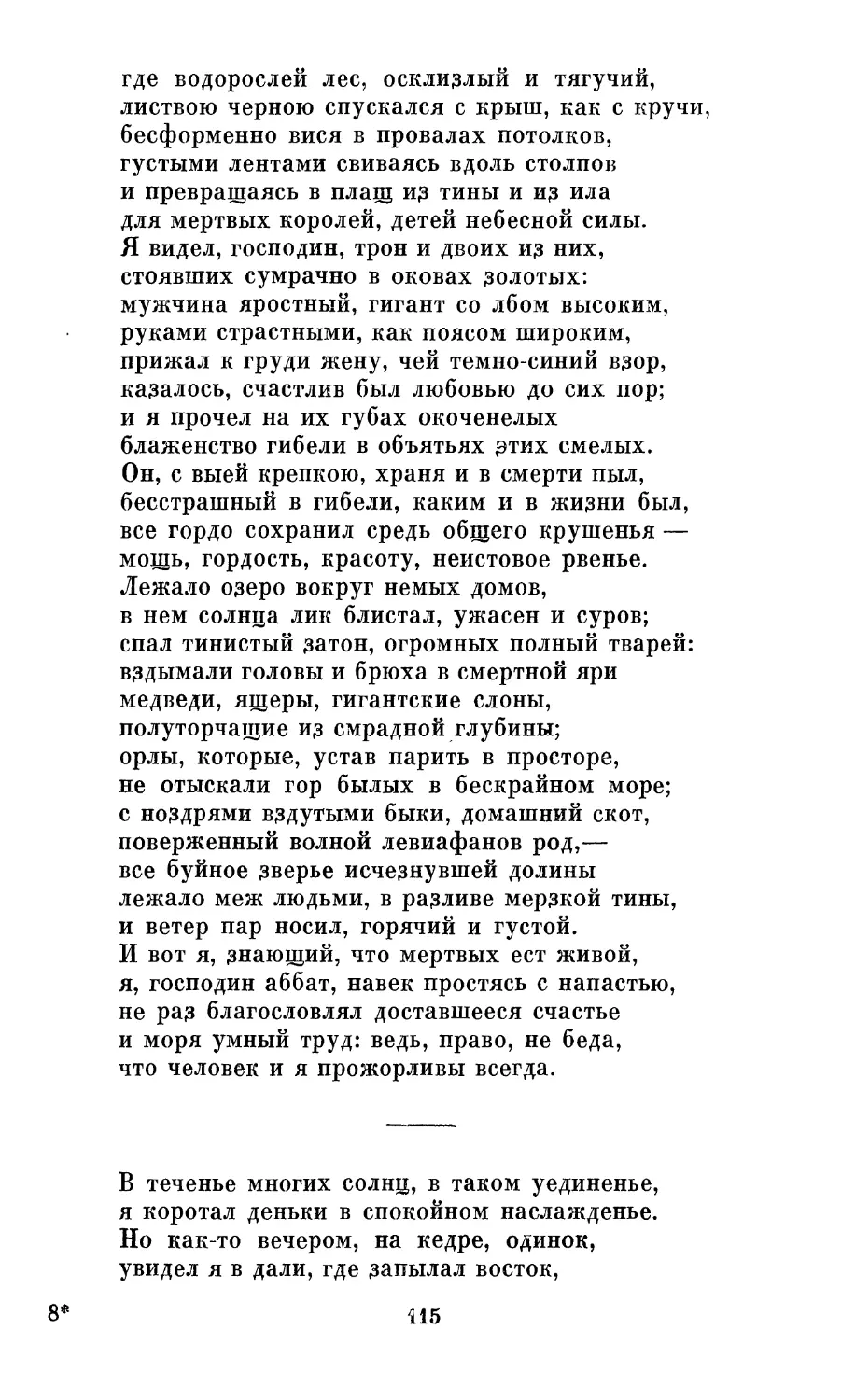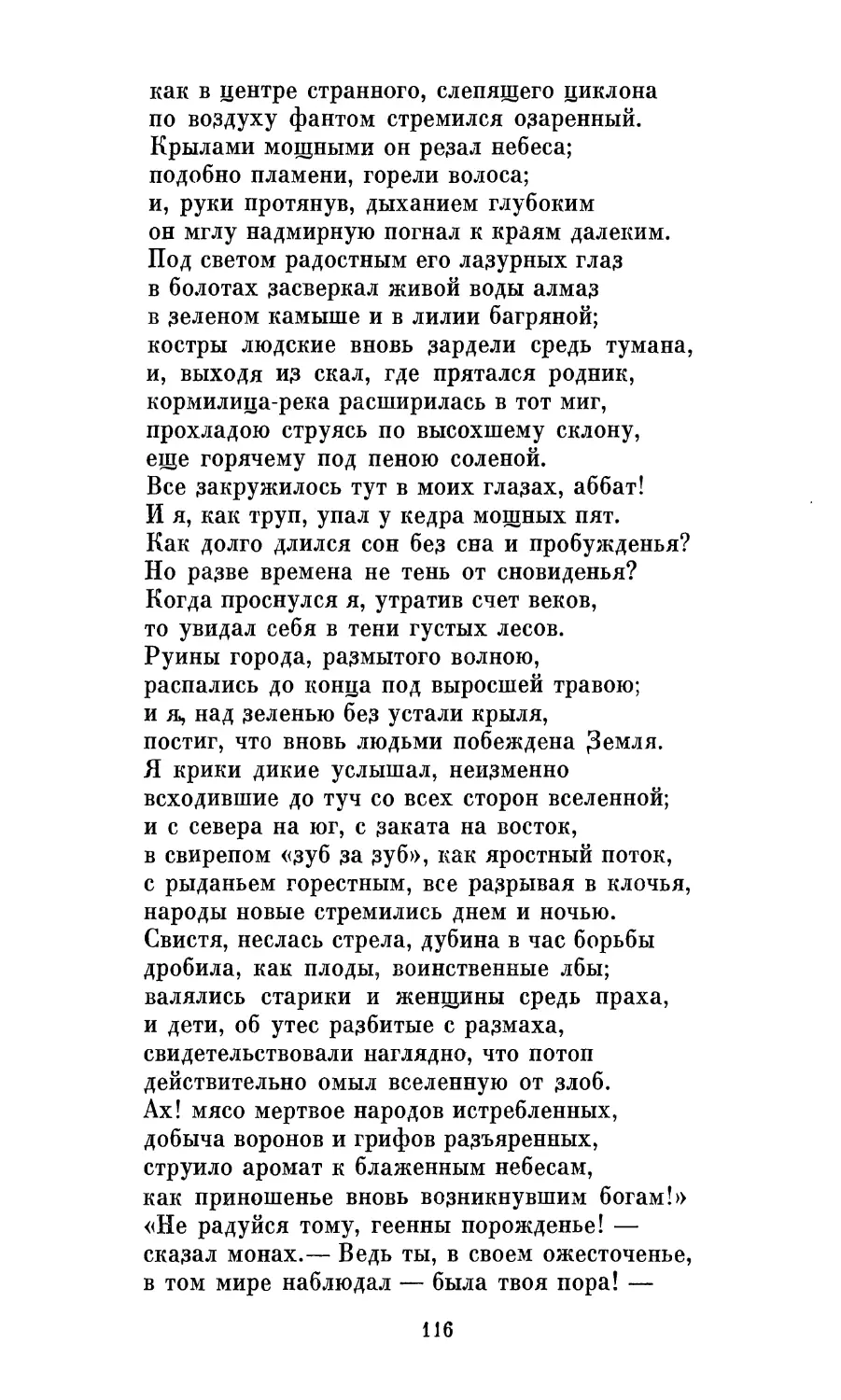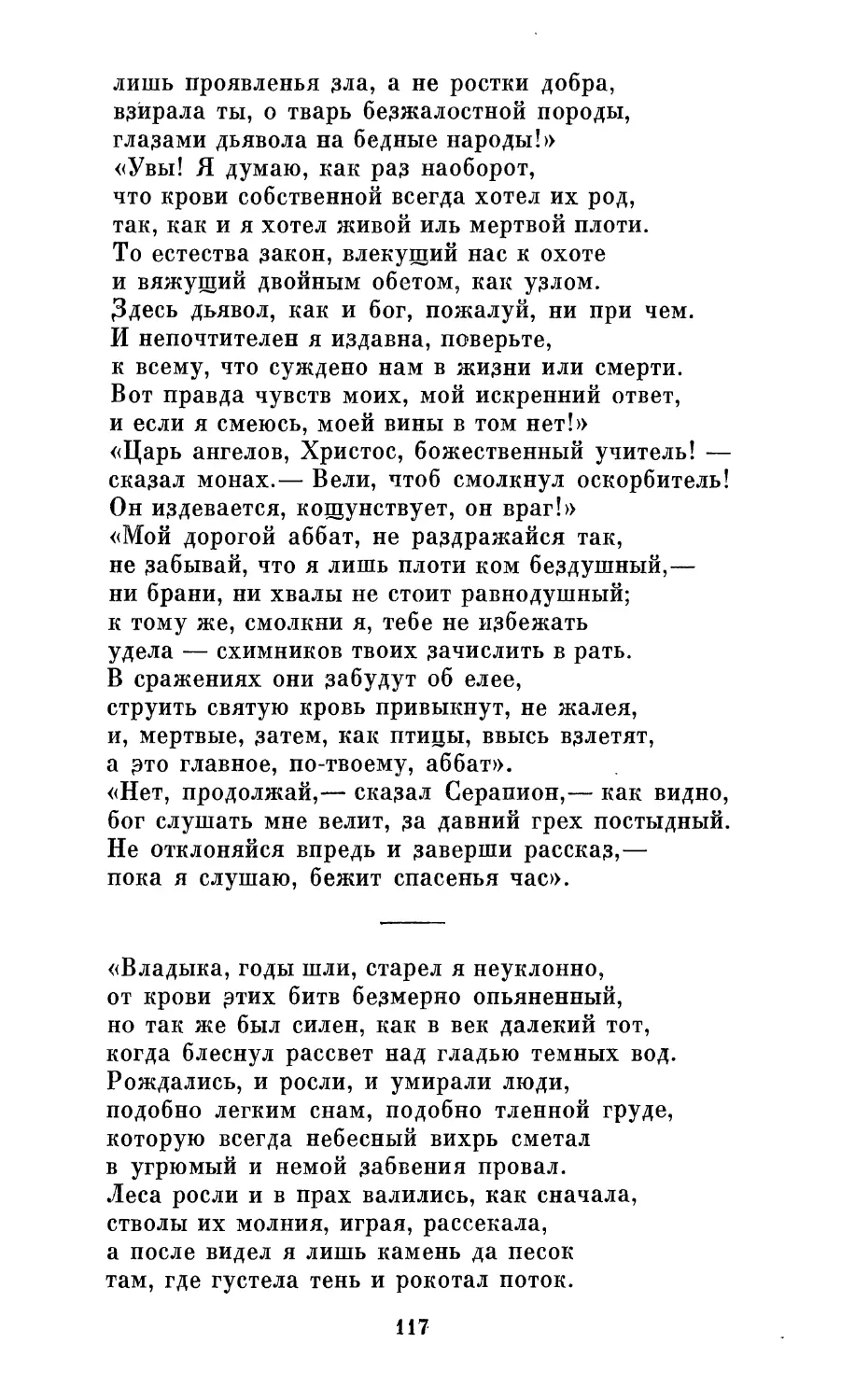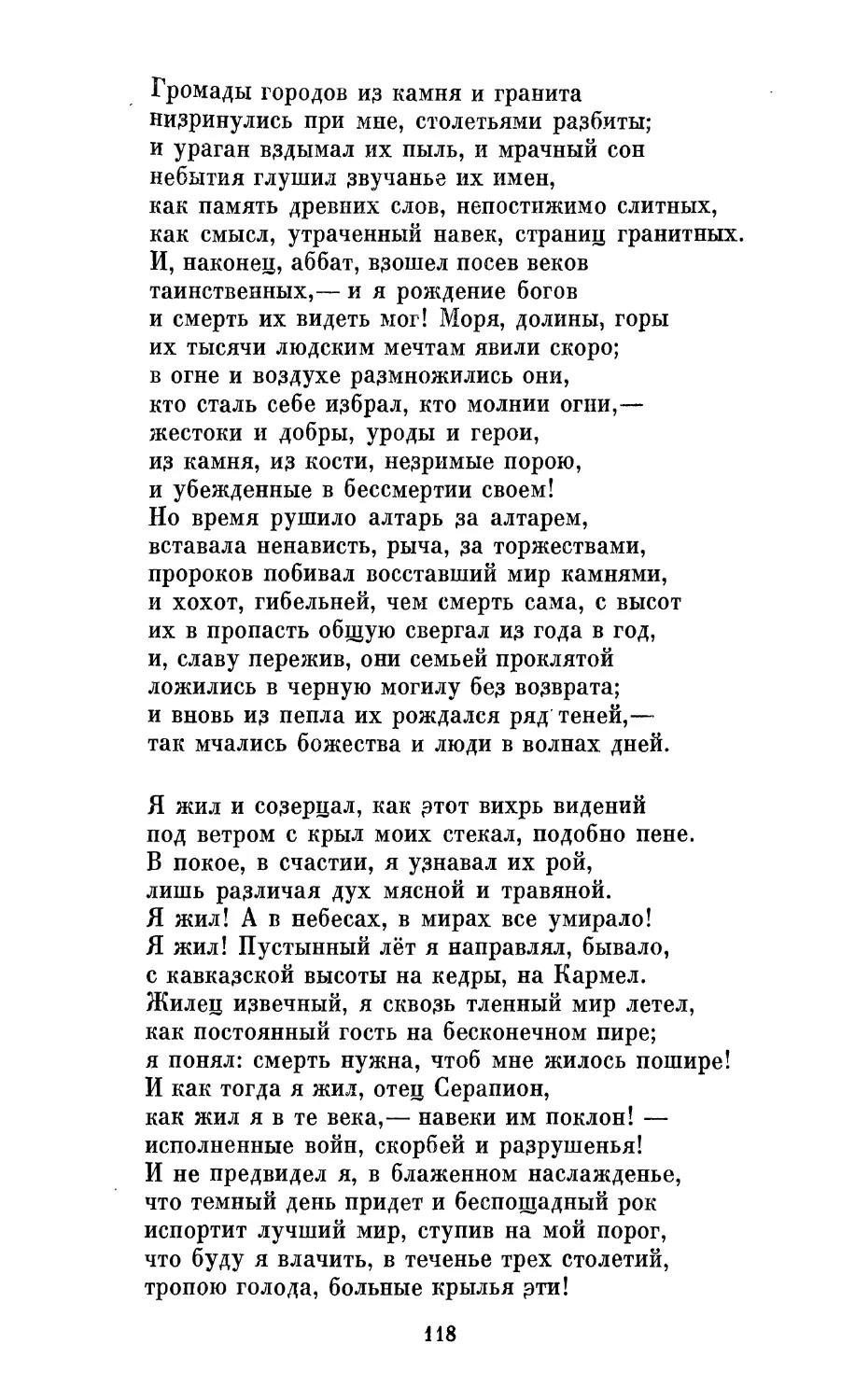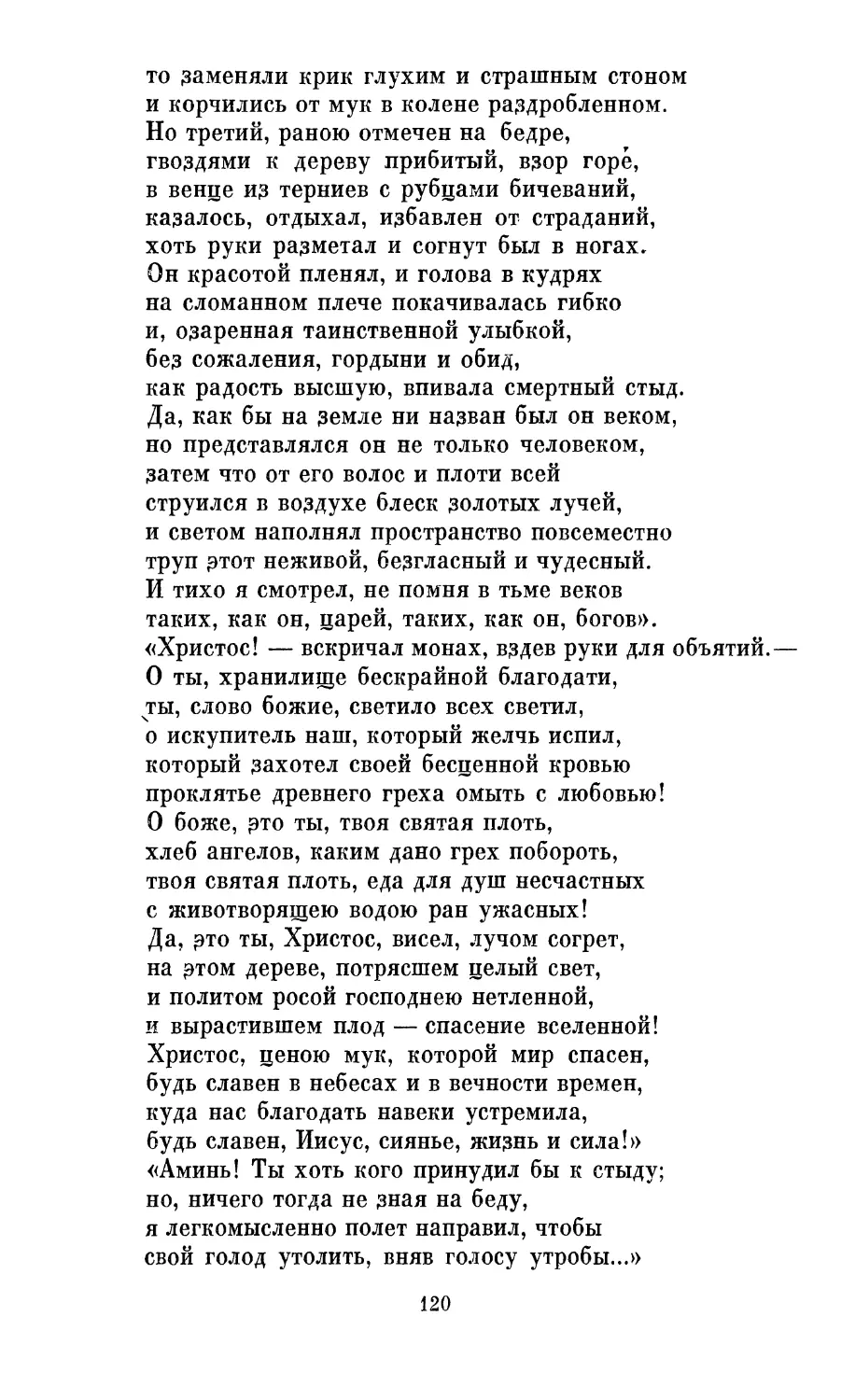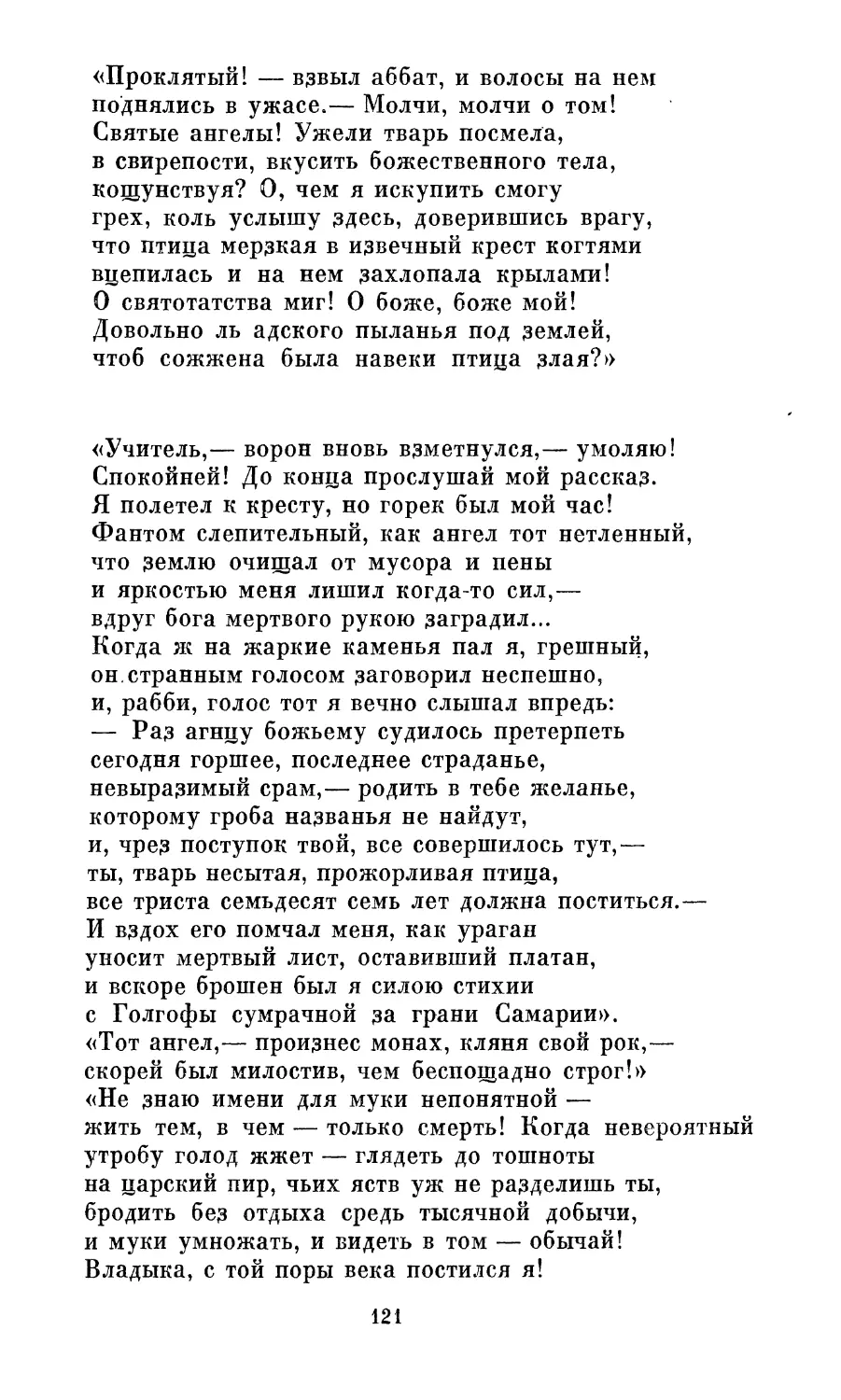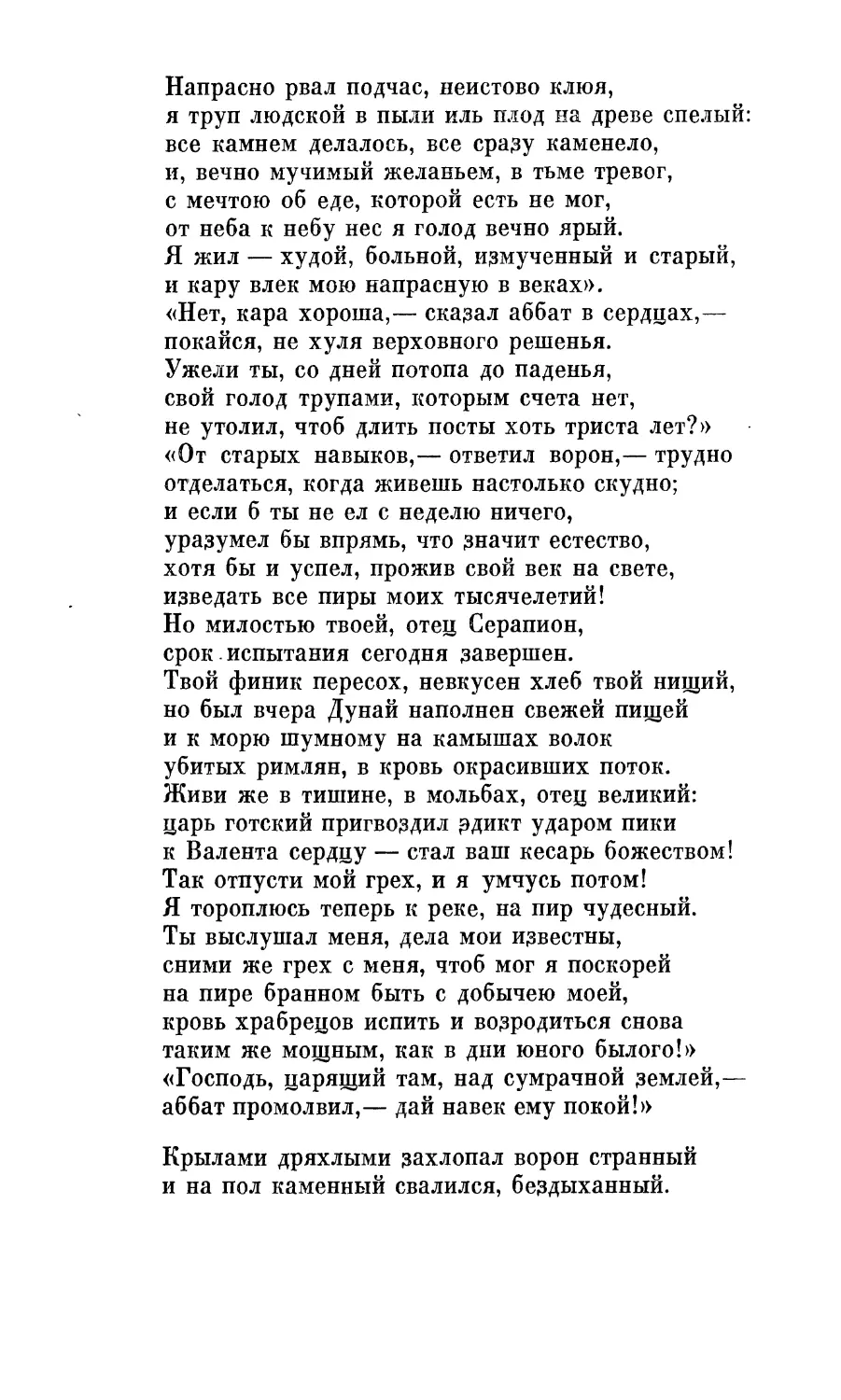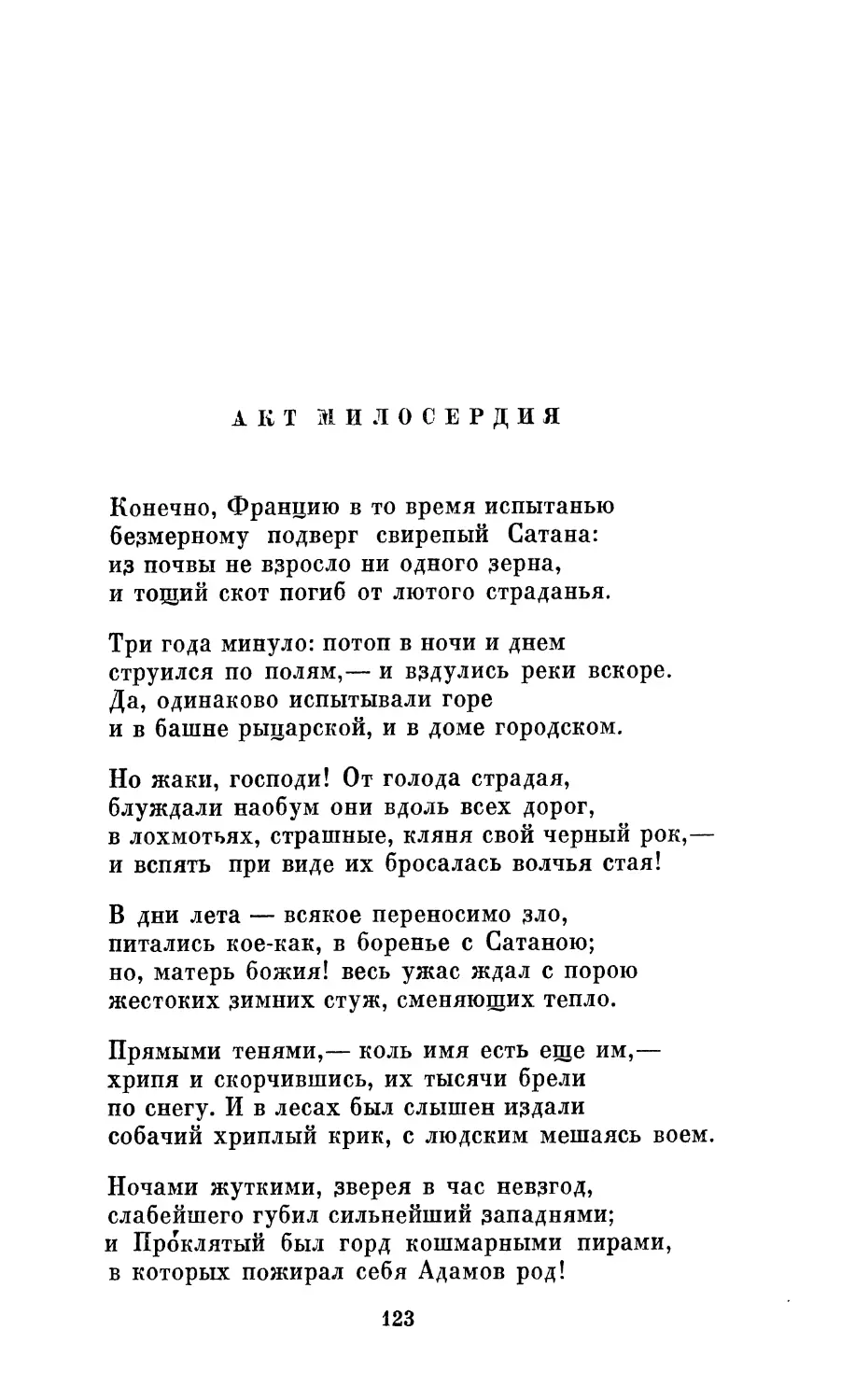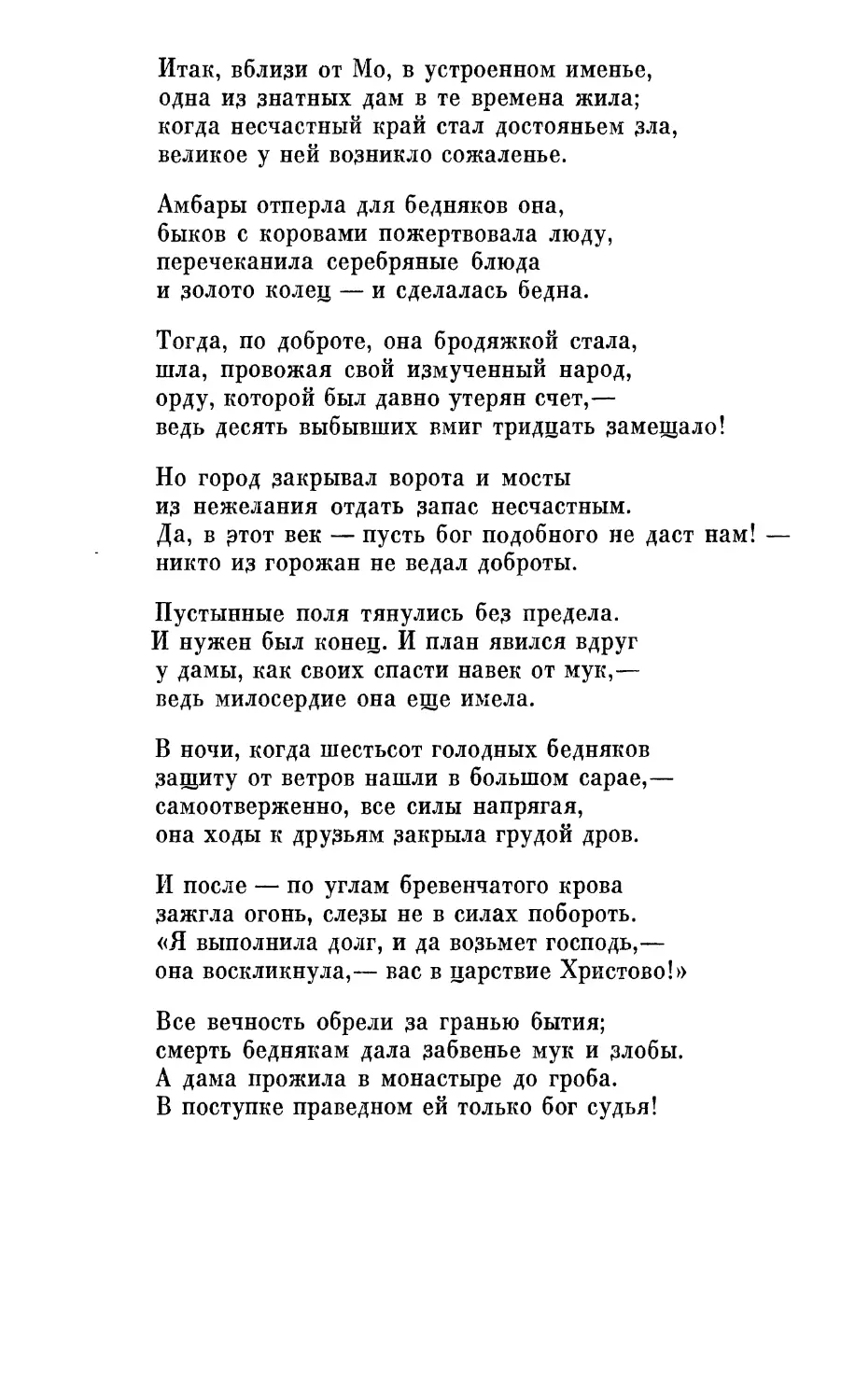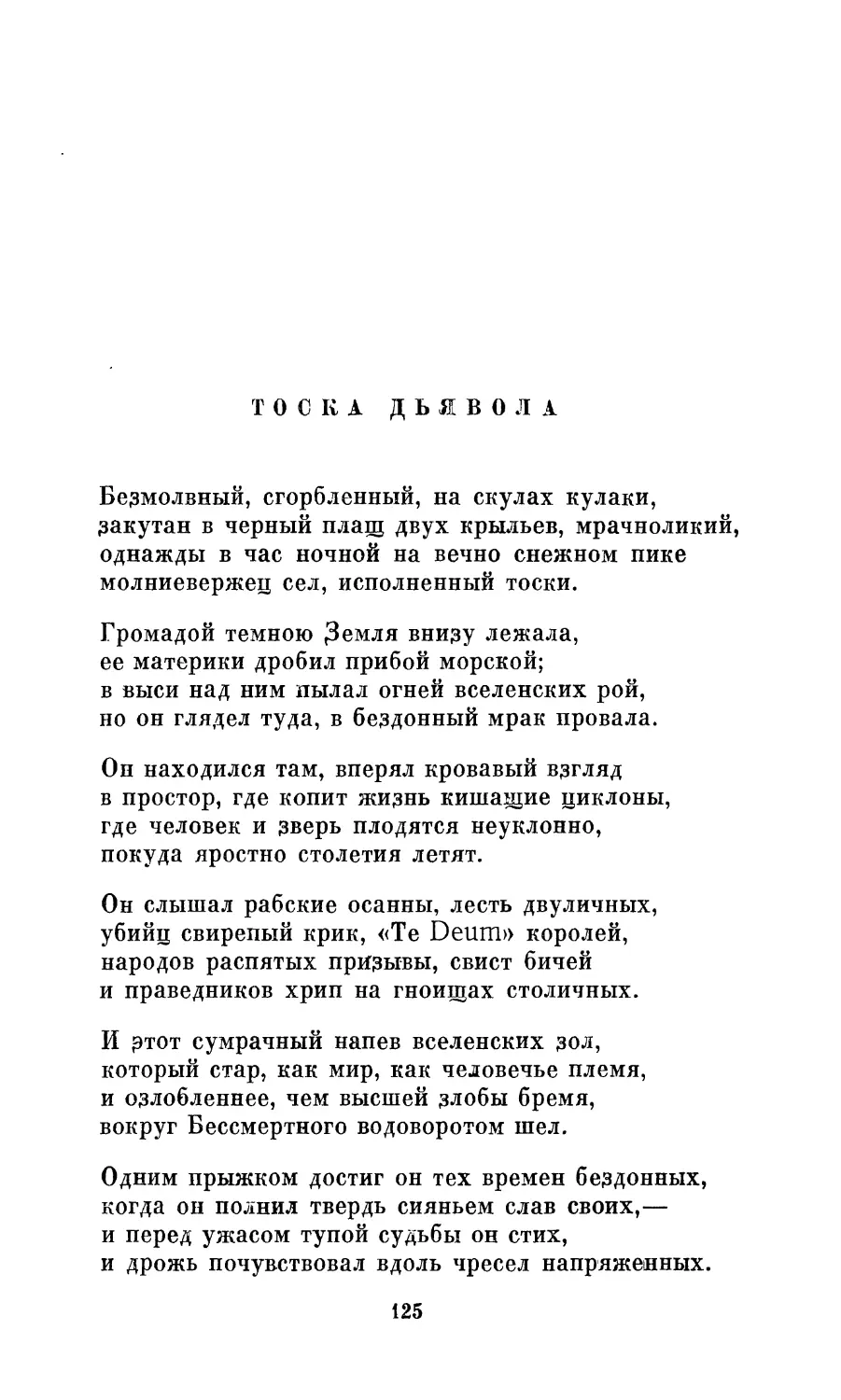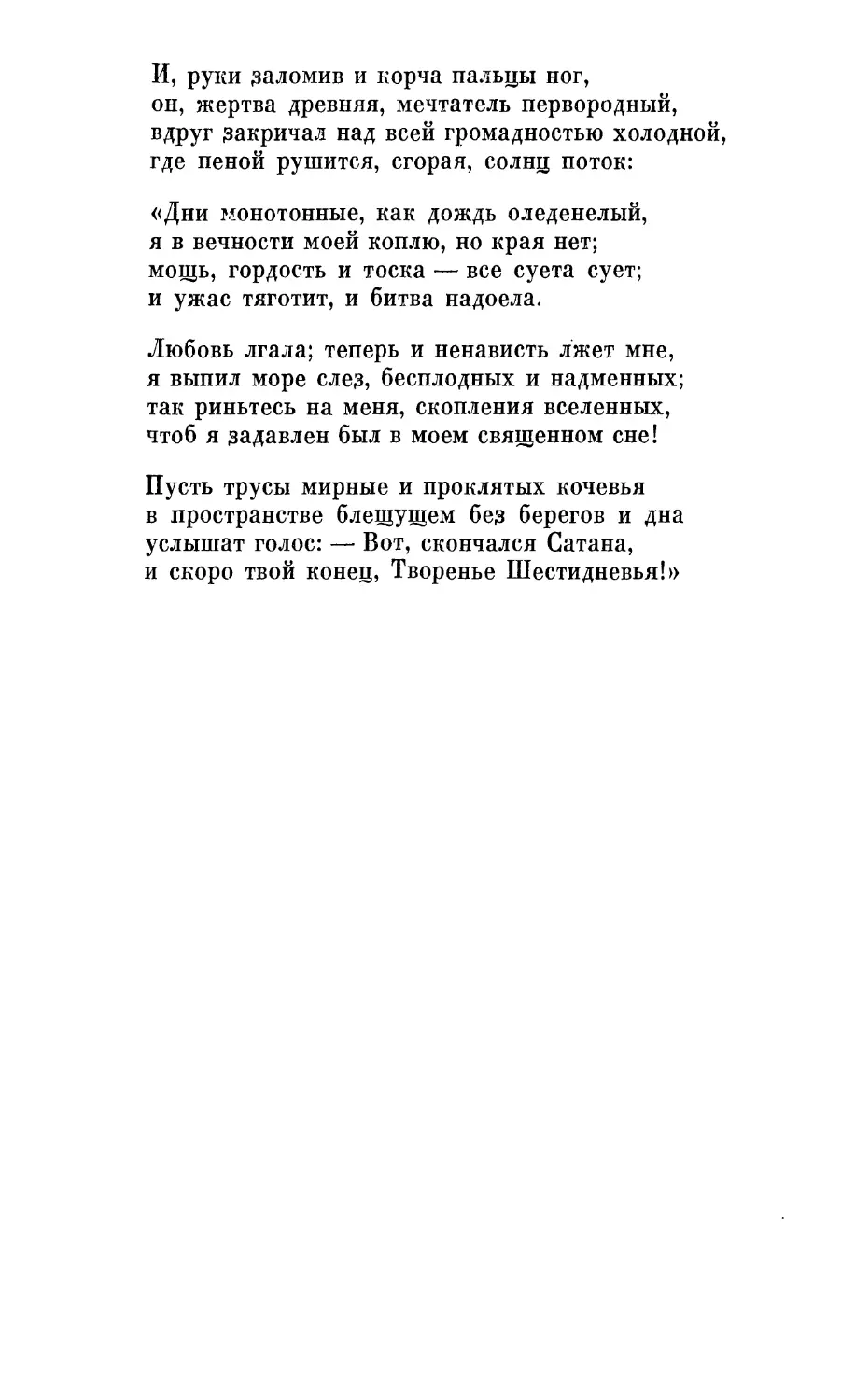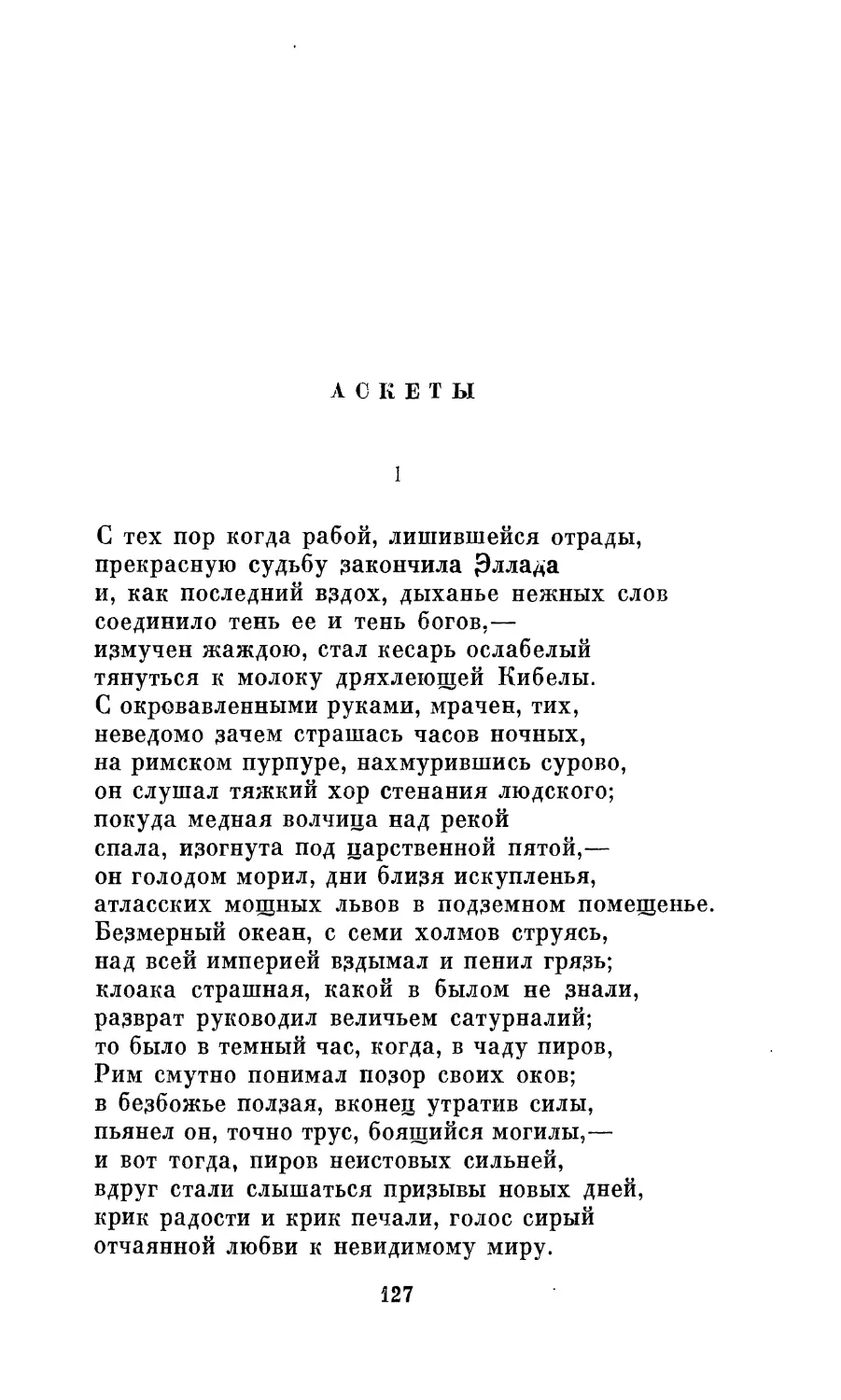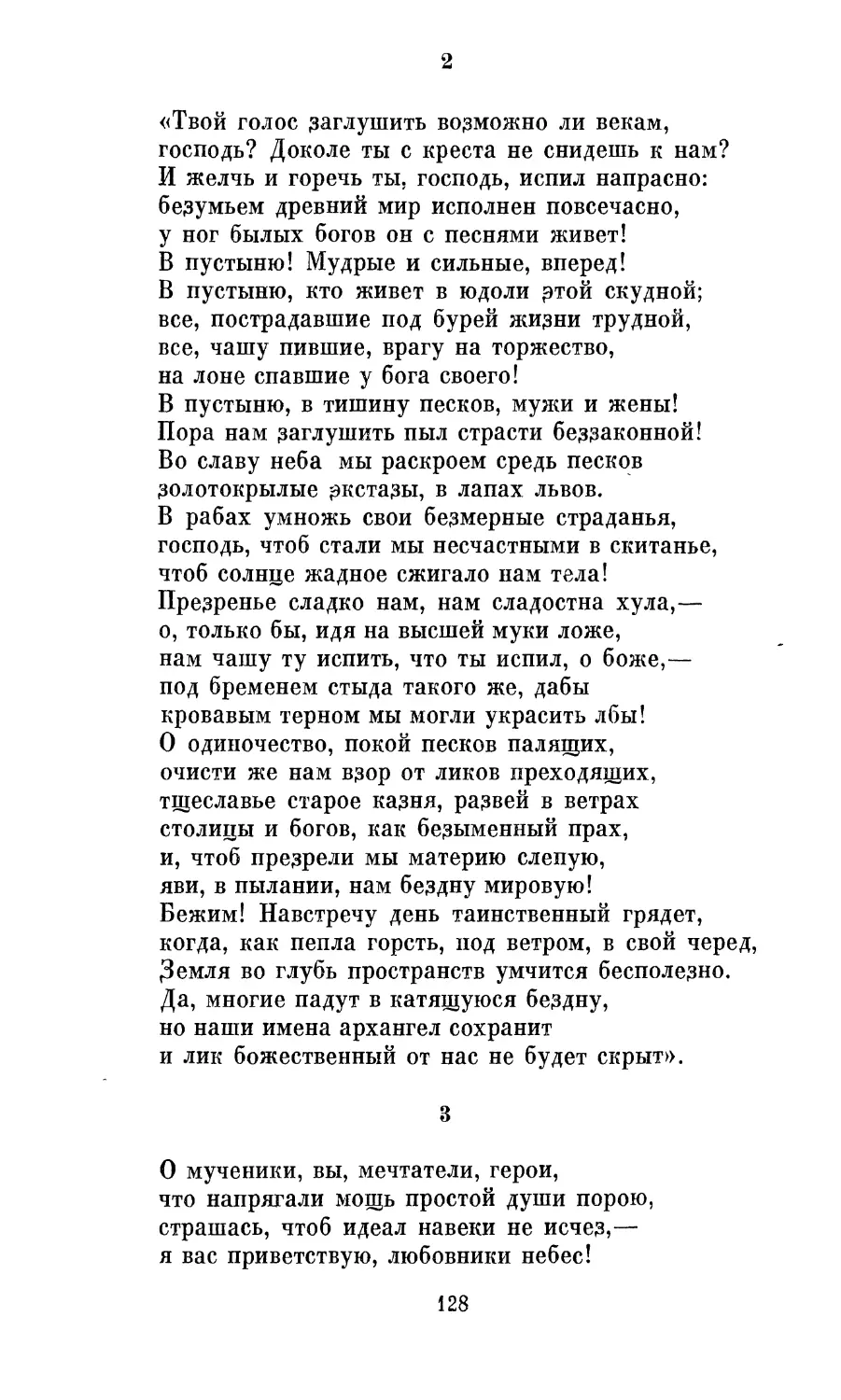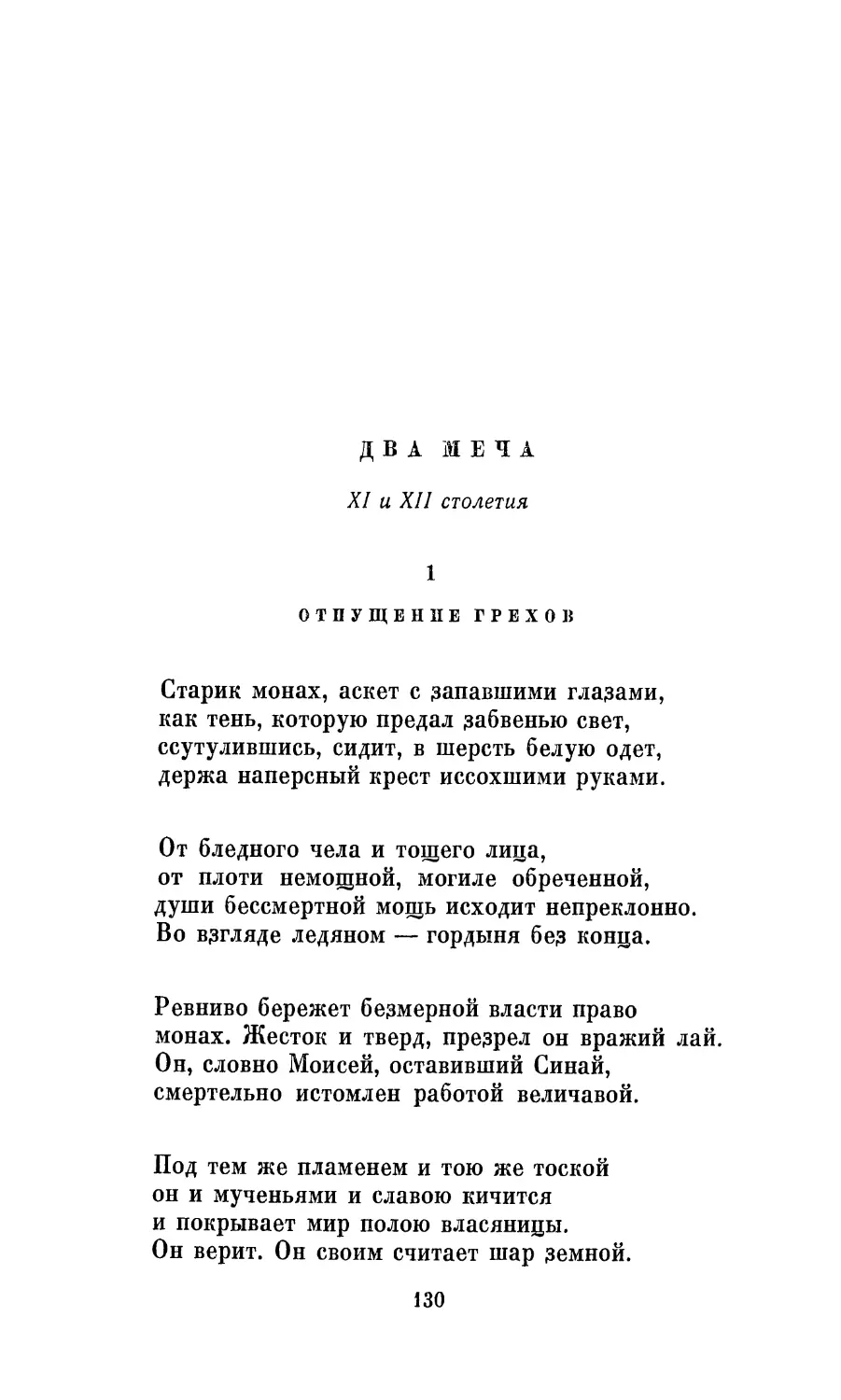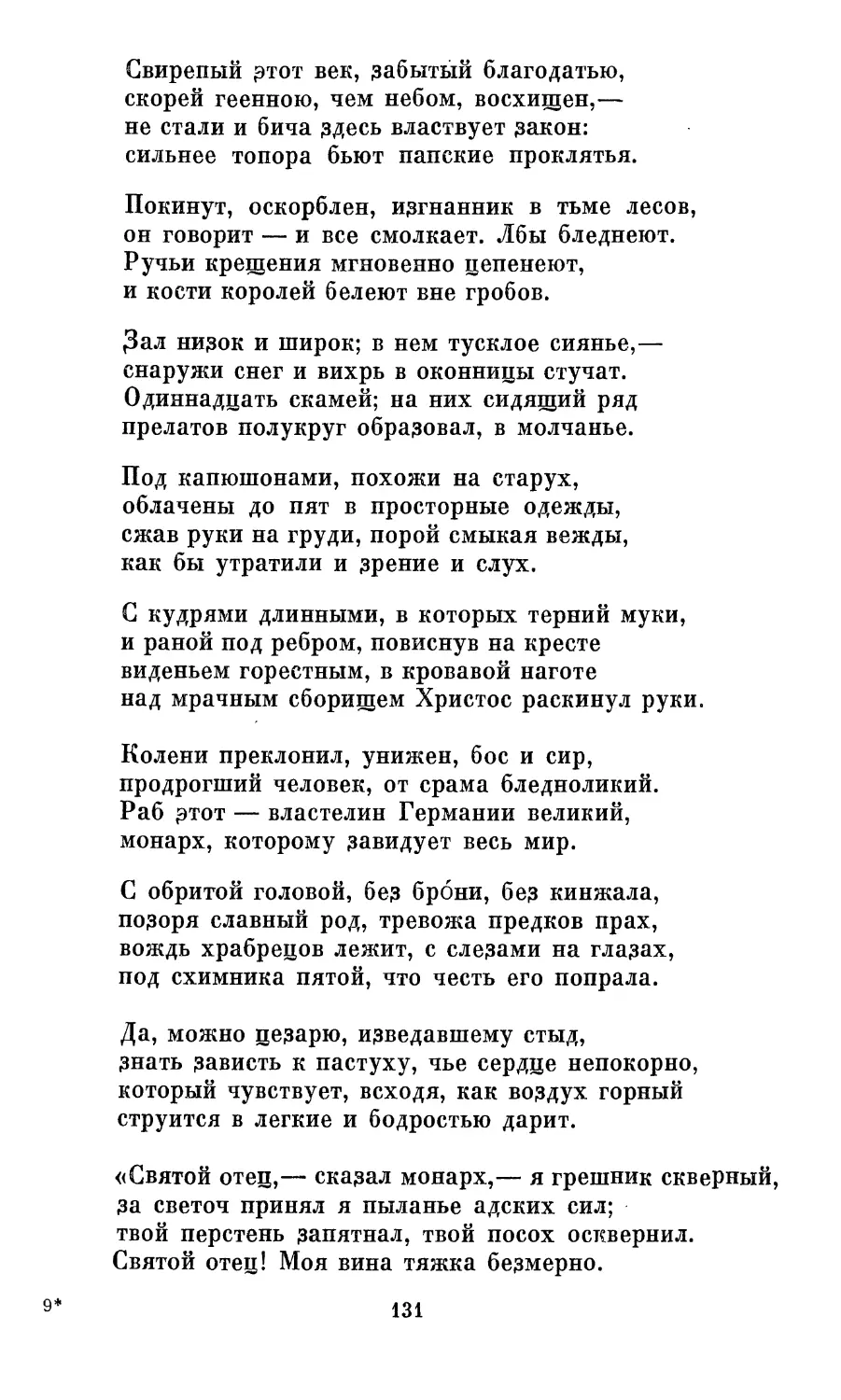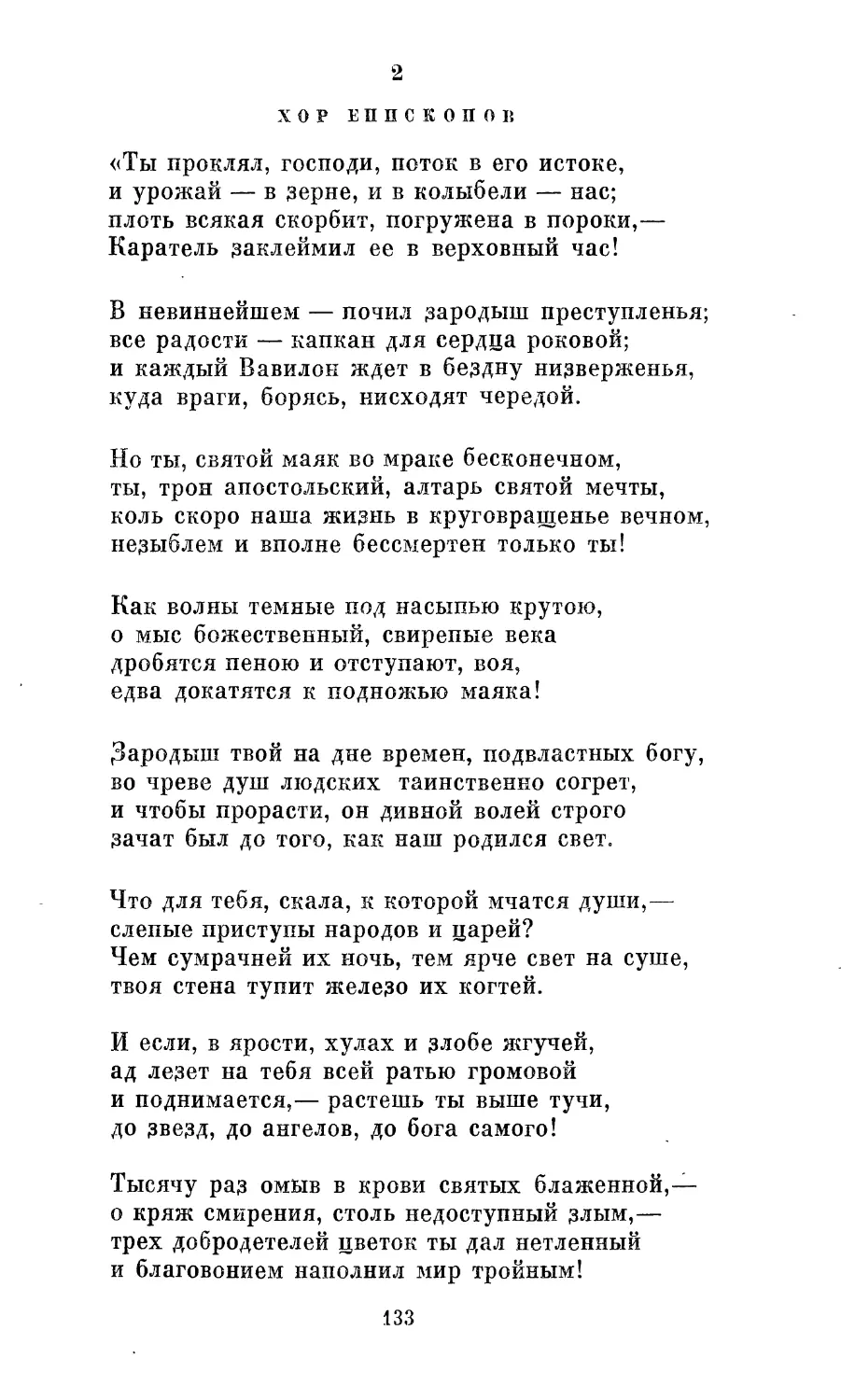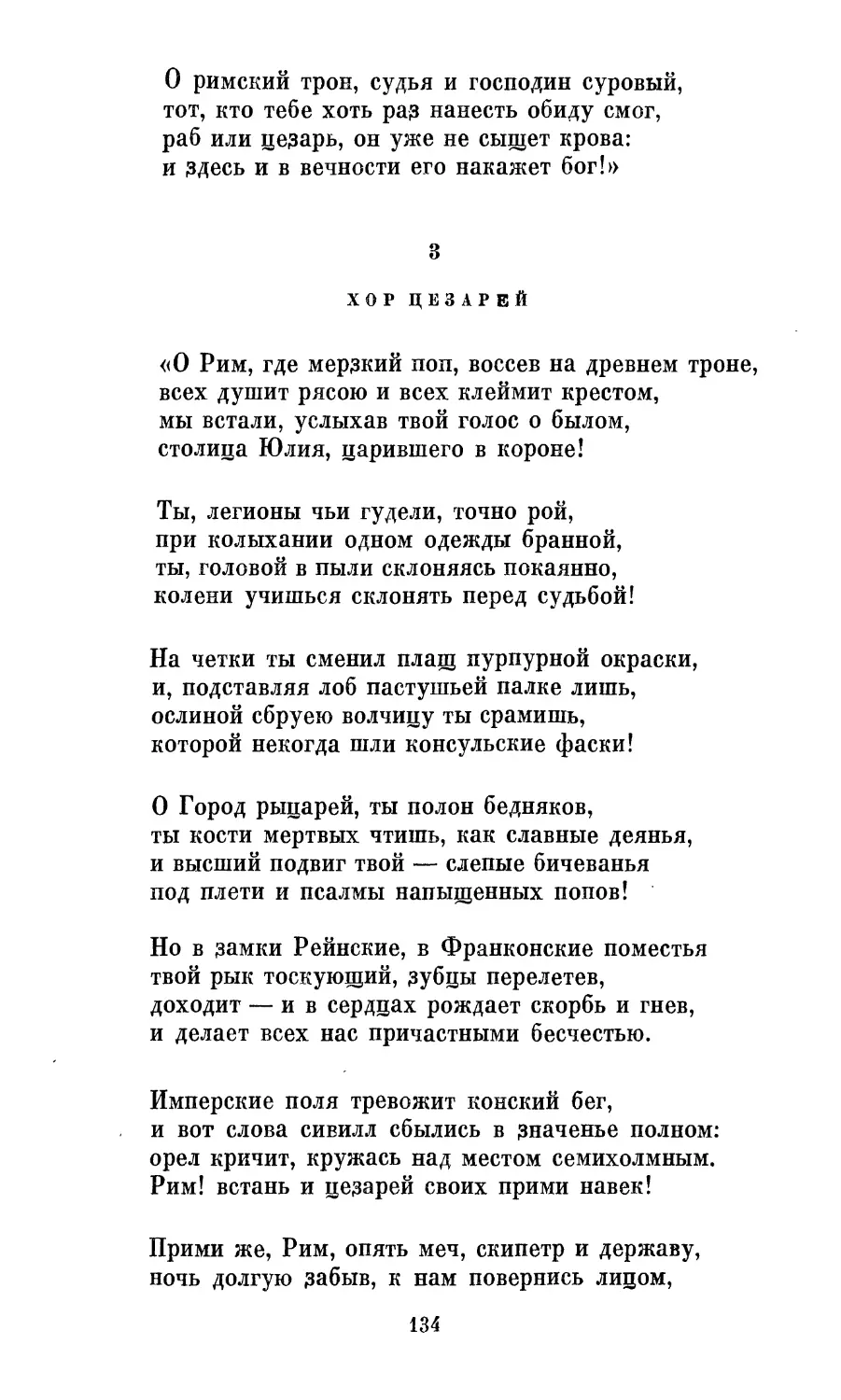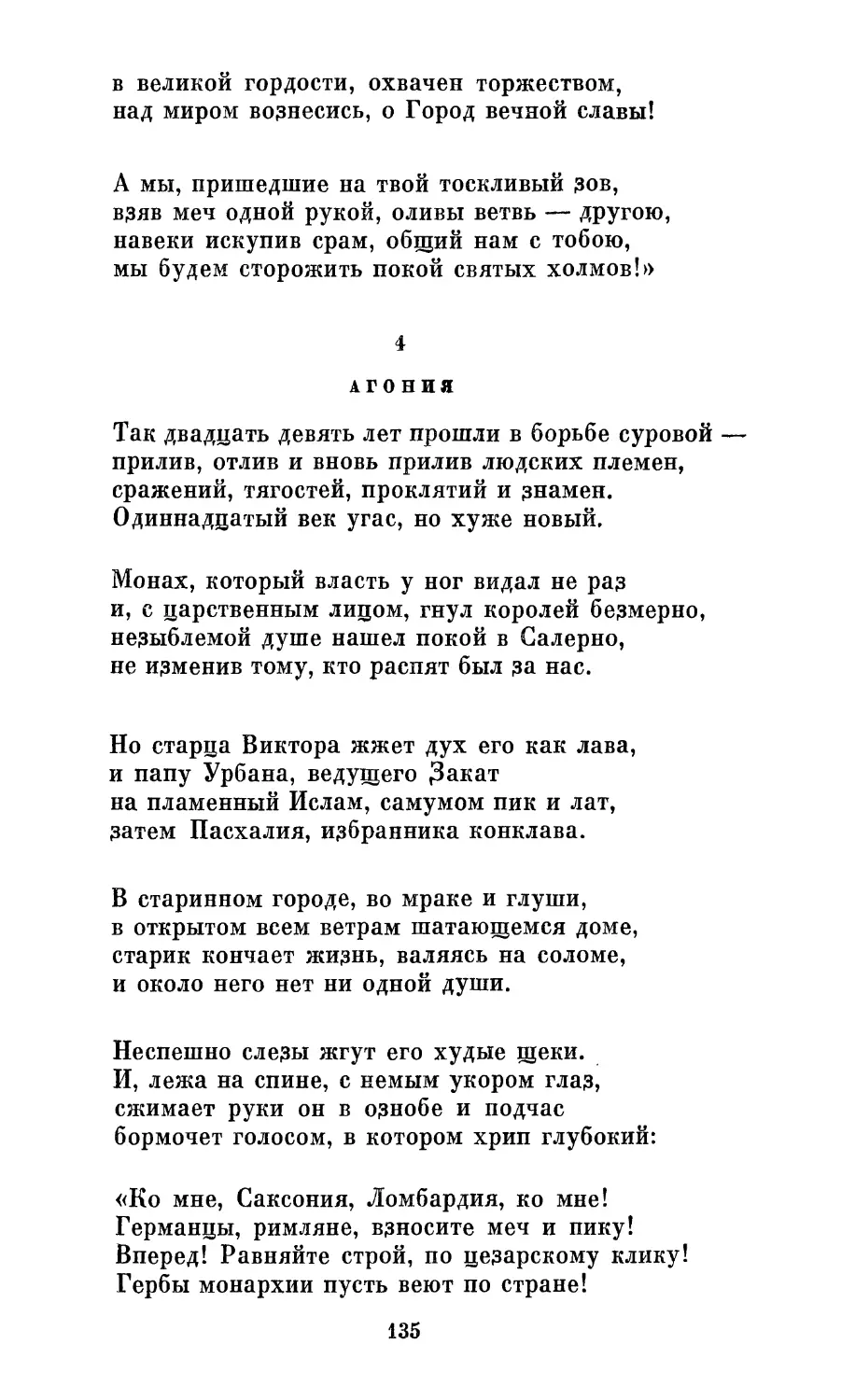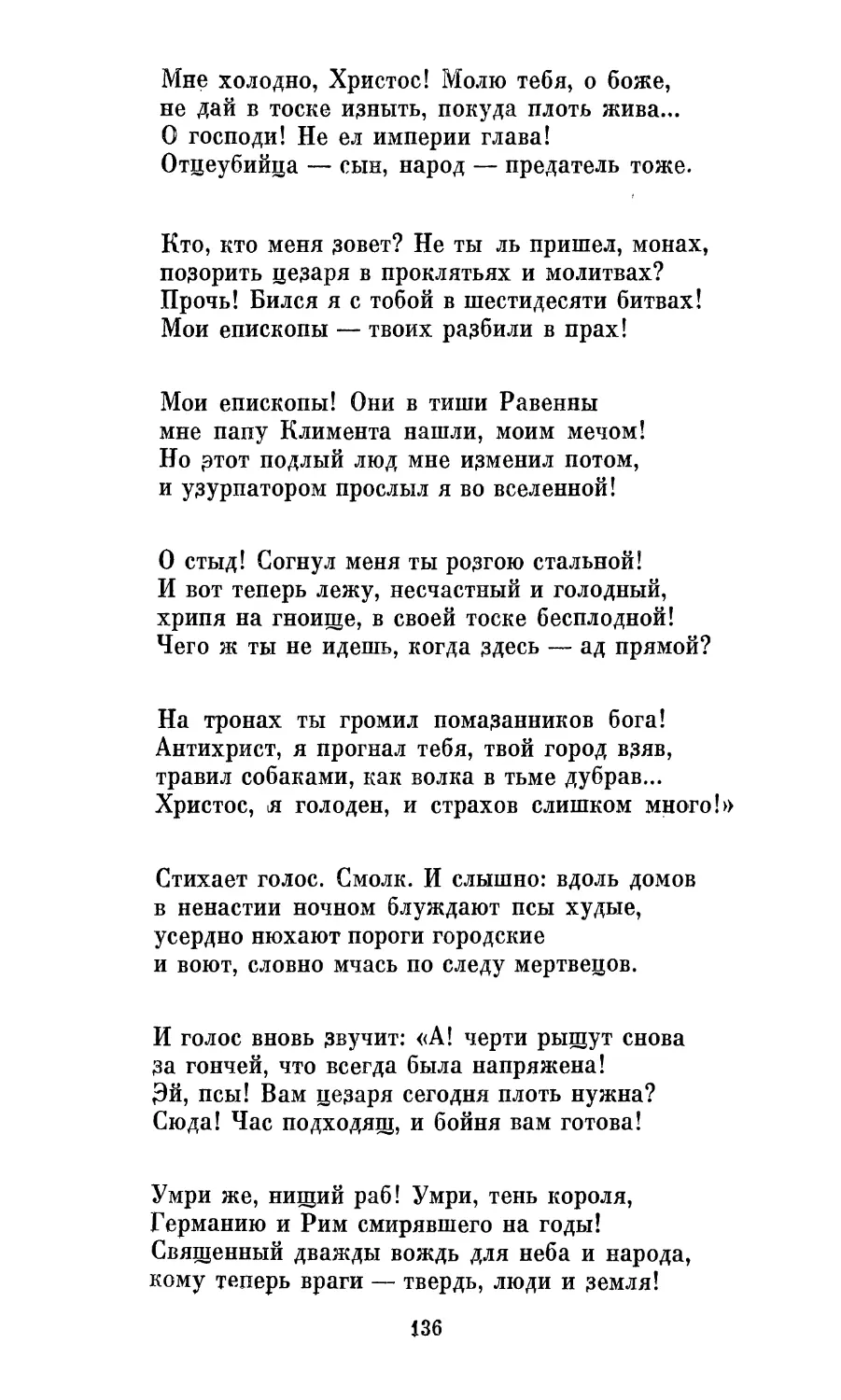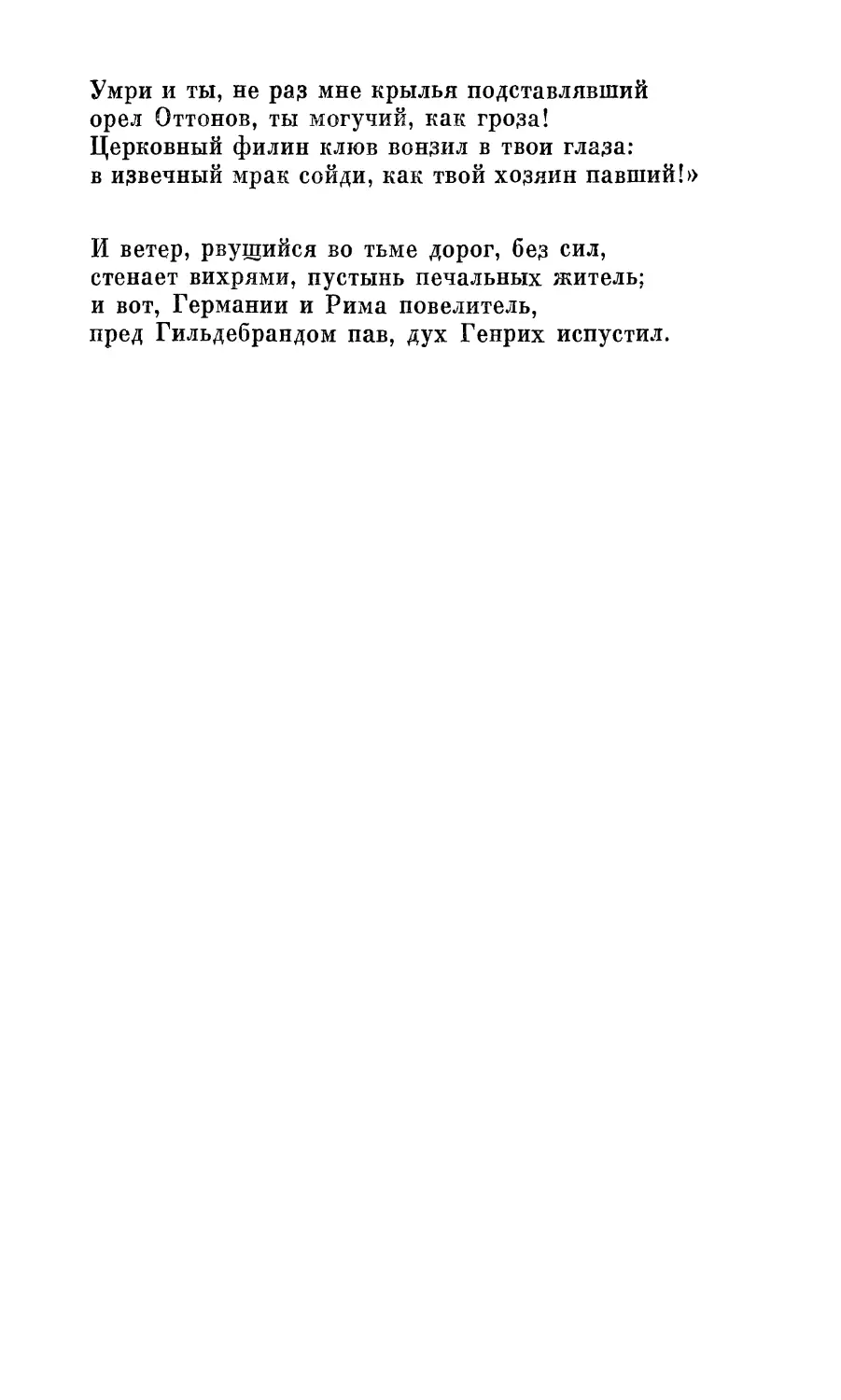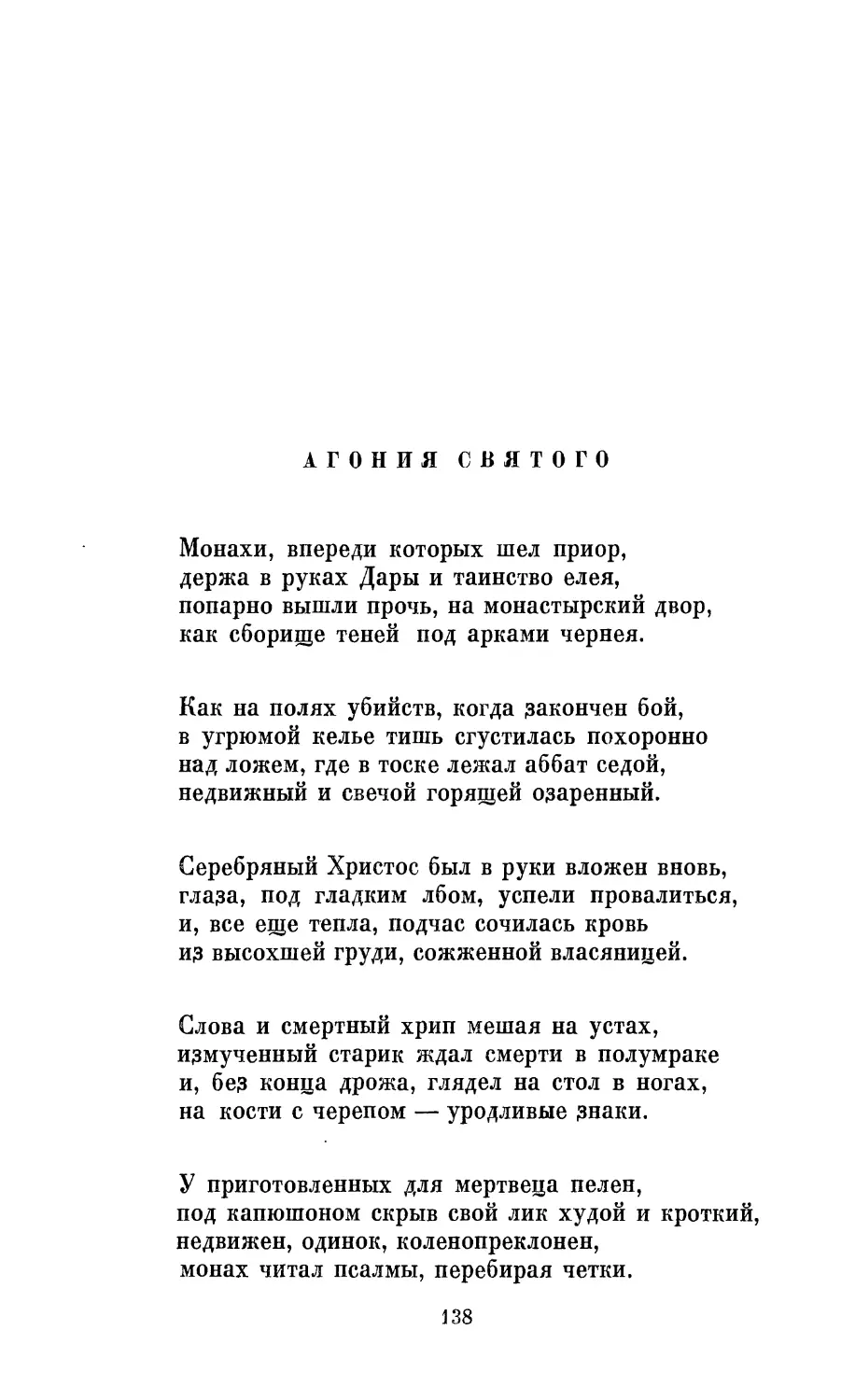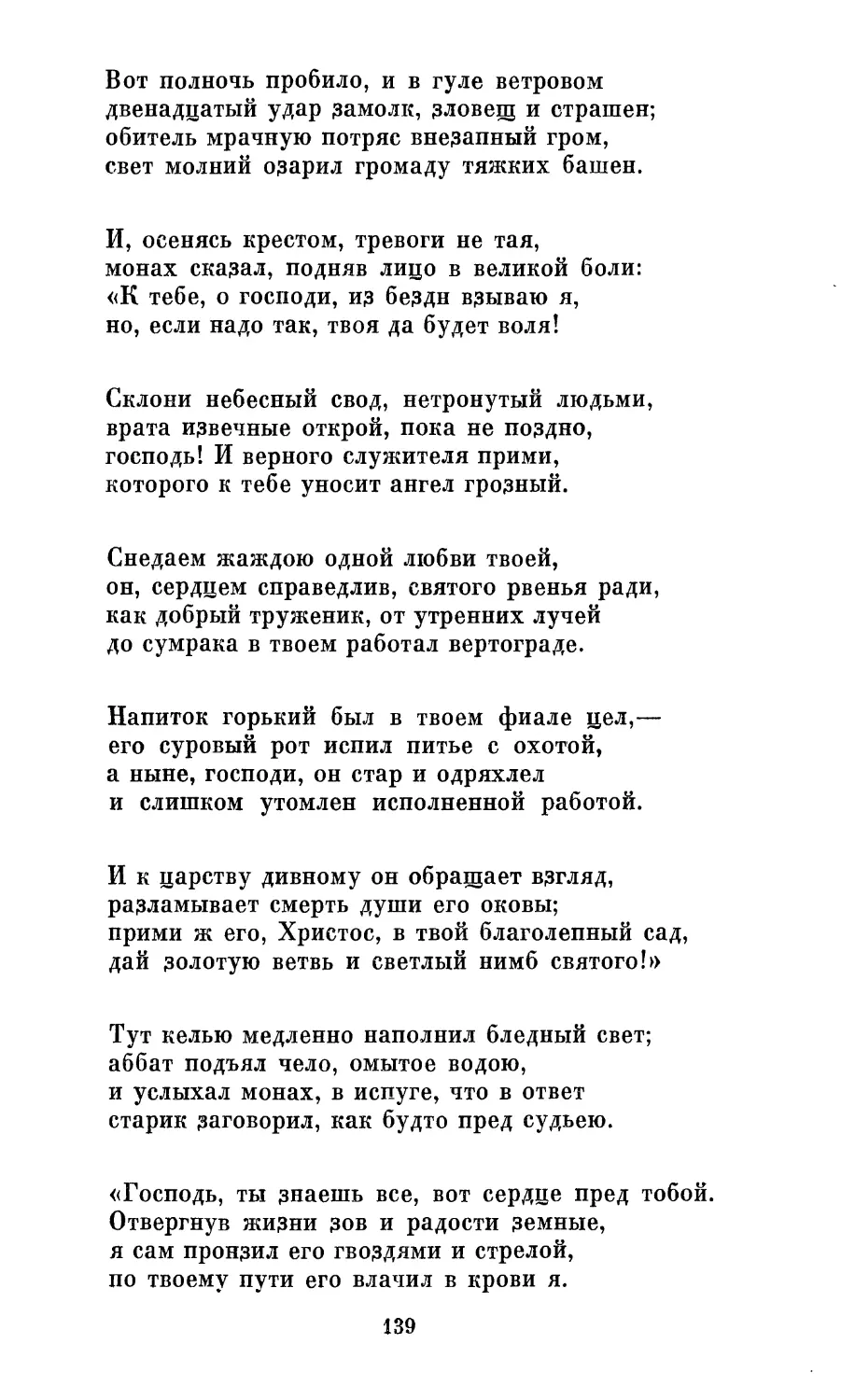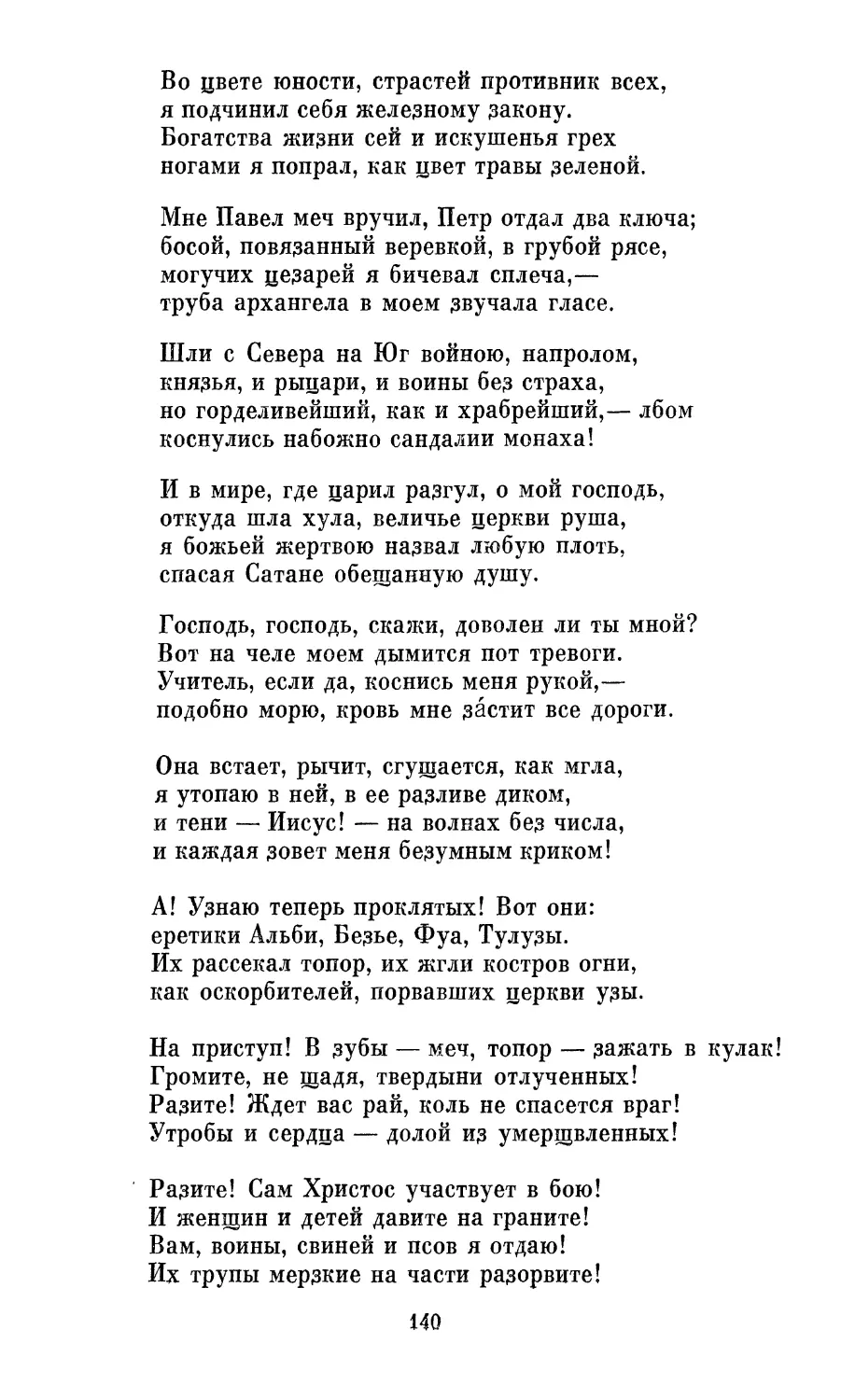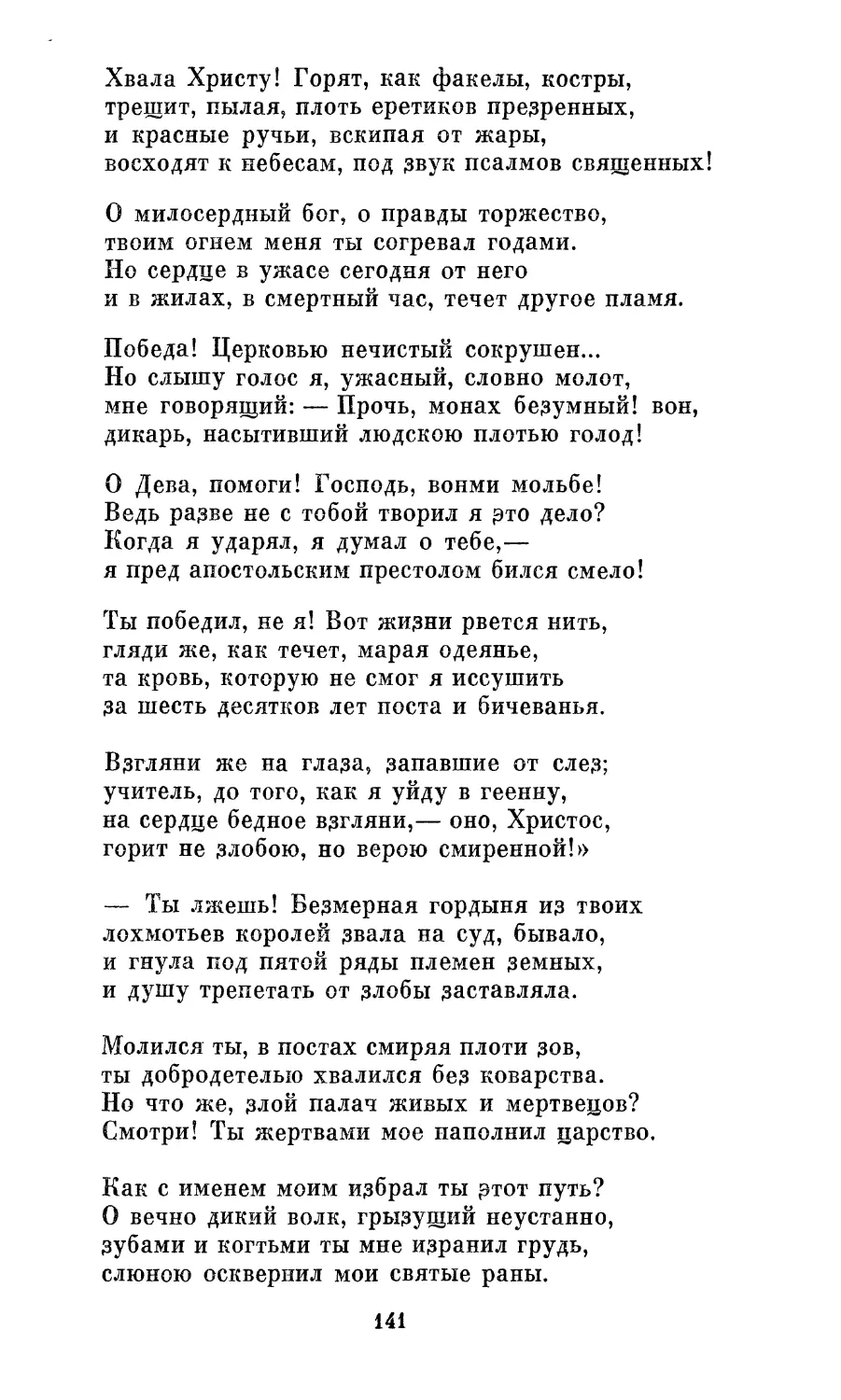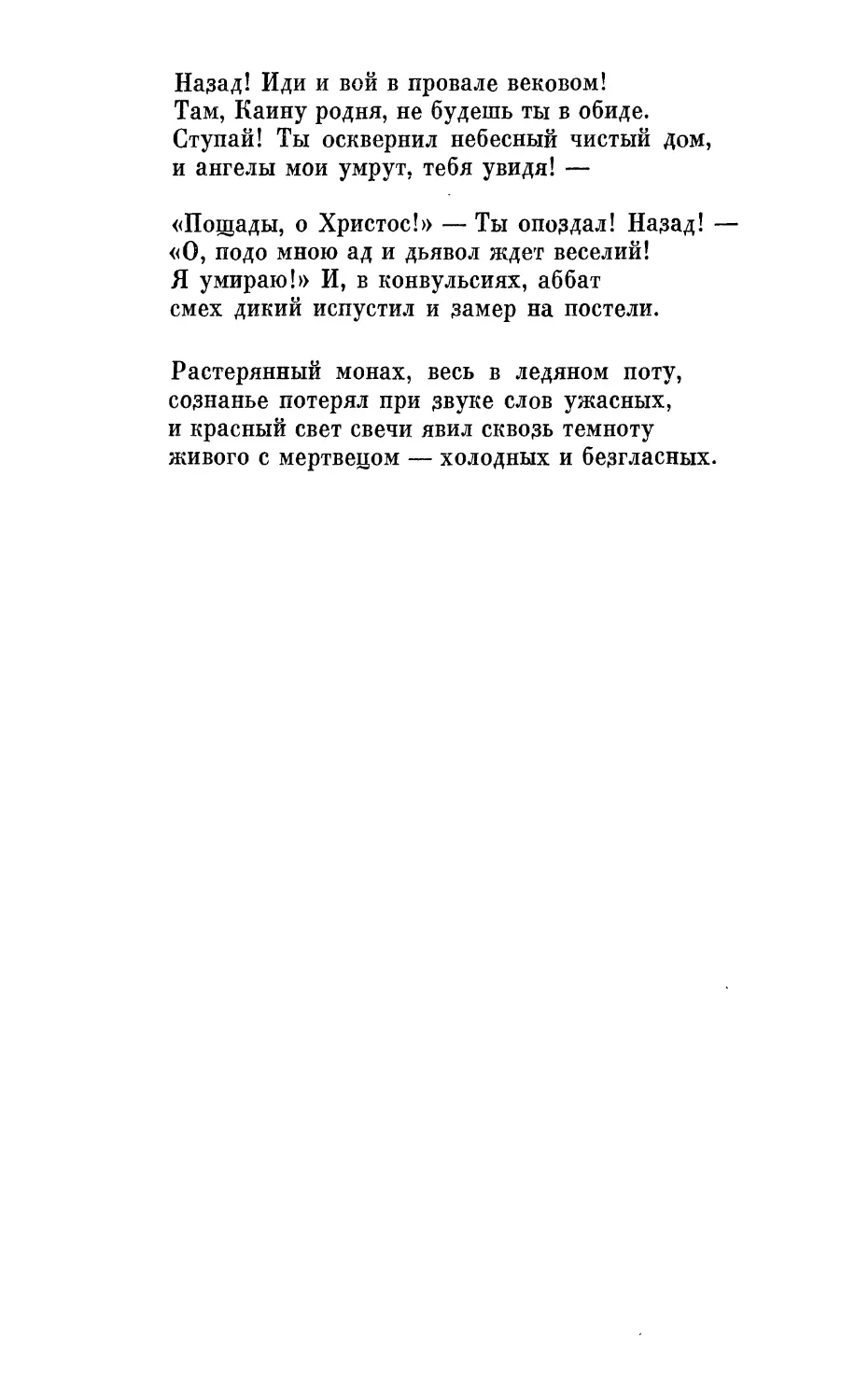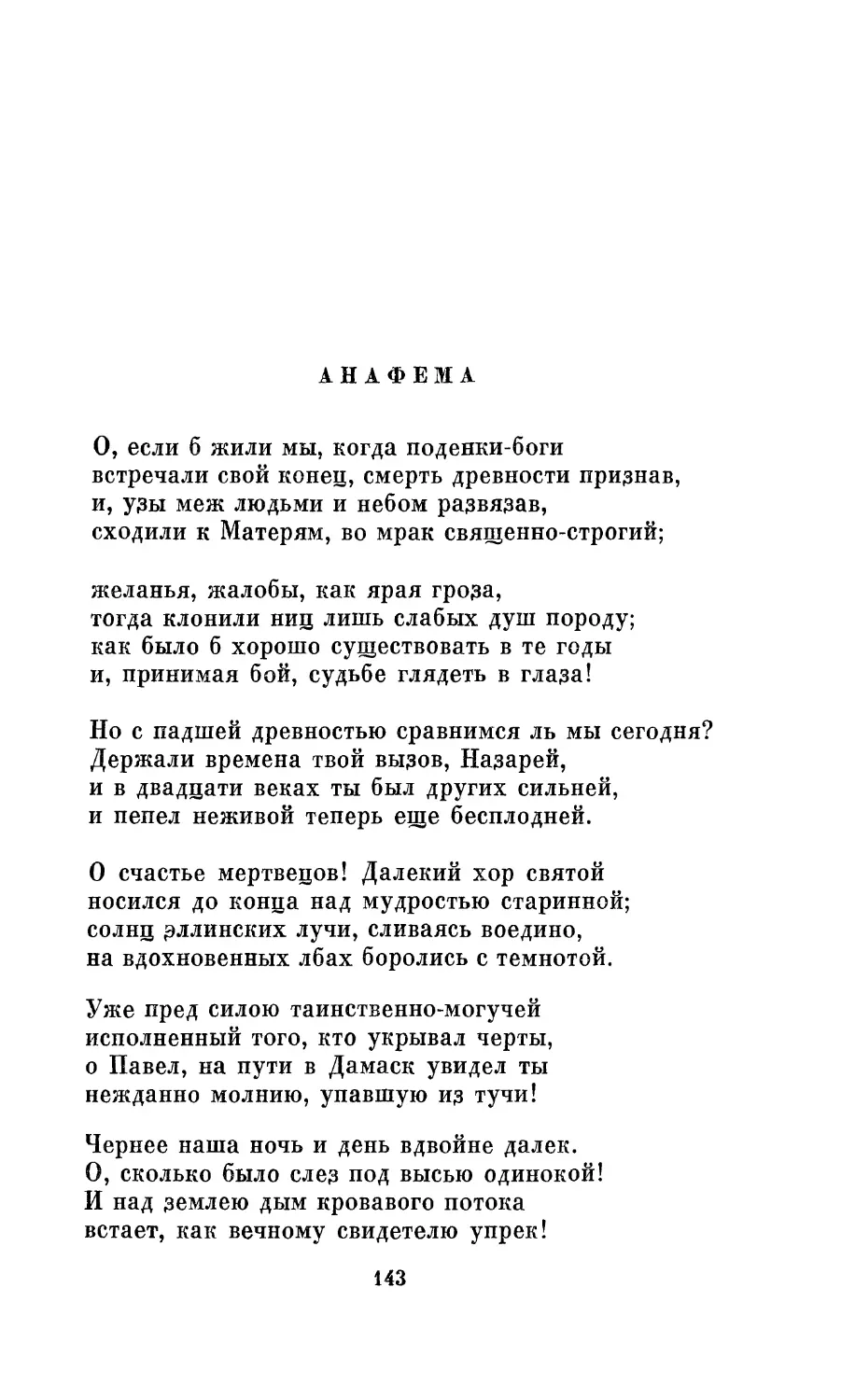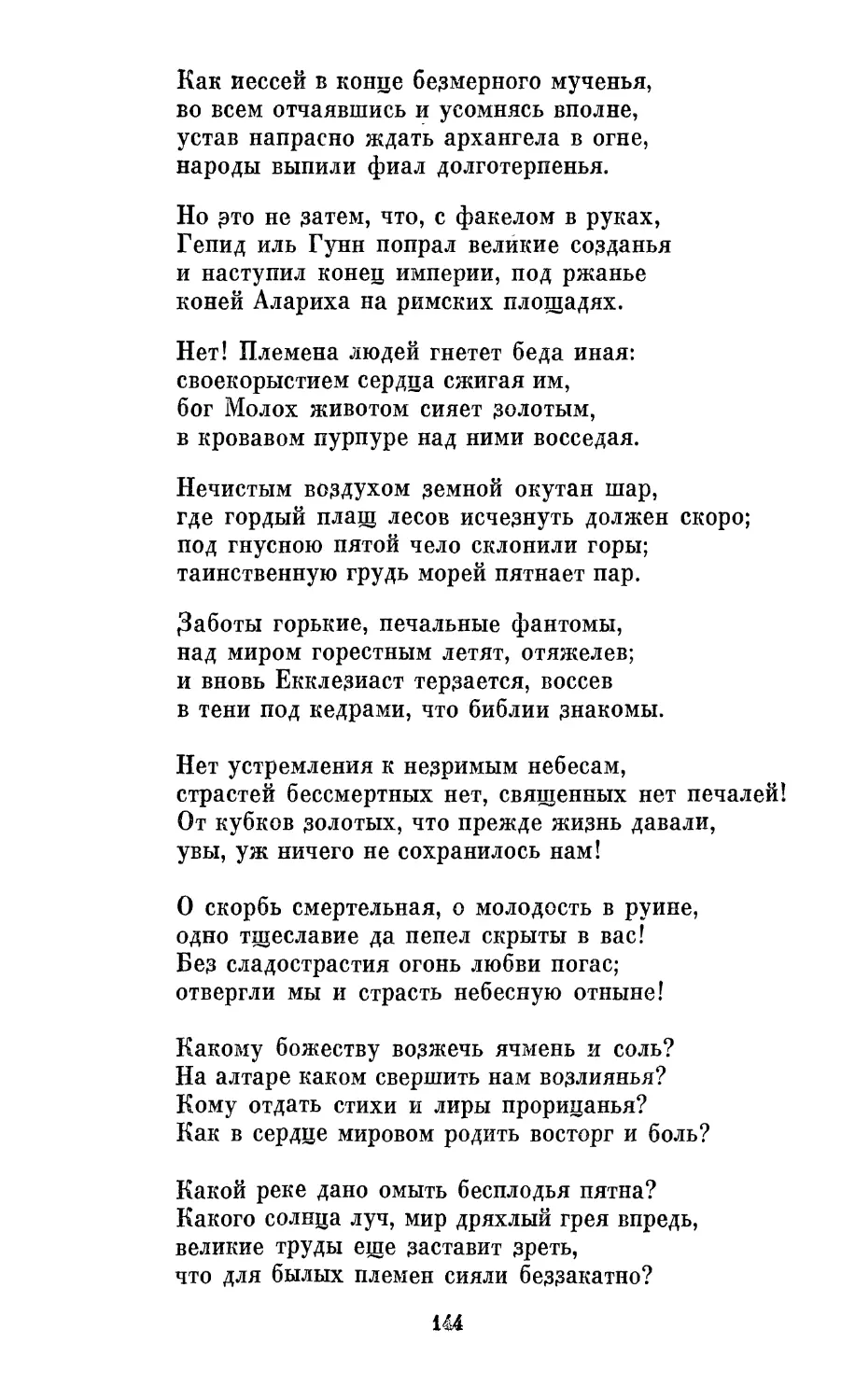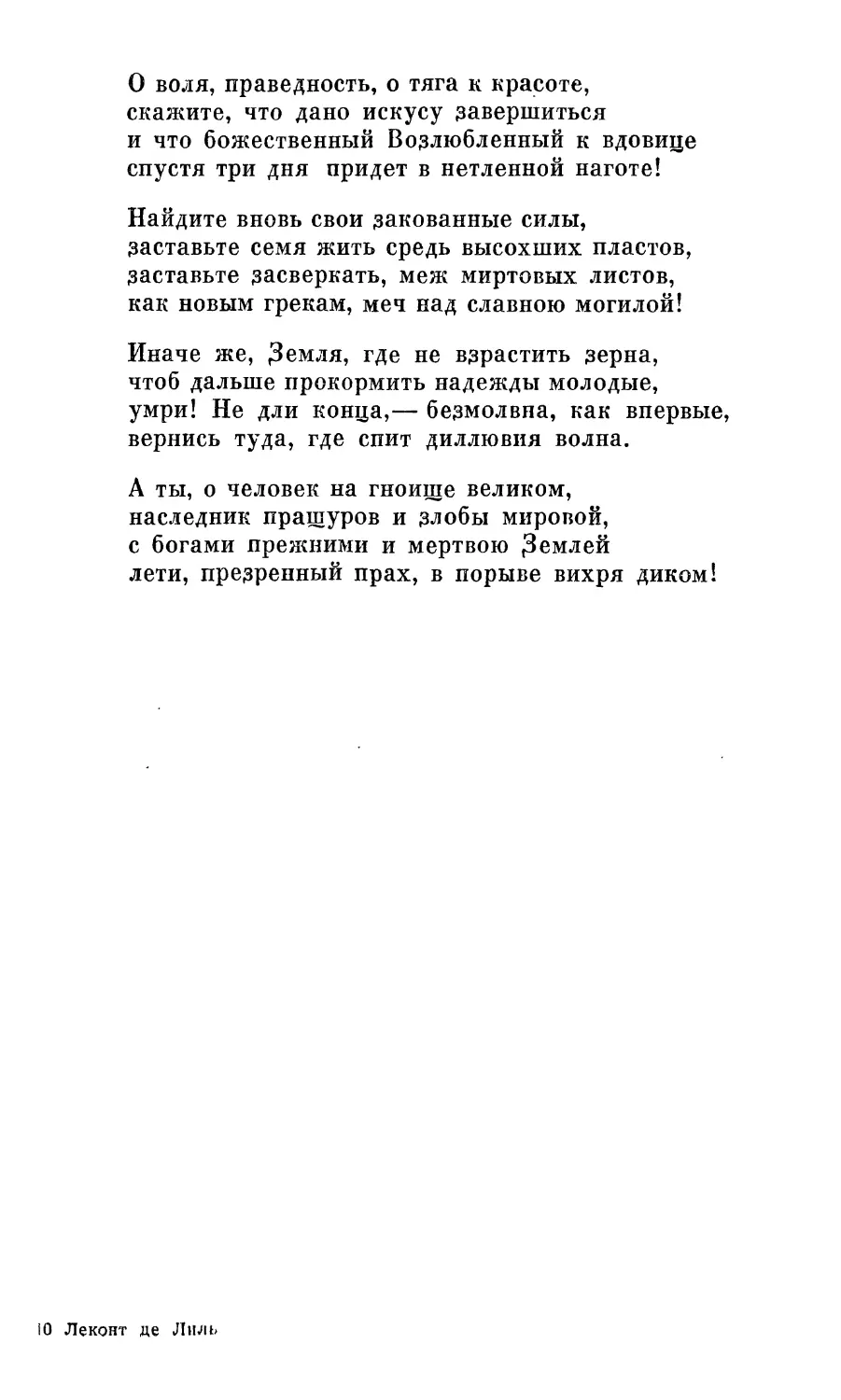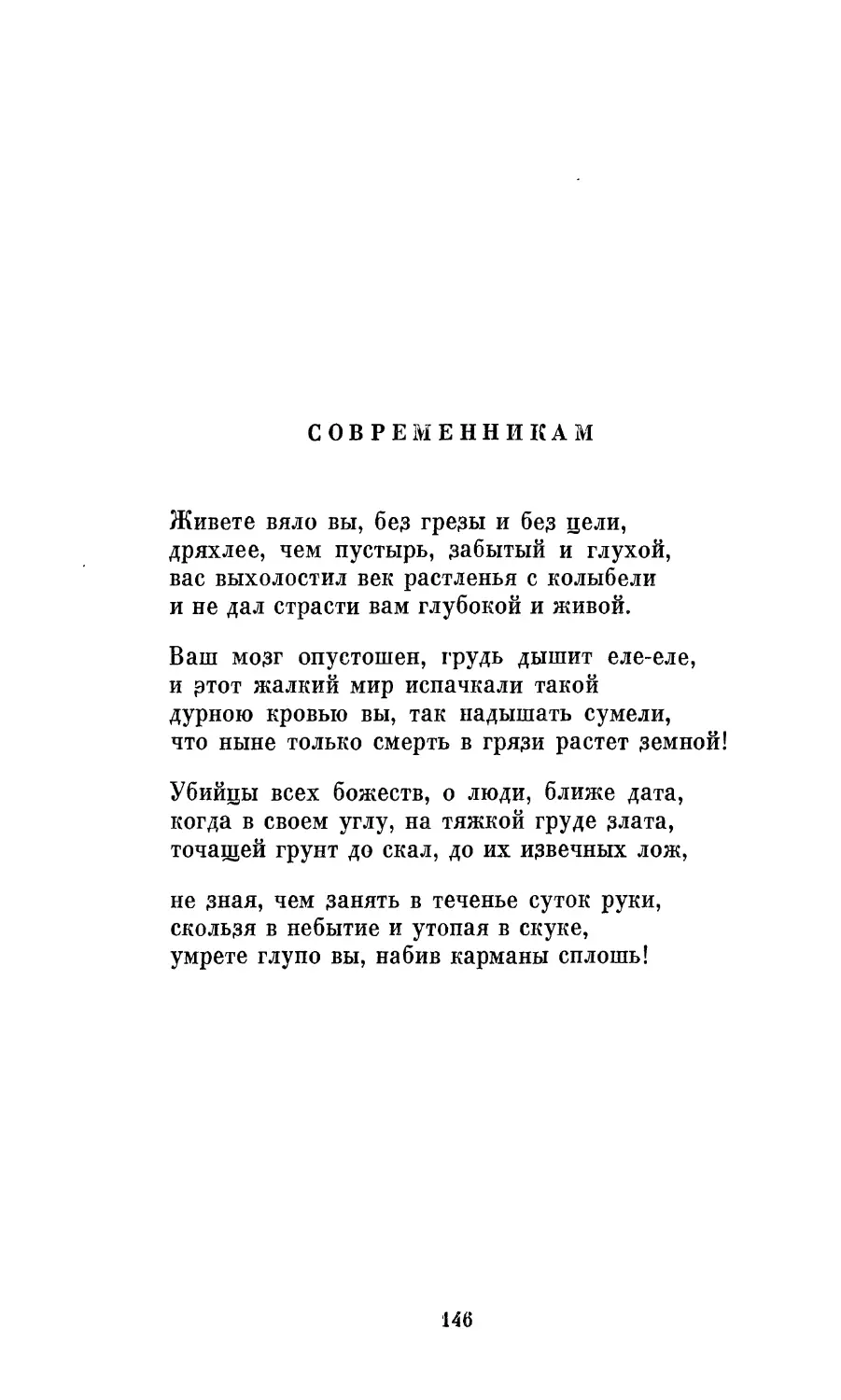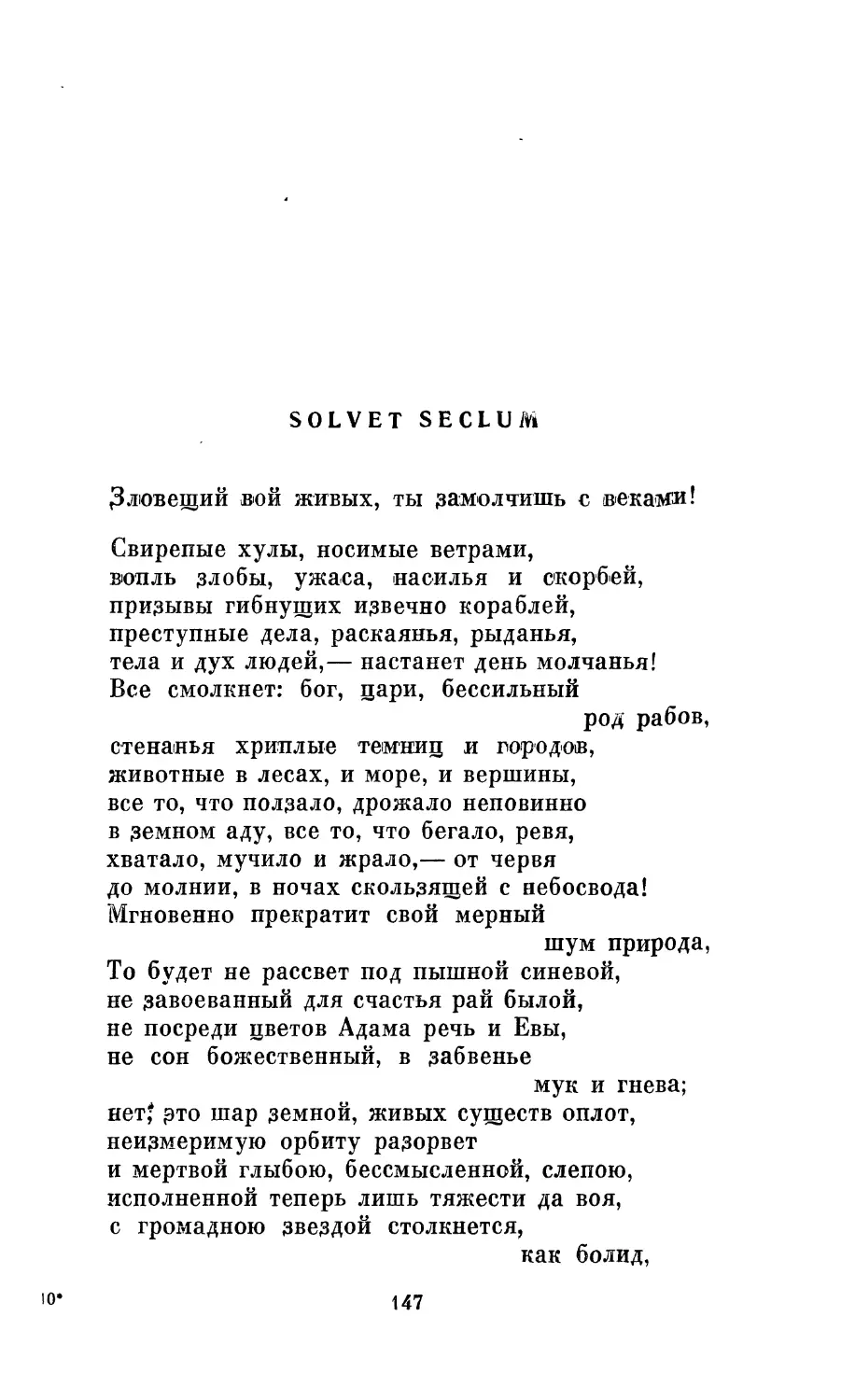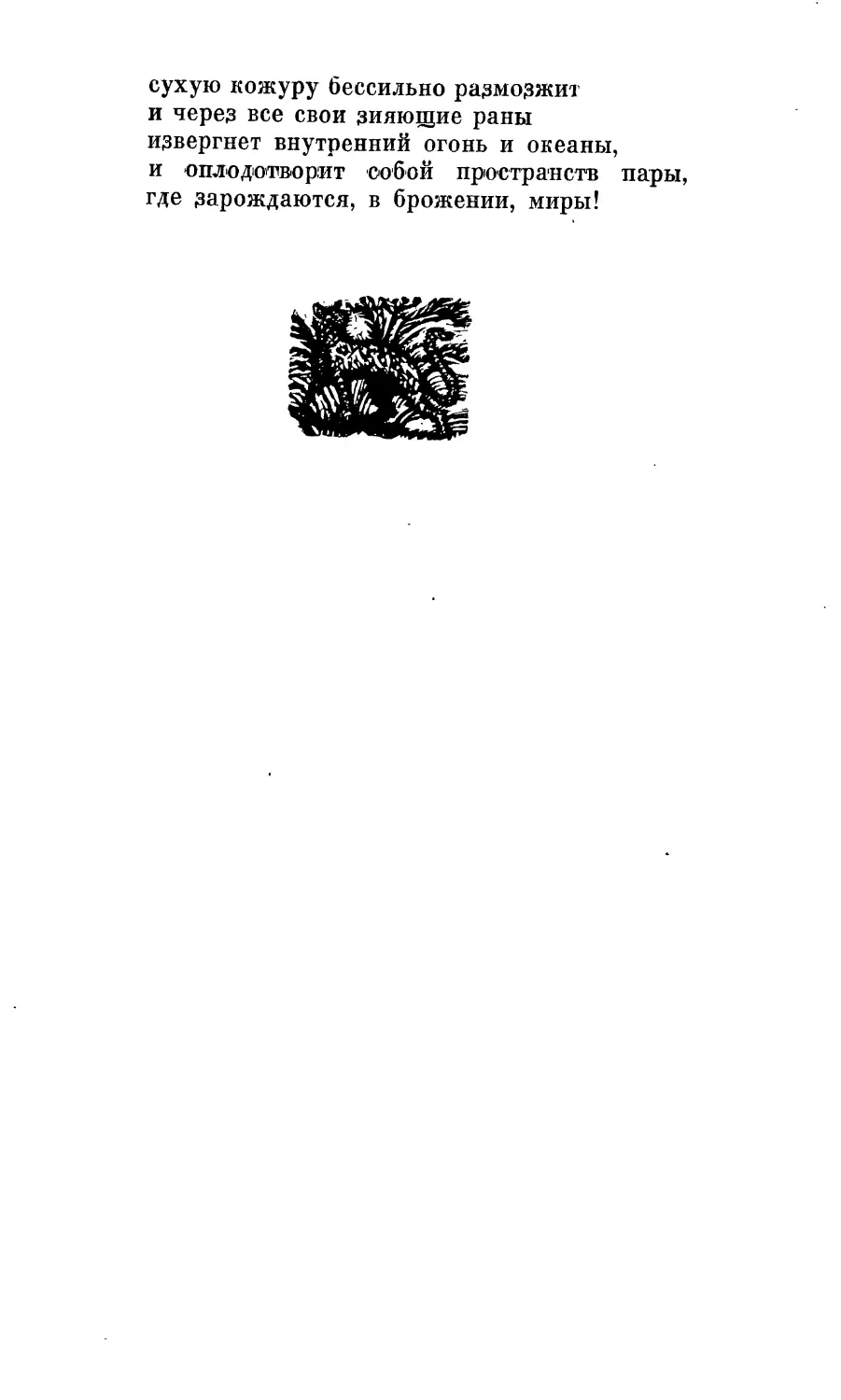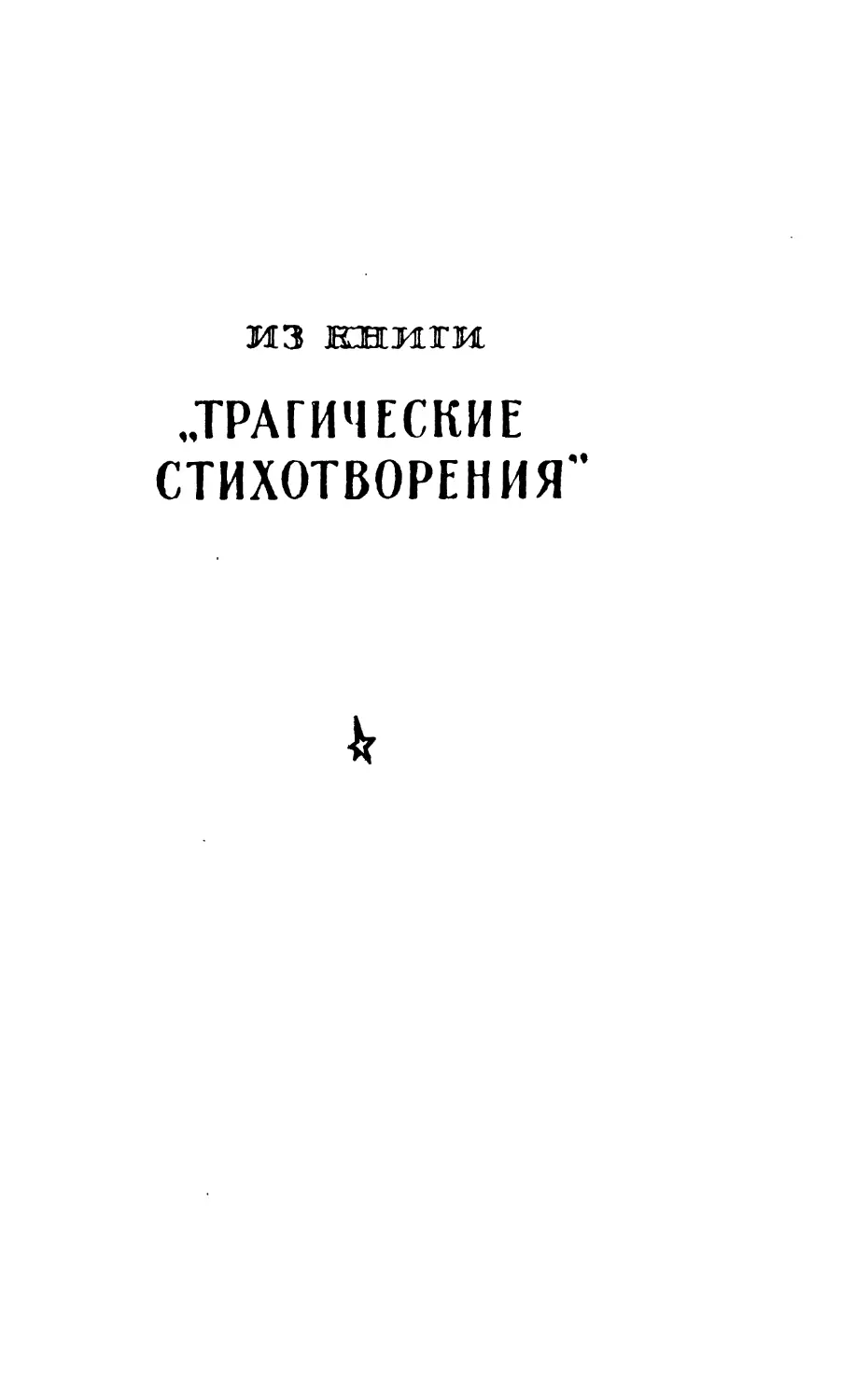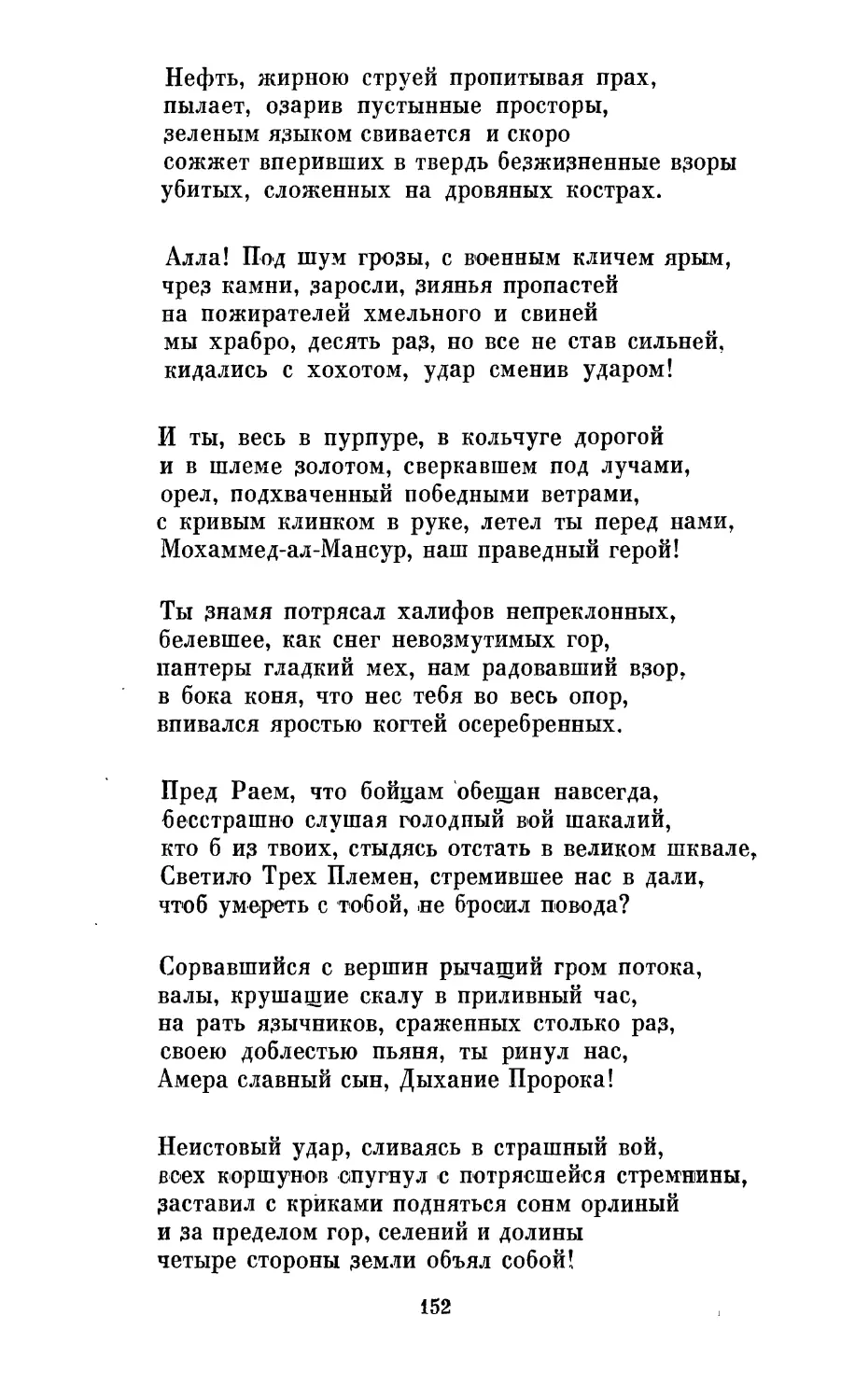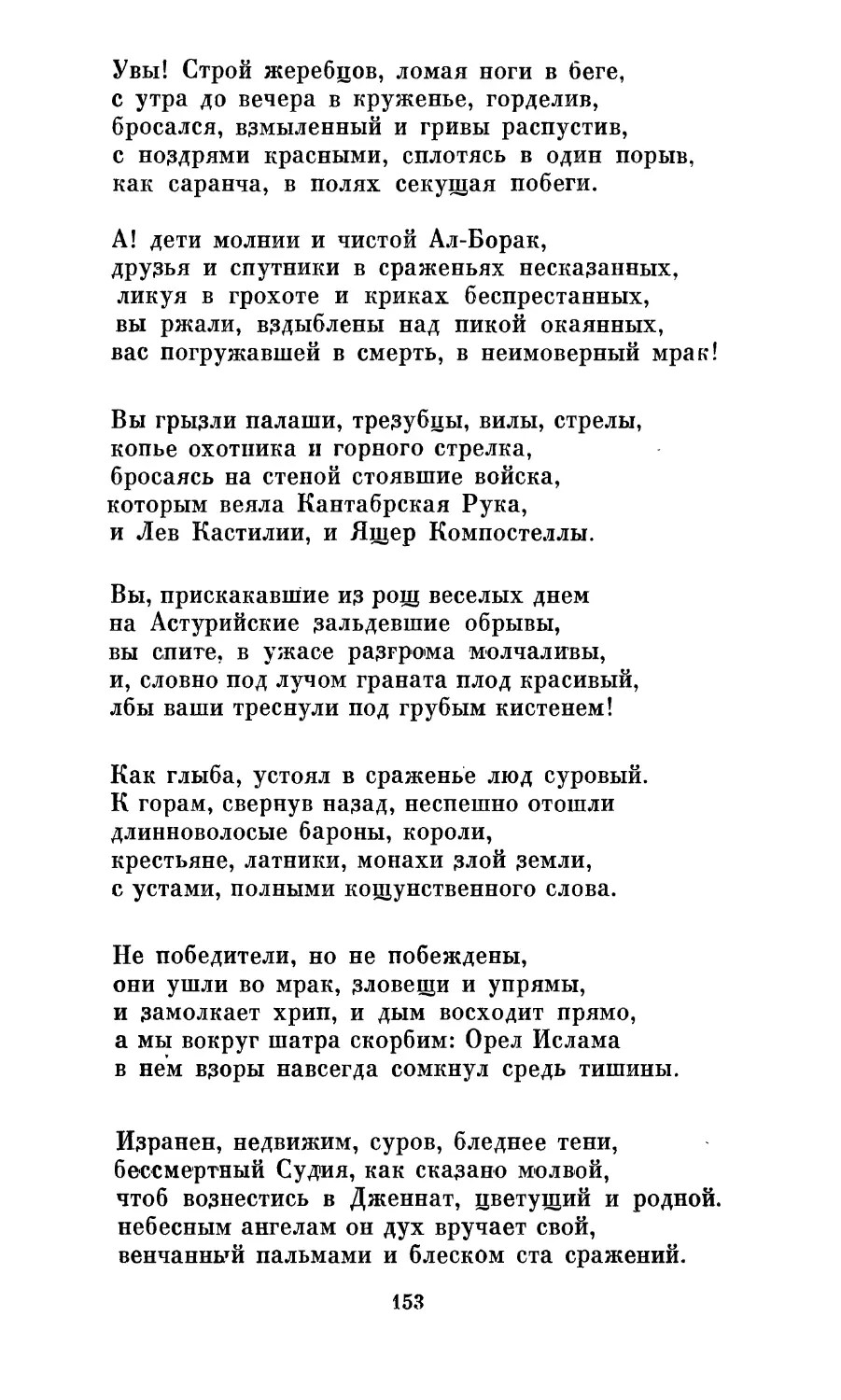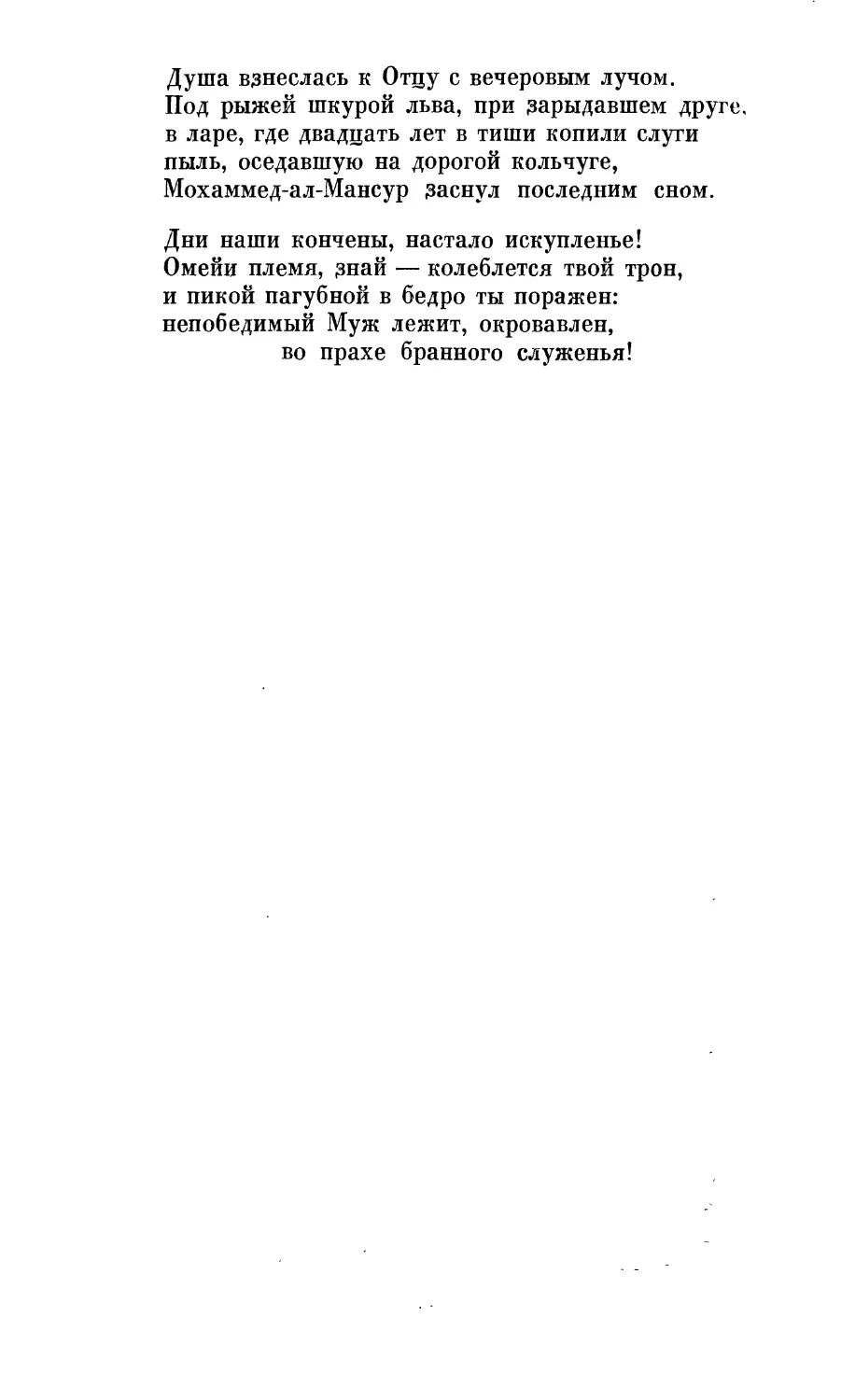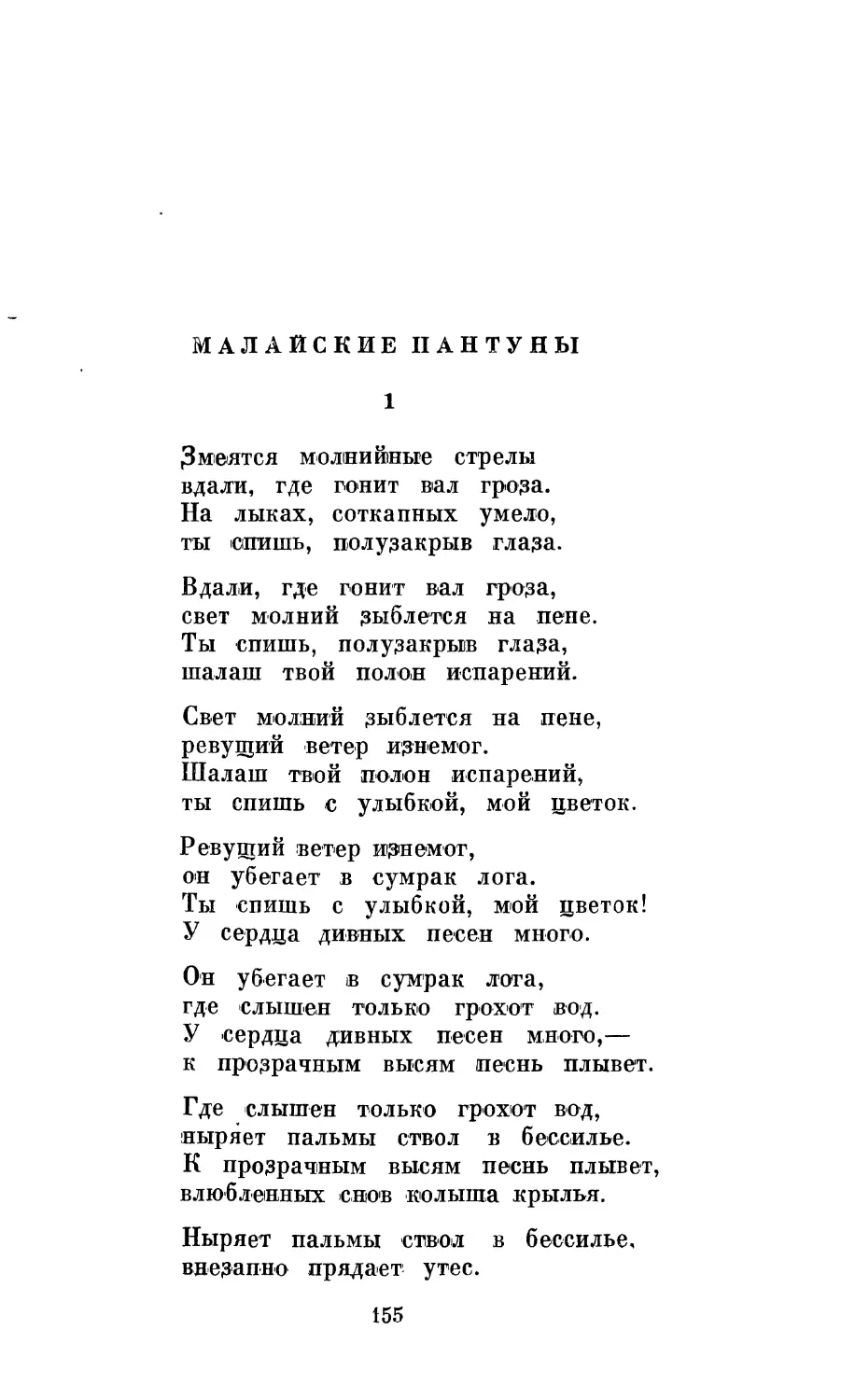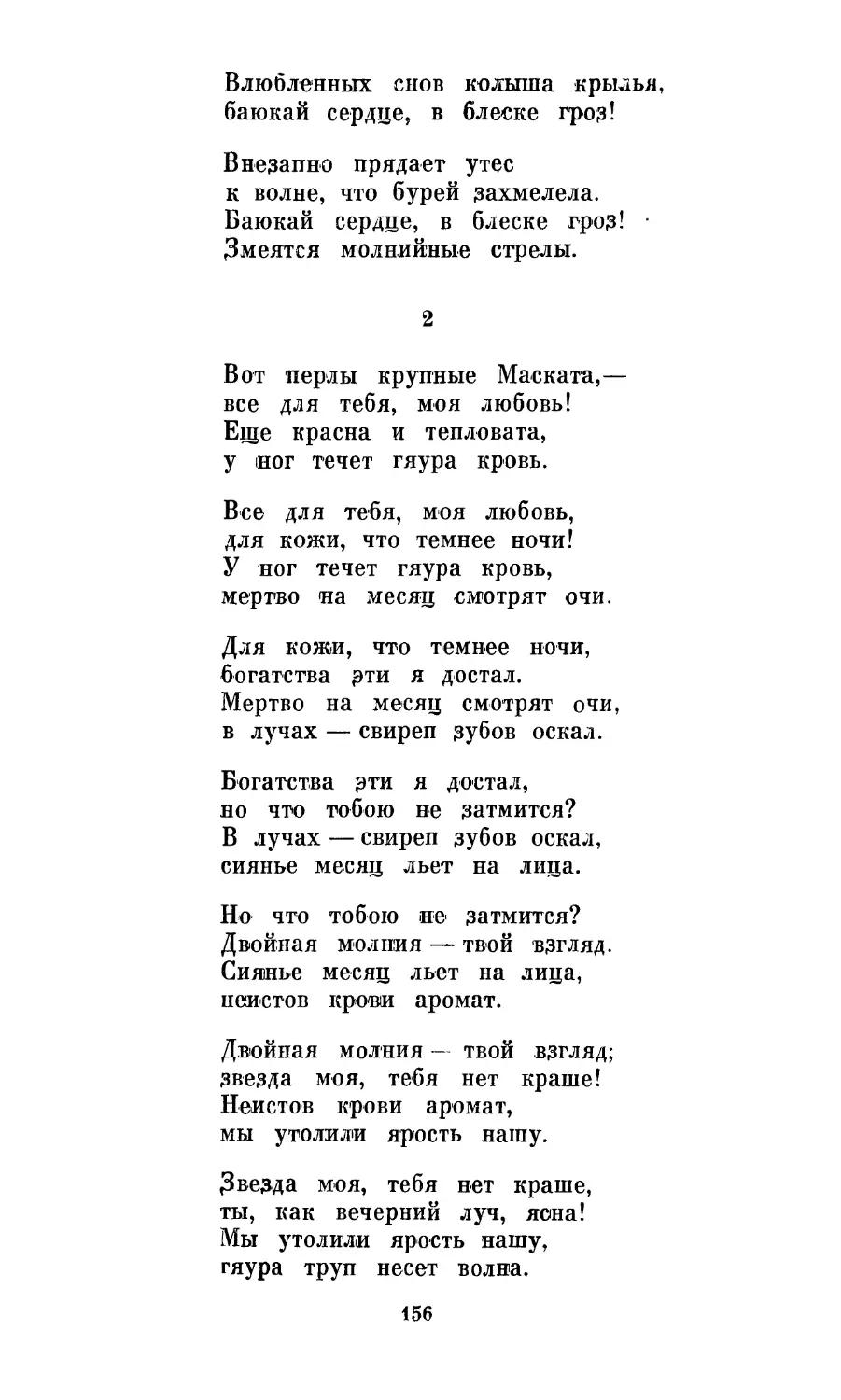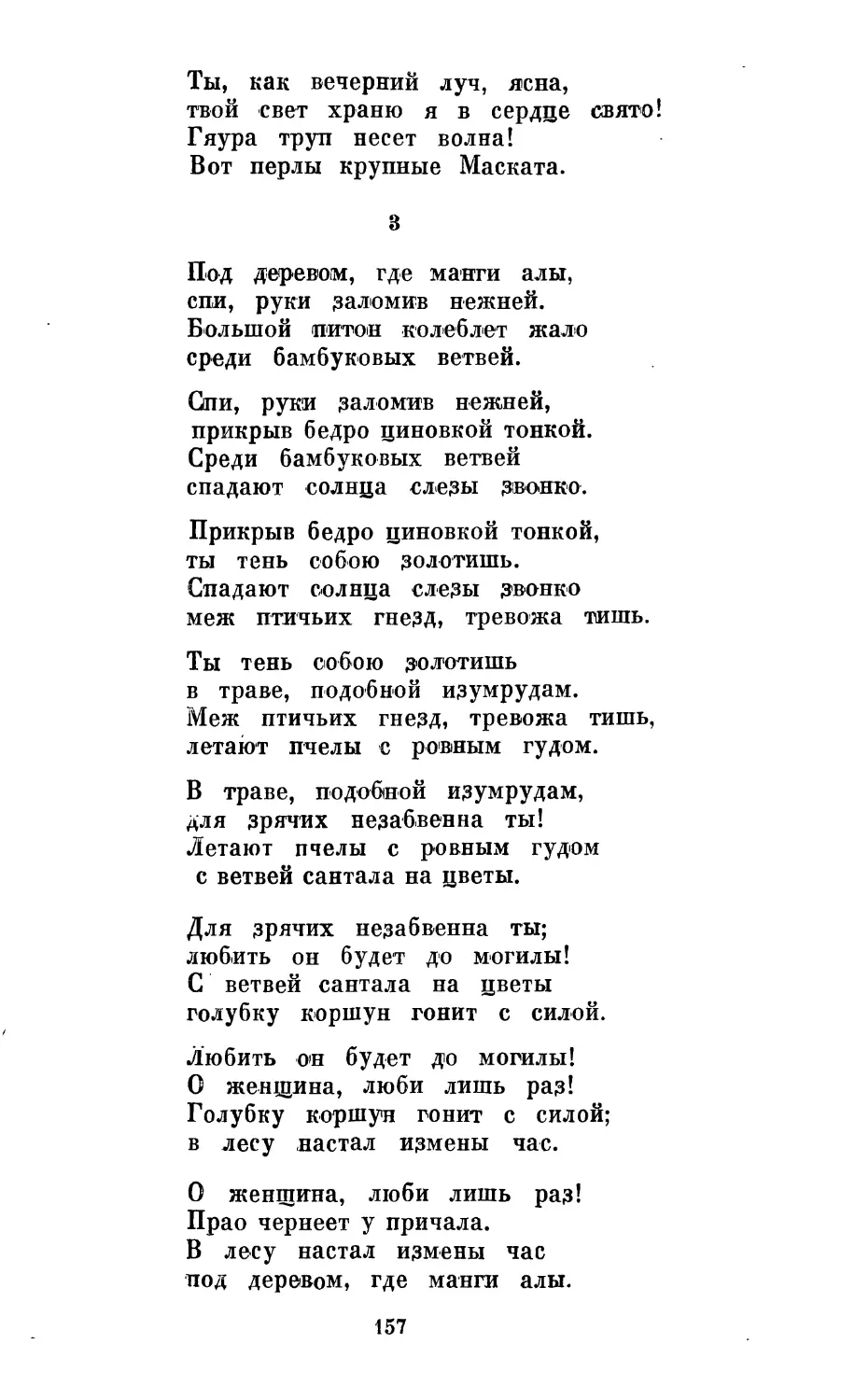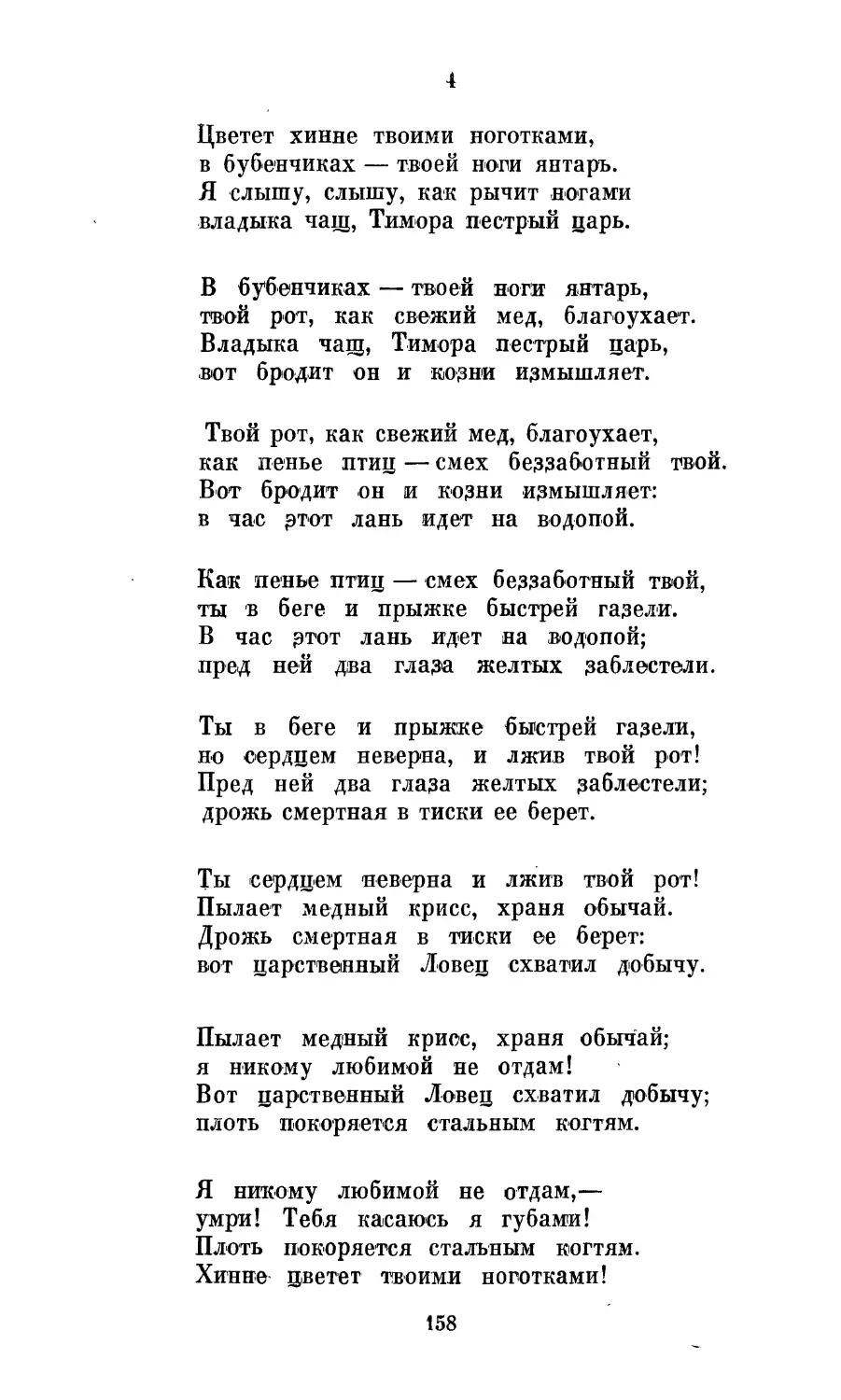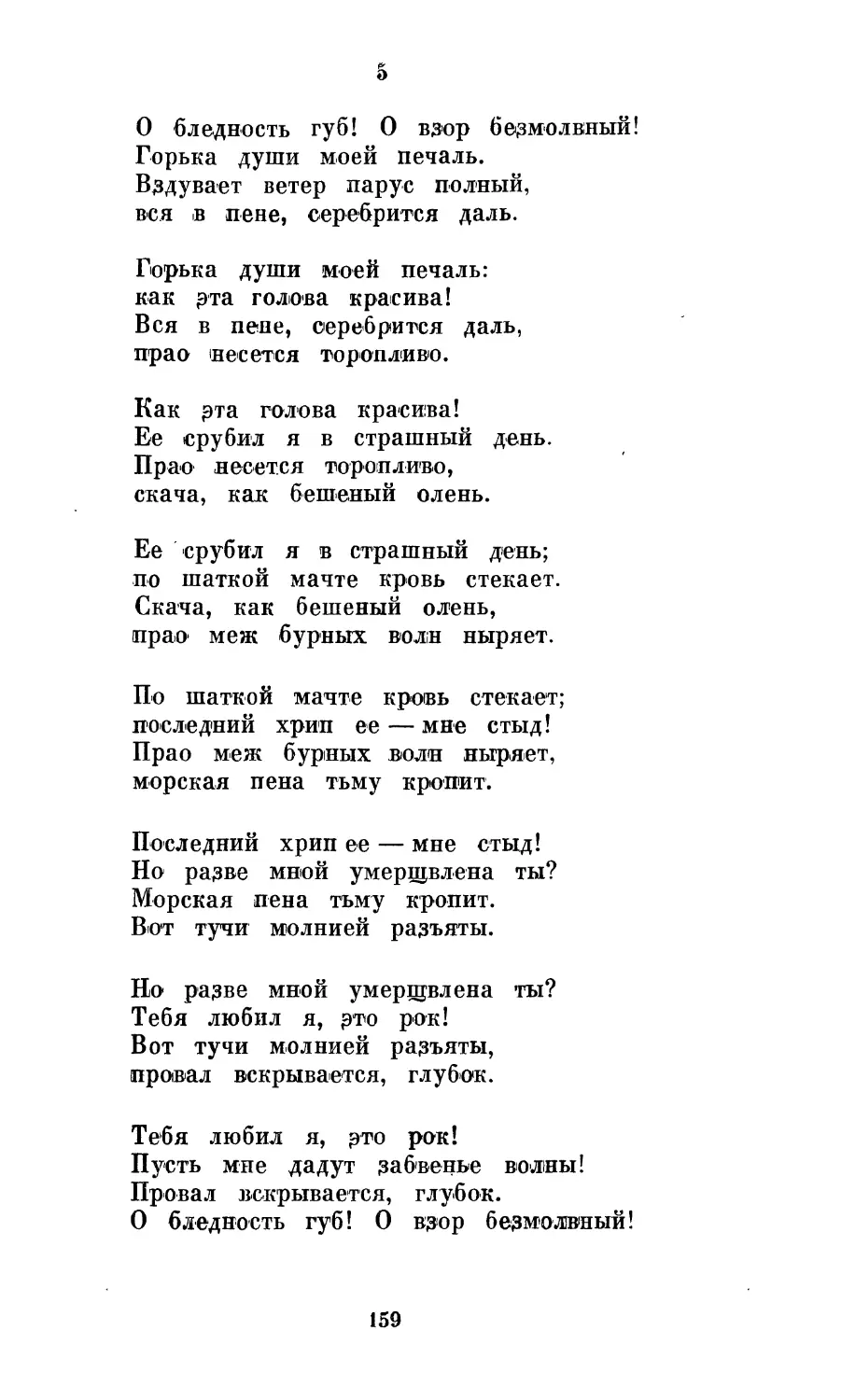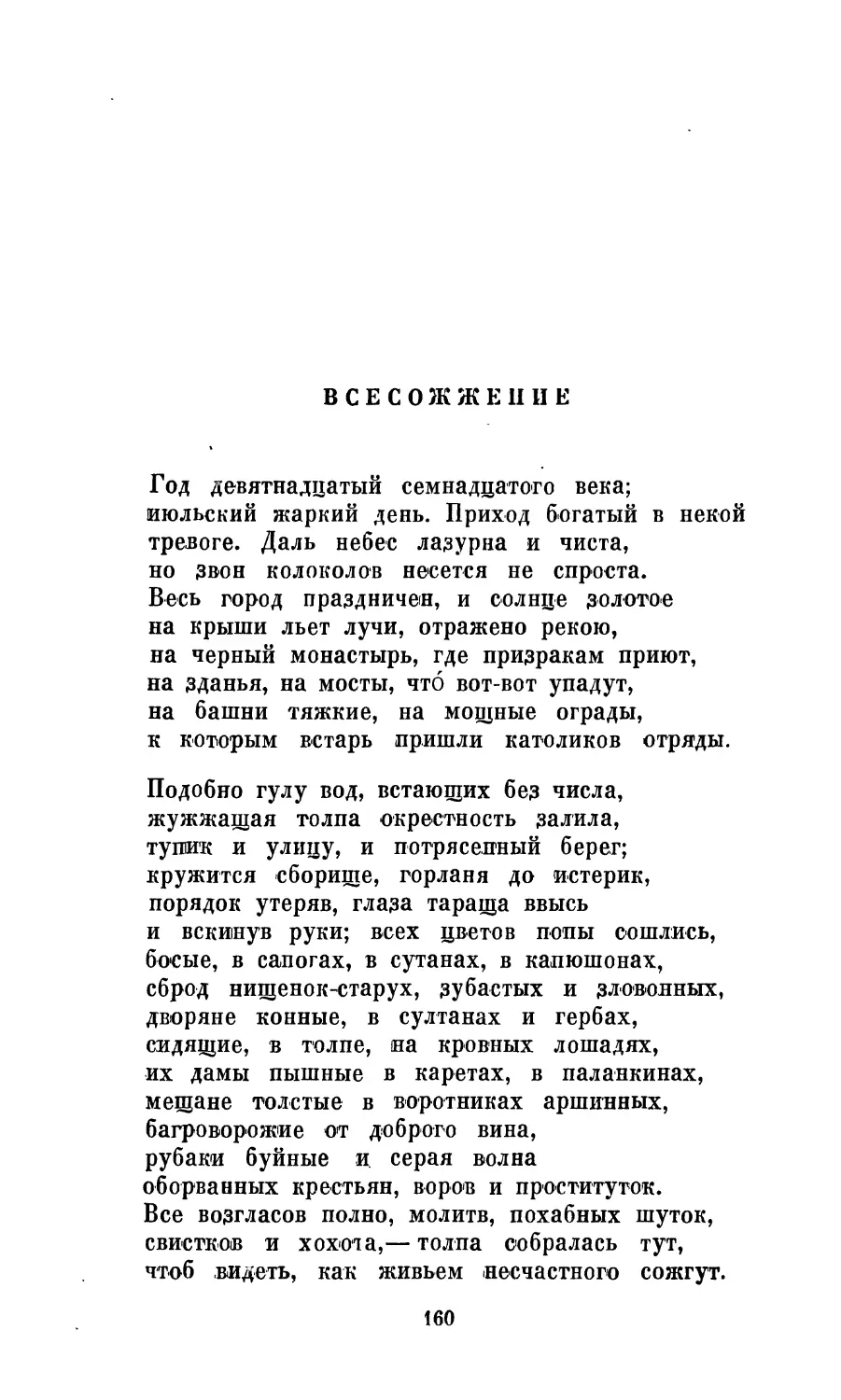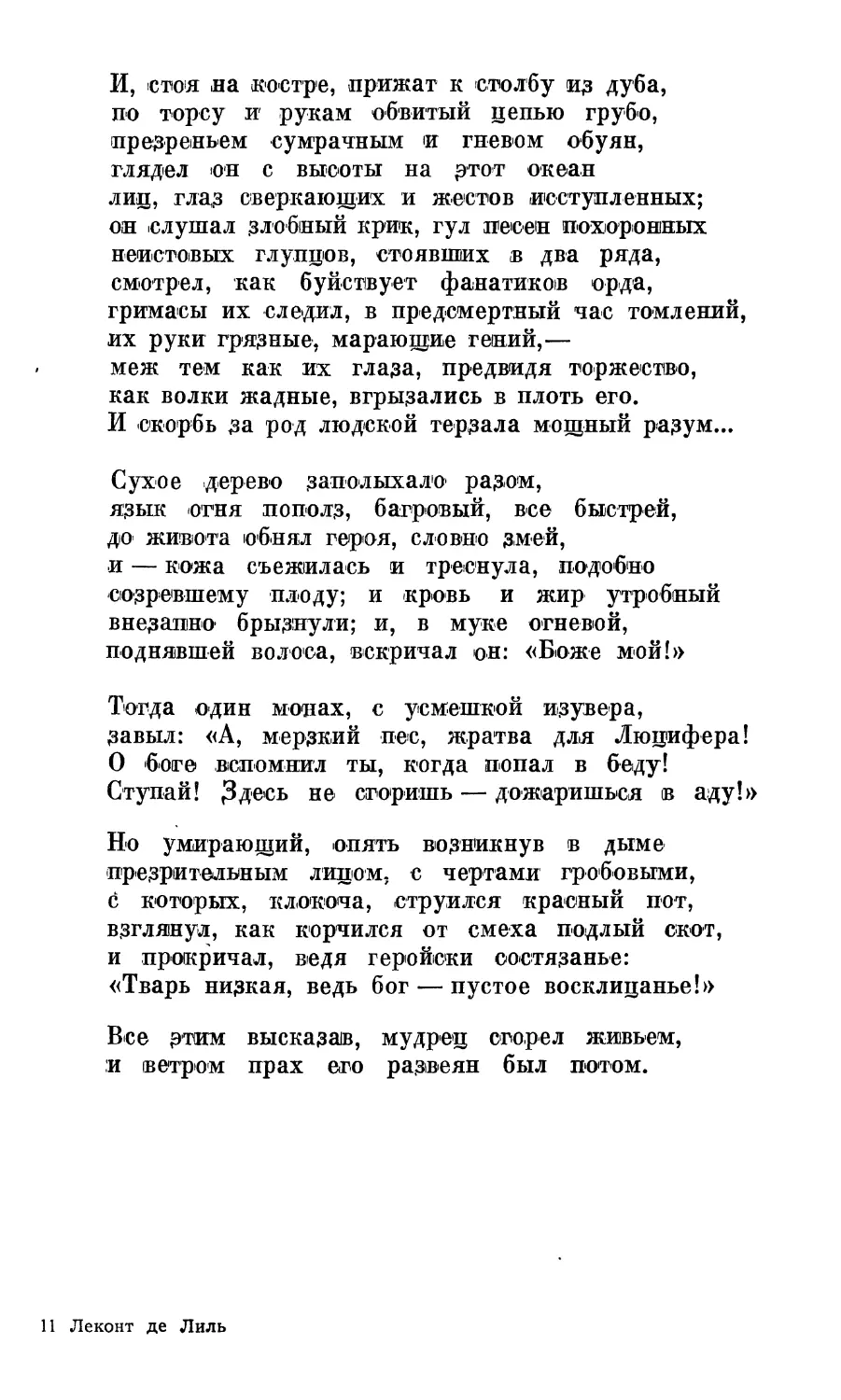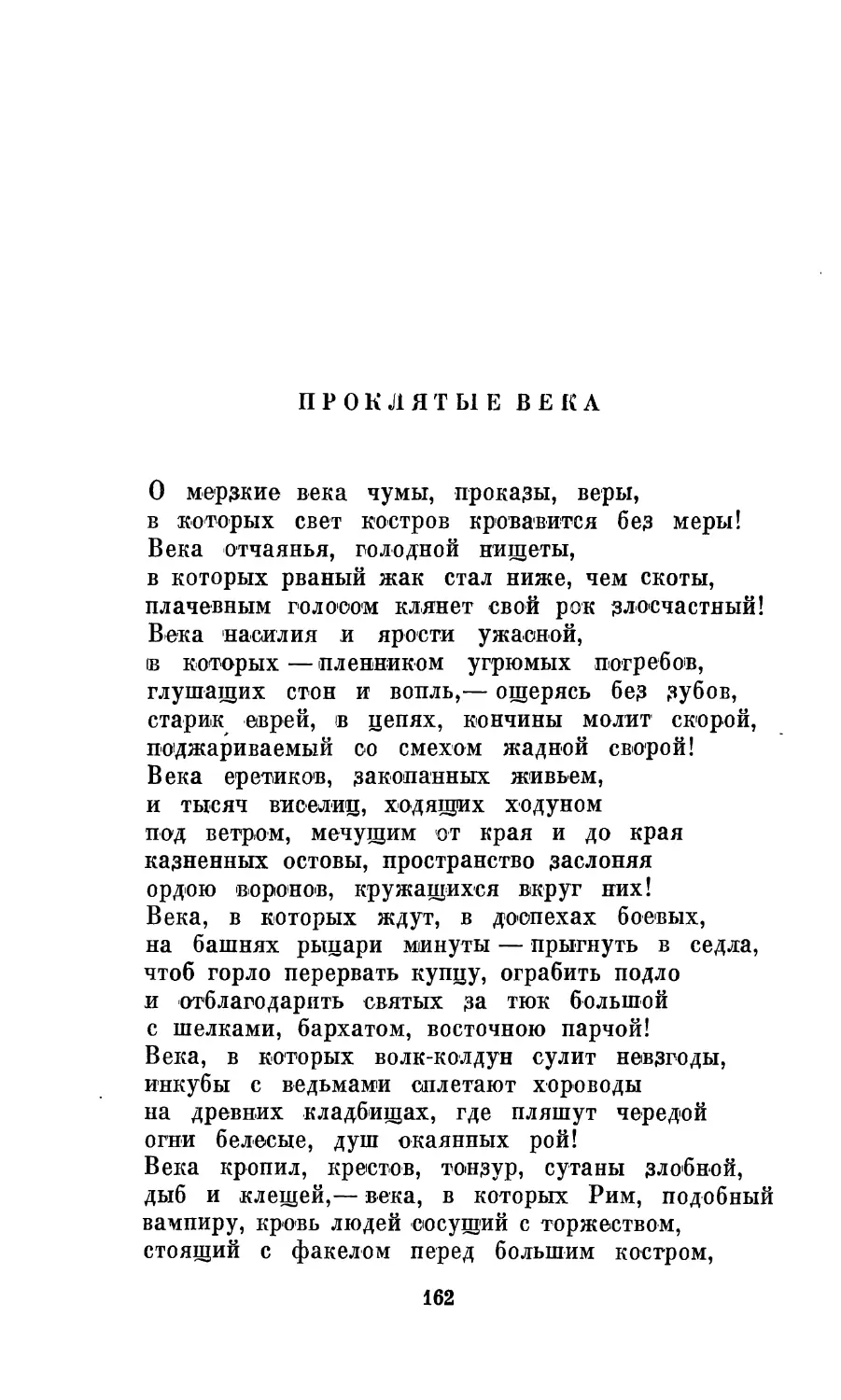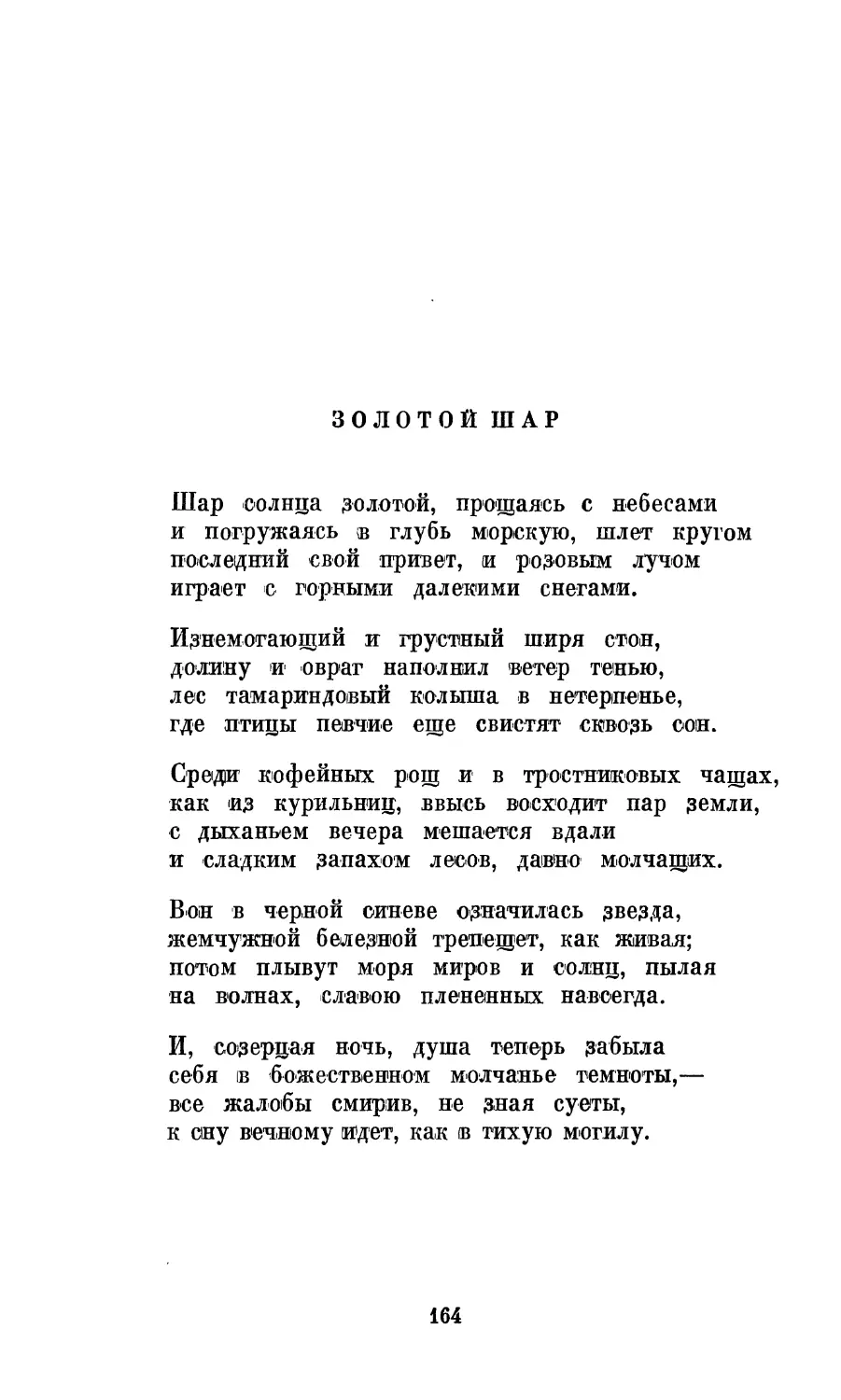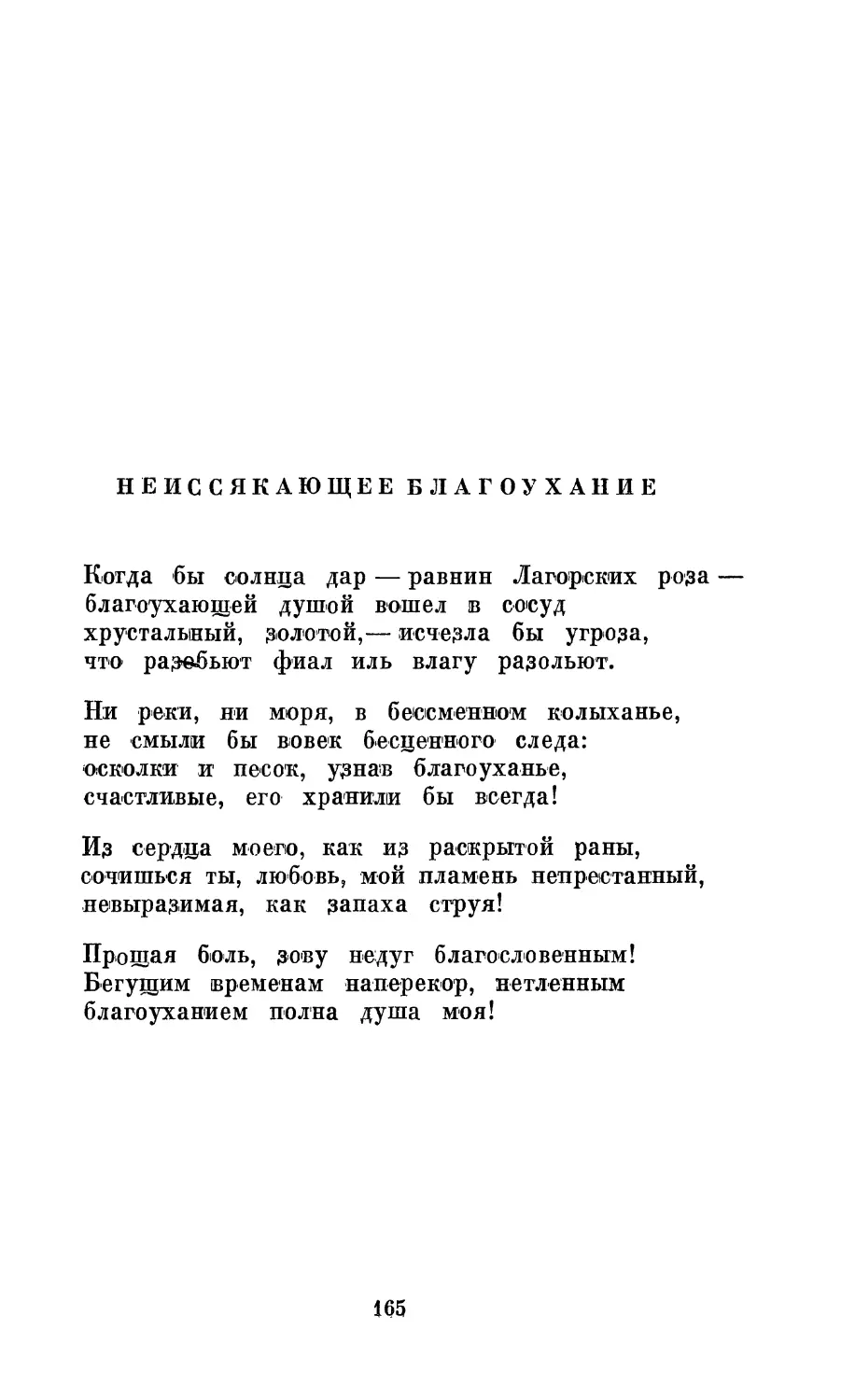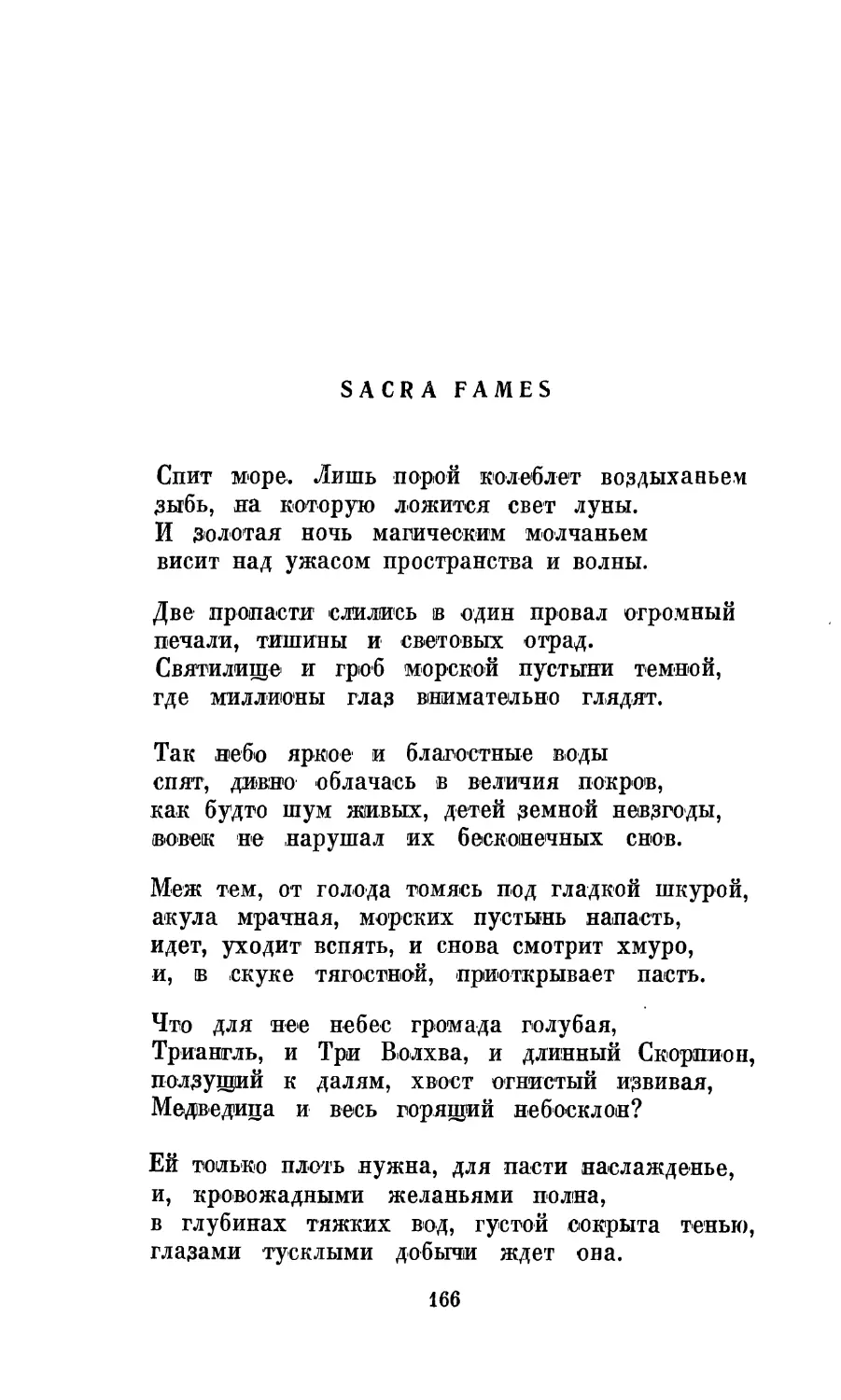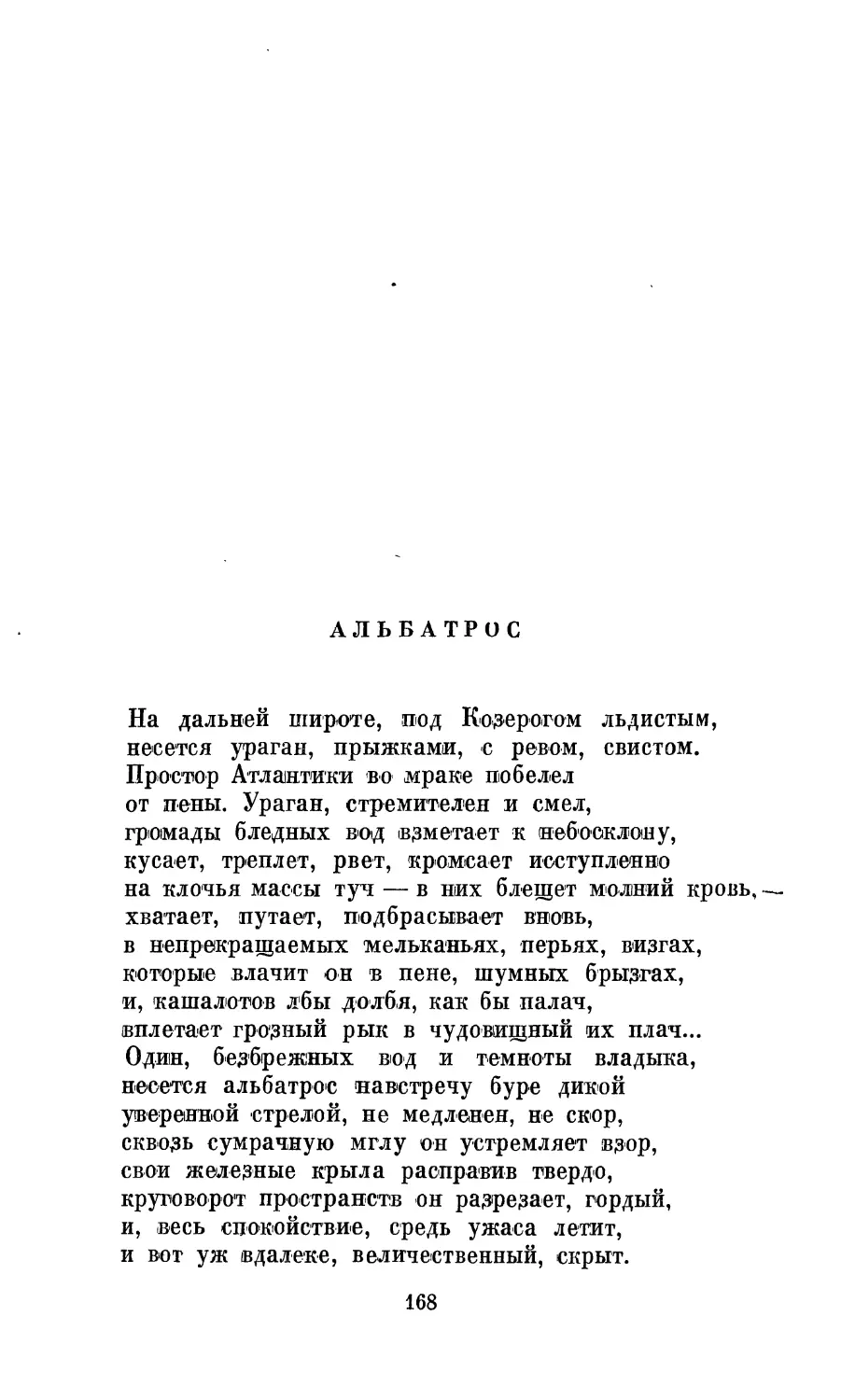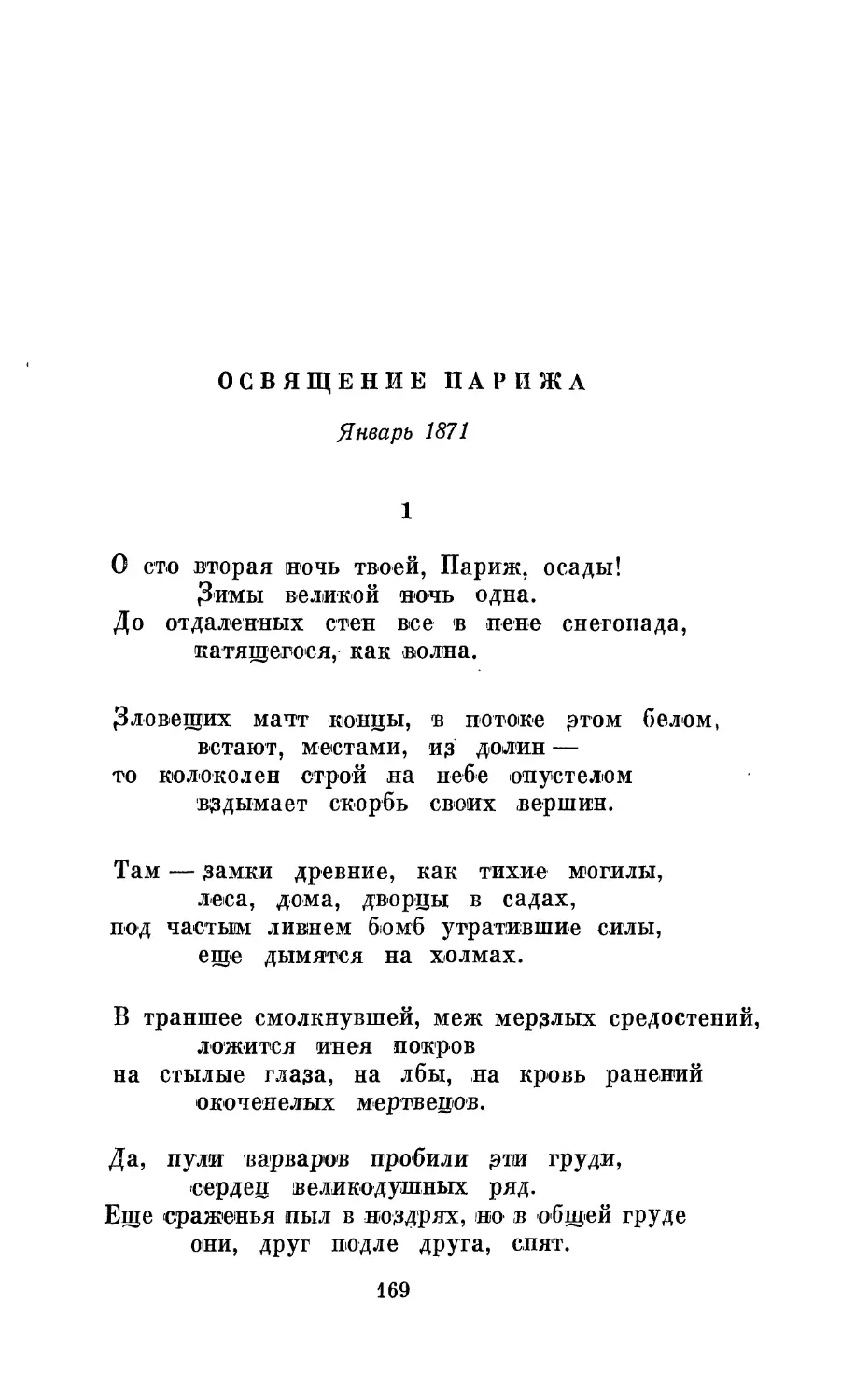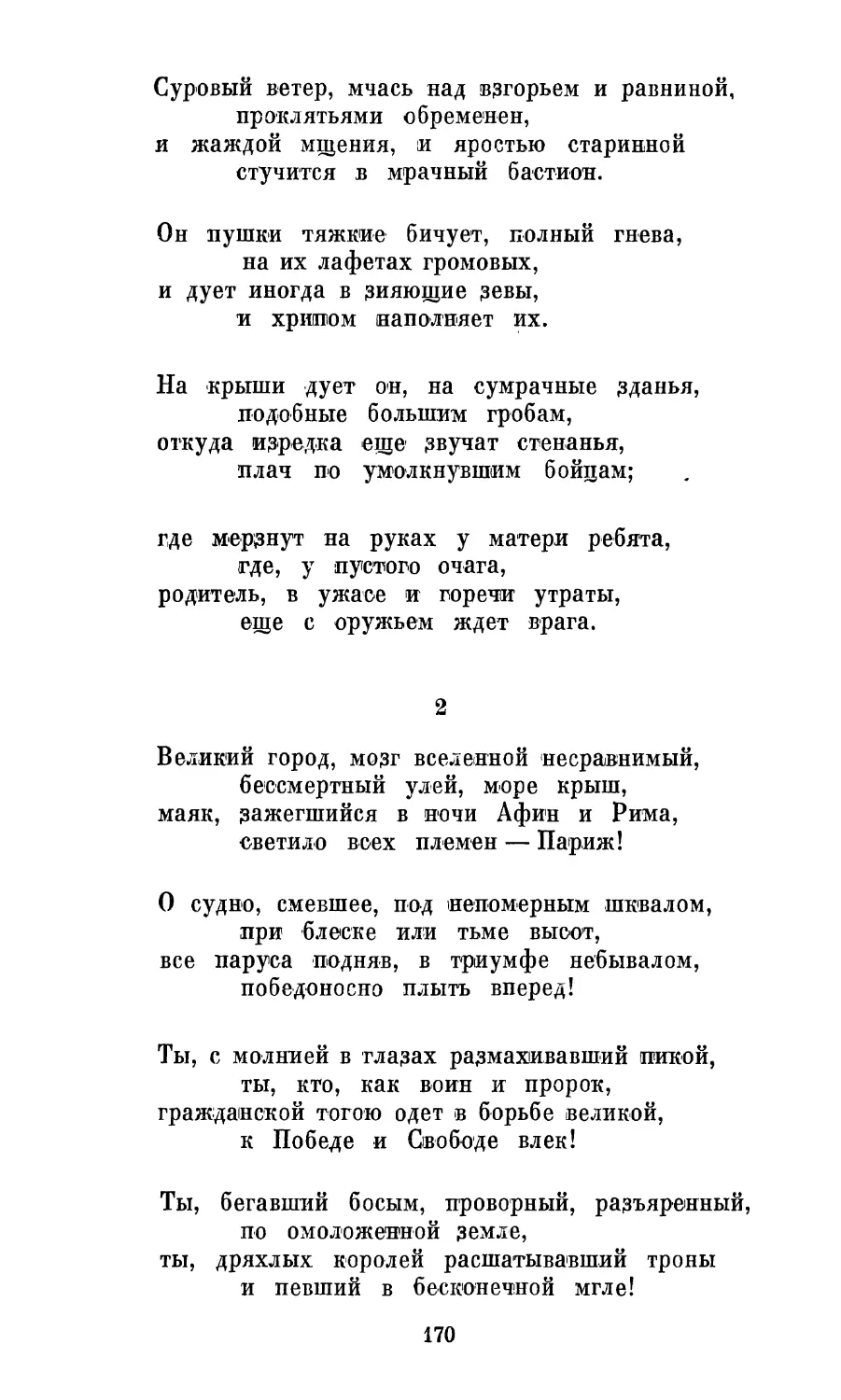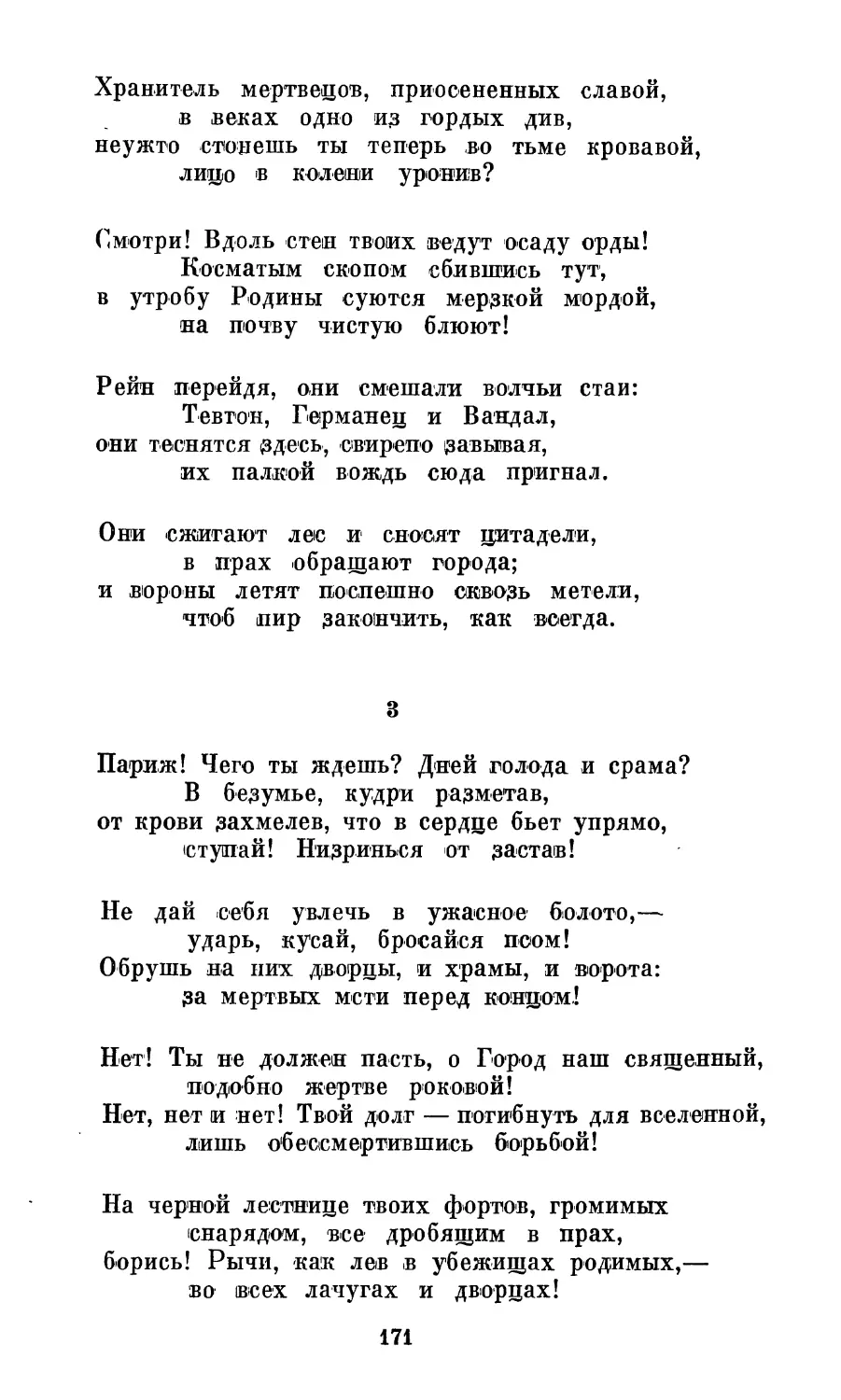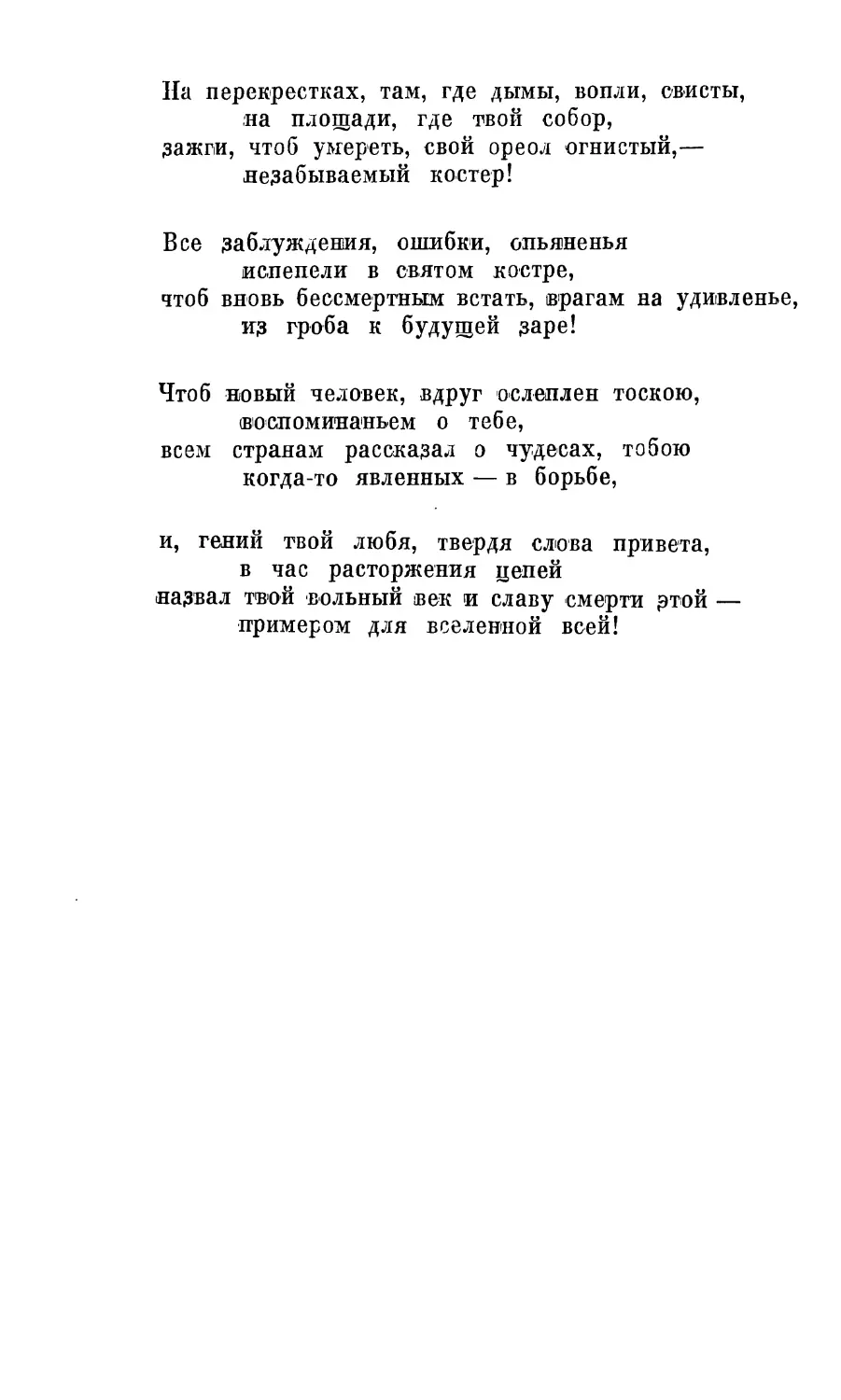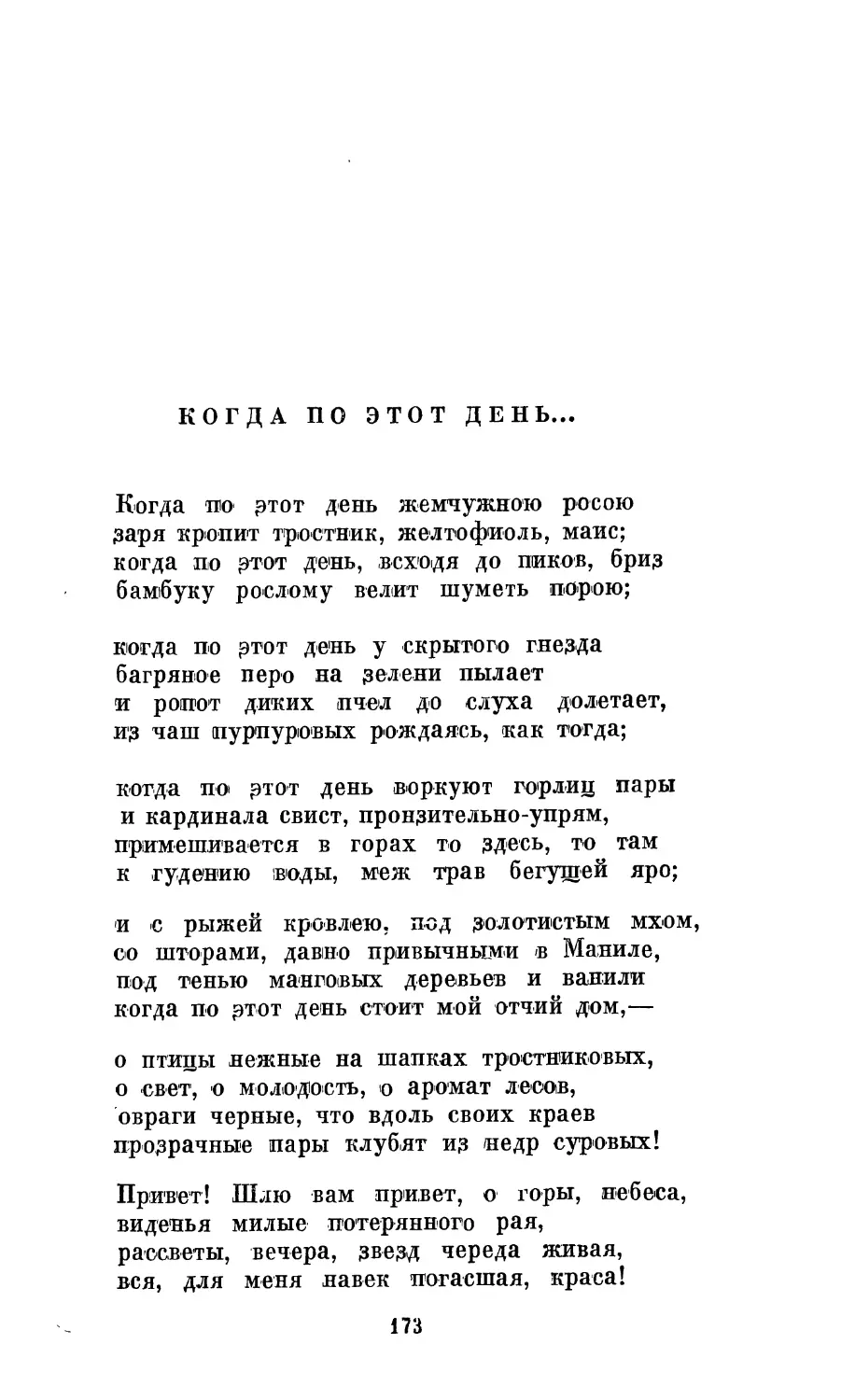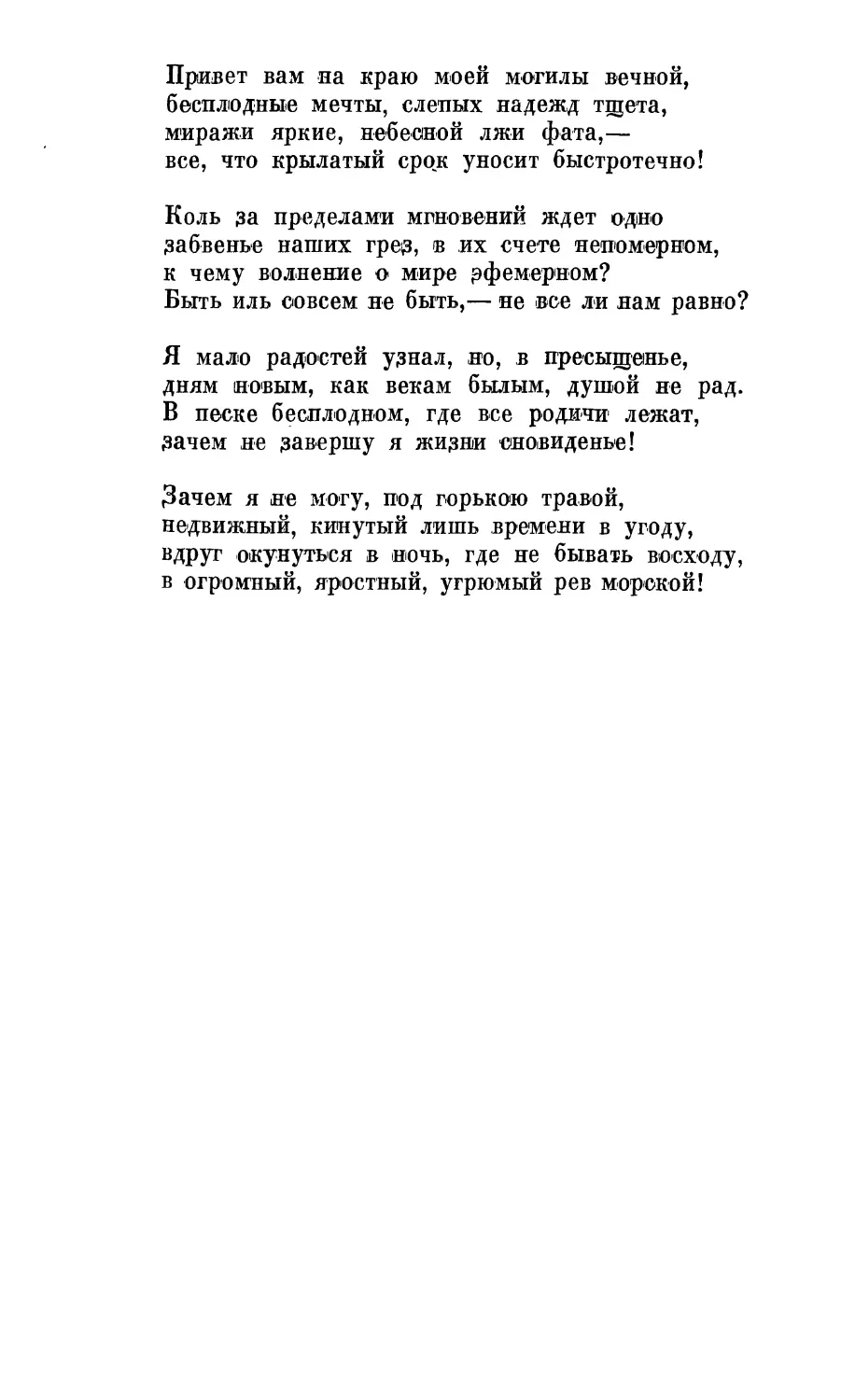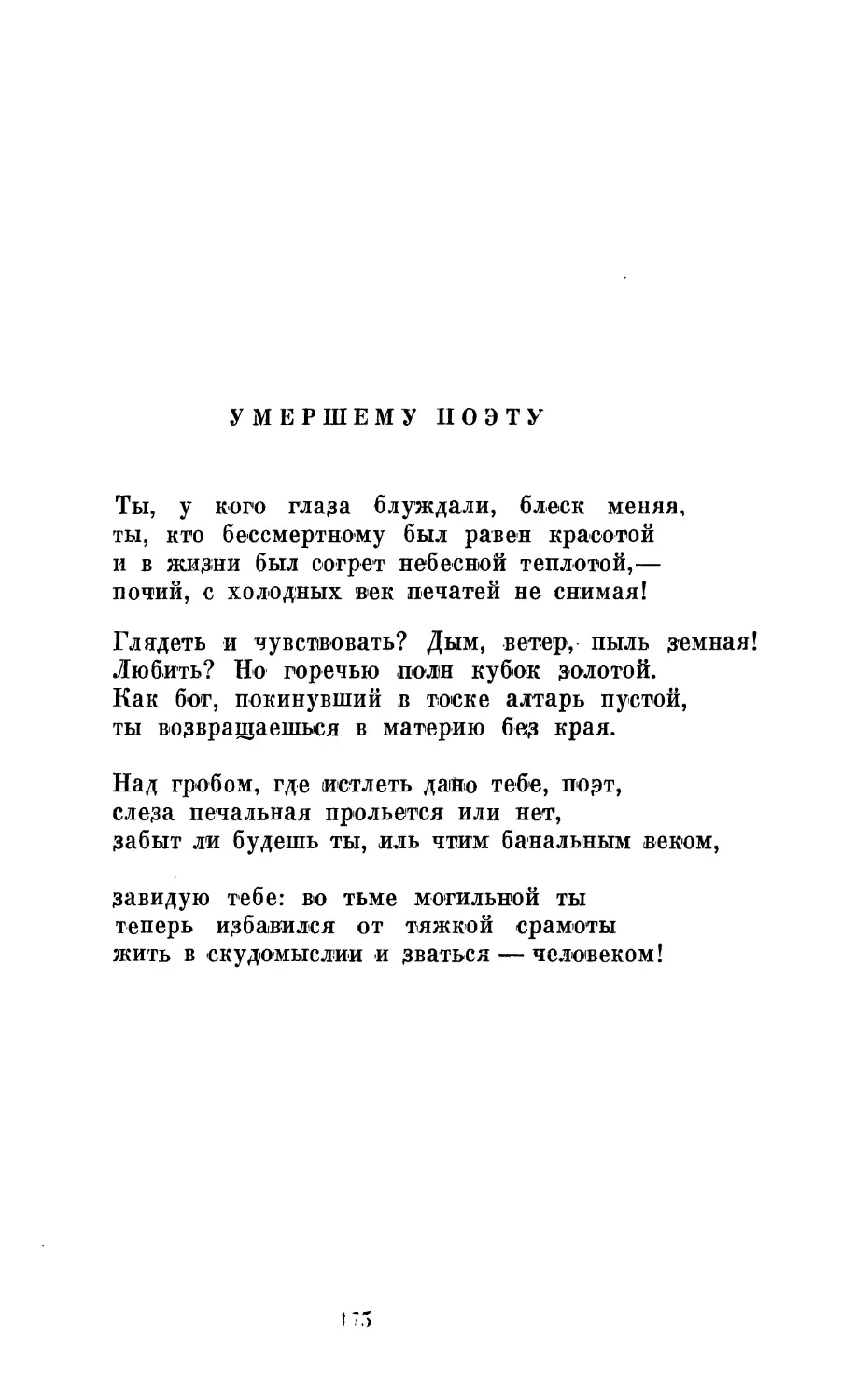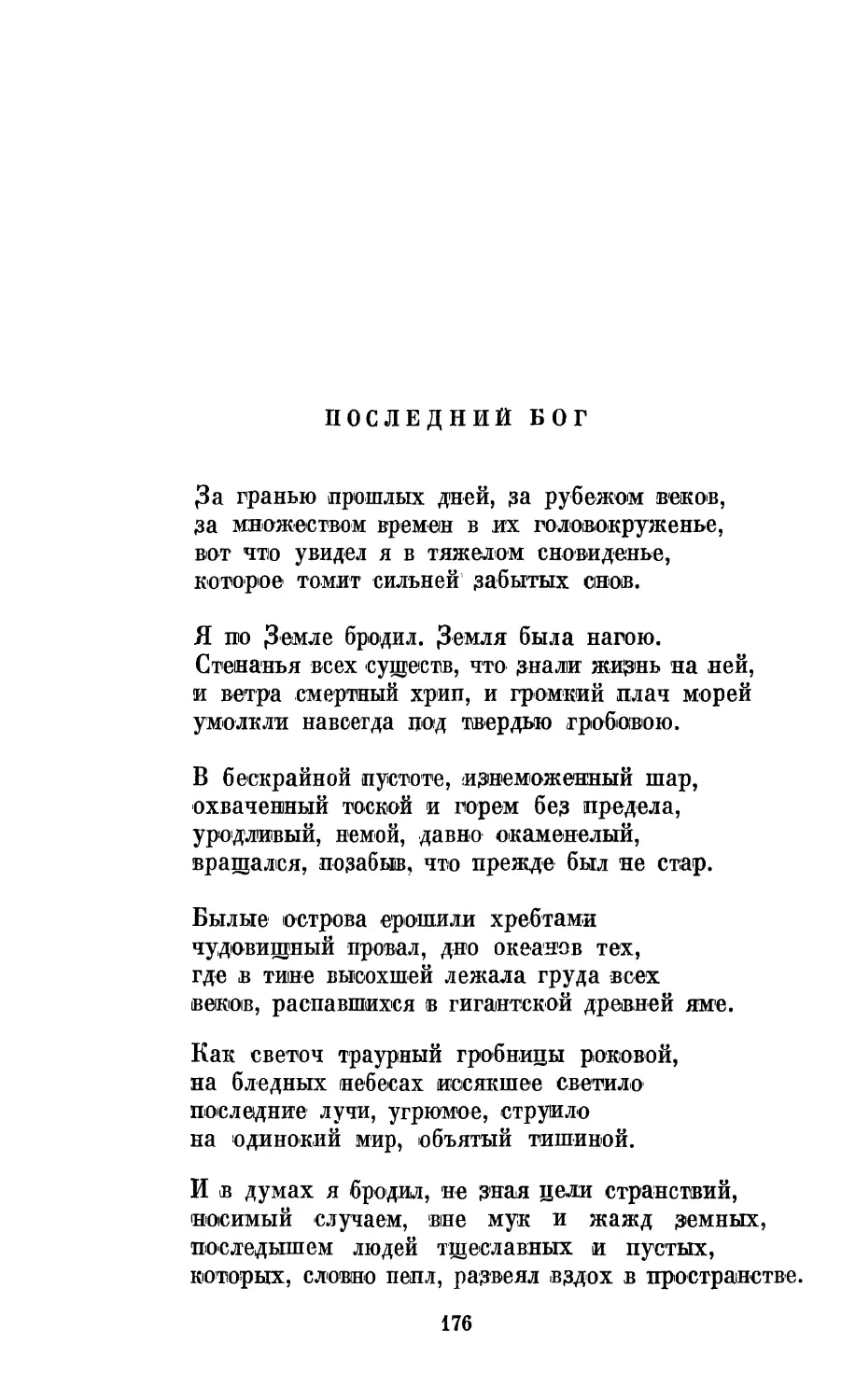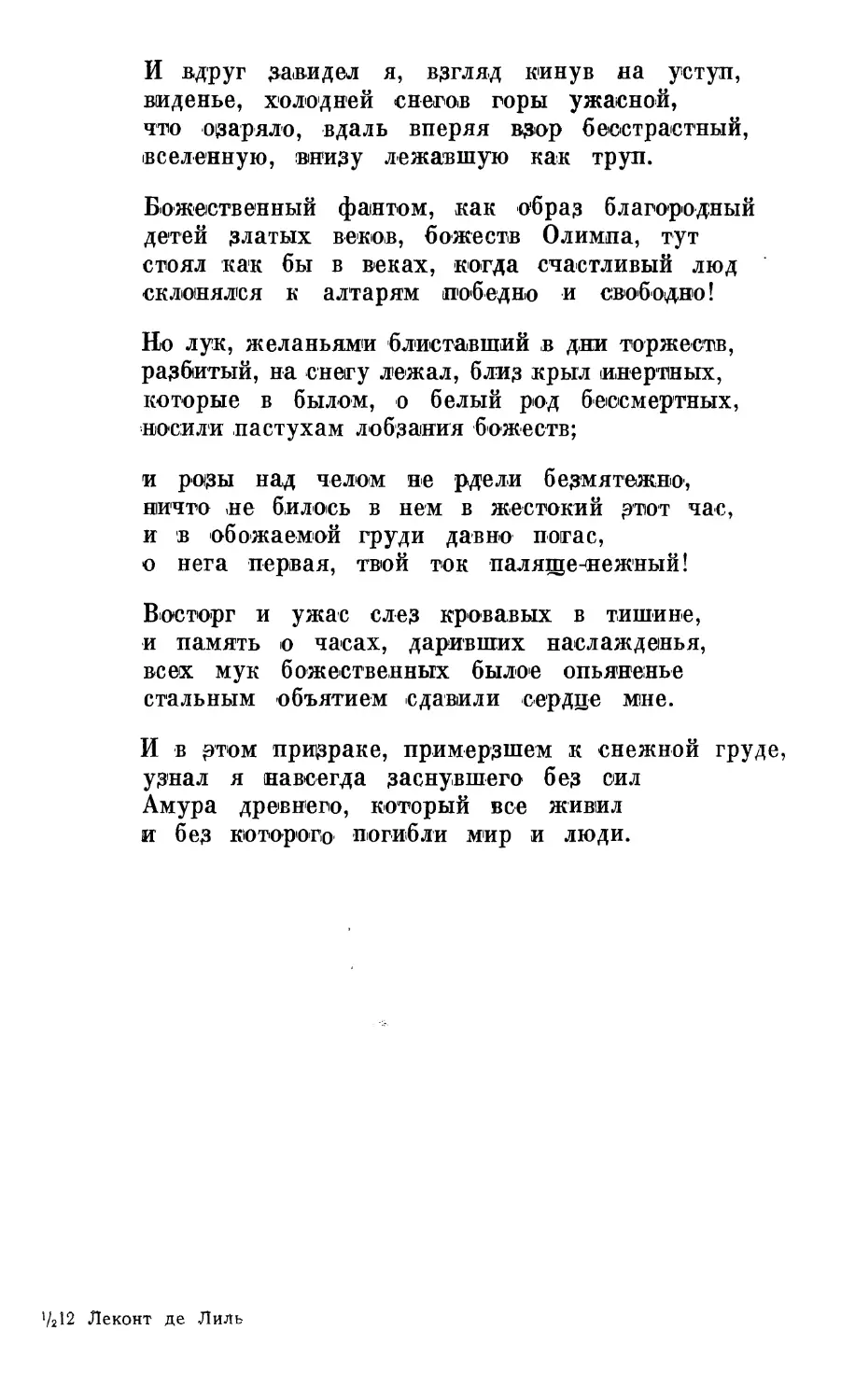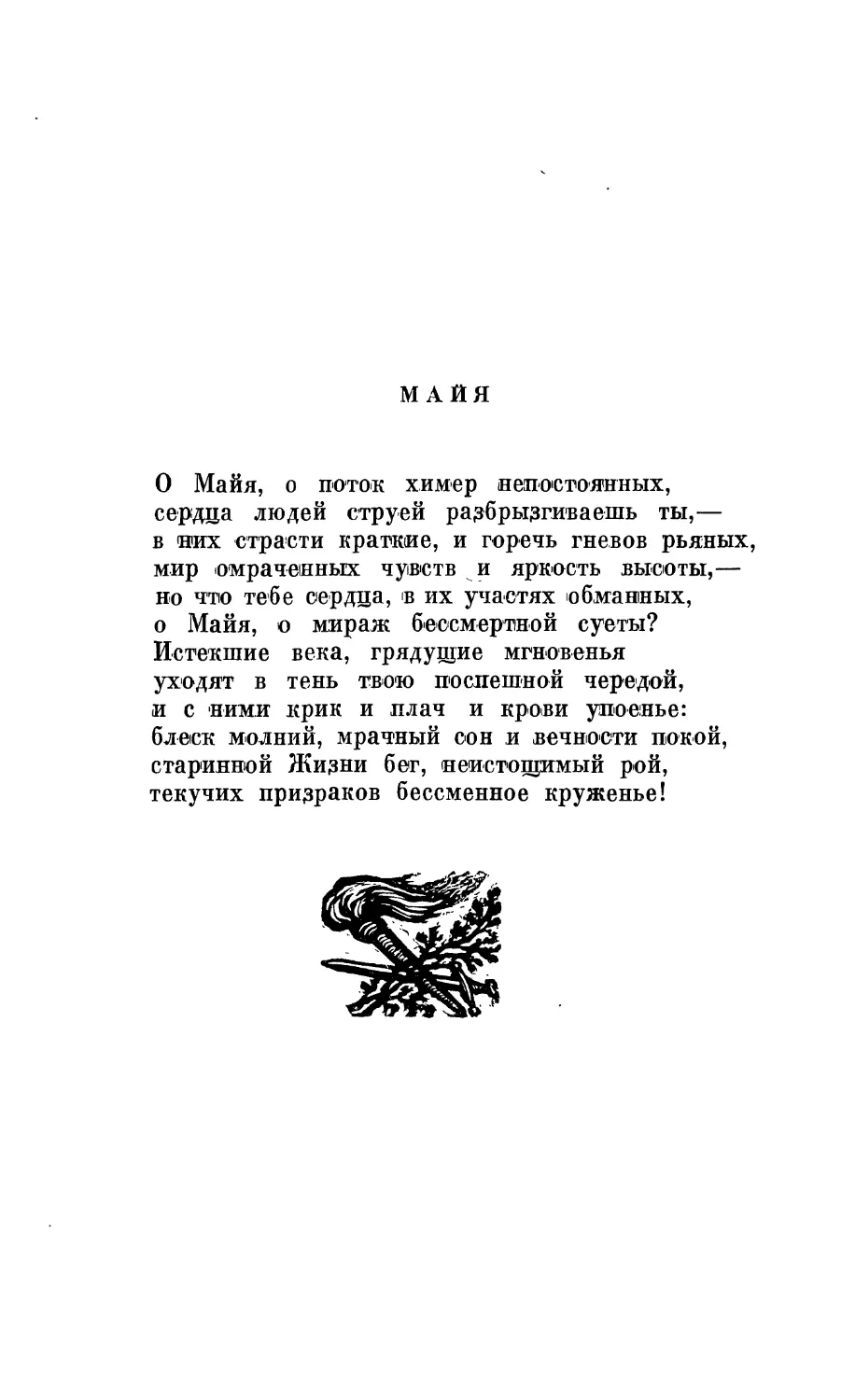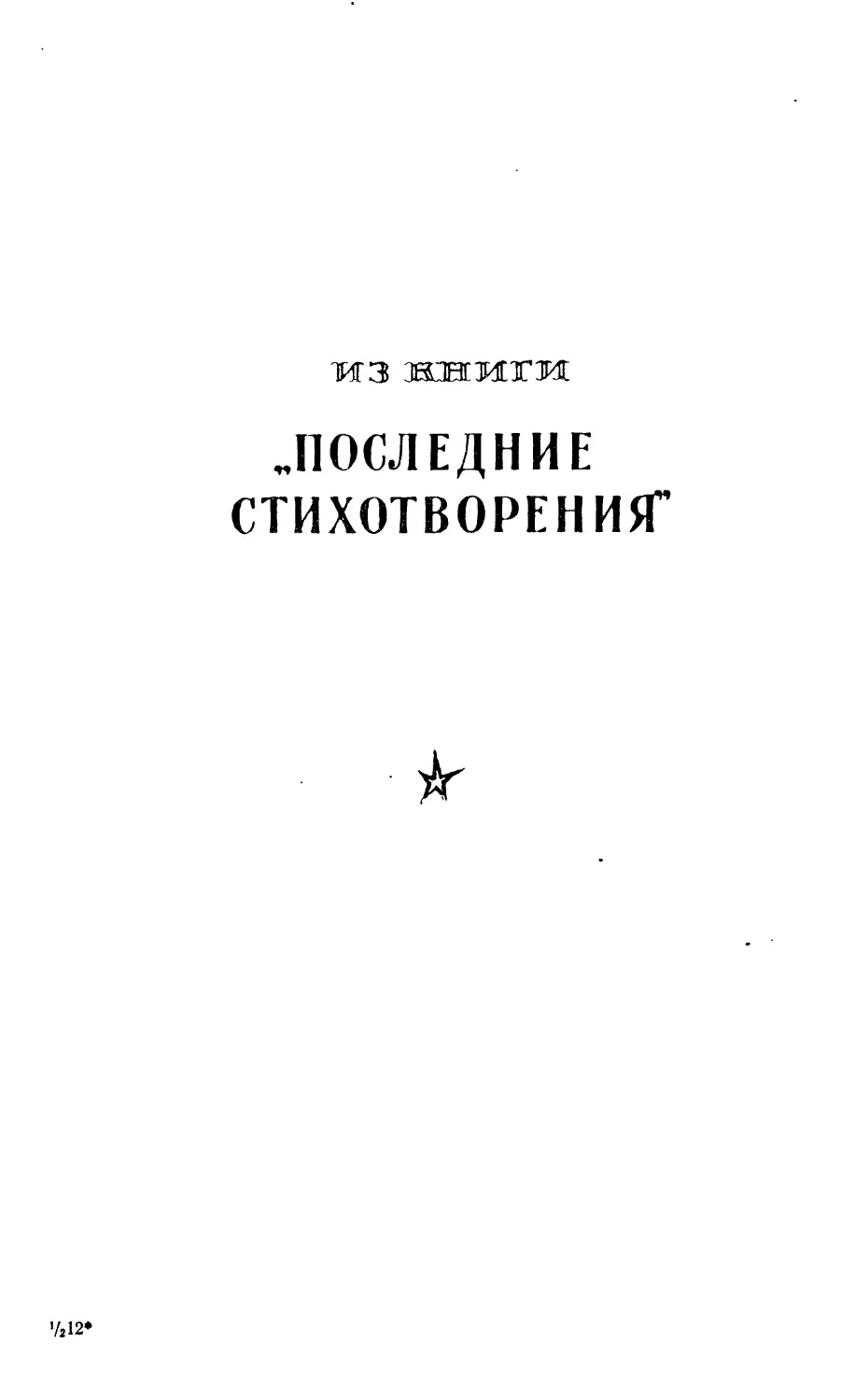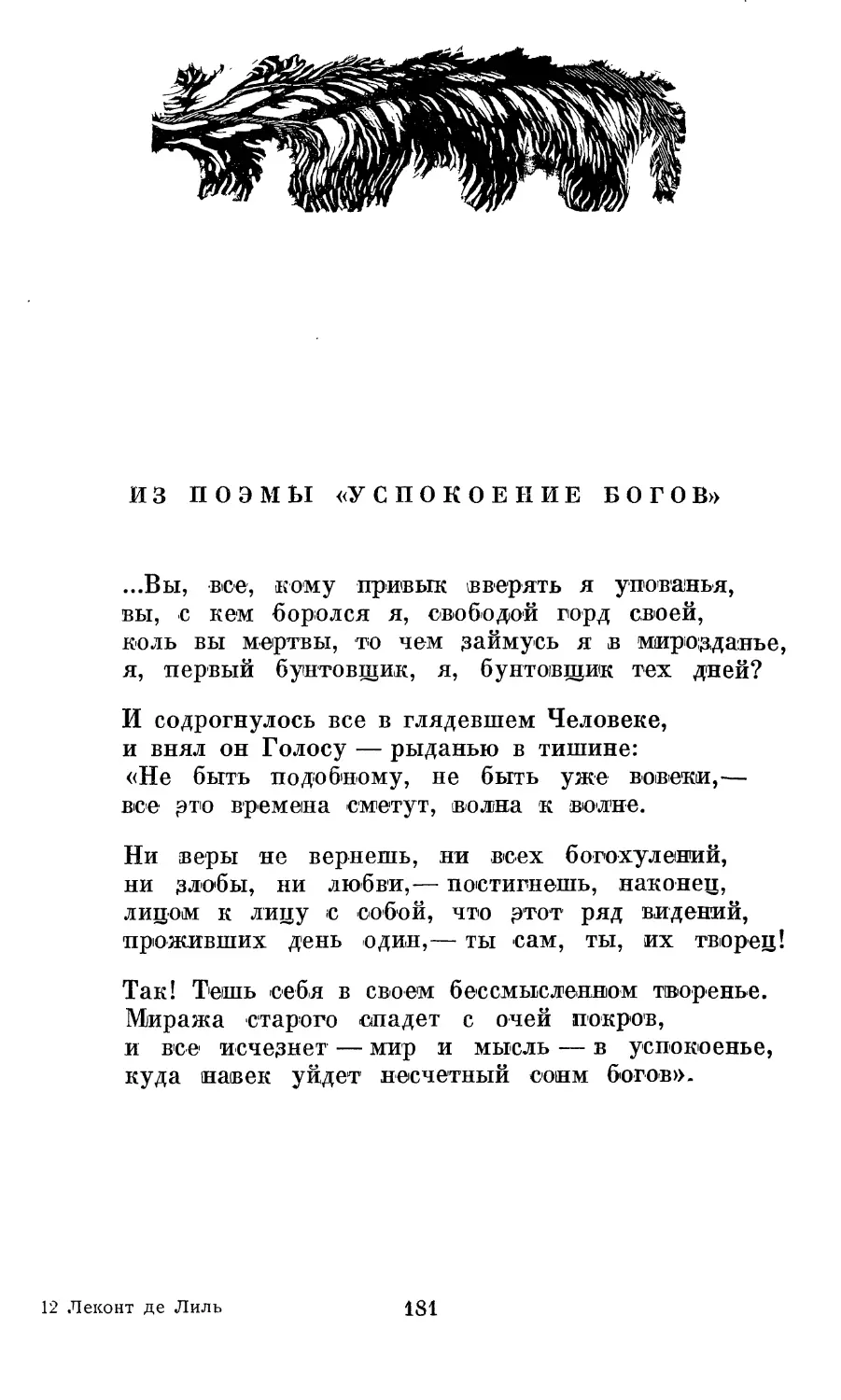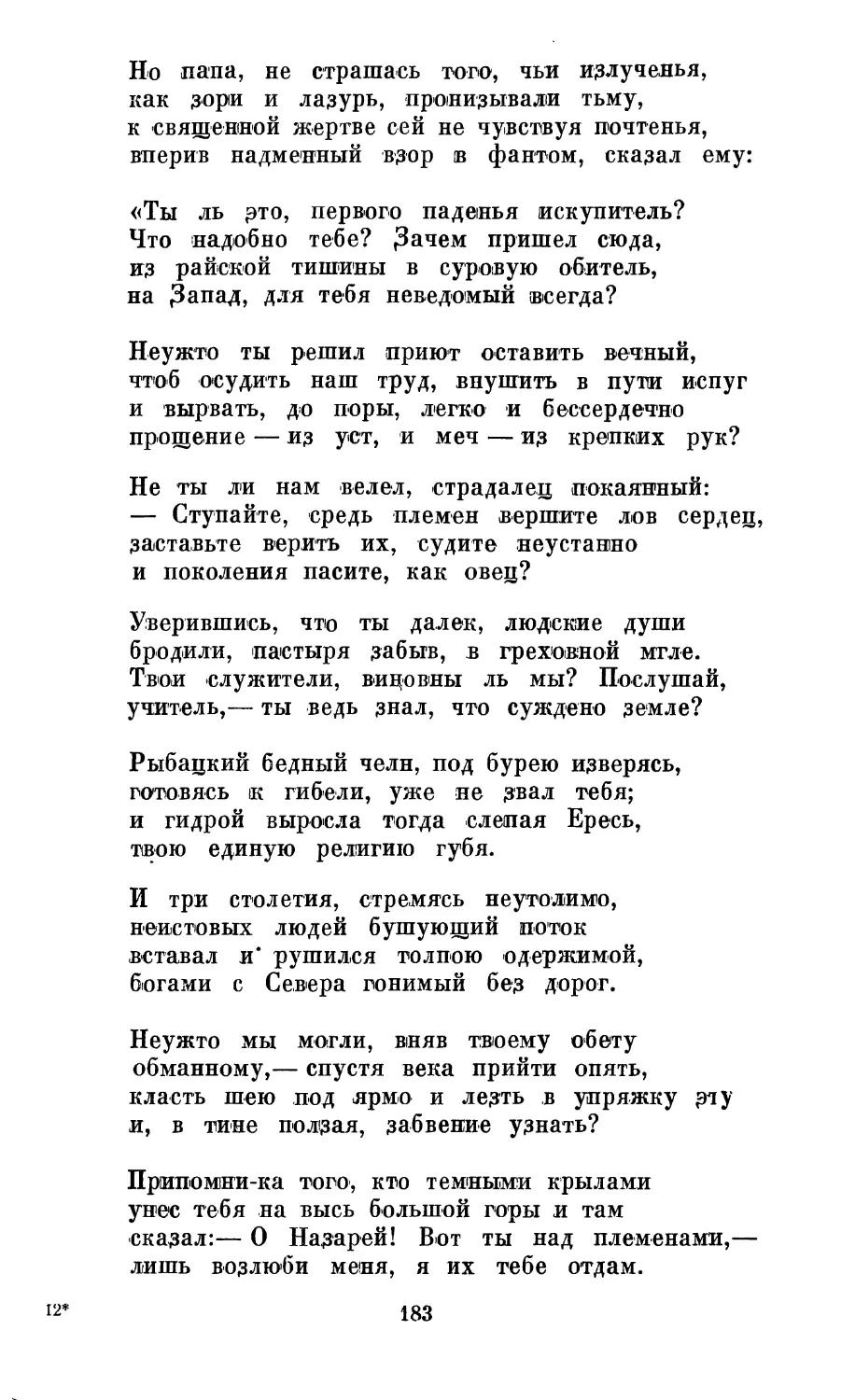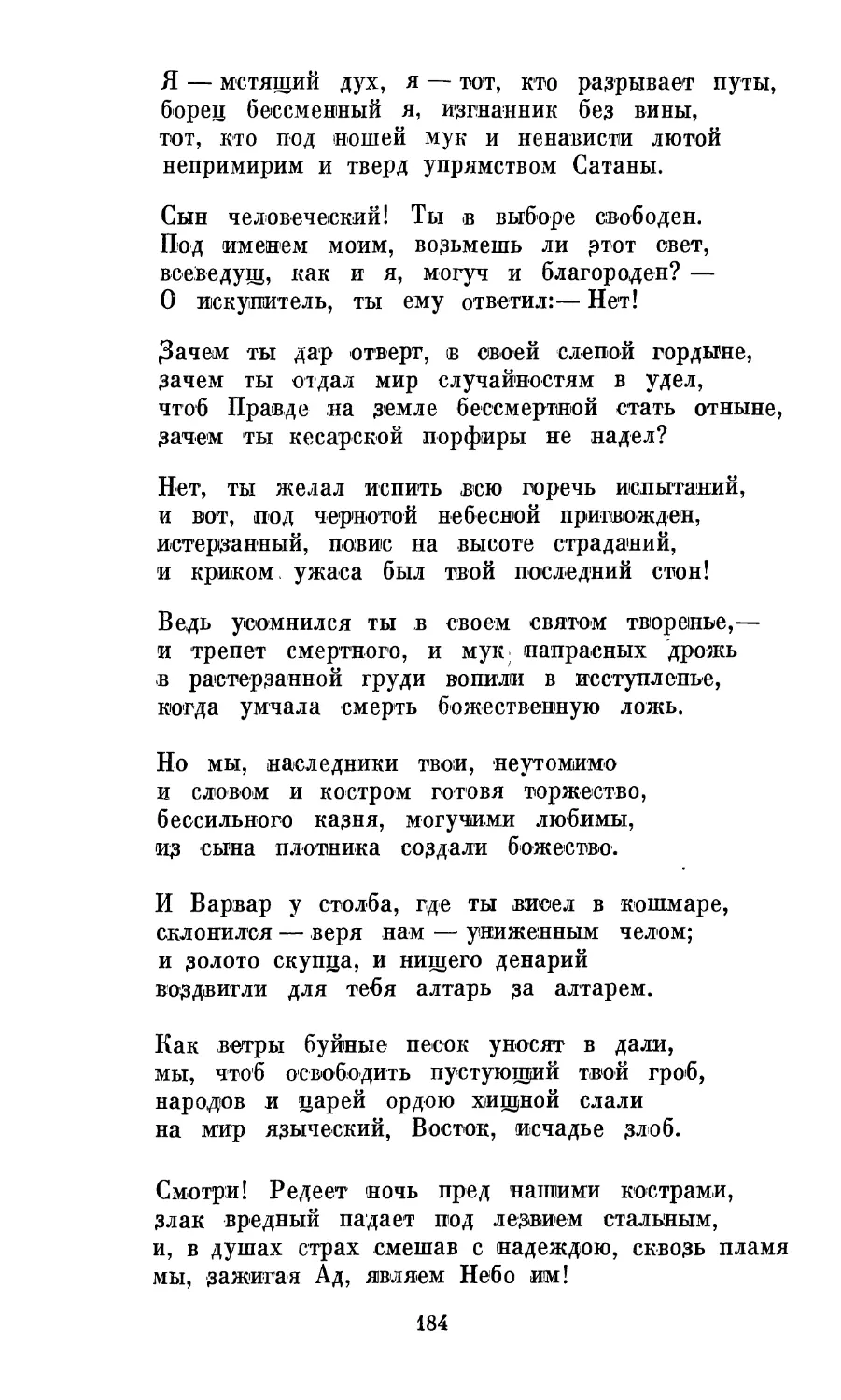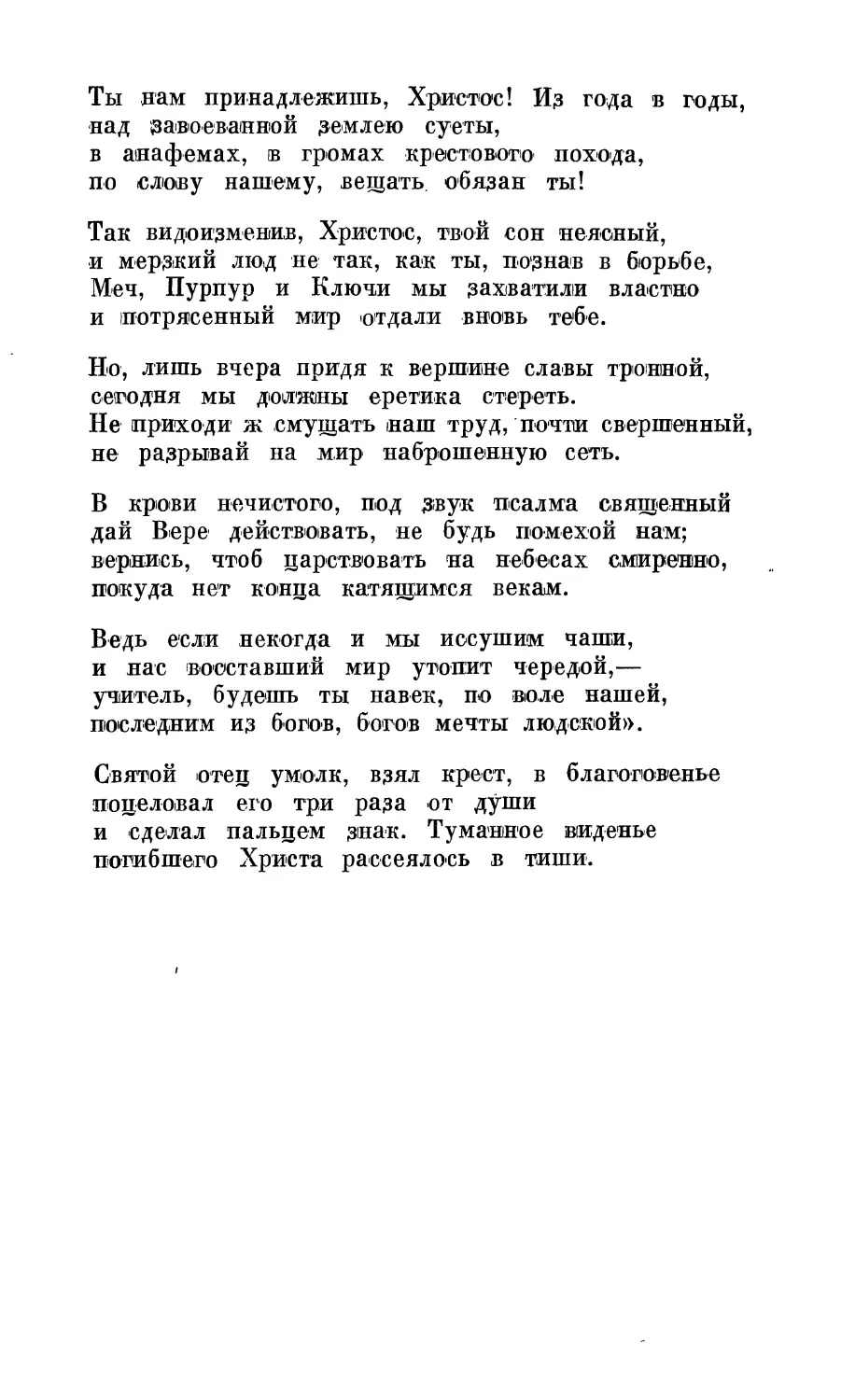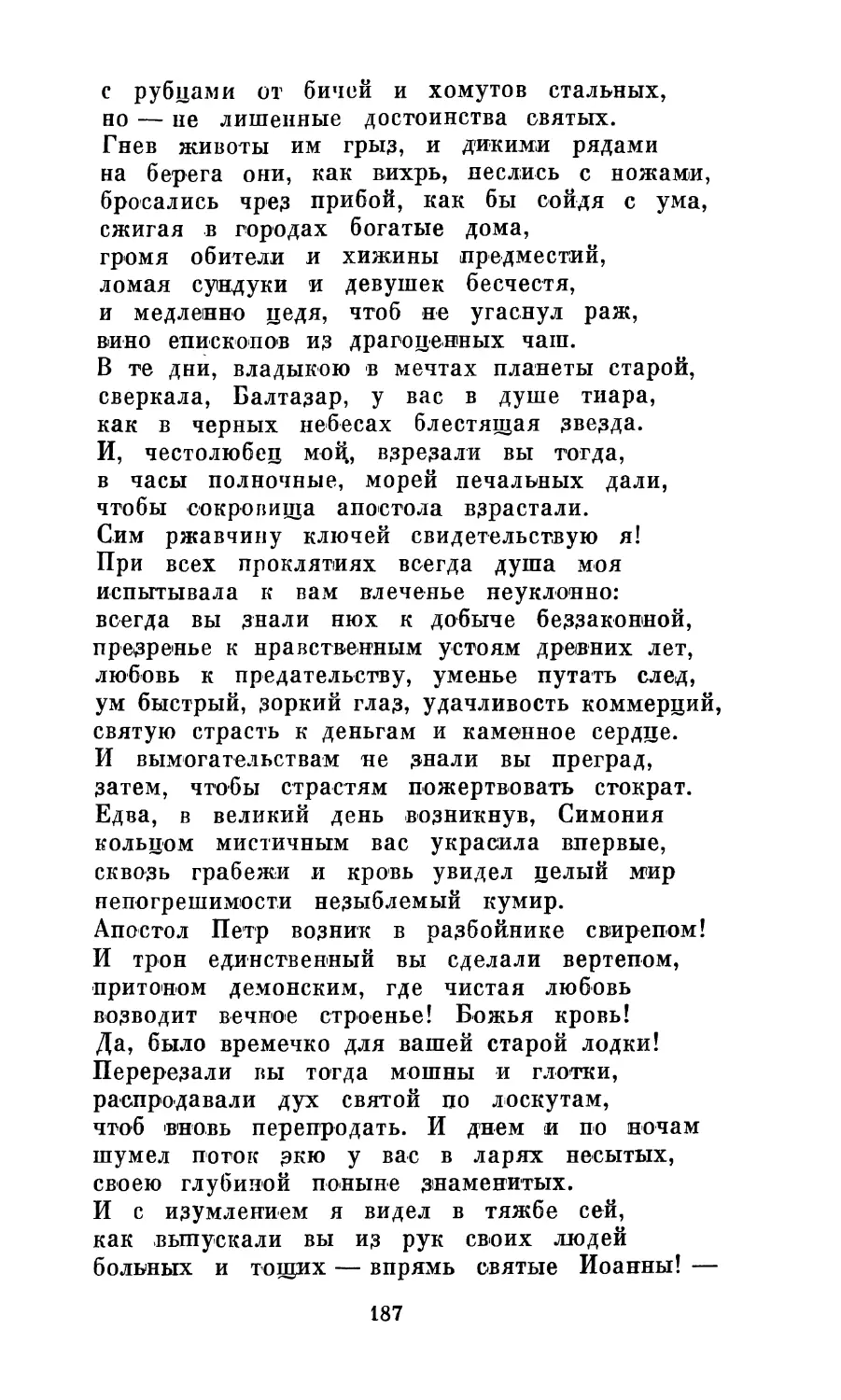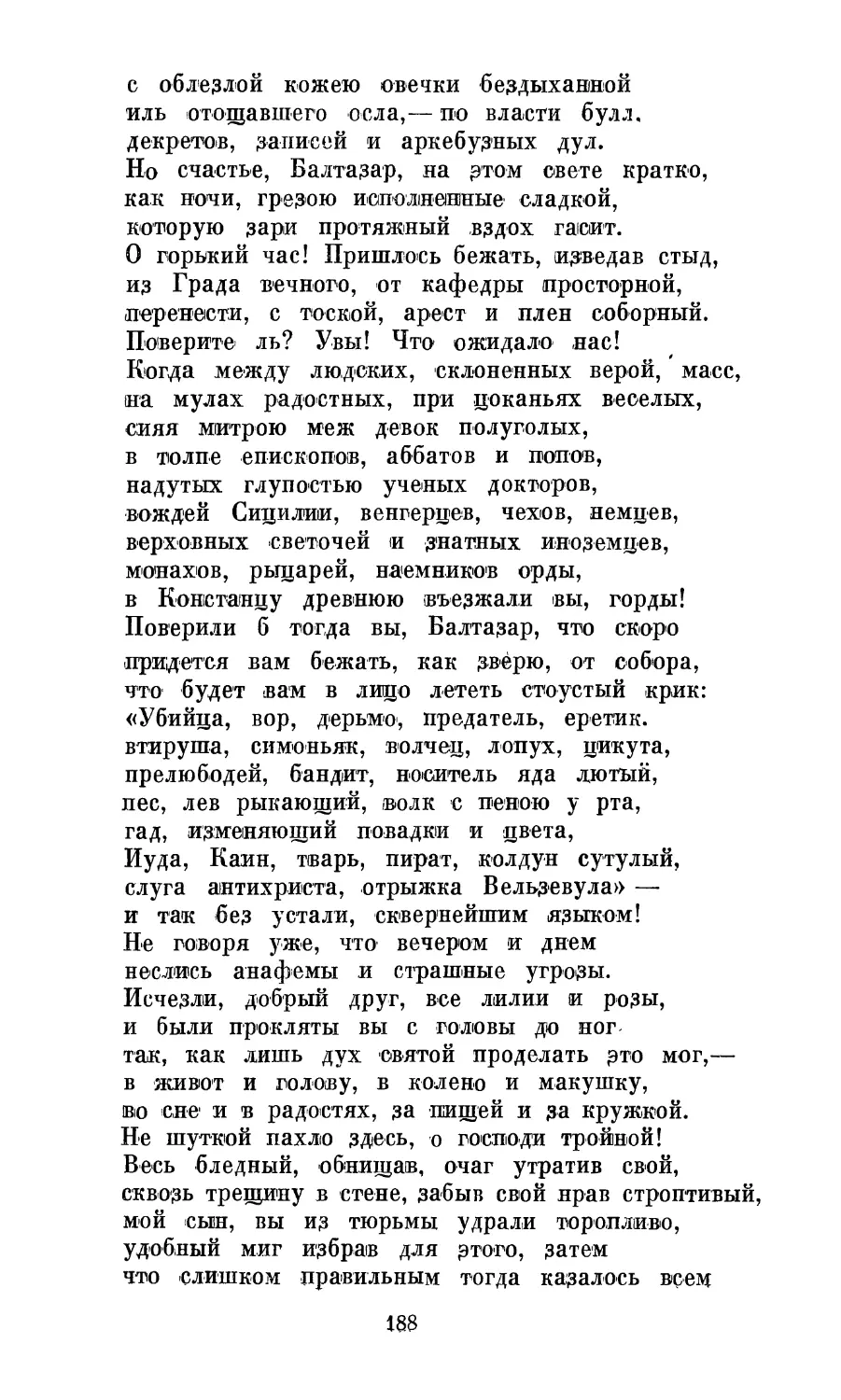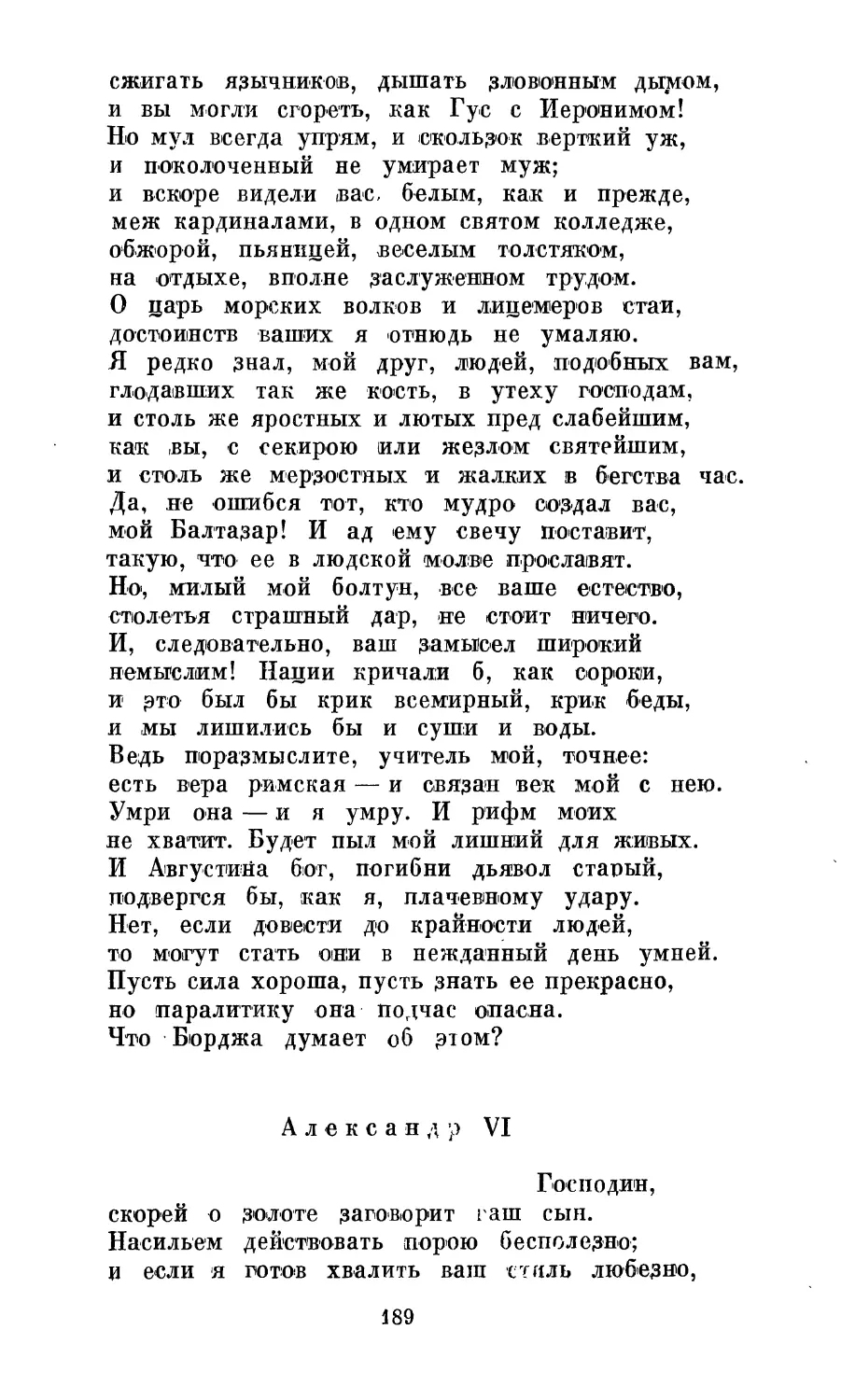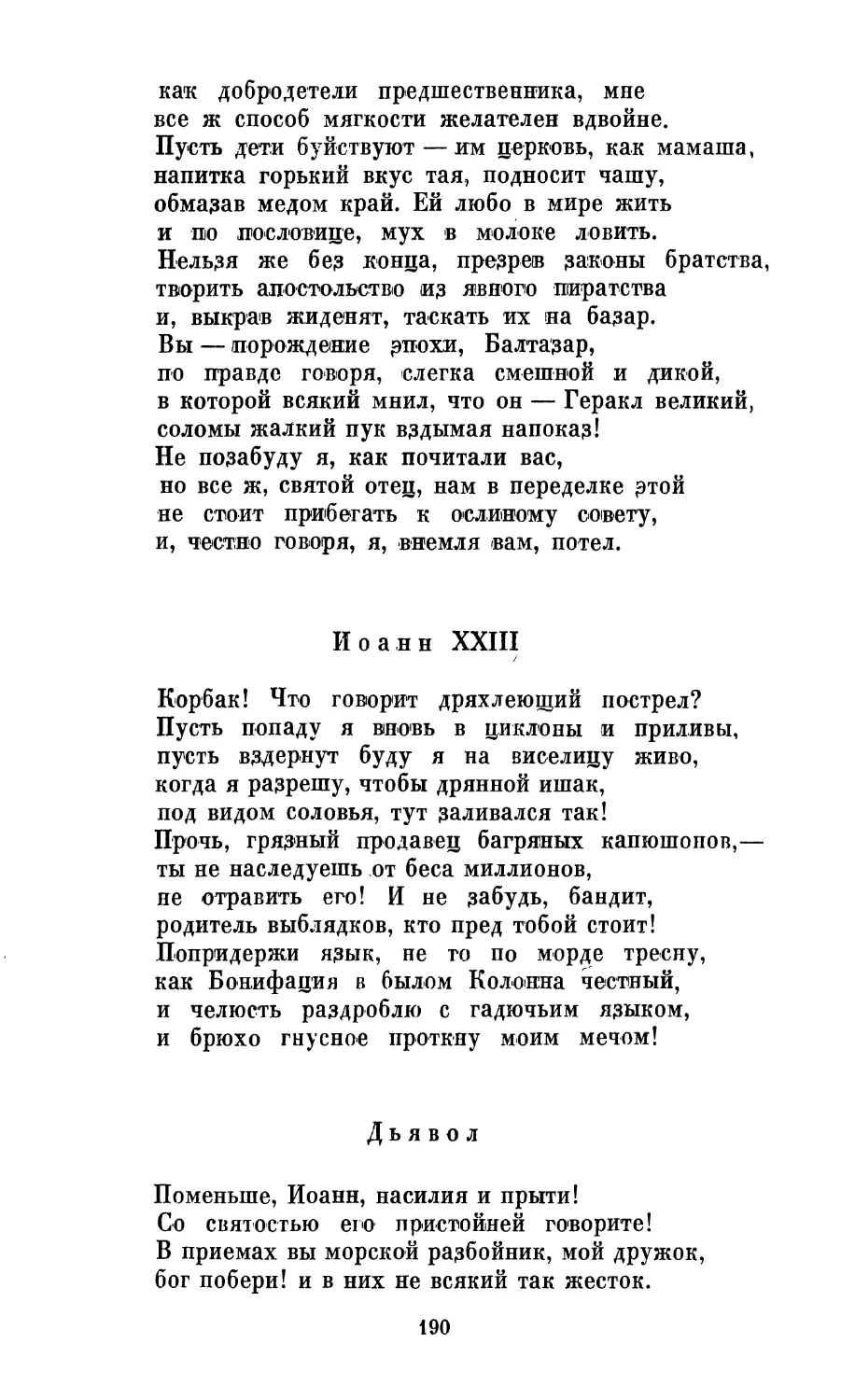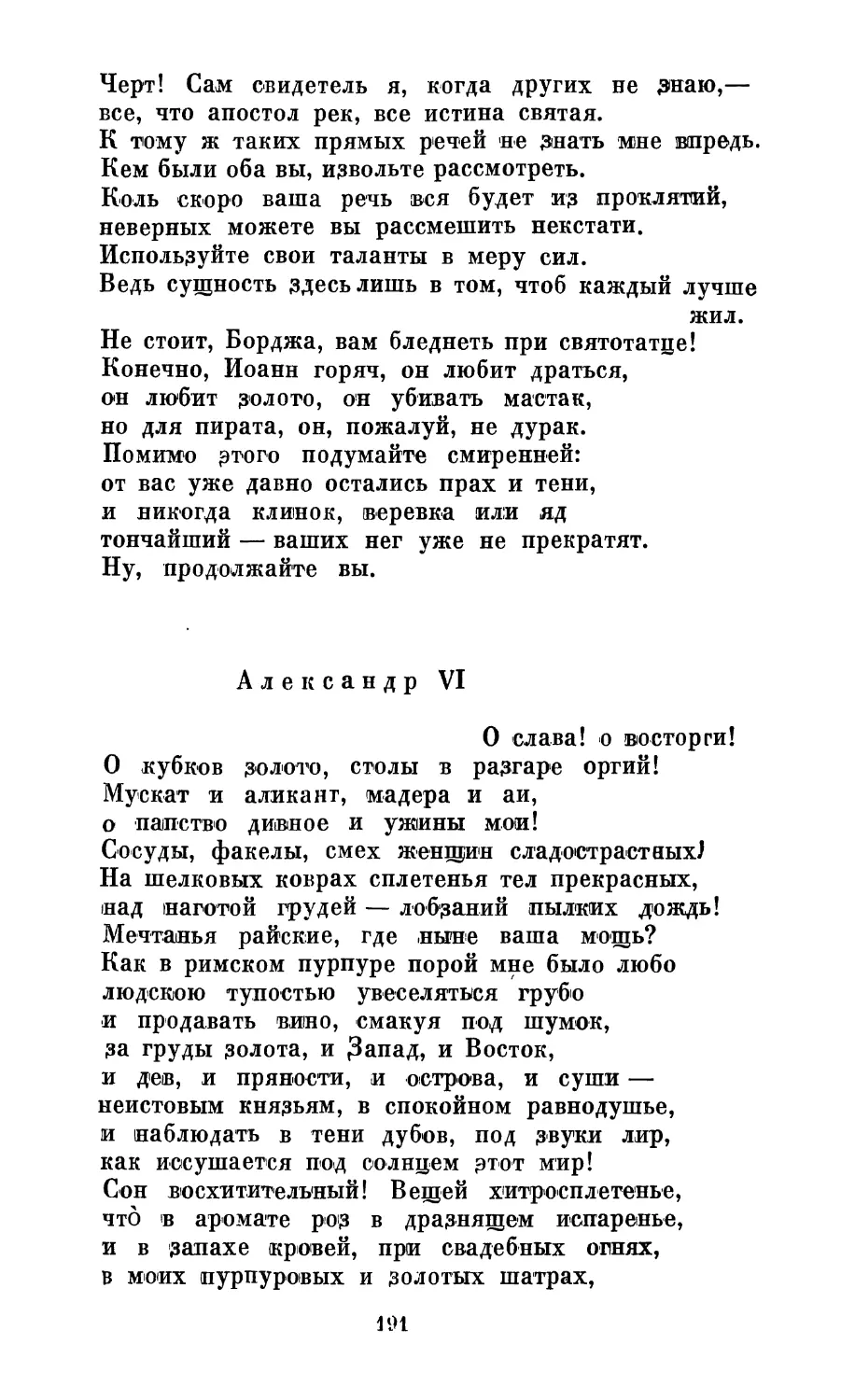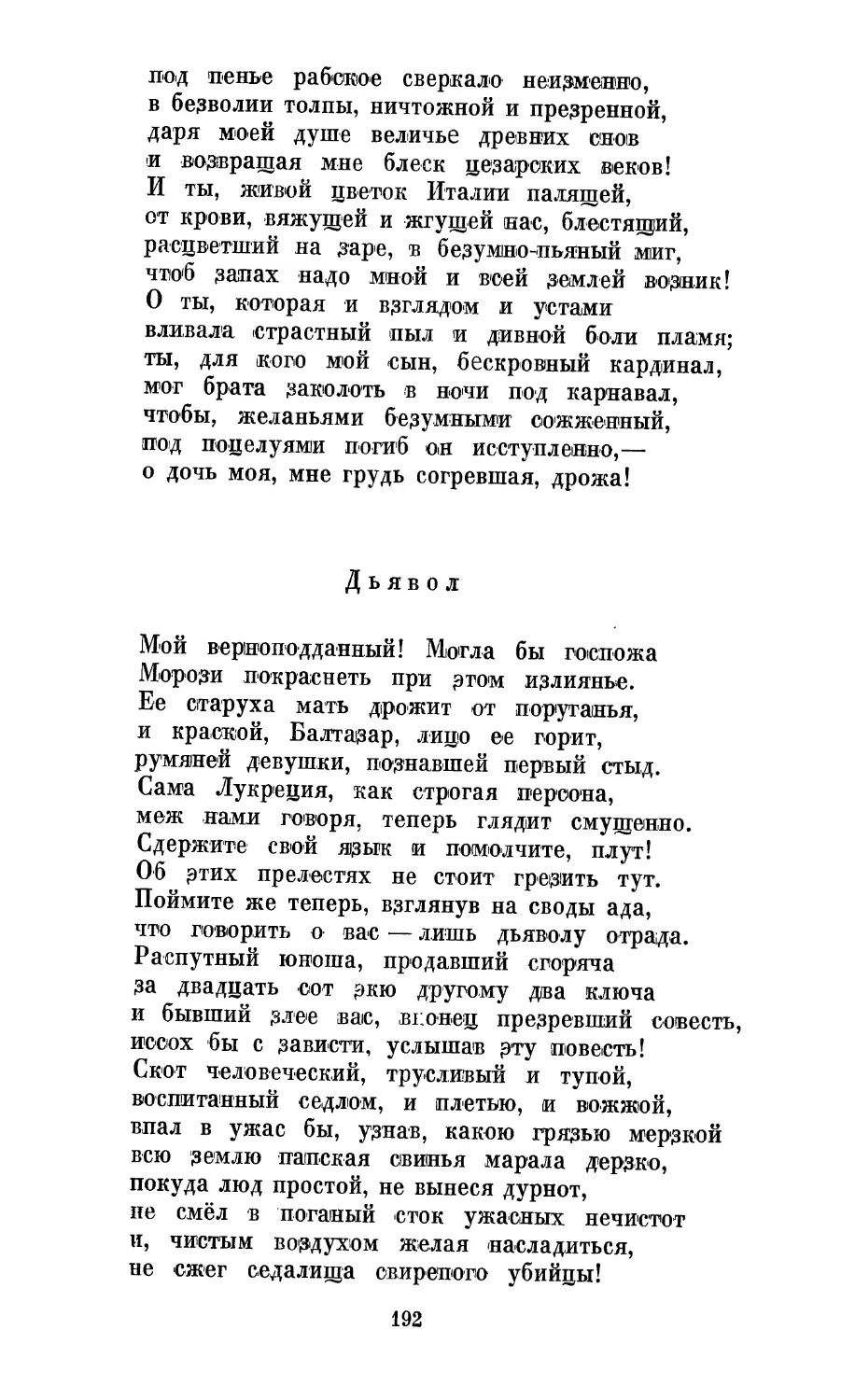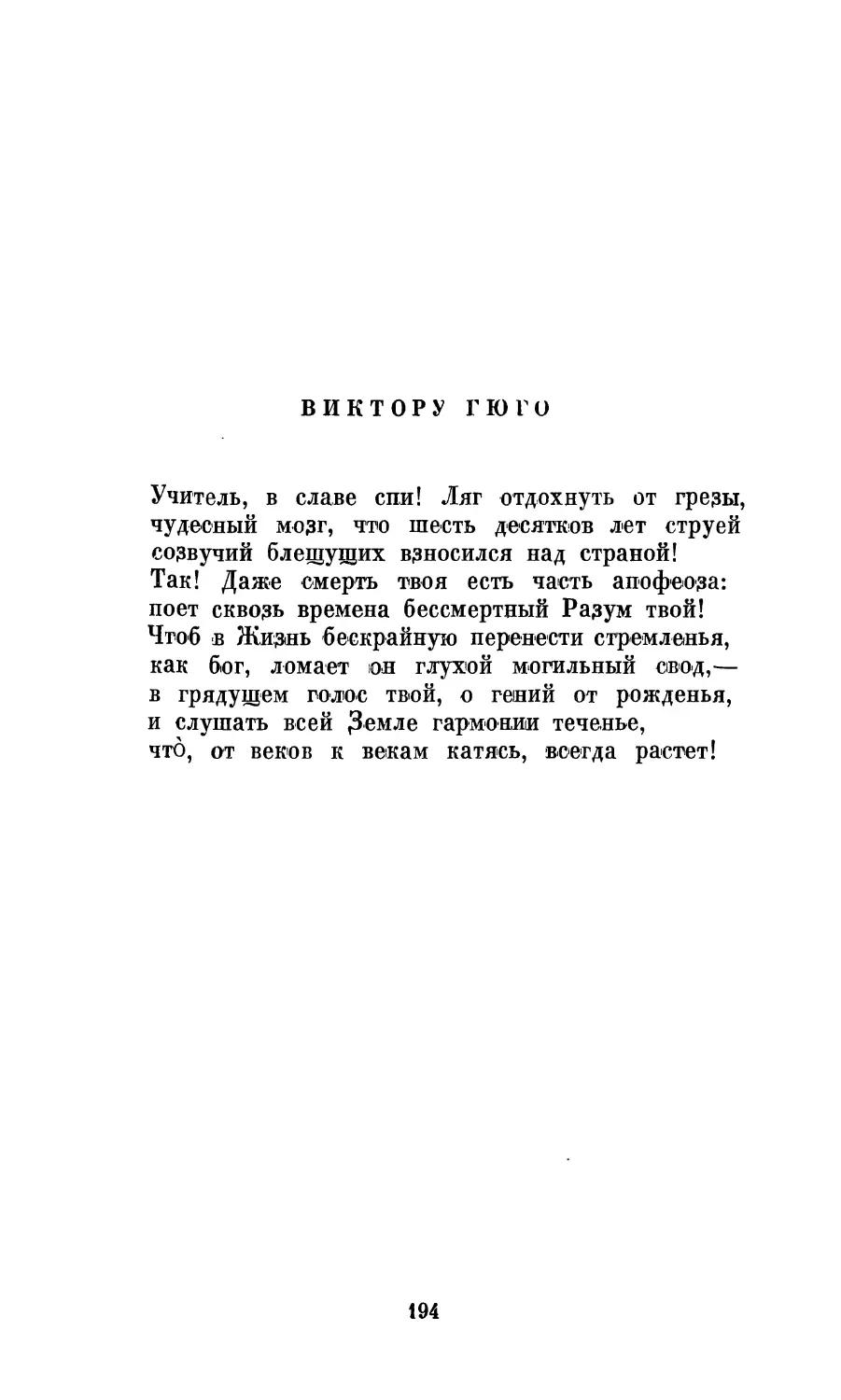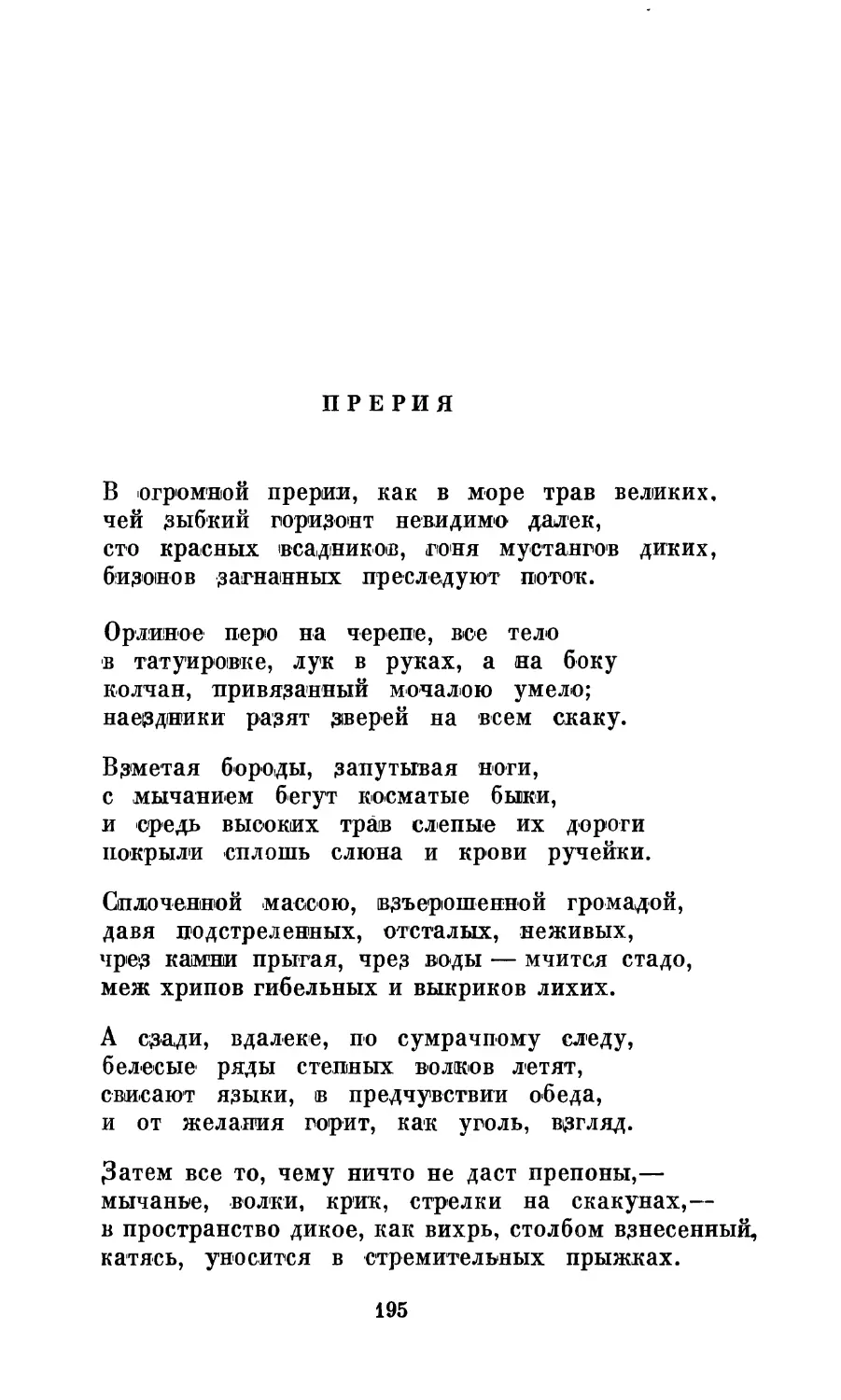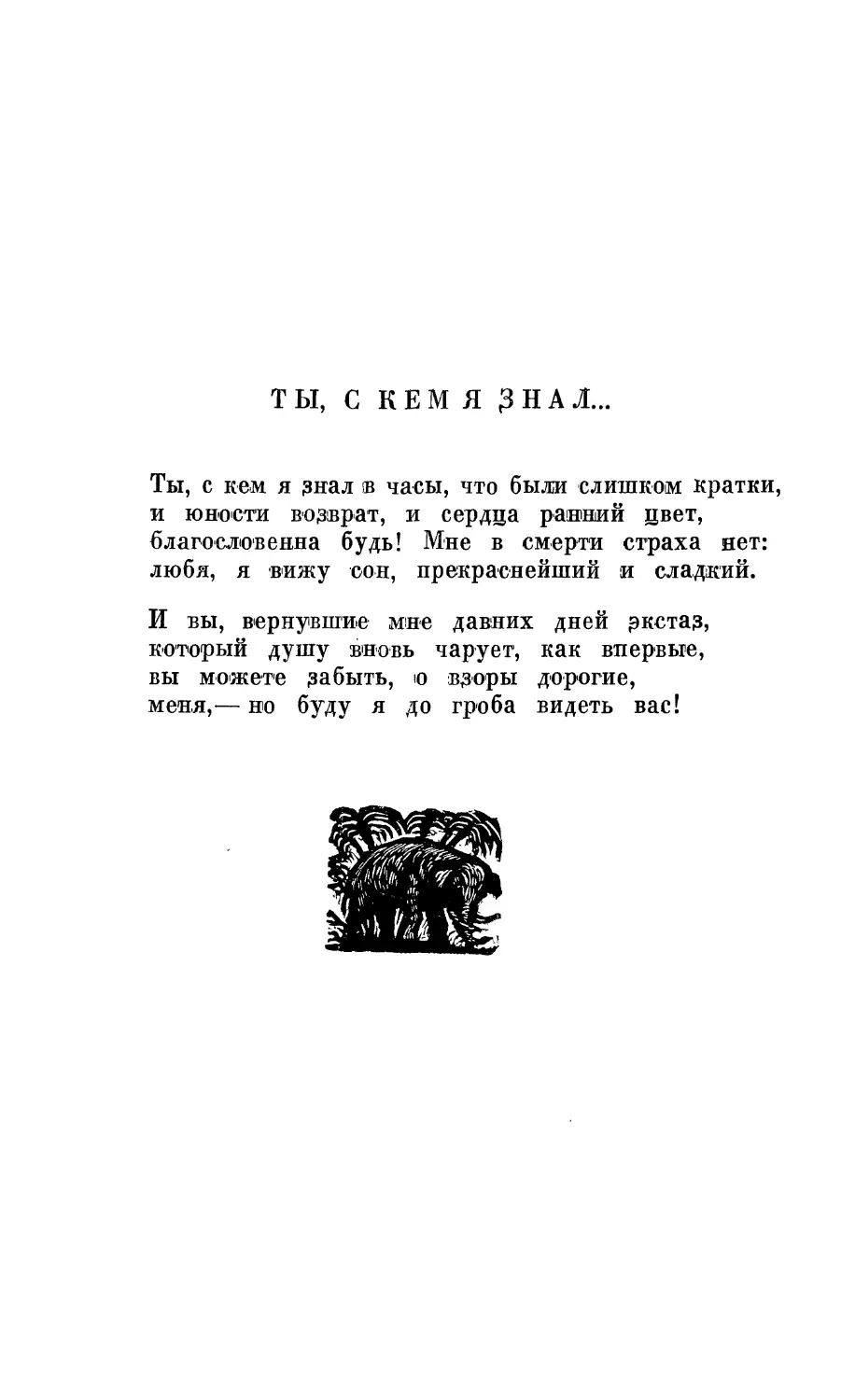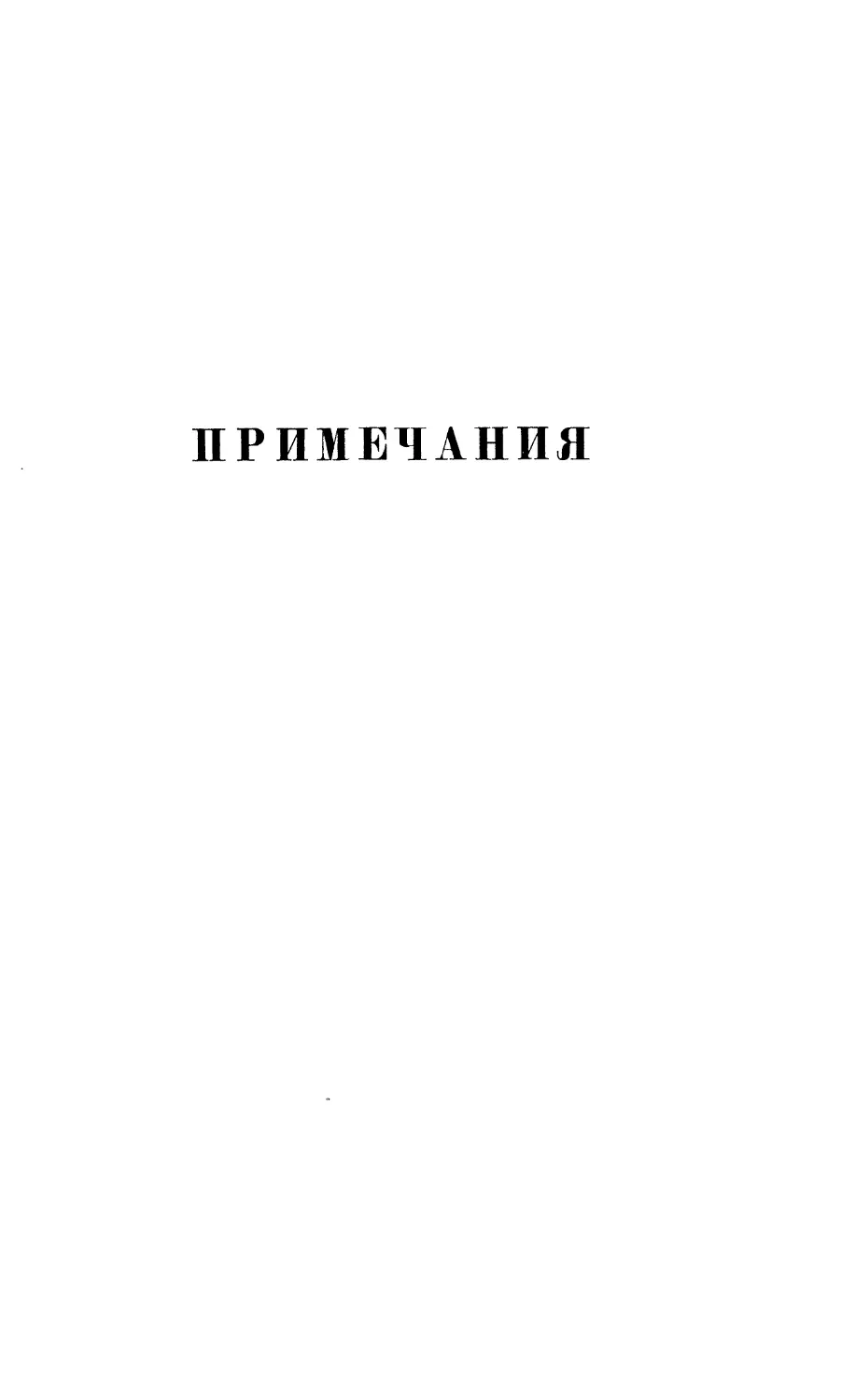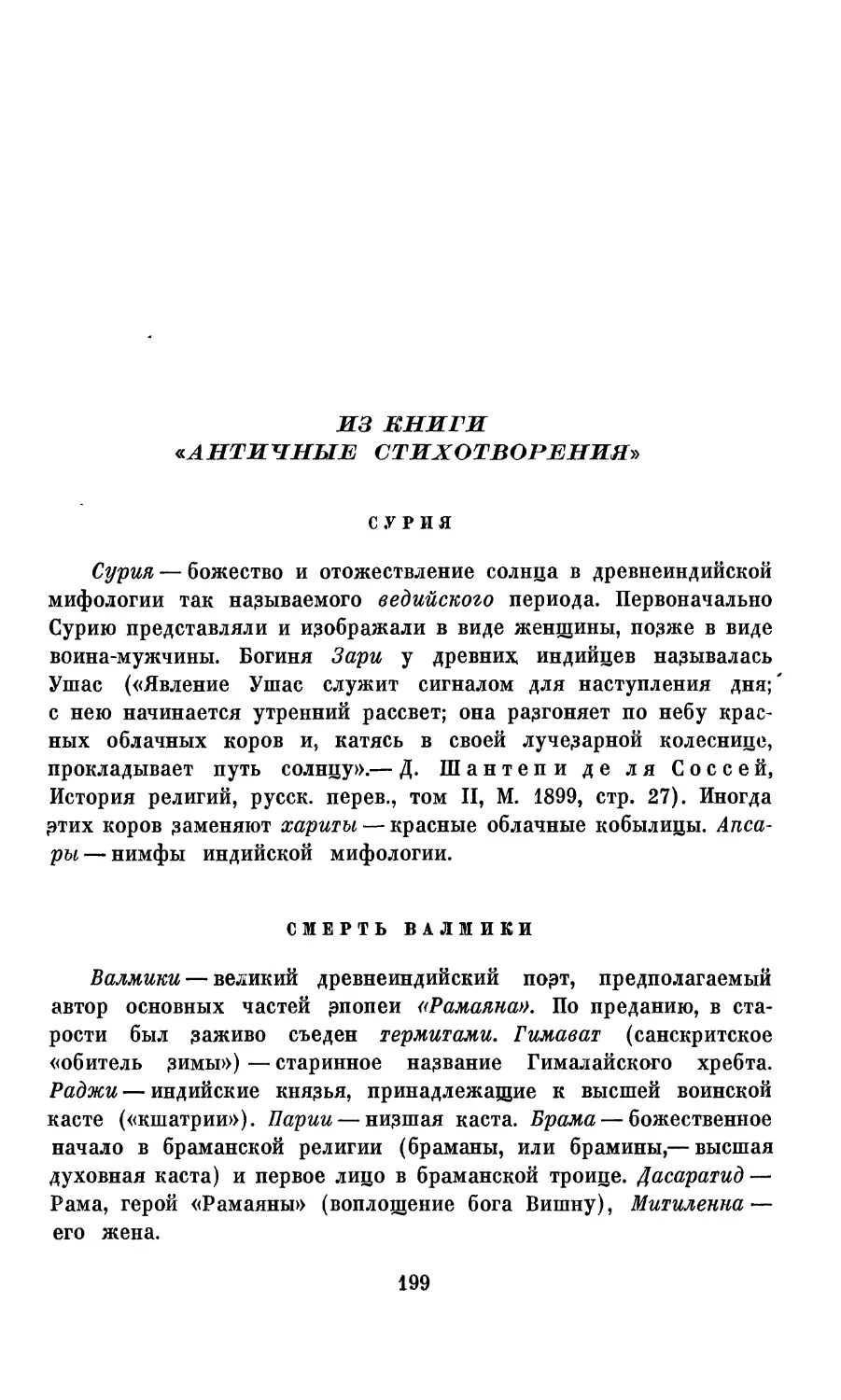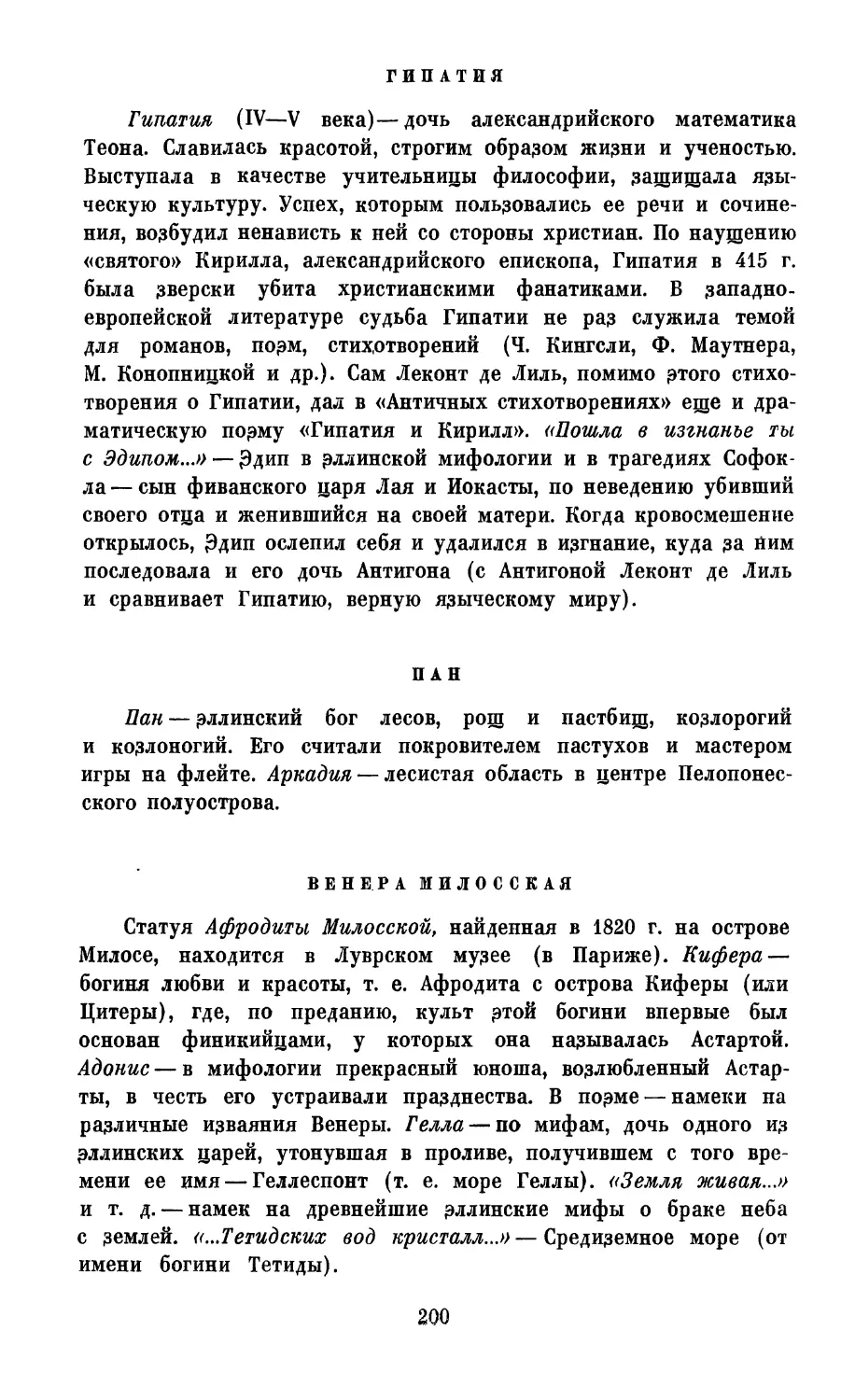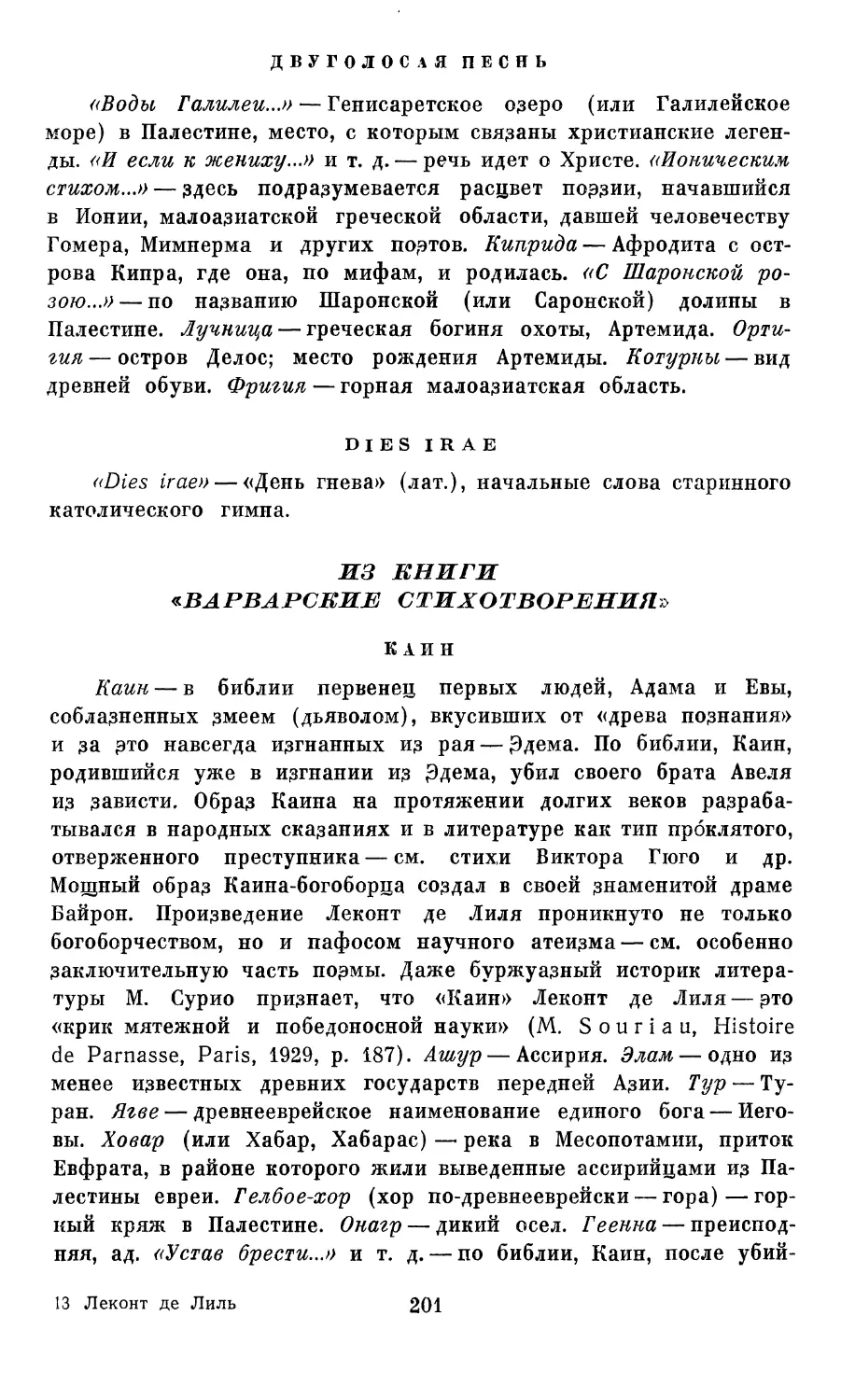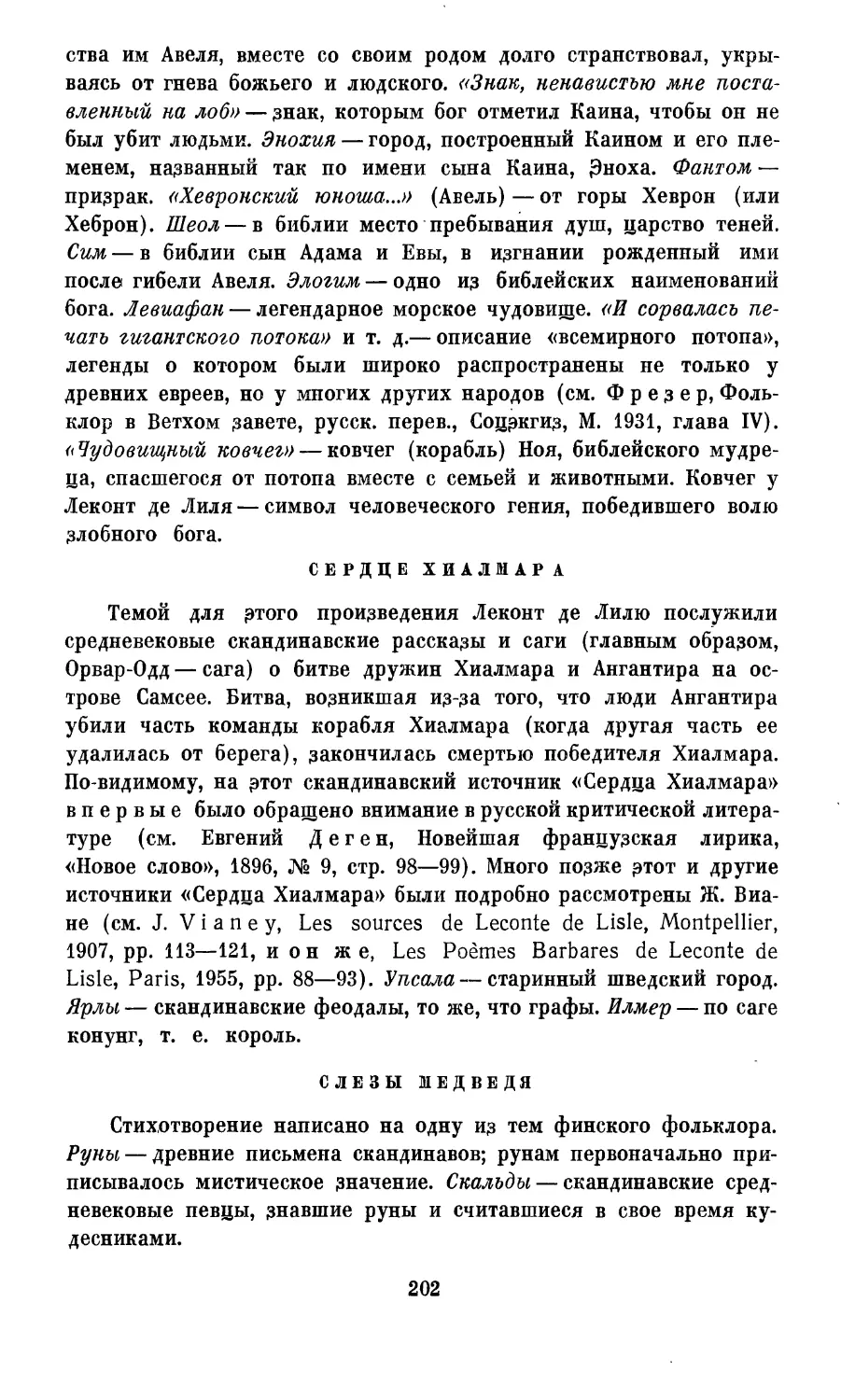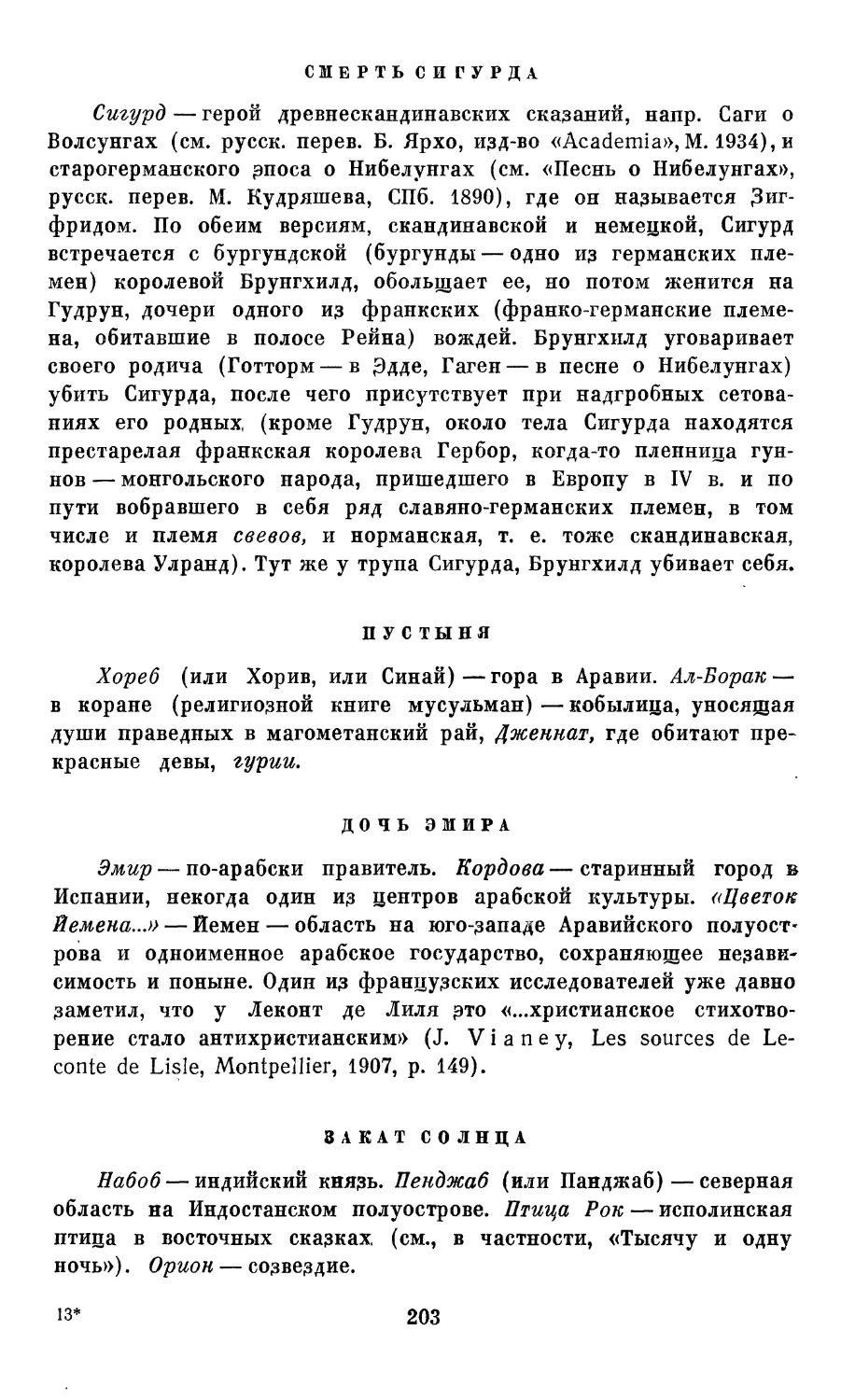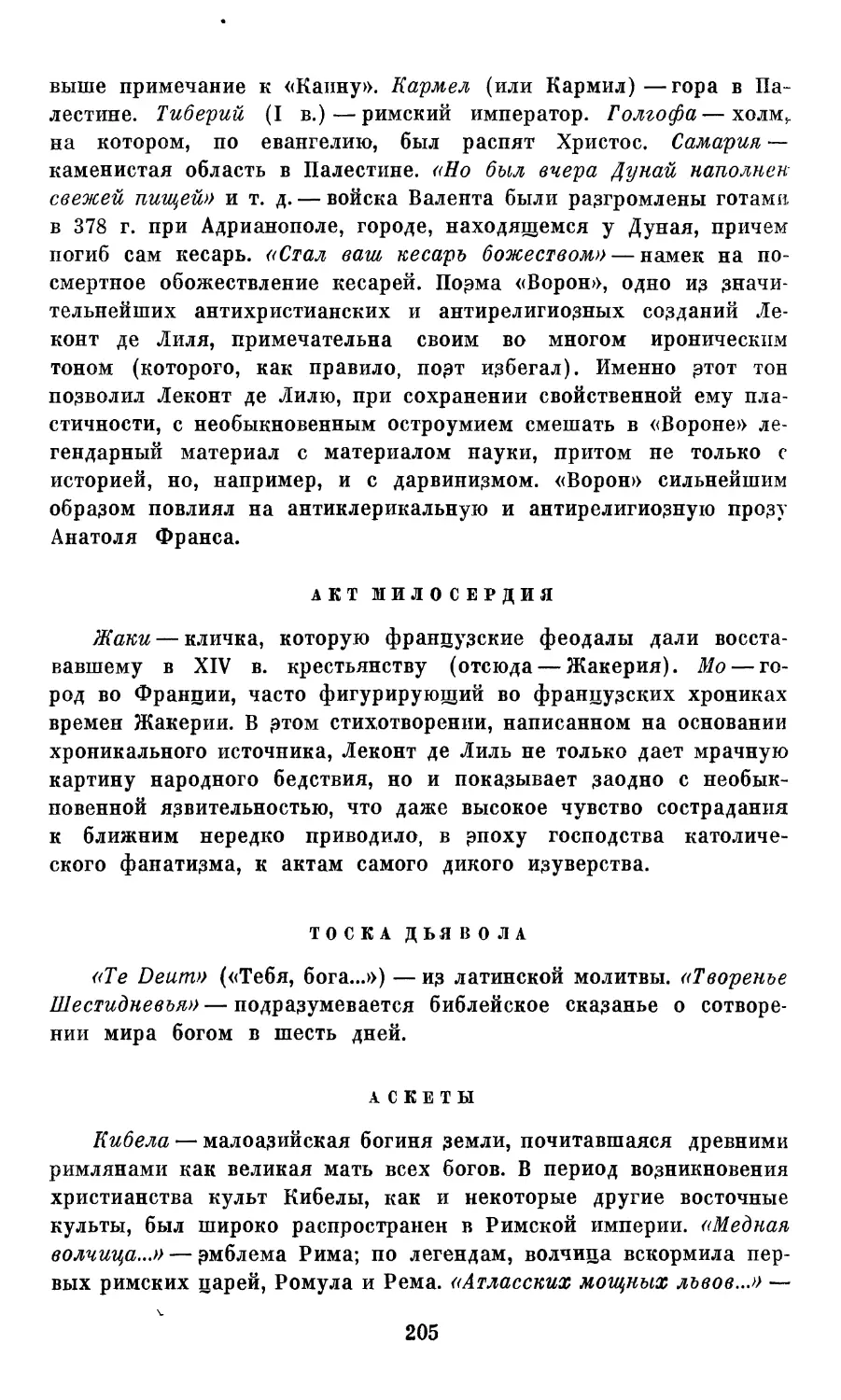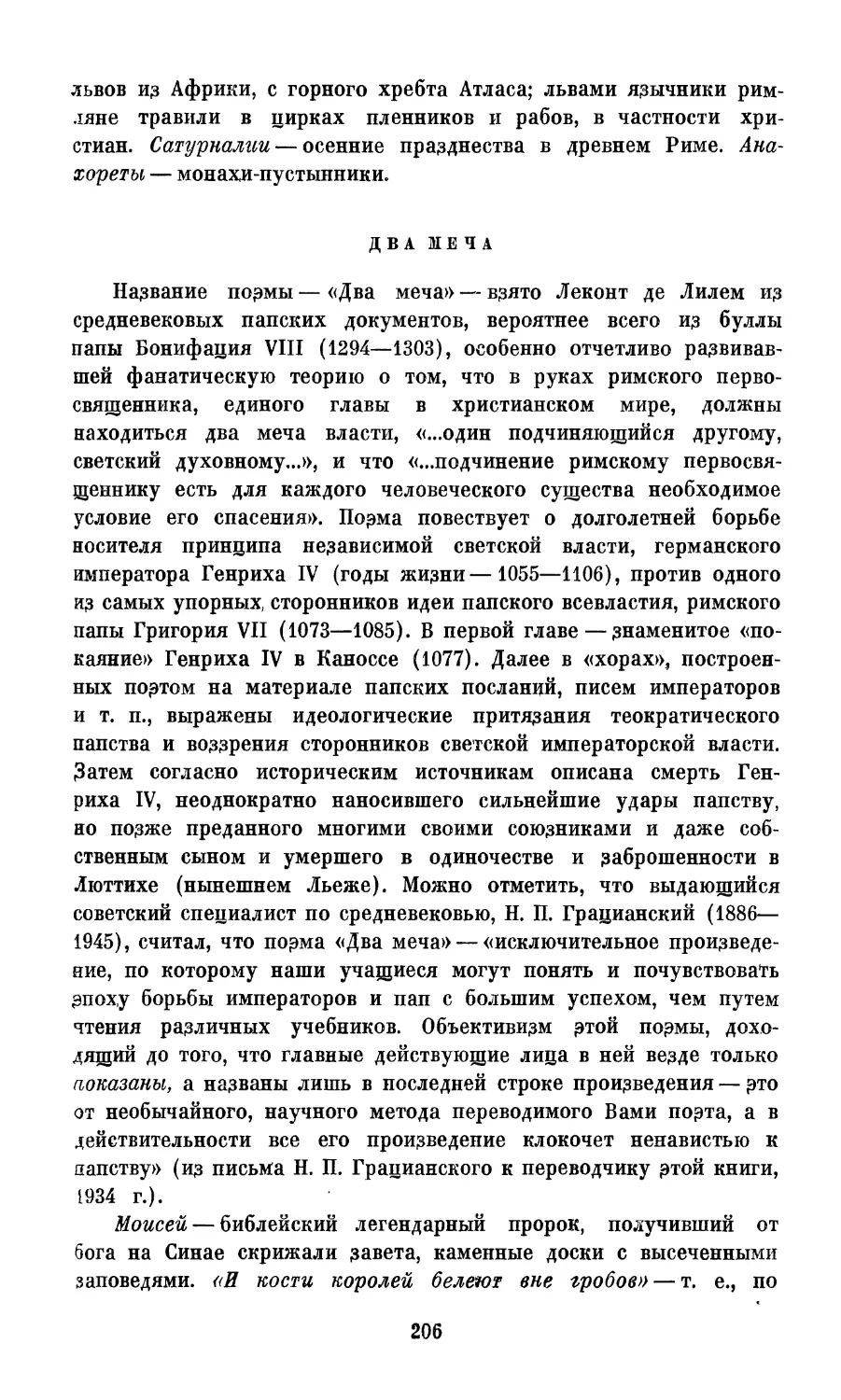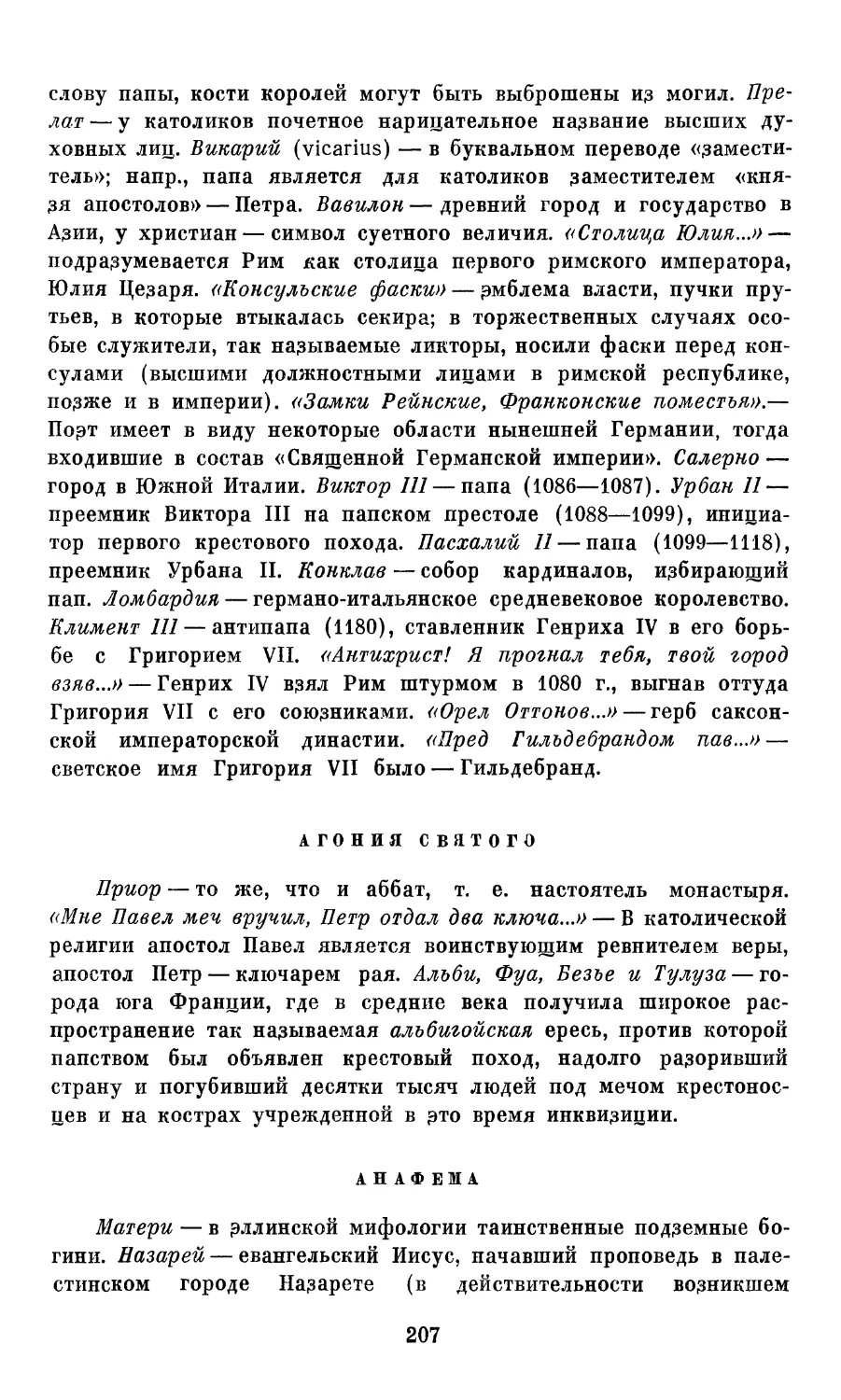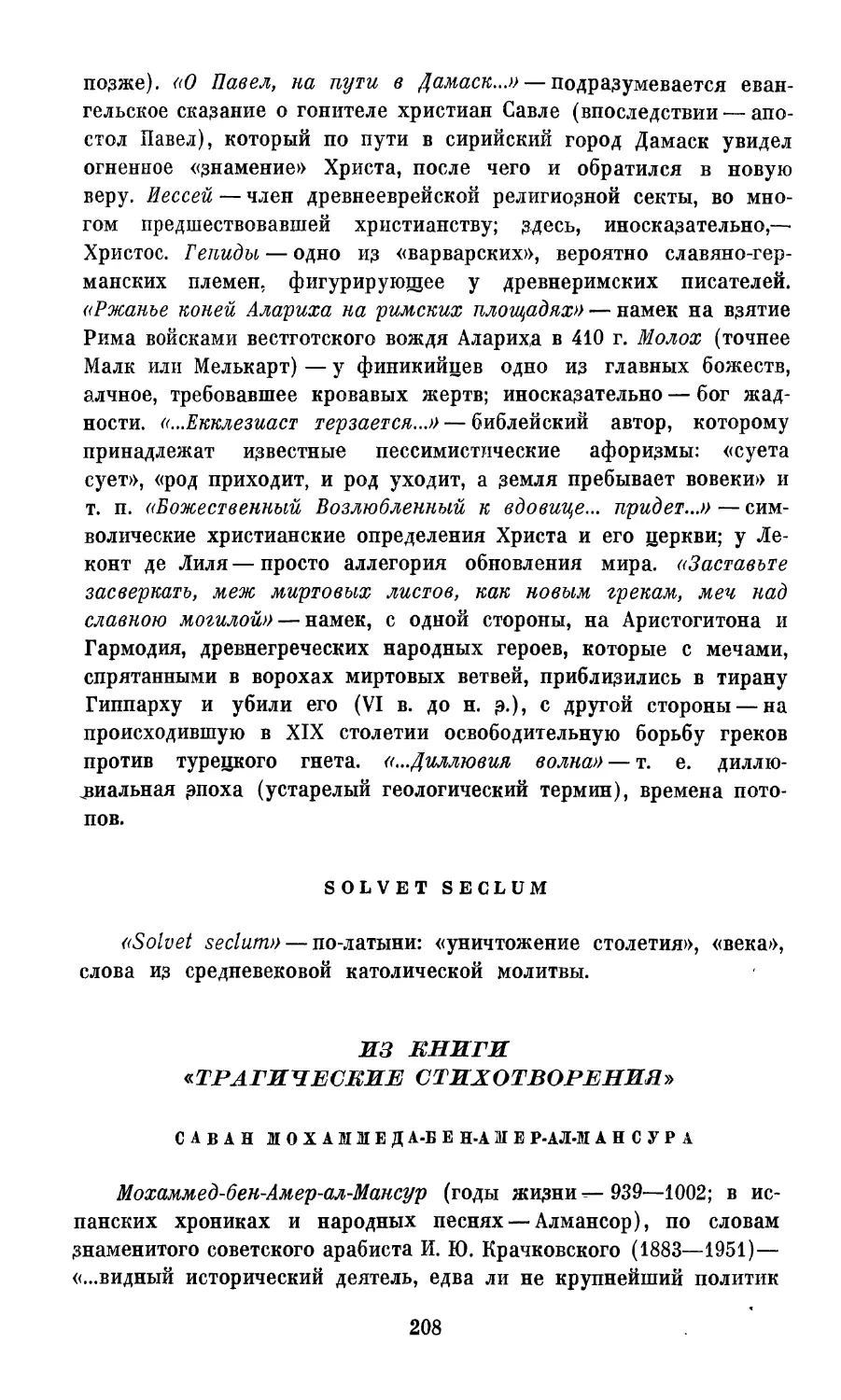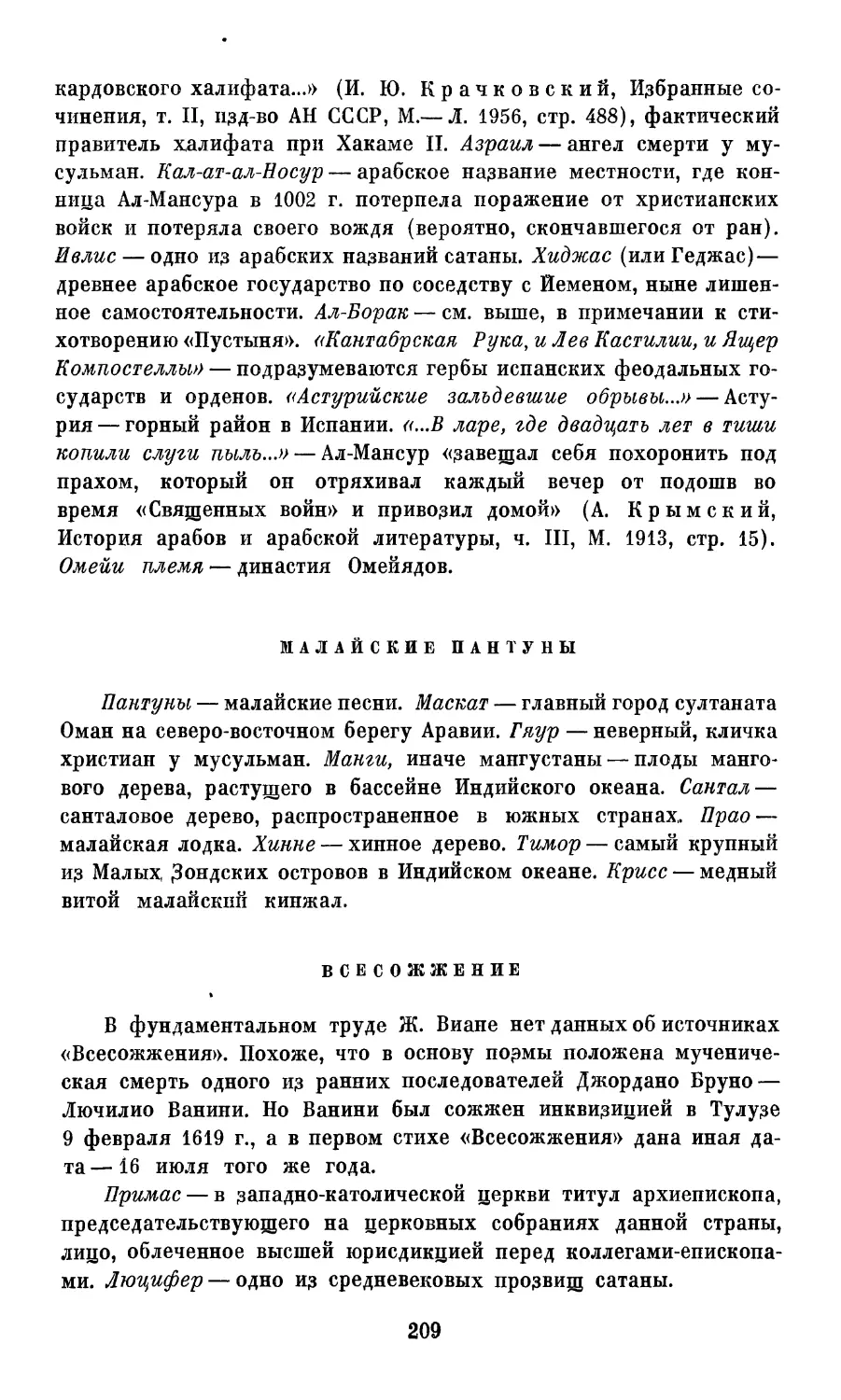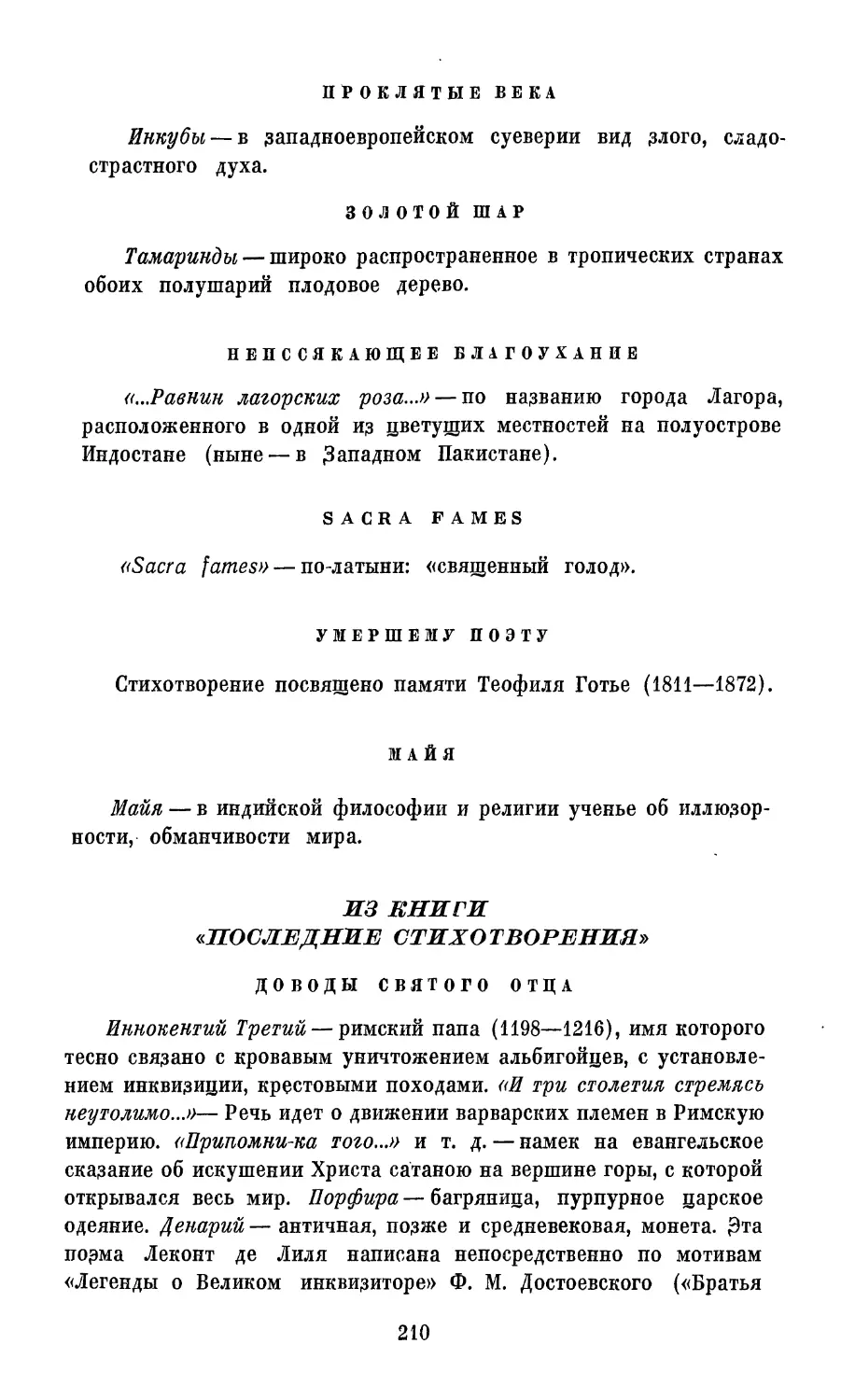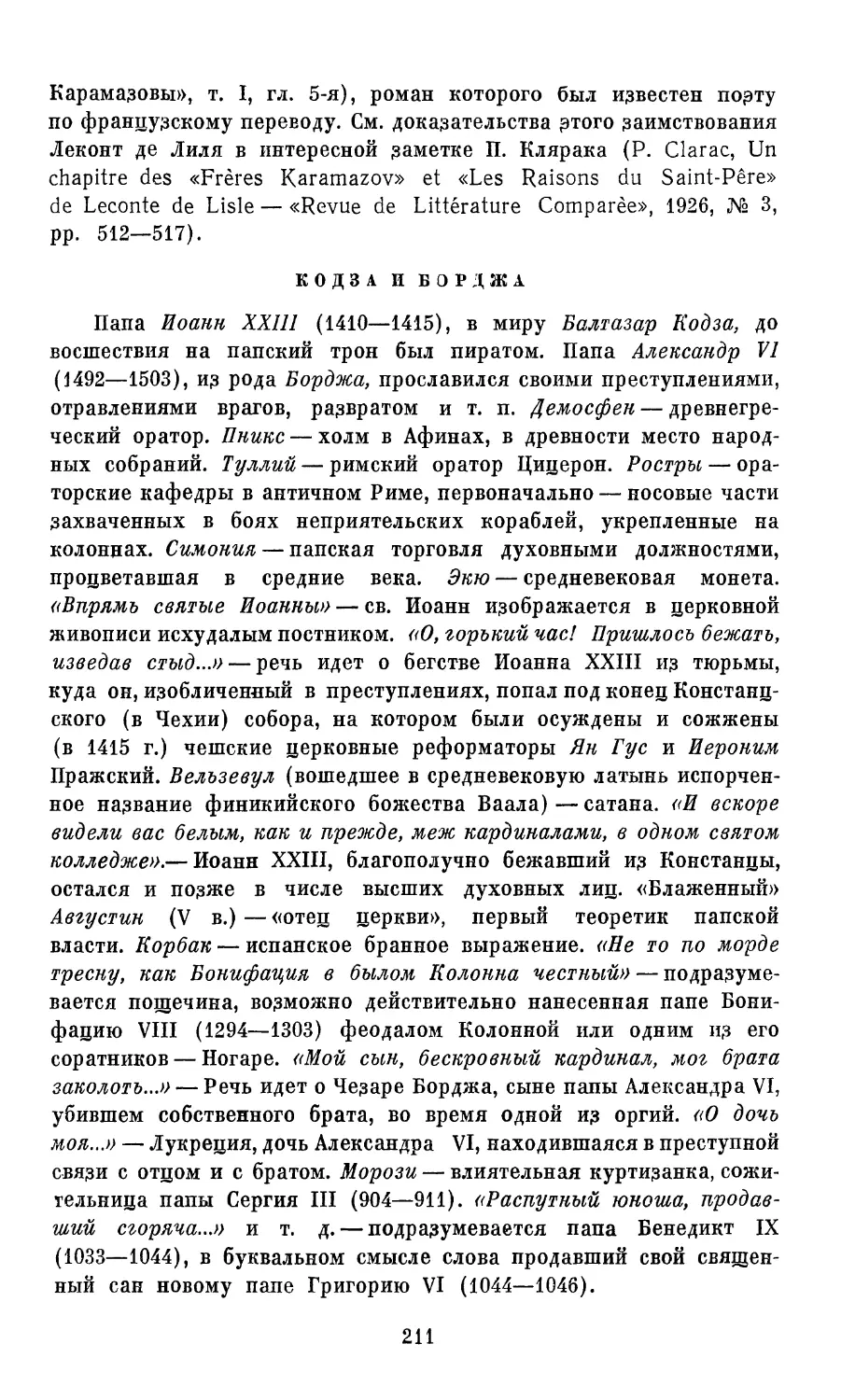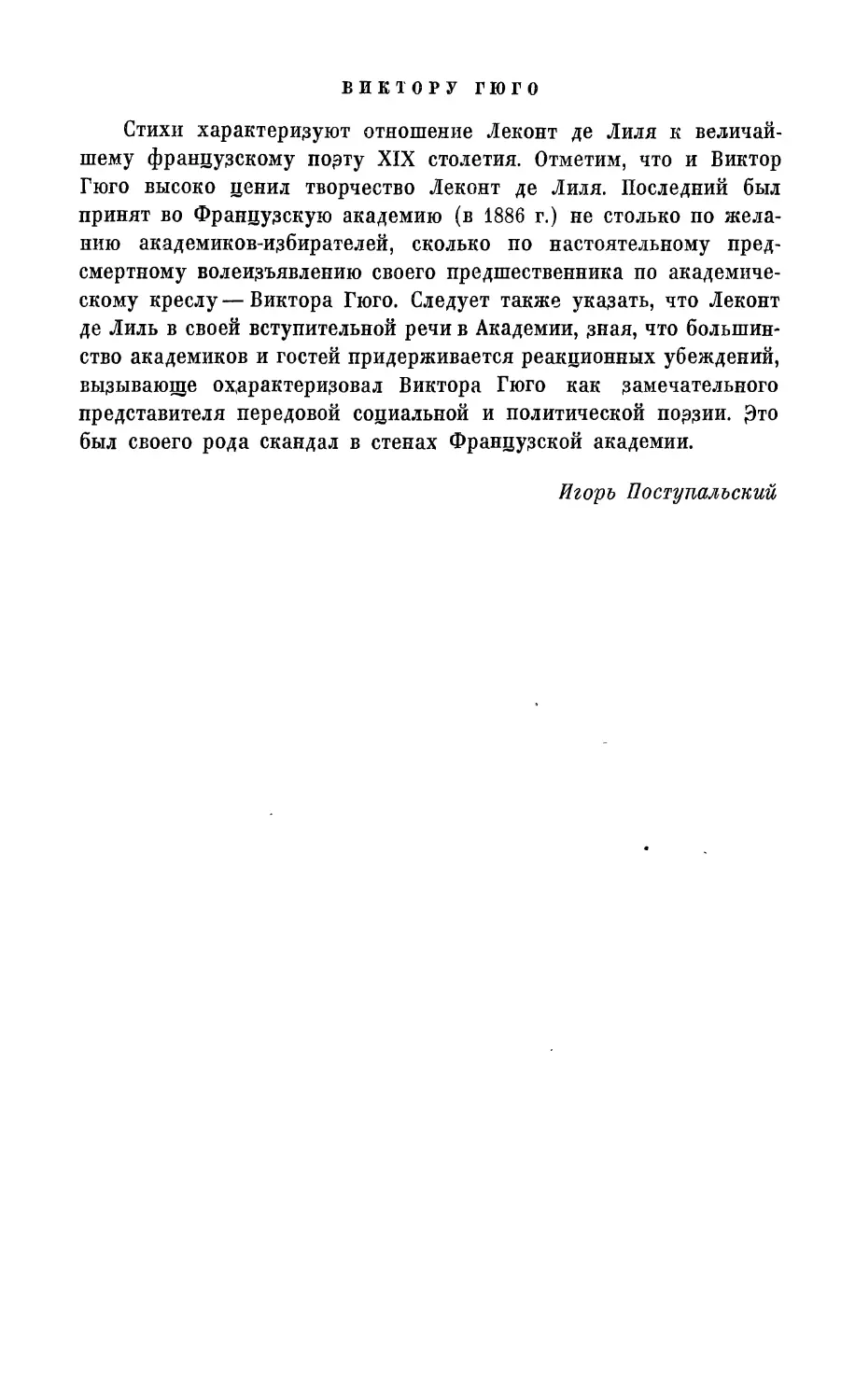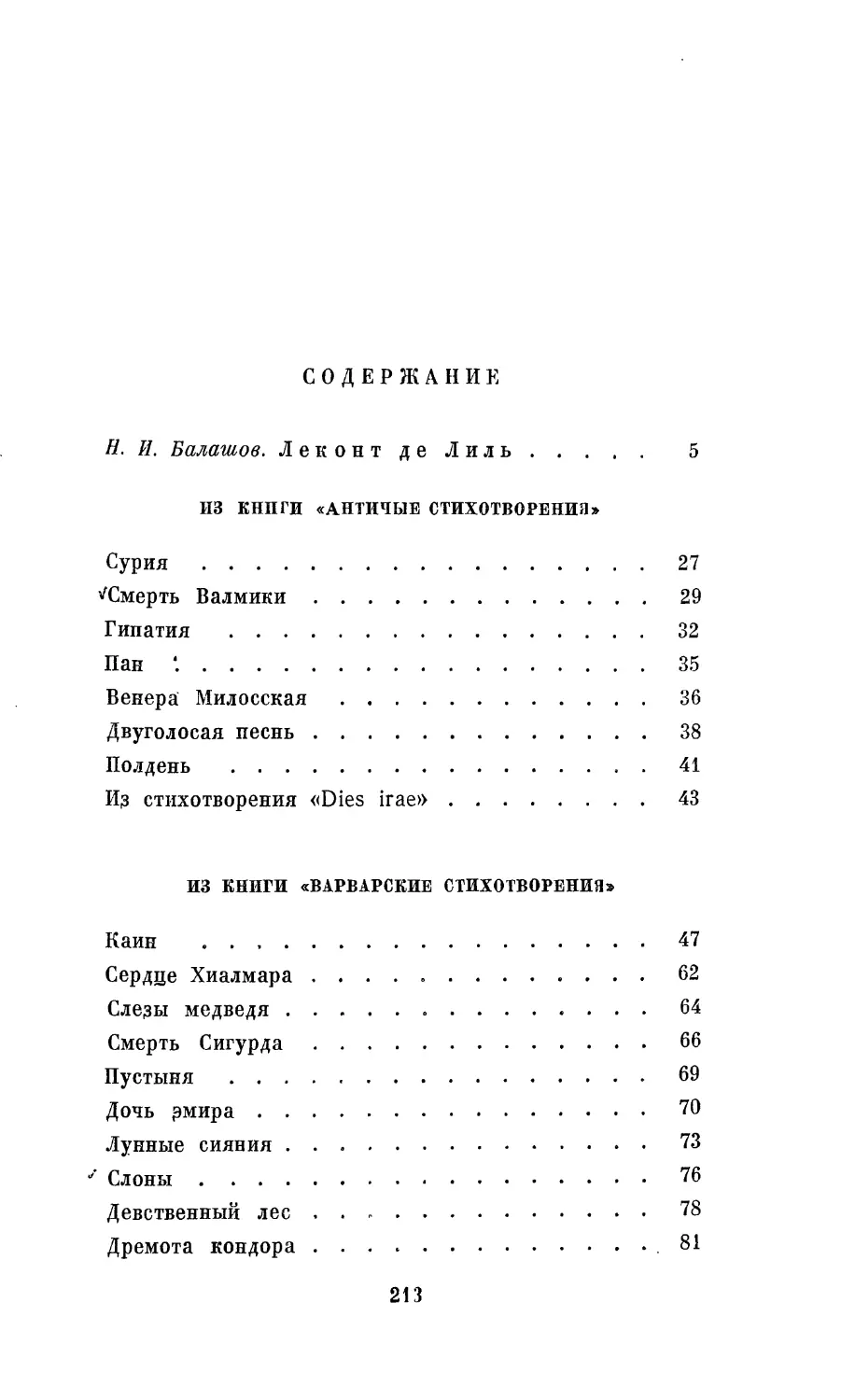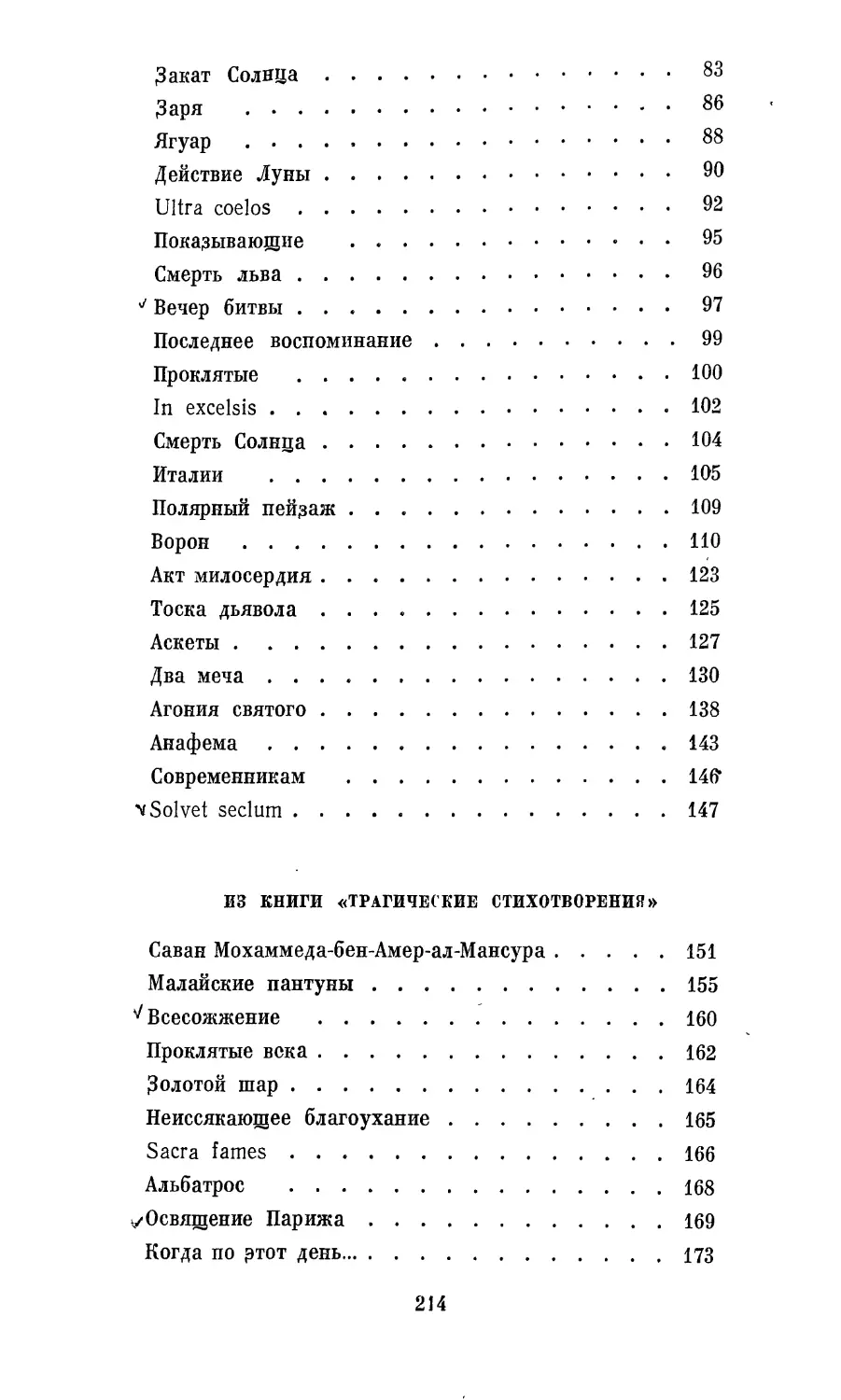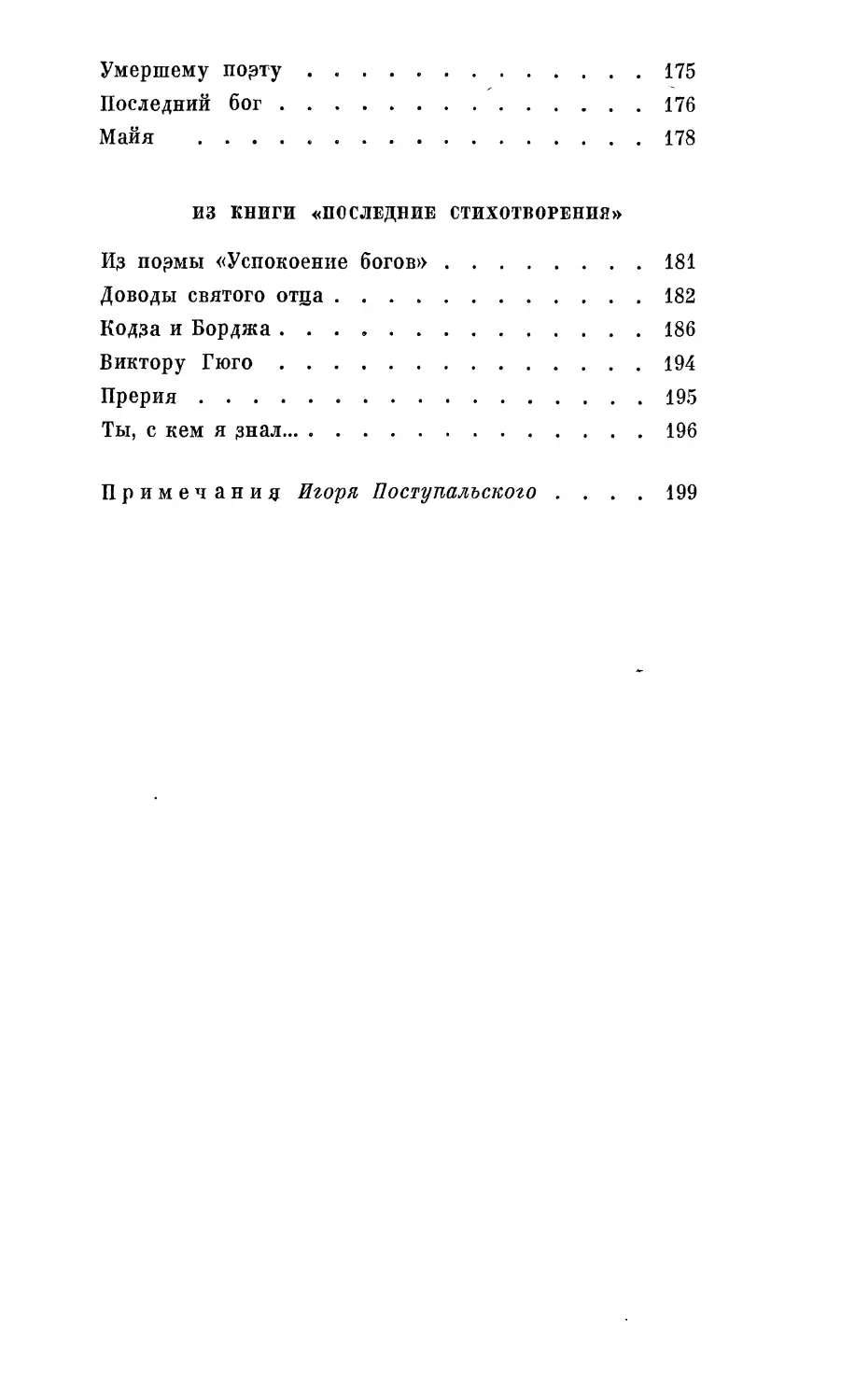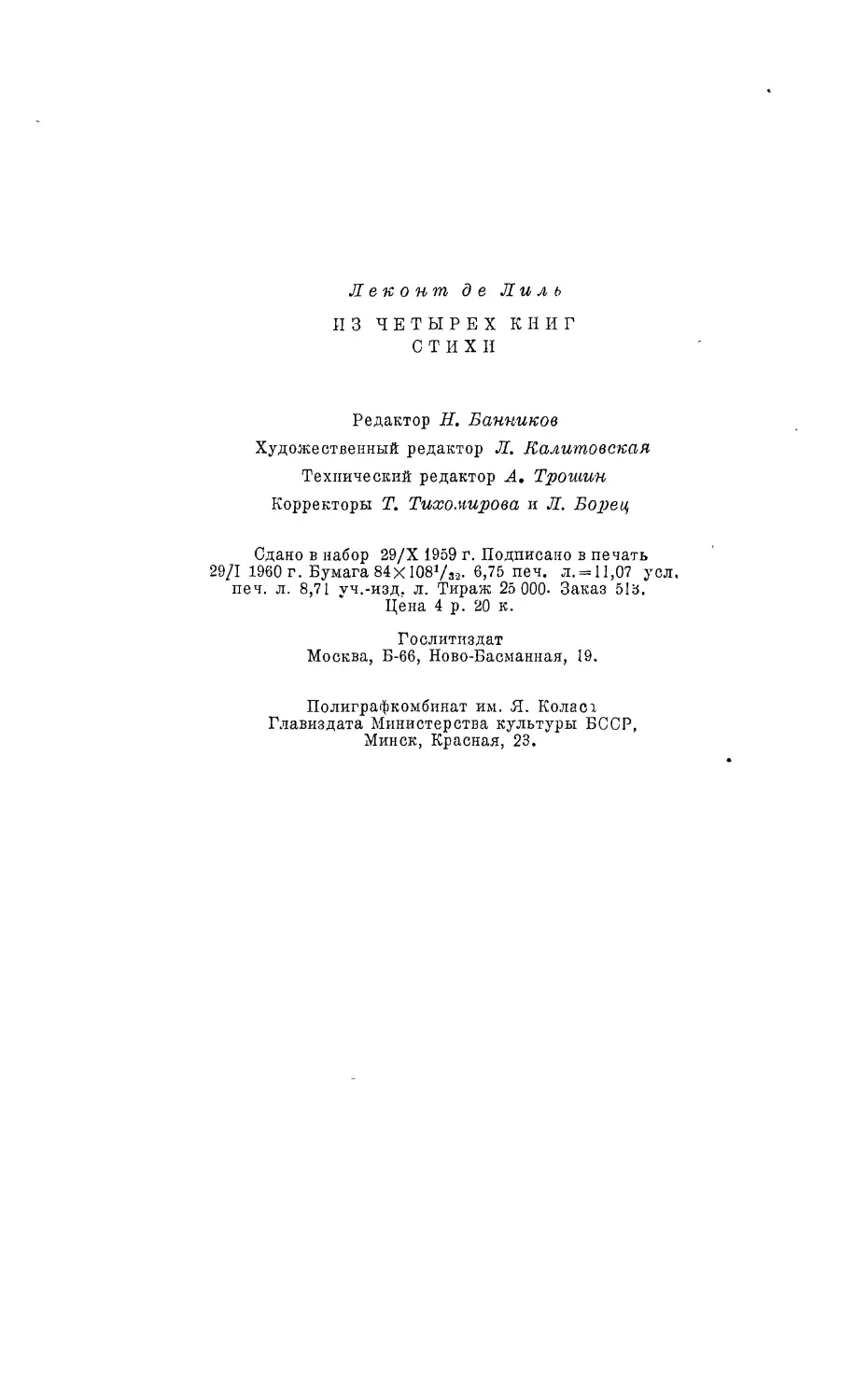Text
ГОСУДАРСТВЕНВОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Леконт де Лиль
ИЗ ЧЕТЫРЕХ
КНИГ
СТИХИ
Перевод с французского
ИГОРЯ ПОСТУПАЛЬСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1960
Под редакцией
Д. Бродского
Вступительная статья
Ή. И. Балашова
Гравюры художника
Ф. КОНСТАНТИНОВА
Оформление художника
Е. АДАМОВА
ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛ Ь
Леконт де Лиль — поэт, поражающий грандиозностью
образов. Он не умел и не любил писать ни о чем незначительном. Его
область — ожесточенные столкновения народов, религий,
цивилизаций, перевороты, в которых погибают старые и рождаются новые
миры. Даже пейзаж у него — потрясающий, бескрайний, схваченный
с высоты и являющийся ареной борьбы титанических сил.
Все эти богатые, необыкновенно красочные картины древней
и новой истории, безудержных страстей и неистовства хищников
Леконт де Лиль стремился облечь в стихи продуманные, звучные,
ясные, размеренные, предельно правильные, будто они перенесены
в сферу поэзии из сферы зодчества.
В стихах поэта есть величие и неподвижность памятников,
предназначенных для городской площади. Неприятие варварства
буржуазной цивилизации и ее религии проявлялось в его поэзии
даже в стремлении подчинить рациональному замыслу художника,
передать в статичных, сковывающих формах, поток событий жизни
враждебного ему общества. В монументальных стихотворениях и
поэмах запечатлевались на века, предавались на обозрение и на
суд потомства, как экспонаты в историческом музее, самые
трагические эпизоды жизни этого общества, навечно клеймились его
постыднейшие страсти и деяния.
В свою очередь, судьба творчества Леконт де Лиля — одно из
свидетельств враждебности буржуазного общества искусству.
Большую часть жизни поэт провел в бедности и непризнании; а после
его смерти было положено немало усилий, чтобы подлинный
Леконт де Лиль навсегда исчез из памяти: холодное славословие
официальной науки словно замуровало поэта в гробницу
бесстрастного жреца «чистого искусства».
Речь идет не только о предвзятом истолковании эстетических
теорий и поэзии Леконт де Лиля, при котором принимались в
расчет лишь догматические стороны в них и обходилось самое живое
5
в творчестве поэта: настойчивые искания справедливого
гармонического общественного устройства, негодующие обвинения варварства
Эпохи, беспощадное изображение ее трагизма; истолкование, при
котором забывалось, что Леконт де Лиль был самым упорным
обличителем католицизма во всей атеистической поэзии прошлого века.
До сих пор во Франции не издано полного собрания
произведений Леконт де Лиля. Вообще не собраны стихи поэта,
печатавшиеся в социалистической прессе 1840-х годов; не обнародованы и
плесневеют в частных архивах антибонапартистские
стихотворения и фрагменты разившей папство поэмы «Держава дьявола».
Никогда не переиздавалась республиканская публицистика поэта—ни
революционные статьи кануна 1848 года, ни его памфлеты 1870-х
годов против Третьей республики.
В результате всего этого был изображен бесстрастным поэт,
мучительно переживавший каждое новое национальное несчастье
Франции, поэт, который исходил при решении общественных
вопросов из опыта якобинской диктатуры и даже семидесятилетним
старцем требовал «поставить к стенке» генерала Буланже, когда тот
затеял антидемократический переворот.
Современная западная наука установила применительно к
творчеству Леконт де Лиля своего рода «рекорд»
необъективности: американский исследователь И. Паттер, автор монографии
«Пессимизм Леконт де Лиля» (1954), натолкнувшись на
произведения поэта, никак не поддающиеся кривотолкованию, вроде
«Народного республиканского катехизиса», позволил себе с
неслыханной мотивировкой перечеркнуть их как порожденные не
сердцем и мыслью поэта, а — «его животными соками»!
В свете наступления буржуазной науки сегодняшнего дня на
память поэта и в связи с опубликованием во Франции некоторых
новых материалов о нем, дополнивших и подтвердивших данные
классических работ М. и А. Леблонов, Ж. Виане, 3· Эстева,
необходимо полнее, чем это делалось раньше, показать
антибуржуазность Леконт де Лиля. А. В. Луначарский еще в 1932 году призвал
марксистских исследователей «вскрыть до конца противоречия,
породившие трагедию Леконт де Лиля, и показать, что эта
трагедия обращена также и против буржуазии, против ее культуры,
искусства, науки».
Этой цели должно послужить настоящее — первое русское —
издание избранных, стихотворений и поэм Леконт де Лиля.
Поэт, вокруг наследия которого до сих пор кипят страсти,
Шарль-Мари-Рене Леконт де Лиль родился 22 октября 1818 года
на острове Бурбон (ныне Реюньон), расположенном в Индийском
океане в семистах километрах, к востоку от Мадагаскара. Отец по-
6
Эта, фельдшер наполеоновской армии Леконт, эмигрировал из
Франции в 1816 году после реставрации Бурбонов. Он женился на
креолке, принесшей ему в приданое богатую плантацию, и стал
называть себя «Леконт с Острова» — Leconte de Lisle.
На будущего поэта неизгладимое впечатление произвела
щедрая тропическая природа одиноко возвышающегося в океане
гористого вулканического острова. Но с Реюньона юноша унес также
и иные впечатления. На острове сохранялось рабство, и Леконт де
Лиль не мог забыть стонов истязуемых плантаторами негров.
Героем одного из своих рассказов 1840-х годов он сделал
благородного мятежного негра Сакатове, предательски застреленного
хозяином; в другом — рассказал о негодовании, охватившем
молодого человека, услышавшего, как пленившая его миловидная
креолка хладнокровно приказывает выпороть раба.
Когда девятнадцатилетний Леконт де Лиль отправился для
продолжения образования во Францию, он уже горел
республиканским энтузиазмом. По письму юного поэта с острова Св. Елены, где
корабль сделал стоянку, сразу видно, как чувство горечи при виде
могилы сосланного чузежемцами Наполеона отходит на второй плап
перед негодованием против императора — душителя свободы.
Леконт де Лиль учился в Бретани — в Динане и Ренне, под
надзором консервативных родственников, пытавшихся отучить его
от крамольных, мыслей урезыванием субсидии. Он вынужден был
заниматься на юридическом факультете, но фактически изучал
литературу, писал стихи и читал социалистов-фурьеристов. Леконт
де Лиль в 1840 году редактировал журнал «Варьете», в котором,
между прочим, пропагандировал книги по фурьеризму. В 1842 году
Леконт де Лиль пытался основать политический журнал
«Скорпион», не вышедший, однако, по вине издателя, отказавшегося его
печатать, поскольку «направление журнала заслуживает
осуждения порядочных людей...» Не нашлось издателя и для первой
книги стихов молодого поэта, и он в 1843 году вынужден был
согласиться служить в суде на острове Реюньон. Из общества
опостылевших ему креольских, рабовладельцев Леконт де Лиль вырвался
благодаря друзьям-фурьеристам, пригласившим его в 1845 году в
Париж на работу в качестве редактора отдела литературы в газету
«Демокраси пасифик» («Мирная демократия»).
Леконт де Лиль попал в один из революционных центров
Парижа. Его ближайшими друзьями стали активные участники
революции 1848 года — Поль де Флотт, павший впоследствии в отрядах
Гарибальди, и поэт и ученый-эллинист Луи Менар. Работал Леконт
де Лиль под руководством продолжателя Фурье — Консидерана. Все,
что писал Леконт де Лиль ^- стихотворения, рассказы, политиче-
7
ские статьи,— он печатал в «Демокраси пасифик» и в другом
печатном органе фурьеристов — журнале «Фаланга».
Леконт де Лиль сам достаточно четко охарактеризовал свои
взгляды в одном из писем 1847 года: «Фурьеристская школа, в
которую я вхожу... обосновала право бедняка на труд, на жизнь,
на счастье». Поэт сомневается, что богатые признают
«математически доказанную» законность этого права, несмотря на то что
уже стучится в дверь «гражданская война», «в тысячу раз более
ужасная, чем 93 год,— беспощадная война тех, у кого нет ничего,
против тех, кто владеет всем».
Будучи единственным крупным французским поэтом, тесно
связанным с фурьеристским движением, и принимая основные
положения Фурье, Леконт де Лиль не был ортодоксальным
фурьеристом, он отрицательно относился к сложной догматике школы,
сохранял самостоятельность во взглядах на искусство.
Собственные статьи Леконт де Лиля в «Мирной демократии» носили
отнюдь не мирный характер и были написаны скорее в духе
революционных бланкистских кружков.
1845—1850-е годы — решающий период в формировании
мировоззрения и творчества Леконт де Лиля. Именно тогда, в период
увлечения утопическим социализмом, сложились как сильные
стороны творчества поэта, так и определилась непреодолимая для него
ограниченность мелкобуржуазной революционности, проявившаяся
позже в непонимании дела Коммуны.
В годы, предшествовавшие революции, были разработаны идеи
и созданы стихи, составившие основу «Античных стихотворений»
(1852). Эллада для поэта это не только историческая древняя
Греция, но и социальная утопия будущего, или во всяком случае
художественный, живой наглядный прообраз такой утопии. Если
революционеры XVIII века искали в античности прежде всего
равенство и гражданскую доблесть, то для Леконт де Лиля его Эллада —
страна социальной гармонии. Его эллины не подавлены ни
государством, ни церковью; их свободный труд сочетается с высокой
эстетической культурой, смелым полетом мысли, не связанной
религиозными предрассудками; люди этого героического века сами
близки своим языческим богам, они не только наслаждаются
общественной гармонией, но и пребывают в гармонии с тщательно
оберегаемой благосклонной природой.
Человек будущего, что «предназначен править гармоническим
миром», человек, к которому обращается Леконт де Лиль,
воспроизведен в его стихотворениях с таким же пафосом и во многом
близкими образными средствами, в тех же восторженных ритмах,
в каких поэт изобразил утопическую Элладу.
8
Образы ранних стихов Леконт де Лиля одновременно
отчетливы по рисунку и живописны. Возможно, в их образном строе
сказалось увлечение молодого поэта ясностью лирики Андре
Шенье и новой для французской поэзии колоритностью
«Восточных мотивов» и «Лучей и теней» Виктора Гюго.
Леконт де Лиль уже в период непосредственного участия в
революционном движении придавал, как и многие другие
революционеры 1848 года, исключительное значение эстетическому
воспитанию человека будущего. В его представлении, едва
совершится революция,— не экономика, политика либо наука, а
искусство станет важнейшим звеном общественной жизни.
Это самозабвенное обожествление искусства как высшего
синтеза общественной жизни, бывшее частью
утопически-социалистических взглядов Леконт де Лиля, оказало впоследствии, в период
реакции, плохую услугу поэту. Вместо того чтобы бороться как
политическими, так и художественными средствами за идеалы,
которым поэт оставался верен, он противопоставил искусство
обманувшей его надежды политике.
Однако в первоначальном варианте поэмы «Елена» («Фаланга»,
август 1845) Леконт де Лиль писал, что не нужно видеть в Елене
Прекрасной только идеал красоты прошлого — лишь «оживленный
мрамор». Истинная красота для поэта — идея, связующая воедино
идеал и жизнь, «небо и преображенную землю». Искать ее надо не в
античности, вообще «не позади той зыбкой грани, у которой в
нерешительности стоит наш мир. Нет! Надо идти вперед: в будущем
отыскать вселенскую Елену» — всеобщее царство гармонии и красоты.
Надежнейший путь к счастливому будущему Леконт де Лиль
видел в революции. В стихотворении «Покрывало Изиды» он
предрекает бесчеловечному властелину, что надвигающаяся буря уже
завтра разрушит его дворцы.
Утверждение социальной гармонии и Эллады как ее
воплощения сочеталось у Леконт де Лиля с упорным, проходящим через
все творчество поэта разоблачением католической церкви —
тюрьмы огромной, мир сковавшей весь!
(Стихотворение «Поиски бога·».)
Леконт де Лиль в своей ненависти объединяет христианскую
Эру и эпоху владычества буржуазии как жестокое время, «когда
царит грязное уродство и позабыт путь к Паросу». Особой силы
противопоставление достигает в стихотворении «Гипатия». Леконт
де Лилъ придал обобщенный, символический смысл известному в
истории факту варварского убийства христианами в начале
V века александрийской женщины-ученого Гипатии, которую поэт
9
изображает цельным гармоническим человеком, не мыслимым в
современном обществе.
Страстно выступая против христианства, Леконт де Лиль
противопоставляет ему языческих богов как воплощение реальных
жизненных сил. В первой редакции стихотворения «Венера Милосская»
Леконт де Лиль, вслед римскому поэту-материалисту Лукрецию,
ставит самое земное божество, Венеру, выше всех богов и обращается
к ней с просьбой сойти с Олимпа и править человечеством.
Стихи Леконт де Лиля 1840-х годов были нередко связаны с
совершенно конкретными вопросами политической жизни
Франции. В ту пору, когда парижские кружки не умели донести свои
революционные идеи до широких кругов народа, особенно
крестьян, Леконт де Лиль в стихотворении «Тантал» во весь голос
говорит о проклятии невежества и забитости, тяготеющих над
угнетенными. Он мечет громы и молнии против покорности народа, но
призывает верить в его будущее. Поэт пишет, что всякое
благородное сердце чувствует, что настанет день, когда угнетенный
возродится к жизни, опьяненный счастьем.
Перед революцией 1848 года Леконт де Лиль выступил в «Демо-
краси пасифик» с тремя значительными политическими
статьями— «Справедливость и право», «Будет ли это покушение на
Польшу последним?» и «Угнетение и нищета».
Разоблачая лицемерие богачей, Леконт де Лиль пишет:
«Возблагодарите господа за беды, которые он вам ниспосылает,
воздайте кесарево кесарю!» — и сам отвечает за неимущих: «Воздух,
хлеб, свобода, плоды нашего труда, наш отдых и наша жизнь
принадлежат нам! С нас довольно смирения. Чего еще требует кесарь?
Наше право превыше всего». Если государи не уступят,— пусть
помнят: «время революций не миновало». И вот от имени
угнетенных, как и в своих стихах, поэт вновь грозит «страшной
борьбой без жалости, без угрызений, самой беспощадной и самой
справедливой из всех войн».
В другой статье Леконт де Лиль, рассказывая, как «деньги
заняли трон прежних, богов», обличает «жрецов золота —
самодержцев цивилизованного мира», «тучнеющих на крови и плоти
убиваемых народов». Он отказывается от милостыни богачей и требует
для угнетенных всего, «что принадлежит им по праву».
Леконт де Лиль принял активное участие в революции 1848 года,
деятельно включившись в работу созданных в Париже
революционных клубов. Он был инициатором обращения
креолов-патриотов, живших в Париже, к временному правительству с
требованием отмены рабства во французских колониях. Когда рабство
было отменено, Леконт де Лиль стал объектом негодования реюнь-
10
онских плантаторов; от него отреклась и прекратила оказывать ему
помощь его семья, лишившаяся после отмены рабства главного
источника наживы.
В апреле 1848 года Леконт де Лиль был в числе пятисот
делегатов, уполномоченных революционным «Клубом клубов» вести
агитацию за республиканских кандидатов в провинции.
Потерпев, как и другие республиканцы, поражение, Леконт де Лиль
трагически переживал его, но так и не смог понять конкретных,
причин отрицательного отношения бретонских крестьян к республике
в 1848 году. Из его писем к друзьям видно, что у него появляется
неверие в народ, кажущийся ему темным и инертным. Леконт де
Лиль возмущается безразличием и пассивностью провинции,
видя в этом главное препятствие для победы новых идей: «Что
касается социализма... то он не вызывает здесь ни любви, ни
ненависти, так как он совершенно неизвестен: с этим словом не
связывается никаких ассоциаций, и неясно, есть ли у народа хоть
какое-нибудь стремление к улучшению своего положения».
«Быть может, придется все начинать сызнова,— пишет поэт в
другом письме.— Ясно, как день, что у нас хотят потихоньку
украсть Революцию. Учредительное собрание будет состоять из
буржуа и роялистов. Оно проголосует славненькие реакционные
законы, сохранит на неопределенно долгий срок социальный и
политический строй, существовавший при Луи-Филиппе, и, кто
знает, может статься, вскоре навяжет нам нового короля. Видимо,
предстоят трудные денечки. Я не поручусь, что мне еще не
предстоит сгнить в тюрьме Мон-Сен-Мишель».
«Французский народ,— пишет поэт, ссылаясь на речь, которую
слышал в клубе бланкистов,— весьма нуждается в хорошем
комитете общественного спасения, который заставит его заключить
брак по любви с Революцией».
И хотя во время революции Леконт де Лиль утверждал, что
«реакция сделала его крайним коммунистом», неверие в
сознательность народных масс, обострившееся позже, в период Второй
империи, способствовало постепенному развитию у поэта
пессимистического взгляда на историю.
Вопрос об участии Леконт де Лиля в Июньском восстании
пролетариата затемнен буржуазной наукой. Несомненно, что
поэт смело помогал баррикадным бойцам, под огнем доставляя им
боеприпасы. После поражения восстания он был арестован, но
вскоре отпущен за недостатком улик. Во всяком случае, Леконт
де Лиль считал, что он и его друзья-революционеры, даже такие
решительные защитники героев Июня, как Луи Менар, ксе же не
сделали всего от них зависевшего в час той решительной битвы.
11
«Я не могу тебе выразить,— писал Леконт де Лиль Менару год
спустя, 15 июля 1849 года,— всей ярости, сжигающей меня, когда
я бессильно гляжу на умерщвление Республики, которая была
священной мечтой нашей жизни. 13-го июня *, до этой нелепой
мирной демонстрации, которая погубила все, мы все были готовы
искупить решительной борьбой наше достойное сожаления
бездействие прошлого года».
Под влиянием поражений революции Леконт де Лилем
овладевало все более глубокое разочарование в политике. Избрав в
качестве примера Огюста Бланки и Гомера, он противопоставляет
историческому значению революционеров — своих современников,
не сумевших достичь победы,— значение великих поэтов,
благотворное влияние которых на развитие общества длится
тысячелетиями. Леконт де Лиль заклинает Луи Менара именно для решения
революционных задач, именно ради тех социальных и
политических идей, за которые оба готовы жертвовать жизнью, заниматься
не политикой, а творчеством. Леконт де Лилю невдомек при этом,
что он, замыкаясь в круг занятий «чистым искусством»,
фактически отстраняется от решения этих задач. А между тем, реакция
обрекает его самого на нищету и безвестность.
«Античные стихотворения» смогли появиться в печати
благодаря чистой случайности: издатель потерял присланный ему
на рассмотрение перевод «Илиады», сделанный Леконт де Лилем,
и в виде «компенсации» скрепя сердце напечатал в 1852 году книгу
его стихов.
Издания оригинальных и переводных произведений, изредка
появляющиеся в последующие двадцать лет, не обеспечивают
поэту куска хлеба. Этим безвыгодным положением воспользовалось
правительство Наполеона III, принявшее в середине 60-х годов
демагогический курс. В 1864 году незадолго до того, как Флобер
был награжден орденом, Леконт де Лилю предложили помощь
при условии, что он посвятит свои переводы наследнику
престола. «Было бы святотатством,— ответил поэт,— посвящать эти
шедевры античности ребенку, еще не способному понять их».
Тогда Леконт де Лилю установили скромную пенсию в триста
франков без всяких условий. Поэт стыдился сознаться в этой
зависимости от ненавистного ему и презираемого им режима. Он был
сурово наказан за свое молчание, когда после падения
империи этот факт был обнародован. Кроме того, пенсия морально
связала поэта, и он не напечатал свои антибонапартистские стихотво-
1 Имеется в виду демонстрация в Париже 13 июня 1849 г. Карл Маркс
дал характеристику «комизма положения» и анализ причин поражения
мелкой буржуазии во время этой «мирной демонстрации» (см. К. Маркс
Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 7, стр. 68 и ел.)·
12
рения. Последующие владельцы архива порта, сами признававшие
(Луи Барту в 1933 г.), что стихи Леконт де Лиля против империи
«великолепны по своей страстности и насыщены мстительной
иронией», скрыли их от потомства.
Гнетущая обстановка Второй империи оказала воздействие на
работу порта над «Античными стихотворениями». Основное ядро
книги составляют произведения на темы античной мифологии и
истории, печатавшиеся в 40-е годы в социалистической прессе. Но,
выбирая, перерабатывая и дополняя их (в частности, в книгу был
включен цикл стихов о древней Индии) в процессе подготовки
книги, поэт старался устранить непосредственное выражение
утопически-социалистических идей и надежд на близкое общественное
переустройство, снять вытекавшие из противопоставления
идеализированной античности буржуазному миру прямые призывы к
построению нового гармонического общества. Вместо этого Леконт
де Лиль сосредоточивал внимание на формальном совершенстве
произведений античного искусства. Отсюда противоречие между
духовной насыщенностью образов, возникших в . годы
революционного энтузиазма, и новыми, более ограниченными выводами.
Например, в ранней редакции стихотворения «Венера Милосская»,
где Леконт де Лиль, подобно материалисту Лукрецию, изображает
богиню как воплощение победоносного развития и утверждения
жизни, были вполне уместны вдохновенные четверостишия о
статуе Афродиты и о тоске поэта по древней Греции:
Привет! Перед тобой сильней сердцебиенье!
У белых ног твоих вал мраморный бурлит,
нагая, ты идешь,— и целый мир, в смятенье,
широкобедрая, тебе принадлежит!
Край мифов, острова! Эллада, мать святая!
О, если б родиной мне был Архипелаг
в тот век торжественный, когда к Земле, пылая,
сходило Небо, вняв ее призывный знак!
С величием и пантеистическим характером образов,
подчеркнутым мощной пластичностью и пафосом стихов, не полностью
согласуются добавления, внесенные в редакцию 1852 года. Рядом
с этими строфами поставлены новые, представляющие Афродиту
Милосскую прекрасной своей невозмутимостью и равнодушием к
окружающему:
О, символ счастия, божественно-бесстрастный,
как море светлое в спокойные часы,—
рыданья не было в твоей груди прекрасной,
и плач людской твоей не омрачал красы!
13
Порт больше не обращается к богине с призывом сойти с
Олимпа и вести человечество вперед, а просит всего-навсего,
чтобы, с ее благословения, его мысль заструилась золотом ритмов,
как божественный металл, льющийся в гармоническую форму.
Леконт де Лиль вносил своей переработкой подобные
противоречия и во многие другие стихотворения книги: «Елена», «Ни-
оба», «Одежда кентавра». Иногда изображение античности
сводится к описанию статуй, отчего в книге порой появляется налет
какой-то надуманности и монотонности.
В итоге таких поправок основная антибуржуазная установка
книги была завуалирована. «Античные стихотворения» были
восприняты частью современников как книга, далекая от жизни, как
поэтический манифест «чистого искусства». Таким образом,
Леконт де Лиль способствовал возникновению во французской
литературе в 1850—60-е годы так называемой парнасской группы
поэтов, сделавшей своим девизом «искусство для искусства».
Как показал Г. В. Плехднов, в условиях Второй империи,
стремившейся поставить искусство на службу своим целям, теория
«искусства для искусства» заключала в себе протест. Но это был
протест пассивный, выражавшийся главным образом в том, что
парнасские поэты с отвращением и негодованием отворачивались от
буржуазной действительности. Это было «буржуазное отрицание
буржуазной пошлости». Итоговая оценка парнасского движения
содержится в словах Плеханова: «Искусство выигрывает,
отворачиваясь от пошлости. Но когда оно отворачивается от великих
исторических движений, оно само проникается элементом пошлости» 1.
В парнасской группе не было единства, многие из парнасцев
и связанных с ними литераторов — Рикар, Вилье де Лиль-Адан,
Глатиньи, Верлен, Менар, Маррас — в решительный момент
оказались на стороне Коммуны, однако общая тенденция группы была
реакционной и вела к постепенному примирению с
действительностью.
Хотя неверные эстетические установки Леконт де Лиля
способствовали созданию парнасской группы, а сам он в 60-е годы
стал ее признанным главой, — «пафос протеста» в его
произведениях, по справедливому замечанию Луначарского, «все же
достаточно глубок и высоко поднимает Леконт де Лиля над остальными
парнасцами».
В предисловии к «Античным стихотворениям» Леконт де Лиль
совершенно точно указал на то, что заставило его провозгласить
отход поэзии от современной действительности. Отмежевываясь
1 Г. В. Π л е χ а н о в, Искусство и литература, М. 1948, стр. 307.
14
от постыдных дел реакции, завершившихся бонапартистским
переворотом 2 декабря 1851 года, Леконт де Лиль решительно заявил,
что «поэзия больше не станет... освящать память событий, которых
она не предвидела и не подготовляла». При этом Леконт де Лиль
продолжает в принципе признавать возможность великого
общественного воздействия искусства и выражает надежду, что для
поэзии наступит время связи с жизнью — «час возрождения».
«Я ненавижу современность из естественного отвращения,|
испытываемого нами к тому, что нас убивает»,— писал Леконт;
де Лиль в своем предисловии, высказывая, таким образом, мысль,,
ставшую зерном его следующей известнейшей книги «Варварские
стихотворения». '
Эта книга, вышедшая в 1862 году и затем значительно
дополненная в издании 1871 года, характерна для французской
обличительной литературы середины XIX века и имеет точки
соприкосновения с «Цветами Зла» Бодлера и с романами Флобера «Саламбо»,
«Бувар и Пекюше». В «Варварски* стихотворениях» Леконт де Лиль
по-своему, но так же гневно и так же упорно, как Флобер и Бодлер,
обличает варварство своего века. Леконт де Лиль казнит
варварство предпринимаемых во имя угнетения войн, варварство
корыстолюбия — безжалостной алчности к золоту, разъедающей
все чувства, даже любовь.
Опираясь на большой фактический материал, собранный к
тому времени общественными науками, поэт обличает варварскую
буржуазную цивилизацию в ее истоках. Беспощаднее всего Леконт
де Лиль казнит католицизм — «зверя в пурпуре», давшего
идеологическое оправдание насилию, «зверя в пурпуре», лицемерно
прикрывшего, освятившего варварство, «зверя в пурпуре»,
превзошедшего лютой жестокостью деяния отъявленных варваров.
Леконт де Лиль обрушивается на философию, политику и
мораль христианства, подвергая своему суду гуманиста и
рационалиста все этапы развития религии. В своих поэмах, он не
забывает ни варварства древнееврейских библейских преданий, ни
варварства церкви первых веков, ни распространения
христианства огнем и мечом, ни особенно ему ненавистного кровавого
разгула церкви в средние века. Заодно с инквизиторами под его суд
попадают светские палачи-феодалы, западные и восточные — все
равно тиранствующие ли под сенью креста или полумесяца.
Поэт напоминает читателю особо чудовищные утверждения
средневековых католических богословов. Он настойчиво указывает
на глубокую безнравственность идеи, что люди, не знавшие
христианства, какую бы праведную жизнь они ни вели, должны
быть осуждены на вечные адские муки только за то, что жили
15
до христианской эры. С таким же отвращением пишет Леконт де
Лиль о представлении, что праведники должны испытывать особое
удовлетворение от божьей справедливости, наблюдая с неба, как
в адской бездне мучаются грешники...
Леконт де Лиль прослеживает историю религии до того
момента, когда наука достигнет полной победы —
и внуки чистые народов отомщенных
со смехом встретят жизнь, не зная слова: бог.
Леконт де Лиль сражается не только с варварством, но и
с ничтожеством, пошлостью современников, «ползающих по
грудам золота». И порт противопоставляет буржуазной
современности, опошленной стяжательством, примитивные, но сильные
характеры, могучие страсти людей родового строя, неиссякаемые
растительные силы природы, собранность и силу животных. В
соответствии с таким замыслом «Варварские стихотворения» делятся на
несколько тематических циклов. К важнейшим из них относятся —
библейский, в который входит атеистическая поэма «Каин»; цикл
стихов о героическом сопротивлении языческих народов Европы —
кельтов, финнов, германцев — наступлению христианства.
Следующий цикл посвящен варварству магометанской религии и
восточного деспотизма. Особый цикл стихов изображает силы природы и
борьбу животных за существование. Затем Леконт де Лиль
помещает цикл стихотворений более абстрактного, философского
характера, изобличающих непосредственно буржуазное варварство.
Поэт еще раз возвращается к ненавистному ему католическому
средневековью и завершает книгу мрачным пророчеством,
предсказывая, что человеку буржуазного мира грозит окончательное
вырождение.
Сама систематичность плана «Варварских стихотворений»
обусловливает описательность некоторой части вошедших в книгу
стихов. Эти стихи Леконт де Лиля отличаются от стихотворений
поэтов-романтиков тесной связью с достижениями науки (в этом
отношении показательны восприятие и поэтизация Леконт де Ли-
лем естественно-научных идей Дарвина), большей точностью в
воссоздании «местного колорита». В новой, основательно
документированной работе Жозефа Виане о «Варварских стихотворениях»
(1955) доказано, что едва не для каждой исторической или
экзотической картины у Леконт де Лиля можно установить источник в
современной ему научной литературе, определенно указать книги
или научные статьи, на которые опирался поэт. Эт° обусловило
не только достоинства, но и известную холодность части
описательных стихотворений Леконт де Лиля, в которых намечаются
16
черты, придавшие позже безжизненный, описательный характер
многим стихотворениям поэтов-парнасцев. Восприятие некоторых
описательных стихотворений затрудняется нагромождением
точных деталей обстановки и обилием экзотических имен.
В «Варварских стихотворениях» Леконт де Лиль охотно
изображает буйную тропическую природу, мощь хищных зверей;
он нередко рисует картины трагического столкновения диких
страстей, приводящих к кровавой развязке. Но Леконт де Лиль
стремится дать в первую очередь яркое, красочное внешнее
описание изображаемых страстей и борьбы, иногда за счет
внутреннего драматизма. Его стихотворения статичнее, чем можно
предположить, зная их сюжеты. У Леконт де Лиля есть тенденция
изображать какое-либо одно существо, и если нельзя до конца
показать его в покое, статуарно, то показывать его в
немногочисленных действиях, разделяя изображение на несколько
отдельных картин. Это яснее всего заметно на стихах, описывающих
напряженную борьбу животных, за существование. В
стихотворении «Ягуар» картина вечернего тропического леса подводит к опи*
санию неподвижно притаившегося хищника. Забредший на
опушку бык застывает от ужаса. Затем следует энергичное, но
краткое описание нападения ягуара. Внешне картинный, а к концу
почти статичный характер Леконт де Лиль придает даже
изображению бешеной скачки быка с вцепившимся в его загривок
хищником.
Очень типично для «Варварских стихотворений»
стихотворение «Слоны» с его красочным пейзажем, медленным движением
как бы слитых в одну группу слонов, уверенно идущих в родную
страну. Они степенно проходят и исчезают, после чего вновь
воцаряется покой и неподвижность.
Во всех циклах книги встречаются проблемные —
философские — стихи, в которых поэтический дар Леконт де Лиля
является во всем величии. «Варварские стихотворения»
открываются бунтарской поэмой «Каин». Это отнюдь не описательное
произведение; суть его не в нагромождении скорбных
фантастических видений адских чудовищ, страданий легендарных племен
библейской древности, всемирного потопа. Правда, эти сказочные
картины выписаны с таким пристрастием, такими звучными
стихами, с таким умением подкрепить, где это возможно, фантазию
археологическими данными о жизни народов древнего Востока, что
главная, смелая идея поэмы несколько отодвигается на задний
план, ее эмоциональное воздействие ослабевает.
Но эта идея все же постепенно раскрывается, после того как
в видении ясновидца Фогормы, плененного ассирийцами, возникает
2 Леконт де Лиль
17
образ Каина, которого от вечного сна разбудили угрозы и
проклятия чудовищ, спущенных на его потомков мстительным богом
Ягве (Иеговой).
Мрачный Каин, поднявшись во весь свой исполинский рост,
произносит монолог. Центральное место в этом монологе
занимают обвинения богу и предсказания неизбежной после
тысячелетних страданий победы людей над богом.
Каин, вспоминая совершенное им, заранее предопределенное
богом, убийство своего брата Авеля, символизирующее
несправедливость на земле, восклицает:
Несправедливый бог — палач единый твой.
Каин отказывается склониться перед богом, не хочет молиться:
Я справедливости хочу, которой нету.
Убей меня, но я не покорюсь вовек!
Каин знает, что бог низвергнет на людей потоп. Племя
исполинов будет уничтожено. Но народятся новые люди «с тиной
потопа на сердце» — холодные, подлые и жестокие (поэт рисует
картину феодального и буржуазного общества), однако не более
склонные чтить бога. И бог —
Бог скорби, жадный бог, лик прятавший строптиво,
бог, лгавший, говоря, что он — добро и свет,—
бог станет внушать веру огнем и мечом, проливая потоки
невинной крови.
В дальнейших стихах поэмы воссозданы революционные
идеалы, за которые Леконт де Лиль боролся в 1848—1849 годах.
Мститель Каин восстанет вновь, когда авторитет старого общества
окончательно разрушится под тяжестью его преступлений. Оно
будет уничтожено, и свободные люди с помощью науки подчинят себе
силы природы, раздвинут область знания до других миров,
вытеснив бога и оттуда. Здесь-то в поэме звучат те замечательные
атеистические стихи, которые приводились выше:
и внуки чистые народов отомщенных
со смехом встретят жизнь, не зная слова: бог.
Исторический оптимизм не часто встречается в «Варварских
стихотворениях». Для них более характерны такие горькие вещи,
как «Тоска дьявола». Леконт де Лиль рисует мрачную картину:
до дьявола, неподвижно сидящего на горной вершине, доносятся
18
с земли только «раболепные песнопения, крики убийц,
торжественные молебны упоенных своею властью королей, отчаянные
стоны распятых народов, хрип праведников, агонизирующих на
городских свалках». В этих стихах как бы возникает картина
торжества реакции после революции 1848 года.
Видимо, вспоминая свое разочарование в возможности успеха
восстания, Леконт де Лиль вложил в уста дьявола полные отчаяния
и пессимизма слова: «Почти как любовь, ненависть обманула
меня...»
В стихотворении «Холодный ветер ночи» Леконт де Лиль
уподобляет своего лирического героя престарелому каторжнику,
которого от оков может освободить одна смерть. Используя
известный образ лирики Виньи («Смерть волка»), Леконт де Лиль
призывает умирать без жалоб, молча, как раненый волк, кусающий
нож окровавленной пастью.
Иной раз, доведенный трагизмом современности до отчаяния,
поэт пишет о своей готовности без сопротивления призвать смерть.
Ведь ничего больше не остается, раз «время не выполнило своих
божественных, обещаний»!
Обычно Леконт де Лиль пишет о современности в более или
менее абстрактной форме. В стихотворении «Ultra coelos» поэт
вспоминает, сколько радостного сулила ему юность, и
рассказывает, как обманула его жизнь. Он негодует и не желает смириться:
Мы солнцу дальнему покажем наши путы,
пойдем бороться вновь, мечтать, любить, скорбеть,
и будем, дорожа людскою мукой лютой,
жить, если нам нельзя забыть иль умереть!
Когда конкретные исторические обстоятельства давали Леконт
де Лилю основание надеяться на возможность успешной борьбы,
поэт готов был забыть свой пессимизм и вновь обратиться к
мечтам о великой битве за свободу. Об этом можно судить по
стихотворениям, посвященным борьбе Италии за независимость.
Самое известное из них — «Вечер битвы» создано в 1859 году
непосредственно после победы над австрийцами при Сольферино,
представленной бонапартистской пропагандой как образец
бескорыстной помощи угнетенной Италии. Леконт де Лиль, однако,
разобрался в коварной демагогии Наполеона III. Поэт осудил
Эту войну, изобразив ее как бессмысленную, жестокую, кровавую
резню:
О бойня гнусная! Погибельная страсть
к убийству! Трупный смрад, что сердце надрывает!
Сто тысяч мертвецов равнину устилают,
и мерзкую резню возможно ль не проклясть!
2*
19
В противоположность такой войне поэт благословляет
подлинную борьбу за свободу. В заключительных строках звучит надежда
на революционный переворот:
Но если б в яркий день, на пажити кровавой,
где к жерлам пушечным войска неслись в пыли,
Свобода, за тебя те храбрецы легли,—
была бы чистой кровь, дымясь тебе во славу!
В 1870—1871 годах раскрылась противоречивость мировоззрения
Леконт де Лиля. В тяжелые зимние месяцы осады Парижа он
обнаружил большую силу духа и политическую проницательность.
Поэт мужественно выполнял трудные для пятидесятилетнего
человека обязанности национального гвардейца. Из писем Леконт
де Лиля ясно, что он уловил и осудил
реакционно-реставраторские тенденции Национального собрания и изменнического
буржуазного правительства. В патриотической поэме «Освящение
Парижа» (январь 1871 г.) он восславил Париж и призвал к
революционному пожару:
На черной лестнице твоих фортов, громимых,
снарядом, все дробящим в прах,
борись! Рычи, как лев в убежищах родимых,—
во всех лачугах и дворцах!
На перекрестках, там, где дымы, вопли, свисты,
на площади, где твой собор,
зажги, чтоб умереть, свой ореол огнистый —
незабываемый костер!
Все заблуждения, ошибки, опьяненья
испепели в святом костре,
чтоб вновь бессмертным встать, врагам на удивленье,
из гроба в будущей заре!
Чтоб новый человек, вдруг ослеплен тоскою,
воспоминаньем о тебе,
всем странам рассказал о чудесах, тобою
когда-то явленных — в борьбе,
и, гений твой любя, твердя слова привета,
в час расторжения цепей
назвал твой вольный век и славу смерти этой —
примером для вселенной всей!
Однако, когда предсказание поэта сбылось, он оказался
неспособным понять Коммуну. Правда, он не выступал против
лее в печати, но осудил ее в нескольких частных письмах
1871 года. Леконт де Лиль недостаточно верил во французский
народ, не оценивал, насколько выросла сознательность рабочих
20
с 1848 года. Больше всего Леконт де Лиля напугало, что
провозглашенная коммунарами добровольная федерация отдельных
коммун может привести к распаду Франции. Он упрекал
коммунаров в нереалистичности политики, видя эту «нереалистичность»
в том, что Коммуна не начала совершенно немыслимого при ее
возможностях, немедленного наступления на пруссаков. Критикуя
Коммуну, Леконт де Лиль противопоставлял ей революцию
1789—1793 годов. Доказывая, что дело Французской революции
имело бы мировое значение, даже если бы она потерпела
поражение, Леконт де Лиль не отдавал себе отчета, что этот аргумент
обращается против него, ибо уроки Коммуны также имели
всемирно-историческое значение, несмотря на то что она была так
быстро подавлена реакцией.
В последнюю неделю Коммуны, когда доведенные до отчаяния
коммунары пытались остановить версальцев угрозой разрушения
зданий, представлявших национальную ценность, Леконт де Лиль,
опасаясь за судьбу парижских музеев и библиотек, подобно
Флоберу и Жорж Санд, в своих письмах резко осудил коммунаров.
Многие западные ученые по сю пору наперебой цитируют отрывки
из двух-трех писем Леконт де Лиля конца мая — начала июня,
оперируя ими так, как если бы это были предназначавшиеся для
печати высказывания. Между тем сам Леконт де Лиль еще в сентябре
1871 года в письме к своему другу — коммунару Жану Маррасу,
с которым он решил возобновить добрые отношения, специально
предостерегал Марраса против людей, распространявших слухи, что
отныне, после восстания коммунаров, порт — его смертельный
враг.
Торжество версальцев и деятельность Национального собрания
уже летом 1871 года отрезвили Леконт де Лиля. То, что
происходит, жаловался он, едва ли не так же удручающе, как то,
что происходило: «Собрание делает все, что может,— писал он,—
чтобы привести страну к полному крушению, и оно этого добьется.
Франция тяжело больна».
Леконт де Лиль сделал попытку занять «особую» позицию —
ни с Коммуной, ни с версальцами, и опубликовал во второй
половине 1871 года три очень резкие политические брошюры
против реакции. Они показывают, что, несмотря на все, волна
революционных потрясений 1871 года не прошла даром для поэта.
Изданный анонимно «Народный республиканский катехизис»,
написанный Леконт де Лилем частично на основе материалов,
подготовленных для него Э· Курбе и участником Коммуны поэтом
Луи-Ксавье де Рикаром, проповедует демократические порядки,
21
совершенно немыслимые в Третьей республике. В книге довольно
широко отразились муниципальные идеи коммунаров. Леконт де
Лиль требует отделения церкви от государства, защищает права
трудящихся города и деревни. Он отказывается от
пессимистических прогнозов будущего Франции, пишет о бесконечной
способности человека к усовершенствованию, настаивает на
неизбежности общественного прогресса.
Не менее удивительна для времени черной реакции другая
книга Леконт де Лиля — «Популярная история Французской
революции» с ее апологией права народа на восстание и
непосредственную расправу над реакционерами и с ее восторженной
оценкой якобинцев и Робеспьера.
Порт не успокоился на ртом и выступил с весьма
злободневным в период наступления клерикализма страстным и
язвительным антирелигиозным памфлетом «Популярная история
христианства». Леконт де Лиль век за веком прослеживает обман
и преступления, творившиеся католицизмом. Он рассказывает
о мрачных временах, когда диктатура церкви была настолько
полной и свирепой, что даже не появлялось ересей, «ибо ересь
уже предполагает какую-то степень интеллектуальной жизни,
а общее одичание было беспросветным».
Леконт де Лиль напоминает десятки и десятки забытых
документов, дающих живое представление о нравах католического
духовенства; порт аккуратно перечисляет указы Карла Великого,
запрещавшие епископам пить вино, иметь несколько жен
одновременно и содержать женщин-чужеземок.
Книга написана в намеренно спокойном тоне, дающем
возможность уяснить, что, собственно, имел в виду Леконт де Лиль,
когда настаивал на бесстрастии порта: «Стефан VI приказал
вырыть тело своего предшественника папы Формоза; его принесли
в зал заседаний и облаченным в первосвященнические одежды
усадили на папский престол. Здесь оно было подвергнуто допросу.
Оно ничего не ответило и было осуждено. Его раздели, отрубили
ему три пальца и голову и бросили в Тибр. В августе того же
года папа Стефан VI был удавлен». Один из его преемников
«велел заново похоронить тело Формоза, выловленное рыбаками...
Первым деянием папы Сергия было новое извлечение трупа
Формоза для того, чтобы снова проклясть и изувечить его.
Ни одному папе не доставалось так после смерти, как этому
несчастному Формозу. Его беспрестанно зарывали и вырывали,
обрубая по куску при каждом новом осуждении».
Леконт де Лиль делает вполне определенный вывод из своей
книги: «Христианство, а под ним надо понимать все христианские
22
общины, начиная от римско-католической церкви вплоть до
мельчайших протестантских или раскольничьих, сект, всегда оказывало
только отрицательное влияние на умы и на нравы. Христианство
осуждает мысль, оно уничтожает разум; оно постоянно отрицало
и оспаривало все истины, последовательно завоеванные наукой.
Оно 'непонятно в своих догмах, спорно, непоследовательно,
безразлично к морали». И Леконт де Лиль завершает книгу
предложением сдать христианство в музей истории религии.
Деятельность Леконт де Лиля стала предметом специального
разбирательства в Национальном собрании (7 февраля 1872 г.),
и одно время поэту угрожало судебное преследование.
Официальные круги не простили Леконт де Лилю его
политических выступлений. Лишь в результате больших усилий его
друзей знаменитого поэта удалось устроить младшим
библиотекарем в Сенате. На выборах в Академию за него голосовали
только Виктор Гюго и революционный поэт Огюст Барбье.
Леконт де Лиль был избран академиком лишь в 1886 году под
давлением ясно выраженной последней воли Гюго, на место
самого великого поэта.
Леконт де Лиль напечатал в последние десятилетия жизни
несколько книг переводов, трагедию «Эриннии» (1873), сборник
«Трагические стихотворения» (1884), к которым примыкают
изданные уже посмертно «Последние стихотворения» (1895). Тщетные
старания Леконт де Лиля хранить верность революционным
традициям, не принимая новой пролетарской революционности, показали,
что поэт отстал от передовых идей века. Это сказалось на его
творчестве последних лет (умер он 18 июля 1894 г.).
В «Трагических стихотворениях», равно как и в «Последних
стихотворениях», есть немало вдохновенных, сильных вещей, но
в целом эти книги не представляют собой принципиально нового
Этапа по сравнению с «Варварскими стихотворениями», и это
придает им в некоторых случаях оттенок риторичности и
формализма.
Поэтическая мощь стареющего поэта обнаруживается полнее
всего в антирелигиозных стихах. Никому во французской
поэзии XIX века не удавалось создать такого сжатого и
красноречивого универсального обвинения католицизму, каким является
поэма Леконт де Лиля «Зверь в пурпуре».
Никогда так живо и так гневно не была воссоздана картина
церковной расправы над гуманистом, погибающим на костре
посреди площади, заполненной взвинченной монахдми до
неистовства толпой дворян и простолюдинов, как это сделал Леконт де
Лиль в стихотворении «Всесожжение».
23
Красноречив напечатанный в «Последних стихотворениях.»
отрывок из неизданной до сего времени поэмы «Держава дьявола».
В нем поэт с ненавистью и сарказмом описывает разговор,
происходящий в аду между двумя папами — Иоанном XXIII из
рода Кодза и Александром VI из рода Борджа. В ходе разговора
раскрываются такие низкие, продиктованные алчностью и
похотью злодейства, что даже дьяволу становится не по себе, когда
он слышит —
какою грязью мерзкой
всю землю папская свинья марала дерзко.
Знаменитая «Легенда о великом инквизиторе» из «Братьев
Карамазовых» вдохновила Леконт де Лиля на стихотворение
«Доводы святого отца» — повесть о том, как римский папа
с высокомерным презрением отверг и прогнал явившегося ему
Христа, «сына плотника»:
Но мы, наследники твои, неутомимо,
и словом и костром готовя торжество,
бессильного казня, могучими любимы,
из сына плотника создали божество.
В «Трагических стихотворениях» Леконт де Лиль возвращается
к вопросу о трагической судьбе народа. Как в статьях 1840-х годов,
как в «Акте милосердия» из «Варварских стихотворений», так и
теперь в стихотворении «Проклятые века» он проводит мысль,
что ничьи страдания не могут сравниться с нечеловеческими
муками крестьян — «Жаков в лохмотьях». И Леконт де Лиль
именует крестьян «жаками» — славным прозванием,
напоминающем не только о горе народном, но и о беспощадной Жакерии —
великой французской пугачевщине XIV века.
Но все же «Трагические стихотворения» и примыкающие к
ним «Последние стихотворения» трагичны не только оттого, что
отразили трагизм эпохи. Они трагичны и оттого, что поэт,
утративший ясную перспективу борьбы, чувствовал, что вынужден
примиряться с ненавистным, но казавшимся ему на деле
неодолимым порядком. Это примирение с буржуазным порядком,
именно вынужденное примирение с ним, как с чем-то подлым
и варварским, но непобедимым и естественным, было, по
глубокому суждению Луначарского, основой трагизма позднего
творчества Леконт де Лиля.
Н. И. Балашов
из кжиги
„АНТИЧНЫЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ
#
СУРИЯ
Ведийский гимн
У моря древнего стоят твои чертоги,
Владыка! В струях Вод ты омываешь ноги.
По дивному лицу, по вспененной спине
мощь первобытных Бездн струится в тишине.
И волосы твои, горящие сквозь тучи,
свисают с древних скал, устлав песок зыбучий
над черной тиною,— и стаи волн морских
и бесконечный ветр безумствуют меж них.
О Сурия! Пленен непроходимой тенью,
ты спишь, среди песков, в блаженном утомленье.
Но страшное в груди дыхание живет:
оно тревожит снег, сползающий с высот,
в угрюмом сумраке с рычаньем угашает
светила, что в густом тумане утопают,
и поднимает хор стенаний, голосов,
катящихся в глуби дряхлеющих лесов.
У моря древнего стоят твои чертоги,
Владыка! В струях Вод ты омываешь ноги.
В венке из лотосов, уже бежит, горя
красою рук и ног, слепящая Заря;
пока ты спишь, она торопится с разбегу
впрячь розовых коров в лазурную телегу.
27
Гляди! Лес дивных пальм, меж них сребристый клен,
кувшинки на волнах, подернувших затон,
долины, где уже, на радость всем счастливым,
Апсары носятся в круженье торопливом,—
все это» сладостной окутанное мглой,
встает от сна, лучась огнями и росой.
Чтоб семь небес пройти одно вослед другому,
семь кобылиц вяжи ты к дышлу золотому,
дремоты слабый след сбрось на ветру морском,
сверкни и встань — во всем; могуществе твоем!
У моря древнеопо стоят твои чертоги,
Владыка! В струях Вод ты омываешь ноги.
Громадной птицею, парящей в синеве,
о воин, ты встаешь в победном торжестве!
Источник Бытия, ты мчишься, Царь, потоком! .
И Бездна, вся в твоем сверкании высоком,
дрожит в кипении сияющих зьгбей
перед величием и силою твоей!
Как в тверди пламенной ярка твоя дорога,
ведущая во Тьму, к извечному порогу!
Когда под небосклон мчишь колесницу ты,
великолепной он исполнен широты!
О Сурия! Твой стан, горящий величаво,
склоняешь к морю ты, в одежде высшей славы;
и Бездна ждет тебя, даря тебе привет:
ляг вновь на бреге, Царь, блаженным сном одет!
У моря древнего стоят твои чертоги,
Владыка! В струях Вод ты омываешь ноги.
О воин, мчащийся по ярким небесам,
по бесконечности и вечным временам;
ты, изливающий во грудь Земли нетленной
плодородящий ток своей жары священной,
сидящий в знойный час на жгучем гребне дня,
Царь мира, слух склони к молящимся, храня
народы мирные, что всею чистой кровью
тебе у древних Вод возносят славословье!
28
СМЕРТЬ ВАЛМИКИ
Валмики, вождь певцов бессмертный, одряхлел.
В глазах его мелькнул мир преходящих дел
быстрее, чем в лесу бег антилоп неверный.
Ему сто лет. И жизнь — наскучила безмерно.
Как неба жаждущий, недвижного всегда,
орел крылами бьет у темного гнезда,
так Дух, средь уз людских отведавший томлений,
стремится отлететь от суетных явлений.
Вот почему Певец героев старины
Зовет молчание и благость тишины,
конец желания, печали и сомненья,
покой, дарующий душе исчезновенье,
без мигов и без грез великолепный сон,
который навсегда Забвеньем осенен.
Дни вьются, кончен труд, и жизнь полна до края.
На мрачный Гимават взошел он, изнывая.
Он тропы горные окрасил кровью ног;
ночами в грудь его врывался льдистый ток,
но, вспять не посмотрев ни разу, старец сирый
путь прекратил лишь там, где были грани мира.
Под пышной пальмою, зеленою вовек,
презревшей летнюю жару и зимний снег,
на посохе своем скрестив худые руки
и древней бородой покрыт, он, в час разлуки,
уже в последний раз направил острый взор
29
на реки, города, леса, лазурь озер,
на горные столпы, на Океан, поющий
и полный розами зари, извечно сущей.
В невозмутимости, на все глядит поэт.
Вот землю, как и твердь, священный залил Свет
от бездны до небес, от высоты к былинке
он льется, трепеща, дробится па пылинки,
играя, золотит лобзаньем птиц во мхах
болотных, а в густых бамбуковых лесах
задумчивых слонов, что вздрагивают резко,
когда над ними жук проносится средь блеска,
Раджей и Париев, священников и псов,
и Гимаватский кряж, и малых комаров.
Смех ослепительный сияет над вселенной.
И Жизни аромат течет волной нетленной
на необъятность грез, где Брама сам себя
узрел, узнал, сверкнул, себя же полюбя.
Валмикина душа отходит в этУ славу.
Кто искупленья час развеял величаво?
О призрак древних дней, как возродился ты?
О песнь великая любви и доброты,
баюкающая, как нежный вздох парящий,
Дасаратида сон и Митиленну в чаще,
героев, мудрецов, и женщин, и богов,
и бесконечпый ход лучащихся веков!
Зачем, дурманом роз пропитанный глубоко,
ты, мнится, вновь течешь из дивного истока?
О Рамаяна! Дух, что пел тебе хвалу,
летит, вслед за тобой, в лазоревую мглу
и, в опьянении гармонии священной,
в бескрайном вихре душ круяштся вдохновенно.
Вот солнце поднялось, сжигая небосвод.
Густой, безмолвный зной потоками течет
из ока жаркого, объединяя связью
личины, запахи, цвета, многообразье
вещей ликующих, шум жизни, вздох живой
30
мятежных волн морских, объятых тишиной.
Все замерло. И Мир сгорает без остатка.
Но тут из-под земли, дымящейся и шаткой,
из тайных нор, термит ползет, жарой дразним,
и сотни, тысячи, киша, ползут за ним,
не зная отдыха,— и вот их миллионы
к себе влечет Певец, в мечтанья погруженный,
стоящий у ствола, прижавшийся к сукам
и исчезающий в том, что он вызвал сам.
Дух отрешается, и чувства меркнут с духом.
И орды муравьев, белея вздутым брюхом,
на жертву тихую уверенно ползут,
снуют и падают, и жесткий шорох вьют,
подобный рокоту приливной пены в море.
Колени, бедра, грудь они скрывают вскоре,
и прогрызают плоть, проходят в. щели глаз
к пустотам черепа, как в потаенный лаз,
переполняют рот, раскрытый, синеватый,—
все распадается, и с гребня Гимавата
алтарным божеством глядит на мир скелет
того, кто навсегда бессмертен как поэт,
чья дивная душа наш сумрак наполняет
и на устах людей вовеки не смолкает.
Г И Π А Τ И Я
Когда религии, согбенные веками,
встречая слав земных томительный закат,
идя в забвение пустынными тропами,
на алтари свои раз&итые глядят;
когда бродячий лист, слетев с дубов Эллады,
путь к папертям пустым скрывает все плотней
и за предел морской, где тьмы встают громады,
к Светилу юному стремится дух людей,—
поверженным богам служа, как прежде, верно,
великая душа их от судьбы храпит;
пусть новый день ее тревожит беспримерно,
созвездья прадедов в выси она следит.
Иной ,судьбы ища, пусть век без сожаленья
кидает старый мир, исчерпанный до дна,—
(все помнит юности счастливое цветенье
и к трепету могил склоняет слух она.
Герои, мудрецы сияют жизнью снова!
Порты вновь поют величье их имен!
Олимпа божеству тро,н из кости слоновой
воздвигнут — и дрожит от гимнов Парфенон!
О дева, ты полой одежд незагрязненных
прикрыла гроб, где сонм твоих богов исчез,
служительница их обрядов омраченных,
последний чистый луч, пришедший с их небес!
32
Привет тебе, привет душе твоей высокой!
Когда страну отцов потряс великий гром,
пошла в изгнанье ты с Эдипом в край далекий,
и вечная любовь почила на слепом!
Ты (стала, бдедная, бл'из портика святого,
чей улей покидал неблагодарный люд,
ты, на треножнике сев пифией суровой,
богам отвергнутым дала в груди приют.
Ты видела их блеск в пылании небесном,
и знанья, и любовь ты обретала в них,
и слушала земля, склонясь к мечтам чудесным,
гуд пчел аттических — звук уст твоих златых.
Как лотос, что впитал под мудрых острым взором
их красноречия высокую струю,
во тьме былых Беков светя ночным просторам,
сверкала духом ты сквозь красоту свою.
О древних доблестях достойное ученье
слетало с губ твоих к взволнованным сердцам,
и христиане, вняв крылатому виденью,
от бога мертвого влеклись к твоим богам!
Но души за собой звал азек непостоянный,
меж ними и тобой — непрочной связь была,—
они бежали вновь к земле обетованной,
но ты, все ведая, за ними не пошла.
Безумием людей не опьянясь нимало,
хранила ты, в душе, им смутный идеал;
в смущенных их сердцах ты, как в своем, читала,
и дар прозрения тебе Олимп твой дал.
О, мудрое дитя меж сестрами земными,
о, самый чистый лоб средь всех невинных лбов!
Чьи певчие уста могу сравнить с твоими?
Сияла ль где душа так ясно из зрачков!
Не встретя никогда одежды величавей,
грязь века омрачить твоих не смела рук.
Ты шла, взор устремив к великой звездной славе,
не чувствуя людских грехов, злодейств и мук.
3 Леконт де Лиль
33
Ты христианами была потом убита.
Но, пав, ты вознеслась! И с той поры — увы! —
Платон божественный и радость-Афродита
для греческих небес навек, навек мертвы!
Спи, жертва белая, в моей душе глубокой,
в девичьем саване, меж лотосов и роз!
Спи! В мире властвует уродливость порока,
и потеряли мы навек тропу в Парос!
Былые боги — прах, земля не даст ответа,
все смолкло навсегда в небесной пустоте!
Спи! Но зато живи и пой в душе поэта,
пой сладкозвучный гимн священной красоте!
Она одна живет, безгрешна и извечна,
смерть может разбросать миров дрожащих строй,
но красота горит, рождаясь бесконечно,
и катятся миры под белою стопой!
ПАН
Пан из Аркадии, с копытцами и лбом
двурогим, шумный бог, любимый пастухом,
дыханьем радует ствол флейты камышовой.
С зарей — лишь вдоль равнин прольется луч багровый —
бродяга, он глядит, смеясь, как пляшет хор
Нимф, попирающих густой травы ковер.
Мех рысий на спине; на голове кудлатой —
шафран, и гиацинт, и листья нежной мяты;
и звучным смехом лес дремотный будит он.
Рой босоногих Нимф летит со всех сторон
на зов его,— и там, где мирно плещут воды,
вкруг Пана резвые сплетает хороводы.
В грот густолиственный, где зреет виноград,
по следу струй живых, что из лесу спешат,
под многошумный свод, под сень листвы дубовой,
бог укрывается от полдня огневого.
Он засыпает; лес хранит, насторожен,
от раскаленных стрел его спокойный сон.
Но только ночь сойдет в созвездиях бесстрастно
и складки мантии раскроет в тверди ясной,—
Пан, страстью вновь горя, во мгле родных лесов
за девой крадется, бродящей меж кустов,
хватает на бегу и, радость бурно клича,
в сиянии луны несет свою добычу.
з* 35
ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ
Священный мрамор, в мощь и гений облеченный,
богиня властная, Венера, ты чиста,
как зов гармонии, как молнья с небосклона,
о матерь белая богов, о красота!
Не Афродитою, из волн возникнув смело,
над раковиною стоишь ты голубой,
не вьются вкруг тебя, мечты розово-белой,
рой золотистых Игр и легких Смехов рой.
И не Цитера ты, что, вся благоухая
от ласк Адониса, склоняется в тиши,
и алебастровых кружит голубок стая,
одна за ней следя, волнуя камыши.
Но и не Муза ты с певучими устами,
и не Астарта, что, с акантом вкруг чела,
на ложе лотосов, со сжатыми руками,
от сладострастия сгорая, замерла.
Нет! Игры, Грации и Смехи не дерзают,
краснея от любви, к тебе направить лёт:
созвездья мерные кортеж твой составляют,
и стройный хор миров тебе вослед идет.
О символ счастия, божественно-прекрасный,
как море светлое в спокойные часы,—
рыданья не было в твоей груди прекрасной,
и плач людской твоей не омрачал красы!
36
Привет! Перед тобой сильпей сердцебиенье!
У белых ног твоих вал мраморный бурлит,
нагая, ты идешь,— и целый мир, в смятенье,
широкобедрая, тебе принадлежит!
Край мифов, острова! Эллада, мать святая!
О, если б родиной мне был Архипелаг
в тот век торжественный, когда к Земле, пылая,
сходило Небо, вняв ее призывный знак!
Но если колыбель мою на благосклонном
теченье не ласкал Тетидских вод кристалл,
и л, приосенен аттическим фронтоном,
победоносная, тебе молитв не слал,—
дай запылать огню в груди неугасимей,
пусть буду славою за гробом я высок,
пусть мысли ритмами струятся золотыми,
как в формы стройные — металла дивный ток.
ДВУГОЛОСАЯ ПЕСНЬ
1
Богинею Афин, в полупрозрачной ткани,
меня, о Греция, народ твой сотворил.
Богов манила я огнем земных лобзаний;
вливала я в людей бессмертной страсти пыл!
2
Смиренной девою, одеждой длинной вея,
сжав руки на груди, иду с Востока я.
Я расцвела близ вас, озера Галилеи,
под божьею слезой взошла душа моя.
1
На опьяненном лбу моем — смеется счастье;
мой взор смущающий — кто в силах побороть?
В моих устах твой мед густеет, Сладострастье,
твой пламень золотит пленительную плоть!
2
Благочестива скорбь, что жизнь мне облекает,
и, словно тень, сладка израненным сердцам;
и если к Жениху душа моя взлетает,
груз дней слагаю я, предавшись небесам.
38
1
В тунике стройный стан, но грубой нет хламиды,
с паросским мрамором я грудь сравню мою.
Я ионическим стихом хвалю Киприду,
на гиацинтах я и лотосах стою.
2
Счастливец, кто согрет благочестивым бредом!
Счастливец, кто склон ей пред алтарем моим!
Твердь—книга, смысл ее лишь тем, заблудшим, ведом,
кто с горечью рыдал и был хоть раз любим.
1
Бог Эрос, лютою стрелой вооруженный,
безжалостно нанес в дни детства рану мне.
И вот желание стрелою золоченой
трепещет и блестит в сердечной глубине.
2
Венков шаронских роз и ландышей долины
не заплетала я вкруг бледного виска:
мне — золотая ветвь, и аромат невинный,
и свет таинственный предвечного цветка.
1
Прекрасней Лучницы в Ортигии. лесистой,
мешавшие плясать котурны сбросив с ног,
на склонах Фригии, под флейты пересвисты,
«эвое» пела я, вкусив священный сок!
2
Меня лучистый дух нарек своей царицей,
бледна, как лилия, не знавшая лучей,
л — аромат сердцам; и деве светлолицей —
в спокойные часы уснуть в тени моей.
39
1
На звучных берегах всей Аттики священной,
в Ионии, где страсть сама собой чиста,
по следу ног моих взрастал, цветя мгновенно,
живой, блистательный цветок твой, Красота!
2
Смущались мудрецы; душа крыла смежала;
слал небу человек печальное: прости!
Надежду вечную я вновь ему являла
и землю вйовь вела по божьему пути!
1
О нектар сладостный, забвенье вне порока,
страсть! О счастливый мир, где был бессмертен стих!
Дочь милая твоя блуждает одиноко
и видит дикий мох на алтарях своих!
2
Немеркнущий огонь, огонь любви невинной,
вот сердце мир закрыл и погрузился в тень.
Родишься ли опять во тьме души пустынной
ты, день единственный, ты, беззакатный день?
ПОЛДЕНЬ
Вот Полдень, летний царь, простерся по долине,
с (небесной синевы спадая серебром.
Все немо. Воздух жжет и пышет, как в пустыне;
земля покоится в покрове огневом.
Пространство велико, нет тени над полями,
и ют жары иссох родник, поилец стад;
далекие леса с их темными краями,
невозмутимые, в тиши глубокой спят.
Бескрайные хлеба, как море золотое,
развернуты в дали, где сон и тишина;
как дети тихие святой земли, в покое,
пьют кубок солнечный они одни до дна.
Лишь иногда, как вздох их душ в изпеможенье,
колосьев тяжких грудь, в беседе чуть живой,
величественное, неспешное волненье
пробудит и мертвит за пыльною чертой.
И белые быки, за жвачкою ленивой,
поблизости лежат, не зная, где беда,
глазами вялыми следя неторопливо
сон внутренний, тот сон, что тянется всегда.
Когда, о человек, с весельем иль кручиной,
ты в Полдень шествуешь в сияющих полях,—
беги! Жжет солнца луч, в природе — все пустынно,
ничто здесь не живет ни в счастье, ни в скорбях.
41
Но если, грусть и смех познав поочередно
и мир волнения презрев уже навек,
захочешь, утомясь прощать и клясть бесплодно,
изведать до конца угрюмость высших нег,—
приди! Тут солнца речь звучит верховным, благом,
огню лучей предай все существо свое —
и к низким городам вернись неспешным шагом
ты, окунувшийся семь раз в Небытие.
ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «DIES IRA Ε»
...Но нам, сжигаемым тоскою невозможной,
нам, тщетно жаждущим любить и верить вновь,
дни будущие, вы вернете ль жизнь неложно?
О дни прошедшие, вернете ль вы любовь?
Где наших лир златых, над гиацинтом, пенье,
гимн божествам благим, хор девственниц святой,
Элисий с Делосом и юные Ученья,
стихи священные, что рождены душой?
Где ваши божества в их формах идеальных,
величье »культов их, и слава, и багрец,
в отверстых небесах лёт крыльев триумфальных,
слепяще-белый лик, восторг живых сердец?
И Музы-нищенки проходят городами,
и только горький смех сопровождает их.
О мука в терниях,— мы изошли слезами,
которым нет конца, как бегу волн морских!
Да! Зл,о извечное, достигло ты предела!
И воздух века стал тяжел умам больным!
Забвенье! Позабыть толпу и мир всецело!
Природа, мы спешим к объятиям твоим!
43
...Но если даже там, в той шири небывалой,
лишь эхо вечного желанья мы найдем,—
прощай, пустыня, где душа взлететь мечтала,
прощай, о дивный сон, оставшийся лишь сном!
Божественная Смерть! Царя над всем и всеми,
прими нас в лоно звезд, спаси детей от зла!
Пространства, времени, числа сними с нас бремя
и дай нам отдых тот, что жизнь у нас взяла!
мз звоажгм
„ВАРВАРСКИЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ
*
КАИН
И на тридцатый год, в столетье истребленья,
в тлену у всадников Ашура не один,
провидец Фогорма, Э^ама, Тура сын,
улегшись в камышах, увидел сновиденье
в тот час, когда лучи белят траву и тын.
С тех пор когда Ягве-Охотник, приучивший
орла и пса терзать могучих плоть, склонил
народ свой иод ярмо Ашурово без сил,—
всяк, волосы с лица и головы обривши,
умолк от горести и уши затворил.
Клонясь под тяжестью взрастающих печалей,
в испуге, в голоде и в жажде, по!д ярмом
всяк вспоминал, в слезах, свой разоренный дом
и схожих с тушами на рыночном развале
князей, повешенных языческим царем;
пяту неверного, ступившую на темя
героев, храм святой, отцам внушавший страх, .
отныне брошенный и обращенный в прах,
и дев, рыдающих под свист бича в гареме,
и мрачного Ягве в безгласных небесах.
47
Оставив в этот день сидеть меж стариками
и детворой, в жару прикрытой как-нибудь,
жен смуглых, что в тоске свою терзали грудь,
Элама сын, избит у жернова ремнями,
на берегу реки Ховара лег вздремнуть.
Лежали на свету равнины, цепенея
в дремоте, жеребцы, кобылы, их приплод,
верблюды, буйволы и пастухов народ,
рожденный странами Ирана и Халдеи. -
Провидцу Фогорме явился сон. И вот...
Был вечер, времена таинственной вселенной.
От севера на юг, с заката на восток
вся жизненная мощь гремела как поток:
деревья, человек, скала и гад презренный;
и в творческом пылу дышал с усильем бог.
Был вечер тех времен. Косматые туманы
из моря жаркого вздымались там и тут,
порою в воздухе висели глыбой руд,
порой, гонимые порывом урагана,
свивали молнии в громадный яркий жгут.
В пурпурных полосах закатный глаз косящий
спускался в пенистый и золотой простор,
тогда как, весь восток закрыв, Гелбое-хор,
от морня до вершин суровый ή гремящий,
пылал, кровоточа, как гробовой костер.
А дальше, в глубине, меж черными песками,
где яростно ревел онагр и выл шакал,
внезапно массою чудовищной вставал
тяжеловесный зверь и скрежетал зубами,
и землю шаг его надолго сотрясал.
Но позади горы, из-за Гелбое-хора,
белесоватой мглой наполнена, душна
горячим дыхом львов, до дна возмущена,
как море, с ветрами (вступающее в споры,
бурлила яростно и смутно глубина.
48
И сразу Фогорма перед собою стену
железную узрел, спирали башен с ней
и медные дворцы на ложах из камней;
гигантский улей, ад, угрюмую геенну,
утробу Силачей, владык старинных дней.
Они сходили с гор, они брели по долу
из сумрака лесов и из степной страны,
могучее, чем кедр, громаднее сосны,
грузны, всклокочены, пуская пар тяжелый
из красногубых ртов, голодны и вольны.
С охоты шли они, таща на мощных спинах
льва обагренного, медведя или рысь.
И жены рослые шли рядом, вскинув в высь
сосуды медные с водой ключей пустынных,
о бедра голые руками опершись;
пронзительно смотря вдаль взором величавым,
■с грудями крепкими, в уверенности той
ужасной, что дают лишь сила да покой,
ступая, к шагу шаг, по терниям и травам
ногами белыми, спокойной чередой.
И ветр почтительный, скользя по косам темным,
по шеям мраморным, восторженно дрожал,
и блещущий гранит кровоподобных скал,
подобно зеркалам тенистым и огромным
в вечернем пурпуре их спины отражал.
Коровы пестрые с набухшими сосцами,
ослы камосские и черные быки
бежали под бичом, проворны и легки,
и псы могучие гонялись за скотами,
и гулко падали засовы и замки.
И песни зверские, и грубый смех, мешаясь
с угрюмым ревом стад, бегущих второпях,
подобно шуму скал, колеблемых в волнах,
вздымались к башням, где, на посохи склоняясь,
стояли старики, в сандальях и плащах;
4 Леконт д.е Лиль
49
виденья жуткие, чьи бороды седые
на руки рыжие струились серебром,
в монистах бронзовых, € нахмуренным челом,
с ноздрями вздутыми, надменные, прямые,
покоившие взор на племени родном.
Затем, когда толпа, крик и движенье праха
в воротах сгинули под грохоты и звон,
ночной провал велел со всех земных сторон
подняться ужасу и сумрачному страху,
как вздоху сиплому, под скорбный небосклон.
И Ясновидящий почуял, как на коже
его от ужаса вздыбились волоса:
он понял, что ему явили небеса
столицу горести и одинокой дрожи,
гробницу Каина (свершились чудеса!);
то место мрачное, где, с красными глазами,
устав брести, семье сказал он: «Стройте тут
мие усыпальницу; к исходу дни идут.
Свободен, одинок, $д&съ лягу меж камнями.
Бродяга хочет спать. Пора! Закончен ТРУД-
Ущелья диких гор, безвестные громады,
вы видели, как брел с утра до тьмы беглец.
Но вот я отдохнуть намерен, наконец.
Да ляжет на спину, ©зор к небесам, о чада
унынья и любви, несчастный ваш отец!
Пусть солнца глаз глядит и омывает ливень
Знак, ненавистью мне поставленный на лоб!
Ни коршун, ни орел, в час голода и злоб,
Здесь не пожрут меня, и взгляд мой будет дивен.
Умолкнет даже трус, мой заприметив гроб.
Но плач ветров и страх былых ночей бессонных,
хрип жажды, голода, томление тревог,
унылое вчера и завтрашний урок,—
вся скорбь земли пускай звучит в ушах стесненных
и в сердце у меня пусть воет, как поток!»
50
Все было сделано. И грозное творенье
в пустынных небесах воздвиглось алтарем.
Уставший за века, лег праотец на нем,
взор широко открыв, под светом и под тенью,
лик к тверди обрати, заснул последним сном.
О Знохия! Ты, Гигантов град ужасный!
Приют Неистовых, твердыня Силачей,
не знавших никогда ни страха, ни скорбей,—
всей плотью задрожал Элама сын злосчастный,
когда ты встал пред ним из глуби мертвых дней!
О бездна, в глубине которой прелесть девы
архангел увидал и пыл любви постиг,
где человек, дитя греха, как плод возник
и материнское прорвал мятежно чрево,—
ты призраком предстал для Фогормы в тот миг!..
Он мощных лестниц ряд увидел у святилищ,
дрожь красных факелов под натиском ветров;
услышал волчий вой, рычанье черных львов
и иод оборотами, на дне водохранилищ,
злых крокодилов плач и скрежет их зубов;
услышал из углов пугающего дома
храп спящих, чьи глаза подобились огням;
зловеще-тихие, пред ним то здесь, то там
приподнимались с лож ужасные фантомы,
влекомые во тьме к полночным шепотам.
Внезапно, разорвав всесильной тьмы объятья,
из глубины пустынь, лежавших в мертвом сне,
явился Всадник: он на яростном коне,
сжав кулаки, твердя свирепые проклятья,
стремился по горам и долам, весь в огне.
Его седых волос свисающие пряди
трещали мерзостно в сверканьях роковых;
а вслед ему неслись, как ропот ©од морских,
большие — впереди, те, что поменьше,— сзади,
все твари и земли и высей голубых.
51
Онагры, волки, псы, рептилии, медведи,
шакалы, тигры, львы, верблюды и орлы,
могучий бегемот, массивнее скалы,—
кляня по-своему, бросались в диком бреде
на город твой, Энох, киша в разливе мглы!
Но дети ангелов па медных ложах сияли.
И Всадник закричал, и голос был, как стон:
«Погибель городу, что погрузился в сон,
приюту странника, бунтовщика вначале,
кого ревнивый бог отвергнул до времен!
Склеп Проклятого! Знай, что близок час отмщенья!
Моря вздуваются, рыча, и пена вод,
восстав превыше гор, пернатых увлечет.
Вот — начинается всего уничтоженье,
и, семь печатей вскрыв, спадает небосвод.
И скажет лик пустынь: что стало с Энохией,
всходившей до небес, как тот Гелбое-хор?
Орлы и вороны затеют долгий спор:
где к небу возносил твердыни грозовые
гигантов прочный град, опора из опор?
Да, все обречено и сгинет беспощадно,—
убийцы род, костей не сложишь ты в гробу!
Эй! Слышу бездны вой, она зовет судьбу,
и к пропасти уя;е скользит род плотоядный
того, кто предпочел смирению — борьбу!
О Каин! Ты в ночи, не ведавшей денницы,
во чреве Евином был проклят с первых дней!
О горе! Чрез тебя светило, в час скорбей,
испило кровь — ту кровь, что с той поры дымится
из века ов век в груди неистовой твоей!
О горе плоти сей, простершейся в покое,
и духу, спящему в молчанье гробовом!
Не знал ты ни надежд, ни веры в дне былом!
Тебя счастливей — п'ес, подохший под- стеною!
Ягве замкнул тебя в ужасном зле твоем!»
52
И вдруг над городом мятежным, средь молчанья,
возвысит голову, для взоров всех открыт,
медлительно восстал, не вытерпев обид,
гигант, что был зачат для первого страданья
той женщиной, чей грех людей в веках казнит.
Он встал во весь свой рост на каменной вершине,
где, после тягостных, свершившихся веков,
спал, чтобы никогда не пробуждаться вновь;
он посмотрел во тьму, на древнюю пустыню,
и руки на груди сложил, еще без слов.
Свисая, волосы его лицо скрывали;
но, под косматыми бровями зажжены,
глаза, единственным видением полны,
за (далями небес и лет уже искали
исчезнувшие дни и юность старины.
И видел Фогорма: весь род неисчислимый
Эноха — запрудил, подобно муравьям,
громадные дворцы, строй башен, стены, храм,
взор к предку обратив,— а он, неколебимый,
в молчании стоял, предавшийся мечтам.
А звери лаяли и фыркали бессменно,
и жеребец, дыша огнем, суров и дик,
грыз пальмы старые, как высохший тростник,
и Всадник сумрачный, хранитель врат геенны,
с рычанием зверей сливал свой грозный крик.
Но гневный Человек, уже забывший дрему,
узлы могучих рук во мрак простер, угрюм,
и вдруг заговорил, перекрывая шум,
суровым голосом, подобным гулу грома,—
и эхо по пескам помчалось, как самум.
«Кто пробудил меля на этом ложе голом,
где, охладев, я спал столетия без сил?
Ты ль, первый смертный крик, что, рухнув, испустил
хевронский юноша под заступом тяжелым,
когда ,я жертвеиник в досаде сокрушил?
53
Молчи, молчи, о вопль, всходящий до вершины
гробницы древней, где лежал я, усыплен!
Все ночи и все дни тебя л слышал, стон!
Непоправимое свершилось, мертв невинный.
Так долго я ,не спал, что заслужил свой сон.
Но нет! Не ты теперь рыдаешь, порожденье
печальной женщины, обнявшей труп немой!
О Жертва, знаешь ты, в чем умысел был злой
Ягве, пославшего мне в гневе ослепленье.
Несправедливый бог — палач единый твой.
Замолкни, Всадник! Вы, неистовые звери,
которых юн привел, молчать велю и вам!
Я говорить хочу! Пора уже глупцам
узнать, что господу-ревнивцу, в дикой вере,
я, Каин мстительный, поведаю, упрям!
Молчите! Вижу я невинность мира снова.
Мне слышно, как поют, при сладостных ветрах,
леса, расцветшие под небом на холмах;
Земли краса и мощь не знают дела злого,—
тот сон божественный живет в моих глазах.
Голубок тихий вздох сливает вечер зыбкий
в тумане золотом и в рощах молодых
с негромким рыком лывов, спокойных и ручных;
могил не зная, рай земной дарит улыбки
господним ангелам под тенью пальм густых.
Неиссякаемой струится Жизнь отрадой;
сияние земли и радужных высот
поток святой любви в сердца живущих льет;
и женщина, всегда веселая, в тьме сада
мужчине вечному лобзанье отдает.
Чудесная заря, улыбкой уст румяных,
в той колыбели, день ко дню, своей игрой
иное божество рождает в час святой;
великолепный мир предметов осиянных,
где я произрастал, невинный, молодой.
54
Небесных духов брат и спутник их (высокий,
прославленных детей начало в беге лет,
я знал любви язык и получал ответ:
по слову моему, из дивного истока
являлись, как от слов Ягве, миры на свет.
Эдем! Блестящее и краткое виденье,
тот рай, что в юности утрачен мною был!
Эдем, Эдем! В моем мятежном сердце пыл,—
я вижу вновь, как сон подвергся измененью
и /даль (небесную меч страшный озарил!
дем! Сладчайшее из сновидений сладких!
ы, о котором я так плакал в те года!
Вдали от стен твоих, закрытых навсегда,
проклятьем я гоним, а ты, в -сверканьях кратких,
скользишь в морской простор, чтоб сгинуть без следа.
Босая, жалкая, уходит Матерь в дикий
ненаселенный лог, свои мечты губя;
в страданьях, в голоде, тоскуя и скорбя,
родит на терниях, в неимоверном крике,
того, кто Каином, Ягве, стал для тебя!
О ночь! Скопленье туч, пробитое огнями,
кедр опрокинутый, свист ветра, грохот вод,
о причитания отца, о мой приход,
о угрызения, я в мир явился с вами,
и мать своей слезой мне опалила рот!
Впивая с молоком тот ужас одинокий,
беспомощен и наг, я рядом с ней лежал,
на первый возглас мой лишь гром прогрохотал;
тот, кем я был зачат,— мне посылал упреки,
улыбки матери — я больше не видал!
Наследник жалостный печали первородной,
изгнанье встретил я, мучительно стеня.
Что сделал я? Зачем ты не побил меня
каменьями, когда я родился, холодный,
и в сердце кровь моя не ведала огня?
55
Носимый на волнах той первобытной Ночи
немыми вихрями всех безнадежных грез,
я ж солнц не зажигал и не летал средь гроз;
чтоб ведать, что «я — есмь», что жизнь сверкает
в очи,
дремотной вечности тревог я ж не принес?
Я ж глине не твердил: живи, стеная вечно!
Я ж, наложив запрет, влеченья не вселял
к тому, что не схватить, как в море легкий вал,
и к сну бессмертному не влек же бессердечно?
Я ж, не велев желать, ослушных не карал?
О горе! Не молил я Мощного десницей,
того, кто мучит мир в зловещей западне,
кто на крылах грозы грохочет в вышине:
прекрасна эта жизнь, и я хочу родиться!
Была ль нужна мне жизнь но тягостной цене?
Теперь доволен будь! Есть Каин! Вот, подобно
вершине кедра, лоб вознес он в небосклон.
Он всходит ввечеру на сумрачный Хеврон.
И сердцем, съеденным уже тоскою злобной,
он думает, что мир в темницу заточен.
Все стонет. Вот гора в слезах ломает руки,
вот крик мучительный встает с лесных полян,
стеная, катится пустыней ураган,
ночь мрачная, в тисках ее томящей муки,
рычит, как дикий лев, попавшийся в капкан.
И там, где я стою, угрюмый, -величавый,
покуда отдохнуть ложится смертных род,
безмерная тоска меня как зверь грызет,
и вижу я опять: сверкает меч кровавый
в небесной глубине, как пагубный восход.
Я вижу: древний страж, неумолимо-строгий,
лучистый херувим проходит через мрак;
тот шестикрылый дух, мой господин и враг,
в" меня вонзая взор недвижный, на пороге,
заклятом господом, задерживает шаг.
56
Он, озаряя лик мой гневный, восклицает:
— О Каин, Каин! — Страж, ты видеть захотел
меня? Я тут! — Ступай и спи! Мир онемел,
забвение людей и землю обнимает;
тот счастлив, кто, смирясь, бороться не посмел.
Зачем ты бродишь здесь, вокруг священной тени,
как дикий волк лесной, и грезишь о борьбе?
К Эдему чистому, что стал далек тебе,
Зачем иссохший рот ты тянешь в исступленье?
Склонись главою, раб, покорен будь судьбе!
Вернись в свое ничто, червяк! Твой гнев бессильный
не значит ничего пред тем, кто правит суд!
Так пламя, хохоча, жжет ропщущий сосуд,
так ветр не слушает, как лист стенает пыльный.
Молись и преклонись!—Нет, я останусь тут!
Пусть под пятой, его поправшей, трус ничтожный
смиренно хвалится постыдною судьбой,
пусть унижением он платит за покой!
Благословляет пусть Ягве, в гордыне ложной,
и льстивый страх, и гнев, лукавящий порой!
Я — буду тут стоять! И с ночи до рассвета,,
с утра до сумрака, упорный человек,
не прекращу я крик, что сердце мне рассек!
Я справедливости хочу, которой нету.
Убей меня, но я не покорюсь вовек!
Тьма, отвечай! Ягве, ответствуй, вихри ширя!
За что страдаю я? — И смог мне страж сказать:
— Так захотел Ягве. Ступай же, злобный тать,
дорогой страшной! — Дух, зло появилось в мире!
Зачем я был рожден? — Ты завтра будешь знать.
И завтра — я узнал. Как, ослепленный, в яму
медведь вдруг падает среди своих утех,—
избитый злобою, хмельной, глухой для всех,
на западню Ягве нарвался я, упрямый,
и он толкнул меня на предрешенный грех!
57
О юноша, твои глаза, как блеск небесный,
ласкали добротой, ты сердцем был нежней
ягненка, что пастух выводит из клетей,
и тот, кто приручил тебя в неволе тесной,
замыслил задушить тебя — рукой моей!
На дне Шеола спи! Твоею кровью алой,
любимец Евы, ты, кого я обожал,
©сей ртой кровью я с времен тех истекал!
Без пробужденья спи! А мне — вопить устало
и проклинать того, кто ненависть мне дал!
О дети ангелов, о Каиново племя,
в котором кровь моя! О Сима сыновья
покорные! Для всех рассказываю я!
Гиганты, слушайте! Прах, слушай ты со всеми!
Слух напряги, о ночь земного бытия!
О Э^опш! Мое правдиво предсказанье
о Мстителе! Вдали уже мне зрим поход
веков твоей земли и тверди. Ныне, вот,
они в видении, яснеющем за гранью,
стремятся, под твои проклятия, вперед!
Напрасно, возмечтав, захочешь ты, гремящий,
потопом первых вод власть укрепить над ним:
он расхохочется над ужасом/ своим
и, как Левиафан, на берег выходящий,
из бездны выйдет вновь—увидишь! —невредим.
Уже не великан, уже не дух свободный,
но побеждающий, но пышущий борьбой,
коварный, бдительный, неутомимо-злой,
плоть ледяная, где погас пыл благородный,
вновь станет человек под твердью роковой.
И в сердце у себя храня Потопа тину,
Забыв про все, растя лишь ненависть и страх,
он, человек, опять размножится в веках
и буйно кинется на боганвластелина,
на призрак твой, на тень в ужасных пеленах.
58
Бог молний и громов, бог ветров, бог сраженья,
в пустыне зыблющий горячие пески,
ты, возлюбивший смерть и веянье тоски,
голодных матерей толкавший к преступленью,
повелевавший им рвать чад своих в куски!
Бог скорби, жадный бог, лик прятавший строптиво,
бог, лгавший, говоря, что юн — добро и свет,—
мое дыхание, создатель древних бед,
вновь жертву воскресит твою, тебе на диво.
Ты скажешь ей: молись! Она ответит: нет!
Час к часу, о Яше! И мускулы людские,
окрепнув, разорвут объятья рук твоих;
отбросив твой ярем, как тяжесть лет былых,
пространство победив, свободные стихии
отторгнут твой призыв, когда ты кликнешь их!
Чтоб уничтожить мир, идущий к отреченью
от веры, вспенишь ты безмерный кровопад,
железные тиски ты разъяришь стократ,
заставишь запылать, в последнем исступленье,
у воющих костров разверстой бездной ад.
Когда ж твои жрецы — волков подобье диких,—
пресытившись людьми, от злобы исхудав,
за жертвы страшные попросят благ и прав,—
пред ними встану я из пепла душ Великих
и ncoiB презрению предам, избичевав!
Я города найду в глубинах вод бездонных,
и те, руины чьи давно покрыл песок;
я в ложе пенистом запру морской поток;
и внуки чистые народов отомщенных
со смехом встретят жизнь, не зная слова: бог.
Обманчивую твердь .я ниспровергну грозно.
За рубежом небес, разбив могильный мрак,
где отзвуком еще гремит твой мрачный шаг,
велю кишеть мирам (в их славе грандиозной,
чтоб не нашел тебя там ищущий простак.
59
И мой настанет день! К созвездью от созвездья,
счастливый наш Эдем, оплаканный в былом,
увидит Авеля плечо с моим плечом;
а ты, ты в саване могильном, в час возмездья,
исчезнешь навсегда в бесплодии своем!»
Так Мститель кончил речь. И темные просторы
продлили, к звуку звук, с равнины до хребтов
раскатистый отгул неукротимых слов,
который в пропасти ночной замолк не скоро.
В холодных небесах пронесся гул ветров.
И Ф'ошрма уже не видел свор звериных,
ни Всадника, ни стен... лишь чувствовал испуг.
Умолкло сразу все. Безмолвие вокруг
свинцовые крыла простерло на равнинах.
И, в судорогах, твердь огнем зардела вдруг.
И сорвалась печать гигантского потока.
Низринувшись с высот, его безмерный вес
разрушил кров Земли. И дрожь, придя с небес,
прошла по всем живым; и начался жестокий,
ужасный дождь, сплошной, как ткань ночных завес.
И вот- со всех сторон трепещущей вселенной
возник далекий гул, неясный и глухой,
пространство запрудил — и грохот грозовой
раздался в темноте. То море, в гриве пенной,
встав с ложа древнего, издало долгий вой.
За часом час оно росло, и лезвиями
тесало высь горы, которой нет страшней,
вздымало радуги огромные над ней,
взмывало до небес, где пробегало пламя,—
так распускает ряд колец могучий змей.
Оно неслось, волной прибоя поглощая
равнины, пустоши, леса и города,
повсюду в ужасе бежавшие стада
людей, их смертный вопль и скопища без края
животных, молнией разимых навсегда.
60
Взъерошеипым, большим, кружащимся в спиральном
полете птицам, чьи намокшие крыла
дождь страшный тяжелил, порой являла мгла,
как погружался пик под морем погребальным,
вослед которому, с рычаньем, бездна шла.
И духи мрачные, колыша оперенье,
смотря на бедный мир ни жалостно, ни зло,
кружились, чтоб при них везде все умерло
и над пустынею всемирных вод — забвенье
неотвратимое всей тяжестью легло...
Когда же Солнце, глаз пустынный и глубокий,
глядящий сослепу над пеною валов,
возникло из морских клубящихся паров;
когда тугим узлом стянул покров широкий
умерший мир, мешок гигантских костяков;
и высочайший пик, шумя, покрыла пена,—
эламец Фогорма пал в ужасе на брег
при виде Каина: шел Мститель-человек,
бессмертный враг Ягве, зловещий, неизменный,
к прибрежной мгле — встречать чудовищный ковчег.
И прекратился €он, над вещуном провеяв
у ©од Ховара, где пьют люди со скотом,
и был записан сон острейшим тростником
на коже дикого осла письмом халдеев,
ашурским пленником, провидцем-мудрецом.
СЕРДЦЕ X И А Л Μ Л Ρ А
Ночь — светлая, в ночи — вихрь ледяной. Снег красен.
Здесь храбрых тысячи уснули навсегда,
зажав мечи, раскрыв глаза. Любой безгласен.
Над ними воронов снижается орда.
Холодная луна льет призрачное пламя.
Вот Хиалмар, в кругу кровавых мертвецов,
привстал и оперся на меч двумя руками.
Стекает пурпур битв с израненных боков.
«Гей! У кого еще немного есть дыханья,
меж храбрых воинов, здоровых, молодых,
что пели поутру, в бездумном ликованье,
как бодрые дрозды в кустарниках густых?
Безмолвны все. Мой шлем пробит насквозь, и латы
прорублены. Топор громил их день-деньской.
Глаза покрыла кровь. Мне слышатся раскаты —
как моря бурный гул иль волчьей стаи вой.
О ворон, подойди ко мне, оставив мертвых!
Железным клювом вскрой мне грудь. Потом — в полет!
Ты завтра нас найдешь по-прежнему простертых,
а сердца теплого дочь Йлмерова ждет.
К Упсале, городу, где ярлы тянут пиво
и, чашами звеня, поют все веселей,
о житель вересков, направься торопливо
и разыщи мою невесту поскорей.
62
На башенном верху, где ветер свищет резкий,
увидишь ты лицо в чернеющих кудрях.
В ее ушах блестят из серебра подвески,
глаза ее светлей, чем звезды в небесах...
Ступай, ночной гонец, любовь мою поведай
и сердце ей вручи. Oma поймет, скорбя,
что красное юно, что презирало беды!
Улыбкой наградит дочь Ил мера тебя!
Я ж умираю. Дух сквозь двадцать ран струится.
Я прожил жизнь мою. О волки, пейте кровь!
Свободный, молодой, веселый, яснолицый,
иду — среди богов воссесть под солнцем вновь».
СЛЕЗЫ МЕДВЕДЯ
Владыка Рун сошел с холмов страны далекой.
Покуда слушал он седого моря вой,
медведя рев и плач березы одинокой,—
пылали волосы его во мгле дневной.
Бессмертный Скальд спросил: «Что ропщешь ты
мятежно,
о море темпое? Береза, с высоты
зачем ты слезы льешь? Зверь в шкуре белоснежной,
с утра до вечера зачем томишься ты?»
«Владыка Рун! — в ответ ему сказало древо,
при ветре задрожав от кроны до корией,—
ни разу не пришлось мне любоваться девой
под взглядом любящим того, кто мил и ей».
«Владыка Рун!—в ответ ему сказало море,—
не знала летних чар ни разу грудь моя,
я порождаю страх и гибель в вечном споре,
но, солнцу радуясь, вовек не пело я».
«Владыка Рун! — медведь ответил, шерсть щетиня,—
охотник яростный, я впроголодь живу;
зачем не агнец я счастливый на равнине,
жующий не спеша душистую траву?»
64
И арфу поднял Скальд бессмертный, и святая
песнь сорвала зимы девятую печать,
береза вздрогнула, в лучах росой сверкая,
смех звонкий обежал седого моря гладь.
Встал на дыбы медведь огромный в восхищенье,
кровавоглазый зверь узнал любовь земли,
и слезы в два ручья,— знак нежного томленья,—
по меху белому, алея, потекли.
5 Леконт де Лиль
СМЕРТЬ СИГУРДА
Да, Сигурд умерщвлен! Из шерсти покрывало
от головы до пят героя облекло.
Прекрасный труп лежит на плитах тяжело;
дымящаяся кровь еще бежит вдоль зала.
Четыре женщины, подруги королей:
вот Гудрун франкская, скорбящая вдовица,
вот гуннов сумрачных усталая царица,
вот мать водителей норманских кораблей.
И, сидя на полу у неживого тела,
меж тем как эти' три склоняются в слезах,
бургундка Брунгхилд стон таит в немых устах,
без слез глядит на тех, кем горесть овладела.
Вот Герборг, на спину откинув тьму волос,
воскликнула: «Печаль ты знаешь в полной мере
теперь, о женщина! Но горше есть потери:
у гуннов больше мук узнать мне довелось.
Увы! Не я ль мечи увидела в пожарах?
Погибших братьев кровь на зелени лугов,
тела, влачимые хвостами жеребцов,
немые головы на седлах свевов ярых?
Досталась я вождю, и шесть тяжелых лет
его дослех в шатре я чистила покорно.
Взгляни! На мне еще пылает след позорный.—
ременного кнута и цепи жгучий след!»
66
Умолкла Герборг. Вот речь Улранд: «О царицы!
Как ваша боль легка и как тяжка моя!
Среди чужих полей в могилу лягу я,
с родной Нормандией пришлось мне распроститься!
А я ведь видела, как, в брызгах волн морских,
крепили сыновья широкие ветрила.
Моим седым кудрям не ведать ласки милой:
глубинный горький ил сокрыл детей моих!
О женщины! Я так стара и одинока,
искривлена спина, и сердца скорбь сильней,
и не увижу я, как — мозг моих костей —
'заулыбается мне внук голубоокий!»
Умолкла и она. Вот Брунгхилд, сдернув плат,
которым был покрыт король, во сне убитый,
глядит на золото кудрей, на лоб открытый,
на мужественный торс, навек лишенный лат.
И, царственной вдовой, указывает взглядом
на десять троп души, умчавшейся в туман,—
на десять гибельных, разверзтых, страшных ран,
с которыми настал конец земным отрадам.
Тут Гудаун издает Три раза дикий крик:
«О Сигурд! Сигурд мой! О, как же я несчастна!
Зачем я не ложусь с ним вместе в склеп ужасный!
Мой Сигурд умерщвлен, умру я через миг!
Когда я, девою, к нему, вождю, герою,
в наряде золотом и серебре венца
пришла, о небеса! тот день не знал конца,
и сердцем пела я: судьба, борись со мною!
О женщины! Вчера все было, а потом
любимый конь его вернулся, весь дрожащий;
был пеной бешеной замаран круп блестящий,
и слезы падали из конских глаз ручьем.
Откуда, добрый конь? С кем ты носился в сече?
Где повелитель твой? Но конь свалился с ног
и, подметая пыль хвостом, бессильно лег
и долго ржал, почти со скорбью человечьей.
5*
67
— Ступай вслед ворону, за клекотом орла,
царица! — Гаген мне сказал жестокосердный.—
Вновь Сигурд ждет тебя на ложе, столь же верный,
и волки лижут кровь, пока она тепла!.
Будь проклят, подлый франк, принесший смерти слово!
А. если буду жить, отдаст он душу мне!
Но вы? З^чем вы так вопите в тишине?
Что ваши горести — перед тоской суровой?»
Тут Брунгхилд поднялась и закричала: «Да!
Довольно верещать, болтливые сороки!
Когда б моих ночей вы знали плач жестокий,
от ваших воплей что осталось бы тогда?
Ты, Гудрун, выслушай! Мои слова правдивы.
Был Сигурд мной любим. Но он тебя любил.
И в сердце у меня зажегся гневный пыл,—
в крови десятка ран не тонет он, строптивый.
Как будто в первый день, теперь меня он жжет.
Но Сигурд плакал бы над мертвою женою...
Я это сделала! Отомщена я вдвое:
плачь по ночам, кляни и мучься в свой черед!»
И, выхватив кинжал, таившийся под платьем,
бургундка королев отбросила в борьбе,
и, десять раз клинок вонзивши в грудь себе,
на франка рухнула и умерла с проклятьем.
ПУСТЫНЯ
Когда, забыв Хореб, среди пустых равнин,
кобылу тощую стреножит бедуин
и ob сумрачной тени, где финик засыхает,
свой запахнув бурнус, мгновенно засыпает,—
он видит ли во сне, в самом покое дик,
оазис дальний свой, деревья с грузом фиг,
и дол, где лагерем его осело племя,
и (плещущий ручей, где пил и он со всеми,
и блеющих овец, и медленных быков,
и женщин у цистерн прохладных и шатров,
где сказки слушают, внимая им, как дети,
верблюжьи вожаки, белея в лунном свете?
Нет! Вне течения часов, вне этих мер,
его душа — в пути к благой стране химер;
он, в грезах пламенных, на Аль-Борак могучей,
что ржет и до небес несет его сквозь тучи;
дрожит он, кажется ему, что видит он
Дженната дочерей, уже разгорячен;
от знойных их волос, чернее адской ночи,
исходит аромат, жжет тело, ширит очи;
кричит он, хочет он руками посильней
виденье дивное сжать на груди своей...
Но вот завыл шакал за дюной отдаленной,
копытом лошадь бьет, и — пробудился сонный.
Дженнат исчез, кругом безмолвный зной течет,
да над пространствами —огромный медный свод.
69
ДОЧЬ ЭМИРА
Вечерний час, исполнен красоты,
окрашивает кроны и кусты,
где птицы, утомясь от песен звонких,
запрятав шейки в перья потеплей,
внимают, как, плеща, бежит ручей
в бамбуках тонких.
Прохладный ветерок «с высот небес
на сикомор и померанцев лес,
в тиши, неясный лепет проливает;
на свежий бархат муравы густой
сквозная тень и сладостный покой
с ветвей спадают.
И вот Айша, которую старик
эмир от взглядов укрывать привык
за ставнями и полотняной тканью,
приходит показать в немой ночи
свои глаза, чьи яркие лучи —
как звезд сиянье.
Ее родитель, Абд-эл-Нур-Эддин,
ей отпирает сад, как господин,
когда палящий день идет к закату
и, кордовских мечетей серебром
играя, золотит вдали лучом
холмы и скаты.
70
От мирта до жасмина, не спеша,
она гуляет, чистая душа;
поблескивая туфелькою пышной,
нагая ножка блещет меж цветов;
невинный вид, и с губ слететь готов
смех еле слышный.
Вдоль розовых кустов она идет.
Ночь наступила. Тишина. И вот
ее назвал внезапно голос смелый.
Айша глядит в испуге: за спиной
стоит спокойный юноша, в простой
одежде белой.
Он благороден, словно Гавриил,
что на седьмое небо возводил
пророка, по господнему веленью.
Как нимб, сияют кудри пришлеца
над дивной красотой его лица,
пленяя зренье.
И говорит Айша, восхищена:
«Привет! Твой лоб сияет как луна,
глаза пылают странными огнями.
Скажи, как З'вать тебя? Кто твой отец?
Ведь ты халиф? Есть у тебя дворец?
Иль ангел с нами?»
И юноша дает ответ такой:
«Я сын царя, Восток мой край родной,
дворец мой первый — кровля из соломы,
но всей вселенной дух мой не вместить.
Я дам тебе, коль хочешь ты любить,
мир незнакомый».
«Да,— молвила Айша,— хочу! Идем!
Но как оставим мы отцовский дом,
коль крыльев нет у нас в помине даже?
А под стеной — взгляни на острый тын —
отец мой грозный, Абд-эл-Нур-Эддин,
расставил стражей».
71
«Любовь сильней железа и стекла,
она свободней хищного орла,
и нет преграды ей при восхожденье.
Как перед нею устоят врата?
Дитя, с любовью рядом все — тщета
и сновиденье>>.
Решетки, стены отошли назад;
темнея, вскоре исчезает сад.
Они идут пустынноккдорогой.
И долог путь, и чувствует Айша,
что ноги в ранах, что слаба душа,
что сил немного.
«О господин, свидетель мне Алла,
люблю тебя, но я изнемогла!
Дойдем ли мы, иль я умру, тоскуя?
Я голодна, и кровь течет ручьем!»
И наконец возник угрюмый дом.
«Вот здесь живу я.
Мне имя — Иисус, я рыболов
и чистых дум отраден мне улов.
Айша, Айша, забудь былые грезы!
Чтоб свадебный наряд блестел, как лалл,
смотри, цветок Йемена, я собрал
и кровь и слезы.
Меня потом увидишь ты, грустя,—
там, в небесах, я дам тебе, дитя,
жизнь вечную, взамен земли позорной!»
И, для живых умершая с тех пор,
Айша уже не вышла на простор
из кельи черной.
ЛУННЫЕ СИЯНИЯ
1
Вот — мир бесформенный, тяжелый, грубый, бледный,
вселенной конченной чудовищный фантом,
обломок, в Океан заброшенный бесследно,
окаменелый ад, расставшийся с огнем,
в ночи летающий, вертящийся волчком.
Одетый некогда первичной красотою,
счастливый шар, что нес все ропоты живых,
когда-то он прошел дорогой световою
с лесами, водами и синью гор крутых,
с своим разреженным, сияющим покровом
и миллионом птиц, поющих утром НОВЫМ
средь пурпура небес, на крыльях ветровых.
Вдали от жарких солнц, от слав ночных далеко,
в пространстве, в пустоте теперь н&сется он.
И вот, как черный сноп, теней разлив широкий
теснит материка уродливый заслон,
бурлит неистово, пока не сокрушен
клин перешейка, риф белесый, невысокий.
С вершин спрядает вниз потоп одним скачком,
по лестницам струит и пенит водопады,
и снодаа рушится, над бездной бездн влеком
в простор, густою тьмой залитый без пощады.
Лишь редкие хребты меж этих волн стоят,
средь ниспаданий тех, огромных и угрюмых,
и здесь ни жалоба, ни стоя не прозвучат:
зловещий шар молчит в своих ужасных думах.
А там, внизу, Земля? что грезит до сих пор,
73
мерцанья синие следя с улыбкой юной,
сквозь много тысяч миль на серп взирает лунный,
который золото дуги над ней простер.
2
В овражной глубине, где глыб неясных ряд,
где лужи тут и там блестят в оцепененье,
ложится лунный свет, пересеченный тенью
деревьев, высохших, как старый тес оград.
Меж порослей, что спят в острейших ароматах,
и в мглу согретую свой испаряют пот,
белесый, жесткий свет луна спокойно льет
на тропы хищных львов, охотников косматых.
Рычанья хриплого растет глухой раскат,
и целый мир в кустах испуганно шныряет;
пантера чуткая хребет свой изгибает
и в тьму овражную бросается назад.
Иссохшие сучки трещат между камнями,
дыханье чудится суровое сквозь мрак;
близ шага грузного стал слышен легкий шаг,
незримые зрачки сверкают огоньками.
Худой и старый царь, лев шествует вперед,
вникая в шум ночной, что всюду копошится,
свирепой самкою за ним ступает львица
и, морды по ветру, детенышей ведет.
Отец, чей страшный лоб окутай темной гривой,
вникает в запахи тончайшие кругом;
колеблясь, вновь идет, и рыжий хвост с пучком
по впалым бьет бокам, стучит нетерпеливо.
Все четверо, вне чащ, на сумрачном холме,
добычу в воздухе почуяв слишком рано,
остановись, глядят на дикую поляну,
которую бледнит покров луны во тьме.
Мать и детеныши легли ,на дерн колючий,
а грозный царь ночей рычанье издает.
И эхо чистое предвестием невзгод
скользит за горизонт, подобно грому в туче.
74
3
Спокойно и громадно море,
предела тщетно ищет глаз.
Конца с началом нет в просторе:
ни ночь, ни день в подобный час.
Нет Бала с бахромою пенной,
нет звезд в воздушной высоте.
Ни гаснуть, ни гореть вселенной,
даль ни в свету, ни в черноте.
Крик буревестника немеет,
дельфин не плещется пока.
Над одинокой ширью реет
тоска, смутна, но глубока.
Не слышно шума, нет дыханья.
Лишь скорлупа без парусов
показывает, в колыханье,
обшивку медную бортов;
и, вдоль куриных клеток стоя
на вахте, моряки следят
едва заметный ход прибоя,
его зыбей подъем и спад.
Но на востоке блик неясный
стал пепельным, и, погодя,
струится пеленой прекрасной,
от горизонта исходя.
Он бурно плавает, порхает
и распускается (везде,
кружится, брызжет, ниспадает
туманом радужным к воде.
Бушует пламень бледным светом,
дрожит, вскрываясь, лоно· вод,
и в небесах, жемчужных цветом,
Луна медлительно встает.
75
y
слоны
Краснеющий песок, как океан безгранный,
на ложе каменном почиет, раскален;
недвижимый прибой заполнил небосклон
парами медными: там — Человека страны.
Ни звука; все мертво. Семейства сытых львов,
за много сотен миль, спят по глухим пещерам,
и -в рощах пальмовых, знакомых всем пантерам,
жирафы воду пьют из синих родников.
И птица не мелькнет, прорезав воздух сонный,
в котором солнца диск пылающий плывет;
лишь иногда боа, в тепле своих дремот,
чешуйчатой спиной блестит, ползя по склону.
Так раскален простор под небом огневым.
Но вот, когда все спит и видит сон о влаге,
огромные слоны, степенные бродяги,
пустыней, по пескам, идут к местам родным.
На горизонте встав, как бурые буруны,
они идут, идут, взметая жаркий прах,
и, чтоб не потерять прямой тропы в песках,
уверенной ногой обрушивают дюны.
Вождь старый впереди. Как ствол древесный, слон
покрыт морщинами; его изъели годы;
утесом — голова, хребет — подобно своду
в движенье медленном покачивает он.
76
Не медля, не спеша, уверенно и чинно,
on к цели избранной товарищей ведет,
и, длинной бороздой свой означая ход,
старейшему вослед шагают исполины.
Между клыков висят их хоботы; порой
ушами машут. Их тела томятся жаром,
пот в душном воздухе густым восходит паром;
сопровождает их мух огнежаркий рой.
Но что им жажда, пыль, мух ненасытных жала
и солнце, жгущее морщины грузных спин?
Мечтают на ходу о зелени равнин,
о пальмовых лесах, где племя их взрастало.
Они увидят вновь поток меж пор больших,
где бегемот, ревя, ныряет в шумной пене,—
там, под лучом луны отбрасывая тени,
сквозь тростники к воде сходило стадо их.
И ютпого они бредут неутомимо,
как черная черта в бескрайности песков.
И над пустынею опять глухой покров,
когда за горизонт уходят пилигримы.
ДЕВСТВЕННЫЙ ЛЕС
С тех пор как б древности взошло здесь на просторе
побегом семя,— лес, листвой шумя кругом,
могучий, тянется за синий окоем,
как будто вздутое огромным вздохом море.
Еще не родился пугливый человек,
когда заполнил лес, в веках тысячекратный,
тенями, отдыхом и злобой необъятной
большой кусок земли, влачившей скудный «век.
В томительном, как бред, времен круговращенье
он наблюдал не раз среди морских валов
возникновение одних материков
и погружение других, как в сновиденье.
Лучились летние пылания над ним,
под натиском ветров дрожал покров зеленый,
и молния в стволы вонзалась исступленно,
но тщетно: зеленел он вновь, необорим.
Шумит он, затая пещеры и обрывы,
и глыбы мшистые, и пар своих озер,
где в темноте ночей кайманов стонет хор,
меж тростников блестя глазами похотливо;
горилл, которые неистово рычат,
слонов, морщинистых, как в зной кора сухая,
которые, скача и заросли ломая,
пьянеют ужасом лесов, немых стократ,
78
лобастых буйволов, опаеливых и лютых,
увязших ιΒ месиве клокочущих трясин,
и львов-мечтателей, в тиши лесных долин,
сбивающих хвостом рой мух, что вечно жгут их;
ручьи, бродячие, но грозные подчас,
что с пиков рушатся, безбрежны, безымянны,
и пену дикую внезапно льют в саванны,
из пропасти одной в другую пропасть мчась...
Болота, склоны дюн, утесы, ил, провалы,
деревья, заросли, травы зеленый плат,
без края тянутся и древний рык хранят,
который грудь его отвека издавала.
Столетья протекли, все уцелело тут,
бессмертных сил его ничто не надломило;
и прежде чем он сам возжаждал бы могилы,
низверглась бы земля, разбившись, как сосуд.
О лес! Еще земля верна своей судьбине,
а ты уже страшись очередного дня;
о гордых львов отец, вот смерть идет, дразня:
уже топор торчит в боку твоей гордыни.
На эти берега, где мощный твой массив,
тяжелый свод листвы нетронутой склоняя,
мешает свет и тень без меры и без края,
и где стоят слоны, в мечтаниях застыв,—
ордою муравьев, бегущих в вечной дрожи,
при всех препятствиях, дорогою своей,
волна несет к тебе царя последних дней,
губителя лесов, пришельца с бледной кожей.
Он рад бы изглодать, изъесть весь мир большой,
где ненасытное его плодится племя,
чтобы к твоей груди припасть устами всеми
и жажду утолять, и вечный голод свой.
Он перервет стволы огромным баобабам,
изменит русла рек, смирит их там и тут,
и в ужасе твои питомцы побегут
пред этим червяком,— подобно стеблю, слабым.
79
Страшнее молнии меж тропиков сухих,
он опалит костром долины, склоны, кручи;
ты обезумеешь под этой бурей жгучей;
и труд его взойдет среди чащоб святых.
Не станет грохота в темнеющих провалах,
веселья, гомона, .порывов и тоски,—
меж безобразных стен сплетутся червяки,
и арки вырастут взамен стволов усталых.
Но, отомщенный, ты без жалоб сможешь спать
в глухой ночи, куда уходит вс# живое:
мы оросим твой прах и кровью и слезою,—
над нашим прахом ты, о лес, взойдешь опять!
ДРЕМОТА КОНДОРА
За лестницей крутой суровых Кордильер,
за пеленой, куда орел летает черный,
и выше всех вершин, где из щелей упорно
кровавой лавы ток выходит «а барьер,—
раскинув крылья вширь, местами красен тоже,
огромен и ленив, направил кондор взгляд
на всю Америку, на медленный закат —
и солищу мрачному в зрачках не вызвать дрожи.
С востока ночь плывет, из диких тех сторон,
где протянулись в даль пампасы и болота;
на Чили, на дома, на дивный небосклон,
на Тихий океан уже легла дремота.
Овладевает ночь немым материком:
с песков на берега, с ущелий к первым склонам,
по череде вершин взрастаньем неуклонным
идет ее разлив своим прямым путем.
Как призрак, оп один, на высоте коснея,
купаясь в зареве, ложащемся на снег,
ждет горделиво тьмы, ведущей свой набег:
она пришла, бурля, и он окутан ею.
6 Леконт де Лиль
81
Зажегся Южный Крест в бездонной глубине,
подобно маяку для кряжа и для дола;
он издает свой хрип в морозной тишине
и шеею трясет, узлистою и голой.
Потом, снег отряхнув, взлетает с диких Анд
и, с криком, ввысь плывет к безветрию, к покою,
и, черный шар забыв, простясь с живой звездою,
в холодном небе спит, раскрыв крыла, гигант.
ЗАКАТ СОЛНЦА
На берегу, в чужой стране,
за океанскими волнами,
две стройных пальмы в тишине
качают пышными ветвями.
Под тенью их от зноя скрыт,
набобом, в полдень сном объятым,
огромный тигр пенджабский спит,
в песке зарывшись розоватом;
вдоль озаренного ствола,
как некогда в эдеме старом,
два змея вьют спираль узла,
под солнцем отливая жаром.
Там, где как шелк блестит залив,
ветвей играя отраженьем,
дом византийский — диво див —
встал фиолетовым виденьем.
И сотни черных лебедей,
крылом приветствуя погоду,
резвятся возле ступеней,
цветную разрезая воду.
6*
83
На горизонте даль чиста;
под мирным небом еле зримо,
как на лазури, пальм чета
колышется неутомимо.
Но вот на розовый закат
выходит птица Рок из сказки,
и в клюве — солнца шар зажат,
и в каждой лапе — молний связки.
И на груди у птицьГ Рок,
воспламеняющейся сразу,
Звезда струится, как поток
рубина, золота, топаза.
Блистательнее Ниагар,
поток, шумя, восходит в тучи
и рушится, о ставя в дар
лишь пену молнии летучей.
Но вот гигантский Орион,
как древний лучник разодетый,
встает от северных сторон,
подобно рослому атлету.
Стрелок железный лук напряг,
в котором пламя кузни мглится,
и, к морю быстро сделав шаг,
стрелой пронзает горло птицы.
Одним ударом крыл, во тьму
уходит птица от напасти;
а солнце падает в дыму
и разбивается на части.
Тогда пожаров завитки
пространство жадно пожирают,
зенита синего куски,
как камни, в море упадают.
На выгоревших небесах
останки тлеют без движений;
последнего обломка прах —
в круженье пурпура и тени.
84
И, медленно идя вперед,
виденьем мрачным и глубоким,
свой черный бархат ночь несет
над этим миром одиноким.
ЗАРЯ
Ночь золотой была. С прохладной высоты
на палевый бамбук, на свежих роз кусты,
на мхи распухшие и дикие шафраны
сквозь листья луч зари сочился беспрестанно.
Цветочный, травяной плыл аромат кругом;
пел в нежном воздухе, носимый ветерком,
хор духов крошечных, что все одушевили —
и розы и ручей в его певучей силе,
хор молодых богов, владык святой земли,
где красота и мощь любовно расцвели.
Овражные края синели от тумана;
и, в крылья острые запрятав клюв багряный,
фламинго белые, меся ложбины грязь,
омытые росой, кричали, пробудясь.
На ясный океан, чуть рябью волн одетый,
бодрящая заря бросала стрелы света,
и горы плавали, вздымая к небесам
поля зеленого маиса по бокам
и пики синие, с дремотными лесами,
под бризом утренним, скользившим над волнами.
И остров розовый, отряхивая сон,
смеялся и звучал, весь солнцем озарен.
О юность чистая, восторг неутолимый,
о рай, утраченный душой невозвратимо,
о свет, о свежесть гор спокойно-голубых,
зеленый цвет холмов и сумрак чащ густых,
заря чудесная и песнь морей счастливых,
86
цветенье дней моих, прекрасных и бурливых!
Вы живы, дышите, поете, как в былом,
вы существуете в пространстве золотом!
Но, небо дивное, болота, реки, горы,
леса, ведущие с ветрами разговоры,
мир идеальных форм, всех красок торжество,
исчезли вы навек из сердца моего!
И, горечью страстей пресыщенный без меры,
еще влекущийся за тысячной химерой,
увы! я изменил, былые гимны, вам,
и голос мой далек обманутым богам.
ЯГУАР
За потемневшею заслоной горных далей,
сквозь волны пенные, едва блестит закат,
пампасы мрачные, где тени длинны стали,
в вечерней свежести чуть видимо дрожат.
С болот, растеньями усеянных без края,
с песков, из темных чащ, от каменистых груд
восходит, медленно пустыню заполняя,
к светилу новому зловещих вздохов гуд.
Луна, возникшая в белесой мгле туманов,
над речкой, где кипит глухой водоворот,
холодно-резкая, сквозь ветви на кайманов
морщинистых лучи невозмутимо льет.
Одни вдоль берега влачат бока громоздко,
железом челюстей стуча перед едой,
другие, чьи тела коре подобны жесткой,
лежат, разинув пасть, в прохладе теневой.
Вот час, когда, в ветвях изогнут гибче змея,
глаза полузакрыв и морду слив с суком,
красивошерстый зверь почувствовал, хмелея,
живого мяса дух, носимый ветерком.
Хребет свой подобрав, готовит зверь заране
для дела смертного и когти и клыки;
в морщинах — борода, и стал язык багряней;
кору сука он рвет на мелкие куски.
88
Спиралью хвост крутя, он им стегает твердый
ствол красный акажу и в ярости хрипит;
потом на лапы oui кладет бесшумно морду
и, словно задремав, хранит спокойный вид.
Но вот совсем притих и, став мертвей гранита,
уже недвижимо свисает меж ветвей:
огромный бык идет на луг, росой покрытый,
рога закинув, пар пуская из ноздрей.
Три шага сделал бык. И вдруг утратил силы:
там, на большом суку, задетом им слегка,
впиваясь в плоть его, где кровь как лед застыла,—
агатом, золотом пылают два зрачка.
Тупой, с дрожащими ногами, ослабелый,
бессильно он мычит, почувствовав тоску;
а ягуар, как лук, вдруг выпрямляет тело,
на шею прыгает дрожащему быку.
Рога вонзая в грунт, бык падает сначала
под тяжестью толчка, сломившего его,
но тут же пробудясь, в пампасы одичало
галопом всадника уносит своего.
По зыбкому песку, по оползням, по дюнам,
по топям, по камням, сквозь дикий бурелом,
они проносятся, облиты светом лунным,—
Зверь гибкий — на быке с разорванным плечом.
Они скрываются за далью омраченной,
широкий горизонт отодвигает их;
и вот уж вдалеке их бой ожесточенный
в губительной ночи таинственно затих.
ДЕЙСТВИЕ ЛУНЫ
Под тучей, где бегут циклоны —
мычащие стада быков,—
вздымает море исступленно
1вершины мутные валов.
Все атлантические черти,
косматые, под визг и гам,
танцуют в черной водоверти
и тянут руки к морякам.
И кашалоты, и нарвалы,
и шумом пьяные киты
смешали вздох и бег усталый
с конвульсиями темноты.
От пены, даже ночью белой,
отяжелев, корабль идет
в пространство моря без предела,
взрезая лбом громады вод.
Дыбится он, дрожит, и снова
взбирается на черный вал,
и, с высоты хребта седого,
внезапно рушится в провал.
И звезд не видно сквозь туманы;
лишь хриплый хохот, жуткий вой
да плач несутся беспрестанно
над омраченной пустотой.
90
Но там, куда корабль несется,
вдруг открывается меж туч
подобье узкого колодца,
где мертвенный мигает луч.
И вскоре в щели озаренной,—
растет и ширится она,—
встает, как факел похоронный,
кроваво-красная луна.
Ее качает ветер дикий,—
лучами сыплет он средь мглы,
багровые бросая блики
на исполинские валы;
но, паруса раскрыв широко,
корабль из адских бездн стрелой
уже летит к звезде далекой,
покрытый пеною морской.
ULTRA COELOS
Когда-то в юности, рой первых грез, в мятеяшом
круженье, вылетал из сердца у меня;
когда-то я лежал на гравии прибрежном,
свободою .небес свой жадный взор дразня;
когда-то, запахов неуловимых полный,
носился в воздухе прохладный бриз ночной,
меж тем как, медленно передвигая волны,
печально рокотал у берега прибой;
когда-то надо мной, сплетаясь пламенами,
ряды немых светил сквозь голубой туман
то градом золотым сверкали над волнами,
то устремлялись плыть в небесный океан;
склонясь над пропастью неведомой мне жизни,
дрожа от ужаса, желаний и тревог,
когда-то обнимал я, в пылкой укоризне,
тень благ, которых сам тогда схватить не мог;
о ночи родины, о дух вершин зеленых,
о вздохи смутные в чернеющей листве,
и вы, горящие миры в пространствах сонных,
и вы, разбеги волн в спокойном торжестве!
92
Восторги свежих чувств и головотсруженья,
в которых катишься без страха, дум и слов,
аскетов древних страсть, сидящих без движенья
весь век, закрыв глаза, во глубине лесов!
Природа! Красота огромности инертной,
та пропасть, где, в святой тиши, забвенье спит,
зачем не увлекла меня ты в мир бессмертный,
когда еще не знал я плача и обид?
Оставив эту плоть глухой к всему на свете,
добычею толпы, спешащей в суете,
Зачем ты не взяла моей души îb расцвете,
чтоб поглотить в своей бесстрастной красоте?
Груз похоронных лет не вызвал бы томлений,
исчезли бы побед и горечи года,
я б через мрак и свет прошел, подобно тени,
незрячий, словно бог, не жил бы я тогда!
Но ищут не в тебе, Природа, благодати;
ведь кровь и слезы лить не вынуждаешь ты,
не слышишь ни любви призывов, ни проклятий,—
спокойной, что тебе до нашей слепоты!
Твой кубок полн всегда, и в нем напиток сладок,
но горькое питье желанья нужно нам!
То — роковой рожок всех наших лихорадок:
вставай! Иди, беги, стремись к иным делам!
Вам остановки нет, личинки кочевые!
Несчетные рои, кружитесь без конца!
Исчислите миров ступени золотые!
О сердце, все в слезах, буди других сердца!
Нет! Одиночество безмерное, не ты мне
Звучишь, как некогда звучало вдалеке!
Тебя ведь бичевал в негармоничном гимне
мечтательный юнец, лежавший на песке!
93
Мечтатель тот во мне еще дрожит, упорный,
как ратный выклик, вновь к сражениям зовет.
Иду! О звонкий зов, мы все тебе покорны,
ты, с кем душа рывком крушит могильный свод!
Мы солнцу дальнему покажем наши путы,
пойдем бороться вновь, мечтать, любить, скорбеть
и будем, дорожа людскою мукой лютой,
жить, если нам нельзя забыть иль умереть!
ПОКАЗЫВАЮЩИЕ
Как мрачный зверь, когда его влекут, ликуя,
и, с выею в цепях, под солнцем он ревет,
пусть сердце обнажать другой к тебе, о сброд
жестокий, поспешит на площадь городскую!
За искру, что 'на миг твой тусклый взор зажжет,
за смех бессмысленный, за жалость неживую
пускай другой сорвет одежду световую
со страсти и стыда! Но мой удел не тот.
Надменный, я молчу, хотя б меня забыли
и вечность черная ждала меня в могиле;
ни радостей, ни бед не стану продавать.
Я жизни не отдам тебе, толпа, для шуток,
и на подмостках я не буду танцевать
среди твоих шутов и жалких проституток.
СМЕРТЬ ЛЬВА
Охотник ревностный, жилец степных просторов,
любивший бычью кровь, в былые дни он мог
глядеть на океан, на лес и гордый норов
рычаньем облегчать, свободен, одинок.
А (ныне, как в аду, за прочностью затворов,
пере1Д толпой зевак, под говор и смешок,
в железной клетке он, не пряча диких взоров,
могучим лбом стучит в тяжелый потолок.
И, наконец, сражен ужасною судьбою,
расстаться пожелал о« с пищей и водою,—
и вскоре смерть его бродячий дух взяла.
О сердце, ты в плену, ты тоже заключенный,
в оковах мировых страдаешь ты от зла!
Что ж трусишь, не умрешь, как лев ожесточенный?
ВЕЧЕР БИТВЫ
Как на твердыню скал идет прибой великий,
так двинулись они в сраженье напролом,
прерывисто дыша, разимые ядром,
подобны быстрине, где не смолкают крики.
Под летним солнцем, в час, когда зардел закат,
они, топча хлеба и сокрушая лозы,
шли, на стену стена, исполнены угрозы,
редея но пути, валясь за рядом ряд.
Потом они сошлись для битвы без пощады,
от ярости хрипя, забыв недавний страх;
железо досыта хмелело в их телах,
мозг брызгал бешено под тяжестью приклада.
Пехота, конница,— тот горд, тот побежден,—
вот, вот они теперь, суровы, страшны, грубы,
их пальцы скрючены, взор мутен, сжаты зубы,
их тысячами смерть смела со всех сторон.
Дождь, лица бледные нешенгно омывая,
внизу, в расщелинах, едва журчит струей,
кружится (воронье над тусклою землей,
над павшими, вдали зловеща мгла немая.
Предсмертный хрип и крик — все заглушает мгла.
На почве взрыхленной, бугристой, безответной,
в последнем свете дня теперь едва заметно,
как смутно корчатся сплетенные тела.
7 Леконт де Лиль 97
И только iß цеягтре, там, \в неизмеримой сече,
закинув шею вверх, ловя вороний грай,
конь по ветру кричит последнее «прощай»,
с которым ночь идет безмолвию навстречу.
О бойня гнусная! Погибельная страсть
к убийству! Трупный смрад, что сердце надрывает!
Сто тысяч хмертвецов равнину устилают,—
и мерзкую резню возможно ль не проклясть!
Но если б >в яркий день, на пажити кровавой,
где к жерлам пушечным войска неслись в пыли,
Свобода, за тебя те храбрецы легли,—
была бы чистой кровь, дымясь тебе βό славу!
ПОСЛЕДНЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ
Я отжил, я погиб. Глядящий, но слепец,
теперь я устремлен в провал неизмеримый
неспешно, как толпа, и тяжко, как мертаец.
Инертный, сумрачный, на дно неудержимо
в воронку я скольжу, спускаюсь, точно груз,
сквозь Неподвижность, Тишь и Мрак невозмутимый.
Я мыслю, но без чувств. Окончился искус.
Так что ж такое жизнь? Был стар я или молод?
О солнце! О любовь! Уж нет былых обуз!
Плоть сброшенная, ты пади в провал! Лишь холод
забвения вокруг, и пустота, и мрак.
Не сон ли? Нет, я мертв. Тем лучше! Как под молот...
Но эта боль, ню крик, но страшной тени шаг?
Случилось все давно, все старина седая.
О ночь небытия, прими меня! Да, так:
мне кто-то сердце грыз. Теперь припоминаю.
7*
99
ПРОКЛЯТЫЕ
Земля была большой и туча — омраченной,
и мне, умершему, тюрьма тяжка была,—
в пространстве слышал я томительные стоны
тех, чьим сердцам любовь страданья принесла:
мужчин и женщин, дев и юношей злосчастных,
рожденных в древности, знакомых новым дням,—
людей, которые в тоске, в желаньях страстных,
вставали предо мной из тьмы могильных ям.
Несчетней волн, к пескам бегущих в час прибоя,
в водовороте мук, и гнева, и скорбей,
они, казнимые несбыточной мечтою,
как море, двигались, от слез лишась очей.
И темный, но с челом открытым, огнекрылый,
желаньем яростным хлеща своих рабов,
За скопищами душ, почти лишенных силы,
летел, как встарь, Амур, злой первенец богов.
Стенаньем бедных душ гармонию смущая,
он, сам снедаем злом, что па лвдей навлек,
по бесконечному пространству гнал без края
тех, кто умел любить, но умереть не смог.
100
И я невольно встал из ледяной темницы,—
вздох исступленных дун1 позвал меня опять;
и я пошел, стремясь с толпой безумцев слиться,
вновь между проклятых любовью пребывать.
О, под бичом богинь умершие Титаны,
Эреба узники, нашедшие покой,
вы счастливы! Для вас нет муки непрестанной,
и потеряли вы лишь твердь да мир земной!
I N EXCELS IS
Быстрей ловца-орла, привычного к паренью,
прыжками, Человек, ты всходишь к вышине,
Земля внизу молчит и смотрит в удивленье.
Ты всходишь. В пропасти открыт тебе вполне
прибой лазурных волн, бичуемых лучами.
Туманясь, шар земной мелькает в глубине.
Ты всходишь. Мерзнет высь, дрожа, бледнеет пламя,
в угрюмых сумерках простор перед тобой.
Ты всходишь, вечный мрак уже сверля глазами.
Провал недвижимый, бесформенный, глухой,
исчезновение материи, без цвета,
с неописуемой и полной слепотой.
Ум! В свой черед всходи к единственному свету,
старинным факелам внизу погибнуть дай,
взносись к Источнику, где все огнем одето!
От лучших грез к другим, прекраснейшим, ступай,
всходи уверенный по лестнице бескрайной,
богов, в святых гробах лежащих, попирай!
102
Сознанье прервано, и вот кончины тайна,
самопрезренье, тень, познание тщеты,
отказ от гения, возникшего случайно.
Свет, где тебя искать? Быть может в смерти ты?
СМЕРТЬ СОЛНЦА
Как море дальнее, осенний ветр шумит,
прощаний важных полн и сетований странных,
и грустно вдоль аллей качает на каштанах
покровы, что твоя, о Солнце, кровь багрит!
Уносится листва в круженьях непрестанных,
и в зеркале реки зардевшей взор следит
в вечернем сумраке колышущийся вид
безлиственных ветвей с рядами гнезд багряных.
Светило славное, дня факел, заходи!
Из раны золотой твоя струится слава,
как высшая любовь, пылавшая в груди!
Умри, ты встанешь вновь! Надежда не лукава.
Но кто вернет огонь, и жизнь, и слов экстаз
для сердца, что навек разбилось в этот раз?
104
ИТАЛИИ
Вот проба и клеймо на гибнущей вселенной,
которую уже величие не ждет
на вечной высоте судьбины неизменной.
Но все-таки всегда и личность и народ
способны, при любых паденьях низких, снова
примером мужества явиться, в свой черед.
Ты, озарявшая угрюмый кряж былого,
в полете мчавшая несмелый дух людей,
о Солнца дочь, о мать потомства дорогого!
Страдалица, чья грудь в раненьях от мечей,
ты взносишь в небеса, беспамятно-немые,
свой злотоустый плач, о Муза всех скорбей!
Родной истории припомни дни святые,
когда ты повела глухих народов хор
из их зловещей тьмы на славный Юг впервые;
когда твои пути струили жизнь ib простор;
когда из звучных недр являла ты гурьбою
цветущих городов блистательный собор;
когда седой Восток, пленен твоей зарею,
как древние цари, которых звал твой бог,
благоухания курил перед тобою;
105
когда ты, вся в огне страстей, вошла в чертог
почившей Греции, народы утешая,
которым свет лила ты овдоль своих дорог!
О, как ты плавала, красавица нагая,
меж сладострастных оволн, бессмертных навсегда,
как на снегу волны цвела ты, изнывая!
Народы множились вокруг тебя тогда,
у твоего огня раздумья возжигали,
твой запах унося иа долгие года.
Как тысячам твоих эпиталам внимали,
как кланялись тебе, когда рожала ты
рой славных душ, теперь рождаемых едва ли!
Как говорила ты, о дева красоты,
по-новому с Землей, очаровать умея,
стремя от адских бездн до горней высоты,
от Галлии лесной до пыльной Идумеи
суровых ангелов па смертоносный бой
ко гробу господа, что © песнях жил, не тлея.
Столетьям ты близка: они всегда с тобой!
Где ж быть сопернице, коль умерла Эллада,
оставив след, как ты, божественной пятой?
Да! Судьбы жребий твой отметили наградой!
Смотри! Пока твои лучи горят во мгле,
ночь в десяти веках висит немой громадой.
И, связь святых умов храня »в наставшем зле,
голубка, ты несла по темным волнам мира
оливы ©етвь, как знак стареющей Земле.
Кто мог, как ты, творить из мрамора кумира
иль, солнцем полную, родную небесам,
кисть с силою держать и длить бессмертье лиры?
Пчела, твой сладкий мед каким не мил устам?
Царица! Кто из нас, художников, с лобзаньем
не припадал к твоим божественным ногам?
106
Но если на Земле, с времен чередованьем,
живая, ты с высот упала под обрыв,
омоется ли грязь подобная — рыданьем?
С тех лор как Варвар смел, твой факел загасив,
пьянясь твоей красой, презрев твою кончину,
замкнуть тебя в позор, как в гроб, всего лишив,—
баюкаемые твдоей мольбой старинной,
народы создали восторг из слез твоих,
настолько гений твой — брат нищете картинной!
В мученьях сладостных, так пела ты для них
о пленных племенах, бичуемых врагами,
что терниями лоб процвел под этот стих!
Молчи, о жертва, скорбь поющая упрямей!
В молчанье высшая свершается судьба,
и муки можно длить — с закрытыми устами.
Раскрыв на все глаза иод белизною лба,
скорей покинь семью низкопоклонных наций,—
пусть будет скептикам страшна твоя борьба!
Пусть скажут, издали дерзая любоваться
немыми храмами, бесплодною землей
и пеплом на кудрях, что по ветру струятся:
«Она перенесла напасть в тиши большой,
средь плачущих рабов безмолвье сохраняя,
и вражий бич свистел — над гордой немотой!»
Но встань, Италия, героев мать благая!
Под Солнцем, греющим твои бока в любви,
не спи, своих оков бесчестье ощущая!
Детей прекраснейших виденья, сплошь в крови,
твой нарушают сон, взывая к злобе грозно,
о мстителях-богах — мечтания твои!
Но боги мести спят. Довольно скорби слезной,
открой хранилище испытанных обид,
на землю кровь излей густой волной венозной,
107
взъерошь красу кудрей, чтоб стал ужасней вид,
ВОЗЬМИ И ЧеЛЮСТИ И КОГТИ у В'ОЛЧИЦЫ,
издай верховный крик, отвергнув рабства стыд!
Встань! Действуй! Будь живой, свободной, ,яснолицей!
Как! Угнетающий, с его тупым «ура»,
впивает воздух твой, что розами струится?
Позор в его руках ты чувствуешь, сестра!
Он дивное чело грязнит слюною мглистой,
ты терпишь этот грех сегодня, как вчера!
А! Ради пращуро:в и ради крови чистой,
многовековых мук, позора без конца,
стыда, испитого под выклики и свисты;
Т01СКИ по сыновьям, не прятавшим лица;
униженной души и плоти оскверненной,
любви к истории и яркости венца,—
коль не ожить тебе, и твердь неблагосклонна,
Свободе высший вздох восторженно отдай!
Восстань, Италия, как прежде, исступленно!
Настал сраженья час, борись и умирай!
И, на костре своих разрушенных селений
смыкая (взор, гляди, как месть шумит окрай!
И, может быть, тогда, глухая к вечной пени,
но крику внявшая, что доблесть издала,
примчится Франция, гоня крылами тени,
к тебе дорогою Свободы и орла!
ПОЛЯРНЫЙ ПЕЙЗАЖ
Вот мир безжизненный, морской подобный пене,
край, где свои лучи сполох полярный льет
на пики горные, на вечный снег и лед,
на восходящие до облаков ступени.
Как стоны из могил, как гробовые пени,
невнятный звук порой в безмолвии растет —
рыданье, хохот, смех иль голос непогод,
зловещий вой ветров, в их непрерывной смене.
На сумрачной скале, что мерно точат волны,
седые божества, суровы и безмолвны,
в тумане, бледные, сидят в угрюмых снах.
А исполинские медведи, став белее
от белизны снегов, покачивая шеи,
как эпилептики, валяются на льдах.
109
ВОРОН
Серапион, аббат, который в Арсиное
своих монастырей опорой был одною
при императоре Валенте, как-то раз
вечернею порой, не поднимая глаз,
бродил, в молчании, вдоль арочной ограды.
С уходом солнца тьма взрастала без преграды
из недр оазисов и из песков пустынь;
светила, пробудясь, уже всходили в синь,
и если бы подчас из глубины пустынной,
страша окрестность, рык не раздавался львиный,
вокруг монастыря все отдыхало б в снах
и ночь бескрайная вставала в небесах.
Аббат Серапион, тревожный и сердитый,
ходил, легко стуча сандальями о плиты.
Он кесарский эдикт обдумывал, затем
что ужас тот эдикт внушал монахам всем,
веля явиться им в войска — о век бесправии!
для брани с Готами, в стотысячном составе.
Ведь в эти годы всяк, кто испытал урон
и грешный мир забыть хотел, со всех сторон
Египта, стар и мал, стекался отовсюду
искать в молениях спасительного чуда.
Вот почему эдикт, что кесарь подписал,
монастыри тоской и страхом наполнял;
и вновь терзалась плоть под грубой власяницей,
чтоб мукой у Христа прощения добиться.
110
Итак, аббат ходил и размышлял с тоской
о стаде гибнущем, о пастве дорогой,
и руки возносил: «О, помоги нам, боже!»
И вот, когда он так шагал, свой дух тревожа,
под арками двора, услышал он сквозь тьму
охрипший голос, вдруг промолвивший ему:
«Будь милостив ко мне, владыка досточтимый!»
Перекрестясь, аббат подумал о незримой
природе Сатаны, но пуст был двор в тени...
Вновь голос произнес: «Я знал другие дни!
Роскошные пиры я знал! Но по закону
теперь я голоду подвергнут непреклонно;
совсем нет странности, почтенный старец, в том,
что Авраам меня мог видеть стариком!»
«Во имя господа, ты, тварь иль дух обманный,
ко мне взывающий о помощи так странно,
кто б ни был ты, но, раз теперь я не один,
явись!» — сказал аббат. «Вот я, мой господин!»
И тенью мрачною на парапет точеный
метнулась, к ужасу отца Серапиона,
большая птица, чей зловеще-красный взор,
казалось, озарил покрытый тьмою двор.
Священник ворона увидел из породы
гигантской. Толстый клюв его изъели годы,
а тело, голое местами, взор людской
страшило древнею, кошмарной худобой.
Монах был знаменит в обителях восточных,
он знал, что благодать — оплот для непорочных;
но, в первый раз таким видением смущен,
от страха задрожал на краткий миг и он.
А ворона глаза во тьме струили пламя,
меж тем как потрясал он мрачными крылами.
Серапион сказал: «Когда ты Сатана,
нечистый, демон, пес—проклятью власть дана!
Величием Христа, мир спасшего смиренно,
вот, я тебя гоню: вернись опять в геенну!»
Так говоря, свой лоб он осенил крестом.
«Святой аббат, но ты со мною незнаком,—
с недобрым хохотом в ответ сказала птица,—
оставь проклятия, ведь время быстро мчится!
111
Я вороном рожден, и был я им всегда,
но с той поры прошли столетья, не года.
Я голодом томлюсь в моей юдоли темной,—
хоть постным накорми, раз нет еды скоромной.
Тогда, святой монах, я без задержки дам
лекарство всем твоим печалям и скорбям».
«По правилам святым, нельзя нам прикасаться
к добыче ворона и волка-святотатца,—
сказал аббат,— когда ты только мясу рад,
ступай на поле битв, где жатвой занят Ад.
Но здесь, чтоб утолить свой голод непокорный,
найдешь лишь финики да малый хлебец черный».
«Пусть! — ворон возразил.— И это ничего!
Все яства хороши для бедняка того,
кто три столетия уже не ест, несчастный!»
«Тогда иди за мной»,— аббат промолвил властно.
И ворон, с радостью услышавший ответ,
в обитель зашагал, Серапиону вслед.
Сожрав и черный хлеб, и финики в мгновенье,
взъерошил ворон злой, как стрелы, оперенье
худой спины и, взор смежив, замолк в мечтах,
как будто позабыв, что ждет его мояах.
А тот, сложив крестом под власяницей руки,
на хищника смотрел в молчании и муке
и бормотал: «Христос! О, упаси, господь,
от козней дьявольских мой бедный дух и плоть!
Святые ангелы! Как все необычайно!
Какую эта тварь поведать хочет тайну?
Нет, гость такой еще неведом был живым!
О боже, защити меня щитом твоим!»
Но вот, пока аббат так размышлял в смятенье,
он снова ворона услышал обращенье:
«Ведь я совсем не сплю, как мыслишь ты, старик,—
я, рабби, предался своим мечтам на миг.
Я думал: из чего создатель сделал души?
Я всех пророков знал, но не бывало глуше
ответа на вопрос!» — «Не богохульствуй, тварь,—
сказал монах,— иль Ад почувствуешь, как встарь!
Что смыслишь ты в душе, тварь мерзостной породы,
которая уйдет в незрячую природу
с дождем, и вихрями, и глиной заодно,
112
пустой фантом, кому знать бога не дано,
еще не вовсе прах, но уж пустая пена,—
что для тебя весь рай, приют святых блаженный?!
Лев, ворон, конь, орел, ишак, семья гадюк,
пред ликом смерти что все это? Только звук!»
«Аббат! — ответил гость,— так вы твердите, веря,
что сон последний вам откроет рая двери,
но я видал не раз царей и племена,
которым смертная тропа была страшна!
Тогда поистине им не хватало веры
в то, что они идут к сиянью из пещеры!
К тому же, в прошлом я их много съесть сумел
и с ними души их достались мне в удел».
«Тварь! — закричал аббат.— Лишь плоть замрет
в бессилье,
душа незримые взвивает к небу крылья,
и благости тебе, конечно, не дал бог
зреть то, что могут зреть лишь ангел да пророк:
как стая голубей, в лазури над гробами
кружится стая душ под вечными лучами!
И это правда!» — «Ну,— ответил ворон,— мне
тут все сомнению подвержено втройне.
И все ж пусть будет так, раз это достоверно.
Но выслушай и мой рассказ нелицемерный
и исповедь мою прими, хоть сквозь вражду!
Я отпущения грехов сегодня жду».
«Я слушаю тебя. Есть счастие в смиренье,
раскаянье всегда несет нам очищенье,
им радость ангелов на небе велика!»
«Я стар, отец, и я начну издалека.
В то время, господин аббат, большие воды
покрыли шар земной и погребли народы
и, сумрачно катясь, превыше острых гор
вздымали в небеса мирскую грязь и сор.
То был последний день царей и царств древнейших,—
день смерти. Чем они отличны от новейших,
не знаю. Впрочем, их поступки и дела
не значат ничего, коль жизнь от них ушла».
«В них обитал порок,— сказал монах,— и грозный
судья их утопил в потопе даже поздно.
8 Леконт де Лиль
ИЗ
То был неверный мир, где правил Сатана
и божьих ангелов в соблазн ввела жена».
«Пусть,— ворон отвечал,— мое ли это дело?
Он мог бы покарать их более умело.
Во всяком случае, он с ними порешил.
И древний мир, тогда живых лишенный сил,
уж встретил сорок утр в громадине ковчега;
и страшный океан, гоня валы с разбега,
с тяжелым рокотом покачивал во мгле
все, что осталось жить отныне на Земле.
И я тогда был там среди пород бессчетных
и ждал своей поры, в тени от балок плотных.
Однажды, иссушив хранилища свои,
устали с неба лить безмерные струи;
луч солнца засиял ковчегу на востоке;
мне патриарх сказал: — Пересеки потоки
и, если есть гора в туманной синеве,
подай нам весть, что мир уже прощен Ягве.—
Я полетел, гордясь, что вновь расправил крылья,
и несся над водой, стоявшей в изобилье;
и, так как я назад не прилетел совсем,
не знаю до сих пор, что сталось с судном тем».
«Ты мерзко поступил»,— сказал монах сурово.
«Прошу прощения,— взметнулся ворон снова,—
страсть к путешествиям юнцом я приобрел,
и для меня всегда был смрад тюрьмы тяжел.
Я, рабби, увидал зеленые вершины,
на солнце превшие под слоем теплой тины,
и опустился я на черный кедр тайком,
откуда мог взлетать и видеть все кругом.
Так я прождал три дня и три глубоких ночи.
И солнце вновь взошло, мне ослепляя очи,
и море, в берега спокойно возвратясь,
мир новый родило,— мир, погруженный в грязь,
пустынный, тягостный, весь посеревший в пене,
как бы взъерошенный от страшных разрушений.
И под пятой горы, где я нашел привал,
огромный город в мгле горяче-дымной спал,
с громадой красных стен, террасами, столпами,
воздвигнут сильными былыми племенами.
Под тяжестью дождей раздавленный вконец,
холму подобен стал разрушенный дворец,
114
где водорослей лес, осклизлый и тягучий,
листвою черною спускался с крыш, как с кручи,
бесформенно вися в провалах потолков,
густыми лентами свиваясь вдоль столпов
и превращаясь в плащ из тины и из ила
для мертвых королей, детей небесной силы.
Я видел, господин, трон и двоих из них,
стоявших сумрачно в оковах золотых:
мужчина яростный, гигант со лбом высоким,
руками страстными, как поясом широким,
прижал к груди жену, чей темно-синий взор,
казалось, счастлив был любовью до сих пор;
и я прочел на их губах окоченелых
блаженство гибели в объятьях этих смелых.
Он, с выей крепкою, храня и в смерти пыл,
бесстрашный в гибели, каким и в жизни был,
все гордо сохранил средь общего крушенья —
мощь, гордость, красоту, неистовое рвенье.
Лежало озеро вокруг немых домов,
в нем солнца лик блистал, ужасен и суров;
спал тинистый затон, огромных полный тварей:
вздымали головы и брюха в смертной яри
медведи, ящеры, гигантские слоны,
полуторчащие из смрадной глубины;
орлы, которые, устав парить в просторе,
не отыскали гор былых в бескрайном море;
с ноздрями вздутыми быки, домашний скот,
поверженный волной левиафанов род,—
все буйное зверье исчезнувшей долины
лежало меж людьми, в разливе мерзкой тины,
и ветер пар носил, горячий и густой.
И вот я, знающий, что мертвых ест живой,
я, господин аббат, навек простясь с напастью,
не раз благословлял доставшееся счастье
и моря умный труд: ведь, право, не беда,
что человек и я прожорливы всегда.
В теченье многих солнц, в таком уединенье,
я коротал деньки в спокойном наслажденье.
Но как-то вечером, на кедре, одинок,
увидел я в дали, где запылал восток,
8*
115
как в центре странного, слепящего циклона
по воздуху фантом стремился озаренный.
Крылами мощными он резал небеса;
подобно пламени, горели волоса;
и, руки протянув, дыханием глубоким
он мглу надмирную погнал к краям далеким.
Под светом радостным его лазурных глаз
в болотах засверкал живой воды алмаз
в зеленом камыше и в лилии багряной;
костры людские вновь зардели средь тумана,
и, выходя из скал, где прятался родник,
кормилица-река расширилась в тот миг,
прохладою струясь по высохшему склону,
еще горячему под пеною соленой.
Все закружилось тут в моих глазах, аббат!
И я, как труп, упал у кедра мощных пят.
Как долго длился сон без сна и пробужденья?
Но разве времена не тень от сновиденья?
Когда проснулся я, утратив счет веков,
то увидал себя в тени густых лесов.
Руины города, размытого волною,
распались до конца под выросшей травою;
и я, над зеленью без устали крыля,
постиг, что вновь людьми побеждена Земля.
Я крики дикие услышал, неизменно
всходившие до туч со всех сторон вселенной;
и с севера на юг, с заката на восток,
в свирепом «зуб за зуб», как яростный поток,
с рыданьем горестным, все разрывая в клочья,
народы новые стремились днем и ночью.
Свистя, неслась стрела, дубина в час борьбы
дробила, как плоды, воинственные лбы;
валялись старики и женщины средь праха,
и дети, об утес разбитые с размаха,
свидетельствовали наглядно, что потоп
действительно омыл вселенную от злоб.
Ах! мясо мертвое народов истребленных,
добыча воронов и грифов разъяренных,
струило аромат к блаженным небесам,
как приношенье вновь возникнувшим богам!»
«Не радуйся тому, геенны порожденье! —
сказал монах.— Ведь ты, в своем ожесточенье,
в том мире наблюдал — была твоя пора! —
116
лишь проявленья зла, а не ростки добра,
взирала ты, о тварь безжалостной породы,
глазами дьявола на бедные народы!»
«Увы! Я думаю, как раз наоборот,
что крови собственной всегда хотел их род,
так, как и я хотел живой иль мертвой плоти.
То естества закон, влекущий нас к охоте
и вяжущий двойным обетом, как узлом.
Здесь дьявол, как и бог, пожалуй, ни при чем.
И непочтителен я издавна, поверьте,
к всему, что суждено нам в жизни или смерти.
Вот правда чувств моих, мой искренний ответ,
и если я смеюсь, моей вины в том нет!»
«Царь ангелов, Христос, божественный учитель! —
сказал монах.— Вели, чтоб смолкнул оскорбитель!
Он издевается, кощунствует, он враг!»
«Мой дорогой аббат, не раздражайся так,
не забывай, что я лишь плоти ком бездушный,—
ни брани, ни хвалы не стоит равнодушный;
к тому же, смолкни я, тебе не избежать
удела — схимников твоих зачислить в рать.
В сражениях они забудут об елее,
струить святую кровь привыкнут, не жалея,
и, мертвые, затем, как птицы, ввысь взлетят,
а это главное, по-твоему, аббат».
«Нет, продолжай,— сказал Серапион,— как видно,
бог слушать мне велит, за давний грех постыдный.
Не отклоняйся впредь и заверши рассказ,—
пока я слушаю, бежит спасенья час».
«Владыка, годы шли, старел я неуклонно,
от крови этих битв безмерно опьяненный,
но так же был силен, как в век далекий тот,
когда блеснул рассвет над гладью темных вод.
Рождались, и росли, и умирали люди,
подобно легким снам, подобно тленной груде,
которую всегда небесный вихрь сметал
в угрюмый и немой забвения провал.
Леса росли и в прах валились, как сначала,
стволы их молния, играя, рассекала,
а после видел я лишь камень да песок
там, где густела тень и рокотал поток.
117
Громады городов из камня и гранита
низринулись при мне, столетьями разбиты;
и ураган вздымал их пыль, и мрачный сон
небытия глушил звучанье их имен,
как память древних слов, непостижимо слитных,
как смысл, утраченный навек, страниц гранитных.
И, наконец, аббат, взошел посев веков
таинственных,— и я рождение богов
и смерть их видеть мог! Моря, долины, горы
их тысячи людским мечтам явили скоро;
в огне и воздухе размножились они,
кто сталь себе избрал, кто молнии огни,—
жестоки и добры, уроды и герои,
из камня, из кости, незримые порою,
и убежденные в бессмертии своем!
Но время рушило алтарь за алтарем,
вставала ненависть, рыча, за торжествами,
пророков побивал восставший мир камнями,
и хохот, гибельней, чем смерть сама, с высот
их в пропасть общую свергал из года в год,
и, славу пережив, они семьей проклятой
ложились в черную могилу без возврата;
и вновь из пепла их рождался ряд теней,—
так мчались божества и люди в волнах дней.
Я жил и созерцал, как этот вихрь видений
под ветром с крыл моих стекал, подобно пене.
В покое, в счастии, я узнавал их рой,
лишь различая дух мясной и травяной.
Я жил! А в небесах, в мирах все умирало!
Я жил! Пустынный лёт я направлял, бывало,
с кавказской высоты на кедры, на Кармел.
Жилец извечный, я сквозь тленный мир летел,
как постоянный гость на бесконечном пире;
я понял: смерть нужна, чтоб мне жилось пошире!
И как тогда я жил, отец Серапион,
как жил я в те века,— навеки им поклон! —
исполненные войн, скорбей и разрушенья!
И не предвидел я, в блаженном наслажденье,
что темный день придет и беспощадный рок
испортит лучший мир, ступив на мой порог,
что буду я влачить, в теченье трех столетий,
тропою голода, больные крылья эти!
118
Будь проклят посреди былых и новых дней
тот день, когда посмел я вожделеть сильней!
Будь проклят он с утра до вечера — в сиянье,
во мраке, в холоде, в жаре, в недомоганье,
во всех живых, с его проснувшимся лучом,
следивших мрачный блеск его светила днем
и на закате! Пусть он превратится скоро
лишь в память темную и страшную, которой
проклятье, как ему, все семьдесят семь раз!»
И ворон крыльями неистово потряс,
анафему свою произнеся с надрывом,
и снова сделался зловеще-молчаливым,
как бы под бременем ужасных дум скорбя.
«Итак, рука Творца низверглась на тебя,—
сказал монах,— и, мстя за жертвы, чадо злое,
тебя он покарал твоею же виною?»
«Но, рабби, разве впрямь отсутствует закон,
карающий за грех, что разумом свершен,
за умысел дурной, а не поступок ярый?
Поистине, моя несправедлива кара.
Ведь я, аббат, не знал и шел лишь на призыв
природы, не сердясь и мер не преступив».
«Что ж сделал ты? — спросил монах.— Спеши к исходу:
уж звезды медленно катятся с небосвода».
«Владыка,— задрожав, ответил ворон злой,—
во дни Тиберия случилось то со мной.
Когда однажды я искал еду, летая
над Идумеею, вдруг сила ветровая
вдаль понесла меня. Был предсубботний день,
и, сколько помнится, отсутствовала тень.
И я увидел холм и три столба взнесенных,
и на столбах тела повисшие казненных...»
«О, милосердие! — вскричал в слезах аббат,—
то Иисус среди преступных был распят!»
И ворон продолжал: «Тот холм, пустынный, голый,
вздымался к небесам громадою тяжелой,
и туча алая, озарена лучом,
висела в воздухе, недвижном и сухом,
над местом казни, мглой удушливой повитым,—
как над поставленным кладбищенским гранитом.
И на холме, вокруг крестов, царил покой,
где двое гибнущих то издавали вой,
119
то заменяли крик глухим и страшным стоном
и корчились от мук в колене раздробленном.
Но третий, раною отмечен на бедре,
гвоздями к дереву прибитый, взор горе,
в венце из терниев с рубцами бичеваний,
казалось, отдыхал, избавлен от страданий,
хоть руки разметал и согнут был в ногах.
Он красотой пленял, и голова в кудрях
на сломанном плече покачивалась гибко
и, озаренная таинственной улыбкой,
без сожаления, гордыни и обид,
как радость высшую, впивала смертный стыд.
Да, как бы на земле ни назван был он веком,
но представлялся он не только человеком,
затем что от его волос и плоти всей
струился в воздухе блеск золотых лучей,
и светом наполнял пространство повсеместно
труп этот неживой, безгласный и чудесный.
И тихо я смотрел, не помня в тьме веков
таких, как он, царей, таких, как он, богов».
«Христос! — вскричал монах, вздев руки для объятий.—
О ты, хранилище бескрайной благодати,
ты, слово божие, светило всех светил,
о искупитель наш, который желчь испил,
который захотел своей бесценной кровью
проклятье древнего греха омыть с любовью!
О боже, это ты, твоя святая плоть,
хлеб ангелов, каким дано грех побороть,
твоя святая плоть, еда для душ несчастных
с животворящею водою ран ужасных!
Да, это ты, Христос, висел, лучом согрет,
на этом дереве, потрясшем целый свет,
и политом росой господнею нетленной,
и вырастившем плод — спасение вселенной!
Христос, ценою мук, которой мир спасен,
будь славен в небесах и в вечности времен,
куда нас благодать навеки устремила,
будь славен, Иисус, сиянье, жизнь и сила!»
«Аминь! Ты хоть кого принудил бы к стыду;
но, ничего тогда не зная на беду,
я легкомысленно полет направил, чтобы
свой голод утолить, вняв голосу утробы...»
120
«Проклятый! — взвыл аббат, и волосы на нем
поднялись в ужасе.— Молчи, молчи о том!
Святые ангелы! Ужели тварь посмела,
в свирепости, вкусить божественного тела,
кощунствуя? О, чем я искупить смогу
грех, коль услышу здесь, доверившись врагу,
что птица мерзкая в извечный крест когтями
вцепилась и на нем захлопала крылами!
О святотатства миг! О боже, боже мой!
Довольно ль адского пыланья под землей,
чтоб сожжена была навеки птица злая?»
«Учитель,— ворон вновь взметнулся,— умоляю!
Спокойней! До конца прослушай мой рассказ.
Я полетел к кресту, но горек был мой час!
Фантом слепительныи, как ангел тот нетленный,
что землю очищал от мусора и пены
и яркостью меня лишил когда-то сил,—
вдруг бога мертвого рукою заградил...
Когда ж на жаркие каменья пал я, грешный,
он.странным голосом заговорил неспешно,
и, рабби, голос тот я вечно слышал впредь:
— Раз агнцу божьему судилось претерпеть
сегодня горшее, последнее страданье,
невыразимый срам,— родить в тебе желанье,
которому гроба названья не найдут,
и, чрез поступок твой, все совершилось тут,—
ты, тварь несытая, прожорливая птица,
все триста семьдесят семь лет должна поститься.—
И вздох его помчал меня, как ураган
уносит мертвый лист, оставивший платан,
и вскоре брошен был я силою стихии
с Голгофы сумрачной за грани Самарии».
«Тот ангел,— произнес монах, кляня свой рок,—
скорей был милостив, чем беспощадно строг!»
«Не знаю имени для муки непонятной —
жить тем, в чем — только смерть! Когда невероятный
утробу голод жжет — глядеть до тошноты
на царский пир, чьих яств уж не разделишь ты,
бродить без отдыха средь тысячной добычи,
и муки умножать, и видеть в том — обычай!
Владыка, с той поры века постился я!
121
Напрасно рвал подчас, неистово клюя,
я труп людской в пыли иль плод на древе спелый:
все камнем делалось, все сразу каменело,
и, вечно мучимый желаньем, в тьме тревог,
с мечтою об еде, которой есть не мог,
от неба к небу нес я голод вечно ярый.
Я жил — худой, больной, измученный и старый,
и кару влек мою напрасную в веках».
«Нет, кара хороша,— сказал аббат в сердцах,—
покайся, не хуля верховного решенья.
Ужели ты, со дней потопа до паденья,
свой голод трупами, которым счета нет,
не утолил, чтоб длить посты хоть триста лет?»
«От старых навыков,— ответил ворон,— трудно
отделаться, когда живешь настолько скудно;
и если б ты не ел с неделю ничего,
уразумел бы впрямь, что значит естество,
хотя бы и успел, прожив свой век на свете,
изведать все пиры моих тысячелетий!
Но милостью твоей, отец Серапион,
срок. испытания сегодня завершен.
Твой финик пересох, невкусен хлеб твой нищий,
но был вчера Дунай наполнен свежей пищей
и к морю шумному на камышах волок
убитых римлян, в кровь окрасивших поток.
Живи же в тишине, в мольбах, отец великий:
царь готский пригвоздил эдикт ударом пики
к Валента сердцу — стал ваш кесарь божеством!
Так отпусти мой грех, и я умчусь потом!
Я тороплюсь теперь к реке, на пир чудесный.
Ты выслушал меня, дела мои известны,
сними же грех с меня, чтоб мог я поскорей
на пире бранном быть с добычею моей,
кровь храбрецов испить и возродиться снова
таким же мощным, как в дни юного былого!»
«Господь, царящий там, над сумрачной землей,—
аббат промолвил,— дай навек ему покой!»
Крылами дряхлыми захлопал ворон странный
и на пол каменный свалился, бездыханный.
АКТ МИЛОСЕРДИЯ
Конечно, Францию в то время испытанью
безмерному подверг свирепый Сатана:
из почвы не взросло ни одного зерна,
и тощий скот погиб от лютого страданья.
Три года минуло: потоп в ночи и днем
струился по полям,— и вздулись реки вскоре.
Да, одинаково испытывали горе
и в башне рыцарской, и в доме городском.
Но жаки, господи! От голода страдая,
блуждали наобум они вдоль всех дорог,
в лохмотьях, страшные, кляня свой черный рок,—
и вспять при виде их бросалась волчья стая!
В дни лета — всякое переносимо зло,
питались кое-как, в боренье с Сатаною;
но, матерь божия! весь ужас ждал с порою
жестоких зимних стуж, сменяющих тепло.
Прямыми тенями,— коль имя есть еще им,—
хрипя и скорчившись, их тысячи брели
по снегу. И в лесах был слышен издали
собачий хриплый крик, с людским мешаясь воем.
Ночами жуткими, зверея в час невзгод,
слабейшего губил сильнейший западнями;
и Проклятый был горд кошмарными пирами,
в которых пожирал себя Адамов род!
123
Итак, вблизи от Mo, в устроенном именье,
одна из знатных дам в те времена жила;
когда несчастный край стал достояньем зла,
великое у ней возникло сожаленье.
Амбары отперла для бедняков она,
быков с коровами пожертвовала люду,
перечеканила серебряные блюда
и золото колец — и сделалась бедна.
Тогда, по доброте, она бродяжкой стала,
шла, провожая свой измученный народ,
орду, которой был давно утерян счет,—
ведь десять выбывших вмиг тридцать замещало!
Но город закрывал ворота и мосты
из нежелания отдать запас несчастным.
Да, в этот век — пусть бог подобного не даст нам! —
никто из горожан не ведал доброты.
Пустынные поля тянулись без предела.
И нужен был конец. И план явился вдруг
у дамы, как своих спасти навек от мук,—
ведь милосердие она еще имела.
В ночи, когда шестьсот голодных бедняков
защиту от ветров нашли в большом сарае,—
самоотверженно, все силы напрягая,
она ходы к друзьям закрыла грудой дров.
И после — по углам бревенчатого крова
зажгла огонь, слезы не в силах побороть.
«Я выполнила долг, и да возьмет господь,—
она воскликнула,— вас в царствие Христово!»
Все вечность обрели за гранью бытия;
смерть беднякам дала забвенье мук и злобы.
А дама прожила в монастыре до гроба.
В поступке праведном ей только бог судья!
ТОСКА ДЬЯВОЛА
Безмолвный, сгорбленный, на скулах кулаки,
закутан в черный плащ двух крыльев, мрачноликии,
однажды в час ночной на вечно снежном пике
молниевержец сел, исполненный тоски.
Громадой темною Земля внизу лежала,
ее материки дробил прибой морской;
в выси над ним пылал огней вселенских рой,
но он глядел туда, в бездонный мрак провала.
Он находился там, вперял кровавый взгляд
в простор, где копит жизнь кишащие циклоны,
где человек и зверь плодятся неуклонно,
покуда яростно столетия летят.
Он слышал рабские осанны, лесть двуличных,
убийц свирепый крик, «Те Deum» королей,
народов распятых призывы, свист бичей
и праведников хрип на гноищах столичных.
И этот сумрачный напев вселенских зол,
который стар, как мир, как человечье племя,
и озлобленнее, чем высшей злобы бремя,
вокруг Бессмертного водоворотом шел.
Одним прыжком достиг он тех времен бездонных,
когда он полнил твердь сияньем слав своих,—
и перед ужасом тупой судьбы он стих,
и дрожь почувствовал вдоль чресел напряженных.
125
И, руки заломив и корча пальцы ног,
он, жертва древняя, мечтатель первородный,
вдруг закричал над всей громадностью холодной,
где пеной рушится, сгорая, солнц поток:
«Дни монотонные, как дождь оледенелый,
я в вечности моей коплю, но края нет;
мощь, гордость и тоска — все суета сует;
и ужас тяготит, и битва надоела.
Любовь лгала; теперь и ненависть лжет мне,
я выпил море слез, бесплодных и надменных;
так риньтесь на меня, скопления вселенных,
чтоб я задавлен был в моем священном сне!
Пусть трусы мирные и проклятых кочевья
в пространстве блещущем без берегов и дна
услышат голос: — Вот, скончался Сатана,
и скоро твой конец, Творенье Шестидневья!»
А С Κ Ε Τ Ы
1
С тех пор когда рабой, лишившейся отрады,
прекрасную судьбу закончила Эллада
и, как последний вздох, дыханье нежных слов
соединило тень ее и тень богов,—
измучен жаждою, стал кесарь ослабелый
тянуться к молоку дряхлеющей Кибелы.
С окровавленными руками, мрачен, тих,
неведомо зачем страшась часов ночных,
на римском пурпуре, нахмурившись сурово,
он слушал тяжкий хор стенания людского;
покуда медная волчица над рекой
спала, изогнута под царственной пятой,—
он голодом морил, дни близя искупленья,
атласских мощных львов в подземном помещенье.
Безмерный океан, с семи холмов струясь,
над всей империей вздымал и пенил грязь;
клоака страшная, какой в былом не знали,
разврат руководил величьем сатурналий;
то было в темный час, когда, в чаду пиров,
Рим смутно понимал позор своих оков;
в безбожье ползая, вконец утратив силы,
пьянел он, точно трус, боящийся могилы,—
и вот тогда, пиров неистовых сильней,
вдруг стали слышаться призывы новых дней,
крик радости и крик печали, голос сирый
отчаянной любви к невидимому миру.
127
2
«Твой голос заглушить возможно ли векам,
господь? Доколе ты с креста не снидешь к нам?
И желчь и горечь ты, господь, испил напрасно:
безумьем древний мир исполнен повсечасно,
у ног былых богов он с песнями живет!
В пустыню! Мудрые и сильные, вперед!
В пустыню, кто живет в юдоли этой скудной;
все, пострадавшие под бурей жизни трудной,
все, чашу пившие, врагу на торжество,
на лоне спавшие у бога своего!
В пустыню, в тишину песков, мужи и жены!
Пора нам заглушить пыл страсти беззаконной!
Во славу неба мы раскроем средь песков
золотокрылые экстазы, в лапах львов.
В рабах умножь свои безмерные страданья,
господь, чтоб стали мы несчастными в скитанье,
чтоб солнце жадное сжигало нам тела!
Презренье сладко нам, нам сладостна хула,—
о, только бы, идя на высшей муки ложе,
нам чашу ту испить, что ты испил, о боже,—
под бременем стыда такого же, дабы
кровавым терном мы могли украсить лбы!
О одиночество, покой песков палящих,
очисти же нам взор от ликов преходящих,
тщеславье старое казня, развей в ветрах
столицы и богов, как безыменный прах,
и, чтоб презрели мы материю слепую,
яви, в пылании, нам бездну мировую!
Бежим! Навстречу день таинственный грядет,
когда, как пепла горсть, иод ветром, в свой черед,
Земля во глубь пространств умчится бесполезно.
Да, многие падут в катящуюся бездну,
но наши имена архангел сохранит
и лик божественный от нас не будет скрыт».
3
О мученики, вы, мечтатели, герои,
что напрягали мощь простой души порою,
страшась, чтоб идеал навеки не исчез,—
я вас приветствую, любовники небес!
128
Сказали правду вы: сердца мертвы и вялы,
проклятая Земля бесплодным полем стала,
где губят тернии,— хоть вырывают их,—
в спаленных бороздах ростки семян живых.
Сказали правду вы: жизнь — зло, что вечно длится,
и женщина страшней пугающей гробницы.
Вот почему, презрев шум городов глухой,
с распятием в руках, с дорожною клюкой,
лбы озарив лучом обещанного света,
бежали вы тогда на смерть, анахореты!
Чтоб видеть вас не мог людской пытливый взор,
всходили вы на высь всегда бесплодных гор
и, вверившись душой порыву гроз великих,
ложились опочить в своих приютах диких.
Иль, в духоте песков, вы думали подчас,
что плотских уз еще посты не сняли с вас,
что век покинутый внимает ваши пени,
что отдаленный вихрь еще живых видений,
любимый прежде мир, стал в сердце вновь звучать,
что отступила твердь и властен прах опять.
Будя рыданьями незыблемые дали,
вы плоть свою рукой отчаянья терзали,
вы, каясь, красили песок в крови своей!
И даль пустынная, белея от костей
и слушая, как львы вас мучат в исступленье,
являла по ночам библейские виденья.
9 Леконт де Лиль
ДВА МЕЧА
XI и XII столетия
1
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ
Старик монах, аскет с запавшими глазами,
как тень, которую предал забвенью свет,
ссутулившись, сидит, в шерсть белую одет,
держа наперсный крест иссохшими руками.
От бледного чела и тощего лица,
от плоти немощной, могиле обреченной,
души бессмертной мощь исходит непреклонно.
Во взгляде ледяном — гордыня без конца.
Ревниво бережет безмерной власти право
монах. Жесток и тверд, презрел он вражий лай.
Он, словно Моисей, оставивший Синай,
смертельно истомлен работой величавой.
Под тем же пламенем и тою же тоской
он и мученьями и славою кичится
и покрывает мир полою власяницы.
Он верит. Он своим считает шар земной.
130
Свирепый этот век, забытый благодатью,
скорей геенною, чем небом, восхищен,—
не стали и бича здесь властвует закон:
сильнее топора бьют папские проклятья.
Покинут, оскорблен, изгнанник в тьме лесов,
он говорит — и все смолкает. Лбы бледнеют.
Ручьи крещения мгновенно цепенеют,
и кости королей белеют вне гробов.
Зал низок и широк; в нем тусклое сиянье,—
снаружи снег и вихрь в оконницы стучат.
Одиннадцать скамей; на них сидящий ряд
прелатов полукруг образовал, в молчанье.
Под капюшонами, похожи на старух,
облачены до пят в просторные одежды,
сжав руки на груди, порой смыкая вежды,
как бы утратили и зрение и слух.
С кудрями длинными, в которых терний муки,
и раной под ребром, повиснув на кресте
виденьем горестным, в кровавой наготе
над мрачным сборищем Христос раскинул руки.
Колени преклонил, унижен, бос и сир,
продрогший человек, от срама бледноликий.
Раб этот — властелин Германии великий,
монарх, которому завидует весь мир.
С обритой головой, без брони, без кинжала,
позоря славный род, тревожа предков прах,
вождь храбрецов лежит, с слезами на глазах,
под схимника пятой, что честь его попрала.
Да, можно цезарю, изведавшему стыд,
Знать зависть к пастуху, чье сердце непокорно,
который чувствует, всходя, как воздух горный
струится в легкие и бодростью дарит.
«Святой отец,— сказал монарх,— я грешник скверный,
За светоч принял я пыланье адских сил;
твой перстень запятнал, твой посох осквернил.
Святой отец! Моя вина тяжка безмерно.
9*
131
Я думал, овладев державой и мечом,
одним движением склоняя в прах народы,
что мне, как божеству, неведомы невзгоды;
сам дьявол гибельным повел меня путем.
Я б лучше поступил, не внемля плоти этой
и войны прекратив в пределах близких стран,
когда бы на Восток пошел, на мусульман,
над Вечным Гробом трон воздвигших Магомету.
Я веру осквернил, я лгал немало лет,
божась, хулил престол апостольский доныне;
но все ж, клянусь теперь божественной святыней,
Христовым древом, я исполню свой обет!
Святой отец! Вот я, каким возник я сразу:
наг, слаб, я пред тобой, мой кров, мой судия.
Четыре дня не ел, молился крепко я,
раскаялся во всем — и исцелил проказу.
Викарий грешных душ, кого избрал господь,
кому вручил ключи в блаженный мир иного,
коль покаяние достаточно сурово,
помилуй! От огня спаси и дух и плоть!»
И цезарь, головой стуча о плиты пола,
лобзает схимнику сандалии, скорбя.
И отвечает тот: «Прощаю я тебя!
Удовлетворено величие престола.
Не перед слабостью больного старика
склоняется теперь воитель меченосный,
но подле ног того, кто судит мир наш косный,
пока земля жива и твердь горит пока.
Иди! И помни час, когда, в избытке силы,
надменный твой корабль столкнулся с твердью скал!
Запомни, гордый дуб: когда ты шумно пал,
бесплодную золу кора твоя открыла.
Ступай же! Именем отца и сына и
святого духа!» Встал поверженный с поклоном.
Уходит. Стыд на лбу пылает посрамленном.
Монах целует крест, свершив дела свои.
132
2
ХОР ЕПИСКОПОВ
«Ты проклял, господи, поток в его истоке,
и урожай — в зерне, и в колыбели — нас;
плоть всякая скорбит, погружена в пороки,—
Каратель заклеймил ее в верховный час!
В невиннейшем — почил зародыш преступленья;
все радости — капкан для сердца роковой;
и каждый Вавилон ждет в бездну низверженья,
куда враги, борясь, нисходят чередой.
Но ты, святой маяк во мраке бесконечном,
ты, трон апостольский, алтарь святой мечты,
коль скоро наша жизнь в круговращенье вечном,
незыблем и вполне бессмертен только ты!
Как волны темные под насыпью крутою,
о мыс божественный, свирепые века
дробятся пеною и отступают, воя,
едва докатятся к подножью маяка!
Зародыш твой на дне времен, подвластных богу,
во чреве душ людских таинственно согрет,
и чтобы прорасти, он дивной волей строго
зачат был до того, как наш родился свет.
Что для тебя, скала, к которой мчатся души,—
слепые приступы народов и царей?
Чем сумрачней их ночь, тем ярче свет на суше,
твоя стена тупит железо их когтей.
И если, в ярости, хулах и злобе жгучей,
ад лезет на тебя всей ратью громовой
и поднимается,— растешь ты выше тучи,
до звезд, до ангелов, до бога самого!
Тысячу раз омыв в крови святых блаженной,—
о кряж смирения, столь недоступный злым,—
трех добродетелей цветок ты дал нетленный
и благовонием наполнил мир тройным!
133
О римский трон, судья и господин суровый,
тот, кто тебе хоть раз нанесть обиду смог,
раб или цезарь, он уже не сыщет крова:
и здесь и в вечности его накажет бог!»
3
ХОР ЦЕЗАРЕЙ
«О Рим, где мерзкий поп, воссев на древнем троне,
всех душит рясою и всех клеймит крестом,
мы встали, услыхав твой голос о былом,
столица Юлия, царившего в короне!
Ты, легионы чьи гудели, точно рой,
при колыхании одном одежды бранной,
ты, головой в пыли склоняясь покаянно,
колени учишься склонять перед судьбой!
На четки ты сменил плащ пурпурной окраски,
и, подставляя лоб пастушьей палке лишь,
ослиной сбруею волчицу ты срамишь,
которой некогда шли консульские фаски!
О Город рыцарей, ты полон бедняков,
ты кости мертвых чтишь, как славные деянья,
и высший подвиг твой — слепые бичеванья
под плети и псалмы напыщенных попов!
Но в замки Рейнские, в Франконские поместья
твой рык тоскующий, зубцы перелетев,
доходит — ив сердцах рождает скорбь и гнев,
и делает всех нас причастными бесчестью.
Имперские поля тревожит конский бег,
и вот слова сивилл сбылись в значенье полном:
орел кричит, кружась над местом семихолмным.
Рим! встань и цезарей своих прими навек!
Прими же, Рим, опять меч, скипетр и державу,
ночь долгую забыв, к нам повернись лицом,
134
в великой гордости, охвачен торжеством,
над миром вознесись, о Город вечной славы!
А мы, пришедшие на твой тоскливый зов,
взяв меч одной рукой, оливы ветвь — другою,
навеки искупив срам, общий нам с тобою,
мы будем сторожить покой святых холмов!»
4
АГОНИЯ
Так двадцать девять лет прошли в борьбе суровой —
прилив, отлив и вновь прилив людских племен,
сражений, тягостей, проклятий и знамен.
Одиннадцатый век угас, но хуже новый.
Монах, который власть у ног видал не раз
и, с царственным лицом, гнул королей безмерно,
незыблемой душе нашел покой в Салерно,
не изменив тому, кто распят был за нас.
Но старца Виктора жжет дух его как лава,
и папу Урбана, ведущего Закат
на пламенный Ислам, самумом пик и лат,
затем Пасхалия, избранника конклава.
В старинном городе, во мраке и глуши,
в открытом всем ветрам шатающемся доме,
старик кончает жизнь, валяясь на соломе,
и около него нет ни одной души.
Неспешно слезы жгут его худые щеки.
И, лежа на спине, с немым укором глаз,
сжимает руки он в ознобе и подчас
бормочет голосом, в котором хрип глубокий:
«Ко мне, Саксония, Ломбардия, ко мне!
Германцы, римляне, взносите меч и пику!
Вперед! Равняйте строй, по цезарскому клику!
Гербы монархии пусть веют по стране!
135
Мне холодно, Христос! Молю тебя, о боже,
не дай в тоске изныть, покуда плоть жива.,.
О господи! Не ел империи глава!
Отцеубийца — сын, народ — предатель тоже.
Кто, кто меня зовет? Не ты ль пришел, монах,
позорить цезаря в проклятьях и молитвах?
Прочь! Бился я с тобой в шестидесяти битвах!
Мои епископы — твоих разбили в прах!
Мои епископы! Они в тиши Равенны
мне папу Климента нашли, моим мечом!
Но этот подлый люд мне изменил потом,
и узурпатором прослыл я во вселенной!
О стыд! Согнул меня ты розгою стальной!
И вот теперь лежу, несчастный и голодный,
хрипя на гноище, в своей тоске бесплодной!
Чего ж ты не идешь, когда здесь — ад прямой?
На тронах ты громил помазанников бога!
Антихрист, я прогнал тебя, твой город взяв,
травил собаками, как волка в тьме дубрав...
Христос, я голоден, и страхов слишком много!»
Стихает голос. Смолк. И слышно: вдоль домов
в ненастий ночном блуждают псы худые,
усердно нюхают пороги городские
и воют, словно мчась по следу мертвецов.
И голос вновь звучит: «А! черти рыщут снова
за гончей, что всегда была напряжена!
Эй, псы! Вам цезаря сегодня плоть нужна?
Сюда! Час подходящ, и бойня вам готова!
Умри же, нищий раб! Умри, тень короля,
Германию и Рим смирявшего на годы!
Священный дважды вождь для неба и народа,
кому теперь враги — твердь, люди и земля!
136
Умри и ты, не раз мне крылья подставлявший
орел Оттонов, ты могучий, как гроза!
Церковный филин клюв вонзил в твои глаза:
в извечный мрак сойди, как твой хозяин павший!»
И ветер, рвущийся во тьме дорог, без сил,
стенает вихрями, пустынь печальных житель;
и вот, Германии и Рима повелитель,
пред Гильдебрандом пав, дух Генрих испустил.
АГОНИЯ СВЯТОГО
Монахи, впереди которых шел приор,
держа в руках Дары и таинство елея,
попарно вышли прочь, на монастырский двор,
как сборище теней под арками чернея.
Как на полях убийств, когда закончен бой,
в угрюмой келье тишь сгустилась похоронно
над ложем, где в тоске лежал аббат седой,
недвижный и свечой горящей озаренный.
Серебряный Христос был в руки вложен вновь,
глаза, под гладким лбом, успели провалиться,
и, все еще тепла, подчас сочилась кровь
из высохшей груди, сожженной власяницей.
Слова и смертный хрип мешая на устах,
измученный старик ждал смерти в полумраке
и, без конца дрожа, глядел на стол в ногах,
на кости с черепом — уродливые знаки.
У приготовленных для мертвеца пелен,
под капюшоном скрыв свой лик худой и кроткий,
недвижен, одинок, коленопреклонен,
монах читал псалмы, перебирая четки.
J 38
Вот полночь пробило, и в гуле ветровом
двенадцатый удар замолк, зловещ и страшен;
обитель мрачную потряс внезапный гром,
свет молний озарил громаду тяжких башен.
И, осенясь крестом, тревоги не тая,
монах сказал, подняв лицо в великой боли:
«К тебе, о господи, из бездн взываю я,
но, если надо так, твоя да будет воля!
Склони небесный свод, нетронутый людьми,
врата извечные открой, пока не поздно,
господь! И верного служителя прими,
которого к тебе уносит ангел грозный.
Снедаем жаждою одной любви твоей,
он, сердцем справедлив, святого рвенья ради,
как добрый труженик, от утренних лучей
до сумрака в твоем работал вертограде.
Напиток горький был в твоем фиале цел,—
его суровый рот испил питье с охотой,
а ныне, господи, он стар и одряхлел
и слишком утомлен исполненной работой.
И к царству дивному он обращает взгляд,
разламывает смерть души его оковы;
прими ж его, Христос, в твой благолепный сад,
дай золотую ветвь и светлый нимб святого!»
Тут келью медленно наполнил бледный свет;
аббат подъял чело, омытое водою,
и услыхал монах, в испуге, что в ответ
старик заговорил, как будто пред судьею.
«Господь, ты знаешь все, вот сердце пред тобой.
Отвергнув жизни зов и радости земные,
я сам пронзил его гвоздями и стрелой,
по твоему пути его влачил в крови я.
139
Во цвете юности, страстей противник всех,
я подчинил себя железному закону.
Богатства жизни сей и искушенья грех
ногами я попрал, как цвет травы зеленой.
Мне Павел меч вручил, Петр отдал два ключа;
босой, повязанный веревкой, в грубой рясе,
могучих цезарей я бичевал сплеча,—
труба архангела в моем звучала гласе.
Шли с Севера на Юг войною, напролом,
князья, и рыцари, и воины без страха,
но горделивейший, как и храбрейший,— лбом
коснулись набожно сандалии монаха!
И в мире, где царил разгул, о мой господь,
откуда шла хула, величье церкви руша,
я божьей жертвою назвал любую плоть,
спасая Сатане обещанную душу.
Господь, господь, скажи, доволен ли ты мной?
Вот на челе моем дымится пот тревоги.
Учитель, если да, коснись меня рукой,—
подобно морю, кровь мне застит все дороги.
Она встает, рычит, сгущается, как мгла,
я утопаю в ней, в ее разливе диком,
и тени — Иисус! — на волнах без числа,
и каждая зовет меня безумным криком!
А! Узнаю теперь проклятых! Вот они:
еретики Альби, Безье, Фуа, Тулузы.
Их рассекал топор, их жгли костров огни,
как оскорбителей, порвавших церкви узы.
На приступ! В зубы — меч, топор — зажать в кулак!
Громите, не щадя, твердыни отлученных!
Разите! Ждет вас рай, коль не спасется враг!
Утробы и сердца — долой из умерщвленных!
Разите! Сам Христос участвует в бою!
И женщин и детей давите на граните!
Вам, воины, свиней и псов я отдаю!
Их трупы мерзкие на части разорвите!
140
Хвала Христу! Горят, как факелы, костры,
трещит, пылая, плоть еретиков презренных,
и красные ручьи, вскипая от жары,
восходят к небесам, под звук псалмов священных!
О милосердный бог, о правды торжество,
твоим огнем меня ты согревал годами.
Ио сердце в ужасе сегодня от него
и в жилах, в смертный час, течет другое пламя.
Победа! Церковью нечистый сокрушен...
Но слышу голос я, ужасный, словно молот,
мне говорящий: — Прочь, монах безумный! вон,
дикарь, насытивший людскою плотью голод!
О Дева, помоги! Господь, вонми мольбе!
Ведь разве не с тобой творил я это дело?
Когда я ударял, я думал о тебе,—
я пред апостольским престолом бился смело!
Ты победил, не я! Вот жизни рвется нить,
гляди же, как течет, марая одеянье,
та кровь, которую не смог я иссушить
за шесть десятков лет поста и бичеванья.
Взгляни же на глаза, запавшие от слез;
учитель, до того, как я уйду в геенну,
на сердце бедное взгляни,— оно, Христос,
горит не злобою, но верою смиренной!»
— Ты лжешь! Безмерная гордыня из твоих
лохмотьев королей звала на суд, бывало,
и гнула под пятой ряды племен земных,
и душу трепетать от злобы заставляла.
Молился ты, в постах смиряя плоти зов,
ты добродетелью хвалился без коварства.
Но что же, злой палач живых и мертвецов?
Смотри! Ты жертвами мое наполнил царство.
Как с именем моим избрал ты этот путь?
О вечно дикий волк, грызущий неустанно,
зубами и когтьми ты мне изранил грудь,
слюною осквернил мои святые раны.
141
Назад! Иди и вой в провале вековом!
Там, Каину родня, не будешь ты в обиде.
Ступай! Ты осквернил небесный чистый дом,
и ангелы мои умрут, тебя увидя! —
«Пощады, о Христос!» — Ты опоздал! Назад! —
«О, подо мною ад и дьявол ждет веселий!
Я умираю!» И, в конвульсиях, аббат
смех дикий испустил и замер на постели.
Растерянный монах, весь в ледяном поту,
сознанье потерял при звуке слов ужасных,
и красный свет свечи явил сквозь темноту
живого с мертвецом — холодных и безгласных.
АНАФЕМА
О, если 6 жили мы, когда поденки-боги
встречали свой конец, смерть древности признав,
и, узы меж людьми и небом развязав,
сходили к Матерям, во мрак священно-строгий;
желанья, жалобы, как ярая гроза,
тогда клонили ниц лишь слабых душ породу;
как было б хорошо существовать в те годы
и, принимая бой, судьбе глядеть в глаза!
Но с падшей древностью сравнимся ль мы сегодня?
Держали времена твой вызов, Назарей,
и в двадцати веках ты был других сильней,
и пепел неживой теперь еще бесплодней.
О счастье мертвецов! Далекий хор святой
носился до конца над мудростью старинной;
солнц эллинских лучи, сливаясь воедино,
на вдохновенных лбах боролись с темнотой.
Уже пред силою таинственно-могучей
исполненный того, кто укрывал черты,
о Павел, на пути в Дамаск увидел ты
нежданно молнию, упавшую из тучи!
Чернее наша ночь и день вдвойне далек.
О, сколько было слез под высью одинокой!
И над землею дым кровавого потока
встает, как вечному свидетелю упрек!
143
Как иессей в конце безмерного мученья,
во всем отчаявшись и усомнясь вполне,
устав напрасно ждать архангела в огне,
народы выпили фиал долготерпенья.
Но это не затем, что, с факелом в руках,
Гепид иль Гунн попрал великие созданья
и наступил конец империи, под ржанье
коней Алариха на римских площадях.
Нет! Племена людей гнетет беда иная:
своекорыстием сердца сжигая им,
бог Молох животом сияет золотым,
в кровавом пурпуре над ними восседая.
Нечистым воздухом земной окутан шар,
где гордый плащ лесов исчезнуть должен скоро;
под гнусною пятой чело склонили горы;
таинственную грудь морей пятнает пар.
Заботы горькие, печальные фантомы,
над миром горестным летят, отяжелев;
и вновь Екклезиаст терзается, воссев
в тени под кедрами, что библии знакомы.
Нет устремления к незримым небесам,
страстей бессмертных нет, священных нет печалей!
От кубков золотых, что прежде жизнь давали,
увы, уж ничего не сохранилось нам!
О скорбь смертельная, о молодость в руине,
одно тщеславие да пепел скрыты в вас!
Без сладострастия огонь любви погас;
отвергли мы и страсть небесную отныне!
Какому божеству возжечь ячмень и соль?
На алтаре каком свершить нам возлиянья?
Кому отдать стихи и лиры прорицанья?
Как в сердце мировом родить восторг и боль?
Какой реке дано омыть бесплодья пятна?
Какого солнца луч, мир дряхлый грея впредь,
великие труды еще заставит зреть,
что для былых племен сияли беззакатно?
144
О воля, праведность, о тяга к красоте,
скажите, что дано искусу завершиться
и что божественный Возлюбленный к вдовице
спустя три дня придет в нетленной наготе!
Найдите вновь свои закованные силы,
заставьте семя жить средь высохших пластов,
заставьте засверкать, меж миртовых листов,
как новым грекам, меч над славною могилой!
Иначе же, Земля, где не взрастить зерна,
чтоб дальше прокормить надежды молодые,
умри! Не дли конца,— безмолвна, как впервые,
вернись туда, где спит диллювия волна.
А ты, о человек на гноище великом,
наследник пращуров и злобы мировой,
с богами прежними и мертвою Землей
лети, презренный прах, в порыве вихря диком!
10 Леконт де Л\и\ь
СОВРЕМЕННИКАМ
Живете вяло вы, без грезы и без цели,
дряхлее, чем пустырь, забытый и глухой,
вас выхолостил век растленья с колыбели
и не дал страсти вам глубокой и живой.
Ваш мозг опустошен, грудь дышит еле-еле,
и этот жалкий мир испачкали такой
дурною кровью вы, так надышать сумели,
что ныне только смерть в грязи растет земной!
Убийцы всех божеств, о люди, ближе дата,
когда в своем углу, на тяжкой груде злата,
точащей грунт до скал, до их извечных лож,
не зная, чем занять в теченье суток руки,
скользя в небытие и утопая в скуке,
умрете глупо вы, набив карманы сплошь!
146
SOLVET SECLUM
Злювещий вой живых, ты замолчишь с векатуяи!
Свирепые хулы, носимые ветрами,
вопль злобы, ужаса, насилья и скорбей,
призывы гибнущих извечно кораблей,
преступные дела, раскаянья, рыданья,
тела и дух людей,— настанет день молчанья!
Все смолкнет: бог, цари, бессильный
род рабов,
стенанья хриплые темниц и городов,
животные в лесах, и море, и вершины,
все то, что ползало, дрожало неповинно
в земном аду, все то, что бегало, ревя,
хватало, мучило и жрало,— от червя
до молнии, в ночах скользящей с небосвода!
Мгновенно прекратит свой мерный
шум природа,
То будет не рассвет под пышной синевой,
не завоеванный для счастья рай былой,
не посреди цветов Адама речь и Евы,
не сон божественный, в забвенье
мук и гнева;
нет; это шар земной, живых существ оплот,
неизмеримую орбиту разорвет
и мертвой глыбою, бессмысленной, слепою,
исполненной теперь лишь тяжести да воя,
с громадною звездой столкнется,
как болид,
ю·
147
сухую кожуру бессильно размозжит
и через все свои зияющие раны
извергнет внутренний огонь и океаны,
и оплодотворят собой пространств пары,
где зарождаются, в брожении, миры!
из книги
„ТРАГИЧЕСКИЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ"
Ъ
САВАН
МОХАММЕДА-БЕН-АМЕР-АЛ-МАНСУРА
Плачь, праведный Йемен, меж пальмовых стволов!
Шамах, под кедрами терзайся неудачей!
Под небом, полным звезд, бессильный и незрячий,
угрюмое лицо зарыв в песок горячий,
плачь и рычи, Магреб, родитель рыжих львов!
Вот срезал Азраил могильными крылами
цвет розы кордовской — бойцов отважных цвет!
В широких стременах храбрейших больше нет,
и, клювами стуча, спеша на свой обед,
кружится воронье в ночи над мертвецами.
О Кал-ат-ал-Носур, ущелья, гребни скал,
пусть гложет вас Ивлис, в свирепом исступленье!
Слепящей молнией, подобно сновиденью
с Хиджаса на закат промчавшейся в мгновенье,
прославленный Ислам сегодня отблистал!
Мы — пыль пред господом, судьей всего живого!
Двадцатитысячный отряд передовой
коней и всадников полег, как смерч степной;
равнина, и река, и камни над рекой
от крови воинов и лошадей багровы.
151
Нефть, жирною струей пропитывая прах,
пылает, озарив пустынные просторы,
зеленым языком свивается и скоро
соясжет вперивших в твердь безжизненные взоры
убитых, сложенных на дровяных кострах.
Алла! Под шум грозы, с военным кличем ярым,
чрез камни, заросли, зиянья пропастей
на пожирателей хмельного и свиней
мы храбро, десять раз, но все не став сильней,
кидались с хохотом, удар сменив ударом!
И ты, весь в пурпуре, в кольчуге дорогой
и в шлеме золотом, сверкавшем под лучами,
орел, подхваченный победными ветрами,
с кривым клинком в руке, летел ты перед нами,
Мохаммед-ал-Мансур, наш праведный герой!
Ты знамя потрясал халифов непреклонных,
белевшее, как снег невозмутимых гор,
пантеры гладкий мех, нам радовавший взор,
в бока коня, что нес тебя во весь опор,
впивался яростью когтей осеребренных.
Пред Раем, что бойцам обещан навсегда,
бесстрашно слушая голодный вой шакалий,
кто б из твоих, стыдясь отстать в великом шквале,
Светило Трех Племен, стремившее нас в дали,
чтоб умереть с тобой, не бросил повода?
Сорвавшийся с вершин рычащий гром потока,
валы, крушащие скалу в приливный час,
на рать язычников, сраженных столько раз,
своею доблестью пьяня, ты ринул нас,
Амера славный сын, Дыхание Пророка!
Неистовый удар, сливаясь в страшный вой,
всех коршунов спугнул с потрясшейся стремнины,
Заставил с криками подняться сонм орлиный
и за пределом гор, селений и долины
четыре стороны земли объял собой!
152
Увы! Строй жеребцов, ломая ноги в беге,
с утра до вечера в круженье, горделив,
бросался, взмыленный и гривы распустив,
с ноздрями красными, сплотясь в один порыв,
как саранча, в полях секущая побеги.
А! дети молнии и чистой Ал-Борак,
друзья и спутники в сраженьях несказанных,
ликуя в грохоте и криках беспрестанных,
вы ржали, вздыблены над пикой окаянных,
вас погружавшей в смерть, в неимоверный мрак!
Вы грызли палаши, трезубцы, вилы, стрелы,
копье охотника и горного стрелка,
бросаясь на степой стоявшие войска,
которым веяла Кантабрская Рука,
и Лев Кастилии, и Ящер Компостеллы.
Вы, прискакавшие из рощ веселых днем
на Астурийские зальдевшие обрывы,
вы спите, в ужасе разгрома молчаливы,
и, словно под лучом граната плод красивый,
лбы ваши треснули под грубым кистенем!
Как глыба, устоял в сраженье люд суровый.
К горам, свернув назад, неспешно отошли
длинноволосые бароны, короли,
крестьяне, латники, монахи злой земли,
с устами, полными кощунственного слова.
Не победители, но не побеждены,
они ушли во мрак, зловещи и упрямы,
и замолкает хрип, и дым восходит прямо,
а мы вокруг шатра скорбим: Орел Ислама
в нем взоры навсегда сомкнул средь тишины.
Изранен, недвижим, суров, бледнее тени,
бессмертный Судия, как сказано молвой,
чтоб вознестись в Дженнат, цветущий и родной,
небесным ангелам он дух вручает свой,
венчанный пальмами и блеском ста сражений.
153
Душа взнеслась к Отцу с вечеровым лучом.
Под рыжей шкурой льва, при зарыдавшем друге,
в ларе, где двадцать лет в тиши копили слуги
пыль, оседавшую на дорогой кольчуге,
Мохаммед-ал-Мансур заснул последним сном.
Дни наши кончены, настало искупленье!
Омейи племя, знай — колеблется твой трон,
и пикой пагубной в бедро ты поражен:
непобедимый Муж лежит, окровавлен,
во прахе бранного ел уженья!
МАЛАЙСКИЕ ПАНТУНЫ
1
Змеятся молнийные стрелы
вдали, где гонит вал гроза.
На лыках, соткапных умело,
ты спишь, полузакрыв глаза.
Вдали, где гонит вал гроза,
свет молний зыблется на пене.
Ты спишь, полузакрыв глаза,
шалаш твой полон испарений.
Свет молний зыблется на пене,
ревущий ветер изнемог.
Шалаш твой полон испарений,
ты спишь с улыбкой, мой цветок.
Ревущий !ветер изнемог,
он убегает в сумрак лога.
Ты спишь с улыбкой, мой цветок!
У сердца дивных песен много.
Он убегает ib сумрак лота,
где слышен только грохот вод.
У сердца дивных песен много,—
к прозрачным высям песнь плывет.
Где слышен только грохот вод,
ныряет пальмы ствол в бессилье.
К прозрачным высям песнь плывет,
влюбленных снов колыша крылья.
Ныряет пальмы ствол в бессилье,
внезапно прядает утес.
155
Влюбленных снов колыша крылья,
баюкай сердце, в блеске гроз!
Внезапно прядает утес
к волне, что бурей захмелела.
Баюкай сердце, в блеске гроз! ■
Змеятся молнийные стрелы.
2
Вот перлы крупные Маската,—
все для тебя, моя любовь!
Еще красна и тепловата,
у ног течет гяура кровь.
Все для тебя, моя любовь,
для кожи, что темнее ночи!
У ног течет гяура кровь,
мертво <на месяц смотрят очи.
Для кожи, что темнее ночи,
богатства эти я достал.
Мертво на месяц смотрят очи,
в лучах — свиреп зубов оскал.
Богатства эти я достал,
но что тобою не затмится?
В лучах — свиреп зубов оскал,
сиянье месяц льет на лица.
Но что тобою не затмится?
Двойная молния — твой взгляд.
Сиянье месяц льет на лица,
неистов крови аромат.
Двойная молния - твой взгляд;
звезда моя, тебя нет краше!
Неистов крови аромат,
мы утолили ярость нашу.
Звезда моя, тебя нет краше,
ты, как вечерний луч, ясна!
Мы утолили ярость нашу,
гяура труп несет волна.
156
Ты, как вечерний луч, ясна,
твой свет храню я в сердце свято!
Гяура труп несет волна!
Вот перлы крупные Маската.
3
Под деревом, где манги алы,
спи, руки заломив нежней.
Большой питон колеблет жало
среди бамбуковых ветвей.
Сии, руки заломив нежней,
прикрыв бедро циновкой тонкой.
Среди бамбуковых ветвей
спадают солнца ялезы звонко.
Прикрыв бедро циновкой тонкой,
ты тень собою золотишь.
Спадают солнца слезы звонко
меж птичьих гнезд, тревожа тишь.
Ты тень собою золотишь
в траве, подобной изумрудам.
Меж птичьих гнезд, тревожа тишь,
летают пчелы с ровным гудом.
В траве, подобной изумрудам,
для зрячих незабвенна ты!
Летают пчелы с ровным гудом
с ветвей сантала на цветы.
Для зрячих незабвенна ты;
любить он будет до могилы!
С ветвей сантала на цветы
голубку коршун гонит с силой.
Любить он будет до могилы!
О женщина, люби лишь раз!
Голубку коршун гонит с силой;
в лесу настал измены час.
О женщина, люби лишь раз!
Прао чернеет у причала.
В лесу настал измены час
под деревом, где манги алы.
157
4
Цветет хинне твоими ноготками,
в бубенчиках — твоей ноли янтарь.
Я слышу, слышу, как рычит ногами
владыка чащ, Тимора пестрый царь.
В бубенчиках — твоей ноги янтарь,
твой рот, как свежий мед, благоухает.
Владыка чащ, Тимора пестрый царь,
вот бродит он и козни измышляет.
Твой рот, как свежий мед, благоухает,
как пенье птиц — смех беззаботный твой.
Вот бродит он и козни измышляет:
в час этот лань идет на водопой.
Как пенье птиц — смех беззаботный твой,
ты ъ беге и прыжке быстрей газели.
В час этот лань идет на водопой;
пред ней два глаза желтых заблестели.
Ты в беге и прыжке быстрей газели,
но сердцем неверна, и лжив твой рот!
Пред ней два глаза желтых заблестели;
дрожь смертная в тиски ее берет.
Ты сердцем неверна и лжив твой рот!
Пылает медный крисс, храня обычай.
Дрожь смертная в тиски ее берет:
вот царственный Ловец схватил добычу.
Пылает медный крисс, храня обычай;
я никому любимой не отдам!
Вот царственный Ловец схватил добычу;
плоть покоряется стальным когтям.
Я никому любимой не отдам,—
умри! Тебя касаюсь я губами!
Плоть покоряется стальным когтям.
Хинне цветет твоими ноготками!
158
5
О бледность губ! О взор безмолвный!
Горька души моей печаль.
Вздувает ветер парус полный,
вся в пене, серебрится даль.
Горька души моей печаль:
как эта голова красива!
Вся в пене, серебрится даль,
прао несется торопливо.
Как эта голова красива!
Ее срубил я в страшный день.
Прао несется торопливо,
скача, как бешеный олень.
Ее срубил я в страшный день;
по шаткой мачте кровь стекает.
Скача, как бешеный олень,
прао меж бурных воли ныряет.
По шаткой мачте кровь стекает;
последний хрип ее — мне стыд !
Прао меж бурных волн ныряет,
морская пена тьму кропит.
Последний хрип ее — мне стыд!
Но разве мной умерщвлена ты?
Морская пена тьму кропит.
Вот тучи молнией разъяты.
Но разве мной умерщвлена ты?
Тебя любил я, э^о рок!
Вот тучи молнией разъяты,
провал вскрывается, глубок.
Тебя любил я, это рок!
Пусть мне дадут забвенье волны!
Провал вскрывается, глубок.
О бледность губ! О взор безмолвный!
159
В С Ε С О Ж Ж Ε IIII Ε
Год девятнадцатый семнадцатого века;
июльский жаркий день. Приход богатый в некой
тревоге. Даль небес лазурна и чиста,
но звон колоколов несется не спроста.
Весь город праздничен, и солнце золотое
на крыши льет лучи, отражено рекою,
на черный монастырь, где призракам приют,
на зданья, на мосты, что вот-вот упадут,
на башни тяжкие, на мощные ограды,
к которым встарь пришли католиков отряды.
Подобно гулу вод, встающих без числа,
жужжащая толпа окрестность залила,
тупик и улицу, и потрясенный берег;
кружится сборище, горланя до истерик,
порядок утеряв, глаза тараща ввысь
и вскинув руки; всех цветов попы сошлись,
босые, в сапогах, в сутанах, в капюшонах,
сброд нищенок-старух, зубастых и зловонных,
дворяне конные, в султанах и гербах,
сидящие, в толпе, на кровных лошадях,
их дамы пышные в каретах, в паланкинах,
мещане толстые в воротниках аршинных,
багроворожие от доброго вина,
рубаки буйные и серая волна
оборванных крестьян, воров и проституток.
Все возгласов полно, молитв, похабных шуток,
свистков и хохота,— толпа собралась тут,
чтоб видеть, как живьем несчастного сожгут.
160
И, стоя >на костре, прижат к столбу из дуба,
по торсу и' рукам обвитый цепью грубо,
презреньем сумрачным и гневом обуян,
глядел он с высоты на этот океан
лиц, глаз сверкающих и жестов исступленных;
он слушал злобный крик, гул песен похоронных
неистовых глупцов, стоявших в два ряда,
смотрел, как буйствует фанатиков орда,
гримасы их следил, в предсмертный час томлений,
их руки грязные, марающие гений,—
меж тем как их глаза, предвидя торжество,
как волки жадные, вгрызались в плоть его.
И скорбь за род людской терзала мощный разум...
Сухое дерево заполыхало разом,
язык огня пополз, багровый, все быстрей,
до живота обнял героя, словно змей,
и — кожа съежилась и треснула, подобно
созревшему плоду; и кровь и жир утробный
внезапно брызнули; и, в муке огневой,
поднявшей волоса, вскричал он: «Боже мой!»
Тогда один монах, с усмешкой изувера,
завыл: «А, мерзкий пес, жратва для Люцифера!
О боге вспомнил ты, когда попал в беду!
Ступай! Зде,сь не сгоришь — дожаришься в аду!»
Но умирающий, опять возникнув в дыме
презрительным лицом, с чертами гробовыми,
с которых, клокоча, струился красный пот,
взглянул, как корчился от смеха подлый скот,
и прокричал, водя геройски состязанье:
«Тварь низкая, ведь бог — пустое восклицанье!»
Все этим высказав, мудрец сгорел живьем,
и ветром прах его развеян был потом.
11 Леконт де Лиль
ПРОКЛЯТЫЕ ВЕКА
О мерзкие века чумы, проказы, веры,
в которых свет костров кровавится без меры!
Века отчаянья, голодной нищеты,
в которых рваный жак стал ниже, чем скоты,
плачевным голосом клянет свой рок злосчастный!
Века насилия и ярости ужасной,
1в которых — пленником угрюмых погребов,
глушащих стон и вопль,— ощерясь без зубов,
старик еврей, аз цепях, кончины молит скорой,
поджариваемый со смехом жадной сворой!
Века еретиков, закопанных живьем,
и тысяч виселиц, ходящих ходуном
под ветром, мечущим от края и до края
казненных остовы, пространство заслоняя
ордою вороио'В, кружащихся вкруг них!
Века, в которых ждут, в доспехах боевых,
на башнях рыцари минуты — прыгнуть в седла,
чтоб горло перервать купцу, ограбить подло
и отблагодарить святых за тюк большой
с шелками, бархатом, восточною парчой!
Века, в которых волк-колдун сулит невзгоды,
инкубы с ведьмами сплетают хороводы
на древних кладбищах, где пляшут чередой
огни белесые, душ окаянных рой!
Века кропил, крестов, тонзур, сутаны злобной,
дыб и клещей,— века, в которых Рим, подобный
вампиру, кровь людей сосущий с торжеством,
стоящий с факелом перед большим костром,
162
внушающий живой душе, живому телу
страх — пребывать в живых, и ужас отупелый
пред смертью,— адскому огню, как дар, не'сет
горящие тела, утратив жертвам счет!
Да, в каждом помысле и в каждом вашем миге,
века душителей и тварей, жегших книги,—
стыд племени людей и срам оедой Земле!
О, будьте прокляты в проклятой вечной мгле!
ЗОЛОТОЙ ШАР
Шар солнца золотой, прощаясь с небесами
и погружаясь в глубь морскую, шлет кругом
последний свой привет, и розовым лучом
играет с горными далекими снегами.
Изнемогающий π грустный ширя стон,
долину и овраг наполнил ветер тенью,
лес тамариндовый колыша в нетерпенье,
где птицы певчие еще свистят сквозь сон.
Среди кофейных рощ и в тростниковых чащах,
как из курильниц, ввысь восходит пар земли,
с дыханьем вечера мешается вдали
и сладким запахом лесов, дагао молчащих.
Вон в черной синеве означилась звезда,
жемчужной белезной трепещет, как живая;
потом плывут моря миров и солнц, пылая
на волнах, славою плененных навсегда.
И, созерцая ночь, душа теперь забыла
себя 1в 'божественном молчанье темноты,—
все жалобы смирив, не зная суеты,
к сну вечному идет, как (в тихую могилу.
164
НЕИССЯКАЮЩЕЕ БЛАГОУХАНИЕ
Когда бы солнца дар — равнин Лагорских роза —
благоухающей душой вошел в сосуд
хрустальный, золотой,— исчезла бы угроза,
что разобьют фиал иль влагу разольют.
Ни реки, ни мюря, в бессменном колыханье,
не смыли бы вовек бесценного следа:
осколки и песок, узнав благоуханье,
счастливые, его хранили бы всегда!
Из сердца моего, как из раскрытой раны,
сочишься ты, любовь, мой пламень непрестанный,
невыразимая, как запаха струя!
Прощая боль, зову недуг благословенным!
Бегущим временам наперекор, нетленным
благоуханием полна душа моя!
165
SACRA FAMES
Спит море. Лишь порой колеблет воздыханьем
зыбь, на которую ложится свет луны.
И золотая ночь магическим молчаньем
висит над ужасом пространства и волны.
Две пропасти слились в один провал огромный
печали, тишины и световых отрад.
Святилище и гроб морской пустыни темной,
где миллионы глаз внимательно глядят.
Так небо яркое и благостные воды
спят, давно- облачась в величия покров,
как будто шум живых, детей земной невзгоды,
вовек не нарушал их бесконечных снов.
Меж тем, от голода томясь под гладкой шкурой,
акула мрачная, морских пустынь напасть,
идет, уходит вспять, и снова смотрит хмуро,
и, в скуке тягостной, приоткрывает пасть.
Что для нее небес громада голубая,
Триангль, и Три Волхва, и длинный Скорпион,
ползущий к далям, хвост огнистый извивая,
Медведица и весь горящий небосклон?
Ей только плоть нужна, для пасти наслажденье,
и, кровожадными желаньями полна,
в глубинах тяжких вод, густой сокрыта тенью,
глазами тусклыми добычи ждет она.
166
Все пусто, все молчит. Ни звука над волнами.
Ни мертвых, ни живых не видно вдалеке.
Недвижна и слепа, ворочая глазами,
она покоится на черном плавнике.
О да, чудовище! Ты нам во всем подобно,
хоть кровожаднее, уродливей, глупей!
Утешься! За'втра ты людьми нажрешься злобно
и завтра ж примешь смерть от них среди морей.
Священный Голод, ты — убийство по закону
в глубинах тьмы, в часы, когда сияет твердь!
Акула хищная и человек смышленый
перед твоим лицом невинны оба, Смерть!
АЛЬБАТРОС
На дальней широте, под Козерогом льдистым,
несется ураган, прыжками, с ревом, свистом.
Простор Атлантики во мраке побелел
от пены. Ураган, стремителен и смел,
громады бледных вод (взметает к небосклону,
кусает, треплет, рвет, кромсает исступленно
на клочья массы туч — в них блещет молний кровь, —
хватает, путает, подбрасывает вновь,
в непрекращаемых мельканьях, перьях, визгах,
которые влачит он в пене, шумных брызгах,
и, кашалотов лбы долбя, как бы палач,
вплетает грозный рык в чудовищный их плач-
Один, безбрежных вод и темноты владыка,
несется альбатрос навстречу буре дикой
уверенной стрелой, не медленен, не скор,
сквозь сумрачную мглу он устремляет взор,
свои железные крыла расправив твердо,
круговорот пространств он разрезает, гордый,
и, весь спокойствие, средь ужаса летит,
и вот уж вдалеке, величественный, скрыт.
168
ОСВЯЩЕНИЕ ПАРИЖА
Январь 1871
1
О сто вторая ночь твоей, Париж, осады!
Зимы великой ночь одна.
До отдаленных стен все в пене снегопада,
катящегося, как оаолна.
Зловещих мачт концы, <в потоке этом белом,
встают, местами, из долин —
то колоколен строй на небе опустелом
вздымает скорбь своих вершин.
Там — замки древние, как тихие могилы,
леса, дома, дворцы в садах,
под частым ливнем бомб утратившие силы,
еще дымятся на холмах.
В траншее смолкнувшей, меж мерзлых средостений,
ложится инея покров
на стылые глаза, на лбы, на кровь ранений
окоченелых мертвецов.
Да, пули варваров пробили эти груди,
сердец великодушных ряд.
Еще сраженья пыл в яюздрях, но в общей груде
они, друг подле друга, спят.
169
Суровый ветер, мчась над взгорьем и равниной,
проклятьями обременен,
я жаждой мщения, и яростью старинной
стучится в мрачный бастион.
Он пушки тяжкие бичует, полный гнева,
на их лафетах громовых,
и дует иногда в зияющие зевы,
и хрипом наполняет их.
На крыши дует он, на сумрачные зданья,
подобные большим гробам,
откуда изредка еще звучат стенанья,
плач по умолкнувшим бойцам;
где мерзнут на руках у матери ребята,
где, у пустого очага,
родитель, в ужасе и горечи утраты,
еще с оружьем ждет врага.
2
Великий город, мозг вселенной несравнимый,
бессмертный улей, море крыш,
маяк, зажегшийся в ночи Афин и Рима,
светило всех племен — Париж!
О судно, смевшее, под непомерным шквалом,
при блеске или тьме высот,
все паруса подняв, в триумфе небывалом,
победоносно плыть вперед!
Ты, с молнией в глазах размахивавший гайкой,
ты, кто, как воин и пророк,
гражданской тогою одет в борьбе великой,
к Победе и Свободе влек!
Ты, бегавший босым, проворный, разъяренный,
по омоложенной земле,
ты, дряхлых королей расшатывавший троны
и певший в бесконечной мгле!
170
Хранитель мертвецов, приосененных славой,
в веках одно из гордых див,
неужто стонешь ты теперь во тьме кровавой,
лицо в колени уронив?
Смотри! Вдоль стен твоих ведут осаду орды!
Косматым скопом сбившись тут,
в утробу Родины суются мерзкой мордой,
на почву чистую блюют!
Рейн перейдя, они смешали волчьи стаи:
Тевтон, Германец и Вандал,
они теснятся здесь, свирепо завывая,
их палкой вождь сюда пригнал.
Они сжигают лес и сносят цитадели,
в прах обращают города;
и вюроны летят поспешно сквозь метели,
чтоб пир закончить, как всегда.
3
Париж! Чего ты ждешь? Дней голода и срама?
В безумье, кудри разметав,
от крови захмелев, что в сердце бьет упрямо,
(ступай! Низринься от застав!
Не дай себя увлечь в ужасное болото,—
ударь, кусай, бросайся псом!
Обрушь на них дворцы, и храмы, и ворота:
за мертвых мсти перед концом!
Нет! Ты не должен пасть, о Город наш священный,
подобно жертве роковой!
Нет, нет и нет! Твой долг — погибнуть для вселенной,
лишь обессмертившись борьбой!
На черной лестнице твоих фортов, громимых
снарядом, все дробящим в прах,
борись! Рычи, как лев в убежищах родимых,—
во всех лачугах и дворцах!
171
На перекрестках, там, где дымы, вопли, свисты,
на площади, где твой собор,
зажги, чтоб умереть, свой ореол огнистый,—
незабываемый костер!
Все заблуждения, ошибки, опьяненья
испепели в святом костре,
чтоб вновь бессмертным встать, врагам на удивленье,
из гроба к будущей заре!
Чтоб новый человек, вдруг ослеплен тоскою,
(воспоминаньем о тебе,
всем странам рассказал о чудесах, тобою
когда-то явленных — в борьбе,
и, гений твой любя, твердя слова привета,
в час расторжения цепей
назвал твой вольный век и славу смерти этой —
примером для вселенной всей!
КОГДА ПО ЭТОТ ДЕНЬ...
Когда по этот день жемчужною росою
заря кропит тростник, желтофиоль, маис;
когда по этот день, всходя до пиков, бриз
бамбуку рослому велит шуметь порою;
когда по этот день у скрытого гнезда
багряное перо на зелени пылает
и ропот диких пчел до слуха долетает,
из чаш пурпуровых рождаясь, как тогда;
когда ш> эт°т день воркуют горлиц пары
и кардинала свист, пронзительно-упрям,
примешивается в горах то здесь, то там
к гудению воды, меж трав бегущей яро;
и с рыжей кровлею, под золотистым мхом,
со шторами, давно привычными в Маниле,
под тенью манговых деревьев и ванили
когда по этот день стоит мой отчий дом,—
о птицы нежные на шапках тростниковых,
о свет, о молодость, о аромат лесов,
овраги черные, что вдоль своих краев
прозрачные пары клубят из гаедр суровых!
Привет! Шлю вам привет, о горы, небеса,
виденья милые потерянного рая,
рассветы, вечера, звезд череда живая,
вся, для меня навек погасшая, краса!
173
Привет вам на краю моей могилы вечной,
бесплодные мечты, слепых надежд тщета,
миражи яркие, небесной лжи фата,—
все, что крылатый срок уносит быстротечно!
Коль за пределами мгновений ждет одно
забвенье наших грез, в их счете непомерном,
к чему волнение о мире эфемерном?
Быть иль совсем не быть,— не ©се ли нам равно?
Я мало радостей узнал, но, в пресыщенье,
дням новым, как векам былым, душой не рад.
В песке бесплодном, где все родичи лежат,
зачем не завершу я жизни сновиденье!
Зачем я не могу, под горькою травой,
недвижный, кинутый лишь времени в угоду,
вдруг окунуться в ночь, где не бывать восходу,
в огромный, яростный, угрюмый рев морской!
УМЕРШЕМУ ПОЭТУ
Ты, у кого глаза блуждали, блеск меняя,
ты, кто бессмертному был равен красотой
и в жизни был согрет небесной теплотой,—
почий, с холодных век печатей не снимая!
Глядеть и чувствовать? Дым, ветер, пыль земная!
Любить? Но горечью полн кубок золотой.
Как бог, покинувший в тоске алтарь пустой,
ты возвращаешься в материю без края.
Над гробом, где истлеть дано тебе, поэт,
слеза печальная прольется или нет,
забыт ли будешь ты, иль чтим банальным веком,
завидую тебе: во тьме могильной ты
теперь избавился от тяжкой срамоты
жить в скудомыслии и зваться — человеком!
17.5
ПОСЛЕДНИЙ БОГ
За гранью прошлых дней, за рубежом веков,
за множеством времен в их головокруженье,
вот что увидел я в тяжелом сновиденье,
которое томит сильней забытых снов.
Я по Земле бродил. Земля была нагою.
Стенанья всех существ, что знали жизнь на ней,
и ветра смертный хрип, и громкий плач морей
умолкли навсегда под твердью гробовою.
В бескрайной пустоте, изнеможенный шар,
охваченный тоской и горем без предела,
уродливый, немой, давно окаменелый,
вращался, позабыв, что прежде был не стар.
Былые острова ерошили хребтами
чудовищный провал, дно океанов тех,
где в тине высохшей лежала груда всех
веков, распавшихся в гигантской древней яме.
Как светоч траурный гробницы роковой,
на бледных небесах иссякшее светило
последние лучи, угрюмое, струило
на одинокий мир, объятый тишиной.
И в думах я бродил, не зная цели странствий,
носимый случаем, вне мук и жажд земных,
последышем людей тщеславных и пустых,
которых, словно пепл, развеял вздох в пространстве.
176
И вдруг завидел я, взгляд кинув на уступ,
виденье, холодней снегов горы ужасной,
что озаряло, вдаль вперяя взор бесстрастный,
вселенную, внизу лежавшую как труп.
Божественный фантом, как образ благородный
детей златых веков, божеств Олимпа, тут
стоял как бы в веках, когда счастливый люд
склонялся к алтарям победно и свободно!
Но лук, желаньями блиставший в дни торжеств,
разбитый, на снегу лежал, близ крыл инертных,
которые в былом, о белый род бессмертных,
носили пастухам лобзания божеств;
и розы над челом не рдели безмятежно,
ничто не билось в нем в жестокий этот час,
и в обожаемой груди давно погас,
о нега первая, твой ток палящечнежный!
Восторг и ужас слез кровавых в тишине,
и память о часах, даривших наслажденья,
всех мук божественных былое опьяненье
стальным объятием сдавили сердце мне.
И в этом призраке, примерзшем к снежной груде,
узнал я навсегда заснувшего без сил
Амура древнего, который все живил
и без которого погибли мир и люди.
1/212 Леконт де Л иль
МАЙЯ
О Майя, о поток химер непостоянных,
сердца людей струей разбрызгиваешь ты,—
в них страсти краткие, и горечь гневов рьяных,
мир омраченных чувств и яркость высоты,—
но что тебе сердца, в их участях обманных,
о Майя, о мираж бессмертной суеты?
Истекшие века, грядущие мгновенья
уходят в тень твою поспешной чередой,
и с ними крик и плач и крови упоенье:
блеск молний, мрачный оон и вечности покой,
старинной Жизни бег, неистощимый рой,
текучих призраков бессменное круженье!
мз зшагмгм
„ПОСЛЕДНИЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ"
*
Vil2·
ИЗ ПОЭМЫ «УСПОКОЕНИЕ БОГОВ»
...Вы, все, кому привык вверять я упованья,
вы, с кем боролся я, свободой горд своей,
коль вы мертвы, то чем займусь я в мирозданье,
я, первый бунтовщик, я, бунтовщик тех дней?
И содрогнулось все в глядевшем Человеке,
и внял он Голосу — рыданью в тишине:
«Не быть подобному, не быть уже вовеки,—
Bice эт'0 времена сметут, волна к волне.
Ни веры не вернешь, ни всех богохулений,
ни злобы, ни любви,— постигнешь, наконец,
лицом к лицу с собой, что этот ряд видений,
проживших день один,— ты сам, ты, их твюрец!
Так! Тешь себя в своем бессмысленном творенье.
Миража старого спадет с очей покров,
и все исчезнет — мир и мысль — в успокоенье,
куда навек уйдет несчетный сойм богов».
12 Леконт де Лиль
181
ДОВОДЫ СВЯТОГО ОТЦА
Ночь — семь холмов и даль захватывала в сети.
,В молельне запертой, в часы тревог своих,
задумчив и угрюм был Иннокентий Третий,
с распятьем золотым меж складок шерстяных.
Вися под куполом, лампада вековая
из глины на цепи качалась без конца,
приют затворника местами озаряя
и тощее лицо святейшего отца.
И вот, когда старик, раздумьями объятый,
полусомкнул глаза под сединой бровей,
свет ослепительный и мирра ароматы
в молельню хлынули и растворились в ней.
В широком, складчатом восточном одеянье,
с кудрями рыжими, мучительный фантом
пред славным схимником, сидевшим в ожиданье,
встал, в ранах ног и рук, пробитых острием.
Короной царскою густой венец терновый,
с которого еще кровь черная текла,
вокруг божественных висков вился сурово,
под нимбом золотым, сиявшим у чела.
И призрак, в немоте предельно величавой,
гость сверхъестественный, посланник высших сил,
на ставленника толп народных и конклава
из глаз недвижных грусть верховную струил.
182
Но папа, не страшась того, чьи излученья,
как зори и лазурь, пронизывали тьму,
к священной жертве сей не чувствуя почтенья,
вперив надменный взор в фантом, сказал ему:
«Ты ль это, первого паденья искупитель?
Что надобно тебе? Зачем пришел сюда,
из райской тишины в суровую обитель,
на Запад, для тебя неведомый всегда?
Неужто ты решил приют оставить вечный,
чтоб осудить наш труд, внушить в пупи испуг
и вырвать, до поры, легко и бессердечно
прощение — из уст, и меч — из крепких рук?
Не ты ли нам велел, страдалец покаянный:
— Ступайте, средь племен вершите лов сердец,
заставьте верить их, судите неустанно
и поколения пасите, как овец?
Уверившись, что ты далек, людские души
бродили, пастыря забыв, в греховной мгле.
Твои служители, виновны ль мы? Послушай,
учитель,— ты ведь знал, что суждено земле?
Рыбацкий бедный челн, под бурею изверясь,
готовясь к гибели, уже не звал тебя;
и гидрой выросла тогда слепая Ересь,
твою единую религию губя.
И три столетия, стремясь неутолимо,
неистовых людей бушующий поток
вставал и' рушился толпою одержимой,
богами с Севера гонимый без дорог.
Неужто мы могли, вняв твоему обету
обманному,— спустя века прийти опять,
класть шею под лрмо и лезть в упряжку э^У
и, в тине ползая, забвение узнать?
Припомни-ка того, кто темными крылами
унес тебя на высь большой горы и там
сказал:— О Назарей! Вот ты над племенами,—
лишь возлюби меня, я их тебе отдам.
183
Я — мстящий дух, я — тот, кто разрывает путы,
борец бессменный я, изгнанник без вины,
тот, кто под ношей мук и ненависти лютой
непримирим и тверд упрямством Сатаны.
Сын человеческий! Ты .в выборе свободен.
Под именем моим, возьмешь ли этот свет,
всеведущ, как и я, могуч и благороден? —
О искупитель, ты ему ответил:— Нет!
Зачем ты дар отверг, ib своей слепой гордыне,
зачем ты отдал мир случайностям в удел,
чтоб Праовде на земле бессмертной стать отныне,
зачем ты кесарской порфиры не надел?
Нет, ты желал испить всю горечь испытаний,
и вот, под чернотой небесной пригвожден,
истерзанный, повис на высоте страданий,
и криком, ужаса был твой последний стон!
Ведь усомнился ты в своем святом творенье,—
и трепет смертного, и мук напрасных дрожь
в растерзанной груди вопили в исступленье,
когда умчала смерть божественную ложь.
Но мы, наследники твои, неутомимо
и словом и костром готовя торжество,
бессильного казня, могучими любимы,
из сына плотника создали божество.
И Варвар у столба, где ты висел в кошмаре,
склонился — веря нам — униженным челом;
и золото скупца, и нищего денарий
воздвигли для тебя алтарь за алтарем.
Как ветры буйные песок уносят в дали,
мы, чтоб освободить пустующий твой гроб,
народов и царей ордою хищной слали
на мир языческий, Восток, исчадье злоб.
Смотри! Редеет ночь пред нашими кострами,
Злак вредный падает под лезвием стальным,
и, в душах страх смешав с надеждою, сквозь пламя
мы, зажигая Ад, являем Небо им!
184
Ты нам принадлежишь, Христос! Из года в годы,
над завоеванной землею суеты,
в анафемах, ов громах крестового похода,
по слову нашему, вещать обязан ты!
Так видоизменив, Христос, твой сон неясный,
и мерзкий люд не так, как ты, познав в борьбе,
Меч, Пурпур и Ключи мы захватили властно
и потрясенный мир отдали вновь тебе.
Но, лишь вчера придя к вершине славы тронной,
сегодня мы должны еретика стереть.
Не приходи ж смущать наш труд, почти свершенный,
не разрывай на мир наброшенную сеть.
В крови нечистого, под звук псалма священный
дай Вере действовать, не будь помехой нам;
вернись, чтоб царствовать на небесах смиренно,
покуда нет конца катящимся векам.
Ведь если некогда и мы иссушим чаши,
и нас восставший мир утопит чередой,—
учитель, будешь ты навек, по воле нашей,
последним из богов, богов мечты людской».
Святой отец умолк, взял крест, в благоговенье
поцеловал его три раза от души
и сделал пальцем знак. Туманное виденье
погибшего Христа рассеялось в тиши.
КОДЗА И БОРДЖА
Из поэмы «Держава дьявола»
Дьявол, Иоанн XXIII, Александр VI
Дьявол
Кровь божья! Балтазар, вы говорили с пылом!
Да, вашей святости и самый ад по силам!
Клянусь когтьми, хвостом, рогами! Демосфен
иа Пниксе щебетал не лучше в дни Камен
и Туллий не сильней орал на рострах Рима.
Я с головы до пят в восторге, друг любимый!
Настолько речь жива, нервна, точна, светла
и мчится прямо в цель, как в воздухе стрела.
Ах, кум, припомните, как, в молодые годы,
на разукрашенных судах взрезая воды,
с глазами пылкими, в пиратском колпаке,
с мечом у пояса, с дубиной в кулаке,
с коротким топором и блещущим кинжалом,
под рвущим такелаж неимоверным шквалом,
держали речи вы, и верный ваш народ —
бойцы Калабрии и провансальский сброд,
пизанцы, эллины, далматы, аратонцы,
широкоплечие, иссохшие от солнца,
186
с рубцами от бичей и хомутов стальных,
но — не лишенные достоинства святых.
Гнев животы им грыз, и дикими рядами
на берега они, как вихрь, неслись с ножами,
бросались чрез прибой, как бы сойдя с ума,
сжигая в городах богатые дома,
громя обители и хижины предместий,
ломая сундуки и девушек бесчестя,
и медленно цедя, чтоб не угаснул раж,
вино епископов из драгоценных чага.
В те дни, владыкою в мечтах планеты старой,
сверкала, Балтазар, у вас в душе тиара,
как в черных небесах блестящая звезда.
И, честолюбец мой, взрезали вы тогда,
в часы полночные, морей печальных дали,
чтобы сокровища апостола взрастали.
Сим ржавчину ключей свидетельствую я!
При всех проклятиях всегда душа моя
испытывала к вам влеченье неуклонно:
всегда вы знали нюх к добыче беззаконной,
презренье к нравственным устоям древних лет,
любовь к предательству, уменье путать след,
ум быстрый, зоркий глаз, удачливость коммерции,
святую страсть к деньгам и каменное сердце.
И вымогательствам пе знали вы преград,
затем, чтобы страстям пожертвовать стократ.
Едва, в великий день возникнув, Симония
кольцом мистичным вас украсила впервые,
сквозь грабежи и кровь увидел целый мир
непогрешимости незыблемый кумир.
Апостол Петр возник в разбойнике свирепом!
И трон единственный вы сделали вертепом,
притоном демонским, где чистая любовь
возводит вечное строенье! Божья кровь!
Да, было времечко для вашей старой лодки!
Перерезали вы тогда мошны и глотки,
распродавали дух святой по лоскутам,
чтоб вновь перепродать. И днем и по ночам
шумел поток экю у вас в ларях несытых,
своею глубиной поныне знаменитых.
И с изумлением я видел в тяжбе сей,
как выпускали вы из рук своих людей
больных и тощих — впрямь святые Иоанны! —
187
с облезлой кожею овечки бездыханной
иль отощавшего осла,— по власти булл,
декретов, записей и аркебузных дул.
Но счастье, Балтазар, на этом свете кратко,
как ночи, грезою исполненные сладкой,
которую зари протяжный вздох гасит.
О горький час! Пришлось бежать, изведав стыд,
из Града вечного, от кафедры просторной,
перенести, с тоской, арест и плен соборный.
По!верите ль? Увы! Что ожидало нас!
Когда между людских, склоненных верой, масс,
на мулах радостных, при цоканьях веселых,
сияя митрою меж девок полуголых,
в толпе епископов, аббатов и попов,
надутых глупостью ученых докторов,
вождей Сицилии, венгерцев, чехов, немцев,
верховных светочей и знатных иноземцев,
монахов, рыцарей, наемников орды,
в Констанцу древнюю въезжали вы, горды!
Поверили б тогда вы, Балтазар, что скоро
«придется вам бежать, как зверю, от собора,
что будет вам в лицо лететь стоустый крик:
«Убийца, вор, дерьмо, предатель, еретик.
втируша, симоньяк, волчец, лопух, цикута,
прелюбодей, бандит, носитель яда лютый,
пес, лев рыкающий, волк с пеною у рта,
гад, изменяющий повадки и цвета,
Иуда, Каин, тварь, пират, колдун сутулый,
слуга антихриста, отрыжка Вельзевула» —
и так без устали, сквернейшим языком!
Не говоря уже, что вечером и днем
неслись анафемы и страшные угрозы.
Исчезли, добрый друг, все лилии и розы,
и были прокляты вы с головы до ног
так, как лишь дух святой проделать это мог,—
в живот и голову, в колено и макушку,
во сне и в радостях, за пищей и за кружкой.
Не шуткой пахло здесь, о господи тройной!
Весь бледный, обнищав, очаг утратив свой,
сквозь трещину в стене, забыв свой нрав строптивый,
мой сын, вы из тюрьмы удрали торопливо,
удобный миг избрав для этого, затем
что слишком правильным тогда казалось всем
188
сжигать язычников, дышать зловонным дымом,
и вы могли сгореть, как Гус с Иеронимом!
Но мул всегда упрям, и скользок верткий уж,
и поколоченный не умирает муж;
и вскоре видели вас, белым, как и прежде,
меж кардиналами, в одном святом колледже,
обжорой, пьяницей, веселым толстяком,
на отдыхе, вполне заслуженном трудом.
О царь морских волков и лицемеров стаи,
достоинств ваших я отнюдь не умаляю.
Я редко знал, мой друг, людей, подобных вам,
глодавших так же кость, в утеху господам,
и столь же яростных и лютых пред слабейшим,
как вы, с секирою или жезлом святейшим,
и столь же мерзостных и жалких в бегства час.
Да, не ошибся тот, кто мудро создал вас,
мой Балтазар! И ад ему свечу поставит,
такую, что ее в людской молве прославят.
Но, милый мой болтун, все ваше естество,
столетья страшный дар, не стоит ничего.
И, следовательно, ваш замысел широкий
немыслим! Нации кричали б, как сороки,
и это был бы крик всемирный, крик беды,
и мы лишились бы и суши и воды.
Ведь поразмыслите, учитель мой, точнее:
есть вера римская — и связан век мой с нею.
Умри она — и я умру. И рифм моих
не хватит. Будет пыл мой лишний для живых.
И Августина бог, погибни дьявол старый,
подвергся бы, как я, плачевному удару.
Нет, если довести до крайности людей,
то могут стать они в нежданный день умней.
Пусть сила хороша, пусть знать ее прекрасно,
но паралитику она подчас опасна.
Что Борджа думает об этом?
А л с к с а н д ρ VI
Господин,
скорей о золоте заговорит гаш сын.
Насильем действовать порою бесполезно;
и если я готов хвалить ваш сталь любезно,
189
как добродетели предшественника, мне
все ж способ мягкости желателен вдвойне.
Пусть дети буйствуют — им церковь, как мамаша,
напитка горький вкус тая, подносит чашу,
обмазав медом край. Ей любо в мире жить
и по пословице, мух в молоке ловить.
Нельзя же без конца, презрев законы братства,
творить апостольство из явного пиратства
и, выкрав жиденят, таскать их на базар.
Вы — порождение э™™» Балтазар,
по правде говоря, слегка смешной и дикой,
в которой всякий мнил, что он — Геракл великий,
соломы жалкий пук вздымая напоказ!
Не позабуду я, как почитали вас,
но все ж, святой отец, нам в переделке этой
не стоит прибегать к ослиному совету,
и, честно говоря, я, внемля вам, потел.
Иоанн XXIII
Корбак! Что говорит дряхлеющий пострел?
Пусть попаду я вновь в циклоны и приливы,
пусть вздернут буду я на виселицу живо,
когда я разрешу, чтобы дрянной ишак,
под видом соловья, тут заливался так!
Прочь, грязный продавец багряных капюшонов,—
ты не наследуешь от беса миллионов,
не отравить его! И не забудь, бандит,
родитель выблядков, кто пред тобой стоит!
Попридержи язык, не то по морде тресну,
как Бонифация в былом Колонна честный,
и челюсть раздроблю с гадючьим языком,
и брюхо гнусное проткну моим мечом!
Дьявол
Поменьше, Иоанн, насилия и прыти!
Со святостью его пристойней говорите!
В приемах вы морской разбойник, мой дружок,
бог побери! и в них не всякий так жесток.
190
Черт! Сам свидетель я, когда других не згааю,—
все, что апостол рек, все истина святая.
К тому ж таких прямых речей не знать мне впредь.
Кем были оба вы, извольте рассмотреть.
Коль скоро ваша речь вся будет из проклятий,
неверных можете вы рассмешить некстати.
Используйте свои таланты в меру сил.
Ведь сущность здесь лишь в том, чтоб каждый лучше
жил.
Не стоит, Борджа, вам бледнеть при святотатце!
Конечно, Иоанн горяч, он любит драться,
он любит золото, он убивать мастак,
но для пирата, он, пожалуй, не дурак.
Помимо эт'0го подумайте смиренней:
от вас уже давно остались прах и тени,
и никогда клинок, (веревка или яд
тончайший — ваших нег уже не прекратят.
Ну, продолжайте вы.
Александр VI
О слава! о восторги!
О кубков золото, столы в разгаре оргий!
Мускат и аликант, мадера и аи,
о папство дивное и ужины мои!
Сосуды, факелы, смех женщин сладострастных^
На шелковых коврах сплетенья тел прекрасных,
яад наготой грудей — лобзаний пылких дюяэдь!
Мечтанья райские, где ныне ваша мощь?
Как в римском пурпуре порой мне было любо
людскою тупостью увеселяться грубо
и продавать вино, смакуя под шумок,
за груды золота, и Запад, и Восток,
и дев, и пряности, и острова, и суши —
неистовым князьям, в спокойном равнодушье,
и наблюдать в тени дубов, под звуки лир,
как иссушается под солнцем этот мир!
Сон восхитительный! Вещей хитросплетенье,
что в аромате роз в дразнящем испареиье,
и в запахе кровей, при свадебных огнях,
в моих пурпуровых и золотых шатрах,
ПН
под пенье рабское сверкало неизменно,
в безволии толпы, ничтожной и презренной,
даря моей душе величье древних снов
и возвращая мне блеск цезароких веков!
И ты, живой цветок Италии палящей,
от крови, вяжущей и жгущей нас, блестящий,
расцветший на заре, в безумно-пьяный миг,
чтоб запах надо мной и всей землей возник!
О ты, которая и взглядом и устами
вливала страстный пыл и дивной боли пламя;
ты, для кого мой сын, бескровный кардинал,
мог брата заколоть в ночи под карнавал,
чтобы, желаньями безумными сожженный,
под поцелуями погиб он исступленно,—
о дочь моя, мне грудь согревшая, дрожа!
Дьявол
Мой верноподданный! Могла бы госпожа
Морози покраснеть при этом излиянье.
Ее старуха мать дрожит от порутанья,
и краской, Балтазар, лицо ее горит,
румяней девушки, познавшей первый стыд.
Сама Лукреция, как строгая персона,
меж нами говоря, теперь глядит смущенно.
Сдержите свой язык и помолчите, плут!
Об этих прелестях не стоит грезить тут.
Поймите же теперь, взглянув на своды ада,
что говорить о вас — лишь дьяволу отрада.
Распутный юноша, продавший сгоряча
За двадцать сот экю другому два ключа
и бывший злее вас, вионец презревший совесть,
иссох бы с зависти, услышав эту повесть!
Скот человеческий, трусливый и тупой,
воспитанный седлом, и плетью, и вожжой,
впал в ужас бы, узнав, какою грязью мерзкой
всю землю папская овинья марала дерзко,
покуда люд простой, не вынеся дурнот,
не смёл в поганый сток ужасных нечистот
и, чистым воздухом желая насладиться,
не сжег седалища свирепого убийцы!
192
Рассказу яркому свою печать я дам,
и этот малый кус приятен будет вам.
Но вспомним про овец, которых стричь должны мы.
Вам слово, Балтазар, наш друг неутомимый.
Итак, мы фактов ждем, пес в митре, старый тать,
но хватит адскую стыдливость возмущать!
ВИКТОРУ ГЮГО
Учитель, в славе спи! Ляг отдохнуть от грезы,
чудесный мозг, что шесть десятков лет струей
созвучий блещущих взносился над страной!
Так! Даже смерть твоя есть часть апофеоза:
поет сквозь времена бессмертный Разум твой!
Чтоб в Жизнь бескрайную перенести стремленья,
как бог, ломает ш глухой могильный свод,—
в грядущем голос твой, о гений от рожденья,
и слушать всей Земле гармонии теченье,
что, от веков к векам катясь, всегда растет!
194
ПРЕРИЯ
В огромной прерии, как в море трав великих,
чей зыбкий горизонт невидимо далек,
сто красных ©садяикоя, гоня мустангов диких,
бизонов загнанных преследуют поток.
Орлиное перо на черепе, все тело
в татуировке, лук в руках, а на боку
колчан, привязанный мочалою умело;
наездники разят зверей на всем скаку.
Взметая бороды, запутывая ноги,
с мычанием бегут косматые быки,
и средь высоких трав слепые их дороги
покрыли сплошь слюна и крови ручейки.
Сплоченной массою, взъерошенной громадой,
давя подстреленных, отсталых, неживых,
чрез камни прыгая, чрез воды — мчится стадо,
меж хрипов гибельных и выкриков лихих.
А сзади, вдалеке, по сумрачному следу,
белесые ряды степных волков летят,
свисают языки, в предчувствии обеда,
и от желания горит, как уголь, взгляд.
Затем все то, чему ничто не даст препоны,—
мычанье, волки, крик, стрелки на скакунах,—
в пространство дикое, как вихрь, столбом взнесенный,
катясь, уносится в стремительных прыжках.
195
ТЫ, С КЕМЯ ЗНА Л...
Ты, с кем я знал в часы, что были слишком кратки,
и юности возврат, и сердца раиний цвет,
благословенна будь! Мне в смерти страха нет:
любя, я вижу сон, прекраснейший и сладкий.
И вы, вернувшие мне давних дней экстаз,
который душу вновь чарует, как впервые,
вы можете забыть, ю взоры дорогие,
меня,— во буду я до гроба видеть вас!
ПРИМЕЧАНИЯ
из книги
«АНТИЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
С У Ρ И Я
Сурж — божество и отожествление солнца в древнеиндийской
мифологии так называемого ведийского периода. Первоначально
Сурию представляли и изображали в виде женщины, позже в виде
воина-мужчины. Богиня Зари у древних, индийцев называлась
Ушас («Явление Ушас служит сигналом для наступления дня;
с нею начинается утренний рассвет; она разгоняет по небу
красных облачных коров и, катясь в своей лучезарной колеснице,
прокладывает путь солнцу».— Д. Шантепи де ля Соссей,
История религий, русск. перев., том II, М. 1899, стр. 27). Иногда
этих коров заменяют хариты — красные облачные кобылицы. Апса-
ры — нимфы индийской мифологии.
СМЕРТЬ ВАЛМИКИ
Валмики — великий древнеиндийский порт, предполагаемый
автор основных частей эпопеи «Рамаяна». По преданию, в
старости был заживо съеден термитами. Гимават (санскритское
«обитель зимы») — старинное название Гималайского хребта.
Раджи — индийские князья, принадлежащие к высшей воинской
касте («кшатрии»). Парии — низшая каста. Брама — божественное
начало в браманской религии (браманы, или брамины,— высшая
духовная каста) и первое лицо в браманской троице. Дасаратид —
Рама, герой «Рамаяны» (воплощение бога Вишну), Митиленна —
его жена.
199
ГИПАТИЯ
Гипатия (IV—V века)—дочь александрийского математика
Теона. Славилась красотой, строгим образом жизни и ученостью.
Выступала в качестве учительницы философии, защищала
языческую культуру. Успех, которым пользовались ее речи и
сочинения, возбудил ненависть к ней со стороны христиан. По наущению
«святого» Кирилла, александрийского епископа, Гипатия в 415 г.
была зверски убита христианскими фанатиками. В
западноевропейской литературе судьба Гипатии не раз служила темой
для романов, поэм, стихотворений (Ч. Кингсли, Ф. Маутнера,
М. Конопницкой и др.). Сам Леконт де Лиль, помимо этого
стихотворения о Гипатии, дал в «Античных стихотворениях» еще и
драматическую поэму «Гипатия и Кирилл». «Пошла в изгнанье ты
с Эдипом...» — Эдип в эллинской мифологии и в трагедиях
Софокла— сын фиванского царя Лая и Иокасты, по неведению убивший
своего отца и женившийся на своей матери. Когда кровосмешение
открылось, Эдип ослепил себя и удалился в изгнание, куда за ним
последовала и его дочь Антигона (с Антигоной Леконт де Лиль
и сравнивает Гипатию, верную языческому миру).
ПАН
Пан — эллинский бог лесов, рощ и пастбищ, козлорогий
и козлоногий. Его считали покровителем пастухов и мастером
игры на флейте. Аркадия — лесистая область в центре
Пелопонесского полуострова.
ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ
Статуя Афродиты Милосской, найденная в 1820 г. на острове
Милосе, находится в Луврском музее (в Париже). Кифера —
богиня любви и красоты, т. е. Афродита с острова Киферы (или
Цитеры), где, по преданию, культ этой богини впервые был
основан финикийцами, у которых она называлась Астартой.
Адонис — в мифологии прекрасный юноша, возлюбленный Астар-
ты, в честь его устраивали празднества. В поэме — намеки на
различные изваяния Венеры. Гелла — по мифам, дочь одного из
Эллинских царей, утонувшая в проливе, получившем с того
времени ее имя — Геллеспонт (т. е. море Геллы). «Земля живая...»
и т. д. — намек на древнейшие эллинские мифы о браке неба
с землей. «...Тетидских вод кристалл...» — Средиземное море (от
имени богини Тетиды).
200
ДВУГОЛОСАЯ ПЕСНЬ
«Воды Галилеи...» — Генисаретское озеро (или Галилейское
море) в Палестине, место, с которым связаны христианские
легенды. «И если к жениху...» и т. д. — речь идет о Христе. «Ионическим
стихом...» — здесь подразумевается расцвет поэзии, начавшийся
в Ионии, малоазиатской греческой области, давшей человечеству
Гомера, Мимнерма и других поэтов. Киприда — Афродита с
острова Кипра, где она, по мифам, и родилась. «С Шаронской
розою...» — по названию Шаронской (или Саронскои) долины в
Палестине. Лучница— греческая богиня охоты, Артемида. Орти-
гия — остров Делос; место рождения Артемиды. Котурны — вид
древней обуви. Фригия — горная малоазиатская область.
DIES IRAE
«Dies irae» — «День гнева» (лат.), начальные слова старинного
католического гимна.
ИЗ ЕНИГИ
«ВАРВАРСЕИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
КАИН
Каин — в библии первенец первых людей, Адама и Евы,
соблазненных змеем (дьяволом), вкусивших от «древа познания»
и за это навсегда изгнанных из рая — Эдема. По библии, Каин,
родившийся уже в изгнании из Эдема, убил своего брата Авеля
из зависти. Образ Каина на протяжении долгих веков
разрабатывался в народных сказаниях и в литературе как тип проклятого,
отверженного преступника — см. стихи Виктора Гюго и др.
Мощный образ Каина-богоборца создал в своей знаменитой драме
Байрон. Произведение Леконт де Лиля проникнуто не только
богоборчеством, но и пафосом научного атеизма — см. особенно
заключительную часть поэмы. Даже буржуазный историк
литературы М. Сурио признает, что «Каин» Леконт де Лиля — это
«крик мятежной и победоносной науки» (M. S о u г i а и, Histoire
de Parnasse, Paris, 1929, p. 187). Ашур — Ассирия. Элам — одно из
менее известных древних государств передней Азии. Тур — Ту-
ран. Ягве — древнееврейское наименование единого бога —
Иеговы. Ховар (или Хабар, Хабарас) — река в Месопотамии, приток
Евфрата, в районе которого жили выведенные ассирийцами из
Палестины евреи. Гелбое-хор (хор по-древнееврейски — гора) —
горный кряж в Палестине. Онагр — дикий осел. Геенна —
преисподняя, ад. «Устав брести...» и т. д. — по библии, Каин, после убий-
13 Леконт де Лиль
201
ства им Авеля, вместе со своим родом долго странствовал,
укрываясь от гнева божьего и людского. «Знак, ненавистью мне
поставленный на лоб» — знак, которым бог отметил Каина, чтобы он не
был убит людьми. Энохия — город, построенный Каином и его
племенем, названный так по имени сына Каина, Эноха. Фантом —
призрак. «Хевронский юноша...» (Авель) — от горы Хеврон (или
Хеврон). Шеол — в библии место пребывания душ, царство теней.
Сим — в библии сын Адама и Евы, в изгнании рожденный ими
после гибели Авеля. Элогим — одно из библейских наименований
бога. Левиафан — легендарное морское чудовище. «И сорвалась
печать гигантского потока» и т. д.— описание «всемирного потопа»,
легенды о котором были широко распространены не только у
древних евреев, но у многих других народов (см. Фрезер,
Фольклор в Ветхом завете, русск. перев., Соцэкгиз, М. 1931, глава IV).
«Чудовищный ковчег» — ковчег (корабль) Ноя, библейского
мудреца, спасшегося от потопа вместе с семьей и животными. Ковчег у
Леконт де Лиля — символ человеческого гения, победившего волю
злобного бога.
СЕРДЦЕ ХИАЛМАРА
Темой для этого произведения Леконт де Лилю послужили
средневековые скандинавские рассказы и саги (главным образом,
Орвар-Одд — сага) о битве дружин Хиалмара и Ангантира на
острове Самсее. Битва, возникшая из-за того, что люди Ангантира
убили часть команды корабля Хиалмара (когда другая часть ее
удалилась от берега), закончилась смертью победителя Хиалмара.
По-видимому, на этот скандинавский источник «Сердца Хиалмара»
впервые было обращено внимание в русской критической
литературе (см. Евгений Д е г е н, Новейшая французская лирика,
«Новое слово», 1896, № 9, стр. 98—99). Много позже этот и другие
источники «Сердца Хиалмара» были подробно рассмотрены Ж. Виа-
не (см. J. V i a η е у, Les sources de Leconte de Lisle, Montpellier,
1907, pp. 113—121, ион же, Les Poèmes Barbares de Leconte de
Lisle, Paris, 1955, pp. 88—93). Упсала — старинный шведский город.
Ярлы — скандинавские феодалы, то же, что графы. Илмер — по саге
конунг, т. е. король.
СЛЕЗЫ МЕДВЕДЯ
Стихотворение написано на одну из тем финского фольклора.
Руны — древние письмена скандинавов; рунам первоначально
приписывалось мистическое значение. Скальды — скандинавские
средневековые певцы, знавшие руны и считавшиеся в свое время
кудесниками.
202
CUEРТЬ СИГУРДА
Сигурд — герой древнескандинавских сказаний, напр. Саги о
Волсунгах (см. русск. перев. Б. Ярхо, изд-во «Academia», M. 1934), и
старогерманского эпоса о Нибелунгах (см. «Песнь о Нибелунгах»,
русск. перев. М. Кудряшева, СПб. 1890), где он называется
Зигфридом. По обеим версиям, скандинавской и немецкой, Сигурд
встречается с бургундской (бургунды — одно из германских
племен) королевой Брунгхилд, обольщает ее, но потом женится на
Гудрун, дочери одного из франкских (франко-германские
племена, обитавшие в полосе Рейна) вождей. Брунгхилд уговаривает
своего родича (Готторм — в Эдде, Гаген — в песне о Нибелунгах)
убить Сигурда, после чего присутствует при надгробных
сетованиях его родных, (кроме Гудрун, около тела Сигурда находятся
престарелая франкская королева Гербор, когда-то пленница
гуннов — монгольского народа, пришедшего в Европу в IV в. и по
пути вобравшего в себя ряд славяно-германских племен, в том
числе и племя свевов, и норманская, т. е. тоже скандинавская,
королева Улранд). Тут же у трупа Сигурда, Брунгхилд убивает себя.
ПУСТЫНЯ
Хореб (или Хорив, или Синай)—гора в Аравии. Ал-Борак —
в коране (религиозной книге мусульман) — кобылица, уносящая
души праведных в магометанский рай, Дженнат, где обитают
прекрасные девы, гурии.
ДОЧЬ ЭМИРА
Эмир — по-арабски правитель. Кордова—старинный город в
Испании, некогда один из центров арабской культуры. «Цветок
Йемена...» — Йемен — область на юго-западе Аравийского
полуострова и одноименное арабское государство, сохраняющее
независимость и поныне. Один из французских исследователей уже давно
заметил, что у Леконт де Лиля это «...христианское
стихотворение стало антихристианским» (J. V i a η е у, Les sources de Le-
conte de Lisle, Montpellier, 1907, p. 149).
ЗАКАТ СО ЛНЦА
Набоб — индийский князь. Пенджаб (или Панджаб)—северная
область на Индостанском полуострове. Птица Рок — исполинская
птица в восточных сказках, (см., в частности, «Тысячу и одну
ночь»). Орион — созвездие.
13* 203
ULTRA С OELOS
«Vitra coelos» — по-латыни: «за небесами». Латания —
веерообразная пальма.
ПРОКЛЯТЫЕ
«Амур, злой первенец богов» — по «Теогонии» Гесиода,
сначала был Хаос, затем появилась Земля, Тартар (преисподняя) и
бог любви Эрос (Амор у римлян). Фурии (или эриннии,
эвмениды) — эллинские богини мщения. Титаны, по мифам, свергли с
престола своего отца Урана и передали его трон Кроносу, но
позже, вместе с ним, после долгой борьбы, были побеждены
олимпийскими богами и заключены, как пленники, в подземный мир —
Эреб.
IN EXCELSIS
«In excelsis» — по-латыни: «в выси».
ИТАЛИИ
Эпиталама — античное брачное песнопение. Идумея —
пустынная местность в Палестине. «Суровых ангелов...» и т. д.—
подразумеваются крестоносцы. Это стихотворение Леконт де Лиля,
в основном направленное против зверств австрийских оккупантов
в Италии, было в пору его написания и опубликования отмечено
и чертами злободневности. Леконт де Лиль говорил здесь о тех
надеждах передовых французов, которые были обмануты
Наполеоном III — надеждах на вмешательство Франции в «итальянские
дела» в интересах освобождения народа Италии от захватчиков.
ВОРОН
Аббат (отец)—почетный церковный титул в первые века
христианской эры, дававшийся настоятелям монастырей; позже
превратился в церковную должность. Серапион — один из
христианских епископов IV века. Ареиноями в первые века христианства
назывался ряд египетских городов. Валент — восточноримский
император (IV в.). Эдикт (декрет) Валента о призыве монахов в
войска — исторический факт. Готы — одно из германских племен.
Авраам — библейский старец. Равви (или
рабби)—древнееврейское слово, означающее: «учитель». Патриарх — Ной. Ягве — см.
204
выше примечание к «Каину». Кармел (или Кармил)—гора в
Палестине. Тиберий (I в.)—римский император. Голгофа—холм*,
на котором, по евангелию, был распят Христос. Самария —
каменистая область в Палестине. «Но был вчера Дунай наполнен
свежей питцей» и т. д. — войска Валента были разгромлены готами
в 378 г. при Адрианополе, городе, находящемся у Дуная, причем
погиб сам кесарь. «Стал ваш кесарь божеством» — намек на
посмертное обожествление кесарей. Поэма «Ворон>>, одно из
значительнейших антихристианских и антирелигиозных созданий Ле-
конт де Лиля, примечательна своим во многом ироническим
тоном (которого, как правило, поэт избегал). Именно $ίού тон
позволил Леконт де Лилю, при сохранении свойственной ему
пластичности, с необыкновенным остроумием смешать в «Вороне»
легендарный материал с материалом науки, притом не только с
историей, но, например, и с дарвинизмом. «Ворон» сильнейшим
образом повлиял на антиклерикальную и антирелигиозную прозу
Анатоля Франса.
АКТ МИЛО С ЕРДИЯ
Жаки — кличка, которую французские феодалы дали
восстававшему в XIV в. крестьянству (отсюда — Жакерия). Mo —
город во Франции, часто фигурирующий во французских хрониках
времен Жакерии. В этом стихотворении, написанном на основании
хроникального источника, Леконт де Лиль не только дает мрачную
картину народного бедствия, но и показывает заодно с
необыкновенной язвительностью, что даже высокое чувство сострадания
к ближним нередко приводило, в эп0ХУ господства
католического фанатизма, к актам самого дикого изуверства.
ТО СКА ДЬЯ ВОЛА
«Те Deum» («Тебя, бога...») — из латинской молитвы. «Творенье
Шестидневья» — подразумевается библейское сказанье о
сотворении мира богом в шесть дней.
АСКЕТЫ
Кибела — малоазийская богиня земли, почитавшаяся древними
римлянами как великая мать всех богов. В период возникновения
христианства культ Кибелы, как и некоторые другие восточные
культы, был широко распространен в Римской империи. «Медная
волчица...» — эмблема Рима; по легендам, волчица вскормила
первых римских царей, Ромула и Рема. «Атласских мощных львов...» —
205
львов из Африки, с горного хребта Атласа; львами язычники
римляне травили в цирках пленников и рабов, в частности
христиан. Сатурналии — осенние празднества в древнем Риме.
Анахореты — монахи-пустынники.
ДВА МЕЧА
Название поэмы — «Два меча» — взято Леконт де Лилем из
средневековых папских документов, вероятнее всего из буллы
папы Бонифация VIII (1294—1303), особенно отчетливо
развивавшей фанатическую теорию о том, что в руках римского
первосвященника, единого главы в христианском мире, должны
находиться два меча власти, «...один подчиняющийся другому,
светский духовному...», и что «...подчинение римскому
первосвященнику есть для каждого человеческого существа необходимое
условие его спасения». Поэма повествует о долголетней борьбе
носителя принципа независимой светской власти, германского
императора Генриха IV (годы жизни—1055—1106), против одного
из самых упорных, сторонников идеи папского всевластия, римского
папы Григория VII (1073—1085). В первой главе — знаменитое
«покаяние» Генриха IV в Каноссе (1077). Далее в «хорах»,
построенных поэтом на материале папских посланий, писем императоров
и т. п., выражены идеологические притязания теократического
папства и воззрения сторонников светской императорской власти.
Затем согласно историческим источникам описана смерть
Генриха IV, неоднократно наносившего сильнейшие удары папству,
но позже преданного многими своими союзниками и даже
собственным сыном и умершего в одиночестве и заброшенности в
Люттихе (нынешнем Льеже). Можно отметить, что выдающийся
советский специалист по средневековью, Н. П. Грацианский (1886—
1945), считал, что поэма «Два меча» — «исключительное
произведение, по которому наши учащиеся могут понять и почувствовать
эпоху борьбы императоров и пап с большим успехом, чем путем
чтения различных учебников. Объективизм этой поэмы,
доходящий до того, что главные действующие лица в ней везде только
показаны, а названы лишь в последней строке произведения — это
от необычайного, научного метода переводимого Вами поэта, а в
действительности все его произведение клокочет ненавистью к
йапству» (из письма Н. П. Грацианского к переводчику этой книги,
1934 г.).
Моисей — библейский легендарный пророк, получивший от
бога на Синае скрижали завета, каменные доски с высеченными
заповедями. «И кости королей белеют вне гробов» — т. е., по
206
слову папы, кости королей могут быть выброшены из могил.
Прелат — у католиков почетное нарицательное название высших
духовных лиц. Викарий (vicarius) — в буквальном переводе
«заместитель»; напр., папа является для католиков заместителем
«князя апостолов» — Петра. Вавилон — древний город и государство в
Азии, у христиан — символ суетного величия. «Столица Юлия...» —
подразумевается Рим как столица первого римского императора,
Юлия Цезаря. «Консульские фаски» — эмблема власти, пучки
прутьев, в которые втыкалась секира; в торжественных случаях
особые служители, так называемые ликторы, носили фаски перед
консулами (высшими должностными лицами в римской республике,
позже и в империи). «Замки Рейнские, Франконские поместья».—
Порт имеет в виду некоторые области нынешней Германии, тогда
входившие в состав «Священной Германской империи». Салерно —
город в Южной Италии. Виктор 111 — папа (1086—1087). Урбан II —
преемник Виктора III на папском престоле (1088—1099),
инициатор первого крестового похода. Пасхалий 11 — папа (1099—1118),
преемник Урбана П. Конклав — собор кардиналов, избирающий
пап. Ломбардия — германо-итальянское средневековое королевство.
Климент 111 — антипапа (1180), ставленник Генриха IV в его
борьбе с Григорием VII. «Антихрист! Я прогнал тебя, твой город
взяв...» — Генрих IV взял Рим штурмом в 1080 г., выгнав оттуда
Григория VII с его союзниками. «Орел Оттонов...» — герб
саксонской императорской династии. «Пред Гильдебрандом пав...» —
светское имя Григория VII было — Гильдебранд.
агония с ват ого
Приор — то же, что и аббат, т. е. настоятель монастыря.
«Мне Павел меч вручил, Петр отдал два ключа...» — В католической
религии апостол Павел является воинствующим ревнителем веры,
апостол Петр — ключарем рая. Альби, Фуа, Безье и Тулуза —
города юга Франции, где в средние века получила широкое
распространение так называемая альбигойская ересь, против которой
папством был объявлен крестовый поход, надолго разоривший
страну и погубивший десятки тысяч людей под мечом
крестоносцев и на кострах учрежденной в это время инквизиции.
АНАФЕМА
Матери — в эллинской мифологии таинственные подземные
богини. Назарей — евангельский Иисус, начавший проповедь в
палестинском городе Назарете (в действительности возникшем
207
позже). «О Павел, на пути в Дамаск...» — подразумевается
евангельское сказание о гонителе христиан Савле (впоследствии —
апостол Павел), который по пути в сирийский город Дамаск увидел
огненное «знамение» Христа, после чего и обратился в новую
веру. Иессей — член древнееврейской религиозной секты, во
многом предшествовавшей христианству; здесь, иносказательно,—
Христос. Гепиды — одно из «варварских», вероятно
славяно-германских племен, фигурирующее у древнеримских писателей.
«Ржанье коней Алариха на римских площадях» — намек на взятие
Рима войсками вестготского вождя Аларихд в 410 г. Молох (точнее
Малк или Мелькарт) — у финикийцев одно из главных божеств,
алчное, требовавшее кровавых жертв; иносказательно — бог
жадности. «...Екклезиаст терзается...» — библейский автор, которому
принадлежат известные пессимистические афоризмы: «суета
сует», «род приходит, и род уходит, а земля пребывает вовеки» и
т. п. «Божественный Возлюбленный к вдовице... придет...» —
символические христианские определения Христа и его церкви; у Ле-
конт де Лиля—просто аллегория обновления мира. «Заставьте
засверкать, меж миртовых листов, как новым грекам, меч над
славною могилой» — намек, с одной стороны, на Аристогитона и
Гармодия, древнегреческих народных героев, которые с мечами,
спрятанными в ворохах миртовых ветвей, приблизились в тирану
Гиппарху и убили его (VI в. до н. э·)» с другой стороны — на
происходившую в XIX столетии освободительную борьбу греков
против турецкого гнета. «...Диллювия волна» — т. е. диллю-
зиальная эпоха (устарелый геологический термин), времена
потопов.
SOLVET SECLÜM
«Solvet seclum» — по-латыни: «уничтожение столетия», «века»,
слова из средневековой католической молитвы.
ИЗ КНИГИ
«ТРАГИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
САВАН M О Χ A M 31 Ε Д А-Б Ε Н-А Μ Ε Р-АЛ-М A H С У Ρ А
Мохаммед-бен-Амер-ал-Мансур (годы жизни ^-939—1002; в
испанских хрониках и народных песнях — Алмансор), по словам
Знаменитого советского арабиста И. Ю. Крачковского (1883—1951)—
«...видный исторический деятель, едва ли не крупнейший политик
208
Кардовского халифата...» (И. Ю. К ρ а ч к о в с к и и, Избранные
сочинения, т. II, изд-во АН СССР, М.— Л. 1956, стр. 488), фактический
правитель халифата при Хакаме II. Азраил — ангел смерти у
мусульман. Кал-ат-ал-Еосур — арабское название местности, где
конница Ал-Мансура в 1002 г. потерпела поражение от христианских
войск и потеряла своего вождя (вероятно, скончавшегося от ран).
Ивлис — одно из арабских названий сатаны. Хиджас (или Геджас) —
древнее арабское государство по соседству с Йеменом, ныне
лишенное самостоятельности. Ал-Борак — см. выше, в примечании к
стихотворению «Пустыня». «Кантабрская Рука, и Лев Кастилии, и Ящер
Компостеллы» — подразумеваются гербы испанских феодальных
государств и орденов. «Астурийские залъдевшие обрывы...» —
Астурия — горный район в Испании. «...В ларе, где двадцать лет в тиши
копили слуги пыль...» — Ал-Мансур «завещал себя похоронить под
прахом, который он отряхивал каждый вечер от подошв во
время «Священных войн» и привозил домой» (А. Крымский,
История арабов и арабской литературы, ч. Ill, М. 1913, стр. 15).
Омейи племя — династия Омейядов.
МАЛАЙСКИЕ ПАН ΤУНЫ
Пантуны — малайские песни. Маскат — главный город султаната
Оман на северо-восточном берегу Аравии. Гяур — неверный, кличка
христиан у мусульман. Манги, иначе мангустаны — плоды
мангового дерева, растущего в бассейне Индийского океана. Сантал —
санталовое дерево, распространенное в южных странах. Прао —
малайская лодка. Хинне — хинное дерево. Тимор — самый крупный
из Малых, Зондских островов в Индийском океане. Крисе — медный
витой малайский кинжал.
ВСЕСОЖЖЕНИЕ
В фундаментальном труде Ж. Виане нет данных об источниках
«Всесожжения». Похоже, что в основу поэмы положена
мученическая смерть одного из ранних последователей Джордано Бруно —
Лючилио Ванини. Но Ванини был сожжен инквизицией в Тулузе
9 февраля 1619 г., а в первом стихе «Всесожжения» дана иная
дата—16 июля того же года.
Примас — в западно-католической церкви титул архиепископа,
председательствующего на церковных собраниях данной страны,
лицо, облеченное высшей юрисдикцией перед
коллегами-епископами. Люцифер — одно из средневековых прозвищ сатаны.
209
ПРОКЛЯТЫЕ ВЕКА
Инкубы — в западноевропейском суеверии вид злого,
сладострастного духа.
зол отой ШАР
Тамаринды — широко распространенное в тропических странах
обоих полушарий плодовое дерево.
НЕПССЯКАЮЩЕЕ БЛАГОУХАНИЕ
«...Равнин лагорских роза...» — по названию города Лагора,
расположенного в одной из цветущих местностей на полуострове
Индостане (ныне — в Западном Пакистане).
SACRA FAMES
«Sacra fames» — по-латыни: «священный голод».
УМЕРШЕМУ ПОЭТУ
Стихотворение посвящено памяти Теофиля Готье (1811—1872).
МАЙЯ
Майя — в индийской философии и религии ученье об
иллюзорности, обманчивости мира.
ИЗ КНЖГЖ
«ПОСЛЕДНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
доводы святого ОТЦА
Иннокентий Третий — римский папа (1198—1216), имя которого
тесно связано с кровавым уничтожением альбигойцев, с
установлением инквизиции, крестовыми походами. «И три столетия стремясь
неутолимо...»— Речь идет о движении варварских племен в Римскую
империю. «Припомни-ка того...» и т. д. — намек на евангельское
сказание об искушении Христа сатаною на вершине горы, с которой
открывался весь мир. Порфира — багряница, пурпурное царское
одеяние. Денарий — античная, позже и средневековая, монета. Эта
поэма Леконт де Лиля написана непосредственно по мотивам
«Легенды о Великом инквизиторе» Ф. М. Достоевского («Братья
210
Карамазовы)), т. I, гл. 5-я), роман которого был известен поэту
по французскому переводу. См. доказательства этого заимствования
Леконт де Лиля в интересной заметке П. Клярака (P. Clarac, Un
chapitre des «Frères Karamazov» et «Les Raisons du Saint-Pêre»
de Leconte de Lisle — «Revue de Littérature Comparée», 1926, № 3,
pp. 512—517).
КОДЗА И ВОРДЖА
Папа Иоанн XXIII (1410—1415), в миру Балтазар Кодза, до
восшествия на папский трон был пиратом. Папа Александр VI
(1492—1503), из рода Борджа, прославился своими преступлениями,
отравлениями врагов, развратом и т. п. Демосфен —
древнегреческий оратор. Пникс — холм в Афинах, в древности место
народных собраний. Туллий — римский оратор Цицерон. Ростры —
ораторские кафедры в античном Риме, первоначально — носовые части
захваченных в боях неприятельских кораблей, укрепленные на
колоннах. Симония — папская торговля духовными должностями,
процветавшая в средние века. Экю — средневековая монета.
«Впрямь святые Иоанны» — св. Иоанн изображается в церковной
живописи исхудалым постником. «О, горький час! Пришлось бежать,
изведав стыд...» — речь идет о бегстве Иоанна XXIII из тюрьмы,
куда он, изобличенный в преступлениях, попал под конец Констанц-
ского (в Чехии) собора, на котором были осуждены и сожжены
(в 1415 г.) чешские церковные реформаторы Ян Туе и Иероним
Пражский. Вельзевул (вошедшее в средневековую латынь
испорченное название финикийского божества Ваала) — сатана. «И вскоре
видели вас белым, как и преоюде, меж кардиналами, в одном святом
колледже».— Иоанн XXIII, благополучно бежавший из Констанцы,
остался и позже в числе высших духовных лиц. «Блаженный»
Августин (V в.) — «отец церкви», первый теоретик папской
власти. Корбак — испанское бранное выражение. «Не то по морде
тресну, как Бонифация в былом Колонна честный» —
подразумевается пощечина, возможно действительно нанесенная папе
Бонифацию VIII (1294—1303) феодалом Колонной или одним из его
соратников — Ногаре. «Мой сын, бескровный кардинал, мог брата
заколоть...» — Речь идет о Чезаре Борджа, сыне папы Александра VI,
убившем собственного брата, во время одной из оргий. «О дочь
моя...» — Лукреция, дочь Александра VI, находившаяся в преступной
связи с отцом и с братом. Морози — влиятельная куртизанка,
сожительница папы Сергия III (904—911). «Распутный юноша,
продавший сгоряча...» и т. д. — подразумевается папа Бенедикт IX
(1033—1044), в буквальном смысле слова продавший свой
священный сан новому папе Григорию VI (1044—1046).
211
ВИКТОРУ ГЮГО
Стихи характеризуют отношение Леконт де Лиля к
величайшему французскому поэту XIX столетия. Отметим, что и Виктор
Гюго высоко ценил творчество Леконт де Лиля. Последний был
принят во Французскую академию (в 1886 г.) не столько по
желанию академиков-избирателей, сколько по настоятельному
предсмертному волеизъявлению своего предшественника по
академическому креслу—Виктора Гюго. Следует также указать, что Леконт
де Лиль в своей вступительной речи в Академии, зная, что
большинство академиков и гостей придерживается реакционных убеждений,
вызывающе охарактеризовал Виктора Гюго как замечательного
представителя передовой социальной и политической поэзии. Это
был своего рода скандал в стенах Французской академии.
Игорь Поступалъский
СОДЕРЖАНИЕ
H. И. Балашов. Леконт де Лиль 5
ИЗ КНИГИ «АНТИЧЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
Сурия 27
^Смерть Валмики 29
Гипатия 32
Пан '. 35
Венера Милосская 36
Двуголосая песнь 38
Полдень 41
Из стихотворения «Dies irae» 43
ИЗ КНИГИ «ВАРВАРСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
Каин 47
Сердце Хиалмара 62
Слезы медведя 64
Смерть Сигурда ^
Пустыня 69
Дочь эмира 70
Лунные сияния 73
* Слоны 76
Девственный лес , 78
Дремота кондора 81
213
Закат Солнца $ό
Заря 86
Ягуар 88
Действие Луны 90
Ultra coelos 92
Показывающие 95
Смерть льва 96
^ Вечер битвы 97
Последнее воспоминание 99
Проклятые 100
In excelsis 102
Смерть Солнца 104
Италии 105
Полярный пейзаж 109
Ворон 110
Акт милосердия 123
Тоска дьявола 125
Аскеты 127
Два меча 130
Агония святого 138
Анафема 143
Современникам 146*
^Solvet seclum 147
ИЗ КНИГИ «ТРАГИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
Саван Мохаммеда-бен-Амер-ал-Мансура 151
Малайские пантуны 155
^Всесожжение 160
Проклятые века 162
Золотой шар 164
Неиссякающее благоухание 165
Sacra fames 166
Альбатрос 168
^/Освящение Парижа 169
Когда по этот день 173
214
Умершему поэту 175
Последний бог 176
Майя 178
ИЗ КНИГИ «ПОСЛЕДНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
Из поэмы «Успокоение богов» 181
Доводы святого отца 182
Кодза и Борджа 186
Виктору Гюго 194
Прерия 195
Ты, с кем я знал 196
Примечания Игоря Поступалъского .... 199
Депонт de Лиль
ИЗ ЧЕТЫРЕХ КНИГ
СТИХИ
Редактор Н. Банников
Художественный редактор JI. Калитовская
Технический редактор А, Трошин
Корректоры Т. Тихомирова и Л. Борец
Сдано в набор 29/Х 1959 г. Подписано в печать
29/1 1960 г. Бумага 84х1087з-2· 6,75 печ. л. = 11,07 уел,
печ. л. 8,71 уч.-изд. л. Тираж 25 000· Заказ 515.
Цена 4 р. 20 к.
Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.
Полиграфкомбинат им. Я. Коласг
Главиздата Министерства культуры БССР,
Минск, Красная, 23.