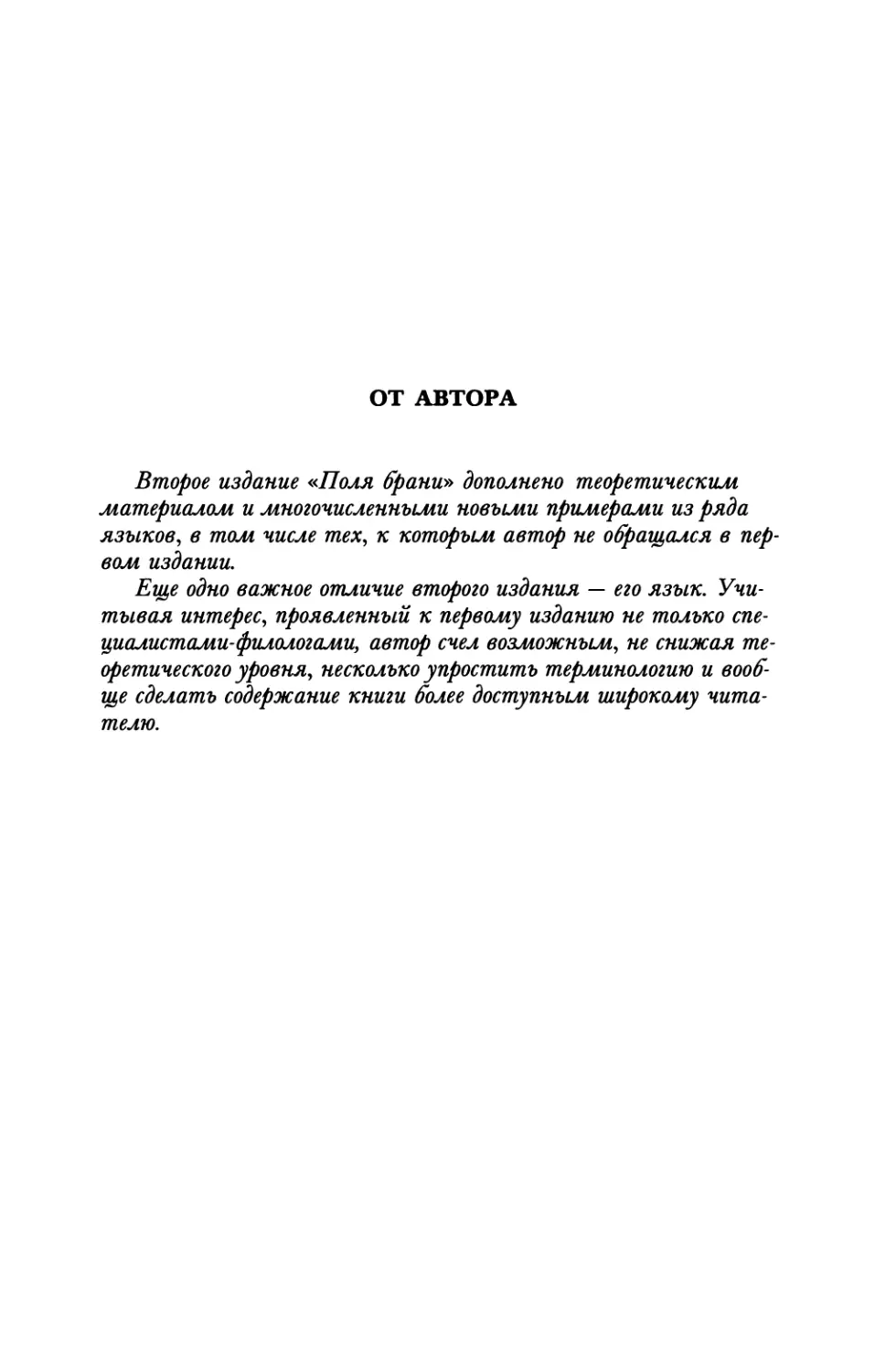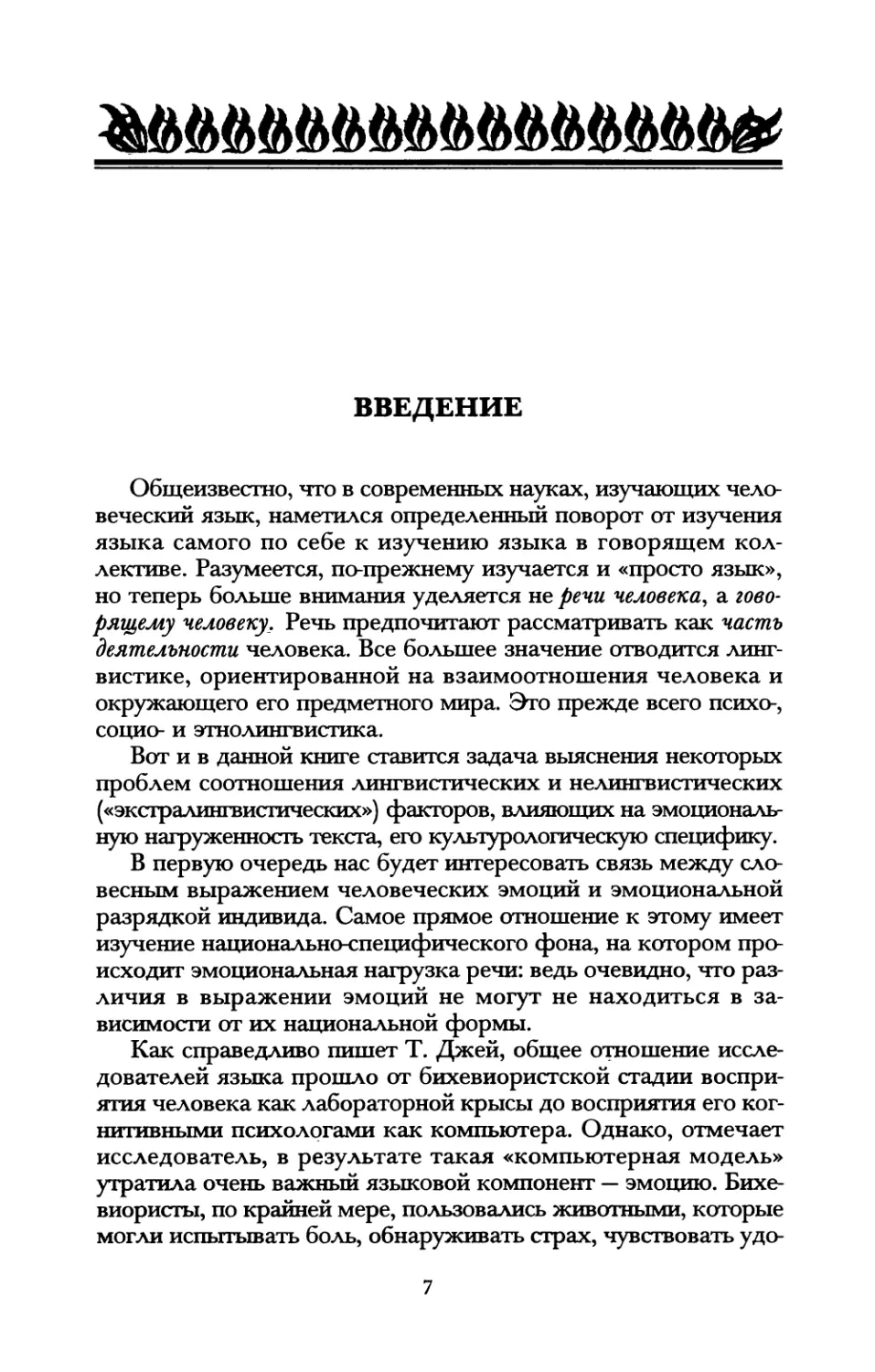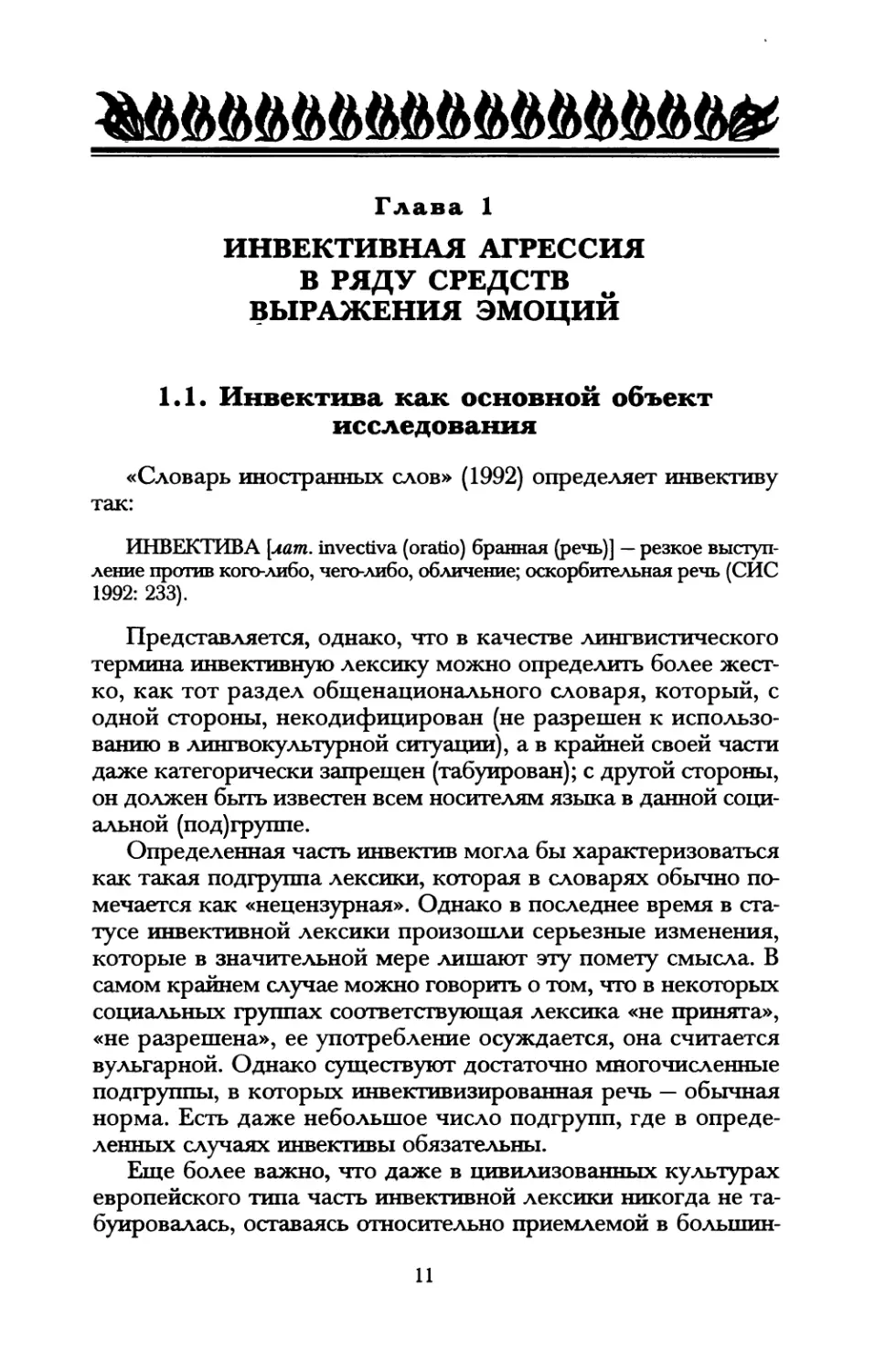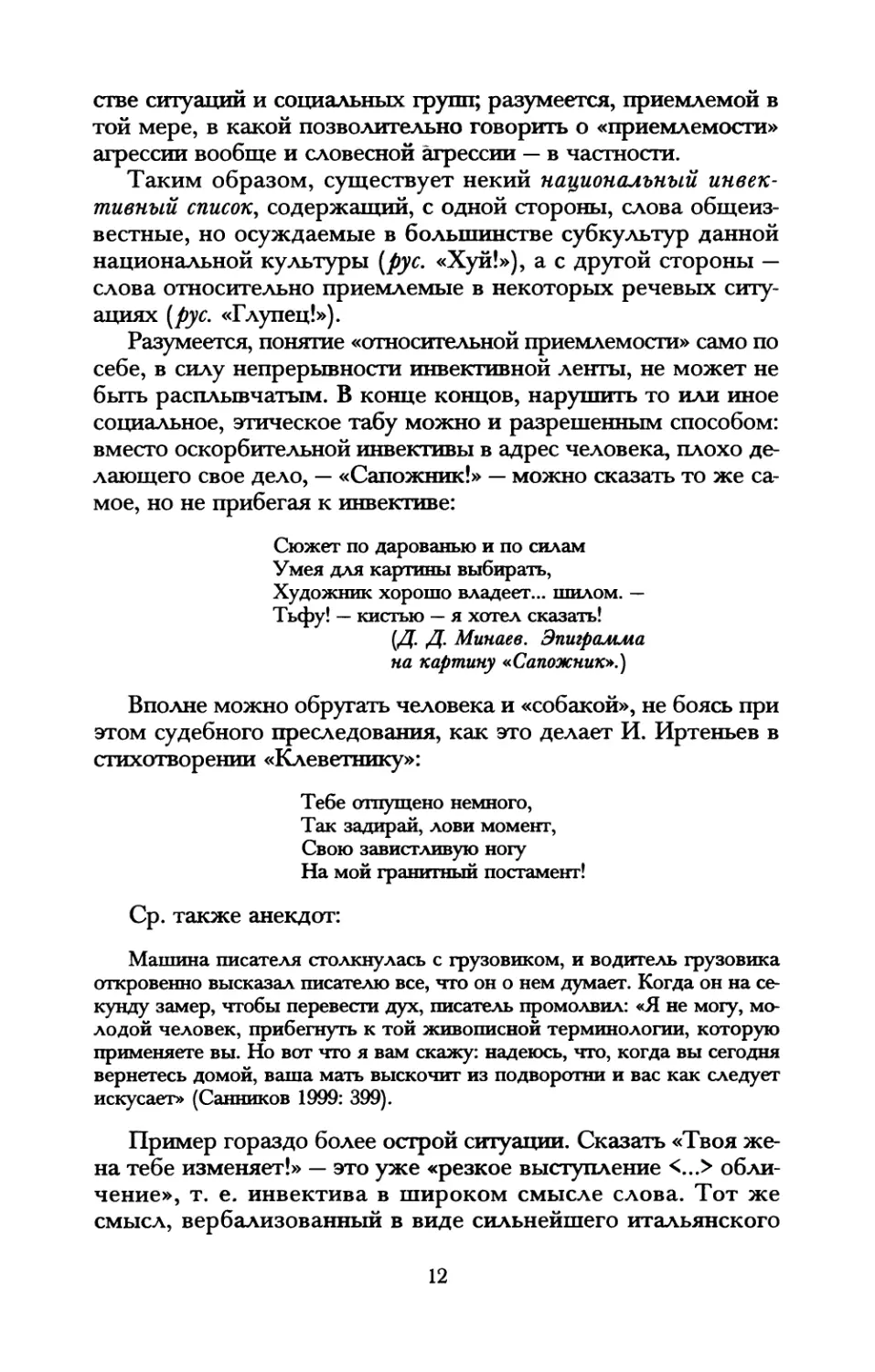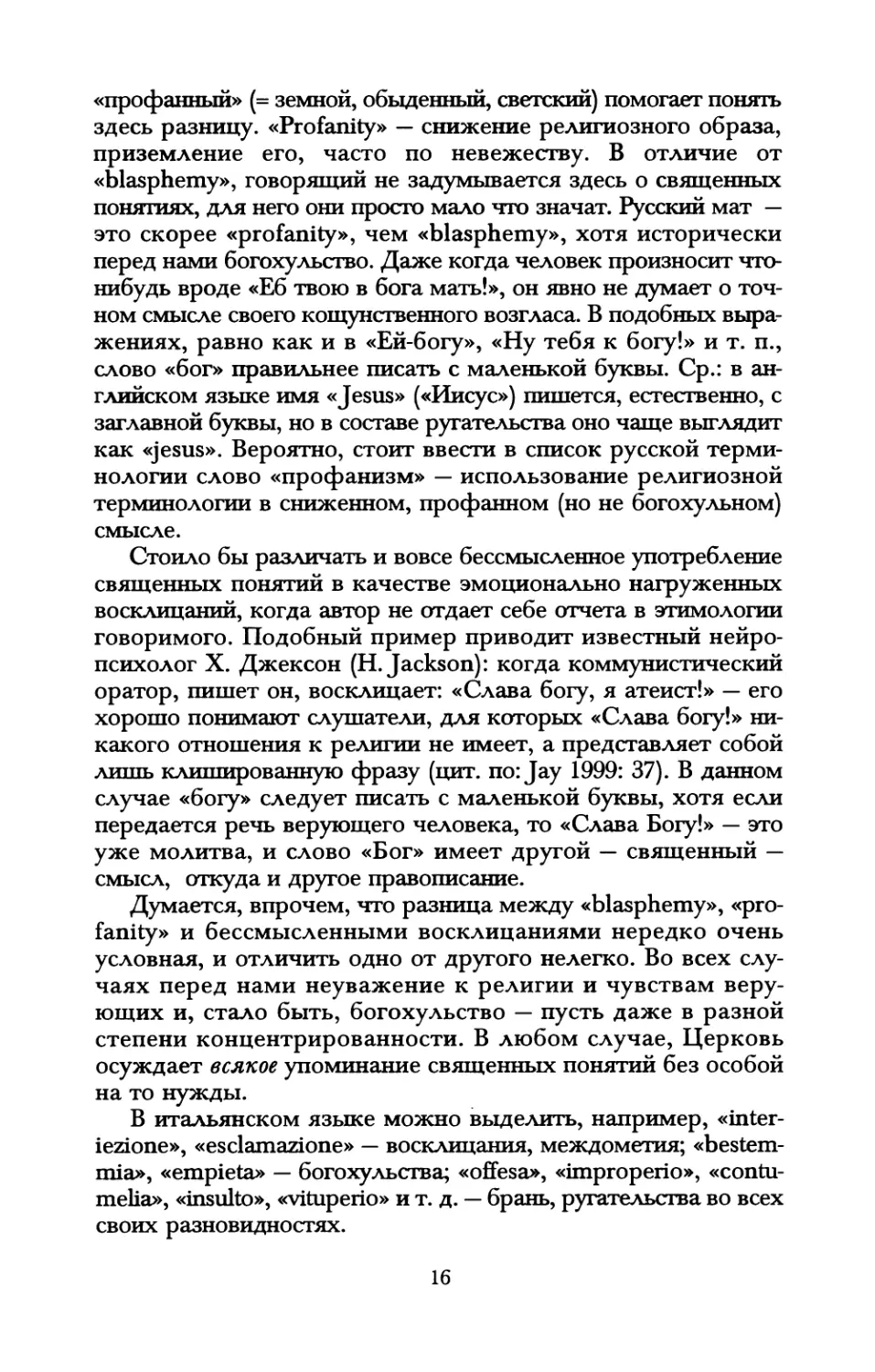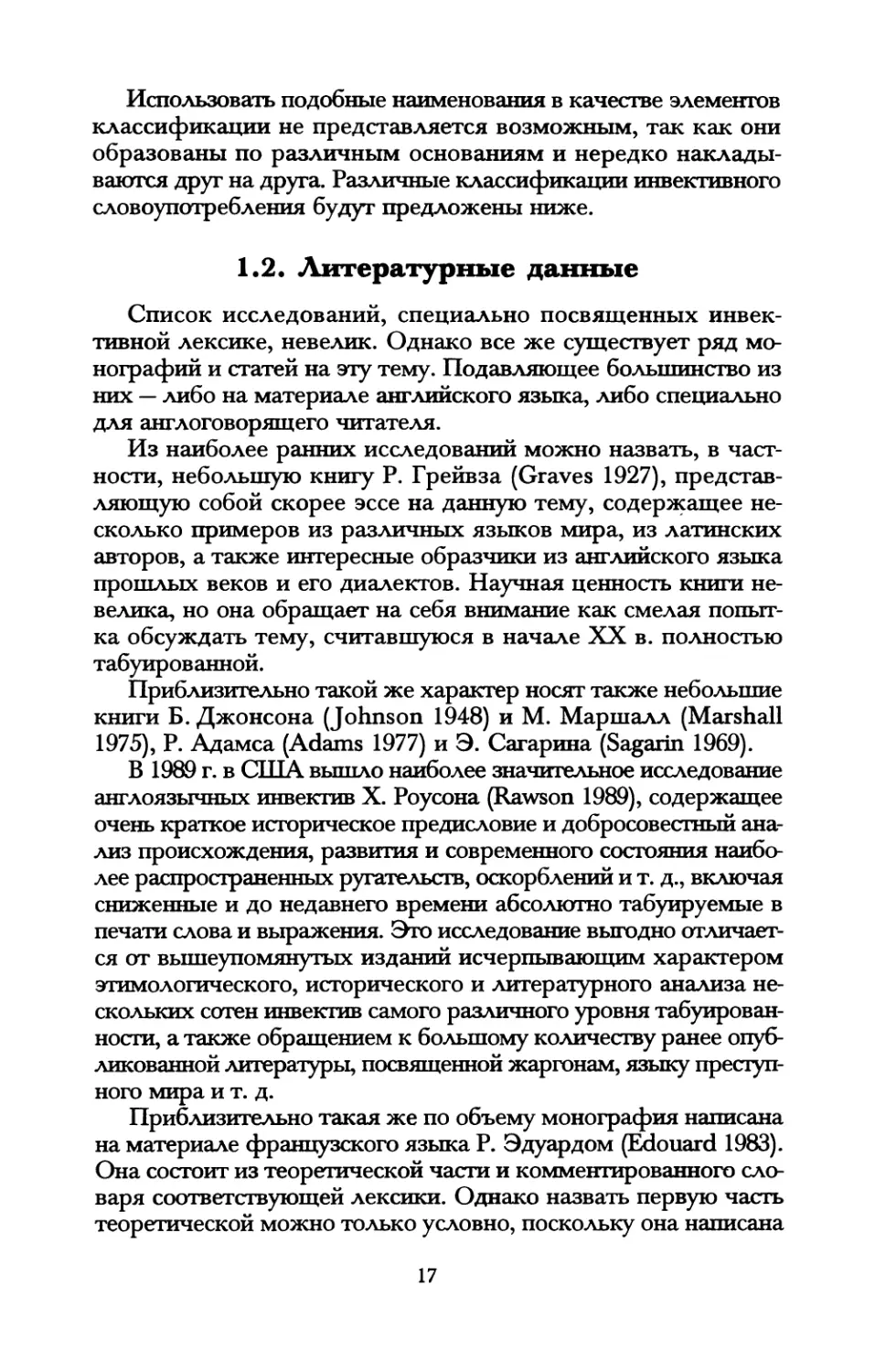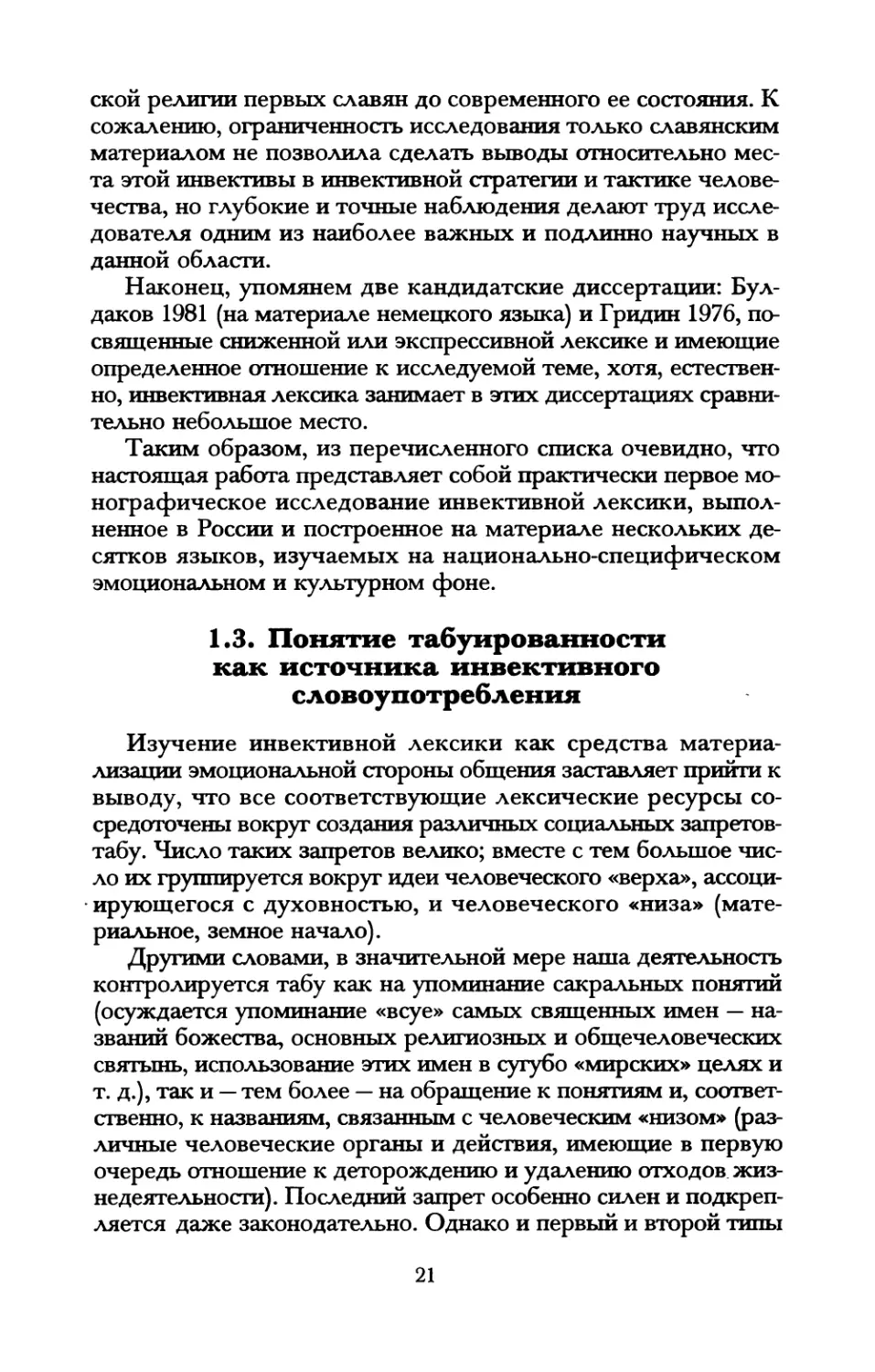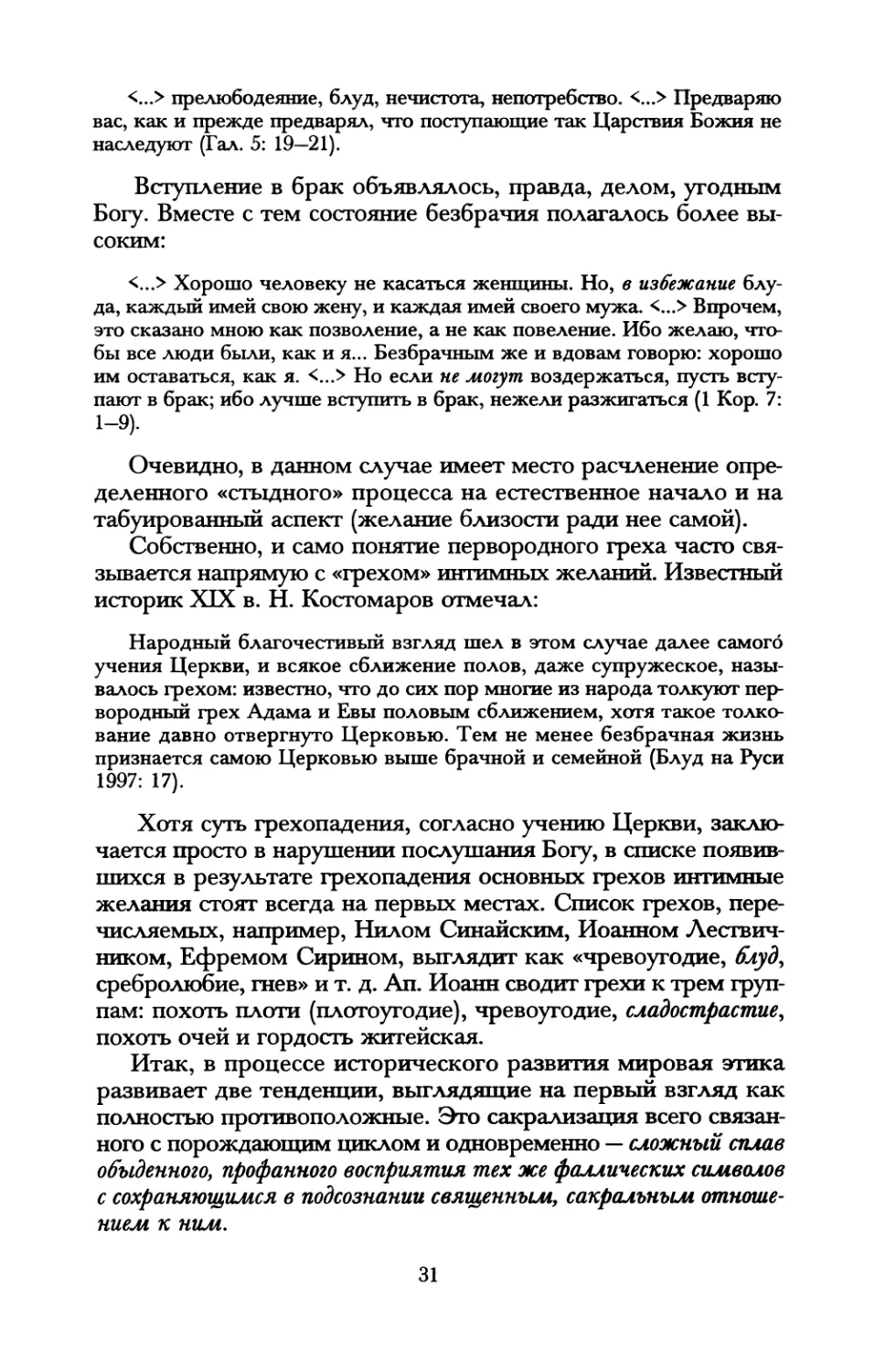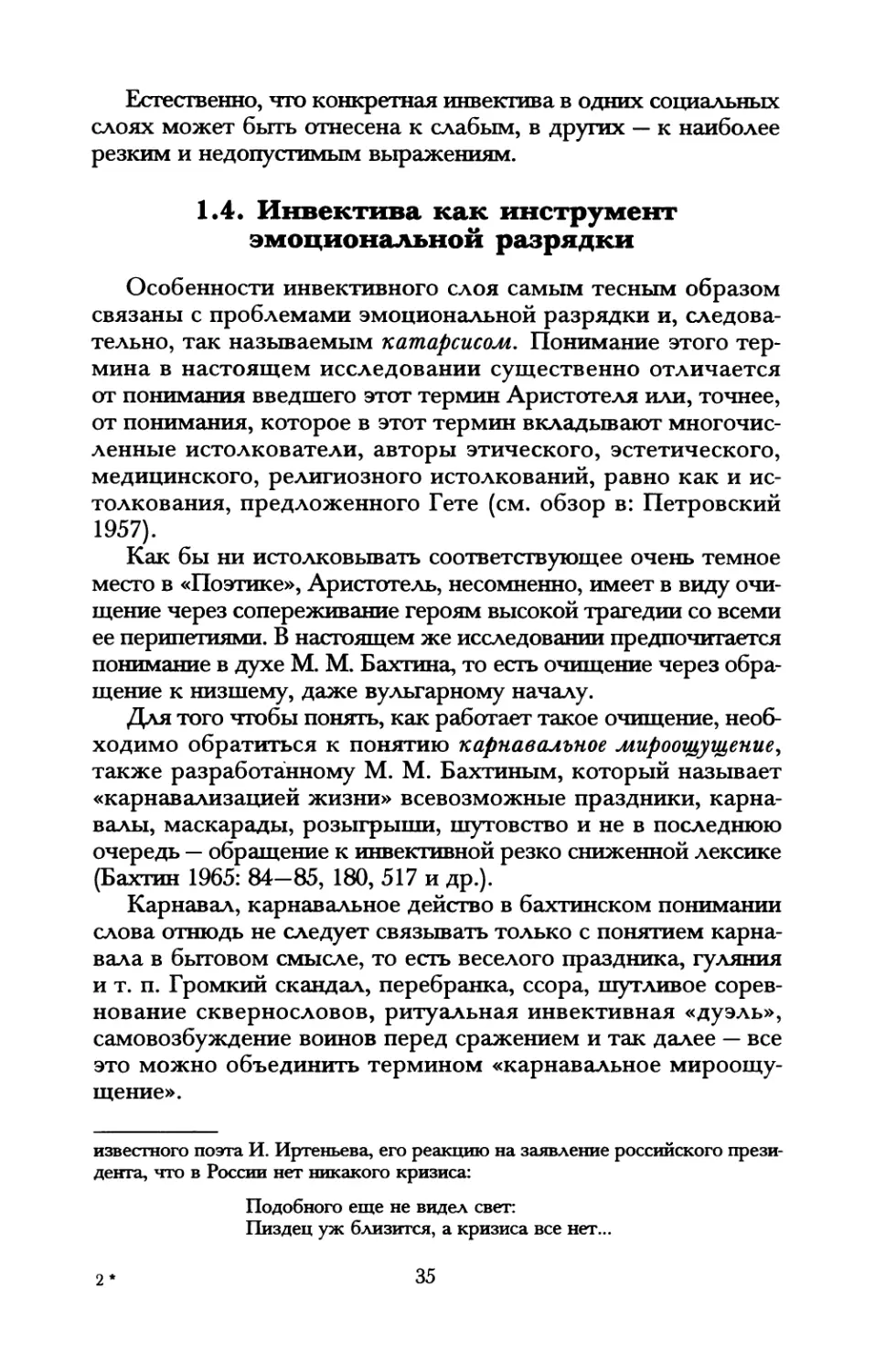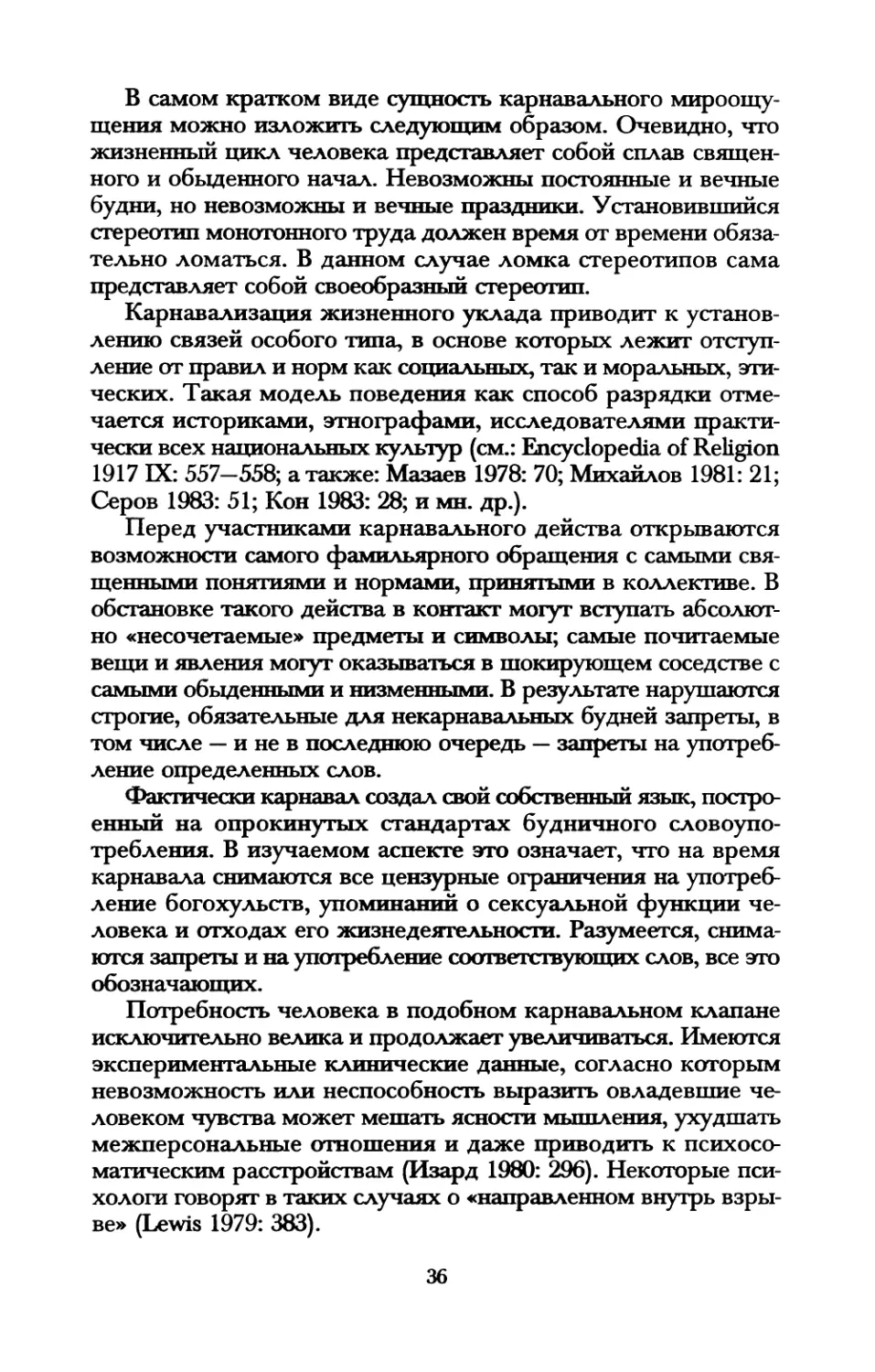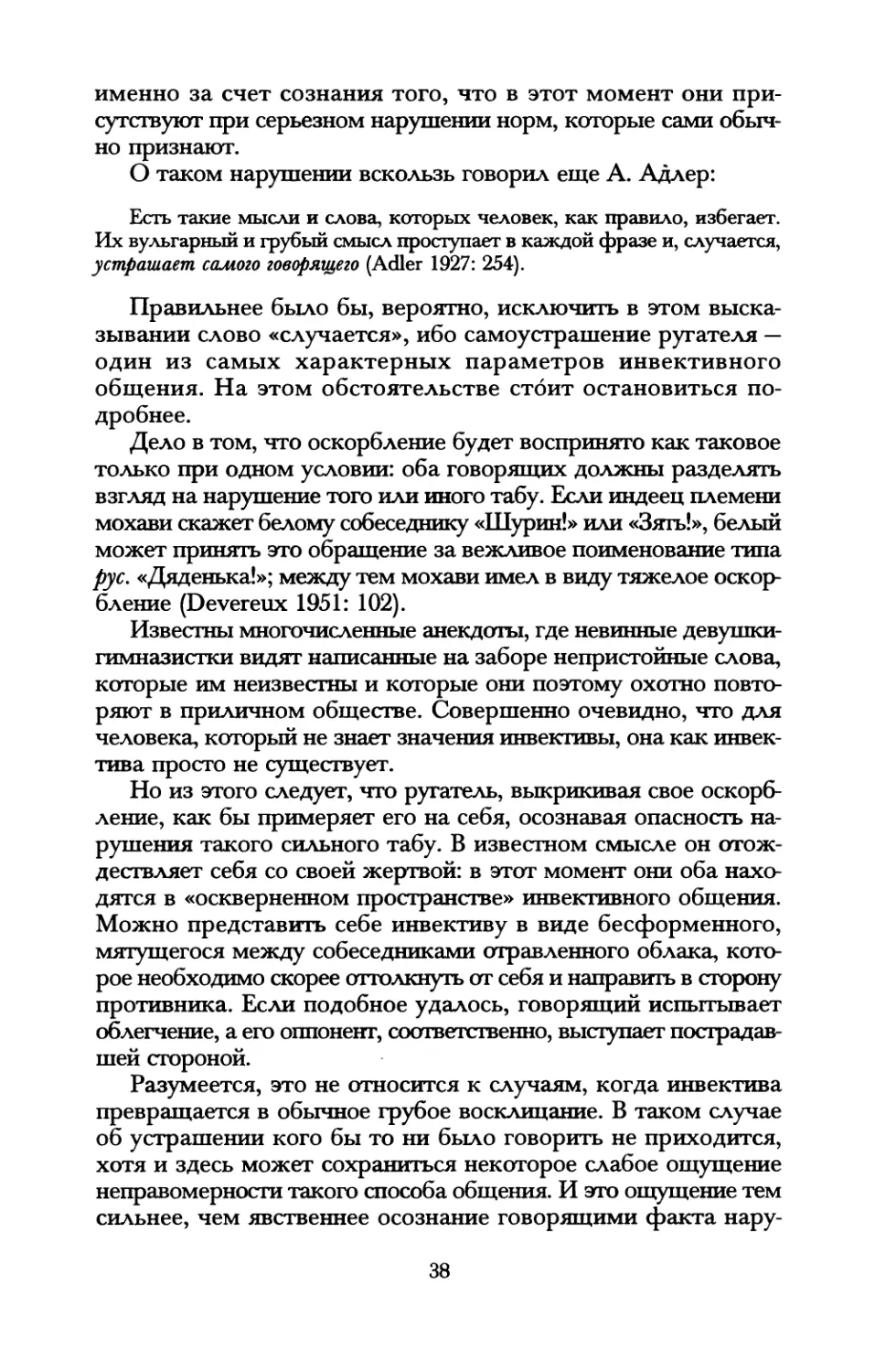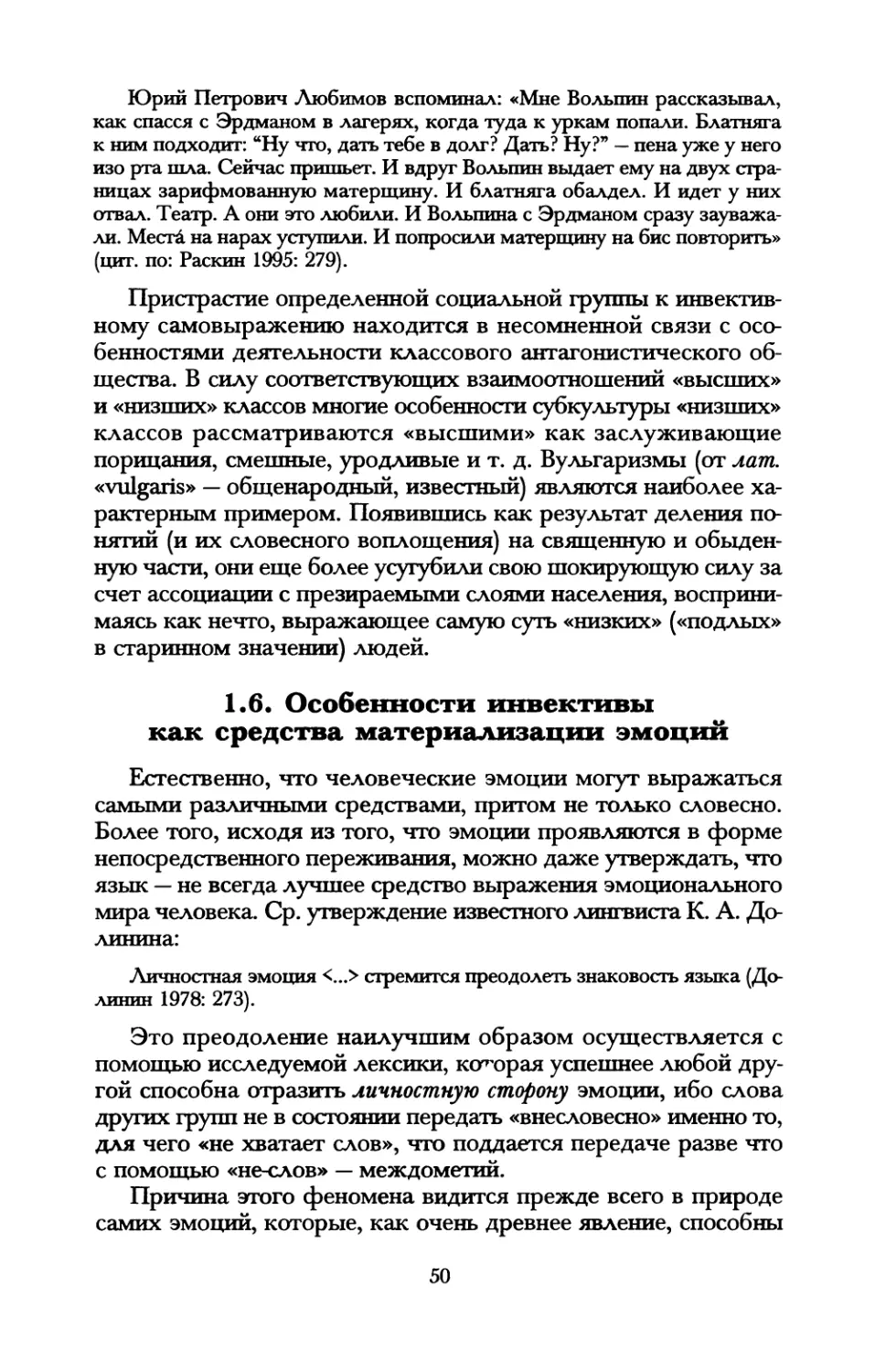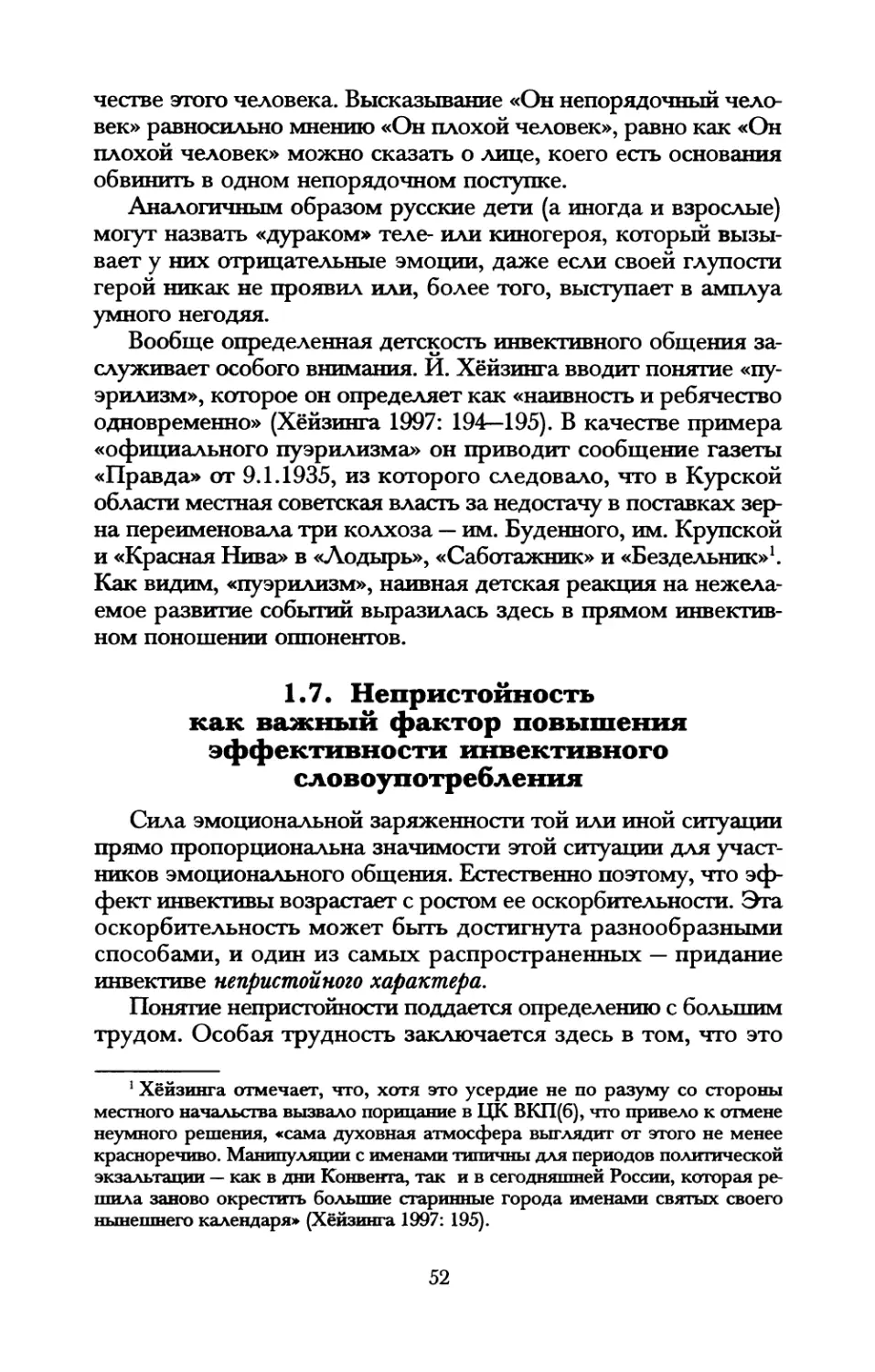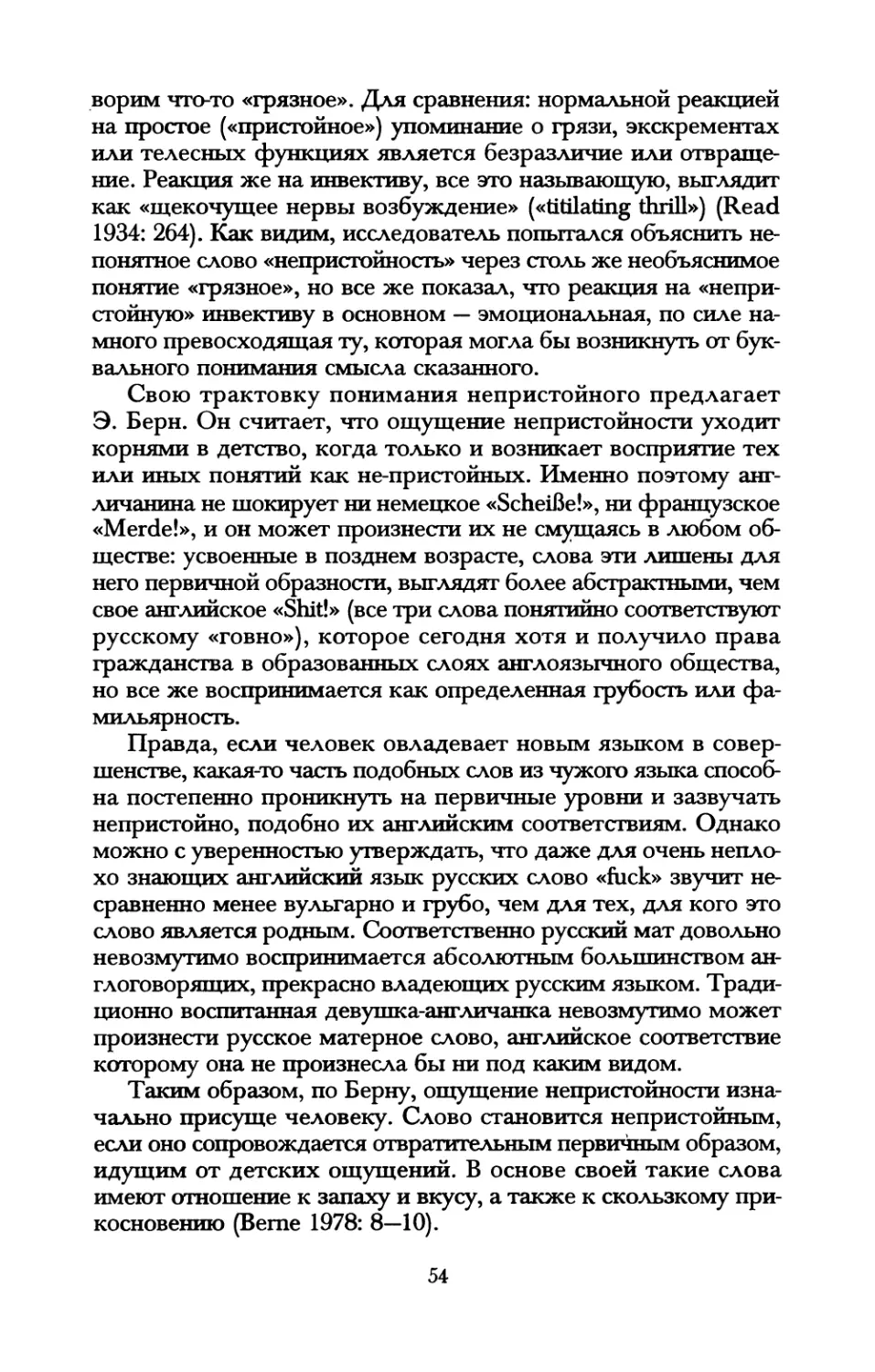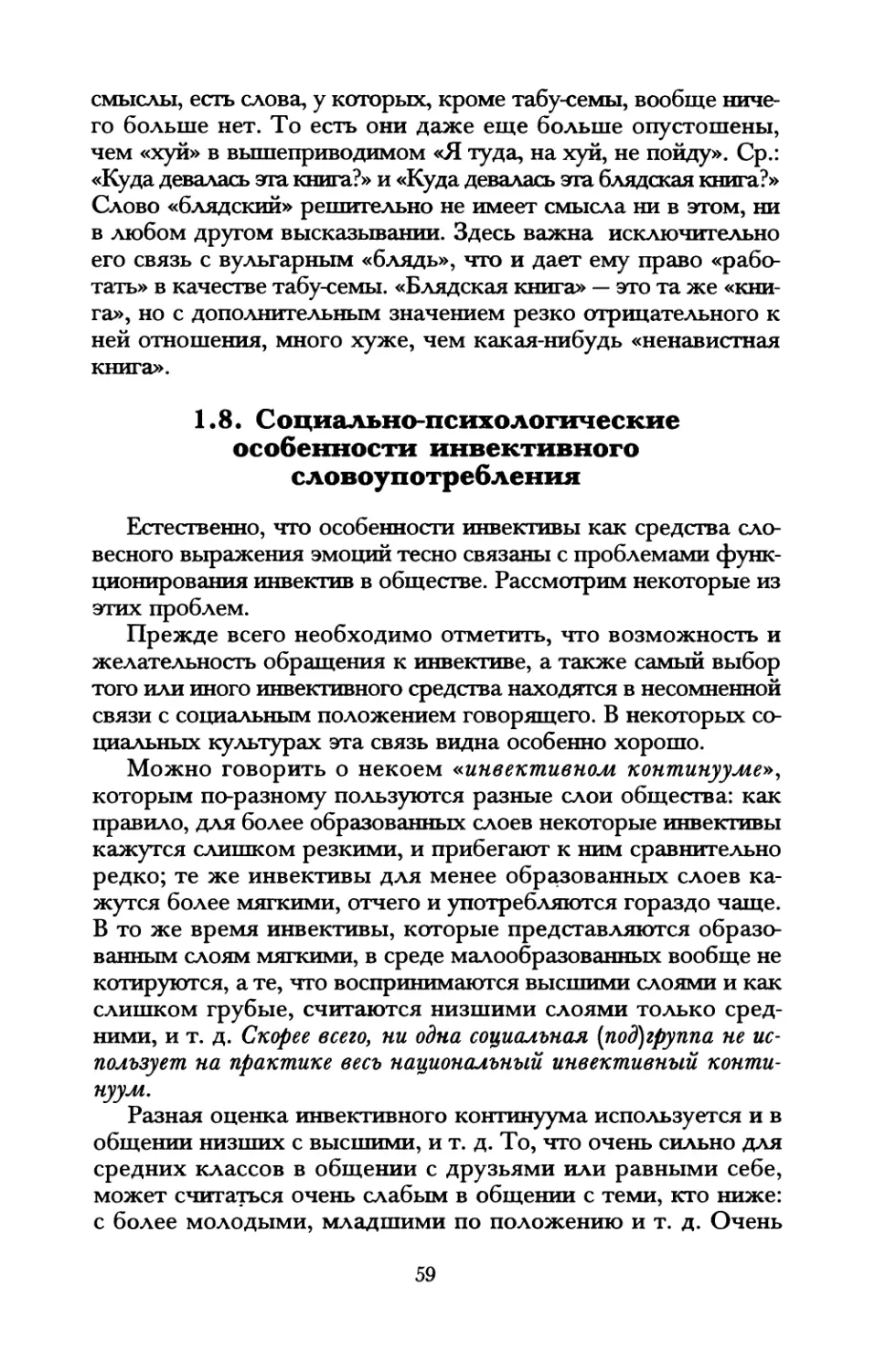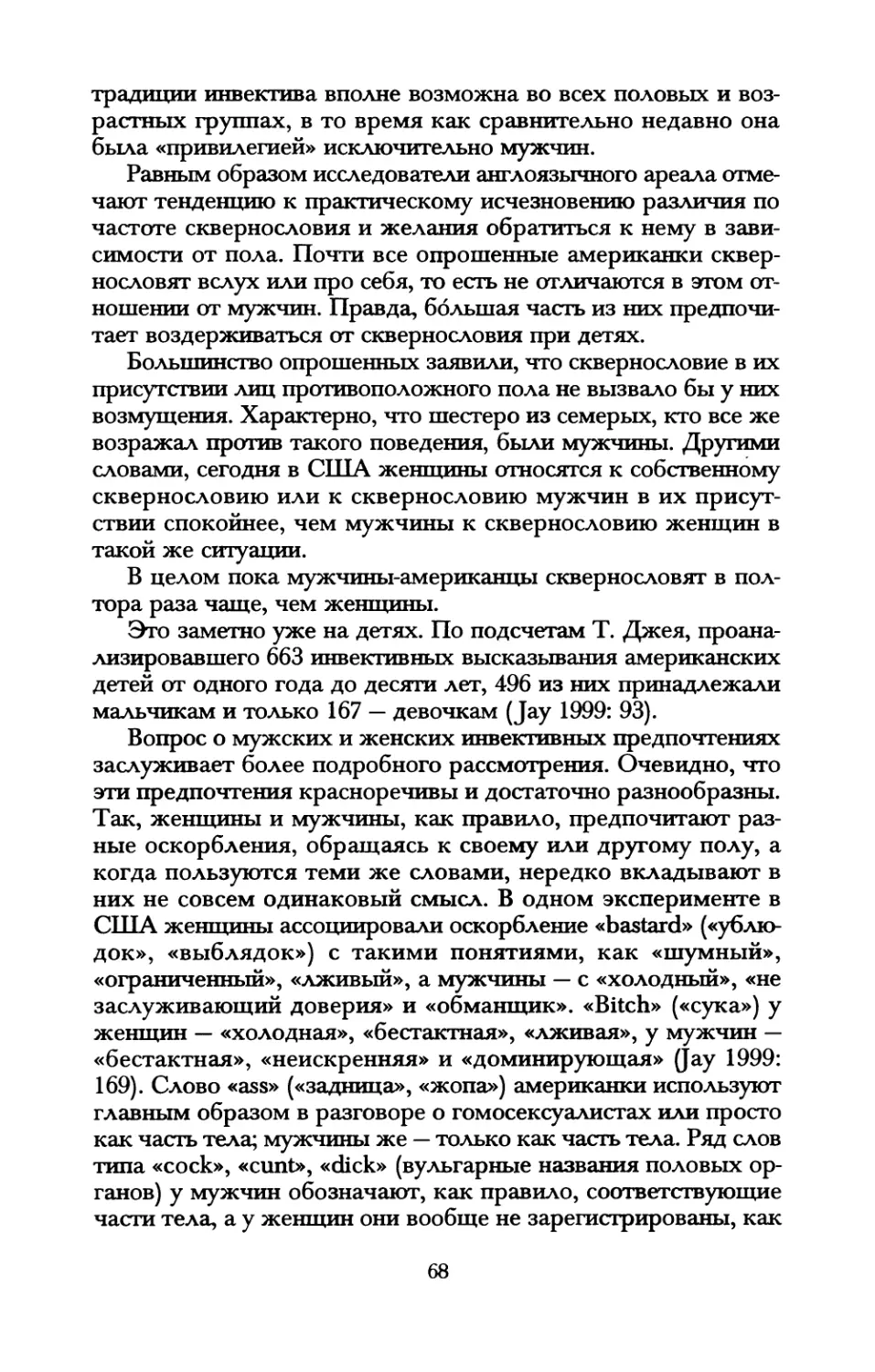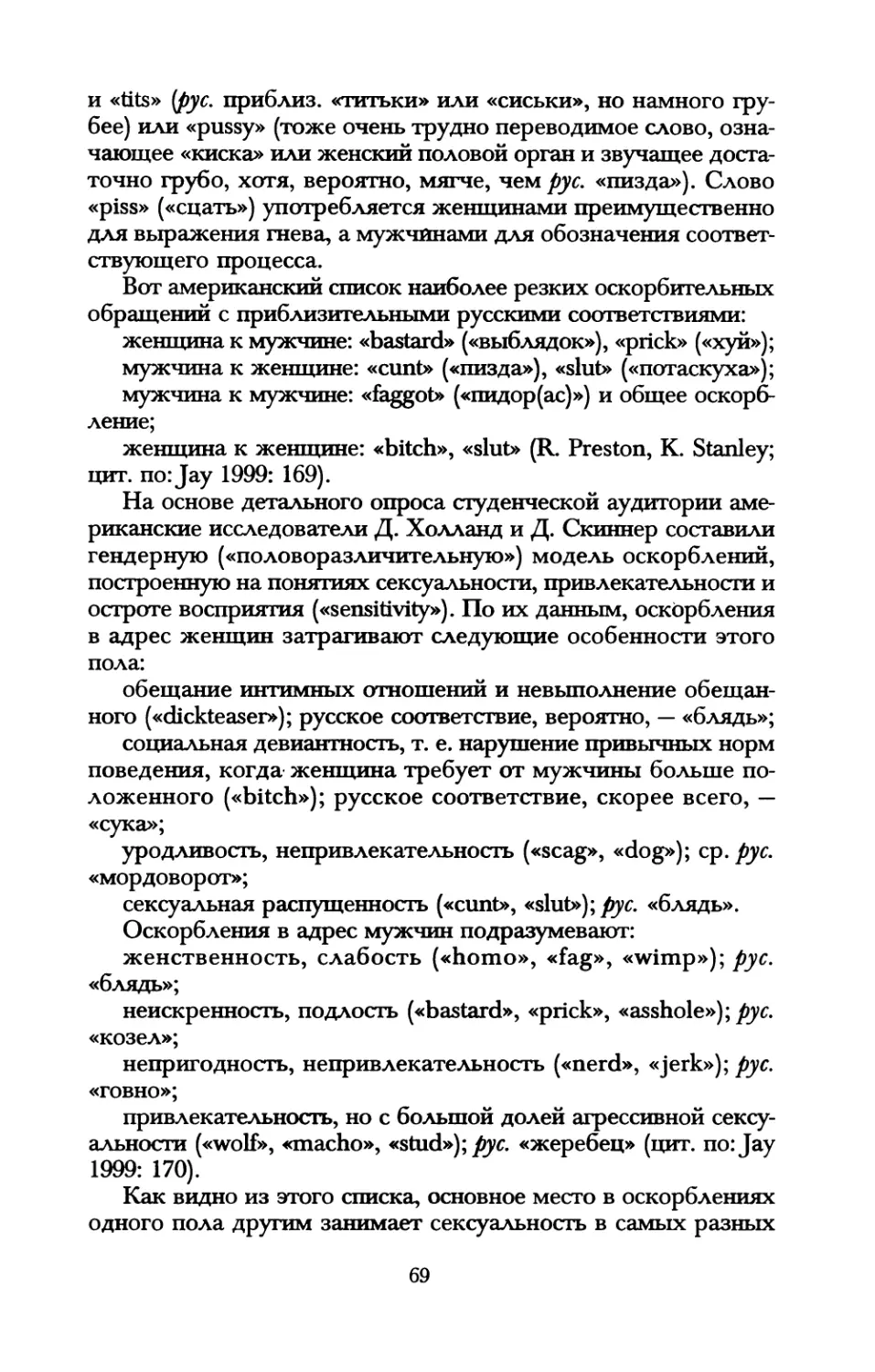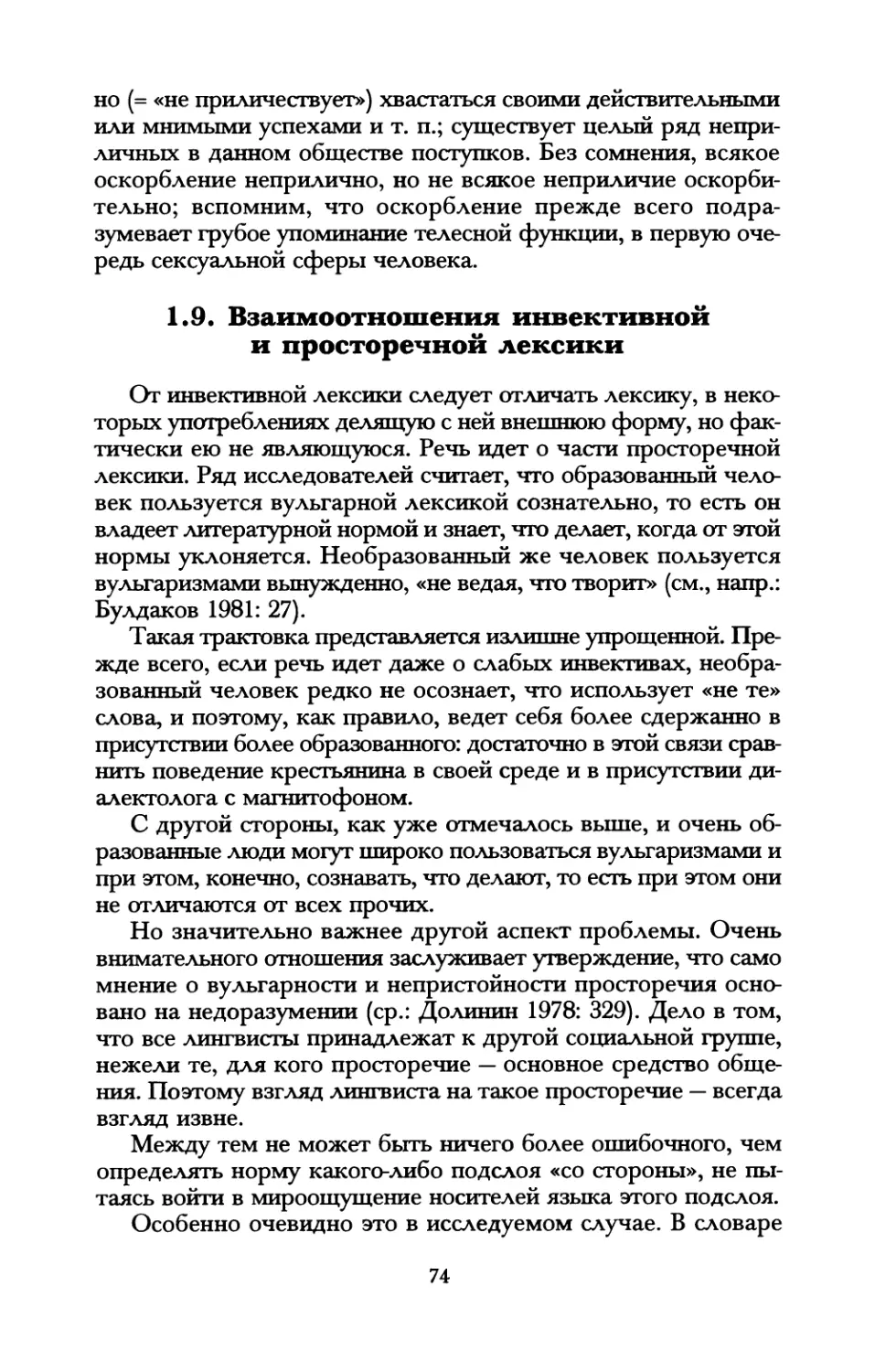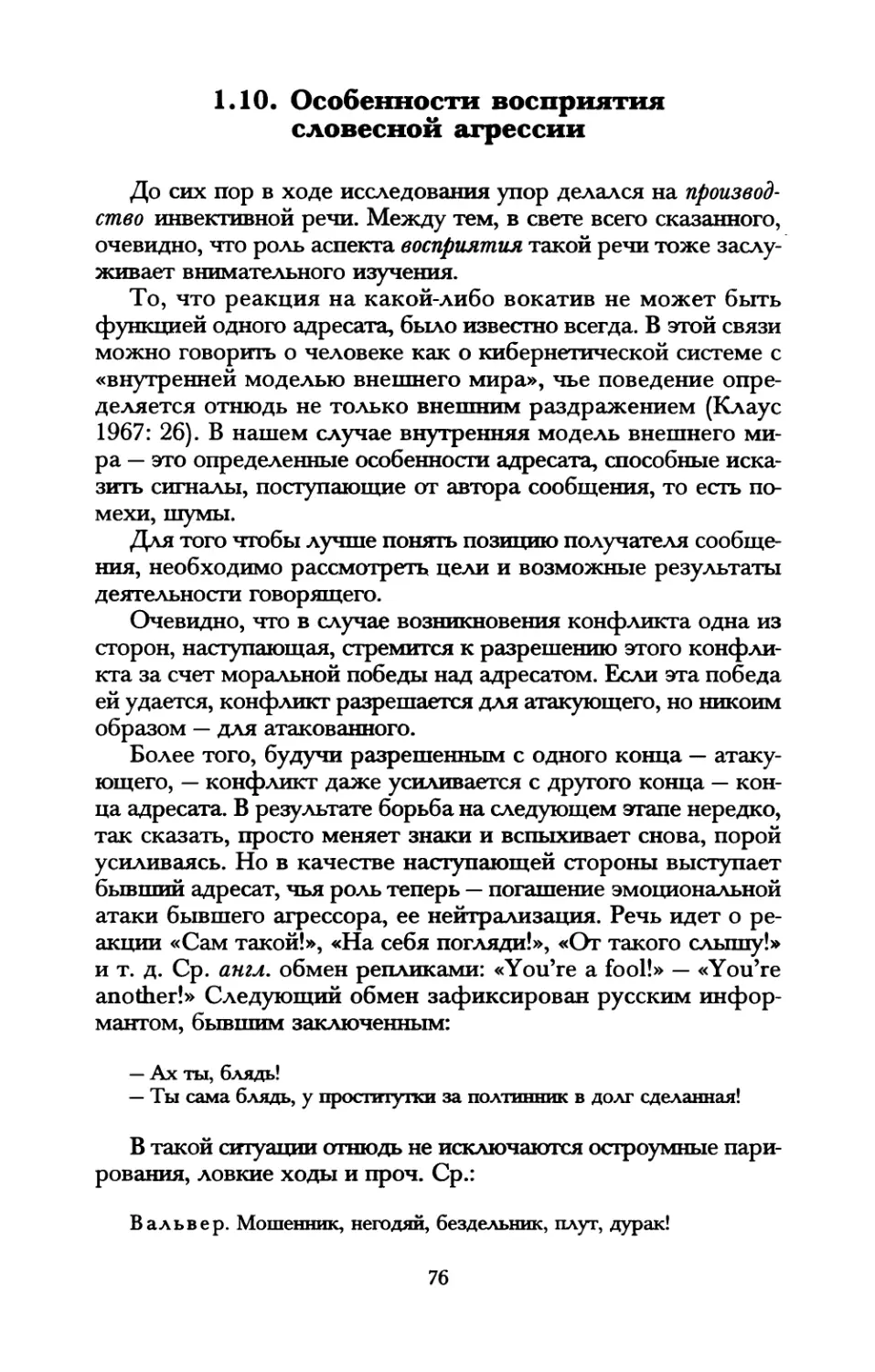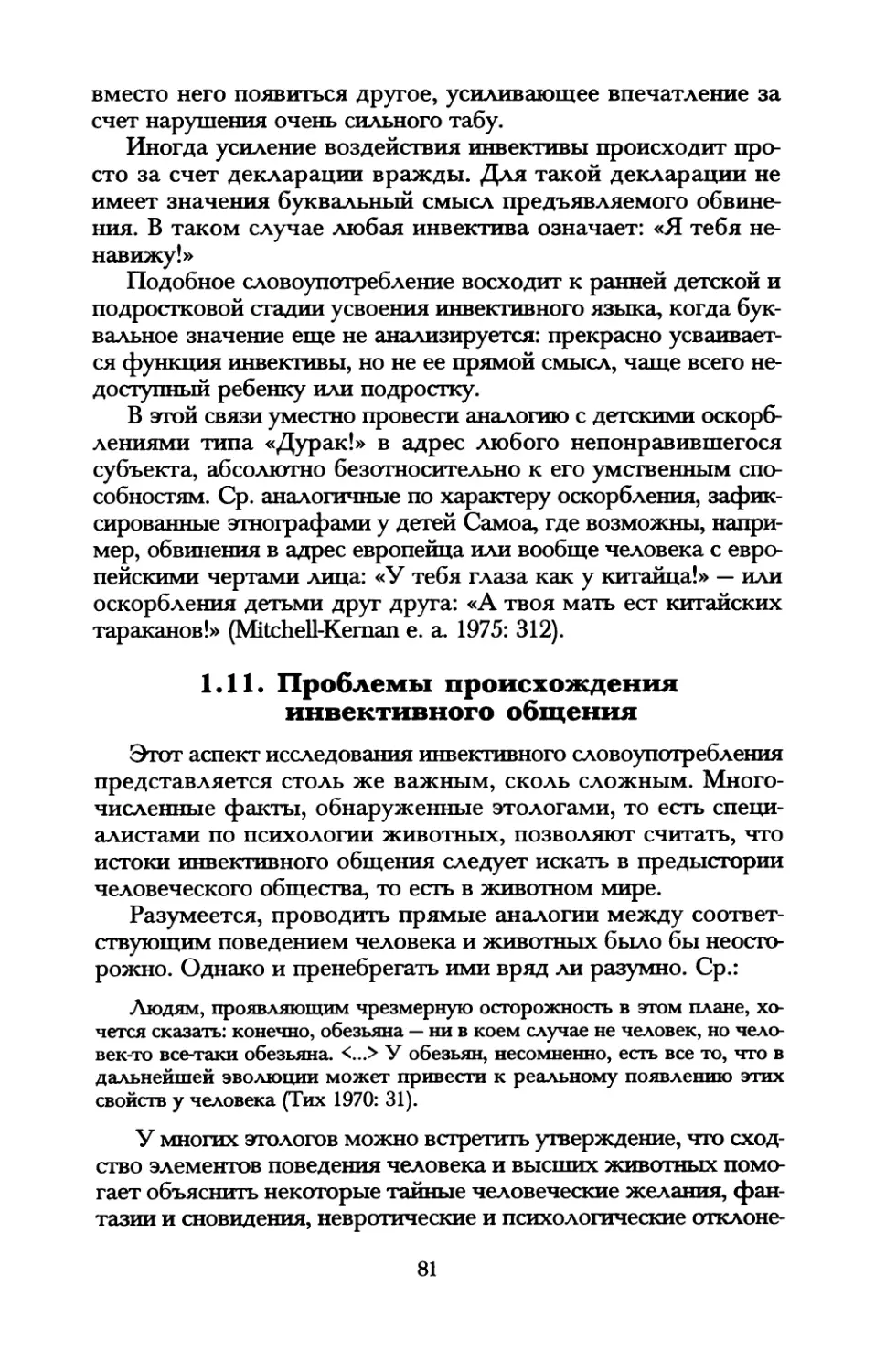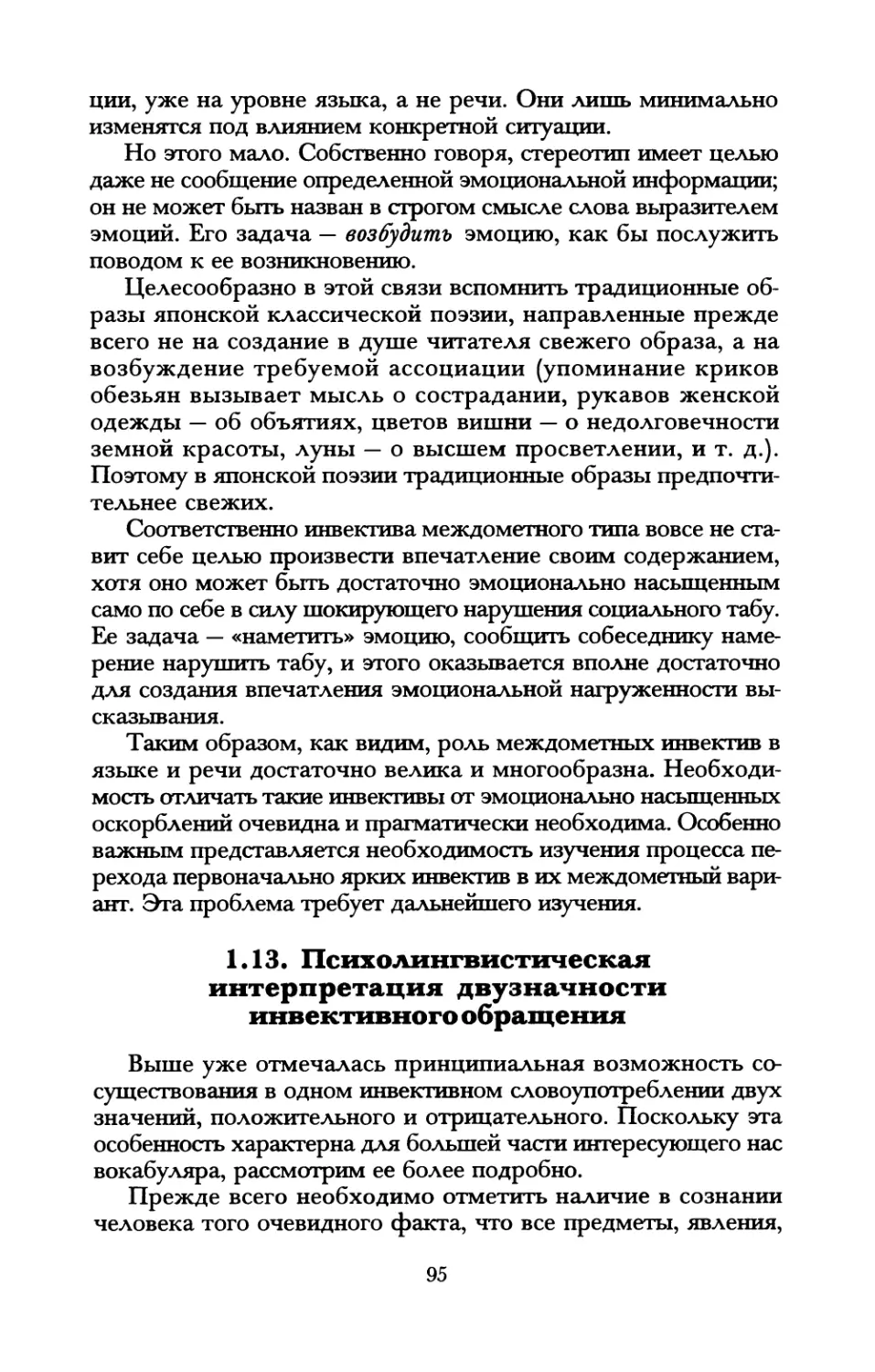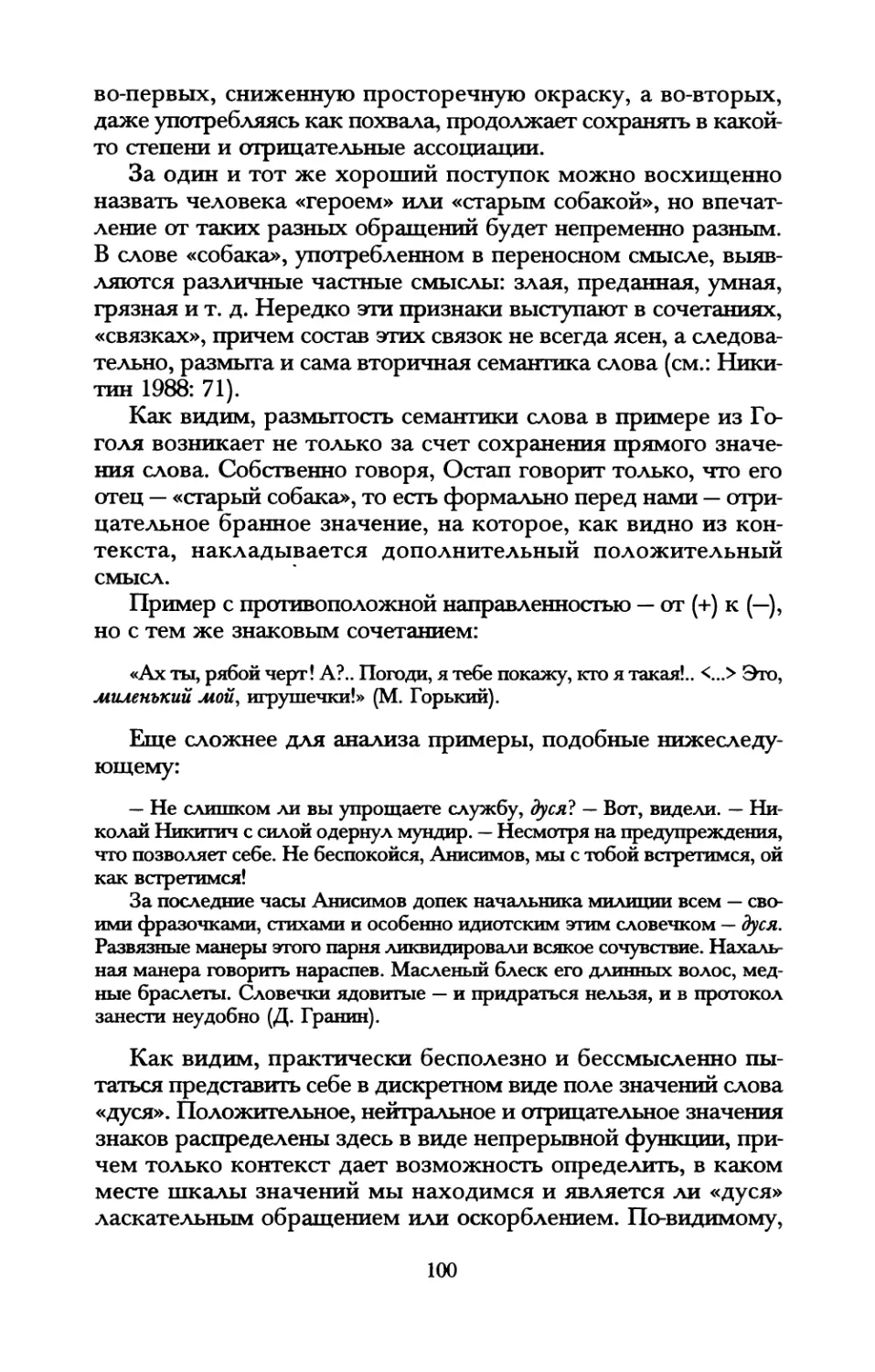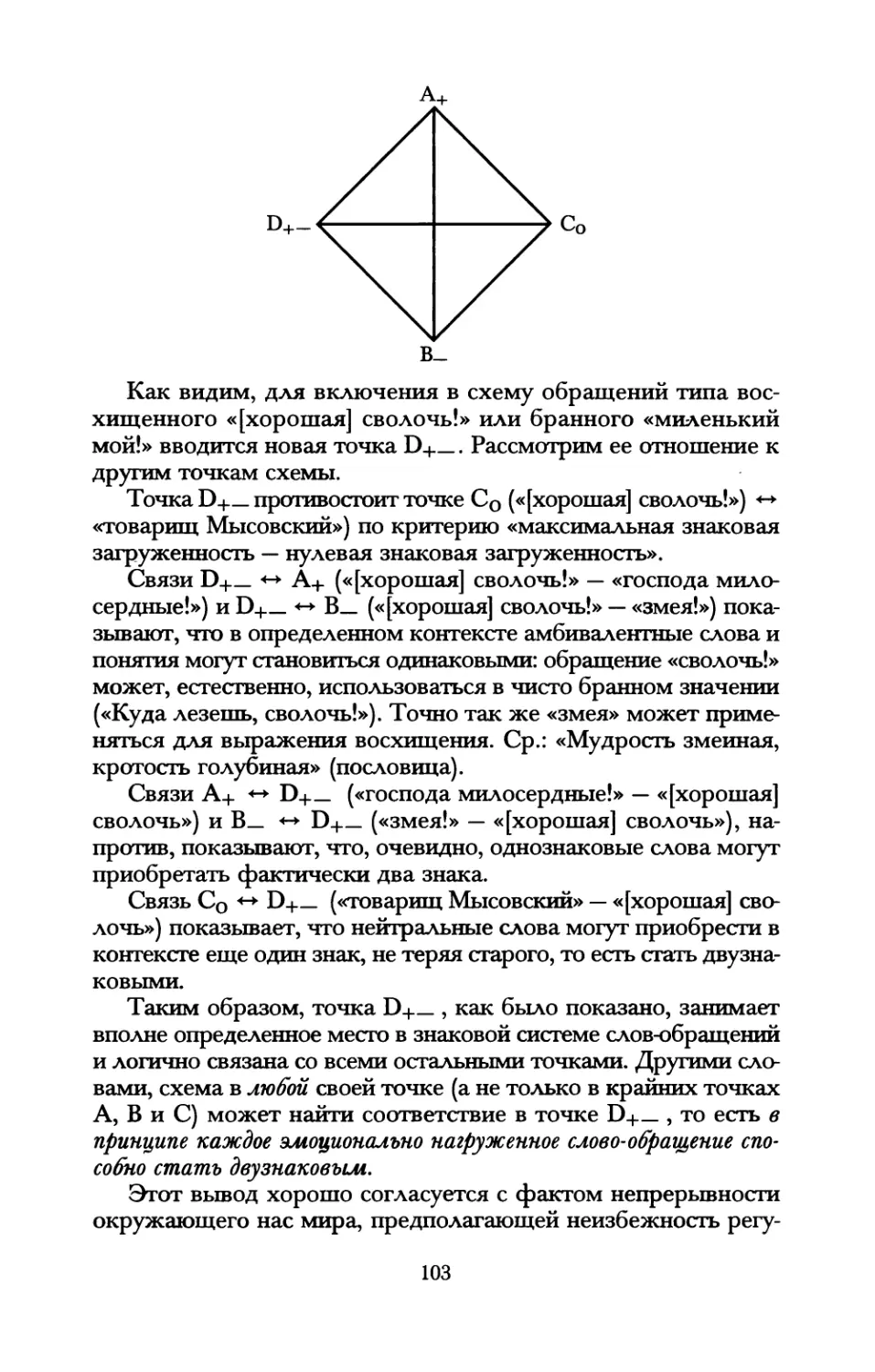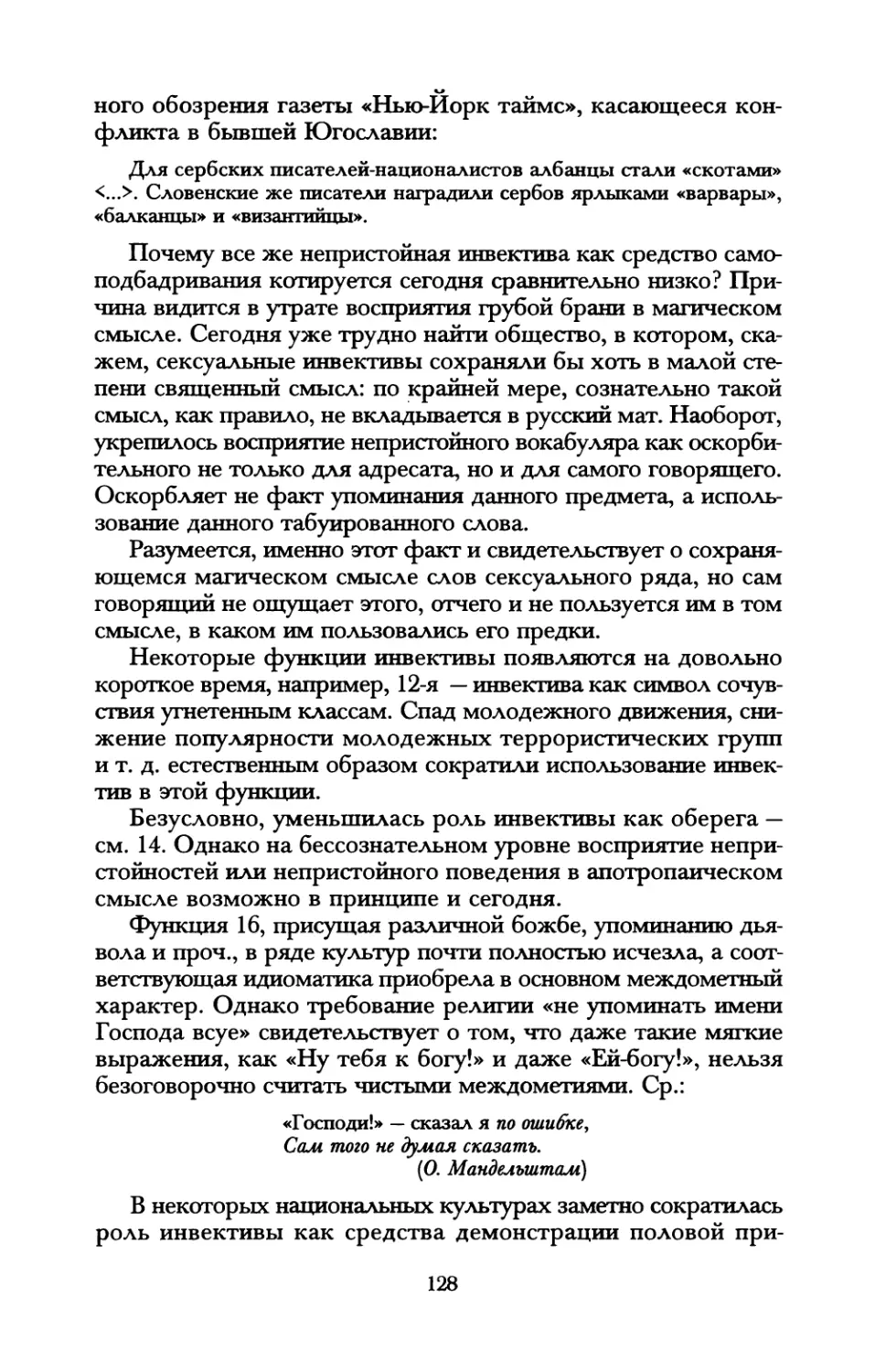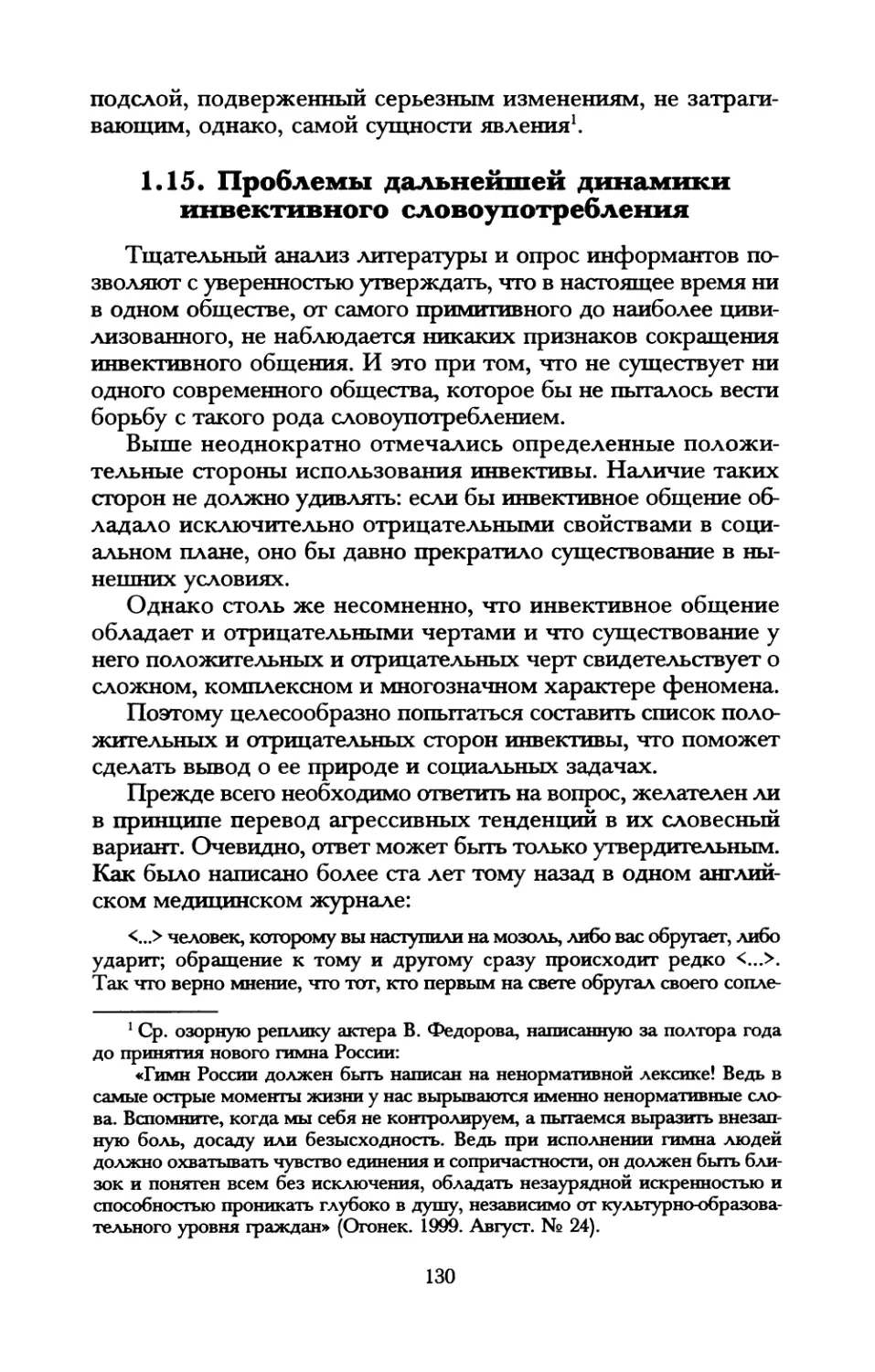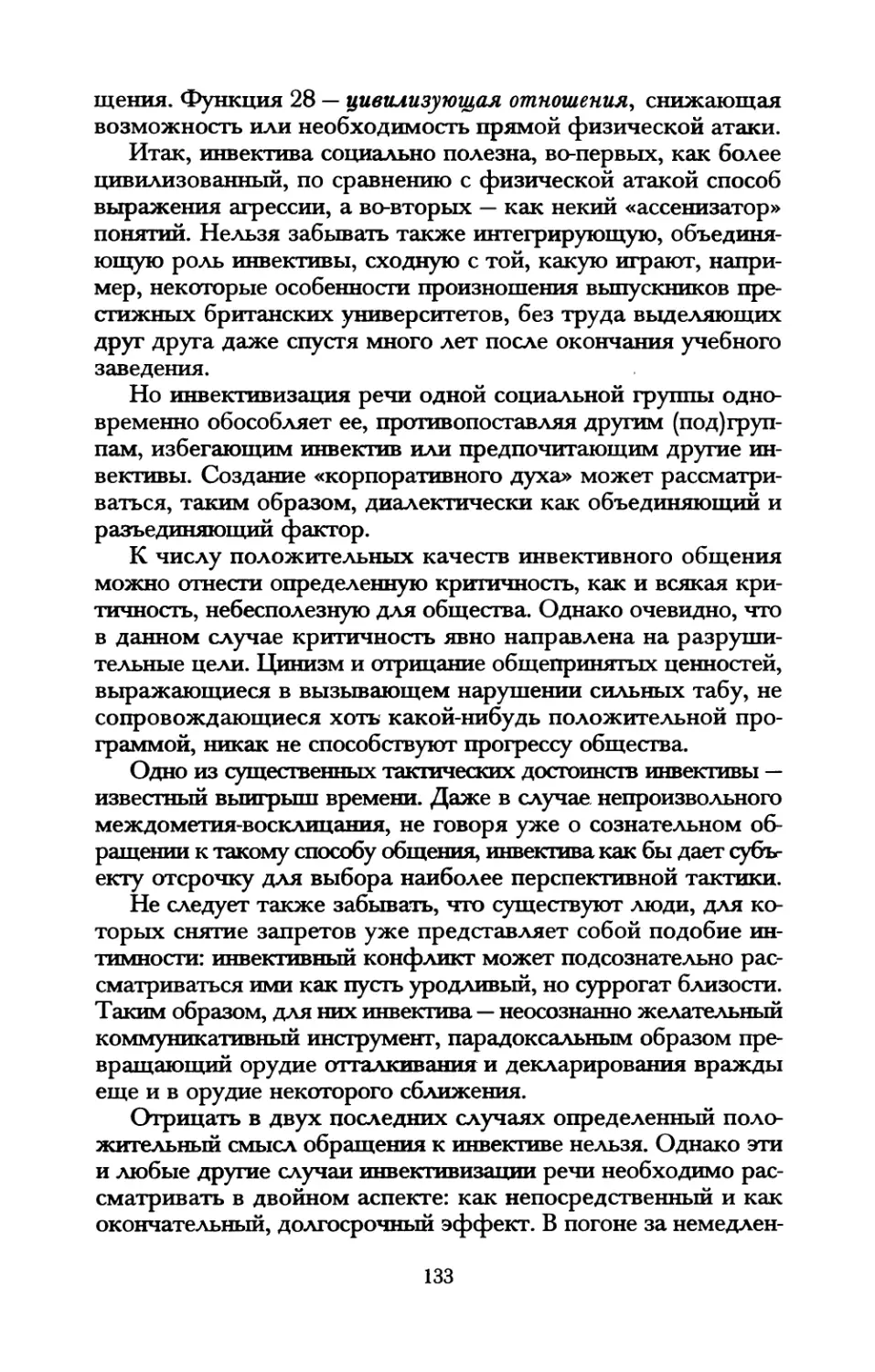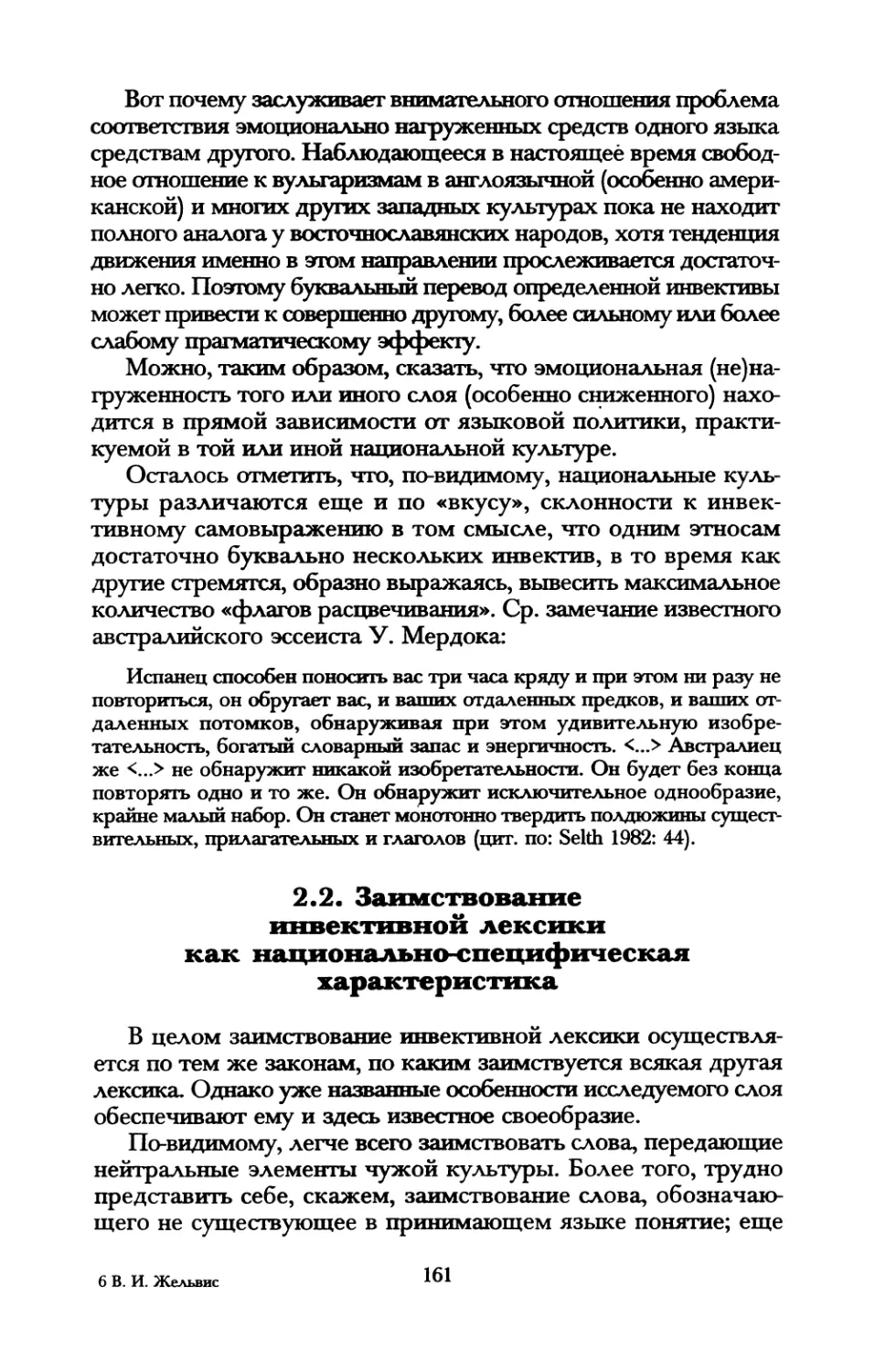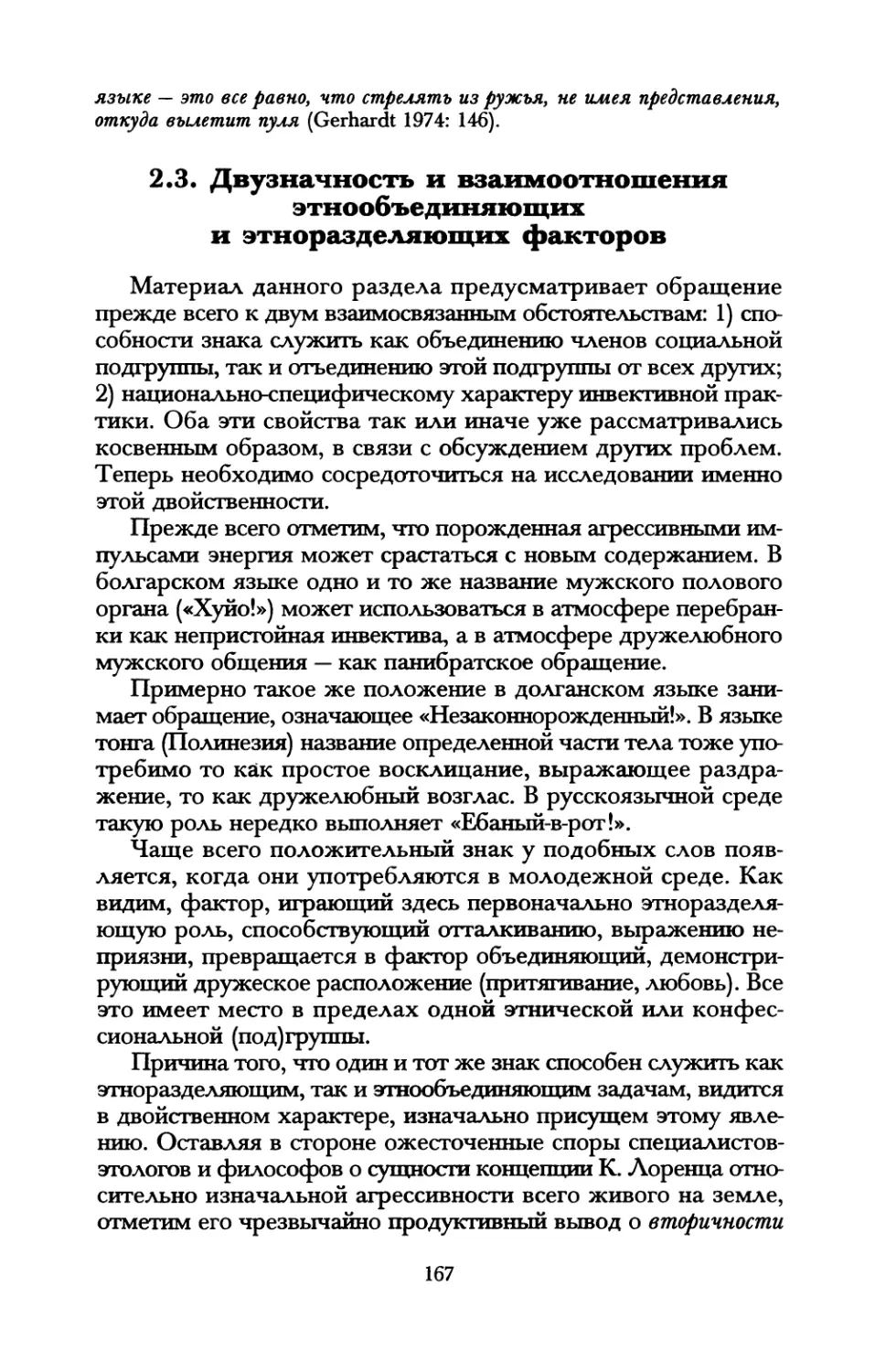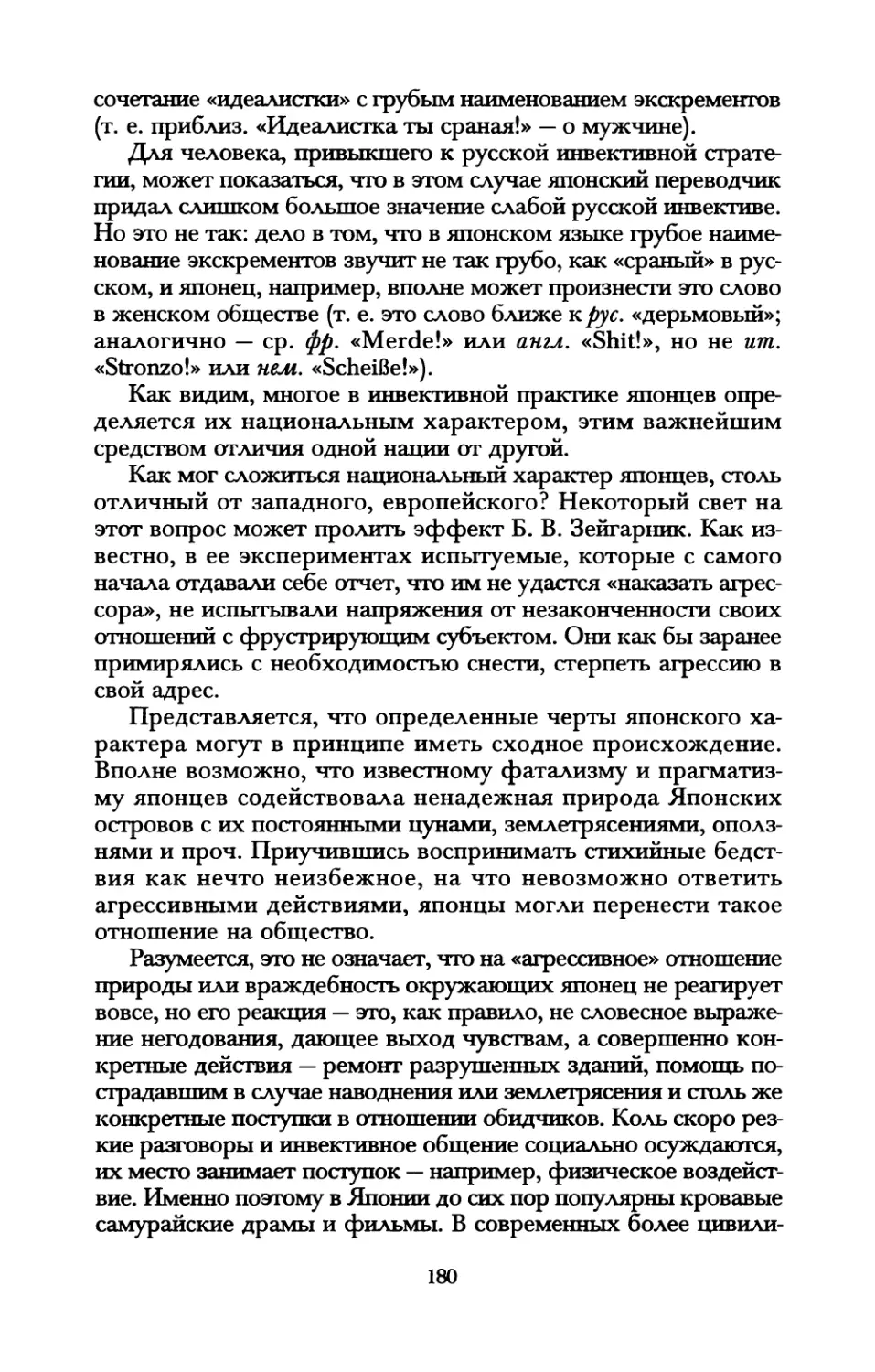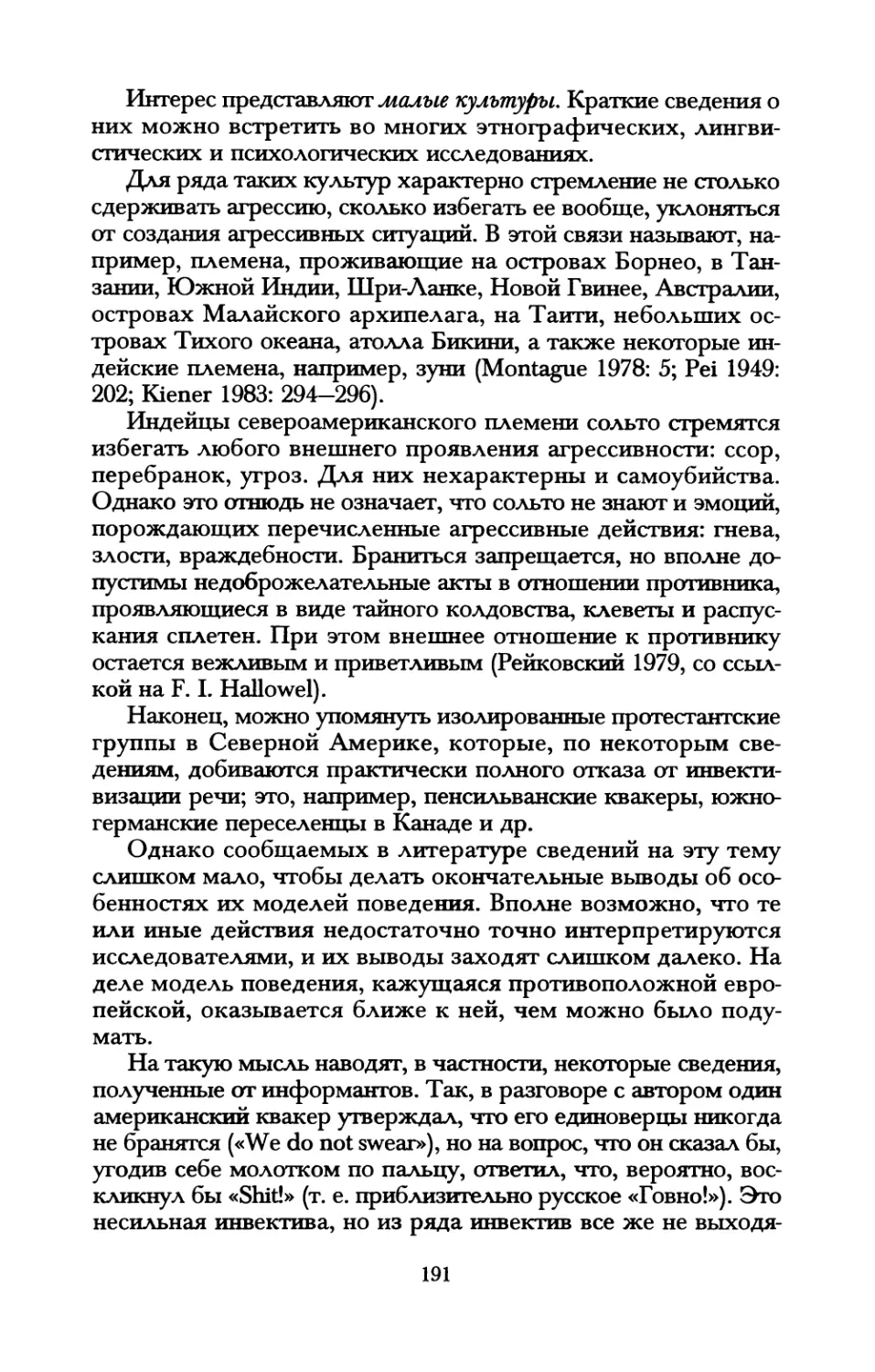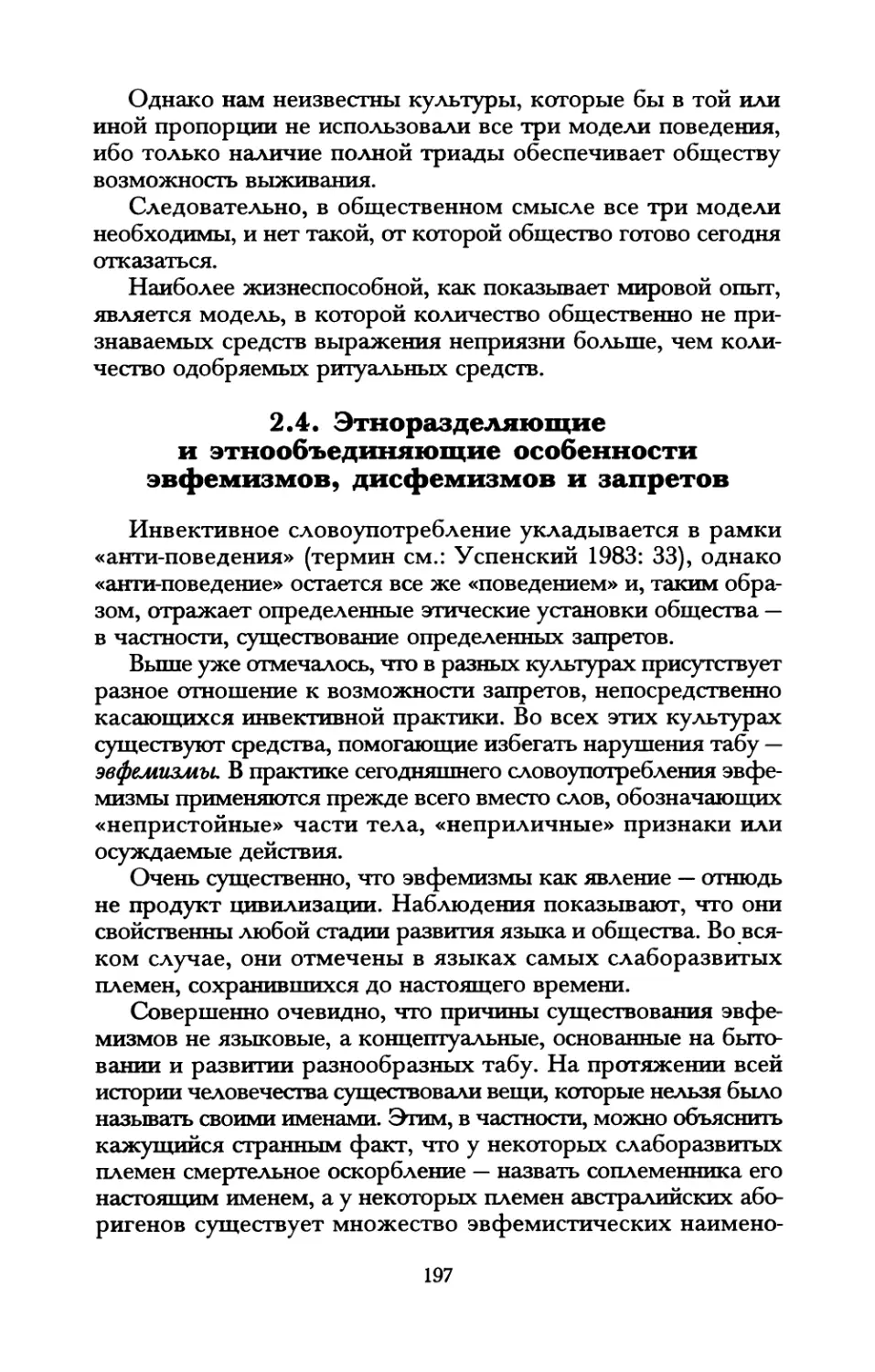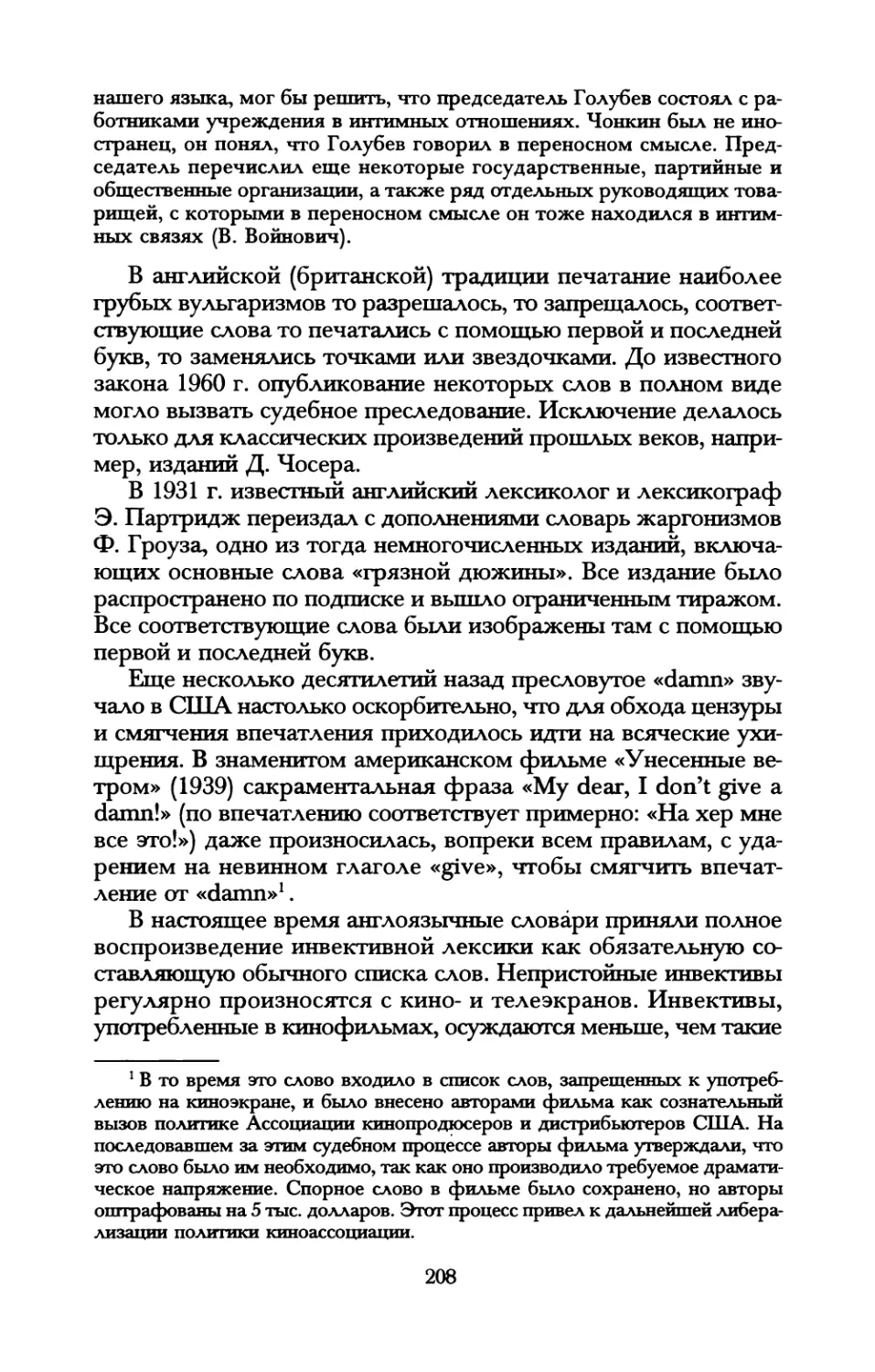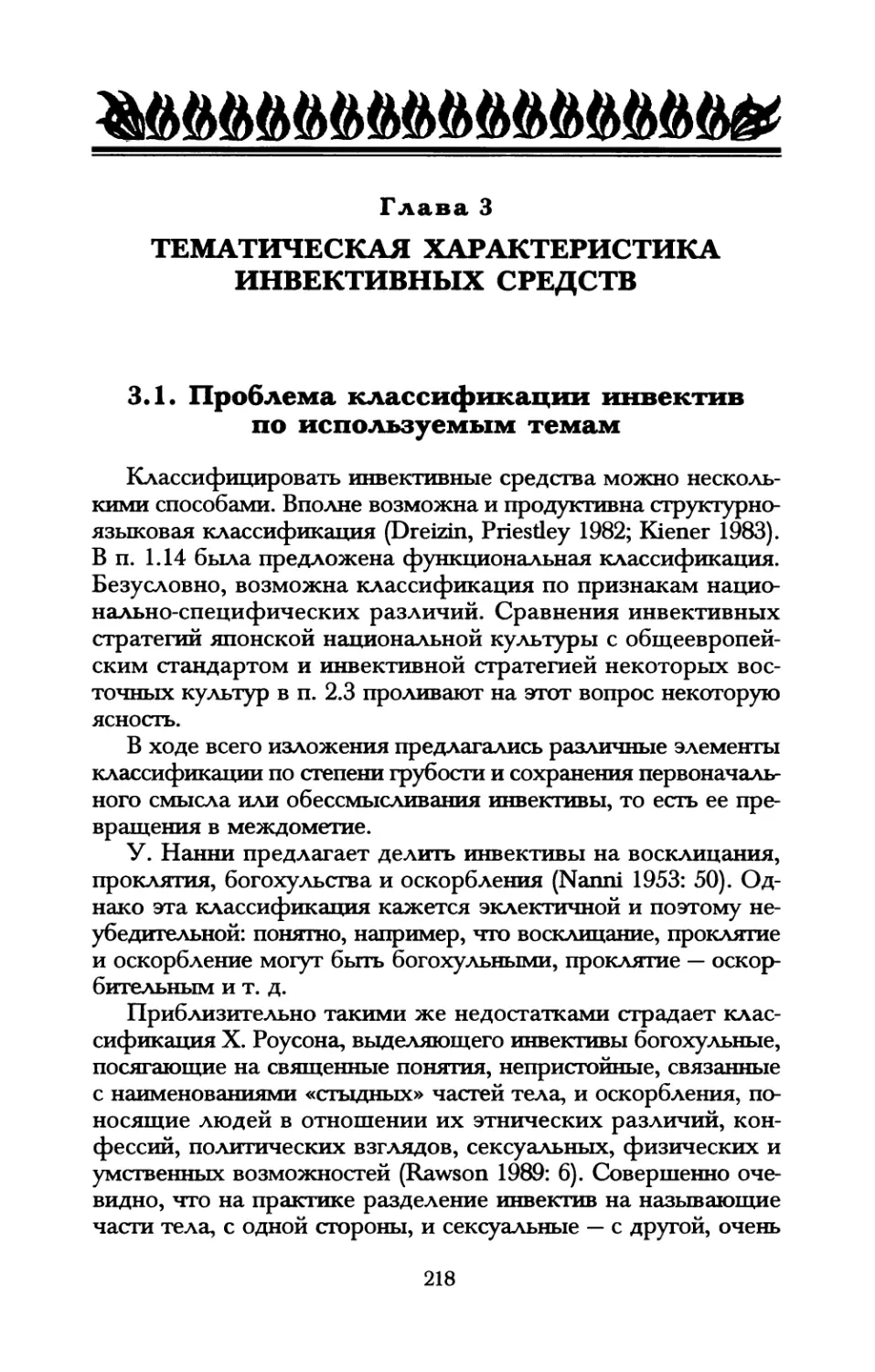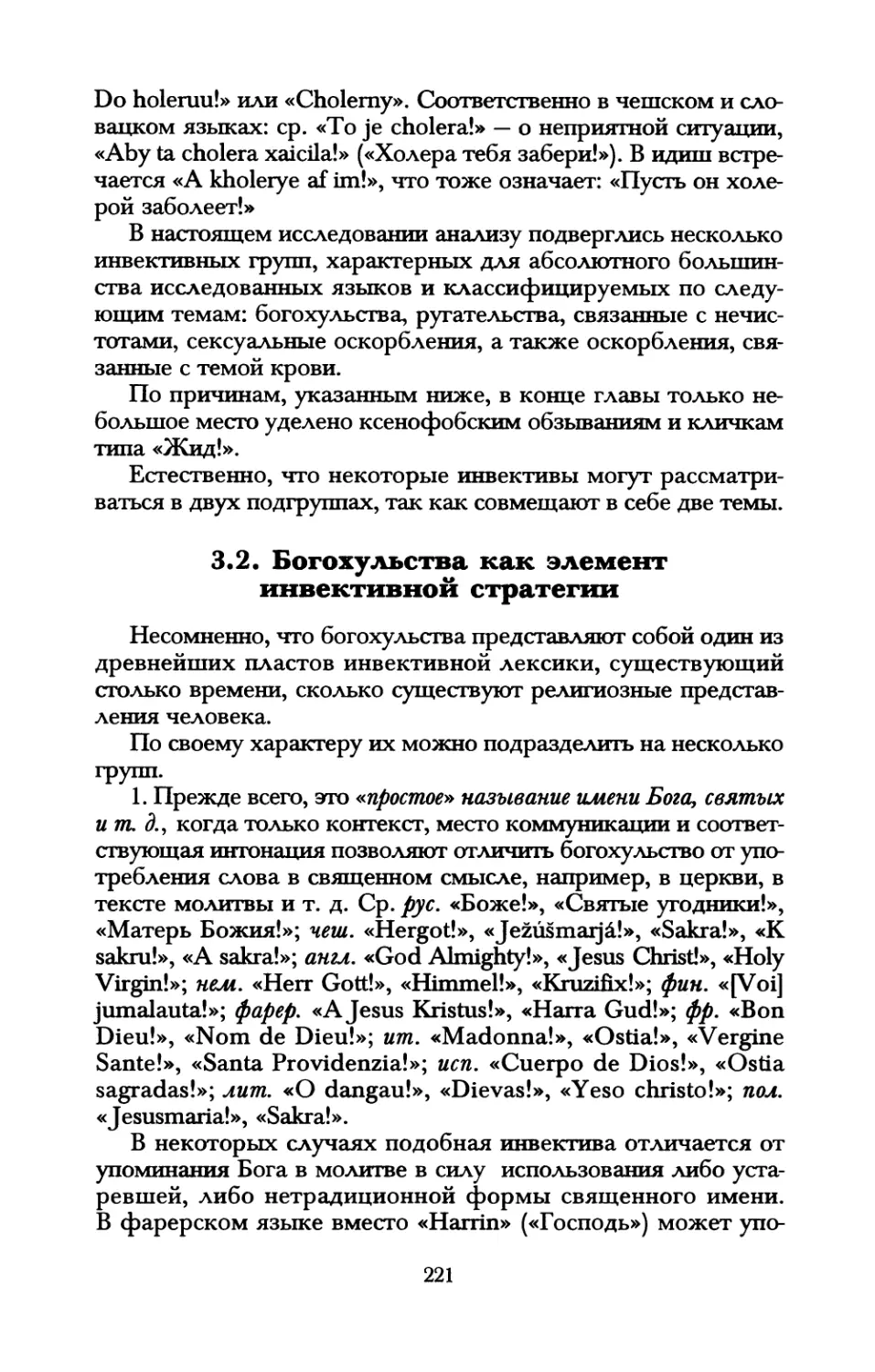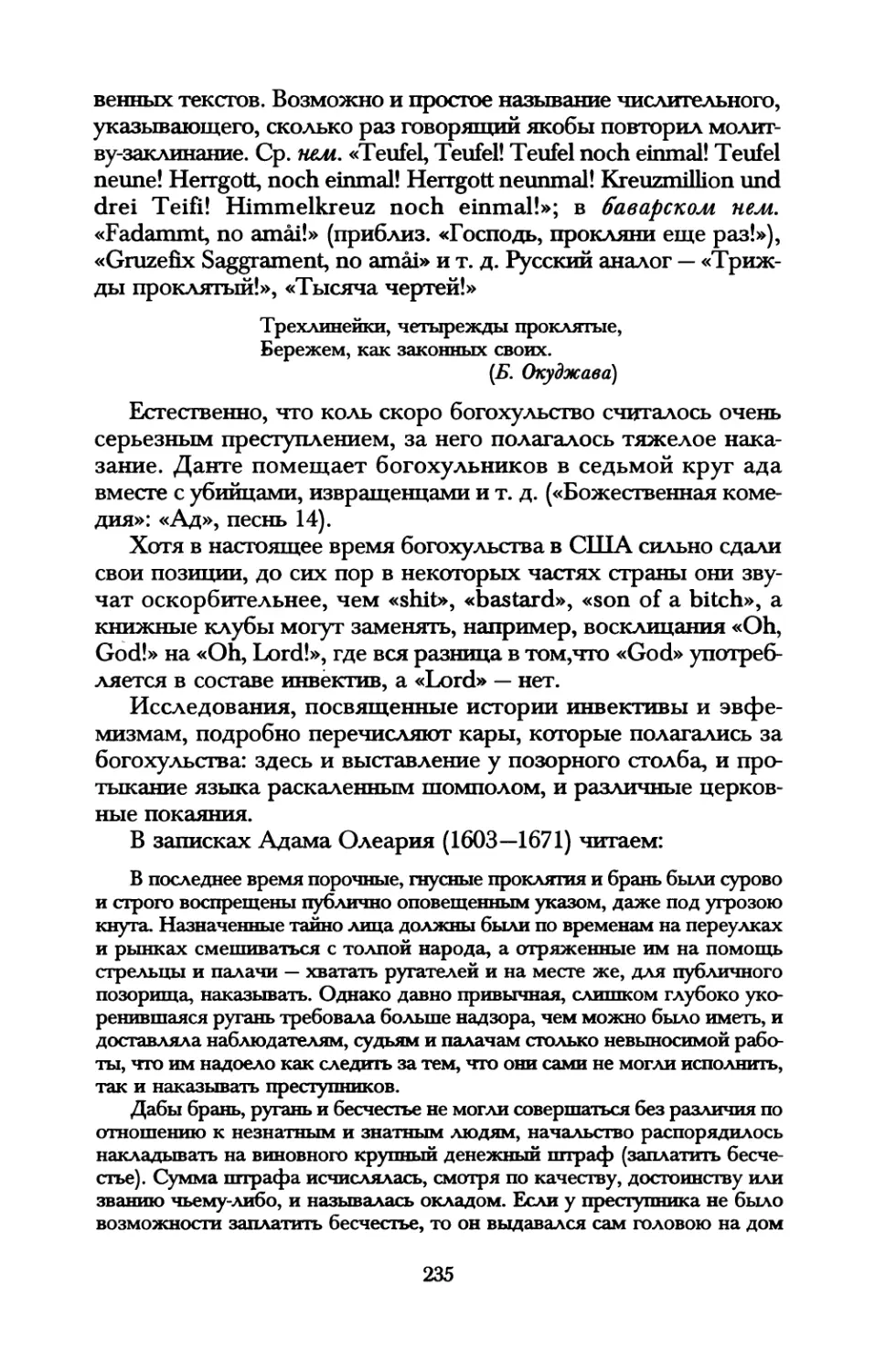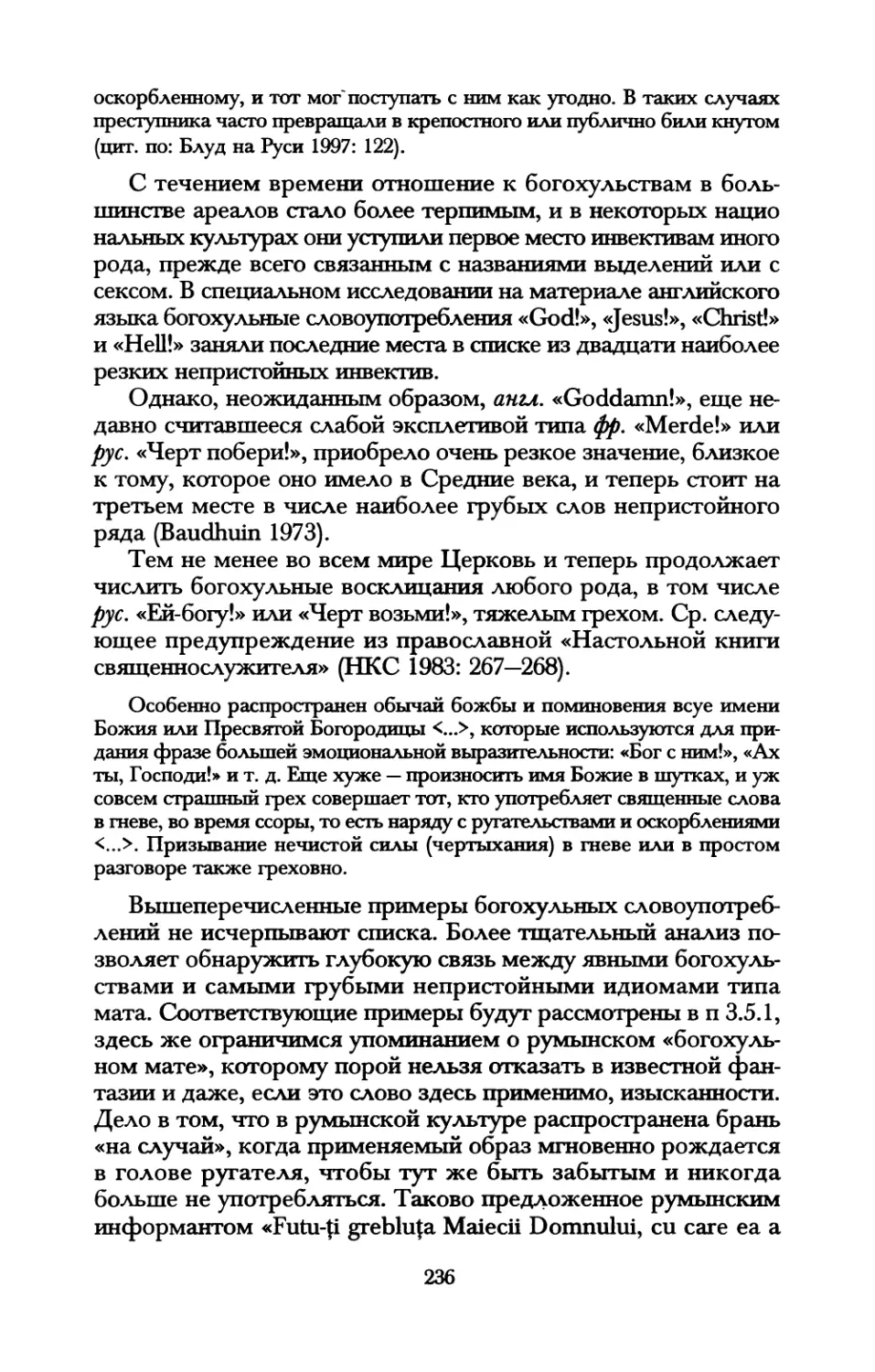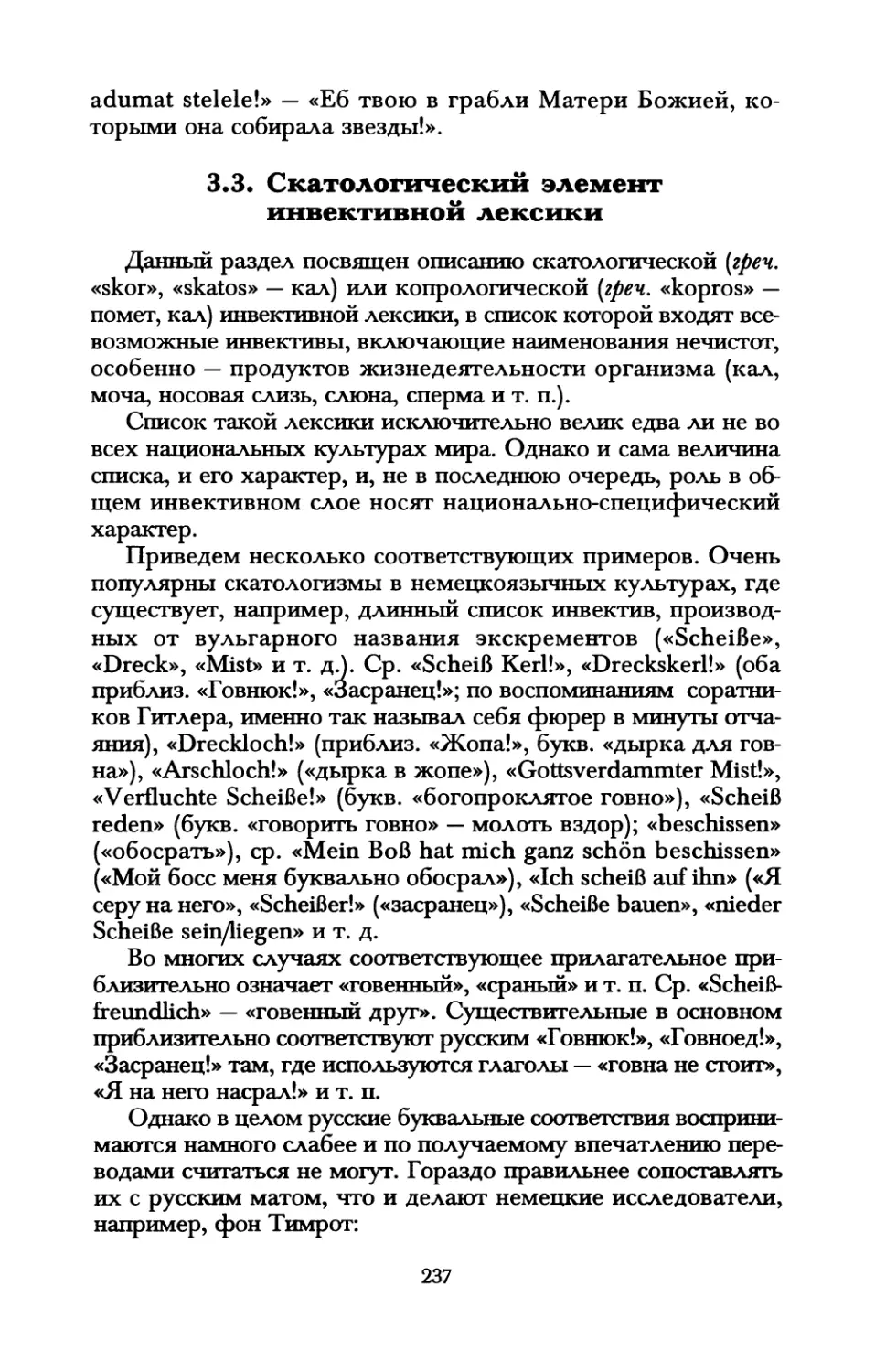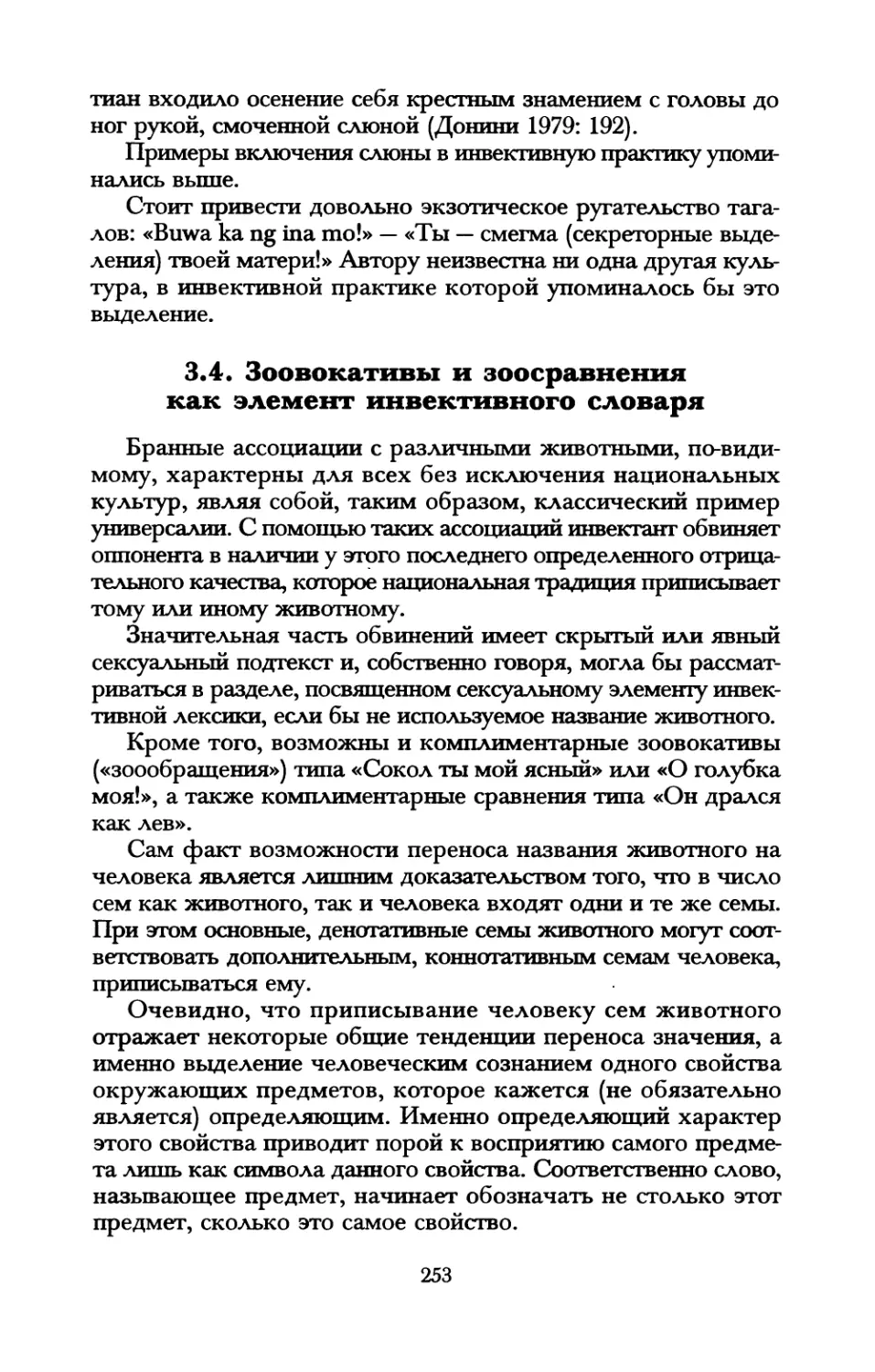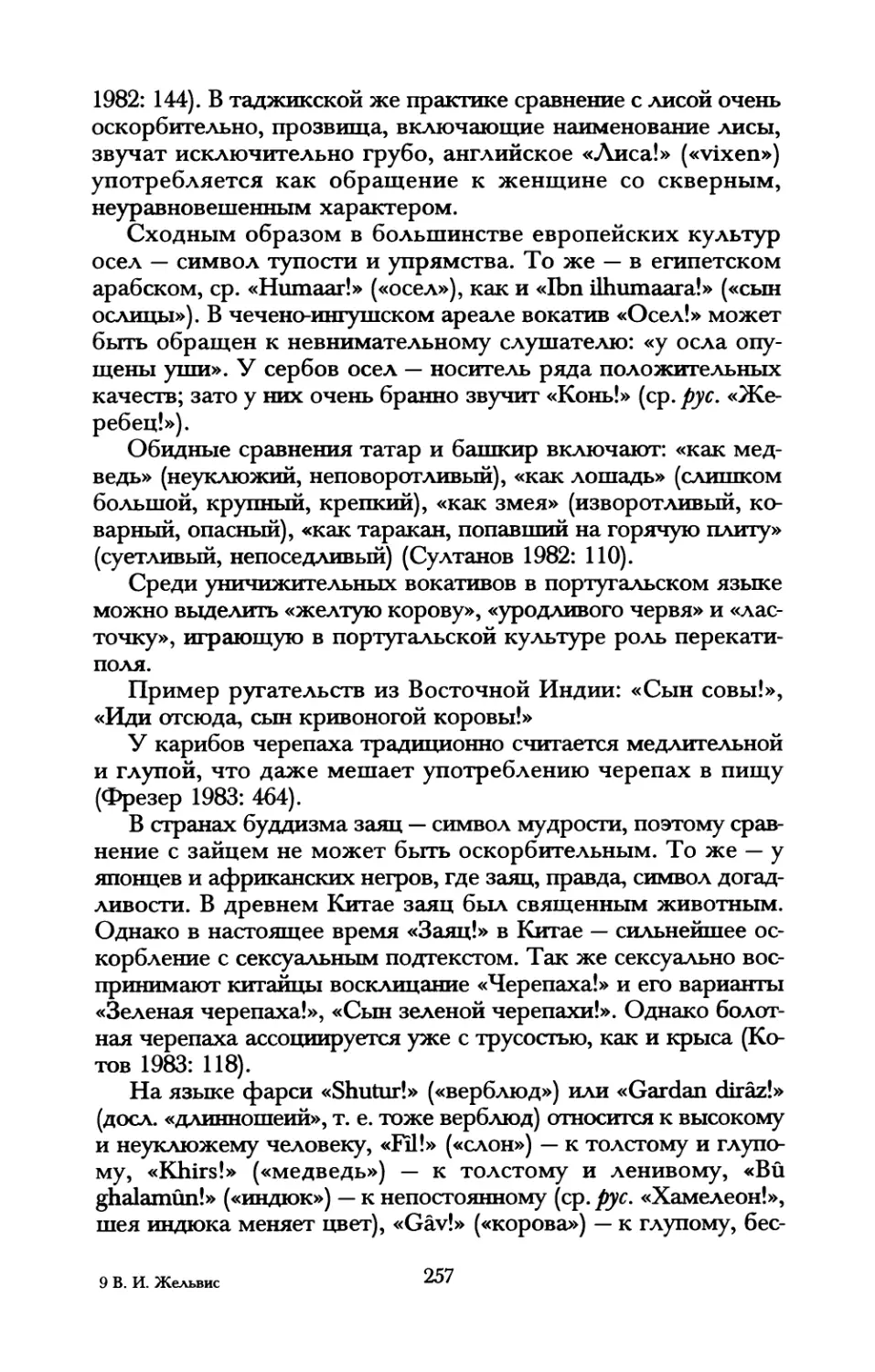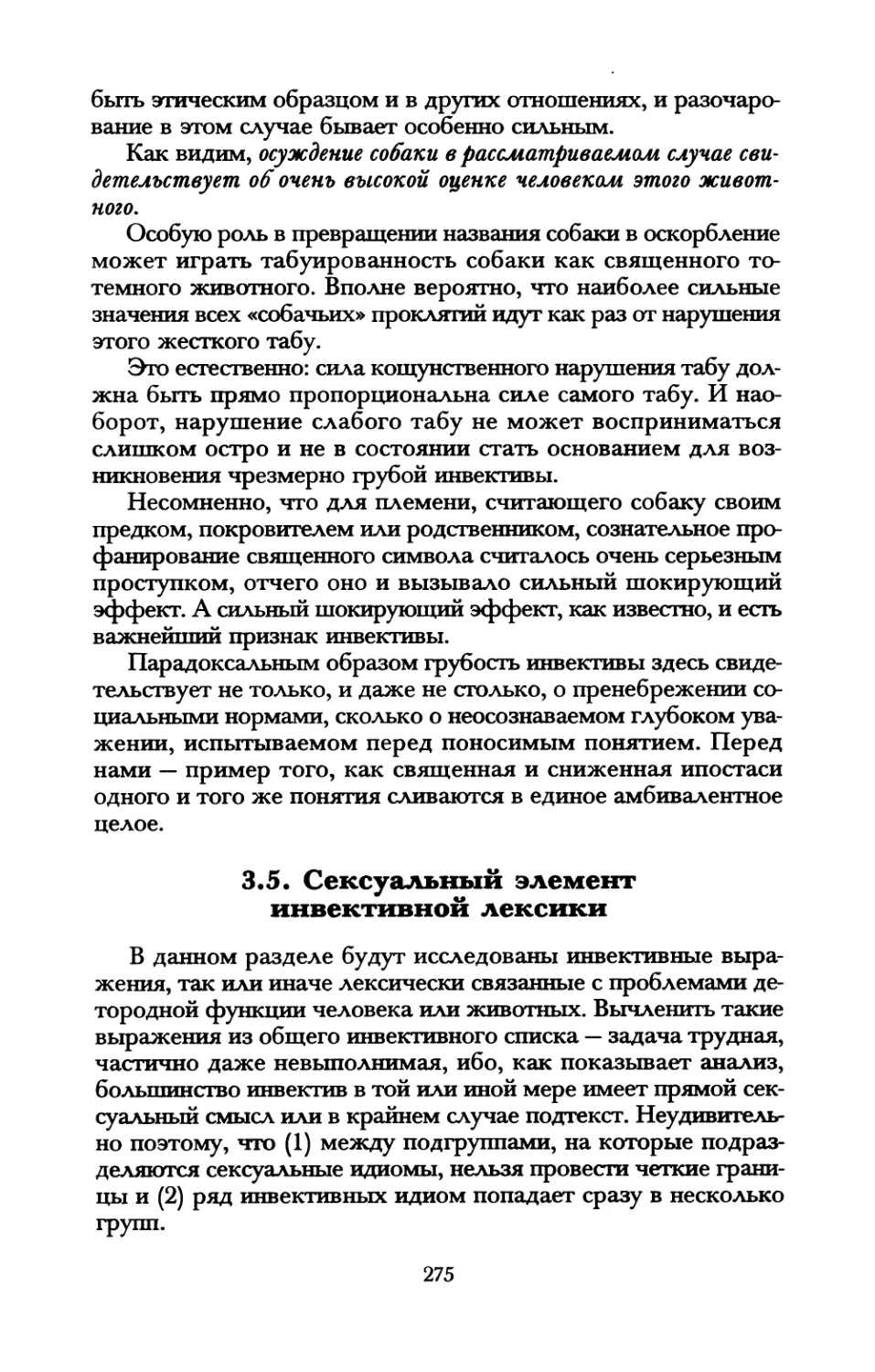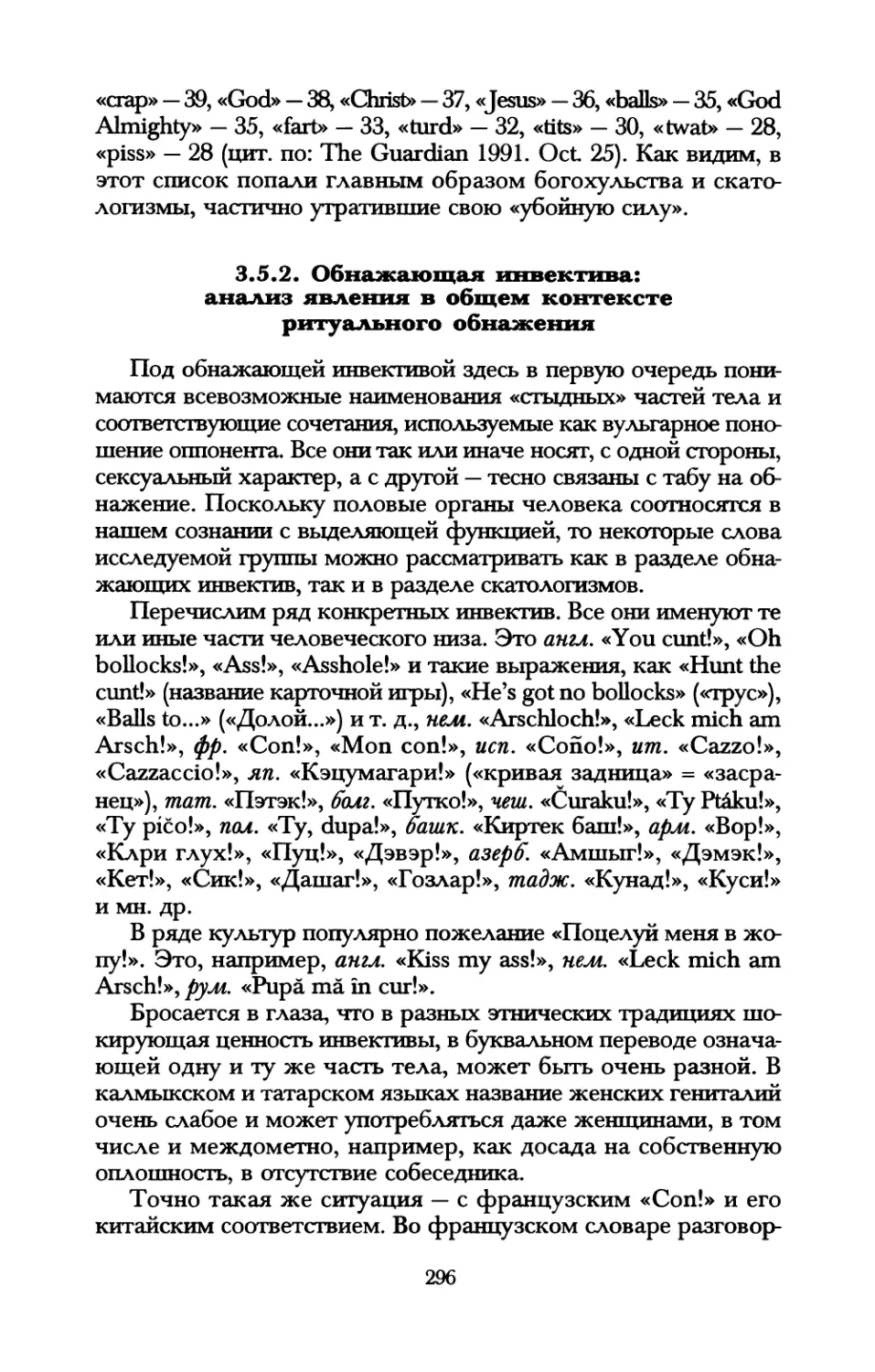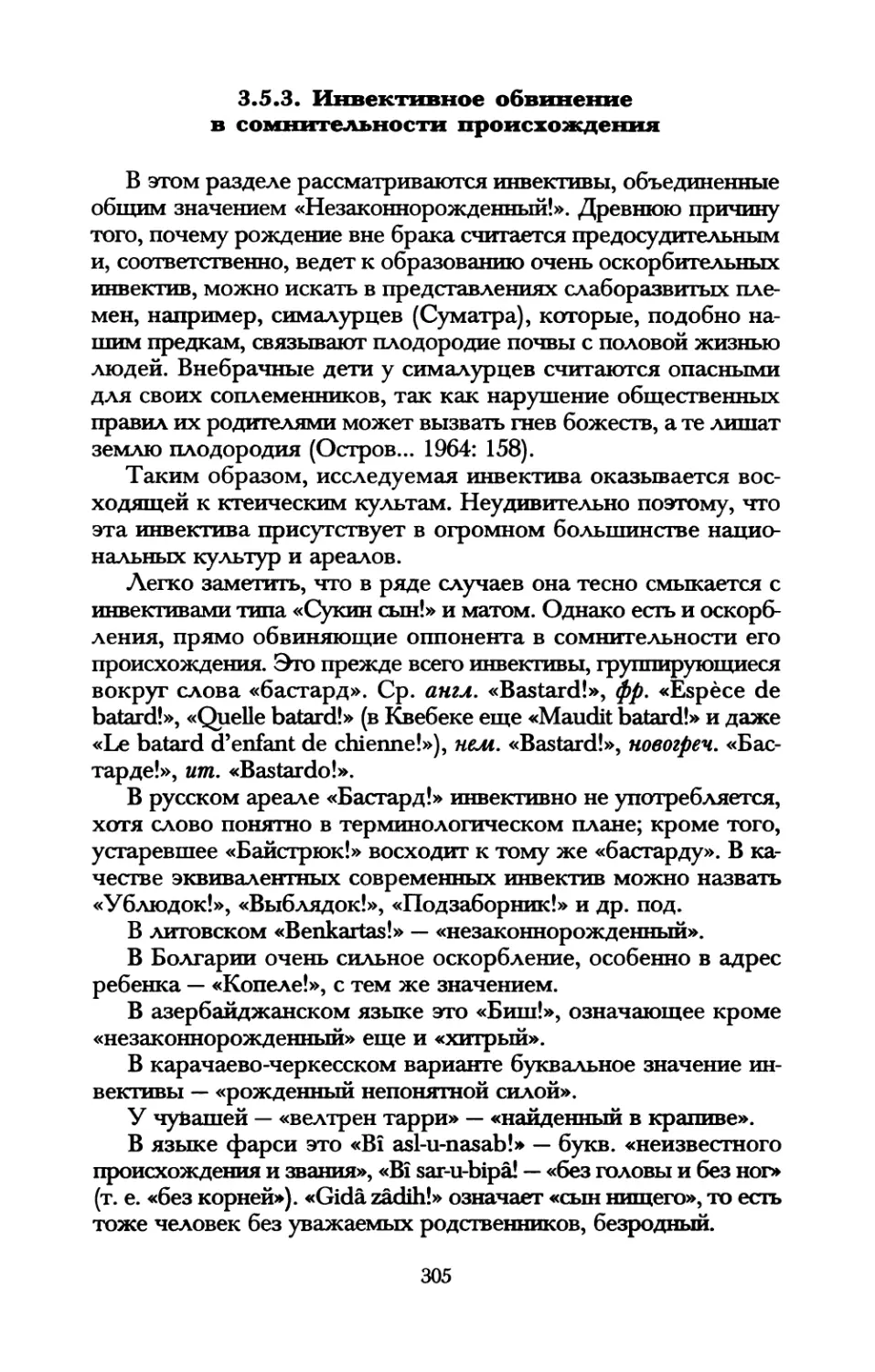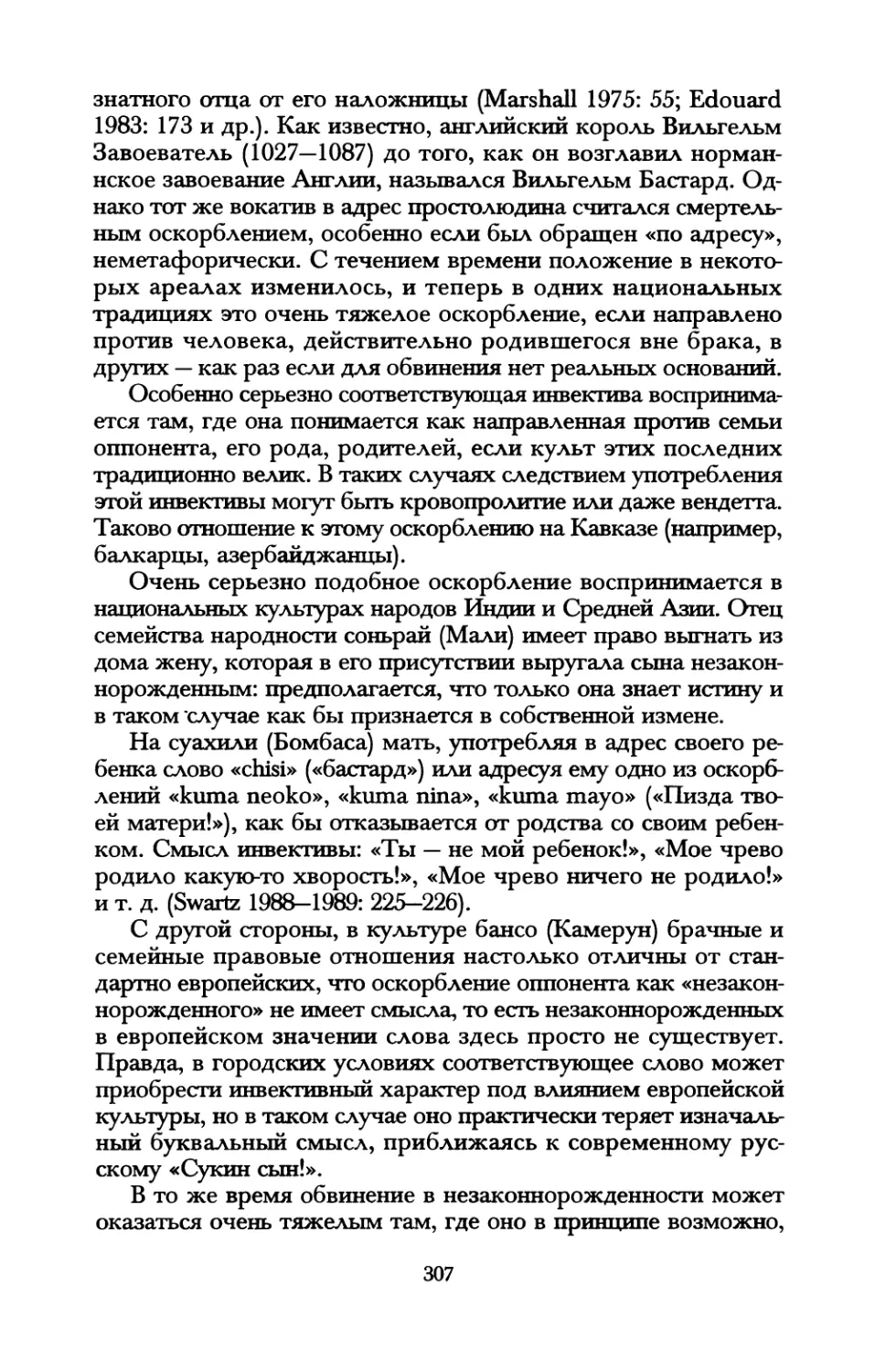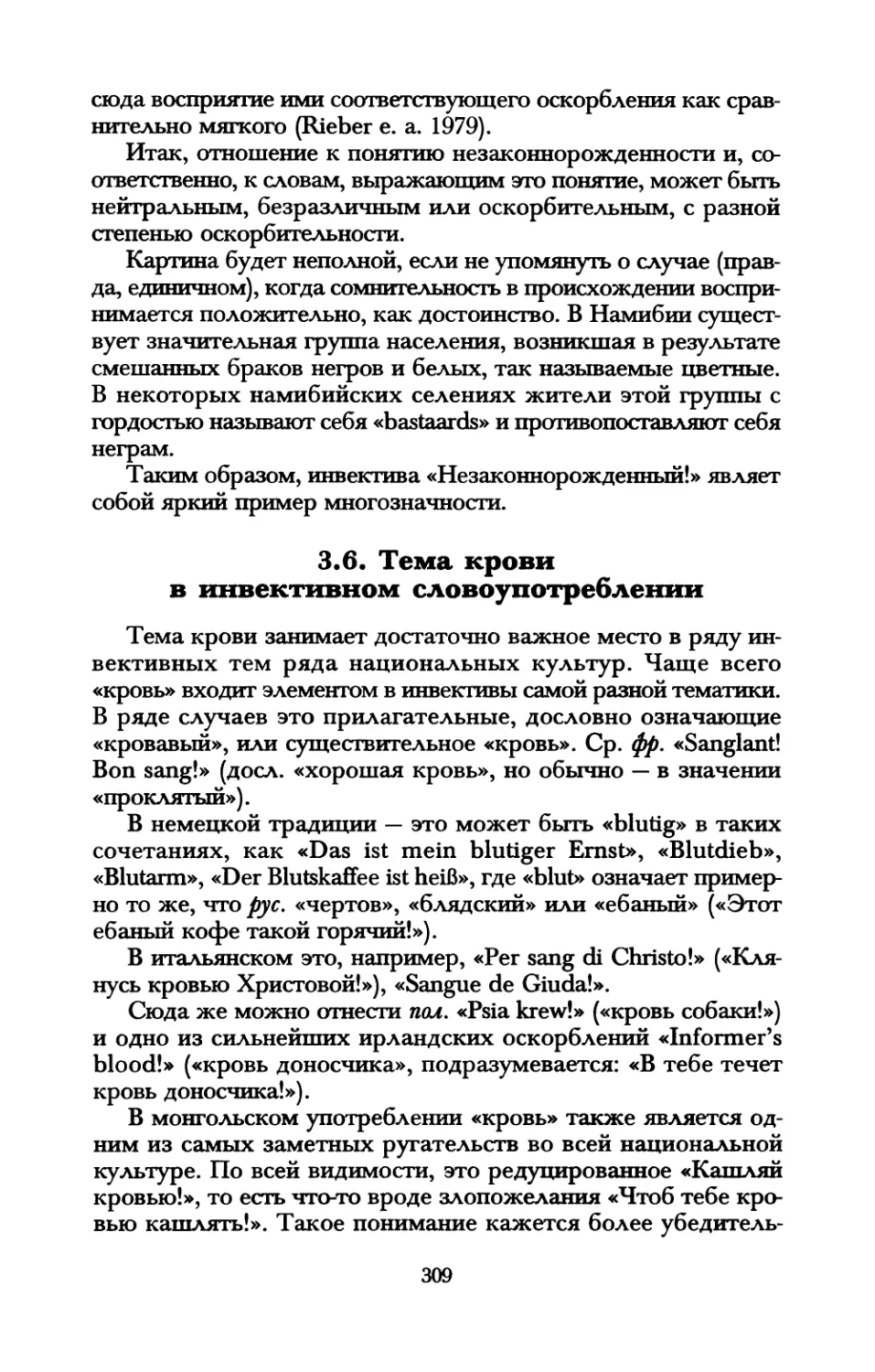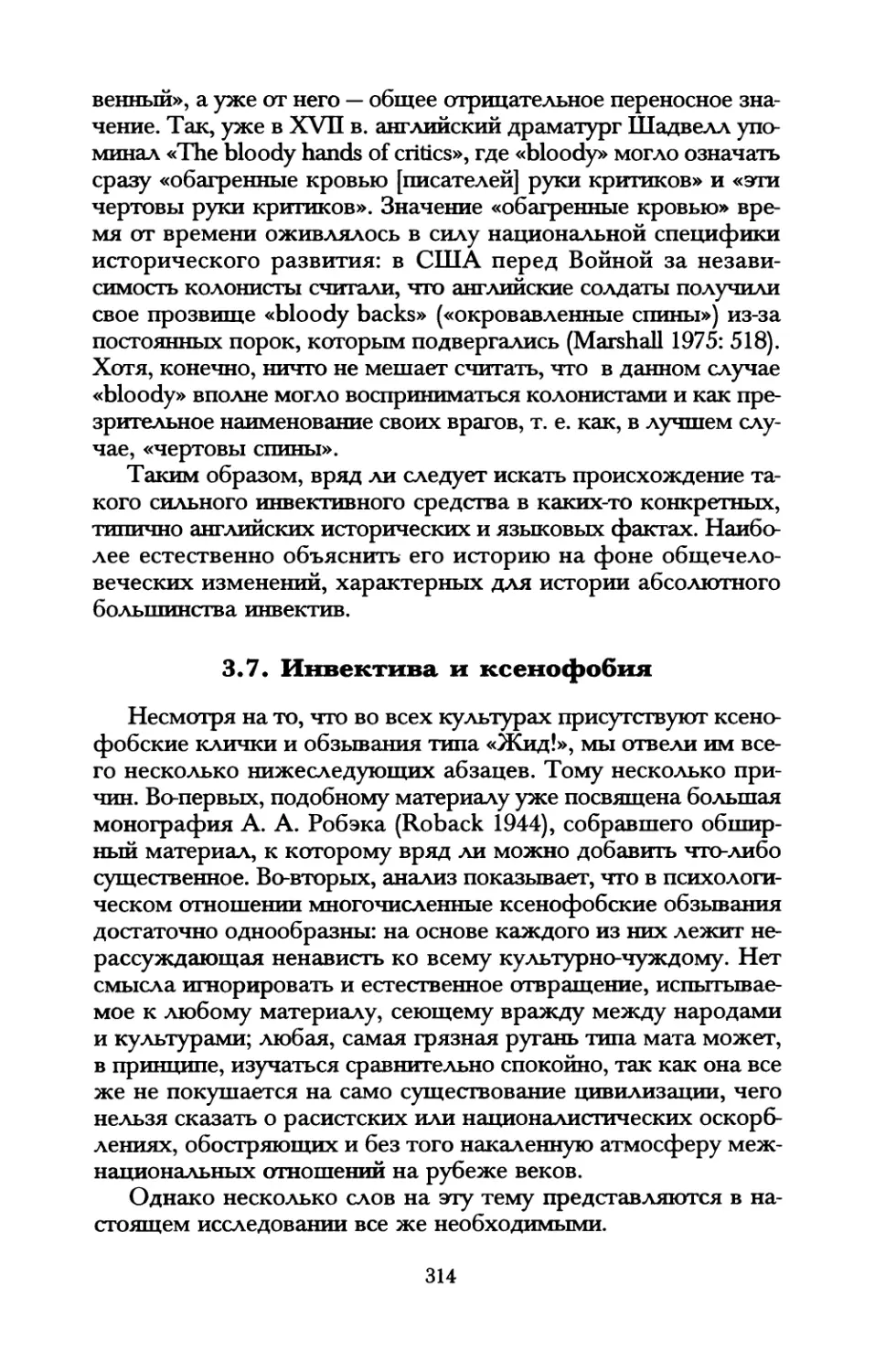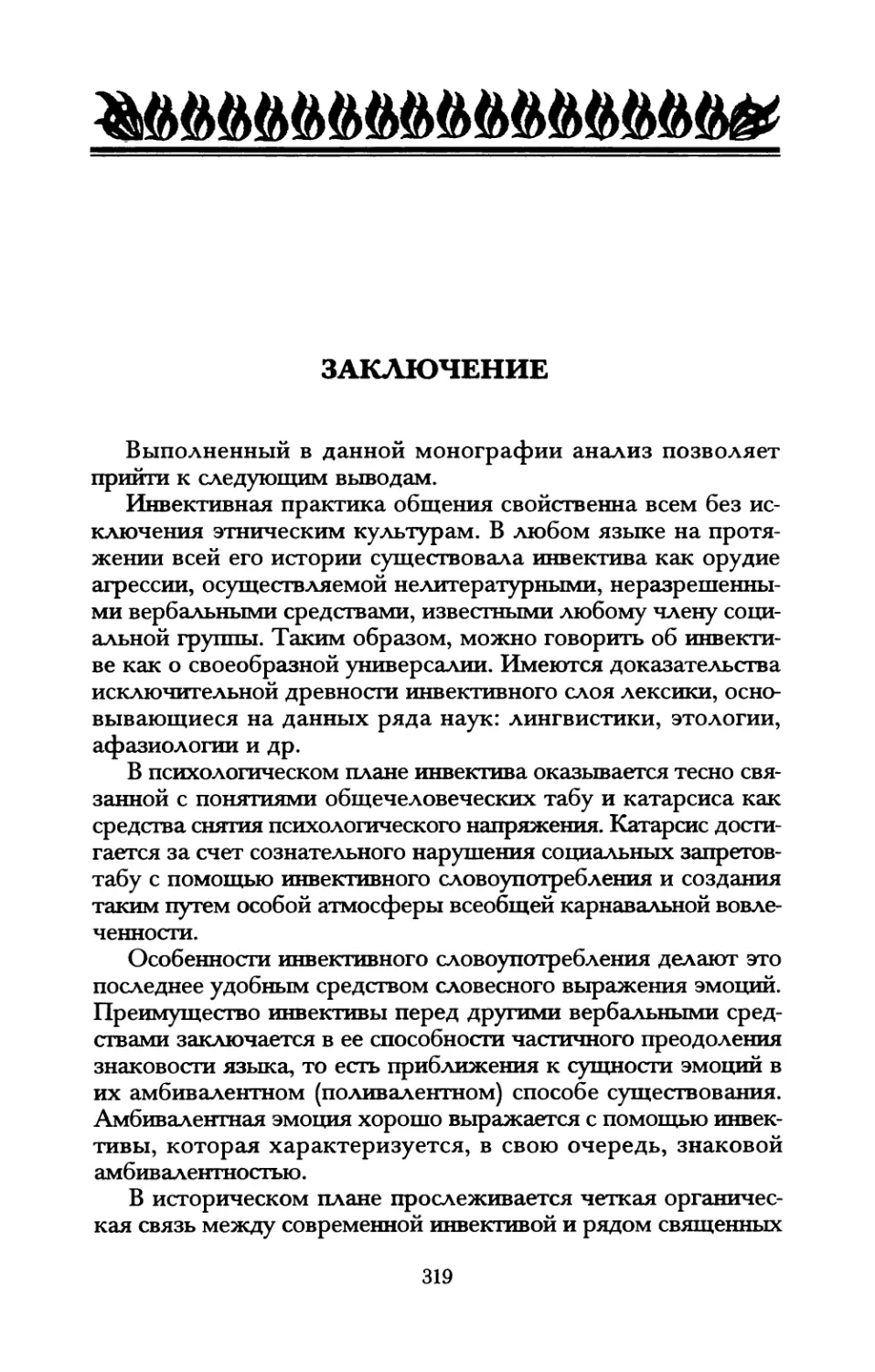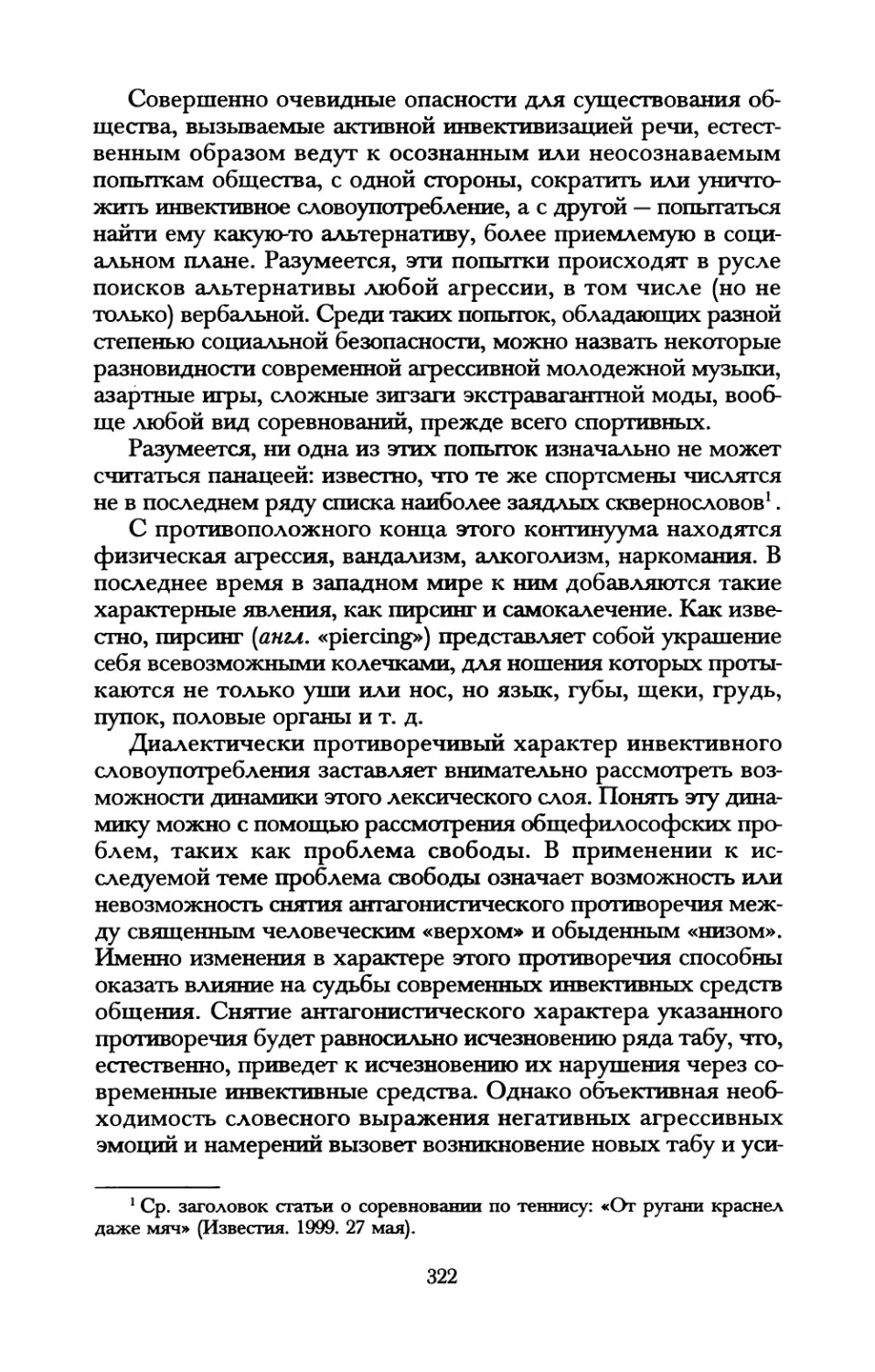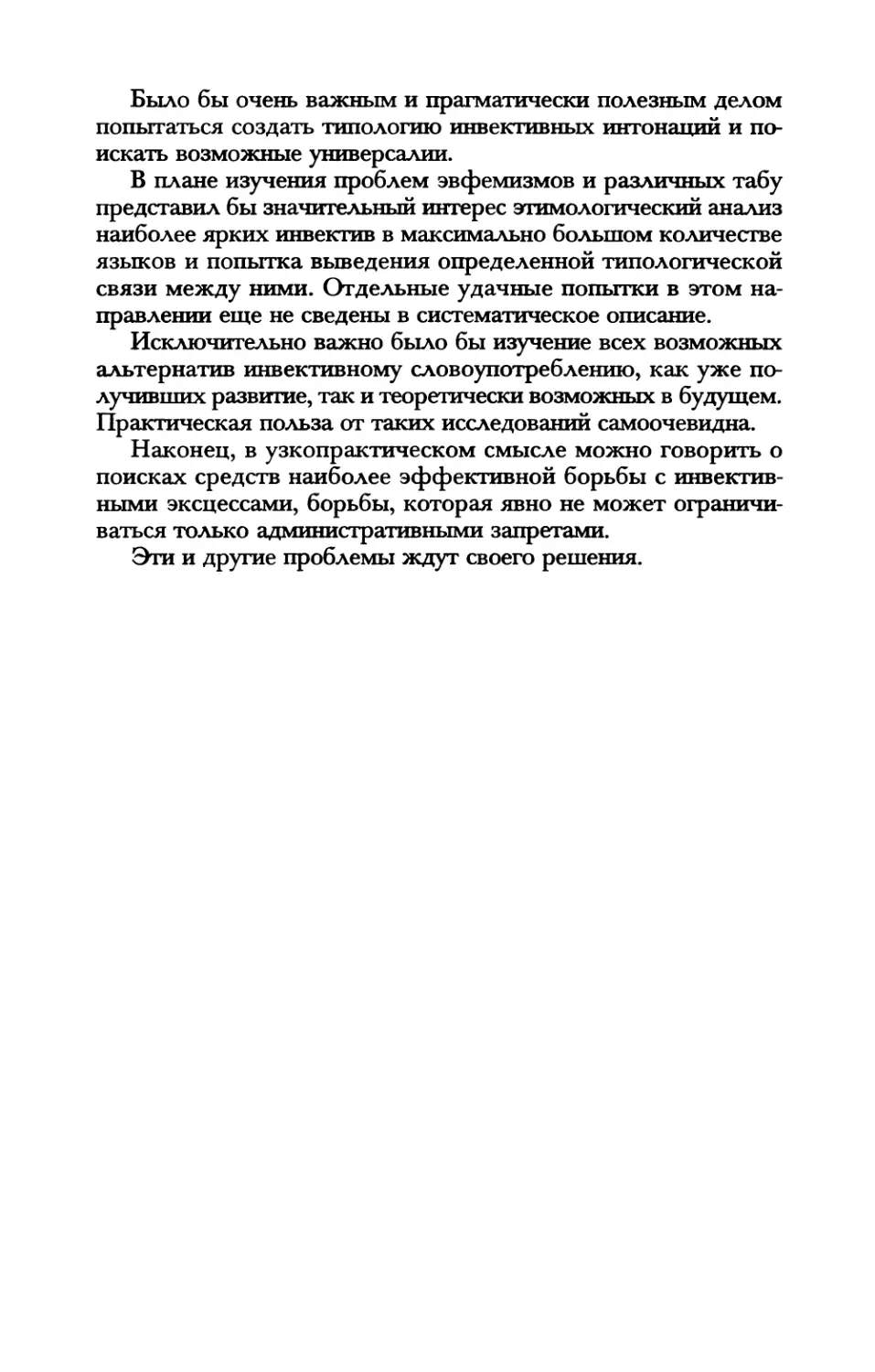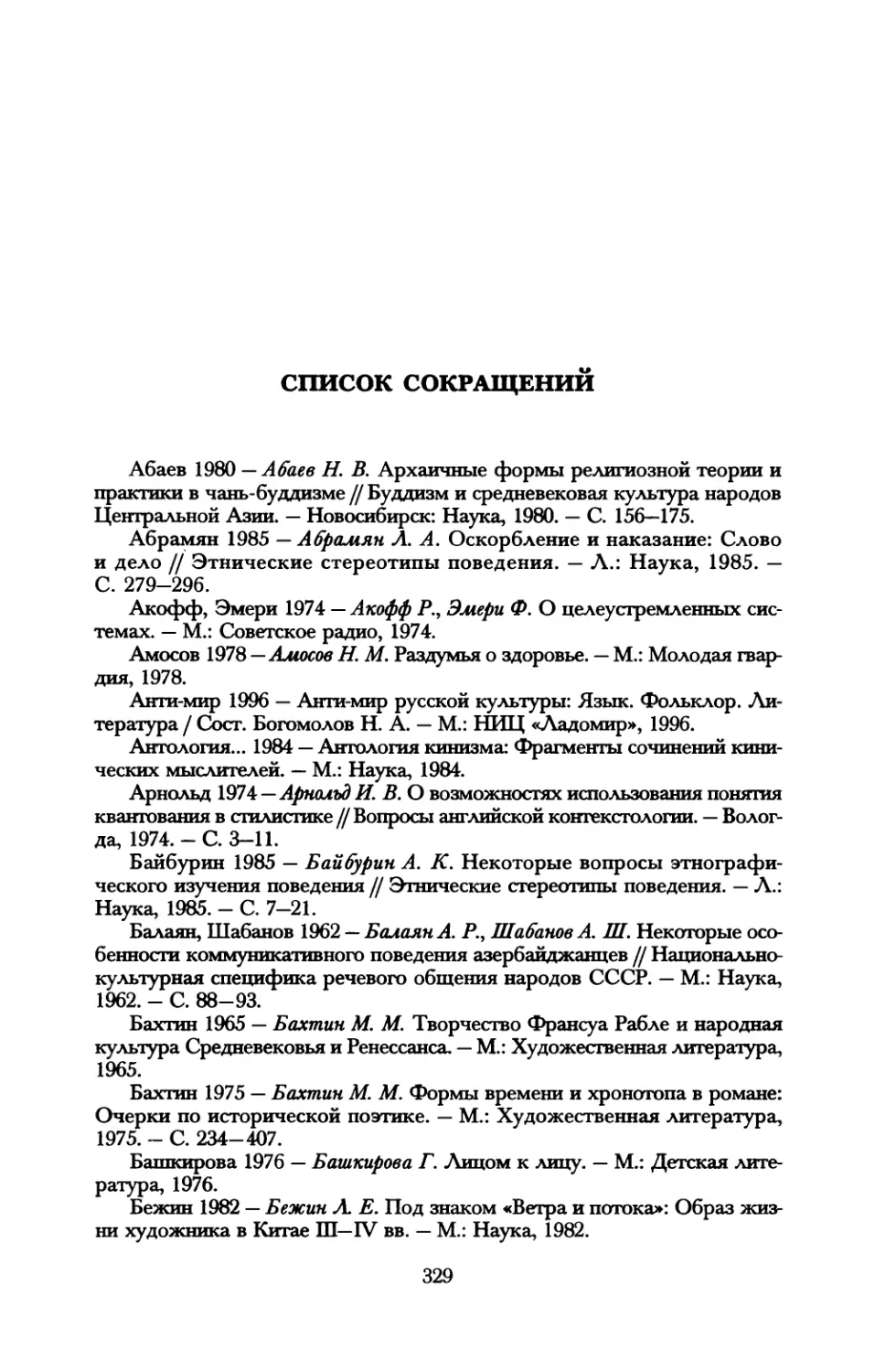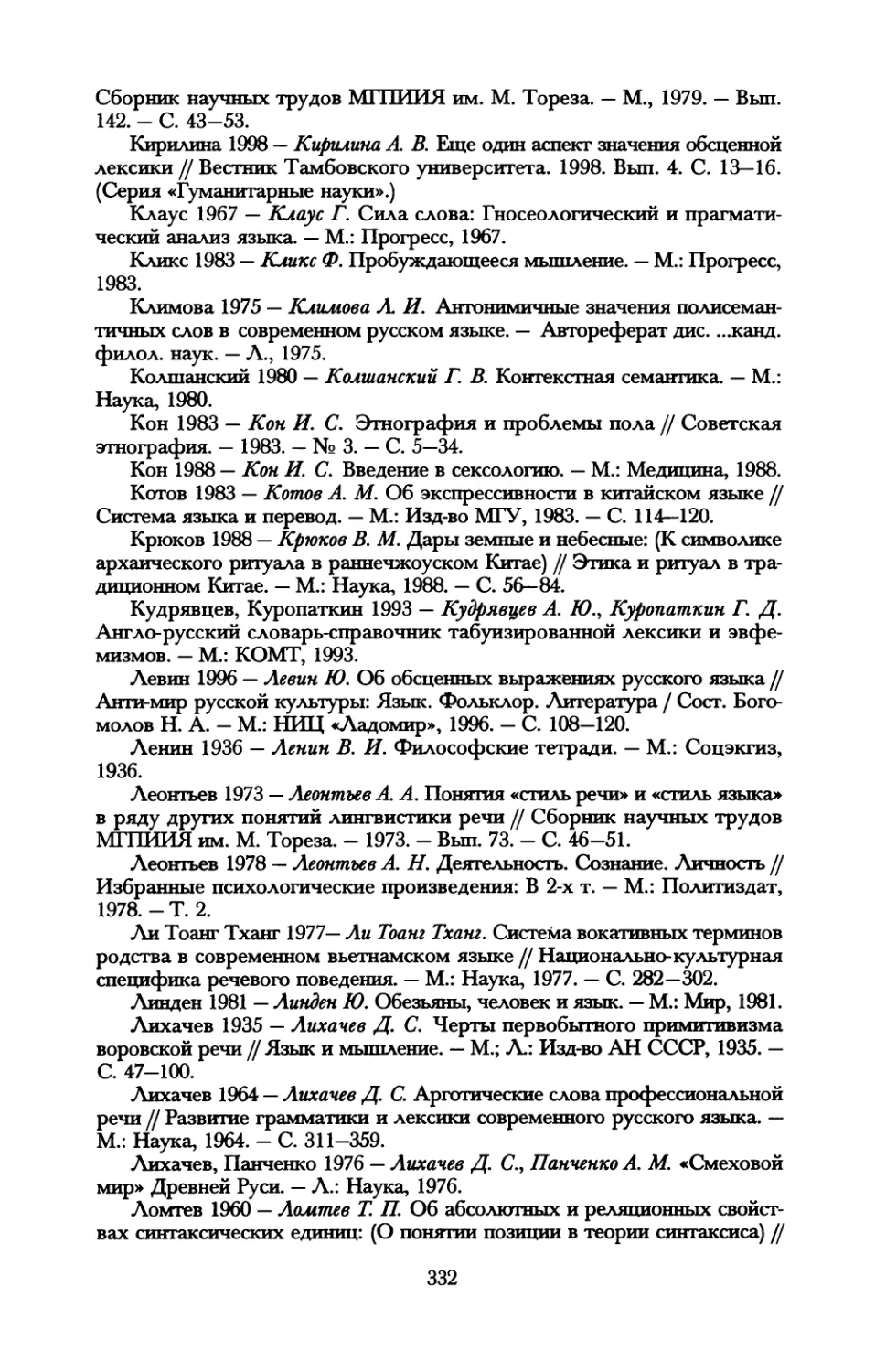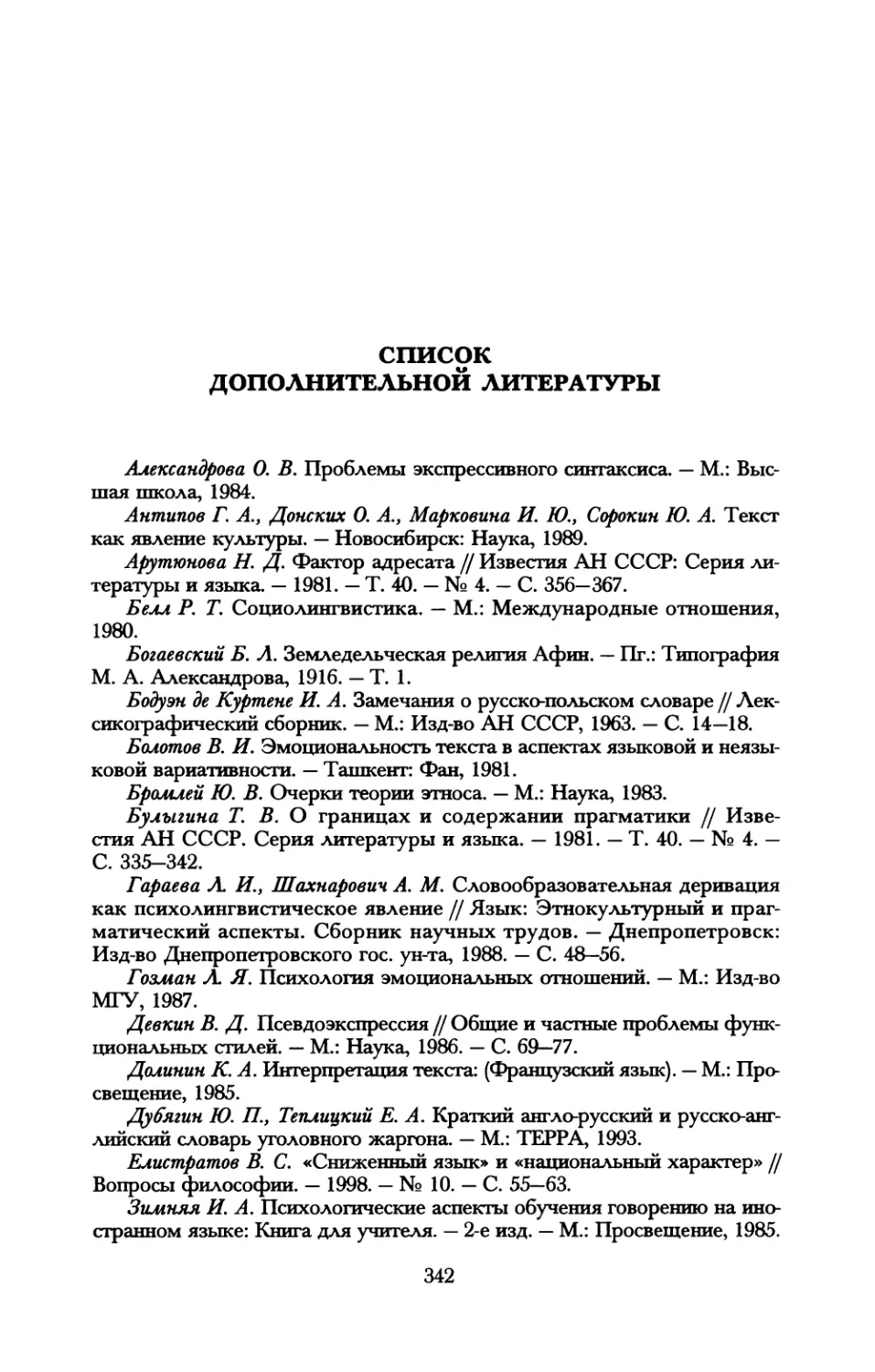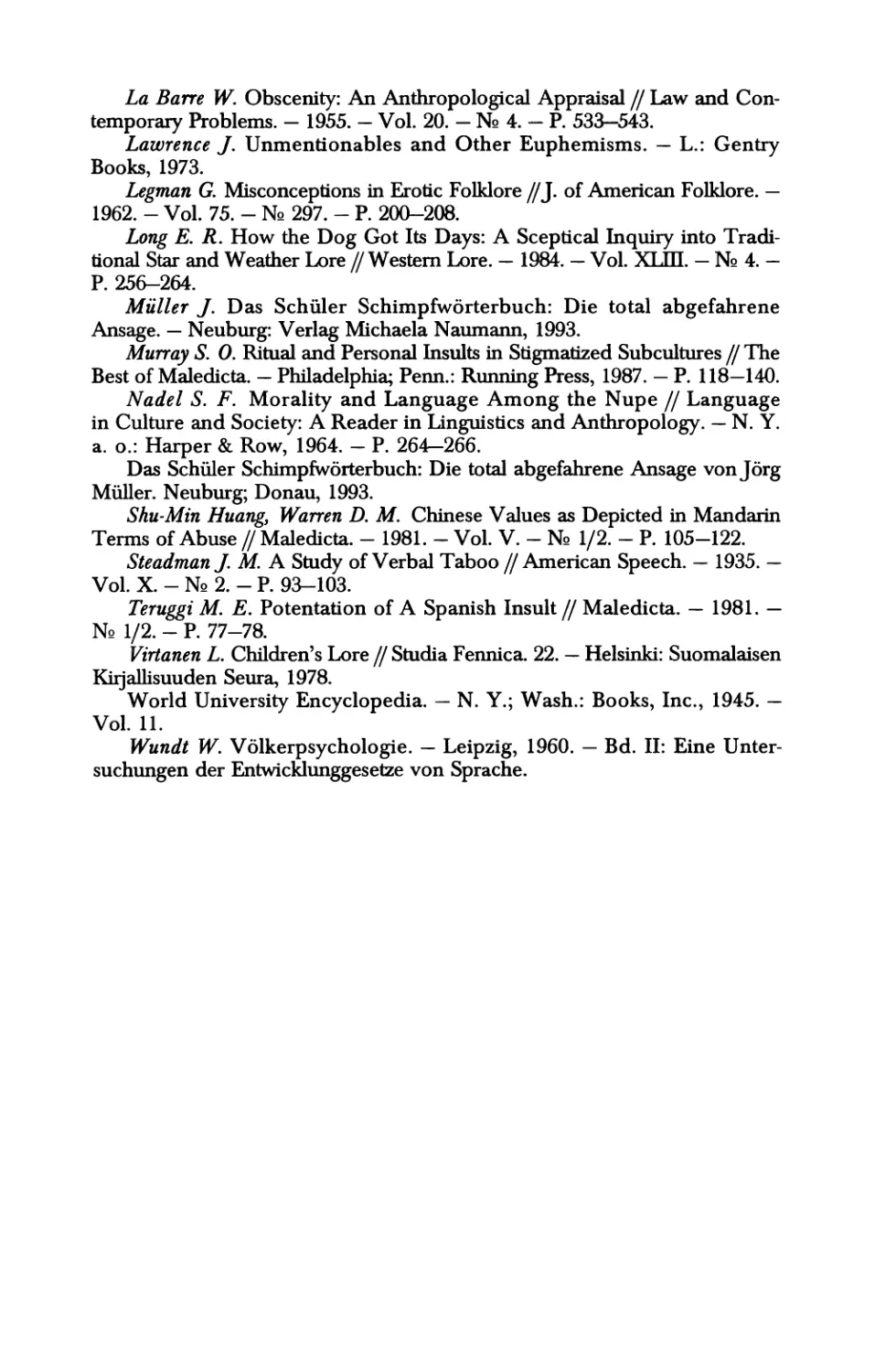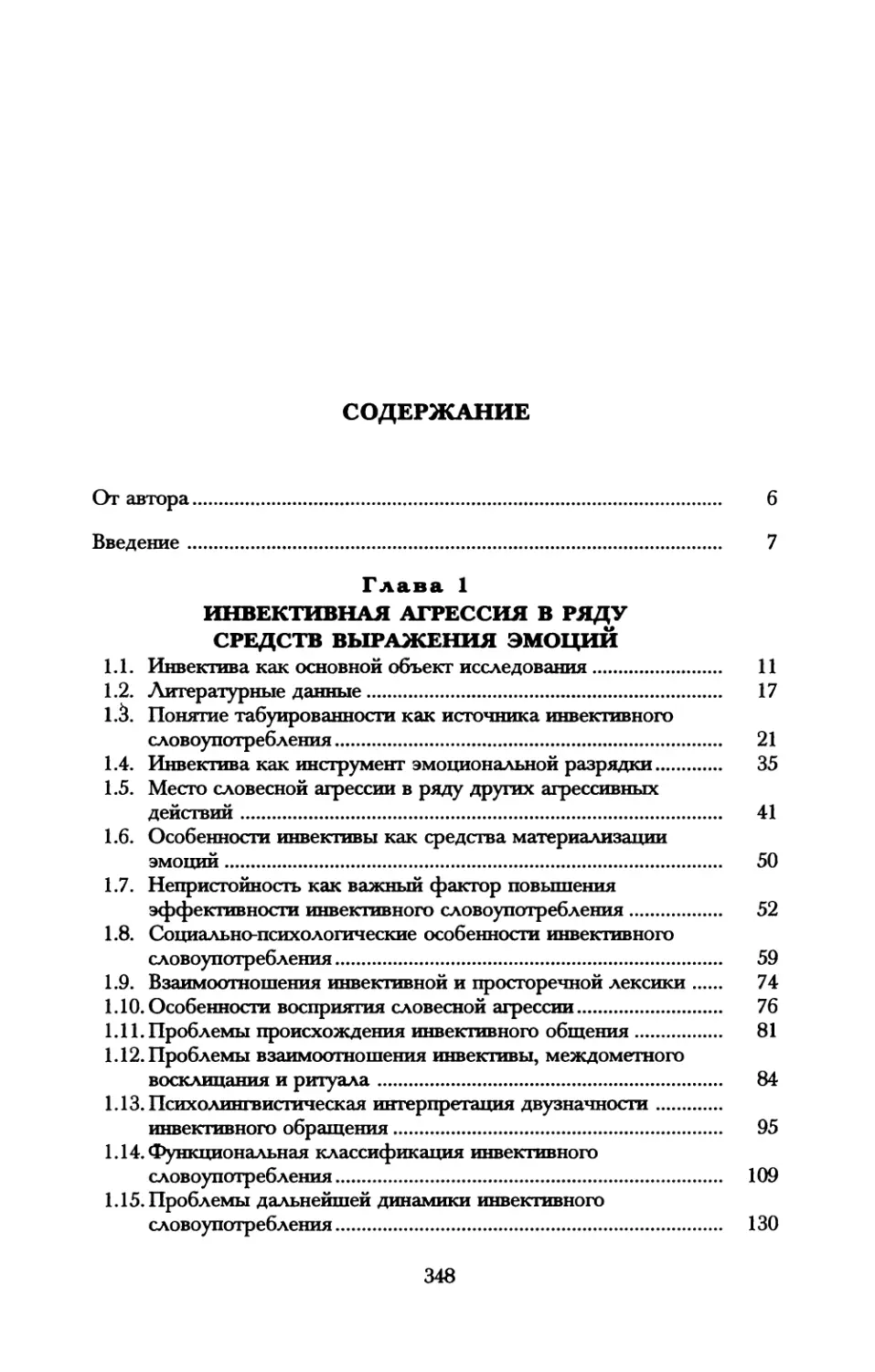Author: Жельвис В.И.
Tags: культура речи языки мира сквернословие социальные проблемы
ISBN: 5-86218-090-7
Year: 2001
Text
В. И. ЖЕЛЬВИС
—m—
Поле брани
В.И. ЖЕЛЬВИС
Поле брани
Скбернослобие
как
социальная проблема
6 языках
и культурах мира
Издание второе,
переработанное и дополненное
лддомнр
НАУЧНаИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
• «ЛАДОМИР» #
МОСЖВА
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
КНИГОИЗДАНИЯ РОССИИ
Оформление серии
Д. Б. ШИМИЛИСА
В оформлении форзацев использованы
репродукции картин Андриана Брувера
«Горькое питье» и «Драка за карточной игрой».
На контртитуле воспроизведена иллюстрация
Г. .Доре к роману Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».
© Жельвис В. И. Монография, 2001
ISBN 5-86218-090-7 © Научно-издательский центр «Ладомир», 2001
Репродуцирование [воспроизведение) данного издания любым способом
без договора с издательством запрещается
Да знаю, знаю, что не выйти
Нам из процесса мирового, —
Но так и хочется завыти,
Сглотнувши матерное слово.
Борис Чичибабин
ОТ АВТОРА
Второе издание «Поля брани» дополнено теоретическим
материалом и многочисленными новыми примерами из ряда
языков, в том числе тех, к которым автор не обращался в
первом издании.
Еще одно важное отличие второго издания — его язык.
Учитывая интерес, проявленный к первому изданию не только
специалистами-филологами, автор счел возможным, не снижая
теоретического уровня, несколько упростить терминологию и
вообще сделать содержание книги более доступным широкому
читателю.
шштшшшшш
ВВЕДЕНИЕ
Общеизвестно, что в современных науках, изучающих
человеческий язык, наметился определенный поворот от изучения
языка самого по себе к изучению языка в говорящем
коллективе. Разумеется, по-прежнему изучается и «просто язык»,
но теперь больше внимания уделяется не речи человека, а
говорящему человеку. Речь предпочитают рассматривать как часть
деятельности человека. Все большее значение отводится
лингвистике, ориентированной на взаимоотношения человека и
окружающего его предметного мира. Это прежде всего психо-,
социо- и этнолингвистика.
Вот и в данной книге ставится задача выяснения некоторых
проблем соотношения лингвистических и нелингвистических
(«экстралингвистических») факторов, влияющих на
эмоциональную нагруженность текста, его культурологическую специфику.
В первую очередь нас будет интересовать связь между
словесным выражением человеческих эмоций и эмоциональной
разрядкой индивида. Самое прямое отношение к этому имеет
изучение национально-специфического фона, на котором
происходит эмоциональная нагрузка речи: ведь очевидно, что
различия в выражении эмоций не могут не находиться в
зависимости от их национальной формы.
Как справедливо пишет Т. Джей, общее отношение
исследователей языка прошло от бихевиористской стадии
восприятия человека как лабораторной крысы до восприятия его
когнитивными психологами как компьютера. Однако, отмечает
исследователь, в результате такая «компьютерная модель»
утратила очень важный языковой компонент — эмоцию. Бихе-
виористы, по крайней мере, пользовались животными, которые
могли испытывать боль, обнаруживать страх, чувствовать удо-
7
вольствие и вообще вести себя так, будто их поведению была
присуща какая-то мотивация. Теперь же язык стал
восприниматься просто как некая система, которую можно заложить в
компьютер, в машину, лишенную эмоций по определению;
таким образом, если нет эмоций, нечего и включать в модели
речевых процессов (Jay 1999: 46—47). Между тем, как
справедливо замечает несколько ниже тот же исследователь,
человеческая речь в любой ее разновидности не является полностью
контролируемым процессом. Даже спокойное
безэмоциональное говорение обусловлено веками сформированными
условностями, особенностями национально-специфического развития.
В еще большей степени это относится к речи эмоционально
нагруженной и тем более — к речи бранной. Человек, как
правило, не в состоянии ни вызвать в себе по первому требованию
нужную эмоцию, ни остановить ее (Jay 1999: 73—74).
Разумеется, речь здесь не идет о симуляции, к какой прибегают,
например, актеры, политики или проповедники.
Можно говорить о том, что данная книга имеет отчетливую
психо-, этно- и социолингвистическую направленность, потому
что в ней предпринимается попытка найти связь исследуемых
языковых явлений с явлениями окружающего мира. Для
достижения этой цели необходимо было подобрать наиболее
убедительный материал, найти его место в системе общения, а
затем заняться поисками практических решений, вытекающих
из теоретических посылок, что, в свою очередь, позволило бы
дать определенные общие рекомендации
специалистам-практикам, заинтересованным в оптимизации эмоционального
воздействия. В этой связи в дальнейшем можно было бы говорить
о поисках конкретной методики такого воздействия.
Все это вызывает необходимость изучения прагматического
аспекта возбуждения, выражения и восприятия эмоций.
Совершенно очевидно, что спектр соответствующих
возможностей человека весьма богат и разнообразен и в ходе конкретного
исследования целесообразно остановиться на каком-то конкретном
средстве. В настоящей книге в качестве исследуемого материала
была избрана так называемая инвективная [бранная) лексика, то
есть способы выражения инвективного обращения людей друг к
другу в разных языках и культурах.
До сих пор инвективная лексика мало подвергалась
серьезному, достаточно основательному анализу за рубежом и
практически не изучалась в России. Между тем она представляет
большой интерес как важное средство реализации связи
между словесным выражением эмоций и необходимостью эмо-
8
циональной разрядки. Вместо традиционного описательного
подхода автор попытался при изучении этой лексики перейти
к системному описанию инвективы как особого лексического
типа, интерпретация которого неотъемлема от
культурно-исторического и национально-специфического контекста.
Нет необходимости доказывать русскому читателю
чрезвычайную актуальность этой темы. Любому нашему
современнику, даже и неспециалисту, очевидна насущная необходимость
поиска глубинных факторов, влияющих на возможность
диалога в нашей многонациональной, характеризующейся
наличием многих культур стране, современная история
которой изобилует конфликтами и многочисленными
примерами взаимного непонимания. Растущие же международные
контакты России делают еще более своевременной
необходимость правильного восприятия иноязычной речи.
Поскольку в дальнейшем разговор пойдет о брани, а
значит, об употреблении слов, не одобряемых общественной
моралью, а то и просто запрещенных (табуированных),
возникают дополнительные проблемы. Общеизвестно, что в ряде
западных стран бурно идет процесс снятия многих
общественных запретов-табу на произнесение определенных слов и
совершение ряда поступков. Ныне столь же бурный процесс
развивается и среди славянских культур. Отсюда возникает
необходимость как-то определиться, выработать правильное
отношение к связанным с этим языковым и этическим
вопросам. Прежде всего, это выработка стратегии и тактики
борьбы с насыщением речи бранной лексикой, в первую
очередь — с лексикой, еще недавно полностью запрещавшейся.
Время от времени в средствах массовой информации
появляются протесты против проникновения грязной ругани в
печать, на радио, в телевидение и т. д., но все эти протесты очень
слабо аргументированы и излишне эмоционально насыщены.
Очевидно, что настало время для более взвешенного анализа.
Бранный язык занимает свое место в языке любой
культуры, и поэтому исключение его из рассмотрения, конечно,
позволяет языку выглядеть более вежливым, но одновременно и
увечным, лишенным одной из существенных функций —
выражения негативных эмоций в самом крайнем виде. Обидеть
ближнего можно и без применения брани, но именно брань, по
определению, составляет список наиболее резких слов во всем
национальном словаре. Поэтому сильная эмоция, выраженная
относительно вежливо, — это совсем не то, что сильная эмоция,
выраженная с помощью сильных же выражений.
9
Для более успешного хода исследования, очевидно,
необходимо уточнить понятие нормы. Как известно, именно
восприятие определенных слов как запрещаемых, табуированных
служит одним из критериев того, что есть норма и что нормой
не является.
Наконец, существует возможность прикладного
использования материалов исследования в смежных дисциплинах —
например, в социологии, где с их помощью можно изучать
эмоциональную атмосферу производственной подструктуры, и
возможность выбора нужной стратегии и тактики поведения.
Другими словами, создаются условия для изучения систем
управления. Известно, что научное разрешение
эмоционального конфликта приводит к меньшим потерям. Более того, в
некоторых случаях умело контролируемый конфликт может
оказаться даже полезным. Здесь, как и повсюду, подобные
изыскания способны помочь в преодолении установившихся
стереотипов, согласно которым работник ошибочно рассматривается
как стандартная функциональная единица. Ведь бранные
слова призваны отнюдь не только обозначать оппонента (или
окружающие предметы), как, допустим, «говно», «сукин сын»
или «жид». Выбор того или иного слова характеризует личность
самого говорящего, ярко обрисовывает его внутренний мир, его
идеалы и антипатии.
Кроме того, данное исследование может найти применение
и в лексикографии, и в практике переводов на другой язык
эмоционально окрашенных слов, а следовательно — на язык другой
национальной культуры. В прямой связи с этой возможностью
находится и другая — изучение речевого поведения чужого
этноса или социальной группы.
В качестве источников исследуемого материала послужили
художественные тексты на русском, английском и немецком
языках, сведения из специальной научной литературы на
русском, английском, немецком, французском, итальянском и
японском языках по целому ряду западных, восточных и
африканских языков и культур (см. список литературы в конце
книги), а также и особенно — опросы информантов,
представителей большого числа национальных культур. В результате
автору удалось получить (с разной степенью полноты) сведения
о построении инвективной стратегии и тактики в
приблизительно пятидесяти — шестидесяти языках и культурах
(самых различных семей, групп и подгрупп).
Глава 1
ИНВЕКТИВНАЯ АГРЕССИЯ
В РЯДУ СРЕДСТВ
ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ
1.1. Инвектива как основной объект
исследования
«Словарь иностранных слов» (1992) определяет инвективу
так:
ИЕБЕКТИВА [лат. invectiva (oratio) бранная (речь)] — резкое
выступление против кого-либо, чего-либо, обличение; оскорбительная речь (СИС
1992: 233).
Представляется, однако, что в качестве лингвистического
термина инвективную лексику можно определить более
жестко, как тот раздел общенационального словаря, который, с
одной стороны, некодифицирован (не разрешен к
использованию в лингвокультурной ситуации), а в крайней своей части
даже категорически запрещен (табуирован); с другой стороны,
он должен быть известен всем носителям языка в данной
социальной (под)группе.
Определенная часть инвектив могла бы характеризоваться
как такая подгруппа лексики, которая в словарях обычно
помечается как «нецензурная». Однако в последнее время в
статусе инвективной лексики произошли серьезные изменения,
которые в значительной мере лишают эту помету смысла. В
самом крайнем случае можно говорить о том, что в некоторых
социальных группах соответствующая лексика «не принята»,
«не разрешена», ее употребление осуждается, она считается
вульгарной. Однако существуют достаточно многочисленные
подгруппы, в которых инвективизированная речь — обычная
норма. Есть даже небольшое число подгрупп, где в
определенных случаях инвективы обязательны.
Еще более важно, что даже в цивилизованных культурах
европейского типа часть инвективной лексики никогда не та-
буировалась, оставаясь относительно приемлемой в болыпин-
11
стве ситуаций и социальных групп; разумеется, приемлемой в
той мере, в какой позволительно говорить о «приемлемости»
агрессии вообще и словесной агрессии — в частности.
Таким образом, существует некий национальный инвек-
тивный список, содержащий, с одной стороны, слова
общеизвестные, но осуждаемые в большинстве субкультур данной
национальной культуры [рус, «Хуй!»), а с другой стороны —
слова относительно приемлемые в некоторых речевых
ситуациях [рус. «Глупец!»).
Разумеется, понятие «относительной приемлемости» само по
себе, в силу непрерывности инвективной ленты, не может не
быть расплывчатым. В конце концов, нарушить то или иное
социальное, этическое табу можно и разрешенным способом:
вместо оскорбительной инвективы в адрес человека, плохо
делающего свое дело, — «Сапожник!» — можно сказать то же
самое, но не прибегая к инвективе:
Сюжет по дарованью и по силам
Умея для картины выбирать,
Художник хорошо владеет... шилом. —
Тьфу! — кистью — я хотел сказать!
(Д. Д. Минаев. Эпиграмма
на картину «Сапожник».)
Вполне можно обругать человека и «собакой», не боясь при
этом судебного преследования, как это делает И. Иртеньев в
стихотворении «Клеветнику»:
Тебе отпущено немного,
Так задирай, лови момент,
Свою завистливую ногу
На мой гранитный постамент!
Ср. также анекдот:
Машина писателя столкнулась с грузовиком, и водитель грузовика
откровенно высказал писателю все, что он о нем думает. Когда он на
секунду замер, чтобы перевести дух, писатель промолвил: «Я не могу,
молодой человек, прибегнуть к той живописной терминологии, которую
применяете вы. Но вот что я вам скажу: надеюсь, что, когда вы сегодня
вернетесь домой, ваша мать выскочит из подворотни и вас как следует
искусает» (Санников 1999: 399).
Пример гораздо более острой ситуации. Сказать «Твоя
жена тебе изменяет!» — это уже «резкое выступление <...>
обличение», т. е. инвектива в широком смысле слова. Тот же
смысл, вербализованный в виде сильнейшего итальянского
12
оскорбления «Cornuto!» («Рогоносец»), — безоговорочно табу-
ируемая в определенных ареалах инвектива в узком смысле
слова.
Уже из приведенных примеров видно, что инвектива, как
правило, носит культурно-обусловленный характер. Поэтому
соотношение кодифицированный — некодифицированный
[разрешенный — неразрешенный) всегда национально-специфично.
То, что в одной культуре можно определить как «слабо
кодифицированное», разрешаемое в ограниченном количестве
ситуаций, в другой культуре является некодифицированным,
категорически запрещенным в любой ситуации.
Если инвективу в узком смысле следует отграничивать от
инвективы в широком смысле, т. е. от любого словесно
выраженного проявления агрессивного отношения к оппоненту, то
ее нужно также отличать и от эксплетивного (междометного,
«восклицательного») употребления некодифицированного
словаря, а также от сходного по звучанию просторечного вока-
буляра (набора слов, объединенных конкретной темой или
личностью, этим набором владеющей). Ниже об этом будет
сказано подробно. Существует принципиальная разница между
вульгарным восклицанием типа «Блядь!» и сознательным
оскорблением женщины «Ты просто блядь!». Первое носит
почти бессознательный рефлективный характер: человек может
механически воскликнуть «Блядь!», поняв, что опоздал на
поезд, или уронив на ногу тяжелый камень. Второе же носит, так
сказать, стратегический характер, когда то же самое слово
выбрано сознательно и предназначено именно для того, чтобы
оскорбить собеседника.
Таким образом, инвективу в узком смысле слова можно
определить как способ существования словесной агрессии,
воспринимаемый в данной социальной [под)группе как резкий или табу-
ированный. В несколько ином ракурсе инвективой можно
назвать вербальное [словесное) нарушение этического табу,
осуществленное некодифицированными [запрещенными)
средствами.
Что побуждает человека сопровождать свою речь инвек-
тивной лексикой? И что порой заставляет человека от такой
лексики воздерживаться? Т. Джей предлагает удачную таблицу
психологических мотивов, стимулирующих или, наоборот,
сдерживающих инвективизацию речи. Вертикальные стрелки
указывают направление усиления или снижения
мотивированности и, соответственно, усиления или уменьшения
тенденции к сдержанности:
13
Слабая мотивированность — Сильное самоограничение
ι »сильная религиозность; а
• очень высокий уровень морализаторства с элементами
авторитарности;
•высокий уровень тревоги за сексуальное здоровье;
•средний возраст;
•принадлежность к среднему классу;
•высокая степень самоконтроля;
•нормальное сознание;
•память о наказаниях за произнесенную брань;
• интровертированность;
| · отсутствие инвективной ролевой модели. |
Умеренная мотивированность
ι · подростки; а
•умственные расстройства, девиантное поведение;
•слабая религиозность;
•высокий моральный уровень, освободившийся от общих догм;
•низкая степень тревожности за сексуальное здоровье;
•отсутствие самоконтроля;
• измененное (под влиянием алкоголя) сознание;
•память о поощрениях за произнесение брани;
• экстравертированность;
•наличие инвективной ролевой модели;
j · импульсивность. I
Сильная мотивация — Слабое самоограничение
(Jay 1999: 88).
Совершенно очевидно, что инвективное словоупотребление
имеет прямое отношение к понятию жаргона (арго). Однако
если вокабуляр инвективы и вокабуляр арго могут частично
совпадать, то функции их совпадают не полностью. Функции
инвективы будут рассмотрены в разделе 1.14. Здесь лишь
отметим, что если основная цель арго — обособление данной
социальной группы от всех остальных, то для инвективы это
всего лишь одна, и притом не первостепенная по важности,
функция.
Кроме того, арго — это активно изменяющийся слой, из
которого постоянно уходят и в который постоянно приходят
слова и выражения. Инвективная лексика в своей основной
части меняется крайне редко. Никто не знает, сколько
столетий существует русский мат, совершенно точно известно,
что в XVI — ХУЛ вв. он существовал в том самом виде, в
каком существует сейчас.
Понятию «инвектива» ссютветствует в каждом языке целый
синонимический ряд: брань, сквернословие, ругань, по-
14
ношение, хула, злопожелания, матерщина и т. д. В
древнерусском языке существовало сочетание «злая бесстудная (т. е.
бесстыдная) лая». Соответственно — «лаяться» — «ругаться»,
«браниться».
В английской речевой практике различают такие группы,
как «oath» — богохульство или любое проклятие; «profanity» —
богохульство, непочтительное выражение, вульгаризм; «blasphemy» —
богохульство; «imprecation» — проклятие; «curse» — ругательство
в общем смысле (иногда богохульство); «execration» —
проклятие (ощущается связь с понятиями «омерзение» и
«ненависть»); «vituperation» — поношение, хула, брань (уст.);
«malediction» — словесное выражение злобы {уст.); «swear» —
богохульство, ругательство в общем смысле; «cusswords» —
ругательство в общем смысле, и т. д.
Особый интерес представляет английское слово «swear»,
выступающее одновременно как глагол и как существительное.
Добавленный предлог или союз очень сильно меняют смысл
слова. «То swear at..» означает «обругать, обозвать кого-либо»;
«to swear that...» — «поклясться, что...», «побожиться»; «to
swear to (do smth)» — «поклясться сделать что-либо»,
«побожиться (что сделаешь что-либо)»; «to swear by» — «поклясться
чем-либо» («Клянусь честью!»); просто «to swear» — «выругаться».
Таким образом, в английском языке есть отдельное слово,
объединяющее русские понятия «ругать», «ругаться»,
«божиться» и «клясться». Как будет показано в данной книге, для
объединения этих понятий имеются основания, но русскому понять
это достаточно сложно, прежде всего по причине отсутствия
слова, эквивалентного «swear».
Другое интересное слово в английском списке — «profanity».
Т. Джей (Jay 1992: 3, 75) предлагает различать «cursing»,
«blasphemy» и «profanity». Первое (= проклятие) призывает на
голову оппонента гнев богов; второе (= богохульство) выражает
агрессивное отношение к религии и вере, это выражение
непочтения или презрения к священным, сакральным понятиям.
Сюда относится, например, упоминание имени Бога всуе или
проклятие в Его адрес. Обязательное условие богохульства —
говорящий хорошо понимает, что делает. Примеры Т. Джея:
«Screw the Pope!», «Shit on what it says in the Bible!» (приблиз.
«Ебал я твоего Папу!», «Насрать мне на все, что понаписано в
Библии!»).
Что же касается «profanity», то это слово обычно считается
синонимом «blasphemy» и переводится на русский язык тоже
как «богохульство». Однако значение слов «профанация» или
15
«профанный» (= земной, обыденный, светский) помогает понять
здесь разницу. «Profanity» — снижение религиозного образа,
приземление его, часто по невежеству. В отличие от
«blasphemy», говорящий не задумывается здесь о священных
понятиях, для него они просто мало что значат. Русский мат —
это скорее «profanity», чем «blasphemy», хотя исторически
перед нами богохульство. Даже когда человек произносит что-
нибудь вроде «Еб твою в бога мать!», он явно не думает о
точном смысле своего кощунственного возгласа. В подобных
выражениях, равно как и в «Ей-богу», «Ну тебя к богу!» и т. п.,
слово «бог» правильнее писать с маленькой буквы. Ср.: в
английском языке имя «Jesus» («Иисус») пишется, естественно, с
заглавной буквы, но в составе ругательства оно чаще выглядит
как «Jesus». Вероятно, стоит ввести в список русской
терминологии слово «профанизм» — использование религиозной
терминологии в сниженном, профанном (но не богохульном)
смысле.
Стоило бы различать и вовсе бессмысленное употребление
священных понятий в качестве эмоционально нагруженных
восклицаний, когда автор не отдает себе отчета в этимологии
говоримого. Подобный пример приводит известный нейро-
психолог X. Джексон (H.Jackson): когда коммунистический
оратор, пишет он, восклицает: «Слава богу, я атеист!» — его
хорошо понимают слушатели, для которых «Слава богу!»
никакого отношения к религии не имеет, а представляет собой
лишь клишированную фразу (цит. по: Jay 1999: 37). В данном
случае «богу» следует писать с маленькой буквы, хотя если
передается речь верующего человека, то «Слава Богу!» — это
уже молитва, и слово «Бог» имеет другой — священный —
смысл, откуда и другое правописание.
Думается, впрочем, что разница между «blasphemy»,
«profanity» и бессмысленными восклицаниями нередко очень
условная, и отличить одно от другого нелегко. Во всех
случаях перед нами неуважение к религии и чувствам
верующих и, стало быть, богохульство — пусть даже в разной
степени концентрированности. В любом случае, Церковь
осуждает всякое упоминание священных понятий без особой
на то нужды.
В итальянском языке можно выделить, например, «inter-
iezione», «esclamazione» — восклицания, междометия; «bestem-
mia», «empiéta» — богохульства; «offesa», «improperio», «cohtu-
melia», «insulto», «vituperio» и т. д. — брань, ругательства во всех
своих разновидностях.
16
Использовать подобные наименования в качестве элементов
классификации не представляется возможным, так как они
образованы по различным основаниям и нередко
накладываются друг на друга. Различные классификации инвективного
словоупотребления будут предложены ниже.
1.2. Литературные данные
Список исследований, специально посвященных инвек-
тивной лексике, невелик. Однако все же существует ряд
монографий и статей на эту тему. Подавляющее большинство из
них — либо на материале английского языка, либо специально
для англоговорящего читателя.
Из наиболее ранних исследований можно назвать, в
частности, небольшую книгу Р. Грейвза (Graves 1927),
представляющую собой скорее эссе на данную тему, содержащее
несколько примеров из различных языков мира, из латинских
авторов, а также интересные образчики из английского языка
прошлых веков и его диалектов. Научная ценность книги
невелика, но она обращает на себя внимание как смелая
попытка обсуждать тему, считавшуюся в начале XX в. полностью
табуированной.
Приблизительно такой же характер носят также небольшие
книги Б. Джонсона (Johnson 1948) и М. Маршалл (Marshall
1975), Р. Адамса (Adams 1977) и Э. Сагарина (Sagarin 1969).
В 1989 г. в США вышло наиболее значительное исследование
англоязычных инвектив X. Роусона (Rawson 1989), содержащее
очень краткое историческое предисловие и добросовестный
анализ происхождения, развития и современного состояния
наиболее распространенных ругательств, оскорблений и т. д., включая
сниженные и до недавнего времени абсолютно табуируемые в
печати слова и выражения. Это исследование выгодно
отличается от вышеупомянутых изданий исчерпьшаюпщм характером
этимологического, исторического и литературного анализа
нескольких сотен инвектив самого различного уровня табуирован-
носги, а также обращением к большому количеству ранее
опубликованной литературы, посвященной жаргонам, языку
преступного мира и т. д.
Приблизительно такая же по объему монография написана
на материале французского языка Р. Эдуардом (Edouard 1983).
Она состоит из теоретической части и комментированного
словаря соответствующей лексики. Однако назвать первую часть
теоретической можно только условно, поскольку она написана
17
в легком (чтобы не сказать легковесном) научно-популярном
стиле и практически не содержит серьезных научных выводов.
Такой же характер носит книга У. Нанни (Nanni 1953),
исследующая инвективный вокабуляр итальянского языка.
Структура итальянской и французской книг полностью совпадают.
Они безусловно могут быть использованы как источники
примеров и этимологические справочники.
Намного серьезнее выглядит монография немецкого
исследователя Ф. Кинера (Kiener 1983), построенная в основном на
материале немецкого языка, в том числе немецких диалектов,
но прибегающая и к обширному материалу из многих других
языков, в значительной части заимствованному из книги
И. Гаврана (Gavran 1962) и его же статьи (Gavran 1972),
написанных на сербскохорватском языке. В монографии Ф. Кинера
содержится ряд глубоких наблюдений и верных выводов
относительно сущности инвективной коммуникации, ее связи с
понятиями катарсиса и агрессивности, приводится ряд
интересных социологических наблюдений и статистических данных.
Впрочем, рядом с этой книгой по достоинству должен
занять свое место и труд Д. Хьюза (Hughes 1991), где история
вопроса подвергается самому тщательному анализу, правда,
исключительно на материале английского языка.
Наконец, в последние годы появились две книги
американского нейропсихолингвиста Т. Джея (Jay 1992; Jay 1999),
выдвинувшего «нейропсихосоциальную теорию речи» (Jay 1999), в
которой бранная лексика заслуженно занимает вполне
определенное место. Обе его книги представляют собой наиболее
основательное на сегодняшний день, подлинно научное
исследование инвективного языка, использующее новейшие методы
изучения и самые последние экспериментальные данные. С
появлением книг Т. Джея инвективный язык окончательно
вышел из научной тени и занял столь же достойное место, что
и, допустим, этикетный «куртуазный» язык или
профессиональный жаргон. Для отечественных исследователей данной
темы книги Т. Джея представляют дополнительный интерес,
так как большое количество книг и статей, использованных
автором, в России недоступны, что заставляет ссылаться на него
и тогда, когда тот или иной материал принадлежит другим
авторам. Правда, обширная библиография, составленная им,
содержит литературу только на английском языке, и, таким
образом, автор строит свою теорию на материале лишь одного
языка, что не дает возможности выстроить межкультурные
обобщения.
18
Несомненную пользу исследователю оказывает целая серия
сравнительно недавно вышедших книг, посвященных инвек-
тивной практике испанского, французского, немецкого и
японского языков (Cunningham 1995, Berger 1995, Genevieve 1995,
Delicio 1993). Это практические пособия для молодых туристов,
не претендуюпще на научность, но содержащие интересный и
удачно прокомментированный инвективный материал.
Кроме монографий, следует упомянуть ряд статей, часть из
которых перечислена в конце настоящего исследования.
Наиболее значительными из них являются статьи: Forster 1949;
Baudhuin 1973; Bostrom е. а. 1973; Foote, Woodward 1973, и
некоторые другие. Полезный материал содержится в
выходящем в США с 1977 г. журнале «Maledicta: The International
Journal of Verbal Aggression». Значительное место здесь
занимают серьезные научные исследования, но прежде всего он ценен
как источник обильного фактического материала, «полевых
наблюдений», выполненных в самых разных уголках земного
шара. Значительная часть соответствующих примеров
использована нами.
Безусловный интерес представляют словари вульгаризмов,
например, англоязычный словарь Р. Спирса (Spears 1982),
словарь оскорбительных прозвищ различных национальностей
А. Робака (Roback 1944) или словарь немецкоязычных
непристойностей Г. Хунольда (Hunold 1978).
Неоценимую помощь в сборе необходимого материала
оказывали и оказывают автору его коллеги из разных стран.
Среди последних важных сведений, полученных по почте, следует
отметить обширный материал, присланный Дж. Томсеном,
филологом с Фарерских островов, которому мы выражаем
искреннюю признательность. Переданные им записи по
фарерскому языку публикуются впервые.
В качестве обильного источника все чаще выступает
Интернет. В частности, ценный материал по шведскому,
голландскому, тагальскому и другим языкам для второго издания
книги удалось получить именно таким способом.
Исследований на материале русского языка особенно мало.
Можно упомянуть статьи А. В. Исаченко (Ьасепко 1964, на фр.
языке), Ф. Дрейзина и Т. Пристли (Dreizin, Priestley 1982, на
англ. языке), Б. А. Успенского (1983, 1987, на рус. языке),
небольшие книги фон Тимрота (Timroth 1983, на нем. языке) и
Фумио Уда (Уда Фумио 1971, на яп. языке), а также несколько
словарей русской непристойной лексики (например: Dram-
mond, Perkins 1980; Кудрявцев, Куропаткин 1993, и некоторые
19
другие). В 1994 г. появился интересный сборник статей «Дом
бытия», целиком посвященный русскому мату. Тому же
предмету посвящена антология «Русский мат» (1994), снабженная
подзаголовком «Для специалистов-филологов». В 1995 г. под
псевдонимом Василий Буй вышел «Веселый словарь крылатых
выражений». Несмотря на несколько игривое название, это
весьма серьезное и очень добросовестное описание большого
числа русских непристойных идиом с огромным количеством
хорошо подобранных примеров. В 1996 г. появился сборник
статей «Анти-мир русской культуры» — одно из действительно
серьезных изданий, содержащее наряду с известными работами
(в том числе уже упоминавшейся несколько дополненной для
данного издания работой Б. А. Успенского) хорошо
аргументированный новый материал. В 1997 г. вышел
сборник-подборка материалов «Блуд на Руси» (автор-составитель
А. Манаков), содержащий очень полезные выдержки из трудов
ведущих русских историков, этнографов, философов,
писателей, а также иностранных путешественников. Слово «блуд»
понимается составителем широко, прежде всего как
«уклонение от прямого пути», что фактически превращает данную
книгу в интересный источник сведений о нравах и обычаях
русского народа.
Все перечисленные монографии, статьи, словари и сборники
вносят существенный вклад в исследование «русской темы».
Статья А. В. Исаченко обращает внимание на совершенно
забытые лингвистами записки путешественника по России XVI в.
3. де Герберштейна, позволяющие по-новому взглянуть на
некоторые этапы развития русских непристойных инвектив и
объяснить основные современные формы мата. Обширная
статья Ф. Дрейзина и Т. Пристли дает глубокий анализ чисто
лингвистической стороны вопроса. К сожалению,
психолингвистическая часть проблемы остается за пределами внимания
исследователей. Книги фон Тимрота и Фумио Уда сравнивают
русские наиболее грубые инвективы соответственно с немецкими
и японскими, что позволяет сделать некоторые
предварительные выводы относительно наштонально-специфической
природы инвективного словоупотребления.
Но наиболее интересными представляются две статьи
единого цикла, опубликованные Б. А. Успенским (переизданы в
его двухтомнике 1994 г. и уже упомянутом «Анти-мире
русской культуры» 1996 г.). На огромном фактическом
материале целого ряда славянских языков автор прослеживает всю
историю русской матерной инвективы — от зарождения языче-
20
ской религии первых славян до современного ее состояния. К
сожалению, ограниченность исследования только славянским
материалом не позволила сделать выводы относительно
места этой инвективы в инвективной стратегии и тактике
человечества, но глубокие и точные наблюдения делают труд
исследователя одним из наиболее важных и подлинно научных в
данной области.
Наконец, упомянем две кандидатские диссертации: Бул-
даков 1981 (на материале немецкого языка) и Гридин 1976,
посвященные сниженной или экспрессивной лексике и имеющие
определенное отношение к исследуемой теме, хотя,
естественно, инвективная лексика занимает в этих диссертациях
сравнительно небольшое место.
Таким образом, из перечисленного списка очевидно, что
настоящая работа представляет собой практически первое
монографическое исследование инвективной лексики,
выполненное в России и построенное на материале нескольких
десятков языков, изучаемых на национально-специфическом
эмоциональном и культурном фоне.
1.3. Понятие табуированности
как источника инвективного
словоупотребления
Изучение инвективной лексики как средства
материализации эмоциональной стороны общения заставляет прийти к
выводу, что все соответствующие лексические ресурсы
сосредоточены вокруг создания различных социальных запретов-
табу. Число таких запретов велико; вместе с тем большое
число их группируется вокруг идеи человеческого «верха»,
ассоциирующегося с духовностью, и человеческого «низа»
(материальное, земное начало).
Другими словами, в значительной мере наша деятельность
контролируется табу как на упоминание сакральных понятий
(осуждается упоминание «всуе» самых священных имен —
названий божества, основных религиозных и общечеловеческих
святынь, использование этих имен в сугубо «мирских» целях и
т. д.), так и — тем более — на обращение к понятиям и,
соответственно, к названиям, связанным с человеческим «низом»
(различные человеческие органы и действия, имеющие в первую
очередь отношение к деторождению и удалению отходов
жизнедеятельности). Последний запрет особенно силен и
подкрепляется даже законодательно. Однако и первый и второй типы
21
табу находятся в теснейшей исторической и онтологической
связи.
С целью дальнейшего продолжения исследования
необходимо обратиться к некоторым общим проблемам табу на ряд
понятий и способов их словесного выражения.
Некоторые исследователи полагают, что в современном
обществе основная причина табуирования того или иного понятия
заключается в социальной условности поведения, в
общественно-обусловленных ограничениях, накладываемых на наши
поступки и мысли. Утверждается, что на сегодняшний день страх
перед таинственными темными силами уже не играет здесь
никакой роли — по крайней мере, в цивилизованных обществах
(ср.: Spitzbardt 1966: 106).
Это утверждение представляется неточным. Социальная
условность поведения современного цивилизованного человека
никак не может быть признана источником табу на
определенные факты, предметы, действия и их названия.
Абсолютно идентичные табу существуют и посегодня как в
цивилизованном обществе, так и в культурах самых отсталых народов.
Другое дело, что сами табу нередко отличались от нынешних. Для
дикаря упоминание имени мертвого человека могло означать
пожелание адресату умереть, и, естественно, употребление
такого имени в общении категорически запрещалось. Кстати, и для
современного ребенка назвать собеседника «говном» может быть
равносильным попытке превратить его в экскременты. Другими
словами, дикари и дети рассматривают слово как магическое
оружие, способное нанести прямой физический вред. Нарушая
табу с помощью слова, они как бы овладевают окружающим
миром, научаются им манипулировать1. Что касается отсталых
народов, то табуированные названия определенных частей тела
зафиксированы, например, в языке австралийских аборигенов.
У племени тонга (Полинезия) существует специальный язык
капе-капе, вокабуляр которого в буквальном переводе мало от-
1 Что касается ребенка, то, до того как он научился «манипулировать
окружающим миром», он обычно выражает свои негативные эмоции
плачем. Ср. подпись под карикатурой из старого английского юмористического
журнала «Панч»:
Old lady. I shouldn't cry if I were you, young man.
Little boy. Must do sumping; I bean't old enough to swear.
В приблизительном переводе:
Старая дама. На вашем месте, молодой человек, я бы перестала плакать.
Маленький мальчик. А чиво мне делать-то? Я исчо маленький,
ругаться мне нильзя! (цит. по: Jay 1999: 91).
22
личается от обычного непристойного набора европейских
языков. В определенных обстоятельствах он даже считается
обязательным — прежде всего на тайных исключительно мужских
вечеринках. В других случаях, например в официальной
обстановке правительственного учреждения, он строжайше
запрещается (Feldman 1981: 147—148). Число подобных примеров легко
умножить.
Понятно, что чем прочнее взламываемое табу, тем резче
возбуждение как реакция на него; иными словами, сила
возбуждения прямо пропорциональна опасности нарушения табу.
Отсюда очевидная историчность некоторых инвектив, с помощью
которых табу нарушается: общеизвестно, что в разные
периоды истории человечества сила того или иного табу была
неодинакова, а стало быть, неодинаково было и возбуждение, т. е.
выразительность соответствующей инвективы.
Так, в Средние века в Европе более всего осуждалось
богохульство, прежде всего — клятвы Телом Господним и
различными Его частями, ибо все были уверены, что богохульнику
грозит за это обречение на вечные адские муки; удивительно
ли, что именно инвективы типа «Клянусь ранами Господа
нашего!» и были тогда более всего распространены и почитались
предосудительными всем обществом, в том числе (а может быть,
даже прежде всего) самим сквернословом. (См. об этом ниже.)
Первые жестокие наказания за сквернословие были
исключительно наказаниями за богохульства. Позже наказания
автоматически были перенесены на пользующихся новыми
оскорбительными слоями лексики. Таким образом, сложилась даже
довольно странная ситуация: наказания предусматриваются за
один проступок (хула на Бога), а фактически накладываются за
другой (например, обвинение в сексуальных отклонениях —
«пидор!»); впрочем, все это не так уж и странно, если учесть,
что тут и там имеет место употребление запрещенной лексики.
Уменьшение роли религиозности в цивилизованном
обществе привело к известной смене основных сюжетов инвективы,
которая стала более «светской». В частности, одно из ведущих
мест закрепилось за табу на вопросы интимной жизни человека
и телесной нечистоты, которые до этого мало или совсем не
табуировались. Общеизвестно, что первобытный человек,
находившийся к природе гораздо ближе современного, не знал
стыда в современном понимании слова и, следовательно, не мог
выделять какие-то особые «стыдные» части тела.
Но дело не ограничивалось спокойным отношением к
вещам, воспринимаемым сейчас исключительно эмоционально.
23
Совершенно свободные отношения полов могли
рассматриваться как в высшей степени высокоморальные. Ни о какой
«безнравственности» не могло быть и речи: мы имеем дело с
нравственностью, но существенно отличной от современной.
Для человека, выросшего в условиях первобытных культов,
многочисленные понятия, связанные со смертью и рождением,
а значит — едой, питьем, отправлением естественных
потребностей, совокуплением, зачатием, родами и т. д., суть лишь
явления одной непрерывной цепи священных, сакральных
событий.
Особое место во всех древних верованиях занимают так
называемые фаллические1 культы, связанные с почитанием
бога плодородия. Те или иные следы этих культов обнаружены не
только в Европе, но и в религиях Японии, Китая, Индии,
Тибета, Египта, североамериканских индейцев, Мексики,
Центральной и Южной Америк, Африки. Многочисленные факты,
свидетельствующие о всемирной популярности этих культов,
приведены в справочниках, энциклопедиях, монографиях,
посвященных данному вопросу. Индийский бог Шива носит
научное название «Deus Phallicus», то есть фаллическое божество. В
Малой Азии фаллический культ существовал в виде почитания
Великой Матери богов, символизировавшей земное
плодородие. Тесно связанными с фаллическими культами были
культы Осириса в Египте, Адониса в Финикии, Диониса в Греции.
Изображения дионисийских фаллических торжеств часты на
древних вазах. Подобные изображения, появись они на
современных предметах, были бы безоговорочно признаны
порнографическими. Герой одной пьесы Аристофана поет гимн
фаллу в честь Диониса. Название гимна — «дифирамб» —
возводится некоторыми учеными к шумерскому слову, означающему
«песнь, возбуждающая мужской член». В Риме существовала
специальная церемония «фаллофория», когда по улицам
проносили многометровые изображения фалла. Известны
изображения фалла в Александрии (52 метра) и в Финикии (два
фалла по 48 метров). В древней Этрурии фаллы ставили
вертикально на месте погребения как символ бессмертия души. Позже
натуралистические изображения были заменены обелисками —
с тем же значением.
Одной из особенностей нравственности древнего человека
было убеждение, что от него требуется посильная помощь в
Фаллический — от «фал» (греч. «фаллос», лат. «фаллус») — мужской
половой орган в возбужденном состоянии.
24
деле творения. Такая помощь рассматривалась как величайшая
миссия, наиболее значительное деяние индивида как члена
социальной группы, как священный (сакральный) акт. Понимание
этого обстоятельства необходимо для объяснения
возникновения и развития значительной части инвективного вокабуляра,
поскольку первоначально соответствующие наименования
несомненно входили в состав нейтрального или даже сакрального
словаря.
Согласно одной из самых ранних древнеиндийских
философских систем, человек обладает десятью внешними
органами: пятью общеизвестными органами восприятия и пятью
органами действия: рот, руки, ноги, орган выделения и орган
размножения (Чанышев 1981: 89). В этом перечислении
показательно, что органы выделения и размножения, то есть
именно те органы, названия и функции которых послужили основой
для возникновения большей части наиболее грубой инвектив-
ной лексики, спокойно перечисляются в одном ряду с руками
и ногами. Рот и нос занимают в этом списке промежуточное
положение, так как в ряде культур (например, мусульманских,
требующих ношения паранджи) они рассматриваются ближе к
«неприличным» отверстиям человеческого (особенно женского)
тела.
Между тем обычной ошибкой исследователей является
невольный взгляд на подобное соотношение с позиций морали
последних веков. Именно этим объясняется, что обозначения
определенных древних ритуалов и празднеств («храмовая
проституция», «оргия», «вакханалия») сегодня воспринимаются
в резко отрицательном смысле. Очевидно, впрочем, что те же
оргии, с одной стороны, и ритуальные воздержания — с другой,
представляли собой фактически только два
противоположных средства для достижения одной и той же священной
цели — зачать вместе с природой или вместе с природой
сохранить силы для воспроизводства в дальнейшем. Другими
словами, оргия — столь же достойное действие, что и
воздержание, против которого, однако, ни один моралист как будто
бы еще не выступал. Ср.:
Никакого понимания первобытных условий не может быть до тех пор,
пока их рассматривают через очки дома терпимости (Энгельс 1980: 39).
В Италии фаллические культы пережили период
христианизации и возродились в Средние века в виде мистерий, где,
однако, они предстают уже как отрицательное адское
торжество; позднее культ фаллоса отразился в комедии дель-арте.
25
Не была чужда фаллических культов и Древняя Русь.
Отдельные пережитки соответствующих верований сохранялись
еще в XIX в. в виде обычая катать священника по земле в
процессе молебна о плодородии. Этнографы связывают этот
обычай с древним обрядом совокупления жреца с матерью-землей.
И уж совсем недавно можно было присутствовать при обычае
сеять репу ночью в обнаженном виде.
Фаллические культы привели к появлению в религиях и
народном сознании огромного количества мужских и женских
символов. К мужским символам, например, относились
высокие камни, пальма, сосна, дуб, фиговое дерево, плющ
(благодаря тройной форме листа), мандрагора (благодаря форме
корня, напоминающего человеческое тело), большой палец,
вообще любой палец — символ Вела, Ашера или Махадева.
Гриб, рыло свиньи, черепаха до сих пор мыслятся японцами
как фаллические символы.
Женскими символами могли быть: дырка в земле,
расщелина в скале, глубокая пещера, миртовое дерево (благодаря
форме листа), дельфин или лобан (благодаря издаваемому
крику), бобы, персики, вообще любой темный уголок,
затененный густыми кустами. В некоторых странах соответствующие
изображения носили на своей одежде в античные времена и до
сих пор носят паломники и простые крестьяне (Италия).
Союз полов мог быть символизирован такими сочетаниями,
как меч и ножны, стрела и цель, копье и щит, плуг и борозда,
лопата и канава, столп у источника и мн. др.
Вот как обыгрывается еще одно такое сочетание в
древнерусской былине о Ставре Годиновиче. Жена переоделась
богатырем («грозным послом Василыошкой»), ее не узнает
собственный муж, и она подает ему «тонкий» намек:
А и не помнишь ли, Ставер да сын Годинович,
А мы с тобою сваечкой поигрывали,
А мое было колечко золоченое,
Твоя-то была сваечка серебряна,
Ты попадывал всегда всегда,
А я попадывал тогда сегды?
Правда, бестолковый муж все равно не понимает намека, и
мнимый Васильюшко прибегает к последнему средству:
Тут грозен посол Васильюшко
Вздымал свои платья по самый пуп:
И вот молодой Ставер сын Годинович
Признал кольцо позолоченное.
(Цит. по: Успенский 1996: 161-162.)
26
Как фаллические культы, так и оргиастические
празднества продолжали существовать и в период становления
христианства. В частности, пережили они и утверждение христианства
императором Константином. В Средние века культ фаллоса
был все еще распространен по всей Западной Европе. Известен
целый ряд церковных запретов этого культа, регулярно
повторявшихся из века в век с VIII по XIV столетие. Таким образом,
с одной стороны, эти культы осуждаются верхушкой Церкви,
с другой — еще в конце XIV в. это достаточно заметное
явление в духовной жизни Европы.
Существует и целый ряд фаллических интерпретаций
основных атрибутов христианской символики. Согласно
одной из них, вертикальная линия креста изображает мужское
начало, горизонтальная — женское. Перекрещиваясь, они
образуют Эрос — как его понимали платоники и фрейдисты,
то есть как стремление к единению, плодородию,
благосостоянию жизни.
Имеются и соответствующие интерпретации понятия
Троицы. Возводят к фаллическому культу также Т-образный крест,
который в дохристианские времена выражал идею созидания
и порождения. Принятие Христианской Церковью креста как
символа спасения было очень удачным жестом, который
облегчил усвоение этого символа верующими.
Встречаются также попытки возвести к тому же древнему
культу изображения различных плодов — символов
плодородия, змею, рыбу, крест на полумесяце, мальтийский крест,
королевскую лилию, глаз, колонны и их капители, иудейскую
шестиконечную звезду и мн. др. Существует много
доказательств, что христианские (иудейские) образы не отличаются
принципиально в этом плане от образов, принятых в других
религиях.
Однако наряду с подобным священным отношением к
производительному циклу развивается и прямо противоположная
тенденция. Уже в недрах древнего общества зреет
аскетическая оценка взаимоотношения полов. В греческой философии,
например, она заметна уже во времена дионисийских культов.
С приближением к нашему времени аскетизм становится
жестче.
Постепенно греки все более категорически отделяют «плоть»
от «духа», отдавая несомненное предпочтение духовному
началу. Телесный низ полагался менее ценным, буквально «низшим»
началом, телесные функции этически подчинялись функциям
духовным. У Платона хорошо видно отвращение, которое гре-
27
ки питали ко всякой победе чувственного над разумным.
Неоплатоники же вообще требуют полного аскетизма,
рассматривая плотские радости как «загрязнение».
Даже эротические сны подлежат осуждению. Ливии,
Плиний Младший и Тацит отзываются о дионисийских культах в
самых осуждающих тонах. В 186 г. до н. э. римский сенат
принимает специальное постановление «Сенатус консультум»,
приведшее к вынесению большого числа смертных приговоров
поклонникам вакханалий, разорению их алтарей и проч.
Слова «ductare» или «partare» запрещались потому, что Плавт или
Теренций употребляли выражение «ductare meretricem» в
смысле «иметь интимные отношения». Поэтому нельзя было сказать
«ductare exercitum» («вести войско») или «partare bella» («вести
войны»). Следовало избегать сочетания слов «cum nobis»,
поскольку, произнесенные слитно, эти слова напоминали
популярный вульгаризм.
Чисто медицинские названия элементов человеческого низа
тоже были табуированы, так как неприличными были
объявлены сами части тела. Полагалось, что они неприличны по
самой своей природе. Цицерон оправдывал такое отношение тем,
что Природа даже поместила соответствующие органы в
скрытом месте.
Морализаторская тенденция усиливается и в римских
театрализованных действах, особенно — в искусстве мимов.
Последнее для нас показательно: именно искусство мимов служило до
этого как раз обратному — демонстрации сниженного,
«земного» отношения к вопросам пола.
Победа этического ригоризма достигалась не без труда, и в
течение веков в рамках Римской империи сосуществовали
жизнерадостное язычество и аскетизм, который был принят на
вооружение утверждающимся христианством. Христианство
возвело жесткое неприятие фаллических культов на уровень
всенародной и единственно допустимой этики.
В результате возникают явления, иногда даже прямо
противоположные тем, коих требовали идеологи христианства. Это
особенно наглядно демонстрирует этика гностиков, чей
аскетический экстаз приводил к взрыву элементарной
чувственности, несправедливо воспринимаемой окружающими как
разврат.
Удивительно ли, что апогей древнехристианского аскетизма
совпадает с колоссальным развитием половой распущенности.
На это указывают все авторитетные знатоки церковной
истории, относя его к эпохе, начинающейся с 300 г. н. э.
28
Таким образом, есть все основания говорить о своеобразной
двойственности восприятия определенных явлений, когда в
одну и ту же эпоху на одном и том же (европейском)
пространстве крайняя степень половой свободы сосуществовала с
призывами к аскетизму, умерщвлению плоти, характерными
для Отцов Христианской Церкви, прежде всего св. Амвросия
(340—397) и св. Августина (354—430). Особенно важное место в
создании резко отрицательного отношения к радостному дио-
нисийскому восприятию жизни принадлежит последнему.
Переосмысливание фаллических церемоний и культов
хорошо прослеживается на примере развития образа Приапа.
Древнегреческий Приап, как и его аналоги в других религиях,
олицетворял творческую силу Природы, отчего его важным
отличительным признаком являлся огромный фаллос, который
нередко мог отсоединяться от скульптурного изображения
Приапа и участвовать отдельно в священных обрядах,
носиться на древке и т. п. Вероятно, еще в период своей наибольшей
славы сам Приап или его фаллос уже могли служить в качестве
оберега от сглаза и злых духов.
Однако одновременно — такой переход выглядит довольно
естественно — он мог играть роль оберега и от прожорливых
вредителей — птиц, с каковой целью изображения Приапа
выставлялись в садах и огородах; другими словами, он попросту
выполнял роль современного пугала, хотя и с другим
внутренним содержанием.
Употребляясь как средство от сглаза, порчи, то есть как
амулет (священная функция), он постепенно превращался в
пугающего демона, чему содействовала уменьшающаяся слава
древних богов вообще. Священное все больше заменялось
обыденным, пугающее божество все более походило просто на
пугало. Кончилось все это победой земного начала, которое и
приобрело в языке вид инвективы. В XVI в. жители
(преимущественно жительницы) Антверпена в случае неожиданного
испуга или какой-либо неприятности поминали в сердцах
Приапа (который именовался в тех местах Терсом) точно так же,
как современные русские в аналогичной ситуации
чертыхаются.
Так боги и феи отмирающих религий постепенно
превращаются в дьяволов и ведьм пришедшего на смену этим
культам христианства, равно как священные ритуалы
превращаются в запретные шабаши. Соответствующие указания
можно встретить в многочисленных исследованиях (ср.: Bourke
1891: 17 и мн. др.).
29
В результате подобной эволюции самое обычное
упоминание каких-либо аксессуаров фаллических культов звучало как
непристойность. В этой связи даже древние священные тексты
подвергались цензуре, и соответствующие места из Библии
сознательно искажались переводчиками из соображений
благопристойности. Ср.:
На другой день они встали рано и принесли всесожжения, и привели
жертвы мирные: и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал
Господь Моисею: поспеши сойти (отсюда); ибо развратился народ твой,
который ты вывел из земли Египетской (Исх. 32: 6—7).
Явное противоречие между невинными «играми» и гневом
Господа в этом тексте объясняется специалистами тем, что в
подлиннике было сказано не «играть», а «вступать в интимные
отношения», то есть предаваться оргиям, что было обычным
актом, завершающим жертвоприношение в процессе
фаллических церемоний (Knight, Wright 1957: 123).
Наглядным примером усилий Христианской Церкви по
дискредитации язычества являются иллюстрации-миниатюры к
Хлудовской Псалтыри (Греция, IX в.). Изображения древних
языческих божеств прочно связываются здесь с адом,
грешниками, религиозными противниками и т. п. Так, изображение
Силена олицетворяет ад. В других рисунках осуждается
языческий праздник Весенние Дионисии, сохранившийся кое-где до
XX в. (Щепкина 1977).
Как справедливо указывал Ю. М. Лотман (1980: 267),
Мир нечистой силы — мир, по отношению к обыденному
перевернутый, а поскольку свадебный обряд во многом копирует в зеркально
перевернутом виде обряд похоронный, то в колдовском гадании жених
часто оказывается подмененным мертвецом или чертом.
Таким образом, в противопоставлении «Бог — дьявол» уже
по самой своей природе заложена возможность их ритуального
взаимообмена. Эта мысль пригодится нам в дальнейшем
изложении.
Для нас, однако, процесс «дискриминации язычества» важен
не сам по себе, а прежде всего в той мере, в какой он связан с
дискриминацией всего, имеющего отношение к человеческому
низу и соответствующему вокабуляру.
Сам факт такой дискриминации сомнений не вызывает. В
Послании ап. Павла Галатам среди наиболее предосудительных
«дел плоти» перечисляются в числе первых различные «грехи»
интимных отношений:
30
<...> прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. <...> Предваряю
вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не
наследуют (Гал. 5: 19—21).
Вступление в брак объявлялось, правда, делом, угодным
Богу. Вместе с тем состояние безбрачия полагалось более
высоким:
<...> Хорошо человеку не касаться женщины. Но, в избежание
блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. <...> Впрочем,
это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю,
чтобы все люди были, как и я... Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо
им оставаться, как я. <...> Но если не могут воздержаться, пусть
вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться (1 Кор. 7:
1-9).
Очевидно, в данном случае имеет место расчленение
определенного «стыдного» процесса на естественное начало и на
табуированный аспект (желание близости ради нее самой).
Собственно, и само понятие первородного греха часто
связывается напрямую с «грехом» интимных желаний. Известный
историк XIX в. Н. Костомаров отмечал:
Народный благочестивый взгляд шел в этом случае далее самого
учения Церкви, и всякое сближение полов, даже супружеское,
называлось грехом: известно, что до сих пор многие из народа толкуют
первородный грех Адама и Евы половым сближением, хотя такое
толкование давно отвергнуто Церковью. Тем не менее безбрачная жизнь
признается самою Церковью выше брачной и семейной (Блуд на Руси
1997: 17).
Хотя суть грехопадения, согласно учению Церкви,
заключается просто в нарушении послушания Богу, в списке
появившихся в результате грехопадения основных грехов интимные
желания стоят всегда на первых местах. Список грехов,
перечисляемых, например, Нилом Синайским, Иоанном Лествич-
ником, Ефремом Сирином, выглядит как «чревоугодие, блуд,
сребролюбие, гнев» и т. д. Ап. Иоанн сводит грехи к трем
группам: похоть плоти (плотоугодие), чревоугодие, сладострастие,
похоть очей и гордость житейская.
Итак, в процессе исторического развития мировая этика
развивает две тенденции, выглядящие на первый взгляд как
полностью противоположные. Это сакрализация всего
связанного с порождающим циклом и одновременно — сложный сплав
обыденного, профанного восприятия тех же фаллических символов
с сохраняющимся в подсознании священным, сакральным
отношением к ним.
31
И что особенно важно для понимания исследуемой темы —
восприятие второго типа точно так же приводит к табуиро-
ванию тех же самых понятий, а нарушение соответствующих
табу — к точно такому же ощущению шока. Превращение
священного имени в грубую инвективу не изменяет, таким образом,
эмоциональной нагруженности используемого слова. Моральное
требование, внешне выглядящее тем же самым, в разных
условиях может трактоваться то как выражение священного, то как
выражение обыденного отношения.
Именно это обстоятельство, то есть возможность двойной и
противоположной трактовки формально одного и того же
морального требования, приводит к поразительно аналогичным
результатам: если можно так выразиться, инвективизации
средств выражения священно-обыденного.
Ход такого развития в общем понятен: взгляд на отношения
полов как на священный акт фактически означал очень
строгий запрет на противоположный, пренебрежительный или
насмешливый взгляд. Инвективное (богохульное)
словоупотребление и есть один из вариантов нарушения такого запрета.
Рассмотрим в очень сжатом виде процесс превращения
священных понятий в обыденные. Уже отмечалось, что в недрах
древнего общества зреет аскетическая оценка
взаимоотношения полов. В греческой философии, например, она заметна уже
во времена дионисийских культов. С приближением к нашему
времени аскетизм становится активнее. Неудивительно, что
в Средние века возникает и пышным цветом расцветает
самая изощренная инвективизация речи. По афористически
блестящей формулировке М. М. Бахтина, для Средневековья
характерен «безмерный разрыв между словом и телом» (Бахтин 1975:
320), когда религия воспевала победу духа над телом,
отрицала и поносила тело как нечто противоречащее святым идеалам,
мешающее их воплощению.
И естественно, что физическая сторона бытия, лишенная
духовности, стала восприниматься как нечто бесконечно
грязное и порочное.
Но соответствующее отношение нуждалось в словах, его
выражающих. Эти слова должны были, обязаны были
противоречить словам официальной идеологии. Так и произошло.
Бесплотности неземной «святой» любви была
противопоставлена любовь плотская, которая безоговорочно изгонялась из
Церкви. Средневековье, как никакая другая эпоха,
содействовало разделению понятия «любовь» на два: священное и
обыденное.
32
Существенно, что крепость и количество наиболее резких
инвектив издавна находились в прямо пропорциональной
зависимости от религиозности народа. У такого очень религиозного
народа, как древние евреи, грубые инвективы получили столь
широкое распространение и воспринимались так ярко, что
специальными законами за них полагалась смертная казнь.
Для сравнения стоит отметить, что у древних греков,
которые были менее религиозны, инвектив было меньше и их сила
и изощренность не могли сравниться с древнееврейскими
(Johnson 1948: 39). Ирландцы и в Новые времена известны
своей набожностью. И именно у них сквернословие приняло такие
размеры, что Д. Свифт в своем известном эссе даже
саркастически предлагал обложить сквернословов налогом с
целью серьезно поправить государственные финансы.
В результате такого взаимодействия священного и
обыденного начал в культуре любого народа уживаются карнавальное
мироощущение, с его подчеркнутым акцентированием
телесного, даже животного, начала, и поэтическое восприятие
мира. Последнее особенно ярко выявилось в Европе в эпоху
«куртуазной любви», воспетой трубадурами Прованса в ХШ в.
(Подробнее о карнавальном мироощущении см. ниже.)
Можно предположить, что само понятие куртуазной любви
развилось и укрепилось как реакция на грубость карнавального
восприятия мира. Христианская религия не могла не оказать
здесь своего влияния.
Но, в сущности, и карнавальное, и куртуазное мироощущения
являют собой довольно сходное при ближайшем рассмотрении
реагирование на в общем одну и ту же ситуацию: невозможность
физического контакта и необходимость вербализации, словесного
выражения естественных желаний.
Другое дело, что вербализация куртуазной любви может
принять форму лирического сонета или нежной серенады, а
вербализация карнавального типа — с]эорму грубой инвективы,
шванка или сальной шутки. Разные социальные слои
предпочитают какой-нибудь один вариант. Те, что выбирают
карнавальный тип, редко обращаются к поэтическому языку; иначе
говоря, грубиян редко одновременно упивается лирической
поэзией. И наоборот, воспитанным на лирических стихах
редко нравится похабная ругань. Хотя в принципе, конечно, не
исключен и симбиоз этих двух форм выражения. Малая
вероятность такого симбиоза отражена в шутке:
На концерте симфонической музыки растроганный слушатель
поворачивается к соседу слева:
2 В. И. Жельвис
33
— Простите, это вы сказали «Е6 твою мать!»?
— Нет, конечно, что вы!
Слушатель поворачивается к соседу справа:
— Может быть, тогда это вы сказали «Еб твою мать!»?
-Нет!
Слушатель, в раздумье:
— Странно... Ну что ж, наверно, это мне музыкой навеяло...
Целесообразно разделить все словесные нарушения табу на
три группы. К первой группе можно отнести нарушения слабых
табу, которые именно в силу своей слабости редко могут стать
сюжетом резкой инвективы. Соответствующие нарушения
могут осуществляться литературно разрешенными средствами.
Разумеется, при всей их слабости, такие словоупотребления все
же рассматриваются как нарушение приличий.
Вторую группу образуют резкие, грубые инвективы,
нарушающие сильные табу. Ругатель прибегает к этим средствам
чаще всего тогда, когда у него появляется необходимость в
основательной разрядке эмоционального напряжения. Таков
русский мат. Сюда же можно отнести употребление грубых
слов в качестве несильных вульгарных восклицаний. Слово
«Блядь!» может быть очень оскорбительным, будучи обращено
к конкретному человеку во время ссоры, и звучать довольно
нейтрально в дружеском разговоре («Я сегодня так, блядь,
устал, что едва до дома дошел!»). Такая же ситуация с
французским соответствием этого слова — «putain»: «Oh, putain, j'ai
bousillé la bagnole du paternel!» — «Ох ты, блядь, я угробил
отцовскую "тачку"!»
Именно эта группа и является предметом особого внимания
в настоящем исследовании. Она наиболее велика по объему в
большинстве национальных культур.
К третьей же подгруппе относятся немногочисленные
словоупотребления, нарушающие настолько сильные запреты, что
сам факт их нарушения — явление экстраординарное, почти
недопустимое. Ярким признаком соответствующих инвектив
является единодушное мнение соответствующего коллектива,
что употребляющий подобные слова сам заслуживает
презрения, так как, произнося их, унижает самого себя.
Произношение подобных слов осуждается, как правило, даже
завзятыми сквернословами. В русском языке таких слов
практически нет, наиболее близкое к этой группе — «пизда»1.
1 Любопытно, что производные слова от наиболее грязного обычно
воспринимаются много мягче: «пизда» в русском словоупотреблении звучит много
грубее, чем, например, «спиздить», «пиздюк», «пиздюлй», «пиздец». Ср. шутку
34
Естественно, что конкретная инвектива в одних социальных
слоях может быть отнесена к слабым, в других — к наиболее
резким и недопустимым выражениям.
1.4. Инвектива как инструмент
эмоциональной разрядки
Особенности инвективного слоя самым тесным образом
связаны с проблемами эмоциональной разрядки и,
следовательно, так называемым катарсисом. Понимание этого
термина в настоящем исследовании существенно отличается
от понимания введшего этот термин Аристотеля или, точнее,
от понимания, которое в этот термин вкладывают
многочисленные истолкователи, авторы этического, эстетического,
медицинского, религиозного истолкований, равно как и
истолкования, предложенного Гете (см. обзор в: Петровский
1957).
Как бы ни истолковывать соответствующее очень темное
место в «Поэтике», Аристотель, несомненно, имеет в виду
очищение через сопереживание героям высокой трагедии со всеми
ее перипетиями. В настоящем же исследовании предпочитается
понимание в духе М. М. Бахтина, то есть очищение через
обращение к низшему, даже вульгарному началу.
Для того чтобы понять, как работает такое очищение,
необходимо обратиться к понятию карнавальное мироощущение,
также разработанному M. М. Бахтиным, который называет
«карнавализацией жизни» всевозможные праздники,
карнавалы, маскарады, розыгрыши, шутовство и не в последнюю
очередь — обращение к инвективной резко сниженной лексике
(Бахтин 1965: 84-85, 180, 517 и др.).
Карнавал, карнавальное действо в бахтинском понимании
слова отнюдь не следует связывать только с понятием
карнавала в бытовом смысле, то есть веселого праздника, гуляния
и т. п. Громкий скандал, перебранка, ссора, шутливое
соревнование сквернословов, ритуальная инвективная «дуэль»,
самовозбуждение воинов перед сражением и так далее — все
это можно объединить термином «карнавальное
мироощущение».
известного поэта И. Иртеньева, его реакцию на заявление российского
президента, что в России нет никакого кризиса:
Подобного еще не видел свет:
Пиздец уж близится, а кризиса все нет...
2*
35
В самом кратком виде сущность карнавального
мироощущения можно изложить следующим образом. Очевидно, что
жизненный цикл человека представляет собой сплав
священного и обыденного начал. Невозможны постоянные и вечные
будни, но невозможны и вечные праздники. Установившийся
стереотип монотонного труда должен время от времени
обязательно ломаться. В данном случае ломка стереотипов сама
представляет собой своеобразный стереотип.
Карнавализация жизненного уклада приводит к
установлению связей особого типа, в основе которых лежит
отступление от правил и норм как социальных, так и моральных,
этических. Такая модель поведения как способ разрядки
отмечается историками, этнографами, исследователями
практически всех национальных культур (см.: Encyclopedia of Religion
1917 ГХ: 557-558; а также: Мазаев 1978: 70; Михайлов 1981: 21;
Серов 1983: 51; Кон 1983: 28; и мн. др.).
Перед участниками карнавального действа открываются
возможности самого фамильярного обращения с самыми
священными понятиями и нормами, принятыми в коллективе. В
обстановке такого действа в контакт могут вступать
абсолютно «несочетаемые» предметы и символы; самые почитаемые
вещи и явления могут оказываться в шокирующем соседстве с
самыми обыденными и низменными. В результате нарушаются
строгие, обязательные для некарнавальных будней запреты, в
том числе — и не в последнюю очередь — запреты на
употребление определенных слов.
Фактически карнавал создал свой собственный язык,
построенный на опрокинутых стандартах будничного
словоупотребления. В изучаемом аспекте это означает, что на время
карнавала снимаются все цензурные ограничения на
употребление богохульств, упоминаний о сексуальной функции
человека и отходах его жизнедеятельности. Разумеется,
снимаются запреты и на употребление соответствующих слов, все это
обозначающих.
Потребность человека в подобном карнавальном клапане
исключительно велика и продолжает увеличиваться. Имеются
экспериментальные клинические данные, согласно которым
невозможность или неспособность выразить овладевшие
человеком чувства может мешать ясности мышления, ухудшать
межперсональные отношения и даже приводить к
психосоматическим расстройствам (Изард 1980: 296). Некоторые
психологи говорят в таких случаях о «направленном внутрь
взрыве» (Lewis 1979: 383).
36
Если речь идет о каком-нибудь конфликте, о возникновении
оппозиции в лице другой личности или физического
препятствия, то в соответствии с эффектом Зейгарник облегчение
(катарсис) наступит только с поступлением информации о
«возмездии», наказании «обидчика». При этом не имеет
значения, реальный это оппонент или вымышленный, реален или
воображаем понесенный ущерб. И наоборот, препятствия на
пути к такому облегчению увеличивают напряжение и
агрессивные тенденции (Джемс 1984: 89; Berkowitz 1964: 43). Другими
словами, ощущение «выругался — и полегчало» достаточно
обосновано психологически.
Одна из главных и существенных для настоящего
исследования особенностей карнавального мироощущения
заключается в создании особой атмосферы всеобщей вовлеченности. В
любом варианте карнавального общения — например, в
праздничном карнавале, обряде вызывания дождя или деревенской
свадьбе — принципиально не может быть деления на
участников и зрителей, в карнавальном действе участвуют
абсолютно все присутствующие. Именно такое положение наблюдается
и в процессе развертывания шумного скандала или ссоры,
сопровождающейся грубыми оскорблениями.
Строго говоря, в этом и заключается основное отличие
инвективы в узком смысле слова, то есть инвективы,
осуществленной запрещенными средствами, от любого другого
словесного агрессивного действия. Дело, таким образом, не столько
в запрещенном характере употребляемых средств, сколько в
создании (с помощью этих средств) особой эмоциональной
атмосферы.
Т. Джей видит две формы вербальной агрессии. Первая —
агрессия враждебности, когда брань предназначена для того,
чтобы нанести моральный ущерб человеку, который чем-то не
угодил говорящему. Вторую форму он называет
инструментальной, т. е. перед нами инструмент, средство получения
какого-то вознаграждения: испуг оппонента, полученные от него
деньги, просто удовольствие от доставленного другому
нравственного ущерба (Jay 1999: 63). Телефонный хулиган, скорее
всего, получает от говоримых по телефону непристойностей
такое же удовлетворение, что и эксгибиционист. Разумеется,
возможно одновременное использование обеих агрессивных
форм.
В результате взламывания с помощью грубой лексики
социальных табу, ругатель и его оппонент обнаруживают себя в
атмосфере попранной гармонии окружающего мира, созданной
37
именно за счет сознания того, что в этот момент они
присутствуют при серьезном нарушении норм, которые сами
обычно признают.
О таком нарушении вскользь говорил еще А. Адлер:
Есть такие мысли и слова, которых человек, как правило, избегает.
Их вульгарный и грубый смысл проступает в каждой фразе и, случается,
устрашает самого говорящего (Adler 1927: 254).
Правильнее было бы, вероятно, исключить в этом
высказывании слово «случается», ибо самоустрашение ругателя —
один из самых характерных параметров инвективного
общения. На этом обстоятельстве стоит остановиться
подробнее.
Дело в том, что оскорбление будет воспринято как таковое
только при одном условии: оба говорящих должны разделять
взгляд на нарушение того или иного табу. Если индеец племени
мохави скажет белому собеседнику «Шурин!» или «Зять!», белый
может принять это обращение за вежливое поименование типа
рус. «Дяденька!»; между тем мохави имел в виду тяжелое
оскорбление (Devereux 1951: 102).
Известны многочисленные анекдоты, где невинные девушки-
гимназистки видят написанные на заборе непристойные слова,
которые им неизвестны и которые они поэтому охотно
повторяют в приличном обществе. Совершенно очевидно, что для
человека, который не знает значения инвективы, она как
инвектива просто не существует.
Но из этого следует, что ругатель, выкрикивая свое
оскорбление, как бы примеряет его на себя, осознавая опасность
нарушения такого сильного табу. В известном смысле он
отождествляет себя со своей жертвой: в этот момент они оба
находятся в «оскверненном пространстве» инвективного общения.
Можно представить себе инвективу в виде бесформенного,
мятущегося между собеседниками отравленного облака,
которое необходимо скорее оттолкнуть от себя и направить в сторону
противника. Если подобное удалось, говорящий испытывает
облегчение, а его оппонент, соответственно, выступает
пострадавшей стороной.
Разумеется, это не относится к случаям, когда инвектива
превращается в обычное грубое восклицание. В таком случае
об устрашении кого бы то ни было говорить не приходится,
хотя и здесь может сохраниться некоторое слабое ощущение
неправомерности такого способа общения. И это ощущение тем
сильнее, чем явственнее осознание говорящими факта нару-
38
шения нормы. Там, где говорящие считают непристойную лексику
нормой, карнавальное мироощущение исчезает.
Парадоксальным образом подобное «приземление»
окружающей действительности с помощью инвективы, с одной
стороны, вредит, а с другой — содействует процветанию
священного начала.
Дело в том, что карнавальное действо любого рода помогает
утверждать ряд вечных и незыблемых истин. «Карнавализа-
ция» помогает лучше понять основные проблемы
«нормальной», некарнавальной жизни. В процессе выбора на карнавале
«короля шутов» нищему воздают королевские почести для того,
чтобы таким образом оттенить величие подлинной королевской
власти.
Но что еще более существенно в рамках настоящего
исследования — это подсознательное слияние понятий «король»
и «нищий» в одно единое понятие, не разделимое на священную
и обыденную ипостаси.
Объяснение этому феномену видится в следующем. В
жизни общества очень рано возникает понятие божественного и
святого, а значит — неприкасаемого, даже опасного: во всех
религиях божество не только милосердно, но и грозно. Пусть по
разным причинам, но остерегаться стоит не только демона, но
и Бога."
Понятие же божественного легко переходит в понятие
священного, то есть исключительного по важности; близость
понятий ощущается уже в общности корня слов «святой» и
«священный».
Священное же именно в силу этой своей исключительной
важности объявляется запретным, неупоминаемым всуе,
иногда и неприкасаемым. Другими словами, священное по
некоторым признакам (его опасности и поэтому — неприкасаемости)
как бы уравнивается с божественным и святым.
Но соблюдение правил запретности подразумевает попытки
их нарушения: естественно, что вначале кто-то посягал на
священное, а уж потом появились запреты на подобные действия,
а не наоборот. И совершенно очевидно, что уже в силу, так
сказать, «феномена запретного плода», чем строже становились
запреты, тем больше появлялось нарушителей. Соответственно
запреты усиливались.
Неудивительно, что в результате запретное легко получало
значение опасного: опасность проистекала как «сверху», от
карающих высших сил, так и «снизу», от накладывающего
запреты общества.
39
Прежде чем перейти к следующему звену возникающей
таким образом цепочки, полезно вспомнить общеизвестный
факт: в борьбе религий и идеологий старое обычно
подвергается осквернению и осмеянию; чтобы ниспровергнуть
священное старое, необходимо показать, что оно достойно
презрения. Легче всего это сделать, обвинив старое в
нарушении какого-либо общепринятого запрета, например, на
нечистоту. Так татуированное опасное постепенно превращалось в
нечистое. Нечистыми объявлялись отвергаемые обряды,
традиции, нормы. В силу прочных общенародных традиций
нечистое — это уже почти непристойное (не-пристойное, то, что «не
пристало» делать порядочному человеку, например, жить в
грязи).
Так завершается развитие по предлагаемой внешне,
казалось бы, парадоксальной схеме: святое — священное — опасное —
нечистое — непристойное. Прежние священные термины и
ритуалы — такие, например, как связанные с производительным
физиологическим циклом, — приобрели резко непристойное,
вульгарное значение; слова, имевшие прежде высокий
священный смысл, превратились в грязные ругательства, произнесение
которых строго табуируется.
Однако существенно, что описанная схема носит более или
менее умозрительный характер. На практике в ходе такого
превращения исторически вряд ли можно назвать момент,
когда, скажем, имя божества или святого было бы начисто
лишено нюансов, привносимых другими звеньями этой цепочки.
Фактически в подсознании могут сохраняться все звенья. Это
помогает, в частности, понять, почему табуированию в равной
мере подлежат как слова, обозначающие священные, так и
слова, обозначающие обыденные понятия: произнесение как тех,
так и других нарушает запрет на а) произнесение всуе священных
имен и 6) на употребление имен «загрязняющих».
Из сказанного можно сделать очень важный вывод: если два
слова обладают противоположной знаковой оценкой (то есть
одно означает священное понятие (+), а другое обыденное (—) и
одновременно оба вызывают одинаковую реакцию (например,
табуируются), то это заставляет предположить, что
противоположный характер оценки скорее связывает эти слова и понятия,
чем разъединяет их.
Важнейший вывод, к которому можно прийти на основании
сказанного, заключается в том, что профанная (например,
непристойная) оценка явления, по существу, неотторжима от
сакральной, священной оценки того же явления. Можно даже гово-
40
рить о диалектической единстве сакрального и профанного в одном
и том же явлении. И наоборот: метафизическое расчленение
священного и обыденного возможно лишь в качестве научного
приема, облегчающего изучение явления в первом к нему
приближении. Диалектическая связь священного и обыденного
начал — это онтологически присущий признак человеческого
бытия.
Инвективу можно рассматривать не только как
карнавальный, но и как игровой феномен. И. Хёйзинга определяет игру
следующим образом:
Это — некое поведение, осуществляемое в определенных границах
места, времени, смысла, зримо упорядоченное, протекающее согласно
добровольно принятым правилам и вне сферы материальной пользы или
необходимости. Настроение игры — это настроение отрешенности и
восторга, священное или праздничное, в зависимости от того, является ли
игра священнодействием или забавой. Такое поведение сопровождается
ощущением напряжения и подъема и приносит с собой снятие
напряжения и радость (Хёйзинга 1997: 131).
Представляется, что в основном инвективное поведение
отвечает требованиям игры:
1. Игра протекает по определенным правилам и не приносит
материальной выгоды. Ограничение брани правилами
сомнения не вызывает: можно говорить об уместности или
неуместности сквернословия, допустимости или абсолютной
неприемлемости ее в той или иной ситуации и т. д. Именно
правила, соответствие месту и времени делают инвективу
инвективой или, наоборот, лишают ее «взрывчатой силы».
О материальной выгоде, достигаемой с помощью брани,
говорить трудно — если не учитывать того, что брань может
сопровождать некие действия, направленные на достижение
выгоды.
2. Из сказанного выше о карнавальном характере инвектив-
ного общения тоже вытекает его игровая суть. В целом ряде
случаев сквернословие вызывает у слушателей веселый катар-
тический, освобождающий смех.
1.5· Место словесной агрессии
в ряду других агрессивных действий
Общеизвестно, что в обширном списке различных
агрессивных действий значительное место принадлежит таким,
которые на первый взгляд не отличаются прямой
целесообразностью. Таковы, например, гневные слезы, порча окружа-
41
ющих предметов, размахивание руками, другие бессмысленные
движения. Сюда можно отнести и так называемые
субмагические действия, одна из целей которых — косвенным
образом причинить ущерб оппоненту, но которые при этом
внешне выглядят как бессмысленные поступки.
Без сомнения, в одну катартическую группу с
перечисленными выше средствами «вьшускания пара» входит и инвектив-
ный набор различных оскорблений, гневных возгласов,
выражения досады и др. В классификации всевозможных
агрессивных реакций, составленной американским психологом
А. X. Бассом, инвектива («оскорбление словом») определена
как реакция «активная, прямая, вербальная» (Buss 1971: 8).
В 1978 г. американские исследователи попытались выяснить,
какое место занимает брань в списке всевозможных
оскорбительных актов. Т. Джей приводит первые двадцать строк
соответствующей таблицы. Оскорбительность оценивалась по
шкале от 1 до 9: 1 — «совсем не оскорбительно», 9 — «наиболее
оскорбительно» :
Увидеть убийство
Увидеть изнасилование
Увидеть издевательство над ребенком
Увидеть акт мастурбации
Услышать слово «Motherfucker»
Увидеть насильственный акт исключительной
жестокости
Увидеть половой анальный акт
Услышать слово «Cunt»
Услышать слово «Cocksucker»
Услышать слово «Cockteaser»
Увидеть оральный половой акт
Услышать слово «fuck»
Увидеть гомосексуальный акт
Увидеть акт дефекации
Услышать выражение «blow job»
Увидеть акт содомии
Услышать выражение «douche bag»
Услышать слово «cock»
Услышать слово «pussy»
Увидеть половой акт
8,36
7,88
7,57
6,98
6,93
6,90
6,86
6,80
6,53
6,53
6,49
6,38
6,20
6,18
6,10
6,10
5,86
5,81
5,77
5,76
Как видно из этого списка, оскорбительные действия в
большинстве своем рассматриваются американцами как более
сильные, чем даже очень грубая брань. В этой связи стоит
внимательно отнестись к мнению Т. Джея: странно, что грязная
ругань героев кино- и видеофильмов вызывает нарекания
общественности в большей степени, чем содержащиеся в тех же
42
фильмах многочисленные сцены насилия, которые
воспринимаются намного острее (Jay 1992: 163).
Второй вывод, который можно сделать из анализа
приведенного списка: в настоящее время в американской культуре
наиболее оскорбительные слова так или иначе связаны с
сексуальными отношениями. Здесь русская культура полностью
аналогична американской.
По существу, вербальную агрессию — инвективу — можно
рассматривать как интериоризацию поступка. Как известно, по
А. Н. Леонтьеву, интериоризацией называют преобразование
внешних по форме процессов в процессы, происходящие в
сознании, причем эти последние вербализуются,
сокращаются и обретают способность к эволюции (Леонтьев 1978: 95).
В плане исследуемой темы это означает, что словами иной
раз можно добиться даже большего, чем соответствующим
физическим действием, например, ударом; не говоря уже о
том, что «экстериоризация поступка» (тот же удар) в ряде
случаев вообще может оказаться невозможной и словесное
выражение эмоций является единственным доступным способом их
материализации.
Таким образом, в определенных ситуациях инвектива
способна создать видимость активного поиска выхода из
эмоционального напряжения. Более того, учитывая силу нарушаемого
запрета, можно даже считать, что это не поиск выхода, а
непосредственно самый выход.
Другими словами, на шкале «пассивное принятие ситуации —
активное противодействие» инвектива занимает место ближе к
правому члену этого противопоставления, откуда и облегчающее
ощущение. Ср. известную сцену из «Кола Брюньона», где
талантливый резчик по дереву Кола обнаруживает, что его шедевр
изуродован местным феодалом:
<...> Я стонал, я глухо сопел. Я долго не мог ничего вымолвить. Шея
у меня стала вся багровая, и жилы на лбу вздулись; я вылупил глаза, как
рак. Наконец несколько ругательств вырвались-таки наружу. Пора
было! Еще немного, и я бы задохнулся <...> раз пробку выбило, уж я дал
себе волю, бог мой! Десять минут кряду, не переводя духа, я поминал всех
богов и изливал ненависть (Р. Роллан. Перев. М. Лозинского).
Приведенная цитата заставляет более внимательно
отнестись к мнению тех, кто считает, что в определенных жизненных
ситуациях применение инвективы прагматически оправданно.
Ср. несколько высказываний на эту тему, исходящих от
специалиста-филолога и медиков:
43
В состоянии, когда его нервы натянуты до предела орудийным
огнем, противоестественным образом жизни, близостью ненавистной
смерти, солдат может выразить овладевшие им чувства только таким
путем, который, как его учили всю жизнь с самого детства, есть путь
грязный и мерзкий (Read 1934: 275).
<...> Совсем не ругаться на операциях гораздо труднее для психики.
Высказаться — значит ослабить напряжение, поймать спокойствие, столь
необходимое в трудных ситуациях хирургов. Понимаю, что такая позиция
уязвима и уж никак не полезна для «объектов» высказывания. А что
сделаешь? Когда позади почти сорок лет напряжения. Приходится потом
извиняться. К вопросу о слежении: ни один хирург, что ругается на
операциях, не теряет контроля над собой. Он сознательно ругается. Уж
можете мне поверить (Амосов 1978: 99—100).
Из интервью с Н. И. Рыжковым:
— Уважаемый премьер-министр, скажите откровенно, давно ли вы
гуляли босиком по мокрой траве?
— Даже забыл, когда такое было.
— Как же вы снимаете свои огромные стрессовые нагрузки?
— Доктор говорит, что мне надо побольше ругаться. Но я все же
держу себя в руках (Аргументы и факты. 1989. № 33).
Мнение врача, лечащего Н. И. Рыжкова, разделяется
многими медиками. Экспериментальное подтверждение имеет
гипотеза, что те, кто имеет обыкновение резко осуждать
ситуации, в которой находится, то есть те, кто предпочитает
жаловаться на судьбу, неудачи и т. д., обильно уснащая речь
инвективами, как правило, обнаруживают меньшую тенденцию к
повышению кровяного давления, чем те, кто в той же ситуации
предпочитает «пережигать» свои эмоции молча (Reiser и др.
1955, цит. по: Ross 1960: 481).
Согласно данным ВЦИОМ, ежедневно пользуются
грубыми ругательствами 25% женского населения России, 44%
руководящего состава, 50% рабочих и 54% безработных (Известия.
2000. 12 апреля).
Иногда речь может идти не столько о разрядке, сколько о
достижении состояния максимальной раскованности: если
вслух можно говорить такое, то можно все. Известно, что
С. Эйзенштейн во время съемок знаменитой картины «Иван
Грозный» разрешал актеру Жарову, игравшему Малюту
Скуратова, самую непристойную брань. В кадр она не входила, но
освоить роль помогала.
Интересен вопрос о связи и зависимости выбора инвективы
от величины вызывающего инвективу стресса. Чем больше
44
стресс и, стало быть, потребность в облегчении, тем, как
правило, крепче и обильнее инвективы. Однако при чрезмерном
усилении стресса зависимость может стать обратно
пропорциональной, напряжение или депрессия оказываются
настолько сильными, что «даже выругаться нету сил», «зла не хватает*.
В таком случае инвективизация речи исчезает и заменяется
полным молчанием. После того как напряжение спадает,
человек может «с облегчением выругаться*. Это наблюдение
заставляет прийти к несколько парадоксальному выводу: против
ожидания, обращение к инвективной лексике может
свидетельствовать не столько о крайне эмоциональном напряжении,
сколько лишь о некотором раздражении и малой или средней
напряженности. Иначе говоря, инвективизация речи
показывает, что ситуация еще не вышла из-под контроля, что
сквернослов пока в состоянии ее переносить.
Таким образом, можно говорить о следующей обычной
стратегии человека, привыкшего снимать стресс с помощью
инвективы. При очень слабом стрессе он прибегает к инвективе
социального типа, роднящего инвективу с жаргоном и арго.
В данном случае речь идет скорее об использовании инвектив-
ных выражений в междометном смысле: для усиления
эмоциональности высказывания, заполнения паузы и т. д.
При усилении напряжения этот тип уступает место
стрессовой инвективе. Именно в подобном случае инвектива
является эффективным средством «выпускания пара*, аварийным
вентилем, позволяющим снять напряжение, снизить его до
безопасного для психического здоровья минимума.
Одновременно на этом этапе инвектива достигает максимума
оскорбительности для окружающих и самого ругателя и, стало
быть, ее негативная роль здесь также максимальна.
Ср. отрывок из популярной статьи:
Рассказывают такой случай. Идет операция на сердце. Хирург уже
вскрыл сердечную сумку и повернулся к хирургической сестре за
очередным зажимом. Бедняжка впервые увидела живое сердце, и с ней случился
шок. В испуге, не отводя глаз от трепещущего сердца, она тычет рукой в
инструменты, забыв, что надо хирургу, а судьбу пациента могут решить
доли секунд. Многоопытный старичок-профессор произносит только
одно-единственное слово: «Жопа!» Сестра тут же подает ему нужный
зажим (Аргументы и факты. 1993. № 31).
Особенно важно, что положительная катартическая роль
инвективы и ее негативный аспект находятся в прямо
пропорциональной зависимости: чем грубее и оскорбительнее
инвектива, тем лучше она служит целям снятия напряжения.
45
Поэтому идея получить «розу без шипов», то есть добиться
полноценного эмоционального облегчения мягкими
средствами, была бы неплодотворной.
Однако зависимость «усиление напряжения — усиление
инвективизации речи» имеет место только до известного
предела, когда количество накопившегося напряжения
создает качественно новое состояние организма. Можно смело
предположить, что хирург сквернословит на операции, пока
операция протекает более или менее благополучно, во
всяком случае, имеет ожидаемую динамику. В случае, скажем,
гибели пациента на операционном столе хирург, скорее
всего, прекращает инвективизацию речи, а затем и вовсе
замолкает.
В случае ослабления кризиса события развиваются, как
правило, в обратном направлении, то есть сперва возвращается
стрессовая, а затем и социальная инвективизация.
Одно из возможных объяснений молчания как реакции на
крайний стресс — наличие в экстремальной ситуации
подсознательного опасения говорящего нарушить остро ощущаемое
им табу. Естественно, что острота такого ощущения
повышается с усугублением кризиса.
Заслуживает внимания вопрос о насыщенности речи
инвективами. Что касается языка, то список наиболее популярных
вульгарных инвективных выражений в каждой национальной
культуре относительно беден (при теоретически безграничной
возможности образования от этих выражений их
производных). Бедность же основного ядра в данном случае находит
выражение даже в его названии на английском языке: «The
dirty dozen», то есть «грязная дюжина».
Типологически характерная ограниченность основного ин-
вективного набора не может быть случайной и явно имеет
психологическое обоснование. Однако прежде всего отметим
очевидную древность этого лексического слоя в становлении
человека как вида и факт его раннего развития в процессе
формирования психики конкретного индивида. Дописьменный
период развития инвективного общения огромен, воистину
«первобытный человек научился браниться раньше, чем
говорить» (Johnson 1948: 20). В определенном смысле можно даже
говорить о дочеловеческом развитии инвективы (см. 1.10 наст,
изд.). У ребенка же инвектива появляется еще в
дописьменный период, что естественным образом приводит к
сохранению самых примитивных грамматических форм и
используемых тем (ср.: Пименов 1976: 18).
46
Не следует также забывать об особых условиях
функционирования инвективы в устной речи. Это прежде всего
необходимость быстрого реагирования, когда на обдумывание
ответа и выбор нужного слова отводится минимум времени.
Кроме того, справедливо, что положительные эмоции, как
правило, требуют более точных средств выражения, нежели
отрицательные: конечно, любого хорошего и любого плохого
человека можно назвать словом, предельно широким по
значению, - что-нибудь вроде «голубчик» или «гад»; и все же того,
кто нравится, хочется обозначить поточнее. Отрицательные же
эмоции заставляют воспринимать оппонента более
стереотипно, ибо ненавидящий или возмущенный человек в большей
степени замкнут на собственных переживаниях.
Можно выразить эту мысль более афористично: все наши
друзья — разные, все наши враги — на одно лицо. Близких
друзей хочется назвать каждого по-своему, для врагов же
достаточно очень ограниченного бранного вокабуляра.
Отметим, наконец, что в изощренности инвективы нет
практической необходимости еще по одной причине.
Эмоциональная разрядка наступает в результате взламывания табу, причем
для того, чтобы произвести желаемый шокирующий эффект,
необходимо и обычно достаточно просто обнаружить
намерение нарушить тот или иной этический запрет. Не важно, как
запрет нарушен, важно, что он нарушен. В таких
обстоятельствах чрезмерная изощренность инвективного слово
употребления часто производит впечатление некоторой выспренности,
надуманности, неподлинности чувств.
Виртуозная брань порой вызывает просто комический
эффект, что мгновенно снижает ее агрессивность. Это
неудивительно, ибо
Всякая страсть, оставляющая место для смакования и размышления,
не есть истинная страсть (Монтень 1958: 19).
Ср. в этой связи известный отрывок из «Трех товарищей»
Э. М. Ремарка:
<...> Было уже довольно темно, когда я отвел Патрицию Хольман
домой. Медленно возвращался я назад. На душе у меня стало вдруг
одиноко и пусто <...> Черт побери! Меня круто развернуло, потому что
я налетел на какого-то толстенького человечка. «Эй! — прорычал
толстяк, кипя от бешенства. — Протри глаза, ты, неуклюжий пук
соломенный!» Я не отвел глаза. «Ты что, не привык людей встречать, а?» —
продолжал он гавкать. Он попался мне как нельзя более кстати. «Людей-
то я встречал, — ответил я, — но вот не видал, чтобы по улице ходили
пивные бочки». Толстяк ни минуты не помедлил с ответом. Он застыл,
47
раздулся и прошипел: «Знаешь что? Иди-ка ты в зоопарк! Нечего
сонным кенгуру на улице делать!» Я сообразил, что имею дело с ругателем
высокого класса. Ну что ж, несмотря на мое угнетенное состояние,
нельзя было ронять свое достоинство. «Ступай своей дорогой, ты, полоумный
семимесячный недоносок!» — сказал я и поднял руку в
благословляющем жесте. Он пропустил мой совет мимо ушей. «Пусть тебе в
башку хоть бетон жидкий зальют, павиан ты бесхвостый!» — пролаял он.
Я запустил в него плоскостопым декадентом. Он в меня — линючим
какаду. Я его двинул безработным мойщиком трупов. На это он уже с
некоторым уважением обозначил меня как коровью голову,
пораженную раковой опухолью. Тогда я, чтобы уж на том и закончить, назвал
его бродячим кладбищем бифштексов. И тут лицо его просияло.
«Бродячее кладбище бифштексов — это здорово, — сказал он. — Я такого еще
не слыхал. Включу в свой репертуар. Ну, а пока...» Он приподнял
шляпу, и мы расстались, преисполненные взаимного уважения. Перебранка
меня освежила. (Перевод наш. — В. Ж.)
Весьма показательно, что приблизительно тот же
комический эффект производят слишком яркие восхваления типа
знаменитого панегирика из Песни Песней:
Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из
которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними. <...> Шея
твоя, как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит
на нем — все щиты сильных <...> (Песн. 4: 2—4).
По крайней мере, именно так, то есть как выспренняя,
преувеличенная хвала, эти стихи воспринимаются современным
читателем. Доказательством на уровне художественного
произведения может служить известное юмористическое
стихотворения Саши Черного о царе Соломоне, заказавшем статую
Суламифи в соответствии со своим поэтическим описанием и
получившем в результате страшного идола. В ответ на брань
разъяренного царя скульптор Хирам, создавший «медного
болвана», с достоинством отвечает:
«Соломон, побойся срама!
Не спьяна и не во сне
Лил я медь, о царь сердитый.
Вот пергамент твой ко мне
С описаньем Суламиты:
"Нос ее — башня Ливана!
Ланиты ее — половинки граната.
Рот — как земля Ханаана,
И брови — как два корабельных каната.
Сосцы ее — юные серны,
И груди — как две виноградные кисти,
Глаза — золотые цистерны,
Ресницы — как вечнозеленые листья.
48
Чрево — как ворох пшеницы,
Обрамленный гирляндою лилий,
Бедра — как две кобылицы,
Кобылицы в кремовом мыле...
Кудри — как козы стадами,
Зубы — как бритые овцы с приплодом,
Шея — как столп со щитами,
А пупок — как арбуз, помазанный медом!"»
В свите хохот заглушённый. Улыбается Хирам.
Соломон, совсем смущенный, говорит: «Пошел к чертям!»
Психологическое объяснение комическому восприятию как
изощренной брани, так и чрезмерной хвалы видится в сдвиге
мотива на безличную операцию, которая в результате способна
превратиться в самостоятельную деятельность. В этом качестве
такая деятельность способна характеризовать говорящую
личность (Леонтьев 1978: 184—185). Авторов подобных текстов в
значительной мере интересует не цель добиться унижения
адресата или его благосклонности. Важнее сам процесс
творчества, блеск демонстрируемых стилистических приемов сам
по себе. В примере из «Трех товарищей» это видно из слов,
заключающих сцену: «...мы расстались, преисполненные
взаимного уважения». Такой результат был бы невозможен, если бы
цветистые обзывания действительно воспринимались
собеседниками как оскорбления.
Впрочем, не стоит забывать, что обращение к инвективе как
к привычному средству общения — безразлично в
каком-качестве — больше характерно для носителей определенного
социального диалекта, ограниченной социальной группы. В разных
группах разное умение оперировать мыслительными и
языковыми категориями, причем величина разрыва между этими
двумя категориями определяет высокий или низкий уровень
(Дридзе 1972: 38).
В этих терминах становится понятнее еще одна причина
того, почему слова «грязной дюжины» употребляются в виде
застывших штампов: для социальной группы, наиболее охотно
обращающейся к соответствующему вокабуляру, характерен
очень большой (наибольший из возможных?) разрыв между
имеющимися в ее распоряжении мыслительными и речевыми
средствами. Проще говоря, у завзятого сквернослова нередко
очень бедный словарь, который неадекватно выражает
обуревающие человека эмоции. В частности, еще и поэтому
виртуозная брань воспринимается рядовыми членами группы как
недоступное большинству искусство. Ср.:
49
Юрий Петрович Любимов вспоминал: «Мне Вольпин рассказывал,
как спасся с Эрдманом в лагерях, когда туда к уркам попали. Блатняга
к ним подходит: "Ну что, дать тебе в долг? Дать? Ну?" — пена уже у него
изо рта шла. Сейчас пришьет. И вдруг Вольпин выдает ему на двух
страницах зарифмованную матерщину. И блатняга обалдел. И идет у них
отвал. Театр. А они это любили. И Волышна с Эрдманом сразу
зауважали. Места на нарах уступили. И попросили матерщину на бис повторить»
(цит. по: Раскин 1995: 279).
Пристрастие определенной социальной группы к инвектив-
ному самовыражению находится в несомненной связи с
особенностями деятельности классового антагонистического
общества. В силу соответствующих взаимоотношений «высших»
и «низших» классов многие особенности субкультуры «низших»
классов рассматриваются «высшими» как заслуживающие
порицания, смешные, уродливые и т. д. Вульгаризмы (от лат.
«vulgaris» — общенародный, известный) являются наиболее
характерным примером. Появившись как результат деления
понятий (и их словесного воплощения) на священную и
обыденную части, они еще более усугубили свою шокирующую силу за
счет ассоциации с презираемыми слоями населения, восприни-
маясь как нечто, выражающее самую суть «низких» («подлых»
в старинном значении) людей.
1.6. Особенности инвективы
как средства материализации эмоций
Естественно, что человеческие эмоции могут выражаться
самыми различными средствами, притом не только словесно.
Более того, исходя из того, что эмоции проявляются в форме
непосредственного переживания, можно даже утверждать, что
язык — не всегда лучшее средство выражения эмоционального
мира человека. Ср. утверждение известного лингвиста К. А.
Долинина:
Личностная эмоция <...> стремится преодолеть знаковость языка
(Долинин 1978: 273).
Это преодоление наилучшим образом осуществляется с
помощью исследуемой лексики, которая успешнее любой
другой способна отразить личностную сторону эмоции, ибо слова
других групп не в состоянии передать «внесловесно» именно то,
для чего «не хватает слов», что поддается передаче разве что
с помощью «не-слов» — междометий.
Причина этого феномена видится прежде всего в природе
самих эмоций, которые, как очень древнее явление, способны
50
на передачу информации только в самом общем виде. Кроме
того, необходимо учитывать, что эмоции характеризуются
групповым характером, «стягиванием» сходных по качеству чувств
вокруг нескольких более общих.
Можно говорить о широком спектре нюансов внутри группы,
объединяемой одной модальностью (Витт 1983: 28). Эмоции
гнева, отвращения и презрения можно объединить в одну
«триаду враждебности» и даже увидеть в этой триаде
дополнительные элементы страдания и страха (Изард 1980: 290). Все эти
эмоции легко различимы в принципе, но в условиях бытовой
ситуации нередко вызываются все вместе, и тогда человек,
естественно, затрудняется в однозначном обозначении каждой из них.
Такой спектр субъективно недифференцируемых
эмоциональных нюансов удобно материализовать в виде единого
средства, берущего на себя сложную эмоциональную нагрузку.
Таким средством и является инвектива. В романе С. Моэма
«Луна и грош» есть выражение «You are a most unmitigated
cad!». Слово «cad» здесь можно понять как «хам», но также
(одновременно!) и как «бесчестный человек» и просто
«скотина»; другими словами, перед нами способ выражения целой
гаммы эмоций — как, разумеется, и соответствующие русские
инвективы, та же «скотина». В переводе Н. Ман эта фраза из
романа Моэма звучит: «Вы хам, и больше ничего!»; нельзя
сказать, что переводчица нашла оптимальный вариант, но ее
трудности легко понять.
Конечно, не только инвектива может служить таким
комбинированным средством выражения эмоций. Не следует
забывать, например, о различных ласковых обращениях типа
«Голубчик!», равно как и вообще разнообразных «куртуазных»
идиомах. Ср. нем.: «О Beste! glaube was man so verständig
nennt..» (Goethe), где «Beste!» соответствует русскому «Самая
лучшая!», «Дорогая!» и выражает целую гамму чувств: любовь,
уважение, преданность, верность и т. д.
Представляет интерес тот факт, что выражение гаммы
эмоций с помощью одного словесного средства находится в
связи со способностью сложных эмоциональных переживаний
концентрироваться на целостном образе человека, вызвавшем
это переживание (ср.: Вилюнас 1984: 67). Другими словами, к
конкретному оппоненту возможно очень общее эмоциональное
отношение.
Очевидно, это верно и в обратном смысле: неконкретное
обвинение в «отрицательности вообще» может
восприниматься и как мнение о каком-то конкретном отрицательном ка-
51
чесгве этого человека. Высказывание «Он непорядочный
человек» равносильно мнению «Он плохой человек», равно как «Он
плохой человек» можно сказать о лице, коего есть основания
обвинить в одном непорядочном поступке.
Аналогичным образом русские дети (а иногда и взрослые)
могут назвать «дураком» теле- или киногероя, который
вызывает у них отрицательные эмоции, даже если своей глупости
герой никак не проявил или, более того, выступает в амплуа
умного негодяя.
Вообще определенная детскость инвективного общения
заслуживает особого внимания. И. Хёйзинга вводит понятие «пу-
эрилизм», которое он определяет как «наивность и ребячество
одновременно» (Хёйзинга 1997: 194—195). В качестве примера
«официального пуэрилизма» он приводит сообщение газеты
«Правда» от 9.1.1935, из которого следовало, что в Курской
области местная советская власть за недостачу в поставках
зерна переименовала три колхоза — им. Буденного, им. Крупской
и «Красная Нива» в «Лодырь», «Саботажник» и «Бездельник»1.
Как видим, «пуэрилизм», наивная детская реакция на
нежелаемое развитие событий выразилась здесь в прямом инвектив-
ном поношении оппонентов.
1.7. Непристойность
как важный фактор повышения
эффективности инвективного
словоупотребления
Сила эмоциональной заряженносги той или иной ситуации
прямо пропорциональна значимости этой ситуации для
участников эмоционального общения. Естественно поэтому, что
эффект инвективы возрастает с ростом ее оскорбительности. Эта
оскорбительность может быть достигнута разнообразными
способами, и один из самых распространенных — придание
инвективе непристойного характера.
Понятие непристойности поддается определению с большим
трудом. Особая трудность заключается здесь в том, что это
1 Хёйзинга отмечает, что, хотя это усердие не по разуму со стороны
местного начальства вызвало порицание в ЦК ВКП(б), что привело к отмене
неумного решения, «сама духовная атмосфера выглядит от этого не менее
красноречиво. Манипуляции с именами типичны для периодов политической
экзальтации — как в дни Конвента, так и в сегодняшней России, которая
решила заново окрестить большие старинные города именами святых своего
нынешнего календаря» (Хёйзинга 1997: 195).
52
понятие, во-первых, сильно менялось с течением времени, а во-
вторых, носит национально-специфический характер. А. Аран-
го пишет:
Что такое «непристойное» (у автора — «бсценное», obscene. — В. Ж.)?
Вероятно, это искаженное или измененное латинское слово «scena»,
означающее «вне сцены». Следовательно, обеденное — это то, что
должно находиться вне сцены, иными словами вне театральных подмостков
нашей жизни. «Грязное» или обсценное слово — это такое, что
нарушает правила поведения на общественной сцене, такое, что
осмеливается озвучить то, что не следует видеть или слышать. Обсценность — это
понятие родовое; порнография — один из его видов (Arango 1989: 9).
К сожалению, это определение мало помогает делу именно
потому, что трудно определить, что может и должно
находиться на «общественной сцене», а что — нет. В одну эпоху
непристойное обозначалось тем же словом, что пристойное — в
другую, причем и совершаемое действие, и называемый
предмет, и т. п. оставались теми же самыми.
Не существует ничего непристойного для всего человечен
тва. Непристойным может выть только то, что в данной
национальной культуре и в данный момент определено как
непристойное.
Такой авторитетный справочник как «Британская
энциклопедия» предлагает следующее определение непристойности
(Obscenity):
Это то, что оскорбляет общественные представления о приличиях.
Как видим, перед нами типичная тавтология:
непристойное — это то, что не-пристойно. Понимая уязвимость этого
определения, автор словарной статьи добавляет:
Подобно красоте, понятие непристойности зависит от личных
пристрастий, что видно из невозможности дать ей удовлетворительное
определение.
Далее в статье говорится, что пятьдесят стран мира
подписали международное соглашение о контроле за непристойными
публикациями, однако действует это соглашение без
определения, что это такое. Страны-подписанты договорились, что
это понятие носит национально-специфический характер.
Специально изучавший проблему А. У. Рид определяет
непристойность как такой способ упоминания о некоторых
телесных функциях, который вызывает у адресата шок испуга или
стыда, обычно возникающий, когда мы видим, делаем или го-
53
ворим что-то «грязное». Для сравнения: нормальной реакцией
на простое («пристойное») упоминание о грязи, экскрементах
или телесных функциях является безразличие или
отвращение. Реакция же на инвективу, все это называющую, выглядит
как «щекочущее нервы возбуждение» («titilating thrill») (Read
1934: 264). Как видим, исследователь попытался объяснить
непонятное слово «непристойность» через столь же необъяснимое
понятие «грязное», но все же показал, что реакция на
«непристойную» инвективу в основном — эмоциональная, по силе
намного превосходящая ту, которая могла бы возникнуть от
буквального понимания смысла сказанного.
Свою трактовку понимания непристойного предлагает
Э. Берн. Он считает, что ощущение непристойности уходит
корнями в детство, когда только и возникает восприятие тех
или иных понятий как не-пристойных. Именно поэтому
англичанина не шокирует ни немецкое «Scheiße!», ни французское
«Merde!», и он может произнести их не смущаясь в любом
обществе: усвоенные в позднем возрасте, слова эти лишены для
него первичной образности, выглядят более абстрактными, чем
свое английское «Shit!» (все три слова понятийно соответствуют
русскому «говно»), которое сегодня хотя и получило права
гражданства в образованных слоях англоязычного общества,
но все же воспринимается как определенная грубость или
фамильярность.
Правда, если человек овладевает новым языком в
совершенстве, какая-то часть подобных слов из чужого языка
способна постепенно проникнуть на первичные уровни и зазвучать
непристойно, подобно их английским соответствиям. Однако
можно с уверенностью утверждать, что даже для очень
неплохо знающих английский язык русских слово «fuck» звучит
несравненно менее вульгарно и грубо, чем для тех, для кого это
слово является родным. Соответственно русский мат довольно
невозмутимо воспринимается абсолютным большинством
англоговорящих, прекрасно владеющих русским языком.
Традиционно воспитанная девушка-англичанка невозмутимо может
произнести русское матерное слово, английское соответствие
которому она не произнесла бы ни под каким видом.
Таким образом, по Берну, ощущение непристойности
изначально присуще человеку. Слово становится непристойным,
если оно сопровождается отвратительным первичным образом,
идущим от детских ощущений. В основе своей такие слова
имеют отношение к запаху и вкусу, а также к скользкому
прикосновению (Berne 1978: 8—10).
54
Данная трактовка представляется уязвимой для критики.
Отсутствие стыда у животных и первобытного человека
зафиксировано в многочисленных исследованиях этологов и
этнографов (Берн 1988; Берндт, Берндт 1981; Линден 1981;
Лоренц 1977; Тих 1970; и мн. др.). Нет стыда и у маленьких детей.
Так что есть все основания считать стыд, а стало быть,
ощущение стыда в «непристойной» ситуации понятием
благоприобретенным, социально воспитанным. Спокойное же
восприятие иноязычной непристойности, соответствующей данной
инвективе, можно легко объяснить не изначальными
инфантильными образами, а особенностями восприятия иноязычной
культуры вообще.
Исходя из сказанного, целесообразно считать непристойным
некий поступок, а в вербальном плане — название этого
поступка (действия, качества, предмета), если они способны вызвать
у адресата благоприобретенное ощущение своей крайней
неуместности. При этом важным параметром восприятия
непристойного поступка, предмета и т. д. или его упоминания является
шок испуга или стыда, то есть ярко возникающие негативные
эмоции. Определение объема непристойного носит в данном
социуме выраженный исторический и национальнск:пецифиче-
ский характер, хотя, по-видимому, во всех культурах понятие
непристойного связывается прежде всего с сексуальной сферой
жизнедеятельности.
Полезно различать два понятия, вводимые Т. Джеем (Jay
1999:108): «offensiveness» и «offendedness». «Offensiveness» можно
перевести как «оскорбительность» в смысле содержания в
слове отрицательного или вызывающего отвращение значения.
Чем оскорбительнее слово, тем сильнее оно табуируется,
запрещается к употреблению. Таким образом, «оскорбительность»
есть свойство самого слова, изначально присущий ему
оскорбительный смысл. Русский мат в «приличном обществе»
оскорбителен сам по себе, безотносительно к личности говорящего или
слушающего. «Offendedness» же есть реакция слушающего на
оскорбление в его адрес, ощущение обиды или оскорбленнос-
ти. Как видим, разница здесь значительная, потому что
объективная оскорбительность слова еще не обязательно вызывает
субъективную оскорбленность: за тот же самый мат кто-то
оскорбится и подаст в суд, а кто-то презрительно или
равнодушно отмахнется: «Собака лает, а ветер носит». Ср.
презрительную реплику: «Ты меня оскорбить не можешь!»
Как видим, некоторые особенности непристойного делают
это понятие очень удобным для использования в составе ин-
55
вективы. Представляется целесообразным выделять в инвек-
тивном вокабуляре «табу-семы» (термин см.: Булдаков 1981:
60), то есть единицы смысла, назначение которых —
шокировать участников общения. Табу-сема может присутствовать в
осмысленном слове («хуй» вместо «мужской половой орган»,
«член» и т. п.), а может добавляться без буквального смысла,
исключительно для придания высказыванию шокирующей
непристойности («Я туда, на хуй, не пойду»). Напрашивается
аналогия с «пустыми генами», не отвечающими ни за какую
функцию организма и тем не менее делающими в случае их
отсутствия невозможным функционирование «ответственных»
генов: «Я туда не пойду» и «Я туда, на хуй, не пойду» — разные
высказывания по производимому впечатлению и даже
информативности.
Роль табу-сем хорошо видна там, где простое добавление
содержащих их слов делает все высказывание резко
сниженным, шокирующим и, безусловно, более эмоциональным. В
английском языке вполне литературное «stark naked»
(«полностью обнаженный») можно сделать непристойным просто за
счет добавления слова «bollocks» (тестикулы, «яйца»), то есть
«stark bollocks naked», что как будто бы ни на йоту не прибавит
смысла, но резко усилит вульгарную выразительность. Англ.
«absolutely» точно так же можно превратить в грубость, вставив
прямо в середину (!) слова вульгарное «bloody»: «absobloody-
lutely». Ср. другие примеры^ так называемых «слов-сандвичей»
в английском языке: «of-bloody-course», «hoo-bloody-rah», «im-
bloody-possible», «irrefuckingsponsible»; «Outside, mister. Out
bloody side»; «What time is it?» — «It is half-past fucking four»
(Sagarin 1969: 93; Rawson 1989: 51).
В следующем примере из американского телефильма
вульгарное слово «fucking» добавляется в высказывание в
нарушение всех законов грамматики; непонятно даже, каким
членом предложения оно является: «If you embarras me like that
again, Fil fucking kill you!»
Перевести на русский подобные сочетания можно только
попытавшись подобрать адекватные слова с другим, но равно
вульгарным значением: «Совсем, блядь, голый», «невозблядь-
можно», «Я тебя, на хуй, убью». Как видим, с грамматической
или лексической стороны это совсем другая конструкция или
слово-урод. Немного ближе к английской модели примеры
вроде следующих:
Я художник, понял? Художник! Я жену Хрущева фотографировал!
Самого Жискара, бляаь, д'Эстена\ (Довлатов).
56
Или:
А внучек занимается по шахматно-музыкальной линии во Дворце
пионеров, что на Ленинских, мать его, горах (И. Яркевич, цит. по: Буй
1995: 179).
Пример из фарерского языка: «Кота lort fyri», где «кота
fyri» — устойчивое сочетание или даже составное слово,
означающее «попадать», a «lort» — винительный падеж от «говно».
Из «попадать», таким образом, получается что-то вроде «по-
паговнодать».
Появление в высказывании табу-семы немедленно включает
эмоциональный механизм создания карнавальной атмосферы,
обязательного атрибута инвективного употребления.
В приведенных примерах показательна утрата
первоначального буквального значения грубых слов. Постепенное
стирание в сознании говорящего мотивированности слова
содействует процессу изменения его значения. Однако в данном
случае можно наблюдать известную диалектичность этого
процесса: не исчезнувшая полностью внутренняя форма слова,
сохраняя табу-сему, продолжает оказывать влияние на его снижен-
ность.
Яркий комический пример сказанного — рассказ
американского моряка о времени, проведенном на берегу:
I had a fucking good time. First I went to a fucking bar where I had a few
nicking drinks, but it was filled with de-fucking degenerates. So I went down
the fucking street to another fucking bar and there I met this incredibly fucking
good-looking broad and after awhile we went to a fucking hotel where we
rented a fucking room and had sex (Rawson 1989: 159).
В очень приблизительном переводе:
Провел время я шикарно — еб твою мать! Сперва пошел в какой-то
ебаный бар, выпил там пару ебаных стаканов, но там было полно каких-
то полуебаных кретинов, так что я пошел дальше по той же ебаной
улице, нашел другой ебаный бар и в том баре встретил жутко симпатичную
ебаную блядь. И чуть погодя мы с ней пошли в какой-то ебаный отель,
сняли там ебаную комнату и в той комнате занялись сексом.
Как видим, словечко «fucking» совершенно не осознается
говорящим в его подлинном значении — собственно, как и
«ебаный» в русском переводе: иначе моряку не потребовалось
бы выражаться так элегантно: «занялись сексом», когда речь
зашла уже о непосредственно половой близости.
Несколько иной пример — когда грубое слово просто
заменяет нейтральное и эмоционально отличается от него исклю-
57
чительно наличием табу-семы, ради которой и совершается
замена. В русском языке это что-нибудь вроде: «Чтобы я из-за
такого говна расстраивался? Да ни за что!» Ср. нем.: «Nichts
kann er allem entscheiden, mit jedem Furz (Kleinigkeit) kommt er
eingelauten» (пример см.: Девкин 1979: 237). По-русски это могло
бы звучать примерно как «Ничего-то он сам решить не может,
звонит из-за всякой херни!». (Нем. «Furz», однако, означает
непристойный звук.) Заменяемое нейтральное слово в обоих
случаях — нечто подобное «ерунде» или «пустяку».
В этой связи — показательный анекдотический рассказик,
который, впрочем, вполне мог бы состояться на самом деле:
Стоит этакая хуевина, подошел какой-то хуй, крутанул какую-то ху-
енцию, а она: «Хуяк! Хуяк!» — и на хуй отсюдова улетела.
Можно согласиться, что, несмотря на шестикратное
использование одного и того же корня в коротком предложении,
сказанное, в общем-то, понятно.
Показательно, что табу-семы в составе просто добавляемых
вульгаризмов могут приобретать в речи настолько
естественный вид, что эмоционально нагруженным оказывается как раз
неиспользование соответствующих сем. Так, если сержант в
британской армии крикнет своим солдатам: «Get your fucking
rifles!» (приблиз. «В ружье, еб вашу мать!») — его призыв будет
воспринят как нечто само собой разумеющееся; но если тот же
самый приказ последует без вульгаризма «fucking» (то есть
просто: «Get your rifles!» — «В ружье!»), немедленной реакцией
солдат будет ощущение опасности и необычности ситуации
(Spitzbardt 1966: 108).
В ряде случаев табу-сема может присутствовать в слове, за
которым в другой культуре трудно заподозрить
непристойность, вульгарность или грубость. Французские глаголы «foutre»
и «ficher» означают всего-навсего «делать», иногда «давать», но
«foutre» в словаре даже сопровождается пометой «вульг.». У
«ficher» репутация тоже не намного лучше. Эти слова настолько
грубы, что переводить их, например, на русский или
английский языки приходится с добавлением вульгаризмов. «Qu'est-
ce que tu fois?» на английский можно перевести: «What the hell
are you doing?», а на русский, вероятно: «Что ты, блядь (= еба-
ный-в-рот), делаешь?» Точно так же: «Mon frangin ne fout rien
en classe» = «My brother doesn't do a damn thing in class» = «Мой
братан ни хул в школе не делает».
Но если те же «хуй» или французские «foutre» и «ficher» все-
таки имеют, кроме табу-семы, и вполне определенные другие
58
смыслы, есть слова, у которых, кроме табу-семы, вообще
ничего больше нет. То есть они даже еще больше опустошены,
чем «хуй» в вышеприводимом «Я туда, на хуй, не пойду». Ср.:
«Куда девалась эта книга?» и «Куда девалась эта блядская книга?»
Слово «блядский» решительно не имеет смысла ни в этом, ни
в любом другом высказывании. Здесь важна исключительно
его связь с вульгарным «блядь», что и дает ему право
«работать» в качестве табу-семы. «Блядская книга» — это та же
«книга», но с дополнительным значением резко отрицательного к
ней отношения, много хуже, чем какая-нибудь «ненавистная
книга».
1.8. Социально-психологические
особенности инвективного
словоупотребления
Естественно, что особенности инвективы как средства
словесного выражения эмоций тесно связаны с проблемами
функционирования инвектив в обществе. Рассмотрим некоторые из
этих проблем.
Прежде всего необходимо отметить, что возможность и
желательность обращения к инвективе, а также самый выбор
того или иного инвективного средства находятся в несомненной
связи с социальным положением говорящего. В некоторых
социальных культурах эта связь видна особенно хорошо.
Можно говорить о некоем «инвективном континууме»,
которым по-разному пользуются разные слои общества: как
правило, для более образованных слоев некоторые инвективы
кажутся слишком резкими, и прибегают к ним сравнительно
редко; те же инвективы для менее образованных слоев
кажутся более мягкими, отчего и употребляются гораздо чаще.
В то же время инвективы, которые представляются
образованным слоям мягкими, в среде малообразованных вообще не
котируются, а те, что воспринимаются высшими слоями и как
слишком грубые, считаются низшими слоями только
средними, и т. д. Скорее всего, ни одна социальная (под)группа не
использует на практике весь национальный инвективный
континуум.
Разная оценка инвективного континуума используется и в
общении низших с высшими, и т. д. То, что очень сильно для
средних классов в общении с друзьями или равными себе,
может считаться очень слабым в общении с теми, кто ниже:
с более молодыми, младшими по положению и т. д. Очень
59
сильные инвективы для среднего класса в среде низших
классов считаются вполне приемлемыми для общения с равными
себе, и т. д.
С другой стороны, очень многое зависит и от более мелкой
подгруппы: другу можно адресовать инвективу, недопустимую
с малознакомым человеком, в своей компании можно сказать
то, что невозможно произнести за ее пределами. Ср. замечание
американца:
В наших краях мы зовем друг друга «hicks» и «hillbillies» (приблиз. рус.
«деревенщина». — В. Ж.), и это воспринимается нормально. Но если сюда
переезжает калифорниец и зовет нас так, мы обижаемся (Aman 1981: 9).
Известен случай, когда в 1934 г. за подобное оскорбление
один американец застрелил другого (Rawson 1989: 193).
Существуют (редко) такие подгруппы, в которых престиж и
власть в обществе ассоциируются только с полным отказом от
грубых выражений. В высших классах общества, говорящего на
суахили, даже ударив себя молотком по пальцу или обнаружив,
что у машины лопнула камера, неудачник лишь процитирует
строки из Корана: «Поистине, Господь над сущим властен
всем!»
И наоборот, те суахили, кто не пользуется влиянием и
особым уважением (женщины, старики, иждивенцы, молодежь, не
обладающая собственностью), часто обращаются к инвективам.
Характерно, что если в юности человек прибегал к инвективам,
то, приобретя общественный вес, он полностью отказывается
от инвективизации речи (Swartz 1988—1989: 209—210).
Ср. также:
Что бы ни произошло — ненормативной лексики не будет. Тегеранец,
доведенный до крайней степени возмущения, может в сердцах бросить в
лицо собеседника фразу: «Извините меня!» — и только. Философское
спокойствие и вера в предопределенность судьбы — черты национального
характера (Московские новости. 1977. Июнь).
Справедливости ради стоит отметить, что, как будет
показано ниже на примерах, в языке фарси, на котором говорят в
Иране, достаточно весьма грубых инвектив. Так что автор
газетной статьи, скорее всего, имел в виду, что иранцы
предпочитают обходиться без непристойностей не всегда, а лишь в
определенных условиях.
В большинстве национальных культур и ареалов вульгарные
инвективы известны буквально каждому члену общества, к
какому бы классу он ни принадлежал, но произнесение соот-
60
ветствующих слов в образованных слоях может считаться
настолько недопустимым, что даже признаться в
соответствующем умении означает потерю лица. Поэтому уверениям
информантов в незнании инвектив можно доверять с большими
ограничениями. Ср.:
Однажды пьяный индеец племени оджибва, утверждавший в
разговоре со мной, что в его языке нет оскорбительных слов, едва не
прикончил меня, когда я, эксперимента ради, обозвал его «желтой собакой»
(Aman 1981: 9).
Ограничения на употребление непристойного словаря могут
частично или полностью игнорироваться в любом классе
общества, в том числе самом образованном, включая высших
политических деятелей, видных ученых, художников и т. д.
Примеры тому встречаются в изобилии на страницах мемуаров,
художественной литературы, писем и т. п. Ср. уже приводившийся
выше пример — признание выдающегося хирурга H. М.
Амосова. Музыканты Большого театра, отказываясь играть сочинения
современного композитора,
протест выражали на полях оркестровых партий, и не какими-нибудь
нотами, а настоящим боевым матом (Каретников Н. — Огонек. 1990. № 1).
Ср. также:
Сталин <...> сделал примерно такое заявление: <...> Ленин нам
оставил пролетарское государство, а мы его просрали. Он буквально так
выразился, по словам Берии (Хрущев Н. С. — Огонек. 1989. № 31).
Ссора вспыхнула тяжелейшая, с матерщиной и угрозами. Сталин
материл Тимошенко, Жукова и Ватутина, обзывал их бездарями,
ничтожествами, ротными писаришками, портяночниками. <...> Тимошенко с
Жуковым тоже наговорили сгоряча немало оскорбительного в адрес
вождя. Кончилось тем, что побелевший Жуков послал Сталина по матушке
и потребовал немедленно покинуть кабинет и не мешать им изучать
обстановку и принимать решения (Золотое кольцо. 1995. 15 июля).
Когда Хрущев подошел к моей последней работе, к автопортрету, он
уже куражился: «Посмотри лучше, какой автопортрет Лактионов
нарисовал. Если взять картон, вырезать в нем дырку и приложить к
портрету Лактионова, что видно? Видать лицо. А эту же дырку приложить к
твоему портрету, что будет? Женщины должны меня простить — жопа». И
вся его свита мило заулыбалась (Огонек. 1989. № 15).
Некоторое удивление вызвала у меня способность Черномырдина
ругаться. <...> У Виктора Степановича мат был нормальным языком
общения. Горбачев, кстати, без мата даже на Политбюро фразы произнести
не мог (Коржаков А. — Аргументы и факты. 1997. № 37).
61
В дивизии днем в уборную выйти — страшное, немыслимое дело! Мне
рассказывали: начальник штаба у Людникова плюхнулся в блиндаж,
крикнул: «Ура, ребята, я посрал!» Поглядел, а в блиндаже докторша
сидит, в которую он влюблен (В. Гроссман).
Писатель. Я — писатель.
Читатель. А по-моему, ты — г<овн>о!
(Писатель стоит несколько минут потрясенный этой новой идеей и
падает замертво. Его выносят.) (Д. Хармс.)
Чтобы известным стать,
Не надобно горенье,
А надо обосрать
Известное творенье.
(Б. Окуджава)
До усеру испугались смельчаки Головкиной (Плисецкая М. —
Аргументы и факты. 1994. № 34).
Вовсе я не иностранец и сижу не средь мутак.
Я обычный наш засранец, неврастеник и мудак.
(С. Юрский)
Справедливости ради отметим, что русский ареал в данном
отношении — отнюдь не исключение. Имеются многочисленные
свидетельства, что, например, элита британского общества
отнюдь не брезгует соотъетклъующим вокабуляром. Со времен
короля Генриха VIII в Великобритании утвердилось выражение
«Ругаться, как лорд» (Sharman 1884: 195).
В этой связи можно упомянуть комичный эпизод,
попавший в английские газеты, когда английский наследный принц
Чарльз, выступая перед австралийскими школьниками,
выронил листок с написанной речью и в сердцах воскликнул: «Oh
God, my bloody bit of paper!» (Morning Star 1983. 9 апреля).
Дословный перевод здесь невозможен, потому что «God!»
(«Боже!») в английской практике — очень грубое
богохульство, a «bloody» и вовсе непереводимо; вероятно, по-русски
более или менее адекватно все это можно было бы передать как
«Ах ты, блядь! Ебаный листок!».
Между прочим, по свидетельству газеты, в листке,
вызвавшем такую реакцию принца, было якобы написано, в
частности: «Сквернословие — привычка презренная и
глупая...»
И все же можно говорить о предпочтении или
непредпочтении общения с помощью инвективной лексики в различных
социальных подгруппах. Особенно заметна разница в
употреблении инвектив в зависимости от конфессиональной принад-
62
лежности. По некоторым наблюдениям, католики-мужчины
обращаются к инвективе чаще, чем протестанты; православные
в Хорватии и Боснии — чаще, чем католики; христиане — чаще,
чем мусульмане, причем эти последние прибегают в инвектив-
ном плане к именам Иисуса, Божией Матери, католическим
постам, Папе Римскому, кресту и т. п., но никогда не поносят
свои собственные святыни.
Интересны инвективные предпочтения в школе. Немецкие
ученики и учителя в три раза чаще, чем остальное население,
употребляют инвективы, говорящие о глупости оппонента.
Дисциплина и поведение учеников служат сюжетом для
инвектив у 12,5% учителей и только 2,1% учеников. Напротив, лень ин-
вективизирована у учеников в 18% всех употребляемых
инвектив и в 10,8% у учителей.
Наконец, стоит упомянуть об анализе инвективных
предпочтений умственно отсталых и нормальных людей в США.
Выяснилось, что умственно отсталые считают наиболее
грубыми инвективы, связанные с интеллектом, характером и
национальной принадлежностью или внешностью оппонента.
Нормальные люди предпочитают касаться характера
оппонента в целом. Особенно важно, что среди здоровых людей
чаще, чем среди больных, наблюдается склонность к
употреблению некоторых конкретных непристойностей, что, по
мнению исследователей, указывает на их большую
зависимость от социальных ограничений (Kiener 1983: 163—165, 242,
276).
Интересно отношение к сквернословию в возрастном
аспекте. Не вызывает сомнения существование своеобразных
детских инвектив. Таким образом, инвективы сопровождают
человека практически «с младых ногтей». Характерные
инвективные возгласы встречаются у детей чуть ли не с первых
попыток заговорить. Большей частью дети выражают свое
неудовольствие словесно. С возрастом инвективные
возможности увеличиваются, появляются самые разнообразные
саркастические замечания, обзывания, дразнение,
невыгодные сравнения, сплетни, клеветнические заявления и другие
способы выражения неприязни. Стратегия инвективного
общения взрослых обнаруживает удивительное сходство с
детскими дразнилками. Среди функций дразнилок —
несколько полностью совпадающих с вербальной агрессией
взрослых.
Т. Джей приводит результаты собственных подсчетов
частоты публичного употребления инвектив американскими деть-
63
ми в возрасте от 1 года до 12 лет1. Дети до одного года просто
повторяют услышанные ими слова (например, «fuck»). В первые
два года жизни соответствующий словарь вырастает до двух-
трех слов, к школьному возрасту их становится около
двадцати. К подростковому возрасту слов становится примерно 30,
затем это количество резко возрастает и достигает пика.
Однако после этого все зависит от социально-экономических
переменных. Для сравнения: публично звучащий инвективный
лексикон взрослого американца может колебаться от 20 до 60 слов
(Jay 1999: 92).
Многофункциональность этого вида словесного общения
естественным образом подводит к неоднозначности его для
детского коллектива (Осорина 1983: 40;Jersild 1957:158). В
языке суахили отмечается своеобразный исключительно детский
вариант мата: «Mamako atomba!» («С твоей матерью
совокуплялись!») Особенность инвективы — в подчеркивании с ее
помощью женской сексуальности, которая у суахили не поощряется
(Swartz 1988-1989: 222-223).
Однако во многих культурах дети все чаще усваивают и
взрослый инвективный репертуар, причем активно им
пользуются. При этом непристойность инвективы порой не
приходит детям в голову, они просто считают инвективу нормальным
эмоциогенным средством:
Жена его положила сына в хомут, а я, кажется, пятилетний, пришел
с мороза погреться и вытереть сопли, увидел такое дело и, считая нормой
русского языка все матерные слова, восхищенно сказал: «Ну, Анна, в такую
мать, ты и придумала!» (В. Крупин).
Показательно, что взрослое население в соответствующих
ареалах нередко воспринимает подобное поведение детей без
драматизации. Автор книги по семейному воспитанию,
известный американский психотерапевт, почти тридцать лет тому
назад предлагал матерям следующим образом реагировать на
использование бранной лексики в их присутствии:
Такие слова мне очень не нравятся, но я знаю, что мальчики ими
пользуются. Мне бы не хотелось их слышать. Прибереги их для раздевалки
в спортзале. В нашем доме они запрещены (Ginott 1969: 196).
1К сожалению, на материале русского языка никаких подсчетов до сих
пор не велось, отчего здесь и во всех других случаях приходится
обращаться только к американским выкладкам из книг Т. Джея, который приводит
обильные данные как собственных экспериментов, так и сведения из других
доступных ему англоязычных источников.
64
Особую роль инвектива играет в подростковом возрасте,
возрасте становления личности и серьезных попыток
самоутверждения. Инвектива, внешне полностью идентичная
«взрослой», призвана интегрировать подростка в общество старших
и одновременно — служить средством защиты от характерных
для этого возраста страхов сексуального или иного толка.
Здесь в первую очередь кроется объяснение того, что именно в
подростковой среде инвективное общение популярнее, нежели
во многих взрослых подгруппах1.
Газеты Мордовии сообщили читателям, что 74% граждан
этой республики считают мат лучшим средством снятия
стресса (Радио «Свобода», обзор региональной прессы от 20.03.2000).
Сомнительно, чтобы в этом отношении Мордовия отличалась
от других российских регионов. Согласно опросам ВЦИОМ,
матерятся 70% россиян, причем ни образование, ни место
жительства особой роли не играют (Известия. 2000. 12 апреля)2.
Интерес представляет изучение обращения к
сквернословию в зависимости от половой принадлежности инвектанта.
До сравнительно недавнего времени можно было с
уверенностью говорить, что в большинстве социальных групп
инвектива, во всяком случае непристойная, воспринимается как
прерогатива мужской части населения. Разумеется, за
женщинами остается «право» выражать в словах агрессивные
чувства, но исключительно своими, «не-мужскими» средствами.
Ср. мнение, записанное в Полесье: «Бабы праклинают,
мужики матерацца» (Успенский 1983: 36). Использование же
женщинами непристойной брани ощущалось почти повсеместно
как некая измена своему половому статусу.
1 Любопытно, что в последние годы «граффити» — надписи, делаемые
подростками на заборах, — серьезно меняются по содержанию: место
непристойностей все больше вытесняется названиями любимых музыкальных
ансамблей или жанров, а также спортивных команд («Спартак — чемпион!»).
Можно связать это изменение с возросшей свободой половых отношений, в
результате чего подросток уже не может самоутверждаться за счет
демонстрации своей «сексуальной осведомленности» и вынужден искать другие пути.
2 В. П. Нерознак (1996: 116) предлагает ввести понятие «нестандартная
языковая личность» — «носитель, производитель и использователь
маргинальной языковой страты». Проявления такой личности автор обнаруживает
в текстах анти-культуры. В них, согласно В. П. Нерознаку, используется
ненормативная лексика, которую он называет «абсентной» (вероятно, опечатка,
имеется в виду «обеденной», т. е. непристойной). Не возражая против
терминологии автора, придется признать, что если 70% россиян пользуются матом,
число «нестандартных» граждан нашей страны гораздо больше, чем число
«стандартных», что по определению абсурдно.
3 В. И. Жельвис
65
Объяснений того, почему грубая инвектива взята на
вооружение прежде всего мужчинами, может быть предложено
несколько. Одно из таких объяснений — связь между
употреблением резко сниженной лексики и степенью доминантности
личности. Свободное владение соответствующим вокабуляром
характерно во многих национальных культурах для социально
доминирующих индивидов (руководитель предприятия,
армейский офицер, глава семьи, просто мужчина в ряде ситуаций
и т. д.). И наоборот, для их антиподов это словоупотребление
табуировано или сильно ограничено. По определению
руководители доминируют над подчиненными, отчего неудивительно
движение инвективы «сверху вниз». Обратное движение
воспринимается как открытый вызов, стремление вызвать
конфликт:
Сегодня с денщиком:
ору ему
— эй,
наквась
штиблетину,
чтоб видеть рыло в ней! —
И конешно, —
к матушке,
а он меня
к моей,
к матушке,
к свет
к Елизавете Кирилловне!
(В. Маяковский)
Что же касается женщин, то их стремление избегать
слишком резкого инвективного словоупотребления имеет как
минимум два объяснения. Первое из них — меньшая, сравнительно
с мужчинами, возможность социального доминирования: как
правило (разумеется, знающее исключения), в ситуации
общения «женщина — мужчина» социально доминирует мужчина.
Как показали эксперименты американских исследователей,
женщины, повысившие свой статус (так называемые женщины-
феминистки, борющиеся за равноправие с мужчинами),
вместе со статусом приобретают и соответствующий инвективный
вокабуляр (Rieber е. а. 1979).
Второе объяснение коренится в самом мужском характере
древних табу и соответствующей их вербализации.
Общеизвестно, что обращение к табуированным словам и понятиям
(в современном обществе — к инвективной лексике) особенно
осуждается, если имеет место в присутствии женщин и детей,
66
не говоря уже о почти повсеместном запрете на использование
инвектив самими женщинами и детьми. Полезно вспомнить,
что в первобытном обществе именно женщины и дети, как
правило, исключались из обрядов ритуальной деятельности.
Более того, простое присутствие на чисто мужских ритуалах,
особенно связанных с генеративным (порождающим) циклом,
грозило женщинам и детям немедленной смертью.
Использование соответствующего вокабуляра тоже было строго
наказуемо. Вполне возможно, что нынешнее стремление избегать
инвективного словоупотребления ведет происхождение с тех
времен.
Необходимо отметить, однако, что существуют и такие
группы, в которых акценты расставлены прямо
противоположным образом, то есть инвективизированная речь
изначально является прерогативой прежде всего женщин. Таковы,
например, китайский ареал, ряд подгрупп на территории
бывшей Югославии. Употребляемые женщинами в Китае
инвективы, с европейской точки зрения, очень грубы, носят
сексуальный, матерный характер и вовлекают наименование самого
оппонента или его родственников обоего пола. Вообще
-женщины избегают сквернословить в присутствии мужчин (Kiener
1983: 290).
Есть подобные сравнительно небольшие женские подгруппы
и в развитых европейских странах. Наиболее грубыми
сквернословами в Англии всегда считались базарные рыбные
торговки (fishmongers). На Фарерских островах и мужчины не без
оснований опасаются острого языка работниц рыбных
фабрик.
Объяснение этому феномену видится в совершенно ином
взгляде на изначальную роль инвективы в обществе, а
именно—в возможности использовать инвективу не как символ
социального доминирования, а, наоборот, как оружие слабых,
как некое подобие компенсации за невозможность ответить
обидчику более ощутимыми средствами. Именно такая
ситуация прослежена на материале языка суахили, где, как было
показано ранее, инвектива нехарактерна для тех, кому нет
особой необходимости доказывать свое социальное превосходство.
Женщины-суахили, безусловно, стоят социально ниже мужчин,
и поэтому их обращение к инвективе психологически
оправдано (Swartz 1988-1989: 222).
Однако в последние десятилетия и во многих других
ареалах наблюдается серьезное изменение акцентов подобной
«половой предпочтительности». В современной вьетнамской
3*
67
традиции инвектива вполне возможна во всех половых и
возрастных группах, в то время как сравнительно недавно она
была «привилегией» исключительно мужчин.
Равным образом исследователи англоязычного ареала
отмечают тенденцию к практическому исчезновению различия по
частоте сквернословия и желания обратиться к нему в
зависимости от пола. Почти все опрошенные американки
сквернословят вслух или про себя, то есть не отличаются в этом
отношении от мужчин. Правда, большая часть из них
предпочитает воздерживаться от сквернословия при детях.
Большинство опрошенных заявили, что сквернословие в их
присутствии лиц противоположного пола не вызвало бы у них
возмущения. Характерно, что шестеро из семерых, кто все же
возражал против такого поведения, были мужчины. Другими
словами, сегодня в США женщины относятся к собственному
сквернословию или к сквернословию мужчин в их
присутствии спокойнее, чем мужчины к сквернословию женщин в
такой же ситуации.
В целом пока мужчины-американцы сквернословят в
полтора раза чаще, чем женщины.
Это заметно уже на детях. По подсчетам Т. Джея,
проанализировавшего 663 инвективных высказывания американских
детей от одного года до десяти лет, 496 из них принадлежали
мальчикам и только 167 — девочкам (Jay 1999: 93).
Вопрос о мужских и женских инвективных предпочтениях
заслуживает более подробного рассмотрения. Очевидно, что
эти предпочтения красноречивы и достаточно разнообразны.
Так, женщины и мужчины, как правило, предпочитают
разные оскорбления, обращаясь к своему или другому полу, а
когда пользуются теми же словами, нередко вкладывают в
них не совсем одинаковый смысл. В одном эксперименте в
США женщины ассоциировали оскорбление «bastard»
(«ублюдок», «выблядок») с такими понятиями, как «шумный»,
«ограниченный», «лживый», а мужчины — с «холодный», «не
заслуживающий доверия» и «обманщик». «Bitch» («сука») у
женщин — «холодная», «бестактная», «лживая», у мужчин —
«бестактная», «неискренняя» и «доминирующая» (Jay 1999:
169). Слово «ass» («задница», «жопа») американки используют
главным образом в разговоре о гомосексуалистах или просто
как часть тела; мужчины же — только как часть тела. Ряд слов
типа «cock», «cunt», «dick» (вульгарные названия половых
органов) у мужчин обозначают, как правило, соответствующие
части тела, а у женщин они вообще не зарегистрированы, как
68
и «tits» {рус. приблиз. «титьки» или «сиськи», но намного
грубее) или «pussy» (тоже очень трудно переводимое слово,
означающее «киска» или женский половой орган и звучащее
достаточно грубо, хотя, вероятно, мягче, чем рус. «пизда»). Слово
«piss» («сцать») употребляется женщинами преимущественно
для выражения гнева, а мужчинами для обозначения
соответствующего процесса.
Вот американский список наиболее резких оскорбительных
обращений с приблизительными русскими соответствиями:
женщина к мужчине: «bastard» («выблядок»), «prick» («хуй»);
мужчина к женщине: «cunt» («пизда»), «slut» («потаскуха»);
мужчина к мужчине: «faggot» («пидор(ас)») и общее
оскорбление;
женщина к женщине: «bitch», «slut» (R. Preston, К. Stanley;
пит. no: Jay 1999: 169).
На основе детального опроса студенческой аудитории
американские исследователи Д. Холланд и Д. Скиннер составили
тендерную («половоразличительную») модель оскорблений,
построенную на понятиях сексуальности, привлекательности и
остроте восприятия («sensitivity»). По их данным, оскорбления
в адрес женщин затрагивают следующие особенности этого
пола:
обещание интимных отношений и невыполнение
обещанного («dickteaser»); русское соответствие, вероятно, — «блядь»;
социальная девиантность, т. е. нарушение привычных норм
поведения, когда женщина требует от мужчины больше
положенного («bitch»); русское соответствие, скорее всего, —
«сука»;
уродливость, непривлекательность («scag», «dog»); ср. рус.
«мордоворот»;
сексуальная распущенность («cunt», «slut»); рус. «блядь».
Оскорбления в адрес мужчин подразумевают:
женственность, слабость («homo», «fag», «wimp»); рус.
«блядь»;
неискренность, подлость («bastard», «prick», «asshole»); рус.
«козел»;
непригодность, непривлекательность («nerd», «jerk»); рус.
«говно»;
привлекательность, но с большой долей агрессивной
сексуальности («wolf», «macho», «stud»); рус. «жеребец» (пит. по: Jay
1999: 170).
Как видно из этого списка, основное место в оскорблениях
одного пола другим занимает сексуальность в самых разных
69
вариантах. Женщин могут обвинять в сексуальной
распущенности, мужчин с обычной сексуальной ориентацией — в
гомосексуализме или излишней женственности (ср. рус. «баба!»,
обращенное к мужчине). Оба пола обвиняют друг друга в
неискренности, уродливости, сексуальной ущербности и
стремлении доминировать.
Женщины из низших слоев американского общества,
обильно уснащающие свою речь запрещенной лексикой, в большой
степени делают это по той же причине, по какой так же ведут
себя подростки: и тот, и другой слой общества не могут за счет
сквернословия существенно понизить свой социальный статус:
он и так уже практически самый низкий. Им просто нечего
терять, в то время как в средних классах общества обильное
сквернословие, особенно женское, все еще осуждается.
Необходимо, впрочем, отметить, что материалы об общем
отношении женщин к сквернословию достаточно
противоречивы. Впрочем, отмечается, что женские инвективы, как
правило, мягче мужских. В частности, из многочисленных
источников видно, что мужские «граффити» — вульгарные надписи
на заборах, в общественных туалетах и т. п. — более
агрессивны сексуально, иногда выражают ксенофобский
(расистский) взгляд авторов и вообще носят гораздо более
антиобщественный характер, чем женские надписи (Jay 1999: 167).
Есть сведения, что в той ситуации, где американские мужчины
воскликнут: «Damn!» или «Shit!», американки выразятся: «Oh,
dear!», «Goodness!», «Fudge!», т. е. обойдутся мягкими
эвфемизмами, заменами грубых слов типа, рус. «Ё-моё!» (R. Lakoff; пит.
по: Jay 1992: 87).
Особенно любопытны результаты сравнения речи среднего
класса американцев и англичан и речи малообразованных
слоев общества. В отношении культуры речи эти последние
иной раз выглядят консервативнее, чем те слои, которым нет
необходимости доказывать свою «культурность».
Напрашивается аналогия с одеждой: в литературе можно встретить
утверждение, что, например, на свадьбе образованных слоев
чопорного английского общества легче встретить гостя в
повседневной одежде, чуть ли не в джинсах и кроссовках, чем на
свадьбе представителей рабочего класса, где абсолютно
обязательны строгие вечерние костюмы. Соответственно про-
фанизмы в устах женщины из низших слоев считаются ими
самими недостойными для «порядочной женщины» в гораздо
большей степени, чем в образованной среде. Женщина из
низших слоев скорее воскликнет «Holy cow!» (доел. «Святая ко-
70
рова!»), чем употребит настоящее вульгарное богохульство или
профанизм.
Любопытна реакция информантов разного пола на пол
экспериментатора. Когда эксперимент проводился женщиной
среди лиц мужского пола, было очевидно стремление мужчин
произвести лучшее впечатление. Американским информантам
предлагалось в этом эксперименте реагировать на
двусмысленные слова, которые можно было понимать как
непристойные и как нейтральные («pussy» — «кошечка» и «пизда»,
«screw» — «завинчивать» и «ебать»; ср. рус. «член» или
«трахнуть»). Непристойный смысл отмечался мужчинами при
экспериментаторе-женщине в меньшем количестве случаев, чем
при экспериментаторе-мужчине (Jay 1999: 11—12).
Американские мужчины сквернословят в мужской
компании примерно в два раза чаще, чем в присутствии женщин, и
наоборот, женщины в присутствии мужчин матерятся в два
раза реже, чем в «своей» женской компании. В американской
студенческой среде наиболее вероятное место, где можно
услышать инвективную речь, — это мужская комната в
общежитии, за которой в порядке убывания следует общая для
обоих полов комната, а на последнем месте — женская комната.
Особо отмечается, что инвективы более часты в комнате, где
проживают старшекурсницы, нежели новички. Впрочем, в
присутствии хорошо знакомых собеседников сквернословие
значительно усиливается независимо от пола присутствующих (Jay
1992: 89, 123).
Что касается инвективных предпочтений безотносительно к
полу оппонента, то мужчины в США предпочитают слова
«asshole», «balls», «blows», «bullshit», «dick», «dink», «fag»,
«goddamn», «jesus», «laid», «motherfucker», «piss», «shit» и «suck».
Женщины в чисто женском обществе пользуются словами
«asshole», «fuck», «goddamn», «hell», «Jesus», «shit» и «suck», то
есть в обеих компаниях слова фактически совпадают, но
женский набор заметно беднее (Jay 1992: 139).
В письменной речи, то есть когда сквернословие носит менее
спонтанный характер, к инвективе чаще обращаются женщины
(Foote, Woodward 1973: 271, 274).
Но при всем намечающемся сходстве в ряде культур
мужской и женской инвективной практики необходимо отметить
резкое отличие женской инвективизации речи: она гораздо
более агрессивна и изобретательна. Психологи и педагоги,
работающие в женских тюрьмах, отмечают особую яростность
и живописность женской брани. Очевидно, что если для муж-
71
чин, по крайней мере их части, брань нередко становится
привычной и маловыразительной, женщина, освоившая «мужской»
язык, осваивает его «по-женски», очень эмоционально
воспринимая буквальное содержание инвективы.
Общеизвестно, что женский организм более чувствителен
к алкоголю, чем мужской; точно так же он болезненнее
реагирует и на инвективизадию речи: эмоциональная и этическая
травма матерящейся женщины явно больше, нежели у
мужчины.
Об особенностях отношения к сквернословию в
зависимости от пола см. также: Fast, Talking 1979: 170—173; Rawson
1989: 2.
Говоря конкретно о расширении сферы сквернословия в
англоязычных странах, в первую очередь в США, стоит
обратить внимание на обратную сторону борьбы населения за свои
гражданские права. В современной Америке гражданские
права понимаются иногда предельно широко, как право делать
буквально все, что вздумается, если это все не посягает на
права другого человека. Школьный учитель вправе остановить
сквернословящего ребенка в школьных стенах, но не имеет
права требовать от него избегать брани дома: это прерогатива
исключительно родителей, и соответствующее требование
означало бы посягательство на их гражданские права.
В русскоязычном ареале свободное употребление любой
инвективной лексики в любой половой или социальной группе
еще невозможно, но определенные послабления по половому
признаку дают себя знать. Уже достаточно давно приходится
говорить о том, что в малообразованных слоях общества
вульгарная инвективная речь перестала быть прерогативой
мужского пола. Ср.:
«О-о-о-й, Васька! — коровой взревела Варюха. — Ты разрывать мое
сердце. Вот жили люди, а! А тут?» — Она с недоумением оглядела кухню
и послала ее со всем своим грубым скарбом в такое место, какого у нее,
как у женщины, и быть не могло (В. Астафьев).
И, направив прямо в сумрак ночи
Тысячу биноклей на оси,
Рявкнула Катюша что есть мочи:
— Ну-ка брысь отсюда, иваси!
И вдогон добавила весомо
Слово, что не с ходу вставишь в стих,
Это слово каждому знакомо,
С ним везде находим мы родных.
72
Я другой такой страны не знаю,
Где оно так распространено.
И упали наземь самураи,
На груди рванувши кимоно!
[И. Иртенъев)
К этому стоит добавить, что, по наблюдениям психологов,
работающих в местах заключения женщин, инвективы этих
последних в принципе существенно отличаются от «мужских»
инвектив. В устах мужчин инвективы по характеру более
стандартны и однообразны; женские инвективы нередко носят
творческий характер и гораздо более изощренны и даже злобны.
Наблюдаются серьезные различия в употреблении инвектив
в устном и письменном виде, причем последнее употребление
обычно осуждается намного сильнее.
Такой разрыв легкообъясним. Прежде всего, по самой своей
природе инвектива носит устный характер. Ее появление в
печатном (письменном) виде резко меняет отношение к ней: из
вырывающегося «от души» восклицания она превращается в
нечто гораздо более долговременное, допускающее
возможность остановиться, обдумать оскорбление, возможность своей
реакции и т. д. Кроме того, здесь всегда присутствует
ощущение нарушения табу не только автором, но и цензором,
редактором и т. д., то есть вызов общественной морали звучит более
резко, как бы от лица целой группы людей, вдобавок
облеченных властью разрешать и запрещать.
Не стоит забывать и о принципиальной разнице между
устной и письменной речью. Если устная речь неотъемлема от
человека как биологического вида, то речь письменная очень
молода и с самого начала носила священный характер, будучи
прерогативой жрецов и писцов. Собственно, и в настоящее
время эта ее особенность полностью не изжита, ибо, с одной
стороны, огромная часть населения земного шара полностью или
функционально неграмотна, а с другой — даже читающая часть
населения — далеко не обязательно пишущая. Письменное
слово поэтому и сегодня — нечто гораздо более значимое, чем
слово устное, отчего и нарушение письменного запрета
воспринимается намного острее.
Весьма существенно, что в Российском Уголовном кодексе
есть понятие «неприличный» и нет «оскорбительный».
Очевидно, что составители Кодекса считают, что это одно и то же.
Однако это не так. Неприличное высказывание может быть
осуществлено без единого грубого слова: например, неприлично
критиковать внешность человека в его присутствии; неприлич-
73
но (= «не приличествует») хвастаться своими действительными
или мнимыми успехами и т. п.; существует целый ряд
неприличных в данном обществе поступков. Без сомнения, всякое
оскорбление неприлично, но не всякое неприличие
оскорбительно; вспомним, что оскорбление прежде всего
подразумевает грубое упоминание телесной функции, в первую
очередь сексуальной сферы человека.
1.9. Взаимоотношения инвективной
и просторечной лексики
От инвективной лексики следует отличать лексику, в
некоторых употреблениях делящую с ней внешнюю форму, но
фактически ею не являющуюся. Речь идет о части просторечной
лексики. Ряд исследователей считает, что образованный
человек пользуется вульгарной лексикой сознательно, то есть он
владеет литературной нормой и знает, что делает, когда от этой
нормы уклоняется. Необразованный же человек пользуется
вульгаризмами вынужденно, «не ведая, что творит» (см., напр.:
Булдаков 1981: 27).
Такая трактовка представляется излишне упрощенной.
Прежде всего, если речь идет даже о слабых инвективах,
необразованный человек редко не осознает, что использует «не те»
слова, и поэтому, как правило, ведет себя более сдержанно в
присутствии более образованного: достаточно в этой связи
сравнить поведение крестьянина в своей среде и в присутствии
диалектолога с магнитофоном.
С другой стороны, как уже отмечалось выше, и очень
образованные люди могут широко пользоваться вульгаризмами и
при этом, конечно, сознавать, что делают, то есть при этом они
не отличаются от всех прочих.
Но значительно важнее другой аспект проблемы. Очень
внимательного отношения заслуживает утверждение, что само
мнение о вульгарности и непристойности просторечия
основано на недоразумении (ср.: Долинин 1978: 329). Дело в том,
что все лингвисты принадлежат к другой социальной группе,
нежели те, для кого просторечие — основное средство
общения. Поэтому взгляд лингвиста на такое просторечие — всегда
взгляд извне.
Между тем не может быть ничего более ошибочного, чем
определять норму какого-либо подслоя «со стороны», не
пытаясь войти в мироощущение носителей языка этого подслоя.
Особенно очевидно это в исследуемом случае. В словаре
74
фермера или батрака могут быть слова, которые и он, и окру*
жающие воспринимают совершенно спокойно; это, например,
стандартные наименования частей тела животных или
соответствующих действий — «морда», «брюхо», «жопа», «срать». В
личном словаре филолога эти же слова выглядят как
бесспорные «гробианизмы» (от нем. «grob» — «грубый», термин В.
Д. Девкина, см.: 1979: 39). Для фермера же это обычные
стандартные наименования.
При всем при этом наряду с такими социолектными
особенностями речь может содержать и лексику совсем другого
порядка, направленную на сознательное ниспровержение
этических ценностей другой социальной группы. В речи более
образованных слоев общества это могут быть, например,
уничижительные названия «низших» слоев типа «деревенщина».
История языка и общества знает много слов,
первоначально нейтральных, обозначающих просто тот или иной класс
или социальную подгруппу, но в силу презрительного
отношения со стороны высших слоев превратившихся в оскорбления.
Таковы, например, русское прилагательное «подлый»,
первоначально обозначавшее просто «низший», польское «chlop»
(«мужик», «крестьянин»), превратившееся в русском
употреблении в презрительное «холоп», английские «knave» и «villain»,
первоначально обозначавшие соответственно слугу и
крестьянина, а позже оба — негодяя, и мн. др.
Что же касается соответствующей реакции низших слоев,
то в их распоряжении оказались те же стандартные
обозначения «стыдных» частей тела, что они употребляли в быту.
Таким образом, одно и то же слово оказалось возможным
употребить как бытовой термин и как «гробианизм» («жопа»
как название и как оскорбление). Именно отсюда,
представляется, и происходит лингвистическая путаница, в результате
которой в одну группу зачисляются совершенно разные
словоупотребления.
Таким образом, в плане интересующей нас темы
необходимо согласиться, что просторечная лексика, внешне
совпадающая с лексикой инвективной, фактически представляет собой
нейтральный слой лексики и мало нагружена в смысле
эмоциональности, отчего и не представляет самостоятельного
интереса для настоящего исследования.
Второй вывод из сказанного в настоящем разделе состоит в
том, что, попадая из речи одной социальной группы в речь
другой, слово может очень серьезно изменить свою ценностную
характеристику.
75
1.10. Особенности восприятия
словесной агрессии
До сих пор в ходе исследования упор делался на
производство инвективной речи. Между тем, в свете всего сказанного,
очевидно, что роль аспекта восприятия такой речи тоже
заслуживает внимательного изучения.
То, что реакция на какой-либо вокатив не может быть
функцией одного адресата, было известно всегда. В этой связи
можно говорить о человеке как о кибернетической системе с
«внутренней моделью внешнего мира», чье поведение
определяется отнюдь не только внешним раздражением (Клаус
1967: 26). В нашем случае внутренняя модель внешнего
мира — это определенные особенности адресата, способные
исказить сигналы, поступающие от автора сообщения, то есть
помехи, шумы.
Для того чтобы лучше понять позицию получателя
сообщения, необходимо рассмотреть цели и возможные результаты
деятельности говорящего.
Очевидно, что в случае возникновения конфликта одна из
сторон, наступающая, стремится к разрешению этого
конфликта за счет моральной победы над адресатом. Если эта победа
ей удается, конфликт разрешается для атакующего, но никоим
образом — для атакованного.
Более того, будучи разрешенным с одного конца —
атакующего, — конфликт даже усиливается с другого конца —
конца адресата. В результате борьба на следующем этапе нередко,
так сказать, просто меняет знаки и вспыхивает снова, порой
усиливаясь. Но в качестве наступающей стороны выступает
бывший адресат, чья роль теперь — погашение эмоциональной
атаки бывшего агрессора, ее нейтрализация. Речь идет о
реакции «Сам такой!», «На себя погляди!», «От такого слышу!»
и т. д. Ср. англ. обмен репликами: «You're a fool!» — «You're
another!» Следующий обмен зафиксирован русским
информантом, бывшим заключенным:
— Ах ты, блядь!
— Ты сама блядь, у просппупси за полтинник в долг сделанная!
В такой ситуации отнюдь не исключаются остроумные
парирования, ловкие ходы и проч. Ср.:
Вальв ер. Мошенник, негодяй, бездельник, плут, дурак!
76
Сирано (снимая шляпу и кланяясь, как если бы виконт представил ему
себя). Вот как? Рад вас узнать: а я де Бержерак, Савиний-
Сирано-Эркюль!
(Э. Ростан. Перев. Т. А. Щепкиной-Куперник)
Теоретически такая смена ролей может продолжаться
бесконечно. Фактически, таким образом, подобная борьба ведет
не к разрешению конфликта, а к его постоянному
пульсированию с возможным усилением пульсации с каждой сменой
ролей.
Из сказанного очевидно, что при любом обмене
эмоционально насыщенными репликами — безразлично,
агрессивного или комплиментарного толка — эмоции говорящего и
слушающего будут обязательно несовпадающими, причем ответная
реакция эмоционально будет находиться в прямой
зависимости от эмоции, выраженной говорящим. Такая зависимость
спаивает данный обмен в некое единство как в эмоциональном, так
и в словесном плане. Оскорбляющий человек испытывает гнев,
презрение, чувство превосходства — порознь или все разом — и
предполагает вызвать в объекте оскорбления чувство вины,
унижения, стыда, страха и т. д. Подобное взаимоотношение и
предстает как зависимость.
Совершенно естественно, что одно и то же обращение,
адресованное разным людям и в разных ситуациях, может
произвести самый разный эффект, вплоть до противоположного.
В числе главных особенностей рецепиента, имеющих в данном
случае значение, можно назвать, например, его социальные,
возрастные, половые, региональные
(национально-специфические), конфессиональные характеристики. Текст может быть
воспринимаем по-разному даже одним и тем же человеком в
разное время.
Все эти различия объясняются, помимо прочего, работой
защитных механизмов. Так, грубое выражение может быть
воспринято как естественное и само собой разумеющееся или
как шокирующее и глубоко оскорбительное, а может
оказаться и вовсе не услышанным. В последнем случае оно находится
ниже порога восприятия, так как мотивированные своей
системой ценностей, подавляющие тревожность и фрустрацию
адресаты повышают в таком случае порог восприятия
нежелательных элементов текста.
В плане восприятия полезно различать эффективность и
убедительность текста как два необязательно совпадающих
параметра. Нет сомнения, что тексты, нагруженные
эмоциональными оборотами, звучат эффектнее, ярче, но убедитель-
П
ность их для слушателя будет очень сильно зависеть от
характера аудитории. Экспериментально доказано, например, что
тексты, составленные в энергичных выражениях, уснащенные
инвективами, в том числе вульгарными, воспринимаются по-
разному, в зависимости от пола говорящего и
воспринимающего. Женская аудитория в наименьшей степени поддается
убеждению, если на нее воздействует женщина, пользующаяся
энергичным языком, и вполне адекватно реагирует, если точно
такими же выражениями пользуется мужчина (Burgoon,
Ruinier 1978: 416).
Укажем на еще один фактор, влияющий на восприятие
словесной агрессии: для воспринимающего существенно,
обращена она против непосредственно присутствующего человека
или употреблена в его отсутствие. В последнем случае она
часто вполне допустима и не носит характера откровенного
личного выпада. Обычно в таком случае ее шокирующая роль
несоизмеримо меньше, чем в случае прямого обращения, даже
если употребленные выражения объективно очень резки.
Будучи же передана «услужливым» участником разговора адресату,
она становится оскорбительной, как если бы была обращена
прямо по адресу.
Но даже если инвектива обращена против
присутствующего оппонента, она может трактоваться по-разному в
зависимости от личных отношений общающихся. При
панибратском характере общения она может восприниматься
облегченно или даже обратиться в свою
противоположность.
То или иное восприятие словесной агрессии в большой
степени зависит от установки адресата. В данном случае такой
установкой является созданная им модель ситуации, то есть ее
структурные и функциональные свойства, обеспечивающие
адресату так называемый критерий существенности (см.:
Акофф, Эмери 1974: 84), в соответствии с которым адресат
определяет, какую информацию он воспримет, а какую
опустит.
Это означает, что реакция индивида на любой стимул
зависит прежде всего не от объективной существенности или
несущественности свойства, на которые выявляется реакция, а от
субъективного ощущения значимости или незначимости
свойства.
Вот почему можно положительным или отрицательным
образом отреагировать на обращение «донкихот!» или охотно
принять крайне оскорбительные обвинения в принадлежности
78
к низшей, непрестижной социальной или национальной группе.
Ср.:
Да, скифы — мы, да, азиаты — мы
С раскосыми и жадными очами!
(А. Блок)
Название «суки», хоть и неточно отражающее существо дела и
терминологически неверное, привилось сразу. Как ни пытались вожди нового
закона протестовать против обидной клички, удачного, подходящего
слова не нашлось, и под этим названием они вошли в официальную
переписку и очень скоро и сами они стали себя называть «суками». Для
ясности. Для простоты (В. Шаламов).
Когда нашего коменданта зарезали чесноки (воры в законе. — В. Ж.)
и мы подбежали к нему, он прохрипел на последнем дыхании: «Передайте
нашим — умираю как честный сука» (С. Снегов).
Впрочем, в отношении исследуемой темы критерий
существенности нуждается в серьезной оговорке. Нередко простое
усиление эмоциональности способно увеличить вероятность
быть воспринятым адресатом. Определенные «крепкие
выражения» могут оказать именно негативное влияние даже при
условии, что у адресата отсутствует установка на восприятие
этих выражений или их отдельных свойств. К примеру,
попытка сильного увеличения образности инвективы
осуществляется потому, что ругателю кажется, будто такое
увеличение «дойдет» до любого получателя, проникнет за любой
эмоциональный барьер.
Однако надо полагать, что изощренность инвективы усилит
ее воздействие лишь при условии, что данное свойство обладает
хотя бы минимальной существенностью для получателя: нельзя
увеличивать нуль и получать большую величину. Результатом
увеличения того, что не подпадает под критерий
существенности, может быть либо презрительное равнодушие («Собака
лает, а караван идет»), либо комическое восприятие инвективы
(«Во дает!»).
Какая инвектива производит большее впечатление: та, где
обвинение оппонента основывается на реальных фактах, или
та, буквальный смысл которой заведомо игнорируется обоими
участниками разговора?
Другими словами, что оскорбительнее: назвать «выбляд-
ком» человека с действительно сомнительным происхождением
или того, чья родословная безупречна, но кто просто
вызывает негативные эмоции?
Очевидно, что ответ в большой степени зависит от
социальной подгруппы, в которой происходит инвективный обмен.
79
В тех подгруппах, где резкая и вульгарная инвектива —
распространенное оружие, оскорбительная констатация реального
факта производит, как правило, меньшее впечатление уже
потому, что не является полностью неожиданной для адресата,
который, теоретически рассуждая, мог слышать ее
неоднократно и морально готов к ней. В местах лишения свободы
презираемый пассивный гомосексуалист воспримет
соответствующее обвинение намного покорнее, чем человек, к
которому эта инвектива не имеет буквального отношения. В
последнем случае даже намек на такую особенность человека может
иметь кровавый исход.
С другой стороны, в той подгруппе, где вульгарные
инвективы редки и предпочитаются более утонченные вербальные
средства, обращение к грубой бессмысленной брани может
привести лишь к потере лица бранящегося и не произвести
желательного эффекта; в то же время даже намек на какой-
то болезненно переживаемый реальный недостаток
(происхождение, сексуальные отклонения, физические недостатки
и т. д.) способен вызвать очень резкую реакцию.
Очевидно, что рассматриваемый вопрос самым
непосредственным образом связан с проблемой восприятия буквального
смысла инвективы независимо от того, к кому и с какой целью
она применяется. Восприятие бессмысленной инвективы или
инвективы, буквальный смысл которой не имеет ярких
дополнительных значений, будет неизбежно отличаться от
инвективы, использующей слова, такие значения имеющие. Поэтому
английское слово «Cat!» («кошка»), обращенное к женщине и
сохраняющее прямую связь с отрицательными свойствами
этого животного, сегодня воспринимается много резче, чем,
например, «Swine!» («свинья»). В то же время «Cat!», обращенное к
мужчине, воспринимается гораздо мягче, нередко и просто
положительно, a «Pig!» («свинья»), независимо от пола адресата,
звучит очень грубо, поскольку отрицательные дополнительные
значения, связанные с представлением о свинье как о грязном
и похотливом животном, здесь сохранены. Русская параллель
«Жеребец!» в адрес мужчины может звучать даже
комплиментарно, особенно если имеются в виду его сексуальные
возможности, но «Кобель!», пожалуй, будет восприниматься только
поносительно. «Кобыла!» и тем более «Сука!» в адрес женщины
комплиментом не могут стать ни под каким видом.
Однако не следует забывать, что некоторые инвективы
носят исключительно оскорбительный характер, вовсе не обладая
образностью. Старое образное значение может выветриться, но
80
вместо него появиться другое, усиливающее впечатление за
счет нарушения очень сильного табу.
Иногда усиление воздействия инвективы происходит
просто за счет декларации вражды. Для такой декларации не
имеет значения буквальный смысл предъявляемого
обвинения. В таком случае любая инвектива означает: «Я тебя
ненавижу!»
Подобное словоупотребление восходит к ранней детской и
подростковой стадии усвоения инвективного языка, когда
буквальное значение еще не анализируется: прекрасно
усваивается функция инвективы, но не ее прямой смысл, чаще всего
недоступный ребенку или подростку.
В этой связи уместно провести аналогию с детскими
оскорблениями типа «Дурак!» в адрес любого непонравившегося
субъекта, абсолютно безотносительно к его умственным
способностям. Ср. аналогичные по характеру оскорбления,
зафиксированные этнографами у детей Самоа, где возможны,
например, обвинения в адрес европейца или вообще человека с
европейскими чертами лица: «У тебя глаза как у китайца!» — или
оскорбления детьми друг друга: «А твоя мать ест китайских
тараканов!» (Mitchell-Kernan е. а. 1975: 312).
1.11. Проблемы происхождения
инвективного общения
Этот аспект исследования инвективного словоупотребления
представляется столь же важным, сколь сложным.
Многочисленные факты, обнаруженные этологами, то есть
специалистами по психологии животных, позволяют считать, что
истоки инвективного общения следует искать в предыстории
человеческого общества, то есть в животном мире.
Разумеется, проводить прямые аналогии между
соответствующим поведением человека и животных было бы
неосторожно. Однако и пренебрегать ими вряд ли разумно. Ср.:
Людям, проявляющим чрезмерную осторожность в этом плане,
хочется сказать: конечно, обезьяна — ни в коем случае не человек, но
человек-то все-таки обезьяна. <...> У обезьян, несомненно, есть все то, что в
дальнейшей эволюции может привести к реальному появлению этих
свойств у человека (Тих 1970: 31).
У многих этологов можно встретить утверждение, что
сходство элементов поведения человека и высших животных
помогает объяснить некоторые тайные человеческие желания,
фантазии и сновидения, невротические и психологические отклоне-
81
ния и т. д. Конечно, речь может идти только о параллелях в
поведении (ср.: Maslow 1971: 351).
Легче всего параллели «человек — животное»
обнаруживаются, когда речь идет об угрозах животных друг другу во
время образования брачных пар. Такие угрозы чрезвычайно
напоминают инвективную агрессию человека с целью понижения
статуса оппонента. Общеизвестны так называемые «сражения»
самцов животных самых разнообразных видов,
заключающиеся главным образом во взаимных угрозах с помощью
средств, находящихся в распоряжении данного вида: птицы
взъерошивают перья, аквариумные рыбки меняют цвет,
животные стучат лапами, молотят хвостами, направляют рога на
противника и т. д. Важно, что за всем этим почти никогда не
следует серьезной атаки, имеющей в виду членовредительство;
в результате простой демонстрации силы более слабый
противник видит преимущества оппонента и благоразумно
удаляется.
Существенно, что такое поведение — «перебранка»
животных без намеренного серьезного физического воздействия на
противника — необязательно связано с каким-то одним
определенным элементом жизненного цикла и может носить
характер постоянных взаимоотношений. Яркий пример этому
можно найти у основателя науки этологии К. Лоренца:
<...> Вторая история о заборе связана с Булли и его заклятым врагом,
белым шпицем, жившим в доме, длинный узкий сад которого тянулся
вдоль улицы и был огорожен зеленым штакетником метров в тридцать
длиной. Два наших героя опрометью носились взад и вперед по обеим
сторонам этого забора, заливаясь бешеным лаем и останавливаясь на
мгновение у последнего столба, чтобы, перед тем как повернуть обратно,
обрушить на врага ураганный взрыв обманутой ярости. Затем в один
прекрасный день возникла весьма двусмысленная ситуация — забор начали чинить
и половину штакетника, расположенную ближе к Дунаю, разобрали, так
что теперь он метров через пятнадцать обрывался. Мы с Булли спустились
с нашего холма, направляясь к реке. Шпиц, конечно, заметил нас и уже
поджидал Булли, рыча и дрожа от волнения в ближайшем углу сада.
Сначала противники, по обыкновению, обменялись угрозами, стоя на месте, а
затем обе собаки, каждая со своей стороны, помчались, как положено,
вдоль забора. И тут произошла катастрофа — они не заметили, что
дальше штакетник был снят, и обнаружили свою ошибку, только когда
добрались до дальнего угла, где им полагалось снова облаять друг друга,
застыв в неподвижной позе. Они и встали, вздыбив шерсть и оскалив клыки...
а забора-то между ними не оказалось! Лай сразу оборвался. И что же они
сделали? Точно по команде, оба повернулись, помчались бок о бок к еще
стоящему штакетнику и там вновь подняли лай, точно ничего не произошло
(Лоренц 1977: 142-144).
82
Необходимо отметить еще один очень существенный для
понимания истоков инвективного общения факт: агрессивность
поведения животных может быть очень тесно связана с
положительными эмоциями. Так, у обезьян как вспышки агрессии,
так и испытываемое наслаждение могут привести к аналогичному
половому рефлексу — эрекции. Другими словами, процесс
возбуждения носит генерализованный характер (Тих 1970: 101),
причем один и тот же поведенческий акт может быть
спровоцирован не просто разными причинами, но причинами
противоположными в смысле их ценностного различения. То есть
такая двойственность присуща им изначально1.
Итак, как будто бы между животными и человеком в
интересующем нас смысле обнаруживается поразительно много
общего. Однако уже отмеченная выше необходимость
осторожности в проведении параллелей «человек — животное»
вынуждает обнаруживать и явные отличия «перебранок»
животных, с одной стороны, и инвективной стратегии и тактики
человека — с другой.
Прежде всего это тот очевидный факт, что инвектива
человека построена на словесном выражении эмоций, недоступном
животным. Не менее важно, что инвективное общение основано
на нарушении человеческих табу, полностью отсутствующих у
животных. А, как уже было отмечено, одной из самых
характерных особенностей человеческой инвективы является
шокирующее ощущение нарушенного запрета, разделяемое как
адресатом, так и самим говорящим.
Общим у человека и животного, таким образом,
оказывается прежде всего чисто прагматическая задача инвективы:
выразить неприязнь и уже одним этим заявить о своем
доминирующем положении.
Можно было бы также говорить об отношении всеобщей
вовлеченности, характерной для человека и животных. Но если
у человека эта вовлеченность продиктована ощущением
нарушенного табу, то у животного ее причина — просто в ощущении
эмоциональной возбужденности участвующих сторон. Если у
человека задача инвективы заключается прежде всего в
понижении социального статуса оппонента, то у животного — в
демонстрации физического превосходства, точнее, в
декларировании такого превосходства.
1 Исследователи обнаруживают, что в отношении генерализации эмоций
человек недалеко ушел от обезьяны: появляются сообщения, что у
американских летчиков во время бомбардировки вьетнамских деревень возникала
эрекция (Кирилина 1998: 15).
83
1.12. Проблемы взаимоотношения
инвективы, междометного
восклицания и ритуала
Вероятно, не существует национальных культур,
исключающих использование инвективного словаря в качестве
грубых восклицаний типа. рус. «Черт побери!», «Зараза!», «Мать-
перемать!» и подобных им, вплоть до наиболее вульгарных
случаев, а также различных грубых эмоциональных эпитетов
типа «чертовский», «ёбаный», «хуёвый», «блядский» и т. п.
Однако культур, широко использующих инвективы в такой
функции, сравнительно немного. Правда, это в значительной
части — культуры очень многочисленных народов. К ним
относятся, например, все англоязычные, итальянская, вьетнамская,
китайская, русская и некоторые другие.
Особенно характерен в этом отношении американский
военный жаргон, где, например, вульгарные эпитеты «fucking» и
«goddamn» сопровождают речь чуть ли не в любой ситуации и
отнюдь не ограничены какими-либо социальными рамками или
воинским рантом. Ср.:
«You are the best fugging soldiers in the best goddamn company of the
best goddamn battalion of the best goddamn regiment..» He had a way with
a cliche. It was only natural he should have been promoted to major
(N. MaÜer).
В приблизительном переложении на русский:
«Вы — лучшие ебаные солдаты в лучшей блядской роте лучшего
блядского батальона лучшего блядского полка...» Привычные обороты
у него получались что надо. Неудивительно, что ему дали майора
(Н. Мейлер).
Большое количество наиболее распространенных инвектив
может быть использовано в таком «усилительном»
междометном смысле, но встречаются и такие, для которых это —
основной способ употребления. Одно из главных их отличий от
прочих использований инвективы — безадресность. Они,
следовательно, не преследуют цель прежде всего понизить социальный
статус оппонента или оскорбить его другим способом.
Оппонента порой может вообще не быть, брань звучит «в
пространство».
Примеры типичных бранных восклицаний из разных
языков: фр. «Con!», «Crotte et merde!», «Saperlipopette!», «Diantre!»,
«Ventrebleu!», «Ventre-Saint-Gris!», «Saprissti!»; нем.
«Potztausend!», «Scheiße!», «Teufel noch mal!», «Donnerwetter!»; ucn. «Ca-
84
rai!», «Naranjas!», «Caracoles!»; um. «Porca Madonna!», «Cospetto
di Bacco!», «Porca miseria!»; рум. «Ammalpete!», «Te possino!»;
и μη. др.
Некоторые из этих восклицаний носят вполне пристойный,
«салонный» характер типа русских «Ах ты, господи!» или «Тьфу
ты!», другие — исключительно непристойны.
Есть восклицания, построенные на неожиданно звучащих
словах и сочетаниях, в которых непристойности нет вовсе, как
нет и обычного смысла. Как правило (знающее исключения),
они носят мягкий характер. Примеры из литовского языка:
«Zali a rüta!» («Зеленая трава!»), «Sakès nugaroj!» («Вилы в
спине!»), «Blèka!» («Железяка!»), «Saldûs kleckai!» («Плохая мука!»),
«Lupus mutai!» («Сладкие блины!») и т. д.
Шведские восклицания едва ли не занятнее. Часть из них
использует числительные: «Vad sjutton?» («Что за семнадцать?»),
«Vad katten?» («Что за кот?»), «Himmel och pannkaka!» («Небо
и блины!»), «For fan!» («Клянусь дьяволом!») — очень грубое
шведское восклицание, близкое к русскому мату.
Предпочтение в речи тех или иных из подобных
восклицаний очень сильно зависит от пола, возраста, уровня
образованности, социального положения говорящего.
Примеры, характеризующие место подобной брани в
русскоязычном ареале, — из произведений В. Астафьева:
И фазу забегало по лесу начальство, скидывая с дымящихся
костерков каски и котлы с картошкой, послышалось, как для верующих «Отче
наш», привычное «Мать! Мать! Мать!».
Поразил он нас тем, что не матерился —pefaocmb для
железнодорожника тех лет вообще, для начальника станции в частности.
В то же время есть национальные культуры, в которых
подобные словоупотребления маловероятны даже в
экстремальной ситуации. Ср.:
Язык афганцев не знает трехэтажного мата, и раненые облегчали
душу витиеватыми восточными проклятиями (Комсомольская правда.
1983. 17 декабря).
Там же, где такое словоупотребление допустимо,
возможны и его многочисленные варианты. Особенность
вьетнамского варианта в том, что соответствующее сочетание
используется в данной функции без притяжательного местоимения и
этим как бы снимается точный адрес проклятия; когда же
появляется потребность в оскорблении конкретного адресата,
то есть речь идет уже не о выкрике «в воздух», у слов, обо-
85
значающих мать, отца, весь род поносимого и т. д., появляется
и притяжательное местоимение «твой», «твою» и т. д. В русском
варианте это выглядело бы как «Еб мать!» и «Еб твою мать!».
Такая брань воспринимается очень резко, много резче, чем
безадресный мат в современной русской традиции.
Сегодня мат ощущается в русской национальной культуре
как исключительно непристойная инвектива, но
преимущественно — междометного, восклицательного характера. В
результате могут возникнуть серьезные осложнения, если
русская инвектива подобного рода будет впервые воспринята
носителем другой культуры, где подобное поношение —
неслыханное оскорбление матери (например, в кавказском
ареале).
Ср. остроумное обыгрывание сходной ситуации у В.
Высоцкого:
В запале я крикнул им:
«Мать вашу, мол!»
Но кибернетический гид мой
Настолько буквально меня перевел,
Что мне за себя стало стыдно.
Именно междометный характер подобной брани приводит
к тому, что самое бессмысленное сочетание или слово может
быть воспринято как инвектива — в силу бессмысленности или
малого смысла даже привычной инвективы:
«Может, ты вундеркинд, соксиль воксиль!» — крикнул Петруха, думая
остановить этим непонятным словосочетанием парня. «Не матюгайся,
дядя Петя», — спокойно возразил Славик и тихонько притворил за собой
дверь (Неделя. 1982. № 31).
Необязательность буквального смысла междометной брани
нередко приводит к возможности ее сокращения. Иногда это
делается из эвфемистических соображений, иногда же снятие
даже наиболее табуированной части может лишь усилить
шокирующее впечатление.
К последнему типу относится, например, испанская идиома,
где матерная инвектива «Tu madré...» произносится вообще без
упоминания непристойного глагола, но зато называется мать и
делается определенное движение головой, которое вынуждает
адресата самого мысленно докончить оскорбление в свой адрес
(адрес своей матери) (см.: Adams 1977: 72—73).
В русском же варианте аналогичные усеченные инвективы
«Твою мать!», «Мать!» звучат значительно мягче, чем
произнесенные полностью, так как появляется «основание» притво-
86
риться, что здесь вообще нет сквернословия и просто
упоминается чья-то мать. Именно на этом построена шутка, в которой
лозунг «Берегите природу, вашу мать!» начальство требует
переделать из-за очевидных ассоциаций с матом, в результате
чего появляется «улучшенный» вариант «Берегите природу,
мать вашу!».
В английском языке аналогичные сокращения «You mother!»
или «Oh mother!» (вместо «You motherfucker!») тоже
значительно мягче, тем более что отсутствие падежных окончаний
лучше, чем во флективном русском языке, маскирует
непристойное происхождение внешне «невинных» восклицаний.
Иногда вульгарный характер англоязычного словосочетания
маскируется с помощью просторечных форм, создающих
впечатление аграмматичности. Ср.: «I do not know them mothers!»
вместо: «I do not know those motherfuckers!» Слегка
напоминающий это русский вариант — «Мать твою ети!», где «ети» —
устаревшая и плохо опознаваемая форма от «ебти».
Тем более невинно выглядит такая идиома, сексуальный
смысл которой давно утрачен и не всегда ясен и самому
бранящемуся. Ср.: «Уши твоей матери!» (южноафриканская
народность коса) (Marshall 1975: 79). Скорее всего, здесь
подразумевается, что оскорбляющий имел возможность
договариваться с матерью своего противника насчет любовной встречи.
В языке коса это сильное оскорбление.
Обессмыслившиеся инвективы-восклицания охотно
используются в дисфемистической функции, то есть в функции,
противоположной облагораживающей эвфемистической
(«ягодицы» — нейтральное слово, «пятая точка», «мягкое место» —
эвфемизмы, «жопа» — дисфемизм). Практически любое
действие, любой предмет, любое качество могут быть
представлены в вульгаризированном виде за счет использования
вместо требуемого слова дисфемизма, сохраняющего табу-сему.
Таков английский глагол «to fuck», который может, например,
играть структурную роль в идиомах, означающих
«околачиваться», «бездельничать» или «обманывать». Подобную
практику с соответствующим глаголом можно отметить и в
русском языке (ср. «выебываться» в смысле «стараться» или
приглашение радушного хозяина: «Приезжай ко мне в
воскресенье на дачу, вместе поебемся» (= поработаем на участке)).
Остановимся на этом случае подробнее.
Можно утверждать, что в ряде национальных культур
найден эффективный способ одновременного исключения и
сохранения значения нейтрального полнозначного слова. Осу-
87
ществляется такая операция путем подмены нужного слова
дисфемизмом, обладающим существенными особенностями.
Общепризнанные дисфемизмы означают то же, что и
слово, вместо которого они употребляются («поесть» —
«пожрать», «украсть» — «спереть» и т. д.). В рассматриваемом же
случае слово-подмена абсолютно лишено того смысла,
который ему придается. Очень часто дисфемизмы данного рода
берутся из слоя наиболее вульгарной лексики, причем число
соответствующих корней крайне ограничено. Единственное
обязательное структурное совпадение с заменяемым словом:
оно должно принадлежать к той же части речи: глагол
заменяется глаголом, прилагательное — прилагательным и т. д.
В качестве примера приведем только англ. «Fuck off!» и рус.
«Уебывай отсюда!» с приблизительно одним и тем же
значением «Убирайся!».
Подобные идиомы понятны каждому носителю данного
языка, так как ему хорошо знаком нейтральный вариант
оборота «Уходи отсюда!» или эмоциональный, но все-таки только
разговорный вариант «Уматывай отсюда!».
Фактически вместо того или иного слова, оборота, каждый
элемент которого известен говорящему и слушающему, может
стоять любое слово, в том числе полностью бессмысленное, так
как смысл вполне восстановим. Однако полное опущение такого
слова нежелательно, тем более что в задачу высказывания
входит повышение эмоционального заряда его содержания.
Выход и находится в полном обессмысливании части
высказывания и замены этой части словом с ярко выраженным
вульгарным содержанием во имя введения в высказывание табу-
семы. Очень активно с этой целью заменяются наиболее
распространенные глаголы (бить, работать, идти, упасть и др.):
«Как ебну тебя в глаз!», «Приходится ебаться у станка по
восемь часов», «Я наебнулся у самой двери в грязь!».
Снегов утверждает, что в уголовной среде слово «ебаться»
вообще крайне редко употребляется в прямом значении: для
этой цели предпочитается «перепихнуться», «запистонить»,
«попхать», «употребить», «загнать дурака под кожу», а всего
чаще «оформить» и «задуть». Его примеры «нормальных фраз»:
«Заебу на общих!» = замучаю на тяжелых работах, «ебать
мозги» = задуривать, «пурга ебет» = ужасная метель с морозом,
«заебла попа грамота» = перемудрился (Снегов 1991: 221).
Очень часто «ебать» употребляется в значении «заставлять
что-то делать насильно, издеваться». Ср. из «Гариков на
каждый день» И. Губермана:
88
Нас книга жизни тьмой раздоров
разъединяет в каждой строчке,
а те, кто знать не знает споров, —
те нас ебут поодиночке.
Имея сон, еду и труд,
судьбе и власти не перечат,
а нас безжалостно ебут,
за что потом бесплатно лечат.
Смешно, когда мужик, цветущий густо,
с родной державой соли съевший пуд,
внезапно обнаруживает грустно,
что, кажется, его давно ебут.
Чем можно объяснить широкое распространение такого
превращения первоначально очень резких инвектив?
Объяснение следует искать в развитии процесса, который Ю. В. Манн
удачно назвал «дедемонизацией инфернальных представлений»
(Манн 1978: 23). Процесс этот развивался неодинаково в разных
странах, в зависимости от того, в какой мере в данном регионе,
если можно так выразиться, черт переставал считаться врагом
рода человеческого.
«Дедемонизация» естественным путем приводит к большей
популярности инвективной лексики в национальной культуре,
так как элемент страха перед произнесением табуированных
слов исчезает.
Аналогичным образом развивались проклятия типа нем.
«Donnerwetter!» (букв. «Громовая погода!», обычно
переводится на русский язык как «Гром и молния!»), восходящего к
языческому богу-громовержцу Тору. Сегодня это — несильное
восклицание, но известно, что было время, когда оно
воспринималось очень резко.
Там же, где страх перед священными словами в
значительной степени — факт сегодняшнего дня, междометное
использование инвектив более редко. Пример — испаноязычный
регион, где инвектив, в том числе очень сильных, много, и
употребляются они охотно и часто; междометно же они
используются заметно реже, чем, скажем, в англоязычных
культурах. См. также выше пример из языка мохави.
Роль инвективных восклицаний и эпитетов в выражении
эмоций достаточно понятна, если иметь в виду, что в состоянии
эмоциональной напряженности в высказывании увеличивается
количество элементов, не несущих никакой смысловой
нагрузки: эмоциональная напряженность приводит к определенным
89
затруднениям в выборе лексических единиц, к своеобразным
«провалам в памяти».
Наконец, такая напряженность имеет следствием утрату
гибкости речи, ее пластичности и адаптивности к
специфическим формам речевой ситуации (Носенко 1975: 618; 1975а: 65;
1976: 236).
Как реакция на перечисленные обстоятельства, в речи
возникает определенное количество «слов-паразитов», первичных
междометий, «чуждых звуков» и проч.
И в этом списке важное место занимают инвективы,
превратившиеся в вульгарные усилители-восклицания. Это не
просто своеобразные заполнители пауз, но своего рода
фактические «детонирующие запятые». Провалы памяти,
естественно, легче всего компенсировать в речи бессмысленными
заполнителями, однако в условиях эмоциональной
напряженности эти заполнители желательно делать максимально
нагруженными эмоционально. Этим требованиям и отвечают
инвективы с их табу-семами.
В терминах теории информации процесс превращения
инвективы в эмоциональное междометие выглядит следующим
образом. Скорость подачи текста диктуется социальной
ситуацией. Информация должна подаваться с определенной
скоростью, иногда достаточно высокой, например, в устном
общении. Однако, если скорость слишком повышается, канал
связи перегружается, и возникают ошибки. Также и если
скорость слишком замедляется, коммуникация может оказаться
под угрозой остановки: слушающие устают от пауз. Для их
заполнения и используются «детонирующие запятые», которые
создают видимость непрерывного потока информации и
вдобавок эмоционализируют сообщение.
Самая же главная эмоциональная задача
инвективы-междометия видится в том, чтобы эмоционально «расцветить»
сообщение, которое в противном случае может показаться
говорящим пресным, пусть даже и верным по существу.
Взволнованный оратор может не найти нужных слов, которые были бы
одновременно достаточно информативны и выразительны;
поэтому происходит своеобразное разделение труда: одни
слова сообщают информацию, другие делают эту информацию
более эмоционально насыщенной, как в известном
сатирическом стихотворении-доносе, написанном от имени
малограмотного пенсионера:
Вокруг курорта Коктебля
Такая дивная земля,
90
Природа, бля, природа, бля, природа.
Но портят эту красоту
Сюда приехавшие ту-
Неядцы, бля, моральные уроды.
(А. Галич?)
Нечто отдаленно подобное можно видеть в обычной
практике японского литературного языка, где частица «кана»,
часто добавляемая к существительному, прилагательному или
глаголу, выражает только эмоцию восхищения, одобрения,
печали или радости. В европейских языках этой частице иногда
соответствует просто восклицательный знак.
Ср. в этой связи несомненный эмоциональный (комический)
эффект, достигнутый с помощью инвективы-восклицания в
следующей русской фразе (чертыхание вместо мата введено
здесь, несомненно, по цензурным соображениям):
Товарищи, мы строим новую жизнь, мы победили, мы перешагнули
через громадные трудности — давайте, черт возьми, уважать друг друга!
(М. Зощенко).
В этой связи представляет интерес отграничение инвектив-
ных восклицаний от остального словаря. Очевидно, что
главное различие здесь — в сохранении или несохранении
(неполном сохранении) лексического значения слова. В случае
несохранения значения слова некоторые исследователи вообще
отказывают таким словам в праве называться словами и
ставят их в один ряд с различными «нечеловеческими»,
неязыковыми звуками, такими как шипение, вопли, скрежет зубов
и проч.
Действительно, возможность такой интерпретации видна
из анализа языка афатиков. Забывая слово, афатик нередко
замещает его инвективой. Ср. рассказ больного,
разглядывающего картинку, на которой изображены лошадь и телега с
сеном:
«О... да... черт... лошадь и еще, о черт!» (Лурия, Цветкова, пит. по:
Жинкин 1982: 149. Как и в примере из М. Зощенко, здесь афатик
употреблял скорее всего гораздо более грубые слова.)
Нередко инвективные слова искажаются или сокращаются
афатаками. У французских афатиков это, например, «Cré
nom», «Mede! (<— Merde!)», «Ε nom é jeu!», «Sacon!» и т. д.
(Critchley 1970: 191). Искажения здесь продиктованы скорее
всего не только дефектами речи больного, но и отсутствием
необходимости полностью выговаривать слово, лишенное
прямого смысла.
91
Однако можно ли утверждать, что при употреблении
здоровыми людьми инвективы в чисто усилительной функции
происходит полное обессмысливание сказанного? Ответ
представляется только отрицательным.
Дело в том, что эмоциональный компонент высказывания и
сопутствующие оттенки значения представляют собой
неотъемлемую часть смысла. Стало быть, сохранение
эмоционального значения даже чисто формально уже исключает
возможность обессмысливания. В нашем случае сам факт
нарушения социального табу формирует мысль и указывает на
определенные намерения автора.
В прагматическом аспекте признак избыточности
сообщения заключается в отсутствии реакции на это сообщение.
Однако сообщение, избыточное в синтаксическом,
структурном смысле, может обладать известной прагматической
ценностью. Прагматическая же ценность инвектив-восклицаний
несомненна.
Одно из главных достоинств таких восклицаний
заключается в их крайней многозначности, в возможности выразить
практически все что угодно при минимуме лексических
средств. Один и тот же корень в состоянии передать то, что в
обычном языке требует очень богатого словаря и хорошей
техники общения.
Ср. в этой связи известный эпизод, рассказанный
Достоевским и процитированньш Л. С. Выготским:
Однажды в воскресенье уже к часу ночи мне пришлось пройти шагов
с пятнадцать рядом с толпой шестерых пьяных мастеровых, и я вдруг
убедился, что можно выразить все мысли, ощущения и даже глубокие
рассуждения одним лишь названием этого существительного, до
крайности к тому же немногосложного. Вот один парень резко и энергически
произносит это существительное, чтобы выразить о чем-то, о чем у них
общая речь зашла, свое самое презрительное отрицание. Другой в ответ
ему повторяет это же самое существительное, но совсем уже в другом
тоне и смысле, — именно в смысле полного сомнения в правильности
отрицания первого парня. Третий вдруг приходит в негодование против
первого парня, резко и азартно ввязывается в разговор и кричит ему то
же самое существительное, но в смысле уже брани и ругательства. Тут
ввязывается опять второй парень в негодовании на третьего, на
обидчика, и останавливает его в таком смысле: что, дескать, «что же ты так,
парень, влетел. Мы рассуждали спокойно, а ты откуда взялся — лезешь
Фильку ругать». И вот всю эту мысль он проговорил тем же самым
словом, одним заповедным словом, тем же крайне односложным названием
одного предмета... (Выготский 1934: 298).
Ср. также анекдот, в котором дворник на собрании говорит:
92
«Как еб твою мать, так еб твою мать, а как еб твою мать, так хуй!»
Председатель интерпретирует его слова: «Он хотел сказать: "Как
работать, так Хабибулин. А как путевки в санаторий, так начальнику жэка"»
(цит. по: Раскин 1995: 279).
В другом известном анекдоте сельский житель, впервые
побывавший в Москве, описывает односельчанам фейерверк,
оживленно жестикулируя: «Сперва е-о-о-о-6 твою мать! А потам
опять ни хуя!»
Понять возможности речи, включающей подобные
восклицания, легче, если связать ее с понятиями языковых клише и в
качестве их подкласса — языковых штампов. Если клише
вообще — это всякая готовая речевая формула, регулярно
воспроизводимая в речи, то языковой штамп — это клише,
потерявшее свою первичную информационную нагрузку.
Очевидно, что клише можно отнести именно к языковому
штампу, так как первичный смысл «односложного слова» (по-
видимому, «блядь» или «хуй» героев рассказа Достоевского)
этих последних совершенно не интересовал, и в принципе они
могли с точно такой же целью воспользоваться другим столь
же грубым словом.
Однако потеря для говорящего информационной нагрузки
совершенно необязательно должна означать такую же потерю
для адресата, и то, что одним из участников коммуникации
может рассматриваться как бессмысленный штамп, другим
воспринимается как вполне значимое и, следовательно,
функциональное средство общения (Дридзе 1972: 3). Особенно
характерно такое расхождение, если каждый из говорящих
принадлежит к другой социальной группе, например, если речь
пьяных мастеровых у Достоевского воспримет девушка «из
хорошей семьи». В последнем случае грубое междометие из
языкового штампа превратится в оскорбление, перестанет
быть (для слушающего), собственно говоря, междометием.
Хотя рассматриваемый инвективный тип кажется на первый
взгляд работающим исключительно на получателя, это не
совсем так. Многие исследователи справедливо усматривают в
любых стереотипных нормах поведения их определенную цен-
тростремительность, ориентированность на внутренние
механизмы самоорганизации (Байбурин 1985: 9). Очевидно, что
сказанное полностью относится и к инвективным стереотипам, и,
таким образом, инвективы-междометия отвечают
определенным потребностям как говорящего, так и слушающего.
Особый интерес представляет собой то обстоятельство, что
в условиях непринужденного общения инвективы-междоме-
93
тия резко снижают свою выразительную силу. «Детонирующие
запятые» содержат, как любой стереотип, минимум
информации и уже по одной этой причине, подобно всякой
информационной системе, не нуждаются в эмоциях. Установление
стереотипа и, как следствие, образование условного рефлекса
ведут к тому, что рецепторы привыкают к действию
постоянных раздражителей. Этим легко объясняется малая
эмоциональность инвективно нагруженной речи вне стрессовой
ситуации.
Но если информация становится менее исчерпывающей,
если, например, инвективы начинают восприниматься
нешаблонно, отношение к ним сразу же эмоционализируется.
Использование инвективы как стереотипной формулы
позволяет лучше понять природу инвективного
словоупотребления вообще. Поскольку известные инвективные (и
комплиментарные, куртуазные) формулы относятся к традиционным
формам общения, можно предположить, что они представляют
собой разновидность ритуала. Чтобы выяснить степень
правдоподобности такой гипотезы, рассмотрим особенности
ритуального поведения в целом.
В современной науке ритуалы рассматриваются в общем
контексте традиций и обычно определяются как символические
средства социального регулирования, лишенные
непосредственной целесообразности и тем не менее играющие
важную практическую роль в жизни любого общества. Особенно
подчеркивается стилизованный характер ритуала и как
следствие — относительная безопасность обращения к нему.
Очень важно, далее, что ритуалы программируются извне —
традициями и обычаями, что они могут носить как формальный,
так и неформальный характер. В любом случае они существуют
в виде закрытого списка, принятого в данной социальной
подгруппе. Очень существенно, наконец, что ритуал есть понятие
диалектическое, то есть одновременно структурирующее и
деструктивное, разрушительное начало.
Сказанное выше об особенностях междометной инвективы
дает основание утверждать, что этот инвективньш тип отвечает
всем требованиям, предъявляемым к ритуалам. Но если это
так, то смысл междометной инвективы, как любой
разновидности ритуала, должен заключаться не в форме внешнего
выражения, а в семиотике. Внимание в общении обращается
здесь на общую информацию, а не на стереотипные средства ее
выражения. Средства, использованные для реализации
стереотипа, понятны и без обращения к реальной конкретной ситуа-
94
ции, уже на уровне языка, а не речи. Они лишь минимально
изменятся под влиянием конкретной ситуации.
Но этого мало. Собственно говоря, стереотип имеет целью
даже не сообщение определенной эмоциональной информации;
он не может быть назван в строгом смысле слова выразителем
эмоций. Его задача — возбудить эмоцию, как бы послужить
поводом к ее возникновению.
Целесообразно в этой связи вспомнить традиционные
образы японской классической поэзии, направленные прежде
всего не на создание в душе читателя свежего образа, а на
возбуждение требуемой ассоциации (упоминание криков
обезьян вызывает мысль о сострадании, рукавов женской
одежды — об объятиях, цветов вишни — о недолговечности
земной красоты, луны — о высшем просветлении, и т. д.).
Поэтому в японской поэзии традиционные образы
предпочтительнее свежих.
Соответственно инвектива междометного типа вовсе не
ставит себе целью произвести впечатление своим содержанием,
хотя оно может быть достаточно эмоционально насыщенным
само по себе в силу шокирующего нарушения социального табу.
Ее задача — «наметить» эмоцию, сообщить собеседнику
намерение нарушить табу, и этого оказывается вполне достаточно
для создания впечатления эмоциональной нагруженности
высказывания.
Таким образом, как видим, роль междометных инвектив в
языке и речи достаточно велика и многообразна.
Необходимость отличать такие инвективы от эмоционально насыщенных
оскорблений очевидна и прагматически необходима. Особенно
важным представляется необходимость изучения процесса
перехода первоначально ярких инвектив в их междометный
вариант. Эта проблема требует дальнейшего изучения.
1.13. Психолингвистическая
интерпретация двузначности
инвективного обращения
Выше уже отмечалась принципиальная возможность
сосуществования в одном инвективном словоупотреблении двух
значений, положительного и отрицательного. Поскольку эта
особенность характерна для большей части интересующего нас
вокабуляра, рассмотрим ее более подробно.
Прежде всего необходимо отметить наличие в сознании
человека того очевидного факта, что все предметы, явления,
95
качества и действия делятся на имеющие положительную,
отрицательную или нейтральную ценность. Соответственно вся
лексика любого языка разбивается на три группы,
обозначаемые (+), (—) и (0).
Для целей настоящего исследования особенно важно,
однако, что значимость слова определяется не только, и даже
не столько, его общепринятым словарным значением. В
результате смены контекста оценка значения слова может
измениться самым решительным образом. Инвективный
вокабуляр предлагает в этом отношении достаточно
убедительные факты.
В нижеследующих примерах слова «сволочь» и «скотина»
выступают то в традиционно знаковом, то есть отрицательном,
значении, то, напротив, приобретают знаковость совсем другого
порядка. Ср.:
— Я сволочь, — сказала она, спокойно глядя перед собой. — К
сожалению, поздно это поняла (Юность. — Ярославль).
А Ермолаев говорит: «Вы такая сволочь, такая настоящая сволочь,
такая хорошая сволочь, что вы лучший в спектакле!» Уланова с
Тимофеевой тоже поздравляли (М. Лиепа — Огонек. 1989. № 35).
— Слышишь, тупая скотина? — крикнул Иван Дмитрич и постучал
кулаком в дверь. — Отвори, а то я дверь выломаю! Живодер! (А. Чехов).
— Как лихо отплясывает Пальма, — сказал Вант. — Скотина...
— Зачем так грубо? — улыбнулся Петерис.
— А я люблю его.
— Действительно?
— Действительно. А может, завидую. Но очень добро. Без зла» (Ю.
Семенов).
Как видим, в последнем примере собеседник Ванта
почувствовал отрицательный знак восклицания «Скотина!» («Зачем
так грубо?»), но одновременно понял, что это — пример
панибратской добродушной грубости («улыбнулся Петерис»). Его
мнение подтверждает дальнейшими словами и сам автор
восклицания («...люблю его», «...добро», «Без зла»).
Приблизительно такая же характеристика — у названия
романа Достоевского «Идиот» и стихотворения Есенина «Сукин
сын».
Аналогичный пример — из английского языка:
Ирвин безмятежно поднимает глаза на входящего Бутфорда и
говорит ему: «Hey, fartface, where you been?» (приблиз.: «Привет, сраная
морда, ты где был все это время?»). Он изрекает приветствие, которое
подразумевает фамильярность и (мы надеемся) дружеское расположение
(Wilson 1981: 250).
96
Немного отличается от вышеприведенного пример из
грузинского языка: «Sen qverebs venacvale», что в буквальном
смысле означает: «Я хотел бы быть твоими яйцами!», но, по
мнению журнала «Маледикта», равносильно: «Я обожаю твои
яйца!» — и может использоваться как выражение восхищения
или как ласкательное обращение родителя к сыну (Razvramikov
1988-1989: 37).
В американской практике возможны употребления в
подобном смысле и гораздо более грубых инвектив, вроде
«mother-fucker», «bitch» и др. Ср. указание на подобное же
использование бранного словаря в языке английских кокни (Прошин
1975: 96). Обязательное условие такого словоупотребления —
доброжелательная интонация и улыбка.
Очевидно, что в подобных примерах, с одной стороны,
сохраняется отрицательный знак, характерный для всех
оскорблений, а с другой — появляется положительный знак, присущий
всякому выражению дружеского расположения, приязни.
Разумеется, такое совмещение знаков возможно не только в случае
инвективных обращений, но именно в этих последних оно
присутствует наиболее естественным образом.
Приведем несколько примеров самых разных типов слов,
инвективных или близких к инвективным, объединенных
свойством соединения противоположных знаков в одном
конкретном словоупотреблении.
Прежде всего это слова, выражающие понятия, знаково
двойственные по самой своей природе. Характерный пример —
«черт», понятие, которое, с одной стороны, синонимично
понятию «враг рода человеческого», то есть безусловно
отрицательно, с другой — ассоциируется с такими положительными
качествами, как ловкость, умелость, трудолюбие. Ср.:
Если бы люди жили, как ангелы, а работали, как черти! (Ф. Кривин).
В этом последнем примере отрицательное и положительное
значения не взаимоисключают, а взаимодополняют друг друга.
Другие примеры могут совмещать отрицательное значение
с нейтральным. Речь здесь может идти, в частности, об особом
поведении американских подростков, которые порой, очевидно
не без влияния пуританского воспитания, испытывают
сомнения по поводу использования грубых, особенно
богохульных инвектив. В результате они составляют для себя целый
вокабуляр из «вежливых ругательств». Другими словами, они
пытаются обмануть самих себя, создавая эмоционально
нагруженные высказывания из нейтральных слов, перекладывая
4 В. И. Жельвис
97
шокирующую эмоциональную нагрузку с привычных
распространенных инвектив на другие языковые средства (Jersfld 1957:
159).
Получающийся продукт не отвечает требованиям к
эвфемизму, так как новые словоупотребления не преследуют цели
«выглядеть прилично» в глазах общества, и задача их не
отличается от задачи традиционных инвектив.
Следующие примеры — несколько другого рода. Здесь
первоначальное отрицательное значение вытесняется почти (но не
полностью) бесспорно положительным. Так, слово (понятие)
может восприниматься разными людьми или группами
(классами) противоположным образом по соображениям, например,
классовой или групповой морали. Ср. восприятие таких слов,
как «sansculottes», доел, «голоштанники» — прозвище
французских революционеров ХУШ в., данное им аристократами и
усвоенное его носителями в положительном смысле;
голландское «geuzen» — «нищие» — тоже бранное прозвище
нидерландских повстанцев XVI в., приобретшее в ходе борьбы с
испанцами положительное значение; разная знаковость у разных
классов и групп характерна для слов «коммунист», «большевик»,
«негр». У В. Астафьева читаем:
От Сурнихи до Опарихи и ниже их по течению держится красная
рыба, и поэтому в устье этих речек постоянно вьются чушанские
браконьеры, которые это слово хулительным не считают, даже наоборот,
охотно им пользуются, заменив привычное «рыбак». Должно быть, в
чужом инородном слове чудится людям какая-то таинственность, и
разжигает она в душе позыв на дела тоже таинственные и фартовые, и вообще
развивает сметку, углубляет умственность и характер.
В испанском стихотворении ХУШ в.:
<...> желая оскорбить сороку, попугай ответил лишь: «Вы не что иное,
как пуристка», на что сорока ответила: «И тем горжусь» (Касарес 1958:
154).
В данном примере, как и в случаях «санкюлот», «гез» и мн.
др., говорящий и слушающий актуализируют разные семы. В
испанском стихотворении получатель (сорока) проигнорировал
отрицательный смысл обзывания «пурист», который бранящийся
попугай имел в виду в первую очередь.
Скорее всего, к этой же группе целесообразно отнести
пример, когда американский негр говорит своей знакомой:
«Baby, you look bad!», имея в виду комплимент, а отнюдь не
огорчительную информацию: расистские мнения о том, что
такое «хороший негр» («good nigger») и «плохой негр» («bad
98
nigger»), вполне могут вызвать у негритянского населения
США положительную реакцию на «bad» и отрицательную — на
«good». В словаре афро-американского сленга сочетание «bad
nigger» расшифровывается как «черный, который отказывается
от покорности или который отвергает условия бедности и
угнетения, навязываемые ему обществом»; сочетание «bad talk»
означает «революционные или радикальные идеи» (Major 1971:
22). Ср. также фразу на афро-американском английском: «You
sho got on some bad shit», которую следует понимать как
«You've got on some great clothes», т. е. «Ты шикарно одет(а)»,
но которая в буквальном переводе могла бы означать что-то
вроде восхищенного «Ну, на тебе и паршивое же дерьмо!»
(Modern English Teacher: 15).
Впрочем, по наблюдениям автора, сегодня и белый
американец может восхищенно воскликнуть о понравившемся ему
событии «That was bad!» точно так же, как русский может с
таким же восхищением отозваться об искусном спортсмене или
артисте: «Мошенник!» или даже: «Сука!» Существенная
разница в том, что в американском случае перед нами —
официально, словарно зарегистрированное значение слова.
Собственно, так же следует понимать и случай с «черной
сотней» в современной России: резко одиозное значение
сочетания отвергается экстремистскими левыми течениями, с
гордостью числящими себя в составе этой самой «черной сотни».
Из приведенных примеров очевидно, что положительная и
отрицательная оценка могут сочетаться в одном
словоупотреблении в самой разной пропорции: «плюс» и «минус» могут
звучать одинаково весомо, или один из знаков может
практически подавлять другой.
Но можно ли в каком-либо из этих случаев говорить о
полной смене знаковой характеристики? Ср. два примера:
Мамаева. Вы — герой! Вы — герой ! Ваше имя будет записано в
историю. Придите в мои объятья! (Обнимает его.) (А. Островский).
«Вишь, какой батько! — подумал про себя старший сын, Остап, — все,
старый собака, знает, да еще и прикидьшается!» (Н. Гоголь).
Как видим, оба эти обращения выражают примерно одну и
ту же эмоцию — восхищение, однако делают они это
совершенно по-разному. Если в случае «героя» положительный
характер эмоции и оценочный знак слова-обращения полностью
совпадают, то со «старым собакой» дело обстоит иначе.
В силу того, что обращение «Собака!» имеет, как правило,
бранную функцию, восхищенное «Старый собака!» сохраняет,
4*
99
во-первых, сниженную просторечную окраску, а во-вторых,
даже употребляясь как похвала, продолжает сохранять в какой-
то степени и отрицательные ассоциации.
За один и тот же хороший поступок можно восхищенно
назвать человека «героем» или «старым собакой», но
впечатление от таких разных обращений будет непременно разным.
В слове «собака», употребленном в переносном смысле,
выявляются различные частные смыслы: злая, преданная, умная,
грязная и т. д. Нередко эти признаки выступают в сочетаниях,
«связках», причем состав этих связок не всегда ясен, а
следовательно, размыта и сама вторичная семантика слова (см.:
Никитин 1988: 71).
Как видим, размытость семантики слова в примере из
Гоголя возникает не только за счет сохранения прямого
значения слова. Собственно говоря, Остап говорит только, что его
отец — «старый собака», то есть формально перед нами —
отрицательное бранное значение, на которое, как видно из
контекста, накладывается дополнительный положительный
смысл.
Пример с противоположной направленностью — от (+) к (—),
но с тем же знаковым сочетанием:
«Ах ты, рябой черт! А?.. Погоди, я тебе покажу, кто я такая!.. <...> Это,
миленький мой, игрушечки!» (М. Горький).
Еще сложнее для анализа примеры, подобные
нижеследующему:
— Не слишком ли вы упрощаете службу, дуся? — Вот, видели. —
Николай Никитич с силой одернул мундир. — Несмотря на предупреждения,
что позволяет себе. Не беспокойся, Анисимов, мы с тобой встретимся, ой
как встретимся!
За последние часы Анисимов допек начальника милиции всем —
своими фразочками, стихами и особенно идиотским этим словечком — дуся.
Развязные манеры этого парня ликвидировали всякое сочувствие.
Нахальная манера говорить нараспев. Масленый блеск его длинных волос,
медные браслеты. Словечки ядовитые — и придраться нельзя, и в протокол
занести неудобно (Д. Гранин).
Как видим, практически бесполезно и бессмысленно
пытаться представить себе в дискретном виде поле значений слова
«дуся». Положительное, нейтральное и отрицательное значения
знаков распределены здесь в виде непрерывной функции,
причем только контекст дает возможность определить, в каком
месте шкалы значений мы находимся и является ли «дуся»
ласкательным обращением или оскорблением. По-видимому,
100
все значения присутствуют здесь в диалектическом единстве,
динамика которого задается ситуацией.
Отсюда легко понять трудное положение милиционера у
Гранина: вне ситуации словечко «дуся» воспринимается с
подозрением, но не более того, ведь выведение на первый план
одного значения отнюдь не снимает прочие, второплановые.
Можно сколько угодно считать «дусю» словечком «идиотским»
или «ядовитым», но... «и придраться нельзя, и в протокол
занести неудобно», ибо невозможно одновременно занести в
протокол условия речевого употребления «дуси».
Необходимо выяснить, если можно так выразиться, статус
каждого знака в таких сложнознаковых словах.
Представляется, что в данном случае полезным может оказаться
признание за лингвистическими объектами абсолютных и реляционных
свойств. Такого разграничения не производится во многих
современных работах, хотя оно является важным приобретением
современного языкознания (см.: Ломтев 1960: 15—16).
В терминах, предпочитаемых в данном исследовании,
следует говорить о выделении качеств предмета и его свойств.
Качества непосредственно присущи предмету и существуют
независимо от ситуации, от контекста, в котором предмет
встречается. Свойства же зависят от ситуации, наводятся ею
(ср.: наведенные семы у В. И. Шаховского в: Шаховский 1987:
172—177); так, имя любимого человека приобретает для
любящего дополнительное значение, которого, безусловно, нет в
имени как части национального словаря.
Разумеется, свойства предмета неразрывно связаны с его
качествами, но это не означает возможности их
отождествления. У слова «сволочь» (см.: «Вы такая хорошая сволочь») и
«скотина» («...а я люблю его» — см. примеры на с. 96) нет
значения «я им восхищаюсь», эти свойства соответствующих слов
появляются в контексте.
Принципиальное значение имеет тот факт, что свойства не
просто связаны с качествами: свойства определяются
качествами. Ср.: «Для объективной диалектики в релятивном есть
абсолютное» (Ленин 1936: 326).
Из сказанного следует очень важный вывод: для
эмоциональной лексики возможно противоречивое смешение в одном
употреблении, скажем, отрицательно заряженного качества и
положительного свойства, и наоборот.
Определим теперь место, которое сложнознаковые слова-
обращения занимают по отношению к однознаковым. Одно-
знаковые отношения удобно представить в виде схемы:
101
A+
B_
Примеры:
А+ : «Подайте милостыньки, Христа ради! — просит мать у
встречных. — Явите божескую милость, господа милосердные.» (А. Чехов).
В_: «И ты, змея\ Вон отсюда!» (А. Вампилов).
С0: «Тогда подождем, товарищ Мысовский. Нам не к спеху» (Ф. Абрамов).
Рассмотрим взаимоотношения этих трех вариантов, как они
представлены на схеме. Вертикаль А+ «-► В_ изображает дву-
знаковый эмоциональный континуум, эмоциональную ленту,
тянущуюся от «господа милосердные!» к «змея!». Вся эта
вертикаль-лента целиком противостоит нейтральной точке С0 по
критерию «наличие знака ("плюса" и "минуса" от А до В) — его
отсутствие» (в точке С0).
Связи А+ <-► С0 («господа милосердные!» — «товарищ
Мысовский») и В_ <-* С0 («змея!» — «товарищ Мысовский»)
показывают, что при определенных обстоятельствах «знаково
заряженные» слова могут стать нейтральными. Ср.:
«Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное
известие» (Н. Гоголь).
И, гладкой чешуей блестя,
Змея скользила меж камней
(М. Лермонтов)
Связи С0 <-+ А+ («товарищ Мысовский» — «господа
милосердные!») иС0^ В_ («товарищ Мысовский» — «змея!»),
наоборот, свидетельствуют, что нейтральные слова могут
приобрести в контексте любой знак. Ср.:
Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались?
(М. Светлов)
Здесь обращение имеет явно положительный знак.
Однако наблюдения показывают, что в реальном общении
этими связями дело не ограничивается. Для доказательства
этого достаточно обратиться к выше приводившимся сложно-
знаковым примерам типа «сволочь!», «скотина!», «старый
собака!», «дуся!», «миленький мой!» и проч. Очевидно, что для
размещения таких примеров места в предлагаемой схеме нет.
Поэтому в окончательном виде схема должна выглядеть
следующим образом:
102
A+
Как видим, для включения в схему обращений типа
восхищенного «[хорошая] сволочь!» или бранного «миленький
мой!» вводится новая точка D+—. Рассмотрим ее отношение к
другим точкам схемы.
Точка D+_ противостоит точке С0 («[хорошая] сволочь!») <-►
«товарищ Мысовский») по критерию «максимальная знаковая
загруженность — нулевая знаковая загруженность».
Связи D_|__ «-► А+ («[хорошая] сволочь!» — «господа
милосердные!») и D+__ «-> В_ («[хорошая] сволочь!» — «змея!»)
показывают, что в определенном контексте амбивалентные слова и
понятия могут становиться одинаковыми: обращение «сволочь!»
может, естественно, использоваться в чисто бранном значении
(«Куда лезешь, сволочь!»). Точно так же «змея» может
применяться для выражения восхищения. Ср.: «Мудрость змеиная,
кротость голубиная» (пословица).
Связи А+ <-► D+— («господа милосердные!» — «[хорошая]
сволочь») и В_ <-> D+_ («змея!» — «[хорошая] сволочь»),
напротив, показывают, что, очевидно, однознаковые слова могут
приобретать фактически два знака.
Связь С0 <-► D+_ («товарищ Мысовский» — «[хорошая]
сволочь») показывает, что нейтральные слова могут приобрести в
контексте еще один знак, не теряя старого, то есть стать двузна-
ковыми.
Таким образом, точка D+_ , как было показано, занимает
вполне определенное место в знаковой системе слов-обращений
и логично связана со всеми остальными точками. Другими
словами, схема в любой своей точке (а не только в крайних точках
А, В и С) может найти соответствие в точке D+_ , то есть в
принципе каждое эмоционально нагруженное слово-обращение
способно стать двузнаковым.
Этот вывод хорошо согласуется с фактом непрерывности
окружающего нас мира, предполагающей неизбежность регу-
103
лярных переходов плюсов в минусы и обратно и, как
следствие, — их диалектическое сосуществование.
Диалектическое же сосуществование разнознаковых
значений в слове, создающее сложнознаковый конгломерат типа
«хорошая сволочь!», «старый собака!» и т. д., позволяет строить
новую оппозицию, знаково гораздо более сложную, чем все
указанные на предыдущей схеме. Причем такие оппозиции
возникают как в понятийной, так и в языковой сфере.
Прежде всего, это пара «любовь — ненависть» и все
соответствующие слова-обращения. Выше уже отмечалось, что
в эмоции любви можно усмотреть сопутствующие эмоции
противоположного толка: ненависти, враждебности,
агрессивности, раздражения и т. д. Выражение же любви и
ненависти в виде слова-обращения соответствует на нашей
схеме вертикали А+ <-* В_ и противостоит точке С0, то есть
равнодушию.
Таким образом, на шкале эмоций и соответствующих
выражающих эмоции понятий возникает соотношение «любовь +
ненависть» £ «равнодушие», то есть два знаково
противоположные понятия и все переходы между ними противостоят
нейтральной эмоции и, соответственно, понятию эмоционально
безразличному.
Такое взаимоотношение было отмечено очень давно. В
поэтической форме это выражено у Катулла:
Лесбия вечно ругает меня. Не молчит ни мгновенья.
Я поручиться готов: Лесбия любит меня!
Ведь и со мной не иначе. Ее и кляну и браню я,
А поручиться готов: Лесбию очень люблю!
(Перев. А. Пиотровского)
Соответственно лексику куртуазную (всевозможные
ритуальные формулировки типа «Будьте добры», вежливые и
ласковые обращения и проч.) и лексику инвективную
(оскорбительные обращения) можно объединить и вместе противопоставить
лексике нейтральной, то есть куртуазная лексика + инвективная
лексика £ нейтральная лексика.
Естественная взаимная перетекаемость эмоций
подразумевает возможность сосуществования, пусть в разных
пропорциях, противоположных эмоций в любой точке бесконечной
эмоциональной ленты. Представляя собой эмоциональное
выражение более общего принципа «притягивание —
отталкивание», любовь и ненависть, как мы видели, могут быть
обнаружены в одной и той же точке такой ленты.
104
Более того, развнггие эмоции может, по-видимому, привести
к изменению, но не уничтожению пропорции «любовь £
ненависть». С помощью прописных и строчных букв можно
изобразить соответствующую динамику следующим образом:
ЛЮБОВЬ _ любовь _ любовь
ненависть ненависть НЕНАВИСТЬ
Другими словами, в конкретной ситуации место любви
может быть преобладающим, всеподавляющим (что выражено с
помощью прописных букв: «ЛЮБОВЬ»), ненависти же остается
незначительная роль (она обозначена строчными буквами:
«ненависть»); по мере развития чувства вполне возможна ситуация,
когда роли любви и ненависти сперва уравновешиваются (та и
другая одинаково изображены строчными буквами), а затем
ненависть становится преобладающей эмоцией
(«НЕНАВИСТЬ»).
Представить же себе случай «чистой любви», как и «чистой
ненависти», вряд ли возможно в силу того, что непрерывность
шкалы обязательно предполагает принципиальную
невозможность точного разграничения пограничных явлений.
Напротив, в силу прерывности, дискретности словесного
выражения эмоций динамика такого словесного выражения
выглядит принципиально иначе. Слово выражает только одну эмоцию,
а когда возникает потребность в выражении другой эмоции,
требуется еще одно средство выражения, то есть еще одно
слово. На определенном этапе, в процессе движения от
притягивания к отталкиванию, эти два слова могут сосуществовать, то
есть на этот раз динамическая схема предстает в виде:
> «Люблю!» ^^
7^> «Ненавижу!»
«Ненавижу!»
В конкретном тексте автор может попытаться обратиться в
середине этого процесса к обоим словам одновременно. Ср.:
И ненавижу ее и люблю. «Почему же?» — ты спросишь.
Сам не знаю, но так чувствую я — и томлюсь.
(Катулл. Перев. Ф. Петровского)
Однако такое решение — не единственное и даже не
наиболее характерное. Противоречие между непрерывностью
эмоциональной ленты и прерывностью, дискретностью
средств ее выражения (то есть слов) преодолевается и иными
путями. Дело в том, что «предназначенность» слова для выра-
105
жения в данном контексте только одного, вполне
определенного смысла реализуется, как было показано на ряде
примеров, с существенными оговорками. Двузнаковостъ
выражаемых словом эмоций неизбежно приводит к двузнаковому
восприятию и слова.
Поэтому утверждение, что слово имеет в контексте только
один смысл, остается в принципе верным; однако вся суть в
том, что этот смысл нередко является двойным. Все варианты
слов-обращений, выражающих любовь («Голубчик!»), равно как
и все варианты словесного выражения ненависти («Сволочь!»),
как было показано, могут быть употреблены также и в
противоположных значениях, и, что еще важнее, одно слово
употребление может оказаться двузначным.
Отнесение к слову в конкретной ситуации только одного
значения неизбежно обедняет его смысл, ибо смысл этот
оказывается в таком случае усредненным, как бы независимым от
именно этой ситуации. Поскольку это явно нежелательно,
наличие нескольких смыслов конкретного высказывания следует
считать скорее нормой, чем исключением.
С психолингвистических позиций целесообразно
рассматривать слово как ярлык, отнюдь не ставящий своей целью
вскрыть все значение им обозначаемого. Полный объем этого
обозначаемого бесконечен. Более того, слово — это даже не
просто ярлык, это «квант значения» (Арнольд 1974), веха,
расстояние между которой и другой вехой не заполняется речью,
но всегда подразумевается.
Но тогда возникает целесообразность рассмотреть вопрос об
отношении инвективы к понятию энантиосемии.
Проблеме энантиосемии посвящен ряд исследований, в том
числе диссертационных (Климова 1975, Яцковская 1976), статья
И. Н. Горелова (1986) и др. В некоторых работах
рассматривается, помимо чисто лингвистического, также и
психолингвистический аспект явления, однако в этом направлении еще
много неясного.
Как известно, под энантиосемией обычно понимается
развитие в слове антонимических значений, случай, когда одно «тело
знака» оказывается в состоянии выразить два противоположных
понятия. Ср. «запустить мяч» и «запустить дом», «просмотреть
опечатку» и «просмотреть статью», «задуть домну» и «задуть
свечу»; «подозрительный человек» — «тот, кто всех подозревает»,
и, наоборот, — «тот, кого подозревают», и т. п.
Ясно, что в большинстве случаев противоположный
характер значения диктует и смену знака на противоположный.
106
Другими словами, два значения одного слова в условиях энан-
тиосемии часто различаются в знаковом отношении. В случае
эмоциональной лексики такое различие можно считать
универсальным. Смешение значений возможно только в качестве
сознательной игры слов. Ср. старый анекдот:
— Дяденька Хрущев, это вы запустили ракету?
— Я, мальчик.
— А сельское хозяйство?
— Кто тебя научил такое говорить?
— Папа. ^
— Так вот, скажи папе, что я умею сажать не только кукурузу...
Очевидно, что двусмысленность здесь легко снимается
контекстом, и в каждом конкретном случае речевого употребления
энантиосемия как бы отсутствует, то есть ее эмоциональное
влияние (не в ситуации анекдота!) не ощущается говорящими.
Тем не менее в языке существуют словоупотребления,
которые позволяют взглянуть на энантиосемию под несколько
другим углом зрения, увидеть в ней нечто большее, чем языковой
курьез.
Для дальнейшего анализа необходимо обратиться к
некоторым важным теоретическим предпосылкам самого
существования энантиосемии как феномена языка и мышления. В
первую очередь — это оживленно дискутируемый вопрос о том,
обладает ли слово изначальным значением или получает его
исключительно в контексте.
В. Колшанский утверждает, что не из слов с их значениями
складывается высказывание, а только в рамках высказывания,
то есть лишь в контексте слово получает значение (Колшанский
1980). Другие исследователи подчеркивают, что слово должно
функционировать как часть системы отношений, причем в
систему смыслов слова должны входить все дополнительные
значения и стилистические ограничения (Мамонтов, Шахнарович
1989: 97). Человеческое сознание оперирует только системой
значений, а никак не отдельными значениями.
На практике это означает, что вся система значений в
состоянии функционировать одновременно. Иначе говоря, в
конкретном словоупотреблении могут сосуществовать все элементы
системы. Другой вопрос, что пропорции такого
сосуществования могут быть очень разными, и одно из значений может
ощущаться в минимальной степени.
А. Н. Леонтьев (1978: 178 ел.) различает сознаваемое
объективное значение и значение для субъекта. Значение для субъекта
он предпочитает называть личностным смыслом. В нашем иссле-
107
довании нет необходимости различать эти два вида значения,
поэтому в дальнейшем речь будет идти просто о двух или
нескольких значениях, присущих тому или иному слову, без
уточнения характера значения.
Впрочем, некоторые лингвисты предпочитают все же
говорить об единственности значения слова в данном контексте.
Однако И. Н. Горелов при этом справедливо оговаривается, что
под единственностью значения следует все же понимать лишь
единственность основного значения, что единственность здесь —
не статистическая категория (Горелов 1987: 93). Он приводит в
этой связи убедительную цитату из А. Ф. Лосева:
Уже самый простой разговор одного человека с другим <...> возможен
только потому, что каждое слово и каждый языковой элемент заряжен
бесконечным количеством разного рода смысловых оттенков, и мы даже
сами не замечаем, какое огромное количество этих оттенков выступает
в наших словах, чтобы мог состояться самый обыкновенный разговор
(Лосев 1983: 141).
Сходным образом Ю. А. Сорокин представляет слово как
«конденсат» индивидуальных и групповых оценок и
отношений, как «память», которая накапливает сведения о его
употреблении; одновременно слово допускает интерпретацию
пусковой установки, «триггера» ценностей и установок —
базовых элементов индивидуального или группового опыта
(Сорокин 1988: 8).
Как видим, трудно говорить об одном, и только одном,
значении слова даже в конкретном тексте; совершенно очевидно,
что эмоциональная нагруженность обеспечивает
многозначность слова в любой ситуации, ибо помогает
конденсировать несколько индивидуальных оценок и отношений,
служит способом запуска ряда элементов нашего опыта (ср.
также по этому поводу: Шахнарович, Графова 1987: 127).
В свете же сказанного следует согласиться, что энантио-
семия представляет собой один из крайних случаев
взаимодействия антонимии и омонимии и что именно в этом аспекте она
возникает как необходимость или возможность приписывания
одной и той же формы двум разным (противоположным)
явлениям (Горелов 1987: 97).
Но если сказанное справедливо для языка в целом и для
явления энантиосемии в особенности, то это тем более
справедливо для значений слова, эмоционально нагруженного.
Слово приобретает относительную однозначность только в
контексте, который организован в соответствии с законами
вербально-логического мышления. Чувственно-образное мышле-
108
ние же подразумевает возможность совмещения нескольких
значений, вплоть до прямо противоположных, в одном и том
же контексте. Логическое изложение информации
содействует уменьшению энтропии, в то время как образное
постижение мира способствует ее увеличению (Ротенберг 1980:
151, 152, 154).
Представляется, что все слова-обращения, потенциально
могущие быть понятыми как знаково противоположные, уже
по самой своей природе подразумевают известную двузнако-
вость. Отсюда изначальная парадоксальность значения, когда
рядом с очевидным плюсом потенциально соседствует минус,
и наоборот.
Таким образом, в анализируемом случае лучше говорить не
о плюсе, подсоединяющемся в определенной ситуации к минусу,
а о плюсе, проявляющемся рядом с минусом.
Именно такие случаи сосуществования двух знаков в одном
словоупотреблении и можно считать разновидностью явления
энантиосемии.
Однако в таком случае придется значительно увеличить
объем энантиосемии, признав, что соответствующие случаи
весьма часты в речи и отнюдь не могут считаться
исключениями. Определение энантиосемии должно тогда включать
не только случаи развития антонимичных значений,
дифференцируемых контекстом, но и такие случаи, когда антони-
мичные значения присутствуют в словоупотреблении
одновременно.
1.14. Функциональная классификация
инвективного словоупотребления
Ряд функций инвектив, особенно основных, так или иначе
упоминался в ходе предыдущего изложения. Представляется
необходимым дать теперь систематическое описание всех
функций.
1. Самая основная функция инвективы, от которой произ-
водны все остальные, — это инвектива как средство выражения
земного, профанного начала, противопоставленного началу
священному, сакральному. О взаимоотношении этих двух начал
достаточно говорилось ранее.
2. Профанная функция инвективы естественным образом
предоставляет возможность катарсиса. Таким образом, вторая
функция инвективы — катартическая, то есть возможность
получить с ее помощью психологическое облегчение.
109
3. Профанизация речи, обращенной к оппоненту, — это, как
правило, средство понижения социального статуса адресата,
помещение его на самой низкой ступени социальной иерархии.
Осуществляется это самыми различными средствами. Среди
них:
а) Простое сопоставление имени адресата с непристойными
наименованиями. Ср. um. «maledetto», нем. «verdammter», англ.
«bloody», «goddamn», рус. «ебаньш».
б) Метафорический перенос на адресата названия
животного: рус. «Козел!», азерб. «Ешак!», фр. «Cochon!», яп. «Чикусоо!»
(«скотина») и т. д.
в) Обвинение в нарушении социального табу. Ср. греч.
«Пусти!» («гомосексуалист»), болг. «Курва!», тур. «Boinuzlu!»
(«рогоносец») и т. д.
г) Употребление сниженного или вовсе табуированного
словаря как выразителя отрицательного отношения к адресату,
пренебрежения его социальным комфортом. Ср. рус:.
«Ишь, харниго отрастил за свою болезнь!»
«Вы пришли сюда пожрать и этим оскорбили усопшего!»
[М. Зощенко)
д) Наиболее экзотический способ выражения своего
пренебрежения адресатом принадлежит индейцам племени мохави.
В абсолютном большинстве национальных культур ругатель
понижает статус ругаемого, причисляя его к отбросам
общества, животным, приписывая ему позорное происхождение,
сексуальные отклонения и т. п. У мохави же, например, заклятый
враг белых присваивает самому себе (!) кличку «Гнусный
белый», а мужчина, поссорившийся с женщиной, объявляет, что
его отныне зовут «Вульва, черная, как уголь» (мохави уверены,
что от длительного употребления определенные органы
темнеют). Узнав об этом, его противница требует, чтобы теперь ее,
в свою очередь, называли «Черные яйца» (Devereux 1951: 106).
Напрашивается аналогия с русским анекдотом, в котором
рассерженный продавец, не желая терпеть капризы покупателя, но
не смеющий и нагрубить, говорит:
«Слушайте, встаньте вы на мое место, и тогда пошел я к ебене
матери!»
Все остальные функции так или иначе вытекают из первых
трех и в большинстве случаев соприсутствуют с остальными.
4. Средство понижения статуса адресата может
парадоксальным образом служить противоположным целям — напри-
110
мер, как средство установления контакта между равными по
возрасту и социальному положению людьми. Часто это просто
жизнерадостные обращения, эмоционально выражающие
положительное отношение к кому-либо или чему-либо,
что-нибудь вроде: «Привет, падла, что-то тебя давно не было видно!»
(см. также англ. пример на с. 96). Принцип стратегии
говорящих в данном случае ясен: оба человека равны, если любой
из них может понизить статус другого и тем самым сделать
отношения симметричными, равными. Обязательное условие
здесь: говорящий ожидает, что слушающий не обидится на
инвективу и, в свою очередь, имеет право ответить подобным
же образом.
С некоторыми оговорками сюда же можно отнести шутки
и анекдоты, содержащие обильную непристойную лексику. Ср.
концовку одного американского научно-фантастического
рассказа, посвященного трудностям общения землян с
представителями других миров:
Мы хорошо поладили. Я убедился, что люди и инопланетяне просто
обязаны подружиться, если у них есть хоть малейший на то шанс. Видите
ли, сэр, мы с ними потратили эти два часа, рассказывая друг другу
похабные анекдоты (М. Лейнстер).
5. От этой функции несколько отличается функция
инвективы как средства дружеского подтрунивания или подбадривания.
Ср.:
Мне инструктор помог — и коленом пинок —
Перейти этой слабости грань.
За обычное наше «Смелее, сынок!»
Принял я его сонную брань.
(В. Высоцкий)
Вокабуляр здесь может быть в принципе тот же, что и в
случае 4, но на этот раз в роли бранящегося может выступать
только один из говорящих, так что в данном случае уже
трудно говорить о симметричности. Употребленные инвективы
могут быть очень резкими по форме, но ситуация дружеского
общения (иногда плюс улыбка) исключает их трактовку как
намеренное оскорбление.
6. Со случаями 4 и 5 сходна функция инвективы как
дуэльного средства. Два оппонента могут осыпать друг друга
оскорблениями, иногда очень сильными и обидными, в качестве
своеобразной «игры», ритуальной дуэли. Подобные дуэли
отмечаются этнографами у гренландских эскимосов, гималайских
шерпов и др.
111
Ср. описание такой дуэльной перебранки двух молодых
индийцев времен колониальной Индии:
По мере того как длилась эта схватка, зрители приходили во все
большее возбуждение и с энтузиазмом аплодировали очередной струе
грязных оскорблений. Противники прошлись по всей родословной друг
друга, поколение за поколением, и каждый раз находили все более и
более отвратительные подробности, пока наконец дворник не был
признан победителем. Он проследил родословную своего соперника на
протяжении последних двух тысяч лет и представил убедительные
доказательства того, что одна из его прямых родственниц по женской линии
годами сожительствовала — уже когда овдовела — с полудохлой
бычьей лягушкой и этим превзошла свою мать, которая сочеталась законным
браком со вполне здоровым хряком и спала с ним. Потерпевший
позорное поражение противник понуро выбрался из круга (Graves 1927).
В английской культуре существует специальный термин
«flyting», под которым понимается перебранка как «дуэль» и
одновременно — как средство «завести», разъярить противника.
7. Это случай, напоминающий 5, но все же отличный от
него. Два человека могут относиться к третьему как к «козлу
отпущения» и за счет его поношения установить
положительный контакт между собой. Инвективы в данном случае
необязательны, вполне возможны разрешенные средства, однако
инвектива, безусловно, здесь уместна и распространена.
8. Функции 4, 5 и 7 имеют много общего с функцией
установления корпоративного духа общающихся. Можно говорить в
таких случаях о криптолсиической функции: жаргонные
выражения используются в качестве пароля, по которому члены
данной социальной подгруппы узнают друг друга. Ср.:
И тут нас выручил один пожилой солдат, который спустился к
самому берегу реки и принялся крыть часового отборными словечками. Только
тогда часовой по-настоящему поверил, что на другом берегу свои (Неделя.
1982. № 87).
Они разложили маленький огонь от комаров, вывалили на газету
разваренную рыбу. По кругу гулял родимый граненый. Говорили они,
употребляя в десятках вариантов одно и то же слово. Меня они
застеснялись, но я употребил еще один вариант этого же слова и стал как бы свой
(В. Крупин).
Небезынтересно, что такое «социальное сквернословие»
сокращается при отсутствии аудитории, которая способна
оценить его, или просто в присутствии тех, кто заведомо не
обращается к инвективе. Так, согласно «полевому наблюдению»,
когда в экспедиции одна часть группы геологов ушла на особое
задание, причем среди ушедших были все те, кто осуждал
112
сквернословие, оставшиеся стали обращаться к инвективе
вдвое чаще. По мнению наблюдателя, это можно было
объяснить сознательной попыткой оставшихся как-то
компенсировать сокращение группы и увеличить ее сплоченность. В этой
функции употребляются инвективы в составе воровских
жаргонов, всевозможных так называемых «блатных музык».
Существует распространенное мнение, что этим «музы-
кам» присущ преимущественно тайный характер, и они
имеют целью скрыть содержание говоримого от непосвященных.
Между тем в настоящее время все «заинтересованные лица»,
например правоохранительные органы, прекрасно понимают
любые жаргоны, а эти последние продолжают
функционировать. Очевидно, «блатная музыка» имеет другую цель, а
именно — криптолалическую. Наиболее распространенные
инвективы известны даже за пределами своего национального круга
и успешно «работают» за границей. Ср.:
У актера и режиссера Александра Пороховщикова недавно чуть не
украли жену. Во время круиза по Черному и Средиземному морям
супружеская чета решила посетить турецкий базар. Здесь за Ириной
увязался необъятных размеров турок, со словами «Гут, рус, ой какой!»
неотступно следовавший за молодой женщиной. <..> Сластолюбивый турок
стал клянчить у актера продать супругу. <...> Выручила Пороховщикова
ненормативная лексика, которую, как выяснилось, отлично понимают и в
Стамбуле (Комсомольская правда. 1994. 18 февраля).
9. Поскольку «корпоративный дух» может распространяться
и на самого говорящего, к вышеперечисленным функциям
можно присоединить и функцию самоподбадривания.
Осуществляться оно может с помощью самых разнообразных средств,
вовсе не обязательно инвективных (ср. знаменитое гагаринское
«Поехали!»). Однако популярнее здесь именно инвектива. Это
понятно, если учитывать, что самоподбадривание — это
фактически одновременно желание заглушить голос сомнения в
успехе.
Следовательно, речь идет об очень древней инвективной
функции, ведущей происхождение с тех времен, когда с
помощью вокабуляра, имевшего сразу священный и сниженный
характер, человек создавал магическую формулу, надеясь
запугать или задобрить злых демонов, угрожавших успеху
предприятия. Напрашивается некоторое сходство этой функции с
5 и 6.
К этой же группе самоподбадривающих инвектив можно
отнести случаи, которые целесообразно назвать «синдромом
Волка и Ягненка», когда бранящийся («Волк») возбуждает в
113
себе ненависть к адресату («Ягненку») за счет приписывания
ему (с помощью инвективы) всевозможных пороков, что
морально облегчает расправу с ним. Первый как бы меняется
местами со вторым, выступая в роли оскорбленного и теперь
осуществляющего акт справедливого возмездия.
Разжигание ненависти в себе может успешно сочетаться с
провоцированием противника оскорбительным понижением
его социального статуса (как это распространено, например,
в кикбоксинге). Ср. известную сцену боя Тиля Уленшпигеля
с рыцарем Ризенкрафтом:
«По мне, — заговорил он (Тиль. — В. Ж.), — хуже чумы и проказы и
смерти те зловредные негодяи, которые, попав в дружную солдатскую
семью, ходят со злющей рожей и брызжут ядовитой слюной <...>. Вот
почему я с особым удовольствием поглажу этого шелудивого пса против
его облезлой шерсти». Ризенкрафт же ответил так: «Этот забулдыга черт
знает что наплел о беззаконности поединков. Вот почему я с особым
удовольствием раскрою ему череп, чтобы все убедились, что у него голова
набита соломой» (Ш. де Костер. Перев. Н. Любимова).
Уместно вспомнить, что Тиль выиграл поединок, просто
доведя разъяренного рыцаря своим языком до смерти от
сердечного приступа.
Ср. также описание войн племени даяков (остров Борнео):
Рукопашные бои были редкостью, но если до этого доходило, <...>
даяки вначале применяли методы психологической войны. Осыпали
противника бранью, глумились над ним и его родителями, объявляли всем и
вся, что отрубленные конечности врага будут использованы для самых
низменных целей, а содранная кожа пойдет на покрывало. Сомнению
подвергались также мужские достоинства оппонента, что являлось в этих
краях вершиной оскорбления (Воляновский 1976: 168).
Из перечисленных здесь инвектив видно, что в принципе
они не отличаются от традиционно европейских как по
тематике, так и по назначению. Ср. также описание войн неваров —
жителей долины Катманду (Непал, ХУШ — XIX вв.):
Когда встречаются две армии, они начинают поносить друг друга
всякими словами. После нескольких выстрелов, если никто не ранен, войско,
подвергшееся нападению, возвращается f крепость, которых здесь
множество (Парнов 1984: 91).
Как видим, в последнем случае словесная перепалка
является чуть ли не единственным способом разрешения
конфликта. Очевидно, что оскорбление словом рассматривается в
этом ареале как вполне адекватное физическому
воздействию.
114
Русская традиция мало отличается от этой. Вот как об этом
пишет писатель и этнограф XIX в. С. Максимов:
Если не удавалось в старину отсидеться за деревянными стенами в
городках и надо было выходить в чистое поле, выбирали для этого реку
и становились ратями друг против друга. Суздальцы против черниговцев
стояли в 1181 году на реке Влене таким образом две недели, смотря друг
на друга с противоположных берегов, и переругивались. Припоминали
старые неправды и притеснения, укоряли друг друга племенными
отличиями, обращая их в насмешку и раззадоривая. Точно так же и под
Любечем долго стояли новгородцы противу киевлян и не решались
переправиться через реку Днепр, пока первые не были выведены из терпения
обидами и грубыми насмешками. Киевский князь Ярослав точно так же
в ссоре с тмугараканским Игорем бросил в него бранное и
оскорбительное слово: «Молчи, ты, сверчок!» Начали биться. Битва кончилась
победою Игоря, а народ стал с той поры, в посрамление бранчливого,
подсмеиваться над ним: «Сверчок тмугаракан победил» (пит. по: Блуд на Руси
1997: 32-33).
Максимов отмечает, что, как правило, подобные
перебранки были частью устоявшегося ритуала, который всегда
начинался именно с брани, откуда слово «брань» и стало позже
означать не только ругань, но и собственно сражение, которое за
бранью следовало1. Или не следовало, и все ограничивалось, в
точности как у неваров, поношением:
Брань одна или окончательно решала спор, или разжигала страсти
других враждующих сторон до драки, когда они вступали в дело,
принимая участие и сражаясь всем множеством (цит. по: Блуд на Руси 1997:
33).
Бывало так, что враждующие соседи досыта наругаются, отведут
душу, да на том покончат и разойдутся: так нередко случалось у
новгородцев с суздальцами. Затевать долгие и большие бои было невыгодно,
ибо одни без других жить не могли, потому что жили частыми обменами,
вели живую торговлю (там же: 34).
Чтоб не создалось впечатление, что этот способ общения
ушел в прошлое, вот пример из недавней грузино-абхазской
войны:
Близость расположения здесь враждующих сторон позволяет им в
моменты затишья вести друг с другом, не покидая окопов, словесные
диспуты. Содержание подобных «задушевных бесед» часто сводится к
1 Отметим еще одно важное наблюдение С. Максимова: он предлагает
различать два слова: «ругаться» и «браниться». «Браниться — пишет он, — то
есть в ссоре перекоряться бранными словами, по народным понятиям, не так
худо и зазорно, как ругаться, то есть бесчестить на словах, подвергать
полному поруганию, смеяться над беззащитным, попирать его ногами» (пит.
по: Блуд на Руси 1997: 35).
115
намекам на половые контакты с такими безобидными животными, как
козы. Подозреваемая в подобных связях сторона утверждает обычно,
что от таких половых контактов и появились на свет их нынешние
противники, сидящие в окопах напротив. Как правило, полемика о
скотоложстве переходит в конце концов в активную перестрелку
(Аргументы и факты. 1993. № 1).
10. Противоположная по смыслу функция инвективы —
самоуничижение. Это своеобразная саморегуляция, с помощью
которой бранящийся «выпускает пар». Ср.:
Эх я дурак! Зачем, зачем не улетел я с нею? Чего испугался, старый
осел? <...> Эх, терпи теперь, старый кретин! (М. Булгаков).
Why, what an ass am I. (W. Shakespeare) — Ну и осел же я! (В.
Шекспир)
11. Корпоративный дух присутствует и в нескольких других
случаях использования инвективы в современной речи. Так,
иной раз инвективизация речи являет собой попытку
представить себя «человеком без предрассудков». Такова причина
инвективизации речи определенной части образованных и
относительно культурных слоев населения, например, работников
умственного труда. Обращение к инвективе дает ощущение
«социальной свободы», порой даже классового равенства.
12. В этом смысле характерно, что девушки из весьма
образованных американских семей, обучающиеся в
привилегированном колледже, обращаются к своеобразным инвективным
цепочкам типа «Shit-piss-fart-fiick and corruption!» (Passin 1980:
85). На русский язык перевести это невозможно, так как здесь
просто перечисляются наиболее вульгарные корни,
означающие кал, мочу, непристойные звуки, половой акт и вообще
разложение. Наиболее близкий русский вариант —
бессмысленное богохульство типа «Еб твою в бога-душу-крест-гроб-три
креста-мать!» Ср.:
Литературный мат от образованного семинариста И. Баркова до
люмпенизированного интеллектуала Вен. Ерофеева оказывается проявлением
по преимуществу интеллигентским, реализующим элитарность
культурной позиции через ее отрицание (Зорин 1996: 131).
13. В каком-то смысле это использование инвективы
смыкается с употреблением ее образованными слоями общества в
качестве символа сочувствия угнетенным классам. Сквернослов
как бы отказывается от своей более высокой субкультуры,
отрицает элитарность в принципе и заявляет о своей принад-
116
лежности к новой группе (Adams 1977: 128). Во время
студенческих волнений в Западной Европе в 60-х годах подобное
словоупотребление было характерно для итальянских
студентов левого направления. В таких случаях инвективизация речи
ставится в один ряд с демонстративным заявлением белого
американца-антирасиста, что отныне он считает себя негром,
или арийца в фашистской Германии, что он — еврей, и т. д.
Такие случаи зафиксированы в истории.
Однако сюда, по-видимому, можно отнести и более простые
и распространенные ситуации, когда, например, начальник
полагает, что подчиненный поймет его, только если с ним
разговаривать матом. Ср. в этой связи:
Как-то генерал де Голль гостил у Сталина, и между ними произошел
такой разговор:
— А есть ли у вас во французском языке слова, соответствующие
русским матерным?
-Нет.
— Тогда вам трудно управлять государством (Раскин 1995: 279).
В гораздо более редких случаях начальник и сам ожидает
такого же к себе отношения. Ср. рассказ, описьшаюпшй
взаимоотношения высокого сановника и егеря Антона:
С этой минуты, с выезда на залив, Антон говорил гостю вперемежку
то «вы», то изредка «ты». А уж когда шла ловля, тыкал подряд. В особо
острых случаях мог и матюгнуть. Гость не обижался, быть может,
полагая егеря на это время своим начальником, А может, ощущая удовлетворение
оттого, что умеет не отрываться от простого народа, несмотря на свой
высокий пост (И. Меггер).
14. К этой же группе «социальных инвектив» относится
нарративная группа. С помощью инвективы говорящий может
попытаться привлечь к себе всеобщее внимание. Здесь
напрашивается аналогия с деревенским сказочником, который
способен предварить сказку скабрезной прибауткой, никак не
связанной по содержанию с основным повествованием, но зато
ставящей прибауточника в центр внимания, вызывающей всеобщий
смех. Ср.:
Тита-дрита, тита-дрита,
Поп ебет архимандрита,
Архимандрит — звонаря,
А звонарь — пономаря,
Пономарь-то Степку
Уеб прямо в жопку.
(Русский мат 1994: 227)
117
Следы нарративной инвективы видны и в существовании
своеобразных непристойных «сказочек», вся суть которых не в
содержании, обычно очень примитивном, а в специальном
подборе вульгарного вокабуляра (Лихачев 1935: 58):
«...Выпью с горя, затоскую...»
Лев в ответ: «Пошел ты к хую!
Здесь не место тосковать,
Замолчи, ебена мать!»
Некоторые подобные рифмовки позволяют говорить о
несомненных литературных достоинствах их авторов. Ср.:
Цветет и пахнет вся Европа.
У нас же смрад, спасенья нет.
Читатель ждет уж рифмы «розы», —
Так получи ее, эстет!
(В. Забабашкин)
В некоторых похожих случаях используется довольно
сложная игра: вместо ожидаемого подсказываемого рифмой
непристойного слова предлагается другое, которое тут же рифмуется
с вполне пристойным, отчего читатель чувствует себя
одураченным:
Себя от старости страхуя,
Вошли в «Госстрах» четыре... деда.
Они пришли после обеда,
О бренной юности тоскуя.
В ночной тиши на водной глади
Стиль брасс показывали... девы.
Они резвились, словно Евы
На водной глади в Ленинграде.
Другой вариант: непристойное слово заменяется
пристойным, но искусственность этой замены очевидна.
Как у дяди Зуя потекло из ху—
А что? ничего! из худых галош.
А у тети Нади да все девки бля—
А что? ничего! бляшками торгуют.
По дороге в Киев мужик бабу вы—
А что? ничего! выкинул с телеги...
Как английский шкипер
Налетел на три...
А что? ничего! Три подводных камня.
В следующем четверостишии из той же серии автор как бы
пытается идти по тому же пути, но в конце притворяется, что
«не выдержал стиль»:
118
У виноградника Шабли
Пажи принцессу у...видали.
Сперва сонеты ей читали,
Но позже все же уебли...
Примерно то же — в немецком языке (цит. по: Булдаков
1981):
Was nutzt des Menschen hoher Geist,
Wenn er im Bette sitzt und... schwitzt.
Как видим, здесь вместо ожидаемого рифмуемого «sheißt»
(ср. рус. «срет», «серет») коварно подставляется «schwitzt»
(«потеет»). Как и в предыдущих русских примерах, подставленное
как бы в последний момент литературное слово даже больше
подходит по смыслу, чем вульгарное, требуемое рифмой.
К этой же группе можно отнести непристойные анекдоты,
подавляющее большинство которых не отличается остроумием,
но зато включает непристойность, рассчитанную на то, чтобы
вызвать смех непритязательной аудитории. Приятное
остроумное исключение:
Конферансье — залу. «Шарада. Первый слог — это то, что нам
всем столько лет обещали. Второй — это то, что мы в конце концов
получили. А в целом — это моя фамилия. Как меня зовут?»
Зал — хором. «Райхер!» (Куранты).
С определенными оговорками к этой функции можно
отнести инвективную лексику в современной поэзии, например, в
поэзии битников, сознательно насыщенной вульгаризмами,
языком улицы. Именно такой язык кажется наиболее
естественным певцам хулиганства как образа жизни, бардам
карнавала, вовлекающего в свою орбиту всех, находящихся вблизи.
Из современной отечественной поэзии такого рода:
Это все мое, родное,
это все хуё-моё!
То раздолье удалое,
то колючее жнивье.
То березка, то рябина,
то река, а то ЦК,
то зэка, то хер с полтиной,
то сердечная тоска!
(Т. Кибиров)
Какая ночь, едрить твою!
Черней Ремарка обелиска.
(И. Иртенъев)
119
15. В известном смысле противоположный характер присущ
обращению к инвективе с целью сбить противника с толку,
отвлечь его внимание от чего-то, что необходимо скрыть,
например, собственный страх или уязвимость — по принципу
«лучший способ отступления — наступление». Ср.:
— Кто тут?
— Я, батюшка — <...> отвечает старческий голос.
— Да кто ты?
— Я... прохожий.
— Какой такой прохожий? — сердито кричит сторож, желая
замаскировать криком свой страх. — Носит тебя здесь нелегкая! Таскаешься,
леший, ночью на кладбище! (А. Чехов).
Такое желание «ошарашить», чтобы получить известный
выигрыш во времени, часто приводит к необходимости
употребления очень грубых инвектив, особенно связанных с
оскорблениями родственников, а также наиболее древних, ныне
попавших в разряд вульгарных жестов типа фиги, задирания
подола платья, обнажения нижней части тела и проч.
В определенной степени подобные жесты и идиомы,
несомненно, идут от шаманских ритуальных плясок и выкриков.
У эстов инвектива «помогала» при нежелательной встрече. Брань
могла сопровождаться плевком. Ср. аналогичный русский
пример:
Поймав себя на том, что он думает о шаманке как о живом, на самом
деле существующем человеке, Коля громко кашлянул, нарочито грязно
выругался, плюнул под ноги пренебрежительно и поспешил к зимовью
(В. Астафьев).
Иногда нечто подобное называют апотропаической функцией,
подразумевая под этим использование непристойного
наименования в качестве оберега,
В настоящее время следы подобной стратегии можно
обнаружить в смягченном или полном виде среди детских
дразнилок. Что-то похожее встречается в современной тактике
спортивной борьбы. Классический пример — скандальное
поведение на ринге некогда всемирно известного боксера
Мухаммеда Али (подлинное имя — Каххиус Клей).
16. Очень близка к этой функции функция инвективы как
средства передачи оппонента во власть злых сил. Ср. такие
выражения, как рус. «Черт бы тебя побрал!», «Иди к черту!», англ.
«Go to hell!», «Go to devil!», нем. «Zum Teufel mit dir!», um. «Va
al diavolo!» и мн. др. Вульгарные варианты строятся главным
образом по модели «Иди ты в...», «Иди ты на...» и т. д. Они
120
смыкают эту стратегию с обвинением оппонента-мужчины в
принадлежности к женскому полу, перверсиях, пассивном
гомосексуализме и т. п. (см. 3).
17. В самом тесном родстве с этой функцией находится
другая, магическая, восходящая к древней уверенности в
священной силе слова, способности слова активно влиять на
происходящие события. Речь идет о различных клятвах, божбах и
проч. типа рус. «Богом клянусь!», «Разрази меня гром!», англ.
«By God! Christ!», фр. «Nom de Dieu!», исп. «Рог vida de Dios!»,
um. «Per la Madonna!» и мн. др.
Некоторые из них воспринимаются в своей культуре как
чудовищные оскорбления общественной морали, много хуже
русского мата. В «блатной музыке» эту роль играют
вульгаризмы:
Сукой буду по-ростовски,
Блядью буду по-московски,
Пайку хавать, век страдать
И свободы не видать!
(Русский мат 1994: 222)
18. В некотором родстве с этой функцией находится
другая: дать говорящему ощущение власти над «демоном
сексуальности». Иными словами, обращение к инвективе может
отражать подсознательную тревогу сквернослова за свое
сексуальное здоровье. Этот тип проявляется, в частности, в
пристрастии к непристойным куплетам, частушкам или сальным
анекдотам, особенно если говорящий — человек среднего или
пожилого возраста.
Однако к подобным же жанрам могут обращаться и
подростки, пытающиеся доказать с помощью непристойной
инвективы свою мужественность, жесткость, твердость характера,
агрессивность. Словесно выраженная насмешка над
сексуальными ощущениями нередко играет у них роль серьезного катар-
тического фактора. Необходимо помнить, что в современном
цивилизованном обществе обсуждение известных «запретных
вопросов» порой оказывается принципиально невозможным без
обращения к вульгарной лексике: иной лексики у человека
может просто не оказаться или она будет выглядеть крайне
неуместной. Поэтому возможность словами выразить свои
эротические ощущения способна положительно повлиять на
развитие личности; соответственно невозможность это сделать
скажется противоположным образом.
19. Через инвективизацию речи может быть
продемонстрирована половая принадлежность говорящего. Эта функция ин-
121
вективы помогает уяснить еще одну причину того, почему в
большинстве культур мужчины прибегают к услугам инвек-
тивной лексики чаще, чем женщины. По мнению некоторых
исследователей, задача доказать свою половую
принадлежность сложнее для мужчин, нежели для женщин. Мужчине
постоянно приходится доказывать, что он — «настоящий
мужчина», в частности, косвенным путем, например, бесстрашием
в нарушении различных табу — прежде всего сексуальных.
Женщине же для доказательства своей половой
принадлежности достаточно родить (цит. по: Rieber е. а. 1979: 221 со
ссылкой на D. Thorne и N. Henley; La Barre 1954: 213).
Подтверждением сказанного может служить уже
приводившееся наблюдение, что женщины, осознающие свои равные
права с мужчинами (феминистки), намного охотнее прибегают
к инвективам, чем женщины, живущие по традиционной
модели и не стремящиеся вести себя во всем подобно сильному
полу.
20. Необходимо упомянуть также об эсхрологической функции
инвективы. Речь идет о так называемой ритуальной инвек-
тивизации речщ прежде всего — об осмеянии с оградительными
целями, когда позор фиктивный имеет целью предотвратить
позор истинный, когда оскорбление наносится
доброжелателями.
Именно с такой целью, например, на свадьбе было принято
поношение жениха; ср. «корильные» русские свадебные песни.
С этой же целью римские солдаты осыпали оскорблениями
полководца-триумфатора. Сюда же можно отнести и выбор
нашими предками уничижительного имени для родившегося
ребенка, чтобы демоны не покусились на столь ничтожный
предмет. В древнеславянской практике — это нецерковные
имена вроде Дурак или Негодяй.
Подобная практика имеет очень древнюю историю. Обряд
поношения у африканского племени ндембу так и называется:
«Говорить о нем злобно и оскорбительно». Во время этого
обряда соплеменникам нового вождя не возбраняется осыпать его
бранью и самым подробным образом припоминать ему и
предшественнику возможные обиды. Всё это сопровождается
унизительными церемониями, вождю же впредь категорически
запрещается припоминать своим обидчикам то, что они с ним
проделывали (Тернер 1983: 173—175).
21. К этой функции примыкает в известном смысле другая —
использование инвективной лексики современными психиатрами
и психоаналитиками для лечения нервных расстройств, связанных
122
со страхом перед кровосмешением и другими сомнениями в
своей половой полноценности. Врачи — особенно сторонники
фрейдистского взгляда на медицину — полагают, что, предоставляя
пациенту возможность называть все, что ему кажется запретным
и стыдным, «своими именами», то есть теми самыми
выражениями, которые, как он знает, абсолютно всеми осуждаются
(особенно, и прежде всего, родителями), они помогут ему
освободиться от ложного, вредного стыда перед естественными процессами
и чувствами.
Поскольку психоаналитики уверены, что все беды их
пациентов ведут свое происхождение от неправильного поведения
родителей, неправильного воспитания и, в частности, сокрытия
«тайн пола», «истинных» названий интимных частей тела и т. п.,
свободное произнесение соответствующих слов в присутствии
врача даст больному ощущение свободы от родительского
гнета, поможет ему осознать корни своего недуга и подскажет путь
борьбы с ним.
22. Как видно из вышесказанного, абсолютное
большинство функций инвективного словоупотребления восходит к
очень древним временам и традициям. Но существует и еще
одно убедительное доказательство чрезвычайной древности
инвективного лексического слоя. Это существование так
называемого патологического сквернословия, представляющего
особый интерес не только для психиатров и афазиологов.
Среди причин неконтролируемого сквернословия ученые
отмечают целый ряд болезней: общее помешательство,
старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера, навязчивые
маниакальные нарушения психики, повреждения лобных частей
мозга, эпилепсию, энцефалит, афазию разного
происхождения и не в последнюю очередь — так называемый синдром
Туретта, среди признаков которого известны тик,
непроизвольное рычание и неконтролируемые приступы
сквернословия. Разница между афатиками и больными синдромом
Туретта (CT) состоит в следующем: при CT больные не
утрачивают способности говорения, но время от времени
непроизвольно включают в речь так называемую копролалию —
запрещенные к употреблению слова, в том числе
сквернословие. Как и у нормальных людей, в их сознании прочно
укрепляется убеждение, что определенные слова нельзя
произносить вслух, но контролирующие способности утрачены ими,
и запрещенные слова непреодолимо вырываются наружу,
хотя говорящие предпринимают усилия к тому, чтобы этого
не случилось. Что же касается афатиков, то они утрачивают
123
саму способность к говорению, но во многих случаях
сохраняют возможность произносить буквально несколько слов,
которыми по необходимости и пользуются как сигналами
для привлечения внимания медперсонала, как знаками того,
что они поняли слова собеседника, что не возражают или
соглашаются и т. д. Чаще всего такими последними
сохранившимися словами оказываются именно инвективы1.
Само соположение признаков болезни и их
неконтролируемость говорят о том, что сквернословие здесь уже не является
речью, инвективное словоупотребление явно утрачивает право
называться ссовоупотреблением при сохранении «тела знака» —
определенного сочетания звуков. Другое дело, что у больных
такого рода и афатиков инвективы могут служить средством
привлечения внимания, чем-то вроде междометных воскли-
цанийюбращений к медперсоналу и т. д., но ни в коем случае не
оскорблением. Врачи даже утверждают, что порой больному
бывает стыдно за произносимые непристойности, он знаками
показывает, что хочет сказать нечто совсем другое, но не может:
только такое сочетание звуков оказывается ему доступным.
Сам факт сохранности инвективно звучащих комплексов у
человека, утратившего речь, говорит об их чрезвычайной
древности, а также о размещении их на самом дне хранилища
словарного запаса человека.
23. Можно упомянуть о еще одной, пусть не главной, но не
столь уж редкой функции инвективы — инвектива как
искусство. В качестве примера приведем рифмованный мат,
приписываемый (вряд ли обоснованно) В. Гиляровскому:
...Мне с тобой не сговориться. Поцелуй лисицу в пиздицу, зайца — в
яйца, собаку — в сраку, антилопу — в жопу, волка — в хуй и больше со
мной не толкуй. Мать твою ети на сухом пути, тетку — в глотку, гувер-
нанку — наизнанку. Дяде твоему в течь то, что ты ешь, матери твоей в
сраку — мерзлую собаку, чтобы она стыла, ныла, лаяла, скребла, ебла и
выебла такого сукиного сына, как ты. Хуй тебе жеребячий в рот встав-
лячий да потише вынимачий, чтобы стал ты понимать, как ебу я твою
мать (сообщено автору Л. М. Городиным, политзаключенным с
двадцатилетним стажем).
В подобных случаях степень вульгарности, непристойности
инвектив может быть, как мы видим, предельно большой,
особенно в деклассированной среде, где владение подобными ин-
вективными пассажами, часто рифмованными, рассматри-
1 Кроме копролалии специалисты отмечают еще копропраксию
(непристойная жестикуляция) и копрографию (неудержимый порыв писать
непристойности).
124
вается как вид искусства, недоступного рядовому участнику
общения.
Как правило, в таких случаях стресс, вызвавший поток
инвектив, невелик и может почти полностью отсутствовать.
Сквернослов видит успех исключительно в цветистости и
замысловатости своей речи. Ср. в этой связи приводившиеся
примеры из «Трех товарищей» (с. 47) или описанное Грейвзом
соревнование индийцев (с. 112) и др.
Совершенно естественно, что подлинная брань никак не
может сочетаться и с подлинно поэтическим искусством.
Рифма неизбежно снизит действенность инвективы — возможно,
за счет повышения юмористического эффекта. Хороший
пример — отрывок из сатирической поэмы А. К. Толстого «Поток-
богатырь»:
<...> Полюбился Потоку красивый цветок,
И понюхать его норовится Поток,
Как в окне показалась царевна,
На Потока накинулась гневно:
«Шаромыжник, болван, неученый холоп!
Чтоб тебя в турий рог искривило!
Поросенок, теленок, свинья, эфиоп,
Чертов сын, неумытое рыло!
Кабы только не этот мой девичий стыд,
Что иного словца мне сказать не велит,
Я тебя, прощелыгу, нахала,
И не так бы еще обругала!»
Можно подумать, что в данном случае брань и не имелась
в виду, что перед нами просто остроумная шутка, однако, по
содержанию поэмы, это не так. Царевна, согласно автору,
говорила все это «от души» и, безусловно, «на самом деле» не
рифмовала, так что Поток воспринял инвективу как
положено:
Испугался Поток, не на шутку вструхнул:
«Поскорей унести бы мне ноги!..»
Некоторые виды инвективного словоупотребления
распространены не во всех субкультурах и даже вообще не у всех
народов. Похоже, что именно такие случаи отмечает Э. Берн
(1988: 13).
24. Первый — инвектива как бунт. По словам Берна,
говорящий имеет в виду: «Я хочу сказать эти грязные слова, и
посмотрим-ка, что будет написано на ваших лицах, насколько
вы держитесь за вашу благопристойность, перестанете ли вы
любить меня за это, вы, свиньи».
125
25. Второй случай — непристойная инвектива как средство
вербальной агрессии. Мужчина использует соответствующий
вокабуляр в качестве провокации, рискуя получить отказ
или стимул к дальнейшим действиям. Ср. анекдот из
знаменитой серии о поручике Ржевском с его «казарменным
юмором»:
— Поручик, что вы говорите даме, если ее хотите?
— Мадам, разрешите вам впендюрить!
— Поручик! Но ведь за такие слова можно и по морде получить!
— Можно и по морде. Но чаще впендюриваю.
У индейцев мохави роль провокатора может играть
девушка (!), осыпающая грубыми сексуальными оскорблениями
своего поклонника; таким образом этот последний получает
сигнал о том, что к нему испытьвзают симпатию (см.: Devereux
1951: 107).
26. Особняком стоит одна из функций инвективы у
австралийских аборигенов, чья инвективная практика описана
Д. Ф. Томпсоном (D. F. Thompson, цит. по: Hughes 1991: 9).
Инвективы австралийцев, по Томпсону, четко делятся на две
группы — «разрешенную» и «неразрешенную» («organized» и
«unorganized»). «Неразрешенная» группа — это идиомы,
вращающиеся вокруг названий гениталий, ануса и испражнений;
по-видимому, их отличия от подобных европейских инвектив
незначительны.
Но «разрешенные инвективы» характерны на сегодняшний
день, по всей видимости, чуть ли не исключительно для этой
этнической группы. Строго говоря, их следовало бы назвать не
«разрешенными», а «обязательными», ибо в определенных
обстоятельствах, а точнее в определенном родственном кругу, эти
инвективы абсолютно необходимы. В обязательные условия их
функционирования входит их публичное «исполнение». Цель
использования таких инвектив — вызвать всеобщее веселье,
привести всех присутствующих в хорошее настроение. От
перечисленных выше случаев, когда инвектива вызывает веселый смех,
этот случай отличается именно категоричной обязательностью.
27. Наконец, еще одной функцией инвективы можно
назвать ее междометное, восклицательное употребление, о
котором подробно говорилось выше в п. 1.12.
Ниже к этим 26 функциям будут добавлены еще две. Но
даже они, скорее всего, не исчерпывают список. Однако их уже
достаточно для того, чтобы сделать ряд важных наблюдений.
126
Прежде всего, очевидна неодинаковая значимость функций.
Одни из них, определяя самую сущность инвективного
общения, присутствуют почти в каждом случае, в комбинации с
менее существенными. Другие функции возможны только
изредка, в особых ситуациях.
Чрезвычайно характерно, что такая разница может
объясняться не просто онтологией инвективы, но динамикой ее
исторического развития. Функции инвективы, исключительно
важные столетия тому назад, сегодня могут стать
малосущественными или вовсе сойти на нет.
Заметно утратила свои позиции функция 6 — инвективная
«дуэль». В своем первозданном виде она фиксируется сегодня
главным образом у отсталых племен Азии и Африки. Однако
очевидно ее родство с 22-й — «инвектива как искусство», а эта
последняя по-прежнему процветает в некоторых социальных
подгруппах, прежде всего в криминальных. Правда, похоже,
что в русской традиции дело скорее ограничивается
заучиванием наизусть длинного ряда рифмованных
непристойностей, чем действительно творческим подходом, характерным
для прошлого.
Перерождаются и некоторые другие функции. Можно
назвать, например, древнюю функцию 9, родственную и 6-й, и
22-й — в той разновидности, которая помогает двум армиям
или враждебным группировкам довести себя до требуемого
возбуждения. Прямые устные поношения двух
противоборствующих сторон сегодня менее популярны (вспомним,
впрочем, приводившийся пример времен грузино-абхазского
конфликта), однако предшествующая войне кампания обливания
грязью противоположной стороны с помощью средств
массовой информации — обычная практика в самых
цивилизованных обществах. К. Маркс не стеснялся называть своих
противников «ослами», «собаками», «жабами», «обезьянами»,
«свиньями», «болтунами», «краснобаями», «крикунами» и просто
«дураками». Ленин в политической полемике пользовался
такими выражениями, как «мерзавец», «ренегат», «щенок»,
«лакей», «сторожевой пес империализма» и просто «говно»
(последнее слово зафиксировано в его письменном наследии
около сорока раз). В «Правде» 20-х годов встречались
«сволочь», «ученый лоботряс», «жалкий комок слизи»,
«разнузданные псы», «сопляк» и мн. др. Пожилые читатели могут в этой
связи вспомнить и язык советских газет времен сталинского
террора, когда используемые инвективы выходили далеко за
пределы литературной речи. Ср. также сообщение из недель-
127
ного обозрения газеты «Нью-Йорк тайме», касающееся
конфликта в бывшей Югославии:
Для сербских писателей-националистов албанцы стали «скотами»
<...>. Словенские же писатели наградили сербов ярлыками «варвары»,
«балканцы» и «византийцы».
Почему все же непристойная инвектива как средство
самоподбадривания котируется сегодня сравнительно низко?
Причина видится в утрате восприятия грубой брани в магическом
смысле. Сегодня уже трудно найти общество, в котором,
скажем, сексуальные инвективы сохраняли бы хоть в малой
степени священный смысл: по крайней мере, сознательно такой
смысл, как правило, не вкладывается в русский мат. Наоборот,
укрепилось восприятие непристойного вокабуляра как
оскорбительного не только для адресата, но и для самого говорящего.
Оскорбляет не факт упоминания данного предмета, а
использование данного табуированного слова.
Разумеется, именно этот факт и свидетельствует о
сохраняющемся магическом смысле слов сексуального ряда, но сам
говорящий не ощущает этого, отчего и не пользуется им в том
смысле, в каком им пользовались его предки.
Некоторые функции инвективы появляются на довольно
короткое время, например, 12-я — инвектива как символ
сочувствия угнетенным классам. Спад молодежного движения,
снижение популярности молодежных террористических групп
и т. д. естественным образом сократили использование
инвектив в этой функции.
Безусловно, уменьшилась роль инвективы как оберега —
см. 14. Однако на бессознательном уровне восприятие
непристойностей или непристойного поведения в апотропаическом
смысле возможно в принципе и сегодня.
Функция 16, присущая различной божбе, упоминанию
дьявола и проч., в ряде культур почти полностью исчезла, а
соответствующая идиоматика приобрела в основном междометный
характер. Однако требование религии «не упоминать имени
Господа всуе» свидетельствует о том, что даже такие мягкие
выражения, как «Ну тебя к богу!» и даже «Ей-богу!», нельзя
безоговорочно считать чистыми междометиями. Ср.:
«Господи!» — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
(О. Мандельштам)
В некоторых национальных культурах заметно сократилась
роль инвективы как средства демонстрации половой при-
128
надлежносги (18). Во все большем масштабе инвективизация
речи затрагивает и тех, кто традиционно до сих пор
стремился избегать инвектив, в первую очередь — женщин. Ср.:
Атмосфера наших обыденных человеческих взаимоотношений
перенасыщена грубостью <...>. На улице норма, когда женщина говорит
другой женщине, случайно заслонившей ей витрину, непристойные
слова, норма, когда матерятся дети октябрятского возраста
(Комсомольская правда. 1989. 27 июля).
Даже учитывая, что автор несколько сгустил краски (все-
таки о подобной «норме» говорить пока рано), следует
отметить, что и в самом деле такое поведение женщин и детей
начинает шокировать все меньше и меньше.
Нечто подобное отмечается в англоязычных культурах и
некоторых других. Можно предположить, что этому в
немалой степени содействует общее сокращение рождаемости и
отрицательное отношение общества к многодетности: такое
изменение общественной морали существенно уменьшает
возможности доказательства женщинами своей половой
принадлежности.
Эсхрологическая функция инвективы (19) в своем
первозданном виде, безусловно, вышла из употребления в
абсолютном большинстве культур. Однако и здесь все не так просто,
ибо общеизвестно, что здоровая критика всегда способствует
развитию, совершенствованию явления, а не его гибели. Именно
поэтому западноевропейские политические деятели нередко
предпочитают не обижаться даже на очень злые карикатуры
или анекдоты, направленные против них. Их главное
пожелание редакторам газет и журналов: «Пишите что угодно,
только, главное, не переврите мою фамилию!» Редакторы, в
большинстве, именно так и поступают, правда, грубая инвектива в
таких случаях редка. Хороший новый российский пример
подобной инвективизации (как правило, без употребления
собственно сквернословия) — телесериал «Куклы».
По-видимому, единственная функция инвективы, о которой
с уверенностью можно говорить как о «набирающей очки» —
междометная (26). Увеличивающаяся частотность
употребления инвектив в речи ведет естественным образом к стиранию
резкости инвективы, к ее девальвации, а значит — к междо-
метизации. С течением времени исключительно резкие
инвективы могут превратиться в ничего конкретно не выражающие
восклицания.
Таким образом, необходимо признать, что в
функциональном плане инвективная лексика представляет собой живой
5 В. И. Жельвис
129
подслой, подверженный серьезным изменениям, не
затрагивающим, однако, самой сущности явления1.
1.15. Проблемы дальнейшей динамики
инвективного словоупотребления
Тщательный анализ литературы и опрос информантов
позволяют с уверенностью утверждать, что в настоящее время ни
в одном обществе, от самого примитивного до наиболее
цивилизованного, не наблюдается никаких признаков сокращения
инвективного общения. И это при том, что не существует ни
одного современного общества, которое бы не пыталось вести
борьбу с такого рода словоупотреблением.
Выше неоднократно отмечались определенные
положительные стороны использования инвективы. Наличие таких
сторон не должно удивлять: если бы инвективное общение
обладало исключительно отрицательными свойствами в
социальном плане, оно бы давно прекратило существование в
нынешних условиях.
Однако столь же несомненно, что инвективное общение
обладает и отрицательными чертами и что существование у
него положительных и отрицательных черт свидетельствует о
сложном, комплексном и многозначном характере феномена.
Поэтому целесообразно попытаться составить список
положительных и отрицательных сторон инвективы, что поможет
сделать вывод о ее природе и социальных задачах.
Прежде всего необходимо ответить на вопрос, желателен ли
в принципе перевод агрессивных тенденций в их словесный
вариант. Очевидно, ответ может быть только утвердительным.
Как было написано более ста лет тому назад в одном
английском медицинском журнале:
<...> человек, которому вы наступили на мозоль, либо вас обругает, либо
ударит; обращение к тому и другому сразу происходит редко <...>.
Так что верно мнение, что тот, кто первым на свете обругал своего сопле-
1 Ср. озорную реплику актера В. Федорова, написанную за полтора года
до принятия нового гимна России:
«Гимн России должен быть написан на ненормативной лексике! Ведь в
самые острые моменты жизни у нас вырываются именно ненормативные
слова. Вспомните, когда мы себя не контролируем, а пытаемся выразить
внезапную боль, досаду или безысходность. Ведь при исполнении гимна людей
должно охватывать чувство единения и сопричастности, он должен быть
близок и понятен всем без исключения, обладать незаурядной искренностью и
способностью проникать глубоко в душу, независимо от
культурно-образовательного уровня граждан» (Огонек. 1999. Август. № 24).
130
менника, вместо того чтобы, не говоря худого слова, раскроить ему череп,
заложил тем самым основы нашей цивилизации (цит. по: Jackson 1958:
179).
Ср. также русскую пословицу «Бранятся, на мир слова
оставляют», где слово «брань» использовано в своем прежнем
значении побоища («поле брани»), а «слова»
подразумеваются бранные. Таким образом, имеется в виду, что бранные
слова уместны во время «мира», то есть отсутствия физической
агрессии.
В то же время социальная значимость инвективы не
ограничивается только ролью относительно безопасного
заменителя физического воздействия на оппонента. Большинство
наиболее резких инвектив представляют собой наименования
реально существующих действий, признаков, объектов и т. д.,
реальность которых вынуждает упоминать их или
обсуждать.
Таким образом, создается парадоксальная ситуация: с
одной стороны, жизнь требует обсуждения определенных
проблем, связанных с функциями человеческого организма, но с
другой — все соответствующие понятия жестко табуируются.
Выход находится в остроумном использовании
возможности своеобразного раздвоения определенных понятий на
священную и обыденную ипостаси. В языке это выглядит как
существование двух или более имен для одного и того же
понятия с разделением функций каждого имени, то есть как
существование отдельного имени для священного аспекта
понятия и отдельного — для обыденного.
В результате возникает возможность упоминать табуиро-
ванные органы, действия и выделения в общении с родными,
врачом, в специальной литературе, не опасаясь нарушить
общепринятые табу, поскольку для нарушения этих табу
существуют другие, «неприличные» названия для тех же самых
понятий. Инвективы играют здесь роль, если можно так
выразиться, мусоросборника, своеобразного сигнификативного
ассенизатора. Другое слово, обозначающее то же самое, как
бы очищается от запретного смысла, в силу чего может
произноситься относительно спокойно, не вызывая неудовольствия
общества, как медицинское, педагогическое, просто бытовое
понятие.
Сказать врачу «У меня болит хуй» нельзя, потому что это
слово, хотя и употреблено здесь, по всей видимости, без
желания оскорбить, понизить статус врача и т. д., немедленно
вызывает инвективные оскорбительные ассоциации, ощущение
5*
131
грубости, вульгарности, нецензурности. Совсем другое дело,
если вместо этого слова прозвучит «половой орган», «член»
или «пенис». В силу того, что сам предмет — интимный, эти
слова тоже запрещены в большом количестве ситуаций
(например, в светской беседе), но запрет этот куда менее
сильный, а в ряде ситуаций (например, в кабинете врача) он
снимается полностью.
Если же человек не владеет «вежливой» частью
соответствующего словаря, могут создаваться ситуации, когда
коммуникация просто невозможна. Ср. в этой связи неоднократно
приводившийся в специальной литературе анекдотический
случай с английским солдатом викторианских времен, которого
дама из высших слоев общества спросила, куда он получил
ранение. Так как рана была в ягодицу, а солдат, по-видимому,
знал только вульгарный вариант названия этой части тела, он
замялся и ответил: «Простите, мадам, я не знаю. Я никогда не
изучал латынь» (Graves 1927: 19).
Можно не сомневаться, что, если бы из современного
языка исчезли все табуированные слова, не оставив адекватной
замены, произошло бы немедленное «очернение», «загрязнение»
слов, которыми в настоящее время пользуются, например,
врачи и ученые для обозначения табуированных понятий. Две
ипостаси словесного существования одного понятия слились бы
в одну, что практически сделало бы затруднительным
нормальное общение. В результате потребовалось бы создать
новые литературные средства для обозначения того или иного
объекта, а старые воспринимались бы инвективно. Таким
образом, восстановилось бы прежнее сосуществование двух
способов обозначения одного и того же объекта.
Другой вопрос, что расщепление понятия надвое,
безусловно представляя собой выход из положения, все же носит
характер компромисса и никого не может полностью
удовлетворить. Именно поэтому, кроме инвективного способа
общения, существует еще и вежливый, куртуазный,
преследующий те же цели, но иными, противоположными средствами.
Кроме того, такое расщепление понятий не носит
универсальный характер, и поэтому можно говорить и о совершенно
другой стратегии, о которой речь пойдет ниже.
Сейчас отметим лишь, что у нас выявились еще две
функции инвективы, которые не фигурировали выше. Функция
27 — это «ассенизационная», «промокательная» функция,
очищающая другие слова и делающая возможным употребление
этих других слов в обществе, освобождающая их от запре-
132
щения. Функция 28 — цивилизующая отношения, снижающая
возможность или необходимость прямой физической атаки.
Итак, инвектива социально полезна, во-первых, как более
цивилизованный, по сравнению с физической атакой способ
выражения агрессии, а во-вторых — как некий «ассенизатор»
понятий. Нельзя забывать также интегрирующую,
объединяющую роль инвективы, сходную с той, какую играют,
например, некоторые особенности произношения выпускников
престижных британских университетов, без труда выделяющих
друг друга даже спустя много лет после окончания учебного
заведения.
Но инвективизация речи одной социальной группы
одновременно обособляет ее, противопоставляя другим (под)груп-
пам, избегающим инвектив или предпочитающим другие
инвективы. Создание «корпоративного духа» может
рассматриваться, таким образом, диалектически как объединяющий и
разъединяющий фактор.
К числу положительных качеств инвективного общения
можно отнести определенную критичность, как и всякая
критичность, небесполезную для общества. Однако очевидно, что
в данном случае критичность явно направлена на
разрушительные цели. Цинизм и отрицание общепринятых ценностей,
выражающиеся в вызывающем нарушении сильных табу, не
сопровождающиеся хоть какой-нибудь положительной
программой, никак не способствуют прогрессу общества.
Одно из существенных тактических достоинств инвективы —
известный выигрыш времени. Даже в случае непроизвольного
междометия-восклицания, не говоря уже о сознательном
обращении к такому способу общения, инвектива как бы дает
субъекту отсрочку для выбора наиболее перспективной тактики.
Не следует также забывать, что существуют люди, для
которых снятие запретов уже представляет собой подобие
интимности: инвективный конфликт может подсознательно
рассматриваться ими как пусть уродливый, но суррогат близости.
Таким образом, для них инвектива — неосознанно желательный
коммуникативный инструмент, парадоксальным образом
превращающий орудие отталкивания и декларирования вражды
еще и в орудие некоторого сближения.
Отрицать в двух последних случаях определенный
положительный смысл обращения к инвективе нельзя. Однако эти
и любые другие случаи инвективизации речи необходимо
рассматривать в двойном аспекте: как непосредственный и как
окончательный, долгосрочный эффект. В погоне за немедлен-
133
ным облегчением человек обращается к инвективе и это
облегчение получает. Таким образом, как индивид он остается в
тактическом выигрыше, что и обеспечивает популярность инвек-
тивного способа общения.
Однако в конечном, стратегическом счете он, даже как
индивид, определенно проигрывает, закрепляя в своей модели
поведения разрушительные моменты, далеко не безобидные
для его собственной личности. Безусловно, получаемое грубо
чувственное удовлетворение приводит в конечном счете к
нанесению себе морального психологического ущерба, а такой
ущерб является саморазрушительным.
Еще одна причина того, почему инвективу нельзя зачислять
в психологические союзники человека, — это ее крайняя
неточность. Задача инвективы в ситуации эмоционального
конфликта — просто оглушить, ошеломить в надежде, что адресат
не сможет в результате оказать сопротивление. Как уже
отмечалось, такое оглушение работает в обе стороны, поражая и
самого инвектанта. В результате последний испытывает
понижение собственной самооценки, даже если ему самому
кажется, что дело обстоит противоположным образом. Сквернослов
живет в мире перевернутых представлений, точно так же, как и
его оппонент.
Кроме того, полезно помнить, что в ходе ссоры
первоначальная цель (например, выяснение истины) вполне может
утратиться, и, таким образом, брань может начать
преследовать совсем другую цель: например, побольнее уязвить
соперника. Это означает, что по большому счету такое
дезорганизованное поведение можно назвать «бесцельным», утратившим
первоначальный смысл и превратившимся просто в орудие
примитивного эмоционального обмена. Подобная
переориентация лишает данный вид общения практической коллективной
значимости.
Ф. Е. Василюк называет четыре «внутренние
необходимости», обусловливающие любое переживание:
а) здесь-и-теперь удовлетворение,
б) реализация мотива (удовлетворение потребности),
в) упорядочение внутреннего мира,
г) самоактуализация (Василюк 1984: 50).
Рассмотрим все эти четыре пункта в связи с нашей темой.
Инвектива в ее классическом применении — это, пользуясь
терминологией Ф. Е. Василюка, есть попытка «избежать
страдания» в плане «здесь-и-теперь». Насколько удается
сквернослову удовлетворить эти четыре «необходимости»? Представ-
134
ляется, что полного удовлетворения не достигается ни по
одному из пунктов, и в этом — одно из главных доказательств
нецелесообразности обращения к инвективе как к способу
решения психологических проблем.
В каком-то смысле можно говорить лишь о реализации
«здесь-и-теперь» удовлетворения, немедленной разрядке, ин-
вективном способе «выпустить пар», «отвести душу» и т. д.
Однако, хотя бы подсознательно, сквернослов ощущает
недостаточное удовлетворение потребности, мотив
соответствующей деятельности реализуется не полностью, что, в
свою очередь, оказывает негативное влияние уже на первый
пункт.
В результате внутренний мир субъекта не упорядочивается,
а следовательно, не происходит требуемой самоактуализации,
по крайней мере, в желательном объеме. Переживание, таким
образом, движется не по тому каналу, на который рассчитывал
говорящий. Ср.:
Арготическое слово возникает только там, где арготирующий не
осознает, не знает причины беспокоящего его явления, где им усматривается
случай. <...> Арготическое слово показывает, что перед данным
явлением арготирующий пришел в тупик, <...> его эмоционально-экспрессивная
данность есть признак слабости <...> не только защитная, но, я бы сказал,
«убегательная реакция» (Лихачев 1964: 346—347).
Таким образом, обращение к инвективе есть фактически
признание говорящим своего психологического банкротства,
капитуляция перед ситуацией вместо овладения ею.
Очевидно, что диалектичность и противоречивость самой
ситуации инвективы приводит к тому, что на протяжении
неопределенно долгого времени общество будет ожесточенно
бороться с инвективизацией речи, с одной стороны,
справедливо усматривая в инвективе серьезную опасность своему
благополучию, а с другой — подсознательно ощущая, что вовсе без
инвектив оно тоже не сможет нормально функционировать.
Борьба с инвективным словоупотреблением необходима и
желательна, и общепринятые формы этой борьбы —
общественное осуждение, кампании против сквернословия в прессе,
цензурные ограничения, соблюдение соответствующих
законодательных актов — оказывают определенный сдерживающий
эффект. Вместе с тем из сказанного выше вытекает, что такая
борьба принципиально не может закончиться полной победой,
отчего не имеет смысла ставить перед собой такую цель.
Однако означает ли сказанное, что инвективное общение
всегда будет иметь точно такой же вид, что сейчас? Сущест-
135
вует ли какая-либо более безопасная альтернатива как
средство сублимации, превращения агрессивных тенденций во
что-то общественно более приемлемое?
Невозможно отрицать, что различные запреты, известные
в настоящее время в цивилизованном обществе, переживают
период серьезного кризиса. Здесь нет необходимости говорить
о многочисленных примерах изменения морали, отмены или
ослабления запретов, характерных для прежних эпох. Это
ослабление коснулось и инвективизации речи, что не осталось
незамеченным психологами, философами и филологами.
Постепенно приходит понимание того, что инвективная речь
занимает отнюдь не ничтожно малое место в количественном
плане и уже поэтому заслуживает внимательного изучения.
В принципе в большинстве культур эмоционально
нагруженные слова «отрицательного толка» встречаются в речи
значительно чаще, чем «положительные». Такая асимметричность
имеет психологическое объяснение.
Общеизвестно, что отрицательные, мешающие стороны
бытия воспринимаются человеком намного острее, чем
положительные, способствующие комфорту факторы, которые
обычно рассматриваются как естественные, нормальные, а
потому и менее эмоциогенные.
Однако для выражения эмоций в той или иной мере
необходимы и те и другие средства. Дело в том, что в ценностном
плане словарь выражения любых эмоций естественным
образом соответствует двум противоположным душевным
движениям, притягиванию и отталкиванию, проявляющимся у
человека в виде любви и ненависти. Показательна в этом
плане французская пословица «A prêter cousin germain, â prendre,
fils de putain!» («Как одалживать, так ты для него — родной
кузен, а как отдавать, так ты уже сын потаскухи!»). Как видим,
для целей создания комфортной ситуации здесь применяется
вокатив, основанный на терминах родства; ср. русские
обращения «Тетенька!», «Братец!», «Бабушка!», «Родимый!» и т. п.
к людям, не связанным с говорящим узами родства.
Таким образом, средства выражения благосклонности
равноценны признанию определенной степени родства, то есть
указывают на близость, притягивание. И наоборот, слова
противоположной группы отталкивают, отрицают всякую возможность
родства, точнее — отмечают родство оппонента с самыми
презренными членами общества, животными и т. д. Ср. рус. «Вы-
блядок!», «Сука!» и другие, еще более грубые
«антиродственные» обращения.
136
Приходится признать, что при современном состоянии
общества в значительном числе культур нужда в
«антиродственных» вокативах больше, чем в выражающих
положительные чувства.
Сказанное прежде всего относится к нескольким
исключительно крупным и психологически влиятельным культурам,
например, англо- и русскоязычным. В США в настоящее время
значительная часть «непечатного» лексического пласта, так
сказать, «вышла в печать». Современные романы, рассказы,
поэмы, посвященные сегодняшнему дню, буквально
наводнены словами, которых совсем недавно еще тщательно
избегали или, в самом крайнем случае, обозначали первой и
последней буквами.
Такое положение отражает ситуацию в устной речи. Так
называемые «слова из четырех букв» или «f-words» («damn»,
«fuck», «prick», «cunt», «tits» и т. д.) покинули бары и казармы и
теперь употребляются в беседе за ресторанным столиком,
пишутся на бамперах автомашин, выкрикиваются хором
болельщиков на стадионах, регулярно произносятся в передачах
по телевидению и в кинофильмах. За особую плату вы
можете заказать сомнительное сочетание букв даже на номере
своей автомашины или на майке. Имеются данные, что каждое
14-е слово в современной английской разговорной речи носит
в той или иной мере резко сниженный характер (Bostrom е. а.
1973: 461). Английское слово «damn» входит в первые 15
наиболее употребительных слов, а некоторые другие примерно такой
же резкости или грубее — в первые 75 слов (Foote, Woodward
1973: 264—265 со ссылкой на P. Cameron).
Согласно одному исследованию на американском
материале, инвективы составляют 8% словаря студентов, которым они
пользуются в свободное время; у взрослых американцев в
рабочее время инвективы занимают 3% словаря, а в свободное
время — 13% (Е. Thorndike, I. Lorge; цит. по: Jay 1992: 85). При
составлении в 1930 г. списка слов языка телефонных
разговоров американские исследователи сочли возможным опустить
25% слов; это были восклицания, имена собственные, заголовки,
цифры и богохульства-profanity.
Пятьдесят процентов бранных слов, которые можно
услышать в общественном месте в США, составляют только два
слова «fuck» и «shit» (Jay 1992: 168).
Соответствующее словоупотребление было предметом
споров и критики во время избирательной кампании Г. Трумэна, за
аналогичный экспрессивный подход в политических (!) речах
137
критиковали Дж. Кеннеди, но, по-видимому, рекорд побили
опубликованные в связи с уотергейтским скандалом магнито-
записи официальных телефонных разговоров Р. Никсона1.
Американскими социологами был проведен опрос студентов
на тему «Шокирует ли вас, если вы услышите непристойное
ругательство: а) с киноэкрана, б) прочтете его в газете, в) в романе,
г) услышите от студентов своего возраста и пола, д) в
присутствии мужчин, е) в женском обществе». Результаты показали,
что число тех, кого по-прежнему шокирует сквернословие,
ничтожно мало по сравнению с числом тех, кто перестал обращать
на это внимание (Halaby, Long 1979: 72).
Такое раскрепощенное отношение находится в прямой связи
с общим изменением роли инвективной лексики в
англоязычных странах. Некоторые исследователи усматривают связь
роста популярности сквернословия в США с утратой
американцами многих идеалов, кризисом семейных устоев,
катастрофическим падением авторитета правительства и вообще всех и
всяческих авторитетов.
Другие ищут причины в возникновении того, что они
называют «Я-поколение» («me-generation»), т. е. поколения людей
отчужденных, замкнутых на себе, порождающих асоциальную
культуру, лишенную крепких традиций, которые были бы
способны цементировать нацию.
Психиатр из Гарвардского университета Т. Коттл описывает
ситуацию следующим образом:
Мы страшимся того, что происходит вокруг нас, и мы сердимся на
вещи, которые более чем реальны. А за нашим гневом скрывается наша
агрессивность, которая всегда была неотъемлемой частью американской
культуры.
Он утверждает, что, когда американцы возводят табуиро-
ванные слова на уровень нормы или хотя бы нейтрализуют
производимый ими эффект, это свидетельствует об очень
серьезном изменении всей национальной культуры (цит. по:
Wiessler 1982: 87).
Над этим утверждением стоит задуматься не только
соотечественникам Т. Коттла. Развитие русскоязычной инвективы
1 Впрочем, в последнем случае все не так просто. Вполне возможно, что
«вина» Никсона была сильно раздута цензурой. При опубликовании его
разговоров «плохие слова» регулярно заменялись выражением «expletive
deleted», т. е. «опущено бранное слово», в результате чего читателю
предоставлялось право домысливать любую глупость. В дальнейшем оказалось, что
в большинстве случаев это «домысливание» было значительно грубее, чем
реальная речь президента.
138
происходит в русле общего языкового, психологического,
этического и т. д. развития человечества и подчиняется общим
законам общественных запретов.
Однако нельзя отрицать и другую возможность: инвекти-
визация речи американцев и россиян вполне может иметь не
только общие, но и разные корни. Ср. мнение русского
журналиста:
«Разве это жизнь? Да гори она огнем, ее не жалко, лучше сдохнуть!» —
вот что на самом деле выкрикивали осатаневшие мужики в том
деревенском магазине, когда им не досталось даже покурить, а бесстыжий мат был
только эвфемизмом. Они орали свои матерные проклятия при старухах и
детях, потому что в них нет больше ни любви к жизни, ни инстинкта жить,
ни надежды, что человеческая жизнь возможна. Только в этом случае
можно не стыдиться матерей, плевать самому на себя, не щадить детские
уши. Мы дошли до ручки. Мы доехали до станции (Иванова Т. — Книжное
обозрение. 1990. № 28).
На ту же тему высказывается игумен Вениамин (Новик):
Существует прямая связь между жалким состоянием нашей
экономики, повсеместным воровством, всеобщей расхлябанностью,
хамством, жутким состоянием мест общего пользования и — повсеместной же
матерщиной. <...> Может быть, любовь к матерщине есть просто
следствие плебеизации всей страны, которая прошла у нас намного более
успешно, чем электрификация, коллективизация, интенсификация и проч.
и проч. (Московские новости. 1998. № 24).
К словам о. Вениамина имеет смысл добавить, что
растущее сквернословие - не только следствие «плебеизации всей
страны», но еще и один из показателей фрустрированности
общества, его тревожности, взвинченности, почти
истеричности. В. Шапошников, исследовавший русскую речь
последних десятилетий, отмечает усиление роли «категорически
тревожных слов» типа «авторитарность», «гибель», «диктатура»,
«катастрофа», «обвал», «пропасть», «распад», «расизм»,
«спад», «сползание», «фашизм», «демофашизм», «террор»,
«крах», «нищета», «голод», «обман». Следующую группу он
называет «предположительно-обещательно-остерегающими
суждениями»: «социальный взрыв», «социальное
негодование», «социальное возмущение», «экологическое бедствие»,
«зона экологического бедствия», «грязная политика», «гибель
культуры» и т. д. (Шапошников 1998: 152). Очевидно, что одну
и ту же фрустрирующую ситуацию можно описать с помощью
инвективы и с помощью слов, приведенных В.
Шапошниковым.
139
Можно ли сегодня безоговорочно экстраполировать
развитие инвективизации речи в сторону еще большей грубости?
Очевидно, это было бы опасным допущением.
Дело в том, что сами понятия нравственности подвержены
значительным колебаниям, а значит, и этические нормы, и
связанные с ними запреты тоже не развиваются всегда только в
одном направлении.
Так, в Англии шекспировский период чрезвычайной
свободы выражения, отразившийся в очень вольном языке
драматургов того времени, сменился пуританской строгостью. За
этим последовал период Реставрации с его вызывающим
пренебрежением нормами предшествующей эпохи, грубостью и
широким распространением жаргонизмов. Однако
викторианская эпоха ознаменовала собой возврат к пуританскому
«целомудрию», доходящему до ханжества. В настоящее время
норма изменилась в очередной раз, и то, что было невозможно в
жизнерадостные (только в языковом отношении) времена
Шекспира, теперь не удивляет решительно никого.
Подробный анализ этих изменений см.: Беркнер 1978.
Правда, следует оговориться, что нам неизвестно,
существовала ли какая-либо зависимость между
литературно-разговорным языком произведений, доступных нашему анализу,
и языком просто разговорным, которым на протяжении всей
истории пользовалось большинство английского народа.
Вполне вероятно, что подобных крутых перемен там не
было, и язык народа всегда был достаточно свободным — в
части инвективных возможностей.
Однако сам факт существования этических колебаний
сомнений не вызывает. В этом убеждает опыт совершенно
другой культуры — китайской. В Китае до начала ХП в. и
особенно в VII — IX вв. н. э. исследователи отмечают очень
спокойное отношение к вопросам пола. Эти вопросы свободно
обсуждались в литературных произведениях, на соответствующие
темы появлялись многочисленные иллюстрации. Естественно,
что о запретах, вызывающих появление инвектив,
аналогичных современным, речи не было.
С приходом конфуцианства положение резко
изменилось. Даже обнаженная грудь и шея теперь
воспринимались как нарушение норм морали. Китайские инвективы
XX в. достаточно снижены даже по европейским меркам,
и естественно предположить, что их ноявлению
содействовали запреты, возникшие в эпоху конфуцианского
пуританизма.
140
Во второй половине Минской династии (1570—1644) китайцы
вернулись к открытому изображению сексуальных сцен в
живописи, что явно свидетельствует об очередном изменении
нравов, а значит, и судеб табу.
Но во время правления Маньчжурской династии (1644—1911)
стрелка снова качнулась в обратную сторону, соответствующие
альбомы были уничтожены.
В современном Китае, после недолгого периода известных
послаблений, за распространение порнографии введена в 1990 г.
смертная казнь. Однако запрета на полное воспроизведение
любой брани в тексте художественного произведения нет до
сих пор, и современные авторы пользуются этой возможностью
очень широко.
Таким образом, полностью аналогичные колебания в двух
таких разных ареалах, как китайский и английский, заставляют
предположить, что и в других регионах дело могло обстоять
подобным образом.
Следовательно, предсказать начало новой волны инвекти-
визации или ее нарастание так же трудно, как доказать, что в
ближайшее время эта волна пойдет на убыль.
Однако более убедительным кажется предположение, что
инвективное словоупотребление будет претерпевать серьезные
изменения в зависимости от изменений в концепте человеческой
свободы.
В рамках настоящего исследования нет возможности, да и
необходимости излагать эту проблему подробно,
целесообразно ограничиться только той ее частью, которая имеет к
исследуемой теме самое прямое отношение.
В науке до сих пор нет ясности относительно свободы как
таковой. Согласно 3. Фрейду, индивидуальная свобода в ее
наиболее чистом виде была свойственна человеку в период,
когда еще нельзя было говорить о какой-либо культуре.
Именно культура и наложила определенные ограничения на
человеческую деятельность в обществе, и сегодня чем
большее место занимает культура в жизни общества, тем больше
культурных ограничений обусловливает свободу действий
человека (Фрейд 1989: 100).
Более того, по мнению Ф. Ницше, именно несвобода есть
условие всякого прогресса. Увидеть что-то, утверждает
философ, можно, только сосредоточившись на деталях и тем самым
ограничивая себя; природа морали учит ненавидеть всякую
излишнюю свободу и внушает потребность в ограниченных
горизонтах:
141
Ты должен кому-либо повиноваться, иначе ты погибнешь и потеряешь
последнее уважение к самому себе (Ницше 1990: 128).
Точка зрения современных философов-марксистов (Кон
1983: 312-313; Трушин 1988: 12; Спиркин 1988: 502-503 и др.)
внешне выглядит прямо противоположным образом. Они
утверждают, подобно Фрейду, что свобода есть понятие
конкретно-историческое, но, по их мнению, история
человечества начиналась с абсолютной несвободы и постепенно
двигалась в направлении борьбы за свободу в результате
социального и духовного развития человека.
При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что
противоречие здесь в основном кажущееся. Полная и
абсолютная свобода каждого индивида фактически означает
столь же полную и абсолютную несвободу, ибо, как мы
знаем, невозможно жить в обществе и быть свободным от него.
Неизбежный же учет интересов окружающих и есть
ограничение свободы индивида. Тот же Фрейд отмечал, что
свобода на заре развития человечества не имела особой
ценности, так как индивид не был в состоянии ее защитить
(Фрейд 1989: 100). Говорить о полной, а не только о
политической свободе индивида вообще нельзя, пока этот индивид
живет в обществе.
Вот почему стоит очень осторожно относиться к
утверждению философов-марксистов, что история постепенно движется
в направлении борьбы за свободу. Правильное по существу, это
утверждение нуждается в серьезных уточнениях. Можно
сказать, что на протяжении всей своей истории человечество
боролось с различными табу, освобождаясь от одних и создавая
другие. Некоторые запреты, таким образом, исчезли, другие
сохранились полностью или продолжают существовать в
сильно измененном виде. Очевидно, что большая их часть сегодня
необходима для выживания общества и не может быть снята.
Как и прежде, свобода ограничена мерой познания человека и
его общественной практикой.
Из сказанного, однако, не следует, что увеличение
человеческой свободы в принципе невозможно. Мера свободы будет
постепенно увеличиваться вместе с качественной
трансформацией общества, включающей уменьшение экономической и
политической зависимости людей друг от друга и, главное,
отчужденности индивида. Моральные требования общества
должны перестать противостоять личности как нечто чуждое,
противоречащее потребностям отдельного человека. Внешняя,
навязываемая обществом нравственная необходимость должна
142
превратиться во внутреннюю, субъективную, то есть в личную
склонность.
В плане изучаемой темы сказанное можно дополнить
следующими замечаниями. Развитие общества в направлении
подлинной человеческой свободы непременно должно пройти
через преодоление драматического противоречия между
человеческим «верхом» и «низом», а следовательно — через
ликвидацию очень сильных в настоящее время половых и прочих
запретов.
Но можно ли рассчитывать на то, что с очевидным
ослаблением роли христианства и вообще религии в современном
мире человеческая культура избавится от двойственного
мироощущения, противопоставляющего «верх» и «низ»? Очевидно,
нет. По существу, та же этическая норма, которая зародилась
в дохристианские языческие времена и трансформировалась в
виде христианских догм, продолжает теперь существовать в
виде общечеловеческой морали, связь которой с религией
может не осознаваться ее носителями.
И в этой общечеловеческой морали по-прежнему нет места
словам, которые называли бы определенные физиологические
процессы, части тела и т. д., имеющие отношение к
человеческому «низу», так же свободно, как и процессы и части тела
человеческого «верха», то есть древние табу продолжают
существовать^ современных литературных языках Европы нет почти
ни одного слова (неспециального термина), которое называло
бы элементы человеческого «низа», не вызывая при этом хотя
бы легкого шока. Соответствующие темы не подлежат, как
правило, широкому обсуждению, а когда избежать их
совершенно невозможно, приходится пользоваться словами
детского языка или специальными медицинскими терминами или,
наконец, обращаться к той же инвективной лексике.
Ни один из этих способов не может никого полностью
удовлетворить. Обращение к детскому языку подразумевает
незрелое отношение к вопросам, играющим первостепенную роль в
жизни человека, по причине не вполне устойчивой
социализации ребенка, нередко употребляющего те же слова, что и
взрослый, но с другой структурой значений (Уфимцева 1988:
180). Медицинские же термины крайне ограничивают сферу,
где их следует употреблять. В обычном разговоре они
производят искусственное впечатление, как любые резко ощущаемые
эвфемизмы.
К сказанному необходимы существенные оговорки.
Размышлять, как это делалось выше, об «общечеловеческой морали»
143
можно только условно, имея в виду большинство культур,
причем европейского типа.
Между тем существуют культуры, в которых, по крайней
мере, часть вокабуляра, запрещенного в европейском ареале, не
подвергается табу. Одно и то же слово, обозначающее,
например, определенные части тела, может употребляться в
ситуации школьного урока анатомии и в качестве инвективы.
Таковы отдельные слова татарского языка, ряда языков
народов Средней Азии, например, таджикского, узбекского. Тадж.
«кер» (пенис) может использоваться как нейтральный термин
(ср. рус. «пенис») и как брань (ср. рус. «хуй»); точно так же —
узб. «ом» (женский орган) или «кут» (ягодицы).
В целом ряде языков один и тот же глагол может означать
половой акт как в обычном нейтральном разговоре, так и в
ситуации инвективного общения; именно поэтому его
невозможно перевести с помощью одного и того же литературного
русского слова в обеих ситуациях, ибо такого слова просто не
существует. Выделяется целый (женский) подслой арабского
языка (Египет), где возможно свободное название и
обсуждение соответствующих тем, жестко табуируемых в других
подслоях.
У индейцев мохави определенное слово, например «модхар»,
используется в значении «пенис» или «член» в обычном
спокойном разговоре и как «хуй», если говорящему необходимо
выразить презрение, агрессивность или продемонстрировать свое
чувство юмора (Devereux 1951: 100).
Приблизительно такова же стратегия тайского языка
(Таиланд): тайцы свободно пользуются определенными
названиями тела в быту, но только если в коммуникации участвуют
лица одного пола и возраста. В присутствии посторонних тех
же самых слов тщательно избегают, так как чувство
«пристойного» развито в этой культуре очень сильно (Haas 1964:
490).
Хотя данный феномен, по-видимому, еще никем детально
не обсуждался, в отношении его можно сделать некоторые
предположения. Очевидно, дело здесь заключено в разных
путях развития табу у разных народов и в разных ареалах.
Выше уже отмечалось, что, например, культуры
европейского типа в процессе развития своих табуированных понятий
начали со спокойного (или даже сразу священного) поименова-
ния определенных органов и действий и постепенно перешли
к резко табуированному, непристойному их пониманию и
восприятию.
144
С другой стороны, некоторые неевропейские культуры,
всего вероятнее, никогда не имели такого перехода,
нехристианская этика содействовала длительному сохранению священного
отношения к действиям, частям тела и признакам, которые в
Европе стали рассматриваться как резко непристойные.
Однако контакт с европейской культурой постепенно
приводит к сглаживанию этого различия, в результате чего
появляется восприятие ряда понятий как стыдных или
неприличных, но все же на основе тех же самых слов, эти понятия
обозначающих.
Таким образом, в ряде неевропейских языков появляется
приблизительно такое же раздвоение понятий, что и в
большинстве европейских, но осуществляется оно с помощью
одного слова, а не двух.
Можно предложить две приблизительные аналогии с
европейскими языками. Первая — слово «жопа» как нейтральный
термин в языке русских малообразованных слоев общества и
то же самое слово — в бранном смысле. Ситуация
употребления этого слова и общий контекст не оставят сомнения в
том, какое значение выбрано на этот раз. Ср. частушку
«Девушки, терпите-ко, жопой не вертите-ко!» и «Жопа ты после
этого, больше никто!».
Вторая аналогия — употребление в европейских языках
священных наименований типа «Бог», «ад», «Христос» и др. в
богохульном смысле, то есть в ситуации клятвы, перебранки
и проч.; те же самые слова в ситуации молитвы или
проповеди не вызывают возражений и тем более не табуируются.
Таким образом, при всем видимом различии европейской
и неевропейской инвективной стратегии, между ними больше
общего, чем можно было бы предположить в первом
приближении.
Это легко объяснимо, ибо на какой угодно стадии
священное начало будет существовать отдельно от сниженного, а
значит, всегда будет сохраняться необходимость обозначения как
первого, так и второго. При этом обозначение сниженного
начала будет неизбежно служить источником инвективного
словоупотребления.
Однако столь же несомненно, что взаимоотношения
«верха» и «низа» со временем должны претерпеть значительные
изменения, когда они перестанут противостоять, перестанут
рассматриваться как нечто враждебное друг другу. Это, в
свою очередь, автоматически снимет возможность
получения разрядки через нарушение более не существующих за-
145
претов. Одновременно это будет означать невозможность
инвективизации речи в том виде, в каком она существует
сейчас.
Видятся два пути динамики развития современной
инвективы, не противоречащие друг другу. Первый путь — это уже
описанный путь прекращения антагонистического
противостояния «верха» и «низа». Этот путь не будет означать полный
отказ от каких бы то ни было инвектив. Неизбежность
существования отрицательных эмоций вкупе с неизбежностью поисков
катартического разрешения стрессовых ситуаций повлечет за
собой необходимость словесного выражения чувств. Отсутствие
ныне существующих запретов не будет означать отсутствия
любых запретов, и нарушение этих новых табу, очевидно,
будет использоваться в инвективных целях.
Вполне возможно, что на современный взгляд это
словесное выражение эмоций будет выглядеть исключительно
мягким, мягче, чем современная японская стратегия
сравнительно с европейской. Однако, как было показано, мягкость или
резкость инвективы можно определить, только оценивая ее
изнутри соответствующего коллектива, а отнюдь не глазами
стороннего наблюдателя. Можно предположить, что эти
«мягкие» инвективы будут играть совершенно ту же роль, какую
играют в современном обществе нынешние инвективы,
включая самые сильные.
Однако в некоторых культурах прослеживается и иной
путь — путь «девальвации» инвективы, настолько частого ее
применения, что она перестает играть очищающую роль и
переходит в разряд простых междометий, т. е. чисто
эмоциональных восклицаний.
Соответствующая тенденция хорошо заметна в нескольких
сегодняшних национальных культурах. Среди них, как уже
отмечалось, русская и американская. Аналогичные признаки
заметны и в других европейских культурах, например,
французской.
Экстраполируя, нетрудно прийти к выводу, что в конечном
счете может настать время, когда обильное употребление
инвективы приведет к потере ею права так называться. Уже
отмечалось, что путь этот социально не безупречен. Он фактически
лишает общество одного из средств реализации
отрицательных эмоций и заставляет искать разрядку в других видах
деятельности, далеко не всегда социально безопасных.
Поэтому трудно согласиться со взглядом, который
высказывает психоаналитик А. Аранго:
146
Для того чтобы общество продолжало оставаться здоровым, —
пишет он, — «грязные» слова должны получить законное место в нашей
повседневной жизни. Непристойные слова должны быть включены в
словари наряду с другими словами. Более того, они должны получить
полную свободу устного и письменного существования в школах и
колледжах, равно как и в газетах, на радио и телевидении. Выпуская на
свободу наш язык, мы выпускаем на свободу нашу душу. Только при
таком условии человек сможет освободиться от жестокого и
архаического психического давления наших табу, вернет себе моральную
независимость и расширит свои интеллектуальные возможности (Агап-
go 1989: 193).
Опыт России и некоторых других стран — например, США —
показывает, что непристойные слова быстрыми темпами
«выпускаются на свободу», но это никоим образом не содействует
оздоровлению национального менталитета, скорее все обстоит
прямо противоположным образом. Представляется, что иначе
и быть не может, ибо когда непристойные слова начнут
употребляться повсеместно, они станут «пристойными» по
определению и немедленно потеряют те самые достоинства,
которые А. Аранго считает наиболее ценными: они перестанут
выражать наши эротические эмоции, а поскольку эти эмоции
никуда не денутся, для их выражения потребуются другие
слова, которые немедленно и появятся, после чего все начнется
сначала.
Яркий пример сказанного — аудиозаписи, выполненные под
псевдонимом «Шура Каретный». Авторы записей явно задались
единственной целью — максимально насытить текст
вульгарными инвективами, в чем, несомненно, преуспели. Именно
это обстоятельство поначалу сделало эти записи шумно
популярными, ибо ни с чем подобным российское общество до сих
пор не сталкивалось. Однако опыт показывает, что после
первого действительно яркого шокирующего впечатления
ощущения притупляются и бесконечное повторение одних и тех же
вульгаризмов быстро приедается, текст становится скучным.
Одновременно необходимо согласиться с А. Аранго, что
соответствующие слова обязательно должны входить
составной частью в словари, ибо их исключение как бы объявляет
несуществующей заметную часть человеческого вокабуляра.
Перейдем теперь к вопросу поисков альтернативы инвек-
тивному способу общения. Такие поиски можно
рассматривать как средство борьбы с инвективизацией речи. При всем
том, что было сказано выше, борьба с инвективным
словоупотреблением представляется оправданной и
необходимой.
147
Естественно, что в борьбе со словесной агрессией есть смысл
обратиться к агрессивным (репрессивным) средствам. Однако
единственной надежной общей стратегией борьбы было бы
воздействие на сквернослова на этапе потребности, предложение
приемлемой альтернативы, то есть другой деятельности,
приносящей ему удовлетворение в том же плане (например, как
разрядка) и занимающей аналогичное место на шкале его
ценностей.
По понятным соображениям, особенно важно обратить
внимание на сквернословие детей. Чтобы преуспеть в борьбе
с этим явлением, необходимо понять, почему дети
сквернословят. Речь здесь идет не о бессмысленном повторении
услышанного и не о междометной функции инвективы, а о
сознательной инвективизации речи ребенком. Р. Б. Блум,
исследовавший причины детского сквернословия, приводит
следующие мотивы: выражение раздражения, провоцирование
взрослых, попытка прекратить некое событие, подражание речи
сверстников, самовыражение. Исследователь справедливо
считает, что и здесь следует бороться не со сквернословием, а с
причинами, его вызывающими. Устранение причин
конфликта и фрустрирующих, раздражающих обстоятельств, равно
как удовлетворение действительных потребностей ребенка,
приведет скорее к положительному результату, если взрослые
не станут чрезмерно эмоционально реагировать на ситуацию
(Bloom, цит. по: Jay 1999: 117).
Вопрос об альтернативе настолько важен и сложен, что его
рассмотрение могло бы явиться предметом изучения многих
научных трудов, психологических, этнографических,
социологических, философских и, конечно, педагогических. Здесь
отметим лишь, что, по всем данным, человечество
бессознательно ищет такую альтернативу. На нынешнем этапе можно
говорить, по-видимому, о попытке создания своеобразной «ин-
вективной музыки» (рок, рэп, тяжелый металл в некоторых
наиболее агрессивных разновидностях), чья популярность
несомненна прежде всего у тех слоев общества, которые
особенно охотно обращаются к инвективе.
Разумеется, в данном случае речь идет об альтернативе не
исключительно инвективе, но любому виду агрессии, опасной
в социальном плане. В этой связи можно говорить, например,
о таких заменителях «настоящей» агрессии, как спорт,
различные игры, в том числе азартные, равно как и о других путях
карнавализации современного быта. Иногда эти поиски
можно ощутить в современных зигзагах моды, когда «модно все»,
148
когда весь человеческий опыт сравнивается с пестротой и
крайностями Диснейленда и Луна-парка (Дмитриева 1982:
234).
На другом, негативном полюсе в качестве альтернативы
инвективе можно увидеть алкоголизацию и все другие
разновидности наркомании. Стоит обратить внимание и на два но
вых феномена западной молодежной культуры: piercing и self-
mutilation. Первое явление, piercing («пирсинг»), быстро
завоевывает сторонников и на Востоке. Оно состоит в
прокалывании тела в самых неожиданных местах (нос, грудь, губы,
язык, пупок, половые органы) и продевании в образовавшиеся
отверстия самых разнообразных мелких предметов, прежде
всего колец. Очень существенно, что эта процедура нередко
является весьма болезненной. Self-mutilation («самокалечение»)
состоит в нанесении себе, без всякого очевидного основания,
физического вреда первыми попавшимися предметами
(ножом, ножницами и т. д.). Естественно, что и эта операция
сопровождается сильной болью. Психологи видят как в
первом, так и во втором явлении бессознательную реакцию на
бездуховность общества накопления, ощущение собственной
ненужности, несчастности, потерянности. Представляется, что
те же ощущения могут быть вызваны в России не
(отсутствующим) изобилием, а резким переходом к другому
общественному строю и, как результат, массовым разочарованием и
потерей смысла жизни. Ср.:
Легко представить себе мир, описываемый (непристойной. — В. Ж.)
лексикой <...>: мир, в котором крадут и обманывают, бьют и боятся, в
котором «все расхищено, предано, продано», в котором падают, но не
поднимаются, берут, но не дают, в котором либо работают до
изнеможения, либо халтурят — но в любом случае относятся к работе, как и
ко всему окружающему и всем окружающим, с отвращением либо с
глубоким безразличием, — и все кончается тем, что приходит полный пиздец
(Левин 1996: 119).
Подведем итоги всему сказанному в первой главе.
1. В рамках настоящего исследования различается
инвектива в широком смысле (любое резкое выступление, выпад) и
инвектива в узком смысле (словесное нарушение этического
запрета, осуществленное общественно неразрешенными,
преимущественно вульгарными, непристойными средствами).
2. В современном обществе сохраняются многие древние
запреты, нарушение которых словесными средствами и
представляет собой инвективу. Прочность нарушаемого запрета
прямо пропорциональна резкости и грубости инвективы.
149
3. В большинстве национальных культур история наиболее
резких инвектив прочно связана со священным восприятием
определенных процессов фаллических и ктеических культов.
Постепенный переход священных понятий в низменные
сопровождался инвективизацией — снижением вокабуляра,
выражающего эти понятия. В результате священное и сниженное
начала прочно объединяются в инвективе. Развитие такого
объединения происходит по схеме «святое — священное — опасное —
нечистое — непристойное», причем в подсознании могут сохра-
няться все звенья этой цепи. Инвективе внутренне присуща
диалектическая противоречивость.
4. Понятие инвективы соотносится с понятием карнавала по
M. М. Бахтину и разрядки (катарсиса), понимаемой как
получение облегчения от любого стрессового состояния. Для инвек-
тивного общения особенно важно создание карнавальной
атмосферы всеобщей вовлеченности, попранносги гармонии
окружающего мира.
5. Инвектива есть агрессия активная, прямая, словесная,
которую можно рассматривать как трансформацию поступка.
«Слово — это тоже дело». Существуют доказательства некой
психологической прагматической оправданности инвективы в
определенных условиях.
6. Наблюдается зависимость резкости инвективы и самого ее
использования от величины испытываемого стресса. При
стрессе, превышающем критическую величину, инвектива, как
правило, не используется.
7. Одна из причин популярности инвективы в абсолютном
большинстве культур заключается в ее хорошей
приспособленности к выражению эмоций в силу того, что эмоции, обычно
представляющие собой целый спектр субъективно
неразличимых нюансов, трудно поддаются передаче с помощью
разрешенных средств.
8. Для осмысления сущности инвективы необходимо
понимание явления непристойности, под которой подразумевается
такое наименование поступка, действия или признака, которое
способно спровоцировать у слушающего шокирующее
ощущение крайней неуместности, испуг или стыд. Эти ощущения
вызываются табу-семой, словесно выражаемой с помощью
инвективы.
9. Существуют разнообразные зависимости между
обращением к инвективе и такими социальными параметрами, как
национальная традиция, пол, возраст, конфессия, социальное
положение. Одна и та же внешне, инвектива может воспри-
150
ниматься совершенно по-разному и использоваться с разной
частотой. Нет ни одной социальной подгруппы, которая бы
использовала весь инвективный список, принятый в ее
национальной культуре. Эти зависимости подвержены временным
изменениям.
10. Инвективную лексику следует отличать от лексики
просторечной, с которой внешне она может совпадать.
Просторечная лексика нейтральна по стилю и имеет малую
эмоциональную нагрузку.
11. Эмоции пользующегося инвективой почти никогда не
совпадают с эмоциями слушающего. Восприятие словесной
агрессии может зависеть от тех же параметров, от которых
зависит порождение инвективы, от параметров, которые в
значительной степени определяют установку адресата,
обеспечивающую критерий существенности. Имеется зависимость
между восприятием инвективы и ее метафоричностью.
Как правило, инвенктива является одной из возможных
реакций на неверное, с точки зрения говорящего, поведение
оппонента. С помощью инвективы оппонент получает
информацию о том, что его поведение отрицательно оценено,
указывается, в чем состоит его проступок и, наконец, что от
него ожидается: извинение, прекращение определенных
действий и проч. Разумеется, все это можно сообщить и без
обращения к инвективе, но опыт показывает, что в эмоционально
напряженной атмосфере инвектива может оказаться
эффективнее: она и короче, и выразительнее, и вдобавок помогает
выпустить излишек эмоционального пара. Можно сказать, что
инвективная речь, сравнительно с эмоциональной, но вежливой
речью, больше служит целям возмездия, наказания
противника: она дает ту же информацию, но резко, оскорбительно
понижая статус оппонента, этим самым его еще и дополнительно
наказывая.
12. Известно сходство между инвективным
словоупотреблением и некоторыми проявлениями агрессивности
животными, что позволяет говорить о древности инвективы как
средства общения. Однако проводить полную аналогию между
человеческими инвективами и повадками животных нельзя, так как
инвектива построена на словесном выражении эмоций,
недоступном животному, и животные не могут нарушить
отсутствующие у них запреты.
13. Особое место принадлежит инвективе, используемой
междометно. Это один из немногих инвективных слоев,
обнаруживающих тенденцию к увеличению. Совпадение «тела зна-
151
ка» обычной инвективы и междометия делает их различение
прагматически необходимым. Инвектива-междометие
обнаруживает признаки клише и его разновидности — языкового
штампа. Изучение междометных инвектив позволяет увидеть
в инвективе признаки ритуала.
14. Для значительного количества инвектив характерна
двузначность, амбивалентность. Такие инвективы занимают
свое вполне определенное место на схеме знаковых
взаимоотношений. Эта схема помогает лучше представить себе
словесный вариант отношения «притягивание — отталкивание»,
эмоционально выражающегося в виде отношения «любовь —
ненависть». Амбивалентность выражаемых словом эмоций
приводит к амбивалентному восприятию слова. Имеется
возможность расширить традиционное понятие энантиосемии,
включив в него случаи, когда слово в конкретном контексте
имеет два противоположных знака одновременно.
15. Функции инвективы в речи многочисленны и
разнообразны. Можно назвать такие функции, как средство
выражения низменного начала, катартическое средство, средство
понижения социального статуса оппонента, средство
установления контакта между равными участниками общения,
средство дружеского подтрунивания или подбадривания,
инвектива как «дуэльное средство», как способ установления
положительного контакта через поношение третьего лица,
инвектива как пароль, как средство самоподбадривания, как
средство самоуничижения, как способ представить себя
человеком без предрассудков, как символ сочувствия угнетенным
классам, как способ привлечения внимания, как средство
сбить с курса, как средство передачи оппонента во власть
злых сил, в магической функции, как средство борьбы с
«демоном сексуальности», как средство демонстрации половой
принадлежности, как оберег, как патологическое
сквернословие, инвектива как искусство, инвектива как бунт, инвектива
как средство сексуальной агрессии, инвектива как
междометие, инвектива как «мусоросборник», «цивилизующая
инвектива». Разные функции инвективы обнаруживают разную
тенденцию к сокращению или росту.
16. В целом существует ряд особенностей инвективы,
обеспечивающих ей популярность и гарантирующих ее
существование и неустранимость. Однако значительно большее число
особенностей инвективы заставляет признать ее опасной для
существования общества, что, в свою очередь, доказывает
необходимость борьбы за ограничение ее использования.
152
Увеличение роли инвективы в ряде современных
цивилизованных обществ внушает тревогу за нравственное здоровье
общества.
В этой связи полезно задержаться на криптолалической
роли инвективы. На первый взгляд, эта роль сродни роли
знаменитого пароля Маугли «Мы одной крови, вы — и я!», с
помощью которого человек устанавливал дружественный
контакт с животным миром, в том числе с плотоядными.
Интегрирующая, объединяющая, вовлекающая роль инвективы
в данном случае несомненна, и тем не менее различия с
лозунгом Маугли слишком значительны, чтобы их не
учитывать.
Пользуясь религиозной терминологией, с понятными
оговорками, можно сказать, что клич Маугли есть призыв к
единению всего живого в Боге, создающий чувство причастности,
единения в жизни. Чувство же сопричастности в Боге означает
стремление к единению с чем-то высоким, зовущим к
совершенству.
Инвектива, прежде всего табуированная, тоже, как мы
видим, создает чувство сопричастности. Но, в той же
терминологии, эта сопричастность равнозначна единению во грехе. Если
угодно — в дьяволе. Рядовой сквернослов ищет единения с
таким же, как он, ни в коем случае не выше. Переходя на другой
язык, можно сказать, что матерщинник с помощью мата, к
своему полному удовлетворению, обнаруживает, что он и его
собеседник находятся в карнавальной атмосфере всеобщей,
тотальной «дерьмовости».
Таким образом, в инвективе значительная часть этноса
находит способ объединиться на основе всеобщей враждебности,
ощущения собственной грязности и гнусности.
Данная точка зрения, казалось бы, противоречит тому
очевидному факту, что повальная инвективизация речи
захлестнула не только Россию, которой многие десятилетия
небезуспешно навязывался атеизм, но и Америку, в которой атеизм
и сегодня рассматривается чуть ли не как моральное уродство
и число атеистов незначительно.
Молено предположить, что ответ на вопрос заключается
как раз в этой поголовной религиозности американцев.
Религиозность в США стала общим местом, затерлась, перестала
восприниматься как духовное спасение, как средство
избежать бесконечной «крысиной гонки» за материальным
благополучием. В этой гонке, при всей несомненной
привлекательности материального благосостояния, средним американцем
153
овладевает чувство потерянности и растерянности. Нередко
он сам этого не сознает, но об этом неумолимо
свидетельствуют соответствующие психологические исследования.
При всей полярной противоположности в отношении
материального достатка, положение в России кажется драматически
сходным. Место американского «гнетущего изобилия» заняла
сначала официальная коммунистическая (большевистская)
идеология, а после ее падения — всеобщая разъединенность,
ощущение потерянности, несчастности, желания хоть чем-то
заткнуть пробоину. Ощущение «всеобщей дерьмовости»
оказывается здесь как нельзя более кстати.
17. Проблема динамики инвективного словоупотребления
находится в связи с понятием человеческой свободы. Развитие
свободы и, как следствие, снятие антагонизма между
человеческим «верхом» и «низом» должны привести к изменению
содержания основных инвективных групп, но не к
уничтожению инвективы как таковой.
18. Возможны два пути динамики инвективы: путь создания
новых запретов и инвективных способов их нарушения и путь
«девальвации» инвективы, превращения ее в междометие.
19. Существует целый ряд катартических средств, которые
можно рассматривать как поиск обществом альтернативных
средств эмоциональной разрядки разрешенным способом.
Глава 2
НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ИНВЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ
2.1. Этноразделяющие
и этнообъединяющие аспекты
употребления инвективных
обращений: общие положения
Выше уже отмечалось, что в любой культуре одна из
главных задач инвективы, являющейся прежде всего обращением
к собеседнику, — установление или поддержание контакта
между членами коллектива. Не играет роли, положительная или
отрицательная цель при этом преследуется, является ли в этом
конкретном случае инвектива средством отталкивания и
демонстрации отчуждения, декларирования вражды, или она служит
противоположной цели — притягиванию, выражению
дружелюбия и приязни. В данном случае как отталкивание, так и
притягивание можно рассматривать в плане отношений внутри
данной культуры или между двумя культурами.
Настоящая глава посвящена выявлению инвективных
различий в различных культурах, ибо очевидно, что, при всех
общих задачах тактики и в меньшей степени стратегии,
инвективы носят национально-специфический характер.
Осознание национальной специфики в данном случае помогло бы
избежать ошибок в теоретическом и особенно в
прагматическом плане.
Прежде всего рассмотрим вопрос о количественных
предпочтениях: сколь охотно прибегают к инвективному языку
разные народы и национальные культуры? П. Медина пытается
связать обращение к инвективам с климатом или частью света:
по его наблюдениям, чем ближе к югу, тем активнее и ярче
инвективная идиоматика.
Однако тут же автору приходится использовать
многочисленные оговорки: немецкоязычные народы и англосаксы
сквернословят не меньше, чем народы славянские и романские, но их
155
шкала уже; в романской группе французы обращаются к
инвективам реже, чем остальные, и т. д. (Medina 1961: 156).
К этому перечню можно было бы сделать многочисленные
дополнения. Например, финны употребляют инвективы
намного чаще и охотнее, чем народы Прибалтики.
Таким образом, представляется почти невозможным делом
создание действительно научной шкалы диапазона
сквернословия: самая тщательная подборка и классификация дадут здесь
очень мало уже в силу крайней национальной специфичности
понятия инвективы. Выше уже отмечалось, что то, что выглядит
как очень вульгарное высказывание в одной культуре, не может
даже классифицироваться в другой как инвектива, тем более
инвектива в узком смысле. Таковы, например, богохульства или
названия определенных «тайных» частей тела в ряде
европейских культур. Резкую инвективную окраску высказывания
можно получить вообще без помощи некодифицированного словаря,
так что о сквернословии в некоторых культурах приходится
говорить лишь в метафорическом смысле.
Отсутствует какая-либо связь между интравертирован-
носгью и экстравертированностью тех или иных народов и их
приверженностью к инвективе. С одной стороны, инвективи-
зации речи может содействовать взрывчатость темперамента и
открытость национального характера, с другой — этому же
может помочь сдержанность, молчаливость как национальная
черта: инвектива является средством эмоциональной разрядки
в социуме, где этические традиции ограничивают иные
возможности катарсиса.
Особенно важен вопрос о различиях и сходствах самих
принципов инвективной стратегии различных народов. До сих
пор факт такого различия или сходства упоминался в
настоящем исследовании только походя.
При первом знакомстве с вопросом может вызвать
известное недоумение совпадение инвективных стратегий и — шире —
вообще правил употребления обращений в совершенно
различных национальных культурах и языковых группах.
Определенное объяснение этому можно найти в относительности
характера некоторых различий: различия для разных культур
могут оказаться общим свойством для культурных и языковых
подгрупп в рамках одной культуры и т. д.
Однако так можно объяснить общее в культурах, скажем,
разных народов Средней Азии или Кавказа, но нельзя понять,
почему, например, определенные инвективные типы
поразительно совпадают у некоторых африканских народов, с одной
156
стороны, и народов Севера — с другой, ибо эти народы
заведомо не общались на протяжении тысячелетий и их культуры
поэтому не могли взаимодействовать.
Сходство стратегий в данном случае можно объяснить
одинаковым, в принципе, развитием человеческого сознания, в
общности определенных представлений и даже основных табу.
Совершенно очевидно, что, скажем, половые табу могут
сильно отличаться в разных национальных культурах, но вряд
ли существует культура, в которой такого табу нет вовсе.
Допустим, этнографами изредка фиксируется открытое
осуществление интимных отношений, но даже здесь оно
интерпретируется в контексте магического ритуала и, таким образом,
тоже является разрешенным элементом национальной
культуры (Malinowski 1944: 88).
Но в таком случае ясно, что и инвективы, построенные на
нарушении соответствующего табу, должны присутствовать
там, где это табу имеет место, то есть везде, в любой культуре.
В данном случае безусловно можно говорить об определенном
типологическом сходстве всех человеческих культур.
Однако, наряду с несомненным типологическим сходством
инвектив в разных языках и культурах, столь же несомненны
их национальные (этнические) различия. Причем, что особенно
важно в рамках настоящего исследования, различия именно в
дифференцирующей, различающей и интегрирующей,
объединяющей силе инвективных обращений.
Выше уже неоднократно отмечалось, что определенные
обращения могут формально (вербально, в буквальном
переводе) совпадать в целом ряде культур, но восприниматься
совершенно различно. Напротив, некоторые обращения в разных
культурах могут не иметь ничего общего в вербальном,
формальном плане, но играть абсолютно ту же роль, пробуждать
те же чувства и в том же объеме.
Национальной специфичности средств возбуждения эмоций
не следует удивляться, ибо эта специфичность есть лишь
отражение более глубоких различий — различий в способах
переживания соответствующих ситуаций.
Данная точка зрения разделяется не всеми. Например,
можно встретить утверждение, что конфликты и взрывы страстей
позволяют представителям различных культур понять то общее,
что их объединяет (Шибутани 1969: 327). Очевидно, имеется в
виду, что одна и та же эмоционально насыщенная ситуация
должна давать примерно одинаковую реакцию у любого
человека независимо от его национальной культуры.
157
Однако такое положение нельзя признать универсальным.
Можно привести немало примеров, когда различные народы
отнюдь не одинаково воспринимают многие жизненные
события и то, что является очень эмоционально нагруженным для
японца, может оказаться почти нейтральным в этом смысле
для европейца и т. д.
Кроме того, и способ выражения эмоций любви, ненависти,
горя и восторга для определенного этноса кажется этому
этносу, как правило, единственно возможным и естественным, тогда
как на самом деле он представляет собой лишь результат
воспитания и обучения.
Сегодня можно считать доказанным, что национальные
культуры в состоянии совершенно по-разному кодировать одну
и ту же человеческую эмоцию. Один и тот же код может
употребляться разными народами для выражения полярно
противоположных или, во всяком случае, предельно разных эмоций,
неожиданно являя собой пример своеобразной «межэтнической
энантиосемии».
Приведем примеры резко этнодифференцирующей
разницы в инвективном словоупотреблении. Как правило,
обращения, упоминающие части тела и связанные с нечистотой,
различными телесными выделениями и проч., характерны
прежде всего для народов, в культуре которых чистоплотность
занимает особенно высокое место. Таковы, например, японцы на
Востоке и немцы в Европе. Как известно, к чистоте тела
японцы относятся, с точки зрения европейца, почти болезненно, как
к священному понятию. Отсюда и популярность японских
обращений, обвиняющих адресата в нарушении подобного табу,
равно как и соответствующих по буквальному смыслу
междометий. Множество скатологических обращений и вообще
подобного рода инвектив бытует у немцев.
В других культурах можно найти нечто подобное.
Наиболее распространенные инвективы у испанских цыган гитано
также связаны с экскрементами. Интересно сравнение в этом
плане русской и латышской культур. В обеих культурах
распространено отсылание адресата в телесный низ (модель
«Пошел ты...»), однако в русском употреблении предпочтение
отдается половым органам, в то время как в латышском — экс-
кременторному ряду. Другими словами, русский скорее
пошлет оппонента «на хуй», а латыш — «в жопу». Приблизительно
такое же соотношение у вульгарных вариантов слов,
обозначающих «ерунда» и т. п.: русский вариант здесь скорее
включит денотаты, связанные с сексом, латышский — с экскре-
158
ментами; то есть там, где русский скажет «херня», латыш —
«говно». Хотя, конечно, и там и тут в принципе возможны оба
варианта. Ср. рус, «засранец» и лат. «padirsenis».
В некоторых культурах стратегии успешно сочетаются. В
фарерском языке есть выражение «Nakad helvitis lort!», что-то
вроде английского «Some hellish shit!», то есть перед нами
«богохульный скатологизм», очень грубый и неадекватно
передаваемый на русском как «адское говно».
Стратегия новогреческого языка заставляет расположить
его с противоположного от латышского языка края: у греков
скатологизмы совершенно непопулярны.
Некоторые оскорбительные обращения исходят из ярко
выраженных национально-специфических предрассудков и
мифов. Например, в персидской культуре предполагается, что
высокие люди глупы, низенькие трусливы и угодливы, толстые
ленивы и т. д. Соответственно на языке фарси особенно
распространены обращения, которые можно было бы
приблизительно передать как «Каланча безмозглая!», «Трусливый
коротышка!», «Ленивый толстяк!» и т. д. Как видно из переводов,
подобные оскорбления возможны и в русской культуре, однако
там они большей частью — свободные сочетания, носящие
случайный характер.
Более образованные и привилегированные классы общества
всегда относятся свысока к менее удачливым, стоящим на
нижней социальной ступени. Древние латиняне пользовались
презрительной инвективой «Es agricola!» — «деревенщина»,
«мужлан». Сегодняшние американцы в том же смысле могут
использовать «Hillibilly!», итальянцы — «Cafone!».
Итальянский вариант заслуживает особого внимания. Это
слово очень широкого значения, и в современном русском
жаргоне ему скорее соответствует «Простой!», «Валенок!» или
«Лох!» («Лопух!»). Как и в русском, в итальянском оно не
слишком грубое, но достаточно обидное слово. Им
обозначают человека с дурными манерами, плохим вкусом, упрямого,
наглого и т. п. «Cafonismo» — «глупость». «Il tuo cafonismo
non ha limiti» — «Твоя глупость безгранична» («...не знает
пределов»).
Слово «cafone» настолько широко по значению, что для
конкретности приходится добавлять к нему какое-либо
уточнение: «un cafone sciocco» (когда имеется в виду дурной вкус),
«un cafone maleducato» (о человеке с плохими манерами), «un
cafone ripugnante» — просто о хаме. Итальянского головореза
можно назвать «Brutto cafone mafioso». Американская инвек-
159
тива «first-class asshole» (букв, «дырка в жопе высшего
калибра») имеет итальянское соответствие «un cafone di prima
classe».
По-видимому, во всех без исключения культурах существует
ценностно значимая доминанта, стойко удерживающая
возбуждение от приходящих в нервную систему импульсов, связанных
с сексом, выделениями, названиями животных и проч. Эта
доминанта и определяет выбор той или иной инвективной
стратегии, равно как и отказ от такой стратегии и переход к иной.
Разница между культурами заключается не в
наличии-отсутствии такой доминанты, а в ее отношении к главным,
центральным средствам общения.
В ряде культур можно наблюдать отход этой доминанты на
периферию средств общения, в других же культурах ее роль
по-прежнему велика.
Наконец, существуют культуры, где эта доминанта,
по-видимому, вообще не была главенствующей; по данным ряда
лингвистов и этнографов, это касается, например, культуры
японцев, гималайских шерпов, чукчей, прибалтийских народов,
некоторых племен североамериканских индейцев.
Следует сразу отметить, что отход на периферию такой
доминанты вовсе не означает, скажем, большей редкости
употребления инвективного вокабуляра. Скорее наоборот:
именно то обстоятельство, что значение доминанты ослабевает,
может способствовать обращению к соответствующей
идиоматике как к привычному несильному средству разрядки,
слабому катарсису.
Можно думать, что такой процесс происходит и в
русскоязычной культуре. Бесконечное повторение какого-нибудь
безадресного «блядь» свидетельствует, разумеется, о низкой
культуре говорящего и его грубости, но также и о слабой
эффективности инвективы, об ослаблении соответствующей
доминанты. Этим объясняется, в частности, искреннее удивление
такого сквернослова на сделанное ему замечание: «А что я
такого сказал?» С точки зрения инвективности в узком смысле
слова, он действительно ничего «такого» не сказал: в его,
этого сквернослова, социальной группе «блядь» превратилась в
междометие, своеобразную «детонирующую запятую».
Напротив, в культурах, где роль данной доминанты очень
сильна, ее включение в общение воспринимается очень остро и
провоцирует серьезные конфликты. Неудивительно, что во
многих подобных культурах наиболее резкие инвективы
употребимы сравнительно редко.
160
Вот почему заслуживает внимательного отношения проблема
соответствия эмоционально нагруженных средств одного языка
средствам другого. Наблюдающееся в настоящее время
свободное отношение к вульгаризмам в англоязычной (особенно
американской) и многих других западных культурах пока не находит
полного аналога у восточнославянских народов, хотя тенденция
движения именно в этом направлении прослеживается
достаточно легко. Поэтому буквальный перевод определенной инвективы
может привести к совершенно другому, более сильному или более
слабому прагматическому эффекту.
Можно, таким образом, сказать, что эмоциональная (не)на-
груженность того или иного слоя (особенно сниженного)
находится в прямой зависимости от языковой политики,
практикуемой в той или иной национальной культуре.
Осталось отметить, что, по-видимому, национальные
культуры различаются еще и по «вкусу», склонности к инвек-
тивному самовыражению в том смысле, что одним этносам
достаточно буквально нескольких инвектив, в то время как
другие стремятся, образно выражаясь, вывесить максимальное
количество «флагов расцвечивания». Ср. замечание известного
австралийского эссеиста У. Мердока:
Испанец способен поносить вас три часа кряду и при этом ни разу не
повториться, он обругает вас, и ваших отдаленных предков, и ваших
отдаленных потомков, обнаруживая при этом удивительную
изобретательность, богатый словарный запас и энергичность. <...> Австралиец
же <...> не обнаружит никакой изобретательности. Он будет без конца
повторять одно и то же. Он обнаружит исключительное однообразие,
крайне малый набор. Он станет монотонно твердить полдюжины
существительных, прилагательных и глаголов (пит. по: Selth 1982: 44).
2.2. Заимствование
инвективной лексики
как национально-специфическая
характеристика
В целом заимствование инвективной лексики
осуществляется по тем же законам, по каким заимствуется всякая другая
лексика. Однако уже названные особенности исследуемого слоя
обеспечивают ему и здесь известное своеобразие.
По-видимому, легче всего заимствовать слова, передающие
нейтральные элементы чужой культуры. Более того, трудно
представить себе, скажем, заимствование слова,
обозначающего не существующее в принимающем языке понятие; еще
6 В. И. Жельвис
161
труднее представить себе языковое выражение не
существующей в принимающей культуре эмоции1. Поэтому, рассуждая
теоретически, заимствование эмоционально нагруженной
лексики может иметь место исключительно тогда, когда
выражаемая эмоция полностью идентична в обоих языках.
Опыт показывает, однако, что дело обстоит иным образом.
Слово не •заимствуется во всех своих значениях никогда.
Заимствуется только одно значение, остальные остаются в
пределах слова в языке-источнике. Что же касается эмоционально
нагруженной лексики, то при переходе в другую
национальную культуру она, как правило, меняет свое значение
частично или полностью. Другая национальная культура, как
отмечалось выше, — это всегда и другая шкала ценностей, а
эмоционально насыщенные единицы реагируют на эту шкалу
особенно заметно.
На практике эмоциональная лексика заимствуется, так
сказать, вопреки теории, достаточно часто и обильно. Причем, что
очень существенно, заимствованная инвектива
воспринимается то в очень мягком, то, напротив, в очень грубом
смысле, нередко в противоположность тому смыслу, который
у нее был в языке-источнике.
Такое положение объясняется принципиальным характером
отношения «своей» и «чужой» культуры: чужая культура
воспринимается или как странная, малопонятная, а отсюда
подозрительная, или как удивительная, интересная, симпатичная
(ср.: Сорокин, Марковина 1988: 7).
Обратимся вначале к заимствованию, воспринимаемому как
очень грубое. Общеизвестно, что некоторые звуковые
сочетания кажутся носителям той или иной культуры
благозвучными, мягкими, а другие — режущими слух, неприятными,
иногда даже неприличными и, стало быть, пригодными для
оскорбления. В русской культуре к «плохим» звукам относятся,
например, сочетания различных гласных с «ж», «ш», «ч» и др.
(ср., напр.: Журавлев 1981). В других культурах — иные звуки
и сочетания.
Если вспомнить сказанное выше относительно
необязательности для говорящих прямого смысла инвективной идиомы, то
станет ясно, что роль звучания (приятного, радующего слух или
оскорбительного) в этих условиях повысится. Произвести
неблагоприятное впечатление своим звучанием больше шансов, есте-
1 Существуют эмоции, характерные для одной и нехарактерные для
другой культуры.
162
сгвенно, у чужого языка, с другим набором (не)приятных звуков.
Вероятно, именно по причине неблагозвучия в Индонезии
распространено — и даже считается очень грубым — голландское
восклицание «God verdomme!», родственное по набору
согласных англ. «Goddamn», нем. «Verdammter» («Проклятый») и др.,
но совершенно непонятное индонезийцам. Многочисленные
идущие подряд согласные этой инвективы производят желаемое
резкое впечатление.
Отличается от этой другая причина той же стратегии, т. е.
предпочтение отдается иностранной инвективе как более
грубой, чем собственная. Это случай, когда на инвективу из
соседнего, особенно враждебного культурного слоя
распространяется общая неприязнь к этой культуре. В таком случае
предполагается, что вражеский язык грубее, «поганее» своего,
отчего резче и его инвективы.
Такое отношение прямо восходит к боязни всего чужого
как следствию определенных первобытных представлений.
Ощущение грубости, «поганости» чужой инвективы могло
напрямую ассоциироваться с возможностью использования
древней формулы, позже ставшей инвективной, как магической
священной идиомы. Первобытные народы гораздо больше
боялись колдовства чужаков, чем своих собственных
колдунов. У русских более сильными колдунами считались финны,
карелы, мордва и другие соседи (Поршнев 1979: 99—100;
Токарев 1964: 214). Естественно поэтому, что проклятия
(заклятия) на чужом языке могли восприниматься как более
сильные («страшные»), чем на родном. У кетов (енисейских
остяков) леший боится русской ругани. «Стоит только
выругать его на русском языке, и он оставит в покое» (В. Анучин,
цит. по: Зеленин 1930: 19).
Психологами и лингвистами неоднократно отмечалось, что
японцы, чья инвективная стратегия будет рассмотрена ниже,
овладев иностранным языком, гораздо охотнее обращаются к
иноязычной инвективе как к более резкой и потому более
удобной, чем их собственные инвективные средства. И это
несмотря на то, что исконно японские инвективы вполне в
состоянии вызвать у японцев возмущение и гнев, сравнимые с
отношением европейцев к европейским средствам типа русского
мата, итальянского богохульства или немецких скатоло-
гизмов.
Но на том же неприязненном отношении к чужой культуре
может основываться и ее осмеяние. Чужой язык, равно как и
чужие обычаи, песни, моды и проч., могут рассматриваться как
б*
163
нелепые, забавные, некрасивые и т. д. Заимствованная в таком
ключе инвектива будет воспринята скорее всего как более
мягкая, чем родная, даже если буквальный смысл родной и
заимствованной идиом совпадут.
Более слабое восприятие инвективы, пришедшей из
другого языка, находит хорошее объяснение в исследованиях
психологов, которые подчеркивают тесную связь слова,
эмоции и наглядно-чувственных 4>орм отражения. Понятие,
отмечают они, есть нечто гораздо более объемное, чем
спроецированное на него языковое значение (Каспарова, Коптева
1979: 46, 47). В применении к нашей теме это может означать,
что понятие, выражаемое «своим» и «чужим» словом, может
быть одним и тем же, но в наглядно-чувственном и
эмоциональном планах «чужое» слово должно быть слабее. Если же
вдобавок слово оказывается нагруженным так, как только это
возможно в случае инвективного словоупотребления, разница
«своего» и «чужого» оказывается в психологическом плане
еще более значительной.
Именно поэтому, по мнению многих преподавателей
иностранного языка, ни они, ни их ученики не получают
достаточного эмоционального заряда (или разрядки), когда
преподаватель считает возможным бранить учеников на иностранном
языке: смысл сказанного прекрасно доходит до слушающих, но
резкость и обидность почти полностью пропадают. Ср.:
В своем кабинете должностное лицо беседовало по-азербайджански с
посетителем. Разговор постепенно стал недружелюбным, и тут оба
собеседника, очевидно желая подчеркнуть официальность аеседы, перешли на
русский язык (Балаян, Шабанов 1962: 92).
Равным образом, ряд названий табуированных понятий
воспринимается много мягче в принимающем языке.
Например, слово «pissoir» звучит по-немецки более прилично, чем
по-французски, откуда оно заимствовано (ср. лат. «pissiare»),
а вульгарное английское слово «piss», оформленное в русском
языке как «писать», и вовсе относится русскими к детскому
языку. Переводить «piss», вероятно, лучше всего как «ссать»
или «сцать». Вежливый английский вариант — «to urinate»
[ср. рус. «мочиться»). Равным образом англ. «poop» {рус.
детское «какать» из лат. «сасаге») происходит от голландского
слова с гораздо более грубыми смысловыми оттенками,
близкими русскому «срать».
Сказанное может относиться и к заимствованиям из другого
диалекта того же языка. Во вьетнамской практике носитель
164
одного диалекта может произнести грубую инвективу на
другом диалекте, и она будет звучать как значительно более
мягкий вариант. Иногда разница может заключаться только в
несколько ином подъеме голоса, и тем не менее эффект,
производимый инвективой, будет много более мягким.
В терминах кибернетики смягчение заимствованной
инвективы можно описать следующим образом. Семантически
значимая информация проходит через линию передачи и
обязательно — еще и через фильтр. Семантика определяет меру
смысла и управляет его потерями (Винер 1958: 102). Этот
фильтр вполне может задержать и определенные созначения
смысла. В нашем случае недостаточное владение
национальной спецификой чужого языка (или диалекта) может
оказаться препятствием (фильтром) для шокирующего смысла
чужой инвективы.
Понятно поэтому, что заимствованная инвектива в таком
варианте приемлемее тогда, когда у говорящего нет намерения
демонстрировать свою доминацию, когда он не хочет нанести
смертельное оскорбление; для последнего случая в дело пойдет
«своя» полнозначная идиома. С целью социальной инвекти-
визации речи, демонстрации своей групповой принадлежности,
а также в междометном смысле удобнее пользоваться более
мягко звучащим заимствованием.
При этом говорящий может хорошо понимать буквальный
смысл инвективы; вероятнее всего, в своем родном языке он не
стал бы в данной ситуации называть это понятие. Но на чужом
языке ощущения шока нет или оно намного слабее.
Именно поэтому две широко общающиеся этнические
группы могут активно употреблять в речи инвективы друг друга.
Так, например, поступают, по утверждениям информантов,
казанские татары и русские, живущие в том же регионе.
Характерно, что такое употребление, смягчающее шокирующую силу
инвективы, продолжает шокировать подлинных «хозяев»
соответствующей идиоматики: например, легко употребляемые
русскими татарские инвективы возмущают носителей
татарского языка, которые не понимают, как могут русские так легко,
не смущаясь, произносить «такие слова».
Аналогичным образом очень большое число народностей
бывшего СССР, общающихся с русскими, пользуется русским
матом как довольно легким междометием, даже во время
разговора, протекающего на родном языке. После Первой
мировой войны немецкие солдаты, испытавшие русский плен,
привезли русский мат в Германию, где его никогда не было и где
165
он так и не стал играть ту роль, которую он играет на родине.
Израильские ивритоязычные евреи очень удивляются, когда
репатрианты из России переводят для них ивритское (!)
ругательство «Lekh k ibena mat'!» («lekh» — «иди»), в ивритоязыч-
ной среде это — полностью бессмысленное восклицание.
Разница между очень сильной собственной и слабой
заимствованной инвективами может быть настолько большой, что
носители некоторых культур (например, кавказцы, народы
Прибалтики) могут утверждать, будто в их языке нет слишком
грубых инвектив и что они пользуются только
заимствованными (преимущественно русскими).
Между тем легко выяснить, что в этих культурах имеются
достаточно резкие собственные инвективы, но они
исключительно резки, «взрывоопасны». Заимствованная же инвектива,
поскольку она воспринимается относительно легко, к
конфликту сама по себе, как правило, не приводит.
Неудивительно поэтому, что именно заимствованная
инвектива применяется часто и охотно, если конфликт не
слишком силен. Тем более хороша такая инвектива для
эмоционально окрашенных междометных целей, в бесконфликтных
условиях, при необходимости в «детонирующих запятых».
Наконец, следует упомянуть о еще одном варианте
взаимоотношения между инвективными стратегиями двух языков,
основанном на восприятии иностранного языка как слишком
изысканного, чтобы на нем сквернословить. Среди
индонезийских языков яванский считается «элитным», и отношение
к нему настолько уважительное, что другие народы избегают
яванских инвектив, хотя последние им и знакомы. В крайнем
случае в ход идут яванские корни, оформленные по правилам
своего языка. При этом слово изменяется до такой степени,
что сами говорящие уже не осознают его яванского
происхождения.
Из сказанного необходимо сделать вывод, что при слабом
знании чужой культуры использование заимствованной
инвективы в разговоре на языке, откуда она взята, может оказаться
шагом исключительно неосторожным. Имеет смысл
прислушаться к советам новозеландского советолога:
Соответствующие слова звучат для русских еще сильнее, чем для
нас — их английские эквиваленты. Если даже вы сумеете отыскать
буквальный перевод этих слов, ни в коем случае ими не пользуйтесь.
Слова эти для вас как для иностранца представляют собой просто сочетание
звуков, лишенное тех резких созначений, которые ощущает
русскоязычный говорящий <...>. Пользоваться в речи непристойностями на чужом
166
языке — это все равно, что стрелять из ружья, не имея представления,
откуда вылетит пуля (Gerhardt 1974: 146).
2.3. Двузначность и взаимоотношения
этнообъединяющих
и этноразделяющих факторов
Материал данного раздела предусматривает обращение
прежде всего к двум взаимосвязанным обстоятельствам: 1)
способности знака служить как объединению членов социальной
подгруппы, так и отъединению этой подгруппы от всех других;
2) национально-специфическому характеру инвективной
практики. Оба эти свойства так или иначе уже рассматривались
косвенным образом, в связи с обсуждением других проблем.
Теперь необходимо сосредоточиться на исследовании именно
этой двойственности.
Прежде всего отметим, что порожденная агрессивными
импульсами энергия может срастаться с новым содержанием. В
болгарском языке одно и то же название мужского полового
органа («Хуйо!») может использоваться в атмосфере
перебранки как непристойная инвектива, а в атмосфере дружелюбного
мужского общения — как панибратское обращение.
Примерно такое же положение в долганском языке
занимает обращение, означающее «Незаконнорожденный!». В языке
тонга (Полинезия) название определенной части тела тоже
употребимо то как простое восклицание, выражающее
раздражение, то как дружелюбный возглас. В русскоязычной среде
такую роль нередко выполняет «Ебаный-в-рот!».
Чаще всего положительный знак у подобных слов
появляется, когда они употребляются в молодежной среде. Как
видим, фактор, играющий здесь первоначально этноразделя-
ющую роль, способствующий отталкиванию, выражению
неприязни, превращается в фактор объединяющий,
демонстрирующий дружеское расположение (притягивание, любовь). Все
это имеет место в пределах одной этнической или
конфессиональной (под)группы.
Причина того, что один и тот же знак способен служить как
этноразделяющим, так и этнообъединяющим задачам, видится
в двойственном характере, изначально присущем этому
явлению. Оставляя в стороне ожесточенные споры специалистов-
этологов и философов о сущности концепции К. Лоренца
относительно изначальной агрессивности всего живого на земле,
отметим его чрезвычайно продуктивный вывод о вторичности
167
ритуала вежливости и его самой непосредственной связи с
агрессивностью.
Наблюдения над животными позволили К. Лоренцу
выдвинуть гипотезу о том, что агрессивная атака самца на самку
в процессе эволюции трансформировалась в эффектное
театральное действо, выполнявшее вначале задачи
умиротворения, а позже и вовсе переросшее в красочный ритуал
любовного ухаживания. Таким образом, агрессивное
поведение превратилось в свою противоположность (Lorenz 1970:
146-148).
Это наблюдение прекрасно согласуется с уже
рассматривавшимся утверждением, что все или большинство наших
эмоций выраженно амбивалентны (поливалентны) и, в
частности, любовь и ненависть необязательно только
антагонистичны.
Неоднократно высказывалось мнение, что, например,
приветственная улыбка человека имеет своим первоисточником
оскаливание зубов как предостерегаюпщй угрожающий жест,
превратившийся в процессе развития вида в средство
умиротворения, а потом и выражения высокой степени приязни. У
примитивно организованных животных, например уток,
определенные крики, выражающие угрозу, тоже практически не
отличаются от криков, выражающих приветствие (Ibid. 1970:
150).
Однако изначальная амбивалентность явления проявляет
себя по-другому. Для того чтобы увидеть это, необходимо
обратиться к проблеме национальной специфичности словесного
выражения эмоций.
Прежде всего — о национальной специфичности как
факте действительности. Изучение путей формирования и
формулирования мысли заставляет прийти к выводу, что
пока код выражения мысли еще не материализован с
помощью языковых средств, пока он остается «внутри», он
носит более или менее универсальный характер, сравнительно
мало окрашенный национально-специфическими цветами.
Если код вообще не выйдет «наружу», он и останется таким,
то есть почти не окрашенным национально. Любое общение
с собой — например, возглас досады, боли и т. п. — гораздо
менее национально, чем та же информация, но направленная
на собеседника.
Можно, по-видимому, даже сказать так: речь, обращенная к
себе, тем менее национально-специфична, чем более она
обращена к себе. Если человек разговаривает хотя бы сам с собой, но
168
воображает при этом реального собеседника, речь его
национально-специфична. Даже разговор с собакой, лошадью
(«Тоска» А. П. Чехова), неодушевленным предметом
(«Дорогой и многоуважаемый шкаф!») национально-специфичен, так
как речь здесь уже вышла наружу, оформилась и
сформулировалась.
Факт этот неудивителен, ибо понятно, что человек
наедине с собой — меньше социальное существо, чем он же, когда
находится непосредственно в обществе. Выражаясь
афористически, человек больше человек, когда он общается с другими
людьми.
Впрочем, и разные виды реального общения национально-
специфичны по-разному. Письменное общение более коди-
фицированно, в большей степени подчиняется национально-
специфическим правилам, чем устная речь. Это становится
понятным, если вспомнить, что устная речь, как правило, более
эмоциональна, чем типичная письменная, а эмоции в
большинстве своем носят общечеловеческий характер.
Но так или иначе, а вышедший наружу код выражения
мысли несет на себе в той или иной мере признаки
национальной специфичности. Естественно, отношения между
этническими группами, предельно далеко отстоящими друг от друга в
культурном и географическом плане, являются иногда
наиболее контрастными, отчего сравнение их
национально-специфических черт может оказаться особенно наглядным и
поучительным.
Для целей настоящего исследования удобно сравнить такие
национальные культуры, в которых обращение к инвективе —
излюбленный катартический прием оскорбления и
самоутверждения, и культуры, где те же цели достигаются
преимущественно другими средствами. По-видимому, не существует стран
и территорий, где к инвективе совсем не обращаются, но ее
место в межличностных отношениях может оказаться весьма
разным.
Страны европейской группы можно в большинстве своем
отнести к подавляющему большинству стран, где инвективное
общение играет очень важную роль и где поэтому число и
разнообразие инвектив исключительно велико.
Этой группе противостоят такие, где оскорбление адресата
достигается в основном другими средствами; во всяком случае,
помимо инвектив в арсенале жителей широко (шире, чем в
Европе) распространены другие, не менее или даже более
действенные приемы и способы.
169
К числу народов последнего типа можно отнести в первую
очередь японцев, а также небольшой ряд других культур.
Строго говоря — и это принципиально важно для
настоящего исследования, — в каждой национальной культуре без
исключения есть самые разнообразные способы оскорбительно-
эмоционального воздействия на оппонента, от язвительных
замечаний в его адрес до вульгарных поношений.
Но изучение лексики и наблюдение за реальным поведением
представителей той или иной культуры заставляет прийти к
выводу, что, например, роль вульгарного поношения может
быть совершенно разной; кроме того, культуры могут
различаться уже тем, что именно в них считается вульгарным
поношением: уже отмечалось, что нередко то, что в одной
культуре влечет очень резкую реакцию оппонента, вплоть до
кровопролития или судебного преследования, в других может
вызвать разве что недоумение.
Приведем несколько примеров. В основе немецкой инвек-
тивной стратегии лежат богохульства («Teufel auch!», «Teufel!
Gott verdamm mich!», «In Teufels Name!»), зоологизмы («Daß
dich der Geier hole!») (приблиз. «Коршун тебя задери!»), но
особенно — всевозможные скатологические идиомы
(«Verdammter Mist!», «Ich sheiß auf ihn!» и т. д.).
Немецкоязычные авторы помещают списки этих и подобных инвектив
параллельно русским наиболее непристойным выражениям
(мат и проч. под.) в качестве адекватных соответствий (Timroth
1983: 107-108).
В новогреческом языке первое место принадлежит
«богохульному мату» типа «Гамо панайя су!» («Ебу твою богомать!»),
«Гамо то тео су!» («Ебу твоего бога!») и т. д., скатологизмов же
практически нет.
Напротив, в японском и русском языках богохульств нет
или очень мало, зато скатологизмы присутствуют в изобилии.
При этом у русских на первом месте находится пласт
сексуальной лексики (мат), у японцев — скатологический.
Наиболее грубыми и непристойными словами в египетском
арабском являются «Хаваль!» («гомосексуалист», ср. рус. «Пи-
дер!») и «Ибн шармута!» («сын проститутки», ср. рус. «Блядин
сын!», «Выблядок!»).
Во всем арабском и вообще мусульманском мире одно из
самых сильных оскорблений — «Собака!», «Пес!» и др. под. Ср.:
«О пес, сын пса!» — воскликнул калиф («Марус]>6ашмачник»),
в то время как в большинстве европейских культур это
поношение стоит много ниже других.
170
Инвектива «Изрод!» («Урод!») в болгарском может в
определенной ситуации вызвать судебное преследование. В
нганасанском языке очень оскорбительно воспринимаются «Сирота!»,
«Вор!» и экзотическое «Половина вульвы!». Жители Менорки
(Балеарские острова) воспринимают слово «Рог!» с таким же
негодованием и отвращением, как слово «Дьявол!» (Bourke
1891: 409). В итальянском языке резче большинства инвектив
воспринимаются все обвинения в супружеской неверности:
«Cornuto!» («Рогоносец»), «Вессо!» («Рогоносец, который об
этом знает», доел. «Клюв!») и др. В монгольской культуре
широко используется инвектива «Кровь!», для нескольких
армянских и азербайджанских инвектив типично слово «сперма».
В среде индейцев мохави дружные протесты вызывает
инвектива «Напауа!» («Отец моего отца!»): у мохави очень силен
культ мертвых, и они боятся, что любое упоминание предков
причинит им вред. В той же культуре иметь детей — вопрос
престижа, и поэтому нельзя сильнее оскорбить женщину, чем
сказать ей: «Masahyk nullipara!» («Ты бесплодная!»).
Сильнейшее оскорбление для воина африканского племени
масаи — предложить ему есть овощи, ибо для масаи нет
занятия более унизительного. Нарушивший это табу лишается
воинского звания и возможности жениться (Фрезер 1983: 407).
Другими словами, предложение есть овощи равносильно
обвинению, что ты не воин и не способен быть мужчиной и главой
семьи.
Для чеченцев «Волк!» — комплимент (ср. распространенное
на территории бывшей Югославии современное имя Вук, т. е.
«волк»), а грубейшее оскорбление, как и для всех мусульман,
«Свинья!». Ср.:
В августе 1995-го этот чеченский город встречает гостей такими
лозунгами: «Шамильгволк, спаси!» <...> Но чаще других встречается призыв на
заборах: «Москва-свиноматка, забери своих хрючат !» (Московские
новости. 1995).
Очень яркое описание столкновения двух культур с их
различными инвективными стратегиями содержится в романе
Ю. Рытхэу «Сон в начале тумана». Описывается ссора
русского стражника и чукотского охотника:
Стражник закричал и произнес в яранге Тэгрынкеу страшные
ругательства. Но они не задели хозяина. Самое страшное оскорбление на
чукотском языке — это когда один говорит другому: «Ты очень плохой
человек». И эти слова сказал Тэгрынкеу разъяренному Сотникову,
заступнику русского царя, солнечного владыки. Да и то лишь после того, как
на орущего стражника тявкнула любимая собака Тэгрынкеу, а тот вы-
171
хватил из кожаного мешочка ружьецо и застрелил собаку. Сказав
оскорбительные слова, Тэгрынкеу вытолкал стражника и выбросил
вслед еще теплую гильзу. На всякий случай Тэгрынкеу взял в руки
винчестер.
Как видим, чукотский охотник не сомневался, что его фраза,
абсолютно невинная по русским стандартам, так
оскорбительна, что за нее можно получить пулю, и сам приготовился
отстреливаться. Мат же стражника показался ему таким же
безобидным, как Сотникову — брань чукчи.
Список подобных разительных культурных несоответствий
может быть очень длинным.
Однако для целей настоящего исследования наибольший
интерес представляет стратегия японского языка, которая так
сильно отличается от привычной европейцу, что сравнение этих
двух стратегий позволяет сделать ряд важнейших
теоретических обобщений относительно роли и места инвективы
в любом человеческом сообществе. Рассмотрим японскую ин-
вективную стратегию подробно.
Широко распространено мнение, будто в японском языке
вовсе нет грубых и вульгарных инвектив и что японцы, в
сравнении с европейцами, изысканно вежливы.
Это мнение по меньшей мере неточно. В японском языке
существуют многочисленные и очень грубые, даже с
европейской точки зрения, вульгарные идиомы. Однако, во-первых,
часть из них, воспринимаясь как непристойные названия частей
тела, не могут употребляться в качестве оскорбительных
обращений: употребленные в качестве обращения, эти слова просто
не будут поняты (для сравнения: русские «ебаный» и «ебать»
вполне годятся для обеих целей: соответствующее сексуальное
действие можно именно так и назвать1, и в то же время это
слово входит в состав многочисленных бранных идиом («Ебать
я тебя хотел!»)). В японском второй вариант невозможен.
(Кстати, так же ведет себя немецкое «ficken».) Во-вторых,
большинство соответствующих слов практически неизвестно рядовому
носителю японского языка и имеет хождение в узкой сфере
низов общества: среди гангстеров, проституток и прочих групп,
особенно среди тех, что теснее связаны с европейскими
культурами.
1Я с милашкой долго ебся
У подножья пирамид.
«Не буди во мне Хеопса!» —
Пирамида говорит.
(В. Соловьев-Седой; пит. по: Раскин 1995: 188.)
172
Но и для всех японцев не являются абсолютно
незнакомыми несколько довольно грубых вульгаризмов, среди которых
можно назвать, например, издевательское пожелание,
переводимое обычно как «Жри говно!» (ср. рус. «Говноед!»).
Более распространена, но зато и менее резка инвектива,
означающая «кривая задница». Если снова вспомнить об
исключительной чистоплотности японцев, легко понять, что подобные
инвективы звучат в японской национальной культуре
чрезвычайно грубо.
Некоторые японские инвективы в буквальном переводе
могут выглядеть довольно сдержанно, но на шкале
оскорблений японцев они занимают заметное место. В 1955 г. возник
правительственный кризис (!) после того, как премьер-министр
неосторожно назвал своего оппонента «бака яро» (Passin 1980:
75). Дословно это означает всего лишь «глупый дурак», но
англоязычный автор советует переводить эту инвективу как
«Stupid asshole!», то есть «Глуп, как дырка в жопе!», что,
согласимся, на русский вкус звучит значительно энергичнее.
Одна из самых заметных японских инвектив достаточно
вульгарна даже и по европейским меркам. Это «Закеннайо!»,
означающая что-то вроде «Не еби меня!» и выражающая
крайнюю степень неудовольствия и раздражения. Ближайшие
аналоги — фр. «Merde!», англ. «Fuck you!» или «Asshole!», рус.
«Блядь!» или «Ебанный-в-рот!».
Типичное японское словоупотребление — «Гайдзин».
Буквальное его значение — «иностранец», «чужак». Но если
вспомнить не столь давнюю историю самоизоляции Японии,
характерные еще для прошлого века ненависть и отвращение к
европейским «варварам», то не вызовет удивления пассаж в
американском пособии для туристов, что «вежливая» японская
фраза, исходящая от хозяина ресторана «Мы не обслуживаем
уважаемых гайдзин» призвана означать примерно то же, что
американская «Ни один из этих ебаных уважаемых
иностранных варваров не переступит порог моего чисто японского
заведения. Поди погуляй!» (Cunningham 1995: 13—14).
Как видим, подобные слабые, по европейским меркам,
оскорбления успешно справляются с той задачей, которая
ставится перед инвективами европейского типа, построенными на
использовании сексуальных или богохульных символов: во всех
случаях оскорбление достигается за счет обвинения оппонента
в нарушении наиболее сильных для данной культуры табу.
Обвинения в глупости нарушают как раз один из таких
японских запретов.
173
Тем не менее фактом остается то, что лексический инвек-
тивный слой в общеупотребительном японском языке
сравнительно невелик и в буквальном переводе обычно кажется
маловыразительным и просто слабым.
Однако это ни в коем случае не означает, что японцы
лишены возможности катартического разрешения напряженности с
помощью языка. И все же катарсис реализуется в японском
языке принципиально иначе, чему абсолютного большинства народов
мира.
Очень важное наблюдение на этот счет содержится в
дискуссии «Уровень точности японского языка», опубликованной
в журнале «Гэнго Сэйкацу» (1980. № 10: 8). Участники
дискуссии отметили, что роль инвективы в японской национальной
культуре успешно выполняет снятие в нужный момент всех или
части формул обязательного этикета.
Общеизвестно, что по сравнению с европейскими языками
японский язык отличается исключительно разработанной
системой форм и выражений вежливости. Чтобы правильно
пользоваться этой системой, японцам приходится обладать
огромным запасом сведений о себе и окружающей их
действительности, сведений, в которых у европейцев нет особой
практической нужды. В интересующем нас плане это —
сведения об иерархических отношениях, принятых в японском
обществе.
А. Холодович (1979) вычленяет четыре несимметричных
(нерефлексивных) и два симметричных (рефлексивных) вида
иерархических отношений японцев друг к другу.
Необходимость учитывать все эти отношения заставляет японца при
каждой встрече, в любой ситуации решать достаточно сложные (во
всяком случае, с точки зрения европейца) задачи на
предпочтение тех или иных иерархических признаков.
Но в условиях общения с иностранцами ему приходится
много труднее, так как он хуже ориентируется в том, к какой
группе отнести своего собеседника и, следовательно, как к нему
обращаться. Известные трудности возникают и в общении с
совершенно незнакомыми людьми-японцами, чей статус
установить тоже бывает не всегда легко.
Не является ли это одним из возможных объяснений,
почему японцы, по свидетельству многих наблюдателей, так
внимательны и вежливы со знакомыми и родственниками и
равнодушны и даже пренебрежительны по отношению к тем,
чей статус им неизвестен? В жестких рамках шестистрочной
анкеты такой «выход» может оказаться единственно возмож-
174
ным. Распространенное мнение о недружелюбности японцев
неверно по существу, а соответствующее мнение могло
возникнуть из-за того, что, скованный национальным
этикетом, японец в некоторых ситуациях просто не знает, как
себя вести, и ищет выхода в игнорировании непонятных ему
людей.
Однако простое уклонение от ответа на шестистрочную
анкету не всегда плодотворно: собеседник может просто не
понять говорящего, и речь не достигнет цели. Поэтому в японском
арсенале средств повышения эмоциональности говорящего есть
и другие возможности.
Таковы, например, выбор соответствующей лексики, смена
наклонения и некоторые другие. Так, простая просьба открыть
окно может быть грамматически передана в японском языке
несколькими способами, из которых нормально-вежливый
приблизительно соответствует русскому «Не могли бы вы сделать
так, чтобы окно оказалось открытым?» (ср. очень вежливый
английский вариант «Would you very much mind opening the
window, please?»). Наиболее грубым же считается самый
простой способ типа «Открой окно!».
Поэтому для достижения очень высокой степени грубости
японцу нет нужды обращаться к вульгарным инвективам:
точно такой же прагматический эффект будет достигнут за
счет обращения к иной грамматической форме, сокращения
грамматической конструкции, превращения ее в недопустимо
краткий вызывающий приказ.
Ср. параллели английского и японского вопроса, от
нормально вежливого до оскорбительно грубого и вульгарного.
Пример заимствован из: Passin 1980: 76—77, русские параллели
добавлены автором:
What are you doing? Нани о сите ирассамай-
Что ты делаешь? масу ка?
What do you think you're doing? Нани о сите имасу ка?
Ты соображаешь, что ты делаешь?
Goddamn it, what do you think you're doing? Нани ситерундаи?
Ты, блядь, хоть соображаешь, что делаешь?
What in the hell are you doing? Нани сите ийягарунда?
Что ты, еб твою мать, делаешь?
What in the fucking hell are you doing? Нани сите йаганде?
Что ты, еб твою в бога-душу-мать, делаешь?
175
Ни в одном японском варианте нет ни одного табуирован-
ного слова, но в последних трех фразах вульгарна и
оскорбительна сама форма обращения. Чем вульгарнее японская
фраза, тем она короче. Наоборот, в английском и русском
вариантах чем оскорбительнее фраза, тем она длиннее за счет
добавления запрещенного непристойного вокабуляра.
Приблизительно такова же стратегия обращения к разным
личным местоимениям. Исторически местоимения «temae» и
«kisama» выражали уважительное отношение к собеседнику. Со
временем, однако, они стали выражать презрение и теперь
используются как средство оскорбления адресата. В самом
крайнем случае ими можно пользоваться только при общении
самых близких друзей (Suzuki 1978: 100).
Аналогичным образом радикально настроенные японские
студенты, обращаясь на политических диспутах к профессуре,
воплощающей для них ненавистную социальную верхушку,
сознательно используют местоимение «отае» — самое низкое на
японской шкале местоимений — в сочетании с самой резкой
формой императива. Избегание обычных для отношений
«профессор — студент» средств обращения рассматривается
студентами как протест против репрессивных тенденций
правящего класса.
Показательно, что, отвечая студентам на таких встречах,
профессора и администрация, как правило, пользуются всеми
общепринятыми средствами обращения, формами
изъявительного и сослагательного (не бесцеремонного повелительного)
наклонений. В результате такого несоответствия диалог часто
становится непродуктивным, ибо подчеркнутое опущение
вежливых форм равносильно проявлению открытой враждебности,
и, как следствие, необратимым недружелюбным отношениям
(Lebra 1979: 72). Фактически эффект такого построения
диалога равносилен резкой инвективизации речи.
Характерный пример японского способа инвективизации
речи имеется в повести Самукаво Котаро «Браконьеры». В
интересующем нас эпизоде живописуется быт грубых и
неотесанных матросов во время морской экспедиции. Один из
матросов прицеливается в нерпу, как вдруг раздается выстрел
другого матроса, который, промазав, лишает первого добычи.
Разъяренный первый матрос набрасывается на второго с бранью,
которая в буквальном переводе звучит как «Ты, дурно пахнущий
грязный имитатор!»
Показательно, что здесь даже не используется слово
«вонючий», которое грубиян, несомненно, знал. Тем не менее он
176
выбрал обычное слово, которое можно употребить, скажем, о
рыбе «с душком». В подавляющем большинстве национальных
культур в подобной ситуации говорящий прибегнул бы к самым
грубым инвективам типа русского мата, как бы специально
предназначенным для такого случая.
Однако мало оснований полагать, что адресат в сцене из
«Браконьеров» чувствовал себя сколько-нибудь лучше, чем
представитель другого народа, которого «обложили» бы в
соответствии с иной инвективной стратегией. Шокирующая
сила инвективного обращения, вызванная нарушением
привычных японцу табу, была, несомненно, такой же, как и у других
народов, в других национальных культурах.
Нередко, задавшись целью оскорбить оппонента, японец
шире, чем в других ситуациях, пользуется словами канго —
китайскими корнями. Считается, что канго больше годится
«для угрозы», чем слова родного языка (Неверов 1982: 70).
В этом смысле небезынтересен уже отмечавшийся факт, что
японцы с трудом усваивают иностранные языки, но зато,
овладев чужим языком, нередко решительно отказываются от
родного в определенных эмоционально насыщенных ситуациях за
рубежом (Номото Кикуо, пит. по: Неверов 1982: 80).
Не противоречит ли это обстоятельство прежде
высказанному утверждению, что японские инвективы прагматически не
уступают любым другим? Очевидно, нет, потому что, при
общем сдержанном инвективном вокабуляре японцев,
буквальный перевод вульгарных английских (русских, немецких)
инвектив на японский превращает их в оружие, далеко
превосходящее соответствующую идиому по производимому эффекту
в родном (английском и т. д.) языке.
Попросту говоря, обращение японцев, с их национальной
инвективной традицией, к вульгаризмам европейцев дает
жителям Страны восходящего солнца оружие вербальной
агрессии на порядок выше европейского. Европейцам некуда
понижать свою сниженную лексику, и они не могут предложить
ничего вульгарнее уже вульгарного. У японцев же в результате
заимствования такая возможность возникает.
Стратегию японского перехода с одного уровня вежливости
на другой можно сравнить с переходом двух поссорившихся
русских собеседников с «вы» на «ты», а иногда и наоборот.
Однако в русской инвективной практике переход с «ты» на
«вы» отнюдь не является грубостью, хотя может явиться
способом унижения адресата или, во всяком случае, сигналом
напряженности отношений.
177
Нечто подобное отмечается в английском речевом общении.
Ср. случай, когда через день после пирушки, в которой
принимали участие сослуживцы самого разного ранга,
легкомысленный клерк обратился к президенту фирмы: «Привет, Джек!»,
на что ему было ответом ледяное: «Доброе утро, господин
Джоунс!» (Оликова 1979: 31). Для японцев перевод общения на
более высокий уровень — распространенный инвективный
прием.
Исключительно полезным оказывается изучение японского
способа инвективизации, когда к нему прибегают для перевода
инвективных обращений или простых инвектив междометного
типа в других национальных культурах.
Вот примеры передачи очень опытными переводчиками-
японцами нескольких русских инвектив, употребленных в
современных русских художественных произведениях Чехова,
Горького, Шолохова, Ильфа и Петрова, Солженицына и др.
(Уда Фумио 1971).
«Пошел к чертовой матери!» в буквальной передаче по-
японски звучит весьма невинно, как «Немедленно исчезни с
моих глаз!», однако аналогичная русской грубость достигается
с помощью обращения к самой резкой грамматической
форме, понимаемой как прямой приказ, которого японец в
спокойной ситуации стремится не допускать как непозволительно
резкого.
Еще один пример подобного рода. «Сдурел ты, такую
твою? — говорит ему товарищ. — Удались же зараз с этим!» А
Титок говорил ему: «Не будут восставать, б...» В обратном
переводе с японского этот пассаж дословно выглядит так: «Эй ты,
с ума, что ли, сошел? Быстро исчезай!» Когда один из
товарищей так сказал, то Титок ему на это: «Если так, то эти
мерзавцы (= типы) уже никакого бунта поднимать не будут». Японский
переводчик снова обращается к грубой форме сослагательного
наклонения, добавляя к ней несколько слов литературного
языка, но всякий раз — самый грубый синоним (вместо обычного
«сказал» в таких случаях употребляется что-нибудь вроде
русского «выдал», «сказанул»). Кроме того, в языке, избегающем
вульгаризмов, даже слово «тип» звучит исключительно резко
в ситуации перебранки.
Любопытно, что русское «Ах, чтоб тебе!» может
передаваться японцами в зависимости от действительного накала
ситуации то очень резко, то, на русский взгляд, совсем мягко:
в одном случае это может быть «Будь ты проклят!» (букв.
«Проклятый!», «Отвратительный!»), в других — в ход идет уже упо-
178
минавшееся грубо-вульгарное «Жри!» (возможно опущение
наиболее вульгарного слова типа русского «говно»).
Очень часто японцы прибегают к нарушению табу на
чистоплотность там, где в других культурах предпочитают ломку
сексуальных запретов. Ср.:
«Так какого же вы хрена миски занимаете, когда бригады нет?»
(Солженицын).
«Тогда зачем занимаете миски таким грязным способом? (Японский
перевод).
Как известно, в русской практике «Дура!», будучи обращено
к мужчине, звучит достаточно обидно. Ср.:
«А ты зачем руками хватаешь и разные глупые слова... Дура!» —
«Сам ты дура!» (А. Чехов).
Японский эквивалент этого варианта «дуры» — «Подобное
женщине паршивое насекомое!» — сочетание, которое иногда
имеет еще значение «Трус!».
Другие способы унижения тоже включают различные
обращения к насекомому: «Ты не стоишь раздавленного панциря
насекомого!», «Раздавленный панцирь!», «Раздавленное
насекомое!»
Иногда очень вульгарные русские идиомы (мат)
справедливо воспринимаются переводчиком как простые, хотя и
непристойные, восклицания. Вот как комментирует Фумио Уда
известное место из «Поднятой целины», где собрание узнает,
какой невероятной производительностью обладает трактор:
Собрание ахнуло. Кто-то потерянно обронил: «Эх... твою мать!»
Фумио Уда пишет:
Часть, обозначенная многоточием, свидетельствует о том, что здесь
употреблен мат <...>. Поскольку в данном случае это выражает реакцию
на заявление парторга, агитирующего за вступление в колхоз <...>, то это
не ругательство. Это сочетание, обозначающее примерно «Вот это да!», но
способ его материализации — грязный (Уда Фумио 1971: 53).
Особенно интересен пример, когда «чертов идеалист!»
передается по-японски с помощью слова «идеалист», но с
добавлением женского суффикса (т. е. получается что-то вроде
«Идеалистка!» — о мужчине; вспомним «Дура!», тоже
обращенное к сильному полу). В данном случае переводчик считает
необходимым добавить к этому оскорбительному «снижению
полового статуса» (в японской шестистрочной анкете женщина
стоит иерархически ниже мужчины) еще одно оскорбление —
179
сочетание «идеалистки» с грубым наименованием экскрементов
(т. е. приблиз. «Идеалистка ты сраная!» — о мужчине).
Для человека, привыкшего к русской инвективной
стратегии, может показаться, что в этом случае японский переводчик
придал слишком большое значение слабой русской инвективе.
Но это не так: дело в том, что в японском языке грубое
наименование экскрементов звучит не так грубо, как «сраный» в
русском, и японец, например, вполне может произнести это слово
в женском обществе (т. е. это слово ближе к рус. «дерьмовый»;
аналогично — ср. фр. «Merde!» или англ. «Shit!», но не um.
«Stronzo!» или нем. «Scheiße!»).
Как видим, многое в инвективной практике японцев
определяется их национальным характером, этим важнейшим
средством отличия одной нации от другой.
Как мог сложиться национальный характер японцев, столь
отличный от западного, европейского? Некоторый свет на
этот вопрос может пролить эффект Б. В. Зейгарник. Как
известно, в ее экспериментах испытуемые, которые с самого
начала отдавали себе отчет, что им не удастся «наказать
агрессора», не испытывали напряжения от незаконченности своих
отношений с фрустрирующим субъектом. Они как бы заранее
примирялись с необходимостью снести, стерпеть агрессию в
свой адрес.
Представляется, что определенные черты японского
характера могут в принципе иметь сходное происхождение.
Вполне возможно, что известному фатализму и
прагматизму японцев содействовала ненадежная природа Японских
островов с их постоянными цунами, землетрясениями,
оползнями и проч. Приучившись воспринимать стихийные
бедствия как нечто неизбежное, на что невозможно ответить
агрессивными действиями, японцы могли перенести такое
отношение на общество.
Разумеется, это не означает, что на «агрессивное» отношение
природы или враждебность окружающих японец не реагирует
вовсе, но его реакция — это, как правило, не словесное
выражение негодования, дающее выход чувствам, а совершенно
конкретные действия — ремонт разрушенных зданий, помощь
пострадавшим в случае наводнения или землетрясения и столь же
конкретные поступки в отношении обидчиков. Коль скоро
резкие разговоры и инвективное общение социально осуждаются,
их место занимает поступок — например, физическое
воздействие. Именно поэтому в Японии до сих пор популярны кровавые
самурайские драмы и фильмы. В современных более цивили-
180
зованных условиях место рукопашной схватки может занять,
скажем, причинение финансового ущерба сопернику в бизнесе,
нанесение вреда репутации и т. д. — вместо прагматически
менее эффективной инвективы.
Ясно, что подобное возмездие редко может быть
осуществлено немедленно, отсюда и выработанная японцами
своеобразная тактика внешне вежливого спокойного реагирования на
раздражающую ситуацию с последующим нападением в
хорошо рассчитанный момент.
Разумеется, речь здесь идет только об одном из возможных
выходов. Имеются сведения о том, что японцы весьма различно
ведут себя на людях и в тесном семейном и дружеском кругу.
В последнем случае они позволяют себе расслабиться и поэтому
оказываются куда ближе по поведению к европейской
традиции; многое из того, что не положено за пределами семьи,
разрешается дома: если речь и не инвектизируется, то
допускаются грубые шутки, упоминание о различных «неприличных»
телесных функциях, сексуальных недостатках, различные
вульгарности и проч.
Любопытно, что общие национальные табу иногда
срабатывают и здесь: например, нарушение социально
апробированных норм в отношении старших может привести к шоку,
агрессивным выпадам и даже насилию. Образно выражаясь,
нагрузка оказывается непосильной для клапана данной мощности,
что приводит к взрыву.
Из мирных способов выхода из положения отмечается,
например, стремление к «рутинной терапии», т. е. готовности
вызвать обиженного коллегу на разговор, дать ему
возможность высказаться и утешить.
Некоторые японские религиозные секты видят одну из
важнейших целей своей деятельности в научении паствы, как
переводить «урами» — гнев, ярость, злость — в чувство
благодарности, научиться испытывать «омоияри» — эмпатию.
Похвальным считается поведение, при котором, скажем, в ответ
на оскорбительное «Глупец!» или «Ты никудышный!» реакцией
будет не возмущение, а спокойное признание: «Да, я глуп и ни
на что не пригоден!» По мнению наблюдателей, такая реакция
рассматривается как способ порицания ругателя, нарушившего
социальные нормы, и, вдобавок, как угроза стать именно
таким, каким его называет оскорбляющий.
Еще одним способом преодолеть фрустрацию считается у
японцев продвижение вверх по социальной лестнице:
забравшийся наверх может смотреть на оставшегося внизу сверху вниз.
181
Одна из главных причин, почему японцы избегают прямых
оскорблений, заключается в присущей японскому
национальному характеру чрезвычайной обидчивости и ранимости. В
сочетании с глубокой эмпатией эта ранимость затрудняет
возможность нанесения оскорбления другому: японец слишком
хорошо понимает, каково будет тому, другому, и прибегает к
такой жестокой мере только в самом крайнем случае. Обычно
же ему достаточно просто показать свое неудовольствие,
намекнуть на неудовлетворительное поведение оппонента или в
самом крайнем случае заставить его смутиться в присутствии
других людей. Такая демонстрация нежелания испытывать
эмпатию действует практически так же сильно, как грубая
брань европейца.
В этический кодекс японца входит убеждение, что никто не
может быть на сто процентов прав и в любом конфликте
виноваты обе стороны. Отсюда — бессмысленность оскорбления
другого: фактически оскорбляющий одновременно задевает и
свою честь.
Отметим также важное для целей настоящего исследования
утверждение, что групповая мораль японцев ставит группу
настолько выше индивида, что индивидуальная эмоция вообще
не считается чем-то существенным.
Можно утверждать далее, что одна из ведущих причин
особенностей японской инвективной стратегии — это то, что
этнолингвисты называют «самообозначением,
ориентированным на собеседника» (Suzuki 1978: 145 и ел.). Японцы гораздо
реже, чем европейцы, прибегают к личным местоимениям
первого лица, хотя в японском языке их несколько. Для
японцев предпочтительнее способ самоназывания, к которому в
культурах европейского типа нередко прибегает мать,
разговаривающая с маленьким ребенком: «Перестань шуметь, ты
огорчаешь маму !» (вместо «...ты меня огорчаешь!»).
Другими словами, японец автоматически мысленно
подставляет себя на место собеседника, смотрит на мир его
глазами, пытается определить свою социальную роль как бы со
стороны. Инвективное обращение противоречит такому
способу самоориентации самым решительным образом: оно по
своей сути исходит из пренебрежения чувствами и статусом
оскорбляемого.
В общении японцев социальная стратификация играет
гораздо большую роль, чем в европейских культурах, и такое
пренебрежение выглядит, как правило, неестественно,
противоречиво. Японский собеседник автоматически стремится по-
182
ставить другого выше себя, максимально учесть мнение
другого человека и в той мере, в какой это возможно, разделить
его.
При таком подходе инвектива явно противопоказана:
прибегнуть к ней означало бы потерять лицо, уронить собственное
достоинство, выставить себя невежей. Неудивительно, что
японец обратится к инвективе только в самом крайнем случае,
когда подобные соображения в большой мере утратят
значение; понятно также и то, что даже мягкая (по европейским
стандартам) инвектива должна звучать здесь как неслыханная
грубость, ибо она нарушает очень жесткое, неукоснительно
соблюдаемое табу.
По определению, инвектива очень категорична. Между тем
японцы стремятся по возможности избегать всякой словесно
выраженной категоричности, предпочитают говорить
обиняками, уклончиво, надеясь, что намек будет правильно понят,
опасаясь как обидеть отказом, так и получить отказ самим.
Инвектива лишила бы их такой возможности.
Наконец, укажем еще на природную молчаливость японцев,
ведущую происхождение из традиций семейного воспитания.
Для японцев предпочтительно опустить в речи все, что может
быть опущено. Инвектива же относится к числу явных
словесных «излишеств», и это тоже одна из причин, почему она
непопулярна в японском вербальном общении.
Перечисленных причин достаточно для того, чтобы понять
особенности инвективной стратегии японцев. Мы видим, что
способов оскорбить у японцев едва ли не больше, чем в любой
другой национальной культуре. Очевидно, что в эмоционально
насыщенной ситуации японцы в конечном счете мало
отличаются от других народов. Иное дело, что оскорбления японцев,
будучи буквально переведены на другой язык, выглядят (но не
являются) гораздо более вежливыми. Однако самих японцев
вряд ли сильно волнует впечатление, которое производит на
иностранцев их инвективная практика.
Тем не менее принципиально очень важно, что в
стратегическом плане отличие японской культуры от многих других, и
прежде всего культур европейского типа, достаточно велико.
В этой связи обращает на себя внимание уже
упоминавшийся факт, что очень ограниченное число инвектив
европейского типа в японской инвективной практике сочетается с
огромным, по европейским стандартам, количеством слов
противоположного смысла — всевозможных «куртуазностей»,
образующих слой общепринятой этикетной группы.
183
Наблюдение позволяет установить, что между этими двумя
фактами существует глубокая внутренняя связь.
Дело в том, что одной и той же цели — цели эмоциональной
самозащиты от агрессивных побуждений человека могут
служить как слова инвективного, так и вежливого, куртуазного
списка.
При этом перенос энергии, превращение отрицательных
эмоций в положительные может не сопровождаться
энергетическими потерями: с той же силой, с какой субъект
испытывал агрессивные эмоции, он теперь испытывает
противоположные чувства, зачастую даже не подозревая об их источнике —
агрессивном мотиве. Точно так же возможно движение и в
обратном направлении («От любви до ненависти — один шаг»).
Понять значение этого обстоятельства помогают известные
особенности японской системы обращений.
Как известно, в японском языке имеется около пятидесяти
форм обращений: почтительно-официальное, высокое,
нейтральное, сниженное, дружески-вежливое, скромное,
фамильярное и т. д. Не менее велико число форм приветствий, чуть
поменьше форм выражения благодарности и более двадцати
форм извинений.
Если добавить к этому уже называвшиеся выше
грамматические способы выражения вежливости, то число куртуазных
средств, в сравнении с европейскими языками, выглядит
поистине впечатляюще.
Впечатление это возрастет, если противопоставить
богатство этого слоя скудости форм выражения словесной
агрессивности. В то же время в культурах европейского типа все
обстоит прямо противоположным образом: при обилии форм
словесного оскорбления форм выражения вежливости много
меньше.
Но если вежливость и грубость играют одну и ту же роль
своеобразного заменителя физической агрессивности, служа,
так сказать, понижающим трансформатором агрессивных
тенденций, то объяснение такой странной обратной пропорции
напрашивается само собой: словесные оскорбления и вежливость
в любой культуре существуют по принципу взаимодополнения. Если
в языке мало возможностей замещения физической агрессии с
помощью инвектив, развивается система куртуазных идиом;
при относительной слабости этой последней группы
усиливается инвективный слой. Тем или иным способом, но
агрессивность должна быть словесно замещена во имя физического
здоровья общества.
184
В самом общем виде схему взаимоотношения куртуазного и
инвективного словоупотребления можно представить
следующим образом:
куртуазная лексика инвективная лексика
физическая агрессия
Стрелки на схеме указывают направление преобразования
физического воздействия на слушающего. Как видим, правая
стрелка — это изображение попытки катартического
разрешения от напряжения за счет словесного оскорбления. Левая
стрелка указывает, что те же самые агрессивные тенденции
человека трансформируются прямо противоположным
образом: тщательно разработанные правила этикета,
разнообразные ритуалы просьб, приветствий, прощаний и проч. имеют
целью предотвратить вполне возможную конфликтную
ситуацию.
Позволительно даже предположить, что, чем сильнее
подспудно ощущаемый стрессовый характер ситуации, тем
изощреннее становится этикет.
В более широком плане: чем больше в национальной культуре
инвективных — или куртуазных — формул, тем очевиднее
стремление данного общества справиться с рвущимися наружу
антиобщественными тенденциями.
Поэтому как чрезмерная инвективизация речи, так и
чрезмерное насыщение ее этикетными ритуальными идиомами
наводят на сходные размышления.
Сохранение основ цивилизованных отношений в обществе
гарантируется двумя противоположно заряженными
словесными каналами трансформации физической агрессии: вместо
оскорбления действием можно прибегнуть к оскорблению
словом; вместо оскорбления словом можно преобразовать свои
негативные чувства в положительные и соответственно
выразить эти преобразованные чувства в форме вежливых идиом.
И в том, и в другом случае в обществе достигается возможность
сосуществования.
Подчеркнем в этом месте очень важную мысль: чрезмерная
вежливость необязательно свидетельствует о том, что ее автор
испытывает какую-то особую приязнь к своему адресату;
иногда, наоборот, это — признак вражды и (под)сознательное
стремление задушить в себе рвущуюся наружу ненависть.
Надо надеяться, что такой вывод никоим образом не
наведет на мысль о каких-то недостатках или преимуществах той
185
или другой нации. Более того, стремление подавить свои
агрессивные побуждения с помощью соответствующего вокабуляра
и, соответственно, стремление избегать в отношении других
грубости — свойства, заслуживающие уважения. Говоря
конкретно о японском этносе, можно с удовлетворением отметить,
что такая «эмоциональная стратегия» японцев приносит свои
плоды: общеизвестно, что продолжительности жизни японцев
и их общему здоровью могут вполне позавидовать нации, для
которых характерно совсем другое соотношение грубого и
вежливого вокабуляра.
Естественным образом возникает вопрос: почему конкретному
японцу подавление своих отрицательных эмоций, условно
говоря, не стоит инфаркта, а русскому именно это и грозит, из-за чего
он, во имя облегчения от стресса, может прибегнуть к инвективе?
Другими словами, почему первым удается обходиться без
огромного количества бранных слов, а вторым — нет?
Вполне возможно, что дело здесь в так называемой
«этнической константе», предложенной С. Лурье (Лурье 1994). По
мнению этого автора, существуют некие особенности народа,
которые определяют его поведение, в том числе такое, которое
противоречит какому-то другому поведению того же народа, но
в другом месте. То есть одна и та же нация может быть,
условно говоря, «убогой и обильной, могучей и бессильной» — и
каждая такая черта, будучи противоположной какой-то иной,
укладывается в подсознании в единую национально-специфическую
константу.
Лурье приводит в пример марксизм. Эта теория, говорит
исследователь, разрушительна, вредна для любой нации; но
если она еще помножена на «удачно» ему соответствующую
этническую константу, дело может закончиться сталинизмом.
Те же условия распространения марксизма в другой стране, с
совершенно другой этнической константой, по мысли автора, не
смогут привести к кровавой диктатуре: диктатура и
национальный характер «не состьпсуются». Другими словами, есть
национальные культуры, обладающие стойким иммунитетом к
марксистским идеям, и есть такие, которым угрожает
«марксистский СПИД».
Применяя такой же анализ к Японии, мы увидим, что, в
самом деле, инвективный способ общения, помноженный на
японскую, глубоко скрытую от самой нации агрессивность, дал
бы непереносимую разрушительную реакцию, гибельную для
данной национальной культуры. Все агрессивные тенденции,
надежно спрятанные за плексигласовым щитом бесчисленных
186
вежливых уважительных форм, вырвались бы наружу,
подстегнутые возможностью своего словесного выражения. В «лице»
русского мата японцы получили бы оружие, которое быстро
привело бы к конфликтам между самими японцами и их
соседями. Неудивительно, что такое оружие было отвергнуто
японским национальным сознанием примерно по тем же
соображениям, по каким ядерные державы решили отказаться от
слишком эффективного оружия массового уничтожения.
И наоборот, японские «куртуазности», перенесенные на
русскую почву как альтернатива грубой брани, не дали бы
русскому национальному характеру необходимой разрядки и привели
бы к резкому повышению эмоционально-психического
напряжения — со всеми вытекающими отсюда печальными
последствиями. Можно предположить, например, что изъятие из
русской речевой практики грубых бранных слов привело бы к еще
более острой криминальной ситуации в России.
В настоящем исследовании японской культуре уделено
много места прежде всего по причине ее лучшей, сравнительно со
многими другими, изученности. Между тем существует еще
целый ряд национальных культур, подход которых к инвекти-
визации речи резко отличается от европейского и оказывается
поэтому весьма поучительным.
Рассмотрим некоторые из них.
Большинство таких культур расположено в азиатской и
тихоокеанской частях земного шара, однако нечто похожее
отмечено и в Африке и Южной Америке.
К числу таких культур (будем называть их культурами
японского типа) относится яванская. Здесь вполне применимы
инвективы, более или менее напоминающие европейские. Однако,
во-первых, по своей эмоциональной силе они намного слабее,
чем их европейские аналоги, а во-вторых, употребляются они
много реже и носят скорее добродушно-шутливый, чем
оскорбительный характер.
Примерно такой же оскорбительности, что в Европе, на Яве
можно добиться совершенно иным путем, а именно переходом
с одного более вежливого уровня на другой. То есть яванцы
охотно обращаются к одному из способов, которым
пользуются японцы, наряду со многими другими приемами.
Вот перечисление форм обращений яванского языка по
А. С. Теселкину (1961). В буквальном переводе они могут
выглядеть аналогично, но употребление именно той, а не иной
формы зависит от общественного или служебного положения
людей или их возраста. Все это чуть-чуть напоминает русские
187
«ты», «вы» или «Вы» по отношению к одному лицу, но
намного сложнее.
Основных форм обращения у яванцев две: нгоко («простой
язык») и кромо («вежливый язык»). Кроме того, существует
ступень мальо («средний язык»), промежуточная между нгоко
и кромо; ею пользуются, когда необходимо быть менее
вежливым, чем при употреблении форм кромо, но нельзя
пользоваться и нгоко: это было бы слишком грубо.
Есть еще кромо-ингил («высокий кромо»), баса-кедатон
(«дворцовый язык») и баса-касад («грубый язык»).
Кромо-ингил идет в ход, когда говорится о высокопоставленном лице
и его окружении, баса-кедатон употребляется при дворах
феодалов.
Нгоко, кромо и мальо имеют каждый свои более мелкие
подразделения. Нгоко делится еще на нгоко-лугу («основной
нгоко») и нгоко-андап («вежливый нгоко»), который
распадается, в свою очередь, на антья-баса и баса-антья.
Для понимания яванской инвективной стратегии особый
интерес представляет ступень баса-касад — наиболее грубая,
дая которой характерны оскорбительные слова и выражения.
Здесь, например, возможны замены названий человеческих
частей тела, конечностей и т. п. названиями аналогичных
частей тела у животных (ср. рус. «брюхо», «морда» вместо
«живот», «лицо»).
Но главная оскорбительная сила — не в этих словах, а в самом
факте использования баса-касад. Это настолько грубая форма, что
для того, чтобы оскорбить оппонента, нет необходимости
переходить на нее, скажем, с уровня кромо. Уже переход на ближайшую,
но более низкую ступень в яванском языке звучит
исключительно оскорбительно и мгновенно ощущается адресатом. Такие
переходы со стороны простолюдинов наказывались в
феодальные времена смертной казнью, а в период голландской
колонизации Явы виновных подвергали порке.
Возможен в яванском и переход с более низкой ступени,
допустимой между близкими друзьями, на более высокую. В
таком случае у адресата возникает ощущение тревоги,
подобной той, что возникла бы у русского, с которым его старый
знакомый после многих лет общения на «ты» вдруг стал
обращаться на «вы».
Таким образом, в яванском языке достаточно способов
выражения словами агрессивных намерений говорящего, и
совершенно очевидно, что о яванцах, как о японцах, нельзя говорить,
что они сдержаннее европейцев в выражении своих намерений,
188
только на том основании, что оскорбления европейского типа
здесь менее популярны. Перед нами просто иная инвективная
стратегия, в принципе не хуже и не лучше любой другой.
Некоторые черты вьетнамского языка сближают его инвек-
тивную стратегию с яванской. Правда, вьетнамские инвективы
в основном сильно напоминают по характеру и эффекту
инвективы европейского типа. В то же время вьетнамской культуре
свойственны и оригинальные методы оскорбления — прежде
всего снижение ранга оппонента.
Дело в том, что во вьетнамском языке существует богатая
и сложная система обращений, среди которых важное место
занимают обращения типа «младший брат отца», «старший
дядя» и т. п., а также просто «ты». Муж обращается к жене,
называя ее «младшая сестра», жена к мужу — «старший брат».
Старший брат может обратиться к младшему, которого зовут
Ба: «Ба, пойдем, ты!» или: «Ба, пойдем, младший брат!» (Ли
Тоан Тханг 1977: 286).
Вполне приемлемое здесь «ты» является одним из
сильнейших оскорблений там, где согласно правилам этикета
полагается только «старший брат».
К родителям полагается обращаться «мама» и «папа».
Обращение к ним «Ты!» вызвало бы такую же реакцию, как мат в
русской культуре в адрес столь же уважаемых лиц. С другой
стороны, «Младший брат!» вместо положенного в данной
социальной ситуации «Старший брат!» звучало бы просто смешно и
оскорблением служить не могло бы.
Нечто подобное прослеживается в казахской культуре, где
среди сильнейших оскорблений родственников тоже
существуют своеобразные инвективы вроде абсолютно запрещенного
обращения к братьям и сестрам мужа по имени: традиция
требует обращения к ним со стороны женщины только с помощью
нарицательного существительного: «мырзага», «кайын ага»
(старший брат мужа), «кайын ппм» (младший брат мужа).
Женщина не имеет права называть по имени своего
собственного первенца, если он воспитывался у родителей мужа,
которые только и обладают этим правом. Такое обращение по
имени со стороны женщины рассматривается как дерзкий вызов
и сознательное нарушение приличий, то есть непристойность.
Таким образом, мы видим, что оскорбительность
заключается прежде всего не в употреблении грубых слов типа мата,
скорее сам мат — это способ нарушения сильного запрета.
Однако столь же сильные запреты можно нарушать и
другими словами, в том числе внешне выглядящими как нейтраль-
189
ные. Их эмоциональная заряженность определяется
социальной ситуацией, а не внутренней формой.
Африканцы-йоруба изобрели совершенно уникальный
способ оскорбления — «eebu». H. Оладеджи настаивает, что это
не проклятия и не брань в обычном смысле слова, хотя
безусловно — оскорбления. Цель eebu — выставить врага в
смешном виде, опозорить его перед лицом слушателей. Прибегают
к этому способу прежде всего женщины, но, бывает, и
мужчины. Нередко такая стычка заканчивается дракой.
Главное оружие eebu — специальные слова, означающие
«обладатель какого-либо плохого качества»: в буквальном
переводе получается что-то вроде «обладатель лишений»,
«обладатель ненужности», «обладатель дурацких свойств»,
«обладатель жадности к еде или деньгам», «обладатель позорных
долгов» и т. д. Но это только, так сказать, основа оскорбления,
к которой пристраивается обширная дополнительная
информация. В результате получается примерно следующее:
«Никчемный бездельник и мот, который проводит время, пожирая
птичьи яйца !», «Глупец, который на похоронах угощает гостей
курятиной!» (гостей на похоронах бывает до двухсот человек,
и гораздо дешевле кормить их говядиной), «Бесстыжий рохля,
который идет в дом родственников и там умирает!» (видеть
обнаженного покойника могут только самые близкие люди),
«Олух, который строит людям рожи в самое темное время
ночи!»
Другой вариант eebu — обвинения в уродливости:
«Острый нос!», «Крошечные глазки!», «Длинная и худая шея!»,
«Член-недомерок!» Такие оскорбления включают особые
звуки, считающиеся сами по себе некрасивыми. Кроме того,
здесь тоже возможны всяческие «расширения»: «Голова
длинная и узкая, как у ящерицы!», «Ноги худые и тонкие,
как у птицы олонго!» — или уж совсем, на наш взгляд,
экзотические: «Он вышагивает по-дурацки, как бабуин,
который расшиб больную ногу о ступку!» или: «У нее грудь, как
у женщины, которая передает своего младенца соседке,
чтобы немного поплясать».
Очень существенно, что искусство пользоваться eebu
считается очень важным, ему специально учатся, и тот, кто умеет так
ругаться лучше, чем другие, заслуженно этим гордится (Oladeji
1996).
Список культур, характеризующихся необычными, с
европейской точки зрения, инвективными стратегиями, можно
продолжить.
190
Интерес представляют малые культуры. Краткие сведения о
них можно встретить во многих этнографических,
лингвистических и психологических исследованиях.
Для ряда таких культур характерно стремление не столько
сдерживать агрессию, сколько избегать ее вообще, уклоняться
от создания агрессивных ситуаций. В этой связи назьшают,
например, племена, проживающие на островах Борнео, в
Танзании, Южной Индии, Шри-Ланке, Новой Гвинее, Австралии,
островах Малайского архипелага, на Таити, небольших
островах Тихого океана, атолла Бикини, а также некоторые
индейские племена, например, зуни (Montague 1978: 5; Pei 1949:
202; Kiener 1983: 294-296).
Индейцы североамериканского племени сольто стремятся
избегать любого внешнего проявления агрессивности: ссор,
перебранок, угроз. Для них нехарактерны и самоубийства.
Однако это отнюдь не означает, что сольто не знают и эмоций,
порождающих перечисленные агрессивные действия: гнева,
злости, враждебности. Браниться запрещается, но вполне
допустимы недоброжелательные акты в отношении противника,
проявляющиеся в виде тайного колдовства, клеветы и
распускания сплетен. При этом внешнее отношение к противнику
остается вежливым и приветливым (Рейковский 1979, со
ссылкой на F. I. Hallowel).
Наконец, можно упомянуть изолированные протестантские
группы в Северной Америке, которые, по некоторым
сведениям, добиваются практически полного отказа от инвекти-
визации речи; это, например, пенсильванские квакеры,
южногерманские переселенцы в Канаде и др.
Однако сообщаемых в литературе сведений на эту тему
слишком мало, чтобы делать окончательные выводы об
особенностях их моделей поведения. Вполне возможно, что те
или иные действия недостаточно точно интерпретируются
исследователями, и их выводы заходят слишком далеко. На
деле модель поведения, кажущаяся противоположной
европейской, оказывается ближе к ней, чем можно было
подумать.
На такую мысль наводят, в частности, некоторые сведения,
полученные от информантов. Так, в разговоре с автором один
американский квакер утверждал, что его единоверцы никогда
не бранятся («We do not swear»), но на вопрос, что он сказал бы,
угодив себе молотком по пальцу, ответил, что, вероятно,
воскликнул бы «Shit!» (т. е. приблизительно русское «Говно!»). Это
несильная инвектива, но из ряда инвектив все же не выходя-
191
щая. Очевидно, информант хотел всего лишь сказать, что
квакеры не богохульствуют (выше отмечалась многозначность
«swear»).
Значительно более достоверного известно о жизни
гималайских шерпов. Судя по имеющимся материалам (Ortner
1975), этические воззрения шерпов, построенные на
своеобразной разновидности буддизма — махаяны, запрещают
едва ли не все катартические средства — прежде всего
убийство (войну, вендетту, дуэль), — равно как и драку, судебное
преследование, «гневные слова» и даже «гневные мысли».
В результате шерпы не имеют общепринятого
административного аппарата, исключая старосту деревни с очень
ограниченными функциями.
Можно сказать поэтому, что у шерпов отсутствует
культурно организованная модель поведения, с помощью которой
люди в других регионах объективизируют, понимают и
систематически преобразуют свои агрессивные чувства, не выходя за
пределы своей национальной традиции. В этом смысле
стратегия шерпов, безусловно, отличается от всех описанных ранее
стратегий.
У этой модели есть определенные достоинства, как будто
бы обеспечивающие шерпам большую в сравнении с другими
народами личную свободу. Но у нее есть и серьезные
недостатки, которые, надо полагать, и объясняют малое ее
распространение в человеческом обществе. Принципиальное
отсутствие механизмов «выпускания пара» вообще недопустимо в
нормально функционирующем обществе, поэтому община
шерпов вынуждена искать и находить суррогаты таких
механизмов.
Прежде всего, не все табу соблюдаются одинаково
ревностно. При очень строгом запрете на убийство и его попытки,
запреты на «гневные слова» больше декларируются, чем
выполняются на деле.
Однако в таких условиях только «гневных слов»
оказывается недостаточно для эмоциональной разрядки. Поэтому
важное значение в культуре шерпов приобретает социально
приемлемый механизм так называемого вышучивания на
пирушках. Речь идет о традициях шутливого задирания друг
друга, которое иногда выглядит для посторонних просто как
грубые выпады в адрес соседа.
Понять трансформирующую силу такого «вышучивания»,
оценить его роль в эмоциональной жизни общества шерпов
помогает указание этнографа на крайнюю обидчивость шерпов
192
и болезненную реакцию даже на слабую критику в свой адрес.
Малейший косой взгляд соседа заставляет шерпа взволноваться
и начать выяснять причины такого поведения. Что очень важно,
этика шерпов заставляет их искать названные причины
прежде всего в себе, а не в соседе.
Неудивительно, что в таких условиях «вышучивание» может
привести к двум противоположным результатам: с одной
стороны, к общему смеху над объектом шуток, смеху, в котором
охотно участвует и сам вышучиваемый (= катарсис).
Агрессивные импульсы находят выход в виде «шутки», формы
признаваемой и принимаемой и в то же время ощущаемой как
агрессия.
С другой стороны, вместо дружного и более или менее
добродушного смеха может возникнуть (и часто возникает)
напряжение, переходящее в попытку драки, т. е. еще более тяжелое
нарушение табу.
Другими словами, применяемый шерпами катартический
механизм работает плохо и дает частые сбои. Понятно поэтому,
отчего в общине шерпов время от времени возникают
психологические взрывы, скандалы, внешне выглядящие как
истерические всплески: такой психологический бунт дает возможность
кратковременной разрядки.
Вряд ли удивительно поэтому, что такая модель поведения
характерна в основном для небольших изолированных культур:
в открытом развитом цивилизованном обществе она оказалась
бы нежизнеспособной.
Тем не менее она существует, и не только в шерпской
группе. Вот описание очень похожего поведения чукчей:
У чукчей <...> еще в начале XX столетия потрясенные исследователи
наблюдали странные сцены. Время от времени кто-нибудь из членов
небольшого их коллектива устраивал то, что среди цивилизованных людей
принято называть истерикой. Человек раздевался донага, выбегал на снег,
последними словами ругал своих близких, бросал им в лицо ужасающие
обвинения, рыдал, рвал на себе волосы, грозил покончить с собой. За ним
ходили, успокаивали, затем бережно укладывали спать. Наутро
поскандаливший просыпался умиротворенным и счастливым; все остальные
делали вид, что ничего не произошло. Когда однажды европейский врач,
наблюдавший подобную сцену, попытался вмешаться — дать брому,
валерианки, его жестко остановили: «Не мешайте! Так надо!» (Башкирова
1976: 231).
Очевидно, быт чукчей, труднопереносимый даже самими
носителями этой культуры, подсказывал людям примерно тот
же способ реагирования, что и шерпам. Человеческий организм
7 В. И. Жельвис
193
реагирует истерическим всплеском, когда психологический
стресс оказывается слишком большим. Это явление давно
замечено психиатрами и получило название «публокток», или
арктическая истерия. Причины публоктока — длительное
пребывание в тесноте, долгая полярная ночь, недостаток кальция
в организме (Стефаненко 1999: 147).
Особо отметим: перед нами не традиция устраивать
истерики, а неизбежное следствие отсутствия традиций и ритуалов,
которые помогли бы снятию стресса.
Собственно говоря, то же «вышучивание» — неплохой метод
снятия стресса, но скорее как вспомогательное, не основное
средство. И истерика типа чукотской может работать не
только на Крайнем Севере, но также и как помощь другим
методам. Можно назвать целый ряд культур, в которых шутливые
задирания приняты очень широко и, что особенно
существенно, обижаться на них ни в коем случае нельзя. По словам
этнографа, изучавшего быт индейцев мохави, ни один белый не
может рассчитывать на дружбу с членами этого племени, если
не обнаружит искреннего желания вступать с ними в
подобные «сражения» (Devereux 1951: 108).
Вот как И. Хёйзинга описывает соответствующее
поведение эскимосов, у которых имели место (а возможно,
сохранились и до настоящего времени) своеобразные «хульные
состязания», игравшие, помимо всего прочего, роль судебной
тяжбы:
Если у одного эскимоса имеется жалоба на другого, то он
вызывает его на барабанное или песенное состязание. Племя или клан
собирается на праздничную сходку в самых лучших нарядах и в атмосфере
веселья. Оба противника поочередно поют друг другу бранные песни
под стук барабана, упрекая один другого во всевозможных
проступках. При этом не делается различий между обоснованными
обвинениями, нарочитым высмеиванием и низким злословием. Так, один
из поющих перечислил всех соплеменников, съеденных женой и
тещей его противника во время голода, и настолько поразил слушателей,
что они разразились слезами. Попеременное пение сопровождается
телесным воздействием и причинением физических неприятностей:
дышат и сопят друг другу в лицо, бьют противника лбом, разжимают
ему челюсти, привязывают к палаточной жерди — и все это
«обвиняемый» должен сносить совершенно невозмутимо и даже с
насмешливою улыбкой. Присутствующие подхватывают припев, хлопают в
ладоши и подстрекают противников. Некоторые же сидят,
погрузившись в сон. В промежутках обе противные стороны общаются друг
с другом подобно добрым друзьям. Заседания, посвященные
подобному единоборству, могут растягиваться на годы; стороны всякий раз
придумывают все новые песни и указывают на все новые преступления.
194
В конце концов собравшиеся решают, кого нужно объявить
победителем. После этого дружба вновь восстанавливается, но бывает и
так, что семейство, пережившее позор поражения, вовсе уходит прочь
(Хёйзинга 1997: 92).
И. Хёйзинга отмечает и другие подобные традиции, причем
едва ли не всякий раз дело могло кончиться миром, а могло
скандалом, кровопролитием или сражением. Доисламские
арабы устраивали настоящие большие состязания, которые могли
выливаться в убийство или межплеменную войну. В древне-
исландских сагах за одну лишь хульную песню в свой адрес
герой собирается выступить против Исландии. А вот у древних
германцев зафиксирован мирный исход такого соревнования в
хуле, когда после очень обидных выпадов «король удерживает
бранящихся от рукоприкладства и на этом радостно приводят
они пир к завершению» (Там же: 77—79).
Нет оснований утверждать, что такой выход из стрессовой
ситуации характерен исключительно для малых,
«экзотических» национальных культур. Вот описание традиционного
предновогоднего «сезона крика» в Японии. После многочисленных
предпраздничных пирушек всегда тихие и вежливые японцы
вдруг принимаются пинать уличные фонари, опрокидывать
мусорные урны, издавать оглушительные вопли. В Токио
проводится «конкурс крикунов», когда после долгих месяцев
сдерживания японцы получают возможность во всеуслышание
излить свою ярость по поводу посетивших их в истекающем
году неудач: неприятностей по службе, семейных неурядиц,
любовных треволнений и так далее: «У меня ушла жена!»,
«У меня с веревки украли все белье!» — кричат они. Когда
кончается конкурс, полностью восстанавливается и обычная
японская модель поведения.
Вряд ли удивительно, что такая модель существует как
основная только в небольшом числе национальных культур: в
большом масштабе она явно оказалась бы нежизнеспособной.
Собственно, и в Японии подобные конкурсы — курьезный
эпизод: как было показано выше, в основном японцы
справляются со стрессами иначе.
И тем не менее такая модель существует, и само ее
существование заставляет сделать важные выводы. Чтобы их
сформулировать, сравним модели поведения европейцев, японцев
и шерпов. Из сказанного выше очевидно, что японская
культура по сравнению с европейской сильно «зажата»
всевозможными ритуальными ограничениями, в то время как культура
шерпов, наоборот, стремится в противоположную сторону,
7*
195
отвергая ритуалы или, по крайней мере, сводя их к
минимуму. Культура общеевропейского типа должна находиться на
такой шкале где-то посередине, ибо она не столь жестко
самоограничена, как японская, но и не столь экстремистски
анархична, как у шерпов.
Именно эта позиция и обеспечивает ей популярность в
большинстве культур: в ней в более или менее приемлемой
пропорции находятся все элементы механизма общения.
Для нормального функционирования общества полезно
наличие в необходимой степени всех трех элементов: 1)
социальных институтов принуждения (кодексы чести, уголовные
кодексы, суды, уставы и т. п.), 2) бранного словаря, 3)
словаря, содержащего учтивые, этикетные выражения. Отсутствие
или недостаточное присутствие одного из этих каналов
заставляет общество искать другие пути трансформирования
эмоций. И некоторые из этих путей могут оказаться социально
опасными.
Разумеется, вряд ли можно научно доказать прямую связь
между, например, утратой бранной лексикой катартической
роли и ростом преступности — особенно вандализма,
физической агрессии, немотивированных случаев насилия и т. п.;
однако исключить такую связь однозначно нельзя.
Подводя итог всему сказанному в настоящем разделе,
следует особенно выделить следующее.
Энергия, порожденная совершенно определенными
импульсами (агрессия, ненависть), может воплотиться в свою
противоположность (дружелюбие, приязнь). Объяснение этому
феномену может быть дано лишь в случае, если постоянно помнить
о самой тесной связи агрессивности и миролюбия, священного
и обыденного характера явления. Эта тесная связь изначально
присуща поведению человека, хотя вполне вероятно, что
поначалу агрессивность генетически противостояла только
нейтральному состоянию организма и лишь позже как бы
генерировала из себя противоположную эмоцию (любовь,
притягивание).
Можно выделить: а) национальные культуры, в которых
одним из способов катарсиса является прежде всего словесная
агрессия (всевозможные словесные инвективы), б) культуры,
для которых в целях разрядки более желанным является
неукоснительное соблюдение правил этикета (ритуалы,
общественные институты, другие общественно одобряемые средства)
и в) культуры, стремящиеся как-то обойти проблему, по
возможности не обращаться к катарсису.
196
Однако нам неизвестны культуры, которые бы в той или
иной пропорции не использовали все три модели поведения,
ибо только наличие полной триады обеспечивает обществу
возможность выживания.
Следовательно, в общественном смысле все три модели
необходимы, и нет такой, от которой общество готово сегодня
отказаться.
Наиболее жизнеспособной, как показывает мировой опыт,
является модель, в которой количество общественно не
признаваемых средств выражения неприязни больше, чем
количество одобряемых ритуальных средств.
2.4. Этноразделяющие
и этнообъединяющие особенности
эвфемизмов, дисфемизмов и запретов
Инвективное словоупотребление укладывается в рамки
«анти-поведения» (термин см.: Успенский 1983: 33), однако
«анти-поведение» остается все же «поведением» и, таким
образом, отражает определенные этические установки общества —
в частности, существование определенных запретов.
Выше уже отмечалось, что в разных культурах присутствует
разное отношение к возможности запретов, непосредственно
касающихся инвективной практики. Во всех этих культурах
существуют средства, помогающие избегать нарушения табу —
эвфемизмы. В практике сегодняшнего словоупотребления
эвфемизмы применяются прежде всего вместо слов, обозначающих
«непристойные» части тела, «неприличные» признаки или
осуждаемые действия.
Очень существенно, что эвфемизмы как явление — отнюдь
не продукт цивилизации. Наблюдения показывают, что они
свойственны любой стадии развития языка и общества. Во
всяком случае, они отмечены в языках самых слаборазвитых
племен, сохранившихся до настоящего времени.
Совершенно очевидно, что причины существования
эвфемизмов не языковые, а концептуальные, основанные на
бытовании и развитии разнообразных табу. На протяжении всей
истории человечества существовали вещи, которые нельзя было
называть своими именами. Этим, в частности, можно объяснить
кажущийся странным факт, что у некоторых слаборазвитых
племен смертельное оскорбление — назвать соплеменника его
настоящим именем, а у некоторых племен австралийских
аборигенов существует множество эвфемистических наимено-
197
ваний для частей тела, ныне считающихся «неприличными»
(Greenough, Kitredge 1961: 229, 391).
Эвфемизмам посвящена обширная литература. И тем не
менее приходится отмечать, что далеко не все вопросы эвфе-
мизации нашли к настоящему времени свое решение.
Например, очень мало исследовался фоносемантический аспект
проблемы. Рассмотрим его в плане исследуемой темы.
Выше уже так или иначе говорилось о внимательном
отношении общества не только к смыслу говоримого, но и к самому
звучанию слова, к «телу знака», которое, таким образом, само
приобретает особый знаковый характер. Вряд ли можно
согласиться с категорическим утверждением Н. Я. Яимовой, что
слово как название вещи для древнего охотника было
«равноценно» самой вещи (Яимова 1985: 12); скорее следует говорить
о том, что название вещи было неотделимо от понятия об этой
вещи, считалось его неотъемлемым свойствам. Поэтому
именовать объект значило непосредственно соприкасаться с ним,
воздействовать на него и т. д.
Вот почему звучание слова приобретает самодовлеющую
ценность: даже если это звучание относится к другому слову
(омонимия, частичное совпадение звучания), все равно
возникает контакт с данным словом — просто за счет его
фонетического звучания.
Поэтому, например, в женском варианте алтайского языка
могли табуироваться названия животных, предметов и т. д.,
если они полностью или частично совпадали с именем свекра.
Так, вместо «элик» (косуля) употреблялось «керекшин» (самка
косули), так как имя свекра говорящей было Элек; в другом
случае «табын» (табун) замещалось на сочетание «кайнына
аташ», потому что имя свекра было именно Табын (примеры
см.: Яимова 1985: 7). В данном случае новые наименования
можно рассматривать как своеобразные изобретенные «на
случай» эвфемизмы.
Подобным же образом можно объяснить тактику
избегания произношения слов в чужом языке, если слово частично
или полностью совпадает по произношению с непристойным
наименованием определенной «нижней» части тела или
действия, табуируемого в культуре говорящего. Болгары
избегают произносить русское слово «спичка», потому что похожее
болгарское «пичка» вначале означало «птичку», но потом
превратилось в наименование женского полового органа;
примерно по тем же соображениям чехи стараются не произносить
по-русски слово «лекарша» или «Люда», арабы — русское
198
«зуб», англичане — французское «phoque» («тюлень»),
немцы — русское «пупс», индейцы нутка — английское «such»
и мн. др. Таиландские студенты избегают употреблять тайское
слово [kha:n] (раздавить) в присутствии англоязычных
собеседников, так как опасаются их обидеть «непристойным
звучанием» слова, близкого английскому «cunt» (Trudgill 1974: 31).
Для русских трудно произнести такие вполне нейтральные
иностранные слова, как «huyu», «kaka», «sisi» (соотв. «этот»,
«брат», «мы» на суахили), «huevos» («куриные яйца», исп.),
«муди» («цепь», кит.) и т. д. и т. п.
Вот выдержка из газетной заметки, где русская студентка
описывает встречу в арабском землячестве в России:
Представьте. Полный зал народа. Все стоят и с наисерьезнейшим
видом поют: «Бля-а-а-а-ди, бля-а-а-а-ди, бля-а-а-а-ди...» Первая мысль,
которая пробежала в моей ошеломленной голове, была: «Господи, куда я
попала и куда бежать?» <...> Но нет, это был не подпольный съезд
проституток, просто слово «6...ди» на арабском означает «родина» (Золотое
кольцо. 1994. № 31).
Интересен путь «загрязнения» значения русского слова
«похерить», то есть зачеркнуть косым крестом в виде славянской
буквы X («хер»), которая, в свою очередь, стала
употребляться как эвфемизм-сокращение от непристойного «хуй» и
вследствие этого сама «очернилась».
Очень не везет в этом отношении именам собственным,
которые невозможно заменить настоящим эвфемизмом.
Такова русская фамилия Фурцева (ср. нем. «Furz», непристойный
звук) в немецкой культуре, японское «Ебихара» в русской и т. д.
Иногда в подобных случаях приходится прибегать к
сознательному искажению звучания имени. Так, имя одного из
патриархов дзэн-буддизма изображается по-русски то — «Хуэй-
нэн», то — «Хойнэн», а имя китайского маршала — «Пын
Дэхуэй», то есть регулярно вставляется липший гласный «э»
или искажается реально произносимый «у». При этом даже
ударение падает на искажающий звук, чтобы как можно
дальше отойти от правильного произношения, наводящего на
неприличные ассоциации.
Та же судьба — у географических названий. Китайская
провинция неверно именуется Аньхой или Аньхуэй, провинция
Jujui (Аргентина) — Жужуй, хотя по-испански это слово
читается «Хухуй».
Названия племен тоже могут сильно смущать и вынуждать
к искажениям: «брахуи» становится «брагуи», «хули»
превращается в «гули».
199
Основатель российской психолингвистики проф. А. А.
Леонтьев вспоминал о трудном положении, в котором он
оказался, когда в какой-то книге понадобилось поставить в
родительном падеже имена уважаемых вьетнамских лингвистов
Нгуен Дык Уй и Буй Динь Ми. К этим именам можно было бы
присовокупить имя монгольского филолога, которого зовут Ту-
мур Хуяг. Название американской компании «Amway»,
начинавшей бизнес в Турции, вызывало смешки, поскольку тур.
«Ам» означает женский половой орган.
Непристойные ассоциации возникают не только при встрече
родного и иностранного языков, но и при общении людей,
говорящих на разных диалектах одного языка. Португальское «bicha»
означает всего лишь «очередь». Но в Бразилии, где говорят на
особом диалекте португальского языка, точно так же пишется и
произносится слово, означающее «педераст», «пассивный
гомосексуалист». В результате такого совершенно случайного совпадения
бразильцам для обозначения очереди приходится пользоваться
словом «fila». В португальском языке слово «polaca» означает
«полька» в смысле национальности. После Второй мировой войны
в Бразилию эмигрировало значительное количество малоимущих
поляков, и «polaca» переосмыслилось в «проститутка>>. Поэтому
называть обычную польку «polaca» стало немыслимо, и
пришлось вводить новое слово «polonesa». Португальское «zona»
означает просто «зона», «район», но в бразильском варианте
португальского языка (район Сан-Пауло) это слово приобрело
особое значение — «район публичных домов». Поэтому сказать: «Ее
муж отправился в зону», — там стало равносильным обвинению
в дурном поведении...
Абсолютно всем, и говорящим и слушающим, предельно
ясно, что ни в одном из перечисленных случаев не имеется в
виду непристойность; и тем не менее избегание или замена
слова или звука почти неизбежны: ясное доказательство того, что
тело знака есть тоже знак.
Все примеры сознательного изменения звучания
свидетельствуют о нормальном слухе тех, кто это звучание меняет. Но
бывает, что такой слух отсутствует, и появляются курьезные
слова и словосочетания. Некоторые из них приводились в
газете «Аргументы и факты»: МУДО (муниципальное
учреждение дошкольного образования), ПОСРОНО (поселковый
районный отдел народного образования), СУКИ (Среднеураль-
ское книжное издательство)...
Впрочем, иногда игривые журналисты сами ищут
чего-нибудь «такого». В тех же «Аргументах и фактах» статья, по-
200
священная российско-китайским отношениям, называлась по-
китайски, но в русском написании: «Ибуибу дэ да дао муди!»,
что, по мнению газетчиков, означает всего-навсего «Шаг за
шагом к намеченной цели!». Кончалась статья следующим
абзацем:
Прощались с Китаем по русскому обычаю, то есть позволили себе
немного расслабиться, повторяя про себя «хуэ цзя!». По-китайски это
означает — «домой!».
Скорее всего, журналистским чувством юмора объясняется
и ситуация, описанная читателем «АиФ»:
В декабре 1995 года лежал в больнице после операции. Мне
принесли номер «АиФ». В «политсалате» прочитал сообщение о том, что
появилось новое движение под названием «Прогресс и законность.
Демократический единый центр», но ему отказали в регистрации ввиду
нецензурного звучания его сокращенного названия. Я смеялся всю
неделю, и это помогло мне быстрее поправиться (Аргументы и факты.
1998. № 5).
Подобные случаи эвфемизации и избегания находятся в
близком родстве с понятием народной этимологии: при
полном отсутствии реальной связи звучания и значения эта связь
все равно ощущается только за счет «подозрительного»
звучания. Слово «phoque» возводится англичанами в «fuck»
точно так же, как, скажем, в соответствии с народной
этимологией слово «свидетель» неправильно возводится к «видеть»
(вместо «ведать»), «деревня» неверно соотносится с «дерево»
и т. д.
Рассмотрим несколько фонетических путей образования
эвфемистических замен. Очень распространенный и
технически простой путь — создание нового слова взамен
социально неприемлемого. Так, в американском английском вместо
«cock» («петух»), совпавшего с непристойным наименованием
пениса, употребляется «rooster». В фарерском языке
«осквернилось» слово «ross» («лошадь»), которое стало
употребляться в грубой инвективе типа русского «скотина!»; в результате
для обозначения собственно лошади стало употребляться
«hestur» («жеребец»).
Аналогичным образом англ. «coney» ['kani] («кролик»)
заменяется обычно на «rabbit», а если все же используется «coney»,
то в измененном произношении ['kouni], чтобы избежать даже
отдаленного сходства с вульгарным «cunt».
Еще одним из путей эвфемизации является редукция —
сокращение инвективного слова или словосочетания за счет
201
опускания его части, иногда существенно важной для
понимания первоначального смысла. Нередко опускается наиболее
неприемлемая часть высказывания. Ср. нем. «Dir könnt mich mal
am Arsch lecken!» —► «Dir könnt mich mal!» («Пусть он меня в
жопу поцелует!» —► «Пусть он меня!»). Иногда от грубого
наименования сохраняется всего одно слово, причем
необязательно оскорбительного содержания. Таково монгольское
«Кровь!», возводимое к «Кашляй кровью!» (т. е. «Чтоб тебе
кровью кашлять!»).
Другой любопытный вариант эвфемизации — создание
малоосмысленного или вовсе бессмысленного слова или
словосочетания путем искажения вульгаризма. Иногда
первоначальный вульгаризм легко воссоздается, иногда это
затруднительно или вовсе невозможно. Ср. в этой связи англ. «Cheese
and Crackers!» («сыр и печенье») вместо грубого богохульства
«Jesus Christ!». Или «Got all muddy!» («весь запачкался»)
вместо «God Almighty!» («Господь всемогущий»). В результате
опущения слогов и/или их замены плюс изменения написания
получилось англ. «Gosh!» и «Gee!» вместо «God!» и «Jesus!».
Примеры подобных бессмыслиц из немецкого языка: «Potz
Wetter!», «Potz Welt!»; из французского: «Corbleu!», «Morbleu!»,
«Sambleu!», «Non de nom!»; из испанского: «Grios!», «Dies!»,
«Voto a brios!», «Juro a brios!», «Pardies!»; из итальянского:
«Perdio!»
Португальское «Diabo!» («дьявол») превратилось в «Nabo!»
(«турнепс», «репа»), подобно тому, как испанское «Mierda!»
(прибл. «говно») — в «Miercoles!» («среда» в значении «день
недели»).
В русском языке — это многочисленные бессмысленные или
малоосмысленные образования, начинающиеся, подобно мату,
с «ё» или «е»: «ёлки-палки», «ё-ка-лэ-мэ-нэ!», «ё-моё!», «едри^)1
твою мать» и т. д.
Число таких примеров легко увеличить. Весьма
распространен эвфемистический прием, заключающийся в замене
всего одного звука (буквы) в вульгаризме, что, как правило,
сохраняя прозрачность прежнего смысла, немедленно смягчает
грубость сказанного, так сказать, «социализирует» вульгаризм.
Примеры: написание фр. «Bigre!» вместо «Bougre!» («Черт
возьми!»); в романе Н. Мейлера «Нагие и мертвые» вместо не-
1 По-видимому, в этом последнем случае глагол представляет собой
искаженное «ядрит» или «ятра» [уст.) — «тестикулы», мужские семенные
железы. Думать так побуждает недавнее американское образование «to ball»
(«balls» — тестикулы) с тем же значением «трахать», «ебать».
202
пристойного «fuck» регулярно пишется «mg»; то же — в романах
А. И. Солженицына, создавшего псевдослово «фуй»
(соответственно «ни фуя» и т. д. ). А. Зиновьев изобрел удачное
название для столицы, под которой легко угадывается Москва: За-
ибанск, а генсек в Заибанске назван им Главный Заибан. В
последнем случае заменена только буква, со звуковым составом
слова не произведено никаких изменений, но в результате слово
выглядит приемлемо.
Объяснение этому феномену видится в сохраняющемся в
подсознании ощущении связи инвективы с древней магической
формулой, в которой соответствующее слово имело священный
смысл. В магической формуле, как известно, было абсолютно
недопустимо малейшее искажение не только слов, но даже их
порядка. Искажение лишало формулу ее силы. Таким
образом, даже очень незначительное искажение и посегодня
подсознательно воспринимается как «совсем другое дело».
Одновременно ощущаемая связь с подлинником мешает
воспринимать выражение как целиком «невинное». Ср. в этой связи
английскую реплику: «I've got a couple of words for you, "off" and
"fuck", though not necessarily in that order». («Я тебе отвечу всего
парой слов, это "off" и "гаек", только необязательно в таком вот
порядке!»)
«Правильный» порядок здесь, разумеется, легко
восстановим, ибо кроме бессмысленного «off fuck» можно сказать
только «fiick off!», т. е. приблизительно «Уебывай отсюда!». Первое
сочетание довольно грубо, потому что включает непристойное
слово, но второе — абсолютно нецензурно.
В прямой связи со сказанным отметим английскую
инвективу «Deuce!» («черт», «дьявол»). Вначале она писалась «Deus!».
Или «Dews!». Это ругательство парадоксальным образом
возводится большинством исследователей к латинскому слову
«deus», обозначающему «Бог». Существует предположение, что
на использование слова в его противоположном значении
повлияло «deuce» — «двойка», низшая, самая малоценная карта,
символ невезения (Marshall 1975: 67).
Но такое объяснение не исключает и первого. Если
инвектива «Черт!» происходит от восклицания «Бог!», то перед
нами очень интересный пример того, как два понятия при
всей их полярной противопоставленности, а точнее —
именно в силу этой противопоставленности — начинают заменять
друг друга.
Другими словами, исследуемое слово обладает двумя
противоположными значениями и, что еще более важно, эти два
203
значения сосуществуют, так сказать, на равных, реализуясь в
одном и том же контексте одновременно.
Для того чтобы понять этот феномен, обратимся к понятию,
противоположному эвфемизму — своеобразному дисфемизму,
нарочитому искажению слова с целью придания ему грубого
инвективного значения. Речь здесь идет о случаях, которые
можно было бы вслед за Е. Д. Поливановым (1968: 159) назвать
депласацией, впрочем, понимая ее более широко, как любое
фонетическое искажение слова или текста с целью усиления
его эмоционального воздействия (ср. англ. «displacement» —
«перемещение, перестановка, замещение» скорее, чем фр.
«déplacement» — «перемещение, передвижение, сдвиг,
перестановка»).
К этой группе относятся случаи, когда, например,
французское слово «cochon» («свинья») произносится двояко:
с ударением на последнем слоге, как и положено во
французском языке, когда слово призвано обозначать известное
домашнее животное, и на первом слоге — в
метафорическом, оскорбительном смысле («Ах ты, грязная свинья!»)
(Там же).
Точно так же переносится ударение в очень экспрессивных
французских выражениях «Vous êtes misérable!» («Вы —
подлец!») и «C'est barbare!» («Это варварство!») (Якобсон 1985: 44,
со ссылкой на Л. Руде). Эмоциональная, экспрессивная,
выделяющая функция французского ударения рассматривается
Р. О. Якобсоном как самостоятельная функция, существующая
наряду с общепризнанной разделительной. То есть ударение
здесь играет роль исключительно показателя эмоциональной
окрашенности (Там же: 62).
«Barbare» в любом случае означает «варварство», но
произнесенное с обычным французским ударением, т. е. на
последнем слоге, оно означает «варварство» почти терминологически
(ср. «период варварства»); с переносом же ударения речь
пойдет уже о чьем-то возмутительном, грубом, «варварском»
поведении, нарушающем принятые правила.
В фарерском языке есть выражение «Jesuspapi» («Отец
Иисус»), которое имеет хождение как в детском языке, так и в
виде брани. Однако в детском языке ударение падает на
«Jesus», а в инвективе — на «papi».
Помимо переноса ударения в этой эмоциональной функции
могут быть использованы изменения в произношении
отдельных звуков. Складывается впечатление, что в английском
языке общей тенденцией является произнесение долгой гласной,
204
когда слово эмоционально нагружено, и краткой — при слабой
или нейтральной эмоциональности, хотя это правило нельзя
признать универсальным.
Во всяком случае, отмечается, что слово «ass» обозначает
просто осла как домашнее животное и произносится [aes]; когда
же оно употребляется в оскорбительном смысле, нередко
предпочитается произношение [ae:s]. Правда, в последнее время
форма [aes], по-видимому, преобладает в обоих значениях — не
исключено, что для противопоставления омониму «arse» [oc:s]
(«жопа», даже грубее — «срака»). Ср. стишок:
There was a young lady called Glass,
Who had a beautiful ass,
Not round and pink
As you might think,
But gray, and had ears, and ate grass.
Шутка явно построена на одинаковом произношении слова
«ass» в обоих значениях. Как любую игру слов, перевести ее
можно только с оговорками: «Жила-была молодая леди по
имени Гласе, у которой был красивый задик (или: у которой
был красивый ослик). Но не кругленький и розовый, как вы
могли подумать, а серенький, с большими ушами, который
кушал травку».
Однако в других случаях, не столь уж редких,
противопоставление долгих и кратких гласных с этой же целью
сохраняется. В практике афроамериканцев для выражения
благосклонного отношения слово «bad» (плохой) произносится
[bae:d] (Dalby: 1). То есть если «bad» означает именно
«плохой», то оно произносится [baed], а если «bad» означает
«хороший», то — [bae:d]. Англ. «bastard» обычно произносится
[bae:sted] как термин, означающий ребенка, рожденного вне
брака, и как [boc:sted] в резко отрицательном смысле
(«ублюдок», «выблядок»).
Однако слишком частое сниженное его использование в
военном жаргоне привело к тому, что вначале оно стало
употребляться в нейтральном смысле, а затем, по законам энантио-
семии, — в ласкательном. В результате жаргон лишился очень
выразительного бранного слова, которое, впрочем, быстро в
него вернулось — но в фонетически измененном виде [bAsted],
то есть на этот раз эмоционально нагруженной по контрасту
оказалась форма с кратким корневым гласным (Forster 1949:
88-91).
В произношении, характерном для англичан Южного
Уэльса, «fuck» произносится [fAk], если имеется в виду соответ-
205
ствующее действие, и [£э:к] в качестве бранного междометия
(Forster 1949: 91).
Фонетическое искажение в ольстерском английском не
связано с долготой-краткостью, но само его наличие не вызывает
сомнения. Ср. «Jesus!» в религиозном контексте и «Jasus!»
['dzeizas] — в инвективном. Соответственно «Devil!» и «Divil!»
(Crozier 1988—1989: 166). В фарерском языке просто «дьявол» —
«djevil», а то же понятие в ругательствах — «devil».
Наконец, говоря о словах этой группы, упомянем слово из
совершенно другой культуры — японское «Чикусоо!» или в
более эмоциональном варианте «Кончикусоо!». С краткой
конечной гласной («Кончикусо!») это слово эмоционально
нейтрально и означает животную стадию в буддистской теории
перевоплощения. В оскорбительном инвективном смысле (ср.
рус. «Скотина!») конечное «о» удлиняется. В настоящее время
это слово утратило прежнее резко негативное значение и
употребляется примерно в роли рус. «Сукин сын!» или англ. «God
damn!» (Passin 1980: 87-88).
Наблюдаются и случаи депласации, преследующие цель не
снятия части священного смысла или его уничтожения, а,
наоборот, его усиления. Одним из наиболее табуированных
является, естественно, имя божества; отсюда неудивительно
существование многочисленных эвфемизмов, ибо называние
божества, обращение к нему, упоминание его во многих
смыслах — в том числе оскорбительном — социальная неизбежность.
Англ. «God» [god] можно исказить как [gAd], что
предполагает уменьшение священной силы слова и снижает опасение,
что произнесение священного имени навлечет неприятности на
говорящего. Второе произношение [go:d], наоборот, удлиняет
корневую гласную и преследует противоположную цель —
придать слову еще большее значение (Forster 1949: 89). Особый
священный характер этого варианта произношения виден и из
того, что именно этот вариант (в написании «Gawd») был
запрещен в нерелигиозном контексте в ряду других наиболее
грубых богохульств в специальном кинокодексе США 1930 г.
(Rawson 1989: 114).
Такие сложные взаимоотношения священных и сниженных
понятий и слов, даже возможность их сосуществования в
некотором комплексе убедительно подтверждают практическую
неразделимость высокого и низкого, священного и обыденного,
в конечном счете любви и ненависти.
Независимо от того, осознает это человек или нет, для него
существует некий сложный конгломерат, объединяющий в
206
своем значении «плюс» и «минус». Можно даже говорить о
своеобразной синонимической паре «запрещенное слово —
облагораживающее его искажение», «престижное
произношение — непрестижное произношение» и т. д. (ср.: Говердовский
1977: 40).
Обратимся теперь к социальной роли интересующего нас
слоя лексики в разных культурах и частях света. Здесь можно
говорить как об известных общих для всех культур установках,
так и о сильных национально-культурных различиях.
Одной из важных особенностей всякой инвективной лексики
является ее устная форма существования. Резкость и
недопустимость инвективы стремительно возрастает, если из устной
речи она проникает в печать, звучит со сцены или с экрана.
Табу на подобные словоупотребления настолько сильны, что у
большинства стран существуют не только общественные, но и
юридические запреты на произнесение и написание (напеча-
тание) определенных слов.
Можно назвать минимум два объяснения разной силы
воздействия устной и печатной инвективы. Прежде всего, это
само происхождение инвективы, огромный дочеловеческий
период ее бытования и «допечатный» период ее
развития. Именно это обстоятельство привело к возникновению у
инвективы свойства своеобразной импульсивности,
спонтанности, неожиданности и недолговечности. Инвектива,
зафиксированная на бумаге, теряет это свойство и взамен
приобретает противоположное. Теперь ее можно обдумать, вернуться к
ней, предъявить в качестве доказательства и т. д.
Другими словами, ее воздействие искусственно удлиняется и
усугубляется.
Запрет на написание и напечатание «непечатных» слов
приводит к многочисленным попыткам его обойти или найти
приемлемый компромисс. Здесь возможны значительные
культурные колебания. До недавнего времени в очень большом
числе стран наиболее грубые инвективы появлялись в печати
только в виде условных эвфемистических обозначений (первых
букв инвективы, точек и т. п.), описаний в усеченной форме или
с заменой наиболее социально неприемлемой части
нейтральным словом («Мать твою налево!», «Мать твою туда и расту-
да!»), а также развернутых описаний типа «Он грязно
выругался». Ср. характерный пример последнего приема:
«...А чего мне их бояться? — распоясался председатель. — Я все
равно на фронт ухожу. Я их...» Тут Иван Тимофеевич употребил глагол
несовершенного вида, по которому иностранец, не знающий тонкостей
207
нашего языка, мог бы решить, что председатель Голубев состоял с
работниками учреждения в интимных отношениях. Чонкин был не
иностранец, он понял, что Голубев говорил в переносном смысле.
Председатель перечислил еще некоторые государственные, партийные и
общественные организации, а также ряд отдельных руководящих
товарищей, с которыми в переносном смысле он тоже находился в
интимных связях (В. Войнович).
В английской (британской) традиции печатание наиболее
грубых вульгаризмов то разрешалось, то запрещалось,
соответствующие слова то печатались с помощью первой и последней
букв, то заменялись точками или звездочками. До известного
закона I960 г. опубликование некоторых слов в полном виде
могло вызвать судебное преследование. Исключение делалось
только для классических произведений прошлых веков,
например, изданий Д. Чосера.
В 1931 г. известный английский лексиколог и лексикограф
Э. Партридж переиздал с дополнениями словарь жаргонизмов
Ф. Гроуза, одно из тогда немногочисленных изданий,
включающих основные слова «грязной дюжины». Все издание было
распространено по подписке и вышло ограниченным тиражом.
Все соответствующие слова были изображены там с помощью
первой и последней букв.
Еще несколько десятилетий назад пресловутое «damn»
звучало в США настолько оскорбительно, что для обхода цензуры
и смягчения впечатления приходилось идти на всяческие
ухищрения. В знаменитом американском фильме «Унесенные
ветром» (1939) сакраментальная фраза «My dear, I don't give a
damn!» (по впечатлению соответствует примерно: «На хер мне
все это!») даже произносилась, вопреки всем правилам, с
ударением на невинном глаголе «give», чтобы смягчить
впечатление от «damn»1.
В настоящее время англоязычные словари приняли полное
воспроизведение инвективной лексики как обязательную
составляющую обычного списка слов. Непристойные инвективы
регулярно произносятся с кино- и телеэкранов. Инвективы,
употребленные в кинофильмах, осуждаются меньше, чем такие
1 В то время это слово входило в список слов, запрещенных к
употреблению на киноэкране, и было внесено авторами фильма как сознательный
вызов политике Ассоциации кинопродюсеров и дистрибьютеров США. На
последовавшем за этим судебном процессе авторы фильма утверждали, что
это слово было им необходимо, так как оно производило требуемое
драматическое напряжение. Спорное слово в фильме было сохранено, но авторы
оштрафованы на 5 тыс. долларов. Этот процесс привел к дальнейшей
либерализации политики киноассоциации.
208
же инвективы с экрана телевизора: предполагается, что
посещение кино — частное дело зрителей, в то время как
телевизионные приемники — обязательный предмет в каждой семье, и
навязывание сквернословия носит здесь, таким образом, почти
принудительный характер.
Изменяется отношение к сквернословию и в США. В
штате Массачусетс уже около тридцати лет назад было принято
решение, что брань в общественном месте, за которую раньше
можно было попасть под суд, больше не подлежит запрету,
если она не ведет к насильственным действиям. Еще раньше
штат Юта вынес решение, что сквернословить или не
сквернословить — личное дело самих граждан, и запрещать в данном
случае равносильно покушению на гражданские права.
Американский школьный учитель имеет право запрещать своим
ученикам сквернословить в школе, но если он потребует, чтобы
они не сквернословили еще и дома, его обвинят в покушении
на права человека (в данном случае — родителей).
Любопытно отношение к цензурированию сквернословия в
средствах массовой информации бывшей Югославии. В
разделившейся на несколько враждующих частей территории
считается, что «наши» сквернословить не могут, а вот «они» —
сколько угодно. В статье на эту тему, помещенной в журнале «Мале-
дикта», приводится цитированный в двух газетах один и тот же
диалог, в котором брань «своих» офицеров заменяется
точками, а мат офицеров вражеских приводится полностью.
Правда, когда воспроизводится речь «своего» фермера (хорвата), у
которого враги (сербы) сожгли дом, его грубые гневные слова
тоже приводятся полностью: «Jebem jim mater krvavo!»
(русскому читателю перевод вряд ли необходим). Автор статьи в
«Маледикте» считает, что какие-либо замены мата здесь
звучали бы просто комично, и сочувственный гневный эффект
пропал бы (Nezmah 1996: 117).
В русской практике такое отношение к мату пока
абсолютно невозможно, даже если намерения автора — самые благие.
Автор цитированной статьи отмечает, что с окончанием
гражданской войны в Югославии подобное цитирование брани
в СМИ полностью прекратилось. Таким образом, снова
подтвердилась мысль, что ухудшение психологической ситуации
порождает соответствующий вокабуляр. С улучшением
ситуации речь снова становится литературнее.
По-видимому, медленнее всего идет разрушение инвектив-
ных запретов на театральных подмостках. Психологическая
разница в восприятии запрещенного слова в книге и театраль-
209
ном зале очень существенна. Одно дело, когда
соответствующие слова пишутся там, где их может прочесть читатель
(каждый раз — наедине с текстом), и совсем другое — когда эти
же слова произносятся во всеуслышание актером,
принадлежащим к образованным слоям населения, и воспринимаются
одновременно и тотчас же зрителями и слушателями.
Непосредственный контакт зрителя с живым, находящимся перед
ним актером во много раз сильнее, чем контакт с тем же
актером, произносящим текст с кино- или телеэкрана. И именно
личный контакт играет решающую роль при использовании
такой традиционно устной формы общения, как инвектива.
Поэтому в театрах большинства стран мира сквернословие в
своем крайнем проявлении почти невозможно. В результате
авторам пьес приходится или смягчать инвективу, заменять ее
относительно приемлемой, или строить фразу таким образом,
чтобы зрители могли самостоятельно легко восполнить «пробел».
Исключения в этом плане можно сделать для
нестандартных театров типа авангардистских, чья основная цель —
эпатировать зрителя, а также для простонародных театров
балаганного типа, где сквернословие — озорное средство создания
веселого шока.
Во вьетнамском театре в некоторых пьесах, где участвуют
резко отрицательные персонажи (например, американские
оккупанты), инвективизированная речь этих последних —
дополнительная отрицательная характеристика.
Очевидно, что существование такого рода сознательных
исключений было бы невозможно без существования общего
правила общественного неодобрения инвективного
словоупотребления.
Сравнивая отношение общества к инвективизации речи в
русскоязычной и западной среде, можно констатировать, что в
нашей стране это отношение тоже быстро либерализируется. В
последние несколько лет в печати появился ряд изданий,
вроде «Русского мата» (1994), «Луки Мудищева XX века» Е. Булки-
на (1992) и мн. др., где сквернословие — основная тема. Само
собой разумеется, ни о каких сокращениях нет и речи. Что же
касается «неспециальной» художественной литературы, то
даже в высокохудожественных произведениях инвективы, так
сказать, среднего радиуса действия стали уже общим местом и
вряд ли кого-нибудь шокируют. Еще несколько лет назад это
было абсолютно исключено.
Конечно, либерализация русского литературного разговор
ного языка отражает состояние просто разговорного языка, в
210
котором сквернословие давно заняло скандально большое
место. Причины такого развития могли бы быть поводом для
очень длительного и сложного разговора.
Анализируя это обстоятельство, Г. Гусейнов объясняет его
обесцениванием высоких слов, происшедшим в последние
десятилетия в нашем обществе: вместо вышедших из доверия
слов общепринятого языка народ стал выражаться сниженными
средствами, контролировать которые власть не могла именно
потому, что они не получили соответствующего статуса:
Сквернословие стало сильнейшим социокультурным опиумом,
способствующим превращению целых поколений в безъязыкую толпу с
простейшим набором сигнальных функций (Гусейнов 1989: 76).
Трактовка данного вопроса Г. Гусейновым представляется
односторонней и поэтому неточной. Ограничив себя анализом
только одного языкового района, автор не сумел увидеть общее
в частном. Инвективная пандемия русского этноса
представляет у него соответствующую территорию как бы островом в
безбрежном океане совсем другого материала.
Между тем факты говорят о совершенно иной ситуации. На
сегодняшний день сквернословие в США намного превышает
даже русские стандарты. Сквернословие в странах романских
языков, по-видимому, несколько меньше, но назвать его малым
никак нельзя. Очень сильна инвективизация в мусульманских
странах и т. д.
Но ведь ни для одного из перечисленных районов не был
характерен период сталинизма или застоя, вызвавших, по мнению
Г. Гусейнова, лавину сквернословия. Очевидно, русский ареал
развивается примерно в том же русле, что и все остальные.
Что же это за русло? Отнюдь не только русский, но и все
остальные развитые языки мира испытьшают сильное давление
со стороны пуристов и — шире — сторонников чистоты
литературной нормы. В своих крайних проявлениях активность
этих последних приводит к тому, что американцы называют
«пластмассовым языком», то есть тусклым, стандартным
языком, лишенным ярких красок, своеобразия. Определенное
озорство, стремление расцветить то, что кажется пресным и
скучным, присуще любому народу, которому навязывают
единообразную норму.
Что касается русского языка, то вот выразительная цитата
из завзятого сквернослова писателя Юза Алешковского:
<...> Матюгаюсь же я потому, что мат русский спасителен для меня
лично в этой зловонной камере, в которую попал наш великий, могучий,
211
свободный и прочая и прочая язык. Загоняют его, беднягу, под нары кто
попало: и пропагандисты из ЦеКа, и вонючие газетчики, и поганые
литераторы, и графоманы, и цензоры, и технократы гордые. Загоняют его
в передовые статьи, в постановления, в протоколы допросов, в мертвые
доклады на собраниях, съездах, митингах и конференциях, где он
постепенно превращается в доходягу, потерявшего достоинство и здоровье,
вышибают из него Дух! Но чувствую: не вышибут! Не вышибут! («Рука»).
Но существует и другая тенденция, имеющая прямое
отношение к тем функциям инвектив, которые в п. 1.14 обозначены
под номерами 12 и 23. Речь идет об использовании инвективы
как своеобразного «теста на свободу», о попытке с ее помощью
проверить, как далеко можно зайти в нарушении
общепринятых запретов. Эта тенденция особенно хорошо заметна в
бывшем Советском Союзе и России в последнее десятилетие. В
США эта тенденция тоже ощутима как реакция на ханжескую
мораль определенных кругов общества.
В российской печати стали появляться материалы,
абсолютно невозможные еще несколько лет тому назад. Отмена
политической и вообще всякой цензуры послужила мощным
толчком к попытке осуществить свободу печати на деле. Так,
вечно существующее стремление к свободе устного слова
сомкнулось с осуществившейся наконец свободой слова
печатного, и этот безусловно благотворный поток принял в себя
мутную воду порнографии и сквернословия. Ср. заметку в
«Комсомольской правде» за 1992 г.:
В Воркуте состоялся вечер инфернальной матерной лексики. На нем
присутствовали местные знатоки и ценители матерных выражений.
Заканчивая выступление, бард Виктор Гагин послал слушателей на три
широко известные буквы.
У России в этом смысле есть достойные соперники. Ср.:
В Бухаресте идет подготовка к фестивалю цыганской «подкультуры».
Помимо других мероприятий, будет и конкурс ругательств. Браниться
участники будут в двух разных секциях (Срочно в номер! 1993. Nq 64(87)).
Инвективный шквал в США вполне можно рассматривать
как реакцию на ханжескую мораль, и особенно — как средство
протеста малообеспеченной части населения, прежде всего
черного.
Впрочем, вряд ли стоит совсем уж отождествлять развитие
сквернословия на совершенно различных культурных
пространствах. Сравнивая в этом смысле Россию и США, не
следует забывать сказанное выше о том, что тот же русский мат
212
по происхождению сакрален, и потому к нему до сих пор
сохраняется соответствующее отношение. В Америке такого
отношения нет, сакральный оттенок имеют богохульства, а
сексуальная брань воспринимается легче. Другими словами,
русский мат выполняет двойную роль, в то время как мат
англоязычный — только одну, сниженную, профанную.
По-видимому, немалую роль во всех странах, включая
Россию и США, играет опубликование в печати ранее
запрещенных произведений типа стихов Баркова1 в России,
недавних специальных изданий соответствующей литературы «Для
молодых мужчин» и «Для молодых женщин» в Финляндии и
т. д. Эти произведения изначально предполагались их
авторами как нечто совершенно закрытое для печати, как
принципиально непечатная продукция. Она была принципиально
ориентирована на то, чтобы ее не печатать — в отличие, скажем,
от подпольной революционной или диссидентской
литературы, авторы которой ничего не имели бы против
опубликования их трудов.
Теперь, с «напечатанием непечатного», с этим материалом
происходят качественные изменения: он воспринимается как
вполне литературное произведение. Сквернословие получает
права гражданства, перестает рассматриваться как
хулиганство. Литература еще раз демонстрирует свои огромные
возможности влияния на общественную мораль.
Новый статус инвективной лексики в разговорном языке
поставил новые вопросы, касающиеся статуса этой лексики в
печати. В данном случае речь идет не о том, печатать или не
печатать инвективы, а о том, должны ли инвективы в речи
литературного персонажа в количественном отношении
соответствовать реальности, или ее автору достаточно привести
лишь ограниченное их число, чтобы создать необходимое
впечатление.
Вопрос этот достаточно непрост. С одной стороны,
убедительным представляется мнение, что насыщенная
инвективами речь реального персонажа литературного произведения
просто не может быть передана иначе как с помощью
употребляемого этим персонажем словаря в реальной жизни; в
противном случае пришлось бы говорить об отходе автора от изо-
1 Не смею я стихи Баркова
Благопристойно перевесть,
Я даже имени такого
Не смею громко произнесть.
(А. Пушкин)
213
бражаемой им действительности. В самом деле, существует
только один способ выразить сказанное — так, как это сделал
И. Губерман, передавая обращенную к нему речь уголовника:
«Ты в лагере нормально будешь жить, потому что ты мужик не-
хуевый, но если ты, земляк, не бросишь говорить "спасибо" и
"пожалуйста", то ты просто до лагеря не доедешь, понял? Раздражает меня это.
Хоть и знаю, что ты привык, а не выебываешься».
С другой стороны, столь же очевидно, что снятие запрета на
опубликование инвектив, особенно наиболее табуированных, их
произнесение по радио и телевидению, прекращение практики
их сокращения или условного обозначения может привести к
неожиданным и нежелательным последствиям. Выше уже
отмечалось, что основная форма существования инвективы —
устная речь, отчего даже просто печатное воспроизведение
инвективы, безразлично, обозначаемое точками или полностью,
производит куда больший эффект, чем устное их
существование.
Но этого мало. Общеизвестно, что художественное
произведение есть в определенном смысле конструкт реальной
ситуации, квинтэссенция реально возможного общения людей.
Время в художественном тексте многократно сжато,
сконцентрировано по сравнению с реальным. В результате одной из
условностей художественного текста является то, что речь
персонажа передается там, как правило, не целиком, не как
естественный речевой поток, но выборочно, как передача
наиболее существенного, с точки зрения автора, достаточного для
раскрытия характеристики событий и психологии действующих
лиц.
Читателями, привыкшими к такой условности, обильная
инвективизация речи будет восприниматься как чрезмерная,
инвективы будут бросаться в глаза куда сильнее, чем в
реальной ситуации подобного же речевого общения.
Поэтому, даже если автор попытается заставить своего
героя употребить в речи действительно реальный процент
инвектив, фактически получится, что этот процент во столько же раз
выше, во сколько раз «ужато» время произведения по
сравнению с реально описываемым временем. Внимание к
инвективе будет поэтому значительно выше, чем внимание к такой
же инвективе, бегло произнесенной в малозначащем (или даже
несущественном) разговоре. Отсюда резко негативная реакция
читателя на насыщение художественного текста различной
бранью.
214
Конечно, в условиях упорного сознательного нарушения
табу на инвективы в печати, по радио и телевидению, как это
имеет место во многих странах мира, ситуация может через
несколько лет измениться, инвективизация речи может
перестать шокировать аудиторию, и инвектива, строго говоря,
потеряет право таковой называться. Однако в этом случае можно
говорить не только о том, что художественная литература и
средства массовой информации просто выражают то, что
происходит в устном общении, но и об обратном процессе, о
влиянии литературы и т. д. на языковую политику народа.
Фактически окажется, что книги, радио и телевидение культивируют
инвективизацию речи.
Что же касается включения в структуру текста инвектив в
сокращенном виде, то, скорее всего, такое обращение с
инвективой только привлечет к ней излишнее внимание, ибо,
трактуемая как обычное слово, она воспринимается соответственно;
необычное же изображение заставляет прибегать к задержке
восприятия и расшифровке, то есть вводит в действие эффект
обманутого ожидания. Таким образом, попытка избежать
задержки внимания на непристойности приводит к обратным
результатам.
В этой связи стоит вспомнить старый игривый прием, когда
точками заменяются совершенно безобидные слова широко
известного текста:
На заре ты ее не...
На заре она сладко так...
Утро дышит у ней на...
и т. д.
С другой стороны, выше уже неоднократно отмечалось,
что инвективу не следует считать «обыкновенным словом».
Поэтому отношение к ней не может быть таким, как к
остальной части словаря. Стоит прислушаться к мнению К. А.
Богданова (1998: 74), считающего, что у многоточия в данном
случае задача не скрывать то, что скрыть невозможно, а просто
указать на необходимость и желательность некоторого
этического контроля.
Остается признать, что, если вопрос о включении инвектив
в текст художественного произведения можно пока считать
спорным, наиболее авторитетные словари и справочные
издания обязательно должны содержать максимально большое
количество сниженной лексики, вплоть до самой грубой, ибо
только отклонения от литературной нормы дают возможность
понять детали функционирования нормативной речи. Такой
215
подход сильно облегчил бы изучение соответствующей
лексики.
Краткие выводы из сказанного во второй главе заключаются
в следующем.
1. Не существует зависимости между географическим
положением страны и степенью инвективизации речи или
резкостью инвектив.
2. Имеются несомненные типологические сходства инвектив-
ных стратегий различных культур, а также существенные
отличия. Национальные культуры могут по-разному выражать одну
и ту же эмоцию. Можно говорить о потенциальной
возможности инвективы объединять или разъединять социальные
группы.
3. Во всех национальных культурах имеется некая
эмоциональная доминанта, определяющая выбор той или иной
стратегии инвективы. В некоторых культурах такая доминанта
отходит на периферию средств общения, в большинстве
культур ее роль весьма велика. Существует небольшое количество
культур, где эта доминанта никогда не занимала большого
места. Учет роли этой доминанты необходим, в частности, при
переводе инвектив на другой язык.
4. Заимствованная в другой язык инвектива воспринимается
то грубее, то мягче, чем в языке-источнике. Это объясняется
восприятием чужой культуры то как странной и
подозрительной, то как удивительной и интересной.
5. Существует связь между восприятием заимствованной
инвективы как очень грубой и древним магическим смыслом
инвективных формул.
6. Восприятие заимствованной инвективы как слабой или ее
междометное использование объясняются большей слабостью
заимствования в наглядно-чувственном и эмоциональном
планах.
7. Есть основания видеть тесную связь между
агрессивностью и миролюбием, священным и обыденным характером
явлений. Соответственно национальные культуры можно
различать по способу катартического разрешения от напряжения.
Это, с одной стороны, культуры, ориентированные на
вербальную инвективную агрессию, и, с другой — культуры, ищущие
катарсис прежде всего через социально разрешенные средства.
Наконец, можно отметить и культуры, пытающиеся по
возможности избежать катарсиса. Однако все три культурные
разновидности в той или иной мере обращаются ко всем трем
216
моделям реагирования. Наиболее приемлемой кажется такая
комбинация из этих возможностей, при которой набор инвек-
тивных средств больше набора социально разрешенных
ритуальных средств.
8. Существует целый ряд приемов эвфемизации инвективы,
часть из которых связана с магическим восприятием древней
инвективной формулы. Роль и место каждого такого приема
носят национально-специфический характер, а нередко
определены исторически.
9. Эвфемизация запрещенного слова может привести к
выявлению возможности сосуществования в слове одновременно
двух противоположных значений, очень различных
эмоционально. Практически любой эвфемизм обладает такой
особенностью, ибо забвение первоначального, социально
приемлемого значения, от которого и произошел эвфемизм,
автоматически привело бы к прекращению существования эвфемизма
как такового.
10. Очевидно, что в борьбе инвективы с эвфемизмом в
конечном счете победу одерживает, как правило, инвектива как
очень сильный лексический пласт.
11. Тенденция к отказу от эвфемизации речи, наблюдаемая
в ряде стран в настоящее время, объясняется, в частности,
реакцией на определенные пуристические течения в языковой
политике, а также попыткой использовать инвективу в
качестве «теста на свободу».
12. Новый подход к эвфемизации определяет новый, более
либеральный статус инвективы в печатном тексте. Роль
инвективной лексики в печати существенно отличается от ее роли в
устной речи.
Глава 3
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИНВЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ
3.1. Проблема классификации инвектив
по используемым темам
Классифицировать инвективные средства можно
несколькими способами. Вполне возможна и продуктивна структурно-
языковая классификация (Dreizin, Priestley 1982; Kiener 1983).
В п. 1.14 была предложена функциональная классификация.
Безусловно, возможна классификация по признакам
национально-специфических различий. Сравнения инвективных
стратегий японской национальной культуры с
общеевропейским стандартом и инвективной стратегией некоторых
восточных культур в п. 2.3 проливают на этот вопрос некоторую
ясность.
В ходе всего изложения предлагались различные элементы
классификации по степени грубости и сохранения
первоначального смысла или обессмысливания инвективы, то есть ее
превращения в междометие.
У. Нанни предлагает делить инвективы на восклицания,
проклятия, богохульства и оскорбления (Nanni 1953: 50).
Однако эта классификация кажется эклектичной и поэтому
неубедительной: понятно, например, что восклицание, проклятие
и оскорбление могут быть богохульными, проклятие —
оскорбительным и т. д.
Приблизительно такими же недостатками страдает
классификация X. Роусона, выделяющего инвективы богохульные,
посягающие на священные понятия, непристойные, связанные
с наименованиями «стыдных» частей тела, и оскорбления,
поносящие людей в отношении их этнических различий,
конфессий, политических взглядов, сексуальных, физических и
умственных возможностей (Rawson 1989: 6). Совершенно
очевидно, что на практике разделение инвектив на называющие
части тела, с одной стороны, и сексуальные — с другой, очень
218
затруднено, а расчленить богохульства и конфессиональные
оскорбления и вовсе невозможно.
Интересной и перспективной выглядит классификация ин-
вективных обращений и обзываний, предложенная В. И. Кара-
сиком. В основу своей классификации автор положил
следующие критерии:
1) полноценность/неполноценность;
2) контролируемость/неконтролируемость своего
поведения;
3) социальность/асоциальность;
4) субъекттшносгь/объективность оценки;
5) активность/пассивность объекта;
6) общая/специальная оценка;
7) оценка личности/представителя группы;
8) оценка по внешним данным/по внутренней сущности;
9) оценка по степени социальной опасности;
10) оценка по степени притязаний и их адекватности
возможностям личности;
11) оценка по отношению к обязанностям;
12) оценка по отношению к общественному мнению (Кара-
сик 1989: 93-94).
Такие критерии позволяют по-новому взглянуть и на
взаимоотношения говорящего и объекта инвективы, более
объективно определить роль каждого из них и даже составить
таблицу из таких ролей (Там же: 97). Совершенствование такой
классификации, особенно проверка ее на материале различных
языков и социальных групп, может дать очень много для
понимания национально-специфичной инвективной стратегии и
создания типологии инвективного общения.
Однако дальнейшая разработка такой классификации
наталкивается на недостаточную разработанность более
очевидных, наглядных классификаций. Прежде всего речь идет о
классификации по темам, используемым в содержании инвек-
тивных идиом. Именно эта классификация и предлагается в
нижеследующей главе.
Инвективные темы многочисленны и разнообразны.
Некоторые из них популярны практически в любой культуре,
соответствующие примеры многочисленны и интересны для
анализа. О других темах этого сказать нельзя.
Наиболее охотно используются инвективы, основанные на
всевозможных метафорических и метонимических переносах.
Прежде всего это названия животных («Козел!», «Скотина!»),
названия естественных отходов жизнедеятельности («Говно!»),
219
названия частей тела («Жопа!»), названия презираемых
профессий и занятий («Палач!», «Сапожник!», «Блядь!»,
«Шахтер!»1), названия действий обеденного характера (мат),
названия, взятые из растительного мира («Дуб!», «Кочан!»), названия
неодушевленных предметов («Дубина!», «Рвань!»), названия
физических и умственных недостатков («Кретин!», «Уродина!»),
имена собственные («Иуда!», «Дунька!»).
Некоторые из этих инвектив могут употребляться и в
прямом смысле, но в сниженном, вульгарном стиле, а также меж-
дометно и в качестве просторечия.
Повсюду распространены оскорбительные прозвища
шовинистического толка («Жид!», «Чурка!»), а также презрительные
наименования различных религиозных и идеологических
течений («Неверный!», «Гоим!», «Красный!», «Фашист!»).
Среди более редких, «экзотических» тем можно назвать,
например, наименования родственников, особенно —
покойных — ср. «Напауа!» — букв. «Отец отца!» — очень резкое
восклицание у индейцев мохави (Devereux 1951: 107).
Особенность голландской инвективной практики —
использование названий болезни в качестве бранных эпитетов — ср.
рус. «чертов», «ебаный», «блядский», «говенный» и т. п. Список
пригодных для этой цели недугов достаточно велик: «kanker»
(«рак»), «klere» («холера»), «pestpokken» («бубонная чума»),
«pokken» («оспа»), «tering» («туберкулез»), «tyfus» («тиф»). Так,
«pokkeweer» — приблиз. «поганая погода», доел, «оспенная
погода», «klereherie» — приблиз. «блядский шум», доел,
«холерный шум» и т. д. Английскому матерному «Motherfucker!»
соответствуют сочетания «lijder» (ср. нем. «leiden» — «страдать»)
с названием болезни «KlereHj(d)er», «Pokkenlijder», «Teringlijder»,
то есть что-то вроде «Холерный!», «Оспенный!», «Легочный!».
Соответственно голландские злопожелания звучат как «Krijg
de aids!» — «Чтоб тебе СПИДОМ заболеть!» (= «Вали
отсюда!», ср. англ. «Drop dead!»), «Krijg de kanker!» («Чтоб тебе
раком заболеть!») и т. п.
Такая практика довольно редка в других культурах. Можно
назвать разве что венгерскую культуру, где есть бранное
«rosseb» — «оспа» или польскую с ее «холерой» — «Stara cholera!
1У воров в законе это самое страшное ругательство. Крепче любого
мата. После выпада; «Ты, шахтер!» — надо бросаться в драку. Словами такое
оскорбление не емьггь. Вероятно, сказывается страх подземелий, как тюрьмы
sui generis. И еще то, что в ворах много от крестьянства (в частности, многие —
дети раскулаченных). И тот, кто способен профессионально работать под
землей, — ниже всех воровских моральных критериев (Снегов 1991: 250).
220
Do holeruu!» или «Cholerny». Соответственно в чешском и
словацком языках: ср. «То je cholera!» — о неприятной ситуации,
«Aby ta cholera xaicila!» («Холера тебя забери!»). В идиш
встречается «A kholerye af im!», что тоже означает: «Пусть он
холерой заболеет!»
В настоящем исследовании анализу подверглись несколько
инвективных групп, характерных для абсолютного
большинства исследованных языков и классифицируемых по
следующим темам: богохульства, ругательства, связанные с
нечистотами, сексуальные оскорбления, а также оскорбления,
связанные с темой крови.
По причинам, указанным ниже, в конце главы только
небольшое место уделено ксенофобским обзываниям и кличкам
типа «Жид!».
Естественно, что некоторые инвективы могут
рассматриваться в двух подгруппах, так как совмещают в себе две темы.
3.2. Богохульства как элемент
инвективной стратегии
Несомненно, что богохульства представляют собой один из
древнейших пластов инвективной лексики, существующий
столько времени, сколько существуют религиозные
представления человека.
По своему характеру их можно подразделить на несколько
групп.
1. Прежде всего, это «простое» называние имени Бога, святых
um. д., когда только контекст, место коммуникации и
соответствующая интонация позволяют отличить богохульство от
употребления слова в священном смысле, например, в церкви, в
тексте молитвы и т. д. Ср. рус. «Боже!», «Святые угодники!»,
«Матерь Божия!»; чет. «Hergot!», «Jezusmarjâ!», «Sakra!», «К
sakru!», «A sakra!»; англ. «God Almighty!», «Jesus Christ!», «Holy
Virgin!»; нем. «Herr Gott!», «Himmel!», «Kruzifix!»; фин. «[Voi]
jumalauta!»; фарер. «A Jesus Kristus!», «Harra Gud!»; фр. «Bon
Dieu!», «Nom de Dieu!»; um. «Madonna!», «Ostia!», «Vergine
Sante!», «Santa Providenzia!»; ucn. «Cuerpo de Dios!», «Ostia
sagradas!»; лит. «О dangau!», «Dievas!», «Yeso christo!»; пол.
«Jesusmaria!», «Sakra!».
В некоторых случаях подобная инвектива отличается от
упоминания Бога в молитве в силу использования либо
устаревшей, либо нетрадиционной формы священного имени.
В фарерском языке вместо «Harrin» («Господь») может упо-
221
требляться характерное только лая инвективы «Нагга». Иногда
фарерцы вовсе опускают имя Бога, но пропуск здесь
достаточно прозрачен: «Tad veit denn!» происходит от датского «Det ved
den!», но разница очень значительна. В обоих случаях полный
смысл здесь «Бог это знает!», «Богу это известно!» в значении
«Да что вы, неужели?». Но фактически датчане произносят
только что-то вроде «Это знает...» + артикль «den» перед
опущенным словом «Бог». Фарерцы произносят то же самое, но
артикля «denn (den)» у них нет, и они, по-видимому, сами не
понимают буквального смысла произносимого.
2. Называние дьявола, ада, вообще любых «сил зла». Ср. рус.
«Черт!», «Дьявол!»; чеш. «Prokletü», «Certa staryho!» («Черта
старого!» в знач. «Ничего подобного!»). Ср. рус. «Черта с два!»);
англ. «Damnation!»; нем. «Teufel!»; фин. «[Voi] saatana!», «[Voi]
piru!», «[Voi] pirulasuta!»; эст. «Kurat!»; um. «Diavolo!»; ucn.
«Degracado!»; груз. «Decqevlili!»; чуваш. «Шуйтан!», «Киреметь!»
(последнее слово — языческого происхождения). У носителей
тагальского языка дьявол призывается в форме «Lintek!»,
«Vawa!» или «Linte!». Впрочем, последнее слово буквально
означает «молния».
Этот тип богохульств — основной для шведов: очень грубо
звучит, например, «Faaan ockse!» — букв. «Дьявол тоже!» или
«Javlar!» (просто «Дьяволы!»), «Satan!» «Fan!» «Helvète!» (в
последнем случае «Ад!»). Одно из самых грубых шведских
богохульных ругательств — «Vad i helvete!» («Пошел в ад!» — ср.
англ. «Go to hell!»). В полную противоположность русскому
употреблению, подобные выражения абсолютно недопустимы
в шведском «приличном обществе». Слово «jävla» представляет
собой сокращенную форму от «jävlar» и пользуется репутацией
англ. «fucking» или «bloody» (ср. рус. «ебаный» или «блядский»):
«Det var ett jävla gott öl» — в английском переводе: «That was a
bloody good beer». Вряд ли возможно сказать по-русски: «Это
блядское пиво — хорошее!»
Приблизительно на том же уровне африкаанс «Wyk Satan
Loop duiwel!» («Убирайся, сатана, прочь, дьявол!»), «Wat die
duiwel!» (приблизит. «Что за черт!»), фарер. «For fanin i helviti!»
(«черт в аду»), «Hvat fanin gert tu?» (букв. «Какого черта ты [тут]
делаешь?», но по грубости это скорее «Какого хуя...»).
Как и при наименовании Бога, фарерцы осторожны при
упоминании дьявола, предпочитая или искажать его имя, или
употреблять древний вариант этого имени, традиционный
только для инвективы: «devil» вместо «djevil», а также «fjandi»
(ср. англ. «fiend») или «dekan». В ходу и простые эвфемизмы
222
типа «For Smin!» (что-то вроде «Ради черта!»), где обычное
мужское имя «Sorin» выбрано просто по совпадению первой буквы
со словом «Satan».
Маскировка в таких случаях бывает внушительной; так, в
выражении «Fanin gali!» — «Пусть тебя дьявол заколдует!»1
слово «gala» — «заколдовывать» используется только в этом
выражении и практически непонятно рядовому носителю языка,
который улавливает только общий смысл проклятия — по
аналогии с понятным «Fanin brenni!» — «Пусть дьявол тебя сожжет!»
(Ср. подобную стратегию в рус. «Ах, чтоб тебя!»). В другом
фарерском бранном восклицании, связанном на этот раз с
понятием ада — «For heita, hula helviti!» (доел. «Ради горячего и пустого
ада!») — слово «hulur» фактически не существует в современном
фарерском, его значение восстанавливается только в результате
филологического анализа, для современных же носителей
языка это слово, как и «gala», лишено смысла.
В голландской бранной практике дьявол и его присные
упоминаются в ограниченном числе случаев, но все же чаще, чем
в России: «Verduiveld!» — «[Клянусь] дьяволом!», «Duivelin» —
«чертовка, ведьма», «De duivel hale je!» — это «Чтоб тебя черт
побрал!», «Loop naar de duivel!» — «Иди к черту!», «Dar mag de
duivel weten!» — «Черт его знает!». Английский эквивалент
последнего восклицания — «Heaven knows!» (т. е. «Небу ведомо!»).
Правда, у голландцев есть и более близкий в лексическом
смысле вариант: «Joost mag het weten!» (= «Dag mag Joost
weten!»), родственный рус. «Бог его знает!» (Joost — Иисус).
Любопытно, что английский эквивалент голландскому
«Waar heb je in godsnaam gezeten?» (доел. «Где это ты, во имя
Господа, сидел?») — «Where the hell have you been?» — то есть
«во имя Господа», приравнивается к названию ада.
С именем дьявола часто соединяется адресат. Ср. рус. «Чертов
сын!», фин. «Saatanan muija» — «жена сатаны», «Pirun akka!» —
«чертова баба», но по значению ближе к «толстая стерва!». Очень
грубо на африкаанс звучит «So'n helsem!» («Адов сын!», ср. рус.
«Исчадие ада!», которое, однако, выглядит напыщенно и вполне
литературно).
Естественно, что человека можно просто обозвать чертом.
В русском употреблении это не слишком сильное ругательство,
отчего к нему полезно добавлять уничижительные
определения: «Он — черт поганый!» В фарерском языке точно то
1 Вероятно, «заколдовать» в данном случае близко по смыслу русским
«охмурить», «заморочить голову».
223
же определение «Hann er ein fani» гораздо оскорбительнее.
Это понятно, если учесть, что у фарерских сквернословов
именно богохульства котируются особенно высоко.
3. Всевозможные отсылания. Ср. рус. «Иди ты к Богу [в
рай]!», «Пошел к черту!»; чет. «Jdi k certu!», «ке vsem certùm!»;
палъск. «Idz do diabla!»; англ. «Go to hell!»; нем. «Zum Teufel!»,
«Geh zum Teufel! (zum Satan, zum Holle)»; фин. «Suksi helvetun!»
(доел. «Езжай на лыжах в ад!»); швед. «Dra àt helvete!»; фарер.
«Far â tramanum til vid taer!»; um: «Vai al diavolo!»; порту г. «Vai
pro inferne!», «Vai pro diabo quête inferne!»; рум. «Dute la dracul!»;
болг. «Ще те пратяв в дженжема!», «Върви по дьяволите!»; арм.
«Сатанан тани», «Грохэ тани!»; фарси «bî jahanam!»; тур.
«Cehenneme git!» — все примерно в том же значении.
В шведском языке кроме обычных «отсыланий» возможны
и весьма необычные: «Du kan dra àt skogen!» — «Пошел ты в
лес!»: в шведском лесу водятся черти-тролли, так что смысл
здесь тот же — «Иди к чертям!». Еще экзотичнее «Du kan dra dit
pepparn växer!» («Иди туда, где перец растет!»). Перец растет на
юге, в климате, который северянам-шведам кажется
отвратительным, так что и здесь адрес прежний.
Приблизительно то же — у норвежцев: «Dra til Bloksberg!»
означает «Пошел ты в Блоксберг!», то есть туда, где, по
преданию, обитают ведьмы. ,
По-видимому, эстонское «отсылание» «в лес» — «Mine met-
sa!» — имеет аналогичное значение. Правда, у эстонцев есть и
другие, более загадочные адреса, где они хотели бы видеть
своих оппонентов: «Söida seenele» — «Езжай на гриб!», «Mine
kuu peale!» — «Иди на Луну!», «Tomba uttu!» — «Тяни в
туман!» Впрочем, все они отсылают подозрительно далеко и
вряд ли сильно отличаются от отсылания к чертям.
Эст. «Kaei kuradile!» означает что-то вроде «Валяй дальше!»
или «А, иди ты!», но точный адрес — «к дьяволу». Однако у
эстонцев есть и более грубое «Kuradi munn!» — в смысле «[Иди
ты] к черту на хуй!» («на чертов хуй»). Но самое грубое и
абсолютно недопустимое в приличном эстонском обществе —
«Kuradi puts!», где черту приписьшаются уже женские
гениталии (ср. рус. «Чертова пизда»).
Чуваши просто отсылают на кладбище — «давана».
Коль скоро речь зашла о разных адресах, заметим, что не
указанный прямо, а лишь подразумеваемый адрес — явление
очень старое. И это не только рус. «Иди ты знаешь куда!», но
даже лат. «Perite!», в смысле «Иди насквозь!», то есть опять же
в подземное царство.
224
Несколько отличается от вышеперечисленных туманный
румынский адрес: «Dute'n moasa ре ghiatä!» — «Иди к повитухе
по льду!» — всего вероятнее, это пожелание смерти (ср. «Иди в
пизду!»). Отнесение его к богохульствам в прямом смысле
сомнительно.
4. Проклятия. Ср. рус. «Будь ты проклят!»; англ. «God damn
you!»; нем. «Verdammter Kerl!»; швед. «Ta mig fan!» («Черт меня
побери!»); фарер. «Devüin steiki!», «Devilin brenni!» (оба в
смысле «Чтоб тебя черт поджарил!», ср. рус. «Гореть тебе в аду!»);
груз, «gmertma daçqevlos!»; кирг. «Кудайдын каары!», «Кудайдын
каарына калтыр!», «Кудай албагыр!» (доел. «Останься в виде
проклятия Аллаха!», «Чтобы тебя не взял к себе Аллах!»),
африкаанс «Die duiwel sai jou haal!», «Mag die duiwel jou haal!»
(«Чтоб тебя черт побрал!»).
5. Всевозможные сочетания священных наименований с
наиболее сниженными, непристойными, табуированными,
обязательно содержащими табу-семы. Ср. варианты русского мата
«Е6 твою в Бога (душу, Господа душу, Христа Спасителя и т. п.)
мать!»; сербскохорв. «Jebem ti boga!», «JeöeM ти свету Петку»
(Света Петка — Параскева Пятница, самое грубое сербское
ругательство); um. «Porca Madonna!», «Porco Dio!», «Madonna di
bordello!», «Madonna fütuta!», «Dio fotutto!», «Dio merda!»; фр.
«Bon Dieu de putain de garce!», «Bon Dieu de merde!», «Bon Dieu
de bordel de merde!», «Bordel de Dieu!»; ucn. «Con Dios y con la
Vigen!», «Me cago en toda la Virgen!», «Me cago en la Virgen
puta!», «Me cago en Yemaya!», «Me cago en Babalo Aye!» (две
последние инвективы, популярные на Кубе, построены по той
же модели, что и предыдупгие («Я еру на...»), но в отличие от
них упоминают божества африканских религий); рум. «Futu-ti
Dumnezeul mäti!» (доел. «Выеби Бога твоей матери» (ср. рус. «Еб
твою в Бога мать!»), непристойный глагол может опускаться;
исключительно грубое ругательство), «Christosul tau/pastile
matu!»; венг. «Basszamaz Istedenet!» («Я ебал твоего Бога»),
«...а Kristodat!» («...твоего Христа»), «...a Mariadat!» («...твою Деву
Марию!»), «Az istemet as anyadmak!» («...Бога твоей матери!»),
«Verie as isten a faszat beled!» («Чтоб тебя Бог выеб!»); греч. «Гамо
ти панайя су!» («Я ебал твою Пресвятую!»), «Гамо ти Христо
су!» («...твоего Христа!») и т. д.; араб. «Allah jenik!» («Чтоб тебя
Аллах выеб!»).
Популярная модель каталанцев начинается со слова «Ме-
càgum» (искаж. «Me cago en...» — «Я серу на...»). Список
священных лиц и предметов, включенных в эту модель, поистине
впечатляет: это Бог в огромном количестве вариантов («...на Бо-
8 В. И. Жельвис
225
гова Бога, на дважды Богова Бога», и т. д.), на Бога и Деву
Марию, на Бога и Его Мать, на пять ран Христовых, на женский
орган (?) Бога, на Бога, с Которым ты ебался, на Богову
проститутку, на двенадцать апостолов, на ебаных святых в бутылке,
у которой Бог служит пробкой, на просфору, на член страстей
Христовых (?), на четыре столпа, которые поддерживают
Христов сортир, и т. д. и т. д.
Любопытно, что некоторые модели подобных инвектив
включают имя Бога, но богохульными не считаются. Например,
каталанец может выругать дверь, которую он никак не может
открыть: «Mecàgum la porta de Déu!», где «de Déu» — «Богова
[дверь]» осознается примерно как современное русское
«чертова», «проклятая» или англ. «bloody» или «fucking».
Иногда табуированное слово выглядит как часть
священного, но содержащего нечто вроде «табу-суффикса». Ср. нем.
«Kruzifick!» («ficken» — «ебать») вместо уже приводившегося
выше «нормального» «Kruzifix» («распятие»), или «Hurement!»
(«Hure» — «блядь») вместо «положенного» «Sakrament!»
(«причастие»). То есть получается нечто вроде «Ебспятие» или «Бля-
частие» — ср. рус. «хитроумный» —► «хитрожопый».
С некоторой натяжкой в эту группу можно отнести сложное
фарерское слово «Gudsdoyd» — сочетание имени Бога со словом
«смерть» (т. е. «смерть Бога»). «Ja, Gudsdoyd!» означает
недоверие («Ну да, прямо уж!», «Как же!»). Здесь нет такой грубости,
как в предшествующих примерах, но непочтительное
отношение к Богу налицо.
И все же пальму первенства в поношении имени Бога
следует отдать Италии — этому бастиону католицизма. Вот список
сочетаний Бога и самых разнообразных понятий, используемых
в разных областях Италии: «Dio assassino!» — «убийца», «Dio
cornuto» — «рогоносец», «Dio bestia!» — «скотина», «Dio bestia-
lone!» — «зверюга», «Dio birbo!» — «негодяй», «Dio brigande!» —
«бандит», «Dio cane!» — «пес», «Dio culattiere!» — «содомит», «Dio
mat!» — «полоумный», «Dio nimale!» — «животное», «Dio por-
co!» — «свинья», «Dio Dio serpente!» — «змея» (Averna 1982:63—65).
6. Иногда сознательное превращение простого
наименования священных сил в божбу осуществляется не путем
добавления табу-семы, а обращением к традиционной форме любой
клятвы («Клянусь я первым днем творенья, клянусь его
последним днем! <...> Клянуся небом я и адом!» (Лермонтов)). Слово
«Клянусь!» чаще всего опускается как само собой
разумеющееся, так что вся божба выглядит как сочетание священного
имение предлогом. Ср. англ. «By our Lady!» («Пресвятая Дева!»);
226
исп. «Рог vida de Dio!» («Жизнь Господа!»), «Рог los clawos de
Cristo!» («Гвозди с Христова креста!») и др. Вероятно, более
точный перевод мог бы выглядеть как «Пресвятой Девой!»,
«Гвоздями с креста Христова!» и т. д., где «Клянусь!» имеется
в виду. Для русского употребления такое сокращение
нехарактерно.
Разумеется, возможны и случаи сочетания форм клятвы с
табуированными идиомами. Ср. исп. «Рог los vientecustro cojones
de los doce apostolus de Cristo!» (упоминаются тестикулы
апостолов).
7. Можно отметить традицию использования в инвективном
смысле имен древних языческих божеств, явлений природы,
ассоциируемых с этими божествами, и т. д. Значительная часть
идиом этой группы ведет происхождение из глубокой древности,
другая часть представляет собой прозрачные эвфемизмы. Ср.
англ. «By Jove!»; фр. «Топпеге de Dieu!»; нем. «Donnerwetter!»;
чеш. «Hrome!», «U vsech hromu!»; пол. «Perunja!»; фин. «Perkele!
Perkele!»; лит. «Po perkunais!».
В голландском языке «donder» [нем. «Donner», англ.
«thunder») — слабый усиливающий эпитет. В африкаанс это слово
воспринимается как часть очень грубого ругательства «Fokken
donder!» — ср. англ. «Fucking thunder!» — яркий вульгаризм,
выражение отвращения или гнева при неприятной
неожиданности, вероятно, что-то вроде рус. «Эх, еб твою мать!». Подобные
выражения существуют и в шведском: «Blixt och dunder!» —
«Гром и молния!», нем. «Donnerwetter» (noch mal)!», фр.
«Топпеге!». Во всех случаях, кроме африкаанс, это очень мягкие
восклицания типа «Черт возьми!».
8. Строго говоря, не являются богохульствами, но
заслуживают упоминания в этом разделе обвинения оппонента в том,
что он безбожник и богохульник. В киргизской культуре это
очень серьезное оскорбление, могущее привести к
поножовщине; оно особенно тяжело, если обращено к мулле: «Кудайсыз!»
(«безбожник»), «Капыр!» (от «кяфир» — «кафир») — не верящий
в Аллаха, немусульманин, неправоверный. Нечто подобное
можно было проследить и в русской культуре прошлых веков.
Ср. строчку из песни: «Да лютый староста, татарин, бранит
меня, а я терплю». Здесь «татарин» — никак не может означать
национальность старосты в русской деревне, это «иноверец»,
«безбожник». Ср. также: «нехристь» и «бусурманин».
Особенности того или иного языка могут накладывать на
богохульные инвективы свой отпечаток. Так, в немецком
языке популярны полностью бессмысленные цепочки из бого-
8*
227
хульств, иногда очень протяженные. Ср. яркий бытовой
пример:
«Himniel-HeiTgott-Kriizifix-Alleluja, Sakrament, Sakrament an spitziger
annagelter Kruzifix Jesus, 33 Jahre barfuss lauferner Herrgottsakrament!»
(Kiener 1983: 233).
Точный перевод здесь совершенно невозможен, да и
по-немецки это простое перечисление названий Бога, распятия,
орудий Страстей Христовых, страданий Христа и даже прожитых
Им лет земной жизни.
У индейцев мохави возможна очень быстро произносимая
цепочка, включающая перечисление наименований,
относящихся к гениталиям: <<Hispan-Hwey-havaJik-havakvvdt-palniimith!>>
(влагалище, ягодицы, клитор, срамные губы, волосы в
промежности).
Слегка похожий русский пример мог бы выглядеть
примерно как «Еб твою в бога-душу-крест-гроб-мать!».
Сходный характер имеют немецкие ругательства в
Баварии, где, как известно, распространен католицизм:
« Jessasmariandjosef!» или «Zaehnxalleluja» («Kruzinx-halleluja»),
«Saggrament Alleluja Graiz!» (= «Cross»), а также в финской
культуре: «Voi helvetin saatanan vitun paskiainen!» (ад-дьявол-пизда-вы-
блядок). Теоретически такие цепочки могут быть бесконечны.
Естественно, что роль богохульства в национальной
культуре прямо пропорциональна религиозности общества, ибо
нарушение слабого табу не в состоянии вызвать резкий шок, а
значит, соответствующая идиома не может быть достаточно
сильной.
В этом отношении интересно сравнить языки шведский,
голландский и африкаанс. Отношение шведов к
богохульствам довольно легкомысленное, чего никак нельзя сказать о
голландцах, у которых даже есть активно действующее
«Общество борьбы с бранью» («Bond regen het vloeken»).
Естественно поэтому, что самое грубое голландское ругательство —
«Godverdomme!», то есть нечто весьма близкое англ.
«Goddam (η)»! Голландская инвектива всегда пишется с большой
буквы — свидетельство того, что слово «God»
воспринимается и сегодня буквально, как имя Бога. Представление о
грубости этого выражения в Голландии можно составить по тому,
что англоязычные народы ассоциируют его с чудовищным
английским «Jesus fucking Christ!», абсолютно непереводимым
на русский язык (может быть, приблизительно это «Иисус, еби
его мать, Христос!»).
228
Примерно такой же силы варианты типа «Goddomme!»,
но есть и совсем мягкие, полуэвфемистические, вроде
«Godver! Verdomme!». Последнее слово служит бранным
эпитетом типа рус, «чертов», «ебаный» или англ, «bloody»:
«De nets is verdomme kapot!» — «Этот ебаный мотоцикл
накрылся!»
Другое богохульство у голландцев — «God zal me bewaren!» —
букв. «Да хранит меня Бог!» и производные от него «God-
samme!», «Gosamme!». Совершенно невинные на взгляд
носителя русской культуры, эти восклицания воспринимаются в
Голландии достаточно остро.
Но и такое положение с богохульствами — еще не предел.
Исторически сложилось так, что в Южной Африке, стране
языка африкаанс, генетически восходящего прежде всего к
голландскому, гораздо сильнее, чем в Голландии, влияние
жесткого, риторичного кальвинизма, откуда и еще более
резкое восприятие богохульств. Аналогичные богохульные
инвективы воспринимаются в Южной Африке намного резче.
Самое сильное ругательство на африкаанс — «Goeie God!» —
букв. «Добрый Боже!». В голландском языке оно тоже
распространено, но воспринимается довольно спокойно. В
шведской же культуре к такому восклицанию могут свободно
прибегнуть даже священники, и такое их поведение останется не
замеченным окружающими.
В японском языке богохульства практически отсутствуют:
известно, что роль религии в Японии резко отличается от этой
роли в большинстве стран мира, религия в Японии прежде
всего значительно терпимее.
Очень важна и статистическая сторона вопроса: по
имеющимся данным, 80% японцев относится к религии
безразлично или даже враждебно. Поэтому хотя японец и может
употребить выражения типа «Он проклят богами!» («Ками но
нороварета»), эти слова нельзя рассматривать как
богохульные, то есть хулящие божество, но лишь как простое
утверждение (Passin 1980: 79).
Показательно в этом плане сравнение с популярной
итальянской инвективой «Рогса Madonna!», где наименование
Божьей Матери кощунственно сочетается с названием свиньи,
причем ассоциации здесь главным образом сексуального, а не ска-
тологического плана. Появление подобной инвективы в таком
бастионе католицизма как Италия с ее особым почитанием
культа Мадонны подтверждает зависимость крепости
инвективы от силы нарушаемого табу.
229
У сирийских арабов инвектива «Твою религию!» (что надо
понимать примерно как «Ебать я хотел твою религию!»)
смывается кровью, даже если непристойньш или богохульный глагол
только подразумевается (Johnson 1948: 56). Полное арабское
ругательство звучит как «Elif air ab dinich!» — «Тысяча членов
тебе в религию!» — ср. европейскую модель «...тебе в жопу» или
«...тебе в пизду!».
Возможны и своеобразные «небогохульные богохульства»:
речь идет об упоминании в составе проклятия имени Бога как
могучего союзника говорящего. Ср. англ. «God damn!»; суахили
«Mungu mbwakulani! Mwana lana!» («Да проклянет тебя Бог!»),
«Mbwa akupe taunil!» («Да нашлет Бог на тебя холеру!»), «Mungu
atakushin da!» («Да покарает тебя Бог!»).
Однако, при всей схожести значения, проклятия на
суахили понимаются, подобно японским, буквально, в то время как
английская инвектива имеет самое общее междометное
значение.
В том же языке суахили есть очень изощренный способ про-
клинания с помощью литературно приемлемых средств, даже
священного языка: инвектант читает имена спутников
Мухаммада с обязательным добавлением после каждого имени
слов «Да будет Аллах доволен им!». Предполагается, что все,
кто противостоит человеку столь набожному, будут наказаны
Всевышним (Swartz 1988-1989: 216-218).
Некоторые богохульства сильно истерлись, превратились в
несильные восклицания, хотя когда-то воспринимались очень
резко: голландское «Wragtig!» — искаженное «waaragtig»,
которое, в свою очередь, означает только «истинный [Господь]», но
все равно, даже без упоминания Господа, считалось очень
сильным богохульством. В настоящее время еще более
искаженные формы этого слова «wrintag» и «wragtie» почти
полностью потеряли остроту и являются мягким эвфемизмом1.
Обращает на себя внимание крайне малая роль богохульств
в славянской и — уже — в русскоязычной культуре. В данном
случае объяснение — в богохульном характере славянского
мата. Собранный Б. А. Успенским огромный материал,
свидетельствующий о языческом происхождении сексуальной брани,
помогает понять и сущность своеобразного славянского
богохульства.
1 Для преобразованных, с целью смягчения, эвфемизмов в голландском
языке существует особое слово «Bastaardvloek» — «ругательство-ублюдок» (ср.
англ. «bastard curse»).
230
Б. А. Успенский возводит славянскую матерную ругань к
культу языческой богини Мокоши — женской ипостаси
главного божества, противопоставленной богу грозы. В славянском
христианском варианте Мокошу замещают св. Пятница и
Богородица. Соответственно самое сильное ругательство у сербов —
« JeöeM ти свету Петку!». В ряде богохульств явственно
прослеживаются следы культа земли, ассоциирующейся с матерью (ср.
«мать-сыра-земля»), и культа предков вообще, а следовательно —
культа покойников. Соответственно в бранных идиомах
нередко упоминание могильного креста, гроба и т. д. Ср. рус. «в бога,
в крест, в душу», серб. «JeöeM ти мертву майку!» (Успенский 1983:
54—56) или рум. «Futu-ti Dumnezeul mäti».
Таким образом, если согласиться, что русский мат имеет
фактически богохульный характер, легко понять, почему в
русской инвективной практике непосредственные богохульства
сравнительно и мягки и редки: в них просто нет необходимости,
ибо их функцию берет на себя другой лексический пласт —
сексуальное сквернословие, мат.
Исключительный интерес в плане настоящего исследования
представляет то обстоятельство, что восприятие ряда очень
похожих инвектив может быть резко неоднозначным в разных
ареалах и культурах. Во французском непристойно звучит
«Dieu!» («Боже!») и вполне приемлемо «Mon Dieu!» («Мой
Боже!», «Боже мой!»).
Аналогичным образом в итальянском «приличном
обществе» недопустимо «Madonna!», но «Madonna mia!»
воспринимается примерно как русское «Бог мой!». Немецкое «Herr Gott!»
(«Herrgott!») несет отрицательный заряд, a «Mein Gott!» — нет.
Пример из современного британского романа, где
описывается эмоционально насыщенный разговор между супругами,
обсуждающими развод:
Bill jerked himself upright. He said: «The children know, do they? Oh
Christ». He turned to face the wall. «Don't use that language, Bill», — said Nan
(I. Murdoch).
Билл резко выпрямился. «Так дети уже знают, да? Oh Christi» Он
отвернулся к стене. «Билл, перестань выражаться», — сказала Нэн.
Из реакции Нэн очевидно, что «Oh Christ!» в данном
контексте — табуируемое слово. Правда, по роману, Нэн — ханжа,
и ее резкий протест вряд ли оправдан: «Christ!» — не слишком
сильное богохульство, но все же инвектива.
Можно считать, что в случаях типа «Christ!», «Madonna!»,
«Dieu!» перед нами пример одного из самых виртуозных и
231
изощренных инвективных приемов. Ср. подобные примеры в
русском языке: «Иди ты к Богу (в рай)!» или «Иди ты к черту!»,
«Бог его знает!» или «Черт его знает!», «Ну его к Богу!» или «Ну
его к черту!»
Оскорбительная сама по себе, такая «эквивалентность»
предполагает объединение двух противоположных понятий.
Произносящий это проклятие не только «упоминает имя
Господа всуе», не только подменяет имя дьявола священным
именем Бога, он употребляет имя Господа, имея в виду нечто
совершенно противоположное.
Другими словами, создается новое понятие, в котором
противоестественно объединены Господь и дьявол.
Еще более яркие примеры такого слияния — итальянские
инвективы «Dio diavolo!» и «Diamine!» (= «diavolo» + «Domine»).
В первом случае налицо своеобразный оксюморон, во
втором — «телескопическое слово», но и там и тут вместе
упоминаются Бог и дьявол, причем в случае «Diamine!» такая «игра
с огнем» более «безопасна», ибо опасный денотат
одновременно называется и не называется. В тосканском диалекте в
сочетании с Богом упоминаются Фауст, просто демон и демон Фар-
фарелло из «Божественной комедии» Данте, то есть «Dio
Faust!», «Dio Farfarello!» и «Dio demonio!» (Falassi 1977: 176).
Вполне вероятно, что первоначально перед таким
словоупотреблением ставилась задача не ослабить, а напротив,
усугубить впечатление, производимое словом.
Похожая инвектива имеется и в шведском языке. Это
«Herrejävlar» — комбинация «Господь + дьяволы». Английское
соответствие — «Jesus fucking Christ!» Вероятно, по-русски это
могло бы выглядеть как чудовищное богохульство типа «Иисус-
еб-твою-мать-Христос!», однако в шведском языке оно звучит
несколько менее вызывающе.
В психологическом плане сам феномен такого смешения не
должен вызывать смущения. Достаточно вспомнить, что в
различных еретических культах уже издавна исповедуется мысль,
что Бог — это дьявол, принявший божественное обличье, а
настоящий Бог — это как раз дьявол.
Эту же мысль можно встретить в современных романах,
например, у Н. Мейлера и др. Если же учесть, что Бог и дьявол
равно относятся к священным понятиям «того мира»,
возможность двойственного, диалектического восприятия некоего
единства, образованного их слиянием, еще более вероятна.
Нечто подобное можно увидеть в практике некоторых
замен, которые правильнее было бы назвать «псевдоэвфемиз-
232
мами», то есть такими эвфемизмами, которые, внешне выражая
понятие, прямо противоположное табуированному, фактически
навязывают представление о непристойном или просто
запрещенном слове. Такова пара «damn — bless» в английском
языке. Ср. монолог старого морского волка, где Диккенс заменяет
непристойное «damn» на противоположное по значению слово
«bless», честно предупреждая об этом читателя:
<...> the following refrain in which I substitute good wishes for something
quite the opposite: «Ahoy! Bless your eyes, here's old Bill Barley!.. Here's old
Bill Barley, bless your eyes! Ahoy! Bless you!»
<...> следующую присказку, в которой я заместил с помощью добрых
пожеланий нечто, совершенно противоположное: «Э-гей! Господи
благослови ваши очи ! Вот он я, старина Билл Барли!.. Вот он я, старина Билл Бар-
ли, Господи благослови ваши очи\ Э-гей! Господь вас 6лагослови\»
Вероятно, в русском адекватном варианте вместо «Господи
благослови!» можно было бы подразумевать не «Damn your
eyes» и т. д., а что-нибудь вроде «Мать вашу ети!», «Хуй вам в
глаз!» и т. п., и в целом слова пьяного моряка могли бы звучать
как «Эй! Еби вашу мать! Я пришел, ебаный-в-рот!».
Пример русской частушки с псевдоэвфемизмом:
Деньги есть, так девки любят,
На кроватку спать кладут.
Денег нет, так нос отрубят
И собакам отдадут.
Возвращаясь к священным текстам, отметим, что в данном
случае напрашивается аналогия с фактом нанесения древними
строителями или священнослужителями весьма рискованных
надписей на голосниках храма: очевидно, предполагалось, что
священный текст молитвы лучше достигнет цели, сочетаясь с
текстами совсем другого плана, то есть текстами, уже в то
время воспринимавшимися как сниженные и недопустимые,
татуированные (Успенский 1981: 49). Молитва произносилась вслух,
текст же на голосниках, улучшающих акустику, был навсегда
скрыт и не мог быть прочитан никем: таким образом,
сниженный характер текста на голосниках как бы становился
священным, «сакрализовался», сливался воедино с текстом звучащей
молитвы, в то время как молитва, попадая в голосник,
«приземлялась»1 . Диалектичносгь, двузначность символа, очевидно,
и была целью всей операции.
1 Сам факт нанесения надписей, не предназначавшихся для прочтения и
носящих чисто священный смысл, известен этнографам и археологам. Ср.
практику надписей дарения на внутренних (!) стенках ритуальных сосудов в
Древнем Китае (Крюков 1988: 78).
233
Нельзя утверждать, что подобное отношение к слиянию
противоположных текстов исчезло и сегодня. Об этом
свидетельствует эпизод из романа Л. Соболева «Морская душа».
Писатель, по-видимому, не понял описанную им самим сцену,
легко объяснимую после сказанного выше. Л. Соболев
описывает молитву боцмана Помпея:
<...> Увлекся мой Помпеи, причитает у иконки, да как! Жалуется Богу
на командира, что тот зря ему фитиль вставил за беспорядок на
вельботе, и попутно как рванет командирскую бабушку в тридцать три света, в
иже херувимы, в загробные рыданья и Пресвятую Деву Марию, и вслед
за тем молитву о смягчении сердца власть имущих, поминая царя
Давида и всю кротость его.
Приблизительно то же — в описании обряда испрашивания
дождя в Таиланде. Тайские «колядующие» специально
пользуются во время исполнения обряда непристойными
выражениями:
Считается, что произнесение слов, малоприличных для обычного
разговора, способствует действенности обряда (Стратанович 1978: 66).
Факты обращения к дьяволу и поношения сакрального
имени заставляют иной раз видеть в них так называемую
«черную молитву». Соединение имен демона и божества, сочетание
оскверняющих понятий и Бога находятся в одном ряду с
чтением молитв наоборот и представляют единую стратегию
апелляции к силам зла. Жалобы Богу и просьбы, обращенные
к Нему, смешиваются с обидой на невыполнение божеством
просьб молящихся и проклятиями в адрес высшей силы (ср. по
этому поводу: Kiener 1983: 226 ел.).
Вряд ли современную практику инвективного сочетания
священного имени с вульгарным типа нем. «Heiliger Strohsack!»
(«Святой мешок с соломой!») или новогреч. «Ебал я твою
Богоматерь!» можно непосредственно связывать с практикой древних
храмостроителей или «черной молитвой»; однако очевидно, что
сама возможность такого кощунственного соединения
противоположностей имеет достаточно древнюю историю и
первоначально смысл его мог быть совсем иной.
Другими словами, исторически богохульство, по крайней
мере частично, могло служить не катартическим целям, а
средством обращения к демону через поношение божества.
То, что это могло быть так, косвенно подтверждается через
некоторые формы богохульства, включающие многократное
повторение элемента богохульства или его полное
многократное воспроизведение, что, как известно, характерно для молит-
234
венных текстов. Возможно и простое называние числительного,
указывающего, сколько раз говорящий якобы повторил
молитву-заклинание. Ср. нем. «Teufel, Teufel! Teufel noch einmal! Teufel
neune! Herrgott, noch einmal! Herrgott neunmal! Kreuzmillion und
drei Teifi! Himmelkreuz noch einmal!»; в баварском нем.
«Fadammt, no amâi!» (приблиз. «Господь, прокляни еще раз!»),
«Gruzefix Saggrament, no amâi» и т. д. Русский аналог —
«Трижды проклятый!», «Тысяча чертей!»
Трехлинейки, четырежды проклятые,
Бережем, как законных своих.
(Б. Окуджава)
Естественно, что коль скоро богохульство считалось очень
серьезным преступлением, за него полагалось тяжелое
наказание. Данте помещает богохульников в седьмой круг ада
вместе с убийцами, извращенцами и т. д. («Божественная
комедия»: «Ад», песнь 14).
Хотя в настоящее время богохульства в США сильно сдали
свои позиции, до сих пор в некоторых частях страны они
звучат оскорбительнее, чем «shit», «bastard», «son of a bitch», a
книжные клубы могут заменять, например, восклицания «Oh,
God!» на «Oh, Lord!», где вся разница в том,что «God»
употребляется в составе инвектив, a «Lord» — нет.
Исследования, посвященные истории инвективы и
эвфемизмам, подробно перечисляют кары, которые полагались за
богохульства: здесь и выставление у позорного столба, и
протыкание языка раскаленным шомполом, и различные
церковные покаяния.
В записках Адама Олеария (1603—1671) читаем:
В последнее время порочные, гнусные проклятия и брань были сурово
и строго воспрещены публично оповещенным указом, даже под угрозою
кнута. Назначенные тайно лица должны были по временам на переулках
и рынках смешиваться с толпой народа, а отряженные им на помощь
стрельцы и палачи — хватать ругателей и на месте же, для публичного
позорища, наказывать. Однако давно привычная, слишком глубоко
укоренившаяся ругань требовала больше надзора, чем можно было иметь, и
доставляла наблюдателям, судьям и палачам столько невыносимой
работы, что им надоело как следить за тем, что они сами не могли исполнить,
так и наказывать преступников.
Дабы брань, ругань и бесчестье не могли совершаться без различия по
отношению к незнатным и знатным людям, начальство распорядилось
накладывать на виновного крупный денежный штраф (заплатить
бесчестье). Сумма штрафа исчислялась, смотря по качеству, достоинству или
званию чьему-либо, и называлась окладом. Если у преступника не было
возможности заплатить бесчестье, то он выдавался сам головою на дом
235
оскорбленному, и тот мог поступать с ним как угодно. В таких случаях
преступника часто превращали в крепостного или публично били кнутом
(цит. по: Блуд на Руси 1997: 122).
С течением времени отношение к богохульствам в
большинстве ареалов стало более терпимым, и в некоторых нацио
нальных культурах они уступили первое место инвективам иного
рода, прежде всего связанным с названиями выделений или с
сексом. В специальном исследовании на материале английского
языка богохульные словоупотребления «God!», «Jesus!», «Christ!»
и «Hell!» заняли последние места в списке из двадцати наиболее
резких непристойных инвектив.
Однако, неожиданным образом, англ. «Goddamn!», еще
недавно считавшееся слабой эксплетивой типа фр. «Merde!» или
рус. «Черт побери!», приобрело очень резкое значение, близкое
к тому, которое оно имело в Средние века, и теперь стоит на
третьем месте в числе наиболее грубых слов непристойного
ряда (Baudhuin 1973).
Тем не менее во всем мире Церковь и теперь продолжает
числить богохульные восклицания любого рода, в том числе
рус. «Ей-богу!» или «Черт возьми!», тяжелым грехом. Ср.
следующее предупреждение из православной «Настольной книги
священнослужителя» (НКС 1983: 267—268).
Особенно распространен обычай божбы и поминовения всуе имени
Божия или Пресвятой Богородицы <...>, которые используются для
придания фразе большей эмоциональной выразительности: «Бог с ним!», «Ах
ты, Господи!» и т. д. Еще хуже — произносить имя Божие в шутках, и уж
совсем страшный грех совершает тот, кто употребляет священные слова
в гневе, во время ссоры, то есть наряду с ругательствами и оскорблениями
<...>. Призывание нечистой силы (чертыхания) в гневе или в простом
разговоре также греховно.
Вышеперечисленные примеры богохульных
словоупотреблений не исчерпывают списка. Более тщательный анализ
позволяет обнаружить глубокую связь между явными
богохульствами и самыми грубыми непристойными идиомами типа
мата. Соответствующие примеры будут рассмотрены в π 3.5.1,
здесь же ограничимся упоминанием о румынском
«богохульном мате», которому порой нельзя отказать в известной
фантазии и даже, если это слово здесь применимо, изысканности.
Дело в том, что в румынской культуре распространена брань
«на случай», когда применяемый образ мгновенно рождается
в голове ругателя, чтобы тут же быть забытым и никогда
больше не употребляться. Таково предложенное румынским
информантом «Futu-Ji greblu|a Maiecii Domnului, eu саге ea a
236
adumat stelele!» — «E6 твою в грабли Матери Божией,
которыми она собирала звезды!».
3.3. Скатологический элемент
инвективной лексики
Данный раздел посвящен описанию скатологической [греч.
«skor», «skatos» — кал) или копрологической [греч. «kopros» —
помет, кал) инвективной лексики, в список которой входят
всевозможные инвективы, включающие наименования нечистот,
особенно — продуктов жизнедеятельности организма (кал,
моча, носовая слизь, слюна, сперма и т. п.).
Список такой лексики исключительно велик едва ли не во
всех национальных культурах мира. Однако и сама величина
списка, и его характер, и, не в последнюю очередь, роль в
общем инвективном слое носят национально-специфический
характер.
Приведем несколько соответствующих примеров. Очень
популярны скатологизмы в немецкоязычных культурах, где
существует, например, длинный список инвектив,
производных от вульгарного названия экскрементов («Scheiße»,
«Dreck», «Mist» и т. д.). Ср. «Scheiß Kerl!», «Dreckskerl!» (оба
приблиз. «Говнюк!», «Засранец!»; по воспоминаниям
соратников Гитлера, именно так называл себя фюрер в минуты
отчаяния), «Dreckloch!» (приблиз. «Жопа!», букв, «дырка для
говна»), «Arschloch!» («дырка в жопе»), «Gottsverdammter Mist!»,
«Verfluchte Scheiße!» (букв, «богопроклятое говно»), «Scheiß
reden» (букв, «говорить говно» — молоть вздор); «beschissen»
(«обосрать»), ср. «Mein Boß hat mich ganz schön beschissen»
(«Мой босс меня буквально обосрал»), «Ich scheiß auf ihn» («Я
серу на него», «Scheißer!» («засранец»), «Scheiße bauen», «nieder
Scheiße seh^iegen» и т. д.
Во многих случаях соответствующее прилагательное
приблизительно означает «говенный», «сраный» и т. п. Ср.
«Scheißfreundlich» — «говенный друг». Существительные в основном
приблизительно соответствуют русским «Говнюк!», «Говноед!»,
«Засранец!» там, где используются глаголы — «говна не стоит»,
«Я на него насрал!» и т. п.
Однако в целом русские буквальные соответствия
воспринимаются намного слабее и по получаемому впечатлению
переводами считаться не могут. Гораздо правильнее сопоставлять
их с русским матом, что и делают немецкие исследователи,
например, фон Тимрот:
237
E6 твою мать! — Verdammter Mist!
Еби твою мать! - Gottverdammter Mist! (Timroth 1983: 107-108).
Правда, он сопоставляет с матом и другие немецкие
инвективы, в частности, богохульные. Но англоязычные авторы
тоже проводят параллель между нем. «Was machst du da für
Scheiße?» и англ. «What the fuck are you doing?» (дословно нем.
«Что ты, говна ради, делаешь?» и англ. «Что ты, еби тебя,
делаешь?»).
Русскоязычная писательница Дина Рубина (Израиль)
пишет:
Недавно я общалась со своей немецкой переводчицей, и она, так
застеснявшись, говорит: «Да, знаете, есть много непереводимых
выражений». Я напряглась. «Уточните», — говорю. «Ну, вот, например, у вас
героиня, писательница, кричит взрослому сыну: аСвола-а-ачь! Говнюк
паршивый!" Это по-немецки читатель не поймет». — «То есть как? —
спрашиваю. — Вы хотите сказать, что в немецком языке нет слова
"говнюк"?» — «Да нет, — смущаясь, выдавливает она. — Такие слова могут
быть произнесены... ну... в тюрьме, там... на стройке... А мать... Не
может мать крикнуть такое сыну!» Я вздохнула и говорю: «Смотря какая
мать, смотря какому сыну!» (Общая газета. 2000. 27.1—22.2.).
В свете вышесказанного ясно, что переводчица права, а
автор переводимого текста — нет. Поскольку вульгарное
название экскрементов в немецкой культуре равносильно русскому
площадному мату, можно утверждать, что никакая немецкая
мать никакому немецкому сыну не может сказать «Говнюк!»,
как никакая более или менее нормальная русская мать (тем
более писательница!) не может послать своего сына «по
матушке» — разумеется, если исключить какие-то
экстремальные ситуации, когда «можно все», или если забыть о
существовании записных сквернословов, уголовников и проч., для
которых вообще никакие этические нормы и литературные
законы не писаны.
Отмечается, что немцами именно скатологизмы считаются
лучшим средством преодоления страха, например, солдатами
во время военных действий. Подобные инвективы
представляют здесь способ как бы опровергнуть реальность, объявить ее
несуществующей (Kiener 1983: 154). Можно с уверенностью
сказать, что в русскоязычном ареале мат выполняет именно эту
же функцию.
Немецкое «Miststück» — «кусок говна» сопоставляется
англичанами и американцами с самым вульгарным в их культурах
наименованием женщины — «Bitch!» («сука»). Нем. «Du hast den
Arsch offen!» — «У тебя жопа раскрыта!» можно перевести на
238
английский как: «You're fucking crazy!» — «Ты, еб-твою, совсем
спятил!»
Впрочем, со словами, обозначающими «задницу», не все
ясно: порой непонятно, что имеется в виду, гомосексуальные
интересы оскорбляемого или помещение его в «телесный низ»,
в самое скверное место. «Arschkriecher» — это «ползущий в
жопу», примерно то, что имеет в виду русский, говоря: «Он без
мыла в жопу лезет». «Oberarsch» — «сверхжопа», в смысле
«круглый дурак».
По понятным соображениям (родство языков и культур)
скатологизмы на идиш совпадают с немецкими по корням и
силе: «Дрек», «Ду бист а дрек» («ты — говно»), «шайсер»
(«засранец») и др.
Скатологические инвективы во французском языке
принципиально отличаются от немецких тем, что вульгарное слово,
обозначающее экскременты, «Merde!», употребляется в гораздо
более широком значении, по множеству поводов и часто
воспринимается в смысле, очень далеком от первоначального.
Здесь скатологизмы чаще превращаются в простые
междометия. Ср. употребление «Merde!» как реакцию на самые
разнообразные жизненные коллизии:
«Durand, le patron vous augmente». — «Merde!», «Chéri, maman arrive
demain», — «Ah, merde!», «Désolé, mais votre assurance ne couvre pas ces
petits dégâts...» — «Merde, alors!», «Regarde qui a sonné veut-tu?» — «Merde!
Ton mari!», «Voilà voilà, on vient..» — «Vous ouvrez oui ou merde?» и т. д.
(Edouard 1983: 109).
«Дюран, ваш патрон повышает вам оклад», «Дорогой мой, завтра
приезжает моя мама», «Ваша страховка не покрывает эти небольшие
расходы», «Ты не посмотришь, кто там звонит», «Это твой муж!», «Вы
откроете или merde?» и т. д.
Таким образом, хотя французская инвективная стратегия и
напоминает немецкую по популярности скатологизмов, явно
предпочитая их, допустим, сексуальному инвективному ряду,
эмоциональная нагруженность этого слоя у французов слабее.
На сегодняшний день французское «Merde!» фактически
почти полностью утратило свой в прошлом крайне табуирован-
ный характер и по производимому эффекту приблизительно
соответствует русскому «Черт возьми!» (и ни в коем случае —
русскому «Говно!»).
Однако, подобно любому другому французскому слову,
прямо указывающему на выделительную физиологическую
функцию, его дополнительное, коннотативное значение
далеко выходит за пределы соответствующего прямого значения.
239
С ним связаны понятия грязи, нечистоты, отвращения,
брезгливости, беспорядка.
Ряд идиом, включающих «merde», исключительно велик и
часто очень плохо переводим: «comme un merde, de merde»,
«avoir de la merde dans lex yeux», «l'avoir a la merde», «merderie,
merdier, merdouille» и т. д. Не менее популярны и другие
слова, связанные с понятиями нечистоты, неопрятности, грязи. Ср.:
«Salaud!», «Fumier!», «Super fumier!», «Petit fumier!»
Огромный список идиом связан с вульгарными
наименованиями, означающими «задница». Это «derche» и особенно —
«cul»: «comme mon cul», «comme cul et chemise», «lèche-cul»,
«y a pas à tortiller du cul pour chier droit» и т. д.
Нечистота и неопрятность прочно ассоциируются у
французов с половой распущенностью: «Salope!» может означать и
«неряха» и «блядь», американцы скорее сопоставят это слово с
английским «Bitch!» (сука).
Грубые и тяжелые башмаки по-французски — «les éscrase-
merde», то есть что-то вроде «говнодавы»; хам или прохвост —
«un petit merdeux» (приблиз. «говнюк»), «ну, ты попал в
историю!» — «T'es dans un de ces merdiers, toi alors!» (русский,
вероятно, сказал бы «Ты по уши в говне!»). Там, где русский «вышел
сухим из воды», француз «выходит из говна» — он зовется «un
d'emerdeur». Русское «Она меня достала!» — «Elle m'emmerde
cette bonne femme».
У французов есть еще слово, означающее то же, что и
«merde», но гораздо грубее: «chier». Если по степени грубости «merde»
можно сравнить с английским выражением «pain in the neck»,
то «chier» — с выражением «pain in the ass» (оба выражения
используются, когда хотят сказать, что что-то очень досаждает, но в
первом говорится «У меня от этого шея болит!», причем
русский скорее скажет «У меня это вот где сидит!» и покажет на
шею; во втором выражении вместо «шеи» — «жопа»).
Аналогичным образом у индейцев кечуа инвектива «aka-siki»
означает «Дурак!», но буквально переводится как сочетание
«merde» и «cul», то есть что-то вроде русского «Жопа сраная!»
или «Засранец!».
Румын может издевательски спросить оппонента: «Ce, curul
meu, vrei?» — «Что, жопа моя, хочешь?»
Для выражения раздражения туземцы в Полинезии тоже
используют название ануса: «usi», «matausi».
Подобно фр. «Merde!», англ. «Shit!» некогда звучало очень
грубо. Однако уже довольно давно оно превратилось в
несильное междометие. Уже в Первую мировую войну это слово как
240
часть названия общественных туалетов («Shit-house») было
официально принятым в военных тренировочных лагерях
(Weingarten 1954: 319). И сегодня вполне образованная и
культурная американка из среднего класса может в сердцах
воскликнуть: «Shit! Shit!! Shit!!!», разбив тарелку или сломав каблук.
Ср. в этой связи комичный пример практически полной потери
словом «shit» физиологических ассоциаций и перехода в
междометие:
«Oh shit! Fve just stepped into some dog doodoo (Rawson 1989: 351).
(Приблиз. «Ox ты, черт! Я вляпалась в собачьи какашки!».)
Более или менее сходный русский пример — когда уставшая
мать в сердцах назовет «засранцем» ребенка, страдающего
запором.
В англоязычном употреблении на сегодняшний день «shit»,
пожалуй, не менее популярно, чем французское «merde», но все
же еще не столь явно утратило непристойный характер.
Примеры из этой группы английских инвектив: «Shitting hell! Shitty
(exam., etc.), shit-faced, shit-head, to be in the shit, to shit on smb,
it gives me the shits, shit-hole» и мн. др.
To же значение у слова «crap»: «Oh crap!», «What a load of
crap!», «What a crappy hand!», «Cut the crap!»
Очень популярна англ. «Asshole!» («дырка в жопе»)— обычно
в значении «Дурак!». Выше приводилась аналогичная немецкая
инвектива, но можно было бы назвать и ряд других культур,
где используется эта инвектива (ср. фарер. «Reyvarhol!» и др.).
Эти и другие подобные английские скатологизмы
занимают среднее место на шкале наиболее непристойных инвектив
(сильнее богохульств, но слабее сексуального ряда) (Baudhuin
1973).
Испанский язык тоже достаточно широко пользуется
скатологизмами. Ср.: «Come mierda!», «Cagado!», «Mierda
cojones!», «Vaya a cagar!» Возможны обсценные сочетания
экскрементов и матери, экскрементов и Мадонны {устар.) и даже
самого говорящего. Очень тяжелое оскорбление — сочетание
названия экскрементов и предков оскорбляемого, могил
матери и отца и т. д. Яркий пример: «Me cago en lèche de tu
madré!» — «Я серу на молоко твоей матери!» в значении
приблиз. «Я насрал в молоко твоей матери, которое ты потом
сосал!» Грубее этого ругательства испанцы не знают; для того
чтобы спровоцировать драку, достаточно в ситуации
перебранки только намекнуть на эту инвективу с помощью
одного слова «Lèche!» (молоко).
241
Почти дословно эта инвективная практика совпадает с
практикой испанских цыган-гитано, у которых в число
распространенных инвектив входят такие, как «Я серу на твою
мать, на голову твоего отца, на весь твой род, на твое рождение,
на твоих покойников, на яйца твоих покойников, на тех, кого
тебе еще только предстоит похоронить» и т. д. (Mulkany 1979:
91-92).
В кубинском испанском такие оскорбления многократно
усиливаются: «Me cago en el recontracoco de tu reputissima
madre!», что можно приблизительно перевести как: «Я серу на
сверхпизду твоей матери-сверхбляди!» За такое оскорбление
можно поплатиться жизнью.
Если англоязычные народы сопровождают свое «shit»
разнообразными прилагательными (см. выше), то итальянцы со
своим «Merda!» или много более вульгарным «Stronzo!»
охотно пользуются многочисленными суффиксами, которые
придают этому универсальному слову самые разнообразные
оттенки. Если попытаться передать эти оттенки с помощью
русских суффиксов и дополнительной лексики, то «Stronzone» —
«говнище», «Stronzino» — «говнюшечка», «Stronzetto» — «говне-
цо», «Stronzaccio» — «говно из говна», «Stronzaio» — «говенное
место», «Stronzoso» — «сущее говно» (оценка человека), «Stron-
zettino» — ласкательное обращение («Поцелуй меня, моя кака-
шечка!»), «Stronzuccio» — что-то вроде кокетливого русского
«Ах ты, нехороший говнючок!». Не пытаясь переводить,
приведем соответствующие производные от «merda»: «merdoso»,
«merdaio», «merdaiolo», «merdaccio», «merdina», «merdona»,
«merdonaccio», «merdonetto», «merdonettaccio».
Очень похожи инвективы ряда кавказских культур. Ср. груз.
«tavze dagajvi!» («Я насрал тебе на голову!»), «Pirsi cagajvi!»
(«...тебе в рот!»), «Mignero!» («Ты — говно!»). Ср. также венг*
«Szarok a szadba!» («Я серу тебе в рот!») или фарси «Bü damaghi
bâbât rydam!» («Я серу на нос твоего отца!»), «Guh bî gîsit!»
(«Пусть твои волосы будут в говне!»), «Gûh lulih!»
(«Вывалявшийся в говне» = «Ничтожный!»).
Армянские инвективы тоже могут сочетать скатологизмы со
ртом, головой и т. д.: «Какем беранет!», «Какем глхит!»
Инвектива «Кехтот!» означает просто «грязный».
Сходное словоупотребление имеется и в арабском. Ср.
также тадж. «Ах» («кал»), «Мезак» («моча»), «Буби маним!»
(«Искупавшийся в говне»), «Ахи ма хур!» («Ешь мое говно!»)
и т. д., чуваш, «пах» — «говно», «навоз». Скатологизмы очень
распространены в некоторых африканских культурах, напри-
242
мер, в языке народности бансо (Камерун) или йоруба
(Нигерия).
Возможно, что такая инвективная стратегия африканских
народов повлияла на стратегию афроамериканцев, у которых
скатологические инвективы тоже очень часты. Ср. в этой
связи афроамериканское инвективное «to goose» — «толкнуть
локтем в жопу», происходящее из африканского языка волоф, где
соответствующая часть тела называется «kus» (Dalby: 4). В
Америке это слово имеет целый ряд значений, включая половой
акт, обвинение в педерастии и проч.
Португальское соответствие своеобразно в грамматическом
плане: «Esta cagado!» — «[Гы есть] обосранный!»
Сходное употребление имеется и в арабском.
Среди финских скатологизмов можно выделить «Raskapaa!»
(«Голова, набитая говном») и «Kasipaa!» («Голова, полная мочи»);
среди шведских — «Skitstovel» («Сапог с говном»).
Из «экзотизмов» в других культурах: «Gaan как in die
mielies!» на языке африкаанс означает «Иди посрать на
кукурузное поле!», но имеется в виду «Кончай молоть вздор!»
Многочисленны шведские скатологизмы: «Skit ockse!» (доел.
«И говно тоже!»), «Skit i det!» («Насери на это»), «Kyss mig i
arslet!» («Поцелуй меня в жопу»), а также всевозможные
определения типа «сраный», «говенный» — «Skitväder» («Сраная
погода»), «Skitunge» (приблиз. «Молодой засранец»), «Det var
skit till snö» (доел. «Снега было говенно мало»).
В фарерском: «Eg skia* а tad» — «Я еру на это!» (мне на это
наплевать), «Skitbyttur» — что-то вроде «глупый дурак», но
дословно «сраный дурак». «Skytfiillur» дословно означает «до
усери полный», что дает возможность использовать это
прилагательное в ряде идиом: «Hann er skytfuüur ί pengum» — «У него
денег куры не клюют», но с грубым оттенком, вероятно, что-
нибудь вроде «У него денег усраться можно сколько». Просто
«skjHfiillur» означает «вдребезги пьяный».
Фарерцы могут соединить скатологизм с богохульством:
«Nakad helvitis lort» — доел. «Какое-то адское говно».
Отметим еще венг, «Szar az egisz!» («Все говно»), «Szar vagy»,
«Szar ember!» («Ты — говно»), «Le vagy szarva!» («Ты засраный») и
тур. «Ш ucu boklu degnek» — «Трость с обоих концов в говне» —
о безвыходной ситуации (ср. рус. «Куда ни кинь, всюду клин»).
Нечто очень похожее встречается на другом конце земного
шара, у индейцев меномини (племя центральных алгонкинов):
«Ты смердишь!», «Я на тебя серу!» «У тебя зудит жопа/член/
яйца!» и т. д. и т. п.
243
У литовцев популярны издевательские «советы» типа «Eïk
sikti!» («Иди посрать»), «Eïk bezdeti!» («Иди пердни!») или не
лишенное изящества «Pasakei, nuleisk vandens!» («Иди и спусти
воду» — в смысле «кончай болтовню!»)1.
Чувашское «йыта пах» означает «говно собачье», а «пахла
кут» — «грязная жопа» в смысле «недотепа».
Особое место скатологизмам принадлежит в японском
языке. Это, по всей видимости, единственная группа инвектив,
приближающихся по характеру к европейским. В качестве экс-
плетивы японцы могут использовать слово «Кусоо»
(«экскременты») или «Якикусоо» («горелые экскременты»). «Коно кусот-
тарема!» — приблиз. «Голова в говне!», «Кусо демо кураэ!» —
«Иди есть говно!» и т. д.
Как скатологизм в японском иногда понимается слово
«Жри!» (подразумевается «Жри говно!»). Именно эта инвектива
была выбрана японским переводчиком «Двенадцати стульев»
как эквивалент русского «Ах, чтоб их!». В другом произведении
эта же идиома соответствует в русском подлиннике выражению
«Пошел ты...».
Точно такое же в буквальном переводе выражение
употребляется в Англии и во многих других культурах.
Одно из сильнейших оскорблений индейского племени ман-
дан (группа сиу, Верхняя Миссури) — «Поедатель
экскрементов!», то есть попросту «Говноед!». Свое презрение к
оппоненту индейцы шейенны выражают примерно так же: «Рот в
говне!» Индейцы племени пока (группа сиу) предпочитают «Ты —
пожиратель собачьего говна!». Показательно при этом, что
соответствующие слова, которые индейцы пока выбирают для
этой инвективы, крайне редко употребляются за пределами
перебранки, то есть составляют часть специфического бранного
вокабуляра (Bourke 1891: 257-258).
Англоязычное обозначение подхалимажа — «brown-nose»
(«коричневый нос»). Ср. в том же смысле um. «Leccare culo» —
«лизать задницу», рус. «жополиз» рядом с литературным
«блюдолиз» или «лизоблюд».
Где-то рядом с подобными инвективами находятся англ.
«Kiss my ass!», дат. «Kys mig i roven!», фарер. «Kyss meg ί rey-
vina!», рум. «Pupä-mä în cur!», груз. «Traksi makoce!» — все в
значении «Поцелуй меня в жопу!».
1 В этой связи вспоминается не имющее отношения к скатологизмам
«Slèpkis ро pernyksciais lapais » — «Прячься под прошлогодними листьями!»,
то есть «Твои идеи ничего не стоят!».
244
Соответствующие русские словоупотребления, как и во
многих других культурах, могут включать, помимо прямых
названий экскрементов и акта дефекации, вульгарные
наименования других физиологических процессов и объектов.
Ср.:
Ссышь, когда страшно, значит, уважаешь (С. Каледин).
В македонской практике «Da te mocam od keranidi!»
означает примерно: «Я на тебя ссу с крыши!» (очень грубое
оскорбление).
В значении, в котором русский бы сказал «Насрать на него!»,
африканер употребил бы выражение: «Pis op sy kop» — «Ha-
ссать ему на голову».
Инвективы, связанные с непристойными звуками, в русском
употреблении сравнительно редки:1
«Че сделаешь, — уже без изгальства закончила она. — Мужиков, и
братьев, и сынов наших перебили на войне, а этих вот бздунов
подсыпали» (В. Астафьев).
«Не бзди, мужики!» — взвился под небеса истошный визг Куника
(С. Каледин).
Гораздо чаще и оскорбительнее соответствия этой
инвективе в английском и французском употреблении, велико и
число производных образований, труднопереводимых на
русский именно по причине отсутствия буквальных соответствий:
англ. «You old fart!» (приблиз. «Ты, старый пердун!»), «You
boring fart!» (приблиз. «Ты, зануда пердячая!»), «Stop farting
about!» (приблиз. «Кончай тут пердеть!»). Во французском
языке: «Ça ne vaut pas un pet!» («Это и перднуть не стоит!»),
«péter le feu» — «пердеть огнем», соответствующее русскому
«ссать кипятком», то есть очень возбуждаться, излучать
энергию. «Péter plus haut que son cul» — «Пердеть выше жопы» —
много мнить о себе, воображать.
В фарерском языке «Frata!» означает дословно «Пердни!»,
но употребляется в значении «Черт возьми!», причем
преимущественно — в южной части островов; на севере это слово
употребляется в буквальном значении и инвективой служить не
может.
1 В этой связи стоит отметить интересный факт: ни в русском
литературном, ни даже в жаргонах нет устоявшегося существительного для
обозначения непристойного звука, типа англ. «fart» (если не считать детского
«пук»). Соответственно в оскорблениях употребляются только производные
существительные и глаголы «пердеть», «бздеть», «пердун», «бздун» и т. п.
245
Очень грубое оскорбление в азербайджанском: «Что ты там
пускаешь газы?» (в смысле «несешь вздор»). Приблизительно
такое же оскорбление существует в Полинезии. В литовском
варианте: «Eik bezdeti!» — «Пойди пер дни!» (в значении
«Отвяжись!»).
То же — у чехов: «Jdi do prdele!» О слабом и ни на что не
годном человеке чех может сказать «Sracka!», о грязнуле может
негодующе отозваться «Hovnousek!», но о ребенке, у которого
что-то не получается, это звучит уже ласково: «Ту, hovnousku!».
«Неверно!» по-чешски может выглядеть как «Ale hovno!».
В ряд непристойных действий скатологического характера
следует включить и плевание, чихание и т. п. Ср. ряд
оскорблений типа «Плевать/чихать/срать я на тебя хотел!» Подробнее
о плевании см. ниже.
Вопрос о том, почему именно скатологизмы столь
популярны и разнообразны во всех ареалах, достаточно непрост.
Кажущееся самым естественным и простым объяснение
гигиенического толка неубедительно или, во всяком случае,
недостаточно.
Рассмотрим все возможные причины исследуемого явления.
В каком отношении находятся скатологизмы к идее
чистоплотности и, следовательно, этикета и гигиены? 3. Фрейд
видит здесь прямую связь.
Человек нечистоплотный, — пишет он, — то есть не скрывающий свои
экскременты, оскорбляет этим другого человека, не оказывает ему
уважения, что и отражается в известных самых употребительных
выражениях (3. Фрейд).
Категоричность этого высказывания особенно понятна,
если вспомнить, что его автор — носитель немецкоязычной
культуры, где именно скатологизмы звучат наиболее сильно и,
как мы уже знаем, в некоторых источниках предлагаются в
качестве адекватных русскому мату.
Однако Фрейд не задается вопросом, почему именно
экскременты свидетельствуют об отсутствии уважения. Дело в
том, что само понятие чистоты есть нечто в высшей степени
условное. Как говорят англичане, «Dirt is matter in the wrong
place» («Грязь — это обычное вещество, но в неположенном
месте»). Руки, наскоро вымытые с мылом, — «чистые» для того,
чтобы садиться за обеденный стол, но «грязные», чтобы
приниматься за хирургическую операцию.
Требования данной субкультуры могут оказаться
решающими при определении того, какое поведение считать чисто-
246
плотным. Нередко гигиеническая процедура, совершенно
нормальная в одной культуре, кажется нарушением гигиенических
и даже этических норм в другой: ср. умывание в проточной
воде или в раковине, заткнутой пробкой.
Однако, при всех различиях, большинство культур
объединяется стойким отвращением к нечистоте, пусть в разной
степени. Несомненно, что это отвращение намного старше
научного понятия о гигиене, а возможно, старше и самого
человечества. Этологи неоднократно отмечают, что обезьяны
прекрасно понимают роль экскрементов как средства агрессии,
выражения ненависти к оппоненту. Вот выдержка из книги
Ю. Линдена «Обезьяны, человек и язык»:
<...> Я заранее надел рабочий комбинезон и куртку, предвидя
любимое развлечение взрослых шимпанзе — привычку бросаться в
пришельцев экскрементами. Для обезьян это кульминация угрожающего
поведения, которое призвано запугать чужака. Но поскольку решетка,
отделяющая шимпанзе от пришельца, устраняет реальную опасность,
раздосадованные шимпанзе швыряются фекалиями, чтобы лучше
донести до визитера смысл своих намерений (Линден 1981: 82).
Известный отечественный этолог Н. А. Тих тоже сообщает:
Шимпанзе Роза, жившая в Сухумском питомнике в 1956 г., постоянно
бросала остатки корма и собственный кал в людей, приближавшихся к ее
клетке, если ей не удавалось схватить их руками. Самец шимпанзе Боб,
обитавший в Ленинградском зоопарке, постоянно досаждал посетителям,
бросая в них кал и метко попадая им в голову. Ученые, работавшие с ним,
вынуждены были прикрывать лицо особым щитом, похожим на ручное
зеркало (Тих 1970: 274).
Если все же начинать традиции внешней опрятности с
человеческой стадии, то легко представить их связь с наиболее
древними табу. Возможно, что эти традиции связаны с
существованием древних священных обрядов очищения, постепенно
терявших свой религиозный характер (Вундт 1911: 292).
Здесь по-прежнему много неясного, хотя можно
предположить, что в основе древних табу лежит запрет на издавание
резкого (необязательно изначально неприятного) запаха,
недопустимого в условиях охоты, условиях, заставлявших искать
путей незаметно подкрасться к намеченной жертве. Позже
вредный на охоте запах стал восприниматься как неприятный.
Однако так можно объяснить лишь возникновение, но
никак не благополучное существование в наши дни уверенности
в том, что чистоплотность есть благо. Очевидно, что это
обстоятельство можно связать с триумфальным шествием по земле
понятий личной гигиены.
247
Связь здесь двусторонняя. С одной стороны, по традиции
сохраняются старые табу, в результате чего вполне
оправданное стремление современного человека к соблюдению правил
личной гигиены может порой переходить границы разумного и
достаточного и достигать почти (а то и буквально)
патологических размеров, вплоть до различных маний и фобий,
когда человеку всюду мерещатся микробы и он безуспешно
пытается избавиться от них, непрерывно умывая руки.
Подчеркнутое, преувеличенное стремление к соблюдению
чистоты может даже явиться своеобразным способом
самоутверждения личности, особенно если возможности такого
самоутверждения ограничены. Ср. известное изречение
«Чистота — религия низших классов». Как видим, чистота здесь
ослабляет свою связь с гигиеной.
С другой стороны, реальные достижения и открытия
современной медицины явно способствуют поддержанию старых
табу, их научному оправданию. При этом никого не смущает,
что целый ряд упорно сохраняющихся традиций соблюдения
гигиенических правил, по существу, является всего лишь
ритуальным действием, пришедшим к нам из исторического
прошлого.
Можно думать, что в истории инвективного
словоупотребления роковую роль сыграла физическая близость детородных
и экскременторных, выводящих органов тела, расположение их
всех в области телесного низа.
Очень глубоко и точно анализирует это обстоятельство
известный писатель Д. Г. Лоуренс, отмечающий, что детородная
и выделяющая функции человека, с одной стороны, тесно
взаимосвязаны, с другой — как бы противоположны, ибо первая
представляет собой творческое начало, а физиологические
выделения носят противоположный, декреативный характер.
У морально полноценного человека эти два потока
смешиваться не могут, ибо в человеческом сознании их
противоположность самоочевидна и ощущается уже на
инстинктивном уровне.
Но у человека с невысокими моральными установками эти
инстинкты не развиваются, что и ведет к смешению, слиянию
противоположных потоков. Именно в возможности такого
неразличения противоположностей и видит Лоуренс секрет
существования вульгарной психики и увлечения
порнографией (Лоуренс 1989: 235). Ср. также фин. «(Ae)itisi oli
kusella kun sinut sai!» — «Твоя мать ссала, когда тебя
зачинала!».
248
Однако при всей справедливости сказанного столь же
очевидно, что связь творческого и разрушающего начала,
овеществленная в органах человеческого низа, есть нечто реально
существующее, и значение физиологических выделений носит
в человеческой культуре явственно противоречивый,
амбивалентный характер.
У нас достаточно оснований полагать, что глубоко в
подсознании человека находится не столько отвращение к
экскрементам, сколько чувство сопричастности, родства, единства с
ними.
В некоторых первобытных и даже современных
субкультурах физиологические выделения рассматриваются не
только как нечто несъедобное и отвратительное, но и как,
напротив, нечто желанное и приятное, а также творческое
начало.
В таком понимании могут быть, например, представлены
экскременты богов — пища для обычных людей. Ср. также
мнение русских крестьян сравнительно недавнего прошлого,
что, «когда идет дождь — это Илья-пророк мочится».
Выделения богов, святых и священных лиц или животных
могут рассматриваться как магические амулеты, священная
ритуальная пища или медикаменты. Таково, например,
отношение к экскрементам далай-ламы в Тибете или к коровьему
помету и моче в Индии и Тибете; в древней Ассирии
экскременты составляли часть жертвоприношений на алтаре
центрального божества. Известны древние ритуалы, во время
исполнения которых пили человеческую мочу и ели
человеческий и собачий кал. Таковы ритуалы племен зуни и пуэбло
(Нью-Мексико, США). В японской мифологии из рвоты, мочи
и экскрементов богини Изанами родились другие боги.
Американские индейцы чинуки вводят мочу как пищевой
компонент.
В соответствии с идеями парциальной магии через
экскременты, равно как и через обрезки ногтей, волосы и т. д.
можно нанести человеку вред или даже умертвить его (Fitch
1956; Firth 1973: 250; New Larousse 1982: 407; Douglas 1970: 37).
Американский исследователь P. Э. Фитч говорит даже о
вполне современном обожествлении грязи вообще и
экскрементов в особенности и в этой связи цитирует роман Э.
Хемингуэя «За рекой в тени деревьев», где полковник, посещая то
место, где он получил ранение во время Первой мировой войны,
испражняется прямо на этот пятачок и закапывает там же
денежную купюру.
249
«Вот теперь все хорошо, — подумал он. — Теперь здесь говно,
деньги, кровь; вон как растет тут трава; а в земле еще и железо, вместе с
ногой Джино, с обеими ногами Рандольфо, вместе с моей правой
коленной чашечкой. Вот прекрасное мгновение. Теперь есть все. Плодородие,
деньги, кровь и железо. Звучит прямо как символ нации. Там, где
плодородие, деньги, кровь и железо, там и родина».
Говоря о скатологизмах, нелишне еще раз упомянуть об
утверждении фрейдистов, что наличие в словаре нации
многочисленных бранных выражений, упоминающих экскременты,
свидетельствует о желании общества бороться с
гомосексуальными поползновениями его членов; в то время как
отсутствие таких выражений говорит об обратном.
Одновременно общеизвестны и повсеместны традиции
крайне отрицательного отношения к тем же выделениям. В
соответствии с мусульманскими обычаями моча и кал ни в
коем случае не должны попадать на тело или одежду человека.
Всякое соприкосновение с любыми выделениями
рассматривается во многих культурах либо как крайняя неопрятность,
либо как оскорбление, святотатство и т. д.
Ассирийская мать богов поедает экскременты как знак
самоуничижения. Кочевые татары в Сибири в недавнем
прошлом объясняли свое нежелание подолгу жить на одном месте
тем, что в противном случае им пришлось бы, подобно
христианам, обонять запах собственных отправлений.
Сходное отношение отмечается у тунгусов и др. Те же самые
индейцы зуни, которые во время ритуальных танцев пьют
мочу, считают самым сильным оскорблением обливание мочой
или выливание ее поблизости от жилища врага. В Анголе
испускание газов не считается проступком в своем кругу, но то же
действие в присутствии чужих — смертельное оскорбление
(Bourke 1891: 143-144, 256, 411).
Показательно, что священный характер экскрементов
стимулирует их инвективное использование. Существуют
первобытные культуры, в которых допускается любой аспект
обсуждения сексуальных тем, в то время как даже простое
упоминание об отправлении естественных надобностей считается
непристойным (Halpert 1962: 191).
В этом отношении любопытна культура аборигенов Тико-
пии (остров в западной части Тихого океана). Проблемы
взаимоотношения полов здесь уступают по важности проблемам
добывания скудной пищи. Неудивительно, что сакрализации
здесь в первую очередь подвергается не секс, а пища, с которой
и связаны основные табу. Именно с пищей ассоциируются и
250
наиболее резкие инвективы. Наибольшей популярностью
пользуются инвективы, включающие наименования несъедобных
предметов — прежде всего экскрементов. Таково, например,
пожелание, чтобы отец или другие родственники
оскорбляемого ели экскременты. Распространенное средство
самоуничижения в религиозной церемонии: «Я ем твои экскременты!»
и даже: «Я десятижды ем твои экскременты!» (Firth 1973: 240—
250).
Представляется, что именно амбивалентность выделений, их
одновременно священный и сниженный характер делают их
такими желанными компонентами инвектив и инвективных
действий. К таким действиям можно, например, отнести просто
желание оскорбить, отсылая инвектируемого в телесный низ.
Но возможна и другая цель — вывернуть наизнанку все
самые священные для общества понятия, осмеять адресата. Ср.
такие распространенные художественные, мифические или
фольклорные эпизоды, как смерть во время дефекации или
испускания газов. В «Кентерберийских рассказах» английского
средневекового писателя Д. Чосера человек, которому шутки
ради в лицо выпустили газы, от этого чуть не ослеп.
Неудивительно, что тема экскрементов входила
обязательным компонентом во все варианты «юродского осмеяния»
любой религии. Последователи дзэн (чань)-буддизма в момент
достижения состояния «Великого озарения» (сатори)
разражались безумным хохотом, жгли священные рукописи и
изображения, сквернословили и пускали газы (Абаев 1980: 164).
Но возможно обращение к соответствующим действиям и
еще по нескольким причинам: например, из желания унизить
свою телесную оболочку. Таково поведение юродивых.
Наконец, можно упомянуть противоположную эмоцию —
дьявольскую гордыню. Соответствующее поведение
зафиксировано в церковном искусстве в виде скульптурных и прочих
изображений дьявола в весьма недвусмысленных позах, на
корточках. Таким способом демонстрируется дьявольское
презрение к освященным религией ритуалам.
Таким образом, один и тот же физиологический акт может
быть интерпретирован несколькими способами — как гордыня,
самоуничижение, презрение к физическому в человеке и т. д.
Очевидно, что использование скатологической
инвективы — то есть вербализации реального акта — могло иметь в
своей основе любой из трех мотивов. То есть послать
человека в телесный низ или связать его с понятиями экскрементов
можно было или сознательно нарушая общечеловеческие та-
251
6у, или по-шутовски выворачивая наизнанку все самое
священное для общества, или, наконец, сознательно поливая себя
грязью с целью выразить свое пренебрежение телесной
оболочкой.
Скатологические шутки могут также являть собой
своеобразную форму протеста против табу, налагаемых
авторитетами вроде родителей, священников, органов правопорядка,
особенно в связи с навязываемыми обществом правилами
соблюдения чистоты и порядка.
Все сказанное о двойной роли выделений и соответственно
об амбивалентном к ним отношении можно было бы
проиллюстрировать и на материале других выделений, в том числе
не «нижних», а «верхних» — например, слюны. С одной стороны,
слюна рассматривается как нечистое выделение, плевок
оскорбителен в большинстве культур, даже если он просто
осуществляется в присутствии другого человека и не демонстрирует
намерения оскорбить кого-либо из присутствующих. Такое
поведение единодушно рассматривается как «дурные манеры»,
неумение «вести себя как следует».
В некоторых культурах мнение о нечистоте слюны может
достигать крайней степени. Брамин, даже просто поднявший
руку ко рту, должен немедленно умыться или переодеться
(Douglas 1970: 45).
Согласно источникам XVIII в., наиболее сильное
оскорбление для мусульманина, особенно в аравийском ареале, было
плюнуть ему на бороду или даже просто сказать: «De l'ordure
sur ta barbe!» («Грязь тебе на бороду!», т. е. что-то вроде «Я
плюю, испражняюсь и т. д. на твою бороду!» (Bourke 1891: 156).
В русских криминальных субгруппах (в местах заключения)
существует действие, называемое «минирование», направленное
на крайнее унижение человека, которому в пищу тайно
подмешивается слюна или сперма, чтобы потом объявить ему об
этом. Съевший такую пищу человек попадает в число наиболее
презираемых в группе.
С другой стороны, мифы и легенды неоднократно
повествуют о чудесных, целительных свойствах слюны. Ср.
евангельский эпизод:
Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на
глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув,
сказал: вижу проходящих людей, как деревья (Мк. 8: 23, 24).
Но не только слюна божественного происхождения
наделялась мистической силой. В очистительный обряд ранних хрис-
252
тиан входило осенение себя крестным знамением с головы до
ног рукой, смоченной слюной (Донини 1979: 192).
Примеры включения слюны в инвективную практику
упоминались выше.
Стоит привести довольно экзотическое ругательство тага-
лов: «Buwa ka ng ina mo!» — «Ты — смегма (секреторные
выделения) твоей матери!» Автору неизвестна ни одна другая
культура, в инвективной практике которой упоминалось бы это
выделение.
3.4. Зоовокативы и зоосравнения
как элемент инвективного словаря
Бранные ассоциации с различными животными,
по-видимому, характерны для всех без исключения национальных
культур, являя собой, таким образом, классический пример
универсалии. С помощью таких ассоциаций инвектант обвиняет
оппонента в наличии у этого последнего определенного
отрицательного качества, которое национальная традиция приписывает
тому или иному животному.
Значительная часть обвинений имеет скрытый или явный
сексуальный подтекст и, собственно говоря, могла бы
рассматриваться в разделе, посвященном сексуальному элементу
инвективной лексики, если бы не используемое название животного.
Кроме того, возможны и комплиментарные зоовокативы
(«зоообращения») типа «Сокол ты мой ясный» или «О голубка
моя!», а также комплиментарные сравнения типа «Он дрался
как лев».
Сам факт возможности переноса названия животного на
человека является лишним доказательством того, что в число
сем как животного, так и человека входят одни и те же семы.
При этом основные, денотативные семы животного могут
соответствовать дополнительным, коннотативным семам человека,
приписываться ему.
Очевидно, что приписывание человеку сем животного
отражает некоторые общие тенденции переноса значения, а
именно выделение человеческим сознанием одного свойства
окружающих предметов, которое кажется (не обязательно
является) определяющим. Именно определяющий характер
этого свойства приводит порой к восприятию самого
предмета лишь как символа данного свойства. Соответственно слово,
называющее предмет, начинает обозначать не столько этот
предмет, сколько это самое свойство.
253
Именно таким путем и происходит метафорический
перенос названия животного на человека. Можно сказать, что
наименование животного приобретает атрибутивную,
описывающую ценность: человек, названный в русской традиции
«голубкой» — ласковый, приятный, милый; прозванный
«вороной» — рассеянный и бестолковый. Сегодняшние знания
человека о действительных свойствах голубей и ворон решающей
роли здесь не играют.
Принцип, который используется при таких метафорических
переносах свойств животных на человека — «tertium compa-
rationis», где инвектива представляет собой третий член
сравнения («Ты лиса — лиса хитрая — ты хитрый»).
Во всех культурах возможны оскорбления, в составе
которых животное не называется, но зато та или иная часть тела
оппонента, его орган и т. д. обозначаются словом, пригодным
для животного: ср. русские инвективные названия для частей
тела человека: «морда» вместо «лицо», «брюхо» вместо
«живот», «(Имярек) роет землю копытом», «Сейчас дам тебе по
рылу!», «Закрой пасть!» Последнее выражение соответствует
нем. «Halt's Maul!», как и «Halt die Schnauze!», a «Halt deinen
Schnabel!» — «Захлопни клюв!».
Ниже будут изложены примеры, иллюстрирующие
зооморфные возможности инвективы и, в меньшей степени,
комплиментарных обращений и сравнений. Вначале будут
приведены наиболее выразительные примеры инвективного
использования самых разнообразных животных, а затем отдельно
рассмотрены широкие возможности применения наименований
двух самых популярных в инвективном плане животных —
свиньи и собаки.
Уже простые национальные списки пар «животное —
приписываемое ему свойство, переносимое на человека»
обнаруживают яркую специфичность народных представлений.
Естественно, что живущие по соседству народы нередко
демонстрируют сходные пары.
Так, следующие латышские зоосравнения практически
неотличимы от русских: «хитрый, как лиса», «глупый, как
индюк», «быстрый, как ласточка (олень, серна)», «трусливый,
как заяц», «смирный, как овца», «заносчивый, как петух»,
«трудолюбивый, как муравей» (пчела), «назойливый, как муха»,
«тихий, как мышь», «сильный, как бык», «голодный, как
волк», «вонючий, как хорек», «слабый, как цыпленок»,
«черный, как ворон», «скользкий, как угорь», «голый, как
церковная крыса».
254
Отличающихся от русских сравнений у латышей немного:
«коварный, как лиса», «хитрый, как змея», «жадный, как волк»,
«мокрый, как крыса».
У соседей латышей — литовцев «zaltys» (уж) — это немного
хитрый и злой человек. «Varna» (ворона), как и у русских,
означает разиню, «asilas» (осел) — глупца, как и «avinas» (баран)
или «vista» (курица). «Karvè» (корова) у них — человек
неловкий, неосторожный, неуклюжий. В восклицательном,
междометном смысле, вроде «Черт побери!», латыши очень часто
восклицают «Rupuze!» (жаба). Как ни странно, поляк может
ласково назвать подругу «Zabko» или «zabciu» — наверно, по-
русски это было бы «Жабулька ты моя!».
Но если национальные культуры далеко отстоят друг от
друга, подобных расхождений гораздо больше. У казахов
«чибис» ассоциируется с жадностью; «сова» — с безалаберностью,
беспомощностью, рассеянностью, «пчела» — со злобностью и
недовольством. В русской культуре таких ассоциаций нет.
В некоторых случаях зоосравнение в одной из культур
невозможно в другой. Если в казахской культуре популярны в
этом плане шмель, щука, кобель, воробей, то в англоязычных
странах они совсем не котируются. Русские считают льва
эталоном грации, силы и красоты, у казахов он уродлив и неловок.
Черепаха у русских символизирует медлительность,
неповоротливость, у казахов — лень и беспечность. Русским требуется
известное напряжение, чтобы согласиться, что в каких-то
случаях волк может оказаться хитрее лисы. Отношение к крысе,
вероятно, одинаково отрицательно во всех культурах, однако
русским не свойственно, подобно англичанам, ассоциировать
ее с предательством (Войтик 1974:131—132), или, подобно
французам, — с жадностью.
У французов мул («mule») ассоциируется, как во многих
культурах, с упрямством, но — с сексуальным оттенком (по-
видимому, здесь возникает ассоциация со звучанием слова
«muliebria» (лат. название женского органа), ср.: Edouard 1983:
316). «Клоп!» («punaise») применяется к проститутке и
склочнику. Последнее значение клоп делит с гадюкой («vipère»), но
гадюка ассоциируется с ощущением опасности и угрозы, а
клоп — с гадливостью и презрением. «Треска!» («morue»)
употребляется в значении «проститутка» и просто «баба».
«Кенгуру!» («kangourou») имеет значение «непостоянный человек»,
«попрыгунчик», «флюгер».
В испанской этнической традиции за волком, овцой,
коровой, слоном не закреплено никаких признаков, позволяющих
255
использовать их в качестве вокатива. Заяц символизирует
трусость, а кролик — нет, козел — это муж, которому
изменила жена, но жену, которой изменил муж, назвать козой нельзя.
Крот у испанцев — символ тупости и ограниченности,
устрица — молчаливости и сдержанности, хорек — назойливого
любопытства и нелюдимости и мн. др.
Нем. «Schnapsdrossel» означает пьяницу («Drossel» — дрозд).
У баварских немцев «Сурок!» («Mearmel») — застенчивый
человек.
В таиландской культуре змея — символ выдержки,
обезьяна — мудрости, слон — добропорядочности, крокодил —
спокойствия и невозмутимости.
Среди сравнений йоруба (Юго-Западная Нигерия): «сухой
(тощий), как рыба», «маленький, как сверчок», «говорит, как
лягушка», «обжирается, как крыса», «уродлив, как жаба»,
«глуп, как обезьяна (баран, козел)», «нем, как овца» (Warren е. а.
1981: 39).
В чечено-ингушской практике ишак — символ упрямства
(«Ты упрям, как ишак брата!»), то же — у лезгинов и мн. др.,
буйвол — символ неопрятности (приблиз. как рус. «Свинья!»),
кошка, напротив, символ опрятности, аккуратности. Во
французской культуре «Кошка!» («Chat!») — очень грубое
оскорбление женщины с сексуальным подтекстом (ассоциируется с
«chas» — «ушко иголки») (ср.: Edouard 1983: 195).
Противоположным образом англ. «Cat!», обращенное к мужчине,
приобрело в последнее время комплиментарные коннотации.
В таджикском ареале в сравнении людей с животными
выступают: лев как олицетворение смелости, лиса — хитрости
(лис — похотливости), змея — ловкости и ума («Ужаленный
змеей» = приблиз. рус. «Стреляный воробей»), корова —
глупости. Пожелание больному стать «как петух» или «как конь»
означает благопожелание. В ответ на вопрос об исходе дела
ответы могут быть «Лев!» (исход положительный) или «Лиса!»
(исход отрицательный) (Салибаев, Алиев 1982: 131). Тадж.
«Харгош!» («ослиные уши») означает приблиз. «дурак, тупица»,
но «Хар!» («ишак») — «бессовестный», «похотливый».
В Азербайджане угодника и подлизу называют «шакалом»,
наименованием, используемым в ряде очень грубых инвектив.
В языке ашанти шакал — «пустомеля».
У эскимосов ворон (мифологический создатель всего
сущего) — символ мудрости, паук — мифический помощник
человека, предупреждающий зло, жук, напротив, — символ
зла, лиса — символ мудрости, а не хитрости (Меновщиков
256
1982: 144). В таджикской же практике сравнение с лисой очень
оскорбительно, прозвища, включающие наименование лисы,
звучат исключительно грубо, английское «Лиса!» («vixen»)
употребляется как обращение к женщине со скверным,
неуравновешенным характером.
Сходным образом в большинстве европейских культур
осел — символ тупости и упрямства. То же — в египетском
арабском, ср. «Humaar!» («осел»), как и «Ibn ilhumaara!» («сын
ослицы»). В чечено-ингушском ареале вокатив «Осел!» может
быть обращен к невнимательному слушателю: «у осла
опущены уши». У сербов осел — носитель ряда положительных
качеств; зато у них очень бранно звучит «Конь!» (ср. рус.
«Жеребец!»).
Обидные сравнения татар и башкир включают: «как
медведь» (неуклюжий, неповоротливый), «как лошадь» (слишком
большой, крупный, крепкий), «как змея» (изворотливый,
коварный, опасный), «как таракан, попавший на горячую плиту»
(суетливый, непоседливый) (Султанов 1982: ПО).
Среди уничижительных вокативов в португальском языке
можно выделить «желтую корову», «уродливого червя» и
«ласточку», играющую в португальской культуре роль перекати-
поля.
Пример ругательств из Восточной Индии: «Сын совы!»,
«Иди отсюда, сын кривоногой коровы!»
У карибов черепаха традиционно считается медлительной
и глупой, что даже мешает употреблению черепах в пищу
(Фрезер 1983: 464).
В странах буддизма заяц — символ мудрости, поэтому
сравнение с зайцем не может быть оскорбительным. То же — у
японцев и африканских негров, где заяц, правда, символ
догадливости. В древнем Китае заяц был священным животным.
Однако в настоящее время «Заяц!» в Китае — сильнейшее
оскорбление с сексуальным подтекстом. Так же сексуально
воспринимают китайцы восклицание «Черепаха!» и его варианты
«Зеленая черепаха!», «Сын зеленой черепахи!». Однако
болотная черепаха ассоциируется уже с трусостью, как и крыса
(Котов 1983: 118).
На языке фарси «Shutur!» («верблюд») или «Gardan dirâz!»
(доел, «длинношеий», т. е. тоже верблюд) относится к высокому
и неуклюжему человеку, «Fîl!» («слон») — к толстому и
глупому, «Khirs!» («медведь») — к толстому и ленивому, «Bû
ghalamûn!» («индюк») — к непостоянному (ср. рус. «Хамелеон!»,
шея индюка меняет цвет), «Gâv!» («корова») — к глупому, бес-
9 В. И. Жельвис
257
чувственному, с плохими манерами, «Dirâz gush!»
(«длинноухий», т. е. осел) — к глупцу. Доносчик, кляузник в персидской
традиции называется «Aghrab zîr ghâly» («скорпион под
ковриком»).
Весьма отличны от соседних зооморфизмы в японской
культуре. Райская стрекоза ассоциируется с повесой и лентяем,
горная обезьяна — с деревенщиной, лошадь — с дураком,
разиней, собака — с фискалом, тля — с паразитом, утка — с
простаком, клещ — с хулиганом (Фролова 1983: 115).
Некоторые японские инвективы на взгляд иностранца
звучат и вовсе загадочно. Распространенный японский зооним,
приблизительно соответствующий русскому «Дурак!»,
представляет собой комбинацию «олень + лошадь». Некоторые
зоонимы могут использоваться вместо других инвектив не-
зоонимов, но в том же значении: «Старый черт» из «Ревизора»
(«Беда, если старый черт, а молодой — весь на виду») передается
японским переводчиком как «старый барсук», что в японской
традиции приблизительно соответствует русской «старой
лисе» (Уда Фумио 1971: 40).
Очень странное впечатление на носителей другой культуры
производят комплиментарные обращения, если употребленное
в них название не пробуждает у чужеземца положительных
эмоций. Русскому или итальянцу трудно понять, что в Индии
можно польстить женщине, если сравнить ее с коровой. У
готтентотов корова считается образцом добродетели, откуда
и комплимент девушке-готтентотке: быть, как корова (Дри-
дзо, Минц 1976: 80). Ср. фр. «Vache!» — ассоциируется с
глупостью, тупой силой, злоупотреблением властью и поэтому с
полицией.
Ср. также индийское комплиментарное «Гаджагамини» —
идущая походкой слона, то есть грациозная, изящная. Хороший
комплимент японке — сравнение ее со змеей, а татарке или
башкирке — с пиявкой, олицетворяющей совершенство форм
и движений (Султанов 1982: ПО).
В большинстве ареалов «Гусыня!» — оскорбительное
обращение к женщине (приблиз. «Дура!»), в Египте — это ласковый
комплимент, который можно поставить в один ряд с амер. «My
honey!», англ. «My sweet peach!», фр. «Mon petit chou!» и т. д.
В американской культуре «мышь» может означать
привлекательную девушку, молодую женщину, жену. Правда,
вероятно, что слово «mouse» («мышь») в данном случае восходит к
африканским словам «muso» (на языке мандинто) и «musu» (на
языке ваи), означающим просто «женщина», «жена», то есть
258
«mouse» здесь фактически не восходит к зооморфизмам
(Dalby: 6). Однако превращение этого слова именно в «мышь»
в комплиментарном смысле может означать только вполне
благосклонное отношение к мыши как к животному. Ср.
также рус. «Мышка!» как ласковое обращение.
Очень положительные ассоциации вызывает киргизское
название верблюда, добросовестного и выносливого помощника
человека. У русских верблюд, как правило, особо
положительных эмоций не вызывает, но:
В той части, где служил Толокно, саперов с уважением называли
верблюдами (А. Платонов).
У французов же «un chameau» — «верблюд» — синоним
грязного и злобного человека.
В некоторых ареалах зооморфизмы могут носить как бы
неантропоморфный характер, когда одному животному
приписываются качества другого. В Китае крестьянин в прошлом мог
украсить хлев надписями вроде «Буйвол — как тигр Южных
гор», «Лошадь — словно дракон Северных морей»
(Календарные обычаи... 1985: 26).
Наконец, имеет смысл упомянуть еще один неординарный
инвективный способ: проклятие, носящее, если можно так
выразиться, косвенно зооморфный характер. Ср. ирланд. «Пусть
она выйдет замуж за призрака и родит от него котенка!» или
инд. «Пусть твоя дочь выйдет замуж за джинна и родит от него
трехголового змея!» (Johnson 1948: 77).
Из некоторых приведенных выше примеров видно, что
иные зоовокативы настолько эмоционально насыщенны, что
можно говорить уже о некотором перенасыщении, когда слово
являет собой как бы неконкретный «эмоциональный всплеск»,
когда уже неясно, какое качество животного имеется в виду.
Десемантизация в таких случаях доходит до того, что уже
одного названия животного недостаточно, чтобы определить,
какой человеческий недостаток имеет в виду данная зооин-
вектива. В таких случаях инвектанту приходится добавлять
уточняющее определение или разворачивать инвективу в целое
высказывание. Ср. рус. «Мартышка!», имеющее слишком общее
значение и могущее означать несколько отрицательных
качеств. Соответственно возможны «Глупая мартышка!», «Вер
тишься, как мартышка!», «Что это ты вырядилась, как
мартышка!» и т. д.
Перейдем теперь к описанию инвектив, связанных с
наименованиями свиньи и собаки. Ролям этих животных в различных
9*
259
культах посвящена обильная литература, поэтому здесь
целесообразно отметить лишь в самом общем виде их большое
значение в религиозной и экономической жизни древних народов,
значение, не исчезнувшее и в настоящее время.
Без сомнения, первоначально свинья считалась священным
животным — например, в Ассирии, однако позже у многих
народов она стала нечистым существом.
В некоторых ареалах, однако, эта последняя тенденция не
возобладала. Папуасы верят, что, поедая свинину, они
приобретают силу свиньи. До сих пор в папуасском племени моту
(Новая Гвинея), где домашних животных очень мало и они
ценятся очень высоко, новорожденным девочкам дается имя
Борома («свинья») (Дридзо, Минц 1976: 34).
Подобная практика абсолютно исключена в мусульманских
странах, где «Свинья!» (напр., тур. «Domuz!») — одно из
сильнейших оскорблений, мясо свиньи полностью исключено из
пищевого рациона, и восприятие свиньи как животного лишено
каких бы то ни было положительных ассоциаций.
Характерное проклятие у мусульман с острова Сималур (Суматра):
«Ты — последыш свиньи!» (Остров... 1964: 153), то есть что-то
вроде «Свиньин сын!»
В японской инвективной практике бранные вокативы тоже
не обходят стороной свинью. В Китае «Свинья!» подразумевает
тупоумного человека, в Восточной Индии одна из инвектив
выглядит как «У тебя мать что, со свиньей спала?».
В европейском ареале тоже прослеживается
положительная и отрицательная оценка свиньи. Особенно хорошо это
видно на примерах из немецкого языка. Очень грубы
инвективы «Du Sau!», «Du blöde Sau!», «Du Drecksau!», «Du
verdammtes Schwein!», «Dummes Schwein!» и т. д., все с примерно
тем же значением «Грязная (тупая и т. п.) свинья!», «Zuchtsau!»
(«племенная свинья») относится к похотливой женщине.
«Sauwetter» («свинья + погода») означает что-то вроде рус.
«Чертова погодка!», но «Sauwut» («свинья + бешенство») — дикое
бешенство, «свинячья ярость», «Saugut» («свинья + добро»),
«Sauglück» («свинья + счастье»), «Sauarbeit» («свинья +
работа») — высокую оценку (приблиз. -рус. «Вот повезло!»).
В итальянской инвективной традиции свинья — частый
компонент богохульных ругательств типа «Рогса Madonna!», «Dio
porco!» и т. д.
Русское «Свинья!», как и англ. «Pig!», «Son of a swine!»
(свиньин сын), эст. «Siga!», кирг. «Чочко!», груз. «Se gorissvilo»
(свиньин сын) и мн. др. носят преимущественно бранный
260
характер. Англ, «Не is an obstinate pig!» (доел. «Он — упрямая
свинья!») = «Он упрям как осел!»
В американском варианте «Pig!» может означать шлюху, как
и «pig-meat». Исторический словарь сленга дает следующие
значения «pig»: 1) армейский офицер, полицейский; 2) проститутка;
3) уродливая женщина, особенно толстая или грязная; 4)
распущенная женщина; 5) любой грязный или неряшливый человек
(Spears 1982: 310). В междометном варианте существуют «Pig's
ass» и «Pig's arse!» («Свинячья жопа!»).
Особое место занимает «свинья» («cochon») во французском
языке, где эта инвектива чрезвычайно широко распространена.
«Словарь разговорной лексики» передает некоторые значения
французского слова «cochon» («свинья») как «грязнуля,
скотина, похабник, дрянь» (Гринева, Громова 1988: 150).
В свое время это слово фигурировало как одно из самых
грубых оскорблений. Сегодня оно воспринимается гораздо
мягче, иногда даже комплиментарно («Petite cochon!», женский
вариант — «coche»). Гораздо грубее звучит сегодня другой
французский вариант «свиньи» — «роге», имеющий смысл
«грязнуля, обжора, развратник».
Французская (а также немецкая) молодежь крайне
левого, особенно экстремистского толка периода 60-х годов
называла свиньей, как правило, полицейских, но также и
всякого представителя «системы» вообще. Исследователи
молодежных течений считают, что такое использование этой
инвективы восходит к архаической индоевропейской
мифологии, где свинья была материальным воплощением сил зла и
мрака. Еще Лютер прибегал к этому слову, говоря о
«папистской скверне».
Но еще больше, чем свинья, пользуется популярностью в
составе бранных идиом собака. Именно в силу ее
исключительной значимости в инвективном общении следует отдельно
рассмотреть как роль самого животного в обществе, так и роль
соответствующих наименований в системе общения.
Начнем с последнего вопроса. Трудно назвать ареал и
культуру, где не существовало бы инвектив, включающих «собаку».
По утверждению известного путешественника XVI в.
Зигмунда де Герберштейна, посетившего Россию и Венгрию, в обеих
этих странах существовало очень сильное ругательство,
непристойным образом сопрягавшее собаку и мать. Другими
словами, то, что сейчас называется «русским матом»,
включало собаку как производителя табуированного позорящего
действия. То есть смысл брани был «Пес еб твою мать!», «Псу
261
бы мать твою е(б)ти!», «Пес еби твою мать!» и т. д. (Isacenko
1964).
Кроме России и Венгрии, подобные ругательства
существовали в Сербии и Хорватии. С XV, а возможно, с ХШ в.
это выглядело как «Пес бы еб твою мать!» («...ti pas mater»)
(вариант: «te vrag», то есть производитель действия здесь —
дьявол). Кроме того, существовали варианты, как бы
сокращавшие инвективу, снимавшие непристойный глагол: «Сын
собаки!» («Сукин сын!») (Kiener 1983: 278). Таким образом,
«сукин сын» — это тот же мат, только осуществленный
разрешенными словами.
О роли собаки в составе наиболее непристойных инвектив
в этом ареале говорит даже то, что сама брань этого рода
называется «bludna psovka». Такая же брань в Болгарии
называется «псованиата». Подобный вариант встречается и в
современном польском языке («pies ciejebal»), где «jebac» и
«lajac» (т. е. как бы «ебать» и «лаять») — синонимы, означающие
«бранить». Ср. в рус. глагол «лаяться» = «браниться» («Он меня
облаял ни за что» = «обругал»). В русской рукописи ХУШ в.,
направленной против матерной брани, говорится:
...И сия есть брань песья, псом дано есть лаяти.
В другой, уже упоминавшейся выше, рукописи говорится о
«злой лае матерной».
Современные венгерские варианты: «A kutya basszom meg!»
(«Чтоб тебя собака выебла!»), «Bazd meg az anyadat!» В
последнем случае разница с русским матом в том, что непристойное
действие производится в адрес не «твоей», а «своей» матери:
«Еби мою мать!» Ср. рус. «Черт меня побери!» Но наименования
собаки в этом венгерском варианте уже нет. Ср. англ.
«Motherfucker!», где налицо — явный мат, но тоже без собаки.
Примеры мата, где пес — действующее лицо: болг. «еба си
куча майката», серб, «jeöo те пас», белорус, «ебау его пес».
Что касается связи «собачьего» мата и нечистой силы, то
есть возможности замены собаки и дьявола (см. примеры
выше), то такая замена вполне допустима, если учесть, что
собака, как будет показано ниже, могла считаться исключительно
нечистым животным, спутником дьявола и т. д.
Именно поэтому в народном сознании собака могла
успешно конкурировать с чертом в других инвективных
восклицаниях типа «Черт с ним!» — «Пес с ним!», «Черт его знает!» —
«Пес его знает!» и даже «Ну его к чертям собачьим!». Вот
почему обвинение в сношениях с собакой (= дьяволом) можно
262
было понимать и как обвинение в ведьмовсгве, то есть «Твоя
мать совокуплялась с собакой» = «Твоя мать — ведьма!».
Однако такое объяснение «собачьего» мата не является
единственным. Допустимо интерпретировать его и как способ
максимального унижения матери оппонента, причем и эта
интерпретация возможна в двух вариантах: 1) «Твоя мать была
изнасилована собакой» и 2) «Твоя мать по собственному
желанию вступила в связь с собакой». В последнем случае это
оскорбление смыкается с инвективой типа «Твоя мать —
шлюха!». В обоих случаях оппонент — «сукин сын». Ср. фарси
«Mâdar sag!» — «Твоя мать — собака!».
Довольно убедительной кажется гипотеза о том, что
наиболее непристойное слово русского языка — «пизда» произошло
от «пес», как и его соответствия в других языках — например,
англ. «cunt», фр. «con», исп. «сопо» и др. под. могут иметь
отношение к лат. «canis». Греч, «kuon» («бесстыдный») может
означать «vulva».
Как видно из приведенных выше примеров, в настоящее
время инвектив, напрямую называющих собаку в качестве
производителя непристойного действия, осталось мало —
конечно, если не включать в это число многочисленные
варианты «сукина сына» («сын суки», «сын собаки» и т. д.). Даже
простая инвектива «Собака!» может рассматриваться как
намек на «собачий» мат, подобно тому как инвектива «Сестра!»
или «Шурин!» имеют непристойный смысл в некоторых
культурах (см. ниже).
Это не означает, что так было всегда. Можно
предположить следующее развитие «собачьей» инвективы. Вначале
инвектива была исключительно резкой и обвиняла оппонента
в позорном или даже дьявольском происхождении, что,
разумеется, имело целью понижение его социального статуса.
Однако позже произошел ряд социальных и языковых изменений,
которые привели к серьезному изменению самой сути
инвективы. Прежде всего, изменилась оценка собаки, которая в
одних ареалах оставалась «нечистым» существом, в других
приобрела статус лучшего друга человека. К концу средневековья
охота за ведьмами стала терять свою «актуальность», так что
обвинение в ведьмовсгве перестало ощущаться столь остро, как
раньше.
Сам факт крайней эмоциональной насыщенности
инвективы «Пес!», «Собака!» привел к эмоциональному
перенасыщению и как результат — к снижению эмоциональной силы
слова и его междометизации.
263
Когда же вся идиома с этим словом окончательно
превратилась в довольно слабое восклицание, подлинный
непристойный смысл всего сочетания перестал иметь большое значение,
и «пес» мог опускаться как само собой разумеющийся. С
течением времени, однако, перестав употребляться на протяжении
столетий, слово «пес» забылось.
В результате такой трансформации вся инвектива
неожиданно приобрела новый очень грубый смысл, так как теперь
уже основная оскорбительная роль принадлежала не псу, а
самому говорящему.
В абсолютном большинстве случаев, однако, говорящий в
подобных инвективах не называется, хотя и подразумевается, то
есть «Еб твою мать!» интерпретируется как «Я еб твою мать!».
Именно отсутствие прямого упоминания говорящего
заставляет подозревать, что этого самого говорящего в идиоме
никогда и не было, что он фактически домыслен в результате
описанной выше трансформации. Эта трансформация и
превратила бывшую «собачью» инвективу в одну из самых грубых
для любого современного ареала.
Наконец, нельзя не упомянуть о еще одной гипотезе,
согласно которой собака вообще не имеет отношения к природе
мата. Исследователь инвективного словаря в языках народов
мира И. Гавран, писавший на сербо-хорватском языке, а вслед
за ним и Ф. Кинер, выпустивпшй монографию на ту же тему по-
немецки, предполагают, что первоначально мат выглядел
примерно как «Пусть дьявол выебет твою мать!», а уж потом
«дьявол» заменился на автора высказывания (Kiener 1983: 278).
Таким образом, поначалу это была чудовищно богохульная
брань. В свое время брань даже против матери, отца, семьи
считалась «малой бранью», а все, что поминало веру, крещение,
душу и т. д. — «великой бранью». Гавран утверждает, что в
XVin в. славянский мат распространился на славянских
католиков и частично — далматинцев. А в XIX в. расширился
богохульный набор «объектов мата», кроме матери в ход пошли
Бог, Мадонна, святые, всевозможные священные предметы
вроде просфоры, креста и т. д. За ними последовали власть
предержащие, мирские предметы...
Думается, что и эту гипотезу можно соединить с
предыдущими: один вариант не исключает и другого. Сомнение
вызывает разве что утверждение, что оскорбление в адрес рода
когда-либо считалось слабее оскорбления религиозных святынь:
в самом крайнем случае они могли быть только равными по
уважительному к ним отношению; в конце концов, родовые
264
святыни имеют самое прямое отношение к святыням
церковным. В этом убеждает инвективная стратегия неславянских,
особенно южных и восточных народов.
Все сказанное касается мата, с собакой или без оной. Однако
и прочие инвективы, включающие «собаку», которые
сохранились до наших дней, обычно воспринимаются как достаточно
грубые. Ср. в русском языке:
Исторические (былинные) примеры:
Нечестно у князя за столом сидит,
Ко княгине он, собака, руки в пазуху кладет.
«Ай же ты, старая собака, седатый пес...» (цит. по: Блуд на Руси 1997:
31).
Пример современный:
— Дай сюда вилы, собака, и отойди от греха.
— Я не собака, а хрещеный человек. Вот отвезу — и отойду. И совсем
уйду (И. Бунин).
Слово «собака» было бранным у древних греков. Ср.:
Но Пелид быстроногий суровыми снова словами
К сыну Арея вещал и отнюдь не обуздывал гнева:
«Грузный вином, со взорами песьими, с сердцем еленя!»
(Гомер. Илиада. Пер. К Гнедича)
Но раздражилася Гера, супруга почтенного Зевса,
И словами жестокими так Артемиду язвила:
«Как, бесстыдная псица, и мне уже нынче ты смеешь
противостать?»
(Там же)
Совершенно очевидно, что современный переводчик сказал
бы не «псица», а «сука».
Даже происхождение собаки связывалось греками с Кер-
бером, страшным псом — сторожем адских врат.
Инвективная политика римлян мало отличалась в этом
отношении от греческой.
Из современных языков стоит обратить внимание на то, что
даже в японском языке, с его относительно бедным и
малопопулярным набором некодифицированной бранной лексики,
существуют инвективы, означающие «Собака!» и «Волк!».
Очень резкий характер носят оскорбления, связанные с
названием собаки, в кавказских культурах, причем
мусульманские традиции мало отличаются в этом отношении от
христианских. В произведениях Важа Пшавелы хевсуры (христиане)
и кистины (мусульмане) одинаково оскорбляют друг друга
265
«Пес!» и одинаково рассматривают это оскорбление как
смываемое только кровью. Ср.:
Грянуло ружье Муцара (мусульманина. — В. Ж.),
Открошился выступ скал.
Крикнул кист: «Эй, пес неверный!
Так в тебя я не попал?»
«Не попала, пес неверный! (слова христианина Алуды. — В. Ж.)
И не ранен раб Гуданского креста!»
(Перев. В. Державина)
В грузинской и армянской традициях исключительно грубо
звучат инвективы типа «Твой отец — собака!», потому что
задевают честь не только того человека, к которому обращены,
но и всего клана.
Подобным же образом самое крепкое ругательство в
Египте: «Ах ты, отец шестидесяти собак!» Количество собак здесь
подразумевает оскорбление всего мужского состава рода
адресата. Аналогичным образом построена инвектива «Bint sittin
kalb» — «дочь шестидесяти собак». Другие египетские
инвективы из «собачьей серии» больше напоминают европейские,
например, «kalb» — «кобель», «kalba» — «сука», «ibn kalb» — «сын
кобеля», «bint ilkalb» — «сын собачьей (кобелевой) религии». В
отличие от многих других национальных рядов, просто
«Собака!» или «Сука!» звучит слабее, гораздо слабее, нежели «Сукин
сын!» и его варианты.
В армянской традиции существует инвектива, означающая:
«Ты вышел из ануса собаки!»; важно, что она воспринимается
отнюдь не как пустая, бессмысленная, хотя и оскорбительная
фраза. Наоборот, как указывают информанты, наблюдаются
случаи, когда дети, рано услышавшие это ругательство,
начинают верить, что и сами они появились на свет через анальное
отверстие своей матери1.
Достаточно оскорбительны соответствующие инвективы и
в других ареалах. По-калмыкски «Собака!» звучит очень
резко. Сравнение с собакой — одно из самых оскорбительных у
таджиков. Ненец может очень сильно задеть честь
противника заявлением, что тот «хуже, чем собака!». Особенности
ненецкого языка не позволяют возникнуть инвективе «Сукин
1 Такое мнение разделяется и представителями других культур. В
канадском французском (Квебек) существует одно слово, означающее вагину и
анальное отверстие, а среди выражений со значением «родить ребенка»
встречается «chier un enfant» (буквально «высрать младенца») и «chier des os» («вы-
срать кости»), а самого младенца могут назвать «frais-chiér» (букв, «свеже-
высранный») (Huston 1977: 65).
266
сын!», поэтому соответствующее оскорбление звучит как
«Потомок собаки!», то есть примерно так же, как в
азербайджанском языке. В ненецком и болгарском языках существует
сходная инвектива: «Сука во время течки!» Известна грубая
китайская инвектива: «Разобьем их собачьи головы!» (Более
близкий к сути оскорбления перевод звучит приблизительно
как «Разотрем в порошок головы этих псов!».) Мексиканцы
называют постового-регулировщика «guau-guau» — «гав-гав».
Еще очень сильное в недавние времена ругательство во
французском языке звучит в дословном переводе как «Святая
собака!» («Sacre-chien»).
Другие французские инвективы, связанные с названием
собаки: «Chien du bord» («старпом»), «chien du commissaire»
(«секретарь полицейского участка») и др. Явно богохульный
характер имеет образованная по модели «Nom de Dieu!» идиома
«Nom de chien!». Резко негативное значение собаки видно и в
идиомах типа «Chienne de vie».
Многочисленны «собачьи» инвективы в итальянском
языке. Ср.: «Porco cane!», «Сапе rognoso!» и выражения типа
«morire comme un cane», «vita da cani», «trattato corne un cane»
и т. д. («сдохнуть, как собака», «собачья жизнь»,
«обращаться как с собакой» и т. д.). Широко распространено
производное от «сапе» — «canaglia» (отсюда рус. «каналья») в значении
«босяк», «предатель», «трус», «плут», «неряха», «мошенник»,
«грабитель». Нередко встречается употребление «Cagna!» —
«Сука!» в значении «распутная женщина», «проститутка».
«Mondo сапе!» — «Что за собачий мир!»
В немецком языке популярна инвектива «Blöder Hund!»
(«Глупый пес!»). Весьма выразительно звучит «Du gemeiner
Schweinhund!» («свинья + собака» = «Подлец!»). Человек,
назвавший другого собакой или присоединивший к его имени
прилагательное «собачий», может даже подвергнуться судебному
преследованию. Ср. такие немецкие сочетания, как «Scharfer
Hund» — о строгом человеке, «Falscher Hund» — о лжеце,
«Sturfer Hund» — об упрямце и т. д.
Характерно, что даже сравнительно мягкие оскорбления
этого типа, такие как «Spitzbube!» («Щенок!»), адресованные,
например, старику, могут восприниматься как исключительно
резкие, так как намеренно снижают социальный и возрастной
статус адресата. Нем. «Frechdachs!» означает «Наглец!»
(«Dachs» — собака такса).
В инвективном списке индейцев меномини (племя
центральных алгонкинов) кроме обычных «Собака!», «Как собака!»,
267
«Щенок!» и т. п. можно назвать «Собакоподобный!» (о
человеке), «Черный пес!» и даже «Зеленый пес!» (шутл.) (Aman 1981:
13, со ссылкой на L. Bloomfield).
Исключительно велика «роль» «собаки» во всех странах
английского языка. Соответствующие инвективы
многочисленны и разнообразны. В качестве инвективы слово «Dog!»
может означать «Подонок!», «Старая проститутка!»,
«Развратник!»; «Bitch!» («Сука!») долгое время считалось наиболее
грубым оскорблением женщины, грубее, чем «Whore!» Ср.: «I may
be a whore, but I can't be a bitch!» (Rawson 1989: 44) (в
приблизительном переводе: «Может быть, я и блядь, но уж никак не
сука!»). В кругах современного американского среднего класса
это слово до сих пор непроизносимо. Однако в целом можно
говорить о значительном снижении резкости этой инвективы в
обществе. Американский негр может назвать свою жену
ласково (в приблиз. переводе): «Ах ты, моя черная сучка!» Но
белый назвать так свою жену-негритянку не может ни под каким
видом, ибо это будет воспринято как тяжелейшее
оскорбление.
В английском военном сленге множество самых различных
бранных наименований включает «собаку»: пайковый сухарь —
доел, «собачий бисквит», военный священник — «собачий
ошейник», рядовой — «собачья рожа», воздушньш/рукопашный
и проч. бой — «собачья схватка», мясные консервы — «собачья
еда», гауптвахта — «собачья конура», личный знак — «собачья
бляха», еда — «собачья блевотина» и проч. Солдат определяется
как «собачья морда, которая носит собачью бляху, спит в
собачьей палатке и, как правило, ведет собачью жизнь» (Судзилов-
ский 1973: 107—108). Немецкий солдатский знак — тоже
«Hundesmarke».
Чрезвычайно интересно использование слова «dog» в
качестве своеобразного «инвективного эвфемизма» вместо еще
более непристойного богохульства «God!». Простая
перестановка звуков никого не обманывает и одновременно
сохраняет резкую сниженность инвективы. Ср. также такие
выражения, как «Doggone» вместо «Goddamn», «Dog bite me!»
(«May God bite me!»), «Dog-blime-me!» («May God blind me!»);
«Dog's wounds!» («By God's wounds!»), «Dog take!» («God take
me!») и т. д. (Spears 1982: 114).
Своеобразно большинство выражений, связанных с собакой,
в фарерском языке. «Eg min dummi hundur!» — дословно
означает: «Я моя глупая собака», т. е. «Какой я дурак!»
Соответственно брань в адрес собеседника «Ты — дурак!» выглядит
268
как: «(A) tin dummi hundur!», т. е. «О твоя глупая собака!» О
третьем лице: «Hann er ein dummur hundur!» — «Он — глупая
собака». Отослать куда подальше можно с помощью «Far â
hundanum til vid taer!» — «Иди ты к собаке!» (ср.: «Иди к черту!»).
«Hetta er â hundanum til!» — доел. «Это к собаке!», но по
смыслу: «Я влип!» На вопрос, как идут дела, фаререц может
ответить: «Tad gongur â hundanum til» — «Это идет к собаке»,
в смысле рус. «Все идет к чертям» или англ. «It goes to dogs».
Другой, нежели в Европе, статус «собаки» способен привести
к другому истолкованию истинного смысла инвективы, с
другими отрицательными свойствами. У народности ашанти (Гана)
оскорбление «Собака!» вовсе лишено уничижительного
значения, характерного для вышеперечисленных этнических
традиций, но зато ассоциируется с бездомной, не имеющей хозяина
собакой, слоняющейся по африканской деревне.
В огромном числе ареалов распространена инвектива типа
рус. «Сукин сын!» («Сын кобеля!», «Сын собаки!»). Совпадение
буквального значения этой инвективы с древним вариантом
русского мата (см. выше) заставляет предположить, что «Сукин
сын!» есть лишь смягченный вариант когда-то повсеместно
распространенной инвективы, непристойным образом
сопрягающей собаку и мать. Примеры из современных языков: англ.
«Son of a bitch!», нем. «Hundessohn!», эст. «Litapoeg!», болг.
«Кучи син!», фр. «Fils de chien!», груз. «Jaglissvilo!», тадж.
«Писари кучук!», алб. «Quen birqueni!» (букв, «собака», «сын собаки»).
Ит. «Figlio d'un сапе!» («сын собаки, кобеля») означает
«ничейный сын», «незаконнорожденный», «приблудный», a «Figlio
d'una cagnia» («сын суки») — «сын проститутки», «шлюхин сын».
Польская инвектива «Psia krew!» («Песья кровь!») как бы
перефразирует «Сукин сын!», означая «В тебе течет кровь
собаки!».
В румынском языке оскорбительное «Собака!» («coine»)
может относиться как к человеку, так и, например, к лошади,
корове и т. д. — выбор безграничен.
О «собаке» можно повторить то, что было сказано выше о
«свинье»: тот и другой вокатив могут неожиданно приобретать
не уничижительный, а комплиментарный смысл («Как он,
собака, прекрасно танцует!», «Он предан мне, как собака», «Я —
твой верный пес» и т. д.). В английском употреблении с
помощью названия собаки можно назвать мужчину веселым,
умным, проницательным, достойным доверия («gay dog», «wise
old dog», «jolly dog», «sly dog», «trustworthy dog» и т. д.). В
грузинском употреблении «Mamajaglo!» — «Собачий отец!» может
269
служить эквивалентом к рус. «Сволочь!», но часто используется
как ласковое обращение (Razvratnikov 1988—1989: 42).
Былинное русское обращение «Собака Калин» вначале
отнюдь не носило бранного характера, так как представляло
собой просто кальку с монгольского «No jai Kalyn», где «kalyn»
(«собака») означает лишь имя хана Ногая. Неудивительно
поэтому, что обращение «Собака Калин» (то есть как бы
«хан Калин, которого по-русски звать Собака», или «...что по-
русски означает собака») было возможно в самых
почтительных контекстах (Иванчик 1988: 48, со ссылкой на Р. О.
Якобсона).
Очевидно, что само слово «собака» стилистически
нейтрально, а стилистически нейтральные слова особенно легко
могут реализоваться в речи в самых разных, даже
противоположных смыслах. При этом образность слова тем сильнее,
чем более «не по назначению» оно используется (Леонтьев
1973: 49).
Вот почему слово «собака» способно выражать целый набор
знаково разных понятий: в тексте по собаководству оно звучит
нейтрально, в комплиментарном смысле оно становится
гораздо более выразительным, и, наконец, в составе оскорбления
это же слово приобретает резко грубый, шокирующе
уничижительный смысл. В сознании говорящего имеются все
функциональные признаки слова «собака», но в конкретном тексте, как
правило, на первое место выступает та или другая черта.
Трем знаково различным возможностям использования
слова «собака» соответствуют три варианта отношения
человека к собаке как к животному. Уважительное, а порой и
отношение к собаке как к священному животному было
характерно для многих древних культур и традиций. Известны
даже самостоятельные «собачьи культы» и священные мифы,
посвященные собакам или так или иначе выставлявшие их
священными (Древний Египет, Древняя Индия, древняя
Спарта, Грузия, Абхазия, государства древних германцев, скифов
и т. д.).
В Европе культ св. Гинефора, которого легенда
идентифицировала с собакой, сохранился до конца XIX в. Многие
мифы прямо указывают на происхождение того или иного
героя или целого народа от собаки.
Однако вышеприведенным примерам противостоят
примеры совершенно иного рода. Талмуд, Ветхий Завет, Коран,
говорят о собаках как о самых презренных, «поганых»
существах, врагах человека. Первые христиане считали, что ненавист-
270
ный гунн Атгила родился в результате преступной связи
девушки с собакой.
Все это исторические примеры. Но и в настоящее время
невозможно говорить о сколько-нибудь однородном взгляде
различных народов на собаку. Представляется возможным
выделить по меньшей мере три основные группы современных
национально-этнических традиций, резко отличающихся по
своему отношению к собаке.
К первой группе можно отнести традицию, по которой
собака безоговорочно считается другом, помощником и
защитником человека, иногда даже прямо приравнивается к
человеку. Ср.:
Нас двое в комнате: собака моя и я. <...> Между нами нет никакой
разницы. Мы тожественны: в каждом из нас горит и светится тот же
трепетный огонек (Тургенев).
В одном «Атласе пород собак» можно прочесть, что
картина английского художника Лэндсира, изображающая
ньюфаундленда, спасающего из воды девочку, расходилась по
всему миру в тысячах репродукций. Название картины не
оставляло сомнений в отношении художника (и
сочувствующих зрителей) к собаке: «Достойный член человеческого
общества».
Ср. газетное сообщение из Западной Европы,
перепечатанное российской прессой:
Министр финансов Исландии Альберт Гудсмундссон неожиданно для
себя оказался в центре шумного скандала. Причиной этого стала... его
собака, дворняжка Люси. По закону, принятому 62 года назад, жителям
Рейкьявика «по соображениям гигиены» запрещено держать домашних
животных. <...> Теперь Гудсмундссон поставлен перед выбором: либо
отправить Люси в «ссылку», заплатив при этом солидный штраф, либо
самому эмигрировать. <...> Он, похоже, склоняется ко второму варианту.
«Люси — дорогой нам член семьи, — заявил он. — Лучше уж я откажусь
от политической карьеры».
Известно, что во многих странах существуют собачьи
парикмахерские, собачьи мясные лавки, магазины одежды для собак
и даже драгоценные украшения для них же. Умершим собакам
ставятся памятники, надписи на которых говорят о вере в
бессмертие собачьей души. В ряде стран (Полинезия, Новая
Гвинея, Алжир, Тунис, Бирма) не считается чем-то необычным
зрелище женщины, кормящей грудью щенка.
Вторая, противоположная этническая традиция бытует в
ареалах, где, например, распространены собаки-парии, отще-
271
пенцы, не имеющие хозяина, но живущие вблизи человеческого
жилья и питающиеся отходами человеческой кухни или
падалью. В такой ситуации к собаке испытьшают равнодушие или
презрение. Соответствующие страны и ареалы — это
Шри-Ланка, Ява, Суматра, Сирия, Судан, страны в верхнем течении
Нила, Индия, Внутренняя Африка, Занзибар, Синайский
полуостров.
К этой группе примыкают ареалы, где не существует табу на
употребление в пищу собачьего мяса. Некоторые народы,
живущие здесь, специально разводят мясные породы собак.
Таковы некоторые племена Африки (азанде, митту и др.), а
также племена, обитающие на Гаити, Гавайских островах, на
Суматре (батаки) и др. Кулинарные рецепты некоторых племен
требуют даже, чтобы животных предварительно замучили до
смерти.
Существует и еще одна, третья группа традиций, в
соответствии с которыми собака рассматривается как исключительно
полезное домашнее животное, заслуживающее — прежде всего
в сельской местности — самого высокого уважения именно в
этом качестве. Никому не приходит в голову приравнивать
собаку к человеку, но в голодные годы детям и собакам
отдавали последние куски. Такова, например, армянская
традиция. Приблизительно такое же отношение к собаке
наблюдается и в других кавказских культурах — например, в
Азербайджане.
В принципе, этнических традиций, в которых отношение к
собаке было бы безоговорочно положительным или
отрицательным, по-видимому, не так много. В большинстве случаев
собака воспринимается носителями каждой традиции более
или менее амбивалентно. В шумерской культуре, в Ассирии,
наряду с изображениями собак в храмах наименование
собаки использовалось в составе бранных идиом. На Руси на
протяжении столетий собака была символом юродства и
отчуждения. Одним из самых унизительных наказаний
считалось избиение дохлой собакой (Лихачев, Панченко 1976: 153).
Следовало избегать даже прикосновения к собаке голой
рукой. Но одновременно собака очень ценилась за свои
полезные качества.
В священной книге зороастризма Авесте собака
определяется очень двусмысленно:
Собаку же по повадкам можно определить восьмикратно: она подобна
служителю Бога, воину, скотоводу, батраку, вору, ночному хищнику,
потаскухе, ребенку.
272
Но тут же можно встретить и безудержное восхваление
животного:
Если собака подошла к дому, не следует мешать ей войти, ибо не
стоял бы так прочно дом на земле, которую создал благой Бог, если бы не
было на земле собаки.
Все эти нюансы получили отражение в инвективной
практике. Наиболее естественно предположить, что резко
оскорбительное значение «собачьей инвективы» есть следствие
отрицательного отношения к собаке и приписывания негативных
качеств собаки человеку.
Но в таком случае «собачья брань» должна иметь место
исключительно там, где к собаке относятся или относились
отрицательно. Тем не менее существуют ареалы, где к собаке
относятся хорошо, но брань, включающая наименование
собаки, очень распространена. Еще более странно, что качества
животного, стоящего у многих народов выше всех других
домашних животных, будучи приписанными человеку, кажутся
ему оскорбительнее, чем качества, например, коровы или
гуся.
Зависимости между резкостью «собачьей инвективы» и
хорошим или плохим отношением в данной местности к
собаке не существует. В Индонезии, где в связи с сильным
влиянием ислама собака считается «нечистым» животным, она не
участвует в создании инвектив. В других же исламских
странах (с арабским языком) «Собака!», как уже отмечалось, —
одно из самых сильных ругательств. Там оно настолько
популярно, что возникло предположение, будто это ругательство
пришло в Европу из арабских стран во времена крестовых
походов.
Однако это предположение маловероятно: использование
наименования собаки как инвективы было бы невозможно без
яркого эмоционального отношения к этому животному. Если
бы во времена крестовых походов отношение к собаке в'Евро-
пе было глубоко безразличным, никакое иностранное влияние
не проявилось бы в виде инвективы. А если такое
эмоциональное отношение имело место, тогда необходимости в
иностранном влиянии просто не было бы.
Так или иначе, но в настоящее время в европейских странах,
где сегодня отношение к собаке самое благосклонное, имеется
множество соответствующих оскорблений.
Разгадка этого феномена видится в том, что превращение
того или иного понятия в сюжет оскорбления может вести про-
273
исхождение из двух диаметрально противоположных
источников: из восприятия этого понятия как священного и как
сниженного.
Такой подход кажется тем более убедительным, если
учитывать, что сниженное восприятие понятия вполне может
развиться из священного — достаточно вспомнить первоначальное
и более позднее восприятие мифа о происхождении человека
или целого племени от союза человека и собаки.
В применении к исследуемой теме это означает, что
обожествление собаки и резко негативное к ней отношение могут
способствовать превращению ее названия в очень резкое
оскорбление, сила которого прямо пропорциональна силе
поклонения или презрения к ней.
Если же отношение к собаке двойственно, то возможность
возникновения соответствующих инвектив еще более вероятна
и оправданна.
Рассмотрим подробнее оба источника инвективизации
«собаки».
Понять, почему инвектива может родиться из негативных
чувств, довольно легко. Однако необходимо признать, что
сравнение с собакой считается оскорбительным еще и потому
(именно потому!), что во многих традициях собака занимает
особое, привилегированное положение среди домашних
животных.
Собака намного больше других животных связана с
эмоциональным миром человека. Но в то же время в ряде аспектов
поведение собаки — этого «почти человека» — находится в
грубейшем противоречии с принятыми в человеческом обществе
нормами. Собака известна своей агрессивностью, может
нападать, даже не будучи на это спровоцированной, она не
стыдится собственных отправлений и, что особенно существенно,
абсолютно не способна соблюдать самое строгое человеческое
табу — табу на открытое осуществление интимных отношений
между полами.
Подобное поведение со стороны «неочеловеченных»
животных общество соглашается снисходительно терпеть; но собака
в такой ситуации может вызвать резкое осуждение: «Кажется,
все понимает, а тут ведет себя, как скотина».
Особенно важно, что собака обладает такими
благородными, с точки зрения человека, качествами, как преданность и
способность к дружбе. В свете таких достоинств нарушение
собакой человеческих табу кажется всем особенно постыдным:
подразумевается, что тот, кто способен быть другом, должен
274
быть этическим образцом и в других отношениях, и
разочарование в этом случае бывает особенно сильным.
Как видим, осуждение собаки в рассматриваемом случае
свидетельствует об очень высокой оценке человеком этого
животного.
Особую роль в превращении названия собаки в оскорбление
может играть табуированность собаки как священного
тотемного животного. Вполне вероятно, что наиболее сильные
значения всех «собачьих» проклятий идут как раз от нарушения
этого жесткого табу.
Это естественно: сила кощунственного нарушения табу
должна быть прямо пропорциональна силе самого табу. И
наоборот, нарушение слабого табу не может восприниматься
слишком остро и не в состоянии стать основанием для
возникновения чрезмерно грубой инвективы.
Несомненно, что для племени, считающего собаку своим
предком, покровителем или родственником, сознательное про-
фанирование священного символа считалось очень серьезным
проступком, отчего оно и вызывало сильный шокирующий
эффект. А сильный шокирующий эффект, как известно, и есть
важнейший признак инвективы.
Парадоксальным образом грубость инвективы здесь
свидетельствует не только, и даже не столько, о пренебрежении
социальными нормами, сколько о неосознаваемом глубоком
уважении, испытываемом перед поносимым понятием. Перед
нами — пример того, как священная и сниженная ипостаси
одного и того же понятия сливаются в единое амбивалентное
целое.
3.5. Сексуальный элемент
инвектнвной лексики
В данном разделе будут исследованы инвективные
выражения, так или иначе лексически связанные с проблемами
детородной функции человека или животных. Вычленить такие
выражения из общего инвективного списка — задача трудная,
частично даже невыполнимая, ибо, как показывает анализ,
большинство инвектив в той или иной мере имеет прямой
сексуальный смысл или в крайнем случае подтекст.
Неудивительно поэтому, что (1) между подгруппами, на которые
подразделяются сексуальные идиомы, нельзя провести четкие
границы и (2) ряд инвективных идиом попадает сразу в несколько
групп.
275
Тактика сексуальных идиом исключительно разнообразна.
Можно назвать, например, использование глаголов
сексуального ряда в значении «Я доминирую, я могу сделать с тобой что
хочу!». Ср. англ. «Fuck you!» или рус. «Я тебя в рот ебал!».
Очень распространены так называемые «матерные
идиомы», по-разному сопрягающие имя матери или других
родственников оскорбляемого с тем же непристойным глаголом.
Большую популярность получили различные
«обнажающие» инвективы, сводящиеся к простому называнию «стыдных»
частей тела. Ср. фр. «Con!», рус. «Жопа!», пол. «dupa», чуваш.
«капса» («пизда»), «чака» («хуй»), фин. «Voi vittu!» (доел. «Ох,
пизда!»).
Чрезвычайно распространены обвинения в позорном
происхождении. Ср. um. «Bastardo!», фин. «Paskiainen!» или рус. «Вы-
блядок!».
Одна из самых распространенных групп — обвинение в
различных перверсиях. «Пидорас!» («Пидор» — искаж.
«педераст»). Ср. азерб. «Кет» («гомосексуалист»). Сюда же
примыкает группа обвинений в скотоложстве или сексуальной
неразборчивости, нередко сводящаяся просто к
наименованию соответствующего животного. Ср. «Сука!». Некоторые
примеры последней группы приводились в предыдущем
разделе.
Среди сравнительно редких «экзотических» инвектив
можно назвать, например, «Необрезанный пенис!» и идиому
«Целоваться по-европейски», очень оскорбительные среди туземцев
архипелага Тонга, а также исп. (мекс.) «A pendejo» («волос с
промежности», «волосатая промежность», употребляется также
и комплиментарно в смысле «ловкий, умелый»). У шведов есть
«Kukjàvel!», сочетание вульгарного названия пениса и дьявола.
Английское соответствие — «Fucking fucker!».
Рассмотрим перечисленные группы подробно.
3.5.1. Непосредственно сексуальные инвективы
Инвективы этого типа, так или иначе группирующиеся
вокруг глагола, означающего «совокупляться», встречаются в
очень большом числе ареалов. В некоторых случаях
соответствующий глагол может употребляться в десятках и даже
сотнях разнообразных сочетаний, в самых различных значениях.
Так, англ. глагол «fuck» может быть инвективно использован
как «Fuck you!» для выражения презрения (ср. рус. «Ебать я
тебя хотел!»), «Fuck me!» — для выражения удивления (ср. рус.
276
«Вот те хуй!» или «Здравствуй-жопа-новый-год!»), «Fuck off!» в
смысле «Убирайся!» («Уебывай отсюда!»), «What the fiick?» —
«Кому какое дело?» («Кого это ебет?»), «Don't fuck about!» —
«Не мели ерунду!» («Кончай пиздеть!») и т. д., а также как
восклицание «Fucking hell!» (доел. «Ебаный ад!»), переводу не
поддающееся, так как очень грубое богохульство «hell» в
сочетании с исключительно непристойным «fucking» звучит
много хуже обычного русского трехэтажного мата.
Популярность «fuck» в англоязычной культуре затмила
даже знаменитое «damn», и если раньше французы называли
англичан «les Goddems» или «Godons», теперь они стали для
них «les fuckoffs». «Fuck» регулярно употребляется в
телепередачах, в частных разговорах, в том числе
высокообразованными людьми, что, естественно, ведет к снижению
выразительности инвективы. В специальном исследовании
отмечается, что это слово по-прежнему негативно
воспринимается теми, кто родился перед Второй мировой войной, но почти
не воспринимается в качестве инвективы родившимися после
войны во Вьетнаме. Причем более оскорбительно это слово
звучит в своем прямом значении, как вульгарное наименование
полового акта, и более или менее приемлемо — как
междометное восклицание, выражающее гнев или раздражение (The
Guardian 1991. Oct. 25).
В ряде языков соответствующий глагол может быть
направлен на мать, жену, дочь, мужских родственников оппонента, на
неодушевленные предметы и т. д. Ср. новогреч. «Гамо ти мана
су!» («Я выебу твою мать»), «Гамо ти инека су!» («...твою жену»),
«Гамо ти кори су!» («...твою дочь»), «Гамо ти фили су!» («...твою
любовницу!») и т. д. Автор слышал русскую фразу «Ебал я
твою домовую книгу!».
Очень разнообразны венгерские инвективы, которые,
подобно новогреческим, могут включать в качестве объекта
любых родственников и многочисленные священные объекты
(«...твоего дедушку, твоего Христа, твоего Творца» и т. д.). В
других венгерских моделях в качестве объекта агрессии
упоминаются Конь Господа, Конь Христа, Дева Мария, Господь
Небесный, дорогой Господь твоей жалкой матери-проститутки
и т. д., а также всевозможные непристойные сочетания с
ослом, лошадью и т. д.
В Средней Азии распространена модель «Я + непристойный
глагол в настоящем, прошедшем или будущем времени +
пассивное лицо (сам оппонент, его мать, сестра, отец и т. д., иногда
даже предмет, принадлежащий оппоненту) + часть тела», то
277
есть что-то вроде «Я ебу (ебал, буду ебать) тебя (твою мать,
твоего отца, твою сестру и т. д.) через жопу (рот, голову, глаз
и т. д.)».
На Кавказе такая же схема у карачаевцев (балкарцев).
Причем каждое грамматическое время означает свой оттенок
брани. В настоящем времени это «Я могу сделать с тобой все, что
хочу!», в прошедшем «Ты был в моей власти!», в будущем «Я
тебе покажу!».
Ср. набор грузинской брани: «Sevcem mas» — «Я выебу тебя
(ее, это)»; «Imis dedas seveci» — «Я еб его мать»; «Sen dedas
seveci» — «Я еб твою мать», плюс к этому «...тебя в пизду/жопу/
рот».
У тробриандцев (Новая Гвинея) есть три самые резкие
инвективы: «Kwoy inam!» («Ебу твою мать!»), «Kwoy fumuta!»
(«...твою сестру!»), «Kwoy um kwava!» («...твою жену!»).
Последнее оскорбление — самое грубое, так как оно звучит
достаточно реально, в то время как первое не воспринимается
всерьез.
В других ареалах действие обеденного глагола
распространяется главным образом на мать. Таков русский мат
и ряд других, очень похожих на него идиом. Ср. болг. «Да ти
еба майката!», пол. «Job twoju mac!», «Job waszu kamszu
(maamszu!)», сербскохорв. «JeöeM ти майку!», венг. «Bazd meg
az anyadat!», рум. «Futut mamata!», «Dute'n pizda mati!», ucn.
«Me resigno en tu madré!», «Chinga tu madre!», груз. «Seni deda
movjqan!», «Deda moqijqan!», фарси «Mâdarit mygâm!», араб.
«Nikomak!» и др.
Вероятно, самой изощренной бранью этого типа следует
признать исп. (аргентин.) «La reputissima madre que te contra mil
pario!» — приблиз. «Мать, родившую тебя, ебли, как блядь,
дважды две тысячи раз!».
Для многих языков характерно регулярное опущение
наиболее непристойной части инвективы, вроде рус. «Твою мать!». Уже
упоминалось американское «I don't know them mothers!».
Можно упомянуть, например, несколько выражений на африкаанс.
«Ek gaan jou moer!» практически не поддается переводу на
русский язык. На английском оно звучит как «I'm going to mother
you!», что можно было бы передать как «Я собираюсь тебя
отматерить!», если бы «отматерить» не имело совсем иной
смысл. «Moerse probleem» тоже буквально переводится на
английский как «проблема матери», но англоговорящие
предпочитают понимать это выражение как что-то вроде «A fucking
big problem», то есть близко к рус. «ебаная проблема».
278
Упоминание в инвективе подобного рода отца оппонента
в ряде ареалов может означать, что инвектант относит его к
пассивным гомосексуалистам (см. ниже). Но в большинстве
случаев основная оскорбительная сила не в этом. У
балкарцев (карачаевцев) идиома типа «Я ебал твоего отца!»
расценивается как тягчайшее оскорбление всего рода адресата, ибо
отец в данном случае предстает как символ рода. Подобные
оскорбления используются редко, так как смываются только
кровью.
В этом же языке возможно одновременное поношение
обоих родителей оппонента. Во многих ареалах (например,
китайском) оскорбительная сила подобных «родственных» инвектив
прямо пропорциональна «глубине» проклятия, то есть
оскорбление тем сильнее, чем более древние колена рода оппонента
подвергаются поношению.
Впрочем, в чечено-ингушской практике оскорбление в
адрес отца воспринимается несколько слабее оскорблений в адрес
матери, но зато сексуальное оскорбление в адрес сестры —
исключительно тяжело.
Примерно так же подобное оскорбление трактуется
арабами и персами. Ср. фарси «Khârharit gâîadam!». Иногда для
того, чтобы нанести тяжелейшее оскорбление, смываемое
кровью, достаточно воскликнуть: «Твоя сестра!», «Твои мать и
сестра!» [фарси «Mâdarit au khâharit»), имея в виду: «Я
совокуплялся с твоей матерью (или твоей сестрой)!» (Noland, Warren
1981: 238). Сегодня эта инвектива воспринимается как
утверждение, что оскорбляемый дошел до последней границы
нравственного падения: он не в состоянии постоять за честь своей
сестры и т. д. Однако вполне возможно, что эта трактовка
вторична. См. об этом ниже.
Азербайджанские оскорбления в адрес неженатого
человека затрагивают честь его сестры; то же самое сексуальное
оскорбление, обращенное к женатому, направлено уже на его
жену.
Сексуальное оскорбление может носить и несколько иной
характер, например, обвинять оппонента в различных
перверсиях, инцесте, утверждать, что оппонент появился на свет в
результате совокупления его родителей с животными и т. д.
В этом отношении очень показательны инвективы,
популярные в индийском ареале: «Matacod!» («Сожительствующий
со своей матерью» — ср. англ. «Motherfucker!»), «Behincod!» (то
же — о сестре), «Beticod!» (то же — о дочери), «Gadda ka beta!»
(«Осел совокуплялся с твоей матерью»), «Gatta ka sala!» (букв.
279
«Ослиный родственник!», то есть «С тобой осел
совокуплялся!»). Другой вариант затрагивает честь сестры оппонента.
Наконец, можно упомянуть непристойные злопожелания
типа венг. «Basszom meg az brag apad!» — «Пусть твой отец тебя
выебет !» или apai. «Allah jenik!» — «Пусть Аллах тебя выебет!».
Как правило, все перечисленные выше случаи представляют
собой примеры мужских инвектив. Однако в некоторых
культурах граница между мужскими и женскими инвективами
пролегает иначе, чем в Европе. Отвергая ухаживания молодого
человека, девушка из народности коя в Южной Индии может
издевательски посоветовать ему пойти вступить в определенные
отношения с его старшей сестрой (Bruckman 1975: 252).
В литературе, затрагивающей вопросы инвективной
практики, вопрос об инвективах, касающихся матери и сестры,
трактуется по-разному. Позиция, изложенная А. В. Исаченко,
предлагалась выше, в разделе о зооморфизмах. Означает ли
принятие этой точки зрения отказ от любых других
толкований? Рассмотрим некоторые из этих последних.
По мнению известного этнографа Д. К. Зеленина,
«матерная» формула первоначально была обращена только к демону
и имела целью его запугать.
В другом месте он говорит об этом несколько иначе:
Комплиментами и мнимым родством человек явно хочет снискать
себе благоволение часто ненавистных ему существ, с которыми или о
которых он говорит (Зеленин 1930: 164).
Как видим, перед нами два объяснения, только частично
совпадающие между собой. Одно дело — уверять демона, что
говорящий и демон — ближайшие родственники по матери
демона, для того чтобы демон испугался такого могучего родича-
соперника; и совсем другое — использовать ту же самую
формулу в качестве подобострастного комплимента.
Последнее предположение при всем своем остроумии
представляется наиболее спорным. Конечно, в принципе верно, что
мнимое (как и подлинное) родство может быть использовано
как средство заискивания, и то, что сейчас воспринимается как
очень оскорбительная инвектива, могло звучать комплиментом.
Однако нет буквально ни одного факта, который говорил бы в
пользу такой гипотезы: науке неизвестны другие случаи
заискивания перед опасными силами, сходные по тактике. Не
приводит никаких доказательств и Д. К. Зеленин.
Зато первое предположение Зеленина, то есть что изучаемая
инвектива служит своего рода оберегом, кажется заслу-
280
живающим внимания. Зеленин считает, что с помощью этой
идиомы демону как бы говорится: «Я твой отец!», точнее: «Я
мог бы быть твоим отцом!»
Демоны трусливы, и их, очевидно, запугивает такое нахальное
уверение в мнимом родстве (Зеленин 1930: 19).
Многочисленные примеры из разных языков, приводимые
Зелениным, подтверждают, что использование инвективной
непристойной лексики как оберега действительно вполне
возможно.
Однако предположение Зеленина вполне может касаться не
раннего этапа использования инвективы, а того периода, когда
уже была утрачена ее связь с собакой и изменился творец ин-
вективного действия.
Кроме того, нельзя исключить и того, что даже во
времена существования инвективы в полном виде параллельно
существовали и такие, что были связаны с первым лицом
(т. е. «Я еб твою мать»); вот эти инвективы и могут быть
интерпретированы так, как это предлагает известный
этнограф.
Наиболее подробным и убедительным образом проблема
возникновения коитальных инвектив в русском ареале
исследована Б. А. Успенским в его цикле из двух статей (Успенский
1983; 1987). Автор видит несколько этапов развития
соответствующей идиоматики, от ритуального, свадебного и
аграрного сквернословия, которое носило священный, еще не
кощунственный характер, к травестийной замене
действующего лица — божества — псом, а в дальнейшем — еще и к
замене пассивного участника — земли — сперва женщиной, а
позже и вовсе матерью оппонента. На последнем этапе
соответствующая брань ассоциируется уже с инвективами
типа «Блядин сын!» и «Сукин сын!», где «сука» употребляется
в значении «распутница».
Дохристианский культовый характер большинства
инвектив, сопрягающих коитус с матерью и другими
родственниками, очевиден.
Собственно, большая часть многочисленных гневных
осуждений сквернословия этого типа православными церковными
авторами во все времена основывалась именно на
доказательствах языческого происхождения ругани, а сама ругань
возводилась к «еллинскому блядословию», характеризуясь как то
«татарская», то «жидовская», то есть связывалась с поведением
«нехристей».
281
Не подлежит сомнению, что давнее заблуждение, будто
русский мат имеет татарское происхождение, связано с
восприятием слова «татарский» как названия определенной
национальности, в то время как в данном случае оно
означает просто «любой нехристианский». Ср. восприятие слова
«немецкий» как «любой иностранный» («Немецкая слобода»,
пословица «Что русскому здорово, то немцу смерть» и т. п.).
Русский мат, таким образом, — это всего лишь национальное
звено, занимающее определенное место среди других средств
выражения сакральных понятий в языческую эпоху, распространенных
во всех без исключения национальных культурах.
В разных языках формы матерной инвективы могут быть
представлены очень разнообразно: в первом, втором и третьем
лице единственного числа. Для современного русского языка
характерна форма третьего лица, обычно интерпретируемая
как форма первого лица (т. е. «Еб твою мать!» понимается как
«Я еб твою мать!»).
В то же время в ряде ареалов преимущество отдается
форме второго лица. Ср. англ. «Motherfucker!» (т. е. «You fuck(ed)
your own mother!» = «Ты еб свою мать!»).
По Б. А. Успенскому, русский вариант инвективы может
ассоциироваться как с первым лицом («Я еб твою мать!»), так
и с третьим лицом («Пес еб твою мать!»), причем обе
интерпретации внутренне непротиворечивы. В случае интерпретации
от первого лица брань как бы исходит от пса, то есть имеет
смысл: «Я, пес, утверждаю, что совокуплялся с твоей матерью!»
Такая брань звучит грубее, не задевая инвектанта, который не
ассоциирует себя с псом, а как бы дословно цитирует
презренное животное.
В этой интерпретации матерная инвектива — это язык собак;
псы как бы матерятся с помощью своего лая, собачий лай —
это тот же человеческий мат, только на собачьем языке. Выше
уже отмечалось,что в польском языке «jebac» и «lajac» могут
выступать как синонимы в смысле «бранить» (Успенский 1987:
37 ел.).
Имеет смысл отметить, что употребление местоимения
«твою [мать]» может носить вторичный характер,
первоначально же вместо «твою» стояло «свою». (То есть русский мат был
ближе к англ. «motherfucker».) Подобная замена связывается
Б. А. Успенским с превращением бывшего заклятия или
клятвы в непосредственную инвективу в современном понимании
термина, в проклятие, падающее на голову оппонента
(Успенский 1987: 59-60).
282
Наконец, необходимо упомянуть о еще одной неординарной
точке зрения, в соответствии с которой пес вообще имеет мало
отношения к матерной инвективе. И. Гавран, а вслед за ним
Ф. Кинер предполагают, что первоначально мат выглядел
примерно как «Дьявол да выебет твою мать!», а уж потом «дьявол»
заменился на автора высказывания («Я еб твою мать!»).
В ХУШ в. эта брань распространилась на славянских
католиков и частично — далматинцев, в XIX в. пошла еще дальше,
а в качестве объектов брани появились и Бог, и Мадонна, и
святые, всевозможные священные предметы вроде просфоры,
креста и т. п., а там и власть предержащие, и мирские
предметы.
Думается, что эту гипотезу можно смело соединить с
вышеперечисленными: один вариант не исключает другого.
В большом количестве культур именно сексуальные
инвективы традиционно рассматриваются как наиболее резкие.
Правда, выбор конкретной инвективы, претендующей на
крайнюю степень грубости, может носить
культурно-специфический характер. В некоторых ареалах России гораздо грубее,
чем мат, звучит «Блядь!», которая, в отличие от междометно
звучащего мата, относится к крайне непристойной «ругани по-
черному».
И это несмотря на то, что само происхождение слова «блядь»
общеизвестно: это кодифицированный глагол «блудить»; таким
образом, казалось бы, это слово должно быть намного
«приличнее» мата.
С другой стороны, в криминальных группах матерная брань
может считаться тягчайшим оскорблением, и традиционный
мат обычно заменяется более мягким «Еб твою блядь!»
(Самойлов 1990: 103).
Во вьетнамской практике грубее мата название гениталий,
так как в соответствующей инвективе они представлены более
конкретно.
Немало культур, где исключительно сексуальные инвективы
малопопулярны. Среди европейских культур к таким
относятся, например, немецкоязычные, шведская и итальянская.
Точнее говоря, сексуальный подтекст некоторых инвектив вполне
очевиден (ср., например, um. «Рогсо!»), но глагол, означающий
«совокупляться», в составе инвективы практически
неупотребим, если не считать слабых восклицаний, заимствованных из
соседней культуры.
Правда, в шведском языке встречаются очень грубые
сексуальные ругательства, например, «Förbannade fitta!» (приблиз.
283
«проклятая пизда»), но их очень мало, а первое место,
безусловно, принадлежит богохульствам.
В румынском языке самое сильное оскорбление — именно из
этого ряда: «Pizda mätti!», не нуждающееся в переводе на
русский язык.
В турецком языке есть сочетание «amma koydugumiinun»,
буквально обозначающее что-то вроде «про то, как я вставил в
пизду», но в переносном смысле это приблиз. «Женщина,
которую я выеб». Употребляется же оно так же, как рус. «ебаный»
или англ. «nicking»: «Amma koydugumiinun arabasi gene bozuldu!»
(«Эта ебаная машина опять сломалась!»).
Именно поношение матери в большом количестве культур
лежит в основе всей сексуальной группы инвектив. Причина
очевидна: это теснейшая связь человеческого общества с
самого начала его существования с институтом родства.
Поэтому пиетет, испытываемый к матери и другим
родственникам, был в свое время особенно высок. Ср.: «Почитай свою
мать, как Бога» («Упанишады»), «Мать стоит выше десяти
отцов или даже всей земли. Нет учителя (гуру) выше матери»
(«Махабхарата»), «Злословящий отца или мать смертию да
умрет» (Библия).
Естественно, что реакция на нарушение соответствующих
табу должна была быть особенно резкой, и не только в
индуизме, иудаизме или христианстве. Вот целый набор киргизской
брани: «Выебу твою мать!», «Задница твоей матери!», «Выебу
твою мать в задницу!», «Изобью твою мать!» и т. д. Примерно
то же — у болгар: «Турям (хакам) го на майкати в устата» («суну
"его" в рот твоей матери!»), «...на майкати в гьза» («...в
задницу твоей матери»).
Не должен вызывать удивления и сам факт кощунственно
оскорбительного соединения в одной инвективе имени матери
именно с непристойным сексуальным глаголом и др. под. Р^я
правильного понимания этого феномена полезно учесть
следующее. Во многих древних национальных культурах,
например в Индии, буквально тысячелетиями сохраняется самое
священное отношение к проблемам секса. Примитивно-вульгарное
восприятие соответствующего поведения исчезло там в
незапамятные времена. Таким образом, казалось бы, что сама идея
порочности сексуальных отношений не должна приходить тем
же индийцам в голову. Однако в языковой практике
национальных культур Индийского субконтинента имеется множество
самых изощренных непристойных инвектив, построенных
именно на сексуальных мотивах.
284
С другой стороны, вся христианская мораль строится, в
отличие от индуистской, на представлении о греховности
телесной жизни, нежелательности интимной близости и т. д. Ср.:
Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я
(1 Кор. 7: 8); Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а
не выдающий поступает лучше (там же 7: 38).
Но и при таком кардинальном отличии одной морали от
другой количество и характер европейской инвективной
лексики, вопреки ожиданиям, мало отличается от индийской.
Разгадка такого «сходства несходного» кроется, как уже
указывалось, в двузначности инвективы, в возможности
отражения с ее помощью сразу двух явлений: священного трепета,
который, как в кривом зеркале, отражается в нарушении табу
с помощью инвективы, и убеждения в порочности
определенных отношений, о которых можно говорить только
непристойности, то есть те же инвективы. Причем пресловутая
порочность есть лишь трансформация пиетета перед творческими
силами природы.
Таким образом, перед нами в любом случае — все та же
попытка нарушения древнего табу с помощью инвективы.
Можно предположить, что дальнейшая судьба инвективы
подобного типа будет зависеть от судеб культа матери и
отношения к интимной стороне жизни в данной национальной
культуре. Там, где культ матери продолжает свое
существование, мат воспринимается как тягчайшее оскорбление
(кавказский ареал); там же, где этот культ сходит на нет, он
превращается в междометное восклицание, быстро теряющее свою
взрывчатую силу (славянский ареал).
Интересно в этой связи рассмотреть инвективное поведение
некоторых малозаметных субгрупп, например, детей афроаме-
риканцев, в играх которых широко применяются инвективы,
оскорбляющие мать путем соединения ее имени с
разнообразными сексуальными и скатологическими наименованиями. Это
особенно показательно, если вспомнить о высокой роли матри-
архатных отношений в афроамериканской культуре. Что еще
более показательно, оскорбления матери в детских играх
проводятся строго по правилам, до известного предела,
переступать который строго запрещено. После того как этот предел
перейден, игровая инвектива превращается в тяжелое
оскорбление (Abrahams 1962: 209-220).
Самого внимательного отношения заслуживают и все
инвективы, затрагивающие других родственников, помимо мате-
285
ри. Из них наиболее интересны инвективы в адрес сестры.
Выше уже говорилось, что в ряде культур таких инвектив
много и они очень резки. Часть из них — это тот же мат, где
вместо матери упоминается сестра. Таково um. «La fregna di tua
sorella!». Но есть и более изощренные варианты вроде араб.
«Муж твоей сестры!». Для носителя русской культуры
включение сестры в инвективную практику может показаться
загадкой, так как здесь нет ни единого ругательства, хоть как-то
сопрягающего наименование сестры.
Некоторые этнографические работы позволяют связать
наименование сестры с определенными инцестуозными резко
табуированными устремлениями древнего человека (Абрамян
1985).
Современная, совсем иная интерпретация этой инвективы,
сводящаяся к тому, что адресат инвективы не в состоянии
постоять за честь сестры, может явиться следствием стремления
вытеснить нежелательные ассоциации.
Именно на эту мысль наталкивает тот факт, что в большом
количестве ареалов инсинуации в адрес сестры или даже
просто любые инвективы в ее присутствии воспринимаются
слишком резко. Ср. заявление туземца-полинезийца:
Если кто-то при мне выражается в присутствии моей сестры, я должен
его ударить или уйти (Feldman 1981: 149).
Как видим, в полинезийской культуре нельзя не только
оскорблять сестру, но даже просто сквернословить в ее
присутствии.
Обобщая, можно сказать, что универсальность и
популярность большинства инвектив, построенных на сексуальных
символах, отражает некоторые общие закономерности
человеческого поведения.
Есть основания полагать, что они восходят к предыстории
человечества, то есть что существование ряда сексуальных
инвектив объясняется дочеловеческим опытом наших
предков.
Рассмотрим в этой связи так называемое подставление,
практикуемое рядом пород обезьян. Это своеобразный
ритуал, при котором одна обезьяна становится в сексуальную,
«приглашающую» позу, а другая забирается ей на спину и
выполняет несколько условных ритуальных движений. Такое
поведение, по наблюдениям этологов, активно способствует
регулированию совместной жизни обезьяньего стада. Оно
возможно в самых разнообразных ситуациях, в том числе несек-
286
суального характера, таких как приветствие, изъявление
дружеских чувств, игра, небольшое волнение и т. д. (Hinde 1974:
293-303; Morris, Morris 1966: 186; Клике 1983: 80; Тих 1970:
219-221).
По-видимому, во всех этих случаях животное имеет целью
смягчить возможное напряжение при общении за счет
демонстрации своей покорности, привлекательности,
неагрессивности. Если в напряженной ситуации верхнее положение
занимает доминирующая обезьяна, то в ситуации приветствия
наверху может оказаться более слабое животное.
Подобным же образом ведут себя особи, находящиеся на
низших ступенях иерархической лестницы, если две
обезьяны — более слабое и более сильное животное — угрожают
третьей обезьяне. Если более сильное животное до этого
обнаруживало агрессивность, то после выполнения описанного
ритуала напряжение исчезает и инцидент считается
исчерпанным.
Важно, что весь этот ритуал возможен не только между
самцом и самкой, но и между самцами и даже подростками.
Другими словами, этот акт являет собой символ
доминирования одной особи над другой и имеет очень мало (если вообще
имеет) сексуального смысла. Говорить здесь приходится уже не
столько о сексуальных жестах ритуального акта, сколько о
жестах, приобретпшх новое значение — средства ослабления
напряженности.
Такой трансформации значения жеста способствует его
происхождение как из сексуальных взаимоотношений, так и из
взаимоотношений детеныша с матерью, когда детеныш
стремится забраться к матери на спину. Однако и это последнее
применение жеста покрывания имеет в конечном счете
сексуальные корни (Тих 1970: 220-221).
Легко заметить, что подобное использование обезьянами
соответствующих жестов для символизирования доминации
напоминает использование сексуальной инвективной лексики и
жестов в человеческой социальной группе. Как мы видели,
жесты обезьян утратили прямой сексуальный смысл и
превратились в ритуальные; строго говоря, в ряде культур (прежде
всего в русской, английской и американской) то же самое
произошло с сексуальной инвективной лексикой, превратившейся
в ритуальные идиомы, сохранившие, впрочем, сильный
шокирующий эффект.
При этом представляется, что идиомы, направленные
непосредственно на адресата типа англ. «Fuck you!», восходят
287
непосредственно к акту подставления1, в то время как идиомы
типа английского, русского, венгерского, новогреческого или
среднеазиатского мата можно считать производным
образованием, возникшим не раньше, чем в человеческом обществе
появились различные половые табу на инцест и проч.
В обезьяньем обществе запрета на половые отношения с
матерью не существует, более того, в жизни определенных
обезьяньих видов зафиксировано очень нередкое сексуальное
общение молодых самцов с матерями (Файнберг 1980: 20). Нет
оснований считать, что у человеческих предков дело обстояло
иначе.
Естественно поэтому, что оскорбить другого через
обвинение его в противоестественных отношениях с его матерью (ср.
англ. «Motherfucker!», «Go fuck your mother!» и т. п.) в условиях
такого промискуитета было невозможно. И наоборот, с
появлением соответствующих табу, тем более — в условиях
матриархата, подобное обвинение должно было восприниматься очень
сильно.
Это ни в коем случае не означает автоматического
исчезновения инвективы типа «Fuck you!». Со временем появляются
новые инвективы, основанные на обвинениях в нарушении
новых подобных табу (гомосексуализм, перверсии и т. п.), а также
трансформируются старые («Сукин сын!»).
В этом отношении возможны разнообразные заимствования
и взаимовлияния. Так, вполне представима связь американской
инвективы «Motherfucker!» с аналогичными инвективами в
африканских языках, например, «волоф» (Dalby: 6). Это слово
особенно популярно среди черного населения США, где его
значение поддерживается отрицательным отношением к мужчине
в семье, ибо в большинстве случаев мужчина в семье не живет.
Многими социологами американское негритянское
меньшинство считается практически матриархатным.
Чрезвычайно существенно, что подобная вербальная
агрессия, с одной стороны, облегчает напряжение агрессору, с
другой — предоставляет адресату возможность
продемонстрировать свое положение, то есть либо смириться с более низким
положением, либо самому превратиться в агрессора — ответить
противнику подобным же образом и, как следствие, опять-
таки облегчить напряжение.
1 У англоязычных народов и сегодня популярно выражение «to oner the
ass» («предложить задницу») в смысле «делай со мной что хочешь, сдаюсь».
Общность с «подставлением» очевидна.
288
Таким образом, место сексуальной инвективы в
коммуникативном акте выглядит следующим образом:
1. Копулятивный акт как врожденный компонент поведения.
2. Акт подставления как социогенитальньш регулятор
поведения в стаде.
3. Инвектива как вербальное описание акта подставления
или сходных актов сексуального происхождения.
4. Возможное превращение этой инвективы в междометие.
Само собой разумеется, что такая схема представляет собой
очень сильное упрощение уже хотя бы в том смысле, что
между (2) и (3) лежит колоссальный по времени и качественным
изменениям период превращения первобытного стада в
человеческое общество, владеющее речью.
Но в любом варианте, человеческом или дочеловеческом,
наблюдается принципиально одна и та же стратегия: как
примат, совершающий описанный ритуальный акт, так и человек,
обратившийся к сексуальной инвективе, фактически стремятся
к одной цели: к унижению оппонента, демонстрации его
ничтожества и собственного могущества. И те и другие как бы
заявляют: «Я могу с тобой сделать все, что захочу!» В сексуальных
человеческих инвективах это заявление несколько
конкретизируется: «Я могу овладеть тобой любым угодным мне
способом!»
В адрес мужчины же фактически перед нами обвинение в
том, что адресат — пассивный гомосексуалист, роль,
считающаяся самой позорной в определенных социальных подгруппах.
Кстати, некоторыми исследователями «Fuck you!»
возводится к «I fuck you in the ass!» («Я ебу тебя в жопу!») (Legman
1987: 12). Ср. подобные инвективы в груз. «Segeci traksü»,
«Segtxare traksü». Обычный русский мат может быть
интерпретирован как «Даже твоя мать может быть мною унижена,
и ты ничего не сможешь сделать!»; грузинский вариант: «Я могу
унизить весь твой род, потому что я тебя не боюсь, я тебя
презираю» и т. д.
Сказанное можно интерпретировать как еще одно
доказательство того, что популярное убеждение в возможности
возникновения сексуальной инвективы где-нибудь в одном ареале
(например, русском) и его распространения на все остальные
неверно. Предпосылки такой инвективы в каждом языке
должны были существовать изначально, чтобы потом преломиться в
тот или иной инвективный тип в русле
национально-специфической традиции, под влиянием определенных религиозных и
т. п. представлений.
10 В. И. Жельвис
289
Это, само собой разумеется, не значит, что какой-то
конкретный инвективный вариант не мог быть заимствован, но
только при условии, что заимствующее общество уже готово к
такому восприятию.
В предположениях относительно заимствований матерной
ругани нет недостатка. Так, даже в настоящее время еще
популярна версия о восточном происхождении русского мата,
якобы пришедшего в русскую национальную культуру во
времена татаро-монгольского завоевания. В пользу такого
предположения свидетельствует возведение О. Сулеймено-
вым русских «ебать», «ебля» к древнетюркскому «ебле»,
означающему «женись», букв, «обзаведись домом» (Сулейменов
1975: 146).
То есть в таком случае перед нами довольно
распространенное явление — ухудшение значения слова, заимствованного
из языка враждебной национальной культуры. Кроме того,
нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что русская
матерная инвектива в сравнении, например, со среднеазиатской
гораздо менее выразительна и производит впечатление бледной
копии. Однако для сколько-нибудь доказательного вывода
имеющихся данных явно недостаточно, и поэтому принять эту
гипотезу не представляется возможным.
Любопытно в этой связи, что современные монголы
полагают, будто бытующие у них ныне инвективы исследуемого ряда
заимствованы ими из... русской национальной культуры.
Доказательством этому утверждению служит тот факт, что у
монголов, живущих за пределами современной Монголии и мало
вступавших в контакт с русскими, подобных инвектив не
отмечается.
Против восточного происхождения русского мата однозначно
говорит совершенно разная структура этого последнего по
сравнению со среднеазиатской инвективой.
К тому же, будь татаро-монгольское влияние в данном
случае убедительно доказано, это лишь отодвинуло бы проблему
генезиса этой инвективы, но никак не объяснило бы
происхождение сексуальной инвективы уже в этом новом ареале.
Некоторую помощь в этом плане может оказать возведение
англоязычной инвективы «I fuck you in the ass!» к мифологии
Древнего Египта, где бог Мин именно таким путем
содействовал рождению бога Тота, появившегося из лба родившего.
Мифы о возникновении Диониса из бедра Юпитера и Евы из
ребра Адама можно интерпретировать как смягченные
варианты такого рождения (Legman 1987: 12).
290
Другими словами, перед нами уже описанная выше
трансформация определенных священных актов, связанных с
сексуальными отношениями, в сниженные, социально осуждаемые
действия, что снова подтверждает связь между инвективами
богохульными и сексуальными.
Среди непосредственно сексуальных инвектив особенно
широко распространено обвинение в пассивном гомосексуализме.
Поэтому оно заслуживает более подробного рассмотрения.
Для того чтобы понять причины популярности этой
инвективы, необходимо разобраться в том, что можно было бы
назвать сексуальными ролями индивида. В культурах
европейского типа женская роль в интимных отношениях
рассматривается как подчиненная, пассивная. Типично мужская роль —
активная, наступательная, и именно она считается более
достойной.
Поскольку же в большинстве европейских культур инвек-
тивный способ самовыражения традиционно считается
«мужским», неудивительно, что в своей инвективной стратегии
мужчины — носители «активного начала» — легко связали
«пассивное начало» с унизительным и зависимым. (Вспомним в этой
связи практику «подставления» обезьян, где в пассивной роли
чаще выступает более слабая, зависимая обезьяна.)
Отсюда, в частности, особенно презрительное отношение к
гомосексуалистам-мужчинам, играющим пассивную
«женскую» роль. Отсюда и огромное количество соответствующих
оскорблений, призванных обозначать приблизительно «Я буду
обращаться с тобой, как с женщиной!» или обращение к
мужчине «Проститутка!», «Сука!», «Блядь!» и др. под.
Древность такого рода инвектив видна из того, что еще в
древненорвежском языке одно из самых сильных оскорблений
было «Argr!», что означало именно пассивного гомосексуалиста.
Но и сегодня, по утверждению информантов, в
криминальных подгруппах достаточно спросить мужчину: «Эй ты,
растрепа, куда пошла?», чтобы вызвать самую яростную реакцию
адресата, не оставляющую сомнения, что оскорбление «дошло».
При этом нет решительно никакой необходимости в наличии
сексуального контекста. По-видимому, он даже нежелателен,
так как обвинение носит всегда метафорический характер.
Подобным же образом можно интерпретировать и довольно
невинно звучащее выражение «Начальство сделало ему втык»
(Кон 1988: 102).
Примеры обвинений в пассивном гомосексуализме: порт,
(бразил.) «Bicha!», егип. араб. «Хаваль!» (букв, «подстилка»),
10*
291
ср. фр. «Paillasson!» — «коврик под дверью» в смысле
«доступная женщина», азерб. «Кет варан!», суахили «Bure yako!»
(«Бесплатная задница!»), «Tu yako!» («Твоя задница!»), «Rambuza!»,
«Shoga!», «Hanithy!» («Мальчик — пассивный
гомосексуалист!»), «Wafîrwa!» («С тобой совокуплялись!»), болг. «Да те еба
в гьза!», чет. «Buzerant!», пол. «Ту, pédale!», рум. «Futut on cur!»
(«Ебанный в жопу!»).
Таким образом, имеет смысл различать инвективный ряд
«Проститутка!» в зависимости от того, на кого направлена
инвектива. Обращенная к женщине, она понижает социальный
статус оппонента и задевает честь рода; по отношению к
мужчине это чаще всего обвинение в пассивном гомосексуализме
(разумеется, тоже понижающее статус).
Инвективы, означающие «Проститутка!», многочисленны и
разнообразны в огромном количестве национальных культур.
В них соединяется презрение к этой профессии, презрение к
женщине и к мужчине-педерасту. Но прежде всего имеется в
виду, конечно, «падшая женщина». Словарь англоязычного
сленга предлагает около шести сотен наименований
проститутки, большинство из которых носит инвективный характер
(Spears 1982: 192—193). Очень оскорбительно болг. «Курво!» или
«Маетия!» («сука во время течки»). Ср. также чеш. «Kurva!», пол.
«Cizia!», «Kurwa!», груз. «Bozi!» и мн. др.
У этой инвективы древняя история. В Средние века в
Европе проститутка находилась на социальной лестнице на
одной ступени с евреями, еретиками, бродягами, прокаженными
и палачами. Неудивительно поэтому, что назвать кого-либо
«проституткой» в любом варианте было очень тяжелым
преступлением, если относилось к «честной женщине». В арабском
мире обращение «Сын проститутки!»до сих пор считается
одним из самых сильных ругательств. Этим словом («mumisa»)
поносили друг друга в насмешливых стихах еще арабские
доисламские поэты.
Обратим внимание на французское «Putain!» (в русской
культуре в моду вошло изысканное «путана»), а также на
английское «Whore!», «Bitch!» («сука») и даже «Whore-bitch» («блядь-
сука»). В идиш это «Курвэ!», тот же корень в польском —
«Kurwa!» и чешском — «Kurva!»
Финское «Huora!» звучит довольно дружелюбно, если
используется как обращение одной женщины к другой, и
воспринимается как оскорбление, если адресовано мужчиной
женщине. Шведы, которые, как мы уже знаем, больше
чертыхаются, пользуются «Faens höre!» — «Чертовой блядью». Очень
292
много соответствующих слов в адрес женщины в итальянском
языке: «Mignotta!», «Mignottona!», «Puttana!», «Zoccola!» и др.
В литовском языке — «Sliumparka!», «Sliundra!», «Keksè!». В
португальском «Рогга!» — несильное ругательство, но в
бразильском варианте оно совпадает с названием женского
полового органа и звучит очень грубо.
Популярны соответствующие инвективы в мусульманских
странах. В таджикском это «Зал'аб!», в киргизском «Жалап!»
и др.
В некоторых культурах само слово, означающее
проститутку, избегается, и вместо него употребляются названия
животных вроде «Сука!», «Черепаха!», «Заяц!» или другие
животные, служащие в соответствующей культуре символом
похотливости и бесстыдства. В китайской культуре (язык
мандарин) «сын черепахи» — это то же, что «сын проститутки», то
есть своеобразный вариант «сукина сына». Есть еще «черепахин
внук» — это уже оскорбление в адрес бабушки.
Знаток русского тюремного жаргона Ю. Снегов настаивает,
что никоим образом нельзя путать «блядь» и «проститутку».
Если первая — просто распутная женщина и поэтому слово
звучит не так уж обидно, то со второй все сложнее. Обращенное
к проститутке, это слово может быть, так сказать, нейтральной
констатацией очевидного факта, хотя в таком случае уместнее
«деловое указание на специальность» — «шалашовка», «бикса».
Но, в отличие от «бляди», «проститутка» может быть очень
сильным оскорблением, особенно если обращено к мужчине
(Снегов 1991: 215, 239).
Нелишне отметить, что все варианты «бляди» охотно
употребляются в переносном смысле, как в известной шутке:
Петька Катьку просил — не дала, Васька просил — не дала, и Сереге
не дала... Вот ведь блядь какая!
Соответственно про любого неприятного человека можно
сказать: «Эта блядь Н.». То же — во французском: «Ce (cette)
putain de...» и мн. др.
В ненецкой культуре занятие проституцией считается
большим несчастьем, и оскорбить кого-либо, назвав проституткой,
можно не более, чем, скажем, прокаженной или туберкулезной.
Вплотную к идиомам рассматриваемого типа примыкают и
другие обвинения в различных перверсиях. Тот факт, что в
предшествующие эпохи некоторые из этих перверсий таковыми не
считались или что к ряду из них современная сексология
относится весьма снисходительно, значения не имеет.
293
Здесь тоже можно выделить несколько инвективных
разновидностей. В первую очередь следует назвать инвективы типа
англ. «Motherfucker!», то есть обвинение в инцесте с собственной
матерью. Сегодня соответствующее табу — одно из
сильнейших. По словам англоязычных информантов, это поношение
способно вызвать резко негативную реакцию даже у тех, кто
выработал у себя определенный иммунитет к восприятию
инвектив. «Fatherfucker!» воспринимается в английском языке
мягче, как своеобразный «инвективный эвфемизм». У арабов
тоже есть такое несильное злопожелание: «Пойди и трахни
своего отца!» У сомалийцев такая инвектива — одно из
сильнейших оскорблений, провоцирующих драку: оно воспринимается
как поношение всего рода. Достаточно силен и китайский
эквивалент: «Трахни пизду своей матери!»
Приблизительно такое же грубое поношение в адрес
матери имеется и в калмыкском языке. Правда, модель здесь
несколько иная: «Ты, со своей матерью трахающийся!» — по
аналогии с другим древним оскорблением калмыков: «Ты, свою
мать потерявший!»
Балкарское проклятие еще более изощренно: «Пусть твоя
мать станет тебе женой!» Формальная связь с мифом об
Эдипе здесь бросается в глаза.
Из других сексуальных оскорблений стоит упомянуть
распространенные англоязычные обвинения в мастурбации:
«Jerk!», «Jerk off!», «Whank!», «Whack!» и т. д.
Среди обвинений в мужском гомосексуализме можно
назвать рус. «Пидораст!» («Пидораз!» «Пидорас!» «Пидер!»
«Пидор!») — разумеется, искаж. от «педераст», англ. «Daisy!», «Gay!»,
«Pansy», исп. «Maricon!», «Pajaro!», тадж. «Кунад-багом!», арм.
«Гет феран!», азерб. «Кет оглы!», араб. «Xawal!» (часто в
смысле «баба», «тряпка», «нюня»).
В большинстве национальных культур и ареалов
сексуальные оскорбления в адрес матери считаются и всегда считались
наиболее предосудительными и приравнивались к крайним
случаям богохульства. В древнерусских текстах можно
неоднократно встретить официально-церковное отношение к «сра-
мословью» как к явлению «бесовскому», то есть языческому.
В «Повести временных лет» содержится описание языческих
обрядов радимичей, вятичей и северян, употребление
сексуальных инвектив в которых рассматривается автором как
специфическая черта языческого поведения.
Церковь неоднократно и очень активно выступала против
соответствующей фразеологии, подчеркивая недопустимую
294
антихристианскую сущность инвектив коитального типа. Ср.
отрывок из челобитной нижегородских священников 1636 г.:
Да еще, государь, друг другу лаются позорной лаею, отца и матери
блудным позором, в род (в рот? — В. Ж.) и в горло, бесстудною самою
позорною нечистотою языки свои и души оскверняют (цит. по: Успенский
1981: 50).
В отношении к мату государство разделяло резко
негативную позицию Церкви. В многочисленных древнерусских и
более поздних источниках отмечается, что «матерная лая»
оскорбительна сразу для трех матерей: для Матери Господа,
для всех матерей человеческих (включая собственную мать
сквернослова) и для матери-земли. В этот день осквернившему
себя руганью возбранялось входить в церковь, с ним
запрещалось вместе есть и пить, с его поведением связывались
насылаемые Богом беды и скорби (Северодвинское собрание...).
В современных богословских учебниках утверждается, что от
матерщинника отступает благодать Божия, на нем нет Божия
благословения. В соответствии с учением апостола Павла сра-
мословцы не наследуют Царства Божия.
Подробно о борьбе русских церковных и государственных
властей с богохульным «срамословьем» см.: Успенский 1983:
38-42.
В исследовании на материале английского языка первые
места в списке наиболее осуждаемых слов присуждены словам
«motherfiicker», «cunt» и другим словам сексуального и
обнажающего ряда (Baudhuin 1973).
Верховным судом США в 1978 г. наиболее непристойными
словами официально признаны «shit», «fuck», «piss», «cock-
sucker», «motherfucker», «cunt», «tits» (русские соответствия
далеко не столь же одинаково непристойны; приблизительные
(неадекватные!) соответствия: «срать», «ебать», «ссать», «хуе-
сос», «ебущий собственную мать», «пизда», «титьки»).
Американские газеты отказались опубликовать соответствующий
список ввиду его крайней нецензурности (Rawson 1989: 166). На
сегодняшний день трудно представить и соответствующие
русские слова в тексте официального постановления в газете.
С другой стороны, опрос в Великобритании показал, что
целый ряд слов, еще недавно безоговорочно считавшихся
крайне грубыми, теперь не вызывает возмущения у
большинства тех, кто слышит их с телеэкрана. Из 56 опрошенных
считают допустимыми в инквективе такие, например, слова, как
«damn» — 51 человек, «bloody» — 47, «hell» — 45, «shit» — 39,
295
«crap» — 39, «God» — 38, «Christ» — 37, «Jesus» — 36, «balls» — 35, «God
Almighty» — 35, «fart» — 33, «turd» — 32, «tits» — 30, «twat» — 28,
«piss» — 28 (цит. no: The Guardian 1991. Oct 25). Как видим, в
этот список попали главным образом богохульства и скато-
логизмы, частично утратившие свою «убойную силу».
3.5.2. Обнажающая инвектива:
анализ явления в общем контексте
ритуального обнажения
Под обнажающей инвективой здесь в первую очередь
понимаются всевозможные наименования «стыдных» частей тела и
соответствующие сочетания, используемые как вульгарное
поношение оппонента. Все они так или иначе носят, с одной стороны,
сексуальный характер, а с другой — тесно связаны с табу на
обнажение. Поскольку половые органы человека соотносятся в
нашем сознании с выделяющей функцией, то некоторые слова
исследуемой группы можно рассматривать как в разделе
обнажающих инвектив, так и в разделе скатологизмов.
Перечислим ряд конкретных инвектив. Все они именуют те
или иные части человеческого низа. Это англ. «You cunt!», «Oh
bollocks!», «Ass!», «Asshole!» и такие выражения, как «Hunt the
cunt!» (название карточной игры), «He's got no bollocks» («трус»),
«Balls to...» («Долой...») и т. д., нем. «Arschloch!», «Leck mich am
Arsch!», фр. «Con!», «Mon con!», ucn. «Cono!», um. «Cazzo!»,
«Cazzaccio!», яп. «Кэцумагари!» («кривая задница» =
«засранец»), тат. «Пэтэк!», волг. «Путко!», чеш. «Curaku!», «Ту Ptâku!»,
«Ту pico!», пол. «Ту, dupa!», оашк. «Киртек баш!», арии. «Вор!»,
«Клри глух!», «Пуц!», «Дэвэр!», азерб. «Амшыг!», «Дэмэк!»,
«Кет!», «Сик!», «Дашаг!», «Гозлар!», тадж. «Кунад!», «Куси!»
и мн. др.
В ряде культур популярно пожелание «Поцелуй меня в
жопу!». Это, например, англ. «Kiss my ass!», нем. «Leck mich am
Arsch!», рум. «Pupä mä m cur!».
Бросается в глаза, что в разных этнических традициях
шокирующая ценность инвективы, в буквальном переводе
означающей одну и ту же часть тела, может быть очень разной. В
калмыкском и татарском языках название женских гениталий
очень слабое и может употребляться даже женщинами, в том
числе и междометно, например, как досада на собственную
оплошность, в отсутствие собеседника.
Точно такая же ситуация — с французским «Con!» и его
китайским соответствием. Во французском словаре разговор-
296
ной лексики «Con» («Conne») переводится в первую очередь
как «дурак, дура, болван, кретин» и только в последнюю
очередь — как название женского полового органа (Гринева,
Громова 1988: 161—162). В относительно недавние времена оно
звучало крайне непристойно, но в последние десятилетия,
вместе с «Merde!», превратилось в сравнительно приемлемое
выражение досады, раздражения и др. (правда, за
исключением «Mon con!», в значительной степени сохраняющем
непристойный характер).
Сходным образом исп. «Сопо!» означает что-то вроде «Вот
те на!». Но та же инвектива, будучи направлена в адрес
матери, звучит очень грубо.
В итальянском языке соответствующее оскорбление не
практикуется. Одновременно в русской и английской практике это
оскорбление исключительно непристойно. На большей части
территории Британской империи соответствующее слово
строжайше табуировалось в печати вплоть до середины XX
столетия. Но и в настоящее время «cunt» — одно из тщательно
избегаемых слов в английском языке. В последние десятилетия оно
стало изредка появляться в наиболее солидных толковых
словарях английского языка (American Heritage... 1970: 322 и др.).
В словаре английского языка Ф. Гроуза оно обозначено только
первой и последней буквами и определено как «грязное
наименование грязного предмета» (Grose 1963: ПО). Такое
определение вызывает недоумение, тем более в серьезном издании: если
можно согласиться, что наименование — «грязное», то
называние «грязным» самого «предмета», вероятнее всего, вызвано
цензурными соображениями или опасениями разгневать
сторонников пуританской нравственности.
По общему мнению, назвать женщину «cunt» гораздо
оскорбительнее, чем назвать мужчину «prick», так как во втором
случае возникают намного более мягкие дополнительные
значения. Существенно при этом, какого пола те, кто пользуется
инвективой «cunt», и к какому полу она обращена. Если
перебранка имеет место между англоязычными женщинами, то
ситуация рассматривается информантами как совершенно
невыносимая, ибо такой разговор, по их мнению, — это
практически «разговор двух проституток», то есть ругательница
унижает себя не меньше, чем адресата.
В японском языке название женских гениталий — «манко» —
звучит очень грубо, им пользуются мужчины и проститутки,
женщины же обходятся описательным «асоко» — «там».
Мужское соответствие — «чинко» — гораздо слабее и употребляется
297
параллельно с заимствованием из английского «penis», но
произносится «pay-ness» и является все-таки инвективой, а не
медицинским названием, как в английском (Soit 1982: 78).
В русской словарной практике грубое название женских
гениталий «пизда» полностью отсутствует даже в сокращении,
включая воспроизведение речи низов общества. В последние
годы оно появилось в «специальных» изданиях матерных
частушек, непристойного фольклора и проч.
В языке ашанти (Гана) эта инвектива тоже одна из
сильнейших, в то время как в чечено-ингушском ареале она
настолько оскорбительна, что практически неупотребима. Очень
сильная инвектива в языке соньрай (Мали), йоруба (Нигерия),
суахили (Момбаса), в арабском (Египет) дословно совпадает с
башкирской и таджикской: «Пизда твоей матери!» То же
значение — у венг. «Az anyad picsaja!», макед. «Picka ti mater!»,рум.
«Pizda mätti», где грубее ругани не существует.
Часто соответствующее название настолько сильно табу-
ируется, что при выборе эвфемизма даже избегается само
упоминание о сексуальной функции называемой части тела
(Johann 1963: 168).
Значение инвективы — «простое» поименование женских
гениталий — допускает разные истолкования. Можно
предположить, что говорящий подразумевает, что гениталии матери
оппонента — ее наиболее заметная часть; что говорящий имеет
к этому органу чужой матери свободный доступ; что мать
поносимого — гиперсексуальна; что просто соответствующий
орган — нечто грязное; наконец, мать может быть оскорбляема
тем, что ее стыдная часть тела может быть публично
упомянута (ср.: Swartz 1988—1989: 218 ел.). В любом случае имеет
место как бы вербальное обнажение части тела, которой
полагается быть скрытой от посторонних.
В иракском арабском существует странная и редкая
инвектива, в буквальном переводе означающая что-то вроде
«Пизда твоей религии!».
Очень непристойна группа инвектив, называющая женские
гениталии, но обращенная к мужчине. Ср. азерб. «Дурацкий
клитор!» или суахили «Ты — клитор своей жены!» («Kisnkiinizi
cha mkewe!»). В языке йоруба много оскорблений связано с
различными дефектами половых органов.
Страшное оскорбление у киргизов, предполагающее
кровавый исход для матерщинника, — «Пизда во вшах!».
У баварских немцев существует выражение, означающее
всего-навсего «Заткнись!», «Закрой пасть!» — «Hait dai Fotzn!».
298
Однако следует знать, что хотя «Fotzn» означает «морда»,
«харя» и т. д., это слово восходит к нем. «Fotze» («Votze») — «пизда».
В принципе роль названия мужских гениталий мало
отличается от роли названия соответствующих женских органов.
В итальянской традиции «Cazzo!» звучит настолько непристойно,
что автор монографии, посвященной специально инвективам,
предпочел вместо него назвать «cazzaccio», которое он, в свою
очередь, определил только описательно, как «сниженное
наименование другого слова, используемого для обозначения
некоего анатомического органа» (Nanni 1953: 280).
В то же время после молодежных волнений 1968 г. это
слово стало признаком сочувственного отношения к левым
группировкам и широко употреблялось.
В болгарской практике «Хуйо!», как уже отмечалось, —
дружелюбный панибратский вокатив. В эскимосской культуре
в число добродушных реакций на жалобу ребенка «Мне
холодно!» входит «Подержись за мой член!».
В то же время, например, в балкарской, чечено-ингушской
и других кавказских традициях соответствующее наименование
практически неупотребимо (особенно наименование головки
члена, ибо произносящий его тем самым больше оскорбляет
себя, чем оппонента).
Норвежец же вполне может это слово включить в свою
инвективу, которая, как и у шведов, сопрягает это слово с
дьяволом: «Faens jaevla kukkhue!»
У турок слово «hiyar» означает всего лишь «огурец», но
употребляется в инвективном смысле как «Задница!», «Пидор!» и
«Хуй!».
«Lui» на иврите — грубое название пениса, но «Niet lullen!»
соответствует русскому «Не пизди!», то есть налицо слегка
смягченное выражение.
У индейцев мохави самым строжайшим образом
запрещено называть этот орган перед женщинами.
В одной восточной сказочке лиса подобным непристойным
образом поносит волка, на что волк отвечает: «Ты позоришь не
меня, а то место, на котором стоишь».
Наконец, можно назвать культуры, в которых запрет на
название обоих половых органов настолько абсолютен, что
соответствующих инвектив нет вовсе. Такова хантыйская
культура. Надо отметить, впрочем, что это — очень редкое
явление.
Следует указать, что во многих культурах название
мужского органа звучит все же не так оскорбительно, как название
299
женского. Вероятнее всего, причина тому в «мужском»
характере большинства культур, в доминировании активного
мужского начала. В мусульманских странах такому отношению
может содействовать и обряд обрезания, который, так сказать,
вводит мужской орган в обычные бытовые традиции, делает
его менее стыдным и секретным. Может быть, именно поэтому
в турецком языке так популярны инвективы с тестикулами:
«tasak» («яйца»), «tasakli» — «с яйцами» («мужественный»),
«tasaksiz» — «без яиц» (= «трус»). Примерно так же
воспринимаются тестикулы в американской культуре.
Рассмотрим вопрос о функциях и разновидностях
обнажающих инвектив.
Как уже отмечалось, главная причина возникновения
обнажающих инвектив — существование строгих запретов на
обнажение. Эти табу, в свою очередь, тесно связаны с
ритуальным обнажением, которое входит составной частью в ктеи-
ческие и фаллические культы, обожествлявшие органы
плодородия.
Очень существенно, что это обожествление представляло
элемент в целой системе религиозных представлений древних
людей. В свою очередь, в системе обожествления органов
плодородия животных и людей важное место занимало ритуальное
обнажение, которому приписывалась магическая творческая
сила. Это пример так называемой симпатической магии, когда,
с целью оказания влияния на определенные процессы, человек
имитирует то поведение, которого ожидает от природы.
Магический ритуал служит своеобразным катализатором
природных порождающих процессов.
В магическом аспекте следует рассматривать и «апотро-
паическое» восприятие половых органов человека и животных,
то есть использование их непосредственно или их изображений
в виде оберега. Практика демонстрирования гениталий как
средства от сглаза была в свое время распространена очень
широко. Даже во всех современных нам амулетах легко узнать
генитальные или сексуальные символы (Фрейд 1923:171; Wright
1957: 48; Inman 1884: ХХШ - XXIV и др.).
В эпоху распространения христианской морали
демонстрация порождающих органов стала предосудительной даже с
самыми благими намерениями — например, как апотропаи-
ческое средство (от сглаза). Тем не менее стремление добиться
того же эффекта и, в принципе, теми же средствами
сохранилось без значительных изменений. В результате воздействия
«новой» морали только чересчур откровенные жесты и слиш-
300
ком натуралистически выглядевшие амулеты были (и то не
везде) заменены символами, внешне лишь отдаленно
напоминающими об их происхождении.
Таким образом, можно видеть, что в своей основе табу на
обнажение не имеет чисто практической нужды (например,
физическую защиту соответствующих органов), а носит прежде
всего ритуальный характер.
Но такая ритуальная функция обнажения — далеко не
единственная. Укажем в этой связи на обнажение как символ
юродства и нищеты. Строго говоря, перед нами не столько
обнажение, сколько добровольный отказ от одежды как
знакового средства, символизирующего собственность и мирские
блага.
Но одновременно обнажение здесь еще и сознательное
самоуничижение, отказ от сколько-нибудь значительного
социального статуса, обычно декларируемого одеждой.
Такова фигура обнаженного Христа, множества христианских,
индуистских, буддистских и других аскетов. Сходным
образом можно интерпретировать и обнажение русских
юродивых. Такая очистительная функция находится в
определенной связи с симпатической магией и апотропаическими
представлениями.
В некоторых культурах демонстративное снятие с себя
одежды могло служить смелой декларацией в пользу
природной естественности. Ср. поведение китайских мудрецов,
сторонников так называемого течения «ветра и потока» (Ш —
IV вв. н. э.) (Бежин 1982: 48-49).
Все перечисленные функции обнажения объединяет, если
можно так выразиться, положительное отношение к отказу от
одежды. Но обнажение способно иметь и прямо
противоположный смысл и восприниматься как символ позора, как
поношение. Примером такого поношения служит выставление
в обнаженном виде у позорного столба.
Но особый интерес для рассматриваемой темы имеет
обычай собственного заголения как средства унижения оппонента.
В данном случае речь идет о довольно разнообразном ряде
жестов, включающих демонстративное поворачивание спиной
к оппоненту и/или обнажение (символическое или буквальное)
ягодиц или гениталий. Ср. описание пароходных гонок
ярославских богачей в книге В. А. Гиляровского «Москва и
москвичи»:
<...> Тихомиров выхватил у лоцмана бутылку, допил коньяк из
горлышка, бросил ее в воду и крикнул в рупор: «Будьте здоровы!» — и опять
301
в рубку: «Шуруй!» А затем, когда наша корма была уже рядом с носом
самолетского парохода, он, обнажив заднюю часть, показал ее побежденному
сопернику.
А вот выдержки из газетной статьи «Голый зад в штрафной
площадке» (Аргументы и факты. 1997):
<...> Обиделся старина Патрик, что зрители свистеть принялись,
стянул прямо перед трибуной трусы и слегка повертел перед обалдевшей
публикой своим мужским достоинством...
Пауло Мату <...> вопил, бранился, а когда рефери удалил с поля трех
его игроков и не засчитал чисто забитый в ворота «Васко» гол,
окончательно вышел из себя — выскочил на поле, приспустил штаны и подставил
под нос судье массивный «задний лик».
Интерпретация такого жестового поведения представляет
известные трудности. Учитывая вьпиеописанную позорящую
функцию обнажения, такое заголение могло бы, казалось,
обратиться против самого инвектанта. Но этого не происходит.
Более того, в некоторых этнических традициях поссорившиеся
женщины могут демонстрировать подобное поведение
одновременно, причем каждая уверена, что позор падет на
противницу, а не на нее, в том числе если она прибегла к этому жесту
первой.
Согласно одной точке зрения, в данном случае
оскорбляет демонстрация человеческого низа не с целью доставить
наслаждение, а с целью отказа в этом наслаждении. С.
Фельдман остроумно излагает вербальный смысл инвективного
жеста:
Посмотри, что у меня есть. Тебе бы хотелось это заполучить. Так ты
этого не получишь. Ха-ха-ха! (Feldman 1973: 245—246).
Правда, Фельдман относит эту трактовку к заменяющему
жесту — высовыванию языка. Однако мало оснований
сомневаться в том, что, во-первых, исторически высовывание
языка восходит к заголению вместе с фигой и другими еще
более вульгарными жестами, а во-вторых, в современном
использовании этот жест, пусть в сильно ослабленном виде, все
же сохраняет свое древнее значение — как, вероятно, все или
почти все дразнящие жесты. Тот факт, что сегодняшний
непосредственный исполнитель жеста может иметь по этому
поводу другое мнение, не должен вводить в заблуждение.
Однако вряд ли следует считать эту трактовку единственно
возможной. Если вспомнить, что жест обнажения мог играть
апотропаическую роль, можно предположить, что и в этом
302
случае первоначально собственное заголение играло роль
оберега — тем более что оно, подобно демонстрации фиги, может
сопровождаться словами типа «А это видел?». При такой
трактовке понятен и жест ответного заголения: это способ «лечения
подобного подобным». Что же до шокирующего характера
жеста, то он вполне мог входить элементом в действенность
оберега.
Точно такой же жест в женском исполнении мог
ассоциироваться с восприятием женского органа как символа ада,
а также возвращения в материнское лоно, то есть смерти.
Ср. отрывок из сочинений древнегреческого философа Те-
лета:
И в другой раз эта же спартанка повела себя в высшей степени
благородно. Когда ее сыновья бежали с поля боя и явились к ней, она
сказала: «Вы явились сюда как беглецы? — и, задрав подол, прибавила: —Чего
же вы стоите? Полезайте обратно туда, откуда вылезли» (Антология...
1984: 200).
Именно такая трактовка наименования женского органа
подсказывается существующими в финском языке
параллельными идиомами: «Suksi vittuun!» («Поезжай на лыжах в
пизду!») и «Suksi helvetun!» («Поезжай на лыжах в ад!»), а
также «Painu vittuun!» («Иди в пизду!»), которое считается
эквивалентным англ. «Go to hell!».
Современное русское выражение «Иди в пизду!», скорее
всего, тоже восходит к пожеланию смерти адресата, но в
настоящее время воспринимается просто как очень грубое
оскорбление. Ср. эст. «Mine vittu!», рум. «Dute'n pizda mäu!», сербскохорв.
«Jidi u picku materinu!».
В каком отношении находится обнажение, в той или иной
мере носящее ритуальный характер, с обнажением чисто
эротическим, которое существует столько времени, сколько
существует одежда?
Важно отдавать себе отчет, что эти два вида обнажения
принципиально различны. Даже непреднамеренное их
смешивание могло приводить к серьезным социальным осложнениям.
В этой связи интерес представляет наблюдение над обычаями
индейского племени вачанди. Весенние ритуалы этого племени
включают танцы вокруг ямы, символизирующей женские
гениталии. Во время этого танца исполняющим его мужчинам
запрещается смотреть на обычных женщин, чтобы избежать
превращения священного либидо в обычное, неосвященное
сексуальное влечение (Fordham 1968: 20).
303
В своей позорящей функции обнажение оказывается тесно
связанным не только с заменяющими жестами, но и с
вербальными поношениями обнажающего типа («Жопа!»). Давая
несколько интерпретаций обнажающим жестам, нельзя вести
себя иначе и в отношении соответствующих вербальных
инвектив. Есть основания считать, что в очень большом числе
случаев, называя ту или иную «тайную часть», инвектант как бы
демонстрирует ее окружающим, позорящим образом публично
срывая с нее покровы одежды.
Иногда, как было показано, вместо части тела противника
называются части тела его матери, сестры, отца, других
родственников, что может усилить или ослабить оскорбление,
связать его с «матерной» группой инвектив, но мало меняет
существо самой инвективы.
Возможна еще одна интерпретация «обнажающих
инвектив», особенно типа «Ты (есть) + название "стыдной" части
тела». Можно полагать, что перед нами — метафорическое
использование названия. Ср.: «Ты — свинья!», «Ты — холера!»,
«Ты — жопа!» Цель здесь — снижение статуса оппонента,
оскорбительное помещение его на самую низкую ступень социальной
иерархии.
В эту группу можно отнести и инсинуирующее причисление
оппонента к пассивным гомосексуалистам: ср. уже
приводившееся выше англ. «You cunt!», когда оскорбление относится к
мужчине, или аналогичное русское поношение («Пизда!», «Жопа!»).
Вполне вероятно, что в случае конкретного использования
инвективы оба значения функционируют одновременно, тем
более что для самого инвектанта в любом случае важнее всего
понижение статуса оппонента любой ценой.
Представляет интерес, что некоторые обнажающие
инвективы в иных национальных культурах могут выполнять и
другие функции. В фарерском языке одна из самых
распространенных инвектив — «reyv», которая, в зависимости от
обстоятельств, может восприниматься то как рус. «жопа», то как
«задница», то как нечто среднее между этими двумя. Во всяком
случае, утверждает Дж. Томсен, «reyv» может звучать
достаточно грубо, когда употребляется в качестве обращения к
оппоненту («Жопа ты и больше никто!»), значительно мягче, если,
например, мужчина восхищается женскими формами: «Какая
у нее красивая reyv»; в этом случае даже рус. «задница» звучит
слишком грубо. И наконец, «reyv» может спокойно
употребляться для называния «казенной части» автомашины, кормы
судна и т. д.
304
3.5.3. Инвективное обвинение
в сомнительности происхождения
В этом разделе рассматриваются инвективы, объединенные
общим значением «Незаконнорожденный!». Древнюю причину
того, почему рождение вне брака считается предосудительным
и, соответственно, ведет к образованию очень оскорбительных
инвектив, можно искать в представлениях слаборазвитых
племен, например, сималурцев (Суматра), которые, подобно
нашим предкам, связывают плодородие почвы с половой жизнью
людей. Внебрачные дети у сималурцев считаются опасными
для своих соплеменников, так как нарушение общественных
правил их родителями может вызвать гнев божеств, а те лишат
землю плодородия (Остров... 1964: 158).
Таким образом, исследуемая инвектива оказывается
восходящей к ктеическим культам. Неудивительно поэтому, что
эта инвектива присутствует в огромном большинстве
национальных культур и ареалов.
Легко заметить, что в ряде случаев она тесно смыкается с
инвективами типа «Сукин сын!» и матом. Однако есть и оскорби
ления, прямо обвиняющие оппонента в сомнительности его
происхождения. Это прежде всего инвективы, группирующиеся
вокруг слова «бастард». Ср. англ, «Bastard!», фр, «Espèce de
bâtard!», «Quelle bâtard!» (в Квебеке еще «Maudit bâtard!» и даже
«Le bâtard d'enfant de chienne!»), нем, «Bastard!», новогреч,
«Бастарде!», um, «Bastardo!».
В русском ареале «Бастард!» инвективно не употребляется,
хотя слово понятно в терминологическом плане; кроме того,
устаревшее «Байстрюк!» восходит к тому же «бастарду». В
качестве эквивалентных современных инвектив можно назвать
«Ублюдок!», «Выблядок!», «Подзаборник!» и др. под.
В литовском «Benkartas!» — «незаконнорожденный».
В Болгарии очень сильное оскорбление, особенно в адрес
ребенка — «Копеле!», с тем же значением.
В азербайджанском языке это «Биш!», означающее кроме
«незаконнорожденный» еще и «хитрый».
В карачаево-черкесском варианте буквальное значение
инвективы — «рожденный непонятной силой».
У чувашей — «велтрен тарри» — «найденный в крапиве».
В языке фарси это «Bî asl-u-nasab!» — букв, «неизвестного
происхождения и звания», «Bî sar-u-bipâ! — «без головы и без ног»
(т. е. «без корней»). «Gidâ zâdih!» означает «сын нищего», то есть
тоже человек без уважаемых родственников, безродный.
305
В грузинском языке возможны «Se virissvilo!» — «Сын осла!»
и «Se gorissvilo!» — «Сын свиньи!» — такие выражения
встречаются и в бенгали, где, кроме того, в значении
«незаконнорожденный» используется и слово «аборт» (ср. рус. «жертва
аборта»).
На суахили словосочетание «Mwana harami!» буквально
означает «запрещенный ребенок», дополнительный смысл —
«невоспитанный».
Испанские варианты: «Hijo de puta!», «Hijo de perra!», «Hijo
de mala madré!», то есть здесь незаконность происхождения
тоже как бы уточняется: оппонент — сын проститутки и т. п.
Соответственно в египетском арабском: «bint issarmuuta» —
«дочь шлюхи», «ibn il'ahba» — «шлюхин сын», «ibn ilwisxa», «ibn
ilmaara ilwisxa» — букв, «сын грязной женщины», то есть
шлюхи (множ. «wilaad ilwisxa»).
В том же ареале распространены аналогичные оскорбления,
где сомнительность происхождения выражена через
ассоциации с презираемыми профессиями, родом осуждаемых
занятий и т. п.: «bint ithramiyya» — «дочь вора», «ibn Xawal» —
«сын гомосексуалиста», «bint imi'arrasa» — «дочь сутенера», «ibn
iParbagi» — «сын погонщика ослов» и т. д.
То же — у чехов: «Kurvi syn», у поляков: «Ту, skurwysynu!»,
у чувашей: «Шуйтан ачи» («чертов сын»). Говорящие на
африкаанс вообще полагают, что незаконнорожденный — «Ну is 'η
duiwel!» — «он — дьявол».
Очень живописны соответствующие образы в тагальской
культуре (Филиппины): «Anak ng huweteng» — букв, «ребенок от
нелегальной лотереи»; фактически это эвфемизм от «Anak ng
puta» — «блядин сын». Есть еще «Anak ng pating» — «акулий
сын», «Anak ng tinapa» — «ребенок от копченой рыбы», «Anak
ng tupa» — «ребенок от овцы». Иногда в том же смысле
достаточно сказать просто: «Ребенок от». Окружающие всё
правильно поймут.
Вероятно, вершиной изощренности этой группы инвектив
можно считать суахилийское «Mwana haramu wa chisi, mjuku
walbilisi!» («Бастард бастардов, сын сатаны!»).
Если вспомнить, что в инвективном общении «проститутка»
эквивалентна «суке», то связь инвективы с «Сукин сын!»
становится еще более очевидной.
Инвективная группа «бастард» претерпевает особенно
заметные исторические изменения. В средневековой Европе
характеристика человека как незаконнорожденного могла
считаться нейтральной, если речь шла о ребенке, родившемся у
306
знатного отца от его наложницы (Marshall 1975: 55; Edouard
1983: 173 и др.). Как известно, английский король Вильгельм
Завоеватель (1027—1087) до того, как он возглавил
норманнское завоевание Англии, назывался Вильгельм Бастард.
Однако тот же вокатив в адрес простолюдина считался
смертельным оскорблением, особенно если был обращен «по адресу»,
неметафорически. С течением времени положение в
некоторых ареалах изменилось, и теперь в одних национальных
традициях это очень тяжелое оскорбление, если направлено
против человека, действительно родившегося вне брака, в
других — как раз если для обвинения нет реальных оснований.
Особенно серьезно соответствующая инвектива
воспринимается там, где она понимается как направленная против семьи
оппонента, его рода, родителей, если культ этих последних
традиционно велик. В таких случаях следствием употребления
этой инвективы могут быть кровопролитие или далее вендетта.
Таково отношение к этому оскорблению на Кавказе (например,
балкарцы, азербайджанцы).
Очень серьезно подобное оскорбление воспринимается в
национальных культурах народов Индии и Средней Азии. Отец
семейства народности соньрай (Мали) имеет право выгнать из
дома жену, которая в его присутствии выругала сына
незаконнорожденным: предполагается, что только она знает истину и
в таком случае как бы признается в собственной измене.
На суахили (Бомбаса) мать, употребляя в адрес своего
ребенка слово «chisi» («бастард») или адресуя ему одно из оскорби
лений «kuma neoko», «kuma nina», «kuma mayo» («Пизда
твоей матери!»), как бы отказывается от родства со своим
ребенком. Смысл инвективы: «Ты — не мой ребенок!», «Мое чрево
родило какую-то хворость!», «Мое чрево ничего не родило!»
и т. д. (Swartz 1988-1989: 225-226).
С другой стороны, в культуре бансо (Камерун) брачные и
семейные правовые отношения настолько отличны от
стандартно европейских, что оскорбление оппонента как
«незаконнорожденного» не имеет смысла, то есть незаконнорожденных
в европейском значении слова здесь просто не существует.
Правда, в городских условиях соответствующее слово может
приобрести инвективный характер под влиянием европейской
культуры, но в таком случае оно практически теряет
изначальный буквальный смысл, приближаясь к современному
русскому «Сукин сын!».
В то же время обвинение в незаконнорожденности может
оказаться очень тяжелым там, где оно в принципе возможно,
307
но число соответствующих случаев очень мало в силу
специфических социальных условий. Речь идет о странах, где
возможно многоженство, наложницы и проч. У наложницы статус
ниже, чем у жены, но быть наложницей ни в коем случае не
позорно, равным образом не позорно и быть сыном
наложницы.
Вероятно, именно это обстоятельство и делает обвинение в
незаконнорожденности в таких культурах особенно тяжелым:
незаконнорожденный в таких условиях — это ребенок от
женщины, которая не пожелала выйти замуж, не захотела стать и
наложницей, но тем не менее родила. В этих условиях
соответствующая инвектива подчеркивает исключительность низкого
статуса оппонента.
Очень заметна инвектива «Bastard!» в американском
обществе. По сравнению с использованием этой же инвективы в
Великобритании, она считается в США более мягкой и иногда
даже требует какого-нибудь оскорбительного уточнения, чтобы
прозвучать достаточно обидно: «You silly bastard!»
Однако, в то время как мужчины рассматривают
«бастарда» как преимущественно фамильярное полушутливое
обращение, женщины воспринимают его гораздо более серьезно.
Подобное «разночтение» можно объяснить традиционно
разными ролями мужчины и женщины в американском
обществе: несмотря на то, что в настоящее время более половины
американок заняты на производстве, сохраняется отношение
к ним прежде всего как к хранительницам очага и семейных
устоев.
Кроме того, само понятие незаконнорожденности прочно
ассоциируется у американцев с понятиями бесчестья и
заброшенности, а значит — снова по контрасту, — с понятиями семьи
и материнства. Образ же мужчины-американца ассоциируется
прежде всего с профессией и положением в обществе, а уж
потом — с семьей.
Отсюда мужчины готовы смотреть на
незаконнорожденность легче: они морально больше в состоянии оставить как
мать, так и ребенка, в то время как женщина, которая хочет
поступить таким же образом, может прийти к тяжелому
внутреннему конфликту.
Показательно, что последовательницы американского
феминистского движения, выступающие за большую
независимость американок от мужа, чаще нарушают табу на инвективы
и легче относятся к проблеме незаконнорожденности. Угроза
остаться без мужа пугает их меньше, чем нефеминисток, от-
308
сюда восприятие ими соответствующего оскорбления как
сравнительно мягкого (Rieber е. а. 1979).
Итак, отношение к понятию незаконнорожденности и,
соответственно, к словам, выражающим это понятие, может быть
нейтральным, безразличным или оскорбительным, с разной
степенью оскорбительности.
Картина будет неполной, если не упомянуть о случае
(правда, единичном), когда сомнительность в происхождении
воспринимается положительно, как достоинство. В Намибии
существует значительная группа населения, возникшая в результате
смешанных браков негров и белых, так называемые цветные.
В некоторых намибийских селениях жители этой группы с
гордостью называют себя «bastaards» и противопоставляют себя
неграм.
Таким образом, инвектива «Незаконнорожденный!» являет
собой яркий пример многозначности.
3.6. Тема крови
в инвективном словоупотреблении
Тема крови занимает достаточно важное место в ряду ин-
вективных тем ряда национальных культур. Чаще всего
«кровь» входит элементом в инвективы самой разной тематики.
В ряде случаев это прилагательные, дословно означающие
«кровавый», или существительное «кровь». Ср. фр. «Sanglant!
Bon sang!» (доел, «хорошая кровь», но обычно — в значении
«проклятый»).
В немецкой традиции — это может быть «blutig» в таких
сочетаниях, как «Das ist mein blutiger Ernst», «Blutdieb»,
«Blutarm», «Der Blutskaffee ist heiß», где «blut» означает
примерно то же, что рус. «чертов», «блядский» или «ебаный» («Этот
ебаный кофе такой горячий!»).
В итальянском это, например, «Per sang di Christo!»
(«Клянусь кровью Христовой!»), «Sangue de Giuda!».
Сюда же можно отнести пол. «Psia krew!» («кровь собаки!»)
и одно из сильнейших ирландских оскорблений «Informer's
blood!» («кровь доносчика», подразумевается: «В тебе течет
кровь доносчика!»).
В монгольском употреблении «кровь» также является
одним из самых заметных ругательств во всей национальной
культуре. По всей видимости, это редуцированное «Кашляй
кровью!», то есть что-то вроде злопожелания «Чтоб тебе
кровью кашлять!». Такое понимание кажется более убедитель-
309
ным, если иметь в виду существование в монгольском языке
антонимичной пары «Кровь!» и «Масло!». Последнее благопо-
желание представляет собой редукцию от «Залейся маслом!»
(= «Желаю тебе залиться маслом!», ср. рус. «Кататься, как сыр
в масле»).
В определенном типологическом родстве с такими
инвективами находятся грузинские и армянские «Чтоб твою кровь
выпили!», «Чтоб остановилась твоя кровь!», арм. «Арнататах
линес!» — «Чтоб тебе кровью истечь!» и др. типа — «Я выпью
твою кровь!». Ср. арм. комплимент «Человек со сладкой
кровью!», то есть симпатичный и душевный.
Но особенно большую известность и распространение даже
за пределами своей национальной культуры приобрело инвек-
тивное английское прилагательное «bloody» и восклицания типа
«My blood!», «By the blood of Christ!» и т. д. Сравнительно
недавно в британском варианте «bloody» играло ту же роль, что
современное американское «fucking», то есть могло сопровождать
практически любое существительное во имя придания всему
сочетанию табуированного характера.
Показательна в этом смысле нашумевшая история с
употреблением слова «bloody» с театральной сцены знаменитой
английской актрисой в пьесе столь же именитого драматурга
Д. Б. Шоу «Пигмалион», где Элиза Дулитл восклицает: «Not
bloody likely!», что, вероятно, по крепости приблизительно
соответствовало современному русскому «Ни хуя подобного!».
Особенно любопытно, что это слово было прочитано
будущими зрителями в тексте пьесы, но не вызвало такого
ажиотажа, как в момент «озвучания» его актрисой. Вот как писала
об этом газета «Daily Sketch» в апреле 1914 г.:
Сегодня состоится представление «Пигмалиона», в котором г-жа
Патрик Кемпбелл, по-видимому, произведет такую театральную сенсацию,
какой у нас не было уже много лет. Сенсацию произведет одно слово в
новой пьесе Шоу. Г-н Шоу включил в пьесу одно запрещенное слово.
Неужели г-жа Патрик Кемпбелл его произнесет? Вмешался ли уже
цензор, или это слово распространится повсеместно? Если он его не запретил,
может произойти все что угодно! <...> Это слово, которое «Дейли Скетч»,
вне всякого сомнения, не может напечатать, сегодня будет произнесено
со сцены (цит. по: Hughes 1991: 186).
По свидетельству очевидцев, актриса таки произнесла
напряженно ожидаемое слово, после чего аудитория разразилась
шумом и хохотом. По-видимому, этот эпизод в немалой
степени содействовал уменьшению «взрывчатой силы» «bloody» в
британском обществе. В результате через определенное время
310
некоторые режиссеры даже заменяли эту реплику Элизы на
более грубые варианты, например, «Move your bloomin' arse!»
(Selth 1982: 40).
В то время как инвективное использование «fucking»
относительно понятно, такое же использование на первый взгляд
довольно «невинного» слова «bloody» вызывает вопросы.
Объяснений популярности и особенно резкой грубости
«bloody» существует несколько. Одно из предположений
состоит в том, что это — редуцированная форма от устаревшей
божбы «By our Lady!» (приблиз. «Клянусь Пресвятой Девой!»).
Противники этого утверждения справедливо отмечают, что ни
в какую эпоху не было возможно употребление инвективы типа
«Shut your by-our-Lady mouth!» (приблиз. «Заткнись!»), то есть
полное сочетание «By our Lady!» не могло быть употреблено
атрибутивно и препозитивно, то есть стоять на том месте, где
стоит современное «bloody» (Whittington 1930: 29).
Впрочем, все-таки нельзя исключить, что в то время, когда
эта инвектива выглядела иначе, она и употреблялась не так, как
теперь. Использование редуцированной формы вполне могло
привести к изменению ее места в предложении.
Тем не менее такое объяснение происхождения исследуемой
инвективы вряд ли следует признать справедливым по
соображениям, которые будут изложены ниже.
Некоторые авторы отмечают, что исчезновение или
сокращение популярной божбы именами святых в Англии было
связано с Реформацией и именем короля Генриха УШ. В то же
время известно, что сам Генрих и его наследники, королева
Елизавета часто прибегали к богохульству, в том числе — с
упоминанием крови: «God's blood!» («Клянусь кровью
Господа!»). Доказать, что современное «bloody» происходит от этой
инвективы, так же трудно, как и в предыдущем случае.
Среди сходных предположений — происхождение от
сокращения «'s blood!», возводимого к «Christ's blood!» (Marshall
1975: 57).
Отмечаются попытки возвести «bloody» к кельтскому,
немецкому и даже русскому первоисточнику (в последнем
случае — к сходному по звучанию «блядь»).
Ни одна из этих попыток не кажется убедительной ни с
лингвистической, ни с психологической точек зрения, так как
здесь не предлагается никакого объяснения невероятной
шокирующей силе инвективы.
Более достоверной кажется связь «bloody» с
существительным «blood», однако рядом исследователей предполагается,
311
что и здесь связь не прямая. Например, «bloody» возводится к
«bloods» — «золотая молодежь аристократического
происхождения» (ХУЛ в.) (ОЕ 1934: 33-34; Spears 1982: 36 и др.).
Предполагается связь между распущенным поведением этой
молодежи и негативным значением прилагательного. Это
объяснение все же не позволяет понять, почему сейчас, когда «bloods»
в значении XVII в. больше не употребляется, прилагательное
«bloody» сохраняет шокирующее впечатление, притом
несоизмеримое с впечатлением от «bloods» в XVII в.
Для лучшего понимания проблемы полезно подробнее
проследить историю «ухудшения» значения прилагательного
«bloody». По-видимому, в XVQI — XIX вв. оно вовсе не имело
резко отрицательных, тем более инвективных созначений, но
могло употребляться в качестве несильного эмоционального
интенсификатора. Во второй половине XVDI в. оно имело
широкое хождение в кругах буржуазии и вообще в образованной
английской среде. Д. Свифт пишет своей знакомой: «It was
bloody hot walking today».
Но постепенно «bloody» меняет «социальную ориентацию»
и приобретает огромную популярность в малообразованных
слоях, что, по всей вероятности, и явилось одной из главных
причин падения его статуса. Слова «bloody» тщательнейшим
образом избегают средние и высшие классы, на него
накладывается одно из самых жестких табу.
Особенно прочным это табу было в викторианскую эпоху,
известную своим пуританским отношением к вопросам
буржуазной морали.
В первой половине нашего столетия положение начинает
меняться в сторону смягчения шокирующей силы этого слова.
Однако до наступления этого периода сравнительной
реабилитации «bloody» оно в резко непристойном значении успело
распространиться по территории всей Британской империи,
особенно в Австралии и Новой Зеландии.
В США же оно никогда не приобретало чрезмерно
сниженного значения. Можно считать, что в настоящее время «bloody»
переживает в США процесс междометизации, хотя табу-сема
там, безусловно, сохраняется.
Ср. в этой связи разговор двух американских рабочих у
избирательного плаката. На вопрос одного из них, что
означает лозунг «One man, one vote», другой «разъясняет»: «Это
означает "One bloody man, one bloody vote"». (В русском
варианте эти два лозунга могли бы выглядеть как «Один
человек — один голос» и «Один ебаный человек — один ебаный го-
312
лос».) Как указывает X. Л. Менкен, два бессмысленных
слова, добавленных к лозунгу, помогли превратить политическую
идиому в общедоступную модель, что явно содействовало
пониманию текста (Menken 1937: 315).
Впрочем, несмотря на то, что в британских справочниках
неоднократно отмечается большая грубость «bloody» в Англии,
нежели в США, не подлежит сомнению, что и в Англии это
слово посегодня пользуется успехом во всех слоях общества.
По мнению председателя Британского совета по телевидению
лорда Р. Могга, «bloody» сильно ослабело после Первой
мировой войны и теперь вызывает протесты лишь небольшого
числа телезрителей: из 56 опрошенных в процессе исследования
этого вопроса в 1991 году 47 сочли это слово приемлемым в
телепередачах (The Guardian. 1991. Oct 25).
Итак, можно констатировать, что названные выше
объяснения исследуемой инвективы мало помогают понять суть дела.
Во-первых, они, эти объяснения, не обладают силой обобщения:
то, что еще как-то объясняет происхождение «bloody», не
может объяснить происхождения подобного же бранного слова во
французском или немецком языке в том же значении.
Возникновение же аналогичных инвектив в разных национальных
культурах по совершенно разным причинам чрезвычайно
маловероятно. Во-вторых, ни одно из предложенных выше
объяснений не проливает свет на резкое «ухудшение» значения, на
возникновение табу на эти слова.
Поэтому более целесообразно присмотреться к буквальному
значению соответствующих слов, то есть попытаться понять
смысл инвективы, исходя из значения «кровь». Стоит
вспомнить, что понятие крови всегда было и остается одним из самых
священных понятий всех народов мира (ср. красный цвет на
знамени многих стран, выражения типа «проливать кровь»,
«платить кровью», «кровь за кровь» и т. д.).
В свое время понятие крови подвергалось жесткому табу,
ибо местонахождение души полагалось в крови, с истечением
крови «душа отлетала от тела» и т. п. Ср. прямые свидетельства
Библии:
Ибо душа всякого тела есть кровь его (Лев. 17: 14);
Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть
душа (Втор. 12: 23).
Таким образом, вполне основательно предположить, что
первоначально «bloody» могло означать просто «покрытый
кровью», «окровавленный», откуда пошло значение «насильст-
313
венный», а уже от него — общее отрицательное переносное
значение. Так, уже в XVII в. английский драматург Шадвелл
упоминал «The bloody hands of critics», где «bloody» могло означать
сразу «обагренные кровью [писателей] руки критиков» и «эти
чертовы руки критиков». Значение «обагренные кровью»
время от времени оживлялось в силу национальной специфики
исторического развития: в США перед Войной за
независимость колонисты считали, что английские солдаты получили
свое прозвище «bloody backs» («окровавленные спины») из-за
постоянных порок, которым подвергались (Marshall 1975: 518).
Хотя, конечно, ничто не мешает считать, что в данном случае
«bloody» вполне могло восприниматься колонистами и как
презрительное наименование своих врагов, т. е. как, в лучшем
случае, «чертовы спины».
Таким образом, вряд ли следует искать происхождение
такого сильного инвективного средства в каких-то конкретных,
типично английских исторических и языковых фактах.
Наиболее естественно объяснить его историю на фоне
общечеловеческих изменений, характерных для истории абсолютного
большинства инвектив.
3.7. Инвектива и ксенофобия
Несмотря на то, что во всех культурах присутствуют
ксенофобские клички и обзывания типа «Жид!», мы отвели им
всего несколько нижеследующих абзацев. Тому несколько
причин. Во-первых, подобному материалу уже посвящена большая
монография А. А. Робэка (Roback 1944), собравшего
обширный материал, к которому вряд ли можно добавить что-либо
существенное. Во-вторых, анализ показывает, что в
психологическом отношении многочисленные ксенофобские обзывания
достаточно однообразны: на основе каждого из них лежит не-
рассуждающая ненависть ко всему культурно-чуждому. Нет
смысла игнорировать и естественное отвращение,
испытываемое к любому материалу, сеющему вражду между народами
и культурами; любая, самая грязная ругань типа мата может,
в принципе, изучаться сравнительно спокойно, так как она все
же не покушается на само существование цивилизации, чего
нельзя сказать о расистских или националистических
оскорблениях, обостряющих и без того накаленную атмосферу
межнациональных отношений на рубеже веков.
Однако несколько слов на эту тему представляются в
настоящем исследовании все же необходимыми.
314
В английском языке существует специальное выражение
«ethnic/racial slur», обычно имеющее в виду унизительную
кличку этнической группы, в которую не входит говорящий.
В русском языке это прежде всего «жид», но также «чурка»,
«армяшка», «япошка», «китаёза», «черные», «черножопые»
и мн. др. Отсутствие соответствующего русского термина
говорит о малом внимании, уделяемом этому далеко не
безобидному явлению.
Не так легко объяснить, почему такие слова, как «жид»,
воспринимаются как сильнейшие оскорбления. По мнению
Т. Джея, расистские этнические названия ассоциируются в
памяти народа с пережитыми погромами, унижениями,
нарушением гражданских прав — одним словом, с проявлениями
расизма. Таким образом, резкая реакция опирается не на собственно
слово, а на ассоциируемые с ним действия (Jay 1992: 166).
В этой связи полезно вспомнить, что в Советской России
абсолютно нейтральные дореволюционные наименования многих
национальных меньшинств стали восприниматься как
оскорбительные, так как в сознании соответствующей народности
они связывались с неравноправным положением и ощущением
себя гражданами второго сорта (ср. «вотяки» — «удмурты»,
«самоеды» (= самодийцы) — ненцы, нганасаны и др.): дело,
таким образом, было не в самом слове, а в принципиальной
надежде на то, что с новым наименованием (чаще всего это было
самоназвание народности) наступит время и новых
равноправных отношений.
Во многих странах за употребление расистской
терминологии законами предусматривается очень серьезное наказание.
В Соединенных Штатах одно за другим табуируются названия
негритянского населения: в настоящее время уже полностью
запрещено «Negro» и даже понемногу начинает осуждаться
заменившее «Negro» слово «Black» («черный»); вместо него чаще
употребляется «Afro-American»; впрочем, и это слово
американцы стараются избегать и в разговоре просто игнорируют цвет
кожи. Например, в школах и других общественных
учреждениях запрещается упоминать цвет кожи ученика или работника.
Краткие итоги сказанного в третьей главе.
1. Классификация инвективной лексики на богохульства,
скатологизмы, зооморфизмы и сексуальные оскорбления
охватывает большую часть инвектив в большинстве национальных
культур и является удобной для описания и систематизации
этого лексического слоя.
315
2. Богохульства лежат в основе абсолютного большинства
инвектив. Богохульный характер можно обнаружить даже в
инвективах, которые на сегодняшний день необходимо отнести
к совершенно другим подгруппам.
3. Роль прямого богохульства в национальной культуре
находится в прямой зависимости от степени религиозности
общества. Там, где роль религии невелика, основную инвек-
тивную роль играют другие лексические пласты, иногда
являющие собой скрытые богохульства.
4. Богохульства в одном из вариантов представляют
наиболее изощренный инвективный тип, когда в одной инвективе
ощунсгвенно объединяются противоположные понятия Бога и
дьявола. Это, в свою очередь, связывает цель богохульства не
только с катартическими потребностями говорящего, но и с
древней практикой так называемой «черной молитвы» и
обращением к демону через поношение божества.
5. На сегодняшний день скатологизмы в ряде культур
занимают более заметное место, чем явные богохульства и
отражают как сохранение древних табу, так и достижения
современной гигиены.
6. В большом числе национальных культур скатологизмы
имеют отчетливую тенденцию к превращению в междометия,
но с обязательным сохранением табу-семы.
7. Популярность скатологических инвектив активно
поддерживается двойственным восприятием человеком продуктов
его жизнедеятельности, частичным освящением их,
сохраняющимся и в настоящее время.
8. Практически в любом обществе зафиксированы
зооморфные инвективы, которые можно рассматривать как
символические названия различных отрицательных свойств человека.
9. Выбор тех или иных животных в качестве инвективно-
го материала национально-специфичен, и чем далее отстоят
друг от друга национальные культуры, тем отчетливее
разница в выборе конкретного животного и приписываемых ему
свойств. Две национальные культуры могут наделять одно и то
же животное противоположными свойствами.
10. Выразительность отдельных инвектив в национальной
культуре может привести к «эмоциональному перенасыщению»
и, как следствие, десемантизации, в результате чего
возникает необхоимость в наделении зооморфного обращения
уточняющим определением.
11. Изучение инвектив, связанных с именем собаки,
позволяет выяснить подлинный смысл инвектив типа русского мата
316
и связать его с разделом богохульных инвектив. В свою очередь,
это дает возможность объяснить малую популярность в
русском ареале явных богохульств, а также чрезвычайную
резкость инвектив, связанных с наименованием собаки, в целом
ряде ареалов.
12. Трем знаково различным возможностям использования
слова «собака» соответствуют три варианта отношения
человека к собаке как к животному. Но превращение «собаки» в
сюжет оскорбления может вести происхождение как из
священного, так и из сниженного восприятия собаки. Осуждение
собаки может свидетельствовать об очень высокой оценке
человеком этого животного.
13. Русское матерное сквернословие может быть помещено
в один ряд с многочисленными сексуально ориентированными
инвективами в огромном большинстве национальных культур.
Нет никаких оснований для выделения его в какой-то особый
и оригинальный тип.
14. Имеется достаточно оснований видеть связь между
сексуальной инвективой и поведением животных, в первую
очередь — приматов, хотя проводить прямые параллели нельзя
ввиду четких различий между ритуальными действиями
животных и вербальной инвективизацией речи человеком.
Сравнительный анализ поведения животных и человека позволяет
построить схему превращения инстинктивного акта через акт
подставления в инвективу с возможным дальнейшим
развитием в междометие.
15. Сексуальная инвектива имеет очень древнее,
дохристианское, чаще всего богохульное происхождение. Мало
оснований говорить в этом плане о заимствованиях из других языков.
Мнение о якобы имевшем место заимствовании русского мата
основано на неверном понимании древнего значения таких
определений, как «еллинский», «татарский» и проч.
16. При всей непристойности сексуальной инвективы она не
во всех культурах занимает доминирующее положение среди
других инвективных средств. Однако в любой культуре она
построена на двойственном восприятии обозначаемого
явления: как священного, сакрального акта и как профанного,
непристойного поведения.
17. Дальнейшая судьба матерной инвективы будет зависеть
от судеб культа матери и отношения к интимной стороне жизни
в той или иной национальной культуре.
18. Ряд сексуальных инвектив легко объединяется в так
называемую обнажающую группу, главная задача которой —
317
назвать определенную «неприличную» часть тела. Основная
причина возникновения этой группы инвектив — существование
ктеических и фаллических дохристианских культов. Цели
вербального «разоблачения» оппонента могут быть различны, как
различны причины реального обнажения. В случае инвек-
тивного обнажения главная общая цель — понижение
социального статуса оппонента.
19. Инвективы группы «Незаконнорожденный!» восходят в
основном к ктеическим культам. В процессе исторического
развития эта группа претерпевает особенно заметные
изменения в связи с изменением оценки обществом самой
проблемы незаконнорожденности. В отношении этой инвективы
наблюдаются особенно серьезные различия в связи социальным
положением и полом общающихся.
20. Заметное место в инвективном ряду многих культур
занимает тема крови. Среди целого ряда версий происхождения
этой инвективы наиболее убедительной кажется ее связь с
понятием крови как сакрального предмета.
шшшшшшшш
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненный в данной монографии анализ позволяет
прийти к следующим выводам.
Инвективная практика общения свойственна всем без
исключения этническим культурам. В любом языке на
протяжении всей его истории существовала инвектива как орудие
агрессии, осуществляемой нелитературными,
неразрешенными вербальными средствами, известными любому члену
социальной группы. Таким образом, можно говорить об
инвективе как о своеобразной универсалии. Имеются доказательства
исключительной древности инвективного слоя лексики,
основывающиеся на данных ряда наук: лингвистики, этологии,
афазиологии и др.
В психологическом плане инвектива оказывается тесно
связанной с понятиями общечеловеческих табу и катарсиса как
средства снятия психологического напряжения. Катарсис
достигается за счет сознательного нарушения социальных запретов-
табу с помощью инвективного словоупотребления и создания
таким путем особой атмосферы всеобщей карнавальной
вовлеченности.
Особенности инвективного словоупотребления делают это
последнее удобным средством словесного выражения эмоций.
Преимущество инвективы перед другими вербальными
средствами заключается в ее способности частичного преодоления
знаковости языка, то есть приближения к сущности эмоций в
их амбивалентном (поливалентном) способе существования.
Амбивалентная эмоция хорошо выражается с помощью
инвективы, которая характеризуется, в свою очередь, знаковой
амбивалентностью.
В историческом плане прослеживается четкая
органическая связь между современной инвективой и рядом священных
319
понятий, подвергшихся снижению в процессе эволюционного
развития общества, смены религиозных представлений и
этических установок. Этот процесс развивался по схеме
«святое — священное — опасное — нечистое — непристойное»,
причем в конечном продукте развития — инвективе —
сохраняется прочная связь священного и сниженного начал,
определяющая всю онтологию инвективного слова, включающую
понятие диалектической амбивалентности.
Однако сохранение священного смысла не препятствует
инвективе принять на себя роль прежде всего выразителя
сниженной ипостаси обозначаемого ею понятия. Эта ее роль
имеет важное значение как условие существования другого,
общественно разрешенного средства обозначения того же
предмета. Такое разделение ролей между табуированной или
осуждаемой инвективой и кодифицированным
общепринятым вербальным средством сильно облегчает коммуникацию,
позволяя обходить некоторые наиболее острые проблемы
табу.
Существует некий инвективный континуум, присущий
национальной культуре в целом, но не используемый ни одним
отдельным представителем этой культуры в полном объеме.
Выявляется ряд предпочтений той или иной части континуума,
от слабой, приближающейся к разрешенному языку, до
наиболее резкой, грубой и вульгарной, в зависимости от ряда
параметров: социального, конфессионального, полового,
возрастного, образовательного и т. д. Эти же параметры определяют
частоту обращения к инвективе.
Инвективный континуум тесно соприкасается с
просторечиями, арготизмами и междометными восклицаниями. С
арготизмами инвективу роднит общность некоторых функций,
однако значительное количество функций у них разное.
Просторечие и междометие могут иметь общее с инвективой «тело
знака», однако просторечие не может быть причислено к
инвективе, отличаясь по большинству признаков, прежде всего —
малой или нулевой эмоциональностью и совсем другими
функциями. Грубое междометное восклицание, оставаясь
инвективой, по степени эмоциональности приближается к просторечию,
но в него не превращается, выполняя роль «детонирующей
запятой».
Несмотря на ведущуюся с ним непрерывную борьбу,
инвективный способ общения продолжает оставаться активно
действующим агрессивным средством почти во всех, без
исключения, социальных группах, хотя в этом отношении между груп-
320
пами возможны значительные расхождения. Стойкая
жизнеспособность доказывает объективную необходимость этого
лексического слоя в общей системе порождения и восприятия
речи.
Жизнеспособность инвективного словоупотребления
доказывается и полифункциональностью этого слоя. Можно назвать
около трех десятков функций инвективы в речи. Все эти
функции, видоизменяясь, продолжают существовать, хотя и
обнаруживая разную динамику: часть из них постепенно утрачивает
значение, в то время как другая часть сильно меняется или
усиливается. Полностью утраченных инвективных функций
обнаружить не удалось.
Однако из жизнестойкости инвективного слоя отнюдь не
следует, что дальнейшая инвективизация речи была бы
благом. Достаточно данных для утверждения, что инвективный
способ выражения агрессивных намерений одновременно
является деструктивным, опасным для личности и общества в
целом, так как ориентирует их на негативное, циничное
восприятие ряда важнейших этических ценностей. Давая
временное сиюминутное освобождение от стресса, инвектива
одновременно создает нигилистическую фрустрирующую модель
дальнейшего поведения, что не может не сказаться на
психическом здоровье как отдельного сквернослова, так и нации в
целом. Такая внутренняя диалектичносгь инвективы
является одним из наиболее характерных ее признаков.
Последние научные изыскания показывают, что
деструктивная роль сквернословия может быть еще значительнее,
чем считалось до сих пор. В средствах массовой информации
появилось сообщение о результатах исследования группы
ученых Российской академии наук под руководством П. Го-
ряева. Согласно исследованиям этой группы, словесная
информация оказывает влияние на ДНК, причем
сквернословие разрушает волновые программы, которые отвечают за
нормальную работу организма. Поэтому, по крайней мере
частично, инвективизация речи безусловно ответственна за
катастрофическое состояние психического и даже
физического здоровья населения современной России (Аргументы и
факты. 1998. № 41).
Если взглянуть на бранный вокабуляр на фоне
вышеперечисленных слов, укрепление его позиций в речи выглядит
довольно естественным, ибо одну и ту же фрустрирующую
ситуацию можно описать словами вышеперечисленного списка
или инвективно.
11В.И.Желышс
321
Совершенно очевидные опасности для существования
общества, вызываемые активной инвективизацией речи,
естественным образом ведут к осознанным или неосознаваемым
попыткам общества, с одной стороны, сократить или
уничтожить инвективное словоупотребление, а с другой — попытаться
найти ему какую-то альтернативу, более приемлемую в
социальном плане. Разумеется, эти попытки происходят в русле
поисков альтернативы любой агрессии, в том числе (но не
только) вербальной. Среди таких попыток, обладающих разной
степенью социальной безопасности, можно назвать некоторые
разновидности современной агрессивной молодежной музыки,
азартные игры, сложные зигзаги экстравагантной моды,
вообще любой вид соревнований, прежде всего спортивных.
Разумеется, ни одна из этих попыток изначально не может
считаться панацеей: известно, что те же спортсмены числятся
не в последнем ряду списка наиболее заядлых сквернословов1.
С противоположного конца этого континуума находятся
физическая агрессия, вандализм, алкоголизм, наркомания. В
последнее время в западном мире к ним добавляются такие
характерные явления, как пирсинг и самокалечение. Как
известно, пирсинг [англ. «piercing») представляет собой украшение
себя всевозможными колечками, для ношения которых
протыкаются не только уши или нос, но язык, губы, щеки, грудь,
пупок, половые органы и т. д.
Диалектически противоречивый характер инвективного
словоупотребления заставляет внимательно рассмотреть
возможности динамики этого лексического слоя. Понять эту
динамику можно с помощью рассмотрения общефилософских
проблем, таких как проблема свободы. В применении к
исследуемой теме проблема свободы означает возможность или
невозможность снятия антагонистического противоречия
между священным человеческим «верхом» и обыденным «низом».
Именно изменения в характере этого противоречия способны
оказать влияние на судьбы современных инвективных средств
общения. Снятие антагонистического характера указанного
противоречия будет равносильно исчезновению ряда табу, что,
естественно, приведет к исчезновению их нарушения через
современные инвективные средства. Однако объективная
необходимость словесного выражения негативных агрессивных
эмоций и намерений вызовет возникновение новых табу и уси-
1 Ср. заголовок статьи о соревновании по теннису: «От ругани краснел
даже мяч» (Известия. 1999. 27 мая).
322
ление тех табу, которые на сегодняшний день кажутся
слабыми и не могут инвективно материализоваться. Таким образом,
рассчитывать на полное исчезновение инвективы как средства
общения не приходится, хотя можно полагать, что инвектива
будущего будет выглядеть совершенно иначе, чем в настоящее
время.
Данному процессу развития инвективы может сопутствовать
процесс междометизации современных инвектив, стирания их
взрывчатой силы, что, в свою очередь, вызовет потребность в
появлении новых инвективных средств, обладающих
достаточным катартическим зарядом.
Являясь своеобразной универсалией, национальное инвек-
тивное словоупотребление одновременно обладает серьезными
этническими отличиями как стратегического, так и
тактического плана. В этом смысле можно говорить об этноинтегри-
рующих, объединяющих социальную группу возможностях
инвективы, а также об этнодифференцирующих,
разъединяющих ее возможностях, то есть способности инвективы
содействовать противопоставлению одной национальной
культуры другой.
Каждая национальная инвективная стратегия обладает
ценностно значимой эмоциональной доминантой, играющей
разную роль в зависимости от характера этнической
культуры. Роль снижающей доминанты является определяющей
как в теории переводоведения, так и в практике перевода,
ибо в большом числе случаев буквальный перевод
инвективы на другой язык приводит к грубым ошибкам или
деформациям при передаче эмоций. Для эффективной передачи
инвективного смысла на другом языке необходимо
подбирать не буквальное соответствие, а почти исключительно —
эмоционально адекватный вариант. Выбор такого варианта
представляет значительную сложность ввиду национальной
специфичности инвектив: буквально перевести русский мат
на, допустим, эстонский язык, разумеется, можно, но
эффект будет совсем не тот, что от соответствующего по силе
эстонского ругательства; с другой стороны, невозможно
представить себе русского героя какого-нибудь
художественного произведения, изрекающего буквально переведенную
эстонскую брань.
Национальная специфичность инвективной стратегии и
тактики хорошо проявляется при заимствовании инвектив,
которые, подобно любым культурным заимствованиям, могут
восприниматься то в отрицательном, то в положительном
11 *
323
аспекте. Заимствованная инвектива может в одних случаях
звучать намного слабее, чем в том языке, из которого она
взята, в других — напротив, приобрести дополнительную
эмоциональную силу. Причины такого разного восприятия
заимствований кроются в магическом смысле древних формул,
позднее ставших инвективами, равно как и в эмоциональном
ослаблении заимствования как следствии потери важных
дополнительных значений и понятийных связей: первая
причина заставляет воспринимать чужую инвективу как более
резкую и впечатляющую, вторая — как несильное
междометие. Буквальный обратный перевод заимствованной
инвективы может привести к полному искажению смысла в
эмоциональном аспекте.
Данные, полученные в результате изучения конкретной
инвективной стратегии и тактики в той или иной
национальной культуре, могут оказываться полезными при создании
своеобразного «инвективного портрета» соответствующей
этнической общности. В частности, национальная
специфичность культуры может выражаться в способе достижения
катарсиса. В этом аспекте можно выделить культуры, в которых
предпочтение оказывается неразрешенным (в том числе ин-
вективным) средствам выражения эмоций, культуры, которые
предпочитают обращаться прежде всего к разрешенным
средствам, а также культуры, которые стремятся вообще
избежать необходимости обращения к катарсису. Абсолютное
большинство культур отдает предпочтение более или менее
симметричной пропорции между разрешенными куртуазными
и неразрешенными инвективными средствами, причем
наиболее распространены такие пропорции, где количество инвек-
тивных средств преобладает над количеством средств
куртуазных.
Очевидно, что именно такая пропорция подсознательно
признается оптимальной, при всех ее недостатках.
Осуществление катарсиса только инвективными или только
куртуазными средствами невозможно принципиально. Однако
несомненно, что в принципе одной и той же цели — снятия
психологического напряжения — можно добиться как обращением к
вежливой куртуазной формуле, так и к вульгарной инвективе.
Ни один из этих способов ие безупречен, что и объясняет
необходимость использования их обоих.
Осознание этнической общностью опасности обращения к
инвективе заставляет искать возможности эвфемистических
замен.
324
Такие замены носят национально-специфический характер
и поэтому могут играть свою роль в создании национального
«инвективного портрета». Первопричину эвфемизации следует
искать прежде всего в истоках возникновения инвективы как
языкового слоя, то есть в магическом восприятии изначально
священной формулы, превратившейся в инвективу, но не
утратившей при этом определенного священного смысла.
Существует несколько способов эвфемизации грубой
инвективы, среди которых заметное место принадлежит фоно-
семантическому подходу. Сам факт эвфемизации инвективы
или уклонения от нее носит отчетливый
национально-специфический характер. Возможны сильные изменения
эвфемистической политики в том или ином языке на протяжении
его истории.
Практически в каждой национальной культуре существует
один и тот же тематический инвективный набор, что позволяет
составить общую универсальную классификацию инвектив.
Однако пропорции той или иной темы в национальном инвек-
тивном списке далеко не одинаковы, как не одинакова история
развития национальных культур, их взаимодействия с другими
культурами и т. д. Изучение пропорций инвективных тем
способно пролить свет на ряд этических предпочтений той или
иной социальной группы. Одновременно тематическая
классификация позволяет выяснить исторический приоритет одних
инвектив в сравнении с другими. В частности, имеется
возможность вывести наиболее резкие сексуальные инвективы из
древних религиозных представлений и, следовательно, богохульных
инвектив.
Анализ отдельных инвективных тем помогает прояснить
ряд вопросов этнопсихолингвистики. Это, например,
возможность создания интегральных «телескопических» инвектив,
объединяющих знаково противоположные понятия, священно-
обыденное восприятие одного и того же явления, зависимость
инвектив от древних ктеических и фаллических культов и
эволюции этических взглядов.
Дая изучающих специфику русской национальной
культуры особое значение представляет рассмотрение наиболее
распространенных русских вульгаризмов. Внимательное
изучение вопроса позволяет отказаться от некоторых популярных
ненаучных мио^юв, например, о какой-то особой роли или даже
преимуществах русской брани, ее приоритете и проч. Не
обнаруживается и прямой зависимости заметного увеличения
объема русскоязычного сквернословия от тех или иных особен-
325
носгей русского ареала (культ личности, период застоя и проч.).
В свете проведенного исследования такой подход
представляется недопустимо упрощенным. Развитие русскоязычной
инвективы происходит в русле общего языкового, психологического,
этического и т. д. развития человечества и подчиняется общим
законам табу и запретов.
Однако одновременно нельзя упускать из виду и
существенное функциональное отличие русской брани, которое
заключается в сохраняющейся и посегодня ее сакрализации.
В России и западных странах наблюдается резкое увеличение
процента агрессивных бранных выражений, но, по-видимому,
один и тот же процент брани в русском и любом
западноевропейском языках произведут разный эффект, в частности,
и по этой причине.
Рассмотренные проблемы инвективного словоупотребления
в таком ракурсе не рассматривались в отечественной этнопси-
холингвистике и очень мало изучались за рубежом.
Предлагаемое исследование, естественно, не претендует на
исчерпывающую полноту. К числу проблем, которые исследование или не
пыталось решить, или предложило только гипотетическое
решение, можно отнести ряд важных теоретических и
практических вопросов.
Необходимо законодательно закрепить определения
разных случаев употребления необходимых понятий, связанных
с оскорблением чести и достоинства, то есть дать
юридически четкие и недвусмысленные определения, что считать
непристойностью, оскорблением, обидой, неприличием и др.
и, естественно, определить степень вины за употребление
соответствующих бранных слов.
С необходимыми оговорками, сделанными выше, столь же
необходимо составить список наиболее оскорбительных слов,
прежде всего тех, которые в юриспруденции США получили
название «fighting words» и которые до сих пор не имеют
адекватного названия в русском языке: это слова, сознательно
провоцирующие драку преимущественно с кровавым исходом. Как
указывалось выше, в местах заключения назвать человека
«женским» словом типа «Блядь!» или «Швабра!» означает
обвинить его в пассивном гомосексуализме и побудить к
яростной атаке. Такие слова полезно отличать от угрозы
физической расправы, просто грязной ругани и т. п. Разумеется,
необходимо учитывать, что в ряде случаев различить все эти
понятия невозможно: слово «Жид!» может быть расценено и
326
как разжигание национальной розни, и как провоцирующее
нападение.
Было бы полезно экспериментально выяснить связь между
алкогольным опьянением и употреблением бранного вокабу-
ляра. Само наличие такой связи в доказательстве не нуждается,
однако простые бытовые наблюдения и выводы явно не
годятся для основательного судебного заключения.
В теоретическом плане крайне интересно было бы выяснить,
например, характер связи агрессивности поведения и
склонности к употреблению инвективной лексики. Можно априори
предположить, что у человека, привыкшего решать свои
проблемы с помощью грубой физической агрессии, запас инвектив
будет ниже, чем у завзятого сквернослова, обращающегося к
инвективе в кризисной ситуации.
Другими словами, модель поведения во многом
определяется выбором средств нападения (и защиты). Но такое
предположение нельзя доказать без основательной «полевой»
проверки. Точно так же необходима практическая проверка
гипотезы о том, будто существует зависимость между падением
эмоциональной силы инвектив, уменьшением их катар-
тической роли и, следовательно, трудностями в использовании
их вместо физической агрессии, с одной стороны, и
увеличением в том же ареале физического насилия, ростом
преступности, вандализма, особенно так называемых
немотивированных преступлений — с другой. Если возникновение вербальной
агрессии действительно можно считать сигналом начала
цивилизованных отношений между людьми, тогда, теоретически
рассуждая, уменьшение роли вербальной агрессии как
регулятора социальных отношений должно бы вести к обратным
результатам, то есть движению от цивилизованных
отношений к попыткам решать все проблемы с помощью грубой
физической силы. Например, можно было бы попытаться
найти связь между превращением грубых инвектив в стертые
междометные восклицания и одновременным увеличением
случаев насилия, шовинизма, общей грубости молодого
поколения.
На основании того, что уже известно об эмоциональной
интонации, можно выдвинуть следующую гипотезу.
Ценностная шкала инвективных интонаций у разных народов должна
быть разной, интонация, кажущаяся очень мягкой в одной
национальной культуре, может звучать очень грубо в другой,
что в практическом плане может привести к грубым ошибкам
в понимании иноязычного текста.
327
Было бы очень важным и прагматически полезным делом
попытаться создать типологию инвективных интонаций и
поискать возможные универсалии.
В плане изучения проблем эвфемизмов и различных табу
представил бы значительный интерес этимологический анализ
наиболее ярких инвектив в максимально большом количестве
языков и попытка выведения определенной типологической
связи между ними. Отдельные удачные попытки в этом
направлении еще не сведены в систематическое описание.
Исключительно важно было бы изучение всех возможных
альтернатив инвективному словоупотреблению, как уже
получивших развитие, так и теоретически возможных в будущем.
Практическая польза от таких исследований самоочевидна.
Наконец, в узкопрактическом смысле можно говорить о
поисках средств наиболее эффективной борьбы с инвектив-
ными эксцессами, борьбы, которая явно не может
ограничиваться только административными запретами.
Эти и другие проблемы ждут своего решения.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Абаев 1980 — Абаев Н. В. Архаичные формы религиозной теории и
практики в чань-буддизме // Буддизм и средневековая культура народов
Центральной Азии. — Новосибирск: Наука, 1980. — С. 156—175.
Абрамян 1985 — Абрамян Л. А. Оскорбление и наказание: Слово
и дело // Этнические стереотипы поведения. — Л.: Наука, 1985. —
С. 279-296.
Акос]эф, Эмери 1974 — Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных
системах. — М.: Советское радио, 1974.
Амосов 1978 — Амосов Н. М. Раздумья о здоровье. — М.: Молодая
гвардия, 1978.
Анти-мир 1996 — Анти-мир русской культуры: Язык. Фольклор.
Литература / Сост. Богомолов Н. А. — М.: НИЦ «Ладомир», 1996.
Антология... 1984 — Антология кинизма: Фрагменты сочинений кини-
ческих мыслителей. — М.: Наука, 1984.
Арнольд 1974—Арнольд И. В. О возможностях использования понятия
квантования в стилистике // Вопросы английской контексгологии. —
Вологда, 1974.-С. 3-11.
Байбурин 1985 — Байбурин А. К. Некоторые вопросы
этнографического изучения поведения // Этнические стереотипы поведения. — Л.:
Наука, 1985. - С. 7-21.
Балаян, Шабанов 1962 — Балаян А. Р., Шабанов А. Ш. Некоторые
особенности коммуникативного поведения азербайджанцев // Национально-
культурная специфика речевого общения народов СССР. — М.: Наука,
1962. - С. 88-93.
Бахтин 1965 — Бахтин M. М. Творчество Франсуа Рабле и народная
культура Средневековья и Ренессанса. — М: Художественная литература,
1965.
Бахтин 1975 — Бахтин M. М. Формы времени и хронотопа в романе:
Очерки по исторической поэтике. — М.: Художественная литература,
1975. - С. 234-407.
Башкирова 1976 — Башкирова Г. Лицом к лицу. — М.: Детская
литература, 1976.
Бежин 1982 — Бежин Л Е. Под знаком «Ветра и потока»: Образ
жизни художника в Китае Ш— IV вв. — М.: Наука, 1982.
329
Беркнер 1978 — Беркнер С. С. Проблемы развития разговорного
английского языка в XVI—XIX вв.: (На материале драматического и других
литературных жанров). — Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та,
1978.
Берн 1988 — Берн Э. Игры, в которые играют люди; Люди, которые
играют в игры. — М.: Прогресс, 1988.
Берндт, Берндт 1981 — Берндт К. X., Берндт Т. М. Мир первых
австралийцев. — М.: Наука, 1981.
Блуд на Руси 1997 — Блуд на Руси/ Сост. Манаков А. — М.: Колокол-
Пресс, 1997.
Богданов 1988 — Богданов К. А. Очерки по антропологии молчания. —
СПб.: Изд-во Русского христианского гуманитарного института, 1998.
Буй 1995 — Буй В. Русская заветная идиоматика: (Веселый словарь
крылатых выражений). — М.: Помовский и партнеры, 1995.
Булдаков 1981 — Булдаков В. А. Стилистически сниженная
фразеология и методы ее идентификации: (На материале современного
немецкого языка). — Дис. ...канд. филол. наук. — Калинин, 1981.
Василюк 1984 — Василюк Ф. Е. Психология переживания: Анализ
преодоления критических ситуаций. — М.: Изд-во МГУ, 1984.
Вилюнас 1984 — Вгиюнас В. К. Основные проблемы психологической
теории эмоций // Психология эмоций: Тексты. — М.: Изд-во МГУ, 1984. —
С. 3-28.
Винер 1958 — Винер Н. Кибернетика и общество. — М.: Изд-во
иностранной литературы, 1958.
Витт 1983 — Витт Н. В. Эмоциональная регуляция речевого
поведения при общении: Текст лекций спецкурса. — М.: Изд-во МГПИИЯ им.
М. Тореза, 1983.
Войтик 1974 — Войтик А С. К вопросу о смысловой структуре слова:
(На материале лексико-семантической группы наименований
животных). — Дис. ...канд. филол. наук. — Алма-Ата, 1974.
Воляновский 1976 — Воляновский Λ. В самых дальних странах
Дальнего Востока. — М.: Прогресс, 1976.
Вундт 1911 — Вундт В. Миф и религия. СПб.: Изд-во Брокгауз и
Эфрон, 1911.
Выготский 1934 — Выготский Λ. С. Мышление и речь:
Психологическое исследование. М.; Л.: Соцэкгиз, 1934.
Говердовский 1977 — Говердовский В. И. Опыт
функционально-типологического описания коннотации. — Дис. ...канд. филол. наук. — М., 1977.
Горелов 1986 — Горелов И. Н. Энантиосемия как столкновение
противоречивых тенденций языкового развития // Вопросы языкознания. —
1986. - № 4. - С. 86-94.
Горелов 1987 — Горелов И. Н. Вопросы теории речевой деятельности:
Психолингвистические основы искусственного интеллекта. — Таллинн:
Валгус, 1987.
Гридин 1976 — Гридин В. Н. Психолингвистические функции
эмоционально-экспрессивной лексики. — Дис... канд. филол. наук. — М., 1976.
Гринева, Громова 1988 — Гринева Е. Ф., Громова Т. Н. Словарь
разговорной лексики французского языка: (На материале современной
художественной литературы и прессы). — 2-е изд. — М.: Русский язык,
1988.
330
Грушин 1988 — Грушин Б. А. Возможность и перспективы свободы:
(10 полемических вопросов и ответов) Ц Вопросы философии. — 1988. —
№ 5. - С. 3-18.
Гусейнов 1989 — Гусейнов Г. «Сколько ни таимничай, а будет
сказаться» // Знание - сила. - 1989. - № 1. - С. 73-79.
Девкин 1979 — Девкин В. Д. Немецкая разговорная речь. — М.:
Международные отношения, 1979.
Джемс 1984 — Джемс У. Что такое эмоция? // Психология эмоций:
Тексты. - М.: Изд-во МГУ, 1984. - С. 83-92.
Дмитриева 1982 — Дмитриева Н. А. Карнавал вещей// Современное
западное искусство. XX век: Проблемы и тенденции. — М.: Наука, 1982. —
С. 220-251.
Долинин 1978 — Долинин К. А. Стилистика французского языка. —
Л.: Просвещение, 1978.
Дом бытия 1994 — Дом бытия: Лингвофилософский альманах. — М.,
1994. Вып. 1.
Донини 1979 — Донини А. У истоков христианства: (От зарождения до
Юстиниана). — М.: Политиздат, 1979.
Дридзе 1972 — Дридзе Т. М. Язык информации и язык реципиента как
факторы информированности: (Опыт использования
психолингвистических методик в социологическом исследовании) // Речевое
воздействие: Проблемы прикладной психолингвистики. — М.: Наука, 1972. —
С. 34-63.
Дридзо, Минц 1976 — Дридзо А. Д., Минц Л. М. Люди и обычаи:
Этнографические очерки для школьников. — М.: Просвещение, 1976.
Жинкин 1982 — Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. —
М.: Наука, 1982.
Журавлев 1981 — Журавлев А. П. Звук и смысл. — М.: Просвещение,
1981.
Зеленин 1930 — Зеленин Д. К. Табу слов у народов Восточной Европы
и Северной Азии. Ч. 1: Запреты на охоте и иных промыслах; Ч. 2:
Запреты в домашней жизни // Сборник музея антропологии и этнографии. —
Л.: Изд-во АН СССР, 1930. Т. 8, 9. - С. 100-151.
Зорин 1996 — Зорин А. Л. Легализация обсценной лексики и ее
культурные последствия // Анти-мир русской культуры: Язык. Фольклор.
Литература / Сост. Богомолов Н. А. — М.: НИЦ «Ладомир», 1996. —
С. 121-142.
Иванчик 1988 — Иванчик А. И. Воины-псы: Мужские союзы и скис]>
ские вторжения в Переднюю Азию // Советская этнография. — 1988. —
№ 5. - С. 38-48.
Календарные обычаи... 1985 — Календарные обычаи и обряды
народов Восточной Азии: Новый год. — Наука; Гл. ред. вост. лит-ры,
1985.
Карасик 1989 — Карасик В. И. Статус лица в значении слова:
Учебное пособие по спецкурсу. — Волгоград: Изд-во Волгоградского пед. ин-та,
1989.
Касарес 1958 — Касарес X. Введение в современную лексикографию. —
М.: Изд-во иностранной литературы, 1958.
Каспарова, Коптева 1979 — Каспарова М. Г., Коптева Н. В.
Психологическое содержание слова и обучение лексике иностранного языка //
331
Сборник научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. — М., 1979. — Вып.
142. - С. 43-53.
Кирилина 1998 — Кирилина А. В. Еще один аспект значения обеденной
лексики // Вестник Тамбовского университета. 1998. Вып. 4. С. 13—16.
(Серия «Гуманитарные науки».)
Клаус 1967 — Клаус Г. Сила слова: Гносеологический и
прагматический анализ языка. — М.: Прогресс, 1967.
Клике 1983 — Клике Ф. Пробуждающееся мышление. — М.: Прогресс,
1983.
Климова 1975 — Климова А И. Антонимичные значения
полисемантичных слов в современном русском языке. — Автореферат дис. ...канд.
филол. наук. — Л., 1975.
Колшанский 1980 — Колшанский Г. В. Контекстная семантика. — М.:
Наука, 1980.
Кон 1983 — Кон И. С. Этнография и проблемы пола // Советская
этнография. - 1983. - № 3. - С. 5-34.
Кон 1988 — Кон И. С. Введение в сексологию. — М.: Медицина, 1988.
Котов 1983 — Котов А. М. Об экспрессивности в китайском языке //
Система языка и перевод. — М.: Изд-во МГУ, 1983. — С. 114—120.
Крюков 1988 — Крюков В. М. Дары земные и небесные: (К символике
архаического ритуала в раннечжоуском Китае) // Этика и ритуал в
традиционном Китае. — М.: Наука, 1988. — С. 56—84.
Кудрявцев, Куропаткин 1993 — Кудрявцев А. Ю., Куропаткин Г. Д.
Англо-русский словарь-справочник табуизированной лексики и
эвфемизмов. - M.: КОМТ, 1993.
Левин 1996 — Левин Ю. Об обсценных выражениях русского языка //
Анти-мир русской культуры: Язык. Фольклор. Литература / Сост.
Богомолов Н. А. - М.: НИЦ «Ладомир», 1996. - С. 108-120.
Ленин 1936 — Ленин В. И. Философские тетради. — М.: Соцэкгиз,
1936.
Леонтьев 1973 — Леонтьев А. А. Понятия «стиль речи» и «стиль языка»
в ряду других понятий лингвистики речи // Сборник научных трудов
МГПИИЯ им. М. Тореза. - 1973. - Вып. 73. - С. 46-51.
Леонтьев 1978 — Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность //
Избранные психологические произведения: В 2-х т. — М.: Политиздат,
1978. - Т. 2.
Ли Тоанг Тханг 1977— Ли Тоанг Тханг. Система вокативных терминов
родства в современном вьетнамском языке // Национально-культурная
специфика речевого поведения. — М.: Наука, 1977. — С. 282—302.
Линден 1981 — Линден Ю. Обезьяны, человек и язык. — М.: Мир, 1981.
Лихачев 1935 — Лихачев Д. С. Черты первобытного примитивизма
воровской речи // Язык и мышление. — М.; Л: Изд-во АН СССР, 1935. —
С. 47-100.
Лихачев 1964 — Лихачев Д. С. Арготические слова профессиональной
речи // Развитие грамматики и лексики современного русского языка. —
М.: Наука, 1964. - С. 311-359.
Лихачев, Панченко 1976 — Лихачев Д. С, Панченко А. М. «Смеховой
мир» Древней Руси. — Л.: Наука, 1976.
Ломтев 1960 — Ламтпев Т. П. Об абсолютных и реляционных
свойствах синтаксических единиц: (О понятии позиции в теории синтаксиса) //
332
Научные доклады высшей школы: Филологические науки. — 1960. —
№ 4. - С. 15-28.
Лоренц 1977 — Лоренц К. Человек находит друга. — М.: Мир, 1977.
Лосев 1983 — Лосев А. Ф. Языковая структура: Учебное пособие. — М.:
Изд-во МГПИ им. Ленина, 1983.
Лотман 1980 — Лотмап Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгении
Онегин». Комментарий: Пособие для учителя. — Л.: Просвещение, I960.
Лоуренс 1989 — Лоуренс Д. Г. Порнография и непристойности //
Иностранная литература. — 1989. — № 5. — С. 232—236.
Лурье 1994 — Лурье С. Метаморфозы традиционного сознания: Опыт
разработки теоретических основ этнопсихологии и их применения к
анализу исторического и этнографического материала. СПб., 1994.
Мазаев 1978 — Мазаев А. И. Праздник как социально-художественное
явление: Опыт историко-теоретического исследования. — М.: Наука,
1978.
Мамонтов, Шахнарович 1989 — Мамонтов А. С, Шахнарович А. М.
Лексическая системность и национально-культурный компонент
сопоставления языков в учебных целях // Тезисы Всесоюзного семинара-
совещания «Лингвистика и преподавание языка». — Кострома, 1989. —
С. 96-97.
Манн 1978 — Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. — М.: Художественная
литература, 1978.
Меновщиков 1982 — Меновщиков Г. А. О некоторых особенностях
коммуникативного поведения эскимосов^Национально-культурная
специфика речевого общения народов СССР. — М.: Наука, 1962. — С. 141—
144.
Михайлов 1981 — Михайлов А. Д. Средневековый французский
фарс. — М.: Искусство, 1981.
Монтень 1958-МонтенъМ. Опыты: В 3 т. - М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1958. - Т. 1.
НКС 1983 — Настольная книга священнослужителя: В 8 т. - М.:
Изд-во Московской патриархии, 1983. — Т. 4.
Неверов 1982 — Неверов С. В. Общественно-языковая практика
современной Японии. — М.: Наука, 1982.
Нерознак 1996 — Нерознак В. П. Лингвистическая персонология:
К определению статуса дисциплины // Язык. Поэтика. Перевод: Сборник
научных трудов. — М.: Московский государственный лингвистический
университет, 1996. - Вып. № 426. - С. 112-116.
Никитин 1988 — Никитин М. В. Основы лингвистической теории
значения. — М.: Высшая школа, 1988.
Ницше 1990 — Ницше Ф. По ту сторону добра и зла у/Ницше Ф. Собр.
соч. — М.: Изд-во Клюкина, 1990. — Т. 2.
Носенко 1975 — Носенко Э. Л. Рассогласование формы выражения и
содержания как отражение эмоционального напряжения в речи //
Вопросы теории романо-германских языков. — Днепропетровск: Изд-во
Днепропетровского гос. ун-та, 1975. — Вып. 6. — С. 59—62.
Носенко 1975а — Носенко Э. Л. Специфика выражения состояния
эмоционального напряжения в речи на лексическом уровне // Вопросы теории
романо-германских языков. — Днепропетровск: Изд-во
Днепропетровского гос. ун-та, 1975. — Вып. 6. — С. 63—68.
333
Носенко 1976 — Носенко Э. Л. Влияние состояния эмоционального
напряжения на восприятие речи // Смысловое восприятие речевого
сообщения (в условиях массовой коммуникации). — М.: Наука, 1976. —
С. 233-247.
Оликова 1979 — Оликова М. А. Обращение в современном английском
языке. — Львов: Вища школа, 1979.
Осорина 1983 — Осорина М. В. Современный детский фольклор как
предмет междисциплинарных исследований: (К проблеме этнографии
детства) // Советская этнография. — 1983. — № 3. — С. 34—45.
Остров... 1964 — Остров красавицы Си Мелю: Мифы, легенды и
сказки острова Сималур / Собраны в этнографической экспедиции д-ром
Г. Келлером. — М.: Наука, 1964.
Парнов 1984 — Парнов Е. И. Звездные знаки. — 2-е изд. — М.: Знание,
1984.
Петровский 1957 — Петровский Ф. А. Сочинение Аристотеля о
поэтическом искусстве //Аристотель. Об искусстве поэзии. — М.: Гослитиздат,
1957. - С. 7-35.
Пименов 1976 — Пименов А. В. Социально-психический детерминизм
речевого поведения как методологический принцип исследования
речевого общения // Психолингвистические проблемы общения и обучения
языку. — М.: Изд-во Института языкознания АН СССР, 1976. — С. 5—38.
Поливанов 1968 — Поливанов Е. Д. К вопросу о родственных
отношениях корейского и «алтайских» языков // Поливанов Е. Д. Статьи по
общему языкознанию. — М.: Наука, 1968. — С. 156—164.
Поршне» 1979 — Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. — М.:
Наука, 1979.
Прошин 1975 — Прошин А. В. Стилистически сниженная фразеология
в аспектах статики и динамики: (На материале современного английского
языка). — Дис. ...канд. филол. наук. — М., 1975.
Раскин 1995 — Раскин И. Энциклопедия хулиганствующего
ортодокса. - СПб.: Эрго, 1995.
Рейковский 1979 — Рейковский Я. Экспериментальная психология
эмоций. — М.: Прогресс, 1979.
Ротенберг 1980 — Ротенберг В. С. Слово и образ: Проблемы
контекста // Вопросы философии. — 1980. — № 4. — С. 152—155.
Русский мат 1994 — Русский мат: Антология: Для
специалистов-филологов. — М.: Издательский дом «Лада М», 1994.
Салибаев, Алиев 1982 — Салибаев В. X., Алиев С. Н. Об особенностях
коммуникативного поведения таджиков // Национально-культурная
специфика речевого общения народов ССОР. — М.: Наука, 1982. — С. 125—
131.
Самойлов 1990 — Самойлов А. Этнография лагеря // Советская
этнография. - 1990. - № 1. - С. 96-108.
Санников 1999 — Санников В. 3. Русский язык в зеркале языковой
игры. — М.: Языки русской культуры, 1999.
Северодвинское собрание... — Северодвинское собрание рукописей.
Иоанн Златоуст. О злой лае матерной. — Л.: Институт русского языка и
литературы. — № 147.
Серов 1983 — Серов С Я. Календарный праздник и его место в
европейской народной культуре // Календарные обычаи и обряды в странах
334
зарубежной Европы: Исторические корни и развитие обычаев. — М.:
Наука, 1983. - С. 39-54.
СИС 1992 — Словарь иностранных слов. — М.: Русский язык,
1992.
Снегов 1991 — Снегов С. А. Язык, который ненавидит. — М.: Просвет,
1991.
Сорокин 1988 — Сорокин Ю. А. Психолингвистические аспекты
изучения текста. Автореферат дис. ...доктора филол. наук. — М., 1988.
Сорокин, Марковина 1988 — Сорокин Ю. Α., Марковина И. Ю. Понятие
«чужой» в языковом и культурном аспекте // Язык: Этнокультурный
и прагматический аспекты: Сб. научных трудов. — Днепропетровск:
Изд-во Днепропетровского гос. ун-та, 1988. — С. 4—10.
Спиркин 1988 — СпиркинА. Г. Основы философии. — М.: Политиздат,
1988.
Стефаненко 1999 — Стефаненко Т. Этнопсихология. — М.:
Академический проект, 1999.
Стратанович 1978 — Стратанович Г. Г. Народные верования
населения Индокитая. — М.: Наука, 1978.
Судзиловский 1973 — Судзиловский Г. А. Сленг — что это такое?
Английская просторечная военная лексика: Англо-русский словарь военного
сленга. — М.: Военное издательство, 1973.
Султанов 1982 — Султанов Φ. Ф. Некоторые особенности
коммуникативного поведения татар и башкиров // Национально-культурная
специфика речевого общения народов СССР. — М.: Наука, 1982. —
С. 101-111.
Сулейменов 1975 — Сулейменов О. Аз и Я: Книга благонамеренного
читателя. — Алма-Ата: Жазуши, 1975.
Тернер 1983 — Тернер В. Символ и ритуал. — М.: Наука, 1983.
Теселкин 1961 — ТеселкинА. С. Яванский язык. — М.: Изд-во восточной
литературы, 1961.
Тих 1970 — Тих Н. А. Предыстория общества:
(Сравнительно-психологическое исследование). — Л.: Изд-во ЛГУ, 1970.
Токарев 1964 — Токарев С. А. Ранние формы религии и их развитие. —
М.: Наука, 1964.
Уда Фумио 1971 — Уда Фумио. Как ругаются? — с точки зрения
японцев. — Токио, 1971 (на яп. яз.).
Успенский 1981 — Успенский Б. А. Религиозно-мифологический аспект
русской экспрессивной фразеологии // Тезисы симпозиума Института
славяноведения и балканистики АН СССР. — М., 1981. — С. 49—53.
Успенский 1983 — Успенский Б. А. Мифологический аспект русской
экспрессивной фразеологии: (Огатья первая) // Studia slavica. Academia
scientarum Hungaricae.— Budapest Akademiai Kiado, 1983. — T. XXIX. —
С за-69.
Успенский 1987 — Успенский Б. А. Мифологический аспект русской
экспрессивной фразеологии: (Статья вторая) // Studia slavica. Academia
scientarum Hungaricae. — Budapest Akademiai Kiado, 1987. — T. 33/1—4. —
С 37-76.
Успенский 1996 — Успенский Б. А. «Заветные сказки» А. Н.
Афанасьева // Анти-мир русской культуры: Язык. Фольклор. Литература. — М.:
НИЦ «Ладомир», 1996. - С. 143-164.
335
Уфимцева 1968 — Уфимцева H. В. Биологические и социальные
факторы в речевом развитии // Эгаопсихолингиисгика. — М.: Наука, 1988. —
С. 163-183.
Файнберг I960 — Файнберг Л.А.У истоков социогенеза: От стада
обезьян к общине древних людей. — М.: Наука, 1980.
Фрезер 1983 — Фрезер Дж. Золотая ветвь. — 2-е изд. — М.: Политиздат,
1983.
Фрейд 1923 — Фрейд 3. Характер и анальная эротика // Психоанализ
и учение о характерах. — М.; Пг.: Госиздат, 1923. — С. 2—51.
Фрейд 1989 — Фрейд 3. Недовольство в культуре // Философские
науки. - 1989. - № 1. - С. 92-101.
Фролова 1983 — Фролова О. П. Эмоционально-оценочные
существительные в лексике и фразеологии японского языка // Экспрессивность
лексики и фразеологии. — Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос.
ун-та, 1983. - С. 114-122.
Холодович 1979 — ХолодовичА. А. Глагол в современном японском
языке у/Проблемы грамматической теории. — Л.: Наука, 1979. — С. 8—173.
Чанышев 1981 — Чанышев А. Н. Курс лекций по древней
философии. — М.: Высшая школа, 1981.
Шапошников 1998 — Шапошников В. Русская речь 1990-х:
Современная Россия в языковом отображении. — Μ.: МАЛО, 1998.
Шахнарович, Графова 1987 — Шахнарович А. М., Графова Т. А.
Словарные пометы как способ лингвистической классификации лексики //
Теория лингвистических классификаций. Межвузовский сборник
научных трудов МОПИ им. Крупской. - М, 1987. - С. 121-128.
Шаховский 1987 — Шаховской В. И. Категоризация эмоций в лексико
семантической системе языка. — Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та,
1987.
Шибутани 1969 — Шибутани Т. Социальная психология. — М.:
Прогресс, 1969.
Щепкина 1977 — Щепкина М. В. Миниатюры Хлудовской псалтыри:
Греческий иллюстрированный кодекс IX века. — М.: Искусство, 1977.
Энгельс 1980 — Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной
собственности и государства. — М.: Политиздат, 1980.
Яимова 1985 — Яииова Н. А. Табуированная лексика и эвфемизмы
в алтайском языке. Автореферат дис. ...канд. филол. наук. — М.,
1985.
Якобсон 1985—Якобсон Р. О. Звук и значение Ц Якобсон Р. О.
Избранные работы. — М.: Прогресс, 1985. — С. 30—91.
Яцковская 1976 — Яцковская Г. В. Энантиосемия в современном
немецком языке. — Дис ... канд. филол. наук. — М, 1976.
Abrahams 1962 — Abrahams R. D. Haying the Dozens //J. of American
Folklore. - 1962. - Vol 75. - № 297. - P. 209-220.
Adams 1977 — Adams R. M. Bad Mouth. Fugutive Papers on the Dark
Side. - Berkeley a. o.: Univ. of California Press, 1977. - ХШ p.; 108 p.
Adler 1927 — Adler A. Understanding Human Nature. — Garden City;
N. Y.: Garden City Publishing C°, Inc., 1927.
Aman 1981 — Aman R. Man to Man: Aman Interviews Borneman //
Maledicta. - 1981. - VoL Ш. -№ 1. -P. 7-24.
336
American Heritage... 1970 — The American Heritage Dictionary of the
English Language / Morris N. (ed.). — Boston a. o.: American Heritage
Publishing C°; Houghton Mifflin C°, 1970.
Arango 1989 — Arango A. C. Dirty Words: Psychoanalytic Insights. North-
vale; New Jersey; London, 1989.
Averna 1982 — Averna G. Italian Blasphemies // Maledicta. — 1982. —
Vol. VI. - № 1/ 2. - P. 63-70.
Baudhuin 1973 — Baudhuin E. S, Obscene Language and Evaluative
Response: An Empirical Study // Psychological Reports. — 1973. — № 32. —
P. 399-402.
Berges 1955 — Berges F. de T. Imas Mienda! More of the Real Spanish
You Were Never Taught at School. — N. Y. e. a.: Penguin Group,
1955.
Berkowitz 1964 — Berkowitz L. Aggressive Cues in Aggressive
Behavior and Hostility Catharsis // Phychological Review. — 1964. — Vol. 71. —
№ 2. - P. 104-122.
Berne 1978 — Berne T. Sex in Human Loving. — L.: Penguin Books,
1978.
Bostrom e. a. 1973 - Bostrom R. N., BaseheartJ. R., Rissüerjr. С. M. The
Effects of Three Types of Profane Language in Persuasive Messages // The
J. of Communication. - December 1973. - Vol. 23. - P. 461-475.
Bourke 1891 - Bourke J. G. Scatologie Rites in All Nations. - Wash. D. C:
W. H. Lowdermik & C°, 1891.
Bruckman 1975 — Bruckman J. «Tongue Play»: Constitutive and
Interpretive Properties of Sexual Joking Encounters Among the Koya of South
India //Socio-Cultural Dimensions of Language Use/N. Sanches, В. С Blunt
(ed.). - N. Y. а. о.: Academic Press, 1975. - P. 235-268.
Burgoon, Ruffner 1978 — Burgoon Λί., Ruff пег M. Human
Communication. — N. Y. a. o.: Holt, Runehart and Winston, 1978.
Buss 1971 — Buss A. H. Aggression Pays // The Control of Aggression and
Violence: Cognitive and Physiological Factors. — N. Y.; L.: Academic Press,
1971. - P. 7-18.
Critchley 1970 — Crüchley M. Aphasiology and Other Aspects of
Language. - L.: E. Arnold Ltd., 1970.
Crozier 1988—1989 — Crozier A. Beyond the Metaphor: Cursing and
Swearing in Ulster// Maledicta. - 1988-1989. - Vol. X. - P. 115-125.
Cunningham 1995 — Cunningham P. J. Zakennayo! The Real Japanese You
Were Never Taught in School. - N. Y.: A Plume Book, 1995.
Dalby — Dalby D. The African Element in American English (Typescript).
[Б. m.], [Б. г.].
Delicio 1993 — Delicto R. Merda! The Real Italian You Were Never Taught
at School. - N. Y.: A Plume Book, 1993.
Devereux 1951 — Devereux G. Mohave Indian Verbal and Motor
Profanity // Psychoanalysis and Social Sciences. N. Y.: N. Y. Interational
University Press, 1951. Vol. Ш/ С Rohein (ed.) - P. 99-127.
Douglas 1970 — Douglas M. Purity and Danger: An Analysis of Concepts
of Pollution and Taboo. — L: Penguin Books, 1970.
Dreizin, Priestley 1982 — Dreizin F., Priestley T. A Systematic Approach
to Russian Obscene Language // Russian Linguistics. 1982. — Vol. 6. —
№ 22. - P. 233-249.
337
Drummond, Perkins 1980 — Drummond D. Α., Perkins G. Dictionary of
Russian Obscenities. — 2nd, revised edition. — Berkeley: Berkeley Slavic
Specialities, 1980.
Edouard 1983 — Edouard R. Nouveau Dictionnaire der Injures / Nouvelle
édition revue et complétée par Michel Carassou. — Sand et Tchou, 1983.
Encyclopedia of Religion 1917 — Encyclopedia of Religion and Ethics /
J. Hastings (ed.). - Vol. DC - Edinburg; N. Y.: T. dark, С H. Scribner's Sons,
1917.
Falassi 1977 — FalassiA. A Note on Two Tuscan Curses Dio Faust and Dio
MottareUo // Maledicta. - 1977. - Vol. 2. - R 175-176.
Fast, Talking 1979 — Fast J^ Talking B. Between the lines: How We Mean
More Than We Say. N. Y.: Pocket Books, 1979.
Feldman 1973 — Feldman S. S. Mannerisms of Speech and Gesture in
Everyday life. N. Y.: Int Univ. Press, Inc., 1973.
Feldman 1981 — Feldman H. Kapekape: Contexts of Malediction in
Tonga//Maledicta. - 1981. - Vol. V. - № 1/2. - P. 143-149.
Fitch 1956 — Fitch R. E. La Mystique de la Merde // The New Republic. —
1956. - Sept 3. - P. 17-18.
Firth 1973 - Firth R. Symbols Public and Private. - Ithaca; N. Y.: Cornell
Univ. Press, 1973.
Foote, Woodward 1973 — Foote R.9 Woodward J. A Preliminary
Investigation of Obscene Language // The J. of Phsychology. — 1973. — Vol. 83. —
P. 263-275.
Fordham 1968 — Fordham F. An Introduction to Jung's Phsychology. —
L.: Penguin Books, 1968.
Forster 1949 - Forster L. The Symbolic Vowel in ASS, BASTARD,
CATHOLIC anil Others // English Studies. - 1949. - Vol. XXX. - № 1-6. -
P. 88-91.
Gavran 1962 — Gavran I. Bludna psovka, povjesno-psiholoska studija.
Sarajevo, 1962.
Gavran 1972 — Jezicne kocnice i hijhova opravdanost// Posebni otisak ir
«Dobnog Pastira». Sarajevo, 1972. God ΧΧΙ-ΧΧΠ. S. 203-218.
Genevieve 1995 — Genevieve E. Merde! The real French you were never
taught at school. — N. Y. e. a.: Simon and Shuster, 1995.
Gerhardt 1974 — Gerhardt G. The Russian World: life and Language. —
N. Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1974.
Ginott 1969 - Ginott H. C. Between Parent and Child: New Solutions to Old
Problems. - N. Y.: Avon Books, 1969.
Graves 1927 — Graves R. Lars Porsena or the Future of Swearing and
Improper Words. — L.: Kegan Paul, Trench, Rubner and C°, Ltd. — N. Y.: E.
P. Dutton and C°., 1927.
Greenough, Kitredge 1961 — Greenough J., Kür edge G. Words and Their
Ways in Engjîish Speech. - N. Y.: The McMillan C°, 1961.
Grose 1963 — Grose F. A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue —
L.: Roudedge and Kegan Paul, 1963.
Haas 1964 — Haas M. R. Interlingual Word Taboo // Language in Culture
and Society: A Reader in linguistics and Anthropology. — N. Y. a. o.: Harper
& Row, 1964. - P. 489-493.
Halaby, Long 1979 — Halaby R., Long C. Future Shout Name-Calling in the
Future // Maledicta. - 1979. - Vol. Ш. - P. 61-68.
338
Halpert 1962 — Halpert H. Folklore and Obscenity: Definitions and
Problems //J. of American Folklore. - 1962. - Vol. 75. - № 297. - P. 190-
194.
Hinde 1974 — Hinde R. A. Biological Basis of Human Social Behavior.
N. Y. a. o.: McGow Hill Book C°, 1974.
Hughes 1991 — Hughes G. Swearing: A Social History of Foul Language,
Oaths and Profanity in English. — Cambridge, Mass.: Basil Blackwell, Ltd.,
1991.
Hunold 1978 — Hunold G. Sexualität in der Sprache: Lexicon des obszönen
Wortschatzes. — München: Wilhelm Heyne Verlag, 1978.
Huston 1997 — Huston N. Sacré Québec! French-Canadian Profanities //
Maledicta. - 1977. Vol. 1. - № 2. - P. 60-66.
Inman 1884 — Inman T. Ancient Pagan and Modem Christian
Symbolism. — 4th ed. — Ν. Y.: Hooks Publishing House, 1884.
Isacenko 1964 — Isacenko A. V. Un juron Russe du XVI siècle // lingua viget
Communicationes slavicae in honorem V. Kiparski. — Helsinki, 1964.
Jackson 1958 — Jacfaon J. H. On Affections of Speech from Disease of
the Brain // Selected Writings of John Hughlings Jackson. — L.: Staples Press,
1958.
Jay 1992 — Jay T. Cursing in America: A psycholinguistic study of dirty
language in the courts, in the movies, in the schoolyards and on the streets.
Philadelphia; Amsterdam: John Benjamins Publishing C°, 1992.
Jay 1999 — Jay T. Why We Curse: A neuro-psycho-social theory of speech.
Philadelphia; Amsterdam: John Benjamins Publishing C°, 1999.
Jersild 1957 — Jersild A. T. The Phsychology of Adolescence. N. Y.:
The McMillan C°, 1957.
Johann 1963 —Johann Ε. Deutsch wie es nicht im Wörterbuch steht —
Frankfurt am Main: Verl. H. Schefifler, 1963.
Johnson 1948 — Johnson B. The Lost Art of Profanity. — Indianopolis;
N. Y.: The Dobbs-Marril C° Publishers, 1948.
Kiener 1983 — Kiener F. Das Wort als Waffe: Zur Psychologie der verbalen
Aggression. — Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1983.
Knight, Wright 1957 - Knight R. P., Wright T. Sexual Symbolism:
A History of Phallic Worship. - Ν. Y.: The Julian Press, Inc., 1957.
La Barre 1954 — La Barre W. The Human Animal. — Chicago: The Univ.
of Chicago Press, 1954.
Lebra 1979 — Lebra T. S. Japanese Patterns of Behavior. — Honolulu: An
East-West Center Book; The Univ. Press of Hawaii, 1979.
Legman 1987 - Legman G. A Word for It! // Best of Maledicta. -
Philadelphia: Running Press, 1987. - P. 9-18.
Lewis 1979 — Lewis H. B. Shame in Depression and Hysterics // Emotions
in Personality and Phsychopathology / C. Izard (ed.) — N. Y.; L.: Plenum Press,
1979. - P. 371-396.
Lorenz 1970 - Lorenz К. On Aggression. L.: Methuen & C°, — 1970. -
ХШ.
Major 1971 — Major C. Dictionary of Afro-American Slang. — N. Y.:
International Publishers, 1971.
Malinowski 1944 — Malinowski B. A Scientific Theory of Culture and
Other Essays. - Chapel Hill: The Univ. of North Carolina Press, 1944. -
IX.
339
Marshall 1975 — Marshall M. Bozzimacoo: Origins and Meanings of Oaths
and Swear Words. - L.: M. & J. Hobbs, 1975.
Maslow 1971 — Maslow A. The Farther Reaches of Human Nature. —
N. Y.: The Viking Press, 1971.
Medina 1961 — Medina P. Französisch wie es nicht im Wörterbuch steht —
Frankfurt am Main: Verl. H. Scheffler, 1961.
Menken 1937 — Menken H. L. The American Language: An Inquiry into
the Development of English in the United States. - N. Y.: A. Knopf, 1937.
Mitchefl-Kernan e. a, 1975 — Mitchell-Kernan G. and Kernan Κ. T. Children's
Insults: American and Samoa // Socio-Cultural Dimensions of Language Use. —
N. Y. a, o.: Academic Press, 1975. - P. 307-315.
Modern English Teacher 1997 — Modern English Teacher. — 1997 —
Vol. 6. - № 4.
Morris, Morris 1966 — Morris R., Morris D. Men and Apes. — L.:
Hutchinson, 1966.
Montague 1978 — Montague A. Introduction to Learning Non-Aggression:
The Experience of Non-Literate Societies. — Oxford a. o.: Oxford Univ. Press,
1978.
Mulkany 1979 — Mulkany F. D. Studies in Gitano Social Ecology: Conflict
and Verbal Abuse // Maledicta. - 1979. - Vol. Ш. - P. 87-92.
Nanni 1953 — Nanni U. Enciclopedia delle ingurie, degli insulti, delle
contumelie e delle insolenze. — Milano: Casa éditrice ceschina, 1953.
Nezmah 1996 — Nezmah B. The Consequences of Yugoslav Wars
on the Occurence of Swearwords in the Mass Media// Maledicta. — 1996. —
Vol.Xn.-P. 115-118.
New Larousse 1982 — New Larousse Encyclopedia of Mythology /
Introduction by К Graves. — L. a. o.: Hamlyn, 1982.
Noland, Warren 1981 — Noland £., Warren D. M. Iranian Values as
Depicted in Farsi Terms of Abuse, Curses, Threats and Exclamations //
Maledicta. - 1981. - Vol. V. - № 1-2. - P. 229-241.
Oladeji 1996 — Oladeji N. The Language Style of Malevolence: A
Language Analysis of Yoraba Eebu //Maledicta, - 1996. - Vol. ХП. - P. 121-130.
Ortner 1975 - Ortner S. B. God's Bodies, God's Food: A Symbolic
Analysis of a Sherpa Ritual // The Interpretation of Symbolism. — L.: Malaby
Press, 1975. - P. 133-169.
OE 1934 — The Oxford English Dictionary. — Oxford: Clarendon Press,
1934. - Vol. I.
Passin 1980 — Passin H. Japanese and the Japanese: Language and Culture
Change. — Tokyo: Kinseido Ltd., 1980.
Pei 1949 - Pet M. The Story of Language. - Philadelphia; N. Y.: J. B. lip-
pincot C°, 1949.
Rawson 1989 — Rawson H. Wicked Words: A Treasury of Curses, Insults,
Put-Downs, and Other Formerly Unprintable Terms from Anglo-Saxon
Times to the Present — N. Y.: Crown Publishers, Inc., 1989.
Razvratnikov 1988/1989 — Razvratnikov B. S. Elementary Georgian
Obscenity// Maledicta. — 1988-1989. - Vol. X. - P. 37-42.
Read 1934 — Read A. W. An Obscenity Symbol // American Speech. —
1934. - Vol. DC. -№ 4. - P. 264-278.
Rieber e. a. 1979 — Rieber R. Ж, Wiedemann C, UAmatoJ. Obscenity:
Its Frequency and Context of Usage as Compared in Maley, Nonfeminist
340
Females and Feminist Females //J. of Psycholinguistic Research. — 1979. —
Vol. Ш. -№ 3. - P. 201-223.
Roback 1944 — Roback A. A. A Dictionary of International Slurs:
(Ethnophaulisms). With a Supplementary Essay on Aspects of Ethnic
Prejudice. — Cambridge; Mass.: Sci-Art Publishers, 1944.
Ross 1960 — Ross H. T. Patterns of Swearing // Discovery. — 1960. —
Vol. XXI. - Nov. - № 11. - P. 479-481.
Sagarin 1969 — Sagarin E. The Anatomy of Dirty Words. — N. Y.:
Paperback Library, 1969.
Selth 1982 — Selth J. Caveat Viator: Notes on Australian English for the
Wary Traveler // Maledicta. - 1982. - Vol. 1. - №1/2. - P. 37-44.
Sharman 1884 — Sharman J. Cursory History of Swearing. — L.: 1884.
Solt 1982 - SoltJ. Japanese Sexual Maledicta//Maledicta. - 1982. -
Vol. VI. - P. 75-81.
Spears 1982 — Spears R. A. Slang and Euphemism: A Dictionary of oaths,
curses, insults, sexual slang and metaphor, racial slurs, drug talk, homosexual
lingo, and related matters. — N. Y.: New American Library, 1982.
Spitzbardt 1966 — Spitzbardt H. Tabu Wörter im Englischen y/ Philologica
Pragensia. - 1966. - Vol. 9(48). - № 2. - P. 105-117.
Swartz 1988-1989 - Swartz M. J. God Curse You, and the Curse Is That
You Be What You Already Are!: Swahili Culture, Power, and В ad talk //
Maledicta. - 1988/1989. - Vol. X. - P. 209-230.
Suzuki 1978 — Suzuki T. Japanese and the Japanese: Words in Culture. —
Tokyo a. o.: Kodasha International Ltd., 1978.
Timroth 1983 — Timroth W. von. Russische und sowjetische Soziolinguistik
und tabuierte Varietäten des Russischen: (Argot, Jargons, Slang und Mat). —
München: Verlag O. Sagner, 1983.
Trudgill 1974 — Trudgill P. Sociolinguistics: An Introduction to Language
and Society. — Harmondsworth a. o.: Penguin Books, 1974.
Warren e. a. 1981 — Warren D. W., Abloye-Salami T., Warren M. S. Yoruba
Terms Denoting Individual and Social Short-Comings // Maledicta. — 1981. —
Vol. V. - № 1/2. - P. 39-51.
Weingarten 1954 — Weingarten J. A. An American Dictionary of Slang and
Colloquial Speech. - N. Y., 1954.
Wiessler 1982 - Wiessler D. A. The Cussword Comes Out Of the Closet //
US News & World Report - April 19, 1982. - P. 87-88.
Wilson 1981 - Wilson W. J. Five Years and 121 Dirty Words Later//
Maledicta. - 1981. - Vol. V. - № 1/2. - P. 243-251.
Whittington 1930 — Whittington R. A Note on «Bloody» // American
Speech. - 1930. - № 1. - P. 29-35.
Wright 1957 — Wright Th. The Worship of the Generative Powers During
the Middle Ages of Western Europe // Sexual Symbolism: A History of Phallic
Worship. - N. Y.: The Julian Press, Inc., 1957.
список
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Александрова О. В. Проблемы экспрессивного синтаксиса. — М.:
Высшая школа, 1984.
Антипов Г. Α., Донских О. Α., Марковина И. Ю., Сорокин Ю. А. Текст
как явление культуры. — Новосибирск: Наука, 1989.
Арутюнова Н. Д. Фактор адресата // Известия АН СССР: Серия
литературы и языка. — 1981. — Т. 40. — № 4. — С. 356—367.
Белл Р. Т. Социолингвистика. — М.: Международные отношения,
1980.
Богаевский Б. Л. Земледельческая религия Афин. — Пг.: Типография
М. А. Александрова, 1916. — Т. 1.
Бодуэн де Куртене И. А. Замечания о русско-польском словаре //
Лексикографический сборник. — М.: Изд-во АН СССР, 1963. — С. 14—18.
Болотов В. И. Эмоциональность текста в аспектах языковой и
неязыковой вариативности. — Ташкент: Фан, 1981.
Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. — М.: Наука, 1983.
Булыгина Т. В. О границах и содержании прагматики //
Известия АН СССР. Серия литературы и языка. — 1981. — Т. 40. — № 4. —
С. 335-342.
Гараева Λ. И., Шахнарович А. М. Словообразовательная деривация
как психолингвистическое явление // Язык: Этнокультурный и
прагматический аспекты. Сборник научных трудов. — Днепропетровск:
Изд-во Днепропетровского гос. ун-та, 1988. — С. 48—56.
Гозман А. Я. Психология эмоциональных отношений. — М.: Изд-во
МГУ, 1987.
Девкин В. Д. Псевдоэкспрессия // Общие и частные проблемы
функциональных стилей. — М.: Наука, 1986. — С. 69—77.
Долинин К. А. Интерпретация текста: (Французский язык). — М.:
Просвещение, 1985.
Дубягин Ю. П., Теплицкий Е. А. Краткий англо-русский и
русско-английский словарь уголовного жаргона. — M.: ТЕРРА, 1993.
Елистратов В. С. «Сниженный язык» и «национальный характер» //
Вопросы философии. — 1998. — № 10. — С. 55—63.
Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на
иностранном языке: Книга для учителя. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1985.
342
Иваницкий В. Порча языка и невроз пуризма // Знание — сила. —
1998. - № 9-10. - С. 82-90.
Каримова И. А. Экспериментальное изучение прагматического
значения в языке: (На материале разных частей речи). — Дис. ...канд. филол.
наук. — М., 1974.
Кацев А. М. Эвфемизмы в современном английском языке: (Опыт
социологического описания). Дис. ...канд. филол. наук. — Л., 1977.
Кацитадзе Э. А. Метафоризация зоонимов в немецком языке. —
Автореферат дис. ...канд. филол. наук. — Тбилиси, 1985.
Киселева Л А. Язык как средство воздействия: (На материале
эмоционально-оценочной лексики современного русского языка): Лекции
спецкурса. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1971.
Киселева Л. А. Вопросы теории речевого воздействия. — Л.: Изд-во
ЛГУ, 1978.
Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура текста. —
М.: Наука, 1984.
Кошель Г. Г. Оценочные предикативные номинации в современном
английском языке: (На материале дерогативных наименований лица). —
Дис. ...канд. филол. наук. — М., 1980.
Левицкий В. В. Изучение коннотативного значения слова в
межнациональном аспекте // Психолингвистические исследования в области
лексики и фонетики. — Калинин: Изд-во КГУ, 1981. — С. 73—81.
Левкович В. П. Обычай и ритуал как способы социальной регуляции
поведения // Психологические проблемы социальной регуляции
поведения. - М.: Наука, 1976. - С. 212-236.
Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности: Некоторые проблемы
общей теории речевой деятельности. — М.: Наука, 1965.
Леонтьев А. А. Психолингвистика. — Л.: Наука, 1967.
Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого
высказывания. — М.: Наука, 1969.
Лукьянова Н. А. О семантике и типах экспрессивных лексических
единиц // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. —
Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 1979. — Вып.VUE. —
С. 12-16.
Лукьянова Н. А. О семантике и типах экспрессивных лексических
единиц: П. Семантические классы экспрессивов русского языка Ц
Экспрессивность лексики и фразеологии. — Новосибирск: Изд-во Новосибирского
гос. ун-та, 1983. - С. 12-14.
Макеева А. И. Об индивидуальном эмоциональном репертуаре как
компоненте восприятия человеком социальной среды // Вопросы
психологии познания людьми друг друга в общении. — Краснодар: Изд-во
Кубанского гос. ун-та, 1978. - Кн. 2. - С. 164-174.
Марсиро Ж. История сексуальных ритуалов. М.: Крон-пресс, 1998.
Международный словарь непристойностей: Путеводитель по
скабрезным словам и неприличным выражениям в русском, итальянском,
французском, немецком, испанском, английском языках / Под ред. Кох-
тева А. Н. - М.: АВИС-пресс, 1992.
Мягкова Е. Ю. Эмоциональная нагрузка слова: Опыт
психолингвистического исследования. — Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та,
1990.
343
Налимов В. В. Непрерывность против дискретности в языке и
мышлении // Бессознательное: Природа, функции, методы исследования. —
Тбилиси: Мецниереба, 1978. — Т. 3.
Налимов В. В. Вероятностная модель языка: О соотношении
естественных и искусственных языков. — М.: Наука, 1979.
Неверов С. В. Особенности речевой и неречевой коммуникации
японцев // Национально-культурная специфика речевого поведения. — М.:
Наука, 1977. - С. 320-338.
Основы теории речевой деятельности / Леонтьев А. А. (ред.). — М.:
Наука, 1974.
Павлова H. М. Эмоциональные значения в лексикографическом
отражении. — Дис. ...канд. филол. наук. — Ростов-на-Дону, 1971.
Пан Ин. О некоторых формах речевой и жестовой коммуникации в
Китае // Национально-культурная специфика речевого поведения. — М.:
Наука, 1977. - С. 388-345.
Панасюк А. Т. Экспрессивная лексика современного русского языка. —
Дис. ...канд. филол. наук. — М., 1973.
Поливанов Е. Д. По поводу «звуковых жестов» японского языка //
Статьи по общему языкознанию. — М.: Наука, 1968. — С. 295—305.
Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории: (Проблемы палео-
психологии). — М.: Мысль, 1974.
Пропп В. Я. Ритуальный смех в фольклоре // Фольклор и
действительность: Избранные статьи. — М.: Наука, 1976. — С. 174—204.
Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. — М.: Искусство, 1976.
Рожанский Ф. И. Сленг хиппи: Материалы к словарю. — СПб.; Париж:
Изд-во Европейского дома, 1992.
Рубакин Н. А. Тайны успешной пропаганды// Речевое воздействие:
Проблемы прикладной психолингвистики. — М.: Наука, 1972. — С. 130—135.
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — 2-е изд. — М.:
Учпедгиз МП РСФСР, 1946.
Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. — М.:
Изд-во АН СССР, 1959.
Санникова О. П. Соотношение устойчивых индивидуально-типических
особенностей эмоциональности и общительности. — Автореферат дис.
...канд. филол. наук. — М., 1982.
Сапогова Л. И. Коннотативный элемент значения и его словарное
отражение в английском языке: (О природе дерогативности) // Вопросы
лингвистической семантики: Межвузовский сборник научных трудов. —
Тула: Изд-во Тульского гос. пед. ин-та, 1981. — С. 58—68.
Сафронова Е. С. Дзэнский смех как отражение архаического
земледельческого праздника // Символика культов и ритуалов народов
зарубежной Азии. - М.: Наука, 1980. - С. 63-78.
Сахарный Л. В. Введение в психолингвистику. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1989.
Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора в языке и
мышлении. — М.: Наука, 1988.
Скребнев Ю. М. Очерк теории стилистики: Учебное пособие. —
Горький: Изд-во Горьковского ин-та иностранных языков, 1984.
Скребнев Ю. М. Языковая и субъективная норма//Нормы реализации:
Варьирование языковых средств. — Горький: Изд-во Горьковского ин-та
иностранных языков, 1984. — С. 161—173.
344
Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона: (Речевой и
графический портрет советской тюрьмы) / Авторы-составители Балдаев Д. С.
и др. — М.: Края Москвы, 1992.
Сорокин Ю. А. Психолингвистические аспекты изучения текста. — М.:
Наука, 1985.
Стернин И. А. Проблемы анализа структуры значения слова. —
Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1979.
Стернин И. А. Лексическое значение слова в речи. — Воронеж:
Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1985.
Тарасов Е. Ф. Тенденции развития психолингвистики. — М.: Наука,
1987.
Тарасов Е. Ф., Сорокин Ю. А. Национально-культурная специфика
речевого и неречевого поведения // Национально-культурная специфика
речевого поведения. — М.: Наука, 1977. — С. 14—38.
Торсуева И. Г. Эмоциональность в речи // Смысловое восприятие
речевого сообщения: (В условиях массовой коммуникации). — М.: Наука,
1976. - С. 228-233.
Трахтенберг В. Ф. Блатная музыка: («Жаргон» тюрьмы) /Под ред. и с пре-
дисл. проф. И. А. Бодуэна де Куртене. — СПб., 1908.
Трубачев О. Н. Из истории табуистических названий // Вопросы
славянского языкознания. — М.: Изд-во АН СССР, 1958. — Вып. 3. —
С. 120-126.
Уровень точности японского языка: Дискуссия // Гэнго-Сэйкацу. —
1980. - № 10 (на яп. яз.).
Феоктистова И. Е. К вопросу о пейоративах // Вопросы
ономастики. — Свердловск: Изд-во Уральского гос. ун-та, 1979. — № 13. —
С. 79-86.
Фрейд 3. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. — М.: Политиздат,
1989. - С. 94-142.
Фрейденберг О. М. О происхождении пародии // Труды по знаковым
системам. — Тарту: Изд-во Тартуского ун-та, 1973. — С. 490—497.
Харченко В. К. Характеристика производных оценочных значений
имен существительных в русском языке. — Дис. ...канд. филол. наук. — Л.,
1973.
Хёйзинга И. Homo ludens: Статьи по истории культуры. М.: Прогресс-
Традиция, 1997. — 416 с.
Хомяков В. А. Введение в изучение сленга — основного компонента
английского просторечия. — Вологда: Изд-во Вологодского гос. пед. инта, 1971.
Шаховский В. И. Эмоционально-оценочная образная потенция
словарных знаков /I Актуальные проблемы лексикологии и
словообразования. — Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 1980. — Вып. IX. —
С. 23-31.
Шаховский В, И. Эмотивный компонент значения и методы его
описания: Учебное пособие к спецкурсу. — Волгоград: Изд-во Волгоградского
гос. пед. ин-та, 1983.
Швейцер А. Д. Социальная дифференциация языка// Онтология
языка как общественного явления. — М.: Наука, 1983. — С. 172—207.
Шпет Г. Эстетические фрагменты. — Пг.: Колос, 1923. — Т. 2.
Эшби У. Р. Введение в кибернетику. — М.: Изд-во иностранной
литературы, 1959.
345
Юганов И., Юганова Ф. Русский жаргон 60—90-х годов: Опыт
словаря. — М.: Помовский и партнеры, 1994.
Якобсон Р. О. Язык в отношении к другим системам коммуникации //
Якобсон Р. О. Избранные работы. - М.: Прогресс, 1985. - С. 319-330.
Aman R. Interview with R. Aman // Maledicta. — 1981. — Vol. VTH. —
№ 1/2. - P. 9.
Aman R. Menomini Maledicta. A Glossary of Terms of Deprecations,
Sexuality, Body Parts and Functions, and Related Matter // Maledicta. —
1981. - Vol. V. - № 1/2. - P. 177-190.
Averill J. R. The Functions of Grief // Emotions in Personality and
Psychopathology / C. Izard (Ed.). - N. Y.; L.: Plenum Press, 1979. - P. 339-
368.
Averill J. R. Studies on Anger and Aggression: Implications for Theories
and Emotions //American Psychologist — 1983. — Nov. — P. 1145—1160.
Averna G. Italian and Venetian Profanity // The Best of Maledicta. —
Philadelphia; Penn.: Running Press, 1987. - P. 40-41.
Averna G., Salem J. Italian Blasphemies // The Best of Maledicta. —
Philedelphia; Penn.: Running Press, 1987. - P. 42-^7.
Bandura Α., Walters R. H. Catharsis — a Questionable Mode of Coping
with Violence //Violence in the Family. — N. Y.; Toronto: Dodd, Mead and
C°, 1974. - P. 303-307.
Bauer H. Seine Ahnen waren Wölfe. — Leipzig: VEB Brochhaus Verl.,
1957.
Benson J. Emotion and Expression // The Philosophical Review. — 1967. —
July. - Vol. LXXVI. - № 3. - Whole № 419. - P. 335-357.
Bonfante G. Etudes sur le taboo dans les langues indoeuropénnes //
Melanges de linguistique offerts à Ch. Bally. — Geneve, 1939. — P. 179—213.
Darou W. G. Personality and Verbal Abuse // Maledicta. - 1983. - № 7. -
P. 178-186.
Ditmann A. T. Interpersonal Messages of Emotion. — N. Y.: Springer Publ.
C°, Inc., 1972.
Encyclopedia Americana. — N. Y.; Chicago; Wash. D. С, 1955. —
Vol. XXI.
Encyclopedia of World Art. - N. Y. a. o.: McGraw Hill Book C°, Inc.,
1963. - Vol. VIE.
Fine G. A. Rude Words. Insults and Narration in Pre-Adolescent Obscene
Talk// Maledicta. - 1981. - Vol. V. - № 1/2.
Holder R. W. Euphemisms. Oxford; N. Y.: Oxford University Press,
1996.
Humann K. Französisch Schimpfen: Beleidigungen, Flüche, Sauereien. —
Frankfurt am Main: Eichborn Verlag, 1991.
Johnson B. The Every-Day Profanity of Our Best People // Century
Magazine. - 1916. - Vol. 92. -June. - P. 311-314.
Johnson B. Modern Maledictions, Execrations and Cuss-Words // North
American Review. — 1934. — Nov. — P. 467-^71.
Johnson F. The History of Some «Dirty» Words // The American
Mercury. - 1950. - Vol. 71. - Nov. - № 323. - P. 538-545.
Kanin Ε. J. The Equation of Coital Vulgarisms with Personal and Social
Transgressions // Malediccta. — 1979. — Vol. Ш. — P. 55—57.
346
La Barre W. Obscenity: An Anthropological Appraisal // Law and
Contemporary Problems. - 1955. - Vol. 20. - № 4. - P. 533-543.
Lawrence J. Unmentionables and Other Euphemisms. — L.: Gentry
Boob, 1973.
Legman G. Misconceptions in Erotic Folklore //]. of American Folklore. —
1962. - Vol. 75. - № 297. - P. 200-208.
Long E. R. How the Dog Got Its Days: A Sceptical Inquiry into
Traditional Star and Weather Lore //Western Lore. - 1984. - Vol. XIЖ - № 4. -
P. 256-264.
Müller J. Das Schüler Schimpfwörterbuch: Die total abgefahrene
Ansage. — Neuburg: Verlag Michaela Naumann, 1993.
Murray S. 0. Ritual and Personal Insults in Stigmatized Subcultures // The
Best of Maledicta. - Philadelphia; Penn.: Running Press, 1987. - P. 118-140.
Nadel S. F. Morality and Language Among the Nupe // Language
in Culture and Society: A Reader in Linguistics and Anthropology. — N. Y.
a. o.: Harper & Row, 1964. - P. 264-266.
Das Schüler Schimpfwörterbuch: Die total abgefahrene Ansage von Jörg
Müller. Neuburg; Donau, 1993.
Shu-Min Huang, Wanen D. M. Chinese Values as Depicted in Mandarin
Terms of Abuse // Maledicta. - 1981. - Vol. V. - № 1/2. - P. 105-122.
Steadman J. M. A Study of Verbal Taboo //American Speech. — 1935. —
Vol. X. - № 2. - P. 93-103.
Teruggi M. E. Potentation of A Spanish Insult// Maledicta. — 1981. —
№ 1/2. - P. 77-78.
Virtanen L. Children's Lore // Studia Fennica. 22. — Helsinki: Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, 1978.
World University Encyclopedia. — Ν. Y.; Wash.: Books, Inc., 1945. —
Vol. 11.
Wundt W. Völkerpsychologie. — Leipzig, 1960. — Bd. II: Eine
Untersuchungen der Entwicklunggesetze von Sprache.
СОДЕРЖАНИЕ
От автора 6
Введение 7
Глава 1
ИНВЕКТИВНАЯ АГРЕССИЯ В РЯДУ
СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ
1.1. Инвектива как основной объект исследования 11
1.2. Литературные данные 17
l.à. Понятие табуированности как источника инвективного
словоупотребления 21
1.4. Инвектива как инструмент эмоциональной разрядки 35
1.5. Место словесной агрессии в ряду других агрессивных
действий 41
1.6. Особенности инвективы как средства материализации
эмоций 50
1.7. Непристойность как важный фактор повышения
эффективности инвективного словоупотребления 52
1.8. Социально-психологические особенности инвективного
словоупотребления 59
1.9. Взаимоотношения инвективной и просторечной лексики 74
1.10. Особенности восприятия словесной агрессии 76
1.11. Проблемы происхождения инвективного общения 81
1.12. Проблемы взаимоотношения инвективы, междометного
восклицания и ритуала 84
1.13. Психолингвистическая интерпретация двузначности
инвективного обращения 95
1.14. Функциональная классификация инвективного
словоупотребления 109
1.15. Проблемы дальнейшей динамики инвективного
словоупотребления 130
348
Глава 2
НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИНВЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ
2.1. Этноразделяющие и этнообъединяющие аспекты
употребления инвективных обращений: общие положения 155
2.2. Заимствование инвективной лексики как
национально-специфическая характеристика 161
2.3. Двузначность и взаимоотношения этнообъединяющих и
этноразделяющих факторов 167
2.4. Этноразделяющие и этнообъединяющие особенности
эвфемизмов, дисфемизмов и запретов 197
Глава 3
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИНВЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ
3.1. Проблема классификации инвектив по используемым
темам 218
3.2. Богохульства как элемент инвективной стратегии 221
3.3. Скатологический элемент инвективной лексики 237
3.4. Зоовокативы и зоосравнения как элемент
инвективного словаря 253
3.5. Сексуальный элемент инвективной лексики 275
3.5.1. Непосредственно сексуальные инвективы 276
3.5.2. Обнажающая инвектива: анализ явления в общем
контексте ритуального обнажения 296
3.5.3. Инвективное обвинение в сомнительности
происхождения 305
3.6. Тема крови в инвективном словоупотреблении 309
3.7. Инвектива и ксенофобия 314
Заключение 319
Список сокращений 329
Список дополнительной литературы 342
Жельвис В. И.
Поле брани: Сквернословие как социальная проблема в
языках и культурах мира. Издание второе, переработанное и
дополненное. — М.: Ладомир, 2001. — 349 с. («Русская
потаенная литература»)
ISBN 5-86218-090-7
Монография доктора филологических наук профессора В. И. Жель-
виса — первое в России научное исследование, посвященное проблемам
сквернословия. В последнее время эта проблема приобрела во всем мире, и в
России в том числе, особое значение: сквернословие стало играть настолько
большую роль, что ограничиваться простым эмоциональным осуждением этого
явления общество уже не имеет права. Настала пора как можно глубже
осмыслить его, привлечь внимание к «бранной пандемии», показать ее истоки
и причины, сравнить в этом плане стратегию и тактику различных
национальных культур и заставить задуматься о дальнейших путях этического
развития человечества.
Автором исследованы инвективные стратегии нескольких десятков
языков мира, привлечен богатейший материал современных исследований в
области социологии, психологии, этнографии, физиологии, этологии и
других наук.
Первое издание «Поля брани», в свое время фигурировавшее в списке
«интеллектуальных бестселлеров», давно разошлось. Второе издание
монографии существенно дополнено за счет привлечения материалов последних
исследований, выполненных за рубежом, а также изучения инвективной
практики многих национальных культур, которые не были учтены в первом
издании. Кроме того, автором использован американский опыт решения
судебных дел, связанных с оскорблением чести и достоинства граждан. Это
дополнение делает книгу ценным пособием для отечественных юристов.
В целях расширения читательской аудитории во втором издании
существенно упрощена терминология, а само изложение приняло более популярный
характер.
Научное издание
Жельвис Владимир Ильич
ПОЛЕ БРАНИ
Сквернословие как социальная проблема
в языках и культурах мира
Редактор
А. Н. Старков
Художественный редактор
И. И. Володин
Технический редактор
М. А. Страшнова
Корректор
О. Г. Наренкова
Компьютерная верстка
В. Г. Курочкина
ИД № 2944 от 03.10.2000 г.
Сдано в набор 09.01.2001. Подписано в печать 14.06.2001.
Формат 84x1081/^· Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Баскервиль».
Печать офсетная. Печ. л. 11. Усл. печ. л. 18,48.
Тираж 2000 экз. Зак. № 3331.
Научно-издательский центр «Ладомир»
103681, Москва, К-681, Заводская, 6а
тел. (095) 537-98-33. E-mail: ladomir@mail.compnetni
Отпечатано с оригинал-макета
ТОО ПФ «Полиграфист»
160001, Вологда, Челюскинцев, 3
ISBN 586218090-7
9»785862"180909
В серии
«Русская потаенная литература»
вышли:
1. Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова.
2. Под именем Баркова: Эротическая поэзия XVIII — начала XIX века.
3. Стихи не для дам: Русская нецензурная поэзия второй
половины XIX века.
4. Русский эротический фольклор: Песни. Обряды и обрядовый
фольклор. Народный театр. Заговоры. Загадки. Частушки.
5. Анти-мир русской культуры: Язык. Фольклор. Литература: Сб.
статей.
6. Секс и эротика в русской традиционной культуре: Сб. статей.
7. Заветные сказки из собрания Н. Е. Ончукова.
8. Народные русские сказки не для печати; Русские заветные
пословицы и поговорки, собранные и обработанные А. Н.
Афанасьевым.
9. В. И. Жельвис. Поле брани: Сквернословие как социальная
проблема в языках и культурах мира. (1-е изд.)
10. Русский школьный фольклор: От «вызываний» Пиковой дамы
до семейных рассказов.
11. Заветные частушки из собрания А. Д. Волкова: В 2 т.
12. Анна Map. Женщина на кресте.
13. А. П. Каменский. Мой гарем.
14. Эрос и порнография в русской культуре: Сб. статей.
15. М. Н. Золотоносов. Слово и Тело: Сексуальные аспекты, универсалии,
интерпретации русского культурного текста XIX — XX веков:
16. «А се грехи злые, смертные...»: Любовь, эротика и сексуальная
этика в доиндустриальной России (X — первая половина XIX в«).
Сб. материалов и исследований.
17. «...Сборище друзей, оставленных судьбою»: Л. Липавский, А.
Введенский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах,
документах и исследованиях: В 2 т.
18. «Тайные записки А. С. Пушкина. 1836—1837: Перевод с французского» /
Публикация Михаила Армалинского.
19. Г. И. Кабакова. Антропология женского тела в славянской
традиции.
Серия издается с 1992 года.
Любые книги «Ладомира» можно заказать
наложенным платежом по адресу:
103617, Москва, Заводская, 6а, НИЦ «Ладомир»
тел. (095) 537-98-33
тел. (095) 537-98-33. E-mail: ladomir@mail.compneiru
Для получения бесплатного перспективного плана издательства
и бланка заказа вышлите по этому же адресу
маркированный конверт.