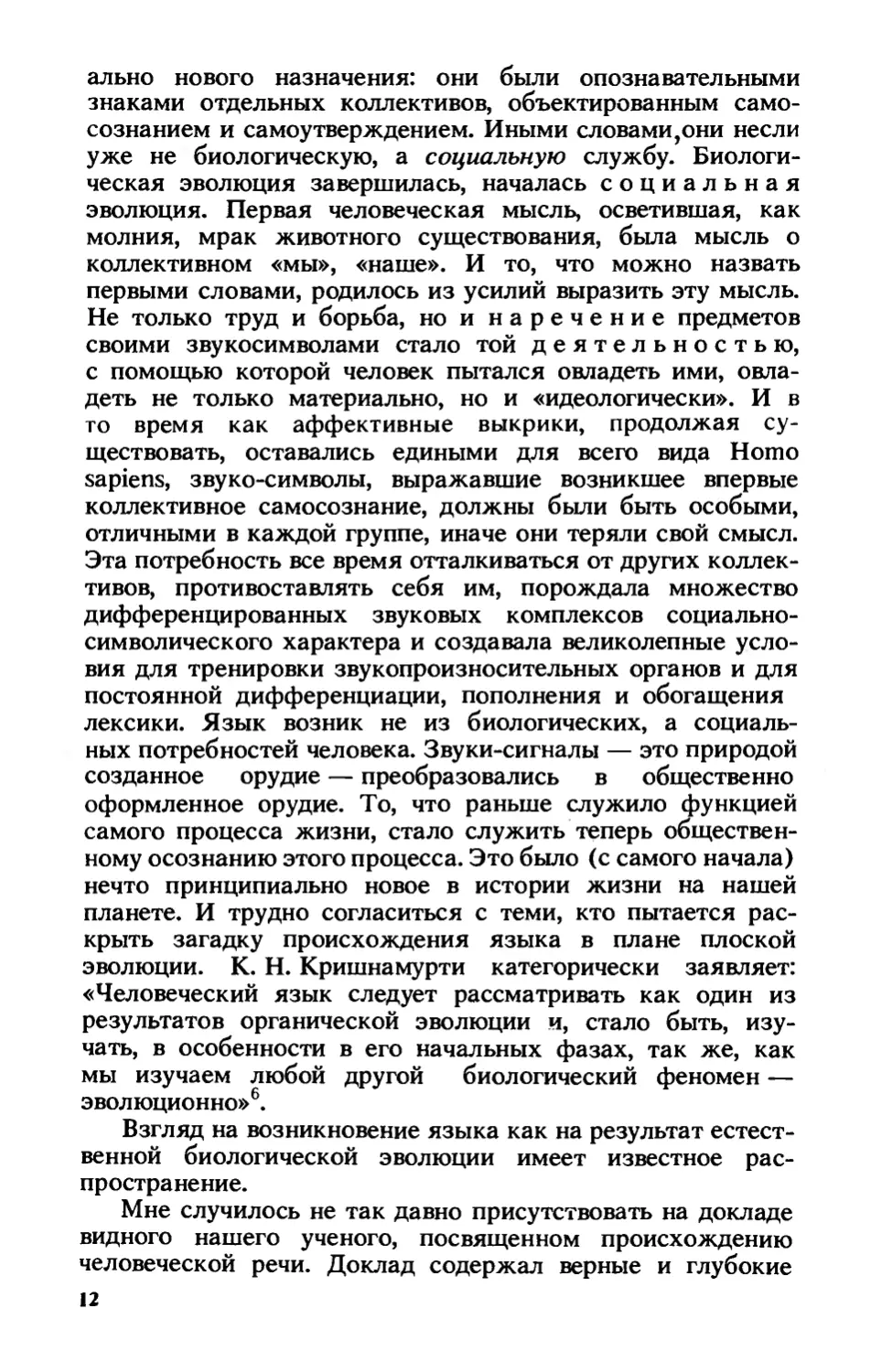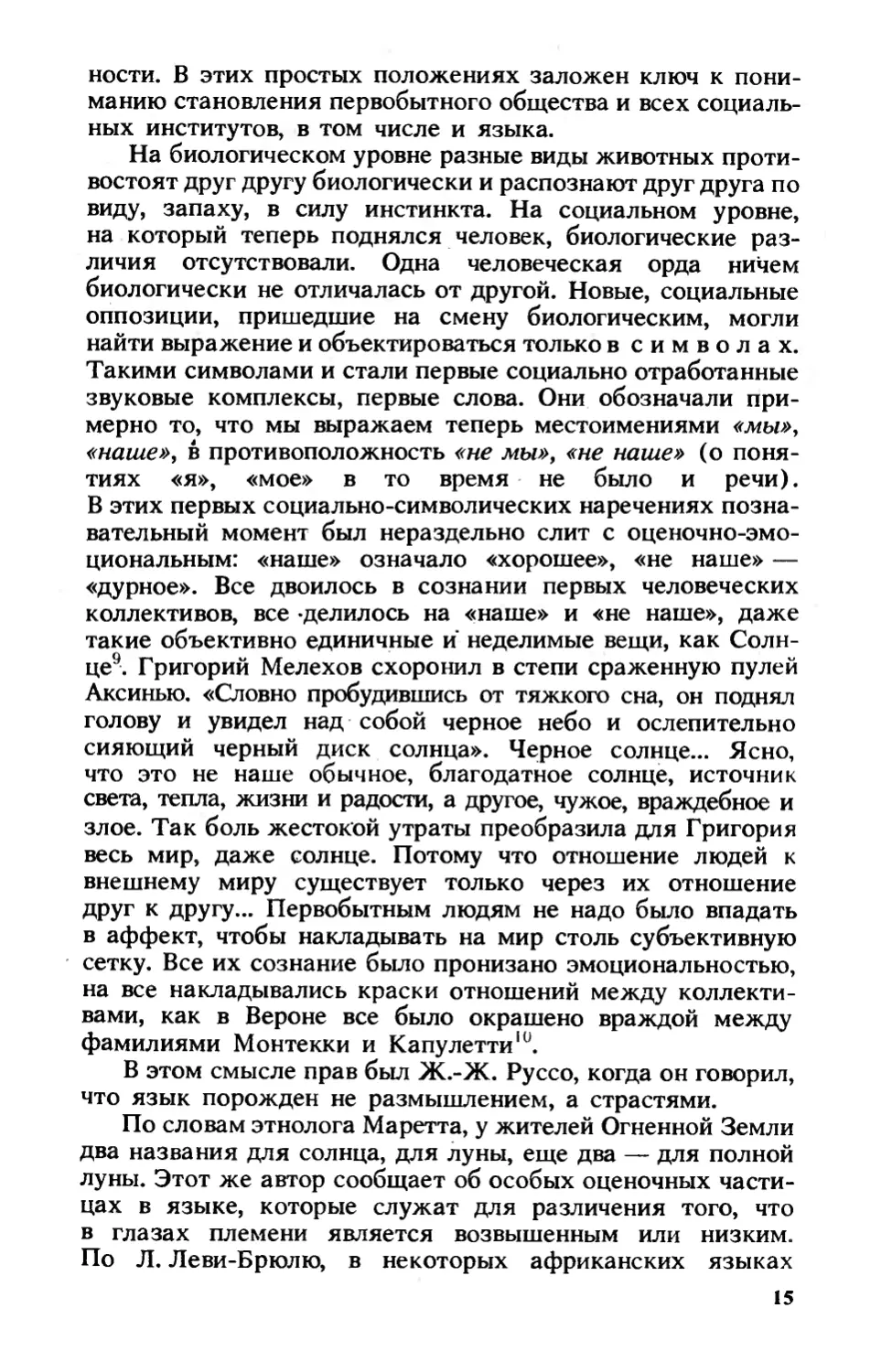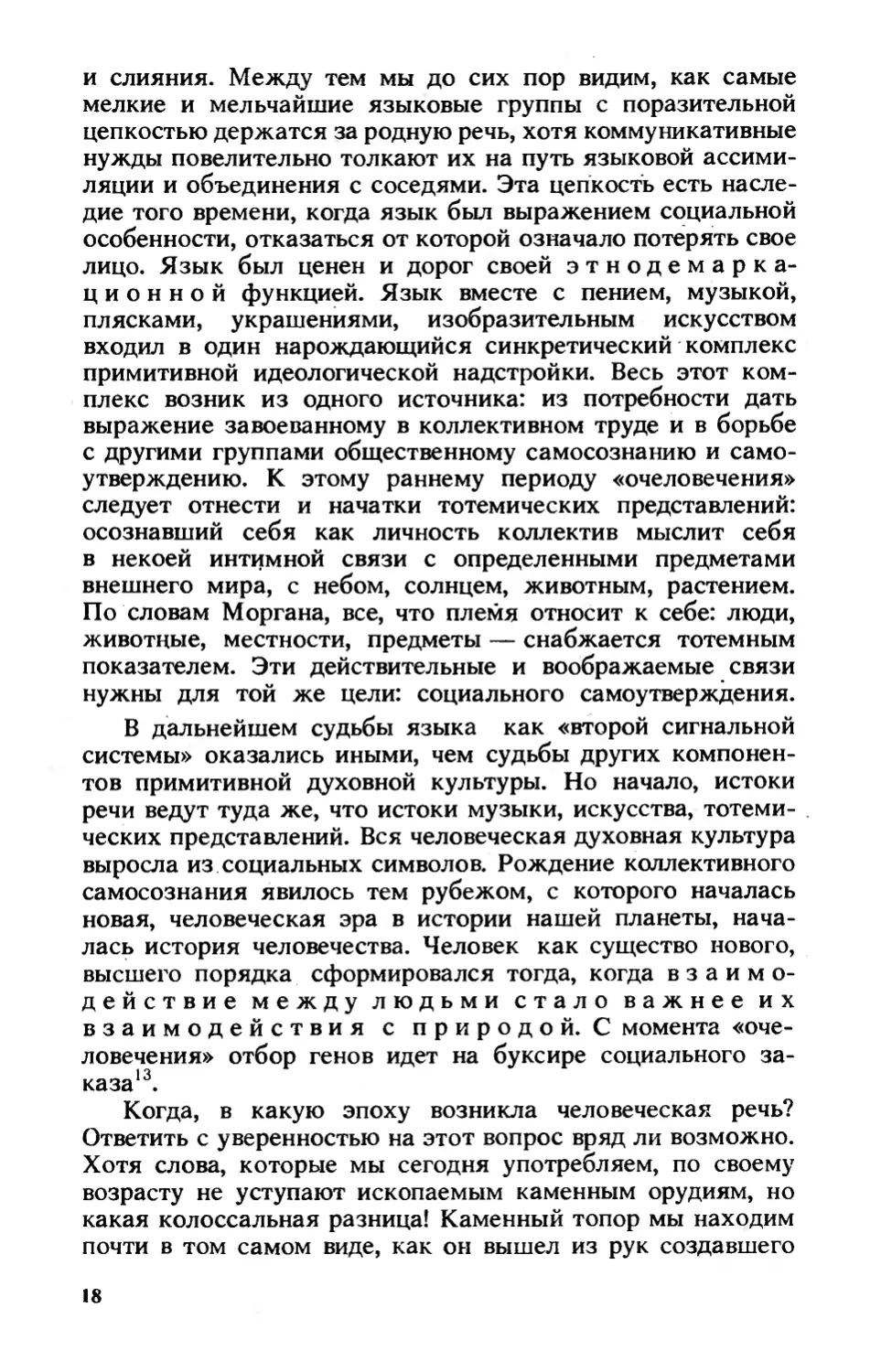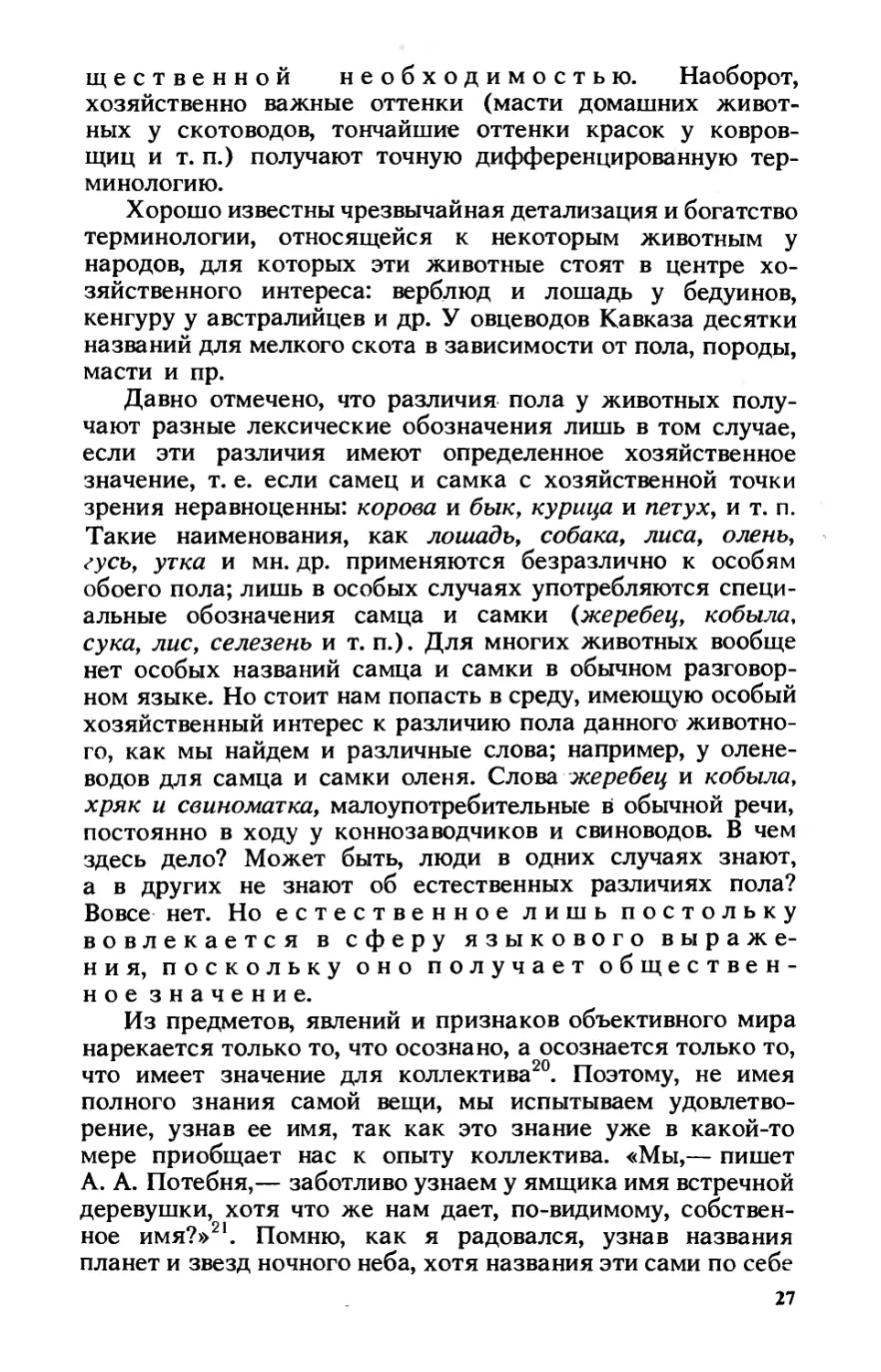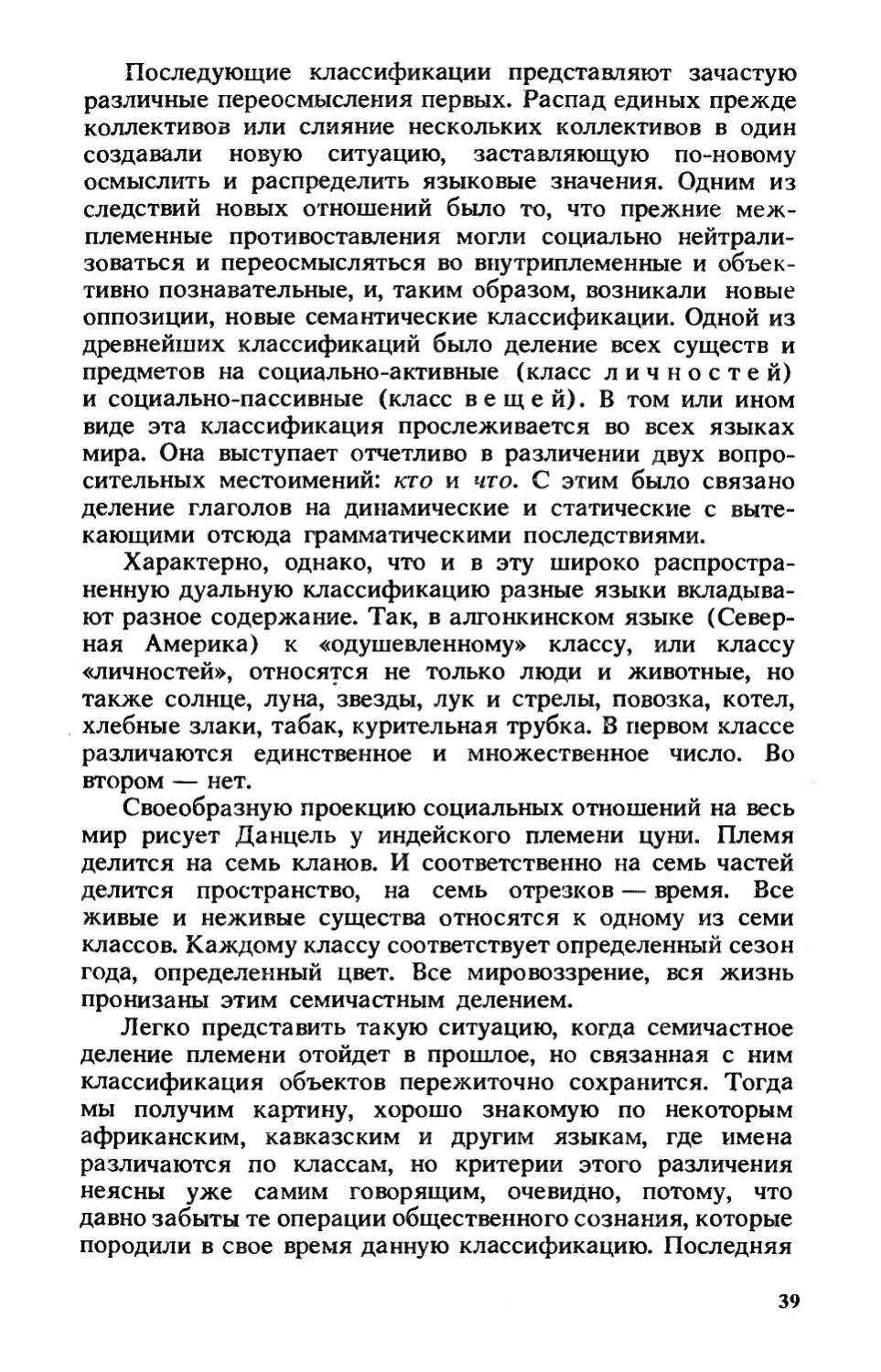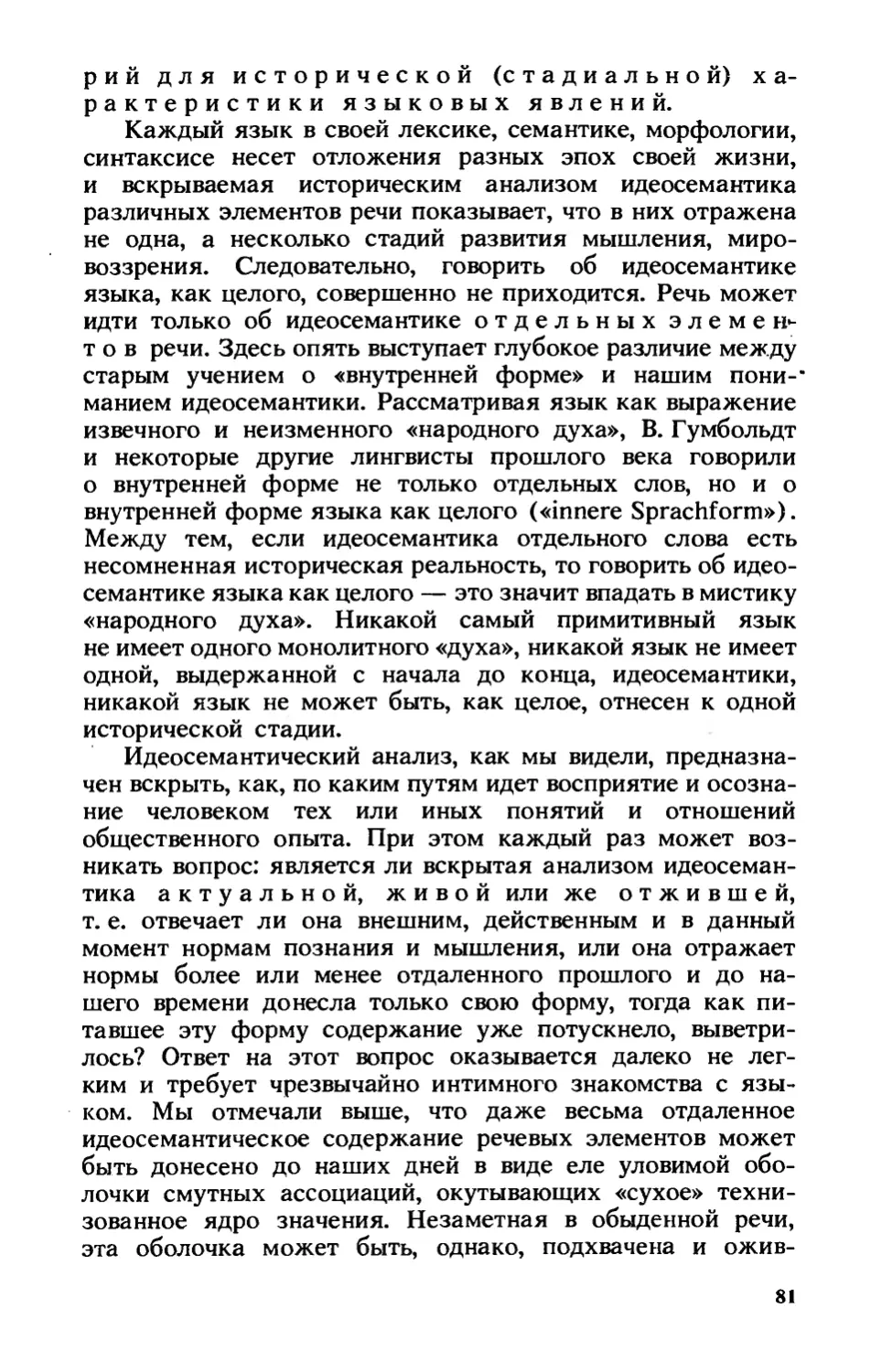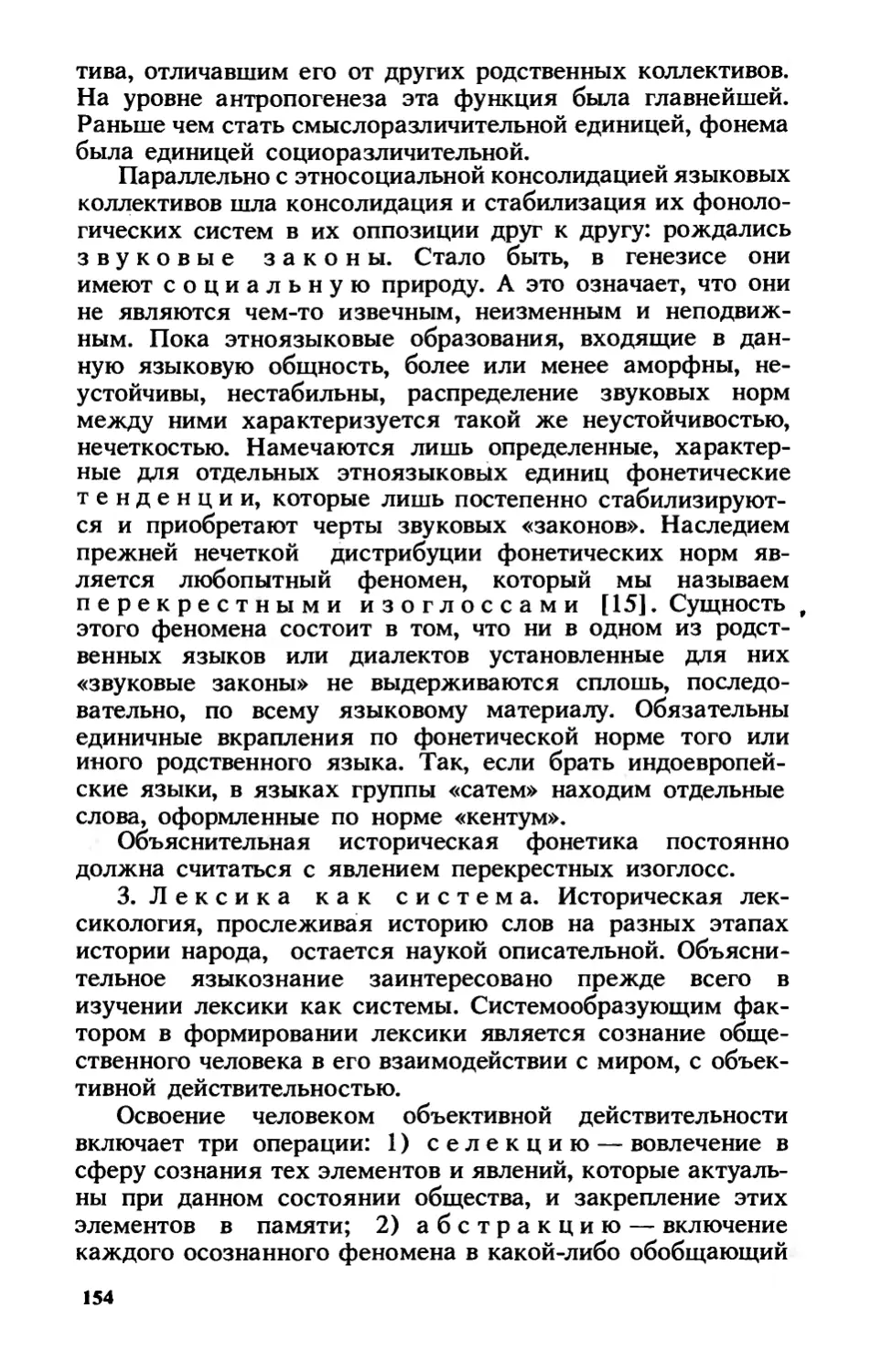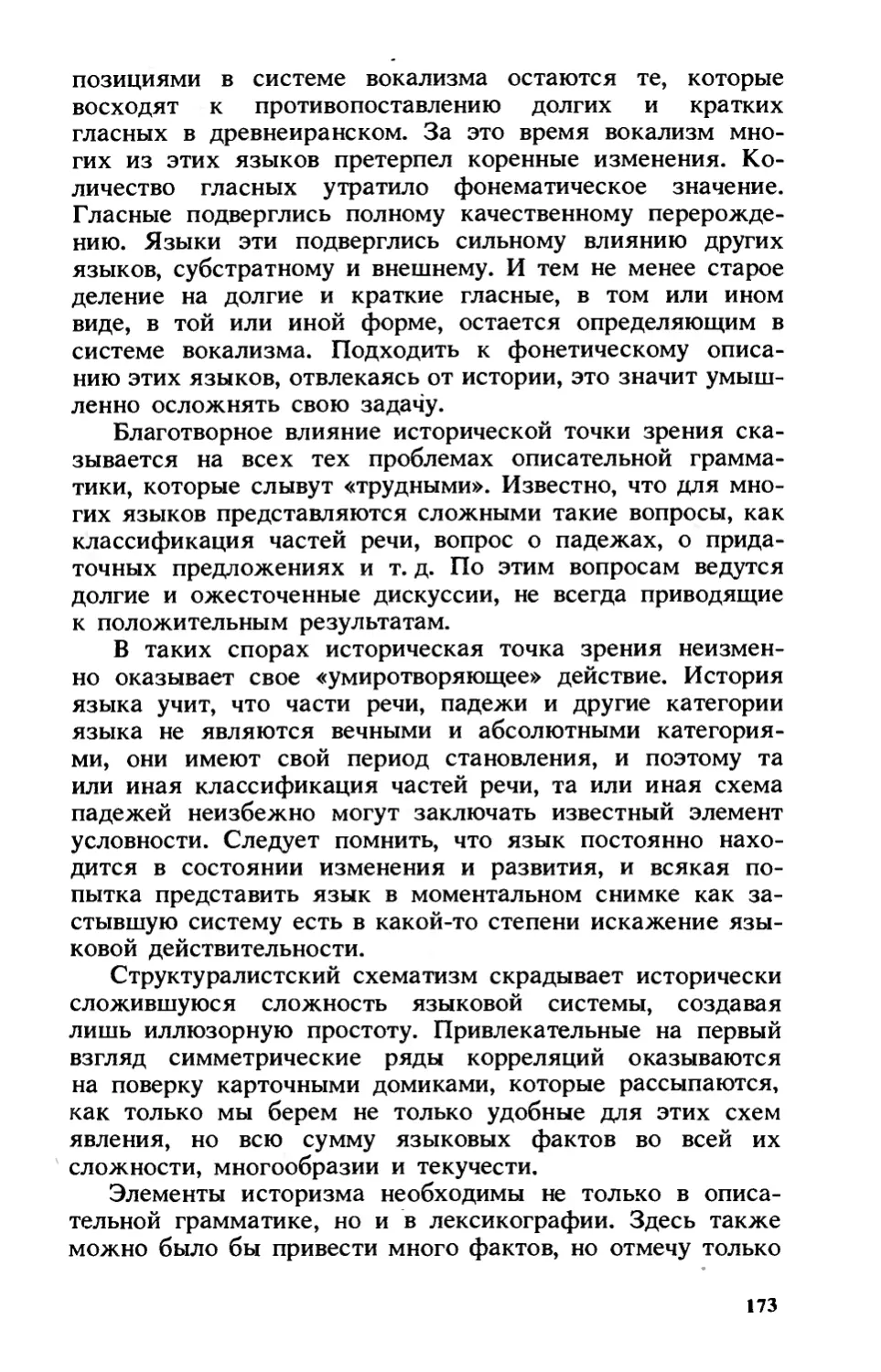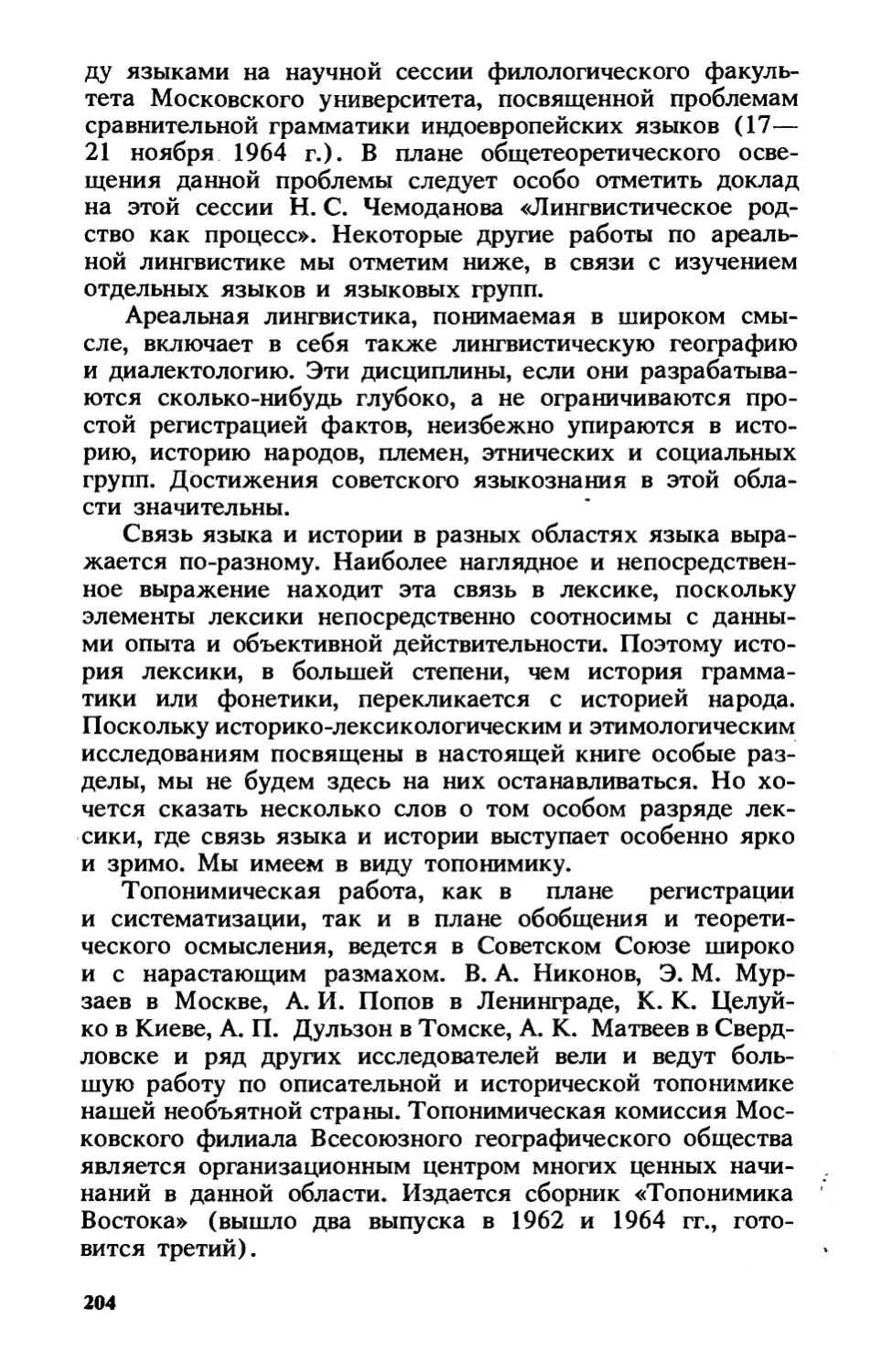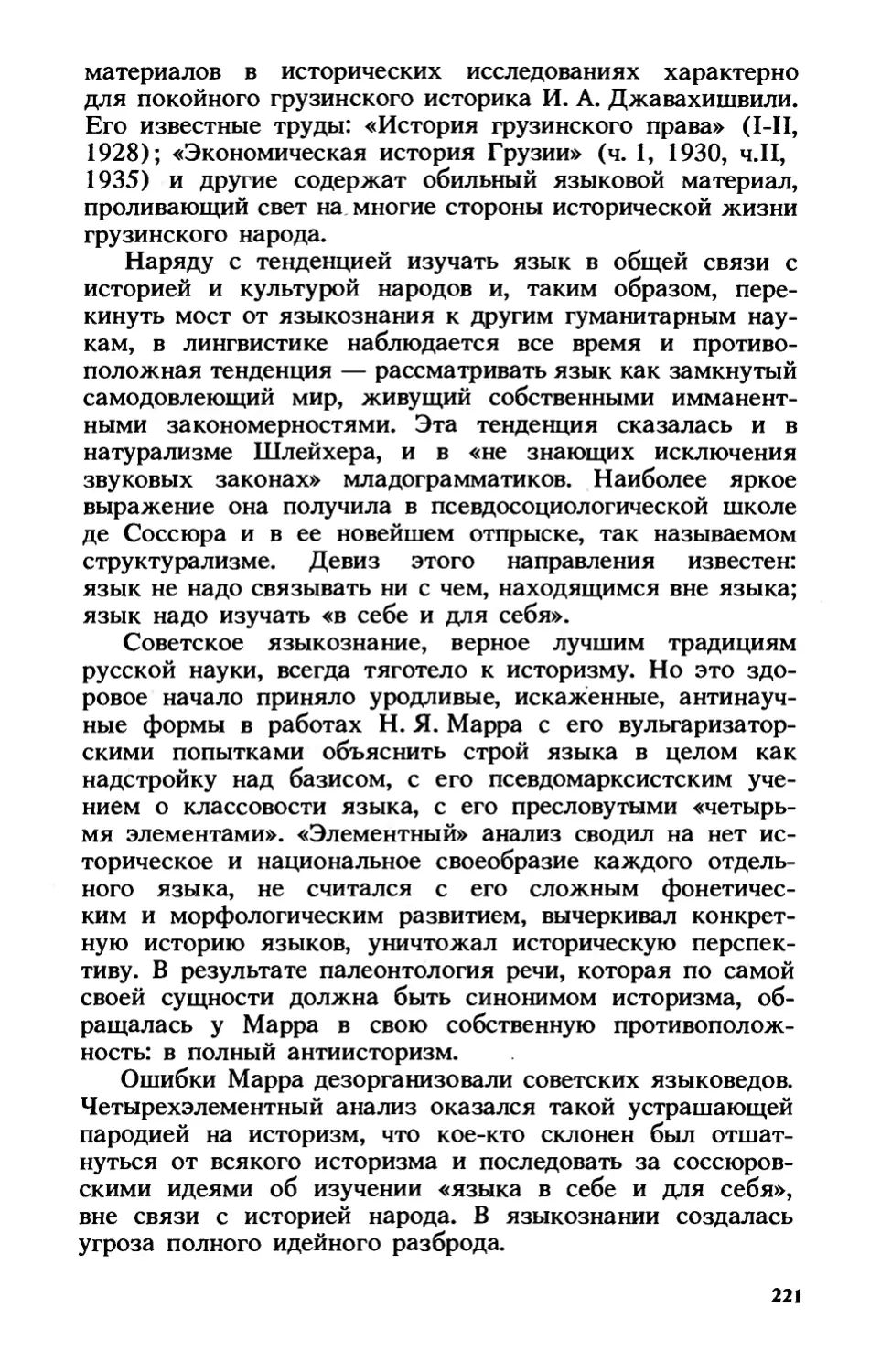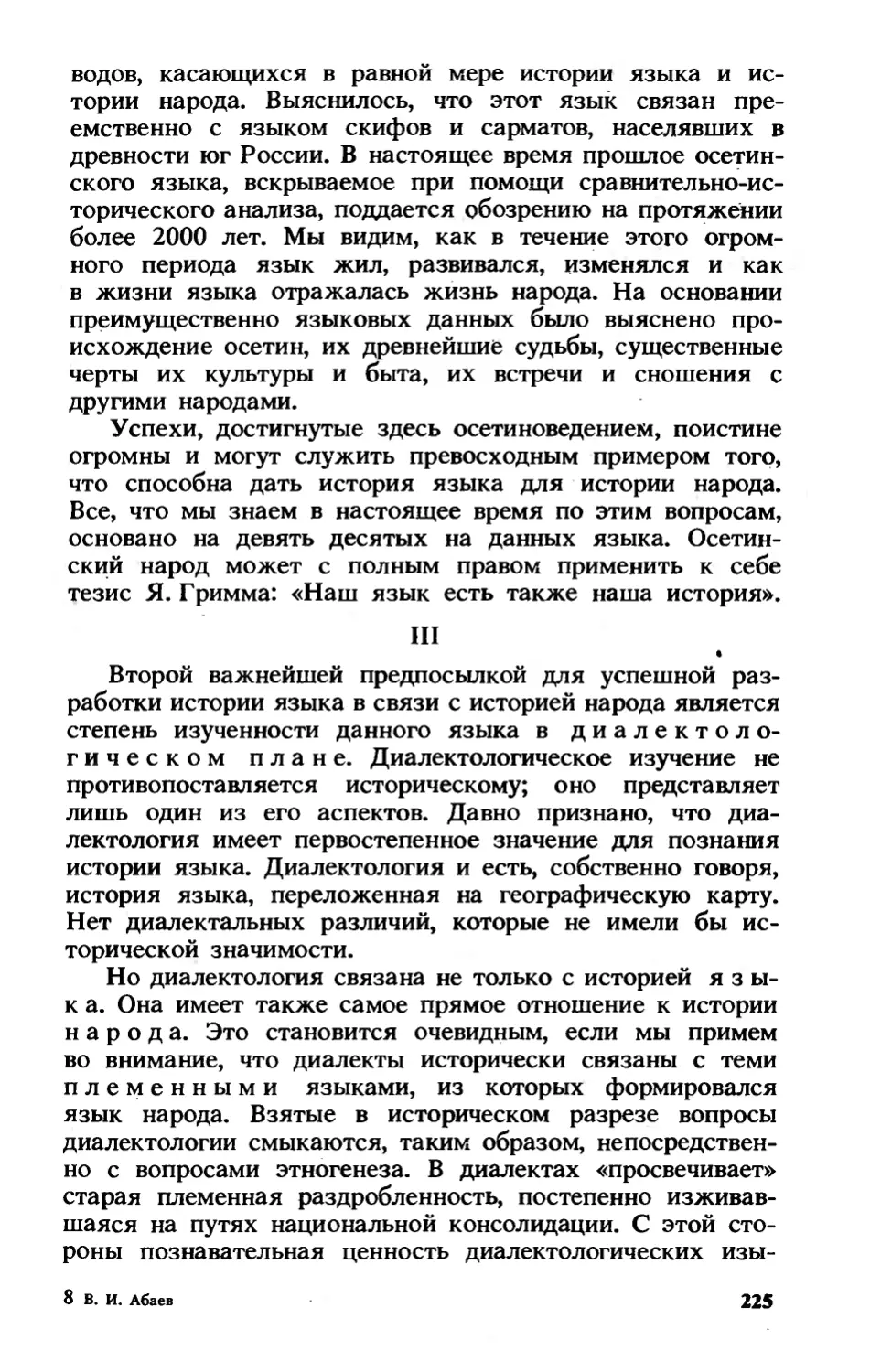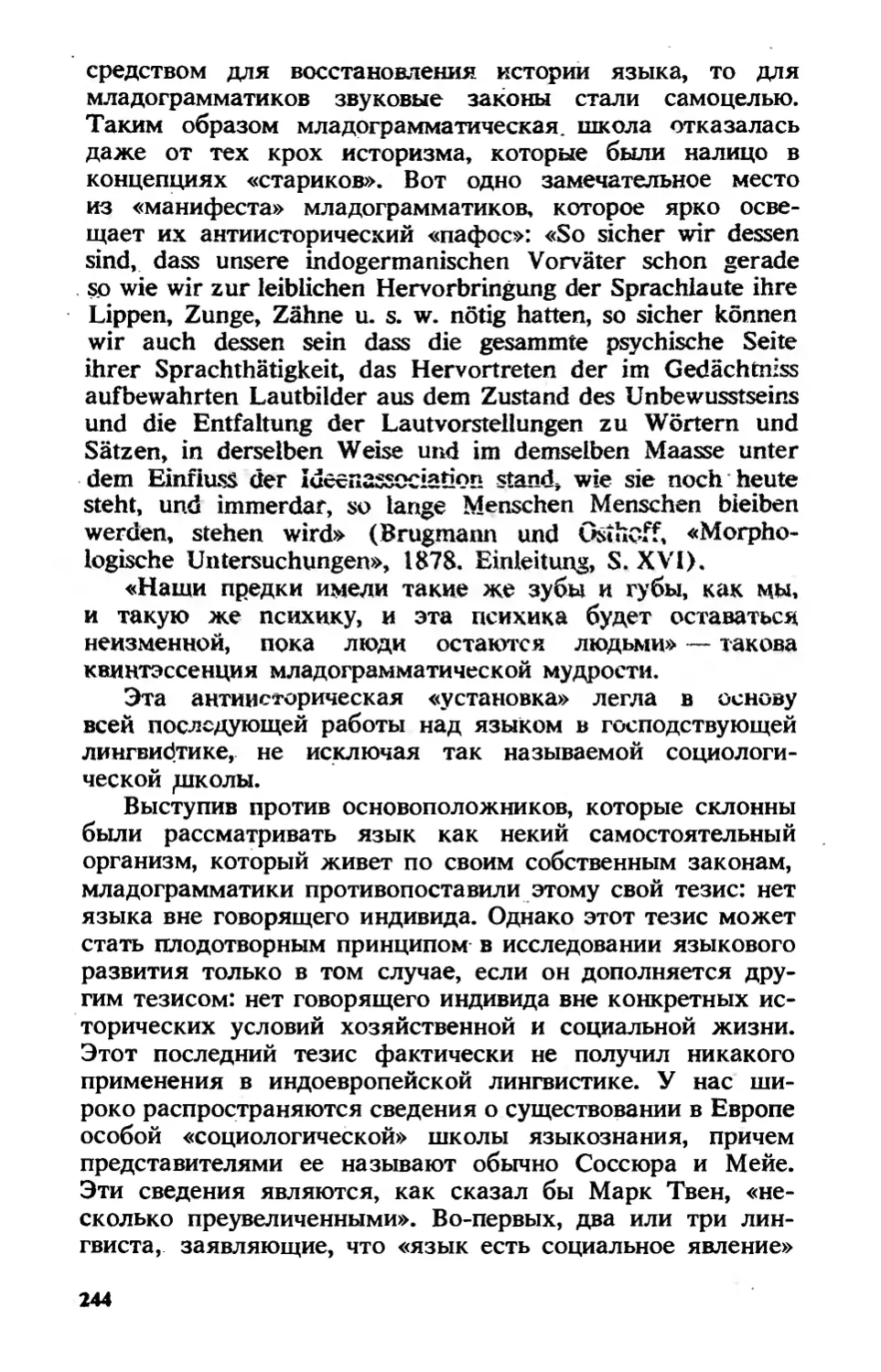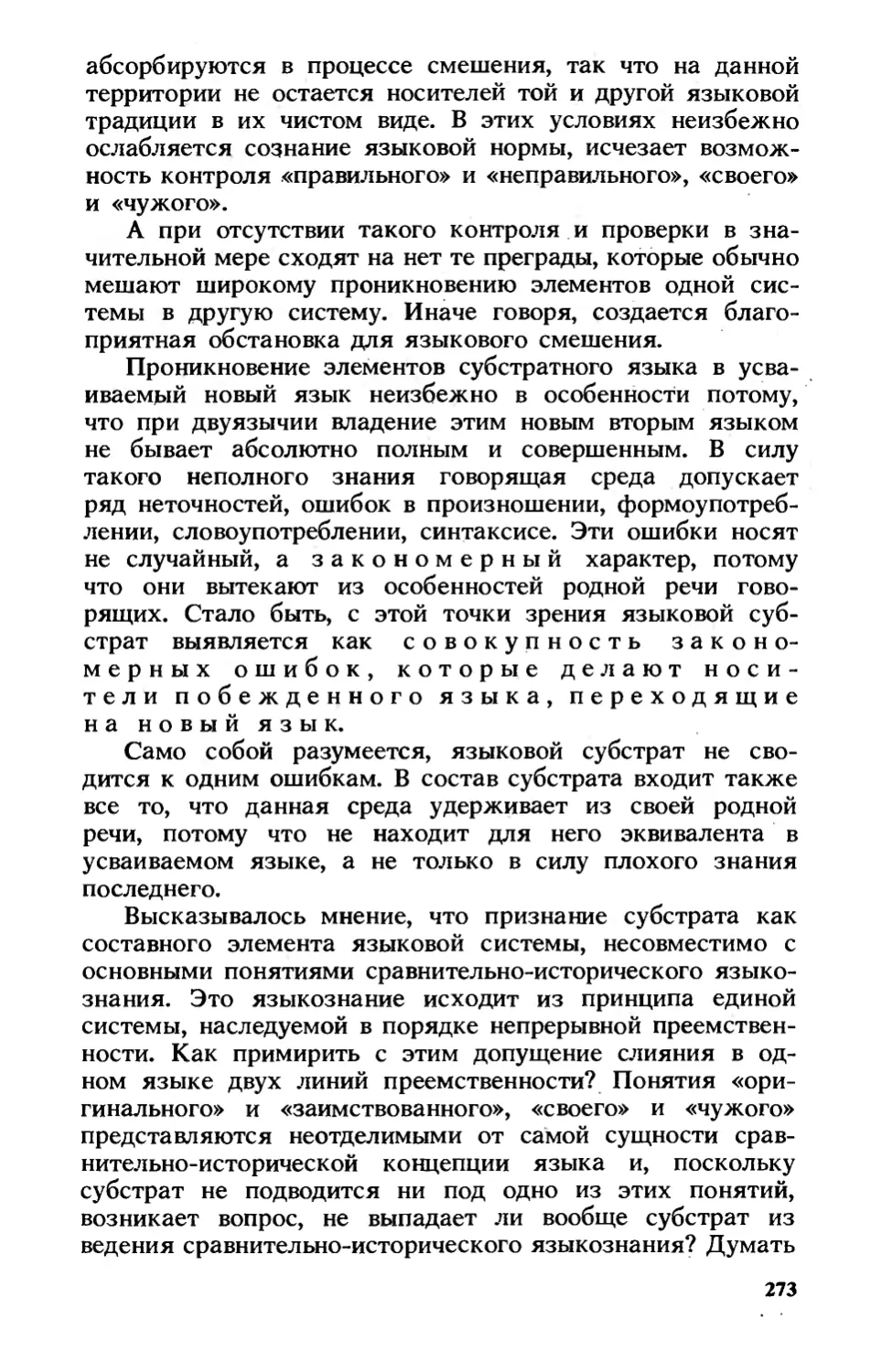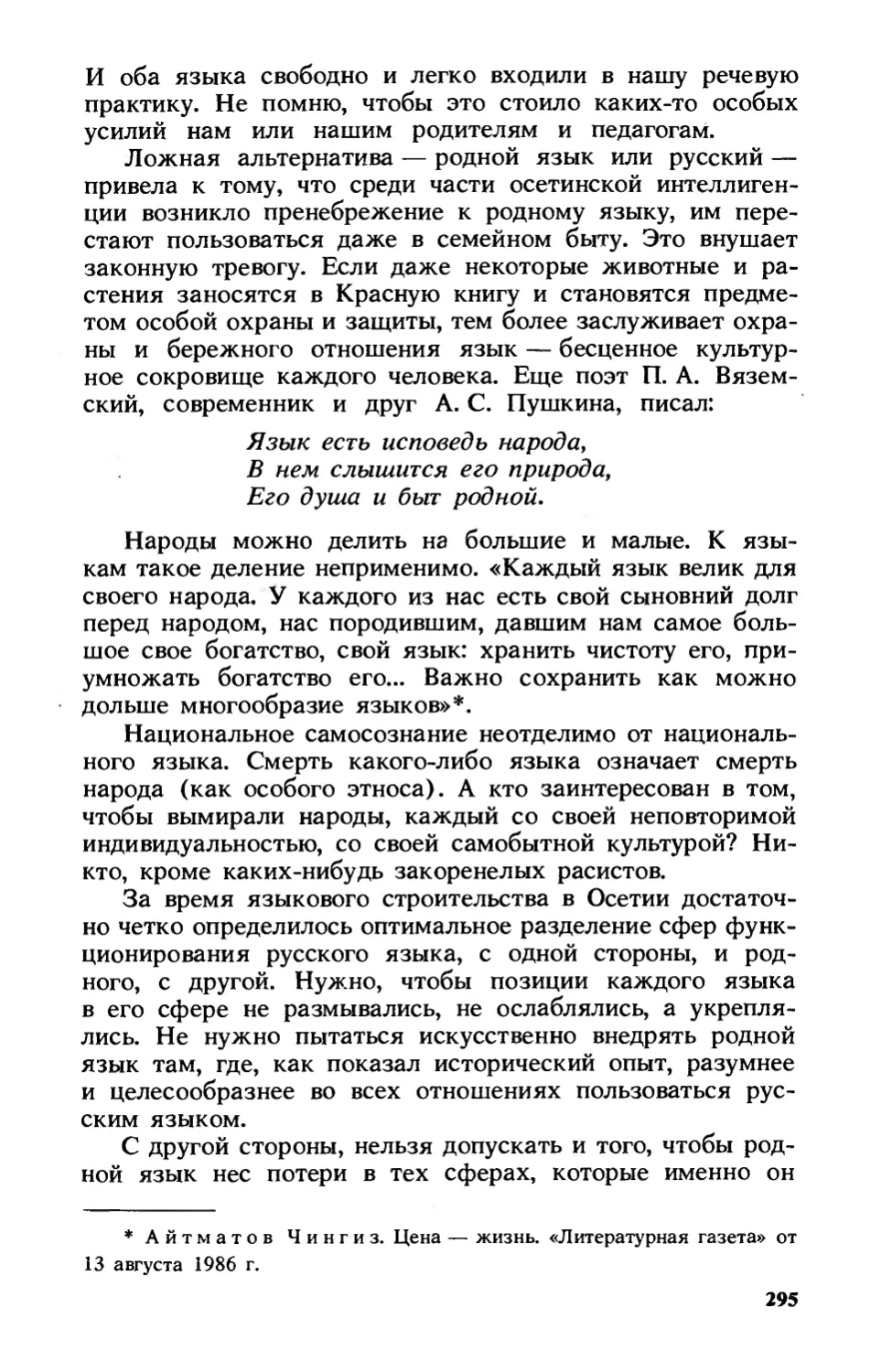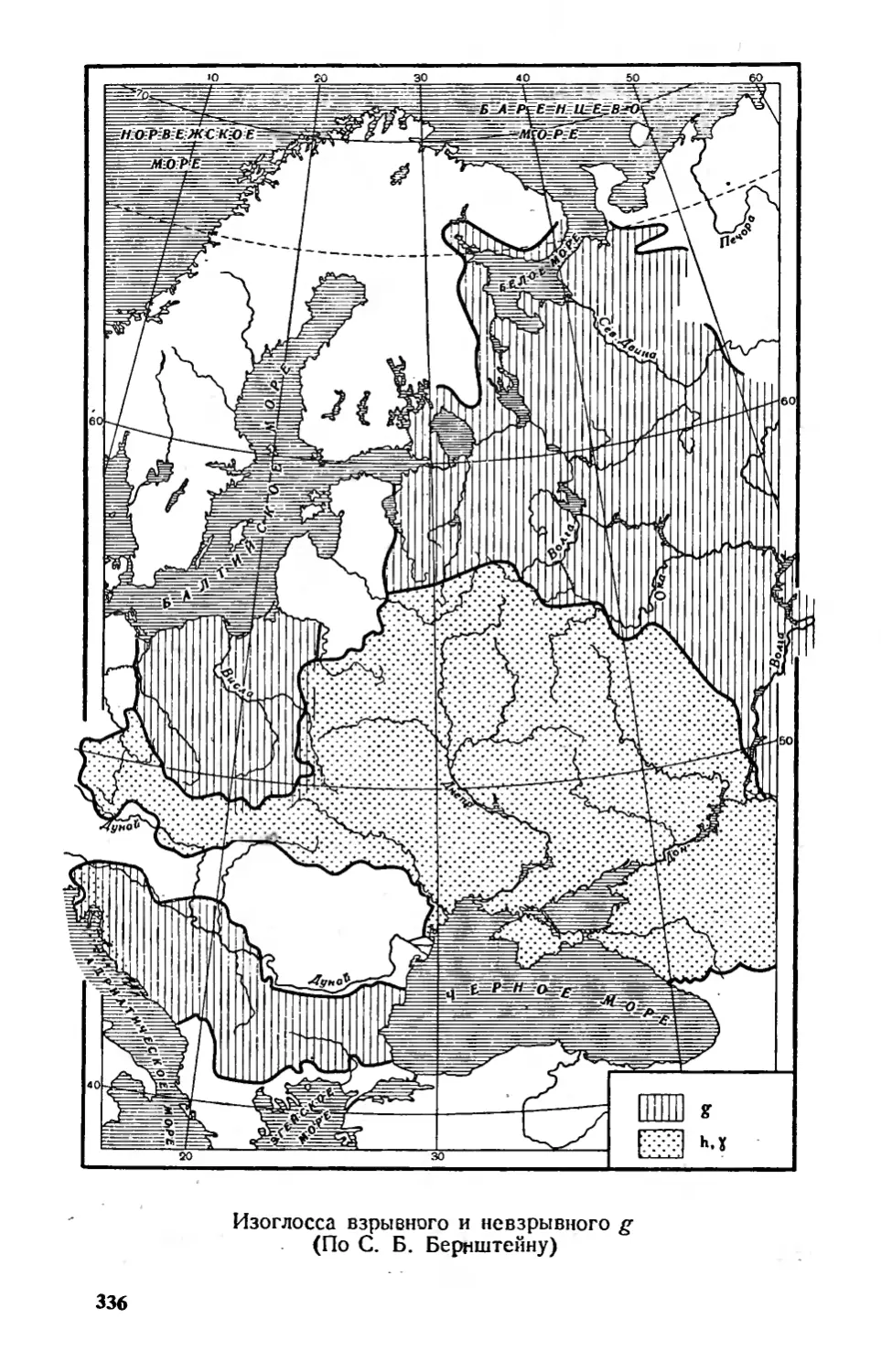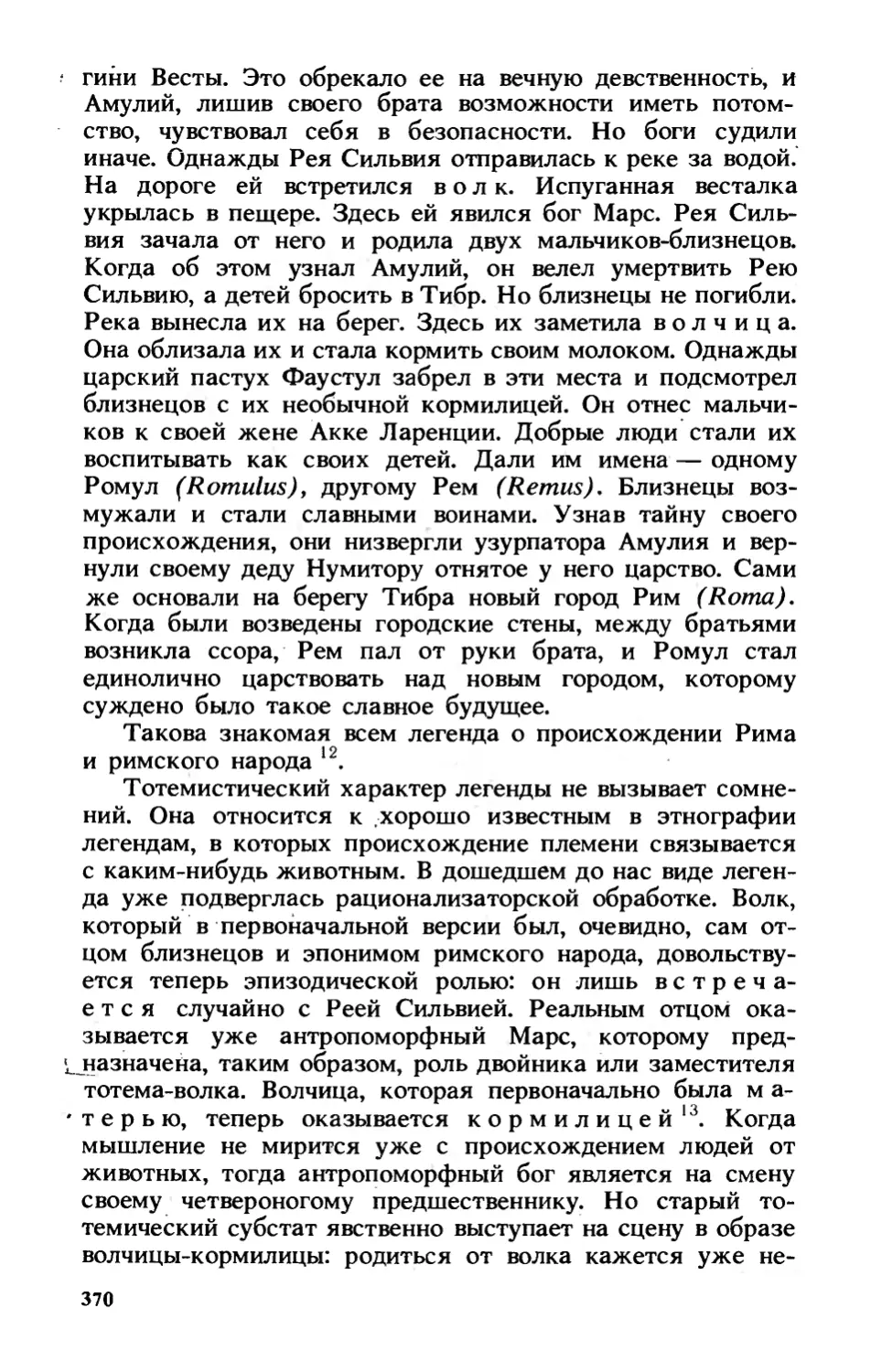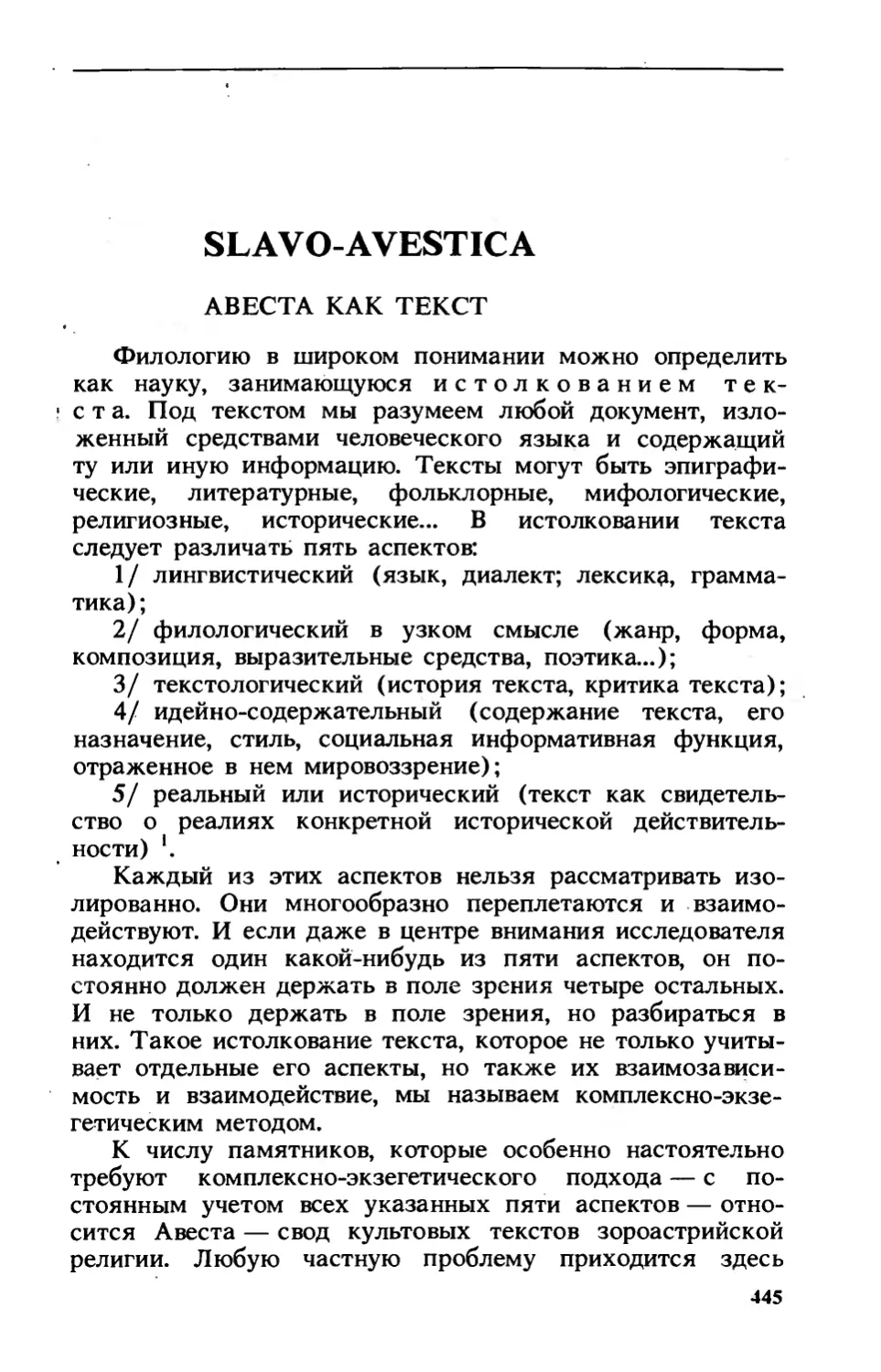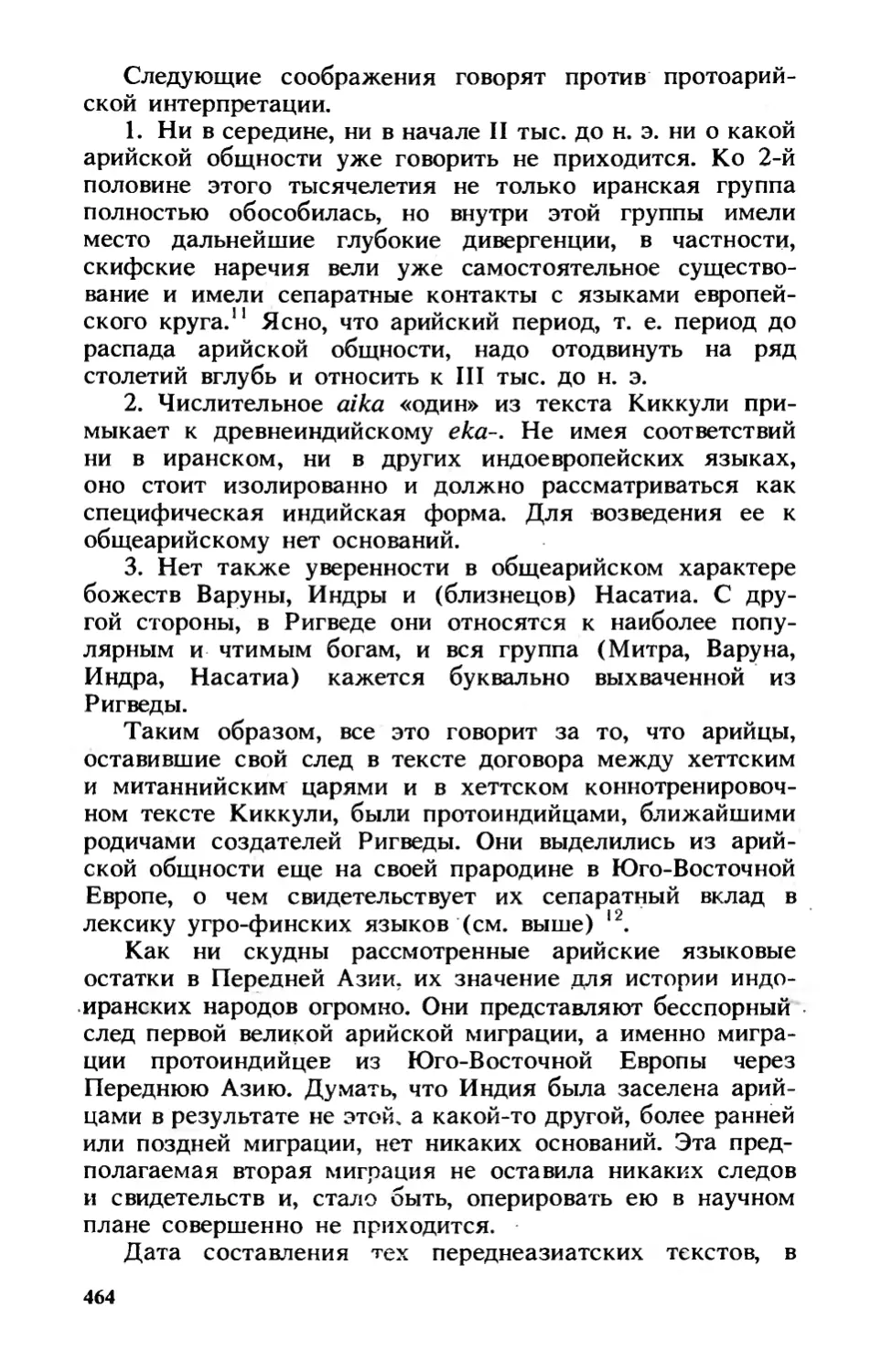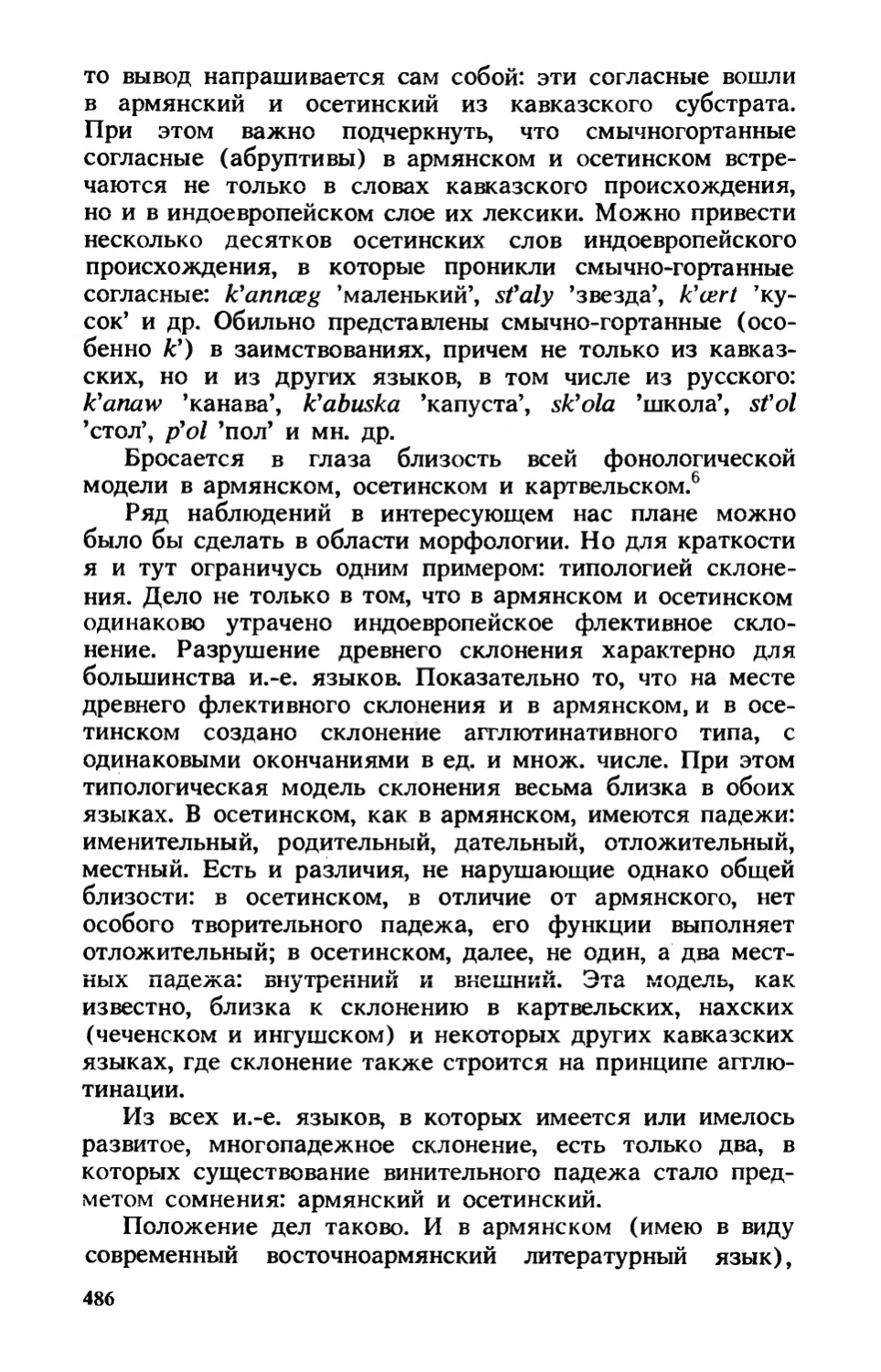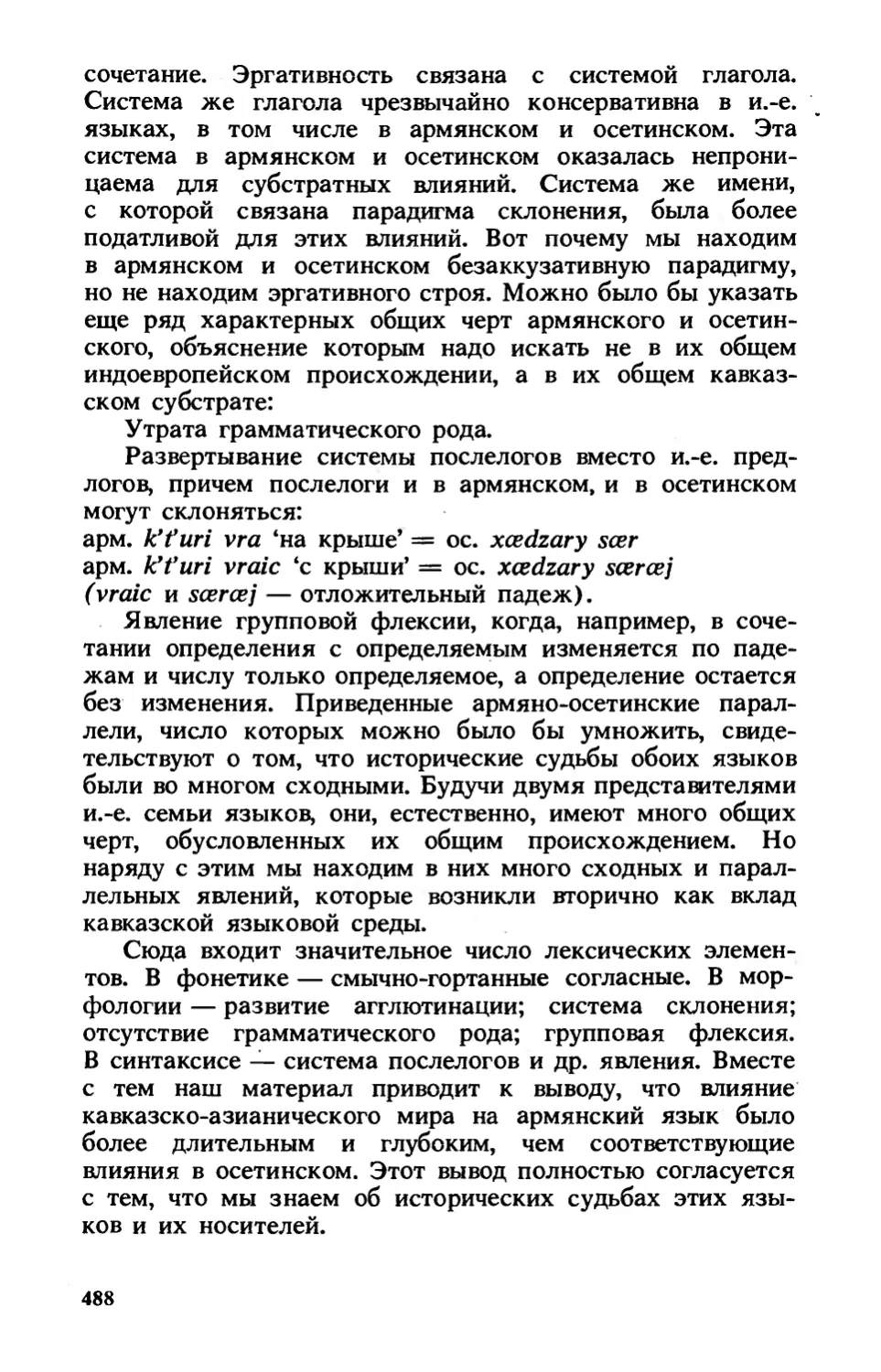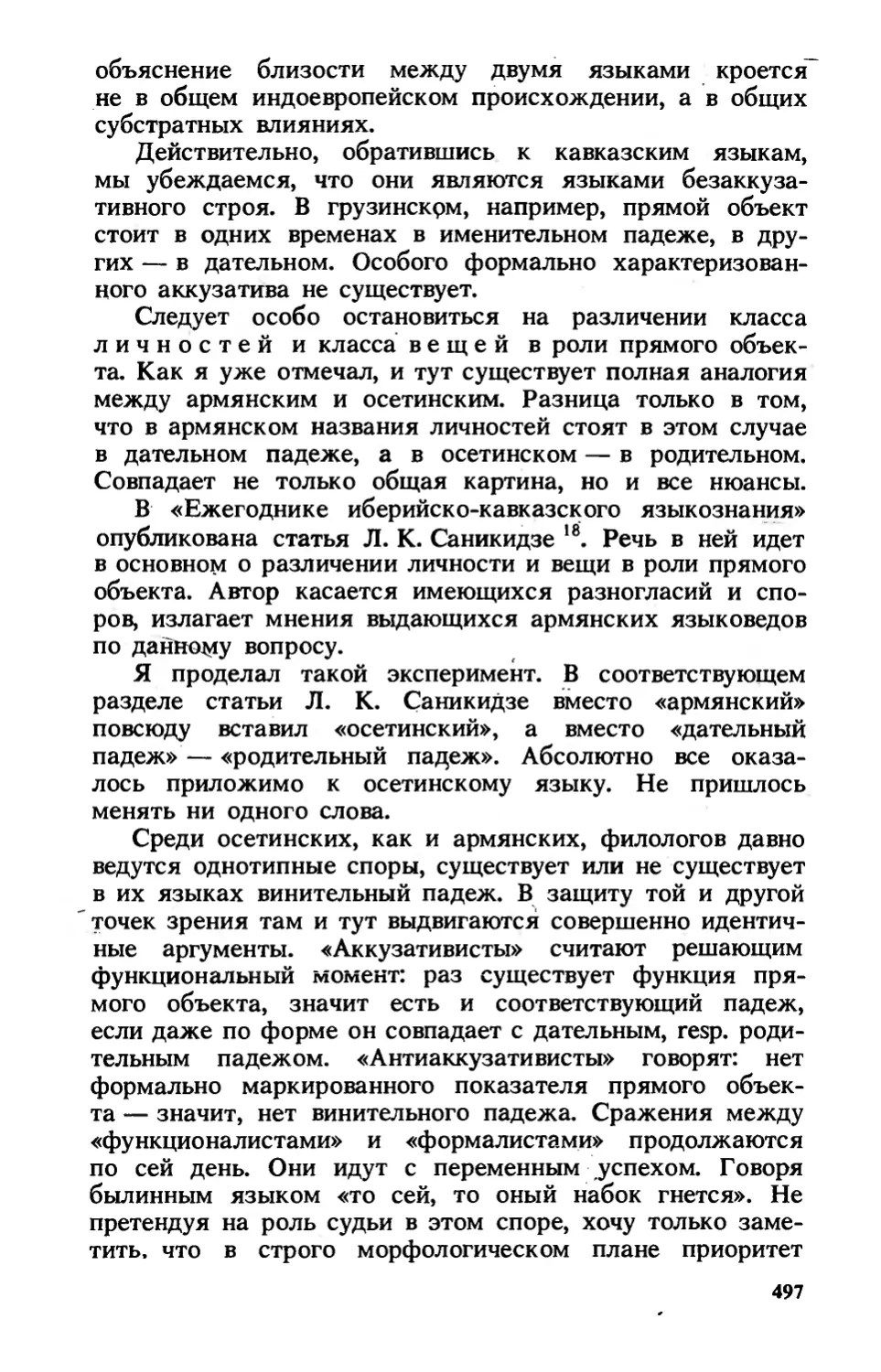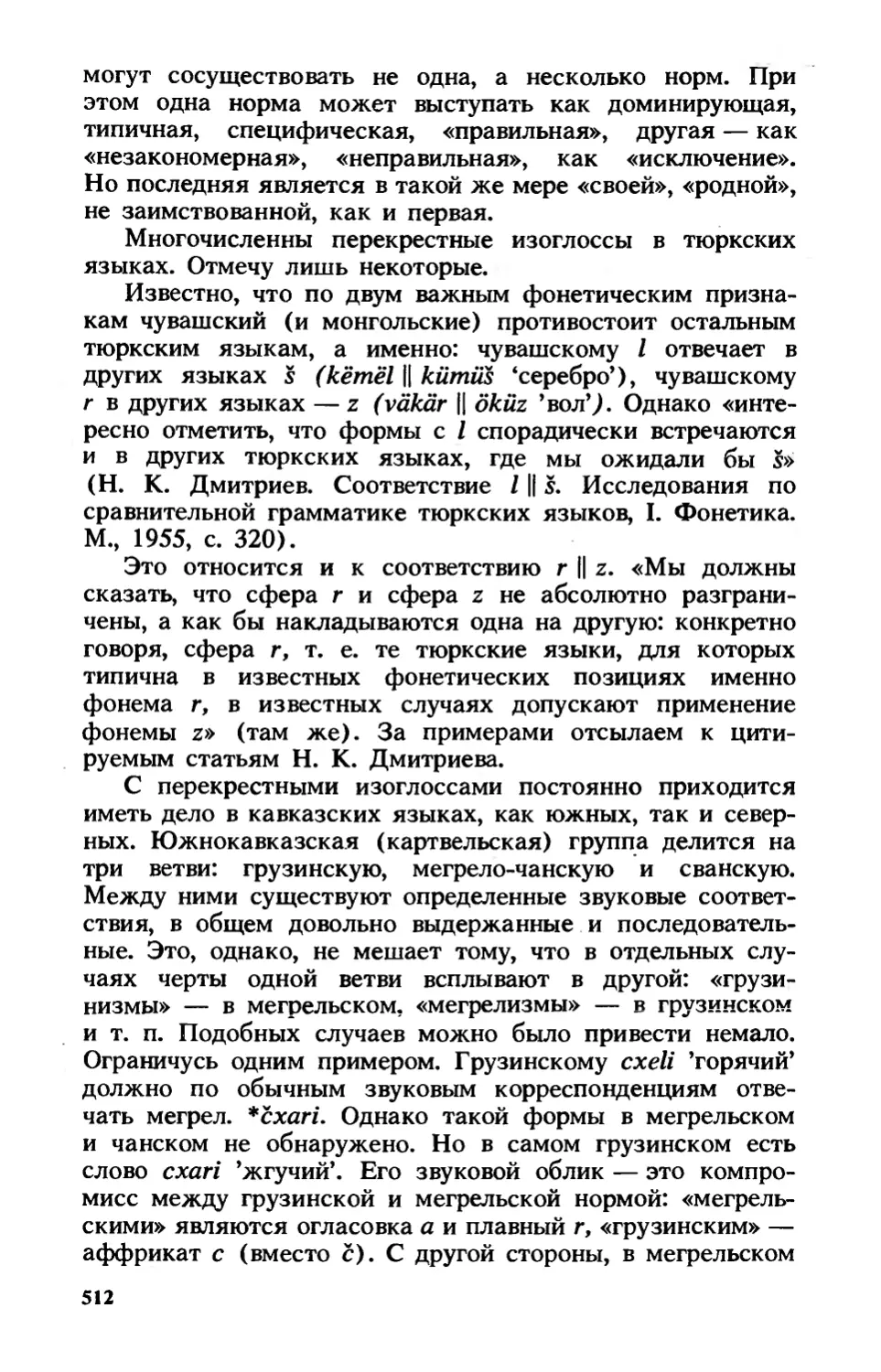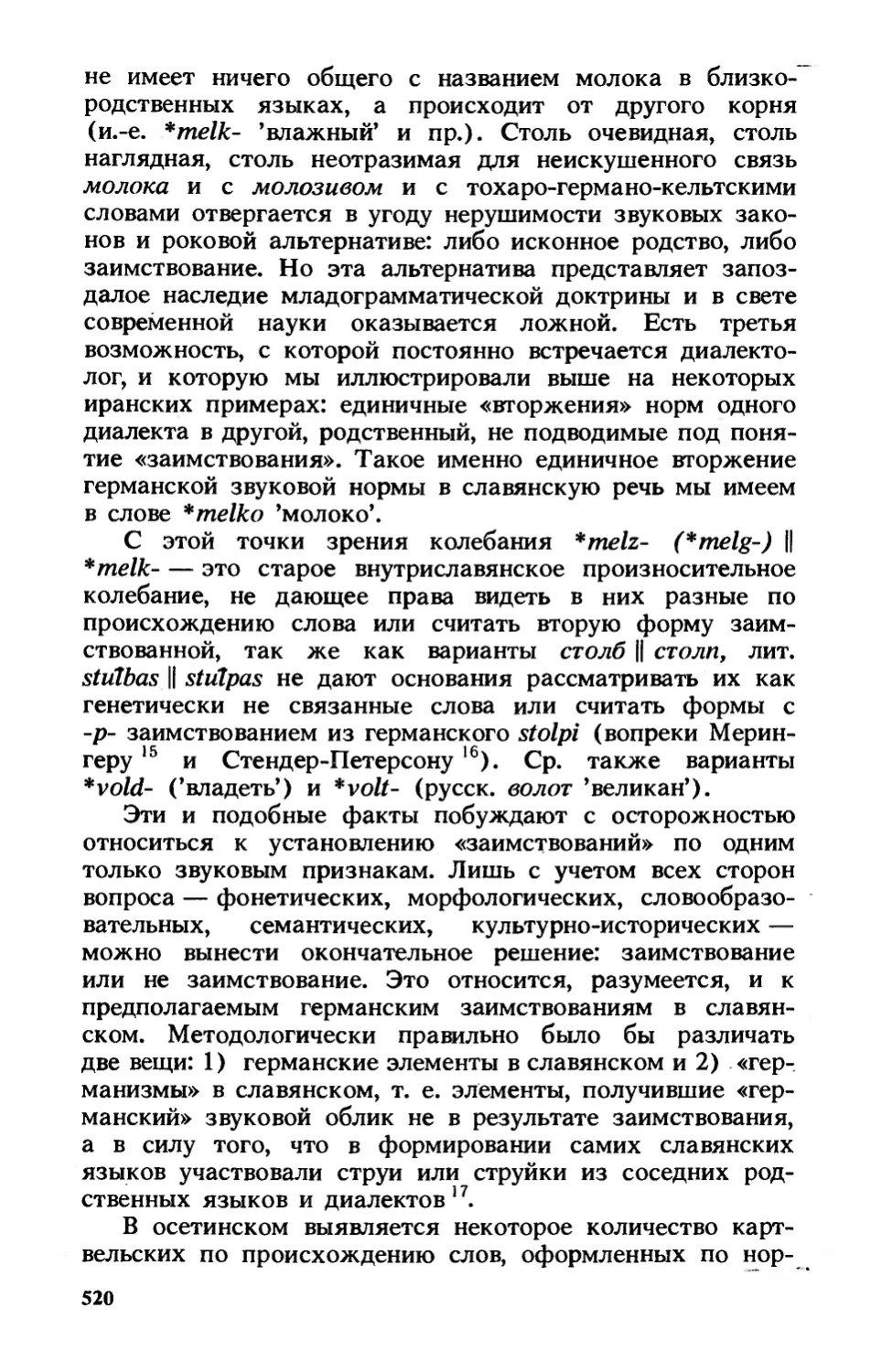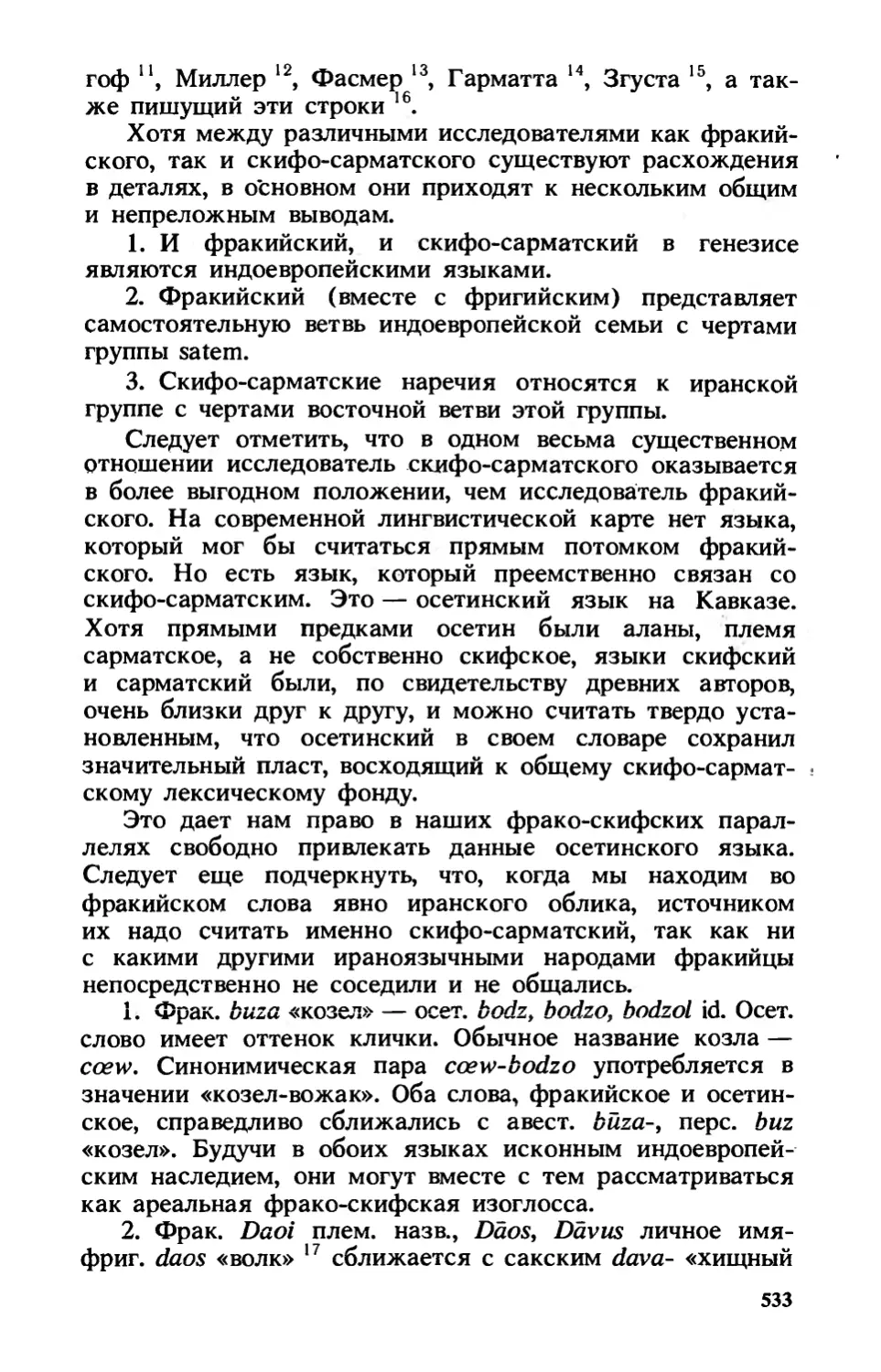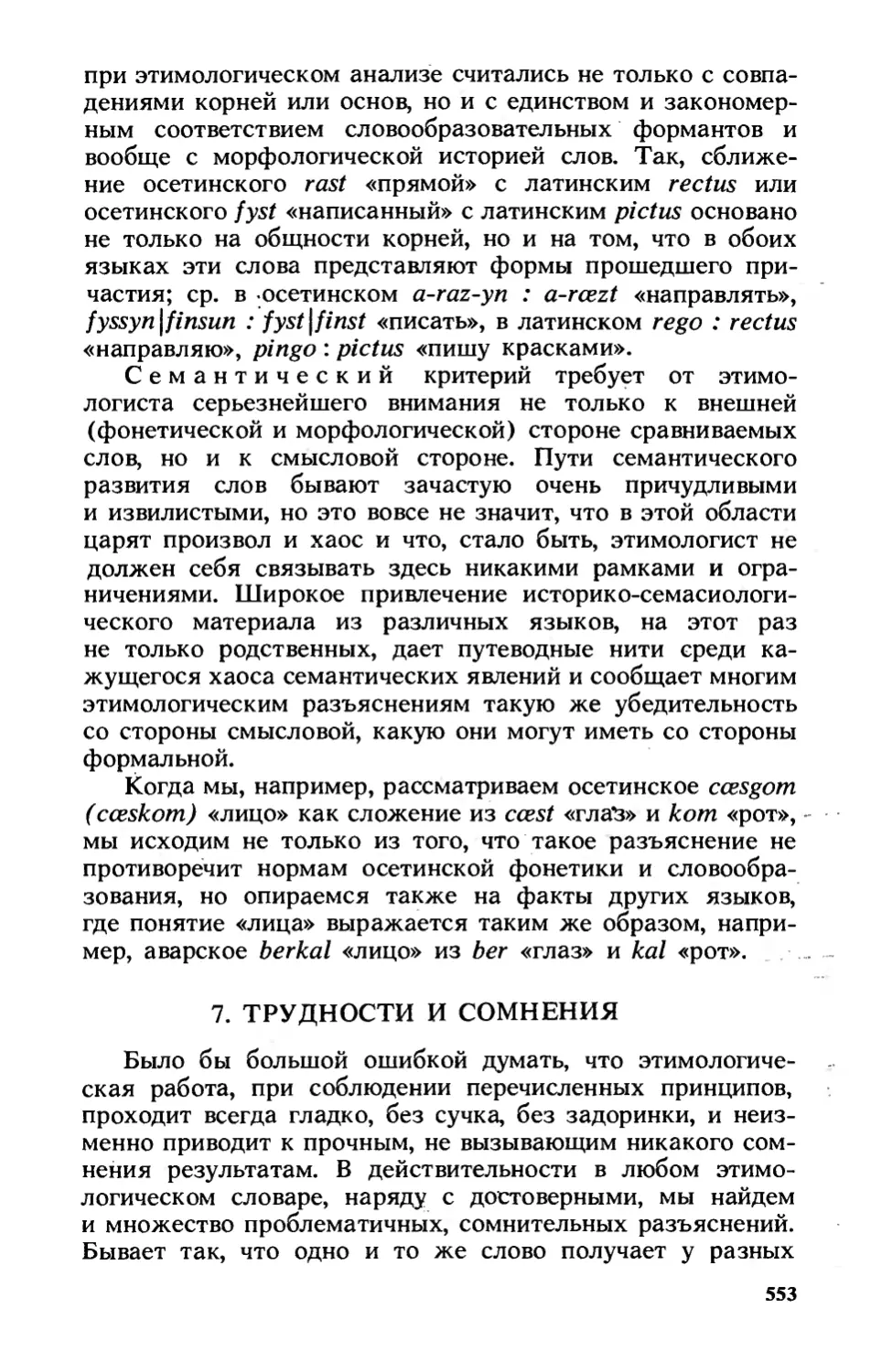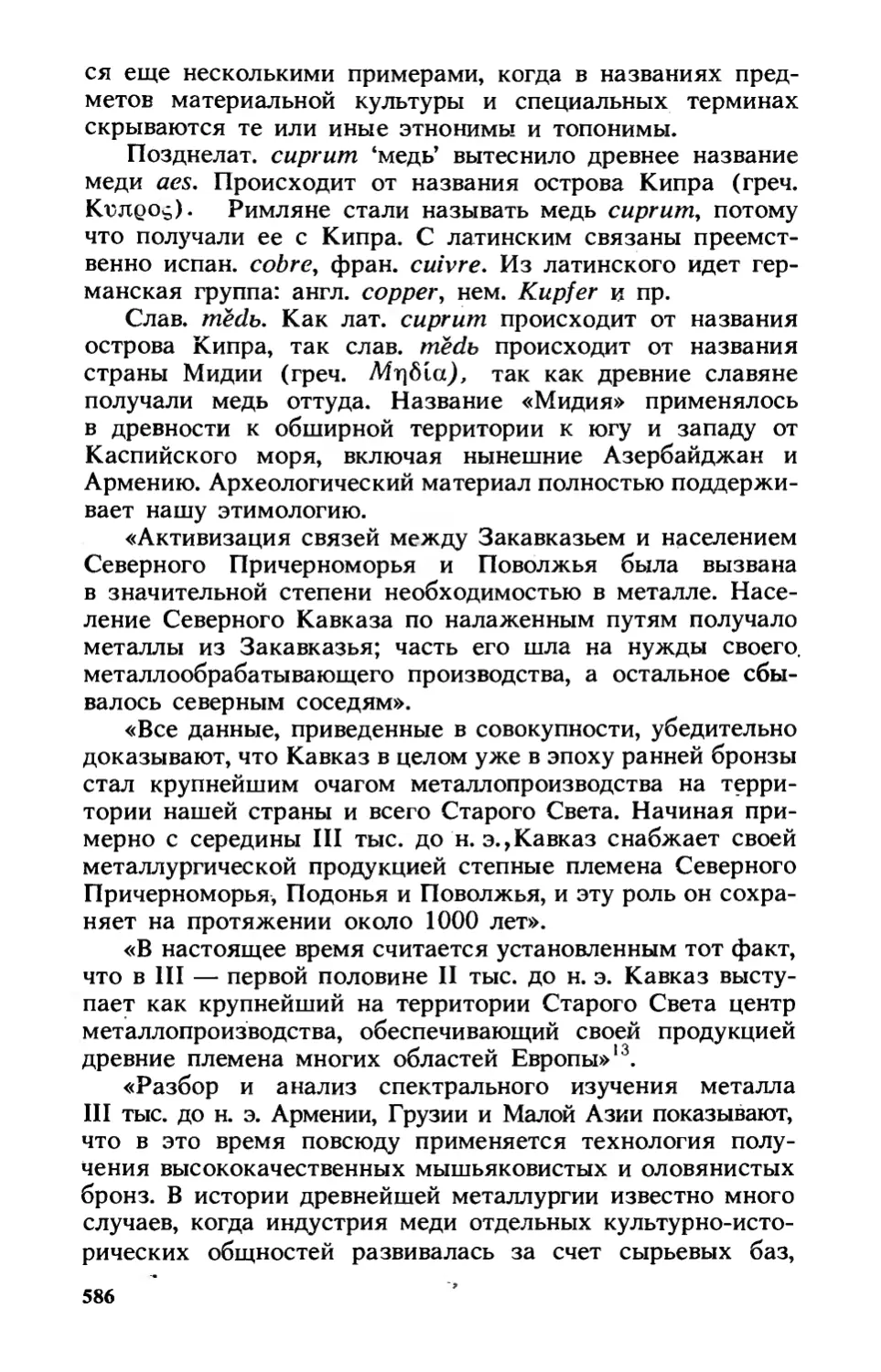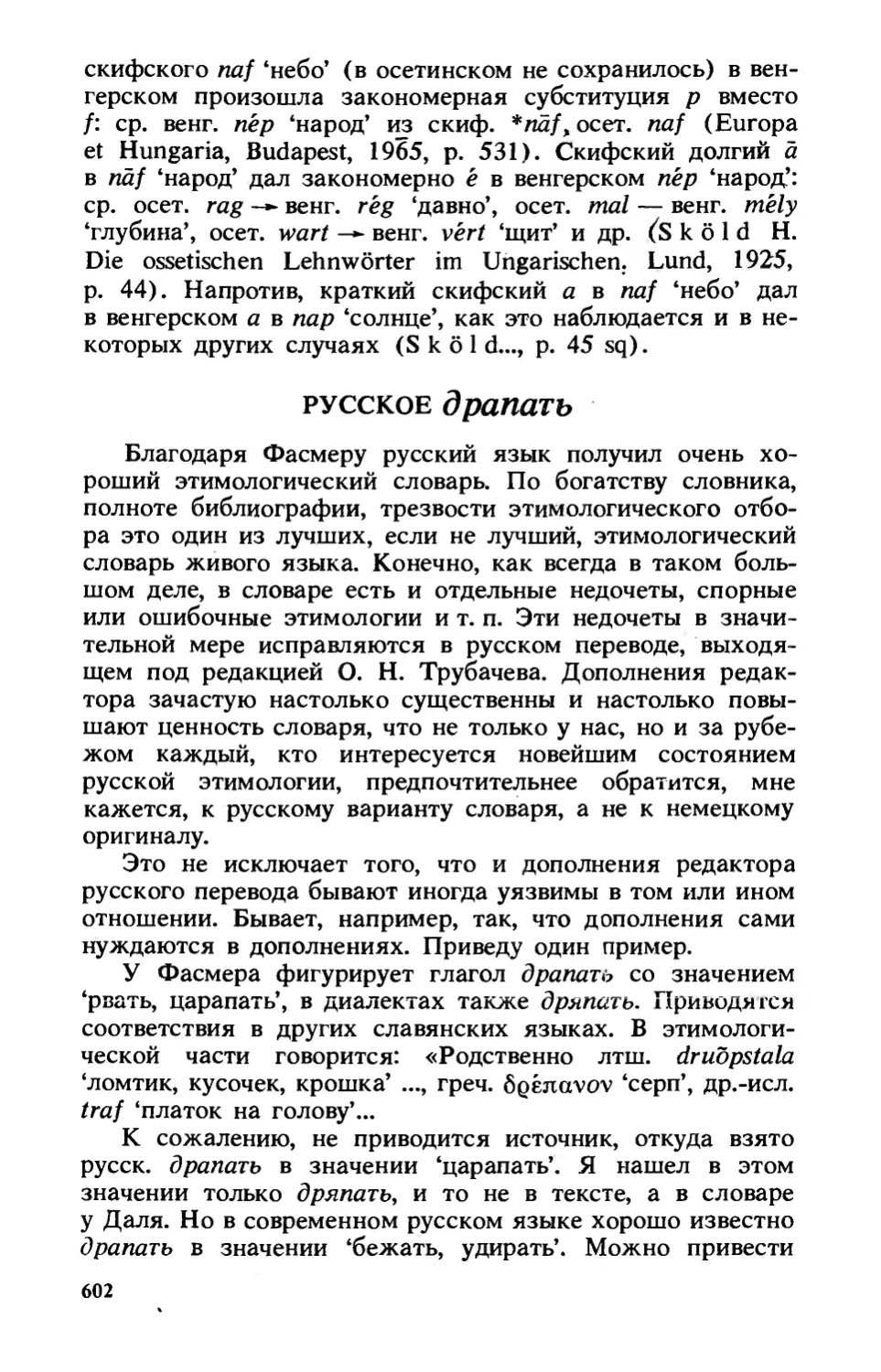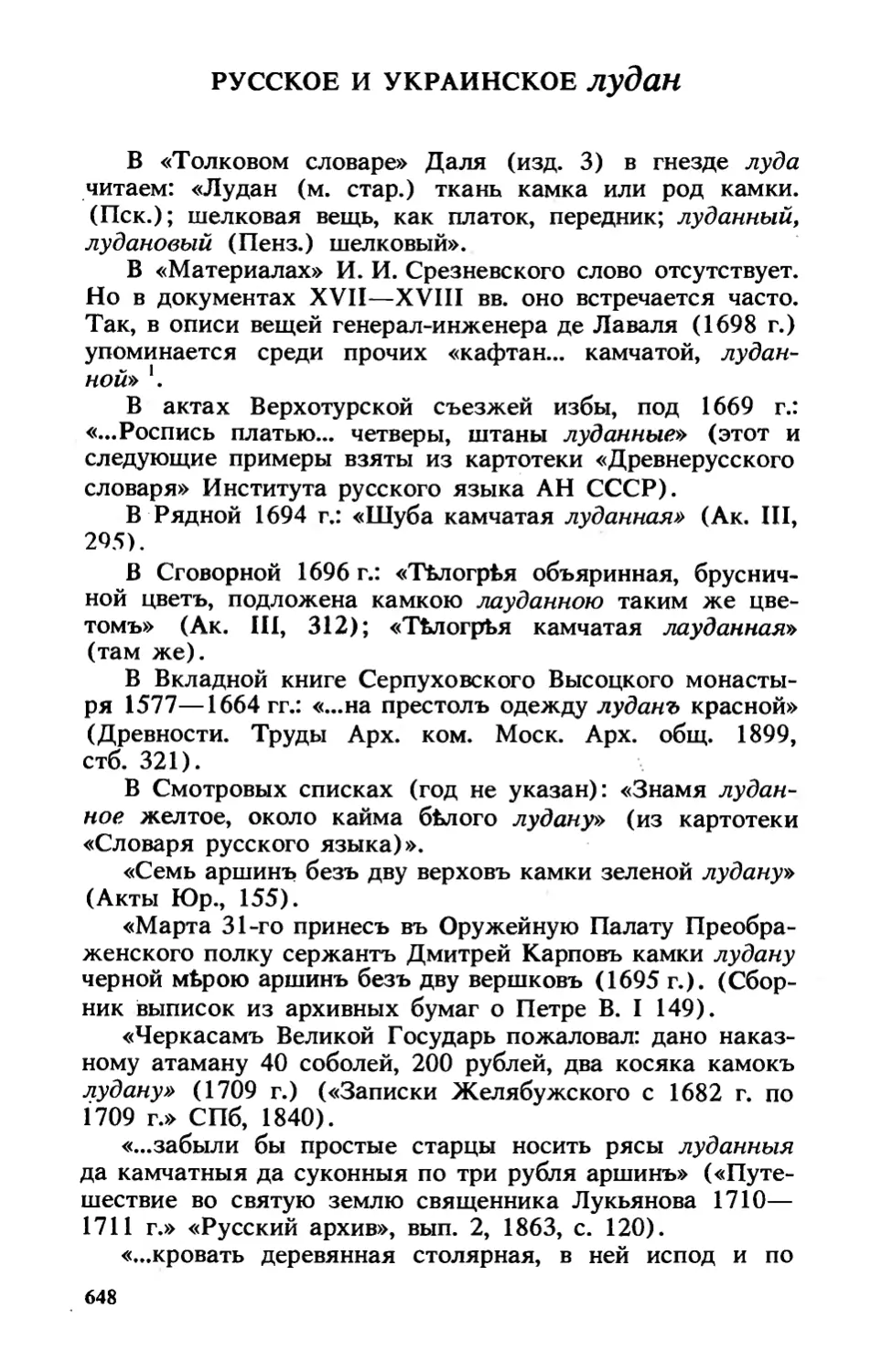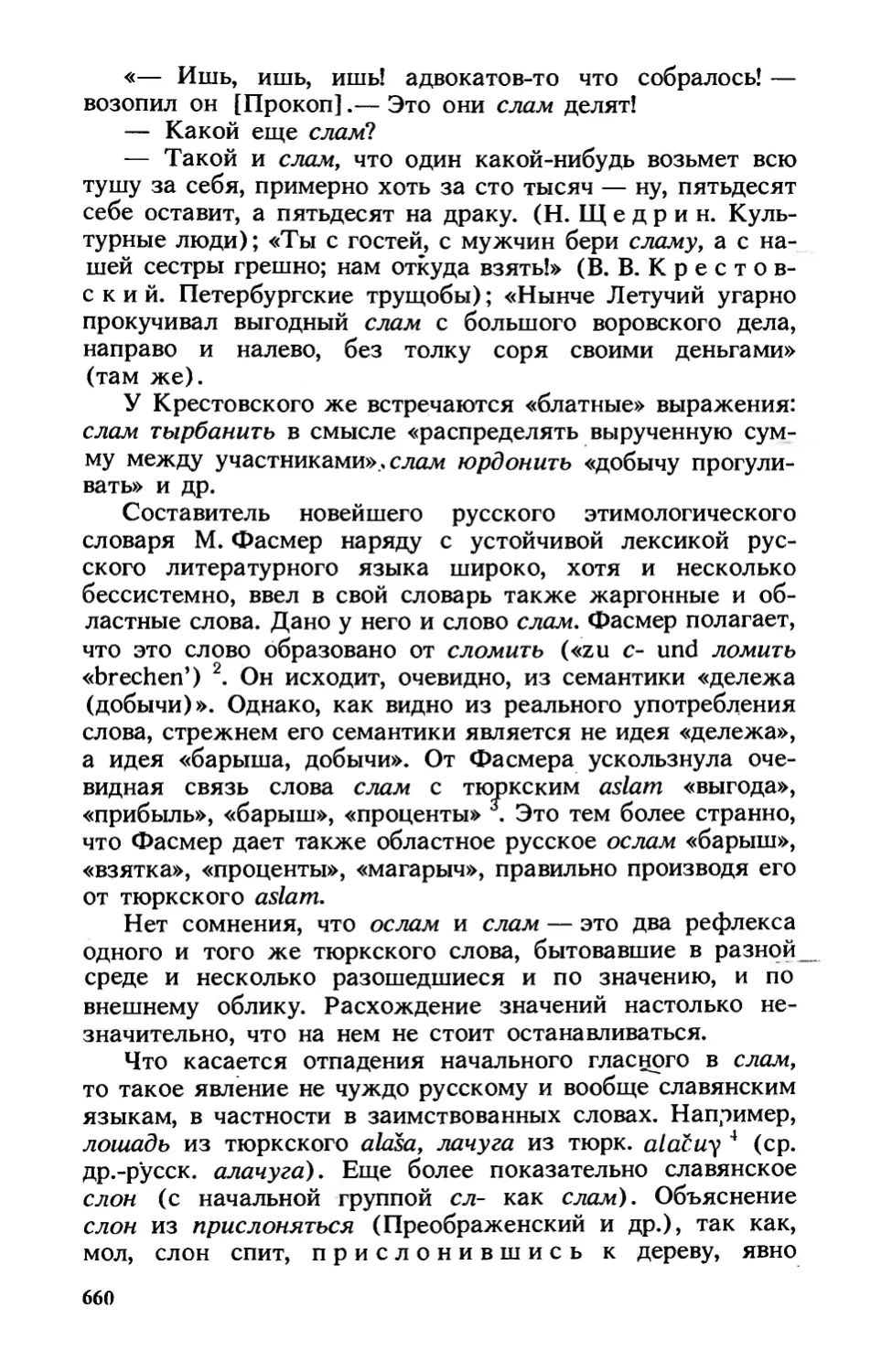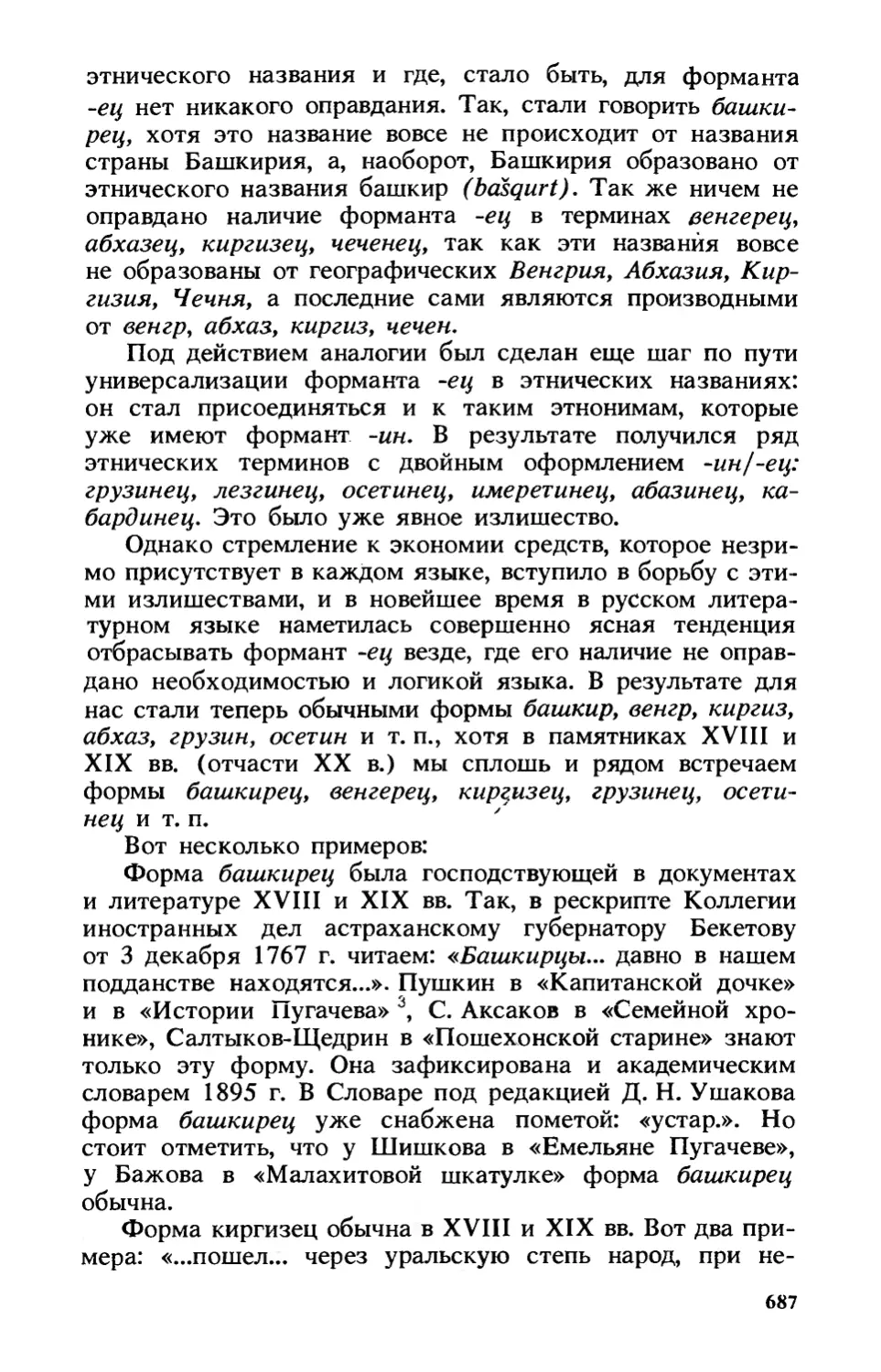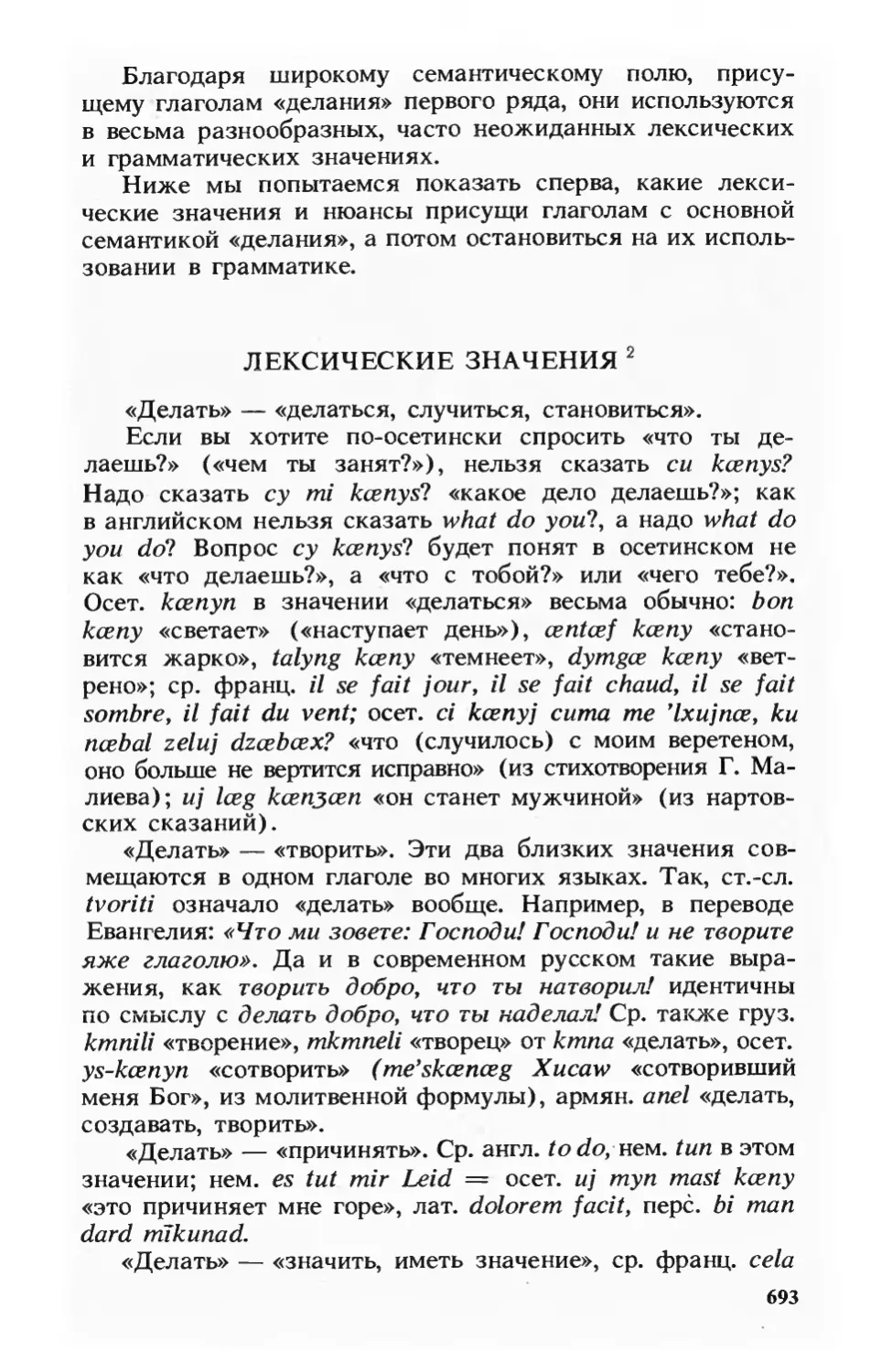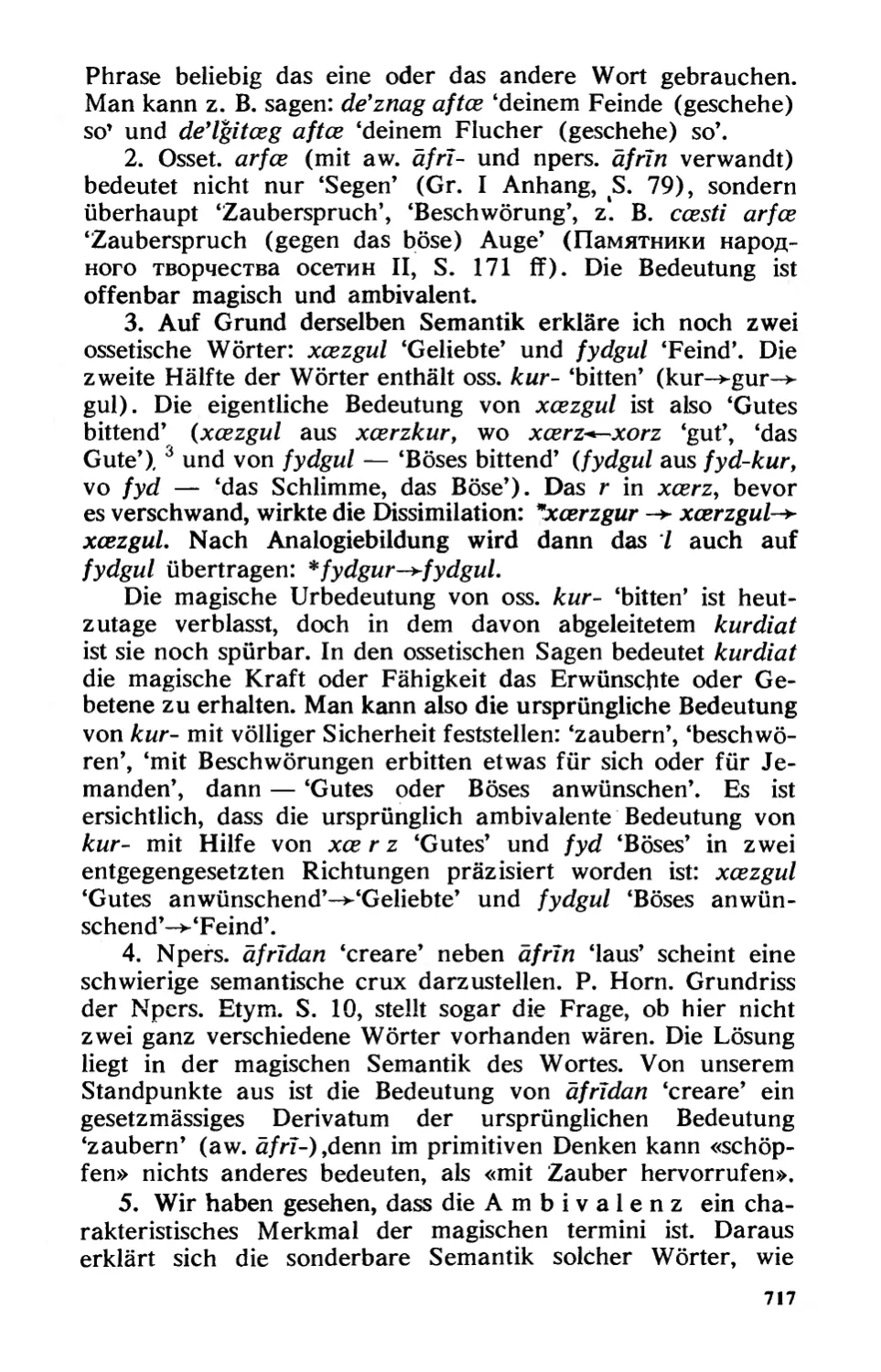Text
NORTH OSSETIAN INSTITUTE OF HUMANITIES
V. I. Abayev
Volume Two
GENERAL
&
COMPARATIVE
LINGUISTICS
Edit ed by V. Gusalov
«Ir» Publishers
VLADIKAVKAZ
1995
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В. И. Абаев
ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
Том II
*
ОБЩЕЕ
И СРАВНИТЕЛЬНОЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ВЛАДИКАВКАЗ
«Ир»
1995
63.5 BP-60ce)
A 13
Ответственный редактор и составитель
В. М. ГУСАЛОВ
Абаев В. И.
А 13 Избранные труды: В 4 т./Отв. ред. и сост. В. М. Гу-
салов.— Владикавказ: Ир, 1995.
Г. 2. Общее и сравнительное языкознание —
1995.— 724 с.
ISBN 5-7584-0707-2 63.5 BР-60се)+81 BР-60се)
4602000000—48
А 91—95
M 131 @3)—95
ISBN 5-7534-0707-2 © Абаев В. И. 1995
ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ОТРАЖЕНИЕ РАБОТЫ
СОЗНАНИЯ
В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ ЯЗЫКА
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Ни один аспект языка не представляет такого широкого,
можно сказать — общечеловеческого интереса, как лексика.
Если фонетика и грамматика остаются в основном
«внутренним» делом узкого круга специалистов, то нет никого,
от начинающих лепетать младенцев до прославленных
мудрецов, кто не задумывался бы над словами и их
значениями.
Анатоль Франс был неравнодушен к словарям: «Это —
словарь, а я до безумия люблю такие книги... Ведь
слова — это образы, а словарь — это Вселенная,
расположенная в алфавитном порядке... Все другие книги заключены
в ней, нужно лишь их оттуда извлечь». По образному
выражению Герцена, за словами нашей речи, «как за прибрежной
волной, чувствуется напор целого океана всемирной
истории» '.
Одному известному историку приписывается афоризм:
«Дайте мне историю слов, и я дам вам историю человечества».
Если под историей человечества понимать внешние
события, то это, конечно, неверно. Никакая история
латинской лексики не поможет нам восстановить перипетии
пунической войны или походы Цезаря. Но если вместо «истории
человечества» подставить «историю человеческого
сознания», то приведенный афоризм есть сама истина.
Действительно, если бы мы могли восстановить историю
слов от первых зачатков человеческой речи, это была бы
вместе с тем история общественного сознания от первых
проблесков человеческой мысли в палеолите и до нашего
времени. Язык и сознание на протяжении всей
истории человеческого рода образуют нераздельное единство.
Этот краеугольный тезис, сформулированный К. Марксом
и Ф. Энгельсом в «Немецкой идеологии», служит
необходимой отправной инстанцией для всякой теории языка и
сознания. Особенно велико его значение при историческом
7
изучении лексико-семантической системы языка. Вопрос
ставится так: каков механизм работы сознания? Какие
операции производит сознание над поступающей в него из
внешнего мира информацией? Какому общему принципу
подчинены эти операции? Как они формируют лексико-
семантическую структуру языка? Детальный ответ на эти
вопросы требует обширного исследования, о котором мы
здесь не помышляем. Речь идет о том, чтобы наметить
некоторые самые общие линии, характерные для языкового
развития в целом, а не только для каких-либо отдельных
языков. При такой постановке вопроса единственно
возможный подход — исторический, и начать придется с генезиса
сознания и языка.
О ГЕНЕЗИСЕ СОЗНАНИЯ И РЕЧИ
А. И. Герцен протестовал против тех, кто «громко и
смело говорит.., что человек не должен заниматься тем,
что нельзя разрешить. Кому нельзя? когда? почему? где
критериум?..» «По несчастью,— продолжает Герцен,—
вопросам такого рода нельзя навязать каменьев на шею,
бросить их в воду и потом забыть о них; они, как упрек
совести, ... мешают наслаждаться пиром опытов,
открытий...»2
Вопрос о происхождении языка относится к числу тех,
которым не раз пытались навязать камни на шею и бросить
в воду. Парижское лингвистическое общество в своем уставе
запретило членам общества заниматься этим вопросом.
Научная совесть не мирится с такими искусственными
барьерами на пути ищущего разума. Вопреки некоторым
модным в наше время теориям, мы исходим из того, что
познание генезиса какого-либо явления — важнейший шаг
к познанию сущности этого явления. Ф. Энгельс говорил:
исследовать природу мышления — значит исследовать
историю мышления. Еще шире сформулировал принцип
историзма один из основоположников сравнительного
языкознания А. Шлейхер: «Мы ничего не знаем о вещи,
если не знаем ее историю». Это относится в полной мере
и к языку. Вопрос о происхождении языка был и остается
одной из центральных проблем" не только исторического,
но и теоретического языкознания3. Никакая общая теория
языка не может считаться полной и законченной, если
она не включает ту или иную концепцию происхождения
языка.
Верно, что языкознание — наука эмпирическая, а для
8
решения вопроса о происхождении языка у нас нет по
существу никакого эмпирического материала. Не существует
никаких фактов, которые подводили бы нас вплотную
к начальной стадии возникновения речи. Языки самых
отсталых народов представляют уже результат
многотысячелетней эволюции и в масштабах всего
глоттогонического развития стоят близко к языкам самых
цивилизованных народов. Если расстояние от наиболее
развитых, скажем, индоевропейских языков до первых начатков
речи принять за километр, то язык аранта в Австралии
или язык бакаири в Бразилии приблизит нас к этим
начаткам едва на несколько сантиметров. И как ни много
поучительного в этих нескольких сантиметрах, восстановить
с их помощью весь километровый путь, конечно,
невозможно.
Но если проблема происхождения языка не может быть
решена чисто индуктивным путем, значит ли это, что на
нее надо наложить запрет? История науки не поддерживает
такого вывода. Наука не была бы наукой, если бы она
занималась только тем, что доступно непосредственному
наблюдению и опыту. Изучение эмпирических фактов
всегда сочеталось с гипотезами и обобщающими теориями,
основанными часто на весьма неполной индукции. Такими
гипотезами были теория биологической эволюции Дарвина
и теория геологической эволюции Лайелла. Такой
гипотезой является выдвинутая недавно мысль о том, что
источником солнечной энергии является термоядерная реакция.
Разумеется, не всякая гипотеза хороша. Научная
гипотеза оправдывает себя тогда, когда она является
оптимальной. Под оптимальной мы понимаем такую гипотезу,
которая:
1) исходит из правильных общетеоретических
предпосылок;
2) лучше согласуется с доступными эмпирическими
данными, дает им наиболее удовлетворительное
объяснение.
Этим основным требованиям должна отвечать и теория
происхождения языка.
Такой оптимальной теорией нам представляется теория
социальных символов. Она исходит из хорошо
известных положений:
язык и сознание образуют нераздельное единство;
сознание с самого начала есть общественный продукт
и остается им, пока вообще существуют люди4;
9
общественное бытие человека определяет его сознание;
осознание человеком бытия начинается с осознания
своего коллектива или, по гениальной формулировке
Маркса, «отношение людей к внешнему
миру существует только через их
отношение друг к другу».
Последнее справедливо как в филогенетическом плане,
т. е. в жизни человечества в целом, так и в
онтогенетическом, т. е. в жизни отдельного человека. Осознание
ребенком окружающей действительности начинается с
осознания своей матери, отца, бабушки, дедушки, братьев
и сестер, т. е. той социальной ячейки, членом которой он
стал. Осознание остального мира он получает в готовом
виде в языке взрослых, в котором отложился опыт
прошлых поколений. В отличие от этого первобытный
человек, только еще создававший зачатки звуковой речи,
вынужден был осваивать внешний мир самостоятельно и,
разумеется, мог делать это только сквозь призму того,
что было им осознано в первую очередь, сквозь призму
своей принадлежности к определенному коллективу. Бытие
индивида было слито с бытием коллектива и не
требовало особого "самовыражения, отличного от
самовыражения коллектива.
Процесс очеловечения начинается с «осознания того, что
человек живет в обществе»5. Но то, что было первым
объектом осознания, было и первым объектом наречения.
Стало быть, вопрос о том, что означали первые слова,
решается с большей долей уверенности: они могли быть
только названиями социально-производственных групп.
Прежде чем стать символами вещей, они были символами
нарекающих коллективов. Они были сигналами о
принадлежности к определенным, более или менее устойчивым
социальным группам. Язык родился не из потребности
давать вещам названия, а из потребности относить
вещи к своему коллективу, накладывать на них
свое «тавро». Первые слова обозначали предметы, а их
отношение, действительное или воображаемое, к
коллективу. Наречение было актом своего рода идеологического
присвоения». «Присваивались» не только орудия и
продукты, но и такие далекие и недоступные вещи, как небо
и.солнце. Ср.: например, в языке зулу i-zulu 'зулус' и i-zulu
'небо'.
Мы должны здесь подчеркнуть, что, говоря о
происхождении языка, мы все время имеем в виду происхождение
ю
слов, предметно-значимой лексики, а не грамматики.
Лексика и грамматика и генетически, и функционально —
разные вещи. Предметно-значимая лексика целиком
соотносима с объективной действительностью, грамматика
соотносима с ней лишь некоторыми элементами (например,
именными классификациями, если они получают
морфологическое выражение). В лексике выступает на первый
план познавательный аспект языка, в грамматике —
коммуникативно-технический. Лексика — это бытие, прошедшее
через общественное сознание. Грамматика — это
социально отработанные приемы организации языкового
материала для коммуникативных целей. Поскольку эта отработка
происходила постепенно, на базе уже существующего
лексического материала, лексика и хронологически
предшествует грамматике. Нет и не может быть теории
происхождения языка, которая объясняла бы одновременно
происхождение лексики и грамматики. Происхождение
лексики — единая и цельная проблема. Вопрос о
происхождении грамматики неизбежно дробится на ряд
частных вопросов: о происхождении частей речи и других
категорий, о формировании отдельных фонологических,
морфологических и синтаксических типологий и т. д. В
соответствии с нашей темой нас занимает в данном
случае только генезис лексики.
То, что можно назвать первыми человеческими словами,
не было, разумеется, даром небес. Материалом для них
послужили звуковые сигналы, которыми обладали уже
животные предки человека. Наблюдения над обезьянами
показали, что они пользуются дифференцированными
сигнальными звуками, числом от 20 до 30. Эти звуки-
сигналы могут выражать не только те или иные эмоции
(боль, страх, гнев, удовольствие), но и реакцию на
определенные ситуации, предупреждение об опасности, призыв
и т. п. Разгадку возникновения человеческой речи надо
искать, разумеется, не в количественном умножении этих
сигнальных звуков, а в их качественном преобразовании,
точнее — в новом характере связи между
звучанием и значением. У обезьян эта связь
выработана и обусловлена биологически и поэтому у всех
особей данного вида одна и та же. У человека же эта связь
с самого начала отрабатывалась социально, в каждом
осознавшем себя коллективе (стаде, орде, группе).
Животные сигналы (выкрики) долго еще продолжали
свою биологическую службу. Но параллельно стали
формироваться и отрабатываться звуковые комплексы принципи-
п
ально нового назначения: они были опознавательными
знаками отдельных коллективов, объектированным
самосознанием и самоутверждением. Иными словами ,они несли
уже не биологическую, а социальную службу.
Биологическая эволюция завершилась, началась социальная
эволюция. Первая человеческая мысль, осветившая, как
молния, мрак животного существования, была мысль о
коллективном «мы», «наше». И то, что можно назвать
первыми словами, родилось из усилий выразить эту мысль.
Не только труд и борьба, но и наречение предметов
своими звукосимволами стало той деятельностью,
с помощью которой человек пытался овладеть ими,
овладеть не только материально, но и «идеологически». И в
то время как аффективные выкрики, продолжая
существовать, оставались едиными для всего вида Homo
sapiens, звуко-символы, выражавшие возникшее впервые
коллективное самосознание, должны были быть особыми,
отличными в каждой группе, иначе они теряли свой смысл.
Эта потребность все время отталкиваться от других
коллективов, противоставлять себя им, порождала множество
дифференцированных звуковых комплексов социально-
символического характера и создавала великолепные
условия для тренировки звукопроизносительных органов и для
постоянной дифференциации, пополнения и обогащения
лексики. Язык возник не из биологических, а
социальных потребностей человека. Звуки-сигналы — это природой
созданное орудие — преобразовались в общественно
оформленное орудие. То, что раньше служило функцией
самого процесса жизни, стало служить теперь
общественному осознанию этого процесса. Это было (с самого начала)
нечто принципиально новое в истории жизни на нашей
планете. И трудно согласиться с теми, кто пытается
раскрыть загадку происхождения языка в плане плоской
эволюции. К. Н. Кришнамурти категорически заявляет:
«Человеческий язык следует рассматривать как один из
результатов органической эволюции и, стало быть,
изучать, в особенности в его начальных фазах, так же, как
мы изучаем любой другой биологический феномен —
эволюционно»6.
Взгляд на возникновение языка как на результат
естественной биологической эволюции имеет известное
распространение.
Мне случилось не так давно присутствовать на докладе
видного нашего ученого, посвященном происхождению
человеческой речи. Доклад содержал верные и глубокие
12
мысли. В частности, докладчик отметил как важнейшее
отличие «языка» обезьян от человеческого языка то,
что первый представляет закрытую систему,
неспособную к существенному количественному или
качественному прогрессу, а второй — открытую, способную
к неограниченному обогащению и совершенствованию.
Однако из доклада осталось неясным, что именно сделало
человеческий язык открытой системой. Не было обращено
внимания на то кардинальнейшее различие, что, скажем,
у обезьян все стада, принадлежащие к одному
биологическому виду, пользуются одними и теми же звукосигна-
лами, тогда как в мире человеческом один и тот же вид
Homo sapiens выработал множество разных,
противостоящих друг другу, социально обусловленных звукосимволи-
ческих систем. Проблема ставилась в плане развития мозга
и интеллекта вне всякой связи с
производственно-социальной организацией. Слова социальный, коллективный,
общественный ни разу не были произнесены на
протяжении всего доклада. Это показалось мне в высшей степени
странным.
Представим себе такой эксперимент. Мы поселяем два
стада обезьян одного вида в условиях, максимально
приближенных к естественным, но на ограниченной
территории, вынуждающей их к постоянному контакту друг, с
другом. Если бы в результате этого контакта в этих двух
стадах выработались две разные, нарочито
противопоставленные друг другу системы
сигналов, мы могли бы сказать, что на наших глазах
совершилось величайшее таинство: скачок из животного
состояния в человеческое. * Ибо важнейшим моментом
очеловечения и рождения человеческой речи было не что
иное, как переход от биологически
детерминированных сигналов к социально
детерминированным символам.
Нужно ли говорить, что наш воображаемый
эксперимент обречен на неудачу: обезьяньи аффективные выкрики
уже не превратятся в человеческие слова. Видимо, это чудо
могло совершиться только один раз в истории нашей
планеты и, может быть, единственный раз в истории
Вселенной. Способность к созданию символических систем,
ценностное отношение к этим системам — вот те признаки
человека, которые вознесли его над животным миром7.
По мнению большинства антропологов, очеловечение
должно было произойти в относительно суровых
природных условиях, требовавших от пралюдей максимального
13
напряжения не только физических, но и интеллектуальных
сил. Чтобы выстоять в борьбе за существование, они
вынуждены были объединяться в более или менее крупные
сообщества, орды, группы.
Производственная деятельность в тех трудных
условиях, в которых протекал процесс очеловечения, была
немыслима без постоянных совместных действий и
взаимопомощи организованных и численно значительных
коллективов. Эти повседневные совместные действия все более
цементировали каждую первобытную орду. Только крепко
спаянные и дружно действующие коллективы могли
рассчитывать на успех в борьбе за существование. Орда
становилась все более организованной и стабильной социальной
единицей. Нет надобности подчеркивать, что подобный
процесс социальной консолидации мог иметь место только
в условиях регулярной коллективной трудовой деятельности
и был невозможен ни при каких других условиях.
Когда популяция пралюдей уплотнилась настолько, что
встречи и контакты между разными ордами стали
неизбежными и постоянными, вступил в действие новый важный
ускоритель антропогенетического процесса: межгрупповая
оппозиция и соперничество. Именно теперь, когда надо было
повседневно, в труде и борьбе доказывать превосходство
«Нашей» орды над «Не-нашей», забрезжили первые
проблески коллективного самосознания. С течением времени
это сознание принадлежности к определенному коллективу
все более обострялось и оттачивалось. Оно настоятельно
требовало какого-то внешнего выражения, каких-то знаков,
чтобы отличить, выделить свой коллектив от всех других,
противоставить себя им. А. И. Герцен, рассказывая в
«Былом и думах» о философских кружках своей молодости
(«Наши», «Не наши»), говорит: «Мы росли в трении друг
об друга» 8. Прекрасная формула! Ключевая ко всей истории
человечества. Человечество росло с самого начала в
трении человеческих групп друг об друга. В этом трении
родилось человеческое сознание, которое было не чем иным,
как осознанием своего коллективного бытия. В этом трении
родились и первые слова, которые были не чем иным,
как звуковыми символами осознавших себя коллективов.
Пока не было постоянного трения друг об друга
человеческих групп, не могло быть ни сознания, ни речи.
Отношение людей к внешнему миру существует только
через их отношение друг к другу. А отношение людей
друг к другу формируется в процессе их трудовой деятель-
14
ности. В этих простых положениях заложен ключ к
пониманию становления первобытного общества и всех
социальных институтов, в том числе и языка.
На биологическом уровне разные виды животных
противостоят друг другу биологически и распознают друг друга по
виду, запаху, в силу инстинкта. На социальном уровне,
на который теперь поднялся человек, биологические
различия отсутствовали. Одна человеческая орда ничем
биологически не отличалась от другой. Новые, социальные
оппозиции, пришедшие на смену биологическим, могли
найти выражение и объектироваться только в символах.
Такими символами и стали первые социально отработанные
звуковые комплексы, первые слова. Они обозначали
примерно то, что мы выражаем теперь местоимениями «мы»,
«наше», в противоположность «не мы», «не наше» (о
понятиях «я», «мое» в то время не было и речи).
В этих первых социально-символических наречениях
познавательный момент был нераздельно слит с
оценочно-эмоциональным: «наше» означало «хорошее», «не наше» —
«дурное». Все двоилось в сознании первых человеческих
коллективов, все -делилось на «наше» и «не наше», даже
такие объективно единичные и- неделимые вещи, как
Солнце9. Григорий Мелехов схоронил в степи сраженную пулей
Аксинью. «Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял
голову и увидел над собой черное небо и ослепительно
сияющий черный диск солнца». Черное солнце... Ясно,
что это не наше обычное, благодатное солнце, источник
света, тепла, жизни и радости, а другое, чужое, враждебное и
злое. Так боль жестокой утраты преобразила для Григория
весь мир, даже солнце. Потому что отношение людей к
внешнему миру существует только через их отношение
друг к другу... Первобытным людям не надо было впадать
в аффект, чтобы накладывать на мир столь субъективную
сетку. Все их сознание было пронизано эмоциональностью,
на все накладывались краски отношений между
коллективами, как в Вероне все было окрашено враждой между
фамилиями Монтекки и Капулетти1и.
В этом смысле прав был Ж.-Ж. Руссо, когда он говорил,
что язык порожден не размышлением, а страстями.
По словам этнолога Маретта, у жителей Огненной Земли
два названия для солнца, для луны, еще два — для полной
луны. Этот же автор сообщает об особых оценочных
частицах в языке, которые служат для различения того, что
в глазах племени является возвышенным или низким.
По Л. Леви-Брюлю, в некоторых африканских языках
15
время различается не по объективным признакам, а как
«счастливое» и «несчастливое».
Осознание действительности исключительно сквозь
призму межгрупповых отношений порождало своеобразные
классификации. Пережитки подобных классификаций
распознаются во многих языках.
В индоевропейском корень su- 'хороший' идентичен
с корнем sw-'свой'. Отсюда, возможно, и название солнца
swel-. По Карлу фон Штейнену, бразильское племя бака-
ири делит всех людей на две категории: кура и курапа.
Кура значит — 'мы все', 'наши', а также 'хорошие', 'наши
люди'. Курапа — 'не мы', 'не наши', 'плохие', 'скупые1,
'больные'. Считают, что все беды исходят от чужих '. По
Моссу (Mauss), племя юки в Калифорнии делит все
предметы на два класса: 1) члены племени юки, 2) весь
остальной мир. В языке племени масаи в Африке различается
класс мужчин и другой класс, к которому они относят
женщин, детей, рабов. Но эта классификация применяется
только к членам своего племени. Когда же речь идет о
соседнем племени куафи, то это племя целиком, включая
мужчин, относится ко второму, «женскому» классу. Этим
масаи выражают свое презрение к людям племени куафи,
как слабым и трусливым. «Мужским» показателем
снабжаются также названия больших и импонирующих
предметов, а «женским» — названия предметов малых и слабых
(Бушан). В языке Авесты термином xrafstra
обозначаются, с одной стороны, враждебные племена, с другой —
хищные звери и вредные насекомые.
Готские Ыиаа 'народ' и Ыи$ 'добро'
рассматриваются обычно как два этимологически несвязанных слова.
Между тем нет ни формальных, ни семантических
препятствий к их сближению вместе с другими, относящимися
сюда германскими и кельтскими словами12.
Соответствующее славянское *tjudj означает 'чужой'.
Прямое отношение сюда имеют и случаи, когда
этнические названия содержат оценочную характеристику,
положительную в отношении своего племени и
отрицательную в отношении соседей. Ср., например, самоназвание
чукчей луораветлан — букв, 'настоящий человек' и, с другой
стороны, слав, пемесъ 'немой'. Проекция социальных
отношений на весь мир принимает иногда довольно сложный
вид, о чем ниже.
На приведенных и многих других примерах можно
видеть, как социальные отношения, отношения людей друг
к другу накладывают определяющий отпечаток на форми-
16
рование и всю работу сознания. Субъектом сознания
выступает не индивид, а коллектив. И все вещи вокруг
осознаются и оцениваются с точки зрения коллектива.
Мыслит не человек, а общество, воплощенное в каждом его
члене. Индивидуальное — пункт конденсации социального.
Если сейчас мы воспринимаем подобные классификации
как пережитки, то на заре очеловечения они были вполне
актуальными. Работа сознания начиналась с осознания
своего коллектива в его противоставлении другим
коллективам и в дальнейшем отражала все модификации и
перипетии этих отношений. Противопоставление «мы» и «не мы»,
будучи первой социальной классификацией, было и первой
лексико-семантической оппозицией. И если старые животные
аффективные сигналы и выкрики продолжали служить
физическому самосохранению, то новые, уже человеческие
слова-символы были выражением коллективного
самосознания и самоутверждения. Они стали как бы первой
общественной идеологией.
Коммуникативная функция не была ведущей на
начальных этапах. Несложные в то время коммуникативные
потребности продолжали в основном обслуживаться
сигналами биологического уровня. Как ни важно было сообщать
друг другу что-либо внутри коллектива, не менее важным
стало другое: найти выражение пробудившемуся сознанию
своей коллективной личности и своему праву на место
под солнцем. Этому и служили первые слова. То были
уже не инстинктивно вырывавшиеся возгласы-сигналы.
Они стали особо отрабатываться и «культивироваться»,
им приписывалась особая, мы теперь сказали бы,
«магическая», сила. Они несли охранительную функцию,
так же, как ритуал, обычай, миф. Коллектив стал
осознавать себя как ценность и утверждал себя с
помощью символов. Ценность — исходное понятие
очеловечения (антропогенеза).
Тяга к символам, утверждающим самооценку
коллектива, породила и язык, и искусство, и религию. То, что
освобождалось от нагрузки символа, становилось наукой,
техникой. Речь была с самого начала элементом духовной
культуры, а не технического прогресса, что не помешало ей
со временем, в процессе семантической «нейтрализации»
и технизации, стать могучим орудием и научного познания,
и технического прогресса. Но об этом ниже. Если бы
коммуникативная функция была доминирующей на заре
человечества, языки смежных и контактирующих групп
с самого начала пошли бы по линии сближения, унификации
17
и слияния. Между тем мы до сих пор видим, как самые
мелкие и мельчайшие языковые группы с поразительной
цепкостью держатся за родную речь, хотя коммуникативные
нужды повелительно толкают их на путь языковой
ассимиляции и объединения с соседями. Эта цепкость есть
наследие того времени, когда язык был выражением социальной
особенности, отказаться от которой означало потерять свое
лицо. Язык был ценен и дорог своей этнодемарка-
ц и о н н о й функцией. Язык вместе с пением, музыкой,
плясками, украшениями, изобразительным искусством
входил в один нарождающийся синкретический комплекс
примитивной идеологической надстройки. Весь этот
комплекс возник из одного источника: из потребности дать
выражение завоеванному в коллективном труде и в борьбе
с другими группами общественному самосознанию и
самоутверждению. К этому раннему периоду «очеловечения»
следует отнести и начатки тотемических представлений:
осознавший себя как личность коллектив мыслит себя
в некоей интимной связи с определенными предметами
внешнего мира, с небом, солнцем, животным, растением.
По словам Моргана, все, что племя относит к себе: люди,
животные, местности, предметы — снабжается тотемным
показателем. Эти действительные и воображаемые связи
нужны для той же цели: социального самоутверждения.
В дальнейшем судьбы языка как «второй сигнальной
системы» оказались иными, чем судьбы других
компонентов примитивной духовной культуры. Но начало, истоки
речи ведут туда же, что истоки музыки, искусства,
тотемических представлений. Вся человеческая духовная культура
выросла из социальных символов. Рождение коллективного
самосознания явилось тем рубежом, с которого началась
новая, человеческая эра в истории нашей планеты,
началась история человечества. Человек как существо нового,
высшего порядка сформировался тогда, когда
взаимодействие между людьми стало важнее их
взаимодействия с природой. С момента
«очеловечения» отбор генов идет на буксире социального
заказа13.
Когда, в какую эпоху возникла человеческая речь?
Ответить с уверенностью на этот вопрос вряд ли возможно.
Хотя слова, которые мы сегодня употребляем, по своему
возрасту не уступают ископаемым каменным орудиям, но
какая колоссальная разница! Каменный топор мы находим
почти в том самом виде, как он вышел из рук создавшего
18
его мастера; слова нашей речи, прежде чем получить то
звучание и тот смысл, в каком мы их теперь употребляем,
претерпели за десятки тысячелетий столько фонетических,
словообразовательных и семантических преобразований и
метаморфоз, что восстановить, как они звучали и что
означали в устах людей каменного века, так же немыслимо,
как по виду и форме нашей мебели определить, как
выглядели деревья, из которых она была сделана. Слова, в отличие
от каменных орудий, нельзя раскопать и приурочить к
определенным стоянкам первобытных людей.
В конспекте 1 тома «Всемирной истории»,
подготовляемой ЮНЕСКО, Джаккета Хоукс справедливо замечает,
что, поскольку изучение человека в раннем периоде может
опираться лишь на остатки его материальной культуры,
есть опасность приписать преувеличенное значение
прогрессу техники. Гораздо большее значение тогда, как и теперь,
имеет психическая жизнь человека, в особенности его
стремление интеллектуально и эмоционально определить
свои отношения с окружающим миром. Мы добавили бы:
в особенности — с другими человеческими коллективами.
И, быть может, историю человечества следует начинать
не с появления первого каменного орудия или первого
глиняного горшка, а с того времени, когда сношения
между человеческими группами или, пользуясь
выражением Герцена, их трение друг об друга стало
регулярным явлением и наложило определяющий отпечаток на
жизнь первобытного общества, на психику и поведение
первобытных людей.
По мнению историков первобытного общества, весь
ранний палеолит человеческая популяция в Европе и других
частях света была редкой. Еще в мустьерскую эпоху мы
имеем дело с обособленными группами охотников,
разбросанными на огромной территории и лишь изредка и
случайно встречавшимися друг с другом14. Если так, то с нашей
точки зрения это равносильно признанию, что речь н е
могла возникнуть в раннем палеолите. Рождение первых
слов как социальных символов предполагает в качестве
обязательного условия постоянные контакты между двумя
или несколькими коллективами. Слово как символ
коллектива теряет всякий смысл, если оно не противоставля-
ется другому символу другого коллектива. В одной, отдельно
взятой изолированной человеческой общине речь не могла
зародиться, какого бы прогресса она ни достигла в
других отношениях. Слово могло родиться только в контакте
19
двух человеческих групп, как огонь высекается
столкновением двух кремней. И поскольку археологический материал
позволяет установить, с какого периода популяции пралю-
дей настолько уплотнились, что постоянные контакты
между группами стали неизбежными, то этим именно
периодом следует датировать рождение чудесного дара
речи. Таким периодом был, по-видимому, поздний
палеолит, солютрейская или мадленская эпоха .
Как я уже говорил, теория глоттогенезиса не является
праздной тренировкой фантазии, «Gedankenexperiment»,
по выражению Л. Згусты . Она составляет неотъемлемую
часть общей теории языка как социально обусловленной
познавательной, экспрессивной и коммуникативной
системы. Однако для того, чтобы занять подобающее место
в общей теории языка, глоттогенетическая теория должна
«работать». «Работающей» мы называем такую концепцию,
которая помогает уяснению сущности языка и правильному
пониманию всего глоттогонического процесса. Неверно, что
представления о происхождении языка не допускают
проверки и не имеют критерия истинности. Есть такой
критерий. Он заключается в оперативности этих
представлений в общелингвистическом плане. Можно строить
сотни догадок и предположений о том, как возникли первые
слова, но мыслима только одна оптимальная концепция,
как язык стал тем, чем он стал; каким образом в скудном
инвентаре первых слов оказались заложенными потенции
для могучего развития и расцвета человеческой речи,
во всем богатстве и сложности ее строя, во всем
многообразии ее разновидностей. Короче говоря, оптимальная
глоттогенетическая теория должна у самых истоков речи вскрыть
основные движущие силы всего языкового развития.
Излагаемая нами теория социальных символов дает, нам кажется,
ответ на ряд таких вопросов, мимо которых проходят
«классические» теории звукоподражаний и междометий, с
разными вариациями возрождающиеся снова и снова.
Не дает на них ответа и теория «трудовых выкриков»
Л. Нуаре, также имеющая сторонников в наше время17.
Допустим, что десять или двадцать видов трудовых действий
имели десять или двадцать видов вокального сопровождения.
Что же дальше? Где тут предпосылки для превращения
языка в универсальное орудие мышления и общения?
Мы этих предпосылок не видим. Если трудовые выкрики
были рефлекторными, т. е. связь между выкриком и данным
трудовым действием носила элементарный психофизиологи-
20
ческий характер, то «трудовые выкрики» должны были
быть одинаковыми у всех первобытных орд, занятых
одинаковыми или сходными трудовыми процессами. Это
было бы простым продолжением биологической линии
и могло породить только закрытую систему, т. е.
привести к тупику на новом уровне. Если же связь между
выкриком и трудовым действием была условной, то встает
вопрос: откуда взялась эта условность? Быть может, члены
каждой орды собирались и договаривались, каким
звуковым аккомпанементом сопровождать какое трудовое
действие? Но для того, чтобы договариваться, надо уже
иметь коммуникативную систему, иметь язык...
Никакая теория возникновения языка, которая не
объясняет с самого начала условный (социально
обусловленный) характер связи между звучанием и
значением, не может приниматься всерьез. О человеческой
речи можно говорить только с того момента, как возникла
эта условность. Все, что было или могло быть до этого —
звукоподражания, идеофоны, экспрессивные и трудовые
выкрики — становилось человеческим словом лишь тогда и
постольку, когда и поскольку оно вовлекалось в набор
социоразличительных средств, т. е. знаков,
служивших для различения одного коллектива от другого.
Естественные выкрики и звукоподражания были лишь
сырьем, из которого надо было отработать слова
с тем, чтобы они своим звучанием четко противоставляли
один коллектив другому. Сущность совершенного скачка
состояла в том, что отношения между формой и
содержанием словесного знака вырвались из биологической
связанности и вошли в пеструю игру социальных связей
и оппозиций. Межгрупповые языковые оппозиции были
прекрасной школой звукопроизносительных и звукораз-
личительных способностей человека. Новая общественно
обусловленная связь между звучанием и значением
предъявляла совершенно новые требования и к звуковой,
и к семантической стороне первичной лексики. Звукопро-
износительная способность, которая была до этого одной из
естественных функций организма, становилась
искусством. Искусство же требует постоянной
тренировки и совершенствования.
Легко понять, почему функция социальной символики
открыла перед языком безграничные возможности
развития, о которых не могло быть и речи, пока предок человека
оставался в замкнутом кругу биологических сигналов.
21
Отныне все закономерности общественного развития
находили в языке то прямое, то косвенное отражение.
Язык стал чутким регистратором общественных процессов
и изменений. Всякие перемены, сдвиги, колебания в
отношениях как внутри коллектива, так и между соседними
коллективами находили отзвук в языке, ибо язык и родился
для выражения этих отношений. На службе у мозга язык
становился все более «умным», а поумнев, он сам стал
«учить» мозг.
Мы не можем восстановить в деталях социальные
процессы в первобытных ордах, но легко представить,
что типичными были два явления: 1) объединение двух
или нескольких групп в одну и 2) распад одной группы
на две или несколько групп. Посмотрим, какие
последствия могли иметь эти процессы для примитивной лексики.
Разумеется, рисуемая нами картина будет носить
упрощенный, схематический характер. Но наша задача состоит не
в восстановлении деталей, а в том, чтобы наметить самые
общие мыслимые линии развития.
Первый случай. Два коллектива сливаются в один.
Естественно, что антагонистическая семантика «мы» —
«они», питавшаяся межгрупповыми оппозициями, теперь,
после объединения, теряет свое значение, как для Ромео
и Джульетты рухнула и утратила значение вся
идеологическая надстройка, которую две их фамилии возвели над
своей вековечной враждой.
Допустим, что до слияния коллективов символом одного
коллектива был звуковой комплекс А, символом другого —
комплекс В. Тогда новый объединенный коллектив будет
располагать уже четырьмя отработанными «лексемами»:
А, В, АВ, В А. Одной из этих «лексем», скажем АВ,
достаточно, чтобы служить символом нового, объединенного
коллектива. Остальные три тем самым
высвобождаются для нейтральных, объективных, не окрашенных
социальными оппозициями наречений. Межгрупповые
оппозиции социальных символов преобразуются во
внутриязыковые, предметные. Человек делает открытие, что
слова могут обозначать вещи безотносительно к тому,
«наши» они или «не наши».
Это был целый переворот в сознании людей. Он открывал
путь для познания действительности как она есть, а не
только как этого требует примитивный эгоизм коллектива.
Иначе говоря, создаются предпосылки для первых
проблесков объективного, научного познания. Многократное
22
повторение процессов объединения и взаимопроникновения
коллективов влечет за собой быстрое, в геометрической
прогрессии обогащение лексики и ее все более широкое
применение для объективного познания мира в
повседневном труде и борьбе за существование.
Второй случай. Единый коллектив распадается на два.
Допустим, что до распада символом коллектива служил
диффузный звукокомплекс А, различные варианты которого
А1, А2 и т.д. не осознавались и употреблялись
безразлично. Распад коллектива на две оппонирующие группы
кладет конец этому безразличию. Одна группа
отрабатывает в качестве своего символа вариант А , другая — А2.
Проступают смутные очертания того, что мы называем
теперь фонемой. Звукоразличение служит различению
социальных групп. Фонология выступает с
самого начала как социофонология.
Звукопроизносительная и звукоразличительная
тренировка, обусловленная сложными и изменяющимися
межгрупповыми отношениями, имела первостепенное значение.
Язык не мог родиться раньше, чем возникла способность
модуляции и селекции звуковых знаков. А эта способность
оттачивалась во взаимодействии социальных групп и была
бы немыслима без такого взаимодействия.
На приведенных простейших примерах слияния и
распада коллективов видно, как эти социальные процессы с
необходимостью влекли за собой постоянное обогащение и
совершенствование речевых средств и их все более
широкое применение как для субъективных, окрашенных
коллективным эгоизмом, так и нейтральных объективно-
познавательных наречений. В отличие от биологического
тупика, в котором функционирует звуковая сигнализация
обезьян, язык человека становился открытой
системой, т. е. способной к бесконечному количественному
и качественному прогрессу. Если бы человеческая речь
началась с звукоподражаний или выразительных выкриков,
она никогда не выбралась бы из такого же тупика.
Выход из этого тупика могла дать только новая,
социальная функция звуковых сигналов, функция выражения
пробудившегося сознания своей принадлежности к
коллективу.
Осознать мир, бытие — это значило осознать их в
отношении к своей социальной группе. Другого сознания
не существовало. Яркую иллюстрацию сказанному дают
германские языки, где глагол *fteud- — 'объяснять, де-
23
лать понятным' (нем. deuteri) происходит от *$eudo
'народ' (нем. deutsch): понимать, толковать объективный
мир означало понимать и толковать его для своей
социальной группы, в ее интересах.
Формирование сознания и речи у детей в «сгущенном»
виде повторяет процесс формирования сознания и речи
у первобытного человека (онтогенез повторяет филогенез),
разумеется, mutatis mutandis. По убеждению корифея
французской школы генетической психологии Анри
Валлона A879—1962) адаптация новорожденного ребенка
в среде носит существенно иной характер, нежели
приспособительные реакции детенышей животных. «Первые
отношения ребенка являются социальными
отношениями. С самого рождения ребенок — это
социализированное существо, которое аннексировано обществом...
Первый объект приспособления у ребенка — это не
физический мир, а общество — маленькое общество, которое
его окружает, находящиеся вокруг него индивиды»18.
Резюмируя все сказанное выше о генезисе сознания
и речи, нам остается повторить нашу основную мысль:
происхождение языка — проблема не биологическая, даже
не антропологическая, социологическая. Антропогенез
в нашем понимании — это прежде всего социогенез.
Нет сомнения, что биологическая мутация и техническая
революция (создание искусственных орудий труда и
борьбы) неотделимо присутствуют в антропогенетическом
чуде. Но они присутствуют в нем как подчиненные. С того
момента, как первичные социальные организации
осознают себя как личности, противостоящие другим таким
же личностям, их взаимные контакты и соперничество в
повседневной производственной деятельности, предъявляя
всерастущие требования и к психофизическому и
техническому потенциалу, становятся сильнейшим фактором
биологического, интеллектуального и технологического
прогресса.
СЕЛЕКТИВНАЯ РАБОТА СОЗНАНИЯ
Работа сознания по активному освоению объективной
действительности включает с самого начала три основные
операции: селекцию, обобщение,
классификацию.
В процессе познания человеком окружающего мира,
начиная с первых проблесков сознания у ребенка и кончая
24
вершинами науки и философии, нет ничего, что не
сводилось бы к этим трем операциям. Эти три операции
распознаются уже в первом акте сознания, состоявшем, как
выше было сказано, в осознании своего коллектива. Здесь
налицо селекция, то есть выделение своего коллектива
из всей воспринимаемой действительности. Здесь налицо
обобщение, поскольку символ коллектива становится также
символом всего, что коллектив, реально или в воображении,
относит к себе. Здесь, наконец, налицо классификация,
поскольку свой коллектив противоставляется другим
коллективам и только в этом противоставлении обретает
четкую осознанность.
Указанные три операции прослеживаются на всем
протяжении развития речи и определяют в основном лексико-
семантическую систему каждого языка. Нет надобности
подчеркивать, что в каждой из этих операций социальный
фактор является решающим. Это вытекает с
необходимостью из общественной природы самого сознания.
Остановимся кратко на каждой из операций сознания,
иллюстрируя ее несколькими простейшими, хорошо
известными лексико-семантическими фактами.
Начнем с селективной работы сознания. Элементарное
наблюдение показывает, что не вся объективная
действительность доходит до сознания. Тысячи вещей, явлений,
признаков, существуя объективно, могут не существовать
для нас. Они воспринимаются, то есть воздействуют
на наши воспринимающие органы, но не осознают-
с я. Между восприятием и осознанием существует порог,
который переходят только некоторые элементы
действительности. Происходит это потому, что, в отличие от
восприятия, которое пассивно, сознание обладает активно-
селективной направленностью. Из пестрого калейдоскопа
мелькающих явлений оно выбирает или отбирает лишь
некоторые элементы. В зыбкий, колеблющийся туман
восприятий, ипечатлений и образов оно вносит свой
организующий и классифицирующий принцип. Чем
определяется этот принцип? Общественной природой сознания.
В отличие от восприятия, которое есть акт
психофизиологический, осознание есть акт социальный. Сознание —
не просто отражение действительности, а отношение к ней,
социально обусловленное. Отсюда ценностное отношение.
Общественная практика людей определяет, что попадает
в поле сознания и что выпадает из него. Осознается
то, что существенно с точки зрения этой практики. Остается
25
за порогом сознания то, что для нас безразлично. Иными
словами: любой предмет осознается человеком лишь
постольку, поскольку он становится для него общественным
предметом.
Болгарский философ С. Стоев в статье «Сознательное
и бессознательное в творчестве» пишет:
«Человек, воспринимая мир, всегда проявляет
определенную избирательность, исходя из своих потребностей —
биологических, социальных, нравственных и т. д. Он
отсеивает часть свойств объектов. Одни из них для него
существенны, другие несущественны (в конкретной
ситуации). Существенное воспринимается сознанием, а
несущественные свойства как бы уходят на задний план, в
полусознательное и бессознательное» («Техника
молодежи», 1980, № 3, ее. 49—50).
К. Маркс писал в одном из своих писем: «Даже самые
выдающиеся умы принципиально, вследствие какой-то
слепоты суждения, не замечают вещей, находящихся у них
под самым носом»19. Это свойство было несомненно
присуще и тем выдающимся умам каменного века, которые
создавали человеческую речь.
Различные языки дают многочисленные примеры
поразительной «слепоты» людей к некоторым явлениям и
отношениям объективной действительности и столь же
поразительной «зоркости» к другим. Простейший пример —
обозначение цвета и красок. Изучая эти наименования
у разных народов, мы замечаем, с одной стороны,
странную, на наш взгляд, «ненаблюдательность», «безразличие»,
«путаницу» в отношении одних цветов и оттенков и,
наоборот, величайшую наблюдательность, точность в отношении
других. В ряде языков (например, в осетинском) серый,
синий, голубой и зеленый цвета обозначаются одним и тем
же словом. Но в этих же и других языках могут
различаться самые тонкие оттенки мастей животных и
существовать даже особые слова для обозначения животных с
пятном на лбу, с полосой на спине и т. п. В чем здесь дело?
Неужели целые народы страдают дальтонизмом? Конечно,
нет. Различие между, скажем, голубым и синим цветом
отлично воспринимается всеми. В этом отношении
никакой разницы между народами нет. Разница между ними
может быть только в том, что не для всех это различение
одинаково актуально и поэтому не у всех оно подымается от ступени
восприятия на ступень осознания-наречения. Синий и
голубой цвета не различаются потому, что это различение
к данных условиях хозяйства и быта не является о б -
26
щественной необходимостью. Наоборот,
хозяйственно важные оттенки (масти домашних
животных у скотоводов, тончайшие оттенки красок у
ковровщиц и т. п.) получают точную дифференцированную
терминологию.
Хорошо известны чрезвычайная детализация и богатство
терминологии, относящейся к некоторым животным у
народов, для которых эти животные стоят в центре
хозяйственного интереса: верблюд и лошадь у бедуинов,
кенгуру у австралийцев и др. У овцеводов Кавказа десятки
названий для мелкого скота в зависимости от пола, породы,
масти и пр.
Давно отмечено, что различия пола у животных
получают разные лексические обозначения лишь в том случае,
если эти различия имеют определенное хозяйственное
значение, т. е. если самец и самка с хозяйственной точки
зрения неравноценны: корова и бык, курица и петух, и т. п.
Такие наименования, как лошадь, собака, лиса, олень,
гусь, утка и мн. др. применяются безразлично к особям
обоего пола; лишь в особых случаях употребляются
специальные обозначения самца и самки (жеребец, кобыла,
сука, лис, селезень и т. п.). Для многих животных вообще
нет особых названий самца и самки в обычном
разговорном языке. Но стоит нам попасть в среду, имеющую особый
хозяйственный интерес к различию пола данного
животного, как мы найдем и различные слова; например, у
оленеводов для самца и самки оленя. Слова жеребец и кобыла,
хряк и свиноматка, малоупотребительные в обычной речи,
постоянно в ходу у коннозаводчиков и свиноводов. В чем
здесь дело? Может быть, люди в одних случаях знают,
а в других не знают об естественных различиях пола?
Вовсе нет. Но естественное лишь постольку
вовлекается в сферу языкового
выражения, поскольку оно получает
общественное значение.
Из предметов, явлений и признаков объективного мира
нарекается только то, что осознано, а осознается только то,
что имеет значение для коллектива20. Поэтому, не имея
полного знания самой вещи, мы испытываем
удовлетворение, узнав ее имя, так как это знание уже в какой-то
мере приобщает нас к опыту коллектива. «Мы,— пишет
А. А. Потебня,— заботливо узнаем у ямщика имя встречной
деревушки, хотя что же нам дает, по-видимому,
собственное имя?»21. Помню, как я радовался, узнав названия
планет и звезд ночного неба, хотя названия эти сами по себе
27
не содержали никакой информации о планетах и звездах.
Почему же мы испытываем удовлетворение, узнав
одно только название предмета? Потому что, узнав это
название, тем самым узнаем, что этот предмет уже до нас
освоен общественным сознанием, что он включен в
систему познавательного и языкового опыта, что он уже
нашел в этой системе свое определенное место, и мы
стали соучастниками этого коллективного знания. Б. Рассел
(В. Russel) характеризует язык как средство
превращения нашего личного опыта в опыт внешний и
общественный. Это верно. Но это — только одна сторона дела.
Другая сторона заключается в том, что язык также средство
превращения общественного опыта в наш личный. Учась
чему-нибудь, мы реализуем одну функцию языка:
превращаем общественный опыт в наш личный. Уча других,
мы реализуем его другую функцию: превращаем наш опыт
в общественный.
ОБОБЩАЮЩАЯ РАБОТА СОЗНАНИЯ
В том, какие явления и отношения действительности
осознаются и получают языковое выражение и какие
остаются за порогом осознания-наречения, выявляется одна
важнейшая особенность человеческого сознания — его
селективный характер.
Другое не менее важное свойство сознания, выступающее
в акте наречения и в природе человеческого слова,— это его
обобщающий характер. «Всякое слово речи уже
обобщает»,— указывал В. И. Ленин22. Слово служит
мостом от чувственного восприятия к отвлеченной мысли.
Как бы ни были единичны и преходящи те условия, в
которых произошло восприятие и осознание, слово, раз
оно создано и стало достоянием коллектива, выражает
всегда не единичное, а общее.
В литературе о языках «примитивных» народов
приводится множество примеров чрезвычайно конкретной
лексической семантики. Скажем, есть особые названия
для правой и левой руки, но нет общего понятия «рука».
Есть множество названий для отдельных пород рыб, но нет
слова, которое означало бы «рыба» вообще. Соответственно
нет общего понятия «ловить рыбу»; для каждой породы
рыбы особое слово (гренландские эскимосы). Можно
выразить десятки приемов резания, но нет понятия «резать»
вообще. Можно сказать: он несет что-то большое или
28
что-то малое, но нельзя сказать нести вообще (язык
аймара). В папуасском отмечены особые слова идти на
восток, на запад, на север, на юг. В языке хауса
шестнадцать разных названий для отрезков суток {утренняя
полутьма, рассвет до восхода, время непосредственно
перед восходом, восход и т.д.). В ряде языков
числительные меняются в зависимости от того, какие конкретно
предметы нужно считать, и т. д. и т. п.
Эти и подобные примеры часто толкуются в том смысле,
что мышление этих народов неспособно к абстракциям,
что оно сугубо конкретно. Это в корне неверно. Язык с
самого начала был и до сих пор остается
непревзойденным инструментом абстрагирования. В самых
«примитивных» языках мы находим абстракции, которые могут
поставить в тупик даже наше привычное к отвлеченным
понятиям мышление.
Все дело в том, что структура абстракций в разных
языках разная. Оно и понятно. Абстракция в обыденном (не
научном) языке служит не орудием чистого познания,
а целям общественной практики. Поэтому обобщения,
полезные и необходимые в одной среде, не актуальны и
бесполезны в другой...
Изучая семантику языковых обобщений, мы видим, что
человек выступает в них не как созерцатель и отвлеченный
мыслитель, а как деятель, практик, живущий и
действующий в определенной производственной и общественной
среде.
Люди никоим образом не начинают с того, что «стоят»
в теоретическом отношении к предметам внешнего
мира. Как и другие животные, они начинают с того,
что едят, пьют и т. п., т. е. не «стоят» в каком-нибудь
отношении, а активно действуют, при помощи действия
овладевают известными предметами внешнего мира и, таким
образом, удовлетворяют свои потребности (они,
следовательно, начинают с производства). Благодаря повторению
этого процесса способность этих предметов «удовлетворять
потребности» людей запечатлевается в их мозгу, люди...
научаются и «теоретически» отличать внешние предметы,
служащие удовлетворению их потребностей, от всех других
предметов. На известном уровне дальнейшего развития,
после того, как умножились и дальше развивались
потребности людей и виды деятельности, которыми они
удовлетворяются, люди дают отдельные названия целым классам
этих предметов, которые они уже отличали на опыте от
остального внешнего мира. Это необходимо наступает,
29
так как в процессе производства, т. е. в процессе присвоения
этих предметов, люди постоянно находятся в трудовой
связи друг с другом и с этими предметами и вскоре начинают
также борьбу с другими лицами из-за этих предметов...
Люди дают этим предметам особое (родовое) название
лишь потому, что им известна способность этих предметов
служить удовлетворению их потребностей и что они
стараются при помощи более или менее часто повторяющейся
деятельности овладеть ими и сохранить их в своем
владении»23.
В этих словах К. Маркса хорошо раскрыта та
фундаментальная истина, что осознание-наречение — это
деятельность, а не созерцание. Здесь показаны также
те факторы, которые формировали первые языковые
наречения и обобщения: производственная
деятельность людей, трудовая связь внутри коллектива,
антагонизм и борьба между коллективами. В этих
условиях называние предметов, от которых зависело
существование людей, родовыми наименованиями было
как бы частью борьбы за эти предметы, оно само
становилось той «более или менее часто повторяющейся дятель-
ностью», с помощью которой человек «осваивал» эти
предметы.
Что познание вещей добывалось в деятельности, а не
в созерцании, можно видеть на многих наречениях.
И.-европ. *реки "овца' справедливо производят от рек-
'шерсть', 'чесать'. Овца была наречена как дающее шерсть
животное. Зоологическое по видимости наречение является
в действительности хозяйственным. В калмыцком nacin
означает 'охотничий сокол'. Но этим же словом называют
гончую собаку. Ясно, что не зоологические признаки,
а хозяйственная функция лежит в основе этого обобщения.
По тому же признаку использования в охотничьей практике
перс, yiiz означает 'ручная пантера' и 'борзая собака',
при наличии особых слов для пантеры (palang) и собаки
(sag). Каждую весну земля покрывается радующим взор
зеленым ковром. Казалось бы, в наименовании травы могло
отразиться безмятежное созерцание природы, любование
природой. А что мы видим в действительности? Русское
трава означает 'поедаемое' (ср. потрава). Осет. k?rd?g
'трава' означает 'косимое' (от k?rdyn 'косить'). Как видим,
ни пейзажный, ни ботанический аспект не играли никакой
роли в приведенных наименованиях травы. Хозяйственное
значение травы как корма для скота оказалось решающим
в акте осознания-наречения. Этот акт был частью произ^
30
водственной деятельности древних скотоводов, озабоченных
обеспечением своих хозяйственных нужд.
Л. Вейсгербер, который утверждает, что каждый народ
создает в своем языке особую, ему одному присущую
картину мира (Weltbild), не соотносимую с объективной
действительностью, приводит, между прочим, в виде
примера нем. Unkraut 'сорняк'. Он указывает справедливо, что
в объективном мире нет ничего, что соответствовало бы
обобщению, содержащемуся в слове Unkraut2*. Стало быть,
по общей концепции автора, в этом обобщении следует
видеть своеобразие немецкого миропонимания.
Пример поучительный и интересный. Но не в том плане,
как думает Л. Вейсгербер. Никакой национальной
специфики в содержании слов «Unkraut» или «сорняк» нет. Они
различаются только звуковым обликом и
словообразовательным типом. Зато в этих словах отчетливо выступает
другая специфика: специфика земледельческого труда.
Имея обманчивую видимость ботанических наименований,
эти термины являются в действительности хозяйственными.
Они объединяют растения, которые с точки зрения
ботанической классификации относятся к разным семействам и
видам, но имеют то общее, что мешает развитию
возделываемых человеком растений. Содержание понятия «сорняк»
доступно и близко любому земледельцу, будь он немец,
француз или китаец, и чуждо представителю любой
национальности, если он не имеет понятия о растениеводстве.
В связи с этим следует сказать о переоценке
своеобразия лексико-семантической системы разных языков в
трудах неогумбольдтианского толка. Барьер между языками
создают в первую очередь различия материального
выражения и грамматического строя и лишь отчасти различия
лексико-семантической организации. Эти последние, в свою
очередь, являются не выражением мистического
«народного духа», а результатом своеобразия исторической
жизни каждого народа. Невозможно найти два народа,
которые формировались и развивались бы в совершенно
идентичных условиях природы, хозяйства, быта, культуры,
общественных и этнических отношений. Откуда же
взяться тождеству лексико-семантических систем? Такое
тождество было бы чудом, а чудес не бывает. Мы вправе
только ожидать, что у народов, близких по
историческим судьбам, по быту, уровню хозяйственного,
общественного и культурного развития, будет и больше
сходства в составе и в семантике слов. И такое ожидание
полностью подтверждается многочисленными примерами.
31
Если немец называет, рукавицу Handschuch букв,
обувь руки', а осетины ?rmxud букв, 'шапка руки', то
было бы избыточным глубокомыслием усматривать здесь
различие между немецким и осетинским миропониманием.
Способы наречения носят во многом случайный характер.
Гораздо существеннее то, что и в немецком, и в
осетинском в определенный момент возникла общественная
потребность в слове, означающем рукавица.
На ранних ступенях общественного развития операции
обобщения и абстракции, выполняемые сознанием, как бы они
ми казались нам иногда причудливыми и странными с нашей
современной точки зрения, оказываются при внимательном
рассмотрении оптимальными при данных условиях
хозяйства, быта, социальной структуры. В первую очередь
они служат тому, чтобы «отличать предметы, служащие
удовлетворению потребностей, от всех других предметов».
Распространено ошибочное мнение о том, что народные
названия растений отличаются от ботанической научной
номенклатуры только меньшей обстоятельностью. В
действительности, народная номенклатура растений
строится на иных принципах, нежели научная.
Так, «одним словом вах. tdbdsk (соответствует вах.-
тадж., бад.-тадж. pus) с различными определителями
(«красный», «белый» и проч.) называются растения трех
разных родов: полынь — Artemisia, прутняк, кохия — Ко-
chia и терескен — Eurotia, Ceratoides. Видимо, эти растения
объединяются по тому признаку, что они — единственное
растительное топливо на высокогорных пастбищах Вахана.
Точно так же и растения Hammada vachanica (гаммада,
саксаульчик ваханский) и Solsola iberica (солянка
пиренейская) объединяются названием вах. kdrkdra, qdrqdru.
гадж. (вах.-тадж.) sdqorpus по гому признаку, что
из их золы приготовляли поташ (тадж. isqor, вах.-
гадж. sdqor) и мыло» "',
Австралийские охотничьи племена относят птицу эму
не к классу птиц, а объединяют ее в один класс с кенгуру.
Почему? Потому что и кенгуру, и эму являются для них
предметом охоты. Этот их признак — быть объектом
охоты — отодвигает на второй план другие их свойства и
отличия.
Южноамериканское племя гуичолов относит к одному
классу пшеницу и оленя и верит, что пшеница была прежде
оленем. Л. Леви-Брюль приводит этот факт как один из
примеров «дологического», «мистического» мышления,
32
свойственного будто бы примитивным народам . В
действительности никакой мистики здесь нет. Единственный
несомненный мистик, которого можно распознать в
рассуждениях Леви-Брюля,— это сам Леви-Брюль. Пшеница и
олень получают общее наименование потому, что оба они
служат удовлетворению потребностей племени. Эта
способность и оказывается в глазах племени главнейшей по
сравнению со всеми другими признаками. В этом так же
мало мистики, как и в том, что на современной
аргентинской монете «сентаво» изображены пшеничный колос и
бычья голова, символы двух основных продуктов
аргентинской земли.
Ср. также араб, laxm 'мясо', при евр. lexem 'хлеб'.
Др.-иранск. gau означает 'корова'. Казалось бы, нельзя
ждать каких-либо семантических расхождений между
нашим понятием «коровы» и древнеиранским. Однако, если
мы рассмотрим употребление этого слова в Авесте, мы
заметим некоторые странные, с нашей точки зрения, вещи.
Во-первых, словом gau- может обозначаться не только
отдельная корова, но все «коровье царство». Больше того,
вся совокупность полезных, доставляющих пищу животных
может называться gau- 'корова'. С другой стороны, «части»
коровы, как мясо, молоко, могут также называться gau-.
Как видно из этих примеров, первоначальные языковые
обобщения носят, при всей своей незрелости,
реалистический характер, поскольку они основаны на
реальных и существенных для людей признаках предметов.
Но на них лежит, естественно, отпечаток низкого уровня
производственных и общественных отношений.
Лишь постепенно, по мере того как умножаются и
усложняются аспекты осознания человеком реального мира,
все больше предметов высвобождается в сознании от
признаков узко производственной оценки и социальной
ограниченности и вводится в обобщения
объективно-познавательного, т. е. научного порядка.
Когда человек открыл, что чужую корову можно назвать
тем же именем, что и свою, это было начало чистого
(научного) познания.
Когда человек открыл, что чужая песня (танец) может
доставить такое же удовольствие, как своя, это было начало
чистого искусства.
Это была вторая революция сознания. Первая —
создание социальных символов.
На многих примерах из истории слов можно показать,
что лексические обозначения, которые кажутся нам теперь
.2 В. И. Абаев 33
адекватной, извечной и неизменной передачей объективных
фактов и отношений, в действительности восходят к
исторически ограниченным формам с их исторически
ограниченным сознанием.
Значительный интерес в этом плане представляет
история терминов родства. Отношения родства
покоятся, как известно, на естественных
(биологических) отношениях. Поскольку последние остаются
неизменными, мы ожидали бы именно здесь большой
устойчивости и единства языкового выражения на
протяжении всей истории человечества. Оказывается — ничего
подобного. Как показали многочисленные исследования,
мы имеем большое разнообразие систем обозначения
родства у разных народов и в разные эпохи. Есть
системы, где родная мать объединяется в одну хатегорию
и носит одно название с обширной группой других
женщин; где родные братья и сестры не отличаются по
названию от сотен других мужчин и женщин того же рода
и т. д. и т. п.27.
Осет. сервад и xo/xy?p? соответствуют этимологически
индоевропейским названиям брата и сестры; но ме'рвад
означает '(любой) мужчина моего рода', а мсе хо "(любая)
женщина моего рода'. Дело здесь, разумеется, не в том,
что от людей были скрыты естественные отношения,
отличающие родную мать от других женщин или родного
брата от других мужчин и юношей. Но мы уже отмечали
выше: естественное лишь постольку вовлекается в систему
языкового выражения, поскольку оно приобретает
общественное значение. Имея видимость биологических
обозначений, термины родства в действительности
являются насквозь социальными.
Бывают и обратные случаи, когда на более ранних
этапах развития общества строго различаются такие
отношения родства, которые мы безболезненно объединяем.
Так, в русском языке слово дядя обозначает одинаково
брата отца и брата матери; тетя — сестру отца и сестру
матери. Однако старославянский имел особые термины для
дяди по отцу (stryib) и дяди по матери (ujb). В латинском
дядя по отцу назывался patruus, дядя по матери — avun-
culus; тетя по отцу — amita, тетя по матери — mater-
iera. Вместо этих четырех терминов во французском
имеем уже только два: oncle 'дядя', tante 'тетя'.
Такую же картину дает история немецкого языка:
в древнегерманском — строгое различение родства по
матери от родства по отцу, в немецком — утрата этого разли-
34
чения. Из соответствующих немецких терминов Vetter
означал 'дядя по отцу' (связано с Vater 'отец'), Oheim
"дядя по матери'; Base 'тетя по отцу', Muhme 'тетя по
матери'.
Строго различаются дядя по отцу и дядя по матери
в осетинском и других иранских языках2 .
Исторические корни этих различений вскрываются без
особого труда. Они ведут нас к эпохе матриархата, когда
родство по матери было связано с совершенно иными
хозяйственными, социальными и правовыми функциями,
чем родство по отцу. Матриархальные отношения могут
давно отойти в прошлое, но пережитки их еще долго
держатся в нормах обычного права, в некоторых свадебных
и иных обрядах и обычаях29. Этим объясняется, что
различение родства по матери и по отцу долго и стойко
держится и в патриархальных обществах, как древнеримское,
древнегерманское, староосетинское и др.
Так общественные условия формируют сознание людей,
а вместе с ним и распределение языковых значений и
языковых обобщений.
Древнейшие обобщения человеческой речи уже
являются свидетельством огромных успехов человеческого
познания, высоко вознесших человека над миром
животных. Каждое из них обозначало множество предметов,
объединяемых по признаку их отношения к коллективу,
к его хозяйственному и общественному существованию.
С древнейших эпох слово могло быть и действительно
было выражением чрезвычайно общих идей,
объединявших обширные и разнообразные категории предметов.
Мы уже говорили об ошибочности представления, будто
примитивные народы неспособны к образованию общих
идей. Факты и наблюдения опровергают подобные
представления. Мы находим, например, у многих первобытных
племен представление о всепроникающей силе субстанции,
которая присутствует в человеке, животных, растениях,
воде, огне, небесных светилах и пр. Меланезийцы называют
эту силу мана, американские индейцы оренда или вакан.
Высокая степень абстрагирующей работы мысли,
проявляющейся в таких обобщениях,— очевидна.
Можно возразить, что в подобных представлениях
сказывается просто слабость развития научного знания о
вещах и явлениях. Это, конечно, верно. Но не только
слабость познавательной способности выражают эти идеи. Они
выражают и ее силу, великую обобщающую силу, которой
с самого начала было наделено человеческое слово. В них,
2*
35
как в зародыше, уже заключались проблески будущих
научных обобщений. Они служили залогом беспредельного
развития познавательных способностей человека, могучего
прогресса человеческого знания.
Преодолевая постепенно свою незрелость и
ограниченность, обобщения человеческой речи все более
приближаются к объективным, действительным отношениям вещей,
т. е. становятся научными.
КЛАССИФИЦИРУЮЩАЯ РАБОТА СОЗНАНИЯ
С обобщающей природой языковых значений тесно
связана другая их особенность, их
дифференцирующая, противоставляющая или
классифицирующая тенденция. Выделенное из множества единичных
восприятий общее не пребывает в сознании
изолированно, а всегда противоставляется другому общему
и только благодаря этому противоставлению получает
объективную, очевидную для всего коллектива, устойчивую
значимость, ориентирующую человека в окружающей
действительности. Всякое осознание общего уже
предполагает противоставление или оппозицию. Без такого про-
тивоставления границы общего всегда оставались бы
зыбкими и неуловимыми, что снижало бы или даже
сводило бы на нет познавательную ценность полученных
обобщений. Общее лишь тогда приобретает четкие
контуры, когда оно противоставляется другому общему30.
Можно возразить, что осознание единичного также
предполагает противоставление: данный объект А
противоставляется всему, что не есть А. Совершенно
верно. Но такое противоставление имеет ничтожное
познавательное и практическое значение. Оно пригодно
только для данного единичного случая. Другое дело,
когда мы в ряде объектов выделяем общий признак,
выносим его «за скобки» и противоставляем другой группе
объектов, характеризованных другим общим признаком.
Только такие групповые или классные оппозиции
могли ориентировать человека в окружающем мире,
превращая пестрый калейдоскоп единичных явлений и
впечатлений в упорядоченную систему связей и отношений,
как появление магнита приводит в симметрию железные
опилки.
Именно потому, что язык фиксировал и закреплял
каждый поступательный шаг в познании объективных
связей и отношений, он был с самого начала тем орудием,
36
с помощью которого работа человеческого сознания
получала объективное, реальное для всего коллектива
практическое значение. В этом именно смысле надо
понимать известное определение языка в «Немецкой идеологии»:
«Язык есть практическое, существующее и для других
людей и лишь тем самым существующее также и для меня
самого, действительное сознание» .
По свойствам нашего сознания, отражающим свойства
самой действительности, никакое явление или отношение,
воспринятое в опыте, не остается изолированным. В
процессе осознания-наречения оно вводится в систему ранее
осознанных связей и отношений и таким образом занимает
в ней свое место. Это место определяется, во-первых,
тем, с какими другими явлениями объединяется,
сближается данное явление (социативные связи) ; во-вторых, тем,
каким другим явлениям оно противопоставляется (оппози-
тивные связи). Совокупность этих двояких отношений
и составляет то, что мы называем идеосемантикой
слова.
Разумеется, социативные и оппозитивные связи между
словами не являются неизменными, данными раз навсегда.
Между ними нет никакой пропасти. Социативная связь
может в другой ситуации обернуться оппозитивной и
обратно. Так, дерево как материал для изготовления орудий
противостоит металлу. И если мы возьмем, с одной стороны,
дуб, липу, с другой — железо и медь, то связь внутри
каждой из этих пар будет социативной, а связь между
первой и второй парой — оппозитивной. Представим теперь
ситуацию, при которой на первый план выступает твердость
материала. Тогда дуб окажется оппонентом липы, а
железо — меди и т. п.32.
Напомню, что осознание общественных связей,
осознание своего коллектива должно было предшествовать
всякому иному осознанию. Оно восходит к заре
человечества, к первым шагам очеловечения. Но ведь совершенно
ясно, что осознание своего коллектива не могло быть
сколько-нибудь отчетливым, стойким и прочным, если бы
не было противоставления своего коллектива чужому или
чужим коллективам. Коллектив не дошел бы до ясного
сознания «мы» и «наше», если бы одновременно не осознал
противостоящие «не мы» и «не наше». Это противо-
ставление становится особенно резким, когда, как
указывает К. Маркс, люди начинают борьбу с другими
лицами за жизненные блага.
37
Таким образом, у самой колыбели человеческой речи
мы находим оппозицию, могущественный фактор,
формировавший сознание людей и их речь и сохранивший
свое значение на протяжении всей истории языка и
мышления.
Первые классификации предметов и явлений, нашедшие
отражение в языке, были не чем иным, как
своеобразным преломлением всей осознанной действительности
сквозь призму коллективного самосознания и
коллективного эгоизма. Предметы группировались и получали название
по их отношению к коллективу, по тому, насколько они
социально значимы, благоприятны и неблагоприятны
для коллектива и т. д. Внутриродовые и внутриплеменные
связи, с одной стороны, межродовые и межплеменные
антагонизмы — с другой, накладывали свой определяющий
отпечаток на сознание, а стало быть, и на языковую
семантику. Об этом древнем состоянии мы можем судить
не только путем умозрения и догадок. Оно чувствуется
в некоторых семантических классификациях в реальных,
засвидетельствованных языках. Выше, в главе о генезисе
сознания, мы приводили некоторые примеры, когда данный
коллектив и все, что он относит к себе, противоставляется
другим коллективам или всему остальному миру.
Подобные социально детерминированные классификации
прослеживаются во многих языках на протяжении всей
истории.
В древнейшем памятнике иранской речи, Авесте,
мировоззрение которого пронизано дуализмом светлого и
темного царства, целые лексические группы идут по двум
«сериям», в зависимости от того, относятся они к светлому
или темному миру. Одни и те же понятия, как «голова»,
«рука», «говорить», «ходить» и др. выражаются разными
словами в зависимости от того, относятся ли они к
существам светлого или темного царства. Объяснение этим
фактам искали в религиозных воззрениях древних иранцев,
в их религиозном дуализме. Думать так — значит ставить
вещи на голову. Правильно обратное: дуализм в религии
есть лишь отражение реального «дуализма»
противостоящих и борющихся общественных сил. В настоящее время
можно считать доказанным, что приведенные выше лексико-
семантические «антагонизмы» есть не что иное, как
отражение межплеменных антагонизмов, именно вражды
между оседлыми «авестийскими» племенами, с одной
стороны, и кочевыми разбойничьими племенами — с другой.
ЗХ
Последующие классификации представляют зачастую
различные переосмысления первых. Распад единых прежде
коллективов или слияние нескольких коллективов в один
создавали новую ситуацию, заставляющую по-новому
осмыслить и распределить языковые значения. Одним из
следствий новых отношений было то, что прежние
межплеменные противоставления могли социально
нейтрализоваться и переосмысляться во внутриплеменные и
объективно познавательные, и, таким образом, возникали новые
оппозиции, новые семантические классификации. Одной из
древнейших классификаций было деление всех существ и
предметов на социально-активные (класс личностей)
и социально-пассивные (класс вещей). В том или ином
виде эта классификация прослеживается во всех языках
мира. Она выступает отчетливо в различении двух
вопросительных местоимений: кто и что. С этим было связано
деление глаголов на динамические и статические с
вытекающими отсюда грамматическими последствиями.
Характерно, однако, что и в эту широко
распространенную дуальную классификацию разные языки
вкладывают разное содержание. Так, в алгонкинском языке
(Северная Америка) к «одушевленному» классу, или классу
«личностей», относятся не только люди и животные, но
также солнце, луна, звезды, лук и стрелы, повозка, котел,
хлебные злаки, табак, курительная трубка. В первом классе
различаются единственное и множественное число. Во
втором — нет.
Своеобразную проекцию социальных отношений на весь
мир рисует Данцель у индейского племени цуни. Племя
делится на семь кланов. И соответственно на семь частей
делится пространство, на семь отрезков — время. Все
живые и неживые существа относятся к одному из семи
классов. Каждому классу соответствует определенный сезон
года, определенный цвет. Все мировоззрение, вся жизнь
пронизаны этим семичастным делением.
Легко представить такую ситуацию, когда семичастное
деление племени отойдет в прошлое, но связанная с ним
классификация объектов пережиточно сохранится. Тогда
мы получим картину, хорошо знакомую по некоторым
африканским, кавказским и другим языкам, где имена
различаются по классам, но критерии этого различения
неясны уже самим говорящим, очевидно, потому, что
давно забыты те операции общественного сознания, которые
породили в свое время данную классификацию. Последняя
39
становится формально-грамматической категорией, т. е.
переключается из области языковой идеологии в область
языковой техники.
Распознаваемые в языках классификации объектов
представляют огромный интерес с точки зрения истории
человеческого сознания. Они далеки от того, чтобы быть
адекватным отражением объективной действительности;
иными словами, они не являются научными в нашем
понимании. Но они были той школой, в которой человеческая
мысль тренировалась для будущих научных обобщений
и классификаций.
Мне уже приходилось не раз отмечать, что в отличие
от фонологической системы, которая целиком основана
на внутриязыковых корреляциях, в отличие от системности
морфологии и синтаксиса, которая также в значительной
степени формируется в результате внутренних
формальных корреляций, системность лексики через лексические
значения соотносима с объективной действительностью
и отражает, пусть иногда в искаженном, преобразованном
виде, системность реального мира33. Поэтому полностью
беспочвенными и лишенными всякого научного значения
следует считать попытки описывать систему лексики в
терминах и понятиях чисто формального порядка в
отвлечении от лексических значений и от тех объективных
реалий, о которых эти значения сигнализируют. Если,
скажем, в языке противопоставлены понятия дня и ночи,
то это — лишь отражение реальной оппозиции между
обращенной к солнцу и противоположной стороной земной
поверхности. Если в некоторых языках время, год, с
одной стороны, и небо, с другой, называются одним
словом (в диалектах чамальского языка в Дагестане: resin
'небо', 'год', jehe 'небо', 'год', осет. az 'год' <i*asman-
'небо'), то это говорит о том, что понятия 'времени' и его
отрезков формировались в прямой зависимости от
наблюдений человека над небом и небесными светилами.
Известно, что во многих языках понятия пространства
и времени смешиваются. Русск. короткий применимо
одинаково к отрезку пространства и времени. Антонимы
в современном русском языке различаются: длинный
(о пространстве) и долгий (о времени). Но в древнерусском
долгий означало и длинный; ср. долгорукий, долгополый.
Предлог перед может указывать и на пространство (перед
дверью) и на время ( перед обедом). В оппозитивном
значении русский различает за, позади (место) и после
40
(время). Но, скажем, в осетинском f?s служит
предлогом и места {f?s-dwar 'за дверью') и времени {f?s-sixor
'после обеда'). Может быть, сближая понятия
пространства и времени, язык отрывается от реальной
действительности? Нет, нисколько. И в физическом, и в философском
плане понятия пространства и времени тесно связаны.
Эта связь получила новое подтверждение в теории
относительности.
Система лексики формируется как результат обработки
нашим сознанием материала реальной жизни и реального
мира. Эта обработка, включающая операции селекции,
обобщения и классификации, бывает разной в зависимости
от уровня общественного и культурного развития. Но она
никогда не отрывается от своей почвы: от реального мира
и происходящих в нем явлений.
* * *
Подведем некоторые итоги. Мы попытались установить
основные операции сознания в процессе освоения
объективной действительности и их отражение в лексико-семанти-
ческой организации языка. Считая, что сущность любого
явления всего лучше познается в его генезисе и истории,
мы уделили преимущественное внимание возникновению
и начальным фазам развития сознания и речи.
Представляется бесспорным, что осознание человеком бытия
начинается с осознания своего социального коллектива и своей
принадлежности к коллективу. Это справедливо как в
онтогенетическом, так и филогенетическом плане.
Соответственно, первые слова человеческой речи не могли быть ничем
другим, как наименованием коллектива и всего, что <
он, реально или в воображении, относил к себе.
Необходимым условием отработки дифференцированных звуковых
комплексов социально-символического значения были
контакты и взаимодействие между социальными группами.
Поэтому датировать начало сознания и речи следует эпохой,
когда такие контакты стали более или менее постоянными.
Всего вероятнее, это имело место в период позднего
палеолита.
Любые процессы и изменения в организации
первобытных орд и их взаимоотношениях, как то: слияние
нескольких орд в одну или распад одной орды на несколько, с
необходимостью влекли за собой обогащение и
совершенствование речевых средств и способствовали быстрому прогрессу
41
сознания и языка. Часть отработанных звуковых
комплексов утрачивала свою слишком субъективную,
односторонне окрашенную коллективным эгоизмом семантику.
Язык все более становился орудием познания объективной
действительности.
Однако социальная обусловленность лексико-семан-
тических фактов остается в силе на протяжении всей
истории. На ранних этапах она выступает зримо и
обнаженно, со временем становится менее прямой и
примитивной, как бы завуалированной, но неизменно существует.
Она распознается в каждой операции сознания: в селекции
(что из окружающей действительности вовлекается в орбиту
сознания), в обобщении (что с чем сближается), в
классификации (что чему противопоставляется). В каждой из
этих операций сознание подчинено закону экономии сил
и оптимального соответствия общественным нуждам.
Ничто в языке не реализуется без того, чтобы не получить
общественную санкцию. Любое наречение становится
фактом языка лишь когда оно принято коллективом.
Пути отражения объективной действительности в
сознании и языке не бывают произвольными и случайными.
Операции сознания, как они отражены в лексико-
семантической системе языка, носят с самого начала
реалистический, а не мистический характер. И только
примитивность и ограниченность породивших их условий
общественного бытия придает им иногда в наших глазах
экзотический характер.
По мере хозяйственного, социального и культурного
прогресса реализуемые в языке селекции, абстракции
и классификации все более соответствуют объективным
отношениям реального мира, и сетка, накладываемая на
объективную действительность языком, приближается
к сетке научного познания. Полного слияния, однако, не
может быть, во-первых, потому, что сама наука не стоит
на месте, во-вторых, потому, что обыденное мышление,
отраженное в языке, никогда полностью не совпадает
с научным, в-третьих, потому, что в языке, точнее — в его
лексико-семантической системе в каждый данный момент
много пережиточного, унаследованного от минувших эпох.
Это переплетение старого и нового делает язык
неоценимым источником для разработки историк сознания в
связи с историей общественных форм. Советским
языковедам предстоит еще реализовать известное указание В. И.
Ленина об исключительной важности истории языка для
42
теории познания и диалектики . Главной сферой
приложения сил в этом направлении должна быть, бесспорно,
семасиология.
Примечания
' Герцен А. И. Былое и думы. М., 1946, с. 651.
2 Герцен А. И. Письма об изучении природы. Избранные
философские произведения. М., 1946, с. 93.
3 О неразрывной связи истории и теории марксистской
методологии см.: Г р у ш и н А. Б. К. Маркс и современные методы
исторического исследования. «Вопросы философии», 1958, № 3.
I Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 3, с. 29—30.
6 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 3, с. 29.
6 «The plea is that human language is to be considered as just one more
product of organic evolution and as such it should be studied especially on its
early phases in the same way as we study any other biological feature —
evolutionarily» {Krishnamurthy К. Н. Some biohnguistical perspektives
for language study.— Zeitschrift fur Phonetik. Sprachwissenschaft und
Kommunikationsforschung», Bd. 19, H. 6, 1966, S. 461 и след.).
7 Ср. Стерн А. Философия и современность, с. 337.
8 Герцен А. И. Избранные произведения. М., 1954, с. 331.
9 О противопоставлении «Мы» — «Они» как первой человеческой
классификации см.: Поршнев Б. Ф. Социальная психология и
история, М., 1979, и его же: «О начале человеческой истории»,
М., 1974, особ. ее. 455—458.
10 Я полагаю, что никто не будет шокирован тем, что ситуацию
в шекспировской Вероне и «Тихом Доне» я привлекаю для лучшего
понимания ситуации в первобытном обществе. В одном из писем
Энгельсу Маркс писал, что ученые-социалисты стремятся «заглянуть... в
первобытную эпоху каждого народа. И тут-то они, к своему изумлению, в
самом древнем находят самое новое» (М а р к с К. и Э и г е л ь с Ф.
Сочинения, т. 32, с. 44). Справедливо и обратное: в самом новом узнаешь
с изумлением самое древнее.
II Штейнен К. Среди первобытных народов Бразилии. М., 1935,
с. 104.
12 Бубрих Д.— 3 сб. «Язык и литература», 1. Л., 1926, с. 84—85.
1 Ср. Дубинин Н. Л. Наследование биологическое и
социальное. («Коммунист», 1980, № 11).
14 Ефименко П. П. Первобытное общество. Киев, 1953, с. 242—243.
15 Там же, с. 502.
16 Z g u s t a L. [Рец. на»] 3. Rosenkranz. Der Ursprung der Spra-
43
che. Ein linguistisch anthropologischer Versuch. Heidelberg, 1961. «Archiv
Orientalni», 1962, 30, 3, c. 518.
17 Леонтьев А. А. Возникновение и первоначальное развитие
языка. М., 1963, ее. 46, 57, 66.
18 Lekture d'Henri Wallon. Choix de textes. Paris, 1976, p. 211.
19 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 32, с. 43.
20 Под коллективом мы имеем в виду как народ в целом, так и
отдельные социальные группы, профессии и пр.
21 Потебня А. А. Мысль и язык. Харьков, 1892, с. 165.
22 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 246.
23 Маркс К. Критические замечания о книге Адольфа Вагнера.
Архив Маркса и Энгельса, V, с. 388.
24 Weisgerber L. Von dem Kraften der deutschen Sprache. Bd. 1.
Dusseldorf, 1962, S. 54.
Стеблин-Каменский И. М. Автореферат докторской
диссертации. 1984, с. 13—14.
26 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930, с. 84.
27 См. об этом: Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной
собственности и государства.— Маркс К. и Энгельс Ф.
Сочинения, т. 21.
28 Ср. в осетинском описательные термины фыды 'фсым?р 'дядя
по отцу', мады 'фсымсер 'дядя по матери', в таджикском атак 'дядя по
отцу', tago 'дядя по матери', в персидском 'аттй 'дядя по отцу', dal
'дядя по матери'.
29 Для осетинского см., например: Ковалевский М.
Современный обычай и древний закон, т. 1. СПб., 1886, с. 310; для древних
германцев — см. там же, гл. 20.
30 «Die Antithese ist ein naheliegendes Mittel, um die verwirrende
Mannigfaltigkeit des Erlebens durch eine einschneidende, wenn auch nicht
dauernd befriedigende Gliederung iiberschaubar zu machen. Sie est ein
urspriingliches Denkprinzip, nicht der Abschluss, aber ein Ausgang und erster
Griff des Erkennens» («Zeitschrift fur Psychologie», Bd. 49, S. 339.
31 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 3, с. 29.
32 См. ниже статью «Понятие идеосемантики».
33 См. ниже статьи «Лингвистический модернизм как
дегуманизация науки о языке» и «Об историзме в описательном языкознании».
34 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 19, с. 314.
Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. М., 1970.
44
ЯЗЫК КАК ИДЕОЛОГИЯ
И ЯЗЫК КАК ТЕХНИКА
КОГДА СЕМАНТИКА ПЕРЕРАСТАЕТ
В ИДЕОЛОГИЮ
Исследуя значимость того или иного элемента речи,
мы можем в своем анализе спуститься на разную
степень глубины. На известной глубине семантический
анализ перерастает в идеологический. Когда
именно это происходит? В огромном большинстве случаев
лишь тогда, когда мы устанавливаем генетическую
связь данного значения с другими значениями,
предшествующими ему или с ним сосуществующими. Если
мы констатируем, что латинское слово pecunia значило
«деньги» и ничего более — мы остаемся в пределах
коммуникативной, технической семантики. Но лишь только
мы устанавливаем связь этого слова с латинским же
словом pecus в значении «скот», семантический анализ
получает силу и значение идеологического. Иначе говоря,
существуют две семантики: семантика изолированных,
технических значений — техническая семантика, и
семантика генезиса и взаимосвязи значений —
идеологическая семантика. Осетинское слово w?z-
dan имеет два значения: «человек высшего сословия»
(«уздень») и «вежливый». Взятое изолированно, каждое
из этих значений несет чисто техническую функцию в
коммуникации. Но сопоставление этих двух
технических значений вводит нас уже в круг определенных
идеологических представлений известной
социальной среды, согласно которым вежливость есть
свойство людей высшего класса. Нам хорошо известно
современное, обиходное значение слова «труд». Проследив
историю этого слова, мы устанавливаем, что когда-то
оно значило также «болезнь», «страдание». Мы узнаем,
следовательно, что словом «труд» выражалось не только
понятие о производительной деятельности (техническая
семантика), но и точка зрения на эту деятельность,
как на «страдание», «болезнь», короче — определенная
идеология (идеологическая семантика). Одно и то же
понятие «богатства» выражено в трех различных языках,
45
русском, осетинском и немецком, тремя различными
способами. В русском оно связано с «богом», в осетинском
с «днем», «светом» (bondzyn от bon — 'день',), в
немецком с «царской властью» (reich). Техническая
семантика этих трех слов — одна и та же. Семантика
же идеологическая — разная. Каждое из них
говорит об особом мировоззрении и об особых условиях
общественного существования в эпоху формирования этих
слов.
Вообще, относительно каждого элемента речи,
каждого речевого акта у нас может встать два вопроса: что
выражается этим элементом, и как, каким
способом оно выражается. Техническая семантика
отвечает на первый вопрос, идеологическая — на второй.
Идеология заключена в первую голову в ответе на
вопрос «как», а не «что». Как совершается образование тех
или иных речевых категорий? Как, по каким
ассоциативным путям происходит наречение тех или иных
предметов? Как происходит смена одних значений другими?
Как используется старый речевой материал для
выражения новых понятий и отношений, вошедших в обиход
коллектива?
Почему именно в вопросе «как» заключена тайна
речевой идеологии? А вот почему.
ВОСПРИЯТИЕ— ОСОЗНАНИЕ— НАРЕЧЕНИЕ
Для того, чтобы то или иное явление нашло
отражение в языке, недостаточно, чтобы оно было
воспринято, необходимо, чтобы оно было осознано,
необходимо, чтобы оно было тем или иным способом
приобщено к системе хозяйственного и социального опыта
коллектива.
Допустим, что в сферу осознания коллектива вошло
какое-нибудь новое явление или отношение. Оно
требует выражения в языке. Как удовлетворяется языком эта
потребность? Путем изобретения какого-нибудь
совершенно нового слова, формы или оборота? Ни в коем случае.
Элементы изобретательства почти совершенно в языке
отсутствуют. Для выражения нового явления или
отношения используется старый речевой материал, тем или
иным способом скомбинированный, измененный,
приспособленный '. Но в старом речевом материале есть обычно
известный выбор, что и как именно использовать для
46
нового понятия: можно выразить и так и этак.
Однако в каждой данной среде наречение происходит
одним определенным способом, а не другим. От чего это
зависит? В первую голову от вырастающего на
определенной материальной основе мировоззрения,
идеологии данной среды. Тождественные условия
бытия порождают тождественные нормы речевых
новообразований. Именно в силу различий в мышлении,
мировоззрении мы видим часто, что одно и то же, по своей
объективной сущности, явление или отношение может
выражаться в различных средах совершенно различными
способами и обратно. Различие заключено, разумеется, не
в ощущении, а в осознании. По свойствам нашего
сознания, отражающим свойства самой действительности,
никакое новое явление или отношение, будучи нами
воспринято в опыте, не остается изолированным,
отделенным стеной от всего предшествующего опыта. В
процессе осознания и наречения оно вводится нами в те
или иные, прежде выработавшиеся семантические
комплексы и таким образом занимает свое место в системе
всей нашей осознанной, идеологизированной практики.
Связь нового семантического комплекса со старыми
необходимо находит себе выражение в наречении,
именно в том, как используются старые языковые
средства для нового образования3. Способ наречения того
или иного явления или понятия, способ выражения
в языке того или иного отношения неизбежно
выявляет идеологические пути, по которым идет
приобщение этого явления или отношения к
предшествующему опыту в данных условиях общества и мировоззрения.
В этом и заключается разгадка того значения, которое
имеет вопрос «как». Независимо от нашего желания,
в осознании и наречении нами вещей, явлений и
отношений выявляется наше общественно детерминированное
мышление, мировоззрение, идеология. Здесь мы подходим
с новой стороны к двум семантическим аспектам речи —
техническому и идеологическому. К аспекту «что» и
аспекту «как». Первый информирует нас об объеме
общественной практики, второй — об идеологическом
осознании этой практики.
Каждый элемент речи может быть, во-первых,
носителем известного технического значения,
соответствующего какому-нибудь действительно существующему в
объективном мире факту или отношению. Эта техническая
47
значимость образует «ядро», устойчивое и способное
переходить из эпохи в эпоху, из одной общественной
среды в другую, так как оно суммирует эмпирический
опыт, основанный на тождестве предметного эквивалента
данного восприятия у людей различных эпох и
формаций. Это объективное «ядро» значимости может
окутываться, обволакиваться рядом субъективных, привходящих
идеологических представлений, настроений и ассоциаций,
которые полностью обусловлены состоянием сознания и
опыта людей данной эпохи и данной общественной
среды и, следовательно, так же неустойчивы и преходящи,
как всякие другие формы идеологии. Весь комплекс
этих сопутствующих семантических представлений
образует «оболочку», придающую речевому элементу
известный идеологический аромат.
Если взять, для примера, семантику слова «солнце»,
то представление о солнце как о дневном светиле
образует «ядро», а факультативно сопутствующее ему
представление о солнце как о божестве — «оболочку».
Пользуясь терминами оптики, можно сказать, что «ядро»
представляет среду, отражающую бытие, «оболочка» —
среду, преломляющую (resp. искажающую) его. «Ядро»
имеет корни непосредственно в предметной
действительности, «оболочка» — в общественной идеологии.
«Ядерные представления образуют материал научного
познания, «оболочечные» дают пищу для всевозможных
мифологических, религиозных, метафизических и
поэтических построений4.
НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС ТЕХНИЗАЦИИ
Возьмем наш новообразованный, выработавшийся в
процессе восприятия-осознания-наречения семантический
комплекс и пустим его в обращение, в речевую
коммуникативную практику. Посмотрим, что с ним тут произойдет.
Очевидно, прежде всего, что, когда речевое
новообразование поступило в коммуникативный оборот, при
употреблении его вовсе не повторяется каждый раз вся та работа
мысли, с которой было связано осознание-наречение.
А работа эта, как мы помним, состояла, главным образом,
в идеологическом освоении вновь осознанного явления
или отношения, в идеологическом приобщении его ко
всему остальному опыту, во включении его в контекст
общественной практики, в создании вокруг него извест-
48
ной идеологической «оболочки». Эта работа
воспроизводится в речевой практике каждый раз все с меньшей
полнотой и отчетливостью, и семантические представления
концентрируются все больше вокруг тех устойчивых,
стабильных, адекватных объективной действительности
элементов восприятия, которые образуют «ядро». Иначе
говоря, если в процессе осознани я-н аречения
семантический центр новообразования мог находиться в
«оболочке», то в процессе коммуникации он все
более и более перемещается к «ядру», к технической
значимости.
Технизация речевого образования неизбежна даже в том
случае, если мы остаемся в пределах той же самой
(социально и хронологически) среды, в которой произошло
первоначальное осознание-наречение. Между тем, если как
познавательный акт речевое новообразование
связано с определенной более или менее узкой и
ограниченной социальной средой, с ее мышлением и
мировоззрением, то как акт коммуникации оно может выходить
и выходит за эти узкие рамки и обслуживает несколько
различных социальных группировок, производственных,
сословных, классовых, профессиональных и т. п., с
различной идеологией, с различным характером предшествующего
опыта. И вот представим, что наше новообразование
из одной среды, где оно впервые возникло, попало, в порядке
коммуникативной практики, в другую среду. Этой новой
среде может с самого же начала оказаться чуждым то
идеологическое содержание, которое было вложено в него
первой средой и которое тем или иным способом
запечатлелось и на материальной форме или структуре нашего
речевого образования. Новая среда с самого же начала
отвлекается от этой внутренней формы, несущей чуждую
идеологию, и сразу же воспринимает новообразование
в одном только техническом его значении. Она
прекрасно усваивает (в пределах своих коммуникативных
потребностей), что выражается данным образованием, и не
обращает внимания, как оно выражается. Из всего
семантического комплекса, образуемого «ядром» плюс
«оболочкой», она с первого же разу берет одно «ядро» (что,
разумеется, не может ей помешать создать вокруг него
новую, свою оболочку).
Как только речевое образование выходит за пределы
той тесной среды, где оно создалось на базе определенной
системы опыта, мышления и мировоззрения, ее семантика
49
имеет тенденцию сузиться до тех объективно-реальных,
технических элементов восприятия, которые очевидны и
обязательны для всех. Можно сказать: чем шире и
разнороднее среда обращения, тем уже и технизованнее семантика.
Сужение идеологических функций языковой системы
идет параллельно с расширением ее технических
функций.
Итак, если даже в пределах одной и той же среды
технизация рано или поздно неизбежна, то в
коммуникативной практике между различными социальными
средами процесс технизации ускоряется во много раз.
Из сказанного ясно, что технизация есть чисто
семантический процесс. Это — процесс семантического сужения,
семантической редукции, семантической специализации,
в силу которой в повседневной речевой практике
перестают осознаваться все те идеологические «оболочечные»
представления и ассоциации, с которыми было связано
возникновение данного речевого образования. Перестают
осознаваться даже в том случае, когда внешняя,
материальная форма или структура выражения продолжает
хранить явственные следы породивших ее идеологических
представлений. Было бы, пожалуй, правильно назвать этот
процесс «деидеологизациеи», но такой термин звучит
слишком неуклюже, поэтому я буду в дальнейшем
пользоваться термином — тоже не слишком изящным — «де-
семантизация» (как эквивалентом «технизации»),
подчеркивая, однако, что речь идет не о полном обессмысле-
нии, что было бы абсурдом, а только о переносе центра
тяжести от идеологической семантики к технической.
Все без исключения элементы речи: слова,
морфологические образования, целые речевые категории, как,
например, грамматический класс и род, синтаксические обороты,
как, например, так называемая пассивная конструкция,—
все они подвержены десемантизации и поэтому все они
сплошь и рядом своей современной материальной формой
связаны не с современными же, а бесконечно
отдаленными нормами мышления и речетворчества, что, однако,
не мешает им успешно обслуживать технические нужды
современной коммуникации.
В нашей повседневной речи есть множество таких слов,
оборотов и целых речевых категорий, что если бы их смысл
и значение осозназались нами так же живо и полно, как
в момент их образования, употребление их было бы
совершенно невозможно, либо по бессмысленности их теперь,
50
либо по несоответствию их современным нашим
представлениям о вещах и отношениях.
В момент своего возникновения все речевые
образования: лексические, морфологические, синтаксические,
имеют наряду с технической значимостью —
идеологическую, выявляющуюся в способе их построения,
в их взаимоотношениях с остальным речевым материалом.
Но идеологическое содержание всякого языкового
образования осознается говорящими только в первый период
его существования, пока остается в силе породившая и
питающая его система общественной практики и мировоззрения.
После этого идеология речевого образования отживает и
забывается, само же образование, его материальная форма
может еще неопределенно долго продолжать свое
существование, но уже в выдохшемся, десемантизирован-
ном, технизованном виде5.
Процесс семантической дедукции, специализации и
технизации совершается в языке непрерывно и ежечасно
и является одним из важнейших моментов языкового
развития0. Процесс этот идет, во-первых, по линии
затемнения сознания существующей между
различными элементами речи
идеологической связи. Во-вторых, по линии ослабления
семантической живости и
напряженности отдельных звеньев речи. То и другое влечет за
собой небрежное отношение говорящих к звуковой
реализации речевых актов и создает предпосылки для
фонетического ослабления и перерождения. Следовательно,
здесь мы находим ключ к объяснению различных ф о-
нетических явлений. Но этого мало. Самое
существование грамматики как системы есть прямой
результат технизации. В дограмматическом состоянии мы
имеем слова-образы и слова-понятия, не
дифференцированные ни по функциям, ни по формальным признакам.
Каким образом из этой недифференцированной массы
вырабатываются грамматические категории, так
называемые части речи? Мы можем представлять себе этот
переход только следующим образом: хаждое
слово-понятие, начиная употребляться в коммуникативной практике
по преимуществу в одной како й-н и б у д ь
функции, семантически суживается и т е х н и з у е т-
с я в этой специфической функции и, таким образом,
становится либо именем, либо глаголом, либо
местоимением, либо предлогом и т. д., приобретая постепенно
51
все связанные с этим логические и формальные
характеристики. Так рождается грамматика. Процессу
технизации мы обязаны также созданием морфологии.
В самом деле, превращение когДа-то самостоятельных
слов в служебные частицы есть не более, как один из
случаев и, пожалуй, наиболее характерный — технизации.
А это превращение, как мы знаем, и обусловливает
переход от аморфности к агглютинации и флексии.
Перестройка же морфологии необходимо влечет за собой перестройку
синтаксиса. Короче, какую бы сторону языкового развития
мы ни взяли, мы неизбежно становимся лицом к лицу
с процессом технизации как решающим фактором7.
ЗАКОН СОЦИАЛИЗАЦИИ И ЗАКОН
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
Процесс технизации влечет два, весьма важных для
истории языкового развития, последствия, которые мы,
ввиду их всеобщего значения в прошлом, будем называть
«законами»: закон социализации и закон
преемственности.
Закон социализации заключается в следующем. Когда
на данной территории оформляется человеческий
коллектив, представляющий в общественно-политическом и
экономическом отношении единое целое, потребности общества
и хозяйства повелительно диктуют создание для всего
коллектива единой системы коммуникации. Как
удовлетворяется эта потребность при наличии в коллективе
нескольких группировок с различными языками? Либо путем
смешения входящих в данное социально-экономическое
единство языков и образования на этой основе нового,
мешаного языка, либо путем экспансии одного из
языков и вытеснения им остальных. «Социализация» в
путях скрещения характерна для более ранних периодов
развития общества. «Социализация» в путях
возобладания и экспансии одного из соревнующихся языков
(или диалектов) обычна для позднейших эпох, для
классового общества. Данный язык, которому те
или иные исторические условия дают перевес над
другими, начинает выходить за пределы той группировки,
которой он принадлежал, и постепенно становится
общенациональным. Следы же прежнего многоязычия долго еще
сохраняются в виде диалектов и наречий внутри единого
52
национального языка. При этом сам «социализирующийся»
или «национализирующийся» язык не остается самим
собой в процессе своей экспансии, он вбирает в себя
элементы «поглощаемых» им языков, перестраивается в
практике новой общественной функции.
Почему закон социализации связан с технизацией —
ясно из всего предшествующего. Для того, чтобы
обслуживать разнородные слои, входящие в то единое, что мы
называем племенем, этносом, позднее нацией, необходимо,
чтобы произошло затемнение и сужение идеологических
функций речевых элементов, необходимо, чтобы произошла
технизация. Национальные языки существуют потому, что
существует процесс технизации.
Значение закона преемственности явствует
из самого названия. Все виды идеологии обладают
известной инерцией, которая позволяет им на более или менее
долгий срок переживать породившие их условия
общественной практики. Но инерция других надстроек — это в
огромной степени инерция привычки, инерция традиции.
Инерция же языка — это инерция целесообразности,
экономии сил, инерция общественно-оправданной и необходимой
преемственности.
Если учесть ту огромную роль, которую играет язык в
качестве стабильного средства общения в обществе, легко
понять, почему общество не может менять свою речь, как
оно меняет свои воззрения. Технизация языка оказывается
в данном случае истинным благодеянием: она экономит
обществу силы, она избавляет общество от непосильного
труда вновь и вновь переделывать сверху донизу свою речь,
она делает возможным то, что язык одной эпохи
оказывается пригодным для другой, как благодаря ей же
язык одной социальной группировки оказывается
способным обслуживать другую. Как идеология — язык
социально и исторически ограничен, как техника — он
общенационален и преемствен8.
Каждая новая общественность не может возлагать на
себя бремя перестройки заново всей своей речи. Она
продолжает пользоваться завещанным языком, но не столько
уже как идеологической системой, сколько
просто как техникой общения. Новая же идеология
находит себе выражение уже не в элементах речи самих
по себе, а и евялюи речи, во фразе, в рассуждении.
На смену идеологии, выраженной в самом языке (как
идеологической системе), приходит идеология, выраженная
53
с помощью языка (как коммуникативной системы).
Если в процессе своего создавания язык сам по себе есть
некая идеология, то с течением времени он зсе более
становится техникой, техникой для выражения других
идеологий, техникой для обслуживания общественной
коммуникации.
Видимое противоречие между законом преемственности
и бесспорным фактом изменяемости языка находит себе
разрешение в простой, несколько наивно звучащей, но
совершенно правильной формуле: языку позволено
изменяться, но так, чтобы каждое новое поколение могло
объясняться с предшествующим9. Изменяясь в этих рамках,
язык может в 200—300 лет стать неузнаваемым.
Закон преемственности приводит к тому, что даже
после распада нации на несколько территориально и
хозяйственно независимых единиц, в каждой из последних
более или менее долгое время продолжается в основном
традиция общенационального языка. Таким образом, между
законом социализации и законом преемственности
оказывается известное противоречие: закон социализации
стремится к тому, чтобы везде и всюду языковые единицы
совпадали точно с хозяйственно-политическими, закон
преемственности, задерживая темпы перестройки языка
при всяких условиях, не дает осуществиться этой
«идеальной» картине.
Современная лингвистическая карта земного шара есть
результат многотысячелетнего комбинированного действия
законов социализации и преемственности, в которых язык
раскрывает себя как техника, а не как идеология. Говорить
о позднейших стадиях развития языка, игнорируя процесс
технизации, все равно, что говорить о движении планет,
игнорируя закон тяготения.
Ошибка, в которую впадали и впадают многие,
заключается в том, что к языку подходят с узко историческими
масштабами, пытаются сделать какие-то зыводы о сущности
языка 'на основании языковых фактов,
засвидетельствованных на ничтожном отрезке времени в 2—3 тысячи лет.
Между тем язык по масштабам времени — явление, если
угодно, «геологического» порядка. Первые и решающие
шаги на пути создания звуковой речи были сделаны задолго
до обозримых исторических эпох. Историческое
человечество получило в наследство от прошлого языковой
материал, прошедший уже через многочисленные этапы десе-
мантизации и технизации. Огромная масса языкового
54
материала, полученного человечеством от прошлого,
возникала и развивалась в эпохи, которые мы принуждены
отодвигать все дальше в глубь веков и исчислять не
тысячелетиями даже, а сотнями тысячелетий. За эти колоссальные
промежутки времени целые пласты речевого материала
как бы застывали в своей технической функции и в таком
виде доживали до исторических эпох.
Есть нечто общее между судьбами языка и
геологическими судьбами земли. Подобно тому, как в истории
Земли можно наметить два периода, первый — когда
преобладали внутренние, горообразовательные процессы,
придавшие нашей планете основные черты современного
рельефа, и последующий — продолжающийся поныне,
когда преобладают процессы денудационные и нивелирующие,
так точно в истории языка, вслед за творческим периодом,
когда преобладают идеологически-созидательные процессы,
следует период, когда преобладают процессы технически-
приспособительные10. Оценивая современные языки с точки
зрения отражения в . их структуре современных
же общественных идеологий, мы находим кое-что в
семантике и лексике, почти ничего в синтаксисе и ровно ничего
в морфологии. Если как техника язык отрабатывается
и обновляется каждый день, то как идеология он основными
своими контурами уходит в прошлое и лишь некоторыми
элементами — в современность.
Так точно мы видим часто в горах массивные громады
первозданных пород, прикрытые тонким слоем позднейших
образований.
ТЕХНИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ЯЗЫКОВОГО
РАЗВИТИЯ
В лингвистической науке нет единства в вопросе о
причинах изменения языка. Прослеживая
с величайшей скрупулезностью всевозможные
фонетические переходы и чередования, лигнвисты обнаруживают
полную растерянность, когда заходит речь об объяснении
этих переходов и чередований. Одни пытаются найти
ключ в географических и климатических условиях;
другие — в перемене характера и душевных качеств нации;
третьи объясняют фонетическую эволюцию стремлением
человека к удобству и легкости в произношении; четвертые
говорят, что язык «изнашивается» или «выветривается».
Наконец, пятые облегчают себе задачу, пытаясь свалить
55
всю вину на детей, которые, предполагается, начинают
вдруг (одновременно и независимо во всей стране)
говорить не так, как отцы, а по-своему...
Не собираясь прибавлять к перечисленным теориям
еще одну, мы утверждаем только, что вопросы
фонетической эволюции и вообще
изменения языка ни в коем случае не
могут быть рассматриваемы
изолированно от семантики.
Если оставить в стороне те процессы, которые являются
результатом взаимодействия между двумя языковыми
средами (явления субстрата, скрещения и пр.),— нет
ни одного фонетического изменения в языке, большого
или малого, общего или частного, «закономерного» или
«случайного», которое не предполагало бы в качестве
необходимой предпосылки, в качестве conditio, sine qua
non той или иной формы или степени семантического
смещения, семантического сужения или семантической
редукции.
Внешняя деформация языка есть результат деформации
внутренней, семантической. Чтобы расстроить «плоть»
языка, достаточно поразить его «душу», его семантику. Пока
речь семантически наполнена, насыщена во всех
своих элементах, она требует адекватной полноты
материального, звукового выражения, ибо всякое
уклонение ощущалось бы как нарушение, как ущерб для отчетливо
осознаваемого говорящим семантического содержания.
Живая, действенная семантика держит как бы на цепи
все элементы речи, предохраняя их от распада и
перерождения. Она, как цемент, скрепляет многообразные части
сложного языкового здания. Подобно тому, как дерево
на корню поддерживает в каждой своей веточке, в каждом
листочке всю полноту свойственного им состава и формы,
так речь, имеющая корни в живой общественной
идеологии, поддерживает полноту формы во всем своем строе
и в каждой отдельной части. И как срубленное дерево,
попадая в технический оборот, принимает форму нужных
человеку предметов, так и язык, оторванный от взрастившей
его идеологической почвы, становится ареной игры
разнообразнейших сил и влияний, среди которых на первом месте
стоят технические нужды общественной коммуникации.
Возвращаясь к существующим в лингвистике теориям
фонетических изменений, мы остановимся только на тех из них,
56
которые имеют видимость правдоподобия — именно на
теории «удобства» и теории «изнашивания».
Первая теория, наиболее отчетливо сформулированная
и имеющая множество открытых и скрытых сторонников
до сих пор, объясняет фонетическую эволюцию языка
стремлением говорящих к «удобству произношения»,
к «экономии сил», к «благозвучию». Мы далеки от того,
чтобы отрицать всякое значение за этими факторами,
но совершенно очевидно, что эти факторы могут получить
силу только при одном условии: при условии более
или менее далеко зашедшей уже д е-
семантизации и технизации речи. Если не
учесть этого, то как объяснить, что люди столетиями и
тысячелетиями говорят не «экономя» сил, «неудобно» и
«неблагозвучно» — и чувствуют себя прекрасно,— а
потом вдруг спохватываются и начинают переделывать свою
речь во имя экономии, удобства и благозвучия?
Наконец, если бы удобство, благозвучие и экономия были в
сфере языка чем-то реальным и общезначимым, то
сторонники этой теории могли бы взять на себя
предсказание направления фонетических изменений в том или
ином языке. Они, однако же, от этого благоразумно
уклоняются".
Возражая младограмматикам, утверждавшим, что
«звуковой закон» не терпит исключения и
распространяется в равной мере на все слова, Schuchardt указывал на
частоту употребления того или иного слова как на
важный фактор его фонетической редукции. Чем чаще
слово употребляется, тем, по мнению Schuchardt'a оно
должно сильнее «стираться», «изнашиваться». Со словами,
таким образом, дело обстоит примерно так же, как, скажем,
с одеждой (сравнение мое, а не Schuchardt'a): как
будничный, рабочий костюм изнашивается скорее, чем
праздничный, надеваемый только в торжественных случаях,
так слова, которые ежеминутно у всех на устах, стираются
быстрее, чем слова, которые лишь несколько раз в год
извлекаются из «платяного шкафа» нашего лексического
запаса12.
Частота употребления может вести к «стиранию» слов
не всегда, а только в том случае, когда она
сопро вождается десемантизацией, что
вовсе не обязательно. Такие слова, как слово «деньги»
для торговца, слово «земля» для крестьянина,
гарантированы от семантического, а следовательно, и фонети-
57
ческого ослабления, как бы часто они ни употреблялись.
С другой стороны, никакая частота употребления не может
объяснить, скажем, исчезновения на конце «г» в «спасибо»,
если не допустить предварительного смыслового ослабления
этого выражения, благодаря которому в нем перестало
осознаваться слово «бог».
Иначе говоря, принцип «изнашивания», как и принцип
«удобства», может получить значение только на фоне
технизации.
Совершенно так же обстоит дело вообще со «звуковыми
законами». «Звуковые законы» или чередования могут быть,
прежде всего, результатом смешения между двумя
языковыми средами, когда материал одного языка начинает
артикулироваться средствами другого, следствием чего
бывает полное смещение звуковой системы,
воспринимаемое в исторической перспективе, как «звуковой закон».
Эти случаи не нуждаются в особом объяснении.
Но «звуковой закон» может явиться также в результате
обобщения отдельных звуковых перебоев в процессе
технизации. Каким образом?
Процесс технизации несет в себе, что ясно без лишних
слов, могучую унифицирующую тенденцию, которой
живое семантическое сознание сопротивляется.
Пока это сознание достаточно сильно, в языке возможны
только единичные, спорадические изменения отдельных
слов, форм и т. д., подвергшихся семантическому
ослаблению. Со временем, когда десемантизация
распространяется на значительную часть языкового материала,
унифицирующая тенденция сокрушает все препятствия на своем
пути, отдельные звуковые перебои разрастаются до степени
«звукового закона», образования по аналогии становятся
обычным явлением, язык все более стремится стать
системой13.
Явления унификации в технизующей речи имеют место
не только в области фонетики. Морфология и вся вообще
структура любого современного или исторического языка —
есть в огромной степени результат длительного и
непрерывного действия унифицирующих процессов,
развивающихся на фоне десемантизации языкового материала.
Известно, какое большое значение в развитии языка
придают лингвисты действию аналогии14. У нас нет
оснований отрицать значение этого фактора. Но теория аналогии
страдает тем же пороком, что теория «удобства» и
«изнашивания»: она принимает вторичные явления за
58
первичные. Для того, чтобы данная форма
подверглась ассимилирующему влиянию другой, необходимо, чтобы
у говорящих ослабело сознание необходимой и неразрывной
связи между старой, исторически правильной формой и
ее содержанием. При каком условии имеет место такое
ослабление? При условии десемантизации, технизации.
Всевозможные явления упрощения, унификации,
аналогических образований, равно как фонетические явления
ослабления, «выветривания», экономии произносительных
усилий и т. д., все они могут оказать заметное влияние
на язык исключительно на почве технизации.
Деформирующие и унифицирующие тенденции, как коварные враги,
подстерегают язык со всех сторон, и стоит на каком-нибудь
участке ослабеть семантической бдительности, как, откуда
ни возьмись, являются на сцену и «Bequemlichkeit», и
«выветривание», и аналогия.
Совокупное действие этих факторов приводит к тому,
что язык приобретает с формальной стороны более
стройный, системообразный облик. Язык не рождается
системой. Он уподобляется ей в процессе технизации.
Системообразность языка
пропорциональна его технизации.
Так как системообразность языка, с точки зрения
технического его использования, есть плюс, а не минус,
то мы с необходимостью приходим к выводу, попутно
высказанному уже выше: десемантизация речи, отказ от
использования языковой системы как идеологической
не только не означает его упадка, но, напротив,
способствует его техническому прогрессу. Мы не знаем языков
(если не считать искусственных), где система была бы
выдержана до конца, сверху донизу. Во всяком языке есть
известное число «злостных» элементов, которые
продолжают сопротивляться обобщающим тенденциям и отстаивать
свой индивидуальный облик. Они-то и фигурируют в наших
грамматиках под названием «исключений» или
«неправильных» форм.
Приходится думать, что первозданные языки состояли
из одних исключений.
Когда мы говорим, что язык уподобляется некоей
системе, не следует думать, что речь идет о какой-то
последовательной и выдержанной логической системе.
Всякие попытки логизировать неизменно кончаются
крахом, безразлично, идет ли речь о примитивном или
ультрацивилизованном языке. Оно и понятно. На любом языке
59
можно убедиться, что унифицирующие и
систематизирующие процессы, о которых была речь выше, идут сплошь
и рядом по линии «формальных» (технических), а не
логических признаков. Такое положение с необходимостью
вытекает из самого существа того явления, которе мы
называем технизацией. Технизация не обусловлена отнюдь
потребностью дать грамматической структуре
непосредственное и адекватное отражение новых форм мышления
и мировоззрения в противовес прежним. В процессах
технизации, если к ним внимательно присмотреться,
сказывается больше незаинтересованность в старой
идеологии, чем заинтересованность в какой-то новой. Эти
процессы знаменуют не переход от одной логической
системы к другой, а отказ от использования грамматики
в качестве средства выражения той или иной общественной
идеологии как логической системы. Новые общественные
идеологии, как мы уже указывали выше, находят свое
выражение не в языковой структуре как таковой, а в
развернутой речи, в целых высказываниях: на смену идеологии,
выраженной в языке, приходит идеология, выраженная с
помощью языка.
Если, скажем, первобытные языки стремятся в
грамматических формах отразить классификацию
объектов в согласии с мировоззрением той стадии
(с помощью местоименных аффиксов, грамматического
класса, различных именных и глагольных форм и т.п.),
а новые языки, десемантизуя и вовсе утрачивая старые
классификации, не создают никаких новых, то из этого
вовсе не следует, что современному мышлению стала
совершенно чужда потребность классификации объектов, что
для него все объекты равноценны и равнозначны. Вовсе
нет. Напротив, классификации стали несравненно сложнее
и многообразнее, как сложнее и многообразнее стали
общественные отношения и познавательные способности
человека. Но именно в силу своей сложности и
многообразия эти классификации уже не могут находить адекватное
отражение непосредственно в языковой структуре, ибо язык,
отягощенный столь большой и сложной идеологической
нагрузкой, оказался бы несостоятельным в своей
технической функции общенационального и преемственного
орудия коммуникации. Новые классификации
перемещаются поэтому из сферы языковой структуры в сферу
развернутых форм речевой деятельности, науки,
философии и пр.
60
Не только современно-логической системы, отраженной
в грамматике, мы не находим ни в одном языке, но мы
не находим также ни в одном языке первобытной логики,
первобытного мышления в «чистом» виде. Процесс
технизации стал действовать в языке с первых же дней, как
только речь получила коммуникативные функции, и самые
примитивные языки дают уже картину многократных
компромиссов между пробивающейся через языковую
структуру идеологией и неумолимыми законами
технизации. Каждый язык в своей грамматической и лексической
структуре влачит в десемантизованном виде обрывки
и клочья мировоззрений прошлого, в сильнейшей степени
искаженные, замаскированные и перепутанные процессами
технизации. В тайники этих ушедших мировоззрений
нас вводит один лишь палеонтологический анализ.
Вполне естественно, что перед лицом обрисованной
картины оказываются одинаково несостоятельными и
формальная грамматика, и логическая. Язык, как живая
познавательная система, должен быть (в теории!) строго
логичен. Для языка как традиционной коммуникативной
системы это отнюдь не обязательно. Реально
существующие языки представляют бесконечно пеструю картину
разных форм и степеней компромисса между логически-
познавательными и формально-техническими категориями.
Понятно также, почему перманентный конфликт между
логической и формальной грамматикой не может быть
разрешен в рамках синхронного языкознания.
Единственный путь разрешения этого конфликта — это подлинный, до
истоков речи идущий историзм, историзм единого
глоттогонического процесса.
Техническая сторона языковой жизни требует от нас
самого пристального внимания; исторические языки,
как и первобытные, знают коренные сдвиги в своей
структуре. Но было бы ошибкой за всеми этими сдвигами
усматривать коренные сдвиги в мышлении, мировоззрении.
Помимо сдвигов и закономерностей языковой
идеологии существуют сдвиги и закономерности языковой
техники, которые нетрудно отличить от первых хотя бы
потому, что в них неизменно выявляются некоторые общие
и постоянные тенденции, независимые от языка, эпохи
и общественно-экономических формаций. Общественные
сдвиги в этом случае играют лишь роль толкачей и
ускорителей технизационных процессов.
Языковая техника, как мы уже указывали, имеет свои
61
закономерности, В установлении этих закономерностей
(в особенности в области фонетики) и лежит добрая доля
заслуг индоевропейской лингвистики. Беда
индоевропеистики не в том, что она плохо справилась со своим
материалом,— она с ним справилась во многих отношениях
прекрасно. Беда ее в том, что законы и положения,
установленные на одной семье языков, представляющей не более
как крошечный отрезок глоттогонии, она склонна возвести
в вечные и незыблемые законы человеческой речи.
Резюмируем коротко основную идею нашей статьи.
Язык возникает как первичная форма объективации
общественного сознания, общественной идеологии.
Но будучи у истоков идеологической надстройкой, язык
с первых же дней обременен вместе с тем чисто
технической функцией коммуникации. С первых же
дней становления языка мы должны поэтому не терять
ни на минуту из поля зрения оба аспекта языка:
идеологический и технический. Их взаимодействием
определяется в основном весь процесс развития языка.
Единственный путь преодоления формализма в
языкознании — это путь исторического анализа. А в
историческом анализе процесс технизации имеет
решающее значение. Именно этот процесс формализует
языковую систему. Именно он обращает
познавательные категории в формальн о-г раммати-
ч е с к и е.
Учение о технизации есть учение о том, каким образом
старые формы, отражающие бесконечно отдаленные нормы
мышления, технизуясь, приспособляются к требованиям
новой общественности и становятся носителями и
выразителями нового содержания. Этой замечательной
способности языка не положено
никаких пределов, а потому нет пределов и
способности к росту и расцвету для
самых «отсталых», «некультурны х» я з ы-
к о в.
О ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ЯЗЫКОВ
Новейший период в истории лингвистики
характеризуется повышенным интересом к языковой типологии.
Двоякая природа языка — идеологическая и
техническая — подсказывает, что и к типологической классифи-
62
кации языков может быть двоякий подход: один,
ориентированный на содержательную, идеологическую сторону
языка, и другой — ориентированный на его формальные,
технические характеристики. В основу первой
классификации должны быть положены семантические критерии,
в основу второй — формальные.
Первая классификация при достаточной глубине
неизбежно приводит к идее стадиальности. Второй идея
стадиальности абсолютно чужда.
Примечания
' Случаев заимствования мы здесь не касаемся.
2 Термином «наречение» мы объединяем для краткости все случаи
языковых новообразований, т.е. не только создание слов для
новых понятий, но также новые морфологические образования,
новые синтаксические обороты, вообще всякие новые по структуре или
составу, а,следовательно,по функции,речевые акты.
3 Строго говоря, речь идет даже не о новом образовании, а об
использовании старых средств в новой функции.
1 Излишне говорить, что элементы «ядра», «оболочки» вовсе не
пребывают в нашем сознании в такой же раздельности, как, скажем,
ядро и скорлупа грецкого ореха. Они перемешаны и сплетены
теснейшим образом, и наша схема «ядра» и «оболочки», как всякая
абстракция, имеет лишь вспомогательное значение для более
легкого понимания дальнейшего. Взаимоотношения «ядра» и «оболочки»
на ранних ступенях общественного развития хорошо освещены Levy
ВгиЫ'ем; см. «Первобытное мышление», с. 25 ел. и с. 312 ел.
5 Пара сравнений, быть может, поможет лучшему пониманию
того, о чем идет речь. Процесс технизации можно сравнить с переходом
от золотых денег к бумажным. Золотая монета имеет двоякий
аспект: она и средство обмена и в то же время реальная ценность.
Точно так же речевое образование в первый период: оно и средство
коммуникации, и реальная идеологическая «ценность». Чем отличается
от золотой монеты бумажный знак? Тем, что он не представляет
реальной трудовой ценности, он — только средство обмена. Точно так же
речевое образование, прошедшее через десемантизацию и технизацию,
оно не имеет уже идеологической ценности, оно — только техническое
средство коммуникации.
Еще ближе подводит к пониманию сущности рассматриваемого
процесса другое сравнение, сравнение с историей письма. Процесс
технизации аналогичен переходу от пиктографического, картинного
письма к условному, буквенному. Картинное письмо имеет две стороны:
63
художественную (идеологическую) и коммуникативную (техническую),
условное — только техническую. Аналогия с судьбами языка
достаточно прозрачная и не нуждается в пояснениях.
6 Мы ни на минуту не забываем, что наряду с этим основным
процессом в языке имеют место постоянно также встречные
явления, явления частичного семантического оживления, «омоложения» и
экспансии отдельных элементов речи. Эти явления мы учитываем и
не можем не учитывать. Но наша задача сейчас — выявить
генеральную линию языкового развития, а эта генеральная линия
определяется, бесспорно, как процесс технизации.
7 Не лишено интереса сравнение языка с другими формами
идеологии с изложенной точки зрения. Не подлежит сомнению, что все
без исключения формы и виды идеологии подвержены десемантизации.
Религиозные воззрения, философские системы, литературные
направления, архитектурные стили, произведения скульптуры, живописи и
музыки,— все они, пройдя вместе с породившими их общественными
классами известный период молодой и полноценной жизни,
начинают увядать, десемантизоваться, общество перестает понимать их
сокровенную идею, их «душу», их смысл. Но общество может
продолжать их хранить еще более или менее долго для чисто
внешнего, формального обрамления, украшения или приправы бытия. И
чем же различие между языком и другими видами идеологии? В том.
что в области других идеологий есть десемантизация, но нет
технизации. Раз оторвавшись от базиса, другие идеологические надстройки
имеют тенденцию обратиться в чистые идеологии, исключающие
какое-либо техническое их использование. В языке же десемантизация
становится источником более интенсивного
технического прогресса. В этом смысле язык сближается с
предметами материальной культуры, которые на самых ранних
ступенях развития общества окутаны, подобно языку, густым слоем
оболочечных, идеологических («магических») представлений и
которые, освобождаясь постепенно от этих оболочек, не только не
теряют от этого, но, напротив, в сильнейшей степени выигрывают с
точки зрения полноты и интенсивности их технического
использования.
8 Думаю, нет надобности оговаривать, что речь идет об
общественной, а не антропологической преемственности.
Вспомним, кстати, что письмо тоже преемственно и тоже
изменяется.
'" Мысль о двух периодах в развитии языка мы встречаем еще
у «основоположников», но она сильно обесценивается тем, что
связана у них с представлением о языке как об организме.
1 ' Фр. Бопп, который так же, как другие «основоположники»,
стоит по широте кругозора и разносторонности интересов головой
64
выше большинства последующих лингвистов, отчетливо высказал мысль,
что «законы благозвучия» могут получить силу исключительно на
почве семантической редукции: «Ich glaube indessen, dass [solche] Wohl-
lautsgesetze erst zu einer Zeit ihre volle Kraft gewinnen konnten, als
die wahre Bedeutung oder der Grund der Bedeutung grammatischer
Formen nicht mehr ganz lebendig ergriffen wurde.— Je weiter die Spra-^
chen von ihrem Ursprunge sich entfernen, desto mehr gewinnt die Liebc
zum Wohllaut an Einfluss, weil sie nicht mehr in dem klaren Gefiihk-
der Bedeutung der Sprachelemente einen Damm findet, der ihrem Ans-
treben sich entgegenstellt...» (Fr. Bopp. Vergl. Zergliederung des
Sanskrits und der mit ihm verwandten Sprachen, 1 (Wurzeln und Pronomina).
Abh. d. Berl. Akad. Phil-hist. Klasse, Jahrgang 1824, S. 119). Ту же
мысль повторяет A. Schleicher: «Das Sprachgefuhl ist der Schutzgeist der
sprachlichen Form; in dem Ma?e wi er weicht und zuletzt ganz schwi-
ndet, bricht das lautliche Verderben iiber das Wort herein. Sprachgefuhl
und Integritat der lautlichen Form stehen also in geradem, Sprachge-
fiihl und Lautgesetze, Analogie, Vereinfachung der sprachlichen Form
in umgekehrtem Verhaltnisse zu einander» (Die deutsche Sprache, S. 64—65).
Выше мы сравнивали переход от идеологическо-технического
использования речи к техническому с переходом от изобразительного
письма к условно-буквенному. Продолжая это сравнение, мы получим
хорошую иллюстрацию к несостоятельности теории «удобства». Раз
знаки письма перестают изображать реально существующие
предметы и получают чисто условный смысл, тщательность рисунка
теряет свое значение, и пишущий получает известный простор для
проявления всей индивидуальной манеры письма — того, что мы
называем почерком. При этом каждый для себя считает именно-свой
почерк наиболее удобным, а не какой-нибудь другой. Совершенно так
же, благодаря процессу десемантизации, ослабевают частично стимулы
к отчетливому каноническому выполнению звукового «рисунка» речи,
и отдельные языковые среды используют открывающуюся при этом
весьма относительную, конечно, свободу для выработки собственной ре-
чепроизносительной манеры речевого «почерка», который,
естественно, представляется говорящим самым удобным из всех возможных.
Но такого произношения, которое можно было бы считать удобным
вообще, для всех случаев, так же не существует, как не существует
удобного для всех почерка. Другое дело, что в развитии почерков
наблюдаются некоторые общие тенденции, облегчающие технику
письма, например, стремление писать, возможно реже отрывая руку.
Аналогичные общие тенденции можно наблюсти, несомненно, и в
развитии любого языка.
Огромное значение придает частотности выдающийся
краковский лингвист Витольд Манчак.
3 В. И. Абаев
65
13 В статье об осетинском ударении (ДРАН, 1924, с. 252) я
укалывал, что в современном осетинском языке наблюдается тенденция
ударять второй от начала слог предпочтительно перед всяким другим,
но что тенденция эта одержала полную победу только в одной
категории слов: в личных собственных именах. В свете изложенных выше
соображений становится очевидным, почему именно собственные имена
стали первой жертвой акцентуальной унификации. Без сомнения
потому, что они обладают минимумом семантической ж и з-
н и. По этой же причине в новейших русских сокращенных
лексических образованиях, типа «Совнарком», представляющих яркий
случай десемантизации и технизации, вырабатывается на наших глазах
постоянное ударение на последнем слоге. Здесь мы проникаем в
самую «тайну» возникновения звуковых законов.
14 Действие аналогии в языке выражается в том, что одна форма
конструируется по образцу другой, наперекор исторической
грамматике.
Язык и мышление, II, 1934.
ПОНЯТИЕ
ИДЕОСЕМАНТИКИ
Любое слово нашей речи, прежде чем получить
современное обиходное значение, прошло сложную
семантическую историю, ведущую нас в конечном счете к начальным
словотворческим усилиям человека. Из каждого слова,
которое мы употребляем, глядят на нас не сорок веков,
а по меньшей мере сорок тысячелетий. И если бы не
привычность и обыденность повседневной речевой практики,
какое-нибудь слово «корова» должно было бы в большей
степени приводить нас в священный трепет своей
подавляющей древностью, чем египетские пирамиды. Воссоздать
до конца историю хотя бы одного слова — это значит
в какой-то степени приобщиться к раскрытию тайны всей
человеческой речи и мышления.
Отрезок времени, охватываемый письменными
памятниками, столь ничтожен по сравнению с «геологическими»
масштабами глоттогонии, что на одних этих памятниках
нельзя и думать построить ту дисциплину, которую мы
назвали «исторической семасиологией». Только
сравнительный и палеонтологический анализ, вовлекающий в свою
лабораторию все языки, в том числе и бесписьменные,
позволяет заглянуть в такие глубокие пласты речевого
творчества человека, о которых древнейшие письменные
памятники не дают и отдаленного представления. Такой
анализ убеждает нас, что в развитии значения слова
наблюдаются такие сдвиги и скачки, которые с трудом
укладываются в современное мышление. С другой
стороны,выясняется, что эти сдвиги и скачки не являются случайными
и произвольными: они подчинены определенным
закономерностям, отражающим закономерности осознания человеком
предметов общественного опыта и практики в
изменяющихся условиях хозяйства, быта, материальной
культуры, мировоззрения. Каждое слово нашей речи
прошло через ряд таких сдвигов и скачков, прежде чем оно
получило то значение и употребление, с которым мы
свыклись. И как бы ни бедно было содержанием данное
.»• 67
слово в современном употреблении, мы догадываемся о том,
что оно пережило огромную, богатую, полную событий
и перемен жизнь, которую мы можем иногда частично
воссоздать, подобно тому, как при виде обломка
каменного топора мы воссоздаем образы людей в звериных
шкурах, сцены борьбы и охоты, агонию мамонта и рев
пещерного льва.
Языковед-историк призван установить, через какие
сдвиги и смену значений прошло слово в своей истории и
каким образом в этих сдвигах отразились законы
познавательных отношений человека к миру, законы развития
общественной идеологии.
Семантика слова встает перед языковедом-историком
в двух аспектах: с одной стороны, семантика как
общеобязательный минимум смысловых функций,
определяющий современное коммуникативное
использование слова, это — «малая семантика», которую можно
назвать также семантикой «сигнальной» или «технической»:
с другой стороны, семантика как сумма тех
сопутствующих познавательных и эмоциональных представлений,
в которых отражается сложная внутренняя жизнь слова
в его прошлом и настоящем, это — «большая семантика».
Для последнего, более широкого понимания семантики
мы предложили в свое время термин «идеосемантика»1.
Вместе с тем мы указали, что понятие идеосемантики
близко подходит к понятию «внутренней формы».
Учение о «внутренней форме» связано с лучшей порой
истории индоевропейского языкознания, порой
романтической юности и смелых исканий.
Но в этом учении отразилась, как в зеркале, не только
сила, но и слабость идеалистического языкознания
прошлого века. Не имея ясного представления о материальных
корнях речи, рассматривая язык как чистый продукт
«народного духа», лингвисты-идеалисты прошлого века искали
во «внутренней форме» не конкретную исторически
обусловленную в каждую эпоху общественную идеологию, а
извечное и неизменное выражение этого «народного духа».
Поэтому понятие внутренней формы» применялось не
только к отдельным элементам речи, но и к языку в целом,
что, по нашему мнению, является уже чистой мистикой.
Тем не менее, в учении о внутренней форме было и
остается несомненное рациональное зерно. Оно
заключается в признании за элементами речи
идеологического значения. Это рациональное зерно учения
68
о внутренней форме мы и вводим на новом этапе в наше
новое языковедное мировоззрение в виде понятия идео-
семантики.
Понятие внутренней формы относится к понятию
идеосемантики, как истина почувствованная относится
к истине осознанной.
*
Понятие идеосемантики наиболее очевидным образом
связано с лексикологией, точнее — с исторической
лексикологией. Здесь потребность в нем чувствуется буквально
на каждом шагу.
Сфера применения этого понятия в историко-лекси-
кологическом исследовании разнообразна. Приведем
несколько типических примеров.
1. Этимология вскрывает идеосеман-
тику, идеосемантика вводит в
исторические реалии
Осетинское wacajrag означает 'пленник'. Очевидна связь
с пехл. vacar 'торговля'. Суффикс -ag означает
'предназначенный для чего-либо', ср. bazajrag
'предназначенный для торговли', 'товар', от bazar 'торговля';
появление / перед плавным закономерно, ср. напр. x?dzairag
'домашний', от x?dzar 'дом'. Стало быть, осет.
wacajrag 'пленный' имеет идеосемантику: 'предназначенный для
торговли', 'предмет купли-продажи'. Обращаясь к
историческим реалиям, мы устанавливаем, что, действительно,
у горских народов Кавказа, в том числе у осетин, пленные
служили в прошлом по преимуществу предметом купли-
продажи. Какого-либо другого хозяйственного их
использования, в качестве рабов или крепостных, не могло быть
в сколько-нибудь широких размерах в силу примитивного
состояния хозяйства и социального строя у осетин того
времени. Таким образом, идеосемантика слова wacajrag
оказывается для историка ценным косвенным
свидетельством о социально-экономических реалиях осетинской
истории, не менее надежным и заслуживающим доверия,
чем самый достоверный документ.
2. Устанавливаемая сравнительно-
лингвистическим путем
идеосемантика наводит на правильную
этимологию
69
Осет. ?fsir 'колос' относится к числу
неразъясненных элементов осетинского языка. Не зная идеосемантики
слова, приходится этимологические поиски вести вслепую,
и только случайность может навести на правильный путь.
Выяснение истории слова ?fsir мы начали поэтому с
вопроса: какова может быть идеосемантика понятия
колос! Ведет ли она в сторону названия каких-либо
конкретных злаков или растений или лежит в какой-либо
семантической плоскости? Так как понятие это относится к
определенной, земледельческой, стадии, то вероятно a priori, что
идеосемантика его в ряде языков должна совпадать.
Обратившись к названию колоса в некоторых языках, в частности
к русск. колос, мы установили, что наречение колоса в
большинстве определялось его внешней формой и
связано с понятиями «острый», «острие» и пр.2 Получив
таким образом определенное указание на возможную
идеосемантику осет. ?fsir, мы без труда нашли также
этимологию этого слова. Данные исторической фонетики
позволяют восстановить исходную форму *sper. Эту основу
мы действительно находим в ряде индоевропейских языков
в значении «острие», «вертел», «копье» и т. д. (ср. напр.
нем. Speer 'копье').
Осет. avg 'стекло' со стороны звуковой соблазнительно
было сблизить с др.-иран. ар-, перс, ab 'вода'. Однако,
не имея идеосемантических параллелей, мы не решались
выдвинуть это сопоставление. Но когда мы узнали, что
некоторые южно-американские племена, познакомившись
впервые со стеклом, назвали его «водой», наша догадка
о тождестве осет. avg с др.-иран. ар- 'вода', достигла
степени уверенности.
3. Идеосемантика вводит нас в
мировоззрение человека на различных,
зачастую весьма отдаленных,
стадиях развития общества
Каждому общественному состоянию свойственны свои
особые нормы осознания и наречения предметов и понятий
опыта. Вскрывая идеосемантику слов, которые мы
употребляем, мы тем самым устанавливаем, по каким путям шли
познавательные усилия человека в момент осознания-
наречения, а отсюда можем сделать известные выводы о
том, в какую более отдаленную или более близкую нам
эпоху происходило наречение и какие особенности
человеческого мышления и мировоззрения этой эпохи
отразились в данном наречении.
70
Осет. ?vzist, ?vzest? 'серебро' восстанавливается
в виде *zvesta и оказывается родным братом русск. звезда.
Очевидно, наречение относится к той далекой от нас
стадии, в которую металлы получали свое название почти
исключительно в семантическом круге космических
понятий: неба, солнца, луны, звезды.
Осет. az, anz 'год' восходит к индоиранскому asman-
'небо' и служит яркой иллюстрацией осознания времени
как космического, небесного цикла.
Осет. warzyn 'любить' оказывается в родстве с
русским ворожить и указывает на своеобразный и отличный
от нашего строй мышления, когда такие эмоции, как
любовь, осознавались как магическая сила, как чародейство.
Понятие идеосемантики составляет, по нашему
убеждению, нерв и душу всякого исторического исследования
в области лексики. Все, что хара к'т е р и з у е т
лексику в ее познавательной функции,
находит свое выражение в идеосеман-
т и к е.
Познавательной функции речи нередко противоставляет-
ся эмоциональная. К. О. Эрдманн3 различает в значении
слова три стороны: Grundbedeutung, т. е. основное значение,
Nebensinn, т. е. побочное значение, Gefuhlswert, что можно
перевести как «эмоциональную окраску». Многочисленные
примеры иллюстрируют положения автора. Однако, имея
в виду исторический аспект, мы не видим необходимости
проводить такое разграничение. На ранних ступенях
развития общества не было познания, которое не было бы
эмоциональным. «Бесстрастные» мыслители — продукт очень
поздних эпох, когда познание мира стало профессией
особой группы людей: ученых, философов. В
предшествующие эпохи, на которые падает почти целиком заслуга
создания человеческой речи, всякое познаваемое понятие
мыслилось в его отношении к коллективу, к его
интересам, к его судьбе, к его борьбе за существование, и поэтому
получало неизбежную эмоциональную окраску. С другой
стороны, «чисто» эмоциональное восприятие вещей всегда
заключало и некоторые познавательные элементы.
Известный исследователь Бразилии Карл фон Штейнен
сообщает о племени бакаири, что для него люди, а также
все предметы и явления мира делились на две обширные
категории: «кура» и «курапа». «Кура» — это все «наше»,
хорошее, положительное, благоприятное для племени.
«Курапа» — все «чужое», дурное, враждебное, злое. Эта
71
примитивная классификация, имея свое познавательное
значение, является вместе с тем насквозь эмоциональной.
Познавательное и эмоциональное пребывают здесь еще в
неразделенной слитности. Эта слитность со временем
нарушается, но полностью никогда не исчезает, ибо на
всем протяжении истории познание человека окрашивается
интересами личности, групповыми, классовыми и пр.
Мы можем поэтому, без ущерба для исторической
правды, относить понятие идеосемантики в равной мере
как к эмоциональному, так и познавательному содержанию
элементов речи.
*
Понятие идеосемантики, если мы не ошибаемся,
представляет интерес не только для языковеда, но и для
литературоведа и для художника слова. Предшествующие этапы
развития данного семантического комплекса могут как-то
сохраниться в семантической структуре слова, окружая его
тончайшей идеосемантической оболочкой, почти
неуловимой, да и несущественной в повседневной речи, но весьма
важной, скажем, для поэта или переводчика
художественного произведения. Можно даже сказать, что значение
идеосемантики в художественной речи особенно велико. Если в
научном языке естественно стремление употреблять слово
в его максимально точном, ограниченном, технизованном
значении, то для художника слова высшим мастерством
и достижением является, напротив,— умение заставить
играть слово всеми теми многообразными и тонкими идео-
семантическими оттенками и ассоциациями, которые оно
несет с собой из глубины своего прошлого. И при переводе
художественного произведения с одного языка на другой
часто приходится считаться в большей степени с этой
идеосемантической оболочкой, чем с технизованным
«ядром». Значение идеосемантики в художественном
переводе прекрасно понимал, между прочим, В. Г. Белинский,
когда он писал: «Близость к подлиннику состоит в пе-
редании не буквы, а духа создания. Каждый язык имеет
свои, одному ему принадлежащие средства, особенности
и свойства до такой степени, что для того, чтобы передать
верно иной образ или фразу, в переводе их должно
совершенно изменить. Соответствующий образ, так же как и
соответствующая фраза, состоят не всегда в видимой
соответственности слов: надо, чтобы внутренняя жизнь
72
переводного выражения соответствовала внутренней жизни
оригинального»4.
Здесь Белинский не только подметил нечто весьма
важное и глубокое, но и нашел для него замечательное
выражение: «внутренняя жизнь». То, что Белинский
называет «внутренней жизнью» слова, и есть наша идеосемантика.
«Внутренняя жизнь» — это звучит, может быть, не так
«философски», как «внутренняя форма». Но если бы нужно
было выбирать, мы выбрали бы определение Белинского.
В самом деле, «форма» заставляет думать о чем-то
застывшем и неизменном. Между тем, идеосемантика — это
не неподвижная форма, а именно жизнь, т. е. нечто
изменяющееся, подвижное, динамическое, как изменчива,
подвижна и динамична сама мысль. Идеосемантика в
нашем понимании не есть что-то данное раз навсегда,
предопределенное этимологией слова. Как все живое, она
возникает, развивается, отмирает с тем, чтобы затем снова
ожить на путях уже нового осмысления старой звуковой
формы. Это — вечно живой и деятельный процесс, которому
не видно предела, пока вообще существует человеческая речь.
В переводе с одного языка на другой очень часто
допускаются ошибки, о которых говорит Белинский,—
ошибки, вытекающие из незнания или игнорирования
внутренней жизни слова.
В одной переводной осетинской брошюре нам попалось
выражение ?fs?jnag disciplinee 'железная дисциплина'.
Перевод с русского совершенно точный, и возражать против
него, казалось бы, нечего. Но это выражение буквально
резануло наш слух своим несоответствием с тем, что
выражает русский оригинал. Мы не сразу осознали, в чем тут,
собственно говоря, дело. Почему осет. железо является
безупречным эквивалентом русск. железа, когда речь
идет о железной подкове, но перестает им быть, когда
речь идет о железной дисциплине? Подумав немного,
мы сообразили, что для верной передачи смысла
русского выражения надо сказать по-осетински не «железная»,
а «стальная» дисциплина. Ибо железо может служить
символом твердости, если оно противоставляется,
скажем, дереву или меди. Но если железо
противоставляется стали, то оно оказывается символом не твердости,
а мягкости. Элементарная семантика русск. железо и осет.
?fs?jnag одна и та же; но идеосемантика у них
разная. В семантике русск. железа присутствует «невидимо»
противоставление дереву (или иным более мягким материа-
73
лам), в семантике осет. железа также «невидимо»
присутствует противоставление стали. Выходит, что
семантическое содержание слова определяется не только тем,
что оно означает, но и тем, чему оно против о-
ставляется. Подобно тому, как фонологическая
структура языка держится на противоставлении одних
звукопредставлений другим, так точно его семантическая
структура определяется противоставлением одних слов-
понятий другим.
Такую связь между двумя словами-понятиями, которая
основана на противоставлении одного другому, мы будем
называть «оппозиционной» или «антагонистической».
Простейшими примерами слов-антагонистов могут служить
такие пары, как день и ночь, свет и тьма и т. п.
Наряду с антагонистическими, между словами-понятиями
существуют связи иного порядка, которые мы, за
неимением лучшего термина, будем называть «симпатическими»
и которые также входят в идеосемантическую структуру
слова. О симпатической связи между двумя словами-
понятиями мы говорим тогда, когда они при известных
условиях могут заменять друг друга. Между днем и светом,
между ночью и тьмой существует симпатическая связь,
тогда как между первой и второй парой — оппозиционная.
Антагонистические отношения между элементами речи
делают из языка в целом как бы систему оппозиций.
Симпатические, наоборот, создают предпосылки для замены
и смешения.
Оппозиция, с одной стороны, и смешение,
с другой, составляют два важнейших конституирующих
фактора речи с первых дней ее возникновения.
«Все в языке держится на противоставлениях»,—
гласит один из основных законов языка.
«Все в языке подвержено взаимозамене и смешению»,—
гласит другой основной закон.
Но ведь это — два положения, диаметрально
противоположные и исключающие друг друга! Можно ли строить
теорию языка на таком вопиющем противоречии? Можно,
потому что это противоречие есть сама действительность.
В любой момент, на любом участке языка присутствуют
в потенции обе возможности: и возможность оппозиции,
и возможность смешения. И только данная конкретная
ситуация решает, какой из этих двух противоположных
факторов вступит в действие. Два выражения, которые
в одном аспекте кажутся не имеющими между собой ничего
74
общего, в другом аспекте оказываются родственными;
вот почему так эфемерна грань между оппозицией и
смешением.
Один из любопытных выводов, к которому приводит
изучение истории слов, состоит в том, что между
симпатическими и антагонистическими связями нет
непроходимой границы. Связь, которая казалась нам
антагонистической, может в другом аспекте обернуться как
симпатическая и наоборот. «Начало» и «конец» —
антагонистические понятия, но сопоставление груз, tavi 'голова',
'начало' с gava-tave 'я кончил' доказывает, что они вместе
с тем и симпатические. «Глаз» и «ухо» могут выступать
в известных случаях как антагонистические понятия,
но сопоставление груз, quri 'ухо' с uqure 'смотри' наглядно
показывает, что они могут также заменять друг друга.
«Часть» и «целое», «единое» и «множество» оказываются
то оппонирующими, то симпатическими понятиями.
От каждого слова-понятия к другим тянется сложная
паутина симпатических и антагонистических связей,
которая образует вокруг него своеобразную и трудно
передаваемую на другой язык идеосемантическую оболочку.
То, что поддается непосредственному и однозначному
переводу на другой язык, относится обычно к «малой
семантике».Передача на другой язык идеосемантики требует очень
тонкого знания обоих языков, да и то удается лишь
приближенно. Оно и понятно, если учесть, что идеосемантика
определяется сложными внутриязыковыми связями и
отношениями, передать которые средствами другого языка
весьма трудно.
Эти связи и отношения не остаются неизменными.
Семантическая жизнь слова, с изложенной точки
зрения,выражается именно в том, что слово на протяжении всей своей
исторической жизни вступает все в новые и новые
оппозиционные и симпатические связи с другими словами-понятиями.
Не следует думать, что для самих говорящих идео-
семантические связи находятся постоянно в поле ясного
сознания. Не попадись нам неудачный перевод «железной
дисциплины», мы никогда и не догадались бы, что между
русским и осетинским железом есть какое-либо смысловое
различие. Идеосемантика может пребывать подолгу в
полуосознанном состоянии, лишь иногда и при особых
обстоятельствах, подымаясь в сферу ясного сознания.
Именно поэтому овладение всей гаммой идеосемантических
оттенков слов какого-либо языка требует чрезвычайно
75
интимного знакомства с этим языком. Идеосемантика
начинается там, где начинаются тонкости и нюансы.
Элементарное значение слова, его «малая семантика», образует
как бы скелет, и на первых порах ознакомления с чужим
языком мы имеем дело исключительно с такими
«скелетами». Лишь постепенно эти слова-«скелеты» облекаются
для нас в живую плоть и живые краски. И тогда-то мы
начинаем испытывать ту особую радость, которую дает
совершенное знание языка. Истинное очарование всякого
языка заключено в его идеосемантических тайнах. Кто
не овладел этими тайнами, тот не должен говорить, что
он знает язык.
Зато, овладев этими тайнами, вы можете сделать
любопытные открытия, касающиеся мышления и мировоззрения
народа, его исторического прошлого, его быта и культуры.
Как ни малозначителен вышеприведенный случай с
«железной дисциплиной», даже из него можно извлечь кое-какие
выводы в этом смысле. Если в одной среде символом
твердости служит железо, а в другой сталь, то не будет
большой ошибки заключить, что в этой последней среде
сталь и изделия из стали были более распространены,
чем в первой. В том и заключается золотое свойство языка,
что от него ведут живые нити и вглубь — к бытию,
вещам, материальному существованию,
и ввысь — ксознанию, мышлению, идеологии.
Выше мы отметили попутно несколько показательных
фактов. Исторический анализ осетинского слова wacajrag
'пленный' привел нас к бытию, анализ слов ?vzist
'серебро', warzyn 'любить' — к мышлению.
Итак, что же такое идеосемантика?
Идеосемантика определяется нами как совокупность
тех симпатических и антагонистических смысловых связей,
которые идут от данного слова-понятия к другим словам-
понятиям. Иными словами, идеосемантика слова
раскрывается, с одной стороны, в том, с какими другими
словами-понятиями оно мыслится или мыслилось как
родственное, близкое, взаимозаменимое; с другой стороны,
в том, каким другим словам-понятиям оно противостав-
ляется или противоставлялось как антагонистическое,
оппонирующее. Идеосемантика включает весь комплекс
сопутствующих познавательных и эмоциональных «созна-
76
чений», которыми окружено основное значение слова.
В музыке существует явление, называемое «обертонами».
Обертоны определяются как «призвуки». Это — «звуки
различных высот, сопутствующие основному простому
звуку, возникшие и сосуществующие одновременно с ним;
такое созвучие образует в результате сложный или
музыкальный звук... Как доказал Гельмгольц, тембр
каждого звучащего тела зависит от числа, состава, и
относительной силы сопровождающих основной звук
обертонов» (БСЭ).
Идеосемантика — это смысловые обертоны,
сопутствующие основному простому значению и образующие вместе
с ним одно сложное семантическое целое. Подобно тому, как
обертоны придают каждому музыкальному звучанию
особую окраску, называемую «тембром» и позволяющую
отличать звуки одного музыкального инструмента или
одного голоса от звуков другого, так точно идеосеманти-
ческие «обретоны» придают каждому слову особый
семантический «тембр», благодаря которому даже самые близкие
по основному значению слова двух языков имеют все-таки
какое-то неуловимое различие. Возвращаясь к нашему
примеру с железом, мы могли бы сказать: русск. железо
и осет. ?fs?jnag, несмотря на видимое тождество
значения, имеют различный идеосемантический «тембр».
Музыка без обертонов, как язык без идеосемантики,
представляли бы нечто безотрадное по своей бедности
и бескрасочности. Впрочем, такие предположения относятся
к области домыслов, так как представить себе слово без
идеосемантики так же невозможно, как воспроизвести
музыкальный звук без обертонов.
*
Доискиваясь происхождения внутриязыковых
семантических оппозиций, мы нередко убеждаемся, что они
коренятся в оппозициях социальных, т. е. межплеменных,
межгрупповых и т. д. Др.-инд. (ведийск.) deva означает
'божество', a asura — 'демон'. Это слова-антагонисты.
В др.-иран., наоборот, daiva означает 'демон', a ahura —
'божество'. Все говорит за то, что семантический антагонизм
слов отражает здесь антагонизм между древнеиранскими и
древнеиндийскими племенами в период их близкого
соседства. Такая же оппозиция существует в ряде других слов:
др.-инд. тагуа- 'юноша', 'возлюбленный' — др.-иран.
77
(авест.) mairya- 'негодяй'; др.-инд. grha- 'дом' — др.-иран.
Цдгэаа- 'логовище'; др.-иран. dahyu 'страна'—др.-инд.
dasyu 'враг', 'злодей', 'враждебный народ', и др. Нет
надобности подчеркивать, насколько наглядно выступает
здесь надстроечная роль языка.
Допустим на минуту, что враждовавшие когда-то
племена пошли в дальнейшем по пути сближения и
объединения. Как это отразится на вышеприведенных языковых
фактах? Следует ожидать, что антагонистическая семантика
лишится в новых условиях всякой пищи, и мы станем
свидетелями сближения, взаимозамены и смешения
когда-то оппонировавших слов.
Нарисованная нами картина не заключает ничего
фантастического или надуманного. Это то, что должно было
происходить и происходило сотни и тысячи раз в истории:
взаимоотношения сообщающихся человеческих
коллективов были серьезным фактором формирования
семантической структуры языка.
*
В нашем семантическом анализе мы исходим из про-
тивоставления «малой семантики» «большой семантике».
В первой находит свое выражение преимущественно
узкокоммуникативная функция речи, во второй —
познавательно-идеологическая. Нам хорошо известно, что между этими
двумя функциями речи никогда не было непроходимой
пропасти. Но мы убеждены также в том, что необходимость
их различения становится тем очевиднее, чем более
исторически мы подходим к языковым явлениям. Идеосеманти-
ка — в первую очередь понятие исторического языкознания.
Но поскольку историческое языкознание понимается не как
история отдельных языков или языковых групп, а как
история языкомышления, постольку идеосемантика может
сослужить службу и как понятие общего языкознания.
Применимо ли понятие идеосемантики к другим
сторонам языка, кроме лексики, т. е. к морфологии, синтаксису?
Идеосемантика — это, в конечном счете, общественная
идеология, выраженная в языке. Вопрос, стало быть, в
том — являются ли морфологические и синтаксические
категории нейтральными с точки зрения общественной
идеологии или они также носят надстроечный характер.
Н. Я. Марр не колебался в ответе на этот вопрос: «Язык
во всем своем составе,— писал он,— есть создание челове-
78
ческого коллектива, отображение не только его мышления,
но и его общественного строя и хозяйства»5.
В историческом разрезе это совершенно
правильно. »Достаточно привести в виде примера так
называемые грамматические классы, в которых очевидным
образом отражена классификация объектов, когда-то живая
и актуальная, в современных же языках сохранившаяся
большею частью в потускневшем, десемантизованном
виде.
Вскрыть идеосемантику грамматических классов в
каком-либо языке — это значит показать, какого рода
познавательные и эмоциональные отношения человека к
окружающему миру отражены в этих классах.
Идеосемантическая значимость синтаксических
конструкций также стоит вне сомнения, хотя прочных
результатов в деле выяснения идеологической, мировоззренческой
подоплеки различных строев предложения мы пока не
имеем.
Взятое в широком смысле понятие идеосемантики
покрывает, таким образом, все стороны языка, поскольку
в них раскрывается, тем или иным образом, познавательно-
идеологическая функция языка. Идеосемантика —
это все то, что характеризует язык как
идеологию.
При всем многообразии идеосемантических
особенностей отдельных языков мы находим между ними и много
общего. Иначе оно и не может быть. Поскольку
идеосемантика есть не что иное, как объективация в языке
общественной идеологии, естественно, что в самых различных языках
мы можем и должны находить сходные идеосемантические
явления и нормы, как закономерный результат сходных
условий общественного существования, мышления,
мировоззрения. Целый комплекс таких взаимосвязанных
идеосемантических норм указывает на некое единство
исторической стадии, к которой этот комплекс относится и которая
с такой же необходимостью порождает именно такой,
а не иной комплекс, с какой данные условия климата почвы
порождают именно данную, а не иную растительность.
Таким образом, если учение о «внутренней форме»
привело В.Гумбольдта к «народному духу», то учение об
идеосемантике приводит нас к «языковым стадиям». Здесь
вновь выступав! различие между нашей и гумбольдтовской
концепциями. Если «внутренняя форма» В. Гумбольдта
делает каждый национальный язык неким замкнутым ми-
79
ром, своеобразным, неповторимым и непроницаемым, то
идеосемантика, в нашем понимании, является моментом,
не только различающим, но и сближающим языки, часто
отдаленные друг от друга необозримыми пространствами
и не имеющие никакой генетической связи. Схождения
в области идеосемантики, в отличие от материальных
схождений, независимы от генеалогического родства и
возникают на основе общности условий общественного
существования и мировоззрения.
Мысль, что язык, как надстроечная категория,
проходит ряд стадий, отражающих этапы развития общества
и общественного сознания, сформулирована Н. Я. Марром.
Однако покойный ученый не успел разработать учение
о языковых стадиях с требуемой полнотой и ясностью.
Каковы основные стадии в развитии языка? Какое
общественное и экономическое состояние соответствует
каждой стадии? Какими чертами — синтаксическими, лек-
сико-семантическими, морфологическими,
фонетическими — характеризуется та или иная стадия? На все эти
вопросы убедительного ответа пока нет. Чтобы добиться
в учении о стадиях ощутимого прогресса, надо первым
долгом выяснить, какие стороны языка, какие его элементы
показательны для его стадиальной характеристики.
Ибо совершенно очевидно, что не все стороны языка в
этом отношении равноценны. Две функции языка,
идеологическая и техническая, которые мы
различаем6, порождают два типа закономерностей в его развитии,
из которых только один, связанный с идеологической
функцией речи, непосредственно и осязаемо обусловлен
развитием материального базиса, общественных отношений и
мышления, тогда как закономерности языка как техники
обусловлены базисом и мышлением лишь отдаленным
и опосредствованным образом.
Доминирующая коммуникативная функция речи, не
считающаяся с общественными и идеологическими
перегородками, требует нейтрализации целых речевых
категорий, и они нейтрализуются или «технизуются'».
Поэтому вопрос о том, показательны ли данные
элементы или явления в языке для его стадиального определения,
равносилен, с нашей точки зрения, вопросу: относятся
ли эти элементы и явления к идеологическим или
техническим закономерностям языка или, иначе говоря, имеют
или не имеют элементы и явления свою идеосемантику.
Идеосемантика — важнейший Крите-
80
рий для исторической (стадиальной)
характеристики языковых явлений.
Каждый язык в своей лексике, семантике, морфологии,
синтаксисе несет отложения разных эпох своей жизни,
и вскрываемая историческим анализом идеосемантика
различных элементов речи показывает, что в них отражена
не одна, а несколько стадий развития мышления,
мировоззрения. Следовательно, говорить об идеосемантике
языка, как целого, совершенно не приходится. Речь может
идти только об идеосемантике отдельных
элементов речи. Здесь опять выступает глубокое различие между
старым учением о «внутренней форме» и нашим пони--
манием идеосемантики. Рассматривая язык как выражение
извечного и неизменного «народного духа», В. Гумбольдт
и некоторые другие лингвисты прошлого века говорили
о внутренней форме не только отдельных слов, но и о
внутренней форме языка как целого («innere Sprachform»).
Между тем, если идеосемантика отдельного слова есть
несомненная историческая реальность, то говорить об
идеосемантике языка как целого — это значит впадать в мистику
«народного духа». Никакой самый примитивный язык
не имеет одного монолитного «духа», никакой язык не имеет
одной, выдержанной с начала до конца, идеосемантики,
никакой язык не может быть, как целое, отнесен к одной
исторической стадии.
Идеосемантический анализ, как мы видели,
предназначен вскрыть, как, по каким путям идет восприятие и
осознание человеком тех или иных понятий и отношений
общественного опыта. При этом каждый раз может
возникать вопрос: является ли вскрытая анализом
идеосемантика актуальной, живой или же отжившей,
т. е. отвечает ли она внешним, действенным и в данный
момент нормам познания и мышления, или она отражает
нормы более или менее отдаленного прошлого и до
нашего времени донесла только свою форму, тогда как
питавшее эту форму содержание уже потускнело,
выветрилось? Ответ на этот вопрос оказывается далеко не
легким и требует чрезвычайно интимного знакомства с
языком. Мы отмечали выше, что даже весьма отдаленное
идеосемантическое содержание речевых элементов может
быть донесено до наших дней в виде еле уловимой
оболочки смутных ассоциаций, окутывающих «сухое» техни-
зованное ядро значения. Незаметная в обыденной речи,
эта оболочка может быть, однако, подхвачена и ожив-
81
лена художником слова для целей поэтической
выразительности и стилевого колорита.
Каждый, подумавши, скажет, что месяц как название
небесного светила и месяц как отрезок времени — одно
и то же слово. Но можно ли утверждать, что идеосемантика
эта для каждого из нас является живой и цветущей? Вряд
ли. Если бы это было так, то мы говорили бы безразлично
«через девять месяцев» или «через девять лун», как говорим
безразлично «месяц взошел» или «луна взошла». Между
тем, выражение «через девять лун» кое-кто может и вовсе
не понять, и, во всяком случае, оно звучит как перевод
с какого-то экзотического языка.
Солнце и день — два понятия, симпатически связанные;
с этим согласится каждый. Однако эта связь для нас уже не
настолько близка, чтобы мы могли рискнуть на
взаимозамену, т. е. допустим, вместо «пять дней» сказать «пять
солнц» или вместо «солнце скрыто облаками» сказать
«день скрыт облаками». Однако то, что не позволено нам,
позволено поэту, и мы читаем у Пушкина:
Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день как будто поневоле
И скроется за край окружных гор.
Умение «играть» идеосемантикой составляет один из
главных элементов поэтического мастерства. И понятие
идеосемантики оказывается, таким образом, имеющим
прямое отношение к поэтике, к проблеме художественного
слова. Можно пойти и дальше и расширить понятие
идеосемантики в сторону всех вообще надстроечных категорий,
поскольку в них форма долговечнее содержания и поскольку
за «десемантизованной» формой
приходится вскрывать когд а-т о насыщавшее
эту форму содержание, ибо в этом именно
заключается существо историко-семантического анализа.
В этом смысле можно говорить об идеосемантике
мифов, культа, обрядов, обычаев, стилей в материальной
культуре, литературных стилей и пр.
Но здесь мы выходим уже за рамки нашей темы, которая
остается исключительно языковедной.
82
Примечания
1 Язык и мышление, VII, с. 12.
" Русск. колос родственно русск. кол, колоть.
3 Die Bedeutung des Wortes. 1925.
4 Собр. соч., т. 1. 1896, с. 299.
5 Яфетическая теория. Избр. раб., II, с. 70.
См. нашу статью «Язык как идеология и язык как техника».
Язык и мышление, XI, 1948.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
МОДЕРНИЗМ КАК
ДЕГУМАНИЗАЦИЯ НАУКИ
О ЯЗЫКЕ
Было бы неверно сводить историю советского
языкознания к уродствам сперва марровского, потом
сталинского периода. Мне уже приходилось отмечать1, что
были некоторые устойчивые идеи, которые разделялись
большинством советских языковедов независимо от Мар-
ра и Сталина. Это — взгляды на языкознание как на
общественную науку, тесно связанную с другими
общественными науками; идея о том, что развитие языка
неотделимо от развития общества; признание историзма
как важнейшего метода познания языковых явлений.
К сожалению, и эти здравые идеи не получили
свободного изложения и обоснования, так как должны были
приспособляться к «установкам» то марровского, то
сталинского периода. Мыслить же без «установок» мы к
стыду нашему отвыкли. Поэтому, когда с ликвидацией
культа Сталина разработка «сталинского учения о
языке» стала беспредметной, в советском теоретическом
языкознании явственно обозначались пустота, вакуум.
Вместе с тем расширение международных культурных связей
и обмена идей (факт сам по себе в высшей степени
положительный) способствовало тому, что в этот вакуум
устремились модные зарубежные теории, которые мы
объединяем под названием лингвистического модернизма.
ЧТО ТАКОЕ МОДЕРНИЗМ?
Модернизм, как известно, не связан специально с
языкознанием. Он охватывает все области культуры,
начиная от модной философии и кончая модными танцами.
Слово «модернизм» этимологически связано со словом
«мода», и на этот раз (что не всегда бывает) этимология
попадает в точку. Когда общество вступает в полосу
духовного кризиса, оно начинает судорожно хвататься за
все новое. Но так как это делается в условиях идейной
опустошенности и оскудения, то поиски нового идут преи-
84
мущественно по линии формы, формальных средств,
формальных приемов, формальных ухищрений,
формальных вывертов. Содержание же, если оно вообще существует,
остается крайне убогим и примитивным. Вот это и есть
модернизм.
Естественно, в разных областях модернизм принимает
разный облик, и не сразу можно уловить связь между,
скажем, модернистской философией и модернистской
архитектурой, музыкой или живописью. В
действительности такая связь всегда существует, поскольку всякий
модернизм всегда формалистичен. Он ловит
человеческие души на приманку новизны внешней, иллюзорной,
формальной. Глубины содержания в модернизме не ищите.
Вы не гарантированы от того, что то, что казалось заманчиво
новым, окажется на деле давно отжившей ветошью, лишь
облаченной в новые одежды.
Модернизм не является характерной особенностью
только современной культуры. Он периодически возникает в
истории в эпохи духовного кризиса и распада. Вспомним
хотя бы судорожные поиски новых богов и новых культов
в позднеантичном обществе, причем в роли этих «новых»
богов оказались такие престарелые восточные божества, как
Митра.
Разумеется, в каждую новуючшоху модернизм выступает
в новом идейном облачении, характерном именно для этой
эпохи. Характерной чертой нового модернизма является
открытый или завуалированный антигуманизм,
охотно облекаемый в форму стандартных восторгов по поводу
успехов техники, физики, математики: «В наш атомный
(электронный, ракетный, космический) век...» и т. д. Мания
абстрактных, формалистических схем и построений, в
которых нет места для живой и трепетной человеческой души —
вот самый общий признак современного модернизма в
литературе, искусстве и науке2.
Модернизм — явление закономерное и неизбежное
на закате всякого общества: рабовладельческого,
феодального, буржуазного. В ритме исторического процесса он
занимает прочное и постоянное место: на нисходящей
кривой общественного развития.
Развитие человеческой культуры можно себе
представить в виде генеральной магистрали, от которой время
от времени отходят модернистские ответвления. Эти
ответвления никуда не ведут, они неизменно кончаются
тупиками: новаторство форм при убожестве содержания
85
оказывается пустышкой, блефом, лженоваторством. О
таком «новаторстве» хорошо сказал Поль Валери:
новаторство — это то, что всего быстрее устаревает.
О модернизме говорят обычно в применении к
искусству. Но это понятие и все связанные и ним
характеристики применимы целиком и к общественным наукам.
Элементарной истиной является то, что в общественных
науках (в отличие от физико-математических и
технических) нет и не может быть непрерывного поступательного
движения, при котором каждое новое направление
знаменует шаг вперед по сравнению с предшествующим.
Первым условием правильной оценки продуктов
духовной культуры является отказ от линейного
представления процесса развития этой культуры. Здесь можно
говорить скорее о спиральном движении, при котором периоды
подъема и расцвета сменяются периодами деградации и
вырождения. В этом отношении развитие общественных
наук идет не параллельно развитию физико-математических
наук, а параллельно развитию философии, литературы
и искусства. Иначе оно и не может быть: ведь
общественным наукам в высшей степени свойствен
надстроечный характер, так же как философии, литературе и
искусству. Поэтому во всех этих областях чутко отражается
ритм общественного развития. Творческие периоды
сменяются эпигонскими. Когда творцы уходят, возникают
манипуляторы, которые состязаются в «новаторстве».
Формализм — излюбленная платформа такого «новаторства».
Если в технике нельзя себе представить, чтобы с
автомобиля пересели снова на телегу, то в духовной
культуре, в философии, в общественных науках это вполне
возможно, т. е. возможен возврат передовых,
прогрессивных, богатых содержанием идей и концепций к отжившим, ',.
убогим и бесплодным.
Говоря о новейших достижениях в области точных наук,
мы с полным правом называем их «последним словом науки»
или «техники». К общественным наукам такой подход:
«новейшее — значит лучшее», совершенно неприменим.
Умозаключение post hoc, ergo super hoc в применении к
общественным наукам представляет ошибку более грубую
и непростительную, чем post hoc, ergo propter hoc в логике3.
Нет, например, никаких объективных оснований ставить
лингвистические идеи Соссюра выше лингвистических
идей В. Гумбольдта.
Дать оценку тому или иному направлению в обществен-
86
ных науках, это значит прежде всего — уяснить, отвечает
ли это направление восходящей или нисходящей кривой
развития духовной культуры в целом, философии,
общественных наук, литературы, искусства. Все эти области,
в которых находит выражение общественная идеология,
в каждом обществе, в каждую эпоху тесно между собой
связаны и образуют один комплекс, который мы будем
называть гуманитарным сектором. Кто хочет
подойти к оценке состояния какой-либо гуманитарной науки,
в том числе языкознания, серьезно, объективно и глубоко,
тот ни в коем случае не должен вырывать эту науку из
«контекста» всего гуманитарного сектора и рассматривать
ее изолированно. Любое направление в одной общественной
науке следует рассматривать в неразрывной связи с
синхронными направлениями в других общественных науках,
в философии, литературе, искусстве, а также в свете общих
закономерностей развития всего гуманитарного сектора.
ЧЕМ ЖИВЕТ ГУМАНИТАРНЫЙ СЕКТОР?
Гуманитарный сектор живет одной жизнью. Эта
истина не всеми признается. Мне случается вести горячие споры
с некоторыми товарищами, которые недоумевают, какая
может быть связь между направлениями, скажем, в
живописи и музыке и направлениями в философской,
исторической или лингвистической науке. А между тем именно
советские люди, лучше чем кто-либо, могли познать на своем
опыте, что значит единство гуманитарного сектора.
Вспомним период так называемого культа личности. Что тогда
происходило? Чем занимались многие представители
гуманитарного сектора? Философы производили глубокие изыскания
о несуществующем вкладе Сталина в философию и
называли его «корифеем науки». Историки превозносили сверх
всякой меры исторические заслуги Сталина. Лингвисты
начинали любую статью на любую тему дифирамбами
по адресу Сталина. И в это же время поэты и писатели
вносили свою посильную лепту в прославление Сталина.
Кинорежиссеры посвящали ему бездарно-помпезные
фильмы, живописцы — бездарно-помпезные картины;
скульпторы понаставили по всей стране множество
однообразно «величественных» монументов Сталину; композиторы
сочиняли кантаты о Сталине; фольклористы под видом
народных песен о Сталине распространяли собственную
стряпню и т. д. и т. п.
87
Короче — весь гуманитарный сектор, т. е. общественные
науки, плюс литература, плюс искусство, в лице их
отдельных представителей, выступал единым фронтом, под знаком
культа личности.
То, что мы могли наблюдать у себя в недавнем прошлом,
повторяется — разумеется не в такой грубой, примитивной,
карикатурной форме — во все исторические эпохи: весь
гуманитарный сектор, сознают это его деятели или нет,
бывает пронизан одним духом, господствующим духом
данной эпохи и данного общества4. Своеобразие античного
мироощущения мы распознаем в «Илиаде» и «Одиссее»,
в творениях Фидия и Праксителя, в трагедиях Софокла
и в диалогах Платона. Как нечто единое и цельное встает
перед нами и гуманитарный мир средневековья, начиная
от «Summa theologia^» Фомы Аквинского и кончая
архитектурой Собора Парижской богоматери.
Как ни усложнилась картина идеологической жизни
общества в новое время, все же и здесь мы видим, как
некоторые господствующие течения накладывают отпечаток на
самые различные сферы гуманитарной области.
Такие направления, как романтизм и реализм,
характеризовали не только литературу и искусство, но и
общественные науки. Романтизм братьев Шлегелей, братьев
Гриммов, В. Гумбольдта был сродни романтизму Шиллера
и Гете, Бетховена и Шуберта; так же как философский
материализм Маркса был сродни реализму Бальзака и
Стендаля.
Современный модернизм представляет такое же общее
для всех гуманитарных областей явление, как романтизм
или реализм5. Вот почему лингвистический модернизм
нельзя рассматривать как что-то изолированное. Он
примыкает, с одной стороны, к модернистской философии и
социологии, с другой — к модернистскому искусству и
литературе.
МЛАДОГРАММАТИЗМ И СТРУКТУРАЛИЗМ
Как мы уже говорили, формализм является
важнейшим опознавательным признаком модернизма в любой
области.
Следует сразу же оговориться, что термин «формализм»
сам по себе не заключает ничего порочащего. Формализм,
как преимущественный интерес к формальной стороне
явления, ни в какой мере не является одиозным: форма
88
заслуживает такого же пристального внимания и изучения,
как и содержание. Формализм становится неприемлемым,
когда он выступает как идеология, т. е. когда он
пытается выдать форму явлений за их сущность или
проповедует непознаваемость сущности (субстанции). Именно
эта черта и определяет и объединяет разнообразные
направления модернизма. Такие, казалось бы, очень
различные философские течения, как неопозитивизм, прагматизм,
феноменологизм (гуссерлианство), экзистенциализм,
на деле совсем не так далеки друг от друга. Все они, так
или иначе, открыто или завуалированно, проповедуют
непознаваемость объективной действительности.
Здесь и в дальнейшем мы будем говорить о формализме
именно в таком смысле; не как о методе или приеме в науке
и искусстве, а как об идеологии.
Формализация языкознания отчетливо наметилась еще
в конце прошлого столетия в младограмматической школе.
Выразилось это в постепенном отходе от широких
обобщений первого периода сравнительно-исторического
языкознания, отходе от того, что можно назвать гумбольдтовской
проблематикой, в сосредоточении внимания на формальной
стороне языка, в фетишизации «звуковых законов» и т. п.
Историзм основоположников сравнительного
языкознания выступает у младограмматиков в выхолощенном
виде. В. Гумбольдт и Я. Гримм говорили о неразрывной
связи истории языка с историей и культурой народа.
Младограмматики фактически игнорируют эту связь. «Они,
например, не видят никакой связи между развитием
французского языка и историей французского народа, его борьбой,
религией, литературой, его обычаями и жизнью. Ничего не
связывает их с французским народом, французской
историей, французским мировоззрением. Младограмматическая
лингвистика — это лингвистика в абстракции, в пустоте»
(Дж. Бонфанте). Такая характеристика с еще большим
правом применима к структурализму.
Структурализм подхватил и развил эти
абстракционистские и формалистические тенденции младограмматизма.
Структурализм — детище младограмматической школы.
Гораздо в большей степени, чем младограмматизм,
структурализм — лингвистика в пустоте6. Ф. де Соссюр
не мог выйти ни из Гумбольдта, ни из Шухардта. Он мог
родиться только в недрах младограмматической школы'.
Согласно ходячему мнению, структурализм и
младограмматизм — антиподы: атомистическому подходу к языку
89
у младограмматиков Соссюр противопоставил системный
подход. Такая оценка взаимоотношений младограмматизма
и структурализма скользит по поверхности. Между
атомистическим формализмом и формализмом системным нет
никакой пропасти. Пропасть лежит между формальным
и неформальным изучением языка. Подчеркивая и
выпячивая второстепенный водораздел между младограмма-
тизмом и структурализмом, можно «не заметить» основной
водораздел между языкознанием как общественной наукой
и языкознанием, которое перестает быть общественной
наукой. Не заметить того, что тенденция к изоляции
языкознания от гуманитарного круга ясно определилась еще
во время расцвета младограмматической школы.
Что язык есть система, а не механическая сумма
разрозненных элементов, было очевидно еще для В.
Гумбольдта. Гумбольдт ясно видел «взаимозависимые связи»
в языке. Он протестовал против того, чтобы «разбивать
язык на куски и по этим обломкам описывать». «Язык,—
утверждал он,— это организм и,как организм,он должен
изучаться в своей внутренней связи». Лишь по первому
впечатлению «язык представляет бесчисленное множество
частностей... Надобно отыскать общий источник всех
частностей, соединить все разрозненные части в одно
органическое целое».
Взгляд на язык как на систему настолько ясно выражен
у Гумбольдта, что если бы для Соссюра это было
главно е, он прямо и назвал бы себя продолжателем
Гумбольдта. Между тем Соссюр, судя по его «Курсу», не чувствует
никакой преемственной связи с Гумбольдтом. И он
совершенно прав. Никакой связи и нет. Соссюр продолжает
не Гумбольдта, а то антигумбольдтовское
формалистическое направление, которое определилось в
младограмматической школе.
Специфическим для соссюрианства является не учение
о языке, как о структуре, а:1 ) взгляд на язык как на
замкнутую систему знаковой техники, не связанную с
объективной действительностью; 2) признание реального значения
только за чистыми отношениями, независимо от характера
и значения соотносимых величин; 3) разрыв между
синхронией и диахронией, т. е. отказ от исторической точки
зрения, явившейся величайшим завоеванием науки первой
половины Х1Хв.
В структурализме, как и в любом научном направлении,
надо различать внешнюю, декларативную сторону и внут-
90
реннюю, мировоззренческую сущность. Ошибка некоторых
наших языковедов состояла в том, что они приняли
видимость за суть. Они не распознали, что сущность
структурализма — не в системном рассмотрении языка, а в д е-
гуманизации языкознания путем его
предельной формализации. Не заметили и того, что
дегуманизация языкознания — лишь одно звено в общем процессе
дегуманизации культуры. Какую бы гуманитарную область
мы ни взяли, везде наблюдаются одни и те же тенденции
формализма и антигуманизма: в философии, социологии,
истории, литературоведении. В формалистических вывертах
дегуманизируются - и вырождаются музыка, живопись,
скульптура, художественная литература. Именно в этом
состоит, как мы отмечали, самая общая и самая
характерная черта современного модернизма.
Соссюр не делает никакой тайны из того, что в
понимании сущности языка он выступает как принципиальный
и последовательный формалист (имея в виду формализм
как идеологию, а не как интерес к форме). «Язык есть
форма, а не субстанция»?— говорит Соссюр. При этом
остается неясным, формой какой субстанции является язык
и какая наука должна изучать ту субстанцию, чьей формой
является язык.
Элементы языка, по Соссюру, существуют не сами по
себе, а лишь через те формальные отношения, которые
между ними устанавливаются. Эти отношения, в свою
очередь, не соответствуют ничему в объективной
действительности, они определяются целиком внутриязыковой
формально-реляционной системой.
Идеи Соссюра о языке как системе «чистых отношений»
получили дальнейшее развитие и логическое завершение
в работах копенгагенской школы (Брёндаль, Ульдалль
и особенно Ельмслев). Это и есть то, что можно назвать
подлинным, «классическим» структурализмом.
К структурализму относят также, не вполне правомерно,
направление, вышедшее из пражского лингвистического
кружка, а также американскую дескриптивную
лингвистику. Эти два направления в своих истоках никак
не связаны с Соссюром, хотя в дальнейшем испытали
на себе его влияние.
У колыбели пражской школы стоит учение о фонеме
как смыслоразличительной единице — замечательное
открытие, которое вошло в железный фонд науки о языке
на вечные времена. Суть этого открытия состоит в том.
91
что, хотя в потоке речи реализуется бесконечное
разнообразие звучаний, говорящими осознаются не все различия
между звуками, а лишь те, которые служат для
различения значения, для различения слов и морфем. Иначе
говоря — ведущим и организующим началом в фонетике,
как и вообще в языке, является семантика. В языке
нет другой доминанты, кроме значения,— вот истинный
смысл учения о фонеме.
Пражская школа сильна тем здоровым зерном, которое с
самого начала было в учении о фонеме как смыслораз-
личительной единице. К сожалению, на это здоровое зерно
наросло со временем много пустых формалистических
построений, в которых была забыта и похоронена
первоначальная идея о семантической доминанте языка.
Оправдались слова Энгельса о двух типах ученых: одни распутывают
сложное, другие запутывают простое. Создатели учения
о фонеме проделали первую работу, их преемники отдают
свои силы другой. В результате ложного и крайне
гипертрофированного развития фонология стала перерождаться
в схоластическую доктрину, которую пытались затем
перенести на другие стороны языка и сделать универсальной
лингвистической теорией. Между тем такой перенос
совершенно неправомерен. Звуки речи (фонемы) сами по себе
не соотносимы с данными опыта, и их система определяется
внутриязыковыми корреляциями. Иное дело лексика. Ее
элементы очевидным образом соотносятся с элементами
опыта и объективной действительности и отражают в
конечном счете их структуру. Промежуточное положение между
фонетикой и лексикой занимают морфология и синтаксис,
в которых своеобразно и причудливо переплетаются и
взаимопроникают, с одной стороны, соотносимые с опытом
познавательные элементы, с другой — элементы условно-
знаковые (реляционные). Вот почему структура «чистых»
отношений, на которой строится фонология, неприменима
ни к морфологии и синтаксису, ни, тем более, к лексике.
Соотносимость фактов языка с фактами опыта и
объективной действительности — не случайный момент, а самый
существенный. Можно представить себе язык, в
котором были бы только такие различия (оппозиции), которые
соотносимы с различиями в объективной действительности,
но не было бы «чистых» (внутриязыковых) отношений.
Такой язык успешно выполнял бы свою общественную
функцию. Но нельзя представить себе язык, в котором
были бы только «чистые» отношения, никак не связанные
92
с данными опыта и объективной реальности. Такой «язык»
был бы для общества совершенно бесполезен и годился
бы разве для игры, вроде игры в лото или карты. Иными
словами: язык, его общественная ценность держится
не на внутренних корреляциях, а на корреляциях с данными
опыта.
Фонология, с этой точки зрения,— еще не язык, как
наборная касса типографии — еще не книга.
Поэтому ничем нельзя оправдать перенос
фонологических моделей «чистых отношений» на другие классы
языковых явлений.
Таким образом, характеризуя развитие пражской
школы структурализма, мы можем наметить в нем три
этапа: первый, блестящий — разработка учения о фонеме
как о смыслоразличительной единице; второй —
постепенный отрыв этого учения от языковой реальности и
превращение его в формализованную схоластическую доктрину;
третий — попытка распространить эту доктрину на другие
стороны языка.
Первоначальная простая и ясная идея фонологии
навсегда сохранит свое значение, а накрученные на нее
схоластические схемы отпадут, как ненужная шелуха.
Американская дескриптивная лингвистика выросла из
опыта и потребностей возможно точного и экономного
описания индейских языков Америки. В отличие от
европейского языкознания, которое описывало языки, имеющие
историю, и вольно или невольно вносило в свои описания
историческую точку зрения, американисты вынуждены были
вырабатывать приемы описания, более пригодные для
языков, не имеющих истории (точнее —история которых
неизвестна), и здесь во многом преуспели. Если бы
единственной или главной задачей языкознания было описание
языков, не имеющих истории, у дескриптивистов можно
было бы кое-чему поучиться. Но поскольку это не так,
претензии дескриптивистов на универсальное значение
выработанных ими приемов лишены основания.
Вынужденный неисторизм пионера американской лингвистики
Ф. Боаса возведен в принципиальный антиисторизм его
преемниками, и это вводит американскую дескриптивную
лингвистику в русло лингвистического модернизма8.
Однако подлинными представителями лингвистического
модернизма являются, как выше сказано, прямые
продолжатели Соссюра — датские структуралисты.
93
ГЛОССЕМАТИКА — ОБРАЗЕЦ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МОДЕРНИЗМА
Из всех разновидностей структурализма следует
предпочесть самый логичный и последовательный, так как
он наиболее надежно и уверенно ведет к абсурду. Таким
именно является структурализм копенгагенской школы.
Теория языка строится в этой школе чисто дедуктивно.
Мечтою Ельмслева является, по его собственным словам,
«имманентная алгебра языка», такая лингвистическая
теория, которая «сама по себе независима от опыта» и
«исходит исключительно из формальной системы
предпосылок». Лингвистические определения должны, по его мнению,
носить «строго формальный», а не реальный характер.
Они, как в математике Гильбердта, должны давать
«систему фигур выражения без всякого учета их содержания».
Его интересуют не конкретные языки с их неповторимой
исторически сложившейся индивидуальностью, а то
«постоянное, что не связано с какой-либо внеязыко-
вой реальностью». «Никакое сходство или различие между
языками не бывает основано на факторах, внешних по
отношению к языку... Любые возможные внутренние
разграничения присущи форме, а не материалу. Материал сам
по себе недоступен для познания». Ельмслеву вторит
Ульдалль: «С научной точки зрения вселенная состоит
не из предметов или даже материи, а только из функций,
устанавливаемых между предметами... Материя как таковая
совершенно не принимается в расчет».
Философская сущность этих утверждений настолько
очевидна, что было бы пустой тратой времени заниматься
их комментированием. Чтобы не было все же на этот счет
никаких сомнений, я сопоставлю некоторые синхронные
высказывания структуралистов, с одной стороны, и модных
философов, с другой. Как мы видели, Ельмслев и Ульдалль
утверждают, что материал недоступен познанию. А вот что
пишет английский философ Беннет в своих «Основах
естественной философии»: «Познанию доступны не
реальность, не факты, а только функции. Мы не можем знать,
что представляют собой вещи, мы можем только знать,
какую функцию они выполняют в данный момент». Лингвист
и философ говорят одним языком. А ведь приходится
слышать утверждения, что структурализм не связан ни с
какой философией! Или вот еще одна параллель.
Структуралист Брёндаль пишет: «Нельзя выводить состояние языка
94
из его истории». А философ Беннет, возможно, даже не
подозревая о существовании Брёндаля, говорит буквально
то же самое: «Мы постоянно впадаем в заблуждение,
полагая, что знать историю чего-либо реально сущего — это
значит подойти к познанию его сущности». Это не
случайные совпадения. Это определенная философия,
философия антиисторизма, философия агностицизма.
Датские структуралисты сожалеют, что лингвистическая
наука была до сих пор «под сильным влиянием
гуманитарных наук» и стремятся освободить ее от этого влияния.
Ульдалль считает, что в гуманитарных науках «слишком
силен человеческий фактор» и это мешает им стать точными.
То, к чему должен стремиться лингвист,— это изгнать из
своей науки «человеческий фактор». Путь к этому очень
прост. «Если устранить «вещи» (т. е. объективную
реальность — В. А.), то и человек, который является прежде
всего «вещью» — в действительности даже прототипом
любой вещи,— будет также устранен». Когда из науки
о языке будут изгнаны история, объективная реальность
и сам человек, тогда и будет достигнут заветный идеал:
будет «поглощен весь привычный осязаемый мир и не
останется взамен ничего, кроме клубка абстрактных
функций»9.
Глоссематика Ельмслева своей полной оторванностью
от всякой реальности ошарашила даже многих склонных
к структурализму лингвистов. В настоящее время эта
наиболее последовательная и верная своему
родоначальнику разновидность соссюрианства уже вошла в полосу
упадка и скоро будет, надо полагать, предана полному
забвению.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДА
Математические (статистические) методы давно
применяются в языкознании и полностью себя оправдывают.
В виде примера могу сослаться на более близкую мне
область исторической лексикологии и этимологии. Подсчет
различных слоев лексики: исконного наследия,
субстратных и ареальных элементов, заимствований из различных
языков, позволяет сделать важные выводы о происхождении
языка и о его культурных связях и удельном весе
испытанных им влияний.
Интересным, хотя, по-видимому, не вполне точным,
является метод так называемой глоттохронологии, когда
95
время распада языковой общности, от которой произошли
данные родственные языки, определяется по тому, какой
процент основного лексического фонда она удержала:
чем меньше этот процент, тем в более глубокую древность
приходится отодвигать время распада.
Следует всячески приветствовать и поощрять такое
использование математических методов. Оно дает зримые
плоды, ведет к значительным историческим выводам и
придает этим выводам большую убедительность и точность.
Обширное поле открыто для математических и
машинных методов в прикладной лингвистике. Можно думать, что
такие работы, как составление словаря писателя, на что
уходит сейчас труд целых коллективов в течение ряда лет,
будут со временем выполняться машинами в несколько
минут.
Дает ли, однако, все это право говорить о какой-то
особой науке, «математической лингвистике»?
Историку и археологу постоянно приходится иметь дело
с хронологией, т. е. опять-таки с математикой. Но это не
приводит, однако, к появлению новых наук: математической
истории и археологии. При любом применении
математических методов, какой бы размах оно ни приняло,
языкознание остается самим собой, т. е. общественной наукой.
Шумиха, поднятая вокруг «математической
лингвистики», соблазнила многих из «малых сил». В большом числе
появляются работы, полные самых нелепых вычислений
с применением элементарной и высшей математики (ведь
подсчитывать можно что угодно и как угодно). При этом
авторы не задаются вопросами, зачем это нужно, что это
дает? Какую существенную сторону языка или его истории
оно раскрывает? Такие «труды» воспринимаешь как
пародию и на математику,и на лингвистику. Язык как
общественная категория в них отсутствует, а математический
аппарат, примененный явно не по назначению, работает на
холостом ходу. Скрещение псевдолингвистики с
псевдоматематикой — вот сущность «математической лингвистики».
Все, что существует в пространстве и времени,
поддается измерению и исчислению и поэтому может быть
объектом приложения математических приемов. Но надо же
отдать себе отчет, в чем познавательная ценность
производимых вычислений, не превращать их в самоцель.
Когда при мне превозносят большую точность
математических методов безотносительно к ценности
получаемых результатов, я спрашиваю по простоте: а зачем
96
мне с большой точностью знать то, что мне совсем не
нужно? не лучше ли, пусть с меньшей точностью, но знать
вещи действительно нужные?
В одних науках математические формулы позволяют
уяснить самую сущность явлений (это касается в
особенности физических и химических явлений), в других — они
отражают лишь чисто формальные и случайные отношения.
В последнем случае математизм становится лишь наиболее
абстрактной разновидностью формализма.
Мы наблюдаем сейчас усиленное раздувание
«количественных методов» по всему гуманитарному сектору.
Это — одна из характерных черт современного модернизма.
Модные социологи, например, вместо серьезного анализа
общественных отношений, преподносят вам серию
цифровых таблиц и вычислений и выдают это за последнее слово
социологии10.
Была бы охота и досуг, можно применить
«количественное» пустословие к любой гуманитарной области, например,
литературе или музыке. Можно, например, подсчитать,
сколько раз встречается в произведениях Пушкина тот
или иной синтаксический оборот или художественный
образ, или метафора, или сравнение и т. д., и результаты
этих подсчетов представить в виде математических
таблиц. Возможно, что такие таблицы не будут даже
лишены какого-то интереса. Но дадут ли они хотя бы намек
на социальную значимость творчества Пушкина, на его
роль в истории русской культуры. Такие математические
упражнения в области литературы были бы с полным
правом оценены как псевдолитературоведение.
Или возьмем музыку. В ней, как известно, все построено
на математических отношениях. Не составило бы особого
труда представить, скажем, увертюру к «Руслану и
Людмиле» в виде цепи числовых показателей. Но разве эти
цифры дали бы отдаленное представление о чарующей
прелести этой увертюры или о роли музыки Глинки в
развитии русской национальной культуры? Разве не правы
были бы те, кто назвал бы подобное математическое
музыковедение лженаукой?
А вот к языку, который является таким же
достоянием духовной культуры человечества, как литература
и музыка, подобные упражнения не только применяются,
но и принимаются всерьез и даже рекламируются как
последнее слово науки.
Говорят, что математическая лингвистика нужна для
4 В. И. Абаев
97
машинного перевода. Очень хорошо. Машинный перевод,
если опыты увенчаются успехом, будет большим
техническим достижением. В свое время крупным достижением
была стенография. Шутка сказать — записывать речь
с такой же скоростью, как она говорится! Стенография
потребовала особого подхода к членению речи с точки
зрения частотности и повторяемости составляющих ее
элементов и пр. Однако никто не говорил, что стенография
открыла новую эру в теоретическом языкознании. Никто не
выступал с требованием, чтобы все языкознание
перестроилось применительно к нуждам стенографии. Машинный
перевод также требует особого подхода к анализу речи
с точки зрения частотности, дистрибуции и пр., чтобы ее
удобнее было «закладывать» в электронную машину. Но нет
никакой необходимости перестраивать все языкознание
применительно к нуждам машинного перевода, как не было
такой необходимости применительно к нуждам
стенографии. Рыбоконсервная промышленность тоже выработала
особые приемы членения рыбы, чтобы ее удобнее было
укладывать в консервные банки. Но, насколько я знаю,
работники рыбоконсервной промышленности никогда не
претендовали, что они открыли новую эру в ихтиологии
как наухе. Машинный перевод, как стенография, стоит
в стороне от основных проблем теории и истории языка,
и впутывать их сюда нет никакой надобности. Надо всячески
поддерживать и развивать любые новые методы и приемы
описательной и прикладной лингвистики, если они
оправдывают себя на практике. Но нельзя думать, что
с появлением каждого такого нового приема надо заново
перестраивать теоретические основы языкознания.
Формальные и математические методы, поскольку их
полезность будет подтверждена опытом, найдут применение
в различных областях, нимало не затрагивая
теоретическую, философскую базу гуманитарного языкознания.
Увлечение математикой и попытки толковать все
явления в математических понятиях бывали в истории Fie
раз, особенно в периоды расцвета и крупных успехов
математики. Такими энтузиастами математики были, в
частности, древние пифагорейцы. Проф. А. Ф. Лосев в книге
«Античная музыкальная эстетика» (с.20—21) пишет:
«Мышление пифагорейцев... никак не могло отделаться
от восторга перед числовыми операциями и старалось
повсюду находить по преимуществу количества и числа».
В некоторых нынешних лингвистах нетрудно опознать
98
современных пифагорейцев. Они никак не могут
отделаться от восторга перед числовыми операциями. Стремление
пифагорейцев переводить на язык математики все, что
угодно, вызывает теперь только снисходительную улыбку.
Пройдет время, и такую же улыбку будут вызывать многие
современные труды по «математической лингвистике».
Однако, не ожидая суда потомства, мы должны уже
сейчас сказать, что «неопифагорейские» увлечения
лингвистов математическими операциями не так невинны, как
может показаться. Во-первых, полезная отдача этих же
операций, как в теоретико-познавательном плане, так и в
прикладном, в большинстве случаев слишком незначительна
по сравнению с затраченным временем и трудом.
Во-вторых,— и это главное — в языкознании, как и в других
общественных науках, количественные показатели
неспособны выявить самое главное — качественное своеобразие
явлений. Самое тонкое, самое глубокое, самое
человеческое, а потому самое важное в языке остается за
пределами применения чисто математических приемов.
Поэтому «математическая лингвистика», поскольку она
претендует на познание сущности языка через математический
аппарат, становится источником великого заблуждения.
Следует помнить, что если в физических явлениях
математика — это путь приближения к действительности,
то в гуманитарной области — это сплошь и рядом способ
ухода от действительности. Именно с этой точки зрения
надо оценить тот факт, что вся современная западная
философия все больше пропитывается математикой.
Стремление подвести весь гуманитарный комплекс под
абстрактные математические формулы и определения —
это выражение того самого бегства от истории, от
реальности, от человеческого фактора, которое является
характерным признаком заката современной западной
философии, общественных наук, литературы и искусства.
Абстракционизм в языкознании и абстракционизм
в искусстве — это явления одного порядка, и только слепой
может не видеть их внутреннего родства. Когда говорят,
что искусство независимо от объективной реальности,—
это есть абстракционизм в искусстве. Когда говорят, что
язык надо изучать независимо от объективной
действительности,— это есть абстракционизм в лингвистике. Как
абстракционистское искусство есть искусство в пустоте,
так модернистская лингвистика есть лингвистика в пустоте.
Если языковед-модернист утверждает, что язык подле-
4*
99
жит истолкованию в математических понятиях, то
буквально то же самое говорит искусствовед-модернист:
«Абстракционистские фигуры воплощают математические
понятия» («Курьер ЮНЕСКО», июль-август 1961г.).
Оказывается, задача искусства — изображать не человека,
не объективную действительность, а математические
понятия!
ЧТО ТАКОЕ ОТСТАЛОСТЬ?
В модернистские эпохи получает большое
распространение одна опасная душевная болезнь: боязнь показаться
отсталым. Особенно страдают от нее модные девицы.
Не успеешь, скажем, освоить прическу «я у мамы дурочка»,
как надо уже переключаться на «конский хвост», потом
на «копну» и т. д.
Или взять танцы. Только успела втянуться в румбу,
как надо переходить на самбу; освоила самбу, а тут узнает,
что «там» уже танцуют рок-н-ролл, потом твист и т. д.
Грустно, что эта болезнь поражает не только молодых
девиц, но и солидных ученых, в том числе и языковедов.
В лингвистике есть свои румбы и самбы, т. е. в общем
модернистском потоке то и дело появляются какие-нибудь
новые течения и завихрения. И некоторые ученые ужасно
боятся отстать от этих завихрений.
Что же такое отсталость? Что такое традиционность
и новаторство?
Романы М. А. Шолохова, если подойти к ним с меркой
модернистской литературы, представляют верх
старомодности и отсталости. И однако же мы не стыдимся, а
гордимся тем, что у нас есть такой писатель, как Шолохов. Мы
гордимся тем, что Шолохов вместо того, чтобы бежать
вдогонку за европейско-американскими сюрреалистами,
экзистенциалистами и абстракционистами, спокойно и
уверенно продолжает традиции классической русской
литературы Х1Хв.
Наши биологи не стыдятся называть себя учениками
Дарвина, а наши социологи — учениками Маркса,
ученых Х1Хв.
Таковы некоторые образцы традиции.
О таких традициях мы можем, не боясь обвинения
в отсталости, сказать в полный голос: да, это —
традиционное и потому передовое.
Теперь посмотрим, что такое новаторство.
.
100
Родоначальник структурализма Соссюр писал:
«Лингвистика слишком большое место уделяет истории; теперь
ей предстоит вернуться к статической точке зрения
традиционной грамматики». Вернуться к статической
грамматике Пор-Рояля, т. е. к XVIIb.— вот, оказывается,
сущность соссюровского новаторства. Правда, статический
формализм пор-рояльских ученых был вынужденный —
ведь они не имели еще понятия об историческом, т. е.
подлинно научном языкознании. Отсюда «казуистика и
произвольность, порождаемые отсутствием исторического
основания» (Энгельс). У Соссюра же и его
последователей формализм сознательный, принципиальный.
Идея историзма, совершившая революцию в науке
Х1Хв. на высшем подъеме буржуазного общества, стала
бельмом на глазу на закате этого общества. Против
историзма, за возврат к миропониманию до Х1Хв. ратуют
философы и социологи, историки культуры и лингвисты.
Мы уже приводили суждение философа Беннета и
лингвиста Брёндаля. Фольклорист А. Ван-Женнеп заявляет:
«Фольклор не есть часть истории — мы только теперь
постепенно исцеляемся от мании историзма Х1Хв.»".
Итак, новаторство в понимании современного
модернизма состоит главным образом в возврате к воззрениям
до Х1Хв.
Соссюр мог бы указать, как на образец, не только на
французскую грамматику XVIIb., но и на санскритскую
грамматику Панини IVb. до нашей эры: это отличный
пример «статической точки зрения».
Подобные казусы нередко случаются с модернистами:
думает, что шагнул на 100 лет вперед, а на поверку
оказывается, что вернулся на несколько тысяч лет назад.
Рецидив пифагорейского увлечения математикой —
явление того же порядка.
Известно, что некоторые модернистские художники
открыто или втайне подражают рисункам
палеолитического' человека. По их мнению палеолитическое — это и
есть современное 12.
Известно также, что современная джазовая музыка
выросла на ритме и интонациях примитивных
негритянских мелодий.
Такова истинная цена модернистского новаторства.
Сплошь и рядом модернистское «новаторство» сводится
к мыльным пузырям новой терминологии13. Мания
терминотворчества — характерная черта модернизма.
101
Давно известные вещи, облаченные в пестрый наряд
самосильно придуманных или притянутых из другой области
псевдонаучных терминов, преподносятся как открытие
или новый подход. Таким приемом старая телега выдается
за ультрасовременную ракету. Убожество «плана
содержания» модернист тщится замаскировать рассчитанной
на эффект новизной «плана выражения». Этой цели служит
как заумная терминология, так и математический аппарат,
или комбинация того и другого. Модернизм насаждает
«недоверие к ясности и простоте... Поражаешься, какое
пустословие можно выдавать за науку» (Л. Понтрягин.
О математике и качестве ее преподавания. «Коммунист»,
сентябрь 1980, с. 101).
Выставляя себя носителем «последнего слова», будь то
в искусстве или науке, модернизм в борьбе с
противниками прибегает всегда к одному и тому же приему: пытается
третировать их как «отсталых», «ретроградов», «рутинеров»,
«консерваторов» и т. п. Не будем бояться этих слов.
Отстаивая позиции реализма против декадентства, В. Б.
Стасов писал: «Нас хотят перекрестить в новую веру по части
искусства! Кто хочет? Зачем хочет? Хотят декаденты...
Они затеяли декадентский журнал издавать и, в виде
программы, заблаговременно объявляли в печати: «Мы
(русские) представляемся в Европе чем-то устаревшим и
заснувшим на отживших преданиях»... У нас нашлись люди,
которые перепугались «страшных» слов, пришли в ужас
от боязни попасть впросак, попасть не в такт, что-то
исповедовать «вопреки Европе», наперекор тому, что в
хороших местах, у бар, делается»14.
А. Швейцер («Культура и этика». М., 1973, с.216)
писал о Гете: «Его величие в том, что он в эпоху
абстрактного и спекулятивного мышления имел смелость
оставаться элементарным».
Истинное новаторство органически вырастает из
предшествующего развития и потому никогда не выпячивает
и не афиширует свой новаторский характер15. Вот что
говорил о моде в науке небезызвестный новатор А.
Эйнштейн:«...! сап never quite understand why fashion, parti-
cularly in periods of change and uncertainty, plays almost
as significant a role in science as in women's clothing. In every-
.thing, man is indeed an all too suggestible animal».
Модернистское «новаторство» — всегда умышленное,
нарочитое, и поэтому оно оказывается иллюзорным и
эфемерным. От традиции такое «новаторство» отличается,
главным образом, тем, что быстрее устаревает.
102
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ .
НА РАСПУТЬЕ
Советское теоретическое языкознание переживает
ответственный момент. Создавшаяся к середине 50-х
годов обстановка идейного вакуума способствовала
некритическому восприятию нахлынувших с запада
модернистских идей. Это был период, когда многие молодые ( и не
только молодые) люди, воскликнув: «Ах, как мы отстали!»,
кинулись осваивать модные прически, модные танцы и
модные патефонные пластинки. В это же время многие
молодые (и не только молодые) лингвисты с тем же голосом («ах,
как мы отстали!») кинулись осваивать модернистские
направления в лингвистике. Разумеется, советские
лингвисты знакомились и со многим ценным, что создавалось
за рубежом и чего мы не знали из-за нашей оторванности.
Положительная сторона этого процесса состояла в том, что
повышался общий уровень лингвистической грамотности.
Этот уровень был в предшествующий период очень невысок.
Можно было только радоваться наступившему оживлению
лингвистической работы, расширению ее тематики.
Недоставало одного, но, пожалуй, самого главного:
самостоятельной, прочной идейной основы, которая давала
бы общее направление советскому языкознанию и
определяла его лицо. В этом отношении наше языкознание
оказалось безоружным и беспомощным. Ни з какой другой
общественной науке не наблюдалось у нас такого идейного
разброда. Лучшее представление об этом разброде дает
журнал «Вопросы языкознания», по существу
единственный теоретический орган советского языкознания.
У всех на памяти тот небывалый подъем интереса
к вопросам языкознания, который наблюдался у нас в
период и после дискуссии 1950 г. На гребне этого подъема
журнал «Вопросы языкознания» мог стать одним из самых
любимых и популярных научных журналов советской
интеллигенции. Для этого нужно было одно: уделять
больше места проблемам, которыми живо интересуются
миллионы советских людей, таким, как язык и общество,
язык и история, язык и мышление, происхождение языка
и начальные этапы его развития, язык как общественное
сознание, историческая семасиология, вопросы субстрата
и этногенеза, и другие проблемы большой лингвистики,
т. е. лингвистики, тесно и неразрывно связанной со всеми
общественными науками. Именно в разработке этих
юз
проблем выступает с неотразимой силой превосходство
нашей методологии, только они могут нам обеспечить
ведущее положение в мировом языкознании и сделать
наш лингвистический журнал теоретическим органом
прогрессивных языковедов всего мира.
«Вопросы языкознания» стал журналом по
преимуществу малой лингвистики, лингвистики «в себе и для
себя».
Языкознание может быть либо очень широкой, либо
очень узкой и замкнутой наукой. В первом случае оно
становится одной из самых содержательных, увлекательных
и популярных наук, представляющей интерес для самого
широкого круга людей. Во втором случае оно лишено
какого-либо интереса и значения для всех, кроме узкого
круга специалистов. На страницах «Вопросов языкознания»
культивировалась главным образом наука второго типа.
Глубокое недоумение вызывает направление журнала,
вернее, отсутствие у него какого бы то ни было
направления. По этому журналу не определишь, что представляет
собой советское теоретическое языкознание, чем оно живет,
с каким собственным идейным багажом оно
выступает на мировой арене, какую свою проблематику
оно выдвигает. Тщетно было бы искать какую-либо
сквозную руководящую идею, которая одушевляла бы этот
журнал за все время его существования.
Вопрос о «раздвоении» языкознания занимает сейчас
умы многих лингвистов16. Для многих становится
очевидным, что разрыв между языкознанием как общественной
наукой и модернистским формализмом достиг такой
степени, когда их связь становится совершенно искусственной
и чисто внешней, и встает настоятельная задача: задача
размежевания.
У нас этот вопрос стоит еще острее, чем на Западе,
и вот почему.
Когда на Западе говорят о раздвоении языкознания,
имеют в виду обычно противопоставление структурального
метода сравнительно-историческому методу
младограмматического толка. Сравнительно-историческое языкознание
произвело в свое время переворот в науке и заслуги его
колоссальны и непреходящи. Но сравнительно-историческое
языкознание — это все же скорее метод, чем
мировоззрение. Этот метод, как показывает опыт
младограмматической школы, отнюдь не исключает формалистического
применения. Сравнительно-исторический метод, совершен-
104
ствуясь и развиваясь, бесспорно останется на вооружении
советской науки. Но нелепо сводить образовавшуюся
трещину в нашей науке к альтернативе: за или против
сравнительно-исторического языкознания. Для нас не в этом суть.
Борьба идет не за сравнительно-историческое языкознание,
а за человека, за человеческий фактор, за его место
в создании, развитии и функционировании языка. Между
сравнительно-историческим языкознанием и
структурализмом нет никакого конфликта. Но есть непримиримый
конфликт между гуманизацией и дегуманизацией
языкознания.
НЕИЗБЕЖНА ЛИ ДЕГУМАНИЗАЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ?
Слово «гуманизм», которое у нас почему-то стали
употреблять в значении «гуманность» и считать моральной
категорией, не имеет в действительности прямого
отношения к морали и означает нечто другое:
мировоззренческий принцип, проникающий в науку, искусство и всю
вообще культуру. Этот принцип ставит в центр культуро-
творческого процесса человека. Стало быть,
гуманизм — общеидеологический, а не моральный принцип.
Загадка, которую Сфинкс задал Эдипу, была о Человеке.
И на эту же загадку призвана ответить в меру своих
возможностей каждая общественная наука. Эту же загадку
решают, только иными средствами, литература и искусство.
Любая общественная наука, что бы она ни изучала,
изучает в конечном счете человека, совершенно так же, как
любое искусство, что бы оно ни изображало,
изображает в конечном счете человека17. Всякая отрасль
гуманитарного сектора, из которой выпадает человек, сама
выпадает из гуманитарного сектора. Недаром «гуманитарный»
происходит от латинского humanus «человеческий».
Сказанное в полной мере относится и к языкознанию.
Не изгнать человеческий фактор, как рекомендуют
структуралисты, а раскрыть во всей полноте его роль в языке,
понимаемом и как 'eyyov и как tveoYtuu,— вот высшее
назначение языкознания как общественной науки.
Лет тридцать назад я пытался разграничить два аспекта
языка: язык как одно из выражений общественного
сознания и язык как коммуникативная техника18.
Основная мысль заключалась в том, что язык, возникая
как непосредственое выражение общественного сознания,
105
со временем приобретает черты системообразной сигнально-
коммуникативной техники, не утрачивая, однако, и своей
исходной функции — выражения общественного сознания.
Теория языка приобретает существенно разный
характер в зависимости от того, какой из этих аспектов
находится в поле зрения. На подлинную научность и
универсальное значение может претендовать только такая теория
языка, в основе которой лежит синтез обоих аспектов.
Дать такой синтез может только историческая точка зрения.
Лингвистический модернизм есть по существу
односторонний, а потому искажающий сущность предмета
подход к языку в аспекте только коммуникативной
техники. Пусть такой подход одиосторонен и ошибочен. Зато
он облегчает схематизацию и формализацию языковых
явлений, а это, как мы знаем, для модернизма главное.
Но гуманитарные явления, чем они более высокого
класса, тем труднее поддаются формализации. Это значит,
что, скажем, песенка «Чижик-пыжик» легче поддается
формализации и «моделированию», чем девятая симфония
Бетховена. То, что мы называем языком, включает разные
классы явлений, начиная от уровня «Чижика-пыжика» и
кончая уровнем девятой симфонии Бетховена. Подходить
ко всем этим явлениям с одними и теми же приемами
схематизации и формализации — это невежественная
затея, которая ни в какой мере не приближает нас к
познанию сущности языка, а лишь уводит науку о языке в сторону
от своего органического окружения — от других
общественных наук. Нити, связывающие это направление языкознания
с другими общественными науками, становятся все более
тонкими и непрочными. Не нужно особого пророческого
дара, чтобы предсказать: чем больше языкознание будет
формализованной наукой, тем меньше оно будет наукой
гуманитарной. Формализм (как идеология) — это синоним
антигуманизма.
На известной ступени формализации разрыв становится
настолько глубоким, что приходится говорить уже не о двух
направлениях одной науки, а о двух разных науках.
Модернистская лингвистика означает не новую ступень
в эволюции языкознания, а уничтожение
языкознания как общественной науки, совершенно так же, как
модернистское искусство означает не новый этап в
развитии искусства, а уничтожение искусства как
общественной ценности.
Приходится иногда слышать призывы к сотрудничеству
106
двух лингвистик. Эти призывы недостаточно продуманы.
Возможно ли плодотворное сотрудничество двух наук, из
которых одна исходит из других предпосылок и ставит
иные цели, чем другая?
Представим себе двух специалистов, которые оба
изучают земной шар. Но один изучает его как место обитания
человека, а другой — как геометрическое тело.
Спрашивается, какой общий язык могут найти эти два специалиста?
Язык тоже можно рассматривать в двух аспектах: либо
как «место обитания» человеческого духа, либо как
геометрическую систему19. Что может быть между ними
общего?
Что общего между музыковедом, который анализирует
музыкальное произведение как явление духовной культуры,
и «музыковедом», подсчитывающим, сколько раз какой
клавиш ударяется при исполнении этого произведения?
Зачем нужна наука дистрибуции клавишных ударов тому,
кто интересуется духовным миром композитора и его эпохи?
Не всякие манипуляции, которые производятся и могут
производиться над языком, могут называться наукой
вообще и гуманитарной наукой в особенности.
Бывают моменты в истории науки, когда гораздо
важнее и полезнее четкое противоставление и
размежевание, чем искусственное объединение. В языкознании
мы имеем именно такую ситуацию. Речь идет не о
второстепенных разногласиях, а о понимании сущности языка
и задач теоретического языкознания. Единая когда-то наука
раскололась на две науки с разным пониманием своего
предмета, разными целями, разными методами, разными
теоретическими предпосылками. От языкознания № 1, которое было
и остается общественной наукой, отделяется языкознание
i № 2, которое пока неясно чем является, но тяготеет больше
к абстрактным логическим и математическим наукам. Если
оно будет там апробировано и признано на что-нибудь
пригодным — в добрый час! К гуманитарным наукам оно
во всяком случае не имеет отношения. Полное бесплодие
проходившей у нас дискуссии о структурализме
объясняется именно тем, что спорящие говорят на разных языках.
Нужны не споры, а размежевание. Размежевание и
проверка работой.
Изживание модернизма в нашей науке пойдет тем
быстрее, чем больше свободы ему будет предоставлено
и чем более законченные формы он примет. В этих условиях
он быстро выскажется до дна. А дно у него неглубокое.
107
Почему глоссематика Ельмслева так быстро сникла?
Потому что, имея полную свободу «самовыражения»,
она могла в кратчайший срок продемонстрировать свою
бесперспективность. Надо предоставить нашим модернистам
такую же возможность. Всякие попытки ограничения
могут внушить общественному мнению какие-то иллюзии
насчет возможностей, которым не дают раскрыться. В этих
условиях болезнь может затянуться.
Размежевание позволит лучше уяснить теоретические
задачи советского языкознания как общественной
науки. Говоря о перспективах нашей науки, обычно ставят
«роковую» альтернативу: традиционное языкознание или
структурализм. Эта альтернатива — ложная. Нам нужно не
традиционное и не модернистское, а свое, советское
языкознание, отвечающее мировоззрению и нуждам
многонационального социалистического общества. Это не значит, что
мы должны отгородиться стеной от мировой науки и от
нашего собственного прошлого. Но вполне естественно, что
когда речь идет о буржуазной науке, нам ближе по духу
то, что характеризовало эту науку, когда буржуазное
общество переживало период высшего духовного подъема
и расцвета, а не когда оно вступило в полосу идейного
распада и деградации.
В то время буржуазную науку интересовали проблемы
большой лингвистики: язык и мышление, язык и история.
Эти проблемы и для нас остаются важнейшими. Именно
в разработке этих проблем языкознание находит свое место
среди общественных наук. Проблема «язык и мышление»
связывает нашу науку с теорией познания и психологией,
проблема «язык и история» — с социологией, историей,
археологией, этнографией, фольклором.
Существует мнение, что языковед не должен заниматься
этими проблемами, так как они являются
«экстралингвистическими», выходят за рамки языка и таким образом
нарушают его специфику. Однако возможна и иная точка
зрения: нераздельное единство с мышлением и
неразрывная связь с историей как р а з-т о и составляют
глубочайшую специфику языка, и, стало
быть, те, кто занимается языком без мышления и без
истории, занимаются, в сущности, не языком, а некоей
фикцией, которой не соответствует никакая объективная
реальность. С этой точки зрения модернистская
лингвистика — это и есть экстралингвистика, т. е. нечто,
лежащее за пределами языкознания как общественной науки.
108
Связи языка с мышлением и историей — не выдуманные,
не искусственные. Они коренятся в самой природе, в
самой сущности языка. Мышление и история — это те
ворота, через которые в язык властно и неудержимо
входит человеческий фактор, тот самый человеческий
фактор, который тщетно пытаются изгнать из него
модернисты.
Модернистскому тезису об изучении языка в себе и для
себя мы противопоставляем наш тезис: всякое внегу-
манитарное рассмотрение языка основано на
игнорировании его специфики, а потому является внелингвисти-
ческим.
Некоторые «традиционные» языковеды, сбитые с толку
разговорами о несовместимости «внутренней» и «внешней»
лингвистики, заняли оборонительную позицию, как бы
оправдываясь в том, что в их лингвистическую
концепцию проник такой экстралингвистический фактор, как
человек. Такая позиция — ошибочная. Гуманитарное
языкознание нуждается не в обороне, а в наступлении.
Речь идет о том, чтобы идейно преодолеть волну
антигуманизма, которая ставит под угрозу судьбу всего
гуманитарного сектора, а в более широком плане судьбу самого
человечества. Кому, как не советским гуманитариям,
быть в первых рядах в этом благородном споре.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что лучшие
традиции нашего отечественного языкознания связаны с
большой, широкоэкранной наукой, а не узким изучением языка
«в себе и для себя». Когда речь идет о проблеме «язык
и мышление», достаточно вспомнить Потебню. Когда речь
идет о проблеме «язык и история», достаточно назвать
Шахматова. Это имена, которыми по праву гордится наша
наука. Можно было бы перечислить и другие имена, но в
этом нет надобности.
Было время, когда и в советском языкознании проблемы
языка и мышления, языка и истории стояли в центре
внимания. В их решении допускались грубые ошибки и
упрощения, но в самой постановке проблем ошибки не было.
В этих проблемах языкознание утверждало себя как одна
из ведущих наук гуманитарного цикла. И действительно,
не было такой общественной науки, которая не получала
бы импульсов со стороны языкознания. Философы и
психологи, историки и археологи, этнографы и фольклористы
с живым интересом следили за тем, что делается в
лингвистике. Со своей стороны и языковеды старались быть
109
в курсе идей и достижений смежных общественных наук.
Можно сказать без преувеличения: языкознание было в то
время одной из самых популярных и влиятельных
гуманитарных наук.
Эти позиции в значительной мере утрачены нашим
языкознанием.
Вернуть языкознанию принадлежащее ему по праву
место в кругу общественных наук — вот насущная задача
нашей науки.
Что этому мешает? Может быть, такие темы, как «язык
и мышление», «язык и история», «язык и культура»
исчерпали себя, и здесь уже нечего делать? Вряд ли кто-
нибудь станет серьезно утверждать что-либо подобное.
Познавательные возможности языка именно в
гуманитарном плане поистине беспредельны. Многие важнейшие
проблемы этого круга пока как следует даже не
затронуты, например, историческая семасиология. Структурный
подход даже отдаленно не затрагивает те огромные
познавательные богатства, которые таятся в языке как отложении
великого жизненного опыта человечества. Эти богатства
ждут исследователей нового типа, вооруженных самой
передовой идеологией и глубокими знаниями во всех
отраслях гуманитарной науки.
Чем настойчивее мы будем разрабатывать языкознание
именно как общественную науку, чем теснее мы будем
смыкать его с другими гуманитарными науками, тем очевиднее
будет наше преимущество, тем больше мы добьемся успехов
и побед. И наоборот, если мы будем культивировать
лингвистику как замкнутую в себе формалистическую дисциплину,
мы растеряем все наше методологическое превосходство
и будем обречены плестись в хвосте лингвистического
модернизма, трусить за рысаками
европейско-американского структурализма. Никаких лавров мы на этом пути не
пожнем.
Отличительные черты советского теоретического
языкознания, каким оно нам мыслится, всего лучше раскрываются
как антипод модернизма.
Модернизм антиисторичен. Историзм должен
пронизывать сверху донизу советское языкознание.
Модернизм во всех его разновидностях исходит из
примата формы над содержанием. Для нас
центральным в языке является содержание, значение.
Все то в языке, что несоотносимо с понятием значения,
не имеет познавательной ценности в гуманитарном плане.
по
Тот, кто из языкознания устраняет понятие значения,
подобен биологу, который устранил бы из своей науки
понятие «жизнь». Значение — доминанта языка.
Модернизм во всех его разновидностях формализует
науку о языке и тем самым изолирует ее от других
общественных наук. Мы, напротив, считаем, что наука о языке
вместе с философией и другими общественными науками
образует одно большое целое, одну структуру (вот где
пригодилось понятие структуры!).
Эти принципы — историзм, примат значения, тесная
связь со всем гуманитарным кругом — залог действительно
самостоятельного развития советского языкознания и его
больших побед.
Будущее советского языкознания не в его
формализации, а в его гуманизации.
Борьба против дегуманизации культуры — одна из
насущнейших задач передовой интеллигенции во всем мире.
Языкознание — лишь один из участков этой борьбы.
Но участок очень важный, если учесть исключительную
роль языка в жизни общества и в истооии культуры.
Советским языковедам надо всегда помнить, на каком
ответственном участке они стоят.
Нет речи о противопоставлении советской и несоветской
науки. Борьба между гуманизмом и антигуманизмом идет
повсюду. Идет она и у нас, особенно остро в двух областях:
изобразительном искусстве и языкознании. В науке
наступление антигуманизма находит свое выражение, в частности,
в повсеместно наблюдаемой тенденции отодвинуть
гуманитарные науки на второй план по сравнению с физико-
техническими, или путем поверхностного, чисто
формального применения математических приемов и формул
уподобить их «точным» наукам и таким образом создать
иллюзию «синтеза» наук, а в действительности обескровить
гуманитарные науки.
Именно у нас, быть может, больше чем где-либо,
антигуманизм ощущается как нечто неорганическое и чужеродное.
Нет почвы для антигуманйзма в стране, где властителями
дум были всегда великие гуманитарии: Белинский,
Герцен, Чернышевский. Нет почвы для антигуманизма в стране,
которая создала самую гуманистическую литературу.
Нет сомнения, что антигуманизм будет у нас преодолен
и в искусстве, и в науке. Гуманитарный фронт — это,
если хотите, часть экологического фронта. Речь идет о
борьбе за чистоту на всех уровнях:
m
воздух должен быть воздухом,
вода — водой,
земля — землей,
живое — живым,
человек — человеком.
Один и тот же враг угрожает воздуху, воде, земле, жизни,
человеку.
Примечания
1 В сборнике «О соотношении синхронного анализа и исторического
изучения языков», М., 1960, с. 59.
Один из теоретиков «нового романа» французский писатель
Ален Роб-Грийе призывает к полному изгнанию человека из
художественной ткани романа. Мир, по его мнению, надлежит изображать
как мир мертвых «вещей в себе». Кто хочет знать, как выглядит дегу-
манизованное искусство, тому достаточно посмотреть
абстракционистские картины и послушать додекафоническую музыку.
«Die Begriffe «alt» und «neu» haben mit den Begriffen «falsch» und
«richtig» nicht das mindeste zu schaffen» (W. Rau в «Orientalistische
Literaturzeitung», 1—2, 1962, c. 72).
Это не означает, конечно, полного единообразия. Речь идет
о преобладающих, наиболее типичных и характерных тенденциях и
веяниях, отражающих мировоззрение и вкусы тех социальных групп и
классов, которые задают тон в данном обществе.
5 В некоторых случаях это вполне очевидно. Так, одно из
модернистских направлений, экзистенциализм, характеризует в равной мере
философию и литературу. В других случаях связь не такая явная, но
она всегда существует.
6 Пустота — это то слово, которое наиболее адекватно
характеризует не только модернистскую лингвистику, но и весь вообще мо-
дернистический мир. Один из номеров французского журнала «Table
ronde», посвященный обзору современной культуры, так и озаглавлен:
«Цивилизация пустоты».
' Известно, что Соссюр и фактически был учеником А. Лескина,
Г. Остгофа и К. Бругмана.
Л Как мы уже отметили, одна из особенностей модернизма вообще,
в любой области, состоит в том, что его «достижения» быстро устаревают.
На наших глазах дескриптивная лингвистика приходит в упадок, уступая
место новому направлению, так называемой трансформационной
лингвистике. За этим внушительным названием скрываются наукообразные
эксперименты над давно известным явлением синтаксической синонимии
(папа любит маму — мама любима папой).
112-
9 Сб. «Новое в лингвистике», 1, М., 1960, с. 406.
10 Кальметьева Э. В. Фетишизация цифр, М., 1962.
11 A.Van-Gennep. Le folklor. Paris, 1924, p. 32.
12 Кстати, прическа «я у мамы дурочка» также ничем не отличается
от палеолитических причесок.
13 Хорошо сказал об этом известный шведский лингвист H. M. Хол-
мер: «The correct analysis (лингвистических фактов.— В. А.) is, unfortuna-
tely, not by any means advanced by the use of a more «modern» termino-
logy (as many linguists are inclined to believe). True enough, the terms
«genitive», «ablative», «locative», etc. do not serve the purpose of descri-
bing any Iinguistic appearance or event, but neither does any newfangled
substitute or, in want of such, any algebraic symbol... The scientific value
of a terminology is especially in our days heavily overrated. The use of terms
is the scientist's language (that is to say, a mere means of communication) and
no one has hitherto to our knowledge wanted to pretend that the use of language
is science, although the analysis of language is linguistics. In medieval times
it was possibly held that anithing not written in Latin was not to be regarded
as science. We ought to know better» (N. M. H o 1 m e r. On the history
and structure of the Australian languages. Lund, 1963, p. 110, примеч.130).
14 C T а с о в В. В. Нищие духом, в кн.: «Избр. соч. в трех томах»,
III, M., 1952, с. 232.
15 Ни Маркс, ни Ленин никогда не афишировали свое новаторство.
Ленин подчеркивал, что гениальность Маркса состояла в том, что он
развил и поднял на новую ступень передовые идеи своих
предшественников. «Его учение возникло как прямое и непосредственное
продолжение учения величайших представителей философии, политической
экономии и социализма». (Ленин В. И. Соч., т. 19, с. 3).
"' Из последних работ можно назвать статью известного
венгерского языковеда Ж. Телегди (Zs. Telegdi) «Uber die Entzweiung
der Sprachwissenschaft» («Acta linguistica Hung.», XII, 1—2, 1962).
17 Ленин хорошо показал, что переворот, совершенный Марксом
в экономической науке, заключался в гуманизации этой науки:
«Там, где буржуазные экономисты видели отношение вещей (обмен товара
на товар), там Маркс вскрыл отношение между людьми» (соч., 19, с. 6).
18 См.: «Язык как идеология и язык как техника» (сб. «Язык и
мышление», 11, н., 1934, с. 33—54). Термин «идеология» здесь не точен.
Правильнее говорить об общественном сознании.
'¦' «Pour le moment, la linguistique generale m'apparait comme un
systeme de geometrie» (R. G о d e 1, Les sources manuscrites du «Cours
de linguistique generale» de F. de Saussure, Geneve — Paris, 1957, s. 30).
Вопросы языкознания, 1965, № 3.
113
ЯЗЫКОЗНАНИЕ —
ОБЩЕСТВЕННАЯ НАУКА
МЕРТВАЯ ВОДА ФОРМАЛИЗМА
Напомним, что под формализмом мы понимаем не
просто интерес к формальной стороне явлений (подробнее
об этом см. нашу статью в «Вопросах языкознания», 1965,
№ 3). Такой интерес — явление законное и естественное.
Говоря о формализме в общественных науках, мы имеем
в виду определенную теоретическую установку, согласно
которой научному познанию подлежат только формы,
а не сущности.
На П-й сессии по индоевропейскому и общему
языкознанию в Инсбруке (октябрь 1961) А. Нэринг выступил
с докладом «Структурализм и история языка». В докладе
дана здравая оценка некоторым направлениям современного
лингвистического модернизма и наглядно
продемонстрирована вся их безотрадность. Докладчик особо остановился
на усилиях модернистов изгнать из языкознания понятие
значения, поскольку это понятие мешает формализации
и математизации лингвистики. «В операциях, проводимых
над языком структуралистами, язык испускает дух на
операционном столе. Формализующий и математизирующий
подход отнимает у него жизнь, так как такой подход стоит
в резком противоречии с сущностью языка. Ведь в языке
мы имеем дело не с независимыми от человека величинами,
как в математике, а с созданиями человеческого духа, в
которых отражается человеческое мышление. Но оно
(мышление) отлагается именно в содержании языковых
форм, в их значении и в их смысле. Поэтому совершенно
непостижимым ослеплением является, когда
структуралисты объявляют значения «экстралингвистическими»
категориями и изгоняют их в «нелингвистический мир».
Вне языка и независимо от него не существует никаких
значений, а акустический образ без значения — не более
как пустой звук».
Обращать живое в мертвое — в этом заключается
сущность всякого формализма. Отсюда усилия «отвлечься'» от
значения и от истории. Ибо значение — это жизнь, и
история — это жизнь.
114
Отнимите у языка значение и историю — и вы получите
труп. А с трупом можно проделывать любые операции.
Операции эти не имеют и не могут иметь никакого
отношения к гуманитарному языкознанию, так как последнее
занимается языком как вечно живой- и изменяющейся
социальной и исторической категорией. Лингвистика,
пересаженная из своей родной, гуманитарной среды, где она
постоянно чувствует локоть других гуманитарных наук,
в чужую среду абстрактных математических дисциплин,
усыхает так же, как дерево, пересаженное в
неблагоприятную почву.
Кажется, что структуралистов Имеет в виду Гете, когда
он в «Фаусте» осмеивает тех, кто «спешит явленья
обездушить, забыв, что этим в них нарушит одушевляющую
связь».
Недоразумением является ходячая антитеза:
«традиционная лингвистика» — «структурализм». Таким путем
внушается мысль, что нечто отсталое противостоит чему-то
новаторскому. Ничего похожего в действительности не
имеет места. Структурализм — разновидность формализма.
А формализм так же древен, как мир. От магистральной
линии реалистической философии, науки и искусства
время от времени отходят никуда не ведущие
формалистические тупики. Структурализм — один из этих тупиков.
Ничто так не традиционно, как формализм. Тот, кто на
вопрос «что такое день?», ответил: «день — это то, что не
похоже на ночь», был первым формалистом и
структуралистом. Чтобы быть формалистом, не' нужно особого
интеллектуального усилия. Нужно только дать волю той
формалистской закваске, которая сидит в каждом из нас.
Усилие нужно, чтобы преодолеть формализм.
Стихийный и традиционный формализм донаучной
лингвистики был преодолен историческим и гуманитарным
языкознанием XIX века. Но традиция формализма снова
возродилась в структурализме, частично еще в младограм-
матизме. Так обстоит дело с «новаторством»
структурализма.
Что касается «традиционности» гуманитарного
языкознания, то и здесь надо внести ясность. Термин
«традиционный» может навести на мысль о неподвижности и
застое. Ничего похожего в гуманитарном языкознании
не наблюдается. Оно все время находится в движении и
развитии. Много ли мы знали, например, в начале нашего
века о субстратной и ареальной лингвистике? Или-о социо-
!15
лингвистике? А теперь эти понятия прочно вошли в наш
научный обиход. Непрерывное обогащение новыми идеями
и перспективами — неотъемлемое свойство гуманитарного
языкознания. Оно является традиционным только в одном
смысле: в том, что оно всегда остается гуманитарным,
то есть мыслит познание языка как один из аспектов
познания человека. Человек же — нечто неисчерпаемое, а
потому неисчерпаемы и возможности гуманитарного
языкознания. В отличие от языкознания формалистского, ему
не грозит никакой застой и никакой тупик.
В современном языкознании противостоят друг другу
не традиция и новаторство, а реализм и формализм,
гуманитарный и негуманитарный подход к языку. Поэтому
противопоставление «традиционная лингвистика» —
«структурализм» надо отбросить как насквозь ошибочное и вводящее
в заблуждение. В действительности противостоят и всегда
будут непримиримо противостоять языкознание
реалистическое и формалистическое.
Иссушение лингвистики в результате ее формализации
и математизации нельзя рассматривать как изолированное
явление, в отрыве от общих идеологических процессов.
Модернистская лингвистика (так же как модернистская
литература и модернистское искусство) есть прямое выражение
того бегства от идеологии, которое наметилось уже давно.
Правда, давно же и замечено, что бегство от идеологии —
это тоже идеология и притом далеко не безобидная.
Мы видим, что «непостижимое ослепление», о котором
говорит А. Нэринг, не так уж непостижимо. В нем есть
свой смысл. Слепым бывает не только тот, кто не может
видеть, но и тот, кто не хочет видеть. И эту последнюю
слепоту труднее излечить, чем первую. Мы имеем в виду тех,
кто совершенно не задается вопросом, какие идейные
течения вызывают к жизни те или иные направления в
языкознании. Вопросы лингвистической теории неотделимы от
общих мировоззренческих вопросов, а эти последние
следует рассматривать в широком контексте современной
борьбы идеологий. Кто не дает себе труда разобраться
в идеологической ситуации нашего времени и озабочен
главным образом тем, как бы не упустить какую-нибудь
модную западную новинку, как правило, оказывается
путаником в теоретических вопросах. Подобная путаница
нередко наблюдается сейчас в основном вопросе о сущности,
характере и методах лингвистической науки.
Чтобы выключить гуманитарную науку из идейной
116
борьбы нашего времени, есть и такой простой способ:
объявить ее негуманитарной наукой. Конечно, это шаг
отчаянный. Но некоторые современные модернисты
считают, что лингвистику следует отделить от других
общественных наук, как науку особого рода, близкую к наукам
математическим.
Когда Муллу Насреддина упрекнули в том, что взятый
котел он вернул разбитым, Мулла, не смутившись, ответил,
мол, во-первых, котел всегда был разбитый, во-вторых,
я вернул его целым, в-третьих, я вообще не брал никакого
котла. «Спасающиеся» от идеологии лингвисты прибегают
примерно к такой же логике: во-первых, мол, идейная
борьба в гуманитарных науках стала анахронизмом, а, во-
вторых, языкознание вообще не гуманитарная наука.
Само собой очевидно, что ответ на вопрос, является ли
языкознание общественной наукой, с необходимостью
вытекает из ответа на другой вопрос: является ли язык
общественным явлением. Не прибегая здесь к пространной
аргументации, мы только позволим^ себе высказать наш
взгляд в форме тезиса: в языке от тончайших оттенков
фонемы до тончайших оттенков стиля нет ничего, что
не было бы общественно обусловленным. Вырвать язык из
гуманитарного мира можно только с мясом и кровью,
горячей кровью миллионов поколений, вложивших в
творчество языка свою мысль, волю и чувство. Странно
бывает слышать, когда говорят, что кто-то «переоценивал»
или «переоценивает» социальную обусловленность языка.
Переоценить ее невозможно, ибо в языке все, сверху
донизу, является общественно обусловленным. Другое дело,
что эта обусловленность в разных сферах языка
проявляется очень различно и порой очень не просто.
Игнорировать эту сложность и многообразие социальных
связей языка, упрощать и вульгаризировать эти связи, как
это имело место в Прошлом и в советском языкознании,
совершенно недопустимо. Но упрощенчество и
вульгаризация достойны сожаления при любом подходе. Спору
нет, вульгарный социологизм — это очень плохо. Но,
скажем, вульгарный математизм — нисколько не лучше.
Вульгаризировать можно все, любую хорошую идею. Но это не
опорочивает самой идеи.
Идейная стерилизация общественных наук путем
их формализации и математизации — это болезнь,
которую нужно преодолеть. Она до крайности сужает
познавательное значение наших наук и сводит на нет их
идейно-воспитательное значение.
117
Формализм в искусстве, литературе и общественных
науках — не выдумка, не ярлык, не жупел. Формализм —
объективное, четко характеризованное порождение
идейной опустошенности и бесплодия, очень живучее и
нередко — под флагом новаторства — весьма воинствующее
и агрессивное. Формализм всегда противостоял и
противостоит всему идейно значительному, социально
наполненному в искусстве, литературе и общественных науках.
Вот почему борьба против формализации общественных
наук становится важной составной частью общей борьбы
против слепых сил, ведущих человечество к духовному
вырождению. Ни один ученый гуманитарного профиля
не имеет нравственного права стоять в стороне от этой
борьбы.
ЗАКАТ СТРУКТУРАЛИЗМА
Формализация языкознания наметилась еще в конце
прошлого столетия в работах младограмматической школы
и получила законченный вид в некоторых направлениях
современного структурализма.
Младограмматики первые стали тяготиться идейной
«перегруженностью» своих предшественников,
основоположников исторического языкознания. Они стремились
облегчить этот «груз», разрывая связи языка с жизнью
общества и общественным сознанием. Структуралисты
пошли еще дальше в этом направлении, выкинув за борт
все значимое в языке и сведя язык к системе
абстрактных отношений.
Согласно распространенному мнению, заслуга
структурализма состоит в том, что он впервые стал
рассматривать язык как систему. Это мнение нельзя признать точным.
Взгляд на язык как на систему так же древен, как само
языкознание. Древнеиндийский грамматист Панини не мог
бы создать своей замечательной грамматики , если бы
в его голове тысячи разрозненных фактов санскрита не
выстроились в систему. Всякое, даже самое плохое
грамматическое описание предполагает представление о
системности языковых явлений и не может быть реализовано
без такого представления. Корифеи научного языкознания
XIX века также отдавали себе ясный отчет в том, что
язык — это система. И для В. Гумбольдта, и для Я. Гримма,
и для А. Шлейхера, и для многих других представителей V
«традиционного» языкознания системность языка была
чем-то само собой разумеющимся. Суть в том, что для
118
них язык был системой значимых единиц, тогда как для
ортодоксального структурализма язык — система чистых
отношений в отвлечении от содержания соотносимых
величин и их социальной и исторической обусловленности.
Такую лингвистику можно, не погрешив против истины,
определить как лингвистику в пустоте.
Восход структурализма, явившегося в ореоле
новаторства, был бурным и стремительным, как лесной пожар.
Закат его тускл и скучен, как угасание коптящего огарка.
Крайние виды формализма, схематизма и схоластики
в лингвистике, лишая язык его живой души, все более
теряют приверженцев. В связи с этим отдельные
структуралисты исподволь осваивают понятия гуманитарной
лингвистики, принципиально несовместимые с
ортодоксальным структурализмом: признают, что в языке
приходится считаться не только с формами, но и
значениями. Возникают более или менее уродливые гибриды
из негуманитарной и гуманитарной лингвистики. Эти
эклектические образования используются для того, чтобы
парировать критику. Оказывается, новейший структурализм
уже не тот, что прежде; он не игнорирует смысловую
сторону и даже считается с историей. Обвинения в
противном применимы только к структурализму 30-х годов,
но, дескать, несправедливы в отношении структурализма
50-х и 60-х годов.
Что же происходит в действительности? А происходит
вот что. В 30-е годы некоторые горячие головы из
лагеря лингвистического модернизма всерьез верили, что
гуманитарному языкознанию пришел конец, что настала новая
эра, эра структурализма. Однако годы шли и становилось
ясно, что гуманитарное языкознание и не думает помирать;
что, напротив, оно полно жизненных сил и обогащается
новыми идеями и перспективами; что ему не грозит
никакой упадок и никакая научная изоляция; что в изоляции
могут оказаться и действительно оказываются наиболее
последовательные разновидности структурализма
(печальная участь глоссематики кое-чему научила). Приходится;
снова возвращаться к некоторым идеям «похороненного»
было гуманитарного языкознания, при этом с явным
ущербом для внутренней цельности и логичности
ортодоксальной структуралистской теории. Раздаются призывы
к «единству лингвистики» и «сближению». В игру вводятся
понятия, отказ от которых и составлял в свое время
новаторскую сущность структурализма. Вот это-то вынужденное
119
отступление и выдается за новый этап. Тотальное
банкротство лингвистического формализма преподносится как
здоровая эволюция.
В действительности ортодоксальный структурализм
может развиваться только в одном направлении: в направлении
тупика. Другого развития ему не дано. А в этом
направлении он продвигается весьма успешно.
Некоторые структуралисты, обозначая общепонятные
вещи самосильно придуманными условными знаками и
выстраивая эти знаки в линейные или фигурные схемы,
думают по наивности, что применяют математический
метод. В действительности, как правильно отметил А. Ф. Лосев
(«Вопросы языкознания», 1968, № 1), подобные схемы
имеют лишь стенографический, а не математический
смысл. От обычной такая стенография отличается тем,
что она никому не нужна, кроме ее авторов.
Лингвистический структурализм неразрывно связан
со структурализмом философским. Последний пришел на
смену экзистенциализму и имел известное основание
противопоставить объективизм своего метода
субъективизму экзистенциализма. Однако в философии важен не
только объективизм, но и глубина познания. Можно весьма
объективно скользить по поверхности, не доходя до
движущих сил и основных сущностей. В гуманитарной сфере
это означает — не доходить до главнейшего и
единственного объекта и субъекта познания: человека.
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ?
В современной лингвистической литературе мы часто
встречаем выражение «естественные языки». Какие это
«естественные»? Может быть, имеется в виду мяуканье
кошки, лай собаки или карканье вороны? Нет. Речь идет
о языках, на которых мы с вами говорим, на которых
говорят все люди на земле. Русский, английский, китайский,
другие национальные языки, оказывается, все это
«естественные языки». Но вот что любопытно. У тех же авторов,
которые склоняют во всех падежах «естественные языки»,
мы можем прочитать и такой тезис: связь между звучанием
и значением в языке не является естественной. Как же
так? Связь между звучанием и значением — не
естественная. А система этих связей, которая и составляет
язык, оказывается естественной. Непостижимым образом
теоретики не замечают заложенного здесь вопиющего
120
противоречия. Как можно называть «естественным» язык,
в котором отложились многотысячелетние творческие
усилия человека?
Какой бы аспект языка мы ни взяли, эпитет
«естественный» неприложим к нему. Как познавательно-экспрессивная
система, язык стоит в одном ряду с фольклором,
литературой, искусством, и, стало быть, сочетание «естественный
язык» — такая же бессмыслица, как «естественный
фольклор», «естественная литература», «естественная
живопись», «естественная музыка».
Если иметь в виду другой аспект языка —
коммуникативно-технический, то здесь язык стоит в одном ряду
с другими техническими достижениями человека, и, стало
быть, выражение «естественный язык» — такая же
нелепость, как «естественная техника».
Ни в функциональной, ни в материальной природе
языка нет абсолютно ничего, к чему применимо было
бы определение «естественный». Даже звуки речи, которые
по их обусловленности физиологическим аппаратом могли
бы, казалось, называться естественными, являются в
действительности не естественными звуками, а социально
отработанными фонемами.
Мы не случайно остановились на бессмысленном
выражении «естественный язык». В нем нельзя видеть только
безобидный терминологический ляпсус. Оно «работает».
И работает оно на отчуждение языкознания от смежных
гуманитарных наук: социологии, этнологии,
фольклористики, литературоведения. В самом деле, если предмет
языкознания — явление естественное, то и сама эта наука
должна относиться к естественным, а не
общественным наукам. Вот куда ведут некоторые терминологические
«ляпсусы»!
ЯЗЫК И ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Ядерный век поставил человечество перед небывалой
альтернативой: либо духовно преобразиться, либо
погибнуть. Человек должен стать человечнее для того, чтобы
жизнь продолжалась. Человечность понимается при этом не
только как моральный, но также как интеллектуальный
и эстетический идеал. Торжество гуманизма всегда было
мечтой лучших людей. Но, пожалуй, никогда прежде оно
не выполняло такой значительной роли в деле сохранения
человечества.
Содействовать в меру своих возможностей торжеству
121
гуманизма — великая и благородная миссия общественных
наук нашего времени. Чтобы справиться со своей
задачей, общественным наукам нужны единство и высокая
идейность. Единство гуманитарных наух, преодоление
их внутреннего разброда в результате формалистических
вывертов необходимо, потому что, только будучи едиными
в понимании своего назначения и своей методологии,
они смогут выполнять задачу формирования нового
человека. Высокая идейная направленность — необходимое
условие, чтобы гуманитарные науки могли во всеоружии
участвовать в великой духовной битве нашего времени:
в борьбе за человека.
Могут сказать, что языкознание — не та общественная
наука, на которую ложится столь высокая ответственность
за гуманистическое воспитание. Что его возможности
в этом отношении ограничены. Что основное бремя ложится
здесь на философию, социологию, историю. В том, однако,
и дело, что языкознание — наука и философская, и
социологическая, и историческая. Ее возможности во всех этих
трех аспектах огромны и во многом пока даже не выявлены
полностью. Потенциальная многогранность и богатство
нашей науки соответствуют многогранности и богатству
того чудесного дара — языка, который она изучает.
О языке как изумительнейшем создании человеческого
гения, о его ролц в жизни человека и общества, в
формировании общественного сознания сказано немало
вдохновенных слов. Тем досаднее, что голос языкознания как
гуманитарной науки звучит сейчас довольно слабо.
Конечно, ни одна общественная наука, взятая в
отдельности, не может стать решающим фактором в процессе
формирования нового человека. Но если все они
проникнутся одной глубинной идеей, идеей утверждения
человеческой ценности, они могут сделать многое.
Гуманистическое мировоззрение не сваливается на
человека в готовом виде, как дар небес. Оно складывается,
начиная с детства, из крупиц, рассеянных повсюду: в самой
жизни, в языке и фольклоре, в искусстве и литературе,
в каждой гуманитарной науке. Здесь нет ничего лишнего,
ничего второстепенного, ничего такого, чем можно было бы
пренебречь. Одно представляется
бесспорным:'формализованное языкознание совершенно непригодно для этих
целей.
Говоря об искусстве, К. Маркс писал, что человечество
созерцает самого себя в созданном им мире. Язык как
122
создание творческого гения человечества стоит в одном
ряду с искусством, и нам нужно такое языкознание, которое
позволило бы человеку созерцать в языке самого себя.
Поэтому всякий шаг, который мы сделаем к преодолению
формализма в лингвистике, приблизит нас к искомому
идеалу.
По моей научной работе мне много приходится
заниматься историей слов, и должен сказать, что это не только
увлекательнейшее занятие, полное познавательного
интереса, но во многих случаях и школа гуманизма.
Язык изобилует примерами активно-творческого
осознания действительности многими поколениями как в
плане чисто познавательном, так и в плане этическом
и эстетическом. В семантике слов заключена своя
философия, и эта философия — в основном гуманистическая.
При этом не абстрактная, оторванная от жизни, а
неразрывно связанная с общественной практикой. В языке
человек выступает одновременно как мыслитель, как поэт
и как практик-труженик. Открывать в языке человека
как труженика, как мыслителя и как поэта — в этом высшая
задача гуманитарного языкознания.
В недавнем прошлом в нашей лексикографии
наметилась тенденция превращать в массовом порядке полисемию
в омонимию. Скажем, добрый в смысле 'хороший'
(«добрый конь») и добрый в противоположность злому
рассматривать не как два значения одного слова, а как два
разных слова. Пишущему эти строки пришлось выступить
с критикой подобной практики в советских словарях.
Полисемия (многозначность) — это жизнь слова.
Разорвите два значения слова добрый и подайте его как две
разные лексические единицы — и вместо одного живого,
блещущего разными гранями слова получите два трупа.
Многозначность — одно из ярких проявлений
творческого начала в языке. Это — и чудесный дар обобщения,
составляющий основу научного познания; это — и блеск
метафор с их образно-поэтическим осознанием
действительности; это — и причудливая игра мысли, раскрывающая
в слове все новые и новые потенции выразительности.
Существует, однако, и другой взгляд на
многозначность слова — как на досадную помеху на пути к
формализации и моделированию лексической системы языка. Я не
намерен здесь оспаривать такой взгляд. Но хочу отметить,
что на частном примере с многозначностью хорошо видно
размежевание двух подходов к языку. С одной стороны,
123
полисемия как творчество. С другой — полисемия как
неудобство для формализации. Это и есть противоречие между
гуманитарным и негуманитарным языкознанием.
Нужно ли говорить, что только первое может принять
какое-то участие в идейной борьбе нашего времени.
Второе в этом отношении вполне бесплодно. Задачам
гуманистического воспитания отвечает такая лингвистическая
наука, которая раскрывает язык как общественную
духовную ценность, а историю языка — как непрерывный
творческий процесс. Для этого надо вести изучение языка
таким образом, чтобы ясно обозначились во всей широте
и многообразии связи языка с объективной
действительностью, с жизнью общества, со всей культурой, со всем
духовным миром человека. Язык заслуживает лучшей
участи, чем служить материалом для
псевдоматематических манипуляций. Изучение языка, его строя, его
употребления, его истории может и должно стать важным
элементом гуманитарного образования.
Чтобы не быть неправильно понятым, я хочу в
заключение сказать, что не считаю, конечно, указанную задачу
единственной, которая стоит перед нашей наукой. Язык —
слишком сложное и многогранное явление, чтобы его
можно было исчерпать каким-нибудь одним подходом.
Перед языкознанием стоят многообразные задачи как
теоретического, так и описательного и прикладного порядка.
И если я стремлюсь здесь привлечь внимание к идейной
стороне нашей науки, то это потому, что, по моему
убеждению, мы живем в такое время, когда из каждого
гуманитарного учреждения, из каждого гуманитарного журнала
должен раздаваться страстный голос в защиту
неумирающих ценностей, в защиту человека, в защиту гуманизма.
Александр Блок писал:
Сотри случайные черты,
И ты увидишь: мир прекрасен.
Случайные черты в нашей науке — это
формалистические упражнения, которыми увлеклись некоторые наши
языковеды. Эти черты сотрутся, и мы увидим, что наша
наука — прекрасна.
Русская речь, 1971, № 5.
124
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫЕ
АСПЕКТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Дискуссия о предмете языкознания, открытая статьей
Р. А. Будагова, не может не привлечь заинтересованного
внимания каждого советского языковеда. Ведь в ней
обсуждаются коренные вопросы о содержании и задачах
нашей науки. Мне в свое время приходилось уже
высказываться по этим вопросам . Статья Р. А. Будагова, близкая
мне если не по отдельным формулировкам, то по общей
направленности, дает мне повод вновь вернуться к данной
теме. В отличие от других участников дискуссии, я позволю
себе подойти к вопросу не с узколингвистической, а с
общегуманитарной точки зрения.
1
Идейным потенциалом народа мы называем его
относительную способность быть активной стороной в идейном
обмене с другими народами. Идейный потенциал
определяется в первую голову состоянием общественных наук,
литературы и искусства, их идейным уровнем, их силой
воздействия на умы и сердца людей. Своя роль в создании
и укреплении идейного потенциала принадлежит и такой
гуманитарной науке, как языкознание.
К сожалению, в теоретическом языкознании
наблюдается в настоящее время небывалый разброд. Существуют и
вновь возникают десятки «теорий» и «философий» языка,
каждая из которых претендует на то, что она является
новым словом в науке и она приближает нас к истине.
Естественно, хотелось бы сказать, что советское
языкознание не затронуто этим разбродом. Но такое утверждение
не соответствовало бы действительности. По коренным
вопросам о сущности языка и задачах языкознания и у нас
высказываются весьма различные взгляды. В частности,
у нас, как и за рубежом, есть тенденция оторвать
языкознание от других общественных наук и сблизить его с
абстрактными логическими и математическими науками.
Можно ли разобраться и найти путеводную нить в этих
125
теоретических коллизиях? Думается, что можно. Для этого
надо помнить несколько очень простых и очевидных, но,
к сожалению, иногда забываемых истин. Эти истины
сводятся к следующему.
В наше время, как и во все времена, с тех пор как человек
обрел способность к производству, в мире происходит
идейная борьба.
В наше время, как и во все времена, ареной этой борьбы
является весь гуманитарный сектор, т. е. общественные
науки, литература, искусство.
Существенный недостаток опубликованных в последнее
время дискуссионных статей по теоретическому
языкознанию состоит, на мой взгляд, в том, что лингвистические
проблемы обсуждаются в отрыве от общей идеологической
ситуации и идеологической борьбы нашего времени.
В каждую историческую эпоху идейная борьба
приобретает особые, специфические черты. Не будет ошибкой
сказать, что на первый план в современной идейной борьбе
выступает проблема гуманизма. Идея гуманизма стала
центром притяжения всех прогрессивных сил мира. Нужно
ли говорить, что она органически близка и нам, советским
людям. Маркс называл коммунизм «реальным гуманизмом».
Разумеется, марксизм не сводится к одному гуманизму.
Борьба за человека и созданные им ценности, против
уродливого поклонения силе и военному потенциалу —
вот сущность современного гуманизма. Наш век оправдает
себя, если он войдет в историю не только как век атома
и космонавтики, но также как век гуманизма и духовного
обновления. В противном случае и атом, и космонавтика
неизбежно обернутся для человечества катастрофой и
самоуничтожением. Техника — слепая сила, которая принесет
жизнь или гибель в зависимости от того, будут ли зрячими
или слепыми владеющие ею люди. Угрозу человечеству
несет не атомная эра, а духовное состояние
людей в атомную эру. Сделать людей духовно
зрячими — такова задача гуманистического воспитания.
И вот тут огромная ответственность ложится на науки,
которые по самой своей природе призваны формировать идейный
мир человека,— науки общественные. Специфика этих наук
состоит, между прочим, в том, что в них
познавательные задачи неотделимы от идейн о-в о с п и-
тательных. В наше время последние приобретают
особое значение. Участие в гуманистическом воспитании
людей становится важнейшим, если не решающим, момен-
126
том при оценке любой общественной нау:.и. Антуан Сент-
Экзюпери, замечательный французский писатель, очень
хорошо сказал: «Быть человеком — значит сознавать свою
ответственность». Мы бы добавили: быть гуманитарием —
значит сознавать свою ответственность вдвойне.
Всякая общественная наука, если только она не потеряла
свое лицо, ставит и решает определенные идейные задачи,
причем, эти задачи не стоят где-то особняком, в стороне
от текущей исследовательской работы, а нераздельно
слиты с ней, составляют ее spiritus movens.
Состояние общественных наук в стране во многом
определяет ее идейный потенциал, как состояние техники
определяет ее военную мощь. Внимание и авторитет,
которым пользуются общественные науки, должны
соответствовать их высокому назначению.
Великий гуманист Фритьоф Нансен, видя Советскую
Россию нищей и разоренной, сказал: «Это будет Россия,
которая в не слишком отдаленном будущем принесет
Европе не только материальное спасение, но и духовное
обновление»2. Нансен верил в силу идей.
Общественные науки способны нести идейный заряд
колоссальной мощи. Не кто иные, как гуманитарии, были
пророками и вдохновителями великих социальных
движений. Руссо, Вольтер и Дидро невидимо руководили
штурмом Бастилии. Расцвет общественных наук всегда
был верным признаком социального и идейного подъема,
упадок общественных наук — социальной и идейной
деградации. N
Пусть это покажется наивным, но мы убеждены, что
ближайшие судьбы человечества во многом зависят от того,
будут ли на высоте положения общественные науки,
выполнят ли они свою великую идейно-воспитательную миссию.
2
Родоначальником европейского гуманизма следует
считать древнегреческого философа Ксенофана, который
провозгласил: «Не боги велики, а люди». В наше время,
когда многие возводят в икону технический прогресс,
уместно сказать, перефразируя Ксенофана: не машины
велики, а люди.
Смешно было бы сейчас отрицать или преуменьшать
роль техники в жизни общества. Но несомненно, с другой
стороны, что использование техники имеет свой предел
полезности и целесообразности. Кибернетика — заме-
127
чательная вещь, но вряд ли можно принимать всерьез
утверждение, что в недалеком будущем кибернетические
поэты, художники, композиторы заменят обыкновенных
поэтов, художников и композиторов.
Однако вполне реалистический и вместе с тем зловещий
характер носят фантазии тех, что оценивают
современную технику с точки зрения тех «плюсов», которые она
может иметь для истребительной войны.
К счастью, земля не оскудела и мудрыми людьми,
которые не поддаются техноманиакальному психозу и
сохраняют здравый взгляд на вещи. Макс Борн пишет: «Чувство
ответственности не позволяет мне... отдаваться восторгу
перед достижениями техники, ибо эти достижения следует
рассматривать в общем комплексе человеческой культуры...
Я верю, что человечество рано или поздно встряхнется,
освободится из-под власти техники, перестанет кичиться
своим всемогуществом и обратится к действительно
стоящим вещам, разумным и необходимым,— к миру,
человеческой любви, кротости, уважению... большому
искусству и настоящей науке»3.
В недрах самого «индустриального общества» растет
тревога по поводу уродливых, антигуманистических
тенденций современной цивилизации. Лучшие люди подымают
свой голос против новых видов мракобесия, за человека
и его духовные ценности. Это и есть идеологическая борьба.
Она идет и будет идти с неослабевающей остротой.
Какая роль принадлежит в этой борьбе гуманитарным
наукам? Могут ли они оставаться в стороне? Казалось бы,
на этот вопрос не может быть двух разных ответов.
Перед гуманитарными науками, так же, как перед
литературой и искусством, стоят две задачи: во-первых,
познавать человека и, во-вторых, преображать человека,
формируя его мировоззрение, его идеалы, его духовный
мир. Разные гуманитарные науки — это разные аспекты
познания человеком самого себя и тех ценностей, которым
он призван служить.
Трагедия Хиросимы показала со страшной
очевидностью, что научно-технический прогресс действует, как
слепая сила. Это значит, что он не несет сам в себе никаких
предпосылок контроля, который определял бы
созидательное или разрушительное направление его дйствия. Такой
контроль может обеспечить только идейное воспитание
людей. Ответственность же за такое воспитание несут
в огромной степени гуманитарные науки. Изучая созданные
128
человеком духовные ценности, они одновременно
формируют наш духовный мир, расширяют и обогащают наш
интеллектуальный, этический и эстетический кругозор,
короче говоря, делают человека лучше. Гуманитарная
наука, утратившая идею ценности, уже не может
считаться гуманитарной. Совершенно также писатель или
художник, которые, изображая правду жизни, не носят
в душе образ высшей правды, по недоразумению считают
себя писателем и художником. Чем выше котируется
идея ценности, тем крепче позиции гуманитарных наук,
тем выше их идейно-воспитательный потенциал. Самым
роковым симптомом для гуманитарных наук была бы
утрата понятия ценности и растворение в таких науках,
которым это понятие чуждо.
Образцом для всех гуманитариев останется Карл Маркс.
Его величие в том, что он не мыслил познание того, что
есть, иначе, как в свете того, что должно быть. Он
ценил лишь такую общественную науку, которая не
только объясняет мир, но и преобразует его.
К сожалению, именно в последние десятилетия в
гуманитарных науках наметилась тенденция, которая удаляет их
от этой задачи и мешает им занять подобающее место
в идеологической борьбе нашего времени. Эту
тенденцию можно определить как формализацию.
Формализация «освобождает» гуманитарную науку от идеи
ценности, а заодно от человека, в котором эта идея воплощена.
Формализация выхолащивает идейное содержание
гуманитарных наук и тем самым устраняет их от участия в
формировании гуманистического мировоззрения.
Формализация — это синоним деидеологизации.
В силу ряда причин, о которых мы не будем сейчас
распространяться, эта болезнь особенно губительно
сказалась в языкознании, в различных направлениях так
называемого структурализма.
3
Формализм — очень древний, периодически
возникающий недуг гуманитарных наук. Можно проследить, что
он возникает и расцветает рука об руку с другим, тоже
периодически повторяющимся зловещим процессом —
процессом девальвации духовных ценностей. Этот последний
процесс связан в свою очередь с упадком и деградацией
общества.
X 5 В. И. Абаев
129
Нетрудно видеть, почему девальвация ценностей и
формализм тесно между собой связаны. Идея ценности
заложена в содержании, а не в форме, в значениях, а не
отношениях. Формы и отношения нейтральны к идее
ценности. Они находятся, если можно так выразиться,
по ту сторону добра и зла.
Приходится встречаться в трудах иностранных ученых
с утверждением о моральной нейтральности науки, в том
числе гуманитарной. Это справедливо только в отношении
формализованной науки. Не формализованная, идейно
насыщенная наука всегда несла (даже помимо сознания
авторов) морально-оценочные моменты. Именно такая
наука «ускоряла процесс гуманизации, сокращая разрыв
между грубыми фактами и идеалами, между жизнью как
простым существованием и жизнью, полной ценностей»
(S.Hart. Ethics. New York, 1972). Когда подлинные
ценности перестают котироваться, когда представление о
них тускнеет и вовсе утрачивается, тогда начинаются
лихорадочные поиски формалистических новшеств.
Понятия «хорошо» — «плохо» вытесняются понятиями
«модно» — «не модно». Наступает полоса модернизма. Можно
было бы написать историю формализма от античности
до наших дней. В этой истории структурализм XX в.
по праву занял бы почетное место. «Структурализм,—
пишет теоретик французской компартии Люсьен Сэв,—
игнорирует по существу социальную природу человека
и уводит гуманитарные науки в область абстрактных
и метафизических спекуляций» 4.
Основные положения лингвистического структурализма
в его «чистом» виде сводятся, как известно, к
следующему:
язык есть знаковая система;
в этой системе существенны только отношения между
единицами, а не сами единицы и их значения;
значения не выводимы из отношений.
Такой подход к языку не оставляет места для
ценностного понимания языка как исторически обретенного
человечеством духовного дара.
Советская гуманитарная наука уже прошла однажды
через увлечение формализмом. Я имею в виду
деятельность группы «Опояз» в 20-е годы. Сравнение формализма
тех лет с современным структуралистским формализмом
выявляет их разительную близость. И там и тут
проповедуется «свободный от идеологии» подход к материалу
130
(литературе, языку). Там и тут рекомендуется изучать
форму независимо от содержания. Процесс развития
форм рассматривается как имманентный, ни от чего не
зависимый: «литературу надо изучать в себе и для себя»—
«язык надо изучать в себе и для себя». Изучаемый объект
(литературное произведение, язык) полностью изолируется
от его исторических, социальных, идеологических
(«экстралитературных», «экстралингвистических») связей. Между
этими двумя формалистическими течениями есть, однако,
и разница, и она не в пользу современного структурализма.
Опоязовский формализм противостоял вульгарному
социологизму, и в этом была его положительная роль.
Структурализм противостоит не вульгарному социологизму,
а гуманизму, и поэтому в нем трудно распознать что-
либо отрадное. Тезис «Пушкин — это сумма приемов»
ненамного приближал нас к познанию плодотворного
тезиса «Пушкин — идеолог русского дворянства первой
половины XIX в.». За это следует быть благодарным опо-
язовцам.
Тезис «язык есть знаковая система» ненамного
приближает нас к познанию такого сложного явления, как
язык. К тому же он уводит в сторону от действительно
плодотворного понимания языка как общественной и
национальной культурной ценности. Поэтому чувства
благодарности к структурализму при всем желании не
испытываешь.
Верно, что в языке весьма существенны отношения.
Верно и то, что значения не выводимы из отношений.
Но зато отношения выводимы из значений. Отношения,
которые не выводимы из значений (функций), не имеют
в языке никакой познавательной ценности. В языке нет
формы, которая не была бы мотивирована содержанием,
и нет содержания, которое не было бы мотивировано
общественной практикой. Но та и другая мотивированность
не простая, не прямолинейная. Разобраться в характере
этой мотивации в каждом отдельном случае — одна из
задач языковеда.
Системность языка не подлежит сомнению. Но язык не
автономная система, а подсистема, одна из подсистем,
входящих в большую систему, называемую обществом,
этносом, нацией. Другие подсистемы этой общности —
материальная культура, экономика, социальная структура,
психология, идеология, фольклор, литература, искусство.
Все эти подсистемы взаимодействуют с языком и, стало
5*
131
быть, не являются «экстралингвистическими». Изучение
языка вне этих связей, «моделирование» языка как
автономной системы пригодно, видимо, для каких-либо
вспомогательных прикладных целей, в познавательном же
отношении оно немногого стоит: оно не объясняет языковые
факты, а упрощает их. Тем самым определяется и цена
тех «универсалий», которые извлекаются из этих
упрощенных каркасов. Модели стоят в конфликте с движением,
а движение составляет коренную специфику языковой
действительности.
Достойно сожаления, что некоторые наши талантливые
языковеды вместо того, чтобы продолжать и развивать
лучшие традиции мирового и отечественного
реалистического гуманитарного языкознания, увлекаются модными
абстракционистскими и формалистскими доктринами,
иссушающими науку.
К счастью, быстротечные разновидности современного
лингвистического формализма не определяют лицо нашего
языкознания, как формализм 20-х годов не определял
лицо нашего литературоведения. Основной, устойчивой
линией нашей гуманитарной науки остается ценностный
подход ко всему культурному достоянию, в том числе и
к языку.
Этот подход не исключает, а предполагает богатство
и высокий уровень чисто описательных работ. Без
доброкачественного описания всякое теоретизирование
беспредметно.
Этот подход не исключает, а предполагает самое
пристальное внимание к формальной стороне явлений (связь
между содержанием и формой нерасторжима), равно как
целесообразное применение любых математических и
абстрактно-логических методов.
Но он признает за этими методами лишь
вспомогательное, прикладное, а не принципиальное и
теоретическое значения. Будучи идеологически нейтральными, эти
методы не дают никакого выхода в теории гуманитарного
процесса в целом, процесса, в центре которого стоит
человек и созданные и создаваемые им духовные
ценности.
132
Примечания
1 «Вопр. языкознания», 1965, № 3, с. 22—43; «Русская речь», 1971,
№ 5, с. 129—139. Моим статьям был брошен упрек в
«публицистичности». Я нисколько не огорчен таким обвинением. Внося
публицистический элемент в обсуждение научных проблем, советская наука имеет
такие образцы и таких учителей, как Герцен, Чернышевский, Маркс,
Энгельс, Ленин. Публицистичность становится неотъемлемым свойством
общественных наук каждый раз, когда они активно участвуют в
идейной борьбе своего времени.
2 НансенФр. Россия и мир, М., 1923.
3 «Литературная газета» от 12 апреля 1967 г.
4 «Проблемы мира и социализма», 1971, № 6, с. 80.
Изв. АН СССР, 1973, т. XXXII, вып. 6.
О ТЕРМИНЕ «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ЯЗЫК»
Когда мне впервые встретилось выражение
«естественный язык» («natural language»), я подумал, что речь идет
о языке животных. Оказалось, однако, что имеется в виду
человеческая речь. Если слова имеют еще какой-нибудь
смысл, то «естественное» в применении к человеку может
означать только «биологическое» и ничего более. Надо быть
крайне неразборчивым в употреблении терминов, чтобы
языки Гомера, Фирдоуси, Данте, Шекспира, Пушкина
называть «естественными», т. е. явлением биологического
уровня. Элементарной истиной является то, что язык
возникает не на биологическом, а на социальном уровне.
Это справедливо как в онтогенетическом плане (в развитии
индивида), так и в филогенетическом плане (в развитии
человечества в целом). Ребенку не надо учиться, скажем,
сосать грудь, потому что это — его естественная,
биологическая функция. А языку он учится, как позднее учится
письму или нотной грамоте, или любому другому
искусству и мастерству. Если ребенок растет не у родителей,
а в иноязычной среде, он начинает говорить на этом «чужом»
языке; именно потому, что язык — приобретаемая, а не
естественная способность. Иначе обстоит дело с
естественным языком животных. Если цыпленок-петушок растет
в обществе гусей, он все равно будет кукарекать
по-петушиному, а не гоготать по-гусиному. Точно так же осленок,
выросший в конском табуне, не будет ржать по-лошадиному,
а будет реветь по-ослиному. Пусть извинит мне читатель
упрощенность моих примеров: примитивные ошибки
приходится опровергать примитивными же доводами.
Если в онтогенезе не может быть речи ни о каком
естественном, т. е. биологически присущем и биологически
детерминированном языке, то не иначе обстоит дело и в
филогенезе, в развитии всего человечества. Хотя
происхождение языка во многом еще окутано тайной,
несомненно одно: язык неразрывно связан с коллективным опытом
и сознанием и родился вместе с ним. Человечество со-
134
вершило скачок от бессознательно биологического бытия
к осознанно социальному бытию, и язык был одной из
объективации этого скачка. Странно и парадоксально
называть «естественным» то, что было первейшим
признаком преодоления естественного,— язык. Насколько мы
можем проникнуть в глубину истории человечества, язык
был всегда опознавательным признаком отдельных
этнических групп. Этнос же категория не биологическая, а
социальная. Язык — это объективация коллективного
опыта и сознания в звуковых символах, отработанных
в процессе технизации в коммуникативную систему.
Коллективное сознание находит свое выражение не
только в языке, но и в фольклоре, литературе, искусстве.
Язык, фольклор, литература, искусство, представляя разные
формы объективации общественного сознания, образуют
единый гуманитарный мир. И если можно говорить об
«естественном языке», то должны существовать также
«естественный фольклор», «естественная литература»,
«естественная музыка», «естественная живопись»,
«естественная скульптура», «естественная архитектура».
Нелепость этих словосочетаний очевидна.
Можно подойти к вопросу об «естественности» языка
и с другой стороны. Как одна из форм объективации
общественного сознания, язык стоит в одном ряду с
фольклором, литературой и искусством, образуя с ними единый
гуманитарный комплекс. Но язык с самого начала
обременен еще другой функцией, функцией коммуникативной
техники. И здесь язык стоит в одном ряду с другими
техническими достижениями человека: знаками письма и другими
средствами и приемами сигнализации и информации,
с орудиями труда, с оружием, одеждой и пр. Ни к одному
из этих в социальной практике обретенных достижений
не применимо определение «естественный». Напротив, все
они знаменуют разрыв с «естественным», биологическим
бытием и переход в качественно новое бытие:
технологическое. Теплый мех для медведя — его естественная
одежда. Но шуба, сшитая человеком из того же меха, не может
уже называться естественной одеждой. Точно так же рев
медведя — его естественный язык. Но социально
отработанная сложная система звуковых символов, которую в
течение тысячелетий творчески создавал и отрабатывал
человек, никак не может называться естественным языком.
Нет другого естественного языка, кроме языка животных.
Возьмем еще один аспект занимающего нас вопроса.
135
Коль скоро наш язык называют natural language,
«естественным», попытаемся оценить правильность такого
наименования с точки зрения латинской корреляции пашга||
cultura. Следует ли относить язык к сфере natura или
к сфере cultura? Слово natura, производное от nascor
«рождаться», по словарю И. X. Дворецкого и Д. Н. Король-
кова A949) означает: «рождение», «природные свойства»,
«природная склонность», «природа», «первичная материя»,
«основное вещество». Слово naturalis по словарю
И. X. Дворецкого и Д. Н. Королькова: «естественный»,
«созданный природой», «физический», «природный»,
«врожденный». Слово cultura, производное от colo
«возделывать», «обрабатывать», по словарю И. X.
Дворецкого, и Д. Н. Королькова: «возделывание»,
«обрабатывание», «уход», «воспитание», «образование», «развитие»
(например, души, animi) '. В русском словаре под ред.
Ушакова «естественный» толкуется как «прирожденный»,
«природный». В четырехтомном академическом словаре:
«созданный природой», «существующий от природы»,
«прирожденный».
Вопрос, стало быть, стоит так: относится ли язык к
природным, созданным природой, врожденным свойствам
человека или к тем его способностям, которые
приобретаются возделыванием, обрабатыванием, воспитанием,
развитием? Мы показали выше, что и в онтогенетическом,
и в филогенетическом плане справедливо только последнее.
Среди нескольких тысяч национальных языков, известных
на земном шаре, нет ни одного врожденного, природного.
Все они «возделывались» говорящим коллективом в течение
тысячелетий и заново усваиваются и «возделываются»
каждым индивидом. Нет, стало быть, и тени сомнения,
что в корреляции naturaj|cultura язык относится всецело
к сфере cultura, а не natura.
Наконец, возможен еще один подход к оценке того,
является ли человеческий язык «естественным»: с точки
зрения характера связи между звучанием и значением
в языке. Платон в диалоге «Кратил» излагает два взгляда
на этот предмет. Согласно одному, эта связь существует
от природы, фтЗаеь : «... у всего существующего есть
правильное имя, врожденное от природы». Согласно другому,
такая связь существует только по обычаю или
установлению, deaei : «... никакое имя никому не врождено от
природы, но принадлежит на основании закона и обычая...».
Рассуждения участников диалога (Кратил, Гермоген,
136
Сократ) оставляют двойственное впечатление. Кажется,
что Платон не склоняется решительно ни на одну из двух
точек зрения. Это нетрудно понять, если учесть, что
спорящие не выходят за рамки греческого языка и
аргументируют исключительно лексическими и
наивно-этимологическими примерами, взятыми из этого языка. Спор
между (pvoei и fteaei принципиально неразрешим, если
оставаться внутри одного языка. Если бы на свете
существовал только один язык, он казался бы говорящим
индивидам единственно возможным и, стало быть,
«естественным». Оспаривать такое убеждение было бы нечем.
Только сопоставление данных языков дает бесповоротный
ответ на спорный вопрос. Точка зрения cpuaei полностью
опровергается тем простым фактом, что один и тот же
предмет в разных языках называется разными звуковыми
символами. Это было бы невозможно, если бы природа
вещи допускала для нее только одно, «правильное»
наименование. Многообразие человеческих языков
неопровержимо доказывает условный, символический характер
языкового знака и тем самым сближает человеческий
язык с любыми другими символическими знаковыми
системами и отделяет пропастью от естественного языка
животных. Между звучанием и значением в человеческом языке
нет естественн o-необходимой связи, есть только
связь общественн o-необходимая, обусловленная
традицией и потребностью взаимопонимания в пределах
говорящего на данном языке коллектива. Эта
общественно-необходимая связь и есть то, что Платон называет
fteaei «по установлению», «по обычаю». Коль скоро язык —
явление естественное, то наука о языке, лингвистика,
должна относиться к естественным наукам. Этот
абсолютно логичный и неотвратимый вывод почему-то не
делается. А надо его сделать и включить человеческую речь
в животную сигнализацию рядом с ревом осла, воем волка,
мяуканьем кошки и кваканьем лягушки...
Название «естественный язык» в применении к
человеческой речи представляется рецидивом теории cpuaei»,
рецидивом в XX в., после полуторавекового существования
сравнительно-исторического языкознания. Такой казус
кажется трудно постижимым. Как его объяснить?
«Роковую» роль сыграло здесь увлечение семиотикой как общим
учением о знаковых системах. Есть такие придуманные
человеком системы, как знаки семафора, флажковая
сигнализация, азбука Морзе, математическая символика
137
и пр. Это — искусственные «языки». В отличие от них
традиционные знаковые системы, какими являются языки
народов, казалось логичным назвать «естественными».
Стало быть, понять появление этого термина можно.
Говорят, понять — значит простить. На этот раз простить
трудно. Термин явно непродуманный и грубо ошибочный.
Мы рассмотрели язык с разных сторон: как одну из форм
объективации общественного сознания и как
коммуникативную технику. Мы приняли во внимание как
онтогенетический, так и филогенетический план. Ни в одном
мыслимом аспекте человеческий язык не может быть назван
естественным феноменом. Напротив, он выступает как
преодоление естественного, как его диалектическое
отрицание. Мы ввели язык в ряд фундаментальных для
нашей темы корреляций:
биологическое / / социальное
natura // cultura
qruaei // -д-eosi
и убедились, что его место неизменно в правой части
этих корреляций (социальное, cultura, ^ecei ), a не в левой,
«естественной».
Говоря о месте человеческого языка в классификации
семиотических систем, следует учитывать еще одно весьма
важное обстоятельство: язык людей приходится
соотносить не только с искусственными знаковыми системами,
но и с языком животных. Существование у животных
различных средств и приемов общения, экспрессии и
сигнализации давно установлено и не вызывает
сомнения. У некоторых высших обезьян находят до тридцати
различных звуковых сигналов, которые не только
выражают те или иные эмоции: удовольствие, боль, гнев, страх
и пр., но и могут нести информацию об определенной
ситуации, например, ситуации опасности. В последнее
время много пишут и говорят о языке дельфинов 2.
К языку животных безоговорочно применимо название
естественного. В приведенных выше корреляциях его место
в левом ряду (биологическое, natura, yvoei). Между языком
животных и языком людей существует пропасть,
колоссальный качественный скачок, в условия и механизм которого
мы не можем до сих пор полностью проникнуть. Если
язык животных и язык людей объединить как
«естественные» под одной шапкой и вместе противоставить их
искусственным знаковым системам, получается довольно
странная картина: на одной стороне кваканье лягушки и язык
138
Пушкина,— это будут «естественные языки»; на другой
стороне знаки семафора и математические символы,—
это будут «искусственные языки». Более гротескную
классификацию трудно себе представить.
Могут сказать, что всякий термин — вещь условная;
называй, как хочешь, лишь бы было видно, о чем идет
речь. С этим трудно согласиться. Если термин рождает
ложные ассоциации, уводит мысль в ложном направлении,
то такой термин нельзя считать нейтральным и
безобидным. Точность терминов, их соответствие предмету —
непременное качество подлинно научного познания.
Я предвижу вопрос: каким же термином следует
называть человеческие языки, чтобы отмежевать их как от
искусственных знаковых систем, так и от естественного
языка животных? Можно предложить несколько таких
терминов: социальные языки, этнические языки,
национальные языки, исторически сложившиеся языки,
традиционные языки. Разумеется, ни один из этих терминов не
раскрывает полностью специфику языка (от термина этого
и нельзя требовать). Но каждый из них с какой-то стороны
подводит к этой специфике. А это лучше, чем термин,
который представляет эту специфику в ложном свете.
С учетом сказанного классификация знаковых систем
(«языков») будет выглядеть примерно так:
Естественные
языки
Языки
животных
Символические
языки
Социальные
(этнические,
национальные,
исторически
сложившиеся,
традиционные) языки
Конвенциональные
(искусственные) языки
П римечания
' См. «Л a m не к о-русский словарь», сост. И. X. Дворецкий и Д. Н.
Корольков. M., 194м.
2 Ср.: Th. S е b е о k, Perspektives in zoosemiotics, The Hague —
Paris, 1972.
Вопросы языкознания, 1976, № 4.
139
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ОПИСАТЕЛЬНОЕ
И ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЕ
О КЛАССИФИКАЦИИ НАУК
Классификация наук подчинена простому, давно
сформулированному тезису: порядок и связь идей — те
же, что порядок и связь вещей. Это значит, что
классификация наук должна отражать классификацию объектов,
которые составляют предмет научного познания.
Предметом же научного познания являются природа, с одной
стороны, и человек и человеческое общество, с другой.
Отсюда две группы наук: естественные и общественные,
или гуманитарные (последние называли и называют
иногда также «антропологическими»).
Это деление так же старо, как сама наука. «Уже в
древности китайские мыслители ясно различали в рамках
своих философских учений область явлений, связанных
с природой, с внешним миром, и явлений, связанных с
человеком и трактуемых с позиций морально-этических
принципов» [ 1 ].
Античная философия также отчетливо различала мир
природы и мир человека. Знания о первом обобщались
под названием «физики», знания о втором — под
названием «этики».
Детальную классификацию всех научных знаний своего
времени пытался дать Д'Аламбер во Введении к
знаменитой французской «Энциклопедии» [2]. Он также четко
отличает науку о человеке от науки о природе. В науку
о человеке входят, по Д'Аламберу, психология, логика
и лингвистика, мораль и этика.
Представители позитивистской философии О. Конт
A798—1857), Г. Спенсер A820—1903) и их
последователи область гуманитарных знаний объединяют под
рубриками «социологии» и «психологии».
Таким образом, разделение наук на две группы,
естественные и гуманитарные, никогда в сущности не было
дискуссионной проблемой на протяжении всей истории
научного познания. Дискуссионными были два вопроса:
1) в чем специфика каждой группы, 2) как они между
140
собой соотносятся. Наряду с тенденцией сблизить обе
группы наук, вскрывая общие закономерности,
управляющие как миром природы, так и миром человека (в системах
Конта, Спенсера и других мыслителей), наметилась
противоположная тенденция: отделить гуманитарные науки от
естественных непроходимой пропастью. Эта последняя
тенденция нашла свое крайнее выражение в трудах
неокантианских философов Г. Риккерта A863—1936) и
В. Виндельбанда A848—1913). Науки о природе (Na-
turwissenschaften) и науки о культуре (Kulturwissenschaften)
принципиально различны по своим задачам и методам.
Первые стремятся установить общие законы. Поэтому они
называются «генерализующими» или «номотетическими».
Вторые рассматривают каждый феномен человеческой
истории и культуры как нечто уникальное и неповторимое,
подлежащее характеристике в терминах учения о
«ценностях», об истине, добре и красоте. Поэтому эти науки
называются «индивидуализирующими» или «идиографи-
ческими» [3—5] '.
Риккерт и Виндельбанд вышли из Канта. Маркс и
Энгельс — из Гегеля. Но в то время как первые углубили
идеалистическую сторону философии Канта, вторые
совершили нечто диаметрально противоположное: они совлекли
с философии Гегеля ее идеалистическую оболочку и
раскрыли под ней рациональное ядро: законы диалектики,
в равной мере управляющие миром природы и миром
человека и человеческого общества. Мировой процесс —
это не движение «духа», как считал Гегель, а движение
материи, и это применимо как к природе, так и к обществу.
В Послесловии ко второму немецкому изданию первого
тома «Капитала» Маркс писал: «Мой диалектический метод
по своей основе не только отличен от гегелевского, но
является его прямой противоположностью. Для Гегеля
процесс мышления, который он превращает даже под
именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург
действительного, которое составляет лишь его внешнее
проявление. У меня же, наоборот, идеальное есть не что
иное, как материальное, пересаженное в человеческую
голову и преобразованное в ней» [6]. Но раз так, то
«ценности», которые по Виндельбанду и Риккерту составляют
предмет и содержание гуманитарных наук, лишь в головах
людей становятся «идеальными». Корни у них —
материальные. Стало быть, к классификации гуманитарных наук
применимы те же принципы, что к классификации есте-
141
ственных. Одним из важнейших принципов, общих для
тех и других, является деление наук на описательные
и объяснительные.
Такое деление по видимости совпадает с делением
наук на описательные (эмпирические, конкретные) и
теоретические (абстрактные). Это деление мы находим уже у Конта.
Но Конт считал, что всякая наука, в том числе и
теоретическая, может отвечать только на вопрос «как»?, а не
«почему»? Эта агностическая позиция характерна для
позитивизма, как классического, так и неопозитивизма.
Вопросы «что?» и «как?» относятся оба к сфере
описательной науки. Абстракция — важный шаг в работе
познающего разума, но сама по себе она — не объяснение.
Объяснительная наука призвана отвечать на вопрос
«почему?», т. е. раскрывать с возможной глубиной
причинные связи. Человеческий разум никогда не довольствуется
наблюдением и описанием окружающих явлений. Он ищет
им объяснения. Для объяснительной науки характерна
постановка вопроса о происхождении изучаемого
круга явлений или объектов. Агностицизм чужд
объяснительной науке и несовместим с нею.
Представляется очевидным, что в любой науке описание
предшествует объяснению. При этом наименование той
или иной описательной науки переносится и на
соответствующую объяснительную науку, хотя это —
принципиально разные вещи. В результате названия наук, которые
мы употребляем, не отражают четко деления наук на
описательные и объяснительные. У европейских народов
они формировались отчасти стихийно, на основе
античной — в основном греческой — традиции2. И многие
названия, которые возникли, когда данная наука не
поднялась еще на уровень объяснительной,
недифференцированно применяются к обоим «жанрам», описательному
и объяснительному. Уже античная философская мысль
сделала шаг к упорядочению номенклатуры наук путем
противоставления названия на -графин (гео-графия и
пр.) наукам на -логия (гео-логия и пр.). Первые
указывают на описательность, вторые — на объяснительность
или во всяком случае на известный теоретический
уровень. Но это различение проводилось и проводится
далеко не последовательно, и один и тот же «диффузный»
термин применяется и к описательной и к
объяснительной науке. Такая терминологическая нечеткость дает себя
знать как в естественных науках, так еще в большей
степени в науках гуманитарных.
142
ОПИСАТЕЛЬНЫЕ И ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ НАУКИ
В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ
Науку о небесных светилах древние греки называли
астрологией (Аристотель и др.) и астрономией (Платон
и др.). Первое название впоследствии закрепилось за
псевдонаучным гаданием по планетам и звездам. Термин же
астрономия по традиции применялся и применяется
безразлично к любому аспекту познания космоса как в
описательном, так и объяснительном плане. На деле же можно
говорить уже о двух разных областях астрономической
науки: космографии (описание) и астрофизике
(объяснительная наука).
В науках о Земле больше терминологической
четкости. География — наука описательная. Геология, поскольку
она занимается не только строением, но и происхождением
и историей нашей планеты, наука объяснительная. Как ярко
выраженная объяснительная наука геология выступила
в XIX в. в теории катастроф Кювье и в теории
постепенных изменений Лайеля.
Физика у Аристотеля означает науку о природе. Сейчас
этот термин слишком общий, диффузный. Общей шапкой
«физика» покрывается как описание физических явлений,
так и их объяснение. Атомная и ядерная физика подняла
эту науку на принципиально новый уровень объяснительного
познания. Эту, в сущности новую, науку можно было бы
назвать «энергологией», наукой об энергии и ее
преобразованиях. В прикладной области ей соответствует энергетика.
Ср. ниже соотношение фонетики и фонологии, а также
такие пары, как техника и технология, психика и
психология, политика и политология.
В науке о жизни нет особых номенклатурных
неясностей. Ботаника и зоология в основном — науки
описательные, биология — наука объяснительная. Вершиной
биологии как объяснительной науки стала в XIX в.
эволюционная теория Дарвина. Новейшие исследования
на клеточном и молекулярном уровне неизмеримо углубили
проблематику биологии и породили новую науку — генетику.
Строение и функции живых организмов изучаются
описательными науками, анатомией и морфологией и
объяснительной наукой физиологией.
Таким образом, через все естествознание проходит
деление наук на описательные и объяснительные, хотя
названия наук не всегда точно и адекватно отражают
это фундаментальное различие.
143
ОПИСАТЕЛЬНЫЕ И ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Все, что происходит в мире человеческом, так же требует
объяснения, как все, происходящее в мире природы.
Поэтому в системе гуманитарных наук наряду с описательными
существуют науки объяснительные. К сожалению,
традиционная номенклатура наук здесь еще менее дифференци-
рованна, чем в естественных. Взять термин история. В
древнегреческом его основное значение было «сведения,
полученные путем расспросов» (ютооеы «расспрашиваю»).
Отсюда вообще «сведения, знания», в частности «знания
о прошлых событиях», «история». Но ни обобщения, ни
объяснения не входили в задачу истории. Напротив,
Аристотель подчеркивает, что история говорит только о
единичном (у| ютоо/кх та xau exacrrov Aeyei).
Первый, кто пытался поднять историю на уровень
объяснительной науки, был итальянский мыслитель Джо-
ванни Баттиста Вико A669—1744). Он рассматривал
исторический процесс не как беспорядочную смену
отдельных событий, а как подчиненный определенным законам
круговорот с периодически повторяющимися стадиями
[7]. Исследования такого рода принято называть
«философией истории». Поскольку описательный уровень
исторической науки зовется историографией, почему бы
объяснительный уровень не наименовать историологией! Историо-
логией par excellence является исторический материализм
Маркса и Энгельса. Согласно этому учению, исторический
процесс определяется и направляется единым
доминирующим фактором: развитием производительных сил и
производственных отношений. Блестящее изложение этой теории
дал Г. В. Плеханов A856—1918) [8].
Весьма нечетким является термин социология. Реально
существуют две разные науки: наука, описывающая
социальные структуры, и наука, объясняющая их
в генезисе и развитии.
Больше повезло в смысле номенклатуры науке
народоведения. Здесь мы имеем два уровня исследования —
описательный и объяснительный и соответственно два
термина: этнография и этнология. Они в принципе должны
соотноситься так же, как география и геология в
естествознании.
Крайне расплывчат и многозначен термин психология.
Объясняется это не только тем, что предмет этой науки —
144
ypvxr\«?yiaa» — вещь достаточно расплывчатая, но и общей
нечеткостью и недифференцированностью научной
номенклатуры в гуманитарной сфере. Несомненно, однако,
что и здесь существует две науки: одна, которая
описывает психические явления, и другая, которая их
объясняет или пытается объяснить. Зачатки объяснительной
психологии мы находим уже ¦ у античных мыслителей
(Аристотель). Но расцвет этой науки относится к
новому времени, когда возникает целый ряд психологических
теорий, направленных на причинное объяснение
психических феноменов: ассоциативная психология,
сенсуализм, Gestaltpsychologie, учение о рефлексах, психоанализ,
бихевиоризм и др.
Все эти теории имеют прямое отношение и к
лингвистике, поскольку проблема «язык и сознание», «язык и
мышление» — одна из фундаментальных в объяснительном
языкознании.
ЧТО ТАКОЕ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Мы видели, что содержанием научного знания, будь то
в естественных науках, будь то в гуманитарных, является,
с одной стороны, опыт, наблюдение и описание, с другой —
выяснение генезиса и причинных связей. Потребность
доискиваться до происхождения и первопричин везде
и всегда лежит в природе человеческого разума, и никакие
искусственные агностические барьеры не могут остановить
его на этом пути.
Объяснительная наука — это наука высшего класса.
Чтобы подняться на этот уровень, объяснительное
языкознание должно прежде всего осознать себя, свою
специфику, свои задачи, свое коренное отличие от описательной
науки. Речь идет о двух разных науках, как разными
науками являются география и геология. Их можно было бы
назвать «глоттографией» и «глоттологией».
Нет ничего общего между соотношением
«описательный» — «объяснительный» и «синхронный» — «диахрон-
ный». Диахронное (историческое) исследование может
оставаться чисто описательным, т. е. описывать разные
хронологические этапы или срезы. Историческая география
остается географией, т. е. наукой описательной. Она не
превращается в геологию. Верно, что историзм — обязательный
признак объяснительной науки, но историзм историзму —
145
рознь. Объяснительная наука призвана не просто описать
разные хронологические состояния, но вскрыть механизм
причинных связей и движущих сил, породивших эти
состояния.
Проблематика объяснительного языкознания ясна:
возникновение и формирование человеческой речи,
движущие силы и этапы ее развития, генезис лексики
и грамматики, язык как идеология и как техника,
распределение языковых типов во времени и пространстве.
Эти проблемы ставились в романтический период истории
языкознания в первой половине XIX в. в трудах В.
Гумбольдта, Я. Гримма, А. Шлейхера. Но они затухли в
младограмматической школе, где на первый план выступил
формальный анализ 3. Формализация языкознания достигла
предела в структурализме. Как в истории организмов
возникают виды, не способные к дальнейшему развитию, так
в истории любой науки могут возникнуть направления,
которые ведут в тупик. Таким тупиковым направлением
в языкознании являлся структурализм. Таким же
направлением была формалистическая школа в советском
литературоведении 20-х годов (Эйхенбаум, Шкловский и др.).
Эта школа утверждала, что литературное произведение
надо рассматривать как явление «в себе и для себя» и
разбивать и оценивать исключительно в терминах его
формальных композиционных и выразительных средств в
полном отвлечении от всяких социальных, политических
и идейных реальностей. Писатель — это не представитель
своего общества и своей эпохи, а набор формальных
литературных приемов. Задача литературоведа — выявить эти
приемы. Изощренные по видимости, но примитивные по
существу, формалистические упражнения представителей
этой школы выдавались за вершину литературоведения.
Но они мало помогали познанию литературного процесса
как общественного и культурного явления. Так же точно
обстоит дело со структуральным формализмом в
языкознании. Языкознание и литературоведение — это два
раздела одной большой науки, науки о Человеке.
Формализация этих наук равносильна их дегуманизации.
Почему? Да просто потому, что человек заложен в
содержательной стороне языка и литературы, а не
формальной.
Структурализм в языкознании — родной брат
формализма в литературоведении.
Тезис Соссюра «язык надо изучать в себе и для себя»
146
применим только к описательному, но не объяснительному
языкознанию. Язык сам себя описывает, но он сам себя
не объясняет. Чтобы его объяснить, надо выйти за его
пределы. И это является законом для всех
объяснительных наук без исключения. В любой науке переход от
описательной стадии к объяснительной неотвратимо связан
с вовлечением в свою орбиту данных тех или иных смежных
наук. Как только астрономия перешла от описания к
объяснению космического мира, она сомкнулась с
физикой (астрофизика). Геология как объяснительная наука
обязательно включает биохимию и биофизику. Биология —
биохимию и молекулярную биологию. Физиология как
объяснительная наука немыслима без органической
химии 4. Не иначе обстоит дело в гуманитарных науках.
История смыкается с этногенетикой, социологией и
экономикой, социология с этнографией и т. д.
Совершенно так же перед объяснительным
языкознанием встают межнаучные проблемы, которых не знает
языкознание описательное. Главные из этих проблем
следующие: происхождение языка; язык и мышление;
язык и объективная действительность; язык и общество;
язык и история; язык и материальная и духовная
культура.
Объяснительным можно назвать только такое
исследование явлений языка, которое имеет выход к
перечисленным выше фундаментальным проблемам или некоторым
из них. А каждый такой выход — это выход в смежные
науки: антропологию, философию, психологию, социологию,
историю (включая археологию), культурологию,
фольклористику, литературоведение. Такой широкий охват
смежных дисциплин не должен удивлять. Язык — явление
уникальное по своей универсальности, поэтому так
необъятно широки и универсальны его связи со всем тем, что jia-
зывают «экстралингвистическим» миром. \ч ^ч_;
Мы уже отмечали, что в языкознании, как и в
некоторых других областях знания, нет ясного сознания,' что
речь идет в сущности о двух разных науках,
описательной и объяснительной, традиционно носящих одно
общее название. Любопытно, однако, что в некоторых
разделах лингвистики наступило четкое размежевание.
Рядом с фонетикой, наукой описательной, имеем
фонологию, науку объяснительную. Рядом с лексикографией —
историческую лексикологию и этимологию.
147
ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ
Когда П. К. Услар в 70-е годы прошлого века приступил
к своей пионерской работе по изучению кавказских языков,
он был на первых порах озадачен необычной для
европейского слуха сложностью их звукового состава. Качество
и количество звуков и их оттенков не поддавались, казалось,
никакой систематизации. Но скоро он заметил, что для
самих говорящих важны (как теперь говорят,
«релевантны») не все различия между звуками, а только некоторые.
Какие же именно? Те, которые позволяют отличать одно
слово от другого, одну морфему от другой. Это простое
открытие . можно считать началом новой науки в рамках
языкознания: фонологии. Фонетика изучает звуковой состав
языка «со стороны», по его акустическим и
артикуляционным характеристикам. Фонология — «изнутри», с позиций
говорящего коллектива. Чтобы установить систему
звуков абхазского, чеченского, аварского языков,
Услару приходилось как бы «перевоплощаться» в
абхаза, чеченца, аварца. Только в результате такого
«перевоплощения» кажущийся хаос звуков речи превращался
в стройную систему фонем как противостоящих друг
другу смыслоразличительных единиц.
Дальнейшее развитие фонологической науки связано
с именами И. А. Бодуэна де Куртене, Л. В. Щербы,
Н. Ф. Яковлева, Н. С. Трубецкого и многих других
исследователей. К сожалению, вокруг первоначальной простой
истины было накручено много хитроумных домыслов,
только затемнявших суть дела. История учения о фонеме
может служить прекрасной иллюстрацией к афоризму:
одни ученые распутывают сложное, другие запутывают
простое. Простое же заключается в том, что
фонологический состав языка представляет социально
отработанную в истории говорящего коллектива систему
фонемных оппозиций, находящихся целиком на службе
семантики. А это значит, что фонема — категория
одновременно социолингвистическая и психолингвистическая.
Имея выход к проблемам «язык и общество» и «язык
и мышление», фонология обладает чертами
объяснительной науки, в отличие от фонетики, которая занимается
простым описанием звуков речи по их акустическим и
артикуляционным признакам.
148
ЛЕКСИКОГРАФИЯ И ЭТИМОЛОГИЯ
Нет надобности доказывать, что лексикография
относится к этимологии, как описательная наука к
объяснительной. Задача лексикографии — регистрация,
систематизация и описание лексики. Этимология занимается ее
происхождением и историей. Но история лексики
неотделима от истории народа. Еще один из родоначальников
сравнительно-исторического языкознания Якоб Гримм
говорил, что наш язык есть также наша история.
В отличие от исторической лексикологии, которая
ограничивается обычно регистрацией слов в письменных
памятниках разных эпох, этимология, опираясь на метод
сравнительной и внутренней реконструкции, вторгается
в глубокую древность, стремится доискаться, как звучали
слова и что они значили задолго до появления
письменности. И тут она оказывается лицом к лицу с проблемой
этногенеза. Что такое этимологический словарь? Это —
самый глубинный вариант исторического словаря. Что такое
этногенез? Это самый глубинный аспект истории народа. На
уровне этой глубины этимология и этногенез сближаются и
протягивают друг другу руки: этимология помогает в решении
этногенетических проблем, а этногенетические
исследования, проводимые на основе экстралингвистических
(археологических, этнологических, антропологических,
исторических) данных, дают нужное направление
этимологическим поискам.
Но эта чудная наука, называемая этимологией, помогает
решать не только этногенетические вопросы. Мир слов —
это весь исторический опыт нации, и в идеале
этимологический словарь — окно, открытое в широкий мир истории
народа, его генетических связей и ареальных контактов
с другими народами, в мир реалий его материальной и
духовной культуры, в мир культурных взаимодействий и
взаимовлияний между народами.
ТИПОЛОГИЯ ОПИСАТЕЛЬНАЯ И ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
Типология определяется как «метод научного познания,
в основе которого лежит расчленение систем объектов
и их группировка с помощью обобщенной,
идеализированной модели или типа» [9]. Первый шаг — распознание
и выделение признаков, характерных для данного класса
объектов в отличие от других классов. В дальнейшем
следует описать и систематизировать взятые за ориентир
149
типологические признаки и этим ограничиться. Но можно
пойти еще дальше и попытаться объяснить, почему типо- .
логия данного класса объектов такая, а не другая.
Возможны, стало быть, два вида типологических исследований:
описательный и объяснительный. К примеру, если мы
в одних языках имеем особую форму падежа прямого
объекта («винительного»), а в других она отсутствует,
то можно либо ограничиться констатацией этого факта,
либо попытаться выяснить, чем вызвано и как возникло
это различие.
В истории научного языкознания с самого его
создания делались опыты типологической классификации языков
как в описательном, так и объяснительном плане, хотя
не всегда ясно сознавалось их взаимоотношение. В
последние десятилетия интерес к языковой типологии заметно
возрос. Достигнуты определенные успехи. В частности,
выясняется необходимость размежевания двух указанных
выше направлений типологических исследований,
описательного (формального) и объяснительного
(содержательно ориентированного, контенсивного) [10].
Предельная задача объяснительной типологии языка —
соотнести определенные типы формальной структуры с
определенными типами мышления, а через мышление —
с определенными типами социального строя и культурного
уровня.
Реализуема ли такая задача?
Н. Я. Марр, рассматривая язык как прямолинейно
надстроечное явление, убедил себя, что такая задача
разрешима. Он выдвинул теорию стадиальности: язык с
момента своего возникновения проходит ряд стадий,
соответствующих стадиям развития общества. Попытка Марра
закончилась полной неудачей. Почему? Стоит над этим
задуматься.
ПОЧЕМУ ТАК ТРУДНО ОБОСНОВАТЬ
ОБЪЯСНИТЕЛЬНУЮ ТИПОЛОГИЮ
(СТАДИАЛЬНОСТЬ)
Человеческая речь с самого ее возникновения
обременена двумя функциями: познавательной и коммуникативной
(включая экспрессивную). Познавательная функция
реализуется в трех операциях: селекция (отбор
актуального от неактуального), абстракция и классификация
[11]. Структура каждой из этих операций в древнейший,
150
донаучный период, хотя и включает элементы «чистого»
знания, но зависит от уровня социального, хозяйственного
и культурного развития и, стало быть, носит надстроечный
характер. Человек познает мир не объективно, в его
реальной сущности, а субъективно, сквозь призму своих
социальных и хозяйственных интересов. Человек не просто познает
объективную действительность, а «идеологизирует» ее.
И здесь первобытная речь смыкается с первобытной
мифологией и религией. В данном случае к языку применимы
слова Ф. Энгельса (в письме к К. Шмидту): «Что же
касается тех идеологических областей, которые еще выше парят
в воздухе — религия, философия и т. д.,— то у них имеется
предысторическое содержание, находимое и перенимаемое
историческим периодом...» [12]. Особенность языка в том,
что заложенная в его предыстории идеология усваивается
в исторический период уже не как идеология, а как
коммуникативная техника. Идеология, которая раньше была
заложена в самом языке, в его лексической и
грамматической структуре, теперь выражается с помощью
языка, в развернутых определениях, суждениях,
высказываниях [13,14]. Вот этот-то процесс превращения
идеологических структур в технические вынуждает с
великим недоверием относиться ко всяким прямолинейным и
упрощенным стадиальным построениям. Если, скажем, в морфо-
синтаксисе современного чеченского языка ясно выступают
именные классы, а в современном английском языке их нет,
это не значит, что у них принципиально разное (разно-
стадийное) мышление. Это значит, во-первых, что чеченский
был «застигнут» процессом технизации на более древнем
уровне, нежели английский, и, во-вторых, историческая
жизнь английского языка как техника была сложнее,
интенсивнее, чем у чеченского. Кажется парадоксальным: чем
сложнее история языка, тем проще его морфология. Но
это так. Чем дальше от истоков реки и чем стремительнее
ее течение, тем более обкатанной становится речная галька.
Что значит «язык был застигнут процессом
технизации»? Это значит, что функция коммуникативной техники
в нем решительно возобладала над идеологической, сведя
последнюю к минимуму. Причем даже этот минимум
актуален не для всей системы языка, но лишь для некоторых
лексико-семантических явлений. В морфосинтаксисе
идеология распознается лишь как пережиток. И то, что
мотивируется на техническом уровне настоящего,
получает мотивацию на идеологическом уровне прошлого.,
151
Из сказанного следует, что
объяснительно-типологическая классификация языков вообще невозможна. Но она
неизбежно окажется не идеологической классификацией
исторически засвидетельствованных языков, а
классификацией тех разных уровней их далекой предыстории, на
которых они подвергались процессу технизации. А это
значит, что объяснительная типология — это проблема не
синхронного и даже не исторического, а предыстори-
ч е с к о г о палеонтологического языкознания. Структурно-
типологические особенности любого современного языка
приобретают объяснительное значение только
будучи проецированы в прошлое, на уровень их
генезиса.
Совершенно иначе обстоит дело с описательной
(формальной) типологией. „ Здесь возможны самые разные,
синхронные и исторические классификации по самым
различным формальным признакам. Познавательная
ценность таких классификаций тем выше, чем
«релевантнее» те признаки, которые положены в их основу.
ПРОБЛЕМЫ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Чтобы определить свои задачи, объяснительное
языкознание должно первым долгом осознать себя, свою
специфику, свое коренное отличие не только от описательного
языкознания, но и от формально-теоретических обобщений.
Обобщение — важный этап на пути научного познания.
Но не всякое обобщение ведет к постижению сущности
и первопричин. Формалистические упражнения в
языкознании и литературоведении слывут «теорией языка»,
«теорией литературы», но в них нет ни грана
объяснительного элемента. Формалистический подход — нечто
диаметрально противоположное объяснительному. Принимая
(или выдавая) форму за сущность, он не открывает, а
заграждает путь к объяснению явлений.
Перед объяснительным языкознанием стоят большие
задачи в разных направлениях и областях. Назовем некоторые
из них.
1. Глоттогенез. Следует реабилитировать
проблему происхождения языка. На заре сравнительного
языкознания, в романтический период его истории, корифеи
нашей науки не чуждались этой темы. Но потом, в
младограмматической и так называемой «социологической»
школе она была объявлена «ненаучной». А почему,
собственно, ненаучной? Глоттогенез — один из аспектов
152
антропогенеза. Другие его аспекты: социогенез
(возникновение примитивных социальных организаций), техно-
генез (изготовление древнейших орудий труда и оружия),
идеогенез (ранние формы идеологической надстройки,
примитивные магические, мифологические и религиозные
представления). Ни одна из этих тем не считается
ненаучной и не находится под запретом. Этнолог и социолог
стремятся возможно глубже проникнутк* т« образование
таких человеческих общностей, как стадо, племя, род,
семья. Археолог тщательно изучает древнейшие орудия
труда и оружия. Историк религии доискивается до самых
ранних форм надстроечных представлений. Почему же
только лингвист обязан наложить на себя обет молчания
по проблемам происхождения языка? Потребность
человеческого ума всегда и везде доходить до истоков слишком
велика и естественна, чтобы можно было заглушить ее
заклинаниями. Изучать всякое явление в его генезисе
и развитии — это вполне марксистский принцип. И здесь
марксизм смыкается с романтиками, а не с агностиками.
Вероятно потому, что в самом марксизме есть
романтическая струя. Инъекция известной дозы
романтизма не повредила бы современному языкознанию,
пораженному иссушающей болезнью формализма.
Верно то, что в рамках антропогенетических
исследований приходится варьировать методику исследования.
Лингвист, занимающийся происхождением языка, в отличие
от археолога и этнолога, не может идти чисто
индуктивным путем. Языки самых примитивных племен Австралии,
Африки, Южной Америки не смогут дать представления
о начале речи. У каждого из этих языков за спиной
тысячелетия технизации. Но, сочетая доступный индуктивный
материал с некоторыми дедуктивными антропогенети-
ческими и философскими идеями, можно построить вполне
убедительную концепцию глоттогенеза 5.
2. Фонология. Учение о фонеме как смыслоразли-
чительной единице — важный шаг в плане объяснительной
интерпретации фонетических явлений. Глубинный смысл
этого учения состоит в том, что организующим и
формирующим фактором фонологической системы любого языка
является семантика, потребность семантических
дифференциаций.
Но фонема несет еще одну функцию: социоразли-
чител ьную. Она служит и, в особенности, служила
в прошлом опознавательным признаком языкового коллек-
153
тива, отличавшим его от других родственных коллективов.
На уровне антропогенеза эта функция была главнейшей.
Раньше чем стать смыслоразличительной единицей, фонема
была единицей социоразличительной.
Параллельно с этносоциальной консолидацией языковых
коллективов шла консолидация и стабилизация их
фонологических систем в их оппозиции друг к другу: рождались
звуковые законы. Стало быть, в генезисе они
имеют социальную природу. А это означает, что они
не являются чем-то извечным, неизменным и
неподвижным. Пока этноязыковые образования, входящие в
данную языковую общность, более или менее аморфны,
неустойчивы, нестабильны, распределение звуковых норм
между ними характеризуется такой же неустойчивостью,
нечеткостью. Намечаются лишь определенные,
характерные для отдельных этноязыковых единиц фонетические
тенденции, которые лишь постепенно
стабилизируются и приобретают черты звуковых «законов». Наследием
прежней нечеткой дистрибуции фонетических норм
является любопытный феномен, который мы называем
перекрестными изоглоссами [15]. Сущность f
этого феномена состоит в том, что ни в одном из
родственных языков или диалектов установленные для них
«звуковые законы» не выдерживаются сплошь,
последовательно, по всему языковому материалу. Обязательны
единичные вкрапления по фонетической норме того или
иного родственного языка. Так, если брать
индоевропейские языки, в языках группы «сатем» находим отдельные
слова, оформленные по норме «кентум».
Объяснительная историческая фонетика постоянно
должна считаться с явлением перекрестных изоглосс.
3. Лексика как система. Историческая
лексикология, прослеживая историю слов на разных этапах
истории народа, остается наукой описательной.
Объяснительное языкознание заинтересовано прежде всего в
изучении лексики как системы. Системообразующим
фактором в формировании лексики является сознание
общественного человека в его взаимодействии с миром, с
объективной действительностью.
Освоение человеком объективной действительности
включает три операции: 1) селекцию — вовлечение в
сферу сознания тех элементов и явлений, которые
актуальны при данном состоянии общества, и закрепление этих
элементов в памяти; 2) абстракцию — включение
каждого осознанного феномена в какой-либо обобщающий
154
концепт; 3) классификацию — группировку
осознанных феноменов по тем или иным
классификационным признакам [11].
На разных этапах развития общества каждая из этих
операций имела свои особенности, свой особый тип: человек
по-разному отбирал и отделял «нужное» от «ненужного»,
по-разному абстрагировал, по-разному классифицировал.
Стало быть, структура лексики как системы все время
менялась и меняется в зависимости как от природно-
географической среды, так и, в особенности, от уровня
хозяйственного и социального развития. Изучение этих
меняющихся лексических структур, начиная от зарождения
звуковой речи и до настоящего времени, логически приводит
нас к проблеме л е к с и к о-с емантической
типологии, к выявлению разных типов состава и
организации лексического материала в зависимости от среды
обитания, хозяйственной деятельности, общественного строя,
особенностей народной психологии. Интерес этой
проблемы, как в психологическом, так и социолингвистическом
плане, очевиден.
Трудности, которые здесь встают, ни в малейшей
степени не снимаются так называемой «семиотической»
(знаковой) теорией языка, одним из эфемерных созданий
модернистского языкознания. Что слово — это не сам
предмет и не его эквивалент, а всего лишь условный знак
предмета, было ясно уже Платону, который в диалоге
«Кратил» обосновал то положение, что связь между
предметом и его наименованием не естественная (yvo&i),
а условная, «по установлению» (fteaei). Что касается
термина «семиотика», то и он не нов. Его ввел в науку
в XVII в. английский философ Д. Локк A632—1704)
[16]. «Молодая» наука семиотика оказалась трехсотлетнего
возраста. Банальная истина, что слово есть знак, не внесла
ничего ценного не только в объяснительное, но и в
описательное языкознание. Псевдоноваторские теории
лингвистического модернизма имеют свойство быстро устаревать,
и мы видим, что ажиотаж вокруг семиотики идет на убыль.
Время — судья справедливый и неумолимый. Классик
В. Гумбольдт будет жить века, а модернистские «новаторы»
через какое-то время канут в пучину забвения. Языкознание
наших дней нуждается не в модернизме, а скорее в
неоромантизме.
4. Этимология. Как я отмечал выше, этимология
по замыслу — наука объяснительная. Она призвана
155
объяснять происхождение и историю слов во всех аспектах:
фонетическом, основообразовательном и
словообразовательном, семантическом. На этом пути уже достигнуты
значительные успехи, в особенности в области
индоевропейских языков. Вместе с тем в последнее время в
этимологии наблюдается известный методологический застой,
и приходится даже слышать утверждения, что этимология
себя исчерпала. Вернее будет сказать, что исчерпала себя
младограмматическая традиция, которая в других областях
лингвистики преодолевается, а в этимологии продолжает
господствовать.
Предельная глубина большинства этимологических
словарей — так называемый «праязык». Но
реконструируемое праязыковое состояние само оказывается не чем-то
примитивным, изначальным и монолитным, а
результатом многотысячелетнего предшествующего развития.
И стремление проникнуть в эти более отдаленные
глубины, в д о-п раязыковое состояние языковых семей,
представляется чем-то естественным. Но сделать это
одним рывком, как пытался Н. Я. Марр со своей теорией
четырех первоначальных элементов, наивно и безнадежно.
Лингвистическая палеонтология должна быть
методологически четкой и безупречной. Только при этом условии
она может дать научно значимые результаты [17].
Не исключено, например, что односложным корням типа
закрытого слога индоевропейского праязыка предшествовал
тип односложных открытых корней, какой
распознается в адыгских языках на Кавказе.
На путях глубинной палеонтологии вырисовывается такое
архаичное состояние, когда язык располагал только одним
гласным звуком неопределенной окраски и только одним
столь же неопределенным сонантом. И лишь постепенно пози-'
ционные варианты этого гласного и этого сонанта
приобретали статус самостоятельных фонем и включались в систему со-
циоразличительных и смыслоразличительных оппозиций [18].
Но даже не забираясь в такие глубины, можно многое
сделать, чтобы улучшить наши этимологические словари,
поднять на более высокий уровень их познавательную
ценность. Для этого нужно прежде всего, чтобы
этимология была тесно связана со смежными гуманитарными
дисциплинами: этногенезом, археологией, историей
культуры, общей историей, этнографией, фольклором.
Этимология должна в полной мере считаться с
принципами и достижениями ареальной лингвистики .
156
и тщательно учитывать все известные или исторически
мыслимые ареально-лингвистические конфигурации, в
которых мог участвовать исследуемый язык.
Этимологу все время следует считаться с таким
феноменом, как перекрестные изоглоссы (см.
выше).
В этимологических словарях, как правило, недостаточно
учитывается роль звуковой символики. Это —
большая ошибка, существенно снижающая ценность многих
этимологических словарей.
Постоянная опора на реалии — одна из гарантий
надежности этимологических решений. От слов — к
реалиям, от реалий — к словам, такой двусторонний
разбор должен быть законом для этимолога.
Следует, наконец, ограничить произвол и гадательность
в семантической стороне этимологии путем
выявления повторяемости определенных семантических
переходов в самых различных, родственных и неродственных,
языках 6.
5. Лингвистическая типология.
Типологические построения возможны как на описательном
(формальном) уровне, так и на объяснительном. В первом
случае они не составляют особой трудности. Можно взять
любой набор признаков — фонетических,
морфологических, синтаксических — и положить их в основу
группировки языков по «типам».
Совсем иное дело — объяснительная типология. Здесь
исследователя ожидают большие трудности. Мы говорили
выше, откуда эти трудности проистекают: от двойственной
природы языка; язык и коммуникативная техника, и
познавательная система. Что значит дать объяснительную
интерпретацию языковому структурному типу? Это значит
соотнести данную структурную модель с определенной
моделью мыслительных операций (селекция —
абстракция — классификация), а через мышление — с
определенной моделью социального устройства и этнической
культуры. Но такое прямое соотнесение требует величайшей
осторожности, так как соответствующие языковые
структуры могли дойти до нас в технизованном виде, после того
как их идейное содержание полностью выветрилось. Не
удивительно, что скороспелые теории Н. Я. Марра о стадиях
развития языка и «едином глоттогоническом процессе»
оказались примитивными и бесплодными.
Но ошибки изживаются, а проблемы остаются. Не
157
следует выплескивать ребенка вместе с водой. Советские
ученые нашли более позитивные подходы к морфосинтак-
сической типологии, свободные от вульгарно -
стадиальных схем и в то же время содержащие определенные эле -
менты объяснительной интерпретации. Таково исследование
С. Д. Кацнельсона [19], работы Г.А.Климова [10] и др.
В частности, такие морфосинтаксические категории, как
выражение субъектно-объектных отношений (активный,
эргативный, номинативный строй) или именные
классификации (класс социально активный и неактивный) явно
имеют подоплеку в мышлении, в этносоциальной
культуре. Точнее сказать — имели к о г д а-т о. Их
идеологическое наполнение уходит в прошлое, по мере того, как
уходят в прошлое породившие их условия общественного
бытия и общественного сознания. До нас они доходят
уже как формализованная техника, а не как актуальная
идеология.
Нельзя ли морфосинтаксическую типологию в ее
историческом развитии соотнести и связать с типологией лексико-
семантической, о которой речь шла выше? Такая постановка
как будто естественна и сама собой напрашивается. В
действительности она не реальна. Нереальна потому, что
процесс технизации протекает в лексике и грамматике
совсем по-разному. Что означает технизация в лексике?
Переход слова в разряд терминов. Когда слово приобретает
статус термина, оно утрачивает полисемию, все
семантические обертоны, всю ту оболочку, которую мы называем
идеосемантикой [20]. Значение его становится предельно
ограниченным, узким и точным. Слово в статусе термина
относится к семантически живому слову, как
телеграфный столб к зеленой ветвистой сосне.
Но этот процесс перехода слов в термины захватывает
лишь небольшую часть лексики и неограничен во времени.
Иное дело — грамматика. Здесь процесс технизации
и формализации является определяющим с самого начала
и по всему фронту. Всякая грамматика формальна, но не
существует формальной лексики (кроме терминов и частей
речи, обслуживающих грамматику: местоимений и пр.).
Морфосинтаксические феномены и конструкции тоже
имели когда-то свое идеологическое наполнение, свою
идеосемантику. Но она постепенно улетучилась в практике
коммуникативного использования. Проблема «лексика и
мышление» может ставиться как в синхронном, так и
историческом плане. Проблема «морфосинтаксис и —
158
мышление» — только в историческом и предысторическом.
Из всего сказанного вытекает, что бесполезно искать
какую-либо связь и параллелизм между типологией лекси-
ко-семантической и типологией морфосинтаксической,
если не считать самых начальных периодов формирования
как лексики, так и грамматики.
6. Курс Введения в языкознание
должен в идеале состоять из двух разделов:
Введение в описательное языкознание и Введение в
объяснительное языкознание. Становится все более очевидным, что
это две разные науки. Лингвистику в целом относят
к гуманитарным наукам. Это неточно. К гуманитарным
наукам относится только объяснительное языкознание.
Относить сюда же описательную лингвистику можно
только по недоразумению. Куда же ее надо отнести?
Ответ очень прост. Коль скоро описательная
лингвистика изучает язык как коммуникативную технику, ее
место — среди технических наук. Но «техника», особенно
в наше время — понятие необъятное. Можно уточнить:
теория информации, кибернетика — вот ближайшая родня
описательной лингвистики. Из традиционных наук —
логика и математика. Наконец, когда речь идет о звуко-
произносительном механизме, лингвист нуждается в
данных физики (акустики), анатомии и физиологии. Ни
одного фундаментального контакта с общественными
науками.
Совершенно иначе обстоит дело с объяснительным
языкознанием. Оно тысячью нитей связано именно с
гуманитарными науками. Философия (особенно теория
познания), психология, социология, общая история культуры,
археология, этнография, фольклор, литературоведение.
То, что лингвистика до сих пор не осознала ясно, что она
состоит из двух наук, говорит о том, что она находится
пока в младенческом состоянии. Так же точно астрономия
в пору своего младенчества не осознавала, что она состоит
из двух наук: космографии и астрофизики.
Перед описательным языкознанием сейчас, как сто и
двести лет назад, стоит задача оптимального по методике
описания лексики и грамматики конкретных языков в
синхронном и диахронном плане. Обобщенный опыт таких
описаний используется на теоретическом уровне для
построения формально-типологических моделей с охватом
максимального числа языков.
Опора на конкретный языковой материал должна быть
159
обязательной предпосылкой всяких теоретических
построений. Приходится это подчеркивать, потому что
некоторые лингвисты за рубежом, а частью и у нас,
наловчились строить теории языка дедуктивно, без языкового
материала [21]. Читать произведения таких теоретиков —
дело неблагодарное. Когда продерешься через джунгли
надуманных абстракций и терминологических манипуляций,
приходишь к какой-нибудь банальнейшей истине, вроде
того, что язык есть знаковая система.
Объяснительное языкознание только еще расправляет
крылья. Когда оно раскроет все свои потенции, о которых
речь шла выше, оно станет одной из центральных наук
гуманитарного круга. Великий и пока еще не выполненный
долг, который лежит на объяснительном языкознании,
вытекает из исключительной роли, какую играет язык
в жизни общества и в истории человечества. Язык —
универсален. Будучи сам драгоценнейшим, поистине
чудесным даром культуры, язык представляет способ
объективации всех других проявлений культуры, всех
аспектов общественного бытия и сознания, отложение
всего исторического опыта и практики народной жизни.
Вот почему объяснительному языкознанию суждена роль
самой универсальной из всех общественных наук. К нему
будут тянуться все другие гуманитарии. Со своей стороны,
лингвисты гуманитарного профиля сочтут для себя долгом
быть в курсе всего значительного, что добыто и
достигнуто в других гуманитарных науках. Это будет новая
эра в истории языкознания.
Литература
1 КедровБ. М. Классификация наук. 1. Энгельс и его
предшественники. М., 1961, с. 42—43.
2 D'A 1 е m b e r t Discours preliminaire. Paris, 1912 A-е изд. Paris,
1751).
3 РиккертГ. Науки о природе и науки о культуре. СПб., 1911.
1 РиккертГ. О системе ценностей.— Логос, 1914, т. 1, вып. 1.
5 Windelband W. Geschichte und Naturwissenschaft. Strassburg,
1904.
6 Маркс К. Капитал. Послесловие ко второму изданию.—
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 21.
Giovanni Battista Vie o. Principi di una scienza nuova.
Napoli, 1725. ' "
160
8 Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда
на историю.— В кн.: Плеханов Г. В. Избранные философские
произведения. Т. 1. М., 1956.
9 Философский энциклопедический словарь. М., 1983, с. 685.
10 Климов Г. А. Принципы контенсивной типологии. М., 1983.
" А б а е в В. И. Отражение работы сознания в лексико-семанти-
ческой системе языка.— В кн.: Ленинизм и теоретические проблемы
языкознания. М., 1970.
12 Энгельс Ф. Конраду Шмидту 27 окт. 1980.— Маркс К. и
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 419.
13 А б а е в В. И. Язык как идеология и язык как техника. Когда
семантика перерастает в идеологию.— В кн.: Язык и мышление. 11. Л.,
1934.
14 А бае в В. И. Еще о языке как идеологии и как технике.—
В кн.: Язык и мышление. VI—VII. Л., 1936.
15 АбаевВ. И. О перекрестных изоглоссах.— В кн.: Этимология.
1966. М., 1968.
16 Locke J. An essay concerning humane understanding. London,
1690.
17 Knobloch J. Problemi e metodi della paleontologia linguistica.—
Atti del VI Convegno internazionale di linguisti. Brescia, 1977.
18 А ба ев В. И. О вариативности сонантов.— FL, 1973, t. VI„
1/2, с. 194, 196.
19 Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление.
М., 1972.
20 А б а е в В. И. Понятие идеосемантики.— В кн.: Язык и мышление.
XI. М.—Л., 1948.
21 S t o r z G. Sprachanalyse ohne Sprache Bemerkungen zun modemen
Linguistik. Stuttgart, 1975.
Примечания
' Именно на неокантианском «индивидуализирующем» подходе к
отдельным культурам зиждутся в конечном счете исторические
концепции немецкого философа О.Шпенглера A880—1936) и английского
историка А. Тойнби A889—1975). Философия истории первого
изложена в книге «Untergang des Abendlandes» (Bd. 1—2, 1918—1922),
второго в многотомном труде «A study of History» (V. 1—2, 1934—1961).
"' Некоторые названия (например, алгебра) идут из арабского.
' Парижское лингвистическое общество в своем уставе даже
наложило вето на постановку вопроса о происхождении языка.
4 Даже в описательных науках при всякой попытке внести
объяснительные элементы приходится «заглядывать» в другие науки. Об
6 В. И. Абаев 161
одном из создателей научной ботаники Декандоле A778—1841)
энциклопедический словарь Меуег'а сообщает: «Er bemuhte sich die Botanik
mit der Chemie und Physik in Verbindung zu bringen».
' Высказанные мною в свое время соображения по этому вопросу
A1) заинтересовали китайских коллег, и статья моя была переведена
на китайский язык (в журнале «Говай юйянь сюэ» («Изучение языков
за рубежом»), Пекин, 1980. № 1).
f> Подробнее на проблемах этимологии я останавливаюсь в статье
«Как улучшить этимологические словари».
Вопросы языкознания,
1986, № 2.
ОБ ИСТОРИЗМЕ
В ОПИСАТЕЛЬНОМ
ЯЗЫКОЗНАНИИ
Вопрос о разграничении синхронии и диахронии в
изучении языка и связанный с ним вопрос об историзме в
описательном языкознании — чрезвычайно важный
теоретический вопрос, от решения которого во многом
зависят пути дальнейшего развития советского
теоретического языкознания.
Историзм может оказаться той основной
водораздельной линией, по которой пройдет размежевание между
двумя главнейшими направлениями в развитии
общественных наук вообще и языкознания — в частности.
Отход от историзма характерен для большинства
«модернистских» течений в зарубежной науке. Представители
этих течений склонны третировать историзм как устарелый
пережиток XIX столетия.
Геология Лайеля, биология Дарвина, историческое
языкознание — это лишь разные потоки одного могучего
движения идей, знаменовавшего небывалый в истории
скачок науки, небывалое торжество познающего разума
человека. Наука XIX века — это наука прогрессивного,
полного жизненных сил общества, сделавшая историзм своим
знаменем. Будучи величайшим завоеванием науки XIX
века, историзм полностью сохранил свое значение и
нисколько не устарел. Всякая жизнеспособная наука
будущего всегда будет подымать на щит принцип историзма,
совершенно так же, как антиисторизм будет всегда
знаменем любой деградирующей и вырождающейся науки.
Торжество принципа историзма в естественных и
общественных науках имело, между прочим, тот огромный
положительный результат, что оно подняло на новую,
более высокую ступень соответствующие описательные
науки. Эволюционная геология подняла на новую ступень
физическую географию; эволюционная биология подняла
на новую ступень ботанику и зоологию; историческая
социология подняла на новую ступень все описательные
общественные науки.
6* 163
Описание, освещенное светом истории, было в
познавательном отношении неизмеримо выше прежнего,
чуждого историзму описания, потому что такое описание
включало в себя и элементы объяснения — оно было
описанием познающим, а не только прагматическим и
констатирующим.
Принцип историзма означал, что между
описательными и объяснительными науками нет никакой пропасти,
что, напротив, они между собой связаны, и чем теснее
эта связь, тем больше выигрывают и те и другие.
Языкознание не осталось в стороне от общего
движения. В первой половине XIX века трудами Р. Раска,
Ф. Боппа, Я. Гримма, В. Гумбольдта, А. Шлейхера и
других было создано историко-сравнительное языкознание,
и с этого момента языкознание стало подлинной, т. е.
познающей наукой.
Создание исторического языкознания коренным
образом изменило также задачи и методы описательного
языкознания. Основанная на «разуме», т. е. на умозрительных
предпосылках, «рациональная» грамматика XVII века с
естественной необходимостью и без всякого сопротивления
уступила место новому типу описания языка — на фоне
истории и с учетом истории.
Казалось, нет сомнения, что описательная
грамматика при наличии исторической не может быть такой же,
какой она была, когда в вопросах истории языка
господствовало полное невежество, так же как при наличии
эволюционной теории Дарвина не может быть возврата
к додарвиновской ботанике и зоологии.
Однако в последние десятилетия, главным образом
под влиянием идей, изложенных в «Курсе общей
лингвистики» Ф. де Соссюра, широко распространились
взгляды, согласно которым между «синхронией» и
«диахронией», т. е. между описательным и историческим
языкознанием, нет и не может быть никакой связи. Соссюр
обосновывал это утверждение тем, что синхронное
описание — системно, тогда как диахронное — атомистично,
т. е. первое рассматривает язык как систему, тогда как
второе имеет дело с отдельными, разрозненными элементами.
Новейшие последователи Соссюра вносят поправку,
утверждая, что история языка также может изучаться
системно, т. е. в виде ряда последовательных
горизонтальных, синхронных разрезов. Однако и в этих новейших
теориях разрыв между историей и статикой языка оста-
164
ется в силе, так как всякий синхронный разрез мыслится
как моментальный фотографический снимок, в котором
нет места для элементов истории, а следовательно, и для
элементов объяснения. Ведь глубочайшая специфика
языка заключается в его преемственности, в том, что прошлое
проникает в настоящее и не может быть объяснено без
взгляда на прошлое.
Таким образом, вопрос об историзме остается одним
из узловых вопросов, в отношении которого советское
теоретическое языкознание должно занять ясную
позицию. Приняв историзм как универсальный принцип
познания объективной действительности, в особенности
общественных явлений, мы не можем изъять язык из сферы
применения этого принципа. Нельзя согласиться с теми,
кто считает, что историзм в языкознании заключается в
том, что, наряду с описательным языкознанием,
великодушно признается существование исторического, где
только и находит будто бы применение принцип историзма.
Здесь налицо явное недоразумение. Историческое
языкознание не нуждается ни в каком историзме, совершенно
так же, как соль не нуждается в том, чтобы ее солили.
В историзме нуждается только описательное
языкознание, как в примеси соли нуждается только то, что само по
себе пресно. Историзм в историческом исследовании —
это не принцип. Это — простая тавтология.
Историзм означает не познание истории, а познание
статики через историю. При этом чисто синхронное
описание относится к описанию с учетом истории не как два
равноценных, равноправных, независимых и
разноплановых способа познания, а как менее совершенное
познание относится к более совершенному. Познание статики
через чисто синхронное описание — это лишь ступень,
этап на пути к более совершенному, более глубокому,
более ценному познанию статики — через историю.
В чем сущность историзма в общественных науках
вообще' и в языкознании в частности? В том, что всякое
данное состояние рассматривается как закономерный
результат предшествующего развития. Тем самым
признается, что адекватное познание этого состояния
возможно только с учетом его генезиса и истории, так как
только при этом условии описание данного состояния будет,
по выражению Энгельса, этапом к «постигающему познанию».
Понятно поэтому, что советское языкознание в целом
всегда крепко держалось за историзм, справедливо видя
165
в нем свой важнейший отличительный признак. Еще в
1953 г. в Москве проходило совещание по вопросам
описательной грамматики, лексикографии и диалектологии.
В основном докладе на этом совещании стоял такой
тезис: «Описательная грамматика не может быть
освобождена от элементов истории языка; без учета исторических
процессов не могут быть правильно поняты изменения,
которые происходят в грамматической системе языка на
всех этапах его развития, в том числе и на современном
этапе не могут быть осмыслены реликтовые явления...
Факты современного языка, требующие исторических
комментариев, обязательно должны сопровождаться
такими комментариями», и т. д. Помнится, что тогда не
поднялось ни одного голоса против этого тезиса. Не
рискуя погрешить против истины, можно было заявить во
всеуслышание: советское языкознание признает разницу,
но не признает разрыва между статическим и
историческим аспектом в изучении языка.
Прошло каких-нибудь четыре года, и картина заметно
изменилась. Сейчас многие наши языковеды, как в этом
можно было убедиться на данном совещании, стоят
целиком на соссюрианско-структуралистской позиции
полного отмежевания синхронии от диахронии, т. е. отказа
от историзма в описательном языкознании.
Перемена знаменательная. Она означает, что за
последние годы наше языкознание эволюционирует в
сторону сближения с модернистскими течениями в
лингвистике, отрывающими статику языка от его истории.
Настоящее совещание сыграло бы большую роль, если
бы оно со всей решительностью подчеркнуло
самостоятельный и независимый путь советского теоретического
языкознания. Представленные здесь доклады, весьма
интересные и содержательные сами по себе, не все
заострены, как мне кажется, в сторону основной
дискуссионной проблемы. Только в докладах Б. В. Горнунга и А. А.
Реформатского имеется ясная и четкая полемическая
направленность. Остальные доклады носят, если так можно
выразиться, нейтральный характер. Основные положения
доклада Б. В. Горнунга представляются мне
правильными, но и доклад Б. В. Горнунга является половинчатым.
Б. В. Горнунг исходит, как и Ф. де Соссюр, из
определения языка как знаковой системы, но ничего
не говорит о том, что язык есть также
познавательная система. Имея в качестве отправного тезиса соссю-
166
ровский тезис, Б. В. Горнунг пытается затем оспаривать
другие связанные с ним положения соссюрианства и
структурализма.
Можно как угодно относиться к Соссюру, но нельзя
отказать ему в удивительной цельности, логичности и
последовательности всего построения. Взгляд на язык как
на знаковую систему, примат отношений над
значениями, размежевание синхронии и диахронии, размежевание
«внутренней» и «внешней» лингвистики — все это звенья
одной, хорошо скованной цепи, и нельзя ухватиться за
одно звено, чтобы не потянуть другие. Соссюра надо либо
целиком принять, либо целиком отвергнуть. Основу
основ его концепции составляет учение о знаковости языка,
и, принимая это учение, бороться с соссюрианством —
это все равно, что выходить на бокс со связанными руками.
Я не хочу сказать, что в современных зарубежных
лингвистических доктринах нет ничего положительного и
нам нечему у них поучиться. Но мы не можем
«подключиться» с ходу к структуралистскому или какому-нибудь
иному модному течению западноевропейско-американской
лингвистики, как люди вскакивают на ходу в
проходящий трамвай. Вскочить на ходу в трамвай может человек,
у которого нет с собой никакого багажа. Но у нас он
есть. Было бы клеветой утверждать, что его нет. При
всех ошибках и колебаниях в прошлом нашего
языкознания существовали некоторые устойчивые идеи, которые
были обусловлены самой сущностью нашего
мировоззрения и разделялись большинством советских языковедов
и до и после дискуссии, независимо от Марра и от
Сталина. К числу этих идей относится убеждение, что
развитие языка связано с историей общества, что
языкознание есть общественная наука, которая должна
разрабатываться в тесной связи с другими общественными
науками, что историзм имеет в языкознании такое же
первостепенное значение, как в других общественных науках.
Эти идеи составляли золотой фонд нашей
лингвистической мысли. Мы твердо держались этих идей не потому,
что кто-то нам их навязывал, а потому, что они отвечали
лучшим традициям нашей и мировой науки, потому, что
они были неразрывно связаны со всем строем нашего
мировоззрения, потому, что этими идеями был пронизан
воздух, которым мы дышим.
Структурализм и другие модернистские течения
представляют нечто диаметрально противоположное. Следует
167
отдать себе ясный отчет в том, что в большинстве тех
направлений, которые мы объединяем названием
«лингвистический модернизм», языкознание начисто
отрывается от других общественных наук и фактически
перестает быть общественной наукой. Читая некоторые
новейшие работы по теории языка, начинаешь думать, что
давно следовало бы поставить точку над i и объявить,
что языкознание относится к разряду технических или
математических, но никак не общественных наук. Кое-
кого это привлекает новизной и оригинальностью. В
действительности это говорит, как мне кажется, не о
смелости и новаторстве, а об идейной деградации. Это —
своего рода лингвистический «абстракционизм», родной
брат модного на Западе «абстракционизма» в искусстве.
Объявлять структурализм столбовой дорогой
советского языкознания — это значит расписаться в своем
идейном банкротстве.
В заслугу структурализму ставят обычно, что он
открыл системность или структурность языка. Это не
соответствует действительности. Что язык есть система, было
ясно уже В. Гумбольдту. А что скрывалось за шлейхе-
ровским взглядом на язык как на организм, как не
понимание структурности языка? Ведь нельзя думать, что
А. Шлейхер просто отождествлял язык с животным или
растением. Близость языка к организму он видел в том,
что оба они имеют структурную природу. Системность
языка была ясна и такому выдающемуся русскому
языковеду, как И. А. Бодуэн де Куртенэ.
Если не считать младограмматической школы, в
которой понимание системности языка было несколько
затемнено, то можно сказать, что взгляд на язык как на
систему был господствующим на всем протяжении
истории языкознания.
Новое у структуралистов заключается не в открытии
системности языка, а в том, во-первых, что они
односторонним образом рассматривают язык как чистую
знаковую технику, игнорируя другие аспекты языка, прежде
всего познавательный аспект; во-вторых, в том, что
значение системности или структурности в этой знаковой
технике они раздувают сверх всякой меры.
В науке всякая односторонность рано или поздно
приводит к абсурду. Продолженный до логического предела
структурализм приведет к чему-то вроде
математизированной grammaire raisonnee, и это будет его конец.
168
Системность языка бесспорна, но она иного
порядка, чем хотелось бы структуралистам.
Во-первых, в языке переплетаются две системы:
познавательная и знаковая. Элементы первой соотносимы
с элементами объективной действительности и
отражают в конечном счете структуру последней. Вторая
(знаковая) система определяется внутриязыковыми
корреляциями. В первой системе элементами структуры
являются значения, во второй — чистые отношения. Лексика
есть преимущественная сфера первых, фонетика —
вторых. Промежуточное положение между этими двумя
полюсами занимают морфология и синтаксис, в которых
более или менее сложно и причудливо переплетаются
и взаимопроникают познавательные и чисто знаковые
(реляционные) элементы. Роковым для новейшего
языкознания оказалось то, что ценнейшее открытие — учение
о фонеме — в результате ложного и
гипертрофированного развития переродилось в схоластическую доктрину,
которую затем пытались сделать универсальной теорией
языка. Между тем фонетика, как чисто знаковая
система, где есть только отношения, но нет значений, занимает
в языкознании периферийное и очень специфическое
положение. Морфология, а тем более лексика с этой
стороны коренным образом отличаются от фонетики, и
перенесение туда принципов фонологии практически почти
бесплодно.
Во-вторых, сама знаковая системность в разных
участках языка весьма различна по качеству и выдержанности.
На каждом шагу налицо нарушения и
непоследовательность. Всякое такое нарушение при попытке его
осмыслить вопиет к истории. Каждый преподаватель или автор
описательной грамматики, если он не скован предвзятой
теорией о недопустимости привлечения истории при
описательном изложении, чувствует в таких случаях
естественную потребность дать необходимые разъяснения, чтобы
сделать свой предмет более осмысленным, более
познавательно ценным.
Есть такая сверхпопулярная книга — «Die griechische
Sprache» Пёшеля, представляющая нечто вроде
самоучителя, написанного в полубеллетристической форме. Даже
в ней автор считает нужным делать исторические
экскурсы. Чем объяснить, что два слова с одинаковым как
будто типом основы на о, rcovoc, и у?у°ь, имеют
разные формы род. пад.: jiovou и y^vouc? Автор поясняет,
169
что Y^voc исторически не основа на -о, а основа на
согласный, и поэтому его склонение отлично от склонения
лоуос. В таких пояснениях нуждается и склонение
русских слов типа небо, дочь, время и др.
Приступая к изложению глагола в русской
грамматике, сообщают обычно, что глаголу свойственна, между
прочим, категория лица. Но почему в формах прошедшего
времени (писал и т. п.) категория лица не выражена?
Законный вопрос? Безусловно, законный, и не только в
исторической, но и в описательной грамматике. Ответить
на него тем легче и естественнее, что никаких
глубоких исторических изысканий здесь не требуется:
формы писал и пр.— старые причастия, которые
прежде сопровождались глаголом существования в личной
форме.
Нужны ли в описательной грамматике такие основные
аналитические понятия, как корень, основа,
формант? Как будто никто не оспаривает, что нужны.
Между тем выявление этих элементов в любом языке, в том
числе в русском, сопряжено часто с большими
трудностями, если не обращаться к истории. Как при чисто
синхроническом анализе выявить корень в таких
глаголах, как жать — жму, жать — жну, мять — мну? Или
в таких, как понять —понимать, принять — принимать?
А ведь есть языки, где положение в этом отношении
еще сложнее и запутаннее. В таких языках при строго
синхроническом описании пришлось бы вообще
отказаться от таких понятий, как «корень», «основа» и пр.
Нет необходимости умножать подобные примеры.
Каждый, кому случалось излагать или преподавать систему
языка, знает, как часто приходится прибегать к
историческим пояснениям, чтобы стали понятны всякого рода
«аномалии» в языке. Если он сам этого не сделает, его
вынудят слушатели настойчивым «почему?».
Чисто синхронический структуральный анализ был
бы применим только к языкам, где никаких «аномалий»
нет. Такие языки существуют. Это искусственные языки —
эсперанто и другие. Вот здесь, действительно,
благодатное поле для структурального изучения.
Было бы неправильно думать, что историзм в
описательной грамматике — некая роскошь, без которой
можно и обойтись. Бывают случаи, когда отсутствие
исторических знаний и исторической точки зрения
приводит к прямым ошибкам и искажениям в о п и с а-
170
нии и систематизации грамматических явлений.
В одной работе по таджикскому словообразованию
сложные слова типа зиён-кор 'вредитель', бад-кор 'злодей'
и т. п. были отнесены в разряд сложных слов, имеющих
во второй части имя существительное.
Почему? Потому, что в современном таджикском языке
имеется существительное кор 'дело'; автор ^был убежден, что
во второй части вышеприведенных слшГншшчествует
именно это кор 'дело'. Автора не смутило то обстоятельство,
что если бы это было так, то сложные слова этого типа
обозначали бы имя действия, а не
действующее лицо, т.е. зиён-кор означало бы 'вредительство',
а не 'вредитель', бад-кор 'злодеяние', а не 'злодей' и т. п.
В действительности элемент кор в этих
словосложениях не есть современное таджикское кор 'дело', а
соответствует древнеиранской глагольной основе kara во
второй части сложных слов со значением 'делающий что-
либо', например, древнеперсидское zura-kara 'злодей' и
т. п. Стало быть, таджикские словосложения типа зиён-
кор, бад-кор и т. п. должны быть отнесены к разряду
сложных слов, имеющих во второй части
глагольную основу, и должна быть показана их преемственная
связь с древнеиранскими сложениями типа zura-kara.
Ошибку автора можно пояснить следующим
сравнением. Допустим, что в русском языке вышел из
употребления глагол возить, но сохранились слова воз и
водовоз. Тогда выдержанный «синхронист» может усмотреть
во второй части слова водовоз не основу утраченного
глагола возить, а существительное воз. Именно так
выглядят многие факты языка в кривом зеркале «чистой
синхронии».
Примеров, когда незнание истории приводит к
превратному пониманию статики языка, можно было бы
привести немало.
В осетинских школьных грамматиках основным
принципом классификации гласных было долгое время
деление их на «мягкие» {и, е, ы) и «твердые» (а, о, у). Между
тем это деление не имеет для осетинского никакой
познавательной ценности, так как не объясняет никаких
существенных явлений языка.
Глубокое изучение строя осетинского языка показало,
что существенным для него является деление гласных
на сильные {а, е, и, о, у) и слабые (се, ы). С этим
делением приходится иметь дело не только в фонетике, но и
171
в морфологии (чередование основ в именах и глаголах).
Без него невозможно понять законы осетинского
ударения. Между тем именно эта важнейшая классификация
долгое время игнорировалась в школьных грамматиках.
Объяснялось это в огромной степени отсутствием
исторических сведений и исторической точки зрения.
Дело в том, что сильные гласные восходят, как
правило, к исторически долгим гласным или дифтонгам, а
слабые — к исторически кратким гласным. Старые
количественные различия постепенно перешли в качественные.
Все те свойства и особенности сильных и слабых
гласных, которые мы распознаем в статике современного
осетинского языка, все различия в их «поведении» в
современной речи связаны с их историей и не могут быть
поняты без учета этой истории.
Отметим некоторые из этих свойств:
1. Слабые гласные легко подвергаются редукции и
исчезновению. В прошлом это было особенностью
кратких гласных.
2. При встрече сильного гласного со слабым
последний зачастую поглощается первым. В прошлом это
наблюдалось при встрече долгого с кратким.
3. От распределения сильных и слабых гласных в
словах и синтагмах зависит место ударения. Эта важная
закономерность может быть надлежащим образом понята
только при историческом освещении. Для древнейшего
состояния индоевропейских языков было характерно
тоническое ударение и независимость ударения от долготы.
Однако на почве иранских языков постепенно выявилась
тенденция, в силу которой тоническое ударение уступило
место силовому и вместе с тем количество гласных стало
фактором, влияющим на место ударения; долгие гласные
стали «притягивать» к себе ударение. Эта тенденция ярко
проявилась в осетинском языке. И хотя чисто
количественные различия гласных перестали быть в нем фонемо-
логическим признаком, наследие древних количественных
различий в виде деления гласных на сильные и слабые
оказалось решающим для распределения ударения. В
результате основной акцентологический закон
современного осетинского языка сводится вкратце к следующему:
ударение падает на первый слог, если он сильный, или
на второй, если первый слабый.
В других живых иранских языках положение во
многом аналогичное. Во всех этих языках важнейшими оп-
172
позициями в системе вокализма остаются те, которые
восходят к противопоставлению долгих и кратких
гласных в древнеиранском. За это время вокализм
многих из этих языков претерпел коренные изменения.
Количество гласных утратило фонематическое значение.
Гласные подверглись полному качественному
перерождению. Языки эти подверглись сильному влиянию других
языков, субстратному и внешнему. И тем не менее старое
деление на долгие и краткие гласные, в том или ином
виде, в той или иной форме, остается определяющим в
системе вокализма. Подходить к фонетическому
описанию этих языков, отвлекаясь от истории, это значит
умышленно осложнять свою задачу.
Благотворное влияние исторической точки зрения
сказывается на всех тех проблемах описательной
грамматики, которые слывут «трудными». Известно, что для
многих языков представляются сложными такие вопросы, как
классификация частей речи, вопрос о падежах, о
придаточных предложениях и т. д. По этим вопросам ведутся
долгие и ожесточенные дискуссии, не всегда приводящие
к положительным результатам.
В таких спорах историческая точка зрения
неизменно оказывает свое «умиротворяющее» действие. История
языка учит, что части речи, падежи и другие категории
языка не являются вечными и абсолютными
категориями, они имеют свой период становления, и поэтому та
или иная классификация частей речи, та или иная схема
падежей неизбежно могут заключать известный элемент
условности. Следует помнить, что язык постоянно
находится в состоянии изменения и развития, и всякая
попытка представить язык в моментальном снимке как
застывшую систему есть в какой-то степени искажение
языковой действительности.
Структуралистский схематизм скрадывает исторически
сложившуюся сложность языковой системы, создавая
лишь иллюзорную простоту. Привлекательные на первый
взгляд симметрические ряды корреляций оказываются
на поверку карточными домиками, которые рассыпаются,
как только мы берем не только удобные для этих схем
явления, но всю сумму языковых фактов во всей их
сложности, многообразии и текучести.
Элементы историзма необходимы не только в
описательной грамматике, но и в лексикографии. Здесь также
можно было бы привести много фактов, но отмечу только
173
один: вопрос об омонимах. Отказ от исторической точки
зрения привел к тому, что в ряде новейших наших
словарей полностью запутан вопрос взаимоотношения
омонимии и полисемии, а выделение омонимов стало делом
субъективного усмотрения каждого отдельного
лексикографа.
Приходится иногда слышать, что, дескать,
привнесение элементов историзма в описательное языкознание
уничтожает специфику последнего, его отличие от
исторического языкознания.
Описательное и историческое языкознание — это, мол,
две разные науки, которые ни в коем случае нельзя
смешивать.
Теория о недопустимости смешения описательного и
исторического жанров в языкознании до некоторой
степени напоминает теорию о недопустимости смешения
бытового и исторического жанров в литературе.
Блюстителям чистоты жанра следовало бы с этой точки зрения
обратить внимание на русскую литературу и прежде
всего выбросить из нее такие произведения, как «Война и
мир» и «Тихий Дон», где самым «беспринципным»
образом перемешаны элементы бытового и исторического
романа. Боюсь, однако, что народ охотнее выбросит не
эти произведения, а плохих теоретиков.
Если бы советское языкознание заявило о себе
произведениями смешанного жанра, которые были бы под стать
«Войне и миру» и «Тихому Дону», нет сомнения,
воскликнули бы: «Вот это — то, что нам нужно». И никто не стал
бы сетовать и сокрушаться по поводу нарушения чистоты
жанра.
Настоящая дискуссия посвящена как будто частному
вопросу — о соотношении синхронии и диахронии. Но
методологическое значение этого вопроса таково, что
дискуссия может перерасти в более широкую дискуссию —
о путях развития советского теоретического
языкознания. Такая дискуссия настоятельно нужна.
Советское теоретическое языкознание переживает
ответственный момент. Сейчас у нас имеется широкая
возможность свободно разрабатывать теоретические
вопросы и заложить основы советского теоретического
языкознания. Будет ли это самостоятельная, оригинальная
теория языка, отвечающая нашему мировоззрению,
нашему взгляду на место языкознания среди обществен-
174
ных наук? Или это будет мешанина из модных
зарубежных теорий? Престижу и достоинству нашей науки
отвечает только первый путь.
О соотношении синхронного
анализа и исторического изучения
языков. М., 1960.
О ПОДАЧЕ ОМОНИМОВ
В СЛОВАРЕ
Советская лексикография имеет крупнейшие
достижения в теории и практике. Словарная работа получила
у нас такой размах и проводится на таком высоком
уровне, как никогда. Наши выдающиеся лексикографы
Л. В. Щерба, Д. Н. Ушаков и другие обосновали и
практически показали, что серьезная лексикографическая
работа несовместима с дилетантизмом и кустарщиной, что
она должна с начала до конца строиться на строго
научных основаниях.
Высокой оценки заслуживает деятельность Гос. изд-
ва иностранных и национальных словарей. Это
издательство стало не только крупнейшей в мире фабрикой
словарей, но и творческой лабораторией, где ведется
повседневная и неутомимая научная работа по
совершенствованию, оттачиванию, шлифовке методов и принципов
лексикографической работы. Огромна и, быть может, не
получила еще достойной оценки работа Словарного
издательства по составлению словарей национальных языков
Советского Союза, из которых многие не имели до этого
никакой или почти никакой лексикографической
традиции и где, стало быть, приходилось строить и создавать
буквально на пустом месте.
Разумеется, как во всяком большом деле, в нашей
словарной работе не обходится без трудностей, ошибок
и недочетов. Если в целом советская лексикография
находится в состоянии неуклонного поступательного
движения, где каждый новый этап знаменует определенный
прогресс по сравнению с предшествующим, то это не
значит, что абсолютно все новое, что мы находим в
последних словарях и что отличает их от словарей более
ранних, заслуживает безоговорочно положительной оценки.
К числу таких наводящих на размышления новшеств
относится наметившееся в последнее время необычное
понимание омонимии и вытекающая из такого
понимания подача омонимов в словаре.
176
Каждый, кто следил за нашей новейшей
лексикографией, мог заметить странное явление: в одних и тех же
словарях от одного издания к другому количество
омонимов катастрофически растет. Если так пойдет
дальше, то через десяток лет наши словари будут сплошь
состоять из одних омонимов.
Мы заинтересовались: откуда берутся в таком
количестве новые омонимы? К счастью, дело оказалось не
хитрое. Размножение омонимов идет в основном за счет
полисемии; некоторые случаи полисемии, ничтоже сумня-
шеся, объявляются омонимией. Почему? На каком
основании? Кто и где доказал, что омонимия и полисемия —
это одно и то же? Неизвестно.
Происшедшую во взглядах на омонимы эволюцию
(если хотите, «революцию») легко заметить, если сравнить,
например, «Толковый словарь русского языка» под ред.
Д. Н. Ушакова A935—1940 гг.) со «Словарем русского
языка», составленным С. И. Ожеговым, а также первое
издание «Словаря русского языка», составленного
С. И. Ожеговым A949 г.), с последующими изданиями
того же словаря. От издания к изданию количество
«омонимов» возрастает, в последних изданиях появилось
множество «омонимов», которых не было в первом издании
словаря. В издании 1953 года1 как разные слова
даны, например: белок яйца и белок как органическое
вещество; вольный «свободный» и вольный «имеющий
возможность свободно делать что-н.»; долг «обязанность»
и долг «взятое взаймы»; лад в быту и лад в музыке;
лист дерева и лист бумаги; лопатка «орудие» и лопатка
«кость»; операция хирургическая и операция военная;
оригинальный «незаимствованный» и оригинальный
«своеобразный»; отрасль как ветвь растения и отрасль как ветвь
науки; перо птичье и перо металлическое; печать
типографская и печать на документе; плитка «кухонная печь»
и плитка электрическая; политический вообще и
политический в составе термина «политическая экономия»;
пояс «ремень» и пояс географический; реализм в
литературе и реализм в жизни; славный «пользующийся
славой» и славный «очень хороший»; сосуд «вместилище для
жидкости» и сосуд кровеносный; стрелка на часах и
стрелка железнодорожная; удар обычный и удар
апоплексический; фаза «период в историческом развитии» и фаза
«стадия в ходе развития чего-н.»; чугун «металл» и чугун
177
«сосуд из этого металла»; язык как орган речи и язык
как речь.
Вместо одной молнии появилось целых три A.
атмосферная, 2. телеграмма, 3. застежка), равно три театра,
три строя и пр.
Разными глаголами признаны: грести граблями и
грести веслом; запрудить о воде и запрудить о толпе; лить
(о воде) и лить (о металле); отвлечь «отклонить» и
отвлечь «абстрагировать»; палить «жечь» и палить
«стрелять»; прожигать «давать гореть» и прожигать жизнь;
разложить по разным местам и разложить на части;
стать «сделаться» и стать как вспомогательный глагол в
значении «сделаться»; считать (о счете) и считать
«полагать»; тискать «давить» и тискать «печатать»; топить
печь и топить молоко и многие другие. Вместо одного
появилось три глагола перестроить, три глагола
пристроить, три глагола трогать, четыре глагола травить и т.п.
Все эти подозрительные «омонимы» даются на тех же
основаниях и под теми же знаками, как общеизвестные
«классические» омонимы: лук (растение) и лук (оружие),
брак (супружество) и брак (плохая продукция), бор
(лес) и бор (сверло), тур (вальса) и тур (горный козел),
клуб (дыма) и клуб (рабочий клуб), коса (орудие) и
коса (женская) и т.п. Составитель поясняет, что все эти
словарные новшества являются следствием «...более
широкого, чем обычно в словарях, понимания омонимии»2.
Что верно, то верно. Понимание широкое! Под омонимию
широко подводятся явления, которые мы до сих пор
называли полисемией.
Омонимное поветрие захватило не только русские
словари. Перед нами 2-е издание «Англо-русского словаря»,
составленного В. Д. Аракиным, 3. С. Выгодской, H. H.
Ильиной. Словарь кишит «омонимами». Подавляющего
большинства этих омонимов в первом издании не было. То,
что в прежних словарях давалось как одно, максимум
2—3 слова, теперь превратилось в 5—9 слов: ир I..., ир
II.., ир III.., ир IV.., ир V..; down I.., down II.., down III..,
down IV.., down V.., down VI.., down VII..; drill I.., drill II..,
drill III.., drill IV.., drill V.., drill VI.., drill VII... Можно себе
представить, как будут ошарашены англичане, узнав, что
у них не одно, а девять слов rightl В предисловии
составители уверяют, что такая необычная картина
соответствует «...научным положениям современной
лексикологии...» 3.
178
Что же привело наших лексикографов к такому
«более широкому» пониманию омонимии? Что это за
таинственные «научные положения современной
лексикологии», под действием которых омонимы плодятся, как
грибы после дождя? Может быть, в последние годы
появились глубокие теоретические исследования, в которых
доказано, что разные значения одного слова и
одинаковое звучание разных слов — это одно и то же? Нет,
таких исследований не видно. Да и трудно было бы
доказать, что созвучие в названиях яичного белка и
химического белка 4, птичьего пера и металлического
пера, древесного листа и бумажного листа — явление
такого же порядка, как созвучие в словах тур (в танце) и
тур «козел».
Объективно в лексике существуют два в корне
различных, ничего общего между собой не имеющих
явления: омонимия и полисемия. Первая может быть
изображена схематически двумя параллельными линиями,
которые, как это и полагается параллельным линиям
эвклидовой геометрии, никогда и нигде не сходятся;
вторая же (полисемия) может быть изображена двумя
линиями, вышедшими из одной точки:
Омонимия Полисемия
Il A
Значения слов тур (в танце) и тур «козел», как две
параллельные линии, никогда и нигде не сходились в
одно понятие, тогда как лист древесный и лист
бумажный вышли из одной точки, из одного понятия.
Между этими двумя явлениями (омонимии и
полисемии) нет никаких мостов, никаких переходных видов.
Смешение их было простительно тогда, когда историко-
лексикологические и этимологические знания находились
на такой младенческой ступени, что зачастую
составители словарей просто не могли разобраться, где разные
слова и где разные значения одного слова. Но не
странно ли, что именно теперь, когда историческая
лексикология поднялась на такой высокий уровень,
составители наших словарей стали путать самые
разнообразные явления! Получается какой-то парадокс: чем точнее
и совершеннее становятся наши знания по истории слов,
и, стало быть, чем лучше мы вооружены, чтобы
разобраться в действительных и мнимых омонимах, тем
больше произвола, путаницы и неразберихи в подаче
омонимов в наших словарях. Никогда прежде не было таких
179
благоприятных условий, чтобы разрешить вопрос об
омонимах на подлинно научных основаниях. А между тем,
судя по нашим словарям, никогда этот вопрос не был
так запутан, как сейчас.
Когда кто-либо ошибочно, по созвучию, сближает
этимологически два слова, которые в действительности
генетически не связаны, мы говорим: здесь нет
этимологической связи, это простая омонимия. Иначе говоря,
созвучие по омонимии, как созвучие случайное,
мыслится как нечто противоположное созвучию,
основанному на единстве происхождения. Такое
понимание омонимии совершенно правильно, так как
только при этом понимании проводится четкая
демаркационная линия между омонимией (одинаковое
звучание разных слов) и полисемией (разные значения
одного слова).
В старой лексикографии также можно найти примеры,
когда сильно разошедшиеся значения одного слова
подаются как омонимы. Но обычно это имеет место в тех
случаях, когда начало дифференциации значений
находится за пределами засвидетельствованной истории
данного языка, когда на протяжении всей истории языка
разошедшиеся значения мыслились уже как разные
слова. Автор одной из недавних работ по омонимии Э. Ёман
считает правомерным отнесение к омонимам некоторых
случаев расхождения значений первоначально одного
слова. Но тут же добавляет: «...Duren Bedeutungsdif feren-
zierung entstandenen Homonyme gleichen Ursprungs wer-
den nicht von allen als Homonyme anerkannt». «Омонимы,
возникшие в результате дифференциации значений, не
всеми признаются за омонимы» 5. Вопрос, однако, не в
том, какие существуют или какие мыслимы взгляды на
омонимию. Вопрос в том, какая трактовка проблемы
омонимии отвечает нашему
лингвистическому мировоззрению. В основе смешения
омонимии с полисемией лежит представление о том, что
всякое новое употребление слова есть новое слово и что,
стало быть,— если довести эту концепцию до логического
конца,— слово никогда не тождественно самому себе,
оно неповторимо: нельзя дважды произнести одно и то
же слово, как нельзя, по Гераклиту, войти дважды в одну
и ту же реку. Языку, по этой концепции, свойственна
сплошная, тотя^т лая омонимичность, ибо всякая
полисемия есть в то же время омонимия. История языка,
180
преемственная связь значений внутри языкового
коллектива полностью игнорируется.
Тот, кто стал на путь «расширения» омонимии за
счет полисемии, никогда не может сказать, а главное —
доказать, где нужно остановиться. Полисемия
имеет столько видов, степеней, градаций, границы между
ними так тонки и неуловимы, что произвол и
субъективность становятся неизбежными. Насколько легко провести
границу между омонимией (истинной) и полисемией,
настолько трудно провести ее между разными степенями
и аспектами полисемии. Поэтому пускаться в
безбрежное море полисемии, чтобы вылавливать там
сомнительные омонимы, это значит отказаться от какой бы то ни
было устойчивой, стабильной, общеобязательной системы
подачи омонимов в словаре.
Разумеется, разобраться в разных аспектах
полисемии, разных степенях разрыва семантических связей —
тоже дело важное и нужное. Но первое, что нужно
сделать — это четко отграничить полисемию от омонимии,
помня, что ни один случай полисемии не имеет ничего
общего ни с одним случаем омонимии.
Что омонимия в новом, «более широком», понимании
становится царством произвола и путаницы, можно
показать на ряде примеров. Возьмем случай с глаголом
палить. Допустим, что мы примирились с тем, что палить
«жечь» и палить «стрелять» — два разных слова, между
которыми произошел «разрыв семантических связей».
Но ведь аналогичные значения присущи и
существительному огонь: 1) «пламя», 2) «стрельба» (с разным
словообразованием: огненный и огневой)! Почему же здесь
нет омонимов? По воле лексикографа два совершенно
идентичных явления подаются то как омонимия, то как
полисемия.
Кто докажет, что между здоровый в смысле
«обладающий здоровьем» и здоровый в смысле «крепкий»,
«сильный» больше разрыв семантической связи, чем
между крепкий (об орехе) и крепкий (о вине)? В пользу
большей «омонимичности» в последнем случае можно
указать на то, что здоровый в обоих значениях может
вступать в одинаковые словосочетания (здоровый парень
и в смысле «обладающий здоровьем», и в смысле
«сильный»), тогда как для крепкий это совершенно исключено.
Следовало бы вообще избегать слишком поспешных
утверждений о «разрыве семантических связей». О чело-
/81
веке цветущего здоровья говорят: здоров, как бык.
Почему как бык.1 Ведь бык тоже может быть больным. И
уж, конечно, здоровая муха здоровее больного быка.
Если все же для сравнения берется бык, то только потому,
что здесь в слове здоровый сочетаются, наплывают друг
на друга оба значения: «не больной» и «сильный, мощный».
Вообще нет ничего обманчивее впечатления
разорвавшихся семантических связей. Значения, которые на
первый взгляд кажутся полностью обособившимися,
могут в определенных случаях, в определенном контексте
«вспомнить» о своем родстве и близости и неуловимо
переходить одно в другое.
Худой «тощий» и худой «плохой» даются как
разные слова, а красный во всех значениях — как одно.
Но где больше чувствуется «разрыв семантических
связей», в выражениях ли: красное вино, Красная армия,
красная девица, красная рыба или в выражении худая
скотина, где могут совмещаться оба значения:
«истощенная», а потому «плохая»? Где объективные основания,
в силу которых вольный разрывается на два слова, а
настоящий «нынешний» и настоящий «подлинный»
остаются одним словом?
Горячий, прямо из печки хлеб будет свежим хлебом.
С другой стороны, мы говорим свежий ветер, на дворе
свежо в смысле «холодно». В одном случае свежесть
ассоциируется с «теплом», а в другом — с «холодом». Это ли
не полный «разрыв семантических связей»! А между тем
здесь не признается омонимии.
Зато жертвой нового понимания омонимии стало
слово славный. Оказывается, в русском языке не одно, а
два слова этого звучания: одно означает «достойный
славы», другое — «очень хороший, симпатичный». В связи
с этим хотелось бы задать вопрос, какое из этих двух
слов употреблено в известной песне Славное море,
священный Байкал? По-видимому,— первое. Ведь речь идет
о знаменитом, прославленном Байкальском озере.
Переходим к смежным стихам: Славный корабль — омулевая
бочка...; Славный мой парус — кафтан дыроватый... К
бочке и дырявому кафтану меньше применим эпитет
«достойный славы». Здесь, надо полагать, мы имеем дело уже
с совершенно «другим» словом: славный «хороший»,
«симпатичный».
Но если в смежных стихах используются два разных
слова одного звучания, то это называется к а л а м б у-
182
ром. Почему же, однако, мы не чувствуем здесь
никакого каламбура? Почему мы не чувствуем даже намека
на какую-либо двусмысленность и нам не приходится
ломать голову над тем, какое из двух «разных» слов
употреблено в каждом случае? Это было бы
невозможно, если бы между двумя значениями слова славный
действительно разорвалась всякая связь, если бы они не
«скользили» одно в другое. В действительности такая связь
существует. Объединяющим оба значения является
понятие «достойный хвалы», «хороший».
Много недоумений вызывают новоявленные
глагольные «омонимы» вроде упомянутых выше грести,
запрудить, лить, изменить, палить, прожигать, пристроить,
перестроить и др. Непонятно и тут, почему в одних
случаях признается омонимия, а в других нет. Так, например,
изменить в смысле «переменить» и изменить в смысле
«нарушить верность» трактуются не как разошедшиеся
значения одного слова, а как два разных слова.
Правильно ли это? У Владимира Соловьева в одном
стихотворении имеются такие строки:
Ты мне верность клялся сохранить.
Клятву ты позабыл, но изменой своей
Мог ли сердце мое изменить?
«Изменить изменой...» Как будто игра слов. Но на
чем она основана? На том ли, что между этими двумя
словами полностью разорвалась семантическая связь, или,
напротив, именно на том, что такая связь существует?
В первом случае мы имели бы дело с каламбуром. Но
тон всего стихотворения — мало сказать серьезный —
торжественно-приподнятый — совершенно исключает
даже мысль о каламбуре. Стало быть, поэт обыгрывает
здесь близость двух слов, а не их разрыв. Измена
есть «изменение», изменение отношения.
Когда мы слушаем песенку герцога из оперы
«Риголетто» — Сердце красавицы склонно к измене и
перемене,— мы воспринимаем слова измена и перемена не как
два семантически не связанных слова, а как
исключительно близкие понятия, почти синонимы. И уж если
говорить о разрыве семантических связей, то он гораздо
больше чувствуется, например, между двумя значениями
слова поправиться: 1) «исправить ошибку» и 2)
«выздороветь». А между тем поправиться дано как одно слово,
а не два.
Любопытно, что верный «правильный» и верный «пре-
183
данный», где степень семантического «разрыва»
примерно такая же, как у двух значений глагола изменить,
трактуются не как два, а как одно слово.
С удивлением узнаем мы далее, что существуют два
разных глагола пестреть, причем в выражении пестрели
цветы мы имеем дело с пестреть I, а в выражении
пестрели флаги с пестреть II. В то же время идти
«двигаться» и идти «быть к лицу» даются как одно слово.
Непонятно, почему при «широком» понимании
омонимии не оказались разными словами поднять якорь и
поднять восстание, провести дорогу и провести
«обмануть», служить в армии и служить «стоять на задних
лапах» и т. п.
В выражениях перестроить план, перестроить ряды и
перестроить рояль мы имеем будто бы дело с тремя
разными словами, а в выражениях снять скатерть, снять
фотографию и снять комнату — с одним и тем же словом.
В выражениях подвести фундамент, подвести
товарища и подвести глаза не признается омонимии. А вот в
выражениях вывести формулу и вывести узор будто бы
налицо два разных слова.
На некоторых типичных случаях можно показать
беспомощность, непоследовательность и произвол, которые
составляют отличительное свойство «нового» понимания
омонимии.
Случай первый: слово, помимо обиходного
значения, имеет еще специальное,
терминологическое значение в какой-либо
области науки или практики. Как и следовало
ожидать, специальное значение то выделяется в омоним,
то нет, на основании каких-то не поддающихся учету
мотивов.
Считаются омонимами: пестик «маленький пест» и
пестик «часть цветка»; зонтик «зонт» и зонтик
«соцветие»; клетка в обиходном значении и клетка в биологии;
червяк «червь» и червяк «винт с особой нарезкой»,
челнок «маленький челн» и челнок в ткацком станке и
швейной машине.
Не считаются омонимами: корень растения, корень в
математике и корень в лингвистике; ручка «маленькая рука»
и ручка «письменная принадлежность»; крошка «малютка»
и крошка «сыпучее вещество»; ячейка «углубление» и
ячейка партийная.
Существует, оказывается, два слова вид, три слова род,
184
но только одно слово семейство. При этом род как
подразделение в систематике и род как грамматическая
категория — это будто бы разные слова, а вид как
подразделение в систематике и вид как грамматическая
категория — одно слово. Слово вид в обиходном значении и
вид как подразделение в систематике рассматриваются
как два слова, а семейство в обиходном значении и
семейство как подразделение в систематике считаются
одним словом.
Кислый в обычном значении и кислый в химии
оказываются омонимами, а жесткий «твердый» и жесткий
«насыщенный известковыми солями» омонимами не
считаются.
Цепь обычная и цепь в химии считаются одним
словом, а проводник «провожатый» и проводник в физике —
двумя разными словами.
Выделены в омонимы бык «устой моста», кобыла
«гимнастический снаряд», хотя их связь с исходными
словами бык и кобыла очевидна для каждого 6.
Случай второй: субстантивация
прилагательных и причастий. Субстантивированные
рабочий, русский подаются как омонимы, тогда как в
отношении субстантивированных ученый, рядовой, больной,
раненый, ближний этого не делается.
Случай третий: имя, будучи оформлено
суффиксом отвлеченных слов, имеет, наряду
с отвлеченным, также предметное
значение.
Крепость как отвлеченное от крепкий и крепость
«укрепленное место» даются как разные слова. Но
сладость как отвлеченное от сладкий и сладость «лакомство»
даются как одно слово, хотя в последнем случае
преимущественное употребление во множественном числе
(сладости) говорит о большем «разрыве связей».
Не считаются омонимами также высота отвлеченное
от высокий и высота «гора», низость отвлеченное от
низкий и низость «бесчестный поступок», подлость
отвлеченное от подлый и подлость «подлый поступок» и др.
Таким образом, и здесь не видно какого-либо единого
принципа выделения омонимов.
Случай четвертый: слово имеет, помимо
основного, переносно-образное значение.
Перед нами та же непоследовательность. Попробуйте
разобраться, почему жила «скупой, прижимистый человек»
185
выделено в омоним, а шкура «продажный человек»,
«вымогатель и шкурник» — нет. Фрукт «неприятный человек»,
шишка «важный человек» оказываются омонимами, а
шляпа «растяпа» дается только в одном гнезде с основным
значением «головной убор». Шпилька «язвительное
замечание» выделяется как особое слово, хотя глагол язвить
и в прямом, и в переносном значении рассматривается
как одно слово.
Случай пятый: слово, помимо обычного,
имеет жаргонно-экспрессивное
употребление. Сюда относится, например, своеобразное
экспрессивное употребление таких глаголов, как дуть,
жарить, катать, садить, чесать и др\ в смысле интенсивного
действия: дует на балалайке, жарит на гармони, катай!
«делай что-либо вовсю», так и садит по дороге «быстро
бежит», так и чешут из пулеметов и т. п.
Во всех случаях экспрессивное значение
представляется весьма сильно отошедшим от прямого. Вместе с тем
несомненно, что глубокий анализ семантической истории
этих глаголов и их употребления может вскрыть
утраченную теперь, казалось бы, связь экспрессивного
значения с основным и восстановить промежуточные
семантические представления. Бесспорно одно: все
приведенные случаи — явления одного порядка, и мы вправе
ожидать, что они подаются в Словаре одинаково. Ничуть
не бывало. Экспрессивные значения глаголов жарить,
катать и садить выделяются в омонимы, тогда как в
отношении глаголов дуть и чесать этого не делается. Почему —
неизвестно.
Такая непоследовательность замечается и в других
случаях. Свистнуть «украсть», подмазать «дать взятку»,
отколоть «сказать или сделать что-нибудь неуместное или
неожиданное» выделены в омонимы. Но выкинуть «проделать»,
провести «обмануть», загнать «продать», загнуть «сказать»
(загнуть словечко) омонимами не считаются.
Можно было бы привести еще десятки примеров
произвола и непоследовательности в трактовке омонимов. Но
и приведенного материала достаточно, чтобы убедиться,
что так называемое «более широкое» понимание омонимии
ни в одном случае не способно свести концы с концами.
Особенность этого понимания состоит в том, что оно
полностью запутывает ясные взаимоотношения между
омонимией и полисемией, и превращает проблему
омонимии в зыбучий песок, на котором нигде нельзя сту-
186
пить твердой ногой. То, что еще сегодня не считалось
омонимами, завтра может стать омонимами, и обратно.
Лексикограф, в его отношении к омонимам, уподобляется
вышеупомянутой красавице, сердце которой склонно к
измене и перемене, как ветер мая.
С сожалением приходится отметить, что
приготовляемый в настоящее время четырехтомный академический
словарь русского языка, судя По вышедшей «Инструкции» ',
намерен увековечить эту неразбериху. В этой
«Инструкции», в главе, посвященной омонимам (с. 23—29),
поразительным образом смешиваются и подводятся под одну
рубрику самые разнородные вещи. Если верить
«Инструкции», то созвучие слов рабочий (прилагательное) и
рабочий (существительное) — явление такого же порядка,
как созвучие мол (существительное) и мол (вводное слово)
(с. 24). Только в кривом зеркале так называемого
«синхронного» подхода может так неузнаваемо искажаться
объективное положение вещей. Слово славный и по этой
инструкции превращается в два разных слова, причем,
эта мнимая омонимия считается идентичной с такими
действительными омонимами, как примерный «отличный» и
примерный «приблизительный», наушник «часть теплой
шапки» и наушник «тот кто наушничает».-
«Новое понимание омонимии привело фактически к
полной дезориентировке при решении вопросов омонимии
в лексикографической практике. Обычными стали диалоги
такого, примерно, порядка:
Составитель словаря: «Мне кажется, что здесь мы
имеем омонимию».
Редактор: «А мне кажется, что здесь нет
омонимии».
Составитель: «Мне кажется, что тут произошел
разрыв семантических связей».
Редактор: «А мне кажется, что тут еще нет полного
разрыва семантических связей» и т. д.
Никаких других аргументов, кроме «кажется», ни та,
ни другая сторона, разумеется, привести не может, так
как таких аргументов и не существует. «Более широкое»
понимание омонимии — это царство субъективности.
Каждый лексикограф смело полагается на свою
«интуицию». Если учесть, что практика русской
лексикографии служит образцом, которому следуют лексикографы
всех языков Советского Союза, то можно представить,
какую сумятицу посеет в их головах «широкое» и все
187
расширяющееся из года в год понимание
омонимии.
С таким положением нельзя больше мириться. Нельзя
мириться с тем, чтобы в словарях нам преподносили вместо
объективных фактов языковой действительности
субъективные соображения того или иного лексикографа о
«разрыве семантических связей». Нельзя мириться с тем,
чтобы омонимия в наших словарях стала той областью,
где всяк молодец орудует на свой образец.
Чтобы этого не было, надо проблему омонимии
поставить на твердую научную основу. Такой основой может
быть только историческая лексикология.
Схоластические рассуждения о «тождестве слова», о
«границах слова» и пр. никогда не приведут ни к каким
прочным результатам и, стало быть, никогда не смогут
стать теоретической основой для решения вопроса об
омонимах. Еще меньше могут помочь делу субъективные
впечатления о «разрыве семантических связей».
Единственной надежной основой для теории омонимов была и
остается история слов. Отрыв проблемы омонимии от
исторической лексикологии неизбежно приводит к той
путанице, свидетелями которой мы являемся.
На совещании по вопросам описательной
грамматики, лексикографии и диалектологии, состоявшемся в
Институте языкознания АН СССР весной 1953 г.,
справедливо ставился вопрос об элементах историзма в
описательной грамматике. Можно и нужно говорить об
элементах историзма в лексикографии. Если
успехи исторической грамматики не могут не отражаться на
разработке грамматики статической, то и успехи
исторической лексикологии не могут не отразиться на
построении «статических» словарей.
На словах никто не оспаривает, что историзм
составляет основу основ советского языкознания. Но на деле
всякая попытка внести историческую точку зрения в
описательную грамматику или словарь встречает оппозицию
со стороны некоторых наших языковедов. Стоя на
страже чистоты «жанра», они считают, что историзму место
только в исторической грамматике и историческом
словаре. Описательная же грамматика и словарь — это совсем
другой жанр, где элементы историзма совершенно
неуместны.
По этому поводу нужно заметить, что применять
историзм только к истории явлений — в этом нет никакой
188
заслуги, как нет заслуги в том, чтобы солить соль.
Историзм становится заслугой и преимуществом именно
тогда, когда он применяется к статике явлений,
точно так же, как о достоинствах соли мы узнаем лишь
тогда, когда она примешивается к пресному. Если наш
историзм не вооружает нас для того, чтобы по-новому
и лучше подойти к описанию и систематизации
статических фактов, то грош цена такому историзму.
Марксистский историзм тем и замечателен, что, давая
единственно правильное объяснение динамике
общественного развития, он вместе с тем дает нам оружие
для того, чтобы разобраться и правильно описать любое
общество на любой статической ступени его развития.
Думать, что историзм имеет отношение только к
историческим исследованиям — это верх наивности. Историзм
в истории — это простая тавтология. Историзм означает
не познание истории, а познание статики
через историю. Историзм есть метод именно
описания фактов, метод, наиболее совершенный, наиболее
познавательно ценный.
Почему так называемое «широкое» понимание
омонимии является антиисторичным, а стало быть ненаучным?
Потому, что оно смешивает в корне разнородные с
исторической точки зрения явления: с одной стороны,
случайное созвучие разных по происхождению слов, с
другой — созвучие, основанное на генетической связи. Первое
есть омонимия, второе — полисемия. Различать эти два
явления при нынешнем уровне исторической
лексикологии обычно не составляет труда. И если то
и другое подводится под одно «широкое» понимание
омонимии, то это не невольный антиисторизм, не антиисторизм
по неведению. Лексикограф как бы заявляет: «Я отлично
знаю, что разные случаи моих «омонимов» представляют
в историческом аспекте совсем разные вещи. Для меня
достаточно, что в современном языке и те, и другие
представляются мне разными словами».
Каждый неискушенный человек, пользующийся
словарями, скажет, не задумываясь, что словарь, который
наглядно показывает характерные для данного языка,
исторически обусловленные связи между
значениями, лучше словаря, который маскирует эти связи,
растворяя их в общей массе омонимов. Выхолащивая из
описательной грамматики и словаря всякий намек на
историю, мы тем самым снижаем познавательную ценность,
189
которую грамматика и лексика имеют как продукт
общественного мышления и истории.
Полисемия — интереснейшее явление в плане
проблемы языка и мышления. За полисемией всегда скрываются
усилия человеческой мысли в поисках новых и новых
средств познания, выражения, экспрессии. За омонимией
же ничего не скрывается, кроме игры случая. Поэтому
познавательный интерес полисемии огромен.
Познавательный же интерес омонимии — ничтожен. Но наша
новейшая лексикография вместо того, чтобы возможно
рельефнее показать в словаре это различие, маскирует его,
выделяя одинаковыми знаками и созвучные слова
разного происхождения, и разошедшиеся значения одного
слова.
У некоторых лексикологов вошло в обычай сетовать
и сокрушаться по поводу крайней будто бы «сложности»
проблемы омонимии 8.
Однако проблема омонимии совсем не так сложна, как
нас хотят уверить. Больше того — она чрезвычайно проста,
если только ее поставить на прочную основу
исторической лексикологии. В историческом плане легко и точно
различаются два явления: 1) созвучие разных слов,
которые никогда, ни в какую историческую эпоху данного
языка не были одним словом и развитие которых можно
изобразить параллельными, нигде не сходящимися
линиями; это и есть действительная омонимия; 2) созвучие
слов, значения которых могут нам казаться сейчас более
или менее сильно расходящимися, но которые (значения)
явились результатом закономерного семантического
развития одного слова — развития, которое можно
изобразить линиями, сходящимися в одной точке; это —
омонимия мнимая, которая в действительности является
полисемией. Между омонимией и полисемией нет ничего
общего, никаких точек соприкосновения. Полисемия
никогда не может стать омонимией и обратно.
Стало быть, первая и важнейшая задача лексикографа
при выделении омонимов — провести четкую границу
между омонимией и полисемией. Он должен не только
сам разобраться в этом, но и в словаре представить дело
так, чтобы каждый, пользующийся словарем, мог легко
и наглядно видеть, где омонимия и где полисемия, т. е.
где разные слова одного звучания и где более или менее
далеко разошедшиеся значения одного слова.
Пишущий эти строки сам много занимался лексико-
190
логической и лексикографической работой и может сказать
с полной ответственностью: искусственно созданный миф
«сложности» проблемы омонимии не имеет ничего общего
с действительностью. Если в отдельных случаях мы
затрудняемся решить, с каким из двух явлений мы имеем дело,
с полисемией или омонимией, то это происходит не от
сложности проблемы омонимии, а от недостаточности
наших знаний по истории данных слов. Задача, стало быть,
не в том, чтобы вести бесплодные споры вокруг
вопросов «что такое слово», «где границы слова», «что такое
омонимия» и пр., а в том, чтобы углублять и
совершенствовать наши знания по истории слов.
*
Среди подлинных омонимов имеются две четко
различающиеся группы: 1) омонимы корневые, 2) омонимы
словообразовательные.
Корневыми омонимами мы называем слова, которые
исторически не имеют между собой никакой связи. Их
созвучие есть игра случая. Таковы омонимы: бор «лес»
и бор «машина», брак в производстве и брак
«супружество», град «город» и град «осадки», клуб дыма и клуб
«организация», лук «растение» и лук «оружие», мина
«снаряд» и мина «выражение», скат «рыба» и скат «склон»,
ток для молотьбы и ток электрический, шайка «сосуд»
и шайка «группа», шашка игральная и шашка «оружие»
и др. Сюда относятся и глагольные омонимы: жать (жну)
и жать (жму), слепить от лепить и слепить «ослеплять»,
спеть от петь и спеть «созревать», топить печь и топить
в воде, творить «создавать» и творить «размешивать с
водой» и др.
Словообразовательными омонимами являются слова,
которые этимологически между собой связаны и
образованы из одних и тех же элементов, но возникли и жили
независимо одно от другого. Стало быть, их развитие,
несмотря на этимологическую связь, шло по схеме п а-
раллельных л иний, но вышедших из одной точки,
что и является обязательным признаком настоящей
омонимии. Примерами словообразовательных омонимов могут
быть: бумажник «портфельчик» и бумажник «работник
бумажной промышленности», лезгинка жен. род к лезгин
и лезгинка «танец», романист «пишущий романы» и
романист «специалист по романской филологии», наряд
191
«одежда» и наряд «документ», налет «тонкий слой» и
налет «нападение», повод лошади и повод «предлог»,
прокат в металлургии и прокат «временное пользование»,
раствор «жидкая смесь» и раствор двери и т. п.
Глагольными омонимами этого типа являются,
например: выжить «остаться в живых» и выжить «заставить
уйти из жилья», выносить «нести наружу» и выносить
«стерпеть», замолчать «умолкнуть» и замолчать «обойти
молчанием», запустить камнем и т. п. и запустить «не
заботиться», найти («нашла коса на камень») и найти
«отыскать», нестись «быстро двигаться» и нестись о курице,
грубить «говорить грубости» и грубить «делать грубым»,
перевести с одного места на другое и перевести
«истребить», походить (от «ходить» и походить «быть похожим»,
стянуть «туго связать» и стянуть «украсть», хватать «брать»
и хватать «быть достаточным» и др.
К этому (словообразовательному) типу относятся
также лексико-грамматические омонимы, принадлежащие
к разным частям речи: печь (глагол) и печь
(существительное), течь (глагол) и течь (существительное), мочь
(глагол) и мочь (существительное), напасть (глагол) и
напасть (существительное), стать (глагол) и стать
(существительное) и др.
Установление словообразовательных омонимов
представляется делом более деликатным и тонким, чем
установление омонимов корневых. Оно требует нередко весьма
тщательных историко-лексикологических изысканий 9. Речь
идет о том, чтобы установить твердо, что данные два
образования, хотя они имеют общую этимологическую
основу и общие словообразовательные элементы, возникли
независимо одно от другого (очень часто в разных
местах, в разное время и в разной среде) и никогда и
нигде в истории данного языка не ставились во взаимную
смысловую связь. Только убедившись в этом, мы можем
говорить, что перед нами действительно омонимия, а не
завуалированный случай полисемии. Было бы, например,
поспешно объявить омонимами поддеть «поднять, зацепив
концом чего-либо» и поддеть острым словом, так как
второе значение могло развиться из первого.
Если перед нами расщепление значений когда-то
единой лексемы в рамках документированной истории
данного языка, то, как бы далеко ни разошлись значения
и как бы велик ни казался «разрыв семантических связей»,
мы можем говорить только о полисемии, но никак не об
192
омонимии. Омонимия возникает не тогда, когда
возникает впечатление «разрыва семантических связей», а лишь
в том случае, если этих связей никогда в истории данного
языка не существовало. Нельзя хоть один случай или
вид полисемии объявить омонимией без того, чтобы не
создались предпосылки для путаницы и произвола в
выделении омонимов. К чему это приводит на практике,
мы видели на предыдущих страницах.
Известно, что наши старые словари, не свободные от
многих недочетов, в отношении омонимов давали в общем
правильную картину, поскольку они, сознательно или
стихийно, проводили принцип размежевания омонимии и
полисемии 10. Этот принцип полностью себя оправдал и
нисколько не устарел. Напротив, благодаря успехам
исторической лексикологии, мы можем его проводить теперь
более строго и последовательно, чем раньше. Но тут
является соблазн взять десяток или сотню случаев
полисемии, объявить их омонимией и эту несложную
операцию преподнести как «новаторство» в лексикологии. К
этому собственно и сводится весь «переворот»,
совершенный сторонниками «широкого» понимания омонимии.
Предлагая вернуться к традиционной трактовке омонимов,
мы рискуем попасть в консерваторы. Но это нас нисколько
не смущает. Мы убеждены, что лженоваторство хуже и
вреднее всякого консерватизма.
Нам представляется, что нельзя относить к омонимии
не только лексическую, но и лексико-синтаксическую
полисемию, когда слово, в зависимости от синтаксического
употребления, выступает в роли то одной, то другой части
речи; существительного или прилагательного,
прилагательного или наречия, наречия или предлога (послелога) и
т. п. Между тем в нашей новейшей лексикографии
выявилась тенденция рассматривать и эти случаи, как
омонимы. В «Словаре русского языка», составленном С. И.
Ожеговым, здесь, как и в других случаях, нет полной
последовательности ". Составители вышеупомянутого
«Англорусского словаря» пытались быть более
последовательными. Для них inside «внутренняя сторона», inside
«внутренний», inside «внутри» (наречие) и inside «внутри»
(предлог) — это не разные употребления одного
слова, а четыре разных слова, омонимы '2.
Известно, что в таких языках, как тюркские,
монгольские, угро-финские, многие кавказские, а также некоторые
индоевропейские, наблюдается постоянное скольжение
7 В. И. Абаев
193
слов от одной части речи к другой без каких-либо
изменений в форме: от существительного к прилагательному,
от прилагательного к наречию, от наречия к предлогу или
послелогу. Можно себе представить, как будут выглядеть
словари этих языков, когда и до них дойдут веяния
«современной лексикологии». Это будут непрерывные каскады
мнимых «омонимов», среди которых с трудом можно будет
распознать и выделить омонимы истинные.
В указанном английском словаре «новое понимание»
омонимии создает довольно причудливую картину. Странно
читать, что разными словами являются clear «ясный» и clear
«ясно», slow «медленный» и slow «медленно», sluggard
«лентяй» и sluggard «ленивый», что отношение между ними
такое же омонимическое, как, скажем, между mould
«форма» и mould «плесень» или lap «подол» и lap «жидкая
пища»; down «вниз» и down «вниз по» признаются
разными словами на тех же основаниях, что down «вниз» и
down «пух». Человека просто ошарашивает открытие,
что общеизвестное third представляет в
действительности три слова: third I (числительное) «третий», third II
(существительное) «треть», third III (прилагательное)
«третий». Истинным откровением было для нас, когда
мы узнали, что в английском не одно, а два слова darling:
darling I «любимец», darling II «любимый»13, что
семантический разрыв между этими словами больше, чем ска- '"
жем, между zip «треск разрываемой ткани» и zip
«темперамент», которые даются как одно слово. Таковы
курьезы «современной лексикологии» и.
Подведем итог. В нашей новейшей лексикографии, без
какого-либо серьезного научного обоснования,
распространилось неправомерно расширенное понимание омонимии,
в результате чего полностью запутались отношения между
омонимией и полисемией. Это привело к тому, что
выделение омонимов в словарях стало фактически
субъективным делом каждого отдельного лексикографа. Для
того, чтобы изменить такое положение вещей,
необходимо построить теорию омонимов на единственно
объективном и, стало быть, единственно научном основании:
на глубоком и тщательном изучении истории
слов.
194
Примечания
' См. «Словарь русского языка», сост. С. И. Ожегов, 3-е изд., М.,
1953
2 Указ. словарь, с. 3
3 См. «Англо-русский словарь», сост. В. Д. Аракин, 3. С. Выгодская,
Н. Н. Ильина, 2-е изд., М., 1954, с. 3
1 Примеры здесь и ниже берутся из указ. 3-го изд. «Словаря
русского языка», сост. С. И. Ожеговым.
5 Е. O h m a n п, Uber Homonymie und Homonyme im Deutschen,
«Annales Academiae scientiarum -fennicae», Ser. B, t. XXXII, Helsinki,
1934, c. 18
0 Мы имеем здесь распространенное явление, когда предметы
материальной культуры получают название животных. Так, персидское
хаг «осел» означает также «подставка», «кобылка» (у скрипки),
осетинское x?r?g «осел» — «потолочная балка», немецкое bock «козел» —
«козлы», «подмостки», «бык моста», «ледорез», «таран», «кобылка»,
«кронштейн» и многое другое.
7 «Инструкция для составления «Словаря современного русского
литературного языка (в трех томах)», [Ин-т языкознания АН СССР,
Л.], 1953.
8 См., например: «Большие затруднения вызывает вопрос об
омонимах, почти не разработанный в теории русской лексикографии» (указ.
инструкция, с. 9); «Один из серьезных и сложных, вопросов словарной
практики — это вопрос об омонимах» (С. И. Ожегов. О трех типах
толковых словарей современного русского языка, ВЯ, 1952, № 2, с. 100).
А. И. Смирницкий пищет, что проблема взаимоотношения полисемии и
омонимии «...является более сложной и теоретически трудной, чем это
иногда представляется...» (А. И. Смирницкий. К вопросу о слове.
{Проблема «тождества слова»), «Труды Ин-та языкознания [АН СССР],
т. IV, М., 1954, с. 38—39).
0 «Для каждого образования вопрос, который возникает по поводу
того, имеем ли мы дело с разветвлением значений или с различными
новообразованиями от того же корня,— приходится решать отдельно»
(Л. А. Булаховский, Введение в языкознание, ч. II, М., 1953, с. 56).
10 Допускались, конечно, ошибки, когда к полисемии относились
некоторые случаи фактической омонимии (главным образом,
словообразовательной омонимии). Но это были именно ошибки,
а не смешение омонимии с полисемией.
" Ср., с одной стороны, употребление слов рабочий, русский то
в качестве существительного, то в качестве прилагательного — в этих
случаях и рабочий, и русский считаются омонимами; с другой — такое
же двоякое употребление слов ученый, больной и др., где омонимия
не признается.
195
12 Теоретической базой здесь являются сомнительные домыслы о
«безморфемном словопроизводстве». В действительности «безморфемнос
словопроизводство — это и есть полисемия.
Здесь, кстати, упускается из виду и то, что в самом русском
языке любимый может быть не только прилагательным, но и
существительным.
14 Что «современная лексикология» в трактовке омонимии не сводит
концов с концами, видно из следующего факта. Два словаря, которые
мы внимательно изучили — русский С. И. Ожегова и английский
В. Д. Аракина, 3. С. Выгодской и Н. Н. Ильиной — оба в последних
изданиях стали на путь безудержного размножения «омонимов».
Казалось бы, полное единодушие. В действительности — полный разброд.
В «Словаре русского языка» омонимы плодятся в основном за счет
чисто лексической полисемии, в английском — за счет лексико-грам-
матической. Если в «Словаре русского языка» выделение омонимов
пытаются как-то оправдать видимостью «разрыва семантических
связей», то в английском даже об этом не приходится говорить. Как
можно думать, что между darling «любимец» и darling «любимый»
разорвалась семантическая связь! Как видно, сторонники «широкого»
понимания омонимии не могут поладить не только с материалом, но и
между собой. Считаем нужным тут же подчеркнуть, что наша
критика направлена только против последних изданий названных
словарей и касается только трактовки омонимов. Во всех других
отношениях мы не можем сказать об этих словарях ничего худого.
Вопросы языкознания, 1957, № 3.
ЯЗЫК И ИСТОРИЯ
Общие вопросы. В лингвистических работах
часто приходится встречаться с термином
«реконструкция». При этом имеется в виду обычно восстановление
утраченных звуков, форм, моделей. Но языковеду
доступен и другой, более увлекательный вид реконструкции:
реконструкция действительности, реконструкция
исторического прошлого народов. И тут задачи языковеда
смыкаются с задачами историка и археолога, которыми
движет та же неистребимая страсть воссоздать прошлое.
Способность языка служить историческим источником
вытекает из того простого и очевидного факта, что
элементы языка отражают элементы объективной
действительности, что мир языка есть не что иное, как
своеобразная «переработка» в общественном сознании мира
реалий. А поскольку язык живет тысячелетия, его
показания приобретают значение исторических документов,
которые, если суметь их читать, могут многое рассказать
о прошлых судьбах того народа, которому этот язык
принадлежит.
Способность языка сигнализировать о реалиях,
фактах исторической действительности была известна еще
античным мыслителям. Но подлинно научная разработка
проблемы «Язык и история» стала возможна только в
XIX в., с созданием сравнительно-исторического
языкознания. Это и понятно. Чтобы служить историческим
источником, язык прежде всего сам должен быть хорошо
разработан исторически, должна быть хорошо изучена
как история всей системы языка, так и история
отдельных составляющих ее элементов.
От истории языка к языку истории — таков
естественный путь языковеда-историка.
Но познание истории языка было поставлено на
прочную научную основу только с созданием сравнительно-
исторического языкознания, и с этого момента можно
говорить и о научной постановке проблемы «язык и
история».
197
Из основоположников сравнительно-исторического
языкознания следует в этой связи особенно выделить
Я. Гримма. Ему принадлежит тезис: «Наш язык есть также
наша история» '. В своих работах «Немецкая
грамматика», «История немецкого языка» и других Я. Гримм
не без успеха привлекает данные языка для
исторических и историко-культурных реконструкций и выводов и
обосновывает этот метод исследования. «Существует,—
говорит он,— более живое свидетельство о народах, чем
кости, оружие и могилы: это их язык» .
Так как сравнительно-историческое языкознание как
научная дисциплина было создано на базе
индоевропейских языков, то к этим языкам, раньше других, стали
применяться методы параллельного и взаимосвязанного
изучения и языковых, и исторических, и
археологических данных. . ''
Наметилось целое направление, ставившее себе целью
реконструкцию доисторического состояния всего
индоевропейского мира и отдельных индоевропейских народов по
данным языка, с привлечением также данных археологии,
истории и этнографии. Это направление исследований
швейцарский лингвист А. Пикте назвал «лингвистической
палеонтологией» 3. В дальнейшей разработке данной
проблематики особенно велики заслуги Отто Шрадера 4.
Работы О. Шрадера отличаются, между прочим, широким
привлечением славянского материала.
В России взгляд на язык как на ценный источник для
познания истории народа утвердился очень рано. Еще
поэт П. А. Вяземский, современник и друг А. С. Пушкина,
писал:
Язык есть исповедь народа,
В нем слышится его природа,
Его душа и быт родной.
Великое завоевание XIX столетия — сравнительно-
историческое языкознание — нашло в России
благоприятную почву. Наряду с другими направлениями этого
языкознания стало успешно развиваться и то, которое
ищет в языке ответа на вопросы о древних судьбах
народа, о его происхождении, его родственных связях или
культурных контактах с другими народами. Как оно и
понятно, речь шла прежде всего о русском языке и русском
народе. Не боясь погрешить против истины, можно
сказать, что корифеи русского языкознания XIX и начала XX в.
198
были в большинстве не «чистыми» лингвистами, а
лингвистами с широкими историческими и
историко-культурными интересами: Ф.И.Буслаев A818—1897),
И. И. Срезневский A812—1880), А. А. Потебня ( 1835—
1891), И. А. Бодуэн де Куртенэ A845—1929),
А.И.Соболевский A856—1929) и др.
Для Ф. И. Буслаева история языка была неотделима
от истории народа и его культуры. Он был убежден,
что «в языке выражается вся жизнь народа». В ряде
работ, в особенности же в «Исторических очерках развития
русской народной словесности и искусства», Ф. И.
Буслаев широко привлекает данные языка и устной
народной поэзии для восстановления древнейшей культуры
русского народа.
Не утратили до сих пор своего значения в этом плане
«Мысли об истории русского языка» И. И. Срезневского.
Знаменитый мыслитель, демократ и . революционер
Н.Г.Чернышевский A828—1889), бывший также
незаурядным филологом, хорошо понимал зависимость
словарного состава языка от исторического опыта народа.
«Состав лексикона,— писал он,— соответствует знаниям
народа, свидетельствует... о его житейских занятиях и
образе жизни и отчасти о его сношениях с другими
народами».
В широкой _ историческом контексте рассматривает
процесс развития русского языка А. И. Соболевский в
своих «Лекциях по истории русского языка» и в других
работах.
По Бодуэну де Куртенэ, следует различать внешнюю
и внутреннюю историю языка. Внешняя история языка
неотделима от истории народа — носителя этого языка.
Ф.Ф.Фортунатов A848—1914), который больше
приближался к типу «чистого» лингвиста, хорошо, однако,
понимал и оценивал социально-исторические факторы
языкового развития. В курсе «Введение в языкознание»
Ф. Ф. Фортунатов подчеркивает, что «изменения, которые
происходят в составе общества, сопровождаются и в языке
соответствующими изменениями, дроблению общества на
те или другие части соответствует и дробление языка на
отдельные наречия, а объединению частей общественного
союза соответствует и в языке объединение наречий».
Ни в ком, пожалуй, сочетание языковеда и историка
не было таким органическим, глубоким и «убедительным»,
как в А.А.Шахматове A864—1920). Во всех своих ос-
199
новных работах А. А. Шахматов выступает одновременно
как историк языка и историк народа: «К вопросу об
образовании русских наречий и русских народностей»,
«Курс истории русского языка, ч. 1, Введение», «Очерк
древнейшего периода истории русского языка»,
«Древнейшие судьбы русского племени» и др. Характеризуя
научный путь своего учителя — А. А. Шахматова, С. П.
Обнорский писал: «Шахматов на всем протяжении своей
деятельности был историком русского языка, будучи
всегда по общим своим устремлениям историком народа...
И как лингвист, и как литературовед, Шахматов всегда
вместе с тем был историком русской культуры, историком
русского народа 5.
В статье, посвященной столетию со дня рождения
А. А. Шахматова, Ф. П. Филин пишет: «...всепоглощающий
интерес к истории у А. А. Шахматова не ослабевает до
конца его дней и определяет его путь как лингвиста...
Языковые факты им всегда рассматривались как
необходимый материал для истории языка и истории народа» 6.
Мы считали нужным привести эти данные — по
необходимости очень краткие и отрывочные — из прошлого
русской лингвистики, чтобы показать, что в постановке
проблемы «Язык и история» советские языковеды могли
опираться на давнюю и прочную традицию, а также на ряд
опытов конкретного применения методов исторической
интерпретации языковых фактов.
В советском языкознании проблема русского языка
и истории с первых лет и до настоящего времени
занимает весьма заметное место, она разрабатывается и глубже,
и шире, чем это могло быть раньше. Глубже потому, что
методы взаимосвязанного изучения языка и истории
значительно усовершенствовались благодаря общему
прогрессу наук гуманитарного круга. Шире потому, что в
советское время в сферу научного исследования были
вовлечены многие и многие языки, которые прежде оставались,
если можно так выразиться, за бортом науки. Таким
образом, материальная база для разработки проблем связи
языка и истории неизмеримо расширилась.
Не претендуя на сколько-нибудь полный обзор всего,
что сделано в этой области в советском языкознании,
мы отметим более значительные, с нашей точки зрения,
достижения.
Мы начнем с того, что попытаемся выделить те
главнейшие направления, по которым шла разработка проблем язы-
200
ка и истории, безотносительно к тому, на каком
конкретном языковом материале велось исследование. А затем
остановимся на отдельных языках и языковых группах
в интересующем нас аспекте.
Круг проблем, при решении которых неизбежно
скрещиваются пути лингвиста и историка, обширен и
разнообразен.
Сюда относятся прежде всего вопросы глоттогенеза,
происхождения языка и отдельных языковых групп.
Несколько опороченная неудачными построениями Н. Я. Марра
(теория четырех первичных элементов речи), эта
проблема после него, к сожалению, надолго выпала из поля
зрения советских языковедов и затрагивалась
преимущественно психологами и философами . Лингвистический аспект
проблемы более рельефно выступает в книге А. А.
Леонтьева «Возникновение и первоначальное развитие языка»,
вышедшей в научно-популярной серии Академии наук СССР.
Дальнейший прогресс в разработке этого важнейшего в
познавательном отношении вопроса едва ли мыслим иначе
как на основе «пангуманитарной» концепции, в которой
лингвистическая точка зрения сочеталась бы, с одной
стороны, с глубоким общефилософским и психологическим
проникновением, с другой — с новейшими данными
антропологии, этнологии, археологии.
Второй зоной встречи языковедов и историков
являются вопросы этногенеза. Эти вопросы привлекали и
продолжают привлекать большой интерес советских ученых
самого различного профиля: лингвистов, топонимистов,
историков, археологов, антропологов, этнографов,
фольклористов. В разные годы проводился ряд конференций,
целиком или в значительной части посвященных этногенети-
ческим вопросам. Видное место заняли эти вопросы на
XII Международном конгрессе антропологов и
этнографов, проходившем 3—10 августа 1964 года в Москве.
На этом конгрессе работала особая секция
этнолингвистики, в которой советские специалисты принимали самое
активное участие.
Бросается в глаза острый интерес к вопросам
этногенеза в наших национальных республиках и областях:
бесправные прежде народы, получив благодаря
Октябрьской революции национальную государственность и
возможность развивать свою культуру, горячо стремятся
«познать самих себя», свое прошлое, свое происхождение.
Неудивительно, что особенно много конференций и ди-
201
скуссий, посвященных этногеиетическим вопросам,
проходило в национальных республиках и областях. В этих
спорах, естественно, бывает и так, что специалисты в одной
области бывают склонны переоценить значение своих
данных по сравнению с другими: антропологи считают, что
при решении этногекетических вопросов особое внимание
надо уделять антропологическим данным, археологи —
памятникам материальной культуры, этнографы —
этнографическим данным и т. д. Но общий вывод, к
которому приходят в конечном счете участники подобных
споров, состоит в том, что при решении этногенетических
вопросов необходим самый тесный контакт и
сотрудничество лингвистов, с одной стороны, и историков,
археологов, антропологов и этнографов — с другой9,
С этногенетической проблемой тесно связана
проблема субстрата. Субстрат как раз и есть один из распре-
страненнейших вариантов этногенетического процесса,
когда в результате экспансии одного этнического массива
на территорию, населенную другим народом или
народами, происходит глубокое взаимодействие,
взаимопроникновение и смешение двух или нескольких этнических
культур с далеко идущими языковыми последствиями. На
первом этапе возникает бытовое двуязычие, которое может
длиться более или менее продолжительный период. Затем,
в случае решающего перевеса пришельцев в численном,
военно-политическом, экономическом или культурном
отношении, автохтонное население усваивает их язык, но
сохраняет при этом некоторые характерные черты своей речи.
Эти черты одной языковой системы, «просвечивающие»
сквозь другую языковую систему, и составляют
лингвистическую сторону этнического субстрата.
На территории Советского Союза от глубокой
древности происходили крупные передвижения этнических масс
во всевозможных направлениях и повсюду имели месте
процессы этнического смешения. В некоторых местностях
этнический состав менялся по нескольку раз на
протяжении истории. Поэтому для изучения различных аспектов
лингвистического субстрата у советских языковедов
обширное поле работы. Можно говорить о финском субстрате
в севернорусском, о скифском субстрате в южнорусском
и украинском, о кавказском субстрате в армянском и
осетинском, иранском субстрате в узбекском, эвенкийском
субстрате в якутском и т. д.
Поскольку субстрат есть лишь частный случай этно-
202
генетического процесса, здесь, как вообще в разработке
этногенетических вопросов, весьма плодотворно и
желательно сотрудничество языковедов со специалистами
смежных наук: историками, археологами, этнологами,
антропологами.
Нельзя сказать, что проблема субстрата, как в
общетеоретическом плане, так и в применении к отдельным
языкам, заняла в советском языкознании то место,
которое она заслуживает. Значительный интерес
представляют исследования Н. Я. Марра и Г. Капанцяна о кавказско-
азианическом субстрате в армянском и некоторые
другие работы, о которых мы скажем ниже. После дискуссии
1950 г. вопросы взаимодействия и смешения языков
незаслуженно попали в опалу. Однако во второй половине
50-х годов интерес к ним вновь оживился. Переломным
моментом послужила дискуссия о теории субстрата,
проведенная Институтом языкознания АН СССР в Ленинграде
17—19 февраля 1955г.10 Дискуссия показала, насколько
перспективны и разнообразны задачи, стоящие перед
советскими языковедами в данной области исследования.
Говоря о субстрате, нельзя не коснуться еще одного
смежного направления современного языкознания:
ареальной лингвистики. Ареальная лингвистика занимается
изучением тех сходных явлений — изоглосс,— которые
возникают между языками определенного ареала в результате
длительного и контактного развития. Ареальные изоглоссы,
в отличие от субстратных явлений, не предполагают
обязательно этнического смешения. Они могут быть
следствием чисто внешних контактов, если эти контакты
достаточно длительны и интимны. Поскольку всякий контакт
между языками есть вместе с тем контакт между
народами, при разработке вопросов ареальной лингвистики,
как и вопросов субстрата, история языка переплетается
с историей народов. Идею контактного развития языков
настойчиво отстаивал у нас еще в 40-х годах известный
финно-угровед Д. В. Бубрих". Однако ареальная
лингвистика, как особая область языковедческих исследований,
стала привлекать серьезное внимание советских
языковедов лишь в последнее десятилетие.
Важной вехой на этом пути стала научная сессия
Института славяноведения АН СССР «Проблемы лингво-
и этногеографии и ареальной диалектологии» (декабрь
1964 г.).
Много внимания было уделено ареальным связям меж-
203
ду языками на научной сессии филологического
факультета Московского университета, посвященной проблемам
сравнительной грамматики индоевропейских языков A7—
21 ноября 1964 г.). В плане общетеоретического
освещения данной проблемы следует особо отметить доклад
на этой сессии Н. С. Чемоданова «Лингвистическое
родство как процесс». Некоторые другие работы по ареаль-
ной лингвистике мы отметим ниже, в связи с изучением
отдельных языков и языковых групп.
Ареальная лингвистика, понимаемая в широком
смысле, включает в себя также лингвистическую географию
и диалектологию. Эти дисциплины, если они
разрабатываются сколько-нибудь глубоко, а не ограничиваются
простой регистрацией фактов, неизбежно упираются в
историю, историю народов, племен, этнических и социальных
групп. Достижения советского языкознания в этой
области значительны.
Связь языка и истории в разных областях языка
выражается по-разному. Наиболее наглядное и
непосредственное выражение находит эта связь в лексике, поскольку
элементы лексики непосредственно соотносимы с
данными опыта и объективной действительности. Поэтому
история лексики, в большей степени, чем история
грамматики или фонетики, перекликается с историей народа.
Поскольку историко-лексикологическим и этимологическим
исследованиям посвящены в настоящей книге особые
разделы, мы не будем здесь на них останавливаться. Но
хочется сказать несколько слов о том особом разряде
лексики, где связь языка и истории выступает особенно ярко
и зримо. Мы имеем в виду топонимику.
Топонимическая работа, как в плане регистрации
и систематизации, так и в плане обобщения и
теоретического осмысления, ведется в Советском Союзе широко
и с нарастающим размахом. В. А. Никонов, Э. М. Мур-
заев в Москве, А. И. Попов в Ленинграде, К. К. Целуй-
ко в Киеве, А. П. Дульзон в Томске, А. К. Матвеев в
Свердловске и ряд других исследователей вели и ведут
большую работу по описательной и исторической топонимике
нашей необъятной страны. Топонимическая комиссия
Московского филиала Всесоюзного географического общества
является организационным центром многих ценных
начинаний в данной области. Издается сборник «Топонимика
Востока» (вышло два выпуска в 1962 и 1964 гг.,
готовится третий).
204
В Киеве, при Институте языкознания Украинской
Академии наук периодически созываются республиканские
совещания по вопросам топонимики и ономастики с
участием специалистов всего Советского Союза (первое —
в 1959 г., второе — в 1962 г.I2. Обилием материала,
тщательностью анализа, точностью метода и убедительностью
исторических выводов отличается работа В. Н. Топорова
и О. Н. Трубачева «Лингвистический анализ гидронимов
Верхнего Поднепровья». Ценна статья А. П. Дульзона
«Вопросы этимологического анализа русских топонимов
субстратного происхождения».
Топонимические изыскания уже позволили прояснить
и уточнить многие важные вопросы исторической
этногеографии нашей страны. Определилась в общих чертах
южная граница прошлого распространения балтов и
финнов, северная граница распространения скифов и
сарматов, прошлое расселение некоторых сибирских народов:
селькупов, кетов (А. П. Дульзон) и т. д. Разумеется,
впереди еще много работы. Некоторые области нашей
страны пока не затронуты серьезным топонимическим
обследованием; да и в лучше изученных районах остается
немало белых пятен13.
Мы очертили круг проблем, серьезная разработка
которых немыслима без того, чтобы языковед становился в то
же время историком, а историк — языковедом. Это —
вопросы глоттогенеза, этногенеза, субстрата, ареальной
лингвистики, лингвистической географии и диалектологии,
исторической лексикологии и этимологии, топонимики,
этнонимики и ономастики. Ни одна из этих областей
не выпала из поля зрения советских языковедов, хотя
разрабатывались они с разной степенью широты,
глубины и интенсивности.
Нам остается теперь отметить некоторые работы,
касающиеся отдельных языков и языковых групп в аспекте
«язык и история».
Индоевропейские языки.
Общеиндоевропейская проблематика представлена в советском
языкознании сравнительно слабо и главным образом в последние
десятилетия. Главнейшие относящиеся сюда вопросы:
историческая сущность индоевропейской языковой общности;
диалектное членение индоевропейской речи в связи с
субстратными и ареальными взаимодействиями; распад
индоевропейской общности, его хронология, последовательность
и динамика; соотношение археологических культур и язы-
205
ковых групп. Этот круг вопросов освещался в ряде
работ (Толстов, 1946й; Десницкая, 1955; Горнунг, 1964;
Макаев, 1964, «Проблемы индоевропейского языкознания»,
1964; «Проблемы сравнительной грамматики... », 1(N4;
«Проблемы лингво- и этнографии...», 1964; ряд статей
Вяч. Вс. Иванова и др.).
В Советском Союзе в 1958 г. вышла также весьма
ценная и содержательная, богатая оригинальными идеями
книга известного болгарского языковеда В. Георгиева
«Исследования по сравнительно-историческому
языкознанию. (Родственные отношения индоевропейских языков)».
Славянские языки. Особый интерес привлекали,
естественно, вопросы, связанные со славянским миром.
Безвременно скончавшийся в 1920 г. А. А. Шахматов не
успел завершить свои работы по генезису славянства
вообще и восточного славянства в особенности. Но его идеи
не заглохли с его смертью. Шахматовская проблематика
продолжала владеть умами советских славистов и
русистов.
В поле зрения стояли следующие основные вопросы.
Балто-славянская общность, ее содержание в
языковом и этногенетическом аспекте.
Прародина славянства.
Историческое и культурное содержание славянской
общности.
Этногенез славян.
Распад славянской общности.
Формирование восточной, западной и южной ветви
славянства.
Исторические условия сложения и развития отдельных
восточнославянских языков: русского, украинского и
белорусского.
Балто-славянскими отношениями занимались С. Б. Берн-
штейн A958), В.Георгиев15, Б. В. Горнунг A958),
В. П. Мажюлис (доклад на IV Международном съезде
славистов в 1958 г.), Вяч. Вс. Иванов и В. Н: Топоров
A958) и др. Этот вопрос стоял также в анкете, которую
проводил журнал «Вопросы языкознания» в порядке
подготовки к IV съезду славистов (см.: «Сборник ответов...»,
1958).
Оживленно дискутировались, хотя и не получили
однозначного ответа, вопросы о прародине славянства, об
этническом и культурном содержании славянской
общности, о хронологии и исторических условиях обособления
206
славянских языков (Селищев, 1941; Якубинский, 1947,
1953; СБ. Бериштейн, 1961; Горнунг, 1963).
Наиболее обстоятельно и глубоко освещен весь круг
относящихся сюда вопросов в книге Ф. П. Филина
«Образование языка восточных славян».
Много ценного по проблеме «язык и история» в
применении к славянству содержится в материалах IV съезда
славистов (сентябрь 1958 г., Москва) и V съезда
славистов (сентябрь, 1963 г., София).
Исторические связи славянства с другими языковыми
и этническими группами затрагивались в названных выше
работах.
Из специальных исследований в этой области
отметим книгу В. В. Мартынова «Славяно-германское
лексическое взаимодействие древнейшей поры»; статьи А. А.
Зализняка A962, 1963), Вяч. Вс. Иванова A957), В. Геор-
гиева16.
Топонимический аспект истории славянства
освещается в работе В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева о
гидронимах Верхнего Поднепровья (см. выше). Следует
упомянуть также старую статью А. М. Селищева «Из старой
и новой топонимии» и диссертацию Н. В. Подольской
«Топонимика Новгородской земли по данным новгородских
письменных памятников XI—XV вв.» A956).
Германские языки. Широкий исторический фон
при освещении языковых фактов характерен для работ
В. М. Жирмунского: «Немецкая диалектология», «О
племенных диалектах древних германцев», «Введение в
сравнительно-историческое изучение германских языков». В
основном на германском материале построена книга
В. М. Жирмунского «Национальный язык и социальные
диалекты», где имеются такие разделы, как «Языковые
отношения эпохи феодализма», «Образование
национальных языков». Ему же принадлежит глава «Племенные
диалекты древних германцев» в коллективном труде
«Сравнительная грамматика германских языков». Весь первый
том этого многотомного коллективного труда, имеющий
подзаголовок «Германские языки и вопросы
индоевропейской ареальной лингвистики», носит характер
исторического введения в сравнительную грамматику германских
языков. Н. С. Чемоданову принадлежит глава «Место
германских языков среди других индоевропейских языков»;
3. А. Макаеву — глава «Понятие общегерманского языка
и его периодизация».
207
Из работ, посвященных отдельным группам
германских языков, особый интерес в аспекте «язык и история»
представляют книги М. И. Стеблина-Каменского A953),
M. M. Гухман A955, 1959) и H. H. Амосовой A956).
Романские языки. Исторические условия
образования и развития романских языков освещены в
книге М. В. Сергиевского «Введение в романское
языкознание». Отдельным романским языкам посвящены работы
И. М. Тройского A953); В. Ф. Шишмарева A941, 1952);
М. В. Сергиевского A938); Н. А. Катагощиной A956);
М. С. Гурычевой A960); Т.Б.Алисовой A960).
Армянский язык. Здесь следует в первую
очередь выделить работы Н. Я. Марра и Г. Капанцяна. Эти
авторы создали и обосновали концепцию армянского
языка, в которой глоттогенетический процесс неразрывно
связан с этногенетическим. Согласно этой концепции
индоевропейский армянский язык формировался на мощном
субстрате кавказских и «азианических» (хурритский,
урартский, протохаттский) языков.
Из работ Н. Я. Марра относится сюда, во-первых,
предисловие к «Грамматике древнеармянского языка»,
вышедшее в Петербурге еще до революции A903), а
затем серия статей «Яфетические элементы в языках
Армении», выходившая в период с 1911 по 1920 гг. в
Известиях Академии наук.
Из трудов Г. Капанцяна в данном аспекте
представляют особый интерес: «К происхождению армянского
языка», «Хайаса — колыбель армян», «Chetto-armeniaca»,
«Хурритские слова армянского языка», «О взаимоотношении
армянского и лазо-мегрельского языков». Все они
опубликованы в Ереване. Историко-лингвистические работы Г.
Капанцяна вышли в 1956 г. в Ереване особым сборником.
Иранские языки. Работы И. М. Оранского
«Введение в иранскую филологию» и «Иранские языки»
должны быть названы в первую очередь. В них автор
стремится освещать историю иранских языков в тесной связи
с историей ираноязычных племен и народов.
Говоря об отдельных иранских языках, нельзя не
отметить ценные исторические комментарии в изданиях
согдийских и парфянских памятников, выполненных
советскими специалистами (Лившиц, 1962; Боголюбов,
Смирнова, 1963; И. М. Дьяконов, Лившиц, 1960).
Языковой материал привлекается в исторических
работах1'.
208
Скифо-осетинские историко-лингвистические
проблемы затрагиваются в работах В. И. Абаева «Осетинский
язык и фольклор», «Историко-этимологический словарь
осетинского языка», «Скифо-европейские изоглоссы».
Много ценных историко-лингвистических наблюдений в
книге Г. С. Ахвледиани «Сборник избранных работ по
осетинскому языку».
Перебирая советскую литературу по другим
индоевропейским языкам, мы не слишком часто встречаемся с
темой «язык и история». Вот некоторые более памятные
из таких встреч.
По греческому языку: работы С. Я. Лурье A957),
П. В. Ернштедта A953), М. С. Альтмана A936).
По хеттскому языку: статьи Вяч. Вс. Иванова (в
частности, Иванов, 1957г) и А. В. Десницкой A952).
По диалектам тохарского языка: вступительная статья
Вяч. Вс. Иванова к сборнику «Тохарские языки» A959).
По албанскому языку: статьи А. В. Десницкой A958,
1960).
Финно-угорские языки. Мы уже упоминали
об оригинальных и интересных идеях замечательного
советского финно-угроведа Д. В. Бубриха, касающихся
образования финно-угорской семьи языков, прежде всего его
доклад «Историческое существо финно-угорской системы
языков». Вопросы прошлого расселения финно-угорских
племен, их исторических судеб и передвижений
занимали ряд советских ученых. Ценнейший материал для
решения этих вопросов дает топонимика. Этот материал
привлекался и получал историческое освещение в ряде
статей Б. А. Серебренникова A955 и др.), А. И. Попова
A948,_4) и др.
Языковые взаимодействия между финно-угорскими
и соседними племенами в прошлом являются предметом
исследования А. И. Попова. Он исходит из того
положения, что «факты языкового взаимодействия необходимо
рассматривать с учетом исторических взаимосвязей
между народами»18. Историческое мышление в высокой
степени свойственно специалисту по пермским языкам
В. И. Лыткину A951, 1952 и др.) и специалисту по
прибалтийско-финским языкам П. А. Аристэ A947, 1954,
1956 и др.).
Тюркские языки. Сочетание исторических
интересов с филологическими было присуще старейшему
советскому тюркологу В. А. Гордлевскому. В посвященном его
209
75-летию сборнике («Академику В. А. Гордлевскому...»,
1953) Н. А. Баскаков характеризует его как «филолога-
историка». Да и другие наши виднейшие тюркологи:
А. Н. Самойлович, С. Е. Малов,"Н. К. Дмитриев, Н. И. Аш-
марин, Н. А. Баскаков, А. К. Боровков, А, Н. Кононов,
Э. В. Севортян, Е. И. Убрятова, А. М, Щербак и др. не
отделяют истории языка от истории народа. Не имея
возможности останавливаться на всех относящихся сюда
исследованиях советских тюркологов, укажу только сводный труд
Н. А. Баскакова «Тюркские языки», где во второй части
(«Развитие и формирование тюркских языков») «даны
периодизация истории образования- отдельных групп языков
внутри тюркской семьи и описание процесса
формирования языка каждой тюркской народности и нации
в связи с реальной их историей»10.
Монгольские языки. Черты лингвиста и
историка счастливо совмещались в лице рано умершего
выдающегося советского монголиста Б. Я. Владимирцова. В
своих лингвистических работах он всегда опирался на
данные истории, а в исторических — на данные языка.
Назову, с одной стороны, «Введение» к его
«Сравнительной грамматике монгольского письменного языка и хал-
хасского наречия», где дается широкий исторический фон
развития монгольских наречий, с другой — такой
исторический труд, как «Общественный строй монголов», где
широко привлекаются языковые и фольклорные материалы.
Много поучительного и для языковеда, и для
историка в книге С. А. Козина «Сокровенное сказание.
Монгольская хроника 1240 года...» A941).
Кавказские языки. Первое имя, которое здесь
должно быть названо, конечно, Н. Я. Марр. Его
мышление было насквозь историческим. В филологических, как
и лингвистических, работах первого (кавказоведческого)
периода своей деятельности он неизменно опирается на
солидный фундамент исторических знаний. Известна его
концепция «двух» грузинских языков. Говоря о
значительном различии в строе древнелитературного
грузинского языка, с одной стороны, и народных говороЕ, с
другой, К. Я. Марр стремился обосновать
социально-историческую подоплеку этих типологических различий.
Интерес к истории Н. Я. Марр настойчиво прививал своим
ученикам. Из его школы вышел известный грузинский
ученый И. А. Джавахишвили, в котором также органически
сочетались качества историка и языковеда. В своей «Исто-
210
рии грузинского народа», «Истории грузинского права»,
«Экономической истории Грузии» и в других трудах
(опубликованы на грузинском языке) И. А. Джавахишви-
ли привлекает обильный языковой материал,
проливающий свет на многие стороны исторической жизни
грузинского народа.
В Тбилиси уже много лет работает сильный
коллектив ученых-кавказоведов, возглавляемых таким
убежденным приверженцем историзма, как А. С. Чикобава. Это —
К. В. Ломтатидзе, Г. В. Рогава, В. Н. Панчвидзе и др.
В своих исследованиях они неизменно стремятся
связывать судьбы языка с судьбами их носителей.
Тема «язык и история» получила то или иное
воплощение в некоторых работах по отдельным
кавказским языкам (Климов, 1959 ; Дешериев, 1953, 1963;
Мальсагов, 1941).
Абхазия имела замечательного культурного деятеля
и поэта Д. И. Гулия, который был одновременно
языковедом, историком, этнографом и фольклористом.
Широтой интересов отличается и ныне здравствующий
абхазский ученый Ш. Д. Инал-Ипа. Будучи по основному
профилю этнографом и историком, он является также
отличным знатоком языка и фольклора. Его монография
«Абхазы» A960), как и другие его работы, наряду
с историческим и этнографическим, содержат большой
и ценный языковой и фольклорный материал.
Привлекать язык как исторический источник — для него
естественный и привычный исследовательский прием.
В отдельном родстве с кавказскими стоят,
по-видимому, так называемые азианические языки, прежде
всего, урартский и хурритский. Здесь всякий прогресс в
освещении исторических событий и процессов связан с
интерпретацией письменных памятников, а интерпретация
памятников предполагает их лингвистический анализ.
Поэтому историк и археолог по необходимости
становятся в этой работе также языковедами, а языковеды —
историками и археологами. Такими «совместителями»
являются выдающиеся советские ученые И. М. Дьяконов
и Г. А. Меликишвили. Прекрасный знаток ряда
древневосточных языков И. М. Дьяконов посвятил несколько
исследований также урартскому и хурритскому A951,
1954, 1961 и др.).
Из работ Г. А. Меликишвили отметим
«Древневосточные материалы по истории народов Закавказья».
211
Урартским и хурритским занимался также Г. Капан-
цян, об историко-лингвистических работах которого по
армянскому языку мы уже упоминали выше. Здесь
следует отметить еще «Историко-лингвистическое значение
топонимики древней Армении» и «Общие элементы
между урартским и хеттским языками».
На этом мы заканчиваем наш беглый обзор
некоторых достижений советского языкознания по тематике
«язык и история». Сделано немало. Но впереди еще
необъятное поле работы. Познавательные возможности,
которые таит в себе изучение истории и развития
языков в связи с историей их носителей — народов,
поистине неисчерпаемы. Советские языковеды впишут еще
немало увлекательных страниц в разработку проблемы
«язык и история». Вопросы '-этногенеза и глоттогенеза,
проблема культурного развития и культурных влияний
и сношений между народами от древнейших времен до
наших дней, формирование и развитие национальных
языков, перспективы дальнейшего развития языков в связи
с новыми историческими процессами — вот некоторые
из тех больших задач, над решением которых
работают и будут с успехом работать советские языковеды.
Примечания
1 Grimm J. Kleinere Schriften, Bd. 1. Berlin, 1881, c. 290.
2 Grimm J. Geschichte der deutschen Sprache. Leipzig, 1880, c. 4.
3 Pietet A. Les origines indoeuropeennes. Paris, 1859; 2 изд. 1877.
4 Schrader O. Sprachvergleichung und Urgeschichte. Jena, 1883,
2 изд. 1890; 3 изд. 1906 (эта работа О. Шрадера была в 1886 г.
переведена на русский язык Н. Г. Чернышевским); Он же. Die Indoger-
manen. Leipzig, 1911; 2 изд. 1916; 3 изд. 1919; Он же. Reallexikon
der indogermanischen Altertumskunde. «Grundzuge einer Kultur- und Vol-
kergeschichte Alteuropas». 1 изд. 1901; 2-е посмертное издание
(подготовлено A. Nehring'oM) т. I, II,, Berlin-Leipzig, 1917— 1929.
5 «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1946, т. V, вып. 2, с. 77, 78.
6 Филин Ф. П. Проблемы славянского этногенеза в трудах
А. А. Шахматова. «ИАН, ОЛ и Я», 1964, т. XXIII, вып. 2, с. 194—195.
7 Например: Л. С. Выготский. Мышление и речь. М.— Л., 1934;
А. Н. Леонтьев. Очерк развития психики.— В кн.: «Проблемы развития
психики». М., 1959 и др. См. также: «Мышление и язык». Под ред.
Д. П. Горского. М., 1957.
8 Примером такого крена может служить в общем ценная работа
212
Е. И. Крупнова «Древняя история Северного Кавказа» (М., 1960), где
этногенез народов Северного Кавказа несколько односторонне
решается на основе археологических данных при недостаточном учете
данных языка.
9 Примером образцового «равновесия» и кооперации между
специалистами разных областей при обсуждении этногенетической проблемы
может служить научная сессия по этногенезу балкарцев и
карачаевцев, состоявшаяся в Нальчике 22—26 июня 1959 г. См. «Материалы
научной сессии по проблеме происхождения балкарского и
карачаевского народов», Нальчик, 1960.
10 Материалы дискуссии. См.: ДСИЯ, 1956, вып. IX.
11 Мы имеем в виду ряд докладов Д. В. Бубриха на эту тему, лишь
частично опубликованных в печати: «Происхождение мышления и
речи (тезисы). Л., 1944; «К вопросу о сложении систем языков»
(тезисы на научной сессии ЛНИЯ, 1946); «Историческое существо
финно-угорской системы языков» (тезисы). Петрозаводск, 1948.
12 Труды первого совещания опубликованы в Киеве под редакцией
К. К. Целуйко в 1962 г. под заглавием «Питания топошмжи та
ономастики».
13 С основной литературой по топонимике знакомит брошюра
«Топонимический минимум», изданная топонимической комиссией
Московского филиала Географического общества СССР в 1964 г. См. также:
Библиография библиографий по языкознанию. Под ред. Е. С. Кубряко-
вой. М., 1963, № 491—502.
14 Развиваемая С. П. Толстовым идея «лингвистической
непрерывности» представляет новую формулировку теории волн И. Шмидта и
теории контактного развития Д. В. Бубриха (см. выше).
15 Георгиев В. Балто-славянский, германский и индо-иранский.
«Славянская филология», 1. М., 1958.
16 Георгиев В. Балто-славянский и тохарские языки. ВЯ, 1958,
№ 6.
17 Дьяконов И. М. История Мидии. М.— Л., 1956; Алиев И. Г.
История Мидии. Баку, 1960; Дьяконов M. M. История древнего
Ирана. М.—Л., 1960; Дандамаев М. А. Иран при первых Ахеме-
нидах. М., 1963; Гафуров Б. Г. История таджикского народа, т. I.
Изд. 3. М., 1955; Он же. История таджикского народа. М., 1963
(особенно глава «О языках Средней Азии в конце бронзового века»).
18 Попов, 1957, с. 109.
19 Баскаков, 1960, с. 4.
Библиография
А бае в В. И., 1949.— Осетинский язык и фольклор, т. I, М.— Л.
А бае в В. И., 1958.— Историко-этимологический словарь
осетинского языка, т. I. М.— Л.
213
Абаев В. И., 1965.— Скифо-европейские изоглоссы. М.
Академику В. А. Гордлевскому к его 75-летию, 1953. М.
Алисова Т: Б., 1960.— Особенности становления норм
итальянского письменно-литературного языка в XVI в. «Труды Ин-та
языкознания АН СССР», т. 10.
Альтман М. С, 1936.— Пережитки родового строя в
собственных именах у Гомера. Л.
Амосова Н. Н., 1956.— Этимологические основы словарного
состава современного английского языка. М.
А р и с т э П. А., 1947.— Происхождение зодского языка.
«Филологические доклады на конференции по вопросам финно-угорской
филологии в Ленинграде». Тарту.
Аристэ П. А., 1954.— К вопросу о развитии ливского языка.
«Труды Ин-та языкознания АН СССР», т. I.
Аристэ П. А., 1956.— Формирование прибалтийско-финских
языков в древнейший период их развития. «Вопросы этнической истории
эстонского народа». Таллинн.
Баскаков Н. А., 1960.— Тюркские языки. М.
Б е р н ш т е й н СБ., 1958.— Балто-славянская языковая сообщность.
«Славянская филология», I. М.
Б е р н ш т е й н СБ., 1961.— Очерк сравнительной грамматики
славянских языков. М. (Введение).
Боголюбов М. Н., Смирнова О. И., 1963.— Согдийские
документы с горы Муг, вып. III. Хозяйственные документы. М.
Бубрих Д. В., 1948.— Историческое существо финно-угорской
системы языков (тезисы). Петрозаводск.
Владимирцов Б. Я., 1929.— Сравнительная грамматика
монгольского письменного языка и халхасского наречия. Л.
Г о р н у н г Б. В., 1958.— К дискуссии о балто-славянском
этническом единстве.— ВЯ, № 4.
Горнунг Б. В., 1963.— Из предыстории образования
общеславянского языкового единства. М.
Горнунг Б. В., 1964.— К вопросу об образовании
индоевропейской языковой общности. (Протоиндоевропейские компоненты или
иноязычные субстраты?). М.
Гурычева М. С, 1960.— Начальный этап в образовании
французского национального языка. «Труды Ин-та языкознания АН СССР»,
т. 10.
Гухман М. М., 1955, 1959.— От языка немецкой народности
к немецкому национальному языку, ч. 1—2. М.
Десницкая А. В., 1952.— О хеттском языке.— В кн.: И.
Фридрих. Краткая грамматиха хеттского языка. М.
214
Десницкая А. В., 1959.— Вопросы изучения родства
индоевропейских языков. М.-Л.
Десницкая А. В., 1958.— Из истории албанского языка.— НДВШ.
Филол. науки, № 2.
Десницкая А. В., 1960.— Из истории образования албанского
национального языка. «Труды Ин-та языкознания АН СССР», т. 10.
Дешериев Ю. Д., 1953.— Бацбийский язык. М. (см. Введение).
Дешериев Ю. Д., 1963.— Сравнительно-историческая грамматика
нахских языков. Грозный. (Глава «Проблемы древней и современной
истории горских кавказских народов и их языков»).
Дульзон А. П., 1959.— Вопросы этимологического анализа
русских топонимов субстратного происхождения.— ВЯ, № 4.
Дьяконов И. М., 1951.— Ассиро-вавилонские источники по
истории Урарту.— ВДИ, № 2, 3, 4.
Дьяконов И. М., 1954.— О языках древней Передней Азии.—
ВЯ, № 5.
Дьяконов И. М., 1961.— Сравнительно-грамматический обзор
хурритского и урартского языков.— «Переднеазиатский сборник». М.
Дьяконов И. М., Лизшиц В. А., 1960.— Документы из Нисы
I в. до н. э. М.
Ернштедт П. В., 1953.— Египетские заимствования в греческом
языке. М.—Л.
Жирмунский В. М., 1963.— Национальный язык и социальные
диалекты. Л.
Жирмунский В. М., 1956.—Немецкая диалектология. М.
Жирмунский В. М., 1961.— О племенных диалектах древних
германцев. «Вопросы германского языкознания. Материалы второй
научной сессии по вопросам германского языкознания». М.
Жирмунский В. М., 1964.— Введение в
сравнительно-историческое изучение германских языков. М.— Л.
Зализняк А. А., 1962.— Проблемы славяно-иранских языковых
отношений древнейшего периода.— ВСЯ, вып. 6.
Зализняк А. А., 1963.— О характере языкового контакта между
славянскими и скифо-сарматскими племенами.— КСИС, № 38.
Иванов Вяч. Вс, 1957|.— О значении хеттского языка для
сравнительно-исторического исследования славянских языков.— ВСЯ, вып. 2.
Иванов Вяч. Вс, 1957о.— Происхождение и история хеттского
термина рапки- 'собрание'.—ВДИ, № 4.
Иванов Вяч. Вс, Топороз В. Н., 1958.— К постановке вопроса
о древнейших отношениях балтийских и славянских языков. М.
Капанцян Г., 1933.— Chetto-armeniaca. Ереван.
Капанцян Г., 1936.— Общие элементы между урартским и
хеттским языками. Ереван.
Капанцян Г., 1940.— Историко-лингвистическое значение
топонимики древней Армении. Ереван.
215
Капанцян Г., 1946.— К происхождению армянского языка.
Ереван.
Капанцян Г., 1947.—Хайаса — колыбель армян. Ереван.
Капанцян Г., 1951.— Хурритские слова армянского языка.
Ереван.
Капанцян Г., 1952.— О взаимоотношении армянского и лазо-
мегрельского языков. Ереван.
Катагощина Н. А., 1956.— Процессы формирования
французского письменно-литературного языка.— ВЯ, № 2.
Климов Г. А., 1959.— О глоттохронологическом методе
датировки распада праязыка.— ВЯ, № 2.
Леонтьев А. А., 1963.— Возникновение и первоначальное
развитие языка. М.
Лившиц В. А., 1962.— Согдийские документы с горы Муг, вып.
II. Юридические документы. М.
Лурье С. Я., 1957.— Язык и культура Микенской Греции. М.—Л.
Лыткин В. И., 1951.— О некоторых иранских заимствованиях
в пермских языках. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», т. X, вып. 4.
Лыткин В. И., 1952."^ Вопросы истории пермских языков.
«Тезисы научного совещания по вопросам удмуртского языка и
письменности». Ижевск.
M а к а е в Э. А., 1964.— Проблемы индоевропейской ареальной
лингвистики. М.— Л.
M а л ь с а г о в Д. Д., 1941.— Чечено-ингушская диалектология и
пути развития чечено-ингушского литературного (письменного) языка.
Грозный.
Мартынов В. В., 1963.— Славяно-германское лексическое
взаимодействие древнейшей поры. Минск.
Оранский И. М., 1960.— Введение в иранскую филологию. М.
Оранский И. М., 1963.— Иранские языки. М.
Попов А. И., 1948].— Топонимика новгородского Заволочья.
Петрозаводск.
П о п о в А. И., 1948г.— Топонимическое изучение Восточной
Европы. «Советское финно-угроведение», т.1. Л.
Попов А. И., 1948з.— Топонимика Белоозерского края. Там же.
Попов А. И., 19484.— К вопросу о мордовской топонимике.
«Филологические доклады на Конференции по вопросам финно-угорской
филологии в Ленинграде в 1947 г.» Саранск.
Попов А. И., 1957.— Из истории лексики языков Восточной
Европы. Л.
Проблемы индоевропейского языкознания, 1964. М.
Проблемы лингво- и этнографии и ареальной диалектологии. Тезисы
докладов, 1964. М.
Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков.
Научная сессия. Тезисы докладов, 1964. М.
216
Сборник ответов.., 1958.— Сборник ответов на вопросы, 1958. М.
Селищев А. М., 1939.— Из старой и новой топонимики. «Труды
МИИФЛИ», т. 5.
Селищев А. М., 1941.— Славянское языкознание. М.
Сергиевский М. В., 1952.— Введение в романское языкознание.
М. Изд. 2 — М., 1954.
Серебренников Б. А., 1955.— Волго-окская топонимика.— ВЯ,
№ 6.
Сравнительная грамматика германских языков, т. I. М., 1962.
Стеблин-Каменский М. И., 1953.— История скандинавских
языков. М.— Л.
Тол с то в СП., 1946.— Проблема происхождения индоевропейцев
и современная этнографическая лингвистика. «Кратк. сообщ. Ин-та
этнографии АН СССР», вып. 1.
Топоров В. Н., Трубачев О. Н., 1962.— Лингвистический
анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М.
Тройский И. М., 1953.— Очерки из истории латинского языка.
М.—Л.
Филин Ф. П., 1962.— Образование языка восточных славян. М.— Л.
Шишмарев В. Ф., 1941.— Очерки по истории языков Испании.
М.—Л.
Шишмарев В. Ф., 1952.— Романские языки Юго-Восточной
Европы и национальный язык Молдавской ССР.— ВЯ, № 1.
Якубинский Л. П., 1947.— Образование народностей и их
языков. «Вестник ЛГУ», № 1.
Якубинский Л. П., 1953.— История древнерусского языка. М.
Теоретические проблемы советского
языкознания. Af., 1968.
ИСТОРИЯ ЯЗЫКА
И ИСТОРИЯ НАРОДА
i
Проблема изучения связи языка с историей не нова.
Она, можно сказать, так же стара, как само языкознание.
Мысль, что слова могут сигнализировать о вещах
и отношениях далекого прошлого, должна была
осенить человека, как только он стал серьезно
задумываться над сущностью языка.
Особенно усилилось стремление связать язык с
историей и использовать язык как исторический источник
в XIX веке, когда оформилось и окрепло
сравнительно-историческое языкознание. И это вполне естественно.
Установление родства между многочисленными,
раскинутыми на обширных пространствах языками открыло
перспективу в далекое прошлое этих языков и народов,
не засвидетельствованное никакими письменными
памятниками. В рамках индоевропейского
сравнительно-исторического языкознания наметилось особое направление,
которое свою главнейшую задачу видело в
восстановлении по данным языка далекого прошлого
индоевропейских народов, их быта, их культуры.
Родоначальником этого направления следует считать
Я. Гримма. Известен его лапидарный тезис: «Наш язык
есть также наша история» . В своих работах «Немецкая
грамматика», «История немецкого языка» и других Гримм
не только широко использует языковые данные для
исторических и историко-культурных реконструкций и выводов,
но и пытается обосновать этот метод исследования.
«Существует,— говорит он,— более живое свидетельство о
народах, чем кости, оружие и могилы: это — их язык» 2.
В отличие от Боппа, который тяготел к естественно-
историческому пониманию языка как организма, и Шлей-
хера, который довел такое понимание до логического
предела, Гримм подходил к языку с культурн о-и сто-
рической точки зрения. Историю языка он пытался
связать с историей народа и его культуры 3.
Нельзя не отметить, что использование языковых
218
фактов для исторических целей получило полное
признание со стороны К. Маркса и Ф. Энгельса. Речь идет не
только о положительной оценке ими
сравнительно-исторического языкознания, которая хорошо известна. Не
ограничиваясь одобрением этого метода, они сами не раз
пользовались в своих работах данными сравнительно-
исторического языкознания для иллюстрации и
подкрепления своих исторических взглядов.
В конспекте книги Л. Г. Моргана «Древнее общество»
Маркс, между прочим, пишет: «Что открытие и
возделывание хлебных злаков у арийцев следовало за
приручением животных, доказывается существованием на
различных диалектах арийского языка общих названий для этих
животных и отсутствием общих названий для хлебных
злаков или возделываемых растений. Zeict (единственное
исключение) филологически соответствует санскритскому
yavas (но означает по-индусски ячмень, по-гречески
полбу)» 4. Здесь перед нами великолепный образец
использования данных сравнительного языкознания для
исторических выводов.
Энгельс в своем труде «Происхождение семьи, частной
собственности и государства» неоднократно прибегает для
исторических целей к сравнительному разбору важных
социальных терминов, как, например, немецкого Konig,
латинского гех, немецкого Furst и др.
Подобные историко-лингвистические экскурсы
встречаются и в других работах классиков марксизма. Работа
Энгельса о франкском диалекте представляет образец
исторической интерпретации целого комплекса языковых
фактов.
Для Гримма предметом реконструкции было
преимущественно прошлое германского языка и народа.
У позднейших представителей лингвистической
палеонтологии главные усилия сосредоточились на восстановлении
по данным языка культуры индоевропейского «пранарода».
Это направление в сущности исчерпало себя в трудах
О. Шрадера, не придя по ряду узловых вопросов ни к
каким положительным результатам.
Другая линия изучения связи языка и культуры, в
конечном счете восходящая тоже к Я. Гримму и В.
Гумбольдту, понимающая язык и культуру как выражение
«духа», нашла свое завершение в школе К. Фосслера6.
Объявив «дух» первопричиной всех языковых выражений,
приравняв последние к произведениям поэзии и искусства,
219
а языковедение — к эстетике, Фосслер успешно
осуществил неосознанную мечту всякого последовательного
идеалиста: поставил вещи с ног на голову.
Наконец, еще одна линия изучения связи языка и
культуры, прослеживающая параллельно историю слов и
вещей («Worter und Sachen») и идущая, главным
образом, от Г. Шухардта, растворилась в интересных иногда,
но чаще крохоборческих археолого-этнографо-лингви-
стических изысканиях.
В России взгляд на язык как на ценный источник
для познания истории народа утвердился с давних пор.
Так, поэт П. А. Вяземский, современник и друг Пушкина,
писал:
Язык есть исповедь народа,
В нем слышится его природа,
Его душа и быт родной.
Один из основоположников русского языкознания
Ф. И. Буслаев широко пользовался языковыми и
фольклорными материалами для освещения древнейшей
культуры русского народа 7.
Живой интерес к истории народа неизменно
присутствует также в трудах таких выдающихся
представителей русского языкознания, как И. И. Срезневский,
А. И. Соболевский и др.
Блестящее развитие получило историческое направление
в трудах академика А. А. Шахматова: «К вопросу об
образовании русских наречий и русских народностей»
A899); «Очерк древнейшего периода истории русского
языка» A915); «Древнейшие судьбы русского племени»
A919) и др. Во всей научной деятельности
Шахматова интерес к русскому языку неотделимо и органически
сочетался с интересом к истории русского народа.
«Шахматов,— пишет С. П. Обнорский,— на всем протяжении
своей деятельности был историком русского языка,
будучи всегда по общим своим устремлениям историком
народа... И как лингвист, и как литературовед А. А.
Шахматов всегда вместе с тем был историком в широком
смысле, историком русской культуры, историком
русского народа» 8. Такую же оценку научной деятельности
Шахматова дает Д. С. Лихачев: «В изучении истории
русского языка Шахматов с годами все более и более
становился историком русского народа» 9.
Из советских ученых широкое привлечение языковых
220
материалов в исторических исследованиях характерно
для покойного грузинского историка И. А. Джавахишвили.
Его известные труды: «История грузинского права» (I-II,
1928); «Экономическая история Грузии» (ч. 1, 1930, ч.П,
1935) и другие содержат обильный языковой материал,
проливающий свет на многие стороны исторической жизни
грузинского народа.
Наряду с тенденцией изучать язык в общей связи с
историей и культурой народов и, таким образом,
перекинуть мост от языкознания к другим гуманитарным
наукам, в лингвистике наблюдается все время и
противоположная тенденция — рассматривать язык как замкнутый
самодовлеющий мир, живущий собственными
имманентными закономерностями. Эта тенденция сказалась и в
натурализме Шлейхера, и в «не знающих исключения
звуковых законах» младограмматиков. Наиболее яркое
выражение она получила в псевдосоциологической школе
де Соссюра и в ее новейшем отпрыске, так называемом
структурализме. Девиз этого направления известен:
язык не надо связывать ни с чем, находящимся вне языка;
язык надо изучать «в себе и для себя».
Советское языкознание, верное лучшим традициям
русской науки, всегда тяготело к историзму. Но это
здоровое начало приняло уродливые, искаженные,
антинаучные формы в работах Н. Я. Марра с его
вульгаризаторскими попытками объяснить строй языка в целом как
надстройку над базисом, с его псевдомарксистским
учением о классовости языка, с его пресловутыми
«четырьмя элементами». «Элементный» анализ сводил на нет
историческое и национальное своеобразие каждого
отдельного языка, не считался с его сложным
фонетическим и морфологическим развитием, вычеркивал
конкретную историю языков, уничтожал историческую
перспективу. В результате палеонтология речи, которая по самой
своей сущности должна быть синонимом историзма,
обращалась у Марра в свою собственную
противоположность: в полный антиисторизм.
Ошибки Марра дезорганизовали советских языковедов.
Четырехэлементный анализ оказался такой устрашающей
пародией на историзм, что кое-кто склонен был
отшатнуться от всякого историзма и последовать за соссюров-
скими идеями об изучении «языка в себе и для себя»,
вне связи с историей народа. В языкознании создалась
угроза полного идейного разброда.
221
Связь истории языка с историей народа имеет,
естественно, два аспекта. Можно идти от истории языка к
истории народа, привлекать языковые данные для
освещения исторического прошлого народа. Это один путь.
И можно, наоборот, идти от истории народа к истории
языка, используя данные национальной истории для
объяснения тех или иных фактов, процессов и изменений в
языке. Это второй путь. Какой из них будет избран в
каждом отдельном случае, это зависит как от характера
поставленной задачи, так и от состояния материалов по
истории языка и по истории народа. Как правило, для
древнейших периодов, когда язык оказывается
единственным или важнейшим историческим источником, более
.плодотворен первый путь. Для позднейших периодов —
оба пути возможны и равноправны.
Я остановлюсь главным образом на первом аспекте:
от истории языка — к истории народа.
Исключительная широта сферы действия языка
открывает перед языковедом возможность через язык
проложить путь к познанию всех сторон деятельности
человека, всех произведений его труда, его культуры. Быть
языковедом-историком — это значит ни на минуту не
терять ощущения тех живых связей, которые ведут от языка
ко всем проявлениям общественного бытия и
общественного сознания. Драгоценное свойство языка как раз и
заключается в том, что от него ведут живые нити к
бытию, к. вещам, к производству, к сознанию, к
мышлению. Знать это чудесное свойство языка и те
познавательные возможности, которые оно открывает, и
игнорировать их, отказываться от них, требовать замкнутого
изучения языка «в себе и для себя» — это все равно,
что отказываться летать, имея крылья.
Изучение языка в связи с историей взрывает
искусственную замкнутость языковедческой науки и выводит эту
науку на широкий оперативный простор, связывая ее с
историей народов и их культуры. Тем самым
языкознание привлекается к высокой задаче: к решению узловых
проблем становления и развития народа, становления и
развития его культуры.
Основная реальность, с которой имеет дело
языковед-историк — это народ. От него он исходит и к нему
возвращается.
Изучая язык как источник для познания истории на-
222
рода, мы можем, при благоприятных условиях, получить
ответ на следующие три основные вопроса:
1) с какими другими этническими группами связан
по своему происхождению данный народ?
2) какова была культура этого народа на различных
этапах истории в количественном и качественном
отношении, т. е. как с точки зрения объема или уровня этой
культуры, так и с точки зрения ее характера и
преобладающего направления?
3) с какими другими языками и народами имел
исторические связи данный народ, какие культурные
влияния испытал с их стороны и какое влияние оказал на
них сам?
Рассмотрим, во-первых, условия или
предпосылки успешной разработки этих вопросов, во-вторых,—
методы исследования.
II
Мы подчеркнули, что язык может ответить на
вопросы истории народа лишь при благоприятных условиях.
Что же это за условия?
Важнейшим таким условием является степень
изученности самого языка в историческом и
сравнительно-историческом плане. Чтобы служить
надежным историческим источником, язык сам должен
быть хорошо изучен исторически: от истории
языка к языку истории — таков естественный путь
языковеда-историка, такова логика его исследовательской
работы. Язык, который не имеет более или менее
разработанной истории, представляет как исторический
источник лишь ограниченную ценность.
Не трудно убедиться, что это именно так. Возьмем
вопрос ,о происхождении народа и его родственных
связях с другими народами. Можно ли решать этот вопрос
независимо от происхождения языка этого7 народа и его'
отношения к другим языкам? Конечно, нет. Народ — не
биологическая, а культурно-историческая категория. Ясно,
что происхождение народа надо понимать не в смысле
биологического размножения от одной человеческой
пары, а в смысле исторически
складывающегося единства и преемственности. А если
так, то происхождение народа не только можно, но
необходимо связать с происхождением языка. Этногенез
неотделим от глоттогенеза. Решать этногенетические во-
223
просы без учета языка все равно, что искать дорогу в
лесу с закрытыми глазами.
Конечно, хорошо, когда данные языка удается
пополнить и подкрепить антропологическими,
археологическими, этнографическими и историческими данными. Но они
имеют вспомогательное значение. Ведущим и решающим
остается язык. В сознании людей этническая
принадлежность всегда связывалась с языком. Никто не слышал,
чтобы представители какого-либо народа говорили так:
«Мы являемся таким-то народом потому, что у нас
такой-то черепной указатель» или «потому, что мы
пользуемся горшками такой-то формы». Зато ссылку на язык
как на решающий признак этнической и национальной
принадлежности вы услышите всегда. И это вполне
закономерно. На всех этапах развития язык остается
важнейшим признаком этнического единства и
преемственности |0.
Но происхождение языка, его исторические связи с
другими языками устанавливаются на основе данных
сравнительно-исторического языкознания. Если язык не
разработан в сравнительно-историческом плане, если он не
нашел себе места в генеалогической классификации
языков, то такой язык мало что может сказать о
происхождении народа и его родственных связях с другими
народами. Привлечение языка при разработке этногенеза
и истории отдельного народа или группы родственных
народов должно неизменно опираться на данные
сравнительно-исторического языкознания и генеалогической
классификации языков. Вне этих рамок всякие
предположения и выводы рискуют оказаться висящими в
воздухе.
Превосходной иллюстрацией к сказанному может
быть история изучения осетинского языка и те
результаты, которые это изучение принесло для освещения
далекого прошлого осетинского народа. Небольшой народ,
населяющий центральную часть Кавказского хребта, не
имел до недавнего времени своей письменности. Не имел
он никаких письменных памятников, которые проливали
бы свет на его прошлое. Происхождение и древнейшие
судьбы осетин были покрыты непроницаемым мраком,
пока не был изучен их язык. После этого положение
радикально изменилось. Оказалось, что осетинский язык
относится к иранской группе индоевропейской семьи языков.
Установление этого факта повлекло ряд важнейших вы-
224
водов, касающихся в равной мере истории языка и
истории народа. Выяснилось, что этот язык связан
преемственно с языком скифов и сарматов, населявших в
древности юг России. В настоящее время прошлое
осетинского языка, вскрываемое при помощи
сравнительно-исторического анализа, поддается обозрению на протяжении
более 2000 лет. Мы видим, как в течение этого
огромного периода язык жил, развивался, изменялся и как
в жизни языка отражалась жизнь народа. На основании
преимущественно языковых данных было выяснено
происхождение осетин, их древнейшие судьбы, существенные
черты их культуры и быта, их встречи и сношения с
другими народами.
Успехи, достигнутые здесь осетиноведением, поистине
огромны и могут служить превосходным примером того,
что способна дать история языка для истории народа.
Все, что мы знаем в настоящее время по этим вопросам,
основано на девять десятых на данных языка.
Осетинский народ может с полным правом применить к себе
тезис Я. Гримма: «Наш язык есть также наша история».
III
I
Второй важнейшей предпосылкой для успешной
разработки истории языка в связи с историей народа является
степень изученности данного языка в
диалектологическом плане. Диалектологическое изучение не
противопоставляется историческому; оно представляет
лишь один из его аспектов. Давно признано, что
диалектология имеет первостепенное значение для познания
истории языка. Диалектология и есть, собственно говоря,
история языка, переложенная на географическую карту.
Нет диалектальных различий, которые не имели бы
исторической значимости.
Но диалектология связана не только с историей я з ы-
к а. Она имеет также самое прямое отношение к истории
народа. Это становится очевидным, если мы примем
во внимание, что диалекты исторически связаны с теми
племенными языками, из которых формировался
язык народа. Взятые в историческом разрезе вопросы
диалектологии смыкаются, таким образом,
непосредственно с вопросами этногенеза. В диалектах «просвечивает»
старая племенная раздробленность, постепенно
изживавшаяся на путях национальной консолидации. С этой
стороны познавательная ценность диалектологических изы-
8 В. И. Абаев
225
еканий исключительно велика как для истории языка,
так и истории народа. Бывают случаи, когда диалектальные
факты, надлежащим образом систематизированные и
интерпретированные, ведут к важнейшим заключениям
исторического порядка.
В виде иллюстрации я позволю себе и на этот раз
сослаться на пример осетинского языка. В этом языке
имеется два основных диалекта: восточный (иронский)
и западный (дигорский). Изучение этих двух диалектов
показало, что дигорский по ряду фонетических и
морфологических признаков представляет не что иное, как
предшествующую ступень развития иронского диалекта.
Иными словами, по ряду признаков эти два диалекта
представляют как бы две исторические ступени развития
одного языка. Таким образом, сопоставление двух
диалектов само по себе, без каких-либо вспомогательных
данных проливает свет на последовательные этапы
истории языка.
Но этого мало. Встал вопрос о причинах расхождений
между диалектами, о причинах относительной
архаичности дигорского диалекта по сравнению с иронским. И
тут диалектология вплотную подвела нас^к истории
народа. Выяснилось, что различие двух диалектов
отражает старое племенное деление осетинского народа на две
ветви — иронскую и дигорскую. Выяснилось, что дигор-
ское племя раньше иронского попало в условия
замкнутости и изоляции в горных ущельях. И так как эти
условия способствуют «консервации» языковых признаков,
то отсюда и «архаизм» дигорского диалекта. Напротив,
иронское племя, которое значительный период продолжало
находиться в интенсивных межплеменных сношениях в
условиях открытой равнины, успело в своем языке
проделать дальнейшую эволюцию, перейти на новую ступень
языкового развития. Так, взаимодействуя и помогая друг
другу, данные диалектологии и исторические сведения об
осетинском народе позволили создать обоснованную
концепцию, в которой история языка неразрывно связана с
историей народа.
Попутно осетинская диалектология дала иллюстрацию
к важному общелингвистическому тезису:
интенсивность межплеменных сношений
ускоряет темпы эволюции языка.
226
IV
Мы установили две главнейшие предпосылки
успешной разработки проблемы «История языка —
история народа»: а) язык должен быть хорошо изучен в
плане историческом и
сравнительно-историческом; б) язык должен быть хорошо изучен в
плане диалектологическом.
Вернемся теперь к основным задачам
исследований этого рода. Таких задач наметилось три.
1) Выяснение происхождения и формирования народа
и его родственных связей с другими народами, иными
словами, проблема этногенетическая.
2) Освещение по материалам языка существенных
черт быта и культуры народа в прошлом, иными
словами, проблема культурно-историческая.
3) Выяснение того, как отразились в языке
взаимоотношения данного народа с другими народами, иными
словами, проблема межплеменных и межнациональных
сношений и влияний.
Работа по каждой из этих тем требует особого
подхода, особой методологии, и поэтому необходимо, хотя
бы вкратце, остановиться на каждой из них в отдельности.
Прежде всего важно подчеркнуть следующее различие.
При решении первой задачи (этногенетической) надо
исходить из языка в целом, т. е. брать в. поле зрения и
словарный состав, и грамматический
строй. Заключать о родстве между языками и между
их носителями — народами — на основании случайного
сходства отдельных слов или форм совершенно
недопустимо. Это родство определяется целой системой строго
закономерных соответствий, охватывающих весь строй
сравниваемых языков: фонетику, морфологию, синтаксис,
лексику, семантику. Сопоставление разноязычных
фактов производится не по впечатлению внешнего
сходства, а на основе весьма точных методов, выработанных
сравнительно-историческим языкознанием.
Если вопрос о происхождении народа и его
генетических связях с другими народами требует привлечения
всей суммы языковых фактов, включая и лексику, и
грамматику, то в решении двух других задач — о культуре и
быте народа и его сношениях с другими народами —
исследователь должен опираться преимущественно на
лексику. Именно лексика, как чуткий и безобманный отМет-
227
чик, прямо и непосредственно регистрирует все
изменения в производстве, быте, культуре, а также все
сколько-нибудь значительные взаимные сношения и влияния
между народами. Другие стороны языка (фонетика,
морфология, синтаксис) либо вовсе не отражают этих
явлений, либо отзываются на них весьма медленно и скупо.
Подход к лексике также меняется я
зависимости от того, какую из трех вышеуказанных задач мы
выдвигаем на первый план. Если мы хотим привлечь язык
для решения этногенетических вопросов, то особое
значение приобретает для нас основной словарный
фонд. Благодаря своей огромной живучести и
устойчивости основной словарный фонд обслуживает народ в
течение тысячелетий и, вместе с грамматическим строем,
является первостепенным источником для суждения о
происхождении языка и народа.
Если перед исследователем стоит вторая из
намеченных нами задач — восстановить по данным языка
культуру, быт, хозяйство народа,— он должен взять в поле
зрения весь словарный состав, а не только
основной словарный фонд. Однако различение основного
словарного фонда и остальной лексики сохраняет для
него большое значение; оно служит точкой опоры для
хронологизации фактов, для определения их
удельного веса и значимости: слова из основного
словарного фонда будут сигнализировать о более древних и
имеющих более глубокие корни фактах и отношениях
исторического прошлого, нежели слова, не входящие в
основной фонд.
Третья проблема — проблема межъязыковых
влияний — есть в основном проблема заимствований,
а последние весьма редко проникают в основной
словарный фонд. Поэтому исследователю приходится здесь
иметь дело преимущественно с лексикой, не входящей
в основной словарный фонд.
Резюмируя, можно сказать: решение генетических
вопросов опирается на основной словарный фонд и
грамматический строй; вопросы культурного развития — на весь
словарный состав; вопросы межплеменных и
межнациональных сношений — на неосновной словарный состав.
Таковы, в общих чертах, предпосылки, задачи и
методы использования языка как исторического источника.
Примеров, которые могли бы иллюстрировать
высказанные положения, можно привести множество. Здесь
228
испытываешь затруднение скорее от избытка материала,
чем от его недостатка. Для многих и многих народов
их язык оказался вместе с тем и их историей.
Происхождение и древнейшие судьбы многих народов были
установлены в основном или исключительно по данным языка.
Многие народы в процессе их исторических
передвижений оказались удаленными на тысячи километров от
их первоначальной родины через обширные земные и
водные пространства — и этот факт был установлен целиком
или главным образом на основании их языка. Языковые
данные вскрыли исторические связи между такими
народами, которые ныне не только не соседствуют друг с
другом, но между которыми лежат огромные территории.
Когда окидываешь мысленным взором все, что
достигнуто в этой области языковедческой наукой, поражаешься
грандиозности открывающейся картины.
Не имея возможности дать здесь развернутое
изложение всех достижений языкознания в деле выяснения
исторического прошлого народов, я ограничусь и на этот
раз примерами из истории одного языка и одного
народа — осетинского.
Я уже отмечал, насколько плодотворным оказалось
сравнительно-историческое и диалектологическое изучение
осетинского языка для воссоздания прошлого осетинского
народа. До того, как был изучен его язык, его далекое
прошлое было полно загадок. Теперь история этого
народа обозрима на протяжении около двух—двух с
половиной тысяч лет. Вопросы о происхождении и древних
судьбах осетинского народа решены на твердом и
незыблемом фундаменте языковых фактов, имеющих силу
самых достоверных и надежных исторических
документов.
В вопросе о происхождении народа решающее
значение имеют, как мы знаем, основной словарный фонд и
грамматический строй. На примере осетинского языка это
положение подтвердилось самым блистательным образом.
Сравнительно-исторический анализ основного словарного
фонда осетинского языка неопровержимо доказал его
принадлежность к иранской группе индоевропейских
языков. Названия частей тела, термины родства,
обозначения пола, возраста, величины, цвета и пр., названия
явлений природы, имена числительные, местоимения,
употребительнейшие глаголы — все эти древнейшие,
фундаментальные разделы лексики носят ярко выраженные
229
иранские черты. Иранский характер имеет также богатая
и отлично разработанная скотоводческая терминология,
что опять-таки весьма показательно: от глубокой
древности скотоводство было основным занятием предков
осетин.
В грамматическом строе особенную устойчивость
обнаруживает обычно система глагола. И мы видим, что
осетинский глагол во всех существенных чертах
строится по иранской модели.
Иранский облик осетинского спряжения определяется
такими чертами, как: а) наличие двух основ, настоящей
и прошедшей, из которых первая восходит к старой
основе настоящего времени, а вторая — к прошедшему
причастию; б) сохранение четырех наклонений,
индикатива, конъюнктива, оптатива и императива, с их
характерными внешними признаками; в) сохранение следов
старого каузатива с его характерной приметой —
подъемом гласного (m?lyn — «умирать», тагуп — «убивать»
и т.п.); г) чередование в ряде случаев простых основ с
инхоативными, снабженными приметой s (tavyn — «греть»,
t?fsyn — «согреваться» и др.); д) сохранение в основном
иранской системы превербов.
Ясно прослеживается иранская традиция в
осетинском словообразовании как материально, так и
типологически.
Изучение основного словарного фонда и
грамматического строя осетинского языка не только позволило
установить принадлежность его к иранской группе, но
и найти место, занимаемое им в этой группе:
осетинский язык оказался одним из представителей
северовосточной ветви иранских языков, куда относятся языки
хорезмийский, согдийский, сакский (хотанский), а также
языки древних скифов и сарматов. Эти последние
состоят в особо близком родстве с осетинскими
Из всей суммы лингвистических фактов были с
полным основанием сделаны выводы большого
исторического интереса: предки осетин входили в состав скифо-
сарматских и аланских племенных образований; они
обитали в прошлом в южнорусских и северокавказских
степях; на Кавказ они, стало быть,пришли с севера.
Много ценного дал язык для восстановления древней
культуры и быта осетин. Опорой для исследователя
служит здесь словарный состав и семасиология, в
особенности историческая семасиология. Я уже отмечал, что
230
разбор осетинских названий домашних животных,
продуктов скотоводства (молоко, масло, мясо, шерсть, кожа
и пр.), глаголов, связанных с пастушеским бытом,
указывает на преобладающее значение скотоводства
в хозяйстве древних осетин. Об этом же говорят
некоторые лексико-семантические наблюдения. Осетинское
fos «скот» означало также «богатство» и «добыча».
Общеиранский глагол саг, означавший «кочевать, пася скот»,
получил в осетинском более общее значение «жить», как
если бы для древних осетин понятие «жить» было
равноценно понятию «кочевать».
Ряд особенностей хозяйства, быта, материальной
культуры древних осетин запечатлелся в их языке, и
языковед-историк находит здесь благодатный материал для
познания через язык истории народа.
Общеиндоевропейское название для^ хлебного злака
(древнеиранское yava-, греческое ?eia ), прикрепившееся
у других иранских народов к «ячменю», у осетин
означает «просо» (j?w), указывая на то, что не ячмень, ar
просо было у древних осетин главным хлебным злаком.
По данным языка и фольклора доказано
существование в прошлом у осетин медового хмельного
напитка rong, ныне вышедшего из употребления.
Сравнительно-исторический анализ названий металлов
говорит об очень раннем знакомстве осетин
с'золотом, железом и сталью и о влиянии, которое
они оказали в области металлургии на некоторых своих
соседей. То же можно сказать о знакомстве со стеклом.
А вот любопытный пример, когда семантический и
этимологический анализ одного слова воссоздает
перед нами целую картину быта и нравов далекого
прошлого. Осетинское wacajrag имеет два значения: «пленный» ¦
и «раб»._Этимологически это слово связано с среднеиран-
ским wacar «торговля» и означает буквально «предмет
купли-продажи», «товар».
Выводы напрашиваются сами собой: а) слово wacajrag
оформилось в осетинском в среднеиранский период;
б) главным источником получения рабов у предков осетин
в этот период была война, п л е н; в) рабы служили
не для использования их в хозяйстве в качестве
рабочей силы, а для продажи на сторону: раб был товаром.
Из области социальных отношений можно было бы
указать еще на семантику осетинского ?rvad. Это слово
представляет метатезу из *vrad, brat и отвечает обще-
231
.
индоевропейскому названию «брата». Но в осетинском оно
означает не «брат», а «член рода», «родич». Слово
унаследовано в этом значении от тех времен, когда все
члены рода составляли одну общину и считались
братьями.
Историко-лексикологические изыскания вскрывают
случаи запрета на некоторые слова (табу слов), что
представляет первостепенный интерес с точки зрения
древних религиозных, мифологических представлений. Так,
в осетинском попало под запрет старое наименование
«волка» * w?rx?g, замененное другим (bir?g). W?rx?g
же сохранилось в эпосе как собственное имя одного из
героев. Все это очевидным образом связано с древними
токмическими верованиями.
Исключительно важные показания дает язык для
восстановления исторических сношений
осетин с другими народами. Некоторые
полученные здесь результаты могут показаться
неожиданными и даже неправдоподобными. Кому, например, могло
прийти в голову, что предки осетин были долгое время
в соседстве и общении с предками пермских народов,
коми и удмуртов, или с предками венгров? А между
тем свидетельства языка не оставляют в этом никакого
сомнения.
С пермскими языками осетинский имеет
значительное количество общих слов, среди которых такие важные
в культурном отношении слова, как названия металлов:
осетинское z?rin — пермское zarni «золото»; осетинское
?vzistl'?vzest? — удмуртское azves, коми ezis «серебро»;
осетинское ?ndon — коми yendon, удмуртское andan
«сталь».
Около трех десятков осетинских слов обнаружено в
венгерском языке. Среди них важные термины
материальной культуры: осетинское xid — венгерское hid «мост»,
осетинское kard — венгерское hard «меч», осетинское
wart — венгерское vert «щит», осетинское ?vzist —
венгерское ezust «серебро», осетинское avg — венгерское
uveg «стекло»; социальные термины: осетинское ?ldar
«властитель», «князь» — венгерское aladar «начальник
сотни», осетинское ?xsin «госпожа» — венгерское asszony
«женщина», «дама»; название дуба: осетинское tuldz/toldz
— венгерское toldy.
Не менее поучительные свидетельства дает язык о
старых культурных связях осетин с русскими, хазарами,
232
северотюркскими племенами, грузинами, мегрелами,
сванами, абхазами .
Ценным вспомогательным историческим источником
является топонимика, * название местностей, рек,
водоемов, населенных пунктов и пр. Здесь язык вплотную
смыкается с историей и исторической этнографией.
Анализ топонимики проливает свет нередко на такие древние
этнические пласты и миграционные процессы, до которых
мы вряд ли могли бы дойти иными путями.
Топонимические изыскания много дали, в частности, для истории
осетинского народа. Они помогли установить
преемственную связь между скифо-сарматским населением Южной
России и современными осетинами. Яркий пример —
названия великих южнорусских рек Дона, Днепра и Днестра,
содержащие осетинское слово don — «река». На основе
топонимических данных устанавливается также прошлое
расселение осетин на запад от их нынешней территории до
границ Абхазии.
Можно было бы указать также на свидетельства
топонимики о прошлом расселении славянских народов.
Анализ названий местностей восточной Германии дока- »
зывает с полной очевидностью, что славянское
население было продвинуто в прошлом далеко на запад, до реки
Эльбы и далее.
Мы привели лишь немногие примеры, взятые из весьма
ограниченного круга языковых материалов. Но даже из
этих примеров видно, какие огромные возможности таит
в себе привлечение языковых свидетельств для
освещения исторического прошлого народов и их сношений и
взаимных культурных влияний.
Языковыми данными с полной достоверностью
устанавливаются: прошлые сношения между народами;
культурное содержание и значимость этих сношений; пути
исторических передвижений различных народов;
территория прошлого расселения народов, зачастую совершенно
отличная от нынешнего расселения тех же народов.
V
Мы рассматривали до сих пор одну сторону
интересующей нас проблемы: что может дать история языка
для истории народа. Но вопрос имеет и другой аспект:
что может дать история народа для истории языка?
Здесь я буду очень краток. Вопрос стоит так: можно
ли привлекать историю народа для объяснения тех или
233
иных языковых фактов, языковых процессов, языковых
изменений. Мне кажется, что в известных рамках можно.
Эти рамки в сущности уже определились из
предыдущего. Мы видели, что есть только одна сторона языка,
которая прямо и непосредственно реагирует на всякие
изменения, происходящие в жизни общества, в его
хозяйстве, культуре, мировоззрении: это — лексика.
Но даже в лексике легко подвергаются изменению не
все слова, а лишь слова, не входящие в основной
словарный фонд. Последний обладает огромной
устойчивостью и живет многие столетия без существенных
изменений, как и грамматический строй.
Изменяются, прежде всего, некоторые элементы
лексики, не входящие в основной словарный фонд. Эти
изменения бывают троякие: а) выпадает из словаря
некоторое количество устаревших слов; б) словарь
пополняется известным количеством новых слов и выражений;
в) изменяется смысловое значение ряда слов и
выражений.
За примерами недалеко ходить. Немало слов,
которые еще 35—40 - лет /назад>€ыли: обиходными, теперь
в наших словарях снабжаются пометами: «устарелое» или
даже «историческое». Куда девались все эти урядники,
пристава, городовые, околоточные и т. п.? Слова исчезли
вместе с «реалиями», а «реалии» были сметены
революцией.
Но революция не только смела старые «реалии». Она
принесла и новые «реалии».
Итак, искать прямого отражения истории народа
можно только в некоторых сторонах лексики и семантики.
Что касается грамматического строя, то ни о какой
прямой зависимости его от процессов, происходящих в
жизни общества, не может быть и речи. Пытаться
установить такую зависимость — значит впадать в явную
вульгаризацию.
Само собой разумеется, поскольку язык есть
общественное явление, между историей народа и развитием его
языка существует связь. Но эта связь простым глазом
видима лишь на фактах лексики и семантики. В области
фонетики, морфологии, синтаксиса эта связь
оказывается сложной, отдаленной и опосредствованной. Общий ха- •
рактер этой связи может быть определен следующим
образом: интенсивность народной жизни
стимулирует темпы развития языка. Но
234
направление этого развития зависит не от каких-
то конкретных событий или процессов в жизни народа,
а от тех внутренних тенденций и закономерностей, которые
выработались в языке в результате всей его многовековой
исторической жизни.
Под интенсивностью народной жизни мы понимаем
как внутренние сдвиги хозяйственного, социального и
политического порядка, так и интенсивность общения и
взаимодействия данного народа с другими народами.
То и другое несомненно способствует ускорению
языковой эволюции. Но ни то, ни другое не может в
короткий срок изменить основной словарный фонд и
грамматический строй языка. Теория «взрывов» в языке должна
быть отброшена как в корне противоречащая природе
и функции языка, как средства общения.
В статье «150 лет жизни одного языка»12 я отметил,
что из двух осетинских диалектов, иронского и дигор-
ского, первый претерпел в последние полтораста лет ряд
звуковых изменений, не затронувших второго, дигор-
ского диалекта. В частности, задненебные к, g перед
гласными у, i, e перешли в иронском соответственно в
палатальные аффрикаты Ь, dz: kinyg — Unyg 'книга', ragy —
radzy 'рано' и т. п.
Случайно ли, что один диалект изменился, а другой
нет? Думаю, что не случайно.
Нет ли тут какой-то связи с различием в
исторических судьбах двух ветвей осетинского народа в
последние полтора столетия? Думаю, что есть связь.
Напомню, что рассматриваемый период был периодом
вовлечения Осетии в орбиту русской государственности,
последовавшим за присоединением Грузии к России.
Дигорское племя жило в этот период замкнутой,
изолированной жизнью в горных ущельях. Иронское же племя,
расселенное по главным магистралям, ведущим из России
в Грузию — Военно-Грузинской и Военно-Осетинской
дорогам — подвергалось, как указано выше, многообразным
воздействиям в условиях интенсивных межплеменных
сношений и столкновений: нарушения традиционного
уклада жизни, вовлечения в торгово-капиталистические
отношения и городскую жизнь. Короче говоря, иронское
племя жило в этот период более интенсивной жизнью,
чем дигорское, и это сказалось на развитии языка.
«Но позвольте,— скажут,— какая связь между
городской жизнью и палатальными аффрикатами?» Утвер-
235
ждать, что между этими совершенно разнородными
явлениями существует прямая и необходимая связь, было
бы чистой мистикой. Ни о какой подобной связи не
может быть и речи. Речь идет только о том, что с
ускорением темпов жизни ускоряются и
темпы языковой эволюции. Направление же
этой эволюции определяется не внешними событиями,
а внутренними тенденциями и законами языка. Если в
иронском диалекте к и g в определенной позиции
перешли в с и dz, то это случилось потому, что они уже до
этого подверглись палатализации (точнее — ассибиляции)
в этой позиции и находились в неустойчивом состоянии.
Они были тем слабым звеном в фонетической системе,
на котором в первую очередь отразились внешние
воздействия, пережитые народом. Не случайно, что районом,
где начался указанный звуковой перебой, был район
города Владикавказа и примыкающих селений. Здесь, где
особенно бурно кипела жизнь, возникали языковые
новшества и уже отсюда распространялись на остальную
Осетию.13
Следует учесть и то огромное сдерживающее
влияние, которое оказывает на языковые изменения наличие
у народа богатой литературы и стойкой литературной,
орфографической "и орфоэпической традиции. Трудно
сказать, совершился ли бы в иронском диалекте перебой
задненебных, если бы у осетин была уже давняя и
сильная литературная традиция. Но даже без такой традиции
подобные изменения не происходят разом, в несколько
дней, месяцев и даже лет.
Указанный звуковой перебой совершился не путем
внезапного взрыва, а постепенно, шаг за шагом.
Переходное состояние зафиксировано в 40-х годах прошлого
столетия академиком А. Шегреном, по описанию которого
задненебные смычные перед передними гласными
произносились m, d т. е. находились на пути к переходу в
аффрикаты. Вплоть до недавнего времени в некоторых
говорах отмечалось спорадически старое произношение
наряду с новым. Короче говоря, переход совершался не
сразу, а постепенно, без малейшего нарушения
'непрерывности языковой традиции. Можно утверждать, что в.
языке только такие переходы и возможны.
В жизни общества бывают такие сдвиги, что новое
поколение отходит от идеологии старого поколения.
С языком этого не случается никогда. Язык может
236
изменяться, но лишь так, чтобы каждое новое
поколение могло объясняться с предшествующим. Никакие
самые бурные потрясения и сдвиги в Жизни общества не
могут нарушить этого закона, связанного с самой
сущностью языка как средства общения.
В этом коренное отличие языка от идеоло-
г и и.
Есть еще один важный для языковеда-историка
вопрос, на котором я хотел бы очень коротко остановиться:
о соотношении общего и особенного в истории
языка и истории народа.
Несомненно, что во всех языках мира можно
обнаружить некоторые общие явления и закономерности. Но
несомненно, с другой стороны, что развитие каждого
языка определяется, наряду с этими общими
закономерностями, рядом своеобразных, неповторимых особенностей,
составляющих его индивидуальность. В результате
существует фактически бесконечное многообразие языковых
типов. «...Наиболее развитые языки,— ПйСЗЛ «С. Маркс,—
имеют законы и определении, общие с наименее
развитыми, но именно отличие от этого всеобщего и общего и
есть то, что составляет их развитие» .
Своеобразие каждого языка отражает в известной
мере своеобразие исторических судеб того народа,
который является творцом и носителем этого языка.
В истории каждого народа общее также
сочетается с особенным. То и другое находит отражение
в языке. Языковед-историк, который исследует всеобщее
и общее и оставляет без внимания особенное и
своеобразное, не может дать верной картины ни истории языка,
ни истории народа. Он обедняет и ту и другую, лишает
их живых красок. Конкретная полнокровная история
подменяется тощими универсальными схемами, абстрактным
социологизмом.
Но игнорирование общего и всеобщего и увлечение
только особенным и своеобразным также таит в себе
опасность. Оно отрывает язык и народ от
общечеловеческой истории, создает видимость какой-то
исключительности и в конечном счете ведет к идеалистическому
пониманию истории языка и истории народа как выражения
мистического «национального духа».
В том и другом случае у нас будет неполная,
неверная, искаженная картина. Только при разном внимании
*х общему, и к особенному раскрываются полностью все
237
неисчерпаемые возможности, которые таит в себе
изучение истории языка в связи с историей народа.
Общее — это единые для всех народов условия и
предпосылки материального существования и производства;
это — основные общественные формации, через которые
проходят народы; это — одинаковые у самых различных
народов нормы мышления и сходные мифологические и
религиозные представления.
Особенное — это особенности национальной истории,
национального быта, национальной культуры,
национального психического склада данного конкретного народа.
Язык замечателен тем, что он богато и многообразно
отражает то и другое.
Иметь чутье и интерес как к общему, так и к
особенному, уметь распознавать особенное в общем и общее в
особенном — вот качество, которым особенно должен
дорожить языковед-историк. Только обладая этим
качеством, он может благополучно пройти между Сциллой
и Харибдой, двумя подстерегающими его опасностями:
абстрактным схематизмом, с одной стороны, и
национальной исключительностью, с другой. Только обладая
этим качеством, он сможет извлечь из данных языка
все, что они могут дать для освещения истории народа
во всей ее полноте и своеобразии.
Умелое, диалектическое сочетание общеисторического
анализа с конкретно-историческим может поднять
значение языкознания как исторической дисциплины на
огромную высоту. Здесь перед нашей наукой открываются
такие широкие перспективы, которые сейчас трудно даже
оценить в полной мере.
Примечания:
' G r i m m J. Kleinere Schriften, Bd. 1. 1864, S. 290.
2 Grimm J. Geschichte der deutschen Sprache. 1880, S. 4.
3 Опытам реконструкции доисторического состояния
индоевропейских народов и их культуры по данным языка было присвоено
название «лингвистической палеонтологии». Выражение «paleontologie
linguistique» употреблено впервые швейцарским лингвистом А. Пикте в 1859 г.
в работе «Les origines indoeuropeennes». Термин «палеонтология»
воспринят в языкознании из области естественных наук, где это название
присвоено науке об ископаемых остатках организмов.
238
4 «Архив Маркса и Энгельса»», IX, 1941. с. 5.
5 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения,
т. II, 1948, с. 247, 265, 266.
6 Я имею в виду в первую очередь его работу с претенциозным
7 См., в особенности, «Исторические очерки развития русской на-
названием «Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung» A921).
родной словесности и искусства», т. 1 (M., 1861).
8 «Изв. Акад. Наук СССР. Отд. лит-ры и языка», т. V, вып. 2,
1946, с. 77, 78.
9 Там же, вып. 5, с. 427.
10 Отдельные случаи, когда языковая традиция не совпадает с:
этнической (например, язык идиш), являются исключением и лишь
подтверждают общее правило.
11 Культурное значение старых осетино-русских связей
определяется заимствованием из русского языка таких слов, как книга, печь
и др. Из грузинского языка усвоены названия огородных растений и
ряд других слов.
12 См. В. И. А б а е в. Осетинский язык и фольклор. М.— Л.,
1949, т. 1, с. 509—511. — --
13 Изложенные соображения о связи между темпами жизни и
темпами развития языка имеют предварительный характер и требуют
проверки на более обширном языковом материале.
14 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XII, ч. 1, с. 175.
Вопросы теории и истории
языка. М., 1952.
О «ФОНЕТИЧЕСКОМ ЗАКОНЕ»
Когда говорят о звуковых или фонетических
законах, то имеют в виду, во-первых, закономерности,
наблюдаемые внутри одного языка, например, постоянное
ударение, как во французском или польском,
ассимиляцию согласных, как в древнеиндийском, гармонизацию
гласных, как в турецких языках, невозможность
звонких согласных в исходе, как в русском, и т. п. В любом
языке можно найти ряд подобных закономерностей. Один
язык не выносит начального г, другой — конечного п.
Один не терпит в начале слова двух согласных, другой
проявляет особую склонность к скоплению согласных
именно в начале и т. п.
Во-вторых, под звуковыми законами разумеют
закономерное соответствие звуков в одних и тех же словах в
двух или нескольких родственных языках или
диалектах. Например, когда в определенных условиях звуку а в
грузинском соответствует о в мегрельском, звуку е в
великорусском звук i в украинском, звуку d в немецком
звук th в английском и т. п.
В-третьих, наконец, под звуковыми законами понимают
также закономерные соответствия звуков одного и того же
языка на разных этапах его истории. Например, когда
древне-верхненемецкому и соответствует в
ново-верхненемецком au, среднеперсидскому начальному v
новоперсидское в или g и т. п.
Основанием для подведения всех подобных явлений
под одно понятие звукового закона служит то, что во
всех случаях присутствует идея изменения, идея о
том, что во всех трех категориях явлений мы имеем
дело с исторически обусловленными фактами,
возникающими и раскрывающимися во времени. Задача,
следовательно, заключается в том, чтобы вскрыть условия,
причины, факторы возникновения и распространения
наблюдаемых в языках звуковых закономерностей на фоне
общего исторического развития этих языков. Как же спра-
240
вилась с этой задачей индоевропейская школа, о которой
мы знаем, что она очень много и очень усердно
занималась фонетикой?
От прошлого индоевропейская школа получила две
фонетические «теории»: «теорию» эуфонии или благозвучия
и «теорию» взаимовлияния соседних звуков в речи.
Первая исходила от греко-римских, вторая от индийских
грамматиков.
В этих теориях, в особенности в индийских
правилах «sandhi» уже заключалось понятие звукового
закона, во всяком случае, в первом из указанных выше
трех смыслов, именно в смысле внутриязыковых
звуковых норм. Создав сравнительную грамматику
индоевропейских языков, основоположники индоевропейского
языкознания расширили понятие звукового закона, подведя
под него как закономерные междуязыковые
звуковые соответствия в пределах родственных языков,
так и исторические чередования. В этом смысле о
звуковых законах высказывался еще В. Гумбольдт, а
развернутое изложение учения о звуковых законах мы
находим уже у другого основоположника, Фр. Боппа,
который и пустил впервые в обращение ставший
впоследствии знаменитым термин «Lautgesetz». В первый период
своей деятельности Бопп находился под влиянием греко-
римской теории благозвучия и искал причину звуковых
изменений в стремлении говорящих избегать неприятных
и стремиться к приятным звукосочетаниям. При этом
он проницательно указывал, что «законы благозвучия»
могут получить силу только на почве семантического
ослабления речи. Впоследствии он отказался от этого, как
и вообще от какого бы то ни было, объяснения -звуковых
законов, и стал рассматривать их, как самопроизвольные,
спонтанные проявления языковой жизни,
противопоставляя им звуковые изменения, объясняемые* действием
аналогии. Этот отказ от попыток объяснять явления,
которые некоторые лингвисты вменяют Боппу в
заслугу, представляет на деле шаг назад, который оказал
известное, отнюдь не благотворное, влияние на все
последующее развитие учения о звуковых законах в
индоевропейской лингвистике.
Особую, хотя не слишком удачную, позицию занял
в вопросе о звуковых законах современник Боппа Я. Гримм.
Воодушевленный национальным романтизмом, автор
знаменитой «Немецкой грамматики» пытался объяснять ис-
241
торические чередования германских согласных (Lautvers-
chiebungen) особенностями национального характера
германского народа. Несостоятельность этого объяснения
была ясна уже в его время...
Много внимания уделял звуковым законам младший
современник основоположников, знаменитый в свое
время классик Георг Курциус. Не кто иной как Курциус
выдвинул в качестве объяснения звуковых законов теорию
удобства произношения (Bequemlichkeitstheorie). Курциусу
же принадлежит сравнение звуковых изменений с
наблюдаемыми в мертвой природе процессами
«выветривания» (Verwitterung). Далее Курциус в еще более ясной
и решительной форме, чем Бопп, указал на действие
аналогии как на второй решающий" фактор фонетических
изменений, наряду со «спонтанными» звуковыми
переходами. Как теория «удобства» и «выветривания», так и
теория «аналогии» обнаружила удивительную живучесть,
и в той или иной форме они то и дело выплывают на
поверхность на протяжении всей истории языкознания,
привлекаемые для объяснения явлений звуковой жизни
языка рядом исследователей, вплоть до последнего
времени (см., например, упражнения Поливанова на тему
о речевой деятельности как «трудовом процессе»).
Наконец, тот же Курциус впервые провел четкое
разграничение между сплошными («конститутивными»,
как он выражается) и спорадическими
звуковыми перебоями. Это разграничение полностью сохраняет
свое значение до настоящего времени.
Свойственное в большей или меньшей степени всем
основоположникам представление о языке как об о р-
ганиэме было, как известно, доведено до крайнего
предела А. Шлейхером. Непоколебимо веруя в реальность
праязыка, Шлейхер представлял себе развитие всей так
называемой индоевропейской системы языков как
развитие некоего своеобразного организма. Исходя из этого
воззрения, Шлейхер рассматривал законы языка как е с-
тественные законы, откуда логически пришел к
утверждению, что одни и те же звуковые законы должны
быть действительны для всех языков. Противоречие этой
теории с действительностью настолько вопиющее, что
она не могла не вызвать критики в позднейшей
лингвистике, и когда позднее возникла так называемая
младограмматическая школа, одним из основных моментов,
питавших эту школу, была реакция против шлейхерианства.
242
Однако, с точки зрения философской, воззрения
младограмматиков представляют бесспорный шаг назад по
сравнению со взглядами «стариков»-основоположников.
Наука основоположников — это наука восходящего
класса, со всеми свойственными такой науке качествами:
смелостью мысли, широтой размаха, высоко развитой
способностью обобщения. Напротив, вся последующая
лингвистика, т. е. как младограмматическая, так и
«социологическая» школа,— это наука нисходящего класса
со свойственной такой науке неудержимой склонностью
к бескрылому крохоборству. И когда идет речь о
буржуазном наследстве, для нас В. Гумбольдт и Фр. Бопп
безусловно выше и ценнее Бругманна или Мейе, так же,
как в философии Кант выше Вундта, в литературе Гете
выше Метерлинка, в музыке Бетховен выше Рихарда
Штрауса. При всех своих заблуждениях «старики»
обладали достаточной широтой и глубиной философской
мысли, чтобы воспринимать язык как некое е д и н с т-
в о, единство формы и содержания, обладающее
специфическими свойствами и закономерностями '. Их ошибка
была в том, что они искали корни содержания, как и
формы, в «духе», а не в бытии. Но эта ошибка не мешала
им видеть ясно ведущую, решающую роль содержания
«внутренней формы». Они были в полном смысле
мыслителями, а не цеховыми катедер-грамматиками. Они
не боялись ставить «основные» вопросы, когда их
приводил к этому ход исследования. Младограмматики же
попросту испугались трудностей и, чтобы избегнуть их,
они заявили, что фундаментальные вопросы, над
которыми вдумчиво и смело работала мысль основоположников,
вовсе не существуют или, во всяком случае, не
являются предметом лингвистики.
Чтобы уклониться от углубленно-философской
постановки вопросов языка (да и не только языка), самый
верный и испытанный прием — оторвать форму от
содержания. К этому именно приему прибегли
младограмматики. Они убедили себя, что язык — это форма,
история языка — история формы. Сведя далее проблему
формы к проблеме отдельных звуков и их изменений,
младограмматики в бегстве от философии спрятались в
карточную крепость «чистой» фонетики, привесив для
безопасности надпись: «вход посторонним идеям
воспрещается».
Если для «стариков» звуковые законы были лишь
243
средством для восстановления истории языка, то для
младограмматиков звуковые законы стали самоцелью.
Таким образом младограмматическая, школа отказалась
даже от тех крох историзма, которые были налицо в
концепциях «стариков». Вот одно замечательное место
из «манифеста» младограмматиков, которое ярко
освещает их антиисторический «пафос»: «So sicher wir dessen
sind, dass unsere indogermanischen Vorvater schon gerade
so wie wir zur leiblichen Hervorbringung der Sprachlaute ihre
Lippen, Zunge, Zahne u. s. w. notig hatten, so sicher konnen
wir auch dessen sein dass die gesammte psychische Seite
ihrer Sprachthatigkeit, das Hervortreten der im Gedachtniss
aufbewahrten Lautbilder aus dem Zustand des Unbewusstseins
und die Entfaltung der Lautvorstellungen zu Wortern und
Satzen, in derselben Weise und im demselben Maasse unter
dem Einfiuss der idcenassociatlon stand* wie sie noch heute
steht, und immerdar, so lange Menschen Menschen bieiben
werden, stehen wird» (Brugmann und Osiiicff. «Morpho-
logische Untersuchungen», 1878. Einleitung, S. XVI).
«Наши предки имели такие же зубы и губы, как мы,
и такую же психику, и эта психика будет оставаться
неизменной, пока люди остаются людьми» — такова
квинтэссенция младограмматической мудрости.
Эта антиисторическая «установка» легла в основу
всей последующей работы над языком в господствующей
лингвис-тике, не исключая так называемой
социологической школы.
Выступив против основоположников, которые склонны
были рассматривать язык как некий самостоятельный
организм, который живет по своим собственным законам,
младограмматики противопоставили этому свой тезис: нет
языка вне говорящего индивида. Однако этот тезис может
стать плодотворным принципом в исследовании языкового
развития только в том случае, если он дополняется
другим тезисом: нет говорящего индивида вне конкретных
исторических условий хозяйственной и социальной жизни.
Этот последний тезис фактически не получил никакого
применения в индоевропейской лингвистике. У нас
широко распространяются сведения о существовании в Европе
особой «социологической» школы языкознания, причем
представителями ее называют обычно Соссюра и Мейе.
Эти сведения являются, как сказал бы Марк Твен,
«несколько преувеличенными». Во-первых, два или три
лингвиста, заявляющие, что «язык есть социальное явление»
244
(какая смелая мысль!), еще не могут быть названы
школой. Следовательно, слово «школа» придется взять в
кавычки. Во-вторых, и это особенно поучительно,
«социолога» можно отличить от простого смертного только пока
он остается в сфере декларативных заявлений о
«социальном характере» речевых явлений. Стоит ему перейти от
деклараций к практике, к работе над конкретным
материалом, как он становится похож, как две капли воды,
на самого.заурядного младограмматика. Не будет поэтому
большой ошибки, если мы возьмем в кавычки и слово
«социологическая». Вольтер как-то подшучивал над
священной Римской Империей, говоря, что в сущности она
не священная, не римская и не империя. Про
социологическую школу можно сказать, что она не
социологическая и не школа, и это, пожалуй, все, что о ней можно
сказать. «Общество», о котором говорит Соссюр как о
носителе языковой системы, лишено каких-либо
конкретных исторических признаков. Это какое-то абстрактное,
внеисторическое общество, какой-то загадочный «некто
в сером», который призван блюсти языковые нормы и
пресекать индивидуальные уклоны. Когда мы обращаемся
при исследовании языковых фактов к обществу, мы делаем
это в надежде, не даст ли нам история общественного
развития ключа к объяснению языковых изменений.
«Общество» же Соссюра имеет как раз противоположную
функцию: оно призвано объяснять неизменность
языковых норм. Если бы кто-то ставил вопрос так:
«почему язык не изменяется», мы могли бы смело отослать
его к Соссюру, где он нашел бы исчерпывающие объяснения
по этому вопросу. Но такого вопроса никто не ставит и не
собирается ставить, потому что в действительности язык
очевиднейшим образом изменяется. А раз так, то
становится непонятным, кому и зачем нужна такая «социология».
Если у Соссюра еще можно говорить о какой-то
социологии, правда, внеисторической, а потому бесплодной,
как евангельская ' смоковница, то социологизм другого
представителя этой «школы», Мейе, есть уже просто
результат печального недоразумения. Конечно, ни о
каком социологе Мейе говорить всерьез не приходится.
Мейе — хороший, выдержанный младограмматик, который
имеет известную слабость к «социологической»
фразеологии 2.
Конечной инстанцией, к которой апеллирует
лингвист, будь он младограмматик или «социолог», является
245
«говорящий индивид». А так как этот внеисторический
индивид весьма однообразен, а языковые факты
безгранично многообразны, то легко видеть, как много можно
извлечь из такого sujet parlant для объяснения языкового
развития вообще и фонетических изменений в
частности. Неудивительно поэтому, что фонетика в
индоевропейской лингвистике оторвалась не только от
социальных факторов, но и от семантики и превратилась
в самодовлеющую дисциплину, грозя проглотить всю
вообще лингвистику.
У младограмматиков мы находим в наиболее грубой
форме культ фонетических законов. Один за другим
W. Scherer, Leskien, Osthoff, Brugmann, Paul
провозглашают звуковые законы, как законы, не знающие
исключений, и установление этих законов становится
центральной задачей лингвистических исследований. Правда, в
самой индоевропейской школе назревает сильная
оппозиция против поклонения звуковым законам. Но
характерно, что эта оппозиция идет не со стороны
«социологов», которые в этом вопросе продолжают
младограмматические традиции, а со стороны H. Schuchardt'a и
примыкающих к нему французских диалектологов, людей,
работавших не над одними литературными языками, а
главным образом над живыми наречиями и диалектами,
над бесписьменными, некультурными, частью мешанными
языками. На этом живом материале вскрывается с
очевидностью, насколько призрачна значимость звуковых
«законов» при столкновении с беспредельным
многообразием явлений живой жизни. Было бы, однако,
ошибкой переоценивать этот прославленный спор о звуковых
законах. Дискуссия шла в плоскости, которая не могла
дать никаких плодотворных результатов. Одни утверждали,
что в звуковой жизни языка есть определенные
закономерности и, разумеется, были правы. Другие говорили,
что любому закону можно противопоставить множество
исключений — и тоже были правы. Задача вовсе не в том,
чтобы доказать одно из двух: либо звуковые законы
существуют, либо их нет. Те, кто утверждает
существование звуковых законов, и те, кто их оспаривает, имеют для
этого достаточно серьезные основания. Да, в одном
случае они есть, в другом их нет. Задача в том, чтобы
показать, почему они есть там, где они есть и почему их нет
там, где их нет.
Нужно быть слепым, чтобы не видеть тех громадных
246
результатов, которые достигнуты в языкознании на
основе исследования и учета фонетических закономерностей.
Но нужно быть если не слепым, то очень близоруким,
чтобы не замечать тех поправок, которые жизнь на
каждом шагу вносит в звуковые «законы». Я сказал бы так:
исследование, основанное на рабской вере в
непогрешимость звуковых законов, обесценивается наполовину;
исследование, вовсе игнорирующее эти законы, не имеет
вообще никакой цены. Труднейшая и деликатнейшая
задача исследователя заключается в том, чтобы для
каждого случая отклонения от закона вскрыть его (этого
отклонения) исторические основания. А для этого надо
быть вооруженным правильной, всеобъемлющей, подлинно
исторической теорией фонетического развития. Такой
теории в европейской лингвистике нет.
В вопросе о причинах звуковых изменений в
индоевропейской лингвистике царит самая отчаянная разно-
гласица и неразбериха. Тут недостаточно сказать, что
существует столько теорий, сколько авторов, В
действительности теорий больше, чем авторов, так как многие
• авторы высказывали зараз несколько теорий 3. -
Одни занимаются тем, что перепевают на разные
лады высказывания основоположников: о звуковых законах,
с одной стороны, и аналогии как психологическом
явлении, с другой, как о двух основных видах звуковых
изменений, о чем говорил еще Бопп; об «удобстве»
произношения как основном факторе фонетической эволюции,—
мысль, идущая через Curtius'a от старой теории благо-
звучания.
Другие указывают на географические и
климатические условия, не приводя, впрочем, никаких серьезных
доказательств, так как таких доказательств и не может
быть. Таковы Osthoff, Fr. Kauffmann, Rousselot4.
Третьи ищут причины звуковых изменений в
изменении органов речи: Wundt,4 Rousselot, отчасти Paul.
Четвертые думают объяснить звуковые изменения
случайными отклонениями в произношении отдельных лиц,
являющимися следствием общей «изменчивости» и
«неустойчивости» произношения: Paul, Bremer, Marty.
Пятые видят виновников языковых изменений в детях,
в их «неправильном» произношении родного языка: Paul,
P. Passy и, наконец, Meillet («Введение в сравнительную
грамматику индоевропейских языков»).
247
Шестые уверяют, что то или иное произношение есть
дело моды или подражания: Schuchardt, Jespersen.
Седьмые указывают на частоту употребления того или
иного слова как на причину изменения, стирания его
звуковой формы (Schuchardt).
Восьмые выдвигают универсальный «закон более
сильного звука», «la loi du plus fort»: Grammon и т. д.
Когда по одном^водфосу ^существует такоемножест-
во теорий, это-длмо-тго~ее#ё говорит^Тфасноречиво"
б>*плачевном положении дела. Картина ясная: индоевропейская
лингвистика не справилась с объяснением фонетических
изменений, общей теории фонетического «закона» в
индоевропейской лингвистике не существует. Это признают
и сами западные ученые. В. Delbruck, например, заявляет:
«Von einem Wissen auf diesem Gebiet im Ernst nicht die
Rede sein kann».
Единственная из завещанных нам старой
лингвистикой теорий фонетических изменений, которую можно
принять всерьез, это теория субстрата. Ряд
лингвистов указывал, что когда мы в истории языка
замечаем закономерный переход одних звуков в другие, то дело
здесь не в том, что носители данного языка изменили
свое произношение, а в том, что язык из одной
этнической среды попал в другую, и эта другая среда, обладая
другими произносительными навыками, стала
артикулировать звуки чужого языка по-своему, в результате чего
у нас, когда мы оглядываемся назад, в прошлое,
создается впечатление закономерных исторических
чередований. Например, когда в испанском на месте латинского /
находим h, то дело не в том, что / «перешел» в h, a в
том, что исконные жители Испании, иберы, никогда и
не имели в своем языке звука / и, восприняв латинскую
речь, систематически произносили латинское /, как h.
Итальянский лингвист Ascoli с большей убедительностью
обосновывал теорию субстрата на материале романских
языков, а немецкий фонетист Sievers подвел под нее
теоретический фундамент своим учением об
артикуляционной базе.
Теория субстрата настолько проста и очевидна и так
обильно иллюстрируется фактами языковой
действительности на протяжении всей истории, вплоть до
современности, что оспаривать ее не приходится.
За пределами исторических звуковых чередований,
объясняемых теорией субстрата, индоевропейская школа
248
оставляет нас в полном мраке относительно причин
звуковых изменений, в частности, всех случаев не
сплошных, а спорадических звуковых перебоев.
В сущности, она сама закрыла путь к объяснению
этих явлений своей антиисторической трактовкой как
говорящего индивида, так и общества. Говорящего
индивида она превратила в несуществующий в природе
стандартный и неизменяемый психофизиологический тип, а
общество в лишенную каких-либо конкретных
исторических признаков абстракцию.
Она могла бы частично нащупать правильный путь,
если бы подхватила и развила оброненную некоторыми из
основоположников мысль о связи между формой и
содержанием, между звучанием и семантикой в языке. Но,
зарывшись в фонетическое крохоборство, она захлопнула
и это окошечко в мир живой языковой действительности.
Отрыв формы от содержания не только стал правилом
в ее исследовательской практике, но возведен ею в
абсолютную норму, обязательную для каждого лингвиста.
Вот что пишет, например, Wechssler, автор большой
сводной работы о фонетических законах: «Im allgemeinen ist
langst erkannt worden, dass die Geschichte des Gesprochenen
als phonetischer Phanomene von derjenigen der assoziirten
Bedeutungen unabhangig ist, und dass, um einen bestimmten
Fall zu nennen, Lautwandel und Bedeutungswandel ver-
. schiedene Probleme darsfellerr» ' («Giebt es Lautgesetze?»
Festgabe fur Hermann Suchier, c. 365, 1900).
Где же выход из того тупика, в который зашла старая
лингвистика в вопросе о фонетической жизни языка? 5
Выход только в новой постановке вопроса. Если старая
лингвистика рассматривала обычно фонетические
изменения как некую завершенную д а н н о с т ь, то мы видим
в них более или менее длительный, протекающий во
времени процесс. Если старая лингвистика переносит
центр тяжести на результаты этого процесса, мы
стремимся проникнуть в его внутренние движущие
силы. И если старая лингвистика, исходя из
вышеуказанной точки зрения, направляла свои усилия главным
образом к тому, чтобы возможно точнее и
обстоятельнее классифицировать различные виды звуковых
явлений, то мы, исходя из нашей точки зрения , должны
заниматься не столько классификацией явлений (в
горизонтальном разрезе), сколько изучением процесса
(в вертикальном разрезе), вскрыть те различные этапы
249
или моменты, которые характеризуют всякое
фонетическое изменение как процесс, безразлично, звуковой
ли это «закон» или «аналогия», «ассимиляция» или
«диссимиляция», «метатеза» или «перебой» и т. д.
Этих основных моментов, которые надо выделить в
фонетических процессах, нам кажется, четыре:
1) возникновение фонетических изменений,
2) распространение фонетических изменений,
3) темпы фонетических изменений и
4) направление фонетических изменений.
Хотя эти четыре момента тесно между собой
связаны, однако для пользы дела вопрос об условиях и
факторах в каждом из них следует ставить отдельно. Мы
попытаемся очень кратко наметить, что, по нашему
мнению, является основным, решающим в каждом
из указанных четырех моментов.
1. Основным общим условием возникновения
звуковых изменений мы считаем семантические
сдвиги. Если мы пересмотрим все те «причины»
фонетических изменений, которые указывались в старой
лингвистике: стремление к благозвучию, стремление к удобству
произношения, к экономии произносительных усилий,
выветривание и стирание, аналогия, мода и пр., то при
всем их разнообразии мы легко усмотрим между ними
нечто общее: все эти причины могут получить силу
исключительно на почве происшедших в языке
семантических сдвигов, в силу которых
первоначальные семантические отношения и связи, которые
обусловливали и насыщали данную звуковую форму, ослабели и
заменились новыми, уже не связанными во всей полноте
с данной звуковой формой, и, следовательно, менее
заинтересованными в целости и сохранности этой формы,
что и создает благоприятные условия и для
«выветривания», и для «благозвучия», и для «аналогии».
Следовательно, если непосредственной причиной звуковых
изменений могут быть указывавшиеся в старой
лингвистике моменты, то общим условием фонетического развития
языка является развитие семантическое 6.
2. Процесс распространения звуковых
изменений надо отделить от процесса их возникновения по
вполне понятной причине.
Нельзя допустить, чтобы то или иное фонетическое
новшество появилось сразу на всей территории данного
языка. Имеется всегда один определенный центр, где оно
250
возникает, и уже оттуда распространяется на весь язык и
диалект. Для того, чтобы такая экспансия имела место,
нужны особые благоприятствующие этому условия. В
каждый данный момент в речевой практике отдельных
лиц или групп появляется множество фонетических
особенностей, отклонений и новшеств, которые, однако, в
большинстве остаются локализованными и не влияют
на фонетическое развитие языка или диалекта в целом.
Что нужно, чтобы то или иное фонетическое изменение,
возникшее в определенном, локализованном центре,
распространилось за его пределы? Нужна определенная
социальная, политическая и культурная обстановка.
Хозяйственное, социальное и политическое единство с
вытекающей из него унификаторской тенденцией в сфере
языка, широкие культурные связи, наличие литературного
языка, далеко зашедшая технизация речи,— все это с
необходимостью приводит к «национализации» всякого
возникшего в том или ином влиятельном центре,
среди той или иной влиятельной общественной
группы фонетического новшества. Отсюда понятно, что
царство Lautgesetz'oB — в языках литературных,
письменных и «цивилизованных». И не случайно, что как раз
лингвисты, работавшие по преимуществу с такими
языками, и оказываются в лагере энтузиастов Lautgesetz'oB.
Напротив, те, кто имеет дело с живыми диалектами,
бесписьменными, некультурными, «дикими» языками, быстро
приходят в этом вопросе к мудрому скептицизму.
Резюмируя сказанное, мы приходим к выводу, что в процессе
распространения фонетических изменений
решающее значение имеет момент социальный в
широком смысле.
3. От чего зависят темпы фонетического развития?
Если верно, что общим условием фонетических перемен
являются процессы семантические, то все, что ускоряет
семантическую жизнь языка, должно ускорить и темпы
фонетического развития. А темпы семантической жизни
ускоряются тогда, когда ускоряются темпы общественной
жизни вообще. Когда общество попадает в полосу крупных
перемен, сдвигов и потрясений, хозяйственных,
социальных, политических и культурных, происходит массовое
смещение семантических представлений, ослабление одних
и возникновение других, что, как мы выше говорили, не
может остаться без влияния на материальную, звуковую
сторону речи. Следовательно, когда речь идет о темпах
251
фонетической эволюции, мы должны, как основной,
самый общий и решающий фактор, выдвинуть темпы о б-
щественной жизни.
4. Вопрос о направлении фонетических
изменений — пожалуй, самый трудный и сложный из
выдвинутых нами четырех моментов. Речь идет о том, почему
в каждом данном случае, в каждом данном языке
фонетические перемены совершаются в данном направлении,
а не другом, почему подвергаются перерождению именно
данные звуки, а не другие, почему данный звук замещается
одним, а не другим звуком, почему одни звуки исчезают,
а другие сохраняются и т. п. Чтобы дать
удовлетворительный ответ на эти вопросы, мы должны обратиться
к внутренней жизни самого языка, взять на учет все его.
историческое развитие, в особенности развитие
фонетическое. Если семантические сдвиги создают общие
предпосылки для фонетических трансформаций, если социт;
альная обстановка обусловливает их распространение и,
темпы, то направление звуковых изменений опре-¦¦-
деляется всей исторической жизнью языка и теми
фонетическими тенденциями, которые в нем в этой
исторической жизни выработались.
Общий путь фонетического развития языка -г- это путь
от первоначальной фонетической диффузности. ко все
большему фонетическому уточнению. Но направление
этого уточнения, его артикуляционная и акцёнтуальная
локализация в каждом языке вырабатывается своя. И
если мы не вскроем этих специфических для каждого
языка артикуляционных тенденций, то вопрос о
направлении фонетических изменений будет оставаться для нас
неразрешимой загадкой.
Резюмируем наши выводы:
Рассматривая фонетическое развитие как
исторический процесс, мы выделили в нем четыре момента:
возникновение фонетических изменений,
распространение их, темпы и направление. Для
каждого из этих моментов мы выдвигаем один решающий
для его исследования фактор: для возникновения —
семантику, для распространения — социально-
политическую и культурную обстановку,
для темпов — темпы общественной жизни,
для направления — внутреннее артикул я-
ционно-фонетическое развитие
данного языка. Само собой разумеется, в каждом из этих
252
моментов могут действовать и другие факторы, но
задача наша сейчас не в том, чтобы исчерпать все
большие и малые действующие причины, а в том, чтобы для
каждого из указанных четырех моментов вьщвинуть то
основное, за что надо ухватиться, чтобы поставить
исследование фонетических процессов на твердую,
подлинно социологическую базу.
В свете изложенного получают свой реальный смысл
как фонетический «закон», так и «исключения» из него.
Что такое фонетический «закон»? Фонетический
«закон» — это развивающийся на почве технизации речи
процесс унификации фонетических норм, причем
носителем этой унификации бывает всегда определенная о б-
щественная группа; выдержанность,
универсальность и экспансия «закона» определяются устойчивостью
и стабильностью этой общественной группы и ее
экономическим, общественно-политическим и культурным
удельным весом и влиянием в пределах языкового
единства. Что такое «исключения»? «Исключения» — это либо
вторжение в язык других общественных
групп помимо основной и господствующей,
свидетельство того, что и они участвуют в формировании
языка 7, либо «исключения» — это указание на особые,
специфические условия семантической жизни тех
элементов речи, в которых эти «исключения»
наблюдены.
Правильность и плодотворность такой концепции
может и должна быть всесторонне проверена и
обоснована на материале конкретных языков. Здесь перед нами
необъятное поле работы.
Примечания
1 «Denken und Sprache sind ebenso identisch, wie Inhalt und Form»
(Schleicher «Die deutsche Sprache», S. 40).
2 Лучшим образцом мейевского социологизма может служить,
пожалуй, его «Esquise d'une histoire de la langue latine», 2 изд., 1931,
которую сам автор в предисловии рекомендует следующим образом: «...je
me suis efforce de montrer ici comment les evenements historiques et les
etats successifs de la societe ont en quelque mesure determine le
developpement de la langue». «Социологические» рассуждения автора, до
крайности банальные и поверхностные по существу, оказываются, однако,
вполне «целеустремленными»: они имеют целью главным образом по-
253
казать превосходство и особые качества «индоевропейской
аристократии».
3 В историческом обзоре теорий фонетических изменений мы
следуем в основном Wechssler'y «Giebt es Lautgesetze?» (Festgabe fur
Hermann Suchier, 1900) и E. Hermann'y «Lautgesetz und Analogie», 1931,
куда и отсылаем тех, кто хотел бы' получить более точные фактические
и библиографические данные.
4 Впрочем, о географических, климатических и «политических»
условиях говорил еще в весьма туманной форме «основоположник»
Port («Etymologische Forschungen», II2, S. I).
5 Наличие тупика не отрицают и многие из западных лингвистов:
«Wir sind mit der Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze in eine Sackgasse
geraten. Unsere Methode bedarf dringend der Verbesserung» (E. Hermann
«Lautgesetz und Analogie», 1931).
6 Нашему взгляду на роль семантики в звуковом развитии
языка полностью отвечает так называемая фонемологическая теория,
по которой каждая языковая среда различает звуки речи не по их
артикуляционным и акустическим качествам, а лишь в меру
необходимости различать значения слов. Отчетливо сформулированная
еще лингвистом-практиком кавказоведом Усларом и развитая позднее
школой Бодуэна де Куртенэ, эта теория представляет одно из тех
положительных и ценных достижений старой лингвистики, которые_
бесспорно войдут в инвентарь нового языкознания. Больше того,
только в новом учении фонемологическая теория получает свое настоящее
место. Если в старой лингвистике она носила эмпирический характер,
то в новом учении она получает принципиальное теоретическое
значение, как одно из подтверждений общего тезиса об организующей
и ведущей роли семантики в развитии языка.
7 См. ниже статью «О перекрестных изоглоссах».
Язык и мышление, I, 1933.
О ВАРИАТИВНОСТИ
СОНАНТОВ
Та группа фонем, которая зовется сонантами (п, m \ г,
l\y, w), занимает в звуковой системе языков особое
положение. Она как бы балансирует между гласными и
согласными. В некоторых языках они и впрямь могут
выступать то как гласные, то как согласные. Но есть
у них еще одна особенность, которой уделяется меньше
внимания: внутри группы сонантов наблюдается большая
вариативность, они часто заменяют друг друга.
Наиболее распространенные виды вариативности в и.-е.
(также в картвельских) языках: r\\l, m\\n, m\\w, r\\n, 1\\п.
Но встречаются и любые другие взаимозамены: w\\y, l\\w,
l\\y, n\\w, r\\m, l\\m, r\\w, y\\n.
вариативность m\\w
В своей известной книге о происхождении
индоевропейского склонения Ф. Шпехт приводит, между прочим,
ряд случаев, когда в одной и той же основе чередуются
m и w (и):
др.-инд. 'syama др.-инд. syava- 'темный';
лит. sifmas рядом с лит. sifvas 'серый';
др.-инд. rama- 'темный' — лат. ravus 'серый';
лат. йтео, umidus рядом с uveo, uvidus;
др.-инд. kfcmi-, лит. kirmis — слав, съгуь;
тох. В solme — др.-инд. sarva 'весь';
лит. pirmas — слав, ргъуъ 'первый';
латыш, tums — латыш, tuvs 'близко';
латыш, skilmis рядом с skihis 'желудок';
лит. pjumuo рядом с piuvis 'урожай' и др.1
Ф. Шпехт усматривает в этих примерах чередование
формантов -теп- и -и-. В некоторых случаях такое
чередование несомненно имело место, например, др.-инд.
svadman- 'сладость' — svadu- 'сладкий', гр. пснусгр —
255
др.-инд. рауи- 'пастух' и др.2 Но в других приводимых
Ф. Шпехтом парах представляется весьма сомнительным,
что элемент m имеет какое-либо отношение к форманту
-теп-. Перед нами скорее звуковое колебание m || w,
подлежащее рассмотрению на фонологическом, а не
словообразовательном уровне. В пользу этого говорит
красноречиво и один из примеров, приводимых самим Ф.
Шпехтом: индоиранский формант -vant- после основ на -и-
выступает как -mant-3. Непонятно, каким образом явно
позиционные варианты -vant- \\ -mant- оказываются для
Ф. Шпехта примером чередования разных формантов
-и- и -теп-. Пример чередования -vant- \\ -mant- наводит
на мысль, что и в других случаях вариативности m || и>
имело место чисто фонетическое позиционное колебание,
которое могло со временем переосмысляться
эвентуально в словообразовательные пары и использоваться
соответствующим образом. И когда мы рядом с др.-индийским
krmi-, перс, kirm, осет. kalm, литовским kirmis находим
слав, cbrvb, русское червь, действительно ли -vi-
представляет особый, отличный от -mi- формант? 4
Этот же вопрос возникает в ряде других случаев:
Лат. pulvis 'пыль' возводится к *plwi-; перс, palm 'пыль',
осет. f?lm 'марево' — к *p\mi-.
Др.-перс. ftarmi, осет. talm, название дерева,
предполагает общеиранское *srmi-. Однако в новоперсидском
находим sarv 'кипарис' (вместо ожидаемого *sarm), что
следует возводить к *srvi-.
Арийские и славянские названия муравья возводятся
к *morwi-, но в греческом находим (xvq^it]c.
В осетинском известно слово (?)rx?m. Оно
употребляется обычно в сочетании с tug 'кровь': tug"y rx?m и
означает 'кровавая рана, кровавые струпья, запекшаяся
кровь, сгустки крови'. Например: tugy rx?mtt?j j? ?rba-
xastoj 'его принесли (покрытого) кровавыми ранами'.
Группа гх восходит обычно к xr: syrx 'красный' из suxra- и т. п.
Стало быть, rx?m можно возводить к *xrami.
Параллельно употребляется в осетинском форма rx?w (tugy rx?w)
с тем же значением. Эта форма возводится закономерно
к *xravi-. Ср. авест. xrvi- (в сложных словах)
'кровавый', и др.-инд. kravis-, слав, krbvb, русск. кровь и пр. от
корня *kru-, *kreu-5. Здесь внутриосетинское колебание
rx?w || rx?m дает еще один пример вариативности w \\ т.
При этом в данном случае не приходится думать о
чередовании двух разных формантов. Основа *krew- пред-
256
ставляет сильную ступень основы *кги- и, стало быть,
делить приходится *krew-i-, a не *kre-wi-. Иными
словами, колебание w \\ m имеет место в корне, а не в форманте и,
тем самым, варианты rx?w и rx?m должны
рассматриваться как фонетические, а не словообразовательные.
Совершенно также колебание Муром // Муров в русском.
Таким образом, в самых различных индоевропейских
языках мы находим подтверждение вариативности и
взаимозаменимости сонантов m || н\ Поскольку, однако, ни
в осетинском языке, ни также, насколько можно судить,
в остальных языках, из которых взяты вышеприведенные
примеры, перебой m || w не является чем-то
закономерным и регулярным, остается думать, что наблюдаемые
случаи взаимозамены m и w отражают древнюю
вариативность этих сонантов, оставившую след в единичных
фактах отдельных языков6. И когда в и.-е. языках в
значении 'мы' распознаются две формы, *mes и *weis, встает
вопрос, не являются ли они вариантами одного прототипа.
ВАРИАТИВНОСТЬ т\\п
Колебание между двумя носовыми сонантами
иллюстрируется многочисленными примерами из ряда
индоевропейских языков. В греческом и в большинстве других
и.-е. языков конечный -т перешел в -п 7. В индоиранских
(как и латинском) конечный -т удерживается. Но и тут
есть исключение: в дигорском диалекте осетинского языка
конечный -т переходит в -п так же, как, скажем, в
греческом: поп из пот 'имя', c?w?n из c?w?m 'мы идем'
и т. п. Не словообразовательным, а фонетическим
является колебание формантов -по- \\ -то- в др.-инд. budhna-,
др.-сев. botn, нем. Boden рядом с др.-в.-нем. bodam, др.-
сакс. bodom, англ. bottom 'низ' и пр.
Перебой п || m наблюдается в отдельных случаях также
в начале и внутри слова: Иран, magna- 'нагой' из nagna-,
иран. тапа-, слав, тепе при древнеиндийском mama
'меня'. Не исключено, что и.-е. отрицания ne и те
представляют варианты одной и той же негативной частицы.
Нередко колебание п \\ m в личных именах: осет. Mamsyr
из араб. Mansur, Xarum из араб. Harun, Mik'it из русск.
Никита, Mestor вместо Nestor, русск. и украин. Микола
вместо Никола.
В осетинском отмечены также случаи
диссимилятивной субституции т-^п в некоторых заимствованиях,
9 В. И. Абаев
257
например, Saniba из груз. Sameba 'Троица'. Dzanasp'i
личное имя из иран. Jamaspa (через грузинское
посредство?). В арийском обычен переход m в п перед t, th, d,
dh, s, z: др.-инд. gantu, авест. jantu 'пусть идет', от garn-,
авест. (гат.) dang 'дома' (род. падеж) из *dams и т. п.
В авестийском встречаем нередко в исходе -т вместо
ожидаемого -п: asaum (=asavan) 'праведный' (vocativ),
патат (—патап) 'имена', уzaram (=yzaran) '(пусть)
потекут' (conj) и дрЛ Когда мы находим в арийском
глаголы гат- и гап- в близких значениях 'покоиться',
'наслаждаться' и пр. или кат- и кап- в значении 'желать', то
перед нами, очевидно, не разные корни, а варианты одного
корня. Фонетическими вариантами, воспринимаемыми
ныне как словообразовательные, являются и такие пары,
как лит. rainas \\ ralmas 'пестрый'. Ср. также лат. peregrlnus,
итал. pellegrino -»- др. в. нем. piligrim 9.
ВАРИАТИВНОСТЬ г\\п
Вариативность этих сонантов иллюстрируется такими
фактами, как чередование формантов -го- \\ -по- без
существенного изменения значения; ср., с одной стороны,
гр. O(uqov, арм. tur, слав, аагъ, с другой — лат. donum,
др.-инд. danam, ирл. dan 'дар'; гр. XenQa 'проказа' и иран.
*rafna- (осет. ryn / run) 'болезнь'; лат. plenus и pierus,
лат. ordinem — франц. ordre, лат. Londinium — франц.
Londre, лат. nominem — испан. nombre, лат. luminem —
испан. lumbre.
Наречие места со значением 'теперь' звучит в
древнеиндийском пйпат, в литовском nunai, в славянском
пупе, но в древнеперсидском пйгат, в авестийском пигэт,
в осетинском пуг / пиг, согд. nwr. Ср., далее, авест.
baevar- и baevan- 'десять тысяч', ауаг- и ауап- 'день',
zafar- и zafan- 'пасть', karsvar- и karsvan 'область'; авест.
snavar-, др.-инд. snavan- 'жила', гот. skeinan 'сиять' при
skeirs 'ясный', осет. rim?xsun и nim?xsun 'прятать' и
др. Ср. также русск. марганец из *манганец, осет. nantixwar
рядом с nartixwar 'кукуруза', осет. ахиг 'ученый' из перс.
ахйп.
В свете этих фактов следует интерпретировать и так
называемое гетероклитическое склонение, когда одна и
та же основа имеет в исходе то -г-, то -п-\ др.-инд. ahar-
'день', инструм. пад. ahna-, авест. hvar- 'солнце', род. пад.
(гат.) xveng и др.
258
Здесь первоначально имело место, надо думать, чисто
фонетическое «безразличие» и колебание между г и л,
которое лишь со временем получило морфологическое
осмысление, в результате чего один вид основы
закрепился за одними падежами, а другой — за другими.
Замена латинского п сонантом г характерна для
румынского:
лат. carbone — рум. carbure
лат. luna — рум. lura
лат. venenum — рум. verin и др.
Бывает и обратная замена:
лат. согопа — рум. сипипа
лат. farina — рум. fanina (G. Bonfante, «Studi
romeni», Roma, 1973, pp. 11—29).
ВАРИАТИВНОСТЬ 1\\п
Этот вид чередования наблюдается как в корнях, так
и в формантах.
В корнях: др.-инд. liksa || niksa- 'гнида'; ос. lasyn
'тащить' из иран. *nas-, и.-е. *nes- 'нести'; лат. alius — др.-инд.
апуа- 'другой', лат. alter — иран. antara- id.
В формантах: гр. extvog — нем. Igel 'еж'; осет. stojn?,
чешское stajna при русском стойло; лат. pecunia 'деньги'
рядом с peculium 'имущество'.
В заимствованиях из латинского германские языки
нередко дают / вместо п: лат. asinus — гот. asilus 'осел'
лат. catinus — нем. Kessel 'котел', лат. cuminum — нем.
Kummel 'тмин'. Ср. русск. кандалы — укр. кайдани из
араб, qajdani. Ос. malus?g 'подснежник' при арм. manusak
'фиалка'; ос. fanfal из русск. фонтан. Обратная
субституция также наблюдается иногда в осетинском, чужое
/ заменяется п: груз, cxrila — осет. syxyrna 'решето', Darial
'ущелье' ->- Dairan. Имя вавилонского царя Набонида
Геродот A, 74, 188, 191) дает в форме La?uv4TOg.
В осетинском есть примеры живого колебания и
перебоя п || /: nysan (mysan) и lisan 'мишень', lamaz из
namaz 'мусульманская молитва', ирон. ul?fyn || дигор.
in?fun 'дышать' и др. Ср. также колебание: гот. himins —
др.-в.-нем. himil 'небо'. Итал. Bologna из Bononia, veleno
'яд' из venenum, русск. сумлеватъся вм. сомневаться.
Сицилия BixeAIT]) «прежде называлась Sixavlrj» (Геродот,
VII, 170). Перс, nilufar 'кувшинка' из араб, nainufar (фр.
nenuphar). Русс, гармолъ рядом с гармонь. Осет.
sk'w?nxun || sk'w?lxun 'отличаться'.
9* 259
ВАРИАТИВНОСТЬ /IIГ
Колебание I \\ г отмечается в индоевропейских языках
с древнейших времен. Корни с исходным -г (*ker-, *ger-,
*der-) могли иметь варианты с исходным -/ идентичного
или близкого значения (*kel~, *gel-, *del-) 10. Формант,
образующий имена действующего лица, имел еще в
общеиндоевропейском два равноправных варианта: -ter- {-tor-)
и -tel-; ср., с одной стороны, лат. pictor 'художник', с
другой, того же корня русское писатель. Ср. также, с
одной стороны, русск. стебель, с другой — словен. steber
'столб', лит. stemberys 'стебель' и пр. (Petersson,
Studien uber die i. g. Heteroklisie, Lund, 1921, 89). В
румынском латинское I между гласными дает г.
Индоиранские языки прошли через полосу ротацизма,
т. е. сплошного перехода / в г: и.-е. *1еик арийское *гаик-
'свет', и.-е. *vlk°o- — арийское *vrka- 'волк' и др. Но не-
о о
которые из этих языков (санскрит, персидский) в
отдельных словах удерживают индоевропейское /. В других
фонема / вновь возникает в результате ареальных
контактов с европейскими или иными языками (осетинский) .
В осетинском г нередко переходит в / в определенных
фонетических условиях: перед i {lim?n 'друг' из *friyama-
па-), по диссимиляции (styld?r из *styrd?r <. Иран.
*sturatara- 'больше').
ВАРИАТИВНОСТЬ w\\y
В начальном положении сонант w перед передними
гласными может чередоваться с у. Эту вариативность
можно назвать тохарско-дигорскои изоглоссой, так как
она особенно наглядно выступает в тохарском Вив ди-
горском диалекте осетинского языка. В тохарском В
сонант w перед индоевропейскими е, i часто переходит в
у. Например, тох. A want — тох. В yente 'ветер', тох.
A was — тох. В yasa 'золото', тох. A walts — тох. В yaltse
'тысяча', тох. A wotak — тох. В yatka 'приказал'. Точно
такую же картину наблюдаем в дигорском диалекте
осетинского языка. Рядом с wedug имеем jedug 'ложка',
рядом с wes — jes 'прут', рядом с winun — jinun
'видеть' и др.12
Колебание w \\ y имеет место также в исходе и внутри
слова в некоторых языках, например, в персидском: перс.
xuda (у), пехл. xwatay 'бог' из xwataw (*hwatawan-), перс.
260
kay (kai) 'князь' (Kay Xusraw, ср. арм. Kav Xosrov, авест.
Kava Xusrava) перс, alayad 'пачкает', sarayad 'поет', sitayad
'славит', ziyad 'живет', goyad 'говорит', от основ, alav-, srav-,
stav-, J/v-, gaub- (-t-gdw-).
Ср. также афган, zoyal рядом с zoval 'жевать',
белудж. Jciyiiy при перс, javidan id., др.-инд. manayi 'жена
Ману' рядом с manavi (Grundriss der iranischen
Philologie, I, 2, 47).
На осетинской почве можно отметить ирон. obaw
'курган' рядом с дигор. oba] 'склеп' (из тюркского oba).
ВАРИАТИВНОСТЬ l\\w
Широко распространена в славянских языках. «В
ряде славянских языков / изменился в w или
представляет различные стадии перехода к w. Этот процесс
известен многим славянским языкам. Во многих русских
говорах находим w на месте / в конце слога. Известно
данное явление ряду русских говоров и в положении перед
гласным звуком. Последовательно / в конце слога
переходит вив белорусском языке. Хорошо известно
данное явление польскому языку» 13. Учет этой
особенности славянских языков позволяет с уверенностью
устанавливать некоторые этимологии, которые иначе казались
бы произвольными. Так, отмеченное в новгородском
русском говоре давись 'барашек одногодок' оказывается
неотделим от осетинского dalys/dalis 'барашек от 6
месяцев до 1 года'. Ср. в пермских языках колебание s'ul — suv
'кишка' и др. (Л ы т к и н. Исторический вокализм
пермских языков, с 210). От указанных славянских фактов
ничем принципиально не отличается развитие l-+w (и)
в старофранцузском: лат. alba^aube, лат. salmone-^-saumon,
лат. salvare-^-sauver и т. п. Обратное развитие w-+l имеем,
например, в осет. ?vdil 'демон' рядом с этимологически
правильным ?vdiw.
НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ СЛУЧАИ
ВАРИАТИВНОСТИ СОНАНТОВ
п || w: и.-е. *oi-no- (*ei-no-) 'один' (гот. ai ns и пр.)
— и.-е. *oi-wo- (*ei-wo-) id. (ав. aeva, греч. oioc, из *oiwos
и пр.); слав, sbrna — др.-прусс. sirwis 'лань', лат. cervus
'олень'; лит. kalnas 'гора' — лит. kalva 'холм'; осет. (ирон-
ский диалект) xs?nk' — осет. (дигорский диалект) xs?wk'?
261
'блоха'; осет. (ирон.) b?lon — осет. (дигор.) bcel?w
'голубь'; осет. tintyk'i из *tiwtyk'i (груз, tivtik'i) 'козий
пух', 'сукно из козьего пуха'.
г || га: др.-инд. aritram — греч. eQexu-ov 'весло';
/ II га: груз, qvincili — осет. qync'ym 'огорчение', русск.
(диал.) челбур \\ чембур.
у || /: s?toj рядом с s?tol 'слюнтяй'; русск. горностай
рядом с горносталь; франц. feuille (foyya) из folium, meilleur
из melior, tailler из taliare и т. п.
г || w: слав, аагъ — лит. dovis 'дарение'. В некоторых
припамирских иранских языках развитие r->w перед
согласным обычно: язг. vawz 'изголовье' из *bfza-, руш.
vawzn, язг. vawz 'береза' из *barzni-, руш. wawn, язг.
wawn, хуф., барт. wown из *varna- 'шерсть', руш. mawn,
язг. mawn хуф. mown 'яблоко' из *amarna- и др.
(Morgenstierne, «Henning Memorial Volume» pp. 337, 341). Это
явление вполне аналогично развитию l-*-w в славянских
и французском (см. выше);
у || п: укр: кайдани — русск. кандалы (из араб, qaidani,
см. выше); русск. гайтан рядом с гантан, гантай; арм.
ауг из *апёг 'мужчина'.
Для некоторых индоевропейских корней имеются
варианты со всеми сонантами в исходе основы. Например,
от *sta- 'стоять', 'ставить' имеем *stay-, *staw-, *stal->
*star-, *stan-, *stam-H.
Литовский язык справедливо считается архаичнейшим
из живых и.-е. языков. И характерно, что именно в этом
языке наблюдается вариативность и взаимозамена
сонантов в самом широком масштабе. Например, от корня
со значением 'бить', 'рубить', 'колоть', 'резать' в
литовском распознаются варианты *(s)kei-, *(s)kew-, *(s)kel-,
*(s)ker-, *(s)ken-, * (s)kem-]5.
Приведенные выше факты, взятые из разных
хронологических уровней, кажутся на первый взгляд весьма
разнородными и не сводимыми к одному знаменателю.
Тут и словообразовательные, по видимости, варианты
(гр. oouqov || лат. donum, др.-инд. syava- \\ syama- и т.п.),
тут и парадигматические чередования г || п в основах
некоторых имен, тут и альтернации табуистического (?)
характера, как др.-инд. liksa- || га&га-'гнида', тут, наконец,
и комбинаторные фонетические явления, вроде
диссимиляции носовых, как в осет. nim?xsun || rim?xsun
'прятать'.
С одной стороны, имеем, как будто, морфонологиче-
262
ские чередования, где замена одних сонантов другими
функционально обусловлена и оправдана. С другой —
чисто фонетические вариации, не связанные ни с какой
функциональной нагрузкой. Казалось бы, функциональные
альтернации сонантов надо строго отделять от
нефункциональных.
Дело, однако, в том, что функциональные по
видимости чередования сонантов в словообразовании и
парадигматике оказываются, при ближайшем рассмотрении,
избыточными с морфонологической точки зрения и,
стало быть, их функциональная нагрузка — иллюзорной.
В самом деле, в таких парах, как др.-инд. 'syava- ||
syama- 'темный', лит. sirvas \\ sirmas 'серый', гр. ouqov ||
лат. donum 'дар' и т. п. фонетическая
('словообразовательная') альтернация не связана ни с какой
семантической альтернацией. Пример с осетинскими rx?w (<— *хга-
wi-) и rx?m (*xrami-) 'кровавая рана', где -w- и -т-
явно принадлежат корню, а не форманту, дает полное
право и остальные чередования этого рода рассматривать
как фонетические, а не морфологические.
Избыточным с морфонологической точки зрения
является и парадигматическое чередование г \\ п в основах
некоторых имен. Инструментальный падеж от др.-инд.
ahar- 'день' противостоял бы остальным падежам и в том
случае, если бы он звучал *ahru, а не ahna. Если бы чередова-'
ние г|| п с самого начала несло парадигматическую
нагрузку, то в одном и том же падеже не могло быть
колебания г || п. Между тем такое колебание наблюдается.
Так, в Авесте от ауаг- \\ ауап-'яень' имеем винит, падеж
множ. числа то ауап, то ауагэ. Не естественно ли
думать, что первоначально чисто фонетическое, позиционное
чередование со временем получило видимость
морфологического 16.
В тех случаях, где различие сонантов связано с
семантическими (функциональными) различиями, встает
вопрос, не имеем ли мы тут вторичное использование
фонетических вариантов для морфосемантических
различий. Такая гипотеза позволяет рассматривать все
наблюдаемые случаи вариативности сонантов как наследие
весьма древнего состояния, когда фонетическая категория
сонантности могла реализоваться в шести разных
вариантах: у, w, г, I, п, т. Эти варианты могли чередоваться
как аллофоны одной фонемы. Постоянно наблюдаемые в
самых различных и.-е. языках колебания между сонан-
263
тами следует оценивать в свете этого древнего
состояния, пережитки которого сохранились и тогда, когда
различия между сонантами использовались уже для
функциональных различений.
Как объяснить, например, широкий диапазон
изменчивости сонантов в таких словах, как русс, кандалы
или славянское gornostajb. От первого слова имеются
варианты каданы, кайдалы, канданы, кандалы. От
второго горностай, горносталь, горностарь, в чешском hramo-
styl. Такие сонантические капризы возможны потому, что
нет риска смешать любой из этих вариантов с каким-
нибудь другим словом, т. е. нет опасности омонимии. Но
если так, то мы вправе думать, что когда состав
лексики был ограничен и опасность омонимии невелика,
взаимозамена сонантов была обычным явлением и как бы
не замечалась говорящими. v
Широкая вариативность сонантов приводит к мысли,
что протоиндоевропейский язык трактовал разные
сонанты как взаимозаменимые варианты одной фонемы, что
он был не только моновокалическим, как это теперь
многими признается, но и моносонантическим. Различия
сонантов по месту и способу артикуляции не имели
фонематического значения и были обусловлены
фонетической ситуацией. Сонантность, как таковая, была
единственным релевантным признаком. Этот единый
неопределенный сонант мог приобретать, в зависимости от
фонетических условий и артикуляционных навыков, ту
или иную окраску и давать разные варианты. С
течением времени эти варианты, все более отрабатываясь,
стали использоваться для смыслоразличительных целей,
т. е. становились фонемами, так же, как становились
самостоятельными фонемами разные варианты
первоначально единого протоиндоевропейского гласного.
Как ни далеко отошли современные и.-е. языки от
первоначального состояния, все же и в них, как мы
видели на некоторых примерах, постоянно наблюдаются
случаи вариативности и взаимозамены сонантов. А это
говорит о том, что вариативность сонантов лежит, если
можно так выразиться, в природе человеческой
фонетики. Она присуща не только индоевропейским языкам.
Не имея в виду и не претендуя обозреть эту проблему
в мировом масштабе, я хотел бы отметить аналогичные
явления еще в одной группе языков: в южнокавказской
(картвельской). Специфическая структурная близость
264
этих языков к индоевропейским встала в новом свете
после опубликования известной работы Т. Гамкрелидзе
и Г. Мачавариани 17. В свете этой близости особый
интерес приобретают общие для обеих групп типы
чередования сонантов. Они давно наблюдены и уже
привлекли внимание специалистов картвелистов. Г. Детерс
посвятил специальную статью чередованию п \\ г в
грузинском 18. Одна и та же основа может исходить на -п,
если она выступает как глагольная, или на -г, если она —
именная: $win 'злиться' || zwir- гзлоба', sfwin-, sfwen-
'свистеть' || sfwir- 'свирель'fi zmar (si-zmar-i) 'сновидение'
и $тап- (me-zman-ebis) 'мне снится' и т. п. Ср. такое
же соотношение между глагольной и именной основой в
гот. skeinan 'сиять' \\ skeirs 'ясный'. В аналогичной
ситуации наблюдается также чередование п \\ I: груз, ^in- 'спать'||
$il- 'сон' 19. Фонетическими (а не словообразовательными)
вариантами являются груз, suli 'душа', 'дух' и suni
'запах'. В соответствии: груз. gr$-el- \\ мегр., чан. gin^-e
'длинный' по мнению Т. Гамкрелидзе и Г. Мачавариани
в мегрелочанском имело место сперва выпадение г, а
затем позднейшая вставка п 20. Не естественнее ли
думать, что и здесь отражена исконная вариативность г \\ я?
Весьма поучительны колебания п\\1в начальном
положении: груз, nems-i || чан. lems-i 'игла', груз, nedl-i \\
мегр. ladir-i 'сырой', груз, nerc'qw-i || мегр. lerc'qw-a
'плевок'. То же в диалектах груз, языка: Uf га || niVra
мера веса, с'el-i II с'en-i 'поясница' .
Редкий тип чередования m \\l иллюстрируется таким
примером, как груз, katam-i, мегр. kotom-i || сван, katal
'курица'.
К числу регулярных звуковых соответствий между
грузинским, с одной стороны, и мегрелочанским, с другой,
относится закономерность, в силу которой грузинскому /
отвечает в определенных условиях мегрельское и чанское г:
груз, swil-i || чан. skir-i 'сын',
груз, swel-i 'косуля' || мегр. skwer-i 'олень',
груз, sul-i || мегр.-чан. sur-i 'душа',
груз, gul-i || мегр.-чан. gur-i 'сердце',
груз, saxl-i || мегр.-чан. oxor-i 'дом',
груз, к'Ide || мегр. к'ir da, k4rde 'скала' и др.
Здесь мегрелочанский ротацизм в рамках
картвельской группы перекликается с индоиранским ротацизмом
в рамках индоевропейской группы.
265
Далеко идущая близость между индоевропейскими и
картвельскими языками в разных аспектах»
распространяется, как видим, и на вариативность сонантов и
позволяет высказать догадку, что и картвельские языки
восходят к такому прототипу, где разные сонанты
трактовались как аллофоны одной «сверхфонемы» и лишь
постепенно приобретали качества самостоятельных
фонем.
P. S. Профессор А. С. Чикобава, крупнейший знаток
кавказских языков, ознакомившись с содержанием
настоящей статьи, имел любезность высказать (в письме)
несколько замечаний.
«Чередование сонантов, бесспорно, процесс
фонетический. Вопрос лишь в том, насколько безразлично
направление, в котором происходит изменение одного
сонанта в другой. В картвельских языках давно отмечено
чередование n-^-l, l->w (H. Марр, В. Топуриа). В
мегрельском известен переход т-^п перед s (carum-s-^-carun-s).
Дагестанские языки могут предложить иллюстративный
материал для чередований г || /, l\\ r (в частности в
аварском). Но и здесь направление процесса не безразлично».
Примечания
' S р е с h t F. Ursprung der indogermanischen Deklination (Gottingen,
1947), 179—183.
2 Сюда же иран. caiman др.-инд. caksus- 'глаз'.
J Wackernagel-Debrunner, Altindische Grammatik H, 2, § 708, a также
KZ 43, 277. Такой же позиционный перебой w || m имеем в хеттском
taru-maki- 'дятел' (вместо taru-waki-) от tara- 'дерево' и wak- 'бить',
букв, 'wood-pecker' (Hoffпег, Orientalia, v. 35, f. 4, 1966, 396). В
новоперсидском форманты -mand и -vand выступают как взаимозаменимые:
xiradmand || xiradvand 'разумный'. Об аналогичном колебании -man- \\ van
(др.-инд. jariman-, перс, zarman-, ав. zaurvan-) см. Wackernagel-Debrunner,
II, 2, § 721 d, e.
4 Pokorny, 649 («...mit eigenartigem -vi- Suffix»). Cp. Brugman2, II,
1, 254; Berneker, 173; Vasmer III, 318.
5 Pokorny, 621.v Любопытно, что в осетинском сохраняется
древнейшее значение «dickes stockendes Blut, geronnen (vom Blut), Kruste»
(Pokorny, i bid).
6 Некоторые этимологически неясные слова и формы наводят на
266
мысль, что в них произошла замена одних сонантов другими. Taxjv
авест. zarmaya- 'весенний сезон' следует, быть может, исправить на
*zarvaya- от *zarva- 'желтый', 'зеленый', 'зелень' (*zarvaya 'сезон
зелени'); ср. лит. zelvas 'зеленый', герм. *gelwo (нем. gelb) 'желтый',
лат. helvus 'янтарно-желтый', осет. z?r?ston (из z?rw?ston 'место
(ston), (заросшее) травой (z?r?)\
7 П о р ц и г В. „Отражение конечного -m", в книге «Членение
индоевропейской языковой общности» (М., 1964), 121 —123.
8 Chr. Bartholomae. Grundriss der iranischen Philologie, 1. Band,
1. Abteilung (Strassburg, 1895—1901), p. 179.
9 См. также T o f a z z o 1 i Memorial Volume De Menasce, pp. 342-
343.— Откупщиков Ю. В. Из истории индоевропейского
словообразования. Л., 1967, с. 166.
10 Persson Р. Studien zur Lehre von der Wurzelerweiterung und
Wurzelvariation (Uppsala, 1891), 30. Его же Beitrage zur indogermanischen
Wortforschung (Uppsala — Leipzig, 1912), 176, 575—576.
Ю.В.Откупщиков, Из истории индоевропейского словообразования. Л., 1967,
с. 165—166.
" А б а е в В. И. Скифо-европейские изоглоссы. М., 1965, с. 35—41 —
«Within Olndian the variation of r and / is constant: 1. initially loman-,
roman-, 'hair', raghu-, laghu, 'light'; 2. medially puru-, pulii- 'much',
gira-, gila- 'swallow', mura-, rnula- 'root', dar-, dal- 'split', sro- 'to hear',
slbka- 'fame', cira- 'rags', caila- 'cloth'; 3. in suffixes srirM-, srila- 'fair'»
(H. W. Bailey, Henning Memorial Volume, London, 1970, p. 32).
'2 A бае в В. И. Скифо-европейские изоглоссы М., 1965, с. 137.
13 Бернштейн СБ. Очерк сравнительной грамматики славянских
языков М., 1961, с. 301.
14 Откупщиков Ю. В., цит. соч. 180—185.
15 Там же, с. 166—176.
16 Говоря о случаях взаимозамены -t и -к в именных основах
некоторых и.-е. языков, Э. Бенвенист замечает: «Следует подчеркнуть
чисто фонетический характер выбора между -t и -к в качестве
конечного звука санскритских существительных среднего рода; каждый
из них употреблялся в тех условиях, при которых мы не находим
другого. Если слово содержит зубной, присоединяется заднеязычный,
и наоборот» (Индоевропейское именное словообразование. М., 1955,
с. 54). Нам представляется, что чисто фонетическим было вначале и
чередование г || п, но, будучи более древним, оно успело морфологи-
зоваться, чего не случилось с колебанием -t II -к.
17 Гамкрелидзе Т., Мачавариани Г. Система сонантов
и аблаут в картвельских языках. Тбилиси, 1965 (на грузинском языке
с пространным русским изложением). См. также К. Н. Schmidt, «Beitrage
zu einer typologisch-vergleichenden Grammatik der indogermanischen und
siidkaukasischen Sprachen», MSS. 22 A967), 81—92.
267
18 Deeters G. «Uber einen n||r Wechsel im Georgischen»,
'Sybaris', Festschrift H. Krahe. Wiesbaden, 1958, 14 ел.
19 Гамкрелидзе Т., Мачавариани Г. Цит. соч., 312.
'20 Там же, с. 406.
21 Там же, с. 129.— Стоит отметить, что в некоторых случаях
подобные чередования выявляются между картвельским, с одной стороны,
и некоторыми северокавказскими языками, с другой, напр., груз, xwal —
убых. k'wana 'завтра'. Ср. также в аварском языке в Дагестане nakaj
рядом с lakaj 'сафьян'.
Folia Unguistica,
1973, t. VI, № 1/2.
О ЯЗЫКОВОМ СУБСТРАТЕ
Явление субстрата возникает в тех случаях, когда имеет
место массовое усвоение коренным населением чужой
речи в результате, скажем, завоевания, этнического
поглощения, политического господства, культурного
преобладания и пр. При этом местная языковая традиция
обрывается, и народ переключается на традицию другого
языка.
Подобные факты не раз происходили в исторические
времена, и есть все основания думать, что и в
доисторические эпохи они были обычным явлением. Так, в
результате римского завоевания перешло, на латинский
язык коренное кельтское (галльское) население Франции
и коренное иберийское-население Испании. На этой почве
образовались современные французский и испанский
языки, которые продолжают традицию не местных
кельтских и иберийских наречий, а традицию латинского. Сам
латинский язык в Италии распространился в
результате поглощения местных (италийских, этрусских и др.)
наречий, которые полностью исчезли.
Если бы с языком дело обстояло так же, как,
скажем, с костюмом — снял один костюм, надел другой,—
то мы не находили бы в победившем языке никаких
следов языков побежденных, и проблемы субстрата как
лингвистической проблемы вообще не
существовало бы.
В действительности это не так. Язык, помимо того,
что он связан с определенной артикуляционной базой,
имеет слишком глубокие корни в жизни народа,
слишком глубоко и интимно связан с его хозяйственными и
социальными навыками и традициями, с его психическим
складом. Поэтому переход с одного языка на другой есть
процесс сложный и трудный. Как бы велико ни было
субъективное желание овладеть новым языком в
точности и совершенстве, это желание не реализуется полностью.
Какие-то качества родного языка в фонетике, лексике,
269
семантике, типологии удерживаются помимо воли и
сознания говорящих и продолжают «просвечивать» сквозь
наложившуюся оболочку новой речи. В результате
воспринятый чужой язык приобретает в данной среде
особый своеобразный характер, отличный от того, какой он
имел в исходной среде. Это своеобразие мы и
объясняем наличием здесь иноязычной подпочвы, или,
пользуясь латинским термином, субстрата. Субстрат —
это подпочвенный слой языка.
Не следует думать, что субстрат — это нечто такое,
что имело место только в далеком прошлом, что
соответствующие процессы не могут быть предметом
непосредственного наблюдения в настоящем. На наших
глазах постоянно происходит такое же взаимодействие между
языками. Все народы Советского Союза пользуются
русским языком. Но в каждой национальной среде
русская речь имеет свой особый оттенок, который обычно
называют «акцентом». Украинец говорит по-русски с
украинским «акцентом», казах — с казахским,
азербайджанец — с азербайджанским, грузин — с грузинским и т. д.
Под «акцентом» разумеется обычно произношение. Но
более глубокие наблюдения покажут, что, помимо
особенностей произношения, русский язык в каждой местной
среде приобретает некоторые своеобразные черты также
в лексике, семантике, синтаксисе. Если бы со временем
эти народы перешли целиком на русский язык, мы
получили бы столько разновидностей русской речи,
сколько имеется этих народов. И мы говорили бы тогда о
русском языке на украинском субстрате, о русском
языке на казахском субстрате, на грузинском, армянском
и т. д.
Из сказанного выше должно быть ясно, что субстрат
не есть понятие чисто лингвистическое. Явление
субстрата предполагает этногенетический процесс,
сопровождающийся определенными языковыми последствиями.
Выдающийся интерес проблемы субстрата заключается,
между прочим, именно в том, что это — одна из тех
проблем, где наиболее очевидным и осязаемым образом
история языка переплетается с
историей народа.
В самом деле, когда мы говорим, например, о
кельтском субстрате во Франции, мы прежде всего
констатируем, что французы, несмотря на свой романский язык,
связаны генетически с кельтским народом — галлами ,
270
населявшими Францию до римского завоевания; этот факт
не остался без влияния и на их язык.
Языковой субстрат предполагает субстрат этнический.
Первый без второго не имеет смысла. И хотя мое
сообщение озаглавлено «О языковом субстрате», точнее было
бы сказать: о языковых последствиях этнического
субстрата.
Если бы наличие этнического субстрата не влекло
никаких языковых последствий, то понятие субстрата так
и осталось бы чисто этногенетическим понятием, не
имеющим никакого лингвистического содержания. Для того,
чтобы понятие субстрата получило права гражданства в
языкознании, нужно доказать, что, во-первых, наличие
этнического субстрата определенным образом отражается
на языке и что, во-вторых, языковые последствия
этнического субстрата по своему характеру отличаются от
двух других признаваемых сравнительным языкознанием
видов межъязыковых связей: родства и заимствования.
На материале осетинского и некоторых других языков
я попытаюсь показать, что так оно и есть в
действительности. Но предварительно — несколько общих
замечаний.
Поскольку лингвистическое содержание понятия
субстрата раскрывается в его противопоставлении родству
и заимствованию, необходимо уяснить содержание двух
последних понятий.
Научные представления о языковом родстве и языковом
заимствовании целиком связаны с основными
положениями сравнительно-исторического языкознания и
генеалогической классификации языков.
Основное понятие сравнительно-исторического
языкознания — это понятие системы, унаследованной путем
непрерывной преемственности от исходного состояния,
называемого языком-основой. Родственными называются
языки, имеющие в качестве исходной системы один и тот
же язык. Все, что в каждой отдельной системе
восходит к исходной системе или возникло в ней в силу
внутренних законов развития,— есть основное, оригинальное,
«свое». Все, что воспринято ею извне, есть
заимствованное, «чужое».
К субстрату, строго говоря, неприменимо ни понятие
«своего», ни понятие «чужого». Субстратные элементы не
могут быть названы «своими», так как они не
принадлежат к исходной системе, не связаны с ее традицией. Но
271
они не могут рассматриваться и как «чужие», т. е.
заимствованные, так как никакого внешнего заимствования
при этом не происходит; субстрат — это не то, что
усвоено извне, а то, что данная среда удержала из своей
прежней системы после того, как она перешла на новую
систему.
И субстрат, и заимствование представляют
проникновение элементов одной системы в другую. Но при
субстрате это проникновение несравненно глубже, интимнее,
значительнее. Оно может пронизать все структурные
стороны языка, тогда как заимствование, как правило,
распространяется только на некоторые разряды лексики.
Интимность и глубина сближают субстратные связи со
связями, основанными на родстве. И субстрат, и родство
предполагают этногенетические связи. В отличие от них
заимствование ни в какой мере не связано с этногенезом.
Когда мы пытаемся уяснить, в чем причина
своеобразия языковых последствий субстрата, уяснить, почему
эти последствия оказываются интимнее и глубже, чем
при заимствовании, даже самом интенсивном, мы приходим
к проблеме двуязычия. Субстрат связан с
переходом с одного языка на другой, процессом, как я
отмечал, сложным и трудным. Этот процесс предполагает, как
переходный этап, более или менее продолжительный
период двуязычия. А длительное двуязычие создает
предпосылки для весьма далеко идущего смешения и
взаимопроникновения двух языковых систем. Лингвистическую
специфику субстрата можно объяснить только на почве
двуязычия.
При заимствовании, как известно, никакого
двуязычия не требуется. Само собой разумеется, не всякое
двуязычие приводит к тем последствиям, которые характерны
для субстрата. Так, русско-французское двуязычие,
распространенное среди аристократической верхушки
русского общества в XVIII и XIX вв., не могло привести
к созданию особого смешанного русско-французского
языка как устойчивого образования. Почему? Потому,
что это двуязычие охватило лишь небольшую
социальную группу; русский и французский языки продолжали
жить своей жизнью, и никто, даже из самих «двуязычных»,
ни на минуту не терял сознания того, что существуют
два различных языка — русский и французский.
Но представим себе, что две взаимодействующие
этноязыковые единицы полностью взаимно поглощаются,
272
абсорбируются в процессе смешения, так что на данной
территории не остается носителей той и другой языковой
традиции в их чистом виде. В этих условиях неизбежно
ослабляется сознание языковой нормы, исчезает
возможность контроля «правильного» и «неправильного», «своего»
и «чужого».
А при отсутствии такого контроля и проверки в
значительной мере сходят на нет те преграды, которые обычно
мешают широкому проникновению элементов одной
системы в другую систему. Иначе говоря, создается
благоприятная обстановка для языкового смешения.
Проникновение элементов субстратного языка в
усваиваемый новый язык неизбежно в особенности потому,
что при двуязычии владение этим новым вторым языком
не бывает абсолютно полным и совершенным. В силу
такого неполного знания говорящая среда допускает
ряд неточностей, ошибок в произношении, формоупотреб-
лении, словоупотреблении, синтаксисе. Эти ошибки носят
не случайный, а закономерный характер, потому
что они вытекают из особенностей родной речи
говорящих. Стало быть, с этой точки зрения языковой
субстрат выявляется как совокупность
закономерных ошибок, которые делают
носители побежденного языка, переходящие
на новый язык.
Само собой разумеется, языковой субстрат не
сводится к одним ошибкам. В состав субстрата входит также
все то, что данная среда удерживает из своей родной
речи, потому что не находит для него эквивалента в
усваиваемом языке, а не только в силу плохого знания
последнего.
Высказывалось мнение, что признание субстрата как
составного элемента языковой системы, несовместимо с
основными понятиями сравнительно-исторического
языкознания. Это языкознание исходит из принципа единой
системы, наследуемой в порядке непрерывной
преемственности. Как примирить с этим допущение слияния в
одном языке двух линий преемственности? Понятия
«оригинального» и «заимствованного», «своего» и «чужого»
представляются неотделимыми от самой сущности
сравнительно-исторической концепции языка и, поскольку
субстрат не подводится ни под одно из этих понятий,
возникает вопрос, не выпадает ли вообще субстрат из
ведения сравнительно-исторического языкознания? Думать
273
так значило бы слишком ограничивать сферу применения и
задачи сравнительно-исторического метода. Основная задача
этого метода — построение научной истории языка. А раз так,
то ничто, составляющее элемент этой истории, не может
выпадать из компетенции сравнительно-исторического метода-
Если в процессе изучения истории языков всплыли факты,
не предусмотренные в «классическую» пору сравнительно-
исторического языкознания, то это значит, что понятия
той поры страдали известной ограниченностью и
недостаточностью. Эту ограниченность надо преодолеть.
Сравнительно-исторический метод обладает для этого
достаточной гибкостью и способностью к совершенствованию.
Неправильным было бы утверждение, что для
изучения субстрата требуется создание какой-то особой науки
или особой отрасли языкознания, выходящей из рамок
сравнительно-исторического метода, на том основании,
что при таком изучении приходится сравнивать также
неродственные языки. Ведь и при изучении заимствования
тоже приходится сопоставлять факты неродственных
языков. Но разве из этого следует, что заимствования
подлежат ведению не сравнительно-исторического
языкознания, а какой-то другой науки?
Нет спору, методы и приемы анализа субстратных
явлений пока еще менее совершенны, чем методы анализа
явлений родства и заимствования. Объясняется это
отчасти именно тем, что понятие субстрата вошло в
орбиту сравнительно-исторического языкознания позднее,
чем понятия родства и заимствования. Но дело,
по-видимому, не только в этом. Есть тут также специфические
трудности, о которых я скажу дальше.
Как бы то ни было, вопрос о месте субстрата в
системе сравнительно-исторического языкознания надо
решать в свете общих задач этой науки, а не с точки
зрения тех или иных трудностей метода. Во всякой науке
надо методы приспосабливать к задачам, а не задачи
к методам.
Задача же сравнительно-исторического языкознания
состоит, как я говорил, в построении научной истории
языков. Эта задача распадается в свою очередь на две
составные части. Во-первых, выявление и истолкование
общего; во-вторых, выявление и истолкование
особенного.
Могут сказать, что до настоящего времени
сравнительное языкознание занималось преимущественно
274
выявлением общего и что именно в этом заключается
его основная задача. С этим нельзя согласиться. Для
правильного понимания исторического развития языков
особенное не менее важно, чем общее.
Преимущественное внимание только к общему, только к тому,
что легко и без затруднений укладывается в схемы
сравнительной грамматики, есть та односторонность, тот
серьезнейший недостаток прежнего
сравнительно-исторического языкознания, без исправления которого эта
наука не может дальше успешно развиваться.
Классическая сравнительная грамматика, старательно
вскрывая общие элементы в родственных языках, ос-
/^"вляла в тени черты своеобразия и самобытности
каждого языка. Она не давала ответа, почему родственные
языки при всей своей близости и общности, так
непроницаемо различны и неповторимо индивидуальны. Между
тем ответ этот нужно дать. Иначе мы должны будем
признать, что сравнительное языкознание исчерпало свои
возможности и зашло в тупик.
Нетрудно видеть, что проблема субстрата имеет самое
прямое отношение к этой пока еще не решенной
задаче сравнительного языкознания: к объяснению
своеобразия отдельных языков в родственных группах.
В самом деле, о большинстве индоевропейских языков
доподлинно известно, что они распространялись не на
пустых территориях древнего иноязычного населения.
A priori трудно допустить, чтобы взаимодействие с
языком этого субстратного населения не оказало никакого
влияния на формировавшиеся отдельные
индоевропейские языки. Гораздо вероятнее, что субстратные языки
наложили определенный отпечаток на каждый
индоевропейский язык и в известной мере определили его
своеобразие. Я говорю «в известной мере», потому что было
бы совершенно неправильно относить все за счет
субстрата. Не подлежит сомнению, что многие процессы
и изменения обусловливались действием внутренних законов
развития каждого языка, вне всякого влияния субстрата.
С другой стороны, субстратные элементы, войдя в язык,
становятся его органической частью и, стало быть,
фактором его внутреннего развития. Поэтому отделять
механически действие внутренних законов от действия
субстрата нельзя. Но нельзя и огульно их смешивать,
так как в исходе это все же два разных, не сводимых один
к другому фактора. С чего же начинать, когда мы хотим
275
вскрыть исторические причины своеобразия того или
иного языка, с внутренних законов или с субстрата?
Вероятно, для разных языков могут быть разные подходы.
Но следует высказать одно общее соображение. Как ни
слабы и недостаточны пока наши методы анализа
субстратных явлений, наши знания о характере и действии
внутренних законов развития языка еще слабее и
недостаточнее. Поэтому везде, где есть хоть какие-нибудь
точки опоры для допущения субстрата и для его
характеристики, надо попытаться выявить обусловленные им
явления в языке, чтобы тем самым расчистить почву для
более уверенного определения действия внутренних
законов.
Анализ субстратных явлений приходится производить
обычными методами сравнительно-исторического
языкознания, а не какими-нибудь особыми, специально для
этого случая созданными методами. Иначе оно и не может
быть, так как и здесь, как всегда в
сравнительно-историческом языкознании, речь идет об установлений
закономерностей путем сравнения. Выше -мы
определили субстрат как совокупность закономерных
«ошибок» среды, переходящей на новый язык. Именно потому,
что эти «ошибки» закономерны, т. е. обусловлены
особенностями системы субстратного языка, они
подлежат' ведению сравнительно-исторического языкознания.
Когда речь идет об индоевропейских языках, то при
определении их субстрата возникает однач трудность: в
большинстве случаев мы мало или ничего не знаем о
языках, послуживших субстратом для отдельных
индоевропейских языков. Поэтому, допуская в теории их
влияние на последние, мы лишены возможности доказать
это влияние. Крайне соблазнительными представляются
поэтому те случаи, когда языки, послужившие
субстратом при образовании того или иного
индоевропейского языка, хорошо известны по памятникам или даже
дожили до наших дней. К счастью, такие случаи также
имеются. Это — индоарийские языки, до сих пор
соседящие с дравидийскими, на субстрате которых они
формировались. Это — армянский и осетинский языки на
Кавказе, для которых послужили субстратом иберийско-
кавказские языки, представленные множеством живых
разновидностей, а также древними памятниками.
На материале этих языков можно видеть, насколько
значительно бывает влияние субстрата на язык. Вместе
276
с тем эти языки дают примеры исключительной
стойкости основы языка, стойкости, которую не может
одолеть самый мощный субстрат.
Не помышляя о том, чтобы привлечь весь
относящийся сюда материал, я ограничусь некоторыми
достаточно показательными фактами из фонетики, лексики,
морфологии.
Известно, что в истории ряда языков наблюдаются
закономерные звуковые передвижения, захватывающие
целые фонетические ряды. Таков, например, переход
индоевропейских звонких смычных в глухие в
германских, армянском, хеттском, тохарском языках.
Известно также, что эти передвижения не получили до сих пор
удовлетворительного объяснения. Говорят об изменении
«артикуляционной базы». Но чем вызвано это изменение?
Если передвижения являются позиционными, т. е.
происходят в определенной фонетической позиции (в
начале, в исходе, в соседстве с определенными звуками),
то процесс может быть результатом естественного
внутреннего фонетического развития языка.
Гораздо труднее объяснить передвижения
непозиционные. Для объяснения таких передвижений выдвигались
разные теории. Одни указывали на стремление
говорящих к «благозвучию» или «удобству» произношения.
Другие видели их источник в изменении органов
произношения. Третьи считали, что они вызываются
изменением географических и климатических условий.
Четвертые полагали, что звуковые передвижения
начинаются со случайных отклонений в произношении
отдельных лиц как следствие общей «неустойчивости»
произношения. Пятые видели виновников фонетических
изменений в детях, в их неточном произношении при
усвоении родного языка. Шестые утверждали, что
изменение произношения есть дело моды, как есть мода на
платье, прическу и т. п. А некоторые пытались
выдвинуть универсальные законы, которым, будто бы,
подчинены звуковые изменения. Таков «закон более сильного
звука» Граммона («la loi du plus fort»).
Обилие объяснений говорит о неблагополучии, и нас
не должен удивлять пессимистический вывод Дельбрюка:
«О каком-либо действительном знании в этой области
говорить всерьез не приходится».
Однако советская наука никогда не считала
агностицизм добродетелью. Мы должны неутомимо искать при-
277
чины языковых изменений, в том числе и изменений
фонетических. И если у нас есть достаточно веские
основания, чтобы объяснить звуковые изменения действием
субстрата, мы должны без предубеждения рассмотреть
эту возможность.
Особенно следует насторожиться, когда в ходе
исторического развития языка в его фонетическую систему
широко входят такие звуки, которые по своей
артикуляционной природе были совершенно чужды исходной
системе. Таковы, например, церебральные согласные в
индийских языках и афганском и смычно-гортанные
согласные в армянском и осетинском.
В самом деле, замена звонких глухими в хеттском
или древнегерманском не вносила ничего принципиально
нового в их фонетическую систему, поскольку глухие
уже существовали в индоевропейском языке-основе.
Речь шла не о появлении в языке новых звуков, а о
внутриязыковых сдвигах и перемещениях произношения.
Поэтому здесь действие субстрата хотя и возможно, но
не является обязательным и единственно возможным
объяснением.
Другое дело — индо-афганские церебральные или
армяно-осетинские смычно-гортанные. Таких звуков нет в
других индоевропейских языках. Нет также оснований
допускать их для языка-основы. Они должны были
войти из языков иного фонетического типа; если учесть при
этом широту и системность их участия в звуковом строе
указанных индоевропейских языков, то следует
предположить, что они должны были войти в них не как
внешнее заимствование, а как органический структурный
элемент — из субстрата. В данном случае нам не
приходится, к счастью, гадать — из какого субстрата. Это —
дравидийские языки для индийских, кавказские — для
армянского и осетинского. Эти языки существуют по
сей день. В дравидийских языках есть церебральные
согласные. В кавказских есть смычно-гортанные.
Никак нельзя согласиться с тем, что церебральные
в индийских и смычно-гортанные в армянском и
осетинском могли появиться без влияния субстрата, в
результате внутренних законов развития языка. В этом случае
не было бы ничего удивительного, если бы
соответствующие «экзотические» звуки распределились совершенно
иным образом, а именно в индийских, допустим,
появились бы смычно-гортанные, а в армянском и осетинском —
278
церебральные. Нелепость такого допущения при учете
реальных исторических условий образования этих языков
совершенно очевидна.
Пример армянского особенно поучителен с
интересующей нас точки зрения. В армянском всякий
индоевропейский звонкий смычный отражен как смычно-гортанный.
Объяснить такую сплошную субституцию иначе как на
основе кавказского субстрата положительно трудно.
Таким образом, на материале приведенных языков
мы убеждаемся, что фонетические последствия субстрата
при благоприятных условиях вполне распознаваемы и что
эти последствия по своему характеру не могут быть
объяснены иначе как на основе такого взаимодействия между
языками, какое бывает именно при субстрате.
Перехожу к лексике. Тема «субстрат и лексика»
представляет свои трудности. Дело в том, что лексика имеет
репутацию самого неустойчивого элемента языка.
Действительно, нигде в языке так не распространено
заимствование, как в лексике. Отсюда известное недоверие
к лексике при решении генетических вопросов, в том
числе и вопросов субстрата. Однако это недоверие
законно только до тех пор, пока мы подходим к лексике
недифференцированно. Но когда мы внимательнее изучим
исторические судьбы различных слоев лексики, мы
убеждаемся, что в ней есть некоторые весьма устойчивые
элементы, которые по своей стойкости могут соперничать
с самыми стойкими элементами фонетики и морфологии.
Сюда относятся основные местоимения, числительные и
глаголы, названия частей тела, повседневных явлений
природы, термины родства, основные социальные термины.
Эти слова, образующие основной лексический фонд
языка, живут тысячелетия и мало подвержены
'заимствованию. Поэтому при решении генетических вопросов на
них можно положиться так же, как на любые устойчивые
структурные элементы языка.
Если в основном лексическом фонде языка широко
представлены слова, не восходящие к исходной системе,
чуждые ей, то первое, что должно прийти в голову,—
это мысль не о заимствовании, а о субстрате. Именно
субстрат и связанное с ним двуязычие создает
предпосылки для проникновения из одной системы в другую
элементов основного лексического фонда. Это, разумеется,
не исключает того, чтобы из субстрата вошли в язык и
даже в еще более широких размерах слова, не относя-
279
щиеся к основному лексическому фонду. Но в последнем
случае самый характер этих слов не дает возможности
размежевать с уверенностью субстрат и заимствование.
Можно считать установленным, что в осетинском языке
идут из кавказского субстрата такие важные слова, как
к'их «рука», к'ах «нога», dzyx «рот», byl «губа», fyndz «нос»,
dur «камень», c?x?r «огонь», c?dzyndz «столб», l?g
«человек», b?x «лошадь» и др. Они не являются иранским
насдедием. В то же время они не могут рассматриваться
как внешнее заимствование из какого-либо конкретного
кавказского языка. Не могут не только потому, что они
относятся к основному лексическому фонду, но и потому,
что по фонетическим и семантическим признакам они
обычно не имеют точного соответствия ни в одном
кавказском языке.
Их кавказские прототипы приходится восстанавливать
путем сравнительно-лексикологических изысканий в
области кавказских языков, совершенно так же, как
иранские прототипы некоторых осетинских слов приходится
восстанавливать путем сравнительно-лексикологических
изысканий на иранской почве. А это говорит о такой
глубине связей, о какой при заимствовании не может
быть и речи. О такой же глубине связей говорят
кавказские лексические элементы в армянском языке, над
выявлением которых успешно работали Марр, Ачарян, Капан-
цян и др.
При выявлении субстратных лексических элементов
нельзя обойтись без обычного аппарата
сравнительно-лексикологического исследования: звуковых соответствий,
морфологического анализа и пр. Здесь лишний раз
подтверждается, что методы сравнительно-исторического
языкознания полностью сохраняют свое значение в
применении к субстрату.
Подводя итог более чем столетней этимологической
работы в области индоевропейских языков, мы должны
признать, что их лексику не удалось свести к двум
рубрикам: исконному достоянию и заимствованию. Во всех
индоевропейских языках имеется множество слов или
вовсе не разъясненных, или «разъясненных» ценой такой
эквилибристики, которая нисколько не лучше полного
отказа от этимологического объяснения. В некоторых
языках, например, в армянском, число этих неразъясненных
элементов достигает половины всего словарного состава.
В .той мере, в какой эти слова относятся к основному
280
лексическому фонду, в них с известной вероятностью
можно видеть отложения из субстрата. По мере того как будут
расширяться и уточняться наши знания о языках,
послуживших субстратом для отдельных индоевропейских
языков, этимологические изыскания в этой области
получат новые импульсы и могут дать еще много ценного
и даже неожиданного *. Само собой разумеется,
субстратное происхождение любого такого слова должно
быть в каждом случае обосновано солидной научной
аргументацией.
В связи с лексикой следует сказать несколько слов о
семантике и идиоматике. Кто не знает, что семантика
и идиоматика относятся к интимнейшим сторонам языка,
глубокими нитями связанным с народной психологией и
мышлением? При переходе с одного языка на другой
можно в совершенстве усвоить произношение чужого
языка, полностью овладеть его лексикой, не примешивая
к ней ни одного слова из старого родного языка, но
трудно, почти невозможно отрешиться целиком от
привычных семантических связей и ассоциаций. Могу
привести в пример самого себя. Я владею русской речью
с детства, а последние 30 лет почти постоянно живу в
русском окружении. И однако же я до сих пор нередко
ловлю себя на том, что продолжаю мыслить на родном
мне осетинском языке. Например, мне случается иногда
употреблять глагол положить там, где следует сказать
поставить: положить стакан вместо поставить стакан.
Почему? Несомненно, потому, что в осетинском
«положить» и «поставить» выражаются одним и тем же
глаголом ?v?ryn. С другой стороны, я до сих пор чувствую
какое-то неудобство от того, что в русском языке
«легкий» в смысле «нетяжелый» (по весу) и «легкий» в
смысле «нетрудный» выражаются одним словом, а не двумя
разными, как в осетинском (r?w?g и ?ncon). В этих
и других неискоренимых семантических представлениях
больше, чем в чем-либо другом, сказывается до сих пор
то, что моя русская речь формировалась на осетинском
«субстрате».
Легко согласиться поэтому, что семантические и
идиоматические особенности языка должны были бы иметь
первостепенное значение для определения его субстрата.
* Укажу на успехи, достигнутые в выявлении догреческого
субстрата в греческом языке в трудах В. Георгиева, Мерлингена и др.
281
В действительности, факты этого рода обычно мало или
совсем не привлекаются. Происходит это, главным
образом, в силу объективного положения вещей. Именно
потому, что семантика и идиоматика относятся к самым
интимным сторонам языка, до которых мы доходим
только при весьма совершенном знании, они остаются
при субстратном анализе вне сферы нашей досягаемости.
Существует мнение, что этрусский или родственные
этрусскому языки послужили субстратом для латинского
и некоторых других европейских языков. В настоящее
время мы можем уже кое-что сказать об этрусской
фонетике и лексике. Но что мы знаем об этрусской
семантике и идиоматике? Абсолютно ничего. И вероятно
никогда не узнаем. Так же обстоит дело со многими
другими предполагаемыми или действительными
субстратными языками. Даже там, где языки предполагаемого
субстрата дошли до нас в живых разновидностях,
положение немногим лучше. Как ни много сделано,
например, в области изучения кавказских языков,
послуживших субстратом для армянского и осетинского, как раз
о семантике и идиоматике мы знаем пока очень мало.
Поэтому нам трудно судить, насколько в семантике и
идиоматике армянского и осетинского отразились
особенности психического склада и мышления субстратного
населения древней Армении и Осетии. Но мы убеждены,
что располагай мы необходимым материалом, перед нами
вскрылись бы разительные черты близости и прямого
совпадения.
Кое-какие разрозненные наблюдения по осетинскому
имеются и теперь.
Осетинское az «год» восходит к древнеиранскому
asman. Но там оно значило не «год», а «небо». Развитие
значения «небо» -*• «год» не имеет близкой аналогии в
иранских языках, но оно решительно поддерживается
кавказскими языками, где такая семантика до сих пор
существует как живая. Так, в андийских языках Дагестана
имеем: анд. resin «небо», «год», тиндское rehen «небо»,
«год», ахвахское resen «небо», «год».
В осетинском одно и то же слово кот означает «рот»,
«ущелье» и «острие». То же в некоторых кавказских
языках (абх. а-с'э «рот», «острие»; балк. auz «ущелье»,
«рот», «острие»).
Одним и тем же словом выражаются в осетинском,
282
как в абхазском, понятия «глаз» и «петля» (ос. casm,
абх. а-Ыа).
В осетинском, как в некоторых кавказских языках,
понятие «лицо» и «совесть» выражаются одним словом
(c?skom).
Осетинский, как и некоторые соседние кавказские
языки, не различают лексически серый, синий, голубой
и зеленый цвет (ос. c'?x, абх. а-ес'а и др.). В то же время
в этих языках имеются специальные термины для
обозначения мастей животных, например, особое слово для
обозначения животного с белым пятном на лбу (ос. zygar,
лезг. kkaska, сван, sagar и др.).
Разумеется, подобные семантические явления можно
найти и за пределами Кавказа. Но для нас важно, что
во всех приведенных случаях осетинский сближается не
с древнеиранским, а с кавказским языковым миром.
Особого изучения требуют словообразовательные
кальки, совпадения в идиомах и фразеологических
сочетаниях. Мне приходилось отмечать, например, что
осетинское c?skom «лицо», составленное из c?st «глаз» и кот
«рот», представляет кальку аварского berkal «лицо», из
Ьег «глаз» и kal «рот». Ни в одном иранском языке
понятие лица не выражено подобным образом.
Идиоматика кавказских языков пока мало изучена.
Но знакомясь, например, со словарем грузинских образных
выражений, составленным Сахокиа, или с собранием
абхазских поговорок и пословиц, изданным писателем
Дмитрием Гулиа, поражаешься обилию совпадений с
осетинским. Добрая половина их кажется буквально
переводом с одного языка на другой. Таких ярких и
многочисленных схождений нельзя найти у осетинского ни с
одним европейским языком.
Морфология слывет весьма устойчивой,
консервативной стороной языка, которая не поддается не только
заимствованию, но и влиянию субстрата. Здесь следует
разобраться. Под морфологией можно понимать, с одной
стороны, совокупность материальных элементов, из
которых, как из строительного материала, строится
морфологическая система, с другой стороны,— самую эту
систему, ее архитектонику, структуру, модель.
В осетинском и, насколько могу судить, также в
армянском, нет сколько-нибудь заметного вклада из
кавказских языков в материальный инвентарь морфологии.
283
Видимо, эта сторона действительно мало проницаема даже
для субстрата.
Другое дело — модель морфологической системы.
Здесь кавказский субстрат, несомненно, оказал влияние,
и прежде всего на систему склонения.
Осетинское склонение, агглютинативное, девятипадеж-
ное, полностью выпадает из схемы склонения в
иранских языках. В этом отношении осетинский противостоит
всем остальным иранским языкам. В древнеиранском
было восьмипадежное склонение, но оно было
флективным, и в нем был только один локативный падеж. В
осетинском же выработалось пять падежей локативного
значения. Еще разительнее выступает своеобразие
осетинского, если сравнить его с новоиранскими языками. В
последних склонение либо вовсе утрачено, либо
представлено лишь двумя-тремя падежами субъектно-объект-
ного значения.
Все, что отличает осетинское склонение от иранского,
сближает его со склонением в кавказских языках
восточной и южной группы: агглютинация, многопадежность,
развитие локативных падежей. Особенно велика близость
со склонением в языках вейнахской группы. При этом
поучительно, что строительный материал (показатель
множественности, падежные окончания), насколько его
удается разъяснить,— целиком иранский.
Новое агглютинативное склонение взамен прежнего
флективного выработал и армянский язык. Это склонение
типологически близко к^ новогрузинскому и осетинскому.
Можно ли считать случайностью, что из всех
индоевропейских языков, в которых имеется развитое
склонение, именно в отношении армянского и осетинского
возник спор о винительном падеже: существует он или нет?
Вопрос этот дискутируется по сей день. Объективно
картина такова: винительный падеж в обоих языках
морфологически не выражен, и вопрос о его существовании
приходится переносить в плоскость синтаксических
функций. С точки зрения привычных схем индоевропейского
склонения такое положение кажется странным. Но с
точки зрения субстрата — это именно то, чего следовало
ожидать. Все кавказские языки являются языками без-
аккузативного строя. Характерная для них эргативная
конструкция переходного глагола требует оформления
особым падежным показателем не прямого объекта, а
субъекта.
284
Все это дает нам право говорить, что осетинское и
армянское склонение не является непосредственным
продолжением и развитием древнего индоевропейского
склонения. Оно построено по иной модели, и эта модель идет
из кавказского субстрата.
Элементы агглютинации, которые приобрели
значительный вес в морфологии осетинского и армянского
языков, не остались, кажется, без влияния на другие
стороны языка. С ними связаны, по-видимому, такие
явления, как групповая флексия, препозиция
определения определяемому и др. Здесь схождения между
осетинским и армянским настолько значительны и в них
так много закономерного, что рождается мысль о
возможности построения сравнительной грамматики этих
языков в аспекте их общего кавказского субстрата.
Такая «субстратная» сравнительная грамматика была бы
своего рода дополнением к сравнительной грамматике
этих же языков в аспекте их индоевропейской основы *.
Для того, кто имеет дело с осетинским или
армянским языком, не возникает и тени сомнения
относительно значения субстрата. Показания этих языков
настолько красноречивы и неотразимы, что, если бы
даже у нас не было других подобных примеров — в
действительности их много,— материала этих двух языков
было бы достаточно, чтобы признать за субстратом
огромную роль при образовании и развитии языков.
В заключение я хотел бы еще раз подчеркнуть, что
проблему субстрата нельзя трактовать как чисто
лингвистическую. Ее значение выходит далеко за рамки
языкознания. Этнический субстрат оставляет свой след не
только в языке, но также — и нередко в еще большей
степени — в фольклоре, этнографии, материальной
культуре, наконец, в физическом облике народа. Для
осетинского, например, можно без всяких колебаний говорить
о кавказском субстрате в религиозных и мифологических
представлениях, в эпосе, обычаях, материальной культуре,
антропологическом типе. В проблеме субстрата история
языка неразрывно связана со всей историей народа.
Когда мы говорим, что осетинский язык это иранский
язык, формировавшийся на кавказском субстрате,— это
* В другом месте и по другому поводу я выразил эту мысль
несколько иначе: армянский и осетинский языки некоторыми своими
элементами могут войти в сравнительную грамматику кавказских языков.
285
не отвлеченная лингвистическая формула. Она наполнена
богатым и полнокровным историческим содержанием.
Из этой формулы до нас доносится шум событий далекого
прошлого, движение человеческих масс, топот коней и звон
оружия; мы как бы видим вторжение ираноязычных
скифо-сарматских племен на Северный Кавказ,
ассимилирование ими некоторых местных кавказских племен,
рождение в этом процессе своеобразной осетинской
этнической культуры. Субстрат — это целый узел вопросов
исторических, антропологических, этногенетических,
культурных.
Недостатком нашего совещания является то, что
проблема субстрата берется только в лингвистическом
разрезе. Хочется выразить надежду, что эта важная
проблема будет у нас разрабатываться в дальнейшем в
тесном содружестве языковедов с историками, археологами,
антропологами, этнологами, фольклористами.
Доклады и сообщения
Института языкознания
АН СССР, 1956, т. IX
ЗНАЧЕНИЕ
АРЕАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ
В ИСТОРИИ ЯЗЫКА
В лингвистике 19-го века преобладает взгляд на
историю языка как на замкнутый в себе спонтанный процесс.
Влияние других языков сводится к чисто внешним
заимствованиям, затрагивающим почти исключительно одну
лексику.
Истоки такого понимания истории языка хорошо
известны. Они идут от взгляда на язык как на организм,
взгляда, свойственного в той или иной мере всем
основоположникам сравнительно-исторического языкознания, но
особенно отчетливо сформулированного А. Шлейхером.
Младограмматическая школа, хотя она отталкивалась
от шлейхерианства и противостояла ему в трактовке
истории отдельных языков, хотя и учитывает роль
взаимодействия между языками, все же в целом твердо держится
генеалогической схемы. В классическом
младограмматическом труде Н. Paul'a «Prinzipien der Sprachgeschichte»
есть даже особая глава «Смешение языков», но речь идет
в ней в основном о смешении лексическом. Мысль, что
взаимодействие между языками может коренным
образом изменить не только их лексику, но и их
фонетическую систему, их грамматический строй, не была
популярной в лингвистике 19-го века. Конечно, и тогда были
отдельные языковеды, которые отдавали себе отчет,
насколько глубоким и всепроникающим может быть
взаимодействие и взаимовлияние между контактирующими
языками. Достаточно назвать H. Schuchardt'a, в частности его
работу «Slawo-deutsches und Slawo-italienisches» A884).
Тому же Schuchardt'y принадлежит утверждение, что не
существует таких языков, которые не были бы в той или
иной мере мешаными. Но такие ученые оставались
несколько в стороне от основного русла лингвистической
науки своего времени. Генеральной линией был взгляд на
историю каждого языка как на автономный процесс,
независимый от этнических и социальных взаимодействий.
287
Лингвистическая география, ареальная лингвистика
и теория субстрата в корне изменили взгляд на историю
языков. Они показали, что между языками и между
диалектами нет резко очерченных границ, что языки и
диалекты живут и развиваются в непрерывном и тесном
взаимодействии, которое оказывает влияние на все стороны
и уровни взаимодействующих языков.
Идеи названных направлений наложили определяющий
отпечаток на историческое языкознание в новое время.
Не будет ошибки сказать, что повышенный интерес к ме-
ждуязыковым и междиалектным отношениям и их роли
в истории языка является одной из характерных черт
современного гуманитарного языкознания*.
В советской лингвистике в этой области наблюдалась
известная неровность. В 20-е и 30-е годы вопросам
языкового смешения уделялось у нас много внимания (Марр,
Щерба и др.). Но после лингвистической дискуссии 50-го
года эта тематика отошла на второй план; стало модно
говорить о «внутренних законах» развития языка как о
решающем факторе языковой эволюции. Об этих
«внутренних законах» было немало сказано и напечатано, но ясного
представления, что, собственно, это такое, мы так и не
получили. Более того, в понятии «внутренние законы
развития языка» осталось что-то мистическое. Мы привыкли
думать, что всякое историческое изменение в любой
области, в том числе и в языке, подчинено закону
причинности. Между тем, те, кто апеллирует к «внутренним
законам», обычно не могут указать конкретные причины
каждого конкретного языкового изменения. Создается
впечатление, что ссылка йа «внутренние законы» пригодна
главным образом для того, чтобы прикрыть наше незнание
действительных движущих сил языковых изменений.
* Подчеркиваю — гуманитарного, потому что существует еще
негуманитарное, формализованное языкознание, представленное
разными направлениями структурализма и кибернетической лингвистики. Эти
направления чуждаются проблемы языковых контактов по двум
причинам. Во-первых, потому, что взгляд на язык как на структуру близок
к взгляду на язык как на организм, и здесь структурализм смыкается
со шлейхерианством: оба взгляда предполагают непроницаемость или
малую проницаемость языковой системы. Во-вторых, потому, что
языковые контакты предполагают этнические и социальные контакты, а
последние с точки зрения ортодоксального структурализма представляют
факторы «экстралингвистические», которыми лингвист не должен
заниматься: язык надо изучать в себе и для себя.
288
Дискуссия о субстрате, проходившая в Ленинграде в
феврале 1955-го года, вновь оживила интерес к
взаимодействию языков, и этот интерес уже не угасал в
последующие годы.
В отличие от несколько загадочных «внутренних
законов» языковые контакты с их последствиями — это нечто
абсолютно реальное, очевидное и осязаемое. Их действие
можно наблюдать повседневно и повсеместно, где только
языки и диалекты соприкасаются друг с другом.
Советский Союз с его многоязычием представляет поистине
неисчерпаемое поле для таких наблюдений. Если же в
пределах Советского Союза попытаться найти зону,,
представляющую в этом плане особый интерес, то долго искать
не придется: это, бесспорно, Кавказ. Weinreich,
перечисляя случаи интенсивного многоязычия на небольших
территориях, называет на первом месте Кавказ, а затем Но-
цую Гвинею, один район в Африке и один район в
Мексике. Я не знаю точно, как именно обстоит дело в
названных им областях Новой Гвинеи, Африки и Мексики. Но
думаю, что там речь идет все же о типологически и
социально близких языках и наречиях. Кавказ — иное дело.
Здесь с давних пор взаимодействуют языки разного
происхождения, разной типологии, разного уровня
культурного и социального развития. В этом отношении
Кавказ — уникальное явление на всей нашей планете.
Достаточно обозреть программу нашей настоящей сессии,
чтобы убедиться, какое богатство и разнообразие тем
таит в себе кавказский материал по проблеме языковых
контактов.
Значение ареальных контактов для истории языка
хорошо иллюстрируется на примере осетинского и
армянского языков. Оба они генетически связаны с
индоевропейской семьей. Но оба с давних пор бытуют в
кавказском окружении, и это окружение наложило на них свой
отпечаток. Относящиеся сюда факты хорошо известны.
Напомню только некоторые. Фонетическая система
армянского и осетинского весьма близка к картвельской.
Примечательно, в частности, наличие во всех трех языках
трех рядов смычных согласных: звонкого, глухого
придыхательного и абруптивного. В морфологии —
значительный удельный вес агглютинации в словоизменении и
словообразовании, в частности, в системе склонения. Много
общего также в синтаксисе. В равной мере, к
морфологии и к синтаксису относится такой факт, как отсут-
10 В. И. Абаев
289
ствие формально выраженного винительного падежа.
В лексике армянского и осетинского множество
кавказских элементов, в том числе и таких, которые в
самих кавказских языках не сохранились. Эта «кавказская»
лексика распознается не только в периферийных частях
словаря, но и в основном словарном фонде. Любопытно,
что и в армянском и в осетинском выявляется слой «ме-
грелизмов» или «занизмов», хотя "современные
осетинский и армянский с мегрельским не соседствуют. Можно
сказать так: осетинский и армянский могут быть
предметом сравнительного или сопоставительного изучения не
только в аспекте их общей индоевропейской основы, но и
в аспекте их сходного субстрата. Эту же мысль можно
выразить несколько иначе: осетинский и армянский
некоторыми своими материальными и типологическими
чертами могут участвовать в сравнительной и
сопоставительной грамматике иберийско-кавказских языков, оставаясь
в своей основе индоевропейскими языками.
Такой двуплановый подход применим к тем языкам,
в которых две исходные системы в результате
длительных и интенсивных контактов породили новую
типологию, характеризуемую глубоким взаимопроникновением
исходных систем.
Прослеживая историю армянского и осетинского
языков, мы видим, что судьбы этих двух языков складывались
во многом параллельно и симметрично. Носители этих
языков, оторвавшись в свое время от своей исконной
индоевропейской среды, после сложных перипетий вошли,
армяне с юга, осетины с севера, в тесные контакты с иберий-
ско-кавказским этническим и языковым миром. Эти
контакты и стали теми заключительными мазками
художника, которые придали армянскому и осетинскому их
современный облик.
Естественно, что каждый, кто пытался бы установить
периодизацию истории армянского и осетинского языков,
должен исходить из того, что с того момента, как
предки этих языков вступили в кавказский ареал, открылась
новая эра в их истории, что этот момент стал
важнейшим рубежом в их истории. Мы не хотим утверждать,
что армянский и осетинский языки являются в данном
случае чем-то исключительным. История любого языка
представляет во многом не что иное, как историю его
контактных связей. Поэтому невозможно строить
периодизацию истории языка без учета этих связей. Но в истории
290
армянского и осетинского языков значение контактных
связей выступает, пожалуй, особенно рельефно.
Периодизация истории армянского языка не входит
здесь в мою компетенцию. Это дело
специалистов-арменистов.
Но что касается осетинского языка, то, применяя
сказанные положения к его истории, мы делим ее на три
периода: 1. Скифо-европейский A тысячелетие до н.э.).
2. Алано-кавказский (от первых веков нашей эры до
монгольского нашествия). 3. Новейший (от 15 века до
наших дней).
Специфика каждого из этих периодов определяется
в первую очередь тем, с какими языками имел
контактные связи осетинский язык, каков был объем и
характер этих связей.
В скифо-европейский период скифо-сарматские
наречия отделились уже от остального иранского мира, но
вступили в длительные контакты с языками тогдашнего
европейского круга: славо-балтийскими, германскими,
кельтскими, предком латинского языка, предком
тохарских языков. Эти контакты имели ряд языковых
последствий. Широко распространились фонемы ful, которые
до того были чужды иранским наречиям или слабо в них
представлены.
В грамматике перфективирующая роль превербов,
которая в древнеиранском только намечалась, стала
законом.
В лексике — множество слов, чуждых остальным
иранским языкам, но общих у осетинского с вышеназванными
языками европейского круга, в том числе важные
термины земледелия.
В алано-кавказский период определяющими для
осетинского языка стали контакты (субстратного порядка)
с кавказскими, отчасти тюркскими языками. Какие
языковые последствия имели эти контакты, об этом я уже
говорил выше и об этом много писалось. Не буду
повторяться. Скажу только, что они глубоко отразились и на
материальной, и на типологической стороне языка.
В третий период, который я называю новейшим,
осетинский язык оставался все в том же кавказском
окружении и, казалось бы, его можно было бы рассматривать
как простое продолжение алано-кавказского. В
действительности это не так. Что же вынуждает выделить его
в особый период?
291
Прежде всего коренное изменение престижного
потенциала языка, его резкое снижение. И здесь мы
подходим к важному аспекту межъязыковых контактов. Что
такое престижный потенциал языка? Престижный
потенциал — это относительная способность языка быть
активной стороной при контактах с другим языком или
другими языками. Легко видеть, что престижный потенциал
не определяется внутренними свойствами
контактирующих языков и, стало быть, не является узко
лингвистическим понятием.
Конечно, внутренние свойства языка, его лексическое
и грамматическое богатство и выразительность, легкость
и удобство его усвоения иноязычными дают языку
известные преимущества и повышают его престижный
потенциал. Но значение этих внутренних качеств языка
ничтожно. Решающими оказываются внеязыковые факторы:
культурные, экономические, социальные, демографические,
политические, даже чисто военные. Превосходство в этих
областях или,хотя бы в одной из них повышает
престижный потенциал языка. В обмене между языками дело
обстоит, как в электричестве — чем больше разность
потенциалов, тем интенсивнее движение тока от одного тела
к другому.
Возвращаясь к осетинскому языку, мы должны
признать, что то, что проводит черту между вторым
периодом его истории, который мы назвали алано-кавказским,
и третьим, который мы назвали новейшим, это прежде
всего снижение престижного потенциала.
Нашествие монголов оказалось для алан
катастрофическим. Резко сократилась их численность. Сократилась
и занимаемая ими территория. В аланский период
осетинские элементы в значительном числе вошли в
грузинский язык, как показали коллеги Абдуллаев и Микаилов.
Они распознаются в вайнахских языках, в сванском,
мегрельском, абхазском, абазинском, адыгских.
В новейший период ареал распространения
осетинского языка, сузился до нескольких ущелий
Центрального Кавказа. Оборвались прямые контакты с абхазским,
мегрельским, сванским, чеченским, дагестанскими. Из
коренных кавказских языков только грузинский,
кабардинский и ингушский оставались соседями осетинского. В
языковом обмене с соседями осетинский уже не играет
такой активной роли, как прежде. Он сам заимствует зна:-.
292
чительное число слов из грузинского, кабардинского и
русского. . .
Таким образом, контактный обмен с соседними
языками в послемонгольский период по объему и
направлению принципиально отличается от домонгольского, и это
заставляет говорить о новом периоде в истории языка.
Подводя итог, я позволю себе еще раз подчеркнуть
свою основную мысль. Она сводится к тому, что при
периодизации истории языка можно и нужно учитывать
процессы взаимодействия данного языка с другими
языками равно как междиалектные процессы. Могут быть
случаи, когда именно эти процессы имеют определяющее
влияние на эволюцию языка и, стало быть, именно они
должны быть положены в основу периодизации. В
других случаях они могут играть менее значительную роль
и, как принцип периодизации, иметь лишь
вспомогательное, дополняющее значение. Но трудно представить себе
такой случай, когда бы языковые контакты можно было
вовсе сбросить со счетов при изучении истории языка
и при ее периодизации. Осетинский язык
представляется нам как раз тем случаем, когда языковые контакты
дают наиболее объективные и осязаемые критерии для
периодизации истории языка.
Материалы 5-й региональной сессии
по историко-сравнительному изучению
иберийско-кавказских языков,
Орджоникидзе, 1977.
ЗА РОДНУЮ РЕЧЬ
Когда в прошлом веке зародилась осетинская
интеллигенция, ее питательной средой была русская культура.
Свободное владение русским языком, хорошее
знакомство с русской литературой были первейшим и
непременным признаком и условием интеллигентности. Лучшим
представителем этого авангарда просветителей был Коста
Хетагуров. Ему были в равной мере доступны
неисчерпаемые богатства и красоты как родного, так и русского
языка. В этом отношении, как и в других, Коста
остается образцом и идеалом для каждого осетинского
интеллигента.
Но за прошедший век значение русского языка как
языка межнационального общения не только не
снизилось, но, напротив, неизмеримо возросло. И теперь
знание русского языка становится насущной необходимостью
не только для интеллигентской прослойки, но буквально
для каждого осетина. Ни один осетин не может считать
себя полноценным гражданином, если он не умеет
свободно объясняться как на родном, так и на русском
языке. Двуязычие — это не нечто навязываемое нам извне,
а наша внутренняя, осознанная необходимость, наше
естественное состояние, наша судьба.
Разумеется, владение русским языком не должно и не
может наносить никакого ущерба родному языку. Иногда
пытаются представить дело так, будто приходится
выбирать между родным и русским языком. Нет ничего
ошибочнее. Двуязычие, в особенности если оба языка
усваиваются с детства, не создает никаких трудностей,
никаких проблем. В науке накоплен обширный материал
из разных континентов, подтверждающий эту истину.
Я учился в гимназии в Тифлисе. В моем классе учились
грузины, армяне, азербайджанцы, осетины. Были даже
один латыш и один поляк. Мы все были двуязычны. Дома,
в семье, у каждого из нас господствовал родной язык.
Вне дома, и прежде всего в школе, преобладал русский.
294
И оба языка свободно и легко входили в нашу речевую
практику. Не помню, чтобы это стоило каких-то особых
усилий нам или нашим родителям и педагогам.
Ложная альтернатива — родной язык или русский —
привела к тому, что среди части осетинской
интеллигенции возникло пренебрежение к родному языку, им
перестают пользоваться даже в семейном быту. Это внушает
законную тревогу. Если даже некоторые животные и
растения заносятся в Красную книгу и становятся
предметом особой охраны и защиты, тем более заслуживает
охраны и бережного отношения язык — бесценное
культурное сокровище каждого человека. Еще поэт П. А.
Вяземский, современник и друг А. С. Пушкина, писал:
Язык есть исповедь народа,
В нем слышится его природа,
Его душа и быт родной.
Народы можно делить на большие и малые. К
языкам такое деление неприменимо. «Каждый язык велик для
своего народа. У каждого из нас есть свой сыновний долг
перед народом, нас породившим, давшим нам самое
большое свое богатство, свой язык: хранить чистоту его,
приумножать богатство его... Важно сохранить как можно
дольше многообразие языков»*.
Национальное самосознание неотделимо от
национального языка. Смерть какого-либо языка означает смерть
народа (как особого этноса). А кто заинтересован в том,
чтобы вымирали народы, каждый со своей неповторимой
индивидуальностью, со своей самобытной культурой?
Никто, кроме каких-нибудь закоренелых расистов.
За время языкового строительства в Осетии
достаточно четко определилось оптимальное разделение сфер
функционирования русского языка, с одной стороны, и
родного, с другой. Нужно, чтобы позиции каждого языка
в его сфере не размывались, не ослаблялись, а
укреплялись. Не нужно пытаться искусственно внедрять родной
язык там, где, как показал исторический опыт, разумнее
и целесообразнее во всех отношениях пользоваться
русским языком.
С другой стороны, нельзя допускать и того, чтобы
родной язык нес потери в тех сферах, которые именно он
* Айтматов Чингиз. Цена — жизнь. «Литературная газета» от
13 августа 1986 г.
295
призван обслуживать. Важнейшей такой сферой
является родной дом, семья. Ничто не может внушить такую
тревогу за судьбу родного языка, как ослабление его
позиций в семейном быту: если дети с молоком матери не
усваивают родной язык и не пользуются им дома, то язык
можно считать обреченным. Ни школа, ни печать, ни
радио, ни телевидение, ничто уже не поможет. Дерево
рушится, если подсечь его корни в земле. Язык погибнет,
если подсечь его корни в семье. Вот почему для
каждого должно быть законом: хранить и беречь родной язык
в семье.
Предисловие к кн.: А. Галазов, М. Исаев. Народы-братья, языки-
братья. Орджоникидзе, 1987.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
СКИФО-ЕВРОПЕЙСКИЕ ИЗОГЛОССЫ
НА СТЫКЕ ВОСТОКА
И ЗАПАДА
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Под названием «Скифо-европейские изоглоссы» мы
объединяем ряд специфических явлений в лексике,
фонетике, грамматике, а также мифологии, которые
сближают осетинский, resp. «скифский», язык с европейскими
языками: славянскими, балтийскими, тохарским,
германскими, италийскими, кельтскими.
Осетинский язык, принадлежа к иранской группе
индоевропейских языков, занимает в ней обособленное
положение и во многих отношениях противостоит всем
остальным индоиранским языкам. Достаточно указать на
наличие смычно-гортанных согласных, многопадежное
агглютинативное склонение и ряд других особенностей.
Обычно это своеобразие приписывается влиянию
кавказской среды, во взаимодействии с которой осетинский
язык находится не менее двух тысячелетий. Пишущий
эти строки сам неоднократно указывал на значение
кавказского вклада в осетинский язык.1 Действительно,
кавказские влияния в осетинском значительны и преуменьшать
их не приходится.
Вместе с тем в последние годы стала вскрываться
новая сторона своеобразия осетинского языка в кругу
индоиранских языков: его особая близость к языкам
европейского ареала- — славянским, балтийским, тохарскому,
германским, италийским, кельтским. По ряду признаков —
лексических, фонетических, грамматических — осетинский
язык, порывая с другими индоиранскими языками,
смыкается с перечисленными европейскими языками. Эти
черты мы и называем скифо-европейскими изоглоссами.
Типичным примером такой изоглоссы может быть ос. mal
'глубокая стоячая вода',- представляющее закономерную
осетинскую («скифскук»4) форму европейского названия
моря, чуждого остальному индоиранскому миру.
На некоторые лексические схождения осетинского
299
с европейскими языками обратил внимание впервые
шведский лингвист X. Петерсон (H. Petersson). Он указывал
на «...spezielle lexikalische Ubereinstimungen mit ausserari-
schen Sprachen, die das Ossetische in nicht wenigen Fallen
aufzuweisen hat»2. В связи с этим он справедливо
отмечает, что «...das Ossetische eine eigenartige Stellung in seinem
Sprachzweige einnimmt»3. Недавно проф. . H. Холмер-
(N. Holmer) вновь подчеркнул эту особенность осетин^
ского языка: «...Ossetic reveals special contacts with
Western IE...»4.
Такое положение не должно удивлять. Достаточно
взглянуть на историческую карту Европы, чтобы понять
происхождение специфических осетино-европейских
изоглосс. Скифская группа иранских языков, к которой
принадлежит осетинский, была от глубокой древности далеко
продвинута в Европу и много веков соседила с
европейскими, особенно восточноевропейскими языками, в то
время как остальные индоиранские языки уже давно
переместились на восток и на юг и утратили всякий контакт
с Европой.
Как и следовало ожидать, особенно многочисленны и
значительны изоглоссы, связывающие осетинский со
славянскими языками. Здесь мы имеем не только
лексические, но и некоторые важные грамматические связи, что
указывает на особую длительность и интимность
контактов.
Установление скифо-европейских изоглосс с
необходимостью влечет ряд важных выводов исторического
порядка, которые мы попытаемся сформулировать в
конце нашего исследования.
Мы остановимся сперва на лексике, затем отметим
некоторые фонетические и грамматические явления, а в
заключение приведем несколько мифологических параллелей.
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИЗОГЛОССЫ '
ос. mal 'глубокая стоячая вода'
Это слово не нашло правильного истолкования у тех,
кто занимался осетинской этимологией. А между тем
одного этого слова достаточно, чтобы оценить «die
eigenartige Stellung des Ossetischen in seinem Sprachzweige»2. Дело
в том, что ос. mal безупречно отвечает и.-е. *mori 'море',
'стоялая вода', лат. таге, др.-ирл. muir, брет. тог, гот.
300
marei, др.-в.-нем. mari 'море', англос. теге 'море', 'пруд',
mor 'море', merise 'болото', нем. Marsch 'болото', 'топь',
ст.-слав. тог je, русск. море, лит. mare (PI. mares) 'море',
'Балтика' и пр. (Pokorny, 748). Группа ri (ry) дает в
осетинском /, li, ly: bal 'отряд' из * bar y a, n?l 'самец' из
*narya-, allon 'алан' из aryana-, lym?n 'друг' из *friya-
тапа- и мн. др. Поэтому из *mori, *mari имеем
закономерно ос. mal.
Особого внимания заслуживает семантика
осетинского слова. В германских языках выступают значения:
«стоячая вода», «пруд», «топь»,— и многие считают, что
именно это значение является первоначальным.3 И
разве не любопытно, что осетинский сохранил это
древнейшее значение? Ос. mal может означать 'глубокий пруд',
а также 'глубокое место [в озере, в реке (dony mal) ] ',
'затон', 'омут'. Очень обычно гиперболическое
выражение tu'gy mal 'mal крови' (об обильно пролитой крови).
Понятие «глубины» составляет существенный элемент
семантики слова mal, и не удивительно, что из скифского
это слово было заимствовано в угро-финские в этом
значении: ханты (остяцкое) mal, манси (вогульское) mil,
венгерское mely 'глубокий', 'глубина'4.
Можно ли считать *mori общеиндоевропейским
словом, бытовавшим и на индоиранской почве? Для этого
нет оснований. Иногда привлекают др.-инд. maryada-,
относя его к этой группе5. Однако, как показал Л. Рену
(L. Renou), др.-инд. maryada- никогда не означало
'морской берег', а только 'граница'6 и этимологически
связано скорее с перс, marz, нем. Mark 'граница'7. Проф.
М. Майрхофер (M. Mayrhofer), к которому я обратился
с вопросом по поводу др.-инд. maryada-, любезно
поделился в письме своими соображениями: «...ai. maryada-
...konnte nicht mehr zu *mari, *mori gehoren. Es ist aber
noch etwas zu bedenken. Wenn ein Wort westlichen idg.
Sprachen und auch dem Baltischen und Slavischen angehort,
und dann im Ossetischen gefunden wird — kann man dann gleich
sicher sagen, es sei «auch indoiranisch»? Ist es nicht moglich,
dass das Ossetische mit den westlichen Sprachen Uberein-
stimmungen hat, an denen — im Sinn modemer sprachgeog-
raphischer Erkenntnisse — das ubrige Iranische, und gar das
Indische, nicht teilhat?.. Sollte es nicht «Isoglossen» zwi-
schen Germanisch — Italisch — Baltisch — Slavisch — Nord-
iranisch (Ossetisch) geben, an denen das iibrige Iranisch und
das Indische nicht teilhat?" 6
301
Допуская в принципе специфические связи северно-
иранского с европейскими языками, М. Майрхофер, как
мы думаем, не ошибается. Наш материал решительно
это подтверждает. Скифо-европейские изоглоссы
существуют, и, как увидим, они более многочисленны, чем
можно было думать.
ос. l?s?g 'лосось'
Это слово стоит в очевидной связи с северноевропей-
скими названиями «лосося»: др.-в.-нем. lahs, нем. Lachs,
др.-сев. lax 'лосось', тохар, laks 'рыба', др.-прусс. lasasso,
лит. lasis 'лосось', русск. лосось. Ос. l?s?g неоднократно
привлекалось как свидетельство того, что это слово не
было чуждо также индоиранскому миру и, стало быть,
восходит к индоевропейскому языку-основе. А так как
лосось водился, как считают, только в реках, впадающих
в Балтийское и Северное моря, то отсюда делался вывод,
что прародина индоевропейцев находилась где-то в
бассейне этих рек9. Полагая, что лосось получил название
по своей окраске, привлекали сюда и др.-инд. laksa 'лак' 10.
Однако М. Майрхофер убедительно показал, насколько
сомнительно и ненадежно это сопоставление; др.-инд.
laksa- вместе с согд. rys; перс, raxs, арм. (займете.) erasx
'окраска', 'блеск' и другие скорее всего являются
производными от raj- (rajyati, rajayati) 'красный' и не имеют
отношения к названию лосось ". Но если др.-инд. laksa
выпадает из цепи, то ос. l?s?g оказывается
изолированным во всем индоиранском мире и не может служить
доказательством общеиндоевропейского характера
названия лосось. Следует подчеркнуть, что звуковой облик
ос. l?s?g не позволяет относить его к исконному
иранскому фонду. Если бы слово было арийским наследием,
оно звучало бы что-то вроде *r?xs?g, отнюдь не l?s?g,
ср. перс, raxs 12. Все это приводит к убеждению, что слово
l?s?g следует рассматривать не как арийское наследие, а
как одну из скифо-европейских изоглосс. A Lachs-\rgu-
ment нужно раз и навсегда исключить из дискуссий о
прародине индоевропейцев.
ос. dombaj 'зубр'; 'мощный'
Мы приводили кавказские соответствия: балк., карач.
dommaj, сван, dombaj и пр. 13 Вяч. Иванов, допуская ко-
302
лебание начального d\\z (ср. иран. dasta-\\zasta- 'рука'),
связывает со славянским *zubr, русск. зубр и пр.
Исходная база — *zomb-\\domb- м. Не сюда ли и слав. *dombii
'дуб' как мощное дерево?
ос. xsyrf /?xsirf 'сергг 15
Это слово я отношу к числу тех, где начальная
осетинская группа XS- отвечает и.-е. начальному s-: ос.
xsyn/?xsnun 'мыть' = и.-е. *sna-; ос. xs?z 'шесть' =
и.-е. *sek's, *swek's и др.16. Ос. / восходит, как обычно, к р.
Таким образом, от xsirf мы приходим закономерно к
*sirp-, т. е. славо-балтийскому названию «серп»; слав.
*sirpb, ст.-польск. sirp, русск. серп, латыш, sirps, sirpis
и sir ре 17. Заимствовано в западнофинские языки: фин.
sirppi, эст. sirp 'серп'. Сюда относят также греч. ссрлг) 'серп',
лат. sarpere 'обрезать', франц. serpe 'кривой нож', др.-в.-нем.
sarf 'острый' и др. (Рокогпу, 911). Ос. xsirf по огласовке
и по значению примыкает непосредственно к
славо-балтийскому.
Считаю нелишним привести другие имеющиеся в
литературе опыты разъяснения ос. xsyrf /?xsirf. Все они
представляются мне неудовлетворительными.
Вс. Миллер привлекал др.-инд. ksurapra от ksura-
'бритва' 18. Различие гласных делает эту этимологию
крайне сомнительной.
Б. Чоп (В. Сор) сопоставляет с греч. ?1фОс 'меч' |9.
Не говоря о том, что греческое слово стоит
изолированно, следует иметь в виду, что семантика орудий труда, как
правило, крепко привязана к их ф у н к ц и и (а не
внешним признакам, устройству или материалу), и
передвижение значений имеет место обычно лишь в кругу смежных
функций. Функции же меча и серпа в корне различны,
между ними нет ничего общего.
Э. Бенвенист (Е. Benveniste) выводит xsirf из *xsifra-
имея в виду др.-инд. ksipra- 'быстрый' 20. Искусственность
и натянутость предполагаемого семантического
процесса быстрый -*• серп очевидны.
ос. fsir/?fser? 'колос
Это слово уже давно разъяснено в связи с европейской
группой слов, означающих «острие», «стебель», «колос»
и пр.21. База *sp(h)ei- 'острый' была, по-видимому, обще-
зоз
индоевропейской (Pokorny, 981 sq). Но формант -го-,
а также значение сближают ос. fsir в особенности с
германской группой: ср. н.-нем. spir 'колос', др.-сев. spira
'стебель' и пр.
ос. fsondz ярмо*
Группа fs восходит обычно к sp:fsir 'колос' ¦*- *spaira-,
fsad 'войско' ч- spada-, ?fs? 'кобыла' ••— aspa- и др.
Конечное -dz здесь, как и во многих других случаях, может
восходить к -ti: yss?dz 'двадцать' ч- *vinsati и др. Гласный о
перед п восходит к a: fondz 'пять' из рапса и др. Таким
образом, fsondz восстанавливается закономерно в *spanti-:
основа span- плюс индоевропейский формант -ti-. Ср.
англос. spannan 'запрягать', 'прикреплять', нем. spannen,
an-spannen 'запрягать', латыш, spanda 'веревка' (для
привязывания плуга к ярму)', алб. pende 'упряжка из пары
быков' и пр. [ИЭС, I, 485; Pokorny, 982, 988; Fraenkel,
865 sq. (s. v. spcsti 'spannen')].
Профессор H. Холмер считает возможным отнести
сюда и лат. sponte. В письме автору от 29 августа 1963 г. он
любезно поделился своими соображениями: «I was particu-
larly interested in Ossetic fsondz 'yoke': Your Iranian re-
constuction *spanti- could be based, I suppose, on an IE
*sponti-, This would cover formally the Latin base sponti-,
as found in the well known ablative sponte.
As far as I am aware, the most common way of understan-
ding this peculiar word is the assumption of a nominative
*spontis (I do not know whether it ever occurs) meaning
something like 'free will, choice', etc., evidently on the basis of
the meaning of spontaneus. In any case, I quite agree with
you that the Ossetic word is connected with Lettish spanda,
Albanian pende, the Anglo-Saxon spannan, etc.
How do we place the latin sponte in this connection with
its apparently deviating sense? For one thing, I think it is
important to notice that sponte is almost regularly constructed
with mea, tua, sua, etc. I have always been inclined to think
that mea sponte means 'by (means of) my (own) obligation',
that is 'under the obligation of nobody else'. The adjective
should properly have been not spontaneus, but *suaspon-
taneus.
If my suggestion is correct, the Ossetic fsondz has strong
Western IE parallels and particularly in Latin» 22.
Если догадка Холмера верна, то параллель ос. fsondz-
304
лат. sponte оказывается в ряду многочисленных других
скифо-латинских изоглосс, приводимых в настоящей
работе (см. ниже).
ос. stivdz\\stevdz? 'деревянный
ШТИФТ, БОЛТ, СКРЕПЛЯЮЩИЙ ЯРМО С
ДЫШЛОМ'
Восходит закономерно к *stip-ti-, *stifti- (с
вторичным подъемом гласного *staip-ti-). Ср. др.-в.-нем. steft,
ср.-н.-нем. stift, нем. Stift 'гвоздь', 'штифт' и далее лат.
stipes 'кол', англ. stipe 'стебель', ст.-слав. stbblb, русск.
стебель и пр. (Рокоту, 1015 sq). Авест. stipti- (hapax
legomenon), название какого-то насекомого, относится,
возможно, сюда же (если насекомое получило название
по сходству с гвоздем и т. п.). Но по значению ос. stivdz
и на этот раз примыкает к европейской группе, в
особенности, германскому.
Ос. fsondz 'ярмо' и stivdz 'штифт ярма', возводимые к
*span-ti- и *stip-ti-, заключают один и тот же формант -ti-.
И.-е. формант -ti- обычно образует nomina actionis. Но
имеется достаточное число хорошо документированных
случаев, когда имена на -ti- выступают как nomina instru-
menti: др.-инд. tanti- 'веревка' от tan- и т. п.23
В ос. fsondz и stivdz мы имеем как раз хорошие
примеры такого конкретного употребления форманта -ti-.
ос. ?luton 'пиво'
Обычное название для пива в осетинском языке —
b?g?ny. Но в фольклоре встречаем другое слово — ?luton.
Конечное -on представляет весьма употребительный
формант. Отбросив его, получаем ?lut. В скифском
собственном имени из Ольвии 'АА-оидауос распознается это же
слово, снабженное другим распространеннейшим
иранским формантом -ag. Скиф. *akov$-, oc. ?lut примыкает
к европейскому названию пива *alut, *alud: англос. ealoo,
англ. aie, др.-прусск. alu, лит. aliis, ст.-слав. о1ъ, др.-русск.
олуй, фин. (заимств.) olut. Скифское (аланское) alut
было заимствовано в грузинский (aludi, ludi), и, таким
образом, слово распространилось, говоря словами
Пушкина: «От хладных финских скал до пламенной Колхиды» 24.
305
скиф. Гаатеьс, Гаотцс
Это скифское собственное имя (встречается
неоднократно в надписях Пантикапея и Горгиппии) отражает
нарицательное *gasti- 'гость' и неотделимо от европейского
слова госты ст.-слав. gostb, русск. гость, гот. gasts, нем.
Gast 'гость', лат. hospes (из *hosti-pot-s) 'хозяин,
принимающий гостя', лат. hostis 'незнакомец', 'враг' (Рокоту,
453). В осетинском имеем для термина «гость» другое
слово — waz?g\iwaz?g (*vi-vazaka-, букв, 'путник').
Очевидно, *gasti- и *vivazaka- отражают два разных
племенных диалекта скифо-массагетской среды.
сакс, pa'sa свинья'
Под названием «сакского» или «хотаносакского» языка
в науке известно одно из скифских наречий,
засвидетельствованное памятниками VII—X вв. н. э. из Восточного
Туркестана. Считают, что этот язык принадлежал сакским
племенам, которые во II в. до н. э. сокрушили Греко-Бак-
трийское государство и вторглись в Северо-Западную
Индию, где господствовали в течение нескольких столетий.
Установить точно, когда именно носители сакской
речи отделились от остального скифского мира, не
представляется возможным. Все же тот факт, что сакский
не разделяет некоторых фонетических процессов, которые
в европейско-скифском определились очень рано, говорит
в пользу большой давности разрыва между «прасакским»
и остальными скифскими наречиями. Мы имеем в виду
прежде всего переход г в / перед i (у). В
европейско-скифском этот переход был уже совершившимся фактом во
времена Геродота, т. е. в V в. до н. э. Ср. имя одного из
мифических родоначальников скифского народа Ainocais
из *Ripaxsaya- 25. Осетинский язык, продолжающий ала-
но-массагетскую традицию, также дает / из г перед i(y):
allon 'алан' из агуапа- и др. 26
Сакский не разделяет эту фонетическую особенность.
В нем г перед i (у) сохраняется: ggari 'гора', pari
(приставка) : pari-ges и др.— ос. f?l и др.
Это дает основание предполагать, что отделение
будущих носителей сакской речи от остального скифского
мира произошло во всяком случае до V в. до н. э.
Но если так, то сакский мог сохранить изоглоссы
древнейшего периода скифо-европейских контактов, в том
числе и такие, которые в осетинском не
засвидетельствованы. Одним из таких изоглосс является сакское pa'sa-
'свинья' из *palsa-, *parsa-. Слово распознается и в
авестийском: hus pardso (К. Hoffmann в «Munchene Studien zur
Sprachwissenschaft», 22 A967), pp. 35—36). Этот факт
важен для уточнения диалектного статуса авестийского
языка: он тяготеет к восточному, а не западному Ирану.
См. еще BSL 45 A949), pp. 87 sq. Ср. ст.-слав. prase,
болт, прасё, серб, prase, чеш. prase, польск. prosie, луж.
prose, полабск. porsa, укр. порося, русск. поросенок, лит.
pafszas 'боров', др.-в.-нем. far (a) h, англос. fearh 'свинья',
ирл. огс 'поросенок', лат. porcus, и.-е. *porko-.
Заимствовано в угро-финские языки: фин. porsas 'поросенок', морд.
purts, purtsos, удм. pars, коми pors 'свинья', вог. (из коми)
pores и др.28.
Можно предполагать, что и в тех современных восточ-
ноиранских языках, которые преемственно связаны с сак-
скими наречиями — в афганском (пушту) и припамир-
ских,;— также сохранились следы специфических связей
с европейскими языками. Такие изоглоссы имеются:
Афг. zanai (из *zma-ka-) 'зерно' — ст.-слав. zrbno,
русск. зерно, др.-прусс. syrne, лит. zirnis, гот. kaurn, нем.
Кот, Кет, лат. granum, ирл. gran.
Афг. wraza (из *brusa-) 'блоха' — ст.-слав. Ыъха,
blbsica, русск. блоха, лит. blusa.
Афг. punda (из *panta-) 'пята' — ст.-слав. peta (из
*penta-)f русск. пята.
Афг. mesta 'место (пребывание)' — ст.-слав. mesto,
русск. место и пр.
Афг. yumba 'опухоль' — лит. gumbas 'опухоль'.
Афг. kanai (из *karna-ka-) 'камень' — лит. kalnas
'холм'.
Афг. pinel 'есть (с ладони)'—лит. penu, peneti
'кормить'.
Афг. wuza 'жила', мундж. wurz 'нить', шугн. wurz
(wury) 'шерстяная нитка' — лит. viriis 'веревка'.
Афг. narai 'тонкий', 'узкий', ос. nar?g — англос. пеаго,
англ. narrow 'узкий'.
Афг. spesta 'клин', ^pistai 'спица б колесе' — лат. spica
'острый конец', 'стрела', русск. спица и пр. Этот же корень
в ос. fsir 'колос' (см. выше).
Афг. pdrgai (из *parku-ka-) 'желудь' — лат. quercus
(*r— *percus) 'дуб', и.-е. *perk0u-.
307
Афг. ydsai, yasai, yesai (из gaisa-) 'стрела' — лат.
gaesum 'дротик'.
Афг. yamai 'драгоценный камень (в перстне)', 'гем-
ма — лат. gemma .
Шугн. moz-: mizd 'делать', 'выделывать',
'обрабатывать' 30 — герм. *так- (др.-сак. такоп, англ. таке, нем.
machen), и.-е. *mag-. Слав, mazati, которое некоторые
относят сюда же, стоит дальше по значению.
Шугн. tap-: tapt 'топать' — слав. 1ър-, tbpbt, русск.
топать, топот, топтать — звукоподражание.
Шугн. xicand- 'рассекать', 'разрезать', 'рубить' — слав.
sekc, русск. секу, сечь, лит. issekti 'ваять', лат. seco 'режу',
нем. Sage 'пила' и пр.
Вах. skdn, сгл. skdnok 'щенок' — слав, scen- (из *sken-),
русск.. щенок и пр. (ниже, с. 315 ел.).
Вах. nuyd 'ночь', ср. гот. nachts и пр., в иранских языках
господствует другое слово — xsap-,
Язг. dnder, сакс, handara, oc. ?nd?r 'другой' — др.-
прусс. antars, лит. ahtaras, др.-сакс. andar, нем. ander
'другой' (см. ниже, с. 324).
Более тщательные поиски выявят, возможно, еще
некоторое количество изоглосс, связывающих сакско-па-
мирско-афганский мир с европейским.
ос. ?mb?rzyn | ?mb?rzun 'покрывать'
Восходит к *ham-barz, где barz- равно и.-е. *bhergh-
'прятать', 'беречь' (Рокоту, 145). Ближайшие
соответствия в славянском, балтийском, германском: ст.-слав.
bregc 'берегу', русск. берегу, серб, brzem 'храню', чеш.
brh 'хижина', 'шалаш', в.-луж. brozen, н.-луж. broznja
'овин', лит. birginti 'беречь', гот. bairgan, нем. bergen
'оберегать', 'спасать', нем. verbergen 'укрывать', 'прятать' и пр.
(ИЭС, 1, 137 ел.)
Из значения «беречь» могло развиться далее значение
«обеспечивать», «гарантировать», «обещать». Это
семантическое развитие также является общим для германского
и скифского. Ср. рядом с др.-в.-нем. bergan 'хранить' —
др.-в.-нем. borgen 'обеспечивать', а в осетинском рядом
с ?mb?rz- 'покрывать' — iv?rz- (*vi-barz-)
'обнадеживать', 'сулить', 'обещать'.
Надежных индоиранских соответствий не видно.
308
oc. kajyn. a-gajyn 'трогать'
Выделяемый в этих словах корень *kah- имеет
надежную параллель в славо-балтийском *kas-, *kos-: ст.-
слав. kasati se 'касаться', kosnoti 'тронуть', русск. касаться,
коснуться, лит. kasyti, kasti 'скрести' '. Обращает на себя
внимание полная идентичность значения в скифском и
славянском, как это имеет место и в нижеследующем
глаголе.
ос. tajyn 'таять'
Примыкает к славянскому: ст.-слав. tajo, русск. таю,
таять. Сюда же относят нем. tauen 'таять', лат. tabeo
'таю', греч. Tfjxco 'плавлю', 'расплавляю', арм. tanam
'увлажняю' и пр. (Рокоту, 1053 sq).
На индоиранской почве корень *ta- с уверенностью
не распознается. Некоторые привлекают авест. tata apo
(Yast 5. 15; 8,47) 'текучие воды', рассматривая tata- как
prtc.pf. pass. от ta-. Г. Гумбах (H. Humbach) относит сюда
же слово таоо в надписи кушанского царя Канишки,
считая его названием ритуального хмельного напитка 33.
Если даже признать правильной эту этимологию [Хр. Бар-
толомэ (Chr. Bartholomae) неплохо объяснил авест. tata-
из *ftata от pat- 'падать' с закономерным отпадением
начального f] 34, по значению ос. tajyn смыкается со
славянским, а не авестийским. Авест. tata аро нельзя
переводить «тающие воды»; такой перевод бессмыслен.
Таяние обозначает переход из твердого в жидкое
состояние, и это понятие применимо ко льду, снегу, воску,
металлу, но никак не к воде. Но если авест. tata apo
обозначает не «тающие», а 'текучие или падающие (о дожде!)
воды', то ос. tajyn, никогда не употребляемое в смысле
«течь», следует, во всяком случае по значению, отделить
от авест. tata-.
ос. m?cyn 'валяться (в чем-либо
ЖИДКОМ)'
D? tugy f?m?caj! 'чтобы тебе валяться в своей крови!'
(проклятие). База *mak- 'увлажнять', 'мочить' (Рокоту,
698). Осетинский и здесь, как в ряде других случаев, стоит
ближе всего к славянскому; ст.-слав. mociti русск.
мочить и пр.
309
oc. qavynWgavun 'целиться', 'метить'
Относим к базе *ghabh- (Рокоту, 407 sq): польск.
gabac 'хватать', 'нападать', белорусск. габаць 'брать',
'хватать', лит. guobti 'схватывать', 'сгребать', gobus
'жадный', ирл. gaibim 'беру', 'хватаю', 'держу', лат. habeo
'имею'. На индоиранской почве сюда можно отнести с
натяжкой только др.-инд. gabhasti- 'рука'. Для развития
значения: «хватать» -*¦ «целиться» ср. ос. (?)rg?vun
'попадать в цель' из *grab- 'хватать'.
ос. s?lyn 'мерзнуть'
Примыкает и по значению и по форме (I вместо
ожидаемого г) к лит. salti, латыш, salt 'мерзнуть' от и.-е. *kel-
'мерзнуть'. Другие языки сохранили главным образом
отглагольное прилагательное *kelto-\ авест. sardta-, перс.
sard 'холодный', ст.-слав. slota 'непогода' лит. saltas
'мороз'. Иранское *sar- 'мерзнуть' помимо приведенных выше
авестийского и персидского слов распознается еще в авест.
sard-aa- 'леденящий', sarasti- 'озноб', парф. vi-sar-, вах.
waser 'студить'. Повсюду в этих словах мы находим
закономерный для иранского г и лишь осетинский примыкает
к балтийскому, давая простую (беспревербную)
спрягаемую форму с /.
ос. (диг.) t?rf? 'низина', 'ложбина',
'ВПАДИНА'
Ср. ст.-слав. trapb 'яма', лит. tarpas 'расселина', тохар.
tarp 'болото', 'пруд', фрак, tarpo- 'долина' 3о. Афг. tarma
'болото' (если из *tarpa-) примыкает по значению к
тохарскому и является, вероятно, сакским наследием.
ос. l?nk | l?nc? 'ложбина', 'низина',
'ЛОГ', 'ВПАДИНА'.
Примыкает к тохар, lenke 'впадина' 36, лит. lanka
'долина', 'ложбина', ст.-слав. loka 'долина', русск. лукоморье
'морская бухта', русск. (диал.) лука 'травная лощина',
болг. лъка 'ложбина', 'приречный луг'. Из двух осетинских
форм l?nk восходит к *lanka-, a l?nc? — к *lankja-. Обе
формы распознаются и в европейских языках (Рокоту,
676). Арийских соответствий не видно.
310
oc. sus?n 'жаркий летний месяц'
Не может восходить непосредственно к и.-е. базе
*sus-, *saus- 'сухой': по иранской норме имели бы *hus?n
(ср. ос. xus 'сухой'). Начальный s скифо-европейская
изоглосса. Ср. литов. sausas 'сухой', ст.-слав. susiti
(ИЭС III 175).
oc. mingi маленький'
Варианты: mink'i, m?nk'i, m?nk'?i, m?ng?i. Сближаю
с тохар, menki 'меньший', 'недостаток', 'дефект', лит.
mehkas 'малый', 'ничтожный' 37. Др.-инд. тапак 'немного'
стоит дальше по образованию. База *теп- с формантом
-к (Рокоту, 728 sq).
ос. b?lon толубь'
Примыкает непосредственно к лит. balandis 'голубь'.
Возможны дальнейшие связи (см. ИЭС I 249).
ос. s?xt?g 'петля для застежки'
Ср. латыш, sakta, литов. saktis 'застежка' (ИЭС III 97).
ос. коугт | kurm?'CJiEnoft
Вероятна связь с лит. kurmis 'крот' (букв, 'слепой'?)
Ср. ос. k^rm myst 'крот' (букв, 'слепая мышь').
Дальнейшие связи см. ИЭС I 611 38.
ос. m?xst?tt? \ m?xst?ntt?
мошонка'
Представляет форму множественного числа от m?x-
ston. Форма единственного числа неупотребительна. M?x-
ston разлагается на m?xst и -on, где -on — употребитель-
нейший формант (ср. выше ?lut-on). M?xst сближается
с лит. makstis (обычно мн. ч.— makstys) 'чехол', 'футляр',
'ножны', латыш, maksts 'сумочка', 'мошна', 'чехол', лит.
makas 'кошель', maksna 'чехол', ст.-слав. тоЪъпа, русск.
мошна, мошонка ("Fraenkel, 399).
311
oc. bur?m?z 'чудесный клей'
В осетинском эпосе так называется волшебный клей,
которым пользуется великан w?jyg, чтобы приклеить
героев-нартов к сиденью. В первой части — Ьйг? 'желтый'.
Вторая часть m?z неотделима от ст.-слав. тагь, mazati,
русск. мазь, мазать. С полным основанием относят сюда
латыш, iz-muozet 'дурачить'; для развития значения
«мазать» -»- «дурачить» ср. др.-инд. rip-, Up- 'мазать', хетт.
Ир- 'мазать' — иран. rip- 'обманывать' (ос. f?-fiv-yn, перс.
fi-ref-tan и др., ИЭС I 438). Из других европейских
соответствий отметим греч. Р-ауц 'тестообразная масса'
(Рокоту, 696). На индоиранской почве не
засвидетельствовано.
ос. (диг.) l?fin? 'яркий луч\ 'яркий
СВЕТ'
Возводится к *1ар- с формантом -in?. Ср. лит. lope
'свет', латыш, lapa 'факел', др.-прусск. lopis 'пламя', греч.
кацпас, 'факел', 'свет', хетт, lap- 'пылать', lappa 'яркий'.
Арийских параллелей нет.
ос. dz?k'ul 'мешочек'
Начальный dz- в осетинском иногда восходит к s-:
dz?k'?n 'кизяк' из *sakan-, dz?nga 'кварц' из *sanga-
'камень'. Стало быть, dz?k'ul можно возводить к *sakul
и объединить с лат.4 sacculus, ст.-слав. sakulb, укр. сакуля.
Все эти слова через лат. saccus, греч. а ах* ос возводятся
к семитическому saq 'волосяная ткань', 'мешок'. В
иранских языках, кроме осетинского, нигде не отмечено
(ИЭС I 393).
ос. q?l?s g?l?s тлотка', толое
Неотделимо от русск. голос, ст.-слав. glasb. Возможно,
что мы имеем здесь тот же корень, что в ос. q?r \ g?r
'крик', но по форме (согласный /, формант -s-) q?l?s\ g?l?s
примыкает к славянскому. Нельзя даже считать
исключенным, что g?l?s заимствовано из ст.-слав. glasb.
Полногласие для осетинского закономерно: g?l?s относится к
glasb, как, скажем, ос. g?l?xxa 'бедняга' к груз, glaxa
(ИЭС I 511).
312
oc. k'0yllaw I k'ullaw трыжа', -име-
.ющий грыжу
Ср. ст.-слав. kyla, русск. кила (из кыла •*- *kula-)
'грыжа', чеш. kyla, польск. kila, болг. кила 'грыжа', лит.
kula 'нарост', др.-в.-нем. hola, др.-сев. haull 'грыжа' (ИЭС
Г 648).
ОС. t?rXOn 'ОБСУЖДЕНИЕ',
'СУЖДЕНИЕ', 'суд', t?rxon k?nyn
'обсуждать', 'судить', t?rxony l?g
'судья', (l?g 'человек'), t?rxondon
'СУДИЛИЩЕ'
Восходит к *trk-ana-, *tark-ana-. Неотделимо от ст.-
слав. tblkb, pycck. толк, толковать, откуда лит. tulkas
'переводчик', ср.-в.-нем. tolke, др.-сев. tulkr 'толкователь',
'переводчик'. Др.-инд. tark- 'размышлять', tarka-
'соображение', 'суждение'. Майрхофер (Mayrhofer, I, 484 sq)
отделяет от славянской группы, быть может, без достаточных
оснований. Хетт, tark- 'to interpret' («Language» March,
1933, p. 17) может восходить к и.-е. *terk- или *derk-.
Иранских соответствий не отмечено. Из скифского (алан-
ского) идут тюрк, tarxan почетное звание (первоначально
'судья'?), монг. darxan (на тюркской и монгольской почве
не этимологизируются), венг. tarchan 'olim judex' (Mun-
kacsi, AKE, 12). Быть может, из скифского идет и
этрусское Tciqxouv, Tarchon,— имя героя (отсюда лат. Tarqui-
nius), a также согд. Тагхйп.
ос. qul[ gol? 'бабка для игры,
'альчик\ qul?j qazyn gol?] gazun
'ИГРАТЬ В АЛЬЧИКИ'
Ср. русск. (диал.) гуля, польск. gula 'шишка', др.-сев.
kula 'шишка', 'шарик'. Иранских соответствий не видно.
О др.-инд. gola- 'шар' см. ниже, в разд. «Фонема Z»39.
ос. kur, kul в kur-?fc?g 'коротко-
шейный', c?n(g)-k0yl 'безрукий',
'СУХОРУКИЙ'
Сопоставляется с элементом kur в русск. кур-носый,
кургузый; ср. корнать 'обрезать', 'укорачивать', корноухий,
313
корнохвостый и пр. (Vasmer, REW, I, 628 sq., 699, 701;
ИЭС I 301, 608 ел.)
ос. хйгх | хогх тлотка', торло'
Сближается со славянской группой: чеш. krk, польск.
kark, ст.-слав. *къгкъ 'горло', 'шея'. Сюда примыкают: на
севере фин. кигкки 'горло', на юге мегр. xurxi, чан. xurxi,
груз, xorxi, каб. qurq 'горло'. Др.-инд. krkat- 'горловая
связка' считается неясным (Mayrhofer, I, 256).
ОС. ZIV?g 'ЛЕНИВЫЙ', 'ЛЕНТЯЙ'
Возводится закономерно к *zaivaka- и по форме
представляет nomen actoris от глагола *zaiv-. Такого глагола
в осетинском нет, но он есть в славянском: ст.-слав.
zevati, русск. зевать и пр. Стало быть, ос. ziv?g по форме
и значению равно русск. зевака. Исконно родственные
формы в балтийском и германском: лит. ziovauti, латыш.
zavat 'зевать', др.-в.-нем. giwen, gewon 'зевать'
(дальнейшее см. Vasmer, REW, 451, 456 sq. Несколько иначе
ИЭС IV 312).
ос. wis\wes 'прут', 'хворостина'
Восходит закономерно к vaisa- и безупречно отвечает
слав, vecha, русск. веха 'шест (втыкаемый в землю для
указания пути)' (из *weisa от *wi, *wei 'вить', 'плести'),
лат. virga (из *vis-ga) 'прут', 'розга' и пр. (Vasmer, REW,
I, 195). От корня *wi в других иранских языках
распространено образование на -ti: авест. vaeti-, перс, bid, шугн.
wed, ягн. wet и др. Но ос. wJs не может восходить к *vaiti-;
из *vaiti- имели бы не wis\wes, a widz\wej, ср. yss?dz \
ins?j 'двадцать' из *vinsati. Реконструированная для
объяснения ос. wis\wes праформа *waitsa- (Morgenstierne, II FL
II 264) нереальна и не поддерживается фактами
родственных языков. Признание здесь одной из скифо-европей-
ских изоглосс устраняет все трудности интерпретации.
Венг. vesszo 'прут', 'розга', ханты wasa, мари waze
представляют, возможно, скифское заимствование.
314
oc. xum?t?g, xum?t?gi 'простой';
В ПРИМЕНЕНИИ К ЧЕЛОВЕКУ —
'НЕЗНАТНЫЙ'
Из слав. *kumet(i)- с наращением обычного форманта
-?g. Ср. др.-русск. къметъ 'крестьянин', 'воин', 'ратник',
серб, kmet 'крестьянин', чеш. kmet, словац. kmef, польск.
kmiec 'крестьянин', др.-прусск. (из слав.) kumetis, лит.
kumetis 'крестьянин', рум. (из слав.) cumet40.
ос. st?n кобель'
Употребительно только в выражении st?nm? c?wyn
букв, 'идти к кобелю'. Так говорят о суке в период течки:
n? gadza st?nm? yssydi 'наша сука имела случку'.
Аналогичное выражение для коровы: k^rm? c?wyn 'идти к
бычку'; для кобылы: wyrsm? c?wyn 'идти к жеребцу'.
Группа -st- в осетинском может возникать из -se- (с
после s переходит в t): isty 'что-нибудь' из Ts-cy, f?st?
'после' из иран. pasta-, f?stinon 'выздоравливающий' из
f?scJnon (ИЭС I 464), Wastyrgy 'святой Георгий' из
Wascyrgy, Was-Gergi. Стало быть, st?n восстанавливается
в *sc?n и оказывается родственным слав. *scen- 'щенок'
из дославянского *sken-; ср. ст.-слав. stenbeb, русск. щенок,
укр. щеня, польск. szezenie, чеш. stene, серб, stene, болг.
щене, щенец. Значение «кобель» (в осетинском) и «щенок»
(в славянском) соотносится так же, как.скажем, в русском
«жеребец» и «жеребенок».
В припамирских иранских языках имеем для «щенка»
созвучные названия: вахи skdn, skon, йидга sdken, мундж.
sdken, сгл. skdnok, ишк. skonuk, язг. sdkwon 4I.
Если допустить, что в припамирских языках имел
место такой же перебой se —-st, как в осетинском и
славянских, то можно отнести сюда же названия «козленка»:
ишк. stanak, сангличи stdnok, парачи isten.
Дают ли, однако, приведенные факты право говорить
об общеиранском характере этого слова? Вряд ли. Дело
в том, что припамирские языки во многом продолжают
традицию сакского (хотанского) языка. А сакский язык —
это одно из скифских наречий, продвинувшееся в
древности в Среднюю Азию из Восточной Европы. Вполне
возможно, что название «щенок» в припамирских языках
и есть сакское наследие. А если так, то мы можем говорить
о скифо-славянской изоглоссе (см. с. 306—308 и 411—412).
315
За пределами скифо-славянского сюда можно отнести
арм. skund 'щенок'.
Стоит отметить, что осетинский сохранил в значении
«щенок» и древнеарийское слово: q?vdyn из *gadbaina (?),
стр. авест. gabwa- 'собака'.
ос. ul?n 'волна'
Формант -?n (из -апа-) чередуется нередко с -n?
Так имеем параллельно xez?n и xezn? 'пастбище', araz?n
и arazn? 'руль' и др. Поэтому наряду с ul?n могла быть
форма *uln?, что точно отвечает слав, vblna, русск. волна,
ср. также лит. vilnia, латыш, vilna 'волна'. Неизмеримо
дальше стоит по звучанию и образованию авест. varemi-
'волна'. Осетинское и славянское слово восходит к *vla-na
(база и.-е. *wel-, Рокоту, 1140 sq). Сюда же я отношу
ос. ivylyn | ivulun 'разливаться' (о реке) из *v/-v/-. В.
Миллер дает другую этимологию: «...vielleicht idg. bheul-, bhul-
'schwellen', irisch bolach, , as. byle, ahd. pulla, paula 'Beule'
g. ufbauljan 'aufblasen' 42. Но и при этой этимологии мы не
выходим за пределы скифо-европейской изоглоссы.
oc. c?d\ c?d? 'пара' (быков)'
Употребляется только в применении к быкам в
упряжке: dywwad?s c?dy galt?j х^пг kodtoj 'они пахали
двенадцатью парами быков'. Производное c?dis\c?des
'соучастие в упряжке' (когда каждый партнер дает одного быка) ;
в современном литературном языке c?dis употребляется
в более общем значении — 'союз'; c?dison, c?dis?mbal
обозначает 'товарищ по упряжке', c?d возводится к *cata
и безупречно отвечает слав, ceta 'стадо', русск. чета 'пара',
русск. (диал.) чета быков 'упряжка' .
ос. f?xt I f?st? 'ступа для
толчения'
Очевидна связь с русск. пест, лит. piesta, piestas 'ступа
для толчения'. Чередование s\\x (f?st?\f?xt) характерно
для славянского. Ср. рядом с пест диалектные пехталъ,
пехтило с тем же значением. Поэтому естественно думать
о старом заимствовании из славянского в скифский.
Однако по значению осетинский примыкает не к русскому, а
литовскому.
316
oc. k0yrd I kurd 'кузнец'
Сближаю с древнерусским кърчии 'кузнец': kurd из
*kurto-, кърчии из *kurtyo- от *kur- 'разжигать огонь'.
База *кег(э)- (Рокоту, 571 sq). Ср. ст.-слав. kuriti, русск.
курить, лит. kurti 'топить', 'разжигать огонь', перс, kura
'кузнечный горн', арм. krak 'огонь' и пр. 44 Тождество
значения и близость словообразования позволяют видеть
здесь скифо-восточнославянскую изоглоссу".
ОС. CUT | СОГ 'ОКОЛО', 'ВОЗЛЕ'
Исходное значение было, по-видимому, «край». Это
значение распознается в выражении cojrag 'крайняя
скотина (при молотьбе)'. Сопоставляю с русск. чур 'край',
'грань', 'предел'. Дальнейшие связи неясны 45.
ос. f?rv | f?rv? ольха'
Слово имеет только одно надежное соответствие:
др.-в.-нем. jelawa 'ива'. О. Шрадер (О. Schrader), приводя
нем. jelawa, утверждал, имея в виду ос. f?rv, что слово
«nach Asien hinuber reicht...» 46. Иначе говоря, наличие
слова в осетинском было для него доказательством, что
оно принадлежало всему индоиранскому миру. Однако
для такого утверждения нет оснований. Мы имеем, скорее,
дело с «сепаратной» скифо-германской изоглоссой.
Арийскому миру в целом слово чуждо.
ос. (диг.) till?g 'уродившийся хлеб',
'УРОЖАЙ'
Примыкает к германской группе слов со значением
«обрабатывать землю», «рождать». Ср. др.-фриз. tilia
'обрабатывать землю', 'рождать', также 'достигать', англ.
till 'возделывать землю' (др.-англ. tilian), tillage 'пашня',
'пахота', н.-н.-нем., нидерл. telen 'рождать', 'производить',
'возделывать землю', вестф. tile, др.-в.-нем. zila, нем. Zeile
'ряд снопов' (именно это конкретное значение, а не
абстрактное «ряд» следует считать первичным) 4 .
317
oc.qar?g\ gar?ng? 'обрядовый
ПЛАЧ', 'ОБРЯДОВОЕ ПРИЧИТАНИЕ ПО
ПОКОЙНИКУ'
Восходит к *gara-ka-. Корень *gar-, *ger общеиранский
и общеиндоевропейский, означавший 'взывать', 'кричать'
и пр. (ср. ос. qaryn \garun 'взывать', q?r \g?r 'крик'). Однако
ближайшие по значению соответствия для ос.
qar?g\gar?ng? 'причитание' находим не в иранских, а
германских языках: гот. кага 'скорбь', кагоп 'скорбеть', др.-в.-нем.
кага 'причитание', кагоп 'оплакивать', англос. сеаги 'скорбь',
'причитание', нем. Kar-woche 'страстная неделя' (неделя
оплакивания Христа), Kar-freitag 'страстная пятница'
(пятница оплакивания).
Для ос. qaryn\garun 'взывать, жалуясь на обиду' и
пр.— точное соответствие в др.-сев. k?ra, норв. kj?ra, швед.
кага 'взывать к справедливости', 'жаловаться.
ТЕРМИН «СКИФ»
Среди многочисленных предложенных разъяснений
этнического термина Sxudr]c есть одно, которое раньше
казалось произвольным и сомнительным, но теперь, в свете
новых данных приобретает особый вес и значение. Мы
имеем в виду этимологию, связывающую термин skut-
(skyt-) с германской группой *skut- 'стрелок из лука',
'стрелять' 4O. Ср. др.-сев. skyti, англос. scytta, др.-швед.
skytte, skytta, норв. skytte, др.-в.-нем. scuzzo, нем. Schutze
'стрелок', 'sagittarius', др.-сев. skjota 'стрелять', швед, skjuta,
англос. sceotan, др.-сакс. skeotan, гот. *skiutan (крым.
гот. schieten) 'mittere sagittam', др.-в.-нем. sciozzan, нем.
schiessen.
И с семантической и формальной стороны эта
этимология не оставляет желать ничего лучшего. Скифы
пользовались репутацией отличных стрелков из лука (то^отаь,
1ллото?бта1, например, Геродот, История, IV, 46) 49.
Казалось бы, герм. *skutja идеальный этимон для термина
охЪицс,. Неясно было, однако, каким образом германское
слово «стрелок» стало названием скифского племени.
Теперь, когда вскрыт целый пласт скифо-европейских, в
частности, скифо-германских, изоглосс, картина
проясняется; название skut 'стрелок' было дано скифам их
древними соседями германцами, а от них (через фракийцев?)
было усвоено греками и в Малую Азию (вавил. iskuzai
и пр.). %
318
алан, sabar 'овес
В современном осетинском языке «овес» имеет два
названия: sysk'y (ирон.) и z?tx? (диг.). Оба они являются
заимствованными. Можно было предполагать
существование оригинального скифского (аланского) слова для
«овса». Теперь это слово найдено. В ясском (аланском)
глоссарии XV в., найденном в Венгрии и опубликованном
Ю. Неметом, имеется слово sabar 'avena' 5U. Алан, sabar
примыкает к герм. *habar-, *hafar- 'овес', др.-в.-нем. habaro,
др.-сакс, ha?aro, нем. Haber, Hajer, швед, hafre, др.-сев.
hafri, норв. дат. havre. Соответствие герм, h- алан, s-
закономерно, если исходить из догерманского *к'араг. В
осетинском ожидали бы *savar. Но как раз в дигорском
диалекте, который отражен в ясском глоссарии, внутри
слова между гласными появляется иногда b вместо
ожидаемого v: robas 'лиса' вместо rovas, dzubur 'соха' вместо
dzuvur, z?b?t 'пятка' вместо z?v?t и др.51
ос. smag 'запах'
Примыкает к герм. *smaka 'вкус', 'запах'. Ср. др.-фриз.
smaka 'вкус', 'запах', ср.-н.-нем. smak, нидерл. smaak, швед.
smak, датско-норв. smag; с двойным -кк- англ. smack, нем.
Geschmack 'вкус', schmecken 'вкушать' (в южнонемецком
также — 'нюхать').
ос. ung?g 'узкий', тесный', ung
'УЛИЦА'
Вероятно из *anga- с закономерным сужением а перед
п. Примыкает к западноевропейским формам: гот. aggwus,
др.-в.-нем. angi, нем. eng, лат. angustus, ирл. cum-ung
'узкий', 'тесный' (ИЭС IV 117).
ОС. tUSk'а 'КАБАН'
Вряд ли можно сомневаться, что это слово так или
иначе связано с англ. tusk 'клык', др.-физ. tusk, др.-сев.
toskr. Суффикс -а употребляется в осетинском для
обозначения наделенности чем-либо. Так, «козел» (со
скрещенными рогами) называется dzwarsa (c?w) = dzwar ("крест') -f-
+ sy ('por') 4" суффикс -а. Стало быть, tusk'a могло
значить 'клыкастый', что отлично подходит к «кабану».
319
Смычно-гортанный к' повторяется иногда в
индоевропейских словах осетинского языка после s: x0ysk' 'сухой',
sk'?ryn 'гнать' и др.
ос. t?sk' | t?sk'? 'корзина'
Примыкает к германской группе: др.-сев. taska 'сумка',
швед, taska, норв. taske, др.-в.-нем. tasca, нем. Tasche. Из
германского идут, по-видимому, итал. tasca 'сумка',
'карман', венг. taska 'сумка', фин. tasku 'карман', чеш. taska.
Может быть, сюда же славянская группа таскать, тащить
в смысле «нести в сумке, мешке». Происхождение слова
не выяснено.
ос. r?xys | r?xis 'цепь'
Из герм. *rak(k)is 'цепь'; ср. др.-сев. rakki 'строп
(скрепляющий рею с мачтой)', rekendi 'цепь', др.-в.-нем.
rachinze 'цепь', англос. racca, racete 'цепь'. Из осетинского
идут авар, raxas, абхаз, a-rxdsna 'цепь' (специально —
'надочажная цепь').
ос fizon?g | fezon?g 'шашлык'
Разлагается на fiz- (fez-) -\- on -\- ?g (-on vi ?g —
чрезвычайно употребительные в осетинском суффиксы).
Основа fiz- \fez- (из *paigh-) сопоставляется с fig- в англос.
a-fig-en 'жаркое'. Из аланского идет, возможно, вен.
fozni 'варить пищу' 52.
ос. myg | mug? сперма'
Ближайшее соответствие — лат. mucus 'слизь'. Другие
слова, объединяемые под базой *meuk- (Рокоту, 744 sq)
стоят по форме и значению слишком далеко.
ос. sir \ser? 'каша из муки и
молочной СЫВОРОТКИ'
Ср. лат. serum 'молочная сыворотка' (ИЭС III 122).
ос. r?mp?g \ rump?g 'моль'
По форме представляет отглагольное имя (nomen
actoris) на -?g от глагола *rump- (дигорская форма явля-
320
ется первичной) с вероятным значением 'портить',
'уничтожать'. Однако такой глагол в осетинском не сохранился.
Но он хорошо известен в латинском: гитро 'рвать
(например, одежду)'. По значению к восстанавливаемому скиф.
*гитр еще ближе стоит превербная форма латинского
глагола гитро: соггитро (из сопгитро 'портить',
'уничтожать'.
ос. (диг.) berindzun 'потягиваться',
'ЗЕВАТЬ'
Разлагается на ba-i-rindz-un, где rindz отвечает лат.
ring- в ringor, ringi 'разевать рот', слав. *reng- в regnati
'открывать рот' и, может быть, герм. *wrenk- в нем.
renken 'растягивать', англ. wrench 'дергать' и пр. Однако по
огласовке i ос. berindzun примыкает непосредственно к
латинскому (ИЭС I 260).
ос. (диг.) ?rxu 'плотно замкнутый,
ЗАПЕРТЫЙ'
Ср. лат. агсео 'запирать', агх 'крепость', агса 'сундук',
а также 'гроб' и 'тюремная камера'. Ср. также лит. rakinti
'запирать', raktas 'ключ'.
На осетинской почве мы относим сюда же ?x-k?nyn
(из *?rx-k?nyn) 'запирать', ?rx?g 'сустав' и некоторые
другие слова (ИЭС I 185 ел., 218 ел.).
ос. mystul?g 'mustela'
Осетинское слово засвидетельствовано в нескольких
вариантах: mystul?g, must?l?g, myst?l?g. Близость к лат.
mustela является «фрапантной». Но приписать ее
случайности невозможно ввиду полного звукового и смыслового
тождества. В обоих языках слово является, по-видимому,
производным от названия «мышь»: лат. mus, ос. mys-t.
Полное тождество оформления позволяет говорить о
специфической скифо-латинской изоглоссе.
ОС. W?RGON — ИМЯ БОГА-КУЗНЕЦА
Обычно имя осетинского Гефеста выступает в эпосе
в форме Kurdal?gon. Эта форма представляет стяжение
из Kurd-Alce-W?rgon 'Кузнец Аланский — W?rgon'. Такая
1 1 В. И. Абаев
321
форма засвидетельствована. W?rgon безупречно отвечает
лат. Volcanus. Оба слова заключают и.-е. *wUt0o- 'волк' и
один и тот же формант -апо-.
Подробнее на этой скифо-латинской изоглоссе мы
остановимся ниже, в разделе «Мифологические параллели».
ос. wylyng\ ulink'? 'пядь' (мера
ДЛИНЫ)
Ср. лат. ulna, греч. cuXevt], гот. aleina 'локоть' (ИЭС
IV 114).
oc. к'ces 'хижина'
Примыкает к романской группе: лат casa 'хижина',
итал. casa 'дом', испан. casa 'дом', рум. casa 'дом' (ИЭС
I 630).
ос. hal 'жребий'
Ср. лат. alea 'жребий' (ИЭС IV с. 135).
Ниже приводятся некоторые случаи, когда осетинское
слово представлено и на индоиранской почве, но по
некоторым признакам образования, семантики или
употребления осетинский стоит ближе к европейским языкам.
ос. атопуп показывать',
'наставлять', 'УЧИТЬ'
Восходит к *а-тап-. И.-е. база *теп-, выражающая
разные виды духовной активности, широко распространена
в индоевропейских языках. Преобладают значения
'думать', 'мыслить', 'помнить' и т. п. (Рокоту, 726 sq). Однако
в некоторых языках выступает каузативное значение
«наставлять» и т. п.: лат. топеге 'напоминать', 'внушать',
'наставлять', 'поучать', 'учить': др.-в.-нем. тапоп, нем. тап-
пеп 'напоминать'. Осетинский в данном случае
примыкает к этим языкам, а не индоиранским. Особенно
бросается в глаза семантическая близость ос. атопуп к лат.
топеге; ср. также отглагольные имена: лат. monitus
'напоминание', 'указание', 'знамение', 'предсказание' — ос.
amynd 'указание', amond 'судьба'; лат. monitor 'указатель',
'советчик' — ос. amon?g 'указатель', 'наставник'. Из
иранских языков только в хорезмийском находим amanay в
322
значении 'показывать'. Но мы знаем, что хорезмийский
развивался в тесном общении со скифскими наречиями
и во многом смыкается с ними.
ос. тагуп 'убивать'
Индоевропейская база *тег- означала 'умирать', а в
каузативе — 'убивать'. Однако последнее значение
осталось чуждо подавляющему большинству иранских языков,
где для «убивать» используются совершенно другие
корни 53. В осетинском в отличие от большинства иранских
языков находим оба значения: m?l- (*marya-) 'умирать',
таг- (*maraya-) 'убивать'. Здесь осетинский примыкает
к славянскому и балтийскому, где от базы *тег-
сохранились формы со значением не только 'умирать', но и
'морить', 'убивать': ст.-слав. umoriti, др.-русск. морить, русск.
морить, серб, moriti, чеш. mofiti, польск. morzic, лит. та-
rinti 'убивать' (рядом с mifti 'умирать').
ос. ?rvityn | ?rvetun 'посылать'
Метатеза из *?v-ret- (*ара-га№-). И.-е. база *leit(h)-
(Pokorny, 672) представлена преимущественно в
медиальном значении 'идти', 'уходить'. Каузатив, если бы он
существовал, давал бы смысл «заставлять идти». Это может
означать одно из двух: или «вести» или «посылать»,
«отправлять». Именно эти значения мы находим в
германском и осетинском: др.-сев. lelaa, др.-сакс. iedian, др.-в.-нем.
leittan, нем. leiten 'вести' при oc./*?v-ret- 'посылать',
'отправлять'.
На индоиранской почве документируется лишь авест.
гае®- 'умирать' (='уходить').
ос. то] | mojn? 'муж'
Восходит к *тапи-. Хотя слово засвидетельствовано
в древнеиндийском и в Авесте (в последней только в
составе имени собственного Manusciura-), большинству
иранских языков оно чуждо. Зато хорошо известно в
скифском, германском и славянском. Оно распознается в
некоторых скифских личных именах: Мар-царос из тап-
mar avOQOxiovoc и др.04 На германской почве: гот.
manna, др.-сев. таппг, англос. тапп, нем. Mann и пр. На
славянской — ст.-слав. тогъ (из *mangja-), русск. муж и пр.
и*
323
ос. arm тука'
Засвидетельствовано в ряде иранских языков, но более
активно в осетинском и припамирских, связанных с сак-
ским: вах. уигт, йидга у ar те (сакс. er-). С другой
стороны, хорошо представлено в европейских, особенно
германских, языках: ст.-слав. rame 'плечо', др.-прусск.
irmo 'рука', лат. armus 'предплечье', 'лопатка', гот. arms,
др.-в.-нем. arm, нем. Arm, др.-сев. агтг, норв. arm, швед.
arm, англос. еагт, англ. arm, нидерл. arm (ИЭС I 68).
ос. cyt | cit? 'почет'
Восходит к *ci-fta-. Производные от корня *кау-, *ci-
(и.-е. *k0ei-) 'замечать', 'обращать внимание' (Рокоту,
636 sq) хорошо представлены в древнеиндийском и
иранском. Но в осетинском есть особая сближающая черта
именно со славянским: полное совпадение значения.
Ст.-слав. cbt- в cbto 'почитаю', русск. по-чит-ать, по-чет,
честь (<- *cisti из *cit-ti-), чеш. u-cta, po-cta 'почет' и
пр. заключают cit-, cita- и как формально, так и по
значению примыкают к ос. cit? (дальнейшее см. ИЭС I 327, а
также 565 ел. под словом kad 'слава', 'почесть').
ос. w?ld?f 'воздух'
Разлагается на w?l 'верх' и t?f 'дух' и, таким образом,
калькирует словообразовательную модель ст.-слав. vbz-
duchb из vbz 'вверх' и duchb 'дух'.
ос. mit | met 'снег
К слав, met-, обильно представленному в словах,
означающих 'снег', 'метель', 'сугроб': русск. мет-ель, (диал.)
о-мет 'куча', за-меть 'метель', рум. (из слав.) amat, omete
'снег', 'сугроб', укр. пере-мет 'сугроб', польск. za-miec
'снежный занос' и др.
oc. ?nd?r 'другой'
Восходит к иран. *antara-, и.-е. *antero-. Известно
в древнеиндийском и Авесте, но в большинстве иранских
языков отсутствует. Исключение составляют языки,
продолжающие скифскую традицию: сакский (handara-),
324
язгулямский (dtider) и осетинский (?nd?r). Зато
многочисленны соответствия в европейских языках: др.-прусск.
antars, лит. ahtras, ahtaras, гот. ariftar, др.-сакс. andar,
др.-в.-нем. andar, нем. ander, лат. alter (из *anter под
влиянием alius).
На этом мы заканчиваем обзор лексических осето-
европейских изоглосс. Наш материал не является, конечно,
исчерпывающим. Разработка осетинской этимологии
продолжается, и нет сомнения, что наш перечень будет все
время пополняться. Но и приведенный материал
достаточно показателен. Он говорит о том, что скифские
наречия имели множество специфических схождений с
европейскими языками, охватывающих разнообразные и весьма
весомые части словаря. Достаточно указать на ряд
терминов земледельческой культуры: «колос», «урожай», «серп»,
«ярмо», «часть ярма» (stivdz) и др. Материал дает повод
для постановки некоторых культурно-исторических
вопросов, касающихся Центральной и Восточной Европы в
древнюю эпоху. К ним мы обратимся ниже.
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗОГЛОССЫ
ФОНЕМА /
Фонема / была чужда индоевропейскому языку-основе.
Не было ее также в древнеарийском и древнеиндийском.
Из арийских языков она впервые появляется в древне-
иранском, но в строго ограниченных случаях: из доиран-
ского ph (safa- из sapha- 'копыто' и др.) и из доиранского
р перед согласными (fra- из рга- и др.). В других
позициях доиранский р удерживается в древнеиранском. В
средне- и новоиранских языках распространение фонемы
/ остается весьма ограниченным, а в некоторых, как бе-
лужский и афганский, фонема / вовсе исчезает. Повсюду
начальный р удерживается. Лишь в Inlaut'e после гласных
и сонорных р может озвончаться (p-+b), a также
перехолить во фрикатив (p-^v).
Осетинский является единственным иранским языком,
где р во всех позициях перешел в / (а внутри слова
частично в у): fad 'нога' из pada-, k?f 'рыба' из кара-, ruvas
'лиса' из *raupasa- и мн. др. Эти особенности
исторической фонетики резко отделяют осетинский от всего
325
иранского мира, в том числе от близкородственных восточ-
ноиранских языков: сакского, согдийского, хорезмийского,
афганского, припамирских. Поучительно в этом плане
сравнить осетинский и афганский: хотя оба они относятся
к восточной группе иранских языков и, стало быть,
находятся в самом близком генетическом родстве, в первом из
них фонема / является одной из самых активных, во
втором она полностью отсутствует (кроме некоторых
заимствований из арабского и персидского). Однако есть
в индоевропейской семье другие языки, где, как и в
осетинском, и.-е. р перешел в /. Но эти языки относятся
не к азиатскому, а европейскому ареалу
индоевропейских языков. Я имею в виду прежде всего германские
языки. По первому передвижению согласных глухие
смычные р, t, к перешли в германском в глухие аспираты ph, th,
kh, а затем в соответствующие фрикативы f, $, h(ch).
Переход глухих смычных в аспираты характерен
также для фракийского, фригийского и армянского.
Осетинский «подключился» к этому перебою не системно, а
лишь одной фонемой: глухой смычный р перешел, как в
германском, в /. Этот фрикатив стал как бы скифо-герман-
ской фонетической изоглоссой '.
В южнорусских эпиграфических памятниках
сохранился ряд скифо-сарматских имен собственных, в которых
уже находим / на месте иранского р, но параллельно
встречаются и формы с р:
fus 'овца' Фоаахос из pa.su-
fid 'отец' Фк5ас из pita-\ но есть и lliooc
furt 'сын' (Фощтас, 'Раоацофоиртос) из ри$га-; но
есть и Подтакцс.
k?f 'рыба' (Kacpavavoc, С af fa) из кара-; но ср. более
древнее название Керчи JlavTixanatov \
aft и avd 'семь' ('АфФсицахос, 'Apoa?oa) ; ср. авест.
hapta- и др.2
Можно думать, что переход р -*¦ f совершился не во
всех скифо-сарматских наречиях. Эпиграфическое
изучение имен, содержащих / из старого р, выявляет
любопытный факт: большинство этих имен происходит из
Т а н а и с а-на-Дону и относится, как правило, ко времени
не ранее III в. н. э.3 Но именно в этот период скифо-сар-
матские племена Придонья и Приазовья находились в
тесном контакте с германским племенем готов.
Таким образом, сам материал наталкивает на
заключение, что переход р -*- f был характерен главным обра-
326
зом для европейских скифо-сарматских племен, которые
находились в тесном общении с германскими племенами.
Об этом общении не приходится строить догадки и
гипотезы. Оно является хорошо известным историческим
фактом. О нем свидетельствует и ряд мифологических
параллелей (см. ниже).
Говоря об ареале фонемы /, нельзя обойти молчанием
еще один факт, который выводит нас уже за пределы
индоевропейского мира в сторону Кавказа.
Подобно тому, как осетинский является единственным
иранским языком, где получила широкое распространение
фонема /, так западнокавказские, адыгские языки и
абхазский — единственные кавказские языки, где обильно
представлена фонема /4.
Но предками адыгов, как установлено, являются меоты
(Afaionrai, Maifjxai), которых Геродот и позднейшие
авторы помещают у Азовского моря, получившего от них
свое название (Maiwxic). Ареальные изоглоссы при своем
распространении не считаются, как известно, с
генеалогией языков и с границами языковых семей. Вполне
возможно, что в процесс распространения фонемы / в
Приазовье в первые века нашей эры были вовлечены и предки
адыгов — меоты. А если так, то мы имеем право говорить
о германо-скифо-меотской изоглоссе.
Возникновение и распространение этой изоглоссы
можно, опираясь на эпиграфические свидетельства,
датировать довольно точно: II—IV вв. н. э.
ФОНЕМА /
Фонема / была чужда древнеиранскому 5. Уже в
арийском индоевропейский / перешел в г («арийский
ротацизм»). Одни считают, что этот переход был сплошным,
другие думают, что были исключения6. Хр. Бартоломе
предполагает, что в арийском языке-основе rul совпали
в г, но затем / снова проник в него в результате
заимствований из соседних неарийских языков 7.
Г. Чиарди-Дюпре (G. Ciardi-Dupre) допускает, что и.-е.
/ частично удержался в одном индийском диалекте или
группе диалектов, куда относится и классический
санскрит, и, вероятно, в одном иранском, куда относится
персидский 8. Как бы то ни было, в известных нам по
памятникам древнеиранских языках, авестийском и древ-
неперсидском, фонема / отсутствовала. Авестийский алфа-
327
вит не имеет знака для /, ав древнеперсидской клинописи
он введен лишь для нескольких чужих имен и
географических названий: Haldita, Labanana, Dubala, Izala. Все это
дает основание думать, что ос. / — в современном языке
самостоятельная и активная фонема — вторичного
происхождения и каждый раз требует какого-то объяснения.
Выявляются следующие условия появления этого
вторичного /:
Из г по диссимиляции по формуле „г — г -*-1 — г":
l?g?rdyn 'пробиваться' из r?-g?rdyn (*fra-kart-), fyld?r
'больше' из fyr-d?r, bul?m?rg 'соловей' из bur?-m?rg
'желтая птица' и т. п.
Из п по диссимиляции носовых: lamaz 'мусульманская;
молитва' из namaz, malus?g 'подснежник' из *manus?g
(ср. арм. manusak 'фиалка') т. п. Такого же
диссимилятивного происхождения / в итальянском Bologna из
Bononia, veleno 'яд' из venenum.
Группа ri (ry) дает l(i), II: allon 'алан' из aryana-,
lym?n, lim?n 'друг' из *friyamana-, mal 'глубокая вода'
из *mari и мн. др.
Геминированный r(rr) переходит нередко в геминиро-
ванный l(ll): wallon 'дождевой червь' из *warron, syw?llon
'дитя' из *syw?rron от syw?r 'материнская утроба', zg?l-
lag-kom 'удила' из *zg?rrag от zg?r 'металл' и др.
Однако в осетинском имеется значительное число
слов, содержащих /, которые нельзя подвести ни под одну
из этих закономерностей. Если рассмотреть эти слова, то
окажется, что многие из них явно индоевропейского
происхождения и притом такие, в которых / был в
индоевропейском. Создается впечатление, что в этих случаях
осетинский, наперекор иранскому ротацизму, удержал
и.-е. /, т. е. дал такую же картину, какую, по мнению
Г. Чиарди-Дюпре и других, находим в санскрите. Так
именно и думал X. Петерсон. Он утверждал, что и.-е. г и/
распределяются в осетинском так же, как в санскрите 9.
При этом он ссылается на Вс. Миллера, где действительно
имеются такие сопоставления, как «oss. awdolun 'kneten' —
ai. dolayati 'hebt auf, 'schwingt auf..., oss. qui 'Knochel zum
spielen' — ai. golas 'Kugel'» 10 и др. Однако эти примеры
никак не способны убедить, что в отношении / осетинский
следует за санскритом. Для ос. ?wdolun Миллер на с. 82
той же книги дает уже другую этимологию. Что касается
сопоставления ос. qui — др.-инд. gola-, то при всей его
кажущейся соблазнительности оно, по-видимому, ошибочно:
328
gola- скорее всего из *goda- и, возможно, дравидийского
происхождения .
X. Вагнер (Н. Wagner), сопоставляя ос. aly 'всякий'
с гот. ails и пр., замечает: «Das Ossetische hat ubrigens auch
in andern Wortern idg. / arhalten: calx 'Rad', sald 'kalt',
ledzun 'fliehen' (awest. raecay- idg. Wurzel *likw)» 12.
X. Вагнер прав в том, что в известных случаях в
осетинском распознается и.-е. I. Но приводимые им примеры
(кроме s?lyn: sald 'мерзнуть', о котором речь ниже)
неудачны. В aly\ali имеем I из г перед y]i (см. выше); то же
самое в lidzyn \ ledzun из raie-; calx можно возводить к
*сахгуа- с тем же переходом ry -*¦ I.
Внимательное изучение материала приводит к выводу,
что осетинский действительно во многих индоевропейских
словах имеет и.-е. /, но не в общих с санскритом, как думал
X. Петерсон, и не в тех случаях, которые приводит X.
Вагнер, а в строго определенной группе слов: в ареальных
скифо-европейских изоглоссах, т. е. в
словах, которые в скифо-осетинском не унаследованы из
древнеиранского, а возникли в результате контактов с
европейскими языками: славянскими, балтийскими, пра-
тохарским, германским, италийскими. Таковы слова l?s?g,
'лосось', l?nk 'впадина», s?lyn: sald 'мерзнуть', ul?n 'волна',
?luton 'пиво', q?l?s 'голос', b?lon 'голубь', mystul?g
'mustela', dz?k'ul 'мешочек', qui 'бабка', kjllaw 'грыжа',
till?g 'урожай' и др.
Все эти слова имеют точные соответствия не в иранском
и индийском, а в европейских языках (см. выше, в разд.
«Лексические изоглоссы»). Можно прибавить сюда ос.
zul\zol, zylyn\zulun 'косой', 'кривой', 'неправый',
'виноватый'. Эти осетинские слова со своим / примыкают не к
авест. zurah-, др.-перс. ziirah-, перс, zur 'ложь', 'зло',
а к ст.-слав. гъ1ъ 'злой', 'дурной', лит. atzulas 'грубый',
'резкий', prazulnas 'косой', 'кривой', izulnus, pazulnus
'косой', 'покатый'.
Но почему же в таких изоглоссах, как f?rv 'ольха'
(ср. др.-в.-нем. felawa 'ива'), W?rgon 'бог-кузнец' (ср. лат.
Volcanus), мы находим г, а не /? Объяснение
напрашивается само собой. Ареальные слова входили в
осетинскую лексику в разные периоды истории языка. В
древнейший период язык еще оставался верен унаследованным
иранским фонетическим нормам, в том числе и иранскому
ротацизму. В этот период он и ареальные слова подчинял
этим нормам; отсюда такие формы, как f?rv, W?rgon.
329
Со временем язык в процессе контактов с другими языками
стал отходить от древнеиранских звуковых норм, и стали
входить в силу нормы ареальной фонетики, в том
числе открылись двери для фонемы /. Таким образом,
разница между f?rv, W?rgon, с одной стороны, и q?l?s и
b?lon — с другой, хронологическая. В них отражены
разные этапы становления ареальной лексики. Ср. в этом
отношении также kajyn (kah-) 'касаться', где kah- из kas-
с иранским переходом s-*-h и, с другой стороны, k'?s
'хижина' (лат. casa и пр.) с ареальным (а не иранским!) s.
Ареальные контакты и влияния понемногу
расшатывают традиционные нормы и создают новый
фонетический тип, который представляет компромисс между
исходной системой и ареальными новшествами.
Осетинский материал показывает, что так называемые
исключения из звуковых законов зачастую не что иное,
как результат вторжения ареальных элементов в
традиционную систему.
В тех случаях, когда та или иная ареальная фонема,
проникая сперва в отдельные слова, распространяется
потом на весь языковой материал, мы имеем уже не
«исключения», а «звуковой закон». Именно так обстоит
дело с осетинским переходом р -> /.
Можно ли найти точки опоры для определения
абсолютной хронологии проникновения в осетинский
фонемы /? Обратимся к скифо-сарматскому материалу.
Оказывается, фонема / свидетельствуется в этом материале с
древнейших доступных времен. Уже у Геродота находим
ряд скифских имен, содержащих / 13: личные имена
KoAa?aic, AiJio^aig, 2xuA,r|c, Zavkioc,; племенные
названия ПсфаАатси , Sxoaotoi. В именах более позднего,
сарматского периода фонема / также обычна: 'Akavol,
Aeipiavoc, 'AXe^clquoc,,'АХоиОауос, ГатаА,0?, AaAoaaxoc.
HA,|Liavo?, 'OAdaxoc, 'OAxa?ag, llaA-axoc, (DaAoaQavoc и др.
Для датировки появления / в скифском особенно
показательны имена мифических родоначальников скифского
народа KoAacaic, Aurio?aic. Они взяты из скифских
эпических сказаний и, конечно, не современны Геродоту,
а много древнее. Это дает нам право считать, что
скифскому языку (во всяком случае тем его наречиям, откуда
почерпнут материал Геродота) был от глубокой древности
чужд иранский ротацизм, и звук / был равноправным
членом фонетической системы.
Особо стоит остановиться на имени KoA-a^aic Во вто-
330
рой части этого имени мы имеем несомненно иранское
xsaya- 'царь', 'властитель'(ср. 'Арло-Сснс, Auio-?aic)
.Первую часть (КоХа) я толковал как 'солнце', имея в виду
иран. hvar-, осет. хйг\сог 'солнце'. Иран. h(x) передается
иногда в греческом через к: Киа?адт]с, 'мидийский царь
Киаксар' = Huvaxstra-,K.oyaQVOc рядом с Хо ф a g v о с,
(сарматское имя) = иран. hu-farnah-, Kaga?xoc рядом с
Xoga?iOc M, Стало быть, KoAa?aic может отражать скиф.
*Xola-xsaya- 'солнце-царь', что является лишь вариантом
привычного иран. hvar-xsaita-, перс, xorsed 15. Почему,
однако, в Xol имеем / вместо ожидаемого г (авест. hvar-,
ос. xorl) Возможно, что и здесь мы имеем дело с
вторжением ареальной фонетики. Индоевропейское название
«солнца» восстанавливается в виде *sawel-, *swol-. Скиф.
hol со своим / примыкает не к ос. хог, а к др.-сев. soi, лат.
soi, литов. saule, ст.-слав. slbribce, чрусск. солнце. А если
так, то приходится допустить, что в некоторых скифских
говорах фонема / как ареальная изоглосса получила даже
более широкое распространение, чем в том наречии,
которое отражено в осетинском.
В заключение отметим, что фонема /с давних пор
утвердилась в осетинском не только в составе множества
слов, но и в некоторых формантах. Мы имеем в виду
уменьшительные суффиксы -и/, -yl, -il в таких словах, как
b?dul 'птенец', q?biil 'дитя', mystul?g 'ласка (животное)',
dz?k'ul 'мешочек', wadul 'щека', gyccyl 'маленький', k'?byla
'щенок', qybyl 'детеныш' и др.
И здесь осетинский смыкается с некоторыми
европейскими языками, для которых особенно характерны
деминутивные форманты типа -ulo-, rilo-, -olo-, -elo-:
латинским, германскими, балтийским. Ниже, в разделе
«Грамматические изоглоссы», мы еще вернемся к этому
вопросу.
Подведем итог.
Фонема / в скифо-осетинском в отличие от других
иранских языков свидетельствуется с древнейших
доступных времен — не позднее V в. до н. э.
Она характерна для скифо-европейских лексических и
морфологических изоглосс и вошла, по-видимому, в
фонетическую систему в условиях ареальных контактов с
европейскими языками.
Впоследствии она стала возникать комбинаторно: из г
перед i, у, из г по диссимиляции, из п по диссимиляции,
из геминированного гг.
331
Поскольку фонема / очень рано, еще в скифскую эпоху,
вошла в звуковой состав праосетинского языка и стала
привычной, ничто не мешало ее распространению с з а и м-
ствованными словами,. И действительно, в
заимствованных извне, даже самых ранних, нет следов ротацизма,
т. е. субституции звука г вместо чужого /. Чужому / в
заимствованиях отвечает всегда ос. /. Количество таких
слов значительно: l?g 'человек' (из кавк.), lul? 'трубка'
(перс, lula), lalym 'бурдюк' (из тюрк.), xalas 'иней' (из
греч.?), qidon 'пестрый' (из'тюрк.), amal 'возможность' (из
араб.), gal 'вол' (из кавк.), bel 'заступ' (из перс.) и др.
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ФОНЕМЫ у (h) В
СЛАВЯНСКОМ
Когда А. Блок писал поэму «Скифы», он был под
влиянием имевших распространение в околонаучных кругах
взглядов, согласно которым славяне ведут свое
происхождение от скифов. С точки зрения исторической науки, эти
взгляды были уже в то время анахронизмом, так как иран-
ство скифов было убедительно показано за полстолетия
до поэмы «Скифы» .
В 30-е и 40-е годы, когда у нас царила невероятная
путаница в этногенетических вопросах, «блоковская»
концепция вновь возродилась, правда в несколько измененном
виде. Формула «славяне происходят от скифов» была
заменена формулой: «славяне представляют стадиальную
трансформацию тех же скифов».
Сейчас теория стадиальных трансформаций одних
народов в другие оставлена, и сами авторы, надо полагать,
неохотно о ней вспоминают.
Значит ли это, однако, что вопрос о взаимоотношении
скифов и славянства в этногенетическом плане снят с
повестки как ненаучный? Думаю, что нет.
Народы и племена, сменяя друг друга на определенной
территории, не исчезают бесследно. Каждое новое племя
получает и сохраняет кое-что от своих предшественников.
Это «кое-что» может быть очень малым и скромным,
скажем какое-то количество топонимов; но может быть и
весьма значительным, наложить свой отпечаток на
материальную и духовную культуру, на антропологический
тип, на язык. В последнем случае можно смело говорить
об этногенетической связи.
Поясню на примере из кавказской действительности.
332
К западу от осетин на Кавказе живут балкарцы и
карачаевцы. Осетины по языку являются иранским народом,
балкарцы и карачаевцы — тюркскими. На основании
топонимических данных давно установлено, что территория,
заселенная ныне балкарцами и карачаевцами, была в
прошлом занята предками осетин — аланами. Сам по себе
этот факт ничего еще не говорит об участии алан в
этногенезе балкарцев и карачаевцев, так же как индейская
топонимика в Северной Америке ничего не говорит об
этногенезе современных (англосаксонских) североамериканцев.
Вообще топонимика, взятая изолированно, никогда чне
может служить этногенетическим аргументом. Тот, кто
интересуется вопросами этногенеза, должен
последовательно и настойчиво вскрывать черты преемственности в
данных археологии, в антропологическом типе, фольклоре,
языке. Конечно, топонимика и сама по себе представляет
важный исторический источник, но ее значение неизмеримо
возрастает, когда топонимические обследования
сочетаются с археологическими, антропологическими и ареаль-
но-лингвистическими. Совпадение топонимических
данных с распространением определенных археологических
комплексов, определенных антропологических признаков
и определенных языковых изоглосс становится прочной
основой для этногенетических выводов. Следует при этом
подчеркнуть, что лигвистические показания не все в этом
плане равноценны. Лексические заимствования, если они
мало или совсем не затрагивают основной словарный
фонд, не имеют решающего значения. Зато фонетические
и структурные изоглоссы говорят обычно о глубоких и
интимных связях, об этническом взаимопроникновении и
преемственности.
Если, руководствуясь этими соображениями, мы
подойдем к вопросу об участии алан в этногенезе
балкарцев и карачаевцев, мы должны будем признать, что это
участие не было одинаковым для обоих этих народов.
В самом деле, на территории Карачая мы имеем аланскую
топонимику, некоторые памятники материальной
культуры аланского периода и некоторое количество
осетинских слов в карачаевском языке. Этого достаточно, чтобы
признать, что до тюркоязычного карачаевского населения
там жили аланы. Но это не дает еще права говорить о
каком-либо значительном участии алан в формировании
карачаевского народа, егр этнической и культурной
индивидуальности.
333
Другое дело Балкария. Здесь помимо обильной алан-
ской топонимики, аланской археологии и множества
осетинских слов в балкарской речи мы находим еще
знаменательную алано-балкарскую фонетическую
изоглоссу — цоканье: общетюркским щипящим аффрикатам с и
3 в балкарском (точнее, в так называемом
верхнебалкарском) отвечают свистящие аффрикаты с и z. Эту черту
балкарской речи следует бесспорно считать аланским
наследием. Ни один из тюркских языков Северного
Кавказа — ни карачаевский, ни кумыкский, ни ногайский —
не является цокающим. Нет цоканья и в
близкородственных им тюркских языках за пределами Кавказа.
Существовало мнение, что цокающим был кумыкский
(половецкий) язык, но это мнение не получило признания и сейчас,
насколько могу судить, никем не разделяется. Стало
быть, балкарское цоканье в кругу родственных тюркских
языков — явление изолированное.
С другой стороны, осетинский язык, как почти все
восточноиранские языки (кроме согдийского и некоторых
припамирских), является традиционно цокающим:
общеиранским с и 3 в нем отвечают с и 3.
Но если аланский язык мог так серьезно повлиять на
артикуляцию балкарского, значит здесь имело место очень
тесное взаимодействие и взаимопроникновение двух
языков, двух этносов, взаимодействие этногенетического
значения. Чрезвычайная близость антропологического типа
балкарцев к типу соседнего осетинского племени дигорцев
служит дополнительным доказательством.
Предпринятый нами экскурс в сторону Балкарии
поможет, как нам кажется, разобраться в одном
неразъясненном явлении славянской исторической фонетики: в переходе
фонемы g в фонему у (h) в некоторых славянских языках.
Как известно, индоевропейские g и gh совпали в
славянском (а также балтийском, иранском и кельтском) в
звонкий смычный g. В дальнейшем в ряде славянских
языков — в южнорусском, украинском, белорусском,
чешском, словацком, верхнелужицком — смычный g перешел
во фрикативный у и h. Время, условия и причины этого
перехода до сих пор не выяснены. В новейшей работе
по сравнительной фонетике славянских языков читаем:
«Праславянский язык во всех своих диалектах знал
только взрывной g, который и в настоящее время
характеризует многие славянские языки. Однако еще очень
рано в отдельных языках g утратил затвор и изменился
334
в задненёбный фрикативный у затем в некоторых языках
стал фарингальным h. При определении хронологии этого
фонетического явления мы сталкиваемся с большими
трудностями. Дело в том, что древние памятники в этом
отношении не всегда дают надежные критерии... Нет
никакого сомнения в том, что g первоначально изменился
в у а затем уже в h... К какому времени следует относить
начало данного процесса, т. е. когда g изменился в у? Среди
ученых по этому вопросу существуют глубокие
разногласия. Некоторые пытаются отодвинуть этот процесс в
праславянский период... Большинство исследователей
относит изменение g в у и затем в h к XII—XIV вв.» 7
Касаясь причин изменения g в у автор справедливо
подчеркивает неприменимость здесь фонологического
(фонемологического) объяснения: «...переходу в у нельзя
объяснить причинами фонологического характера. Это
обычный фонетический процесс, причины которого
скрываются в области физиологической» 18. Однако ссылку на
физиологию тоже нельзя считать объяснением.
Никто, насколько мне известно, не обратил внимания
на то, что переход g в у в определенной группе славянских
языков имеет полную аналогию в таком же точно переходе
в определенной группе иранских языков.
В древнеиранском, так же как в древнеславянском,
индоевропейские g и gh совпали в g. Но затем во всей
восточной ветви иранских языков, к которой относятся
скифо-сарматские наречия, хорезмийский, согдийский,
афганский, памирские, произошло изменение смычного g
во фрикативный? . Дигорский диалект осетинского языка
хорошо представляет этот переход: в нем всякий
иранский g отражен как у. В иронском диалекте начальный
у перешел в увулярный смычный q, но это уже позднее
явление. Начался процесс перехода g в у очень рано, во
всяком случае до нашей эры. Уже в Авесте иран. g в Inlaut'e
отражен как у." иран. baga-, авест. baya- 'бог'.
В пользу древности перехода g в у говорит и то, что
он характерен для всех восточноиранских
языков. Он должен был совершиться тогда, когда эти
языки находились еще в близком соседстве между собой
и занимали относительно ограниченный ареал. Трудно
думать, чтобы подобные фонетические новшества могли
распространиться в скифскую эпоху, когда восточноиран-
ские племена были рассеяны на огромной территории от
Памира до Дуная и утратили непосредственный контакт
335
Изоглосса взрывного и невзрывного g
(По С. Б. Берцштейну)
336
между собой. Короче: все говорит за то, что для скифо-
сарматских племен фонема у была исконной.
Можно ли думать о какой-либо связи скифского у с
фонемой Y B определенной группе славянских языков?
Лучший ответ на этот вопрос дает карта распространения
у (h) в славянских языках: ареал славянского у (h)
совпадает (если оставить пока в стороне чешский и
словацкий) с ареалом скифской топонимики, скифской
археологии и скифских влияний в Южной России.
Достаточно сказать, что этот ареал включает бассейны трех
великих рек, которые до сих пор сохраняют свои скифские
названия: Дон, Днепр, Днестр.
М. Фасмер (M. Vasmer), анализируя топонимику юга
России, приходит к выводу, что северным пределом
распространения скифо-сарматских названий является
Орловская область 19. Данные М. Фасмера получили
подтверждение в новейшем исследовании по гидронимии
Поднепровья 20.
Стало быть, северная граница изоглоссы у (h) проходит
примерно там же, где северная граница скифо-сарматской
топонимики.
Археологические данные идут в ногу с
лингвистическими. По этим данным элементы скифо-сарматской
культуры уверенно прослеживаются по всему Дону и Донцу
с притоками, по нижнему и среднему Днепру с притоками,
по Южному Бугу, по Днестру21.
И когда мы видим такое разительное совпадение
топонимических и археологических данных с
распространением изоглоссы у (h) в южнорусском и украинском, можно
ли это фонетическое новшество в славянском приписывать
физиологической случайности? Конечно, переход
смычного согласного во фрикатив не выходит за рамки
физиологически возможного и наблюдается во многих языках.
Но стоит задуматься над тем, почему эта физиологическая
возможность реализовалась почти в точности на той
территории, которая в течение ряда веков была в сфере
скифского и сарматского языкового и культурного
влияния? Почему «физиология» превратила g в у (h) именно
в бассейне «скифских» рек Дона, Днепра и Днестра, а
не, допустим, в бассейне Вислы или Оки?
Переход с в с тоже физиологически возможен. Но
почему эта возможность из тюркских языков
реализовалась только в балкарском, жившем в теснейшем
взаимодействии с цокающей аланской речью?
337
Как балкарское цоканье следует объяснять в связи с
аланским цоканьем и в связи с аланской топонимикой
на территории Балкарии, так фонему у (h) в славянском
надо объяснять в связи со скифо-сарматской фонемой у
и со скифо-сарматской топонимикой и археологией на
юго-востоке Европы.
Скифская стихия наложила яркий отпечаток на всю
культуру юга России. Как отмечает археолог П. Д. Либе-
ров, «...скифский этнический и культурный элемент сыграл
немалую роль в развитии материальной культуры и в
жизни местных племен лесостепи скифского времени. Это
влияние сказалось во всем облике материальной и
духовной жизни племен лесостепи, и не исключена
возможность того, что в какой-то степени оно отразилось и на
развитии языка» 22.
Одним из таких отражений и является скифо-славян-
ская фонетическая изоглосса у. Изоглосса у (h) в
славянском, как исторический феномен, стоит рядом с
топонимами Дон, Днепр, Днестр, рядом со скифским звериным
стилем. Мы имеем здесь, можно сказать, идеальный
случай совпадения топонимических, археологических и
лингвистических данных. Вместе с тем изоглосса у (h)
информирует нас о более глубоком и значительном участии
скифо-сарматского элемента в этногенетическом процессе
на юге России, чем это могут сделать топонимика и
археология. Как балкарское цоканье тянет на весах больше,
чем другие следы аланства в Балкарии, так фонема как
этногенетический признак тянет больше, чем другие следы
скифства на юге России.
Признав, что переход g в у в некоторых славянских
языках связан со скифо-сарматским влиянием, мы этим
ничего в сущности не сказали о датировке этого перехода.
Дело в том, что контакты славян с северноиранскими
племенами продолжались много веков.
К тому же фонетические изоглоссы, как показывают
наблюдения, очень стойко держатся на определенной
территории, в то время как этнический состав населения
на этой территории может многократно меняться. Так, в
Индии и в смежных областях Ирана мы имеем уже
несколько тысячелетий стойкий ареал церебральных
согласных. На Кавказе такой же стойкий ареал смычно-гортан-
ных согласных. И какие бы новые народы ни попали в эти
ареалы, они усваивают в одном случае церебральные, в
другом — смычно-гортанные согласные.
338
Исследование субстратных влияний в самых
различных языках приводит к неожиданному, на первый взгляд,
но бесспорному выводу: субстратные влияния могут
обнаружиться (особенно в фонетике и синтаксисе) много
спустя после того, как субстратная этническая среда
давно исчезла или растворилась, а ее язык перестал
бытовать на данной территории 23.
Стало быть, априори приходится принимать очень
большой диапазон времени для возможного перехода g в у (h)
в части славянских языков. Тем не менее принимаемая
некоторыми дата этого перехода XII—XIV вв. н. э.
представляется крайне сомнительной.
В начальный период скифо-славянских контактов
естественным каналом, по которому фонема у попадала
в славянский, были, надо думать, заимствованные
иранские слова, содержавшие этот звук. Одним из таких слов
было слав, bogii из сев.-иран. baya-. Я разделяю мнение
тех, кто считает это важное в культурно-историческом
плане слово не исконно славянским, а заимствованным
из северноиранского. В пользу этого говорит то, что:
1) слово отсутствует в балтийских, а также других
европейских языках; 2) на славянской почве оно не имеет
никаких внутренних этимологических связей и стоит
изолированно, тогда как на арийской оно связано с основой
bhag- 'подавать', 'наделять', 'дарить' со множеством
дериватов; 3) значение «бог» присуще только иранскому У и
славянскому, но чуждо индийскому. Правы те, кто в пользу
иранского происхождения слова бог указывает и на то, что
оно имеет звук у не только в южнорусском и украинском,
но и в общерусском 24. Стремление произносить
религиозный термин «правильно», т. е. возможно ближе к
первоисточнику, могло распространить произношение boyu и в
такую среду, которой фонема у вообще не свойственна.
Но если так, то первое проникновение фонемы у в
славянский должно быть примерно синхронно с
заимствованием таких слов, как бог. А это заимствование не могло
быть ни в XIV в., ни в XII в.
Наконец, когда мы говорим о скифо-сарматском
влиянии на юге России, не следует забывать, что в Придонье
существовала так называемая Салтово-маяцкая культура,
что эта культура принадлежала аланам и что она
датируется VIII—IX вв. н. э. Стало быть, юго-восточные
славяне, для того чтобы усвоить из скифо-сарматского
фонему у, имели больше чем достаточно времени: от начала
I тысячелетия до н. э. до конца I тысячелетия н. э.
339
Показательно, что антропологический материал не
вскрывает никакого разрыва между скифством и
славянством на юге России. Известный антрополог А. П.
Богданов, исследовавший серию черепов из курганов
Полтавской, Киевской и Черниговской губерний, «...не нашел
разницы в типах черепов из «славянских» и
«неславянских» курганов». Суммируя выводы своих исследований,
он подчеркивает «единство преобладающего типа как в
курганах славянской эпохи, так и в скифских» 25.
Прежде чем расстаться с фонемой у (h), следует
сказать о ее наличии, с одной стороны, в чешском и
словацком, с другой — в некоторых севернорусских говорах.
Проникновение фонемы h в чешский и словацкий языки
может быть результатом позднейших влияний, идущих
от украинских наречий Верхнего Поднестровья на запад.
Но нельзя исключить и возможность того, что чешский и
словацкий были охвачены дайной изоглоссой еще тогда,
когда предки чехов и словаков были расселены восточнее
нынешней территории и жили в непосредственном
соседстве с предками украинцев.
Наконец, в этой связи стоит вспомнить и любопытное
свидетельство Геродота: «Один народ по ту сторону Истра,
я знаю по рассказам, называется он сигиннами ('Siyuvvai)
и одевается по-мидийски... Они производят себя от мидян.
Я не могу решить, каким образом сигинны выселились
сюда из Мидии; но в течение столь долгого времени может
случиться все» 26. В устах Геродота «мидийцы» — синоним
иранцев, а из иранских народов речь может идти в данном
случае только о скифах. Локализуются сигинны в
нынешней Чехии и Словакии 27. Новейшая историческая наука
дала немало доказательств, что сведения Геродота даже
по частным и второстепенным вопросам отличаются
поразительной достоверностью. Между тем данное
свидетельство, говорящее о том, что со скифским субстратом надо
считаться не только в Южной России, но и в
Чехословакии, не привлекает должного внимания историков
славянства 28.
Помимо южнорусских наречий фонема у появляется
островками в некоторых севернорусских, например, онеж-
ском . Явление это не столь странно, как может
показаться. В исследованиях по осетинской этимологии
выявилось немало случаев, когда осетинский смыкается именно
с севернорусскими (онежскими, архангельскими)
говорами, минуя южнорусские. Очевидно, в какую-то эпоху
340
имело место передвижение некоторых южнорусских
племен на север 30. Вспомним, что былины киевского цикла
сохранились не на Украине, а в области Онежского озера
и Белого моря. Не стоит ли этот факт в одном ряду с
появлением фонемы у в этой же области?
Наши выводы сводятся к следующему:
1. Ареал фонемы у (h) в славянском знаменательным
образом совпадает с ареалом скифо-сарматской
топонимики и памятников скифо-сарматской культуры.
2. Это обстоятельство заставляет думать, что фонема
в славянском есть вклад скифо-сарматской речи, которой
искони была, присуща эта фонема.
3. В отличие от топонимики, которая сама по себе не
является этногенетическим показателем, совпадение
топонимических данных с ареальными изоглоссами имеет
бесспорное этногенетическое значение.
4. Это положение хорошо иллюстрируется и на
примере изоглоссы с, 3 (цоканье) в балкарском языке:
балкарское цоканье на территории, насыщенной аланскими
топонимами, есть, несомненно, наследие аланской речи,
искони цокающей.
У читателя может возникнуть вопрос, почему одна и та
же северноиранская речь, скифо-сарматская в Южной
России, аланская на Кавказе, оставила в виде наследия в
одном случае (на славянской почве) изоглоссу у, а в
другом (на балкарской почве) изоглоссу с,з •
Объясняется это очень просто. Влияние одного языка
на другой может выявиться только в том, чего в последнем
нет, а не в том, что в нем уже есть. В северноиранском
(скифском, сарматском, аланском) была и фонема у, и
фонема с. В славянском до скифского периода была
фонема с, но не было фонемы у. Естественно, что влияние
скифского должно было сказаться в появлении новой для
славянского фонемы у.
В балкарском до аланского периода была фонема у, но
не было фонемы с. Понятно, что аланское влияние
сказалось именно в усвоении отсутствовавшей в балкарском
фонемы с.
Лингвист и археолог могут добиться наилучших
результатов, если они работают рука об руку и стимулируют
друг друга в постановке и решении исторических вопросов
обоюдного интереса. Суммарное совпадение
определенного топонимического и археологического ареала с
определенной фонетической изоглоссой навело языковеда на
\
341
мысль о возможной связи этой изоглоссы с определенным
этническим субстратом на юго-востоке Европы. Теперь,
опираясь на эту гипотезу, языковед может в свою очередь
сказать археологу и историку: ищите скифов там, где
вместо g произносят у. Результаты таких поисков будут
хорошей проверкой правильности выдвинутой гипотезы.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИЗОГЛОССЫ
Между грамматическими и лексическими изоглоссами
нет принципиального различия. Те" и другие
распространяются в результате контактного развития двух или
нескольких языков или диалектов. Но несомненно, с другой
стороны, что возникновение и распространение в
нескольких не связанных близким родством языках
грамматических изоглосс требует более длительных и интимных
контактов, чем распространение изоглосс лексических.
Грамматические межъязыковые изоглоссы немыслимы без
того, чтобы на стыке контактирующих языков наметились
элементы двуязычия. Что касается лексических
изоглосс, то двуязычие несомненно . благоприятствует их
распространению, но не является
необходимым условием.
Исторические данные позволяют утверждать, что из
языков европейского круга скифский больше всего
соприкасался со славянскими языками. Их контакты
начались, вероятно, со времени обособления славянской
группы, т. е. со второй половины II тысячелетия до н. э., и
продолжались до гуннского нашествия, т. е. до IV в. н. э.,
стало быть, около пятнадцати веков. Такое длительное
общение способствовало появлению не только
лексических, но и грамматических изоглосс. Выявить их во
всей полноте трудно, так как скифские наречия
представлены только одним реликтом: осетинским языком. Да
и здесь потребуются более углубленные сравнительные
изыскания по исторической грамматике осетинского и
славянских языков. Но уже сейчас можно говорить о двух
важных осетино-славянских грамматических изоглоссах.
Одна из них — перфективирующая функция превербов.
Другая — генитив-аккузатив.
342
ПРЕВЕРБЫ И ПЕРФЕКТИВНОСТЬ
Категория глагольного вида (аспект, Aktionsart) не
была чужда древним индоевропейским языкам. Видовое
значение было неотделимо присуще так называемым
временным формам. Времена, образуемые от основы
настоящего времени, презенс и имперфект, выражали
длительное, неограниченное каким-либо пределом действие. Им
противостояли аорист и перфект. Аорист выражал
недлительное, четко ограниченное во времени действие.
Перфект служил для обозначения действия или состояния,
имевшего место в прошлом, результат которого налицо
в настоящем. Стало быть, различие между совершенным
и несовершенным видом выражалось в древнеиндоевро-
пейском различием самих глагольных основ. Хорошее
представление об этом состоянии дает древнегреческий
язык.
Со временем в отдельных языках видовые различия
между группами презенса, с одной стороны, и аориста и
перфекта — с другой, потускнели, а в некоторых языках
аорист и перфект вообще отмерли. И тогда различие между
совершенным и несовершенным видом стали выражать
другими средствами. Для ряда языков таким средством
стали превербы (глагольные приставки). Один и тот же
глагол без преверба выражал несовершенное действие, с
превербом — совершенное. «Je mehr in einigen Sprachzwei-
gen der Bedeutungsunterschied zwischen imperfektiver und
perfektiver Handlungsart bei den einfachen Verbalformen
verundeutlicht wurde, um so beliebter wurden prapositionale
Verbalkomposita als Ausdrucksmittel fur Perfektivierung,
z. B. lat. tacere, gotuahan 'schweigen': con-ticere, ga-ftahan
'verstummen'..., aksl. cuti 'empfinden': po-cuti 'in die Empfin-
dung bekommen'... Bei einem Teil der Prapositionen verblasste
ihre raumliche Bedeutung mit der Zeit, dadurch wurden sie
zum Ausdruck der Perfektivierung mehr und mehr geeignet...
Solche Prapositionen sind besonders lat. сот-, germ. ga-, slav.
po-» '.
Связь между превербами и перфективностью
распознается во всей той группе европейских языков, которые
нас в данной статье интересуют: славянских, балтийских,
тохарском, германских, латинском, кельтских, но далеко
не в одинаковой степени. Особенно отчетливо она
выражена в славянских. Здесь она имеет характер системы 2.
В балтийских языках в особенности преверб ра-
используется для образования совершенного вида.
343
Много общего cov славянскими в отношении роли*1тре-
вербов имеет древнеирландский язык3. В германских
связь между превербами и перфективностью хотя и не
проводится так последовательно, как в славянских, все
же чувствуется, например, в готском 4. Нет выдержанной
связи превербов с видом и в латинском. Цезаревское
veni, vldi, vici приходится на русский переводить преверб-
ными формами: 'при-шел, у-видел, по-бедил'; также на
осетинский: '?r-cydt?n, fedton (кз f?-wydton), f?-w?laxiz
d?n\ Цезарь обошелся здесь без превербов, хотя речь шла,
вне всякого сомнения, о законченных действиях.
Нам следует теперь взглянуть на положение дел в
иранских языках, куда относились скифо-сарматские наречия,
одним из которых был праосетинский.
В древнеиранском общеиндоевропейское
противопоставление группы презенса .группе аориста и перфекта
оставалось еще в силе; а оно, как мы видели, служило и для
видового противопоставления.
Вместе с тем древнеиранский располагал довольно
богатой системой предлогов-превербов, которые уточняли
выражаемое глаголом действие в пространственном,
временном или ином отношении. Как думают некоторые, они
могли иногда служить и для выражения глагольного
вида. Но в этом вопросе между специалистами
наблюдается глубокое расхождение. Привожу текстуально
соответствующие суждения.
Авестийский язык
Reichelt: «Viele Verba waren an sich selbst schon perfek-
tiv... Andere bekamen diese Aktion ejst durch Verbindung
mit Praepositionen, besonders mit aipi-, ava-, paifi-, pairi-,
us-, fra-, hi-, vi-.
Von den Tempusstammen ist der Aorist perfektiv» 5.
D. Zbavitel: «It is clearly evident from this table that, in
the Gathic dialect, not every preposition was capable of giving
the verb perfective force» (p. 21).
«We thus come to the very opposite conclusion reached by
Reichelt...» (p. 21). «No Gathic preposition was capable of
giving its verb perfective force» (p. 22).
«1. The Gathic Perfect and Aorist Stems express the per-
.fective sense.
2. The indicative Praes.is imperfective, as far as it expes-
ses the present time. ... .,
344
« 3. The nasal element and perhaps also the infix -ya-
gave the Gathic verb an imperfective meaning.
4. No preposition affected the aspect of the verb» (p. 22) 6.
Древнеперсидский язык
A. Meillet: «Les preverbes ne servent pas seulement a
determiner le sens de verbes concrets... Comme il est arrive
dans plusieurs autres langues indo- europeennes, les formes
munies de preverbe ont servi a indiquer l'action parvenue
a son terme» 7.
R. Kent: «Tense Aspect was not a living phenomenon of
OP.. The difference between imperfective and perfective
may be detected by examination of the meaning of the
passages, but does not correspond to any difference of form in the
verbs» 8. ¦
Мы видим, что по вопросу о перфективирующей роли
превербов в древнеиранских языках существуют
диаметрально противоположные взгляды: X. Рейхельт (H. Reic-
helt) (для авестийского) и А. Мейе (A. Meillet) (для древ-
неперсидского) признают такую роль. Д. Збавител (D. Zba-
vitel) и Р. Кент (R. Kent) полностью ее отрицают. Я не
буду входить в разбор аргументации той и другой стороны.
Мне кажется, правы те, кто считает, что в древнеиранских
языках нет прямой связи между превербами и
перспективностью. Важно во всяком случае подчеркнуть, что этот
вопрос является предметом спора. Такой спор был бы
невозможен, если бы перфективирующая роль превербов
в авестийском и древнеперсидском была очевидной,
последовательной, системной. Такой спор не возникает и не
может возникнуть ни в отношении осетинского, ни в
отношении русского, где видообразующая роль превербов ясна.
Если мы обратимся к среднеиранским и новоиранским
языкам, то и там мы не найдем последовательного
использования превербов для образования совершенного вида.
В афганском (пушту) имеется перфективирующая
частица vu-: ma Ivastdl 'я читал', та vulvastdl 'я
прочитал' 9. Но наряду с этим там есть превербы kse-, pre-, ra-,
нэпа- и другие, которым чужда перфективирующая
функция и которые служат лишь для уточнения локативного
значения глагола.
Осетинский язык стоит в этом отношении особняком
и противостоит всем остальным иранским языкам.В нем
все превербы наряду с локативным значением имеют чет-
345
кую видообразующую функцию: в инфинитиве, в
прошедшем и будущем времени, в причастиях они обращают
несовершенный вид в совершенный: c?wyn 'идти': ra-c?wyn
'выйти'; cydt?n 'я шел': ra-cydt?n 'я вышел'; c?wdzyn?n
'я буду идти': ra-c?wdzyn?n 'я выйду'. Я привел примеры
на преверб га-; аналогичные примеры можно было бы
привести на любой другой преверб: а-, Ьа- , ?r-, ?rba-,
ny-\ni-, (y)s-, f?- 10. Эта система выражения совершенного
вида проходит через все наклонения, не только
изъявительное, но также конъюнктив, оптатив, императив.
Такое положение в осетинском не может быть древне-
иранским наследием, в этом мы уже убедились. Оно
возникло вторично и, как мне кажется, в результате
длительного контактного развития со славянскими языками.
Когда изучаешь, как функционируют в осетинском
языке превербы, бросается в глаза не только полное
отчуждение этого механизма от других иранских языков, но
и разительная близость к славянским языкам.
Славянским беспревербным формам несовершенного вида
отвечают, как правило, такие же беспревербные формы в
осетинском; славянским превербным формам совершенного
вида — превербные формы в осетинском .
Русск. Ос. Русск. Ос.
работать kusyn за-работать ba-kusyn
бежать lidzyn у-бежать a-lidzyn
нести x?ssyn при-нести ?rba-x?ssyn
бить n?myn по-битъ f?-n?myn
лезть xizyn вз-лезть ys-xizyn
катиться tulyn с-катиться азг-Шупит.и.
Правда, в славянском превербы не являются
единственным средством различения несовершенного и
совершенного вида. Эти различия могут передаваться разными
основами; ср. русск. давать и дать, падать и пасть, дергать
и дернуть, понимать и понять, садиться и сесть и т. п. Но
эти случаи не нарушают впечатления яркой близости,
какая существует между славянским и осетинским в
отношении глагольного вида.
Мне не раз приходилось переводить с русского на
осетинский и обратно. И каждый раз замечаешь, как легко
и без затруднений передаются с одного языка на другой
видовые значения глаголов. Совсем другая картина, когда
приходится переводить, скажем, с русского на персидский
или обратно. Поскольку персидский глагол не имеет ясно
346
выраженных внешних показателей вида (кроме частицы
mi-, выражающей длительность или многократность), на
каждом шагу приходится задумываться и по контексту
угадывать, идет ли речь о совершенном или
несовершенном действии.
Если взять карту распространения индоевропейских
языков и красной краской отметить перфективирующую
роль превербов, то оказалось бы, что осетинский и
славянский окрашены в ярко-красный цвет, тогда как на
всей остальной территории мы будем иметь лишь разные
оттенки розового цвета, местами переходящего в белый,
т. е. в такое положение, когда связь между превербами
и перфективностью становится совершенно неуловимой.
Смутные намеки на перфективирующую роль превербов
в древнеиранском или латинском не идут в сравнение с
выдержанной системностью этого явления в славянском
и осетинском. Близость между славянским и осетинским
состоит не только в том, что превербов много и в с е они
обращают несовершенный вид в совершенный, но и в том,
что и в славянском, и в осетинском превербы не
утрачивают при этом и своих словообразовательных функций,
уточняя значение действия в отношении его
пространственной направленности и пр. Стало быть, превербы не
становятся просто видообразовательными частицами, как
это мы видим в балтийских языках, а несут как бы
двойную нагрузку: грамматическую (видообразовательную) и
словообразовательную (выражение локативных
отношений).
И в славянском, и в осетинском перфективирующая
роль превербов выступает в прошедшем и в будущем
времени. В презенсе, которому по существу чужда перфектив-
ность, превербные формы получают в славянском либо
значение будущего (русск. бегу— побегу), и здесь
осетинский не дает аналогии со славянскими, либо значение
многократности (русск. по-бежит, no-бежит и о-становит-
ся), и здесь осетинский опять идет в ногу со славянским
(a-lidzy, a-lidzy ?m? ta f?-l?wwy).
Сходство идет еще дальше: и в славянском, и в
осетинском имеется по одному превербу преимущественно видо-
образовательного значения (слаа преверб ро- и осет. f?-).
У этих превербов локативная семантика выражена неясно,
и они в основном служат перфективирующими
частицами.
Но об этом ниже.
347
Прежде чем закончить раздел «Превербы и
перспективность», нам придется еще сделать вылазку в сторону
Кавказа. Наше внимание привлекает здесь грузинский
язык. Вопросу глагольного вида в грузинском языке
посвящена небольшая, но очень важная и интересная
статья А. Г. Шанидзе ". Приведу основные положения
этой статьи в формулировке самого автора.
«Для выражения глагольной категории вида
грузинский язык обладает двумя совершенно разными
системами: одна характеризует древнегрузинский литературный
язык, другая — новогрузинский... Система, которой
придерживается древнегрузинский литературный язык, в
типовом отношении напоминает греческий язык, где
противополагаются друг другу темы настоящего и аориста:
тема скривы 12 наст, времени со всеми относящимися сюда
спрягаемыми и неспрягаемыми формами (скривами,
инфинитивом, причастиями) является несовершенной, а тема
аористной скривы (со всеми относящимися сюда
формами) — совершенной.
Совершенно другую картину мы видим в
новогрузинском, где категория вида зиждется на противоположении
глагольных форм с приставкой и таковых без приставки:
глаголы с приставкой имеют совершенный вид, а глаголы
без приставки — несовершенный.., Словом, глагольная
категория вида в новогрузинском в основном
характеризуется теми особенностями, которые хорошо известны
из славянских языков, в частности, из русского...
Переход от одной системы к другой, совершаясь
медленно и постепенно, имеет длинную историю. Начиная
с XI в. формы новой системы все больше пробивают себе
путь в литературу. Среднегрузинские памятники (XI—XVII вв.)
характеризуются параллельным употреблением обеих
систем...
Таким образом, категория вида отметила большой
поворот в истории грузинского языка и тем самым дала
основной различительный признак между древнегрузин-
ским и новогрузинским...
Причиной изменения системы вида в грузинском
послужило, несомненно, сращение приставки с глаголом...»
Справедливо указывая на близость новогрузинской
системы к славянской, А. Г. Шанидзе не упомянул о еще
более тесной близости этой системы к осетинской. Зато
эта близость не ускользнула от другого известного
грузинского лингвиста — Г. С. Ахвледиани. Отмечая, что пре-
348
вербы в новогрузинском, как и в осетинском, выполняют
перфективирующую функцию и, что эта функция была
чужда древнегрузинскому, Г. С. Ахвледиани заключает:
«Превербная перфективность выработалась... сообща и
одновременно в обоих языках..; иначе ни осетинскому, как
иранскому языку, ни.грузинскому, как иберо-кавказскому,
не от кого было унаследовать или усвоить ее» 13.
Утверждение, что осетинскому «не от кого было
унаследовать или усвоить» перфективирующую функцию пре-
вербов, требует корректива. Мы знаем теперь, что эта
особенность осетинского языка входит в целый комплекс
изоглосс, связывающих осетинский с европейскими, в
частности и особенности, славянскими языками. Но если эта
система выработалась «сообща и одновременно» в
скифском и славянском, то она не могла выработаться «сообща
и одновременно» в осетинском и грузинском, поскольку
скифо-славянские контакты надолго предшествовали осе-
тино-грузинским.
Исторически более правдоподобной представляется
следующая картина. В развитии грузинского языка от
древнего периода к новому наметилась тенденция,
параллельная аналогичной тенденции в истории
индоевропейских языков: переход от тематического способа
выражения глагольного вида к приставочному. Эта внутренняя
тенденция грузинского языка получила новый толчок к
усилению и закреплению под влиянием контактов с
осетинским (аланским) языком, который принес
перфективирующую роль приставок из восточноевропейского, ски-
фо-славянского лингвистического ареала. При таком
предположении становится понятным, почему в грузинском
новая система выражения глагольного вида стала
вытеснять старую именно с X—XIII вв. Это был период
наибольшего политического и культурного влияния алан,
интенсификации алано-грузинских связей, массового
переселения алан в Грузию . В этот период, несомненно, имели
место тесные культурные и языковые контакты и
взаимовлияния между грузинским и осетинским, которые пока
еще не исследованы и не оценены в полном объеме.
Недавно Г. С. Ахвледиани вновь привлек внимание к
грузино-осетинским языковым и культурным связям 15.
К ранее известным фактам Г. С. Ахвледиани присоединил
много новых интересных грузино-осетинских параллелей
материального, семантического и структурного порядка.
В устах такого знатока грузинского и осетинского языков,
349
как Г. С. Ахвледиани, особенно убедительно звучат слова:
«История языков грузинского и осетинского народов
может вскрыть многое из их давнишних связей, значительно
более глубоких и интимных, чем это видно на поверхности
исторических и иных показаний... Мы здесь имеем
продолжительное обоюдное влияние, выходящее за пределы
обычного влияния. Я думаю, что взаимоотношения
грузинского (картвельского) и осетинского (аланского)
языков можно назвать скорее взаимопроникновением,
граничащим с двуязычием, нежели взаимовлиянием» 16.
Мне представляется, что нарисованная Г. С.
Ахвледиани картина наилучшим образом объясняет, среди
других фактов, каким образом грузинский язык перешел от
одной системы выражения перфективности к другой, пре-
вербной.
Приведу одну параллель из области лексики.
Распространение грамматических изоглосс подчинено
тем же закономерностям, что и распространение изоглосс
лексических. Те и другие берут обычно начало в одном
ограниченном ареале и оттуда распространяются на более
или менее обширные территории. Разница лишь в том, что
словарные элементы более «легки на подъем» и
распространяются быстрее, чем грамматические, требующие более
длительных и интимных контактов между языками.
В числе осетино-грузинских лексических изоглосс есть
одна, которая проделала буквально тот же путь, что пре-
вербная перфективность: из восточноевропейского
лингвистического ареала в кавказский. Я имею в виду название
пива: ос. ?lut-on, груз, ludi, aludi. Осетинское слово было
усвоено в скифо-сарматскую эпоху (ср. сарматское
собственное имя* 'АХоиФогуос) из восточноевропейского: герм.
*alut (англ. aie), фин. olut, лит. alus, слав, olii, др.-русск.
олуй. Передвижение предков осетин, алан, из Южной
России на Кавказ расширило ареал слова *alut 'пиво',
включив в него и Грузию .
Путь распространения изоглоссы «превербная
перфективность» рисуется таким же, как путь распространения
изоглоссы *alut 'пиво',— из восточноевропейской ареаль-
ной общности в кавказскую.
Вернемся теперь еще раз к осетинским превербам.
В осетинском прослеживаются почти все превербы,
которые известны в древнеиранском. По сравнению с другими
живыми иранскими языками система превербов в
осетинском значительно богаче, что также сближает осетинский
350
со славянскими языками. В некоторых случаях превербы
наглухо срослись с глаголом, уже не осознаются как
превербы и неотделимы от глагольной основы, сливаются
с нею. Так, в nyg?nyn 'хоронить' имеем несомненно пре-
верб пу- (иран. ni-) и основу g?n- (иран. кап-) 'копать'.
Но здесь преверб сросся с основой, и nyg?nyn уже не
разлагается в сознании на пу- и g?nyn. И показательно,
что в этих случаях глагол, несмотря на наличие преверба,
не, имеет перфективного значения. Чтобы придать ему
такое значение, надо снабдить его еще одним превербом,
например ba-: ba-nyg?nyn 'по-хоронить'. Иными словами,
глаголы со сращенными превербами, с точки зрения
современного языка, приходится рассматривать как бес-
превербные. О чем это говорит? Конечно, о том, что пер-
фективирующая функция не является для осетинских пре-
вербов исконной, она не унаследована от древнеиранского.
В тот относительно древний период, когда в осетинском
происходило сращение некоторых превербов с
глагольными основами, превербы еще не сообщили глаголу
перфективного значения, т. е. сохранялось еще то положение,
которое было в древнеиранском. Таким образом, и с этой
стороны мы получаем решительное подтверждение
вторичного характера перфективирующей функции превербов
в осетинском.
Но если этот процесс происходил в контакте и
взаимодействии со славянскими языками, то не могла ли тут
наряду с функциональной возникнуть материальная
близость между славянскими и осетинскими превербами?
Разумеется, менее показательны те случаи, когда речь
идет о широко распространенных в индоевропейских
языках превербах, как и.-е. *рго-, слав, pro-, иран. fra-, ос. гог-;
и.-е. *peri-, слав, рге- (русск. пере-), иран. pari-, ос. f?l-;
и.-е. *obhi-, слав. оЪ-, иран. аЫ-, ос. ?v- и др. Параллелизм
в употреблении этих превербов в славянском и
осетинском не дает еще права говорить о специфической славо-
скифской изоглоссе.
Иначе обстоит дело с превербами: слав, vuz-, vus-, oc.
yz-, ys- и в особенности слав, ро-, ос. f?-.
Слав, vuz-, vus-, русск. воз-) вое-, вз-, ее- и ос. yz-, ys-
почти полностью совпадают по функции. Оба указывают
на движение снизу вверх: русск. лезть = ос. xizyn, русск.
вз-лезть == ос. ys-xizyn. Можно привести яркие примеры
идентичного употребления этого преверба в славянском и
осетинском с одними и теми же глагольными основами,
351
например с и.-е. *menth- 'смешивать' и др.: русск. воз-му-
тить = ос. yz-m?ntyn, причем в славянском и осетинском
совпадает не только основное значение «смешать»,
«взболтать», но и переносное «взбунтовать».
Этимологически ос. yz-, ys- восходит к иран. uz-, us-
(из ud-s) и, стало быть, в конечном счете к и.-е. *ud-. Для
слав. VUZ- естественно напрашивается та же этимология:
к и.-е. *ud-ls. Несколько смущающее в этом случае z в vuz-
получает объяснение как ареальная изоглосса,
включающая скифский, славянский и балтийский (лит. uz, латыш.
UZ-).
Мы установили, что в славянском, как и осетинском,
превербы несут двойную функцию: словообразовательную
(придают глаголу значение определенной
пространственной направленности и пр.) и грамматическую (обращают
несовершенный вид в совершенный). Там же мы отметили,
что есть и такие превербы, у которых локативная
семантика слабо выражена и которые используются по
преимуществу для выражения вида: в слав, ро-, балт. ра-, в ос. f?-.
Есть все основания думать, что эти превербы близки не
только по функции, но и материально (этимологически).
Осетинский преверб f?- возводили обычно к иранскому
pati-. Но Э. Бенвенист показал, что и фонетически, и по
значению он ближе к слав, ро- и что оба они восходят
к и.-е. приставке *ро-. Ср. помимо слав, ро-, ра- лит. ро-,
ра-, лат. ро- (po-sino, po-situs) 19. '
Кроме осетинского этот преверб распознается еще в
одном северноиранском языке — согдийском; ос, f?-lidzyn
'убежать', согд. ра-гес- 'покинуть', лит. pa-likti 'покинуть'.
Напомню, что у согдийского со славянским есть и
другие изоглоссы, например, согдийский предлог kw отвечает
точно славянскому предлогу къ 2U.
v\ В свете этих данных следует интерпретировать и весьма
употребительный преверб ра- в сакском языке: pa-ysan
'знать', pa-rriic- 'оставлять', pa-jsan- 'бить', pa-dar-
'держать', ра-папг- 'подниматься' и др. Сакский преверб ра-
возводят обычно к ара- или pati-. Не правильнее ли
объединить его с осетинским f?- и вместе со славянским ро-,
балтийским ра- возводить к *ро-1
За пределами северноиранского и славо-балтийского
мира привлекает внимание в этой связи тохарская
императивная приставка ра-: тохар; А. pa-klyos, тохар. В. pa-klyaus
'послушай'; тохар. А. p-tas, тохар. В. p-tes 'положи'; тохар.
A.pa-yrar 'помойся', pa-lcas 'пойдите', pa-lwar 'пошли',
352
pa-skayas 'постарайтесь' и др. (Schulze-Sieg-Siegling, § 431,
S. 346; Poucha, p. 159). Вряд ли можно отделять тохарскую
приставку ра- от балт. ра-, слав, ро-, сакс, ра-, ос. f?-. Она
должна занять свое место в ряду изоглосс, связывающих
тохарский язык, с одной стороны, со славянскими и
балтийскими языками, с другой — со скифским.
В отличие от других индоевропейских языков, где
распознаются лишь единичные случаи употребления пре-
верба ро-, в балтийском, славянском и осетинском (и, по-
видимому? в тохарском и сакском) этот преверб обладает,
можно сказать, неограниченной продуктивностью.
Приведу несколько примеров, свидетельствующих о
большой близости в употреблении преверба ро-, f?- в
славянском и осетинском:
русский
работать
по-работатъ
играть
по-игратъ
стоять
по-стоятъ
сидеть
по-сидеть
держать
по-держать
губить
по-губить
смотреть
по-смотретъ
звать
по-звать
жалеть
по-жалеть
ссориться
по-ссоритъся
смеяться
по-смеятъся
радоваться
по-радоваться
пировать
по-пировать
горевать
по-горевать
(по-стой — f?l?w)
(по-держи — f?x?c)
осетинский
kusyn
f?-kusyn
qazyn
f?-qazyn
l?wwyn
f?-l?wwyn
badyn
f?-badyn
x?cyn
f?-x?cyn
safyn
fe-safyn
k?syn
f?-k?syn (по-смотри — f?-k?s)
dziiryn
f?-dzuryn (по-зови — f?-dzur)
t?rig?d k?nyn
f?-t?rig?d k?nyn
xyl k?nun
f?-xyl wyn
xudyn
f?-xudyn
cin k?nyn
f?-cin k?nyn
minas k?nyn
f?-minas k?nyn
mast k?nyn
f?-mast k?nyn
12 В. И. Абаев \
353
казаться zynyn
no-казаться f?-zynyn
дарить l?var k?nyn
по-дарить f?-l?var k?nyn
бить , n?myn
по-бить f?-n?myn
колотить xojyn
no-колотить f?-xojyn
гнуться tasyn
по-гнуться f?-tasyn и мн. др.
Разумеется, полного тождества в употреблении пре-
вербов ро- и f?- во всех случаях мы не найдем. Такое
тождество редко бывает даже между близкородственными
языками . Скажем, русск. no-любить отвечает ос. ba-war-
zyn, а не f?-warzyn, ос. f?-sur уп — русск. про-гнатъ, а не
по-гнатъ и некоторые другие. Показательны не эти
отдельные исключения, а полное тождество в употреблении ро-
и f?- в русском и осетинском в подавляющем
большинстве случаев.
Подведем итог:
1. В осетинском и славянских языках имеется далеко
идущая близость в перфективирующей функции превербов.
2. Эта близость лучше всего может быть объяснена
как результат ареальных скифо-славянских языковых
контактов в Восточной Европе, нашедших свое выражение
и в ряде других лексических и грамматических изоглосс.
ГЕНИТИВ-АККУЗАТИВ
Данная изоглосса относится к синтаксису падежей
и в самой краткой и лапидарной форме, если отвлечься
от деталей, сводится к следующему: в славянском и
осетинском прямой объект ставится в именительном падеже,
если он мыслится как вещь, и в родительном, если он
мыслится как личность.
Предоставим слово автору последней по времени
сравнительной грамматики славянских языков.
«Dans le genre masculin, le slave a introduit une distinction
entre les noms designant des personnes, dont l'accusatif
singulier est remplace par le genitif (genitif-accusatif), et les autres
noms, dont l'accusatif singulier reste identique au nominatif:
v. si. ostavitu domu svoi 'il quittera sa maison', avec domii non
personel, mais ostavitu otlca svojego 'il quittera son pere',
354
avec otici personnel. Cette distinction est nouvelle et inconnue
du baltique, mais elle est deja presque fixee en vieux slave,
limitee en principe aux masculins en -o-, mais quelque peu
etendue par analogie aux masculins en -i-, et plus largement
aux feminins athematiques en -er- et en -u-. Et elle s'elargit:
d'une part progressivement et a des dates diverses, les langues
slaves assimilent les noms d'animaux aux noms de personnes
et transforment le sous-genre personnel en sous-genre anime;
d'autre part le genitif-accusatif se developpe au pluriel et au
duel, d'abord dans la flexion pronominale avec les pronoms
et adjectifs employes absolument, puis, pour une partie des
langues, dans la flexion des substantifs... La difference du
sous-genre anime et du sous-genre inanime joue ainsi dans la
flexion des masculins un role soit notable, soit considerable,
selon les langues. Le russe, avec l'obscurcissement de la
notion de genre au pluriel, l'etend au pluriel des feminins et
des neutres, distinguant, ace. ryb (gen.-acc. plur.), de ryba
'poisson', et vody, de voda, 'eau', ace. materej, de materi
'meres', et kosti 'os', ace. rebjat de rebjata 'enfants' et vremena
'temps'» 22.
Такова картина в славянском. Обращаемся к
осетинскому:
Особого, морфологически характеризованного
винительного падежа, т. е. падежа прямого объекта при
переходном глаголе, в осетинском не существует. Прямой
объект ставится либо в именительном, либо в родительном.
Для наглядности приведем те же две фразы, что у А. Вайа-
на (A. Vaillant): nywwadzdz?n j? x?dzar 'оставит дом
свой' (h?dzar — Nom.), nywwadzdz?n j? fydy 'оставит отца
своего' (fydy — Gen.). Шегрену и Миллеру казалось, что
дело здесь в определенности и неопределенности объекта:
если объект определенный, то он ставится в родительном
падеже, если неопределенный — в именительном. Более
углубленное изучение осетинских фактов показывает, что
такая интерпретация была бы поспешной и поверхностной.
Наличие указательного местоимения асу в выражении асу
b?x Jftyndz 'запряги эту лошадь', казалось бы,
красноречиво говорит о том, что речь идет об определенной
лошади, и, однако, b?x стоит в именительном падеже. Ни
категория «определенности» и «неопределенности», ни
категория «одушевленности» и «неодушевленности» не
дает ключа к разгадке различного оформления прямого
объекта в осетинском то в виде родительного, то в виде
именительного падежа. В основе этого различения лежит
355
более древний принцип классификации имен — деление
имен на два класса: класс личностей и класс вещей
Аналогия между славянским и осетинским, как мы
видим, далеко идущая и показательная: в славянском в
обширной группе имен и местоимений, в осетинском в
именах, а также личных, вопросительных и относительных
местоимениях существует генитив-аккузатив, причем и
там и тут употребление его связано в конечном счете с
различением класса личностей (persona) и класса не-лич-
ностей или вещей (res).
Потребность различать субъект и объект действия
глубоко коренится в языке как в аспекте его познавательной
функции, так и коммуникативной. Эта потребность
послужила, без сомнения, начальным стимулом к выработке
системы падежей, прежде всего к различению номинатива
24
и аккузатива .
Вполне также понятно, что различение субъекта и
объекта в речи особенно актуально в том случае, когда
в роли объекта выступает «личность», а не «вещь». Классу
«вещей» по самой его природе свойственно быть в роли
объекта (patiens). Следовательно, чтобы подчеркнуть его
объективную функцию, нет надобности отличать его от
субъекта особым оформлением; противопоставление
«личности» и «вещи» само уже говорит, кто из них
предназначен играть роль субъекта и кто объекта. Не случайно так
называемый средний род имен, восходящий исторически
к классу «вещей», не различает в индоевропейских
языках именительного и винительного падежей. Но если и
субъект и прямой объект — «личности», то их
взаимоотношение, кто из них agens и кто patiens, должно получить
какое-то грамматическое выражение; и если порядок слов
не дает этого выражения, то возникает необходимость
противопоставить и различить субъект от объекта
морфологически 25.
На этой почве создается два аккузатива:
маркированный для класса личностей и немаркированный для класса
вещей. Последний совпадает с номинативом, тогда как
первый отличен от него.
Стало быть, нет ничего примечательного в том, что и
в славянском, и в осетинском мы находим два аккузатива
или, точнее, две формы для прямого объекта. Если пойти
по следам изоглоссы: два аккузатива, маркированный и
немаркированный, пришлось бы колесить по всему ссету;
мы находили бы такую картину в самых различных язы-
356
ках, между которыми никогда не было и не могло быть
никакой исторической связи: в тюркских, финно-угорских,
испанском, румынском, армянском, грузинском,
персидском и мн. др. При этом маркированный аккузатив
употребляется, когда в роли прямого объекта выступают
личные, определенные, одушевленные предметы, а
немаркированный — когда неличные, неопределенные,
неодушевленные.
Не должно быть неожиданным и то, что в славянском
и в осетинском для этого различения пришлось привлечь
один из косвенных падежей; дело в том, что старый
аккузатив в славянском в обширной группе основ, а в
осетинском во всех основах совпал с номинативом, и, стало
быть, не мог уже служить для различения субъекта и
объекта.
Объяснения требует другое: почему и там и тут в
качестве маркированного аккузатива выступает именно
генитив, а не другой падеж? Является ли это
совпадение случайным, как результат независимого развития в
скифском и славянском? Или, быть может, имело место
ареальное влияние скифского на славянский или
обратно — славянского на скифский?
Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, нам
следует поинтересоваться, как объясняют специалисты
данное явление в славянском.
Объяснений имеется несколько, но ни одно из них не
получило общего признания.
Б, Дельбрюк (В. Delbruck) полагал, что
генитив-аккузатив возник по аналогии и под влиянием партитивного
26
генитива .
В обстоятельной монографии, посвященной данному
вопросу, А. Мейе, отвергая точку зрения Б. Дельбрюка и
других исследователей, выдвигает свою теорию, согласно
которой генитив-аккузатив в именном склонении возник
под влиянием местоименного склонения: в личных
местоимениях наряду с безударными (энклитическими)
формами аккузатива те, te, se употреблялись ударяемые
формы mene, tebe, sebe, являвшиеся одновременно генитивами
и аккузативами. Поскольку личное местоимение по своей
природе указывает всегда на личность, то и в именах, когда
они обозначали личность, стала по аналогии с личными
местоимениями mene, tebe, sebe употребляться форма
генитива-аккузатива 27.
Е. Бернекер (Е. Berneker) выдвигает против теории
357
А. Мейе серьезные возражения . Формы аккузатива те,
te, se употребляются не только как безударные, но и как
ударяемые, и в древний период они господствуют. Лишь
изредка выступают в этой функции mene, tebe, sebe. В тех
самых памятниках, где в основах на -о- генитив-аккузатив
выступает уже как обычное явление, встречаются лишь
единичные случаи генитива-аккузатива личных
местоимений. Таким образом, анализ памятников не дает права
утверждать, что генитив-аккузатив в личных местоимениях
предшествовал генитиву-аккузативу в именах и был
настолько распространенным явлением, чтобы «потянуть» за
собой употребление генитива-аккузатива в обширной
группе имен.
В позднейшей работе А. Мейе высказывается более
осторожно и в качестве исходной точки (point de depart)
генитива-аккузатива указывает на указательные, а не
личные местоимения 29.
Е. Бернекер в упомянутой работе считает, что генитив-
аккузатив стал употребляться по аналогии с генитивом
в негативных предложениях. Однако эта теория так же
уязвима, как и теория о партитивном генитиве в качестве
исходной точки данного явления и не получила
признания среди славистов.
Не продвинул вопрос заметным образом и одесский
лингвист А. И. Томсон в трех статьях, посвященных ро-
дительно-винительному падежу при названиях живых
существ в славянских языках 30. Томсон склонен принять в
качестве point de depart приглагольные генитивы
«вещественных» имен типа: дай хлеба, выпей воды, принеси муки.
Они будто бы и создали предпосылки для появления
генитива-аккузатива. Но это есть в сущности возврат к
теории, искавшей ключ к истолкованию
генитива-аккузатива в партитивном генитиве.
К достоинствам работы Томсона относится то, что он
привлекает значительный сравнительный материал из
неславянских языков, в том числе и из осетинского. Этот
материал показывает, что в целом ряде языков существует
особая форма аккузатива для определенных, живых и
личных существ. Но эта особая форма не обязательно
совпадает с генитивом. В румынском языке в этой функции
используется предлог ре, в испанском — предлог а, в
персидском — постпозитивная частица -га, в некоторых
урало-алтайских языках — особая форма аккузатива. Почему
же только в осетинском, восточноармянском и славян-
358
ском в этой роли выступает форма генитива? На этот
вопрос мы не находим у Томсона удовлетворительного
ответа. Даже не предрешая # вопроса о происхождении,
следует констатировать, что генитив-аккузатив относится
к специфическим ареальным скифо-славянским
изоглоссам и стоит в ряду других лексических и грамматических
скифо-славянских изоглосс.
Но в каждом исследователе сидит властное желание
не ограничиваться констатацией фактов, а доискиваться
до первоисточников и первопричин. В. Пизани в одной
работе замечает: «Isoglossen entstehen bekanntlich dadurch,
dass sich sprachliche Fakta aus einem Zentrum bzw. aus einem
Gebiete iiber einen weiteren Raum oder zu anderen Bevolke-
rungsschichten ausdehnen» .
Это положение представляется бесспорным. Поэтому
ареальная лингвистика не может ограничиваться
констатацией изоглосс; она должна по мере возможности
вскрывать, где был первоначальный очаг данного языкового
явления и где он развился позднее, какова относительная,
если не абсолютная, хронология распространения данной
изоглоссы в различных областях рассматриваемого ареала.
В то время как на славянской почве объяснение
генитива-аккузатива связано с большими трудностями, на
североиранской почве он был, по-видимому, закономерным
и неизбежным явлением. В истории иранских языков
отчетливо выступает процесс постепенного разрушения
древнего многопадежного флективного склонения, как
результат отпадения конечных безударных слогов. В
различных средних и новых иранских языках мы застаем этот
процесс на разных ступенях. Он может принимать
разные формы. Но наиболее распространенная тенденция —
свести склонение к двум падежам: прямому и косвенному.
При этом в роли последнего чаще всего оказывается
старый генитив, который становится как бы универсальным
объектным падежом, в частности, в ряде языков
аккузативом для определенных и личных существ.
Характеризуя общую линию развития иранского
склонения, Э. Бенвенист пишет: «Par la ruine des finales, ils
(les effets de l'accent) ameneront a une identite totale, au
singulier, le nominatif, le vocatif, l'accusatif et l'ablatif-instru-
mental, seul le genitif -ahya, reduit a -e, gardant une forme
32
propre» .
Аналогично высказывается К. Залеман о среднеперсид-
ском: «...zu einer noch hinter der Uberlieferung zuruck-
359
liegenden Zeit alle Flexionsendungen des Altiranischen auf
drei Casus: Nom. Sg., Gen. Sg. msc, und Gen. PI. reducirt
waren...» 33.
Тенденция к превращению генитива в универсальный
объектный падеж наметилась еще в древнеиранском.
Первым шагом на этом пути было присвоение генитивом
функций датива. Это положение полностью определилось
в древнеперсидском. Там старый датив совершенно исчез
и его функции перешли к генитиву. В Авесте старый датив
сохраняется. Но и там есть немало случаев, когда генитив
употребляется там, где ожидали бы датива.
Весьма показателен в этом отношении и сакский
язык. Сакский язык — это северноиранский язык, очень
рано отколовшийся от остальной массы скифских
наречий. Поэтому его показания во многих случаях особенно
ценны для восстановления картины в старом скифском
(«староосетинском»). Известно, что по своей морфологии,
в частности, по системе склонения, сакский является
самым архаичным из всех среднеиранских языков. В нем
шесть падежей, как в древнеперсидском, и так же, как в
древнеперсидском, отсутствует датив: его функции
присвоил себе генитив.
Я останавливаюсь на этих фактах, потому что, как мне
представляется, наиболее естественный и правдоподобный
путь к генитиву-аккузативу лежит через генитив-датив.
Дело в том, что взятые изолированно генитив и аккузатив
слишком далеко стоят друг от друга. Генитив по
преимуществу приименной падеж. Его основные
функции, — атрибутивная и поссесивная. В качестве
приглагольного падежа генитив выступает сравнительно
редко, главным образом как партитивный генитив (выпить
вина, принести воды и т. п.). Аккузатив же чисто
приглагольный падеж и в этом отношении является скорее
антиподом генитива. Иное дело генитив и датив. Между ними
дистанция короткая. Основная функция генитива, как
мы уже отмечали, поссесивная. Но эту функцию нередко
присваивает себе датив. Поссесивный датив известен во
многих языках, в том числе и в осетинском. Можно
сказать W?rx?gy (ген.) fyrtt? 'сыновья Уархага', но можно
сказать также W?rx?g?n j? fyrtt?, букв. 'Уархагу (дат.)
его сыновья'.
Но датив вместе с тем типичный приглагольный падеж,
как аккузатив, и их функции зачастую очень сближаются:
дать кому, одарить кого, обещать кому, обнадежить кого.
360
Кто не знает русского языка, тот должен испытывать
недоумение, почему в идентичных по смыслу сочетаниях
стоит то аккузатив, то датив. Один и тот же глагол может
сочетаться то с дативом, то с аккузативом: одолжить кому,
одолжить кого.
Все это позволяет думать, что генитив-датив был
вероятным «посредником» или промежуточным этапом на
пути к генитиву-аккузативу и далее к превращению
генитива в универсальный объектный падеж, т. е. к той
картине, которую мы наблюдаем в ряде средне- и
новоиранских языков.
Любопытно, что параллельные процессы наблюдаются
и в истории средне- и новоиндийских языков. «Генитив
заменил датив во всем пракрите» (С. Конов). Больше
того, в пракрите местоимения me, te функционируют и как
генитив, и как датив, и как аккузатив, т. е. пройден весь
уже знакомый нам цикл.
Особенно показательна картина в языке маратхи.
Здесь два аккузатива: немаркированный и маркированный
(uninflected, inflected). Если в роли прямого объекта
выступает человеческая личность, то ставится inflected Accu-
sativus, если животное — то в одних случаях inflected,
в других — uninflected, если вещь — только uninflected 34.
Что же представляет собой этот inflected Accusativus?
Индийские грамматисты отождествляют его с дативом.
Но, как правильно указывает чешский ученый В. Лесный
(V. Lesny «On genitive-accusative construction in Marathi») 35,
это исторически генитив на -s, который стал сперва
употребляться как датив, а затем и как маркированный
аккузатив.
Поразительная близость картины в славянском и в
маратхи обратила на себя внимание проф. Лесного, и он
указал на эту близость в упомянутой статье. Поскольку
ни о каком историческом контакте между славянским и
маратхи не может быть речи, наблюдение Лесного носит
характер простой констатации факта, своего рода
лингвистического курьеза. Другое дело, если мы вспомним, что
между индийскими и славянскими есть промежуточная
среда — иранская. Тогда вся картина предстает как
исторически обоснованная. В этом случае совпадение между
маратхи и осетинским будет лишь одним из моментов
параллельного развития в новоиндийских и новоиранских
языках 36, а положение в славянском всего
удовлетворительнее объяснится как результат ареальных скифо-сла-
361
вянских контактов в ряде других скифо-славянских
изоглосс.
Может показаться, что осетинский со своими восемью-
девятью падежами, среди которых самостоятельный —
дательный, оказался в стороне от общего развития иранских
языков и удержал древнеиранскую многопадежность. Но
это впечатление обманчивое. Осетинское склонение не
является продолжением древнеиранского. Оно построено не
по флективной древнеиранской модели, а по
агглютинативной модели соседних кавказских языков. Кроме
номинатива, генитива и, возможно, локатива, остальные
падежи представляют новообразования.
у Есть все основания считать, что осетинское склонение
в его нынешнем виде сформировалось лишь тогда, когда
этот язык вошел в сферу влияния нового лингвистического
ареала — кавказского.
Для докавказского, скифо-сарматского, периода мы
имеем право постулировать такую же двух- или трехпа-
дежную систему, какую находим в ряде средне- и
новоиранских языков. И если в этой системе генитив выполнял
функцию объектного падежа, конкретно — аккузатива, то
в этом нет ничего неожиданного. Такое положение
находится в полном согласии с генеральной линией развития
большинства иранских и отчасти индийских языков.
Что остальные объектные падежи появились в
осетинском позднее и притом на базе генитива, особенно
наглядно видно на парадигме склонения личных
местоимений: падежные окончания присоединяются к форме
генитива-аккузатива.
1-е лицо 2-е лицо
Номинатив ?z dy
Генитив-аккузатив m?n (иран. mand) d?w (иран. tava)
Датив m?n-?n d?w-?n
Аблатив m?n-?j d?w-?j
Адессив m?n-m? d?w-m?
Комитатив m?n-Jm? d?w-Tm? и т. д.
В других личных местоимениях старый генитив
используется не только как аккузатив, но и как номинатив: щ
'он' из avahya, max 'мы' из ahmakam, smax 'вы' из yusma-
кат.
Профессор В. Пизани обращает внимание, что в
балтийском и славянском в склонении личных местоимений
1-го и 2-го лица ед. числа косвенные падежи также обра-
362
зуются на базе родительного. «Es kommt mir nun unter die
-Augen Abaevs glanzende Schrift «Isoglosse scito-europee»
darin des sowetische Forscher Beziehungen zwischen euro-
paischen und iranischen Sprachen Siidrusslands behandelt».
Далее, приводя осетинскую парадигму: ?z, m?n, m?-
n?n и т. д., dy, d?w, d?w?n и т. д., он для сравнения дает
литовскую: as, mano, man и т. д. и ст.-славянскую аш,
тепе, mine и т. д. («Baltistica VII, 1971, pp. 17—18).
Параллелизм бросается в глаза и отлично вписывается в общую
картину скифо-балто-славянских изоглосс.
Думаю, что существование генитива-аккузатива для
скифо-сарматского можно считать бесспорным. А если так,
то может быть здесь лежит и ключ к объяснению
генитива-аккузатива в славянских. Как показал обзор
литературы, в истории славянских языков нет ничего, что с
необходимостью привело бы к появлению генитива-аккузатива.
Славянское языкознание не дало удовлетворительного
объяснения этому явлению. В осетинском же появление
генитива-аккузатива рисуется как закономерный процесс,
поддерживаемый всей историей иранских и даже, шире,
индоиранских языков.
Не отрицаем, что появлению и закреплению генитива-
аккузатива в славянском могли способствовать и те
моменты, на которые указывали прежние исследователи:
существование старых приглагольных генитивов вроде Gen.
partitivus, влияние местоименного склонения и пр. Но нам
представляется, что определенную роль сыграли здесь
и ареальные скифо-славянские контакты.
В свете этих контактов становится понятным и то,
почему из всех славянских языков наибольшее
распространение получил генитив-аккузатив в русском. Здесь
только в единственном числе женского рода удержался старый
аккузатив. Во всех других категориях имен
«одушевленных» в единственном и множественном числе господствует
генитив-аккузатив. Диалектное членение славянского
наметилось, несомненно, еще в общеславянский период,
и уже тогда предки русских должны были быть
ближайшими соседями скифо-сарматских племен, а их наречие
наиболее подвержено влияниям со стороны северно-
иранской.
В заключение следует сказать несколько слов об
армянском. Как я упоминал, Томсон видел в восточноармянском
параллель к славянскому генитиву-аккузативу. Мои
познания по истории армянского языка недостаточны, чтобы
363
брать на себя смелость что-либо утверждать по этому
поводу. Но не могу не отметить, что процесс в армянском
знаменательным образом напоминает процесс в иранском:
на первом этапе происходит сближение между генитивом
и дативом, так что в большинстве типов склонения эти
падежи полностью совпадают. На следующем этапе —
в восточноармянском — этот родительно-дательный
падеж начинает выполнять также функции маркированного
аккузатива для одушевленных предметов.
Нет надобности распространяться, насколько
значительно было иранское влияние на армянский на всем
протяжении истории армянского языка. Не только
южноиранские языки (мидийский, парфянский, персидский), но и
северные (скифские) приходили от глубокой древности в
тесный контакт с армянским.
В VII в. до н. э. имело место вторжение скифов в
Закавказье 37, где они обосновались на несколько столетий
на севере Мидии в непосредственном соседстве с
Арменией, пока не смешались с местным населением 38.
Контакты армян со скифо-сарматской стихией возобновились
в I—II вв. н. э., во время известных вторжений алан в
Закавказье.
Думаю, что эти исторические факты следует иметь в
поле зрения при объяснении некоторых особенностей
армянского склонения.
УМЕНЬШИТЕЛЬНЫЙ СУФФИКС -ul, -yl
Говоря выше об условиях появления в скифском
фонемы /, мы уже упоминали об осетинском деминутивном
форманте -ul, -yl. Здесь мы возвращаемся к этому
форманту, полагая, что его можно с полным правом привлечь
так же, как словообразовательную скифо-европейскую
изоглоссу.
В современном осетинском нет живого и
продуктивного форманта, за которым было бы закреплено демину-
тивное значение. Но этимологический анализ вскрывает,
что в прошлом такие форманты существовали. В числе
их были суффиксы -ul, -yl, -il. Они распознаются в
небольшом числе слов, не всегда ясных по происхождению. Но
деминутивный характер этих слов очевиден. Приводим их
перечень (в формах иронского диалекта):
dz?K-ul 'мешочек' (ИЭС I 393)
b?d-Ш 'птенец', 'детеныш'-*— *pat-ula- от pat- 'ле-
364
теть', 'птица' (p-+b- по норме «детской» речи, ИЭС I
244).
q?b-ul 'дитя', 'дитятко' (ласкательно о детях);
происхождение неясно.
wad-ul 'щека', 'щечка', родственное нем. Wade, др.-в.-
нем. wado 'икра ноги', норв. vodve 'толстое мясо'; если
исходное значение было 'изгиб' (Е. Liden — KZ, 41,
с. 396), то сюда же лат. vatius 'искривленный',
'кривоногий', vatax 'кривоногий', 'косолапый'; myst-ul-?g, must-
?l-?g 'mustela' (см. выше), m?k'-ul-?g 'ящерица';
происхождение неясно; gycc-yl 'маленький'; варианты: gyc'yl,
cysyl, dzyccyl; ср. перс. кТс 'небольшой', 'малый', арм. kic
'мало', k'?b-yl-a 'щенок'; возможна связь с русск. кобель;
4yb-yt{qib-il 'детеныш' (у некоторых животных),
'поросенок', 'медвежонок'; происхождение неясно.
Сюда можно, кажется, отнести несколько слов,
обозначающих «круглое», «шаровидное»: tymbyl 'круглый', q0ym-
byl 'шарик' (на башлыке, на шнурке)', g0ymbyl
'шаровидная масса свежего сыра'.
Деминутивные форманты типа -ulo-, -ilo-, -olo-, -elo-
являются, как известно, общеиндоевропейскими. Но
особенно характерны они для некоторых языков
европейского ареала: германских, балтийских, латинского 39.
В латинском уменьшительные на -ul- самые
распространенные: porculus, servulus, circulus, fasciculus, specula
и мн. др. Их продуктивность была неограниченна. В
готском продуктивен -il-: barnilo, Wulfila, Attila и др. Поэтому
не будет ошибки, если уменьшительный суффикс -ul, -yl,
-il, который хорошо распознается в осетинском, мы
отнесем к скифо-европейским изоглоссам. Если бы этот
формант был в осетинском древнеиранским наследием, он
звучал бы -ur, -yr, -ir, а не -ul, -yl, -il.
Элемент -/- в уменьшительных именах мы находим
помимо осетинского еще в некоторых новоиранских
языках: в персидском литературном языке и диалектах 4 , в
авромани 41, кандулаи 42, каспийских наречиях 43, в курд-
44 4т
ском , татском .
Я не располагаю данными, чтобы ответить на вопрос,
откуда идет формант -/- в этих наречиях. Отмечу только,
что и в них он появляется в нарушение иранского
ротацизма и поэтому наводит на мысль о каких-то местных
субстратных или ареальных влияниях.
365
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
СУЩЕСТВОВАЛ ЛИ СКИФСКИЙ ЭПОС?
Я родился и вырос в среде, где героическая сага была
еще живым и цветущим жанром народной поэзии. С дет?
ства слушал я увлекательные рассказы о подвигах
могучего племени нартов, и прославленные герои этих
рассказов— близнецы Хсар (Xsar) и Хсартаг (Xs?rt?g),
мудрая мать народа Сатана (Satana), ее брат и супруг Урыз-
маг (Wyryzm?g), неуязвимые Сослан (Soslan) и Батраз
(Batraz), злокозненный Сирдон (Syrdon) — казались мне
такими же реальными и вечными, как окружающие меня
горы.
Впоследствии я стал знакомиться с эпосом и
мифологией других народов и мог с новой точки зрения взглянуть
на свои национальные легенды и сказания. Эпос, который
был до этого составной частью моего субъективного
мироощущения, теперь как бы объективировался, я мог
посмотреть на него «со стороны» и сравнить его с другими
эпическими памятниками. Такой переход от субъективного к
объективному восприятию не бывает очень легким и может
принести серьезные разочарования: то, что считалось
кровно «своим», национально особенным и неповторимым,
могло оказаться лишь вариацией на эпические мотивы
других народов. Однако этого не случилось. Самобытность
и своеобразие нартовского эпоса таковы, что могут
выдержать любые сравнения. В частности, нигде, ни в каком
эпосе я не мог встретить женский образ такого масштаба
и значения, как нартовская Сатана.
Однако самобытность любого народного эпоса не
исключает того, чтобы в своем генезисе он был так или иначе
(сюжетами, мотивами и образами, типологически и
материально) связан с мифами, легендами и сказаниями
других народов, не только родственных, но и неродственных.
Изучение осетинского нартовского эпоса под этим
углом зрения приводит к некоторым предварительным
выводам.
Как известно, сказания о героях нартах имеются не
только у осетин, но и у других северокавказских народов,
особенно у абхазцев, черкесов и кабардинцев. Но наряду с
общим фондом сюжетов, мотивов и героев, у каждого из
этих народов есть и свои специфические черты,
составляющие его исключительное достояние. Можно думать, что
366
нартовский эпос образовался в результате тесного
взаимодействия и сплава двух мифолого-эпических циклов: ски-
фо-аланского, принесенного предками осетин, и местного
кавказского, создателем которого были коренные
кавказские народы. Напомню, что такая скифо-кавказская дву-
природность характерна для всей этнической культуры
осетин. Из позднейших внешних влияний наиболее
значительными были, по-видимому, монгольское и тюркское.
Связи нартовского эпоса со скифо-сарматским миром
убедительно показаны В.Миллером и Ж. Дюмезилем'.
Многие мотивы и сюжеты нартовского эпоса служат
как бы живой иллюстрацией к рассказу Геродота о нравах
и обычаях скифов. Ограничусь парой примеров.
В нартовском эпосе известен рассказ о том, как герой
(Сослан или Батраз), сокрушив своих врагов, велит сшить
шубу из их скальпов. Точно так же поступали скифы:
«Многие скифы приготовляют себе плащи из кож,
содранных (с голов врагов), и одеваются в них; для этого кожи
сшиваются вместе, как козьи шкурки» 2.
У нартов была чудесная чаша под названием «Уаца-
монга» или «Нартамонга». На общественных пиршествах
эта чаша, полная любимого нартовского напитка, ронга,
устанавливалась посредине. Герои рассказывали о своих
подвигах, и тот, кто больше всех отличался и убил больше
врагов, к устам того волшебная чаша сама поднималась.
У скифов, по Геродоту 3, также была чаша, из которой
могли пить только те скифы, которые за прошедший год
умертвили врагов. У нартов и у скифов чаша была
«определителем героев».
Одна из центральных проблем нартоведения —
генезис образа главной героини Сатаны (Шатаны). Такой
исключительный образ мог быть создан только в условиях
исключительной роли женщины в жизни народа. И тут
сразу же приходят на память монументальные фигуры
скифских (сакских, массагетских) женщин: Томирис,
победительница непобедимого Кира (Геродот), Амаги
(Полиен), Зарины (Ктесий). Вспоминаются сарматские
племена, о которых античные авторы сообщают, что они
«управляются женщинами» fY^vaixoxgaxoDixevoiL.
В статье «Сармато-боспорские отношения в отражении
нартовских сказаний» 5 я пытался показать, что в эпосе
осетин сохранилась смутная память о боспорском царе
«главе рыб — владетеле пролива» (K?fty S?r-Xuj?ndon
367
?ldar) и о некоторых эпизодах сармато-боспорских
отношений.
Эти и многие другие параллели и сопоставления
позволяют утверждать с уверенностью, что осетинский нартов-
ский эпос в своей существенной части восходит к
сарматской и скифской эпохе и продолжает эпическую
традицию этих народов.
Несомненно, с другой стороны, что за прошедшие
ысячелетия многое было забыто и утеряно, и то, что осе-
1 некий народ сохранил до наших дней, есть не более как
ты и фрагменты. Но если даже эти руины поражают
своей монументальностью и мощью, то можно
представить, какое богатство эпического духа и эпического
творчества находилось у истоков нартовской эпопеи —''- в ски-
фо-сармато-массагетском мире.
К счастью, нам не приходится только строить догадки
о существовании скифского эпоса. Геродот и другие
античные авторы сохранили нам ряд отрывков и сюжетов, и, как
ни скудны эти фрагменты, даже по ним можно думать, что
эпическое творчество било ключом на скифской земле. Это
прежде всего этногонические легенды: о браке Зевса с
дочерью Днепра, о родившемся от этого брака
родоначальнике скифов Таргитае, о трех сыновьях Таргитая, от
которых произошли три скифских племени (ср. в
осетинском эпосе три фамилии нартов); другая легенда о
происхождении скифов от брака Геракла с полудевой-
полузмеей 6, о происхождении сарматов от брака скифов .
с амазонками . ' • . ¦
Явно фольклорный характер имеет рассказ Геродота
о борьбе Кира с массагетской царицей Томирис и рассказ
Полнена о походе Дария I против саков, окончившемся
неудачей благодаря героизму сакского конюха Сирака,
завлекшего персидское войско в безводную пустыню8.
Ктесий сохранил нам замечательную историю любви
сакской царицы Зарины и Стриангия. Нельзя без
глубокого волнения читать этот романтический эпос о любви,
которая сильнее смерти. Если бы Шекспир знал этот
сюжет, мы имели бы еще одну трагедию такой же и более
потрясающей силы, чем «Макбет» и «Отелло»...
Скифская (сакская, массагетская) струя отчетливо
распознается в персидско-таджикском эпосе. Этот эпос
составил содержание первых частей прославленной поэмы
Фирдоуси «Шах-наме» и таким образом стал достоянием
мировой литературы. Известно, что основное содержание
368
этого эпоса, его доминирующий конфликт — борьба между
Ираном и Тураном. Но под «Тураном» нельзя разуметь
ничего другого, кроме Скифии . Несомненно, с другой
стороны, что между Ираном и Тураном была не только
война, но и постоянное тесное общение и взаимовлияние,
и порожденный их борьбой эпос был их общим
достоянием, с той разницей, что герои, снабженные в одной
версии знаком плюс, в другой версии получали знак минус.
Как показал известный датский иранист А. Кристен-
сен (А. Christensen), образы первого человека и первого
царя в иранском эпосе (Haosyarcha и Taxma Urupa в
«Авесте», Хошенг и Тахмурас в «Шах-наме») идут из скифского
мира 10. Любимый герой «Шах-наме», непобедимый
богатырь Рустам, также вышел из скифской среды, из Сеиста-
на (= Sakastan 'страна скифов'). Он так и зовется Sagcik,
Sagzi 'сакский'. :
Эти и другие факты и сопоставления позволяют
утверждать, что эпические образы и традиции,
зарождавшиеся и: бытовавшие на скифской почве, питали народно-
эпическую поэзию не только в скифском, но во всем
иранском мире, а также проникали к соседившим со
скифскими й сарматскими племенами народам Кавказа.
Но если на одном фланге скифский мир глубоко
вдавался в Среднюю Азию и был хорошо знаком народам
Кавказа и Закавказья, то на другом фланге он соседил
с европейскими народами. И мы должны быть готовы к
тому, что отдельные мотивы, комбинации и целые
сюжетные структуры могли странствовать между скифским и
европейским миром и на этой почве могли возникать
мифологические и эпические «изоглоссы», аналогичные
изоглоссам, вскрываемым в языке.
ЛЕГЕНДЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ РИМЛЯН И НАРТОВ
В статье «Опыт сравнительного анализа легенд о
происхождении нартов и римлян» отмечены далеко идущие
черты близости между рассказом о Хсаре и Хсартаге в
осетинском (нартовском) эпосе и рассказом Тита Ливия
и других авторов о Ромуле и Реме .
Напомню некоторые существенные для нас черты
обоих рассказов.
В городе Альба в Италии царствовали два брата, Ну-
митор и Амулий. Честолюбивый Амулий низложил и изгнал
своего брата, а дочь его Рею Сильвию сделал жрицей бо-
369
гини Весты. Это обрекало ее на вечную девственность, и
Амулий, лишив своего брата возможности иметь
потомство, чувствовал себя в безопасности. Но боги судили
иначе. Однажды Рея Сильвия отправилась к реке за водой.
На дороге ей встретился волк. Испуганная весталка
укрылась в пещере. Здесь ей явился бог Марс. Рея
Сильвия зачала от него и родила двух мальчиков-близнецов.
Когда об этом узнал Амулий, он велел умертвить Рею
Сильвию, а детей бросить в Тибр. Но близнецы не погибли.
Река вынесла их на берег. Здесь их заметила волчица.
Она облизала их и стала кормить своим молоком. Однажды
царский пастух Фаустул забрел в эти места и подсмотрел
близнецов с их необычной кормилицей. Он отнес
мальчиков к своей жене Акке Ларенции. Добрые люди стали их
воспитывать как своих детей. Дали им имена — одному
Ромул (Romulus), другому Рем (Remus). Близнецы
возмужали и стали славными воинами. Узнав тайну своего
происхождения, они низвергли узурпатора Амулия и
вернули своему деду Нумитору отнятое у него царство. Сами
же основали на берегу Тибра новый город Рим (Roma).
Когда были возведены городские стены, между братьями
возникла ссора, Рем пал от руки брата, и Ромул стал
единолично царствовать над новым городом, которому
суждено было такое славное будущее.
Такова знакомая всем легенда о происхождении Рима
и римского народа 12.
Тотемистический характер легенды не вызывает
сомнений. Она относится к хорошо известным в этнографии
легендам, в которых происхождение племени связывается
с каким-нибудь животным. В дошедшем до нас виде
легенда уже подверглась рационализаторской обработке. Волк,
который в первоначальной версии был, очевидно, сам
отцом близнецов и эпонимом римского народа,
довольствуется теперь эпизодической ролью: он лишь
встречается случайно с Реей Сильвией. Реальным отцом
оказывается уже антропоморфный Марс, которому
предназначена, таким образом, роль двойника или заместителя
тотема-волка. Волчица, которая первоначально была м а-
т е р ь ю, теперь оказывается кормилицей13. Когда
мышление не мирится уже с происхождением людей от
животных, тогда антропоморфный бог является на смену
своему четвероногому предшественнику. Но старый то-
темический субстат явственно выступает на сцену в образе
волчицы-кормилицы: родиться от волка кажется уже не-
370
мыслимым, но быть вскормленным волчицей — в это еще
можно верить. Таков наивный компромисс между
примитивными воззрениями и требованиями новой, более
реалистической мысли. Впрочем, некоторым авторам уже
и волчица-кормилица казалась неправдоподобной, и они
пошли еще дальше по пути рационализации легенды:
никакой волчицы не было, а Волчица (Lupa) — это имя
или прозвище той пастушки, которая воспитала Ромула и
Рема. А так как lupa означает не только 'волчица', но и
'блудница', то здесь находили указание на профессию
доброй Акки Ларенции (Плутарх, Licinius Macer и др.)
Хорошим примером рационализаторской переработки
тотемического мифа может служить и рассказ Геродота
о рождении персидского царя Кира. У мидийского царя
Астиага была дочь Мандана. Царю приснились
удивительные сны. Придворные снотолкователи признали эти
сны вещими: у Манданы, сказали они, родится сын,
который покорит всю Азию. Не желая иметь такого опасного
внука, царь велел его умертвить, как только тот появится
на свет. Однако жизнь мальчика, будущего царя Кира,
была спасена. Его вскормила жена пастуха Митридата,
которую звали Елахо), что по-мидийски, поясняет
Геродот, означает собака. Впоследствии, рассказывает
дальше Геродот, желая придать чудесный характер
спасению Кира, воспользовались именем 2лахо> и пустили
молву, что Кира вскормила собака 1\ Нужно ли
говорить, что в действительности имело место обратное тому,
что говорит Геродот: первоначальная легенда говорила,
что Кир вскормлен собакой, и лишь впоследствии
предание было «рационализировано» в том направлении, что
нарицательное собака (алаха) было истолковано как
собственное имя вскормившей Кира пастушки.
Перенесемся теперь с берегов Тибра на берега Терека
и познакомимся с легендой, которую рассказывают
осетинские рапсоды о происхождении мифического
богатырского народа нартов.
Старейшим из нартов был Вархаг (W?rx?g). У него
родились два сына-близнеца Хсарт и Хсартаг. Они
возмужали и стали славными воинами. Преследуя чудесную
птицу, которая похищала яблоки из их сада, они пришли
к берегу моря. Чудесная птица оказалась красавицей,
дочерью морского царя, и один из братьев, именно
Хсартаг, взял ее себе в жены. В дальнейшем между братьями
произошла ссора; Хсартаг убил Хсарта, а потом в порыве
371
раскаяния покончил с собой. Беременная жена Хсартага
родила двух близнецов (опять близнецы!), впоследствии;•>
прославленных нартов, Урызмага и.Хамица. Так было
положено начало могущественнейшему из нартовских родов,
который по имени своего родоначальника Хсартага
назывался Хсартаггата 15.
На первый взгляд между италийской и осетинской
легендами нет особой близости. Первая имела более
исторический, вторая — сказочный колорит. В обеих наличен
мотив близнецов и мотив братоубийства. Но
эти мотивы встречаются и в мифологии других народов.
В частности, мотив близнецов знаком древним индийцам
(Левины) и грекам (Диоскуры) и, возможно, восходит
к общеиндоевропейской эпохе. Убеждение в чудесном,
сверхъестественном характере самого факта рождения
близнецов, отмечаемое этнологом JI. Я. Штернбергом у
многих примитивных народов, могло способствовать тому,
что близнецы охотно возводились в роль
родоначальников племени или даже человечества (Озирис и Изида,
Яма и Ями) 16.
Мотив братоубийства также не является чем-то
исключительным. Достаточно вспомнить библейский рассказ о
Каине и Авеле.
Таким образом, эти мотивы выводят нас на широкое
поле сравнительной мифологии и не дают права говорить
о какой-то специфической близости италийской и
осетинской легенд. Обращает на себя внимание в особенности,
что тотемические черты, которые так явственно
выступают в италийской легенде, в осетинской как будто
полностью отсутствуют.
Картина резко меняется, когда мы внимательно
присмотримся к имени «старейшего из нартов», отца
близнецов Вархага (W?rx?g). Это имя закономерно восходит
v *л>г1гл-.Ь'Л- || пъиацяеьт 'nnrrv' ТЛг»аи *л)гЬ-п- м _р» *Л4>]1г п-
.V VI IVW IV» Il V/4/11U 1UV 1 UU^11\ . Ж AUUlll Г I ' V ** « ¦¦* W- • тг WV/1W
О г 0 »... О
должно дать в осетинском v?rg- или w?rx-, a с обычным
деминутивным формантом -ка w?rx?g. В современном
языке это слово в значении 'волк' не употребляется; оно
вытеснено под влиянием словесного запрета и заменено
словом bir?g, заимствованным, по-видимому, из какого-то
другого иранского диалекта (ср. сакс birgga- 'волк').
Итак, легенда о сыновьях Вархага оказывается не чем
иным, как тотематическим мифом о происхождении от
волка.
Коль скоро Вархаг оказывается «Волком», параллель
372
между италийской и осетинской легендами приобретает
неожиданную эффектность и яркость.
1. Тут и там мы имеем один и тот же в конечном счете
тотематический миф о происхождении племени
от волка.
2. Обе легенды подверглись «рационализации», в
частности, наименования тотемного животного были
переосмыслены вличные имена людей, родивших (или
вскормивших) близнецов; в осетинском нарицательное
w?rx?g 'волк' превратилось в собственное имя
родоначальника нартов; в легенде о Ромуле и Реме lupa 'волчица'
стало пониматься как имя или прозвище кормилицы
близнецов-эпонимов; аналогично в легенде о Кире мидийское
алаха 'собака' было переосмыслено в собственное имя
названной матери Кира.
3. Неразлучным спутником тотема является т а-
б у — запрет на название тотема. Именно поэтому и в
латинском, и в осетинском старое унаследованное название
волка было вытеснено другими наименованиями. В
латинском оно должно было звучать *volc- (и.-е. *vlk0o-)\
вместо этого находим заимствованное из другого
италийского наречия lup- 17. В осетинском унаследованное w?rx-
(w?rg-) было заменено заимствованным из другого
наречия bir?g.
4. В обеих легендах наличен мотив близнецов.
5. В обеих легендах близнецы связываются с водной
стихией: новорожденных Ромула и Рема бросают в реку
Тибр; Хсарт и Хсартаг рождаются в подводном царстве.
6. Имена близнецов в каждой из легенд представляют
вариации одной и той же основы: в лат. гот-\\гет-, в ос.
xsart\\xs?rt. В отношении осетинского это совершенно
очевидно. Что касается лат. Romulus, Remus, то и здесь
естественнее думать, что перед нами вариации одного
имени, а не два разных по происхождению, случайно
созвучных имени. На этой точке зрения и стоят многие
авторитетные ученые 18. Правда, В. Шульце (W. Schulze)
оспаривает это мнение как противоречащее звуковым
законам, в силу которых o в Romulus не может будто бы
чередоваться с е в Remus 19. Однако нельзя требовать от
этрусских по происхождению имен, чтобы они
подчинялись латинским звуковым законам. К тому же по
некоторым источникам брат Ромула назывался не Рем, а Ром
(PEu.oc) 20. Помимо звуковых законов есть еще законы
мифотворчества, и, с точки зрения этих законов, процесс,
373
приведший к образованию пары Remus\\Romulus,
совершенно аналогичен процессу, приведшему к образованию
пары Xsart\\Xs?rt?g .
7. Это образование идет в латинском и осетинском
по одной модели: имя одного из близнецов является д е-
минутивным вариантом имени другого; Rom-ul-us
образовано от Rom- (Rem-) с помощью деминутивного
форманта -ul-; Xs?rt?g (*xsaiira-ka-) образовано от
Xsart (*xsaftra-) с помощью распространенного в
иранских языках деминутивного форманта -ка-.
8. В обеих легендах именно «деминутивный» брат
(Romulus, Xs?rt?g) убивает другого и полагает начало
роду.
Мы имеем, таким образом, восемь признаков как
мифологического и семантического, так и формального
порядка, которые объединяют легенду о Ромуле и Реме с
легендой о Хсарте и Хсартаге. ¦
Думать, что все это случайные совпадения,— значит
возлагать на стихию случайности явно непосильное бремя.
Если каждая из приведенных параллелей в отдельности
не дает права на какие-либо далеко идущие выводы, то
комбинация позволяет говорить об итало-скифской
мифологической изоглоссе специфического порядка, такого же,
22
как осетино-латинские лексические изоглоссы .
Вообще говоря, сходства между мифами, как и
сходства между языками, могут иметь троякое объяснение:
1) на почве независимо возникающей
типологической близости;
2) как результат генетического родства;
3) на почве ареальных и субстратных
связей.
В данном случае от первых двух объяснений
приходится отказаться.
Типологическая близость не может объяснить того
совпадения в деталях, которые мы находим в легендах
о Ромуле и Реме и Хсарте и Хсартаге.
О генетическом единстве, т. е. возведении обеих легенд
к общей праиндоевропейской мифологии, также не
приходится говорить, так как в этом случае мы могли бы
проследить элементы этого мифологического комплекса
по всему индоиранскому и европейскому миру, а не только
в осетинском и латинском.
Наиболее вероятным остается третье объяснение: мы
имеем здесь одну из скифо-европейских ареальных изо-
374
глосс, выступающую как «сепаратная» осетино-латинская
изоглосса, на этот раз в сфере мифологии.
ЕЩЕ РАЗ О ВУЛКАНЕ
Мифологические связи скифского и латинского
убедительно выступают еще в одном факте: в образе и имени
бога-кузнеца 2J.
Лат. Volcanus и ос. W?rgon настолько точно
соответствуют по форме и функции, что трудно признать эту
близость случайной. В сравнительной религии и
мифологии индоевропейских народов не так много случаев, когда
бы этимологическое тождество так удачно сочеталось с
реальной близостью. Поэтому мне казалось, что параллель
Volcanus 1 W?rgon заслуживает, внимания как лингвиста,
так и мифолога.
В недавно вышедшей книге об осетинском языке
Э. Бенвенист бегло остановился на этой параллели, но
только для того, чтобы объявить ее «pure imagination» 24.
Сказано решительно. Но эта решительность может
оказаться преждевременной. В сопоставлении Volcanus\\W?r-
gon столько же «imagination», как в сопоставлении ти-
cus\\mug?, mustela\\must?l?g, rumpo\\rump?g, ringo\\berin-
dzun, moneo\\amonyn, casa\\k'?s, arx\\?rxu, mare\\mal и др.
(см. выше, с. 300 ел.). Осетино-латинские схождения не
являются чем-то иррациональным или случайным, они
входят в систему скифо-европейских изоглосс. Каждое
отдельное сопоставление надо рассматривать —
принимать или отвергать — с учетом и на фоне всей системы.
Всякий другой подход к этим фактам был бы
поверхностным.
Недавно В. Мейд (W. Meid) в статье «Lat. Volcanus —
osset. W?rgon» вновь привлек внимание к интересующей
нас параллели 25. Он признает, что близость имен
латинского и осетинского божества не может быть случайной
и от нее нельзя отмахнуться. Он допускает, как и я, что
они могут иметь общее происхождение. Но в
этимологическом истолковании у нас расхождение. Я полагаю, что
в основе обоих имен лежит и.-е. *w[koO- 'волк' и что, стало
быть, эти мифологические образы имеют тотемическое
происхождение. В. Мейд же исходит из др.-инд. ulka
'пламя', 'огненное сияние', 'зарево'.
Для нашей темы не имеет значения, какую из двух
этимологии принять. В том и другом случае перед нами
375
яркая скифо-латинская лексическая и мифологическая
изоглосса в рамках индоевропейской общности. Тем не
менее я позволю себе несколько замечаний в пользу
тотемистической гипотезы.
В изучении религии индоевропейских народов
достигнуты немалые успехи. Но большинство относящихся сюда
работ имеют, с методологической точки зрения, один
существенный недостаток: отсутствие широких
сравнительно-типологических и генетических обобщений.
Религиозные и мифологические воззрения индоевропейцев
рассматриваются, как правило, «в себе и для себя», и не
вскрываются их пусть весьма отдаленные и
замаскированные, но тем не менее бесспорные связи с воззрениями
примитивных народов, таких, как, скажем,
североамериканские, палеоазиатские. Иными словами,
индоевропейская религия рассматривается как самодовлеющий мир,
а не как этап развития религиозных представлений всего
человечества. Между тем не подлежит сомнению, что
эта религия (вернее религии) стоит в конце очень
длинного пути, истоки которого таятся в далекой глубине
доистории. «Les Indo-Europeens avaient deja acheve en
commun, un long developpement religieux qui les avait
eloignes des formes de representation qu'on appelle un peu vite
elementaires ou meme primitives» 25. Эти «элементарные
и примитивные формы представления», которые мы
находим в обнаженном и цветущем виде у племен,
находящихся на ранних ступенях общественного и культурного
развития, у индоевропейских народов сохраняются лишь
в виде смутных, сильно завуалированных реликтов,
выявление которых требует глубокой
сравнительно-этнологической перспективы, кропотливого анализа и
целенаправленных усилий. Но именно поэтому эти реликты
заслуживают пристального внимания, так как они помогают дойти
до скрытых «корней» индоевропейской религии и
мифологии. Можно ли утверждать, что эти доисторические
переживания в исторически засвидетельствованных
религиях индоевропейских народов вскрыты с достаточной
глубиной и полнотой? Нет, нельзя. Здесь имеется еще
немало пробелов, и одним из них является недооценка
роли тотемизма.
Характерно, что в «Reallexikon der indogermanischen
Altertumskunde» О. Шрадера (О. Schrader) — А. Неринга
(A. Nehring) нет статьи о тотемизме, а под словом
«Totemismus» дается отсылка, но не к статье «Religion», а к
376 *
статье «Volk», как если бы тотемизм не имел отношения к
религиозным верованиям. Г. Узенер (Н. Usener) в
известной книге «Gotternamen» (Bonn, 1896) отрицает
совершенно очевидные случаи тотемической ономастики. Он
уверяет, что понимание греческого мифологического имени
Лйхос в смысле 'волк' представляет «Gaukelspiel der Volk-
setymologie» («фантазию народной этимологии») и что в
этом имени надо видеть будто бы корень *1ик- 'свет', а не
*vluk- 'волк'. «Es ist kaum glaublich, wie viele Thorheiten
auch von neueren Gelehrten durch Verkennung dieser Radi-
kalmetapher von luk- und vluk- begangen worden sind» 2r.
Эти утверждения лишены всякого основания. Тотеми-
ческая роль волка в древней Греции подтверждается не
только обилием имен, содержащих Лбхос 'волк', но и
рядом других фактов. «Weithin durch Griechenland verehrte
man einen Wolfsgott der im Peloponnes zum Zeus geworden
ist, wahrend der Wolf sonst als Manifestation des Apollo
gilt» 28.
Зоофорные имена не обязательно связаны с
тотемизмом. Они часто даются по традиции или по мотивам, не
имеющим прямого отношения к тотемизму. Но
древнейший слой этих имен, без сомнения, коренится в тотеми-
ческих представлениях. В этом смысле зоофорные имена
являются прямыми предшественниками теофорных.
Между ними существует преемственная связь. Они как бы
отражают два последовательных этапа в развитии
религиозного сознания народов. Именно в этом свете надо оценить,
что, скажем, германская ономастика кишит именами,
содержащими wulf, wolf 'волк'. Сам апостол и просветитель
готов, приобщивший их к христианству, носил языческое,
вполне «тотемическое» имя Vulfila 'волчонок'.
Общеизвестна роль волка в древнегерманской мифологии. Fen-
rirwolf, связанный с Loki, т. е. с огнем, подтверждает, что
и в древнегерманских верованиях была какая-то связь
между богом-волком и богом-огнем.
Богата тотемическими реминисценциями почва
древней Италии. Здесь не требуется даже особо глубоких
разысканий: факты лежат на поверхности. Известно, что одной
из характернейших черт тотемизма является убеждение,
будто происхождение племени связано с каким-нибудь
животным. Название самнитского племени hirpini
происходит от hirpus 'волк'. По преданию, они пришли на
завоеванную ими территорию под предводительством волка:
«Irpini appellati lupi, quem irpum dicunt Samnites; eum
377
enim ducem secuti agros occupavere»29. Ср. также Paul.
Diaconus Hist. Langob. IV, 39: «Ei lupus adveniens comes
itineris et ductor effectus est» 30.
Подобные предания типологически мало чем
отличаются от аналогичных преданий американских индейцев. Не
буду уже напоминать о легенде о Ромуле и Реме.
Известная всему миру эмблема Рима — Волчица, кормящая
близнецов,— это тотемическая эмблема.
Когда я взял на себя смелость сделать новый опыт
разъяснения латинского Volcanus, я руководствовался не
только общими этимологическими (фонетическими,
словообразовательными, семантическими) соображениями, но
и тем фактом, что воздух древней Италии, можно сказать,
пропитан культом волка и что исконно латинское *volcus,
замененное под действием табу заимствованным lupus,
могло сохраниться где-нибудь в
религиозно-мифологической ономастике, тем более, что такой процесс находил
решительную поддержку в осетинских фактах.
Конечно, Volcanus и ос. W?rgon фонетически и
семантически могут быть связаны с др.-инд. ulka- 'пламя'
и пр. Но если учесть изолированность др.-инд. ulka- и
наряду с этим широчайшее распространение и.-е. *wlk0o-,
а главное наличие тотемического субстрата в мифологии
и религии как италийцев, так и осетин, то предложенное
мной истолкование ос. W?rgon и лат. Volcanus окажется
не столь «phantasievoll», как думает В. Мейд.
Тесная связь между богом-кузнецом и волком хорошо
выступает в одном сюжете из осетинских «нартовских»
сказаний. Одна из главных функций Варгона (W?rgon) —
закаливать героев в огне, что делает их неуязвимыми.
Такой закалке подвергаются виднейшие герои Батраз (Bat-
raz) и Сослан (Soslan). Но в некоторых вариантах закалка
Сослана происходит не в огне, а в волчьем молоке.
Купанью в волчьем молоке приписывается такое же
свойство, как закалке в кузнечном горне: делать героя
неуязвимым. Таким образом, Варгон оказывается связанным с
волком не только своим именем, но и реально: бог-кузнец
воспринял ту функцию, которая прежде приписывалась
богу-волку31.
В. Мейд указывает: «Der romische Volcanus zeigt nicht
die geringste erkennbare Beziehung zum Wolf» 32. Вероятно,
это так. Я не производил специальных изысканий. Но
следует принять во внимание, что римский пантеон, как мы
его застаем,— результат многовекового развития, в тече-
378
ние которого функции и атрибуты божеств неоднократно
менялись, они утрачивали одни черты и приобретали
другие. Если бы не этот процесс, который постоянно
перетасовывает и до неузнаваемости изменяет первоначальную
картину, восстановить историю любой религии было бы
легким и простым делом. В действительности такая задача
бывает, как известно, связана с большими трудностями
именно потому, что всегда приходится считаться со
всякого рода структурными перемещениями функций,
манифестаций и имен . Мы знаем, что волк имел отношение
к римскому пантеону. Правда, он считался манифестацией
Марса, а не Вулкана. Но нельзя утверждать, что это всегда
было так. Важным и существенным является то, что волк
был «заместителем» одного из римских богов; случайным
и несущественным то, что в дошедшей до нас традиции
этим богом оказывается Марс. В предшествующую эпоху
развития латинской религии «волчьим» богом мог быть и,
судя по своему имени, действительно был Вулкан 34. Все
эти соображения дают, мне кажется, право сохранить
гипотезу о тотемическом субстрате в культе
итало-скифского бога огня и кузнечного дела и производить Volcanus
и W?rgon от *wlk0o- 34a.
Неожиданным было открытие археологом Негматовым
в столице афшинов (царей) древней Уструшаны в
Средней Азии фрески с изображением волчицы, кормящей
двух младенцев. Поскольку о прямом контакте жителей
Уструшаны с Римом говорить не приходится, встает
вопрос о посреднике. Таким посредником всего
вероятнее были скифы.
SYRDON — BRICRIU — LOKI
(СИРДОН — БРИКРИУ — ЛОКИ)
Одним из популярнейших героев нартовского эпоса
является Сирдон (Syrdon). Он занимает особое место в
эпосе и в известном смысле противостоит всем остальным
героям. В нем нет ничего от героического духа и мощи
Сослана (Soslan) или Батраза (Batraz). Его главное
оружие — это язык, острый, ядовитый и беспощадный,
вносящий повсюду раздор и вражду. Он наделен острым
умом и благодаря своей находчивости выручает иногда
нартов в трудные минуты, но еще охотнее он проделывает
над ними разные злые шутки, и в сказаниях за ним
закрепился постоянный эпитет Narty fydbylyz 'злой гений нар-
379
тов'. Особенно много зла причиняет он Сослану.
Неистребимая вражда между Сирдоном и Сосланом (в некоторых
вариантах называемым Sozryqo) проходит через весь
эпос и приводит к гибели Сослана. Страшному «Колесу
Балсага» удается умертвить Сослана только при активном
участии Сирдона .
По преданию, отцом Сирдона был водяной демон. В
некоторых случаях, например, когда ему нужно погубить
Сослана, Сир дон вступает в сношения с чертями в
преисподней. Имя Syrdon является, по-видимому,
производным от syrd 'зверь', как W?rgon от *w?rg 'волк'.
Эти и некоторые другие черты говорят о
мифологической основе образа Сирдона. Но с течением времени
мифологические черты оказались заслоненными массой
бытовых, частью анекдотических мотивов. Сирдон стал
носителем юмористического начала в эпосе, а в некоторых
рассказах он напоминает уже Ходжу Наср ад-Дина, героя
популярных на Кавказе и на Переднем Востоке анекдотов.
Где, в каких других эпических и мифологических
памятниках можно найти образ, подобный Сирдону?
Некоторыми чертами он напоминает гомеровского Терсита
FeQ0iTTjs), но это сходство отдаленное и поверхностное.
Несравненно ближе стоит к Сирдону хитрый и
злокозненный Брикриу из ирландских саг, как я это уже
отмечал в своей старой работе 36. Далека Ирландия от
Кавказа, и невольно поражаешься, насколько схожие образы
создали ирландские и осетинские рапсоды в лице Брикриу
и Сирдона. Они даже характеризуются одинаковыми
эпитетами: Брикриу зовется Nemthenga, т. е. 'ядовитый язык',
а Сирдон — Marg?vzag — с тем же значением.
Поведение Сирдона и Брикриу в сходных ситуациях настолько
похоже, что можно вместо одного героя подставить в
рассказ другого без малейшего ущерба для психологической
точности и цельности образа. Известно, что язык Брикриу
был особенно опасен при дележе. Так, когда герои
делили кабана Мак-Дато, Брикриу сумел натравить их
друг на друга и вызвал общую свалку и кровопролитие 37.
Так же опасно было допускать к дележу добычи Сирдона.
Помня об этом, нарты, прежде чем приступить к дележу
добычи, вырывали яму в двенадцать саженей (dywwad?s
ivazny) и опускали туда Сирдона. Только после этой
профилактической меры они могли спокойно начинать
дележ, не рискуя перессориться.
Можно отметить и другие моменты, роднящие ирланд-
380
ский эпос с нартовским—наличие" весьма архаических
черт, в частности, пережитков матриархата.
Там и тут исключительно большая роль отведена
женщине.
Межродовые распри — обычное явление. В
ирландском эпосе постоянно враждуют у л а д ы и конахты,
в осетинском — фамилии Xs?rt?ggat? и Bor?t?.
Частые пиршества, на которых постоянно дебатируется
один и тот же вопрос: кто лучший из героев. Отсюда
похвальба своими подвигами и своего рода детектор лжи:
у нартов — чаша, которая не давалась тому, кто погрешил
против истины, у ирландцев — острие меча, обращавшееся
против обманщика .
Если от содержания обратимся к форме, то и тут
можно заметить много общего. Тот же сжатый, ясный,
лапидарный стиль господствует в обоих эпосах.
Иногда осетинские и ирландские поэты пользуются
удивительно схожими приемами художественного
изображения.
Могучий богатырь Bedzen?g приближается к нартам.
Пораженная его видом прислужница сообщает Сатане:
«...Над головой его кружится стая черных воронов, перед
ним клубятся облака...» Сатана говорит: «...Черные вороны
над ним — это комья земли, вылетающие из-под копыт
его коня; облака, клубящиеся перед ним,— это дыхание
коня...»39. В саге о смерти Кухулина возница Лугайда
так описывает приближение Конала: «Словно все вороны
Ирландии носятся над нами, а перед ним будто от хлопьев
снега пестреет равнина». Лугайд говорит своему вознице:
«То, что тебе кажется птицами, носящимися над ним,—
это комья земли, кидаемые копытами его коня, а то, что
кажется хлопьями снега, от которых пестреет перед ним
равнина,— это пена с морды коня...» 40
Дальнейшее, более углубленное сравнительное
изучение может показать, являются ли отмеченные черты
близости между осетинским и ирландским эпосом
результатом независимого развития в сходных социальных
условиях или здесь сыграли роль древние европейские
контакты и взаимовлияния в области мифа и эпического
Творчества.
Вернемся, однако, к образу Сирдона. Ж. Дюмезиль
¦^Доказал, что этот инфернальный тип имеет еще одного
двойника на европейской почве — скандинавского Локи
(Loki) 4I.
381
Среди скандинавских богов асов (As) Локи играет
такую же роль злого гения, как Сирдон среди нартов. Он
хитер и находчив, и этими качествами способен иногда
оказать услуги другим асам. Но чаще в нем берет верх
злое начало. У него дурной язык, он любит, как и Сирдон,
сеять раздор и смуту. Как и последний, он умеет сноситься
с нечистой силой и обладает способностью к
метаморфозам: может превратиться в женщину, в животных
и пр.«42
Но дело не только в сходстве характеров и поведения
и не на этом строятся у Дюмезиля ?ioi naqaXX^Xoi Локи
и Сирдона. В центре его внимания — роковая роль,
которую сыграли они в двух аналогичных драмах, потрясших
общество асов и нартов: в гибели солнечных героев Балдра
(Baldr) и Сослана (Soslan). Мы говорили выше о жестокой
вражде Сирдона к Сослану.
Уже в своей первой работе о нартах Дюмезиль показал,
что Сослан наделен чертами солнечного героя 43. Таким
образом, параллель между Локи и Сирдоном
поддерживается параллелью между их антагонистами, солнечным
божеством Балдром и солнечным героем Сосланом. Шаг
за шагом, с почти исчерпывающим привлечением
материала, восстанавливает перед нами Дюмезиль все
перипетии двух драм, разыгравшихся в обществе асов и нартов,
и показывает, что эти драмы симметричны не только в
общих линиях, но и в значительных деталях.
И Балдр и Сослан как будто не подвластны смерти.
Но это не так. У каждого из них есть секрет уязвимости.
Балдра можно убить только веткой омелы (Viscum album),
Сослана — только если поразить его в колени, которые
остались незакаленными. Чтобы выведать эти секреты,
Локи превращается в женщину, Сирдон — в шапку,
старуху и т. п. Свое злодейство Локи и Сирдон совершают
не сами, а подговаривают других: Локи слепого Хёдра
(Hodhr), Сирдон — обладателя смертоносного колеса
Балсага и т. д.
В итоге вывод: «Der Tod Baldrs und der Tod Soslans
(oder Sosrykos) sind homologe mythische Fakta, in denen
Loki und Syrdon homologe Rollen spielen» 44.
Чем объяснить такую близость? Дюмезиль разбирает
четыре мыслимых объяснения: 1) общее происхождение;
2) заимствование из скифского в германский или обратно;
3) общее заимствование из какого-то третьего источника;
4) независимое возникновение. «Haben Ossen und Skandi-
382
navier Syrdon und Loki ererbt und bewahrt von ein und
demselben Prototyp, der entweder auf die indogermanische
Einheit oder eine spatere Teileinheit zuruckgeht, in der die
kunftigen Ossen und die kunftigen Skandinavier noch miteinan-
der vergesellschaftet waren? Oder ist Loki durch einen direk-
ten oder indirekten Abguss Syrdons entstanden, den die
Skandinavier oder ihre Vorfahren machten, oder umgekehrt
Syrdon als ein Abguss Lokis durch die Ossen oder ihre
Vorfahren — und dies wieder durch Entlehnung von einer Gesel-
lschaft zur anderen oder als Folge einer Verschmelzung von
Gesellschaften oder Nomadenstammen, wie sie in den Steppen
Osteuropas eintreten musste? Oder sind Loki und Syrdon
Entlehnungem aus der — heute noch bewahrten oder versch-
wundenen — Folklore oder Mythologie ein und desselben
dritten Volkes? Erlauben die Analogien in der Gesellschafts-
struktur wie in der ausseren und inneren Kultur, die zwischen
den Ossen (bzw. Skythen) und den Skandinaviern (bzw.
Germanen) bestanden, die Vorstellung einer unabhangigen Aus-
bildung dieser beiden Gestalten vom gleichen Typus samt
den Sagen, in denen sie vorkommen? Sagen wir es rund heraus:
Wir sind nicht in der Lage eine wirklich wahrscheinliche
Losung beiz ubringen» 45.
Вторую и третью гипотезы (о заимствовании) Дюме-
зиль отклоняет. Трудно думать о заимствовании, когда
речь идет не об отдельных мотивах и эпизодах, а об
обширном и сложном психологическом и драматическом
комплексе, пронизывающем всю структуру как нартов-
ского эпоса, так и скандинавской мифологии .
Тем, кто склонен был бы видеть в параллелях
случайные и ничего не доказывающие совпадения общего
характера, Дюмезиль убедительно возражает: «Warum
behaupten wir eigentlich, dass der Akt Syrdon und der Akt
Loki nicht voneinander zu trennen sind? Weil sich hier eine
totale Entsprechung zwischen zwei Typen, noch dazu zwei
komplexen Typen feststellen lasst, namlich eine
Entsprechung ihrer Natur, Begabung, sozialen Stellung, ihrer Hand-
lungsweise und ihrer inneren Widerspriiche: weil auch der
Ablauf ihres Lebens derselbe ist und in beiden Fallen aus
demselben Grund zur selben Katastrophe fuhrt; im Besonde-
ren aber, weil zwischen der Erzahlung vom Tode Baldrs und
den Erzahlungen vom Tode Sosrykos und zwischen dem
Anteil der Rolle, die Loki und Syrdon darin haben, die
zahlreichen Ahnlichkeiten in Sinn und Form bestehen, die
wir oben aufgewiesen haben. Das allees zusammen reicht hin
383
um einen Zufall auszuschliessen und das Problem zu stellen,
das uns beschaftigt... Um dieses Buch zu annulieren, musste
man erst noch irgendwo in der alten oder neuen Literatur eine
Figur finden, die Loki und Syrdon in dem Mass gleicht, wie
Loki und Syrdon sich untereinander gleichen» 47.
В конечном счете Дюмезиль склонен к тому, чтобы
видеть здесь общее индоевропейское наследие, независимо
сохраненное скифами и германцами 48. На этой точке
зрения стоит и известный скандинавист Ян де Фриз (Jan de
Vries): «Man darf aber fragen ob hier iiberhaupt eine Entleh-
nung auzunehmen ware; vielmehr muss man an eine Urver-
wandtschaft denken» 49.
И в другом месте: «Wenn auch die Ausfuhrungen Dume-
zils nicht alle ganz iiberzeugend und in mancherlei Hinsicht
eigentlich nicht zu Ende gefiihrt sind, so muss man ihm des
Verdienst zusprechen, die Lokifigur durch den Vergleich
mit Syrdon aus seiner skandinavischen Vereinzelung gel ost
und dadurch eine bessere Aussicht auf deren Erklarung
geoffnet zu haben. Gibt man diesen Zusammenhang zu, so
mochte die Erklarung sich am ehesten aus einem gemeinsamen
Ursprung verstehen lassen, also als ein Erbe aus indogerma-
nischer Zeit» 50.
Установление скифо-европейских, в частности, скифо-
германских изоглосс позволяет по-новому и с большей
уверенностью подойти к проблеме Локи-Сирдон.
Непостижимая, казалось бы, «перекличка» между Исландией и
Кавказом через тысячи километров оказывается в одном
ряду с языковыми фактами такого же порядка, к которым
я привлек внимание в предыдущих главах настоящей
книги. Иными словами, образ Локи-Сирдон такая же скифо-
германская изоглосса, как фонема / или лексема f?rv\\fe-
lawa.
Аналогия идет еще дальше. Как фонема / охватывает
помимо германских и сарматского еще и
западно-кавказские языки: кабардинский, черкесский, адыгейский, так и
комплекс Sosryko — Syrdon (= Baldr — Loki) получил
распространение и в эпосе этих народов, предки которых
под названием меотов соседили со скифо-сарматскими
и германскими племенами в областях, примыкающих к
Азовскому морю.
Ничто не дает права возводить скифо-германские
мифологические встречи к индоевропейской общности.
Перед нами скорее, по выражению Дюмезиля, «eine spatere
Teileinheit, in der die kiinftigen Ossen und die kiinftigen
384
Skandinavier noch miteinander vergesellschaftet waren»51.
Контакты скифо-сарматских племен с германскими
были продолжительными и тесными. Впервые германские
племена (бастарны) продвинулись к Азовскому морю еще
в III в. до н. э.52 и с этого времени германо-скифские
контакты продолжались до нашествия гуннов, т. е. до 375 г.
н. э. Часть готов удержалась в Крыму на много столетий и
сохранила свой язык вплоть до XVIII в. Даже после
гуннского погрома часть алан предпочла разделить судьбу
своих соседей германцев и прошла с ними огромный путь
от Азовского моря до Португалии и Северной Африки.
Соседство в условиях сходного общественного строя
сопровождалось, видимо, взаимной ассимиляцией в быту
и нравах, мифах и верованиях.
Эта ассимиляция зашла так далеко, что Прокопий
Кесарийский, не колеблясь, называет алан «готским пле-
53
менем» .
У готов и алан выработались некоторые общие обычаи,
например, обычай искусственной деформации черепов54.
Имели распространение сходные тотемические культы.
О следах культа волка мы уже говорили. Другим
популярным тотемическим животным был олень. Предметы
скифского «звериного стиля» изобилуют изображением
оленя 55. Оригинальное название скифов Saka (гр. 2axai)
неотделимо от ос. sag 'олень'. Полную параллель находим
на германской почве: название германского племени
Cherusci происходит от *herut 'олень' и означает 'Hirsch-
Menschen' . Убеждение в близости германских и скифо-
сарматских племен удерживалось до нового времени
настолько, что некоторые авторы даже приписывали
аланам-осетинам германское происхождение °7. Об
устойчивости подобных представлений свидетельствует то, что
они проникли в некоторые, вообще говоря, вполне
компетентные и пользующиеся отличной репутацией справочные
издания. Так, читаем: «Alanen, nomad. Reitervolk, aus
Sarmaten und Germanen gemischt... Ein Teil derselben brach
410 mit Sueven und Vandalen in Spanien ein und siedelte
sich in Portugal an...» 58.
Наиболее длительными и оживленными были, видимо,
сношения скифо-сарматских племен с готами (остготами).
Но весьма вероятно участие в этих контактах и других
германских племен, в частности, квадов, вандалов и геру-
лов. О вандалах Прокопий Кесарийский 59 сообщает, что
до передвижения в Западную Европу они жили у Меотий-
13 В. И. Абаев
385
ского озера, стало быть, в соседстве с аланами. После
гуннского удара часть алан прошла вместе с вандалами
во Францию и Испанию.
Особо нужно остановиться на возможной роли герулов
в тех германо-сарматских культурных контактах, которые
породили столь яркие черты близости между некоторыми
образами скандинавской мифологии и нартовского эпоса
осетин. Фигура Локи дошла до нас в мифологической
традиции Скандинавии, точнее даже Исландии, куда готы
не заходили. Конечно, можно думать, что готы послужили
культурными посредниками между Скифией и
Скандинавией. Но в этом случае трудно было бы ожидать такой
полноты соответствий, какую мы имеем в комплексе Локи-
Сирдон.
В связи с этим представляют значительный интерес
изыскания исландского ученого Б. Гудмундсона (В. Gud-
mundsson). Он находит веские основания, что в заселении
Исландии наряду с норвежцами принимало участие
германское племя герулов, о котором известно, что оно
обитало у Азовского моря в соседстве с сарматами .
Сходство между некоторыми орнаментальными
мотивами сарматов и северных германцев уже не раз обращало
на себя внимание: «...it is impossible to understand the Scan-
dinavian art of the first millennium A. D. without previous
study of the objects of the Scythian animal style» 61.
Некоторые знаки на предметах из раскопок Vimose в
Дании — «двойная вилка» и др.— аналогичны знакам на
сарматских памятниках. Предполагают, что они занесены
германскими племенами — готами и герулами — при их
обратном странствии от Черного моря на север G2.
О герулах и их посреднической роли в культурном
обмене между Черным морем и Скандинавией Марстран-
дер (С. J. Marstrander) пишет: «La peuple des herules etait
jusqu'ici range parmi les skandinaves; mais il nous semble
qu'a part l'inscription de la boucle de Vimose, les noms de
personne herules temoignent, et par leur composition et par
leur phonetique, de l'origine germanique orientale de ce
peuple. Cette these simple sur la provenance des herules
explique d'un coup leur randonnee au Pont-Euxin: ils n'ont
fait qu'accompagner leur procheparents (т. е. готов — В. А.)
sur la Vistule. Elle eclaire aussi plus vivement le courant de
civilisation qui, partant de la mer Noire, s'est propage vers
le Nord pour atteindre... Gotland et les iles danoises» .
Этот «courant de civilisation» между Черным морем
386
и Скандинавией далеко еще не исследован во всех-его
аспектах. Но его реальность не вызывает сомнения.
Память о нем не угасала у скандинавов в течение многих
веков. Знаменитый исландский историограф С. Стурлусон
(S. Sturluson) A178—1241) считал донские степи родиной
древнескандинавской культуры и древнескандинавских
богов и был убежден, что именно там, у Азовского моря,
находился легендарный город асов — Asgard (асы —
общее наименование древнескандинавских богов) .
В свете изложенного комплекс Сирдон-Локи,
возможно, не так загадочен, как может показаться. Он может
трактоваться не как индоевропейское наследие, почему-то
утраченное другими индоевропейскими народами, а как
результат исторических скифо- (сармато-) германских
культурных контактов, имевших место в определенную
историческую эпоху и на определенном ареале.
Если изоглосса Сирдон-Локи допускает конкретную
историческую интерпретацию, то изоглосса Сирдон-Брик-
риу пока такой , интерпретации не поддается и должна
рассматриваться скорее как типологическая.
Прямые контакты между скифскими и кельтскими племенами,
если и имели место (в области Нижнего Дуная), не могли
быть настолько тесными и продолжительными, чтобы
создались условия для серьезного культурного обмена.
Изоглосса Сирдон-Брикриу имеет еще то
принципиальное отличие от изоглоссы Сирдон-Локи, что в первой
мы имеем единство мифологического образа, во второй
же — единство и образа, и сюжета (Сирдон-Локи
contra Сослан-Балдр). За этим различием скрываются,
возможно, разные этапы развития мифологического
цикла. На первом, древнейшем этапе, определились основные
черты образа Брикриу-Локи-Сирдон на почве Elementar-
verwandtschaft. Что же касается сюжета о вражде Локи-
Сирдона к Балдру-Сослану, то он оформился уже
значительно позднее в результате прямых германо-сарматских
контактов в Северном Причерноморье.
Есть еще один вопрос, который неизбежно встанет в
данной связи: кто на кого повлиял при создании сюжета
Сирдон-Локи contra Сослан-Балдр: скифо-сарматы на
германцев или обратно. Ни лингвистический анализ имен
героев, ни какие-либо другие прямые доказательства не
позволяют ответить с уверенностью на этот вопрос. Но
если мы внимательно рассмотрим структуру нартовского
эпоса, с одной стороны, и структуру скандинавской мифо-
13*
387
логии — с другой, то не сможем не заметить, что в первой
структуре вражда между Сирдоном и Сосланом играет
несравненно более важную сюжетную и композиционную
роль, чем во второй структуре — вражда между Локи и
Балдром. Антагонизм между Сирдоном и Сосланом
начинается с самого их рождения и пронизывает с начала
до конца весь эпос, находя выражение в целом ряде
эпизодов, отлично сгруппированных Дюмезилем в его
упомянутой книге «Loki». Поэтому гибель Сослана от козней
Сирдона воспринимается как логическое завершение всего
предшествующего сюжетного и психологического
развития. Вражда же Локи к Балдру не является таким
лейтмотивом всей мифологии, и поэтому гибель Балдра от козней
Локи не имеет характера той фатальности, как гибель
Сослана. Но если конфликт Сирдон-Сослан глубже и
органичнее проникает в структуру нартовского эпоса,
чем конфликт Локи-Балдр в структуру скандинавской
мифологии, то естественно думать о возможном скифо-
сарматском влиянии если не на миф о смерти Балдра в
целом, то на некоторые детали, связанные с участием в
этом злодействе'Локи.
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ БОЖЕСТВА РОДЪ,
*ВЁЙ, ХОРСЪ, СЁМАРГЛЪ
Если в скифской мифологии вскрываются
материальные и структурные черты, связывающие ее с далекой
Италией и далекой Скандинавией, тем больше мы вправе
ожидать таких общих элементов со славянским миром,
ближайшим соседом скифского. Такие давно
отмеченные изоглоссы, как слав, bogu — иран. baga- 'бог', слав.
svetu, лит. szventas — иран. spdnta- (авест. spanta-),
говорят о глубоких связях в сфере религиозных понятий.
К сожалению, наши сведения о древнеславянской
религии очень скудны и фрагментарны. Здесь нет такого
памятника, как скандинавская Эдда, который позволял
бы судить о славянском пантеоне в целом, о функциях и
взаимоотношении отдельных богов и пр. Приходится по
крупицам собирать сведения частью из письменных
источников XI—XIII вв. (летописи, ;антиязыческие поучения
и диатрибы И; пр.), частью из этнографической
литературы нового времени, в которой описываются те или иные
верования, суеверия, праздники, обряды, частично восхо-
388
дящие к языческим временам. Таким образом удается
составить некоторое представление о славянском
язычестве, его пантеоне и культуре65. В довольно пестрой
веренице имен и образов с болыпой\долей вероятности
распознаются некоторые скифо-славянские изоглоссы.
Восточнославянское божество Родъ привлекало
незаслуженно мало внимания со стороны исследователей
славянского язычества. Между тем, судя по тому
ожесточению, с каким нападали на его культ представители
православия, это было популярнейшее в народе божество
с разнообразными и широкими функциями, возможно
даже верховный бог 66. Выступает Родъ обычно в
сопровождении Рожаниц, женских божеств плодородия, и этим
в какой-то мере определяется природа самого Рода. В
отличие, например, от Перуна, культ которого был дружинно-
княжеским, культ Рода, по всей видимости, был глубоко
народным, стойко противостоял натиску христианства и
немало портил крови тем, кто насаждал у славян новых
богов взамен старых.
Каково происхождение Рода? Это имя справедливо,
как мне кажется, отождествляют с нарицательным родъ
'gens' 67. Может показаться странным и
неправдоподобным, что божество носит наименование «Gens». Однако
осетинские факты решительно поддерживают такую
этимологию. В языческом пантеоне осетин было божество
Naf. Так же, как славянский Родъ, оно не привлекло
внимания специалистов. Вс. Миллер в книге «Осетинские
этюды» в разделе, посвященном «Религиозным
верованиям осетин» (ч. II, М., 1882, с. 237—301), о Нафе не
упоминает. А в «Осетинско-русско-немецком словаре»
(т. II, Л., 1929, с. 840) дает глухое объяснение: «Наф —
неделя пиршества, Festwoche».
По собранным мною сведениям и материалам, Naf
был в прошлом популярным божеством, чтимым во всей
Осетии как у иронцев, так и дигорцев68. Праздник его
был приурочен к началу весны и продолжался несколько
дней. Об его функциях уже нельзя составить ясное
представление. Само его название говорит, что это было
родовое, фамильное божество. По народным верованиям, он
имел власть над плодородием и от него зависело
процветание рода.
Этимологически Naf восходит к nafah- 'род', авест.
nafah-, согд. n'? 'gens' и пр. (из ар. *nabh- 'пупок', ср. ос,
диг. naf? 'пупок').
389
Полное семантическое тождество славянского Родъ и
осетинского Naj позволяет отнести эту пару к числу скифо-
славянских религиозно-типологических изоглосс.
*
Каждому, кто исследует дохристианские верования
таких народов, как русские и осетины (те и другие
крестились официально в X в.), приходится считаться с тем, что
под натиском христианства старые языческие боги не
исчезали сразу, а либо путем адаптации сливались с
христианскими святыми и под новыми именами сохраняли
полностью или частично свою старую природу, либо
переходили из сферы «высокой» религии в сферу «низкой»
демонологии, в фольклор, в магическую обрядность и пр.,
из богов становились демонами, бесами, злыми духами,
сказочными чудовищами, персонажами народного
эпоса и т. п.
Именно в результате этого процесса арийский бог
Vayu-, первоначально бог ветра, потом войны, мести,
смерти, под названием W?jyg | W?jug оказался в
осетинском фольклоре то в роли злого чудовища, то в роли
привратника загробного мира и пр.69
Есть основания думать, что W?jyg, деградировавший
у осетин на степень чудовища, у скифов был еще чтимым
божеством. В числе скифских богов Геродот 70 называет
Oi.TOGUQOc,, которого он приравнивает к греческому
Аполлону. Форма OiTOGuoog не-поддается никакой приемлемой
этимологии.
Если мы примем во внимание, что в написании Г и Т
легко смешивались (поэтому имя скифской Афродиты
пишется в рукописях «Истории Геродота то 'Адт'щяаоа,
то 'Асущлаоа), то напрашивается мысль, чтоОиооиоос —
ошибочное написание вместо Oiyoctuqoc= VavuKa-sura-
могучий Vayu-'. Для северноиранских наречий характерны
случаи очень раннего озвончения глухих . Поэтому нас
не должно удивлять у в Oiyo-, как в ос. w?jyg при к в
*Vayuka~. У того же Геродота имябогини очага звучит
7'a?iri с ? вместо л (иран. tapayati- 'согревательница').
Определение siira- 'могучий' — обычный украшающий
эпитет богов '2.
Скифский OiyOGVQOc, 'могучий Vayu' перекликается с
др.-прусск. Wejopatis 'владыка Вей' 73.
Таким образом, бог Vayu с востока и с запада, с скиф-
390
ской и балтийской стороны вплотную подходит к
славянскому миру. Между тем на славянской почве никаких
его следов не было обнаружено. Объясняется это не тем,
что он был искони чужд славянам, а, по-видимому, тем,
что под натиском христианства он очень рано ушел в
«подполье». Все же удалось напасть на его след. Бог Vayu
притаился там, где его трудно было ждать: в повести
Н. В. Гоголя «В1Й». В этой почерпнутой из украинского
фольклора повести рассказывается о злоключениях
некоего семинариста Хомы Брута. Он имел несчастье убить
панночку-ведьму и в отместку на него ополчилась
«несметная сила чудовищ». Некоторое время ему удается отгонять
их заклинаниями. Тогда они призывают на помощь своего
начальника ВЫ. Стоило появиться этому чудовищу, как
Хома Брут пал бездыханный.
Гоголь, родом украинец, был великолепным знатоком
украинской демонологии и украинского фольклора. О Bie
и о своей повести он говорит: «Вш есть колоссальное
создание простонародного воображения... Вся эта повесть
есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его
и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал» 74.
У нас нет никаких оснований не верить Гоголю. По-
видимому, Вш действительно был «колоссальной» фигурой
украинской демонологии. Украинское Вт закономерно
восходит к несохранившемуся общевосточнославянскому
*Вей, а *Вёй безупречно отвечает иранскому Vayu-.
По форме Вей не может быть заимствованием из
иранского. Речь идет об общем индоевропейском наследии.
И если мы можем говорить здесь об ирано-славянской
изоглоссе, то это потому, что функция бога смерти,
которая присуща украинскому Biio, характерна для Vayu
именно на иранской почве, в авестийском и осетинском.
В «Авесте» эта функция бога Vayu особенно ясно
выступает в тексте «Aogmadaeca», 77—81. Вот этот текст
в нормализованном виде7.5.
parni>wo bavali panta"
yam Danus pati tacantis
hau dit aivo aparTfhyo
yo Vayaus anamrzdikahya.
pariftwo bavat i panta
yam azis pati gau-stava
aspa-hado vira-hado
vira-ja anarnrzdiko
391
hau dit aivo apariftwo
yo Vayaire anamrzdikahya.
pariuwo bavati panta
yam arso pati axsaino
hau dit aivo apanfhvo
yo Vayaus anamrzdikahya.
parTttwo bavati panta
yam martiyo gado pati
hau dit aivo apari.ftwo
yo Vayaus anamrzdikahya
о
pariftwo beavati panta o
yC Kainaya caxrava^ya
hau dit aivo apariftwo
yo Vayaus anamrzdikahya.
Можно пройти путем,
который стережет текущая (река) Danu (Сыр-Дарья?) /6;
один только (путь) непроходим —
безжалостного Vayu.
Можно пройти путем,
который стережет дракон толщиной с быка,
нападающий на коней, нападающий на мужей,
мужеубийца безжалостный;
один только (путь) непроходим —
безжалостного Vayu.
Можно пройти путем,
который стережет медведь темно-бурый;
один только (путь) непроходим —
безжалостного Vayu.
Можно пройти путем,
который стережет человек-разбойник;
один только (путь) непроходим —
безжалостного Vayu.
Можно пройти путем,
на котором колесное войско,
один только (путь) непроходим —
безжалостного Vayu.
392
Смысл этого текста совершенно ясен: человек может
избегнуть любой опасности — дракона, медведя,
разбойника, целого войска. Но если на его пути встал бог смерти
Vayu, ему нет спасенья.
В этом тексте «Авесты» и в повести! Гоголя выступает
один и тот же мифологический образ, зловещий и
страшный образ неумолимого бога смерти. И это сближает
украинского В1я именно с иранским Vayu.
В осетинских w?jyg'ax образ Vayu сильно потускнел и
измельчал. Но в «Посвящении коня», где W?jyg — это
страж железных врат загробного мира (см. выше),
сохранилась память о грозном боге смерти.
*
В русской летописи 980 г. в чирле языческих богов,
которым поклонялся князь Владимир, названы Хорсъ
(Хърсъ) и Семарглъ (Сёмарьглъ) 77. Этим богам
приписывается иранское происхождение, я думаю, с достаточным
основанием. Но при этом привлекают персидские факты, и
это, кажется, неточно.
Начнем с Хорса. Его сопоставляют с персидским
xursid, xorsed 'солнце'. Но, во-первых, непонятно, почему
персидскому s отвечает русское s. Группа rs для русского
с давних пор вполне привычна как в оригинальных, так
и заимствованных словах: ерш, коршун, аршин и др.
Из перс, xorsed (если допустить отпадение конечного
-ed) имели бы русск. хоршъ, а не хорсъ. Во-вторых, неясно,
каким путем персидское название солнца могло попасть
в древнерусский. Скифская форма персидского xorsed,
если бы она существовала, звучала бы *xaraxse~d (др.-иран.
hvar- xsaita-); ср. ос. (диг.) хог 'солнце' и ?xsed 'заря'. .
Но из *xoraxsed тоже не могло получиться руск. хорсъ.
Лучшей этимологией для русск. хорсъ является ос.
xorz\xwarz 'добрый', 'хороший' (иран. *hvarzu-).
Имена богов очень часто сопровождаются эпитетом
«добрый» 78.
В осетинских религиозно-мифологических песнях
эпитетом xorz | xwarz 'добрый' охотно сопровождаются имена
некоторых христианских святых. Так, се. Николай зовется
диг. xwarz Nikkola или Nikkola xwarz 7C>. Никто теперь не
сомневается, что христианские святые унаследовали
функции, качества и эпитеты своих языческих предшественни-
.ков. Можно быть уверенным, что до «Доброго Николая»
393
у осетин существовал тоже «добрый» языческий бог. И вот
этот-то старый аланский бог, которого звали xorz 'добрый',
и был заимствован в древнерусский, причем эпитет xorz
был воспринят как собственное имя божества 80.
Преимущество данного разъяснения заключается и в
том, что в этом этимологическом гнезде находит свое
место и русское прилагательное хороший 'bonus', как
показал С. П. Обнорский 8I.
*
Что древнерусское божество Семарглъ идет от
иранского и связано с божеством-птицей иранской мифологии
(перс. STnmury, авест. тэгэуоsaeno, букв, 'птица Saina"),
в высшей степени вероятно 82. Следует, однако,
подчеркнуть, что ни пехлевийская форма Senmurv, ни
новоперсидская Sinmury не могли быть источником древнерусской
формы. Необъяснимо в особенности а в -марг- при и в
тигу. Огласовка а в слове тагу 'птица' характерна именно
для скифо-осетинского, тогда как в персидском и почти
во всех других иранских языках мы имеем только
гласный и (тигу).
Хотя в осетинском название этой мифической птицы
не отмечено, в скифо-сарматском оно могло бытовать —
ничто не препятствует такому допущению. По нормам
скифской речи оно должно было звучать Senmary, что
является лучшим этимоном для русск. Семарглъ, нежели
перс. Sinmury.
Конечное л в Семарглъ из иранского не объясняется.
Оно выглядит как чужеродный аппендикс и скорее всего
появилось в результате какой-то описки переписчиков или
контаминации с библейским Sim и Nergel (Mansikka).
Как мог заметить читатель, приведенные скифо-сла-
вянские мифологические «изоглоссы» носят разный
характер.
Параллель слав. Родъ — ос. Naf является
типологической.
В слав. *Вей — скифском *Vayu- речь идет об общем
индоевропейском наследии, но с некоторыми
особенностями, возникшими, возможно, в результате славяно-
северноиранских контактов .
Древнерусские Хорсъ и Семарглъ рассматриваются
как заимствования из скифского.
394
Профессор И. M. Дьяконов имел любезность сделать
ряд замечаний по моим «Изоглоссам». «В связи с осет.
rnisyn 'пахтанье'. Вы приводите др.-сев. mysa, норв. myse
'кислое молоко'. Но myse означает не 'кислое молоко', а
как раз 'пахтанье'».
«Осет. dz?k'id 'мешочек', если и связано с лат. sacculus
и т. д., то должно быть сравнительно поздним
заимствованием».
«Имя божества Tarchon восходит к анатолийским,
так как засвидетельствовано в Малой Азии еще во II
тысячелетии до н. э. и вряд ли имеет отношение к скифам».
И. М. Дьяконов выдвигает также возражения против
сближения термина Skyth- 'скиф' с герм. *skut 'стрелок'.
ИТОГИ И ВЫВОДЫ
«ВАКУУМ» В ИСТОРИИ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА
ЗАПОЛНЯЕТСЯ
В книге Э. Бенвениста «Очерки по осетинскому языку»
имеется следующее утверждение: «...les influences
etrangeres decelables dans le vocabulaire de l'ossete sont d'epoque
recente. Laissant de cote ce qui vient du russe, nous ne trouvons
que des emprunts faits en milieu caucasien, c'est-a-dire
datant de la derniere phase de l'histoire du peuple ossete... Mais
rien ne rappelle les periodes anterieures a l'etablissement
sur le site actuel. La langue n'a conserve aucune trace des
contacts aves d'autres peuples lors de l'expansion vers
l'Europe centrale et le Sud-Est» '.
Мы могли убедиться, что нарисованная Э. Бенвенистом
картина не может быть признана точной. Мнимый vacuum,
который будто бы зияет между древнеиранским и
кавказским периодами развития осетинского языка, в
действительности заполнен контактами, оставившими глубокий
след в языке. Я не говорю уже о лексических связях с
восточно-финскими языками, которые давно выявлены
и свидетельствуются важными культурными терминами 2.
A priori можно было предположить, что многовековое,
с незапамятных времен пребывание скифо-сарматских
племен в Восточной Европе и соседство с языками
европейского круга оставит свой след в осетинском языке. Эти
395
предположения теперь полностью подтвердились.
Многочисленные изоглоссы — лексические, фонетические,
грамматические, мифологические — связывают скифский с
языками и мифологией европейских народов. Эти
изоглоссы характерны именно для скифо-осетинского и чужды
остальному иранскому и индоевропейскому миру. Они не
в меньшей степени определяют своеобразие осетинского
языка среди иранских, чем позднейшие кавказские,
тюркские и иные влияния.
Разобранный нами материал не является синхронным,
не относится к одной определенной эпохе. Соседство
скифо-сарматов. с европейцами продолжалось много
столетий, и связывающие их изоглоссы могли возникать в
разные периоды этого соседства. То, что объединяет эти
факты, заключается в следующем: они не возводимы к
иранской и цндо-иранской общности, а возникали на
почве ареальных контактов в Восточной и Средней
Европе между скифо-сарматами и народами европейского
круга. При этом одни изоглоссы имеют более
ограниченный ареал распространения, связывают скифский с одним
языком или одной группой европейских языков:
славянской, балтийской, германской, латинским. Другие — на
несколько групп или на все языки европейского круга.
Греческий, как. ^правило, не участвует в этих изоглоссах,
равно как армянский. Зато в них участвует тохарский,
принадлежность которого к древнеевропейскому кругу
языков получает, таким образом, новое подтверждение .
Следует при.' этом учесть, что данная проблема только
сейчас встала во весь рост и далека еще от всеобъемлющего
охвата с привлечением не только лингвистических, но
и фольклорных, этнографических, археологических,
исторических данных. Речь идет пока о первой разведке в
неисследованной области, но и эта предварительная
разведка дала богатые плоды, которые бросают новый свет
на историю осетинского языка и на культурно-языковые
отношения в Восточной и Средней Европе в древнюю
эпоху. Попытаемся в самом сжатом виде изложить
полученные нами результаты 4.
Прежде всего установление скифо-европейских
изоглосс неизмеримо расширяет горизонты истории
осетинского языка. Участие скифского языка в изоглоссах,
общих для всего древнеевропейского круга, а также
сепаратные скифо-латинские изоглоссы свидетельствуют о
том, что древнейший слой рассмотренных нами изоглосс
396
относится ко времени, когда древнеевропейские языки
находились еще в непосредственном общении между собой
и со скифским языком, а предки италиков не
переселились еще из Средней Европы в Италию (см. ниже). А
так как это переселение относится к концу II тысячелетия
до н. э., то древнейшие скифо-европейские изоглоссы
приходится датировать временем не позднее второй
половины II тысячелетия до н. э. Таким образом, история
осетинского языка становится обозримой на протяжении
около трех тысячелетий. Этот огромный отрезок можно
теперь разделить на два примерно равных периода: 1) от
древнейших времен до нашествия гуннов и 2) от
нашествия гуннов до нового времени. Первый период можно
назвать скифо-европейским, второй а л а н о -
кавказским. Своеобразие первого периода
определялось контактами с древнеевропейскими и отчасти угро-
финскими языками, своеобразие второго — контактами с
"кавказскими и тюркскими языками.
Значит ли это, что осетинский язык является прямым
продолжением тех именно скифских наречий, которые
еще во II тысячелетии до н. э. соседили с
древнеевропейскими языками? Не обязательно. Прямыми предками
осетин являются, как известно, аланы, которым, по
заслуживающему доверия свидетельству Диона Кассия и Ам-
миана Марцеллина, приписывается массагетское, т. е.
среднеазиатское происхождение и которые с
уверенностью локализуются в Южной России и на Северном
Кавказе только с конца I тысячелетия до н. э. Каким же
образом в осетинском могли отложиться элементы,
которые мы возводим к скифо-европейским контактам II
тысячелетия до н. э.? Нет ли тут противоречия? Думаем,
что нет. Надо исходить из допущения, что скифо-масса-
гетская среда на всем протяжении от Карпат до Алтая
была в языковом отношении весьма однородной. Для
такого допущения есть все основания. Кочевой быт и
условия обширных равнин при крайней подвижности
населения и периодических перемещениях на большие
расстояния и в разных направлениях приводят к
постоянному перемешиванию и унификации языковых признаков.
Языковые новшества, возникающие в одном
ограниченном ареале, быстро распространяются на всю территорию
родственных племен. Прекрасным примером такого
языкового единообразия на огромной территории может слу-
жить в новое время Казахстан. Казахский язык на всем
397
пространстве от Волги до Зайсана удивительно однороден.
Казахи из самых отдаленных районов понимают друг
друга без малейших затруднений. До недавнего времени
шли даже споры, существуют ли вообще в казахском
языке диалекты и говоры. И хотя сейчас наличие
некоторых диалектальных различий установлено, они
совершенно незначительны и, как мы уже отметили, не создают
никаких препятствий для взаимного понимания.
Именно ' так следует представлять себе языковую
картину древней Скифии: единый в основном язык на
всем протяжении потенциальных кочевых передвижений,
минимальные местные различия, нисколько не мешающие
взаимному пониманию.
Если бы до наших дней дошел не только «массагет-
ский» осетинский язык, но и какое-нибудь из крайних
западных наречий скифского языка, мы нашли бы в нем
больше скифо-европейских изоглосс, чем в осетинском. Но
наш материал! показывает, что и непосредственный предок
осетинского языка не оставался чужд тем изоглоссам,
которые возникали на стыке с европейскими языками еще
во II тысячелетии до н. э.
СЕВЕРНОИРАНСКИЕ ПЛЕМЕНА — ИСКОННЫЕ
ОБИТАТЕЛИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Выявление скифо-европейских изоглосс, часть
которых восходит к глубокой древности, вынуждает также
пересмотреть некоторые традиционные концепции,
касающиеся как доистории иранских языков и народов
вообще, так и древности пребывания ираноязычных
племен на юге России. В течение долгого времени я разделял
широко распространенное мнение, что прародину иранцев
следует искать где-то в Средней Азии, а появление ирано-
языческого элемента на юге России нужно связывать с
известным рассказом Геродота о вторжении скифов из
Азии и относить к VIII в. до н. эЛ Эта концепция теперь
сильно пошатнулась. Некоторые скифо-европейские, в
частности, скифо-латинские изоглоссы могли возникнуть,
как мы уже отмечали, не позднее второй половины II
тысячелетия до н. э. Эта дата и представляет, стало быть,
terminus ante quem для пребывания северноиранских
племен в Юго-Восточной Европе.
Напомню в связи с этим, что рассказ о вторжении
скифов из Азии представляет, по Геродоту, лишь одну из
398
версий, циркулировавших в его время относительно
происхождения этого народа. По другой версии, скифы считали
себя исконными обитателями Северного Причерноморья, а
своего родоначальника Таргитаоса (Т.ар^шюс) — сыном
Зевса и дочери Борисфена, т. е. Днепра. Этот легендарный
Таргитаос жил, по их преданиям, около тысячи лет до
похода Дария в Скифию, т. е. около середины II
тысячелетия до н. эА В числе вскрытых нами скифо-европейских
языков и мифологических связей есть такие, для
исторического оправдания которых приходится исходить из
исконной автохтонности ираноязычных племен на юге
России. Что касается вторжения скифов из Азии в VIII в.,
то это было, очевидно, не первым появлением иранского
элемента в Европе, а одним из передвижений кочевых
северноиранских племен, происходивших неоднократно и
позже и означавших не коренную смену этнического
состава, а перемещения и перегруппировки родственных
иранских племен на издавна занятой ими обширной
территории.
Наличие в угро-финских языках древнеиранских и
древнеарииских элементов, сохранение в «Ригведе» и
«Авесте» названия Волги (вед. Rasa- авест. Rar\ha, 'Pa
'Волга' у Птоломея) давно уже склоняло некоторых
исследователей, как О. Шрадер, к мысли, что именно в
Восточной Европе была прародина иранских и арийских народов.
Вскрытые теперь древние скифо-европейские связи
наилучшим образом согласуются с этой гипотезой. Не скифы
пришли из Азии, отколовшись от остальных иранцев, а,
напротив, остальные иранские племена продвинулись на
территорию Индии, Персии и Средней Азии из Южной
России, частью через Кавказ, частью вдоль северного
Каспия в бассейн Оксуса и Яксарта. Скифы же были тем
иранским народом, который удержался на своей родине
на юге России и продолжал много веков сохранять
контакты с другими народами Средней и Восточной Европы,
в том числе и с теми, которые, как «италики» и тохары,
в исторические времена уже порвали связи с Восточной
Европой. При таком допущении становится понятным, что
осетинский эпос, несмотря на сильные позднейшие
влияния — кавказские, тюркские и другие, сохранил древне-
иранский фонд в весьма архаичном, легко распознаваемом
и прозрачном виде, если сравнить его, например, с
афганским, где древнеиранские звуки и формы подверглись
сильной деформации. Скифский, оставшийся на месте
399
в Восточнойй Европе, законсервировал много такого, что
утрачено или переродилось в афганском и других
иранских языках, ушедших далеко от европейской прародины.
Хронологизация скифо-европейских изоглосс
потребует специального исследования, но уже сейчас можно
утверждать, что некоторые из них относятся ко
временам, когда предки латинян еще не продвинулись из
Средней Европы в Италию, а предки тохаров — из Восточной
Европы в Среднюю Азию. Как иначе объяснить такие
«сепаратные» латино-осетинские встречи, как mustela —
must?l?g, Voleanus — W?rgon, mucus — mug?? Или
такие специфические «осетинские» слова в тохарском, как
witsako 'корень', или peret 'топор', или eksinek 'голубь'?
Большой древностью веет и от таких слов, как ос. mal
'глубокая стоячая вода'. Можно было бы думать, что это
слово заимствовано из славянского или германского, с
которыми скифо-сарматы имели контакты в историческое
время. Но дело в том, что значение «глубокая стоячая
вода» не является обычным ни для славянского, ни для
германского. Оно реконструируется путем косвенных
показаний для европейской общности до ее распада, и
именно в эту отдаленную эпоху слово должно было быть
усвоено и в северноиранский. К этой же эпохе можно с
большой долей вероятности отнести ос. frondz 'ярмо'; ос. l?nk
'впадина', скиф. Гаатеьс, ос. l?fin? 'яркий свет', ul?n
'волна', f?rv 'ольха', ?mb?rzyn 'покрывать', qavyn
'метить' и др.7
В разделе «Фонетика» я указывал на древность и
обычность фонемы / в скифском (KoAacaic, AuioCaic и др.),
что стоит в резком противоречии с иранским ротацизмом.
Эти и другие факты трудно объяснить, если исходить из
предпосылки, что северноиранские племена появились в
Европе только в конце VIII в.
И, наоборот, все становится на свое место, как только
мы допустим, что иранский элемент был на юге России по
меньшей мере с начала II тысячелетия до н. э. Процесс,
приведший к образованию скифо-европейских изоглосс,
рисуется тогда в следующем виде. Когда иранская
общность в Юго-Восточной Европе распалась, часть
составляющих ее племен двинулась на юг и на восток, в Мидию,
Парфию, Перейду и Среднюю Азию. Предки же будущих
скифских племен остались в Европе и в течение ряда веков
находились в условиях контактного развития с народами
средне- и восточноевропейского ареала, включая будущих
400
""италиков и будущих тохаров 8. И именно в этот период
и определилось своеобразие скифской речи среди
иранских языков и возникли многочисленные скифо-европей-
ские изоглоссы.
КТО БЫЛИ КИММЕРИЙЦЫ?
В свете этих данных следует подходить и к
киммерийской проблеме. Я разделяю теперь точку зрения тех
специалистов, которые считают, что киммерийцы, которые, по
Геродоту, населяли Северное Причерноморье в древности
и ушли оттуда под давлением скифов, вторгнувшихся из
Азии, были также иранским племенем 9.
В прошлом об этнической принадлежности
киммерийцев высказывались самые разноречивые мнения. Относили
их то к фракийским, то кельтским, то иранским, то
кавказским, то германским племенам. Известный венгерский
ученый Я. Харматта в специальной работе, посвященной
киммерийской проблеме, приходит к выводу, что
киммерийская среда не была этнически однородной, но
господствующий слой в ней составляли иранцы: «...il faut
essayer de distinguer Г «ethnie» des «vrais Cimmeriens» de
celle des peuples subjugues. Pour determiner la premiere,
nous n'avons qu' a examiner les noms des souverains. Tous
ces noms sont d'origine iranienne; il parait donc tres probable
que la classe dirigeante, d'origine egalement iranienne, du
peuple cimmerien etait proche parent des Scythes» 10.
И. M. Дьяконов, подвергнув основательному разбору
все основные доступные источники, приходит к выводу,
под которым и я готов подписаться: «Киммерийцы —
конкретное племенное название одного из большой группы
племен, обозначаемой в науке как «скифы», а не
обозначение особого, нескифского и предшествовавшего скифам
населения Северного Причерноморья» ".
Как правильно подчеркнул Харматта, наиболее
надежной основой для суждения об этнической принадлежности
киммерийцев остаются личные имена их вождей.
Киммерийский вождь, разбивший мидийского царя
Гигеса (Gyges) F40 г. до н. э.), назывался (в ассирийской
передаче) ,Тukdamme l2. Это имя заключает во второй
части хорошо известную иранскую (и индоевропейскую)
основу dam- 'укрощать' и в целом отвечает ос. tux-dom?g
'укрощающий силой'. Сын Tukdamme назывался San-
daksartu. Здесь во второй части также хорошо известное
401
иранское слово: др.-иран. xsaftra- 'власть', ос. xsar(t)
'военная сила', 'военная доблесть' .
Третье дошедшее до нас имя киммерийского вождя
Teuspa удачно разъяснено (Маркварт) из иран. *tavaspa-
'мощноконный'. Такое имя представляет по образованию
и значению полную аналогию позднейшему, сарматскому
имени 'Аалоидуос,, иран. aspa-ugra-, oc. ?fsury, с обратным
порядком компонентов, букв, 'конемощный' и.
Как ни скудны эти данные, они все же позволяют
думать, что противоставлять скифов киммерийцам в
языковом отношении нет никаких оснований.
Археология и антропология также не находят сколько-
нибудь резкого разрыва между «раннескифским» и «до-
скифским» периодами.
Археологи приходят к выводу, что раннескифская
культура преемственно связана с «доскифской» поздне-
срубной культурой 15.
Антрополог Г. Ф. Дебец пишет: «В скифской серии
Причерноморья я не мог отметить ничего
принципиально нового по сравнению с черепами палеометаллической
эпохи из той же местности». И далее: «...переход от бронзы
к железу не сопровождался значительными
передвижениями народов» 16.
Стало быть не разрыв, а непрерывная
преемственность — таково согласное свидетельство
лингвистических, археологических и антропологических
данных о переходе от «доскифского» («киммерийского»)
к «скифскому» периоду.
ДРЕВНЕЕВРОПЕЙСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ОБЩНОСТЬ —
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В настоящее время, пожалуй, все специалисты
единодушны в том мнении, что распад индоевропейского
единства не произошел сразу, в один прием, а прошел через
ряд этапов и длился тысячелетия. Когда хеттская,
греческая, праармянская, индоиранская группы уже давно
отделились, утратили непосредственные контакты между
собой и встали на путь самостоятельного развития,
будущие балто-славы, тохары, германцы, кельты и италики
сохраняли еще ареальную общность в Средней и
Восточной Европе, развиваясь в условиях взаимных контактов.
Разобрав многочисленные словарные изоглоссы
европейских языков, А. Мейе приходит к выводу: «Il ya donc
402
une certaine communaute de vocabulaire entre les langues
du nord et de l'ouest, et cette communaute parait provenir d'un
developpement de civilisation commun» l .
Эту мысль А. Мейе в новейшее время последовательно
отстаивает с привлечением новых, главным образом гидро-
нимических материалов X. Краэ (H. Krahe). Он считает,
что италийские, кельтские, германские и балтийские языки
развились из одной общности, которую он называет «Alteu-
ropaisch» 18. Аналогичные высказывания находим и в
других его работах: «...zu Beginn des 2. vorchristlichen Jahr-
tausends, d. h. zu einer Zeit, aus der andere indogermanische
Sprachen, zumal das Griechische, Indische und Hethitische,
als bereits voll ausgebildete, selbststandige Grossen bekannt
sind, das Lateinische also, das Oskisch-Umbrische. Keltische,
Illyrische, das Germanische und das Baltische, noch gar nicht
als solche vorhanden waren, sondern — hochstens als Keim-
zellen angelegt-noch in einer relativ einheitiichen, venig geg-
liederten gemeinsamen Vorform, eben jenem Alteuropaischen
verborgen waren » 19.
Совершенно непонятным и неприемлемым у Краэ
является то, что он отделяет славянские языки от
балтийских: последнее он включает в «Alteuropaisch», а
первые нет. Впрочем, в новейшей работе намечается сдвиг:
«...mussen die Vorstufen bestimmter west-idg. Sprachen,
darunter die des Germanischen, in Nord und Mitteleuropa
(nordl. der Alpen) wahrend des 2. Jahrtausends v. Chr. einan-
der in ihrer Entwicklung noch nahe genug gestanden haben,
um eine vielleicht nur lose verbundene, aber doch deutlich
zusammengehorige und in stetem gegenseitigen grenznach-
barlichem Austausch befindliche Gruppe bilden zu konnen,
die man als «alteuropaischen» Sprachenkreis bezeichnen
kann. Ihm entstammen von den nachmaligen Einzelsprachen
ausser dem Germanischen das Keltische, das «Italische» und
das Venetische, das Illyrische, das Baltische und — am
Rande — auch das Slav isene (разрядка моя.—
В. А)»20.
Следовало бы сделать еще один шаг и включить в
«Alteuropaisch» тохарский. Ни славянский, ни
тохарский, как это видно и на нашем материале, нельзя
исключить из тех контактных связей, которые были
предпосылкой образования древнеевропейской языковой общности.
В эту общность в какой-то степени были воапечены
и северно-иранские племена, которые мы условно
называем скифами и которые в то время составляли уже само-
403
стоятельную ветвь иранского этноязыкового мира. Такова
историческая обстановка, которая позволяет наилучшим
образом объяснить приведенный нами материал скифо-
европейских изоглосс. Этот материал подтверждает
косвенным образом, что древнеевропейская общность в
составе перечисленных языков действительно существовала.
Вместе с тем он свидетельствует, что скифо-европейские
контакты сыграли определенную роль как для скифского,
так и для некоторых европейских языков. Такая
особенность осетинского языка, как выражение перфективности
с помощью превербов, развилась, по-видимому, не без
влияния славянских языков, тогда как фонема у (h) в
славянском или Genetivus-Accusativus отражают скифское
влияние в славянском.
Остановлюсь кратко на языковых встречах скифов с
отдельными народами европейского круга.
СКИФЫ И «ИТАЛИКИ»
Среди скифо-европейских изоглосс одна группа
привлекает особое внимание: это специфические,
«сепаратные» осетино-латинские параллели. Они имееют
первостепенное значение для датировки древнейшего слоя скифо-
европейских изоглосс.
Осетинский Латинский
W?rgon Volcanus 'бог-кузнец'
must?l?g mustela 'ласка'
mug? 'сперма' mucus 'слизь'
rump?g 'моль' гитро 'рву', corrumpo 'порчу'
be-rindz-un 'зевать' ringor 'разевать рот'
?rxu 'запертый' агх 'крепость', агса 'сундук'
k'?s casa 'хижина'
Совершенно очевидно, что эти параллели, разительные
по точности совпадения формы и значения, не могли
образоваться после того, как предки италиков
переселились из Средней Европы на Аппенинский полуостров. Они
могли возникнуть только тогда, когда «праиталики»
входили еще в языковую общность Средней и Восточной
Европы, т. е. во II тысячелетии до н. э.
Особо стоит остановиться на соответствии: ос.
must?l?g (myst?l?g, mystul?g) — лат. mustela. В высшей
степени вероятно, что корнем этого слова является элемент
mus, т. е. хорошо известное общеиндоевропейское назва-
404
ние «мыши». Элемент -?l-, -ul- в осетинском, -el- в
латинском также не представляет загадки: это
распространенный деминутивный формант. Наконец, конечный -?g
в осетинском — продуктивнейший формант, который
в скифском был в большом употреблении 22.
Остается, однако, элемент -t- (mus-t-el-a, mus-t-?l-?g).
Его нельзя объяснить средствами латинского языка. Зато
в осетинском он на своем месте. Дело в том, что именно
в названии «мыши» осетинский обнаруживает наращение
-/: mys-t. Это наращение характерно еще для нескольких
слов: c?s-t 'глаз', sys-t 'вошь', nos-t-? 'невестка', s?f-t-?g
'копыто' 23. Стало быть, элемент -t- в mustela || must?l?g
служит как бы фабричной маркой: сделано в Скифии,
«made in Scythia». Какой же вывод? Вывод может быть
только один: mustela заимствовано из скифского.
Такой результат был полной неожиданностью для меня,
и будет, вероятно, таким же для читателей. Но надо
отнестись к нему без предубеждения. Когда вступаешь в
неисследованные области, всегда надо быть готовым к
сюрпризам.
В любом случае изоглосса must?l?gW mustela, как и
другие приведенные выше параллели, повелительно
выдвигает вопрос о возможности непосредственного
соприкосновения скифской и «праиталийской» среды в Средней
Европе. Могут возразить, что для такого вывода материал
слишком скуден. На это я отвечу, что в данном случае один
или два факта имеют такую же доказательную силу, как
десять или двадцать, если для них нельзя
подыскать другое объяснение, кроме
прямого контакта.
Вот почему, до тех пор пока для приведенных фактов
не будет найдено другое, более убедительное объяснение,
мы вправе видеть в них бесспорное свидетельство прямых
контактов между скифами и предками римлян. Напомню
в этой связи и о близости легенд о происхождении нартов
и римлян.
Что касается реально исторической стороны вопроса,
то в главе о происхождении фонемы у (h) в славянском,
мы уже приводили свидетельство Геродота, позволяющее
судить о том, насколько глубоко иранский («мидийский»)
элемент проникал в Среднюю Европу.
405
СКИФЫ И ГЕРМАНЦЫ
Насколько, позволяет судить наш материал, скифо-
германские контакты имели место в два разных периода.
Самые ранние контакты относятся еще ко времени древне-
европейской ареальной общности, о которой выше
говорилось. К этому времени следует возводить изоглоссу др.-в.-
нем. felawa 'ива' — ос. f?rv \f?rw? 'ольха'. Древность этой
изоглоссы подтверждается тем, что в то время в скифском
еще действовал закон ротацизма: герм. / отвечает ос. г.
Как мы знаем, этот закон утратил в скифском силу очень
рано. Уже в V в, до н. э., а возможно, и значительно
раньше звук / стал полноправным членом скифской фонетики
(см. выше главу «Фонема /»). К этой древнейшей эпохе
следует относить появление термина «скиф», а также алан.
sabar 'овес'.
После окончательного распада древнеевропейского
ареального единства конфигурация на
этнолингвистической карте Центральной и Восточной Европы
существенно изменилась. «Праиталики» продвинулись на
Аппенинский полуостров, прагерманцы заняли более северное
положение, южнее и восточнее их расположились балто-
славы и пратохары, которые отрезали, таким образом,
германский ареал от скифского.
С III в. до н. э. начинается продвижение некоторых
германских племен к Черному и Азовскому морям, и здесь
германцы вновь вступают в контакт со скифо-сарматскими
племенами. Эти контакты длятся непрерывно несколько
столетий вплоть до гуннского нашествия, а между аланами
и крымскими готами продолжаются и позднее.
Алано-германские связи в этот период носят весьма
тесный и интимный характер, настолько, что Прокопий
Кесарийский называет даже алан готским племенем (см.
выше). Как замечает Г. Вернадский, «в причерноморских
степях возник своего рода симбиоз иранских (сарматских,
аланских) и германских (остроготских) племен.
Этническое и культурное смешение было характерным для
ситуации в этой,зоне в последние четыре столетия до н. э.» 24.
Поскольку эти контакты происходили, можно сказать, на
глазах истории*, мимо них не могли пройти ни историки
германства, ни историки европейского иранства 25. Однако
до последнего времени чувствовалась своего рода
диспропорция между ' признанием широких скифо-германских
связей и скудостью того конкретного лингвистического
406
и фольклорного материала, который можно было бы
привести в подтверждение этих связей. Теперь положение
изменилось. Глубокие сравнительные изыскания Дюме-
зиля в области скандинавской мифологии и нартовского
эпоса показали, что существенные элементы германской
мифологии формировались на юге России в условиях
скифо-германских контактов. Значительное количество
специфических осетино-германских изоглосс, которые
выше приводились, также следует рассматривать как
наследие второго периода скифо-германских контактов.
Ярким доказательством тесноты и продолжительности
общения служит то, что осетинский язык принял
частичное участие в германском передвижении согласных:
глухой смычный р в осетинском, как в германских, перешел
последовательно во фрикатив / (см. выше главу
«Фонема /»).
Влияния были двусторонние. Если, с одной стороны, в
осетинском распознается ряд слов, имеющих точные
германские соответствия: stivdz 'штифт', fsir 'колос', tusk'a
'кабан', r?xys 'цепь', t?sk' 'корзина', till?g 'урожай' и др.,
то, с другой стороны, в германском имеются слова,
скифское происхождение которых весьма вероятно, например,
группа англ. path, др.-фриз. path, нидерл. pad, др.-в.-нем.
pfad, нем. Pfad 'тропа', 'путь'; ср. ос. f?t- в f?t?g
'путеводитель', 'вождь' 26.
В. Брёндаль (V. Br#ndal) в статье «Mots 'scythes' en
nordique primitif»27 доказывает скифское происхождение
шести германских слов: исл. kot 'хижина', исл. air и пр.
'шило', исл. hross и пр. 'конь', исл. refr 'лиса', исл. surr
и пр. 'кислый', исл. storr и пр. 'большой'. Хотя этимологии
Брёндаля не получили общего признания, все же если не
для всех, то для некоторых из этих слов его разъяснения
остаются в силе. Др.-сев. mysa, швед, misa, mesu, норв.
myse 'кислое молоко' наилучшим образом объясняется как
заимствование из сарматского; ср. ос. rrusyn \ mesin
'пахтанье' 27а.
СКИФЫ И БАЛТИЙЦЫ
Скифо-европейские изоглоссы, в которых участвуют в
числе других индоевропейских языков и балтийские,
значительны по количеству и нередко имеют большой
историко-культурный вес, например, название «серпа». Как и
следовало ожидать, в качестве третьего партнера в этих
изоглоссах участвуют обычно славянские языки. Но мож-
407
но ли указать случаи специфических, «сепаратных»
связей скифского с балтийскими?
По меньшей мере одна такая изоглосса имеется. Это
название домашнего голубя: ос. b?lon \ b?l?w, лит. Ьа-
lahdis, латыш, balodis. Весьма показательны также, хотя
и связаны с более широким языковым контекстом,
соответствия: ос. m?xst?tt? 'мошонка' — лит. makstis 'чехол',
ос. s?lyn — лит. salti 'мерзнуть', ос. j?w 'просо' — лит.
javai 'хлеб' (в зерне) ', ос. k0yrm \ kurm? 'слепой' — лит.
kurmis 'крот' и др. Могут заметить: не слишком ли мало
этого для заключения о непосредственном соседстве
скифов и балтийцев? По этому поводу я должен повторить
то, что уже говорил по поводу специфических скифо-
латинских изоглосс. Количественные (статистические)
показатели имеют значение для суждения о длительности
и интенсивности контактов. Для установления же
принципиального факта соседства и взаимодействия даже один
единственный факт имеет вполне достаточную
доказательную силу, если никакие другие предположения, кроме
прямого контакта, не могут быть приведены для его
объяснения. И мне кажется, что мы имеем дело именно с таким
случаем.
Мне было поэтому весьма приятно узнать, что к
такому же выводу — о непосредственных балто-иранских
языковых контактах — пришли В. Н. Топоров и О. Н. Тру-
бачев в результате анализа гидронимики Верхнего Под-
непровья 28. С ними солидаризировался и Т. Лер-Сплавин-
ский в статье (рецензии) «О северо-восточных окраинах
29
праславянского языка» .
СКИФЫ И СЛАВЯНЕ
Среди скифо-европейских изоглосс древнейшего
периода, связывающих скифский со всеми или
большинством европейских языков, мало найдется таких, в
которых не участвовал бы славянский. Этот факт служит
добавочным аргументом в пользу того, что во II
тысячелетии до н. э. славянский входил в один лингвистический
ареал с европейскими языками и что исключать
славянский из древнеевропейской языковой общности, как это
делают некоторые ученые, нет никаких оснований.
Вместе с тем бросается в глаза обилие специфических
скифо-славянских схождений. По количеству и весу
сепаратные скифо-славянские изоглоссы далеко превосходят
408
сепаратные связи скифского с любым другим
европейским языком или языковой группой. Причем особенно
показательно, что сюда входят не только лексические
изоглоссы, но и фонетические (фонема у) и грамматические
(генитив-аккузатив, перфективирующая функция превер-
бов). Все это говорит об особой длительности и
интенсивности скифо-славянских контактов. Языковые факты,
в частности изоглосса фрикативного у, вновь
подтверждают то, о чем давно сигнализировали археология и
топонимика: участие скифского субстрата в формировании
украинской и южнорусской этнической культуры.
Древнейший период скифо-славянских контактов
свидетельствуется такими лексическими изоглоссами, как слав.
kasati — ос. kajyn 'касаться' (*kah-). Здесь в скифском
еще действовал общеиранский закон перехода s в h, тогда
как, например, в изоглоссе лат. casa — ос. k'?s 'хижина'
этот закон уже утратил силу .
Нижний предел славо-скифских, славо-сарматских и
славо-аланских контактов доходит до эпохи переселения
народов (IV в. н. э.) и далее до периода Салтовской
культуры (VIII—IX вв. н. э.) и Тмутараканской Руси (XI—
XII вв. н. э.). Общая продолжительность контактов не
менее шестнадцати веков, а по всей вероятности,
значительно больше. Утверждать, что в течение этого
огромного периода контакты никогда не прерывались,
разумеется, нельзя. Лингвистическая карта Восточной Европы
за это время неоднократно менялась. Приходится
считаться как с перемещениями славянских племен, так в
особенности с крайней подвижностью скифского
элемента. Можно, в частности, допускать, что в какие-то периоды
между скифской и славянской средой оказывалась иная
этническая среда, угро-финская или пратохарская,
позднее также германская.
Потребуются дополнительные изыскания по
относительной и абсолютной хронологии скифо-славянских
изоглосс. Положение осложняется тем, что славо-иранские
языковые связи начались, по-видимому, еще в доскиф-
скую эпоху в рамках поздней индоевропейской общности.
В большинстве случаев нет таких отличительных
признаков, которые позволили бы с уверенностью отделить
раннескифское от общеиранского. Наличие или отсутствие
тех или иных элементов в современном осетинском ничего
не доказывает. Каждому ясно, что не все скифское могло
сохраниться в осетинском.
409
В настоящей работе в соответствии с поставленной
задачей выявить специфические скифо-европейские (а не
ирано-европейские) изоглоссы я держался только того
материала, который представлен в осетинском. Но в более
широком плане можно было бы привлечь сюда
значительный ирано-славянский сравнительный материал, уже не
раз затрагивавшийся прежними исследователями31.
Однако в этом случае пришлось бы, по крайней мере, на
данном этапе, отказаться от строгого размежевания между
скифским и общеиранским.
СКИФЫ И ПРАТОХАРЫ
Как можно было убедиться в первом (лексическом)
разделе настоящей работы, тохарские факты довольно
часто мелькают в скифо-европейских изоглоссах.
Участие тохарского в этих изоглоссах —
примечательный факт, мимо которого нельзя пройти. Как
правило, тохарский выступает в них в обществе славянского
и балтийского. Тем самым лишний раз подтверждается,
что тохарский по своему происхождению связан с
восточноевропейским, а не азиатским ареалом
индоевропейских языков.
Пребывание пратохарского в этом ареале помимо
участия в скифо-европейских изоглоссах свидетельствуется
прямыми заимствованиями из скифского в тохарский.
Когда говорят об иранских элементах в тохарском, имеют
в виду обычно заимствования из сакского, с которым
тохарский соседил в исторические времена в Средней Азии.
Между тем, в тохарском имеются такие иранские
элементы, которые в сакском либо не засвидетельствованы, либо
имеют резко отличную форму, тогда как в осетинском они
имеют точные соответствия. Тохарскому В witsako
'корень' отвечает ос. widag. Тохарскому A porat, В per et
'топор' — ос. f?r?l (из *p?r?t). В сакском не обнаружено
ничего, что соответствовало бы ос. widag 'корень', а сак-
ское название топора, pada-, сильно отходит от тох. peret,
ос. f?r?t. Тохарское В eksinek 'голубь' ближе к ос. ?xsi-
n?g, чем к сакс, assanaka.
Тох. karm в аса-karm 'удав' примыкает к Иран, krmi-,
ос. kalm 'змея', но заимствовано до перехода в скифском
г в / под влиянием t, т. е. до V в. до н. э. Весьма
вероятно скифское происхождение тох. A ahcwa 'железный'
тох. В ehcuwo 'железо', encuwane 'железный' ср. скиф.
410
*avoav (в собственных именах), ос. ?ndon 'сталь'32.
Тех. В antapee 'пожар' сопоставимо с ос. ?nt?f 'жара',
тох. ере 'или' с ос. ?vi 'или'.
Излюбленный в тохарском В конечный гласный -е в
именительном падеже имен 33 имеет аналогию в
излюбленном конечном -се дигорского диалекта осетинского языка.
Начальному w- в тохарском А отвечает нередко (перед
и.-е. е, I) начальный у- в тох. В: A was||B: yasa 'золото',
A want\\B yente ветер', A wotak\\B yatka 'приказал', A walts\\
В yaltse 'тысяча' и др.34
Такая же картина в диалектах осетинского языка. Ирон-
скому начальному w- перед е, i отвечает часто дигорский
/-: ирон. widygWjJwr. jedug 'ложка', ирон. и>ю||диг. jes
'прут' и др.35
В тохарском и в осетинском выработалось
нехарактерное для индоевропейских языков агглютинативное
склонение, причем типологическая - модель этого
склонения (количество падежей и их функции) примерно одна
и та же в обоих языках. В обоих языках наряду со
старыми грамматическими падежами, номинативом и
генитивом (аккузатива в осетинском нет), имеются датив,
локатив, адессив, аблатив, комитатив 36.
Эти и другие факты говорят о том, что к вопросу об
ирано-тохарских связях нужен новый подход, основанный
на необходимости различать два хронологически и
географически разных плана: древнейший, европейский и
позднейший, среднеазиатский.
Если европейское происхождение тохаров и их
соседство со скифами не вызывают сомнения, то вопрос о
датировке их передвижения из Европы в Среднюю Азию
остается открытым. Отождествление тохаров с народом
юэчжи китайских источников имеет серьезные
основания i;. Если так, то можно говорить о пребывании тохаров
на северо-западных рубежах Китая по крайней мере с
III в. до н. э. Их старт из Европы должен был произойти
на несколько столетий раньше. На всем доступном
обозрению отрезке судьбы тохаров тесно переплетаются с
судьбами сакских племен (у с у н и китайских источников) ;
настолько, что до сих пор не выяснено, к кому именно
относилось первоначальное название «тохары» — к
иранским сакским племенам или к носителям той особой
индоевропейской речи, которую мы называем теперь
«тохарской». Эта тесная связь двух народов на протяжении
41!
ряда столетий наводит на мысль, что отделение
пратохаров от европейского языкового круга и продвижение
их на восток произошло одновременно и в сообществе с
отделением от скифского мира и продвижением на восток
будущих носителей хотаносакской речи, памятники
которой найдены в той же области, что и памятники
тохарских языков. Отделение же «прасакского» от
общескифского произошло до перехода ri в //, т. е. до V в. до н. э.38
Мы приходим, стало быть, к предположению, что
отделение прасаков и пратохаров от европейского мира
произошло не позднее первой половины I
тысячелетия до н. э. Дальше предварительных догадок и гипотез
пойти пока нельзя.
СКИФЫ И САКО-АФГАНО-ПРИПАМИРСКАЯ
ГРУППА
Мы отмечали, что. в сакском, афганском и припа-
мирских языках имеются, как и в осетинском,
специфические лексические элементы, общие с
европейскими языками, но чуждые остальному иранскому миру.
Эти изоглоссы, принимая во внимание огромное
пространство, отделяющее Афганистан и Памир от Европы,
могли казаться своего рода лингвистическим курьезом.
Теперь они получают реальную историческую
интерпретацию в рамках скифо-европейеких изоглосс. Вспомним,
что сакский язык — это не что иное, как одно из
скифских наречий, рано оторвавшееся от остального скифского
мира, но сохранившее некоторые черты, составляющие
специфику скифского лингвистического ареала, в том
числе связи с языками европейского круга.
Но сакский язык был, с другой стороны, важнейшим
компонентом, который участвовал в формировании аф-
гано-припамирского лингвистического узла. Отсюда
афгано-европейские и припамирско-европейские изоглоссы.
Вместе с тем, сравнивая современный осетинский
язык с сакским, афганским и припамирскими языками,
мы видим, насколько далеко они успели разойтись и в
фонетике, и в лексике, и в грамматике. Удивляться этому
не приходится. Отделение сакского от скифского
произошло не менее 2500 лет назад. Осетинский подвергся
за это время новым влияниям, прежде всего кавказским.
В сакском, афганском и припамирских первоначальное
«скифское» ядро также обросло новыми наслоениями.
412
Какими именно? В этом вопросе пока нет полной ясности.
Для сакского можно предполагать влияние тохарских
наречий, с которыми его судьбы переплелись на ряд
столетий.
Для афганского, мунджанского и йидга характерен
переход d-*-l. Мы теперь знаем из сурхкоталских
надписей, что этот переход представляет специфику того
восточноиранского языка, который называют бактрийским
или кушанским. Можно, стало быть, думать, что в этно- и
глоттогенезе афгано-мунджанской группы наряду с сак-
ским принимал участие бактрийский элемент.
С другой стороны, в языках интересующей нас группы
распознаются нередко черты, особо сближающие их с
авестийским или согдийским или с обоими этими
языками. Дает ли это право говорить о специфическом
авестийском или согдийском вкладе? Эти и другие вопросы,
связанные с генезисом сако-афгано-припамирской группы,
потребуют еще дальнейших, более тщательных и глубоких
изысканий.
О ХРОНОЛОГИИ ПАЛАТАЛИЗАЦИИ
Перенесемся мысленно в середину II тысячелетия
до н. э. и попытаемся представить себе лингвистическую
карту Средней и Восточной Европы того времени. Древне-
европейская языковая общность еще не распалась. Она
включает «праиталиков», кельтов, германцев, балтийцев,
славян, «пратохаров». К ним на юго-востоке примыкают
скифские племена, которые уже заметно отделились от
остального иранского мира. Прагреки, прахетты и праар-
мяне давно отошли на юг и утратили связи со своими
родичами в Средней и Восточной Европе. Языки
европейского круга также уже сильно разошлись. О
свободном взаимном понимании нет речи. Но они еще
развиваются в условиях тесных взаимных контактов в
относительно ограниченном ареале. В пределах этого ареала
происходят передвижения и перегруппировки, но общее
расположение языков, их соседство и взаимное общение
сохраняются.
Такова примерная обстановка, в которой стали
возникать древнейшие скифо-европейские изоглоссы.
Легко заметить, что нарисованная здесь картина плохо
согласуется с делением языков на группу kentum и группу
satam, если в этом делении видеть древнейшее основное
413
диалектное членение индоевропейского мира. Языки древ-
неевропейского круга попадают в этом случае в разные
группы: праиталийские, кельтские и германские — к ken-
mm, балтийские и славянские — к satam, тохарский —
опять к kentum, скифский — опять к satam. Получается
странная и неправдоподобная чересполосица. Не служит
ли нереальность этой чересполосицы добавочным
аргументом в пользу той точки зрения, что деление
индоевропейских языков на западные (kentum) и восточные (satam)
не было первоначальным и что палатализация
задненебных, на которой зиждется это деление, могла в разных
языках группы satam происходить в разное время и
совершенно независимо? Такая точка зрения имеет в настоящее
время много сторонников и, по-видимому, лучше
согласуется с фактами, чем теория об одновременном и исконном
Ф39
онологического процесса .
Уже признано, что вторичная палатализация
задненебных перед передними гласными (так называемая первая
славянская палатализация), которая сближает
славянские языки с индоевропейскими, не была в этих языках
одновременной: в славянских она произошла много
позднее 40. Следует сделать еще один шаг и признать, что и
первая, «сатемная» палатализация не была синхронной и
взаимосвязанной во всех языках группы satam, a
совершилась в них разновременно и независимо, а именно: в
балтийском и славянском позднее, чем в арийском и
армянском. По этой гипотезе, в интересующую нас эпоху
(около середины II тысячелетия до н. э.) вся древ-
неевропейская языковая общность,
включая балтийские и славянские
языки, была еще «к е н т у м н о й». Лишь после того,
как пратсхары отошли из Восточной Европы в Азию, а
балто-славы вошли в более тесный контакт с
ираноязычными скифами, в балтийском и славянском в порядке
новой фонетической изоглоссы, связывающей эти языки
со скифским, произошел переход палатализованных к\ g в
соответствующие сибилянты, балто-славянские языки «са-
темизировались».
У КОГО СКИФЫ УЧИЛИСЬ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ
В лингвистических работах часто приходится
встречаться с термином «реконструкция». При этом имеется
в виду обычно восстановление утраченных звуков, форм,
моделей.
414
Но языковеду доступен и другой, более увлекательный
вид реконструкции: реконструкция
действительности, реконструкция исторического прошлого народов.
И тут задачи языковеда совпадают с задачами историка
и археолога, которыми движет та же неистребимая страсть
воссоздавать прошлое. И когда историк, с одной стороны,
и языковед — с другой, разными путями и независимо
приходят к одному и тому же выводу,— это становится
источником высшего научного удовлетворения.
В своем известном труде «Эллинство и иранство на
юге России» М. И. Ростовцев, противопоставляя
восточной Скифии западную, подчеркивает тесную связь
последней с европейским миром: «На западе — картина иная.
И здесь существовала своя старая и самобытная
культура, но связанная не с востоком, а с западом, с северной
частью Балканского полуострова и со средней Европой.
Иранство встретило здесь более чуждый ему и более цепкий
уклад жизни и только покрыло его наносом своей
культуры... Чтобы убедиться в этом, достаточно пристально
вглядеться в инвентарь местных гробниц периода
скифского владычества. Весь фон здесь — местный, я бы
сказал, западный, настолько сильный, что его усвоили и
скифы-пришельцы... Иранские, греческие и
ирано-греческие вещи сочетаются здесь... с керамикой, оружием,
предметами утвари и туалета, далекими востоку и
близкими западному гальштату, т. е. раннему железному веку,
а затем кельтскому латену.
Под влиянием местных условий скотоводы-кочевники
превращаются здесь в помещиков-землевладельцев» .
Нарисованная Ростовцевым картина — лучший
реальный комментарий к скифо-европейским изоглоссам. Здесь
хорошо показана та обстановка тесных скифо-европей-
ских культурных контактов, которая нашла отражение
и в языке.
Наш материал выявляет разные аспекты культурных
связей скифов с европейскими народами, но мы
остановимся только на одном: на культуре земледелия. Ростовцев
прав: скифы учились земледелию у европейских народов.
Языковые данные полностью это подтверждают. Фактом
является то, что в осетинском нет, пожалуй, ни одного
земледельческого термина, кроме названия проса jcew,
который можно было бы с уверенностью возводить к
общеиранскому и общеарийскому . Вместе с тем ряд таких
терминов, как было выше показано, имеют соответствия
415
в языках европейских: xsyrf 'серп' — в славянских и
балтийских; fsii 'колос' — в германских, fsondz 'ярмо' — в
балтийском, германском и, может быть, латинском, stivdz
'штифт' (скрепляющий ярмо с дышлом)' — в германском,
f?xt | f?st? 'ступа (для толчения)' — в славянском и
балтийском, till?g 'урожай' — в германском. Сюда следует,
быть может, отнести ?luton 'пиво', поскольку
приготовление пива неотделимо от культуры ячменя.
Когда в свое время осетинское название «сохи» dzyvyr
было обнаружено в азовском диалекте новогреческого
языка (cavura) 43, этот факт показался загадочным.
Теперь он уже не может нас удивить: скифы познакомились
с сохой там же, где и вообще с культурой земледелия,—
в Восточной Европе433.
НА СТЫКЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА
Широко раскинувшись на смежных территориях Азии
и Европы, скифский мир был подобен двуликому Янусу:
одним лицом он был обращен на восток, другим на запад.
Эту двуликость давно заметили археологи, изучая
материальную культуру скифов. В цитированной работе «Эл-
линство и иранство на юге России» в главе «Роль юга
России в истории мировой культуры» М. И. Ростовцев
набрасывает широкую картину культурных связей
скифского мира: через прикаспийские и приаральские степи
в Средней Азии, через Кавказ с Закавказьем и Малой
Азией. «Не менее прочны и неизбежны,— продолжает
автор,— были связи южнорусских степей с западом.
Если на востоке южнорусские степи неотделимы от
степей Западной Азии, то на западе они доходят до берегов
Дуная и его притоков и этим ставятся в тесную и
неразрывную связь со всем югом средней Европы и севером
Балканского полуострова, т. е. со всей той европейской,
так называемой доисторической культурой,
самостоятельность и высоту достижений которой ярко доказали
новейшие работы по доисторической археологии Европы» 44.
Новейшие археологические материалы вновь и вновь
подтверждают древние связи киммерийско-скифского
мира со среднеевропейским культурным кругом.
Некоторые находки поздней бронзы и раннего железа из Украины
и Северного Кавказа встречают близкие аналогии в
вещах, добытых на территории Австрии, Венгрии,
Чехословакии, Югославии 45.
416
Двусторонние, восточные и западные, связи скифо-
сарматского мира получают теперь решительное
подтверждение в данных языка и мифологии. И если
исконное генетическое родство южнорусского иранства с
остальным индоиранским миром было лингвистически
давно установлено и представлялось чем-то само собой
разумеющимся, то древние лингвистические и
мифологические связи этой части иранства с европейским
языковым и культурным миром являются тем новым, что
открылось лишь в последние годы благодаря более углубленному
изучению фактов языка и памятников эпоса и мифологии.
Идя разными путями, археолог и лингвист пришли к
одной концепции и могут с удовлетворением протянуть
друг другу руки.
ОБ АРЕАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Настоящая работа родилась как «побочный продукт»
осетинского этимологического словаря и исторической
грамматики, которыми я занят ряд лет. В
этимологических словарях в историческом плане различаются две
категории слов: исконное наследие и
заимствования. Однако такое разделение, основанное на
слишком упрощенном и прямолинейном применении
теории родословного древа («Stammbaumtheorie»), не
отражает действительной сложности исторических условий и
факторов формирования любого конкретного языка, в
частности его лексики. На материале осетинского языка
в этом можно убедиться с полной очевидностью. Я
приступил к осетинской этимологии, вооруженный теорией
родословного древа, и поначалу думал, что все слова
можно будет разместить в указанные два ящика: исконное
наследие и заимствования. Однако материал ломал эту
упрощенную схему и пришлось считаться с
существованием в осетинском еще двух первоначально не
предусмотренных категорий: лексики субстратной и лексики
ареальной.
Явление субстрата связано с этническим смешением и
поэтому не является чисто лингвистическим. Когда мы
говорим о субстрате, мы предполагаем этногенетический
процесс, сопровождающийся языковыми последствиями.
Для осетинского приходится говорить прежде всего о
кавказском субстрате именно потому, что, как
подтверждают данные антропологии, археологии, этногра-
.14 В. И. Абаев
417
фии, в этногенезе осетин бесспорно участвовал
кавказский элемент. Когда одно из скифо-сарматских племен —
аланы — продвинулось в сторону Центрального Кавказа,
оно смешалось с местным, автохтонным населением и
передало ему свой язык. Но при этом кое-что удержалось
и из языка коренного населения, и вот эти-то элементы
выступают в современном осетинском языке как
субстратные. Таковы смычно-гортанные согласные в фонетике,
в лексике такие слова, как к'их 'рука', к'ах 'нога', в
грамматике двадцатичный счет, агглютинативное
многопадежное склонение и др.
Ареальные изоглоссы не связаны обязательно с
этническим смешением, но предполагают этнические контакты,
влекущие за собой распространение некоторых языковых
фактов и признаков на определенном более или менее
ограниченном ареале. Под ареальными понимаются
обычно такие изоглоссы, которые не возводимы к единому
праязыку и возникли в послепраязычный период на
почве исторически складывающихся территориальных
общностей. И в' этимологической работе постоянно
приходится различать исконное родство, с одной
стороны, и вт'о рично возникавшие изоглоссы
в результате контактов отдельных групп в
разнообразных сочетаниях, с другой.
В результате географическое распространение языко-1
вых явлений оказывается результатом не
изолированного замкнутого «развертывания» отдельными языками
унаследованной системы, а взаимодействия
унаследованной системы с иными системами, с которыми
язык имел ареальные контакты на разных этапах своего
исторического существования. Вполне естественно и
исторически объяснимо, что скифский язык, от глубокой
древности далеко продвинутый в Европу язык иранской
группы, имеет ряд ареальных изоглосс с языками древне-
европейской общности: славо-балтийскими, тохарским,
германскими, италийскими, кельтскими.
Существование ареальных изоглосс с необходимостью
вытекает из теории волн И. Шмидта и из данных
лингвистической географии. Нет изолированного языкового
развития, нет замкнутых языковых и диалектальных
границ — таков основной тезис ареальной лингвистики.
В новейшее время эта идея успешно разрабатывается
и энергично пропагандируется итальянской школой
«пространственной лингвистики» («linguistica spraziale», «lin-
418
guistica areale»), или «неолингвистики» в лице Д. Бон-
фанте (G. Bonfante), M. Бартоли (M. Bartoli), В. Пизани
(V. Pisani), Г. Девото (G. DevotoL6.
Учение о субстрате и ареальная лингвистика, давая
более полную, более верную и точную картину языковой
действительности как в ее статике, так и в развитии,
подняли сравнительное языкознание на более высокую
ступень, влили в него новую жизнь.
Сейчас уже невозможно признание научного
значения за работами, основанными на голой схеме
родословного древа.
Вместе с тем, опыт моей работы над осетинским
языком побуждает меня решительно отмежеваться от
крайних точек зрения, согласно которым лингвистическая
география и ареальные изоглоссы начисто упраздняют
понятие отдельного языка, отдельного диалекта и
генеалогическую классификацию языков и диалектов. Волны
ареальных изоглосс не размывают полностью
генеалогическую концепцию, а лишь дополняют и «обрамляют»
ее47. Как ни сложна история осетинского языка, как ни
богат он субстратными и ареальными отложениями, не
возникает и тени сомнения, что это самостоятельный,
четко характеризованный язык, не утративший своей
индивидуальности ни в восточно-европейском ареале (в
скифский период), ни в кавказском ареале (в новое время).
Не возникает и тени сомнения, что он принадлежит к
иранской группе индоевропейских языков, и у истоков
его развития, как и развития других иранских языков,
отчетливо распознается древнеиранская общность.
Вместе с тем, сейчас не может претендовать на
научность и такая концепция осетинского языка, которая
опирается только на генеалогическую схему и не
учитывает как субстратных отложений, так и ареальных
контактов и влияний, над которыми я попытался лишь слегка
приоткрыть завесу и которые подлежат дальнейшему
углубленному исследованию.
Примечания
Постановка проблемы
1 ОЯФ, с. 75—80, 95—122.
" «...особые лексические совпадения с неарийскими языками,
которые нередко встречаются в осетинском языке» (Petersson H. Ety-
14* 419
mologische Miszellen.— «Lunds Universitets Arsskrift N. F.», Adv. I, Bd 19,
1923, № 6, S. 5).
3 «...осетинский язык занимает своеобразное положение в своей
языковой ветви» (ibid.). ~п
4 «...осетинский язык обнаруживает особые. связи с западными
индоевропейскими (языками)...». (AL, Vol. 12, 1960, fase. 1, p. 75).
Лексические изоглоссы J
' Данная глаза представляет значительно расширенный вариант
моей статьи «Isoglosse Scito-Europee» (AION, «Sezione linguistica», IV,
1962, pp. 27—43).
2 Retersson H. Etymologische Miszellen, S. 5.
3 F e i s t S. Vergleichendes Worterbuch der gotischen Sprache, Leiden,
1936—1939, S. 346; Исаченко А. В. Morske око — 'небольшое горное
озеро',— «Studia linguistica in honorem acad. S. Mladenov», 1957, pp. 313—
316; N eh ring A. Idg. *mari, *mor.i,— «Festschrift F. R. Schroder»,
Heidelberg, 1959, S. 122—138.
4 M u n k a с s i В.— KSz., V, S. 318; H. Skold, Ossetischen Lehnworter
im Ungarischen,— «Lunds Uriversitets Arsskrift. N. F.», Abt. I, Bd. 20,
1925, № 4, S. 30.
5 U h 1 e n b e с k С. С Kurzgefasstes etymologisches Worterbuch der
altindischen Sprache. Amsterdam, 1899, S. 218.
6 BSL, 1936, 37, p. 141; см. также Leroy M. Hommages a M. Nieder-
mann, 1956, p. 216.
7 Chr. Bartholomae — ZDMG, 50, S. 716; F г о e h d e,— BB,
Bd 7, S. 327.
8 «...др.-инд. inaryada-... уже нельзя относить к *mari, *mori. Однако
следует еще кое над чем подумать. Можно ли с уверенностью сказать,
что слово индоиранского происхождения, если оно принадлежит
западным индогерманским языкам, а также балтийским и славянским, и,
кроме того, обнаружено в осетинском? Разве нельзя предположить, что
в осетинском языке встречаются случаи совпадения с западными
языками, которых нет в других иранских и тем более индийских языках, в
согласии с данными современной лингвистической географии? Разве не
могут существовать между италийскими, балтийскими, славянскими,
североиранскими (осетинским) языками изоглоссы, которыми не
затрагиваются другие иранские и индийские языки?»
9 См., например, T h i m e P.Die Heimat der indogermanischen Ge-
meinsprache, Wiesbaden, 1954, S. 23.
10 P. T h i e m e. Der Lachs in Indien,— KZ, Bd 69, 1951 (привлекает
также др.-инд. laksa-,— '100000').
" M. Mayrhofer, Altindisch laksa-,— ZDMG, 105, 1955, S. 175—183.
Новейшая работа по данному вопросу: V{. Krogman n, Das Lachsargu-
ment,— KZ, Bd 76, 1960, 3—4, S. 161 — 178.
К этому вопросу мы вернемся ниже, в главе о фонетических
изоглоссах.
420
13 ИЭС I 365.
14 Иванов В я ч. В с. К балкано-балто-славяно-кавказским
параллелям. «Балканский лингвистический сборник». М., 1977, с. 143—148.
15 Из двух форм, разделенных вертикальной чертой (|), первая
принадлежит иронскому, вторая — дигорскому диалекту осетинского языка.
16 Условия, при которых и.-е. начальному s- может отвечать иран. xs-,
недостаточно исследованы. Считают, что это имеет место перед
согласными (Bartholomae, GlPh, Bd I, Abt. I, S. 36). Oc xsirf говорит о том,
что xs- из s- могло возникнуть и перед гласным. Переход 5 в xs как бы
«спасал» начальный согласный, которому грозило полное исчезновение
(через переход в h). Иными словами, х возникал в начале слова перед s
как «Schutzkonsonant».
17 Trautmann R. Baltisch-Slavisches Worterbuch, Gottingen, 1923,
S. 260 sq.
18 M и л л е р В с. ОЭ, ч. III, с. 143.
19 KZ, 74, 1956, 3—4, S. 231 sq.
20 Benveniste E. Etudes sur la langue ossete. Raris, 1959, p. 39 sq.
21 Retersson H. Etymologische Miszellen, S. 4 sq. См. также
ИЭС I с. 483 ел.
22 «Я был особенно заинтересован осетинским fsondz 'ярмо'. Ваша
реконструкция иран. *spanti- могла быть основана, как я полагаю, на
и.-е. *sponti-. Это совпало бы с латинской основой sponti-, которая хорошо
известна в форме аблатива — sponte.
Насколько я знаю, наиболее обычный путь понимания этого
своеобразного слова есть принятие номинатива *spontis (я не знаю, встречается
ли он где-нибудь), обозначающего что-то вроде 'добрая воля', 'выбор'
и т. д., по-видимому, на основе семантики слова spontaneus
'добровольный'. Во всяком случае, я вполне согласен с Вами, что осетинское слово
связано с лит. spanda, алб. pende, англос. spannan и т. д.
Как нам поместить в этой связи латинское sponte с его явно
отклонившимся значением? Я думаю, важно отметить, что sponte почти всегда
употребляется в сочетании с mea, tua, sua и т. д. Я всегда был склонен
думать, что теа sponte означает 'по моей [собственной] обязанности',
т. е. не по обязанности кого-либо другого. Прилагательное должно было
бы быть не spontaneus, a *suaspontaneus.
Если мое предложение верно, ос. fsondz имеет надежные западные ¦
и.-е. параллели и, в частности, в латинском».
23 Gosta Liebert, Das Naminalsuffix -ti- im Altindischen, Lund,
1949, S. 124 sq.
24 Подробнее см. в моей статье «Значение и происхождение слова
?luton» ОЯФ I с. 338—347, а также ИЭС I с. 129—131.
20 Грантовский Э. А. Индоиранские касты у скифов.— Доклад
на XXV Международном конгрессе востоковедов, М., 1960, с. 7—9.
26 См. ниже, раздел «Фонема /».
421
Ниже мы еще вернемся к сакскому в связи с тохарской
проблемой.
"8 Itkonen Е., J о k i А. J. Suomen kielen etymologinen sanakirja,
III, Helsinki, 1962, p. 606.
29 О приведенных афганских словах см. G. Morgenstierne, EVP.
30 Зарубин И. И. Шугнанские тексты и словарь, Л., 1960, с. 180.
31 Дальнейшее см.: Р о к о г п у, р. 585; база *kes-, исходное
значение — 'скрести'.
32 G e i g e r W. Afgh., S. 189; Benveniste E. Etudes sur la langue
ossete, p. 44 sq.
33 Humbach H. Die Kamiska-Inschrift von Surkh-Kotal, Wiesbaden,
1960, S. 23 sq.; cp. H. Numbach, Kusan und Hephihaliten,— «Munchener
Studien zur Sprachwissenschaft», Beiheft C, 1961, S. 42 (™\xu\o.*tamnanam
'der schmelzenden, der rinnenden').
34 С h г. В а г t h о 1 о m a e, AiW'., S. 646.
35 Decev D. Charakteristik der thrakischen Sprache, Sofia, 1960,
S. 149.
36 Arch. Or., XVIII, 1950, p. 129.
A. J.van Windekens, Lexique etymologiqcue des dialectes tokha-
riens, Louvain, 1941, p. 64.
38 Представление о кроте как о «слепом» имеет широкое
распространение; см. Fraenkel, s. v. kurmis («Der Maulwurf wird vielfach, wenn auch
irrigerweise, vom Volk als blind angesehen»).
39 Русск. гуля означало, возможно, 'шарик (для игры)' откуда
произошло гулять, первоначально 'играть в гулю', потом 'праздно
проводить время' и пр. См. Львов А. С. К истории и этимологии слова
гулять.— «Этимология», М., 1963, с. ПО—115.
40 Подробнее см. ОЯФ, I, с. 333 ел.
4 Зарубин И. И. К характеристике мунджанского языка,—
«Иран», т. I, Л., 1927, с. 166; G. Morgenstierne, IIFL, vol. Il, p. 199.
42 «...возможно индогерм. *bheul-, *bhul- 'вздувать', ирл. bolach, англос.
byle, др.-в.-н. pulla, paula 'шишка', гот. ufbauljan 'вздувать', 'раздувать'.
(W. Miller, Die Sprache der Osseten,— GlPh, 1903, S. 62).
43 Даль В. Толковый слоарь живого великорусского языка, изд. 2,
1882, IV, с. 600.
44 Подробнее см. ВЯ, 1959, № 1, с. 96—99, а также ИЭС, I, с. 610.
45 См. Berneker, S. 163 sq.
46 S с h г a d e r, II, S. 639.
47 О возможности заимствования германского *tila из слав, tblo
'почва' см: В. В. M a p т ы н о в. Славяно-германское лексическое
взаимодействие древнейшей поры. Минск, 1963, с. 140 ел.
48 V a s m e r M. Ir. S., S. 16; О. S z e m e r e n y i,— ZDMG, 101, 1951,
p. 212 sq.— И.-е. *(s)kud, ср. русск. кидать и пр.
49 Любопытно, что полицейский- корпус в Афинах, состоявший из
422
1200 стрелков назывался то^оаси или Ехглгси; иными словами, термин
2хиФг|с 'скиф' употреблялся как синоним то^отцс. 'стрелок'.
50 Nemeth J. Eine Worterliste der Jassen, der ungarlandischen Ala-
nen,— «Abhandlungen der Deutschen Akad, der Wiss. zu Berlin», Jahrgang,
1958, № 4, S. 14, 16.
51 ОЯФ I 381 ел.
52 Ross A. S. and В a i 1 e y H. W. Old English Afigen: Ossete Fe-
zon?g, fizon?g,— «Leeds studies in English and kindred languages»,
1934, № 3, pp. 7—9.
oi Лишь в языке парачи в Афганистане наряду с тег 'умирать'
отмечено тёг- 'убивать' (G. Morgenstierne, IIFL, I, p. 273).
54 ОЯФ I с. 172.
Фонетические изоглоссы
1 Переход к -*¦ х в осетинском также наблюдается, но лишь
спорадически.
2 ОЯФ I 212 ел.
3 См. Книпович Т.Н. Танаис, М.— Л., 1949, приложение 11,
№ 63, 310, 354—364, 379—381, 384—390.
¦ 4 Правда, история этого звука здесь иная, чем в осетинском и
германском: он восходит обычно не к р, а возникает в иных условиях.
5 Hubschmann H. PSt., S. 263 («...der iranischen Grundsprache
kein l zugeschrieben werden kann»).
6 Cm. Brugmann K. S. 423, 427 sq. («Die uridg. r und Z^scheinen in
urarischer Zeit in r zusammengefallen zu sein»).
Wackernagel J. Altindische Grammatik, Gottingen, Bd I, 1896,
S. 216 sq. («...es lage nahe anzunehmen, dass / im Ai. durchaus nur jungere
Entwicklung des r wa're und der indoiranische Rhotazismus aile ig. / beseitigt
hatte, bevor wieder ein spezifisch ai / neu aufkam»). Вакернагель допускает,
однако, сохранение и.-е. / в отдельных индийских диалектах.
7 GlPh, I, S. 23.
8 Ciardi-Dupre D. Sul trattamento delle liquide indogermaniche
nell 'indoiranico,— «Extrait des Acles du XII-me Congres des
Orientalistes», III, 2, pp. 127—192.
9 P e t e r s s o n H. Arische und Armenische Studien,— «Lunds
Universitets Arsskrift», 1920, XVI, № 3, S. 27.
10 «Oc. awdolun 'месить тесто' — др.-инд. dolayati 'поднимает', ос.
qui 'бабка для игры' — др.-инд. golas 'шар' (W. Miller, Die Sprache der
Osseten,— GlPh, II, S. 36).
" Mayrhofer M. S. 349.
12 «Осетинский язык, впрочем, также в некоторых других словах
сохранил индогерм. /: calx 'колесо', sald 'холодный', ledzun 'убега^'
(авест. гаесау-, индогерм. корень lik -)»« («Zeitschrift fur vergleichende
Sprachforschung», 75, S. 60, Anm. 4).
13 Геродот. История, M., 1888, кн. IV, 5, 6, 76, 78. . ¦•
423 '
14 ОЯФ I с. 243.
10 Это разъяснение принято Э. А. Грантовским в его докладе на
XXV Международном конгрессе востоковедов «Индо-иранские касты у
скифов», М., 1960, с. 7, 9, 19.
1е Mullenhoff К. Ueber die H er kun ft und Sprache der pontischen
Scythen und Sarmaten,— «Monatsberichte der K. Preussischen Akademie der
Wissenschaften», 1866.
17 Бернштейн СБ. Очерк сравнительной грамматики
славянских языков, М., 1961, с. 292—294.
18 Там же, с. 297.
19 Vasmer M. Ir. S., S. 78.
20 Тоаоров B.H. и ТрубачевО. H. Лингвистический анализ
гидронимов верхнего Поднепровья, М., 1962, с. 229 ел.
21 «Вопросы скифо-сарматской археологии», М., 1954.— Гаташ В.
Скифы на Северном Донце. «Советская культура» от 14 декабря 1979 г.
22 «Вопросы скифо-сарматской археологии», с. 167.
23 См. по этому вопросу: В г o n d а 1 V. Substrat et emprunt en roman
et en germanique, Copenhague, 1948; Pokorny J. Dos nichtindogerma-
nische Substrat im Irischen,— «Zeitschrift fur keltische Philologie», Bd 14,
S. 105; Pokorny J. Substrattheorie und Urheimat der Indogermanen,—
«Mitteilungen der antropologischen Gesellschaft in Wien», Bd 66, 1936,
S. 69; D a u z a t A. Le substrat germanique dans l'evolution phonetique
francaise,— «Melanges de linguistique et de philologie offerts a J. van Gin-
neken», 1937.
24 См. К о p ш Ф.— «Сборник в честь проф. Н. Ф. Сумцова».
Харьков, 1909, с. 53. Миккола.— «Русский филологический вестник», т. 48,
с. 278.
25 Д е б е ц Г. Ф. Палеоантропология СССР, М.— Л., 1948, с. 259.
26 Геродот. История, кн. V, с. 4.
27 Meyer Е. Geschichte des Alterrums, Bd 1, 2, S. 890. Ср. О. S с h г а-
d е г, S. 410 (...skythische Stamme sind sehr fruh weit nach Westen vorged-
rungen»).
28 Нидерле Л. («Rukovet slovanskych starozitnosti», 1953) даже не
упоминает о сигиннах.
29 Бернштейн СБ. Очерк сравнительной грамматики славян
ских языков, с. 293.
30 На это неоднократно указывал, между прочим, А. А. Шахматов.
Грамматические изоглоссы
' «Чем менее отчетливой становилась разница в значении между
несовершенным и совершенным видом у простых глагольных форм в
некоторых языковых ветвях, тем охотнее употреблялись приставочные
глаголы для выражения совершенного вида, например, лат. tacere, гот.
tiahan 'молчать', conticere ga-bahan'замолчать'..., др.-церк.-слав. cuti
'ощущать' po-cuti 'ощутить'... Часть приставок со временем потеряла свое
424
прежнее пространственное значение, благодаря чему эти приставки
становились все более подходящими для выражения законченности
действия (перфективности). В первую очередь это относится к
следующим приставкам: лат. сот-, герм, ga-, слав, ро-» (В г u g m a n n К. II, 3
р. 81).
2 N. v a n W i j k. Sur l'origine des aspects du verbe slave,—«Revue des
etudes slaves», № 9, 1929, pp. 237—252; M e i 11 e t A. Le slave commun,
Paris, 1934, § 318—319, pp. 291—295; Koschmieder E. Studien zum
slavischen Verbalaspekt,— «Zeitschrift fur vergleichende Sprachforschung»,
55, p. 280 sq.; Regneli C. G. Dber den Ursprung des slavischen Verbalaspek-
tes, Lund, 1944; Кузнецов П. С—«Труды ИЯз АН СССР», т. II,
1953, с. 220 ел., особенно с. 242—253.
3 Pedersen H. Zur Lehre von den Aktionsarten,— «Zeitschrift fiir
vergleich. Sprachforschung», Bd 37, 1901, S. 219 sq.
4 W. S t r e i t b e r g. Gotisches Elementarbuch, 1920, S. 195 sq.
5 «Многие глаголы были сами по себе перфективными... Остальные
получали это значение благодаря соединению с приставками, особенно
v у v- v v
с aipi-, ava- paiti-, pairi- us-, fra-, ni-, vi. Из временных основ перфективной
является аорист». (R е i с h е 11, Awestisches Elementarbuch, Heidellerg,
1909, p. 302.
6 «Из этой таблицы совершенно очевидно, что в гатском диалекте
не каждый предлог мог придавать глаголу перфективное значение (с. 21).
Таким образом, мы приходим к выводу, совершенно
противоположному, чем сделанный Райхельтом... (с. 21): ни один предлог в гатском
не мог придавать глаголу, к которому он относился, перфективного
значения (с. 22).
1. В языке Гат перфектные и аористные основы выражают
перфективное значение.
2. Форма настоящего времени изъявительного наклонения
неперфективна, поскольку она выражает настоящее время.
3. Носовой элемент и возможно также инфикс -уа- придает глаголу
в гатском неперфективное значение.
4. «Ни один предлог не влиял на вид глагола» (с. 22) (Z b a v i t e 1 D.
A contribution to the problem of the verbal aspect in Avesta.— «Arch. Or»,
XXIV, 1956, № 1, pp. 15—22).
7 «Превербы служат не только для уточнения значения конкретных
глаголов... Как это имело место в некоторых других индоевропейских
языках, формы, снабженные превербами, служили для указания действия,
достигшего предела (завершения)» (M e i 11 e t M. Grammaire du vieux-
perse. Paris, 1915, p. 132).
8 «Глагольный вид не был живым явлением в древнеперсидском.
Различие между перфективными и имперфективными формами может
быть определено путем разбора значения фразы, но оно не соответствует
какому-либо различию в глагольных формах» (Kent R. Old Persian.
New Haven, 1950, p. 91).
425
9 Дворянков Н. А. Язык пушту. M., 1960, с. 17, 51.
А б а е в В. И. Грамматический очерк осетинского языка.
Орджоникидзе, 1960, с. 59 ел., с. 100—104.
Шанидзе А. Г. Изменения системы выражения глагольной
категории вида в грузинском и его последствия,— «Сообщения
Академии наук Грузинской ССР, т. III, № 9, 1942, с. 953—958.
«Скривой» (груз, mc'k'rivi) A. Г. Шанидзе называет ряд спрягаемых
форм глагола, имеющих общую тематическую характеристику.
13 Ахвледиани Г. С. Об осетинских и грузинских превербах.—
«Сборник избранных работ по осетинскому языку», I, Тбилиси, 1960,
с. 183.
14 Одним, из внешних выражений необычного оживления осетино-
грузинских связей в этот период были частые браки между
представителями грузинской и осетинской знати, в частности, брак царицы
Тамары "A184—1213) с осетинским правителем Давидом Сосланом.
1 См. Ахвледиани Г.— «Сборник избранных работ по
осетинскому языку», I, с. 136—140, 160—210.
16 Там же, с. 168, 170.
17 ОЯФ I с. 338—347, см. выше.
18 Неясно, на чем основана уверенность А. Мейе, когда он
утверждает, что приставка vuz- «несомненно развилась из ups, ubz «(A. Мейе.
Общеславянский язык, М., 1951, с. 124).
19 Benveniste E. Etudes sur la langue ossete, Paris, 1959, pp. 98 sq.
Не исключено, конечно, что в некоторых случаях ос. f?- восходит к pati-
20 Benveniste E.— «Festschrift Max Vasmer», Wiesbaden, 1955,
pp. 70—73.
21 Характерно, например, что между двумя диалектами осетинского
языка, иронским и дигорским, есть существенные расхождения в
употреблении превербов: дигорский пользуется превербом га-, где в иронском
стоит а- и т. п.
22 «В мужском роде славянский ввел различие между именами,
обозначающими личности, у которых аккузатив в единственном числе
замещен генитивом (генитив-аккузатив), и другими именами, у которых
аккузатив в единственном числе остается идентичным номинативу ст.-
слав. ostavitu domu svoi 'он оставит дом свой' с неличным domu, но ostavitu
otica svojego 'он оставит отца своего' с личным otici. Это различие
является новым и неизвестно в балтийском, но оно уже почти укрепилось в
древнеславянском, ограниченное в основном именами мужского рода на
-о- и несколько менее распространившееся по аналогии на имена
мужского рода на -i- и более широко — на атематические имена женского
рода на -er-, и на -и-. И это употребление расширяется: с одной стороны,
славянские языки постепенно и в различное время ассимилируют имена
животных с именами личностей и трансформируют личный подвид в
одушевленный подвид; с другой стороны, генитив-аккузатив развивается
426
во множественном и двойственном числе, сначала в местоименной
флексии с местоимениями и прилагательными, используемыми
самостоятельно (absolument), затем для части языков в флексии существительных...
Различие между подвидом одушевленным и подвидом неодушевленным
начинает играть или заметную или значительную роль, смотря по
языкам. Русский язык с затемнением понятия рода во множественном
числе распространяет его на множественное число имен женского и
среднего рода, различая: акк. рыб (ген.-акк. мн. ч.) от рыба и воды от
вода, акк. матерей от матери и кости, акк. ребят от ребята и времена»
(A. Vaillant. Grammaire comparee des langues slaves, vol. II, Morphologie,
pt 1, Flexion nominale, Lyon — Paris, 1958, p. 17 sq).
23 См. А б а е в В. И. О «винительном» падеже в осетинском.— ОЯФ,
I, с. 131 — 133.
24 Для индоевропейских языков см. S р е с h t F. Der Ursprung der
indogermanischen Deklination. Neudruck, Gottingen, 1947, S. 353.
25 Подробнее об этом см. в моей статье «О «винительном» падеже
в осетинском». ;
26Delbruck В. Vergleichende Syntax, Bd I, Strassburg, 1893,
S. 320, 154.
27 M e i 11 e t A. Recherches sur l'emploi du genitif-accusatif en vieux-
slave, Paris, 1897, pp. 75—173.
28 Berneker E. Der Genitiv-Accusativ bei belebten Wesen im Sla-
vischen.— KZ, 37, 1901. S. 364—386.
29 «L'origine de cet usage... est du reste obscure malgre beaucoup de
recherches et de discussions. La question devra etre examinee a propos
des demonstratifs, qui sont sans doute les mots ou l'emploi du genitif-accusatif
s'est, fixe» (Meillet A. Le slave commun, Paris, 1934, p. 407, § 470).
30 «Известия Отделения русского языка и словесности Академии
наук», XIII, 1908, кн. 2; XIII, кн. 3; XIV, кн. 1, 1909.
31 «Как известно, изоглоссы возникают из-за того, что языковые
явления распространяются из одного центра, из одной области на более
широкую территорию или на другие слои населения» (KZ, 76, 1959,
№ 1—2, р. 45).
32 «Отпадение конечных слогов приведет к полной идентичности в
единственном числе номинатива, вокатива, аккузатива и аблатива-инстру-
менталиса, только генитив -ahya, стяженный'до -е, сохранит собственную
форму» (Benveniste E. Essai de grammaire sogdienne, 2 partie, Paris,
1929,, p. 70).
33 «...все флективные окончания древнеиранекого языка еще в
доисторический период благодаря редукции были сведены к трем падежам:
именительный единственного числа, родительный единственного числа
мужского рода и родительный множ. числа» (Salemann С. Mittelper-
sisch.— GlPh, Bd I, Abt. I, p. 284). Для других иранских языков см. также:
GlPh, Bd I, Abt. 2, S. 213, 238, 274 sq., 315, 337 («Der Casus obliquus wird
427
gebraucht... als Accusativ»), 357 («Der Cas. obi. steht fur den Accusativ...»),
390; Morgenstierne G. Neuiranische Sprachen.— «Handbuch der Ori-
entalistik», Bd 4; Iranistik, 1. Absch., Linguistik, Leiden — Koln, 1958, S. 161
(«Weit verbreitet ist... ein Zwei-Casus-System») ; L o r i m e r D. L. R TAe
Wakhi language, vol. I, London, 1958, p. 54. Отличный обзор восточноиран-
ского склонения в статье Р. Т е d e s c o. Ostiranische Nominalflexion.—
Z II, Bd IV, 1925, S. 94—166.
34 В h i d e G. H. Marathi-English primer, 1901, p. 30.
35 JRAS, 1910, April, pp. 481—484.
Яркие черты параллелизма в развитии средне- и новоиранских
языков, с одной стороны, и средне- и новоиндийских — с другой,—
характерное явление в истории этих языкоа Параллелизм наблюдается на всех
уровнях: в фонетике, морфологии, синтаксисе. К сожалению, эта
интереснейшая проблема никем пока в полном объеме, не исследовалась.
37 Геродот. История, кн. I, с. 103—106.
38 Дьяконов И. М. История Мидии, М.— Л., 1956, с. 242—254,
286—292 (см. также в этой книге карты на с. 231 и 337).
39 «Als Deminutivformans war -lo- am produktivsten im Ital., German.
und Baltischen» (К. В r u g m a n n, Bd II, Teil 1, S. 375).
40 H o r n P. Np. S pr., Bd I, Abt. 2, S. 183; O. Man n,— ZDMG, 47,
1893, S. 705.
41 A. Meyer-Benedictsen et A.Christensen. Les dialectes
d'Awroman et Pawa, Kobenhavn, 1921, S. 53, § 103.
42 О. M a n n.— K. H a d a n k. Kurdisch-Persische Forschumgen, Bd II,
Abt. III. Mundarten der Guran, Berlin, 1930, S. 113 sq.
43 GlPh, S. 356.
44 Ibid., S. 183.
45 Horn P. Gr., S. 207—208, Anm.
Мифологические параллели
' Миллер В. Черты старины в сказаниях и быте осетин.—
«Журнал Министерства народного просвещения», август 1882, с. 191—207;
Dumezil G. Legendes sur les Nartes, Paris, 1930, pp. 150—166; см. также
В. А б a e в, Нартовский эпос.— «Известия Северо-Осетинского
института», т. X, вып. I, Дзауджикау, 1945.
2 Геродот. История, кн. IV, М., 1888, с. 64.
3 Там же, с. 66.
4 См. Г р а к о в Б.— ВДИ, 1947, № 3, с. 100—121.
5 «Советская археология», XXVIII, 1958, с. 54—61.
6 Геродот. История, кн. IV, с. 5—10.
7 Там же, с. 110—116.
8 Геродот. История, кн. I, с. 205—214; Полиен, 7, 12.
9 Arch. Or., XXIV, 1956, 1, p. 39 sq.
10 Christensen A. Le premier homme et le premier roi dans
l'histoire legendaire des Iraniens, Uppsala, 1918, p. 133 sq.
428
" Сб. «Памяти академика Н. Я. Марра». М.—Л., 1938, с. 317—337.
12 Liv., 1, 4.
13 «Волчица, кормящая близнецов грудью, была первоначально
настоящая их мать и соответствовала волчице. Лэто. Волк, считавшийся
животным Марса, был сам бог в зверином образе» (В с. M и л л е р, Очерки
арийской мифологии, т. I: Ас вины-Диоскуры, М., 1876, с. 222).
14 Геродот. История, кн. I, с. 107—122.
15 «Нарты кадджытэе» .(«Нартовские сказания»). Дзауджикау, 1946,
с. 3—14.
16 Штернберг Л. Я. Античный культ близнецов при свете
этнографии.— «Сборник Музея антропологии и этнографии», III, с. 133—189.'
17 Ernout — Meillet, p. 568.
18 M о m m s e n.— «Gesammelte Schriften», Bd IV, Die Remus-Legende;
Nies е.— «Hist. Zeitschrift», 59, S. 495; Pais, Storia d'Italia, II, 1, p. 214.
19 «Von o zu e kann nur die Willkur eine Brucke schlagen...» (S с h u 1-
z e W. Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin, 1904, S. 219).
20 Плутарх. Ромул, II.
21 В упомянутой выше своей статье «Опыт сравнительного анализа
легенд о происхождении нартов и римлян» (с. 324 и ел.) я привел
из осетинского фольклора два десятка таких парных имен, при
образовании которых звуковые законы в большинстве случаев,не соблюдаются.
22 См. выше.
23 ОЯФ I с. 592—594; А б а е в В. И. The Pre-Christian religion of,
the Alans, M„ 1960, pp. 8—10.
24 Benveniste E. Etudes sur la langue ossete, Paris, 1959, p. 129.
25 IF, LXVI, Hft 2, 1961, S. 125—131.
2G «Индоевропейцы уже завершили в общем, долгое религиозное
развитие, которое удалило их от тех форм представления, которые несколько
поспешно называют элементарными или даже примитивными» (D u m e-
z i 1 G. Les dieux des Indo-Europeens, Paris, 1952, p. 5).t
27 «Трудно себе представить, как много глупостей наделали
современные ученые, не заметив эту метафору luk- и vluk-» (H. U s e n e r,
GQtternamen, p. 198 sq.). .,,. .
28 «Повсюду в Греции почитали божество в образе волка, которое
на полуострове Пелопоннес превратилось в Зевса, тогда как в других
местах волк был манифестацией Аполлона» (E d. M e y e r. Geschichte des
Altertums, Stuttgart— Berlin, Bd II, 1913, S. 98).
29 «Ирпины, называемые волками; ибо самниты называют волка irpus;
следуя за ним, как за вождем, они заняли поля» (P. Fes t., p. 93, цит. по:
S ch rader, II, S. 667).
30 «Волк, подойдя к нему, стал его спутником и вожатым» (Ibid.).
3|- А б а е в В. И. Опыт сравнительного анализа легенд о
происхождении нартов и римлян, с. 334, примечание 4.
429
32 «Римский Volcanus не обнаруживает ни малейшего отношения
к волку» (W. M е i d,— IF, p. 128).
33 В Авесте бог Vayu выступает как бог смерти и никак не связан
с ветром (см. ниже), и, однако, несомненно, что Vayu первоначально —
бог ветра.
34 Замечание В. Мейда, что в латинском образования на -anus
от -о- основ являются вторичными и поздними, не имеет решающего
значения: ведь Volcanus могло быть производным не от *volcus 'волк', а
от *volca 'волчица'.
34а
Вяч. Иванов в цитированной выше статье, с. 157, замечает: «К
приводимым В. И. Абаевым данным о кузнеце и волке следует добавить, что
согласно старой германской традиции кузнецы могли ставить на мече
знак волка, ср. также названия меча — др.-исл. vargr, ulfr 'волк' —
H. В е с к... С этим следует сопоставить то, что куски железного шлака
назывались 'волками' (нем. Luppe из лат. lupus, см. Neumann В.
Die altesten Verfahren der Erzeugung technischen Eisens, Freiberger Fors-
chungshefte, Kultur und Technik, 6, Berlin, 1954, c. 13)».
i5 Подробнее о Сирдоне см. в моей книге «Нартовский эпос», с. 62 ел.
30 А б а е в В. И. Нартовский эпос, с. 72.
37 «Ирландские саги», перевод А.А.Смирнова, М.— Л., 1961,
с. 38—46.
38 Абаев В. И. Нартовский эпос, с. 58, 59, 60, 101, 102;
«Ирландские саги», с. 102. Другие нарто-кельтские параллели см. Dumezil G.
Loki, Darmstadt, 1959, p. 208.
39 Абаев В. И. Нартовский эпос, с. 78.
40 «Ирландские саги», с. 132.
41 Dumezil G. Loki, Paris, 1948: немецкий перевод с
предисловием О. Хёфлера (О. Hofler). В немецкое издание автор внес
некоторые дополнения, и в дальнейшем мы будем ссылаться на это
издание.
12 Ibid., S. 122 sq.
43 Dumezil G. Legendes sur les N artes, Paris, 1930; Mythes solaires,
pp. 190—199 (cp. G. Dumezil, Loki, S. 184—195).
44 «Смерть Балдра и смерть Сослана (или Сосруко) — это один
и тот же по типу мифологический факт, где Локи и Сирдон играют
аналогичные роли» (Ibid., S. 184).
45 «Унаследовали ли осетины и скандинавы Сирдона и Локи от одного
прототипа, восходящего к индогерманской общности или к более поздней
части этой общности, в которой будущие осетины и будущие скандинавы
были еще в близком сообществе? Или Локи возник как прямой или
косвенный слепок с Сирдона, созданный скандинавами или их предками?
Или, может быть, наоборот, Сирдон был создан осетинами или их
предками как слепок с Локи,— и, далее, происходило ли это в порядке
заимствования из одной среды в другую или в результате смешения этни-
430
ческих групп или кочевых племен, которое должно было происходить в
степях Восточной Европы? Или Локи и Сирдон являются
заимствованными из поныне сохранившегося или исчезнувшего фольклора или
мифологии какого-нибудь третьего народа? Дают ли аналогии в
общественной структуре/ а также во внешней и внутренней культуре, которые
существовали между осетинами (или скифами) и скандинавами (или
германцами), право говорить о самостоятельном возникновении этих
одинаковых образов, а также сказаний, в которых они встречаются? Скажем
прямо: мы не в состоянии найти действительно достоверное решение»
(Ibid., S. 201).
46 Ibid., S. 204.
47 «Почему мы утверждаем, что образы Сирдона и Локи нельзя
отделить друг от друга? Потому, что здесь можно установить полное
соответствие этих двух сложных образов, а именно: соответствие их
природы, способностей, социального положения, их поведения и
внутренних противоречий. Кроме того, у них одинаковые судьбы, ведущие в обоих
случаях из^за одинаковых причин к одинаковым катастрофам. И
особенно из-за того,' что между рассказом о смерти Балдра и рассказами о
смерти Сосруко, а также между тем участием, которое принимают в них
Локи и Сирдон, существуют многочисленные схожие места в содержании
и форме, указанные нами выше. Всего этого достаточно, чтобы
исключить любую случайность и поставить проблему, которая нас занимает...
Чтобы опровергнуть эту книгу, следует сначала найти в старой или новой
литературе такой образ, который так же походил бы на Локи и Сирдона,
как эти два образа друг на друга». (Ibid., S. 204—206).
48 Ibid., S. 207, Anm. 49.
49 «Следует однако спросить, можно ли в этом случае предполагать
заимствование. Скорее следует думать об исконном родстве». (J. de V г i-
е s. Altgermanische Religionsgeschichte, II, Heidelberg, Anm. 3, 1957, S. 255).
50 «Если даже не все выводы Дюмезиля вполне убедительны и в
некотором отношении не доведены до конца, следует все же сказать о его
заслуге, состоящей в том, что путем сравнения с Сирдоном он вывел
образ Локи из того обособленного положения, которое этот образ
занимает в скандинавской мифологии. Тем самым Дюмезиль открыл
возможность лучшего объяснения этих образов. Если признавать связь этих
образов, то объяснение этой задачи скорее всего надо искать в их общем
происхождении, т. е. видеть здесь наследие от времен индогерманской
общности» (J. de Vries. Loki... und kein Ende,— «Festschrift Er. K. Schro-
der», Heidelberg, 1959, S. 2).
51 «...более поздняя сепаратная общность, в которой будущие
осетины и будущие скандинавы были еще в близком сообществе» (G.
Dumezil. Loki).
а2 Vernadsky G.— «Saeculum», 2, Munchen, 1951, p. 365 sq..
53 Прокопий Кесарийский. История, 2, 3, 3.
431
54 Ebert M. Reallexikon der Vorgeschichte, Berlin, XIII, S. 108;
Vernadsky G. The Eurasian nomads and their impact on medieval
Europe,— «Studi medievali», 3, Serie, IV, 2, 1963, p. 17.
55 Ч л e h о в а Н. Л. Скифский олень.— «Памятники скифо-сармат-
ской культуры», 1962, с. 167—203.
M u с h R.— «Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur», Bd. 17, 1893, S. 60 sq.; Otto H o fier, Siegfried, Arminius
und die Symbolik,— «Festschrift R. Schroder», S. 49.
57 Например, барон Гакстгаузен. Закавказский край, перевод с
немецкого, СПб., 1857, с. 117—118.
58 «Аланы, кочевой народ, образовавшийся в результате смешения
сарматов с германцами... Часть их вместе с свевами и вандалами
вторглась в Испанию и поселилась в Португалии...» («Meyers Hand-Lexikon
des allgemeinen Wissens», Leipzig, 1883, T. I, S. 36).
59 Прокопий Кесарийский. История 2, 3, 3.
60 Gudmundsson В. Uppruni Islendinga, Reykjavik, 1959.
01 «...невозможно понять скандинавское искусство 1-го
тысячелетия н. э. без предварительного изучения предметов искусства скифского
животного стиля» (М. Rostovtzeff. Iranians and Greeks in South Russia,
Oxford, 1922, p. 207).
62 Carl J. S. M a r s t r a n d e r. De gotiske runeminnesmerker, NTS.
III, Oslo, 1929, p. 130 sq.; Hum bac h H. Die sogenannte sarmatische
Schrift,— «Die Welt der Slaven», Jahrgang VI, Hft 3, 1961, S. 231.
63 «Народ герулов до сих пор относили к скандинавам; но нам
кажется, что, оставляя в стороне надпись на пряжке из Вимоза (boucle de
Vimose), личные имена герулов свидетельствуют и своим образованием
(composition) и своей фонетикой о восточногерманском происхождении
этого народа. Этот тезис о происхождении герулов объясняет разом их
рейды к Понту Евксинскому: они только сопровождали своих близких
родственников (т. е. готов.— В. А.) на Висле (sur la Vistule). Он также
освещает более ярко поток культуры, который, начинаясь от Черного
моря, распространился на север, достигнув... Готланда и датских
островов» (Carl J. S. Marstrander. De gotiske runeminnesmerker, S. 155).
64 См.: Einar Olgeirsson. ?ttasamfelag og rikisvald i uiodveldi
Islendinga (предисловие к русскому изданию), M., 1957, с. 7.
65 Аничков Е. В. Язычество и древняя Русь, СПб, 1914; V. Мап-
s i k к а, Die Religion der Ostslaven, Helsingfors, 1921; Л. Н и д е р л е,
Славянские древности, перевод с чешского, М., 1956, с. 268—296 (гл. VI:
Религия, вера и культ).
60 См. цитаты из памятников у И. И. Срезневского (Материалы
для словаря древнерусского языка), III, СПб, 1903 , с. 138, 141.
67 Преображенский А. Этимологический словарь русского
языка, т. 2, М., 1910—1914, с. 203.
432
68 От имени божества Naf происходит распространенное мужское
имя Nafi.
69 см. «Труды ИЯз АН СССР», VI. 1956, с. 450—457; В. И. Абаев,
Дохристианская религия алан.— «Доклады на XXV Международном
конгрессе востоковедов» М., 1960, с. 5—7. В обрядовом тексте
посвящения коня покойнику говорится: «Железные врата царства мертвых
откроет тебе w?jyg «(Коста Хетагуров. Собрание сочинений, т. 1, М.— Л.,
1939, с. 71).
70 Геродот. История, кн. IV, 59.
71 ОЯФ I с. 211.
72 Примеры см. Chr. Bartholomae, AiW, стлб. 1584.
73 Возможно, сюда же загадочный элемент Ve в названиях
латинских божеств: Ve-dius (Vidius) = 'AnoAXwv vouaog (вспомним, что
скифского *OiyoavQOc, Геродот отождествляет с Аполлоном), Ve-diovis,
Ve-iovis — адское божество мщения. Этот же элемент образует первую
часть некоторых нарицательных слов, семантика которых вполне
гармонирует с образом грозного бога *Vejo: ve-cors 'безумный', 'буйный',
ve-sanus 'свирепый', 'бешеный' (интересно, что Катулл применяет это
слово к ветру: vesaniente vento 'когда свирепствует ветер'), ve-grandis
'уродливых размеров', ve-pallidus 'смертельно бледный'. Сближение этого
элемента с превербом au- в au-fero 'уносить' и т. п. не удовлетворяет ни
с формальной (долгота ё в ve), ни с семантической стороны.
74 Гоголь Н. В. Избранные произведения, М., 1948, с. 149.
75 Duchesne-Guillemin J. Les citations avestiques de l'Aug-
madaica — JA, t. CCXXVIII, avril — juin, 1936, p. 252 sq.
76 О значении danu- в «Авесте» см. Aren. Or., XXIV, 1956, 1, p. 42—44.
77 «Повесть временных лет», M.— Л., 1950, I, 56.
78 Для «Авесты» см. Chr. Bartholomae. AiW, s. v. vanhav-, стлб.
1395—1399; для «Ригведы»: G r a s s m а и H. Worterbuch zum Rig-Veda,
Leipzig, 1936, s. v. vasu-, стлб. 1234—1236.
79 «Памятники народного творчества осетин», вып. 2, 1927,
Владикавказ, с. 138—140.
80 ОЯФ I с. 595. ,
81 Обнорский СП. Прилагательное «хороший» и его
производные в русском языке.— «Язык и литература», III, Л., с. 241—258.
82 Т р е в е р К. В. Сэнмурв — Паскудж, Л., 1937.
8'* Предполагаемая связь имени Шй с укр. в/я 'ресница' относится
к области народной этимологии. Под влиянием ложноэтимологического
осмысления могут о данном предмете создаваться вторично те или иные
образные представления и даже целые легенды. Богине Афродите было
приписано рождение из пены в результате псевдоэтимологического
сближения с cupooc. 'пена'. Совершенно так же по ложной ассоциации с в/я
'ресница' Шй стал представляться как «мифическое существо с веками до
земли» (Гринченко. Словарь украинского языка, I, 236); ср. Г о-
433
голь: «Длинные веки опущены были до самой земли»). Подобных
примеров множество; см. Булаховский Л. А. Введение в языкознание,
ч. II, М., 1953, с. 168—174.
Итоги и выводы
' «...иноязычные влияния, которые можно обнаружить в словаре
осетинского языка, относятся к недавнему времени. Оставляя в стороне
то, что идет из русского языка, мы находим только заимствования из
кавказской среды, т. е. датируемые последней фазой истории осетинского
народа... Ничто не напоминает о периодах, предшествующих обоснованию
на нынешней территории. Язык не сохранил следов контактов с другими
народами времен экспансии в Среднюю Европу и на Юго-Восток»
(Benveniste E. Etudes sur la langue ossete, Paris, 1959, p. 128).
2 Миллер В с. ОЭ, ч. III, с. 12; В. Munkacsi, АКЕ; H. Jasobsohn.
Отмечу, что и в этой области далеко еще не сказано последнее слово.
3 Особая близость тохарского к славо-балтийскому может считаться
установленной. См. Schwentner Е.— «Zeitschrift fur vergl. Sprach-
forschung», Bd 68, 1943, S. 33 sq.; Krause W.—«Zeitschrift fur vergl.
Sprahforschung», Bd 69, 1951, S. 199; Porzig W. Die Gliederung des
indogermanischen Sprachgebiets, Heidelberg, 1954, S. 183 sq.;
Георгиев В. Балгo-славянский и тохарский языки,— ВЯ, 1958, № 6,
с. 3—20.
4 Каждый из затронутых вопросов мог бы быть предметом
специального исследования. Но мы ограничимся пока беглыми эскизами, имея
в виду «разведочный» характер данной работы.
5 Геродот. История, кн. IV, М., 1888, с. 11 — 13.
6 Там же, с. 5—7.
7 См. выше.
8 В полном согласии со сказанным находятся свидетельства
античных авторов о происхождении парфян и персов из Скифии: «...Parthi
Scythia profecti...» (Q. Curtius Rufus, IV, 12, II); «...Scythae, qui Parthos
considere...» (id. VI, 2, 12, sq.); «Parthi.— Scytharum exuies fuere...» (Jus-
tinus, XLI, I, I); «Parthi ab Scythia habent originem» (Schol. Bernese в
«Lucani Bellum civile», I, 553); «....Persae, qui sunt originitus Scythae»
(Ammianus Marceii, XXXI, 2, 20).— Эти сведения заслуживают доверия.
Они основаны на какой-то устойчивой древней традиции.
Археологический материал также подтверждает движение персов не с востока, а с
севера через Кавказ. См.: Ghirshman R. L'Iran des origines a l'Islam,
Paris, 1951, p. 58 sq.; Ghirshman R. «Труды международного
конгресса востоковедов», т. I, M., 1962, с. 314; Jettmar К. Paideuma 5,
p. 236 sq.; Hauschild R. Uber die fruhesten Arier im Alten Orient,
Berlin, 1962. К такому же выводу приходит Э. А. Грантовский. См.
Э. А. Грантовский, Ираноязычные племена в Передней Азии в IX—
VIII вв. до н. э. М., 1964, с. 8, 9, 21—25 (автореф. канд. дисс).— Наличие
скифского элемента в Центральной Европе (территории нынешней Сло-
434
вакии и Венгрии) подтверждается археологическими данными (Смирнов,
Скифы, 1966, с. ПО).
9 «On ne suit toutefois pas en entier le recit d'Herodote qui presente
les Cimmeriens comme pourchasses par les Scythes. Ces deux peuples etaient
proches parents parlant presque la meme langue...» («Нельзя безоговорочно
следовать рассказу Геродота, который утверждает, что киммерийцы
были изгнаны скифами. Это были два близкородственных народа,
говорящих почти на том же языке»),— Ghirshman R. L'Iran des origines
a l'Islam, p. 81.
Показательно, что в аккадском переводе ахеменидских надписей
древнеперсидское saka 'скиф' неизменно переводится термином «gimirri»,
что соответствует этимологически греч. /Cip-jiecioi. То, что было ясно
вавилонским переводчикам, а именно этническое единство скифов и
киммерийцев, становится теперь достоянием науки. Впечатление противо-
ставленности двух этносов — скифов и киммерийцев,— которое
создалось благодаря рассказу Геродота, можно считать преодоленным.
10 «...следует попытаться отделить «этнос» «истинных киммерийцев»
от этноса подчиненных народов. Для определения первого мы должны
рассмотреть имена правителей. Все они — иранского происхождения,
стало быть, представляется в высшей степени вероятным, что
господствующий класс киммерийского народа, иранский по происхождению, был
близко родственным скифам» (Harmatta J. Le probleme cimmerien,—
«Archaeologiai Ertesio», 7—9, 1946—1948, p. 131. Ср. M i n n s, Scythians and
Greeks, 1913, p. 115).
11 Дьяконов И. M. История Мидии, M.— Л., 1956, с. 241; см.
также Крупнов Е. И. Древняя история Северного Кавказа, М., 1960,
с. 57—58, 68 («все... данные согласно подтверждают родство киммерийцев
со скифами»).
12 JA, 1961, f. 2, р. 155.
13 Относительно первой части Sanda см. Дьяконов И. М.
История Мидии, с. 240 ел.
14 ОЯФ I с. 157, 235.
15 Кривцова-Гракова О. А. Степное Поволжье и
Причерноморье в эпоху поздней бронзы.— «Материалы и исследования по
археологии СССР», № 46, с. 157 ел.; Артамонов М. И. К вопросу о
происхождении скифов,— ВДИ, 1950, № 2, с. 37 ел. На этой точке зрения стоял
и А. И. Тереножкин (см. «Нариси стародавнын истори УкрашськоУ PCP»,
Ки\'в, с. 115—116). Правда, в последнее время он несколько отошел от
своих прежних взглядов, думаю, без достаточных оснований; см. его
работу «Предскифскиий период на Днепровском Правобережье», Киев,
1961, с. 205 ел.
16 Дебец Г. Ф. Палеоантропология СССР, М., 1948, с. 160, 329.
17 «Существует известная общность словаря в северных и западных
языках, и эта общность представляется результатом общего культурного
435
развития». M е i 11 е t A. Les dialectes Indo-europeens. Nouveau tirage,
Paris, 1922, p. 23).
18 Krahe H. Sprache und Vorzeit, Heidelberg, 1954, S. 22—29.
19 «...к началу II тысячелетия до н. э., т. е. ко времени, когда
греческий, индийский и хеттский известны уже как полностью
оформившиеся и обособившиеся языки,— латинский, оскский, умбрийский,
кельтский, иллирийский, германский и балтийский еще не существовали
как таковые. Имея еще относительно единообразную и малодифферен-
цированную форму, они пребывали как бы в эмбриональном состоянии
внутри той общности, которую мы называем древнеевропейской» (К г а-
h е Н.) Sprachliche Aufgliederung und Sprachbewegungen in АЦеигора,
Mainz-Wiesbaden, 1959, S. 1.
20 - и
«...на первоначальной ступени определенные западноевропейские
языки Северной и Средней Европы во II тысячелетии до н. э. в своем
развитии были еще достаточно близки друг другу, составляя хотя и слабо
связанную, но еще единообразную и находящуюся в постоянных
взаимных контактах группу, которую можно назвать «древнеевропейской». Из
нее со временем вышли и развились отдельные языки: германский и
кельтский, «италийский» и венетский, иллирийский, балтийский и, на
окраине, славянский языки». (Krahe H. Germanische Sprachwissen-
schaft. I. Einleitung und Lautlehre, Berlin, 1960, S. ,13).
21 Древнейшие памятники латинской речи на Аппенинском,
лолуострове восходят ко времени не ранее VI в. до н. э. Но миграция «праита-
ликов» произошла на несколько столетий раньше (Р о г z i g W. Altita-
lische Sprachgeographie,— «Festschrift Krause»,— 1960, p. 172). См. также
D e v o t o Giasomo Origini indo-europee. Firenze, pp. 382—389.
22,ОЯФ, I, c. 221—225.
23 Там же, с. 572.
24 Vernadsky G. The Eurasian nomads and their impact on
medieval Europe,— «Studi medievali», 3 Serie,, IV, 2, 1963, p. 16;
Vernadsky G. Der sarmatische Hintergrund der germanischen Volkerwan-
derung,— «Saeculum», 2, S. 340—392.
25 S с h m i d t L. Geschichte der deutschen Stamme bis zum Ausgang
der Volkerwanderung: Ostgermanen; Schwarz E. Goten, Nordgerma-
nen, Angelsachsen, 1951; Loewe,— IF, III, S. 146 sq.; M. Rostovtzeff,
Iranians and Greeks in South Russia, 1922, p. 236 sq.
26 ИЭС I c. 464. .:
2' «Acta philologica scandinavica», III, 1928, pp. 1—31.
аОсобой проблемой являются контакты скифов с кельтами
(Эфор утверждает, что-«скифы — соседи кельтов»). Такие лексические
встречи, как ос. кагк — кельт, кегк 'курица', не случайны. Скифо-кельт-
ской — и шире — скифо-европейской изоглоссой является и слово danu-
в значении «река» (ср. Schrader, Reallexicon... I, 329).
28 Топоров В. H., T p у б а ч е в О. Н. Лингвистический анализ
436
гидронимов Верхнего Поднепровья, М., 1962, с. 231. Авторы справедливо
считают установление балто-иранских контактов «одним из наиболее
существенных результатов» своего исследования.
29 ВЯ, 1964, № 1, с. 135.
30 Археологический материал свидетельствует, что в позднебронзо-
вую эпоху «протославянская» комаровская культура непосредственно
соприкасалась с праскифской срубной культурой. Эти контакты
датируются второй половиной II тысячелетия до н. э., т. е. имели место в рамках
еще не распавшейся европейской общности.
Этот материал сведен и систематизирован в прекрасных статьях
А. А. 3 а л и з н я к а: «Проблемы славяно-иранских языковых отношений
древнейшего периода» («Вопросы славянского языкознания», вып. 6, 1962,
с. 28—45) и «О характере языкового контакта между славянскими и
скифо-сарматскими племенами» («Краткие сообщения Института
славяноведения», № 38, 1963, с. 3—22).
32 ИЭС I с. 156 ел.
33 См. A. J.Van-Windekens. Etudes de grammaire historique
et comparee du Tokharien,— AION-L, IV, 1962, pp. 13—14.
34 «Orbis», XII, № 2, 1963, pp. 465—466.
35 ОЯФ, I, с 373 Сл.
3 Заслуживает упоминания и тот факт, что и.-е. корень *peik'-
только в трех языках означает 'писать': славянском, тохарском,
иранском (в том числе осетинском).
!7 Рерих Ю. Н. Тохарская проблема,— «Народы Азии и Африки«,
1963, № 6, с. 118—123.
38 Ср. то, что говорилось выше о тохарском acakarm 'удав'.
39 Георгиев В. Исследования по сравнительно-историческому
языкознанию, М., 1958, с. 53—55: «Термины centum и satam не
объединяют языковые группы, состоящие между собой в каких-нибудь более
тесных родственных отношениях. Они только указывают на очень
распространенное фонетическое явление, которое в разное время и вполне
независимо осуществлялось и продолжает осуществляться во всех
индоевропейских языках и известно под именем палатализации».
40 В. Георгиев считает, что палатализация типа ке -*¦ се произошла
б индоиранском не позже конца III тысячелетия до н. э., тогда как
в славянском «в эпоху, не очень отдаленную от древнейших
письменных памятников (IX—X ва н. э.)». Ср. также В и г г о w T. The Sanskrit
language, London, 1955, pp. 18—19.
41 Ростовцев M. И. Эллинство и иранство на юге России, Пг.,
1918, с. 76 — Можно утверждать, что скотоводство преобладало в
хозяйстве не только древних иранцев, но всех вообще арийцев. Корень
*аг- 'пахать', 'плуг' отсутствует в арийском (и анатолийском).
42 Название «ячменя» (а также «проса») xor\xwar восходит к
*hvarna- и означает просто «пища».
437
43 ИЭС I с. 408.
43а *
В геродотовском наименовании Scythai georgoi, якобы «скифы-
земледельцы», georgoi — вероятно адаптированное скифское *gauvarga
«чтущие скот».
44 Ростовцев М. И. Эллинство и иранство на юге России, с. 2—3.
45 Makarenko N. La civilisation des Scythes et Halistatt,— «Eurasia
septentrionalis antiqua», V, Helsinki, 1930; G a 1 1 u s S. et. Horvath T.
Expansion de la culture prescythique, Budapest, 1939; Крупное Е. И.
Древняя история Северного Кавказа, M., 1960, гл. 8. Обмен и
международные связи, с. 342, 344, 345.— Помпоний Мела размещает сарматов
от Балтики до Дуная.
111 Нельзя не вспомнить, что и в разработке теории языкового
субстрата итальянской науке принадлежит выдающееся место. Итальянский
лингвист Грациадио Асколи (Graziadio Ascoli) был в сущности первым,
показавшим на материале романских языков значение субстрата в
формировании этих языкоа
47 В данной связи заслуживает внимания статья Саусуорса
(Franklin С. Southworth) «Family-tree diagrams» (Language, Vol. 40, № 4, 1964,
pp. 557—565), где автор наглядно на конкретных диаграммах, показывает
совместимость генеалогических схем с ареально-изоглоссными. Автор
пишет: «I shall attempt to show here that it is not necessary to reject branching
diagrams entirely, but it is possible to modify the traditional diagram so
that it presents a truer and clearer picture of linguistic history as it is con-
ceived at the present time» (p. 557). Не вдаваясь в разбор отдельных
предлагаемых автором диаграмм, мы считаем самую мысль о сочетании
родословной схемы со схемой изоглосс вполне реалистической и
плодотворной.
Из-во «Наука». М., 1965 (с дополнениями)
СКИФО-УРАЛЬСКИЕ
ИЗОГЛОССЫ l
Настоящее сообщение представляет продолжение
опубликованной в 1965 г. работы «Скифо-европейские
изоглоссы». Названная работа имела подзаголовок «На
стыке Востока и Запада». Имелось в виду не просто
констатировать географическое положение скифо-сарматского
мира, но подчеркнуть его двусторонние языковые и
культурные контакты: с одной стороны, с народами
европейского круга (славянскими, балтийскими, тохарским,
германскими, праиталиками), с другой,— на востоке и северо-
востоке — с уральским языковым и культурным миром
(пермские, угорские, марийский, мордовский, западно-
финские языки). По скифо-уральским языковым связям
имеется уже немало публикаций: В. Munkacsi. Arja es
kaukazusi elemek a finn-magyar nyelvekben A901); H.
Jacobsohn. Arier und Ugrofinnen A922); H. Skold. Die os-
setischen Lehnworter im ungarischen A925); E. Korenchy.
Iranische Lehnworter in den obugrischen Sprachen A972);
A. Joki.Uralier und Indogermanen A973); работы В. И. Лыт-
кина, В. И. Абаева.
Но материал нуждался в систематизации, как по чисто
лингвистическим критериям, так и с ( точки зрения
отраженных в языке материальных и культурных реалий и
взаимоотношений. Этот пробел мы и пытаемся восполнить.
Как известно, к концу II тыс. до н. э. определился
распад оощеиранского единства на отдельные
этнолингвистические группы. Часть иранских племен продвинулась
в южном направлении, и только северовосточная, скифо-
сарматская (сакомассагетская) группа продолжала
контактировать с финно-уграми. Исходя из данных о
территории распространения ираноязычных племен в I тыс.
до н. э., можно сделать вывод о том, что ни с согдийским,
ни с хорезмийским, ни с персидским, ни с парфянским
1 Выражаю благодарность А. В. Лушниковой за помощь при
подготовке настоящей статьи. _ „. _¦ /.', •
439
финно-угры не могли иметь прямых контактов. «Широкая
полоса, занятая скифо-сакскими (позднее также
тюркскими) племенами, навсегда отрезала угро-финнов от
остальных иранских народов. И если мы все же встречаем
в угро-финских языках отдельные слова явно персидского
облика, то речь идет обычно о странствующих терминах,
которые могли попасть к угро-финнам через посредство
других языков» (Абаев, 1981, 88—89).
Исходя из материала о территории расселения финно-
угорских народов, из археологических и лингвистических
данных, наиболее вовлеченными в ареал контактирования
с ираноязычными (скифо-сарматскими) племенами в
I тыс. до н. э. оказываются прапермяне и угры, в несколько
меньшей степени предки современных марийцев и мордвы.
Иранские заимствования в финно-угорских языках,
относящиеся к данному времени (I тыс. до н. э.),
определяются как скифо-сармато-аланские. «Они распознаются
по тому признаку, что находят наиболее точные
соответствия по форме и значению в осетинском языке,
единственном сохранившемся представителе скифо-сармато-
аланской группы» (Абаев, 1981, 87).
Учитывая фонетические изменения скифо-осетинского
и финно-угорских языков данного периода (главным
образом, угорских и пермских), их соотнесенность и
относительную хронологическую последовательность, можно
выделить некоторые более ранние заимствования,
каковыми оказываются: скиф.-сарм. *zaranya- 'золото' (от
и.-е. *ghel-, ос. z?rin/z?rin?) >уг. *saraha (венг.
агапу 'золото', манс. tarin 'медь', хант. lorn, iorni 'медь',
'латунь* скиф.-сарм. *zyar- 'доспехи' (ос. zg?r/?sq?r
'доспехи', 'панцирь', 'кольчуга', 'броня') > уг. туэгэ
'кольчуга' (хант. (йу$г 'кольчуга'); скиф-сарм. *zana-(ka)-
'человек' (от и.-е. *gen- 'рождать (ся)' ос. z?n?g 'дети',
сыновья, дочери ', ?vzong поздно родившийся, молодой /
>доперм. *zan-(ka)- общеп. -zon- (коми zon 'юноша',
'парень', 'мальчик', 'сын', zonka 'парень').
Следующие слова были восприняты позднее, когда в
скифо-осетинском происходил ряд фонетических
изменений, нашедших то или иное отражение на финно-угорской
почве в заимствованиях данного периода:
1) скиф.-сарм. */?ял^-'путь, дорога' (от и.-е. *pont(h)a-,
ос. f?ndag)^>o6mIen. *pad (удм. pad-voz 'перекресток
(улиц)', коми pad-vez 'скрещение, пересечение') >
об.-уг. *pant 'путь' (хант. pant);
440
2) скиф.-сарм. *tars- 'бояться' (от и.-е. *ters-, *tres-;
ос. t?rsyn/t?rsun 'бояться', 'пугаться') >> коми tarzini
'дрожать';
3) скиф.-сарм. *ram- 'спокойный' (от и.-е. *гет-; ос.
r?mun 'стоять, держаться на месте', иготуп/ огатип
<C*ava-ramaya, 'сдерживать', 'задерживать',
'останавливать') >общеп. *гат 'спокойный' (коми ram 'спокойный');
4) скиф.-сарм. *das 'десять' (от и.-е. *deUm-; oc. d?s) >
>> общеп. *das (удм., коми das); венг. tiz;
5) скиф.-сарм. *апа (ос. ?n? 'без' (предлог) >общеп.
*апа (удм. апа 'без', 'кроме' (послелог);
6) скиф.-сарм. *vara- 'барашек' (общеир. *wara-; ос.
w?r 'барашек', 'ягненок') >морд. (э.)vires, viriske, (м.)
uards 'ягненок';
7) скиф.-сарм. *varna- 'барашек' (ос. w?r 'барашек',
'ягненок') >общеп. *varna (коми varnes 'годовалая овечка'
(-es — суф.);
8) скиф.-сарм. *varz- 'делать', 'работать' (от и.-е.
*werg-, *wreg-; oc. warzyn/warzun 'любить') >> об.-уг.
*wara 'делать';
9) скиф.-сарм. *капа- 'конопля' (ос. g?n/g?n?) >»
> общеп. *ken- (удм. кепет, коми кеп- 'конопля');
10) скиф.-сарм. *karta- 'нож' (ав. karati 'нож', ос. kard
'нож', 'сабля', от. и.-е. *(s)ker-t- 'резать') >доперм.
*korta, общеп. *kort 'железо' (удм. kort, коми kert) >>
>волжск. *korts ,железо' (морд, (э.) kshi, kshe, (м.) kshi
(<С * kart-hi), мар. karthi, kurtho ; об.-уг. (прахант.)
*karta, (праманс.) *kira 'железо';
11) скиф.-сарм. *namat- 'войлок' « общеир. *namata-,
ос. nym?t/nim?t 'войлок', 'бурка') > общеп. *hamat (коми
hamed, hamet 'портянки', 'онучи'); об.-уг. *namot 'войлок'
(манс. nemant, хант. namdt);
12) скиф.-сарм. *zaranya- 'золото' (ос. z?rin/z?rin?)
общеп. *zarhi (удм., коми zarhi 'золото'); >> Волжск.
*serha, морд, (э.) 'sirhe, (м.) sirhe, мар. sorhi золото ;
13) скиф.-сарм. *aryay (<z *a-gray-) 'культовая речь'
(~согд. *ш—yray- (nyr"y-) 'celebrer', 'shanter', ос. argaw
'сказка', argawyn/argawun 'отправлять церковную службу',
в диг. также 'читать' (*a + *graw-\\rgaw-), от общеир.
*gar-, и.-е. *ger- 'кричать') > об.-уг. *агуд 'песня' (манс.
eru, eriy, хант. агэ% 'песня');
14) скиф.-сарм. *axsay (>axsay-) 'властвовать' (ир.
*xsay-, oc. ?xsin/?xsin? 'госпожа', 'барыня') >общеп.
*е/г50,князь' (удм. ekse], коми eksi 'князь');
441
15) скиф.-сарм. *baz-gin- 'толстый', 'большой' (ос.
b?zgyn/b?zgin 'толстый', 'густой', от и.-е.. *bhnghu-) >>
>общеп. *bazain/'baazin (удм. badiin 'большой', 'много');
16) скиф.-сарм. *idavag 'божество' « *vi-tava-ka-
'небесная сила'), ос. daw?g\idaw?g 'божество'> общеп.
*idag 'ангел' (коми ideg 'ангел', idegas 'апостол');
17) скиф.-сарм. *mes- 'овца', 'баран' (> общеир.
*maisa-, ав. maesa-, от и.-е. *moiso-s, maiso-s) >> общеп.
*mez 'баран' (коми mez); (воспринято после стяжения
дифтонга *ai в скифском);
18) скиф.-сарм. *теп(уа-)ка- (<C*mainyaka-) 'дух'
(ав. mainyus, mainyu-, ос. -топ в d?limon \ d?lujmon
'нижний дух', w?limon\ w?lujmon 'верхний дух')>об.-
уг. *menkd 'дух' (манс. тёпко 'черт', те%и 'лесной дух',
хант. Mzhk 'лесной дух') (воспринято после стяжения
*ai (результат /-эпентезы) в ё в скифском);
19) скиф.-сарм. *art- 'огонь' (с метатезой из *atr-,
ос. art) > об.-уг. *ars 'огонь (очага)', (манс. ares 'огонь',
'очаг', йгэй, ar 'очаг') (ср. ос. ?rtgom 'огонь очага');
20) скиф.-сарм. *ciry 'меч', 'острый' (ав. tiyra-
'острый', ос. cirq/cerq 'меч') > об.-уг. (праманс.) *siryd,
*siryd 'меч', (воспринято после изменения *ti—>¦ *ci
в скифском), (манс. sirej, siri);
21) скиф.-сарм. *carkas 'орел' (ос. c?rg?s 'орел', ав.
kahrkasa- 'коршун') > об.-уг. (праманс.) *sark(d)sd \ *sark
(d)sd 'орел' (манс. soarks, sardks и т. д.), (воспринято до
изменения скиф.-сарм. *с ^ с)\
22) скиф.-сарм. *van- 'дерево', 'лес' (ав. vana-
'дерево', ос. Ьуп в сложных словах) >>об.-уг. wand 'лес' (манс.
fianu 'лес среди болота', ?oani 'мыс', 'коса', ?oamy
высокорасположенный лес,1 ?ani 'лес'; хант. цапаэп 'мыс', 'коса');
23) скиф.-сарм. *(h)ambar(i) (*- ham-barya-) 'товарищ'
(ос. ?mbal 'товарищ', 'спутник') >венг. ember, старое
hembery 'человек' (воспринято до перехода скиф. *ri-*-*li);
24) скиф.-сарм. *fliman 'приятель' (+- priyamana-, ос.
lym?n\lim?n 'друг', 'приятель') >> морд, loman человек
(воспринято после перехода скиф. *ri >» li);
25) скиф.-сарм. *mali (или алан. *mali) 'стоячая
вода', 'омут'), ос. mal, от и.-е. *mori- или *тогуо- 'море',
'стоячая вода') ~ венг. mely 'глубокий', об.-уг. *mal
'глубокий' (заимствовано после перехода скиф. *ri>li);
26) скиф.-сарм. *afsarm- 'стыд', (ос. ?fs?rm, ?fsarm/
?fsarm, ?fsar 'стыд' от и.-е *к'огто- 'мука', 'боль')>
442
> об.-уг. *awsdrjme (> праманс. *asdr(d)mi~*isdr(d)mv.
'стыд';
27) скиф.-сарм. *vars- 'шерсть', 'волосы' (животного)
(от и.-е. *uel-, ав. varzsa- 'волосы' (человека или
животного на голове)' > об.-уг. (прахант.) *war(a)se 'конский
волос' (заимствование позднее, т. к. в хант. *s остается
без изменения);
28) скиф.-сарм. rasan- 'веревка' (ос. r?t?n <- *га$апа-
от и.-е. *rek- 'связывать') > праманс. *ras(d)n 'веревка'
(заимствование достаточно позднее, т. к. в манс. *s
остается без изменений);
29) скиф.-сарм. *andan 'сталь' (ос. ?ndon) > общеп.
andan 'сталь' (удм. andan, коми jemdon, jendon)
(заимствование позднее, т. к. в пермском нет уже
деназализации, в ос. нет еще перехода *а—>~о перед т, п);
30) скиф.-сарм. *(h)arwa- 'весь', 'каждый' (*-ар. *sarwa-,
ос. aly, ally,\ali, alli) > морд, erva 'каждый'
(заимствование отражает отпадение *Л- в скиф.);
31) скиф.-сарм. *vasa-ka- \ *vatsa-ka- 'детеныш
животного', 'теленок' (от и.-е. *wet- 'год', др.-инд. vatsah, ос.
w?s 'теленок') > об.-уг. (праманс.) *was(d)~*wes(d)
"лосенок' (манс. wesi, wasiy).
По археологическим и лингвистическим данным
установлено, что материальная культура ираноязычных (ски-
фо-сарматских) племен в I тыс. до н. э. находилась на
качественно более высоком уровне развития, чем у угро-
финских, что сказалось на характере влияния на соседние
финно-угорские народы. Скифо-сарматские племена
отличает подвижный, кочевой образ жизни, развитое военное
дело, постоянное участие в боевых походах,
скотоводческий тип хозяйства, знакомство с металлургией; в
социальной области — строй военной демократии. Финно-угры
благодаря своим южным соседям стали заниматься
разведением крупного и мелкого рогатого скота,
познакомились с обработкой металла, военным искусством;
отмечаются также схождения со скифо-сарматами в
области религиозных воззрений. Все это отразилось в
языке. Зачастую считалось престижным употребление
в речи слов иранского происхождения, замена ими своих
исконных. К данному периоду относятся многочисленные
скифо-сарматские заимствования в ф.-у. языках (в
основном пермских и обско-угорских), отражающие
материальный образ жизни обеих этнолингвистических групп.
Наиболее важными являются:
443
I. Из области скотоводства: 1) скиф.-сарм. *varna-
'барашек' >> общеп. uarhe 'годовалая овечка'; 2) скиф.-
сарм. vara 'барашек' (ос. w?r 'барашек', 'ягненок') >
> морд, (э.) vires; (м.) bars's 'ягненок'; 3) 'овца', 'баран'
(скиф.-сарм. *mes (+—*maisa-)> общеп. *mez)\ 4)
'войлок' (скиф.-сарм. * патШ>общеп. *hamat; об.-уг. *nant9t;
5) скиф.-сарм. * vatsa-ka-/*v9sa-ka-'детеныш животного'>
>об.-уг. *was 'лосенок'; 6) 'шерсть', 'волосы' (скиф.-сарм.
*vars->npaxaHT. *war(d) se 'конский волос').
II. Из области металлургии и военного дела: 1)
'золото' (скиф.-сарм. *zaranya- > уг. *saraha; r^ общеп.
*zarhi; волжск. *serha) ; 2) 'сталь' (скиф.-сарм. *andan >
> общеп. *andan); 3) скиф.-сарм. *karti- 'нож'>> общеп.
* korte 'железо'; об.-уг. (праманс. kire; (прахант.) *kartd
'железо'; 4) 'доспехи военные', 'панцирь', 'кольчуга'
(скиф.-сарм. *zyar уг. *saydrd); 5) 'меч' (скиф.-сарм.
*ciry > об.-уг. (праманс.) *siryd \*siryd).
III. Из области социальных отношений: скиф.-сарм.
*axsay- (*axsay-) 'властвовать' > общеп. *ekso 'князь'.
Сравнивая скифо-уральские изоглоссы со скифо-евро-
пейскими с точки зрения разности престижных
потенциалов между контактирующими этнокультурными
группами, можно сделать общее наблюдение, что на Западе
эта разность была в пользу европейских народов,. т. е.
они больше «давали» скифо-сарматскому миру, чем «брали»
у него. На Востоке иная картина, там скифо-сарматы
выступают обычно как «дающая» сторона.
Примечание
Абаев, 1981 — В. И. Абаев. Доистория иранцев в свете арно-ураль-
ских языковых контактов.—«Этнические проблемы Центральной Азии
в древности». М. 1981.
444
SLAVO-AVESTICA
АВЕСТА КАК ТЕКСТ
Филологию в широком понимании можно определить
как науку, занимающуюся истолкованием
текста. Под текстом мы разумеем любой документ,
изложенный средствами человеческого языка и содержащий
ту или иную информацию. Тексты могут быть
эпиграфические, литературные, фольклорные, мифологические,
религиозные, исторические... В истолковании текста
следует различать пять аспектов:
1/ лингвистический (язык, диалект; лексика,
грамматика);
2/ филологический в узком смысле (жанр, форма,
композиция, выразительные средства, поэтика...);
3/ текстологический (история текста, критика текста);
4/ идейно-содержательный (содержание текста, его
назначение, стиль, социальная информативная функция,
отраженное в нем мировоззрение);
5/ реальный или исторический (текст как
свидетельство о реалиях конкретной исторической
действительности) '.
Каждый из этих аспектов нельзя рассматривать
изолированно. Они многообразно переплетаются и
взаимодействуют. И если даже в центре внимания исследователя
находится один какой-нибудь из пяти аспектов, он
постоянно должен держать в поле зрения четыре остальных.
И не только держать в поле зрения, но разбираться в
них. Такое истолкование текста, которое не только
учитывает отдельные его аспекты, но также их
взаимозависимость и взаимодействие, мы называем
комплексно-экзегетическим методом.
К числу памятников, которые особенно настоятельно
требуют комплексно-экзегетического подхода — с
постоянным учетом всех указанных пяти аспектов —
относится Авеста — свод культовых текстов зороастрийской
религии. Любую частную проблему приходится здесь
445
рассматривать в общем комплексе авестийской
проблематики. А эта проблематика очень сложна.2 Авеста как
текст относится к труднейшим объектам всей
индоевропейской филологической науки. После двух веков
интенсивного изучения она все еще ставит перед наукой ряд
трудных вопросов как лингвистического и
филологического, так и мировоззренческого и исторического порядка.
Начать с того, что до сих пор нет ясности, каков
диалектный статус авестийского языка. Одни относят его
к восточным, другие к северо-западным иранским
наречиям. Географические упоминания Авесты указывают,
как правило, на Восточный Иран. Но чисто
лингвистические характеристики — лексические, грамматические —
носят двойственный характер и говорят о взаимодействии
и перекрестных отложениях разных диалектных норм.
Древнеиранская речь выступает в авестийских текстах
в форме, которую можно назвать «трансдиалектной»,
совершенно так, как древнеиндийская речь в некоторых
буддийских и джайнистских текстах. Особняком стоит
диалект той части Авесты, авторство которой
приписывается самому Зороастру, так называемых «Гат»
(«Песнопений»).
Особенности языка Авесты во многом связаны со
сложной историей самого текста Авесты. Древнейшее
мифологическое ядро Авесты перекликается с Ригведой
и, стало быть, восходит ко времени индоиранской
общности, т. е. к III тыс. до н. э. Между тем дошедшие до нас
рукописи Авесты не старее XIII в. н. э.3 Что происходило
между этими двумя столь отдаленными друг от друга
датами? Какая среда была носителем устной традиции
текста? Когда, где, в какой среде действовал сам
религиозный реформатор? Когда и где началась и
продолжалась фиксация текста в письме? Через какие этапы прошли
редактирование и кодификация текста? На зт и и другие
вопросы, связанные с историей авестийских текстов,
мы точных ответов не имеем.4
По содержанию тексты Авесты делятся на
мифологические, литургические и ритуальные. Всего труднее дать
жанровую характеристику Гатам самого Зороастра. Их
называют то проповедями, то гимнами, но оба эти
наименования применимы к ним с большой натяжкой. Мы
определили бы Гаты как тирады. Весьма эмоциональные,
полные воодушевления, эти тирады в свое время
обладали, надо полагать, большой заражающей силой. Но
446
сейчас они кажутся нам зачастую крайне туманными,
чтобы не сказать — заумными. Все же в них распознается
определенная мировоззренческая концепция и
определенная практическая программа. Зороастр верит в
существование двух изначальных потенций, светлой и темной.
Борьба между ними составляет все содержание бытия.
Задача человека — содействовать победе светлого начала.
Практическая программа Зороастра — насаждение
мирного оседлого скотоводства под защитой сильной и
справедливой власти (xsaftra-).
Всякий прогресс в понимании как Авесты в целом,
так и отдельных отрезков текста, обусловлен в конечном
счете лучшей, более правильной интерпретацией
языкового материала: лексики и грамматических форм. В начале
нашего века авестологическая наука располагала двумя
фундаментальными трудами итогового значения. Это,
во-первых, «Древнеиранский словарь» Бартоломэ [6],
во-вторых, французский перевод всей Авесты с обширным
филологическим и реальным комментарием,
выполненный Дармстетером [7]. Эти книги — чудо трудолюбия
и эрудиции. Об их непреходящем значении говорит то,
что оба Т|Чда были переизданы в новейшее время
фотомеханическим способом (AiW в 1961, ZA в 1960 г.) и
по сей день остаются настольными книгами каждого
ираниста.
Но наука не стоит на месте, и даже классические
труды рано или поздно устаревают. За последние
десятилетия в обиход науки вошел обширный новый иранский
материал, прежде всего согдийский, сакский (хотанский),
хорезмийский. Тем самым расширилась база
сравнительного изучения авестийской лексики и грамматики. Наряду
с этим продолжалась работа по критике текста, заново
издавались, переводились и комментировались отдельные
части Авесты, по-новому осмыслялись многие трудные
пассажи, особенно в Гатах. Настало время для
суммирования всего, что сделано в истолковании Авесты. Авеста
нуждается в новом словаре и новом комментированном
переводе. Словарь авестийского языка запланирован и
уже реализуется проф. Шлератом. Пока вышли два
подготовительных выпуска [8].
Узколингвистический подход к истолкованию текста
Авесты не может дать богатых результатов. Наше
понимание Авесты и отдельных частей ее текста будет тем
глубже и совершеннее, чем полнее и последовательнее
447
будет применяться комплексно-экзегетический метод, т. е.
лингвистический разбор во всех случаях будет сочетаться
с филологическим, текстологическим, идеологическим и
реальным (историческим).
О СЛАВО-АВЕСТИЙСКИХ ИЗОГЛОССАХ
Славо-иранские языковые связи обширны и
многообразны. Их лингвистический и историко-культурный
интерес очевиден как с позиции славистики, так и
иранистики. В деле их выявления уже достигнуто немало. Но
последнее слово здесь, видимо, еще не сказано [см.,
например, 9, 10].
Особого внимания заслуживают сепаратные встречи
отдельных славянских языков с
отдельными иранскими. Такие встречи представляют большой
интерес с точки зрения истории этих языков и с точки
зрения ареального распределения лингвистических единиц
в разные периоды, начиная с той отдаленной эпохи, когда
эти языковые общности, славянская и иранская, только
еще формировались.
Многочисленные и яркие схождения имеются у
славянских языков, в частности, русского, с языками скифо-
сарматской группы [11, с. 12—24, 41—52, 54, 68].5
Разительным фактом является полное материальное и
функциональное тождество предлога-послелога radi в
славянском и древнеперсидском. С этим последним
языком связывает славян и такая важная изоглосса, как
др.-перс, baga слав. bagb.
Наши наблюдения — пока предварительные — дают
право говорить о существовании специфических с л а в о-
авестийских лексических схождений.
При этом показательно, что речь идет обычно о словах,
которые либо на славянской почве, либо на иранской,
либо и там и tvt казались изолированными и не имели
однозначной, общепринятой этимологии.
ABecT.bdrag слав. *bergti
Полное формальное тождество и несомненная
семантическая близость этих двух лексем ускользнули, как
кажется, и от иранистов, и от славистов.
Авест. barag- разные авторы переводят по-разному,
одни — «ритуал», другие — «желание» и т. п. Для произ-
448
водной глагольной основы Ьэгэ'щуа- дают перевод
«приветствовать», «почитать», «славить» и пр.
Документируются еще некоторые производные: ЬэгэхЬа- (по AiW
«ценимый, дорогой»), от него сравн. степень bdrdxootara-;
далее Ьэгэутуа- (AiW «приятный»), bdrdjya- (по AiW
«кого следует приветствовать»), bdrd'jyastdtna- превосх.
степень от незасвидетельствованного причастия наст. вр.
Ьдгд\уап1-.
Общепринятой этимологии для базы *bdrdg- нет [12,
р. 350—353] 6. Если судить по AiW, то между bdVdg- и
Ьдгэ\ауа- нет никакой семантической связи. Что общего
между «religioser Brauch» и «willkommen heissen»?
Совершенно очевидно, что приемлемо только такое
этимологическое решение, которое позволило бы объединить в одно
семантическое гнездо bdrdg- и Ьэгэ]ауа-. Такое решение
возможно. Почти во всех контекстах для глагола
подходит значение «чтить, хранить, беречь, блюсти», для
имени — «попечение, защита, соблюдение, обереженье»
(лат. сига в таких выражениях, как cura deorum).
Приведем некоторые типичные сочетания. В текстах
Ясна 35.1; 15.1:... bdrdja (инстр. пад.) daenaya
«попечением о религии», «cura religionis».
В тексте Вендидад 7.52 говорится об умершем
правоверном, что в загробном мире ему уже не придется быть
объектом борьбы между добрым и злым духом, потому
что «я, Ахурамазда, возьму его под защиту (bdrdjaem)».
В тексте Яшт 10.90 читаем: „
bdrd'jayat Ahuro Mazda, bdrdjaydn atndsa spdnla уефа
kdhrpo huraooaya«оберегал Ахурамазда, оберегали Амшас-
панды (светлые духи) его (божества Наота) стройное
тело» 7.
Сочетание haoman Ьэгщауа- «чтить, беречь Хом»
перекликается непосредственно с названием скифского
племени (в древнеперсидской передаче) hauma-varga-
(<С hauma-barga-) «чтущие Хом». Сюда же
предполагаемое скиф. *gauvarga- «чтущие Скот» ( в греческой
адаптированной передаче yeoiQyoi) [13].
С авест. bdrdg-, bdrd*j- этимологически связано сак.
bulj- «чтить, славить»., orga, aurgga (<C *a-barga-)
«почитание» [14].
Сакские факты, а также скифские этнонимы Иаита-
varga- и *gauvarga- выводят авест. bdrdg- из изоляции
и позволяют выставить иранскую базу *barg- (и.-е.
*bherg-) со значением «чтить, беречь» и т. п. В Авесте
15 В. И. Абаев
449
к этому гнезду относятся еще ЬэгэхЬа- «чтимый», «vene-
ratus», Ьэгэутуа- «оберегаемый, находящийся под
защитой» (о жилищах), bdrdjya- «достойный почитания» (имя
божества). В древнеиндийском — вед. bhargas «eine Ehr-
furcht gebietende Erscheinung» [15].
Переходим к слаа *bergti «беречь». Обычно
сопоставляется с германской группой: гот. bairgan, нем. bergen
«прятать» и пр. Тут возникают некоторые, пусть
преодолимые, но все-таки трудности. Они троякого порядка:
фонетические, ареальные, семантические.
1. Германская группа возводится к базе *bhergh- [16],
что по сатемной норме в славянском должно было дать
*berz-, а не *berg-. Ср. по этой же норме осет. b?rz- в
?m-b?rz-yn «покрывать» [17,1, с. 137—138]. Приходится
допускать, что здесь в славянский вторглась кентумная
норма, что, впрочем, наблюдается и в некоторых других
случаях (явление перекрестных изоглосс).
2. Если бы слав. *bergti относилось к славо-герман-
ским изоглоссам, оно с максимальной активностью
выступало бы в западнославянских языках и затухало бы к
востоку. В действительности имеем диаметрально
противоположную картину: в западнославянских слово вовсе
отсутствует, а в восточных — весьма активно8. Такое
распределение более характерно для славо-иранских, чем
для славо-германских изоглосс.
3. Значения «беречь» и «прятать» не так близки, как
может показаться с первого взгляда. В глаголе «беречь»
присутствует морально-оценочный момент, которого
полностью лишен глагол «прятать». Беречь можно только
ценное и дорогое, а прятать можно что угодно.9 Но именно
этот морально-оценочный (скажем даже — религиозно-
оценочный) момент ярко выступает в семантике иран.
*barg-,
В данной связи нельзя обойти молчанием также литов.
gerbti «чтить, почитать». Если верно, что мы имеем здесь
метатезу из *bergti [18,1, с. 190], то и литовское слово
как нельзя лучше вписывается в наш этимологический
ансамбль. Читатель мог заметить, что в семантическом
кругу, который мы разбираем, наблюдается скольжение
между значениями «чтить» и «беречь». В иранском
преобладает первое, в славянском — второе. Литовский
примыкает к иранскому и вместе с ним сохраняет, как
нам представляется, более древнюю семантику. Это
450
никого не удивит. Известно, как много архаичного и в
лексике, и в семантике хранит литовский язык.
Нашу мысль можно резюмировать в следующих словах:
если даже вост.-слав. *bergti стоит в каком-то отдаленном
родстве с германской группой, ближайшей родней для
него как формально, так и по семантике следует признать
иран. *barg-, а также литов. gefbti (если из *bergti).
Авест. skardna- «круглый» — русск. шар
Одной из помех на пути к полному выявлению славо-
иранских изоглосс бывает слишком жесткое применение
принципа так называемого «звукового закона»,
унаследованное еще от времен младограмматиков. Теперь мы
знаем, что звуковые законы нарушаются не только под
действием аналогии, но и в целых разрядах лексики,
таких, как экспрессивные слова, идеофоны (звуковая
символика), слова «детской» речи, попадающие в язык
взрослых, и др.
Иногда видимое «нарушение» звуковых законов
объясняется явлением, которое мы называем перекрестными
изоглоссами. Сущность этого явления сводится в двух
словах к следующему. Если в группе родственных языков
один или несколько из них характеризуются определенной
фонетической особенностью, специфической для них,
проходящей через весь или почти весь их материал, то
мы вправе ожидать, что и в любом другом языке этой
группы могут наблюдаться отдельные,
единичные случаи этой же фонетической особенности. Иными
словами, то, что в одном языке проявляется как «закон»,
в другом — как «исключение» [19]. Вот примеры. По
тому, как ведут- себя палатализованные заднеязычные,
и.-е. языки делятся на две группы: kentum и sat3m. Но
в балтийских и славянских языках, которые относятся
к группе sat3m, мы находим отдельные «вкрапления» по
норме kentum, например, svekrb (вместо ожидаемого
*svesrb). Переход / -*¦ г (ротацизм) характерен для
индоиранской группы и.-е. языков. Но по крайней мере в одном
случае славянский отдает дань тому же ротацизму: в
слове rysb «lynx» (вместо ожидаемого *lysb). Одни и те же
фонетические тенденции могут быть заложены во всех
языках данной группы. Но в одних они реализуются
последовательно, сплошняком, в других — лишь частично,
в единичных случаях.
15*
451
Группа sk перед а, о, и, как правило, сохраняется
и в германском, и в славянском. Но в некоторых
германских языках имело место развитие sk -+s(sch), например,
и.-е. *pisk-, нем. Fisch и т. п. Такая тенденция могла
существовать и на славянской почве. И, если мы не
ошибаемся, она реализовалась по крайней мере в двух
случаях: в словах шар и шарить.
Русск. шар, болт, шар не имеет надежной этимологии
[20, S. 374]. Возведение к *skaro- выводит его из изоляции.
Ср. авест. skarana- «круглый» |0. Если исходить из и.-е.
базы *skwhar-, то сюда же греч. афатса «шар».
Русск. шарить сближается с осет. skaryn «шарить»
[17, III, с. 117 и ел.]. Предполагать заимствование из
нем. scharren нет необходимости.
Развитие sk—>~s в славянском подтверждается и
некоторыми другими (не-иранскими) этимологиями. Так, слав.
setati, русск. шатать, шататься правомерно сближается
с литов. skasti «прыгать», skatytis «шататься, бродить»
[20, III, 379]. Русск. Польша — непосредственно из
Polska, а не из мест. пад. w Polszcze [20, II, S. 401].
Авест. fravi ст.-слав, pravb «правый»
Авест. frasna ст.-слав. prasta «праща»
К сожалению, значение авестийских слов не
выявляется в тексте с достаточной точностью, и поэтому
приведенные сопоставления хромают на одну ногу. Авест. fravi-
встречается дважды как определение к gaeua- «мир»
(Ясна 57.15; Яшт 10.103). О божествах Срауша и Митра
говорится, что они являются «хранителями и стражами»
(hardtar-, aiwyaxstar-): vispaya fravois gaeuaya «всего ...
мира». Бартоломэ переводит (под вопросом) «Gedeihen»
[6, 5.991], Гершевич — «promotion», Дармстетер — «то-
hil*** (л\е> mc\r>Af* тгЛл\\(*\\Л Г7 1 п 4631 R nnvrwv rrxvua«Y
l/UC« v 44w lUUllbro ...uu.^v- , L., ~, \J. »/\,~j. ~ nrj J
в аналогичных контекстах вместо fravois gaeftaya мы
находим asahe gaeuanam «мира Правды», например, Ясна
57.17, Яшт 19.48 — 50: ЬгМгш asahe gaebanam «для
охраны мира Правды». Естественно думать, что сочетание
f ravi-gaeua- по значению близко к asahe gaeua- и означает
нечто вроде «праведный мир» («хранитель и страж всего
праведного мира»). И если так, то сопоставление авест.
fravi ст.-слав. pravb само собой напрашивается.
Авест. frasna- является названием какого-то оружия,
изготовляемого целиком или частично из серебра (эгэга-
452
ta-) (Яшт 10.112). Звуковая и семантическая близость
к ст.-слав, prasta вряд ли случайны. Но это — все, что
можно пока сказать .
Авест. spa- «кидать, метать» |2
Быть может, следует возводить к арийск. *sva-, *sav-
и сближать со ст.-слав. sovati, русск. совать, др.-русск.
sovati «метать (копье)», чеш. souvati «двигать» и пр..литов.
sauti «совать (хлеб в печь)» и пр. [20, II, S. 687].
Авест. Vayu — укр. Вш
В другом месте мы пытались показать, что известный
в Ригведе и Авесте бог ветра Vayu- не является
исключительным достоянием индоиранского мира. Он оставил
след также в латинском, балтийском и славянском [22; 11,
с. 112]. Ср. лат. Vedius «пастушеский Аполлон» << Vejus-
dius «бог Vejus», Vediovis бог мести (инфернальное
божество) << Vejus-diovis, др.-прусск. Wejopatis «владыка
Ветер», укр. ВШ « общеслав. *Vejb), демон смерти в
известной повести Н. В. Гоголя, основанной на украинском
фольклоре.13
В чем же, в таком случае, заключается специфичность
параллели авест. Vayu укр. Biu? В том, что и там,
и тут бог Ветра выступает как бог Смерти. Эта функция
в ведийском Vayu- не распознается.
Будучи олицетворением такой, зачастую
разрушительной, стихии, как ветер, Vayu потенциально нес в себе
черты деструктивного божества, бога войны и демона
смерти. Шведский иранист С. Викандер в монографии,
посвященной авестийскому Vayu, показал это с полной
убедительностью. (О Vayu как боге смерти см. [24, S. 33,
7 Л 70 ОС 0? i* сп 1 1
/Ч/j / S y S xj , S \J KL S^Jkt J / •
Особенно ярко зловещая природа Vayu раскрыта в
авестийском тексте «Aogmadaeca» 77—81. Содержание
этого текста сводится к следующему. Человек может
успешно пройти через все опасности и испытания: встречу
с драконом, медведем, страшным разбойником, даже
целым враждебным конным войском. Роковым для него
бывает только встреча с неумолимым Vayu. Тут ему нет
спасенья.
В статье «Образ Вия в повести Н. В. Гоголя»,
опубликованной в 1958 г. в сборнике «Русский фольклор» (Т. III),
453
я высказал мысль, что заключительная сцена «Вия» есть
не что иное, как украинский фольклорный вариант этой
же темы. Семинарист Хома Брут, вынужденный ночью
сторожить труп убитой им панночки-ведьмы, успешно
отбивается заклинаниями от «несметной силы чудовищ».
Но стоит появиться Вию, как он падает замертво.
Комментируя текст Яшт 15.52—54, где описывается
внешность Vayu, Викандер замечает: «Nun wird... Vayu
§55 ff als Todesdamon geschildert der die Menschen bindet
und wegschleppt. §54 wird er in menschlicher Gestalt aber
auch sehr drastisch dargestellt: mit breiten Hiiften, mit breiter
Brust, anaxrvida- augig.» Так же «drastisch» рисуется Вий
у Гоголя: «... приземистый, дюжий, косолапый человек...
длинные веки опущены были до самой земли». Последняя
деталь в облике Вия побуждает остановиться на
прилагательном anaxrviba, которое в Авесте относится к глазам
Vayu. Это слово считается неясным [6, S. 122]. Быть
может, из *an-akra-vida-, где *акга производное от
ака- «manifestus», «видимый» [6, S. 309]. В этом случае
an-axrviba-doiura- могло бы означать «с невидимыми
глазами», что напоминало бы опущенные до земли веки
Вия.
Одним из важных результатов исследования Викандера
является вывод о тесных связях мифологического цикла
Vayu с северноиранским, скифо-сакским миром, конкретно
с племенем упоминаемого в Авесте скифа Фрианы.
Викандер отмечает «... viele Ubereinstimmungen zwischen
den. Vayu-Abschnitten des Awesta und den nordiranischen
Dialekten, besonders dem Skythischen» [24, S. 89]. Но если
так, то мы вправе ожидать встречи с Vayu на скифской
и на осетинской почве. Эти ожидания оправдываются.
Один из скифских богов звался ОИоаиеос. .Геродот
отождествляет его с греческим Аполлоном. Форма Onoov-
QOc, не поддается удовлетворительной этимологии. Но если
исправить на Огросгирос, (буквы Т и Г в маюскульном
написании легко смешивались, ср. два варианта имени
скифской «Афродиты», 'Адтцтаоа и 'Асуцшаоа), то это
имя без натяжки раскрывается в «Wayuka-sura- «могучий
Wayuka» и. Тем самым сопоставление укр. Шй — иран.
Vayu приобретает еще большую убедительность, так как
оно включается в обширный список славо-скифских
изоглосс.
В заключение — небольшой экскурс несколько в
сторону от нашей основной темы. Дважды в ходе нашего
454
изложения Vayu оказывался двойником греческого
Аполлона: лат. Vedius (= Vejus-dius), глоссируется VlnoMcDV
vojxloc «пастушеский Аполлон» [26] ; скиф. Oiyoaugoc
(= Wayuka-sura) [Геродот IV 59] отождествляется с
греческим Аполлоном.
Случайно ли это?
Разумеется, в Аполлоне классического периода трудно
найти что-либо общее с грозным иранским богом ветра.
В нашем привычном представлении Аполлон — бог
лучезарный и прекрасный (перед глазами встает образ Бель-
ведерского изваяния), покровитель муз («Пока не требует
поэта к священной жертве Аполлон...»). Дело, однако,
в том, что Аполлон не всегда был таким. Этот бог едва ли
не самый многоликий в истории греческой мифологии.
Многолик и индоиранский Vayu. В разные периоды и в
разной среде они приобретали самые различные, то
благие, то устрашающие функции и манифестации. И в этой
сложной истории двух мифологических образов есть
моменты, когда они сближаются, и Аполлон
поразительно напоминает иранского Vayu. Его образ «включает
архаические и хтонические черты догреческого и мало-
азийского развития; отсюда разнообразие его функций —
как губительных, так и благодетельных, сочетание в нем
мрачных и светлых сторон». Подобно Vayu «образ
Аполлона соединяет небо, землю и преисподнюю». В нем
выступают «черты темных, стихийных сил», так же, как в
Vayu. «На поздней ступени архаики он — демон смерти...
Своим появлением на Олимпе он внушает ужас
олимпийским богам» [27].
Эти и другие сходные черты позволяют думать, что
в своем генезисе образы Vayu и Аполлона были весьма
близки. Правда, аполлоновский цикл греческой мифологии,
насколько можно судить, не содержит прямых указаний
на связь этого бога со стихией ветра. Но, может быть,
мы просто недостаточно знаем предысторию его образа.
Примечания
1 Мы не включаем сюда графическую передачу текста. Текст
остается текстом и тогда, когда он зафиксирован не в письменных
знаках, а, скажем, на магнитной ленте.
2 Некоторым ее аспектам посвящены наши статьи [1—3].
3 О датировании рукописей Авесты см. [4].
455
4 О Зороастре см. последний — весьма ценный — труд [5].
5 Приведенный в этой книге материал уже нуждается в
существенных дополнениях.
6 Имеющиеся этимологические опыты перечислены в книге Ж. Кел-
ленса [12].
7 Имеется в виду персонифицированный священный напиток Хом
(haoma-)
8 На западнославянской почве известно лишь отглагольное имя
*borgb: польск. brog, н.-луж. brog «стог» и пр. [18, 2, с. 202].
9 Попробуйте в стихе «Пусть он землю бережет родную» вместо
«беречь» подставить «прятать», или сделать то же самое в выражении
«Береги честь смолоду», и вы почувствуете, как далеки друг от друга
эти глаголы.
10 О краткости корневого а в авестийском см. выше.
11 По мнению О. Н. Трубачева (в письме), славянские и иранские
слова могут заключать одну и ту же основу *prask-
звукоподражательной природы.
12 Об этом глаголе см. [6, 1615—1616; 12, р. 235, 236].
13 «Bift есть колоссальное создание простонародного воображения.
Вся повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить,
его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал» [23]. Эти
слова Гоголя дали нам право по-новому прочитать повесть «Вий» как
украинский фольклорный текст, подлежащий истолкованию в рамках
сравнительной индоевропейской мифологии.
14 Раннее озвончение глухих смычных, в частности k^>-g, одна из
характерных особенностей скифо-сарматских наречий [см. 25].
Литература
1. А б а е в В. И. Миф и история в Гатах Зороастра.— Историко-
филологические исследования. Сб. статей памяти акад. Н. И. Конрада.
М., 1974.
2. А б а е в В. И. Скифский быт и реформа Зороастра.— АО,
1956, № 24.
3. А б а е в В. И. Зороастр и скифы.— Acta iranica 6. Monumen-
tum Nyberg, III. Teheran — Liege, 1975.
4. В a i 1 e y H. W. Zoroastrian problems in the ninth-century books.
Oxford, 1943, p. 168 u ел.
5. G n о 1 i C h. Zoroaster's time and homeland. A study on the origins
of Mazdeism and related problems. Naples, 1980.
6. Bartholomae Chr. Altiranisches Worterbuch. Strassburg, 1904
(сокращенно AiW).
7. Darmesteter J. Le Zend-Avesta. Traduction nouvelle avec
commentaire historique et philologique. I—III. Paris, 1892—1893
(сокращенно ZA).
456
8. Schlerath B. Awesta-Worterbuch. Vorarbeiten, I—II. Wiesba-
den, 1968.
9. G o 1 a b Z. The initial x- in common Slavic: a contribution to
prehistorical Slavic-Iranian contacts. VII. Miedzynarodowy Kongres slawistow
w Warszawie 1973. Streszczenia referatow i kommunikatow. Warszawa,
1973, S. 30—32.
10. P о h 1 H. D. Onomastica Slavoiranica.— Osterreichische Namen-
forschung, 1979, № 2, s. 10—29.
11. Абаев В. И. Скифо-европейские изоглоссы. На стыке
Востока и Запада. М, 1965.
12. Kellens J. Les noms-racines de l'Avesta. Wiesbaden, 1974.
13. A б а е в В. И. Геродотовские Skythai georgoi.— ВЯ, 1981, № 2.
14. Bailey H. W. Dictionary of Khotan Saka. Cambridge, 1979,
p. 298—299, 47.
15. Geldner K. Studien zum Awesta. Hf. I. Strassburg — London,
1882, S. 35—36.
16. P o kor ny J. Indogermanisches etymologisches Worterbuch. Bern,
1959, S. 145.
17. Абаев В. И. Историк o-этимологический словарь осетинского
языка. Т. I. М.—Л., 1958; Т. II, Л., 1973; Т. III, Л., 1979.
18. Этимологический словарь славянских языков. Под. ред. Трубаче-
ва О. Н. Вып. 1. М., 1974; Вып. 2. М., 1975.
19. А б а е в В. И. О перекрестных изоглоссах.— В кн.: Этимология
1966. М., 1968.
20. V asm er M. Russisches etymologisches Worterbuch. V. I—III.
Heidelberg, 1950—1958.
21. Горяев Н. В. Сравнительный этимологический словарь
русского языка. Тифлис, 1896, с. 418-
22. Melanges Benveniste. Paris, 1975, p. 3—5.
23. Гоголь H. В. Избранные произведения. M., 1948, с. 149.
24. W i k a n d e r S. Vayu. Uppsala- Leipzig, 1941.
25. Основы иранского языкознания. Т. I, M., 1979,
с. 330.
26. E r n о u t - M e i 1 1 e t. Dictionnaire etymologique de la langue
latine. Paris, 1939, p. 1078.
27. Л о с е в А. Ф. Аполлон.— Мифы народов мира:
Энциклопедия. Т. I. М., 1980, с. 92—95.
Вопросы языкознания, 1982, № 2.
457
К ВОПРОСУ О ПРАРОДИНЕ
И ДРЕВНЕЙШИХ МИГРАЦИЯХ
ИНДОИРАНСКИХ НАРОДОВ
В излагаемых ниже гипотезах о прародине и
древнейших миграциях индоиранских народов мы сознательно
опирались исключительно на лингвистические данные.
Это не значит, разумеется, что мы умаляем значение
археологических и исторических свидетельств. Но мы
считаем, что конфронтация независимо полученных
лингвистических выводов, с одной стороны, и историко-архео-
логических, с другой, должна быть особенно поучительна.
Если между первыми и вторыми выявятся
непреодолимые противоречия, это будет означать, что либо
лингвистические, либо археологические данные неточно
интерпретированы, или они вообще недостаточны для решения
вопроса. Если же выводы языковеда окажутся близкими
к независимо полученным выводам археолога и историка,
это будет добрым знамением: значит мы приблизились
к истине.
Из относящихся к нашей теме лингвистических
материалов мы выделяем следующие:
I. Индоиранские элементы в угро-финских языках.
II. Индоиранский гидроним Rasa (ведийское Rasa-,
авестийское Ranha-), уже давно идентифицированный с
названием Волги Pa y Птоломея.
III. Индоиранские (арийские) языковые свидетельства
из Передней Азии середины II тыс. до н. э.
IV. Иранская топонимика и ономастика Передней Азии
X—VIII вв. до н. э.
V. Европейские элементы в иранских языках сако-
афгано-припамирской группы. Европейские элементы в
осетинском.
I. В угро-финских языках уже давно выделен слой
индоиранской лексики.1
Эти не вызывающие ни малейшего сомнения
лексические связи между угро-финскими и индоиранскими
(арийскими) языками были и остаются важнейшим, можно
458
сказать, решающим аргументом в пользу
восточноевропейской прародины индоиранских народов. Часть их по
фонетическим и иным признакам приходится возводить
еще к общеарийскому периоду (периоду до разделения
арийцев на индийскую и иранскую ветвь). Часть могла
быть усвоена из «протоиндийского», т. е. из того арийского
диалекта, который со временем послужил базой для
языка Ригведы и для санскрита. Часть заимствована, по
всей видимости, из общеиранского. Часть, наконец, усвоена
в более поздние времена, из скифо-сарматских наречий.
Вывод, который с необходимостью вытекает из
рассмотрения этого материала, можно сформулировать словами
Г. Якобсона: «Die Beziehungen zwischen Ariern und den
finnisch-ugrischen Stammen erstrecken sich iiber einen
unendlich langen Zeitraum, vom Urarischen bis tief in die
historischen Perioden hinein».2
Отличить иранские заимствования от заимствования
из общеарийского в большинстве случаев нетрудно. Одним
из опознавательных признаков служит отражение в угро-
финском арийского (и индоевропейского) 5. В
общеарийском и протоиндийском он удерживался, в иранском
(кроме некоторых позиций) переходил в h. В
угро-финских выделяется группа заимствованных имен в исходе
-s. Это -s отражает форму именительного падежа основ на
-а- в арийском, и, стало быть, соответствующие слова
могли быть заимствованы только из общеарийского (или
протоиндийского), но никак не из иранского, где s
переходил в А3: мордов. (мокша) pavas «бог», «счастье» —
др.-инд. bhagas (именит, падеж) «удел», «счастье», также
название одного из божеств (aditya-), др.-перс. baga
«бог»;
саами oarbes, orhres «сирота», венг. arva «сирота» —
др.-инд. arbhas- «малый», «юный», «слабый»;
мордов. verges, yy'rgas «волк» — др.-инд. vrkas- «волк»;
удмурт, zarez, манси saris, ханты sares, saras, taras
«море» — др.-инд. jrayas- «(широко) раскинувшееся
пространство, поверхность», авест. zrayo- «море»;
мари pundas «низ», pundos «пень» — арийское bundhas-,
др.-инд. budhnas- «низ», авест. Ьипа- гр. rcuvoqc «низ»,
«дно».
Во всех этих примерах угро-финские языки отражают
арийскую или протоиндийскую (но не иранскую!) форму
именительного падежа основ на -а-, т. е. -as-. Конечный
-5 не мог быть наращением на угро-финской почве, так
459
как в других случаях мы такого наращения не находим.
Поучительно в этом отношении сравнить морд, pavas
«бог», с морд, sava «козел», «коза». Если pavas отражает
непосредственно арийское bhagas, то sava приходится
сопоставлять не с др.-инд. chagas «козел», chaga «коза», а
с иран. *sagah-, *saga-, ср. осет. s?g «коза».
Сюда можно присоединить ряд случаев, когда угро-
финские слова отражают арийский или протоиндийский
s не в исходе, а в Anlaut'e или Inlaut'e:
морд, sazor «младшая сестра», мари solar «младшая
сестра», удм. suzer id.— др.-инд. svasar-, но иран. *hwa-
har «сестра»;
коми, удм. sur «пиво», венг. sor, манси sor, ханты sar
«пиво» — др.-инд. sura-, но авест. hura название
напитка;
морд, azor «господин», коми ozyr «богатый» — др.-
инд. asura- «божество», «демон», но авест. ahura-;
морд, sed «настил», коми sod «лестница», «ступенька» —
др.-инд. setu- «мост», но иран. haitu- id.;
коми, удм. surs, ханты (диал.) siirds «тысяча» — др.-
инд. sahasra- «тысяча», но иран. hazahra- id.
Эти слова и другие примеры, где угро-финские слова
отражают арийские формы с 5 и противостоят иранским
с h, не оставляют сомнения, что угро-финские языки
имели культурные контакты не только с иранскими
языками, но еще с общеарийским и, возможно,
протоиндийским.4
К сожалению, отличить общеарийские формы от
протоиндийских не так легко. Все же нельзя не отметить,
что, скажем, финское ога «колючка», «шип», венг. ar
«шило» безупречно отвечают др.-инд. ara- «шило»,5 тогда как
на иранской почве никаких соответствий не видно; что
морд, sed' «настил» и коми mez «баран», мари miz, mez
«шерсть» стоят по огласовке ближе к др.-инд. setu- «мост»
и mesa- «баран», «овца», «овечья шкура», чем к
общеарийским saitu- и maisa-', что морд, risme, ri'sma «цепь»,
саамское rasme «веревка» находят точное соответствие
с др.-инд. ra'smi- «веревка», тогда как на иранской почве
надежных параллелей не видно; что мансийское tas
«чужой» по форме отвечает др.-инд. dasa-, a не иранскому
daha-, a по семантике может сопоставляться только с
ведийским dasa- «варвар», «разбойник», «демон», и,
поскольку в нем скрывается название одного из скифских
племен, оно никак не может восходить к общеарийскому
периоду.
460
Все это делает в высшей степени вероятным, что
разделение арийцев на две ветви, индоарийскую и
иранскую, наметилось еще на их прародине в Юго-Восточной
Европе. Такое предположение полностью подтверждается
арийскими языковыми остатками в Передней Азии
середины II тыс. до н. э., носящими явственный отпечаток
именно протоиндийской (а не общеарийской или
иранской) речи (см. ниже). Эти языковые остатки получают
естественное объяснение как след, оставленный прото-
индийцами на пути их миграции из Восточной Европы
в Индию через (Кавказ и) Переднюю Азию.
Когда протоиндийские племена покинули
Юго-Восточную Европу и, после продолжительных странствий,
обосновались на своей новой родине, Индии, оставшиеся в
Европе иранские племена продолжали контактировать с
угро-финнами. Эти контакты оставили след в
заимствовании из иранского в угро-финские языки таких важных
культурных терминов, как название золота (коми, удмурт.
zarhi, морд, sirne, венг. агапу и пр. из иран. zaranya-,
ср. осет. z?rin «золото»), название железа, ножа (коми,
удмурт, kort «железо», ханты kart «железо», «металл»).
Из иранского идут и такие слова, как фин. oras,
морд, uros, urozi «боров» (иран. varaza- «кабан», осет.
W?raz собств. имя), фин. тугкку, венг. mereg «яд» (осет.
marg «яд», иран. тагка- «смерть»), фин. sarvi, венг. szarv
«рог» (ср. авест. srva- «рог»).
В ряде случаев индоиранское происхождение угро-
финских слов не вызывает сомнений, но для того, чтобы
решить, откуда именно заимствовано данное слово, из
общеарийского, протоиндийского, общеиранского,
скифского, сарматского или аланского — нет вполне надежных
критериев.
Фин. arvo «цена», «ценность»,^ ср. др.-инд. argha-,
осет. ary id-.
Мари mari «человек», «мариец»,— ср. др-инд. тагуа-
«молодой человек», «молодец», пехлевийское тегак
«парень».
Фин. onki «удочка», мари ongo «крюк», коми' (диал.)
vigir «удочка» 6,~ср. др.-инд. апка- «крюк», осет. ?ngur
«удочка».
Манси raasen «веревка»,— ср. др.-инд. rasana-
«веревка», перс, rasan id.
Фин. jyva «зерно», морд, juv «мякина»,— ср. др.-инд.
yava-, авест. yava- «зерно», «ячмень», осет. j?w «просо».'
461
Коми mort, удмурт, murt «человек», морд, mirde,
morde «человек», фин. marras, martaa «мертвый»,— ср. др.-
инд. mrta- «мертвый», др.-перс, martiya «человек»
(«смертный»), перс, тага «человек», осет. mard «мертвый».
Фин. vasa, морд, vaz «теленок» — ср. др.-инд. vatsa-
осет. w?ss «теленок».
Фин. varsa «жеребенок», ср. др.-инд. vrsan- «самец»,
осет. wyrs «жеребец».
Коми vork «почка» (анатом.), ср. практрит. vrkka,
ос. wyrg «почка».
По-видимому, в разное время и из разных источников
усваивались в угро-финские языки индоиранские
числительные:
«семь»: манси saat, венг. het, ср. др.-инд. sapta-, др.-иран.
hafta- «7». «Десять»: коми das, удм. das, ср. др.-инд. dasa-,
авест. dasa-, осет. d?s «10».
«сто»: фин. sata, манси saat, ханты sat, венг. azaz,
морд, sado,— ср. др.-инд. sata-, авест sata-, осет. s?d?
«100».
«тысяча»: коми, удмурт, surs, манси sooter, ханты
(диал.) surds, ср. др.-инд. sahasra- (венг. ezer «1000»
сближается с осетинским ?rdz? (устарелое) «1000»).
II. В цепи свидетельств в пользу восточноевропейской
прародины индоиранских племен занимает свое место и
название Волги у Птоломея: 'Ра. Оно сопоставляется с
ведийским Rasa, авест. Ranha «название мифической реки».
Значение «мифическая река» говорит о том, что ведийские
и авестийские племена в период создания Ригведы и
Авесты жили уже далеко от Волги и хранили о ней лишь
смутное воспоминание.
III. Приведенный выше материал позволяет выдвинуть
тезис: во всяких суждениях и гипотезах о древнейших
миграциях индоиранских народов надо отправляться от
Юго-Восточной Европы как исходной территории.
Самым ранним указанием на такую миграцию являются
протоиндийские языковые свидетельства из Передней
Азии, относящиеся к середине II тыс. до н. э. Это,
во-первых, упоминание протоиндийских богов Митры, Варуны,
Индры и (двух) Насатйа в договоре хеттского царя Шип-
пилулиумы I с царем Митанни Куртивазой XIV в. до н. э.
Во-вторых, термины конноспортивной тренировки в
хеттском тексте XIV века, известном под названием
«текст Киккули»:
462
«один оборот»
«три оборота»
«пять оборотов»
«семь оборотов»
«девять оборотов»
В первой части этих терминов распознаются
числительные aika (др.-инд. ека-), tri «3», рапса «5», sapta «7»,
nava «9». Вторая часть vartanna сопоставима с др.-индий-
ским vartana- «вращение» 8.
Вокруг арийских вкраплений в переднеазиатские
тексты II тыс. до н. э. выросла обширная литература.9
Идет спор о языковой принадлежности этих элементов,
следует ли считать их иранскими, индоарийскими или
общеарийскими, т. е. отражающими языковое состояние
арийской общности до ее разделения на иранскую и
индийскую ветви. Все три точки зрения нашли своих
апологетов.
Возможность иранской интерпретации, с нашей точки
зрения, отпадает сразу и бесповоротно. Числительное
«семь» satta может передавать арийское или индийское
sapta-, но не иранское hapta-. Имя богов-близнецов в
иранском звучало бы Nahatya, а не Nasatya (см. выше).
К тому же бог Варуна неизвестен на иранской почве,
а боги Индра и Насатиа (Nahatya) упоминаются только
в позднем авестийском тексте (Videvdat 10.9 и 19.43) и
то не в качестве богов, а в качестве демонов. Совершенно
произвольно допущение какой-то другой неизвестной нам
иранской среды, в которой арийский s не перешел в /г,
а боги Варуна, Индра и Насатия были чтимыми богами.
Это все равно как если бы зоолог предположил ad hoc
существование в прошлом такого копытного животного,
у которого не оыло копыт.
Говоря «иранский», мы должны твердо держаться
тех признаков, которые дает доступный иранский
материал. В противном случае мы переходим в область ничем
не лимитированных спекуляций и фантазий.
Итак, для языковой идентификации приведенных
выше арийских вкраплений в переднеазиатские тексты
остаются две возможности: либо они отражают
общеарийский язык до его распада на иранскую и индийскую ветви,
либо они являются протоиндийскими, т. е. примыкают
к ведийскому и санскриту.
aika-wartanna
t(e)ra-wartanna
panza-wartanna
satta- wartanna
nawartanna (из
nawa-wartanna)
463
Следующие соображения говорят против протоарий-
ской интерпретации.
1. Ни в середине, ни в начале II тыс. до н. э. ни о какой
арийской общности уже говорить не приходится. Ко 2-й
половине этого тысячелетия не только иранская группа
полностью обособилась, но внутри этой группы имели
место дальнейшие глубокие дивергенции, в частности,
скифские наречия вели уже самостоятельное
существование и имели сепаратные контакты с языками
европейского круга." Ясно, что арийский период, т. е. период до
распада арийской общности, надо отодвинуть на ряд
столетий вглубь и относить к III тыс. до н. э.
2. Числительное aika «один» из текста Киккули
примыкает к древнеиндийскому ека-. Не имея соответствий
ни в иранском, ни в других индоевропейских языках,
оно стоит изолированно и должно рассматриваться как
специфическая индийская форма. Для возведения ее к
общеарийскому нет оснований.
3. Нет также уверенности в общеарийском характере
божеств Варуны, Индры и (близнецов) Насатиа. С
другой стороны, в Ригведе они относятся к наиболее
популярным и чтимым богам, и вся группа (Митра, Варуна,
Индра, Насатиа) кажется буквально выхваченной из
Ригведы.
Таким образом, все это говорит за то, что арийцы,
оставившие свой след в тексте договора между хеттским
и митаннийским царями и в хеттском коннотренировоч-
ном тексте Киккули, были протоиндийцами, ближайшими
родичами создателей Ригведы. Они выделились из
арийской общности еще на своей прародине в Юго-Восточной
Европе, о чем свидетельствует их сепаратный вклад в
лексику угро-финских языков (см. выше) 12.
Как ни скудны рассмотренные арийские языковые
остатки в Передней Азии, их значение для истории
индоиранских народов огромно. Они представляют бесспорный
след первой великой арийской миграции, а именно
миграции протоиндийцев из Юго-Восточной Европы через
Переднюю Азию. Думать, что Индия была заселена
арийцами в результате не этой, а какой-то другой, более ранней
или поздней миграции, нет никаких оснований. Эта
предполагаемая вторая миграция не оставила никаких следов
и свидетельств и, стало быть, оперировать ею в научном
плане совершенно не приходится.
Дата составления тех переднеазиатских текстов, в
464
которых найдены протоиндийские вкрапления, т. е.
середина II тыс. до н. э.,может служить опорой и для датировки
миграции: она должна была иметь место не слишком
задолго до упомянутых текстов, в пределах первой
половины II тыс. до н. э. Какая-то часть протоиндийцев осела,
надо полагать, в Передней Азии и играла какую-то роль
в организации государства хурритов, Митанни. Остальные
продолжали свой путь, пока не достигли благословенной
Индии.
IV. Оставшаяся на территории прародины иранская
общность была в диалектном отношении неоднородной
уже во второй половине II тыс. до н. э. Занимавшая в это
время западную часть ареала киммеро-скифская группа
имела сепаратные контакты с европейскими языками,
оставившими свой след в осетинском, сакском, афганском
и припамирских языках, преемственно связанных с этой
группой.13 Обособились и другие ветви ираноязычного
мира, в частности, те племена, которые со временем вошли
в историю под названием мидийцев и персов. Где-то на
рубеже II и I тыс. до н. э. они двинулись через Кавказ
в Переднюю Азию и постепенно заняли территорию между
Каспийским морем и Персидским заливом. После
протоиндийской миграции, о которой мы выше говорили, прото-
мидоперсидская миграция из Юго-Восточной Европы в
Переднюю Азию была важнейшей по своим последствиям
арийской миграцией. Она положила начало образованию
двух мощных держав, Мидии и Персии, роль которых
в судьбах древнего мира хорошо известна. Имевшие место
в последующие столетия вторжения киммерийцев и
скифов имели характер разбойничьих набегов и не повлияли
существенным образом на политическую и культурную
историю Передней Азии.
Дата — конец II и начало I тыс. до н. э.— для
появления иранцев в Передней Азии может считаться надежной.
Именно в IX в. до н. э. мидийцы и персы впервые
упоминаются в ассирийских хрониках.14
Что касается направления и путей продвижения
мидийцев и персов, то здесь нам кажутся заслуживающими
внимания изыскания Э. А. Грантовского, который приходит
к выводу, что движение шло с запада, от района озера
Урмия на восток, а не с востока на запад, как часто, но
без серьезного основания принималось прежде.'0 «Данные
ономастики определенно свидетельствуют о продвижении
ираноязычного населения в западный Иран с севера и
465
северо-запада, т. е. через Кавказ, а не с востока, из
Средней Азии»16.
Следует сказать два слова о миграции протопарфян.
Нет сомнения, что они также продвинулись в
историческую Парфию с севера. Память об этом, видимо,
хранилась и в их преданиях, так как ряд античных авторов
в один голос утверждает, что парфяне пришли из Скифии
(Курций Руф IV, 12, 11; VI, 2, 12; Юстин XLI, 1, 1; Схолии
к Лукану I, 553; Евстафий у Дионисия Периегета 304).
Язык парфянский характеризуется как средний между
скифским и мидийским, как бы смешанный из них (Юстин
2, 3). Если еще в античное время так настойчиво
утверждалось «скифское» происхождение парфян, то не говорит
ли это о том, что протопарфянская миграция имела место
не слишком задолго до античной эпохи и во всяком случае
позднее мидоперсидской?
Различия между иранскими наречиями в начале I тыс.
до н. э. были еще, надо полагать, не очень значительными.
Поэтому выделить в дошедшем до нас от того времени
ономастическом материале специфически парфянское
не представляется возможным. Поэтому трудно сказать
что-либо определенное о маршруте продвижения парфян
из «Скифии» на юг. Однако общая географическая
ситуация подсказывает, что, в отличие от протомидийцев и
протоперсов, протопарфяне шли не через Кавказ, а через
Приаралье, обойдя с востока Каспийское море.
Остаются два крупных иранских племени, которые
история застает в Передней Азии: курды и белуджи. Их
появление здесь следует связать с древней
мидоперсидской миграцией.
С начала I тыс. до н. э. иранский мир был представлен
двумя обширными ареалами: северным — от нижнего
Дуная и Прута до Приаралья, и южным, переднеазиат-
ским,— от Аракса и Урмии до нынешней Туркмении.
В первую общность входили будущие киммерийцы, скифо-
сарматы, хорезмийцы, согдийцы, «авестийцы», бактрийцы.
Во вторую — будущие мидийцы, персы, курды, белуджи.
Промежуточное положение занимали парфяне.17 Между
этими двумя группами еще на почве общей прародины
наметились, можно полагать, некоторые языковые
расхождения, которые со временем углублялись в
результате полной территориальной разобщенности.
В фонетике для северной группы характерны весьма
ранние случаи озвончения глухих согласных внутри слова.
466
Так, название страны и народа Suyda «Согд», неотделимо
от древнеиранского suxta- «чистый», «священный» ,ср. осет.
syyd?g\suyd?g «чистый», «святой», но группа глухих
-хт- заменена звонкими -yd-. Это озвончение произошло
не позднее VI в. до н. э., так как уже в древнеперсидских
надписях Согдиана зовется Suguda.
Озвончение k-*-g приходится допускать также в
этнонимах геродотовской Скифии Маооаугтси, виааауетси,
так как элемент ойу в этих названиях трудно отделить
от названия скифов Saka.
Другой фонетической особенностью североиранского
ареала был также весьма ранний переход звонких
смычных во фрикативы: Ь -*• v, d—>-o, g-**y- Эти процессы
наблюдаются и в языках южной группы, но там они
развиваются значительно позднее и не имеют всеобщего
распространения.
Для большинства северных языков было характерно,
наконец, «цоканье», т. е. переход арийских палатальных
аффрикат в зубные: с-*-с, ]-*-$.
Как мы уже говорили, диалектные различия и
территориальное размежевание внутри североиранской группы
определились уже к концу II тыс. до н. э. К этому времени
протобактрийцы и протосогды продвинулись в Среднюю
Азию. Киммеро-скифо-сарматские племена, ведшие
кочевой и полукочевой образ жизни, отличались большой
подвижностью. Они совершали глубокие рейды в сторону
Кавказа, Передней и Малой Азии, а также в Среднюю
Азию и обратно. Одно из этих обратных движений из
Средней Азии в Европу в VII или в VIII в. до н. э. было
в исторической традиции, идущей от Геродота, ошибочно
истолковано как первое появление скифского и вообще
иранского элемента в Европе. Осетино-европейские
изоглоссы, восходящие ко II тыс. до н. э., опровергают такую
точку зрения.19
Любопытные сепаратные лексические связи с
европейскими языками распознаются также в иранских
языках сако-афгано-припамирской группы.20 Близость сак-
ского к скифскому не вызывает никаких сомнений. Про-
тосаки — это одно из скифских племен, отклонившееся
от своих европейских братьев и проникшее (вместе с
прототохарами?) глубоко в Среднюю Азию. Когда это
могло произойти? По чисто языковым показаниям —
не позднее V в. до н. э., и вероятно, значительно раньше.
В языке европейских скифов со времен Геродота, т. е.
467
V в. до н. э., свидетельствуется одно фонетическое
явление: плавный г перед гласным i переходит в / (в нарушение
общеиранского ротацизма): Auro^aic «имя одного из
легендарных скифских родоначальников», из Ripaxsaya
«владыка земли»; ср. ведийское rip-, rup- «земля» и
иранское xsay- «властвовать». Ср. также имена скифских
царей 2auAiOs, Zxvk^c,. Сакский язык остался чужд
переходу г в/ перед i и, стало быть, должен был отделиться
от основного скифского массива задолго до V в. до н. э.
Афганский и припамирские языки выявляют некоторые
черты, преемственно связывающие их с сакским. Но ни
один из них не может считаться его прямым потомком.
Их надо рассматривать скорее как результат смешения
протосакского с другими уже бытовавшими в Средней
Азии иранскими наречиями, бактрийским и другими.
Какое-то участие в их формировании могли принимать
и неиранские языки, типа вершикского.
Приблизительная хронологическая канва древнейших
судеб индоиранских племен выглядит следующим образом.
III тыс. до н. э., 2-я пол. Индоевропейская общность
стала на путь распада и территориального разобщения.
Протогреки, протохетты и протоармяне отошли на юг,
на Балканский полуостров и в Малую Азию. Оставшиеся
на территории прародины индоевропейцы образуют две
большие общности: среднеевропейскую, в составе будущих
славян, балтов, «тохаров», германцев, кельтов, италиков,
и арийскую в Юго-Восточной Европе. Арийская общность
имеет продолжительные контакты с угро-финским миром.
II тыс. до н. э., 1-я пол. Арийская общность
распадается на две ветви, протоиранскую и протоиндийскую.
Последняя покидает территорию Европы и через
Переднюю Азию проходит в Индию. Протоиндийские элементы
в аккадских и хеттских текстах середины II тыс. до н. э.
следует рассматривать как следы этой миграции.
Конец II тыс. до н. э.— начало I тыс. до н. э.
Иранская общность распадается на две группы: киммеро-
скифскую, включающую также протосогдийцев, прото-
бактрийцев и некоторые другие племена, и протомидо-
персидскую. Последняя проходит через Кавказ на юг и
занимает Иранское плато. Возникают два больших
ираноязычных ареала, северный в Юго-Восточной Европе и
прилегающих областях Средней Азии, и южный, между
Каспийским морем и Персидским заливом.
I тыс. до н. э., 1-я пол. Часть скифов в составе крупного
468
племенного объединения протосаков отрывается от
основного скифского массива и уходит далеко на восток, до
рубежей Китая. Одновременно или раньше
обосновываются в Средней Азии также бактрийцы, согдийцы и
некоторые другие племена, принадлежащие к той же
северной группе ираноязычных народов.
VIII—VII вв. до н. э. Часть скифских племен, ранее
ушедшая из Юго-Восточной Европы в Среднюю Азию,
продвигается в обратном направлении и теснит своих
сородичей киммерийцев. Это возвращение скифов на свою
прародину ошибочно принимается в исторической
традиции за первое появление скифского и вообще
иранского элемента в Европе.
Нет надобности подчеркивать, что древнейшие судьбы
арийских племен — это такая область, где точные
датировки невозможны. Многое приходится строить на
гипотезах. Гипотезы в данном случае законны, если они
внутренне не противоречивы и, кроме того, экономны, т. е.,
не включают никаких избыточных элементов, не
диктуемых ни доступными фактическими данными, ни логикой
всего построения. Мы стремились держаться в рамках
именно таких — непротиворечивых и экономных — гипотез.
Как мы отметили вначале, желательна проверка с
археологической стороны. Однако надо быть заранее
готовым к тому, что полного совпадения между
лингвистическими и археологическими данными не будет. В этом
отношении мы разделяем точку зрения хеттолога X. Кро-
нассера, который предостерегает против «широко
распространенного заблуждения, будто каждый языковой
пласт должен иметь свое археологическое соответствие» 2|.
Примечания
' Tomaschek W. Ethnologisch-linguistische Forschungen iiber den
Osten Europas. Das Ausland, 1883; Munkasci B. Arja es kaukazusi
elemek a finn-magyar nyelvekben, I. Budapest, 1901: Jacobson H.
Arier und Ugrofinnen. Gottingen, 1922; Barczi G. Magyar szofejto
szotar. Budapest, 1941; C ol lin der B. Fenno-Ugric Vocabulary.
Stokholm, 1955, pp. 129—141; T o i von en Y., I t konen E., Joki A.,
Suomen kielen etymologinen sanakirja, I A955), II A958), III A962),
IV A969), Helsinki (в дальнейшем сокращенно: SKES).
2 H. Jacobson, Arier und Ugrofinnen, p. 171.
3 В дошедших до нас древнеиранских памятниках мы уже не
находим в именительном падеже основ на -а- окончания -ah; в авестий-
469
ском вместо -ah имеем -о; в древнеперсидском a (h здесь
утрачивался) .
4 Ни на чем не основаны догадки тех, кто считает, что приведенные
выше угро-финские слова могли быть усвоены из иранского еще в тот
древнейший период, когда и в иранском s не перешел еще в h. Этот
переход — важнейший отличительный признак иранских языков, и
утверждение, что в каких-то иранских языках он еще не совершился,
равносильно утверждению, что они еще не обособились как отдельная
иранская ветвь, а представляли лишь говоры внутри арийской общности.
Переход s -*¦ h был и остается для иранского (как и для греческого)
вполне надежным опознавательным признаком.
5 SKES, II, с. 436.
6 SKES, II, 131—2.
7 По SKES, I, 129 заимствовано еще из общеиндоевропейского
*yewo-.
8 Для разъяснения этих терминов некоторые исследователи
привлекали также осетинское выражение b?x ?ww?rdyn «готовить лошадь
к скачкам», полагая, что ?ww?rdyn по значению соответствует vartana
и что, стало быть, арийские иппологические термины из текста Киккули
тяготеют к иранскому, а не к индийскому (Bailey. Rocznik Orientalis-
tyczny 21, 1957, p. 64; Mayrhofer. Deutsche Literaturzeitung, 79, 1958,
S. 754; Mayrhofer, «Die Sprache» 5, 1959, S. 86). Такая интерпретация
слова ?ww?rdyn является недоразумением: ?ww?rdyn означает
«растирать, массировать», но никак не «бежать по кругу». Массаж был
необходимым элементом тренировки лошадей к скачкам, и ?ww?rdyn
употребляется осетинами именно в этом своем точном значении.
9 Майрхофер в своем последнем труде, содержащем
аннотированную библиографию (см. ниже) приводит свЫше 700 названий! Укажем
только некоторые работы: Konow Sten. The Aryan Gods of the
Mitanni People (Koyal Frederik University, Publications of the Indian
Institute), I, 1, 1921; Kristiania P. Kretschmer. Статьи в «Zeitschrift
fur vergleichende Sprachwissenschaft (KZ)» 55, 1928, в «Anzeiger d. Aka-
demie d. Wissenschaften in Wien», 1943, Nr. VII—X; G. Dumezil,
Naissance d'Archanges. Paris, 1945, pp. 15—55; M. Mayrhofer. Zu
den arischen Spachresten in Vorderasien. «Die Spache» 5, 1959, S. 77—95;
W. Eilers, M. Mayrhofer. Namenkundliche Zeugnisse der indi-
schen Wanderung? «Die Spache» 6, 1960, S. 107—134; P. T h i e m e.
The Aryan Gods of the Mitanni Treaties. «Journal of the American
Oriental Society», 80, Oct.— Dec, 1960, pp. 301—317; Annelies Kammen-
h u b e r. Hippologia hethica. Wiesbaden, 1961; R. H a u s с h i 1 d. Uber
die fruhesten Arier im Alten Orient. Berlin. 1962; M. Mayrhofer,
Die Indo-Arier im alten Vorderasien. Wiesbaden, 1966; A. Kammen-
h u b e r. Die Arier im Vorderen Orient, Heidelberg, 1968; И. M.
Дьяконов. Арийцы на Ближнем Востоке: конец мифа. ВДИ 1970 IV 39—63.
470
10 Предположение, что бог Вару на существовал у иранцев, но был
переименован в Ахурамазду, относится к тем висящим в воздухе
домыслам, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Могут сказать,
что исчезновение бога Варуны и низведение Индры и Насатии на уровень
демонов произошло под влиянием зороастризма Но ведь скифский
пантеон, чуждый зороастризму, не содержит даже намека на Варуну,
Индру и Насатиа.
11 А бае в В. И. Скифо-европейские изоглоссы. М., 1965, особенно
с. 129—131.
12 У И. М. Дьяконова в его упомянутой статье об арийцах на
Ближнем Востоке, с. 42, находим совершенно неожиданное утверждение:
«Они там и вымерли и в Индию попасть не могли».— Откуда это видно?
13 А б а е в В. И. У к. соч., passim.
14 Археологическое обоснование этой даты см. Roman Ghirshman.
Perse, Paris, 1963; «...культура Сиалка в Мидии приходится на конец
II и начало I тыс. до н. э., когда арийские племена появляются на плато,
которому они дали свое имя» (с. XIII); «в искусстве Сиалка мы можем
распознать зародыш того, чем станет искусство персов и мидийцев,
стало быть, того, что должно было находиться в багаже арийских
племен, незадолго до этого обосновавшихся на плато» (с. XIV);
«принадлежность некрополя в Сиалка иранским племенам, которые
обосновались на плато на подступах к I тыс. до н. э., не оспаривается» (с. 277).
15 Грантовский Э. А. Иранские племена из Приурмийского
района в IX—VIII вв. до н. э. «Древний мир». Сборник статей М.,
«Наука», 1962, с. 250—265. Его же. Ранняя история иранских племен
Передней Азии. М., 1970.
16 Грантовский Э. А. Иранские имена..., с. 263.
17 Великий сын Хорезма Бируни (X в. н. э.), чей авторитет во
всем, что касается истории его родины, стоит весьма высоко, утверждает,
что хорезмийцы ведут свое происхождение от персов. Если это так, то
приходится признать, что в их языке ареальные североиранские связи
оказались сильнее. Если сравнить синхронные персидские и хорезмий-
ские тексты, бросаются в глаза большие различия на всех уровнях:
в фонетике, морфологии, лексике. Вместе с тем налицо черты близости
к языкам северного ареала, протоосетинскому и согдийскому.
18 О переходе g-*-y см. В. И. Абаев. Ук. соч. 41—52.
19 А б а е в В. И. Ук. соч.
20 Там же, с. 12—14, 139—140.
Древний Восток и античный мир. М., 1972.
471
ДОИСТОРИЯ ИНДОИРАНЦЕВ
В СВЕТЕ АРИО-УРАЛЬСКИХ
ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ
(ТЕЗИСЫ)
1. Для освещения доистории индоиранских народов
мы располагаем данными четырех родов: 1)
лингвистическими, 2) археологическими, 3) историческими
(свидетельства античных авторов), 4) данными местной (индо-
арийской и иранской) фольклорной и литературной
традиции.
2. Данные последних двух категорий источников
(исторические и фольклорно-литературные) могут иметь
лишь вспомогательное значение, поскольку они
датируются слишком поздним временем по сравнению с фактами,
которые подлежат освещению,— с первоначальным
расселением и древнейшими миграциями индоиранских
народов. Таким образом, основная тяжесть ложится на
лингвистические и археологические данные.
3. Среди лингвистических свидетельств
первостепенное значение имеют лексические связи между
индоиранскими и угро-финскими языками. Никакое исследование
по доистории индоиранских народов не может
претендовать на научное значение, если оно не учитывает во всей
полноте и широте упомянутые арио-уральские связи.
4. Значение угро-финских данных для доистории
индоиранских народов особенно велико потому, что арио-
уральские контакты продолжались очень долго и отразили
не один, а несколько этапов исторического
развития индоиранских (а также самих угро-финских) языков:
а) период арийской общности; б) период
разделения этой общности на две ветви — протоиран-
скую и протоиндоарийскую; в) период
обособления североиранской (скифо-сармат-
с к о й) группы.
5. Некоторые скифские элементы в угро-финских
языках отмечены специфическими чертами индоарий-
с к о й речи. Это обстоятельство позволяет сделать вывод
о том, что выделение из арийской
общности протоиндоарииского языка имело
472
место уже на прародине индоиранцев
в Юго-Восточной Европе.
6. Итоговое значение в разработке данной проблемы
имеет фундаментальный труд арийского ученого А. Йоки
(А и 1 i s J. J o k i. Uralier und Indogermanen. Helsinki,
1973). Приведенный в этой книге обширный
сравнительный материал B22 словарные статьи) позволяет
ориентировочно выделить ряд хронологических пластов — от
протоарийского (начало III тыс. до н. э.) до аланского
(первые века нашей эры). Нередко в угро-финских
заимствованиях из арийского не распознаются
дифференциальные признаки конкретного периода или конкретной
языковой среды: протоарийской, протоиранской, прото-
индоарийской, протоскифской. Особенно трудно бывает
иногда размежевать протоарийское и протоиндоарийское.
Ниже приводятся выборочно некоторые арио-уральские
лексические параллели разных пластов.
7. К протоарийскому периоду можно отнести
следующие арийские заимствования в угро-финских
языках:
саами ariel, arjan 'южный', 'юго-западный' букв,
«арийский», «арийская сторона» — протоар. *агуа-, др.-инд.
авест. агуа- 'арий', 'арийский';
манси sat 'семь', венг. het (начальное h — под влиянием
hat 'шесть') id.— протоар. *sapta-, др.-инд. sapta-, авест.
hapta- ' ;
фин. jyva, эст. juva 'зерно', 'хлеб в зерне' — протоар.
*yava-, др.-инд., авест. yava- 'хлеб в зерне', 'ячмень';
морд, azja 'дышло' — протоар. *aisa, др.-инд. Jsa-
'дышло', но авест. aesa- 'плуг';
морд, sazor, sazdr (<—*sasar) 'младшая сестра',
'племянница', удм. suzer 'младшая сестра' — др.-инд. svasar-
'сестра';
фин. parsas, морд, purtsos, purts 'поросенок', коми
pors 'свинья', удм. pars id.— протоар. *parsa-, сак. pa'sa
(из par sa) 'свинья';
коми sur, удм. sura 'пиво' — др.-инд. sura- 'хмельной
напиток';
коми, удм. surs (<—*sasr) 'тысяча' — др.-инд. sahasra- id;
фин., эст. udar, морд, odar, мари woaar 'вымя' — др.-
инд. iidhar- id.;
фин. vermen 'кожица', vermeet 'одежда' — др.-инд.
varman- 'покров', 'панцирь';
473
фин. marras (основа marta-) 'умирающий', 'мертвый' —
протоар. mrtas, др.-инд. mrtas 'мертвый'.
8. Нижеследующие арийские элементы в угро-финских
языках лишены ясно выраженных фонетических или
семантических отличительных признаков какой-либо
одной арийской группы и могут с равным правом
рассматриваться как заимствования из протоарийско-
го, протоиндоарийского или протоиран-
с к о г о:
фин. тиги 'крошка', манси mur-, mor- 'крошиться',
'ломаться'—др.-инд. mur- 'крошить (ся)', 'дробить (сяI,
тигпа- раздробленный', сак. тигг- 'дробить', 'крошить',
осет. mur 'крошка', 'крупица';
коми karni 'делать', 'работать', 'колдовать', удм. karni
'делать' — др.-инд., авест. kar- 'делать';
фин. arvo 'цена' — др.-инд. argha-, авест. arya-, осет.
ary 'цена';
ханты pant 'дорога' — др.-инд. pantha, авест. panta-
'дорога';
коми pod 'нога' — др.-инд., Иран, pada- 'нога';
коми ram 'мирный', 'тихий', 'спокойный' — др.-инд.
rama-.
авест. гатап- 'покой', пехл., перс, ram 'спокойный',
'блаженный';
коми, удм. das 'десять' — др.-инд. dosa-, авест. dosa-,
осет, d?s и пр.;
фин. sata, эст. sada, манси sat, ханты sot, морд, sada,
мари s'uod 'сто' — др.-инд. sata-, авест. sata-, осет. s?d?
и др.;
фин., эст. osa 'доля' — др.-инд. amsa-, авест. asa- 'доля';
фин. or ja 'раб' — др.-инд., авест. агуа 'арий'; для
развития значения ср. осет. qazajrag 'крепостной', 'раб'
от племенного названия qazar 'хазар';
морд, sava 'коза' — др.-инд. chaga-, осет. s?y 'коза'
(g->v, как в bhagas — pavas 'бог');
морд, verges, vargas 'волк' — др.-инд. vrkas, памир.
(язык идга) wdrg и пр.;
ханты wat, wot, манси wat 'ветер' — др.-инд., авест.
vata-, осет. wad 'ветер';
венг. var 'крепость' — ар. *var- 'ограждать', авест.
varа-, пехл. war 'ограда'.
9. Протоиндоарийская специфика
распознается в следующих угро-финских элементах;
венг. tehen 'корова' — др.-инд. dhenu- 'корова', пенджа-
474
би dhen 'корова', авест. dainu- 'самка' (млекопитающих),
протоар. *dhainu-;
венг. te] 'молоко' — хинди dhai, непали dai, кашмири
dai, пракрит, dahi, др.-инд. dadhi- 'кислое молоко';
манси sis 'дитя' — др.-инд. sisu- 'дитя';
коми, удм. med 'плата' — др.-инд. rriidha- 'плата',
авест. mizda 'плата';
морд, saras 'кура' — др.-инд. saras- 'пестрый', sari
название птицы 'Graculus religiosa or maina' (Turner);
морд, sed', sed', коми sod 'мост' — др.-инд. setu- 'мост',
др.-иран. *haitu- (авест. haetu-), протоар. *saitu-;
манси sankwa 'кол', 'клин' — др.-инд. капки- 'кол';
манси mant 'черпак' — др.-инд. mantha, manthana-
'палка для помешивания, взбалтывания', 'мешалка', пали
mantha id.;
венг. szeker 'повозка' — бихари sagar, хинди sagar,
пенджаби chakra, ория chakara 'повозка', др.-инд. *saka-
га-, ср. др.-инд. sakata- 'повозка';
коми dom 'узда', 'уздечка', 'привязь', domavnd 'надеть
узду', 'обуздать) удм. аитэпэ 'привязать', 'связать' —
др.-инд. daman- 'веревка', 'путы', им. пад. dama;
коми dar, удм. durd 'разливательная чашка', 'ковш',
'уполовник' — др.-инд. darvi 'разливательный ковш',
'уполовник', кафир, dur id.
Приведенные урало-индийские параллели
свидетельствуют о том, что выделение из арийской общности прото-
индоарийской группы с ее специфическими чертами
имело место уже на прародине ариев между Уралом и
Каспием и что угро-финские народы (или некоторые из
них) имели с этой группой сепаратные контакты.
10. Протоиранский вклад в угро-финские языки
более обширен. Приведем лишь некоторые факты:
мари mari) 'человек', 'представитель народа мари' —
др.-иран. *тагуа-, авест. mairya-, др.-перс. тапка-
'(молодой) человек', др.-инд. marya- id.; усвоено и на Кавказе:
чечен, majr, mari, таг 'мужчина';
коми mort, удм. murt 'человек', ud-murt 'удмурт', морд.
mirde 'человек' — др.-иран., др.-перс. martya-, перс, mard
'человек';
фин. oras, морд, urozi 'кабан', 'боров' — авест. varaza-,
пехл. waraz (осет. W?raz — мужское имя) 'кабан';
фин. sarvi, эст. sarv, морд, suro, коми, удм. sur, мари
sur 'рог' — авест. sru-, srva- 'рог', srvaena- 'роговой';
коми varnos 'овца годовалая' — др.-иран. *varna-, пехл.
475
warrak (*warnaka-) 'баран' (сюда в конечном счете и
русское баран);
коми vurun 'шерсть' — авест. уагэпа-, др.-инд. йгпа-,
ст.-слав. vblna 'шерсть';
фин. vasa, эст. vasik, манси wasiy, венг. uszo 'теленок' —
др.-иран. vasa-, осет. w?s, др.-инд. vatsa- 'теленок';
коми kurog, удм. kureg 'кура' — авест. kahrka-, осет.
kark id.;
удм. erdzi 'орел' — др.-иран. *arzi-, авест. drazi-fya-,
арм. (из иран.) arc'iv, груз, arc'ivi 'орел';
ханты wards 'конский волос' — авест. vardsa- согд.,
пехл. wars 'волос';
манси ahser, ханты ahzar, венг. agyar, коми vodzir,
удм. wazer 'клык' — осет. ?ssyr, ?nsur? 'клык', авест.
asura- id., согд. *ansur ('nswr) 'бивень слона' (Vessantara
Jataka), ср. тохар, ankar 'клык';
коми buris, bursi 'грива' — авест. bardsa-, осет. bare
'грива';
коми, удм. majeg 'кол' — др.-перс. тауиха-, др.-инд.
mayukha-, согд. *техк, осет. тех 'кол';
фин. wasara, эст. vasar 'молот', морд, uzdr 'топор' —
авест. vazra- 'палица' (оружие бога Митры);
морд, spanst 'ременная уздечка' — афган, spansai
'шнур', осет. fsondz (*spanti-) 'ярмо';
манси rasn 'веревка' — перс, rasan, др.-иран. rasana-,
др.-инд. rasana,, 'веревка';
венг. ostor, диал. astar 'кнут', манси astar, ostar 'кнут' —
авест. astra- 'кнут', пехл. astar id.;
коми gort 'дом', удм. gurt 'дом', 'село', 'родина', ханты
kort, kurt 'хантыйское жилище или поселение' — прото-
иран. *grda-, авест. gdrdoa- 'дом', элам. (из иран.) kurtas
'слуга' (домашний), др.-инд. grha- 'дом';
коми, удм. zarni, вен. агапу 'золото' — авест. zaranya-,
осет. zeerin 'золото' (могло быть усвоено и из скифского);
венг. nad 'тростник', 'камыш' — авест. naoa-id., парф.
nad 'свирель', 'флейта';
манси sat, коми, удм. sud 'счастье' — авест. sat i- др.-
перс. syati 'счастье', перс, sad 'счастливый';
южносамоед. arda 'верно', 'правда' — др.-иран. arta-
'правда';
морд, erva 'каждый' — авест. harva- 'каждый', осет.
aly; морд, erva-ki 'всякий' — осет. al-ki id.;
мари raks 'темно-гнедой' — перс. . raxs id., др.-инд.
laksa- 'лак';
476
венг. tart 'держать' — авест. dar-, др.-перс. dar-, осет.
daryn 'держать', 'владеть', 'иметь'; конечный -/ в венг.—
либо сращенный формант причастия на -t, либо отражает
иранскую причастную основу darta-;
манси коп 'черпать', ханты kinta 'копать', венг. hany
'извергать', 'швырять', 'сгребать', коми kundd 'копать' —
авест. кап-, др.-перс. кап- 'копать';
венг. kincz 'сокровище' — др.-перс. *ganza-, арм. (из
иран.) gandz 'сокровище';
венг. петег 'войлок', ханты namat, манси natndt, коми
namod, namot 'портянки', 'онучи' — авест. nimata-, сак.
namata, согд. namat, осет. nym?t 'войлок';
фин. suka 'щетина', 'щетка' — авест. suka- 'игла', осет.
sug 'ость' (усики у колоса), др.-инд. suka- 'ость';
фин. tarna, эст. tam 'осока' (Сагех), коми, удм. turin
'трава', 'сено' — др.-инд. trna, сак. tarra (из *tarna-)
'трава'.
11. К концу II тыс. до н. э. определился распад
иранской общности на отдельные этнолингвистические группы.
Часть иранских племен продвинулась на юг, и только
северная, скифо-сарматская (сако-массагетская) группа
продолжала контактировать с угро-финнами. К этому
времени (I тыс. до н. э.) относится значительный пласт
иранских заимствований в угро-финских языках,
заимствований, которые можно называть скифо-сарма-
то-аланскими. Они распознаются по тому признаку,
что находят наиболее точные соответствия по форме и
значению в осетинском языке, единственном
сохранившемся представителе скифо-сармато-аланской группы.
Не исключено, конечно, что некоторые из этих элементов
восходят еще к протоиранскому периоду:
мари kdrtni, коми kort, удм. kort, ханты kartd
'железо' — осет. kard 'нож', 'меч', авест. kardta- 'нож';
коми tarzdnd 'дрожать' — осет. t?rsyn 'бояться';
ханты tegdr, мари torke (*+-tokre) 'ель' — осет. t?g?r
'клен';
манси sir ej (siry) 'меч' — осет. (в героическом эпосе)
cirq 'вид меча'; этимологически сближается с ciry 'острый';
коми jendon, удм. andan 'сталь' — осет. ?ndon 'сталь'
из др.-иран. *handana- '(стальная) накладка';
коми, удм. purt 'нож' (чуваш, purdd 'топор', эвенк.
purta, porta 'нож') — осет. f?r?t (из *parauu-) 'топор';
из скиф, вошло также в тохар.: porat 'топор';
коми, удм. pad, коми padvez, удм. padvoz 'пересечение',
477
'перекресток' — осет. f?d (из *pada- 'след'); из скиф, слово
вошло также в германские языки: нем. pfad 'тропа'
и пр.;
Mapukdne 'конопля' — осет. g?n (из *капа-) 'конопля',
скиф. *kannabis;
коми gon, удм. gon 'волосы' — осет. qun, yun 'шерсть',
авест. gaona-;
фин. varsa, эст. vars 'жеребец', 'жеребенок' — осет.
wyrs 'жеребец', др.-иран. *vrsan- 'самец';
фин. ternikko 'молодое животное», terne-maito
'молозиво' (maito 'молоко') — осет. t?rna 'мальчик', 'отрок',
авест. tauruna-: фин. terne-varsa 'молодой жеребенок'
— осет. *t?rna-wyrs (незасвидетельствованное, но вполне
реальное образование);
коми vurd 'выдра' — осет. wyrd, urd 'выдра', др.-иран.
udra-\
венг. keszeg — название рыбы 'Leuciscus', манси kaseuw,
ханты kosd — название небольшой рыбы — осет. k?sag —
общее название небольших рыб;
мари angdr 'рыболовный крючок' — осет. ?ngur id.:
манси ^serkes, carges 'орел' — осет. c?rg?s 'орел', авест.
kahrkasa- 'коршун';
морд, lomah 'человек' — осет. lym?n 'приятель'; для
развития значения ср. венг. ember 'человек' — осет. ?mbal,
др.-иран. *hambarya- 'товарищ';
удм. akse) 'князь' — осет. ?xsin 'госпожа', авест.
xsaya- 'повелитель', др.-перс. xsayauya- 'царь'; ср. скиф.
-ksais в именах мифических родоначальников скифского
народа Kola-ksais, Lipo-ksais, Arpo-ksais
(«Владыка-Солнце», «Владыка-Земля», «Владыка-Вода») ;
коми idog 'ангел' — осет. idaw?g 'божество', др.-иран.
*wi-tavaka-; сюда же (из осет.) даргинское (в Дагестане)
idbag 'пророк';
удм. bad'zim, badzin 'большой' — осет. b?zdzyn
'толстый';
мари wergd, коми vork 'почка' (анатом.) — осет. wdrg
id., др.-инд. vrkkau-,anecT. vdrdbka-;
коми gor 'звук', удм. gur 'мотив', 'напев' — осет. узег,
q?r, 'звук', 'шум';
удм. апа 'без' (послелог) — осет. ?n? 'без' (предлог),
авест. апа привативная частица (только в
сложении).
478
12. Мы не касаемся здесь сепаратных алано-венгерских
контактов. Они относятся к более позднему времени
(V—IX вв. н. э.) и к арийской проблеме отношения
не имеют. См. об этом нашу статью «К алано-венгерским
лексическим связям» (Europa et Hungaria. Budapest, 1965,
с. 517—537).
13. Некоторые авторы, говоря об иранских элементах
в угро-финских языках, считают их усвоенными из «каких-
то среднеиранских языков». Такая неопределенная
отсылка — без указания, какой именно среднеиранский язык
имеется в виду,— не может рассматриваться как
«паспортизация» данного слова. Следует подчеркнуть, что
в среднеиранский период угро-финны
могли непосредственно соседствовать
только с одной иранской группой—
скифо-сарматской (сако-массагет-
с к о й). Ни с согдийским, ни с хорезмийским, ни с бактрий-
ским, не говоря уже о парфянском и персидском, никаких
прямых контактов не могло быть. Чтобы в этом убедиться,
достаточно взглянуть на этнографическую карту данного
региона в I тыс. до н. э. Широкая полоса, занятая скифог
сакскими (позднее также тюркскими) племенами, навсегда
отрезала угро-финнов от остальных иранских народов.
И если мы все же встречаем в угро-финских языках
отдельные слова явно персидского облика, то речь идет
обычно о странствующих терминах, которые могли
попасть к угро-финнам через посредство других языков;
таковы венг. vasar 'базар'— пехл. vacar; ханты pili
'лопата' — перс. Ы1, bel, коми tasti 'чаша' — перс, тюрк, tast;
коми tasma 'ремень' — перс, tasma; самоед, pul 'мост' —
перс, pul и др.
14. Через ряд столетий пронесли арии память о своей
прародине и о ее великой реке Волге. Ведийское Rasa-,
авестийское Ranha-, пехлевийское Arang, название
мифической реки, которая «опоясывает землю», идентично
с мордовским Ravo («Волга»). Эта идентификация
решительно поддерживается античными авторами, которые
фиксируют для Волги названия 'Ра (Птоломей) и 'Рас
(Агатемер). Птоломеева форма отражает, видимо,
сарматское произношение этого гидронима.
479
Примечание
Лишены основания догадки тех, кто считает, что слова с арийским
5 усвоены из иранского в тот древнейший период, когда в иранском
s еще не перешел в h. Этот переход — важнейший дифференциальный
признак иранских языков в области фонетики, и непонятна та легкость,
с какой он объявляется лишенным классификационного значения (см.,
например: Mayrhofer. Die Indo-Arier im alten Vorderasien, Gottingen,
1966, c. 22). С таким же успехом можно объявить лишенными такого
значения и другие отличительные признаки иранских языков, но к чему
сведется тогда понятие «иранские языки»? Нельзя называть животное
копытным, если у него нет копыт. Нельзя говорить об иранском языке,
если в нем нет перехода s —>~ h.
Этнические проблемы истории
Центральной Азии в древности.
М., 1981
ТИПОЛОГИЯ АРМЯНСКОГО
И ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА
И КАВКАЗСКИЙ СУБСТРАТ
В многочисленных статьях, в особенности в известной
серии «Яфетические элементы в языках Армении»,
выходившей с 1911 по 1919 год, Н. Марр последовательно
и настойчиво проводит ту мысль, что интерпретация
армянского языка в аспекте только его индоевропейского
происхождения является односторонней, неточной и
недостаточной, что и в материальном и в структурном
отношении он развивался и формировался под сильным влиянием
того круга языков, которые он называл «яфетическими»
и которые мы называем теперь кавказскими или иберокав-
казскими и азианическими.
Впервые эта точка зрения была сформулирована еще
в 1903 г. во введении к «Грамматике древнеармянского
языка», с. XXXI:
«Одно выступает ясно: он (армянский язык) весьма
характерный образчик мешаного языка. Речь, конечно,
не о богатой примеси в нем явно заимствованных слов,
легко выделяемых и в значительной степени уже
выделенных. Я имею в виду ядро реального армянского
языка, возникшего на почве исторической Армении.
Само ядро двуродное». Не все этимологии
армянских слов, предложенные Марром, могут быть признаны
сейчас безупречными. Но принципиальная сторона его
концепции сохраняет свое значение: армянский язык
формировался на мощном кавказско-азианическом
субстрате. Это положение получило всестороннее
подтверждение в исследованиях арменистов новейшего времени,
в особенности Гр. Капанцяна '.
Мне уже приходилось отмечать, что в этом отношении
имеется большая близость между армянским и осетинским
языками. Если бы осетинский язык стал для Марра
предметом такого же интенсивного научного интереса и
изучения, как армянский, мы без сомнения получили бы
серию «Яфетическиие элементы в осетинском языке»,
16 В. И. Абаев
481
параллельную серии «Яфетические элементы в языках
Армении». И если такой серии у нас нет, то объясняется
это только тем, что Марр не успел вплотную заняться
осетинским языком. Однако в статье «Ossetica — Japhe-
tica», вышедшей в 1918 году, Марр, опираясь, правда,
на очень ограниченный материал, отчетливо
сформулировал мысль о значении «яфетического» вклада в
осетинский язык.
Действительно, прослеживая историю армянского и
осетинского языков, мы видим, что судьбы этих двух
языков складывались во многом параллельно и
симметрично.
Носители этих языков, оторвавшись в свое время от
своей исконной индоевропейской среды, после сложных
перипетий, вошли, армяне с юга, осетины с севера, в тесные
контакты с кавказским этническим и языковым миром.
Эти контакты и стали теми заключительными мазками
художника, которые придали армянскому и осетинскому
их современный облик.
Разница между осетинским и армянским в том, что
если для осетинского упомянутые контакты начались с
первых веков н. э., то для армянского они начались на
много столетий раньше, причем контактам с кавказским
миром предшествовали контакты с родственным ему
хуррито-урартским миром. Соответственно кавказско-
азианическое влияние на армянский язык оказывается
более глубоким и проникающим, чем кавказский вклад
в осетинском. Но это различие в степени не исключает
сравнения армянского и осетинского как двух
индоевропейских я 5ыков, подвергшихся сходным типологическим
и материальным влияниям со стороны
кавказско-азианического мира.
Иными словами: армянский и осетинский могут быть
предметом сравнительного или сопоставительного
изучения не только в аспекте их общей индоевропейской
основы, но и в аспекте их сходного субстрата. Эту же мысль
можно сформулировать и несколько иначе: армянский
и осетинский некоторыми своими материальными и
типологическими чертами могут участвовать в сравнительно-
сопоставительной грамматике и лексикологии кавказских
(а армянский — и азианических) языков.
Такое двуплановое сравнительное изучение применимо
к тем языкам, в которых две исходные системы в
результате длительных и интенсивных контактов породили новую
482
типологию, характеризуемую глубоким
взаимопроникновением исходных систем.
Так, тот же армянский язык можно сравнивать с
хеттским языком не только с точки зрения их общей
индоевропейской основы, но и в аспекте их сходного
азианического субстрата. Если когда-нибудь будет создана
сравнительная или сопоставительная грамматика
азианических (имею в виду прежде всего урартские, хуррит-
ский и протохаттский) языков, то хеттский и армянский
некоторыми своими элементами будут участвовать в этой
грамматике, как другими своими элементами они
участвуют в грамматике индоевропейской.
Таковы те общетеоретические соображения, которые
позволяют сравнивать материал и типологию армянского
и осетинского языков не только как представителей одной
(индоевропейской) семьи, но и как носителей сходных
субстратных отложений. Я не ставлю себе задачей дать
развернутую сравнительную характеристику армянского
и осетинского с интересующей нас точки зрения. Цель
данного сообщения более скромная: отметить несколько
фактов в лексике, фонетике, грамматике, в которых
сказался параллелизм исторических судеб армянского и
осетинского языков.
Говоря о словарном составе армянского языка, Гр. Ка-
панцян замечает: «Количество точно установленных
слов индоевропейского происхождения составляет не
более десяти процентов. Следовательно, вся остальная
масса незаимствованных слов, которые в большинстве
несомненно исконно армянские, должна считаться
местной азианической по происхождению» 2.
Как обстоит дело в осетинском?
Разработка осетинской этимологии находится сейчас
в самом разгаре, и рано еще делать окончательные
подсчеты. Но можно предположить, что около 30% слов
будут признаны исконным европейским наследием.
Наряду с этим в осетинской лексике есть кавказский
слой, который по своему историческому месту и значению
соответствует кавказско-азианическому слою армянского
и о котором, пользуясь формулировкой Марра, можно
сказать, что он относится к ядру реального осетинского
языка, формировавшегося на почве исторической Алании.
Марр и вслед за ним Капанцян совершенно правы, когда
они отказываются рассматривать этот слой как
чужеродный, заимствованный. Он составляет неотъемлемую
16*
483
часть основного словарного фонда и входит в него так же
органически, как индоевропейский • слой. На материале
армянского и осетинского языков можно хорошо видеть,
что заимствование, с одной стороны, и субстрат, с
другой — это разные вещи. В армянском имеется множество
заимствованных иранских слов,, в осетинском — множество
тюркских. Изъятие этих элементов значительно обеднило
бы армянский и осетинский языки, но не лишило бы их
национальной самобытности; они не переставали бы быть
самими собой, как не перестает быть самим собой человек,
с которого сняли украшения и одежды. Тогда как
изъятие субстратных элементов оставило бы в языке
кровоточащие раны.
Я остановлюсь только на одном, но мне кажется,
очень ярком и показательном примере параллелизма в
составе субстратной лексики армянского и осетинского
языка: именно на наличии в обоих языках слов с
бесспорными чертами мегрело-чанской или занской ветви
картвельских языков, с которой ни тот, ни другой теперь
не соседят.
Для армянского этот факт установил впервые Марр.
Позднее Капанцян в специальной работе «О
взаимоотношении армянского и лазо-мегрельского языков»
A952) значительно пополнил наблюдения Марра.
Приведу несколько примеров.
Грузинскому с'ег- 'муха' по звуковым^ормам занской
речи отвечает закономерно занское с'ап$. Это слово мы
находим в армянском.
Грузинскому с'аЫ- 'каштан' отвечает закономерно
занское c'ubur-. В карабахском диалекте армянского
находим с'уориг 'орех'.
Грузинскому c'irpl (из *сЧр1-) 'гной глаз' могло бы
отвечать занское *сЧриг-. В армянском имеем с'эриг, с'орг
с тем же значением.
Грузинскому sc'avla (из *savla) 'учить' должно бы
отвечать занское *sovor. Такую форму мы действительно
находим, но не в занском, а армянском: sovor-el.
Армянское ak'ari^ "yxo' отражает несохранившееся
занское *q'wani из общекартвельского *qwar-, ср. груз.
qur-, мегр. qii$ ухо'.
Армянское valordajn 'раннее утро' содержит элемент
ord, примыкающий к занскому ordo 'заря', 'утро', ordoso
'к утру', 'на утро' и др.
Полную аналогию этим фактам находим в осетинском.
484
Ряд осетинских слов явно картвельского характера
примыкает не к грузинскому, с которым осетинский тесно
соседит в настоящее время, а к занскому, от которого
он полностью оторван. Некоторые из этих фактов
приведены в моей статье «Мегрелизмы в осетинском» 3.
Грузинскому tal- «кремень» должно отвечать занское
*for-. В занском его нет, но в осетинском имеем dur,
dor 'камень', а с сохранением смычногортанного f в ирон-
ском d?l-fur 'камень очага' букв, «нижний (d?l) камень
(fur)».
Армянское p'ifiS 'ноздря', осет. fin3 'нос' отражают
занское рЧпЗ, которое отвечает грузинскому рЧг- 'рот';
ср. мегр. рЧ-$ Урот'.
Грузинскому cxir- 'палка' должно отвечать занское
*cxi(nK? В занском такого слова не находим, но оно
сохранилось в абхазском (схшЬ 'палка для подвешивания
котла') и осетинском (c?girib 'столб').
Грузинское c'ver- 'кончик, вершина' предполагает
занское *c'va«3, "*c\and- (не сохранилось) ; отсюда
осетинское c?nd (из * cw?nd с закономерным выпадением
w после согласного) 'куча камней'.
В моей упомянутой статье приводится еще несколько
аналогичных осетино-занских лексических встреч.4
Мы видим, стало быть, что в армянском и осетинском
с уверенностью распознается субстратный лексический
слой, характеризуемый чертами занской ветви
картвельских языков, с которой ни армяне, ни осетины сейчас
не соседят и не общаются. При этом в армянском и
осетинском сохраняются иногда такие занские формы,
которые ни в мегрельском, ни в чанском (лазском) не
засвидетельствованы. Тем самым армянский и
осетинский вносят свой вклад в сравнительную и историческую
лексикологию картвельских языков, так что историк этих
языков не может пройти мимо соответствующих
показаний армянского и осетинского.
Переходя к армяно-осетинским фонетическим
параллелям, я ограничусь одним, но достаточно показательным
явлением: смычногортанными согласными («абруптива-
ми» по терминологии Г. С. Ахвледиани). Во всем
индоевропейском мире только два языка имеют в своей
фонологической системе смычногортанные согласные:
армянский (восточный) 5 и осетинский. И если мы вспомним,
что эти согласные представляют один из характернейших
отличительных признаков кавказского языкового ареала,
485
то вывод напрашивается сам собой: эти согласные вошли
в армянский и осетинский из кавказского субстрата.
При этом важно подчеркнуть, что смычногортанные
согласные (абруптивы) в армянском и осетинском
встречаются не только в словах кавказского происхождения,
но и в индоевропейском слое их лексики. Можно привести
несколько десятков осетинских слов индоевропейского
происхождения, в которые проникли смычно-гортанные
согласные: k'ann?g 'маленький', sValy 'звезда', k?rt
'кусок' и др. Обильно представлены смычно-гортанные
(особенно к) в заимствованиях, причем не только из
кавказских, но и из других языков, в том числе из русского:
kanaw 'канава', kabuska 'капуста', sk'ola 'школа', sfol
'стол', p'ol 'пол' и мн. др.
Бросается в глаза близость всей фонологической
модели в армянском, осетинском и картвельском.6
Ряд наблюдений в интересующем нас плане можно
было бы сделать в области морфологии. Но для краткости
я и тут ограничусь одним примером: типологией
склонения. Дело не только в том, что в армянском и осетинском
одинаково утрачено индоевропейское флективное
склонение. Разрушение древнего склонения характерно для
большинства и.-е. языков. Показательно то, что на месте
древнего флективного склонения и в армянском, и в
осетинском создано склонение агглютинативного типа, с
одинаковыми окончаниями в ед. и множ. числе. При этом
типологическая модель склонения весьма близка в обоих
языках. В осетинском, как в армянском, имеются падежи:
именительный, родительный, дательный, отложительный,
местный. Есть и различия, не нарушающие однако общей
близости: в осетинском, в отличие от армянского, нет
особого творительного падежа, его функции выполняет
отложительный; в осетинском, далее, не один, а два
местных падежа: внутренний и внешний. Эта модель, как
известно, близка к склонению в картвельских, нахских
(чеченском и ингушском) и некоторых других кавказских
языках, где склонение также строится на принципе
агглютинации.
Из всех и.-е. языков, в которых имеется или имелось
развитое, многопадежное склонение, есть только два, в
которых существование винительного падежа стало
предметом сомнения: армянский и осетинский.
Положение дел таково. И в армянском (имею в виду
современный восточноармянский литературный язык),
486
и в осетинском нет особого морфологически
маркированного аккузатива.
Прямой объект ставится в имен, падеже, если он
мыслится как вещь или предмет, или в родительном (и
дательном для армянского), если он мыслится как
личность. Стало быть о существовании аккузатива в этих
языках можно говорить только в функциональном плане,
а не морфологическом. Но если стать на функциональную
точку зрения, то пришлось бы признать не семь и не
восемь падежей, как мы это видим в армянской и
осетинской грамматиках, а десятки, если не сотни. Ведь оттенки
функционального использования падежных форм в речи
весьма многообразны, и выявление их — дело синтаксиса,
а не морфологии.
Поэтому мне представляется, что правы те, кто,
оставаясь на строго морфологической точке зрения, отрицает
аккузатив и в армянском и в осетинском .
Случайно ли, что и на этот раз армянский и
осетинский идут нога в ногу? Думаю, что это так же не случайно,
как то, что в обоих языках наличествуют смычногортан-
ные согласные. И здесь объяснение близости между двумя
языками кроется не в общем индоевропейском
происхождении, а в общих субстратных влияниях.
Действительно, обратившись к кавказским языкам,
мы убеждаемся, что все они являются языками безаккуза-
тивного строя.
Но тут я предвижу одно возражение. Безаккузатив-
ное склонение связано в кавказских языках с характерной
для них так называемой эргативной конструкцией
предложения, когда логический субъект стоит в особом, эрга-
тивном падеже, а прямой объект остается
неоформленным. Этой конструкции, как известно, нет ни в армянском,
ни в осетинском. Возможно ли, что армянский и
осетинский усвоили из кавказского субстрата безаккузативную
парадигму, не восприняв одновременно связанную с ней
синтаксическую конструкцию?
Думаю, что это вполне возможно. Ошибочно было бы
думать, что парадигма существует только как абстракция
лингвистов в учебниках грамматики. Раз возникнув, она
живет в сознании говорящих как действующая модель,
независимо от тех синтаксических моделей, с которыми
она связана. И если в кавказских языках безаккузатив-
ность сочетается с эргативностью, вовсе не обязательно,
чтобы в армянском и осетинском мы имели такое же
487
сочетание. Эргативность связана с системой глагола.
Система же глагола чрезвычайно консервативна в и.-е.
языках, в том числе в армянском и осетинском. Эта
система в армянском и осетинском оказалась
непроницаема для субстратных влияний. Система же имени,
с которой связана парадигма склонения, была более
податливой для этих влияний. Вот почему мы находим
в армянском и осетинском безаккузативную парадигму,
но не находим эргативного строя. Можно было бы указать
еще ряд характерных общих черт армянского и
осетинского, объяснение которым надо искать не в их общем
индоевропейском происхождении, а в их общем
кавказском субстрате:
Утрата грамматического рода.
Развертывание системы послелогов вместо и.-е.
предлогов, причем послелоги и в армянском, и в осетинском
могут склоняться:
арм. k't'uri vra 'на крыше' — ос. x?dzary s?r
арм. k't'uri vraie 'с крыши' = ос. x?dzary s?r?j
(vraie и s?r?j — отложительный падеж).
Явление групповой флексии, когда, например, в
сочетании определения с определяемым изменяется по
падежам и числу только определяемое, а определение остается
без изменения. Приведенные армяно-осетинские
параллели, число которых можно было бы умножить,
свидетельствуют о том, что исторические судьбы обоих языков
были во многом сходными. Будучи двумя представителями
и.-е. семьи языков, они, естественно, имеют много общих
черт, обусловленных их общим происхождением. Но
наряду с этим мы находим в них много сходных и
параллельных явлений, которые возникли вторично как вклад
кавказской языковой среды.
Сюда входит значительное число лексических
элементов. В фонетике — смычно-гортанные согласные. В
морфологии — развитие агглютинации; система склонения;
отсутствие грамматического рода; групповая флексия.
В синтаксисе — система послелогов и др. явления. Вместе
с тем наш материал приводит к выводу, что влияние
кавказско-азианического мира на армянский язык было
более длительным и глубоким, чем соответствующие
влияния в осетинском. Этот вывод полностью согласуется
с тем, что мы знаем об исторических судьбах этих
языков и их носителей.
488
Примечания
1 Ср. такие работы Гр. Капанцяна, как: «К происхождению
армянского языка», 1946; «Хайаса — колыбель армян», 1947; «Chetto-arme-
niaca», 1933; «Хурритские слова армянского языка», 1951; «О
взаимоотношении армянского и лазо-мегрельского языков», 1952, и др.— См.
также Deeters G. Armenisch und Sudkaukasisch. «Caucasica», 3, 4.
Leipzig, 1926, 1927.
2 Капанцян Гр. К происхождению армянского языка, 1946,
с. 31.
3 Осетинский язык и фольклор, Москва, 1949, с. 323—330.
4 Стоит отметить арм. anguzi 'грецкий орех' — осет. ?nguz id.,
при грузинском nigoz. Об этом слове см. Hiibschmann. Arm. Gramm.
I 393, а также Eilers-Mayrhofer, Mitteil. d. Anthropol. Gesellschaft in
Wien, XCII, 1962, S. 89, Fn. 139.
5 Г. В. Церетели отмечает: «Неверно думать, будто глоттализован-
ные (смычно-гортанные, В. А.) согласные характерны только для
тех диалектов армянского языка, которые находятся под
непосредственным влиянием грузинского языка (например, для тбилисского, артвин-
ского и др.). Они в такой же степени характерны для всего восточно-
армянского, включая литературный армянский язык». Следуют ссылки
на A. Abeghian Neuarmenische Grammatik. Berlin und Leipzig, S. 23,
1936 и А. Г а р и б я н. Об армянском консонантизме, ВЯ, 5, 1959, с. 87
(см. Т. Гамкрелидзе и Г. Мачавариани. Система сонантов
и аблаут в картвельских языках. Тбилиси, 1965, с. 46, прим. 2).
6 Эту близость подчеркнул недавно Г. В. Церетели: «... существует
полное типологическое сходство между фонологическими системами
картвельских, армянского и осетинского» (там же, с. 46—47).
7 Подробнее см. мою статью «О винительном падеже в осетинском»
в сборнике «Осетинский язык и фольклор», с. 129—137.
«Sprache und Gesellschaft»
Festschrift Gertrud Putsch.
Jena, 1970.
ARMENO-OSSETICA
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ *
Тема, которую можно назвать «Armeno-ossetica», имеет
пока весьма небольшую историю. Разумеется, в работах
по сравнительной грамматике и этимологии
индоевропейских языков армянские факты иногда соседствуют с
фактами осетинского языка как одного из представителей
иранской группы. Но это бывает не так часто и носит
случайный характер. Стандартным представителем ново-
иранских языков считается персидский, хотя в некоторых
случаях осетинские факты с точки зрения этимологиче/
ской наглядности являются более показательными -и
выигрышными, чем персидские.
Главное же состоит в том, что в работах такого рода
трудно разглядеть какие-либо специфические, сепаратные
связи между армянским и осетинским в рамках
сравнительной индоевропеистики. Между тем такие сепаратные
изоглоссы существуют. Приведу лишь пару примеров:
Осет. dog? 'время' — арм. tok 'длительность', от и.-е.
*du-, *deu-, 'длиться; удаляться'.
Осет. l?dz?g 'палка'— арм. как 'рычаг', при греч.
XdxTig 'пест', литов. lazda 'палка'.
Осет. ?vsati 'божество охоты', сван. Apsat' id.— арм.
astvac 'бог'. Сванское слово сопоставлялось с армянским
Н. Я. Марром (осетинские факты были ему неизвестны).
Он связывал их с фрако-фригийским именем бога
Диониса Sabazios '.
Яркие совпадения находим в заимствованной лексике.
Осет. malus?g 'подснежник' и арм. manusak 'фиалка',
оба связаны в конечном счете с перс, banafsa 'фиалка'.
Но осет. malus?g никак не могло получиться из перс.
banafsa. Оно примыкает непосредственно к арм. manusak
и должно рассматриваться как заимствование из послед-
* Доклад, прочитанный на Конференции по вопросам
взаимоотношения и развития языков Закавказья, проходившей в г. Ереване 13—
14 сентября 1977 г.
490
него в результате прямых контактов. Такие контакты
действительно имели место в первые века нашей эры,
когда предки осетин, аланы, появились и значительной
массой оседали на территории Армении.
Эти контакты оставили яркий след в народной памяти.
Армянский историк Моисей Хоренский (V в. н. э.) записал
от народных певцов из провинции Гохтан в Нахичеван-
ской области красочное предание о свадьбе армянского
царя Арташеса и аланской принцессы Сатеник (осет.
Сатана), свадьбе, на которой «лился жемчужный и
золотой дождь».
Ряд лексических армяно-осетинских встреч отмечает
Бейли 2. Недавно Г. М. Налбандян убедительно обосновал
аланское происхождение таких армянских имен, как
Radamist, Sag, женского имени Asxen и др.3
Но армяно-осетинские звуковые отношения, помимо
общеиндоевропейских и армяно-иранских связей, имеют
еще один аспект, на который лишь в последнее время было
обращено внимание исследователей: аспект общего для
обоих языков субстрата кавказско-азианического типа4.
Разумеется, такой первоклассный ученый прошлого
века, как Г. Гюбшман, обладавший глубокими знаниями
как в армянском, так и осетинском 5, не мог не заметить
близость звуковой системы армянского, осетинского и
грузинского. Но значение этого факта для
типологической характеристики этих языков оценил впервые, если
не ошибаюсь, норвежский лингвист X. Фогт6. Этот же
ученый в статье, посвященной системе падежей в
осетинском, отмечает агглютинативный характер и близость
типологической модели осетинского, новоармянского и
новогрузинского склонения 7.
В предисловии к книге Т. Гамкрелидзе и Г. Мачава-
риани «Система сонантов и аблаут в картвельских
языках» Г. В. Церетели писал о «полном типологическом
сходстве между фонологическими системами
картвельских, армянского и осетинского» 8.
Касается армяно-осетинских языковых отношений и
К.-Х. Шмидт. Он отмечает, что «фонологическая и
грамматическая системы этих языков обнаруживают влияние
хавказских языков», и в качестве примера приводит
агглютинирующее склонение: 1) лексема, 2) показатель числа,
3) одинаковый для ед. и мн. числа показатель падежа 9.
В новейшей работе польского ученого А. Писовича
проводится мысль: фактор субстрата играл решающую роль
491
в передвижении согласных в армянском языке;
предполагаемый субстрат был близок к кавказским языкам10.
В 1970 г. в юбилейном сборнике, посвященном
восточногерманской лингвистике Гертруде Петш, вышла мо5
статья «Типология армянского и осетинского языков и
кавказский субстрат» ". Поскольку «Festschrift Gertrud
Patsch» мало известен в Советском Союзе, я позволю
себе повторить здесь некоторые положения упомянутой
статьи.
Н. Я. Марр, Г. Дэтерс и Гр. Капанцян в ряде работ
показали, что материальный состав и типологическая
специфика армянского языка не могут быть разъяснены
удовлетворительным образом как результат имманентного
развития из древнеиндоевропейского состояния ' .
Приходится предполагать не прямолинейный, а сложный
этно- и глоттогенетическии процесс, в ходе которого
индоевропейская модель наложилась
на модель кавказско-азианического
типа.
Сказанное применимо а целом и к осетинскому языку.
Здесь также имело место взаимодействие пришлой
индоевропейской (иранской) среды с коренной кавказской,
и это взаимодействие определило специфику
современного осетинского языка.
Таким образом, изучение истории осетинского и
армянского языков приводит к выводу, что судьбы этих двух
языков складывались во многом параллельно и
симметрично.
Носители этих языков, оторвавшись в свое время от
своей исконной индоевропейской среды, после сложных
перипетий, вошли, армяне с юга, осетины с севера, в
тесные контакты с кавказским этническим и языковым
миром. Эти контакты и стали теми заключительными
мазками художника, которые придали армянскому и
осетинскому их современный облик.
Это дает право на сравнение армянского и осетинского
как двух индоевропейских языков, подвергшихся сходным
типологическим и материальным влияниям со стороны
кавказско-азианического мира.
Иными словами: армянский и осетинский
могут быть предметом сравнительного
ил и сопоставительного изучения не
только в аспекте их общей
индоевропейской основы, но и в аспекте их сход-
492
ного субстрата. Эту же мысль можно
сформулировать и несколько иначе: армянский и осетинский
некоторыми своими материальными и типологическими
чертами могут участвовать - в сравнительно-сопоставительной
грамматике и лексикологии кавказских (а армянский —,
и азианических) языков, как другими (основными)
элементами они участвуют в сравнительной грамматике и
лексикологии индоевропейских языков.
Не ставя себе задачей дать развернутую сравнительную
характеристику армянского и осетинского с
интересующей нас точки зрения, отметим несколько фактов в
лексике, фонетике, грамматике, в которых сказался
параллелизм исторических судеб армянского и осетинского
языков. ..
Начну с лексики: говоря о словарном составе
армянского языка, Гр. Капанцян замечает: «Количество точно
установленных слов индоевропейского происхождения
составляет не более десяти процентов. Следовательно,
вся остальная масса незаимствованных слов, которые в
большинстве несомненно исконно армянские, должна
считаться местной азианической по происхождению» 13
Как обстоит дело в осетинском?
Разработка осетинской этимологии находится сейчас
в самом разгаре, и рано еще делать окончательные
подсчеты. Но можно предположить, что около 35% слов
будут признаны исконным индоевропейским
наследием.
Наряду с этим в осетинской лексике есть кавказский
слой, который по своему историческому месту и значению
соответствует кавказско-азианическому слою армянского.
Марр и Капанцян совершенно правы, когда они
отказываются рассматривать этот слой как чужеродный,
заимствованный. Он составляет неотъемлемую часть основного
словарного фонда и входит в него так же органически,
как индоевропейский слой. На материале армянского и
осетинского языков можно хорошо видеть, что
заимствование, с одной стороны, исубстрат, с другой,
это разные вещи. В армянском имеется множество
заимствованных иранских слов, в осетинском множество
тюркских. Изъятие этих элементов значительно обеднило
бы армянский и осетинский языки, но не лишило бы их
национальной самобытности; они не перестали бы быть
самими собой, как не перестает быть самим собой человек,
с которого сняли украшения и одежды. Тогда как изъятие
493
субстратных элементов оставило бы в языке
кровоточащие раны.
Я остановлюсь только на одном, но, как мне кажется,
очень ярком и показательном примере параллелизма в
составе субстратной лексики армянского и осетинского
языков: именно на наличии в обоих языках слов с
бесспорными чертами мегрело-чанской, или занской,
ветви картвельских языков, с которой ни тот, ни другой
теперь не соседят.
Для армянского этот факт установил впервые Марр.
Позднее Капанцян значительно пополнил наблюдения
Марра и.
Приведу несколько примеров.
Груз. суег- 'муха' по звуковым нормам занской речи
отвечает закономерно занск. с'апЬ. Это слово мы находим
в армянском.
Груз. с'аЫ- 'каштан' отвечает закономерно занск.
с'иЬиг-. В карабахском диалекте армянского находим
с'уориг 'орех'.
Груз. сЧгрХ- (из *сЧр1-) 'гной глаз' могло бы отвечать
занск. *сЧриг-. В армянском имеем с'эриг, с'орг с тем-
же значением.
Груз, sc'avla (из *savla) 'учить' должно бы отвечать
занск. *sovor. Такую форму мы действительно находим,
но не в занском, а армянском: sovor-el.
Арм. ак'аНЪ vyxo' отражает несохранившееся занск.
*q,wan^ из общекартв. *qwar-, ср. груз, qur-, мегр. quj
'ухо'.
Арм. valordajn 'раннее утро' содержит элемент ord,
примыкающий к занск. ordo 'заря'; 'утро', ordosa 'к утру;
на утро' и др.
Полную аналогию этим фактам находим в осетинском.
Ряд осетинских слов явно картвельского характера
примыкает не к грузинскому, с которым осетинский тесно
соседит в настоящее время, а к занскому, от которого
он полностью оторван 15.
Груз, fal 'камень' должно отвечать занск. *for-, В
занском его нет, но в осетинском имеем dur/dor 'камень',
а с сохранением смычно-гортанного f в иронском d?l-fur
'камень очага', букв, 'нижний (d?l) камень (fur)*.
Арм. pirty 'ноздря', осет. findz 'нос' отражает занск.
*pin%, которое отвечает груз, pir- '-рот', ср. мегр. p'i^ 'рот/.
Груз, cxir- 'палка' должно отвечать занск. cxi(n)\.
В занском такого слова не находим, но оно сохранилось
494
в абхазском (схэпЪ 'палка для подвешивания котла') и
осетинском (c?gindz 'столб').
Груз, c'ver- 'кончик, вершина' предполагает з"анск.
*c'van)z, *c,vand- (не сохранилось); отсюда осет. c?nd
(из *cw?nd с закономерным выпадением w после
согласного) 'куча камней'.
В моей статье «Мегрелизмы в осетинском» приводится
еще несколько аналогичных осетино-занских лексических
встреч 16.
Мы видим, стало быть, что в армянском и осетинском
с уверенностью распознается субстратный лексический
слой, характеризуемый чертами занской ветви
картвельских языков, с которой ни армяне, ни осетины сейчас
не соседят и не общаются. При этом в армянском и
осетинском сохраняются иногда такие занские формы,
которые ни в мегрельском, ни в чанском (лазском) не
засвидетельствованы. Тем самым армянский и осетинский
вносят свой вклад в сравнительную и историческую
лексикологию картвельских языков, так что историк этих
языков не может пройти мимо соответствующих показаний
армянского и осетинского.
Близость фонологических систем армянского,
осетинского и картвельских уже не раз отмечалась. Различия
незначительные. В армянском нет гласного передне-
среднего ряда се, который находим в таких осетинских
словах, как f?r?t 'топор', s?d? 'сто' и др. В осетинском
нет наличного в армянском фрикатива h. Его место в
системе занимает фрикатив /. Оба они восходят к старому
р и, стало быть, занимают симметричные позиции. В
осетинском, в отличие от армянского, нет двух г, мягкого
и твердого. Характерна для сравниваемых языков система
смычных согласных из трех рядов: глухого
непридыхательного, глухого придыхательного и звонкого. Глухой
непридыхательный ряд представлен в осетинском и
картвельском так называемыми смычно-гортанными (или
глоттализованными, абруптивными) согласными к\ р\
t\ c', с\ Существуют ли они и в армянском? На этот счет
нет, кажется, единодушия. По мнению некоторых, они
характерны только для тех армянских говоров, которые
соседят с грузинским,— тбилисского, артвинского. Другие
утверждают, что они распознаются во всем нововосточно-
армянском ареале. Последнюю точку зрения отстаивал
Г. В. Церетели, который ссылался при этом на А. Абегяна
и на статью А. С. Гарибяна |7. Думаю, что армянские
495
фонетисты экспериментальными исследованиями уже
внесли полную ясность в этот вопрос. В данной связи
он не имеет -принципиального значения. С
фонологической точки зрения важно положение фонем в системе,
а не их артикуляционные особенности.
Большую близость выявляют новоармянский и
осетинский в типологии склонения и синтаксисе падежей.
Дело не только з том, что в новоармянском и осетинском
одинаково утрачено индоевропейское флективное
склонение.
Разрушение древнего склонения характерно для
большинства индоевропейских языков. Показательно, что на
месте древнего флективного склонения и в армянском,
и в осетинском создано склонение агглютинативного
типа, с одинаковыми окончаниями в единственном и
множественном числе. При этом типологическая модель
склонения весьма близка в обоих языках. В осетинском,
как в армянском, имеются падежи: именительный,
родительный, дательный, отложительный, местный. Есть и
различия, не нарушающие однако общей близости: в
осетинском в отличие от армянского нет особого
творительного падежа, его функции выполняет отложительный;
в осетинском, далее, не один, а два местных падежа:
внутренний и внешний. Эта модель, как известно, близка
к склонению в картвельских, нахских (чеченском и
ингушском) и некоторых' других кавказских языках, где
склонение также строится на принципе агглютинации.
Из всех индоевропейских языков, в которых имеется
или имелось развитое, многопадежное склонение, есть
только д в а, в которых существование винительного
падежа стало предметом сомнения и споров:
армянский и осетинский.
Положение дел таково. И в армянском (имею в виду
современный восточноармянский литературный язык),
и в осетинском нет особого морфологически
маркированного аккузатива. Прямой объект ставится в именительном
падеже, если он мыслится как вещь или предмет, или
в дательном (для армянского), или родительном (для
осетинского), если он мыслится как личность. Стало быть,
о существовании аккузатива в этих языках можно
говорить только в функциональном плане, а не
морфологическом.
Случайно ли, что и на этот раз армянский и осетинский
идут нога в ногу? Думаю, что не случайно. И здесь
496
объяснение близости между двумя языками кроется
не в общем индоевропейском происхождении, а в общих
субстратных влияниях.
Действительно, обратившись к кавказским языкам,
мы убеждаемся, что они являются языками безаккуза-
тивного строя. В грузинскрм, например, прямой объект
стоит в одних временах в именительном падеже, в
других — в дательном. Особого формально
характеризованного аккузатива не существует.
Следует особо остановиться на различении класса
личностей и класса вещей в роли прямого
объекта. Как я уже отмечал, и тут существует полная аналогия
между армянским и осетинским. Разница только в том,
что в армянском названия личностей стоят в этом случае
в дательном падеже, а в осетинском — в родительном.
Совпадает не только общая картина, но и все нюансы.
В «Ежегоднике иберийско-кавказского языкознания»
опубликована статья Л. К. Саникидзе 18. Речь в ней идет
в основном о различении личности и вещи в роли прямого
объекта. Автор касается имеющихся разногласий и
споров, излагает мнения выдающихся армянских языковедов
по данному вопросу.
Я проделал такой эксперимент. В соответствующем
разделе статьи Л. К. Саникидзе вместо «армянский»
повсюду вставил «осетинский», а вместо «дательный
падеж» — «родительный падеж». Абсолютно все
оказалось приложимо к осетинскому языку. Не пришлось
менять ни одного слова.
Среди осетинских, как и армянских, филологов давно
ведутся однотипные споры, существует или не существует
в их языках винительный падеж. В защиту той и другой
точек зрения там и тут выдвигаются совершенно
идентичные аргументы. «Аккузативисты» считают решающим
функциональный момент: раз существует функция
прямого объекта, значит есть и соответствующий падеж,
если даже по форме он совпадает с дательным, resp.
родительным падежом. «Антиаккузативисты» говорят: нет
формально маркированного показателя прямого
объекта — значит, нет винительного падежа. Сражения между
«функционалистами» и «формалистами» продолжаются
по сей день. Они идут с переменным успехом. Говоря
былинным языком «то сей, то оный набок гнется». Не
претендуя на роль судьи в этом споре, хочу только
заметить, что в строго морфологическом плане приоритет
497
следует отдавать формальной стороне. Ведь морфология
по самому смыслу этого термина — учение о формах,
а не функциях. Функции — дело синтаксиса.
Общим для армянского и осетинского оказалось и то,
что категория личности и вещи перекрещивается с
категорией определенности и
неопределенности. В результате название человека в функции прямого
объекта может стоять в именительном падеже, если речь
идет о неопределенном лице. С другой стороны, например,
название животного может стоять в дательном (в
армянском) или родительном (в осетинском), если речь идет
об определенном животном.
Так,в осетинской фразе l?g amardta 'он убил
человека' l?g 'человек' стоит не в родительном, а
именительном падеже, потому что здесь лишь констатируется факт
человекоубийства безотносительно к личности убитого.
Точно так же во фразе us rakwyrdta 'он женился' [букв,
'высватал (rakwyrdta) жену (из,)'] us стоит в именительном
падеже, потому что лишь констатируется факт женитьбы,
безотносительно к личности жены. С другой стороны,
фраза 'он зарезал барана' может иметь в осетинском
двоякий вид: fys arg?vsta и fysy arg?vsta. В первом случае
речь идет о неопределенном баране (fys 'баран' стоит
в именительном падеже), во втором — об определенном
(fys стоит в родительном падеже). Точно такую же
картину, если вместо родительного подставить дательный
падеж, дает армянский: es sat gitnakanner em canacum 'я
знаю много ученых' и es sat gitnakanneri em canacum
'я знаю многих ученых' |9. В первом случае прямой объект
стоит в именительном падеже (неопределенные ученые), во
втором — в дательном (определенные, лично знакомые ученые).
С другой стороны, фразы gjulacin brnec гт и gjulacin
brnec $iun означают обе 'крестьянин поймал лошадь', но
в первом случае речь идет о неопределенной лошади
(прямой объект в именительном падеже), во втором — об
определенной (прямой объект в дательном падеже).
Переводчик с армянского на осетинский и обратно ни на
минуту не затруднился бы в точном, адекватном переводе
подобных фраз.
Можно было бы указать еще ряд характерных общих
черт армянского и осетинского, таких как утрата
грамматического рода, развертывание системы послелогов,
заменивших функционировавшие ранее предлоги. Объяснение
этим и некоторым другим армяно-осетинским схождениям
498
надо искать не в общем индоевропейском
происхождении, а в общем кавказском субстрате.
Хочется сказать несколько слов о субстрате вообще.
Когда говоришь о кавказском субстрате в осетинском,
иногда наталкиваешься на скептическое отношение.
Говорят так: если в осетинском есть кавказские элементы,
почему это надо называть субстратом, а не просто
заимствованием. Такой скептицизм лишен основания и
порождается недостаточной осведомленностью в существе
дела. Понятие субстрата абсолютно реальное, четкое и
строго научное. Неясность возникает тогда, когда субстрат
рассматривают как чисто лингвистическое явление. Но
в том-то и дело, что это не так. Явление субстрата
предполагает этногенетический процесс, связанный с
этническим смешением и сопровождающийся
между прочим языковыми последствиями. Подчеркиваю:
между прочим. Помимо языковых, явление
субстрата характеризуется другими последствиями:
антропологическими, этнографическими, всем обликом материальной
и духовной культуры. Стало быть, о субстрате можно
говорить только тогда, когда налицо весь комплекс его
проявлений: антропологических, этнографических,
языковых. Для осетинского это проверено и полностью
подтверждается: по антропологическому типу осетины ближе
к своим соседям на Кавказе, чем, скажем, к персам или
афганцам; их материальная и духовная культура также
характеризует их как одну из разновидностей кавказского
этнографического мира. Вот почему мы с такой
уверенностью говорим о кавказском субстрате в осетинской
этнической культуре. Чтобы с такой же уверенностью
говорить о субстрате в армянской этнической культуре,
надо выявить его не только на языке, но также во всем
комплексе признаков: антропологических,
этнографических и пр. Не сомневаюсь, что это уже сделано
армянскими учеными.
В заключение повторяю, что изложенные наблюдения
являются предварительными и касаются только того,
что, если можно так выразиться, лежит на поверхности.
Армяно-осетинские языковые отношения заслуживают
более углубленного изучения.
499
Примечания
Марр H. Я. Бог Sabazios y армян. «Изв. Российск. АН», 1911,
с. 759—774. Его же. Фрако-армянский Sabazios-aswac и сванское
божество охоты. «Изв. Российск. АН», 1912, с. 827—830.
2 В ai le y H. W. «Revue des etudes armeniennes», II, 1—3, 1965.
3 Налбандян Г. M. Армянские имена скифо-алано-осетинско-
го происхождения. «Вопросы иранской и общей филологии», Тбилиси,
1977.
4 Под азианическими языками мы разумеем урартский, хурритский
и протохаттский.
5 Ср., с одной стороны, его «Armenische Grammatik», Leipzig, 1897,
с другой — «Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache»,
Strassburg, 1887.
6 V o g t H. Substrat et convergence dans l'evolution linguistique.
Remarques sur l'evolution et le structure de l'armenien, du georgien, de
l'ossete et du turc, «Studia Septentrionalia», II, Oslo, 1945.
7 Vogt H. Le systeme des cas en ossete, 4, Copenhague, 1944.
8 Церетели Г. В. О теории сонантов и аблаута в картвельских
языках, предисловие к кн.: Т. Гамкрелидзе, Г. Мачавариани. Система
сонантов и аблаут в картвельских языках, Тбилиси, 1965, с. 046—047.
9 Шмидт К. -X. Проблемы генетической и типологической
реконструкции кавказских языков, ВЯ, 1972, 4.
10 Р i s o w i c z A. Le developpement du consonantisme armenien,
Wroctaw, 1967.
" A б а е в В. И. Типология армянского и осетинского языков и
кавказский субстрат, «Sprache und Gesellschaft», Jena, 1970.
12 Марр Н. Я. Яфетические элементы в языках Армении, СПб.,
1911 —1919; Deeters G. Armenisch und Sudkaukasisch, «Caucasica»,
Leipzig, 3—1926, 4—1927; Гр. Капанцян. К происхождению
армянского языка, Ереван, 1946; его же, Хайаса — колыбель армян,
Ереван, 1948; его ж е. О взаимоотношении армянского и лазо-
мегрельского языка, Ереван, 1952 и др.
13 Капанцян Г. А. К происхождению армянского языка, с. 31.
14Капанцян Г. А. О взаимоотношении армянского и лазо-
мегрельского языков.
15 Некоторые из этих фактов приведены в ст.: А б а е в В. И.
Мегрелизмы в осетинском. «Осетинский язык и фольклор», М., 1949,
с. 323—330.
16 Стоит отметить арм. anguzi «грецкий орех» — осет. ?nguz id.
при грузинском nigoz-. Об этом слове см.: Hiibschmann,
Armenische Grammatik, I, c. 393, а также: Eilers-Mayrhofer, Mittel. d.
Anthropol. Gesellschaft in Wien, XCII, 1962, c. 89, Fn. 139.
17 Церетели Г. В. Указ. соч., с. 046, примеч. 2.
500
18 Саникидзе Л. К. О семантическом противопоставлении
человека (личности) и вещи в армянском языке, ЕИКЯ, II, Тбилиси,
1975, с. 281—292.
19 Примеры приведены из кн.: И. К. К у с и к ь я н. Грамматика
современного литературного армянского языка, М.-Л., 1950, с. 136.
Вопросы языкознания, 1978, № 6.
НЕКОТОРЫЕ
ОСЕТИНО-ГРУЗИНСКИЕ
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Осетино-грузинские культурные контакты начались
на заре нашей эры и продолжаются непрерывно по сей
день. Вполне естественно поэтому, что они оставили
заметный след в обоих языках .
Как ни показательны материальные лексические
заимствования, о глубине взаимных связей еще красноречивее
говорят схождения в области семантики, идиоматики,
фразеологии. На эту сторону осетино-грузинских
языковых отношений обратил внимание еще Н. Я. Марр.
«Вопрос... не об одних словах и терминах, а о всем
духовном складе осетин, как входящих с весьма давней эпохи
в состав кавказского населения и разделяющих с ним
особенности местной кавказской народной психологии до
степени выражения ее и в родной речи, в ее фонетических,
морфологических и особенно в семантических и
синтаксических особенностях» 2.
В недавнее время на осетино-грузинских
семантических схождениях остановился Г. С. Ахвледиани 3.
Разработке этой благодатной темы мешало до сих пор
отсутствие таких справочных лексикографических
изданий по осетинскому и грузинскому, в которых во всей
полноте и с необходимой документацией была бы
представлена лексика и лексическая семантика этих языков.
Для грузинского положение коренным образом
изменилось после выхода в свет восьмитомного «Толкового
словаря грузинского языка» под редакцией Арн. Чико-
бава4. Этот словарь впервые создал солидную научную
базу для любых лексикологических изысканий как внутри-
грузинского, так и сравнительного порядка, в частности —
сравнительно-семантических.
Для осетинского автор настоящей статьи располагает
собранной им самим словарной картотекой, материалы
которой частично используются в «Историко-этимологи-
ческом словаре осетинского языка».
Имея в виду привлечь внимание к нескольким осетино-
502
грузинским параллелям в области лексической семантики,
считаем необходимым напомнить предварительно о
фактах, уже отмеченных Г. С. Ахвледиани.
Слово «сердце» (ос. z?rd?, груз, gul-i) и «голова»
(ос. s?r, груз, tav-i) в осетинском и грузинском участвуют
во множестве образований, композитов, словосочетаний,
идиом, фразеологизмов, идентичных или близких по
строению и значению.
1. Примеры с ос. z?rd?, груз, gul-i 'сердце': ос. fyd-
z?rd? — груз, avgul-i 'злой', 'злобный', букв, «имеющий
дурное (ос. fyd, груз, av-i) сердце»; ос. sawz?rd? — груз.
savgul-i (в фамилии Savgulije), букв, «имеющий черное
сердце»; ос. dur z?rd? — груз, gulkva 'жестокий',
'черствый', букв, «имеющий каменное (ос. dur, груз, kva)
сердце»; ос. ?rgomz?rd? — груз, gulaxdil-i 'откровенный',
'простосердечный', 'искренний', 'общительный', букв,
«имеющий открытое (ос. ?rgom, груз, axdil-i) сердце»;
ос. iwz?rdyg — груз, ertgul-i 'преданный', 'верный', букв,
«единосердечный», (ос. iw, груз, ert-i 'один'); ос. z?rd?
x?cc? — груз, gulisreva 'тошнота', букв, «смешение
сердца» (ос. x?cc?, груз, reva, areva 'смешение') и др.5
К примерам Г. С. Ахвледиани можно добавить: ос.
q?b?rz?rd? — груз, gulmagar-i 'твердый', 'стойкий' (ос.
q?b?r — груз, magar-i 'твердый'); ос. ?xk?d z?rd? — груз.
guldaxurul-i 'скрытный', букв, «имеющий закрытое сердце»;
ос m? z?rdyis — груз, megul-eb-a «я намерен»; ос. styr-
z?rd? — груз, didgul-i 'высокомерный', букв, «имеющий
большое сердце». Оба языка связывают с сердцем
способность памяти: ос. z?rdyl daryn 'помнить' («держать
на сердце»), ср. груз, gulmavic'qi 'забывчивый' («с
забывчивым сердцем»).
2. Примеры с ос. s?r, груз, tav-i 'голова': ос. s?ribar —
груз, tavisupal-i 'свободный', букв, «имеющий власть
(ос. bar — груз, upal-i) над (своей) головой»; ос. s?rb?dd?n
груз, tavsak'rav-i 'косынка', 'повойник', букв, «повязка
(ос. b?dd?n, груз, sak'rav-i) головы»; ос. s?ryl (от s?r
'голова') и груз, tvis (от tav-i) в значении 'за', 'в защиту',
например, ос. ad?my s?ryl — груз, xalxistvis 'за народ',
'в защиту народа'6.
3. Образования с ос. qus, vpyz.qur-i 'ухо'; ос. qusdard —
груз, quradyeba 'внимание' букв, «уходержание» (ос.
daryn: dard «держать» (или «уховзятие») — груз, yeba
'брать'); ос. xidyqus — груз, xidisqur-i 'предмостье',
'начало моста', букв, «ухо моста» 7.
503
4. Oc. w?larv 'небо' и груз, zeca id. представляют
сложение w?l-arv, ze-ca и означают буквально «верхнее
(ос. w?l-, груз, ze-) небо (ос. arv, груз, са)» 8.
5. Ос. кигуп (га-кигуп) и груз, txova 'просить' в
сочетаниях ос. us (га) кигуп, груз, colis txova означают
'жениться', букв, «(вы)просить жену»9.
6. Ос. t?n?g и груз, txel-i совмещают значения
'тонкий', 'жидкий', 'мелкий' (о воде) 10.
7. Продолжая наблюдения Г. С. Ахвледиани, стоит
задержаться на последней лексической паре: ос. t?n?g —
груз, txel-i. В значении 'тонкий' оба эти слова
применяются преимущественно к плоским предметам: ос.
t?n?g carm 'тонкая кожа', t?n?g g?xx?tt 'тонкая
бумага', t?n?g f?jn?g 'тонкая доска'; в грузинском
соответственно txeli t'qavi, txeli kayaldi, txeli picari ". В значении
«тонкий по объему, в диаметре» осетинский и грузинский
располагают другими словами: ос. lyst?g, груз, c'vril-i;
«тонкая рябина» будет ос. lyst?g c'ujb?las (а не t?n?g...,),
груз, c'vrili c'navi (а не txeli...); «тонкие пальцы» — ос.
lyst?g ?nguldzt?, груз, c'vrili titebi; «тонкая веревка» —
ос. lyst?g b?nd?n, груз, c'vrili tok'i 12. Вместе с тем ос.
lyst?g, груз, c'vrili означают 'мелкий' в противоположность
'крупному'; ос. lyst?g ?xca — груз, c'vrili puli 'мелкие
деньги' 13. Значение «жидкий» для ос. t?n?g, груз, txel-i
выступает в таких сочетаниях, как ос. t?n?g bas — груз.
txeli c'veni 'жидкий суп' и. Мы видим, стало быть, что
не только отдельные слова, но и все семантическое поле,
связанное с понятием 'тонкий', 'жидкий', 'мелкий', имеет
сходное строение в осетинском и грузинском. Это
сходство распространяется целиком на антонимы
соответствующих слов. Осетинскому t?n?g, груз, txel-i 'тонкий',
'жидкий' противостоят ос. b?zgyn, груз, skel-i 'толстый',
'густой': ос. b?zgyn c'ar 'толстый слой' — груз, skeli репа
id ., ос. b?z°vn kas — груз, skeli papa 'густая каша'
ос. b?zgyn s?ryqynt? — груз, skeli tma 'густые волосы' 17.
Если ос. t?n?g, груз, txeli 'тонкий, жидкий' стоят
в оппозитивной корреляции соответственно с ос. b?zgyn,
груз, skel-i 'толстый', 'густой', то осетинскому lyst?g,
груз, c'vril-i 'тонкий (в объеме)', 'мелкий' противостоят
соответственно ос. stavd, груз, msxvil-i 'толстый (в
объеме, в диаметре)', 'крупный': ос. stavd ?ndax 'толстая
нитка', stavd sudzin 'толстая игла', stavd b?las 'толстое
дерево' — груз, msxvili japi, msxvili nemsi, msxvili xe 18;
oc. stavd c?ssygt? — груз, msxvili cremlebi 'крупные сле-
504
зы', oc. stavd ?xca — груз, msxvili puli 'крупные деньги' 19.
Семантическая близость осетинского t?n?g и груз.
txel-i 'тонкий', 'жидкий' знаменательным образом
подчеркивается тем, что оба эти слова имеют еще значение
'мелкий (о воде)', 'мелководный': ос. t?n?g don — груз.
txeli c'qali 'мелкая вода', ос. t?n?g cad — груз, txeli fba
'мелкое (неглубокое) озеро'20. В этом значении их
семантическими оппонентами являются уже не ос. b?zgyn, груз.
skeli, а ос. arf, груз, угта 'глубокий'; ср. ос. ak?s-ma,
don?n j? t?n?gy ?rbac?wy, ?vi j? arfyl «посмотри-ка,
переходит он реку по мелкому месту или глубокому?»
Общая картина семантических корреляций в
осетинском и грузинском сравнительно с русским может быть
представлена в следующей схеме:
Русск.
Ос.
Груз.
Груз.
Ос.
Русск.
мелкий
(некрупный)
тонкий
iyst?g тонкий в объеме,
мелкий
c'vril-i »—»—»
msxvil-i толстый,
крупный
stavd »—»—»
крупный
толстый
жидкий
мелкий
(неглубокий)
t?n?g тонкий, мелкий
жидкий (неглубокий)
txel-i »—»—»
skel-i толстый
густой
b?zgyn
густой
1 Yrma
глубокий
arf »—»
глубокий
Специфика лексико-семантической системы каждого
языка связана в значительной степени с особенностями
его полисемии, своеобразием в строении полисемических
словарных гнезд. Два или несколько понятий, которые
в данном языке выражаются одним словом, в другом
могут быть разными лексемами, между которыми даже
нет, как кажется, видимой семантической связи, как,
скажем, в русском «тонкий» и «жидкий» или «толстый»
и «густой». Расхождение между языками в строении
полисемических гнезд является, можно сказать, нормой.
Частичное совпадение полисемических структур хотя и
наблюдается,. но не слишком часто. Полный
семантический «изоморфизм» между лексемами двух или
нескольких языков — большая редкость. Там, где он
наблюдается, можно говорить о близости «языкового мышления»,
505
обусловленной либо общностью материальных,
социальных и культурных условий существования, либо
длительными, тесными и интимными контактами, либо
сочетанием обоих факторов. Ниже приводятся еще несколько
примеров большой близости полисемических структур
между осетинским и грузинским.
8. Ос. t?riy?d — груз, codva. Оба слова совмещают
два значения: 1. 'грех', 'peccatum' 2. 'жалость,
сострадание', 'misericordia'. Груз, codva представляет отглагольное
имя от cod- 'грешить', 'жалеть': s-codav-s 'он грешит' ,
ecodeb-a 'он испытывает жалость', 'сострадает' 22. Ос.
t?riy?d на современном хронологическом уровне не
поддается анализу. Как в значении, так и в употреблении
наблюдается далеко идущий параллелизм между
осетинским и грузинским. Значение 'грех': ос. dyww? t?riy?dy —
груз, ori codva 23 'два греха', ос. t?riy?dgyn — груз, cod-
vian-i, codvil-i 'грешный'. Значение 'жалость',
'сострадание': ос. t?riy?d и — груз, codva-a 'жалко его', 'он
заслуживает сострадания'; ос. t?riy?ddag — груз, sa-codav-i
'несчастный', 'жалкий'. Грузинская срраза Vaxtangis
codvit bevri gulmagari cremlad dadnaм в осетинском
переводе звучит: Vaxtangy t?riy?d?j bir? q?b?rz?rd?
ad?m s? c?ssyg f?kaldtoj «от жалости к Вахтангу многие
твердые сердцем люди исходили в слезах».
Развитие значения 'грех' -*- 'жалость' в
психологическом плане можно бы объяснить так: грешен, значит
достоин жалости. Однако при неясности этимологии как
грузинского, так и осетинского слова такая интерпретация
не имеет большой доказательной силы. Весьма возможно,
что этимологическая модель у рассматриваемых слов —
разная, и их семантическое сближение — явление
вторичное. Стоит отметить, что в грузинском сходное
семантическое развитие выявляет еще одна основа: bralr. Ср., с
одной стороны, bral-i 'вина', с другой braleba 'жалеть',
sabralo 'жалкий'.
9. Ос. f?rs- и груз, k'itx употребляются в следующих
значениях: 1. 'спрашивать'; 2. 'читать'; 3. 'гадать,
ворожить'; 4. 'передавать привет, поклон'25.
10. Рот и лезвие, острие обозначаются в обоих языках
одним и тем же словом: ос. кот, груз. рЧН.
11. Некоторые выражения, связанные с обычаем
кровной мести: ос. tug isyn — груз, sisxlis ayeba 'мстить',
букв, «взять кровь», ос. tug daryn 'быть в отношениях
кровной мести', tug m? dary «он подлежит моей мести»,
506
букв, «он должен мне кровь» — груз, sisxli martebs id.26
12. Много можно было бы привести параллелей из
области фразеологизмов. Ограничусь весьма
употребительным ласкательным выражением: ос. d? ryn bax?ron
букв, «да съем я твою болезнь» — груз, seni c'irime букв,
«твоя болезнь мне». Ос. ryn-son 'беда, несчастье' (гуп-
son?j xyzt ut «будьте избавлены от всякой беды», букв.
«... от болезни (и) недуга») соответствует грузинскому
сочетанию сЧг-boroti 'беда', букв, «болезнь (мор) —
недуг».
13. Русскому 'сухой' отвечают в осетинском и
грузинском по два разных слова: 1. ос. xus — груз, xmeli 'сухой',
'не мокрый', например ос. xus sug — груз, xmeli sesa
'сухие дрова', ос. xus k?rdzyn — груз, xmeli p'uri 'сухой
хлеб'; 2. ос. sur — груз, msrali 'сухой', 'не влажный',
например ос. sur x?c4l — груз, msrali cvari 'сухая тряпка',
ос. sur r?st?g — груз, msrali amindi 'сухая погода', ос.
sur z?xx — груз, msrali niadagi 'сухая почва'.
14. Русскому 'легкий' отвечают в осетинском и
грузинском по два разных слова: 1. ос. r?w?g — груз, msubuki
'легкий', 'не тяжелый', например, r?w?g xordzen — груз.
msubuki xirpni; 2. ос. ?ncon — груз, advili 'легкий', 'не
трудный', например, ос. ?ncon kwyst — груз, advili samusao
'легкая работа', ос. ?ncon f?ndag — груз, advili gza 'легкая
дорога'.
Нужно ли говорить, что к приведенным осетино-гру-
зинским семантическим параллелям можно подыскать
аналогии и из других языков. Так, полисемию глагола
f?rs- (иран. pars-) 'спрашивать' — 'читать' осетинский
разделяет с древнеперсидским: др.-перс. anu-dim vinastahya
avaua parsamiy «с него я спрашиваю соответственно
причиненному им вреду» и, с другой стороны, др.-перс. tuvam
ка hya aparam imam dipim pati-parsahy... «ты, кто со
временем прочитаешь эту надпись...».
Связь значений 'тонкий' — 'жидкий', 'толстый' —
'густой' выступает в английских thin и thick и во всей
относящейся сюда германской группе.
Армянское beran, как осетинское кот и груз, p'iri,
совмещает значения 'рот' и 'лезвие, острие'.
Такие моральные понятия, как 'доброта',
'откровенность', 'великодушие' и т. п. во многих языках
связываются с 'сердцем' (ср. хотя бы лат. misericordia, русск.
милосердие, нем. barmherzig и т. п.).
'Легкий, не тяжелый' и 'легкий, не трудный' разли-
507
чаются словами во многих языках; например, в
латинском имеем, с одной стороны, levis, с другой — facilis.
Можно было бы подыскать параллели и к другим
нашим осетино-грузинским семантическим встречам.
Однако взятая в целом картина осетино-грузинских
семантических схождений выходит за пределы того, что
можно было бы ожидать в результате независимого
развития на путях семантических «универсалий». По выражению
Г. С. Ахвледиани, «системы этих языков пронизаны общей
семантикой».27 Подобная близость могла быть только
следствием особо длительных и тесных контактов. И
такие контакты, как мы это знаем из истории,
действительно имели место.
Примечания
' Грузинские лексические элементы в осетинском отмечались
уже в ' известных работах Всев. Миллера и Г. Гюбшмана, вышедших
в прошлом веке. Выявленный ими материал пополнили в новое время
Г. С. Ахвледиани и пишущий эти строки. Об осетинской лексике в
грузинском см., в особенности, М. К. Андроникашвили.
«Очерки по иранско-грузинским языковым взаимоотношениям», Тбилиси,
1966 (на груз, языке), специально главу «Скифо-сарматские и алано-
осетинские элементы в грузинском» (с. 40—141).
2 Известия Российской Академии Наук, 1918, с. 2076.
3 Ахвледиани Г. С. Сборник избранных работ по осетинскому
языку. Тбилиси, 1960, с. 194—210.
4 Kartuli enis ganmart'ebiti leksikoni, p'rop. Arn. Cikobavas saerto
redakciit, I—VIII. Tbilisi, 1950—1964.
5 Ахвледиани Г. С. Сборник.., с. 194—196.
6 Ахвледиани Г. С. Сборник.., 196—198.
7 Там же, с. 198.
8 Там же, с. 208.
9 Там же, с. 109.
10 Там же, с. 208.
" Толковый словарь грузинского языка под редакцией Арн. Чико-
бава, Тбилиси, том IV A955), с. 507.
12 Словарь под ред. А. Чикобава, т. VIII, с. 1084.
13 Там же, с. 1085.
14 Там же, том IV, с. 508.
15 Там же, том VI, с. 1203.
16 Там же, с. 1203.
17 Там же, с. 1204.
508
18 Там же, том V, с. 1141.
19 Там же, с. 1141.
20 Словарь под ред. А. Чикобава, том IV, с. 508.
21 Словарь под ред. Арн. Чикобава, том VIII, с. 644.
22 Там же, том III, с. 1503.
23 Там же, том VIII, с. 644.
24 Там же, том VIII, с. 645.
25 Для осетинского см. наш «Историко-этимологический словарь»,
том I, с. 454—455. Для грузинского — Словарь под ред. Арн. Чикобава,
том IV, с. 1201 (h-k'itxav-s 'спрашивает'), 1204 (k'itxulob-s 'читает'),
том V, с. 535 (mk'itxaob-s 'гадает', 'ворожит'), 705 (moik'itxav-s
'передает привет'), 763 (mok'itxva 'привет'). Ср. для последнего значения ос.
ba-f?rs туп ее] — груз, mo-mi-k'itxe «передай ему от меня привет».
Здесь, помимо семантической, выявляется еще морфолого-синтаксиче-
ская близость осетинского и грузинского, точно подмеченная Г. С. Ахвле-
диани (Сборник..., с. 190—192): в обоих выражениях имеется
показатель лица, для которого (в пользу или во вред которому) совершается
действие, в осетинском это — энклитическое местоимение 1 лица в дат.
падеже туп, в грузинском инкорпорированная местоименная частица
-т-; буквально стало быть: «поприветствуй мне его».
26 Словарь под ред. Арн. Чикобава, том VI, с. 1073; том V, с. 59.
27 Ахвледиани Г. С. Сборник..., с. 198.
Иберийско-кавказское языкознание XVIII, I973.
О ПЕРЕКРЕСТНЫХ
ИЗОГЛОССАХ
Вероятно, каждый, кому приходилось заниматься
диалектологией, встречался с таким явлением.
Характерные черты и нормы, присущие одному диалекту и
составляющие как бы его специфику, нет-нет, а всплывут в виде
единичных фактов в другом диалекте, где они уже
воспринимаются не как норма, а как исключение, как
спорадическое «вторжение» из первого диалекта. Нижненемецкая
форма fett 'жирный' задолго до Лютера уже бытовала в
верхненемецком наряду с «чистой» верхненемецкой
формой feist. В иронском диалекте осетинского языка слово
r?sugd 'красивый' отражает фонетическую норму другого
диалекта, дигорского; в иронском ожидали бы *r?sygd
(из др.-иран. *frasuxta-). В заимствованном названии
переметной сумы иронский и дигорский как бы
поменялись формами: ирон. xordzen — дигор. xurdzin: по огласовке
первая форма отвечает нормам дигорского диалекта
(о — е), вторая — иронского (и — /).
Закономерные иронско-дигорские соответствия
нарушаются и в ряде других случаев. Так, иронскому -z, -ndz, -ne
обычно отвечает в дигорском -}:
иронский дигорский
k0ydz kuj 'собака'
?fsondz ?fsoj 'ярмо'
?lxync' ?lxij 'петля' и др.
Однако в окончании 3-го лица мн. числа прошедшего
времени переходных глаголов находим, к удивлению,
обратную картину: в иронском -oj: (xastoj 'они несли',) в
дигорском -onc? (xastonc?; конечный ? в xastonc? —
характерный для дигорского добавочный гласный). Стало
быть, мы имеем перекрестные изоглоссы:
ирон. -ndz, -ne (?fsondz) дигор. -/ (?fsoj)
ирон. -/ (xastoj) дигор. -ne (xastonc?)
Исследователь персидских и курдских диалектов
К. Хаданк замечает: «От языка гурани связующие линии
510
ведут то к сиванди, то к заза, то к самнани. Вместе с тем
распознаются каждый раз и демаркационные линии,
которые свидетельствуют об известной самостоятельности
этих языков или диалектов. Положение, стало быть,
такое же запутанное, как это наблюдается и в других
случаях: не простые, но многосторонние родственные
отношения, но уже не столь тесные и близкие» '.
Подобных фактов можно привести десятки и сотни из
самых различных языков: повсюду в диалектах мы
встречаемся с перекрестными и встречными изоглоссами,
повсюду характерные черты одного диалекта бывают в
виде единичных явлений вкраплены в ткань другого.
Обычно такие факты объясняют заимствованием из
одного диалекта в другой. Но такое обьяснение не всегда
находит поддержку в реальном положении вещей. Так,
иронскую по употреблению, но «дигорскую» по вокализму
форму xordzen 'переметная сума' никак нельзя объяснить
заимствованием из дигорского по той простой причине,
что в последнем нет такой формы; там господствует
«иронская» по вокализму форма xurdzin.
В других случаях возможность заимствования хотя
и не является абсолютно исключенной, все же по ряду
соображений представляется мало вероятной и даже
совсем невероятной. Так именно обстоит дело с персидскими
и курдскими диалектами, о которых выше говорилось.
Перекрестные междиалектные лексические изоглоссы
сплошь и рядом относятся к основному словарному
фонду, выражают самые элементарные, насущные,
обыденные понятия; представляется решительно непонятным,
как мог данный диалект обходиться без таких слов и быть
вынужденным заимствовать их из другого диалекта.
Изучение исторической обстановки, территориального
распределения, культурных взаимоотношений также
нередко приводит к выводу, что нет и не было никаких
реальных предпосылок для заимствования из одного
диалекта в другой.
Как же в таком случае объяснить несомненный и
постоянно встречающийся факт междиалектных
перекрестных связей? Чем глубже вникаешь в материал, тем
больше убеждаешься, что если в отдельных случаях и
можно говорить о междиалектных заимствованиях,
перекрестные изоглоссы, как универсальное явление
диалектографии и лингвистической географии, объясняются иначе:
тем, что нет «чистых» диалектов, что в любом диалекте
511
могут сосуществовать не одна, а несколько норм. При
этом одна норма может выступать как доминирующая,
типичная, специфическая, «правильная», другая — как
«незакономерная», «неправильная», как «исключение».
Но последняя является в такой же мере «своей», «родной»,
не заимствованной, как и первая.
Многочисленны перекрестные изоглоссы в тюркских
языках. Отмечу лишь некоторые.
Известно, что по двум важным фонетическим
признакам чувашский (и монгольские) противостоит остальным
тюркским языкам, а именно: чувашскому I отвечает в
других языках s (kemel \\ kumus 'серебро'), чувашскому
г в других языках — z (vakar \\ okuz 'вол',)- Однако
«интересно отметить, что формы с I спорадически встречаются
и в других тюркских языках, где мы ожидали бы s»
(H. К. Дмитриев. Соответствие l || s. Исследования по
сравнительной грамматике тюркских языков, I. Фонетика.
М., 1955, с. 320).
Это относится и к соответствию г || z. «Мы должны
сказать, что сфера г и сфера z не абсолютно
разграничены, а как бы накладываются одна на другую: конкретно
говоря, сфера г, т. е. те тюркские языки, для которых
типична в известных фонетических позициях именно
фонема г, в известных случаях допускают применение
фонемы z» (там же). За примерами отсылаем к
цитируемым статьям Н. К. Дмитриева.
С перекрестными изоглоссами постоянно приходится
иметь дело в кавказских языках, как южных, так и
северных. Южнокавказская (картвельская) группа делится на
три ветви: грузинскую, мегрело-чанскую и сванскую.
Между ними существуют определенные звуковые
соответствия, в общем довольно выдержанные и
последовательные. Это, однако, не мешает тому, что в отдельных
случаях черты одной ветви всплывают в другой: «грузи-
низмы» — в мегрельском, «мегрелизмы» — в грузинском
и т. п. Подобных случаев можно было привести немало.
Ограничусь одним примером. Грузинскому cxeli 'горячий'
должно по обычным звуковым корреспонденциям
отвечать мегрел. *cxari. Однако такой формы в мегрельском
и чанском не обнаружено. Но в самом грузинском есть
слово cxari 'жгучий'. Его звуковой облик — это
компромисс между грузинской и мегрельской нормой:
«мегрельскими» являются огласовка а и плавный г, «грузинским» —
аффрикат с (вместо с). С другой стороны, в мегрельском
512
находим форму exe 'горячий', где с является
«мегрельским», а огласовка е — «грузинской».
Исследователь дагестанских языков С. М. Хайдаков
(устное сообщение) отмечает, что в одном только
аварском языке с его диалектами встречаются в некоторых
словах все те звуковые варианты, которые характерны
для дагестанских языков в целом. Так, название лисы
представлено в четырех вариантах: ser, ser, cer, cer. Все
эти варианты закономерны с точки зрения общих
возможностей дагестанской диалектной фонетики.
Незакономерным кажется только их сосуществование в одном
языке. Но эта «незакономерность» настолько часто
наблюдается, что не считаться с нею было бы ошибкой.
В обобщенной форме можно сказать: в каждом
языке (диалекте) могут выявиться в
единичных фактах все те возможности,
которые заложены во всей данной
группе языков (диалектов) в целом.
Придя к такому выводу на современном
диалектологическом материале, мы имеем все основания
распространить его на прошлое, на все этапы развития
родственных языков и диалектов, начиная от древнейших времен,
которые принято называть «доисторическими». Нет
никаких оснований думать, что развитие языков и диалектов
в прошлом шло иными путями и приводило к другим
результатам, чем в настоящее время. Если иметь в виду,
в частности, индоевропейские языки или отдельные ветви
этой группы языков, мы можем apriori полагать, что
и в их развитии не было предпосылок для образования
каких-то чистых и монолитных диалектов, что
перекрестные изоглоссы были всегда обычным явлением, отражая
сложность и противоречивость общественно-исторических
условий формирования языков и диалектов.
Хотя эти положения давно уже вошли в обиход лингви-
W1U1VWWI1 ""J "") UH!! X»W ^V1«U " ДОМАЛУПИИ 1»1«^J^«^ jf . Ш 1 • LJ,
ваются в конкретных этимологических и историко-лекси-
кологических исследованиях. Дает себя знать крепко
сидящая в мозгу схема родословного древа с
вытекающими из нее представлениями об обособленных, цельных,
несмешанных языковых единицах. В результате при
объяснении некоторых фактов историки языка идут
нередко по ложному пути и дают ошибочные интерпретации.
Остановимся на некоторых показательных примерах.
17 В. И. Абаев
513
«МИДИЙСКИЕ» ЭЛЕМЕНТЫ В ПЕРСИДСКОМ
В древнеперсидском языке в ряде случаев
общеиранскому z отвечает d, общеиранскому s — #, общеиранскому
sp — s, общеиранскому #г — ss: zaranya- \\ daraniya-
'золото' asanga- || aftanga- 'камень', aspa- \\ asa- 'лошадь',
xsaura- Il xsassa- 'царство' и др.
Наряду с этим имеется немало случаев, когда древне-
персидский в отношении этих согласных идет в ногу с
остальными иранскими языками; т. е. имеет z, a не d
(vazarka- 'великий',), s, а не О (Parsa- 'Персия'), sp, a не
s (aspa- рядом с asa- в uvaspa- 'доброконный', Vistaspa-
имя, vispa- 'весь' рядом с visa-), flr, а не ss (Miiira- 'бог
Митра',).
Исходя из предпосылки, что в одном языке не может
сосуществовать несколько звуковых норм, почти все
исследователи считают только те слова «чисто
персидскими» («echtpersisch»), в которых наблюдаются
вышеупомянутые звуковые особенности: d вместо z, # вместо
s, s вместо sp, ss вместо Ьг. Те слова, в которых нет этих
особенностей, рассматриваются как «незакономерные»,
«неправильные», и существование их в персидском
объясняется заимствованием из мидийского. «Неправильной»
и «заимствованной» оказывается даже само название
персов Parsa- и другие обиходные слова. Эта точка зрения
неизменно проводится во всех распространенных и
авторитетнейших пособиях по древнеперсидскому 2.
Утверждение о заимствовании из мидийского основано
на общих соображениях о культурно-политическом
влиянии Мидии на Персию и по существу не может быть
ни доказано, ни опровергнуто: о мидийском языке мы
почти ничего не знаем.
В истории языкознания трудно найти другой пример,
когда бы так широко и свободно оперировали данными
языка, о котором так мало известно. Дело доходит до
того, что чуть ли не все, что отходит от предполагаемого
«чисто персидского» эталона, объявляется мидийским.
Слишком свободной реконструкцией «мидийских» форм
грешит, нам кажется, и в целом весьма ценная статья
А. Периханян «О некоторых вопросах среднеиранской
диалектологии» («Историко-филологический журнал
Армянской Академии наук», 1965, 4/31/, с. 107—128.) В
этой статье ряду иранских элементов в армянском
приписывается мидийское происхождение, и на этом основа-
514
нии мидийский язык наделяется теми или иными
свойствами и признаками, которые — увы — проверить и
подтвердить невозможно. Например, утверждается, что в
мидийском перед группой согласных появлялся протети-
ческий гласный, так что, скажем, иран. spada- 'войско'
звучало там будто бы aspaaa-, отсюда арм. aspahapet
'военачальник'. Этому утверждению противоречит на беду
единственное мидийское слово, которое мы знаем:
название собаки. Геродот передает его в форме spaka, a не
aspaka. Может быть, в древнемидийском еще не было
протетического гласного, и он появился позднее?
Обращаемся к современным иранским диалектам на
территории исторической Мидии. Действительно, в диалекте
самнани находим aspa 'собака' (А. Christensen). Но, с
другой стороны, в диалекте баджалани (из группы гурани)
бытует форма sipa (К. Hadank). Какую из этих форм
следует рассматривать как «чисто мидийскую» («echtme-
disch»)? И на каком основании? Не естественнее ли
думать, что «чисто мидийское» состояние — такая же
фикция, как «чисто персидское», и что на территории Мидии
никогда не было единого и монолитного мидийского
языка, а было, как и сейчас, множество диалектов и
говоров с перекрещивающимися изоглоссами?
Концепция о существовании двух противостоящих
друг другу монолитных и единообразных по звуковым
нормам языков, персидского и мидийского, в корне
противоречит данным современной диалектологии и
лингвистической географии и должна быть отвергнута. Пестрота
и перекрестные связи, которые К. Хаданк наблюдал в
одной ираноязычной области, характерны для всего
иранского мира. Там, где нет единообразия сейчас, когда
действуют многие унифицирующие факторы, не могло
быть единообразия и во времена Ахеменидов.
Монолитность так называемого мидийского языка столь же
сомнительна, как монолитность персидского. На территории
исторической Мидии наблюдается сейчас большая
диалектная пестрота; эта пестрота не могла возникнуть
вчера. Она говорит косвенно о языковой пестроте древней
Мидии.
Эти и другие соображения побудили меня еще
двадцать лет назад высказать убеждение, что так называемые
«мидийские» элементы в персидском не являются для
персидского чужими, усвоенными извне. Они
органически входили в ткань самого персидского языка 3. Эта
17*
515
ткань никогда не была одноцветной. В нее вплетались
нити разных расцветок 4.
Средне- и новоперсидский языки отходят от так
называемых «чисто персидских» норм еще чаще, чем древне-
персидский. По примерным подсчетам мы имеем
отношение 2:3 в пользу неперсидского характера
новоперсидского литературного языка. Где же в таком случае
скрывается «чисто персидский» язык («echtpersisch»)? Когда,
где и в какой среде он засвидетельствован? Оказывается,
нигде и никогда. Он представляет умопостигаемую
категорию.
В древнеперсидских текстах встречается, например,
слово zurah- 'зло'. Это слово относят к заимствованиям
из мидийского. Почему? Потому что по «чисто
персидской» звуковой норме должно быть не zurah-, a *durah-.
Между тем такая форма нигде, насколько можно судить,
не засвидетельствована. И в среднеперсидском и в
новоперсидском находим только zur. Слово относится к
основному лексическому фонду, и заимствование его извне
мало вероятно. Допустим, официальный язык ахеменид-
ских надписей находился под влиянием такого же языка
мидийской верхушки. Но в народных персидских говорах,
хотя бы в одном каком-нибудь населенном пункте, можно
было ожидать последовательно выдержанных «чисто
персидских» звуковых норм, в том числе формы *dur-.
Однако в довольно обширной литературе о персидских
диалектах мы пока не встречаем сведений о таком говоре.
Или возьмем др.-перс. vazarka-, н.-перс. buzurg
'большой'. Здесь также находим «мидийское» z вместо «чисто
персидского» d. Но где и кем засвидетельствованы др.-
перс. *vadarka-, ср.-перс. * vadarg и н.-перс. *budurgl
Оказывается, нигде и никем. Зачем было персам
заимствовать у мидийцев такие слова, как «большой» и «зло»?
Неужели сами они не доросли до этих элементарнейших
понятий, которые знакомы самым первобытным народам?
Если, с одной стороны, в персидском оказывается
изрядное количество так называемых «мидийских»
элементов, то, с другой стороны, «чисто персидские» формы
встречаются далеко за пределами Персии.
Иран. *rasana- 'веревка' (др.-инд. rasana-) в «чисто
персидском» оформлении должно звучать *га$апа- (см.
выше). К этой именно форме восходит
закономерно — но не персидское, а осетинское — r?t?n
'ременная веревка'. В персидском же вместо ожидаемой формы
516
*rahan, *rahn (ср. перс, pahan, pahn из paiiana- 'широкий')
находим «мидийское» rasan. Иными словами, осетинский
и персидский как бы поменялись формами 5. Графически
эти перекрестные изоглоссы выглядят так:
«мид.» *rasana- -^^^ «перс.» *rauana-
осет. r?t?n "' перс, rasan
Другой такой же пример.
В древнеперсидском засвидетельствовано название
дерева uarmi- • Точное соответствие этого названия мы
находим и на новоиранской почве, но, странное дело, не в
персидском, а в осетинском: talm 'горный ильм, Ulmus
montana'. А что же новоперсидский? А в новоперсидском
и на этот раз восторжествовала его вторая, «мидийская»
природа. В «мидийском» слово должно было звучать
*sarmi- или *sarvi-6. Эту-то «мидийскую» форму мы и
находим в новоперсидском sarv, ларский диалект salv
'кипарис':
«мид.» *sarmi- (*sarvi-)^>^^ др.-перс. barmi-
осет. talm ¦ ^^ н.-перс. sarv, salv
Непонятно, зачем было персидскому заимствовать
мидийские формы, имея свои, персидские. Да и для
осетинского трудно представить те конкретные
географические и исторические условия, в которых он мог бы
заимствовать эти слова из древнеперсидского. Скорее мы
имеем здесь явление перекрестных изоглосс, не связанное
ни с каким заимствованием.
Любопытна судьба двух широко распространенных
иранских слов: в одном случае почти всеобщим
достоянием стала «персидская» форма, в другом — «мидийская».
Я имею в виду dasta- 'рука' и farnah- 'благодать'.
Dasta форма древнеперсидская. Ей отвечает
закономерно авест. zasta-. Эту же форму (с начальным г) мы
вправе ожидать в мидийском и в других иранских языках.
В действительности повсюду, кроме Авесты, находим
рефлексы «чисто персидского» dasta-: курд, a est, белудж.
dast, согд. оя^ягноб. dast, сак. dastaka, шугн. oust, афган.
las и т. д. Не берусь судить, насколько правдоподобно,
что почти все иранские племена учились названию руки
у персов.
Др.-перс. farnah- 'благодать' (в составе личных имен
Vindafarnah-, *Artafarnah- и др.) восходит к иран. *hvar-
nah- (авест. xvardnah-) от hvar- 'солнце', 'свет'. Этимо-
517
логическая связь с 'солнцем' еще проступает в осетинском,
где, наряду с farn 'благодать', в «секретном» охотничьем
языке находим f?rn? 'солнце' (вместо обычного хйг\хог
'солнце'O.
Однако, в то время как в названии солнца и в других
случаях иран. hv- почти повсюду отражено как х-, xw-,
в данном слове почти все иранские языки дают hv—*- /-:
скиф. (pcLQv-, осет. farn, сакс, pharra, кушан. уас)(с>)о, согд.
ргп, н.-перс. farr и др. Эта фонетическая особенность
считается почему-то «мидийской», и отсюда делается
вывод, что все перечисленные формы восходят к мидий-
скому. Действительно, в некоторых так называемых
центральных диалектах Ирана иран. hv- дает /-.
Например, в диалекте сиванди находим forden 'есть' из hvar-
(перс. xvardan) и др.8 Однако диалект сиванди
географически относится к персидским, а не к мидийским
наречиям. В подавляющей массе «мидийских» по территории
диалектов эта особенность не наблюдается. С другой
стороны, она спорадически отмечается в языках, далеких
от какого-либо мидийского влияния. Так, в осетинском
находим не только farn из *hvarna-, но и fyn \\ fun
'сон' из hvafna- (через ступени *hvavna- -*- *hvauna-y как
ryn\run 'болезнь' из *rafna-). Ожидали бы не fyn\fun, a
*jc yn | *хип.9 Неужели и здесь надо думать о
заимствовании из мидийского? Если для полурелигиозного термина,
каким является farnah- 'благодать', такая экспансия из
одного центра имеет какое-то правдоподобие, то для
обыденного физиологического понятия 'сон' такое
допущение лишено всякого основания. Где и когда мог
осетинский заимствовать из мидийского слово fyn 'сон'?
Если это слово что-нибудь и доказывает, то не мидийское
влияние на осетинский, а то, что развитие hv—*¦ f- могло,
как спорадическое явление, возникать независимо в
разных иранских диалектах. Но если так, то и скиф, farna-,
осет. farn нет никакой необходимости выводить из
мидийского.
Мы понимаем, что лингвисту, вышколенному на вере
в непогрешимость звуковых законов, перекрестные
изоглоссы наносят чувствительную травму. Но ведь лучше,
если пострадает вера, чем если пострадают факты и их
интерпретация 10.
518
«ГЕРМАНСКИЕ» ЭЛЕМЕНТЫ В СЛАВЯНСКОМ
Мы рассмотрели некоторые случаи перекрестных
изоглосс внутри одной языковой группы, иранской.
Перенесемся теперь в ту эпоху, когда из зыбкого, подвижного,
расплывчатого индоевропейского единства только начали
выделяться и обособляться отдельные «ветви», будущие
арийские, славянские, германские и другие языки. Нет
сомнения, что и тогда картина междиалектных
отношений была очень сложной и пестрой, и тогда не было
единообразных, строго выдержанных по всему лексическому
материалу звуковых норм, и тогда встречались
«неправильные», «незакономерные» формы, наводящие на мысль
о заимствовании из другой диалектной среды, но в
действительности возникавшие и без всякого заимствования,
в силу общей неустойчивости языковых норм.
Приведем несколько примеров.
В общеславянском распознается значительное
количество германских заимствований. Им посвящена обширная
литература. Знакомясь с ней, не трудно заметить, что
список заимствований у разных авторов существенно
расходится. Очень длинный у Хирта , он намного короче
у Младенова 12. Среднюю позицию занимает Кипарский 13.
Из этих расхождений видно, что, наряду с бесспорными
заимствованиями из германского, есть слова, германское
происхождение которых не без основания оспаривается
некоторыми авторами. Таково, например, название
молока и, общеслав. *melko. Связь с германскими, кельтскими,
тохарскими формами лежит, казалось бы, на поверхности:
герм. *meluk, гот. miluks, нидерл. melk, норв. melk, англ.
тик и пр.; ирл. melg 'молоко', тох. A malke 'молоко', malk-
'доить'. Но какого характера эта связь? Исконное родство
отвергается по фонетическим основаниям: тохарские,
германские и кельтские формы предполагают и.-е. *melg'-
'доить', что должно было дать слав. *melz-, a не *meik-, ср.
слаа *melz-ivo, русск. молозиво. Значит, слав. *melko
заимствовано из германского (Уленбек, Хирт, Клуге,
Фальк — Торп и др.). Однако и это предположение
приходится отвергнуть, на этот раз и по фонетическим,
и по реальным культурно-историческим соображениям.
С звуковой стороны нет соответствия между герм. *meluk-
и слав, melko-. Со стороны реалий лишено малейшего
вероятия, что славяне познакомились с молоком от
германцев. Остается будто бы признать, что слав. *melko
519
не имеет ничего общего с названием молока в
близкородственных языках, а происходит от другого корня
(и.-е. *melk- 'влажный' и пр.). Столь очевидная, столь
наглядная, столь неотразимая для неискушенного связь
молока и с молозивом и с тохаро-германо-кельтскими
словами отвергается в угоду нерушимости звуковых
законов и роковой альтернативе: либо исконное родство, либо
заимствование. Но эта альтернатива представляет
запоздалое наследие младограмматической доктрины и в свете
современной науки оказывается ложной. Есть третья
возможность, с которой постоянно встречается
диалектолог, и которую мы иллюстрировали выше на некоторых
иранских примерах: единичные «вторжения» норм одного
диалекта в другой, родственный, не подводимые под
понятие «заимствования». Такое именно единичное вторжение
германской звуковой нормы в славянскую речь мы имеем
в слове *melko 'молоко'.
С этой точки зрения колебания *melz- (*melg-) \\
*melk это старое внутриславянское произносительное
колебание, не дающее права видеть в них разные по
происхождению слова или считать вторую форму
заимствованной, так же как варианты столб \\ столп, лит.
stulbas || stuipas не дают основания рассматривать их как
генетически не связанные слова или считать формы с
-р- заимствованием из германского stolpi (вопреки Мерин-
геру 15 и Стендер-Петерсону 16). Ср. также варианты
*vold- ('владеть') и *volt- (русск. волот 'великан').
Эти и подобные факты побуждают с осторожностью
относиться к установлению «заимствований» по одним
только звуковым признакам. Лишь с учетом всех сторон
вопроса — фонетических, морфологических,
словообразовательных, семантических, культурно-исторических —
можно вынести окончательное решение: заимствование
или не заимствование. Это относится, разумеется, и к
предполагаемым германским заимствованиям в
славянском. Методологически правильно было бы различать
две вещи: 1) германские элементы в славянском и 2)
«германизмы» в славянском, т. е. элементы, получившие
«германский» звуковой облик не в результате заимствования,
а в силу того, что в формировании самих славянских
языков участвовали струи или струйки из соседних
родственных языков и диалектов '7.
В осетинском выявляется некоторое количество
картвельских по происхождению слов, оформленных по нор-
520
мам мегрельского языка. Статью об этих словах я
озаглавил не «Мегрельские элементы в осетинском», а «Мегре-
лизмы в осетинском» 18. Почему? Потому, что большую
часть этих слов я считаю не заимствованием из
современного мегрельского языка (осетины и мегрелы сейчас
не соседят), а участием мегрельской по звуковым нормам
среды в формировании осетинского языка в кавказский
период его истории.
Одним из важных признаков, определяющих
фонетический облик славянских языков, справедливо считается
их принадлежность к группе языков satam, куда входят
также балтийские, арийские, армянский. В этих языках
индоевропейские палатализованные к\ g\ g'h выступают
как спиранты (слав, s, z). Однако во всех этих языках,
в том числе и славянском, есть случаи, когда они идут
в ногу с языками kentum, т. е. дают к, g вместо ожидаемых
s, z и пр. Таковы ст.-слав. кату 'камень' (ср. др.-инд.
a'sman-), svekrb, 'свекор' (др.-инд. svasura-), bregb (и.-е.
*bherg-, иран. barz-) 'берег', vrag-, vraziti, русск. ворог,
ворожить (и.-е. *werg'-, иран. varz-) 19 и др. Эту
«ненормальность» объясняют по-разному20. Однако показательно,
что все меньше специалистов считает соответствующие
славянские слова заимствованием из германского или
другого языка kentum. Большинство признает их такими
же исконно славянскими, как слова с «закономерными»
s, z из к\ g\ g'h. Иначе говоря, в самом славянском
допускается колебание s, z || к, g.21 Между тем случай
с *melko 'молоко' и др. ничем принципиально не
отличается от случая с svekrb и др. Там мы имеем единичные
фонетические изоглоссы, связывающие славянский с
германским или тохарским, здесь изоглоссы,
связывающие славянский в более широком плане с языками
группы kentum.
Слав, vaga 'вес, 'весы' считается заимствованием, и
притом поздним, из др.-в.-нем. waga 'вес', 'весы'. Однако
в этом случае трудно объяснить его «невероятно
разросшееся словообразование» (выражение Брюкнера и Кипар-
ского); ср. польск. wazny, uwazny, uwazac, odvaga, odwa-
zic, sig, odwazny, powaga, powazac, powazny; русск. важный,
уважать, отвага, отважиться, отважный и пр. Следует
далее учесть, что слово имеет точные соответствия в
иранском: язгулямск. waz 'тяжесть', 'груз', рушанск.
wez, сарыкольск. wez, осет. w?z. Все это наводит на мысль,
что мы имеем дело не с заимствованием из одного языка
521
в другой, а с общей ирано-славо-германской изоглоссой
(и.-е. *wog'ha-), но только с не совсем обычным
распределением фонетических типов; что данное слово в
славянском такое же оригинальное, как в иранском и германском,
но выступает в «кентумном» звуковом облике, т. е. стоит
в одном ряду с такими словами, как bregb, vragb и пр.
(см. выше). Иными словами, и на этот раз фонетическая
граница kentum | satom проходит не между германским
и славянским, а между славянским и иранским.
иран. aixa- 'лед'
Иран, aixa- 'лед' (авест. аеха-, хорезм. ёх, согд. ууу,
осет. Тх \ех, перс, уах, курд, уех, вахан. yix, ягноб. F* и пр.)
выглядит как фонетическая аномалия. Иран, х между
гласными восходит обычно к kh 22. И если aixa- является
индоевропейским наследием, мы должны восстановить
арийское *aikha-, и.-е. *eikho- или *oikho-. Однако
ничего, что подтверждало бы существование таких форм,
нигде за пределами иранского мира с уверенностью не
распознается.
Наряду с аеха- 'лед' в Авесте находим isu- 'студеный',
'морозный', в афганском — asai 'иней'. Иран, s восходит
к и.-е. к\ Но следов и.-е. *ik'- 'лед', 'мороз' мы также
в других языках не находим. Естественный соблазн
связать aixa- и isu с германской группой is- 'лед' (др.-сев.
iss, др.-англ. is, др.-в.-нем. is, нем. Eis и пр.) наталкивается,
казалось бы, на головоломные трудности: как свести
к одному знаменателю s, k' и khi Бартоломэ пытался
преодолеть эти трудности, восстанавливая для isu- инхоатив-
ную глагольную основу *is-sk-23. Однако такая основа
нигде не засвидетельствована. Повсюду находим только
именные основы без каких-либо ощутимых признаков
отглагольного происхождения.
Допуская, что и.-е. kh иногда давало в иранском s,
Бартоломэ, помимо пары aixa- || fa, приводит еще осет.
гехе || перс, res 'борода' и перс, гих || осет. rus 'щека' 24.
На беду для этих слов он не может предположить никакой
этимологии, а потому не может и доказать, что в них
je древнее s, a не обратно. Бартоломэ прав в том, что три
пары:
Тх (aixa-) || *is 'лед'
rixi (гехе) \\ ris (res) 'борода' ('yc')
rux\\rus (-s) 'щека (лицо)'
522
следует рассматривать в одном ряду и искать для них
единообразного объяснения. Но при этом надо идти от
известного к неизвестному, т. е. ухватиться за ту пару,
которая имеет надежную этимологию.
Такой парой является ix || is. Она неотделима от
германских названий льда и, стало быть, восходит к *is-.
По аналогии для rixi || ris надо искать прототип *ris-, a
для rux || rus — прототип *rus. Ср. для ris герм, (h)ris-
'побеги растительности', 'кустарник', 'клок' (Falk — Torp II
с. 903), лат. crinis (из *kris-ni-) 'волосы', crista 'хохол',
'гребешок (у петуха)'. Лексическая близость к
германскому особенно подчеркивается на этот раз фонетической:
отпадением начального х, вообще не характерным для
иранского (*ris || *rix из *xris || *xrix).
Что касается rux || rus 'щека, лицо', то оно сближается
с герм. *rus- 'очищать от растительности, от волос': др.-
сев. hold-rosa 'бесшерстная сторона шкуры', швед, rosen
'брюхо' и пр. (Falk — Torp II, c. 911, под словом Ros 1)
и означает собственно 'лишенная растительности,
гладкая часть лица'. Таким образом, приведенные Бартоломэ
примеры доказывают одно: и.-е. s после /, и мог давать
в иранском не только s, но в единичных случаях и х, как
в славянском, причем оба варианта, s тл х, могли
сосуществовать, как, скажем, сосуществуют в славянском душа
и дух и т. п.
На интересующих нас названиях льда останавливался
Шпехт. Шпехт отверг гипотезу Бартоломэ как «wenig
ansprechender Erklarungsversuch». По его мнению, надо
исходить из и.-е. корня */- с разными удлинениями: *i-s-
(герм. is), *i-k- (авест. им-), *i-kh- (авест. аёха-), *i-n-
(слав, inije) .
Но такая подвижность словообразования при
неподвижности значения совершенно непонятна.
Словообразовательное варьирование не бывает в языке праздной
забавой. Оно служит семантическому варьированию. Здесь
- этого нет: «лед» остается «льдом», и такое разнообразие
' основ внутри одного языка представляется ничем не
мотивированным.
К тому же Шпехт оставляет без объяснения
аналогичные чередования rix || гй и rux \\ rus (см. выше), где еще
меньше оснований думать о словообразовательных, а не
фонетических вариантах.
Между тем приведенные факты допускают очень
523
простое, не вымученное объяснение, если их
рассматривать как междиалектные изоглоссы.
И.-е. s после i, и сохраняется как s в германском, но
переходит в x(ch) и s в славянском, в s в иранском.26
Исходное и.-е. *is- (на сильной ступени *eis-, *ois)
'лед' должно дать закономерно герм, is- (eis-), слав. fch-,
(jech-, jach-), иран. is- (ais-). Ср. др.-сев. meiss 'корзина',
слав. тесНъ, авест. maesa- 'баран' (из и.-е. *moiso-)\ норв.
veis 'стебель', слав, vecha, осет. ш || wes (из *vaisa-)
'прут' (и.-е. *woisa-) и т. п.
Легко видеть, что иран. aixa- со своим х отражает
не «чисто иранскую» (ожидали бы *aisa-), a «славянскую»
норму. В этом же ряду стоят иран. rix 'борода' и гих 'лицо'.
Точно так же авест. isu- оказывается не «чисто
иранской» формой (ожидали бы *isu-), a «германской». Иными
словами, перед нами обычное и постоянно повторяющееся
явление перекрестных изоглосс: aixa «славизм» в
иранском; isu «германизм» в иранском.
Нет, стало быть, оснований отделять иранские
названия льда от германских 27. Они имеют общий источник
в и.-е. *is-. Формы is-, ix-, is не словообразовательные,
а фонетические варианты, отражающие три диалектные
нормы. Необычно их сосуществование в одной языковой
группе, иранской. Но и в этой необычности, как мы
пытаемся показать, есть своя закономерность, если можно
так выразиться, второго порядка, считая закономерностью
первого порядка звуковой закон. Перекрестные изоглоссы,
внося свой «корректив» в звуковой закон, приводят к тому,
что нормы одного диалекта всплывают частично в
другом, например «праслав.» *oicho- в иран. aixa-.
То, что в самом славянском мы не находим
ожидаемого *ich- 'лед' (польск. кга, чеш. кга, русск. диал. икра
'льдинка' вряд ли сюда относятся), не должно удивлять.
Явление это хорошо знакомо диалектологам: та или иная
диалектная форма всплывает не там, где ее ожидали,
а в соседнем диалекте. Ср. нижеследующий пример.
СЛАВ. rySb 'РЫСЬ'
Слав, rysb (ст.-слав. rysb, русск. рысь, польск. rys,
чеш. rys, с.-хорв. ris, болг. ris) неотделимо, казалось бы,
от других и.-е. названий этого хищника: лит. lusis, лтш.
lusis, др.-прусск. luysis, др.-в.-нем. luhs, нем. Luchs, др.-
сакс. lohs, ирл. lug, арм. lus- в lusanunk' (мн. ч.); с инфиги-
524
рованным п греч. tvyc, Xvy-кос (и.-е. *leu7c-, *leuk 'сиять',
'блестеть'). Так именно трактовал славянское слово
Миклошич 28, а за ним и многие другие слависты и
индоевропеисты.
Однако начальный г- воспринимается, как аномалия:
ожидали бы /- в согласии с другими и.-е. формами. Это
расхождение между славянским и родственными языками
казалось некоторым исследователям настолько серьезным
и непреодолимым, что привело их к мысли о
необходимости оторвать rysb от всей приведенной группы (в том
числе от балт. lusis, lusis!) и связать это слово
этимологически с совершенно другой группой: ст.-слав. гтъ, русск.
русый, чеш. rysy 'рыжий' и пр.29
Случай с рысью напоминает рассмотренный выше
случай с млеком. Как там предельно очевидная связь
славянского слова с тохаро-германо-кельтскими
названиями молока приносится в жертву слишком жестко и
прямолинейно понимаемой младограмматической
доктрине, так здесь эта же доктрина вынуждает разорвать
сверхочевидную связь между славянским и другими и.-е.
названиями рыси.
Нам представляется, что, как ни важны звуковые
законы в этимологической работе, не следует в угоду им
разъединять неразъединимое. Слав, rysb допускает только
одно рациональное разъяснение: в рамках и.-е. названий
рыси. Начальное г- есть один из случаев уже знакомого
нам явления: единичное вторжение звуковой нормы
другого и.-е. диалекта, иранского, в славянский. В иранском
и индийском произошел перебой общеиндоевропейского
плавного / в другой плавный г (арийский ротацизм).
«Иранская» форма *rusi- и отражена в слав. rysb. Речь
идет и на этот раз не о заимствовании из иранского,
как думают некоторые авторы 30. В иранском слово нигде
не засвидетельствовано (ср. перс, vasaq 'рысь'). Речь
идет о том, что фонетическая закономерность (/ -*- г),
выступающая как норма в одной группе языков, арийской,
могла, в виде исключения, выявиться единичными
случаями в другой группе, славянской. Rysb — «иранизм»
(не иранский элемент, а «иранизм») в славянском, как
aixa- 'лед' — «славянизм» (не славянский элемент, а
«славянизм») в иранском .
Другим примером «вторжения» арийского ротацизма
в славянский может быть название славянского
солнечного божества Сварогъ. Преображенский (II, с. 255)
525
правильно делит svar-og- и сближает svar- с др.-инд.
svar- 'солнце', 'небо'. Оспаривая эту этимологию, Фасмер
указывает на незакономерность г; ожидали бы l(*sval),
как в неарийских языках: солнце, лат. sol и пр.32 Прямое
заимствование из арийского справедливо отвергается33.
Правильнее видеть в Сварогъ внутриславянское
культовое наименование солнца, противопоставленное его
обыденному названию (солнце), с внутриславянской же
фонетической вариацией sval- || svar-.
Божество огня называлось Сварожич, т. е. 'сын Сваро-
га'. Это представление об огне как сыне неба-солнца
имеет прекрасную аналогию в Авесте. Там огонь (atars-)
часто зовется сыном Ахура-МаздыG?и$то ahurahe mazda).
Ахура-Мазда олицетворяет, как и Сварогъ, небо-солнце.
Солнце зовется «глазом Ахура-Мазды».
и.-е. *ар- и aqua- 'вода'
Имеем два ряда:
др.-инд. apas- (мн. ч.) 'воды', иран. ар- 'вода', др.-
прусск. аре 'река', лит. йре то же;
лат. aqua 'вода', гот. ahwa 'река' и пр.34
Звуковые законы исключают, казалось бы, какую-либо
связь между этими двумя рядами35. И.-е. kw, k'w, kw
не дают в арийском и балтийском р. Но есть другие и.-е.
языки, для которых такое соответствие обычно: греческий,
некоторые италийские (оско-умбрские) и кельтские
наречия; ср. гр. Чллос 'лошадь' из *ek,wo-, Jioivi)
'возмездие' из *kwoina-, 'eno\iai 'я следую' из *sekw- и др.
Арийское и балтийское ар- при латинском aqua —
соответствие такого же порядка, с той оговоркой, что
изоглоссы идут на этот раз по необычным перекрестным
линиям. Иными словами, арийское и балтийское ар- мы
можем условно назвать «грецизмом», как иранское aixa-
назвали условно «славизмом», а славянское rysb опять-
таки условно — «иранизмом». К такой именно
интерпретации др.-инд. apas и пр. приходят сейчас авторитетные
специалисты: «Idg. ар- ist vieil. Dialektvariante von idg.
(vgl. lat.— aqua 'Wasser'» 36. В самом латинском находим
единичные проникновения оско-умбрийской нормы,
например, в слове lupus из *wlkwo- 'волк'.
Перекрестные изоглоссы — универсальное явление в
истории языков. Сущность этого явления состоит в том,
что нет чистых и монолитных языковых систем, что в
526
любом языке (диалекте), наряду с господствующими,
специфическими для него чертами, выступают в виде
единичных вкраплений элементы и признаки соседних
языков (диалектов), при этом не в результате внешнего
заимствования, а в результате исконной, органической
неоднородности и пестроты участвовавших в его
формировании компонентов. В частности, полисемия-омонимия
преодолевалась путем использования для разных
значений или оттенков звуковых вариантов родственных
языковых коллективов. Так обстоит дело с современными
диалектами, так обстояло и с взаимоотношением между
и.-е. диалектами в древности. Можно пойти еще глубже
и усмотреть те же признаки взаимопроникновения в
отношениях между разными языковыми семьями. Не раз
отмечались черты близости индоевропейских языков с
семитическими, кавказскими, угро-финскими, алтайскими.
Ставился вопрос, имеем ли мы дело с исконным родством
или заимствованием. Возможно и нечто третье. Касаясь
изоглосс, связывающих и.-е. мир с угро-финским, А.
Неринг (A. Nehring) пишет: «Um Entlehnungen kann es dabei
kaum handeln. Erst recht wird man sich nicht zur Annahme
von Urverwandtschaft entschlissen konnen. Zu erwagen
ware aber, ob nicht im Urindogermanentum eine finnisch-
ugrische Komponente vorhanden war» 37. Такое же
истолкование дается некоторым монголо-маньчжурским
изоглоссам (Л. Лигети).
Слишком жесткое, механическое применение схемы
родословного древа, концепция монолитных языковых
типов, вера в нерушимость звуковых законов приводят
нередко в этимологической работе к искусственным,
нереальным разъяснениям и построениям. Несколько
таких примеров мы выше привели.
Признание и постоянный учет перекрестных изоглосс
вносят в этимологическое исследование больше гибкости
и маневренности, а результаты этого исследования
делают более соответствующими реальному историческому
процессу.
Примечания
'Mann О.— Hadank К. Kurdisch-persische Forschungen, Bd II,
Abt. III. Berlin, 1930, с. 70.
* M e i 11 e t A., Benveniste E. Grammaire du Vieux-Perse.
527
Paris, 1931, с. 61, 64 и др.; Kent R. G. Old Persian. New Haven,
1953, с. 31, 33, 34 и др. В ran den s te in W.—M a y r h о f e r M.
Handbuch des Altpercischen. Wiesbaden, 1964, с 38, 39, 107, 157 и др.;
Hoffmann К. Altiranisch.— «Handbuch der Orientalistik», IV. Iranistik.
I. Abschnitt. Linguistik. Leiden — Koln, 1958, с. 4.
3 A б а е в В. И. Древне-персидские элементы в осетинском
языке.— Сб. «Иранские языки» I. М.— Л., 1945, с. 7—12; перепеч. в сб.
«Осетинский язык и фольклор». М.-Л., 1949, с. 138—143.
4 Сложность и пестроту фонетической картины в иранских
наречиях (со ссылкой на наблюдения Моргенстьерне, Хеннинга и Гершеви-
ча) подчеркнул недавно О. Семереньи (Szemerenyi О. Structura-
lism and Substratum. Indo-Europeans and Aryans in the ancient Near
East. «Lingua», 13, 1, 1964, c. 20—22.
5 Абаев В. И. Древне-персидские элементы в осетинском языке,
с. 11 ел.
6 Колебание -mi- \\ -vi- такое же, как в иран. *krmi- (осет. kalm.)
'червь' при слав, cbrvb- (из *krvi-).
7 Абаев I, с. 421 ел.
8 GlPh 1, 2, с. 387.
9 Абаев I, с. 496.
10 Как говорит Малькил (J. Malkiel), иррегулярное фонетическое
явление, это — «thorn in the flesh of the philologist, but he would be failing
his duty if, for that private inconvenience, he suppressed it» (цит. по АО
1965, № 4, с. 704).
11 Hirt H. Zu den germanischen Lehnwortern im Slawischen.—
PBB 23, 1898, с 330—351.
12 Ст. Младеновъ. Старить германски елементи въ славянскить
езици. София, 1909.
13 Kiparsky V. Die gemeinslavischen Lehnworter aus dem
Germanischen. «Annales Academiae Scientiarum Fennicae», Ser. В., t. 32.
Helsinki, 1934.
14 Литературу см.: Kiparsky V. Указ. соч., с. 45 ел.; Vasmer II,
с. 151 ел.
15 WuS I, 1909, с. 200.
16 Stender-Petersen A. Slavisch-germanische Lehnwortkunde.
Goteborg, 1927, 280 ел.
17 Разумеется, термин «германизм» здесь вполне условен и может
употребляться только в кавычках. Переход, например, звонких в глухие
свойствен не только германскому, но и тохарскому, стало быть, можно
говорить о «тохаризмах» и т. п..
18 Абаев,ОЯФ I, с. 323.
19 Абаев,ОЯФ I, с. 581 ел.
20 См.: V. Kiparsky. Указ, соч., с. 101 — 108; В. Георгиев.
Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. М., 1958, с. 28—57.
528
21 Такие пары, как волос \\ волокно, говорят в пользу того, что
обе нормы могли сосуществовать в одном языке.
22 Bartholomae Chr. Vorgeschichte der iranischen Spachen.—
GlPh, I, 1, c. 8.
23 ZDMG 50, 1896, c. 697.
24 В осетинском s совпали старые s и S.
25 S р е с h t F. Der Ursprung der Indogermanischen Deklination.
Gottingen, 1947, c. 18, 201, 234.
26 Стоит отметить, что произношение иран. s (из s) в некоторых
иранских языках (шугнанская группа) приближается к х (х). Судьба
и.-е. s и в других позициях частично параллельна в иранском и
славянском: переход s -*¦ h в иранском и s -*• x(ch) в некоторых позициях
в славянском; исчезновение s перед п.
27 Ирано-германским лексическим связям посвящена диссертация
(еще не опубликованная) молодого германиста М. П. Дадашева. Герм.
is-: иран. aixa- относится к числу этих изоглосс.
28 Miklosich, с. 286.
29 Vasmer II, с. 557 ел., со ссылками на литературу.
30 Kofinek.— LF 67, с. 289; Janko.— LF 40, с. 302; Zubaty (по
Vasmer И, с. 558).
31 Указывалось, что «деформация» *lysb -*¦ rysb могла произойти
для размежевания с lysb 'лысый' или в силу табуистического запрета
(Machek, с. 430). Потребность дифференциации созвучных, но
разнозначных слов и преодоления омонимии может играть известную роль
в появлении перекрестных изоглосс. Так, закономерное иран. *aisa-
'лед' могло быть вытеснено «славизмом» aixa- отчасти для размежевания
с aisa- 'плуг' и aisa- 'этот'. Под влиянием табу чисто латинское *volcus
'волк' было, по-видимому, заменено оско-умбрийской формой lupus
(В. И. Абаев. Скифо-европейские изоглоссы. М., 1965, с. 90). Важно,
однако, что эти заменяющие формы берутся не с потолка, а отражают
реально существующие в родственных диалектах
нормы, которые, стало быть, в известных пределах сосуществовали
с господствующими нормами.
32 Vasmer il, c. 586.
33 Там же.
34 О распределении типов ар- и aqua- в и.-е. лексике и
топонимике см.: В. Порциг. Членение индоевропейской языковой общности
(пер. с нем.). М., 1964, с. 302—305.
35 «Mit lat. aqua, got. ahwa darf apas nicht verglichen werden, denn
idg. q wird regelmassig durch aind. k(c) vertreten» (Uhlenbeck, с 21).
36 Mayrhofer I, с 75.
37 «Kratylos» IX, 2, 1964, с 142.
«Этимология 1966», M., 1968.
529
THRACO-SCYTHICA
На карте древнего мира в течение ряда веков мы
видим скифские и фракийские племена в близком
соседстве друг с другом. Первые населяли Северное
Причерноморье, вторые — Западное. Граница между ними не была
постоянной. Она колебалась в пределах от реки Прут
до нижнего течения Дуная '.
Нашими знаниями о фракийцах и скифах мы обязаны
источникам двоякого рода: археологическим и
свидетельствам античных авторов. Из последних наиболее ценным
был и остается «отец истории» Геродот. Судя по этим
данным, между фракийцами и скифами было много
общего в социальном устройстве, материальной культуре, быту
и нравам. Археологическое изучение скифских и
фракийских памятников выявило две важные общие черты.
Во Фракии, как в Скифии, были распространены
курганные погребения. Здесь археологические данные полностью
совпадают со свидетельствами Геродота. О фракийцах
Геродот сообщает: (над могилой покойника они)
«насыпают курган и устраивают всевозможные состязания»
(V 8). О скифах: (над могилой царя) «устраивают
большую земляную насыпь, прилагая особенное старание к
тому, чтобы она вышла возможноПболъше» (IV, 71).
В материальной культуре обоих народов заметное
место принадлежит крашеной керамике2. Общими были
также некоторые виды оружия.
Социальный строй обоих народов характеризуется как
переходный от доклассового к классовому обществу.
Военная знать и жречество уже выделяются из общей
массы. Наличествует патриархальное рабство. Возникают
даже некоторые подобия государственных образований.
Но это не дает еще права говорить ни о феодальном,
ни о рабовладельческом обществе, ни о государстве как
организованном и устоявшемся институте. Фракийское
и скифское общество времен Геродота и ранее было,
по-видимому, близко к тому состоянию, которое Энгельс
530
назвал военной демократией. Война и организация для
войны были существенными функциями народной жизни.3
Внутриплеменные распри и межплеменные войны были
обычным явлением. Если бы фракийцы и скифы не
ослабляли себя вечными междоусобиями и раздорами, они,
по свидетельству античных авторов, относились бы к
сильнейшим народам древнего мира.
При сходном социальном и хозяйственном уровне
между фракийцами и скифами было много общего в
быту, нравах и обычаях. У тех и других на могиле
знатного покойника умерщвлялась одна из его жен или
наложниц. «Если кто из фракийцев умирает, возникает...
сильный спор, которую из жен покойник любил наиболь-
ше. Ту, в пользу которой решится спор.., умерщвляют
над могилой, затем хоронят ее вместе с мужем»
(Геродот V, 5). У скифов «в остальной части могилы (царя)
хоронят одну из его наложниц, предварительно
задушивши ее» (Гер. IV, 71). Погребальные спортивные
состязания фракийцев, о которых сообщает Геродот, были,
видимо, не чужды и скифо-сарматским племенам. До
недавнего времени у осетин было в обычае устраивать в честь
покойника скачки (duy) и стрельбу в мишень (qabaq).
Есть все основания полагать, что между двумя
причерноморскими народами существовали оживленные
сношения. Это подсказывается как их тесным соседством
при нечеткой и легко переходимой границе, так и
большой подвижностью, характерной и для фракийцев и для
скифов. Были благоприятные условия для того, что можно
назвать взаимной инфильтрацией. И она несомненно
имела место. Присутствие фракийского элемента в
Северном Причерноморье подтверждается значительным
числом фракийских личных имен, засвидетельствованных
в этом регионе: Kotys, Spartokos, Rheskuporis,
Mokkaparis, Rhoimetalkas, Seitalkes и др.4 Возникшее на базе
греческих колоний Боспорское царство с центром в Панти-
капее (V в. до н. э.— IV в. н. э.) управлялось династией
Спартокидов, фракийской по происхождению. Имя
родоначальника этой династии, Спарток, идентично с именем
прославленного фракийца Спартака, вождя восставших
гладиаторов и рабов в Древнем Риме.
Надо думать, что и скифы были нередкими гостями
во Фракии. Скифские вещи спорадически встречаются
на территории древней Фракии и позволяют сделать
вывод, что, подобно рейдам в Переднюю Азию и Западную
531
Европу, имели место также «челночные» рейды скифов
через Фракию и Македонию вплоть до Эгейского моря.5
Практиковались смешанные браки. По сообщению
Геродота (IV 80) мать скифских царей Скила и Октама-
сада была фракиянка, сестра фракийского царя Ситалка.
Скил, преследуемый своим братом, бежал во Фракию.
Брат фракийского царя, со своей стороны, скрывался в
Скифии. Боспорский царь Аспург (I в. н. э.), чье имя —
явно иранское (идентично с осетинским ?fsury
'сказочный конь') был женат на фракиянке.
В драматических событиях, связанных с борьбой
между скифским царем Атеем и македонским царем
Филиппом, отцом Александра, активную роль играли
фракийские племена трибаллов. Решающее сражение,
в котором Атей был разбит и пал в бою, произошло на
территории Фракии. Это было в 339 году до н. э.
О торговых сношениях между Скифией и Фракией,
насколько мне известно, нет прямых сведений. Но такие
сношения, хотя бы в форме натурального обмена,
несомненно имели место. Любопытное сообщение находим у
Геродота. По его словам «фракийцы приготовляют себе
одежду из скифской конопли» (IV, 74).
Длительное соседство и тесные связи между
фракийцами и скифами не могла не оставить следов в языке
тех и других. К сожалению, наши сведения как о
фракийских, так и о скифских наречиях крайне скудны. Связаных
текстов на скифском мы вообще не знаем. На фракийском
имеется несколько надписей, в толковании которых нет
единодушия. Остаются глоссы в античных источниках,
антропонимы, теонимы, топонимы и этнонимы. При всей
своей недостаточности этот материал позволил все же
исследователям прийти к определенным выводам
относительно языковой принадлежности фракийцев и скифов
и восстановить некоторые элементы их лексики,
словообразования и фонетики. Для фракийского, после
классического труда Томашека 6, наиболее весомый вклад внесли
болгарские ученые: Д. Дечев7, В. Георгиев8, И. Дури-
данов9, В. Бешевлиев. Ценны также работы румынского
ученого И. Русу 10.
Немало сделано и для восстановления и
лингвистического определения скифо-сарматских наречий. Здесь,
как и в случае с фракийским, исследователи располагали
весьма скудным материалом: антропо-, этно-, топонимия,
глоссы. Анализом этого материала занимались Мюллен-
532
гоф ", Миллер 12, Фасмер 13, Гарматта 14, Згуста 15, а
также пишущий эти строки 16.
Хотя между различными исследователями как
фракийского, так и скифо-сарматского существуют расхождения
в деталях, в основном они приходят к нескольким общим
и непреложным выводам.
1. И фракийский, и скифо-сарматский в генезисе
являются индоевропейскими языками.
2. Фракийский (вместе с фригийским) представляет
самостоятельную ветвь индоевропейской семьи с чертами
группы satem.
3. Скифо-сарматские наречия относятся к иранской
группе с чертами восточной ветви этой группы.
Следует отметить, что в одном весьма существенном
отношении исследователь скифо-сарматского оказывается
в более выгодном положении, чем исследователь
фракийского. На современной лингвистической карте нет языка,
который мог бы считаться прямым потомком
фракийского. Но есть язык, который преемственно связан со
скифо-сарматским. Это — осетинский язык на Кавказе.
Хотя прямыми предками осетин были аланы, племя
сарматское, а не собственно скифское, языки скифский
и сарматский были, по свидетельству древних авторов,
очень близки друг к другу, и можно считать твердо
установленным, что осетинский в своем словаре сохранил
значительный пласт, восходящий к общему скифо-сармат-
скому лексическому фонду.
Это дает нам право в наших фрако-скифских
параллелях свободно привлекать данные осетинского языка.
Следует еще подчеркнуть, что, когда мы находим во
фракийском слова явно иранского облика, источником
их надо считать именно скифо-сарматский, так как ни
с какими другими ираноязычными народами фракийцы
непосредственно не соседили и не общались.
1. Фрак, buza «козел» — осет. bodz, bodzo, bodzol id. Осет.
слово имеет оттенок клички. Обычное название козла —
c?w. Синонимическая пара c?w-bodzo употребляется в
значении «козел-вожак». Оба слова, фракийское и
осетинское, справедливо сближались с авест. buza-, перс, buz
«козел». Будучи в обоих языках исконным
индоевропейским наследием, они могут вместе с тем рассматриваться
как ареальная фрако-скифская изоглосса.
2. Фрак. Daoi плем. назв., Daos, Davus личное имя-
фриг. daos «волк» 17 сближается с сакским dava- «хищный
533
зверь». Может быть, сюда же осет. davyn «красть». Для
семантики ср. осет. staj «рысь» из др-иран. *stayu- «вор» 18.
3. Фрак. *germ- (*gherm-) «теплый», «горячий»
(распознается в топонимах Germas, Germe, Germai 19 — осет.
qarm\ у ar (m) id, (др.-иран. *garma-), Q?rm?don, G?r-
m?don название минеральных вод на Сев. Кавказе
(«горячая вода»). Общеиндоевропейское в генезисе слово
выступает здесь как ареальная фрако-скифская изоглосса.
4. Фрак. Сиррае, Кирш топоним20 — осет. к'ирр
«бугор», «холм», «горка». Звукоизобразительной природы21.
5. Фрак, кигр- в топониме Kurpisos22 — осет. k'urf
«впалый», «глубокий», «впадина».
6. Фрак, mandakes «перевязь снопа» 23 — осет. b?nd?n
«веревка» от иран. band- «вязать», kuris-b?dd?n
«перевязь снопа» (= b?dd?n из b?nd?n). В скифском и
осетинском наблюдается колебание формантов -ака- \\ -апа-.
Ср. скиф. Satrakes личное имя {*Xsa$raka-) рядом с
Ksarthanos (*Xsaurana-), осет. asiag «балкарец» (из
*asyaka-) рядом с ?sson id. (из *asyana-). Поэтому
существование в скифском формы *bandaka- «веревка» не
может ставиться под сомнение. Но если так, то
заимствование из скифского будет наилучшим объяснением для
фракийского слова. Если бы слово было во фракийском
исконным индоевропейским наследием, мы ожидали бы
форму mend- (bend- из и.-е. *bhendh-), a не mand-.
Колебание b || m — обычное явление. Оно могло иметь место
и на скифской, и на фракийской почве.
7. Фрак, mossyn, mosyn «башня» (в глоссах), Masyno-
polis название города 24 — осет. m?syg \\ m?sug «башня».
Свидетельствуется также у греческих авторов: mos (s) у п
«деревянная башня», Mosynoikoi название народа в Малой
Азии в районе нынешнего Трапезундского вилайета,
буквально «имеющие жилищем деревянные башни». Ни на
иранской, ни на греческой почве слово не
этимологизируется. Всего вероятнее, что родина его — Фракия. Либо
оно принадлежит искони самому фракийскому языку,
либо идет из какого-то балканского субстрата. Фракийцы,
которые на юге соседили с греками, а на севере со скифа-
25
ми, могли передать его тем и другим .
8. Фрак. *тика- предположительно «род» в первой
части двуосновных личных имен: Mukaporis, Mukazenis,
Mukakenthos, Mukapaibes, Mukapuis и др. Вторая часть
этих имен {-poris, -zenis, -kenthos, -paibes) означала, с
большой долей вероятности, «дитя», «сын» и т. п. и, стало
534
быть, приведенные имена осмысляются как «дитя рода»
или «сын клана». Такой анализ позволяет сблизить фрак.
*тика с осет. mug \\ mug? «семя», myggag \\ muggag «род»,
«фамилия».26
9. Фрак.-фриг. Sabadios, Saba^ios название
божества 27 — осет. ?vsati, ?fsati божество охоты 28. Звуковое
развитие: Sabadi -*¦ Asvadi -> Avsati. Сюда же сванское
Apsat' — «бог охоты». Сванское слово Н. Я. Марр связывал
с арм. astvac «бог» и, далее, с фрако-фригийским Sabadios
(Изв. Росс. Акад. Наук, 1911, с. 759—774; 1912, с. 827—
830). Не исключен, однако, и другой путь: из фракийского
в скифско-осетинский, отсюда в сванский. Сваны —
близкие соседи осетин. Они не имеют никаких контактов
с армянами и вряд ли имели их в прошлом.
10. Sanapai. Так, согласно одному античному
источнику, фракийцы называют пьяниц. С другой стороны,
согласно Гесихию, скифское sanaptis означает «винопий-
ца». В первой части этих слов легко распознается осет.
s?n «вино». Во второй части — и.-е. корень *pi-, *pai
«пить». Поскольку у фракийцев было свое оригинальное
слово для вина — zelas29, фрак, sanapai «пьяница»
следует считать целиком заимствованным из скифского30.
11. Saraparai. По Страбону XI, 14, 14 фракийцы так
называют одно из племен Малой Азии. В переводе на
греческий этот этноним означает по Страбону «kephalo-
tomoi», «головорезы». «Они звероподобны и неукротимы...,
отрубают головы, что означается словом saraparai». Нет
сомнения, что слово следует делить на sar (а) «голова» и
араг- «отсекать», «отрубать» и т. п.
Первая часть известна в скифском и осетинском, но
могла быть и оригинальной фракийской31. Но вторую
часть трудно отделить от осет. ?pparyn «сбрасывать»,
«сшибать» (точное значение saraparai в этом случае —
«сшибающие, сносящие головы»). Осет. ?pparyn следует
возводить либо к *ham- kar- (как ?pp?t «все» из *ham-
kata-) от иран. *каг- «бросать», либо к *apabar- «уносить»,
«сносить» (ИЭС I 169—170) 32. В целом этот этноним
производит впечатление заимствованного из скифского.
12. Фрак. Satrai, Satrokentai название фракийского
племени, Satres личное имя. Племя «сатры» несколько
раз упоминается Геродотом в рассказе о походе Ксеркса
в Грецию. «Сатры, сколько нам известно, не были покорены
никем еще; они одни из фракийцев всегда и по настоящее
время остаются свободными... Они отличаются замеча-
535
тельной военною храбростью» (Геродот VII 111). Этноним
и антропоним справедливо сближаются с авест. xsaura-
«власть», др.-перс. xsassa «царство» 33
Речь идет, однако, не об общем исконном
индоевропейском наследии, а скорее о заимствовании из скифского.
Ср. скифское Satrakes имя скифского царя, осет. xsar
«военная доблесть, храбрость», Xs?rt?g герой осетинского
эпоса. Из скифского идет, возможно, также
неразъясненное лит. satrus «быстрый, ловкий» 34.
13. Фрак, -talk в личных именах Si-talkes, Si-talkas,
Rhoime-talkas. Бесспорное оригинальное фракийское
слово. Справедливо сближается со слав. Нък, русск. толк,
толковать «переводить» (с одного языка на другой).
Однако какое значение имело это слово в личных именах?
«Переводчик?» Крайне сомнительно. С семантической
стороны представляется более выигрышным привлечение
этимологически родственных индоевропейских фактов.
Ср. др.-инд. tark- «иметь суждение», «думать», pari- tark-
«допрашивать на суде», осет. t?rxon «суд», «судья», тюрк,
(из иран.) tarxan «привилегированный, свободный от
повинностей человек», в особенности личные имена
Tarxan (русск. Тарханов), этрусско-латинское Torchon,
Тarcon, Tarquinius (из скифского), топонимы As-tarxan
«Астрахань», Tam-tarxan «Тьмутаракань» 34а.
14. Tarabosteisei или Thorabostes. По историку
Иордану F век), со ссылкой на Диона Хризостома A век),
так называлась у даков и гетов высшая знать: «...hos,
qui inter eos generosi extabant, ex quibus eis et reges et
sacerdotes ordinabantur».
Они носили особый головной убор pilos, отсюда
название pilophoroi, pileati.
Вторую часть bost- уже сопоставляли с Иран, basta-
«повязанный», «повязка» 35. Первую часть (tara) Томашек
сближал с греч. Нага. Так, по Геродоту и другим
античным авторам, назывался персидский «головной убор».
Однако непонятно, почему Дион Хризостом, отлично
знавший Геродота и, стало быть, и слово tiara, передал
его в-форме tara. Непонятно также, поскольку «тиара»
была уже названием определенного головного убора,
зачем нужна была вторая часть bost-. Сложение tara-
bost становится более осмысленным, если первую часть
сблизить с сакским ttara «лоб», согд. tor «лоб», осет. t?r в t?r-
nix «лоб». Все вместе означало, в этом случае, «носящие
лобную повязку». Реалии подтверждают, что фракийский соци-
536
альный термин мог быть заимствован у скифов.
«Специальный головной убор был отличительным признаком жречества
у иранских народов (Авеста, рельефы Персеполя и т. д.). На
золотых пластинках из Аму-Дарьинского клада,
изображающих жрецов, всегда подчеркнут особый головной убор, часто
в виде повязки, завязанной на лбу, со спускающимися
с обеих сторон головы концами повязки» (Грантов-
с к и й Э. Индоиранские касты у скифов. XXV
Международный конгресс востоковедов. М., 1960, с. 6). Валерий
Флакк в «Argonautica» так описывает головной убор
«киммерийского» вождя Авха (Auchus):
...triplici percurrens tempora nodo demittit sacro
geminas a vertice vittas («повязка..., обвивая виски
тройным узлом, спускается со священной головы двумя
лентами»). Можно высказать догадку, что этот головной
убор был особо связан с культом Митры. Изображения
Митры в античный период выделяются среди
изображений других богов головным убором типа «фригийской
шапочки». Такой же убор носил верховный жрец бога
Митры (Е. D o г п е г. Deus pileatus. «Etudes mithraiques»,—
Acta Iranica, vol. 17. Teheran-Liege, 1978, p. 115—122).
15. Фрак. *tarpa- в топонимах Tarpodizos и др.36 —
осет. t?r f? «ложбина», «низина», «долина». Вторая часть
топонима Tarpodizos сближается с иран. daiza- «крепость».
Все вместе означает, стало быть, «долинная крепость».
Для первой части Дуриданов 51, 52, 83 привлекает лит.
tarpas «промежуток» и ст.-слав. trapb «яма». Если так,
то перед нами фрако-скифо-славо-балтийская изоглосса.
16. Фрак, zalmos «шкура». В этимологическом плане
сопоставляется обычно с германским названием шлема
(нем. Helm, гот. hilms и пр.) . По значению идентично с
осет. car m «шкура», что наводит на мысль о контаминации
фракийского слова со скифским.
Приведенные фрако-скифские лексические встречи,
если учесть скудость дошедшего до нас фракийского
материала, достаточно показательны.
В нашей книге «Скифо-европейские изоглоссы» (М.,
1965) мы отстаивали следующие положения:
1. Прародиной скифов, как и всех иранских племен,
является Южная Россия и Украина.
2. Вторжение скифов из Азии в Европу в VIII веке
до н. э., о котором рассказывает Геродот, если это
вторжение вообще имело место, было не первым появлением
скифов в Европе, а одним из «челночных» передвижений
537
северноиранских племен между Европой и Азией, которые
имели место и раньше, и позже.
3. Безусловную историческую ценность имеет другая
скифская этногоническая легенда, согласно которой
скифы были исконными обитателями Северного
Причерноморья, а их родоначальник Таргитай жил за тысячу
лет до похода Дария в Скифию, т. е. в середине 2-го
тысячелетия до н. э.
4. Во 2-м тысячелетии до н. э. скифо-киммерийский
мир находился в тесных контактах с древнеевропеиским
миром, с предками славян, балтийцев, «тохаров»,
германцев, италиков, кельтов.
Есть все основания считать, что крайним южным
членом этого древнего сообщества народов были
фракийцы. И если бы фракийская апеллативная лексика дошла
до нас хотя бы в таком же объеме, как, скажем,
тохарская, мы имели бы десятки фрако-скифских изоглосс,
наряду с фрако-славянскими, фрако-балтийскими и т. д.
В упомянутой нашей книге мы отметили, наряду с
языковыми, некоторые эпические и мифологические
сюжеты, мотивы и образы, общие у скифов с европейскими
народами: славянами, скандинавами, италиками, кельтами.
Могли быть, несомненно, такие встречи и у скифского
с фракийским. К сожалению, мы слишком мало знаем
о мифологии и эпосе фракийцев. Все же одну параллель
хочется отметить.
У осетин бытует монументальный героический эпос
о героях «Нартах».
Как показали Всеволод Миллер и Жорж Дюмезиль,
этот эпос корнями своими уходит в скифский мир 38.
Центральный герой эпопеи зовется Батраз. Кульминацией его
богатырской биографии является момент, когда он
вступает в борьбу с небесными грозовыми божествами, Уацил-
лами. Своими смертоносными стрелами он поражает их,
а сам, обладая стальным телом, остается неуязвимым.
Обращаемся к Геродоту и читаем: «... фракийцы
пускают стрелы в небо против грома и молнии, сопровождая
стрельбу угрозами божеству» (IV, 94).
Народный художник Осетии Махарбег Туганов
написал картину «Батраз, поражающий грозовых богов».
Она кажется иллюстрацией к приведенным словам
Геродота.
538
Примечания
'Геродот IV, 99 (перевод Мищенко): «Перед Скифией лежит
Фракия... Скифия начинается с залива, образуемого Фракией; здесь же
входит в Скифию Истр, поворачивая на восток к устью... Эта, от Истра
начинающаяся страна, есть древняя Скифия». Когда Дарий I пошел
войной на скифов, представитель последних, призывая другие народы
дать отпор персам, указывал на то, что персидский царь «уже подчинил
себе всех фракийцев, в том числе и соседних с нами гетов» (Геродот IV
118).
Стало быть,— скифы и геты — непосредственные соседи. Так было
при персидском царе Дарий I.
Проходит 500 лет. Время императора Августа. И мы снова видим
ту же картину: тесное соседство и общение на нижнем Дунае между
гетами и скифо-сарматами. Овидий, который десять лет провел в ссылке
в городке Томи в Добрудже, в своих Tristia и Epistolae ex Ponto
многократно повторяет, что его окружение в изгнании составляли народы
гетов, сарматов и скифов. Геты и сарматы постоянно фигурируют у
него рядом.
sors tulit in Geticos Sarmaticosque sinus
«судьба занесла (меня) на гетские и сарматские берега».
Свое новое местожительство он определяет так:
...intra Scythiamque Getasque.
В самом городке Томи население было, видимо, смешанное. Поэт
рисует такую картину:
Sarmaticae major Geticaeque frequentia gentis per medias in
equis itque reditque vias
«множество (людей) из племени сарматов и гетов движутся
на конях взад и вперед по дорогам».
Me quoque Sauromatae jam vos novere Getaeque
«я также познакомился с вами, савроматы и геты».
...denique Sarmaticas inter Geticasque sagittas
«...как раз между сарматскими и гетскими стрелами».
Овидий даже уверяет — конечно, несерьезно,— что он разучивается
говорить по-латыни, но научился говорить по-гетски и сарматски:
ipse mini videor jam dedicisse latine, nam didici Getice Sarmati-
ceque loqui
2 Kazarow G. Beitrage zur Kulturgeschichte der Thraker.
Sarajevo, 1916.
3 «Фракийцы, скифы... меньше ценят тех граждан, которые
занимаются ремеслами, напротив, считают благородными тех.., которые
ведают военное дело» (Геродот II, 167) «Прекраснейший образ жизни
(для фракийцев) — военный и разбойничий» (Геродот V 6).
4 Z g u s t a L. Die Personennamen griechischer Stadte der nordlichen
Schwarzmeerkuste. Praha, 1955, p. 278—293.
539
5 Ельницкий Л. А. Скифия евразийских степей.
Новосибирск, 1977, с. 15, 212, со ссылкой на: V. Р arvan. Gefica. Bucuresti,
1926, p. 728, и M. Rostowtzew. Skythien und der Bosporus. Berlin, 1931,
p. 539.
6 T o m a s c h e k W. Die alten Thraker I—II. Wien, 1894.
7 Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957.
Decev D. Charakteristik der thrakischen Sprache. София, 1952.
8 Георгиев В. Тракийският език. София, 1957; Исследования
по сравнительно-историческому языкознанию. М., 1958. с. 112—145.
9 Дуриданов И. Езикът на траките. София, 1976. Эта работа
особенно ценна широким привлечением балтийского сравнительного
материала, который во многих случаях выявляет особую близость
к фракийскому.
10 R u s s u I. Die Sprache der Thrako-Daker. Bukuresti, 1969; его же:
Elemente autochtone dei limba romana. Bukuresti, 1970.
"Mullenhoff K. Uber die Herkunft und Sprache der Scythen
und Sarmaten. Berlin, 1866; Deutsche Altertumskunde III, 1892, p. 101 —125,
205—211.
12 Миллер В. Осетинские этюды, III, 1887. M., с. 70—101; его
ж е: Эпиграфические следы иранства на Юге России.— Журн. Мин.
Нар. Проев., 1886, окт., 232—283; К иранскому элементу в припонтий-
ских греческих надписях.— Иза Археолог, комиссии, вып. 47, 1913.
13 Vasmer M. Die Iranien in Sudrussland. Leipzig, 1923.
14 Harmat ta I. Studies in the language of the Iranian tribes in
South Russia. Budapest, 1952.
15 Zg us ta L. Op. cit.
16 Скифский язык.— В кн.: Осетинский язык и фольклор. 1, 1949,
М.—Л., с. 147—244.
"Георгиев В. Исследования, с. 118—119.
18 Melanges Benveniste. Paris, 1975, p. 7—8
19 «Факт, что Germa названа также Т her та ( греч. therma) и что
в городе имеются горячие родники, указывает недвусмысленно на то,
что фрак, germ- означает «горячий», «теплый» (Георгиев,
Исследования, с. 116).
20 Detschew D. Spachreste..., p. 263—264.
21 А б а е в В. Истор.-этимол. словарь осетинского языка (ИЭС)
1, 651.
22 Дуриданов И. Указ. соч., с. 77.
23 Detschew D. Sprachreste..., p. 284—285, Георгиев,
Исследования .., с. 114.
24 Detschew D. Sprachreste..., p. 311—312.
25 ИЭС II 104—107
20 Detschew D. Sprachreste..., 312; В. Гергиев
Исследования.., 121; Дуриданов И. 63—64, 77.— В имени Mukakak.es
540
(Detschew. Sprachreste..., 314) вторая часть (kakes) сближается
с осетин, gagi, русск. (диал.) кага «дитя» (ИЭС 1 505) и, стало быть,
Mukakakes также означает «дитя рода», «дитя клана». Стоит отметить,
что общеславянское celovekb также анализируется как «дитя рода»
или «клана».
27 Дуриданов И. Указ. соч., с. 69, 81, 100.
28 ИЭС 1 109
29 Георгиев В. Исследования .., 114.— Дуриданов 23.
30 Vas m er. Die Iranier in Siidrussland. Leipzig, 1923, p. 50 —
Detschew. Sprachreste.., 420.
31 Detschew D. Sprachreste.., 422.
32 В i e 1 m e i e г ошибочно возводит ?pparyn к *ham-bar-. (Historische
Untersuchung zum Erb- und Lehnwortschatzanteil im ossetischen Grund-
wortschatz. Frankfurt am Main — Bern — Las Vegas, 1977, p. 117). Группа
-mb- не подвержена в осетинском ассимиляции; ср. ?mbal «товарищ» из
*ham-barya-, ?mb?rzyn «покрывать» из * ham-bar z-, ?mbond «ограда»
из *ham-banda, ?mbyrd «собрание» из *ham-brta и др.
33 Tomaschek 168; Detschew 426; Георгиев В.
Исследования .., с. 122.
34 Fraenkel. Litauisches etymolog. Worterbuch, 11, 967 дает
это слово в одном гнезде с satras «прут», «жердь», «куст», что с
семантической стороны абсолютно неприемлемо.
35 Detschew D. Sprachreste.., p. 489—490.
36 Detschew D. Sprachreste.., 492; В. Гергиев,
Исследования..., с. 119.
37 Tomaschek. Thraker... II, 1, 10; D. Detschew. Spach-
reste... p. 175; Георгиев В. Исследования.., с. 114; И. Дуриданов.
23, 105.
38 См. в особенности новейшую работу: G. Dumezil. Romans
de Scythie et d'alentour. Paris, 1978.
Езиковедски проучвания в чест на акад. В. И. Георгиев. София, 1980.
ФРАКИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
ТЕРМИН tarabosteis
Наши сведения об общественном строе древних
фракийских племен очень скудны. Тем больший интерес
вызывает любое свидетельство, которое несет хоть какую-то
информацию о социальной организации фракийцев. Одним
из таких свидетельств является термин «Tarabosteis»
(варианты Tarabosteisei, Thorabostes). Согласно историку
Иордану (VI в.) со ссылкой на Диона Хризостома (I в.),
так называлась у даков и гетов привилегированная каста,
из которой вербовались правители и жрецы '. Их
отличительным внешним признаком был особый головной убор —
греч. pilos, лат. pileus, поэтому они назывались
по-гречески pilophoroi, по латыни pileati. По свидетельству Петра
Патриция, «Декебал (вождь даков) отправил к Трояну в
качестве послов пилофоров, так как они у них (даков)
пользуются наибольшим почетом» 2.
Выделение подобной привилегированной группы
соответствует определенному этапу в развитии общества, когда
в недрах родо-племенного строя начинается кастовое
расслоение, определенные фамилии присваивают себе
исключительное, переходящее по наследству право
выполнять функции жрецов и военных вождей и общество
приобретает ту «трифункциональную» структуру (жрецы —
военные вожди — труженики), которую так красноречиво
и убедительно описал в ряде работ проф. Ж. Дюмезиль.
Если верно сообщение Диона Хризостома, что у
фракийцев цари и жрецы происходили из касты Tarabosteis, то
это указывает на ту более раннюю стадию формирования
трифункционального общества, когда обязанности вождя
и жреца могли выполняться одним и тем же лицом.
Коль скоро за термином «Tarabosteis» скрывается
важная социальная категория, нас не могут не
интересовать его точное значение и происхождение. В статье
«Thraco-Scythica» мы пытались показать, что этот термин
восходит к др.-иран. * tara-basta- и представляет собой
сложное слово типа bahuvrihi со значением «носящий
542
лобную (tara-) повязку (basta-)»3. Для первой части ср.
осет. t?r в t?r-nyx (синонимический повтор: пух также
значит 'лоб') \ перс, tar, tarak 'макушка; темя'5, согд.
tar- (t'r-) 'лоб' 6, сак. ttara- 'лоб' 7. Для второй части ср.
осет. bast 'связанный, повязанный'8, перс, basta
'завязанный, повязанный' 'повязка, узел'9, согд. ?ast- (?st-)
'связанный' 10, сак. basta- тоже", авест. basta, др.-перс. basta-
(причастие прошедшего времени от band- 'вязать') 12.
Как видим, оба компонента восстанавливаемого *
tarabasta- хорошо засвидетельствованы в иранском. Но
насколько реально их сочетание в значении особого
головного убора («лобная повязка»)? Точно такого сложного
слова мы в памятниках не находим, но
словообразовательная модель — самая обычная, ср. (с другим первым
компонентом) осет. ron-bast 'пояс' из *rana-basta- букв,
'набедренная повязка' (в первой части rana- 'бедро') 13.
Например, у осетинского народного поэта Коста Хетагурова:
M? ronbast — w?rd?x
«Мой пояс — скрученный прут» .
По образованию и семантике ср. еще осет. s?r-b?dd?n,
перс, sarband, тадж. sarband 'женский головной платок'
(в первой части sar 'голова', во второй — уже знакомый
нам глагол band- 'вязать') ,5. Особо стоит отметить, что
в персидском слово bast само уже может означать 'тюрбан,
чалма' 16.
Остается подкрепить нашу этимологию фракийского
Tara-bosteis со стороны реалий: есть ли указания, чтобы
где-либо на иранской почве особый вид лобной или
головной повязки служил отличным признаком какой-либо
привилегированной группы или касты?
В статье «Индо-иранские касты у скифов» Э. А. Гран-
товский отмечает, что особым головным убором выделялись
у иранцев жрецы. На это указывает ряд свидетельств.
В частности, «на золотых пластинках из Аму-Дарьинского
клада, изображающих жрецов, всегда подчеркнут особый
головной убор, часто в виде повязки, завязанной на лбу,
с обязательно спускающимися с обеих сторон головы
концами повязки, уходящими иногда далеко вниз» 17. Это
описание как нельзя лучше подходит к значению
восстанавливаемого нами иранского * tara-basta- 'лобная повязка'.
Сходное описание дает Валерий Флакк в «Argonautica»
головному убору «киммерийского» вождя Авха:
543
triiplici percurrens tempora nodo
demittit sacro geminas a vertice vittas
«Обвивая виски тройным узлом,
Спускается со священной головы двумя лентами»18.
Э. А. Грантовский приводит также одно место из
рассказа Лукиана о скифе Токсарисе, согласно которому
у скифов «пилофоры» («тюрбаноносцы»)
противопоставляются простым людям.
В позднеантичных изображениях бог Митра
выделяется среди других богов особым головным убором. И такой
же убор носил главный жрец этого бога .
В свете всего сказанного фракийское Tarabosteis как
социальный термин получает определенное значение.
Античность застает фракийцев и скифов примерно на
одном уровне социального развития. У тех и других начинает
формироваться трифункциональная (со временем — трех-
кастовая) структура с выделением привилегированной
(обычно фамильной) группы жрецов и военных вождей.
В этих условиях мог особенно легко происходить обмен
терминами, относящимися к общественному строю.
Фракийское Tarabosteis из иранского *Тara-basta- 'Носящие
лобную повязку' — один из примеров такого обмена 20.
Примечание
1 Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957,
S. 489—490.
2 Schrader O., Nehring A. Reallexikon der indoger-
manischen Altertumskunde, II. В.— Leipzig, 1917—1923, S. 624 (s. v.
«Kopfbedeckung»).
3 А б а е в В. И. Thraco-Scythica.— В кн.: Езиковедски проуч-
вания в чест на акад. В. И. Георгиев. София, с. 108—109.
4 Абаев В. И. Историк o-этимологический словарь
осетинского языка, т. III. M., 1979, с. 270—271.
5 Персидско-русский словарь, т. I. Под ред. Ю. Рубинчика.
М., 1970, с. 343.
6Benveniste Е. Textes sogdiens.. P., 1940, p. 273.
7 Bailey H. W. Dictionary of Khotan Saka. Cambridge, 1979,
p. 125—126.
8 Абаев В. И. Историко-этимологический словарь
осетинского языка, т. I, с. 239.
'' Персидско-русский словарь, т. I, с. 208.
544
'"Henning W. Ein manichaisches Bett- und Beichtbuch.—
Acta Iranica, 1977, v. 14, p. 467 D85).
" В a i 1 e y H. W. Op, cit., p. 274.
12 Bartholomae Chr. Altiranisches Worterbuch.
Strassburg, 1904, стб. 952.
13 A б ae в В. И. Историко-этимологический словарь
осетинского языка, т. II. М., 1973, с. 420.
14 К о ста. Собр. соч. М., 1939, с. 52.
15 А б а е в В. И. Историко-этимологический словарь
осетинского языка, т. III, с. 79.
16 Персидско-русский словарь, т. I, с. 207.
17 Грантовский Э. А. Индо-иранские касты у скифов.—
В кн.: XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады
делегации СССР. М., 1960, с. 6 (со ссылкой на: Dalton M. О.
The treasury of the Oxus. L., 1905, N 48,49, 51—57, 61—62,
68—70, p. 94—97, pi. XIII, XIV)).
18 Valerius Flaccus. Argonautica VI, 63—64.
19 Borner E. Deus pileatus.—Acta Iranica, 1978, v. 17, p. 115—122.
20 Во фракийском ожидали бы Tarabasteis. Но, видимо,
колебание в огласовке а/о имело место во фракийских диалектах. Ср.
Хлартохос рядом со Елартахос, Spartacus (Detschew, S.
473—474).
Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1984.
18 В. И. Абаев
О ПРИНЦИПАХ
ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО
СЛОВАРЯ
1. ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «ЭТИМОЛОГИЯ».
Слово «этимология» образовано из греческих етг>ц.ос
«истинный» и коуос, «слово», «значение» и по точному
смыслу означает, стало быть, науку об «истинных»,
т. е. первоначальных значениях слов. В этом значении
слово встречается у позднегреческих авторов (впервые
у стоика Хризиппа), от которого оно воспринято и
латинскими грамматистами. Варрон (De lingua latina
V, 2) определяет этимологию как часть грамматики,
которая изучает «cur et unde sint verba» („почему
и откуда происходят слова"). В новое время этимология
определяется обычно как часть языкознания,
занимающаяся происхождением слов . Однако, что следует
понимать под «происхождением» слова? Если говорят,
что слово перстень образовано от перст с помощью
определенного форманта, можно на этом остановиться
и считать этимологию, т. е. происхождение слова
перстень, установленной. Но что значит установить,
скажем, этимологию русского два? Связать его со
старославянским дъва или древнеиндоевропейским *duwo-?
Но можно ли считать, что эти сопоставления
разъясняют происхождение слова два как определенного
звукового и семантического единства? Дают ли они
ответ на вопрос, из каких предшествующих
материальных элементов и на какой семантической основе воз-
тт !j i/ тт г\ ттоттттло ттт*л гттдфаттт^тт^а*) Л^ ЛТ1Л1ТТТЛ ttut» '-i'mf '"*'"*_
11 xi i\. л. \j диит/с niiuuiiwiunuv/i ivunwnn^ n\^ i • ли \*\j
поставления только доводят историю слова до
определенных прошлых эпох, до эпохи славянского или до
эпохи индоевропейского единства. До происхождения,
в смысле первоначального возникновения, мы на этот
раз не доходим. Поэтому некоторые авторы, определяя
этимологию, предпочитают говорить не о
«происхождении», а о «генетических связях» слова. Так, А. А.
Белецкий определяет этимологию как «установление
восходящих и нисходящих генетических связей данной
формы известного языка» 2.
546
Итальянский лингвист V. Pisani в обширной
монографии об этимологии видит задачу
этимологических исследований в том, чтобы «determinare i
materiau formali adoperati da chi per primo ha creato
una parola, e insieme il concetto che con essa egli ha
voluto esprimere» 3 Это определение, хотя и не
говорит о «происхождении», все же подразумевает его. Для
лингвистического мировоззрения автора характерно,
что наречение он мыслит как акт индивидуального
словотворчества.
Нет, может быть, надобности изгонять термин
«происхождение» из определения этимологии. Но следует
иметь в виду известную условность этого термина.
«Происхождение» слова не всегда означает его
первоначальное образование из каких-то
предшествующих элементов. Сплошь и рядом нам
удается только довести генетические связи слова до
определенного предшествующего этапа (скажем, до языка-
основы), не раскрывая до конца, «почему и откуда» оно
возникло.
Научная этимология, как и вообще научное
языкознание, начинается с создания
сравнительно-исторического метода. В рамках этого метода этимология
получила следующее реальное содержание: 1) для
основных оригинальных слов данного языка —
сопоставление со словами родственных языков и прослеживание
их формальной и смысловой истории вглубь до языка-
основы; 2) для слов, которые являются производными
внутри данного языка (внутриязыковые дериваты),
установление их составных частей, корня, основы и
формантов в рамках данного языка; 3) для
заимствований — указание источника заимствования. К этим
трем задачам и сводится содержание этимологических
исследований.
2. ЭТИМОЛОГИЯ ЕСТЬ ЧАСТЬ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ
Этимология не есть какая-то особая, самостоятель-
« ная отрасль или раздел языкознания; она составляет
часть исторической лексикологии и только в этом
качестве получает право на существование.
В традиционном употреблении термин
«исторический словарь» применяется только к словарю, просле-
18* 547
живающему историю слов исключительно по
письменным памятникам данного языка4. Если
следовать этому пониманию, то окажется, что
бесписьменные и младописьменные языки не имеют вообще
никакой истории. Такое узко филологическое понит
мание «истории» неприемлемо и от него следует
отказаться. Словарь становится историческим не в той
мере, в какой слова в нем документированы по
письменным памятникам, а в той мере, в какой он насыщен
подлинным историзмом, т. е. в какой он строится на
познании законов развития языка в связи с историей
общества, историей народа.
С этой точки зрения неправомерно
противопоставление этимологического словаря «историческому»
словарю в традиционном понимании. Хотя и разными
приемами, но оба они служат одной цели — истории.
«Исторический» словарь строится на чисто
филологической документации и прослеживает историю слов
по письменным памятникам данного языка.
Этимологический словарь, используя также данные
филологической документации, не ограничивается ими;
он исследует историю и генетические связи слов на
широкой базе сравнительно-исторического языкознания и,
таким образом, выходит далеко за рамки, очерченные
письменными памятниками данного языка.
«Исторический» словарь интересуется историей
данного слова вне зависимости от его генетических связей
с другими словами этого языка, а тем более других языков.
Этимологический словарь, напротив, стремится с
максимальной широтой и глубиной вскрыть эти генетические
связи, опираясь на всю сумму данных исторической
фонетики, морфологии и семасиологии как данного языка,
так и всей семьи или группы родственных языков, а для
заимствованных слов — и не родственных языков.
«Исторический» словарь составляет привилегию языков
со старой, многовековой письменностью.
Этимологический словарь можно составить для любого,
не только древнеписьменного, но младописьменного и
бесписьменного языка, если только данные его
диалектологии и сравнительно-исторического изучения позволяют
восстановить историю его лексики за значительный
период его развития.
Таковы важнейшие различия между «историческим»
и этимологическим словарем. Но эти различия несущест-
548
венны по сравнению с тем, что их объединяет:
принадлежность к одному и тому же pu зделу языкознания —
исторической лексикологии.
Всякая этимология, если даже она сводится к
простому сопоставлению двух генетически связанных форм,
содержит элементы истории. С другой стороны, простая
регистрация форм в нескольких письменных памятниках
может также иметь историческую ценность. Само собой
разумеется, хорошие филологические и этимологические
изыскания должны быть чем-то большим, чем простое
сопоставление или регистрация форм.
Уже делаются попытки объединить в одном словаре
«исторический» в узком смысле материал
(документация по письменным памятникам данного языка) с
этимологическим. Таков латинский этимологический словарь
Эрну и Мейе. В этом словаре словарная статья строится
следующим образом: сперва дается филологическая
документация слова у латинских авторов: указывается,
древнего или позднего оно употребления, часто или редко
встречается; какие различия в форме и значении можно
отметить для этого слова в разные эпохи у разных
авторов; какие у слова имеются дериваты. После этого идет
собственно этимология, т. е. выяснение генетических
связей данного слова с другими словами латинского и
родственных индоевропейских языков или указание на
источник заимствования, если слово инородного
происхождения.
3. ИСТОРИЯ СЛОВ И ИСТОРИЯ НАРОДА
Коль скоро этимологический словарь по своему
назначению не может быть ничем иным, как историей слов,
становится очевидной тесная связь этимологических
исследований с историческими и этногенетическими.
История слов теснейшим образом связана с историей
народа, несравненно теснее, чем история грамматического
строя.
Различение словарного состава и основного словарного
фонда имеет первостепенное значение для
этимологической работы, для правильного использования этимологи-^
ческих исследований в исторических целях и вообще для
проблемы связи истории языка с историей народа.
Основной словарный фонд, благодаря тому, что он
живет очень долго, в течение ряда веков, имеет исключитель-
549
ное значение для суждения о происхождении
народа и его родственных связей с другими народами
(этногенетическая проблема).
Остальной словарный состав, благодаря своей
чувствительности к изменениям, происходящим в жизни общества,
оказывается особенно ценным для суждения о процессах,
связанных с изменениями социального строя, с развитием
хозяйства и культуры и пр.
Особо следует отметить значение одной группы
лексики: заимствованных слов. Они дают часто ценнейший
материал о прошлых сношениях и взаимных культурных
связях данного народа с другими народами.
Таким образом, этимологическое исследование вообще,,
в особенности же составление полных этимологических
словарей находит себе почетное место в ряду задач,
стоящих перед языкознанием как общественной наукой.
4. ИСТОРИЯ СЛОВ И ИСТОРИЯ МЫШЛЕНИЯ
Сказанным выше не исчерпывается научное значение
и интерес этимологических исследований. История слов
связана не только с внешней историей народа, но и с
историей его мышления. Язык как «непосредственная
действительность мысли» хранит увлекательную повесть
многовековых усилий человека — познать, осмыслить и
подчинить окружающую действительность.
Этимология, если она уделяет достаточно внимания
не только формальной, но и смысловой стороне истории
слов, может дать богатый материал для выяснения
истории человеческого мышления. Как, по каким путям идет
осознание и наречение тех или иных явлений и
отношений опыта; как человек с помощью языка познает
действительность, «осваивает» ее, как он, благодаря
абстрагирующей работе мысли, создает из множества частных,
единичных образов и представлений общие и отвлеченные
понятия — вот те вопросы, для освещения которых
этимологические исследования дают многообразный
иллюстративный материал.
Этимологические изыскания хорошо иллюстрируют,
например, один весьма важный процесс в развитии
мышления: общие и отвлеченные понятия рождаются не сразу;
они постепенно формируются на базе конкретных,
образных представлений. Древнеиранское suxra- «красный»
содержит корень suk- «огонь, гореть». Образ огня дал на-
550
чало отвлеченному понятию «красный». Осетинское arf
«глубокий» восходит к древнеиранскому *apra- от корня
ар- «вода». Отвлеченному понятию «глубина»
предшествовало конкретное представление о «глубокой воде» (реке,
озере, море); из образа «водная глубь» возникло со
временем понятие «глубокий» вообще. Русскому крутой
отвечает в литовском krantas «берег», славянскому bregb —
нем. Berg 'гора'. Очевидно, образ крутого, обрывистого
берега послужил основой для образования отвлеченного
понятия «крутой». Так же обстоит дело с другими
отвлеченными понятиями. Благодаря успехам этимологических
исследований мы видим воочию, как человеческая мысль
справляется со своей важнейшей задачей — образованием
общих и отвлеченных понятий. Абстрагируясь от
конкретных образов: «огня», «воды», «берега», «горы», она создает
общие понятия: «красный», «глубокий», «крутой»,
«высокий» и т. п.5
5. ЭТИМОЛОГИЯ КАК НАУКА
НЕМЫСЛИМА ВНЕ СРАВНИТЕЛЬНО-
ИСТОРИЧЕСКОГО МЕТОДА
Попытки объяснить происхождение слов и отмечать
родственные слова в различных языках делались еще
в глубокой древности. У античных авторов можно найти
немало таких «этимологических» опытов . Нельзя сказать,
чтобы все они были ошибочными. Иногда их авторы
нападали и на правильное объяснение. Не всегда
заблуждаются даже так называемые «народные этимологии». В них
также изредка попадаются крупицы истины. Тем не менее
говорить об этимологии как науке можно только с
момента глубокого теоретического и практического
обоснования сравнительно-исторического метода, т. е. с начала
XIX столетия. Этот метод, который сам вырос из начатков
этимологии, а именно из выявления общих лексических
элементов в разных и.-е. языках, 'выработал те точные,
многократно проверенные принципы и критерии
этимологического исследования, которые переводят
этимологическую работу из области домыслов и догадок на почву
точных научных приемов и сообщают полученным
результатам либо абсолютную, либо значительную
достоверность. Без дисциплинирующего влияния этих
принципов этимология обращается в зыбкую почву, где могут
чувствовать себя привольно только фантазеры и дилетанты.
551
6. ПРИНЦИПЫ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Выработанные сравнительно-историческим
языкознанием принципы этимологического исследования хорошо
известны и не раз излагались.
Основной принцип, связанный с самой сущностью
сравнительно-исторического метода, можно назвать
принципом системы. Этот принцип требует, чтобы,
устанавливая генетические связи между словами, исследователь
не выходил из рамок данного языка или группы
родственных языков, восходящих к одному языку-основе.
Только в этих границах установление этимологических
связей может проводиться с научной достоверностью и в
широких размерах. Убедительность подобных связей тем
выше, чем строже мы держимся в рамках системы, имея
в виду систему языка или систему родственной группы
языков. Сопоставление слов, входящих в разные системы,
не может иметь большой познавательной ценности до
тех пор, пока не будет доказано, что подобные
схождения в свою очередь образуют систему, т. е. восходят к
некоему первоначальному языковому единству.
Иными словами, этимология должна исходить
неизменно из генеалогической классификации
языков и из понятия языкового наследия.
Установление генетических связей между словами в
рамках системы производится на основе ряда критериев, из
которых на первое место выдвигаются обычно
фонетический, морфологический и
семантический.
Фонетический критерий требует, чтобы
предлагаемые этимологические сближения и разъяснения
опирались неизменно на установленные для данного языка
или данной группы языков закономерные звуковые
соответствия. Так, этимологическое сближение осетинского
r?jyn с русским лаять опирается не только на тождество
их значений, но и на тот установленный факт, что
индоиранские языки, к которым относится осетинский,
характеризовались ротацизмом, т. е. систематически замещали
звук / звуком г. Стало быть, наличие в осетинском языке
г в соответствие русскому л является закономерным. Оно
может быть проиллюстрировано такими примерами, как
русское луч-, осетинское ruxs «свет» и др.
Морфологический критерий требует, чтобы
552
при этимологическом анализе считались не только с
совпадениями корней или основ, но и с единством и
закономерным соответствием словообразовательных формантов и
вообще с морфологической историей слов. Так,
сближение осетинского rast «прямой» с латинским reclus или
осетинского fyst «написанный» с латинским pictus основано
не только на общности корней, но и на том, что в обоих
языках эти слова представляют формы прошедшего
причастия; ср. в осетинском a-raz-yn : a-r?zt «направлять»,
fyssyn\finsun : fyst\finst «писать», в латинском rego : rectus
«направляю», pingo : pictus «пишу красками».
Семантический критерий требует от этимо-
логиста серьезнейшего внимания не только к внешней
(фонетической и морфологической) стороне сравниваемых
слов, но и к смысловой стороне. Пути семантического
развития слов бывают зачастую очень причудливыми
и извилистыми, но это вовсе не значит, что в этой области
царят произвол и хаос и что, стало быть, этимологист не
должен себя связывать здесь никакими рамками и
ограничениями. Широкое привлечение историко-семасиологи-
ческого материала из различных языков, на этот раз
не только родственных, дает путеводные нити среди
кажущегося хаоса семантических явлений и сообщает многим
этимологическим разъяснениям такую же убедительность
со стороны смысловой, какую они могут иметь со стороны
формальной.
Когда мы, например, рассматриваем осетинское c?sgom
(c?skom) «лицо» как сложение из c?st «гла'з» и кот «рот»,
мы исходим не только из того, что такое разъяснение не
противоречит нормам осетинской фонетики и
словообразования, но опираемся также на факты других языков,
где понятие «лица» выражается таким же образом,
например, аварское berkal «лицо» из Ъег «глаз» и kal «рот». ..:..-..-
7. ТРУДНОСТИ И СОМНЕНИЯ
Было бы большой ошибкой думать, что
этимологическая работа, при соблюдении перечисленных принципов,
проходит всегда гладко, без сучка, без задоринки, и
неизменно приводит к прочным, не вызывающим никакого
сомнения результатам. В действительности в любом
этимологическом словаре, наряду с достоверными, мы найдем
и множество проблематичных, сомнительных разъяснений.
Бывает так, что одно и то же слово получает у разных
553
авторов до десятка и более различных этимологии.
Множество слов остается вообще неразъясненным. Отчего это
происходит? Очень часто — в силу объективного
положения вещей: отсутствия или недостатка сравнительного
материала. Тут уж, понятно, ничего не поделаешь. Но
нередко корень зла кроется в недостаточности,
ненадежности применяемых методов и приемов.
Дело в том, что приведенные критерии —
фонетический, морфологический, семантический — не обладают
свойствами абсолютной точности и выдержанности.
Известно, например, как часто нарушается
выдержанность звуковых соответствий под действием аналогии.
Те или иные колебания и отклонения от господствующих
звуковых норм могли возникать и независимо от
аналогии, как вклад отдельных диалектов.
Так, в индоиранских языках наблюдается в ряде
случаев «незакономерное» колебание между смычными
придыхательными и непридыхательными. Индийскому khan-
«копать» отвечает иранское кап- (вместо ожидаемого хап-).
Индийскому athar- (в atharvan- «жрец огня») —
иранское Шаг- «огонь». Др.-персидское arnaxam «нас» должно
восходить закономерно к *ahrnakham-, но мы находим
в Авесте аптакэт-, в др.-индийском asmakam-.
Индоиранское название «рога», «сучка» восстанавливается
в виде *sakha- (др.-инд. sakha-, перс, sax), но осетинское
sag «олень», sagoj «вилы» побуждают восстановить
параллельную форму saka-. Осетинское cad «озеро» и
персидское cah «колодец» представляют несомненно одно и то же
слово, но для первого приходится восстанавливать
др.-иранское *cata-, а для второго *catha-. В названии
«города» в индоиранских языках наблюдается колебание
между kantha- и kanta-. Греческое гу(о предполагает
индоевропейское * egom-, а др.-индийское aham
индоевропейское *e.ghom- (из *eghom- в греческом получилось
бы е%о)). Наблюдаются и иного рода фонетические
колебания, например, между глухими и звонкими. Так,
европейские названия «сердца» (ст.-слав. сръдьце, греч. хорош,
лат. cor, cordis и пр.) возводятся к индоевропейскому
*krd-, а индоиранские (др.-инд. hrd-, авест. гэгэа-) — к
индоевропейскому *ghrd-. Есть целые категории слов,
которые «не желают» подчиняться звуковым законам.
Таковы так называемые «детские» слова (Ammensprache),
слова звукоподражательные и звукоизобразительные (идео-
фоны).
554
Эти и подобные «ненормальности» не могут, конечно,
подорвать значение звуковых закономерностей, но они
заставляют быть осторожными и не полагаться слепо на
их непогрешимость. Можно сказать: исследование,
основанное на рабской вере в непогрешимость звуковых законов,
обесценивается наполовину; исследование, вовсе не
считающееся с этими законами, не имеет вообще никакой цены.
Если звуковые закономерности сплошь и рядом
нарушаются всевозможными «аномалиями», то еще меньше
могут претендовать на универсальность и постоянство
законы семантики. Какая, например, закономерность
в том, что медведь назван в одном случае «медо-едом»
(в славянских языках), в другом — «бурым» (в
германских), в третьем — не то «мохнатым», не то «лизуном»
(так двояко толкуется литов. lokis)?
Немудрено, что время от времени раздаются голоса,
начисто отрицающие какую-либо закономерность в области
семантики .
Трудности, возникающие при установлении звуковой
и семантической истории слов, порождают скептицизм
в отношении этимологических исследований вообще.
Такой скептицизм стал у некоторых лингвистов, можно
сказать, признаком хорошего тона. А. Мейе в одном месте
пишет, что 90 из 100 находящихся в обращении
этимологии кажутся ему сомнительными или ошибочными.
Родоначальником современных скептиков следует
считать св. Августина, который писал: «Ut somniorum interpre-
tatio, ita verborum origo pro cujusque ingenio judicatur»,
т. е. «с происхождением слов дело обстоит так же, как
с толкованием сновидений: каждый толкует их по своему
разумению». Но то, что у Августина было наивным
выражением беспомощности науки его времени, то теперь,
после огромных успехов языкознания, представляется
своего рода гипертрофией скептицизма. Скептицизм,
который имеет в виду не конкретные недостатки и прорехи
этимологических исследований, а этимологическую работу
в целом, немногого стоит. Остается непреложным фактом,
что все сравнительно-историческое языкознание родилось
из этимологии, росло на этимологиях, зиждется в
значительной части на этимологиях. Поворотным моментом
в истории языкознания было сопоставление корней и форм
санскрита с корнями и формами европейских языков.
Это была этимологическая работа, положившая
начало языкознанию как науке. Успешное развитие сравни-
555
тельно-исторического языкознания стало возможным
потому, что, при всей сложности и многообразии языковых
явлений и процессов, выявились все же определенные
закономерности и в звуковых, и морфологических, и
семантических соответствиях: в одних больше, в других
меньше. Если бы этих закономерностей не существовало,
никакого сравнительно-исторического языкознания у нас
не было бы.
Если при всем том в этимологической работе остается
много сомнительного и ненадежного, то это значит только, что
методы этой работы все еще несовершенны и надо, не
покладая рук, трудиться над их улучшением. Для
скептицизма и пессимизма здесь нет места. Легко видеть, что
скептицизм в отношении этимологии скрывает за собой
агностицизм в отношении истории языка.
Каковы же пути преодоления тех трудностей, которые
возникают в этимологических исследованиях? Было бы
нелегко рекомендовать какие-либо универсальные рецепты,
пригодные для всех случаев. Перечисленные выше
критерии: критерий системы, фонетический, морфологический,
семантический — при всех обстоятельствах сохраняют свое
значение. Если не вполне благополучно с каким-нибудь
одним из них, тем строже надо применить к
разъясняемому слову остальные. Несоответствие той или другой
этимологии двум из указанных критериев свидетельствует
о том, что всего благоразумнее отказаться от данной
этимологии.
Но есть еще один первостепенной важности критерий,
который оставался, к сожалению, в тени за все время
существования сравнительно-исторического языкознания.
8. ЗНАНИЕ РЕАЛИЙ — ВАЖНЕЙШЕЕ
УСЛОВИЕ ПОДЛИННО НАУЧНОЙ
ЭТИМОЛОГИИ
Выше мы воздали должное заслугам сравнительно-
исторического языкознания, выработавшего научные
основы, методы и приемы этимологического исследования.
Оценивая высоко достижения сравнительно-исторического
языкознания в этой области, не следует, однако,
закрывать глаза на слабые стороны многих, можно сказать,
большинства этимологических работ прошлого и нашего
века. Важнейший их недостаток — невнимание к реалиям,
зачастую просто незнание реалий . Тот факт, что еще
Я. Гримм говорил о своем постоянном стремлении «перейти
556
от слов к предметам» и указывал, что «при этимологиях
часто бывает полезно знание предметов», что и позднее
многие выдающиеся языковеды, как Г. Шухардт, подымали
свой голос против оторванных от жизни этимологии и сами
дали хорошие образцы того, как нужно пробивать путь к
правильной этимологии через глубокое изучение реалий,—
не меняет положения. Отсутствие дыхания живой жизни,
академизм, кабинетное мышление остаются самой
уязвимой стороной многих и многих этимологических работ.
Сотни этимологии основаны исключительно на звуковой
близости и на видимой, кажущейся близости значений
с точки зрения мышления автора этимологии, а не с точки
зрения тех, кто создавал соответствующие слова. Между
тем и фонетический, и семантический и другие критерии
становятся действенными и полезными лишь на фоне
глубокого и всестороннего знания тех реальных
исторических условий, в которых создавались и обращались
разбираемые слова. Этимология без учета реалий — это
все равно, что здание без фундамента.
Ни фонетика, ни семантика сами по себе не гарантируют
от грубейших ошибок, если они не подкреплены широкой
исторической осведомленностью исследователя знанием
того, что А. А. Белецкий называет «историческим
контекстом» ' '.
В другом месте мне пришлось отметить неудачную
чимологию осетинского Amistol (название летнего
месяца), предложенную известным норвежским иранистом
Г. Моргенстиерне. Последний делит слово на две части:
ami и stol. Первую часть он сопоставляет с авестийским
hamina- «лето». Вторая часть stol остается у него без
объяснения. В действительности осетинское Amistol
представляет искажение слова апостол и к Авесте никакого
отношения не имеет... Месяц назывался месяцем
«апостолов», так как на этот месяц приходился праздник
апостолов Петра и Павла B9 июня).
Неудача, постигшая в данном случае Г. Моргенстиерне,
типична и поучительна во многих отношениях. Не говоря
о произвольном рассечении слова на две части, из которых
вторая остается неразъясненной, Моргенстиерне допускает
две серьезные методологические ошибки:
а) слово вырывается из контекста и рассматривается
изолированно, вне той лексической группы, к которой
оно принадлежит, в данном случае — терминов
календаря;
557
б) не ставится даже вопроса о происхождении и
исторических корнях осетинского календаря в целом, одним
из элементов которого является месяц Amistol.
Если бы Моргенстиерне рассматривал название Amistol
не оторванно от всего осетинского календаря и если бы он
поинтересовался историей последнего, он легко установил
бы, что осетинский календарь является
христианским и искать в нем древнеиранские элементы
совершенно не приходится. Достаточно привести названия
других месяцев и праздников: Basilt? (св. Василий Великий),
Tutyr (св. Федор Тирон), Nikkola (св. Николай), Majr?my
kwadz?n (Успение богоматери), Georguba (св. Георгий)
и др. В этой группе легко находит свое место и Amistol
«апостол».
Окончательно убеждает нас в правильности нашей
этимологии балкарский язык, где мы находим форму
Abdstol, более близкую к апостол. Почти все перечисленные
слова восходят к начальному периоду осетинского
христианства, т. е. примерно к X в., когда произошла
официальная христианизация алан. Оставив без внимания эти факты,
Моргенстиерне оказался увлеченным на путь ошибочной
этимологизации.
9. ПРИМЕРЫ ЭТИМОЛОГИИ, ОСНОВАННЫХ
НА РЕАЛИЯХ
Осетинское fysym означает «хозяин дома по отношению
к гостю», „hospes". С звуковой стороны вполне подошло
бы сопоставление с авестийским fsumant- «владеющий
скотом». Но как быть со значением? Мы ожидали бы, что
тот, кто принимает гостя, должен владеть прежде всего
домом, что его наименование будет по смыслу чем-то
вроде «домохозяин», а не «скотохозяин». Это было бы так,
если бы слово f^'sym возникло в ^'словиях оседлого
быта. Но перенесемся в условия быта кочевого, и
этимология fysym — fsumant- станет не только приемлемой,
но, можно сказать, неотразимой. Если в оседлом быту
гостя принимает хозяин дома, то в кочевом быту
способность оказать гостеприимство связывается не с владением
домом, а с владением скотом, тем более, что мясо
скота как раз и служит главным предметом угощения.
Понятно, что в этих условиях «хозяин скота» оказывается
также «хозяином, принимающим гостя». Таким образом,
наша этимология получает решающую поддержку благо-
558
даря тому, что опирается на знание конкретных условий
кочевого, скотоводческого быта, в которых возникло слово,
а также на знание того, что предки осетин в далеком
прошлом действительно жили в этом быту.
Осетинское wacajrag «пленный», «раб». Этимология
слова со значением «раб» может быть различна. Оно может
восходить к племенному названию (др.-инд. dasa-
«неариец», «раб» —авест, daha- «название племени»); может
указывать на понятие «рабочей силы» (перс, сакаг от корня
kar- «делать», ср. также русск. раб и работа); может быть
связано с понятием «лишения свободы» (перс, banda «раб»,
букв, «связанный», русск. невольник). Однако ни одно
из этих значений не дает ключа к разъяснению
осетинского wacajrag. Изучение истории рабовладения
открывает еще один признак раба: то, что он служит предметом
торговли. Работорговля представляет, как известно,
явление, имевшее широчайшее распространение в
истории с древнейших времен. В неразвитых обществах
родового строя и военной демократии, где уровень
экономического развития не давал еще возможности для широкого
применения рабского труда в хозяйстве, захват рабов мог
иметь главным образом одну цель: продажу их на сторону.
Так обстояло дело в обществе скифов и сарматов, с
которыми преемственно связаны современные осетины. В такой
среде понятие «раб» должно было связываться прежде
всего с понятием «торговля», а не с каким-либо другим
понятием. Осетинское wacajrag убеждает нас, что так оно
и было. В слове легко распознается среднеиранское
vacar «торговля» и распространенный формант -ag,
означающий «предназначенность для чего-либо». В целом слово
wacajrag «раб», этимологически разъясненное, означает
буквально «предназначенный для продажи», «товар».
Совпадение в одном слове значений «пленный» и «раб»
также поучительно. Оно указывает на то, что в той среде
и в ту эпоху, когда возникло слово, война и плен были
главным источником получения рабов.
Мы видим на этом примере, что исторические данные,
помогая разъяснить факты языка, сами в свою очередь
освещаются дополнительным светом со стороны
языковых данных. Так оно и должно быть. Сотрудничество и
взаимопомощь между историей и языкознанием являются
не односторонними, а двусторонними, взаимными:
пользуясь данными истории для правильного истолкования
языковых фактов, языковед может со своей стороны дать
559
историку ценнейшие дополнительные материалы для
освещения важных историко-культурных вопросов.
Осетинское f?stinon «выздоравливающий» кажется
морфологически вполне прозрачным: f?s — предлог,
означающий «после», конечный -on — адъективный суффикс.
Слово должно означать, стало быть: «находящийся в
состоянии после чего-то». После чего? Очевидно — после
болезни. Следовательно, tin должно означать «болезнь».
Однако такого или созвучного слова со значением
«болезнь» не удается обнаружить ни в иранских, ни в каких-
либо других языках, с которыми имеет связи осетинский
язык. Фонетически tin мог возникнуть из cin после s (f?s-
cin-on — f?stinon). В этом случае мы приходим к форме
cin. Такое слово имеется в осетинском, но означает оно
не «болезнь», а «радость». Выходит, что состояние после
болезни называлось состоянием «после радости». Результат
настолько парадоксальный, что можно, казалось бы,
отбросить его и продолжать поиски в других направлениях
или признать слово не поддающимся разъяснению. Однако
этого не следует делать. Предварительно нужно
поинтересоваться некоторыми этнографическими данными о
примитивных взглядах на сущность болезни. Согласно этим
взглядам, болезнь насылается божеством. В связи с этим
на названия некоторых болезней, в • особенности,
эпидемических, как оспа, налагается запрет. Они называются
иносказательно, льстивыми, заискивающими
наименованиями, как «добрая», «кума», «друг» и т. п. Делается это
для того, чтобы задобрить соответствующее божество.
В свете этих этнографических данных уже можно
предположить, что в составе осетинского f?stinon
«выздоравливающий» болезнь называется «радостью». Это невинная
хитрость бессильного перед эпидемиями человека,
имеющая целью задобрить уходящую болезнь, чтобы она
больше не возвращалась.
Осетинское syv?d?g «детская соска» заключает во
второй части f?d?g «сосок» ( с закономерным озвончением
/ — v). Начальное sy-, заключая всего два звука, могло
бы породить множество этимологических ассоциаций
и догадок. Но все они оказываются излишними, когда мы
узнаем, что соски в старину делались из рога. Не
подлежит сомнению, что в первой части нашего сложного слова
имеем sy «рог» (в современном языке употребляется
обычно с наращением форманта -ka:syk'a).
Осетинское z?v?tdur «подпятник мельницы» (на нем
560
вращается вертикальная ось турбины) по образованию
вполне прозрачно; оно состоит из z?v?t «пятка» и dur
«камень». Однако, осмотрев соответствующую часть
современной горской мельницы, мы не найдем там камня:
подпятник делается из железа. Очевидно, слово унаследовано
от тех времен, когда эта часть мельницы делалась из камня.
Мне приходилось еще встречать в Осетии стариков,
которые помнили это время и могли поэтому лучше любого
кабинетного ученого объяснить этимологию слова z?v?tdur.
Немалое удовлетворение испытывает этимологист, когда
предлагаемое им разъяснение перекликается с
историческими сведениями, касающимися соответствующих
реалий.
Среди скифских глосс Гесихия встречается слово
auxuvoaxr] «название одежды у скифов». Опираясь на
данные иранских языков, я объяснил это слово как
составное из sak-gun-dak «одежда (dak) из оленьего (sak)
меха (gun)». Такое толкование показалось бы
достаточно произвольным, если бы у Гесихия не было следующего
пояснения к слову Tapavooc: «похожее на оленя животное,
шкуры которого скифы употребляют на одежду».
*
На ряде примеров я пытался показать необходимость
(не только желательность, а именно необходимость)
широкого привлечения в этимологических исследованиях
исторических, этнографических, фольклорных и иных
смежных данных. Подобных примеров можно было бы
привести сотни. Все они говорят об одном: подлинно
научное этимологическое исследование должно иметь
широкую опору во всестороннем изучении реалий. Прав
А. А. Белецкий, когда он пишет: «Этимологическое
исследование тогда становится наиболее ценным и плодотворным,
когда оно является одновременно также историческим
исследованием» 13.
Высшей ступени достигает этимология, когда она
становится наукой не только о словах, но и о скрытых за ними
реалиях.
Отсюда вытекает еще один важный вывод: ни один
лингвист не должен быть в такой степени вооружен
разнообразнейшими сведениями по истории, культуре, этнографии,
фольклору, археологии и пр., как лингвист-этимологист.
И далее: в области этимологии особенно желательно и
561
плодотворно сотрудничество языковеда с представителями
смежных общественных наук.
10. ОБ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ
НОВОГО ТИПА
Статьи по истории отдельных слов, если они хорошо
написаны, читаются с захватывающим интересом даже не
языковедами. Почему же этимологические словари, которые
должны быть, казалось бы, ни чем иным, как собранием
подобных статей, кажутся неспециалисту сухими и
малоинтересными? Объясняется это отчасти тем, что в словаре
составитель стремится к максимальной сжатости, чтобы
дать в наименьшем объеме побольше сравнительного
материала. Естественно поэтому, что в словарной статье
трудно поместить весь тот оживляющий исторический
материал, который можно свободно развернуть в
специальной работе, посвященной отдельному слову. Но не в этом
только дело. Главная причина «сухости» существующих
этимологических словарей в том, о чем мы выше говорили:
в оторванности от реалий. И здесь перед нами встает
соблазнительная мечта о создании этимологического
словаря нового типа. В такой словарь должны найти широкий
доступ разнообразные исторические сведения, связанные с
рождением и судьбой отдельных слов.
Язык и его история представляют огромную
познавательную ценность для каждого мыслящего человека. К
сожалению, эти сокровища в значительной части остаются
книгой за семью печатями для неспециалистов из-за
известной обособленности языкознания от других общественных
наук и из-за сугубого «академизма», свойственного многим
языковедческим работам. Этимологический словарь нового
типа должен быть чужд этой замкнутости и сухости.
В нем должен забиться пульс истории, должны выступить
живые черты быта, культуры данного народа, отраженные
в истории слов его языка.
Такой словарь, если бы он был создан, не был бы
достоянием только узкого круга специалистов. Он мог бы
стать настольной книгой любого образованного человека,
так как в нем можно было бы найти не только ряды
лексических соответствий, но обширный и разнообразный
познавательный материал, освещающий через историю
слов различные стороны прошлой жизни народа, его мате-
562
риальной и духовной культуры, его связей и сношений с
другими народами.
Существенной особенностью такого словаря,
вытекающей также из его ориентации на широкий круг читателей,
должно быть еще то, что в нем будут разъясняться не
только корневые слова, но частично и производные,
если их словообразовательная структура не вполне
прозрачна и наглядна для неспециалиста и если они имеют
особый семантический, исторический и культурный интерес.
Говоря об этимологическом словаре нового типа, я хотел
бы в заключение подчеркнуть, что такой словарь не
должен упразднить и заменить этимологические словари
обычного типа. Последние сохранят свое значение как
справочные издания, рассчитанные на специалистов. Новый
же словарь, имея иные установки и ориентируясь на
широкие круги интеллигенции, займет свое место помимо и
независимо от словарей обычного типа. Он послужит
одним из «окон», через которые языкознание выйдет на
широкий простор общественных наук и внесет свою долю
в познание народа, его культуры, его истории, его
мышления и самосознания.
Примечания
1 Французский словарь Лярусса определяет этимологию как 'science
qui s'occupe de l'origine des mots' A913). Так же «Толковый словарь
русского языка» под ред. проф. Д. Н. Ушакова: «Отдел языкознания,
изучающий происхождение слов». Немецкий словарь Мейера: 'Untersuchung
der Grundbedeutung, des Ursprungs der Worter' A897).
2 Белецкий А. А. Принципы этимологических исследований.
Автореферат докторской диссертации, Киев, 1951, с. 3.
«...определить формальный материал, использованный тем, кто
впервые создал слово, и вместе с тем понятие, которое он им хотел
выразить» (Vittore Pisani. L'etimologia. Storia, questioni, metodo.
Милан, 1947, с. 79—80).
1 Составители «Этимологического словаря латинского языка»
Эрну и Мейе, объясняя в предисловии, как они распределили между
собой работу, пишут: «А. Эрну излагал то, что можно узнать путем
изучения текстов» («par l'etude des textes»), иными словами, «положение
вещей в историческую эпоху латинского языка» («l'etat des choses a l'epoque
Imiorique du latin»). A. Мейе «взял на себя доисторическую часть»
(«la partie prehistorique»), т.е. «историю слов до первых показаний
текстов» ('l'histoire des mots avant les premieres donnees des textes').
Почтенные авторы не избежали противоречия: «доисторическая» часть
563
оказывается все же «историей». Но отчетливо проступает мысль,
что собственно историю языка можно строить только на показаниях
текстов данного языка.
5 Само собой разумеется, путь от конкретного к абстрактному
не является единственным путем семантического развития. Немало
можно привести примеров, когда конкретное получает название по
абстрактному. Так, если в одном случае отвлеченное понятие «высокий»
может быть образовано от конкретного «гора», то в других случаях,
наоборот, в слове «гора» мы можем распознать отвлеченное «высокий».
Мы привели примеры на образование отвлеченных понятий из конкретных,
потому что с этим именно процессом связаны решающие успехи
человеческого мышления.
6 Один из диалогов Платона «Кратил». в значительной части
посвящен этимологическому разбору ряда греческих слов.
7 Из обобщающих работ см. цитированные труды А. А. Б е-
лецк.ого и V. Р i s a n i.
8 Само собой разумеется, это не относится к заимствованиям.
9 «Est-il possible de formuler les lois selon lesquelles les sens des mots
so transforment? Nous somme disposes a repondre que non. La complexite
des faits est telle, qu'elle echappe a toute regle certaine» (Miche-l
В re al. L'histoire des mots, 1887).
10 Термин «реалии» мы употребляем в самом широком смысле как
совокупность всех конкретно-исторических, материальных, социальных
и культурных условий, в которых рождаются слова и которые налагают
на них свой отпечаток.
' ' Блестящий образец этимологии, основанной на реалиях, дал
Г. Шухардт, связав франц. trouver с лат. turbare. Такое семантическое
развитие имело место в среде рыбаков: они мутили, волновали воду,
чтобы спугнуть и обнаружить (trouver) рыбу.
12 Известия АН СССР, Отд. лит-ры и яз. Т. VIII, вып. 1, 1949, с. 77
13 Белецкий А. А. Принципы этимологических исследований,
с. 52.
Вопросы языкознания, 1952, № 5
КАК МОЖНО УЛУЧШИТЬ
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ
Архитектор, строящий дом, наперед ясно представляет,
как будет выглядеть его детище по сооружении. Когда в
1951 г. я приступил к составлению «Историко-этимологи-
ческого словаря осетинского языка», я пытался
представить, каким будет этот словарь, и свои соображения на
этот счет изложил в статье «О принципах этимологического
словаря», опубликованной в одном из номеров журнала
«Вопросы языкознания» за 1952 г. '. Заключительный
отрывок упомянутой статьи был озаглавлен «Об
этимологическом словаре нового типа». Там я, между прочим, писал:
«Встает заманчивая мечта о создании этимологического
словаря нового типа. Такой словарь, будучи вполне
академическим по научному уровню, должен быть чужд
«академической» сухости. В нем должен биться пульс истории,
должны проступать живые черты народной жизни и
культуры, отраженные в истории слова. Такой словарь не был бы
достоянием узкого круга специалистов. Он мог бы стать
настольной книгой каждого образованного человека,
интересующегося языком и историей своего народа или
других народов. Он был бы своего рода «окном, открытым
в широкий мир других гуманитарных наук: истории,
этнографии, археологии, социологии, психологии, в мир
литературы и фольклора».
Теперь словарь закончен, и для меня настало время
обозреть его критическим взглядом и дать себе отчет,
в какой мере реализован первоначальный замысел как в
построении словаря в целом, так и в разработке отдельных
словарных статей.
Говорят, что Максим Горький как-то сказал: «Когда
беру в руки только что вышедшее свое произведение,
испытываю каждый раз тяжкое чувство неудачи». Я
вспомнил Горького не для того, чтобы parva componere magnis
(малое сопоставить с великим). Слова Горького — это
пример высокой требовательности и взыскательности к
себе. Такая взыскательность должна быть обязательна
565
не только для писателя, но и для человека науки. Льву
Толстому приписывают слова: «В науке еще возможна
посредственность, но в искусстве и литературе кто не
достигает вершин, тот падает в пропасть» («Русское
слово», 1902).
Думается, что и в науке не следует мириться с
посредственностью, а надо требовать по самому высокому счету.
И когда я с такой высокой мерой оцениваю свой словарь,
не могу не признать, что намеченных «вершин» он не
достиг. Не могу сказать: «полная неудача». Но можно говорить
о неполной удаче. Словарь мог бы содержать больше
общегуманитарной (исторической, этнографической и пр.)
информации.
Есть все же один объективный показатель, который
говорит, что мой труд не был напрасным. Третий том
вышел в 1979 г., в количестве 2.600 экз. Из них около одной
тысячи разошлось в Осетии. А ведь лингвистов-то в Осетии
не тысячи и даже не сотни, а всего десятка два. Стало быть,
основными потребителями словаря стали не
профессиональные лингвисты, а широкий круг интеллигенции, люди
разных профессий и специальностей, объединенные
интересом к родному языку и его истории. А это именно то,
о чем я мечтал, работая над словарем.
В этимологии, в отличие от других областей
языкознания, переживших в наш век подлинную революцию,
наблюдается определенный методологический застой. Она живет
традициями XIX в. «Инъекция» некоторых новых идей и
новых наблюдений могла бы способствовать ее
«омоложению». Опыт этимологической работы над таким интересным
в историческом плане языком, как осетинский, дает мне
смелость высказать некоторые пожелания и рекомендации,
направленные на то, чтобы преодолеть косность и рутину
в этимологической работе, выявить неиспользованные
«резервы» и в ряде случаев открыть новые возможности
и новые перспективы.
Мои пожелания сводятся к следующему: больше
внимания этногенетическим проблемам, включая явления
субстрата; больше внимания исторически менявшимся
лингвогеографическим конфигурациям; больше внимания
перекрестным изоглоссам; больше внимания звуковой
символике; больше внимания соотношению «технической»
и «идеологической» семантики; больше внимания реалиям
исторической жизни народа, его материальной и духовной
культуры. - -¦¦¦
566
Каждое из этих пожеланий могло быть предметом
специальной статьи и даже книги. Но я ставлю себе весьма
скромную цель: показать хотя бы на ограниченном
конкретном материале, что я имею в виду в каждом отдельном
случае.
Больше внимания этногенетическим процессам. Связь
этимологических исследований с этногенетическими
очевидна. Так же очевидна, как связь истории языка с историей
народа. Но эта связь в разных уровнях языка отражается
по-разному. Лексика занимает здесь особое место.
Лапидарный тезис Якоба Гримма «наш язык есть также наша
история» оправдан главным образом в применении к
лексике. Именно здесь особенно зримо и непосредственно жизнь
и судьбы народа налагают свой отпечаток на язык.
Называя свой словарь «историко-этимологическим», я
хотел подчеркнуть, что не вижу принципиальной разницы
между словарем историческим и словарем этимологическим.
Что такое этимологический словарь? Это — самый
глубинный вариант исторического словаря. А что такое этногенез?
Это — самый глубинный аспект истории народа. На уровне
этой глубины этимологические и этногенетические
исследования смыкаются, переплетаются, подкрепляют,
обогащают и «дешифруют» друг друга.
Приведенные соображения не претендуют на новизну.
В частности, в славистической науке многократно испытан
путь «от истории языка к языку истории» и обратно.
Достаточно назвать имена Л. Нидерле, А. Шахматова,
А. Соболевского, а в новое время Т. Лер-Сплавинского,
К. Мошинского, Ф. Филида, О. Трубачева, В. Мартынова,
Вяч. Иванова 2.
Связь этимологии и этногенеза — не проблема.
Проблема состоит в том, как лучше раскрыть эту связь в
этимологическом словаре. Естественный ответ — в отдельных
словарных статьях, в особенности при этимологической
разработке тех слов, которые представляют особый интерес
в этногенетическом плане. Эти словарные статьи должны
содержать помимо чисто лингвистического материала также
этногенетические, исторические, этнографические,
археологические справки.
Но, во-первых, такие разбросанные по всему словарю;
справки не могут дать цельной картины. Во-вторых,
некоторые справки пришлось бы повторять многократно и в
разных словарных статьях. Поэтому я склоняюсь теперь к
другому решению: хороший этимологический словарь дол-
567
жен быть снабжен специальным этногенетическим
введением. Это введение не должно быть очень пространным,
страниц на 10—15. В нем должны быть отмечены основные
этапы этногенетической истории народа в их
соотнесенности с этапами формирования его лексики. В осетинском
этимологическом словаре я не дал такого введения главным
образом потому, что в сборнике «Осетинский язык
и фольклор», вышедшем в 1949 г., была помещена моя
статья «Происхождение и культурное прошлое осетин по
данным языка».
В рамках этногенетической проблематики особо следует
выделить явление субстрата. Когда автохтонное
население на какой-либо территории не просто вступает в
контакт с пришлой этнической средой, но смешивается с
нею и усваивает ее язык, то сквозь наложившийся пришлый
этнический мир продолжают «просвечивать» элементы
местной этнической культуры и этнического типа. Они,
эти элементы, распознаются в антропологическом типе,
в археологических памятниках, в этнографических чертах,
в истории, религиозных верованиях, мифологии, фольклоре,
языке. Совокупность этих автохтонных элементов в этно-
культуре пришлого племени или народа мы называем
субстратом.
Из сказанного следует, что «субстратология», если бы
такая наука была создана, была бы сугубо комплексной
наукой. Она обязательно включала бы в себя не только
лингвистические, но также антропологические,
археологические, этнографические данные. Они взаимно дополняли
и подкрепляли бы друг друга. Осетинский язык долгое
время изучался в аспекте только его иранского
происхождения. Мы пришли к выводу, что значительную роль в его
формировании сыграл кавказский субстрат. Но мы никогда
не решились бы отстаивать этот тезис на основе одних
только языковых (фонетических, лексических,
синтаксических) показаний, если бы не знали из научной литературы,
что у осетин много общего с соседними кавказскими
народами также в антропологическом, археологическом,
этнографическом плане.
В этом отношении у осетин много общего с армянами.
Оба народа завершили свою этногенетическую историю на
Кавказе, армяне — на кавказско-азианическом,
осетинский — на кавказском субстрате. Отсюда такие общие
черты осетинского и армянского языков, как смычно-
568
гортанные (глоттализованные) согласные, отсутствие
маркированного аккузатива и др.
Разумеется, о субстрате приходится говорить не только
в применении к армянскому и осетинскому. Субстрат то
явно, то более скрыто присутствует почти во всех
индоевропейских языках. Оно и понятно. Занимая первоначально
ограниченный регион, индоевропейские народы расселились
потом на обширных территориях. Эти территории не были
отнюдь безлюдными пустынями. На них жили другие
племена, от смешения с которыми и образовались
современные индоевропейские народы. К сожалению, мы не всегда
располагаем достаточно полными и ясными данными об
этнической и языковой культуре тех племен, на субстрате
которых формировался каждый отдельный
индоевропейский народ. Простейший случай — когда представители
субстратных этнических групп и по сей день продолжают
жить, соседствуя с индоевропейскими пришельцами. Так
именно обстоит дело с дравидийским субстратом в индо-
арийском, финским субстратом в балтийском и славянском,
иберийским («баскским») субстратом в испанском,
кавказским субстратом в армянском и осетинском. Проблема
становится сложнее, когда субстратная среда полностью
растворилась и смешалась с пришлыми индоевропейцами,
и мы не можем сказать ничего точного как об их языке,
так и о других этнических признаках. В этом случае черты
субстратной среды приходится восстанавливать путем
кропотливого выделения его возможных отложений в
индоевропейских языках данного региона в сопоставлении
с историческими, археологическими, этнографическими и
антропологическими данными.
Аналогичные проблемы возникают и в тех случаях,
когда один индоевропейский язык послужил субстратом для
другого или других: фракийский для румынского и
болгарского, кельтский для французского и английского и т. п.
Задачи, стоящие перед индоевропейской «субстратоло-
гией», далеки еще от завершения. Достаточно сказать,
что доарийские элементы в санскрите только в последние
годы выявлены настолько, что можно было судить об их
удельном весе в индоарийском.
В последние же годы появились новые серьезные работы
о родстве баскского языка с кавказскими (проф. Р. Лафон,
А. Товар и др.). В связи с этим намечается возврат к
теории о непрерывном лингвистическом континууме,
простиравшемся от Пиринеев до Кавказа и послужившем
569
субстратом для индоевропейских языков
средиземноморского бассейна.
Субстратологические изыскания имеют большое
значение для одной важной проблемы: проблемы прародины.
Территорию прародины можно установить методом,
который уместно было бы назвать «пробой на субстрат». Ход
рассуждений очень прост. Повсюду в ареалах расселения
индоевропейских народов после их распада мы вправе
ждать и находить следы субстрата. И только там, где
индоевропейцы составляли исконное население, никакого
субстрата, естественно, ждать не приходится. Стало быть
территория, где не распознаются никакие признаки
доиндоевропейского субстрата, и есть прародина. Насколько
мы можем судить, такая зона существует. Это — область
средневосточной Европы, где жили предки и славян. Здесь
и следует искать прародину индоевропейцев. Финский
субстрат в языке балтов и славян,— явление позднейшее,
связанное с их продвижением на северо-восток.
Наша гипотеза находит поддержку еще с одной стороны.
О. Н. Трубачев пишет: «Отсутствие памяти о приходе славян
может служить одним из указаний на извечность обитания
их и их предков в Центрально-Восточной Европе в широких
пределах» (ВЯ, 1982, № 4, 12). Отсутствие субстрата
и отсутствие преданий о переселениях бьют в одну точку:
указывают на прародину.
Выводы из данного раздела нашего сообщения:
этимологические исследования должны быть тесно связаны с
этногенетическими; пристального внимания заслуживает
участие в формировании лексики любого языка субстратной
среды, как реально известной, так и исторически
мыслимой; целесообразно снабжать этимологический словарь
кратким этногенетическим введением.
Больше внимания исторически менявшимся лингвогео-
графическим конфигурациям. Индоевропейская языковая
общность не была с самого ' начала чем-то однородным
и монолитным. Она делилась на диалекты. Истоки ныне
известных языковых семей ведут к диалектам периода
общности. Уже тогда, наряду с общими для всех диалектов
изоглоссами, возникали изоглоссы ареальные,
объединявшие два или несколько диалектов. После распада общности
(где-то в середине 4-го тысячелетия до н. э.) началась эра
миграций, продолжавшаяся многие столетия. Пути этих
миграций не были прямолинейными. Чаще они были
извилистыми и причудливыми, с неожиданными поворотами
570
и зигзагами. В результате лингвогеографические
конфигурации менялись от столетия к столетию, как в калейдоскопе.
При этом индоевропейские племена вели себя по-разному.
Более «спокойные», заняв и освоив определенный регион,
закреплялись в нем надолго. Другие были прямо-таки
одержимы страстью к дальним передвижениям. Таковы
кельты, таковы скифы, таковы норманы. В потоке
извилистых передвижений оказывались на некоторое время в
контактном развитии языки, которые и до, и после были
оторваны друг от друга. На этой почве возникали вторичные
сепаратные (эксклюзивные) ареальные изоглоссы. Эти
изоглоссы представляют большой не только
лингвистический, но и исторический интерес, так как часто
оказываются единственным свидетельством прошлых контактов
между двумя ныне -далеко разобщенными народами.
Чем неожиданнее такие сепаратные изоглоссы, тем они
любопытнее. Для нас, например, было полной
неожиданностью, когда мы обнаружили, что осетинский имеет
сепаратные изоглоссы с латинским: осет. W?rgon — лат.
V oleanus «бог кузнец», осет must?l?g — лат. mustela
«ласка» (животное), осет. хитсе «пашня» — лат. humus
«почва» и ряд других (см. наши Скифо-европейские
изоглоссы. М., 1965).
Контакты скифов с италиками могли иметь место
только где-то в Средней Европе, до миграции италиков в
Италию, т. е. не позднее начала 1 тысячелетия до н. э.
Стало быть, в это время северно-иранский элемент не
только присутствовал в Северном Причерноморье, но был
продвинут далеко на запад до Средней Европы. Тем
самым ставится под сомнение идущая от Геродота версия,
что скифы появились на юге России только в VII в. до
н. э. Важными скифо-европейскими изоглоссами являются
такие, как осет. mal «глубокая стоячая вода» — и. е. *mari-,
осет. l?s?g «лосось» — и. е. *loksoko-.
Заслуга ареальной лингвистики в том, что она вскрыла
вторичные контакты между индоевропейскими народами
в самых разнообразных комбинациях и сочетаниях.
Накопилась обширная литература, в которой разбираются самые
разнообразные эксклюзивные изоглоссы: славо-иранские,
славо-кельтские, славо-италийские (В. Мартынов), армяно-
греческие, армяно-кельтские (Э. Макаев), итало-индоарий-
ские, фрако-балтийские, албано-балтийские,
албано-германские (А. Десницкая), ирано-германские (М. Дадашев)
и мн. др. Пестрота и «непредсказуемость» этих изоглосс не
571
должны смущать. Они объективно отражают историческую
изменчивость лингвогеографических конфигураций и
сложное переплетение миграционных траекторий.
Вывод. Наряду с первичными ареальными
изоглоссами, восходящими к периоду индоевропейской общности,
в индоевропейских языках распознаются многочисленные
вторичные изоглоссы между языками в разнообразных
сочетаниях. Этим вторичным сепаратным изоглоссам
следует уделять в этимологических словарях пристальное
внимание. Они представляют не только лингвистический,
но большой исторический интерес, так как свидетельствуют
о вторичных контактах между и.-е. племенами на разных
этапах их истории.
Больше внимания перекрестным изоглоссам. Как
известно, и.-е. языки по тому, как отражены в них
палатальные к, g, gh, делятся на две группы, условно называемые
группа «кентум» (лат. centum 'сто') и группа «сатем
(авест. satdtn 'сто'). Известно, с другой стороны, что в
языках группы «сатем» встречаются отдельные слова,
оформленные по фонетической норме «кентум». Таковы,
например, слав, катепь вместо ожидаемого *samenb,
svekorb вместо ожидаемого *svesorb и др. Не всеми, однако,
признано и оценено, что эти факты — лишь частный случай
универсального явления, заключающегося в том, что
в группе родственных языков, из которых каждый
характеризуется определенными тенденциями и
закономерностями звукового развития, обязательно будут
встречаться случаи, когда отдельные слова в каком-либо из
языков, входящих в эту группу, имеют фонетический
облик, характерный не для этого языка, а для другого или
других родственных языков. Иными словами, в каждом из
родственных языков заложены все возможности и
направления звукового развития, присущие группе в целом. Но
в каждом языке одно из этих направлений реализуется
как господствующая норма, как «закон», а другие
представлены единичными случаями, «исключениями».
Подобные «незакономерные» фонетические феномены могут
перекрещиваться во всех мыслимых направлениях в
пределах данной группы. Нет языков монолитного звукового
развития. Это явление мы называем перекрестными
изоглоссами (см.: Этимология 1966, М., 1968).
Ограничимся немногими примерами:
Из и.-е. *eiso- 'лед' мы ожидаем в иранском *aisa-,
В действительности имеем *aixa- (авест. аеха-, осет. ех
572
и пр.) Но фонема л: из s в данной позиции — это специфика
славянских языков. Ср. «нормальное» соответствие:
и.-е. *meiso иран. *maisa-, mes- «баран» — слав. *техъ.
Иранское aixa-, ex — такая же аномалия, как если бы
вместо maisa-, mes мы имели в иранском *maixa-,
*тех. Стало быть, иран. aixa- мы имеем право назвать
«славизмом», но славизмом не в смысле заимствования
из славянского (в славянском нет этого слова), а как
«прорыв» славянской фонетической нормы на иранскую
почву, т. е. как перекрестную изоглоссу.
Слав, rysb 'Lynx' вместо ожидаемого lysb — ротацизм,
характерный не для славянских, а индоиранских языков.
Общеиранскому s отвечает в древнеперсидском, как
правило, ¦&. Эта фонетическая особенность считается
спецификой древнеперсидского языка. Но вот оказывается,
что несколько осетинских слов примыкают в этом
отношении не к общеиранскому, что для осетинского является
нормой, а к древнеперсидскому: f?r?t 'топор' вместо
ожидаемого *f?r?s (ср. др.-инд. parasu-), r?t?n
«ременная веревка» вместо *r?s?n (ср. др.-инд. rasana-), talm
'ильм' вместо *salm (ср. др.-перс. §armi-, перс, sarv
«кипарис»).
С другой стороны, древнеперсидский сам нарушает
нередко свои звуковые «законы» и дает s vi z там, где ожидали
бы Ф и d. vazarka- «великий» вместо *vadarka и др. Такие
случаи считаются заимствованием из мидииского. Однако
для такого допущения нет оснований. Если эти формы и
можно назвать «мидизмами», то не в смысле
заимствования, а как перекрестные изоглоссы.
Индоевропейскому bh отвечает, как правило, иранское
b(v) и греческое f(q>):
и.-е. bh
I " 1
иран. b(v) греч. /
Но в некоторых случаях мы находим в иранском /,
как в греческом: и.-е. webh осет. wafyn 'ткать'
(вм. ожидаемого *wavyn), ср. греч. ucpaiv? «тку». И.-е.
*bhru- «бровь» дало в осетинском ?rfyg (вм. *?rvyg),
ср. греч. .ощщ. Любопытно, что осет. ?rfyg со своим /
стоит изолированно даже в иранском мире. Оно вплотную
смыкается с греч. 'ocpguc и противостоит всем остальным
иранским и индоевропейским формам. Санскритскому
nabhas- 'пупок' отвечает авест. nafah- (вм. *nabah- или
*navah-), парф. пехл. naf, осет. naff?.
573
Слав, vaga, русск. вага, важный считается
заимствованием из германского. «Чисто» славянская форма была
бы *vaza или *voza. Однако богатое формальное и
семантическое словообразование (помимо русск. важный, ср. отвага,
отважный) указывает на оригинальность слова в
славянском. Мы имеем скорее «германизм» в указанном выше
смысле.
Из и.-е. *melg- 'доить; молоко' мы ожидаем в
славянском *melz-, в германском *melk-. Однако слав. *melko
'молоко' примыкает по форме к германскому и на этом
основании многими (Уленбек и др.) считается
заимствованным из германского. Указывают, что названия
некоторых других важных продуктов питания также германского
происхождения, например, хлеб. Но это — разные вещи.
Хлеб — продукт искусственный, молоко — продукт
естественный, с которым люди знакомятся буквально с молоком
матери. Название молока не могло быть чужим в
славянском. Оно лишь получило германский облик в порядке
перекрестной изоглоссы. «Чисто» славянская форма
отражена в русском молозиво.
Перекрестные изоглоссы могут возникать «на наших
глазах» в диалектах одного языка. Между двумя
диалектами осетинского языка, иронским и дигорским, существуют
строгие соответствия гласных, а именно иронскому и
отвечает диг. о, иронскому i — диг. е. Но вот тюркское
заимствование xurdzin 'переметная сума' дало в иронском xordzen,
в дигорском xurdzin, т. е. нечто диаметрально
противоположное тому, чего следовало ожидать. Диалекты как бы
поменялись формами. Такая аномалия может поставить в
тупик. Но перед нами объективный факт, от которого никуда
не денешься.
Перекрестные изоглоссы не следует смешивать с ареаль-
ными, о которых речь шла выше. Ареальные изоглоссы
возникают в результате контактов между языками и
представлены в основном лексическими фактами,
иногда также фонетическими и грамматическими.
Перекрестные изоглоссы — феномен сугубо
фонетический. Они не связаны с межъязыковыми контактами
и возникают в силу внутренней, имманентной вариативности
звукового развития любого языка. При этом характерные
для данной языковой группы вариационные возможности
реализуются в отдельных ее членах по-разному. Вариация,
которая в одном языке выступает как господствующая
(«закон»), в другом представлена единичными случаями
574
(«исключения») и наоборот. Эти «исключения»
перекрещиваются в разных направлениях, что и дает право
называть их перекрестными изоглоссами.
В этимологической работе с ними приходится
встречаться постоянно, и их реальность не вызывает никаких
сомнений. Когда меня спрашивают, что такое перекрестные
изоглоссы, я говорю: взгляните на иранское aixa- 'лед';
это — иранское слово в «славянском» оформлении.
Взгляните на славянское *melko 'молоко'; это — славянское
слово в «германском» оформлении. Взгляните на осетинское
wafyn 'ткать', ?r fyg 'бровь'; это — иранские слова в
«греческом» оформлении, и т. д. и т. п.
Явление перекрестных изоглосс не связано, разумеется,
с какой-то одной семьей языков. Оно распознается в
фонетической истории любой языковой группы. Шведский
ученый Нильс Хольмер, лингвист глобального профиля,
установил перекрестный аспект фонетической эволюции
двух лингвистических групп региона Океании 4. Автор, в
частности, пишет о теории перекрестных изоглосс:
«Professor Abaev advances a theory which according to the
present writer's opinion diserves to be ranged among basic
principles of Comparative Linguistics and perhaps to be consi-
dered the most important one within the particular field in
which falls the study and analysis of the concept of pho-
n e t i c 1 a w. In working with the historic-comparative
phonology of a number of languages belonging to different
linguistic families and types, the writer... has repeatedly been
forced to doubt the traditional and long-established notions
regarding the nature and effect of the sound laws, generally
arriving at the rather negative conclusion, that a phonetic
law, whatever it may be in theory, in practice essentially
nothing more than a phonetic tendency. It was there-
fore with great satisfaction that the present writer was able
to take part of Professor Abaev's stimulating and fertile points
of view in regard to the effects and range of operation of
the phonetic law, a view of whose correctness he immediatly
felt strangely convinced»
Весьма любопытные данные, полученные Т. H. Пахали-
ной в области сравнительно-исторической фонетики пяти
припамирских иранских языков: ваханского, ишкашимско-
го, мунджанского, язгулямского, шугнанского. Автор
установила, что «звуковые законы», характерные для каждого
из этих языков, ни в одном случае не выдерживаются
строго по всему языковому материалу. В каждом из этих
575
пяти языков имеются «вкрапления», отражающие норму не
этого, а какого-либо другого языка этой группы. Автор
приходит к выводу, что без допущения подобных
перекрестных изоглосс невозможно дать рациональную картину
фонетической истории припамирских языков 5.
Чем объяснить, что такое обычное явление, как
перекрестные изоглоссы, не отражено четко в существующих
этимологических словарях (если не считать «кентумизмов»
в языках «сатем») и ждет еще признания своего особого
статуса? Причину надо искать в известном консерватизме
этимологической науки. Вряд ли ошибусь, если скажу, что
из всех отраслей языкознания этимология самая
консервативная. В то время как в других лингвистических
дисциплинах младограмматическая традиция на разные лады, но
преодолевается (в итальянской неолингвистической школе,
в различных направлениях структурализма), в этимологии
она пока доминирует. Не хочу быть неправильно понятым.
Заслуги младограмматиков в сравнительно-историческом
языкознании огромны и неоспоримы. Но в их концепциях
есть уязвимые стороны, на которые не следует закрывать
глаза. Сюда относится слишком жесткое понимание того
феномена, который называется «звуковым законом».
«Звуковой закон» — феномен не узко лингвистический,
а социальный. Дифференциация и консолидация звуковых
норм и звуковых отношений в рамках данной языковой
общности идет параллельно с дифференциацией и
консолидацией входящих в нее этнических групп. Вначале мы
имеем не звуковые «законы», а вариативные фонетические
тенденции, перекрещивающиеся в разных направлениях.
И лишь постепенно, по мере этнической консолидации
и укрепления этноязыкового самосознания эти тенденции
все более четко распределяются между этносоциальными
единицами и приобретают статус «звуковых законов».
Хорошим примером может служить положение со
звуковыми законами в кавказских языках. Родство этих языков
между собой убедительно доказано трудами И. А. Джава-
хишвили и А. С. Чикобава и их школы. Но в то время как
в южнокавказской (картвельской) группе звуковые
соответствия между грузинским и мегрелочанским носят довольно
строгий и выдержанный характер, в северокавказских
языках они едва «прощупываются». Почему? Думается, потому,
-что картвельские языки сформировались в условиях более
продвинутого уровня этносоцильного развития,
дифференциации и консолидации, чем северокавказские.
576
Концепции младограмматиков сформировались на
материале языков, принадлежавших народам с относительно
далеко продвинутым уровнем этнического и социального
развития. Этим объясняются многие специфические черты
младограмматизма, в том числе и культ «звуковых законов».
Нет спору, знание закономерностей звуковых изменений
в языке' составляет основу основ
сравнительно-исторического языкознания, без которого оно стало бы царством
произвола. Но «звуковой» закон требует более гибкого
подхода с учетом не только действия аналогии, что давно
признано, но и других «нарушающих» факторов: ареальных
влияний, звуковой символики, экспрессии, табу, «детской»
речи и пр. К числу этих «нарушителей» относятся и
перекрестные изоглоссы. Но они поддаются точному учету
и поэтому не могут быть предметом произвольных
манипуляций.
Вывод. Существующие этимологические словари
требуют пересмотра на основе признания закономерности
и универсальности того явления, которое мы называем
перекрестными изоглоссами. Относящиеся сюда лексемы
подлежат трактовке, соответствующей их особому статусу.
Больше внимания звуковой символике. Особое место в
лексике языка занимают слова, возникшие на почве
звуковой символики, т. е. стремления передать определенными
звукосочетаниями непосредственное впечатление от тех или
иных предметов и явлений. Звуковая символика по своей
экспрессивной природе близка к звукоподражанию. Но в то
время как в звукоподражаниях человек пытается
средствами своего звукопроизносительного аппарата
воспроизвести подобие воспринимаемых извне звучаний, в звуковой
символике передается не звучание, а внешний вид
предметов, их объем, форма, движение, также некоторые световые
и иные явления, не связанные ни с каким звучанием. Иными
словами, тот или иной зрительный образ непосредственно
порождает «соответствующий звуковой образ». Механизм
этого порождения требует еще исследования в
психофизиологическом плане, но самый факт не подлежит сомнению.
Особый статус звуковой символики в лексике давно
отмечен и признан. В немецкой лингвистической
терминологии рядом с lautnachahmend «звукоподражательный»
употребительно lautmalend «звукоизобразительный», ср.
также нем. Lautbild «звуковой образ».
В «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой
(М., 1966, с. 404) читаем: «Символизм звуковой — предпо-
19 В. И. Абаев
577
лагаемое наличие у некоторых звуков речи способности
непосредственно соответствовать тем или иным
представлениям». Обращает на себя внимание осторожность
формулировки: предполагаемое наличие.
В действительности речь идет не о предполагаемомг
а о твердо установленном явлении. И здесь особенно
ценными оказались наблюдения лингвистов-африканистов
Майнхоффа, Вестермана и др. Вестерман, например,
пишет: «Отношение между звуком и значением в языке
пытались установить часто, но не всегда успешно... Но
подобные отношения действительно существуют, и при
определенных условиях можно это доказать» 6. Автор приводит
примеры из некоторых африканских языков. Определенный
звукотип может означать:
1) нечто большое, объемистое; 2) нечто неловкое,
неуклюжее, медленное; 3) нечто тупое.
Другой звукотип может означать: 1) нечто маленькое,
тонкое, нежное; 2) нечто узкое, острое; 3) нечто быстрое;
4) нечто кислое, острое на вкус; 5) нечто яркое,
блестящее.
Африканисты дали подобным наделенным
изобразительной способностью звукотипам название и д е о ф о-
н о в. Этим термином и мы будем охотно пользоваться,
понимая под ним не только отдельные звуки, но и
звуковые комплексы.
В 3-м томе нашего «Историко-этимологического
словаря осетинского языка» под словом tymbyl 'круглый' мы
привели обширный материал, который не оставляет
сомнения, что идеофоны типа КР, ТР, СР часто с
наращением третьего согласного, используются в самых
различных, в том числе и неродственных языках, для
обозначения 'круглого', 'толстого', 'выпуклого', 'торчащего' и пр.
В имеющихся этимологических словарях и.-е. языков
идеофоны часто не распознаются и трактуются как
«обычные» слова с применением к ним «звуковых
законов», реконструкции и всей вообще процедуры
сравнительно-исторической этимологизации, хотя идеофоны
этого не требуют и этим способом не разъясняются.
Превосходный во многих отношениях «Русский
этимологический словарь» М. Фасмера также не дает
представления об удельном весе идеофонов в русском языке.
Слова чуб 'хохол' и чоп 'затычка' рассматриваются как
ничем между собой не связанные. Нет отсылки от одного
слова к другому. Каждое этимологизируется само по себе
578
с применением обычной сравнительно-исторической
этимологической процедуры. Между тем эти слова — чистейшие
идеофоны. Верно, что между ними нет никакого
генетического родства. Но их сближает «элементарное»
родство, общность звукосимволического образа. Не надо
для каждого из них искать праславянский и праиндо-
европейский прототипы. Их надо прямо и
непосредственно сближать друг с другом и созвучными идеофонами
в любых других языках. К этому и только к этому
сводится задача этимологизирования подобных слов.
Идеофоны не знают границ между лингвистическими семьями
и группами. Пространную статью посвящает Фасмер
слову куб. В статью вложено много времени, сил,
эрудиции и изобретательности. И все — впустую. Куб —
типичный идеофон, имеющий многочисленные соответствия
в самых различных языках. И уж конечно прав Фасмер,
когда подчеркивает, что «нет оснований говорить о
заимствовании из чагат. kob 'пузатый сосуд' или тюрк, kub, kup
'кувшин'. Сходные идеофоны возникают независимо в
разных языках без всякого заимствования. Ср. англ. cob
'толстяк', 'глыба', 'куча', 'косточка', 'testiculum' 'хохолок'
(по Вебстеру «basic idea: something round or plump»).
Идеофоническая природа распознается и в осет. gopp,
англ. top 'верхушка', 'хохолок', нем. Kopf 'голова', англ.
соор 'корзина', coomb 'мера зерна; сосуд', нем. Китт
'чаша' и мн. др., сюда же (с огласовкой а) лат. caput, итал.
capo 'голова', итал. capo 'мыс', исп. cabo 'кончик', 'мыс',
итал. сарра 'плащ с капюшоном', (с гласным о) итал.
сорра 'чаша'; 'кубок', сорра 'затылок', сорро 'кувшин',
coppoluto 'пузатый', далее итал. tappo 'пробка', серро 'пень',
'колода' и мн. др.7
На идеофонической почве возникли русск. губа, губка и все
его славянские и балтийские родичи, во всех значениях
('labium', 'нарост на дереве', 'нарост на теле', 'толща;
'масса').
Сюда же русск. гумно из губ-но 'круглая постройка
для молотьбы' 8. Семантика 'круглого', 'выпуклого' и т. п.
выступает также в гуменце 'одуванчик' (Даль.), гумапок
'кошелек', гумешко 'макушка', 'темя', гумёшки 'речная
галька' (Филин.)
На идеофоническом («естественном»), а не
генетическом родстве основано созвучие таких пар, как:
русск. пук (пучить, пухнуть, пухлый) — лат. Ьисса
'пухлая щека';
579
русск. пузо, пузырь — осет. a-buz-yn 'вздуваться';
русск. шерохии, шершавый — осет. s?rx? 'точильный
камень';
укр. бульба — лат. bulbus 'луковица';
итал. zampa — осет. dz?mby 'лапа';
лит. gumbulas 'железа' — осет. gumbul 'комок свежего
сыра'.
Звукосимволическим качеством могут обладать не
только комплексы звуков типа КР, РК, ТР, СР и др., но
и отдельные фонемы. Так, в осетинском смычно-гортан-
ным (глоттализованным, абруптивным) согласным к',
t', p', с', усвоенным из кавказского субстрата,
приписывается особая экспрессивная выразительность. Это ясно
видно из таких фактов, как t?ryn 'гнать' рядом с ?nt'?ryn
'выгонять силой, грубо; вышибать', t?lfyn 'шевелиться' —
st'?ifyn 'вздрагивать', tuxyn 'заворачивать' — ?nt'uxyn
'сильно стягивать'.
Некоторые фонемы приобретают звукосимволическую
силу в начальной позиции. Так, по
наблюдениям профессора Дж. Бонфантэ, начальный z во
французском часто фигурирует в словах явно звукосимволи-
ческого типа 9.
Если не считать заимствований (zenith, zephir и нек.
др.), то остальные (числом ок. 25) в основном — идеофо-
ны. Типичный пример — слово zigzag. Это слово не надо
возводить ни к прароманскому, ни к праиндоевропейскому
прототипу. Оно возникло как звуковой образ,
непосредственно порожденный зрительным образом крутых
поворотов.
Осмелюсь выразить убеждение, что начальный х- в
русском (и славянском) тоже наделен часто
звукосимволическим качеством. Если не считать заимствований, таких,
как хата, хлеб, хмель и несколько слов, где начальное х-
восходит к группе ks-, то значительная часть оставшихся
слов имеет явные приметы идеофонов: xabati, xapati,
xopiti, xlamati, xlastati, xlostati, xvastati, xvost, xoxol и
mh. др.
У Фасмера находим слово хорхора 'вальдшнеп', 'тряпье';
сюда же глагол хорохориться. Приводятся параллели из
других индоевропейских языков: гр. xapxaQE^ 'острый',
xaQxageoc 'злобный', скр. kharas- 'твердый'. 'Вальдшнеп' —
'тряпье' — 'острый' — 'злобный' — 'твердый'. Попробуйте
извлечь отсюда какую-то семантическую закономерность!
Другое дело, если подойти к этому слову как экспрессив-
580
ному, наделенному, одновременно звукоподражательными
('вальдшнеп', 'хорохориться') и звукоизобразительными
('тряпье') качествами. В экспрессивность слова хорошо
уложится вся его замысловатая семантика. Для значения
'тряпье ср. груз, идеофон xarahura 'тряпье', 'барахло' 10.
Наш разговор об идеофонах приводит на память другой
разговор, имевший место 2400 лет назад. Я имею в виду
спор между Кратилом, Гермогеном и Сократом в диалоге
Платона «Кратил». Этот замечательный диалог занимает
особое место не только в философском творчестве
Платона, но и в истории лингвистической науки. Спор в диалоге
идет о том, каков характер связи между звучанием и
значением слова, почему предметы называются так, а не иначе.
Этот вопрос и поныне сохраняет свою актуальность.
Кратил утверждал, что связь между звучанием и значением
слова «естественная» (yvoei). Сократ же, устами
которого, как и в других диалогах, говорит сам Платон,
считал, что названия предметам даются условно, «по
соглашению» (fteoei). Мы считаем теперь, что прав был,
разумеется, Сократ, а Кратил заблуждался. Между звучанием
и значением слова нет связи естественно
необходимой, есть связь социально
необходимая. Вместе с тем, мы можем теперь сказать, что и
Кратил был частично прав. Есть особый разряд лексики,
где связь между звучанием и значением естественная,
где образ предмета непосредственно порождает такой,
а не иной звуковой образ. Лингвисты-африканисты,
особенно убедительно показавшие это явление, в какой-то
мере «реабилитировали» Кратила. Идеофоны — это «кра-
тиловская» часть человеческой лексики. Не следует ли
этот весьма своеобразный разряд слов сделать предметом
особой науки «идеофонологии»?
Чем объяснить, что такое обычное явление, как
звуковая символика, с трудом распознается в большинстве
широко известных и вполне компетентных
этимологических словарей? Мы уже говорили: этимология — наука
консервативная. Она живет в основном в
младограмматической традиции. А в этой традиции идеофоны
оказываются чужеродным телом. Они ведут себя не так, как
«нормальные» слова. Они плохо ладят со звуковыми законами.
У них свои семантические причуды. И когда их пытаются
этимологизировать путем обычных отработанных в
младограмматической школе процедур, становится досадно
581
за авторов: зачем столько труда и изобретательности,
когда ларчик открывается просто?
Вывод. Существующие этимологические словари
требуют пересмотра под углом зрения возможно полного
выявления идеофонов и соответствующей их трактовки.
Больше внимания соотношению «технической» и
«идеологической» семантики. Семантические аспекты
этимологии весьма сложны и с трудом поддаются
регламентации. Никакого «закона», который можно было бы
сопоставить со звуковым законом, в семантическом
развитии слов установить не удается. Здесь приходится
опираться не на необходимое, а на возможное
в рамках здравого смысла. Но «возможное» не имеет по
сути дела никаких твердых границ, и, изучая различные
этимологические словари с точки зрения допускаемых
в них семантических переходов, приходишь к выводу,
что историческая семасиология далека еще от того, чтобы
называться наукой в подлинном смысле этого слова.
у Неверно было бы, разумеется, утверждать, что в
данной области не наблюдается никакого прогресса. Имеются
исследования, в которых авторы более или менее успешно
пытаются внести порядок в видимый хаос семантических
явлений и придать семасиологии, если не вполне научный,
то во всяком случае наукообразный облик. К числу таких
исследований мы относим теорию «семантического поля»
немецкого ученого Йоста Трира. Это был шаг в верном
направлении. Недавно вышла посмертно книга Трира
«Wege der Etymologie», сборник этюдов по общим и
конкретным этимологическим вопросам. Автор, между
прочим, пишет: «Для этимологии важны две семантические
области: область техники в широком смысле, т. е.
область освоения объективной действительности в
социальной трудовой практике, и область структурных
переосмыслений: уподоблений, сравнений, метафор и пр.».
В статьях «Язык как идеология и язык как техника»
и «Понятие идеосемантики» ' ' мы также пытались
показать, что в семантике слов следует различать
«техническое ядро» и «идеологическую оболочку». Этому
фундаментальному различию можно придать несколько иную
формулировку, а именно: к семантике применимы понятия
базиса и надстройки. Есть значения «базисные» и есть
значения «надстроечные». Историческая семасиология
станет научно обоснованной дисциплиной в той мере,
в какой она сможет раскрыть на широком (в идеале —
582
глобальном) материале закономерности соотношения
базисных и надстроечных значений, т. е. какие
надстроечные значения могут возникать из тех или иных базисных,
и обратно, какие базисные значения чреваты такими-то, ;
а не иными надстроечными возможностями. Отношения
здесь отнюдь не просты и не однозначны. Если, с одной
Стороны, одно и то же базисное значение может
обрастать разными, нередко полярно противоположными
надстроечными, то и обратно, одно и то же надстроечное
значение может развиваться на разных базисных.
Понятие «плохой» в осетинском может быть выражено тремя
словами ?vz?r, fyd, m?guraw. Базисное значение ?vz?r
'кривой' (авест. zbar- 'идти вкривь'), fyd 'гнилой' (др.-иран.
puta-), m?guraw от m?gur 'бедный'. Русск. дурной следует
(как осет. fyd) связывать с русск. (диал.) дурь 'гной'.
Русское плохой скорее всего родственно русскому плоский.
Семантика — дама капризная. Ей присущи черты «женской
логики». От нее всегда можно ожидать каких-нибудь
сюрпризов. В сфере надстройки возникают такие оттенки
и нюансы, которых трудно было ожидать при данном базисе.
Черный цвет, как известно, ассоциируется с трауром
и вообще негативными эмоциями. Но вот в тюркских
языках самые чистые и прозрачные родники зовутся
qarasu 'черная вода'. В осетинском выражение saw l?ppu
'черный молодец' соответствует примерно русскому 'добрый
молодец'. А сколько восторженных строк в стихах и прозе
посвящено черным очам! Чеш., польск. спогу означает
'темный; черный', а русск. (диал.) хоростъ 'красота,
приятность, прелесть' (ЭССЯ, 8, 79, 83). Белый цвет, как
антагонист черного, должен, казалось бы, иметь сугубо
положительную окраску («свет бел, да люди черны»: Даль).
Но вот в одном рассказе Василия Шукшина колхозник
покупает в городе для жены сапожки. В глазах продавца
колхозник увидел «белую ненависть». И он недоумевал,
за что она его ненавидит. Странно, что меня как читателя
нисколько не удивило парадоксальное, как будто,
сочетание «белая ненависть». Напротив, показалось понятным и
точным.
Механизм семантических движений основан на общих
свойствах человеческой психики и мышления. Поэтому,
допуская то или иное идеосемантическое различие, очень
важно подкрепить его аналогичными примерами из любых
других языков. Нужна особая наука, которую можно было
¦^fev назвать историко-семасиологической типологией.
583
Возьмем слово «сердце». Базисное значение его весьма
точно и ограничено: «центральный орган кровеносной
системы .., обеспечивающий своими ритмическими
сокращениями кровообращение» (Энциклопед. словарь). Зато
надстроечная его семантика чрезвычайно широка, а в
некоторых языках прямо-таки необъятна. Сердце не только
бьется, оно «чувствует», «радуется», «грустит, «страдает»,
«тоскует», «гневается». Даже чувство тошноты передается
(в грузинском и осетинском) выражением «сердце
мешается» (груз, guli mereva, осет. z?rd? x?cc? k?ny). Не
только эмоции человека сосредоточены в сердце. Оно же
является носителем его интеллектуальных способностей.
Сердце «сознает», «размышляет», «помнит» и т. д. Все, что
природа возложила на мозг и нервы, язык возложил на
сердце. Почему так получилось, на то есть свои причины,
в которые мы не будем здесь вдаваться. Приведем лишь
некоторые лексические иллюстрации. Вот ряд кабардинских
слов: gwak'wa 'приятный', gwapa id., gwawa 'горе', 'обида',
gwdxas 'горе', 'несчастье', gWdSdxa 'глубокое горе',
gwdb- 'гнев', gwdyap'a 'надежда', gwaya id.,gwdzein
'ужаснуться', gwdzavan 'тревожиться, беспокоиться',
gwdzasan 'пребывать в крайнем волнении', gwdqabza
'чистосердечный', gwdqana 'обида', gwdqewa
'негодование', gwdcjddcz 'бодрость', givdlazdn 'переживать,
беспокоиться', gwdmasa 'добродушный', givdrdj' 'веселое
настроение', gwdrdsxa 'подозрение', gwdf'a 'радость', gwdxa
'слабохарактерный', gwdsalal 'добродушный', gwdsaba
'любезный', gwdbzdyu 'умный, смышленый', gwdzan
'смекалистый', gwdk'a 'мысленно', 'наизусть', gwdqak 'мысль',
'внимание', gwdqak'dz 'воспоминание', gwdldia
'внимание', gwdldian 'заметить', 'смекнуть', 'сообразить', giudp-
sdsa 'дума', 'мечта', gwdpsdsan 'думать', 'мечтать', givd-
гэ1 'мысль', g&drdxwaya 'память', gujdsd'a 'шутка', gwd-
saywd 'милость'.
Как видим, множество слов, выражающих, можно
сказать, весь спектр эмоциональных и интеллектуальных
проявлений человека, начиная с одного и того же элемента
gwd, и этот элемент означает сердце. И когда русские
слова сердитый, усердие, милосердие мы без колебаний
связываем с сердцем, то не только потому, что в них легко
выделяется база серд-, но и потому, что эти понятия и в
других языках связаны с сердцем. Ср. осет: z?rdiag 'усердный'
(от z?rd? 'сердце') и груз, gulmosuli 'сердитый', gulmoc'qale
'милосердный' (при guli 'сердце').
584
Повторяемость определенных семантических
переходов в разных языках для этимолога — важнейшая,
если не единственная путеводная нить в сложном лабиринте
исторической семасиологии. Любое семантическое
развитие, от базисных значений к надстроечным, как бы оно ни
казалось неожиданным с первого взгляда, может стать
основой этимологического решения, если оно повторяется
независимо в нескольких языках.
Вывод. Произвол семантических допущений в
этимологии можно ограничить, опираясь на данные общей
семасиологической типологии.
Больше внимания реалиям исторической жизни народа,
его материальной и духовной культуре. Предметы и явления
объективной действительности проходят в общественном
сознании обработку, включающую три операции:
селекцию, абстракцию, классификацию 12.
Лексика языка — результат многовекового процесса
освоения действительности с помощью (не умышленного,
запланированного, а «стихийного») применения этих
операций. Объем и структура лексики соответствуют объему,
и структуре общественной практики и общественного
сознания в прошлом и в настоящем. И когда мы говорим
о языке как историческом источнике, мы имеем в виду
в первую очередь лексику. Этимология призвана
раскрывать все потенции, которые заложены в лексике как
историческом источнике. Многое в нашей лексике отражает
не современные реалии, а реалии прошлого, иногда весьма
далекого. От этимологии мы ждем раскрытия этих
забытых связей. В проблеме «лексика и реалии»
этимологическая наука выходит за рамки лингвистики в узком смысле
и становится наукой историко-культурной,
а добытые ею результаты получают широкий
общезначимый интерес.
Успех такого рода изысканий может быть обеспечен
только в том случае, если разбор — двусторонний: от
слов к реалиям и от реалий к словам. А это значит, что
этимолог должен быть вооружен не только хорошим знанием
лексики, но и широкой осведомленностью относительно
исторического прошлого народа, его материальной и
духовной культуры.
В упомянутой выше статье «О принципах
этимологического словаря» я приводил ряд примеров, как слова
проливают свет на реалии прошлого, а знание реалии
помогает раскрыть этимологию слова. Здесь мы ограничим-
585
ся еще несколькими примерами, когда в названиях,
предметов материальной культуры и специальных терминах
скрываются те или иные этнонимы и топонимы.
Позднелат. cuprum 'медь' вытеснило древнее название
меди aes. Происходит от названия острова Кипра (греч.
Кгждо^). Римляне стали называть медь cuprum, потому
что получали ее с Кипра. С латинским связаны
преемственно испан. cobre, фран. cuivre. Из латинского идет
германская группа: англ. соррег, нем. Kupfer и пр.
Слав. medb. Как лат. cuprum происходит от названия
острова Кипра, так слав, medb происходит от названия
страны Мидии (греч. Mr\aia), так как древние славяне
получали медь оттуда. Название «Мидия» применялось
в древности к обширной территории к югу и западу от
Каспийского моря, включая нынешние Азербайджан и
Армению. Археологический материал полностью
поддерживает нашу этимологию.
«Активизация связей между Закавказьем и населением
Северного Причерноморья и Поволжья была вызвана
в значительной степени необходимостью в металле.
Население Северного Кавказа по налаженным путям получало
металлы из Закавказья; часть его шла на нужды своего,
металлообрабатывающего производства, а остальное
сбывалось северным соседям».
«Все данные, приведенные в совокупности, убедительно
доказывают, что Кавказ в целом уже в эпоху ранней бронзы
стал крупнейшим очагом металлопроизводства на
территории нашей страны и всего Старого Света. Начиная
примерно с середины III тыс. до н. э.,Кавказ снабжает своей
металлургической продукцией степные племена Северного
Причерноморья, Подонья и Поволжья, и эту роль он
сохраняет на протяжении около 1000 лет».
«В настоящее время считается установленным тот факт,
что в III — первой половине II тыс. до н. э. Кавказ
выступает как крупнейший на территории Старого Света центр
металлопроизводства, обеспечивающий своей продукцией
древние племена многих областей Европы»13.
«Разбор и анализ спектрального изучения металла
III тыс. до н. э. Армении, Грузии и Малой Азии показывают,
что в это время повсюду применяется технология
получения высококачественных мышьяковистых и оловянистых
бронз. В истории древнейшей металлургии известно много
случаев, когда индустрия меди отдельных
культурно-исторических общностей развивалась за счет сырьевых баз,
586
находящихся за территориальными пределами конкретных
археологических культур. Вспомним обработку меди Три-
полья, высокоразвитую индустрию меди майкопских
курганов и др. Во все эти очаги металлообработки исходное
сырье (в виде полуфабрикатов или отдельных слитков)
поступало из месторождений, сосредоточенных на «чужих»
территориях»".
Для древних славян, на территории которых не было
меднорудных очагов, источником получения медного
сырья было Закавказье, т. е. «Мидия».
По образованию слав, мъдъ стоит в одном ряду с
другими характерными для древнеславянского и древнерусского
краткими этнографическими названиями женского рода
на -ь как Русь, чудь, водь, жмудь, весь, ливъ, емь, сумъ,
пермъ, скуфъ (скифы) и др. По образованию Мъдъ
относится к позднейшему Мидия, как Русь к позднейшему
Россия, Скуфъ к позднейшему Скифия 15.
Осет. f?rink 'высоко ценимый в старину вид сабель'. От
этнонима франк', позднелат. francus, др.-русск. фряг,
фряжский, новоперс. ferang. Сужение a->i перед носовым
закономерно. Ср. ing?n 'могила' из *hankana- и др.
Осет. m?skwy 'прочная кожа красно-бурого цвета'.
Идентично с топонимом M?skwy 'Москва'. Русская кожа
приобрела известность и в других странах; ср. франц. roussi
'cuir de Russie' 16.
Осет. (дигорский диалект) daxran 'лучший сорт сафьяна'.
Идентично с топонимом перс. Tahran 'Тегеран'.
Осет. xusar 'название дорогой шелковой ткани' (в
героическом эпосе «Нарты»). Этимологию трудно было бы
вскрыть, если бы в одном варианте сказания о мести героя
Батраза за смерть отца не встретилась форма xursan. Эта
форма прямо ведет к топониму перс. Xurasan, Xorasan.
Провинция Хорасан в восточной Персии с главным
городом Мешхед славилась своим шелковым текстилем. Ср.
др.-русск. мешедский ('= мешхедский) шелк. «Хоросанци»
неоднократно упоминаются в «Хождении за три моря»
Афанасия Никитина.
Осет. xatiag (?vzag) 'непонятный, тайный язык' (в
эпосе). Образовано с помощью форманта -ag от *Xata(j)
'Китай' (как, скажем, z?rdiag 'усердный' от z?rd?
'сердце'). Ср. Xytaj название Северного Китая в некоторых
тюркских языках ''.Форма *Xataj, которую отражает осет.
xatiag представлена в др.-груз. Xata-eti 'Китай'
(неоднократно в поэме Руставели «Витязь в тигровой шкуре»), а также
587
в названии шелковой ткани китайского происхождения:
тюрк, (анатол.) xatai, груз, xataia l9. Стало быть, осет. xatiag
?vzag 'хатайский язык' означает собственно 'китайский
язык'. Ср. в семантическом плане русское выражение
«китайская грамота».
Осет. rujmon 'наименование сказочного чудовища'.
Образовано от Rum 'Рим' с помощью форманта -on (из
-апа-). Стало быть, означает собственно «римлянин».
Этимологически и по образованию точно соответствует
латинскому rom-an-us 'римлянин'. Появление / перед m
закономерно; ср. xujmon 'пахарь' от хитсе 'пашня'. По
семантике ср. франц. ogre 'людоед' (в сказках) от визант.
греч. 'OywQ 'венгр'.
Осет. qazajrag 'крепостной', 'раб'. Несомненно, от *qazar
'хазары' с помощью форманта -ag (как этноним в языке
не сохранилось). Каким образом наименование сильного
в свое время племени хазар стало синонимом раба? Это
могло произойти после разгрома Хазарского царства
киевским князем Святославом (966 г.), когда ослабевшие
хазары легко могли становиться добычей более сильных
соседей, в том числе алан.
Нет надобности подчеркивать, что подобные
этимологии представляют не только узко лингвистический, но
и большой историко-культурный интерес. Мы не только
вскрываем происхождение тех или иных слов, но и
получаем ценную информацию об этно-географических
знаниях народа в прошлом. Рим — франки — Москва —
хазары — Тегеран — Хорасан — Китай — таким рисуется
географический кругозор предков осетин по приведенному
материалу. Кроме того, мы узнаем, что франки славились
саблями, Москва — кожей, Тегеран — сафьяном, Хорасан —
шелковыми тканями, китайцы — непонятностью своей
«грамоты» и т. п.
О стратиграфическом указателе. Этимологические
словари снабжаются обычно указателем слов.
Необходимость такого указателя очевидна. Без него словарь
наполовину обесценивается.
Но пытаясь представить идеальный этимологический
словарь будущего, хотелось бы видеть в нем (после
указателя слов) еще один указатель:
стратиграфический. В нем слова должны быть распределены по
хронологическим пластам от древнейшего периода до
современности.
Для осетинского я выделил бы шесть таких пластов:
588
1. Общеиндоевропейский (примерно 4-е тысячелетие,
до н. э.)
2. Индоиранский (примерно 3-е тысячелетие до н.э.).'
3. Общеиранский (примерно 2-е тысячелетие до н.э.).
4. Скифо-европейский A-е тысячелетие до н.э.).
( 5. Алано-кавказский (от первых веков н. э. до
монгольского нашествия).
6. Поздне-осетинский (от монгольского нашествия до
наших дней).
В русском этимологическом словаре хотелось бы видеть
стратиграфический, указатель с такими хронологическими
разделами:
1 ) общеиндоевропейский;
2) славр-древнеевропейский;
3) славо-балтийский;
4) общеславянский;
5) восточно-славянский;
6) великорусский; а) до христианизации, б) от
христианизации до монгольского нашествия, в) от монгольского
нашествия до Петра I, г) от Петра I до Пушкина, д) от
Пушкина до наших дней.
Подведем итог. В этимологической науке наблюдается
в настоящее время известный методологический застой.
Младограмматические концепции, в русле которых
составляется большинство этимологических словарей, во многом
устарели. Они нуждаются в освежении. Такое освежение
уже имело место в других областях языкознания. Очередь
за этимологией.
Этимологический словарь нового типа, как он нам
представляется, должен быть не узко лингвистическим, а
широкомасштабным историко-культурным исследованием,
. с привлечением данных истории, археологии, этнографии,
психологии, социологии, данных материальной и духовной
культуры народа.
Словарь должен строиться на основе признания
кардинальной важности таких моментов, как: этногенез,
субстрат; историческая лингвогеография; перекрестные
изоглоссы; звуковая символика; упорядочение
семантической мотивации этимологических решений с опорой
на повторяемость определенных семантических
переходов в разных языках, родственных и неродственных;
неизменное соблюдение принципа: от слов к реалиям, от
реалий к словам.
Целесообразно снабдить словарь в начале этногенети-
ческим введением, в конце — стратиграфическим указателем.
589
Примечания:
Позднее статья в несколько переработанном виде вышла в
немецком переводе в качестве приложения к брошюре венского индоира-
ниста профессора Манфреда Майрхофера Zur Gestaltung des etymolo-
gischen Worterbuches eines Grosscorpus-Sprache (Wien, 1980).
2 Последние по времени доступные мне работы: Трубачев О. Н.
Языкознание и этногенез славян.— ВЯ за 1982 г.; Иванов Вяч. Вс.
Лингвистические вопросы славянского этногенеза.— В кн.: Славянское
языкознание. IX Международный съезд славистов. Доклады советской
делегации. М., 1983, 152—169.
3 Ср.: Harris А. С. Georgian and unaccusative hypothesis.—
Language, 58, 1982.
4 H о 1 m e r N. On the «Crosswise intersectant» aspect of phonetic
evolution within two linguistic families of the Oceanian area.— Вопросы
иранской и общей филологии. Тбилиси, 1977, 297—303.
5 Пахалина Т. Н. Исследование по сравнительно-исторической
фонетике памирских языков. М., 1983.
6 Вестерман Д. Звук, тон и значение в западноафриканских
суданских языках.— В кн.: Африканское языкознание. М., 1963, 94.
7 Поскольку идеофоны не поддаются традиционной процедуре
этимологизации, их нередко объявляют этимологически «неясными». Так,
в одном английском этимологическом словаре англ. cape 'плащ с
капюшоном' возводится в конечном счете к позднелатинскому сарра «which
is of uncertain origin» (Klein E. A. Comprehensive Etymologicai Dic-
tionary of the English Language. Amsterdam; London; New York. 1966,
I, 234). Заметим попутно, что если те или иные идеофоны современных
и.-е. языков находят соответствия в латинском и даже
общеиндоевропейском, это означает только, что идеофоны существовали и на
латинском и на праиндоевропейском уровне.
8 Погодин (Следы корней-основ в славянских языках. Варшава, 1903)
делит гу-мно и толкует как «место, умятое (мно) коровами (гу)», имея
в виду молотьбу коровами. Не видно, однако, чтобы в каком-либо языке
гумнп было семантически связано с коровой. А главное — деление гу-мно
произвольно. Это все равно, как если слав, stegno 'бедро' делить ste-gno,
a -gno производить от gnuti ('бедро' — 'изгиб'!). На деле имеем steg-no
(ср. русск. стегать, за-стег-нуть, при-стег-нуть: 'место, где нога пристегнута
к туловищу').
9 В о n f a n t е G. Il valore fonosimbolico di z iniziale in francese.
Festschrift Hubschmid. Bern, 1982.
Iu Толковый словарь грузинского языка / Под ред. А. Чикобава,
Тбилиси, 1964, VIII, 1339.
" Язык и мышление II, Л., 1934, 33—54; VI—VIII, 1936, 5—18; X,
1948, 13—28.
590
12 А б а е в В. И. Отражение работы сознания в лексико-семан-
тической системе языка.— В кн.: Ленинизм и теоретические проблемы
языкознания. М., 1970, 232—262.
13 Мунчаев Р. М. Кавказ на заре бронзового века. М., 1975,
407, 10.
14 Геворкян А. Ц. Из истории древнейшей металлургии
Армянского нагорья. Ереван, 1980, 86—87. См. также: Черных Е. П.
История древнейшей металлургии Восточной Европы. М., 1966; К а ш-
к а й М. А., С е л и м х а н о в И. Р. Из истории древней металлургии
Кавказа. Баку, 1973.
15 См. еще: Езиковедски изследвания в чест на академик Стефан
Младенов. София, 1957, 321—328. Там же указана более ранняя
археологическая литература.
16GamilIscheg E. Etymologisches Worterbuch der franzosischen
Sprache 2, Heidelberg, 1969, 782.
17 Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. СПб., 1889,
II, 1723.
18 Радлов II 1679.
19 Толковый словарь груз, языка, VIII 1316.
«Этимология 1984»
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
русское багульник
Мне по кругу моих интересов приходится заниматься
как историей слов, так и историей фольклорных
мотивов и сюжетов. Там и тут вскрывается одна истина: самые
редкие варианты могут быть самыми ценными и
интересными. Фольклористу случается встречаться с таким
положением: какой-нибудь сюжет записан сотню раз, но только
в одном варианте встречается деталь, которая оказывается
ключом к пониманию происхождения сюжета и его
подлинного смысла. Этот редчайший вариант и становится по
праву базой для историко-фольклористического анализа.
Такие ситуации нередко возникают и в
этимологической работе. Какое-нибудь слово сотни раз зафиксировано
в одном звуковом или словообразовательном варианте
и только один раз в каком-то другом. В таком случае
пренебрегать этим редким вариантом ни в коем случае не
следует. Может оказаться, что он-то и является самым
ценным с этимологической точки зрения.
В теории, вероятно, никто против этого возражать не
станет. Но на практике этимолог невольно поддается
статистическому гипнозу и устремляет все внимание на самые
распространенные, общеизвестные варианты.
Именно так, мне кажется, обстоит дело со словом
багульник, названием ряда растений: Ledum palustre,
Rhododendron dahuricum = даурская роза, дикий розмарин
и др. Всего (по «Словарю русских народных говоров»
Ф. П. Филина, вып. 2, с. 36) не менее чем к двенадцати
разным растениям применяется в говорах это название.
Обращает на себя внимание обилие сильно
расходящихся вариантов: багула, багул, багно, багон, багонник,
баговник, багун, багунник, багунняк. Наконец, у Даля
находим форму с начальным в: вагульник (для вятского говора).
Фасмер не включил багульник в свой этимологический
словарь, хотя слово встречается у многих писателей и
должно рассматриваться как литературное. Несколько примеров:
592
«Карпов, вернувшись с охоты, преподнес Тане пучок
голых, сухих веточек багульник а.— Это, милая,
задаток под весенний букет. Поставь в воду». (Ажаев.
Далеко от Москвы).
«Пучок багульника незаметно расцвел. Недавно
еще сухие, безжизненные веточки светились светлосире-
невым пламенем нежных цветов» (там же).
«Летом в жаркие дни багульник выделяет такое
обилие эфирных масел, что у непривычного человека
может вызвать обморочное состояние» (Арсеньев. Дерсу
У зала).
«На ходу объедали олени все эти лакомые кусты
крушины и жимолости, молодые дубки, багульник и
вереск» (Лидин в газ. «Известия ЦИК» 28/XI—1932).
«— Ямщик, что это красное по горам?
— Багульник, кусты стало быть» (Серафимович.
Сопки с крестами).
«Подросток... обдирал горстью листья багульни-
к а.., натирал ими полы разостланного на земле
кафтана — как видно, это была одежда шамана» (Фадеев.
Последний из Удэге).
Багульник связывают с багно 'болото'. Так у
Преображенского, с. 11. Эта этимология развивается В. А.
Меркуловой в статье «Из истории названий некоторых растений»
(Этимологические исследования по русскому языку, вып. III,
1961, с. 15—17). С семантической стороны такая
этимология вполне подходит к Ledum palustre, как об этом
говорит и латинское название. Но она подходит не ко всем
растениям, к которым применяется название багульник.
Некоторые из них не обнаруживают никакого особого
пристрастия к болотистым местам. Возникают также серьезные
трудности при объяснении звуковых и
словообразовательных вариантов.
В А Мепь'л'ттг*иа пгшложила много изобоетательности
чтобы преодолеть эти трудности и все варианты вывести
в конечном счете из багно: от багно образовано багунник,
а от багунник — багульник, как от песенник — песельник.
Тут не все гладко. Во-первых, от багно нормальное
образование багонник, а не багунник, как от сукно — суконник
(а не сукунник), от окно — оконник (а не окунник), от
толокно — толоконник (а не толокунник) и т. п. Во-вторых,
откуда взялись формы багул, багула? По В. А.
Меркуловой, они вторичным образом извлечены из «искаженной»
формы багульник, как если бы из нормы песельник было
593
извлечено и получило хождение новое слово песел, песела
или что-нибудь в этом роде. Процедура настолько сложная
и причудливая, что хочется сказать: верую, Господи! помоги
моему неверию!
Показательно, что в имеющихся этимологических
опытах игнорируется полностью вариант вагулъник. Думается,
что напрасно. Она такая лее надежная, как багульник. См.
словарь русских народных говоров под ред. Ф. П. Филина
IV 10 (вагульник), IV 330 (вогульник).
Если взять за исходную эту форму, то открываются
хорошие этимологические горизонты за пределами
славянского. Во-первых, нем. wachol в Wacholder можжевельник,
'Juniperus communis' (вторая часть -der означает
'дерево', 'куст' как в Holun-der 'бузина' и др.). Во-вторых,
осет. wayyly 'шиповник' . И нем. wachol и осет. wayyly
восходят закономерно к *wagul, что полностью совпадает
с русскими вагул в вагульник.
Что же произошло? Думаю, что произошла
контаминация двух первоначально различных названий растений: с
одной стороны, вагул, связанное с нем. wachol и осет. wayyly,
с другой, формы, производные от багно 'болото'. Все
засвидетельствованные формы могут без натяжки быть
объяснены как результат такой контаминации, с различными
фонетическими и словообразовательными вариациями.
Устойчивая ассоциативная связь с багно 'болото' могла
способствовать тому, что формы с начальным б постепенно
вытеснили формы с начальным в.
Мне представляется, в русском этимологическом словаре
должны быть две разные словарные статьи: одна —
вагулъник, другая багно и производные от него. А под
словом багульник должна быть отсылка: см. вагулъник и багно.
Слав, dbidb не получило до сих пор
удовлетворительного объяснения. Ни сопоставление с герм, dust 'пыль', ни
возведение к *duz-dyu- 'дурное небо' не внушают большого
доверия. Возможно, что это слово следует поставить в связь
с известными представлениями о дожде как небесной
влаге, выцеживаемой (выдаиваемой) на землю божеством,
как о молоке небесных коров и т. п. Например, в Ригведе:
«Regenwolken = Kiihe, die von Vritra im Fels der regenlosen
Wolke verschlossen, von Indra (Brihaspati u. s. w.) befreit
594
werden, und als nahrende Milch den Regen stromen lassen'
(H. Grassmann. Worterbuch zum Rig-Veda, pp. 407—
408). В этом случае аъЫь возводится закономерно к
*dhugh -f- ti- (через ступень аъгсь) и связывается с и.-е.
*dheugh- 'выцеживать', 'выжимать', 'доить', 'подавать в
изобилии' (Pokorny 271); ср. др.-инд. dogdhi 'он доит', 'он
дает молоко' и пр. Для семантического развития ср. гр.
i)8i 'дождь идет', U8TOC 'дождь', тох. A swase^ swese 'дождь'
при др.-инд. su- 'выжимать (священный напиток сому)'.
Для формального образования (*dhugh-ti-) ср. др.-инд.
su-ti- в soma-suti 'выжимание сомы'.
украинское кацап
Данное украинцами великороссам прозвище кацап
толкуют как цап 'козел' с приставкой ка- (?) (Bruckner,
Perwolf, Vasmer). Однако «приставка» ка- остается здесь
совершенно загадочной. Приводимые Бркжнером примеры
на эту «приставку» (kadlub, kablak) сомнительны. Весьма
вероятно, кацап не что иное, как араб, перс, тюрк, qassab
'мясник' переносно — 'грубый, жестокий человек' ('ein
grausamer, blutdurstiger Mensch' — Радлов II 358). Именно
такая этимология дается в «Толковом словаре русского
языка» под ред. Ушакова, I 1338. Разумеется, такое
прозвище относилось не к народу в целом, а к конкретным
представителям царско-боярской Москвы, которые, как мы
это знаем из истории, и в самом деле не отличались
сентиментальностью («Москва слезам не верит»). В глазах
мягкого и добродушного украинца они должны были
казаться особенно грубыми.
ЕЩЕ РАЗ О ХОРСЕ
CI \гжр RKirva^KiR« тт ппрпппппжркир UTA имя ипгтпимл-
славянского языческого божества Хоре неотделимо от
осетинского xorz/xwarz 'добрый' и первоначально было не
именем божества, а его постоянным эпитетом «Добрый»
(Осетинский язык и фольклор I 595 ел.; Скифо-европейские
изоглоссы 115 ел.). В подтверждение этого можно указать
на то, что в Лаврентьевской летописи Хоре
непосредственно примыкает к имени Дажьбога, как его эпитет. Вот это
место: «И нача княжити Володимеръ въ Киевъ единъ и
постави кумиры на холму внъ двора теремного: Перуна дре-
вяна а главу его сребрену а усъ злать и Хърса Дажьбога
595
и Стрибога и Симарьгла и Мокошь» (Повесть временных
лет, изд. 1950 г., М.-Л., с. 56). Сразу бросается в глаза, что
все имена божеств в этом перечислении разделены союзом
«и», только между Хорсом и Дажьбогом нет союза. Это
можно объяснить только тем, что Хоре и Дажьбог здесь —
не два разных божества, а одно божество с двойным
именем: Хоре-Дажьбог, что означает в конечном счете «Добрый
Дажьбог». У летописца — автора текста — еще не было
утрачено сознание, что Хоре — не особое божество, а эпитет
Дажьбога. Не должно смущать и то, что божество —
славянское, а эпитет — иранский (аланский, скифский). В
условиях тесных ирано-славянских контактов такое сочетание
легко объяснимо. Совершенно так же в сербской
традиции Георгий Черный стал Кара-Георгием (тур. кара
'черный'). Еще более близкую параллель дает сванский: здесь
святой Георгий зовется Dzgarag из Dlgdra-Gege «Добрый
Георгий», где digdra означает 'добрый' не на сванском,
а на мегрельском языке. В случае с Хорсом это тем более
понятно, что именно заимствованное из иранского хорсъ
послужило базой для русского хороший (С. П.
Обнорский. Язык и литература 111 241 —258). Как от лес имеем
леший, так от Хоре могли иметь *хорший. Как рядом с
молния имеем молонья, так рядом с *хорший могли иметь
хороший. Эта последняя форма и закрепилась в русском
в значении «bonus». Сюда же русск. (диал.) хорзать
'чваниться', 'важничать', букв, «хорошиться», хорза 'бойкая
девка' (Даль).
В древнерусском, как в сванском, эпитет обособился
и стал мыслиться как имя божества. Но еще чувствовалось,
что Хоре — это вторая ипостась солнечного Дажьбога
(в Слове о полку Игореве: «великому Хърсови вълкъмъ
путь прерыскаше». Изд. 1955 г., с. 28).
В этимологических исследованиях не всегда достаточно
внимания уделяется контаминации. Между тем роль
контаминации в лексическом развитии языков весьма
значительна, а случаи этого явления более многочисленны, чем
можно думать, обращаясь к известным этимологическим
словарям 2.
Конкретные случаи контаминации весьма разнообразны
по характеру и результатам. Но все они могут быть
сведены к нескольким основным типам:
596
1. Звуковая близость двух разных, этимологически не
связанных слов приводит к сдвигу в семантическом
содержании одного из них.
2. Семантическая близость двух разнородных слов
влияет на звуковой облик одного из них, видоизменяет его.
3. Оба эти процесса сочетаются и влияют и на
звуковой облик, и на семантику слова.
Нам представляется, что значения славянского *chorna
'пища' и русского пакость 'гадость' явились результатом
контаминации первого типа.
Слав, choma 'пища', 'еда', 'корм' (болг. храна, серб.-
хорв. hrana, кашуб, charna, полаб. choma 'пища', 'корм')
формально неотделимо от глагола *chomiu (ст.-слав.
chraniti, русск. хоронить и пр.). Однако развитие
значения «хранить» — «пища» нельзя считать чем-то само
собой понятным. На такое развитие могло повлиять иран.
*xvama- 'пища', ср. авест. хиагэпа- 'пища', 'еда', осет.
x?rn?g 'погребальное угощение', 'поминки'. Последнее
значение, характерное, видимо, для скифского, могло
способствовать развитию семантики 'погребать', 'хоронить'
в славянском.
Слав, pakostb в большинстве славянских языков
означает 'вред', 'зло', 'злоба', 'мука' и т. п. Но в русском языке
развилось значение 'гадость', 'нечистота', 'дерьмо'.
Производят это слово от раку, 'опять', 'обратно', ораку
'наперекор'. Из значения 'наперекор' можно вывести 'злоба', 'вред',
но не 'гадость', 'дерьмо'. На развитие этого последнего
значения могли повлиять тюркские языки: ср. уйгур, рака-
'caccare', рак, рок 'кал', чуваш, pax 'кал', осет. fagus (из
тюрк. *pakus) 'навоз' и пр. /см. мой Историко-этим. ел.
осет. яз. I 417/.
SLAVO-CAUCASICA
Русск. (кавк. диал.) качага 'шайка разбойников',
'набег', 'наезд' (Даль) с сомнением сопоставляется Фасмером
(I 543) с тюрк, qacay, поскольку последнее слово
означает (по Радлову II 333 ел.) 'бегство'. Однако на тюркской
почве для этого слова отмечено также значение 'бродяга',
'разбойник' (Будагов. Сравн. словарь турецко-татарских
наречий II 7), а заимствованное из тюркского грузинское
qacay — ничего другого и не означает, как 'разбойник'.
В этимологическое гнездо мерин 'холощеный конь'
следует включить грузинское merani 'хороший верховой конь'.
597
Русское слово справедливо считается монгольского
происхождения (Даль, Мелиоранский, Корш, Vasmer): монг.
morin,morin 'лошадь'. В русский и грузинский слово могло
быть заимствовано независимо. Грузинское свидетельство
говорит против заимствования из германского (нем. Mahre
'кобыла' и пр.), принимаемого некоторыми авторами
(Миклошич, Matzenauer, Преображенский).
Со славянским skorb 'celer', 'rapidus' так или иначе
связано грузинское ckar- id. Соответствие: слав, s- груз, с
закономерно. Аффрикатизация сибилянтов характерна для
грузинского и в других случаях: лат. signum — груз, c'igru
'книга' и др.3
Нельзя считать случайным также созвучие славянского
svirati, svirelb и грузинского sfviri 'свирель', 'дудка'.
Возможно, оба слова имеют общую звукоподражательную
основу. (Ср. Г. А. Климов. Этимологический словарь
картвельских языков. М., 1964, с. 166).
Как сырой этимологический материал, приведу без
всяких комментариев еще несколько славо-кавказских
лексических параллелей:
Слав, pecatb — груз, bec'edi 'печать' (сопоставлено
еще Марром ).
Слав, jecbmy, }есътепе 'ячмень' — сван. fdtnin 'ячмень'.
Русск. кувшин — кабард. qwasdn 'кувшин', 'черепица'.
Русск. салазки — чеченское salaz, годоберинское salaza
'сани'.
Слав, sin 'синий' — чечен, sijna 'синий', 'зеленый'.
Слав. *murava 'мурава' — груз, (пшавский диалект)
muro-balaxi 'сочная густая трава' (груз, balaxi 'трава').
Русск. (жарг.) лог 'мужчина' (Этногр. Обозр. VII,
1899, с. 129) — осет. (из кавк.) l?g 'мужчина'.
Русск. (жарг.) пацан 'мальчик' — арм. patani
'подросток'.
SLAVO-IRANICA
При разъяснении русского баран следует иметь в поле
зрения перс, barra (мн. ч. barran) 'ягненок' с надежной
иранской этимологией (Horn. Grundriss der neupersischen
Etymologie, Strassburg, 1893, p. 49).
При разъяснении славянских gadb, gaditi Berneker I
289 ел. и Vasmer I 249, 250 обходят иранские факты,
привлечение которых было бы, мне думается, вполне уместно.
В иранском с уверенностью распознается основа ^a(n)d-
598
'осквернять': осет. (дигорский диалект) iy?ndun (-*-*vi-
gand-) 'марать', 'осквернять', f?ly?ndun (—*pari-gand-)
'окрашивать', белуж. gandag 'скверный', перс, ganda
'зловонный'; лексикализованное причастие gasta- (из *gad-ta-)
находим в др.-перс. gasta- 'скверна', 'зло' (тат Auramazda
patuv haca gasta «меня да хранит Аурамазда от скверны»),
парфянском gast 'мерзкий', 'скверный', осет. q?st? iy?st?
(<-*vi-gasta-) 'осквернение', 'оскверненный',
'подвергшийся воздействию чего-либо скверного, вредного, ядовитого'.
И формально и семантически эти иранские факты стоят
в одном ряду со слав, gadb, gaditi.
Фонема / была чужда славянскому и вошла вместе с
заимствованиями, да и то преимущественно в книжную
речь, тогда как в народных говорах чужое / охотно
заменялось своим х; ср. в русском хилин рядом с филин, хран-
цуз || француз, хлигерь \\ флигерь, харбара \\ фалбала, хля-
ки || фляки, хутро 'шуба' из нем. futter и др.
С подобной субституцией (f-^x) приходится считаться
для всех периодов истории славянских языков. Вполне
возможно, что некоторые этимологически темные слова
славянских языков найдут свою разгадку, если в них
допустить смещение /->*. Так русское хаять следует, быть
может, возводить к скифскому: ср. осет. fawyn 'хаять',
'хулить' (от корня paw-, рй- 'гнить', 'гноить'), слав, chudb
'худой' — с осет. fud 'худой', 'дурной' (от того же корня).
Русское Москва, быть может, имеет отношение к
осетинскому (скифскому) m?sk'lm?sk'? 'овраг', учитывая в
особенности, что в микротопонимике Москвы «овраг» хорошо
известен («Сивцев вражек»).
Славянское *selzena, русск. селезенка неотделимо от
других и.-е. названий селезенки (Рокоту 987), но имеет
одну звуковую «неправильность»: из и.-е. *spelghen- в
соответствие иранскому *spjrzan- (авест. spsrdzan-) ожидали
бы слав. *spehen-. Эта особенность легко объяснима, если
допустить здесь скифское (аланское, осетинское)
посредство. Начальная группа sp- неизбежно подвергается
метатезе, а р переходит в /: sp—>~fs-. Если, далее, / не защищено
протетическим гласным ? как, например, в ?fsad 'войско'
из spada-, то оно отпадает, и, стало быть, начальное
задает 5: иран. spis- -*¦ осет. sis-t?''вошь'', иран. *sfi]au—>-
осет. si$? 'ягодицы', иран. Spitaman -+ осет. Sid?mon
'имя' (Aren. Orient. XXIV, 1956, p. 51). При таком развитии
иран. *sp?zan- закономерно дало бы скифское *s?rz?n,
а с европейским / («Скифо-европейские изоглоссы» 35—
599
40) — *s?lz?n, что безупречно отвечает слав. *selzen.
В осетинском (под влиянием запрета?) слово исчезло и
заменено описательным farsyl?vzag «язычок на боку».
Я уже отмечал («Скифо-европейские изоглоссы» с. 12—
14, 139—140) участие скифского (сакского) в
образовании афганского и припамирских иранских языков и
приводил некоторые изоглоссы, связывающие эти языки с
европейскими языками и унаследованные от эпохи скифо-
европейских контактов. К приведенным там параллелям
можно добавить еще несколько: слав, studb 'студа', 'стужа',
русск. стыть, студить и пр. — ишкашимское stiw-: stud
'стыть', 'мерзнуть', 'зябнуть' (Пахалина Т. Н. Ишка-
шимский язык. М., 1959, с. 238); слав. Ъгапь, braniti, русск.
бранить, лит. barnis 'брань' — ишкашимское vron: vrond
'бранить' (там же, с. 244).
Ст.-слав. sbdravb, русск. здоровый и пр. правильно
возводят к *su-dorvo-, где su- соответствует др.-инд. su-
'хороший' (в 1-ой части сложения). Но отождествление
второй части dorvo c dervo 'дерево' («сделанный из
хорошего дерева», Остгоф, Фасмер и др.) вызывает серьезные
сомнения с семантической стороны. Славянское слово
следует связывать непосредственно с иранским *drva-
'здоровый', 'крепкий'; ср. ав. drva- 'здоровый', 'крепкий', drvaspa-
'крепкоконный', др.-перс. duruva, др.-инд. dhruva- и пр.
(Mayrhofer I 116—117; Machek 584), оставляя в стороне
иран. daru- 'дерево', греч. ooqv и пр.
При разъяснении русской частицы -то следует иметь
в поле зрения осетинскую частицу ta близкого значения.
Некоторые случаи употребления частиц совершенно
идентичны в обоих языках: осет. d?w-ta су q?wyl = русск.
тебе-то что нужно? осет. k?wg?-ta c?wyl k?nyst = русск.
плачешь-то зачем? осет. syv?llony-ta c?m?n bafx?rdtajl —
русск. ребенка-то зачем обидел? осет. dy myn f?sm yssar,
?lvisyn-ta m?x?d?g dcer zonyn = русск, ты мне достань
шерсть, прясть-то я и сама умею.
Древнерусское название Каспийского моря, Хвалисское
(варианты: Хвалийское, Хвалимское, Xвалынское
^„справедливо производится от названия Хорезма: перс. Xvarizm,
авест. Xuairizdm. Почему, однако, в русском -л-, а не -р-1
Весьма вероятно, что тут сыграло роль скифское
(сарматское, аланское) посредство. В скифском всякий г перед
i переходил в / (Скифо-европейские изоглоссы 12, 36).
Ст.-слав. chyna 'обман', chyniti 'обманывать', сербо-
хорв. hina 'обман', hiniti 'обманывать', 'притворяться'
600
Berneker I 413 смело связывает с с hyl- 'согнутый' и пр.,
несмотря на полное несоответствие значений. Весьма
вероятно иранское происхождение; ср. осет. xin, xln?
'хитрость', 'козни', 'колдовской наговор', на языке парси хТп
'hatred', 'malice', 'spite', enmity' (W est. The book of the
Mainyo-i-Khard. Stuttgart and London, 1871, p. 125—126).
Формально и по значению нельзя отделять отсюда и русск.
(диал.) хинитъ 'хулить', 'поносить', 'проклинать', охинить
'расстроить брак (путем наговора)'.
Данная этимология предполагает, что сочетание xi
отразилось в славянском как chy. О раннем смешении
гласных i и у в славянском см. С. Б. Б е р н ш т е й н.
Очерк сравнительной грамматики славянских языков, М.,
1961, с. 276.
Русское чехарда следует связать с перс, cahartak 'can-
ter', 'easy gallop' (V u 11 е г s. Lexicon persico-latinum
I 603).
При разъяснении германского waga 'вес', 'весы',
славянского vaga 'вес', 'весы', уагъпъ 'важный' русск.
уважать и пр. нельзя игнорировать иранские факты: язгулям-
ское waz, рушанское wez, шугнанское wiz, сарыкольское
wez, хуфское waz, осетинское w?z 'вес', 'тяжесть', 'груз'; и.-е.
*wogh-.
пол. psia krew — осет. kudzy tug
Позволю себе к этимологическим slavo-iranica
прибавить одну параллель из области идиоматики: и в
польском и в осетинском самое обычное проклятие —
«собачья кровь», пол. psia krew — осет. kudzy tug.
Разумеется, такое проклятие могло появиться независимо
в каждом из этих языков. Но — кто знает? — может
быть это — наследие старых контактов, и может быть
Польша не зря называлась «Сарматией».
ВЕНГЕРСКОЕ Пар 'СОЛНЦЕ', 'ДЕНЬ'
Возводится к скифскому *naf, арийскому nabhas 'небо':
ср. др.-инд. nabhas-, авест. nabah- 'небо', ст.-слав. nebo,
ким. nef 'небо', хеттское nepis 'небо'. Арийское bh внутри
и в исходе слова дает в скифском (осетинском) /: осет.
waf- 'ткать' из *wabh-, осет. ?r fug 'бровь' из *bhru-ka-,
осет. Naf 'божество-покровитель рода' из скифского
*naf, арийского *nabh- 'род, народ'. При заимствовании
601
скифского naj 'небо' (в осетинском не сохранилось) в
венгерском произошла закономерная субституция р вместо
/: ср. венг. пёр 'народ' из скиф. *naft осет. naj (Europa
et Hungaria, Budapest, 1965, p. 531). Скифский долгий а
в naf 'народ' дал закономерно ё в венгерском пёр 'народ':
ср. осет. rag —~ венг. reg 'давно', осет. mal — венг. mely
'глубина', осет. wart -*• венг. vert 'щит' и др. (S k o 1 d H.
Die ossetischen Lehnworter im Ungarischen. Lund, 1925,
p. 44). Напротив, краткий скифский а в naf 'небо' дал
в венгерском а в пар 'солнце', как это наблюдается и в
некоторых других случаях (Skol d..., p. 45 sq).
русское драпать
Благодаря Фасмеру русский язык получил очень
хороший этимологический словарь. По богатству словника,
полноте библиографии, трезвости этимологического
отбора это один из лучших, если не лучший, этимологический
словарь живого языка. Конечно, как всегда в таком
большом деле, в словаре есть и отдельные недочеты, спорные
или ошибочные этимологии и т. п. Эти недочеты в
значительной мере исправляются в русском переводе,
выходящем под редакцией О. Н. Трубачева. Дополнения
редактора зачастую настолько существенны и настолько
повышают ценность словаря, что не только у нас, но и за
рубежом каждый, кто интересуется новейшим состоянием
русской этимологии, предпочтительнее обратится, мне
кажется, к русскому варианту словаря, а не к немецкому
оригиналу.
Это не исключает того, что и дополнения редактора
русского перевода бывают иногда уязвимы в том или ином
отношении. Бывает, например, так, что дополнения сами
нуждаются в дополнениях. Приведу один пример.
У Фасмера фигурирует глагол драпать со значением
'рвать, царапать', в диалектах также дрятшть. Приводятся
соответствия в других славянских языках. В
этимологической части говорится: «Родственно лтш. druopstala
'ломтик, кусочек, крошка' ..., греч. acenavov 'серп', др.-исл.
traf 'платок на голову'...
К сожалению, не приводится источник, откуда взято
русск. драпать в значении 'царапать'. Я нашел в этом
значении только дряпать, и то не в тексте, а в словаре
у Даля. Но в современном русском языке хорошо известно
драпать в значении 'бежать, удирать'. Можно привести
602
десятки примеров из произведений советских писателей,
где употреблен этот глагол. Он стал почти литературным,
хотя не утратил своего арготического аромата. Редактор
русского «Фасмера» добавил эти значения и даже
поставил их на первое место. И это вполне законно и
оправдано. Но этимологическую часть словарной статьи
редактор оставил без изменения. В результате значение
'бежать, удирать' осталось этимологически незащищенным.
Ведь нельзя же согласиться, что лтш. drubpstala
'ломтик' или греч. ocenavov 'серп' или др.-исл. traf 'платок'
хотя бы в малейшей степени подкрепляют значение
'бежать, удирать'. Между тем имелась полная возможность
дополнить этимологическую часть соответствиями,
имеющими самое прямое отношение именно к глаголу драпать
в значении 'удирать'; это — греч. о(зал.етт]с 'удирающий',
'беглец' др.-инд. drapayati 'заставлять бежать,
обращает в бегство', в особенности же недавно распознанное
сакское dr'ah- (из *drafya-, drap-ya-) 'убегать, улетать'.
Сакское соответствие особенно ценно потому, что
саки — скифское племя, в далеком прошлом — соседи
славян, и данное соответствие вводится таким образом в
список скифо-славянских изоглосс.
Примечания:
1 Несколько примеров на осет. wayyly (w?y?li): Wayyly di di n? g
?m? syft?rt? raflydta «шиповник распустил цветы и листья» (W?rcc
?m? wayylyjy aryaw «Сказка о перепелке и шиповнике». Памятники
народного творчества южных осетин, вып. III, с. 174). Wayylyjy syndzyty
b?sty z?ldagy x0yz?n k?rd?g bax?ron — uj myn xwyzd?r n?w? «разве
не лучше для меня, если я поем вместо колючек шиповника шелковистую
траву» (там же, с. 175) Uj wyd wayylyjy didin?gaw r?suyd ?m? f?lyst
«она была красива и нарядна, как цветок шиповника» (из сборника
стихов Хазби Калоева «Xury tyn», 1956, с. 77).
Встречается это слово и в топонимах. Так, б Дигорском ущелье
близ селения Задалеск известна поляна под названием W?y?ligin, букв,
«место обильное шиповником» (Известия Северо-Осетинского Научно-
исследовательского Института, вып. 23, с. 93).
2 На это обстоятельство неоднократно указывал, между прочим,
Вл. Георгиев. Многочисленные примеры контаминации, см. J. O t rebs-
le i. Indogermanische Forschungen. Wilna, 1939.
3 Эту закономерность установила на материале иранских
заимствований в грузинском М. Андроникашвили; см. Труды Института
языкознания Акад. наук Груз. ССР, 1957, 200—201, 204.
Festschrift К.-О. Falk. Lund.
603
Из истории слов
riANTIKAIlAION
История греческих колоний северного Причерноморья
представляет одну из интереснейших страниц истории
античного мира. Происходившее здесь в течение ряда
столетий взаимодействие эллинской и иранской (скифо-сармат-
ской) культур создало тот особый и неповторимый
культурный комплекс, перед оригинальной красотой которого
в изумлении останавливается каждый, кому приходилось
с ним знакомиться, в частности, смотреть прославленные
коллекции Государственного Эрмитажа в Ленинграде .
Своеобразное переплетение эллинских и скифо-сармат-
ских элементов, столь характерное для этнического и
культурного облика северного Причерноморья античной эпохи,
наглядно выступает уже при знакомстве с топонимикой
греческих колоний. Наряду с греческими названиями, как
Феодосия, Гераклея, Неаполь и др. мелькают скифо-сар-
матские, как Танаис, Сугдея, Ардавда и др. Наличие
последних с несомненностью свидетельствует о том, что
греки основывали свои колонии не на пустующих землях, а
на местах, где уже имелись поселения местных
«варварских» племен.
В связи с этим тщательное выявление и анализ скифо-
сарматской топонимики северного Причерноморья
приобретает значительный не только лингвистический, но
исторический интерес, так как позволяет сделать выводы как
о территории скифо-сарматских поселений, так, иногда, и
о некоторых моментах культурно-исторического порядка.
К числу важных топонимических названий, которые
до последнего времени считались неразъясненными,
относится название знаменитой столицы Боспорского царства,
Пантикапей (flavuxanaiov). Этот город, известный
сейчас под названием Керчь, был основан в первой
половине VI в. до н. э. греческими колонистами, выходцами
из ионийского города Милета2. Таким образом, город
насчитывает не менее 2500 лет непрерывного существо-
604
вания и относится к числу древнейших городов, какие
существуют на территории Советского Союза.
Поскольку название nctvxixcmaiov не может быть
объяснено из греческого, представлялось вероятным, что
оно — скифское, и что город основан на территории, где
до прихода греков жило скифское население. В пользу
этого говорит и сообщаемая Стефаном Византийским
легенда, согласно которой земля, на которой был основан
город, была предоставлена грекам скифским царем Агаэ-
том 3.
Мы уже пытались показать, что название столицы
Боспорского царства действительно может быть объяснено
из скифского4. Здесь мы несколько подробнее
остановимся на разборе этого названия.
Прежде всего следует отметить, что navuxanaiov, не
будучи греческим названием по своей основе, имеет однако
греческое оформление -tov. Формант -iov образует имена
среднего рода обычно со значением места: axaoiov,
yv\ivaowv, MouoeTov, 'Adf|vaiov и др.
Подобно тому, как 'AOf)vaiov предполагает с
необходимостью существование имени 'Aui^va, так navtixcwmiov
предполагает существование *llavTLxana (resp. Поуихшгп).
Такое название действительно засвидетельствовано на
территории древней Скифии, правда, довольно далеко от
Пантикапея. Это — река Пси>т1х<шт]с по соседству с Бо-
рисфеном (Днепром), о которой сообщают Геродот IV 47
и Скимн 850. Под этим названием скрывается, как думают,
нынешний Ингулец, впадающий в Днепр у самого его
устья 5.
Разумеется, нечего и думать, чтобы город на берегу
Керченского пролива получил свое название от реки,
расположенной от него в сотнях километров. Следует
предполагать, что название Pantikapa могло повторяться, в
применении к рекам или водным потокам, на всей
территории Скифии, совершенно так же, как, скажем,
названия Qara-su, Aq-su «Черная река», «Белая река» мы
встречаем в самых различных местах, где живут тюркоязычные
народы.
Поэтому М. Фасмер с полным основанием
предполагает, что название Pantikapa применялось в скифском
также к Керченскому проливу, и отсюда-то, с греческим
формантом -iov образовано navxix?rcaiov 6.
Что же однако означало в скифском название
Pantikapa (HavTixanr)s), если считать, что это название дейст-
605
вительно было скифским и что оно подходило и к реке, и к
проливу?
Еще W. Tomaschek высказал догадку, что в первой
части интересующего нас названия скрывается иранское
panti- «путь» 7.
Это слово, являющееся общеиндоевропейским,
выявляет в арийских языках в разных падежах разные виды
основы: panthas, pa(n)th-, panthun-, pathi-. Древнеперсид-
ское раЫ может, в силу особенностей древнеперсидской
графики, скрывать как раЫ-, так и рапЫ-.
Форма panti-, которая распознается в скиф. Panti-kapa,
вполне, стало быть, реальна. Показательно, что, и как
основа на -i, и по наличию п, она непосредственно
примыкает к славянскому *ponti- (ст.-слав. рой, русск. путь).
Будучи из всех иранских наречий всего ближе к
славянскому миру, скифский язык должен был иметь всего
больше схождений со славянским. И как ни мало мы знаем
скифский язык, можно говорить о некоторых
специфических скифо-славянских встречах в языке. Так, слово
гость, отсутствующее в других иранских языках
распознается в скифском собственном имени (Гаоте1с, Гаотцс) 8.
Итак, в первой части названия Pantikapa мы имеем
все основания усмотреть скифское panti «путь», «дорога».
Остается разъяснить вторую часть кара. Эта задача
также не представляет в настоящее время особой
трудности. После того, как стали известны памятники двух
важных восточноиранских языков, согдийского и сакского
(хотанского), можно считать установленным, что кара- во
всем восточноиранском мире означало «рыба». В
единственном уцелевшем языке скифо-сарматской группы,
осетинском, крупная рыба зовется k?f, что также
восходит к кара-. Стало быть, мы имеем ряд: осет. k?f, сак.
kava, согд. кар-, афг. каЬ, мунджан. кар. В этом ряду
находит свое место и скифское кара- «рыба».
Что кара- было общим восточноиранским словом для
«рыбы», этому противоречит как будто показание Авесты,
где рыба зовется masya- (др.-инд. matsya-), т. е. носит
название, характерное для западного Ирана; ср. перс, mahi,
пехл. mahik (из * тай у aka *masyaka-).B настоящее
время большинство специалистов считают, что древнейшие
части Авесты возникли в восточном Иране. В то же время
бесспорно, что Авеста — памятник пестрый и разнослой-
ный,и что в позднейшее время в него проникали также
западноиранские элементы. Нам кажется, что как раз
606
название рыбы хорошо иллюстрирует этот сложный
процесс формирования Авесты.
Masya- засвидетельствовано в Авесте в двух местах:
Yast 14.29 и Videvdat 19.42 и оба раза в сочетании кага
masyo. Пехлевийские переводчики и комментаторы, а за
ними и европейские специалисты истолковали это
сочетание в том смысле, что masya- представляет здесь общее
наименование рыбы, а кага название какой-то
определенной рыбы, так что каго masyo — сочетание такого же
типа, как русское щука-рыба и т. п.
Но тут возникают сомнения.
Во-первых, в других аналогичных сочетаниях мы
находим в Авесте обратный порядок: родовое впереди
видового, как русское рыба-кит, напр. тэгэуа-kahrkasa-
«птица-коршун», mdrdyi-saena- «птица сэн (орел?)»,
azi-dahaka- «змей-Дахак» и т. п. Иногда с «изафетной»
связкой: daevo уЪ apaoso «дэв-Апаош».
Во-вторых, мы тщетно стали бы искать где-либо в
иранских или индийских языках названия рыбы типа
кага-. Это слово, если оно существовало, оказывается
совершенно изолированным, не имеющим ниоткуда
никакой этимологической поддержки.
Является мысль, что кага это ghost-word, «слово-
приведение», что оно представляет просто ошибочное
написание вместо кара-. Эта ошибка могла возникнуть в
условиях, когда переписчику слово кара- «рыба» было
незнакомо.
Если так, то сочетание каро masyo надо
рассматривать как синонимическую пару, где обе части означают
одно и то же, «рыба-рыба», но на разных иранских
диалектах.
Подобные синонимические пары имеют широкое
распространение в литературных памятниках и фольклоре
многих народов 9. Их назначение может быть различное:
стилистическое, экспрессивное и пр. Особый тип
представляют случаи, когда один из синонимов представляет
иностранное или инодиалектное слово, а другой — свое,
оригинальное. В этом случае оригинальное, общепонятное
слово служит как бы переводом или пояснением к менее
знакомому иноязычному. Интересные факты этого рода
приводит из грузинских памятников Ш. Дзидзигури
в статье «Понятие синонимического параллелизма» (на
груз, языке) 10.
nisati-sixaruli «радость»,
607
zenaari-pici «договор»,
rema-$ogi «стадо»,
vazi-venaxi «виноградная лоза»,
alal-martali «справедливый»,
sra-sasaxle «дворец» и др.
В первой части приведенных пар мы имеем
соответственно перс, nisat, перс, zenahar, перс, гета, арм. vaz,
араб, halal, перс. sera. Во второй — их
общеупотребительные грузинские эквиваленты.
«Одним из существенных случаев создания
синонимов,— сообщает далее Ш. Дзидзигури,— надо считать
встречу разных диалектальных лексических типов на
одной почве; в таком случае одно слово объясняет другое,
являющееся чуждым и непонятным для данного
языкового участка ' . В качестве иллюстраций автор приводит
такие пары, как
sve-bedi «судьба»,
nacar-tuta «щёлок»,
где обе части значат одно и то же, но идут из разных
грузинских диалектов.
Авестийская пара каро masyo представляется нам
именно такой встречей двух разных диалектальных
лексических типов: восточноиранского (кара-) и западноиран-
ского (masya-): переписчик или редактор,
принадлежавший к западноиранской среде, счел нужным подкрепить
родным для него masya- мало знакомое восточное кара-.
Если так, то в синонимической паре kapa-masya- как
бы заключена в миниатюре вся история формирования
Авесты: восточноиранский по
происхождению памятник редактировался и
дополнялся в западноиранской среде. Кара-
идет от восточноиранского первоисточника, masya от
западноиранской редактуры.
Возвращаясь к восточноиранскому названию «рыбы»,
мы можем, стало быть, с большой долей уверенности к
приведенному выше ряду восточноиранских форм
прибавить авестийское кара-.
Итак, интересующее нас скифское Pantikapa состоит
из двух частей: panti- «дорога» и кара- «рыба». Остается
выяснить, что могло означать в целом сложное слово
panti-kapa-. Чтобы ответить на этот вопрос, надо учесть
одну особенность скифского словосложения: в скифском
были очень распространены сложные слова с и н в е р-
с и е й, т. е. такие сложные слова, где определяющая часть
608
стояла не впереди определяемой, как обычно, а позади.
Чтобы уяснить разницу между нормальным и
инверсированным порядком, достаточно сравнить два греческих
сложных слова: ьллооро^ос и шлол;ота|10с. В первом из
них определяющая часть (ьллос «конь») стоит впереди
определяемой (oqojxoc «ристалище»). Но если бы мы, по
аналогии с 1ллооро(юс «конское ристалище», перевели
шлолотацос как «конская река», мы допустили бы
ошибку: уплолота\10с, означает в действительности «речной
конь»; определяющая часть (поганое, «река») стоит позади
определяемой (ишос «конь»).
Скифское panti-kapa- построено по типу греческого
1ллолотац,ос и означает, стало быть, не «дорожная рыба»,
а «рыбная дорога», «дорога рыб».
Сложения этого типа, как мы выше отметили, весьма
характерны для скифского 12. По этому типу построены,
в частности, названия южнорусских рек Днепр (Dan-apr-),
Днестр (Dan-astr-). В них определяющая часть (apr, astr)
стоит позади определяемой dan «река».
Показательны в этом отношении также данные
осетинского языка. В современном осетинском языке
господствует в сложных словах нормальный порядок:
определяющая часть впереди определяемой; например, w?rdon-
v?ndag «арбовая дорога» (из w?rdon «арба» и f?ndag
«дорога»). Но некоторые старые словосложения не
оставляют сомнения, что в прошлом инверсия в сложных
словах была обычным явлением в осетинском. Вот несколько
примеров:
don-guron «мельничная река», из don «река» и кигоп
«мельница» (вместо «нормального» kuron-don);
j?w-g?f «икра», буквально «рыбье (k?f) просо (j?w)»
(вместо «нормального k?f-j?w);
c?fxad «подкова», из c?g-fad, букв, «кольцо (c?g)
ноги (fad)» (вместо «нормального» fad-c?g, ср. qus-c?g
«серьга», букв, «кольцо уха»);
x?f-fyndz «сопля», букв, «гной (x?f) носа (fyndz)
(вместо «нормального» fyndz-x?f).
По этому типу построено и скифское panti-kapa-
«дорога рыб».
К Керченскому проливу такое название подходило как
нельзя лучше. Огромные рыбные богатства этого района
пользовались славой от глубокой древности (см. например.
Strab. VII, 311, XI 493). Биологический режим
большинства промысловых пород рыбы характеризуется периоди-
609
ческим передвижением огромных масс рыбы из Черного
моря в Азовское и обратно. Это передвижение
происходит естественно через Керченский пролив, через «дорогу
рыб». «С наступлением весны по этому природному каналу
мигрирует рыба из Черного моря в Азовское, а осенью —
в обратном направлении. И обычно с обеих сторон Туз-
линской косы проходят огромные промысловые косяки
сельди, хамсы, кефали, скумбрии, ставриды и других
рыбных пород.» (Литер, газета, 1952, № 92.) Прибрежные
скифские племена, наблюдавшие эти периодические
миграции рыбных масс через пролив и сами занимавшиеся
рыболовством, и дали, очевидно, Керченскому проливу
название paniikapa «рыбный путь». Вместе с тем становится
ясным, почему такое название могло повторяться в разных
местах, в частности, в бассейне Днепра (река JlavTixdrtTjc,
см. выше): всякая река или водный проток, где наблюдался
массовый ход рыбы, могла называться Pantikapa «дорога
рыб».
Что индоевропейское *pont- «путь» могло применяться
не только к сухопутным, но и водным путям, об этом
всего красноречивее говорит греческое ttovroc, которое
означало «море» как «путь».
Расположенный на берегу «Рыбного пролива» Панти-
капей вместе с примыкающими к нему приморскими
поселениями стал одним из крупнейших в древнем мире
центров рыбного промысла. Большие количества рыбы
вывозились отсюда в Грецию, а позднее — в Италию и
другие провинции Римской империи. Наряду с зерном
рыба была важнейшей статьей экспорта Боспорского
царства . О размахе рыбного промысла в этих местах
говорит множество рыбозасолочных занн, обнаруженных
раскопками последних десятилетий.
На «варваров», скифов и сарматов, масштабы рыбного
промысла в Боспорском царстве должны были
производить определенное впечатление, гч.освенное указание на
это мы находим, кажется, в осетинском народном эпосе
о героях-Нартах, древнейшими своими частями
восходящем к скифо-сарматской эпохе. В ряде нартовских
сказаний упоминается сильный правитель, с которым Нарты
находятся то в союзнических, то во враждебных
отношениях. Этот правитель зовется
K?fty s?r Xuj?ndon ?ldar
«Глава рыб, владетель Пролива»
Такое наименование могло относиться к владетелю
610
Керченского пролива Боспорскому царю, которого
варвары, пораженные размахом рыбного промысла, могли
называть «рыбным царем», «главой рыб». Характерно, что
когда герой сказаний Урузмаг попадает во владение
«Главы рыб», первое, кого он встречает, это рыбаки. Оно и
понятно, так как для добычи рыбы в таких размерах
требовалась, несомненно, целая армия рыбаков.
Скифское название рыбы кара- отложилось не только
в названии Пантикапея, но также в названии второго
крупнейшего города Боспорского царства, Феодосии. Для
этого города, помимо греческого названия беооооча,
засвидетельствовано аланское 'Aguafiba, что значит
«(город) семи богов»и, и, в более позднее время, Kacpac
(Константин Багрянородный), Caffa (y итальянских
авторов) . М. Фасмер видел в этом названии древнеиранское
kaofa- «гора» 1а. Принимая во внимание, что Феодосия
также была с давних пор крупным центром рыбного
промысла, представляется более вероятным, что в названии
*a(pcic скрывается аланское *kafa, oc. k?f, восточноиран-
ское кара- «рыба».
Феодосия удержала до наших дней название, данное
ей греческими колонистами в античную эпоху.
Что касается столицы Боспорского царства, то его
скифо-греческое название IlavTixcuiaiov впоследствии
уступило место русскому Корчев 16. Эта смена названий
означала не только появление в Приазовье и
Причерноморье нового, славянского элемента, она с новой стороны
характеризовала самый город. Дело в том, что название
Корчев — производное от древне-русского корчий, кърчий
«кузнец» и в переводе на современный русский язык
означает «Кузнецк». Очевидно, к этому времени знаменитый
город приобрел новую славу — не только как
рыбопромышленный, но уже как металлургический центр. Эту
славу он, как известно, удерживает по сей день.
Древне-русское кърчий восходит к *kurtyo- и состоит
в исконном родстве с осетинским kurd «кузнец» (от основы
*kur- «жечь»).
Не следует, конечно, думать, что в античную эпоху
Пантикапей был чужд металлургии.Напротив, известно,
что он был уже тогда крупнейшим ремесленным центром,
где работали великолепные мастера, изготовлявшие
уникальные по своему совершенству и художественной
ценности изделия из благородных металлов. Но богатые
залежи керченской железной руды тогда еще мало или вовсе
611
не разрабатывались. Название Корчев отражает, очевидно,
ту новую фазу в истории города, когда на собственной
местной железнорудной базе получило широкое развитие
железокузнечное дело.
Рыбный город стал городом Кузнецов.
Примечания:
I „Die Funde aus den Schachtgraben des „goldreichen" Mikena, im
Nationalmuseum in Athen, verblassen gegen die Schatze des Saales von
Nikopol und Kertsch in der Petersburger Eremitage. Und doch bergen
sie nur einen kleinen Teil dessen, was in Russiand in offentiiche oder private
«Sammlungen gelangt ist» (Max E b e r t. Siidrussland in Altertum, 1921,
c. 112).
S t r a b V, 8, 10. Попытку уточнить дату основания Пантикапея,
опираясь на данные внутренней истории города Милета, сделал С. А. Ж е-
белев в статье «Возникновение Боспорского царства» (Известия
Академии Наук, Отд. гуманит. наук, № 10, с. 806). С. А. Жебелев относит
основание Пантикапея к 40-ым годам VI в. до н. э.
3 Латышев В. В. Scythica et Caucasica I 264. Ср. С. А. Ж е б е л е в.
Цитир. соч., с. 803.
4 А бае в В. И. Осетинский язык и фольклор, 1949, I 170, 175, 237.
5 Б р у н. Черноморье II, 15, 44.
6 Vasmer M. Die Iranier in Siidrussland, 1923, c. 73.
7 Pauly-Wissowa. Realencyklopadie der klassischen Altertumswis-
senschaft, III, 737.
8 А б а е в В. И. Цит. соч., I 166.
9 Некоторые библиографические ссылки можно найти в нашей статье
«Параллелизмы в осетинской речи» (Труды Института языкознания Ак.
Наук СССР, т. VI).
10 Сообщения Академии Наук Грузинской СССР, 11, 7, 1941,
с. 689—696.
II Дзидзигури Ш. Цит. соч., с. 696.
12 См. В. И. А б а е в. Осет. язык и фольклор, I, с. 231—237.
13 S t г а Ь. VII 4, 6. Ср. В. Ф. Гайдукевич. Боспорское царство,
1949, с. 83, 352—356, 366; Д. П. К а л л и с т о в. Очерки по истории
Северного Причерноморья античной эпохи, 1949, с. 70.
14 А б а е в В. И. Осет. язык и фольклор, I, с. 231, 234.
15 Vasmer M. Die Iranier in Siidrussland, c. 72.
I(i Упоминается в надписи на знаменитом Тмутороканском камне:
«В льто 6576 A068—В. А.) индикта 6 Гльб князь мьрил море по льду
от Тмуторокани до Кърчева — 8054 сажен» (см. Повесть временных лет.
Изд. 1950, И, 394).
Studia in honorent Acad. D. Decev. София, 1958.
612
QAZAR
В своем фундаментальном труде по истории гуннов
профессор Altheim уделяет много внимания хазарам. Он
называет хазар, наряду с аварами и прото-булгарами, в
числе тех этнических образований, которые были
преемниками гуннов в восточной Европе 2. Мы хотели бы здесь
отметить, что ни одно из-- этих племен не оставило такого
яркого следа в памяти народов Кавказа, как хазары.
Народ по всей видимости тюркского происхождения,
они в 7—10 вв. н. э. достигли значительного могущества
и в отдельные периоды распространяли свою власть от
Волги до Карпат на западе и до границ Персии на юге.
Они были в это время хорошо известны народам Кавказа
и играли большую роль в их судьбах. В грузинской хронике
«Картлис цховреба» хазары упоминаются десятки раз.
Хорошо известны они византийским, армянским, арабским
и персидским историкам, а также русским летописцам.
В 965 году киевский князь Святослав разгромил
хазарское царство. С этого времени хазары утратили свою
доминирующую роль на юге России и на Северном Кавказе, а
вскоре и совсем сошли с исторической сцены.
Но их название не исчезло. Оно сохранилось в алан-
ском (осетинском) и адыгском.
Осетинское qazajrag употребляется в значении 'раб',
'невольник', 'холоп', 'крепостной', 'servus'. Вот несколько
примеров.
В дигорском диалекте.
Kud x?ssuj kudzi qazajrag
Korunm? n? kizgi nifs!
«Как осмеливается презренный (букв, «собачий»)
холоп свататься к нашей дочери!»
(Гурджибети Блашка. ?дули; см. Уаджимисти ?мбурд-
гонд, 1966, с. 142).
613
В иронском диалекте.
Wydon?n s? myggag racyd Xorcevty qazajrag Otar?j.
«Их род произошел от крепостного Хорцевовых Отара».
(Ирон ад?мон аргъ?утт?, III том, Цхинвал, 1962,
с. 303).
В осетинской учебной и научной литературе по истории
слово qazajrag принято и утвердилось в качесте термина
«крепостной», как в адъективном, так и субстантивном
употреблении: qazajrag bar 'крепостное право'; qazajr?gt?
rastadysty «крепостные восстали» 3.
Форма qazajrag образована от *qazar 'хазары', как,
скажем, t?t?jrag 'татарин' от t?t?r 'татары'.
Другое осетинское слово, в котором распознается
этноним хазар, это — qazar 'дорогой', 'carus', 'pretiosus'.
Слово qazar 'дорогой' Вс. Миллер в своем словаре дает
для обоих осетинских диалектов, иронского и дигорского
(том I, с. 421). Но в иронском оно весьма редкое. Здесь
в значении «дорогой» господствует zynary. Зато в дигор-
ском qazar очень обычно, как можно видеть из следующих
примеров.
Qazar ary?j xwarz dar?s.
Ficcag d?r balx?n?d n? xecaw.
«Пусть наш хозяин первым делом купит хорошее
платье по дорогой цене».
(Гурджибети Блашка, с. 146).
Xw?zd?r ?ma qazard?r topp.
«Лучшее и самое дорогое ружье».
(Мах дуг, 1940, № 3, с. 63).
Saw qazar ?sk?llad?j ?rt? coqa xori.
«Черного дорогого сукна на три черкески».
(Из рукописей Г. Кокиева).
N? f?stag kos?g d?r qazard?r ?j.
«Даже последний наш работник (стоит) дороже»
(там же).
D? bon xwarz, n? qazar iwaz?g.
«Добрый день, наш дорогой гость» (там же).
? s?ri ary in qazar kodtonc?:
Saw Noyaji ?ldari b?xt?i s?d? b?xi
«Ее (девушки) голову дорого оценили: сто коней из
коней Караногайского князя...»
(Из дигорской песни).
N? qazar b?st?.
«Наша дорогая страна».
(Тетцойти Т. М? з?рдт?гт?, 1956, с. 31).
614
Встает вопрос, как и почему этническое название хазар
получило в осетинском эти два значения: 'крепостной' и
'дорогой', 'servus' и 'pretiosus'?
В отношении qazajrag 'крепостной', 'холоп' ответить
на этот вопрос не трудно. Известно, что этнические
термины в определенных исторических ситуациях могут
получать у других народов значение терминов, социальных,
употребляться как названия сословий, классов,
социальных групп, профессий и т. п. Так, название «алан» в
чеченском и ингушском распознается в ala 'князь' 4.
Славяне, попадавшие в плен к грекам, римлянам,
германцам, нередко обращались в рабство. Отсюда слово
«славянин» получило в западных языках значение «раб»:
греч. (визант.) cxAa?og, позднелатин. sclavus, франц.
esclave, англ. slave, норвежское slave, нем. Sklave и пр.5.
В самом осетинском в далеком прошлом в значении
«раб» употреблялся этнический термин gurdziag 'грузин' 6.
Как и в случае со славянами, такое развитие
значения имело место на почве межплеменных войн, когда
пленные обращались в рабство. Практиковались также набеги,
специально рассчитанные на угон людей и продажу их в
рабство.
На почве подобной практики название хазар, qazajrag,
и получило у алан значение 'холоп'.
Может показаться неправдоподобным, что название
могущественного народа, который сам совершал
опустошительные набеги на соседей, стало у алан синонимом 'раба'.
Но тут надо принять во внимание следующее.
Во-первых, qazajrag могло означать не только 'хазар',
но и 'происходящий из Хазарии', или 'купленный в
Хазарин'. В этом случае значение 'раб' вполне оправдано,
так как известно, что в столице Хазарии был большой
невольничий рынок 7.
Во-вторых, этноним qazajrag мог получить у алан
значение 'холоп' уже после ослабления хазар в результате
поражения, нанесенного им Святославом, когда хазары
легко становились добычей более сильных соседей.
Труднее объяснить развитие значения «хазар»-»-«до-
рогой», «pretiosus» (ос. qazar). Здесь приходят на помощь
адыгские языки.
В Кабардинско-русском словаре под ред. Б. М. Кар-
данова (Нальчик, 1957, с. 178) кабардинское qazar
переводится 'скупой', 'скупец'. В Русско-кабардинско-черкес-
ском словаре под ред. О. А. Шогенцукова (Нальчик, 1955,
615
с. 847) словом qazar переводится также русское 'торгаш'.
По пояснению А. К. Шагирова,имеется в виду жадный,
дорого запрашивающий торгаш, саге venditor. Это значение
не чуждо было в прошлом и осетинскому. Оно
зафиксировано в словаре Миллера I 421: qazar «продавец по
высокой цене». Отсюда на адыгской почве развилось
значение 'скупой', 'avarus', на осетинской — 'дорогой', 'carus,
pretiosus'.
Итак, если имя хазар в одном случае получило
значение «холоп», то в другом оно стало синонимом «торгаша».
Для последнего значения были тоже, разумеется, свои
исторические основания. Если люди постоянно встречают
в качестве торговцев представителей определенного
народа, название этого народа легко может стать синонимом
торговца. В некоторых уголках Осетии в этом значении
употреблялось слово somixag 'армянин'. В Академическом
словаре русского языка 1895 г. под словом венгерец
читаем: «...Во внутренних губерниях России венгерцами
называют странствующих торговцев, большей частью
словаков и угроруссов по происхождению». Нетрудно
догадаться, каким образом .имя «хазар» также получило
значение 'торгаш'. Средневековые авторы, посещавшие Ха-
зарию, единодушно отмечают, что хазары не имели особой
склонности к производительному труду. Ни сельское
хозяйство, ни ремесла не достигли у них сколько.-нибудь
высокого развития. Но, занимая выгодные позиции на
торговых путях, они старались извлечь максимальные
барыши из транзитной торговли8. Получая товары из
Руси и Булгарии, перевозили их по Каспийскому морю
и по суше на Кавказ, в Закавказье и Иран. Из Греции,
Ирана и Закавказья шли к ним дорогие товары, которые
перепродавались на Сев. Кавказ и на Русь. Видимо, предкам
современных адыгов приходилось часто иметь дело с
хазарскими торговцами и убеждаться в их алчности и
скупости. В результате имя qazar 'хазар' стало у адыгов
синонимом 'скупца', 'торгаша'. От адыгов слово перешло
в этом значении к осетинам.
Несколько слов об этимологии этнонима хазар.
Принадлежность хазарского языка (или хазарских
языков) к тюркской группе вряд ли может оспариваться 9.
Поэтому разъяснения термина qazar можно ждать прежде
всего на материале тюркских языков.
Сохранившаяся в адыгском и осетинском форма
qazar является первоначальной, форма xazar (khazar) —
616
вторичной 10. Именно форма qazar фигурирует в известном
Кембриджском документе, написанном на еврейском
языке ". Этимологически qazar нельзя отделять от
современного тюркского этнонима qazax и русского казак.
Тюркскому qazaq даются значения 'человек вольный,
независимый', 'искатель приключений', 'бродяга' 12. Qazaq и qazar
заключают один и тот же корень qaz- со значением
'бродить', 'кочевать'; qazar образовано от qaz-maq, как jazar
от jaz-maq и т. п.13.
Примечания:
1 Altheim Franz. Geschichte der Hunnen, I A959), II A960),
III A961), IV A962), V A962). Berlin.
2 Указ. соч, т. V, с. 243.
л См. например, SSR C?disy istorijy cybyr kurs. Stalinir 1938, c. 89:
ucy r?st?dzy rastadysty qazajrag z?xkusdzyt? «в то время восстали
крепостные крестьяне», и passim.
4 Г е н к о А. Н. Из культурного прошлого ингушей. Записки
Коллегии востоковедов V 721.
5 Falk-Torp. Norwegisch-Danisches etymologisches Worterbuch II 1059.
6 M и л л е р В с. Осетинско-русско-немецкий словарь I 408.
7 D и п 1 о р D. М. The History of the Jewish Khazars. Princeton,
1954, c. 227 и прим. 37, со ссылкой на Istakhri, ibn-Fadlan и Abu-al-Fida.
8 «The material resources of Khazaria were limited... Khazar
manufacturing was at a low level of development... The prosperity of Khazaria
evidently depended less on the resources of the country than on its favorable
position across important trade-routes... Their activity as merchants seems
none the less to have been considerable... The private wealth of the country,
derived principally from commercial enterprises..., was no doubt considerable»
(D. M. Dunlop, pp. 224, 228, 231, 232, 233).'
9 См. Н.А.Баскаков. Тюркские языки. Москва, 1960, с. ПО—
112.— J. Benzing. Einfiihrung in das Studium der altaischen Philologie
und Tui'kologie, p. 77 sq.
10 Ср. древнерусское козары (Повесть временных лет), венг. Kozar,
Kazar (в топонимике).
" Dunlop D. M., pp. 4, 163.
12 W. R a d 1 о f f. Versuch eines Worterbuches der Turk-Dialekte. St.
Petersbourg, 1899, II 364.
13 Combocz Z. Die bulgarisch-tiirkischen Lehnworter in der unga-
rischen Sprache. Helsinki, 1912, с 198—199 (со ссылкой на Vembery.
Cagataische Studien).
Festschrift F. Altheim IL Berlin, 1970.
TARXAN
Социальный термин tarxan свидетельствуется на
обширной территории восточной Европы, Кавказа, Передней
и Средней Азии до Монголии. Как апеллатив он означает
обычно «лицо, пользующееся определенными
привилегиями, освобожденное от податей и повинностей»: тюрк.
tarxan ', перс, tarxan2, курд, tarxan, афг. tarxan, арм.
tarxan, груз, tarxani, монг. darxan, русск. тархан, венг.
tarchan 'olim judex' (Munkaczi. Ar ja es kaukazusi
elemek a finn-magyar nyelvekben. Budapest, 1901, p. 12) и др.
Отложилось в топонимии: AsHarxan (Астрахань)
«резиденция асского (аланского) начальника»3, Taman-tar-
хап или Tuman-tarxah = русск. Тьмутаракань; русск.
Тарханы название села в Пензенской губернии, где
прошло детство М. Ю. Лермонтова.
Свидетельствуется в личных и фамильных именах: согд.
*Tarxon или *Tarxun (trywn) имя правителя Самарканда
в документах с горы Муг (VII—VIII в. н. э.); хазар.
Tarxan имя (или титул) некоторых хазарских правителей:
ср. груз. Tarqan-xazari, имя хазарского вождя (Kartlis
sxovreba, изд. 1942 г., Тбилиси, с. 99); груз. Тагхап-Моига-
V/, Tarxanisvili, русск. Тарханов 7.
О термине tarxan существует обширная литература.
Тем не менее происхождение его остается неясным.
Обычно относят его к исконно тюркскому фонду, причем второй
слог, (х а п) отождествляют с тюркским титулом х а п;
см. например, R a s a n e n, loc. cit. Высказывались также
догадки о заимствовании из китайского или корейского.
Ничего вполне убедительного. Doerfer, который в своем
упомянутом выше труде посвящает термину tarxan без
малого 15 страниц, относится скептически ко всем
предложенным разъяснениям. Сам он склоняется к мысли, что
в тюркских языках слово не оригинальное, а
заимствованное, но затрудняется установить, откуда именно. Шапшал
приходит к выводу: «Термин тархан весьма древнего,
но невыясненного происхождения» (цит. соч. 316).
Никто, насколько мне известно, не привлекал до сих
пор в связи с термином tarxan осетинское слово t?rxon
«суд». Между тем осетинские факты открывают, как
кажется, новые перспективы в разъяснении термина tarxan.
Осет. t?rxon «суд» возводится закономерно к
арийскому (индо-иранскому) *tarkana-; ср. др.-инд. tarkana-
618
«суждение, предположение, догадка» от глагола tark-,
tarkayati- «иметь суждение, делать предположение,
размышлять, думать, делать заключение», vi-tark-
«размышлять, выяснять», pari-tark- «допрашивать на суде», сак.
ttarkana-, согд. *tarxan в py'trx'n (В a i 1 е у, JRAS 1939,
р. 91). Арийское tark- этимологически идентично со слав.
*tulk-; ср. ст.-слав. tluku «толкователь, переводчик», русск.
толк, толковать, русск. (устар.) толковник «переводчик».
Далее сюда же фрак. *talk (*thalk) в личн. именах Roeme-
talces, Si-talces 8, хетт, tark-, «to interpret» (?) .
В современном осетинском языке t?rxon (из *tarkana-)
означает имя действия: «суд». Но арийские отглагольные
образования на -апа- означали также имя действующего
лица (Nomina agentis) l0. Ср. в осетинском w?ndon
«смелый» от w?ndyn «сметь», f?razon «выносливый» от f?ra-
zyn «выносить» и др. Вряд ли можно поэтому сомневаться,
что осет. t?rxon означало в прошлом не только «суд», но
и «судья». Это именно значение отложилось в
старовенгерском tarchan «судья». Стало быть венгерское слово
надо относить не к тюркским, а к аланским элементам
в венгерском, наряду с другими аланскими
заимствованиями в этом языке .
Столь же древним, как значение «судья», является, по
свидетельству 'славянских языков, значение «переводчик».
Связующим семантическим звеном между этими двумя
значениями служит значение «толкователь, interpres»:
толкователь обычного права или закона — «судья»,
толкователь' чужой речи или текста — «переводчик». Как особо
ценные люди, эти «интеллектуалы» получали от
правителей разные привилегии, в частности, освобождались от
налогов и повинностей. В результате северноиранское
(«скифское») *iarxan «судья», «переводчик» продвинулось
в своей семантике в сторону более общего значения
«привилегированное, знатное лицо» и в этом значении могло
употребляться как титул или сан, входить в состав личных
и фамильных имен и т. д. В этом обобщенном значении оно
и вошло затем в тюркские и другие языки. Возможность
обратного движения слова — из тюркского в
осетинский — придется, вопреки Штакельбергу 12, исключить.
Во-первых, осетинское t?rxon имеет, как мы выше
убедились, безупречную индоевропейскую этимологию.
Во-вторых, значение «суд», основное в современном осетинском
языке, никак нельзя вывести из значения «человек,
свободный от налогов».
619
В заключение следует отметить, что экспансия
термина tarxan не ограничивается, по-видимому, очерченными
выше пределами. Если на Востоке он доходит до
Монголии, то на Западе его отзвук возникает неожиданно...
в Италии.
Почти 60 лет назад Thomas и Beveridge в журнале
Лондонского Королевского Азиатского общества
сопоставили термин tarxan с именем этрусского царя Таг-
chon, лат. Tarquinius 13. Doerfer'y это сопоставление
кажется настолько абсурдным, что он даже не удостаивает
его опровержения («...eine These, die der Widerlegung nicht
bedarf») . Действительно, если термин tarxan считать
тюркским или монгольским, то появление его в Италии
в VII в. до нашей эры в качестве этрусского личного имени
выпадает из рамок всякой исторической вероятности.
Другое дело, если слово возникло и бытовало в
североиранском ареале в скифскую эпоху. И памятники материальной
культуры, и языковые данные дают убедительные
свидетельства, что скифский мир, который на Востоке входил
в контакт с алтайскими народами, а на Западе с
европейскими, был во многих случаях связующей средой между
Востоком и Западом. В другом месте я пытался показать
это на названии хмеля . Если учесть, что использование
занимающей нас лексемы в личных именах имеет давнюю
традицию (фракийский, согдийский, хазарский), если
вспомнить о древних связях скифов с «италиками» 16, то
соответствие осет. t?rxon — этрусско-лат. Tarchon
оказывается в том же ряду, что осет. W?rgon — лат. Volcanus
или легенда о рождении от волка (resp. вскормленных
волчицей) близнецах, которую мы находим у осетин и у
римлян.
Примечания:
1 Свидетельствуется с VII века: Радлов В. В. Опыт словаря
тюркских наречий. Пбг. 1905, т. III, с. 854; Шапшал В. К вопросу о
тарханных ярлыках. «Академику Гордлевскому». М., 1953, с. 302—316; M i-
п о г sky V.A history of Sharvan and Darband. Cambridge, pp. 55, 99, 147;
Rasanen T. Versuch eines etymologischen Worterbuchs der Turksprac-
hen. Helsinki, 1969, p. 464; Doerfer G. Turkische und mongolische
Elemente im Neupersischen. Wiesbaden, 1965, II, 460—474.
2 Персидское слово в некоторых словарях дается с пометой
«арабское», что лишено всякого основания.
620
3 Артамонов M. H. История хазар. Л., 1962, с. 357: «Тархан
ясов занимал видное положение в Хазарском государстве».
4 Радл о в В. В. т. III, 851, 996.
5 Vernadsky G. The Eurasian Nomads... Spoleto, 1963, p. 9.
6 Vasmer M. Russisches etymologisches Worterbuch. Heidelberg,
1958, p. 111.
7 Возможно, что и русская княжеская фамилия Тараканов
происходит не от таракана, а представляет адаптацию фамилии
Тарханов.
8 Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957, pp. 400,
450, 488; Георгиев В. Тракийският език. София, 1957, с. 63; Rus-
su G. Die Sprache der Thrako-Daker. Bukuresti, 1969, p. 142.
9 Language, 1933, March, p. 17.
10 Wackernagel T.-D ebrunner A. Altindische Grammatik.
Gottingen, 1954, Band II2, pp. 180—185.
" Munkacsi T. Alanische Sprachdenkmaler im ungarischen Wort-
schatze. «Keleti Szemle». Budapest, 1900, № 5, pp. 304—329; В. S k o 1 d.
Die ossetischen Lehnworter im Ungarischen. Lund, 1925.
12 Miller W. und R. von Stackelberg. Funf ossetische Erzahlun-
gen. St.-Petersbourg, 1891,p. 67.
13 Thomas F. W. Tarkhan and Tarquinius. JRAS, 1918, 122 sqq.;
H. Beveridge. Tarkhan and Tarquinius. JRAS,1918, pp. 314—316.
Форму Tarchon находим в Энеиде Виргилия. В других источниках находим
варианты Tarcho, Тагсоп, Tarquinius. См. Э н м а н. Легенда о римских
царях. Журн. Мин. Нар. Проев., 1896, март, с. 70, 97 и особенно 98.
14 Doerfer G. op. cit. 469.
15 Melanges linguistiques offerts a Emile Benveniste. Paris, 1975,
pp. 1—3.
16 Абаев В. И. Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и
Запада. М., 1965, с. 27—29, 86—97, 129—131.
Лингвистический сборник АН Грузинской ССР, 1979.
ОПЫТ ЭТИМОЛОГИИ СЛАВЯНСКОГО
МЪАь
Происхождение общеславянского названия меди
(ст.-слав, миль, русск. медь, украин. мидь, польск. miedz,
чешек, med', сербе, mjed, болг. мед и пр.) остается до сих
621
пор неясным. В Славянском этимологическом словаре
Э. Бернекера об этом слове сказано: «Unsicherer Herkunft».
В Русском этимологическом словаре М. Фасмера: «Nur un-
sichere Deutungsversuche». Делались попытки связать слав,
мидь с германской группой терминов кузнечного дела:
др.-в.-нем. smid 'кузнец', smida 'металл, металлическое
изделие' и пр. При этом приходится исходить из крайне
проблематичной праформы *(s)meid(h)i~n предполагать
утрату в славянском начального s, что отнюдь не
характерно для славянских языков ни в оригинальных, ни в
заимствованных словах (ср. смръдъ, смръдЬти, смола, смуглъ,
смЬхъ; смак, смалец и др.). Кроме того, исходное значение
германской группы слов — не 'металл', а 'мастерство
(обработки металла)'. Мало помогает делу и привлечение
ирландского mein 'руда, металл' или греческого oyuXr\
'резец'. Все построение носит достаточно эфемерный
характер и относится к тем карточным домикам, которые
нередко приходится строить этимологистам в
затруднительных случаях.
Справедливо будет признать, что м-вдь, важнейшее
культурное слово славянских языков, не имеет до сих пор
никакой этимологии. При этом надо подчеркнуть, что
ответственность за это слово несет целиком и
исключительно славянское языкознание, так как м-бдь —
замкнутое славянское слово, не имеющее надежных соответствий
ни в каких других языках.
Чтобы поставить вопрос о происхождении славянского
названия меди на твердую почву, надо обратиться к
историческим и археологическим реалиям.
Известно, что медь и ее сплав с оловом, бронза, были
первыми металлами, освоенными человеком для
изготовления орудий и оружия.
Установлено также, что распространение медной и
бронзовой культуры шло в Европе с востока на запад, а не
обратно.
Считают, что индоевропейские народы были знакомы
с медью еще до своего разделения на отдельные ветви и
имели для нее общее наименование, отраженное в
древнеиндийском ayas- латин. aes, готском aiz. Есть
предположение, что в этом термине скрывается название острова
Кипра (египетск. Ajasja): Кипр с древнейших времен был
известен своими богатыми медными месторождениями. От
позднейшего названия этого же острова (греч. Килсюс)
образовано поздне-латинское cuprum 'медь': римляне на-
622
зывали металл «Кипрским», так как получали его из Кипра.
Латинское название распространилось потом среди
германских народов: англ. соррег, нем. Kupfer и пр.
Германское название бронзы: англосакс, arut, др.-в.-нем.
aruz, нем. Erz производят от названия города Arretium
в Этрурии, славившегося своими металлическими
изделиями.
В славянских языках старое, общеиндоевропейское
название меди (лат. aes, др.-инд. ayas-) также не
удержалось. Вместо него мы находим загадочное м^аь
Вопрос о происхождении этого слова надо решать
с учетом тех вероятных источников, откуда древние
славяне могли получать этот металл и изделия из него. На
путь такой именно этимологизации нас толкает как пример
латинского cuprum, так и десятки других случаев, когда
материалы и продукты получают название в зависимости
от того, откуда они получаются . Этот способ
наименования, который мы нередко наблюдаем в новое время, был
несомненно обычным от глубокой древности, и весьма
вероятно, что многие неразъясненные названия
материалов и продуктов остаются неразъясненными только
потому, что у нас нет достаточного исторического, археоло-
гическного, этно- и топонимического материала, который
позволил бы прикрепить их к определенным этническим
и географическим наименованиям.
Вопрос, стало быть, стоит так: какие известные в
древности очаги медной индустрии могли быть источником
снабжения древних славян этим металлом?
Если для южной Европы крупную роль играл
известный период остров Кипр, то для юго-восточной Европы,
где была прародина славян, следует считаться и с другими,
более восточными очагами, имея постоянно в виду, что
распространение меди и бронзы шло с востока на запад,
и что на Востоке находились от глубокой древности
крупнейшие центры добычи и обработки меди.
Далее, если для южной Европы мы должны считаться
прежде всего со средиземноморскими путями сообщения
и снабжения, то для юго-восточной Европы особо важное
значение имели черноморские и причерноморские пути
сообщения.
Стало быть, наш вопрос можно уточнить так: с какими
очагами медной индустрии могли связывать древних
славян черноморские пути сообщения? На этот вопрос можно
дать в настоящее время положительный ответ. Один та-
623
кой крупнейший очаг теперь известен: это — Закавказье
и прилегающие к нему районы Ирана, Курдистана и
турецкой Армении.
Геологи, с одной стороны, историки и археологи, с
другой, единодушны в оценке Закавказья как крупнейшего
центра медных месторождений и древнего очага медной
и бронзовой металлургии.
В. Г. Грушевой, отмечая на Кавказе 13 районов
медных месторождений, выделяет как главнейшие Аллаверд-
ский, Кедабекско-Ганджинский, Зангезурско-Мегрин-
ский — районы, расположенные на территории Армении
и Азербайджана .
Эти районы давали медную руду «в количествах, далеко
превышающих любые потребности примитивных стадий
развития металлургии»3. Они и сейчас сохраняют свое
значение в общем балансе добычи меди в странах бывшего СССР.
Доказано, что добыча и обработка меди
производилась в этих областях в широких масштабах от глубокой
древности. В античной традиции народы халибов и халдов,
обитавших на южном Кавказе, пользовались славой луч-,
ших мастеров по добыче меди и по изготовлению медных,
бронзовых и вообще металлических изделий .
Убеждение в исключительном значении Закавказья как
центра древней медной металлургии давно стало
господствующим среди археологов и историков. Еще в 1876 г.
французский археолог Бертран говорил о ведущей роли
Закавказья в создании европейской бронзовой культуры.
«Мы не колеблемся рассматривать Кавказ как
центральный для Европы очаг этого большого движения .., новая
культура распространилась двумя отчетливо намеченными
путями: по Днепру, Висле и Одеру, с одной стороны, по
Дунаю — с другой» 5.
Известный Ж. де Морган, совмещавший в своем лице
археолога и горного инженера, много и глубоко занимался
интересующим нас вопросом и также пришел к выводу
о древности и важности очагов медной металлургии
Кавказа и Армении ,
Немецкий археолог Вильке правильно отмечает
близость, существующую между медным и бронзовым
инвентарем Кавказа, с одной стороны, и бассейна Дуная, с
другой. Но дальше он ставит вещи с ног на голову, утверждая,
что_ кавказская металлургия пришла с Дуная, а не
обратно '. Зачем ему понадобилось доказывать недоказуемое?
Дело в том, что Вильке относится к числу рыцарей «арий-
624
ского»культурного примата, и ему во что бы то ни стало
хочется доказать, что именно арийцы из бассейна Дуная
явились на Кавказ с культуртрегерской миссией. В
действительности, если мы находим параллелизм между
Кавказом и юго-восточной Европой в металлических изделиях,
то это, при современных наших знаниях о
распространении культуры меди, может говорить только о культурных
влияниях из Кавказа на Дунай, а не в обратном
направлении.
Так именно и смотрят на дело крупнейшие
специалисты, занимавшиеся этим вопросом в нашем веке, такие
как М. Ростовцев и А. Тальгрен.
М. Ростовцев считает, что Закавказье и, в частности
южная Армения, с III тысячелетия до н. э. были
важнейшим центром медной металлургии, откуда медь
распространялась на Северный Кавказ и дальше в юго-восточную
Европу 8. «В современной науке,— пишет этот автор,— с
каждой новой экспедицией... в Закавказье все более и более
ярко вырисовывается образ великого алародийского...
культурного мира», «...мы имеем дело не со случайными
предметами ввоза, а с длительным культурным влиянием
алародийских государств, постепенно перерождавшим
жизнь этой части южно-русских степей и создававшим
здесь иные условия культурной жизни» 9.
По А. Тальгрену, Кавказ и Армения были источником
снабжения медью не только для Северного Кавказа, но
и для ассирийцев, хеттов и даже греков lu.
Вопросу культурных и торговых связей Передней Азии
и юго-восточной Европы посвятил ряд работ польский
исследователь Стефан Пржеворский .
Накопленный в последние десятилетия
археологический материал выдвинул на очередь задачу нового
пересмотра и обобщения данных по древней металлургии меди
на Кавказе и южной России. В этом направлении много
сделано советским археологом А. А. Иессеном .
Отличное знание материала и точная методология позволили
А. И. Иессену значительно продвинуть разработку
вопроса.
Прочно утвердившееся в науке мнение о Закавказье
как крупнейшем центре древней медной металлургии, в
общем поддерживается А. А. Иессеном. Подтверждается
и наличие культурных связей между Закавказьем и юго-
восточной Европой.
Особенно показательны в этом отношении находки
625
чрезвычайно близких по типу предметов из меди и бронзы
в Закавказье и в Поднепровье. Такова «известная находка
в Подгорцах близ Киева, в составе которой был найден
бронзовый гравированный пояс закавказского типа» 13.
Далее — находки одинаковых бронзовых фаларов от
щитов в Еленендорфе (Азербайджан) и в Черняхове близ
Киева. «По самому типу фалары из Черняхова и из Еле-
нендорфа настолько близки между собой и в то же время
отличны от фаларов западноевропейских, что общее их
происхождение является доказанным».
«Таким образом,— заключает автор,— в целом мы
видим наличие определенного импорта с Кавказа, причем,
пока еще невозможно сказать, шел ли этот импорт со ¦
стороны Северного Кавказа через Дон и степи или же
вдоль побережья и далее вверх по Днепру, т. е. водным
путем» 14.
К аналогичным выводам приходит Б. Б. Пиотровский.
По его утверждению, на археологическом материале
«хорошо прослеживаются связи между Украиной и
Закавказьем» 1о. Помимо упомянутых выше бронзовых изделий
закавказского типа, найденных на Украине, он приводит
найденные у сел. Жаботин Киевской области два
бронзовых сосуда «без сомнения кавказского происхождения»,
а также ряд других вещей, которые «отмечают путь связи
Закавказья со степями Украины» 16.
Привлечение новейшего археологического материала
позволило советским археологам внести некоторые
уточнения в исследуемый вопрос. Для нас существенными
являются следующие положения.
1. Важные центры древней медной металлургии
имелись не только в Закавказье, но и в прилегающих областях
древнего Урарту, Ирана, Курдистана, верховьев Тигра
и Евфрата .
2. «Переход на железные орудия и на железное оружие не
повлиял на общее потребление меди, которая не в меньшем
количестве, чем раньше, шла на изготовление украшений,
конского убора, принадлежностей культа, сосудов и т. д.»
«Добыча руды в Закавказье существует в эпоху греческой
колонизации Черноморья» «...мы имеем все основания
говорить о существовании в Аллавердском районе добычи и
выплавки меди около VIII—IV вв. до н. э.»,т. е. уже в эпоху
господства железа 18.
3. Приток металла и изделий из Закавказья в южно- >
русские области резко возрастает с VII—VI вв. до н. э.
626
В первые столетия I тысячелетия до н. э. мы не встречаем
там предметов южно-закавказского происхождения.
«Совершенно иную картину мы видим в VII—VI вв. до н. э.
Теперь в причерноморские степи проникают изделия не
только из южного Закавказья, но и из Урарту, из Ассирии
и других стран». Предметы переднеазиатского
происхождения теперь «проникают дальше на север и северо-запад
до правобережья Днепра» 19.
Именно к VII веку относятся вышеупомянутые
закавказского типа бронзовый пояс и 42 бронзовых фалара,
найденные в Подгорцах и Черняхове близ Киева.
Таковы данные, которые позволяют нам предполагать,
что для древних славян и вообще для юго-восточной
Европы важнейшим источником снабжения медью и бронзой
было Закавказье и прилегающие к нему южные районы
и что эти связи стали особенно интенсивными с VII
века до н. э.
После этого историко-археологического экскурса мы
можем подойти вплотную к непосредственно
интересующему нас вопросу: к происхождению славянского
названия меди.
Предлагаемое нами разъяснение весьма просто и
может быть изложено в виде нескольких тезисов.
1. Древние славяне поддерживали культурные связи
с Закавказьем и получали оттуда медь и бронзу. Более
близких и доступных очагов медной металлургии равного
масштаба и значения у древних славян не было.
2. Эти связи особенно усилились после VII в. до н. э.,
когда важнейшие меднорудные районы Закавказья
(Азербайджан и Армения) входили в состав Мидии.
3. Мидию древние славяне называли Mиль (ср. греч.
Mnoia, Mf]ooi).
4. Название м-вдь было перенесено со страны на
металл, получаемый из этой страны. Как римляне называли
медь cuprum, потому что получали ее из Кипра, так
славяне называли этот металл мъдь, потому что получали его
из Мидии.
Когда могло войти в общеславянский язык слово
м-ВАЬкак названия металла? Очевидно, это могло быть слово
ранее возвышения Мидии, т. е. не ранее VII зека до н. э.,
так как только с этого времени значительные области
Закавказья вошли в состав Мидийского царства.
Как видим, эта дата полностью согласуется с
археологическими данными, говорящими об оживлении сношений
627
юго-восточной Европы с Закавказьем именно в этот
период. Если сравнительно легко установить верхний предел
появления слова м-ъдь в славянском (terminus ante quem
non), то сложнее обстоит дело с нижним пределом
(terminus post quem non). Хотя самостоятельное мидииское
государство просуществовало недолго (до 559 г. до н. э.,
когда Мидия была завоевана персидским царем Киром и
вошла в состав ахеменидской державы), однако, как одна
из сатрапий персидского царства, Мидия продолжала
существовать и, как и раньше, включала в себя
Азербайджан и Армению. Дарий I, подводя итог событиям в
собственно Мидии и в соседних областях Армении и Сагартии,
говорит в Бехистунской надписи: «Вот что мною сделано
в Мидии» (Bh. II, 91—92). Иначе говоря, Армению и Са-
гартию он объединяет под общей шапкой с собственно
Мидией, рассматривает их как часть Мидии.
Поскольку «Мидия» как географический и
административно-политический термин продолжала
существовать во всю ахеменидскую и даже эллинистическую эпоху,
возможные пределы появления общеславянского мъдь
сильно растягиваются.
Между тем уточнение этой даты представляло бы
первостепенный интерес. Ведь мы имеем дело с замкнутым
славянским словом, которого нет даже в ближайше
родственных балтийских языках. Зато славянским языкам
оно известно всем. А это значит, что оно вошло в
славянские языки, когда славяне как народ уже обособились
от других индоевропейцев, в том числе от своих
ближайших родичей балтийцев, но еще не разделились на
отдельные ветви. Стало быть датировка появления
общеславянского м-ъдь была бы хорошим ориентиром для датировки
существования славянского единства, славянского языка-
основы.
На помощь здесь приходит опять археология. По
некоторым данным приходится думать, что после IV
века до н. э. происходит затухание медно-рудного дела в
Закавказье 20. Стало быть «Мидия» уже не могла быть
источником получения меди для древних славян. Если бы мы
получили на этот счет вполне убедительные данные, то для
датировки общеславянского м-йдь наметились бы
достаточно четкие границы: от VII до IV века до н. э.
Мейе определяет время существования
общеславянского языка туманной формулой: «значительно позже I
века и значительно раньше IX века н. э.» . Известно, что
628
разделение единого славянского языка на отдельные ветви
произошло в V—VI вв.
Славянские языки в кругу индоевропейских
отличаются большим своеобразием. Они противостоят
отдельным, даже наиболее близким индоевропейским языкам
сложным комплексом признаков — фонетических,
морфологических, словообразовательных, синтаксических. Эти
особенности не могли выработаться в одно или два
столетия. Они предполагают весьма длительный путь
предшествующего автономного развития общеславянского языка.
Чтобы объяснить своеобразие славянской речи, надо
допустить, что общеславянский язык после своего
отделения от балтийской группы имел много столетий самосоя-
тельной жизни и самостоятельного развития, может быть,
доброе тысячелетие. И тогда мы придем к той самой дате
начального периода славянского единства, на которую
указывает этимология слова мъдь и относящийся сюда
археологический материал — к VII—IV вв. до н. э.22
VII—IV века до н. э.— это время, когда Северное
Причерноморье было занято скифскими племенами. Скифы
отделяли славян от Кавказа. Правдоподобно ли, что
славяне могли поддерживать культурные связи с Закавказьем
«через голову» скифов?
Вполне правдоподобно. Напрасно думают иногда, что
одни народы могли служить для других преградой в
торговых и культурных отношениях. Препятствием для таких
сношений бывают пустынные, ненаселенные зоны.
Населенные же области не бывают таким препятствием.
Напротив, они облегчают и стимулируют сношения между
народами.
Скифы вовсе не были какой-то непроницаемой стеной,
отделявшей славян от Кавказа. Они были скорее мостом,
связывавшим эти области. Археологический материал
говорит красноречиво, что с приходом скифов не только
не прекратились, но, напротив, небывало оживились
сношения севера с югом. Существовали старые торговые пути,
которые в скифскую эпоху не только не заглохли, но по
которым именно в этот период особенно усилилось
движение между Закавказьем и юго-восточной Европой.
Славянское м-ваь. — одно из языковых свидетельств
этих сношений. Но оно — не единичное. Рядом с мгьдью
надо поставить еще два общеславянских слова не меньшего
культурного веса и значения: къынгл и печать.
Славянское къынгл 'буква, знак' правильно выводится
629
через армянское knik' 'печать' из ассирийского кипикки
'печать' 23. Как бы для того, чтобы доказать, что слова
и вещи, nomina и res, неотступно сопутствуют друг
другу, археолог, протягивая руку языковеду, сообщает о
находке на Украине ассирийской печати из халцедона с
изображением лошади и бога Ашура в образе птицы 24.
Славянское печать также идет бесспорно из
Закавказья. Оно неотделимо от грузинского bec'edi 'печать' 25.
Славянские слова м бдь — къмнга — печать составляют
один культурный комплекс. В переводе на язык реальных
исторических фактов этот комплекс означает: культурные
сношения древних славян с Закавказьем. Вероятная дата
этих сношений — VII—IV вв. до н. э.26
Нам остается сказать несколько слов о форме MtAb
Славянское ъ может восходить либо к долгому гласному,
либо дифтонгу. В данном случае имеет место первое. Как
древнеперсидское Mada 'Мидия', так и греческое Myola,
Mrjooi указывают на долготу корневого гласного.
Славянская форма не могла быть результатом прямого
заимствования из иранского Mada, т. к. в этом случае мы
ожидали бы не М&аь, а М*АЬ. Ср. русское собака при
мидийском s рака.
Одно из двух: либо М-ъаь— это оригинальное
славянское название Мидии, соответствующее иранскому Mada
и унаследованное от дославянского периода, либо M'fcAb.
усвоено через греческое посредство и отражает огласовку
греч. Mr\aoi В последнем предположении нет ничего
невероятного, так как с VII в. до н. э. греки начали
колонизацию Северного Причерноморья, и древние славяне на
торговых путях несомненно имели с ними контакт.
Свидетельством этому могут служить и некоторые другие
старые общеславянские заимствования из греческого,
такие как коохбль — греч. xapa?iov.
По своему образованию форма м&аь также ясна. Она
отражает характерный для славянского тип этно-геогра-
фических названий женского рода на -ь (старые основы
на -/). Этот тип обильно представлен в древнерусском.
Мы имеем в виду такие этно-географические названия,
как чудь, водь, жмудь, весь, ливь, емь, сумь, пермь, скуфь
(Скифия), ватрь (Бактрия). Стало быть, форма м-ваь есть
именно то, чего следовало ожидать, если этот термин по
своему происхождения является этно-географиче-
с к и м. Напротив, если считать, что он с самого начала
был названием металла, то форма его окажете/: .есьма
630
странной и необычной, так. как основные названия
металлов в слазянском, так же как в латинском и
германском,— среднего рода: золото, серебро, железо, олово.
Современное русское название Мидия представляет
новый тип образования географических названий на -ия, а по
огласовке отражает византийско-греческое
произношение т] как i. Аналогичное различие мы находим в двух
русских названиях Скифии: древнее Скуфь, отражающее
тот период, когда v в греч. SxuOai произносилось еще
как и, и позднейшее Скифия, когда греческое v стало
произноситься как i. Совершенно также греческое KvQik-
Хос, отложилось в русском в двух формах: более древней
Чурила и более новой Кирилл.
Стало быть, с точки зрения преемственности форм,
древнеславянское М*вдь 'Мидия' относится к позднейшему
Мидия, как древнее Скуфь к позднейшему Скифия, с той
оговоркой, что М'ёДЬ древнее, чем Скуфь.
Примечания:
1 Ограничиваясь названиями металлов и минералов, можно, помимо
латинского cuprum и германского arut, привести греч. xaXxty 'сталь'
от племенного названия xaA/tnJj 'халиб' итальянск. bronza от названия
города Brundisium; араб. перс, qala, тюрк, qalaj 'олово' от названия
города Qwalah в Малакке; итальянск. damaschino, болг. дамаскина,
серб, damaskija, англ. damask 'дамасская сталь'; русск. колчедан, нем.
Chalcedon 'халцедон' и пр. от названия города Xakxr\o(uv; греч. а%атцс,
'агат' от реки Achates в Сицилии; греч. aaooiov название драгоценного
камня (русск. сердолик) от города Сард в Лидии; греч. xonaEjiov от
острова Толасос; франц. tourquoise, нем. Turkis «драгоценный камень»
от назв. Турции и др. Известно также, что тюркское alten 'золото'
некоторые производят от названия области Алтай.
2 Грушевой В. Г. Медные месторождения Закавказья. Труды
IV Всесоюзной геологической конференции по цветным металлам, вып. II,
1932, с. 13—37. См. также: Медь в России. Естеств. производит, силы
России, т. IV, вып. 7, изд. Академии Наук, Петроград, 1920; Главнейшие
медные, свинцовые и цинковые месторождения СССР, М.— Л., 1931.
J Иессен А. А. К вопросу о древнейшей металлургии меди на
Кавказе. Изв. ГАИМК, вып. 120, 1935, М.—Л., с. 33.
4 Ср. Lehman n-Haup t. Armenien einst und jetzt, I, S. 123 ел;
H e r z f e 1 d. Janus, I. S. 145 ел.
5 Bertrand A. Archeologie celtique et gauloise, Paris, 1876,
c. XVII—XVIII и 193—194; цитирую по И е с с е н у, с. 11.
631
Morgan J.de. Mission scientifique au Caucase, т. I, 1889,
с. 190 ел.; — его же. Note sur les origines de la metallurgie. L'Antrogo-
logie, т. XXXII, 1922, с. 487.
7 W i 1 к e G. Archaologische Parallelen au's dem Kaukasus und dem
unteren Donaugebiet. Zeitschrift fur Ethnologie, 1904, c. 9—104; его же.
Vorgeschichtliche Beziehungen zwischen Kaukasus und dem unteren Do-
naugebiete, ein Beitrag zum Arierproblem. Mitteilungen der Antropolo-
gischen Gesellschaft in Wien, XXXVIII, 1908, c. 136—167.
"Rostovzev M. L'age de cuivre dans le Caucase Septentrional.
Revue Archeologique, XII, 1920, с. 14.
9 Ростовцев M. И. Эллинство и иранство на юге России, 1918,
с. 15—16, 24.
10 Tallgren А. М. Kaukasus, Bronzezeit. Reallexikon der Vor-
geschichte, herausgegeben von Max Ebert, VI, Berlin, c. 266; его же.
Kuban, Reallexikon... VII, c. 110.
" Przeworski Stefan. Zagadnienie wplywow Bliskiego Wschodu
w kulturze fatjanowskiej Rosji Srodkowej, Swiatowit, XV, 1932—1933;—
его же. Vorderasien und Osteuropa in ihren vorgeschichtlichen Han-
delsbeziehungen. Klio, 25, 1932 и др.
12 Иессен А. А. К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кав-
Кавказе. Известия ГАИМК, вып. 120, 1935; е г о ж е. Древнейшая
металлургия Кавказа и ее роль в Передней Азии. III Международный конгресс по
иранскому искусству и археологии. Доклады. М.— Л., 1939, с. 91 —103; —
его же. Греческая колонизация Северного Причерноморья, Л., 1947.
13 Иессен А. А. Цит. соч., с. 165.
14 Иессен А. А. Цит. соч., с. 166.
15 Пиотровский Б. Б. Археология Закавказья, Л., 1949, с. 126.
10 Пиотровский Б. Б. Цит. соч., с. 127.
17 Иессен А. А. Древнейшая металлургия Кавказа, с. 93.
18 Иессен А. А. К вопросу... с. 71, 184.
19 Иессен А. А. Греческая колонизация северного
Причерноморья, с. 41, 49.
20 Иессен А. А. К вопросу..., с. 71,. 184.
21 M е й е А. Общеславянский язык (русский перевод). 1951, с. 1.
Слишком растянутую хронологию дает для обособления славян от
балтийцев Л. H и д е р л e: «...la separation des Lituaniens d'avec les Slaves...
dut se produire au cours du Il-e ou du I-er millenaire» (Lubor N i e d e r 1 e.
Manuel de l'antiquite slave. T. I: l'histoire. Paris, 1923, с 7). В другом месте
он пишет: «...au commencement du 1-е millenaire avant notre ere les deux
peuples etaient deja separes» (там же, с. 185).
23Mikkola. FUF, I, 113; Pedersen, KZ., 39, 464; 40, 189;
Berneker. Slaw. etym. Worterbuch, I, 664.
24 Бобринский А. Курганы и случайные находки близ Смелы,
I, 1887, с. 77; M in ns E. H. Scythians and Greeks, 1913, с 193; И e c-
632
сен А. А. Греческая колонизация.., с. 47; Пиотровский Б. Б.
Археология Закавказья, с. 126—127.
25 Сопоставление: слав, печать — груз, bec'edi представляет одну из
немногих удачных славяно-кавказских параллелей Н. Я. Марра; см.
Н. Я. M а р р. Избранные работы. I, 295, III, 238; см. также Я к у б и н-
ский Л. П. История древнерусского языка, 1952, с. 74—75.
26 Разумеется, под «сношениями» надо понимать не только
массовое непосредственное общение (об этом в данном случае не могло быть
речи), но и поездки отдельных лиц с торговыми и иными целями, а также
связи при посредничесте других народов: греков, скифов и др.
Езиковедски изследвания в чест на акад. Ст. Младенова. София, 1957.
слав, агъ 'Я'
Огласовка этого местоимения (при ст.-литов. es, арм.
es, лат. ego, гот. ik и пр.) незакономерна. Попытки
объяснить эту аномалию (см. Vasmer III, 475 ел.)
неубедительны. Естественно думать о славо-иранской изоглоссе;
ср. осет. ?z, курд, az, талыш. az, ягноб. az, в ряде припа-
мирских иранских языков az, согд. azu, сак. *azu (в
графике aysu), парф. az, авест. azdm. Трудно, однако, согласиться
с тем, что здесь имело место внешнее заимствование, как
думает W. Brandenstein . Личные местоимения, как
правило, не заимствуются. Скорее перед нами один из
случаев перекрестного проникновения норм одной языковой
группы в другую. Иными словами azb — не иранский
элемент, а спорадический «иранизм» в славянском, как
rysb вместо ожидаемого lysb и т. п., т. е. исконно
славянское слово, получившее «иранское» оформление2. Ср.
V. Pisani, «Paideia» 1957, pp. 271—272.
СЛАВ. ТГигЪ
При разъяснении этого слова уже давно привлекаются
др.-инд. mitra-, авест. mtara- 'дружба, договор,
договоренность, согласие'. Имеется в виду общая корневая морфема
633
и.-e. *mei- (Рокоту, 711 ел.)- Быть может, речь идет о
чем-то большем, чем родство по корню. На скифо-сар-
матской почве имеем неизменную метатезу, Ьг ->rt, после
чего -t в исходе может отпадать. Так от др.-иран. xsaura-
'власть' имеем в осетинском xsar (через ступень *xsart;
последняя сохранилась в эпосе как собственное имя).
Стало быть, из tni&ra- мы могли иметь скифское
(сарматское) *mir (в осетинском не сохранилось), откуда слав.
mirb. Ст.-литов. mieras 'мир, спокойстие' примыкает к
славянскому.
СЛАВ, in 'ДРУГОЙ'
Лингвистический формализм, наметившийся в
младограмматической школе и достигший апогея в
структурализме, приводит сплошь и рядом к искаженному,
нереалистическому пониманию языковых фактов. В
этимологических исследованиях этот отход от реализма сказывается
в том, что в угоду формальным соображениям попираются
совершенно ясные, очевидные и неотразимые показания
семантики.
Славянское in- 'другой' по формальной близости
сопоставляется с литовским inas 'действительный,
правильный', с которым оно не имеет ничего общего по значению,
и отделяется от др.-инд. апуа-, авест. ainya-, 'другой'
(Berneker 430—432; Vasmer I, 484). С семантической
точки зрения предпочтительнее, вслед за Мейе («Etudes
sur l'etymologie et le vocabulaire du vieux slave». Paris,
1902—1905, с 159, 432), отделять слав, in- 'другой' от
*in- 'один' и сближать первое с индоиранскими словами
того же значения. На звуковой облик елвянского слоза
могли повлиять североиранские формы; ср. Хорезм, ira
'другой', осет. innee 'другой'.
русск. сулой
Русск. сулой 'водоворот'; 'вода с мукой, мучная жижа,
кисельный раствор, квасная гуща, мутное питье, рассол,
сырой настой солода, кипяток с пивною гущею'. (Даль).
Даль под вопросом производил это слово от сливать.
634
Фасмер в сущности повторяет этимологию Даля: «zu sa
'zusammen' und лить 'giessen' (vgl. бить: бой)». Со
словообразовательной стороны здесь все как будто благополучно;
ср. помимо бить : бой и такие пары, как запить : запой;
почить : покой и т. п. Смущает, однако, то, что в диалектах
параллельно отмечены формы сулд и сула (Даль). Можно
ли представить, чтобы слово запой имело варианты *запо
и *запа, а слово покой — варианты *поко и *пока! Не
исключено поэтому, что связь с лить обманчива и что слово
усвоено из тюркского. Ср. турецкое sulu 'жидкий, сочный,
водянистый, приготовленный на воде', ногайское suvld
'с водой', 'содержащий воду', 'водянистый, влажный,
сырой' («Ногайско-русский словарь». М., 1963, с. 311) от
su 'вода'. Сюда же осет. syly/sulu 'сыворотка, остающаяся
после извлечения творога из молока' 3. Возможно, что и
русск. сусло лишь по видимости напоминает исконно
славянские образования на -lo, типа масло, на деле же
представляет адаптацию тюркского (балк.) suusun
'жидкий', 'жидкость' от того же su 'вода'.
русск. тряпка
Не без основания связывается с трепать; ср. отрепье.
Однако различие гласных требует объяснения. Допущение
«экспрессивной назализации» на русской почве (Vasmer
III, 146) достаточно произвольно. Да в нем и нет
необходимости. В индоевропейских языках распознаются три
варианта: 1) *trep- (слав, trepati и пр.), 2) *trem- (лат.
tremo и пр.) и 3) (на германской почве) *tremp- (англ.
tramp и пр.). Этот последний вариант, в качестве
«германизма» в славянском, должен был закономерно дать в
русском *тряпать, откуда — тряпка (ср. тяпать — тяпка и
т.п.). Глагол сохранился с начальным s- mobile: стряпать
'разделывать продукты к столу', 'готовить пищу', др.-русск.
стряпати 'возиться', 'работать'. Сюда же польск. strzepic
'раздирать на волокна', 'мочалить'. Основное значение
всей относящейся сюда и.-е. группы — 'попирать', 'давить
(ногами)', отсюда греч. тралео) 'давить виноград'.
Дальнейшие соответствия см.: Vasmer III, 136 под словом
трепать.
635
русск. хаять
Мы уже отмечали, что при заимствовании слов,
содержащих чуждую славянскому фонему /, могла иметь
место субституция f-*-x 4. К этим случаям следует
относить русск. хаять 'хулить' из готского fajan 'хулить'.
Имеющиеся опыты разъяснения русского слова (Vasmer
Ш, 234) весьма сомнительны.
РУССК. ДАЖЬБОГ БОГ СОЛНЦА'
В первой части видят повелительную форму от дать
("Vasmer I, 326—327). Слообразовательная модель
выглядит довольно странной. Где еще засвидетельствовано имя
божества с повелительной формой глагола в первой части?
Естественнее думать, что Дажьбог образовано по той же
модели, что Стрибог (=иран. Sribaga 'прекрасный бог',
ср. по образованию др.-инд. Srideva- и Vasudeva-), т.е.
первая часть служит определением ко второй. Можно
толковать Дажьбог как 'добрый бог', имея в виду для
первой части кельт. *dagus 'добрый' (др.-ирл. dagh, галл.
dagus). Добрый было, видимо, постоянным эпитетом
этого бога, и когда значение первой части потускнело, бог
снова получил эпитет добрый, на этот раз иранского
происхождения; хоре 'добрый' 5.
русск. гунявый 'облысевший,
ПЛЕШИВЫЙ, ОБЛЕЗЛЫЙ'
Это слово правильно производят от гуня 'название
одежды', идущего от иранского gauna- (осет. уип) 'шерсть'.
Однако для гунявый ожидали бы значение 'шерстистый',
а на деле имеем обратное. Впрочем, это не так уж странно.
В исторической лексикологии хорошо известно явление
поляризации значений. Подобному
семантическому «расщеплению» подвержены как слова, так и
форманты. Один и тот же формант может в одном случае
указывать на наличие какого-либо признака, в другом —
на его отсутствие. Так, осет. s?t-oj означает'слюнявый'
(от s?t 'слюна'), a cong-oj — 'безрукий' (от cong 'рука').
636
УКР. гулий 'БЕЗРОГИЙ'
Неотделимо от осет. (дигорский диалект) gulu
'безрогий'. Украинское слово сближается с сербо-хорв. гулити
'обдирать' (Berneker 362). Следует привлечь сюда нем.
Kull-bock 'безрогий козел', швед, kullig 'безрогий',
'безволосый' (Falk — Torp. Norwegisch-danisches etymologisches
Worterbuch, т. 2. Изд. 2. Oslo, 1960, стр. 561—562), алб.
gul 'безрогий' в tsjap gul 'безрогий козел'. Осет. gulu стоит
на иранской почве изолированно и представляет,
возможно, старое заимствование из славянского или германского.
русск. бунт, польск. bunt
Это слово возводится к немецкому Bund 'союз' (A. Briic-
kner. Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Warszawa,
1957, стр. 49; Vasmer I, 144). Этимология не вызывает
сомнений. Яркую параллель к семантическому переходу
"союз' -*- 'бунт' дает древнеперсидский. В этом языке
бунтовщик именуется hamissya-, что возводится к
общеиранскому * ha-miftrya-, общеарийскому *sa-mitrya- от mitras
'друг', mitram 'дружба'; стало быть, sa-mitrya- букв, 'со-дру-
жественный, вступивший в содружество, в союз (против
кого-либо)', 'conjurautus'.
РУССК. (ДИАЛ.)шануГЬ 'ТОЛКНУТЬ'
Полагают, что из шатнуть. Непонятно выпадение -тп-
при наличии живых и употребительных форм шатать
и шатнуть. Не исключено иранское происхождение. Ср.
осет. son- из san- в ?s-son -yn/?n -son-un 'толкать' г'.
ст.-слав. plastb, русск. плащ
При разъяснении этого слова следует иметь в поле
зрения перс, palas, 'vestis lanea crassior' (Vullers)
'шерстяная или волосяная грубая одежда', осет. p?l?z 'накидка
из грубой ткани'. Из славянского идет венг. palast 'плащ'.
637
русск. грузин
По Фасмеру (I, 313) «из груз. gurz». Однако в
грузинском нет такого этнонима. Сами себя грузины называют
kartvel-. Русск. грузин идет из тюрк, gurdzi 'грузин', может
быть, через аланское gurdzi (из gurdzi имели бы скорее
русск. *гружин). Первоисточник — перс, gurg 'волк':
название грузин относится к распространенному типу
зоофорных этнонимов тотемического происхождения. Ср.
gor gasali (из перс, gurgsar 'волчья голова') прозвище
грузинского царя Вахтанга (V в.).
русск. засатаритъ
Русск. (терские говоры) засатаритъ 'задевать
куда-нибудь', 'засунуть не помня куда', 'затерять' (РФВ, 1900,
№ 44, с. 92).
По Фасмеру (II, 81) —«неясно». Примыкает к
осетинскому (дигорский диалект) satar в составном глаголе
satar k?nun 'растратить', 'промотать', 'загнать': ? mulk
issatar kodta 'он промотал свое имущество' («Surx Digor?».
1932, № 191, с. 2). Оеет. satar в свою очередь идет из
тюрк, sat-, причастная основа satar- 'продавать'. Ср.
балкар, satar, satarya 'продать' («Материалы и исследования
по балкарской диалектологии, лексике и фольклору».
Нальчик, 1962, с. 183; «Русско-карачаево-балкарский
словарь». М., 1965, с. 492).
русск. заря, зоря
Русск. заря, зоря 'трава' (Барсов), 'название
нескольких растений' (Даль 2 I, 694) ; ср. Пушкин. Евгений
Онегин, гл. вторая, XXXV:
В день Троицын, когда народ
Зевая слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три.
По Фасмеру — «dunkel». Представляет иранскую
форму общеиндоевропейского названия травы, зелени
638
(корень *ghel-, Pokorny, 429), ср. русск. зелье и пр. (Vas-
mer I, 452). Индоевропейскому *ghelo-, если учесть
иранское аканье и иранский ротацизм, должно отвечать
иранское zara-. Эту форму и сохранил осетинский в виде z?r?
в слове z?r?-ston 'заросшее травою поле'. Русск. заря
могло быть либо заимствованием из северноиранского,
либо перекрестным вторжением иранской звуковой
нормы в русскую речь, как в слове рысь и г. п.
Примечания:
1 См.: Festschrift J. Pokorny. Innsbruck, 1967, с. 17—IS.
2 О перекрестных изоглоссах см. выше.
Л Наращение конечного -й в слове сулой — результат
морфологической адаптации, как в слове герой и т. п.
4 Studia linguistica C.-O. Falk oblata. Lund, 1966, с. 9—10.
5 Studia linguistica C.-O. Falk oblata, c. 526.
6 В осетинском совпали старые s и s, и полученный сибилянт имеет
полушипящее произношение.
русский гидро-, топоним Орта
Известно, что старые названия некоторых животных
у того или иного народа на почве тотемических и
магических верований попадают под запрет, табу и заменяются
какими-либо описательными, иносказательными или
заимствованными наименованиями. При этом случается и так,
что табуированное слово, будучи вытеснено из апеллятив-
ной лексики, удерживается в топонимии, этнонимии,
антропонимии, теонимии. Так, исконно латинское
название волка, *volcus было вытеснено заимствованным lupus,
но удержалось в имени бога-кузнеца Volcanus, в
фамильном имени Volcacius и, может быть, в латинском названии
кельтского племени volcae.
В славянских языках не сохранилось
общеиндоевропейское название медведя, представленное такими
формами, как лат. ursus, греч. аохтос, др.-инд. rksa-, авест.
639
arsa-, осет. ars. Это слово попало у славян под запрет и
было заменено описательным медвЬдь (= медо-ед «поеда-
тель меда») [1,1, с. 281—291].
А что, если и.-е. название медведя сохранилось
где-нибудь за пределами апеллятивной лексики, например, в
топонимии? Стоит поискать. По звуковым нормам русского
языка в соответствии с приведенным выше и.-е. названием
медведя (др.-инд. rksa-, авест. arsa-, осет. ars) мы должны
были бы иметь в русском *орхъ (с метатезой плавного —
*рохъ) . Отсюда производное орша (из opxja). с
метатезой — *роша (*ръша). Формально *орхъ относится к
орша, как порохъ к пороша, пархъ к парша, верхъ к верша,
духъ к душа, сухъ к суша и т. п. Мы приходим, стало быть,
к хорошо известному русскому топониму Орша (Ръша).
Он известен с глубокой древности. Упоминается в «Повести
временных лет» («И взя Вячеславъ Ръшю и Копысу»)
[3, I, с. 112, 200; И, с. 397, 483]. Сюда же современное
Орша — название города в Витебской обл. на Днепре,
также название нескольких рек в разных частях
территории России, в частности, название левого притока Волги
в Калининской области [4], Оршанка — название
населенного пункта [5, с. 168]. Название животных в
топонимии — дело обычное. Несколько рек в разных областях
России носят название Медведица [5, с. 160; 6]. Ряд
населенных пунктов зовутся Медведево, всего около
пятнадцати «медвежьих» топонимов [5, с. 160]. Ср. в
литовском Lokysta — название реки, от lokys «медведь» [7, 1,
с. 384].
Приведенные факты позволяют высказать
предположение, что древнее и.-е. название медведя не исчезло в
русском бесследно. Оно сохранилось в ряде гидронимов и
топонимов в форме Ръша, Орша, Оршанка, Оршица.
Форма Орша относится к Оршица, как лиса к лисица, кобыла
к кобылица и т. п. Орша, с одной стороны, и Медведица,
с другой,— скрытые синонимы. Антропоним Орша (Л е р-
м о н т о в. Боярин Орша), вероятно, вторичный — от
топонима [8].
Сомнительны разъяснения гидронима Орша у М. Фас-
мера (к гидрониму Росъ, к слову русло со ссылкой на
Соболевского и Бугу) [4]. Не убеждают также
сопоставления В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева (др.-
прусск. Russa, русский гидроним Росана) [9].
640
Примечание:
Вслед за Ф. Шпехтом [2] мы считаем, что индоевропейские
названия медведя возводимы к общему прототипу только по корню, но не
по образованию. Видимо, слово уже в древности подвергалось
разнообразным табуистическим деформациям и вариациям. Ср. в греческом
dgxoc рядом с doxxoc. Слав.*огх- вместе с иран. arsa- безупречно
возводится к базе *r(k)so-.
Литература:
1. Meillet A. Quelques hypotheses sur les interdictions de
vocabulaire...— In: Linguistique historique et linguistique generale. I—II.
Paris, 1921.
2. S p e с h t F. Der Ursprung dep indogermanischen Dekination Got-
tingen, 1947, S. 240.
3. Повесть временных лет. I—II. M.— Л., 1950.
4. Ф а с м e p M. Этимологический словарь русского языка. Т. III.
М., 1971, с. 155.
5. Атлас СССР. М., 1956.
6. Энциклопедический словарь. Т. II. М., 1954, с. 354.
7. Fraenkel E. LItauisches etymologisches Worterbuch. I—II.
Heidelberg, 1962.
8. Лермонтовская энциклопедия. M., 1981, с. 68—69.
9. Топоров В. H., Трубачев О. H. Лингвистический анализ
гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962, с. 2000.
Вопросы языкознания, 1985, № б.
осЕТ. ad?g 'борона'
В свое время отмечалось, что скотоводческая
терминология у осетин отличается большой древностью и
восходит к общеиранскому и даже индоевропейскому.
Напротив, терминология, связанная с земледелием, отличается
значительной пестротой с точки зрения происхождения
и давности бытования на осетинской почве и не всегда
21 В. И. Абаев
641
поддается этимологизации '. С тех пор этимологическое
изучение осетинской лексики значительно продвинулось.
Стало выясняться и происхождение земледельческих
терминов. И тут вскрылся важный с культурно-исторической
точки зрения факт: ряд основных терминов
земледельческой культуры ведет не к иранским, а к европейским
языкам: славянским, балтийским, германским, италийским,
кельтским. Таковы названия серпа, колоса, урожая, ярма
и его частей, вероятно также сохи, мельницы, ступы и др.
Вывод напрашивается сам собой: предки осетин, скифские
племена, первоначально кочевники и скотоводы,
переходили на оседлость и усваивали начатки земледелия в
условиях контактов с европейскими народами 2.
Осет. ad?g 'борона' служит новым подтверждением
этого тезиса. Этимология ad?g считалась неясной 3.
Теперь, когда вскрылось европейское происхождение ряда
осетинских земледельческих терминов, пришла пора и для
ad?g занять свое место в этом ряду. Ad?g мы
рассматриваем как метатезу из *ag?d. Эта форма приводит нас к
европейскому названию бороны *oketa: др.-прусск. aketes,
англос. egeae, др.-в.-нем. egida, галльск., брет. oged, др.-
кимр. ocei, лат. осса. Метатеза *ag?d-+ad?g могла
произойти в осетинском в порядке аналогии с излюбленным
для скифского и осетинского'типом имен на -?g (иран.
-ака) 4. Но такая метатеза могла иметь место уже на
европейской почве: лат. осса легче вывести из *ot(i)ka, чем
из *ok(i)ta 5. Не исключено поэтому, что и лат. осса и осет.
ad?g следует возводить к *otdka-, представляющему
вариацию европейского *oketa-.
таскать — отыменный глагол?
Образование глаголов от имен наблюдается в
славянских языках на протяжении всей их истории вплоть до
наших дней, и соответствующие образования составляют
заметную часть глагольной лексики.
Отыменные глаголы можно классифицировать как по
формальным признакам, так и по семантическим, т. е. по
соотношению значений, выраженных в имени и в глаголе.
Частично те и другие признаки взаимосвязаны. Так,
образование на -еть в русском (самый многочисленный класс
отыменных глаголов) имеют обычно медиальное значение,
и смысловое их отношение к исходному имени сводится
642
к следующему: иметь или приобретать то свойство или
качество, которое заключено в имени. Сюда относятся
производные от прилагательных: белеть, чернеть, худеть
и т. п.; от существительных: звереть, сатанеть и т. п.
Образования на -ить могут быть активными глаголами
со значением 'сообщать данное качество другому лицу или
предмету': чернить, белить, хулить, дурачить, гневить
и т. п.; 'действовать орудием': пилить, боронить и т. п.;
медиально — 'совершать действия или вести занятия,
свойственные лицу, предмету или понятию, обозначаемому
именем, уподобляться чему или кому-либо': батрачить,
чабанить, буянить, (про) воронить, басить, юлить и т. п.
Глаголы на -ать дают довольно пеструю картину
семантических отношений к исходному имени. Но и здесь
хорошо распознаются два типа: отношение действия к
орудию, с помощью которого это действие совершается,
и отношение уподобления.
Примерами на первый тип могут быть: стрелять,
седлать, (об)уздать, киркать (Даль2 II, с. 109), сакать
'прибирать к рукам', 'присваивать', 'таскать', от сак 'мешок'
(Даль2 IV, с. 130), лапать, козырять, костылять и т. п.
Отношение уподобления выступает в таких глаголах,
как братать(ся), мужать, сиротатъ, мотылять 'порхать
мотыльком' (Даль2 II, с. 352), лындать от лында 'лентяй'
(Даль2 II, с. 276), лютовать, свирепствовать и др.
Известно, что в русском и вообще в славянских
языках есть значительное число глаголов, не получивших до
сих пор удовлетворительной этимологии. При их
разъяснении следует считаться и с возможностью
деноминативного происхождения. Выявить отыменную природу
некоторых глаголов бывает нелегко по двум причинам.
Во-первых, исходное имя нередко выходит из употребления, во
всяком случае в литературном языке, и нужны
специальные историко-лексикологические разыскания, чтобы
установить, какое имя лежит в основе данного глагола7.
Во-вторых, случается, что глагол по значению весьма
далеко отходит от исходного слова, и их связь требует
от этимолога семантического обоснования 8. Бывает и так,
что налицо оба обстоятельства: и утрата исходного имени
в литературном языке, и семантический разрыв между
глаголом и исходным именем. Так именно обстоит дело
с глаголом гулять. А. С. Львов удачно, по нашему
мнению, показал, что гулять образовано от (нелитературного)
гуля 'шар', 'мяч для игры' и означало первоначально 'иг-
21*
643
рать в гулю', а потом 'праздно проводить время'и пр.'
Принимая во внимание все эти соображения, мы
решаемся высказать догадку о деноминативном
происхождении глагола таскать.
Русск. таскать, тащить, польск. taskac, taszczyc, чеш.
tasiti можно, как нам кажется, связать с
распространенным в европейских языках taska 'мешок', 'сумка',
'карман': др.-сев. taska, швед, taska, др.-в.-нем. tassa, ит. tasca,
венг. taska, чеш. taska, фин. tasku, осет. t?sk'/t?sk'?.
Исходное слав. * taska утрачено (чеш. taska представляет
новейшее заимствование из нем. Tasche и, конечно, никак
не связывается с tasiti). Исходное значение таскать —
'нести в таске, в мешке'. Ср. русск. (диал.) сакать 'таскать'
от 'сак? 'мешок' (Даль2 IV, 130), котомить 'комкать,
мять, словно укладывая, уминая в котомку' от котома
(Даль2 II, 179). Ср. в английском: sack 'мешок' — to sack
'грабить', bag 'мешок' — to bag 'стащить' (разг.) и т. п.
Стало быть, по семантическому отношению глагола к
имени таскать относится к так называемым instrumenta-
tiva: имя означает орудие, предмет, а глагол — действие,
совершаемое с помощью этого орудия; ср. стрелять,
боронить и пр.10. Чешский осмыслил конечное -ка в * taska
как уменьшительный формант; отсюда форма tasiti.
Формы таскатъ\\тащить соотносятся по обычной
видовой модели: форма на -ать — несовершенное
(многократное) действие, форма на -ить — совершенное
(однократное); ср. отвечать\\ответить, кончатьЦкончить и т.п.
Существительное таска («задать таску» и т.п.), которое
Фасмер (III, с. 81) выставляет как основное, представляет
вторичное образование от таскать.
То, что имя *таска 'мешок' вышло из употребления, а
производный от него глагол таскать сохранился, не должно
удивлять. Таких примеров множество (см. выше). Глагол
стрелять , например, будет жить независимо от того,
сохранится ли в языке слово стрела.
русск. (диал.) аланец 'непоседа'
Большое и крайне нужное дело начал Ф. П. Филин:
издание «Словаря русских народных говоров».
Потребность в таком словаре давно и остро ощущается не только
русистами и славистами; к нему постоянно будут
обращаться также тюркологи, финно-угроведы, иранисты,
специалисты по многим языкам, с которыми на протяжении
644
своей истории приходил в соприкосновение русский народ.
В нем найдут много ценного для себя не только лингвисты,
но также историки, этнографы, фольклористы,
литературоведы. Русские народные говоры — это целый мир,
огромный лингвистический музей, раскинувшийся на шестой
части земли.
В «Словаре» поднят обширный материал: один только
список источников занимает 140 страниц.
Вышедший первый выпуск (М., 1965) содержит слова
на букву «А». Эта буква, как известно, не очень
показательна и «выигрышна» в русском языке. Но и здесь можно
найти много интересного с разных точек зрения. Мое
внимание обратило на себя слово аланец 'непоседа'. Из
материалов M. H. Макарова «Опыт русского
простонародного словотолковника» 1846 («Чтения Общества истории
и древностей российских» № 3, отд. IV) приводится
фраза: «Аланец-еланец, непоседа, места не согреет, все
вскачь, да вскачь!». Место, где записана эта фраза, у
Макарова, к сожалению, не указано.
В высшей степени вероятно, что в аланец скрывается
этнический термин алан. Под этим названием были
известны в прошлом предки современных осетин ". Другим
их названием было ас. Это последнее название в форме яс
было хорошо известно русским и неоднократно
упоминается в русских летописях .
Оба термина, алан и ас, встречаются в самых
разнообразных источниках, но алан более характерен для
западных, a ас — для восточных. Русские, имевшие контакты
и с западом и с востоком, могли знать не только термин
ас(яс), но и термин алан. В свое время я высказал
догадку, что название пива в офенском арго, аланя, содержит
племенное название алан: осетинское пиво издавна
пользовалось большой славой ' '\
Диалектное аланец 'непоседа' — еще один след
названия алан на русской почве. Значение 'непоседа' на
редкость метко схватило характернейшую национальную
черту алан: их необыкновенную подвижность. Еще Аммиан
Марцеллин (IV в.) писал о них: «Аланы... очень подвижны
вследствие легкости своего вооружения» 14.
Говоря об исторических судьбах алан, я отмечал в
свое время: вряд ли можно указать в истории другой
народ, который в течение такого продолжительного времени
был бы непрерывно одержим страстью к передвижениям
и дальним походам 15.
645
Эта особенность алан не укрылась от их соседей,
русских, и их название стало синонимом «непоседы».
Формант -ец в алан-ец вполне на своем месте: -ец и
-ин — излюбленные форманты для этнических названий,
причем они используются и тогда, когда слово само, без
этих формантов, уже является этнонимом: башкирец,
осетинец, ясин, черемисин и т. п.16
русск. (диал.) варзать
'ДЕЛАТЬ ПЛОХО'
Прослеживая семантическую судьбу заимствованных
слов, можно сделать такое наблюдение: если для какого-либо
понятия в языке сосуществуют два слова, одно
оригинальное, а другое заимствованное, то нередко бывает так, что
оригинальное слово имеет нейтральную или
одобрительную окраску, а заимствованное — пейоративную (la loi de
pejoration Бреаля). Это относится как к именам, так и
глаголам. Вот несколько примеров: нем. Ross 'конь' —
франц. rosse 'кляча'; осет. Ъогх 'конь' — груз, (диал.) baxi,
русск. (диал.) бах 'кляча' (Абаев, I с. 256); карел, varia
'жеребенок' — русск. (диал.) варжа 'плохой, невзрачный
жеребенок' (J. Kalima. Die ostseefinnischen Lehnworter im
Russischen. Helsinki, 1919, с. 84); иран. *mrda- (др.-инд.
murdhan-) 'голова' - русск. морда; франц. voyage
'поездка' — русск. вояж, вояжировать с ироническим оттенком;
иран. sam-, cam- 'хлебать' (Абаев, I, с. 321 ел., сюда же груз.
с'апг- 'есть') — русск. (арго) шамать 'жрать'.
Русск. диал. (вят., кур., тамб.) варзать 'делать плохо',
варза 'плохой работник' трудно отделить от иран. varz-
'делать' (авест. иагэг- 'делать', перс, varzidan 'делать',
'совершать', 'исполнять', 'заниматься', 'обрабатывать зем-
JLiyj / .
Это еще один пример пейоративного употребления
заимствованного слова.
Иран. *varz- восходит к и.-е. *werg'- 'делать'.
Исходное значение было, по-видимому, 'чародействовать'. (Это
значение отражено в греч. орукх 'культовое действие' и
в слав. *vorg-y русск. ворожить. Слав. *vorg- (вместо
ожидаемого *vorz-) идет по норме kentum, как ряд других
слов в славянском (см. выше о перекрестных изоглоссах).
Мы видим, стало быть, что и.-е.
*werg'-'(чаро)действовать' представлено в русском двояко: как исконное насле-
646
дие (ворожить) и как заимствование из иранского (вар-
зать). Подобные случаи нередки в истории языков. Так,
иран. cata- (caua-) 'водоем' представлено в осетинском
оригинальным cad 'озеро' и заимствованным (из
персидского через грузинский) c'aj 'колодец'.
Примечания:
1 А б а е в ОЯФ I, с. 56—60.
2 А б а е в В. И. Скифо-европейские изоглоссы. М., 1965, с. 142, ел.
(отрывок «У кого скифы учились земледелию?»).
3 Мало убедительная догадка в кн.: А б а е в I, с. 28 (к и.-е. *edh-
' острый').
4 А б а е в ОЯФ I, с. 221—225.
5 В книге Г.-Ю. Иордана (Hans-Jiirgen Jordan. Zur Geschichte der
russischen Denominativa. Berlin, 1961. с 193 ел.) имеется особая рубрика:
«Verba, deren Grundworter nicht belegt sind». Пример: лебезить и др.
6 См. у Иордана рубрику: «Verba, die unbestimmbare Beziehungen
zu ihren Nomina aufweisen») (Указ. соч., с. 50—55). Пример: (о)шело-
мить и др.
7 «Этимология». М., 1963, с. ПО—115.
8 Jordan H.-J. Указ. соч. с. 18—21, 37—43, 65—69.
9 Миллер В с. Осетинские этюды, ч. 3, М., 1887, с. 39—70;
А б а е в ОЯФ I, с. 41—47.
10 «Святославъ... ясы поб&ди и касогы» («Повесть временных лет»,
I, М.— Л., 1950, с. 47). Другие упоминания см.: Вс. Миллер. Указ.
соч., с. 66—70; V a s m е г III, с. 496 (под словом ясин).
11 А бае в ОЯФ, с. 346.
12 «Hist or i а», XXXI, 21.
13 А б ae в ОЯФ I, с. 81.
14 Об этом см. в моей заметке «Этнические названия на -ец в русском
языке».— «Вопросы культуры речи», 2. М., 1959, с. 83—90.
15 Другие, мало убедительные толкования см.: Vasmer I, с. 170.
«Этимология, 1966», М., 1968.
русское и украинское лудан
В «Толковом словаре» Даля (изд. 3) в гнезде луда
читаем: «Лудан (м. стар.) ткань камка или род камки.
(Пек.); шелковая вещь, как платок, передник; луданный,
лудановый (Пенз.) шелковый».
В «Материалах» И. И. Срезневского слово отсутствует.
Но в документах XVII—XVIII вв. оно встречается часто.
Так, в описи вещей генерал-инженера де Лаваля A698 г.)
упоминается среди прочих «кафтан... камчатой, лудан-
ной» .
В актах Верхотурской съезжей избы, под 1669 г.:
«...Роспись платью... четверы, штаны луданные» (этот и
следующие примеры взяты из картотеки «Древнерусского
словаря» Института русского языка АН СССР).
В Рядной 1694 г.: «Шуба камчатая луданная» (Ак. III,
295).
В Сговорной 1696 г.: «Тьлогрья объяринная,
брусничной цветъ, подложена камкою лауданною таким же цве-
томъ» (Ак. III, 312); «Тьлогрья камчатая лауданная»
(там же).
В Вкладной книге Серпуховского Высоцкого
монастыря 1577—1664 гг.: «...на престолъ одежду луданъ красной»
(Древности. Труды Арх. ком. Моск. Арх. общ. 1899,
стб. 321).
В Смотровых списках (год не указан): «Знамя лудан-
ное желтое, около кайма бьлого лудану» (из картотеки
«Словаря русского языка)».
«Семь аршинъ безъ дву верховъ камки зеленой лудану»
(Акты Юр., 155).
«Марта 31-го принесъ въ Оружейную Палату
Преображенского полку сержантъ Дмитрей Карповъ камки лудану
черной мьрою аршинъ безъ дву вершковъ A695 г.).
(Сборник выписок из архивных бумаг о Петре В. I 149).
«Черкасамъ Великой Государь пожаловал: дано
наказному атаману 40 соболей, 200 рублей, два косяка камокъ
лудану» A709 г.) («Записки Желябужского с 1682 г. по
1709 г.» СПб, 1840).
«...забыли бы простые старцы носить рясы луданныя
да камчатныя да суконныя по три рубля аршинъ»
(«Путешествие во святую землю священника Лукьянова 1710—
1711 г.» «Русский архив», вып. 2, 1863, с. 120).
«...кровать деревянная столярная, в ней испод и по
648
сторонам обито камкою луданною, рудожелтою, а с лица
писана золотом и розными красками» A677 г.)
(И.Забелин. Домашний быт русских царей в XVI и XVII
столетиях, ч. I, с. 553).
«...камки лаудану Краснова цвъту аршинъ съ четвертью»
(Изв. Арх. общ., V, 120).
«...камка луданъ облакотной цвьт» (Опись имущества
кн. Голицыных, стб. 70).
Последняя цитата взята из известной книги Павла
Савваитова 2. В этой книге на с. 7'2 читаем: «Лаудан или
Лудан сорт камки с лоском». На с. 46 перечисляются
сорта камки: «...адамашка, кормазин, куфтерь, лаудан или
лудан...»
Хорошо известно слово лудан и на украинской почве.
В «Словаре украинского языка» Б. Д. Гринченко (II,
с. 379) лудан определяется как «род блестящей материи».
•В документе 1729 г. приводится список вещей,
похищенных разбойниками у стародубского протопопа Федора
Подгурского («Реестръ сколько и яюе пожитки зъ двора
моего загородного стародубовскаго напавшие разбойники
побрали»). Среди других там значатся: «Кафтанъ новый
блакитного лудану середней руки... кунтушъ лудану
вишневого дванадцать аршинъ... кунтушъ буракового лудану
великой руки, ...лудану блакитного полкосяка, ...червоного
лудану локоть чтири...» 3.
К первой половине XVIII в. относится и другой
документ — счет портного из местечка Воронеж за пошитую
некоему сотнику одежду («Реестр мне Карпу, кравцю для
ради памъяти на сотника воронижского моного одежи
пошив»). В нем, между прочим, написано: «...сотниковне
пошивъ (каптанъ) лудановии соломъястий, ...сотнице
пошивъ гусарку лудановую на бьлкахъ... лудановий
(каптанъ) попелястий переправлявъ и подшивавъ сьбьрка-
ми...» 4.
Еще в одном документе 1734 г. значится: «куйтишъ
матки моей матер1алнш лудановт фиялковш зъ сребнимъ
шнуркомъ; цена въ ному десять рублей» 5.
В этимологических словарях это слово сближается
обычно с луда 'верхняя одежда', 'плащ', а последнее
считается заимствованным из германского: др.-сев. loai,
англос. loaa 'грубая верхняя одежда', 'плащ', др.-в.-нем.
lodo, ludo 'дерюга' и пр.6 Связь слова лудан с германской
группой слов справедливо оспаривает К. Тёрнквист .
М. Фасмер выделяет лудан в отдельную от луда словарную
649
статью, но в этимологии, хотя и под сомнением («viel-
leicht»), продолжает держаться германской ориентации8.
Внимательное изучение материала убедило нас, что
лудан 'шелковая ткань', 'шелковый платок' в
этимологическом плане следует полностью отделить от луда 'верхняя
одежда'. Несмотря на видимую близость значений, эти два
слова в употреблении не соприкасались, относясь к разным
семантическим сферам и разным диалектальным ареалам.
Существенно, в частности, что лудан является общим
русско-украинским словом, тогда как луда — только
русским. И если луда 'верхняя одежда', 'плащ' ведет с
очевидностью к германским словам с тем же значением, то для
лудан надо искать другой этимологии, твердо держась
значения 'шелковая ткань', 'род камки' (камка — цветная
шелковая ткань с узорами).
Созвучное слово с этим значением мы действительно
находим в кавказских языках: адыг. laudan, черк. loudan 9,
абазинск. laudan 10, осет. (дигорский диалект) l?wdan?
'вид шелковой ткани', 'шелковый платок' .
Полное совпадение значения и формы говорит о том,
что русско-украинское лудан нельзя отделить от западно-
кавказского laudan. Субституция дифтонгического
сочетания простым гласным в заимствованных словах
закономерна для русского. Весьма сущестенно, что в документах
сохранились обе формы: не только лудан, но и лаудан
(см. выше). Не может быть и речи о случайном совпадении
западнокавказских и русско-украинских фактов. Вопрос
лишь в том, кто у кого заимствовал. Поскольку на
славянской почве лудан не этимологизируется, а германское
происхождение более чем сомнительно, естественна мысль,
что слово вошло в украинский и русский из языков
Кавказа. Но из каких?
Приведенные выше абазинское и осетинское слова
сами заимствованы из адыгских. Вероятно* из адыгского
(черкесского, кабардинского) идет и украинско-русское
лудан. Но этимологизируется ли laudan на адыгской
почве? По-видимому, да. Во второй части имеем хорошо
известное адыгское (черкесское, кабардинское) dana
'шелк', 'шелковая ткань'. Первая часть (Ши), насколько
мы могли выяснить, в настоящее время уже не
осмысливается. Но об этом элементе можно высказать следующую
догадку. Одним из торговых пунктов на Черноморском
побережье, через которые адыги поддерживали связи с
другими причерноморскими странами, был Лоо (Laua)
650
северо-западнее Сочи. Весь этот район, как известно, до
60-х годов прошлого века был населен адыгскими
племенами. В числе других товаров через Лоо поступали к
адыгам также шелковые ткани из Закавказья и Турции.
Сочетание lau-dan(a) означало, стало быть, 'лоовский шелк',
'шелк, доставленный из Лоо' |2.
Что шелк в большом количестве импортировался в
районы Западного Кавказа, об этом говорят прежде всего
археологические данные. Шелковые ткани — обычная
принадлежность женских погребений Кабарды XIV—.
XVII вв.13. Точных данных о размерах этого импорта
до XVIII в. не имеем. Зато для XVIII в. мы располагаем
ценным исследованием французского автора М. Пейсоне-
ля, лично обследовавшего состояние торговли на
черноморском побережье Кавказа («Traite sur le commerce de la
mer Noire». Paris, 1787). В главе «Ввозная торговля Чер-
кессии» на основе обследования некоторых черноморских
портов он сообщает следующие цифры импорта шелка в
год: «4—5 тысяч ок.14 шелку цветного. Столько же шелку
сырцового... Около ста ок. шелковых шнурков» 15.
С присоединением Кабарды к России (XVI в.)
оживились сношения русских с адыгскими племенами 16. Через
адыгское посредство к русским доходили и некоторые
товары из черноморских портов. В этот период и могло
произойти заимствование из адыгского в русский слова
лудан. Добавим, что лудан — не единственное адыгское
заимствование в русском. Из этого источника идут также
шашка, абрек, нарзан 17.
Примечания:
1 Борисов Л. Антоний де Лаваль. По неизданным документам
Воронежского архива. «Русский вестник», 1890, декабрь, с. 14.
2 Савваитов Павел. Описание старинных русских утварей,
одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, в азбучном порядке
расположенное. СПб., 1896, с. 47.
3 «Бытовая малорусская обстановка в документах XVII—XVIII ст.»
«Киевская старина», т. XIX, 1887, октябрь, с. 352, 354.
4 Там же, с. 355.
5 Там же, с. 356.
6 См.: В е г n e k е г, I, с. 743; Преображенский, I, с. 474.
7 Thornqvist С. Studien uber die nordischen Lehnworter im Rus-
sischen. Uppsala — Stockholm, 1948, c. 240 и ел.— Здесь приводится и
651
румынское laudan, заимствованное из украинского. Предположение о
персидском происхождении слова, которое вслед за Миклошичем делает
К.Тёрнквист, лишено оснований: в персидском нет такого слова.
8 V a s m е г II, с. 66.
9 Черкесскую форму нам любезно сообщил А. Гукемух.
10 «Труды Абхазского научно-исследователь. ин-та». т. XXIII, с. 170.
1 ' В словаре В. Ф. Миллера это слово дается в сочетании с iz?lu
'шелк' (л?уданаЫз?лу 'шелковый платок'; см.: В. Ф. M и л л е р. Осетин-
ско-русско-немецкий словарь, II, Л., 1929, с. 768). Но нам встречалось
и l?wdan? отдельно.
12 Морфологически труднее связать первую часть (Ши) с глаголом
1эп 'красить'.
13 См.: «История Кабарды». М., 1957, с. 31.
14 Окка — турецкая мера веса, равная 1,225 г.
15 Цитирую по русск. пер.: М. Пейсонель. Исследование
торговли на черкесско-абхазском берегу Черного моря в 1750—1762 гг.
Краснодар, 1927, с. 23.
16 «Со второй половины XVI в. и особенно в XVII в. стали
развиваться экономические связи рядовых кабардинцев с гребенскими
казачьими городками и с Терским городом... Товары, доставлявшиеся
феодалами (кабардинскими — В. А.) иногда были не только местными,
северокавказскими, но и закавказского и иранского происхождения»
(«История Кабарды», с. 47).
17 Л. Г. Лопатинский сопоставлял также украинское джигун 'повеса'
с кабардинским gegun 'шутить', 'играть' («Сборник материалов для
описания местностей и племен Кавказа», вып. XII, отд. 2. Тифлис, 1891,
с. 53—54).
Этимология. Исследования по русскому и другим языкам. М., 1963.
\
I.
*~ русское абрек
С тридцатых годов прошлого века, когда в русскую
литературу прочно вошла кавказская тема, русский
литературный язык обогатился новым словом: абрек. А. Мар-
линский и М. Лермонтов были если не первыми
писателями, пустившими его в оборот, то, во всяком случае,
наиболее способствовавшими его популяризации '.
В «Аммалат-Беке» Марлинского абрек встречается не-
652
однократно. Например: «Абреки, чтоб не разорваться в
натиске, связывались друг с другом поясками, и так
бросились в сечу...». У Лермонтова в «Бэле»: «Говорили про него
[Казбича], что он любит таскаться за Кубань с абреками,
и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья...»,
«...верно, пристал Азамат к какой-нибудь шайке абреков,
да и сложил буйную голову за Тереком, или за Кубанью...»;
«...я ездил с абреками отбивать русские табуны...» У Л.
Толстого в «Казаках»: «...казаки каждый час ожидали
переправы и нападения абреков с татарской стороны...» «Объезд,
посланный для розыска абреков, застал несколько горцев
верст за восемь от станицы, в бурунах. Абреки засели
в яме, стреляли и грозили, что не отдадутся живыми».
Встречается абрек и у современных писателей.
«— Кто — мы? Конечно,— разбойники. Мы дома
жжем, людей режем, деньги себе берем. Мы абреки».
(А. Толстой. Необыкновенное приключение Никиты
Рощина) ; «Но пришел отец Ахмета, потомок известных
абреков, в Адыгею как переселенец отсюда, из предгорной
Черкесии...» (А. Первенцев. Кочубей) .
Легко убедиться из приведенных цитат, что словом
абрек обозначалось определенное понятие из
кавказской действительности. Оно мыслилось всегда как
неразрывно связанное с Кавказом и не применялось к
аналогичным понятиям русской действительности, не
становилось синонимом русских слов разбойник, бродяга и т. п.
При определении содержания слова абрек у русских
писателей и лексикографов можно заметить две
тенденции. Одну можно назвать романтической, другую —
реалистической. Начало романтическому представлению об
абречестве положил Марлинский в «Аммалат-Беке»: «Но
что такое абреки, Джембулат? — Это не легко тебе
растолковать. Вот видишь: многие из самых удалых
наездников иногда дают зарок, года на два, на три, на сколько
вздумается, не участвовать ни в играх, ни в веселиях, не
жалеть своей жизни в набегах, не щадить врагов в битве,
не спущать ни малейшей обиды ни другу, ни брату
родному, не знать завета на чужое, не боясь преследований
или мести...— Одни [берут такой зарок.— В. А.] просто
из молодечества, другие от бедности, третьи с
какого-нибудь горя».
В этой тираде абрек выступает в ореоле удальства,
героизма, отреченности, фанатизма. Трудно догадаться,
что речь идет о людях, живущих разбоем. Романтический
653
образ абрека, созданный Марлинским, оказал сильное
влияние на последующих писателей и лексикографов.
Е. Э. Дриянский в произведении, посвященном псовой
охоте, так характеризует ловчего (руководителя псовой
охоты): «Ловчий по призванию, это абрек, сорви-голова,
жизнь-копейка! Человек на диво другим, человек по воле,
по охоте обрекший себя на труд, на риск, на испытание, на
истязание...» («Записки мелкотравчатого»).
В. Даль толкует слово абрек следующим образом:
«...отчаянный горец, давший срочный обет или зарок не
щадить головы своей и драться неистово; также беглец,
приставший для грабежа к первой шайке» 3. Здесь даются
два определения, из которых первое идет от Марлинского,
второе, возможно, от Лермонтова (ср. приведенное выше
место из «Бэлы»: «...верно, пристал к какой-нибудь шайке
абреков...»). Под обаянием Марлинского находится еще
академический «Словарь русского языка» 1891 г., который
так определяет слово абрек: «кавказский горец, давший
срочный обет итти бесстрашно на смерть, мстить кровю
за всякую обиду и т. п.».
Более реалистическое понимание слова абрек как
«разбойник» находим уже у Лермонтова (см. приведенные
выше места из «Бэлы»). Л.Толстой в «Казаках», впервые
упоминая слово абрек, в примечании пишет: «Абреком
называется немирной чеченец, с целью воровства или
грабежа переправившийся на русскую сторону Терека». Здесь
точно передано содержание, которое вкладывалось в слово
абрек русскими, участвовавшими в кавказской войне.
Так же понималось слово абрек в среде терского
казачества, один из представителей которого М. Караулов
в статье «Говор гребенских казаков» дает такое
определение: Абрек «1) отщепенец, изгой (у туземных племен),
человек, порвавший всякие связи с общиной и
действующий во всем на свой страх, промышляющий разбоем,
головорез, отсюда абреки, 2) отважные удальцы,
перебиравшиеся на левый берег Терека (до завоевания Северного
Кавказа) в казачьи земли и врасплох нападавшие на
беспечных жителей, занятых полевыми работами и т. п.;
разбойники из туземцев (чеченцев, ингушей,
кабардинцев) » 4.
Под влиянием Лермонтова, Л. Толстого, может быть,
Караулова распространилось неточное понимание абрече-
ства как явления, связанного исключительно с кавказскими
войнами (в действительности, как увидим ниже, это слово
654
и понятие бытовали у кавказских народов задолго до
кавказских войн.). В советское время набеги горцев на
русские поселения стали рассматриваться уже не как
хищничество, а как освободительная война против царских
колонизаторов. В связи с этим соответственно изменилось
толкование слова абрек в наших словарях: «разбойник»
превратился в «партизана». В Толковом словаре русского
языка под редакцией Д. Н. Ушакова и в Академическом
словаре русского языка 1948 г. так и сказано: «Абрек —
в эпоху завоевания Кавказа царской Россией — горец-
партизан» 5.
Отметим еще, что и в словаре, составленном С. И.
Ожеговым (изд. 1949 г.) абрек определен неточно как
«воинственный горец». Абреки, как правило, бывают
воинственны, но не всякий воинственный горец зовется абреком.
Если мы обратимся к кавказской действительности
и спросим, кого называли абреком кавказские народы,
у которых есть это слово, то мы должны будем признать,
что наиболее точное определение будет — «разбойник».
Абрек — это прежде всего лицо, живущее разбоем. Но как
и у других народов, разбойник — не всегда резко
отрицательная фигура. Абречество очень часто было формой
социального протеста. Угнетенный, не имея сил в
открытую бороться с угнетателями, «убегал в абреки» и вел
беспощадную борьбу с обидчиками, пользуясь поддержкой
и симпатией народных масс. О таких абреках составляли
хвалебные песни. Абреческие песни широко
распространены у кавказских горцев и составляют существенную
часть героико-песенного жанра.
В старое время, в условиях родового строя и
межродовой вражды одним из источников, питавших
абречество, была кровная месть. Если представитель слабого
рода становился кровником более сильной фамилии, ему
грозило неизоежное физическое уничтожение.
Единственным спасением для него, если не удавалось добиться
примирения, было — или переселиться куда-нибудь
подальше, или бросить все и стать абреком.'
Таким образом, абречество было, в условиях старого
кавказского быта, значительным социальным явлением,
имевшим корни в объективной действительности, формой
протеста против общественной несправедливости, насилия
над личностью. Но все это не снимало основного признака
абрека — что он жил разбоем. Тем более, что и обычный
грабитель, не имевший ничего общего с типом «благо-
655
родного разбойника», Робин Гуда или Дубровского, также
назывался абреком.
Установив значение слова абрек — «разбойник», мы
можем теперь заняться его этимологией.
История появления и распространения этого слова
в русской литературе не оставляет сомнения, что оно
вошло в русский язык из языков Кавказа. Только в виде
курьеза можно вспомнить «этимологию» В. Даля, который
(правда, под вопросом) производил абрек от абрекаться 6.
В языках Кавказа слово абрек в разных вариантах
имеет действительно весьма широкое распространение:
черкес, abreg, кабард. abrag, осет. (иронский диалект)
abyr?g, (дигорский диалект) ab?reg, abreg, ингуш, ab?rg,
ч'ечен. oburg, авар, aburik, груз, (в диалектах) abragi,
abrak'i, ap'arek'a 7, мегр. abragi, сван, ambreg.
Встают два вопроса: 1) из какого именно кавказского
языка вошло абрек в русский язык и 2) какова
этимология (происхождение) слова.
Преображенский в «Этимологическом , словаре
русского языка» утверждает, что русское абрек заимствовано
из осетинского. При этом он ссылается на устное
сообщение В.Ф.Миллера. Версия о заимствовании из
осетинского повторена в словаре под ред. Ушакова и в Академи-.,
ческом словаре 1948 г. <
М. Фасмер в «Этимологическом словаре русского
языка» 8 считает более вероятным, что и русское и осетинское
слово усвоены из черкесского, но тут же приводят и
осетинскую этимологию В. Ф. Миллера.
Следует сказать, что если бы даже мы согласились с
Миллером, что слово этимологизируется на осетинской
почве (что, как мы увидим, неверно), заимствование в
русский именно из осетинского мало вероятно.
Во-первых, обе осетинские формы (abyr?g и ab?reg) в звуковом
лтттлтттаттии itu г>тт/Л пттл rmTTvrvnfTT \s r\\ir*r*v sr?ri/?ls ХУГ\ Dr» CSX/ Г\\4
случае меньше, чем черкесское abreg.
Кроме того, реальная обстановка, в какой происходило
усвоение в русский язык этого слова, говорит против
осетинского языка как непосредственного источника.
Несомненно, что слово вошло первоначально в русскую в о е н-
н у ю и казачью среду в период кавказских войн в
связи с нападением абреческих партий. Но в этих
нападениях как раз осетины почти не участвовали. Со времени
присоединения Грузии к России осетины считались
«мирными» и сколько-нибудь заметного участия в действиях
656 ,
против русских не принимали. М. Караулов, отлично
знавший обстановку, говорит об абреках «из чеченцев, ингушей,
кабардинцев» (правильнее черкесов), не упоминая об
осетинах. Это, конечно, не случайно.
Наиболее вероятным непосредственным источником
для русского абрек следует признать и по звуковому
облику и с точки зрения исторических реалий черкесское
abreg. Но этим еще ничего не сказано об этимологии
слова.
Попытку этимологического разъяснения слова абрек
сделал В. Ф. Миллер 9. Он производит осетинское abyr?g
от глагола byryn «ползти», abyryn «уползти», видя в abyr?g
причастное образование со значением «ползущий» (для
точности следует сказать, что abyr?g значило бы
«уползший»).
Этимология вызывает серьезные сомнения уже со
смысловой стороны. Конечно, разбойнику случается и
ползти, но нельзя сказать, чтобы это был его
отличительный признак. Особенно мало это подходит к кавказским'
абрекам, которые не зря рисовались как «удалые
наездники» (Марлинский), а не ползающие существа.
Вполне очевидной оказывается несостоятельность
миллеровской этимологии с формальной стороны. Дело в
том, что если бы abyr?g происходило от byryn «ползти»,
то в дигорском диалекте мы имели бы соответственно
rabur?g (приставка а- иронского диалекта отвечает га-
в дигорском, а основа глагола имеет огласовку и: bur-).
В дейстительности имеем ab?reg, что не может быть
поставлено ни в какую связь с bur- «ползти» 10.
Результатом какого-то недоразумения является
этимология, которую дает в цитированной выше работе о
говоре гребенских казаков М. Караулов: «араб, абрак
«смелейший» от барака. В арабском есть корень brk «бла-
гославлять» и brq «блистать», но о таком же корне со
значением «смелый» и т. п. ничего не известно.
Мы думаем, что слово abreg и его разновидности
родственны другому известному в некоторых языках Кавказа
слову: avara «бродяга» (груз, avara, армян, avara, ср. груз.
avari, армян, avar «добыча»). Происхождение avara
хорошо известно. Оно усвоено из новоперс. avara «бродяга» ".
Новоперс. avara восходит закономерно к среднеперсид-
скому *aparak «грабитель» от apartan «грабить». К этой
среднеперсидской форме и восходят, в конечном счете,
разновидности слова абрек: груз, aparek'a, abrak'i, осет. ab?reg,
черк. abreg и пр.12
657
Иначе говоря, персидские слова были усвоены
языками Кавказа дважды. Сперва в среднеперсидский период
из *aparak; отсюда формы abrak, abarek, арагек и др.;
потом в новоперсидский; отсюда груз., арм. avara:
ср.-перс. *aparak —>- новоперс. avara
груз, ap'arek'-, abrak-
осет. ab?reg груз, avara
черк. abreg и пр. арм. avara
Примечания:
1 Наиболее ранее известное нам упоминание об абреках
относится к 1743 г.: «В самом том месте живут до тридцати дворов люди
и по-кабардински называют обрек. А оные суть беглецы ис кабардинцев
же и из кумык и такие, которые учинили убийства или другие важные
продерзости и оттого збежали в Татартуп...» — см. «Сообщение кизляр-
ского дворянина Алексея Тузова в Коллегии иностранных дел...», в кн.
«Материалы по истории Осетии. (XVIII век)», т. I («Изв. Сев.-осет.
научно-исслед. ин-та», т. VI), Орджоникидзе, 1934, [шмуцтит.: 1933], с. 34.
2 Выражаем благодарность работникам картотеки русского словаря
Института языкознания АН СССР в Ленинграде, любезно
предоставившим нам свои материалы по слову абрек.
3 Даль В. Толковый словарь великорусского языка, т. I, М.,
1935, с. 2.
4 Караулов M. А. Говор гребенских казаков, Сб. ОРЯС, т. LXXI,
№ 7, 1902, с. 46.
5 Ср. противоречивые оценки движения горцев Кавказа в первом
и втором изданиях БСЭ. В БСЭ ', т. 61, с. 804 говорится о «национально-
освободительном движении горских народов, направленном против
колониальной политики царской России». В БСЭ 2, т. 19, с. 3 и 269 об этом
же движении говорится, что оно «носило реакционный характер...,
поддерживалось Турцией и инспирировалось Англией», что боровшиеся
против царских войск горцы представляли «агентуру правящих кругов
султанской Турции и капиталистической Англии».
6 В 4-м издании словаря Даля редактор Бодуэн де Куртенэ
сопровождает эту «этимологию» ироническим восклицательным знаком.
7 В литературном грузинском языке более употребительны другие
слова: qaiayi, avazak'i «разбойник».
8 M. V a s m е г. Russisches etymologisches Worterbuch, Bd. I. Lief. 1,
Heidelberg, 1950, с. 2.
9 Сперва в ЖМНП A886, октябрь, с. 249—250), потом повторно в
его работе «Die Sprache der Osseten» («Grundriss der iranischen
Philologie», 1903, c. 62).
658
10 Шмидт Г. (G. Schmidt. Uber die Kaukasischen Lehnworter
des Karatschajischen. «Liber Semisaecularis Societatis Fenno-Ugricae»
Helsinki, 1933, c. 466 и ел.) также отвергает этимологию Миллера, указывая
как на последний источник на грузинское abrak'i, мегрельское abragi.
Однако последние сами нуждаются в разъяснении.
" Из персидского оно попало в другие языки, в том числе
новоиндийские и в настоящее время получило широкую известность благодаря
индийскому фильму «Бродяга» («Avara»).
12 Гюбшман Г. (H. H u bs с h m a n n. Etymologie und Lautlehre
der Ossetischen Sprache. Strassburg, 1887, c. 119) с неоправданным
сомнением относится к связи между abyr?g и avara.
Вопросы языкознания, 1958, № 1.
русское слам
Слам — слово жаргонное. В старое время оно было
употребительно в речи маклаков, перекупщиков,
биржевых дельцов, мазуриков и пр. Основное значение —
«барыш, добыча», затем — «доля барыша или добычи,
отделяемая конкурентам в виде отступного или
представителям власти в виде взятки» и т. п.
Даль дает такое объяснение: «срыв за то, чтобы
отстать, не набивать цену, передать взятую работу и пр.
Взять сламу» . Иначе говоря, Даль имеет в виду более
узкое значение «отступные». В «С.-Петербургских
ведомостях» за 1870 г. № 36 приводится употребление этого
слова специально в речи маклаков: «Маклаки-торговцы
покупают продаваемое имущество компанией или, по
употребляемому ими выражению, в сламу... Если на
продажу является посторонний покупатель, то компания
маклаков предлагает ему тот час же идти с ними в слам
или взять отступного и не торговаться».
В силу своей жаргонной специфики слово слам не
получило доступа в «большую» литературу. Но все же оно
встречается у некоторых писателей, знакомых с бытом тех
слоев городского населения, в среде которых бытовало
это слово,— у М. Е. Салтыкова-Щедрина, В. В.
Крестовского.
659
«— Ишь, ишь, ишь! адвокатов-то что собралось! —
возопил он [Прокоп].— Это они слам делят!
— Какой еще слам!
— Такой и слам, что один какой-нибудь возьмет всю
тушу за себя, примерно хоть за сто тысяч — ну, пятьдесят
себе оставит, а пятьдесят на драку. (Н. Щедрин.
Культурные люди); «Ты с гостей, с мужчин бери сламу, а с
нашей сестры грешно; нам откуда взять!» (В. В. К р е с т о в-
с к и й. Петербургские трущобы) ; «Нынче Летучий угарно
прокучивал выгодный слам с большого воровского дела,
направо и налево, без толку соря своими деньгами»
(там же).
У Крестовского же встречаются «блатные» выражения:
слам тырбанить в смысле «распределять вырученную
сумму между участниками»., слам юрдонить «добычу
прогуливать» и др.
Составитель новейшего русского этимологического
словаря М. Фасмер наряду с устойчивой лексикой
русского литературного языка широко, хотя и несколько
бессистемно, ввел в свой словарь также жаргонные и
областные слова. Дано у него и слово слам. Фасмер полагает,
что это слово образовано от сломить («zu c- und ломить
«brechen') 2. Он исходит, очевидно, из семантики «дележа
(добычи)». Однако, как видно из реального употребления
слова, стрежнем его семантики является не идея «дележа»,
а идея «барыша, добычи». От Фасмера ускользнула
очевидная связь слова слам с тюркским aslam «выгода»,
«прибыль», «барыш», «проценты» . Это тем более странно,
что Фасмер дает также областное русское ослам «барыш»,
«взятка», «проценты», «магарыч», правильно производя его
от тюркского aslam.
Нет сомнения, что ослам и слам — это два рефлекса
одного и того же тюркского слова, бытовавшие в разной
среде и несколько разошедшиеся и по значению, и по
внешнему облику. Расхождение значений настолько
незначительно, что на нем не стоит останавливаться.
Что касается отпадения начального гласного в слам,
то такое явление не чуждо русскому и вообще славянским
языкам, в частности в заимствованных словах. Например,
лошадь из тюркского alasa, лачуга из тюрк, alacuy 4 (ср.
др.-русск. алачуга). Еще более показательно славянское
слон (с начальной группой ел- как слам). Объяснение
слон из прислоняться (Преображенский и др.), так как,
мол, слон спит, прислонившись к дереву, явно
660
искусственно. Оно смахивает на объяснение абрек от
обрекаться. Наиболее убедительным из предложенных
этимологии для слова слон остается заимствование из
тюркского aslan «лев», и Фасмер прав, отдавая
предпочтение этой этимологии 5.
Кажется странным перенос значения «лев» -*¦ «слон»,
но подобные семантические курьезы бывают с названиями
животных, когда данная среда весьма смутно представляет
их, так как соответствующие животные являются для нее
экзотическими. Фасмер приводит в виде аналогии
славянское название верблюда, которое через германское
посредство восходит к названию слона (гр. гХгц>а\т-). Еще
более разительную параллель можно привести из
осетинского языка, где название зубра dombaj,
засвидетельствованное в этом значении в ряде кавказских языков, в
современном употреблении стало означать... «л е в»!
Связующим семантическим звеном явилось несомненно
смутное представление о каком-то мощном, сильном животном.
Это же представление лежит в основе передвижения
значения «лев» -*- «слон» в славянском.
Нам представляется, что связывать русское слам с
сломить неправильно; слам восходит к тюркскому aslam
с такой же судьбой начального гласного, как в слон из
aslan 6.
Примечания:
' Даль В. Толковый словарь, т. IV, с. 218.
См. Я. Г р о т. Филологические разыскания, ч. I, 4-е изд., СПб.,
1899, с. 425.
3 М. V a s m е г. Russisches etymologisches Worterbuch, Bd. II. Lief. 18,
Heidelberg, 1955, с. 657.
4 Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий, т. I, вып. 2., СПб.,
1889, стб. 547.
5 Vasmer M. Указ. словарь, Bd. II, Lief. 18, с. 663 и ел.
6 Любопытно, что тюркское aslan «лев» и в осетинских фамильных
именах отложилось в двух формах: asl?n (фамилия Asl?nat?) и slon
(фамилия Slonat?).
Вопросы языкознания, 1958, № 1.
661
ДРЕВНЕРУССКОЕ КЪрЧий «КУЗНЕЦ»
и топоним Керчь
В большинстве славянских языков наименование
кузнеца представляет простое образование от глагола ковать:
ст.-слав. коваль, ковачь, др.-русск. коваль, ковачъ, укр.
коваль, белорусск. коваль, польск. kowal, чеш. kov'ak, covac,
серб, kovar, kovac, болг. ковач. Формы коваль, ковач
употребительны и в русском языке, в диалектах и говорах.
Даль отмечает коваль для южных говоров, а ковач —
для восточных. У него же дана форма ковец для
псковского. В русском литературном языке закрепилось другое
слово — кузнец. Оно образовано от того же глагола ku-,
kov-, но не непосредственно, а через производное *ku-sni-
«кузня» '. Наконец, в древнерусском известно еще одно
название для кузнеца, которое не может быть поставлено
ни в какую связь с ковать и имеет какое-то иное
происхождение: кърчии, корчии. В древнерусском оно было
довольно обычным, употребляясь наряду с кознець (кознъць,
коузнъць) и ковачь.
Заимствуем из «Материалов...» И. И. Срезневского
несколько случаев употребления слова кърчии: «Бь же нькто
моужь в веси той искоусенъ корчи» (Жит. Фед. Сик. 27.
Мин. Чет. апр. 396); «Яко же жельзо кръчии...» (Ио. Леств.
XII в.); «Кол'ма биваема есть наковална млатом ej корч1а»
(Жит. св. XVI в.); «...кръчик, иже делают' коуюжде вещь»
(Ио. экз. Шест. 1263) 2. Производным от кърчии является
др.-русск. кърчииница «кузница» 3.
Этимологию слова кърчии нельзя считать прочно
установленной. Большинство авторов (Фик, Остгоф, Бернекер,
Эндзелин, Траутман, Педерсен) усматривают в этом слове
и.-е% корень *kwer- «делать» и приводят др.-инд. krnoti,
karoti «делает», литов. kuriu, kurti 'строить', кимр, peri
'делать', prydydd 'поэт', ирл. creth «поэзия» 4. Эту
этимологию не принимают Брюкнер и Сольмсен, на которого
ссылается Брюкнер 5. Разумеется, от глагола с
абстрактнейшим значением «делать» можно вывести все, что
угодно, в том числе «кузнеца» и «поэта», поскольку и кузнец, и
поэт что-то делают. Однако в ближайше родственных
балтийских языках можно было бы ожидать большей
семантической близости. От литов. kurti «строить» до
«кузнеца» смысловая дистанция слишком велика.
Известное неудовлетворение, которое оставляет дан-
662
ная этимология, побудило Кнутссона предложить другое
разъяснение. Он видит в кърчии заимствование из
тюркского, имея в виду тюрк. qu(r)c «острый», «сталь» и
суффикс действующего лица -ci. Исходное значение было бы
в этом случае «кузнец по стали» 6. Этимология была бы
убедительной, если бы или на тюркской почве встречалось
слово kurcci «кузнец по стали» или в славянском —
заимствованное тюркское kure (кърч-) в значении «сталь». Ни
того, ни другого нет в действительности, т. е. не хватает
необходимого посредствующего звена. К тому же для
русского заимствование тюркского kure «сталь» было бы
мало оправданным излишеством, так как в нем имелось
для «стали» оригинальное уклад и заимствованное из
тюркского булат. Нет также никаких указаний, что в
древнерусском кърчии обозначало кузнеца именно по
стали.
В целом вопрос о происхождении слова кърчии нельзя
считать решенным, и новые попытки его разъяснения с
привлечением новых материалов представляются поэтому
нелишними. Нам кажется, что лучшие перспективы для
этого открывает привлечение осетинского kurd «кузнец».
При учете древней скифо-славянской близости полное
совпадение значения и чрезвычайная близость формы
(кърчии можно возводить к *kur-tjo-, а осет. kurd к
*kur-to-) вряд ли могут быть случайными. Скорее всего,
перед нами одна из скифо-славянских изоглосс.
Осет. kurd нельзя фонетически связать с и.-е. *kwer-
«делать». Здесь следует исходить из корня *kur. Такой
корень действительно имеется на иранской почве со
значением «огонь», «кузнечный горн» и пр. Мы имеем в виду
прежде всего перс, kiira «кузнечный горн», «кузница»,
«очаг». Среднеперсидская форма восстанавливается в виде
*kurak. Армянское krak (из kurak) «огонь», которое Гюб-
шман считает оригинальным армянским словом 7, могло
быть заимствованием из среднеиранского. Далее сюда
относятся др.-инд. kiidayati «жжет», «палит» (из *kur-d-),
ст.-слав. kuriti «дымить», кигепще «горящие угли», русск.
курить «жечь что-либо, производя дым», курить вино «гнать
водку», укр. печкур «истопник», курачити «выжигать
уголь», словен. kuriti «топить», словац. kurit' «топить»,
литов. kurti «топить», латыш, kurt «топить», гот. hauri
«уголь» (мн. число haurja «горящие уголья»), др.-сев. hyrr
«огонь».
Осет. kurd можно возводить к *kurta-, т. е. рассматри-
663
вать как отглагольное имя от несохранившегося др.-иран.
*киг- «разжигать огонь» и пр. Хотя причастия на -ta
имеют обычно пассивное значение, но есть вполне
надежные случаи активного значения; например, sinon-xast
«виночерпий», буквально «носящий (xast) кубок (sinon) 8.
Можно было бы исходить также из имени действующего
лица *kurtar-, но в этом случае во множественном числе
мы ожидали бы kurd?lt? (как от mad «мать» — mad?lt?),
в действительности же имеем kurdt?. Во всяком случае
отглагольное происхождение формы kurd вряд ли может
вызвать сомнение, а таким глаголом мог быть только
глагол *киг- «разжигать огонь», выступающий в приведенной
выше группе слов. Но если так, то поиски этимологии
славянского кърчии привели нас, через осетинский и
иранский материал, снова на славянскую почву, к глаголу
kuriti «разжигать огонь». Конечно, нет необходимости
возводить слово кърчии обязательно к индоевропейской
словообразовательной модели (тип *kur-tjo- 9). Если
считать вместе с Бернекером, что kuriti вторичное
образование от къги 10, то кърчии оказывается в ряду таких
отглагольных имен, как зодчий (<^*гьаъсИ) от здать, гончий
от гнать, ловчий от ловить, стряпчий от стряпать и т. п.
Относительно этих образований нет единодушия. А. И.
Соболевский усматривал в них заимствованный тюркский
суффикс деятеля -ci . Другие считают возможным видеть
здесь вторичные образования от имен деятеля на -ъцъ-
(ловъчий от ловьць и т. п.) 12; ср. такие русские пары, как
ловец — ловчий, кравец — кравчий, гонец — гончий,
певец — певчий и др. Бернекер считает кърчии производным
от *кърьць 13, но никаких следов слова *кърьць пока в
памятниках не обнаружено.
Таким образом, словообразовательная сторона нашей
этимологии допускает несколько вариантов. Одной из
возможностей является возведение к * kurt jo- с последующим
ассимилирующим влиянием имен деятеля на -чии. Однако
детали словообразования не имеют для нас здесь особого,
значения. Существенны два положения: 1) др.-русск.
кърчии нельзя отделять от скиф. *kurt- (осет. kurd);
2) в основе этих слов следует видеть не кг- «делать», а
kur- -разжигать огонь».
Семантическая сторона предложенного разъяснения
не может, как нам кажется, вызвать возражения. В работе
кузнеца налицо два важнейших действия: разжигание огня
в горне и ковка металла. Славянские ковач, кузнец и пр.
664
определяют кузнеца по последнему действию, кърчии —
по первому. И в других языках при наречении профессии
кузнеца выступает на первый план либо то, что он имеет
дело с металлом, либо то, что он имеет дело с огнем. Так, в
персидском обычным словом для кузнеца является ahangar
от ahan «железо». Но наряду с этим есть atasgar, ataskar
«кочегар», «кузнец» от atas «огонь».
Но если в славянском с давних пор кузнец назывался
терминами, производными от ковать (ковачъ, коваль,
кузнец), зачем понадобилось еще слово кърчии? Ведь
известно, что язык не любит излишеств, он, как правило,
не терпит двух слов с совершенно идентичным значением,
в особенности, в области материальной культуры.
Возможно, между кърчии и ковач и пр. было какое-то
различие значения. Оно, несомненно, было связано с какими-то
реальными различиями в ремесле кузнеца.
Археологические данные позволяют думать, что в
эпоху меди обработка металла состояла не в ковке, а в плавке
и литье. Лишь с появлением железа, ковка стала основным
элементом работы кузнеца . Естественно, что для
наименования кузнеца, занимающегося преимущественно
плавкой и отливкой металла, совершенно не подходили
производные от глагола ковать. Зато огонь был и в этом случае
необходим и неотъемлемым элементом кузнечного дела.
Можно высказать догадку, что кърчии, производное от
*kur- «огонь», и было первоначально обозначением
кузнеца, занимавшегося не ковкой, а плавкой и литьем металла.
В этом случае этот термин мог быть очень древним и
общеславянским, лишь со временем вытесненным
образованиями от ковать. Иначе говоря, кърчии — это кузнец
эпохи меди и бронзы, тогда как коваль, ковач, кузнец
отражают новый этап кузнечного ремесла, связанный уже
с эпохой железа.
Город Керчь в Крыму назывался в древнерусском
Кърчевъ, Корчевъ. В известной надписи на Тмуторокан-
ском камне читаем: «В лъто 6576 (= 1068) индикта
6 Глеб князь мерил море по леду от Тмуторокани до
Кърчева — 8054 сажен» . Это название возводят к русск.
корчева «место, расчищенное от пней и кустарника», ср.
корчевать 16, сопоставляя с названием городка Корчева
в Калининской области (ныне на дне Московского мо-
ря) 17.
Перед нами неплохой пример того, к каким курьезам
665
приводит игнорирование реалий в этимологических
разъяснениях . Можно подумать, что русские, появившись
впервые в районе Керчи, нашли здесь дремучий лес, и первой
их заботой было корчевание пней для расчистки земли под
поселение. Исторические и археологические данные
рисуют совсем другую картину. Район Керчи был одной из
древнейших культурных областей, какие известны на
территории Советского Союза. Еще в VI в. до н. э. греческие
колонисты, выходцы из Милета, заложили на месте
нынешней Керчи город Пантикапей (Uavrixanaiov). С
первых веков нашей эры этот город под названием Боспора
был столицей Боспорского царства. К первому веку н. э.
относится описание Страбона VII 4: «Пантикапей
представляет собой холм, со всех сторон заселенный (negioi-
xoofxevoc)». Область Пантикапея Страбон рисует не как
богатую лесом, а как богатую хлебом (очтофосюс) [i.
О каких-либо лесных зарослях в районе города ничего
не известно. Зато известно, что керченская земля была
богата железной рудой, а город славился ремеслами.
Русским в древнем Пантикапее должно было броситься
в глаза не обилие пней, а обилие железа и кузнецов.
Совершенно очевидно, что Кърчев — производное от кърчии
«кузнец» и на современном языке означает «Кузнецк».
Нынешнюю форму Керчь нельзя рассматривать как
органическое развитие на русской почве древнерусской
формы Кърчев 19. Когда, с концом Тмутороканской Руси,
связи русского населения с восточным Крымом временно
были прерваны, русское название Кърчев в устах
нерусского населения было искажено и в виде Керчь снова
вошло в русский язык, но уже без осознания его русской
этимологии, чему способствовало, конечно, то, что слово
кърчии «кузнец» вышло из употребления.
Примечания:
' Ср. Е. Zupitza. Miscellen, KZ, Bd. XXXVII, Neue folge, Bd.
XVII, Hf. 3, Gutersloh, 1901, c. 397.
2 Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского
языка, т. I, М., 1893, с. 1412.
3 Там же.
4 К этой точке зрения присоединяется и М.Г.Долобко, не
приводя, однако, никаких новых доводов в ее пользу (см. его статью
«Славянский суффикс -i-n», «Сборник статей в честь акад. А. И.
Соболевского», сб. ОРЯС, т. CI, № 3, 1928, с. 229).
666
5 Briickner A. Uber Etymologien und Etymologisieren. II, KZ, Bd.
48, Hf. 3—4. Gottingen, 1918, c. 191 и ел.
6 Knutsson К. Zur slavischen Lehnworterkunde, Zfsl Ph, Bd, 4,
Hf. 3—4, 1927, c. 387—388.
7 Hubschmann H. Armenische Grammatik, т. I, Leipzig, 1897,
c 462.
" См. статью «О залоговой недифференцированное™ причастий»
в сб.: В. И. А б а е в. Осетинский язык и фольклор, I, М.— Л., 1949,
с. 570—571.
9 О форманте -tjo см., например, W. V о n d r a k. Vergleichende sla-
vische Grammatik, Bd. I, Gottingen, 1906, c. 444.
10 Berneker E. Slavisches etymologisches Worterbuch, Bd. I,
Heidelberg, 1924, c. 652.
" Соболевский А. Рец. на кн.: С. Б у л и ч. Церковно-славян-
ские элементы в современном литературном и народном языке, ЖМНП,
1894, май, с. 218 первой пагин.
12М е i 1 1 e t A. Etudes sur l'etymologie et le vocabulaire du vieux
slave, pt. 2, Paris, 1905, с 352.
13 Berneker E. Указ. соч., с. 671.
14 M u с h M. Die Kupferzeit in Europa und ihr Verhaltnis zur Kultur
der Indogermanen, 2. Aufl., Jena, 1893, с 353 (приводим по книге:
О. Schrader. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde, 2. Aufl.,
Bd. II, Berlin und Leipzig, 1923, c. 329—330.
15 Цитируем по книге: «Повесть временных лет», ч. 2, М.— Л.,
1950, с. 394.
10 Unbegaun В. Les nomes des villes russes: la mode grecque, RESI,
1936, t. 16, fasc. 3—4, с 226; M. V a s m e r. Russisches etymologisches
Worterbuch. Bd. I, Heidelberg, 1953, с. 552, 636.
17 V a s m e r M. Указ. соч., с. 637.
18 См. В.В.Латышев. Известия древних писателей о Скифии и
Кавказе, т. 1, СПб., 1890, с. 124.
19 Вопреки М. Фасмеру (указ. соч., с. 552).
Вопросы языкознания, 1959, № 1.
русское гривенка,
персидское girvanka
В заключительной части своей известной книги
„Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache"
(Strassburg, 1887) Г. Гюбшман (Н. Hubschmann) дает перечень
заимствованных слов в осетинском. Здесь на с. 123
приводится осет. giranka (dziranka) «фунт», которое
Гюбшман считает заимствованным из грузинского girvanka
«фунт». Дальнейшую историю слова Гюбшман не
прослеживает. Между тем бесспорно, что и на грузинской
(картвельской) почве слово не является оригинальным.
Оно заимствовано из персидского girvanka, girvanka
«фунт» '. Гюбшман был отличным знатоком персидского
языка, и если он не приводит персидского girvanka, то
объясняется это тем, что в персидском литературном
языке это слово не имеет широкого распространения.
Действительно, в большинстве персидских словарей мы
этого слова не найдем. Его нет у Вуллерса, Ягелло, Цен-
кера, Гаффарова, Лэмбтон. В кратком, но дельном
немецко-персидском словаре Ф. Зеттлера (F. Sattler) под
словом „Gewicht" приводятся персидские меры веса
(xarvar, man, miskal, nuxud, gandum), но нет girvanka.
Нет этого слова, судя по имеющимся материалам, и в
таджикском (ср. узб., тадж. qadaq «фунт»).
Однако наличие в персидском такого слова
несомненно. Оно фигурирует в таких надежных
лексикографических трудах, как «Русско-персидский словарь» Р. А. Га-
лунова (т. II, М., 1937) и «Персидско-русский словарь»
Б. В. Миллера (изд. 2-е, М., 1953). За пределами
персидского, грузинского и осетинского это слово
регистрируется в ряде языков Кавказа (арм. grvanka, лезг. gir-
wenka, дарг., авар, giiavka, чечен, gierka, ингуш, geraka,
кабард. geronka и др.); в некоторых тюркских (телеутск.,
кумандинск. kuranka 2, татарск. guranka 3, чуваш. J?renke,
kerepenk'e).
Однако ни на персидской, ни на тюркской, ни на
кавказской почве слово не этимологизируется. В каждом
из перечисленных языков оно стоит изолированно, вне
какой-либо связи с остальной лексикой этого или
родственных языков.
Поиски этимологического объяснения приводят к рус-
668
скому гривенка (мера веса). Русское происхождение
персидского girvanka уже отмечалось4. Однако некоторые
лингвистические и исторические моменты нуждаются в
уточнении.
Общеславянское гривъна с исходным значением
«ожерелье» (от грива «шея»), получило на русской
почве дополнительные значения: «мера веса» и «денежная
единица». Значение меры веса документируется с 1-й
половины XII в 5.
Если гривъна употреблялось во всех трех значениях
(«ожерелье», «мера веса», «денежная единица»), то
производное от него гривенка (гривьнка)
специализировалось как обозначение весовой единицы. В
«Материалах» Срезневского документировано только это
значение: «... талантъ имьетъ в себь — н. гривенекъ» (Библ.
XVI в. Син. № 3, припис); «гривенка перцю» (Грам. кн.
Всевол. до 1136 г.); «два ковша золоты по двь гривенки»
(Дух. Дм. Ив. 1389); «двь гривенки зелья» (Разметн.
сп. 1545); «вьсу въ немъ семъ гривенокъ, цьна пять
рублевъ гривенк» (Расходн. кн. 1584—1595 г.6.
Все перечисленные выше кавказские, тюркские и
персидские названия «фунта» ведут с несомненностью к
русскому гривенка. Но пути распространения слова
требуют дополнительных разысканий. Наличие слова во
всех почти кавказских языках могло бы навести на
мысль, что в персидский язык слово попало через
кавказское посредство, в особенности, если учесть, что
сношения России с Персией поддерживались как через
Каспий, так и через Грузию.
Однако легко убедиться, что грузинское girvanka не
могло идти непосредственно из русского. Грузинский
охотно терпит начальную группу gr-: griali «шум», Gri-
gola «Григорий», grili «прохладный», grosi «грош» (из
русск.), grdzeli «длинный» и др. Вставка гласного i в
girvanka ничем не оправдана, если думать о
заимствовании непосредственно из русск. гривенка. Иная картина
в персидском. Здесь начальная группа gr- закономерно
дает gir- : gire «шея» из иран. grJva-; giriftan «брать» из
grb-; giristan «вопить» из grid-; girad «степень» из франц.
grade и др. Из гривенка ничего другого не могло
получиться в персидском, как girvanka. Грузинское же
girvanka (как и другие кавказские названия фунта) идет
уже из персидского.
Что касается тюркских форм, то наличие их в таких
ббч
языках (телеутском, кумандинском, чувашском),
которые с персидским не соседят, но соседят с русским,
делает более вероятным, что они усвоены из русского.
Следует еще коснуться вопроса о датировке
заимствования русского слова гривенка в персидский язык.
Нет надобности доказывать, что заимствование
метрологических терминов тесно связано с торговыми
сношениями. На торговых путях произошло,
несомненно, и заимствование персами русского гривенка как меры
веса. Это должно было произойти достаточно давно,
когда в русском употребительнейшей мерой была
гривенка, а не заимствованное из германского фунт.
Последнее слово также не очень «молодое». Оно встречается
уже в грамотах 1388 г. и в «Хождении за три моря»
Афанасия Никитина 7. Но в XIV—XVII вв. фунт выло
сравнительно редким словом, а гривенка весьма обычным.
Исторические сведения о торговых сношениях России
с Персией позволяют уточнить дату возможного
заимствования. «Начало экономических отношений России с
Персией можно отнести ко второй половине XVI в., когда
было завоевано Поволжье и установлен прямой
торговый путь (до этого сношения с Персией носили
случайный характер). В XVII в. эти сношения значительно
развились вследствие сильного экономического роста
Персии и России... Районом коммерческой
деятельности персов... в России были Астрахань, Поволжье и
Москва, а русские сосредоточили свои торговые операции
преимущественно в северной Персии (Шемаха, Гилянская
область, Тавриз, Кашан и другие места).»6 «К началу
XVII в. относится установление регулярных торговых
связей между Россией и Персией. В 1664 г. (при
Алексее Михайловиче) Аббас II предоставил русским купцам
право на свободную торговлю во всех персидских
городах»9.
Таким образом, XVII век представляется наиболее
вероятной датой заимствования в персидский язык
русской меры веса гривенка.
Специфические условия этого заимствования делают
понятным, почему перс, girvanka не вошло в
общенациональный язык и не попало в большинство словарей;
слово распространилось только в тех областях Персии
и в тех слоях населения, которые были непосредственно
вовлечены в сферу русско-персидских торговых связей.
670
Примечания:
1 Современное литературное произношение gervanke.
2 Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий, вып. 11, т. II,
вып. 5, СПб., 1898, с. 1451.
3 Шегрен А. Осетинская грамматика, ч. 2, СПб., 1844, с. 49.
4 См., например, H. H. Белгородский. Современная
персидская лексика, М.-Л., 1936, с. 41, сн. 2.
5 См. И. И. Срезневский. Материалы для словаря
древнерусского языка, т. I, СПб., 1893, с. 589—591: «блюдо серебрьно въ
л. грвнъ» (Грам. 1130 г.); «гривна золота» (Ип. л. 6655); «просфу-
рывъ в ъсъ въ полъ поло гривны» (Никон. Панд., ел. 57).
0 Там же, с. 591.
7 Срезневский И. И. Материалы.., т. III, СПб., 1912, с. 1358.
8 Зевакин Е. С. Персидский вопрос в русско-европейских
отношениях XVII в., «Исторические записки [Ин-та истории АН СССР]»,
8, 1940, с. 156.
9 БСЭ2, т. 18, с. 409. См. также в статье И. Н. Сугорского
«Сношения с Персией при Годунове» («Русский вестник», 1890, окт.,
СПб., с. 107): «Туземцы (персы — В. А.) в то время (при Годунове.—
В. А.) торговали уже довольно бойко с Поволжьем».
Вопросы языкознания, 1958, № 4.
ведийское ari-, осетинское
?c?g?lon
Древнейший памятник арийской (индоиранской)
литературы Риг-Веда более полутораста лет находится в
поле зрения европейской филологии и служит предметом
напряженного и неутомимого исследования. Но и по сей
день исследователи Риг-Веды сталкиваются с
серьезными трудностями. Вышедший в 1923 г. перевод Риг-Веды
К. Гельднера (К. Geldner) был оценен как «самая
зрелая и совершенная интерпретация, какую можно себе
представить» («...die reifste und vollkommenste
Interpretation des gesamten Rigveda, die sich denken lasst...») '.
Сам К. Гельднер в послесловии к переводу называет его
весьма скромно «всего лишь новым опытом истолкова-
671
ния» („nur ein erneuter Erklarungsversuch").
Действительно, в отношении Риг-Веды (как и в отношении Гат
Зороастра) пока можно говорить не о переводе, а только
об опытах истолкования.
Для того, чтобы говорить о переводе,
необходимо, прежде всего, установить с возможной точностью
значение всех слов или во всяком случае более
употребительных и существенных для понимания текстов.
Между тем, этого-то пока и нет. Даже в отношении
таких фундаментальных понятий, как brahman-, rta-,
нет единодушия в ведийской экзегезе. Значения многих
других слов получают в разных переводах и в разных
словарях весьма различные, плохо между собой
согласующиеся определения. Больше того, один и тот же
переводчик или лексиколог приписывает одному и тому же
слову в разных контекстах столь различные, нередко
исключающие друг друга значения, что возникает
сомнение в правильности понимания соответствующих текстов.
Значение, которое представляется весьма подходящим
для одного места, совершенно бессмысленно в другом месте, и
для того, чтобы добиться подобия смысла, приходится
подставлять уже другое, весьма отдаленное от первого
значение. В результате возникает мнимая «полисемия»
(точнее — «аллосемия»), которая очень часто указывает
не на действительную равнозначность ведийских слов,
а на несовершенство методов интерпретации.
Значения слов каждого языка в каждую эпоху его
жизни неразрывно связаны с реалиями, т. е. с жизнью
и бытом народа, его социальными институтами, его
материальной и духовной культурой. Поэтому одним из
важнейших путей преодоления тех трудностей, которые
сто,ят перед ведийской (и не только ведийской)
экзегезой;, является пристальное внимание к тем условиям
исторической действительности, быта, нравов, воззрений,
в которых жил арийский народ, создавший гимны Риг-Веды.
Примером исследования, где чисто филологический
анализ, подкрепленный учетом исторической
действительности, позволил выйти из тупика в интерпретации
нескольких важных ведийских слов, является работа П.
Тиме (Р. Thieme), посвященная ведийским ari, arya, агуа-
тап, arya 2.
Ведийскому слову an- давались до Тиме весьма
различные значения: «враг» (Рот, Грасман, Гельднер),
«хозяин, патрон» (Гельднер), «благородный, господин»
672
(Нейссер), «бедный, скупой» (Бергень, Ольденберг),
«жадный» (Грасман), «преданный, верный» (Рот),
«благочестивый» (Грасман), «безбожный» (Грасман). Найти
общий семантический стержень для таких далеких
значений нелегко.
Проанализировав заново все места, где встречается
слово ari-, Тиме'установил, что есть одно значение,
которое, будучи подставлено вместо приведенных выше
переводов, дает удовлетворительный смысл во всех или
почти во всех случаях. Это значение — «чужак»,
«пришелец», «иноземец» („Fremdling"). Тиме убедительно
показывает, что в условиях ведийского быта,
межплеменных отношений, то дружественных, то враждебных,
«пришелец», «чужак», «иноплеменник» был в глазах
племени фигурой значительной, привлекавшей пристальный
интерес и внимание. Если он являлся как друг и гость,
ему оказывали теплый прием и покровительство. Если
он приходил как враг и потенциальный нарушитель
благополучия племени, его боялись и ненавидели.
Отсюда та пестрота значений, зачастую их полярная
противоположность, которые приходилось давать слову ari-
в разных контекстах.
Ведийское arya- (от ari-, как, скажем avya- «овечий»
от avy- «овца») разъясняется как «имеющий отношение
к пришельцам», «благосклонный к пришельцам»,
«гостеприимный». Отсюда arya- «ариец», первоначально
«гостеприимный» (в противоположность негостеприимным
«варварам») и агуатап- «хозяин, принимающий гостя», а
также «божество гостеприимства».
Предложенная Тиме интерпретация ведийского ari- и
производных от него arya-, агуатап-, агуа- была
благосклонно встречена специалистами. М. Майрхофер в
древнеиндийском этимологическом словаре безоговорочно
принимает значения, установленные Тиме л.
Но есть одно обстоятельство, которое в известной
мере ослабляет убедительность выводов Тиме: ни в
каком другом арийском языке, кроме ведийского, Тиме не
мог найти для an- и его дериватов значения «чужак»,
«пришелец» и пр. Между тем, если это значение было,
как думает Тиме, древнейшим, мы вправе ожидать, что
оно всплыло бы в каком-либо из мертвых или живых
индоиранских языков. Если бы в каком-либо языке (или
языках), помимо ведийского, удалось обнаружить
рефлексы арийского an- и его дериватов в значении «при-
22 В. И. Абаев
673
шелец», «чужеземец», «чужак» и т. п., это было бы
существенным, можно сказать, решающим подтверждением
правильности предложенной Тиме интерпретации.
В ходе исследования Тиме привлекает два факта из
новоиранских языков: персидское егтап «гость» и
осетинское lim?n «друг»4. Оба эти слова он (вслед за
другими авторами) связывает с ведийским агуатап.
В отношении персидского erman этимология не
вызывает сомнений. Но и здесь мы значения «чужак» и пр.
не находим: между значениями «гость» и «чужак»
остается хоть небольшая, но заметная дистанция.
Что касается осетинского lim?n «друг», то
привлечение его в данной связи ошибочно. К арийскому
агуатап- осет. lim?n никакого отношения не имеет. Оно
восходит к иран. *frisiyamana- от глагола fri- «любить».
В скифских собственных именах сохранилась как форма
liman, так и переходная форма fliman5. Тем самым
устраняются всякие сомнения относительно этимологии
осетинского lim?n.
Но есть в осетинском другое слово, которое, по нашему
мнению, имеет прямое отношение к ведийскому ari- и
подтверждает правильность толкования последнего как
«чужак», «чужеземец» и пр. Это осет. ?c?g?lon, которое
означает «чужой» в применении только к человеку,
народу или стране. По значению оно противопоставлено
слову xion — «свой». В зависимости от того, что имеется в
виду под xion — семья, род, нация, страна,— ?c?g?lon
может означать либо «чужой» в отношении семьи,
«посторонний», либо «чужой» в отношении рода,
принадлежащий к другому роду, либо «чужой» в смысле чужого народа
или чужой страны. Каждое такое употребление можно
иллюстрировать примерами: binonty xs?n ?c?g?lony mit?
k?ny «среди членов семьи он ведет себя как чужой
(посторонний)»; xion?j, ?c?g?lon?j iwyld?r f?f?dis sty «и свои
и чужие все кинулись на тревогу»; K'ostajy ing?nyl iron
ad?m n?, f?l? ?c?g?l?tt? d?r sudzg? c?ssyg kaldtoj
«над могилой JCocTa не только осетины, но и чужие
(иноплеменники) проливали жгучие слезы»; ?c?g?lon ad?m,
?c?d?lon b?st? ?xsnyf?j nywazync m? tiig «чужие люди,
чужая страна питают ко мне смертельную ненависть»
(буквально «пьют мою кровь») (Коста Хетагуров,
Собр. соч., т. I, М.— Л., 1939, с. 33) .
Анализ осет. ?c?g?lon не представляет трудностей.
Мы имеем сложение двух^ элементов: ?c?g и *?lon;
674
?c?g — живое осетинское слово, означающее
«истинный», «истинно», «действительно»; оно восходит к иран.
*hatyaka-; ср. авест. haibya-, др.-инд. satya- «истинный».
*?lon в современном языке самостоятельно уже не
употребляется. Оно возводится закономерно к *aryana-: ry
дает в осетинском /, а перед носовым переходит в о.
Восстанавливаемое «праосетинское» (скифское) *агуапа-
может быть только производным от арийского ari-, агуа-
«чужой» и пр.
В целом ?c?g-?lon означает, стало быть, «истинно
чужой», «действительно чужой». Прибавление ?c?g имеет
здесь усилительное значение. Вполне аналогичное
образование находим в одной из Гат Зороастра: hatayo-dvaesah
«истинный враг» (Yasna 43, 8), Зороастр говорит в этом
тексте, что он хотел бы быть harttyo-dvaesa («true-enemy»
в переводе M. W. Smith) для приверженцев ложной веры
и могучей опорой для праведных. Построенное по этому
типу осет. ?c?g-?lon<C*hatyaka-aryana- можно перевести:
«настоящий чужак», «true-stranger». Ср. усилительную
функцию английского true в таких сочетаниях, как true-lo-
ve «возлюбленный», true-bred «чистокровный» и т. п.6
Осетинский язык, нерушимо сохранив в ?c?g-?lon
первоначальное значение арийского ari- «чужой»,
восполняет недостающее звено в аргументации П. Тиме.
Наряду с агуа (кратким начальным а), в арийском
существовало arya- (с долгим начальным а) в значении
«ариец» (см. выше). Производное от него *aryana-
сохранилось в осетинском (в сказках) в закономерной форме
allon как самоназвание осетин 7.
Краткий иранский а дает, как правило, осет. ?, a дает
а. Поэтому из *агуапа- имеем *?lon (в ?c?g?lon
«чужой»), а из aryana al(l)on. Последний термин
очевидно идентичен со средневековым названием осетин alan
(лат. alani, греч. 'AXavol).
Примечания:
' «Orientalistische Literaturzeitung», Jg. 27, № 8, 1924, стб. 483.
2 Т h i e m е Р. Der Fremdling im Rgveda. Eine Studie iiber die Be-
deutung der Worte ari, arya, aryaman und arya. Leipzig, 1938 («Abhandl.
fiir die Kunde des Morgenlandes» XXIII, 2).
3 Mayrhofer M. Kurzgefa?tes etymologisches Worterbuch des
Altindischen, Liet. 2, Heidelberg, 1953, s. 48, 52, 77. Майрхофер сближает
этимологически ведийскую группу слов с латинским alius «другой»,
alienus «чужой» и пр.
22*
675
4 T h i e m е Р. Указ. соч., с. 102, 103, 148.
0 А б ae в В. И. Осетинский язык и фольклор, I, М.— Л., 1949,
с. 165, 166, 213.
6 Авестийское hai-Oyo-dvaesah мы рассматриваем вслед за Бартоломэ
(см. «Altiranisches Worterbuch», Strassburg, 1904, стб. 1762) как сложное
слово, в противоположностью Хумбаху (Н. Humbach. Gathisch-awes-
tische Verbalformen II, «Munchener Studien zur Sprachvissenschaft»,
Hf. 10, 1957, c. 34—36).
' А б а е в В. И. Указ. соч., с. 246.
Вопросы языкознания, 1958, № 2
ОБРАЗ ВИЯ В ПОВЕСТИ
Н. В. ГОГОЛЯ
В повести Гоголя «Вий» рассказ о приключениях трех
киевских бурсаков, Халявы, Хомы Брута и Тиберия Го-
робца, начинается в легком юмористическо-бытописатель-
ском плане, напоминающем «Сорочинскую ярмарку». Но
в дальнейшем события принимают трагический оборот,
заставляющий вспомнить скорее «Страшную месть».
К Хоме Бруту является ночью ведьма, которую он
вынужден некоторое время нести на себе. Но затем ему
самому удается вскочить ведьме на спину. Колотя ведьму
поленом, он скачет на ней до тех пор, пока та не падает
замертво. Замученная ведьма оказывается красавицей-
панночкой, дочерью сотника. Перед смертью она
изъявила желание, чтобы отходную по ней и молитвы в
продолжение трех дней после смерти читал киевский семинарист
Хома Брут. Отец панночки велит привести Хому и
угрозами заставляет его выполнить предсмертную волю
дочери. Гроб устанавливают в церкви и бурсака оставляют
на ночь читать молитвы. Первую и вторую ночь ведьма
встает из гроба и пытается схватить Хому. Но тот
заклинаниями отгоняет ее. На третью ночь в церковь врывается
«несметная сила чудовищ», но и они не в силах
переступить очерченный Хомой Брутом вокруг себя круг. Тогда
раздается голос покойницы: «Приведите Вия! ступайте^за
Вием!». И вдруг настала тишина в церкви; послышалось
вдали волчье завывание, и скоро раздались тяжелые шаги,
звучавшие по церкви; взглянув искоса, увидел он, что
ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека.
Весь был он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни,
выдавались его, засыпанные землею, ноги и руки...
Длинные веки опущены были до самой земли... Его привели
под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома.
«Подымите мне веки: не вижу!» — сказал подземным
голосом Вий — и все сонмище кинулось подымать ему
веки. «Не гляди!» — шепнул какой-то внутренний голос
философу. Не вытерпел он и глянул.
677
«Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный
палец. И все сколько ни было, кинулись на философа.
Бездыханный, грянулся он на землю, и тут же вылетел
дух из него от страха».
О фольклорной основе своей повести сам Гоголь
говорит с полной определенностью в примечании: «Вий —
есть колоссальное создание простонародного
воображения. Таким именем называется у малороссиян начальник
гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли.
Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в
чем изменить его и рассказываю почти в такой же
простоте, как слышал».
Действительно, в посвященных «Вию» работах
показано, что в основе повести лежит распространенный
сказочный сюжет о езде героя на ведьме, о смерти ведьмы
и чтении героем над нею в церкви молитв '.
Однако все привлекаемые параллели, представляя
большее или меньшее сюжетное сходство с повестью
Гоголя, ничего не знают о главном персонаже, именем
которого названа повесть о Вие. В некоторых вариантах
нечистая сила, тщетно пытающаяся схватить героя,
обращается за помощью к «старшей ведьме», но не к Вию.
То, что в украинском и русском фольклоре не
сохранился точный двойник гоголевского Вия, привело даже
некоторых авторов к выводу, что образ Вия —
нефольклорного происхождения, что он выдуман самим Гоголем, а
имя его связывали с украинским «в1я» — ресница (В. Ми-
лорадович, Е. Нев1рова, В. Гиппиус) 2.
Правда, в одной сказке афанасьевского сборника
(«Иван Быкович») фигурирует старик с длинными
ресницами. Но по поводу этой сказки В. Гиппиус замечает:
«Сказка об Иване Быковиче у Афанасьева производит
впечатление литературно обработанной, и образ старика,
возможно, восходит к гоголевскому Вию. Таким образом,
ссылка на сказку об Иване Быковиче не только не
разрешает вопроса о фольклорных источниках образа Вия,
но скорее подтверждает мнение, что образ Вия создан
самим Гоголем» 3.
Однако имеем ли мы право вопреки ясному заявлению
самого Гоголя ставить под сомнение фольклорное
происхождение Вия? Возникает естественный вопрос, зачем
понадобилась Гоголю эта мистификация? Для чего, с
какой целью присочинил он к народному сюжету чуждый
образ, окрестил его Вием, а потом объявил этот выдуман-
678
ный персонаж «созданием простонародного
воображения»? Решительно непонятно, неправдоподобно, просто
немыслимо4. Поэтому версию о нефольклорном
происхождении Вия надо отбросить как ничем не оправданную
и неуместную и видеть в Вие именно то, чем он является
по Гоголю: колоссальное создание украинской мифологии
и демонологии.
Кто впервые читает «Вия», испытывает недоумение:
где же главный герой, имя которого стоит в заглавии? Вий
появляется лишь в самом конце, и ему уделено всего
несколько строк на сорок с лишним страниц, которые
занимает повесть. Название повести кажется мало
оправданным. Больше подошло бы заглавие «Бурсак и ведьма»
или что-нибудь в этом роде. Почему же Гоголь назвал
повесть именем Вия? Надо полагать, именно потому, что
Вий был центральной фигурой в тех народных украинских
демонологических представлениях, на основе которых
была создана повесть. Вынося Вия в заглавие, Гоголь как
бы подчеркивает, что именно он является главным героем,
что весь предшествующий ход событий подготовляет
появление Вия.
Раз так, раз Вий занимал определенное место в
украинском фольклоре, встает задача объяснить Вия, объяснить
его имя, его образ. К этому толкает нас как интерес к
творчеству Гоголя, так и интерес к украинскому и вообще
славянскому фольклору. И если нельзя найти объяснение
в материале самого украинского фольклора, надо искать
разгадку Вия на путях сравнительного изучения, иными
словами, надо выяснить, нет ли у Вия параллелей в
мифологии и демонологии в первую очередь других
славянских народов, а затем и родственных народов
индоевропейского круга.
Не будучи специалистом по славянскому фольклору,
не берусь судить, есть или нет у украинского Вия собратья
где-либо на славянской почве. Я хочу здесь в виде опыта
провести параллель между Вием и одним хорошо
известным образом из близкой мне индоиранской мифологии.
Я имею в виду индоиранского бога-демона Когун.Называю
его богом-демоном, так как он выступает в одних случаях
как божество, в других — как демон, злой дух.
Первоначально Vayu — божество ветра. Ветер
олицетворялся у индоиранцев в образе двух божеств: Vayu
и Vata. Оба названия являются производными от корня
va — веять. Но в то время как Vata был крепко привязан
679
к той стихии природы, которую он олицетворял, Vayu
очень рано стал обрастать новыми атрибутами и
функциями, так что от его «ветровой» природы оставалось
зачастую очень мало. Он мог выступать как высшее
божество, как божество неба, как бог войны и, наконец, как
бог смерти. Удельный вес его в индоиранской мифологии
был исключительно велик. И в Риг-Веде, и в Авесте он
выступает как одно из главных божеств. Шведский
ученый Стиг Викандер, посвятивший ему двухтомное
исследование, пишет: «...в группирующихся вокруг Vayu обрядах,
мифах и верованиях распознаются ясные следы древней
религии, которая имела исключительное значение для двух
близкородственных народов. Никакое другое
унаследованное от арийского времени божество не обнаруживает так
много и таких ярких параллелей в разнообразнейших
источниках. Нет сомнения: если о каком-либо божестве
можно сказать, что оно занимало господствующее
положение в течение арийского периода, то это о Vayu. Что
касается влияния арийской религии на другие народы..,
то мы осмеливаемся теперь утверждать, что именно дух
и формы культа Vayu оказались наиболее влиятельными
и доступными к усвоению другими народами» 5. Далее,
указывая на следы культа Vayu y италийцев и германцев,
Викандер приходит к выводу, что Vayu принадлежит к
общеиндоевропейской, а не только индоиранской
мифологии.
В этой связи следует указать и на старолитовское
божество ветра Wejo-patis, где Wejo соответствует
индоиранскому Vayu, a patis (индоевропейское potis) означает
«господин», как в названиях и эпитетах некоторых
древнеиндийских божеств, например Brhas-pati, Praja-pati, Soma-
pati, Svar-pati и т. п. Wejo-patis означает, стало быть,
«господин или владыка Вей».
Поскольку божество это наличествует у двух
ближайших соседей древних славян, иранцев и балтийцев, мы
можем предположить, что следы его могли существовать
и у славянских народов. В соответствии с индоиранским
Vayu мы ожидаем старославянское ВЬйъ, В русском, если
бы слово в нем сохранилось, мы имели бы Вей. В
украинской закономерно — Вш.
Таким образом, со стороны звуковой мы имеем
безупречное соответствие Vayu — ВШ. Но можно ли связать их
в плане воплощенного в них мифологического и
демонологического образа?
680
Тут надо учесть прежде всего неизбежное снижение
старого языческого божества у христианского народа,
много веков 'живущего в христианстве. Нечего ждать
здесь сохранения того величия и ореола, которым было
окружено божество Vayu в арийский период.
Вспомним судьбу древнерусского бога Белеса. Его имя
сохранилось в костромском в форме «ёлс», но уже в
значении не «бога», а «черта». В латышском Беле —
название беса, а в литовском veles называются духи покойников.
Поучительна в этом отношении также участь,
постигшая бога Vayu в фольклоре другого христианского
народа — осетин. Древнеиранский Vayu в форме w?jug —
обычный персонаж в осетинском эпосе и сказках. Но о;г
его былого величия ничего не осталось. W?jug — это
глупое и злое чудовище, которое, несмотря на свою силу,
неизменно терпит поражение в борьбе с человеком. В
осетинских сказках w?jug обычно играет ту же роль, что
людоед в европейских сказках (французский ogre).
Никакой связи со стихией ветра в осетинском w?jug уже
нельзя обнаружить.
Существенно и то, что уже в арийском в ходе
эволюции образа Vayu наметилась одна линия, которая может,
как кажется, объяснить некоторые черты украинского В1я.
Я имею в виду представления о Vayu как о боге смерти.
Эта роль Vayu особенно ярко выступает в Авесте, в тексте,
называемом Aogmadaeca. Чтение этого текста составляло
у зороастрийцев часть погребального церемониала, т. е.
соответствовало христианской панихиде.
О чем же говорилось в этом тексте? Текст составлен
в метрической форме, и в такой же форме я попытаюсь
его передать по-русски с сокращениями:
Можно пройти путем,
Где в засаде дракон-пожиратель;
Не пройти лишь там, где стоит
Не знающий жалости Vayu.
Можно пройти путем,
Где в засаде медведь темно-бурый;
Не пройти лишь там, где стоит
Не знающий жалости Vayu.
Можно пройти путем,
Где в засаде разбойник лютый;
Не пройти лишь там, где стоит
Не знающий жалости Vayu.
Можно пройти путем,
681
Где в засаде конное войско;
Не пройти лишь там, где стоит
Не знающий жалости Vayu.
Смысл «панихиды» ясен: человек может избегнуть в
жизни любых опасностей: дракона, дикого зверя,
разбойника, даже целого войска, но уж если он встретил бога
смерти Vayu, ему нет спасенья. В образной форме
излагается мысль о неотвратимости смерти.
Быть может, гоголевский Вий, выходящий из
подземного, т. е. загробного мира для расправы со злополучным
бурсаком, есть не кто иной, как опустившийся, ушедший в
«подполье» под натиском христианства языческий бог
смерти. Й тогда понятно, что Хома Брут, успешно
боровшийся с ведьмой и целым сонмом чудовищ, испустил дух,
как только появился Вий 6. С первого взгляда может
показаться странным: если украинский Вий унаследован из
общеславянского и индоевропейского мифологического
фонда, то почему он сохранился на славянской почве
только в украинском, да и в украинском
засвидетельствован только у Гоголя? В действительности это не так уже
странно. Этнографам и фольклористам хорошо знакомо
одно явление: запрет на имена нечистой силы. В известном
труде Д. К. Зеленина «Табу слов у народов восточной
Европы и северной Азии» в главе 14 собран обширный
относящийся сюда материал. Демонология и табу — это
две вещи неотделимые. Известно много случаев, когда под
действием табу некоторые слова начисто изгоняются из
обихода. Такая судьба могла постигнуть и славянского
Вия, и только Гоголю посчастливилось еще услышать
народные легенды об этом зловещем существе. Надо ска-
, зать и то, что утверждение о полном отсутствии у Вия
славянских параллелей может оказаться поспешным и
преждевременным. Всеобъемлющих обследований по
некоторым славянским народам пока, насколько я могу
судить, не было. Теперь, когда у Вия наметились такие
широкие индоевропейские связи, есть смысл провести
более тщательные поиски по всему славянскому миру. Может
быть, что-нибудь и удастся найти.
В заключение я хотел бы подчеркнуть, что
предлагаемый опыт истолкования образа Вия преследует весьма
скромную цель. Это предварительная и осторожная
попытка ираниста привлечь славянский материал для
установления некоторых -ирано-славянских фольклорных
параллелей. Если будут обнаружены факты, противореча-
682
щие предложенному разъяснению Вия, я охотно от него
откажусь. Если, с другой стороны, будут найдены
подтверждающие материалы, это послужит воодушевляющим
стимулом для дальнейших изысканий в этом направлении.
Следует учесть, что персонажи славянского Пантеона
и мифологии в большинстве не находят
общеиндоевропейских параллелей. Один только Перун сопоставлялся с
литовским Perkunas, древнеиндийским Parjanya. Но и
здесь возникают серьезные фонетические трудности.
Восстанавливаемый на основе украинского В\я
славянский Вьй, безупречно отвечающий индоиранскому Vayu,
был бы едва ли не единственным общеиндоевропейским
божеством, имя которого сохранилось в славянском
фольклоре.
Примечания:
1 С у м ц о в Н. Ф. Параллели к повести Н. В. Гоголя «Вий»,
«Киевская старина», 1892, кн. III, с. 472—479; В. Милорадович. К
вопросу об источниках «Вия», «Киевская старина», 1896, кн. IX, с. 46—48;
Шенрок В. И. Происхождение повести «Вш» и отношение ее к
народным малороссийским сказкам. Материалы для биографии Гоголя, т. II,
М., 1893; 1ван Франко, Вш, Шулудивый Буняка i Юда 1скариотский.
«Украина», 1907, № 1, с. 50—53.
2 H е в i р о в а Е. Л. Мотиви украшской демонологи в «Вечерах» та
«Миргороде» Гоголя. «Записки Украшського наукового товариства
iM. Шевченка в Киш», 1909, кн. V, с. 42—49, 52—54; Г и п и у с В. В.
Комментарий к «Вию». В кн.: Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений,
т. II, Изд. АН СССР, М., 1937, с. 732—748.
л В. В. Гиппиус. Соч. ук. с. 742—743.
4 Иван Франко в вышеупомянутой статье показал, что длинные
веки Вия также не выдуманы Гоголем. В одном апокрифическом
христианском источнике говорится о Иуде Искариотском, со ссылкой на
Палия, ученика апостола Иоанна: после того как Палий предал Христа,
глаза у него заросли веками так, что он не мог видеть (с. 54).
5 Stig Wikander Vayu. Teil I. Lund, 1941, c. IX—X.
6 Любопытно, что автор вышеупомянутой статьи в «Киевской старине»
В. Милорадович, не помышляя ни о каких иранских параллелях, распознал в
Вие черты божества смерти. Он пишет: «Кажется до сих пор не записано ни
одного народного рассказа о фантастическом существе с именем и
характером Вия... Да и у Гоголя Вий ничем не связан с сущностью
повести — столкновением панночки с Хомой Брутом. Он появляется здесь
случайно, без всякой внутренней необходимости, с характером посторон-
683
ней слепой силы и равнодушием судьбы. Самая его наружность
указывает на какое-то подземное божество смерти» («Киевская старина»,
1896, кн. IX, с. 48). Любопытно, что осет. w?jyg выступает в одном
случае как привратник загробного мира: «M?rdty fs?n dw?rtt? dyn iw
w?jyg bak?ndz?n» «железные врата мертвых откроет тебе один w?jyg»
(К. Хетагуров). Это — все, что осталось от могущественного бога смерти.
Русский фольклор, III, 1958.
ЭТНИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ
НА -ЕЦ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Этнические названия в русском языке отличаются по
своему оформлению большим разнообразием.
Формант -ин (-анин): татарин, чудин, мордвин, литвин,
грузин, лезгин, болгарин, фрязин, немчин, ясин («Повесть
временных лет»), полярин, древлянин, молдаванин,
персиянин, египтянин, армянин, римлянин, англичанин,
датчанин и др.
Формант: -ич: русич («Слово о полку Игореве»), вятич,
кривич, радимич и др.
Формант -як: поляк, вотяк, пермяк, остяк, коряк,
мещеряк, босняк и др.
Формант -ец: немец, китаец, кореец, малаец, афганец,
испанец, итальянец, венгерец, литовец, эстонец,
спартанец, троянец, халдеец и др.
Формант -ский: русский (по-видимому, единственный
пример).
Без форманта: грек, варяг, турок, монгол, серб, араб,
негр, тунгус, бурят, якут, финн, мадьяр, чех, хорват, словак,
румын и др.
В этом разнообразии, с одной стороны, отразилась
пестрота диалектной основы русского национального
языка. С другой стороны, перед нами отложения различных
исторических эпох, в течение которых менялось само
восприятие этноса и индивида.
Для древнейшего периода характерна такая модель:
название народа (и страны) в целом представляет
простейшую, никаким формантом не осложненную форму,
употребляемую singulare tantum, a название единичного
представителя этого народа является производным от
названия этноса с помощью какого-либо форманта, обычно
форманта -ин. Таковы древнерусские названия русъ, чудь,
водь, емь, сумъ, литва, мордва, меря, Скуфь (Скифия),
Ватрь (Бактрия) и др. Эти термины обозначают народ
(или страну) в целом и употребляются только в
единственном числе. Производными от них являются назва-
685
Ния индивида: русский (русич, русин) чудин (отсюда
фамилия Чудинов), мордвин и т. п.
Нетрудно видеть, что скрывается за такой структурой
этнических названий: коллектив (этнос, народ) мыслится
как нечто первичное, а индивид как нечто
вторичное, «дериватное». Не народ есть сумма автономных
индивидов, а, наоборот, индивид есть лишь «парциальный»
представитель автономного и суверенного целого — народа.
Такое восприятие этноса и индивида отражено в
этнической номенклатуре ряда народов, в том числе осетин.
В осетинском, так же как в древнерусском, название
народа представляет простейшую форму, а название
индивида— производную: wyrys 'русские' (в целом), wyryssag
'русский'; somix 'армяне', somixag 'армянин' и т. п.
Древнерусская модель, по которой наименование
индивида в этнических названиях обязательно снабжалось
формантом, влияла и на последующее развитие русской
этнической номенклатуры. Этим надо объяснить, что бес-
формантные названия типа турок, негр, серб, финн и т. п.
получили широкое распространение лишь в новое время.
При этом можно заметить, что названия, употребляемые
теперь только без форманта, имели в прошлом варианты
с формантами. Так, рядом с грек употреблялось гречанин
(отсюда фамилия Гречанинов) , турок — турчанин
(фамилия Турчанинов), перс — персиянин (фамилия Пер-
сиянинов) и т. п.
В новое время (с XVIII в) заметный перевес получает
в этнических названиях формант -ец. Новые этнические
наименования, вовлекаемые в орбиту литературного
языка, оформляются почти исключительно этим суффиксом.
Больше того, формант -ец проникает в некоторые старые
названия, вытесняя другие форманты. Так, вместо литвин
начинают говорить литовец, вместо мордвин — мордовец
(ср. фамилии Литвинов и Литовцев, Мордвинов и
Мордовцев) .
По-видимому, первоначально -ец оформлял слова,
образованные от географических названий, названий страны,
области, города, указывая на происхождение (ср.
украинец, уралец, донец, кубанец, кавказец, европеец, китаец,
индеец, испанец, германец, спартанец, троянец, берлинец,
новгородец и т. п.).
Однако по аналогии он стал употребляться и в таких
случаях, когда не этническое название дано по стране, а,
наоборот, название страны само является производным от
686
этнического названия и где, стало быть, для форманта
-ец нет никакого оправдания. Так, стали говорить
башкирец, хотя это название вовсе не происходит от названия
страны Башкирия, а, наоборот, Башкирия образовано от
этнического названия башкир (basqurt). Так же ничем не
оправдано наличие форманта -ец в терминах венгерец,
абхазец, киргизец, чеченец, так как эти названия вовсе
не образованы от географических Венгрия, Абхазия,
Киргизия, Чечня, а последние сами являются производными
от венгр, абхаз, киргиз, чечен.
Под действием аналогии был сделан еще шаг по пути
универсализации форманта -ец в этнических названиях:
он стал присоединяться и к таким этнонимам, которые
уже имеют формант -ин. В результате получился ряд
этнических терминов с двойным оформлением -ин/-ец:
грузинец, лезгинец, осетинец, имеретинец, абазинец,
кабардинец. Это было уже явное излишество.
Однако стремление к экономии средств, которое
незримо присутствует в каждом языке, вступило в борьбу с
этими излишествами, и в новейшее время в русском
литературном языке наметилась совершенно ясная тенденция
отбрасывать формант -ец везде, где его наличие не
оправдано необходимостью и логикой языка. В результате для
нас стали теперь обычными формы башкир, венгр, киргиз,
абхаз, грузин, осетин и т. п., хотя в памятниках XVIII и
XIX вв. (отчасти XX в.) мы сплошь и рядом встречаем
формы башкирец, венгерец, киргизец, грузинец,
осетинец и т. п.
Вот несколько примеров:
Форма башкирец была господствующей в документах
и литературе XVIII и XIX вв. Так, в рескрипте Коллегии
иностранных дел астраханскому губернатору Бекетову
от 3 декабря 1767 г. читаем: «Башкирцы... давно в нашем
подданстве находятся...». Пушкин в «Капитанской дочке»
и в «Истории Пугачева» ", С. Аксаков в «Семейной
хронике», Салтыков-Щедрин в «Пошехонской старине» знают
только эту форму. Она зафиксирована и академическим
словарем 1895 г. В Словаре под редакцией Д. Н. Ушакова
форма башкирец уже снабжена пометой: «устар.». Но
стоит отметить, что у Шишкова в «Емельяне Пугачеве»,
у Бажова в «Малахитовой шкатулке» форма башкирец
обычна.
Форма киргизец обычна в XVIII и XIX вв. Вот два
примера: «...пошел... через уральскую степь народ, при не-
687
престанном во все то время беспокойствии от киргизцов»
(А.В.Суворов. Автобиография, 1790); «Что бы
значили эти военные приготовления? — думала комендантша:
уж не ждут ли нападения от киргизцев?» (Пушкин.
Капитанская дочка, гл. VI).
Постоянно встречаем в этот период также формы
грузинец, осетинец, лезгинец.
Так, в одном документе Коллегии иностранных дел
1743 г. читаем: «Горские народы, начав от Абазы... до
Чеченского народа грузинцы называют осии .., а от
Чеченского народа и далее до Персии в горах живущие народы,
грузинцы своим языком называют лезгии (цит. по книге
«Материалы по истории Осетии XVIII в.», Орджоникидзе,
1933, с. 33). В синодальном документе 1752 г.: «...имеется
в Москве грузинец Андрей Борисов сын Бибирюлев»
(читай Бибилури) (там же, с. 59). В челобитной
архимандрита Григория Екатерине II от 1767 г.: «...до пятидесят
фамилий грузинцев и армян... благополучно в Российскую
империю переведены» (там же, с. 85).
В указе Коллегии иностранных дел кизлярскому
коменданту от 14 января 1768 г. «...хотя осетинцов и киштин-
цов несколько и окрещено, но им никакого учения нет
и живут не исправляя закона» (там же, с. 108). В
донесении протопопа Болгарского епископу Астраханскому и
Ставропольскому Антонию от 18 июля 1780 г.: «Что
касается до самых сих народов, которых мы называем осе-
тинцам, откуда они или от кого имянно начало свое
приняли, о том ни прежде, ни ныне совершенно узнать не
можно...» (там же, с. 168). В рескрипте Коллегии
иностранных дел астраханскому губернатору Бекетову: «Осе-
тинцы давно просят, чтоб они приняты были прямо в нашу
протекцию» (там же, с. 183). В документе Коллегии
иностранных дел 1763 г. «...о даче приезжающим в Кизляр
лезгинцам... по небольшому числу холста» (там же, с. 310).
Формы грузинец, осетинец, лезгинец были привычны
для Пушкина, Грибоедова, П. А. Вяземского и других
писателей первой половины XIX в.: «Армяне, грузинцы,
черкесы, персияне теснились на неправильной площади»
(Пушкин. Путешествие в Арзрум, гл. 2); «Отъезд вдоль
Арагвы. Опять знакомые берега. Утренняя песнь
грузинцев» (Грибоедов. Путевые записки, I); «...князь из
грузинцев» (Вяземский. Письмо А. Тургеневу, 29
октября 1813 г.). «Князь Шаликов был по происхождению
грузинец» (М. Дмитриев. Мелочи из запаса моей па-
688
мяти); «Осетинцы самое бедное племя из народов,
обитающих на Кавказе» (Пушкин. Путешествие в Арзрум,
гл. I); «На скале видны развалины какого-то замка; они
облеплены саклями мирных осетинцев» (там же).
Можно, однако, установить, что уже во времена
Пушкина было колебание между формами с -ец и без -ец. У
самого Пушкина рядом с грузинец встречается форма
грузин: «Грузины пьют — и не по-нашему, и удивительно
крепки» («Путешествие в Арзрум», гл. 2).
Современник Пушкина академик А. Шегрен, автор
первой осетинской грамматики, употребляет форму осетин,
лишь один раз у него встречается осетинец. Лермонтов
отдает предпочтение формам без -ец: «Но злая пуля
осетина его во мраке догнала» («Демон»). Он смело вводит
непривычную даже для нас, но, в сущности, правильную
форму чечен: «Злой чечен ползет на берег» («Казачья
колыбельная песня»). Но и Лермонтов оказался не до
конца последовательным; у него встречается форма лез-
гинец: «Не уезжай, лезгинец молодой» («Прощанье»).
Неустойчивость и разнобой, уже давно наметившиеся
в употреблении форм на -ец, продолжаются по сей день.
Если в отношении некоторых терминов создалась уже
прочная традиция употребления без -ец (киргиз, башкир,
грузин, осетин и др.), то в отношении других колебания
и разнобой наблюдаютя и сейчас. Говорят и пишут абхаз
и абхазец, абазин и абазинец, венгр и венгерец и т. п.
Форму абхазец находим еще у Чехова и Горького:
«Мимо лениво прохаживаются абхазцы» (Чехов.
Письмо неизвестному лицу, июль 1888 г.); «Дремля, свесив
голову на грудь, шагом проехал абазинец» (Горький.
Рождение человека).
Сейчас употребительна форма абхаз, но она не
утвердилась окончательно. В «Истории СССР» под редакцией
А. Н. Панкратовой (ч. III, § 2) читаем: «...старый абхазец
Хашим...». В трехтомном Энциклопедическом словаре
A953 г.) на с. 11 говорится об абхазцах, а на с. 12 — об
абхазах.
Обычная до недавнего времени форма венгерец
вытесняется формой венгр, но некоторые современники
продолжают употреблять венгерец: Шел с русскими бок о
бок венгерец молодой» (Щ и п а ч е в. Сыновья).
Лишь в недавнее время, по инициативе Н. Я. Марра,
форма мингрелец, снабженная ненужным -ец (к тому же
искаженная), заменена правильной мегрел.
689
Не пора ли вмешаться в этот «стихийный» разнобой
и навести известный порядок? Право на это дает нам то
обстоятельство, что в самом языке, как мы видели,
наметилась отчетливая тенденция устранять -ец везде, где в нем
нет надобности. Надо только поддержать эту тенденцию
и провести ее более последовательно. В этнических
терминах нельзя допускать произвола и разнобоя. Не говоря
о широте и обычности их разговорного употребления, они
постоянно употребляются в географической,
этнографической, исторической, политической и иной научной
литературе. С ними все время приходится иметь дело в
административной практике, в статистике и в других областях.
В частности, в названиях народов Кавказа, где до сих
пор наблюдаются колебания, можно рекомендовать
формы без -ец почти во всех случаях:
абазин, а не абазинец
абхаз, а не абхазец
балкар, а не балкарец
имеретин, а не имеретинец
кистин, а не кистинец
мегрел, а не мингрелец
удин, а не удинец
Нельзя считать исключенным, что и привычные пока
формы кабардинец, чеченец будут со временем заменены
формами кабардин, чечен, как это уже случилось с лезги-
нец, грузинец.
В отношении названия дагестанского народа аварцев
сохранение формы аварец оправдывается тем, что следует
избегать смешения с названием средневекового тюркского
народа — авары.
История русских этнических терминов на -ец
любопытна и с общелингвистической стороны. Она показывает, что
действие аналогии может приводить на время к
неоправданным обобщениям и излишествам, но эти
излишества постепенно устраняются под влиянием другого мощного
фактора: стремление к экономии языковых средств.
690
Примечания:
1 В одном документе 1743 г. читаем: «Тое книгу реченный генерал
показывал бывшему тогда в команде его гречанину майору Зотову,
который, смотря оную, читал и сказал, что та книга евангелие на
греческом языке» (Цит. по: «Известия Сев.-Осетинского научно-исслед.
ин-та, 1934, VI, с. 35).
2 Ср. у Пушкина: «Персиянин ввел меня в баню («Путешествие
в Арзрум», гл. 2).
3 «Был'"схвачен башкирец с возмутительными листами»
(«Капитанская дочка», гл. VI); «Михельсон... настиг толпу башкирцев,
предводительствуемых свирепым Салаватом» («История Пугачева», гл. VI).
Вопросы культуры речи. Вып. 2, М., 1959.
691
К СЕМАНТИКЕ ГЛАГОЛОВ
С ОСНОВНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ
«ДЕЛАТЬ»
В глагольной лексике самых различных языков
выделяется группа глаголов, которые, занимая место в словаре,
в то же время используются также для выражения тех
или иных грамматических значений: временных, видовых,
залоговых, модальных. Так как они «помогают» выражать
эти значения, то в школьной грамматике они так и
называются «вспомогательными».
Таков, прежде всего, глагол «быть», verbum.substanti-
vum. Его «вспомогательные» грамматические функции
многообразны и универсальны.
Из других глаголов, обслуживающих и лексику, и
грамматику, отметим некоторые.
«Становиться»; например, нем. werden в
перифрастических формах будущего времени, перс, sudan ' в формах
пассива,
«Иметь»; например, использование соответствующих
глаголов для образования форм прошедшего времени в
романских и германских языках.
«Хотеть»; используется в некоторых языках для
образования форм будущего времени; например, перс, xastan,
англ. to will.
К числу таких многофункциональных глаголов, без
которых не обойтись ни в лексике, ни в грамматике,
относятся в ояде языков глаголы с основным значением
«делать»: англ. to do, нем. tun, фран. faire, перс, kardan, осет.
k?nyn (в прош. вр. kodta «он делал»), тюрк, et- (at-), груз.
ктпа (кпа). Эти глаголы означают «делание» в самом
общем значении. Параллельно в этих языках имеются
глаголы для более конкретного «делания»: «изготовлять»,
«выделывать», также «сооружать, строить» и т. п. Так, в
английском рядом с to do имеем to таке, в немецком рядом
с tum — machen, в персидском рядом с kardan — saxtan,
в осетинском рядом с k?nyn — arazyn, в грузинском рядом
с кпа — k'eteba.
692
Благодаря широкому семантическому полю,
присущему глаголам «делания» первого ряда, они используются
в весьма разнообразных, часто неожиданных лексических
и грамматических значениях.
Ниже мы попытаемся показать сперва, какие
лексические значения и нюансы присущи глаголам с основной
семантикой «делания», а потом остановиться на их
использовании в грамматике.
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ 2
«Делать» — «делаться, случиться, становиться».
Если вы хотите по-осетински спросить «что ты
делаешь?» («чем ты занят?»), нельзя сказать си k?nys?
Надо сказать су mi k?nys! «какое дело делаешь?»; как
в английском нельзя сказать what do you!, а надо what do
you do! Вопрос су k?nys! будет понят в осетинском не
как «что делаешь?», а «что с тобой?» или «чего тебе?».
Осет. ксепуп в значении «делаться» весьма обычно: bon
ксепу «светает» («наступает день»), ?nt?f k?ny
«становится жарко», talyng k?ny «темнеет», dymg? k?ny
«ветрено»; ср. франц. il se fait jour, il se fait chaud, il se fait
sombre, il fait du vent; осет. ci k?nyj cuma me 'Ixujn?, ku
n?bal zeluj dz?b?x? «что (случилось) с моим веретеном,
оно больше не вертится исправно» (из стихотворения Г. Ма-
лиева); uj l?g к?пз?п «он станет мужчиной» (из нартов-
ских сказаний).
«Делать» — «творить». Эти два близких значения
совмещаются в одном глаголе во многих языках. Так, ст.-ел.
tvoriti означало «делать» вообще. Например, в переводе
Евангелия: «Что ми зовете: Господи! Господи! и не творите
яже глаголю». Да и в современном русском такие
выражения, как творить добро, что ты натворил! идентичны
по смыслу с ислатъ иОиро, что ты наделал \-р. также груз.
kmnili «творение», mkmneli «творец» от kmna «делать», осет.
ys-k?nyn «сотворить» (me'sk?n?g Xucaw «сотворивший
меня Бог», из молитвенной формулы), армян, anel «делать,
создавать, творить».
«Делать» — «причинять». Ср. англ. to do, нем. tun в этом
значении; нем. es tut mir Leid = осет. uj myn mast k?ny
«это причиняет мне горе», лат. dolorem facit, перс. Ы man
dard mikunad.
«Делать» — «значить, иметь значение», ср. франц. cela
693
ne fait rien, нем. das tut nichts, осет. uj nicy k?ny «ничего
не значит», букв, «это ничего не делает».
«Делать» — «принимать вид, притворяться». Ср. осет.
j?xi aft? akodta, cyma nicy wydi «он сделал вид («сделал
себя»), как будто не при чем», лат. se aliquis facere
«выдавать себя за другого», русск. при-творяться (от творить).
«Делать» — «деть, девать». Это семантическое
развитие в славянском лежит на поверхности. Русск. деть
восходит к славянской базе *de- «делать». Отсюда такие
производные, как дело, деяние, действие, содеять и пр. [ 1 ].
Использование глагола «делать» в значении «девать» мы
найдем в самых различных, в том числе неродственных,
языках: французском (faire), немецком (hin-tun),
грузинском, тюркских, осетинском. Приведем для иллюстрации
одну «дежурную» фразу на этих языках («куда ты дел
книгу?»): франц. qu'as tu fait de livre? (от faire «делать»),
груз, c'igni ra keni? (keni от кпа «делать»), балкар, sen
kitabnd ne etding? (etding от et- «делать»), осет. cinyg су
f?-kodtaj? (kodtaj от k?nyn «делать»). Ср. еще анатол.
тур. pala kaida edezin? «куда ты девал ребенка?» [2, с. 838].
На иранской почве это значение распознается с
древнейших времен. В Авесте богиня Арти восклицает» kuua his
azdwi kdranavani? asmandm avi frasusdni, zam avi ni- urvi-
syani? «куда я денусь? подымусь ли в небо или спущусь на
землю?» Здесь kdranavani — конъюнктив от kar- «делать» и
ки&а kdranavani следует переводить «куда денусь», а не
«что я буду делать», как обычно переводят. Ср. осет. m?xi
су f?k?non? «куда мне деваться?» Ср. перс, kitabra ku)a
kardi? «куда ты дел книгу?»
«Делать» — «одевать». Не вызывает сомнения, что деть,
девать, с одной стороны, и о-деть, o-девать, с другой,—
один и тот же глагол, только снабженный во втором
случае превербом о-. Но как связать значения? Только через
славянскую базу *de- «делать»:
рттяи */¦//» д-тт^пятЬ»
I г~ 1
деть, девать o-деть, о-девать
на-детъ, на-деватъ
Ср. также литов. deveti «носить одежду». Полную
параллель находим в осетинском, где k?nyn «делать» означает
также «одевать», «надевать»: d? g?rzt? 's-k?n «одень
платье»; j? xud ?r-kodta «он надел шапку». Ср. еще англ.
to do on «надевать».
«Делать» — «отворять». Ср. осет. ba-k?nyn «отворить,
694
открыть»: dwar ba-k?n «отвори дверь». Ср. англ. to do
ореп «открывать». Берем на себя смелость высказать
предположение, что слав, otvoriti получилось из *ot(o) tvoriti
и, стало быть, точно соответствует осет. ba-k?nyn, англ.
to do ореп; глагол tvoriti «делать» с превербом ot-. Обычно
считают, что был глагол слав. *voriti с превербом ot
ot-voriti. Затем, по неизвестной причине, произошло
переразложение («falsche Zerlegung», «Dekomposition»):
ot-voriti -*- o-tvoriti, откуда пошли по аналогии za-tvoriti, za-
tvorb, pri-tvoriti, pri-tvorb, raz-tvoriti, raz-tvorb и пр.
Иными словами, ясно выделяемая в этих словах во всех
славянских языках база *tvor- не имеет будто бы никакого
отношения к tvoriti «делать», а представляет своего рода
обман зрения (ghost-word). При этом глагол *voriti,
который нигде не засвидетельствован и действительно является
привидением, сопоставляется с литов. verti, a otvoriti с
литов. atverti «открывать» [3, 4]. Указывают на русское
диалектное верать. Но оно засвидетельствовано в
следующих значениях: «плести, совать, прятать, шить наспех,
кропать, копаться, толкать, ударять резкими движениями
кого-л.» [5]. От этих значений до «отворять» — дистанция
огромного размера. Но дело даже не в этом. Главное —
«переразложение» ot-voriti -> o-tvoriti совершенно
неправдоподобно. Глагольные пары отворить — затворить,
открыть — закрыть, отпереть — запереть, ото-мкнуть,
замкнуть, отчислить — зачислить, отодвинуть — задвинуть
представляют системный ряд антонимов. Их антонимич-
ность держится на оппозиции превербов от-//за-, которые
соотносятся между собой с железной необходимостью.
Замена преверба ot- в ot-voriti превербом о- (o-tvoriti)
разрушила бы эту четкую оппозицию ot-//za-.
Переразложение, в тех случаях, когда оно действительно имеет место,
бывает продиктовано желанием сделать менее понятное
более понятным, знакомым, более отвечающим
этимологическому сознанию. Здесь же, если верить общепринятой
этимологии, произошло нечто противоположное:
единственно подходящий в данной оппозиции преверб был
заменен совершенно неподходящим о-. Остаются
балтийские факты: литов. atverti, лтш. atvert, прусск. etwere
«открывать, отворять» [6]. Но и здесь нельзя не отметить,
что простой (без преверба) глагол verti в литовском
означал «вдевать нитку в иголку, нанизывать, шнуровать,
протыкать». Что касается значения «отворять», то оно
возникло вторично под обратным влиянием atverti. Таким
695
образом, имеем, с одной стороны, одинокую в значении
«отворять» балтийскую группу, с другой — весь
славянский мир, дружно указывающий на базу *tvor-, a не *vor-,
Совсем как в известной шутке: вся рота идет не в ногу,
только прапорщик идет в ногу. Естественнее думать, что
значение «отворять» в балтийских словах не является
исконным, а «выработалось» под влиянием славянского.
Подобная семантическая интерференция между
близкородственными языками — явление нередкое. Итак, если
даже глагол *voriti в славянском когда-либо существовал
(что не доказано), он мог только породить закономерную
пару антонимов: ot-voriti — za-voriti и, далее, pri-voriti,
raz-voriti и пр. Для «переразложения» ot-voriti -*¦ o-tvoriti
и для появления форм za-tvoriti, pri-tvoriti, raz-tvoriti не
было ни малейших оснований.
«Делать» — «говорить», «сказывать» и т. п. «Давно
обращено внимание на родство значений «facere» и «dicere»
на слав, почве» [ 1 ]. Ср. латинское выражение facere verba
«говорить» («делать слова»). Ст.-ел. deti означало не
только «класть» и «делать», но также «говорить». Ср. сло-
вен. dejati «делать, говорить», чеш. diti «говорить,
сказать». Далее, от той же базы *dhe- хетт, te- «сказать» [7].
Осет. k?nyn «делать» применяется к разным видам
речевой активности и даже к пению: g?dy dzyrdt? c?m?n
k?nys? «почему ты врешь?» («говоришь лживые слова»)
(из нартовских сказаний); argaw туп га-ксеп «расскажи
мне сказку»; kad?g k?nyn «исполнять эпическое сказание,
сагу», qar?g k?nyn «исполнять ритуальный плач по
покойнику»; d? zar?g ra-k? «спой свою песню» (К. Хета-
гуров); ra-k?n-iw, ra-k?n j? sag?s d? qar?dzy «расскажи,
расскажи о его горьких думах в твоем причитании» (К. Хе-
тагуров) ; «d?xi qaqq?!» z?gg? f?kodta «берегись! —
сказал он»; m?ng?j n'a-k?nync, sag j? r?w?dy n? тагу «не
зря говорят, олень не убивает своего теленка»; wadz?n
aft? a-k?nync... «как пословицу говорят...». Ср. франц.
nous voila tous reunis, fit il «вот мы и все в сборе,— сказал
(сделал) он».
«Делать» — «справлять тризну». Это значение
отложилось в осетинском слове k?nd «тризна», представляющем
лексикализованное причастие от k?nyn «делать»,
собственно «дело» par excellence [8]. Ср. греч. OQYLCt
«ритуальное действие», «посвящение», от и.-е. базы *werg-
«делать».
«Делать» (в определенных сочетаниях) — «пахать».
696
Осет. хит k?nyn «пахать» («делать пашню»), xum-g?nd
«пахотный участок»; n? xumt? k?ndtyt? «наши поля
вспаханы» (К. Хетагуров). Греч, egyov «дело» (от базы
*werg-) в определенном контексте получает значение
«пахота, пашня».
«Делать» — «иметь нужду в ком-, в чем-л.» Осет. су
m? k?nys? «зачем я тебе нужен?» (букв, «что ты мною
делаешь?»); f?r?t?j су k?nys? «зачем тебе нужен топор
(f?r?t)?»
«Делать» — «оценивать (продавая что-л.),
запрашивать цену». Осет. d? b?x cas k?nys? «во сколько ты
оцениваешь своего коня?». Ср. франц. faire «делать» в этом
же значении: faire un objet 20 francs «запрашивать за
вещь 20 франков» 3. Ср. также тюрк, (анатол.) etmek
«делать» в значении «стоить» [10; 2, с. 837].
«Делать» — «наливать, насыпать», осет. don ?r-k?n
«налей воды»; ?nqizg? s?n z?rond lalymty n? k?nync
«не вливают вина молодого в мехи ветхие» (Матфей 9.17);
ssad gollagy nykkodta «насыпал муку в мешок».
«Делать» — «отсекать, отрезать». Осет. j? s?r yn
ra-kodta «отсек ему голову»; k?d m? n? bafyn?j k?naj,
w?d dyn d? rag?j ?rt? g?rzy ra-k?ndzyn?n «если ты
меня не усыпишь, то я вырежу с твоей спины три ремня»
(С. Гадиев) ; ?r-kodton om?n ? gos «я отрезал ему ухо»
(Т. Бесаев) ; j? k'uxy nyxt? ?m? j? k'axy nyxt? kond
kwy f?ci Wyryzm?g... «когда Урызмаг кончил стричь ногти
на руках и ногах...» (из нартовских сказаний). Возможно,
что здесь значение «отрезать» для k?nyn возникло из
сочетания lyg k?nyn «делать отрезанным». В результате
высокой частотности употребления слово lyg
«отрезанный» стало выпадать и глагол k?nyn сам по себе стал
употребляться в значении «отрезать». Ср. ниже.
«Делать» — «вести». Такое развитие значения
представляется стланным и необычным. Но в осетинском оно
документируется обильно и надежно. K?d?m n? k?nys?
«куда ты ведешь нас»; ax?stony j? ba-kodtoj «его
заключили в тюрьму»; Nart? wazdzyty akodtoj ?xs?viwat k?-
nynm? «Нарты отвели гостей на ночлег» (из нартовских
сказаний). Для объяснения семантического перехода
«делать» — «вести» можно предложить такую догадку.
Глагол k?nyn используется для образования каузатива
(побудительного залога). Например, qusyn «слышать», qusyn
k?nyn «давать знать», «оглашать» («заставлять
слышать»). От c?wyn «идти» имеем c?wyn k?nyn «заставлять
697
идти» -> «вести». Такое сочетание употреблялось так часто,
что со временем c?wyn выпало и глагол k?nyn сам стал
означать «вести». Ср. выше k?nyn «отрезать», возможно,
из lyg k?nyn «делать отрезанным». Выдающийся
краковский лингвист Витольд Манчак в ряде работ показал,
какое большое значение в истории языка имеет ч а с-
тотность употребления. Не только фонетический
облик слов и морфология, но даже словосочетания и
синтаксис подвержены разнообразным изменениям и
упрощениям от частого употребления [11]. В свете подобных
фактов упрощение сочетания c?wyn k?nyn «заставлять
идти» в k?nyn в значении «вести» нельзя считать
исключенным.
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Как мы говорили вначале, глаголы с основным
значением «делать» в ряде языков весьма активны не только
в лексике, но и грамматике. Приведем несколько примеров.
Каузатив (побудительный залог). В осетинском
выражается сочетанием инфинитива глагола с k?nyn
«делать» xudyn «смеяться», xydyn k?nyn «смешить»; badyn
«сидеть», badyn k?nyn «усаживать»; tasyn «гнуться», ta-
syn k?nyn «гнуть, сгибать»; zonyn «знать», zonyn k?nyn
«давать знать»; zm?lyn «двигаться», zm?lym k?nyn
«двигать»; k?nyn k?nyn «заставлять делать». Совершенно
также используется во французском глагол faire «делать»:
rire «смеяться», faire rire «смешить»; savoir «знать», faire
savoir «доводить до сведения»; faire faire = осет. k?nyn
k?nyn «заставлять делать». В принципе такое
употребление глагола «делать» в осетинском и французском можно
было бы рассматривать как факт словаря, а не грамматики,
а именно в список значений осет. k?nyn и франц. faire
ввести еще значение «заставлять» («усаживать» =
«заставлять садиться и т. д.). Но поскольку во многих языках
каузативность выражается чисто морфологическими
средствами (например, в древнеиранском и санскрите сильной
ступенью корневого гласного плюс формант -ауа-, в
персидском формантом -an-, в грузинском инфиксом -in-,
в тюркских также различными формантами), то
правомерно говорить о грамматическом использовании осет. k?nyn
и франц. faire как вспомогательных глаголов для
образования каузатива. Мы как бы находимся в пограничной
зоне между лексикой и грамматикой. В самом осетин-
698
ском древнеиранские каузативы легко распознаются в
глагольных парах; переходное значение связано с сильным
гласным в корне, а непереходное — со слабым: тагуп
«убивать» (др.-иран. marayati «убивает») — m?lyn
«умирать» (др.-иран. *maryate «умирает»), kalyn «лить» — k?lyn
«литься», tadzyn «капать» — t?dzyn «течь каплями», ага-
zyn «делать» — ar?zyn «устраиваться», qusyn
«слышать» — qwysyn «слышаться», ?ftawyn «прибавлять» —
?ftyn «прибавляться», tavyn «греть» — t?fsyn
«согреваться», udajyn «мочить» — ud?syn «мокнуть» и др. [12].
Составные глаголы. Имеется в виду, когда
то или иное глагольное понятие выражается не простым
глаголом, а сочетанием глагола «делать» с именем;
скажем, понятие «думать» передается словами «делать думу»
и т. п. Такие сочетания очень обычны в персидском,
осетинском, отчасти в тюркских языках
«Думать»: перс, fikr kar dan, осет. qwydy k?myn, тур.
akdl etmek.
«Благодарить»: перс, sukr kardan, осет. arf? k?nyn,
тур. rahmet etmek [2, c. 82].
«Тратить»: перс, xardz kardan, осет. xardz k?nyn, тур.
hare etmek; ср. также франц. faire les frais.
«Сожалеть»: перс, afsus kardan, осет. f?smon k?nyn,
казан, татар, tdubd itu.
Возвышать»: перс, bala kardan, осет. styr k?nyn, тур. ulu
etmek.
«Унижать»: перс, past kardan, осет. nyll?g k?nyn.
«Уменьшать»: перс, kamtar kardan, осет. к'at t?r k?nyn.
«Укорачивать»: перс, kutah kardan, осет. cybyr k?nyn.
«Светить»: перс, rniisan kardan, осет. ruxs k?nyn.
«Сушить»: перс, xusk kardan, осет. xus k?nyn.
«Точить»: перс, tiz kardan, осет. cyrg k?nyn.
«Чистить»: перс, pak kardan, осет. sygd?g k?nyn.
«Будить»: перс, bidar kardan, осет. qal k?nyn.
«Забывать»: перс, faramus kardan, осет. rox k?nyn.
«Помогать»: перс, imdad (или китак) kardan, осет.
?xxwys k?nyn.
«Удивляться»: перс, hairat kardan, осет. dis k?nyn.
«Наполнять»: перс, pur kardan, осет. dzag k?nyn.
«Потеть»: перс, araq kardan, осет. xld k?nyn.
«Плевать»: перс, tuf kardan, осет. tu k?nyn.
«Соглашаться»: перс, qabul kardan, осет. razy k?nyn.
«Готовить»: перс, hazer kardan, осет. c?tt? k?nyn.
«Охотиться»: перс, sikar kardan, осет. cwan k?nyn.
699
«Выходить замуж»: перс, souhar kardan, осет. то)
k?nyn (букв, «делать мужа»).
«Охлаждать»: перс, sard kardan, осет. wazal k?nyn.
«Греть»: перс, garm kardan, осет. qarm k?nyn.
«Обнаруживать»: перс, peyda kardan, осет. ?rgom
k?nyn.
«Спешить»: перс. ta'dzJl kardan, осет. tagd k?nyn.
«Разрушать, разорять»: перс, xarab kardan, осет. pyrx
k?nyn.
«Размельчать: перс, xurd kardan, осет. lyst?g k?nyn.
«Обнажать»: перс, berehne kardan, осет. gom k?nyn,
b?gn?g k?nyn.
«Делить»: перс, taqsim kardan, осет. dix k?nyn.
«Спать»: перс, xab kardan, осет. fyn?j k?nyn.
«Исправлять, поправлять»: перс, rast kardan, осет. rast
k?nyn.
«Душить»: перс, xafa kardan, осет. xurx k?nyn.
«Учиться»: перс, tahsil kardan, осет. axwyr k?nyn.
«Пахнуть»: перс, bii kardan, осет. t?f k?nyn.
«Плавить»: перс, ab kardan, осет. don k?nyn
(«обращаться в воду»).
«Замораживать»: перс, уах kardan, осет. ix k?nyn
(«обращаться в лед»).
«Лечить»: перс, 'aladz kardan, darman kardan, осет.
dz?b?x k?nyn, xos k?nyn.
«Оценивать»: перс, qeymat kardan, осет. arg k?nyn.
«Судить»: перс, davari kardan, осет. t?rxon k?nyn.
«Печатать»: перс, cap kardan, осет. myxwyr k?nyn.
«Поселяться, обосновываться где-л.»: перс, manzil
kardan, осет. ?rbynat k?nyn.
«Издеваться»: перс, masxara kardan, осет. xyndzyl?g
k?nyn.
«Торговать»: перс, souda kardan, осет. bazar k?nyn.
«Отмечать»: перс, misan kardan, осет. nysan k?nyn.
«Смешивать»: перс, maxlut kardan, осет. x?cc? k?nyn.
«Собирать»: перс, dzam' kardan, осет. ?mbyrd k?nyn.
«Пировать»: перс, bazm kardan, осет. minas k?nyn.
«Мочить»: перс, tar kardan, осет. xwylydz k?nyn.
«Плавать»: перс, sina kardan, осет. lenk k?nyn.
«Вредить»: перс, zarar kardan, осет. zian k?nyn.
«Жертвовать»: перс, qurban kardan, осет. nyvond k?nyn.
«Сердиться»: перс, qaxr kardan, осет. m?sty k?nyn.
«Жаловаться»: перс, sikayat kardan, осет. qast k?nyn.
«Лениться»: перс, tanbaii kardan, осет. ziv?g k?nyn.
700
«Прощать»: перс, afv kardan, осет. xatyr k?nyn.
«Жалеть, сострадать»: перс, rahm kardan, осет. t?ri-
g?d k?nyn.
«Протыкать»: перс, surax kardan, осет. xwynk' k?nyn.
«Чтить»: перс, ihtiram kardan, осет. cyt k?nyn.
«Умолять»: перс, iltimas kardan, осет. l?xst? k?nyn.
«Гулять»: перс, gardis kardan, осет. tezgo k?nyn.
«Обвинять, выдвигать, обвинение»: перс, da'va kardan,
осет. daw k?nyn.
«Пахать»: перс, siyar kardan, осет. xwym k?nyn.
«Пачкать»: перс, cerkin kardan, осет. c'izi k?nyn.
«Ссориться, затевать свару»: перс, youya kardan, осет.
qawga k?nyn, xyl k?nyn.
«Освобождать»: перс, xalas kardan, осет. s?ribar k?nyn.
«Отделять»: перс, dzuda kardan, осет. xic?n k?nyn.
«Служить, прислуживать»: перс, xidmat kardan, осет.
l?ggad k?nyn.
«Растягивать»: перс, diraz kardan, осет. adarg k?nyn.
«Переводить (с одного языка на другой)»: перс, tardzu-
та kardan, осет. t?lmac k?nyn.
«Побеждать»: перс, yolaba kardan, осет. w?laxiz k?nyn.
«Опорожнять»: перс, xall kardan, осет. ?vd?lon k?nyn.
«Скакать»: перс, dzoulan kardan, осет. dug k?nyn.
«Путешествовать»: перс, safar kardan, осет. balc k?nyn,
(также baley c?wyn).
Приведенный материал не претендует на
исчерпывающую полноту. Но он дает представление о
продуктивности данной модели и о далеко идущем параллелизме
между персидским и осетинским.
Следует отметить, что обороты с kardan//k?nyn имеют
обычно переходное значение. Им соответствуют
непереходные составные глаголы с перс, sudan «становиться»,
осет. wyn «быть»: перс, diraz kardan «растягивать», diraz
sudan «растянуться», осет. adarg k?nyn «растягивать»,
adarg wyn «растянуться». Ср. в тюркском. «Глагол et-
«делать» по своему значению антонимичен глаголу bol-
«быть; стать; являться». Если глагол bol- как связка при
именном сказуемом выражает непереходное значение
глагола, то глагол et- в сочетании с именем образует основу
переходного глагола...» [13].
В числе сочетаний с «делать» выделяется особая
группа, где именная часть представляет звукоподражание:
«свистеть» — «делать свист» и т. п.
«Блеять»: перс, ba'-ba'kardan, осет. b?g-b?g k?nyn.
701
«Ворчать»: перс, yur-yur kardan, осет. qwyr-qwyr k?nyn.
«Хрюкать»: перс, (диал.) xur-xur kardan, осет. к'ох-к'ох
k?nyn.
«Ржать»: перс, sayha kardan, осет. xwyrrytt k?nyn.
«Щебетать»: перс, wlk-wik (dzik-dzik) kardan, осет.
c'iw-c'iw к?пуп.
«Жужжать»: перс, (диал.) ying-ying kardan, осет. gwyz-
gwyz (gwyv-gwyv, dyv-dyv) k?nyn.
«Пыхтеть»: перс, puf-puf kardan, осет. pyf-pyf k?nyn.
«Храпеть»: перс, xur-xur kardan, осет. xwyr-xwyr k?nyn.
«Хрипеть»: перс, xir-xir kardan, осет. xyr-xyr k?nyn.
«Стучать»: перс, taq-taq kardan, осет. gwypp-gwypp
k?nyn; ср. также татар, dop-dop itu «то же».
«Лязгать»: перс, (диал.) dzarang-dzurung kardan, осет.
dzygal-mygul k?nyn.
«Скрипеть, скрежетать»: перс, qiz-qiz kardan, осет.
qys-qys k?nyn и мн. др.
Всего около 90 составных глаголов, образованных в
персидском и осетинском по одной модели: имя плюс
глагол «делать» (перс, kardan, осет. k?nyn).
Первый вопрос, который возникает по поводу этого
параллелизма, состоит в следующем: является ли он чисто
типологическим или же генетическим.
Иными словами, имеет ли он только
сопоставительный или сравнительно-исторический смысл,
учитывая, что оба языка относятся к одной и той же
иранской группе.
В пользу первого объяснения можно было бы указать
на то, что составные глаголы данного типа встречаются
и во многих других языках, как индоевропейских, так и
неиндоевропейских. Полную аналогию к персидским и
осетинским составным глаголам с участием перс, kardan,
осет. k?nyn «делать», представляют, например, английские
составные образования с make: to make fast «укреплять»,
to make angry «сердить», to make dizzy «дурманить», to
make bare «обнажать», to make water «мочиться» и др.
За пределами индоевропейского можно указать, к
примеру, на многочисленные турецкие составные глаголы с
etmek «делать».
Эти и подобные факты склоняют нас к тому, чтобы
приведенные выше персидско-осетинские схождения в
образовании составных глаголов признать фактами с о-
поставительной, а не сравнительно-исторической
702
грамматики этих языков, т. е. рассматривать их в какой-то
мере как «случайные».
Но против «случайности» говорит как количество
приведенных схождений, так и то, что составными
глаголами в обоих языках выражаются одни и те же
глагольные понятия. Следует также считаться с д р е в-
н о с т ь ю данной модели: она распространена во всех
иранских языках вплоть до древнеперсидского и Авесты.
Ср. др.-перс. hamaranam kar- «сражаться» (букв, «делать
сражение»), авест. skdnddm kar- «разрушать» («делать
разрушение»'), raeko kar- «оставлять» («делать оставление»).
Модель восходит к общеарийскому; ср. ведийское mahas
kar- «возвеличивать» («делать великим») и др.
Взвесив все изложенные факты, следует, вероятно,
сделать компромиссный вывод: модель составных глаголов в
персидском и осетинском восходит еще к индо-иранской
общности, а со временем закрепилась и размножилась
в результате вторичной типологической конвергенции.
Перифрастические обороты с k?nyn «делать»
представлены в осетинском еще одной разновидностью:
сочетанием k?nyn с деепричастием на -g?. Их продуктивность
неограничена. Можно сказать ?z kusyn «я работаю», но
можно сказать и ?z kusg? k?nyn (букв, «я работая
делаю»), и так от любого беспревербного глагола.
Составным формам типа kusg? k?nyn отдается предпочтение
перед простыми (kusyn), когда хотят подчеркнуть данное
действие или состояние, сделать на нем логическое
ударение. M?sty ma k?n, ?z qazg? kodton «не сердись, я
пошутил» (букв, «шутя сделал»). Здесь подчеркивается, что
это было именно в шутку, а не всерьез. Простая форма
?z qazydt?n была бы в данном случае менее уместна.
Существует соблазн сблизить осетинские обороты типа
kusg? k?nyn с английскими -mg-овыми выражениями
типа / am working. Но тут надо проявить осторожность.
Не всегда английские -ш?-овые формы требуют перевода
на осетинские с деепричастием. Фраза «я еду в Москву»
в английском будет звучать скорее / am going (а не / go)
to Moscow. В осетинском же мы ждем ?z M?skwym?
c?wyn (a не ?z M?skwym? c?wg? k?nyn). Если
взглянуть на осетинский и английский обороты бегло, крупным
планом, то между ними есть нечто общее. Но вместе с тем
в каждом из этих языков есть свои тонкости, и эти
тонкости не совпадают.
Подведем итог:
703
Глаголы с основным значением «делать» бывают двух
семантических типов. Одни означают «делание, действие»
в самом общем смысле, другие — в более конкретном:
«выделывать, изготовлять, строить» и т. п. Примерами
первого типа могут быть англ. to do, нем. tun, перс, kardan,
осет. k?nyn, груз, ктпа (кпа). Примерами второго —
англ. to таке, нем. machen, перс, saxtan, осет. arazyn,
груз, k'eteba. В славянских и романских языках это
различие не проводится четко.
Глаголы первого типа, как лексические единицы,
обладают обширным, иногда расплывчатым семантическим
полем, могут выступать — помимо основного значения
«делать, действовать, производить» — во множестве
разнообразных, часто неожиданных значений: «творить»,
«причинять», «говорить, сказывать», «девать, одевать»,
«отворять — затворять», «значить, иметь значение», «иметь
нужду в чем-, в ком-л.», «оценивать», «справлять тризну»,
«отрезать», «отсекать», «убивать», «пахать», «вести» и др.4
Эти же глаголы в ряде языков используются как
вспомогательные в грамматике. С их помощью образуются
составные глаголы обычно активного (в том числе
побудительного) залога по модели: «греть» — «делать теплым»
и т. п. Им соответствуют в этих случаях медиальные
составные глаголы, где э роли вспомогательных выступают
глаголы со значением «быть, становиться», по модели:
«согреваться» — «становиться теплым». Здесь
наблюдается много общего между иранскими и тюркскими
языками.
Примечания:
' Персидские слова здесь и далее даются, как правило, в
фонетическом облике классического (а не современного) персидского
литературного языка.
2 В полисемии глаголов большую роль играют п р е в е р б ы. Они
часто весьма капризны и неожиданным образом меняют значение
базового глагола. Некоторые значения реализуются только с определенными,
а не с любыми превербами. Богатым набором превербов располагает
осетинский язык: а-, ?r-, ?rba-, ba-, f?, ny-, (y)s-.
3 Г. Рюдберг в обширной докторской диссертации, посвященной
судьбе лат. facere в романских языках, скрупулезно прослеживает историю
форм, не касаясь значений [9]. Не менее, а, может быть, более интересно
и поучительно было бы осветить богатейшую семантическую жизнь этого
704
глагола и его производных во всех романских языках. Но такой
монографии, насколько мне известно, не существует.
4 Об огромных семантических потенциях английского to do можно
судить хотя бы по словарю Webster'a.
Литература:
1. Этимологический словарь славянских языков/Под ред. Трубаче-
ва О. Н. Вып. 4. М., 1977. С. 229.
2. Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. I. СПб., 1893.
3. М. V a s m е г. Russisches etymologisches Worterbuch, Heidelberg. I.
1953; II. 1955. S. 290; III. 1958. S. 86—87.
4. Fraenkel E. Litanisches etymologisches Worterbuch. Heidelberg.
I. 1962; II. 1965. S. 1230.
5. Словарь русских народных говоров/Гл. ред. Филин Ф. П. Вып. IV.
М.—Л., 1970. С. 120.
6. Топоров В. Н. Прусский язык. Словарь. Е — H. M., 1975.
С. 113.
7. Friedrich J. Hethitisches Worterbuch. Heidelberg, 1952. S. 202 ff.,
219 ff.
8. А б а е в В. И. Историко-этимологический словарь осетинского
языка. Т. I. М.— Л., 1958. С. 579; Т. II. Л., 1973; Т. III. Л., 1979.
9. Rydberg G. Le developpement de facere dans les langues
romanes. P., 1893.
10. M a га за ник Д. А. Турецко-русский словарь. M., 1931. С. 297.
11. Manczak W. Frequence et evolution//Statistique et analyse
linguistique. P., 1966. P. 99—103.
12. A б а е в В. И. Грамматический очерк осетинского языка.
Орджоникидзе, 1959. С. 57—58.
13. Баскаков Н. А. Очерк грамматики ногайского языка//Ногай-
ско-русский словарь. М., 1963. С. 529.
Вопросы языкознания, 1988, № 3.
23 В. И. Абаев
К СЕМАНТИКЕ СЛАВЯНСКОГО
tvoriti
Славянский располагает двумя глаголами действия
(«verba faciendi»): de (ja) ti («делать» в более абстрактном
смысле) (Трубачев 1977: 229 ел.), и tvoriti («делать»
в более конкретном смысле). Оба глагола обладают
обширным семантическим полем, имеют широкий спектр
значений. Некоторые из этих значений тесно примыкают
к основному значению «делать» и не создают особых
проблем. Так, глагол tvoriti находим в близких значениях
«создавать», «давать бытие», «рождать», «производить»,
«совершать», «исполнять», «устраивать»
(Срезневский 1903: 934—937 —Даль IV 1882: 394 ел.).
Наряду с этим глагол tvoriti выступает иногда в таких
значениях, которые представляются несколько
оторванными от основного значения «делать» и — во всяком
случае для современного мышления — заключают элемент
неожиданности и непредсказуемости. Так, для tvoriti в
некоторых контекстах распознаются значения «говорить»,
«колдовать», «делать вид», «притворяться», «иметь вид»,
«заставлять», «усыновить», «удочерить», «отворить»,
«совершать тризну».
Разумеется, эти вторичные значения могли
развиться самостоятельно на славянской почве. Но обращает
на себя внимание, что именно эти же значения получает
иногда глагол k?nyn «делать» в осетинском. А это наводит
на мысль, что мы в этих случаях имеем дело с древними
славо-скифскими изоглоссами.
Tvoriti — «говорить». Др. русск. друзии творяху iako
(князь) на Чюдъ идеть «другие говорили, будто князь
идет на Чудь» (Срезневский 1903: 936). Осет. m?n-
g?j n? ak?nync: sag j? r?w?dy n? тагу «не зря говорят
(«делают»): олень своего теленка не убивает»; argaw туп
rak?n «расскажи («сделай») мне сказку».
Tvoriti — «колдовать». Др. русск. потвора
«колдовство», потворити «околдовать» (Срезневский II,
706
1900: 1288), русск. потвора «колдовство» (Даль, III:
354). Осет. k?l?n «колдовство», k?l?n к?пуп «колдовать»,
из *кагуапа- от др.-иран. каг- «делать» (А б а е в I 1958:
576—577).
Tvoriti — «заставлять». Др. русс. ...творя ю (землю)
трястися..., ...«заставляя ее (землю) трястись»
(Срезневский, III, 936—937). Осет. rizyn к?пуп «заставлять
трястись». Ср. франц. faire «делать» в значении
«заставлять»: rire «смеяться» — faire rire «смешить» и т. п. По
существу мы имеем здесь синтаксический способ
выражения каузатива в отличие от морфологического, как,
скажем, в древнеиндийском; mriyate «умирает» — marayati
«убивает».
Tvoriti — «справлять поминки». Это значение
вскрывается этимологией славянского trizna «поминки». Мы
производим trizna из *tvbrizna от базы tvor- с формантом
-izna и ранней редукцией корневого гласного. По
образованию ср. русск. отчизна, укоризна, дороговизна,
дешевизна, белизна, желтизна, крутизна, левизна, новизна и др.
Имеющиеся опыты разъяснения славянского trizna (Ф а с-
м е р III 1973: 102) нельзя признать убедительными. В
семантическом плане ср. осет. k?nd «тризна», прошедшее
причастие от k?nyn «делать».
Tvorb «вид», «наружность», tvarb «вид», «облик»
(Срезневский III: 937, 932). Ср. осет. kond «вид»,
«склад» (от k?nyn «делать»), перс, kardar «образ», «вид»
(от kar- «делать»).
Tvoriti — «усыновить», «удочерить» в таких
сочетаниях, как творимый сынъ (Срезневский III 1903:
936). Ср. осет. k?ng? в таких сочетаниях, как k?ng?
fyrt «приемный сын», k?ng? cyzg «приемная дочь». Слав.
tvorimy] и осет. k?ng? формально идентичны; оба
представляют пассивные причастия настоящего времени от
глаголов, означающих «делать»: слав, tvoriti, осет. k?nyn.
В этимологических словарях славянский глагол tvoriti
сближается только с литов. tverti «схватить», латыш.
tvert «хватать», (Bruckner 1957: 587; M а с h е к 1957:
544; Фасмер III 1973: 34; Fraenkel II 1965: 152).
Формально безупречное, это сближение с
семантической стороны представляется натянутым. Вместе с тем
никем, насколько я знаю, не привлекается тождественное
по значению древнеиранское *i$war-s. Ср. авест. uuards-
«творить» (Barthoiomae 1904; 795—796). Приведем
несколько авестийских примеров в контексте.
23*
707
уд... yazata payuftwordstaraya vispaftwdrdsato
«sacrifia au protecteur et au formateur, qui a forme tout
la creation (перевод Дармстетера) (Darmeste-
ter I 1892: 360).
kahmai ma bwarozdiim?
«for whom did you shape me?» (I n s 1 e r 1975:
28—29).
Miftrdtn... yahmal maetatidm frau warasat yo daowa
Ahuro Mazda
«Mithra... a qui le Createur Ahura Mazda a construit
une demeure... (Darmesteter II 1893: 453).
Думаю, что иранское *'uwar-s- «творить» следует
включить в этимологическую интерпретацию славянского
tvoriti.
Примечание:
1 Такие же пары глаголов имеются во многих других языках: to do
и to таке в английском, tun и machen в немецком, kardan и saxtan в
персидском, k?nyn и arazyn в осетинском, ктпа и k'eteba в грузинском и др.
Литература:
А бае в В. И. 1958—1988. Историко-этимологический словарь
осетинского языка. I A958), II A973), III A979), IV A988).
Даль, Владимир. Толковый словарь живого великорусского
языка, I—III, второе издание. 1882. С.-Петербург—Москва.
Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского
языка. I—III. 1893—1912. С.-Петербург.
Трубачев О. Н. (редактор). Этимологический словарь
славянских языков. 1974. Москва.
Фасмер, Макс, 1964—1973. Этимологический словарь русского
языка. I—IV. Москва.
Bartholomae, Christian. 1904. Altiranisches Worterbuch.
Strassburg.
Bruckner, Aleksander. Slownik etymologiczny jezyka polskiego.
1957. Warszawa.
Darmesteter James. Le Zend-Avesta I—III. 1892—1893. Paris.
Fraenkel, Ernst. Litauisches etymologisches Worterbuch I—II.
1962—1965. Heidelberg.
In si er S. The Gathas of Zarathustra. Acta Iranica 8. 1975.
Teheran — Liege.
Machek Vaclav. Etymologicky slovnik jazyka ceskeho a slovens-
keho. 1957. Praha.
Linguistique Balkanique, XXXI A988),
1—2 (Academie Bulgare des Sciences).
708
CARTVELICA '
Груз, alkat'i, (Руставели 2512, 1465i), армян, alkat'
'бедняк, убогий, жалкий' — осет. ?lx?d 'раб', буквально
«купленный». Отношение: груз, к — осет. jc как в груз.
kudi — осет. xud, среднеперс. хоб 2. Отношение: груз. / —
осет. d, как в груз, capxat'i 'вид обуви' — осет. c?fxad
'подкова' 3.
Груз, с'i pela 'бук', 'Fagus' — осет. sibul^?, syvyl3
'вяз', 'Ulmus'. О соотношении начальных согласных: груз,
с — осет. s см. ниже. Трехсогласный тип cpl(spl) с
вариациями мы находим и в других названиях растений,
например, груз, c'abli 'каштан' 4. Ср. еще лат. suber 'пробковый
дуб'. Этот же звуковой тип — в европейском названии
лука: лат. cepulla, итал. cipolla, польск. cybula, украин.
цибуля, русск. (диал.). цыбуля, нем. Zwiebel.
Картвельская база *c'k'ep-\\*c'k'ip индоевропейская
база *skep-\\*skeip- 'прут' и т. п. Ср. груз, с'к'ер'la, c'k'ip'ar-
t'i, c'k'ip'urt'i 'прут', греч. axfj^rpov, чанское no-c'k'ip'-ali
'щепка', слав. *scepa, русск., украин. щепа 'черенок для
прививки', нижнелужицкое scep 'сук', 'ветка' и пр.5 Сюда
же, вероятно, считающееся неразъясненным слав. *sip,
русск. шип (начальный s из sk — «германизм», перекрестная
изоглосса, как слав. Ыгокъ связано с гот. skeirs 'чистый',
'ясный', а русск. шар неотделимо от авестийского skarsna-
'круглый' .
Груз, ckari 'скорый' — слав, skorb, русск. скорый и пр.
О звуковых отношениях см. ниже.
Груз, с'ата 'есть, кушать' — русск. (жарг.) шамать
'есть', перс, cam 'еда и питье', camidan 'хлебать', согд.
*sam- 'глотать', авест. sam-, др. инд. cam- 'хлебать',
'глотать'. Возможно, звукосимволической природы 7.
709
Груз, didi 'большой', чан. dido 'очень' 8, адыг. dada
'очень' — литов. didis, жен. род. didi 'большой', didus
'величественный'. Перед нами сепаратная
кавказско-балтийская изоглосса, объяснения которой надо искать не в
каких-то исторических связях, а, скорее, в общей звуковой
символике. Этимология, которую дает для балтийских слов
Френкель, неубедительна 9.
Груз, kaimaxi 'форель' — среднеперс. каг-таЫк
мифическая рыба, новоперс. garmahl вид сельди, таджик, gul-
тоШ 'форель', к авест. кага masya название какой-то
рыбы (общеиранское s отражено в древнеперсидском как ,
а в ново- и частью в среднеперсидском как И, например,
dasa 'десять'— *da$a — средне- и новоперс. dah:
соответственно masya— *та$уа —mahi). Арм. karmrahayt
'форель' нельзя отделять от этой группы, но есть неясности
звукового порядка (второй г — вставной?).
Груз, k'argi 'хороший'. Ср. в одном из припамирских
иранских языков, сарыкольском, саг) 'хороший'.
Начальный с в сарыкольском восходит к к, а конечный ) соответ-
стенно к g. Восстанавливаемая форма *karg идентична
с грузинской. Она, видимо, восходит к древнеиранскому
*кагака- от *каг- 'делать' и означает, собственно,
«действенный», «деятельный» 10. Ср. по семантике слав. аоЬгъ
'хороший' при чешском dobiti 'формовать', латинском
faber 'ремесленник' ". Сюда же арм. к'arg 'порядок',
k'argin 'приличный', 'порядочный'.
Груз, kiseri 'шея' — сакское gisara- 'шея'. Сакское
слово Бейли возводит к *grt-s- от базы *gar-t-, и.-е. *ger-
' вращать '2.
Груз, iecaki шелковый головной платок, часть
национального женского головного убора — русск. (диал.) лешок
'платок'13. О звуковых отношениях см. ниже.
Груз, leywi 'инжир'. К приводимым у Г. А. Климова
соответствиям м следует добавить убых. lax'd' 'инжир' .
Груз, msrali 'сухой'. Вероятно из *m-sur-ali, к осет. sur
'сухой? По структуре ср. груз, martali 'истинный',
'правдивый' из *m-arta-li к др.-иран. arta- 'правда' 1ь.
Отношение: груз, s — осет. s такое же, как в груз, sav i — осет.
710
saw 'черный'. Грузинский и осетинский (в отличие,
скажем, от русского) различают два вида «сухости»: 1. «сухой
с поверхности», «не мокрый» (груз, msrali, осет. sur), и
2. «сухой» в смысле «не содержащий влагу, не влажный»
(груз, xmeli, осет. xus) 17. Стало быть, груз, msrali и осет.
sur сближаются не только этимологически, но и по
дифференциальной семантике.
Груз, m-zitewi 'приданое' нельзя, видимо, отделять от
арм. auzif id. Выделяемый здесь элемент *zit- (*zit-)
сопоставим с иран. ]Ш- 'жизнь'. Приданое рассматривалось
как «средство к жизни»?
Груз, oboli 'сирота'. Ср. ишкашимское ubol 'бедный',
'несчастный', 'жалкий' 18. Далее таджик, wabol 'бремя',
'тягость', перс, wabal 'трудность', 'бремя', 'тяготы'; 'вина',
'грех' 19.
Груз, putkari 'пчела'. Следует возводить к др.-иран.
*madu-kara-, среднеиран. *mudkar «изготовляющая (ка-
га-) мед (madu-)». Ср. авест. tnabu-, осет. mud 'мед' и
кага- основа глагола kar- 'делать1. Замена начального
согласного (т-^-р, Ь) — по табуистическим мотивам, как,
например, в осет. t?rqus 'заяц' вместо *d?r(y)qus
«длинноухий». Имеются другие опыты истолкования м.
Груз, slami 'ил'. Ср. лат. lama 'лужа', 'болото'. Вероятно
из до-латинского средиземноморского лексического фонда
(отмечено в диалектах испанского, в южнофранцузском,
в топонимии Португалии, Испании, Корсики, Апулии21).
Начальный сибилянт s вторичный, как s- в sparsi, spi-
lendzi и др.
Груз, txeli 'тонкий', 'жидкий', 'редкий', мегр. txitxu,
чан. titxu, сван, ddtxel n. За пределами картвельских
языков ср. убых. txa 'тонкий' 23. Совмещение значений 'тонкий'
»жидкий, редкий находим также в осетинском t?n?g: груз.
txeli kayaldi — осет. t?n?g g?xx?t 'тонкая бумага'; груз.
txeli c'weni — осет. t?n?g bas 'жидкий суп'; груз, txeli
t'qe — осет. t?n?g q?d 'редкий лес'. Одна из многих
грузино-осетинских семантических изоглосс.
Груз, waria 'молодая курочка', 'молодка', армян, varik'
id. В грузинском и армянском отложилось много иранских
711
элементов, в том числе и таких, которые в самих иранских
языках не всегда легко распознаются. В авестийском
тексте Vast 14 бог войны Вртрагна является в разных
манифестациях: в образе быка, коня, верблюда, вепря,
дикого барана, дикого козла, а также в образе птицы
Vardgan-. Высказывались разные мнения относительно
того, какая именно птица имелась в виду. Вопрос
упирается в этимологию первой части: var- (вторая часть gan-
означает «убивающий»). Опираясь на грузинское varia и
арм. varik\ a также на талышское vers 'молодая курочка',
можно с большой долей уверенности переводить авест.
var- 'курочка', a vardgan «убивающий кур». Имеется в
виду какая-то хищная птица, сокол, коршун или ястреб.
По образованию ср. авест. vira-gan- «убивающий мужей»,
gao-gan- «убивающий коров», udra-gan- «убивающий
выдр».— В этимологическом плане ср. еще
древнеиндийское vara- 'воробей' 24.
Груз, xwal 'завтра' имеет соответствие в убыхском:
к'0апэ 'завтра'. Чередование 1\\п — по вариативности
сонантов 25.
Груз, jneli (из °zin-eli) — осет. zyn \ zin 'трудный'.
В заключение в виде курьеза отметим созвучие
грузинского ?ia 'дядя' с итал. zio 'дядя', ра 'тетя'. Детские
слова?
Сравнивая грузинские слова с их вне-картвельскими
соответствиями, мы замечаем некоторые повторяющиеся
звуковые отношения. Мы отмечали их по ходу изложения.
На одной из таких закономерностей стоит остановиться
особо. Я имею в виду те случаи, когда вне-картвельским
сибилянтам отвечают в грузинском аффрикаты. Эту
закономерность, насколько я могу судить, впервые подметила
профессор Мзиа Андроникашвили, исследуя иранские
элементы в грузинском:
груз, c'minda 'святой' — иран. spanta-;
груз, c'igni 'книга' — лат. signum;
груз, cru 'ложный' — иран. zura-;
груз, ?iri 'низ', 'дно' — ср.-иран. zir;
груз, brjeni 'мудрый' — ср.-иран. frazan(ak);
груз, anaderji 'завет' — ср.-иран. handarz и др.26
Наш материал дает примеры, подтверждающие эту
закономерность («Закон Андроникашвили»):
712
груз, clpela 'бук' — осет. slbul^? 'вяз';
груз, с'к'ер' и.-е. *skep- 'прут' и пр.
груз, ckari — слав, skorb;
груз, сатанеть''— русск. шамать;
груз, lecaki — русск. лешок 'платок';
груз. z,neli — осет. zyn.
В парах: груз, ckari — русск. скорый и груз, lecaki —
русск. лешок обращает на себя внимание соответствие
гласных: груз, а — русск. о.
Перекрестные изоглоссы в картвельских языках.
Между грузинским, с одной стороны, и мегрело-чанским (зан-
ским), с другой, легко распознаются некоторые
закономерные звуковые соответствия (они установлены
профессором Цагарели и Марром). Так, гласному а в
грузинском отвечает о (и) в занском, гласному е в грузинском —
а в занском; / между гласными дает в занском г 27, г между
гласными — dz (ndz) и др.
Но бывает так, что в грузинском в единичных случаях
выступает «мегрельская» звуковая норма. Так, рядом с
cxeli 'горячий' имеем в грузинском cxari, рядом с c'neli
'лоза' — c'nori 'ива', рядос с c'qali 'вода' — c'qaro
'родник', рядом с тем же c'qali — m-c'qur-ia « жажду», где
c'qur (c'qur) — явный «занизм».
Примечания:
1 Для полноты материала включены также некоторые соответствия,
уже ранее отмеченные мною или другими авторами.
2 Andronikaavili Mzia. Nark'vevebi iranul-kartuli enobrivi
urtiertobidan, Tbilisi 1966, с. 199.
3 AndronikaSvili 65, 67, 70, 73, 120.
О грузинской группе см. Arn. Cikobava. C'anur-megrul-kartuli. se-
darebiti leksikoni. Tbilisi, 1938, p. 127.—Климов Г. А. Этимологический
словарь картвельских языков. Москва, 1964, с. 244, 247.—
Осетинский материал см. Абаев. Историко-этимологический словарь
осетинского языка, том III, 1979, с. 214.
Ф а с м е р М. Этимологический словарь русского языка, том IV,
М., 1973, с. 502 и ел.
6 Вопросы языкознания, 1982, № 2, с. 21—22. О перекрестных
изоглоссах см. также «Этимология 1966», М., 1968, с. 247—263 и
«Этимология, 1984», М., 1986, с. 12—16.
7 Климов Г. А. 254.
й Чикобава А. С. 234.
713
9 Ernst Fraenkel. Litauisches etymologisches Worterbuch, Band I,
Heidelberg, 1962, p. 93.
10 G. Morgenstierne. Etymological vocabulary of the Shughni group.
Wiesbaden, 1974, p. 27.
1 ' Этимологический словарь славянских языков. Под ред. О. Н. Тру-
бачева. М., Вып. 5, с. 45—46, 39—40.
12 Bai le y H. W. Dictionary of Khotan Saka. Cambridge, 1979,
pp. 78, 84.
13 Д а л ь В л.2 II 250.
14 Климов Г. А. 119
15 Н. Vogt. Dictionnaire de la langue oubykh, Oslo, 1963, p. 139.
16 A h д p о h и к а ш в и л и 23, 26.
17 См. об этом. «Ibero-Caucasica' XVIII (Melanges Cikobava).
Тбилиси, 1973, с. 33.
18 П а х а л и н а Т. Н. Ишкашимский язык. М., 1959, с. 242.
19 Персидско-русский словарь. Под ред. Ю. А. Рубинчика. М., 1970,
том II, с. 693.— Другие (мало убедительные) толкования грузинского
oboli см. Климов Г. А. 149—150. Абх. a-eyba (Марр), кабард. iba, чечен.
bo 'сирота' — из грузинского?
20 Ч и к о б а в а А. С. 115; Климов Г. А. 56; Т. В. Гамкрелидзе,
Вяч. Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984,
том II, с. 611, прим.
21 Рокоту 653—654.
22 Ч и к о б а в а А. С. 239; Климов Г. А. 93—94.
23 Vogt 190.
24 Otto Bohtlingk. Sanskrit-Worterbuch. St. Petersburg, 1889. Sechster
Theil, S. 22.— R. L. Turner. A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan
Languages, London, 1973, p. 659.
20 Folia Linguistica. Acta Societalis Linguisticae Europae tomus VI,
№ 1/2. The Hague, 1973, p. 189 (др. верхненем. himil — гот. himins
'небо' и др.).
26 Andronikasvili 212—214.
27 Аналогичная закономерность в румынском по отношению к
латинскому (см. выше статью «О вариативности сонантов»).
714
ZUR PALAONTOLOGIE DER
„LIEBE" UND DES „HASSES"
Liebe und Hass sind von alters her als die zwei machtigsten
Leidenschaften des Menschen anerkannt und in Poesie und
Prosa mehrfach geschildert. Als diametral entgegengesetzte
Gefuhle soliten sie, es scheint, einander ausschliessen. Doch
behaupten die Kenner der Psyche, dass in Wahrheit die Sache
ganz anders dastehe: dass die Liebe mit Leichtigkeit in Hass
iibergeht und umgekehrt; dass beide Leidenschaften ofters so
eng untereinander verwickelt sind, dass man nicht entscheiden
kann, ob man an Liebe oder an Hass denken soli; dass, schlies-
slich, die Distanz zwischen Gleichgultigkeit und Liebe uner-
messlich grosser ist, als die zwischen Liebe und Hass '.
Ist das alles richtig? Der Leser kann die Antwort aus seiner
eigenen Erfahrung schopfen. Ich habe keinen Anspruch diese
dunklen Tiefen der menschlichen Seele zu erforschen; doch
halte ich es fur bemerkenswert, dass die palaontologisch-lin-
guistische Analyse von einem ganz anderem Standpunkte aus
die Einheit der Liebe und des Hasses bes-
tatigt. Hier will ich einige sprachliche Tatsachen anfiihren, aus
denen sichtbar wird, auf welche Weise «Liebe» und «Hass»
sich aus einem und demselben Begriffe ent-
wickeln konnen.
Osset. warz- 'lieben' setzt ein arisches *varg- voraus. Dieses
letztere aber stimmt ganz mit slav. *vorgu, aksl. vragu, russ.
ворог 'Feind' iiberein. Lautlich ist diese Zusammensetzung
einwandfrei. Was nun die Bedeutung anbetrifft, so erschien
mir anfangs die Sache etwas zu paradox, bis mir ahnliche
Tatsachen aus einem anderen Gebiete bekannt wurden.
Die Bedeutung des arischen *prl-, ai. prl, aw. fri- ist
festgestellt, als «lieben, befriedigen». Doch unterliegt es kaum
einem Zweifel, dass die altere, konkrete Bedeutung in
dem mit dem Praefix a zusammengesetzten awest. a-fri-
'beschworen' sich erhalten hat (gerade so, wie die altere,
magische Bedeutung von russ. говорить 'sprechen' sich in
dem mit за- zusammengesetzten за-говор 'Beschworung'
erhalten hat). Awest. afriti- bedeutet 'Segen' wie 'Fluch', und
715
aus den Belegstellan ist vollkommen klar zu ersehen, dass es
sich um einen Zauberakt handelt. Die Ambivalenz
des Wortes folgt notwendigerweise aus der Natur der magis-
chen Handlung. Die magische Weltanschauung setzt einen
Dualismus und Antagonismus zwischen den^lichten und finste-
ren Machten, resp. zwischen dem eigenen und fremden
Stamme voraus. Eine und dieselbe Zauberhandlung kann deswegen
gleichzeitig ein Akt der Liebe und des Hasses sein, freundlich
fiir die Einen und feindiich fur die Anderen. Zum Beispiel, der
Zauberspruch bei der Heilung eines Kranken ist zugleich
freundlich (gegeniiber dem Kranken), also ein Akt der
Liebe,— und feindiich (gegeniiber den bosen Machten,
welche den kranken Korper in der Gewalt haben), also ein
Akt des Hasses. So entwickelt sich aus dem Begriffe des «Zau-
bers» einerseits die Bedeutung des «Segens» und der «Liebe»,
andrerseits die des 'Fluches' und des «Hasses».
Wenn wir jetzt zu slaw. *vorgu 'Feind' zuruckkehren, so
wird dessen Zusammensetzung mit osset. warz- 'lieben' nicht
so «shocking» aussehen. Neben dem * vorgu 'Feind' finden
wir im Slawischen *vorg- 'zaubern', dessen Identitat mit dem
ersteren, trotz Fr. Miklosich, Etym. Worterbuch der slaw.
Spr., S. 395, ausser Zweifel steht (cf. russ. ворожить
'zaubern', neben ворог 'Feind'). Die Semantik ist also dieseble,
wie bei aw. fri-, af ri-, nur hat im Slawischen die negative
(«feindliche») Bedeutung die Oberhand gewonnen, nicht die
positive («freundliche»), wie im Iranischen. Die positive
Seite der ambivalenten Bedeutung des gemeinsamen slawisch-
ossetischen Wortes liegt in osset. warz- 'lieben' vor 2.
Das Schema der Bedeutungsentwicklung ist also folgen-
der Art:
Z a u b e r
(Zauberspruch)
Segen Fluch
segnen fiuchen
l i
lieben hassen
(Freund) (Feind)
Ich mochte noch einige nachtragliche Bemerkungen hin-
zufugen:
1. Osset. ?znag 'Feind' und osset. ?lgit?g 'Flucher' (von
?lgityn 'fiuchen') sind Synonyma. Man kann in derselben
716
Phrase beliebig das eine oder das andere Wort gebrauchen.
Man kann z. B. sagen: de'znag aft? 'deinem Feinde (geschehe)
so' und de'lgit?g aft? 'deinem Flucher (geschehe) so'.
2. Osset. arf? (mit aw. afri- und npers. afrin verwandt)
bedeutet nicht nur 'Segen' (Gr. I Anhang, S. 79), sondern
uberhaupt 'Zauberspruch', 'Beschworung', z. B. c?sti arf?
'Zauberspruch (gegen das bose) Auge' (Памятники
народного творчества осетин II, S. 171 ff). Die Bedeutung ist
offenbar magisch und ambivalent.
3. Auf Grund derselben Semantik erklare ich noch zwei
ossetische Worter: x?zgul 'Geliebte' und fydgul 'Feind'. Die
zweite Halfte der Worter enthalt oss. kur- 'bitten' (kur—>-gur->-
gul). Die eigentliche Bedeutung von x?zgul ist also 'Gutes
bittend' (x?zgul aus x?rzkur, wo x?rz*^xorz 'gut', 'das
Gute'), 3 und von fydgul — 'Boses bittend' (fydgul aus fyd-kur,
vo fyd — 'das Schlimme, das Bose'). Das r in x?rz, bevor
es verschwand, wirkte die Dissimilation: *x?rzgur -*- x?rzgul-*-
x?zgul. Nach Analogiebildung wird dann das l auch auf
fydgul iibertragen: *fydgur->fydgul.
Die magische Urbedeutung von oss. kur- 'bitten' ist heut-
zutage verblasst, doch in dem davon abgeleitetem kurdiat
ist sie noch spurbar. In den ossetischen Sagen bedeutet kurdiat
die magische Kraft oder Fahigkeit das Erwiinscbte oder
Gebetene zu erhalten. Man kann also die urspriingliche Bedeutung
von kur- mit volliger Sicherheit feststellen: 'zaubern', 'beschwo-
ren', 'mit Beschworungen erbitten etwas fur sich oder fur Je-
manden', dann — 'Gutes oder Boses anwunschen'. Es ist
ersichtlich, dass die ursprunglich ambivalente Bedeutung von
kur- mit Hilfe von x? r z 'Gutes' und fyd 'Boses' in zwei
entgegengesetzten Richtungen prazisiert worden ist: x?zgul
'Gutes anwiinschend'-^'Geliebte' und fydgul 'Boses anwun-
schendWFeind'.
4. Npers. afrldan 'creare' neben afrin 'laus' scheint eine
schwierige semantische crux darzustellen. P. Horn. Grundriss
der Npers. Etym. S. 10, stellt sogar die Frage, ob hier nicht
zwei ganz verschiedene Worter vorhanden waren. Die Losung
liegt in der magischen Semantik des Wortes. Von unserem
Standpunkte aus ist die Bedeutung von afrldan 'creare' ein
gesetzmassiges Derivatum der urspriinglichen Bedeutung
'zaubern' (aw. o/r7-),denn im primitiven Denken kann «schop-
fen» nichts anderes bedeuten, als «mit Zauber hervorrufen».
5. Wir haben gesehen, dass die Ambivalenz ein cha-
rakteristisches Merkmal der magischen termini ist. Daraus
erklart sich die sonderbare Semantik solcher Worter, wie
717
das deutsche hannen oder lat. sacer. Die zwei entgegengesetzte
Bedeutungen von bannen, 'incantare' und 'expellere', be-
zeichnen, ins magische Denken iibertragen, nichts anderes
als 'mit Zauber anlocken' und 'mit Zauber verjagen'. Die
Ambivalenz von sacer, 'gesegnet' und 'verflucht', beruht auf
derselben Semantik. Ein schones Beispiel der Ambivalenz der
magischen termini bietet auch ai. raks- 'hiiten' und 'scha-
digen'.
Zum Schluss sei betont, dass die oben geschilderte Bedeu-
tungsentwicklung keineswegs die einzig mogliche ist fiir die
Begriffe der Sympathie und Antipathie in allen Sprachen. Die
Polygenesis der Begriffe ist ein allgemeines Gesetz der Sprac-
hentwicklung, welches fur die palaontologische Analyse der
Abstracta besondere Geltung hat. Es ist nicht nur mog-
lich, sondern hochstwahrscheinlich, dass in anderen Sprachen
'Liebe' und 'Hass' eine andere Entstehung voraussetzen. Es
gibt Sprachen (z. B. die georgische), wo die Begriffe 'lieben',
'hassen' nur passivisch sich ausdrucken lassen (wie
deutsch 'es gefallt mir'). Diese Ausdrucksform beruht
augenscheinlich nicht auf dem Begriffe der aktiven
(magischen) Wirksamkeit, sondern auf dem der E r g r i f-
f e n h e i t oder Besessenheit. .
Noten :
' Mit schoner Naivitat hat Catullus die vervirrende Nahe der beiden
Gegensatze — Liebe und Has — ausgedriickt:
Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.
Maupassant schreibt: 'Il existe assurement un amour atroce, cruellement
torturant, fait de l'invincible enlacement de deux etres disparates, qui se
detestent en s'adorant» («L'epingle»).
Diese «Verwirrung» der Gefiihle schildert auch Dostojewsky: «...Из-под
беспрерывной к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое
мгновение сверкает любовь... Напротив, из-за любви, которую она ко мне
чувствует, тоже искренно, каждое мгновение, сверкает ненависть,—
самая великая! Я бы никогда не мог вообразить прежде все эти...
метаморфозы». («Бесы», II Teil, 6 Кар., VII).
2 Slav. *vorg- und das von osset warz- vorausgesetzte ar. *varg- scheinen
mir zu der gemeinindogermanischen Wortsippe *werg-\\*worg- 'Werk' zu
gehoren: gr. egyov 'Werk', Боуа<;Оц.си 'arbeiten' etc., nhd. wirken, Werk,
engl. work, awest. varaz- 'wirken'. Die urspriingliche Bedeutung ist wohl —
718
'Zauberwerk'. Fur den magisch-kultischen Ursprung des Wortes sprechen
entscheidend gr. ооук* 'kultisene Handlung', 'Gottesdienst' und gr. eoow
'opfern'. Die semaiuische Abweichung des Ossetischen von Awestischen
(aw. varaz- 'wirken' — oss. warz- 'lieben') durfte nicht allzu sehr befremden,
wenn man die Kompliziertheit der Sprachentwicklung und die besondere
Stellung des Ossetischen im iranischen Sprachkreise in Betracht zieht. Diese
Abweichung ist ubrigens nicht grosser als die zwischen awest. afrl- und
npers. afridan (s. unten). Man konnte sogar sagen, dass der Bedeutung
nach awest. varaz- 'wirken' (=schaffen)' sich gerade ьо zu osset. warz-
'lieben' verhalt, wie npers. afridan 'schaffen' zu awest. fri- 'lieben'. .Die magische
Semantik von arisch *varg- ist in ormuri ywaz 'schworen' erhalten (orm.
Yu>ai:=aw. varaz-. G. Morgenstierne, Indo-iranian frontier languages. I,
S. 335, 396).
3 Falsch bei Miller, Gr. I Anhang, S. 66 ('an der Seite ligend').
Академия наук СССР Н. Я. Марру. М.— Л., 1935.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ОБШЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Отражение работы сознания в лексико-семантической системе языка 7
Язык как идеология и язык как техника 45
Понятие идеосемантики 67
Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке . . 84
Языкознание — общественная наука 114
Общегуманитарные аспекты теоретического языкознания .... 125
О термине «естественный язык» 134
Языкознание описательное и объяснительное 140
Об историзме в описательном языкознании 163
О подаче омонимов в словаре 176
Язык и история 197
История языка и история народа 218
О «фонетическом законе» 240
О вариативности сонатов 255
О языковом субстрате 269
Значение ареальных контактов в истории языка 287
За родную речь 294
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Скифо-европейские изоглоссы 299
Скифо-уральские изоглоссы 439
Slavo-avestica 445
К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских
народов 458
Доистория индоиранцев в свете арио-уральских контактов . . . 472
Типология армянского и осетинского языков и кавказский
субстрат 481
Armeno-ossetica 490
720
Некоторые осетино-грузинские семантические параллели .... 502
О перекрестных изоглоссах 510
Thraco-Scythica 530
Фракийский социальный термин Tarabosteis 542
О принципах этимологического словаря 546
Как можно улучшить этимологические словари 565
Этимологические заметки 592
Из истории слов 604
Rantikapaion 604
Qazar 613
Tarxan 618
Слав, мьдь 621
Слав, азъ 633
Слав. м1ръ 633
Слав, ш-'другой' • 634
Русск. сулой 634
Русск. тряпка 635
Русск. хаять 636
Русск. Дажьбог 636
Русск. гунявый 636
Укр. гулий, 'безрогий' 637
Русск. бунт 637
Русск. диал. шануть 'толкнуть' 637
Слав, plastb, русск. плащ 637
Русск. грузин 638
Русск. диал. засатарить 638
Русск. заря 'трава' 638
Русск. гидро-, топоним Орша 639
Осет. ad?g 'борона' 641
Русск. таскать 642
Русск. аланец 'непоседа' 644
Русск. диал. варзать 'делать плохо' 646
Русск. и укр. лудан 648
Русск. абрек 652
Русск. слам 659
Др.-русск. кърчий 'кузнец' 662
721
Русск. гривенка — перс, girvanka 668
Ведийское ari-, осет. ?c?g?lon 671
Образ Вия в повести Гоголя 677
Этнонимы на -ец в русском 685
К семантике глаголов с основным значением «делать» 692
Слав, творити 706
Cartvelica 709
Zur Palaontologie der «Liebe» und des. «Hasses» 715
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
АБАЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
ОБЩЕЕ И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Том II
Редактор издательства И. X. Джанаева
Художественный редактор В. А. Биджелов
Технический редактор Б. Т. Бесаева
Корректор Е. А. Икаева
ИБ № 2090
Сдано в набор 20.03.91. Подписано в печать 7.11.95. Бум. тип. № 1. Гарн. шрифта Тип
Тайме. Печать офсетная. Тираж 1000. Заказ № 109.
Издательство «Ир». 362040, г. Владикавказ, проспект Мира, 25.
Республиканское издательско-полиграфнческое объединение «Адыгея» Министерства
национальной политики, печати и внешних связей Республики Адыгея, 352700, г. Майкоп,
ул. Пионерская, 268.