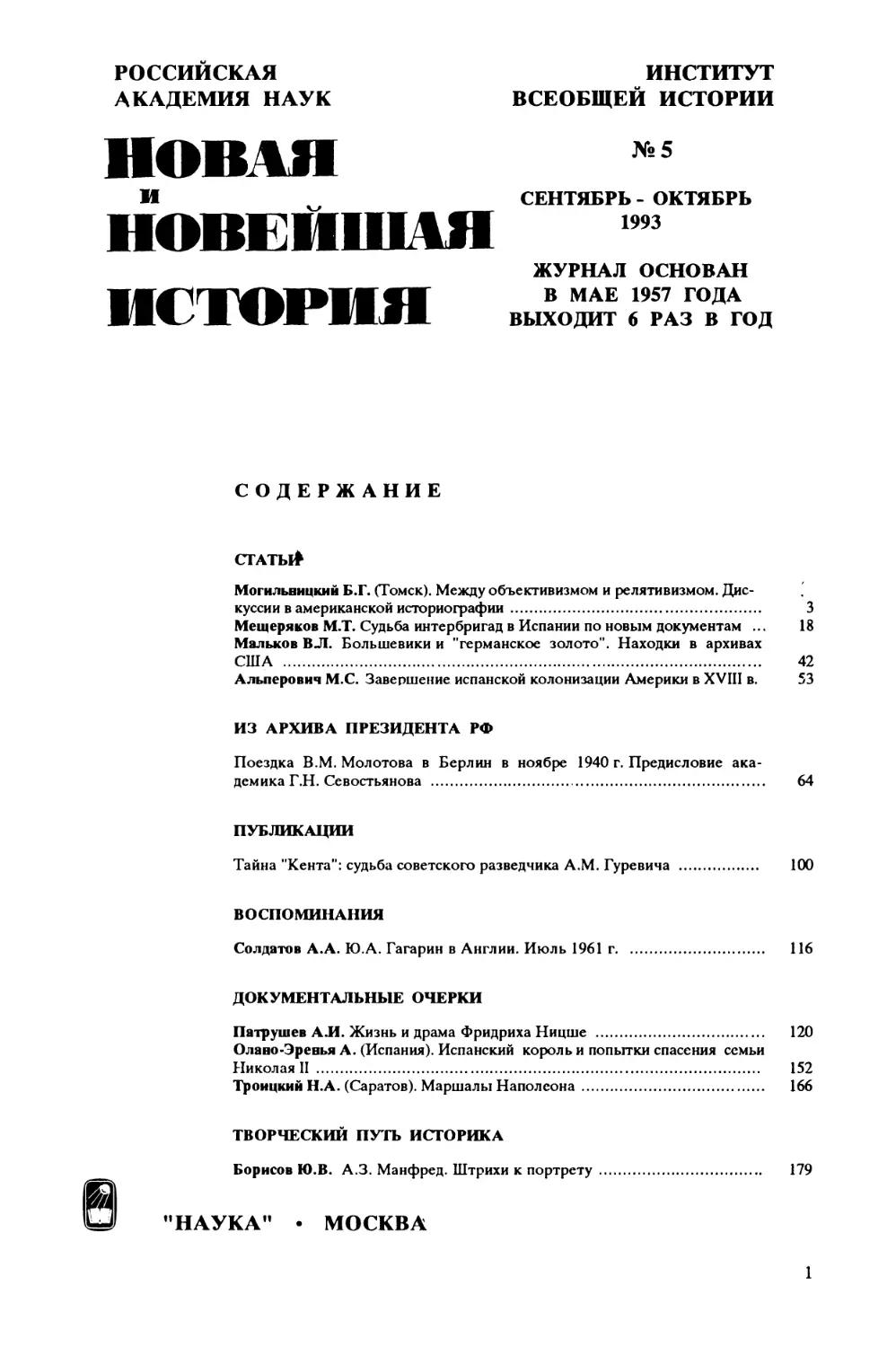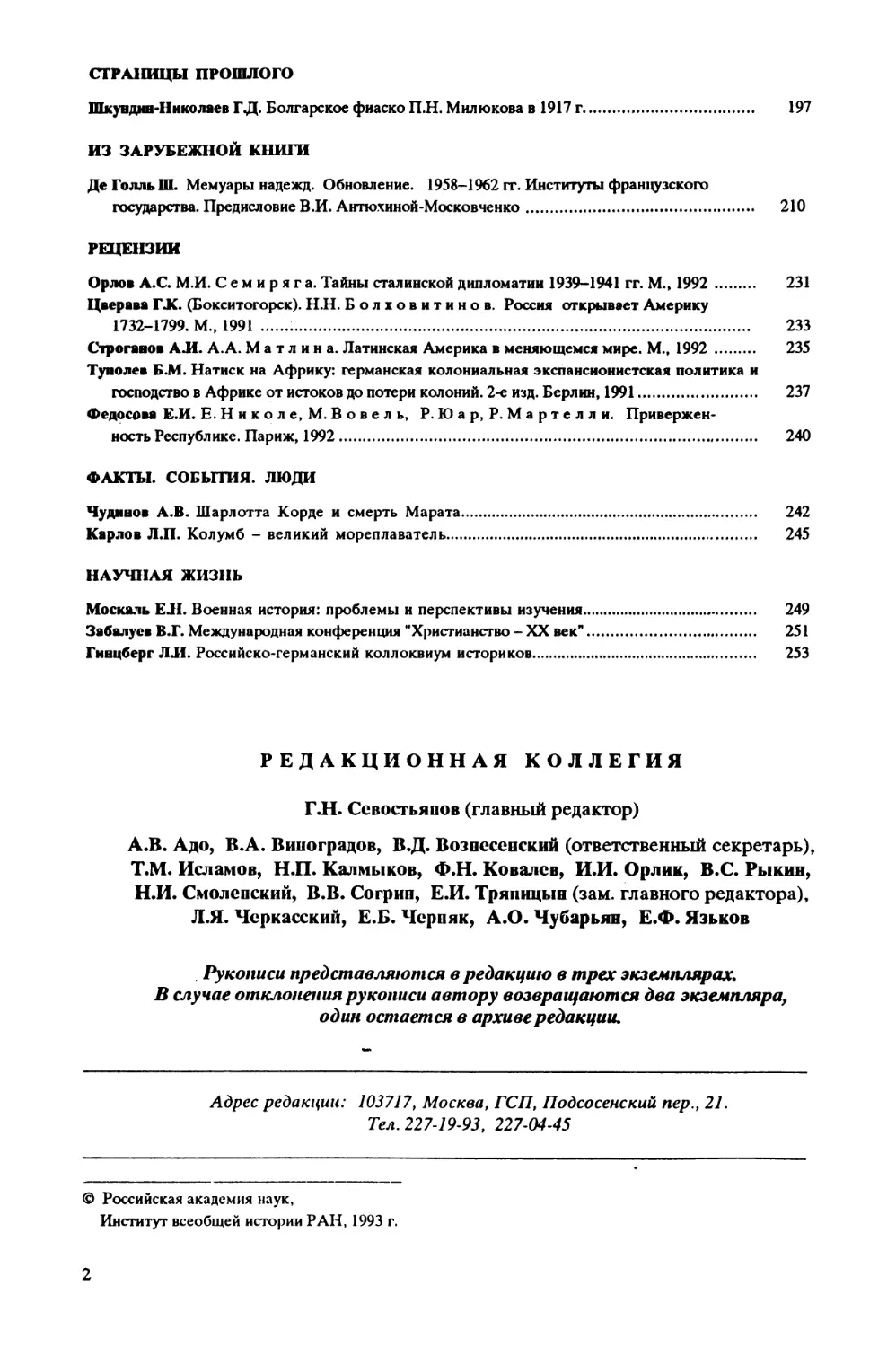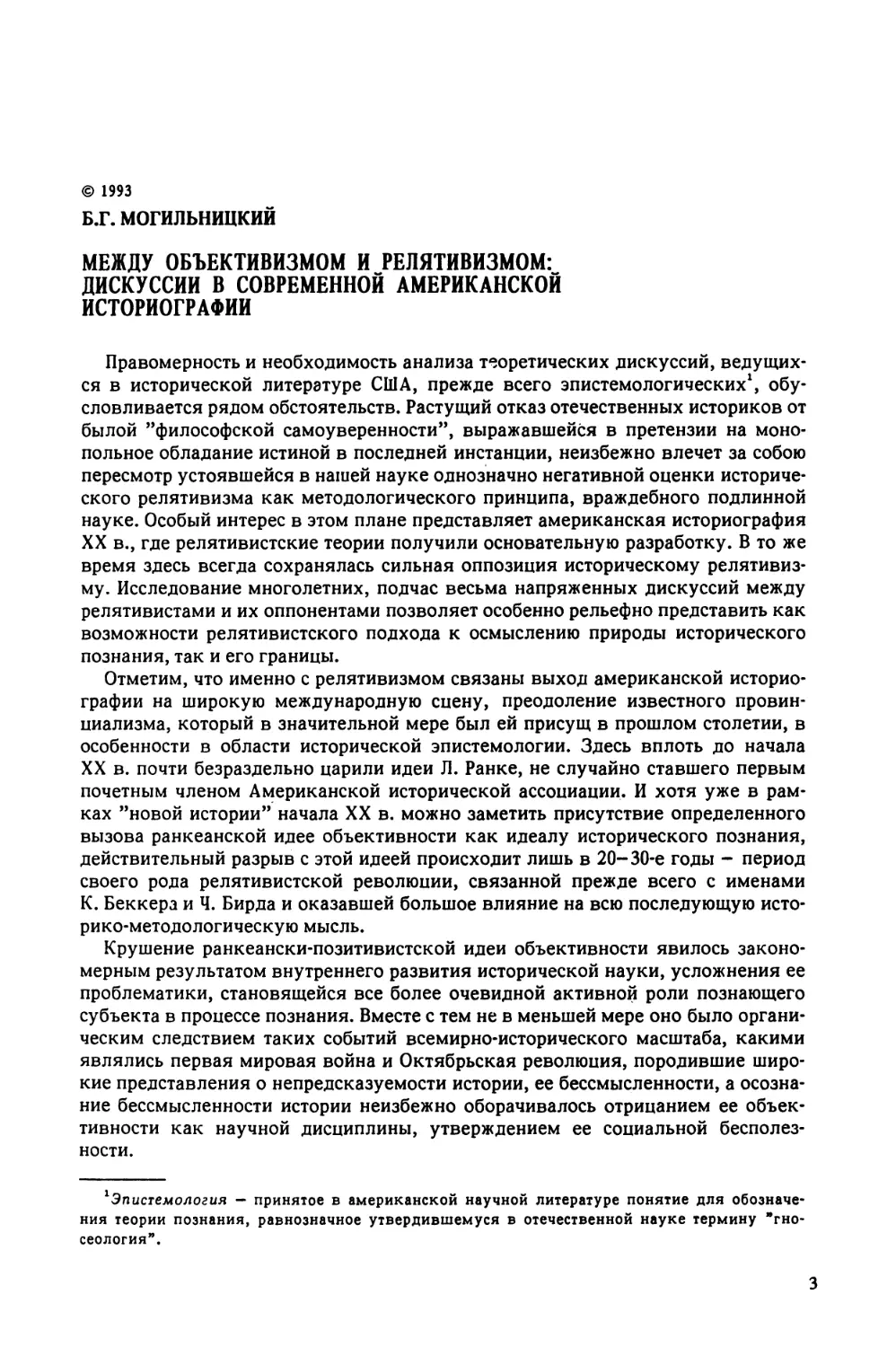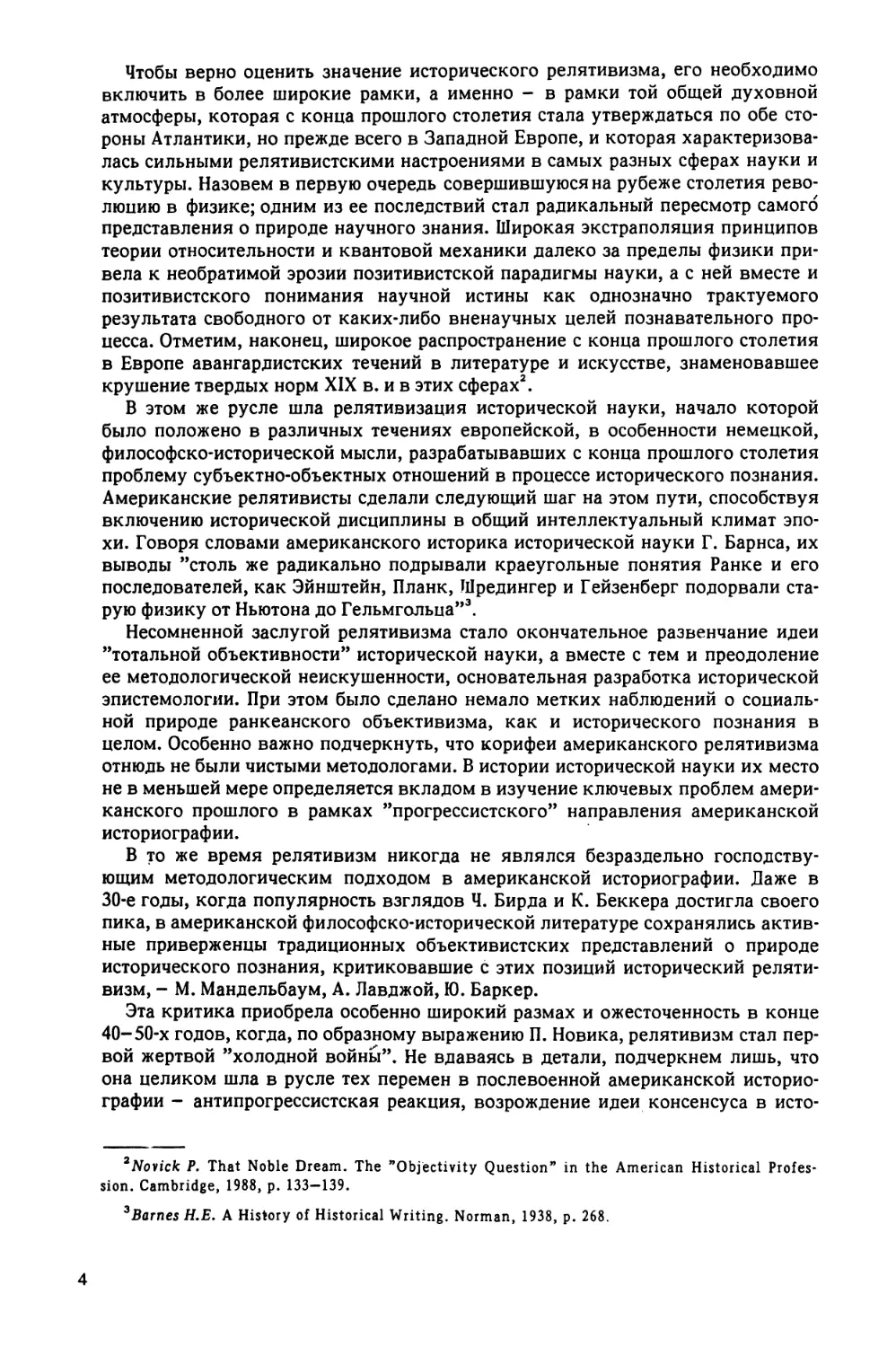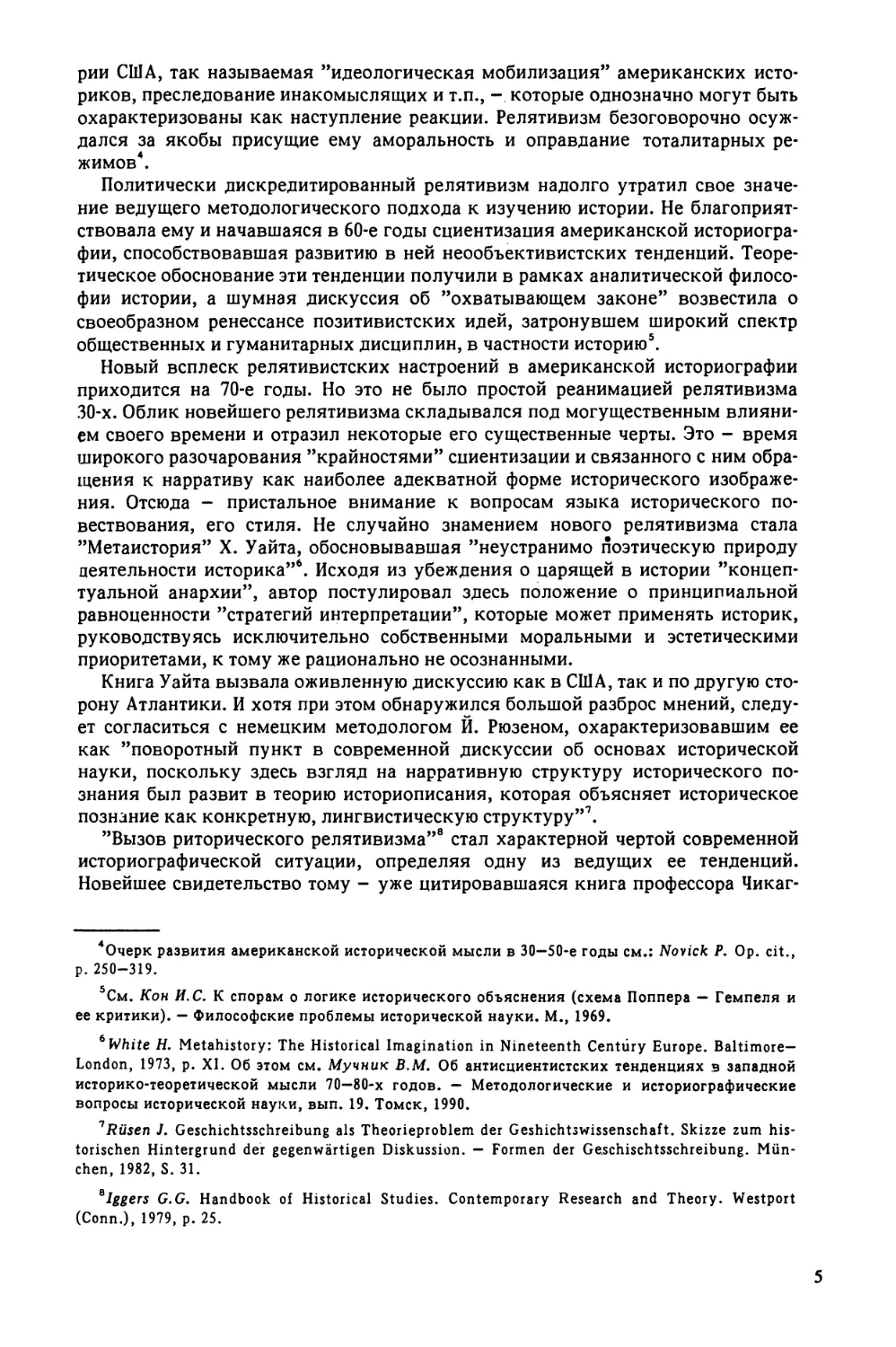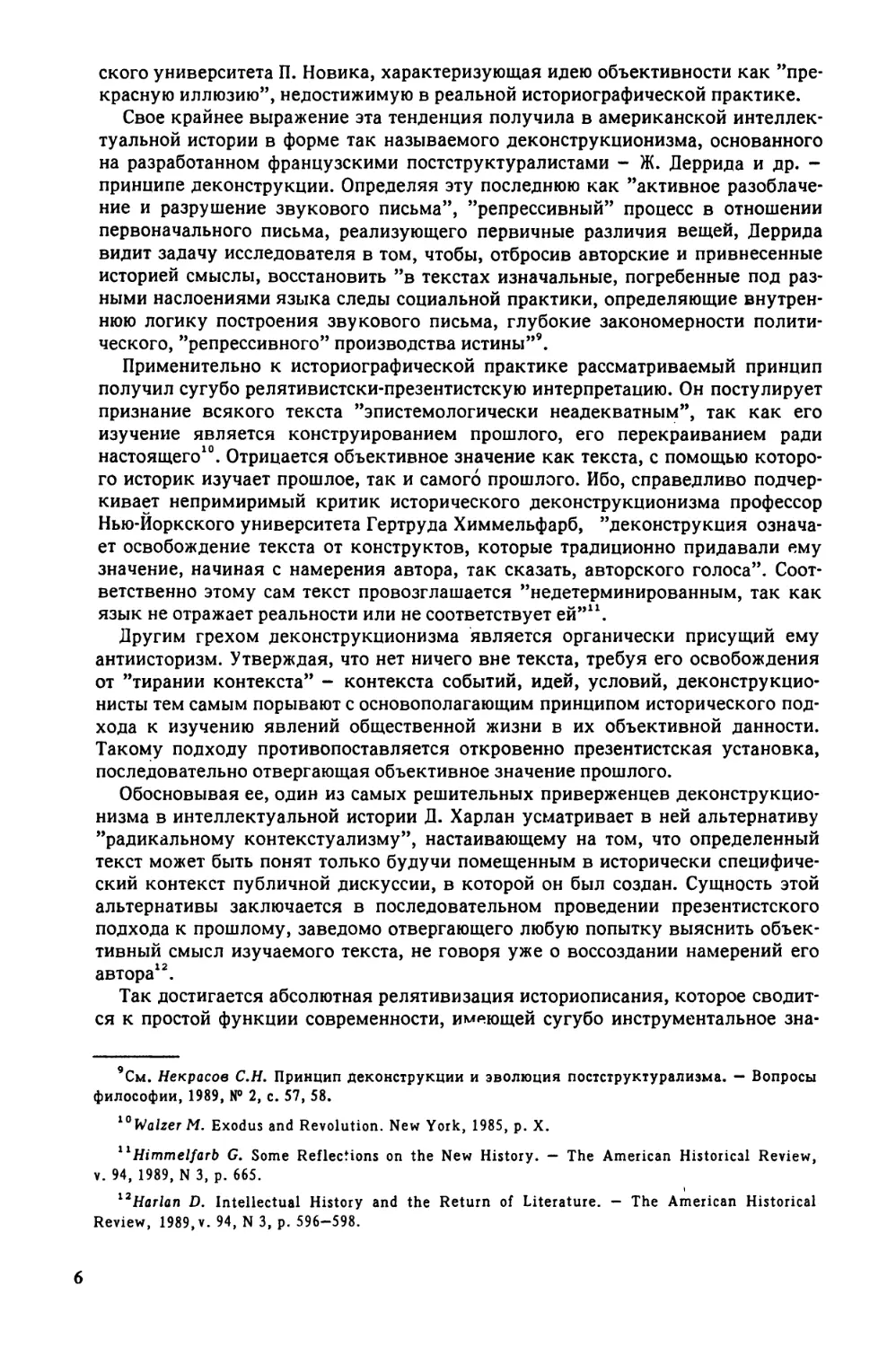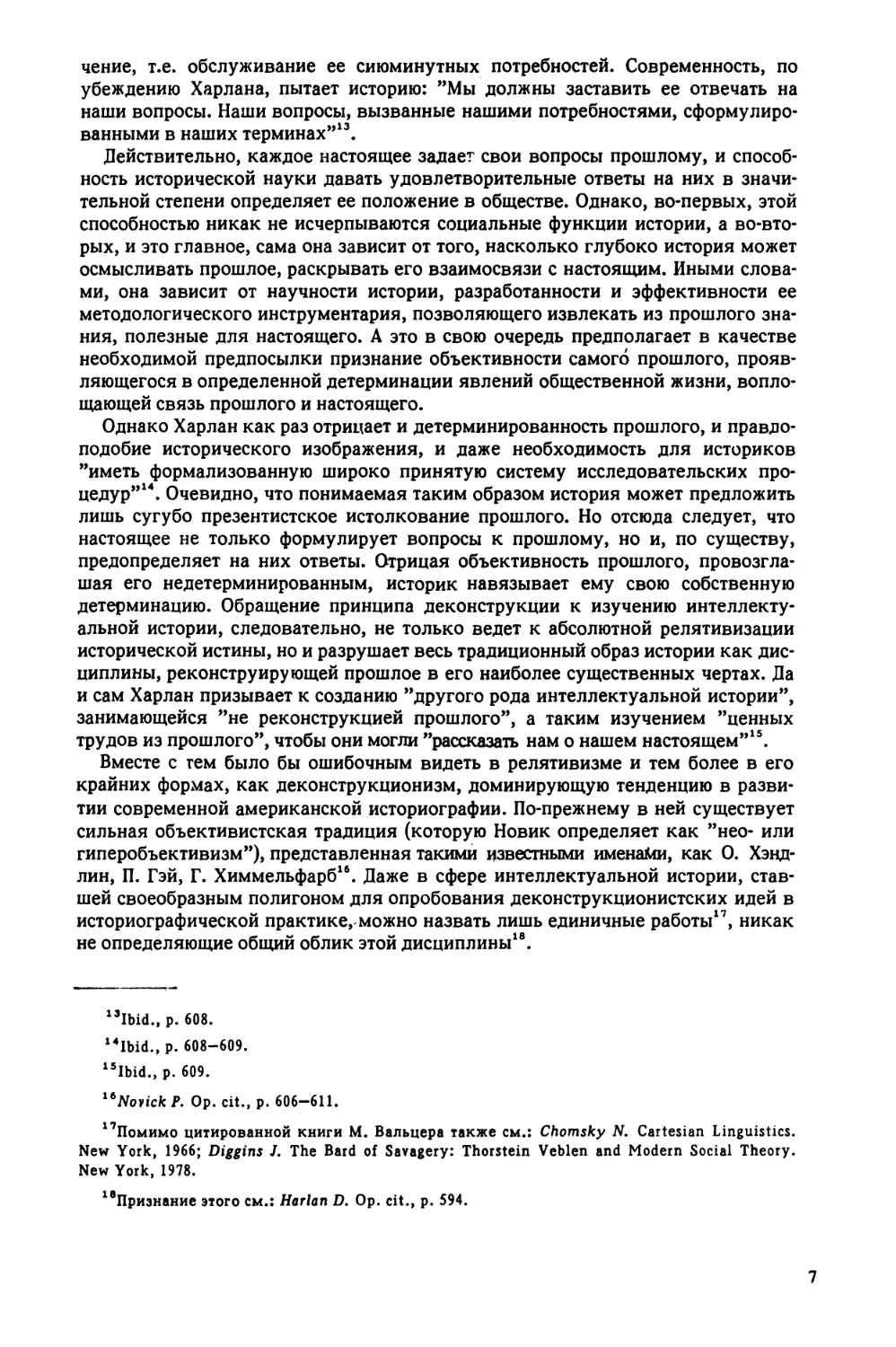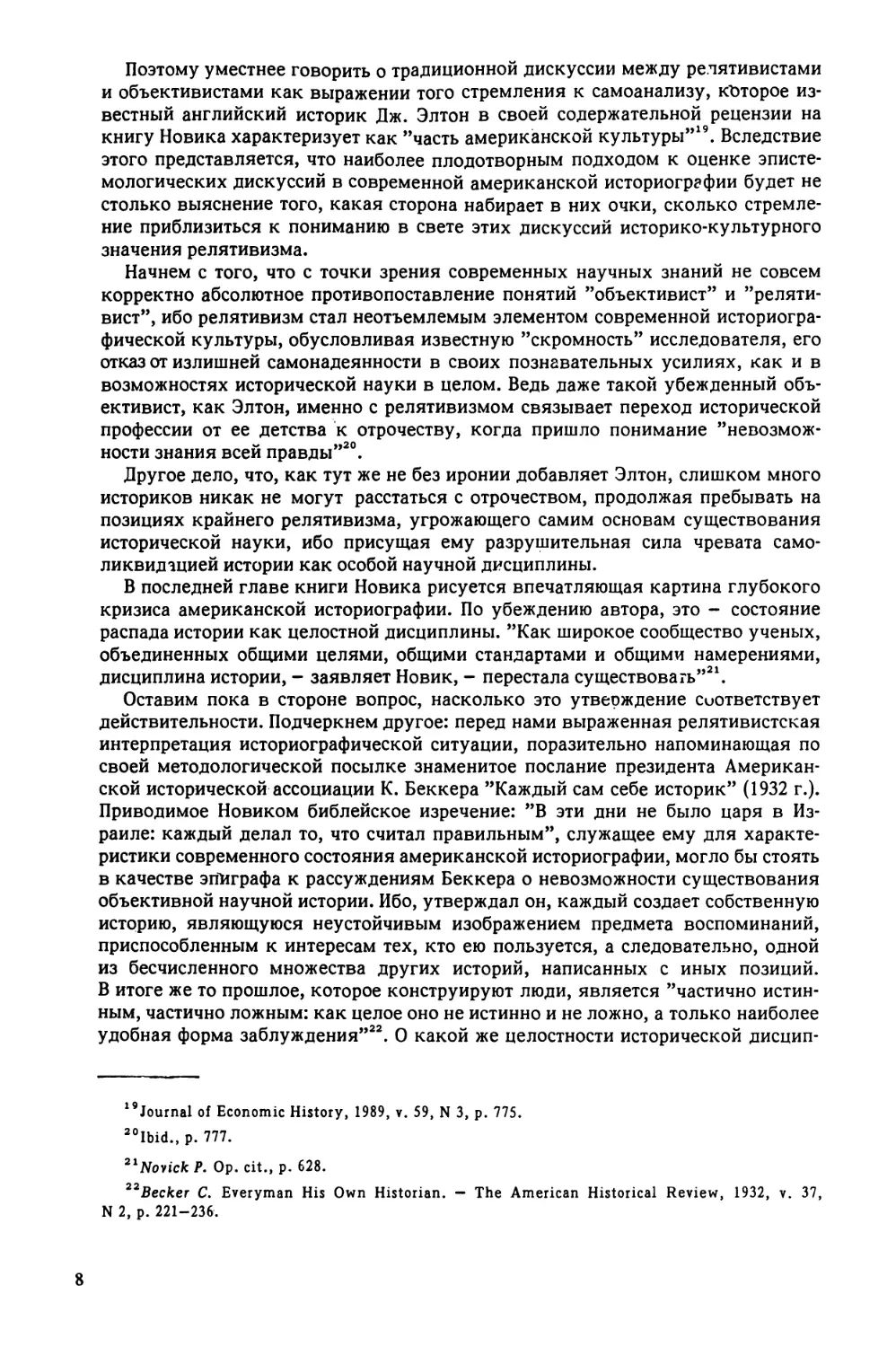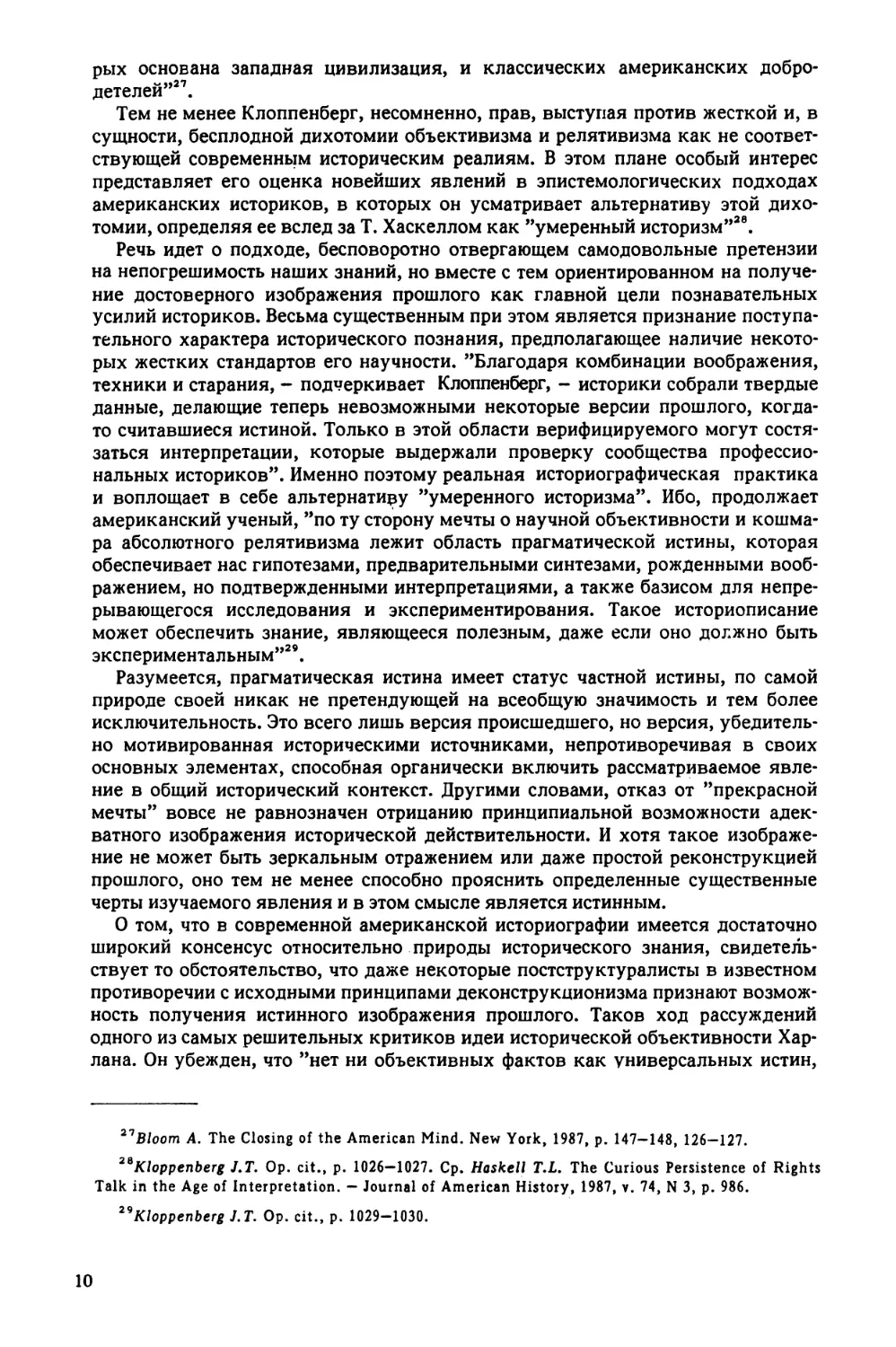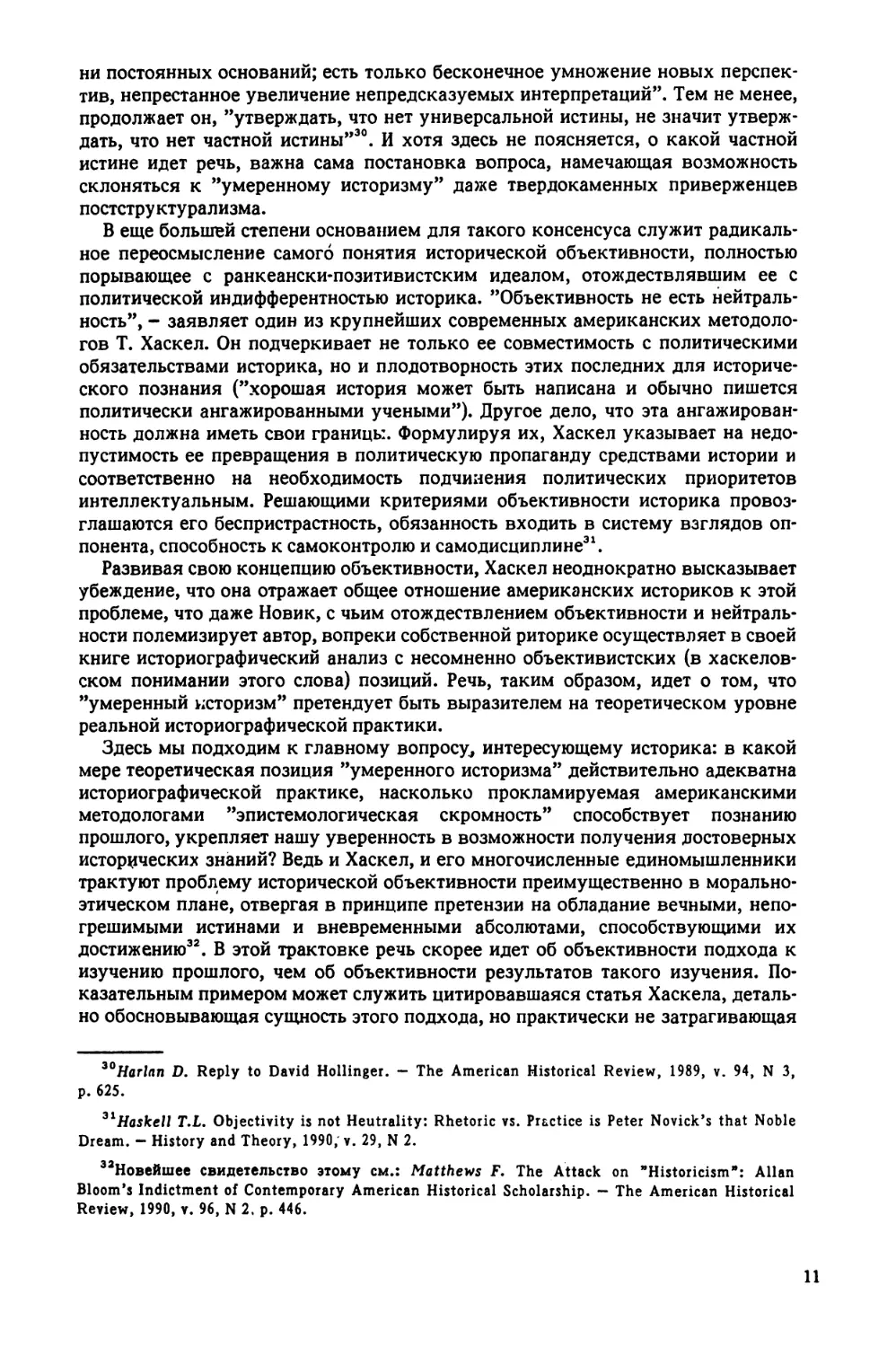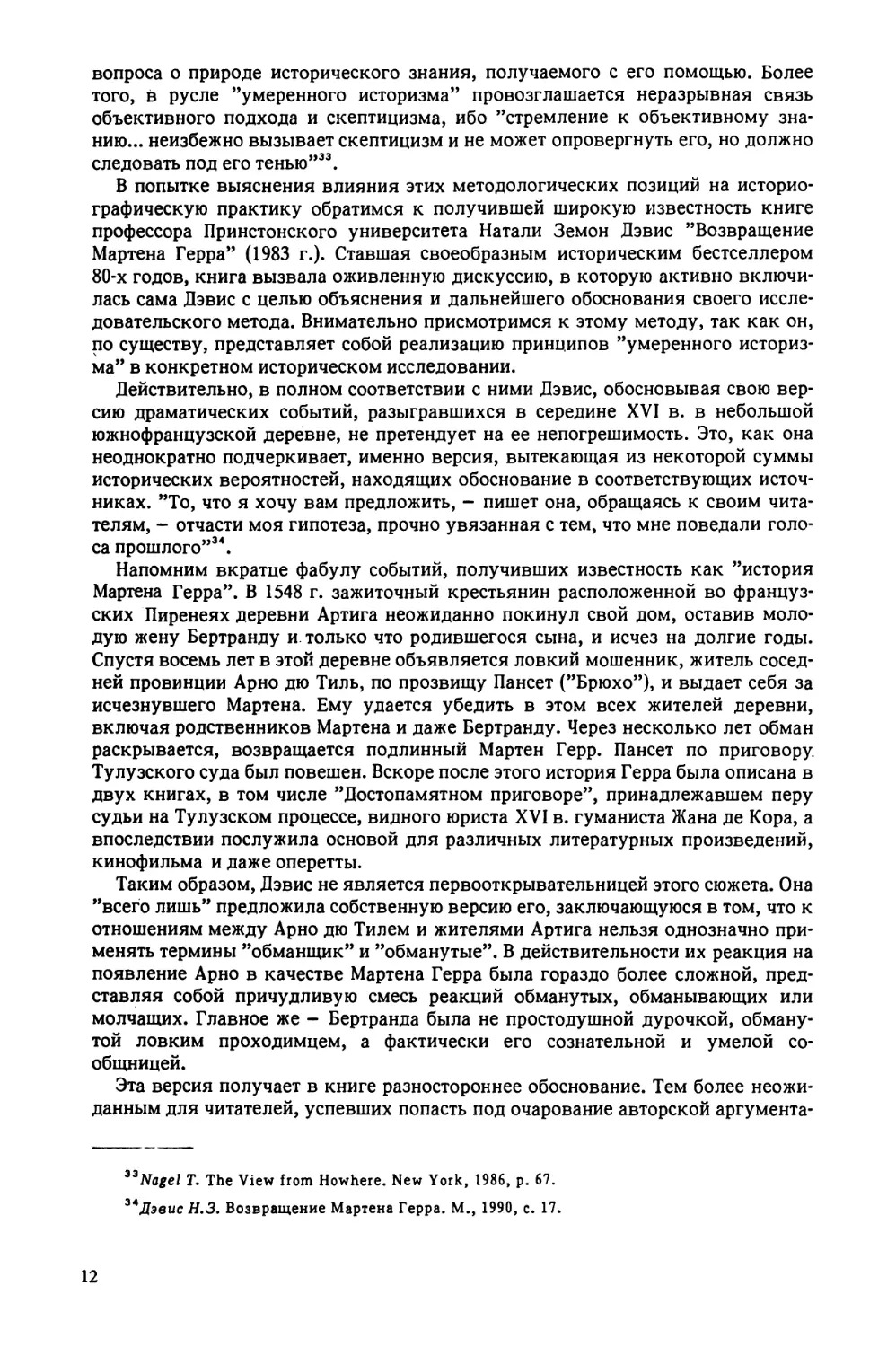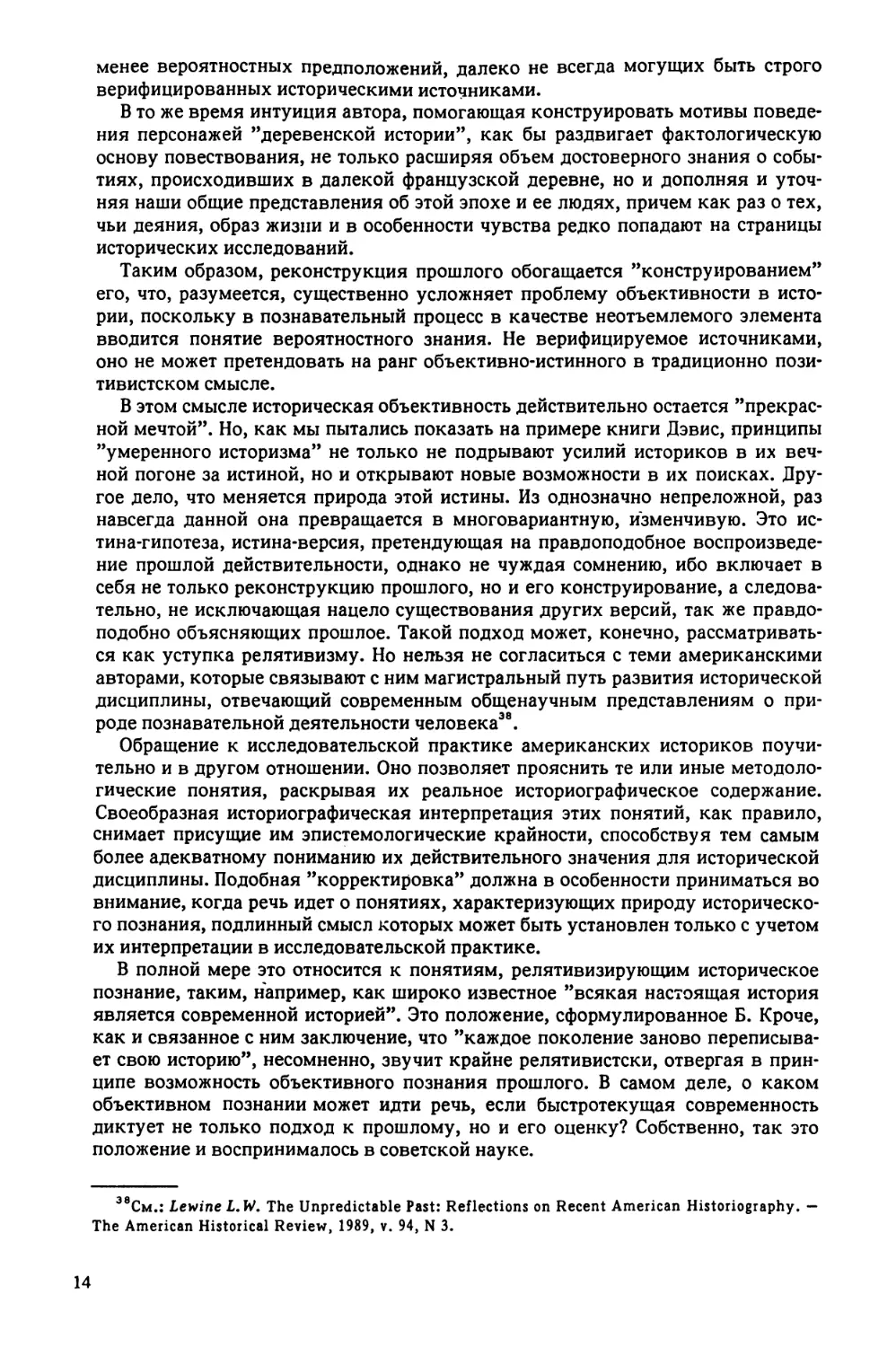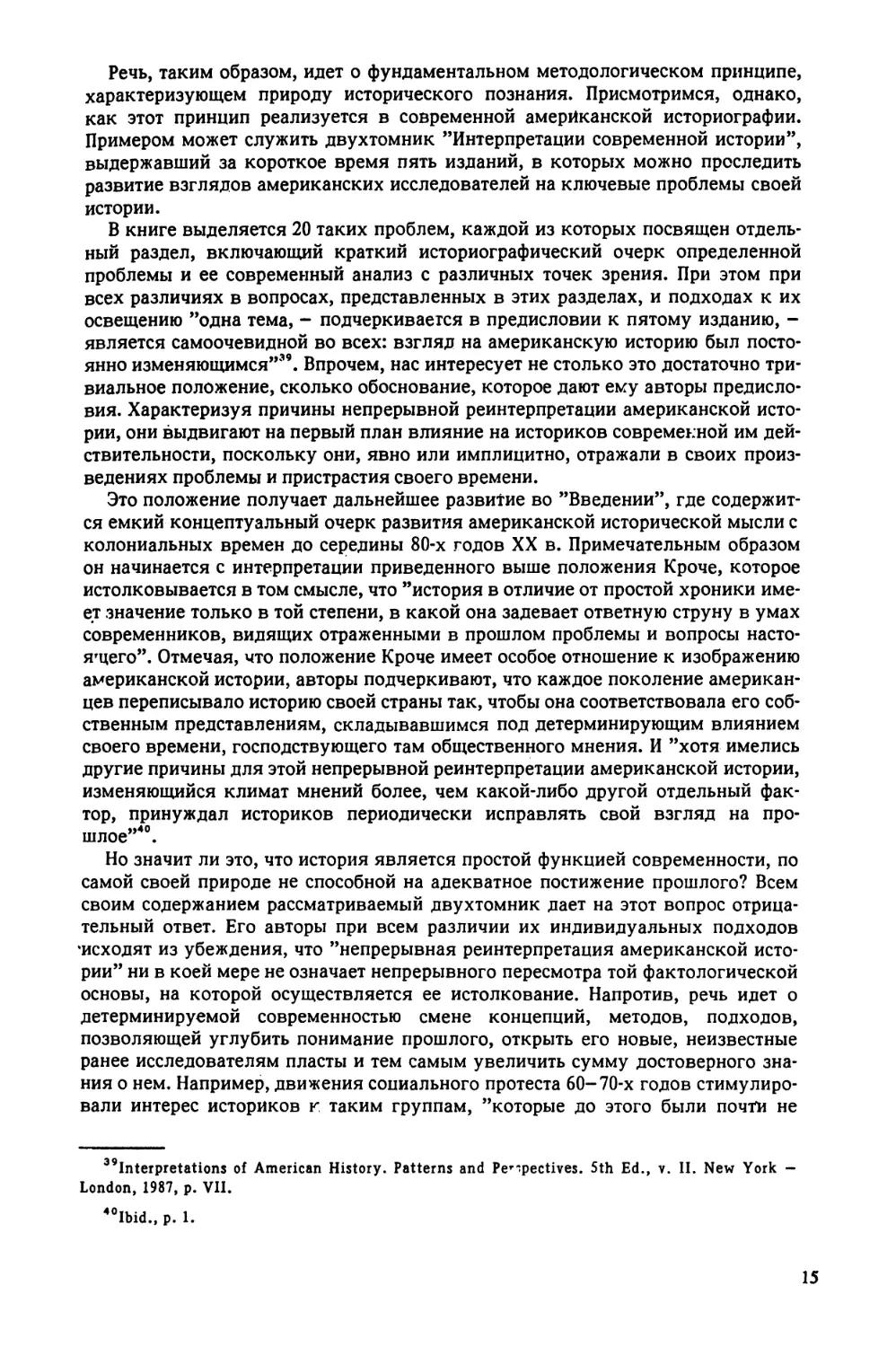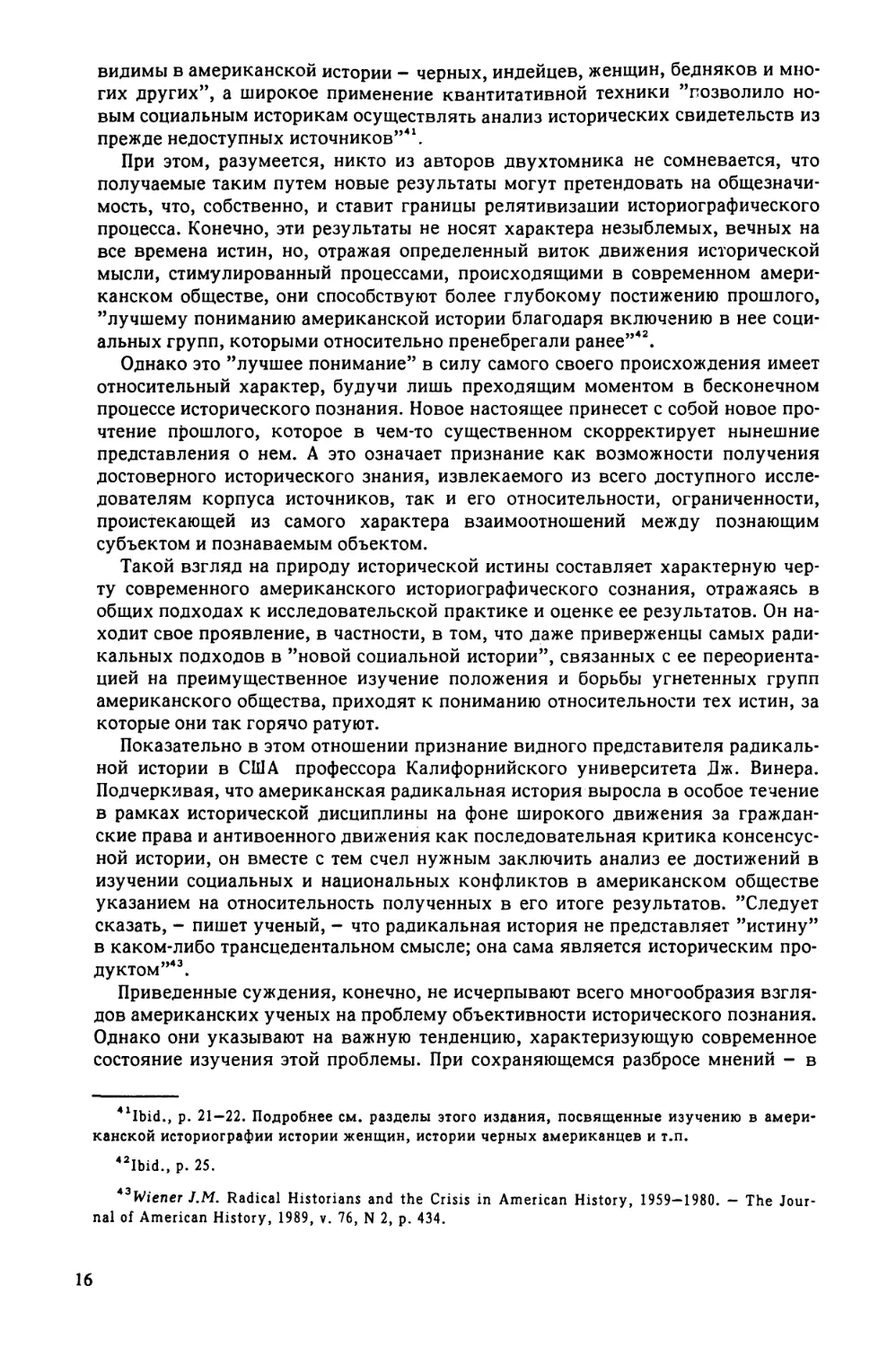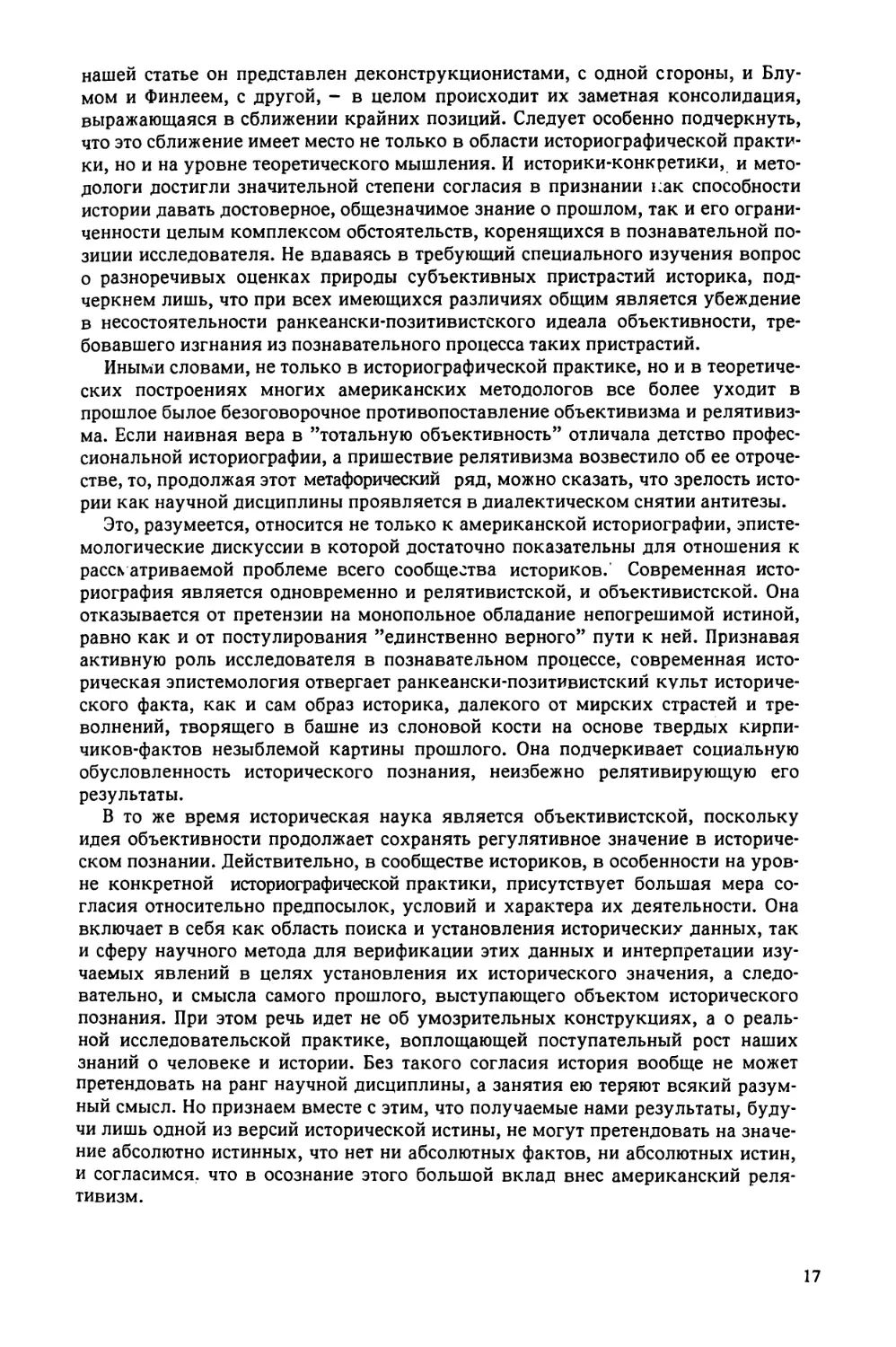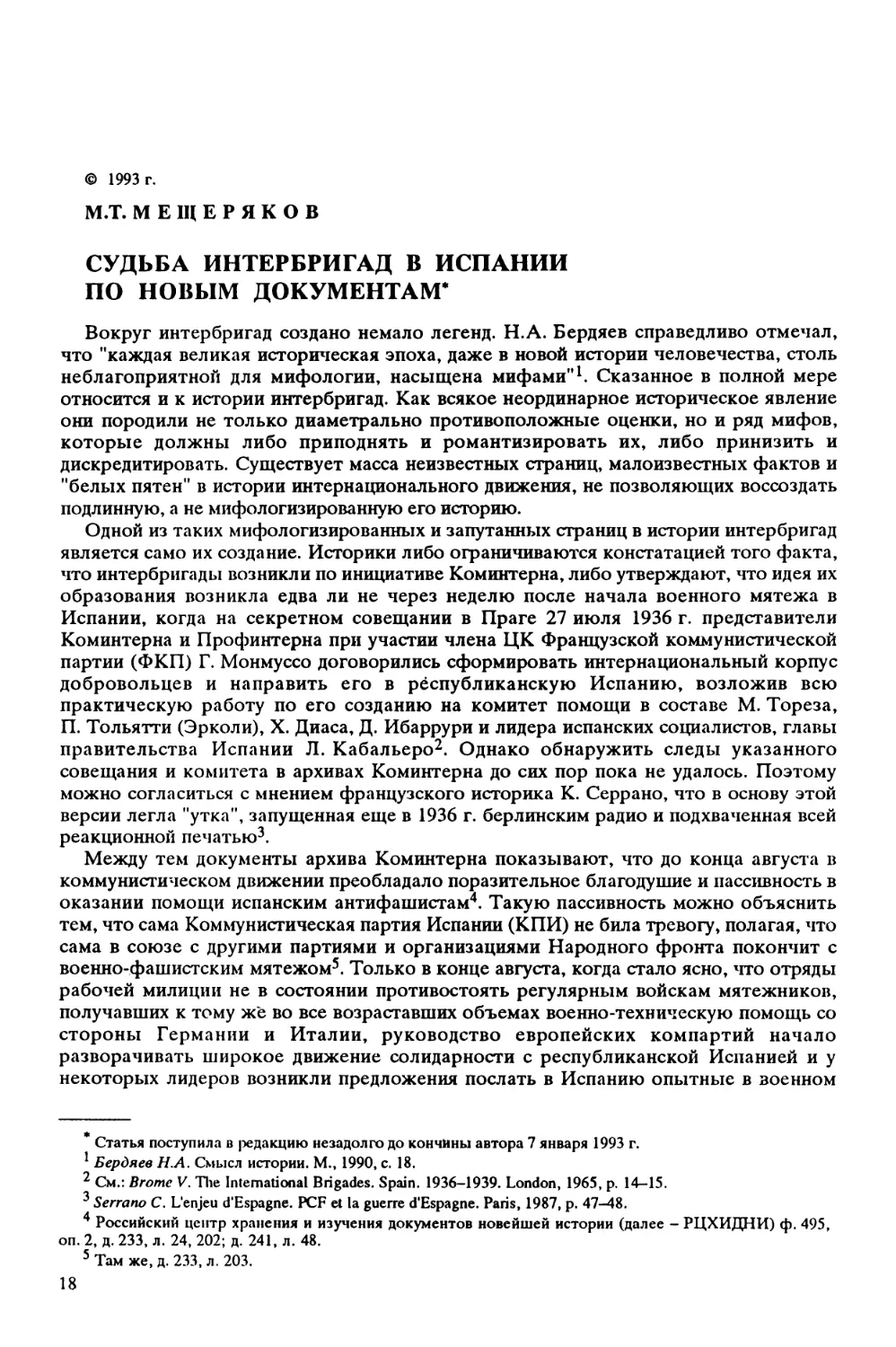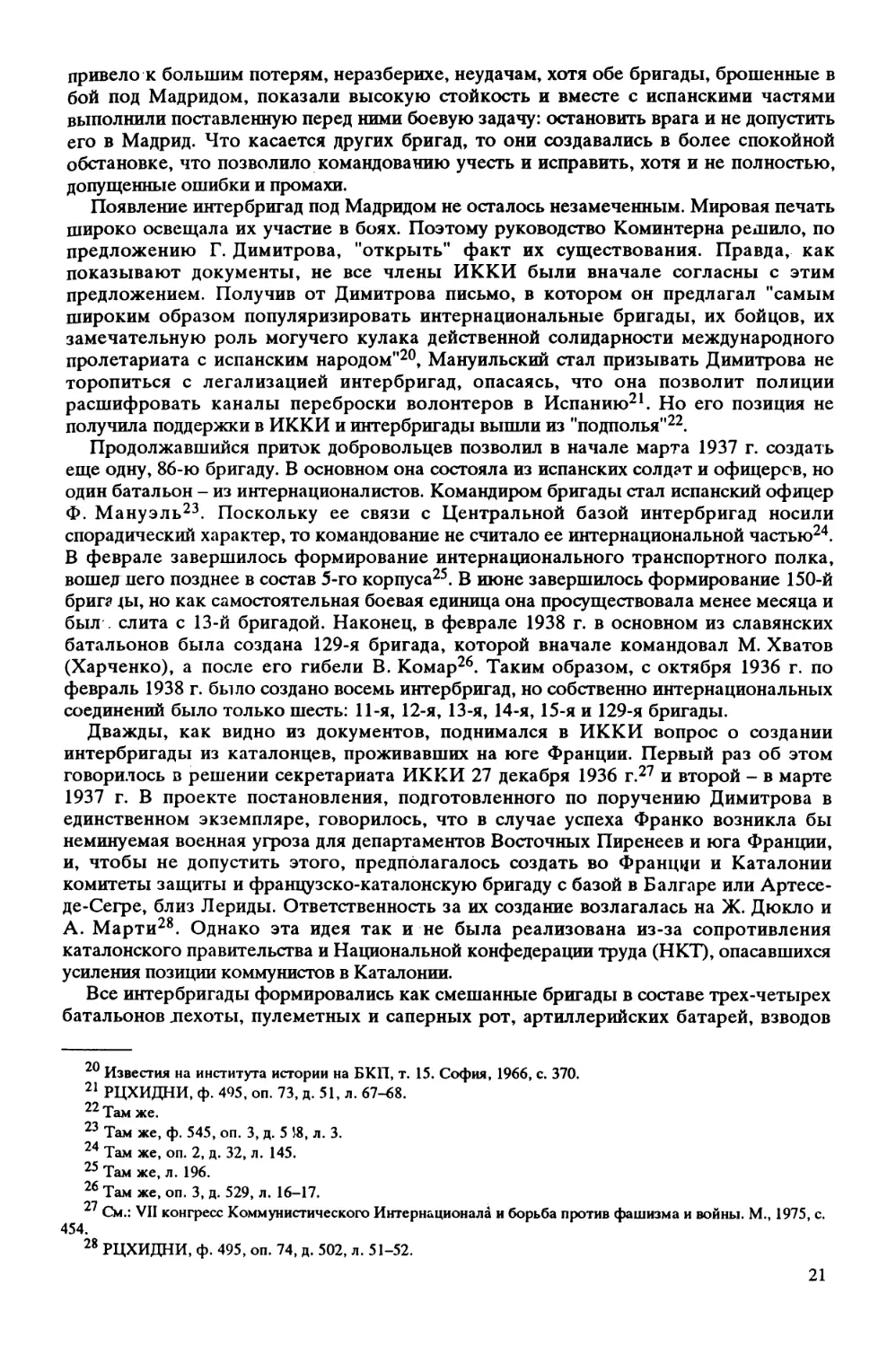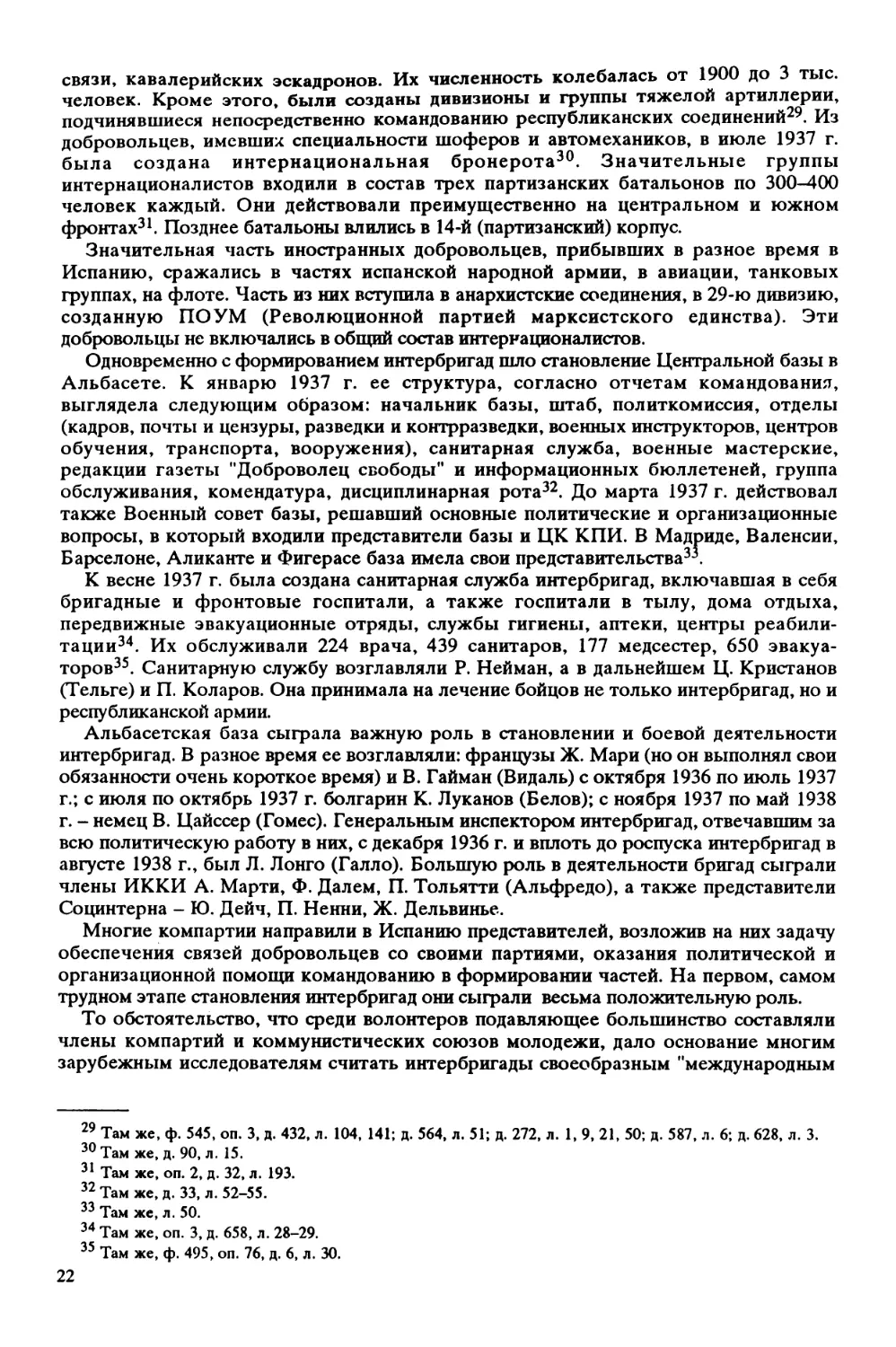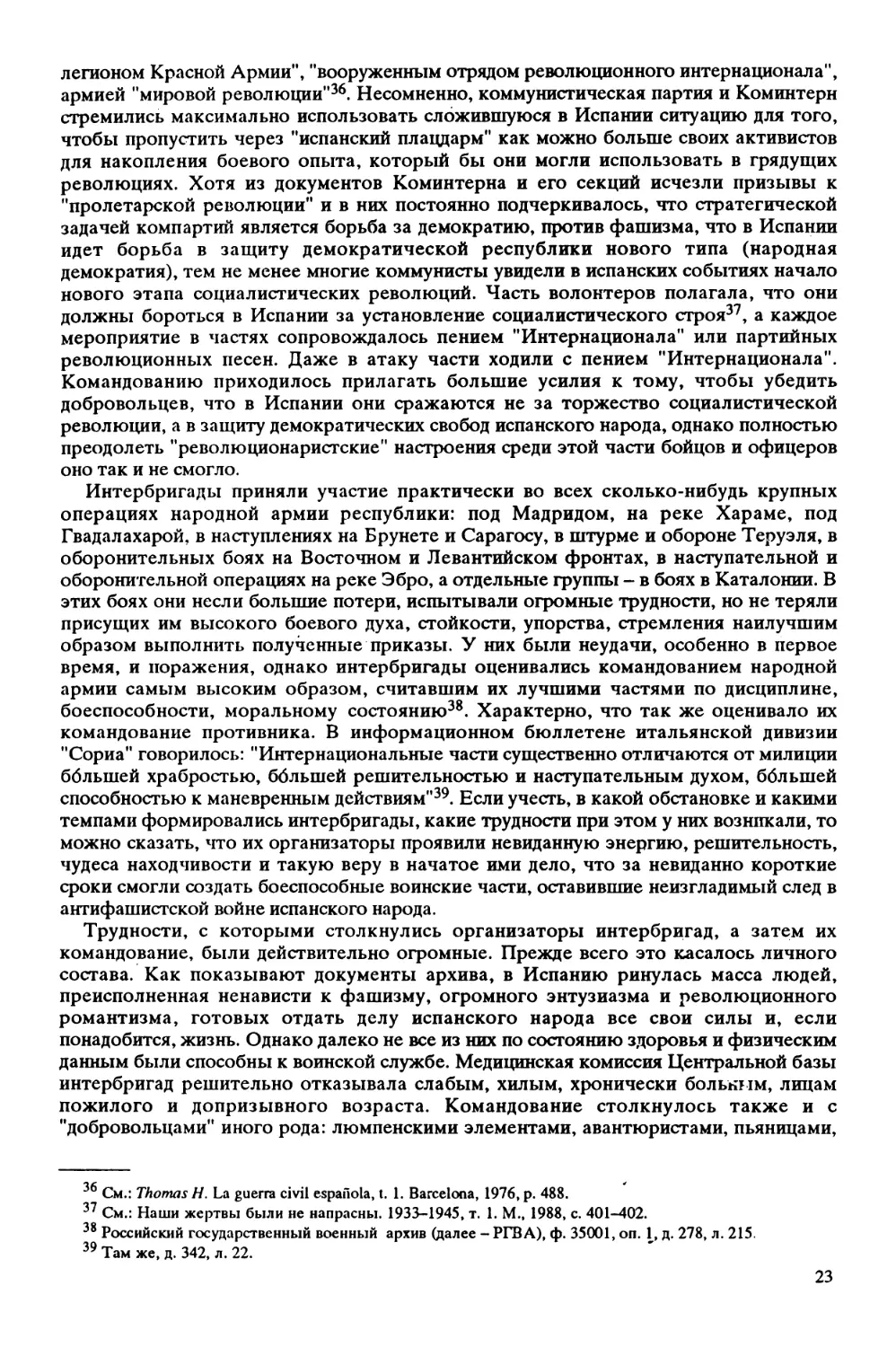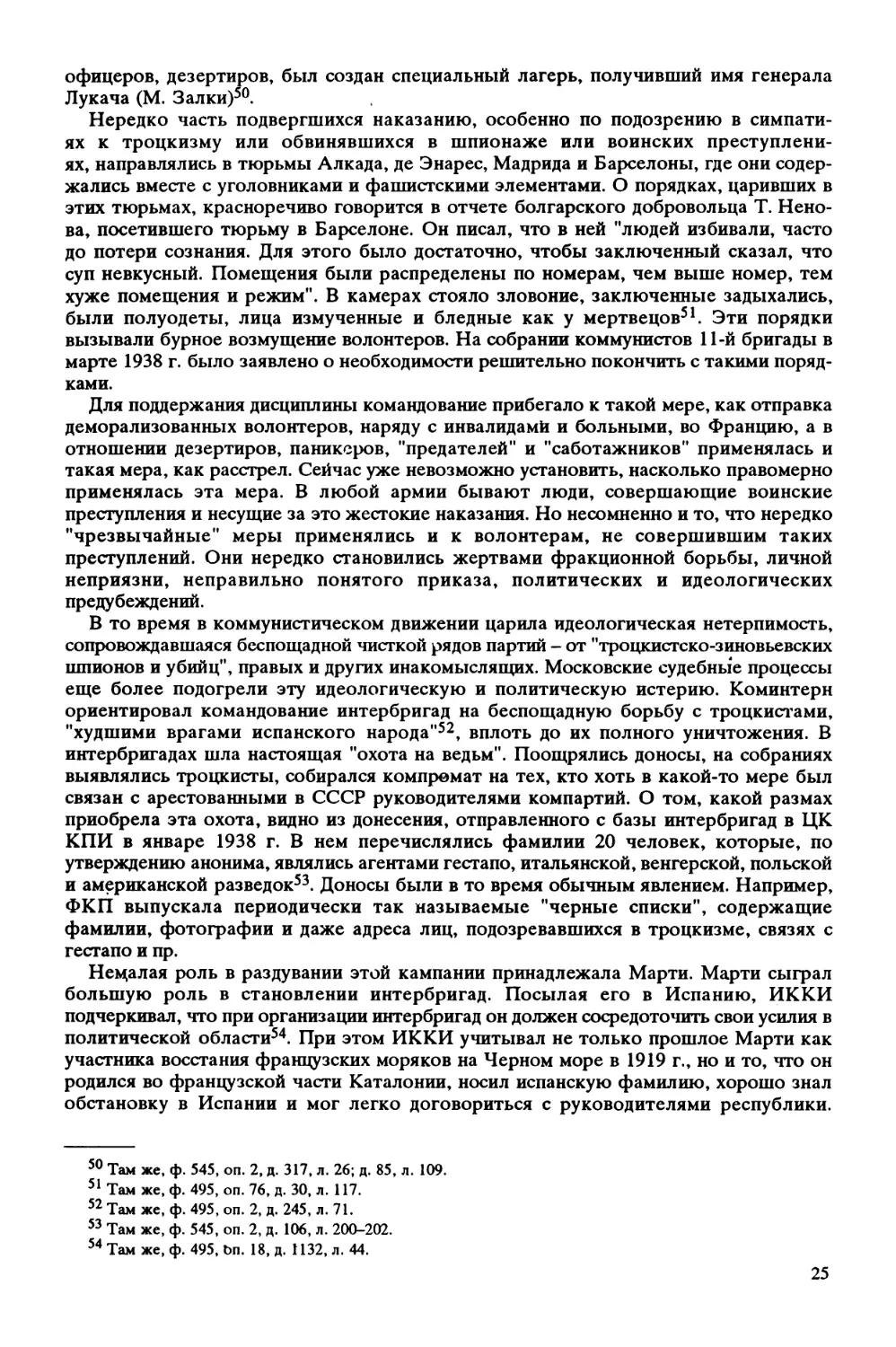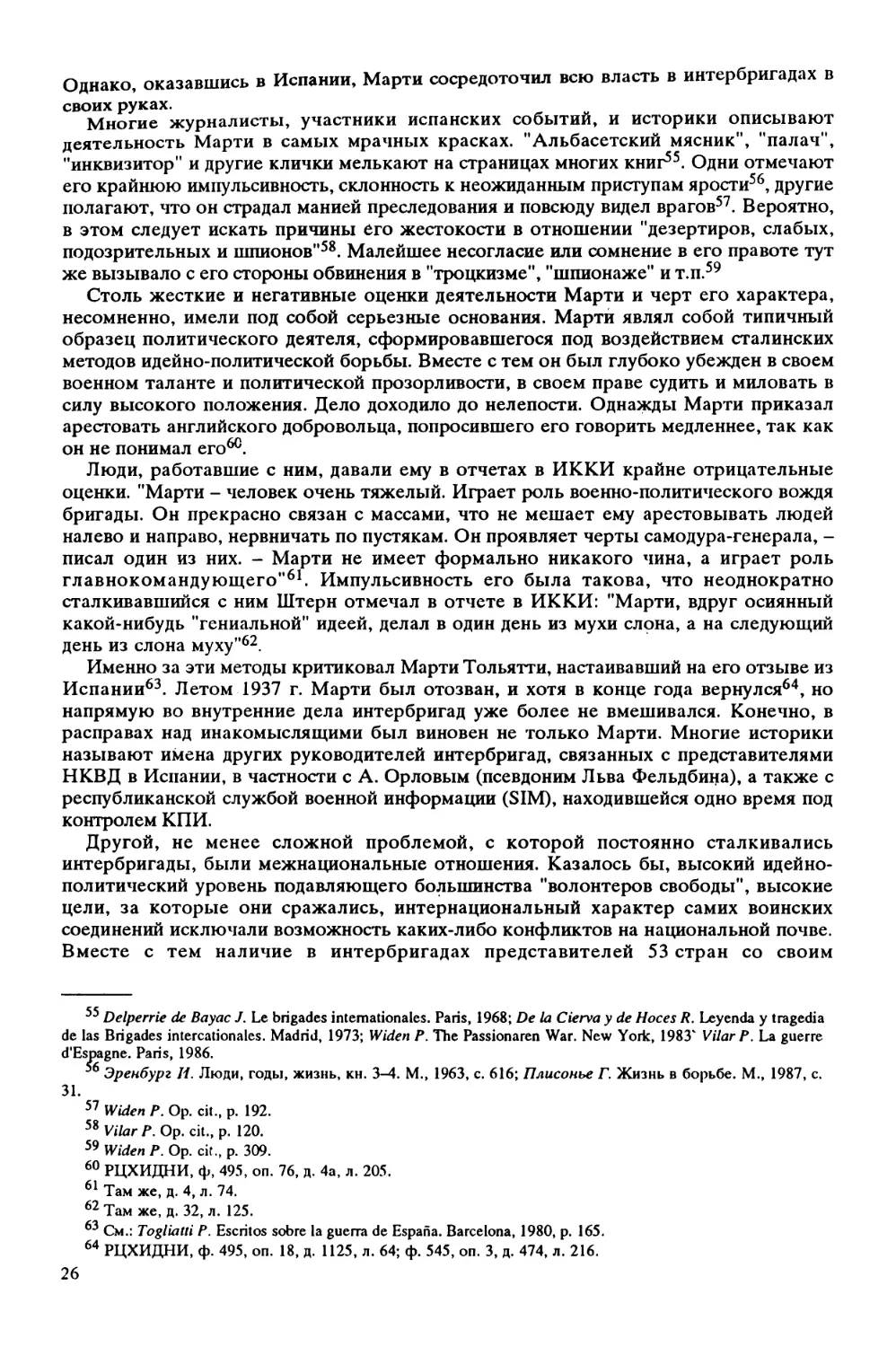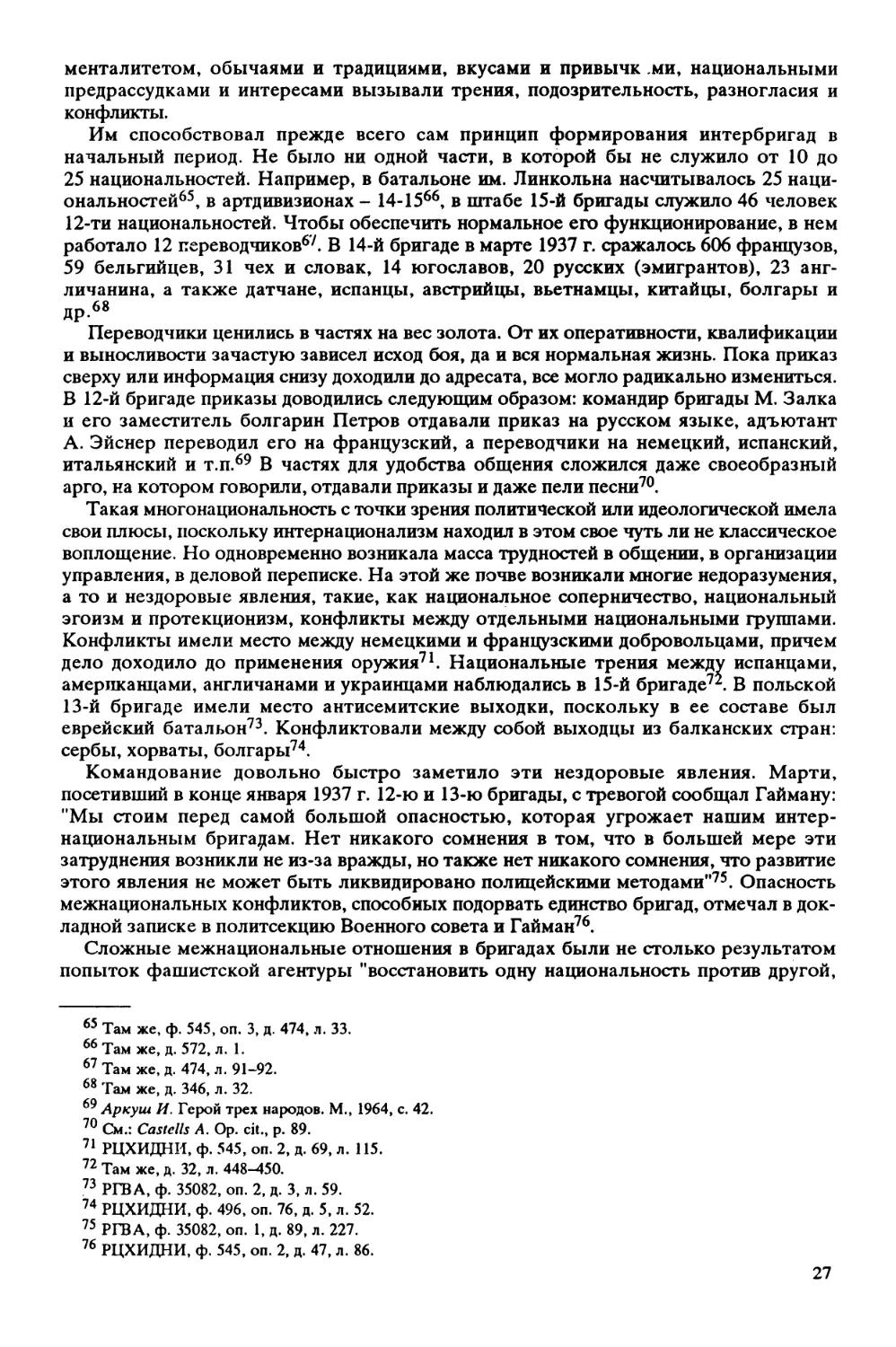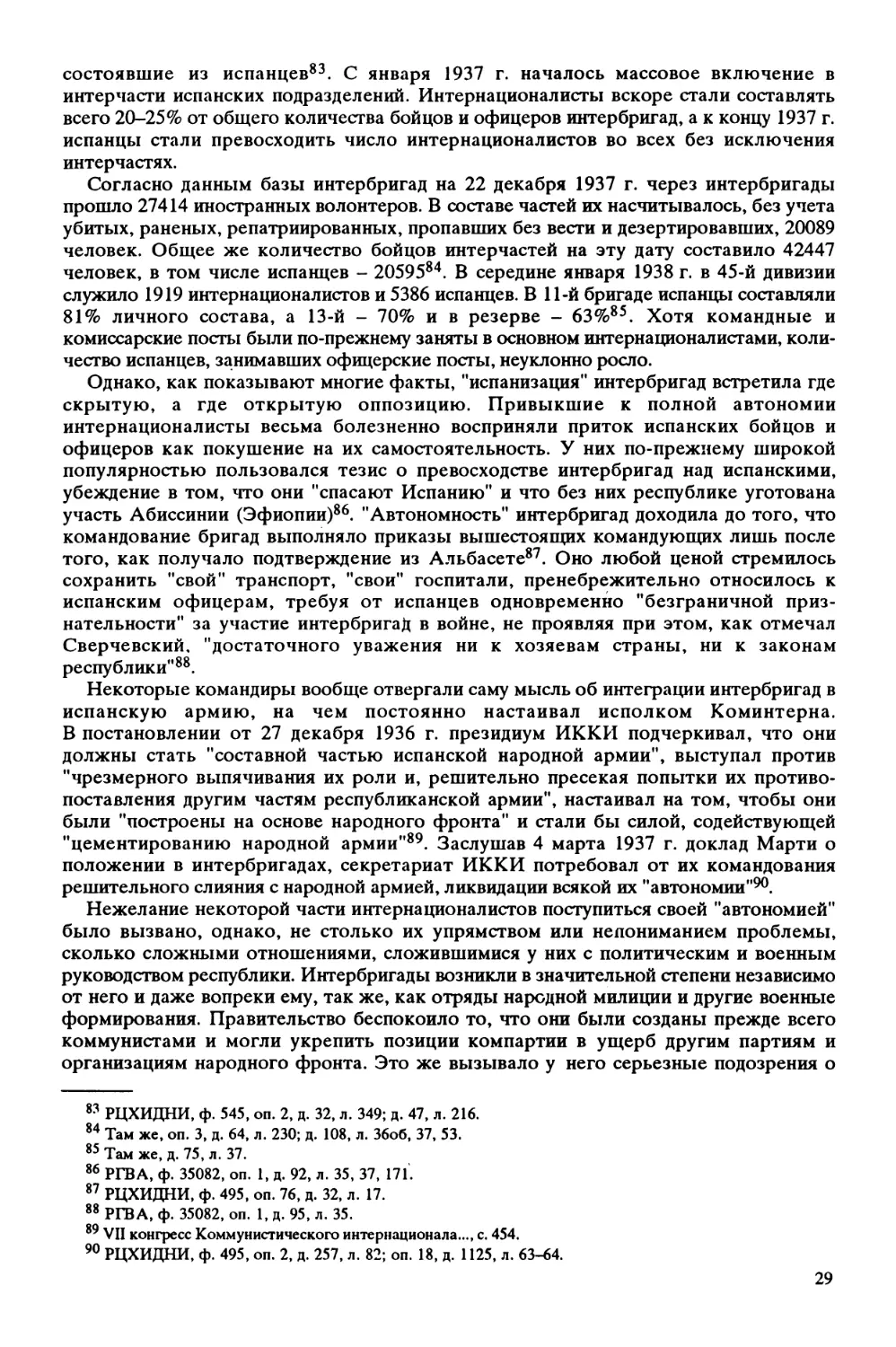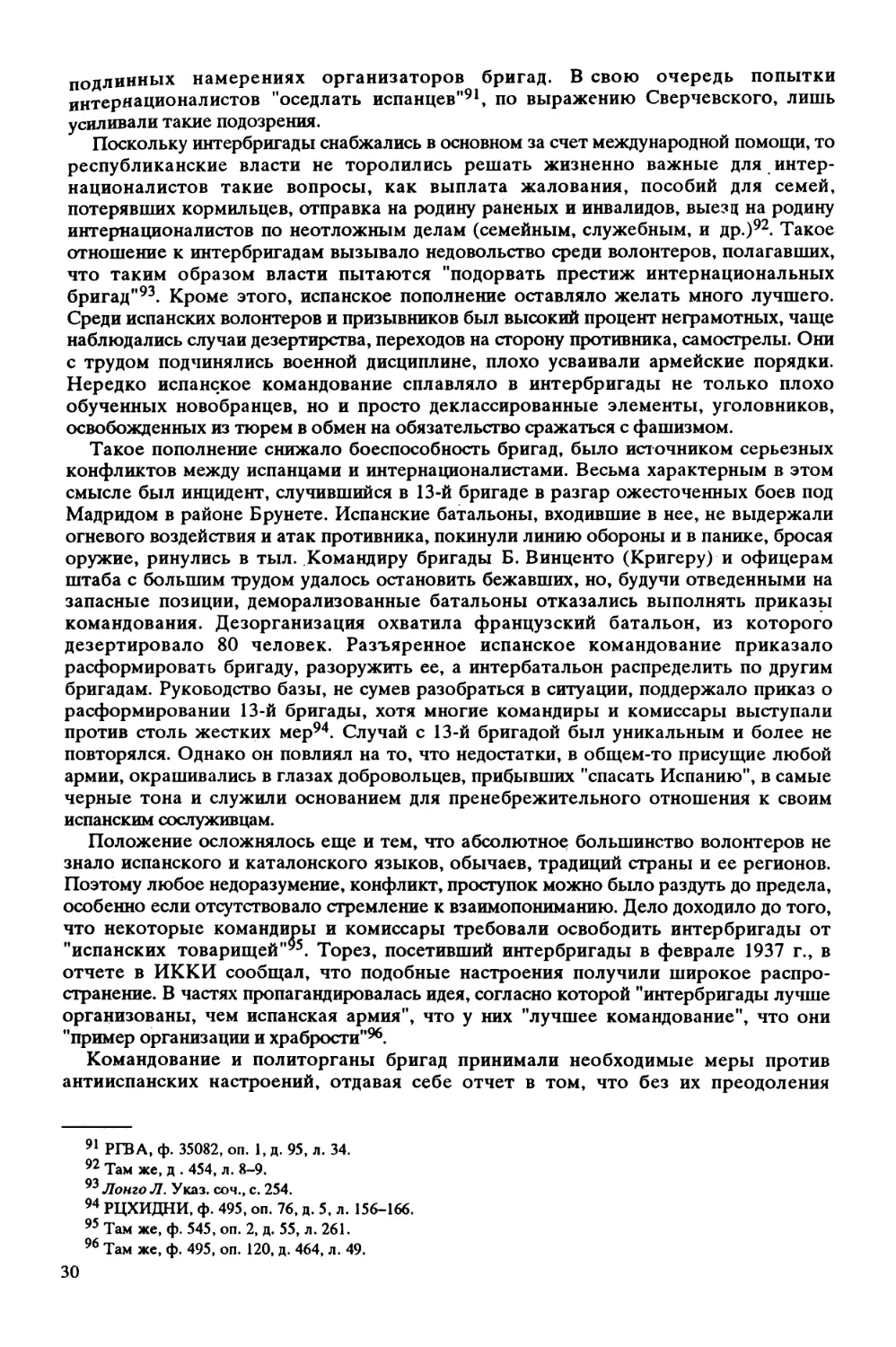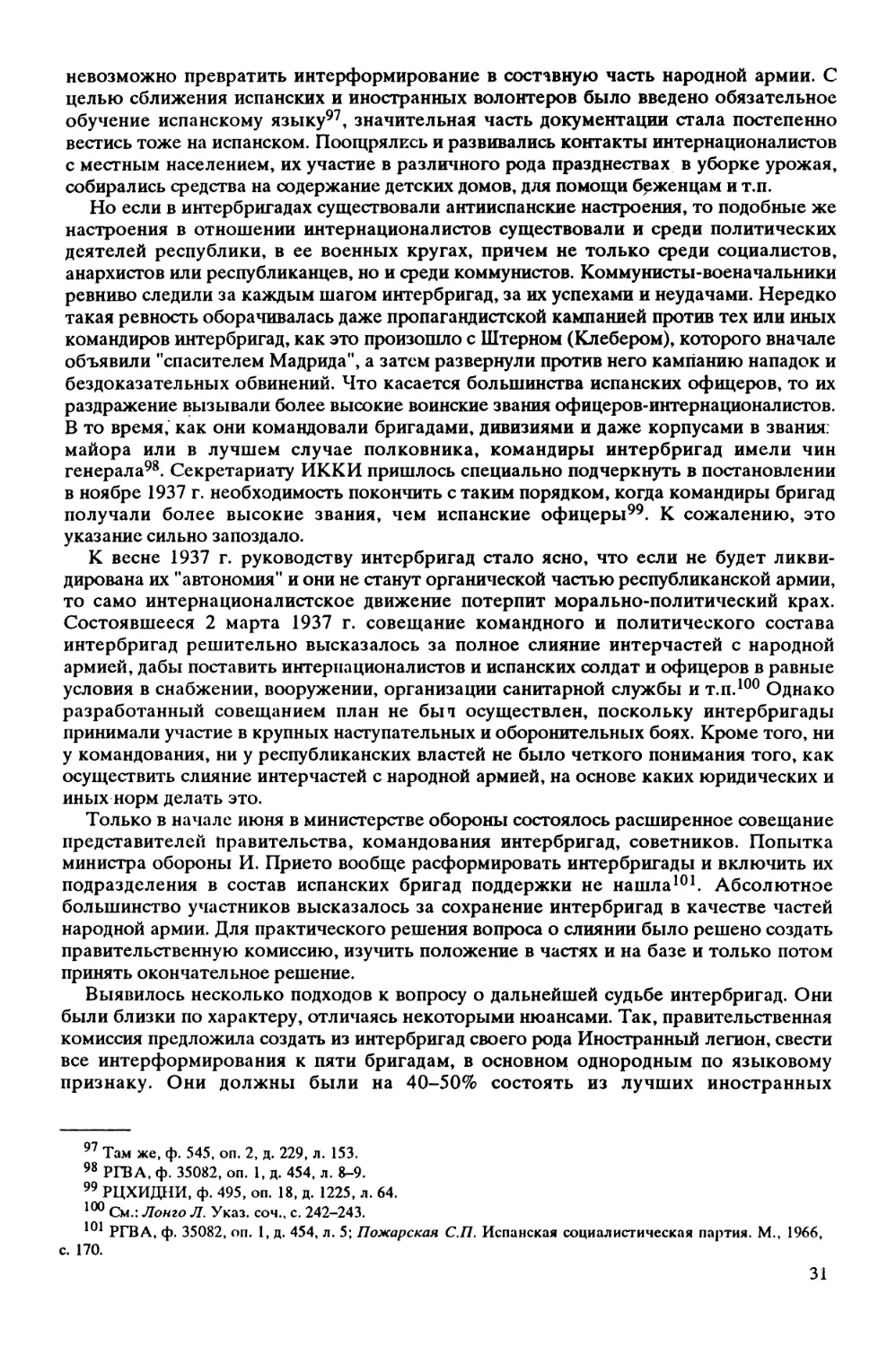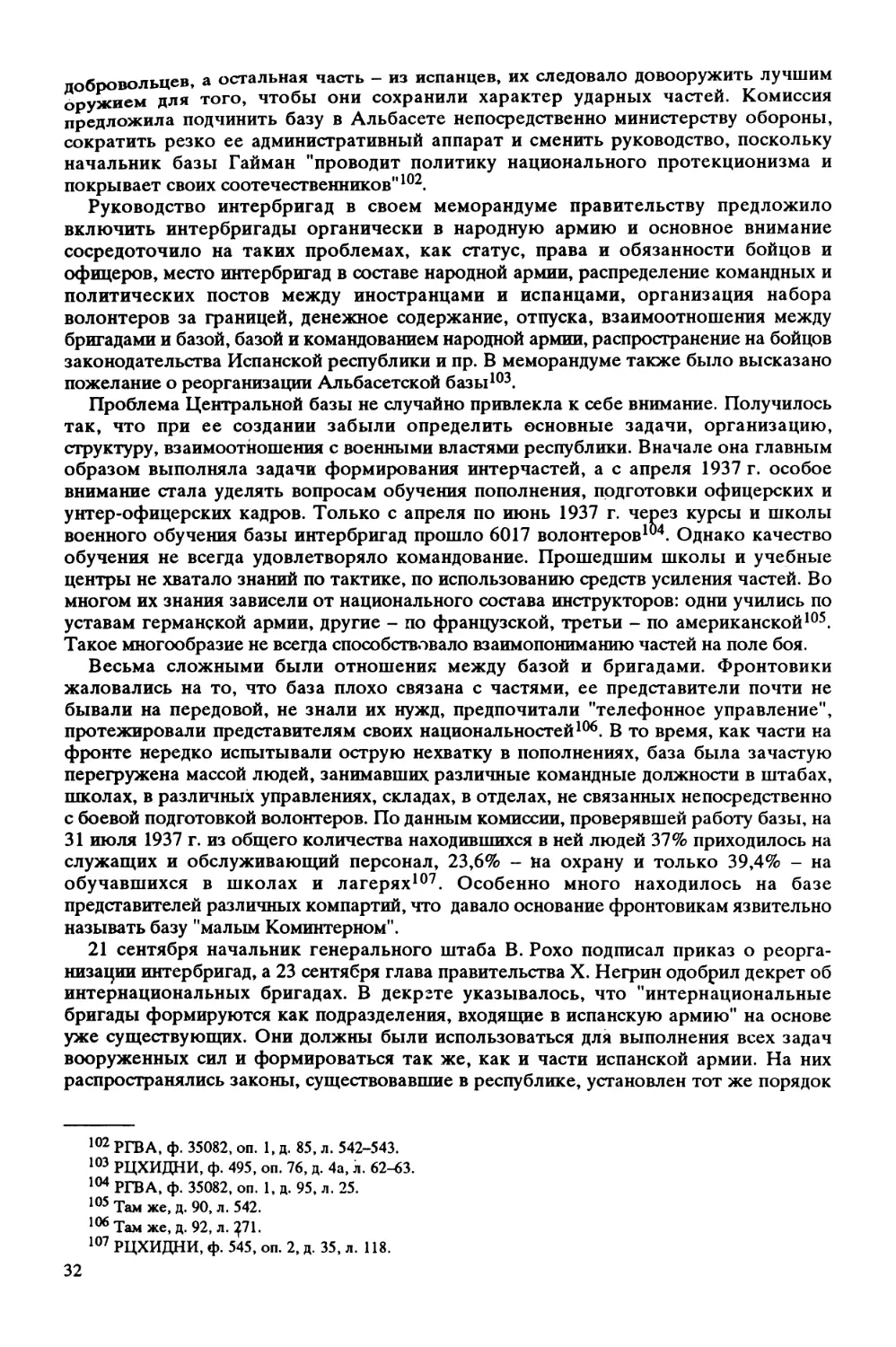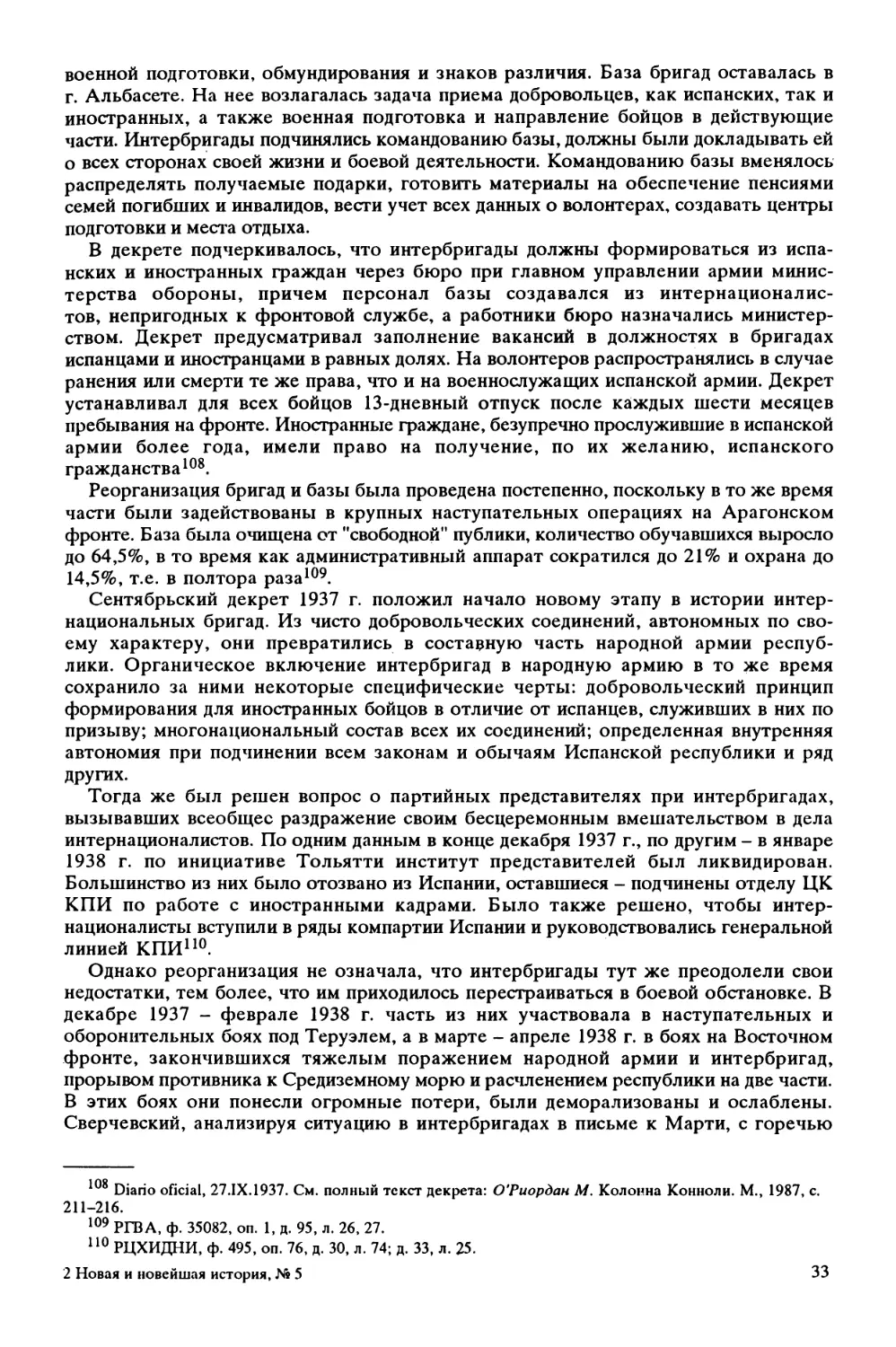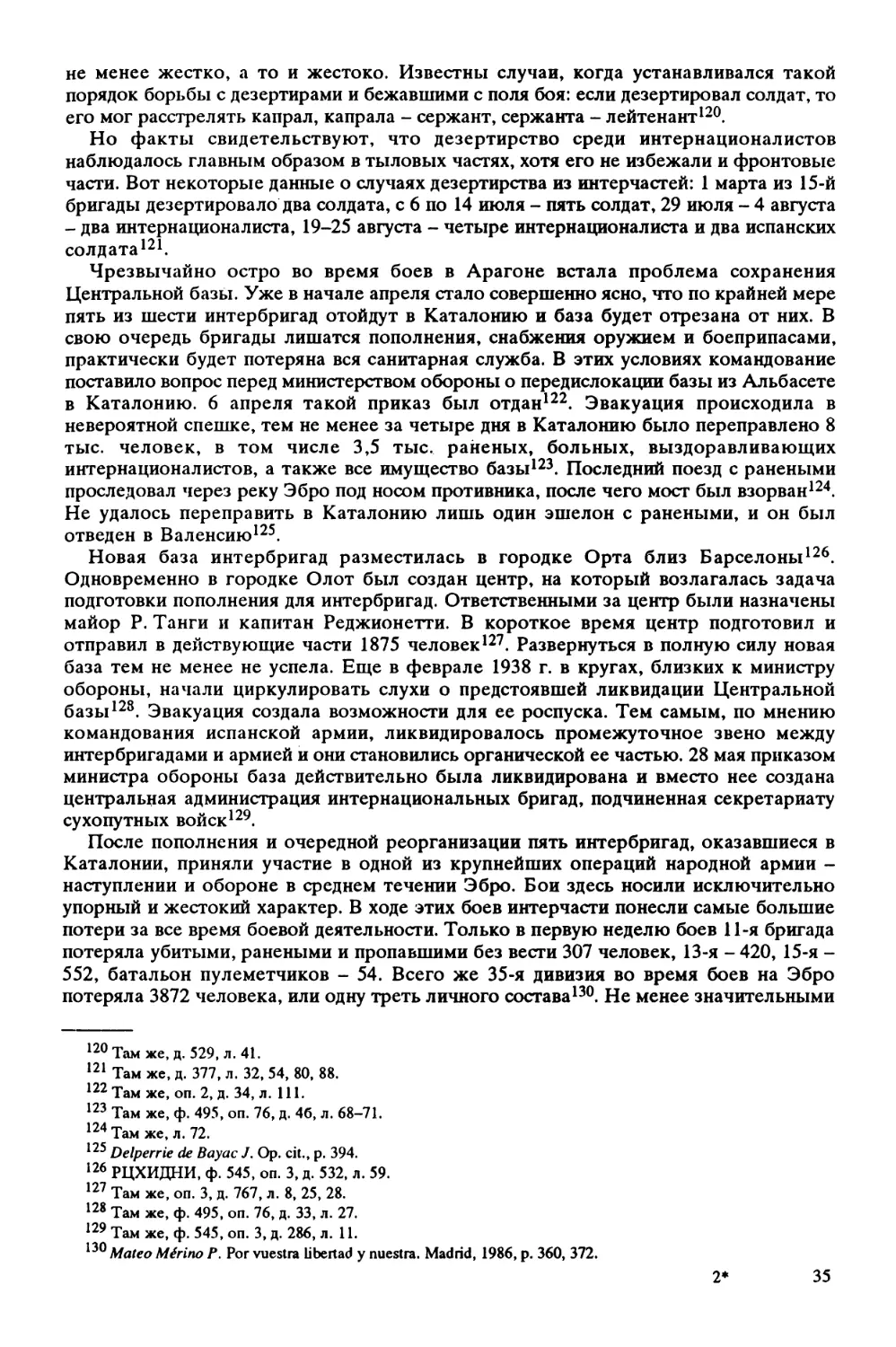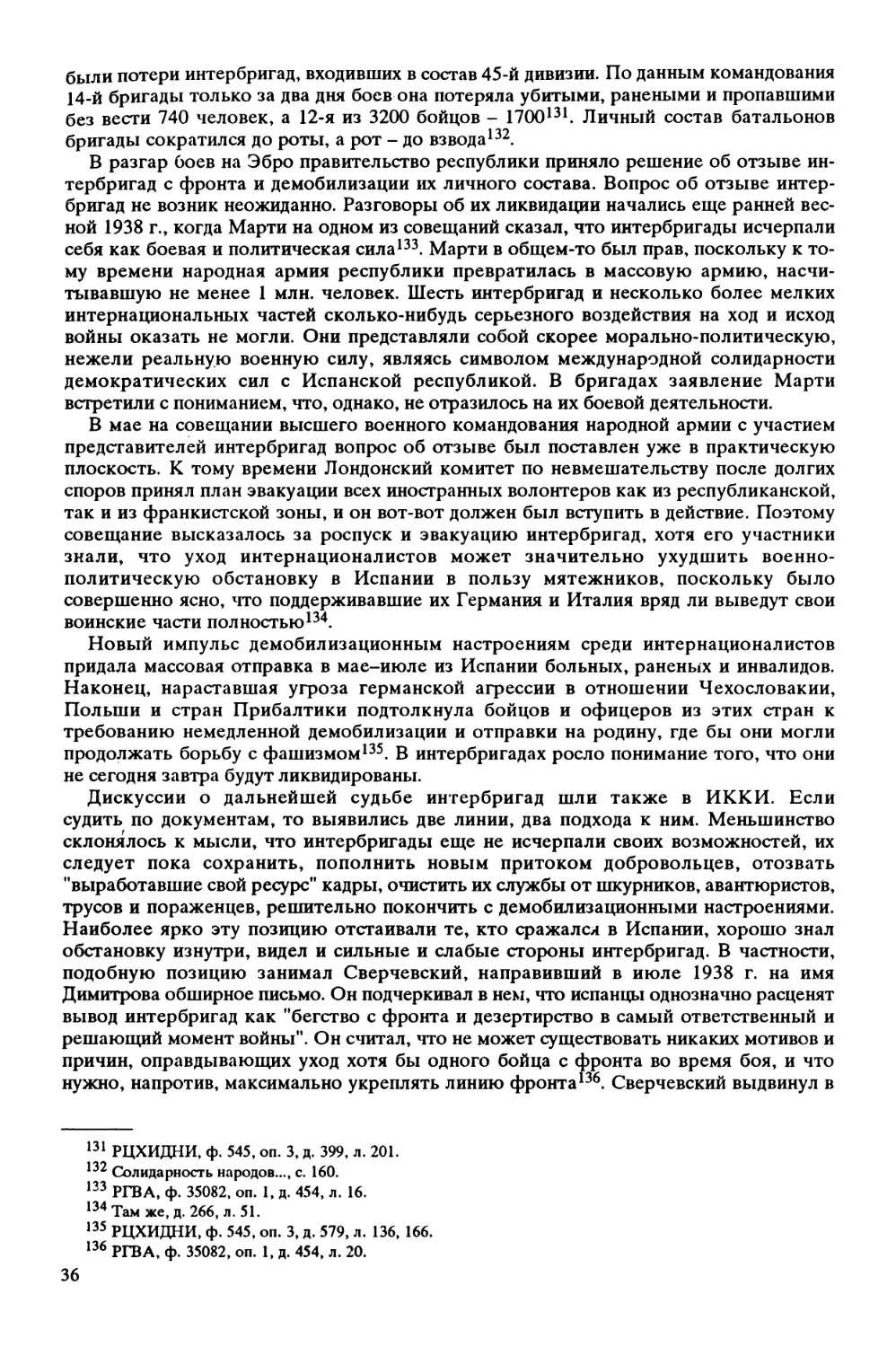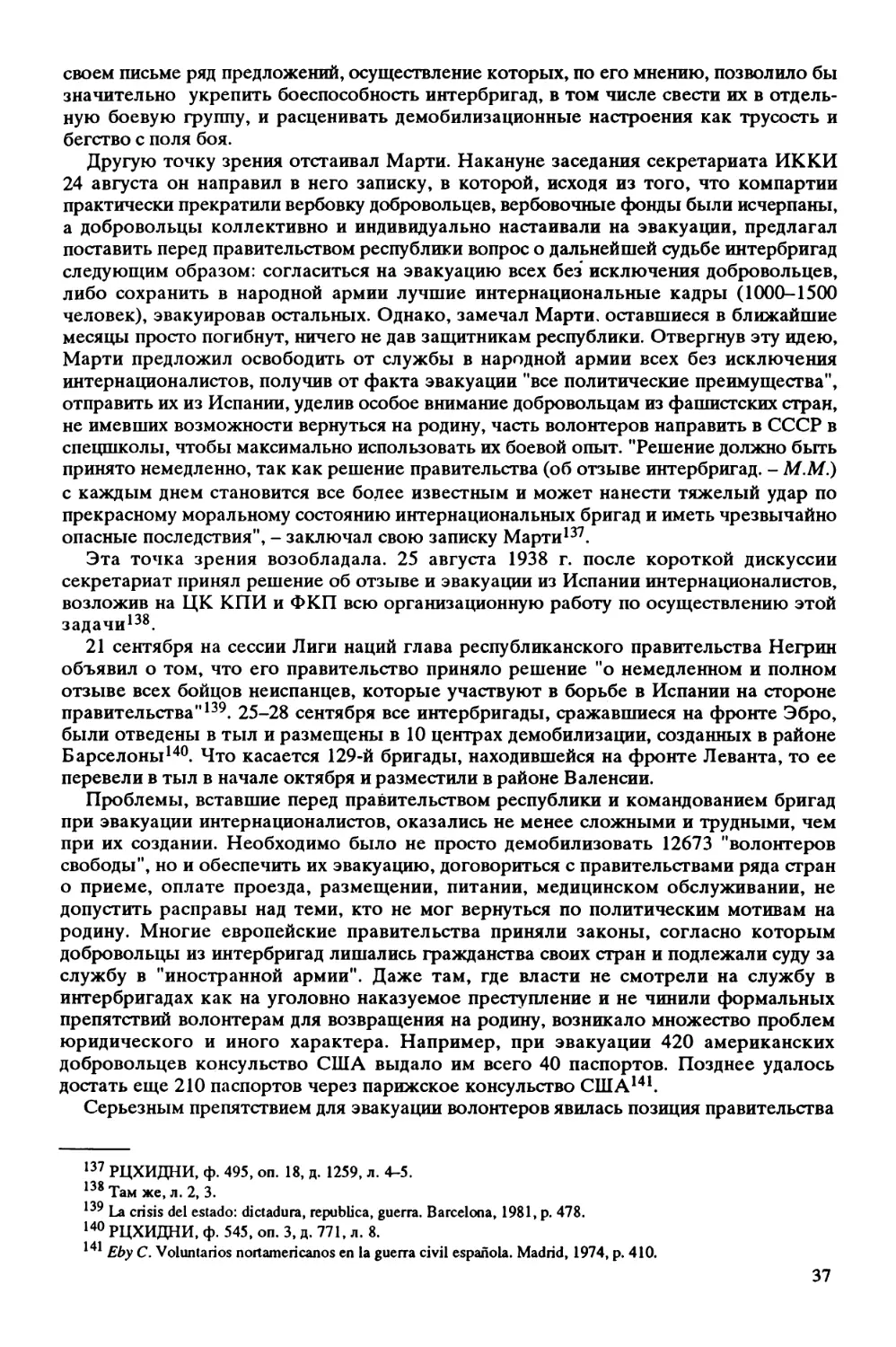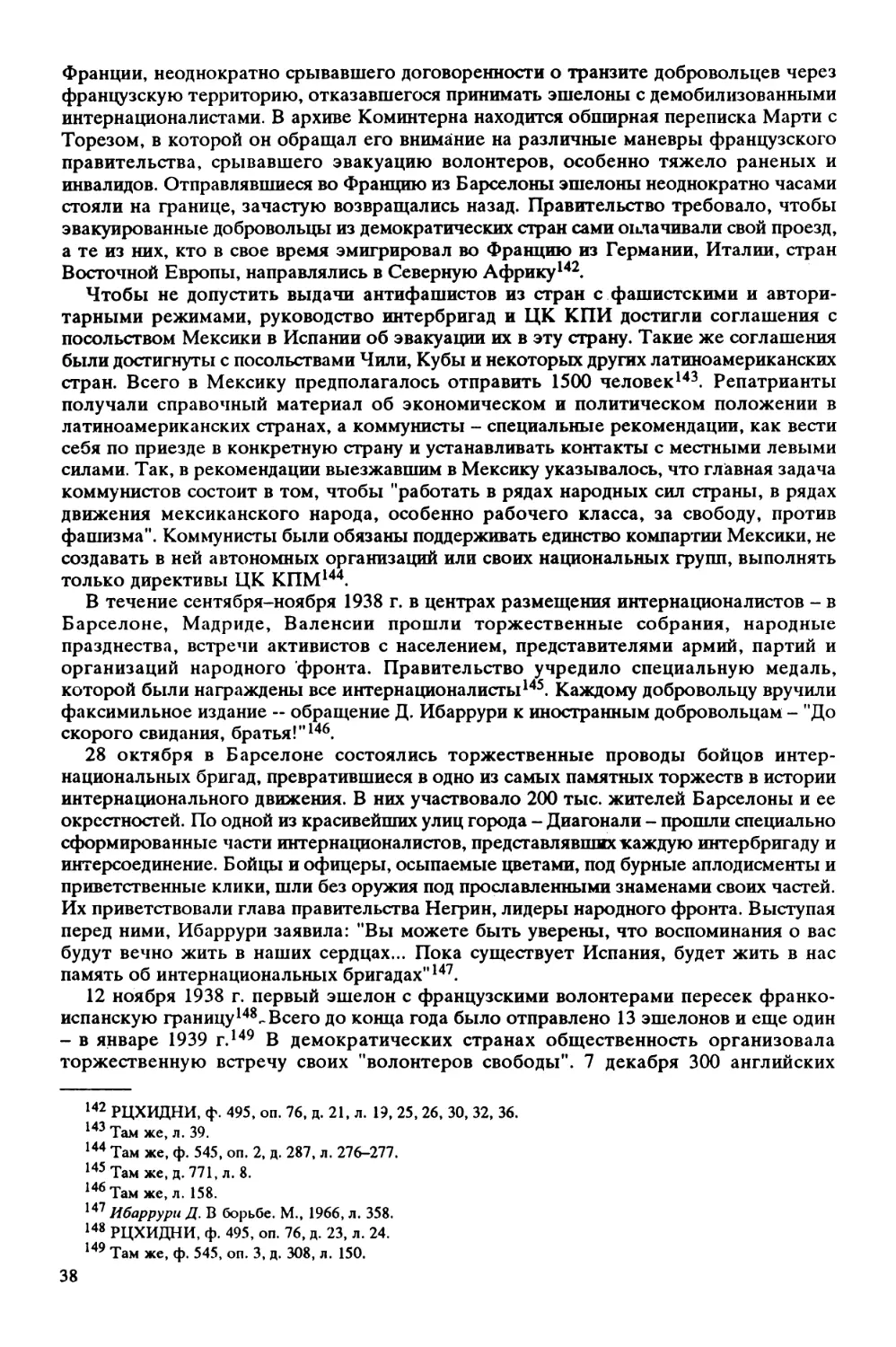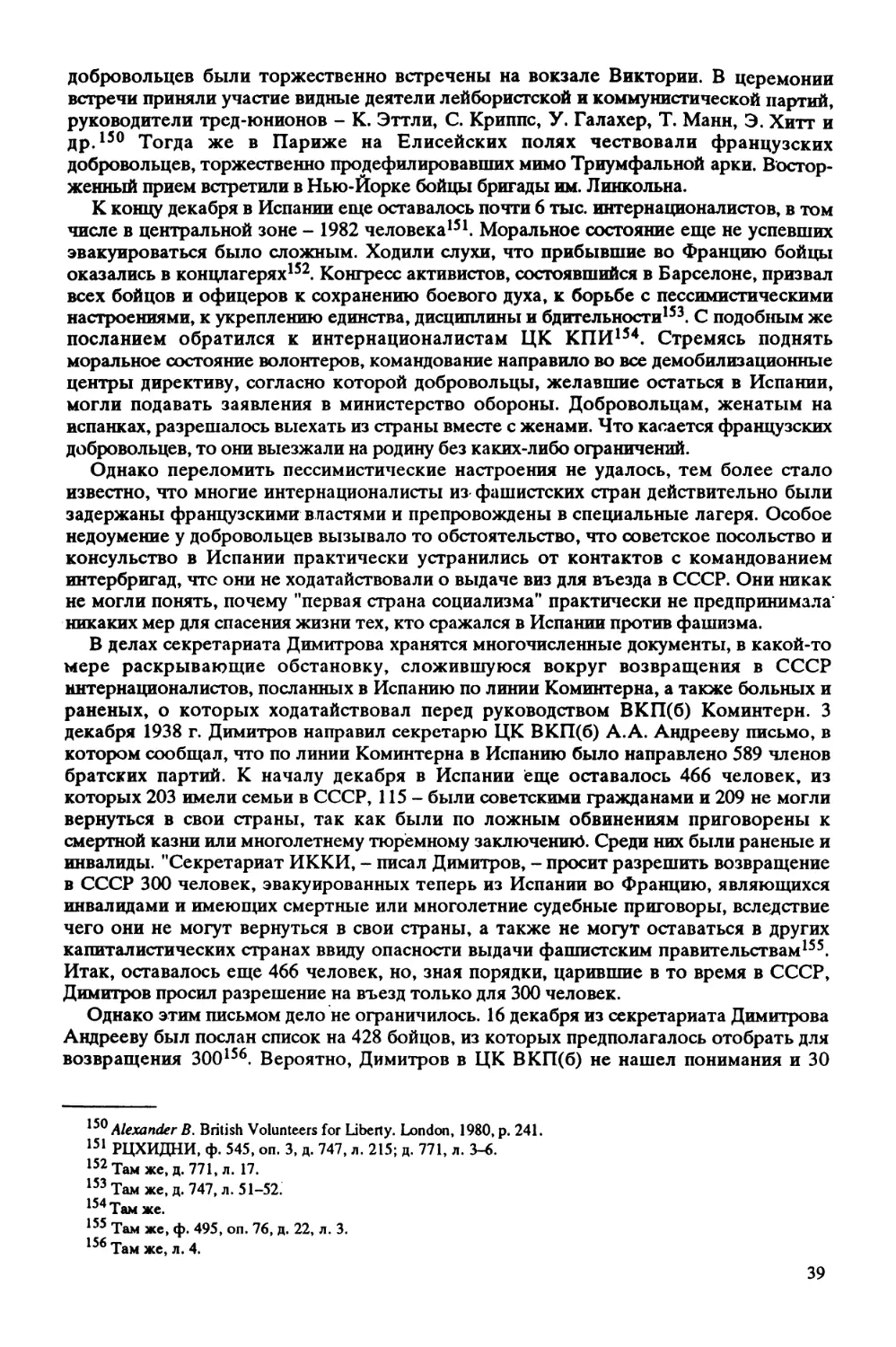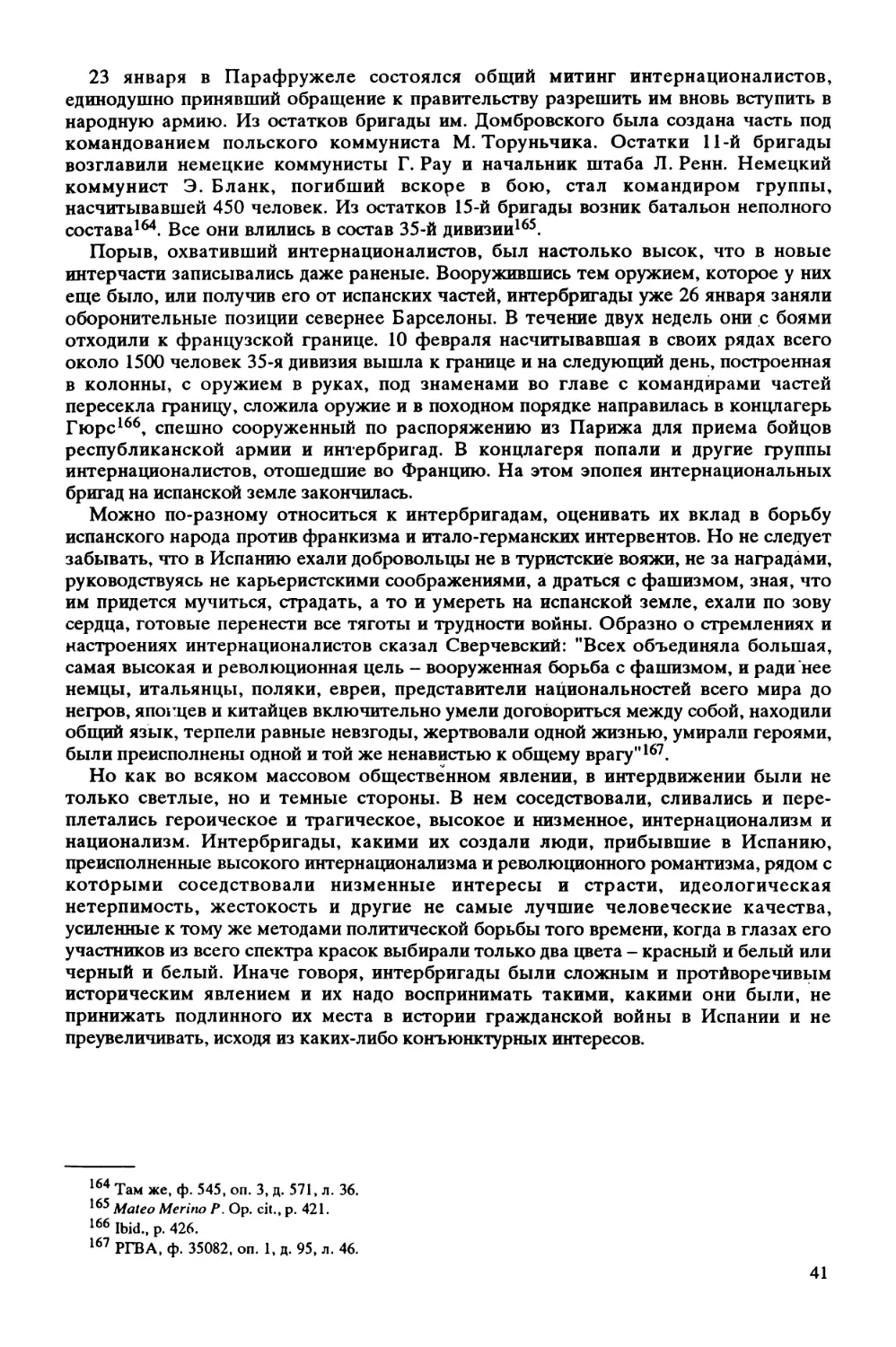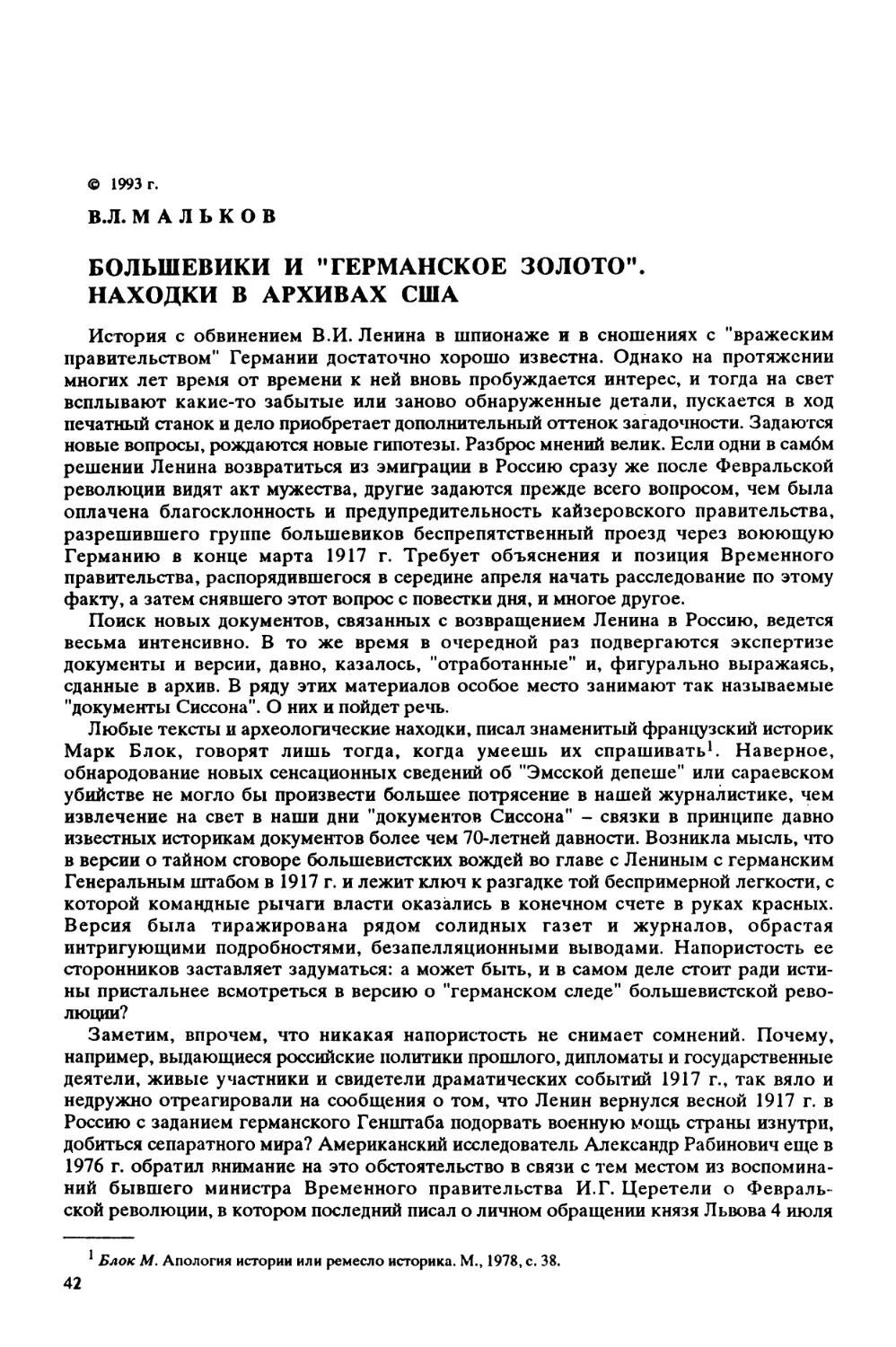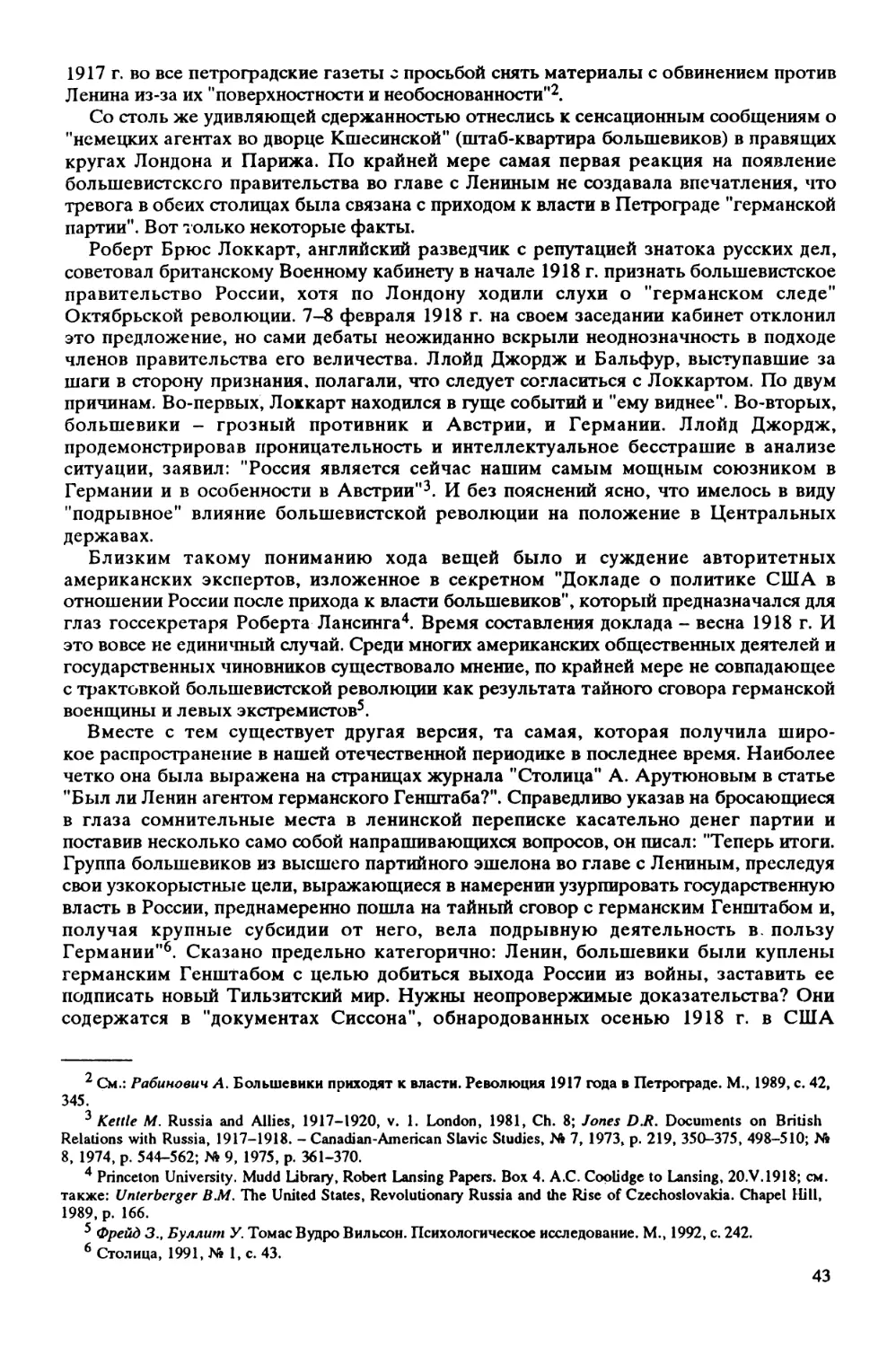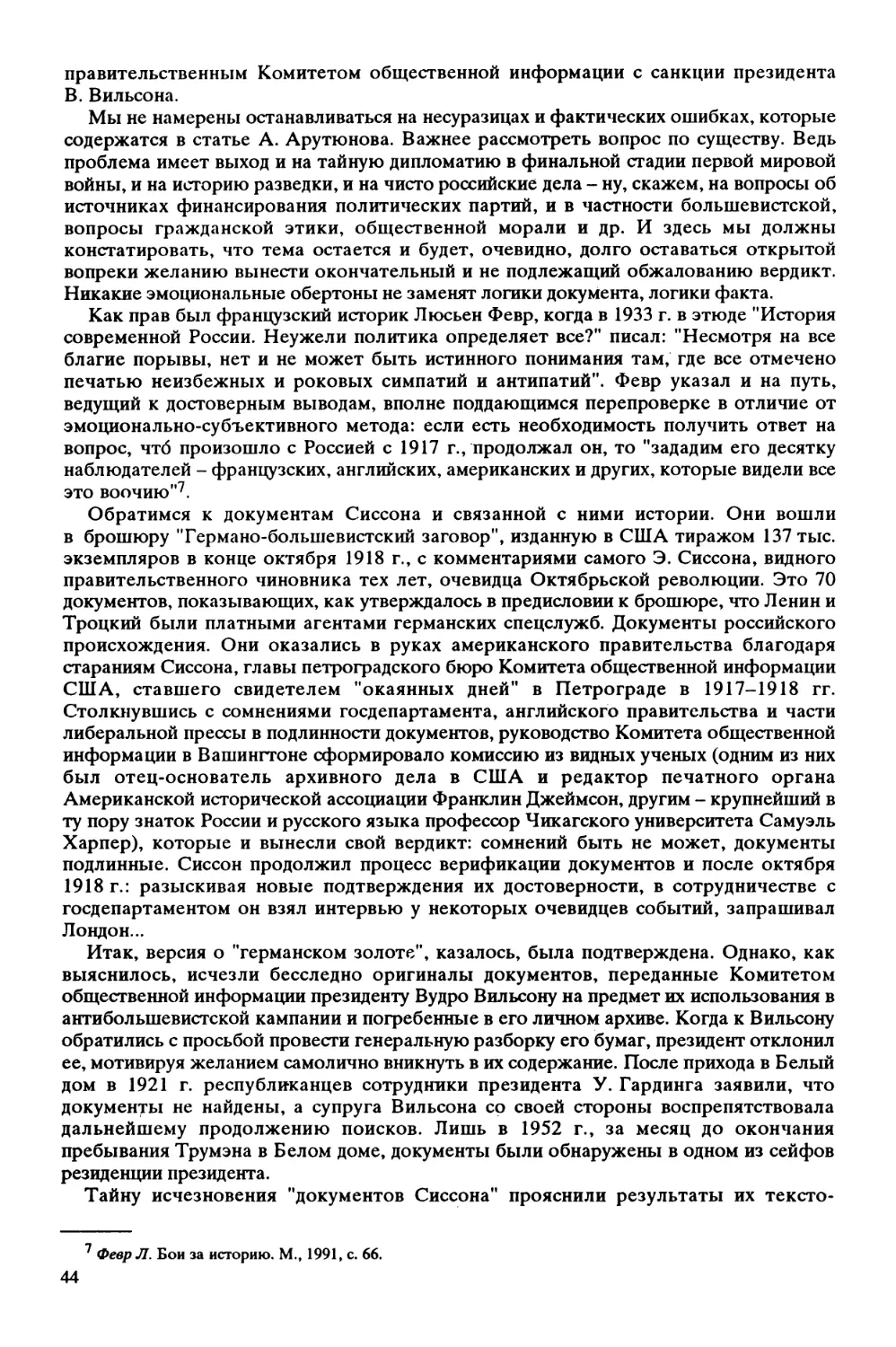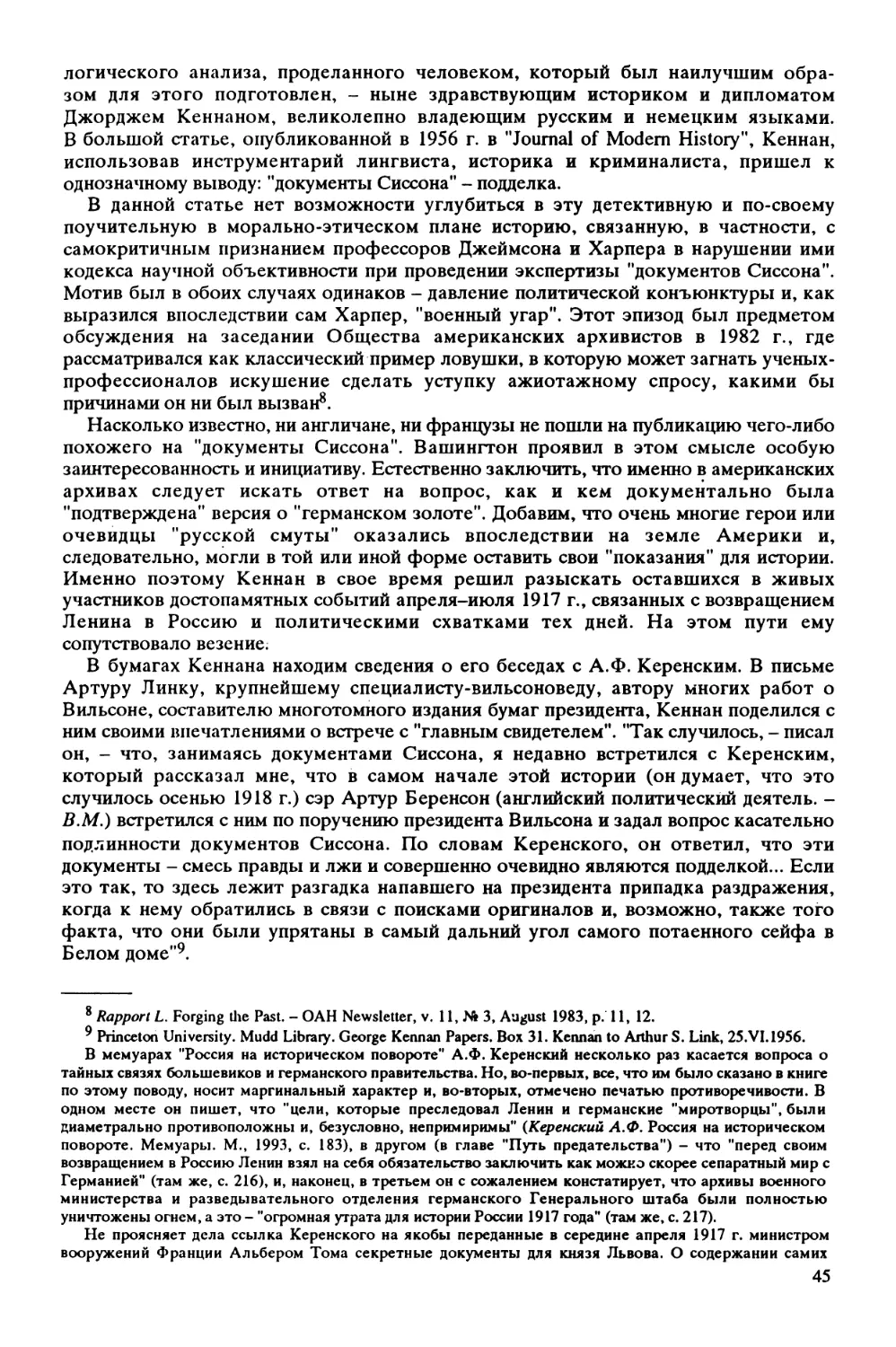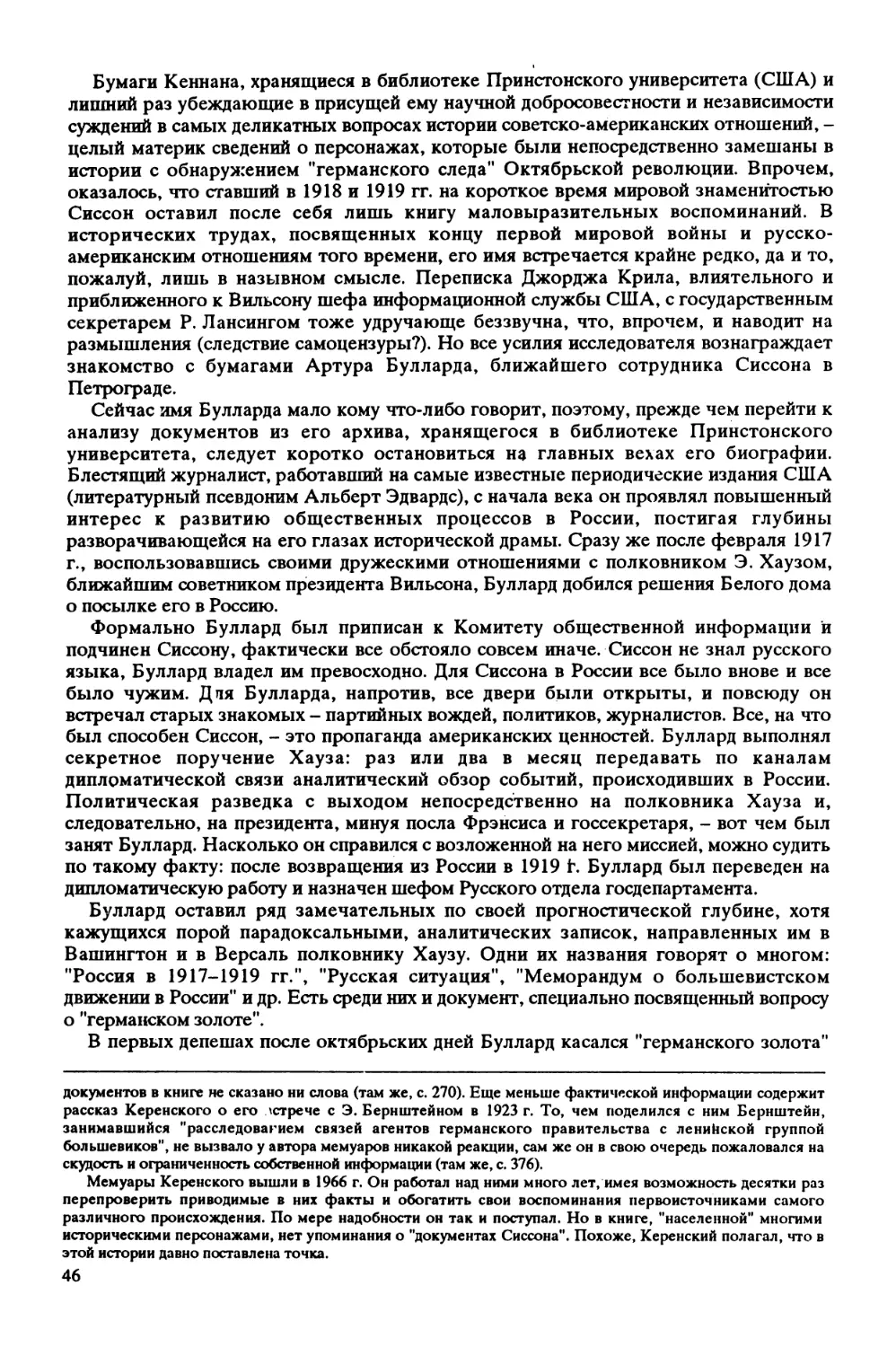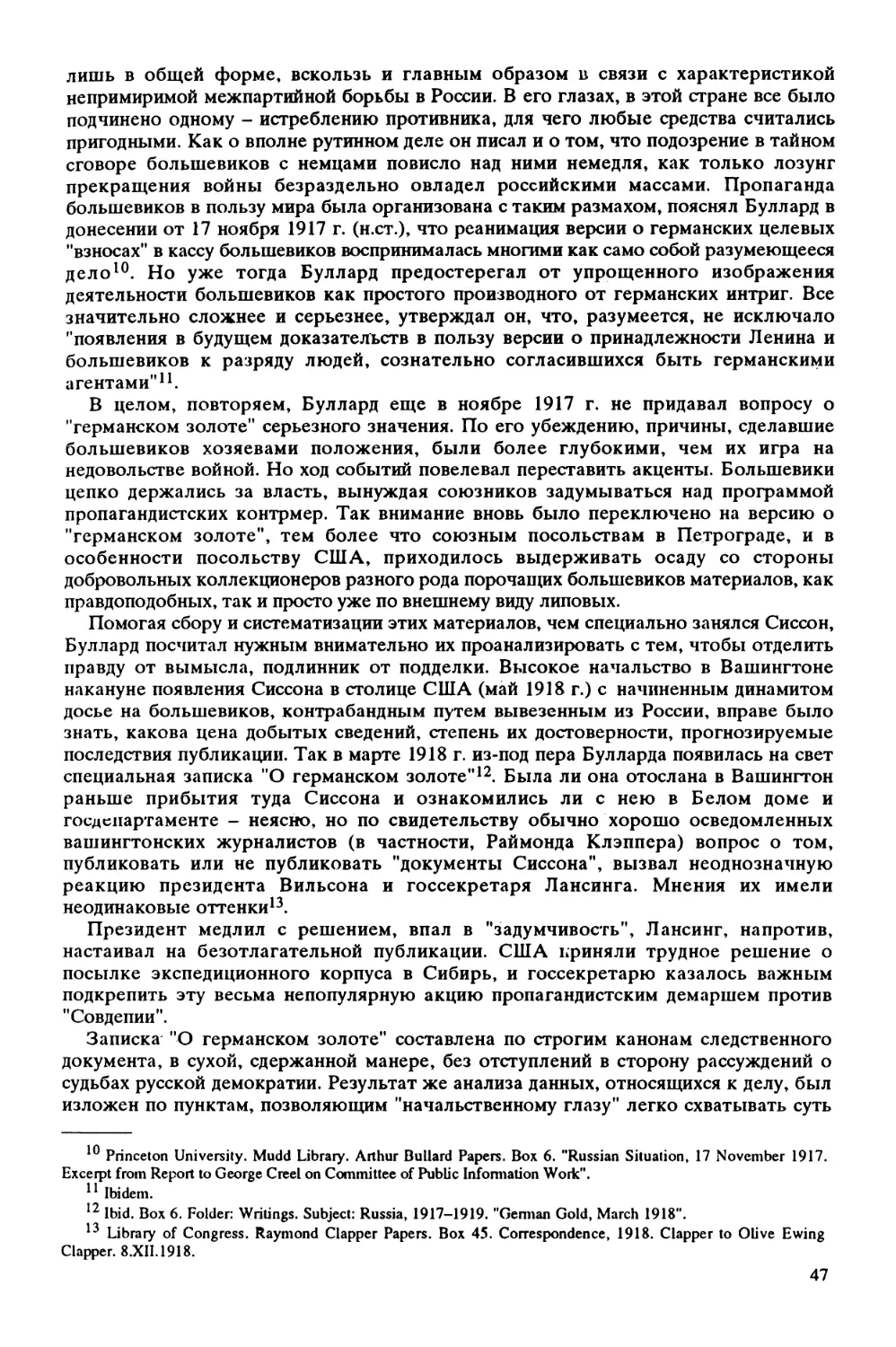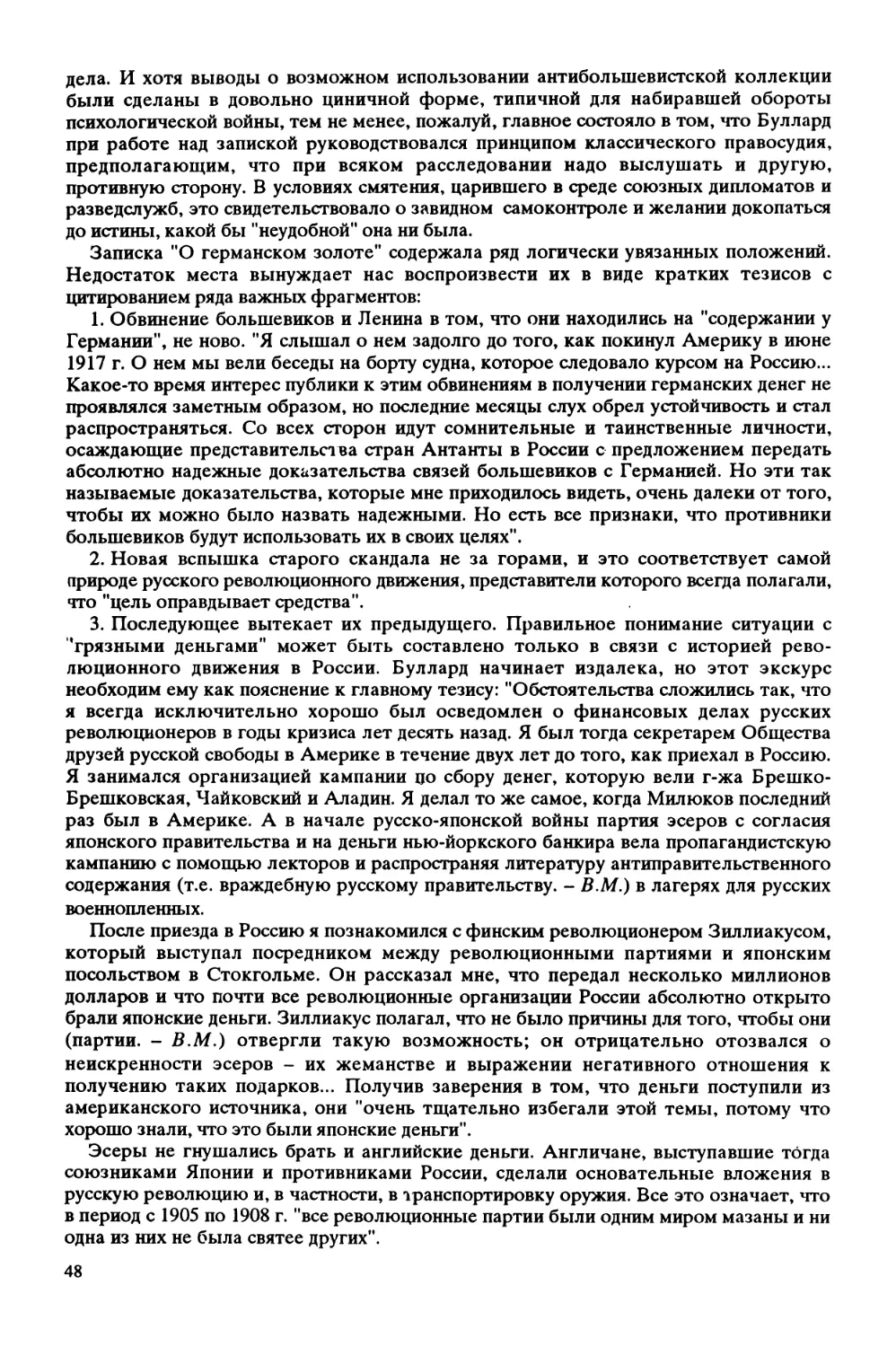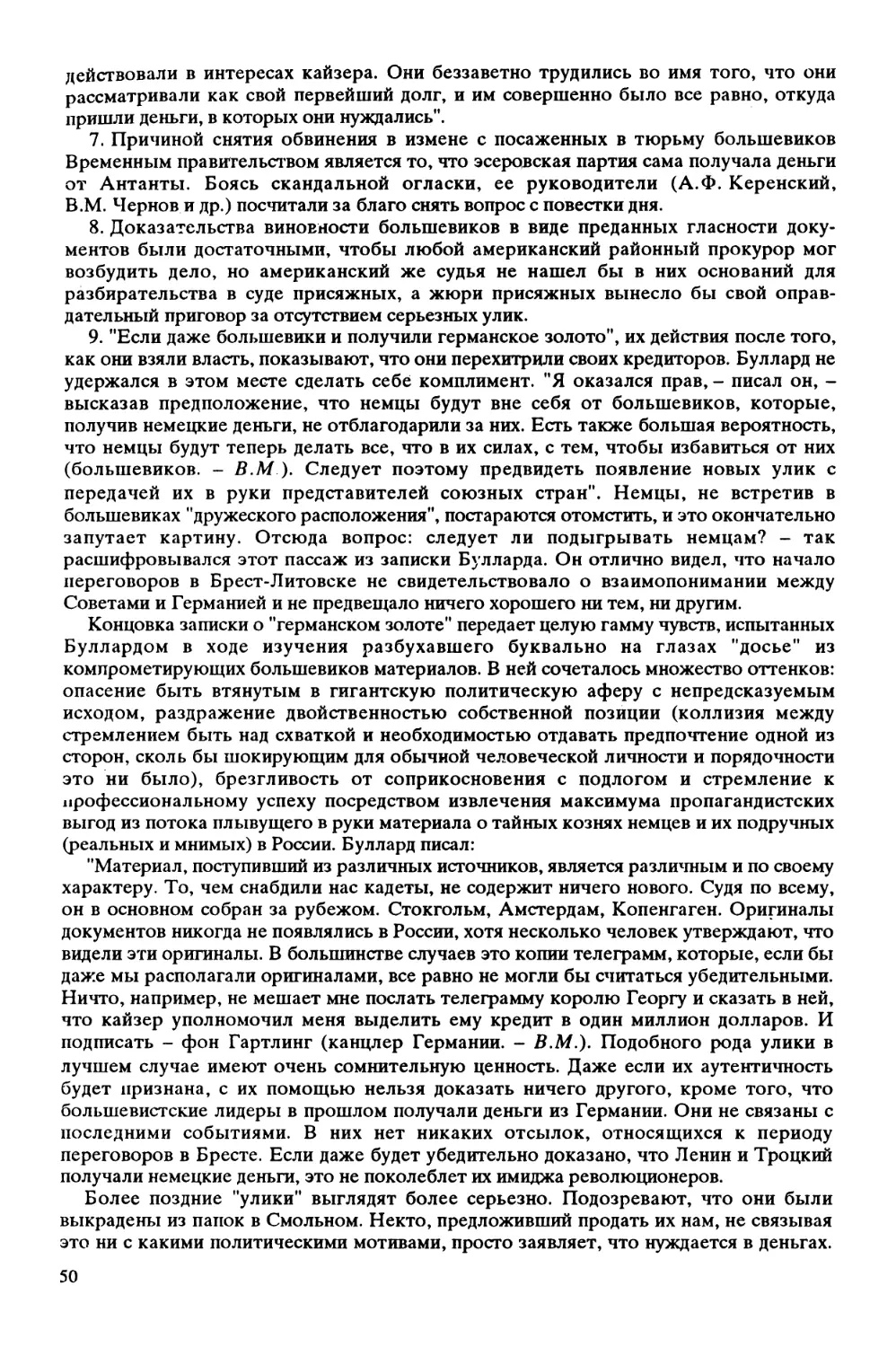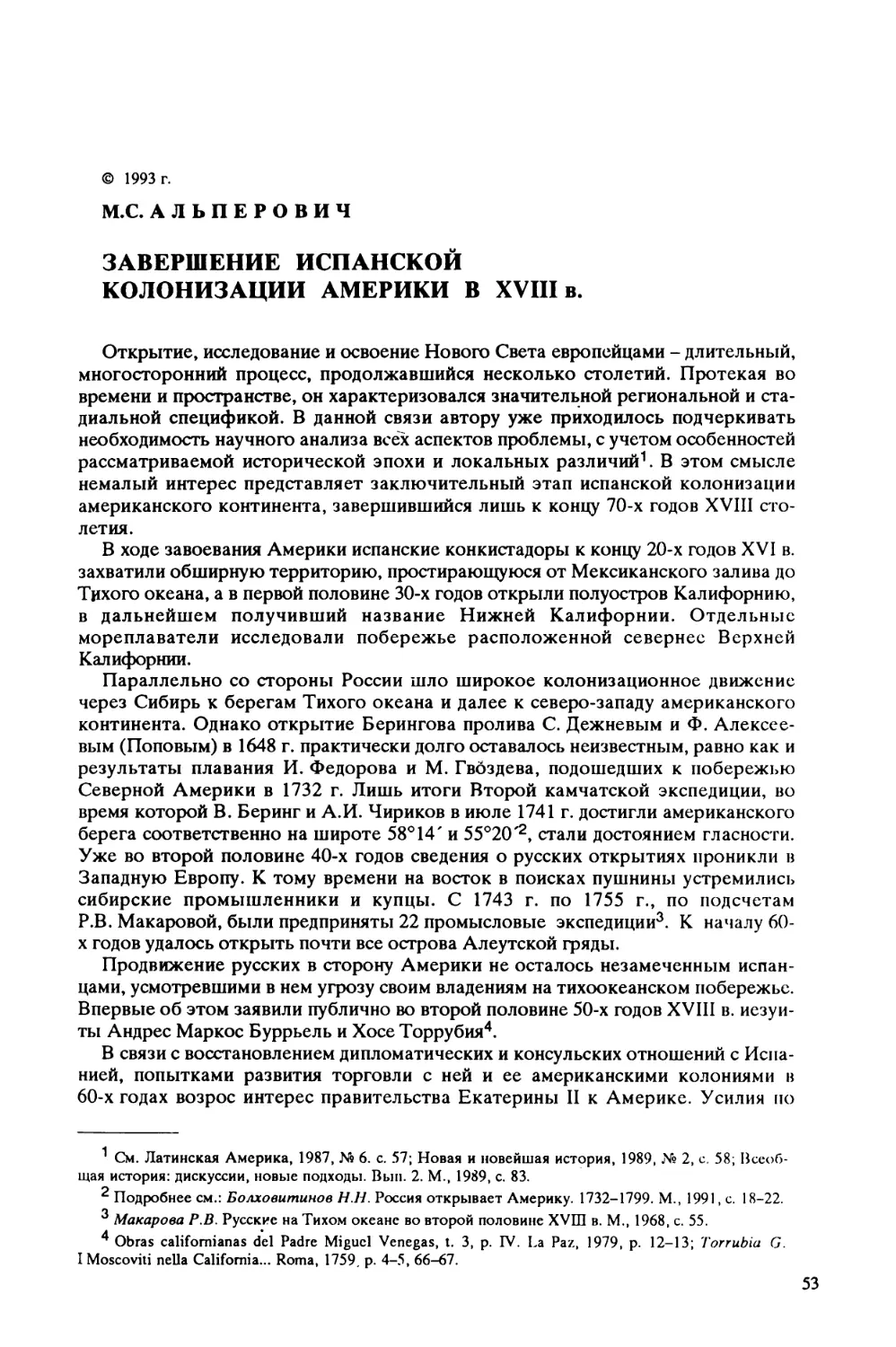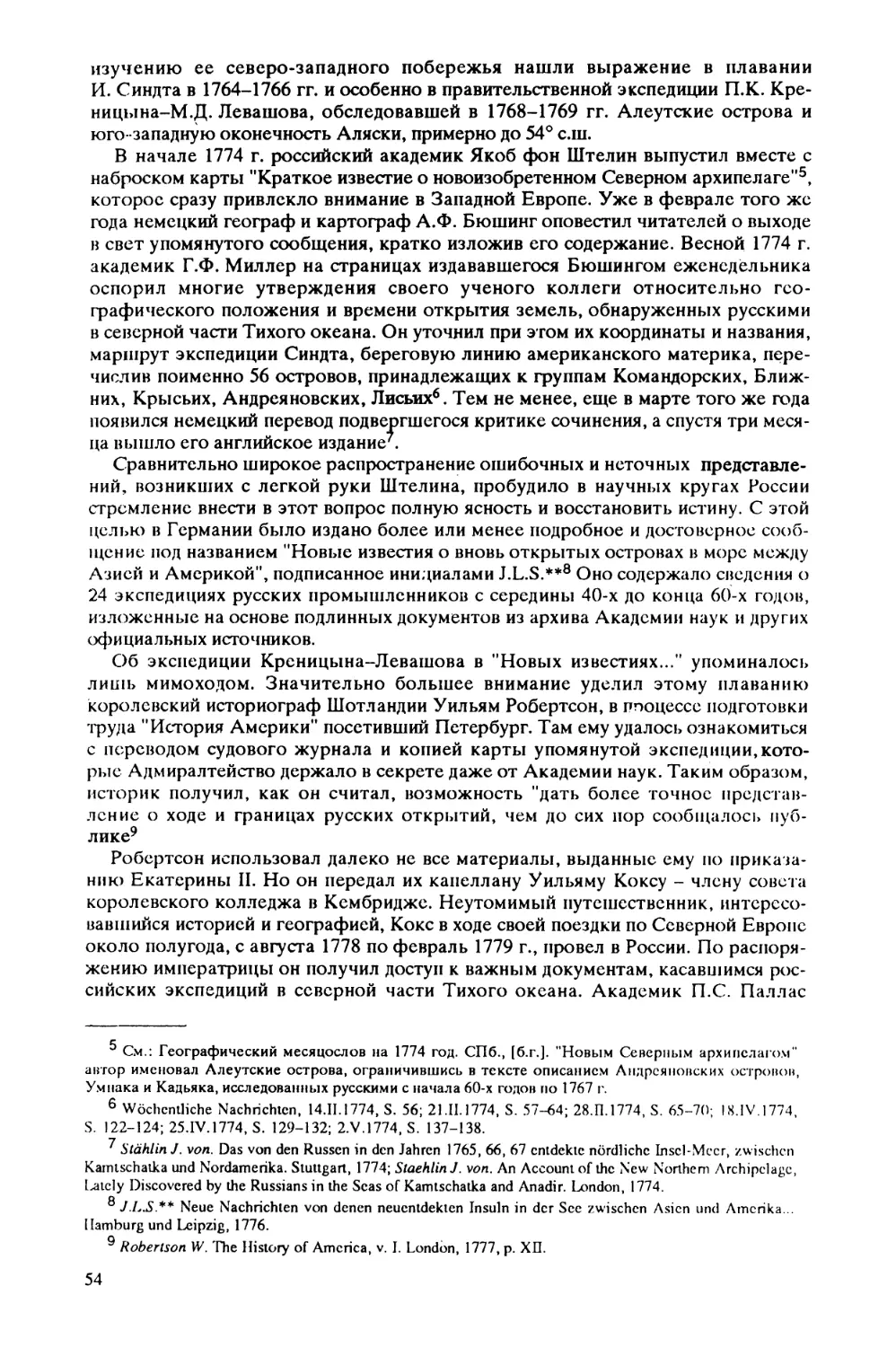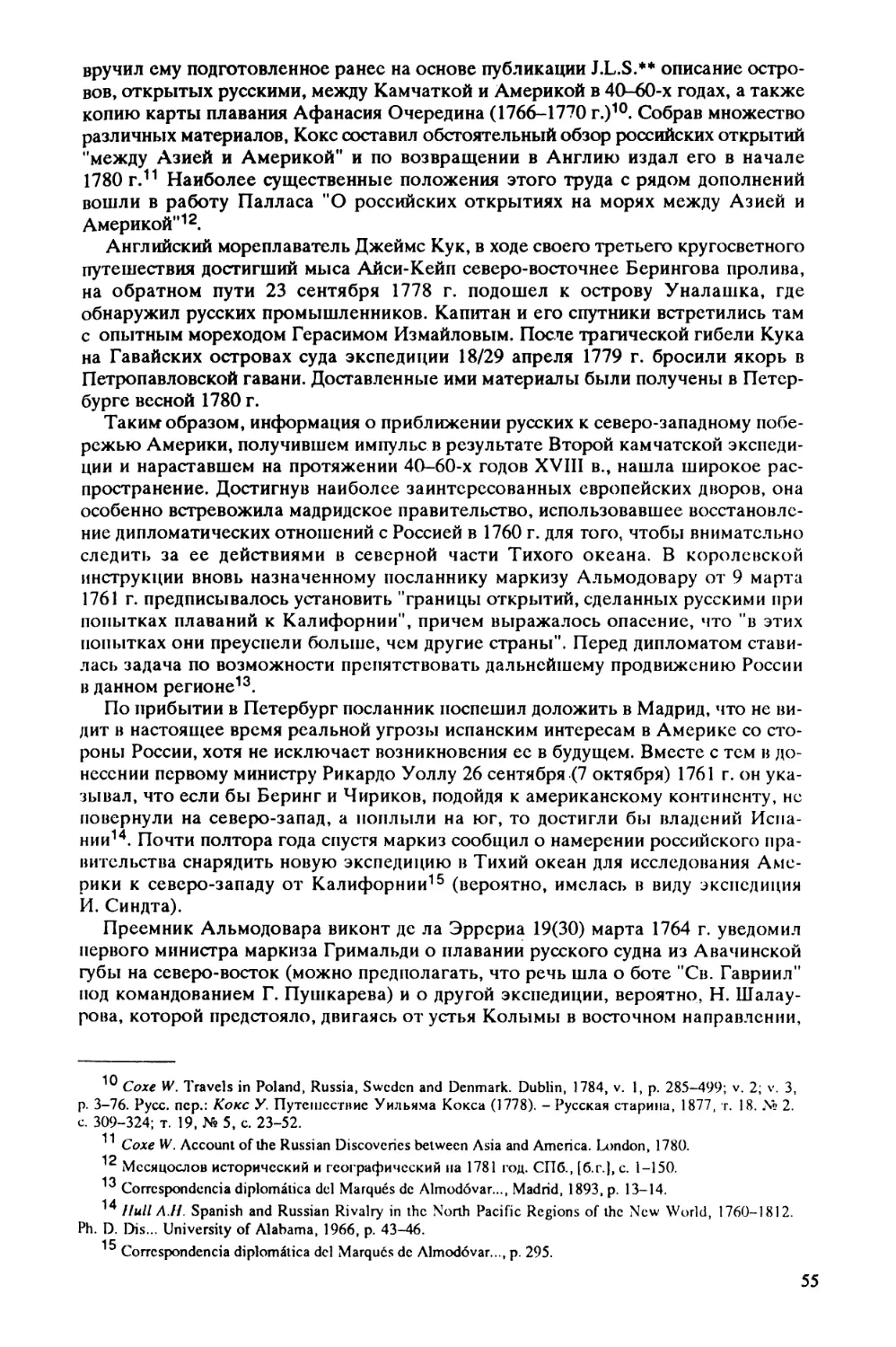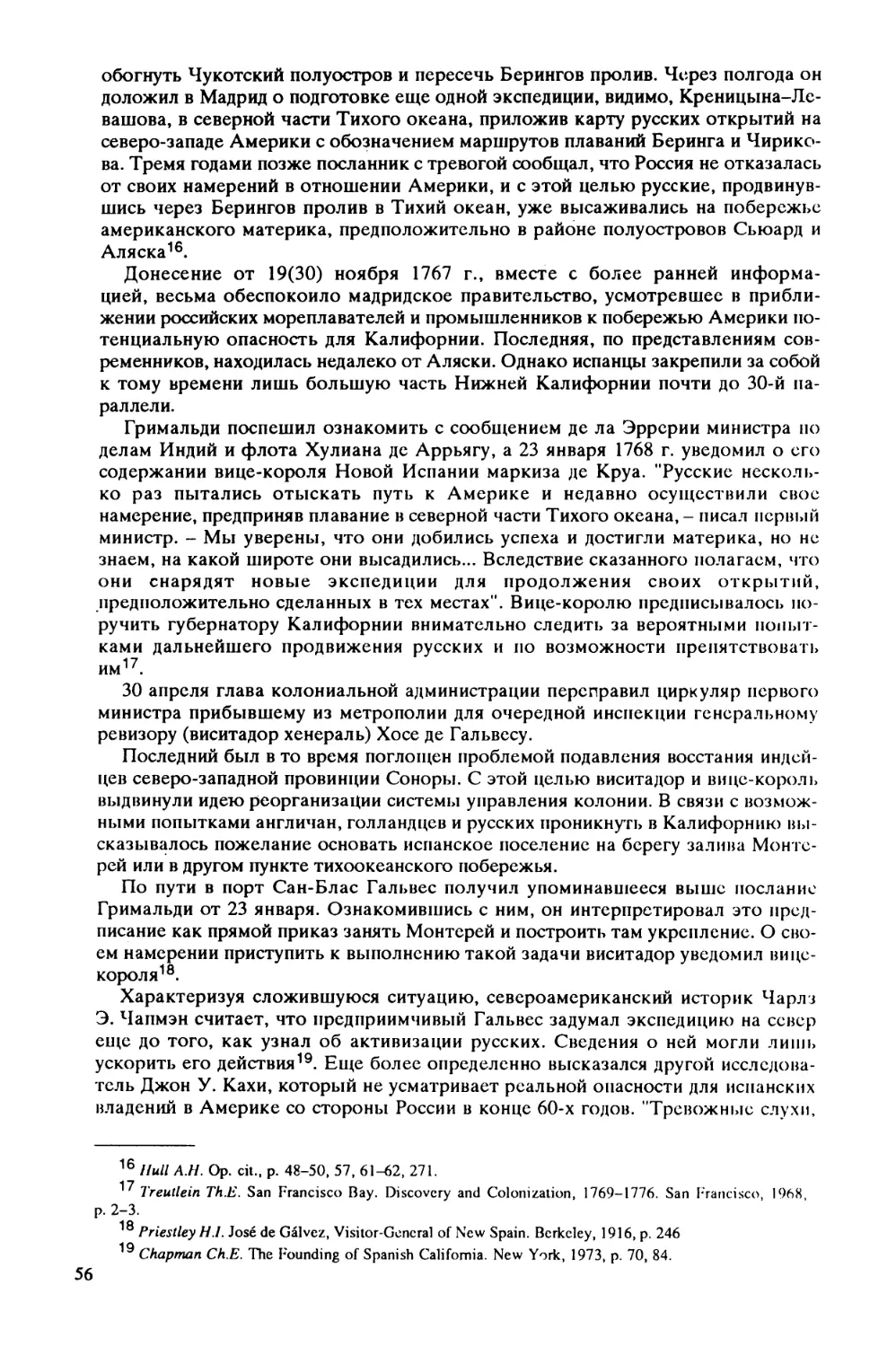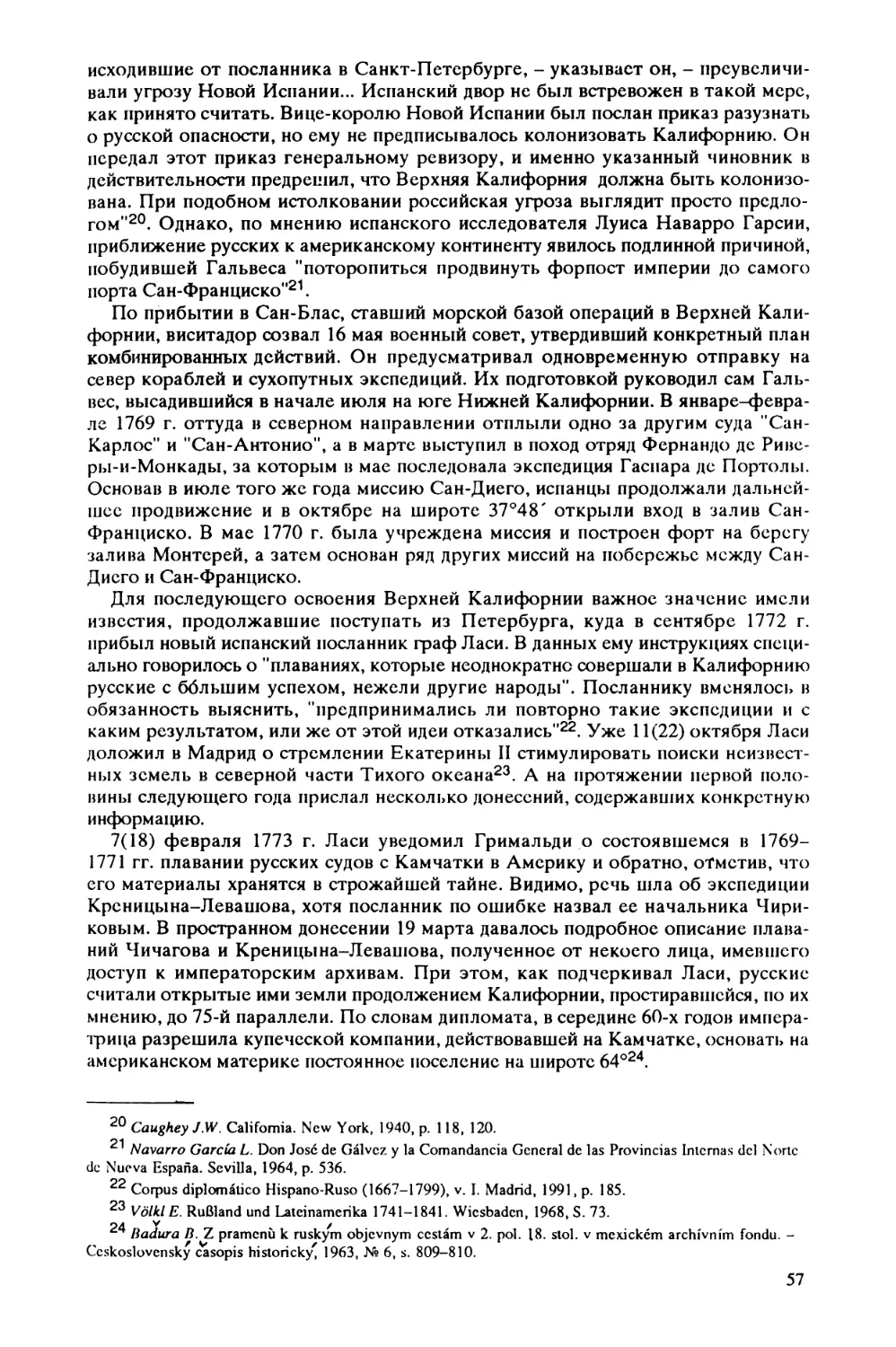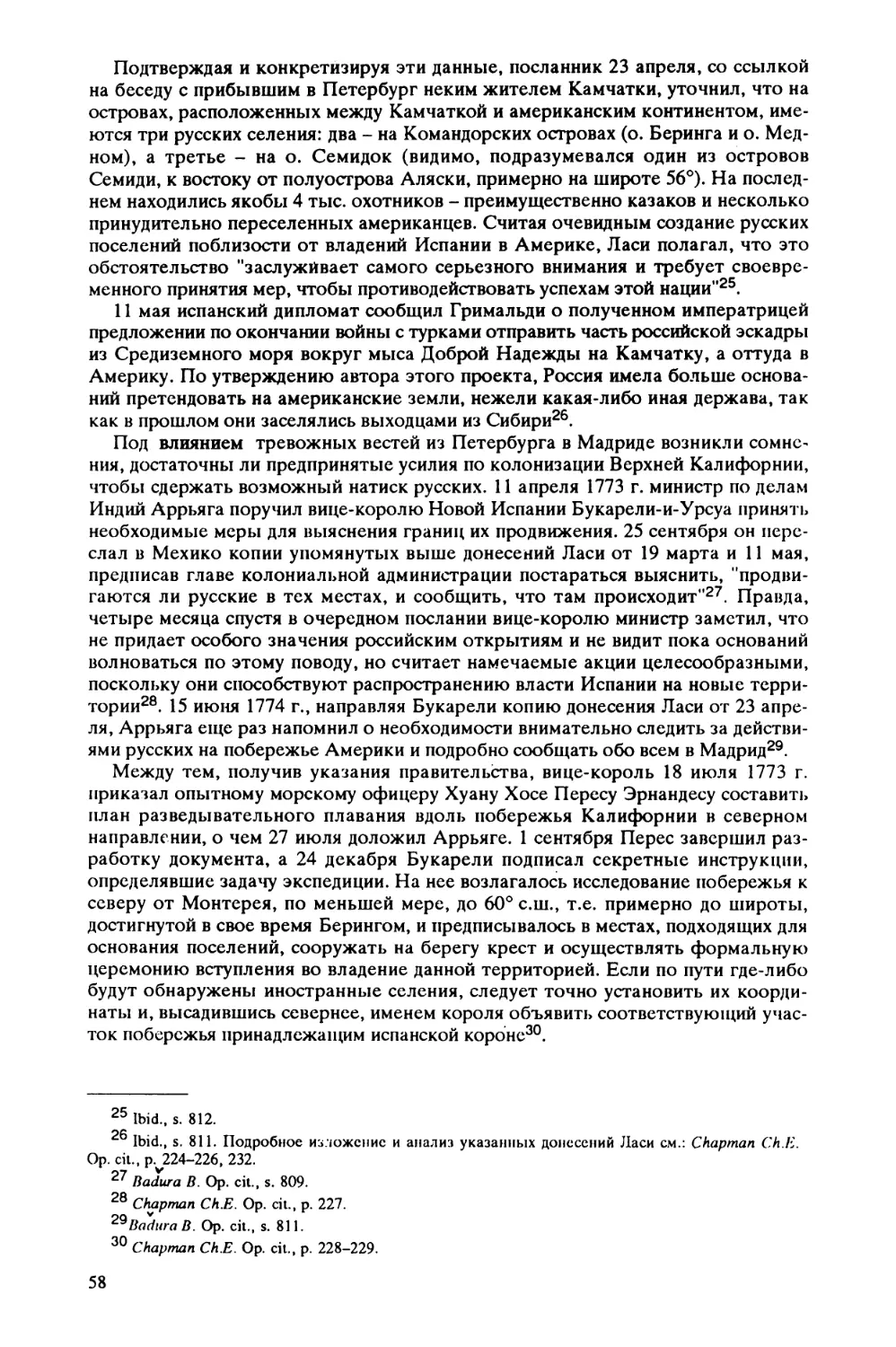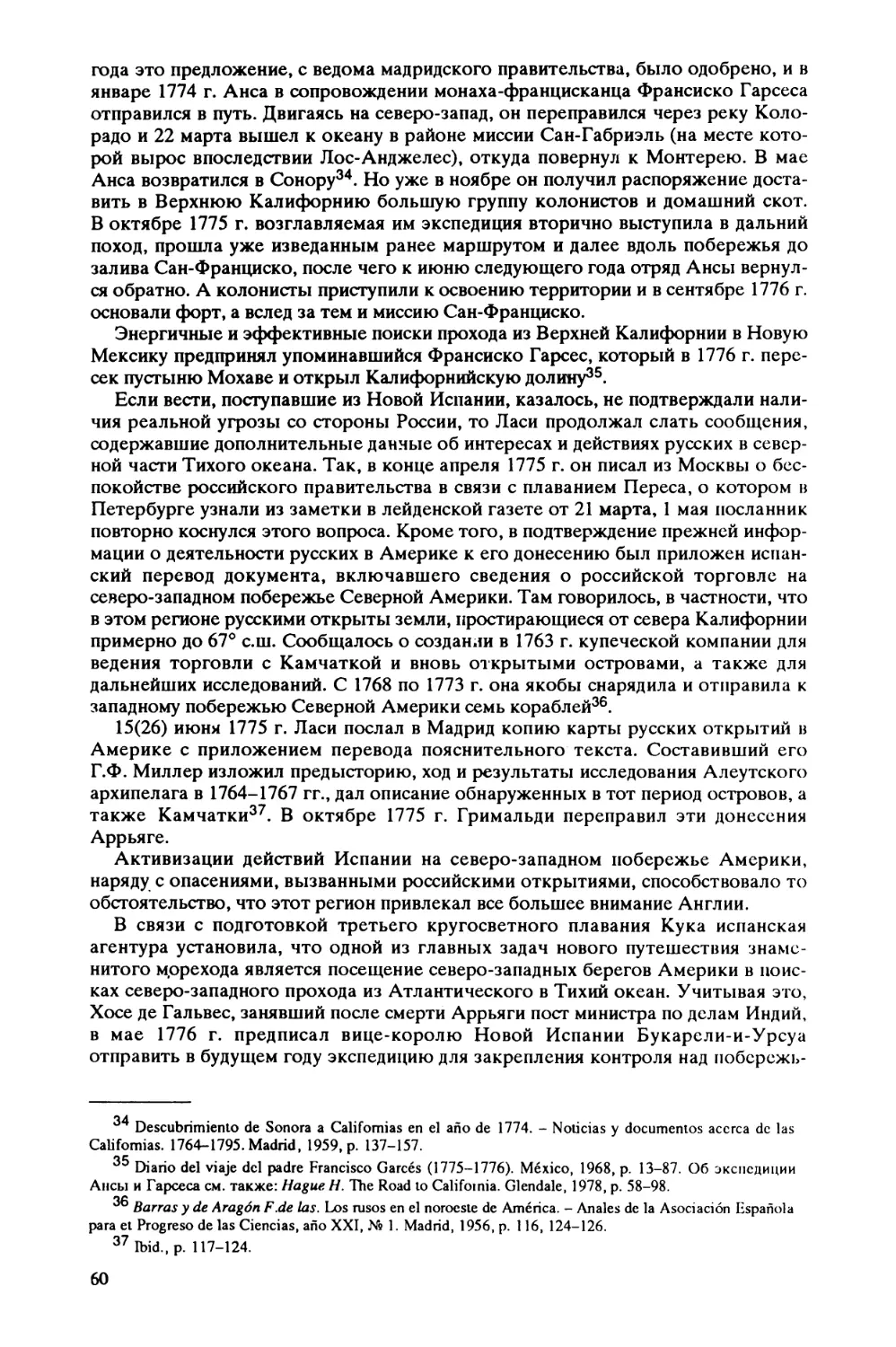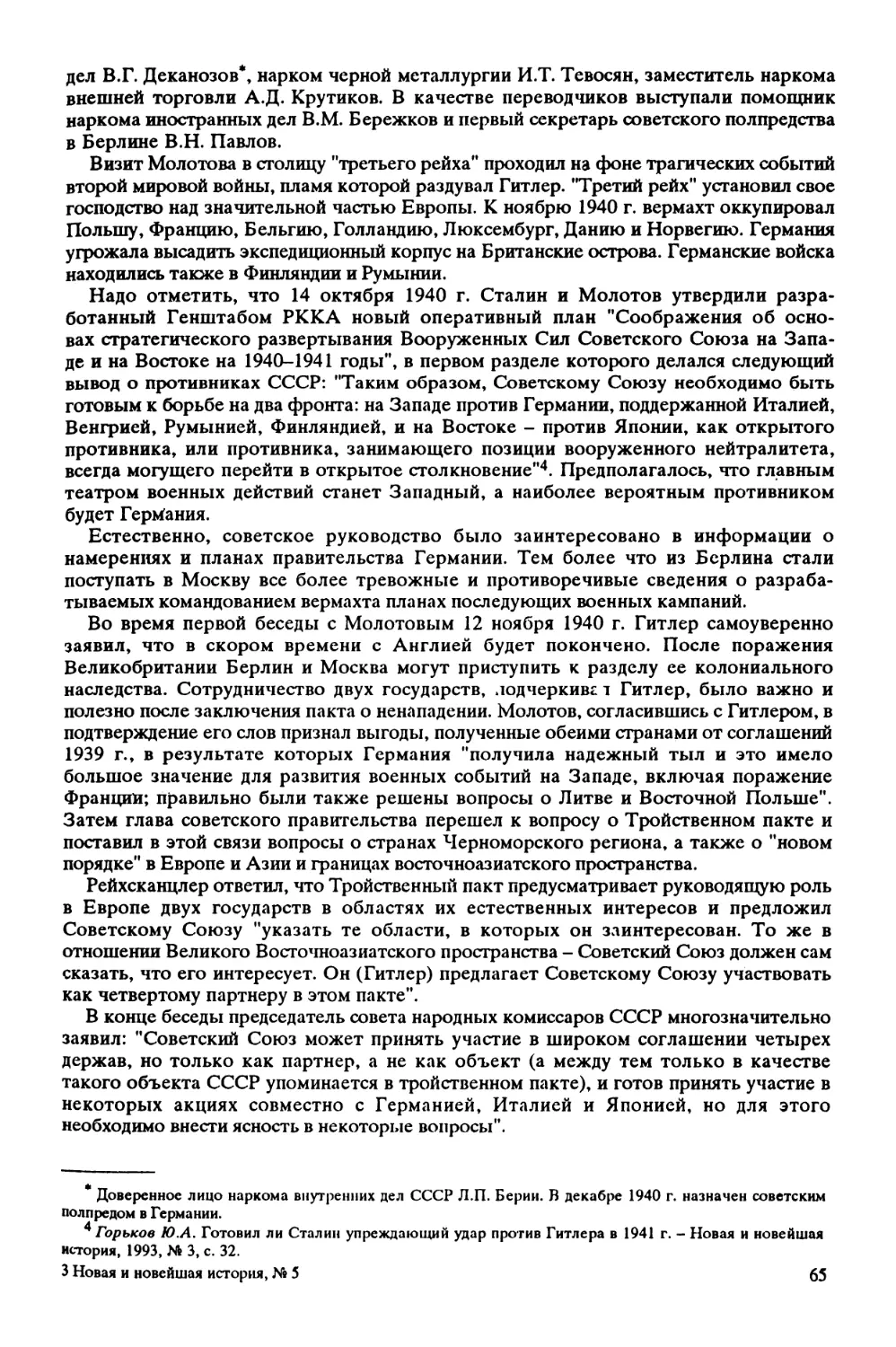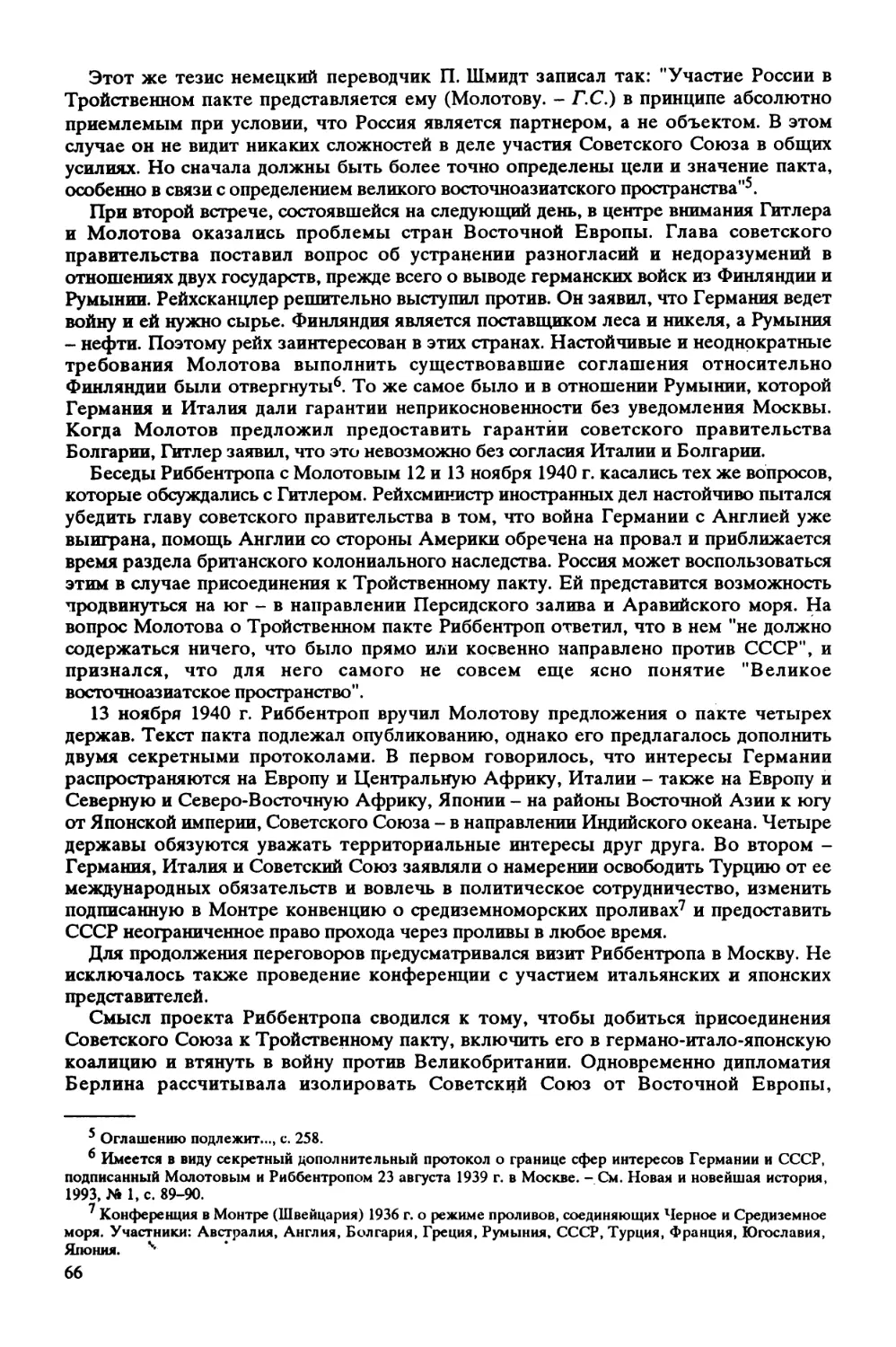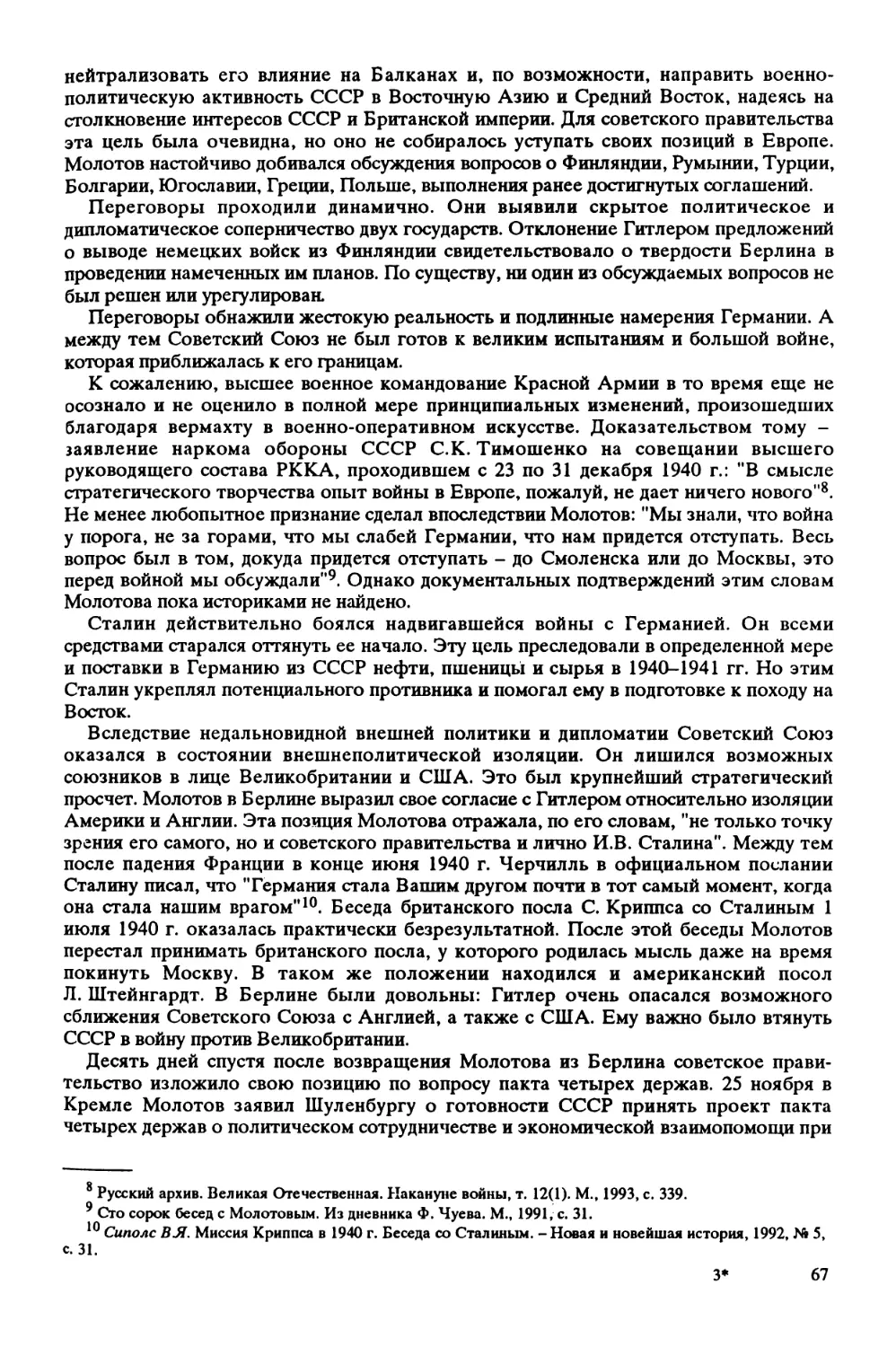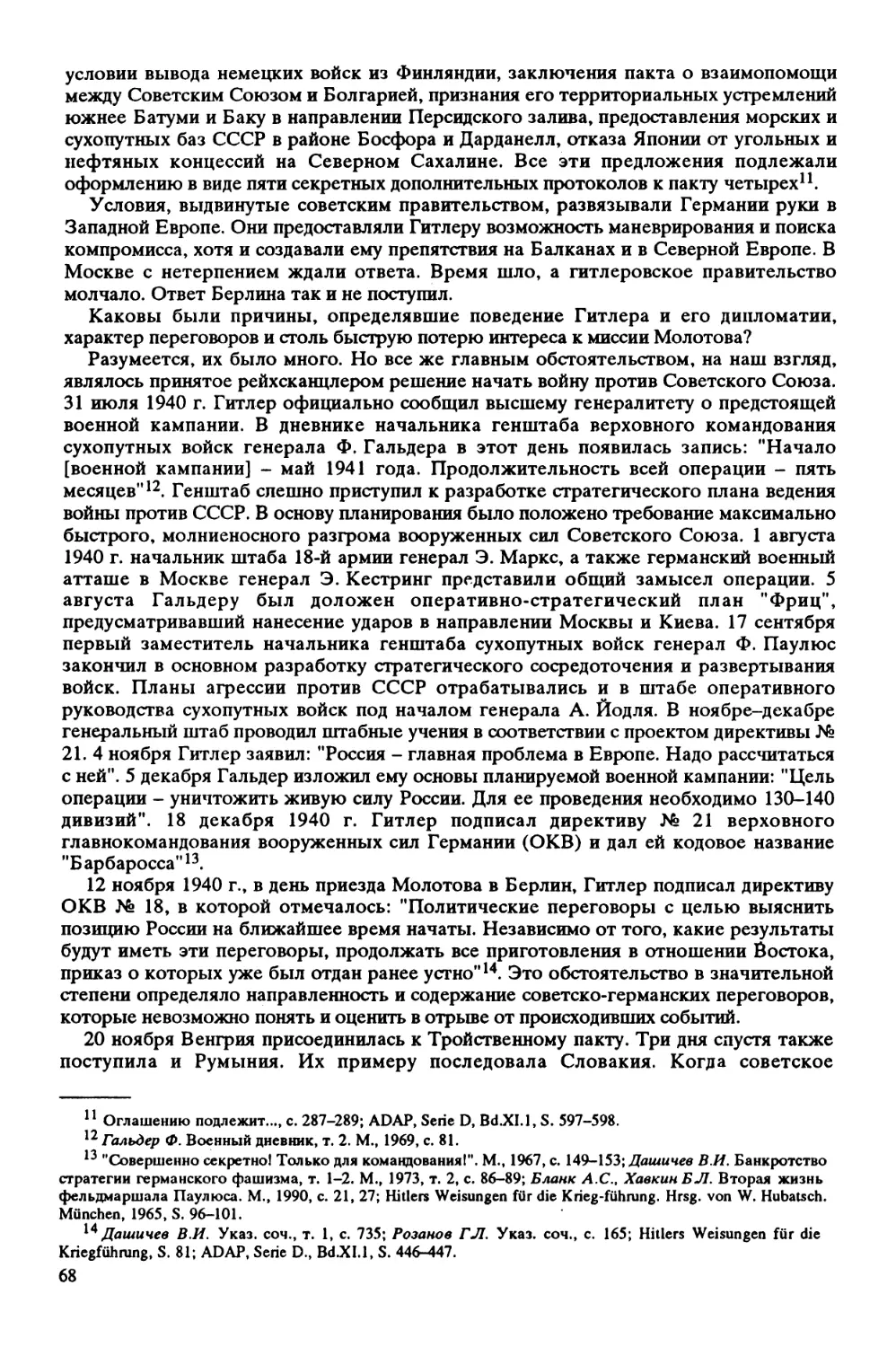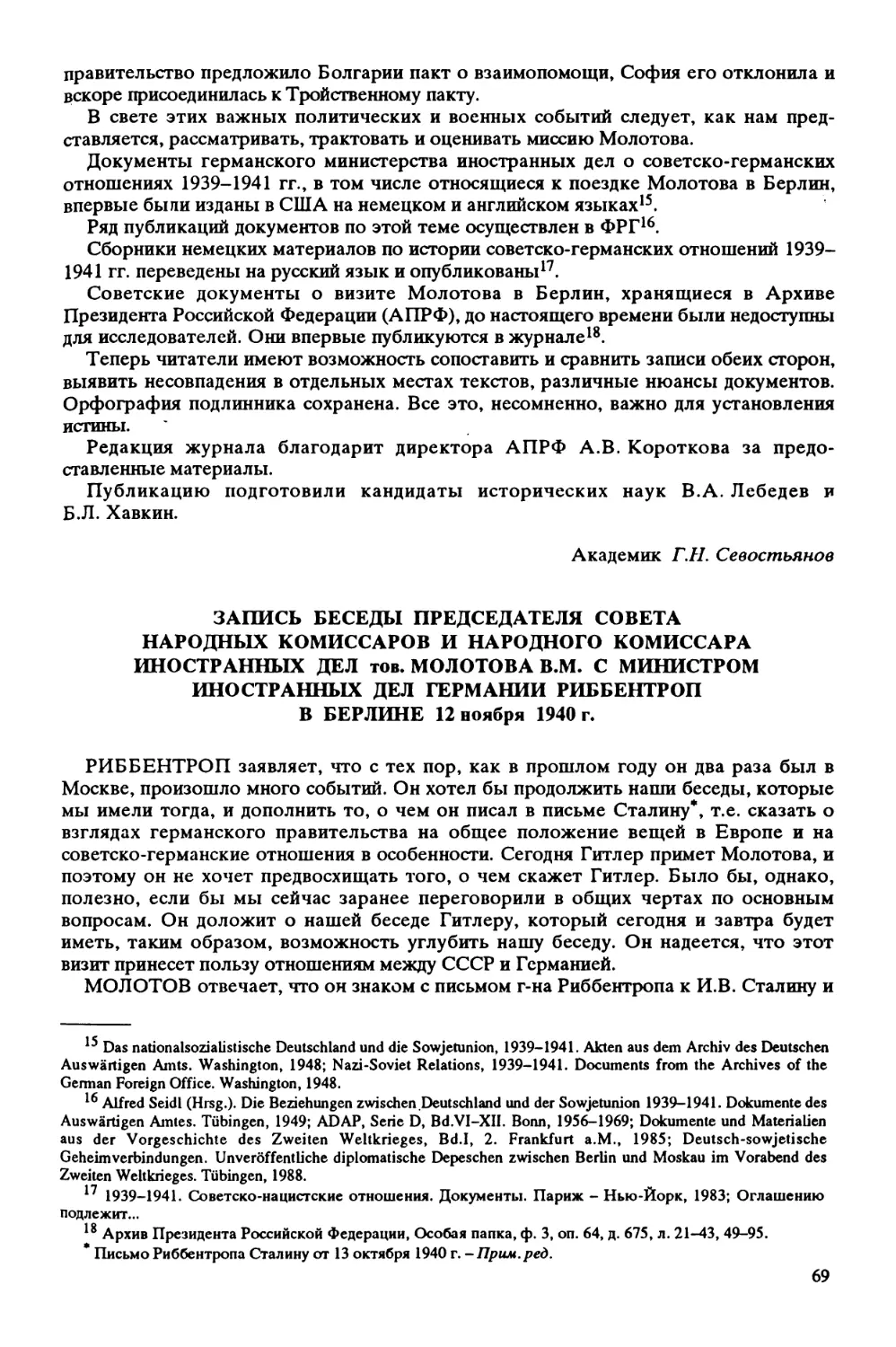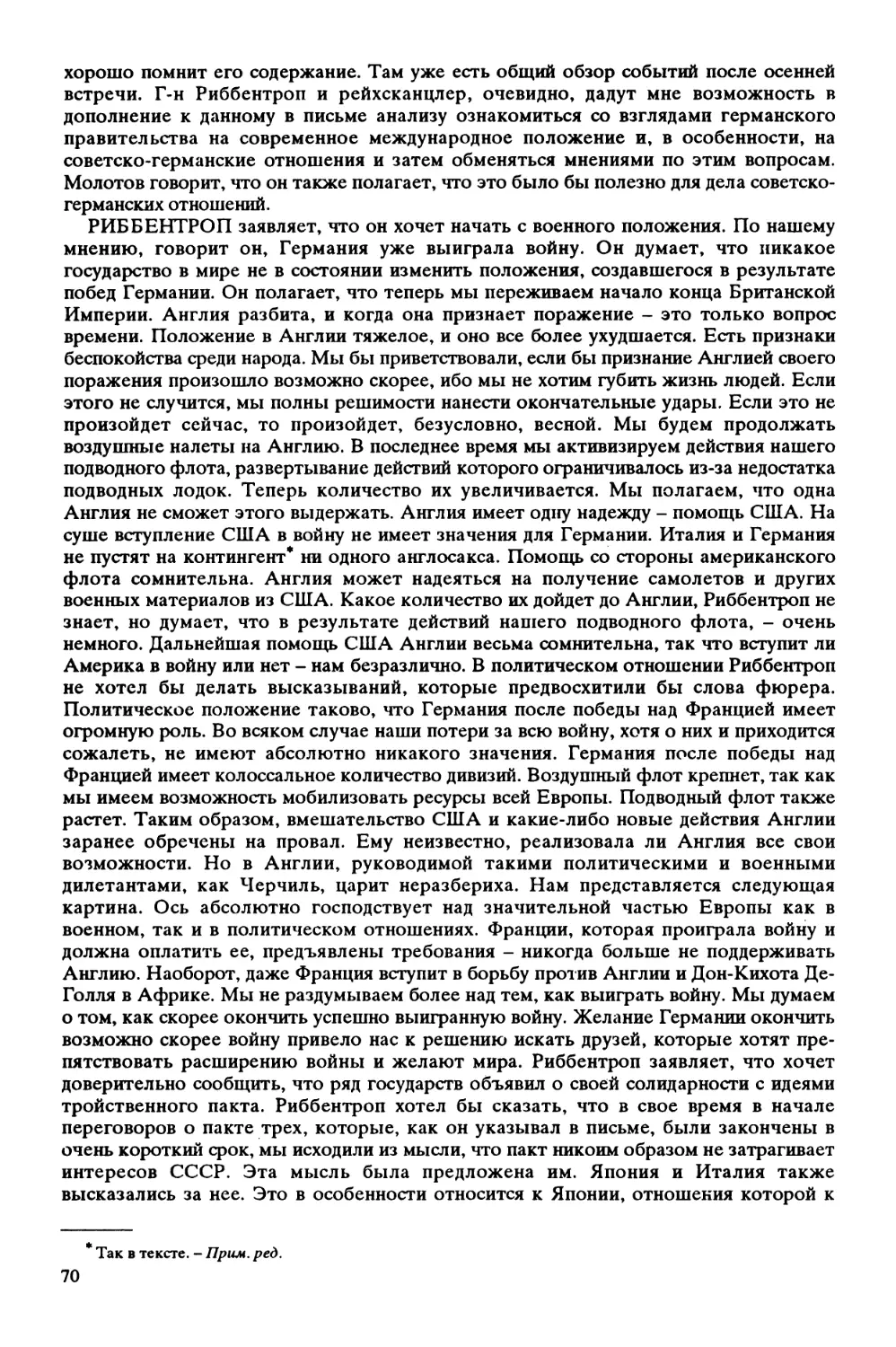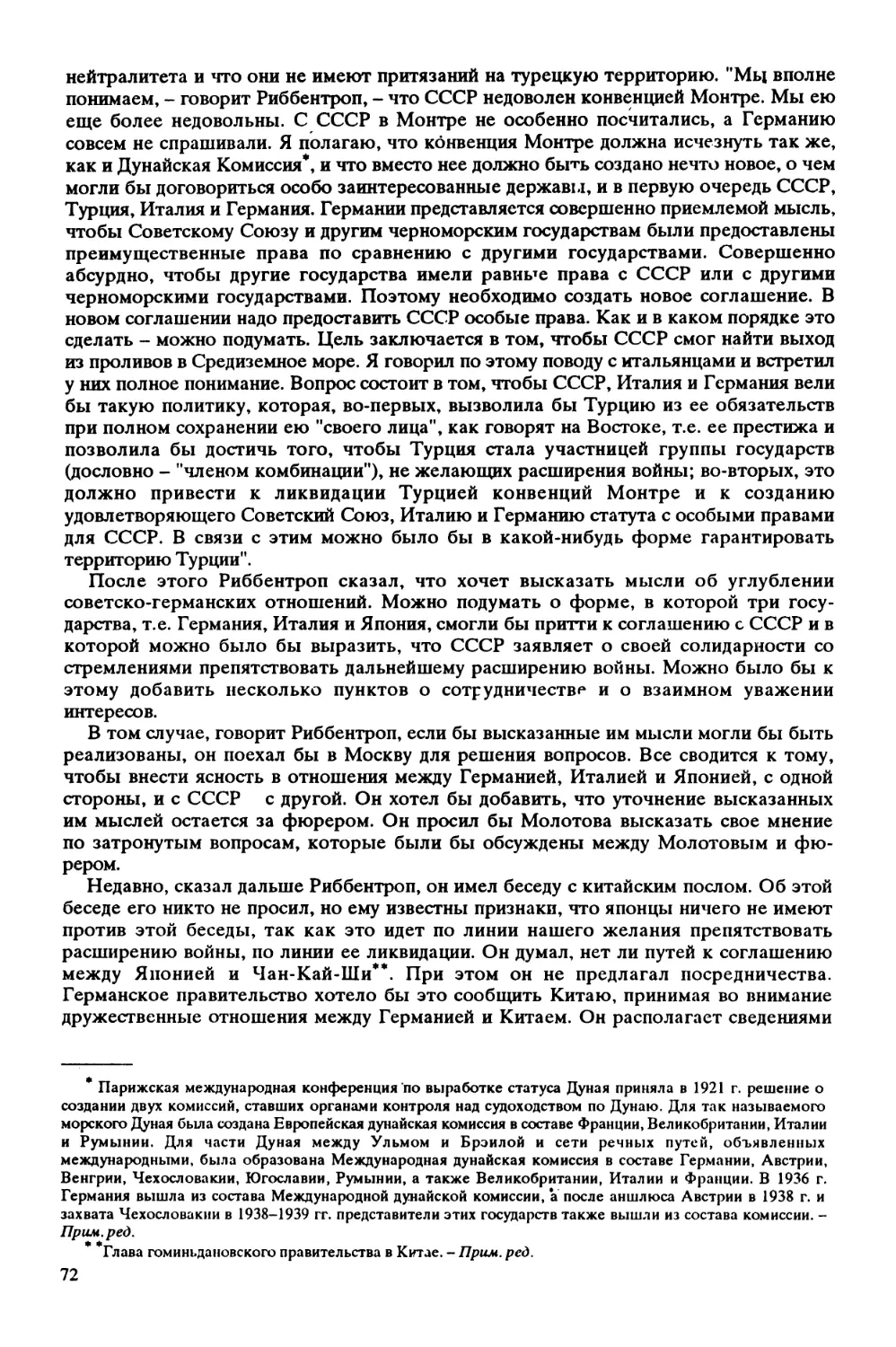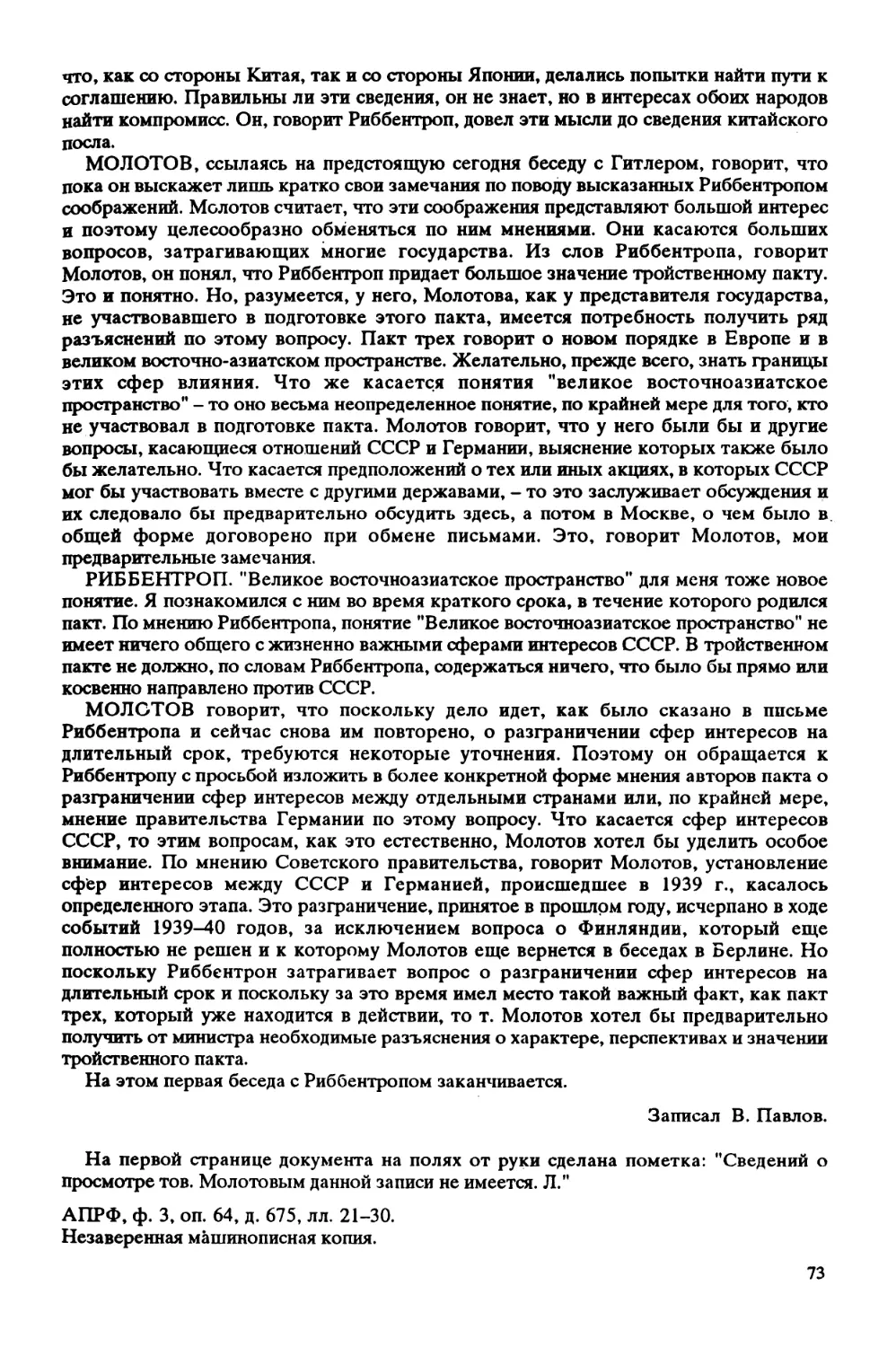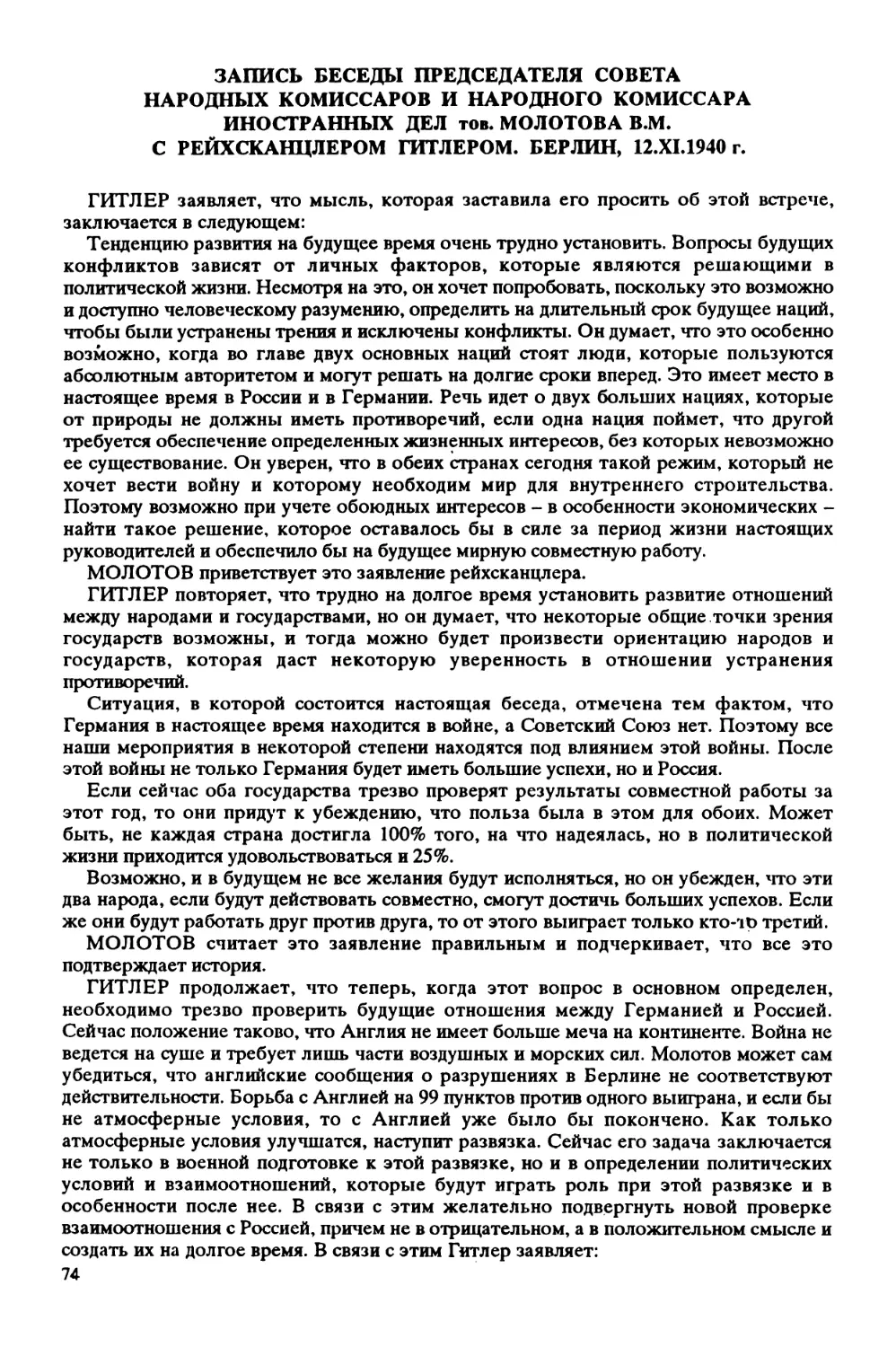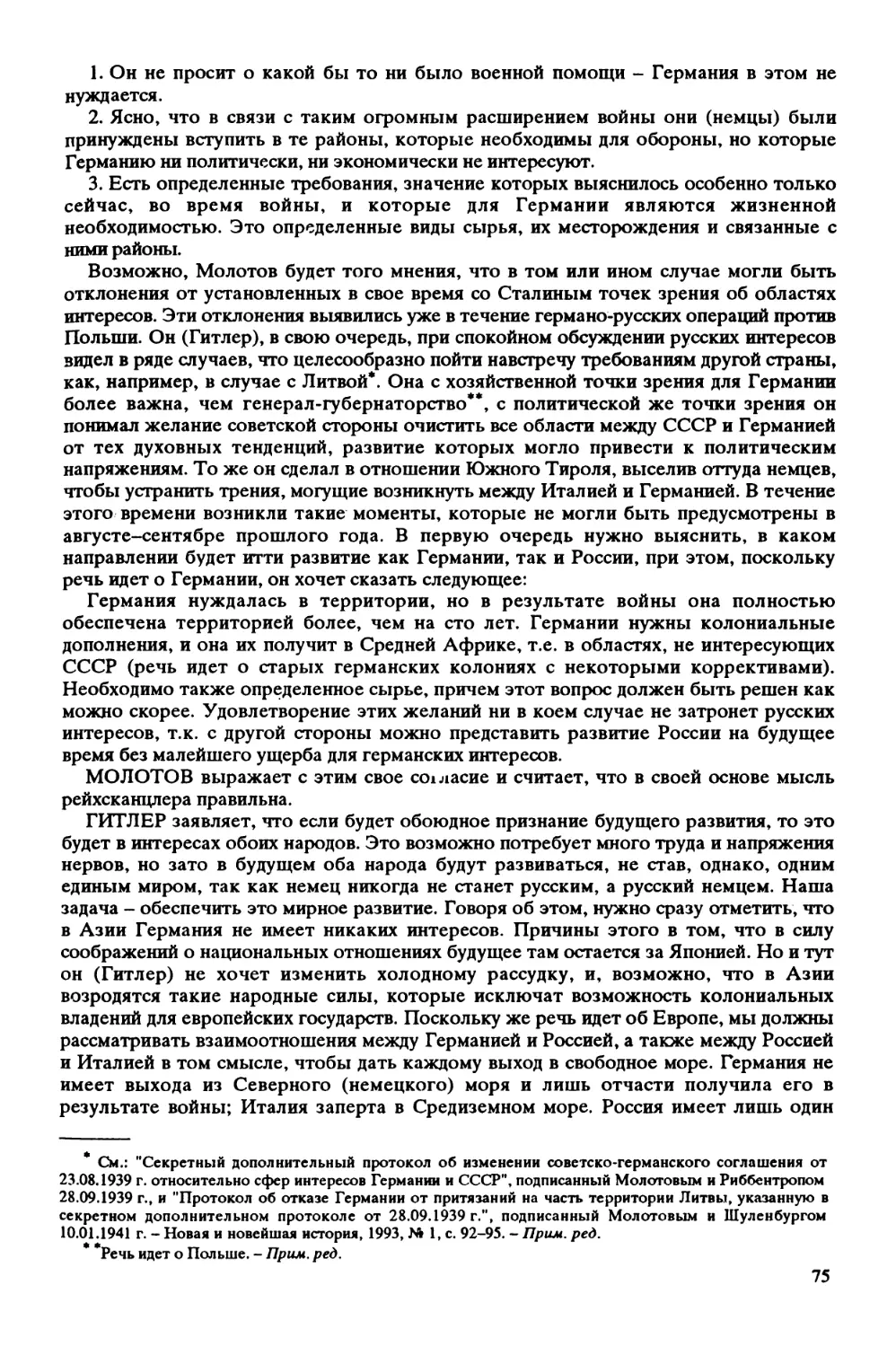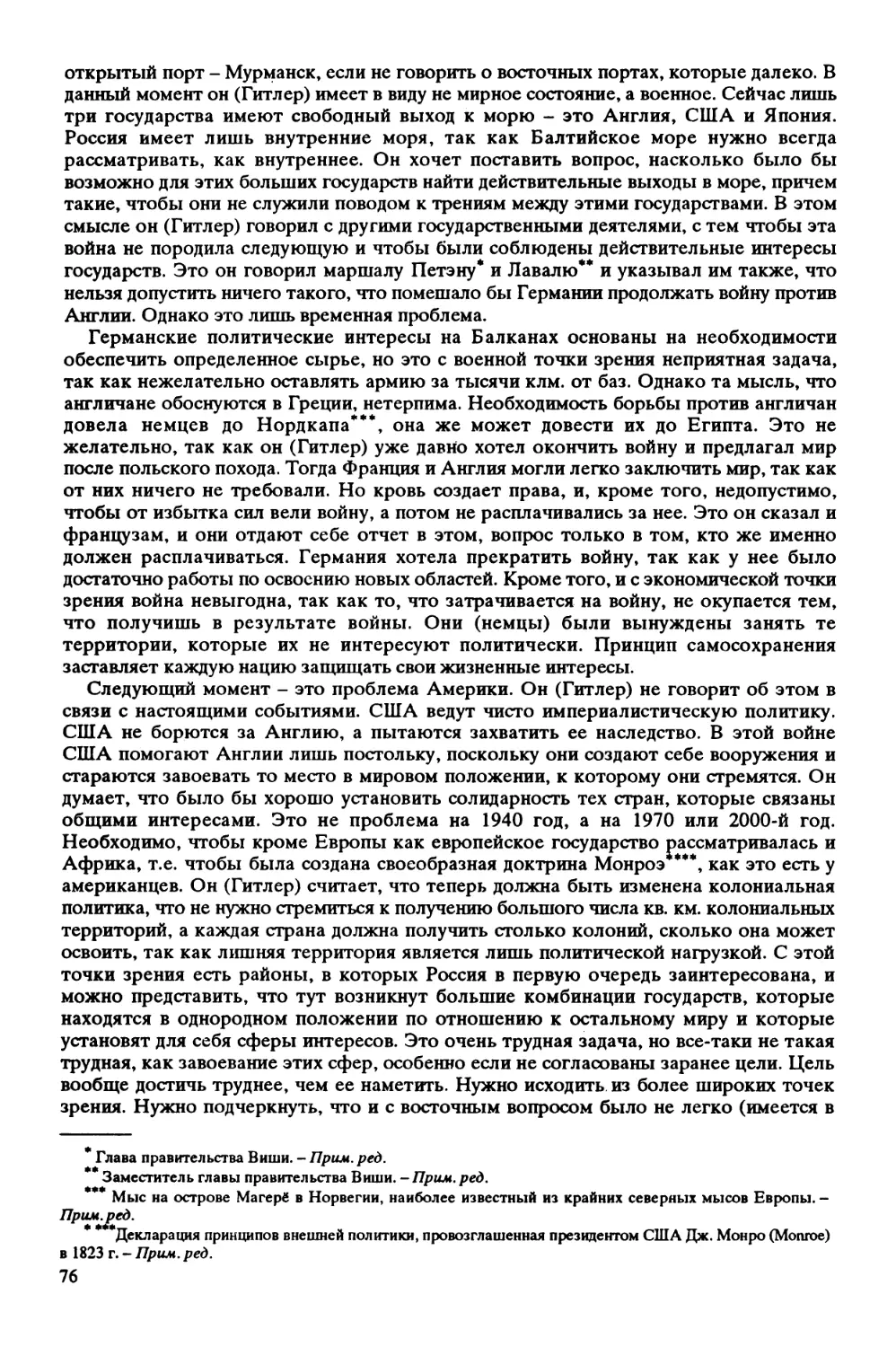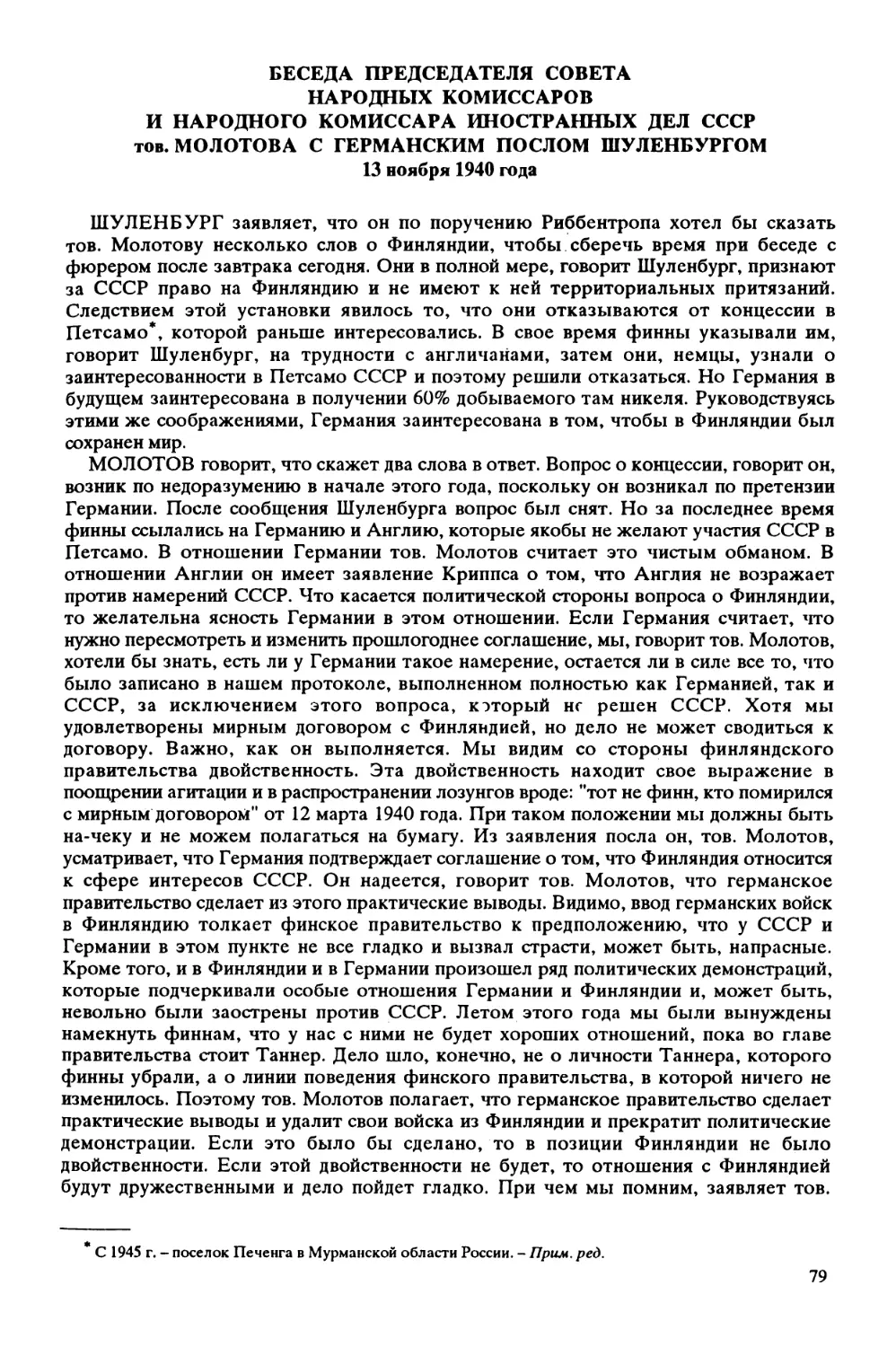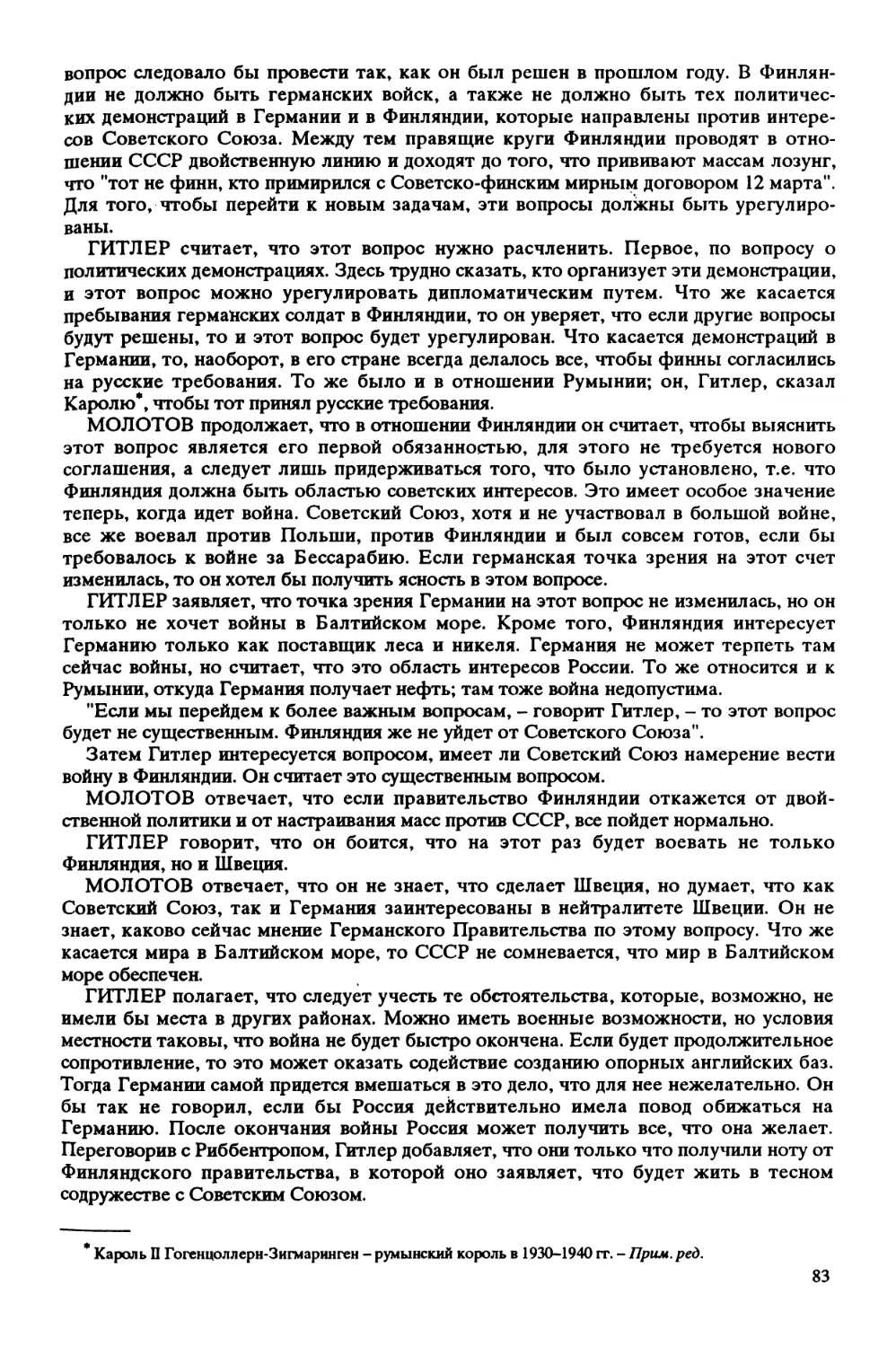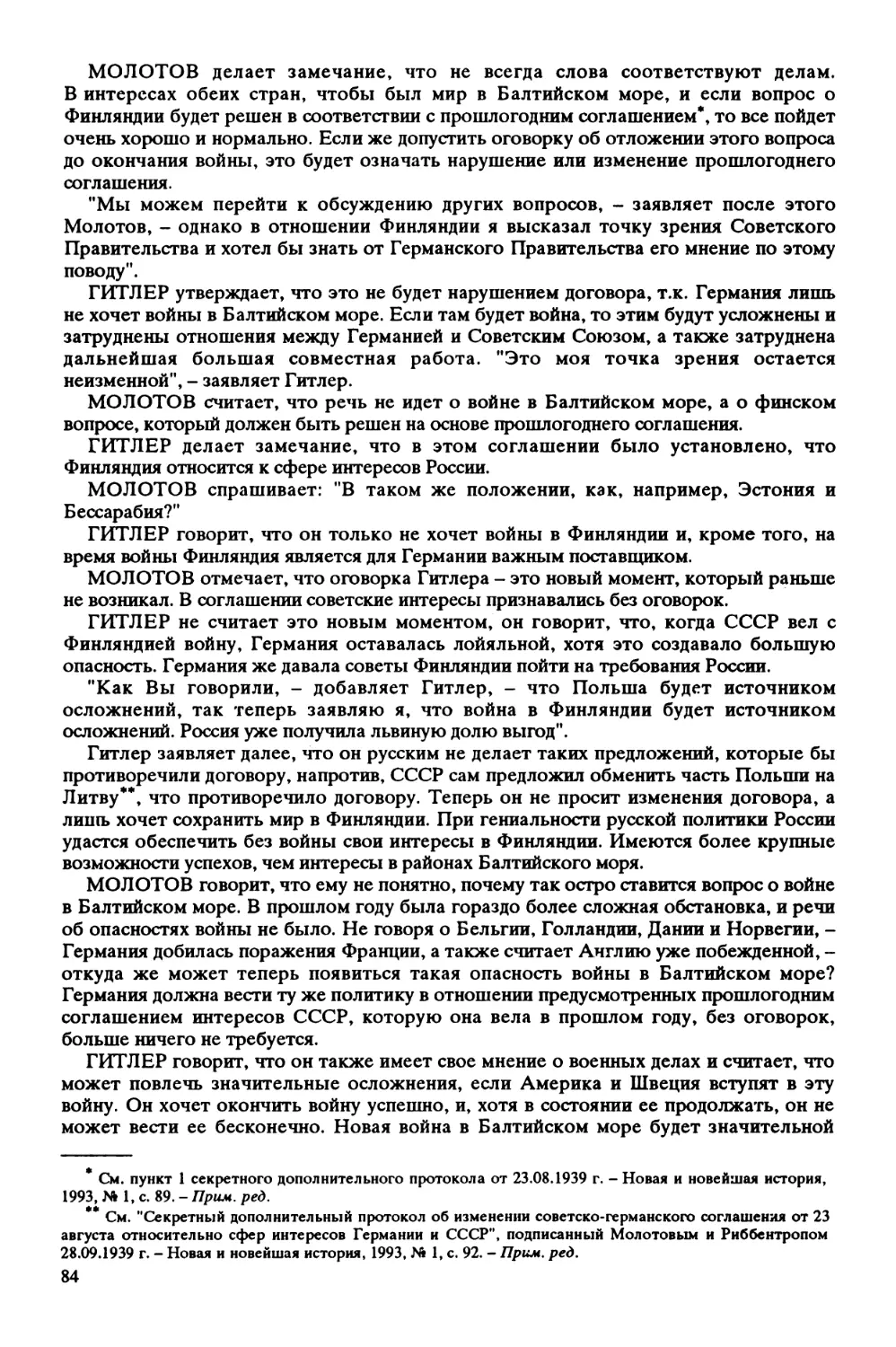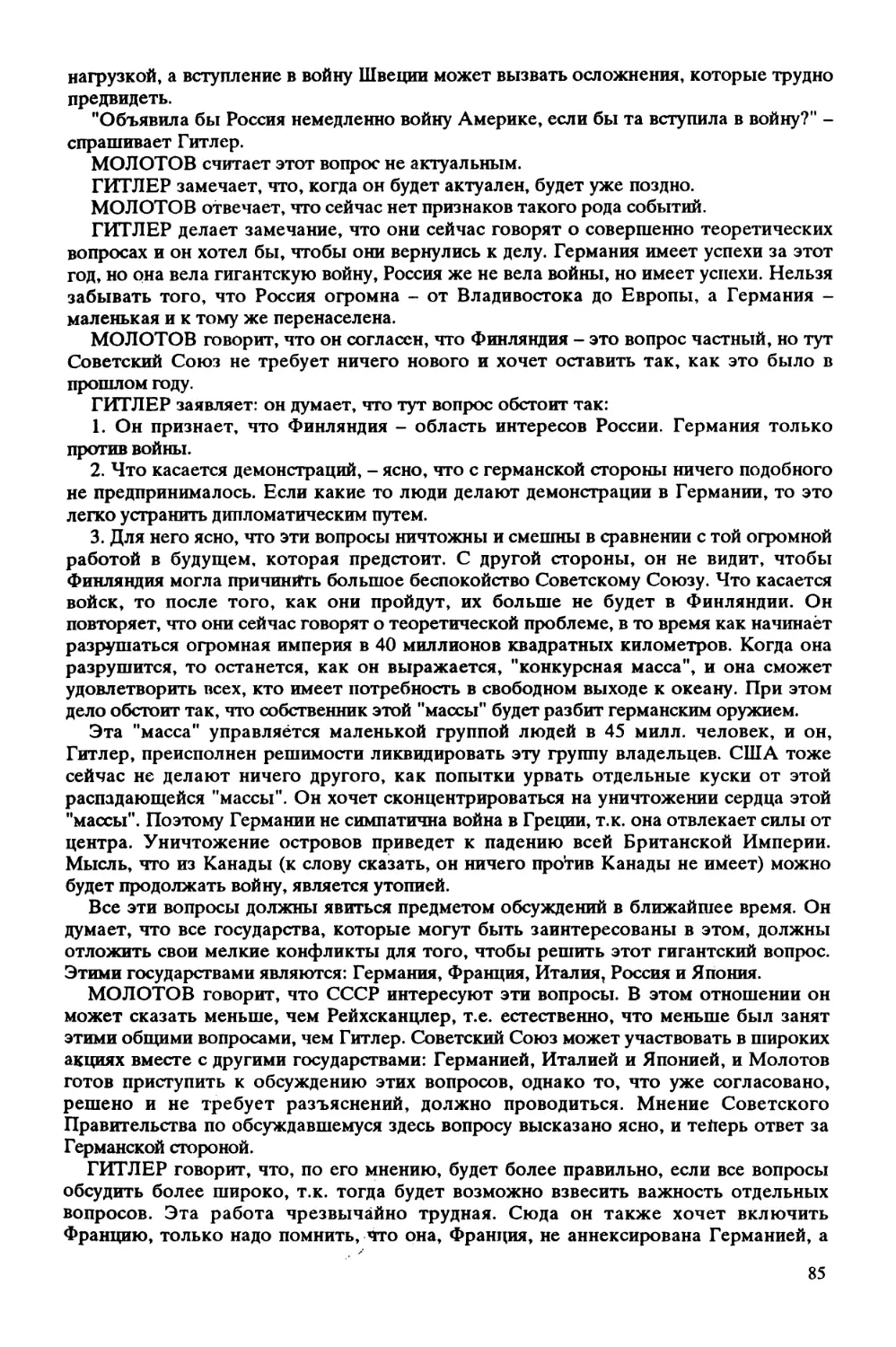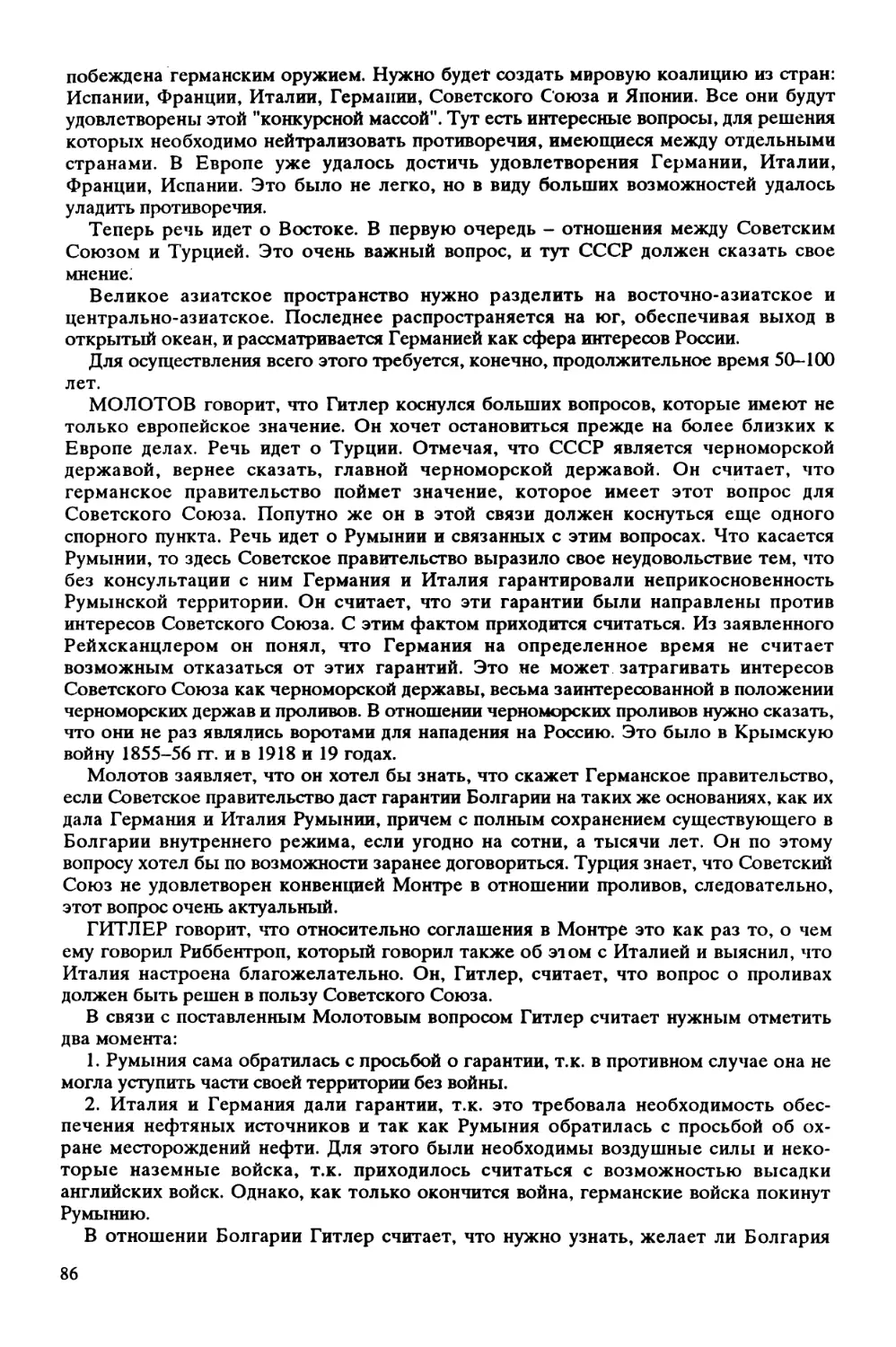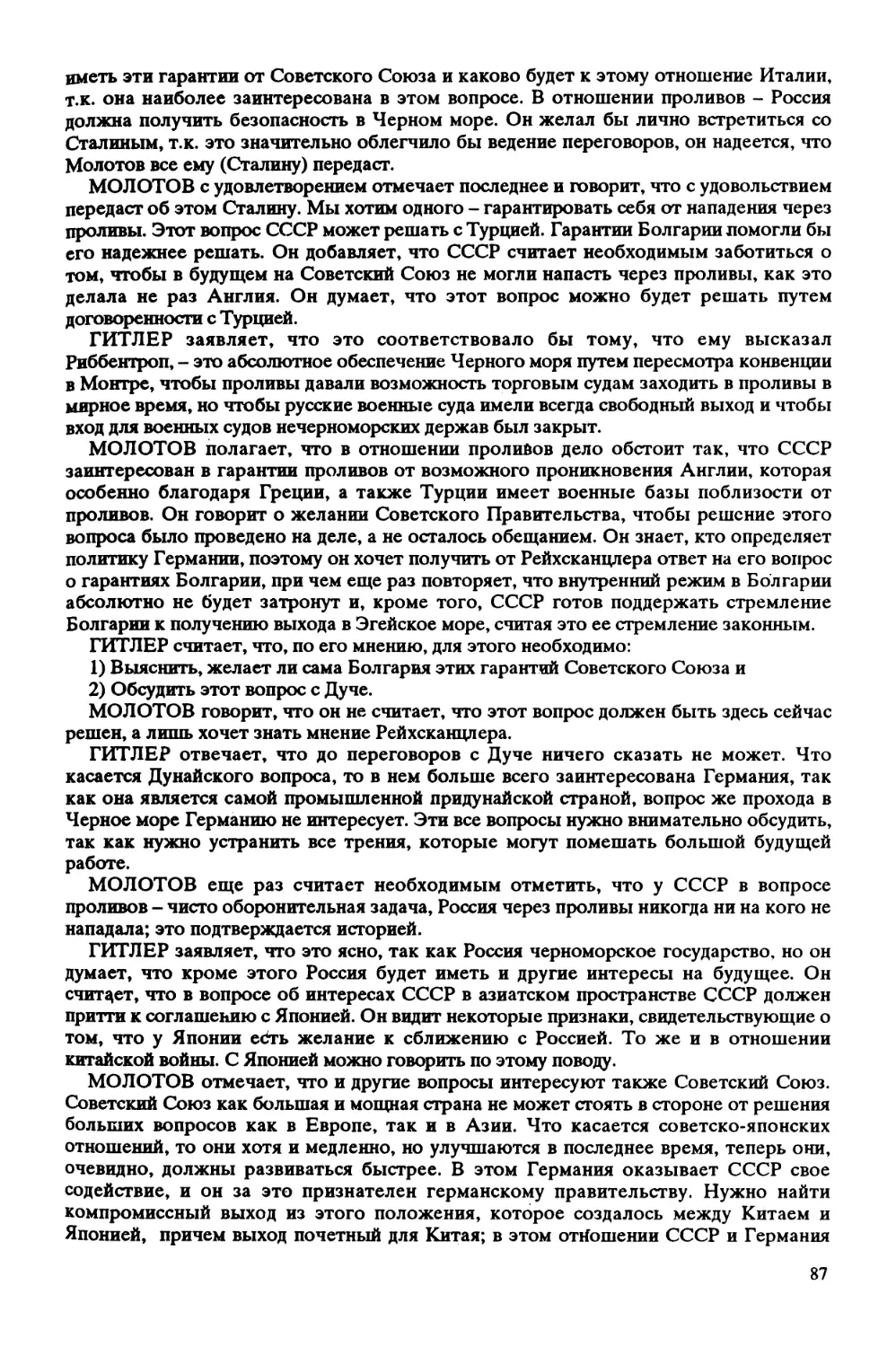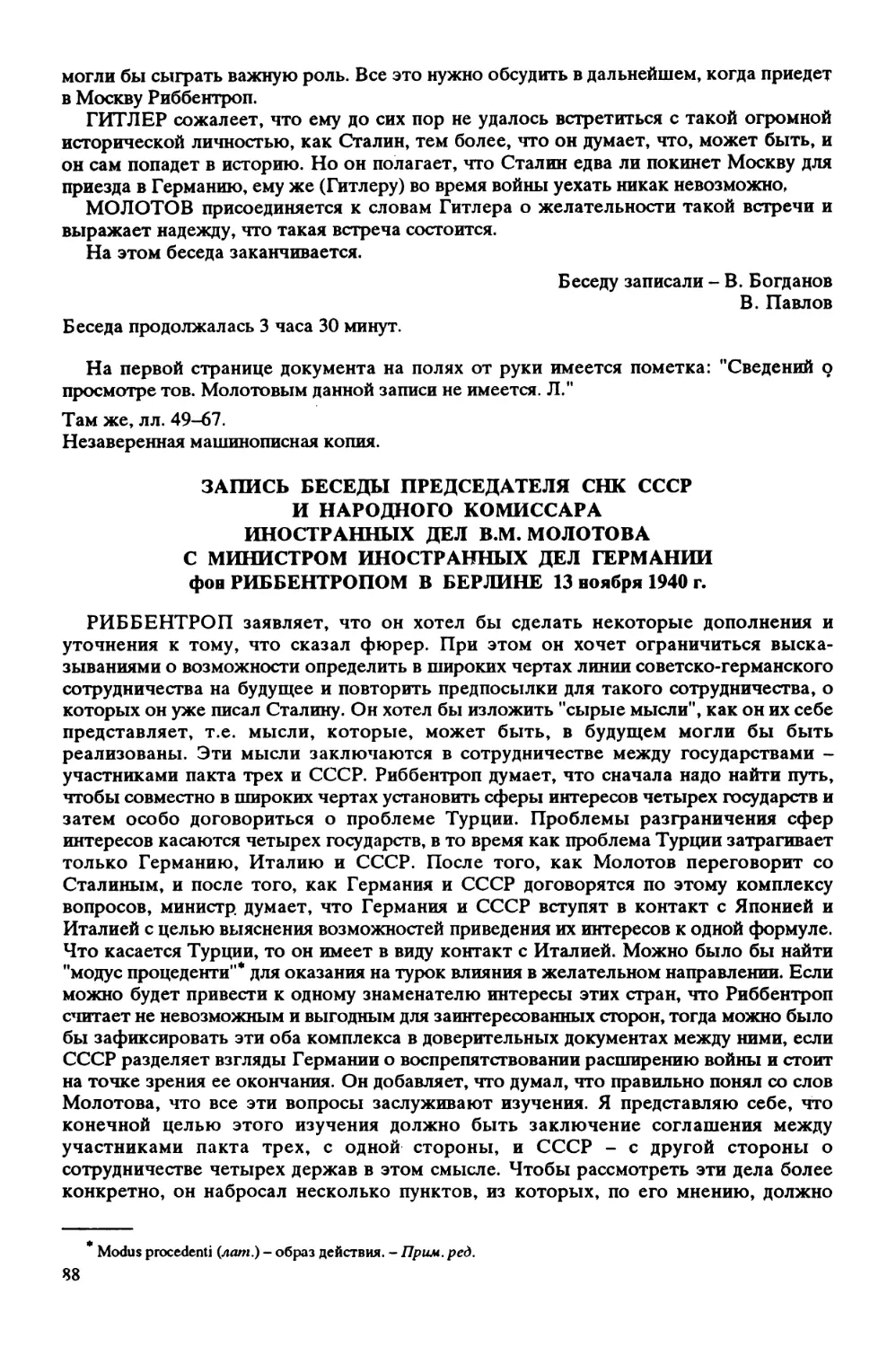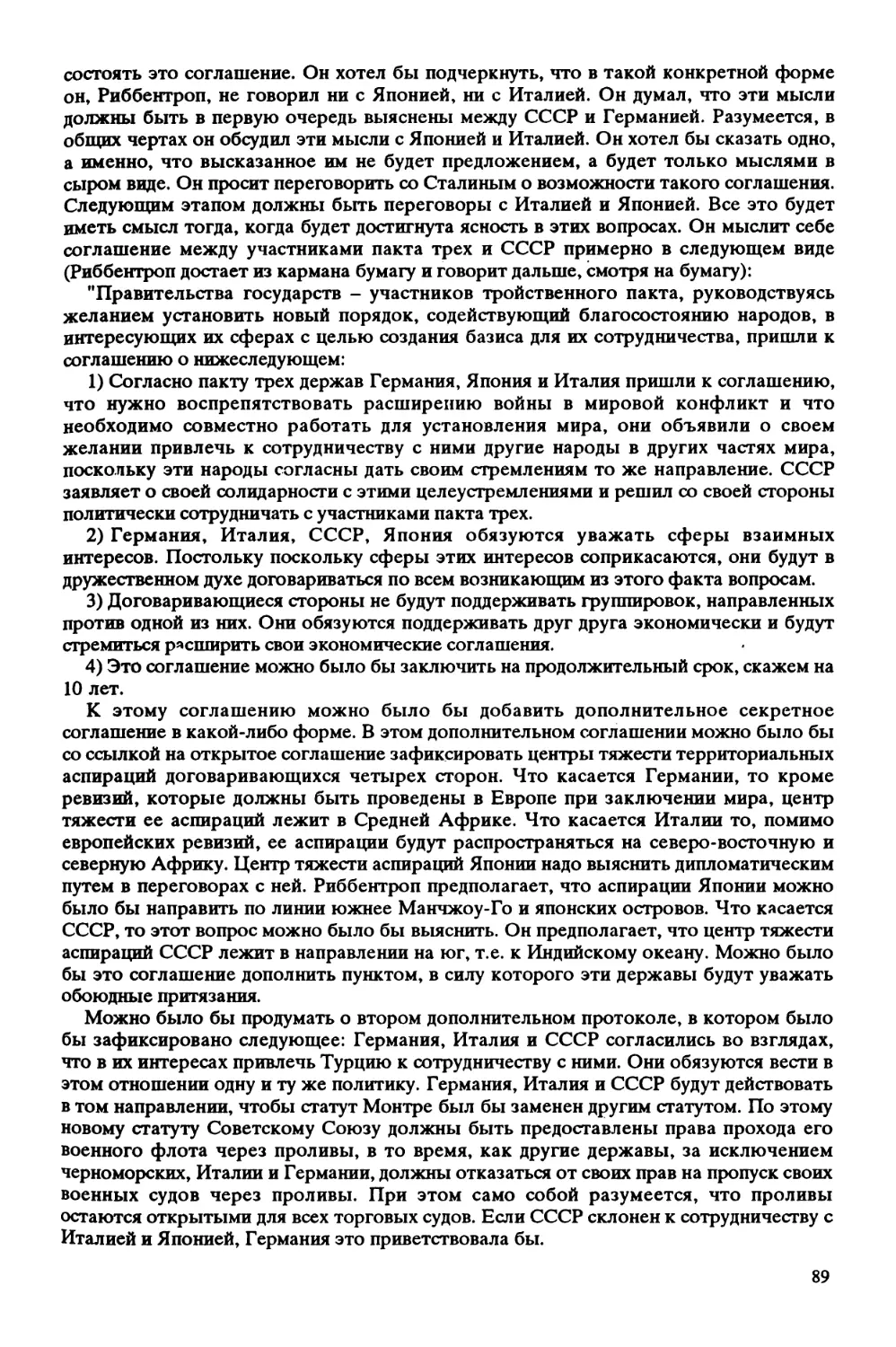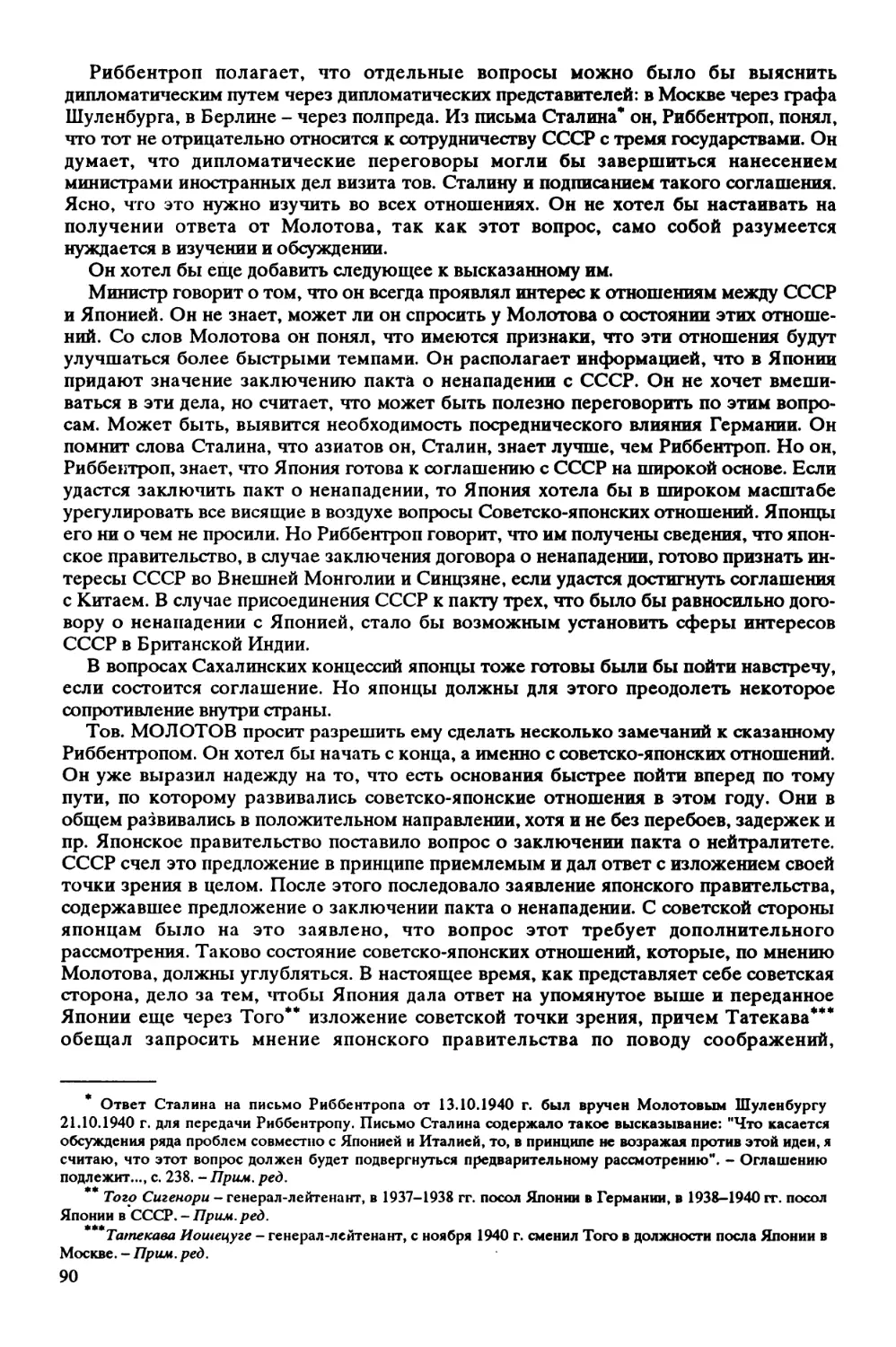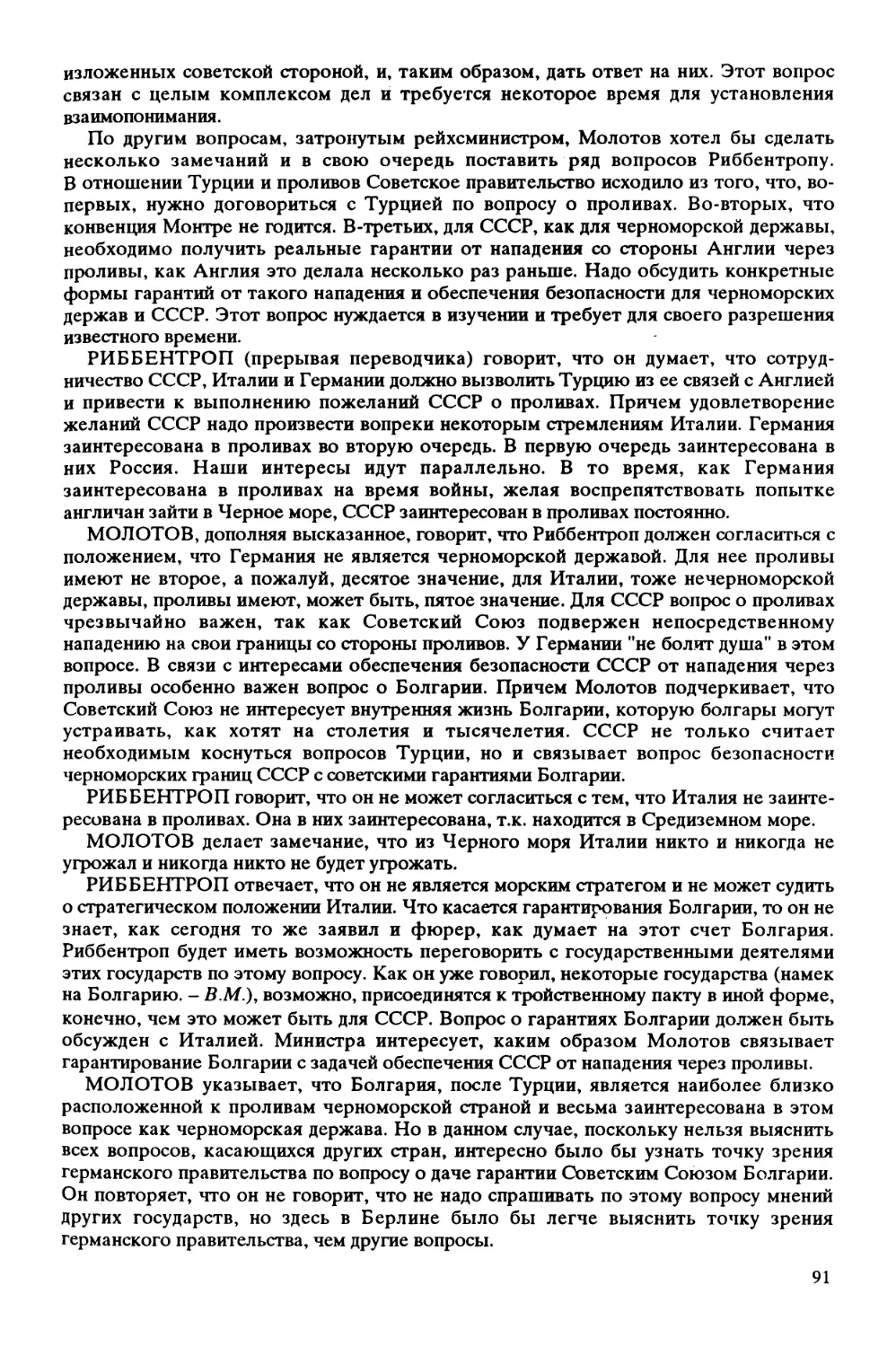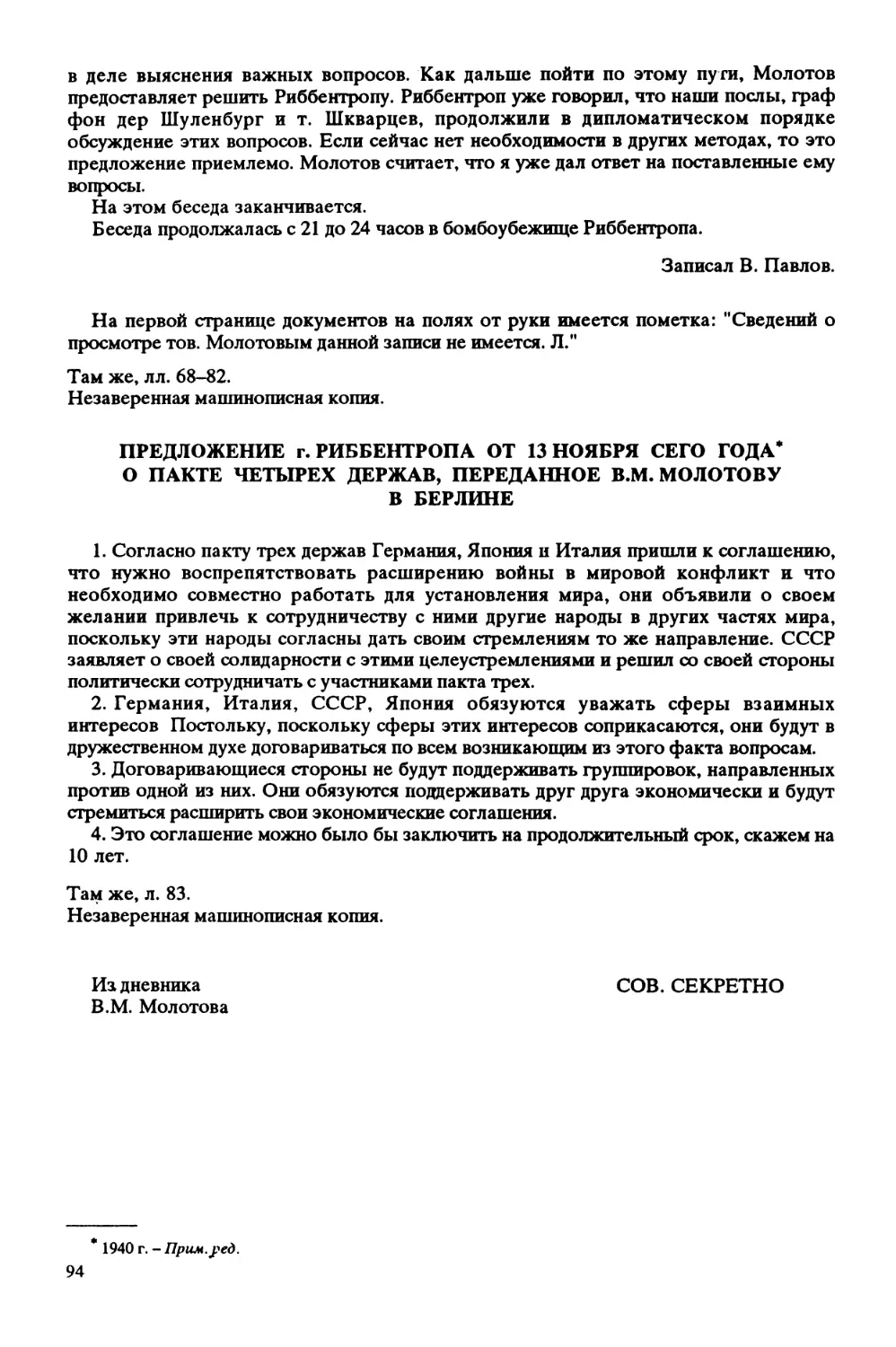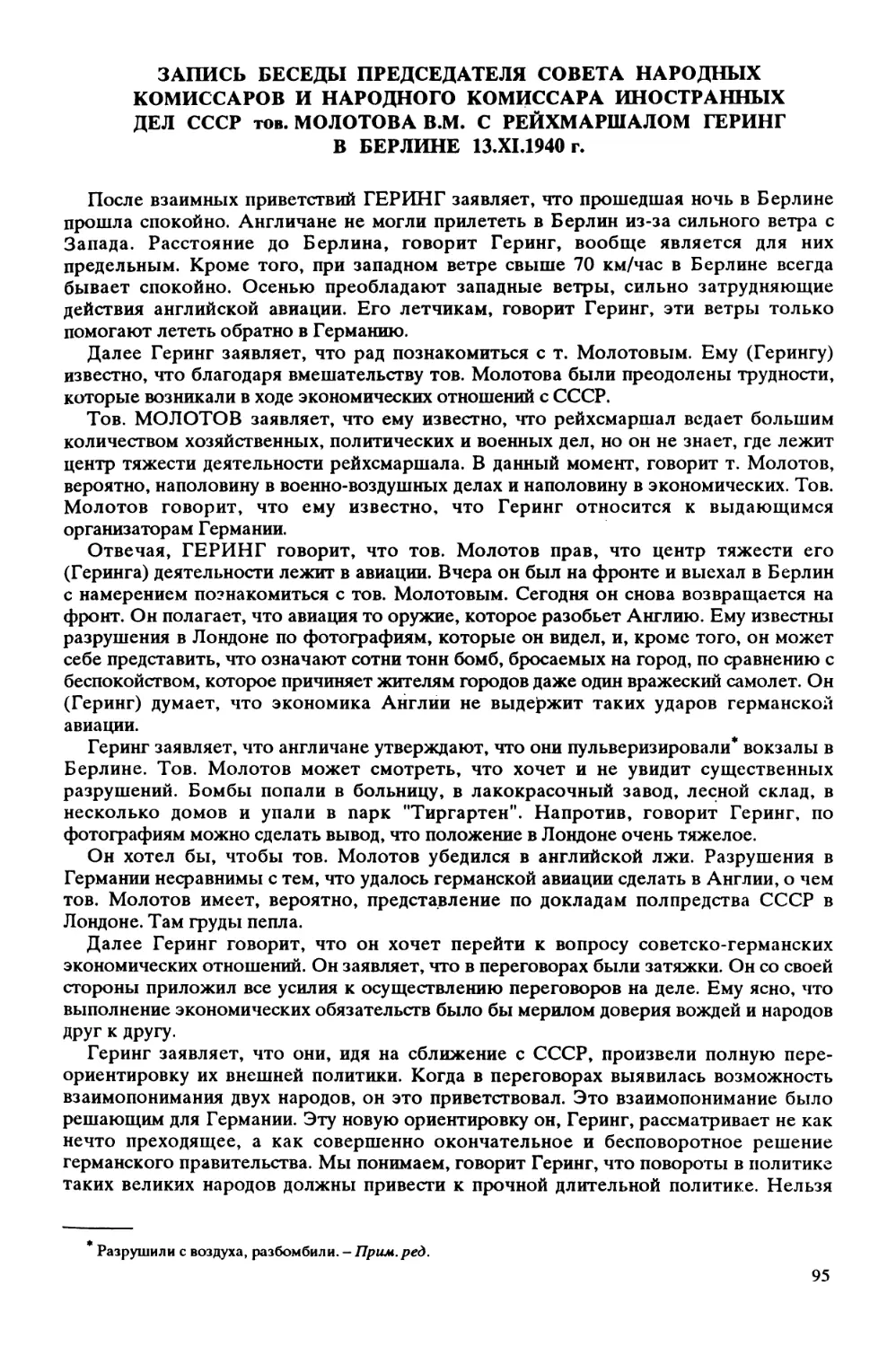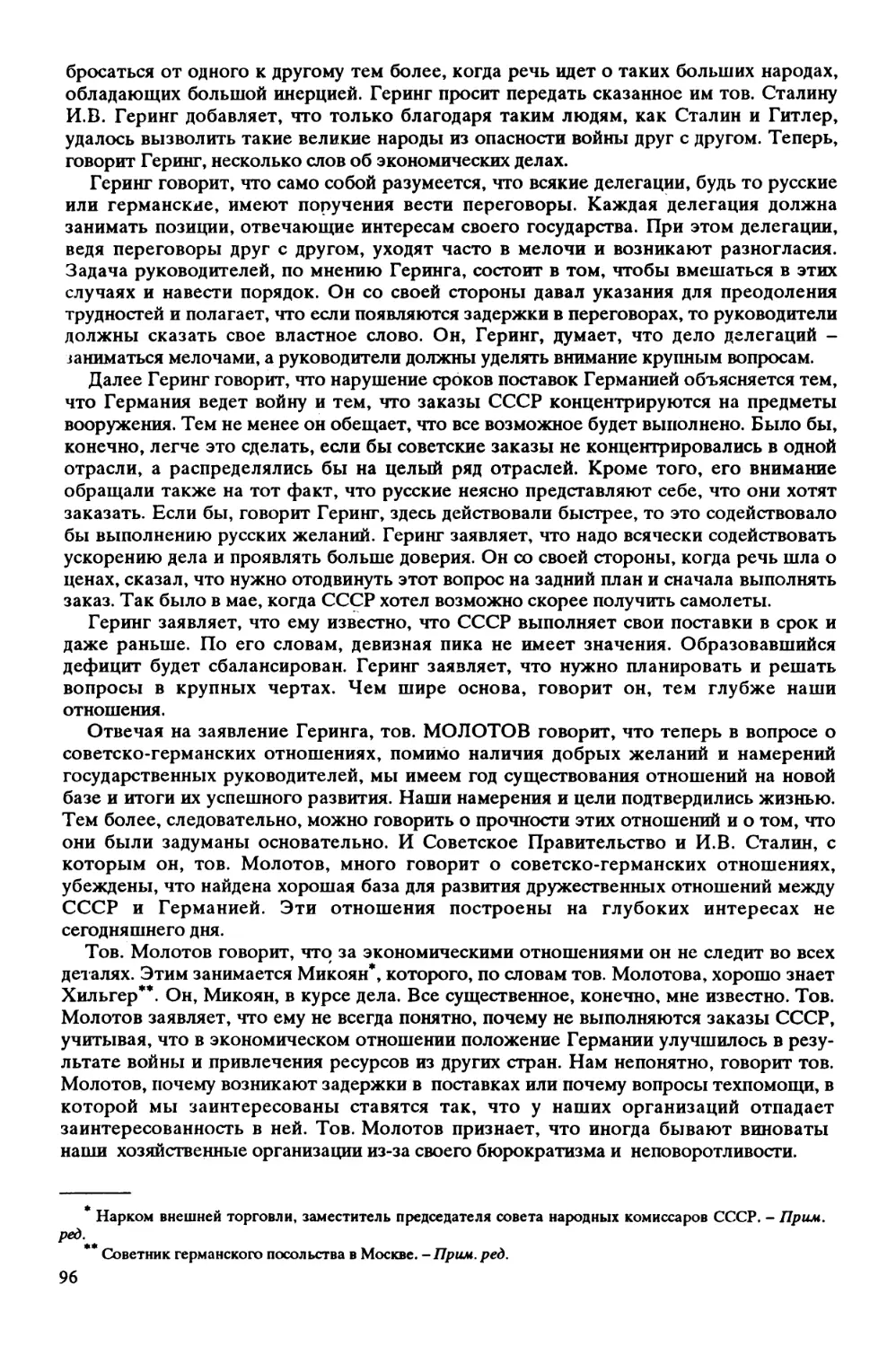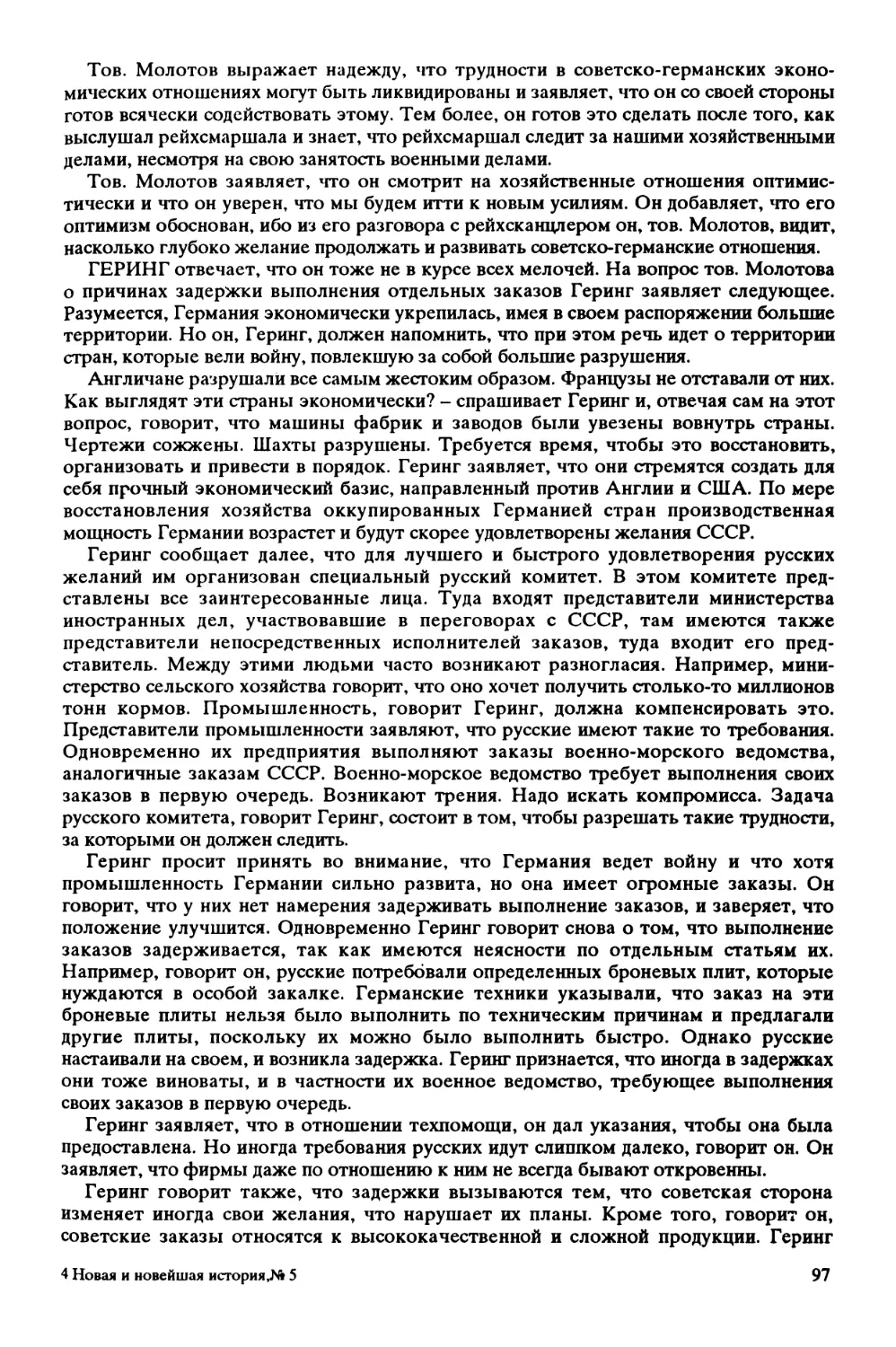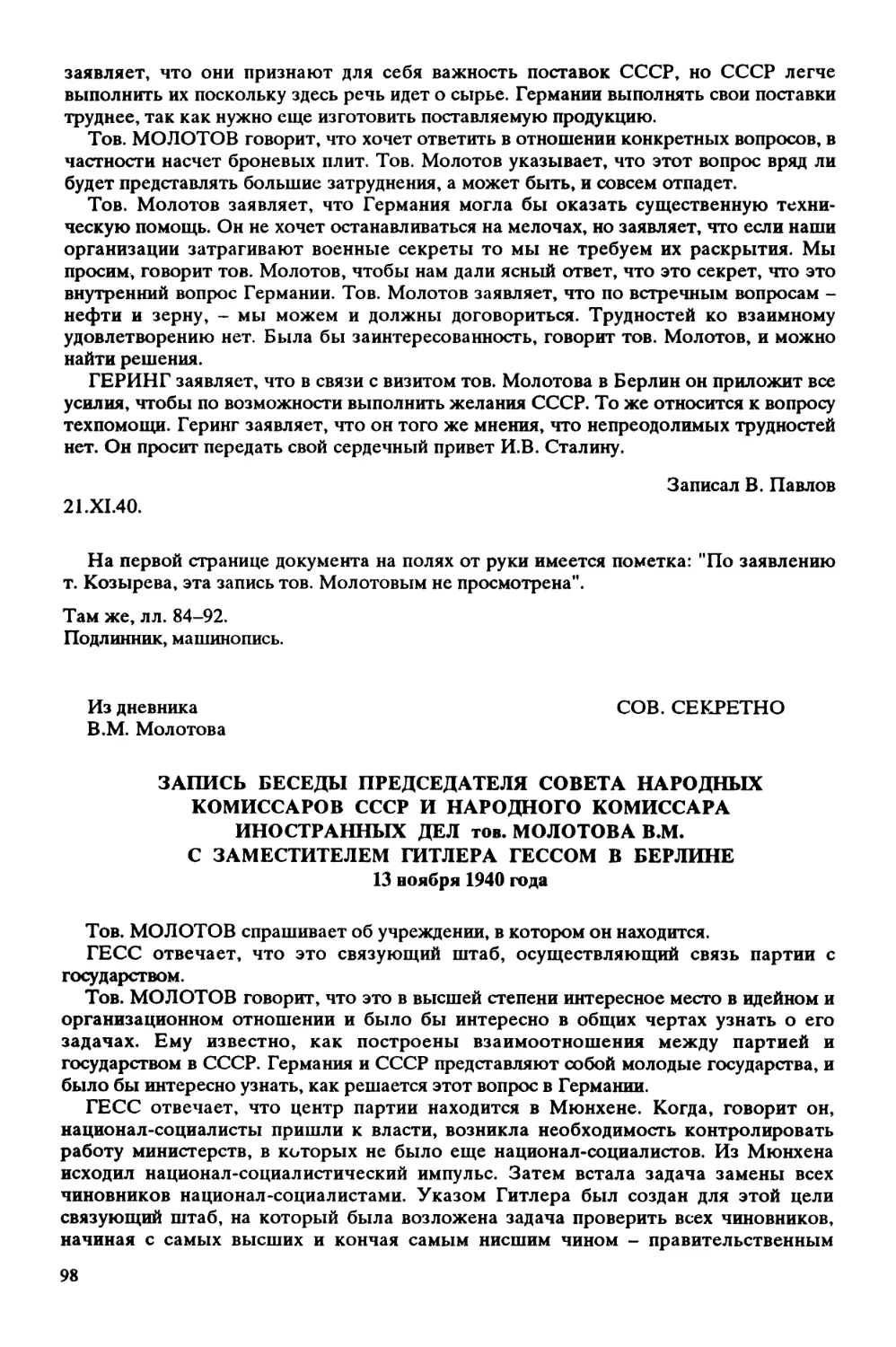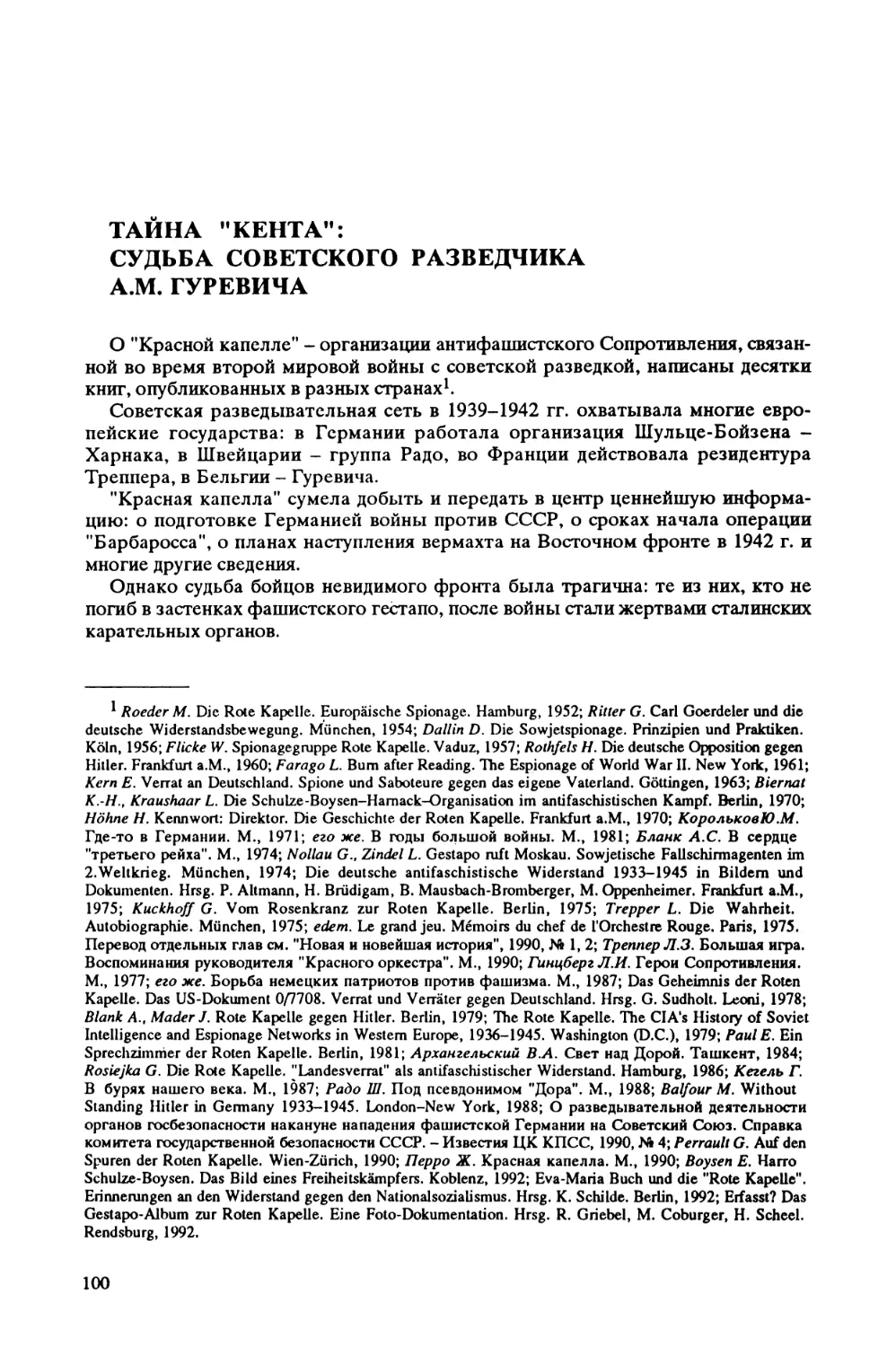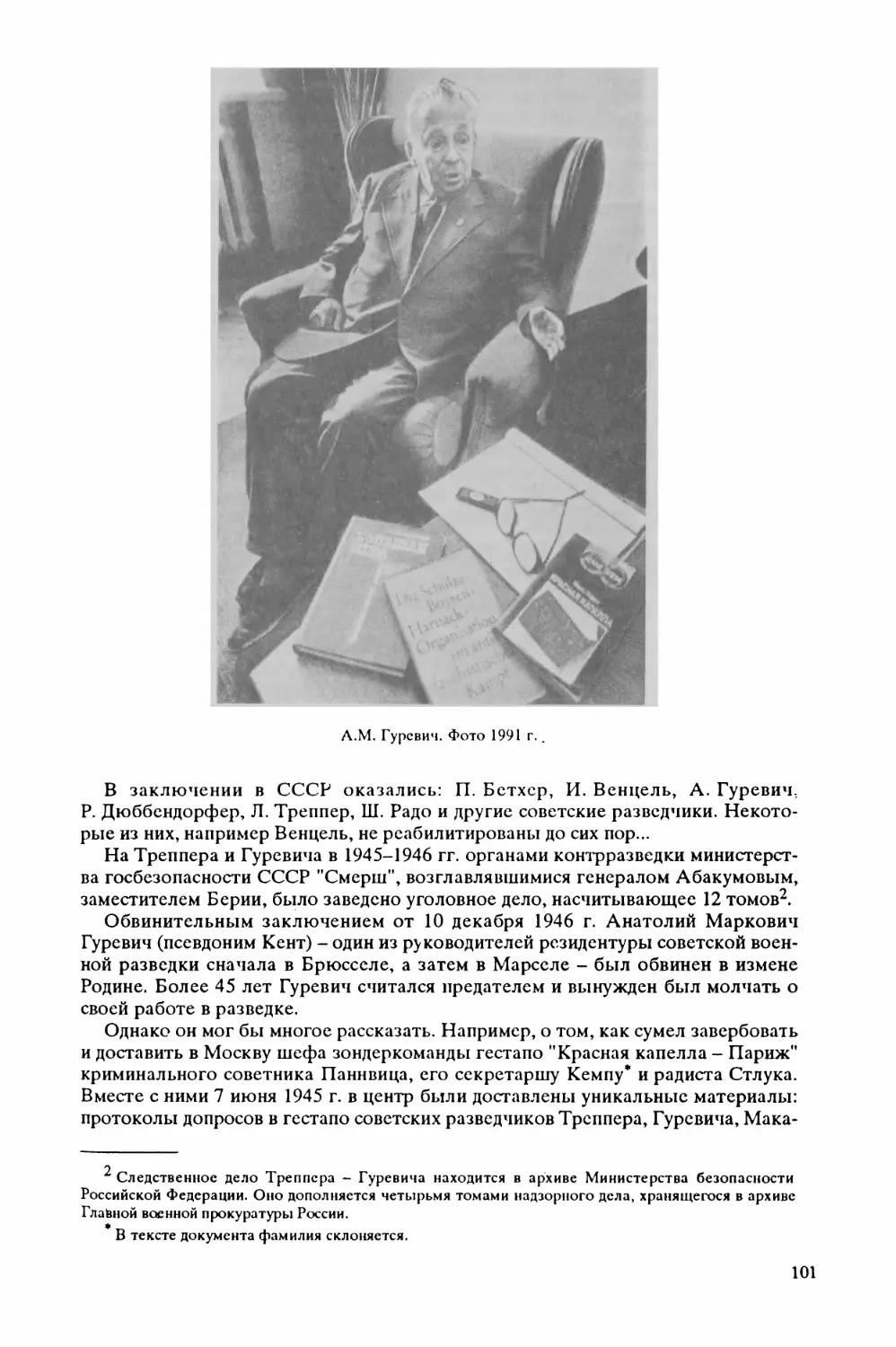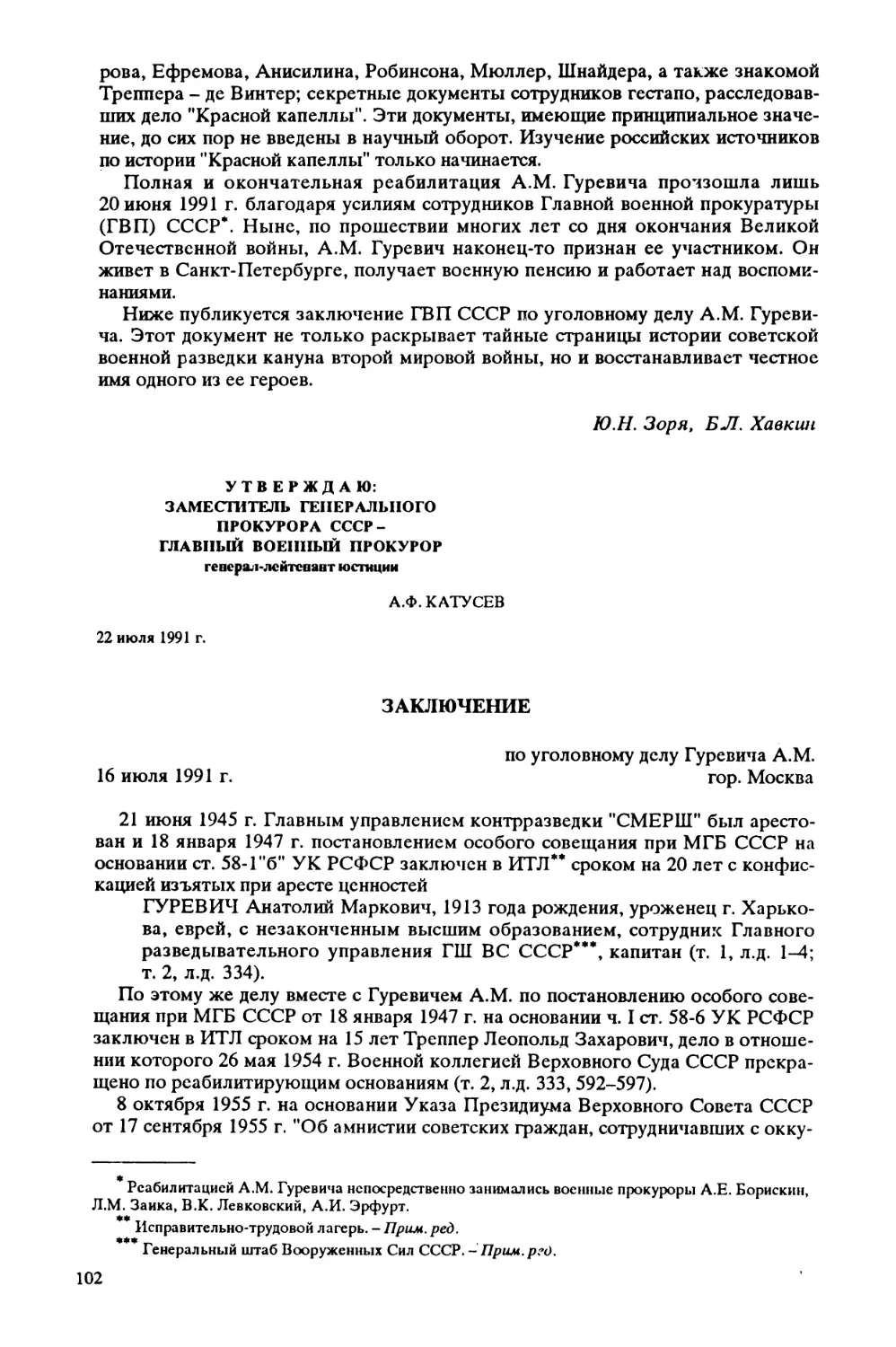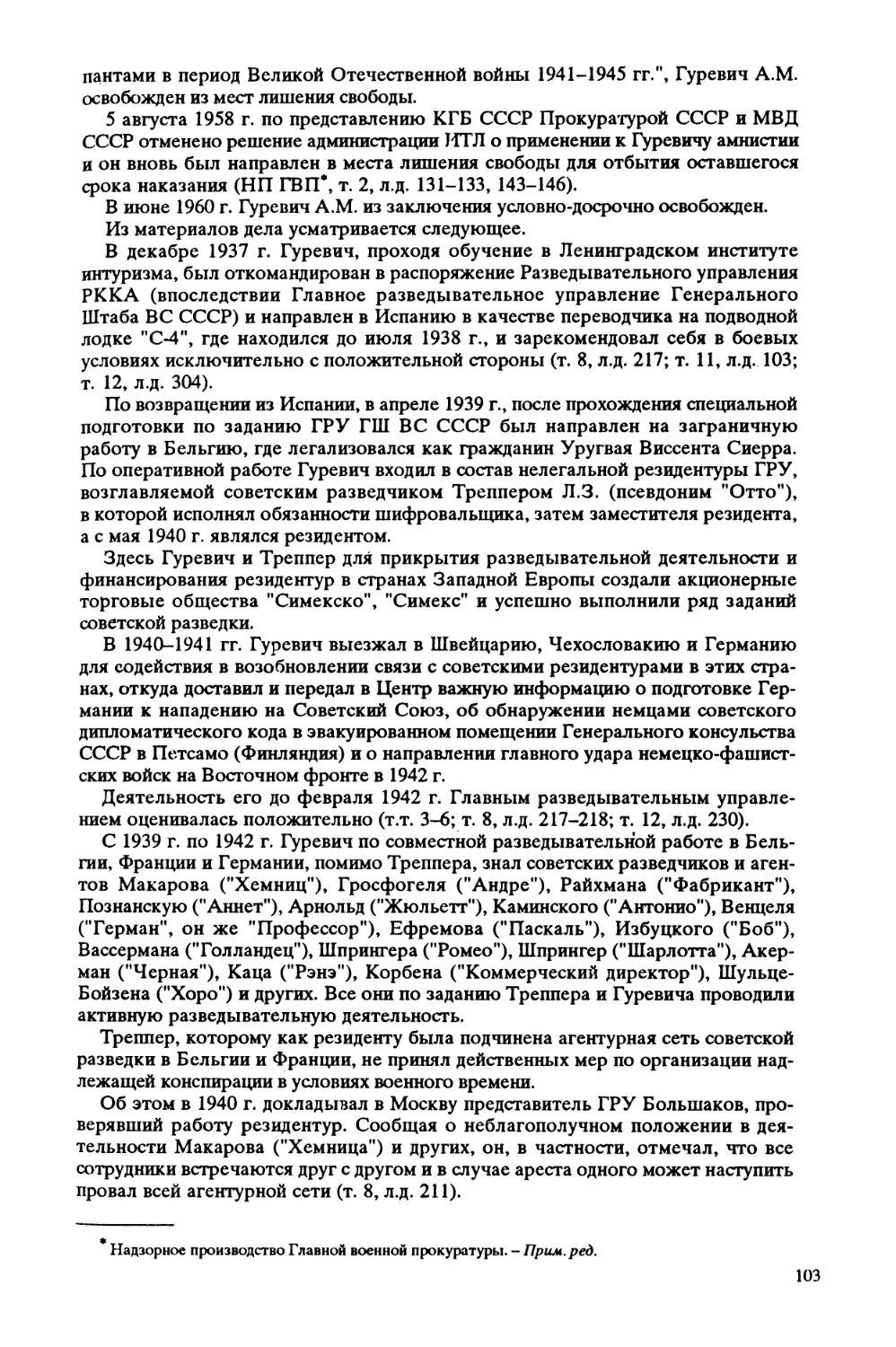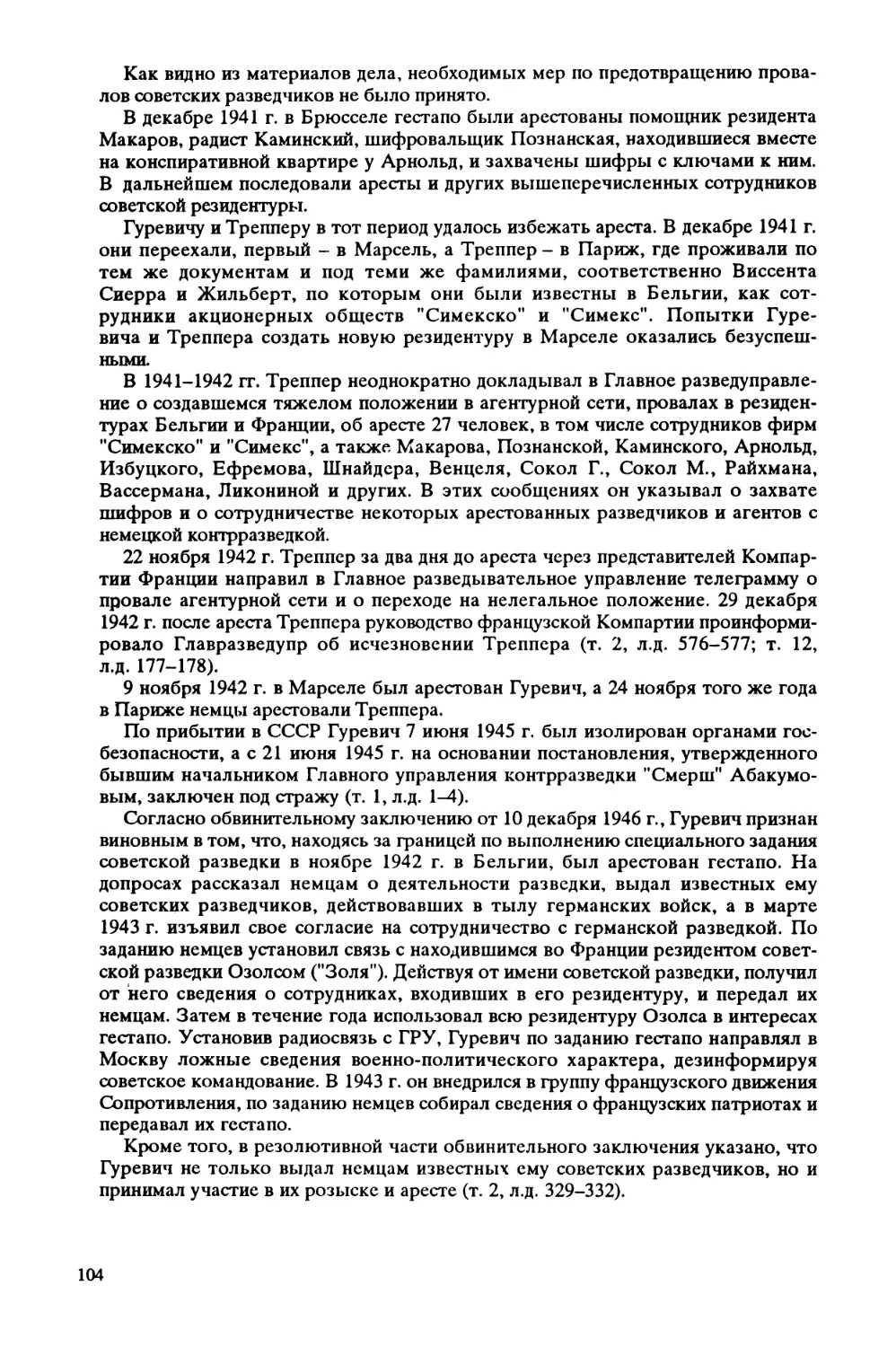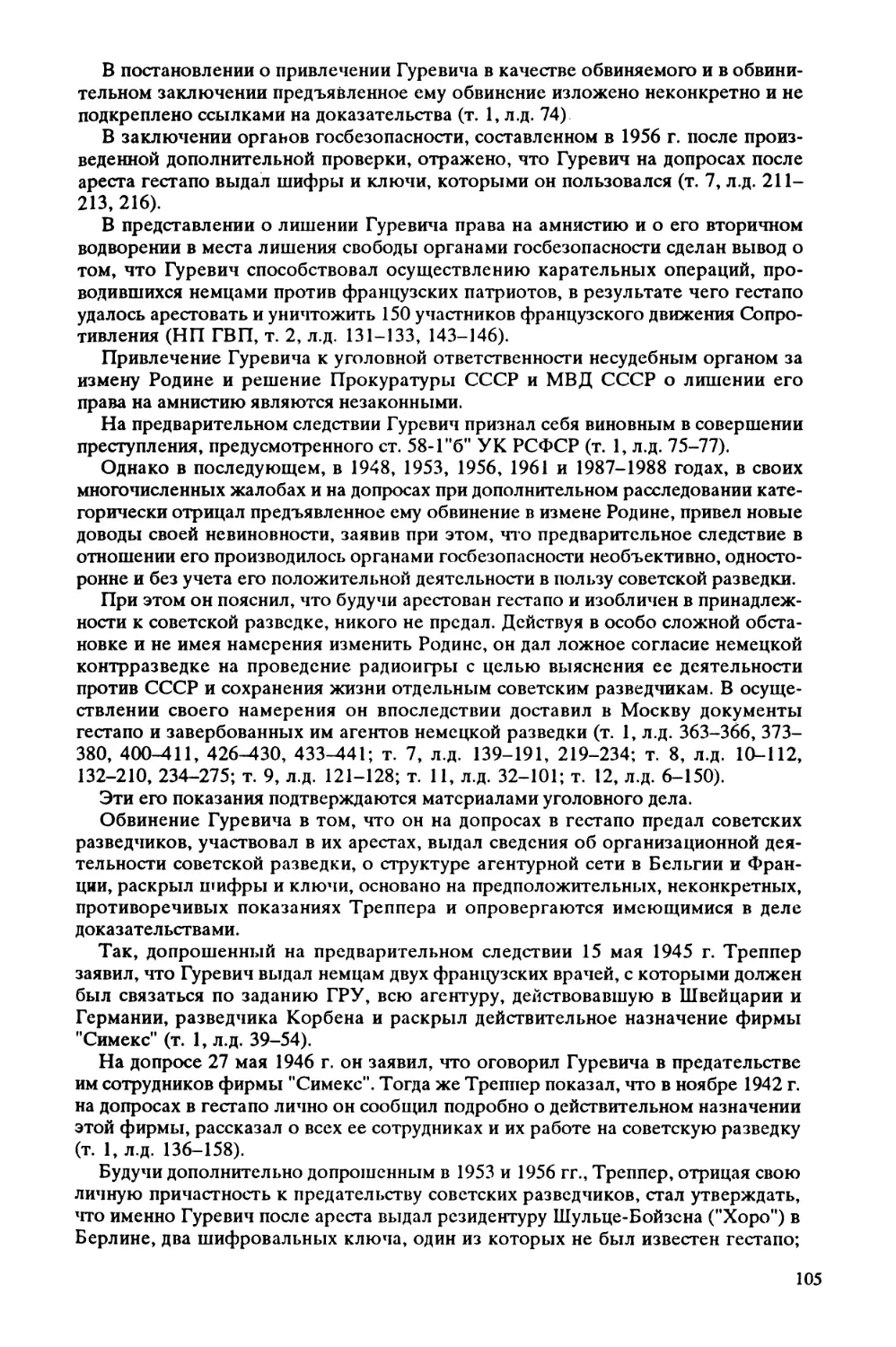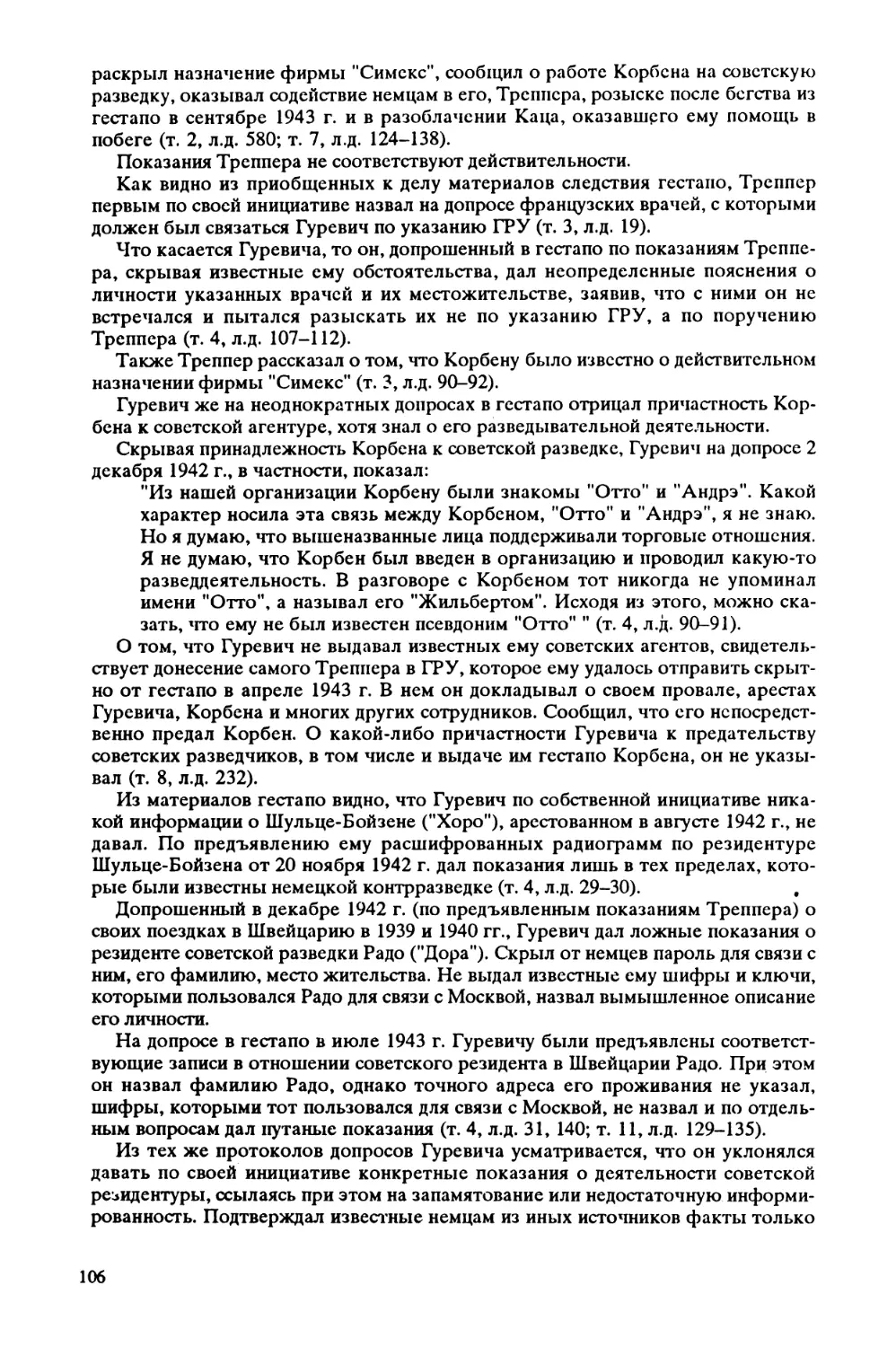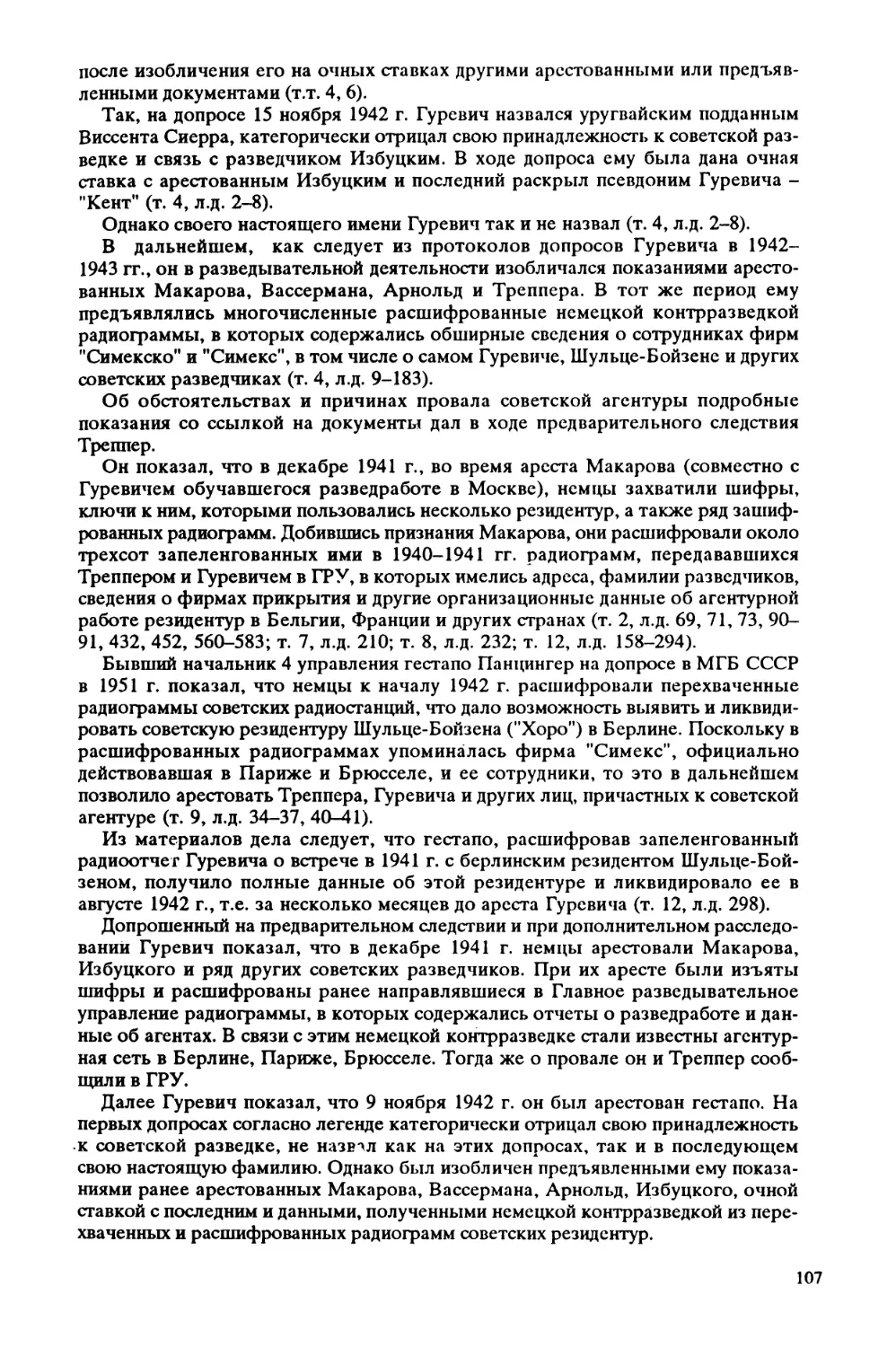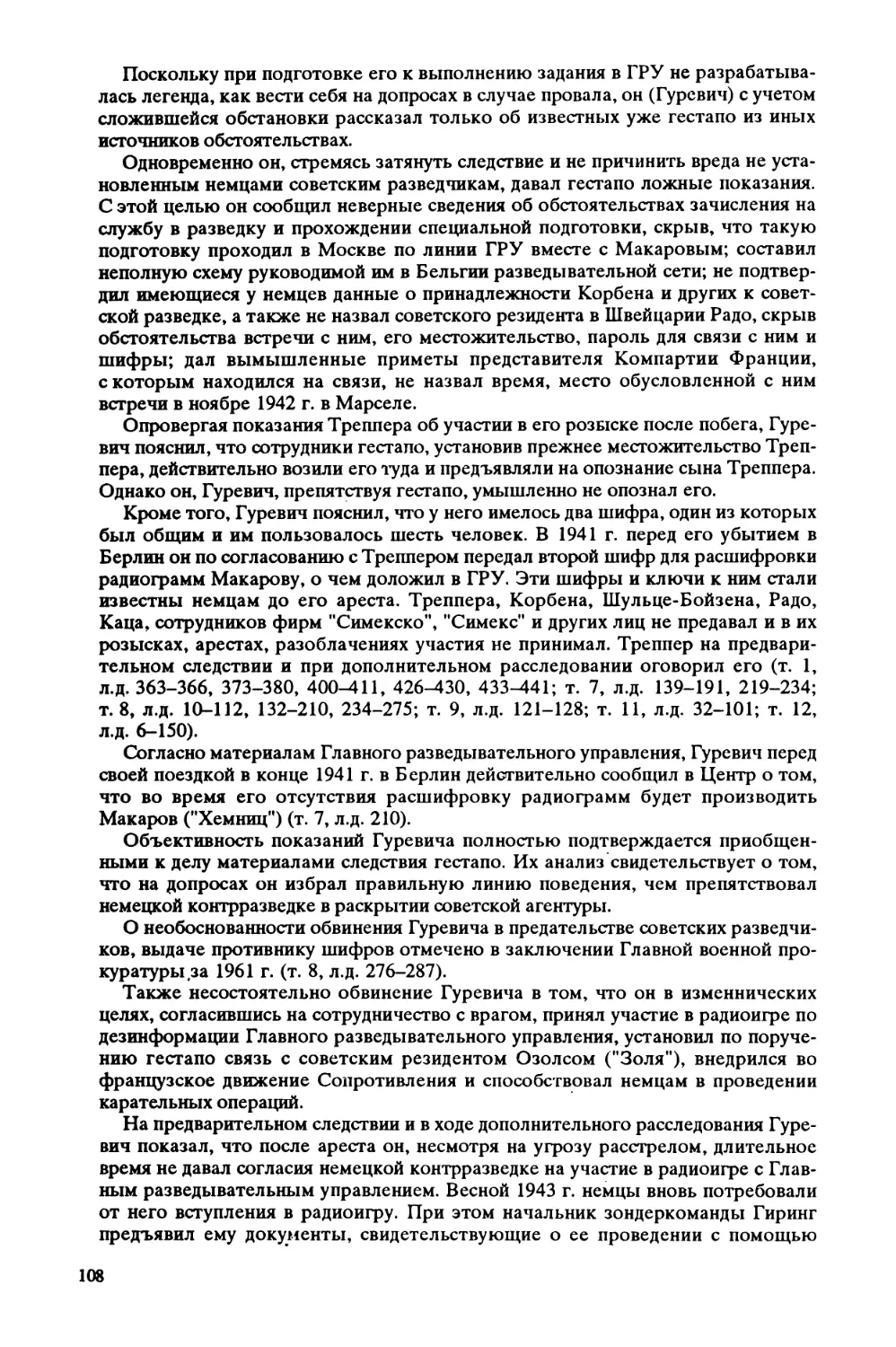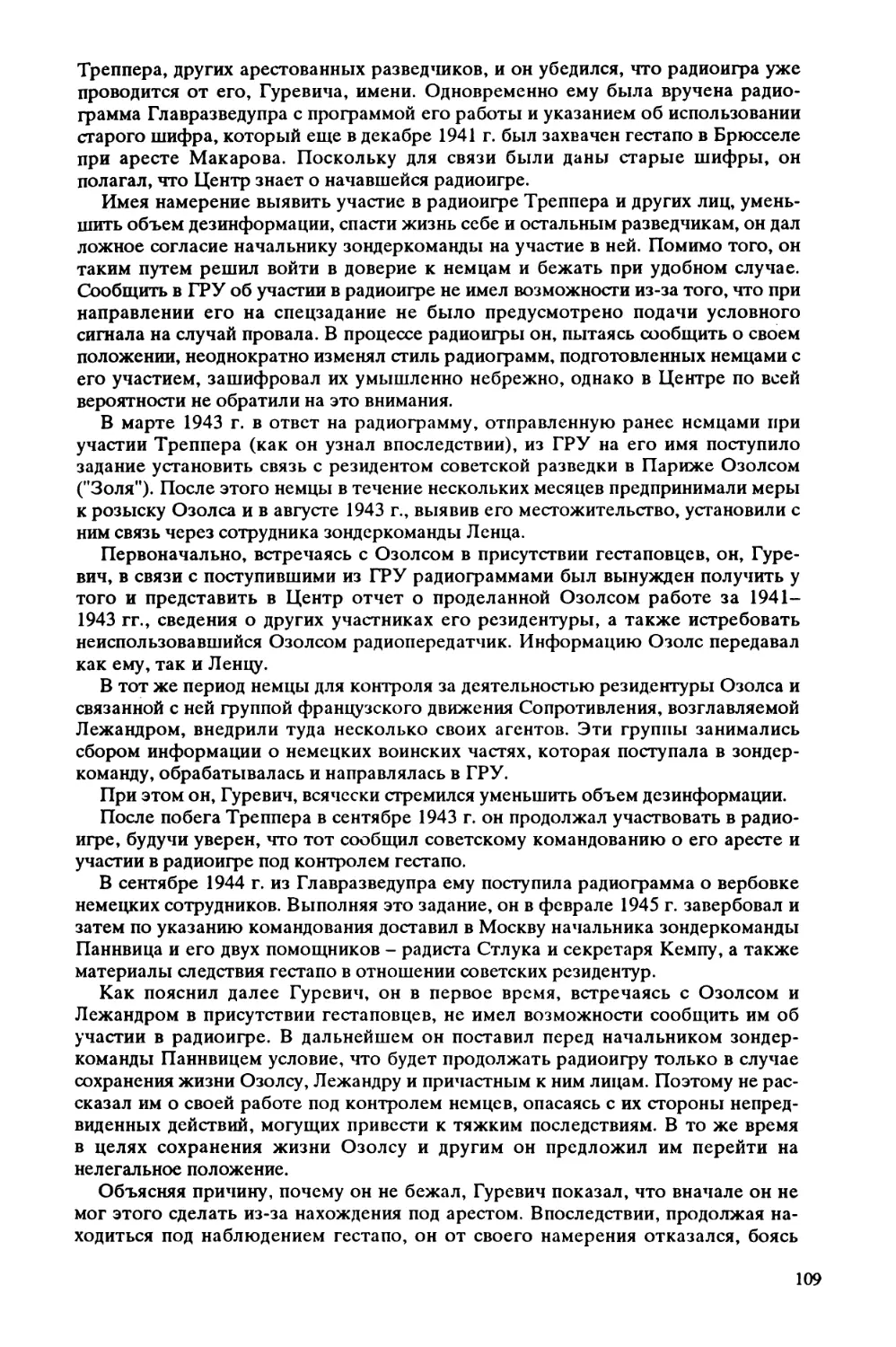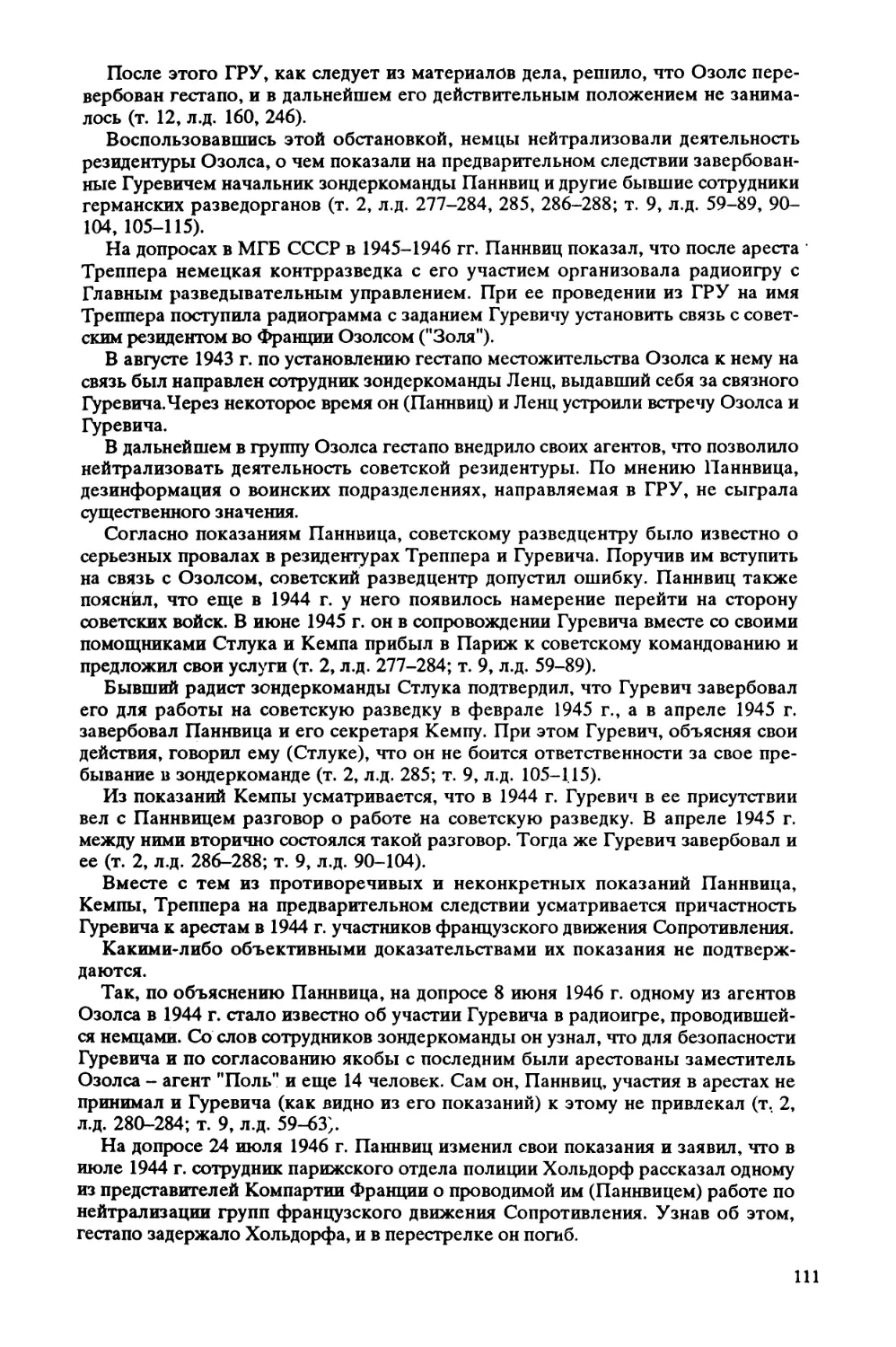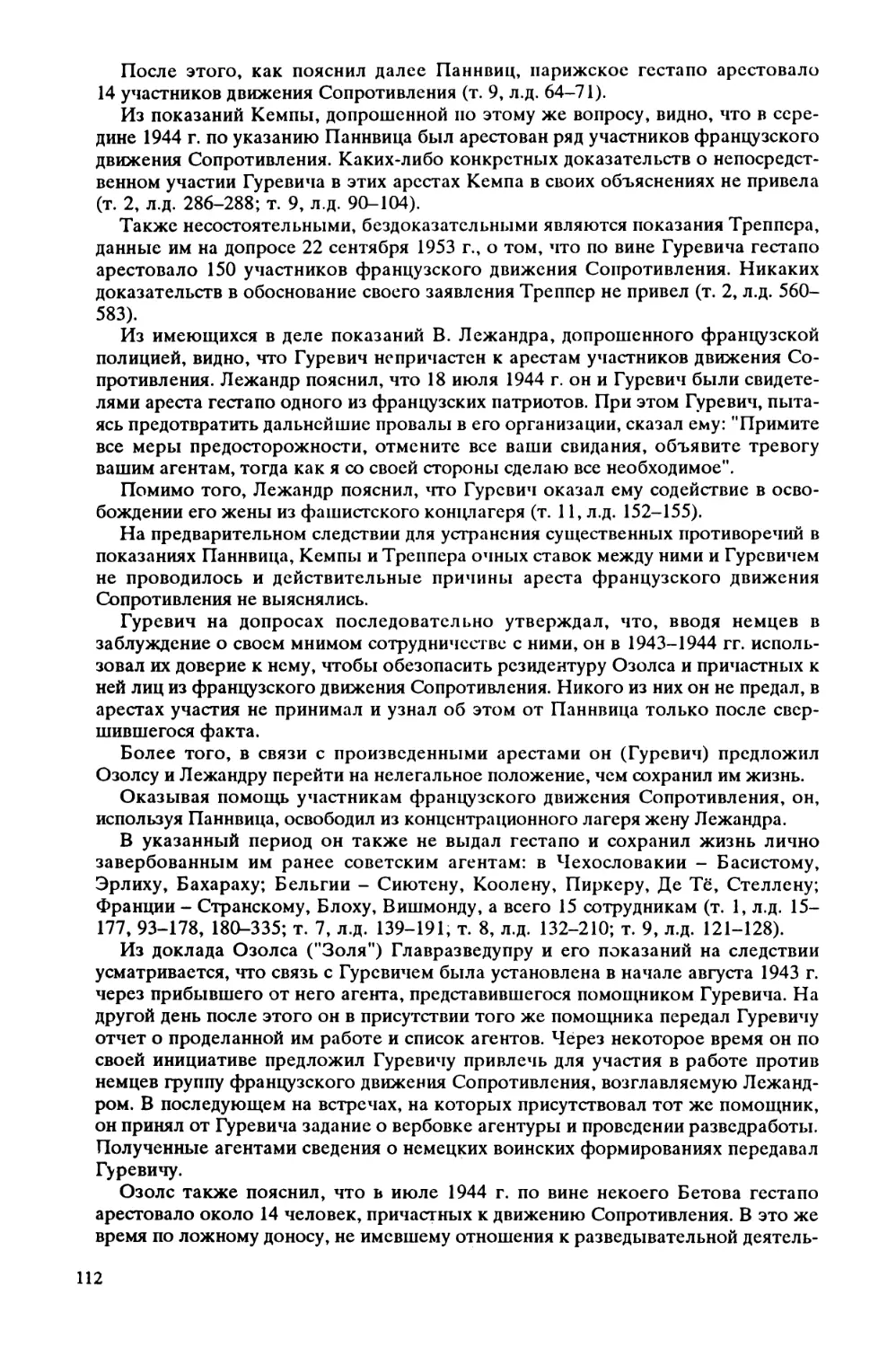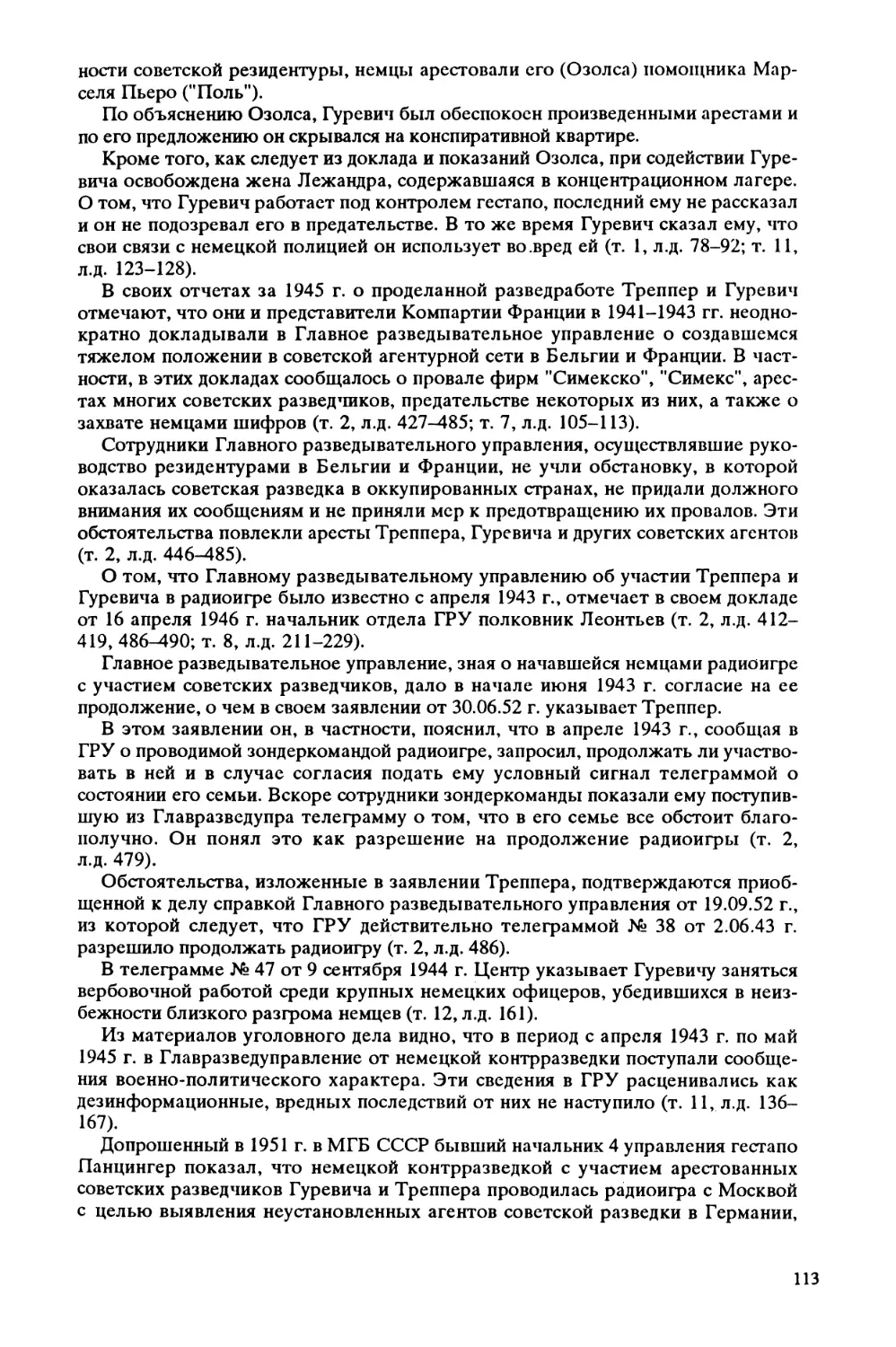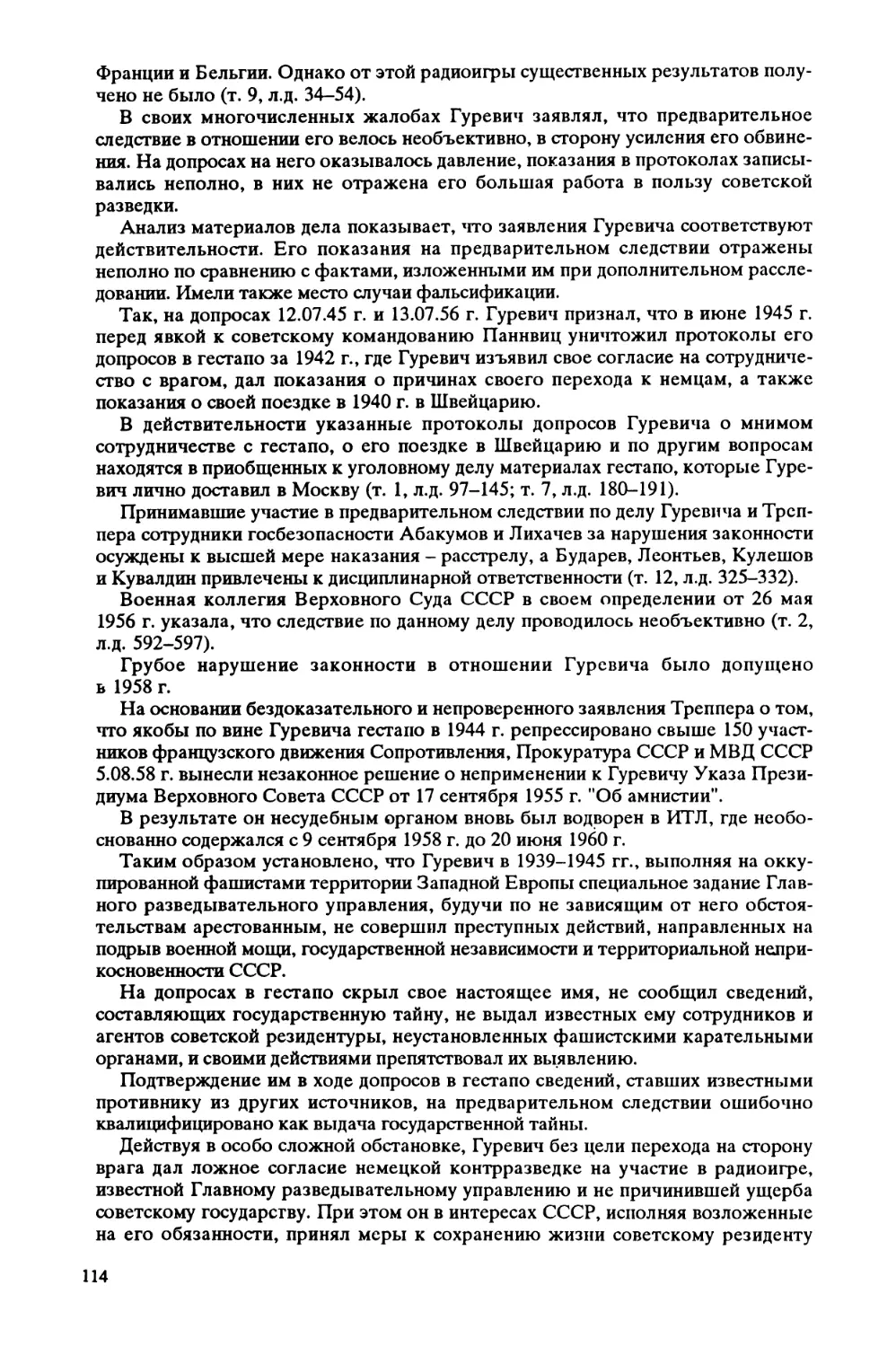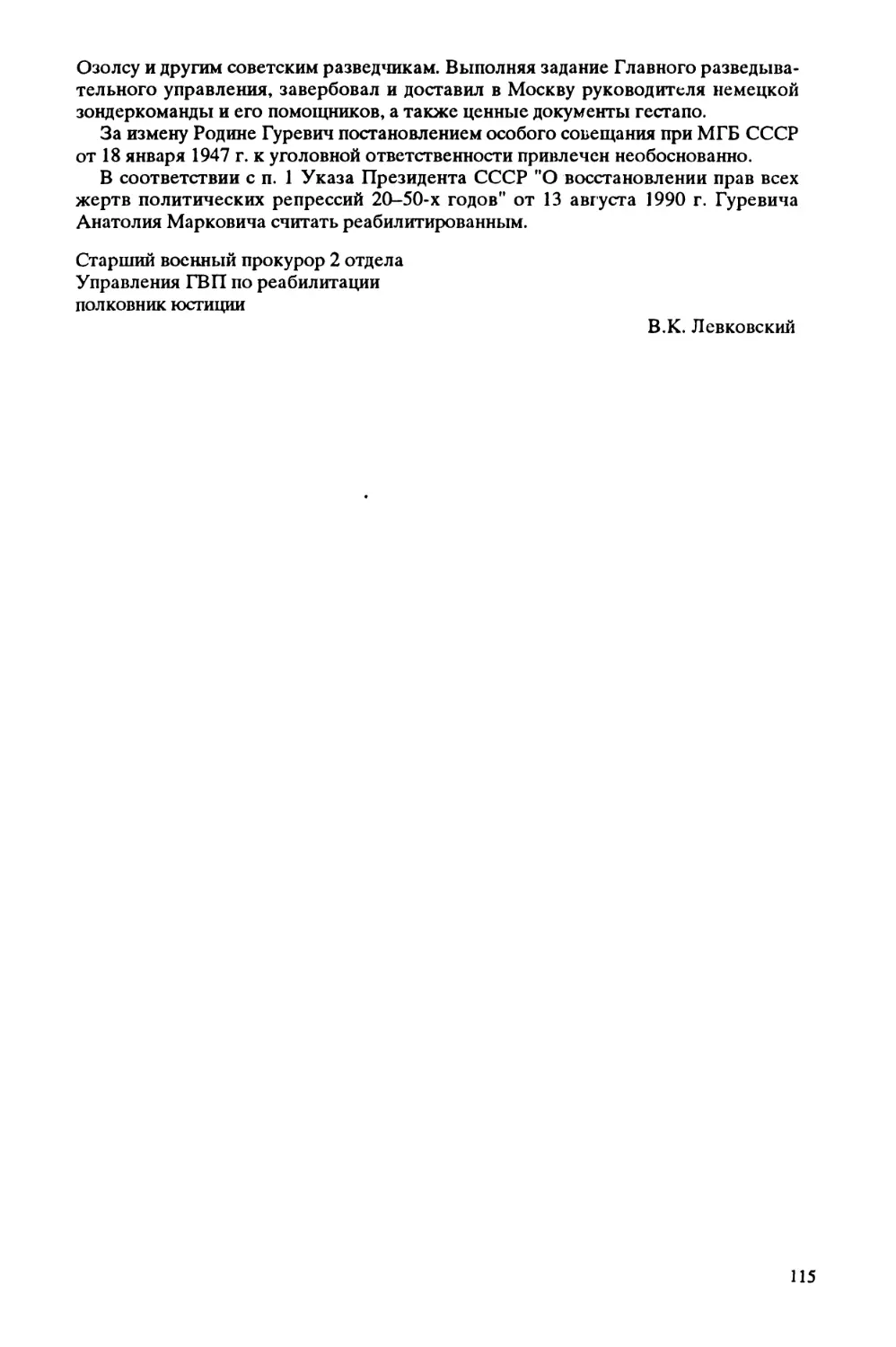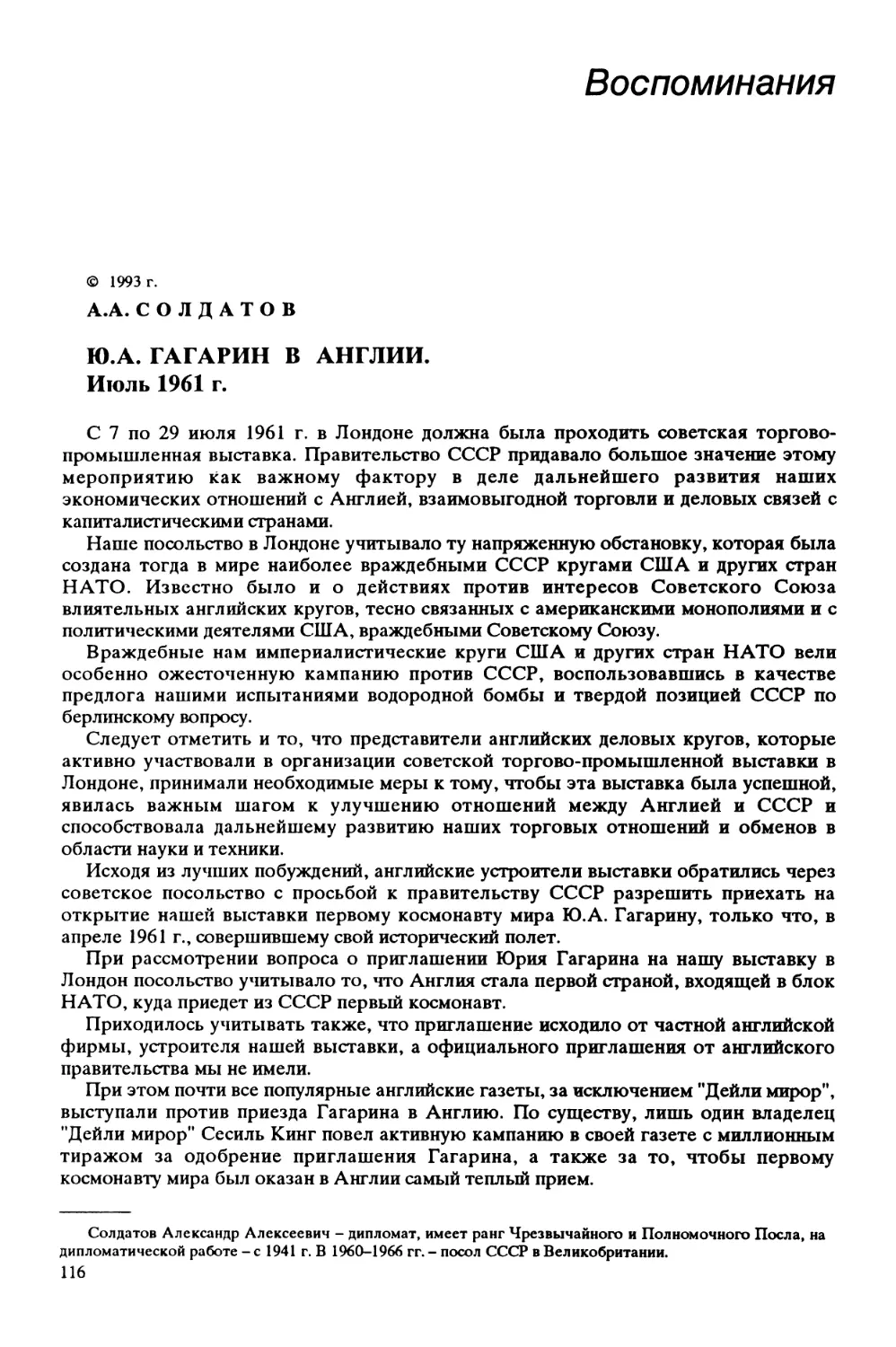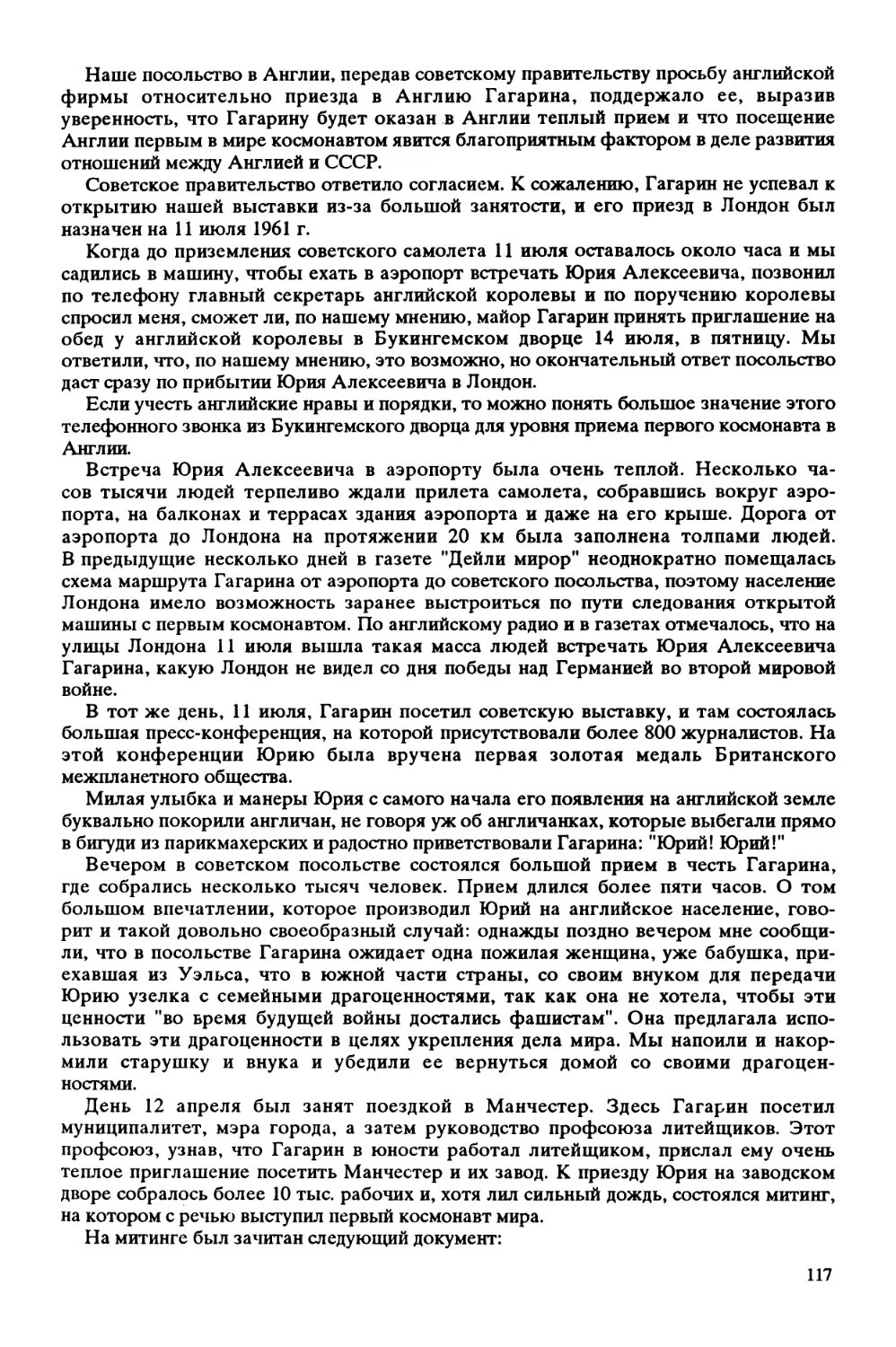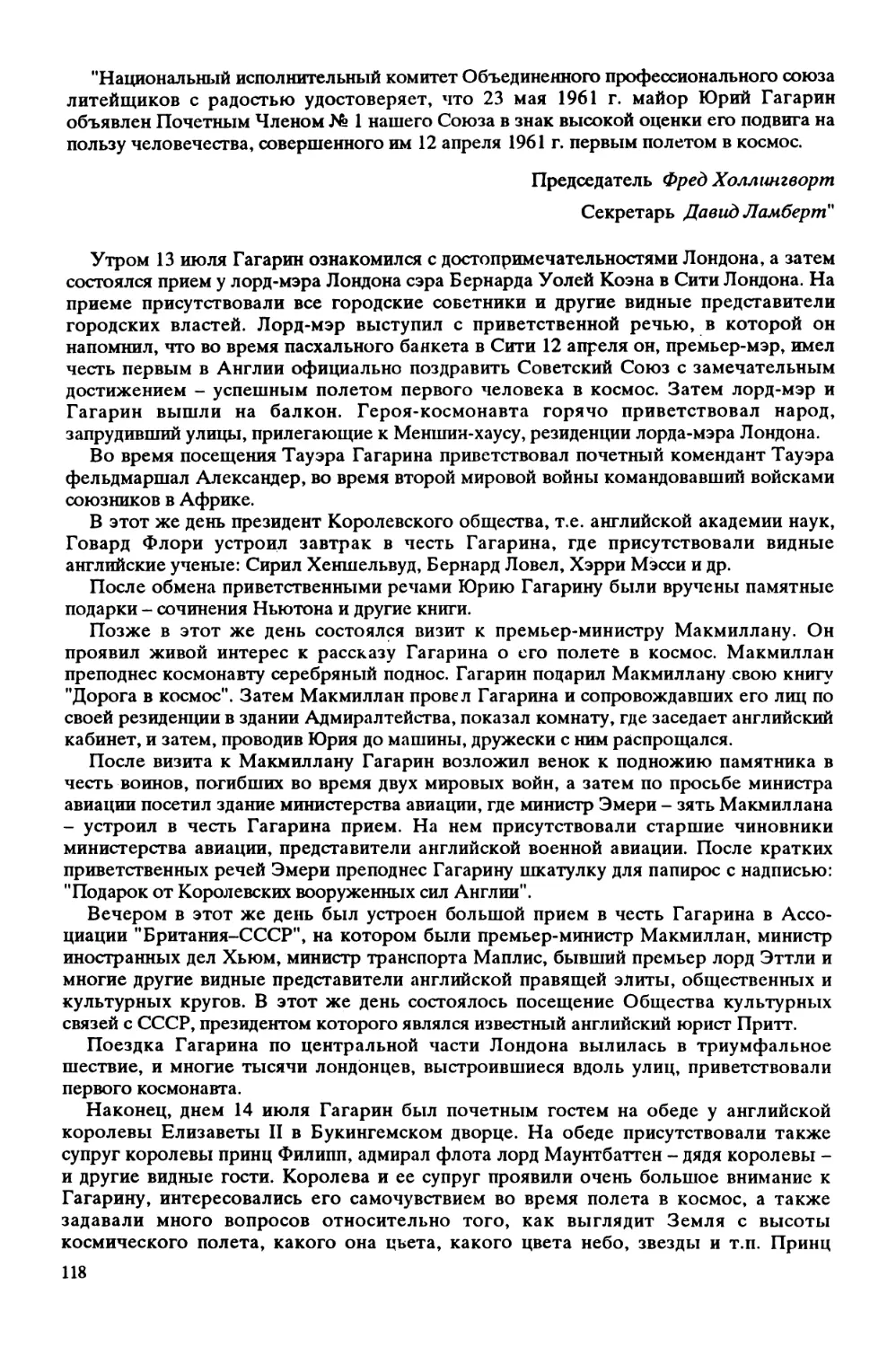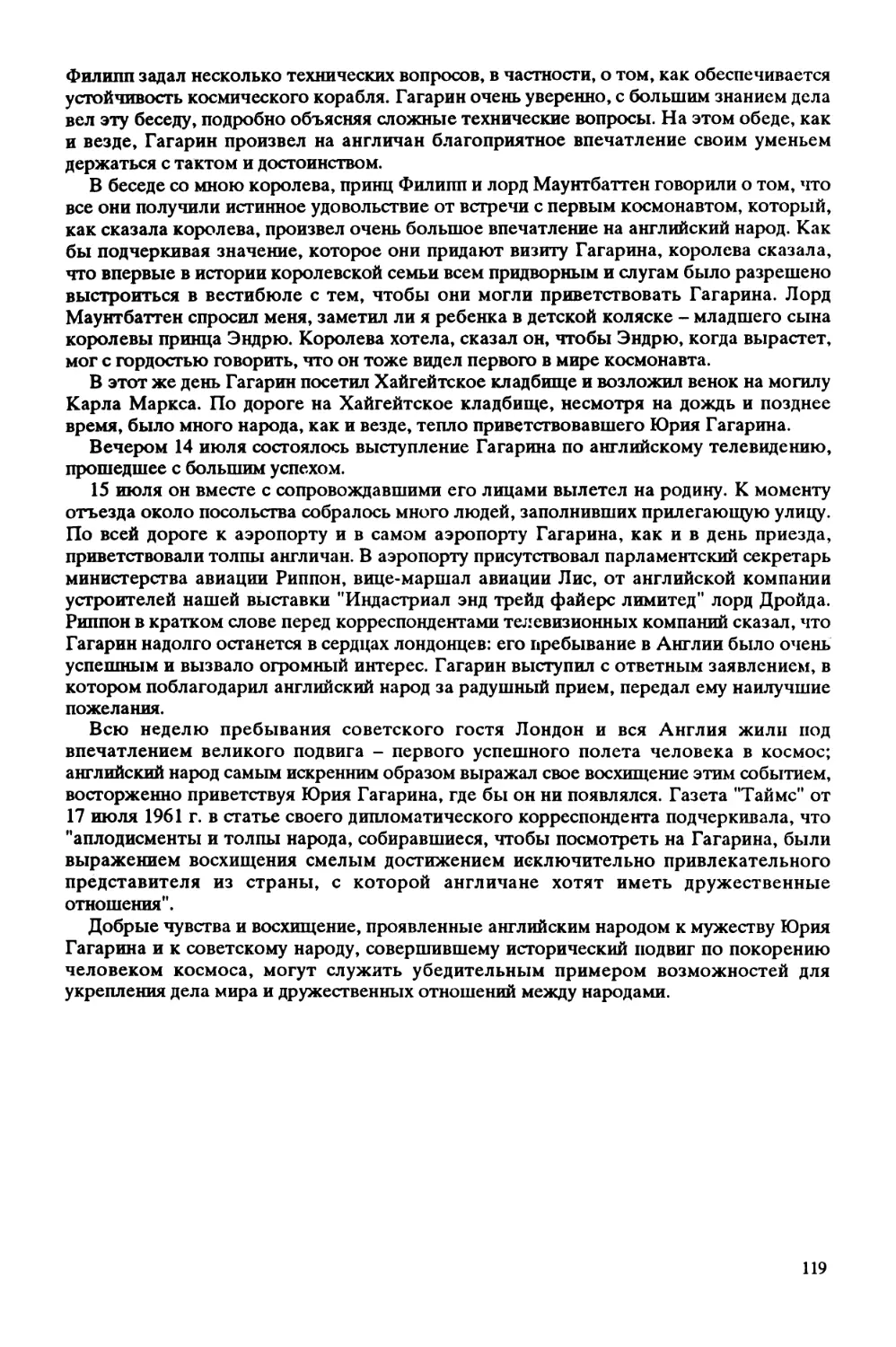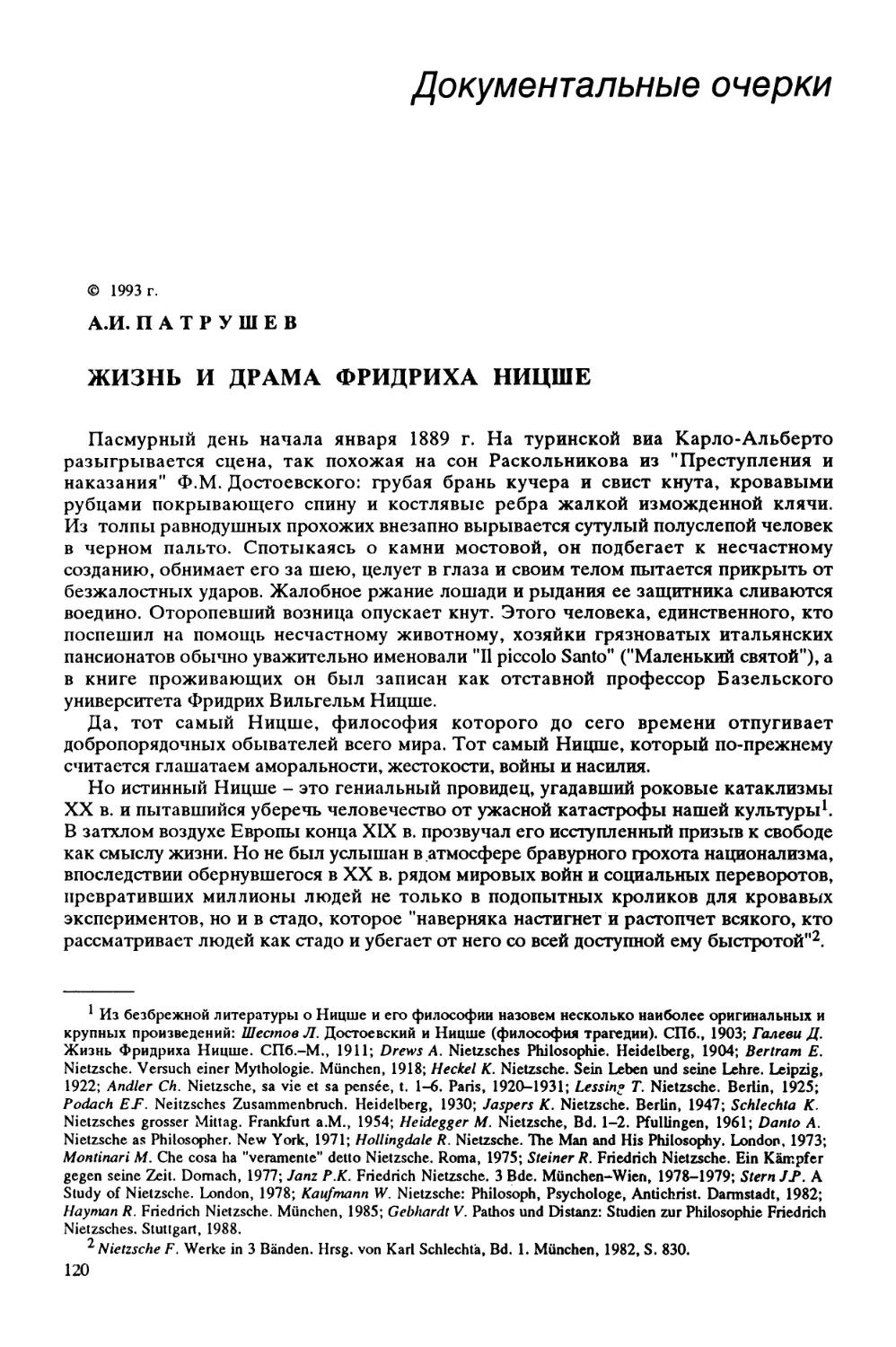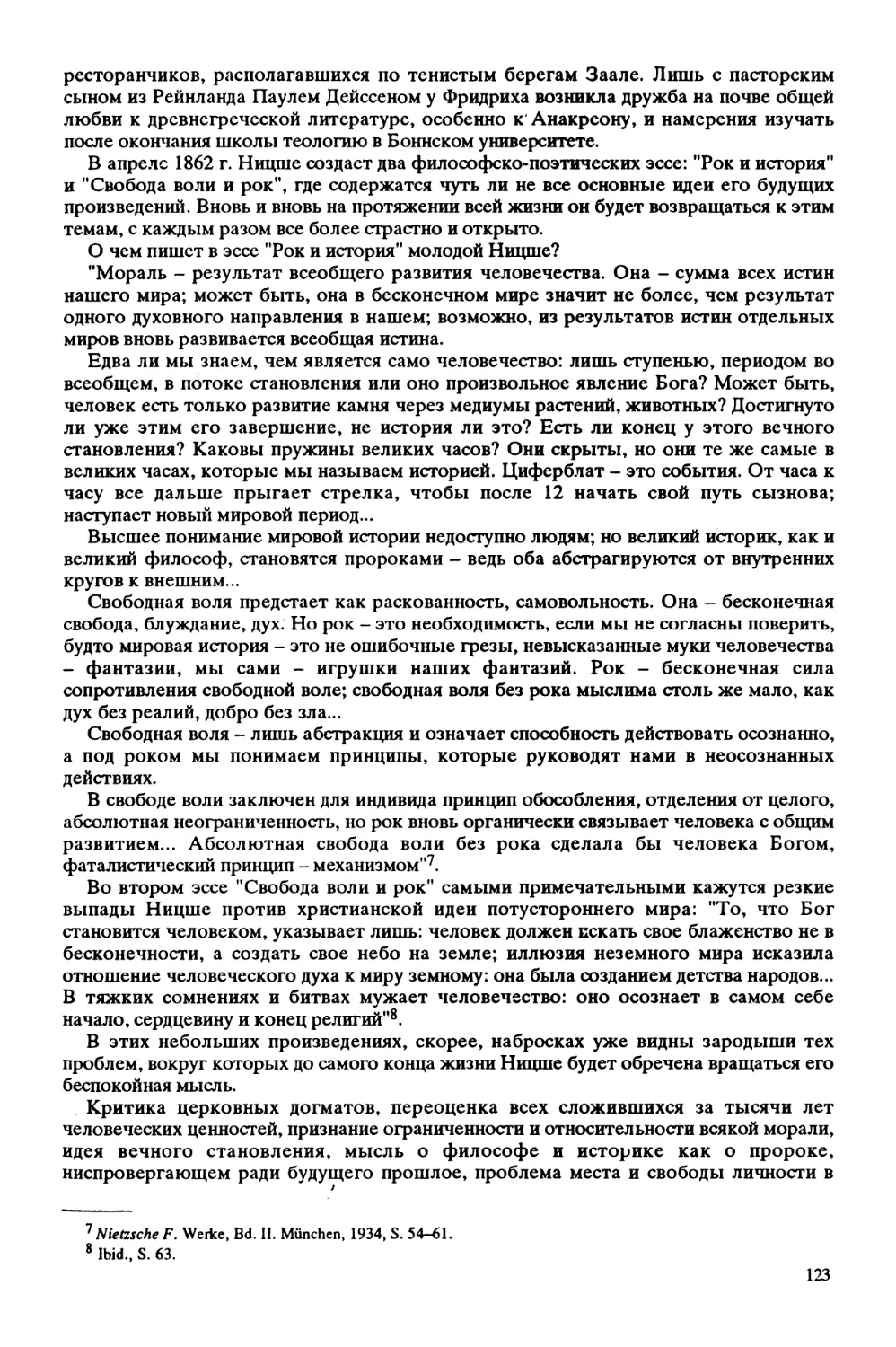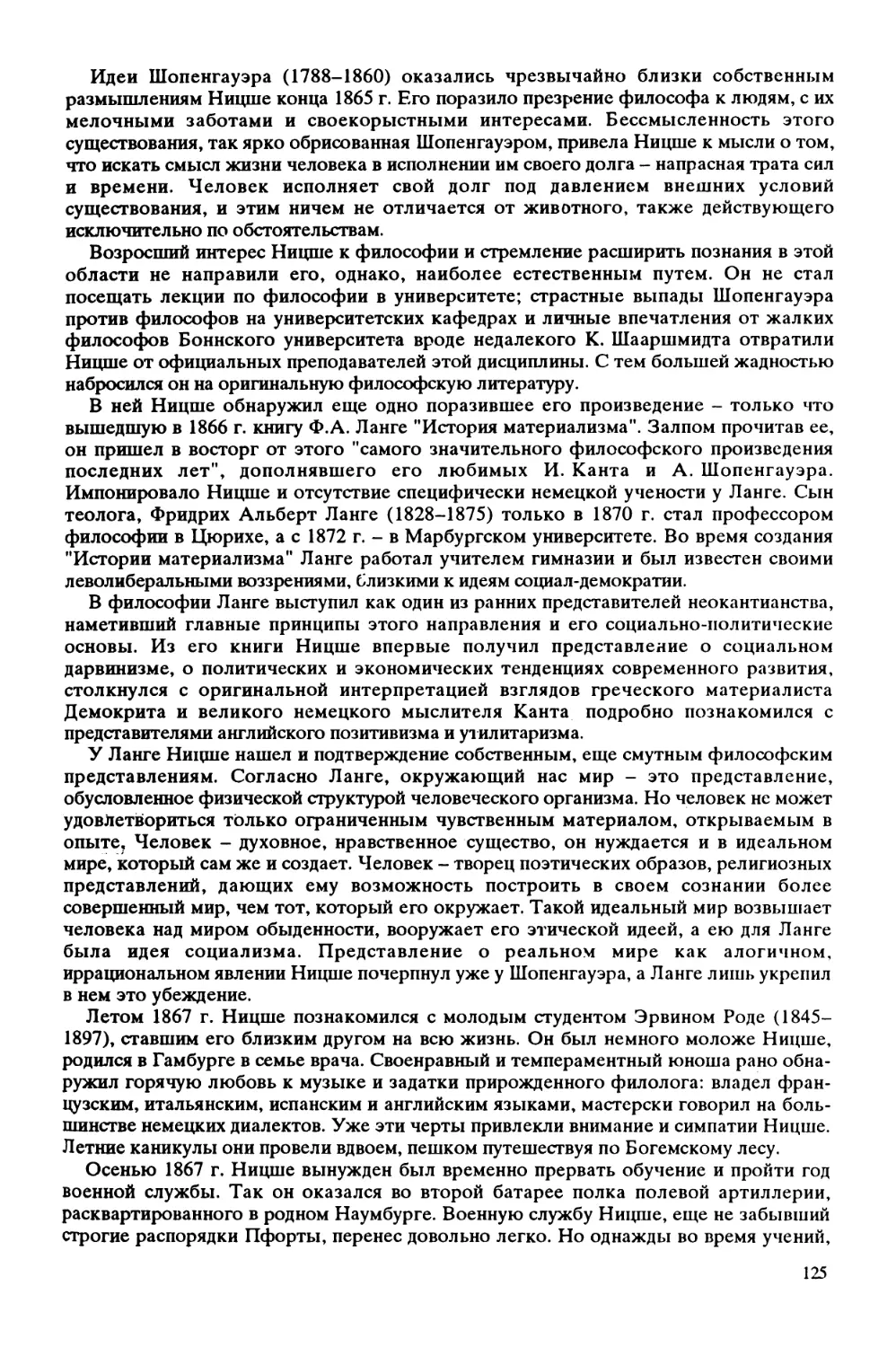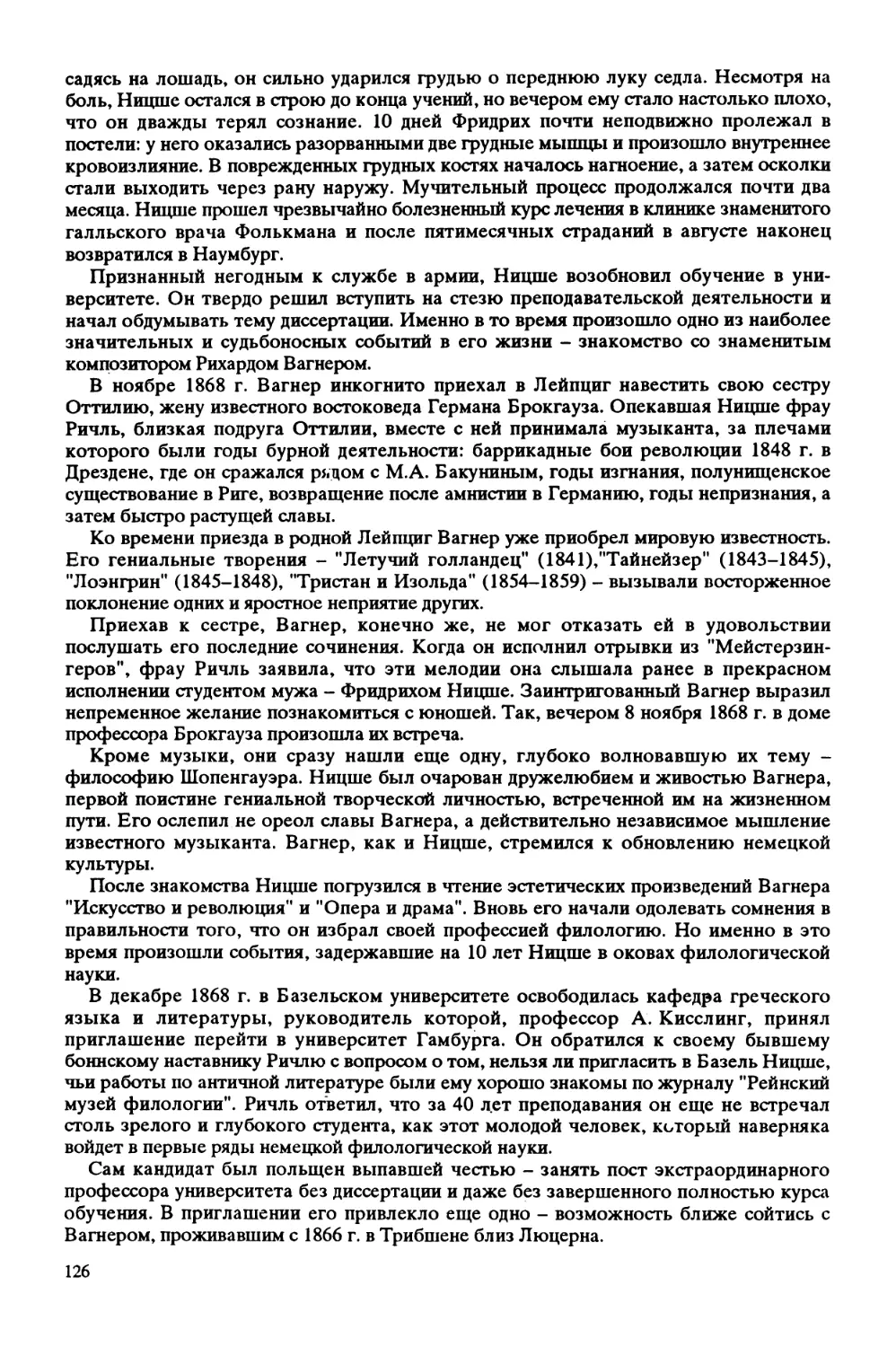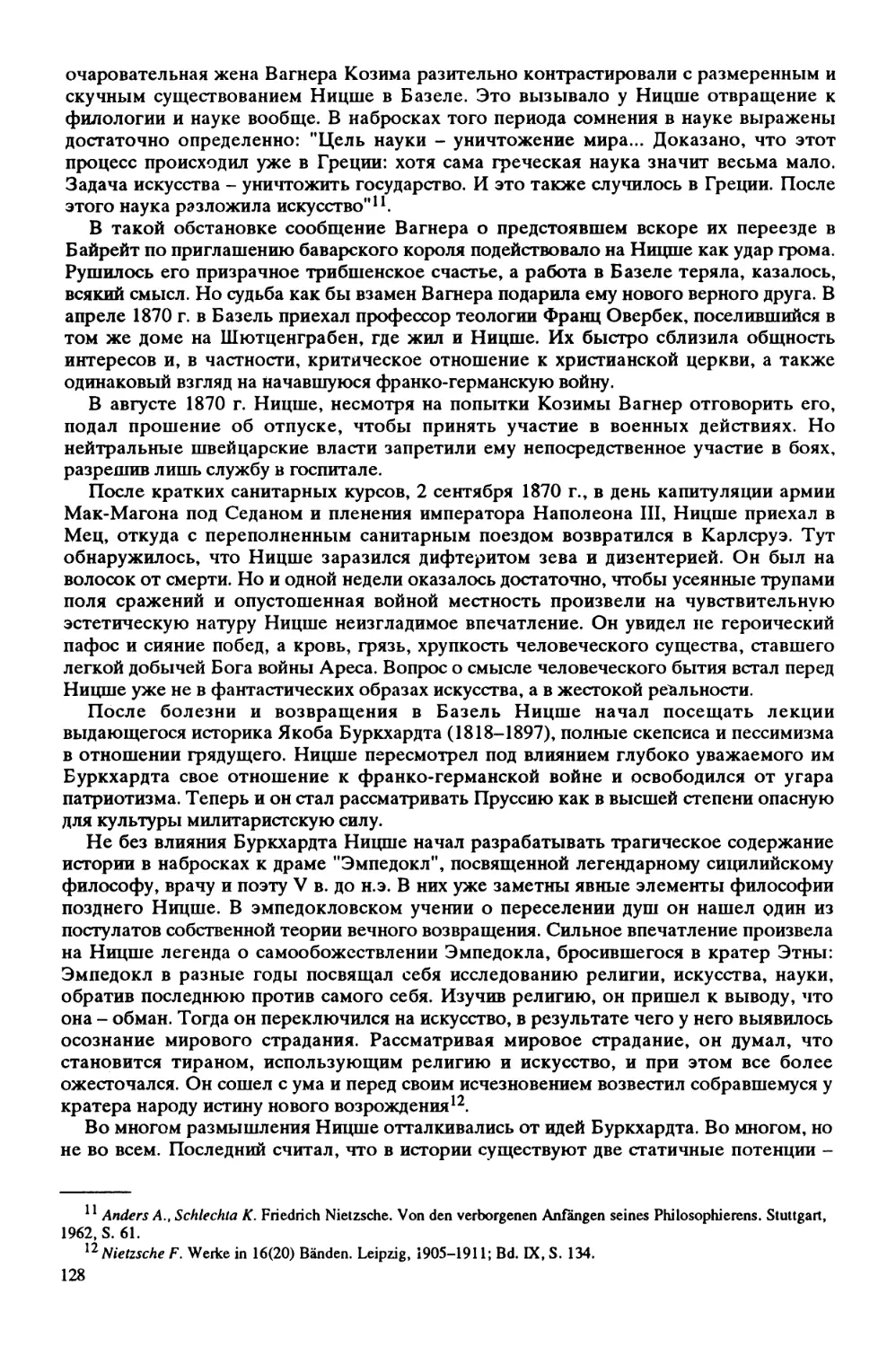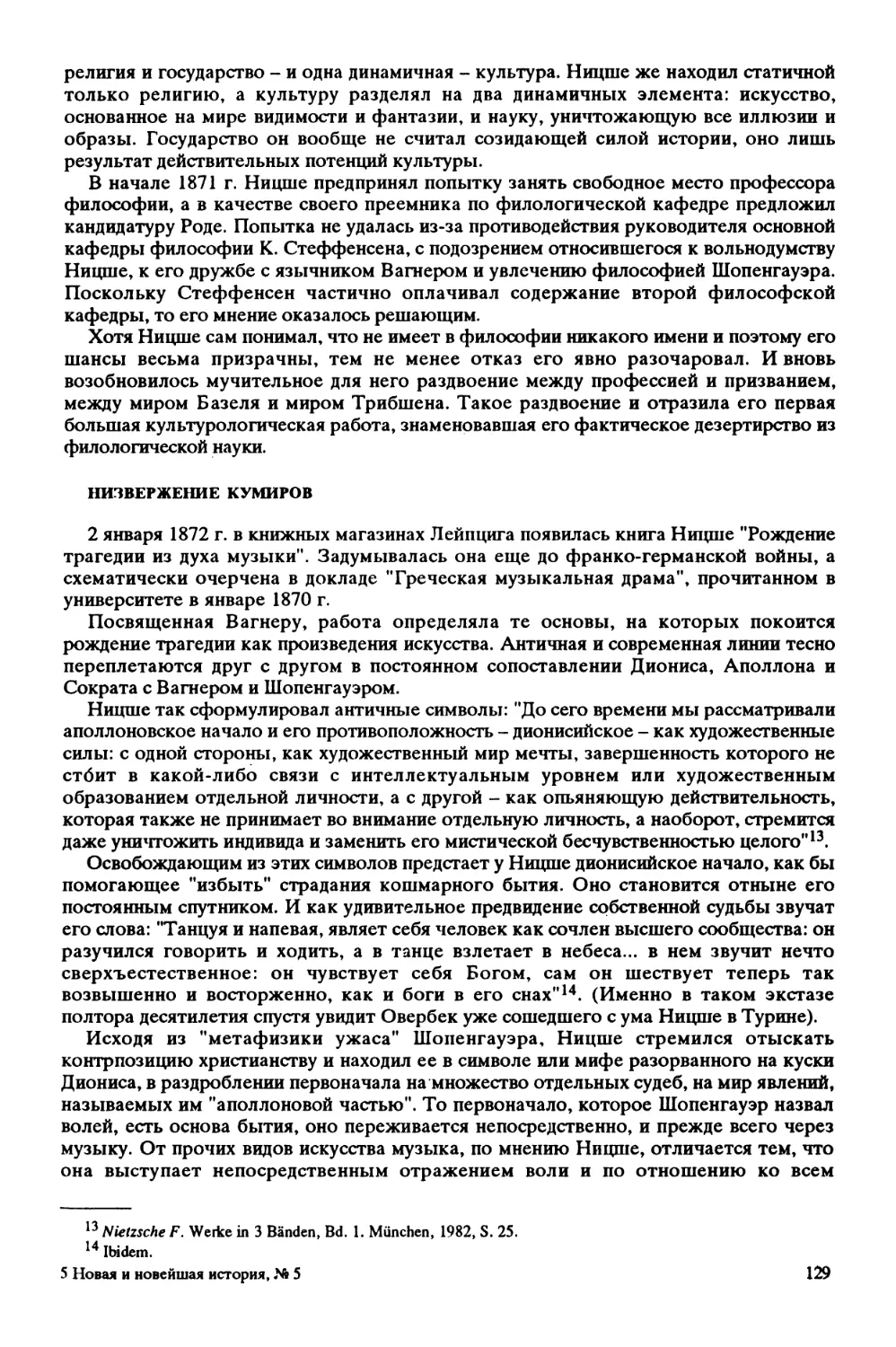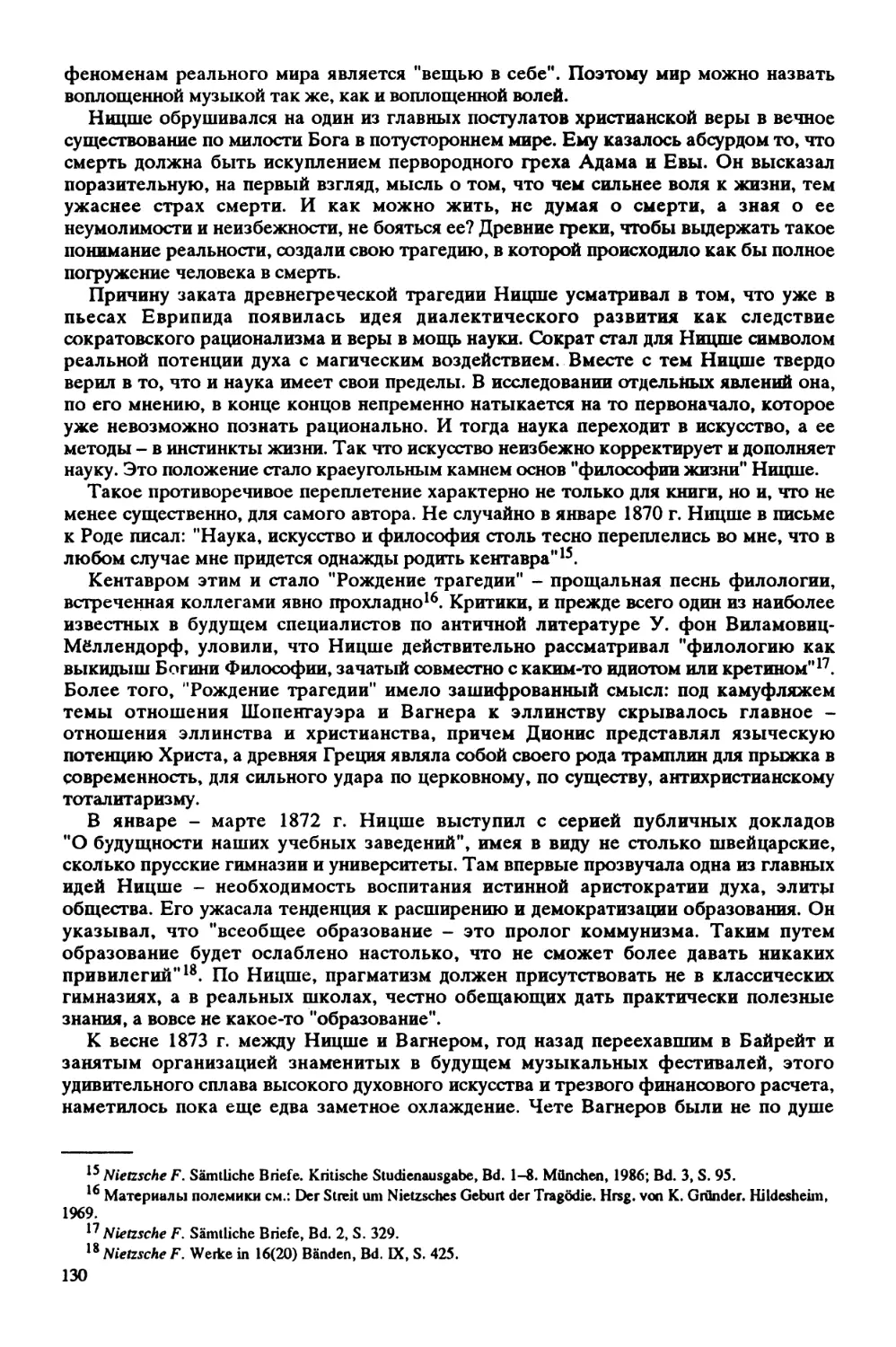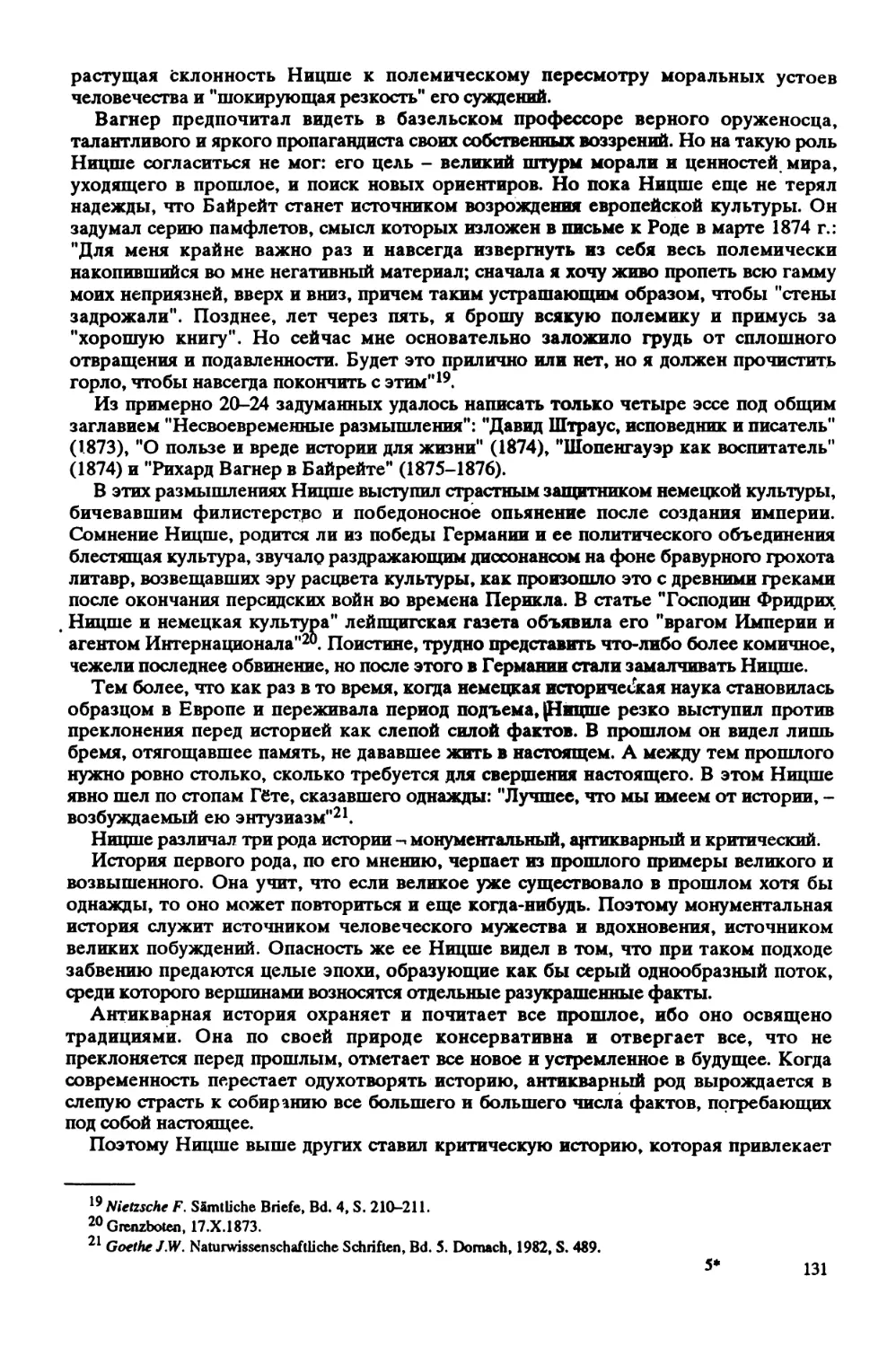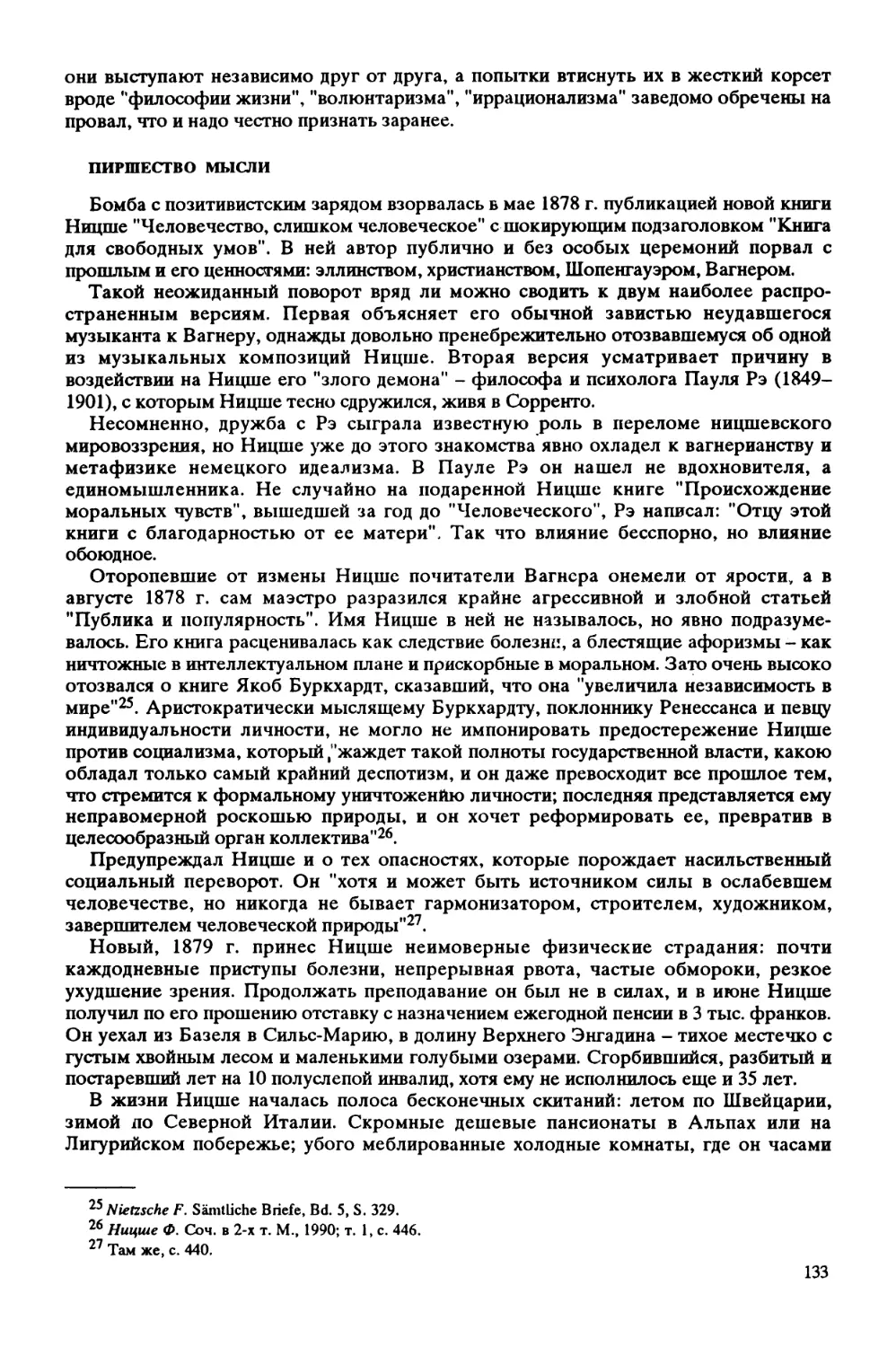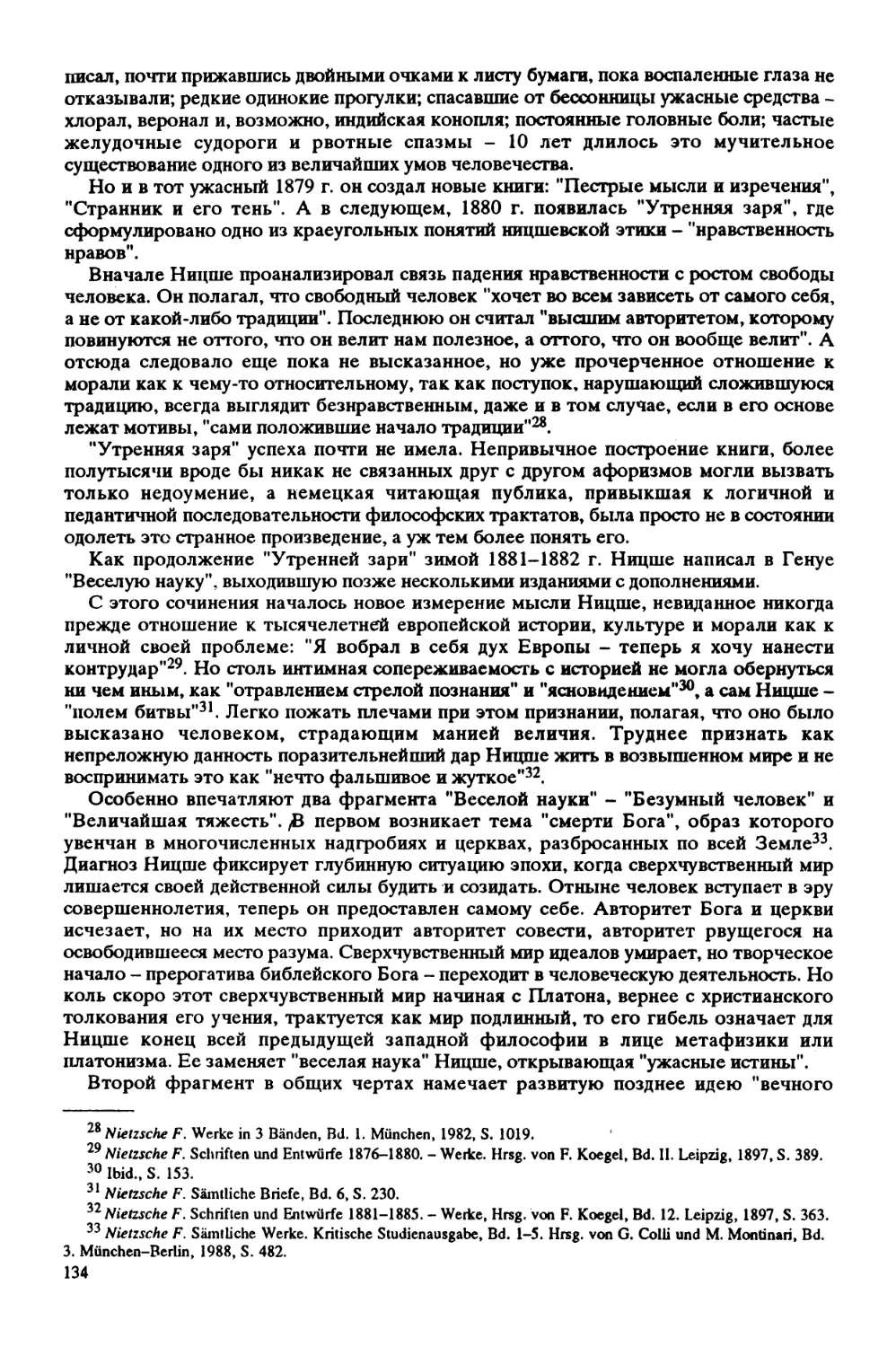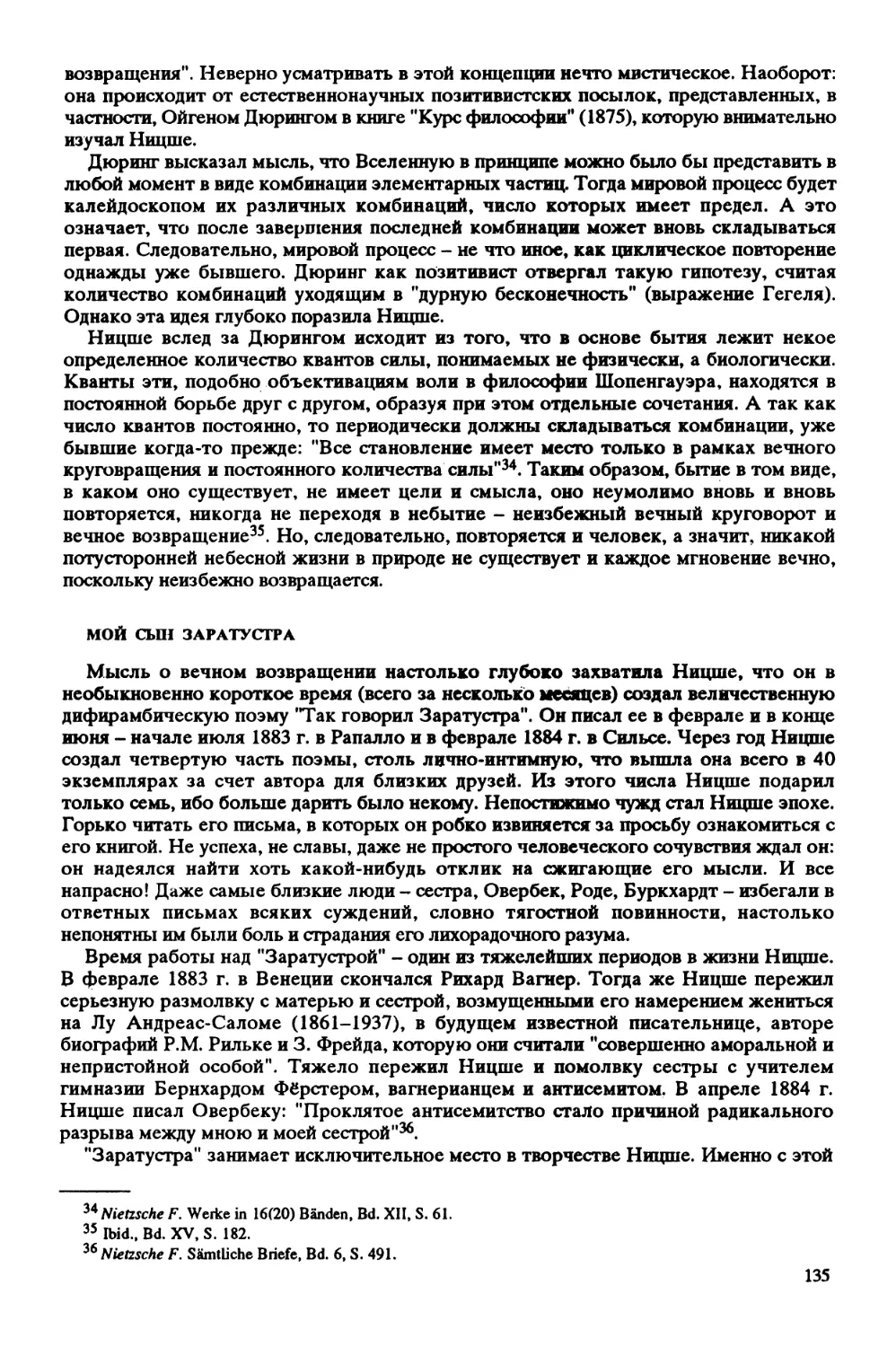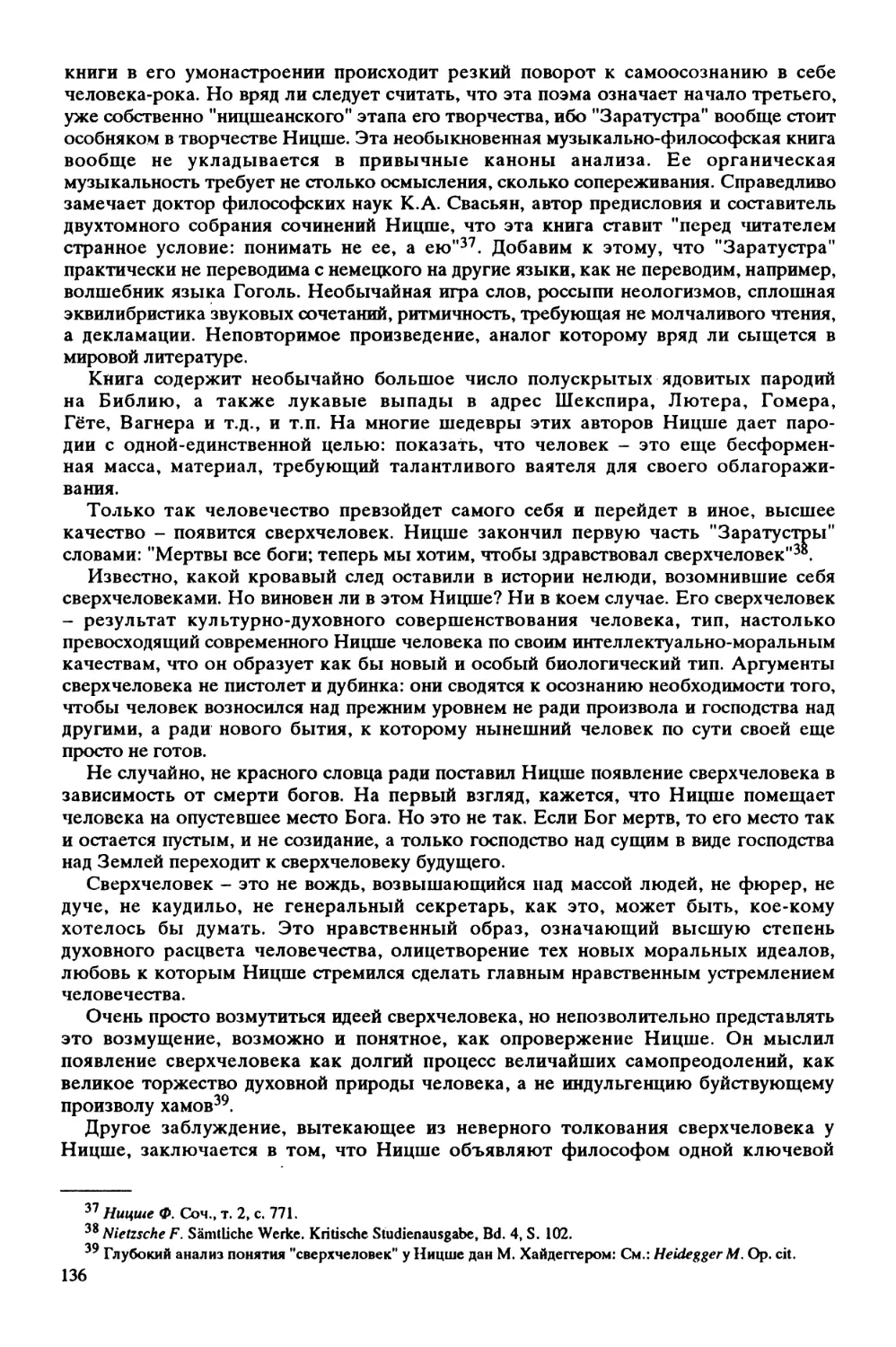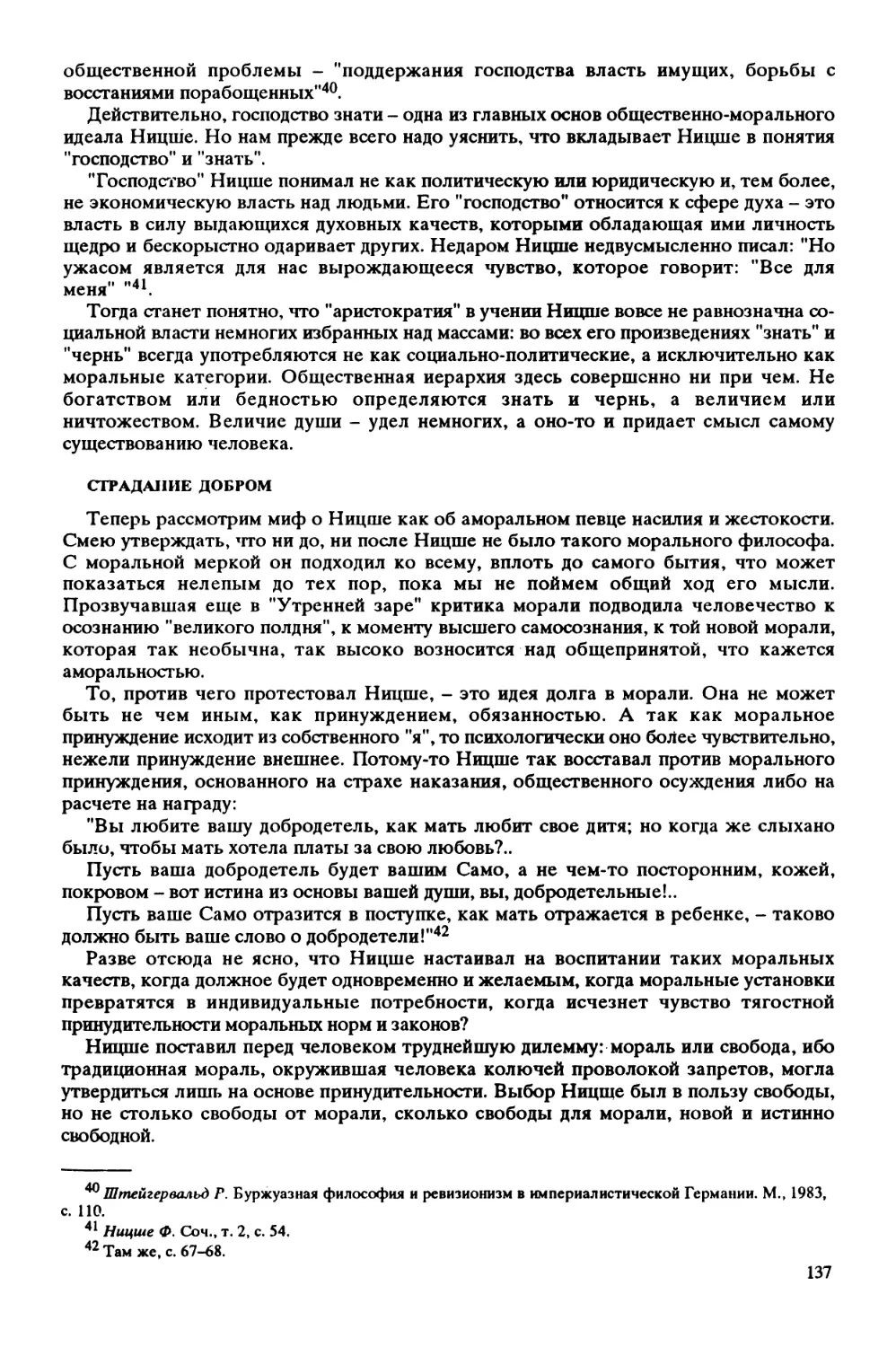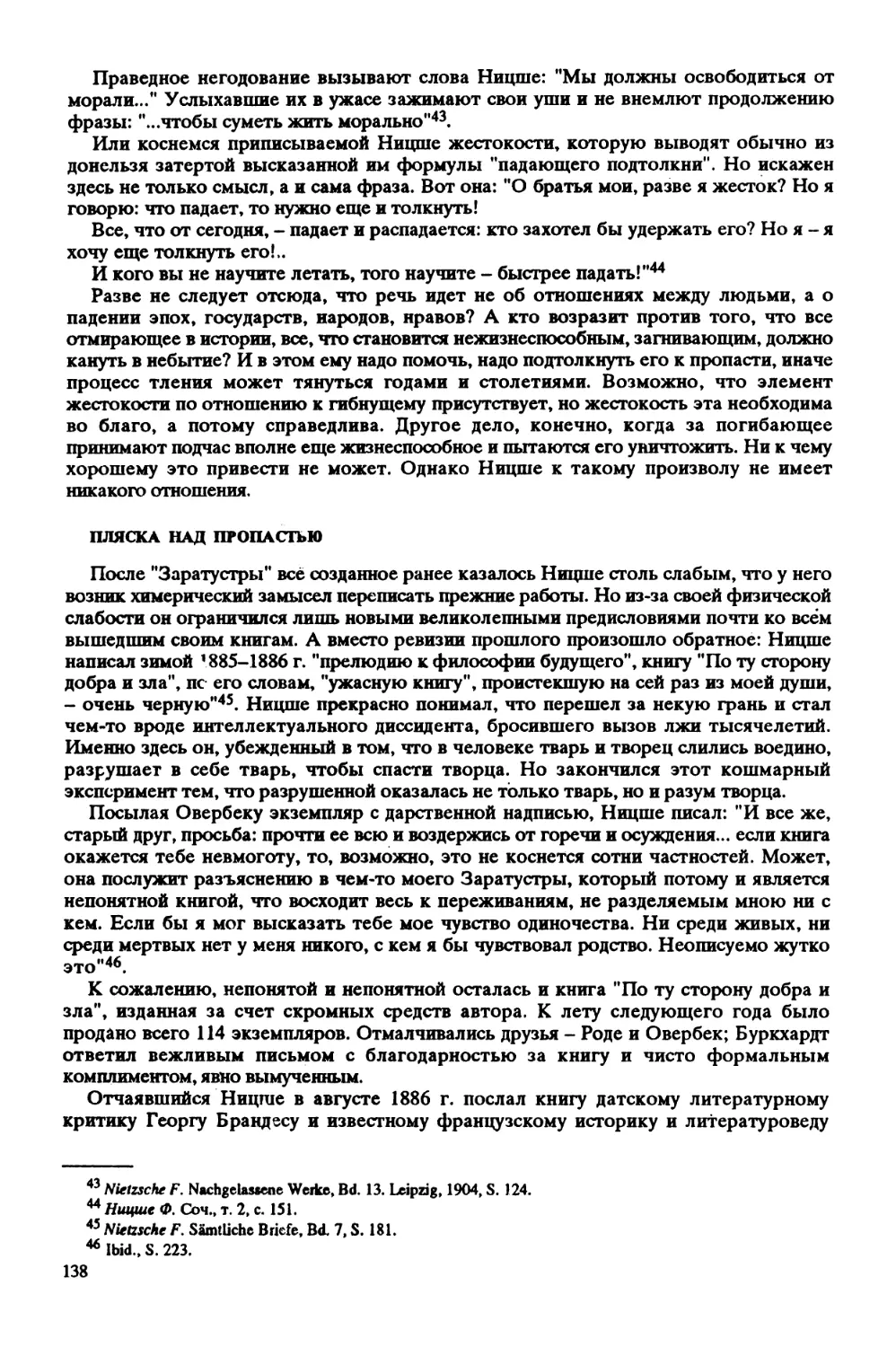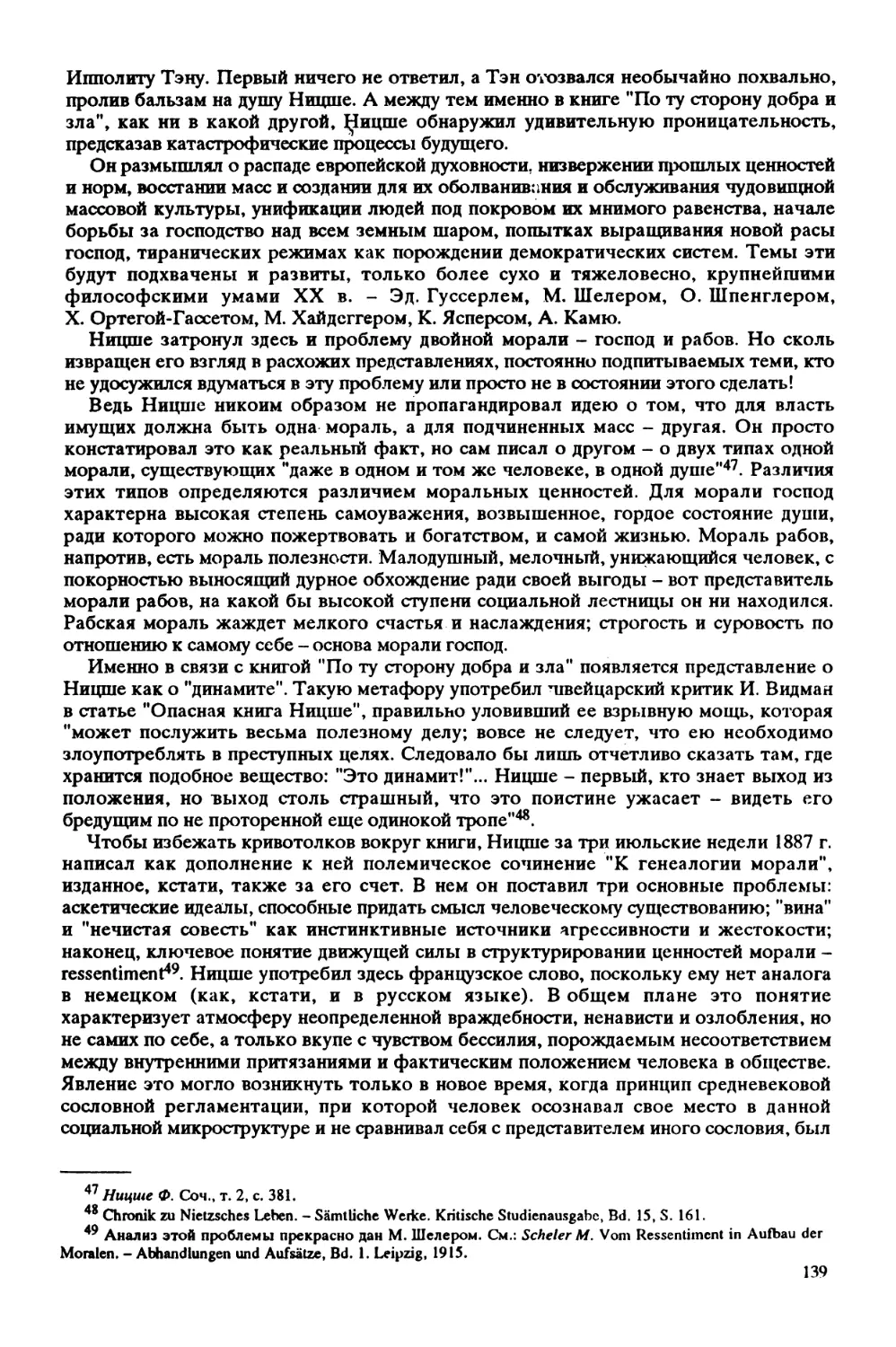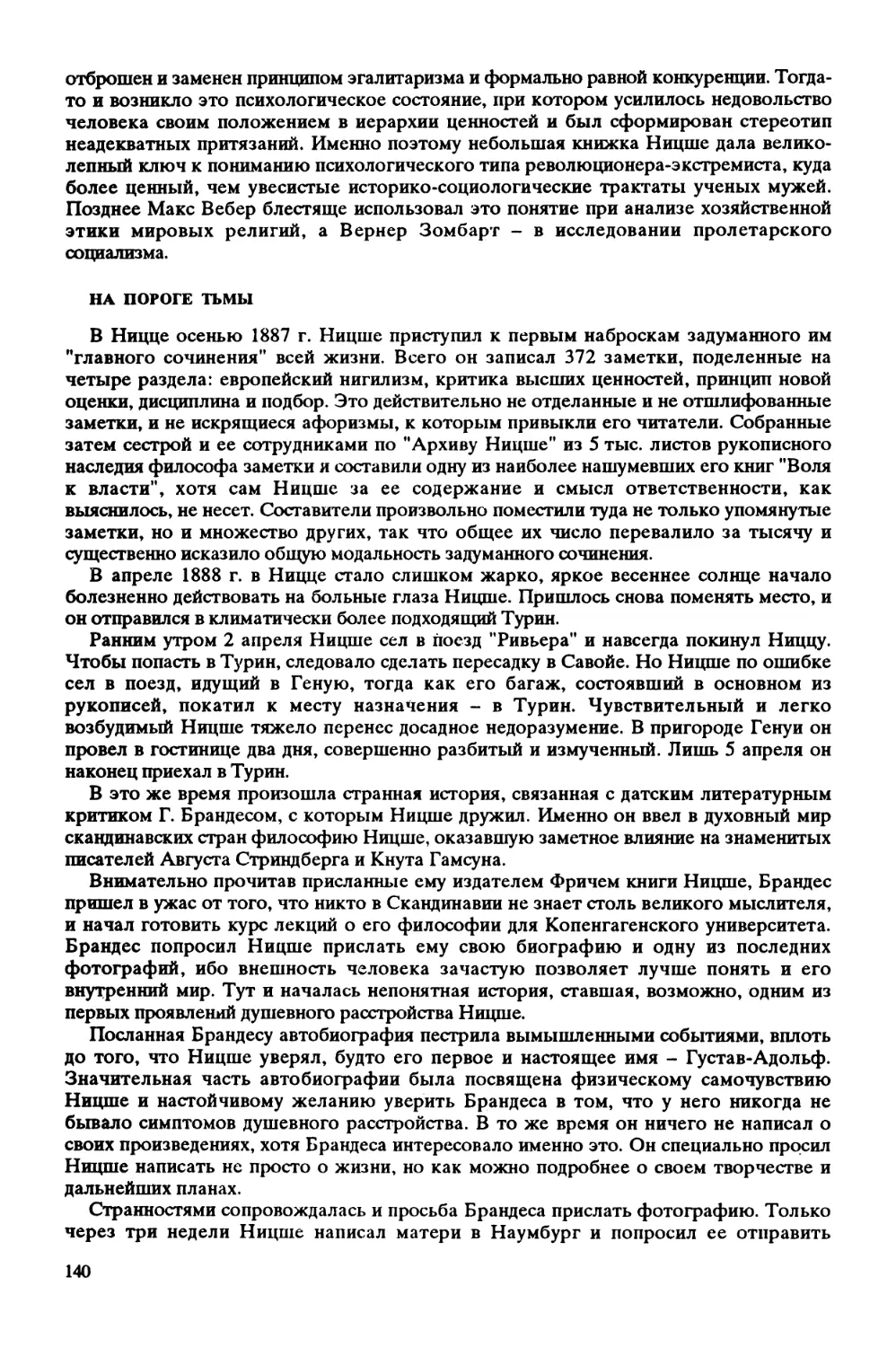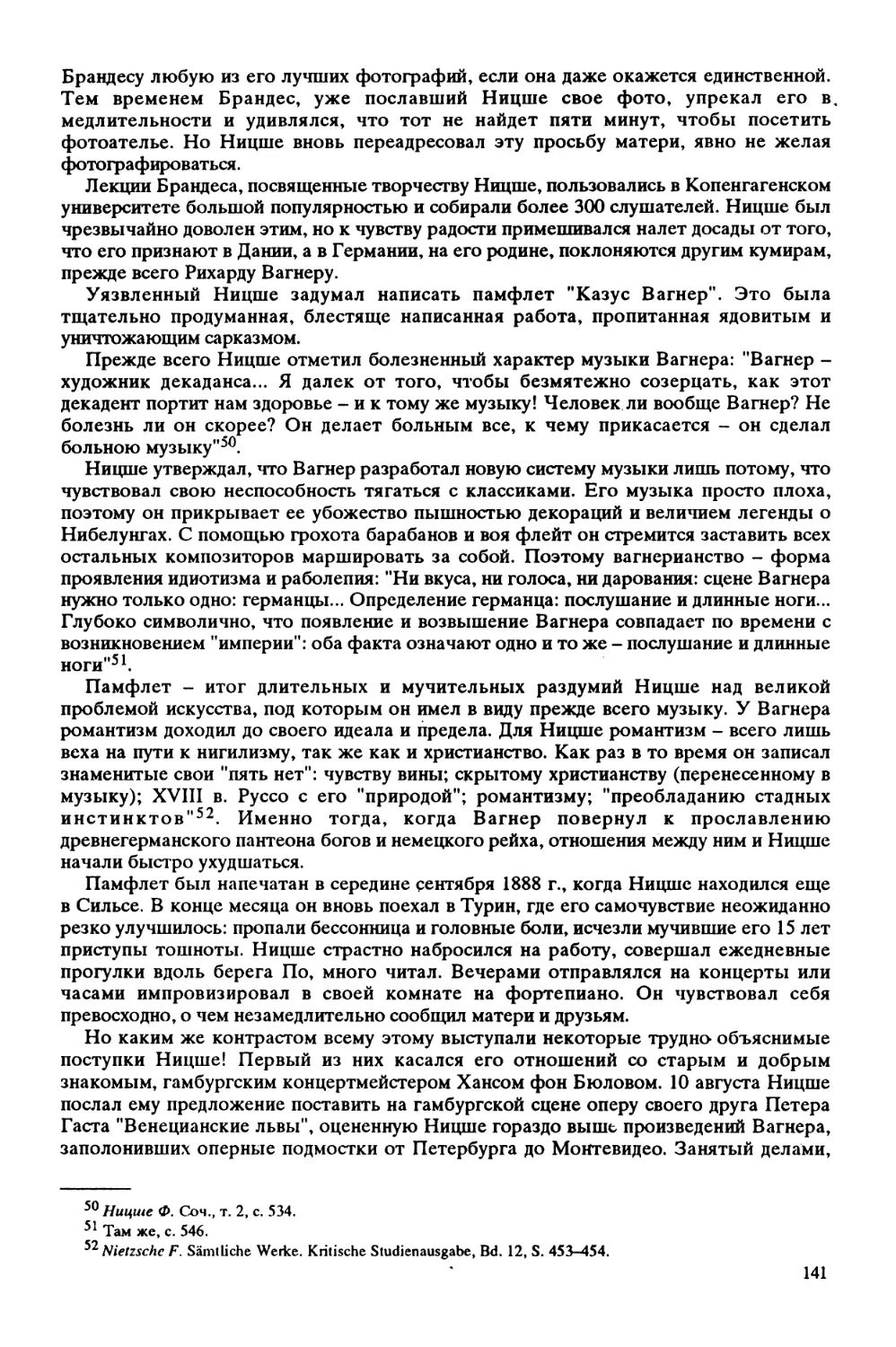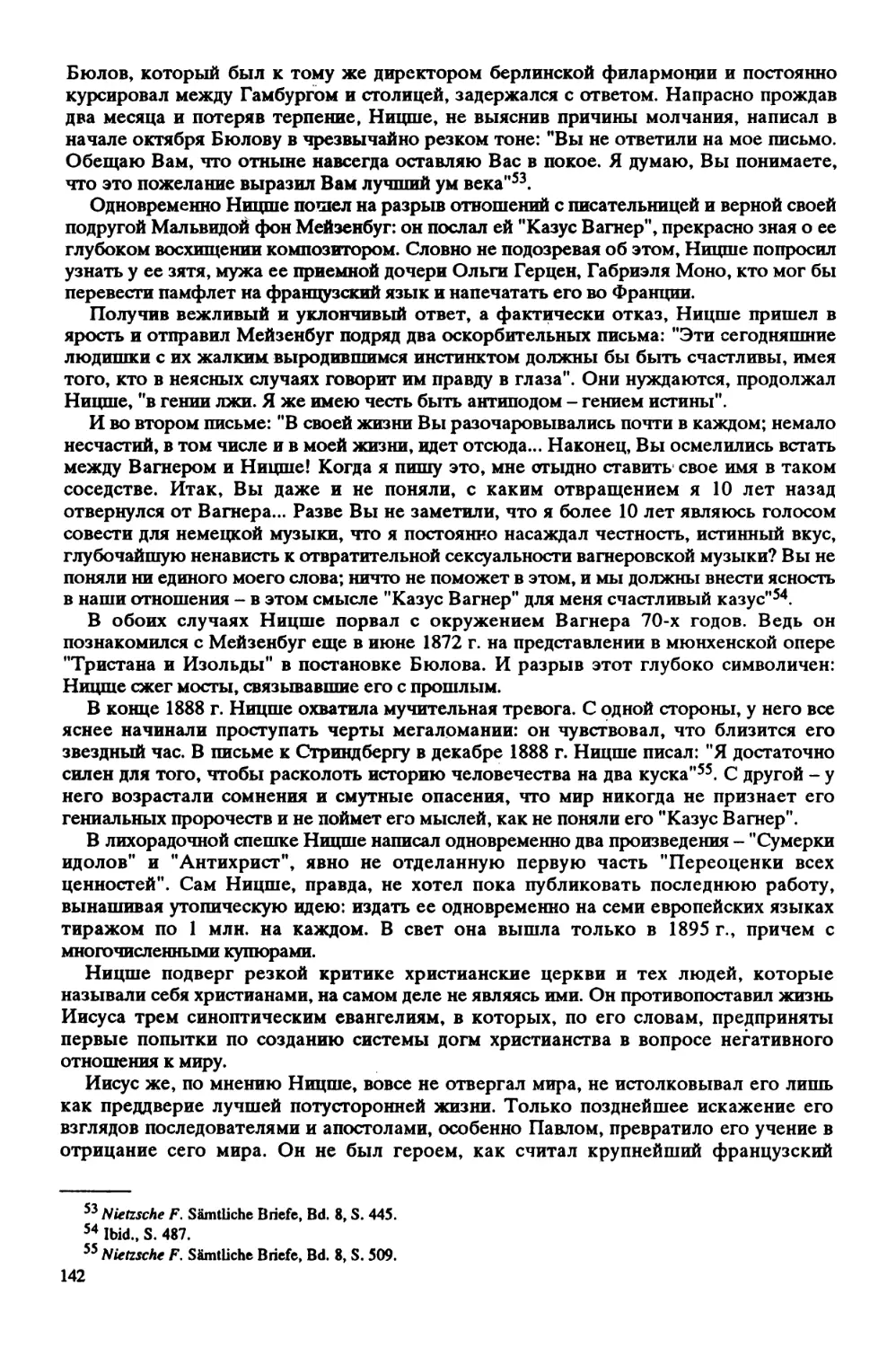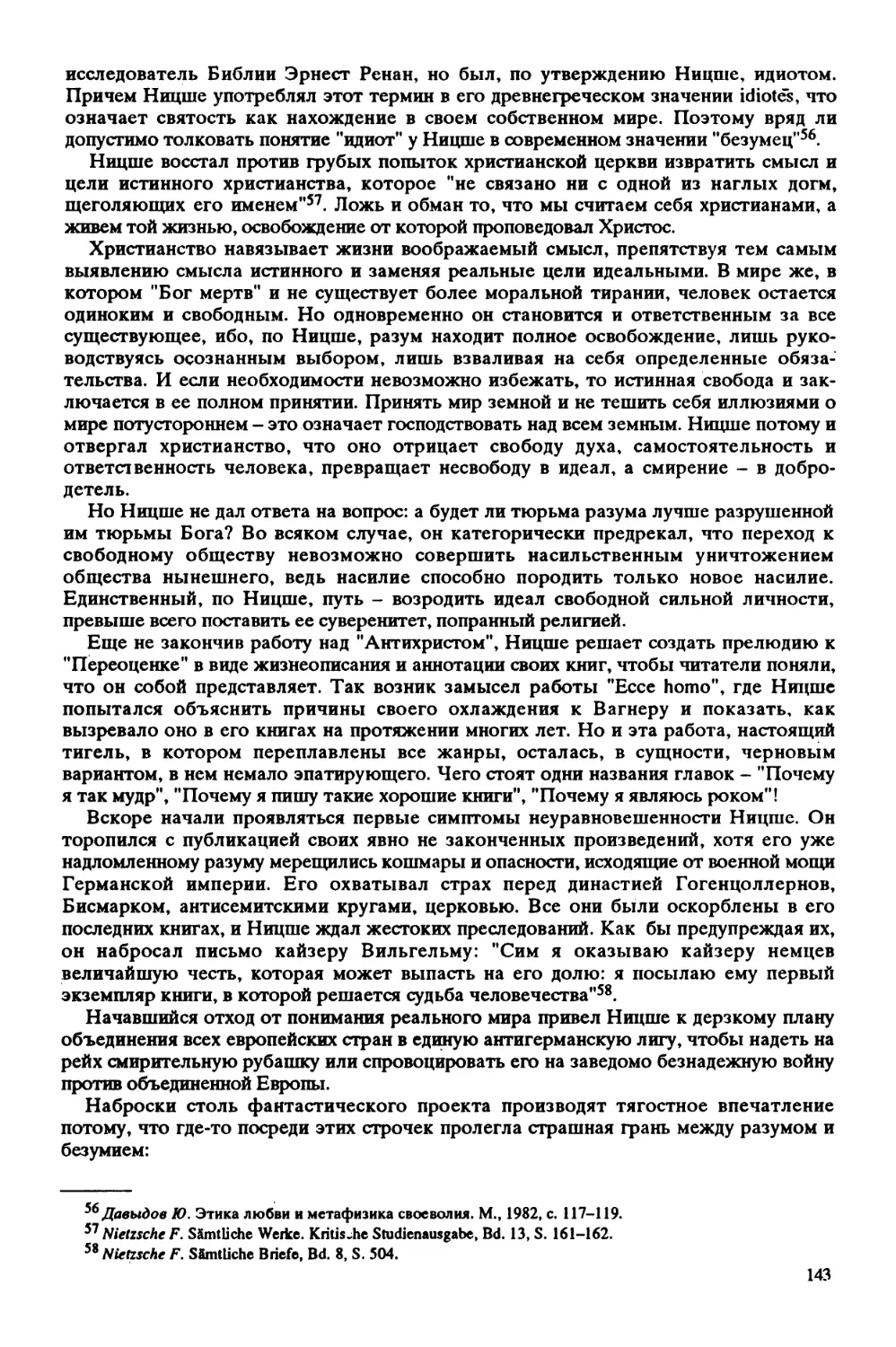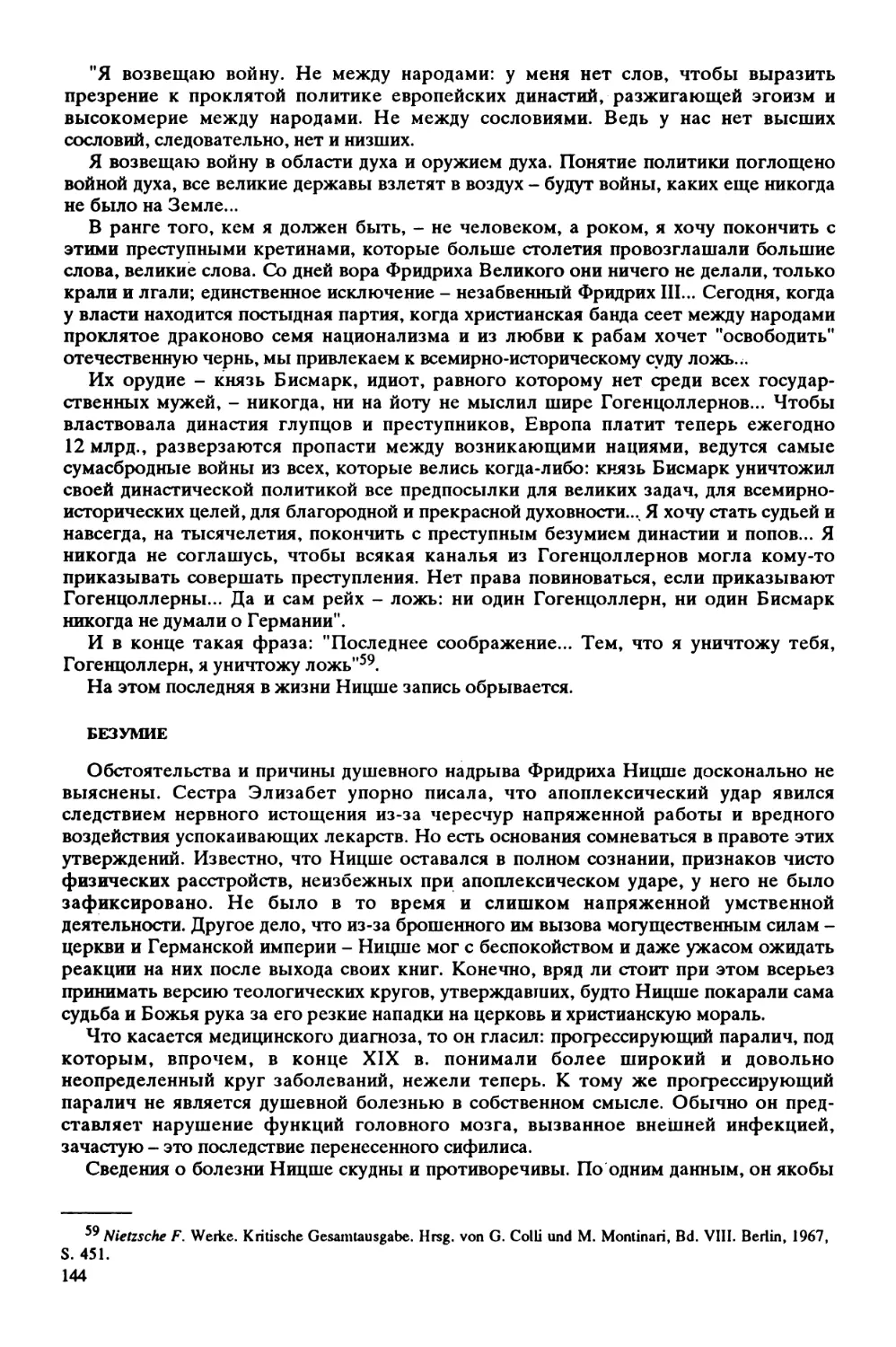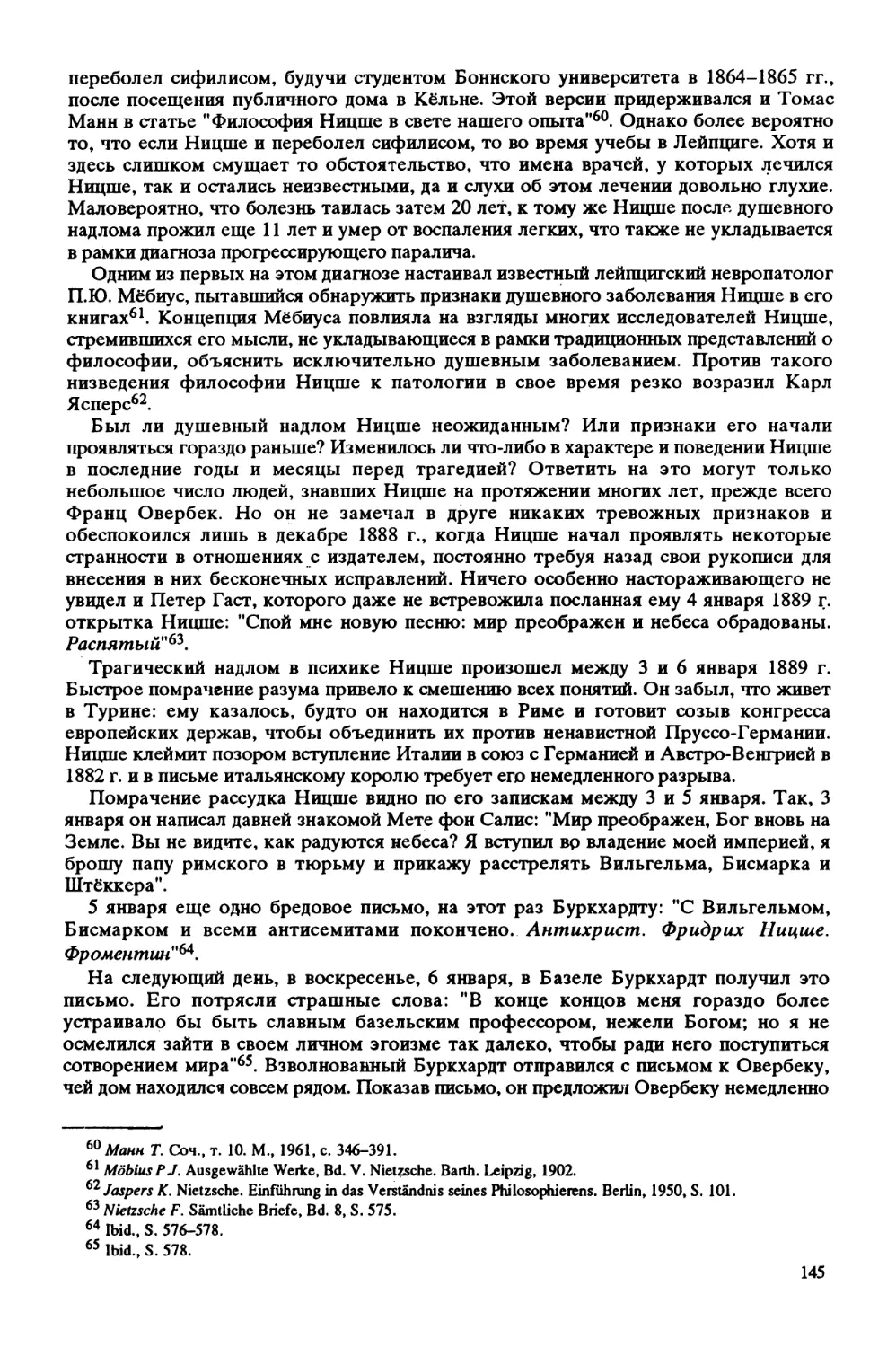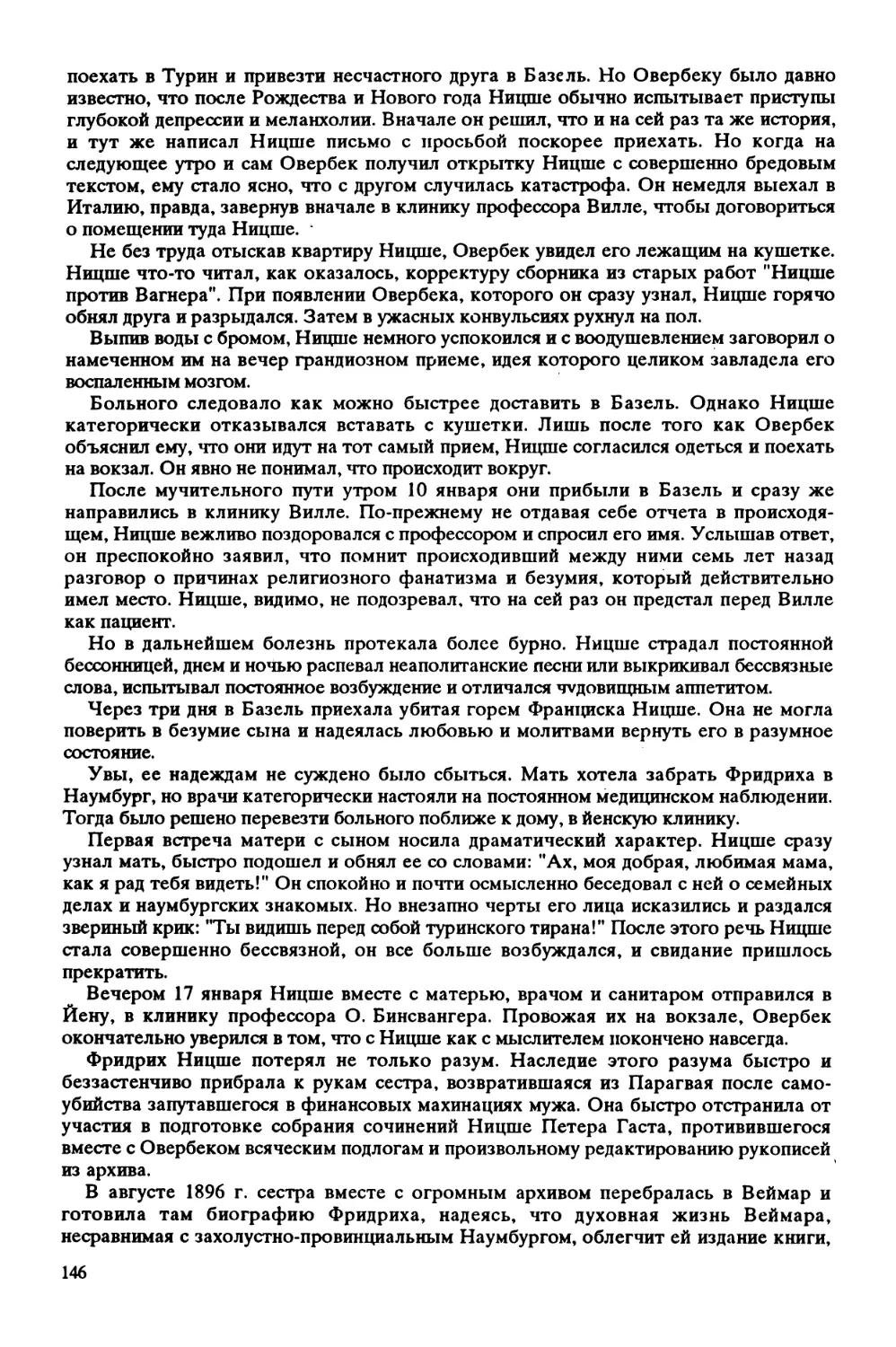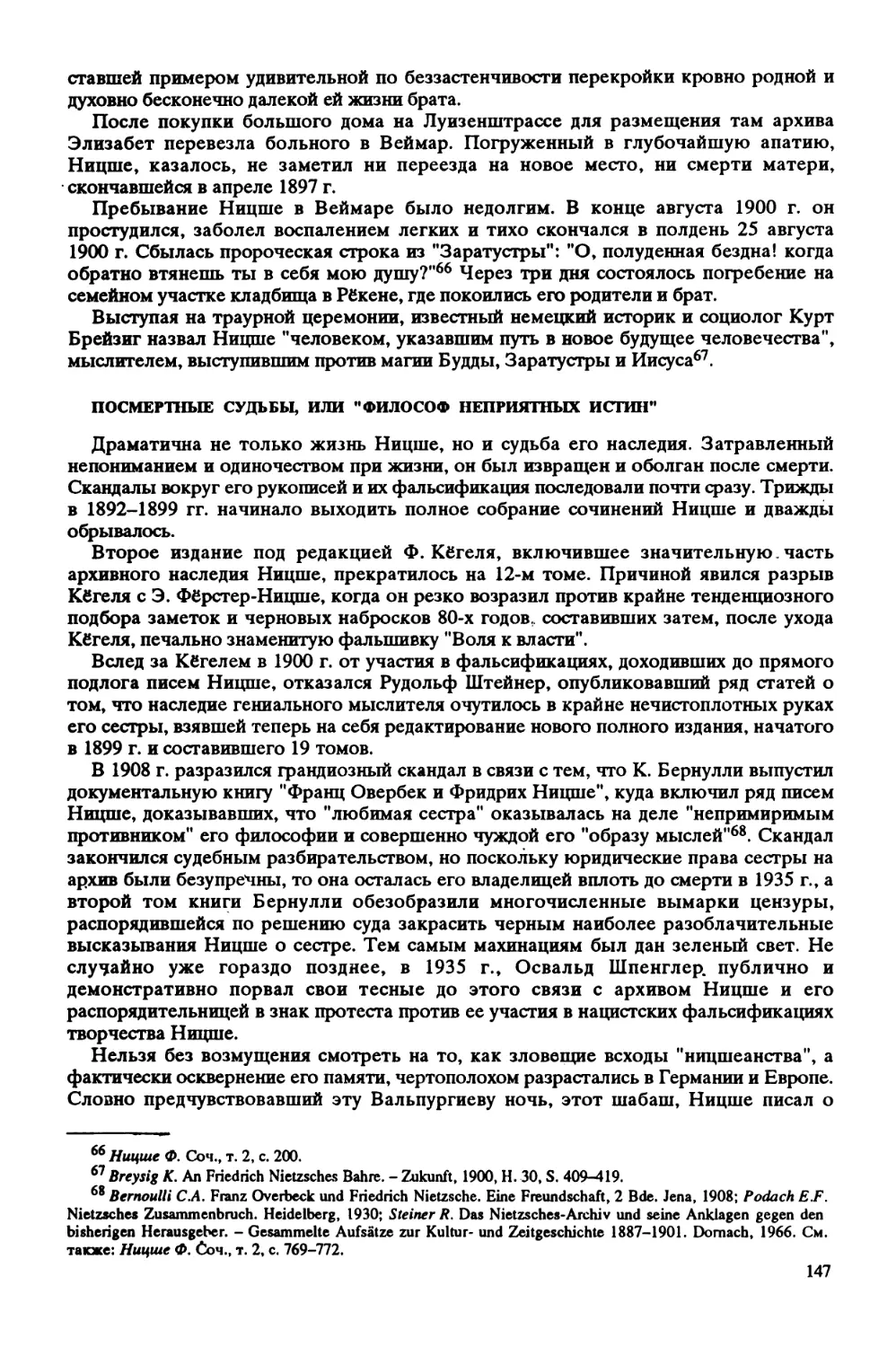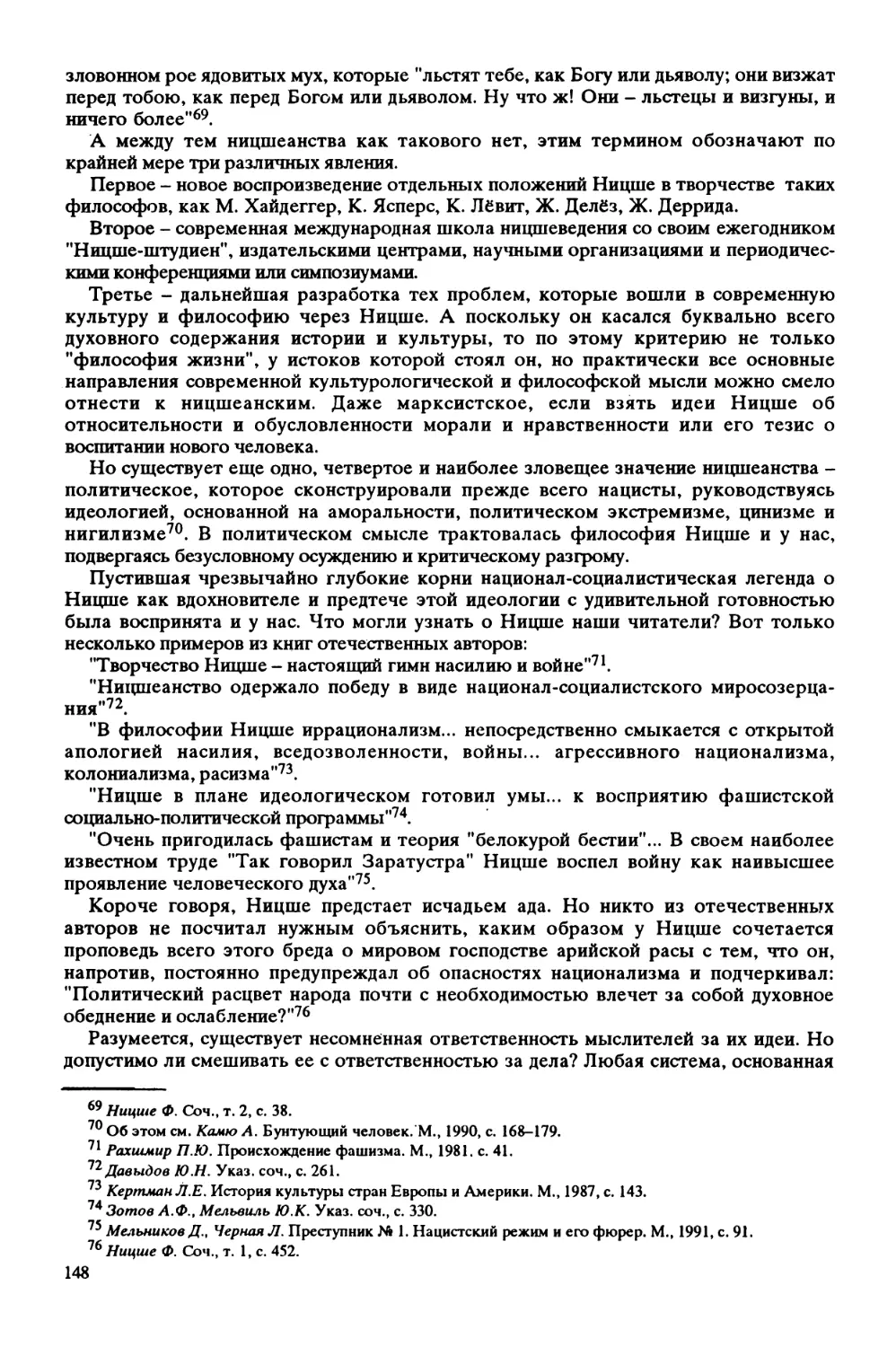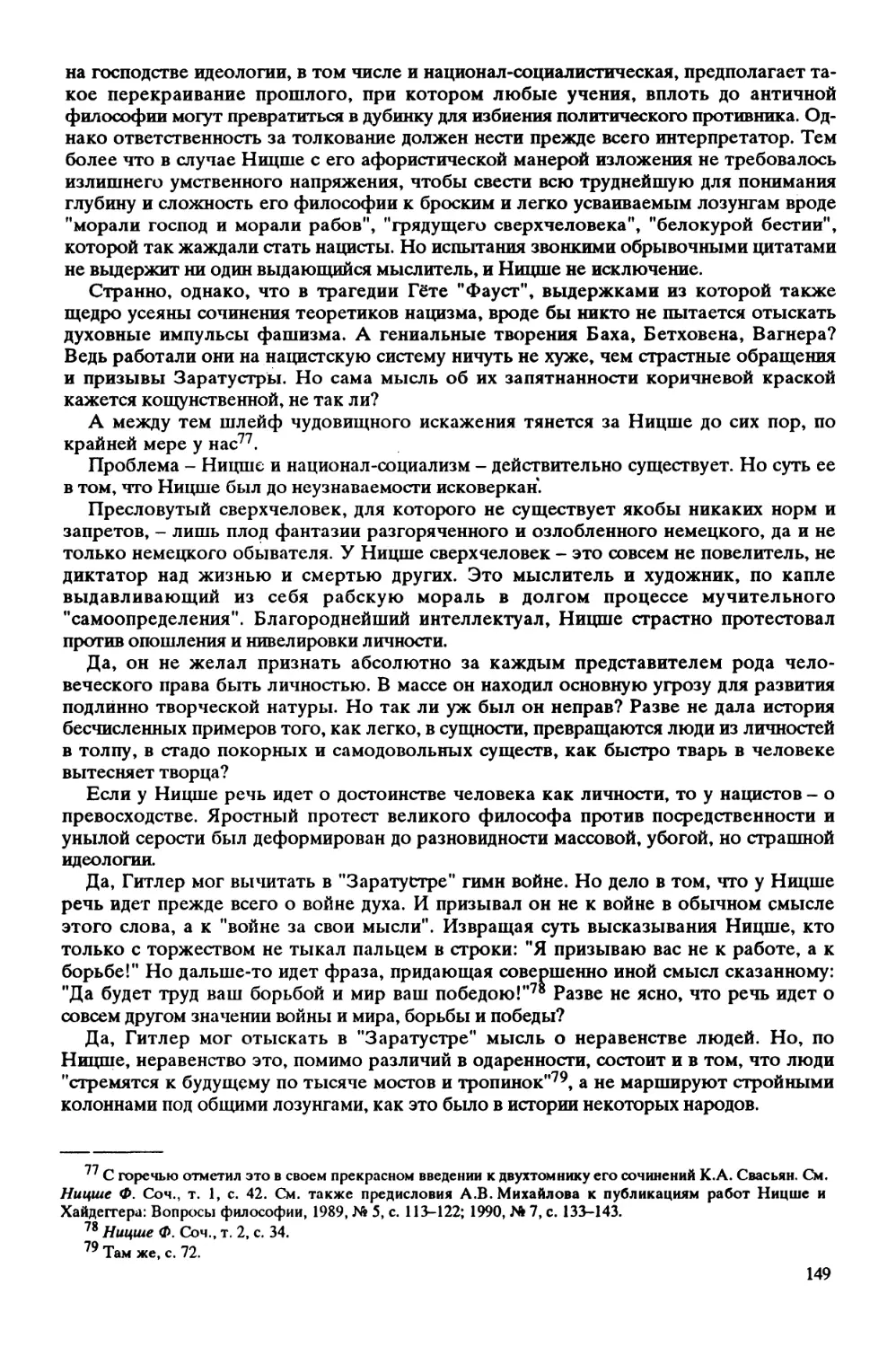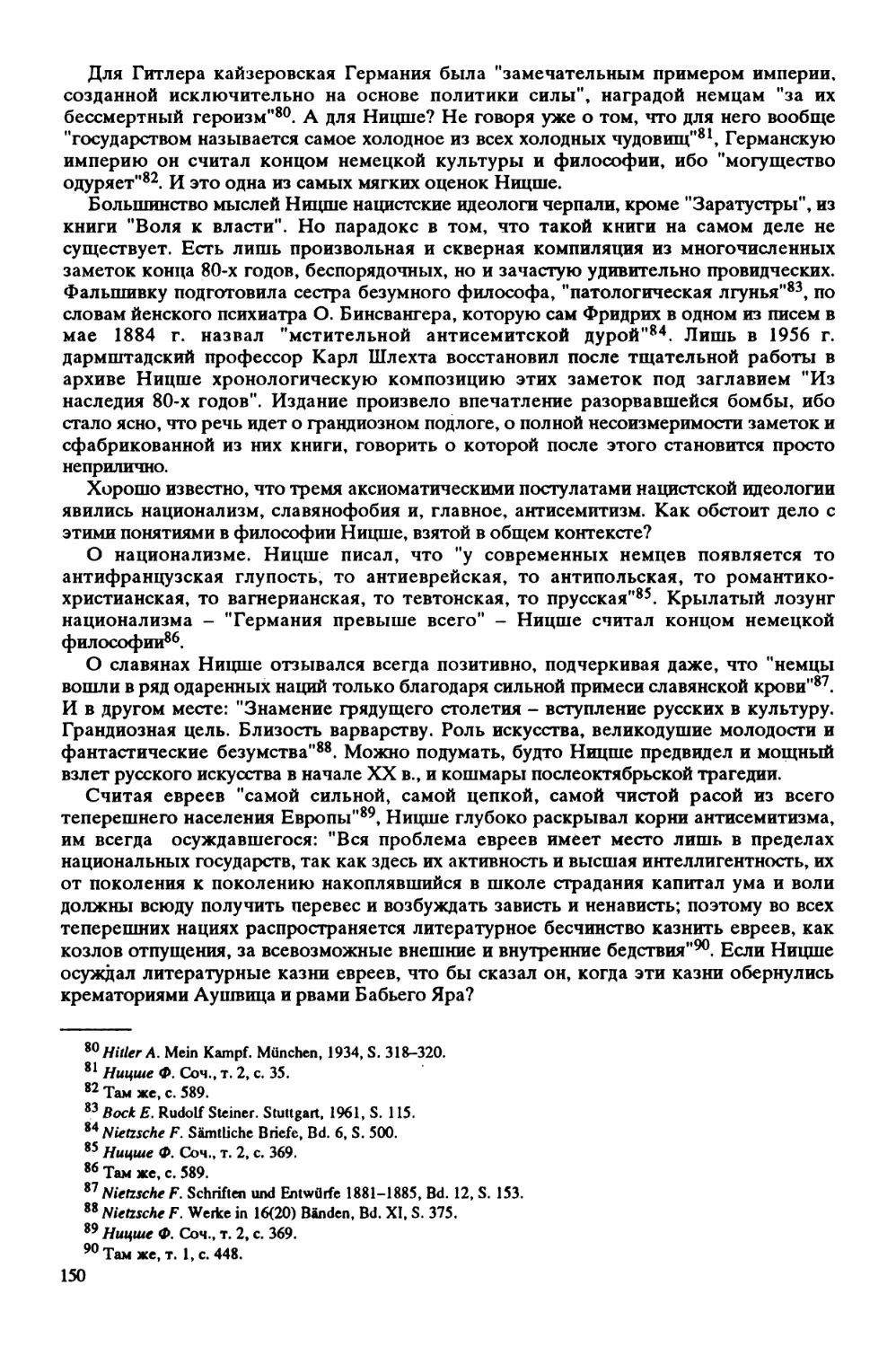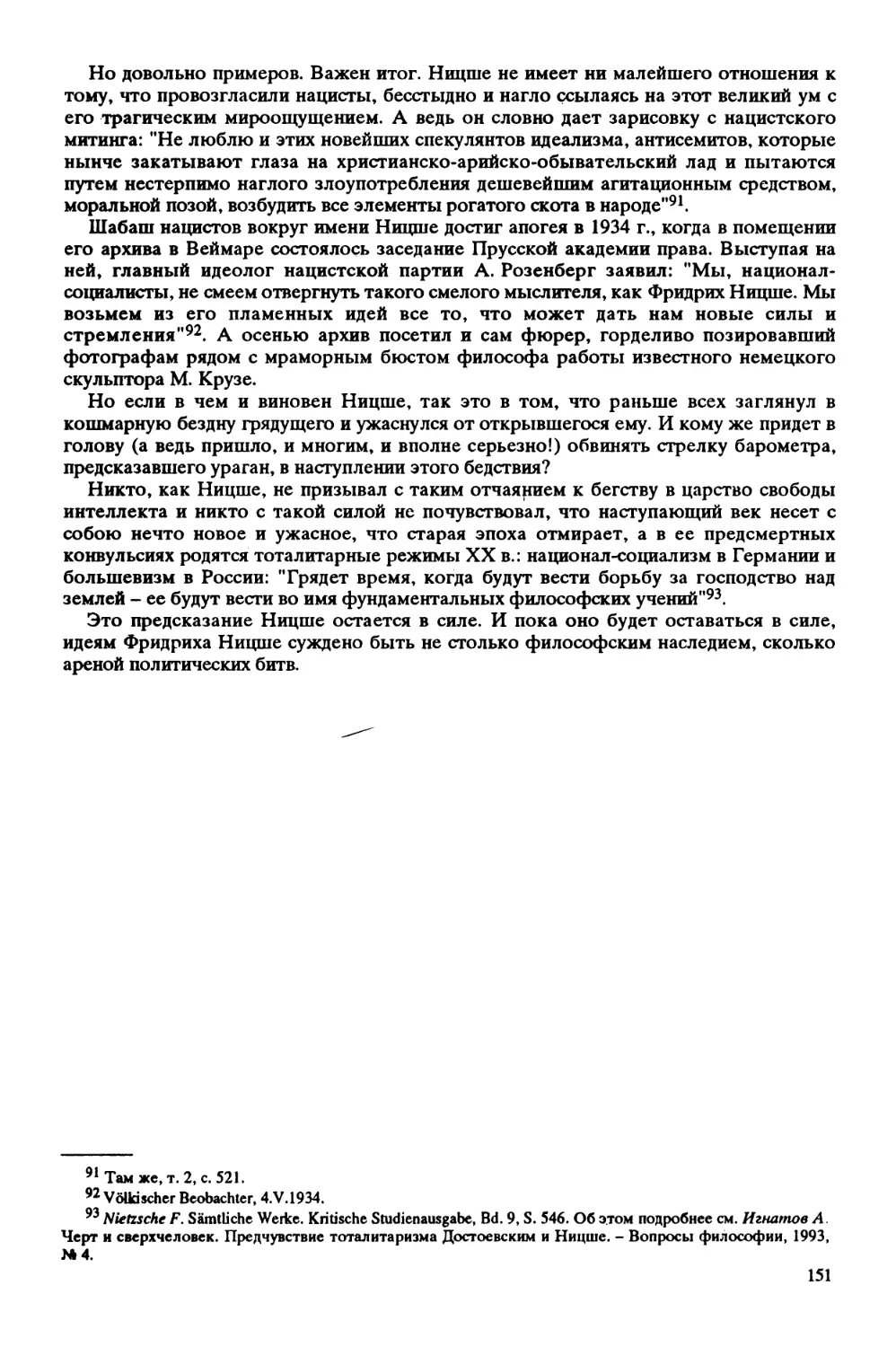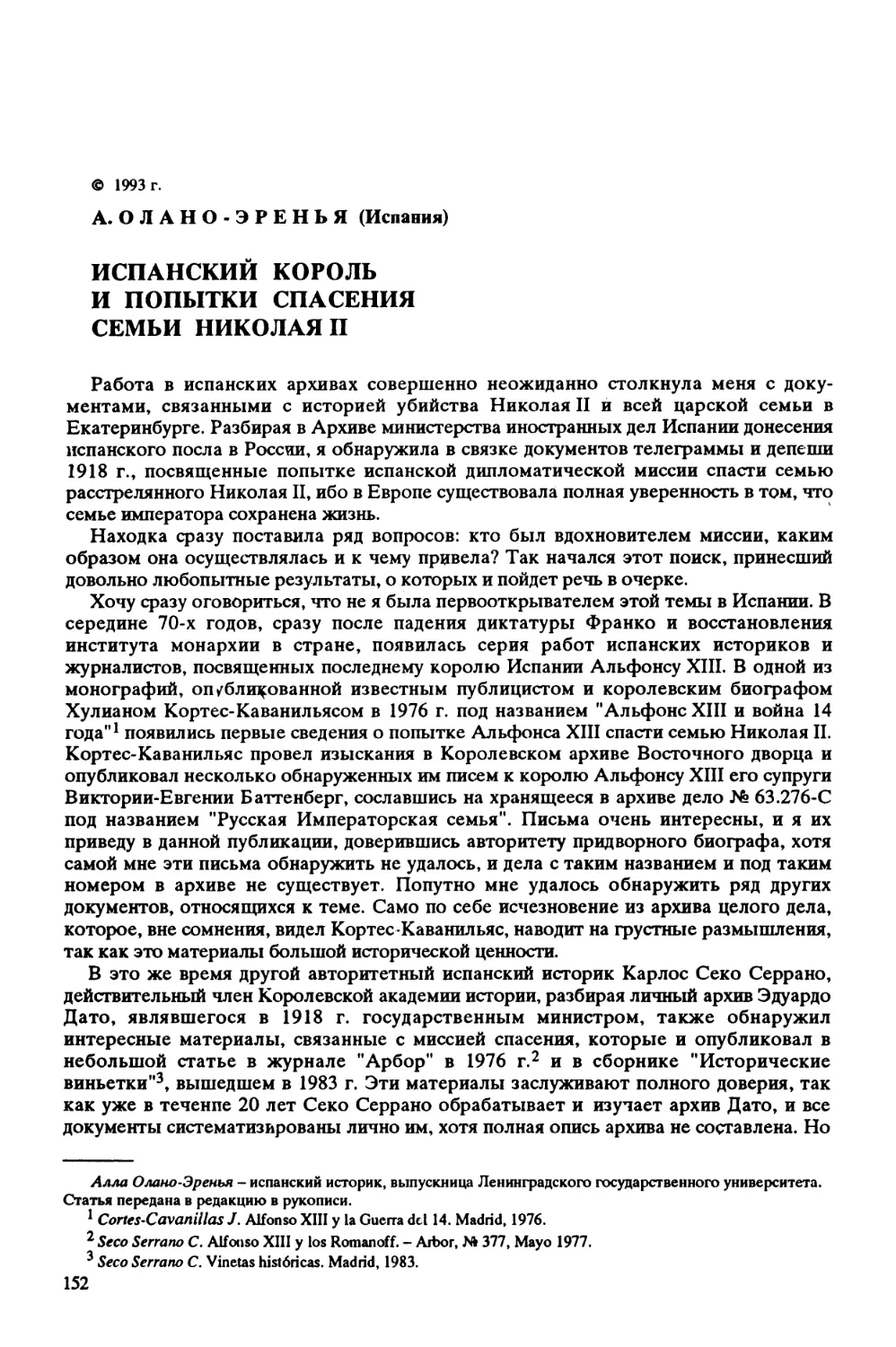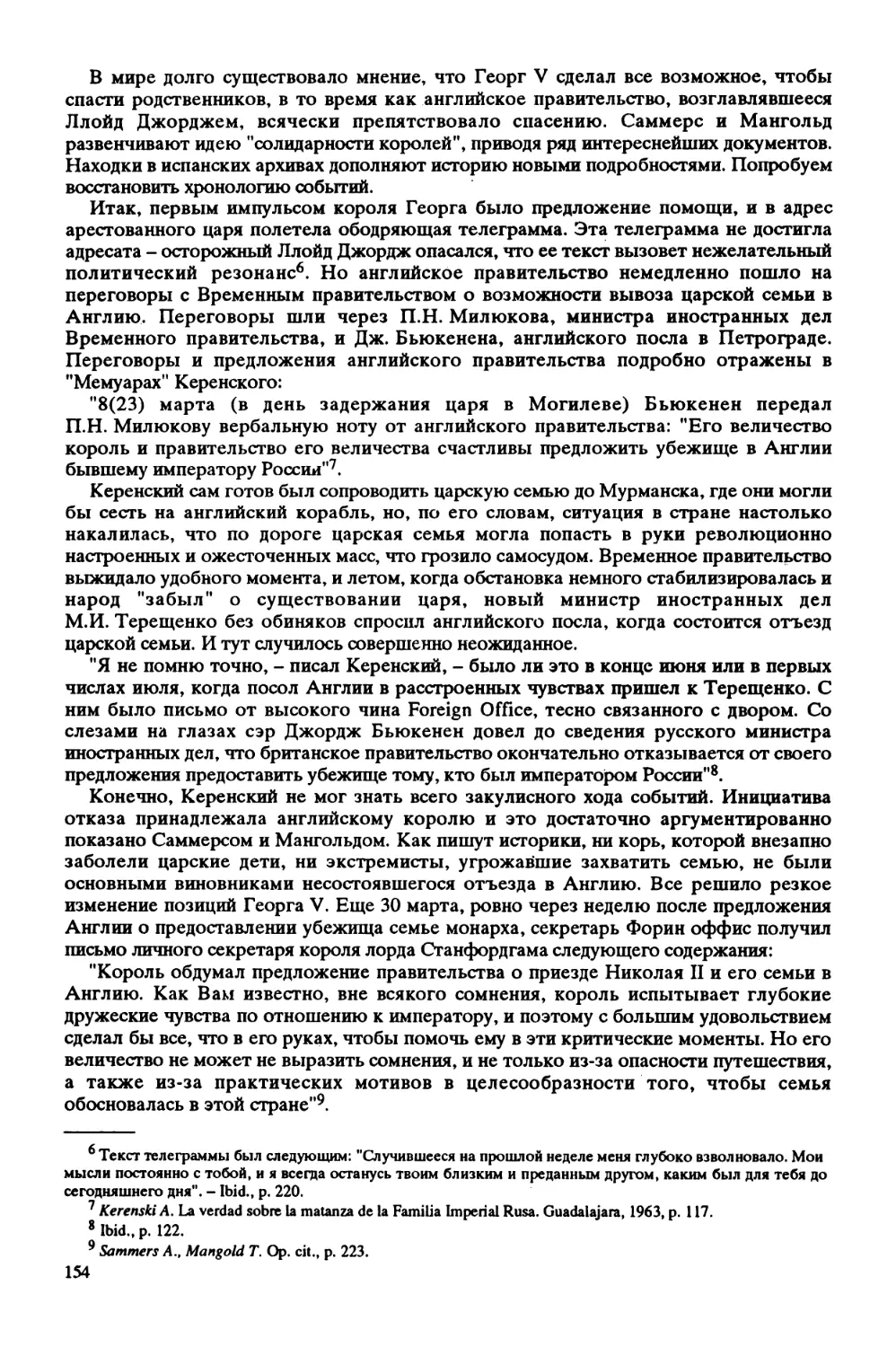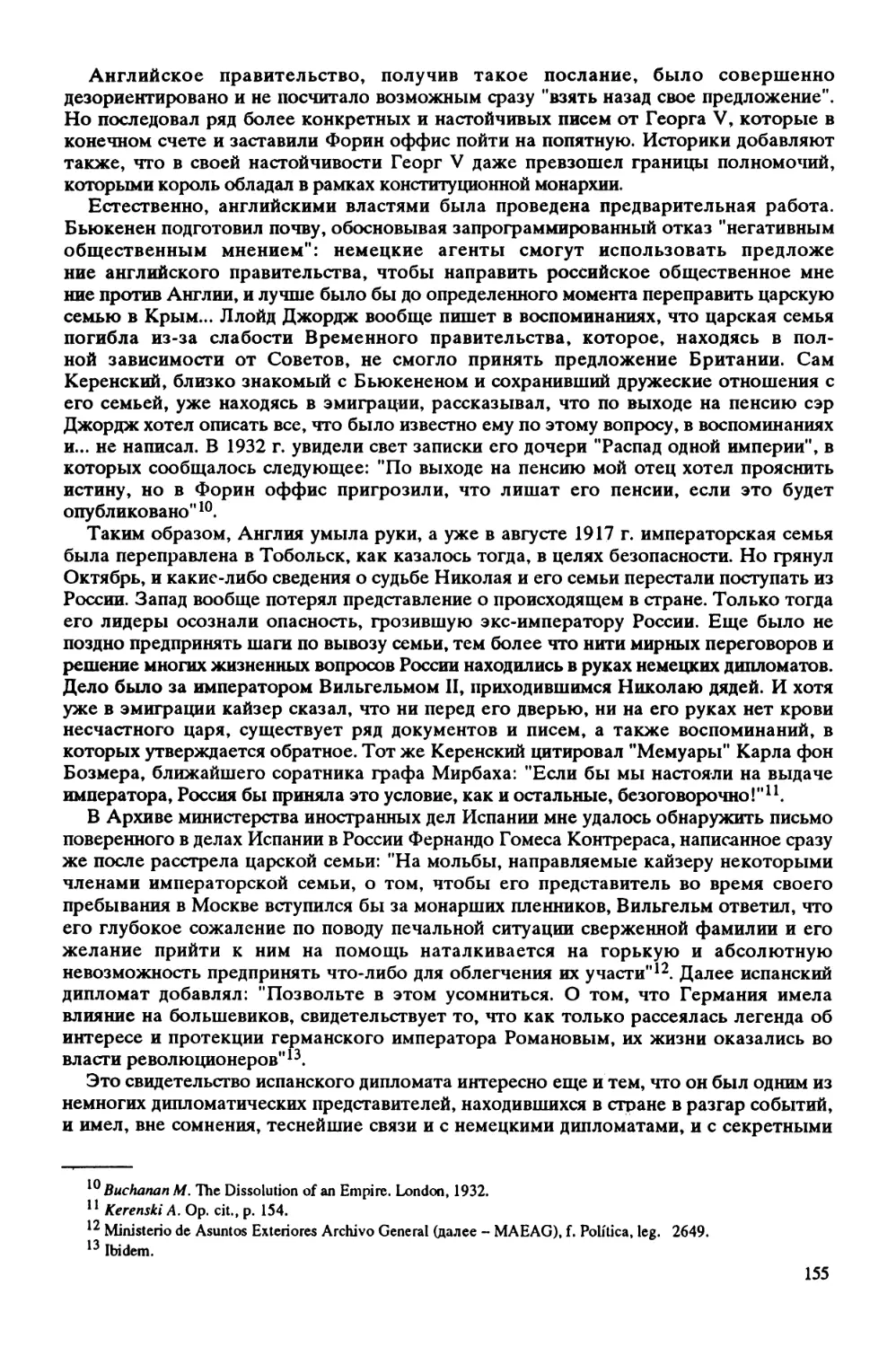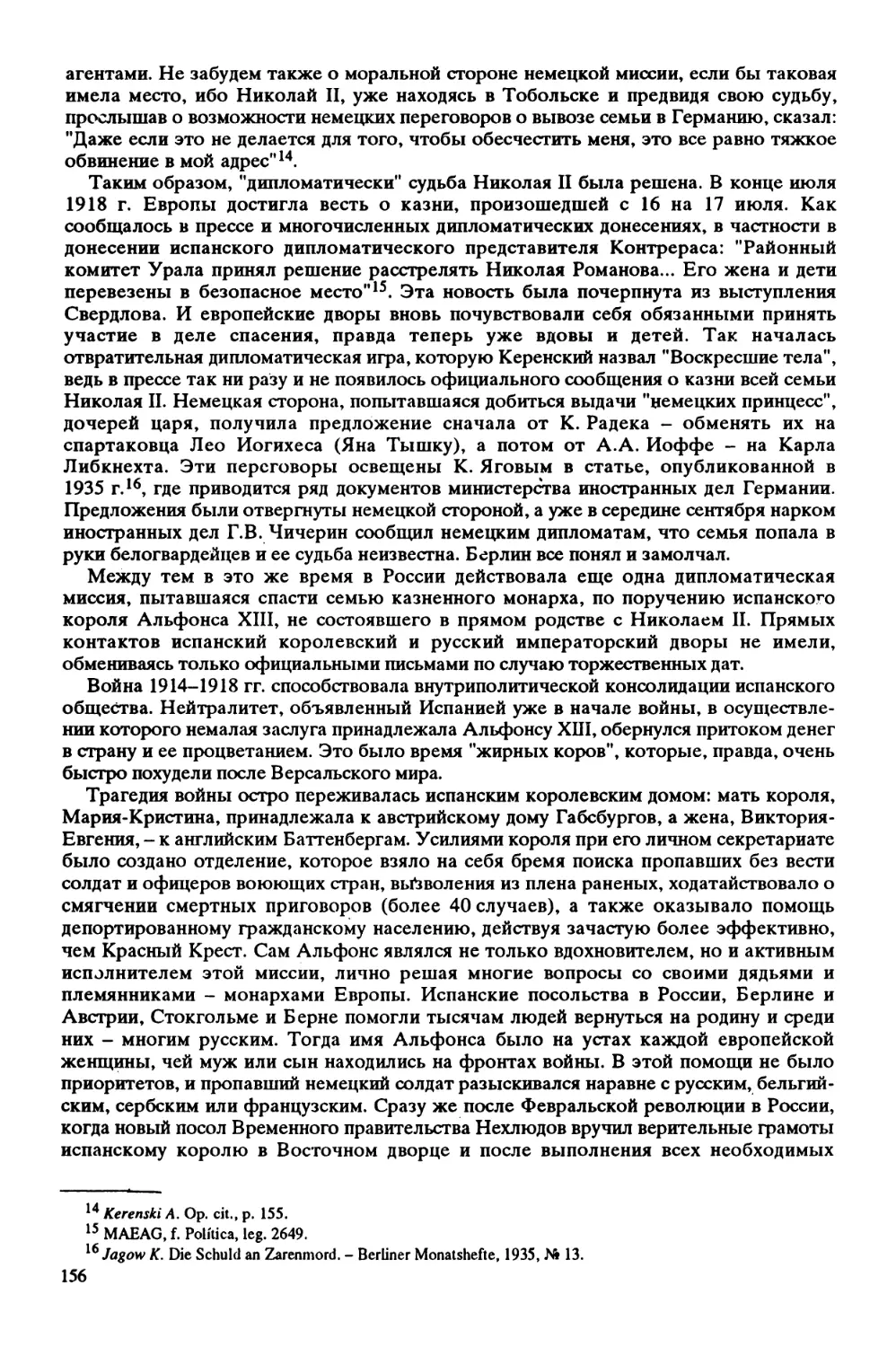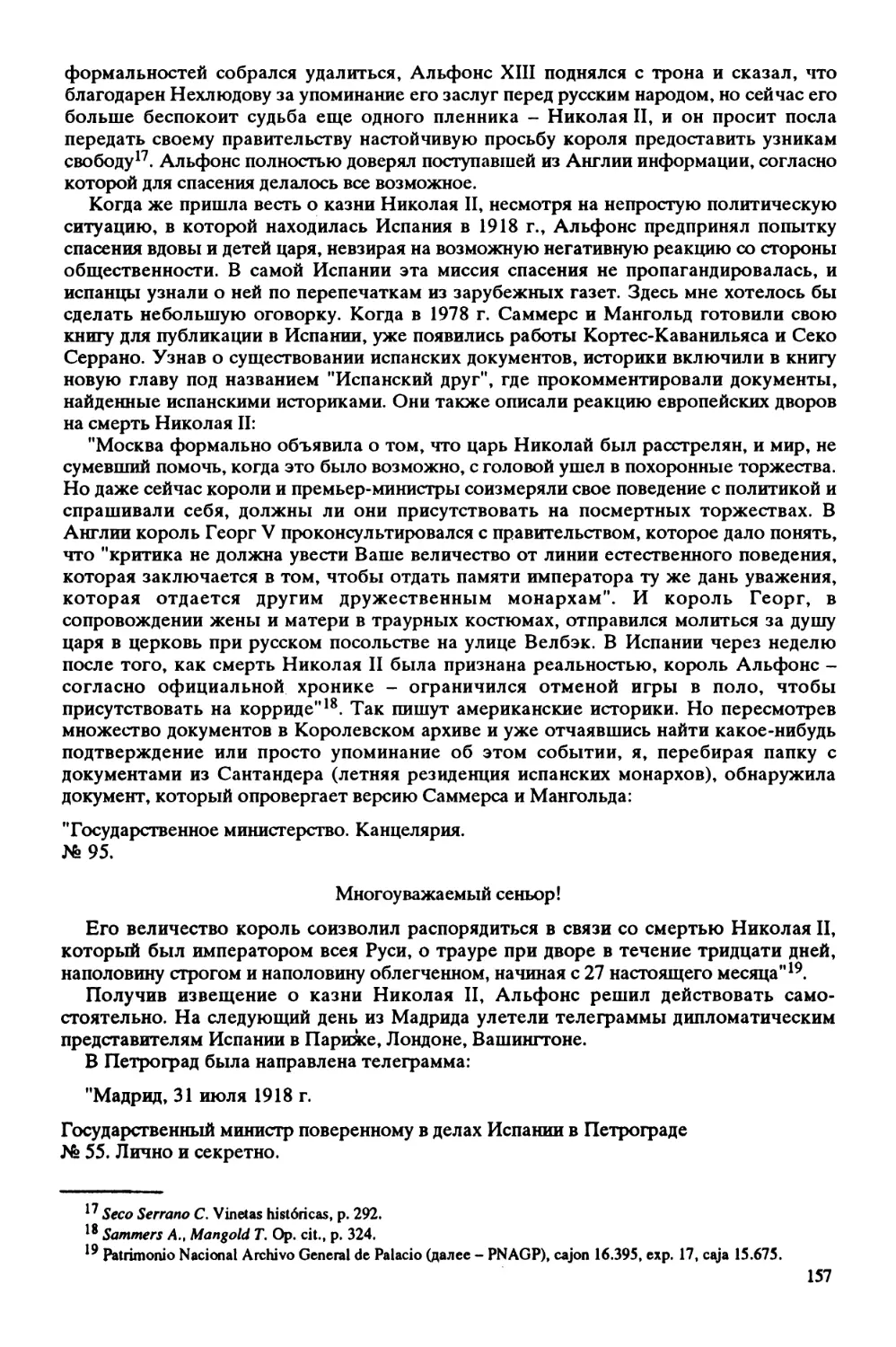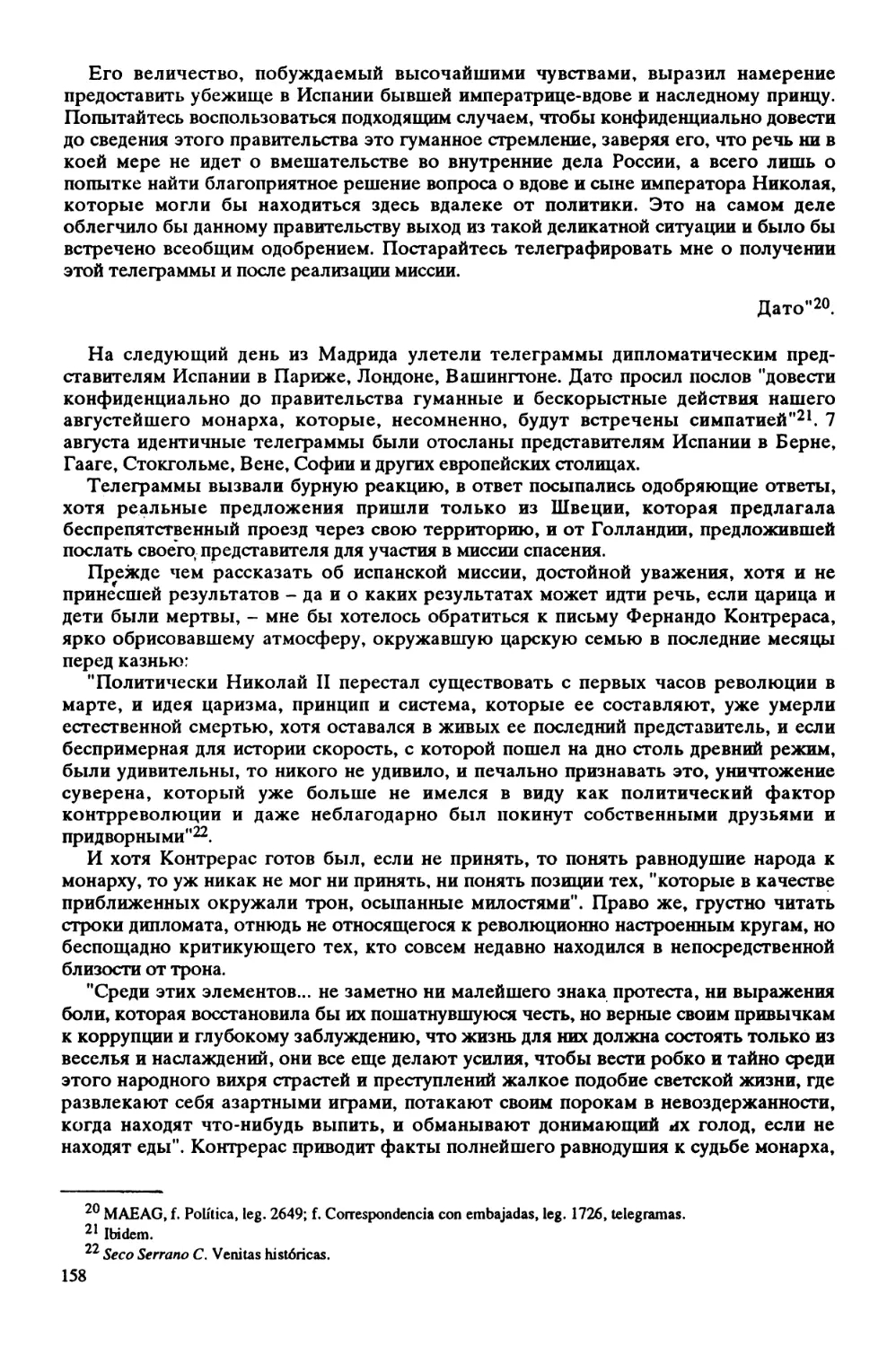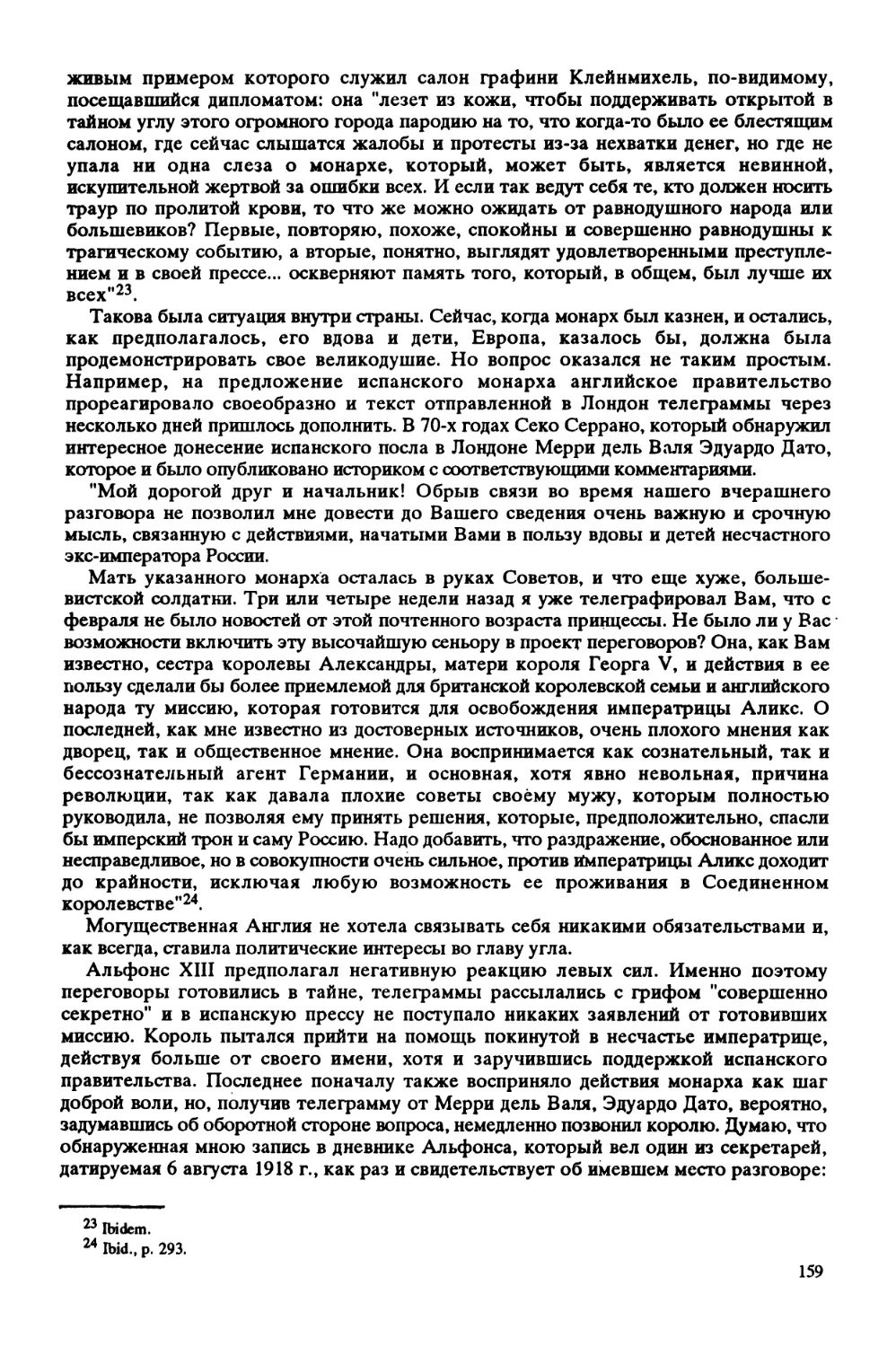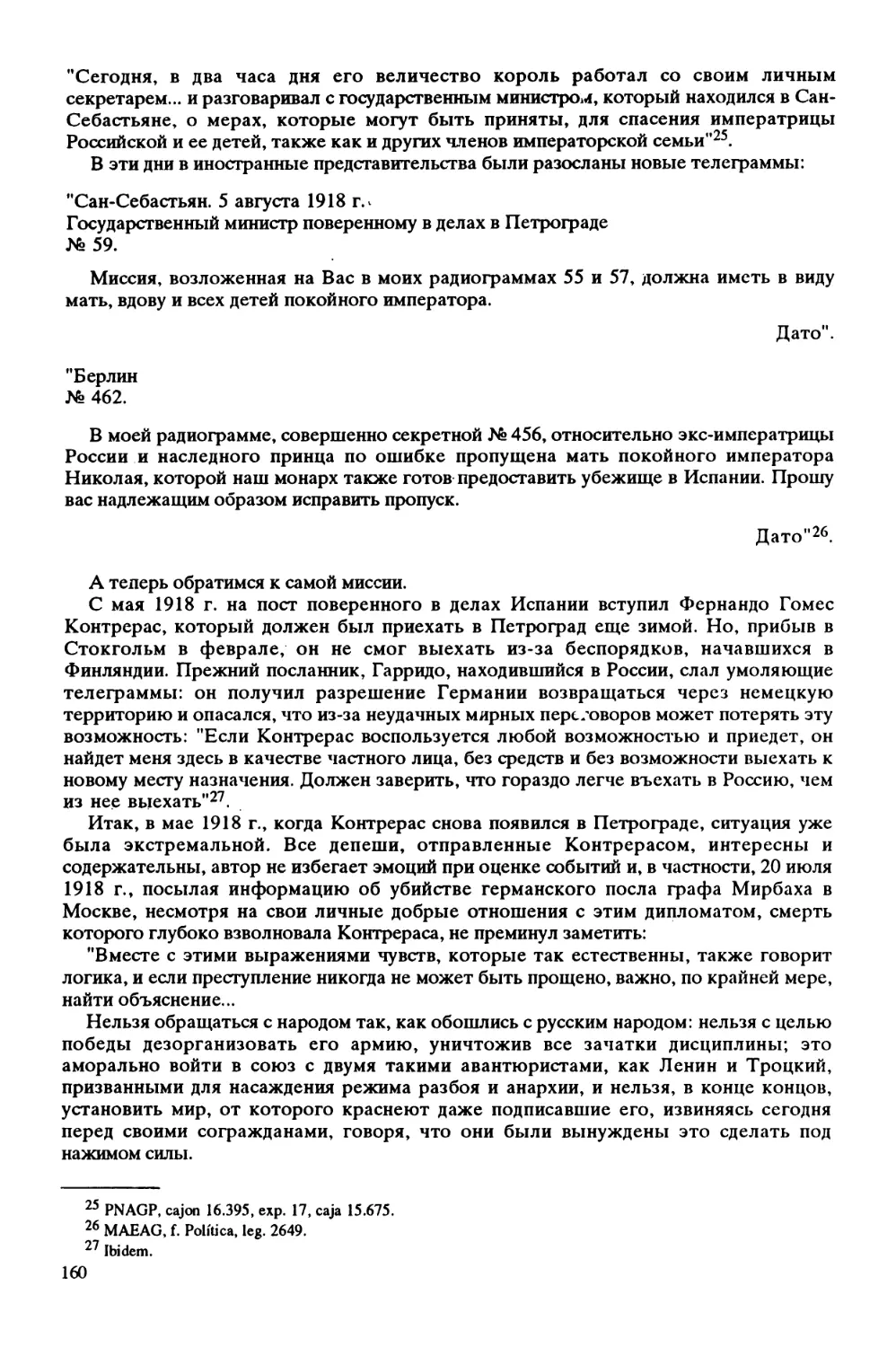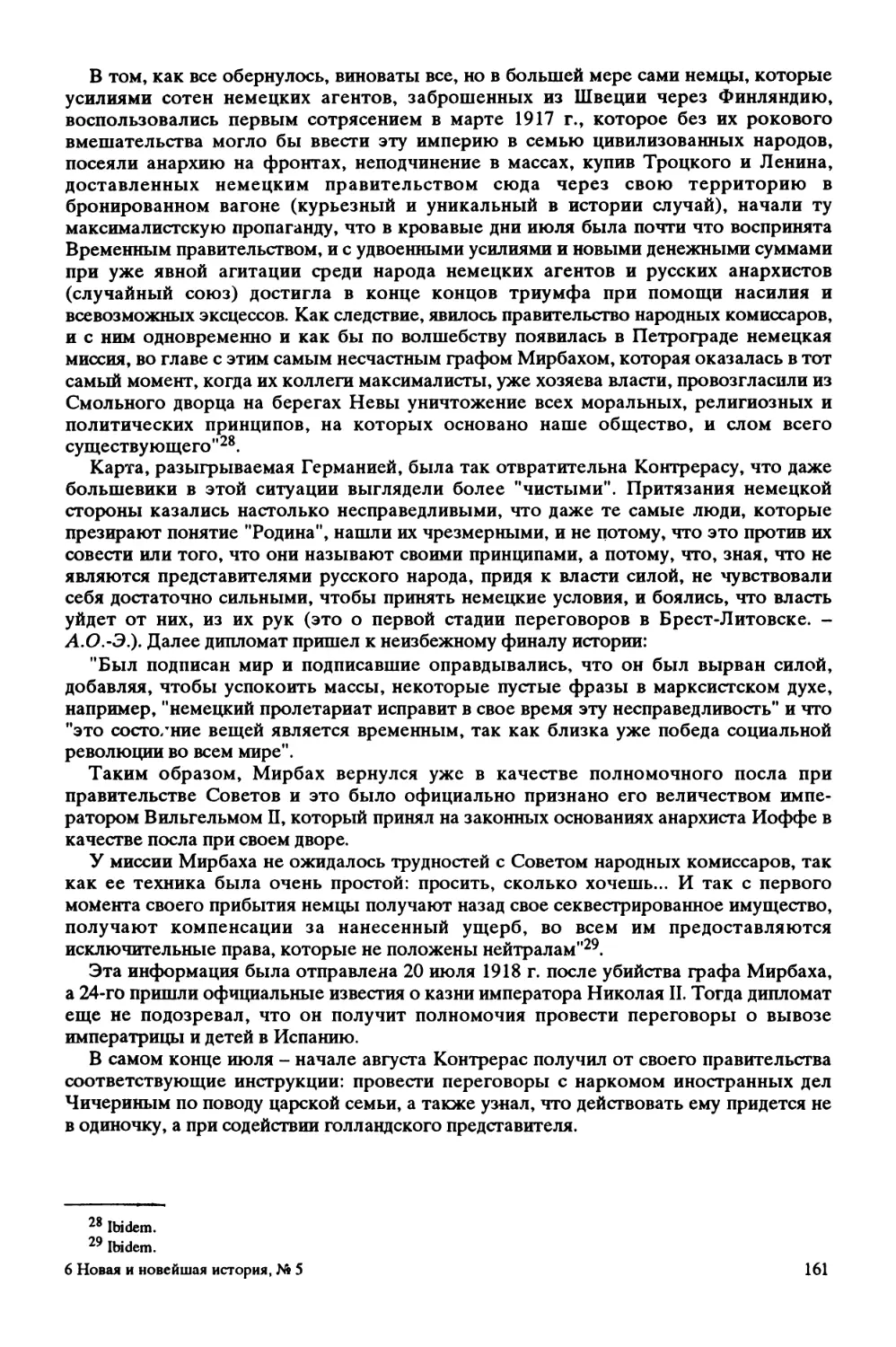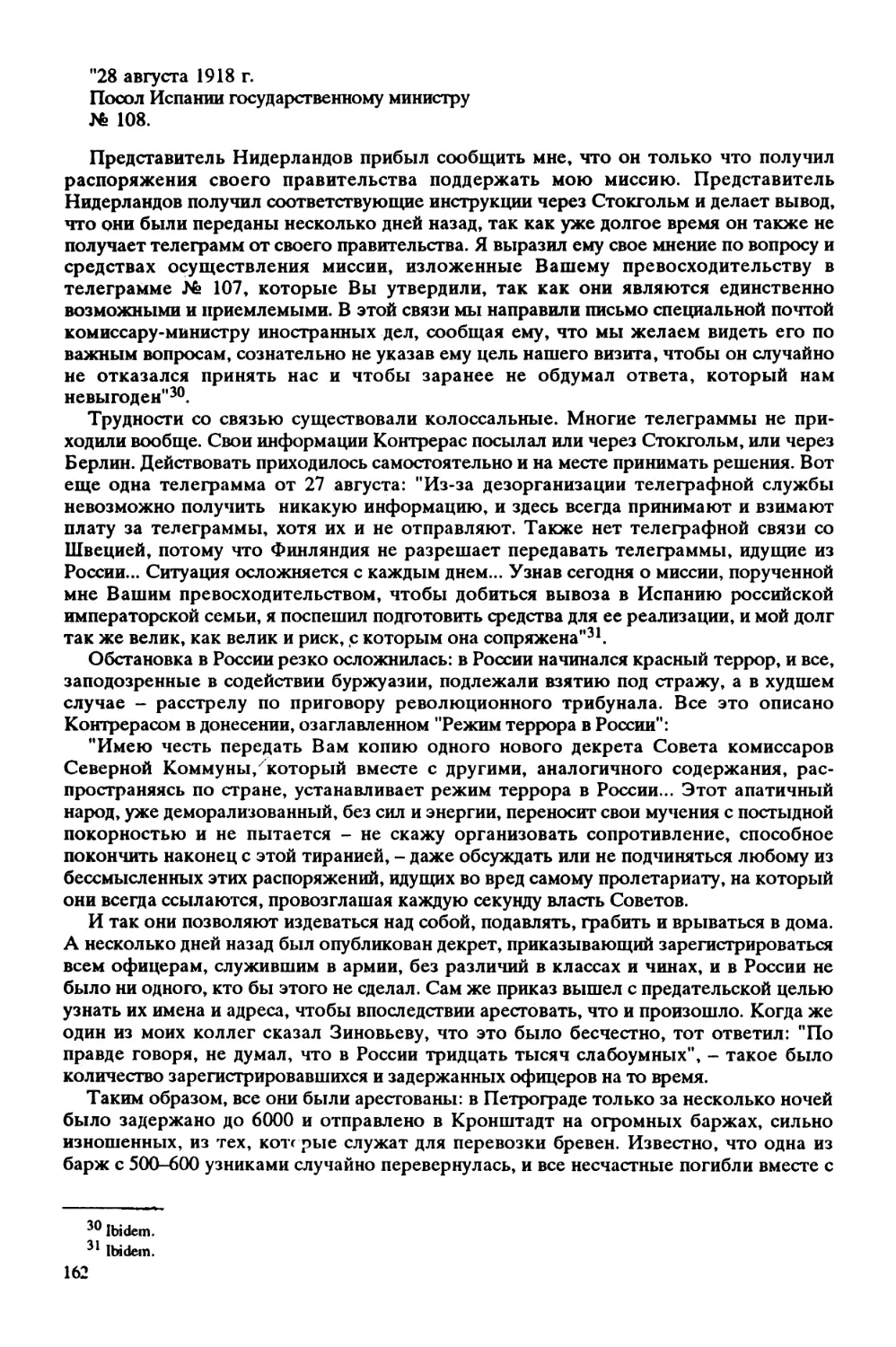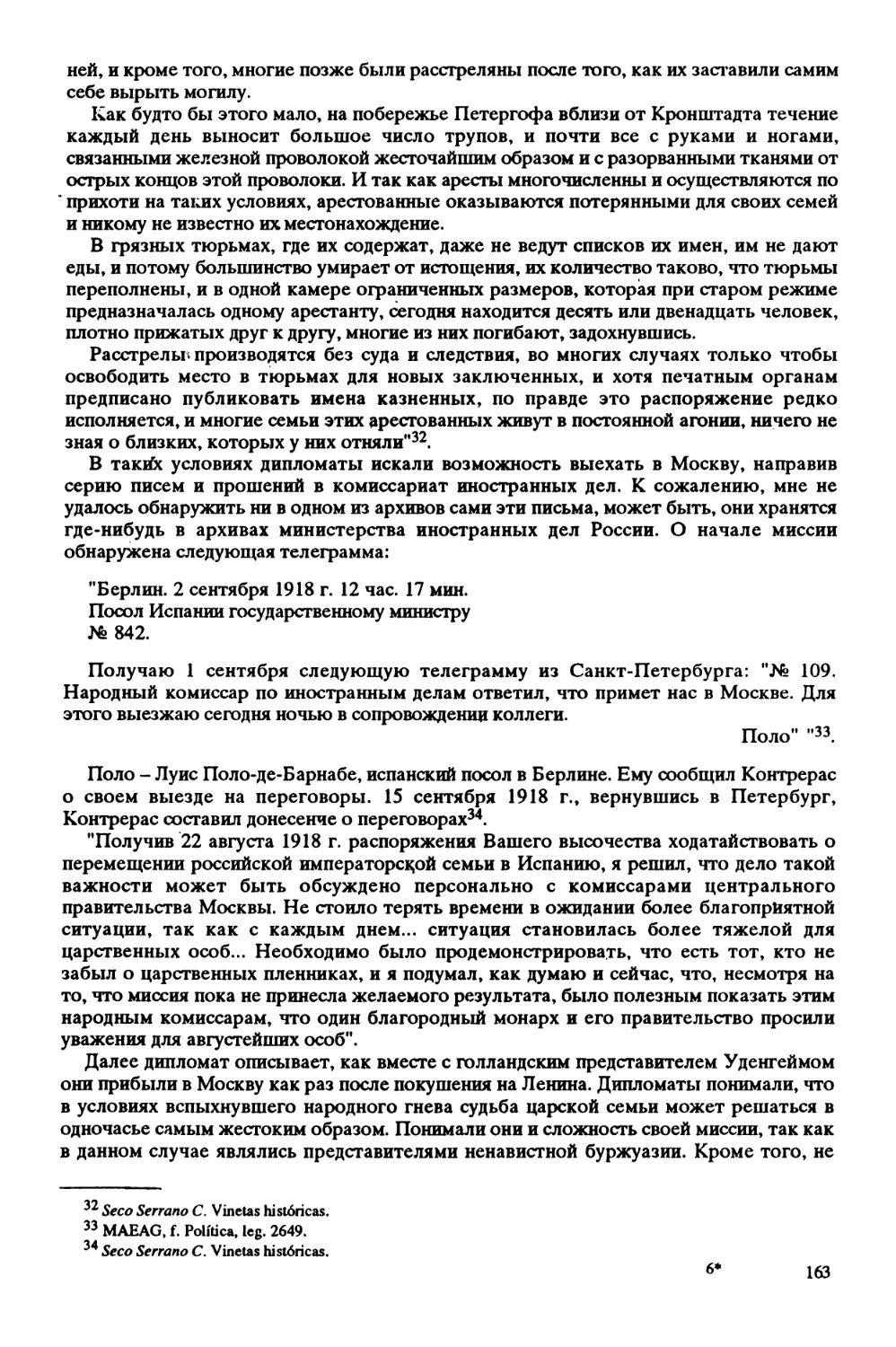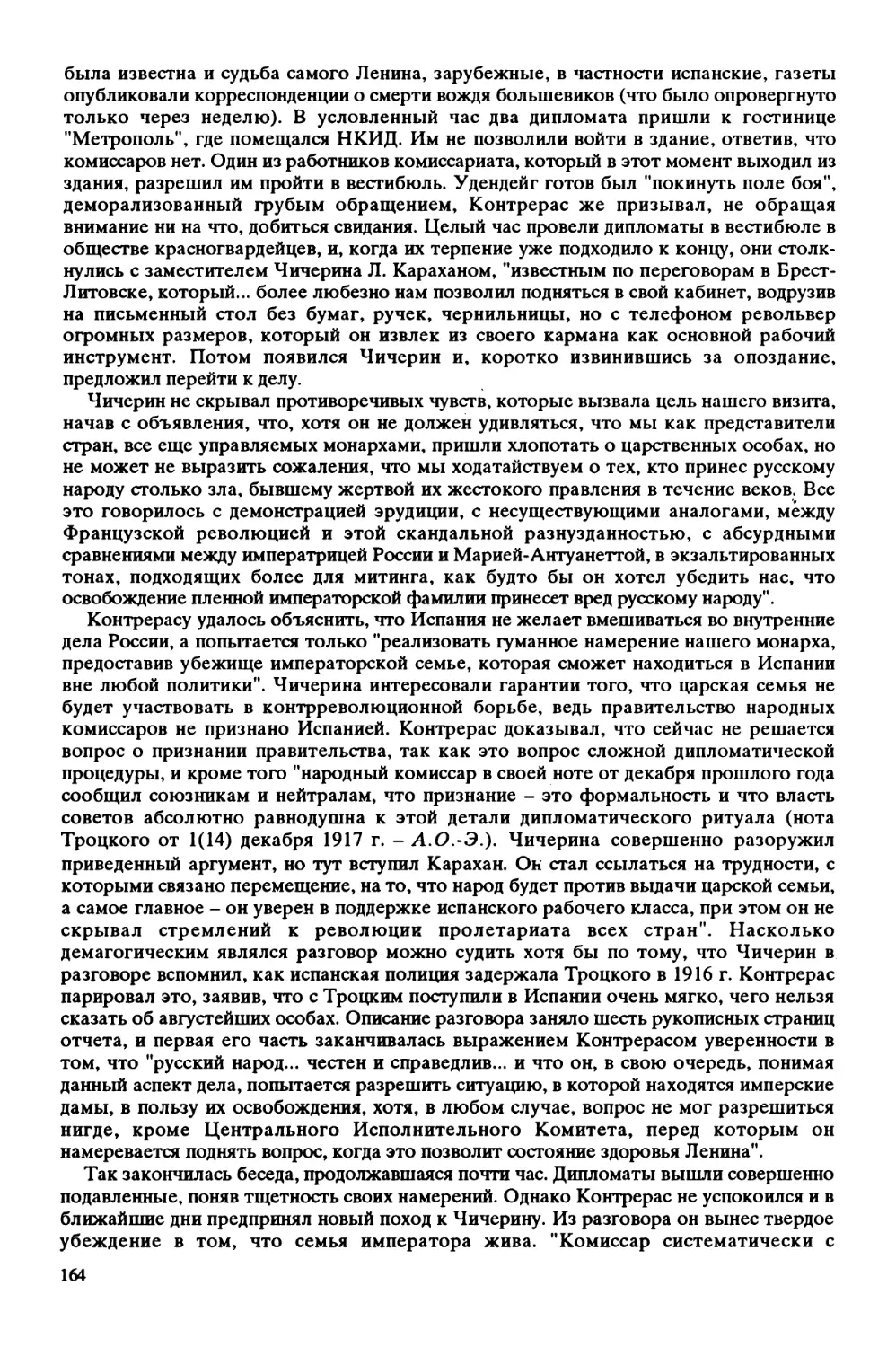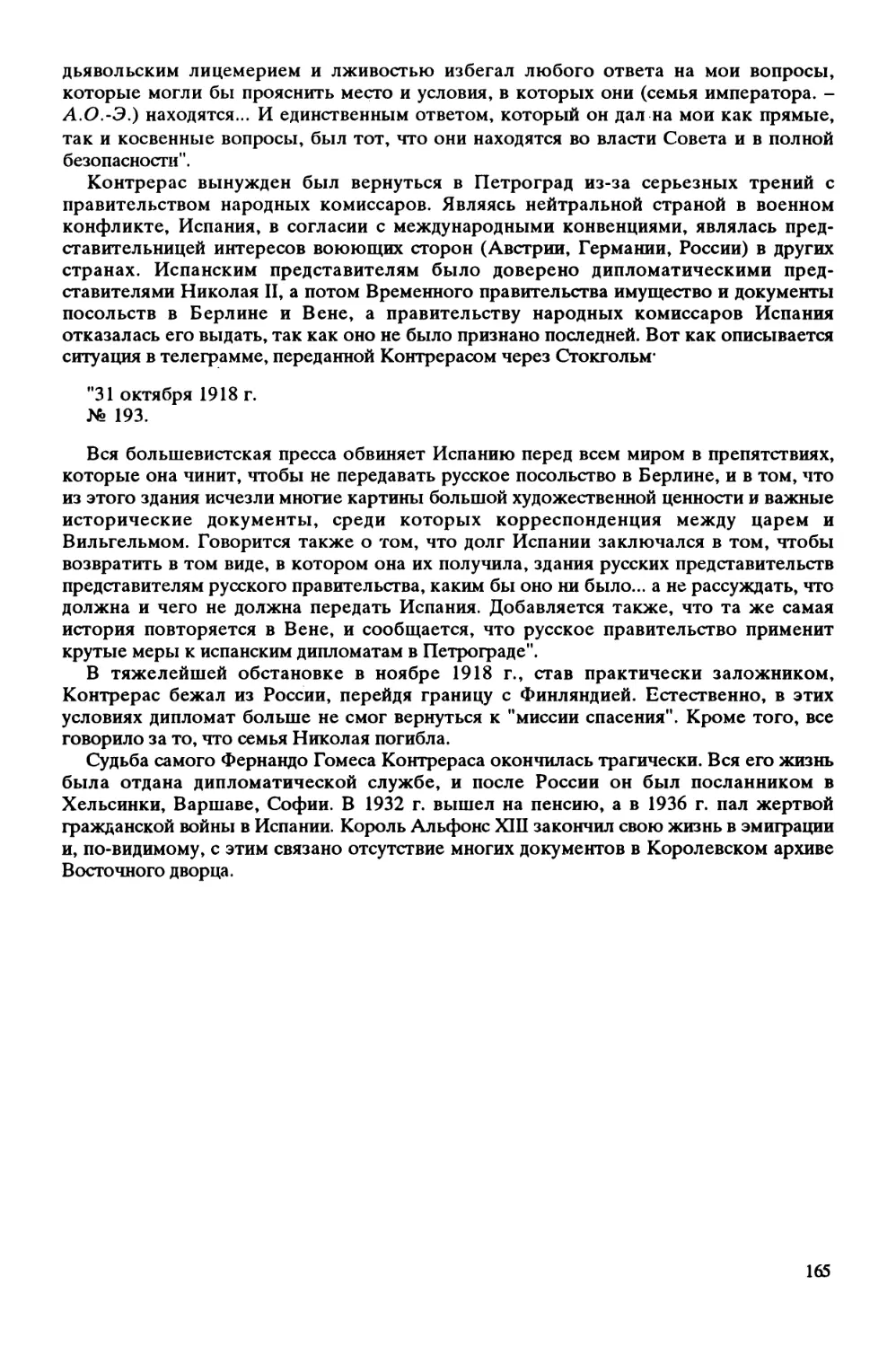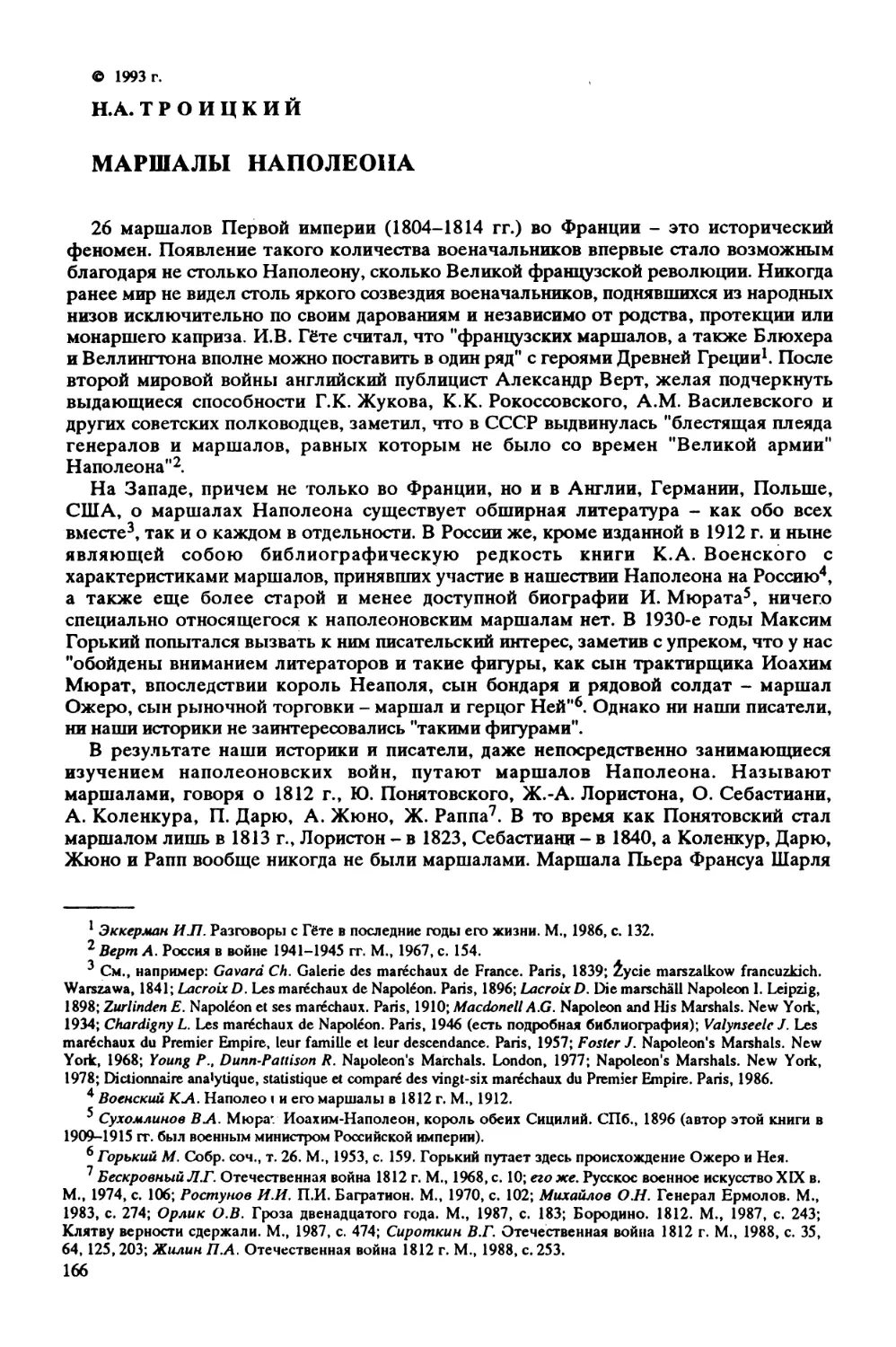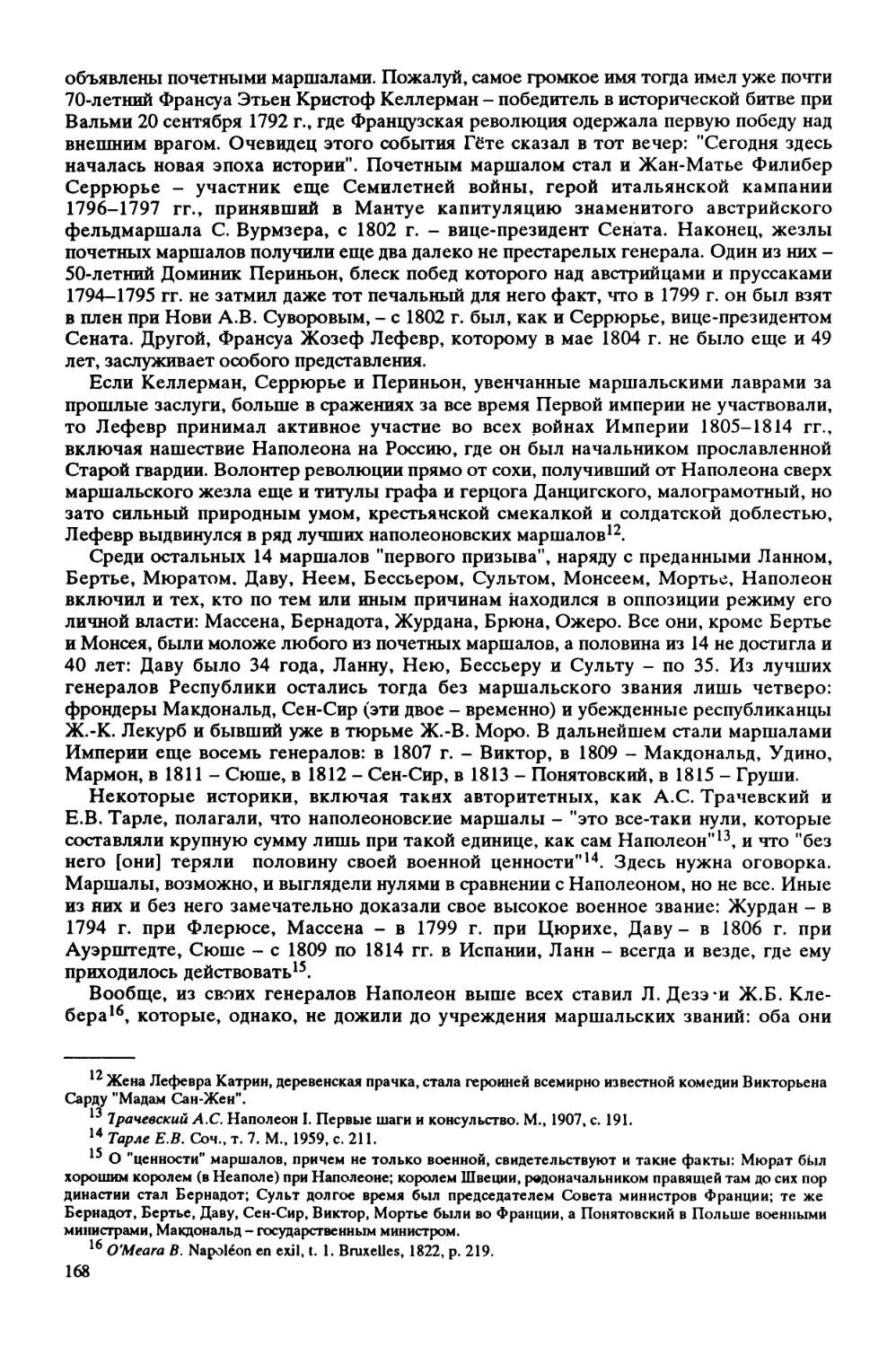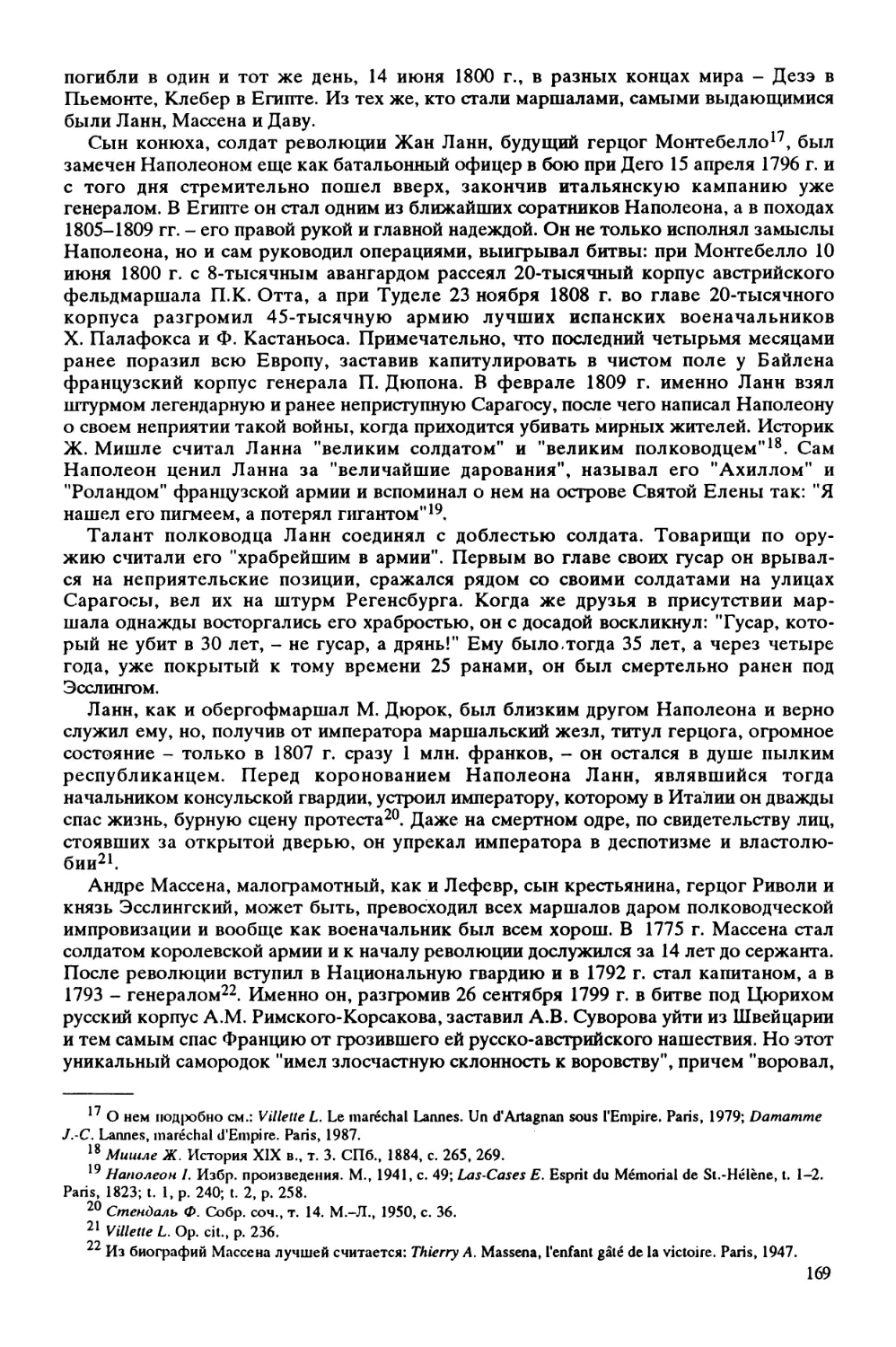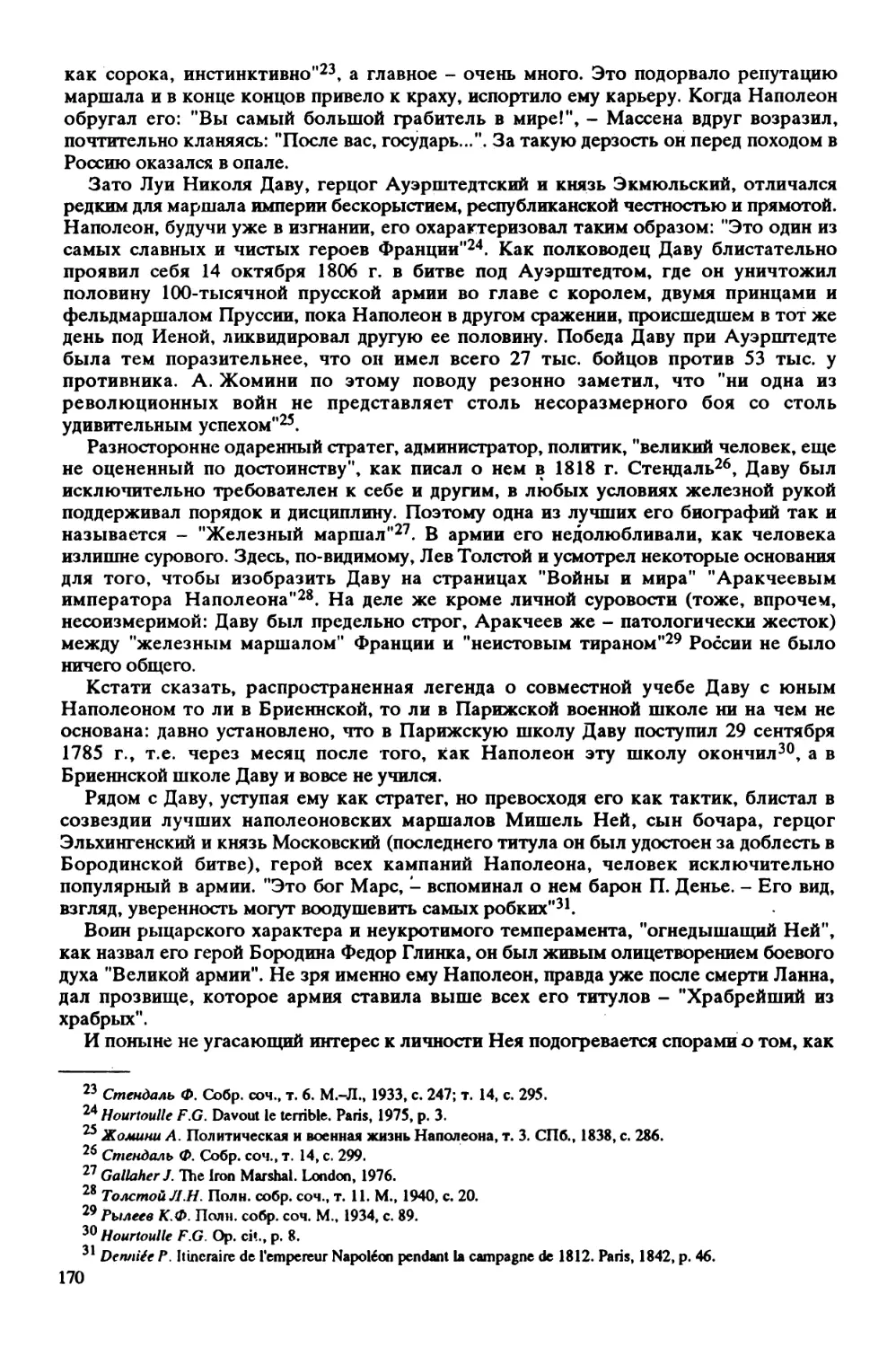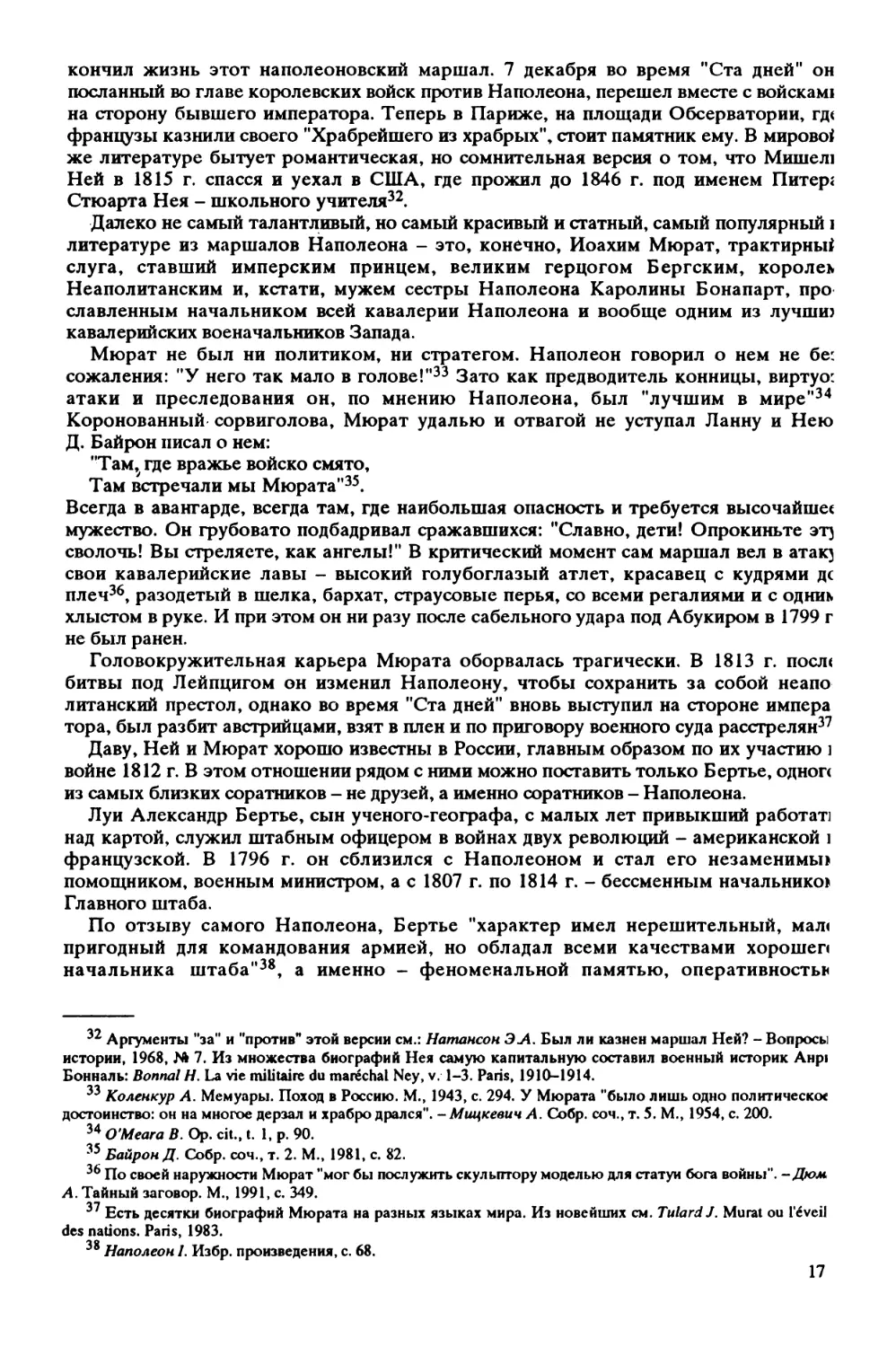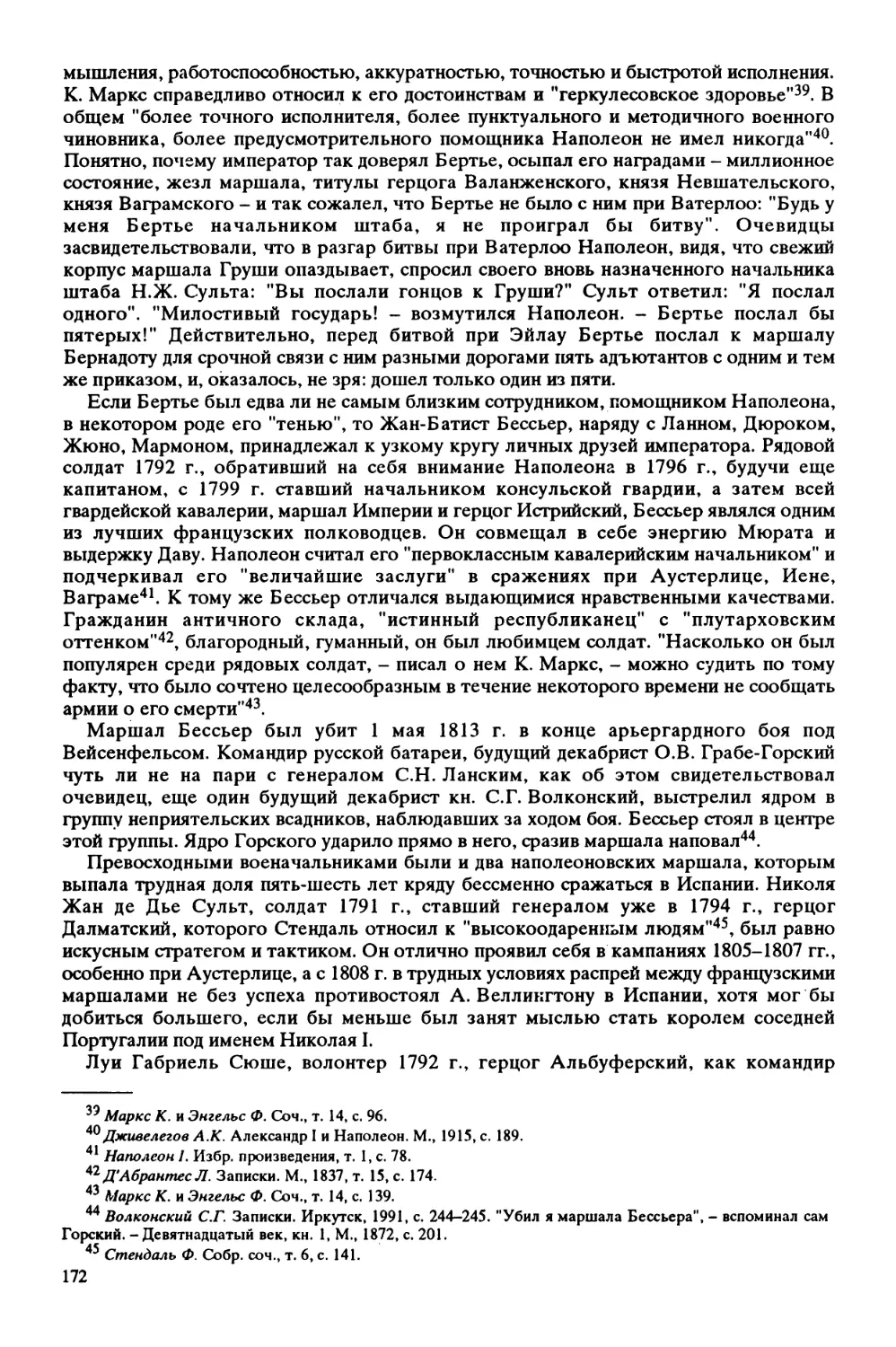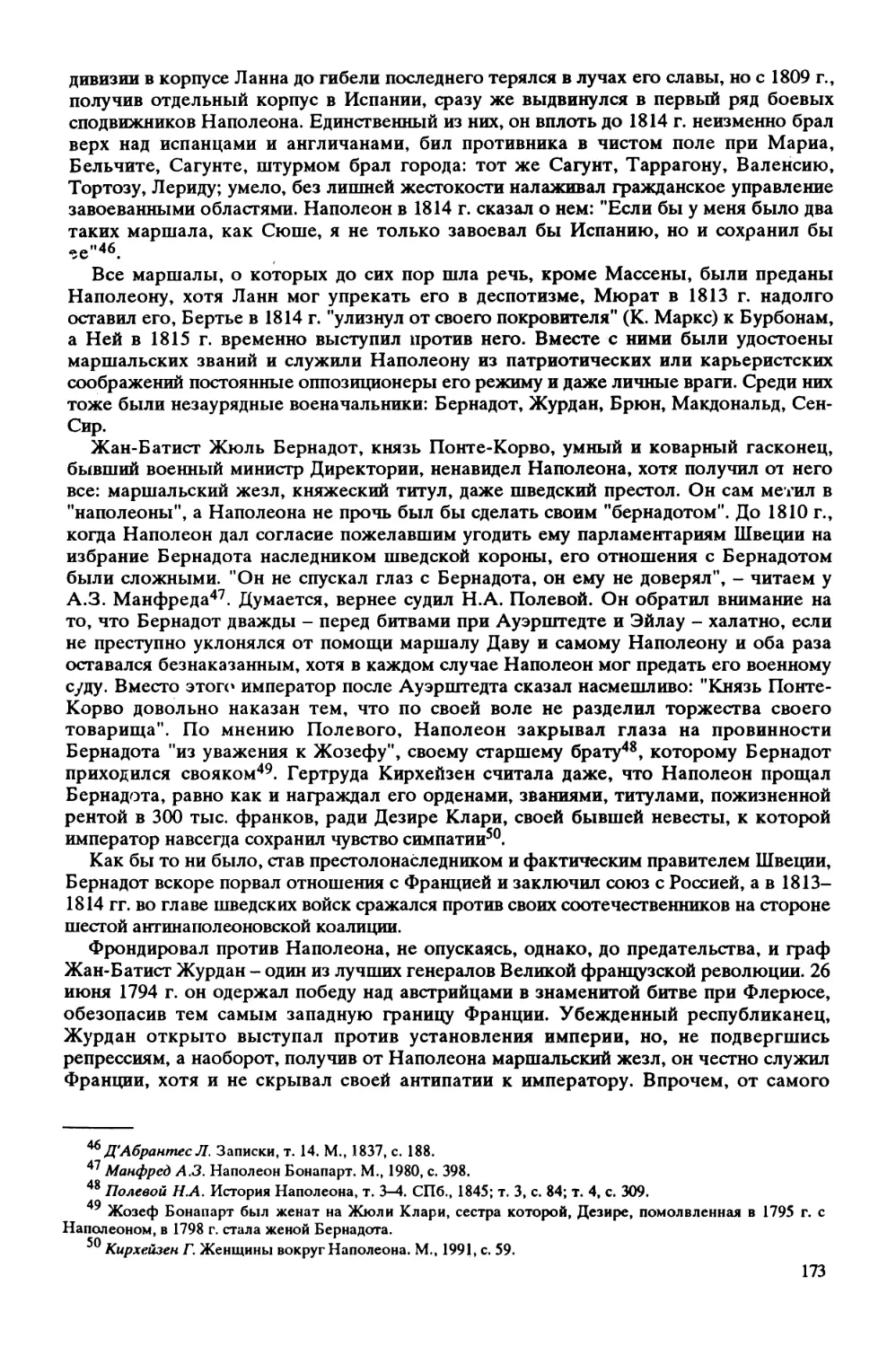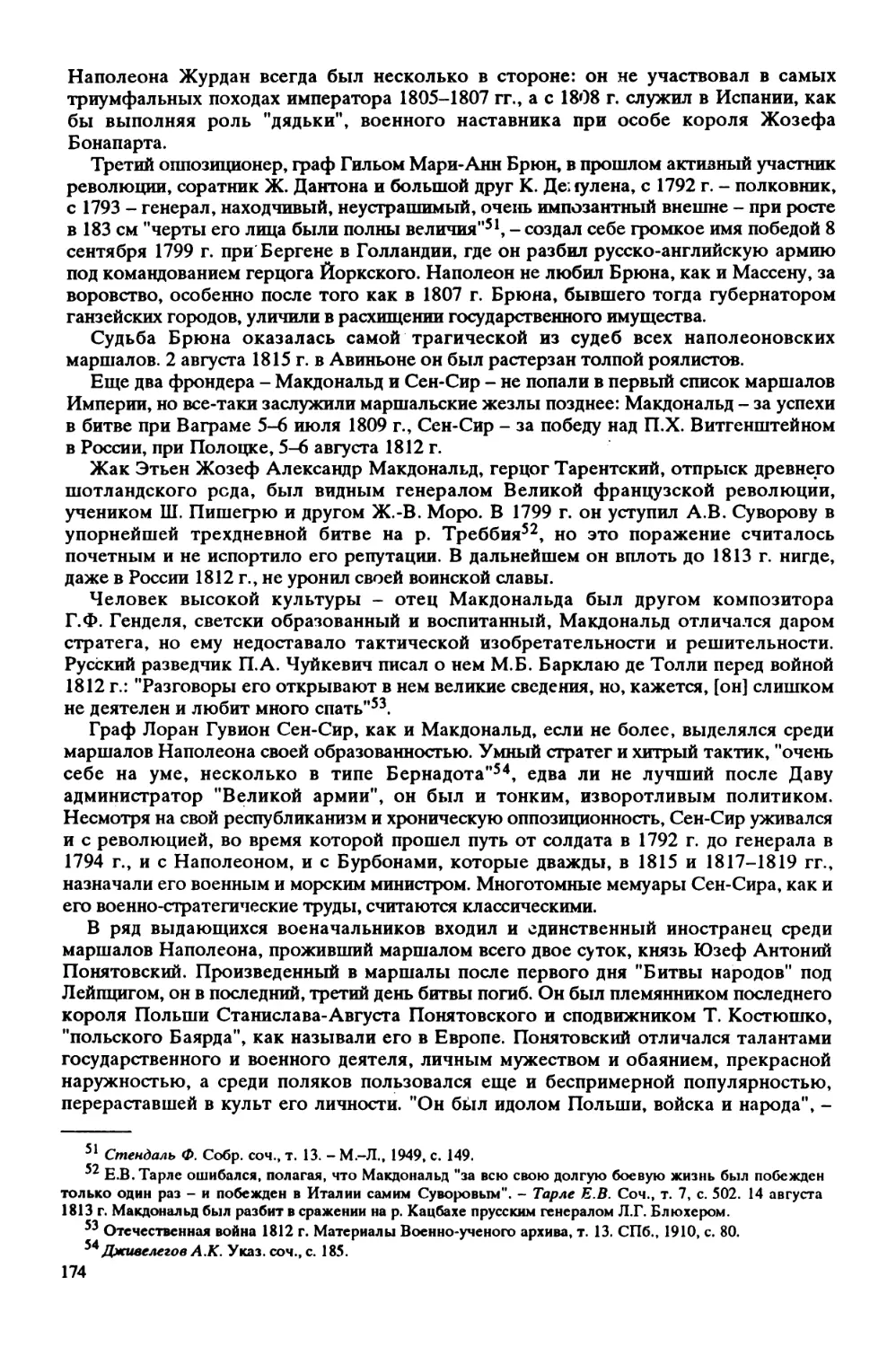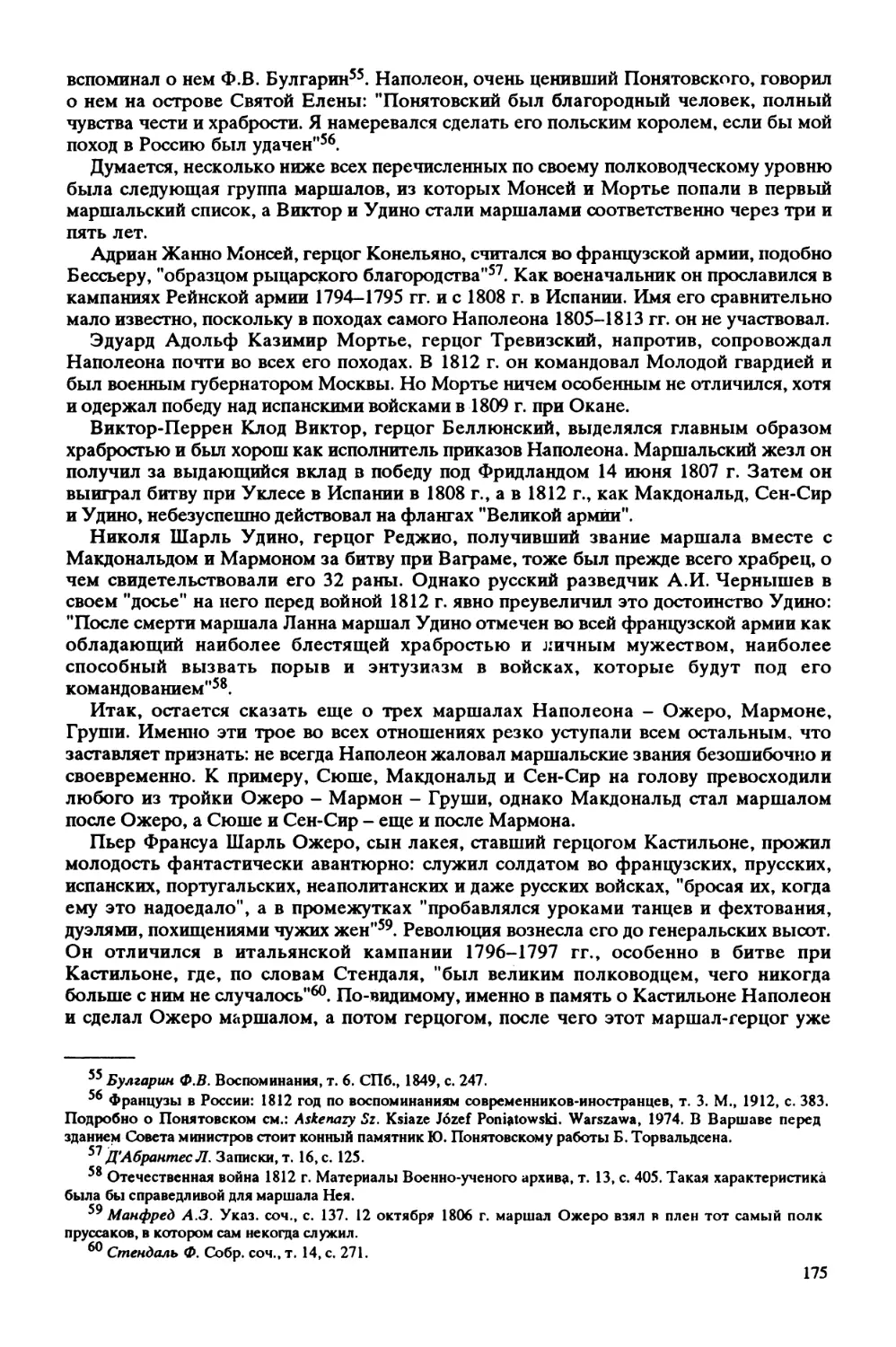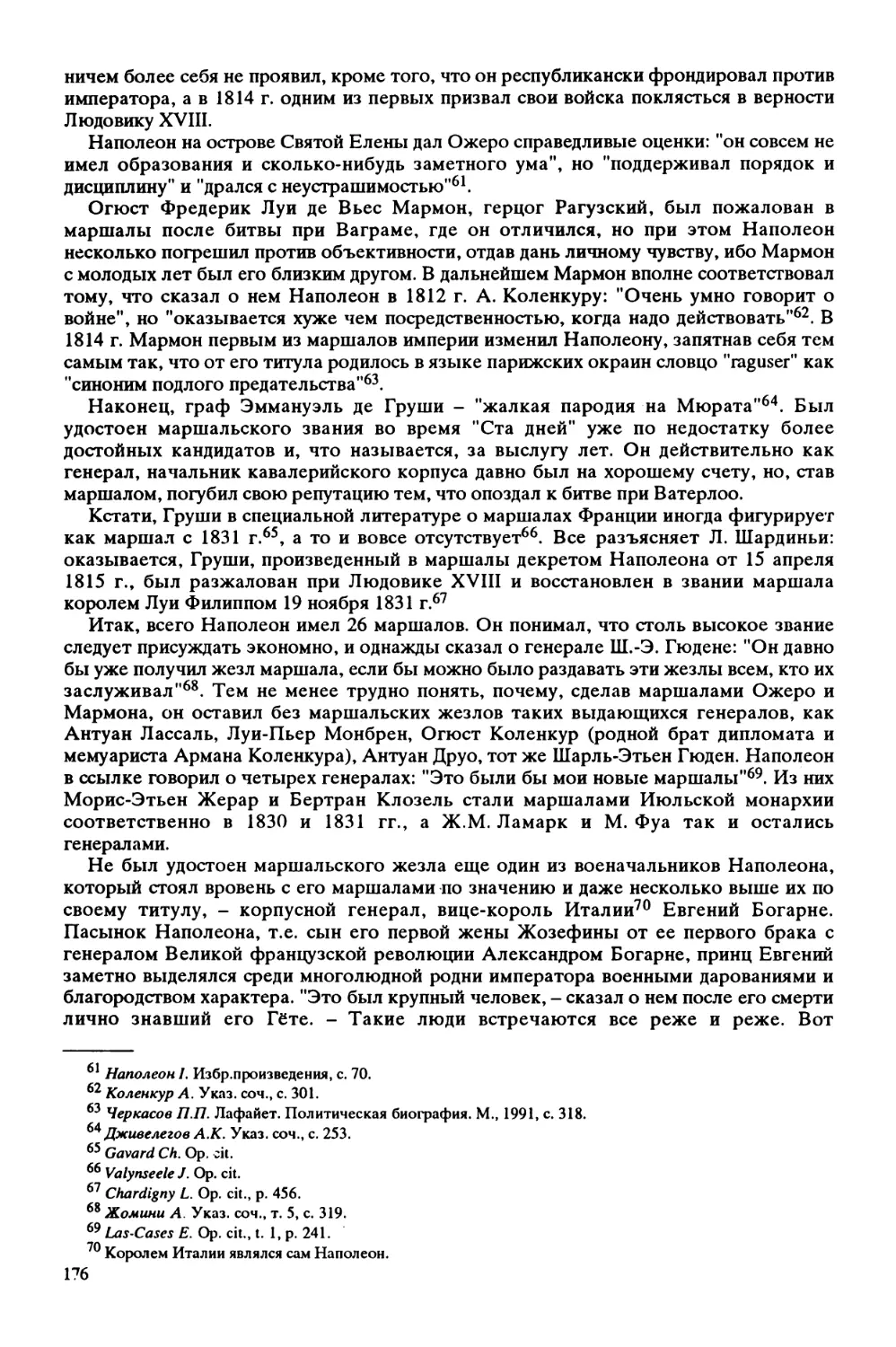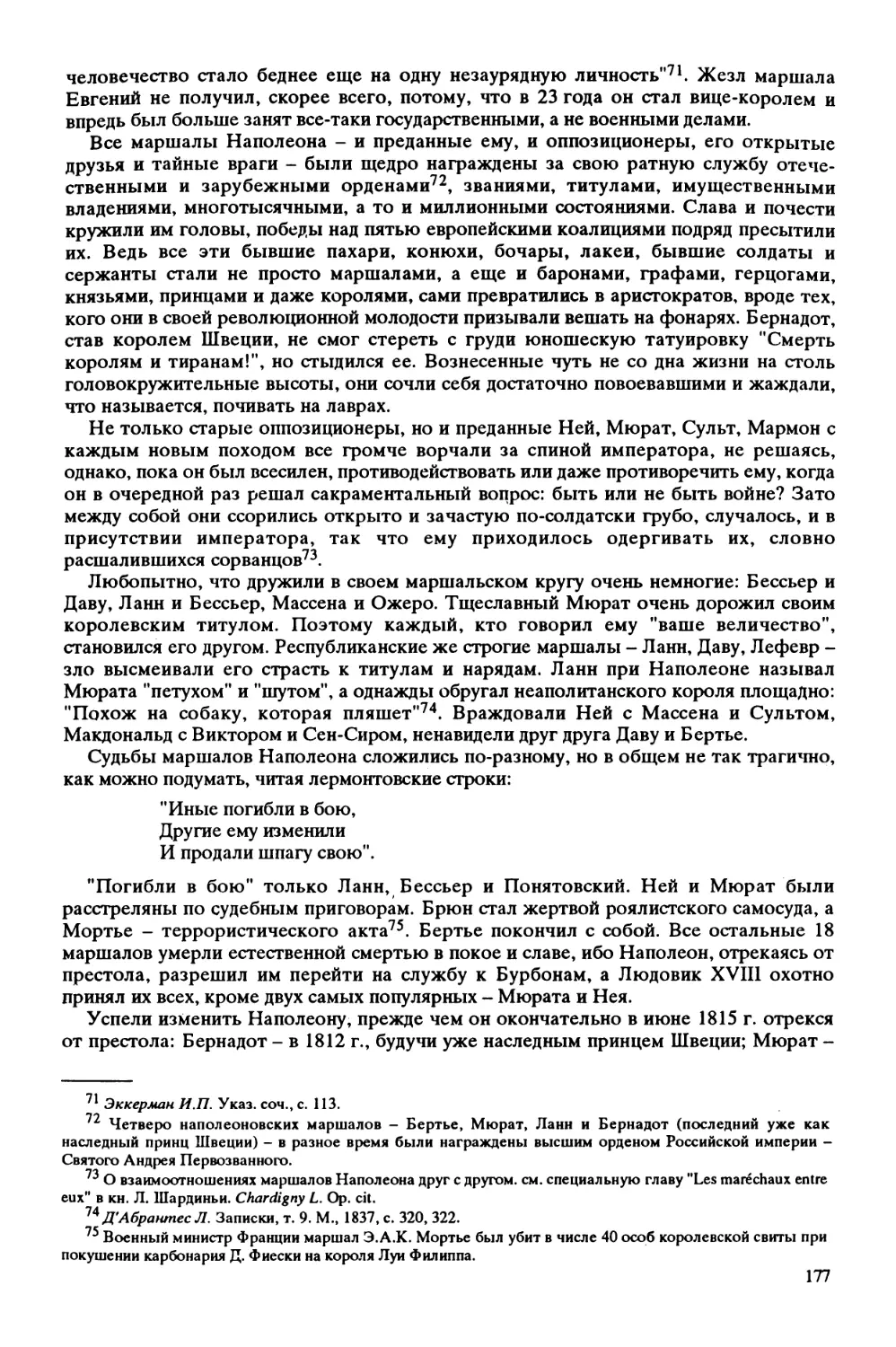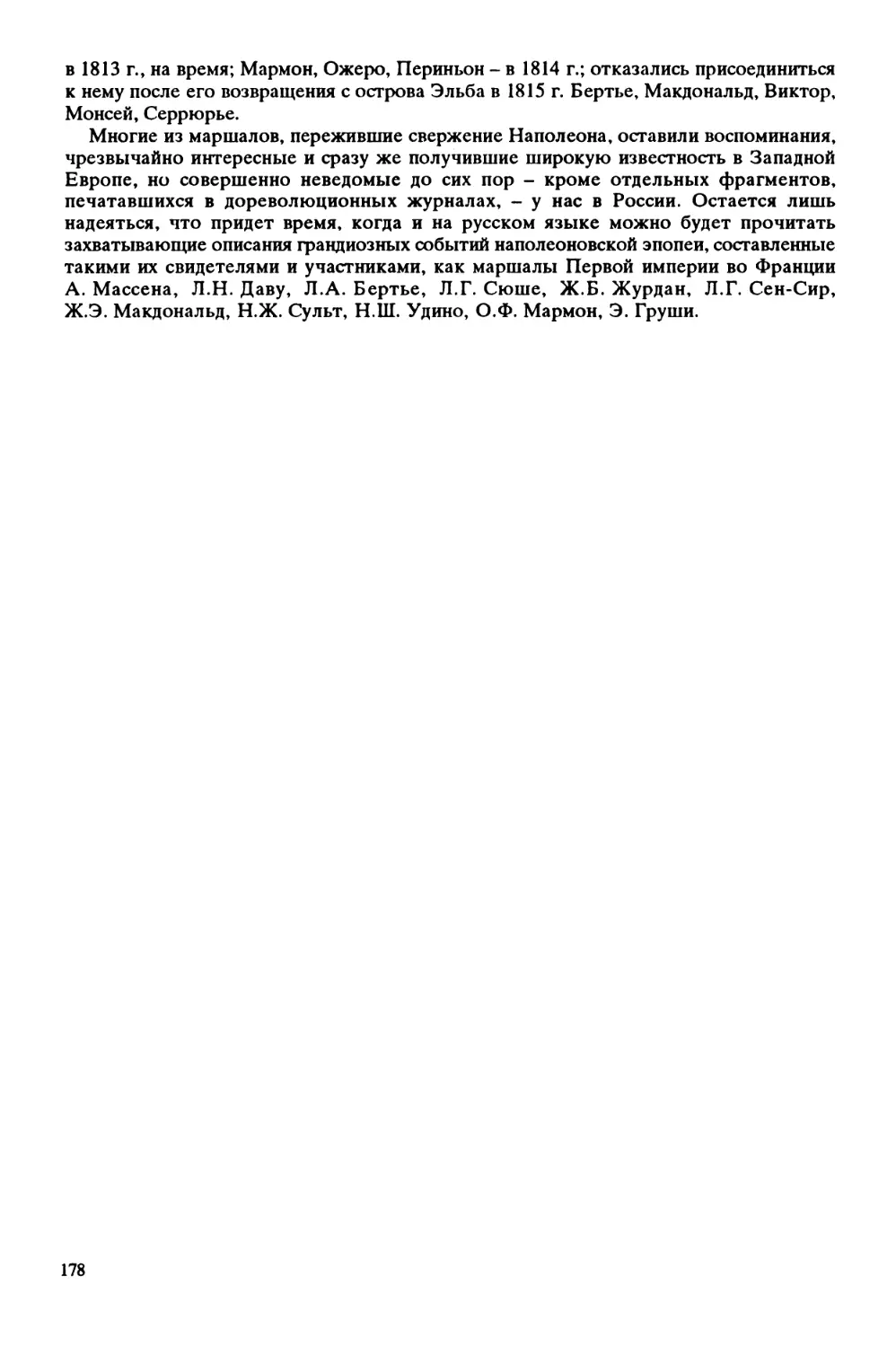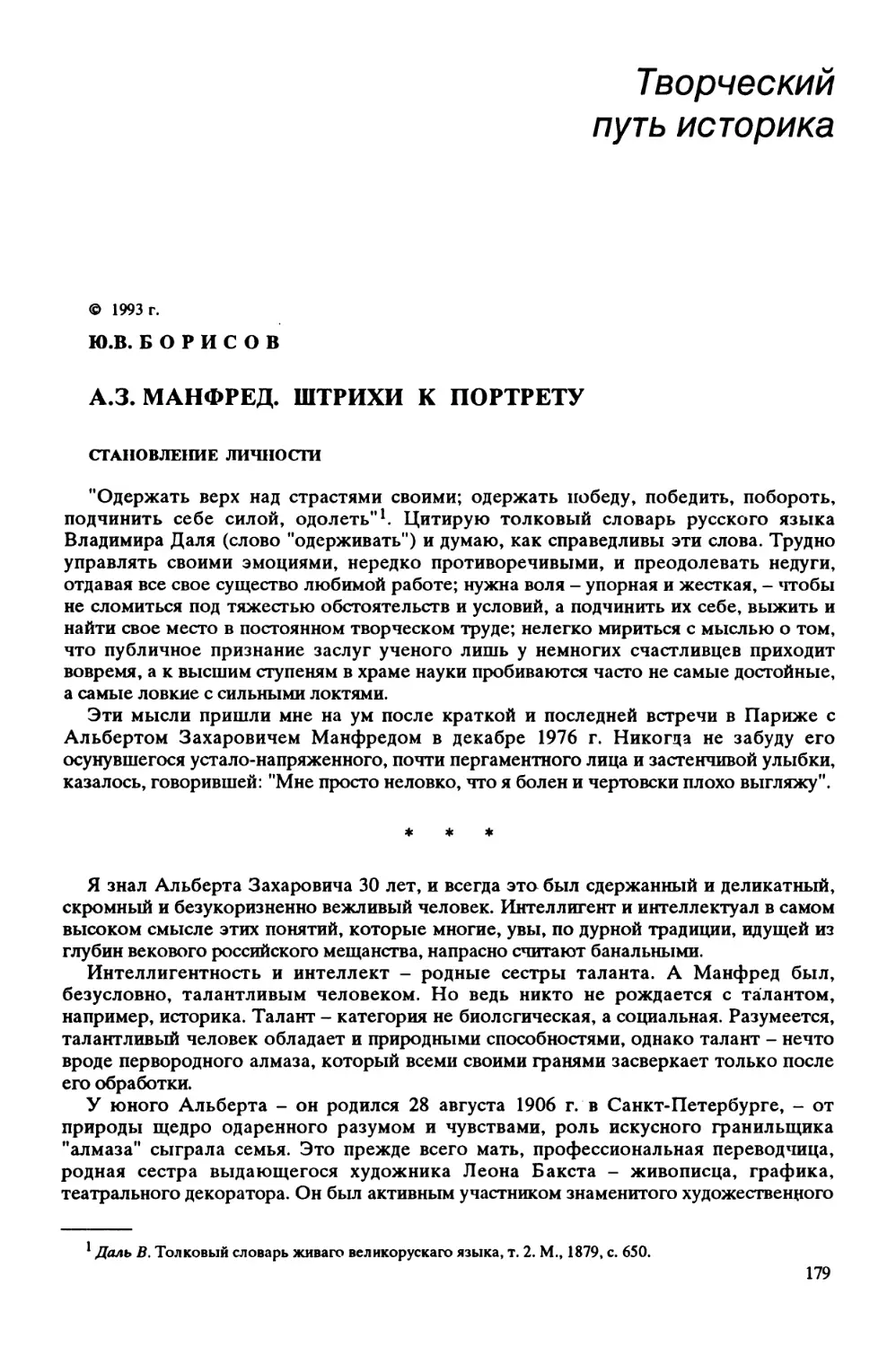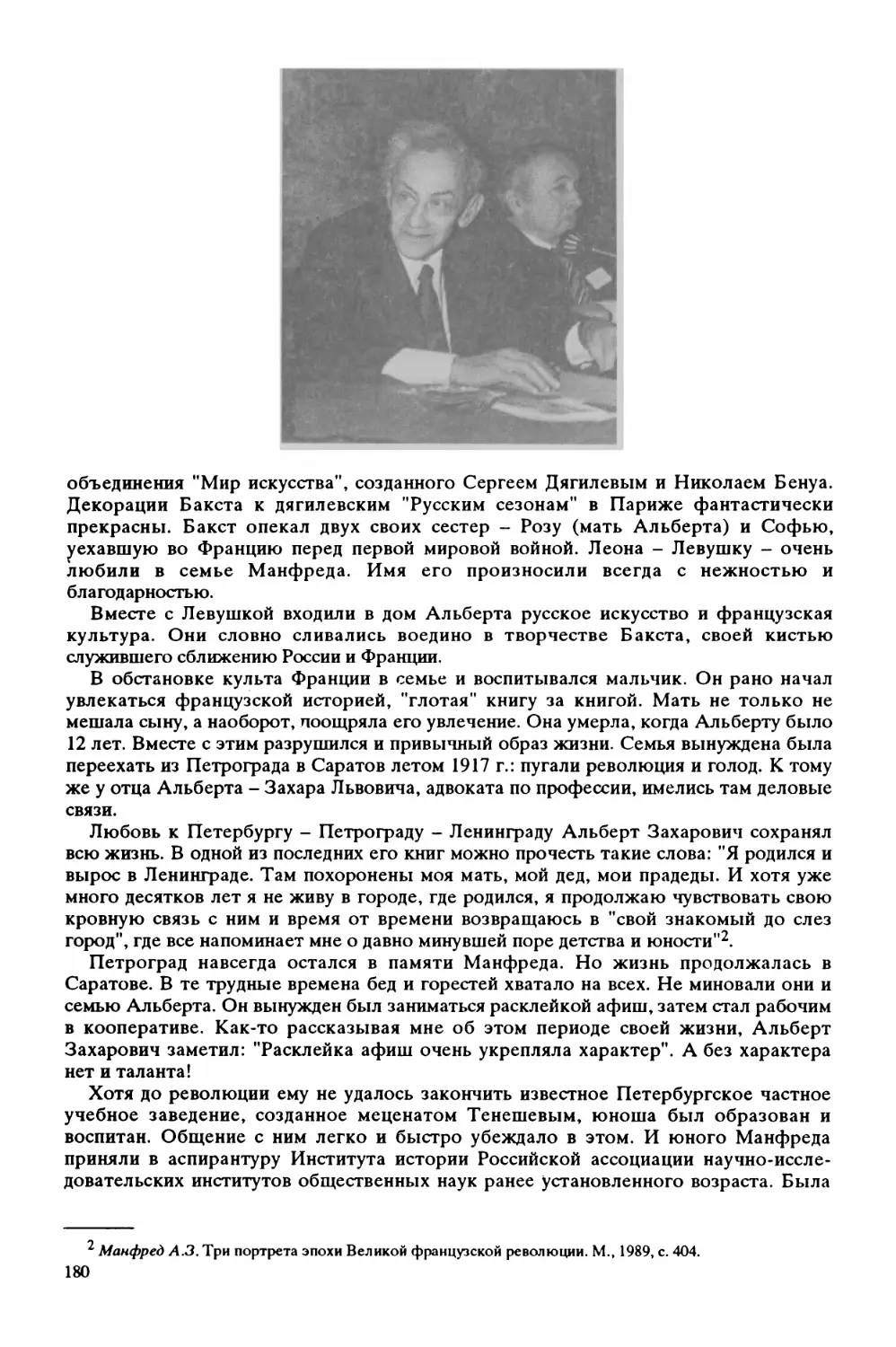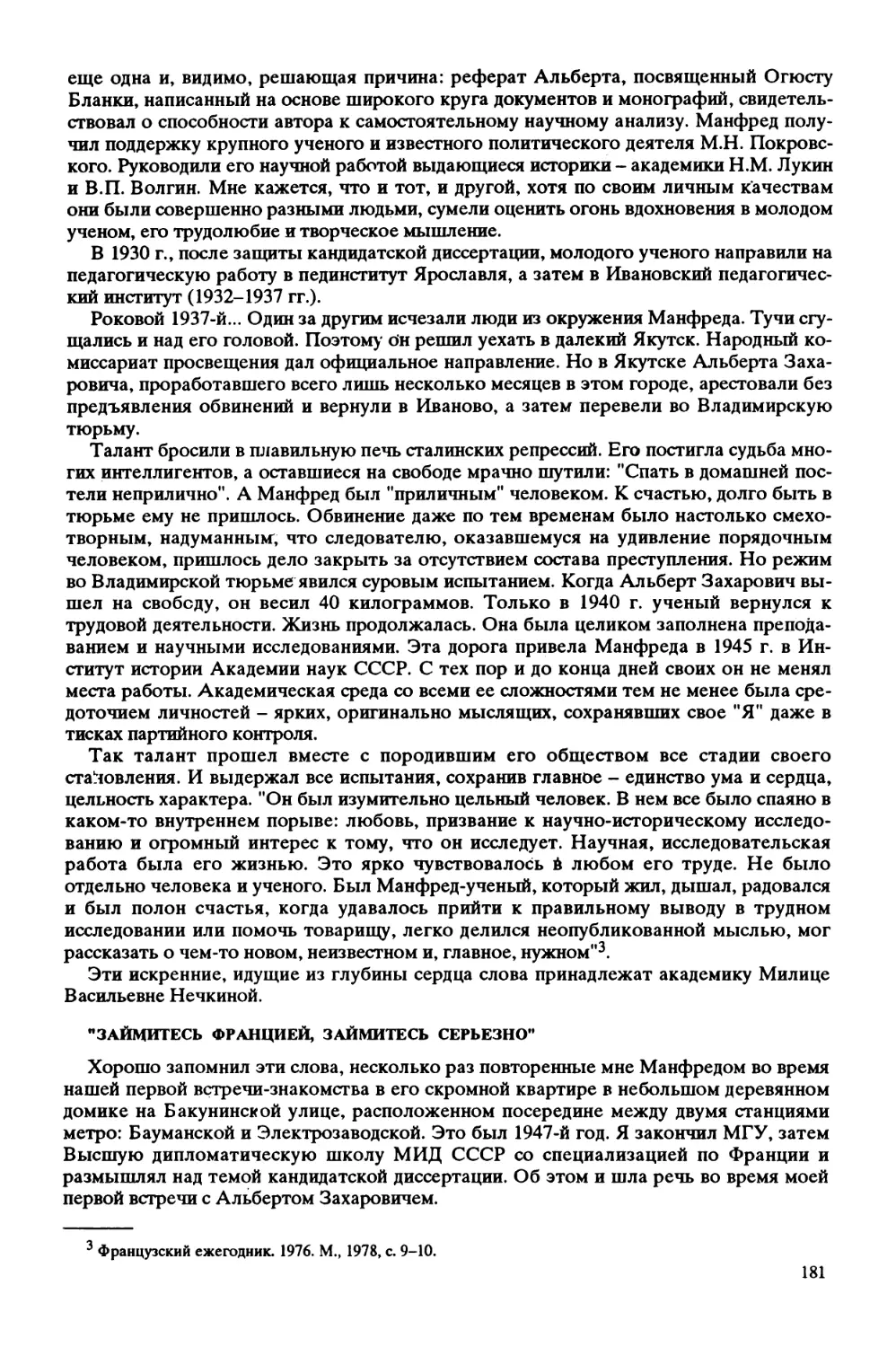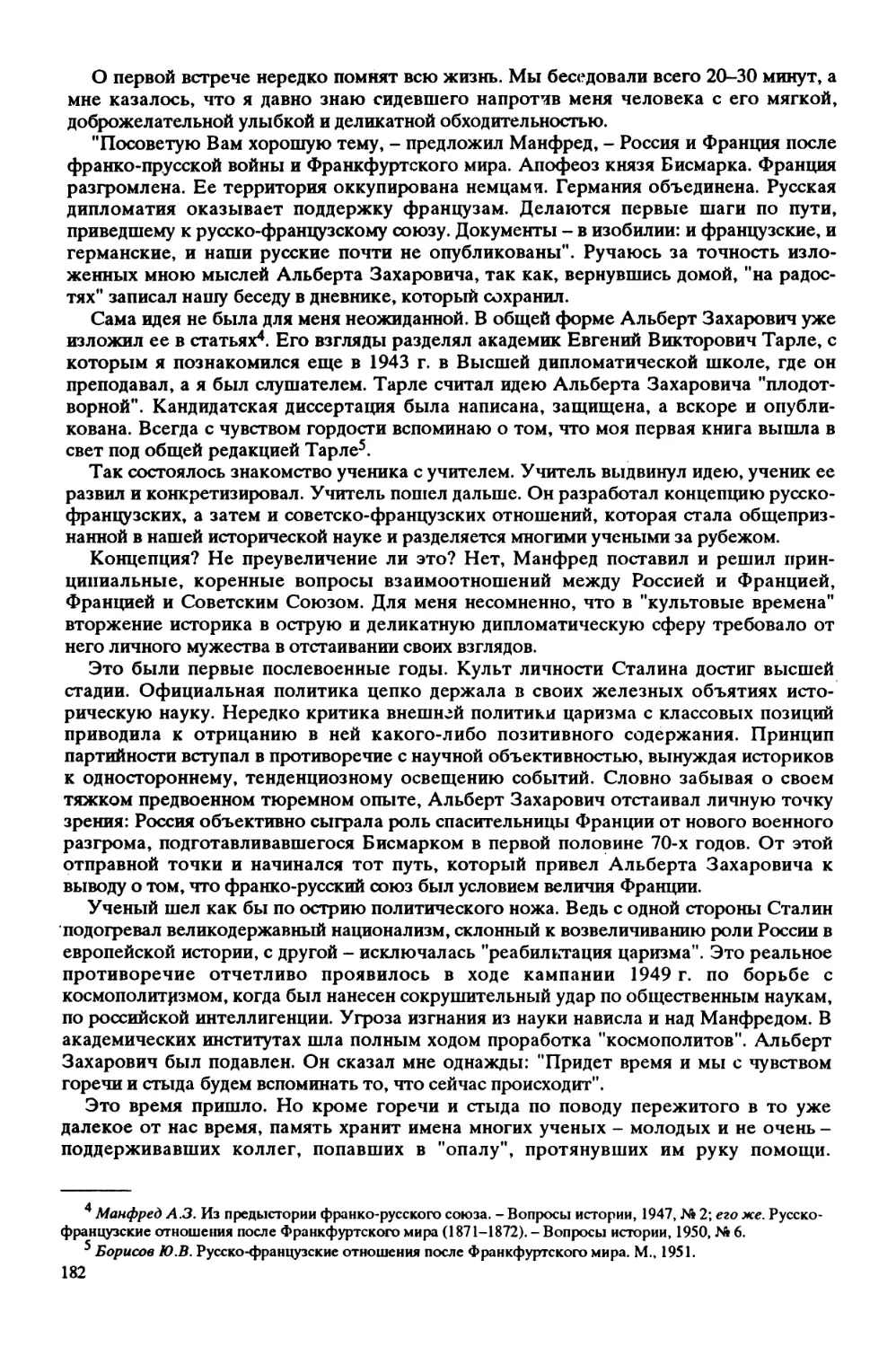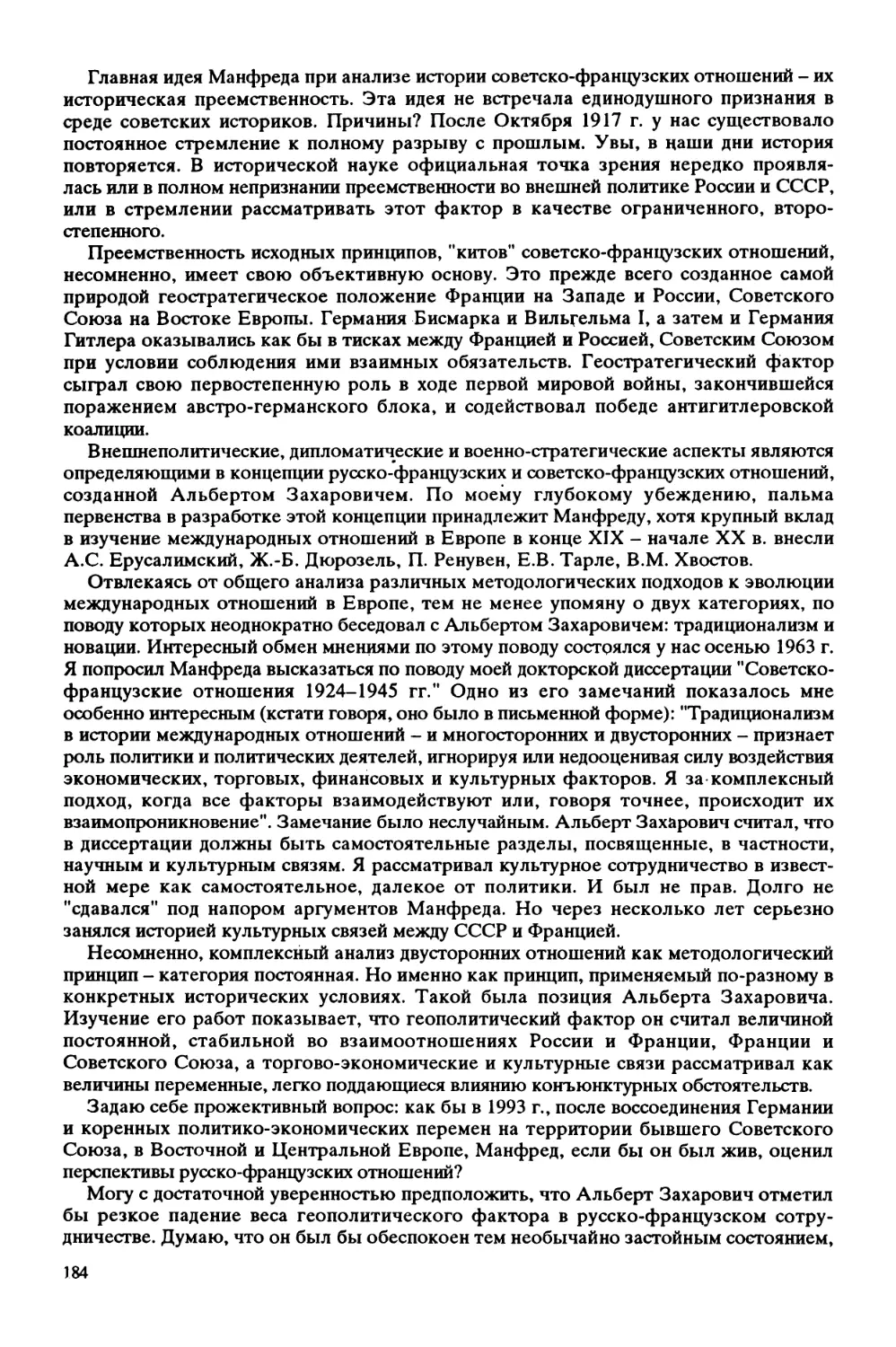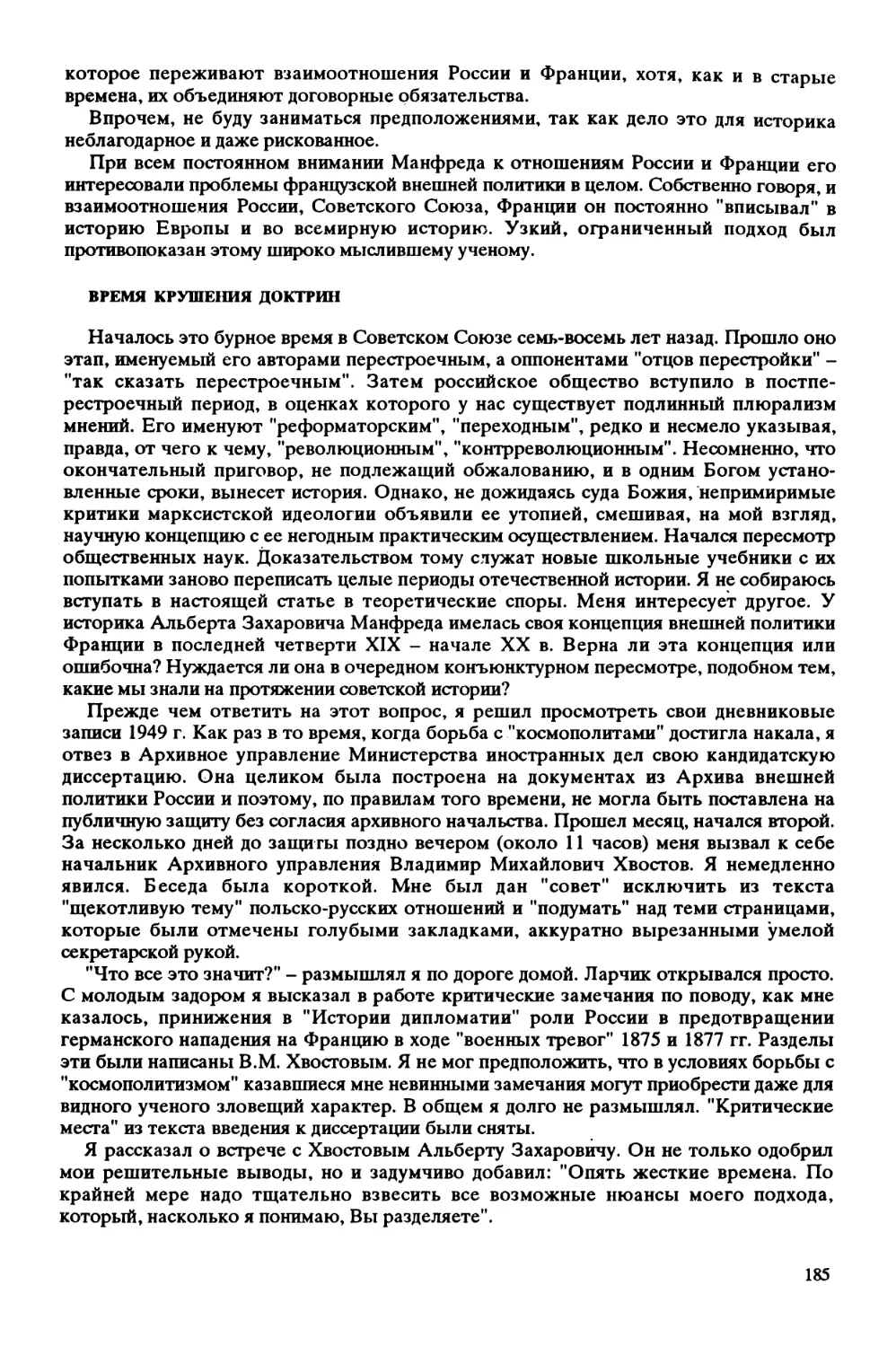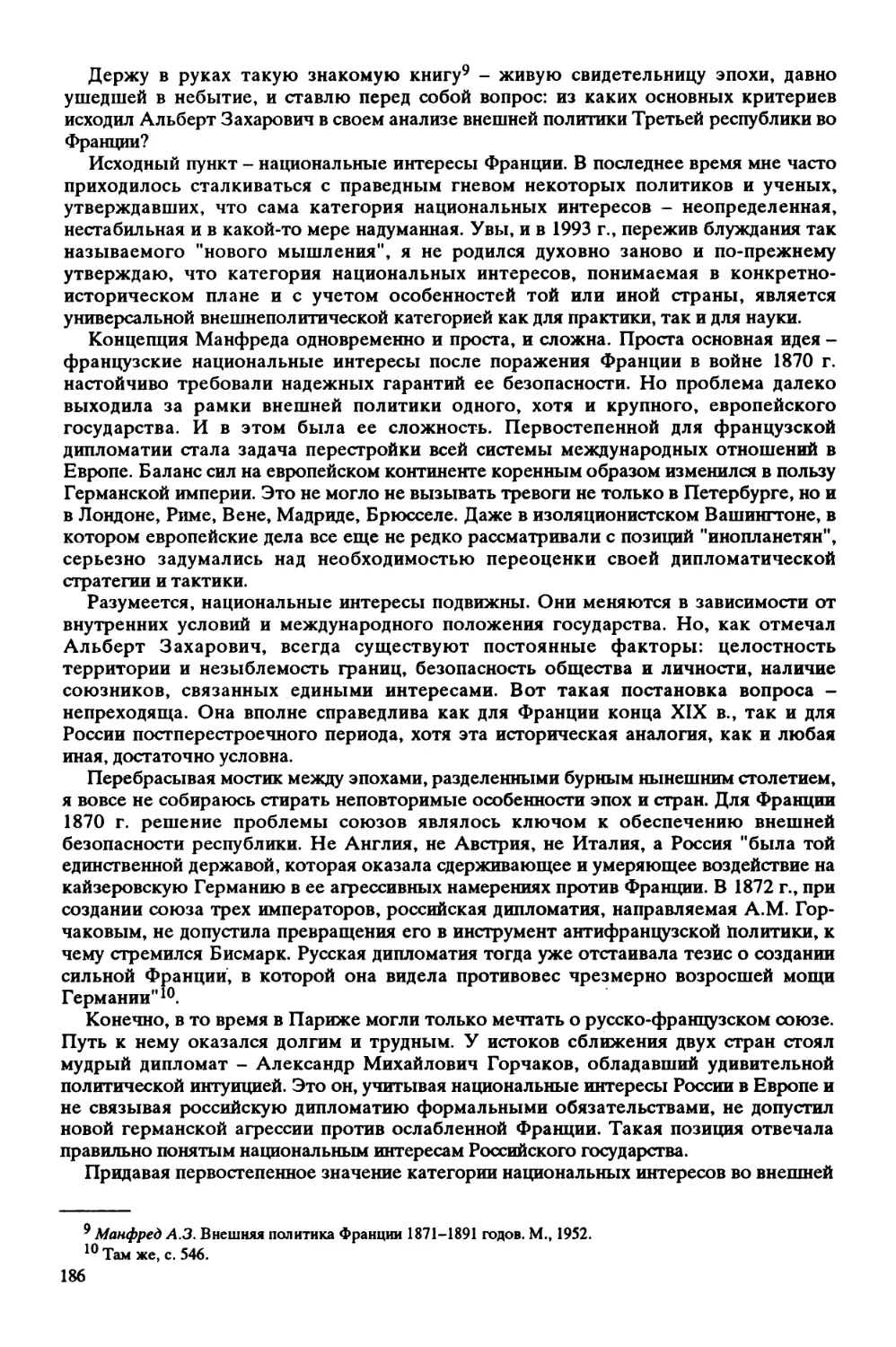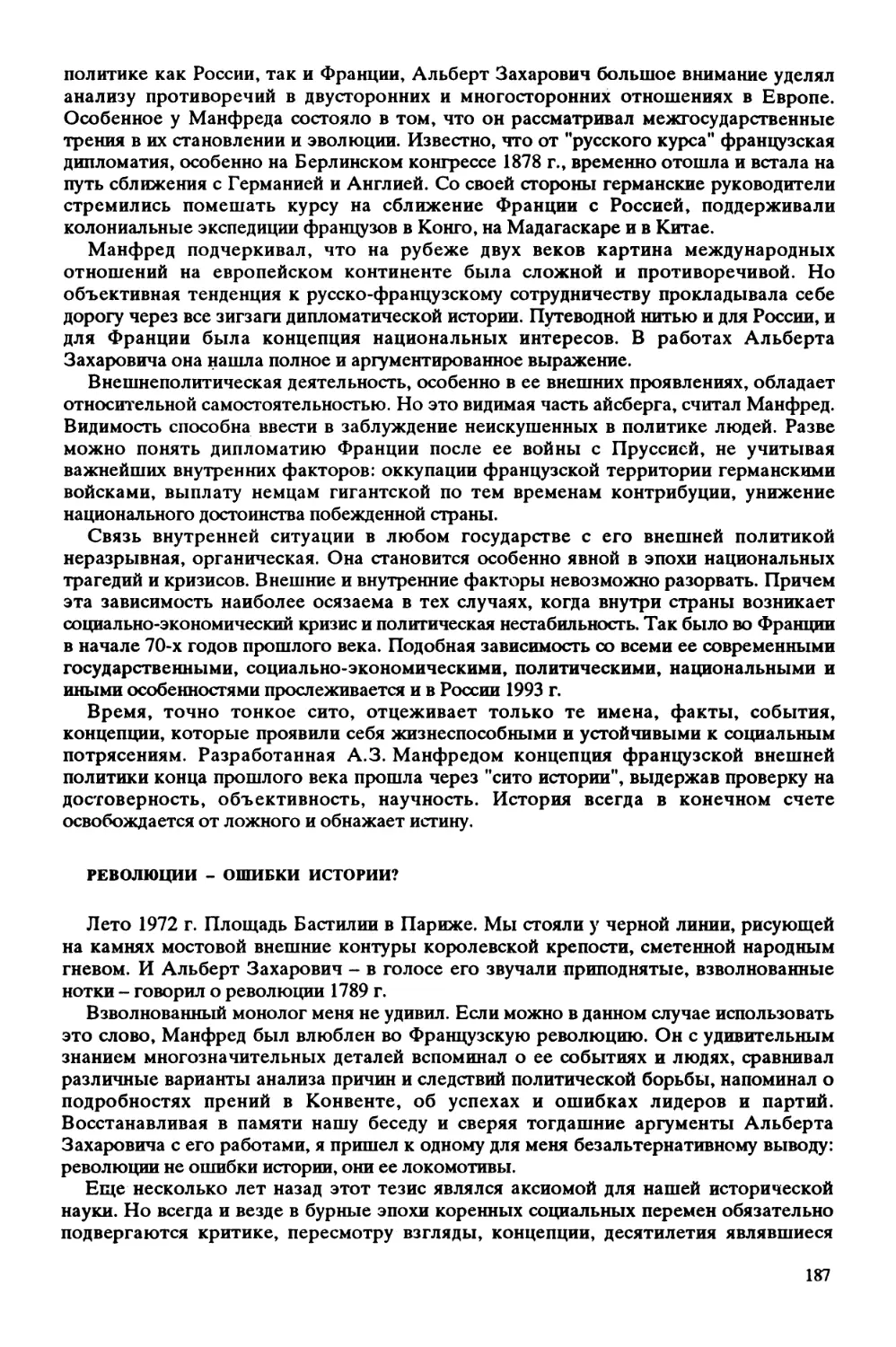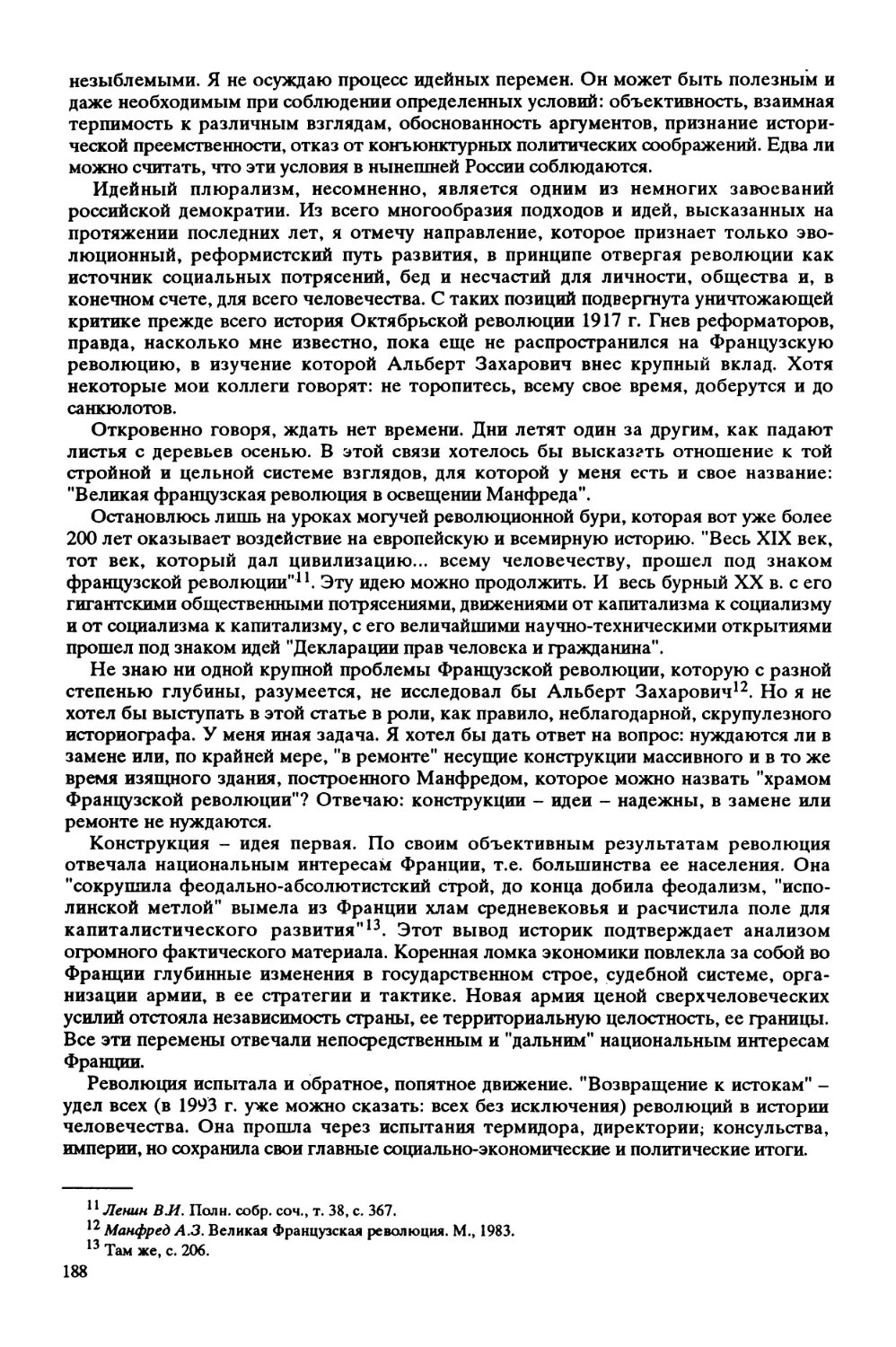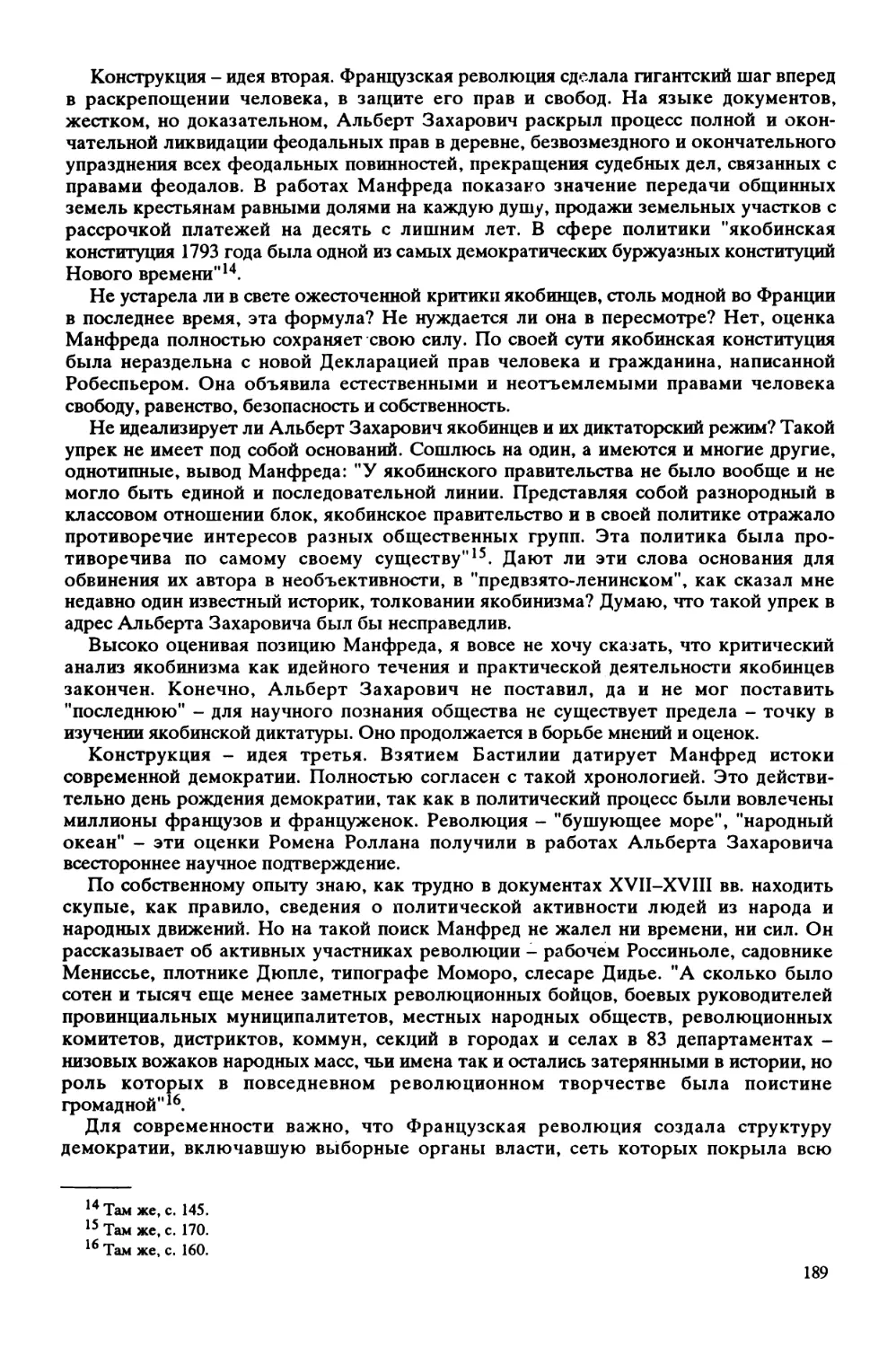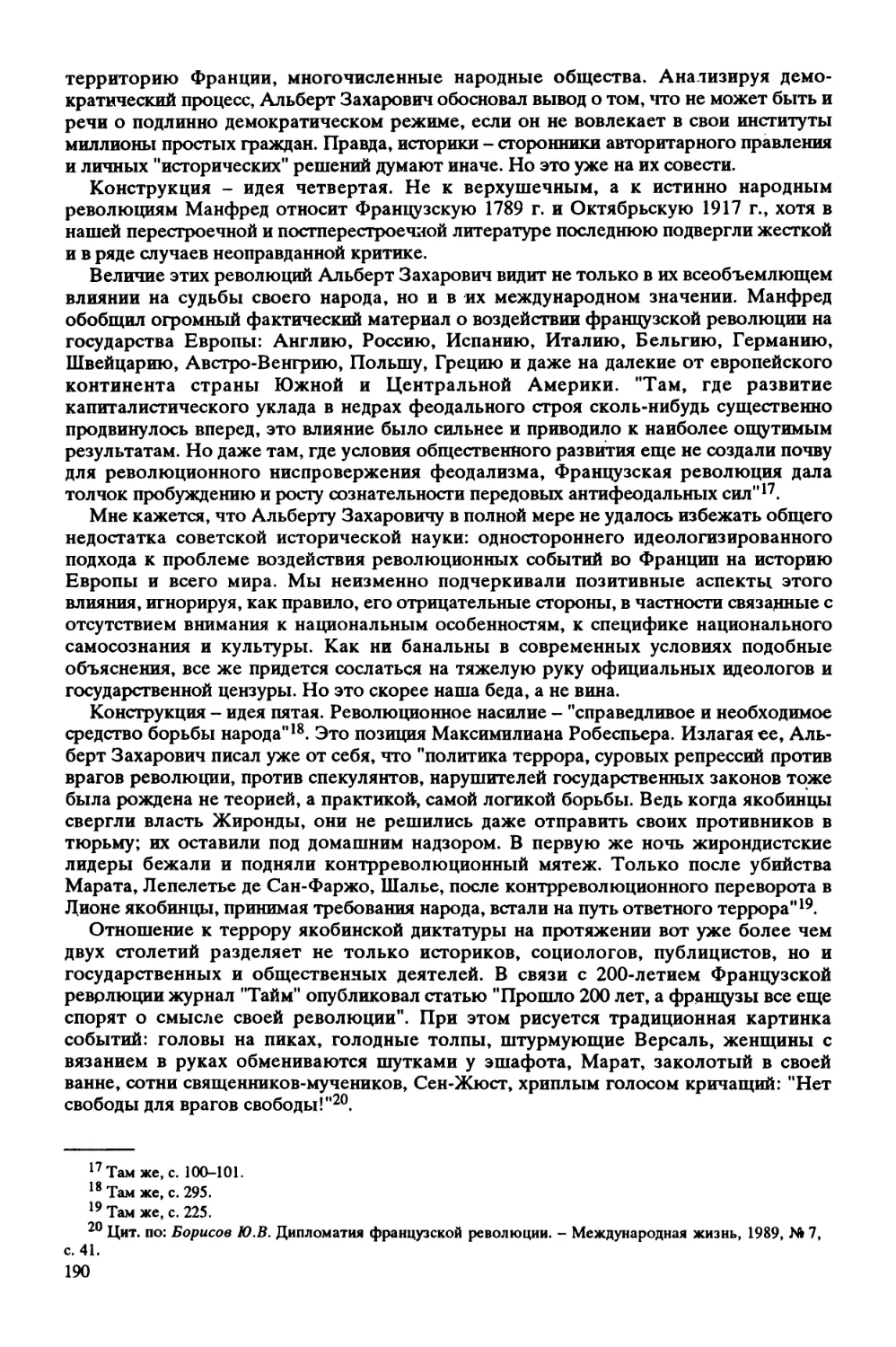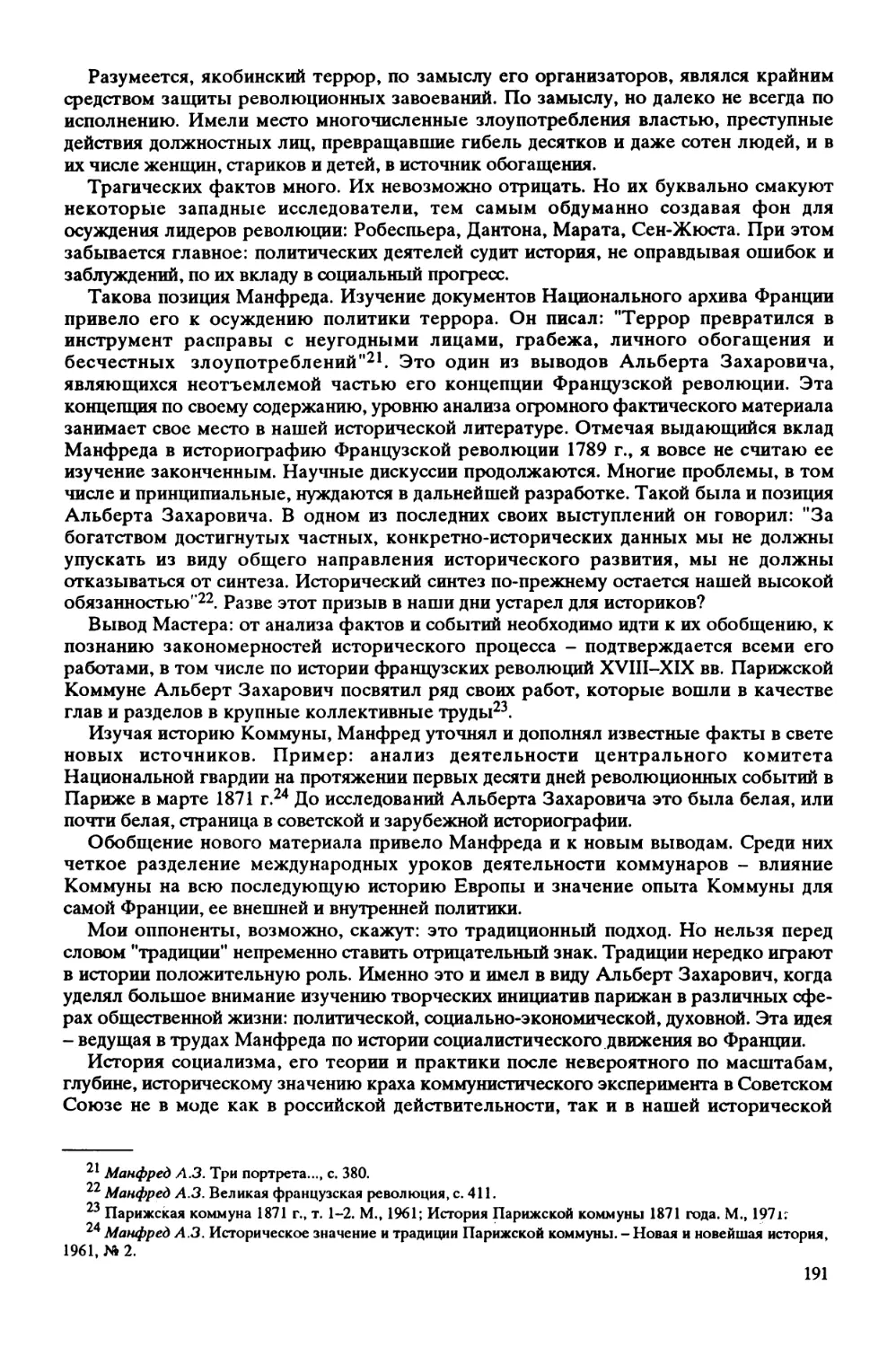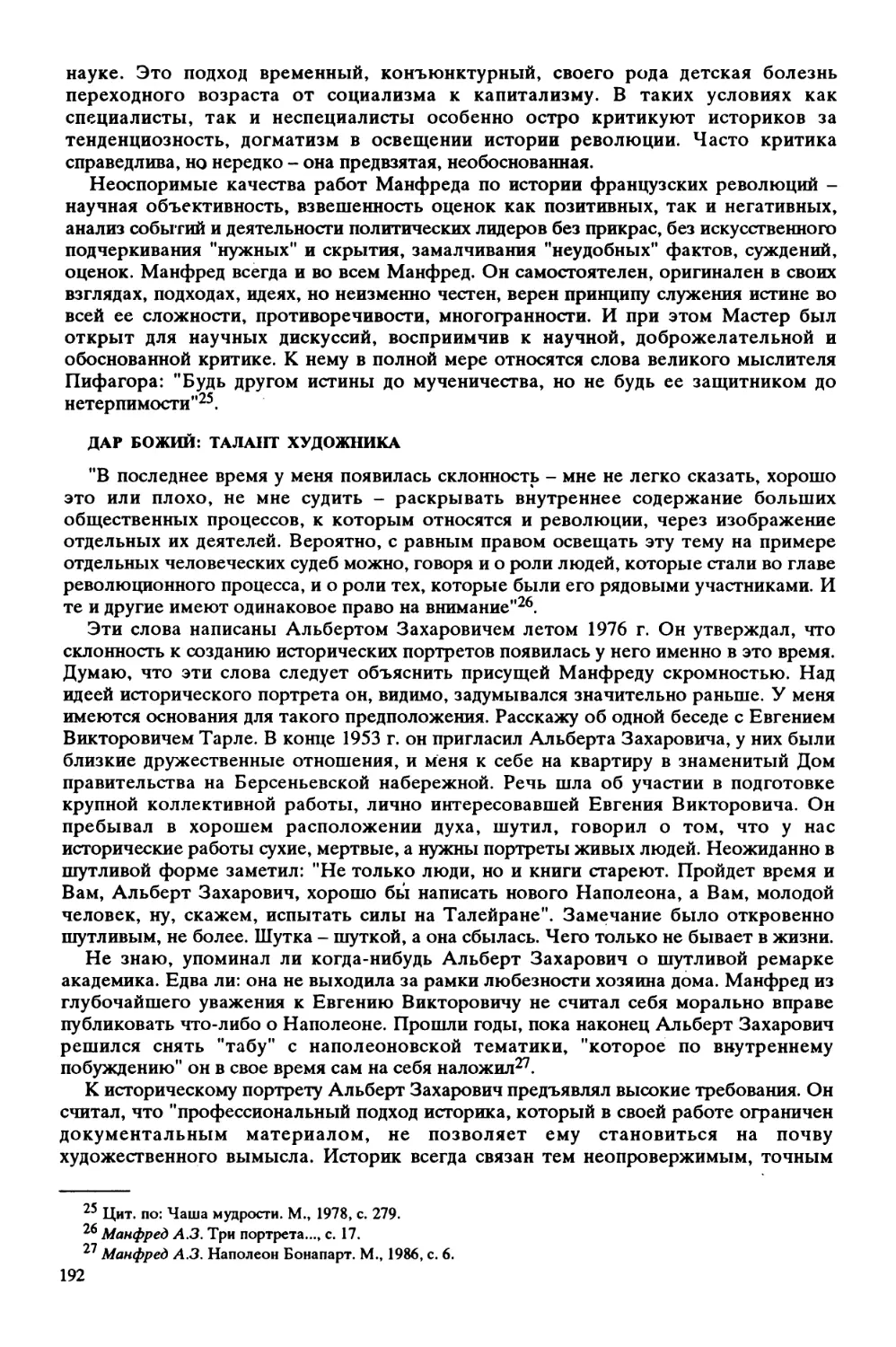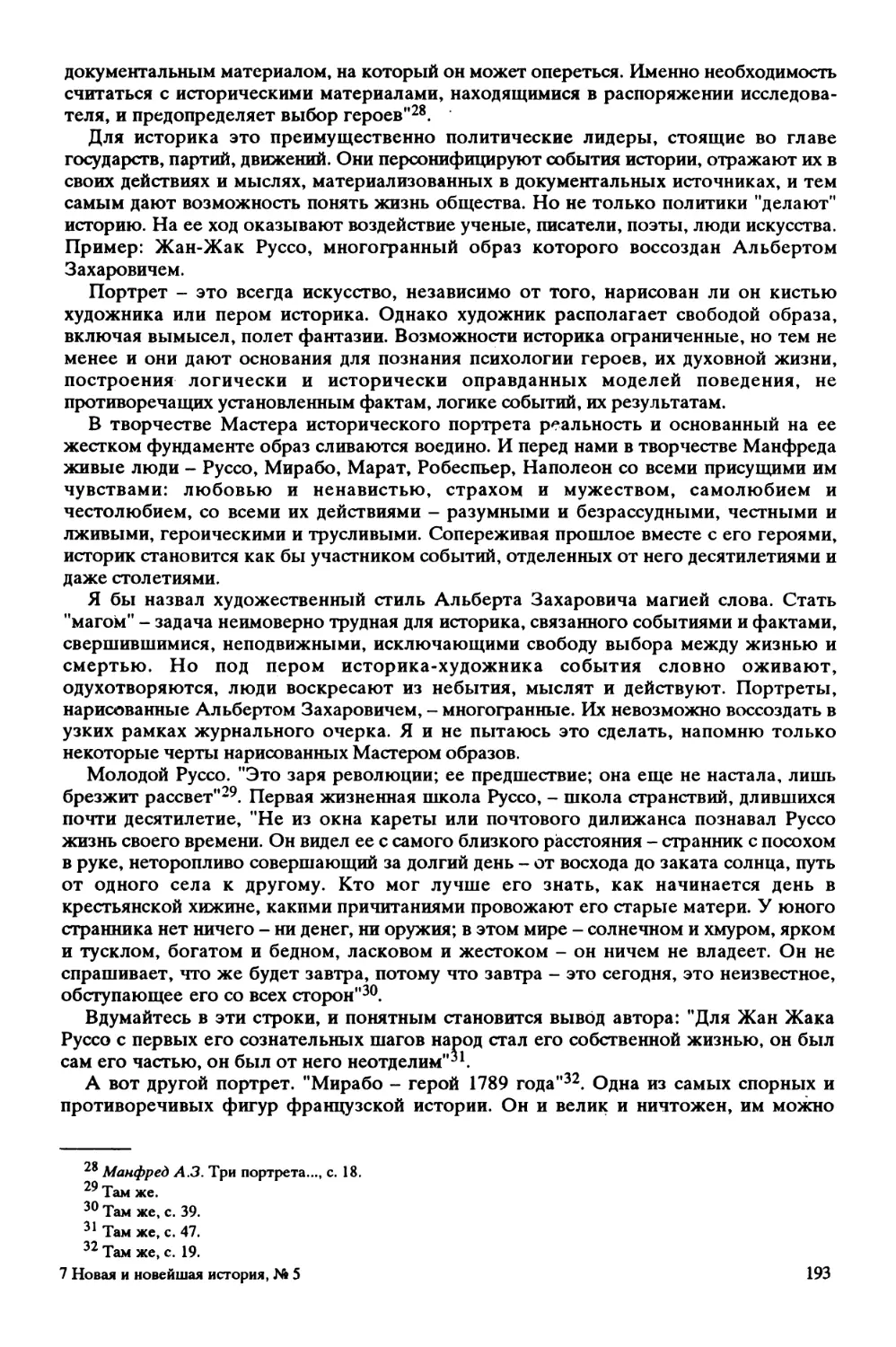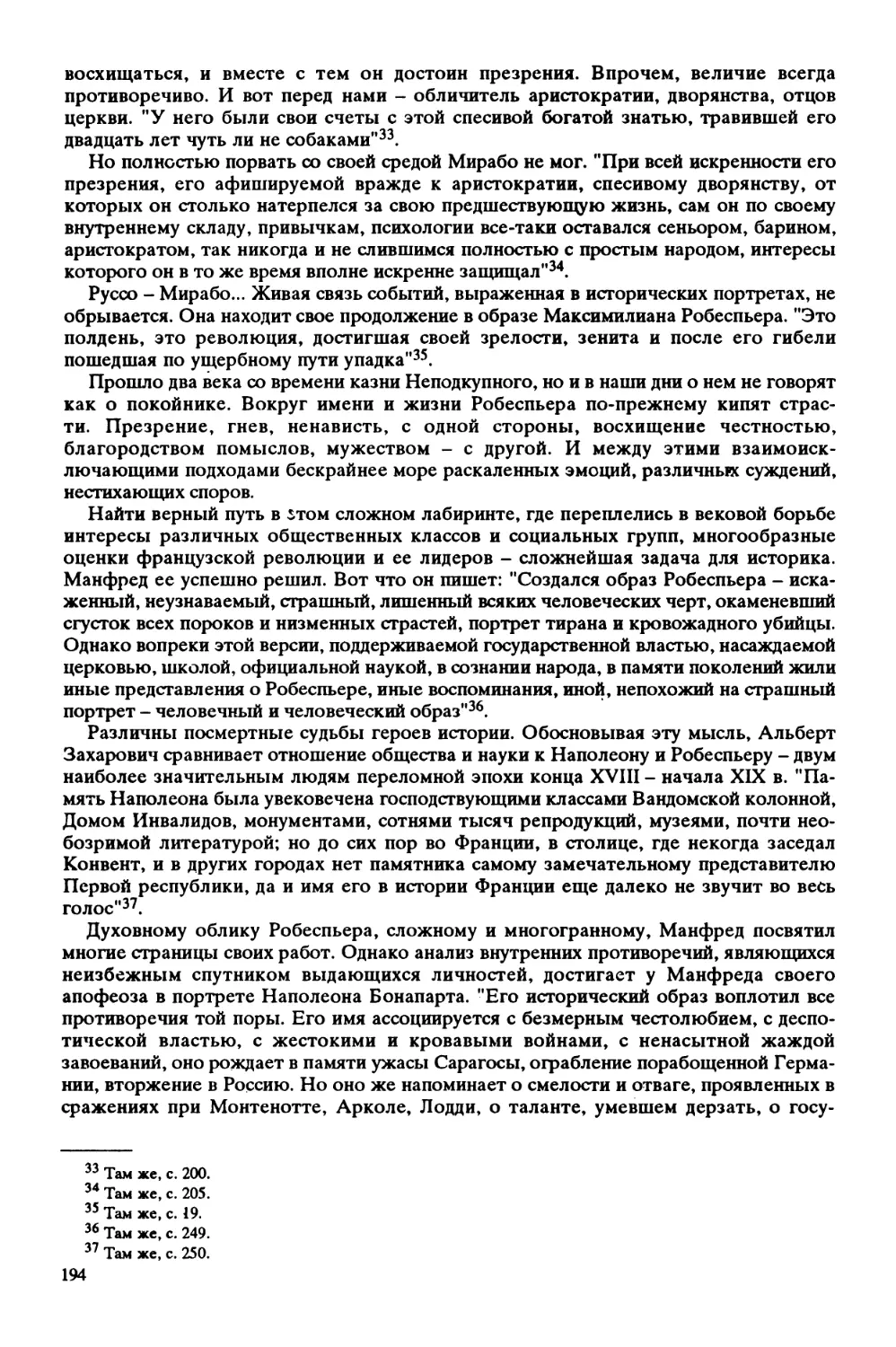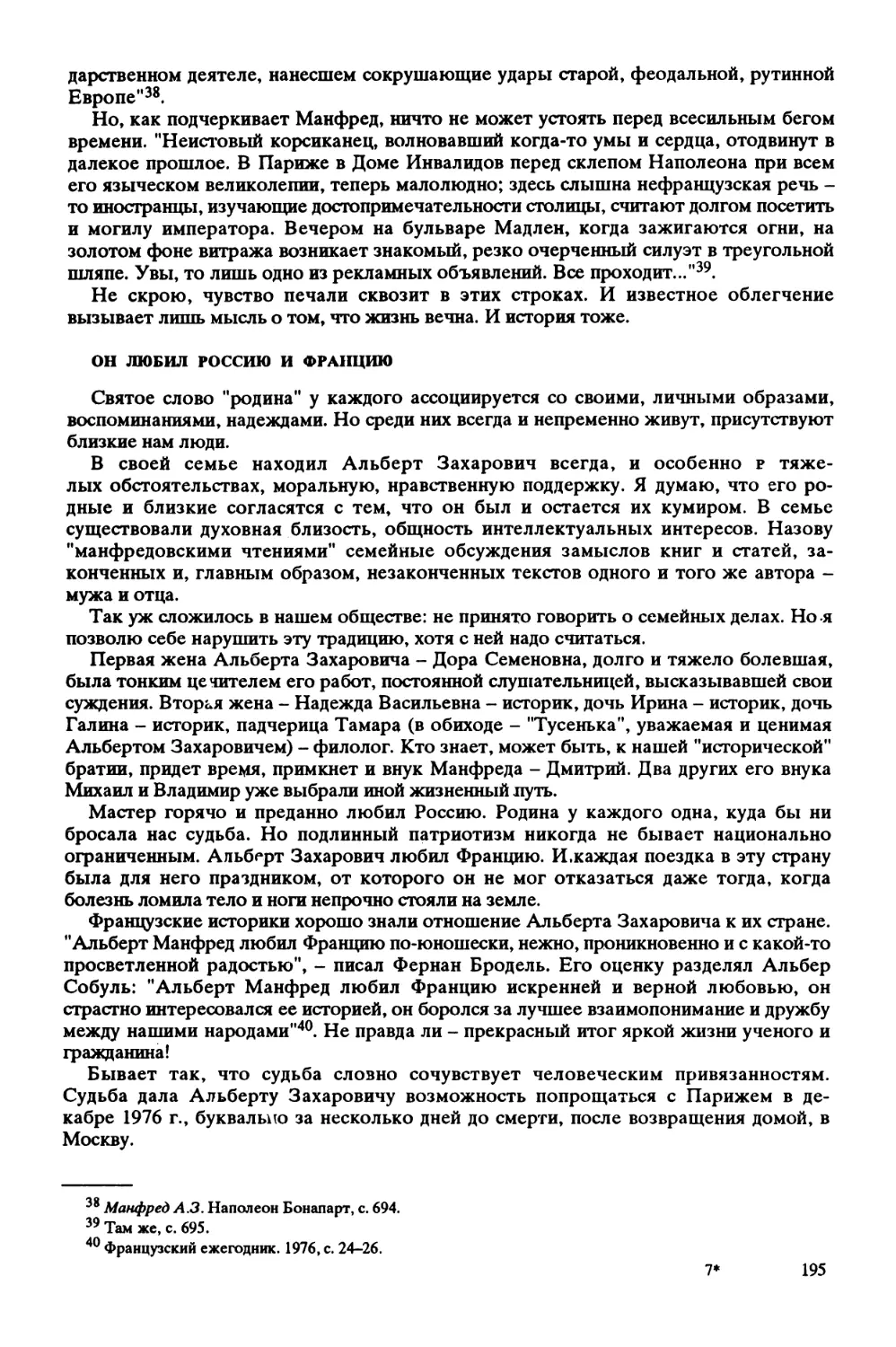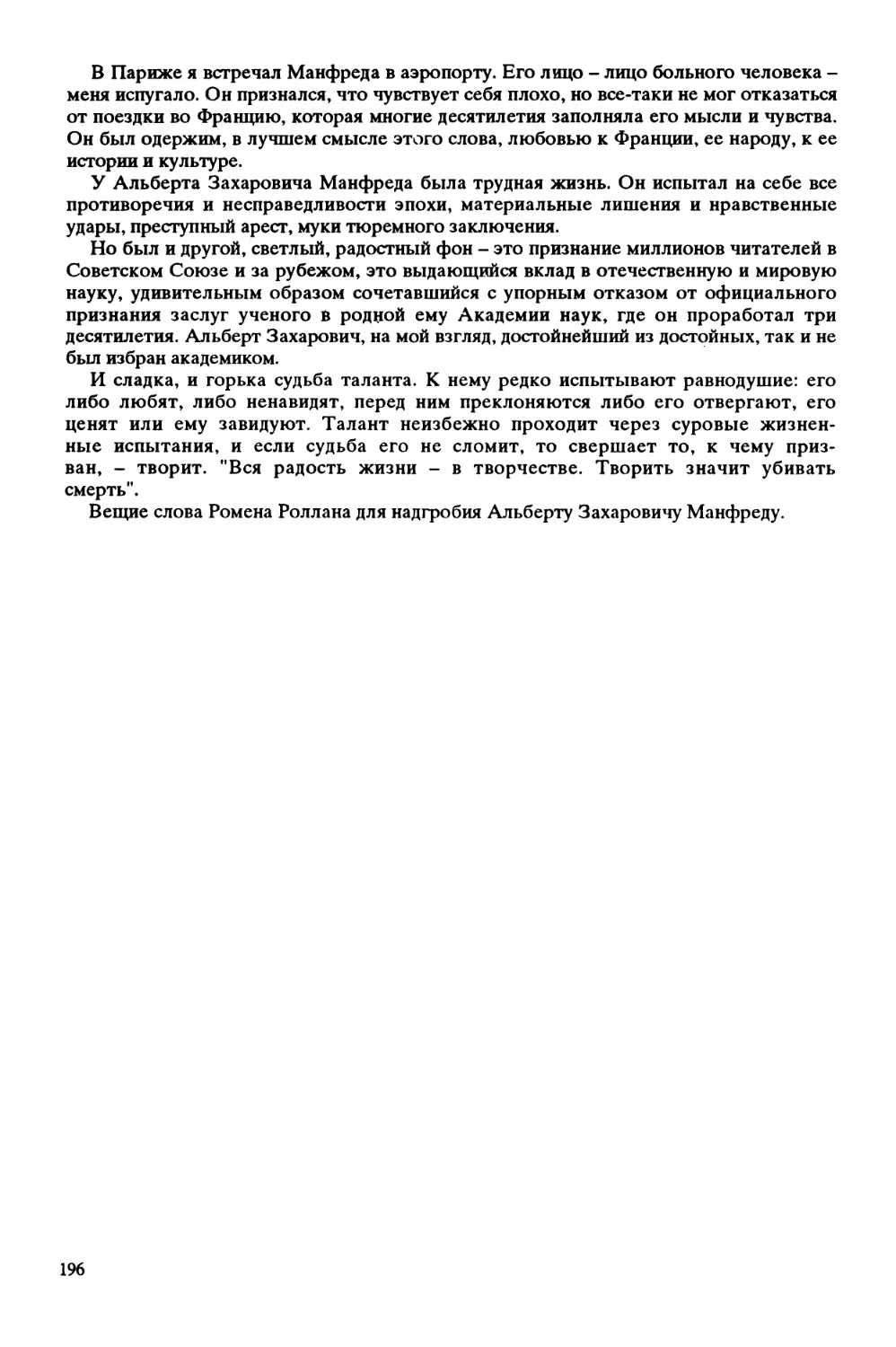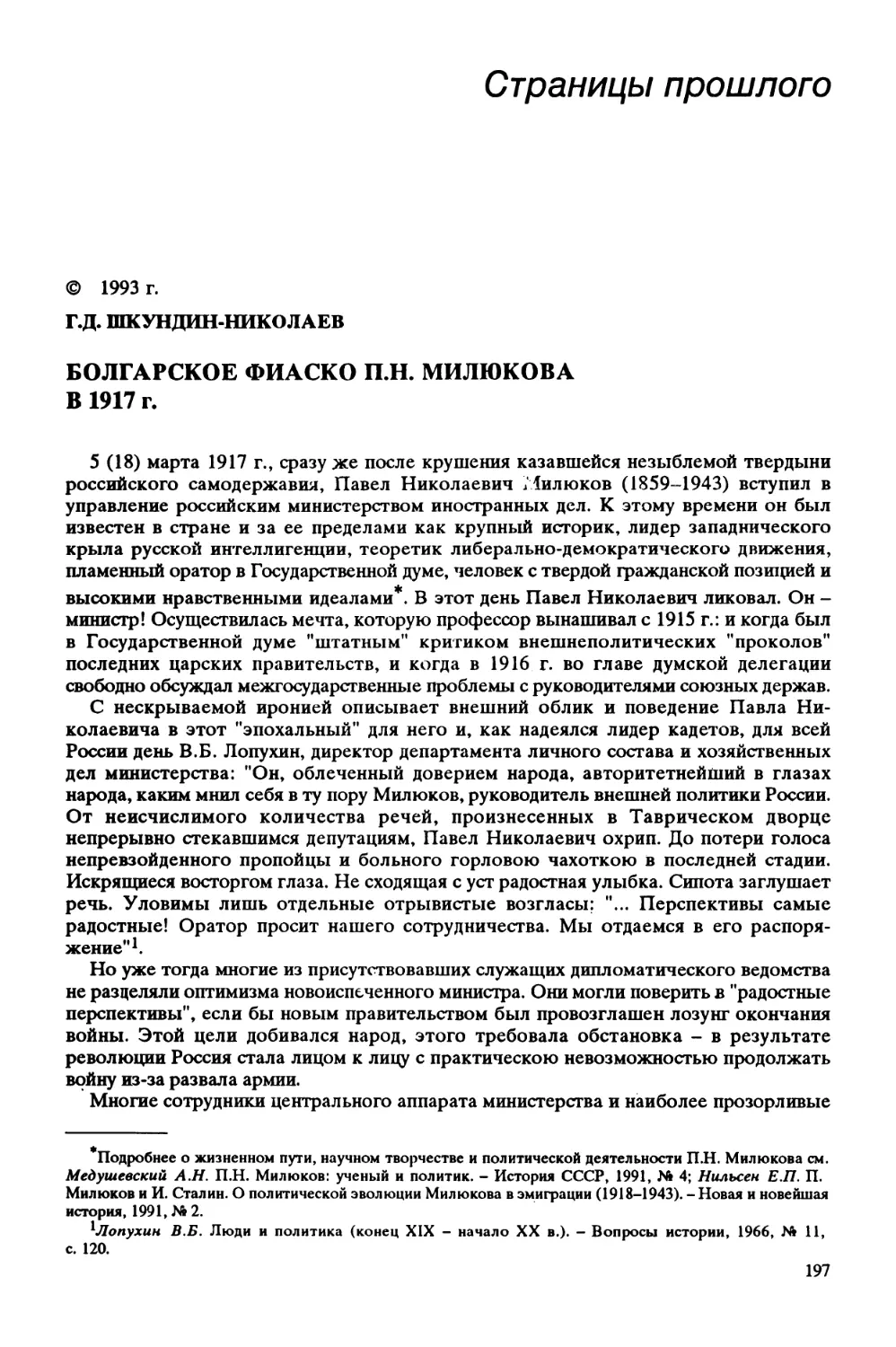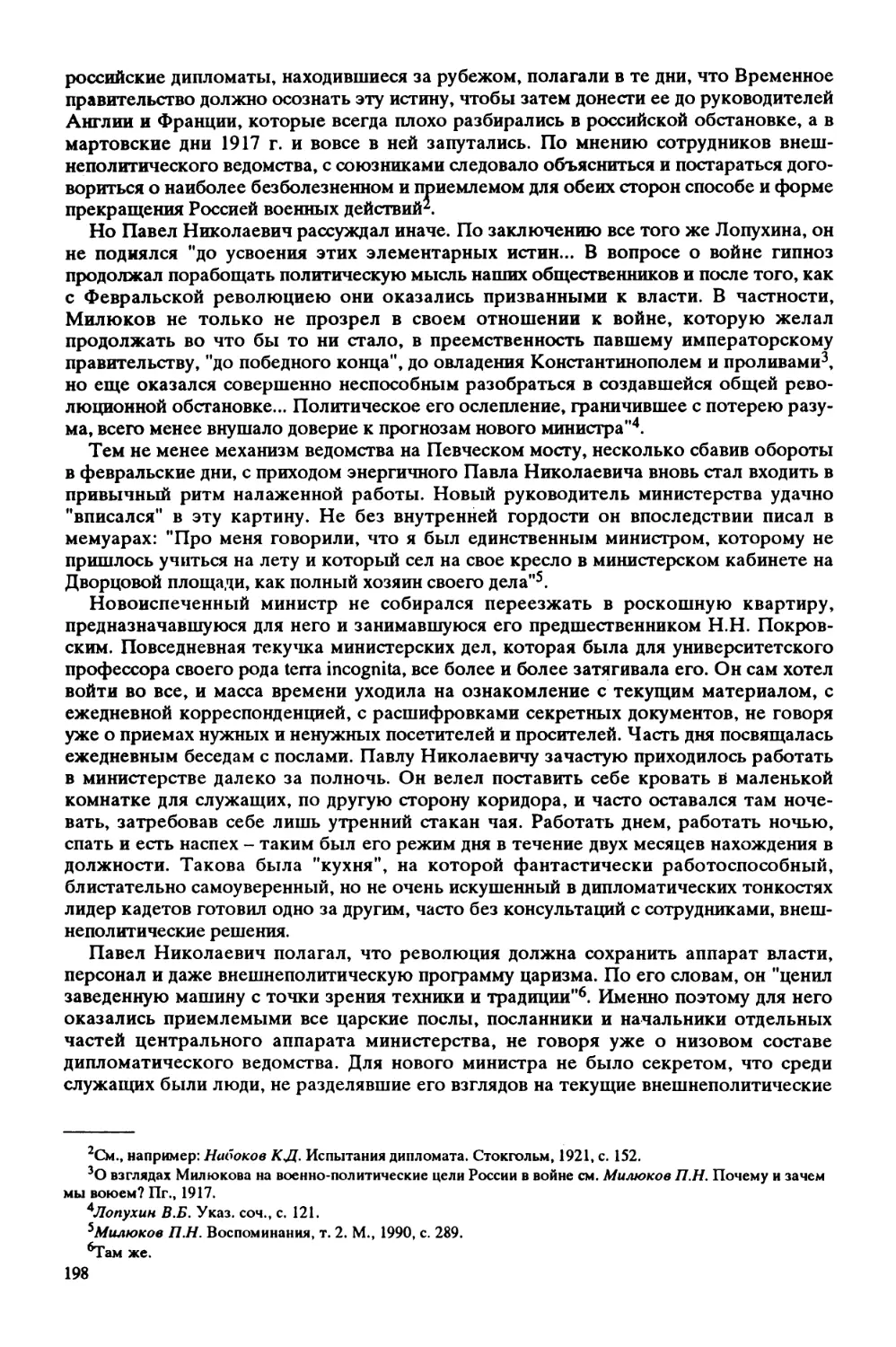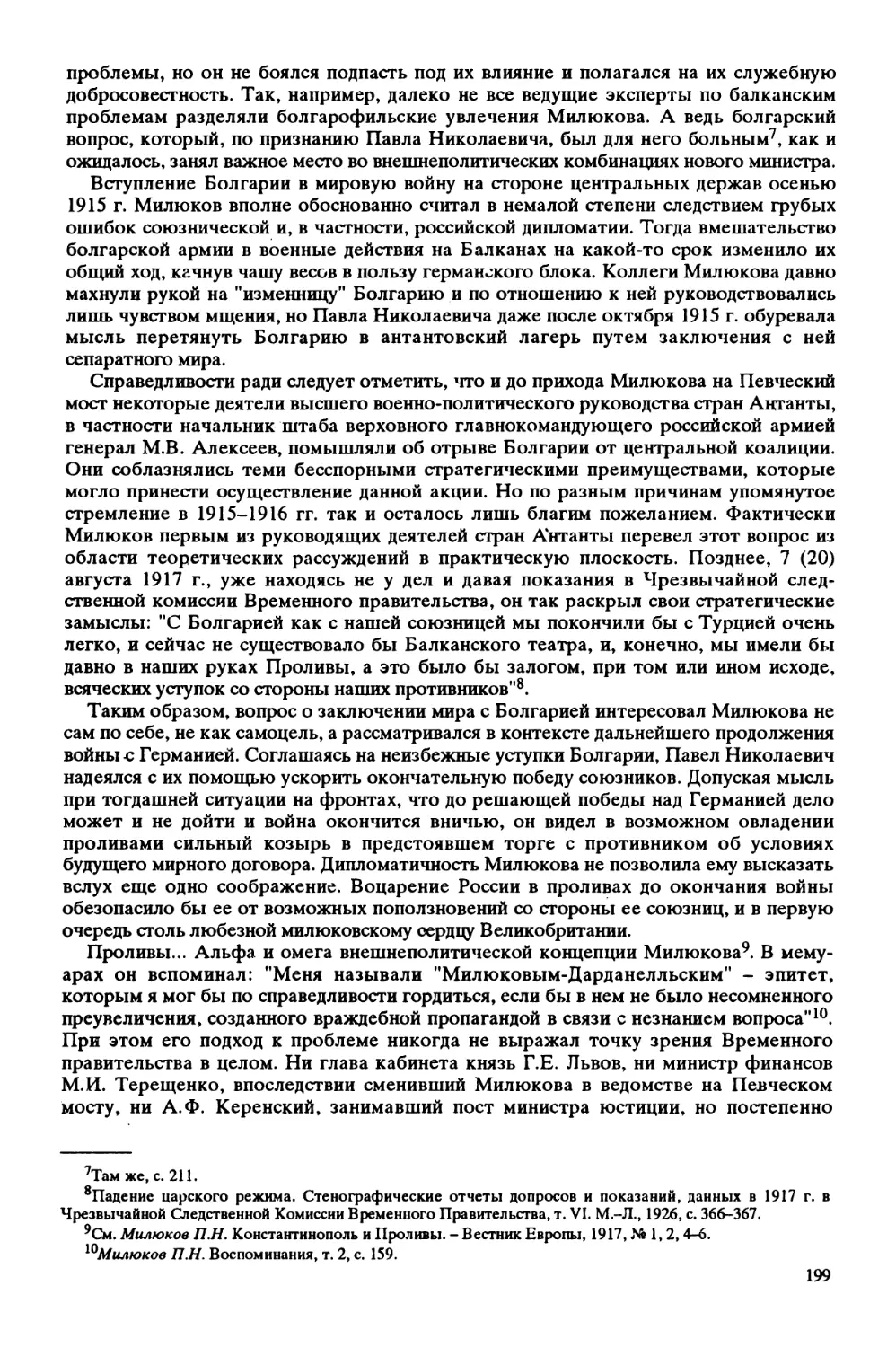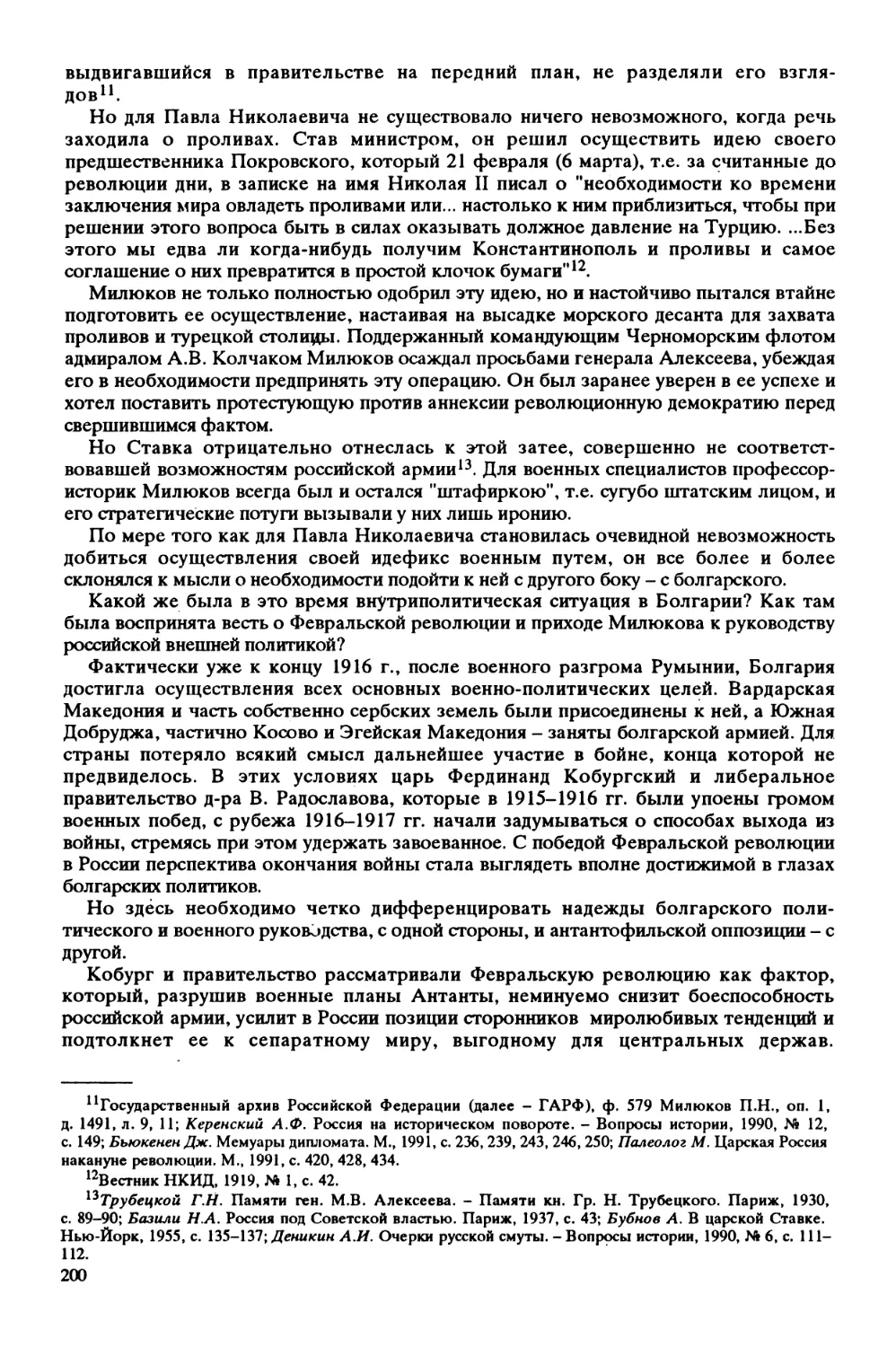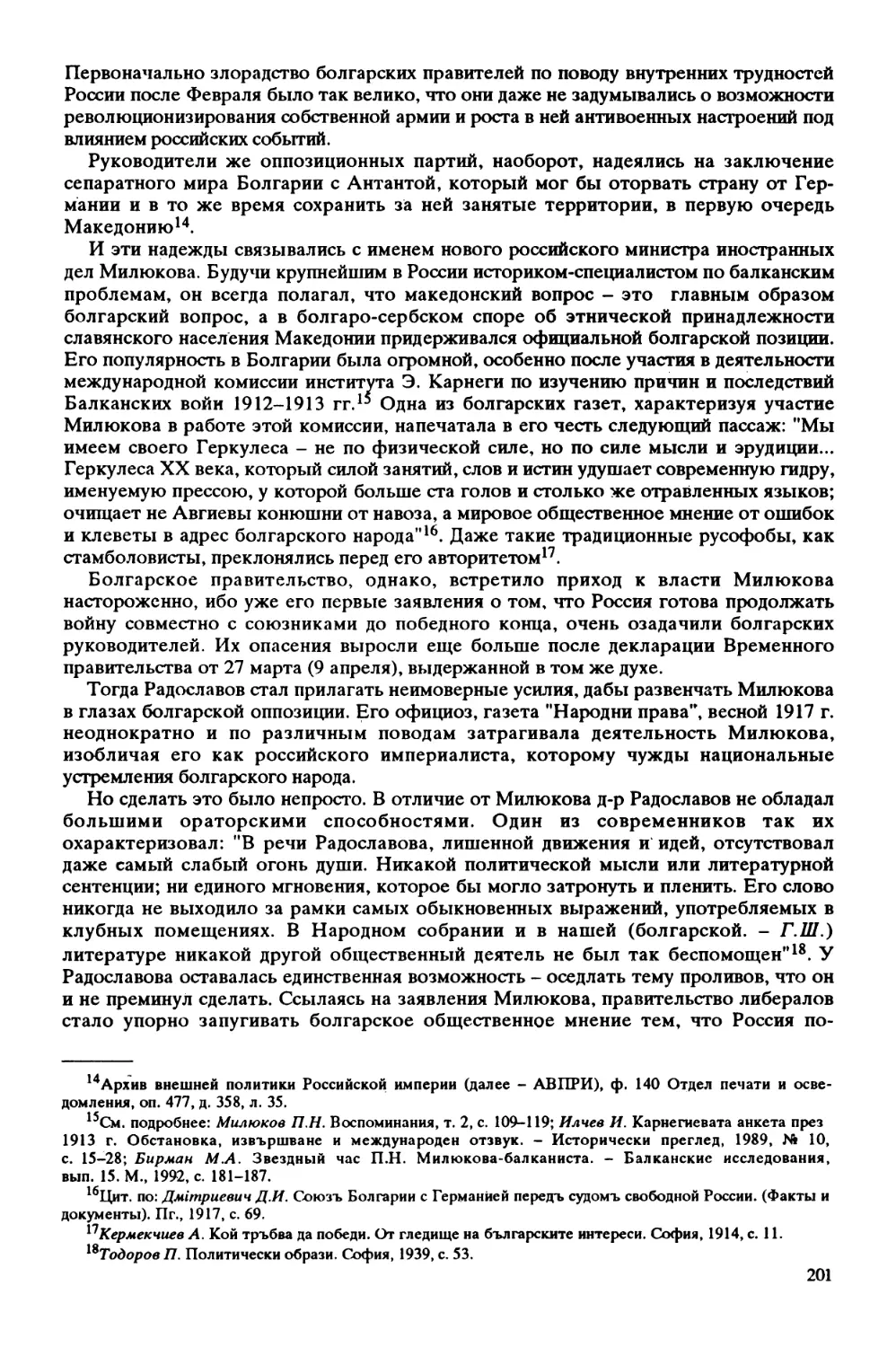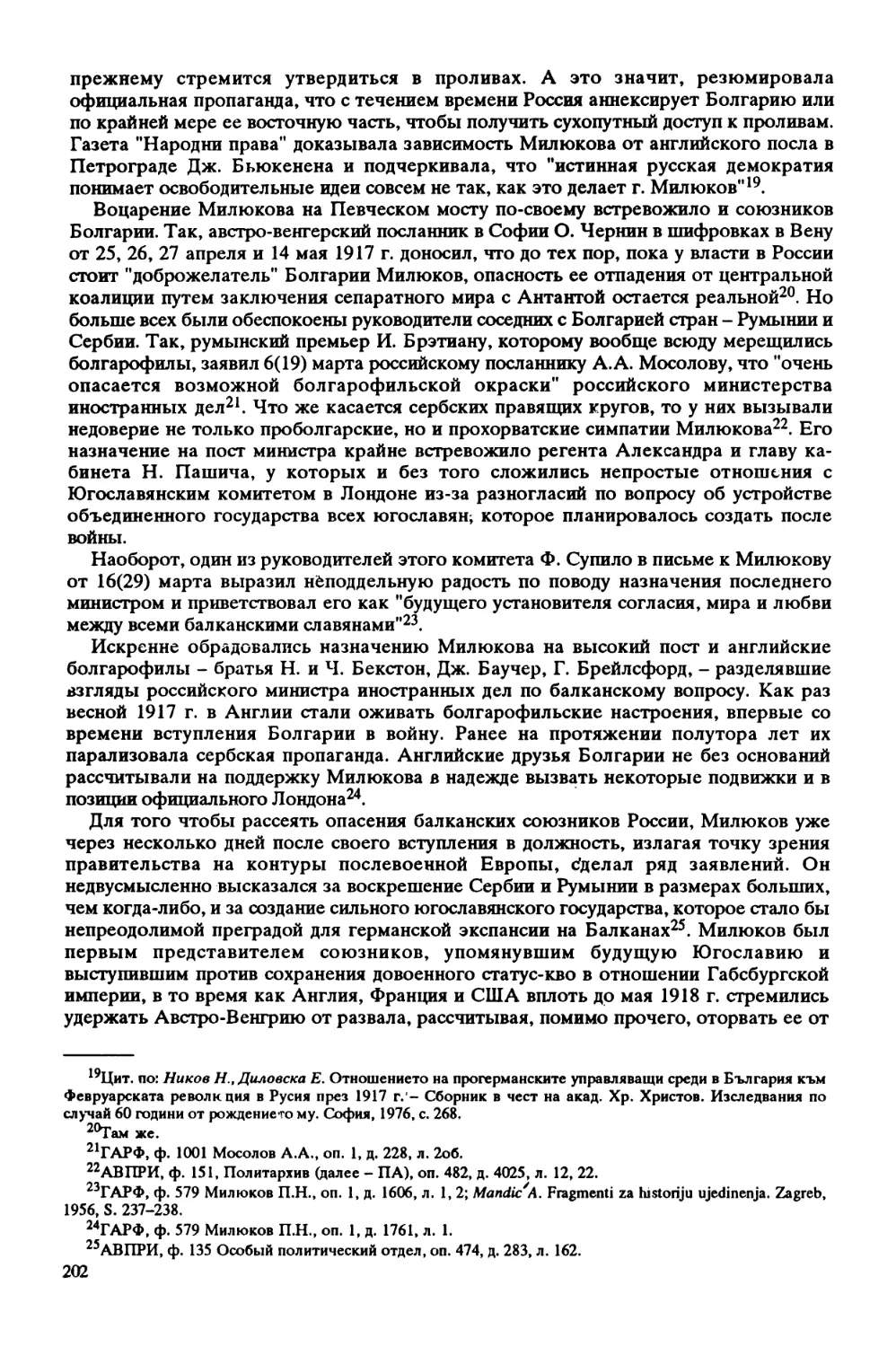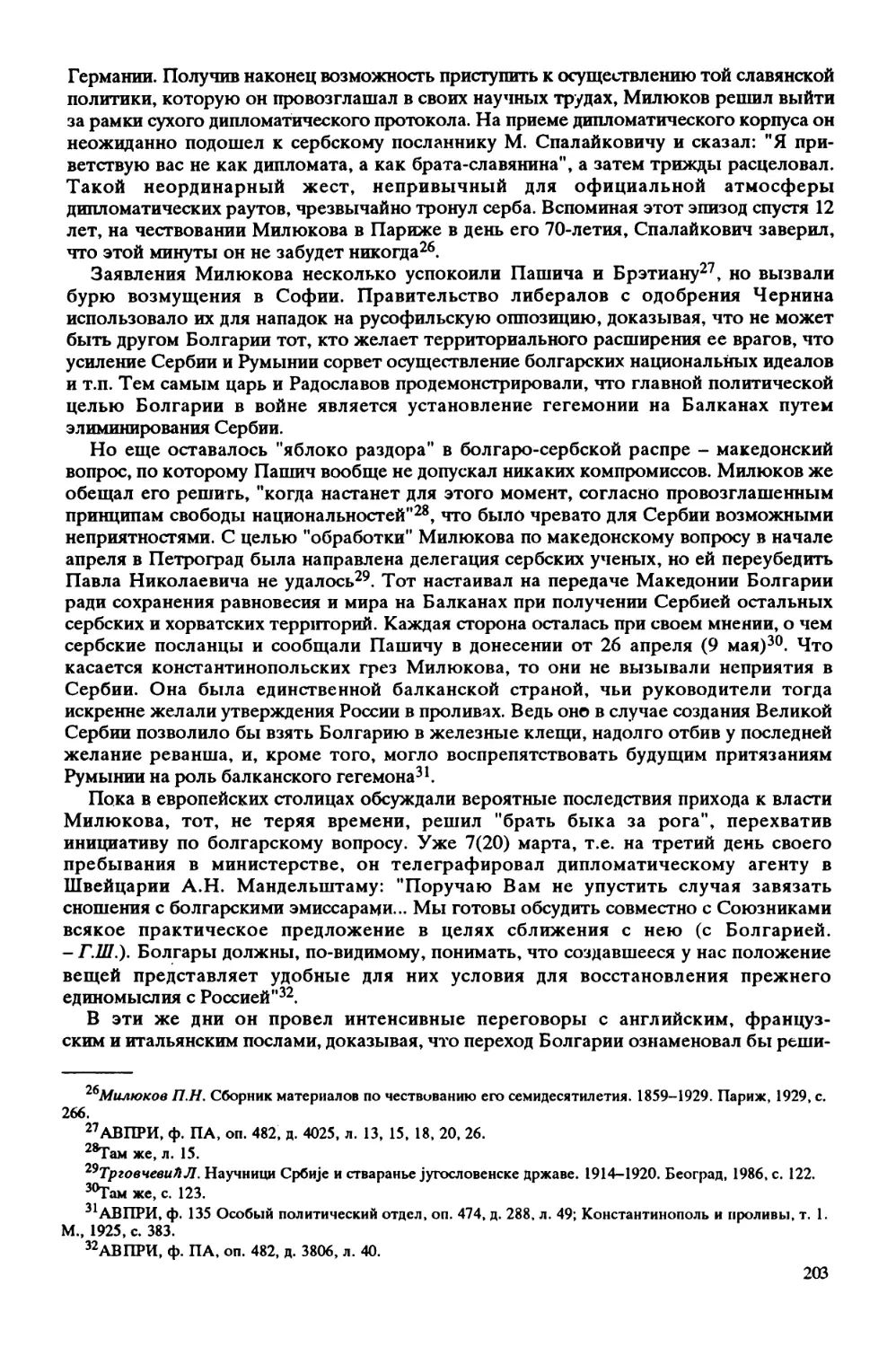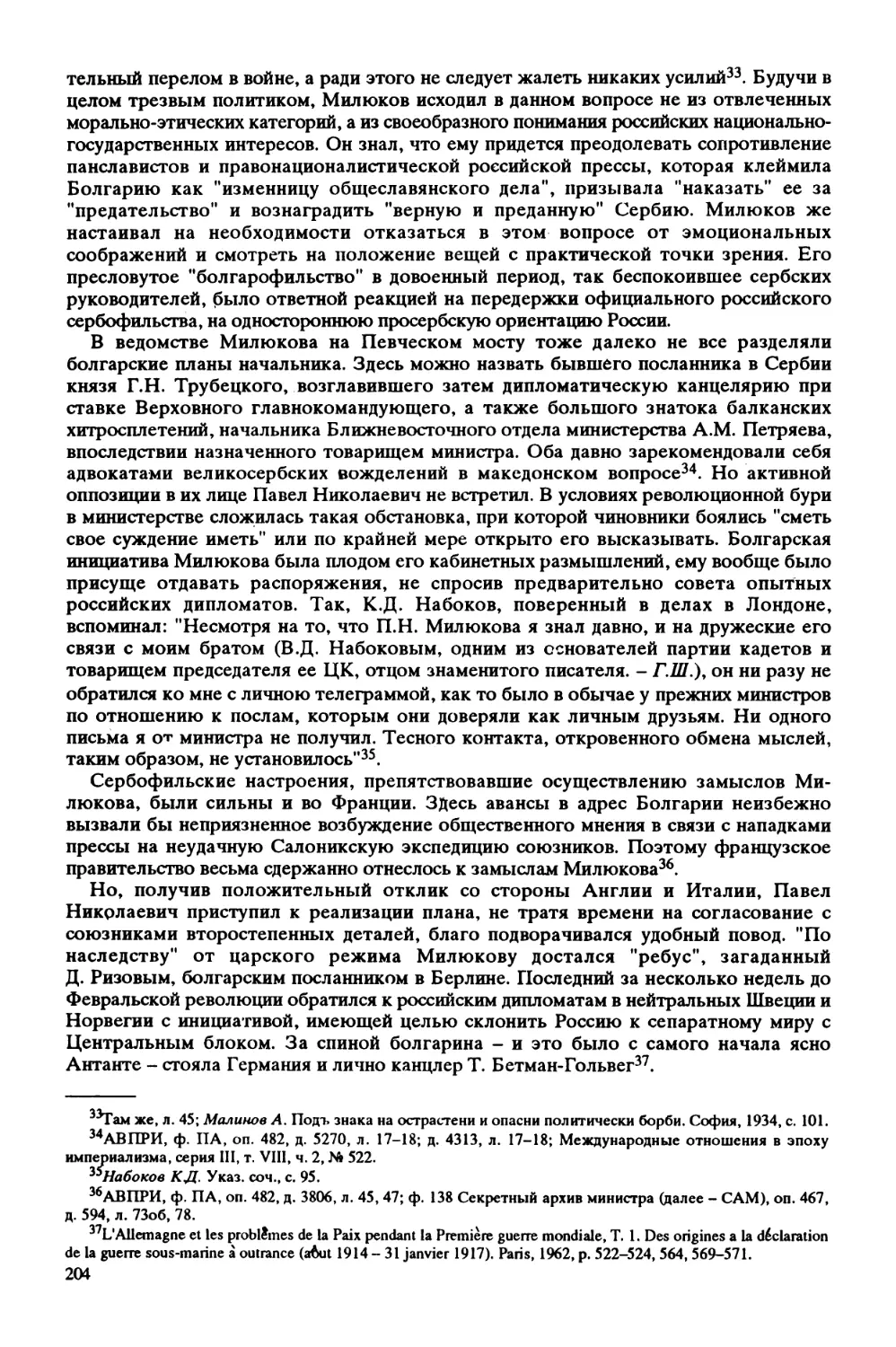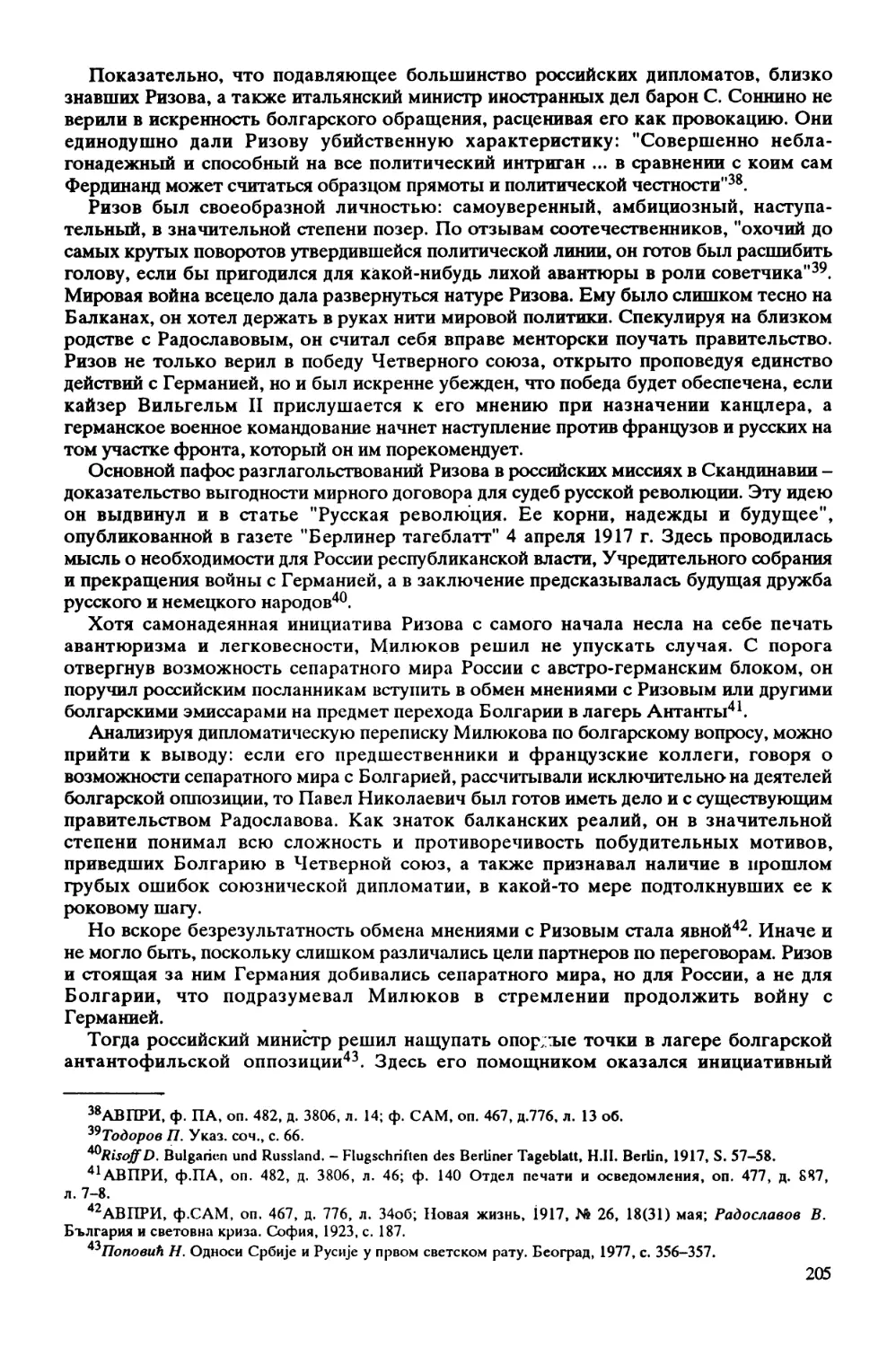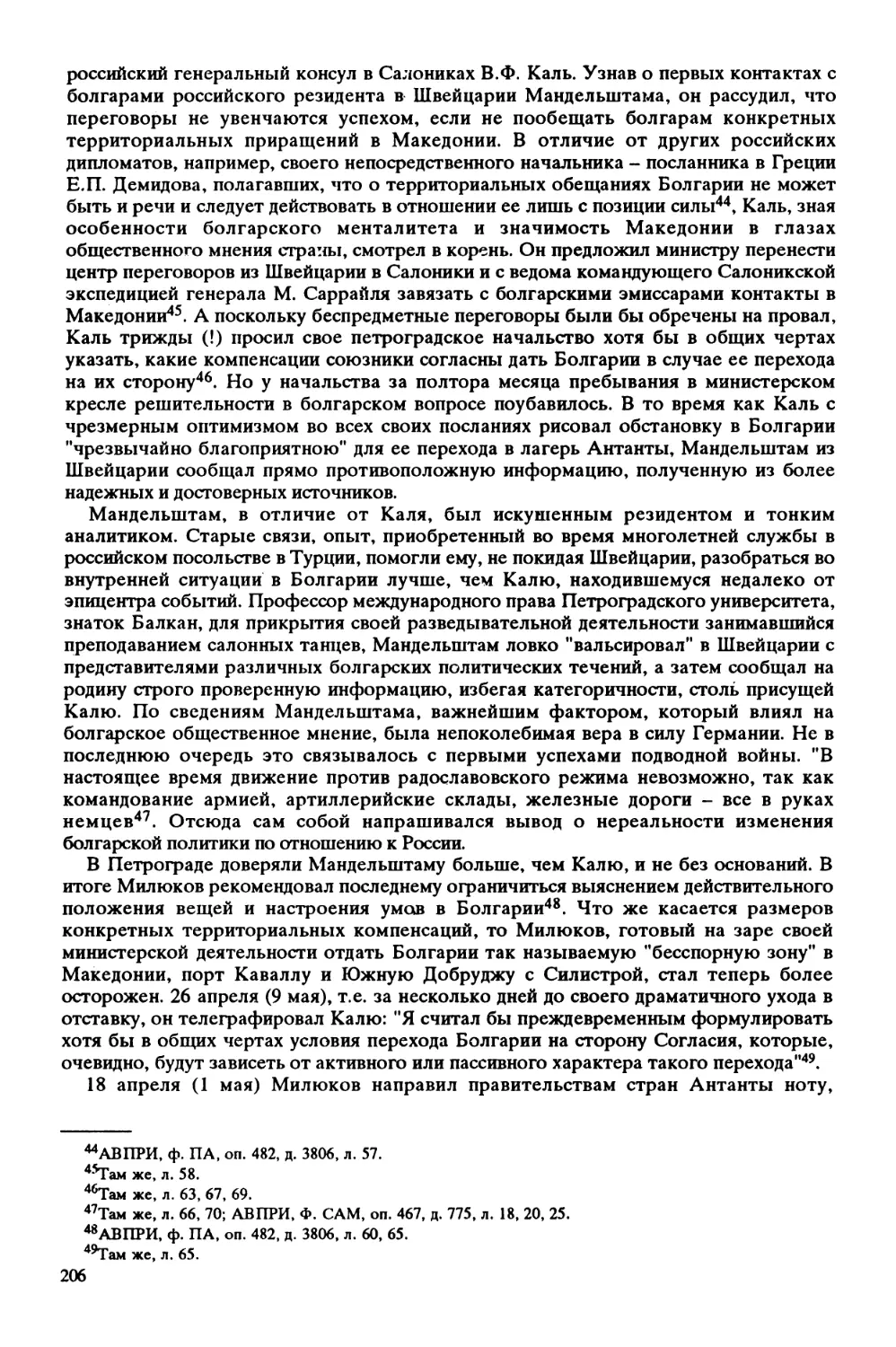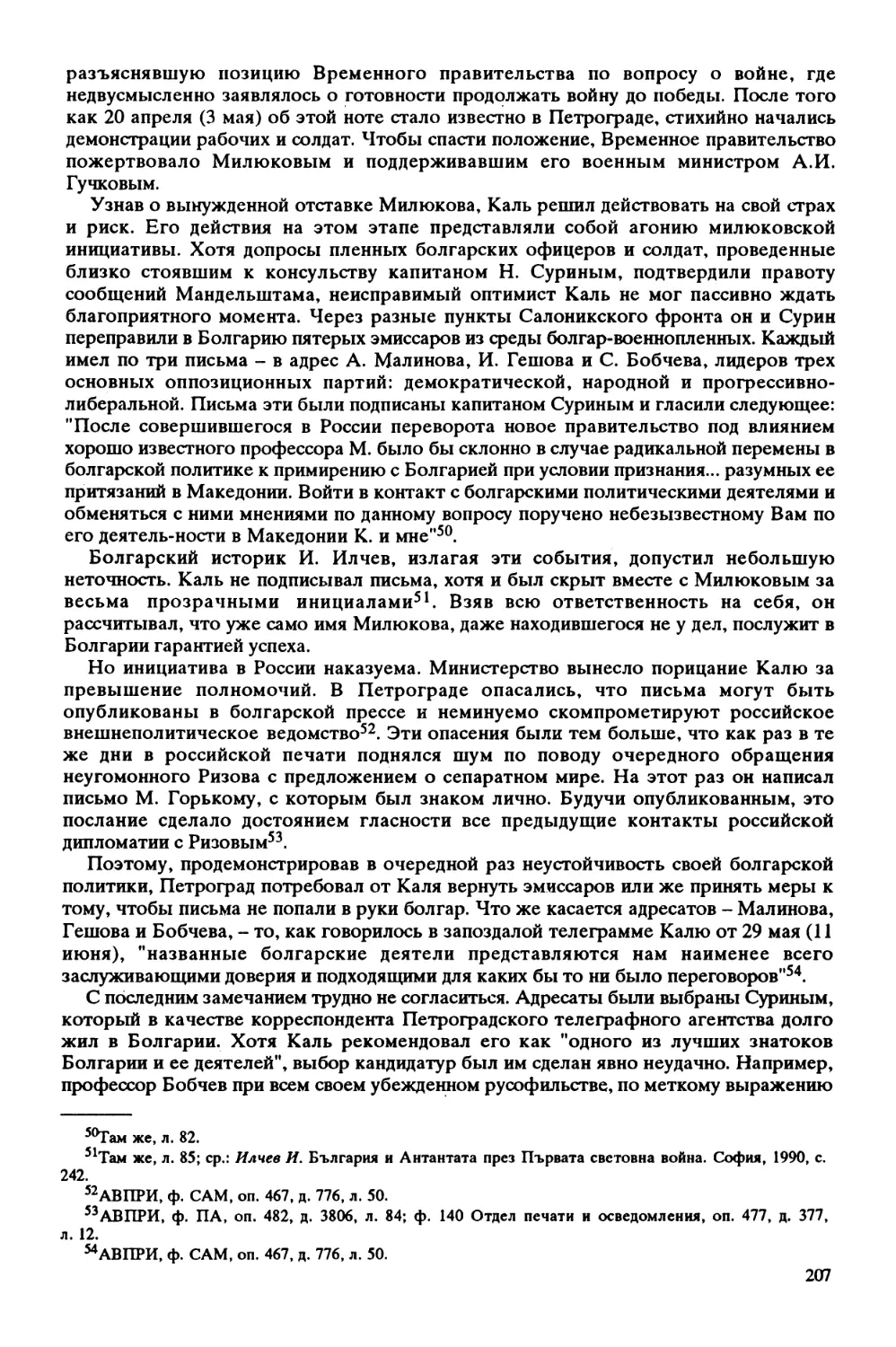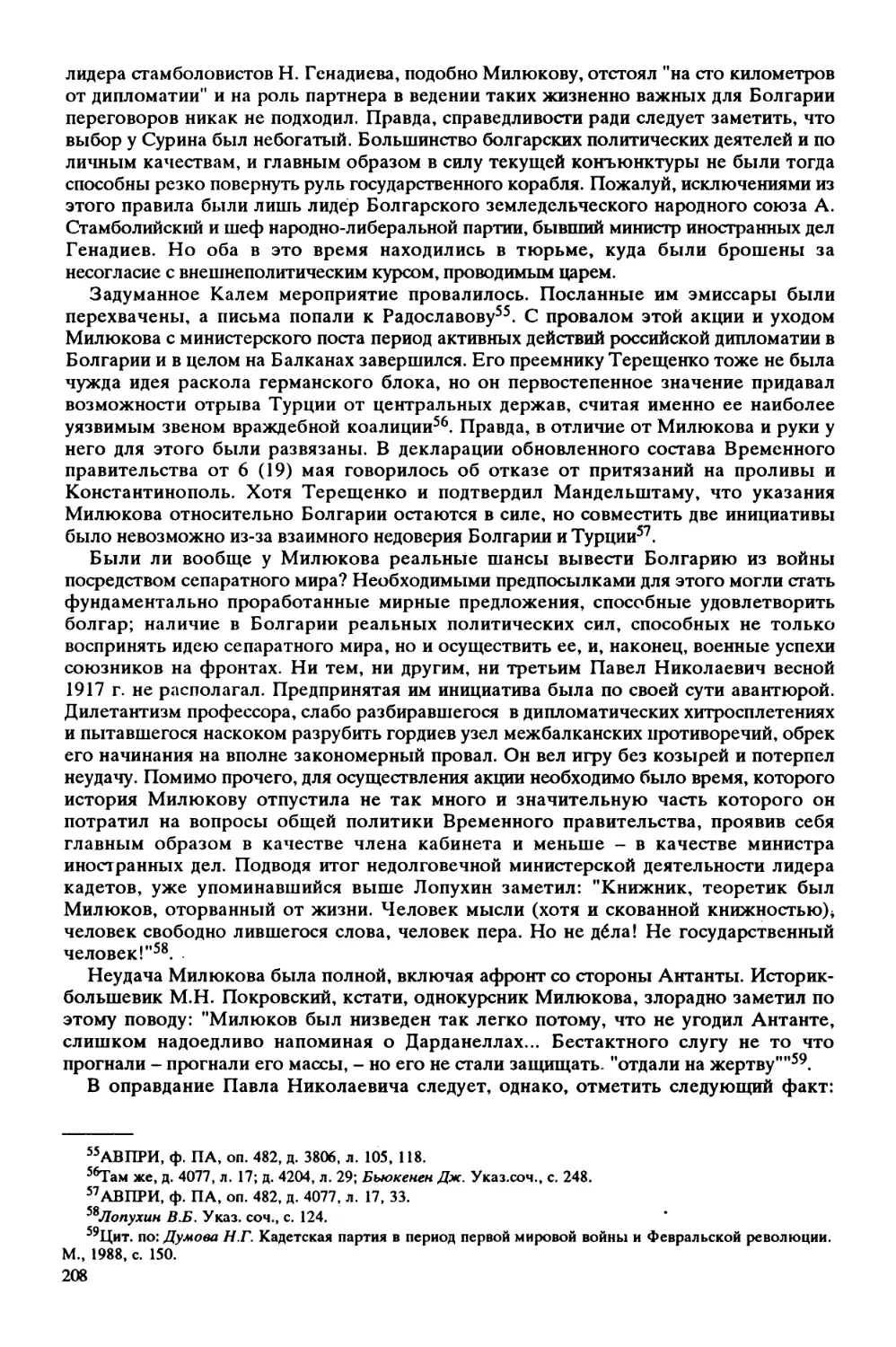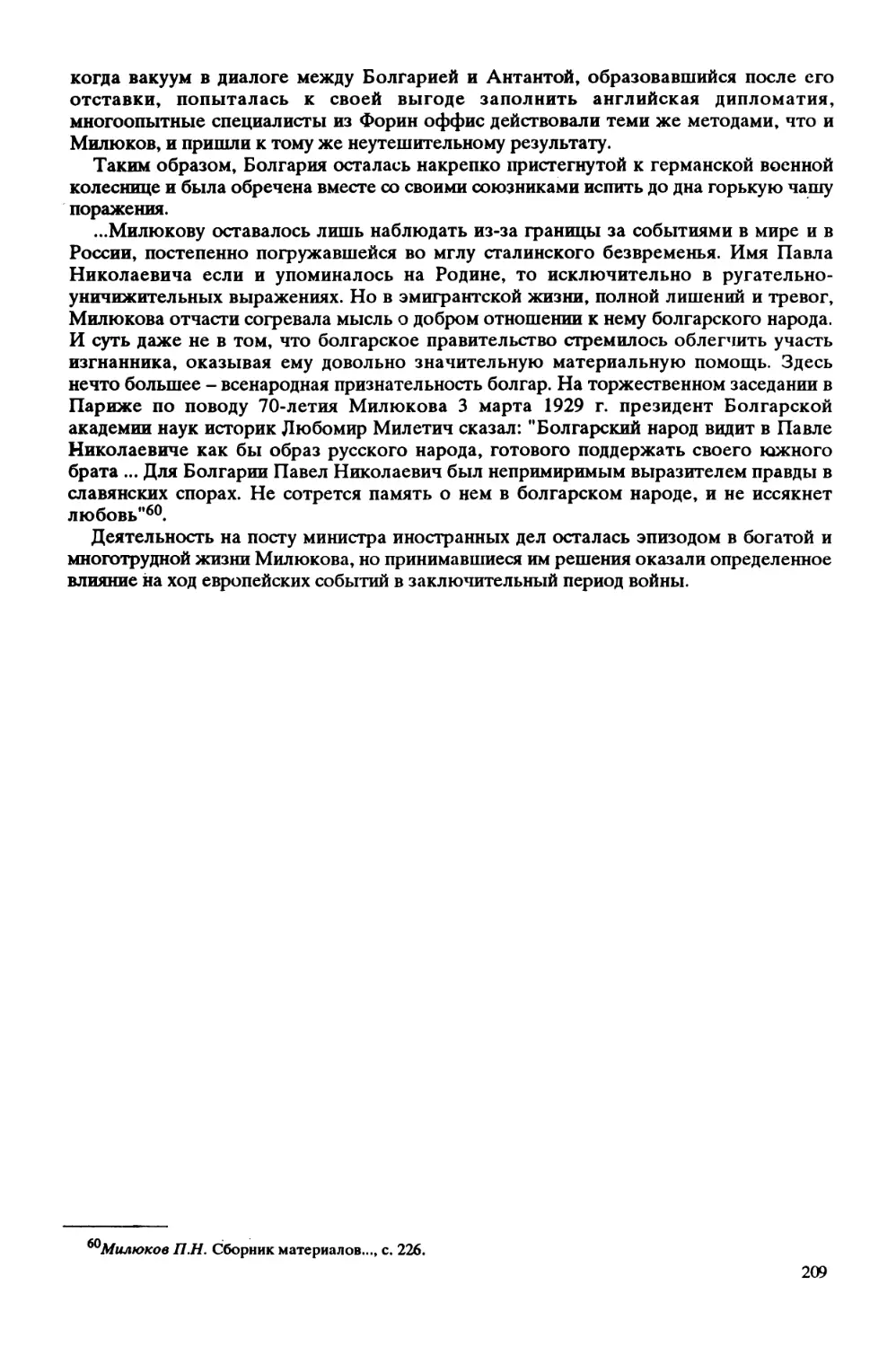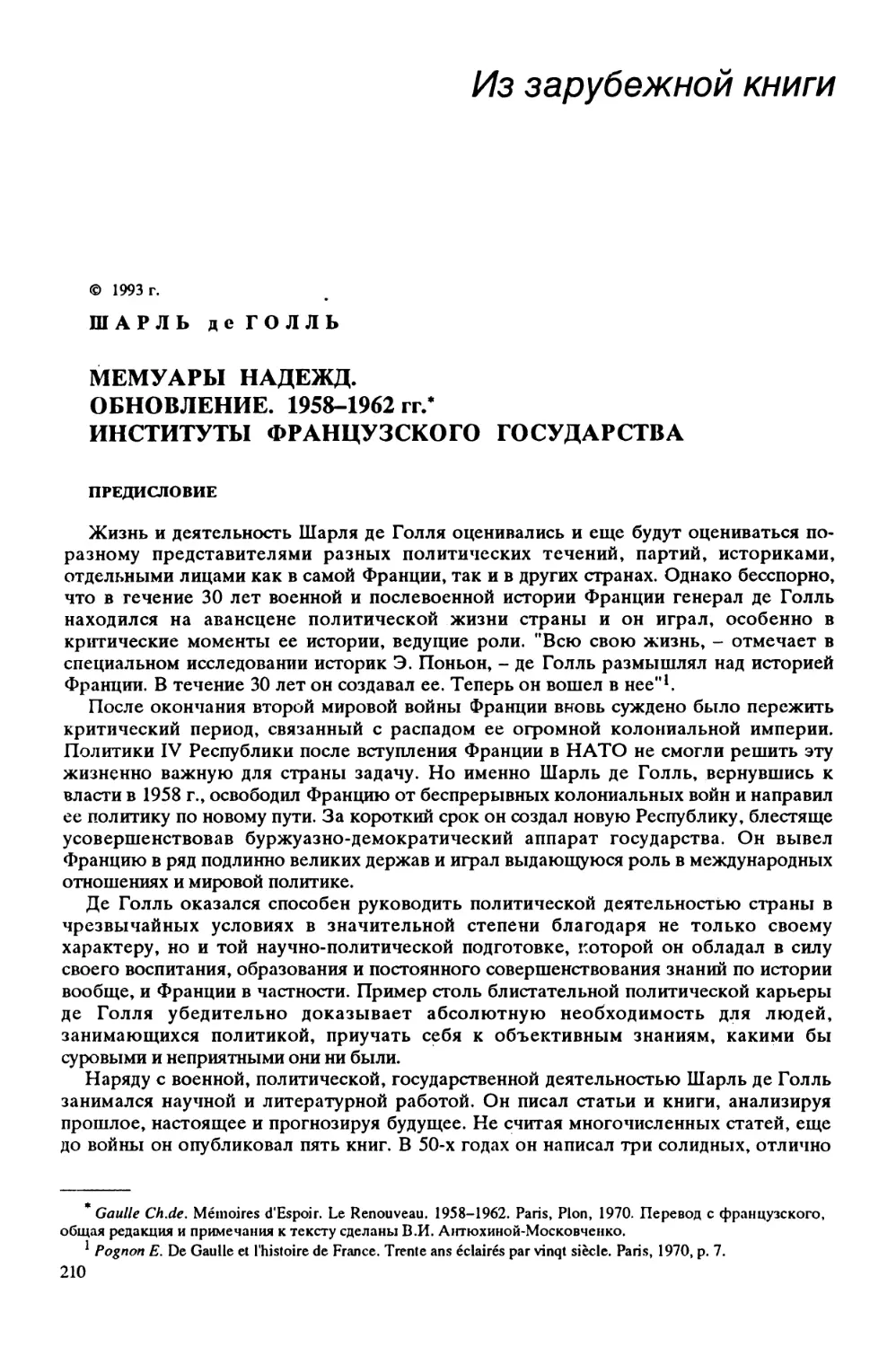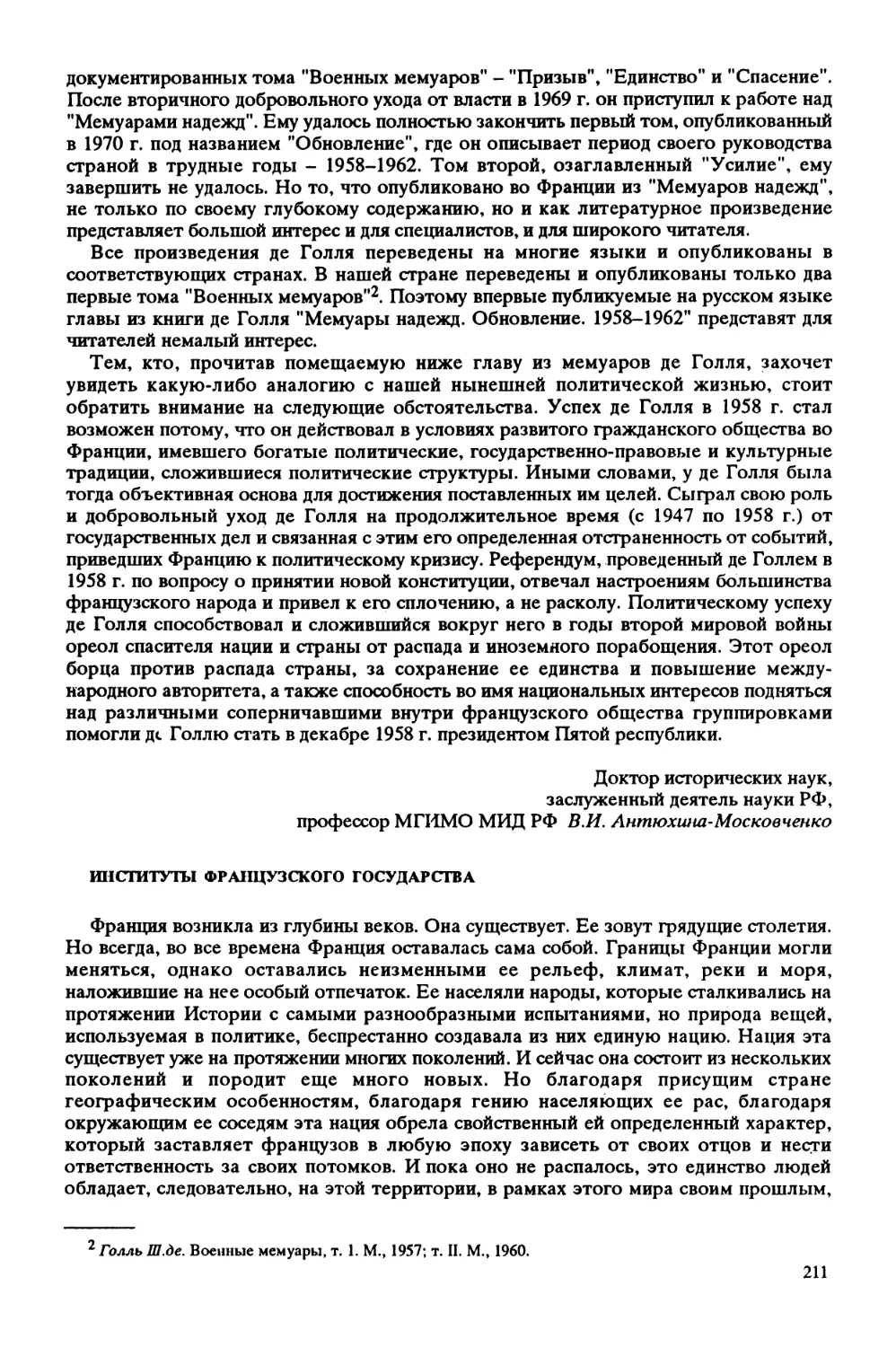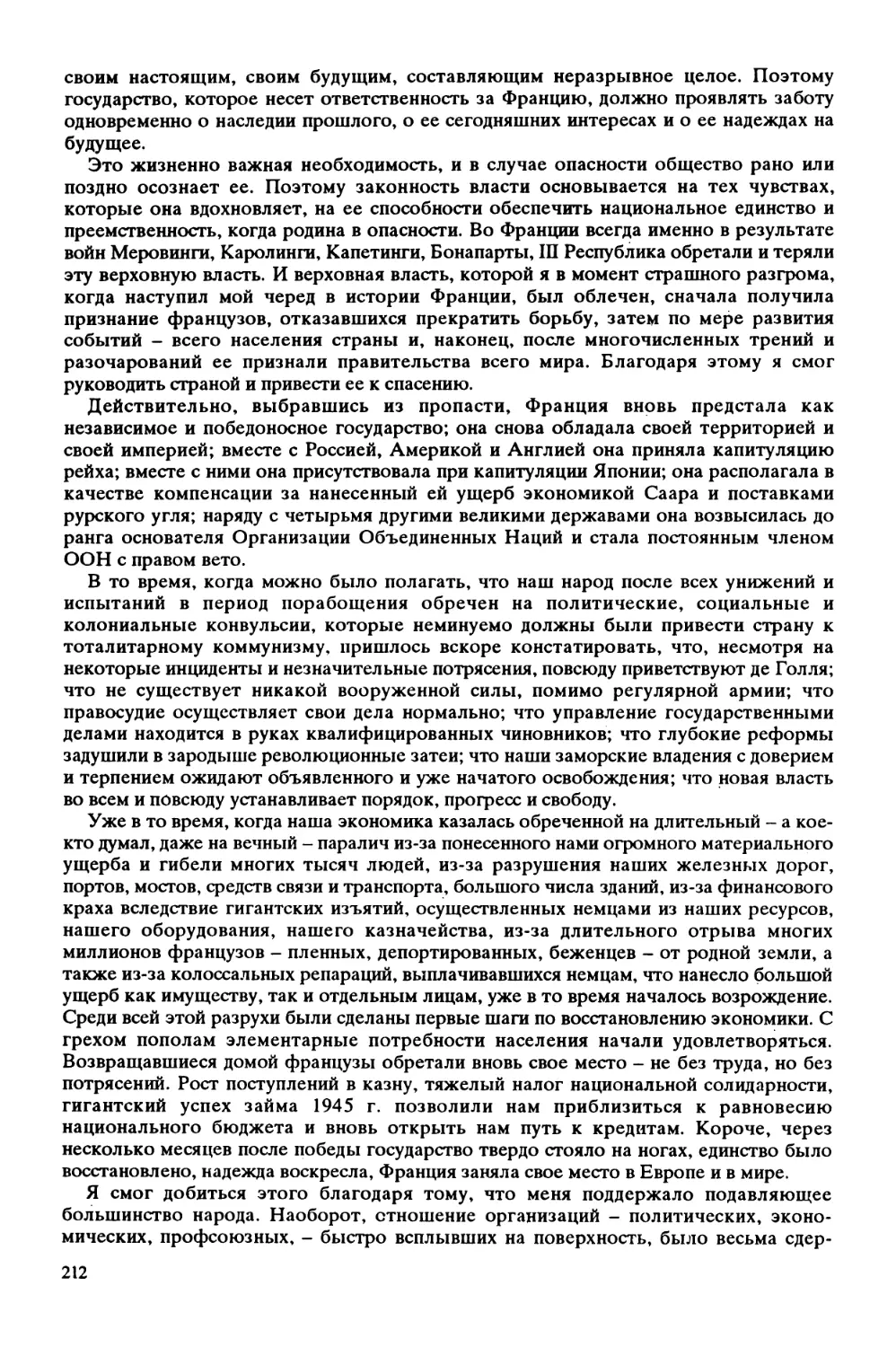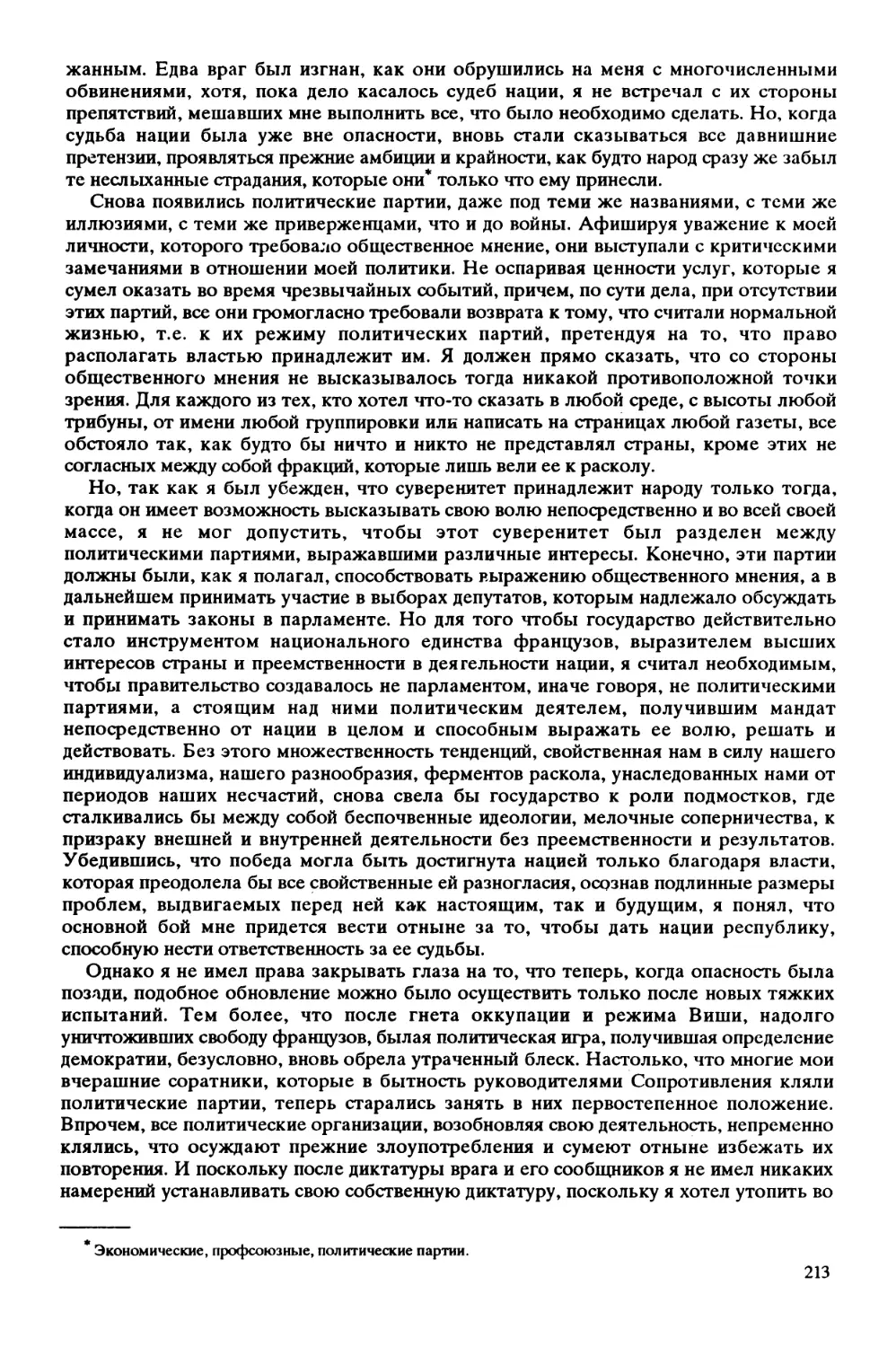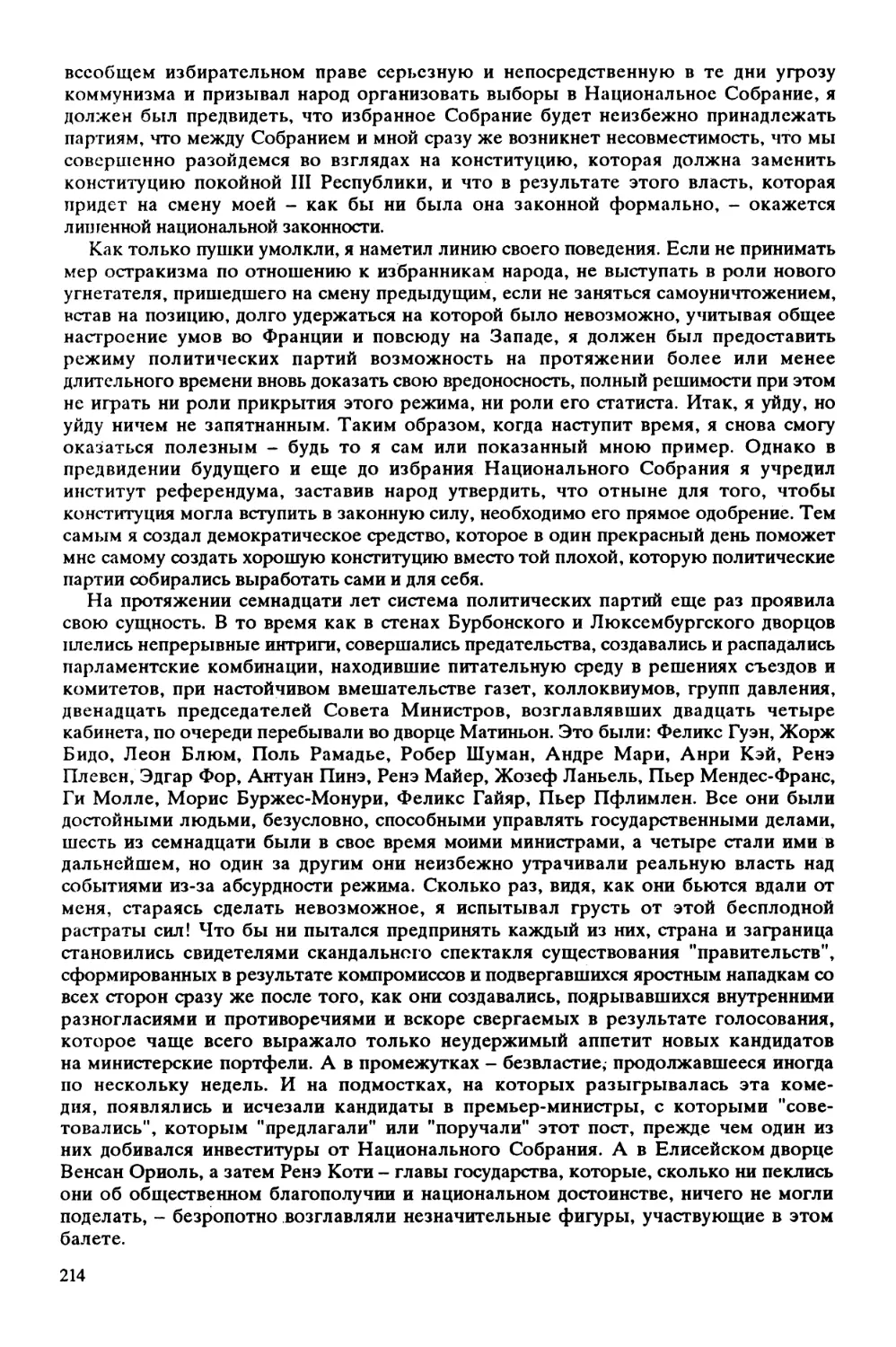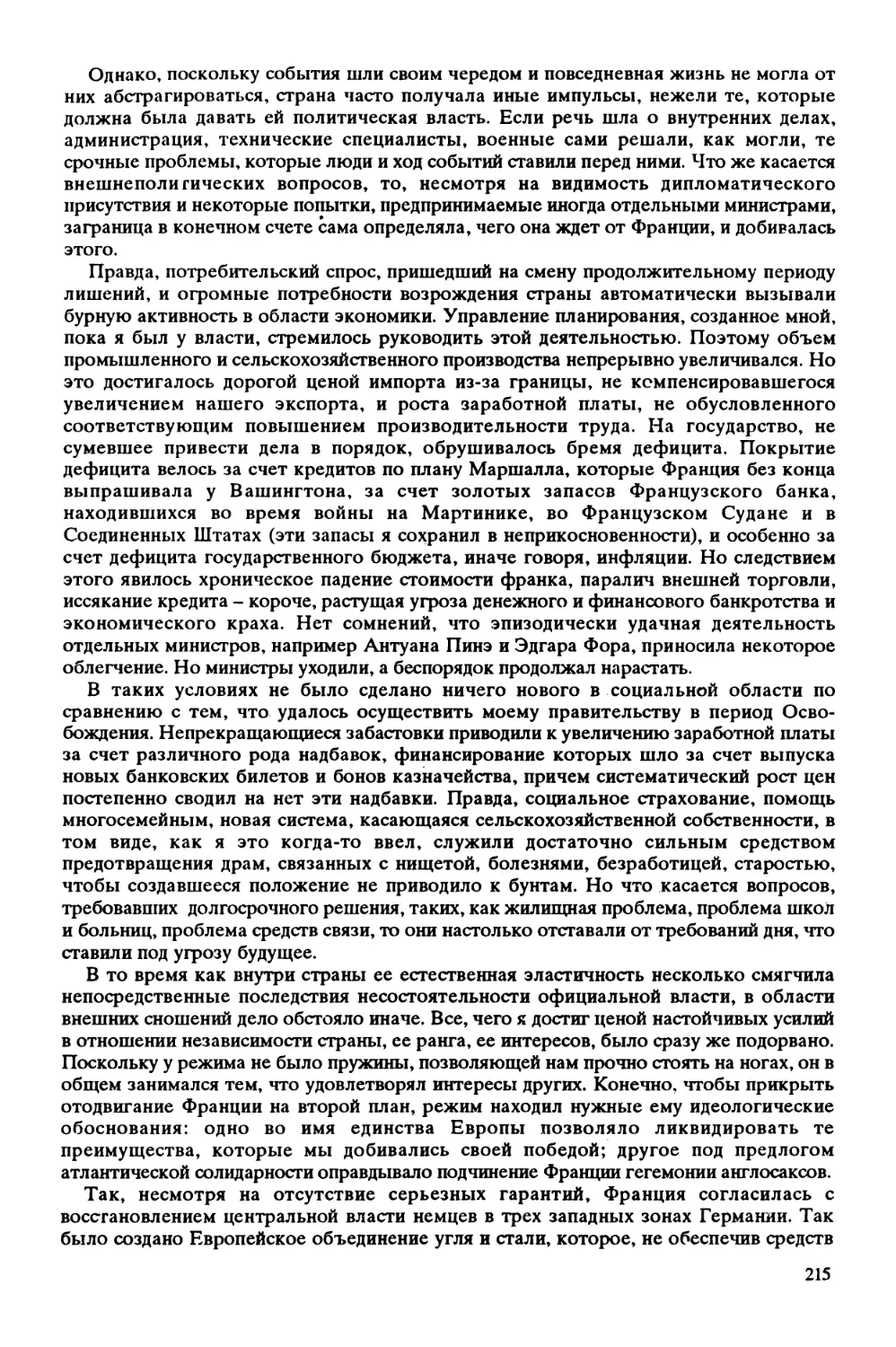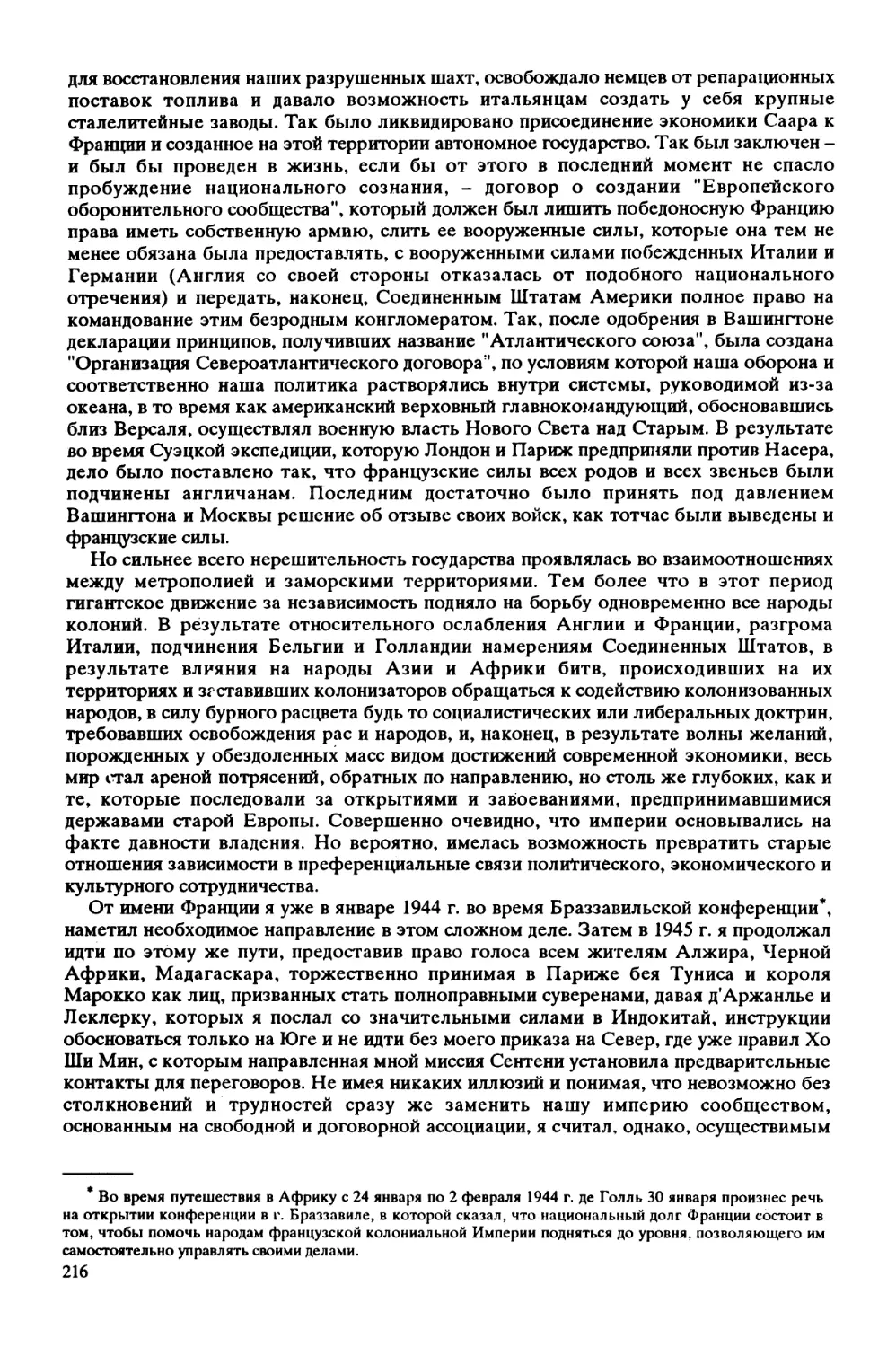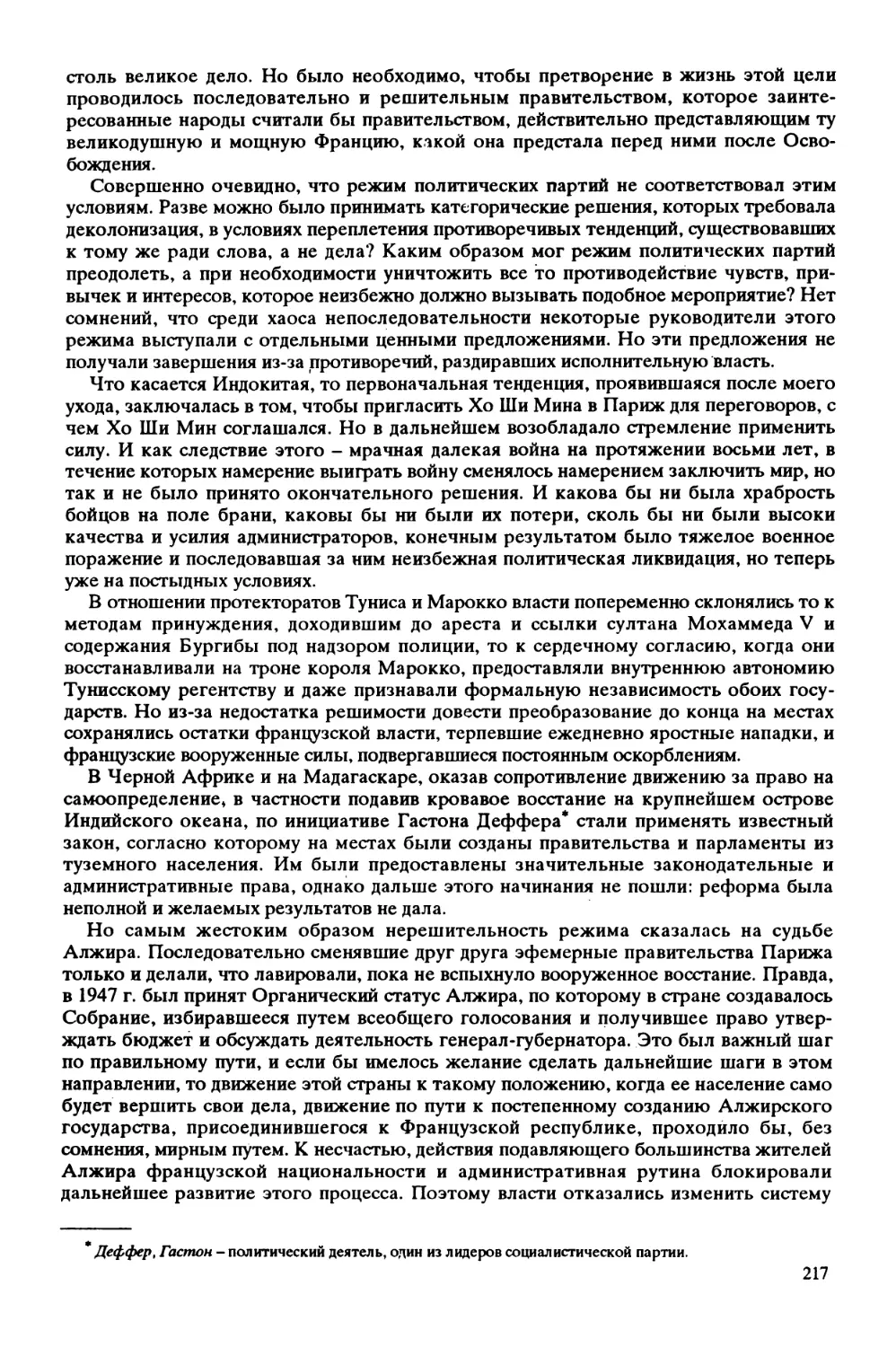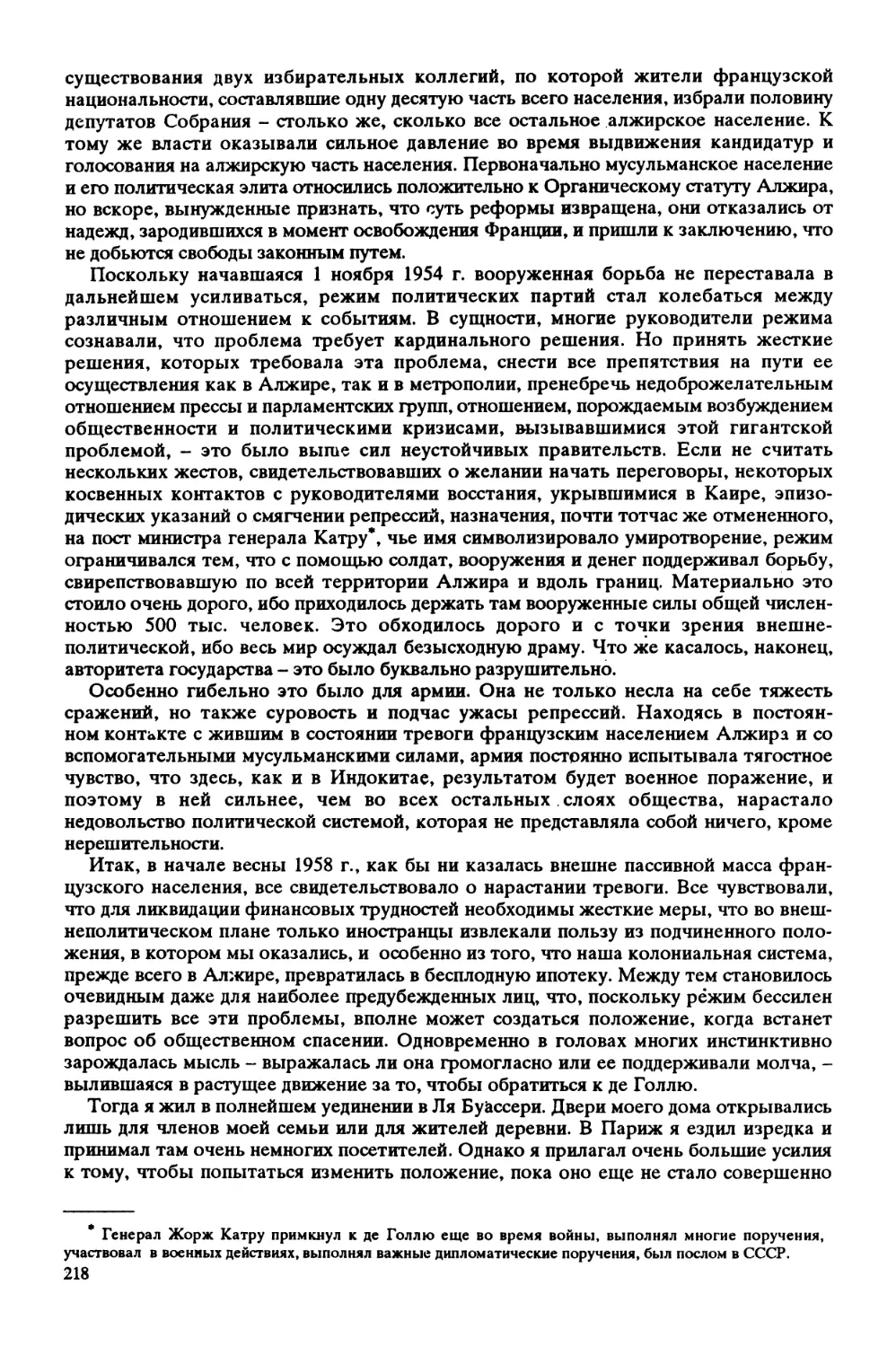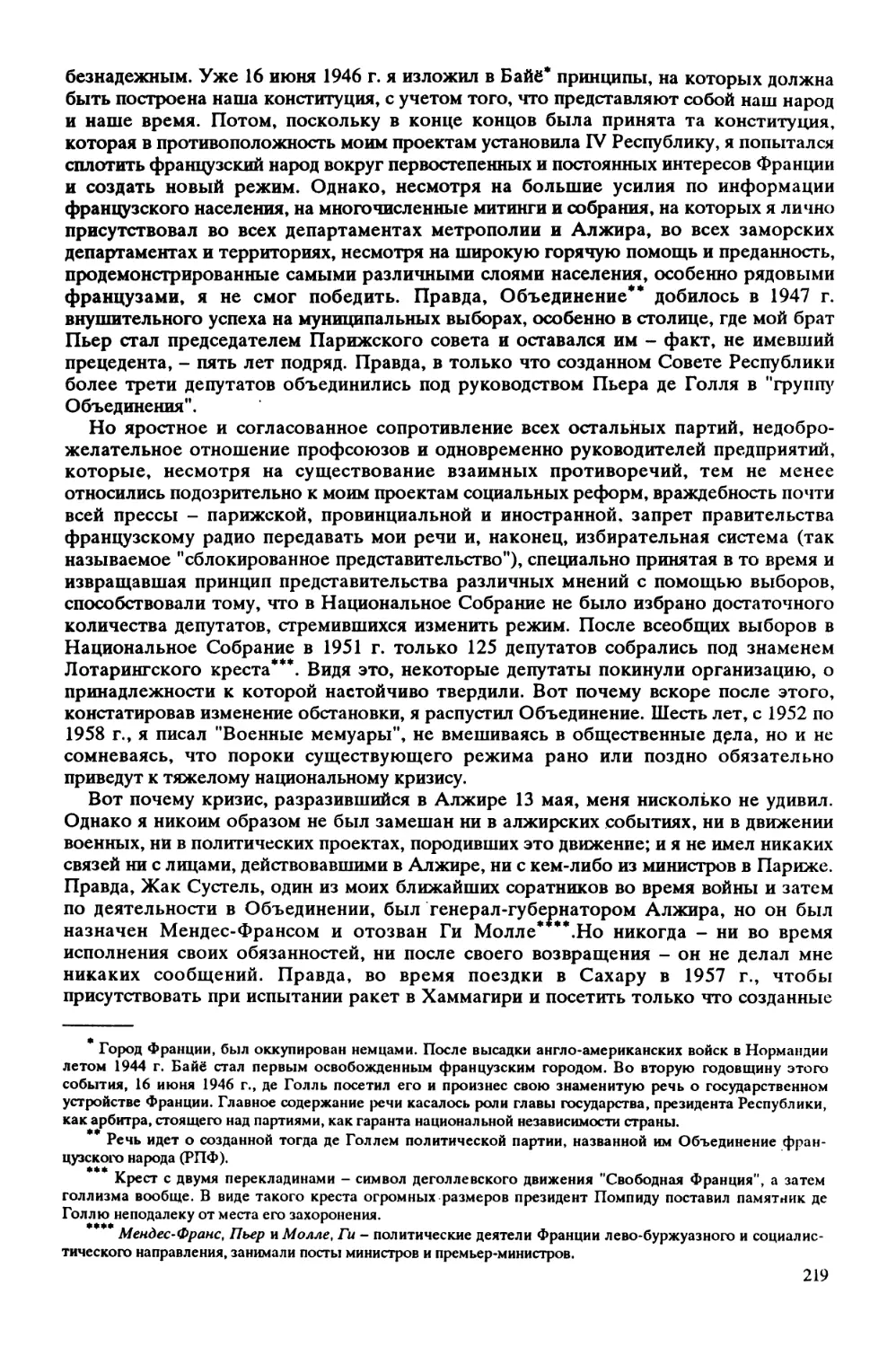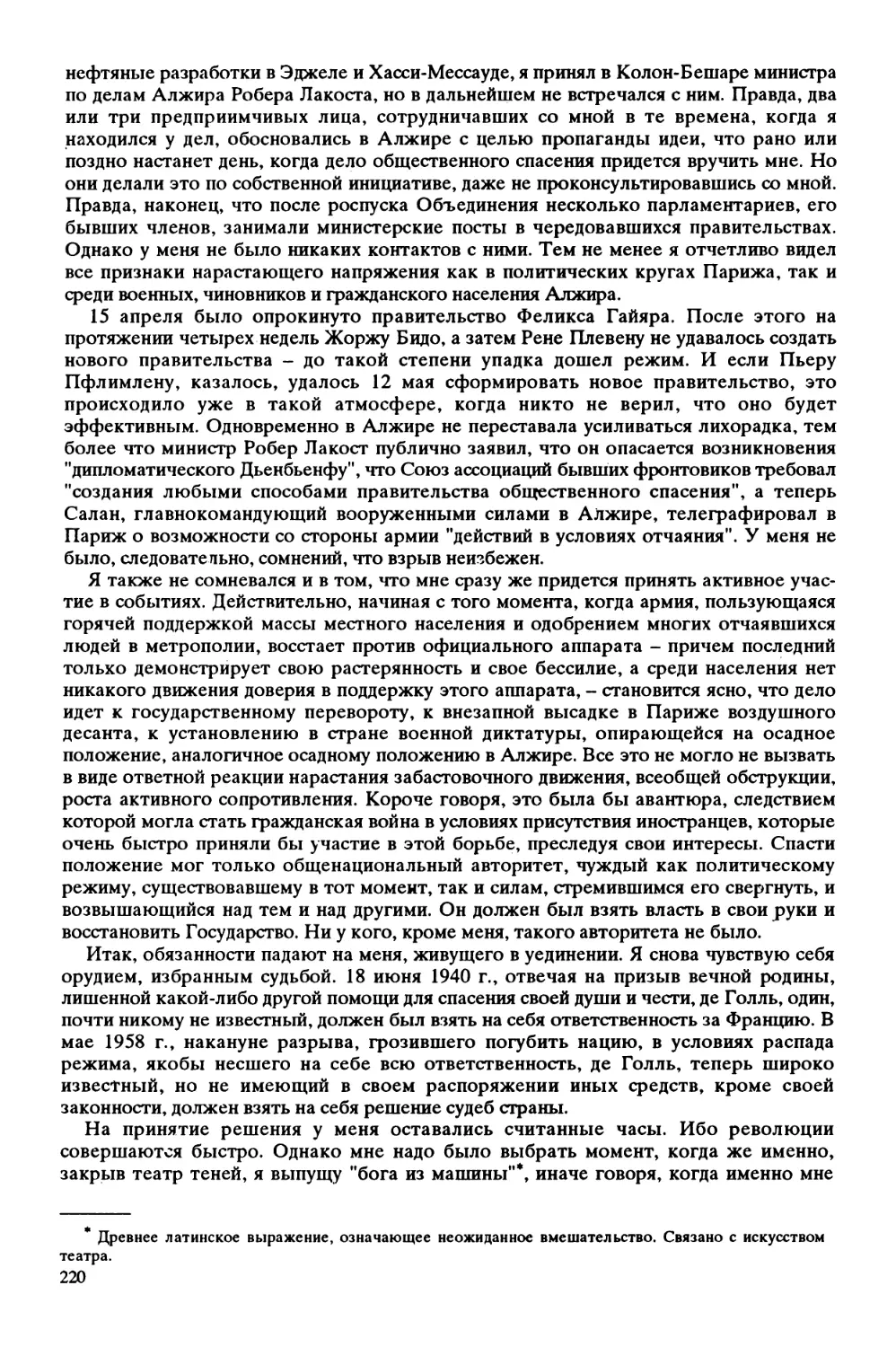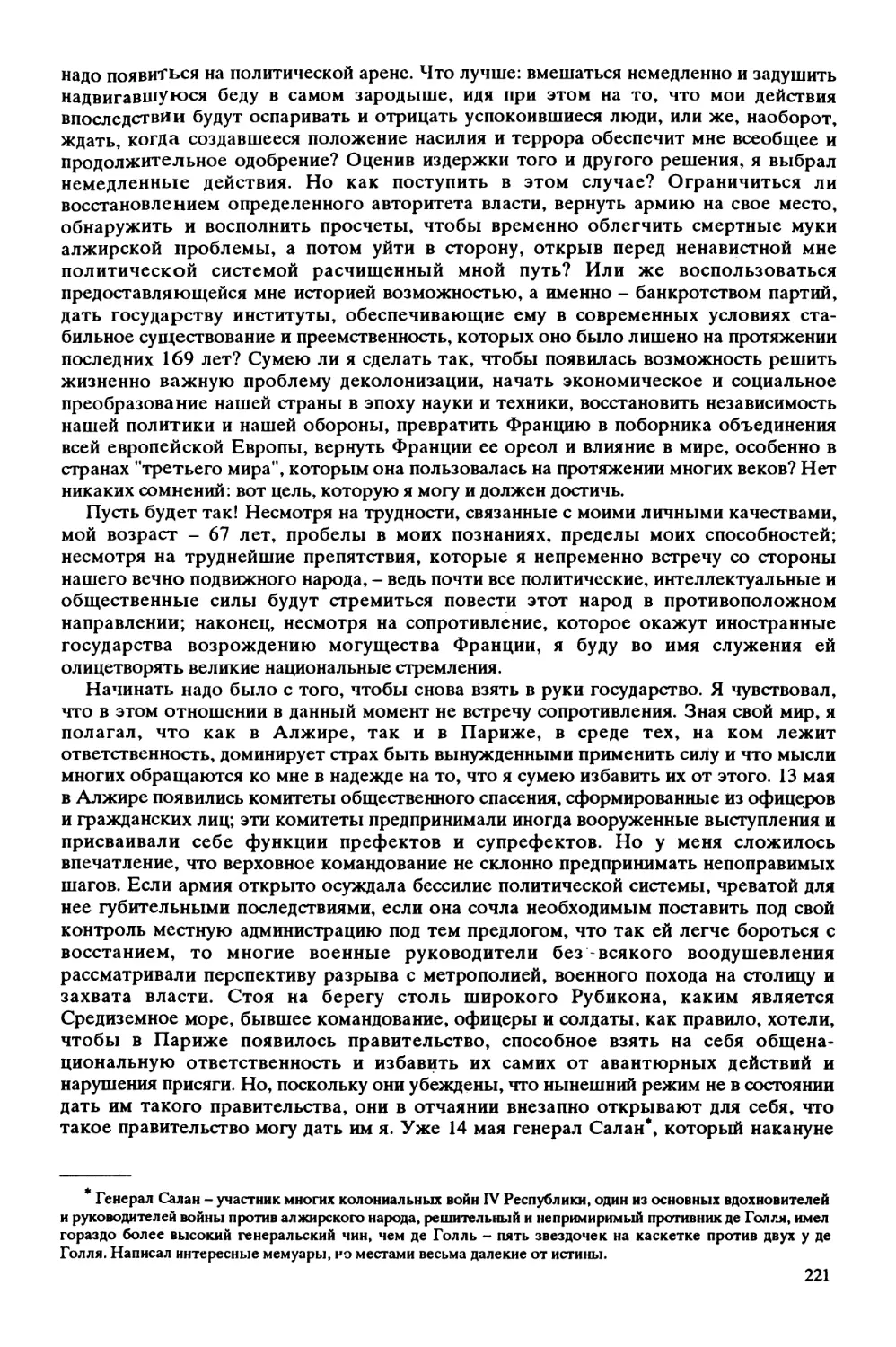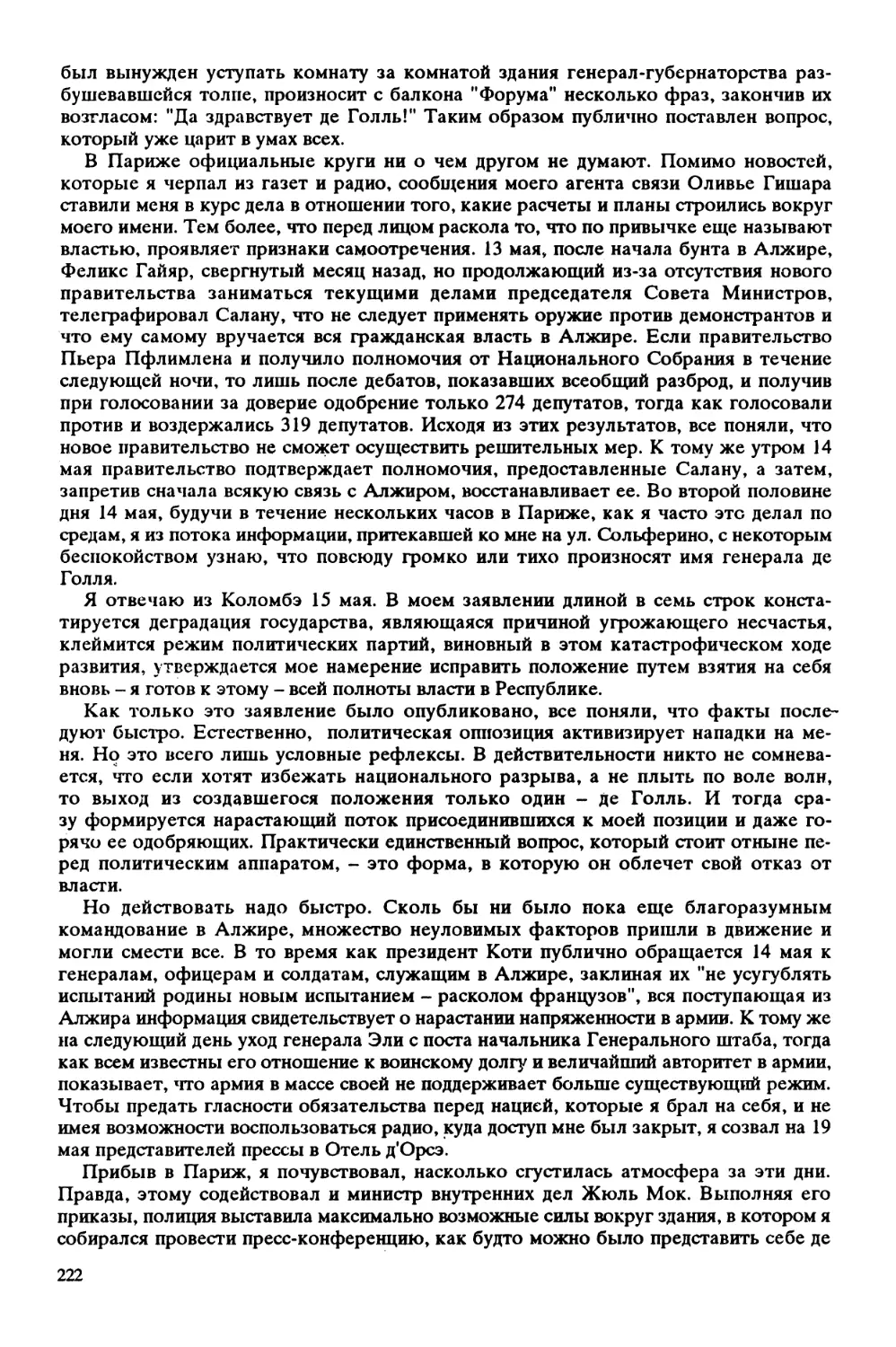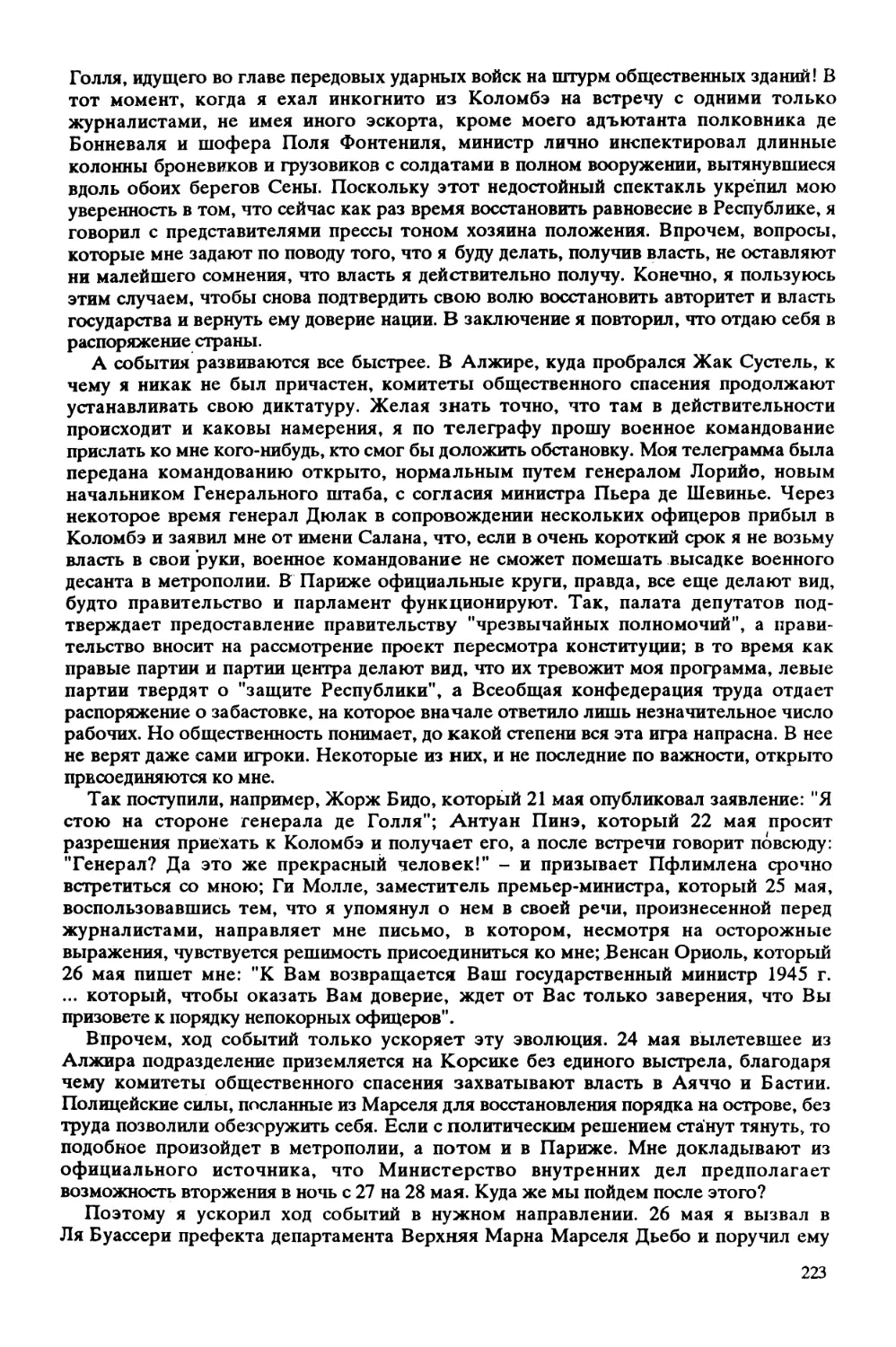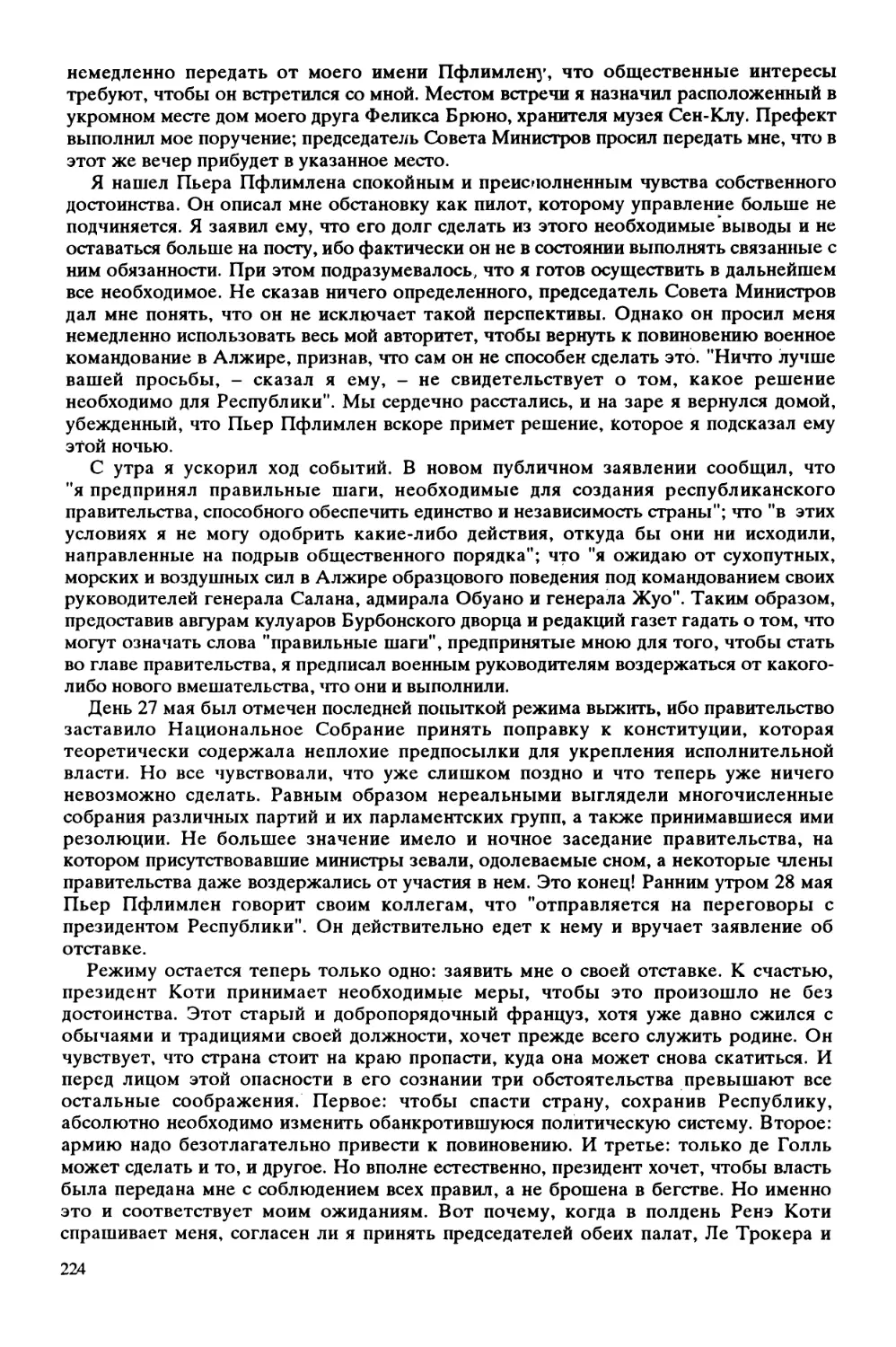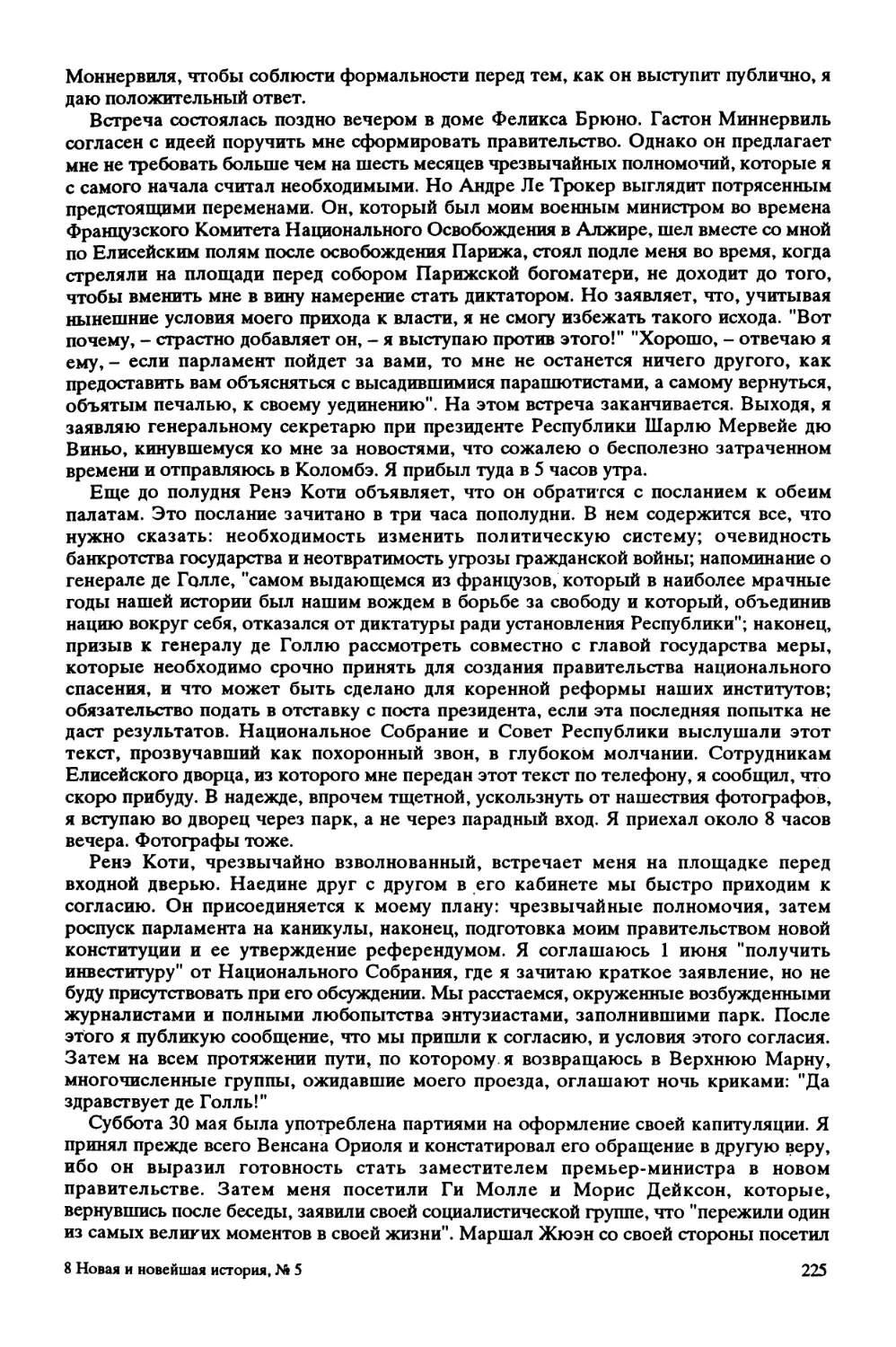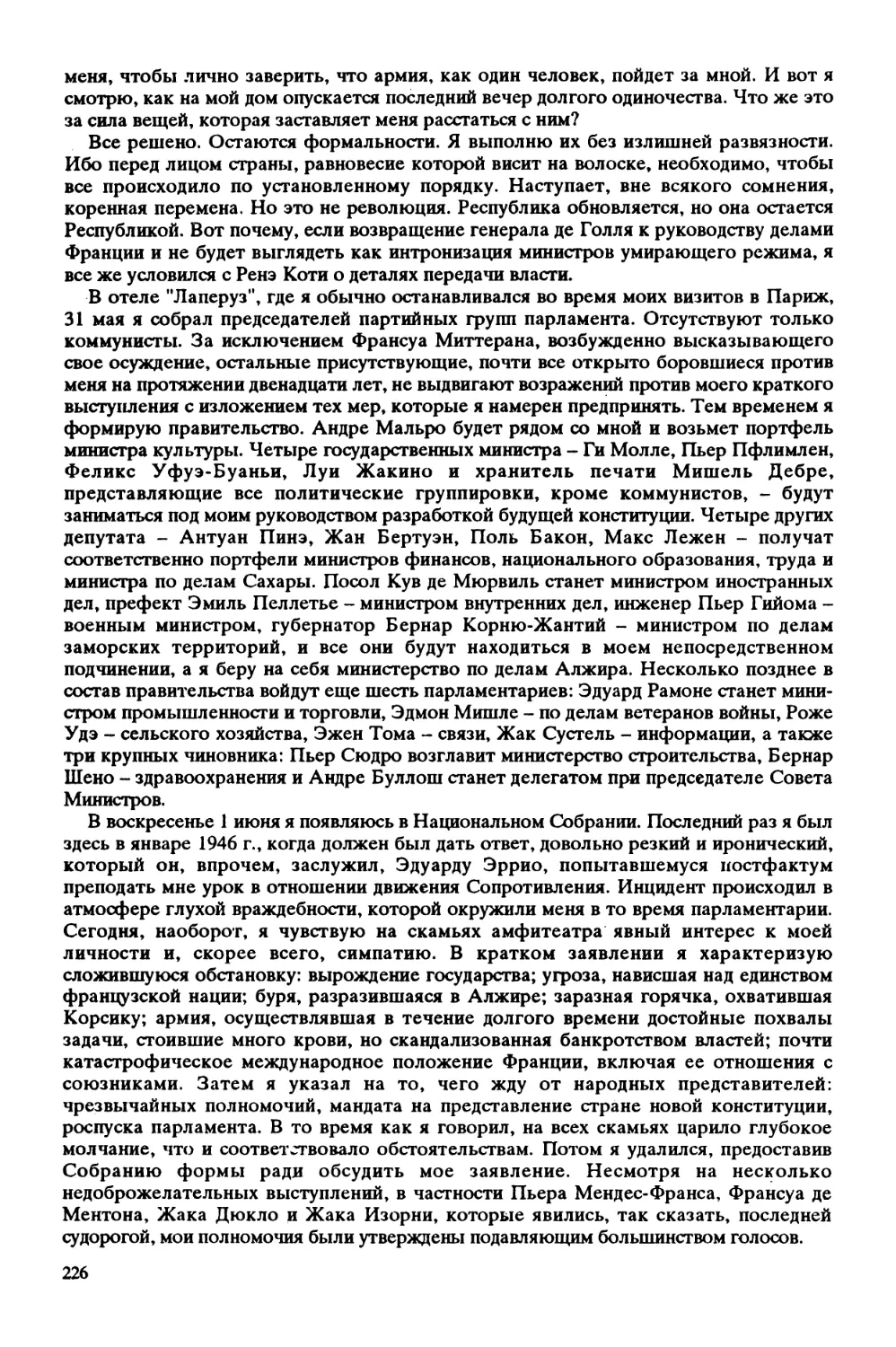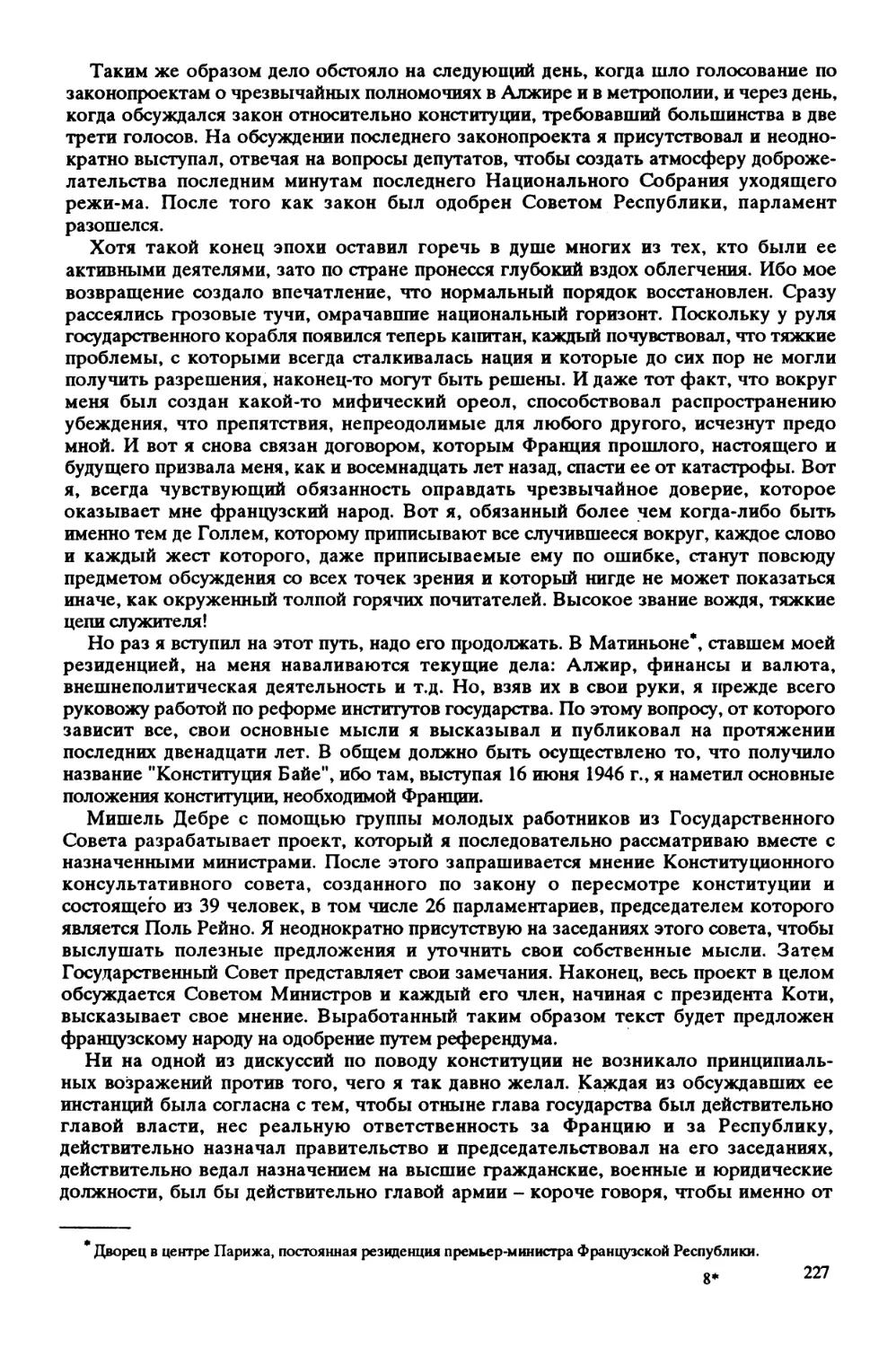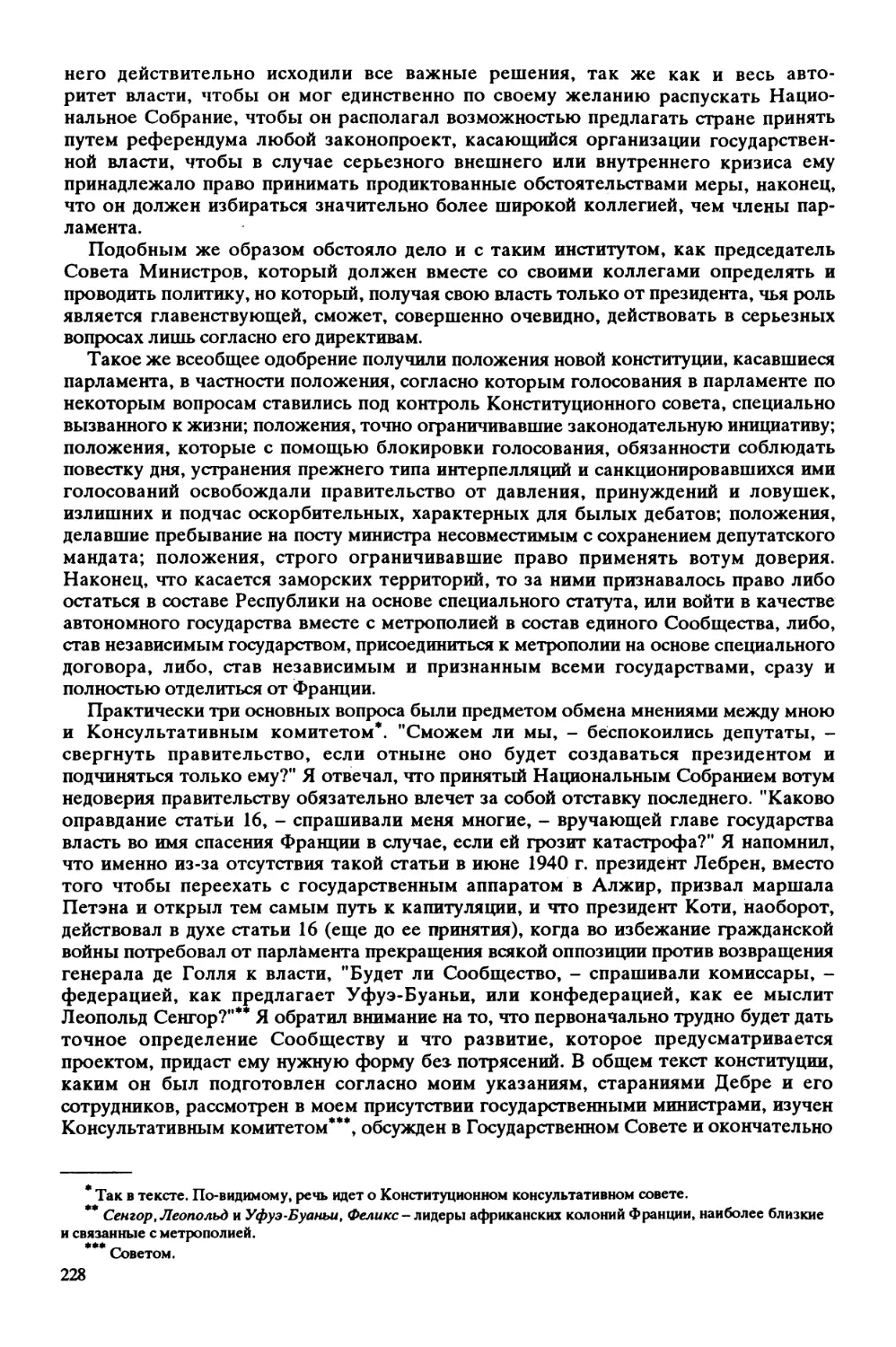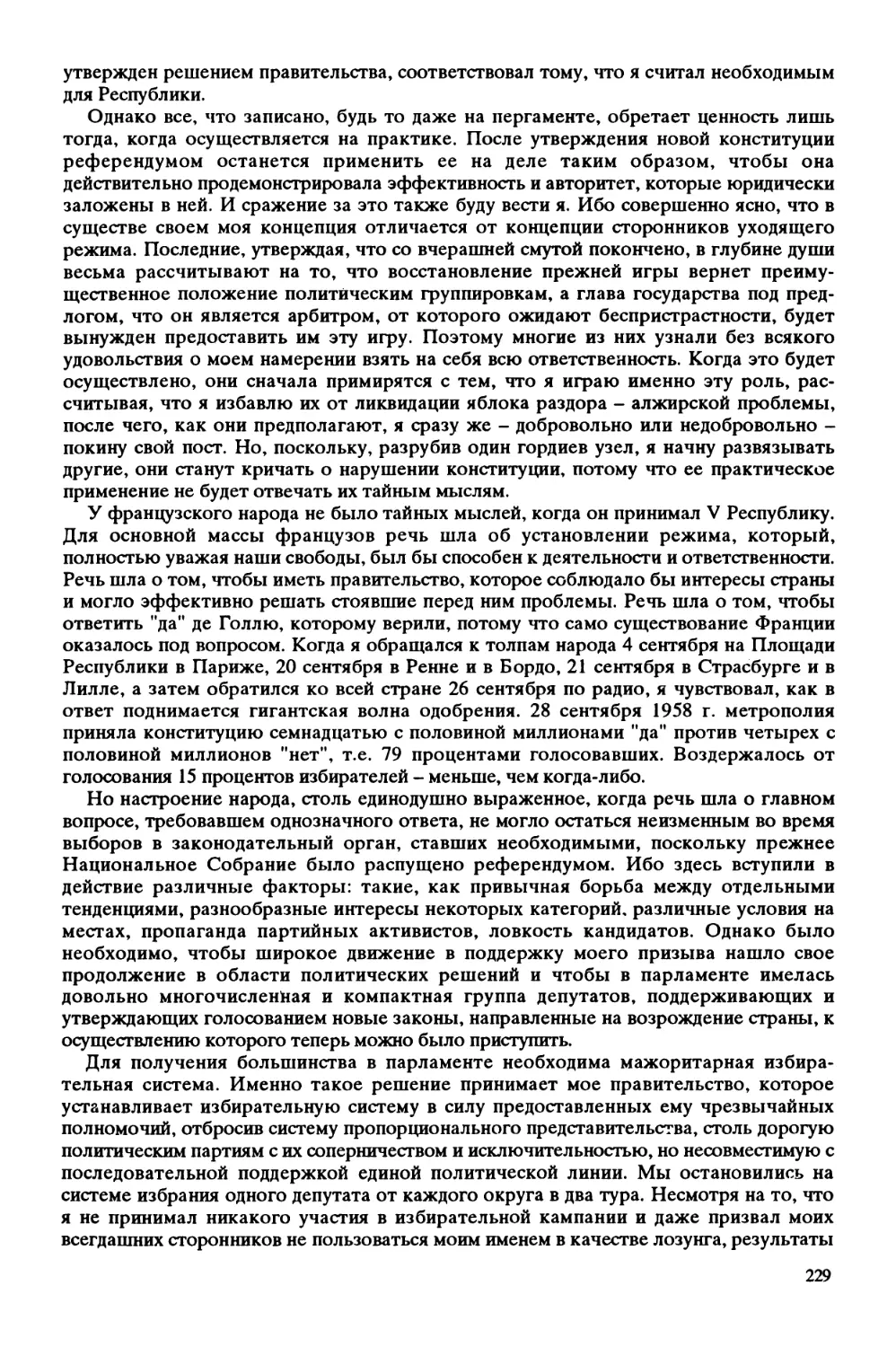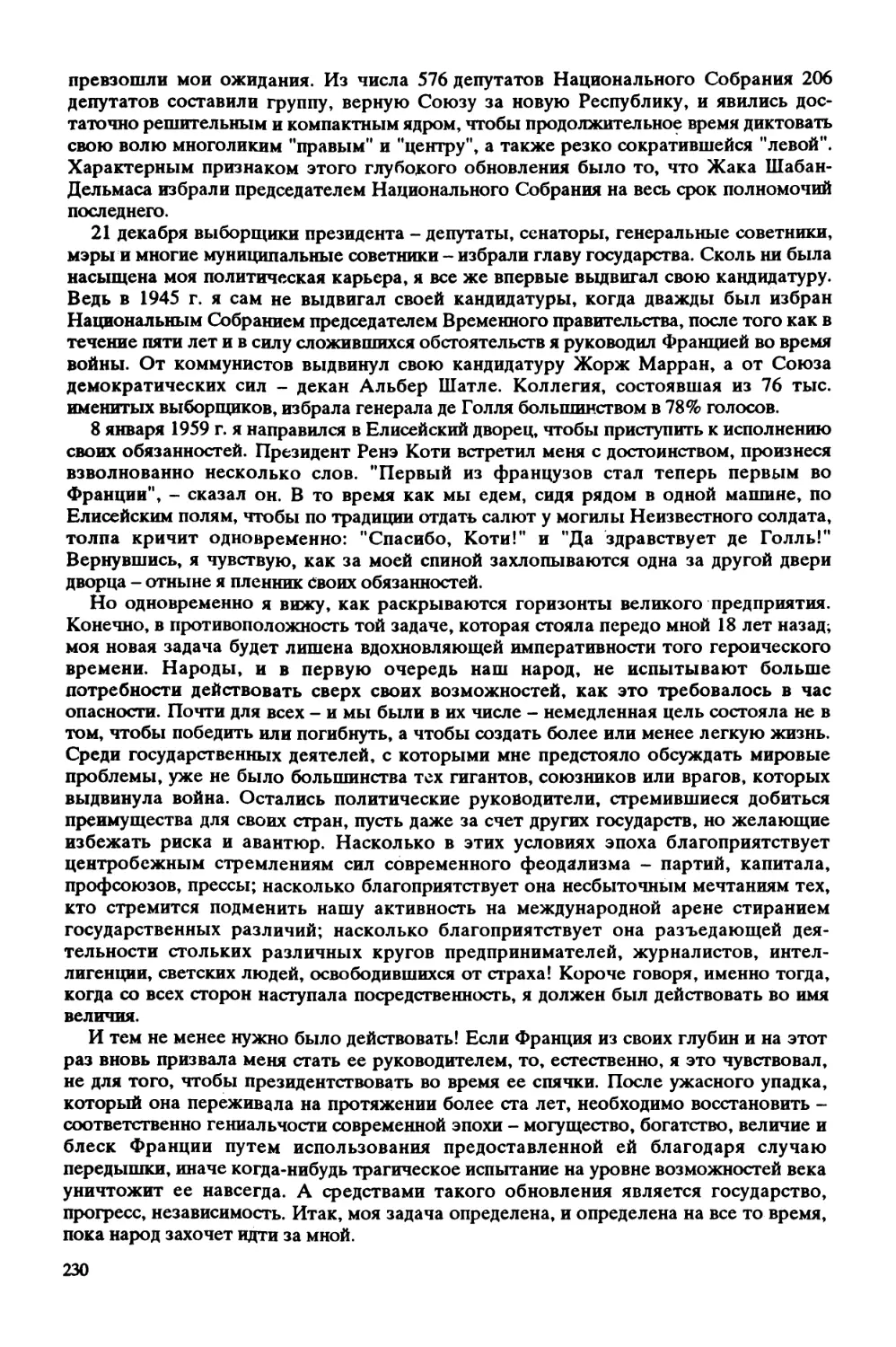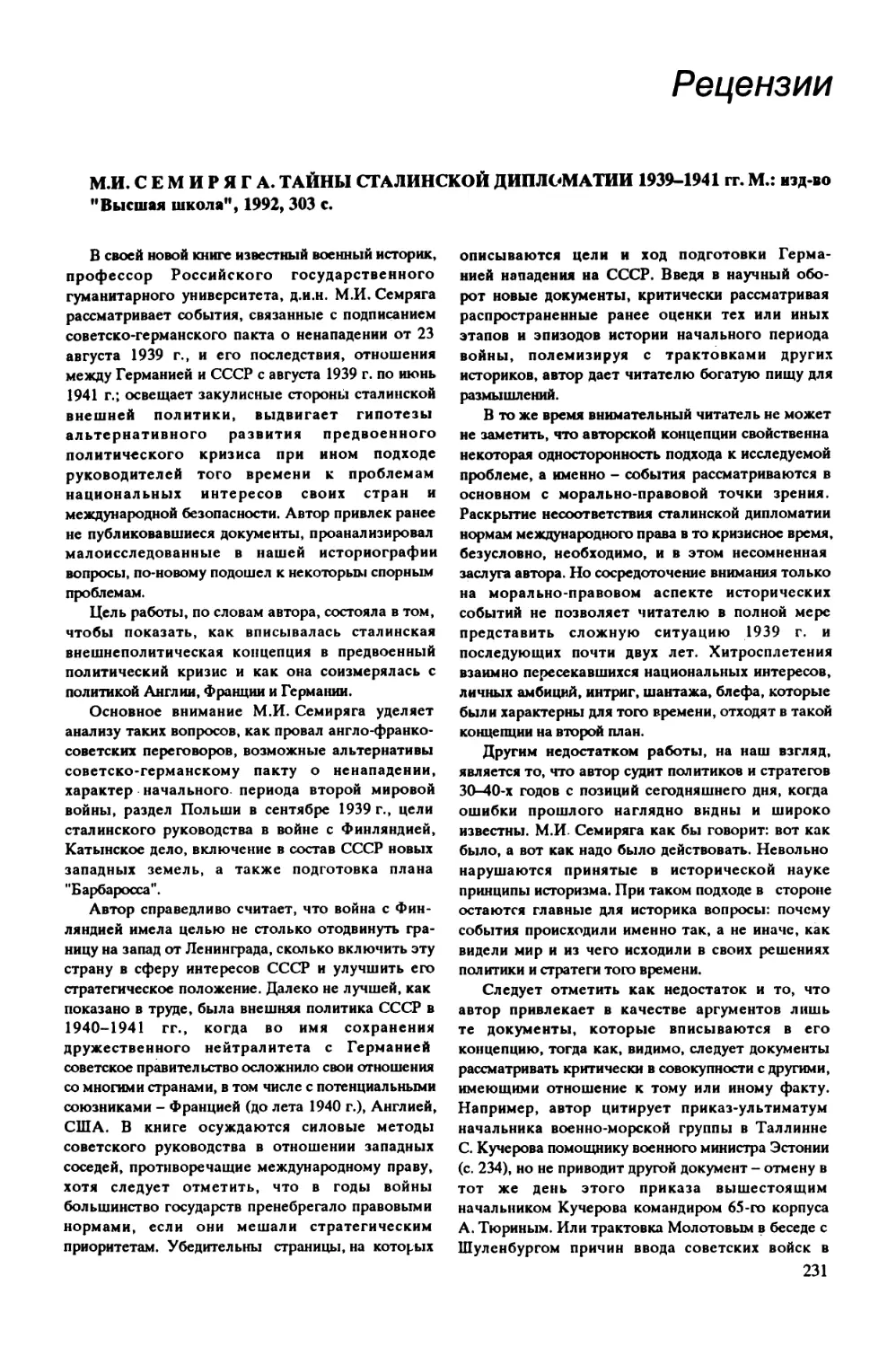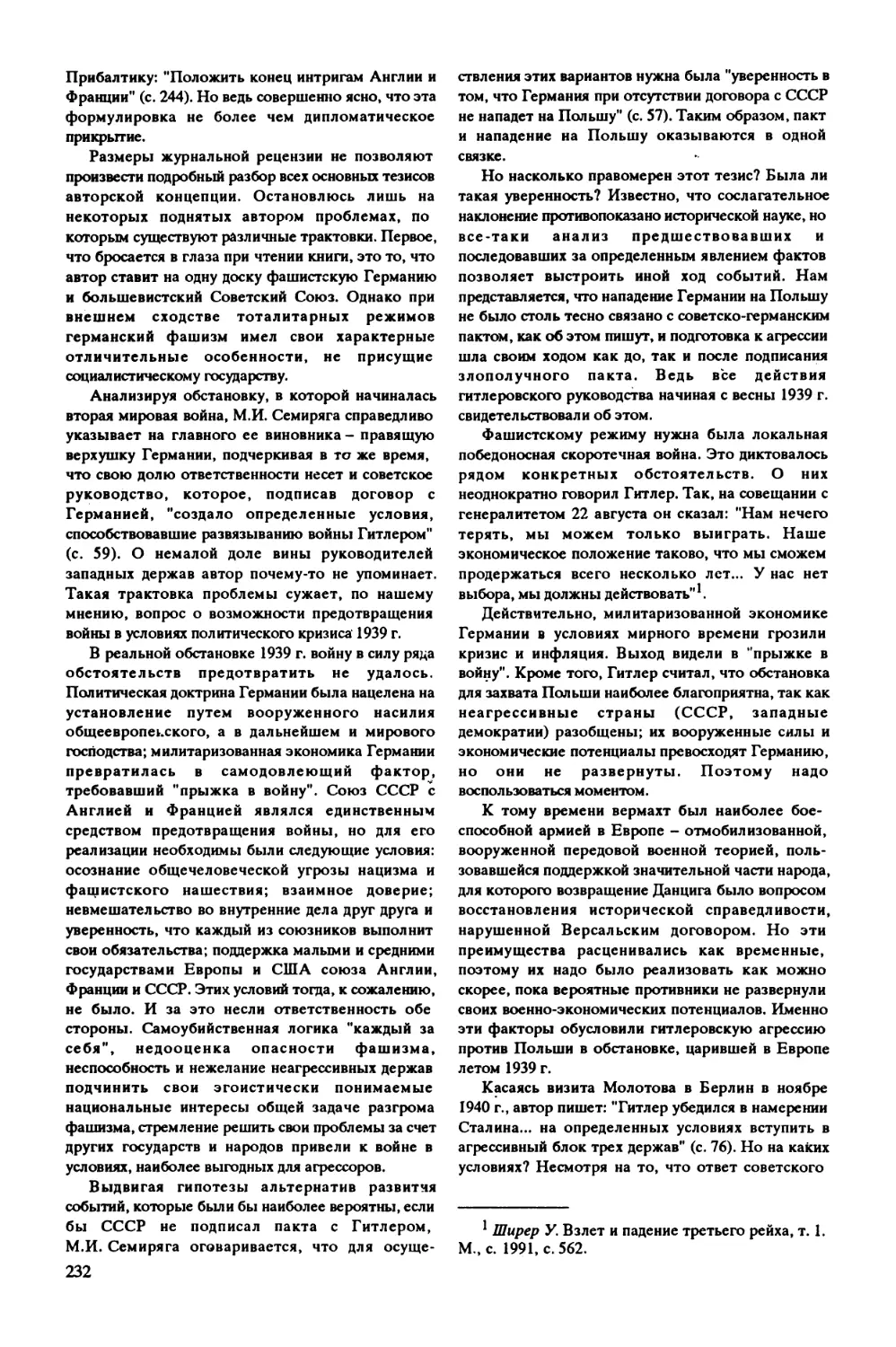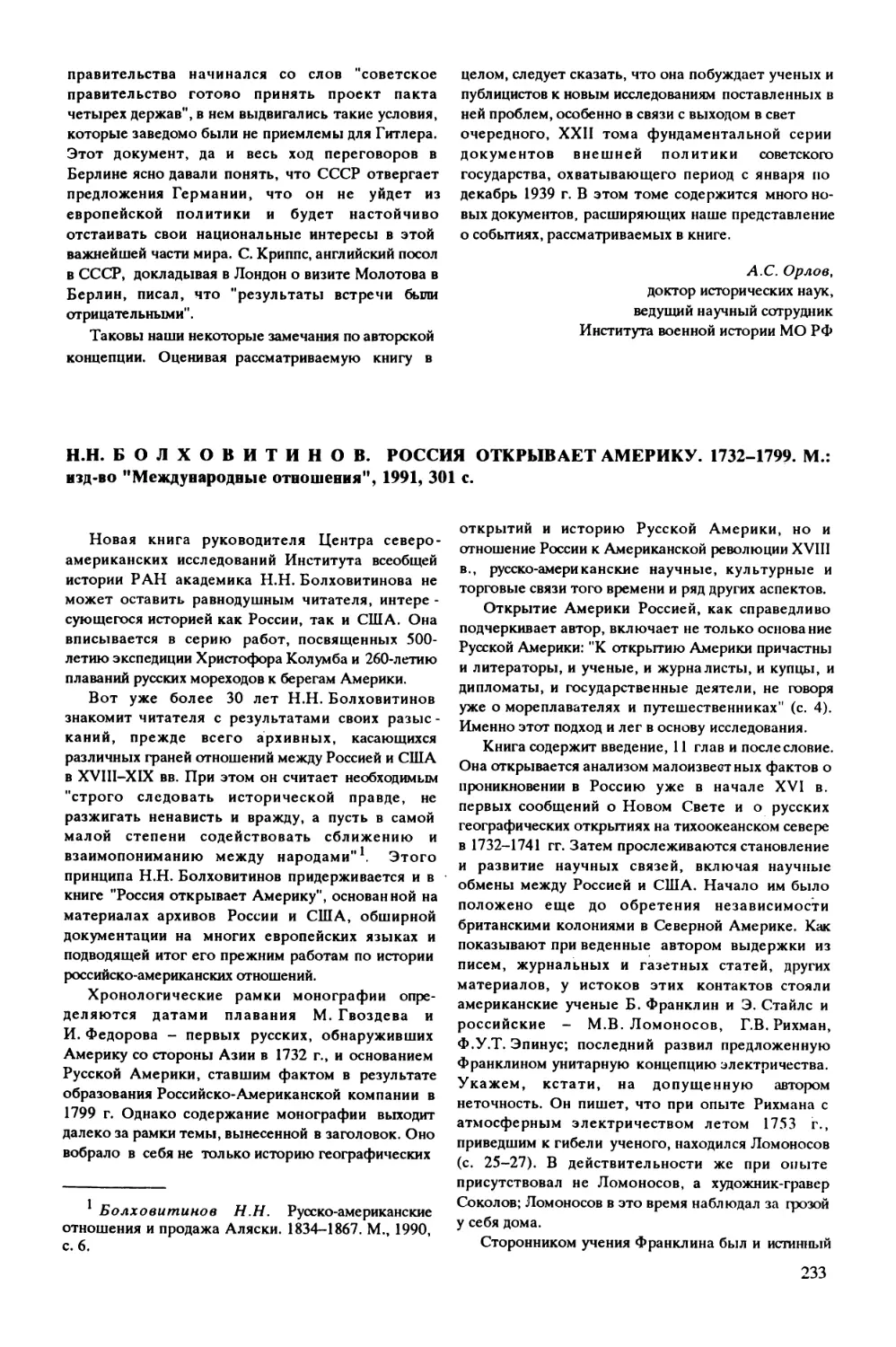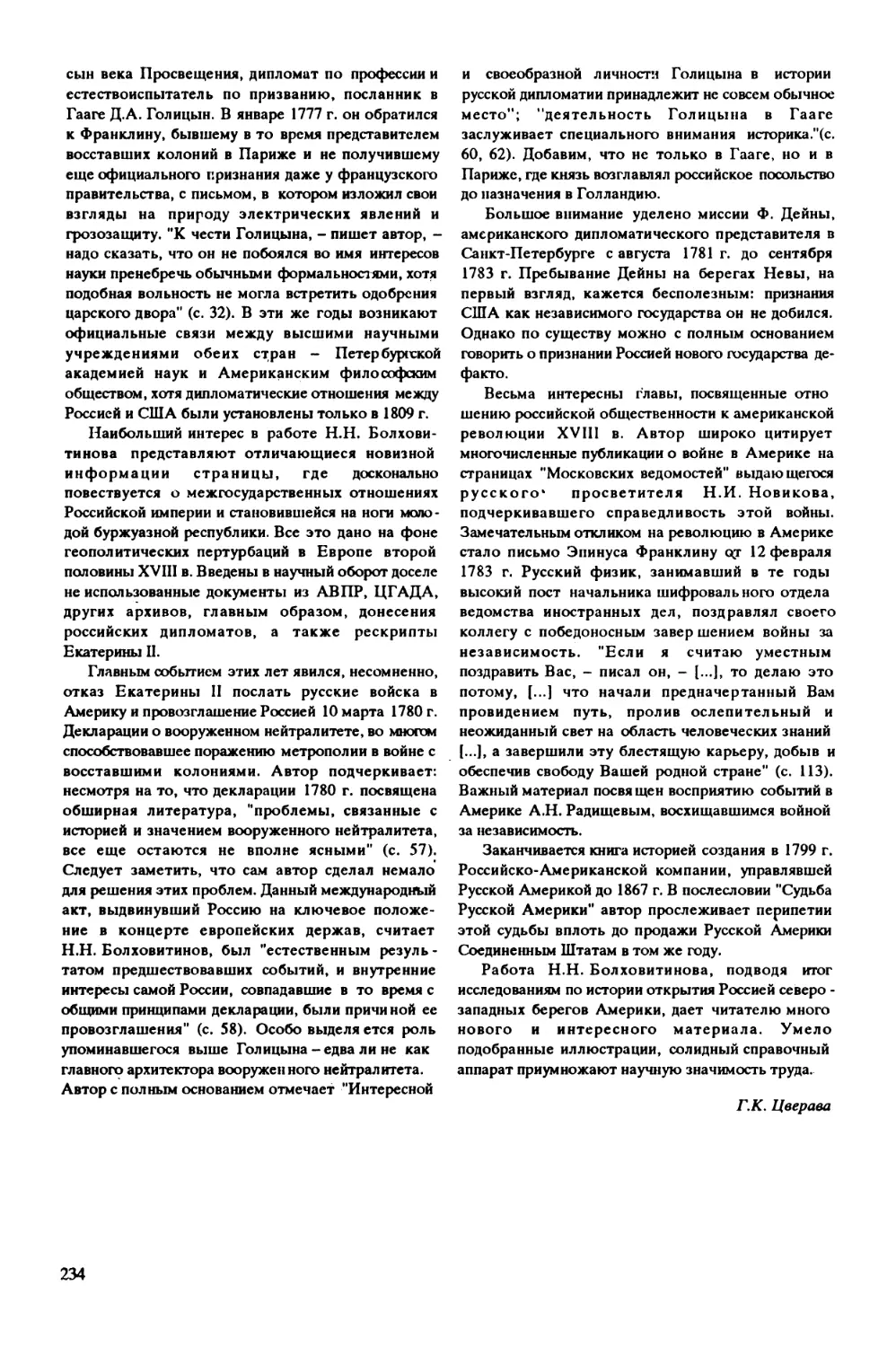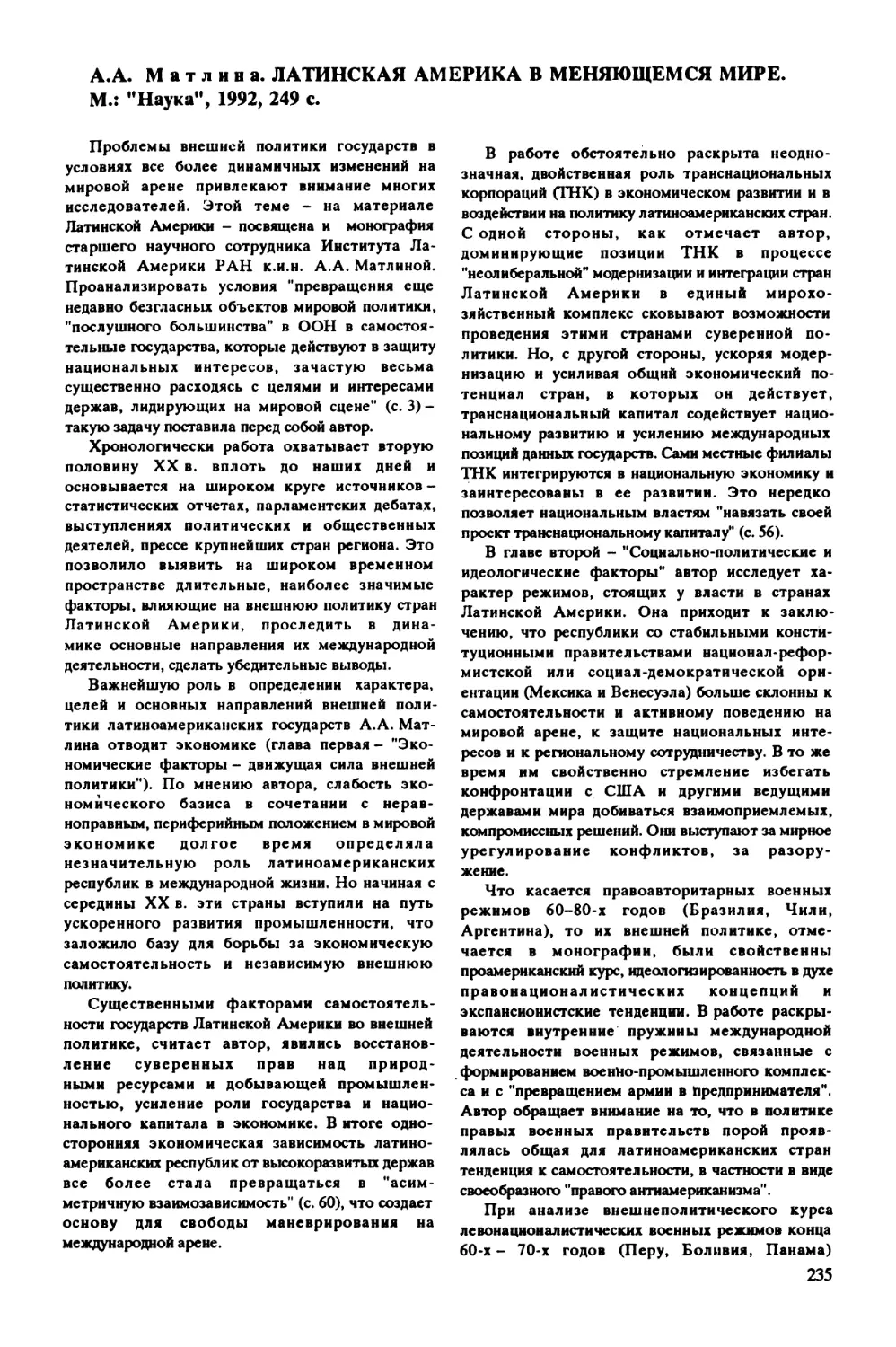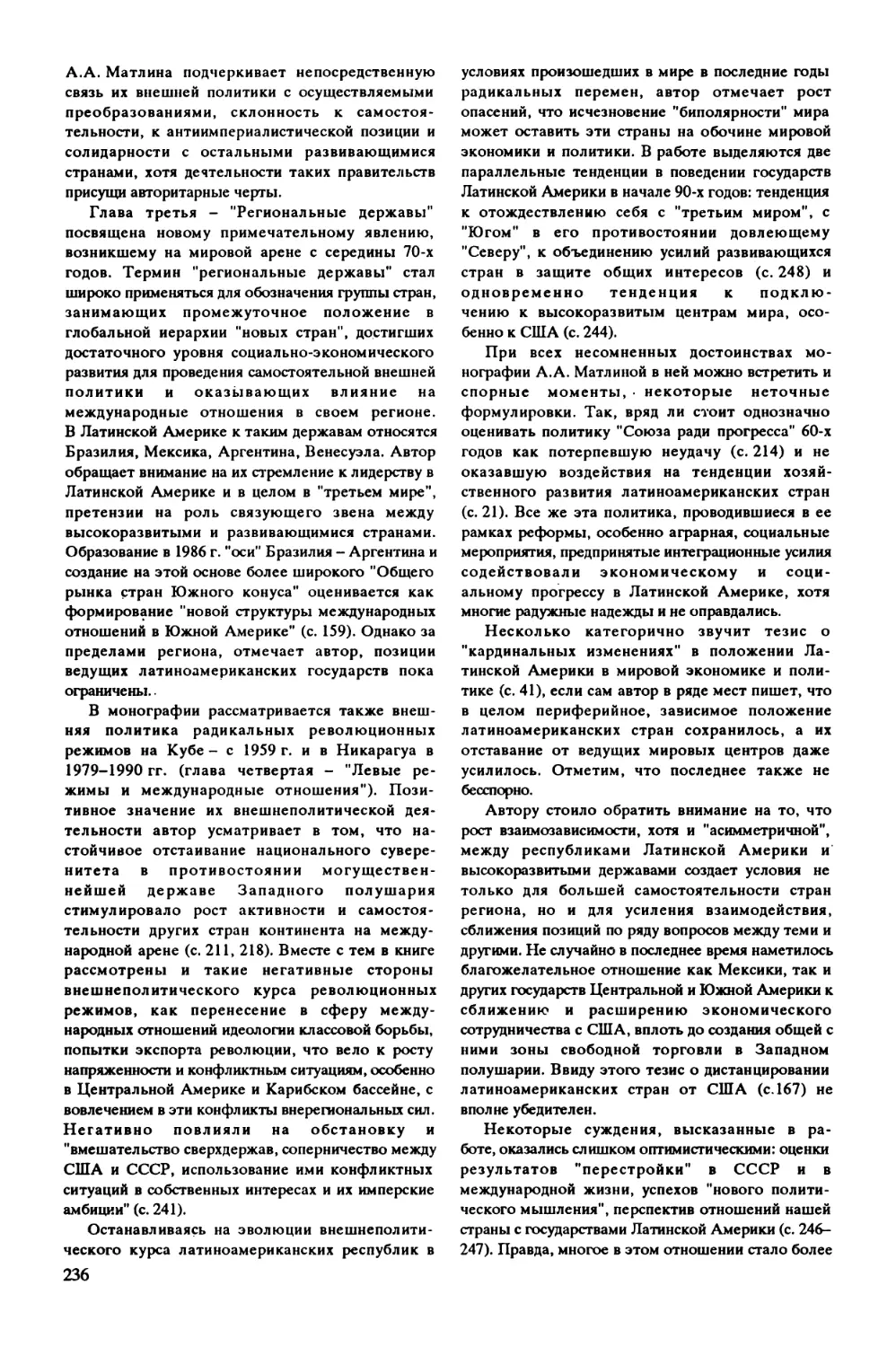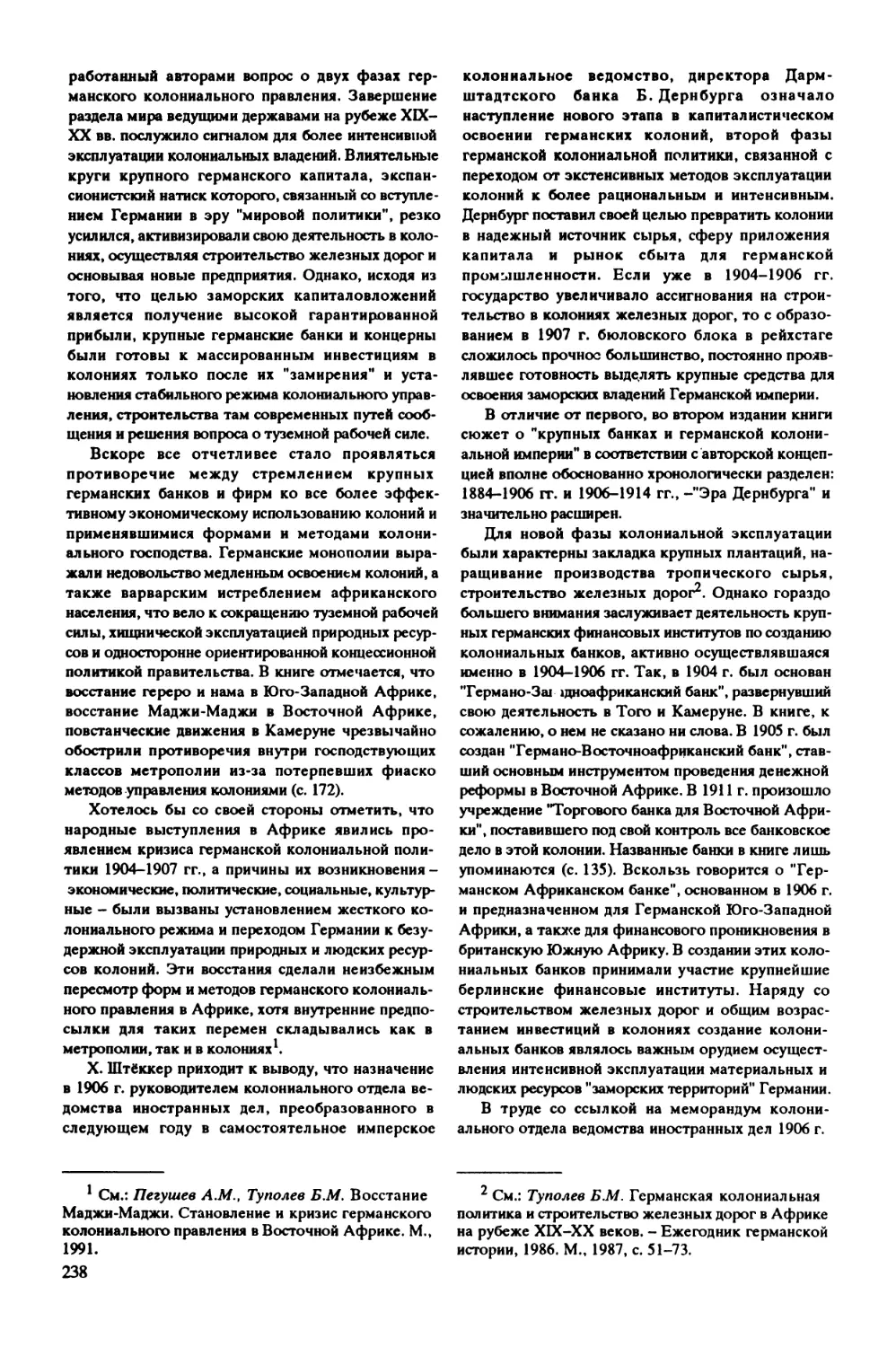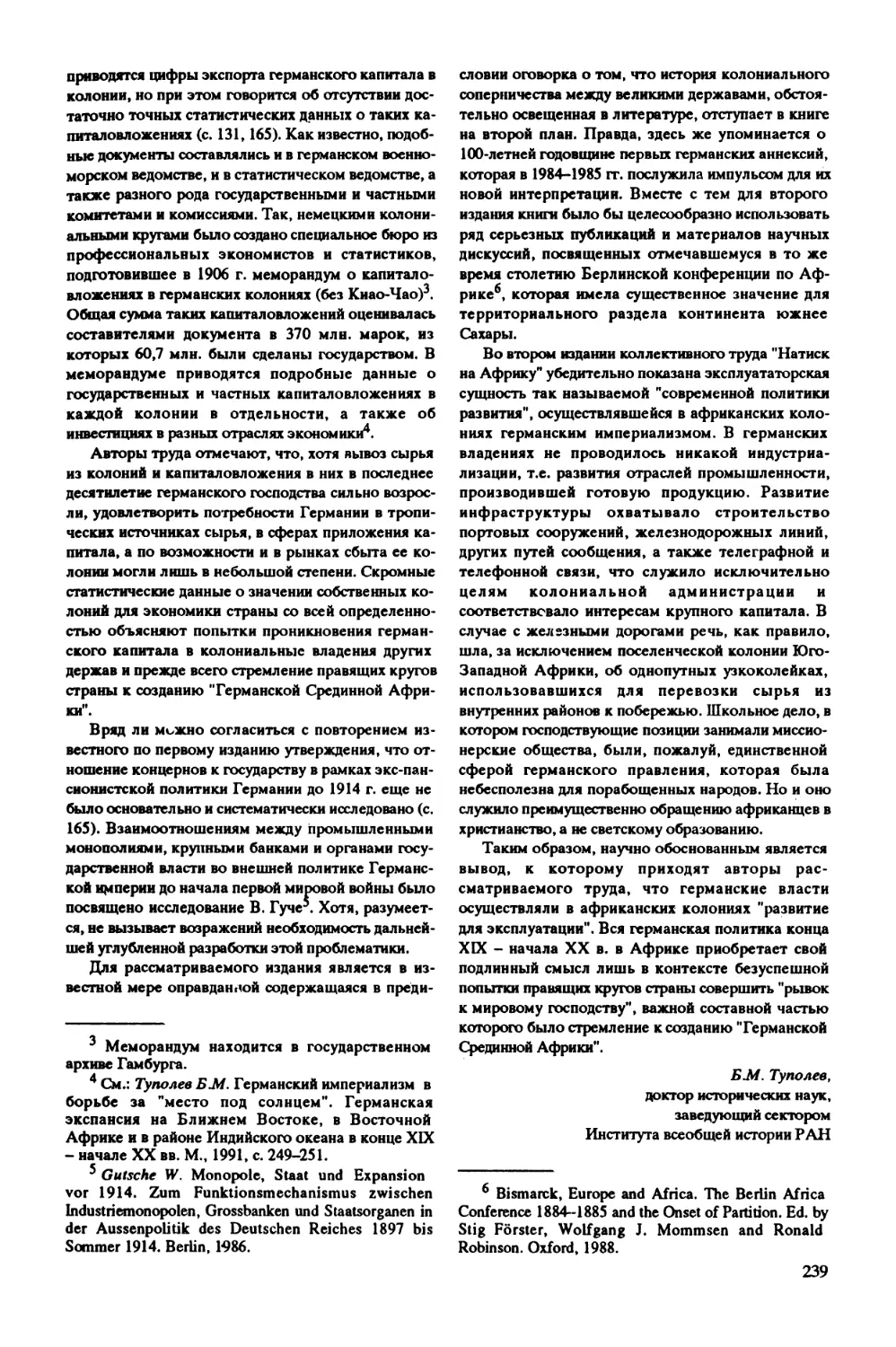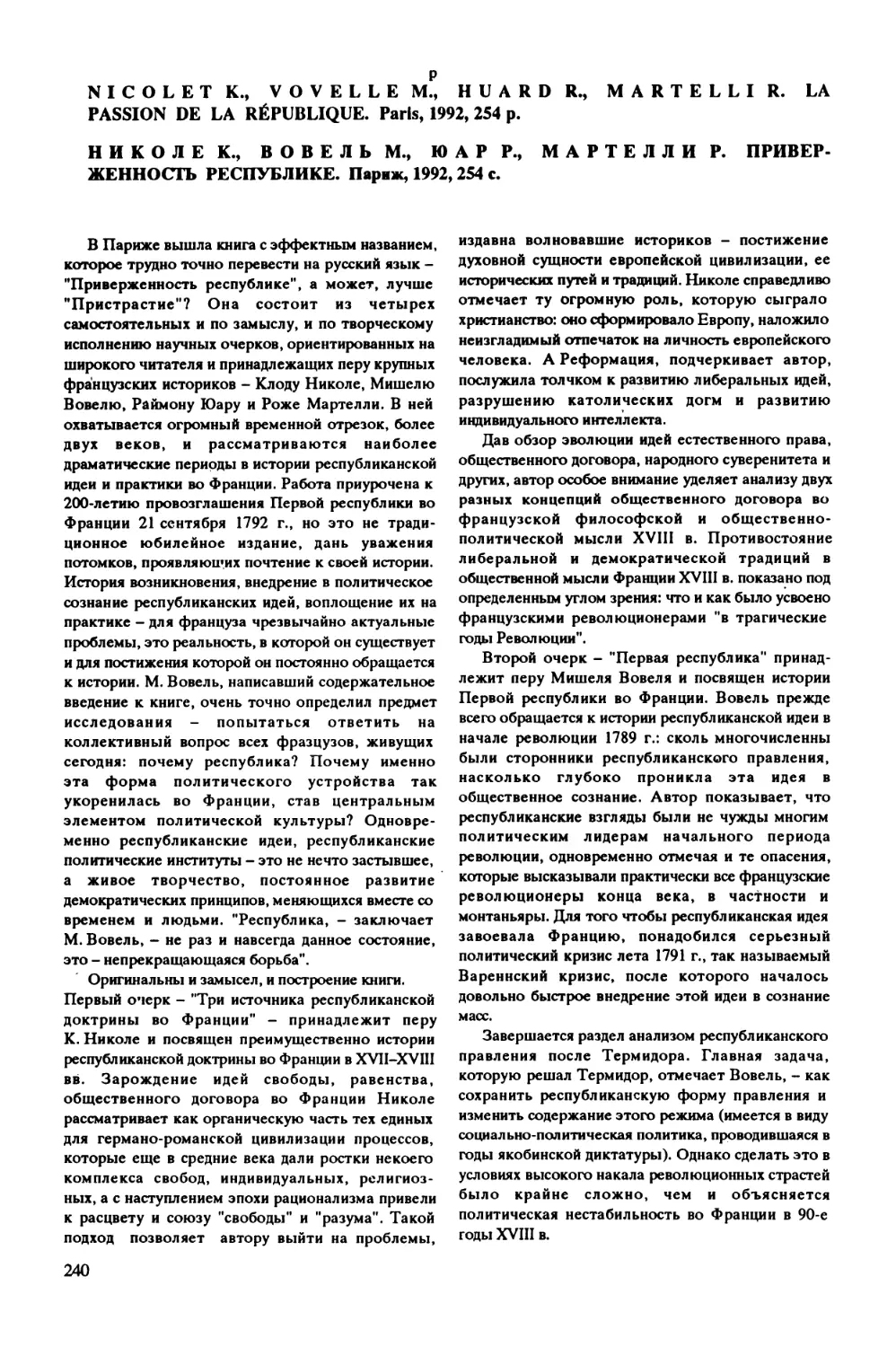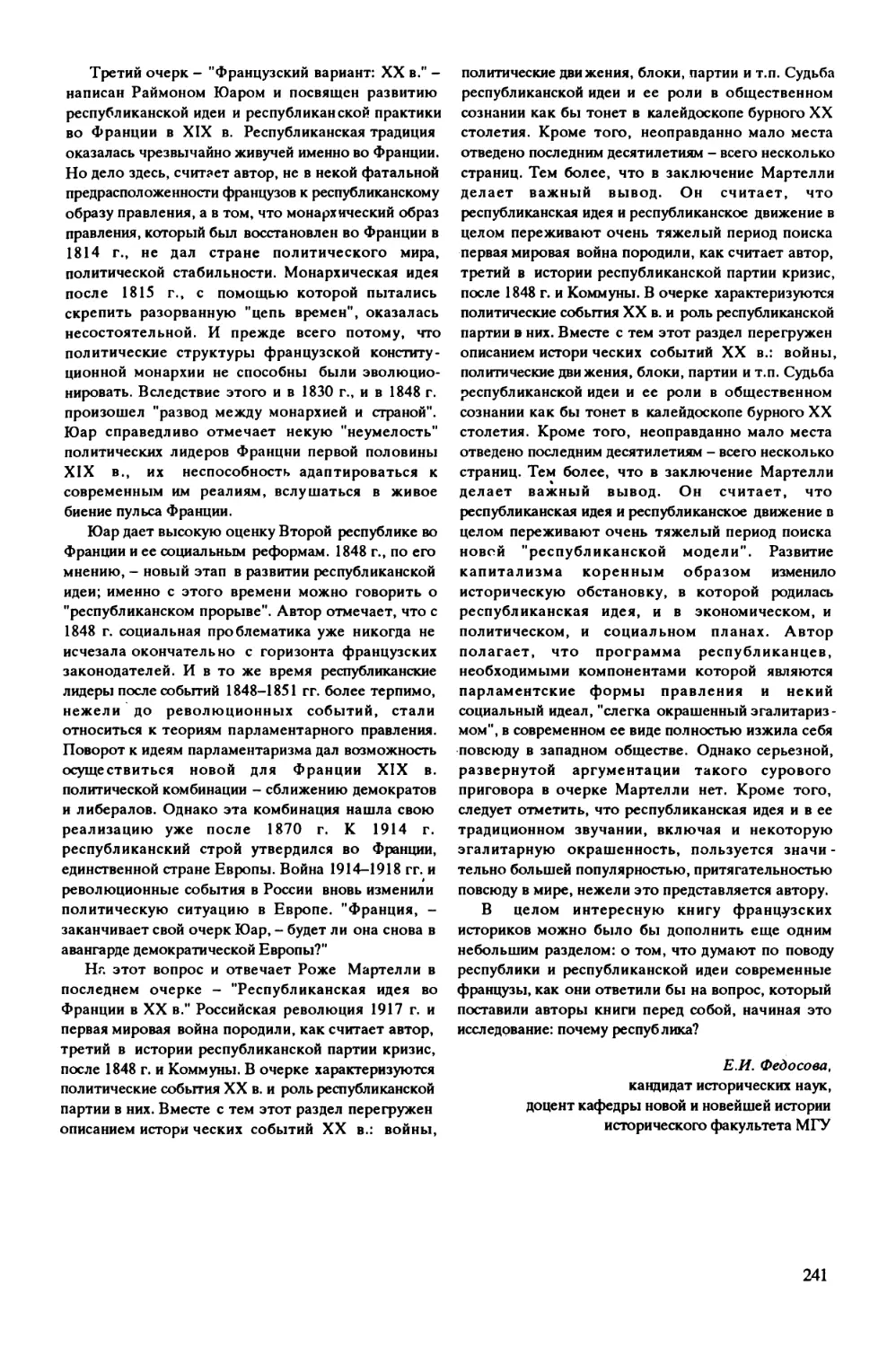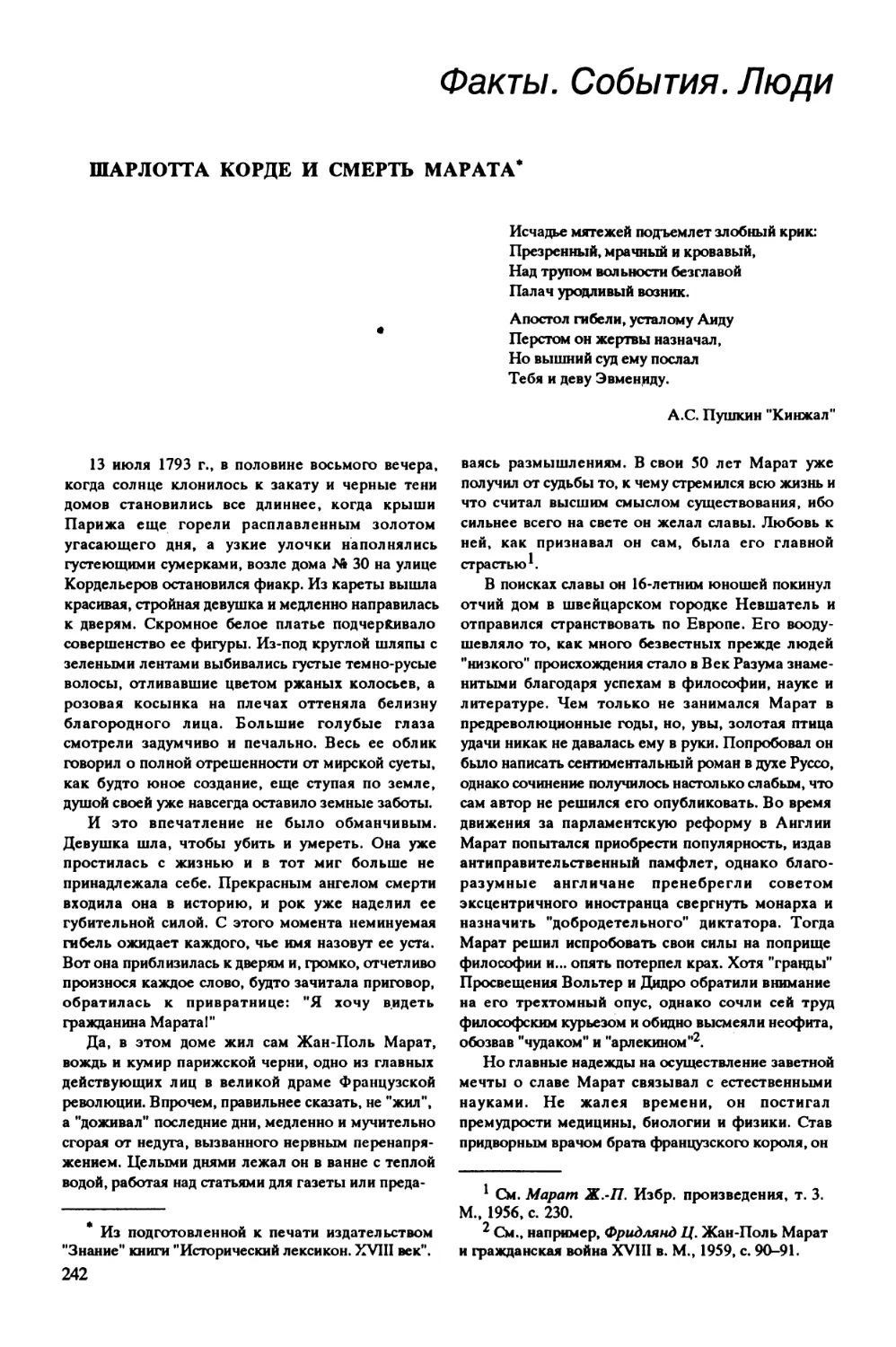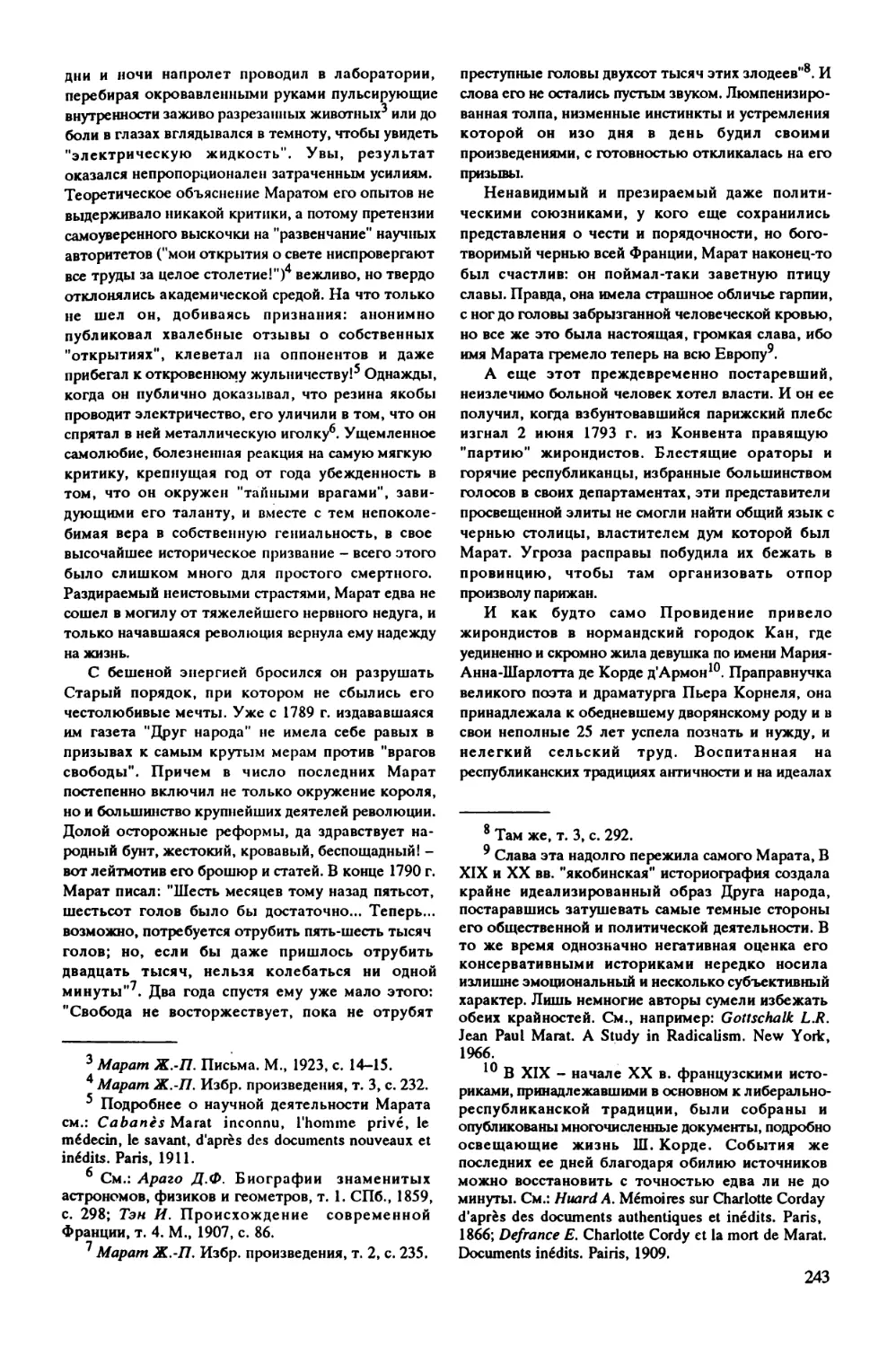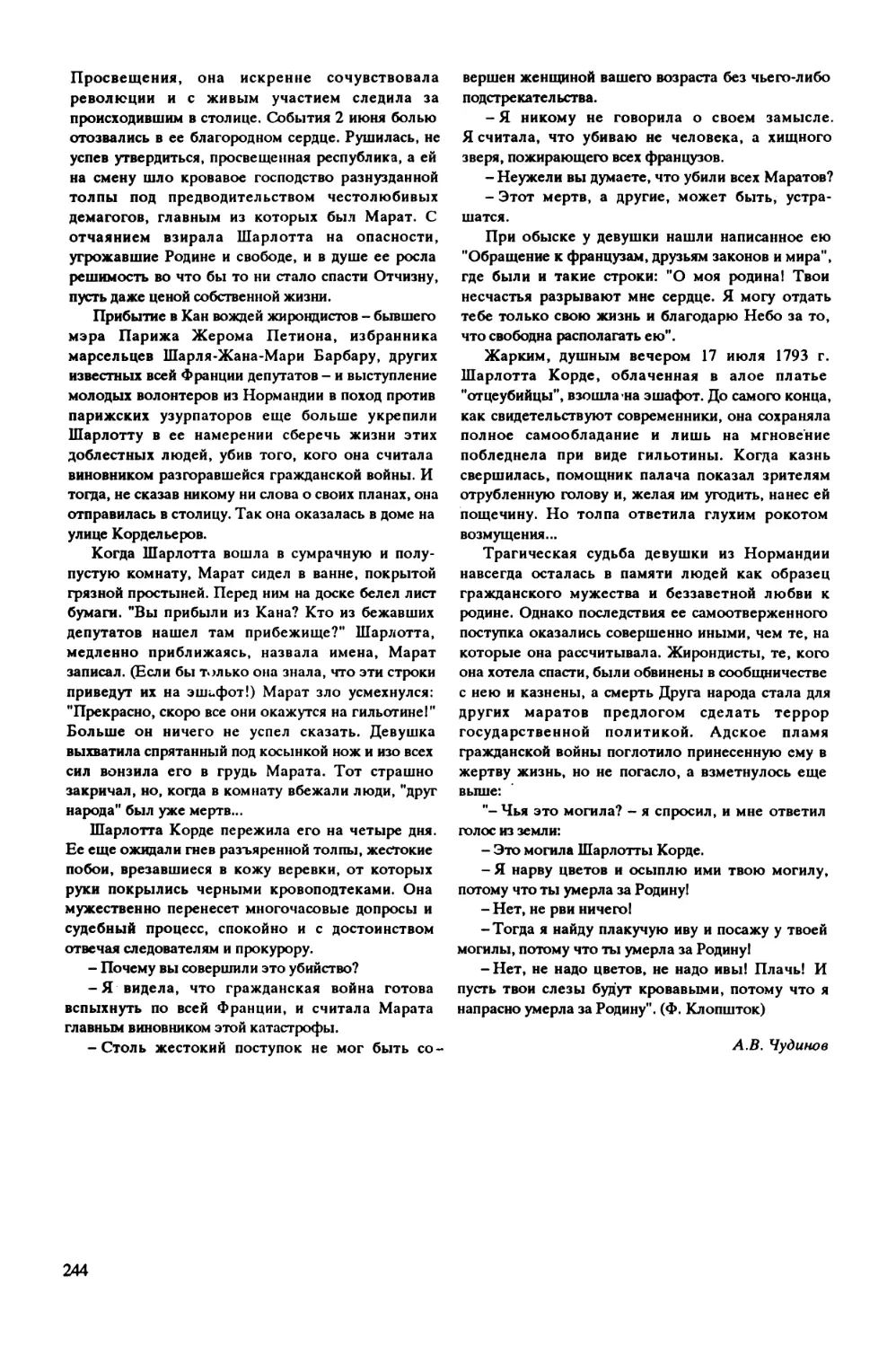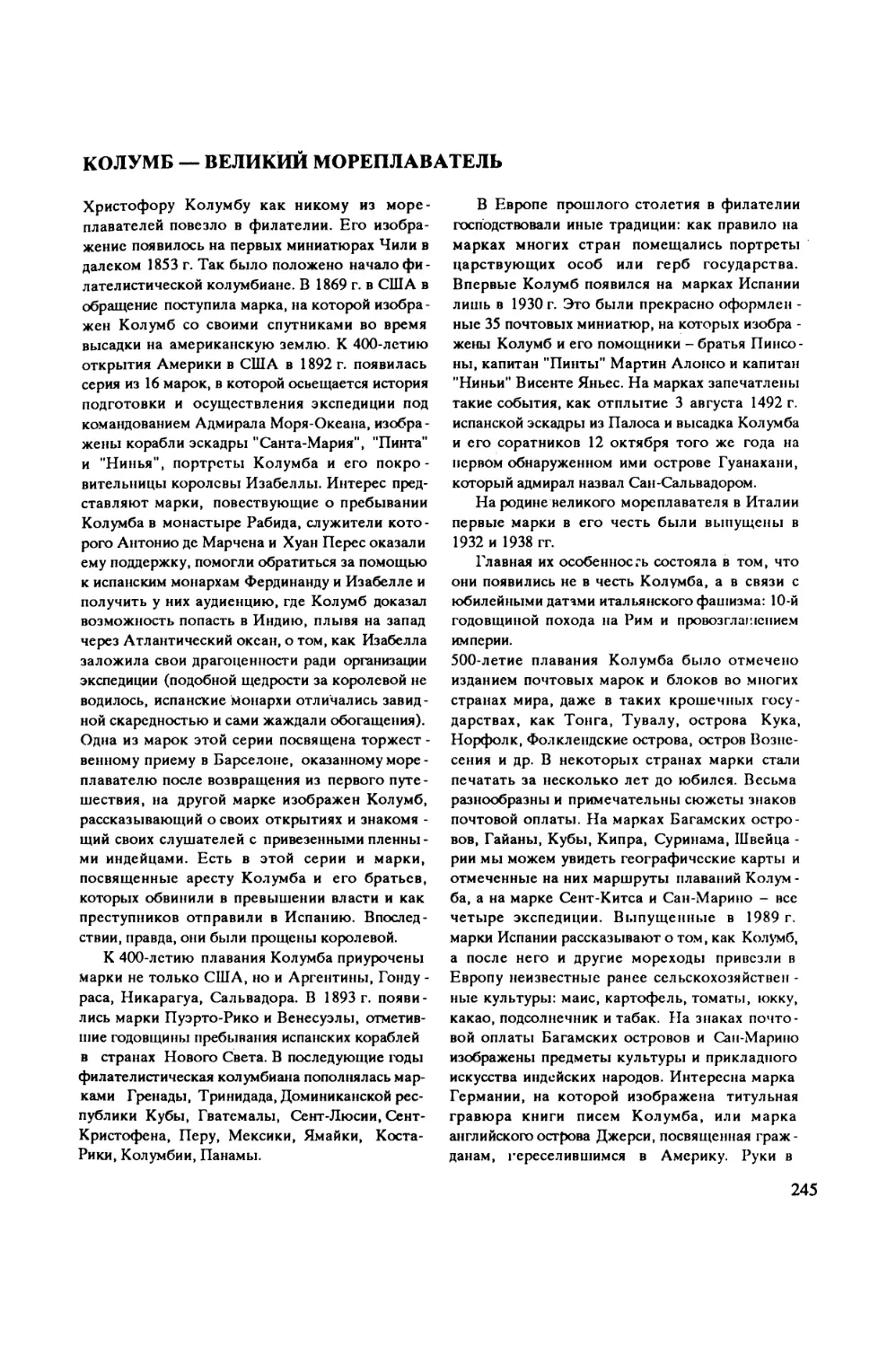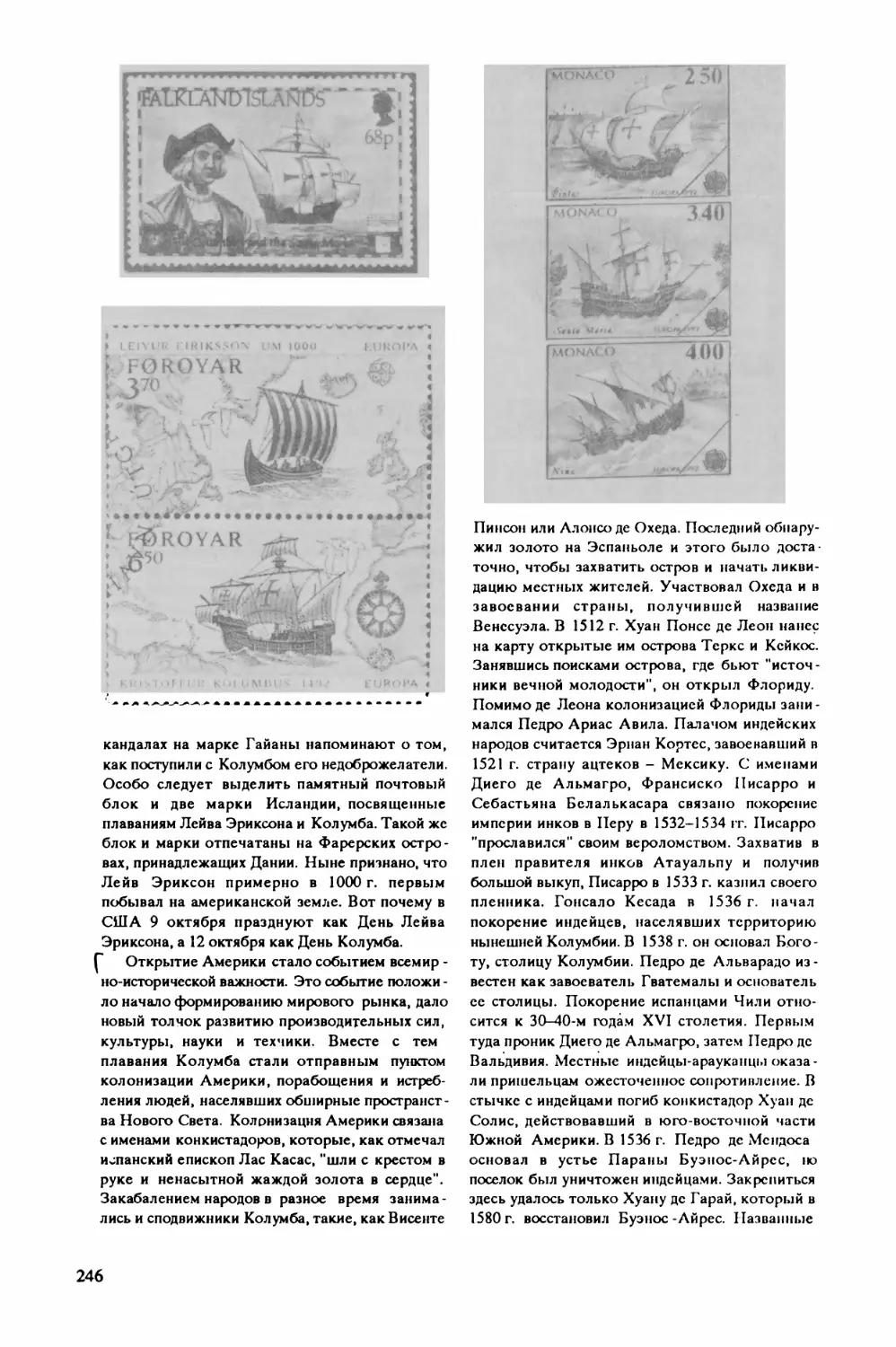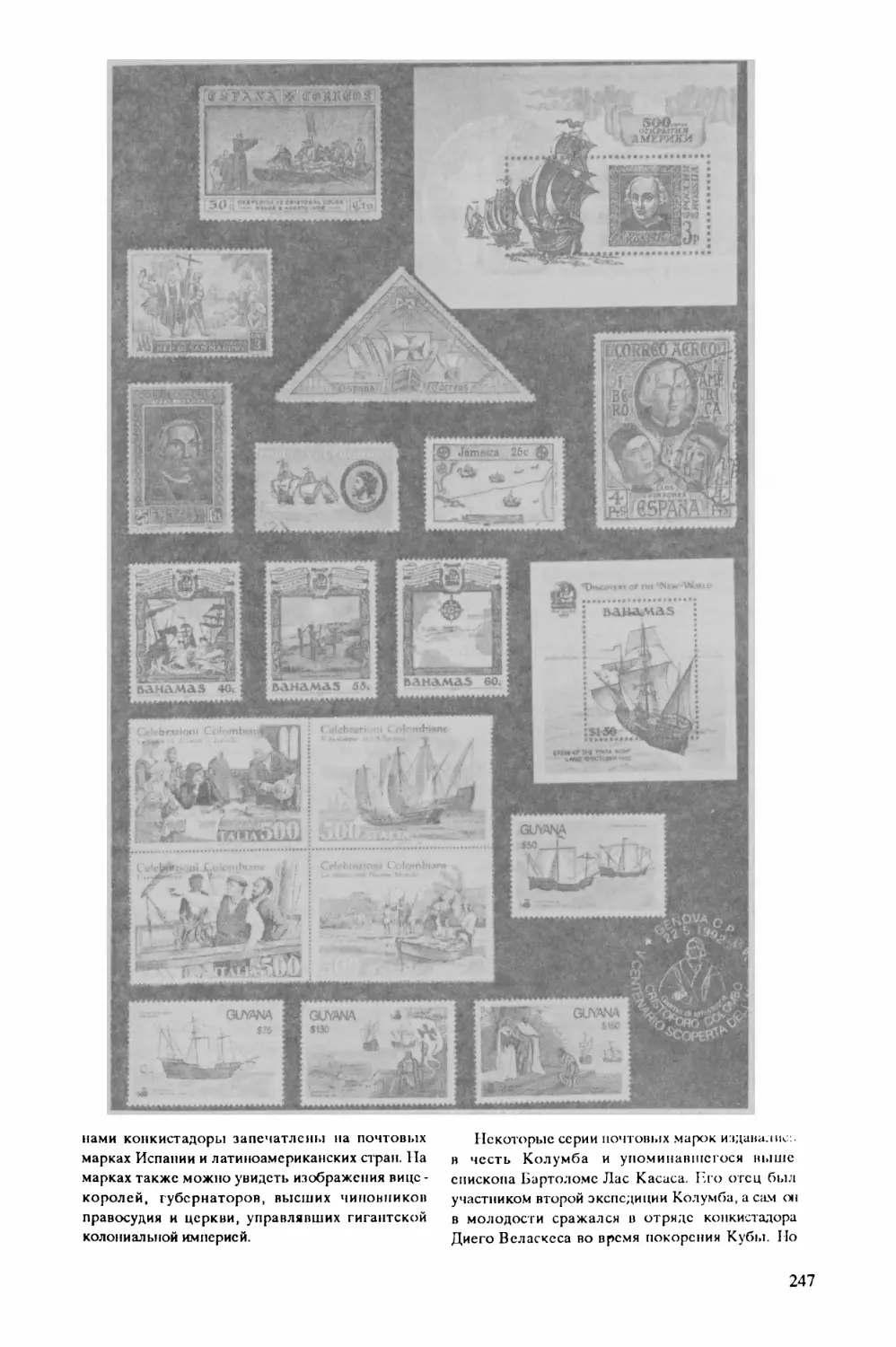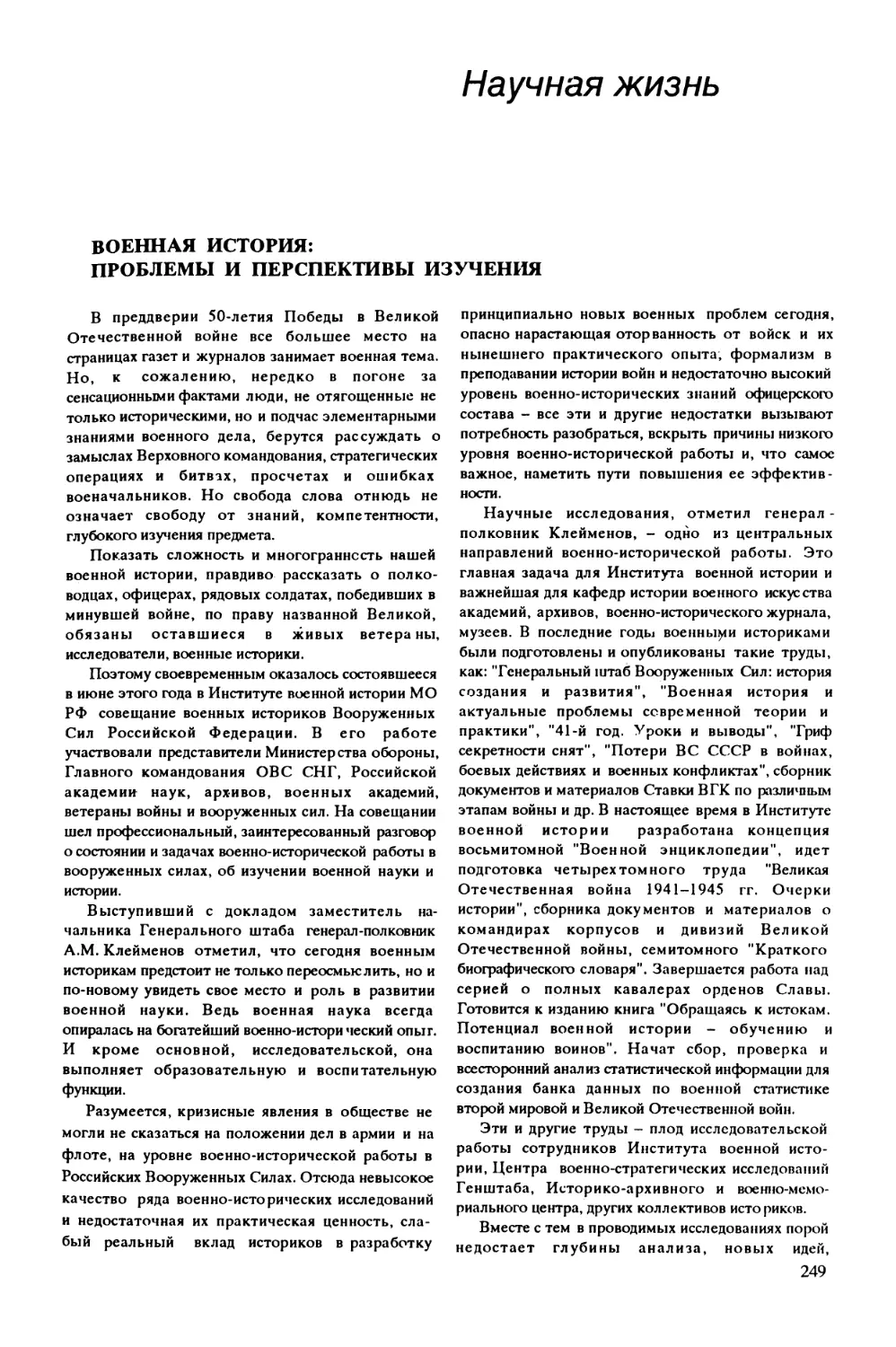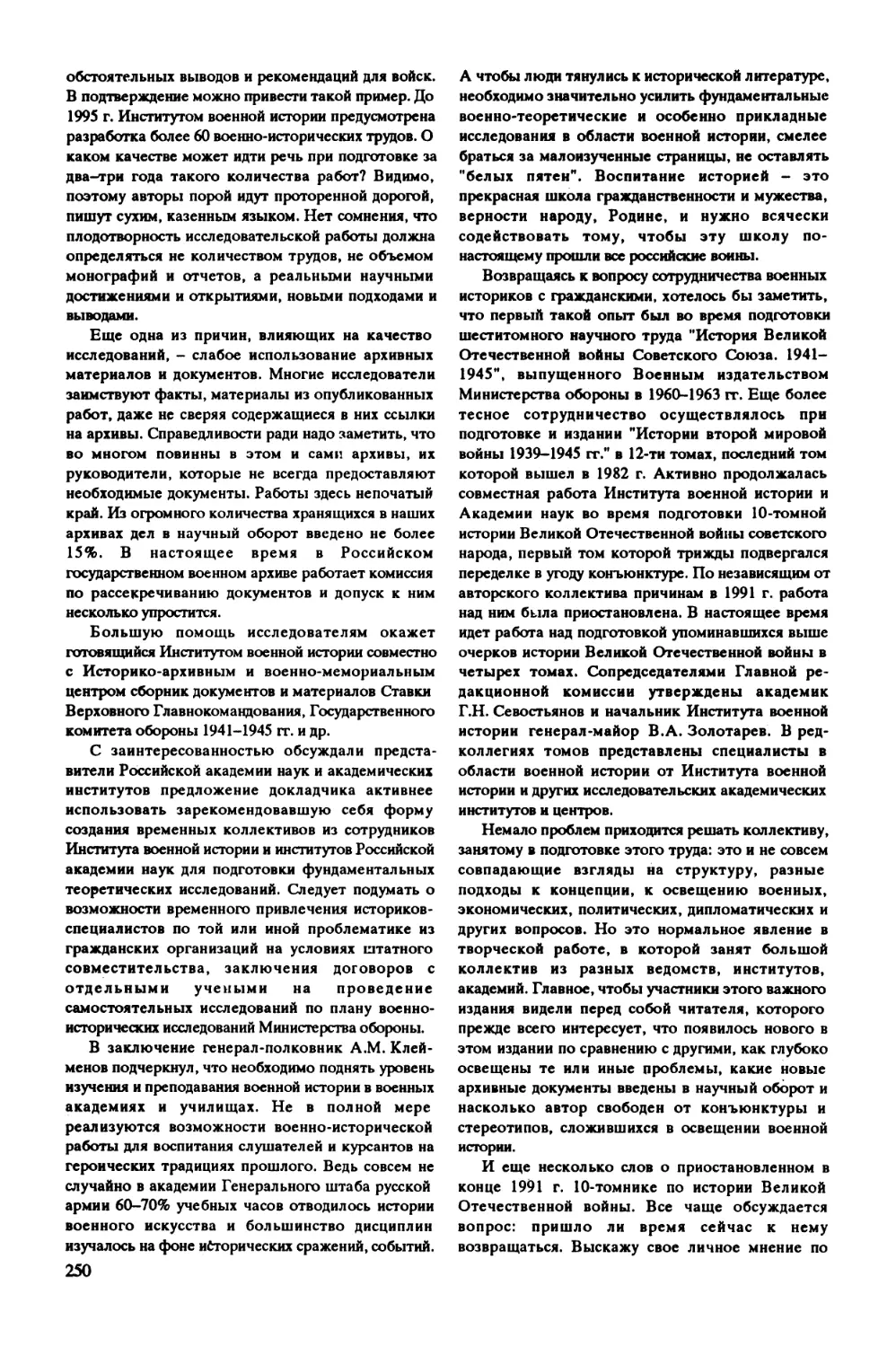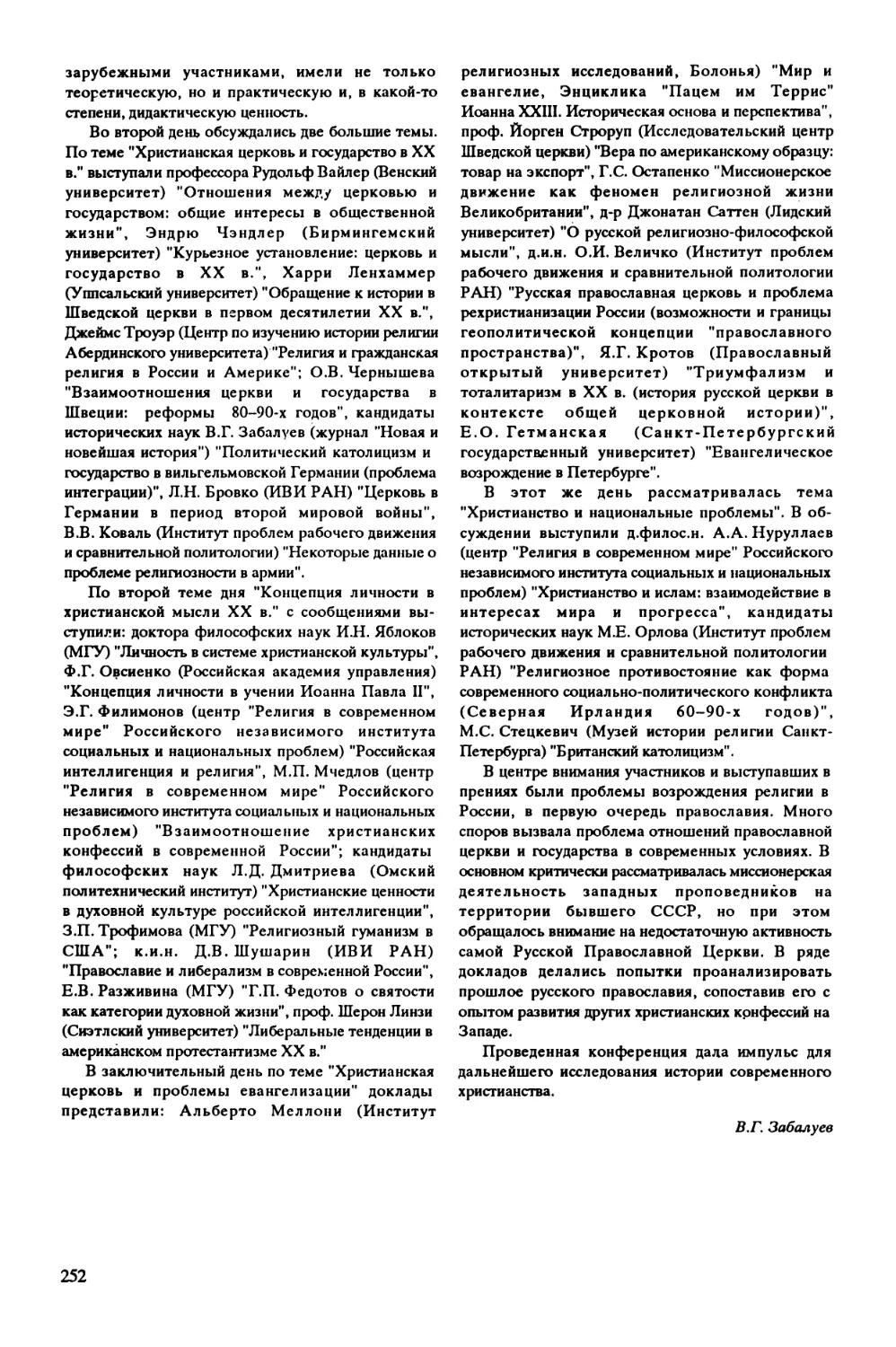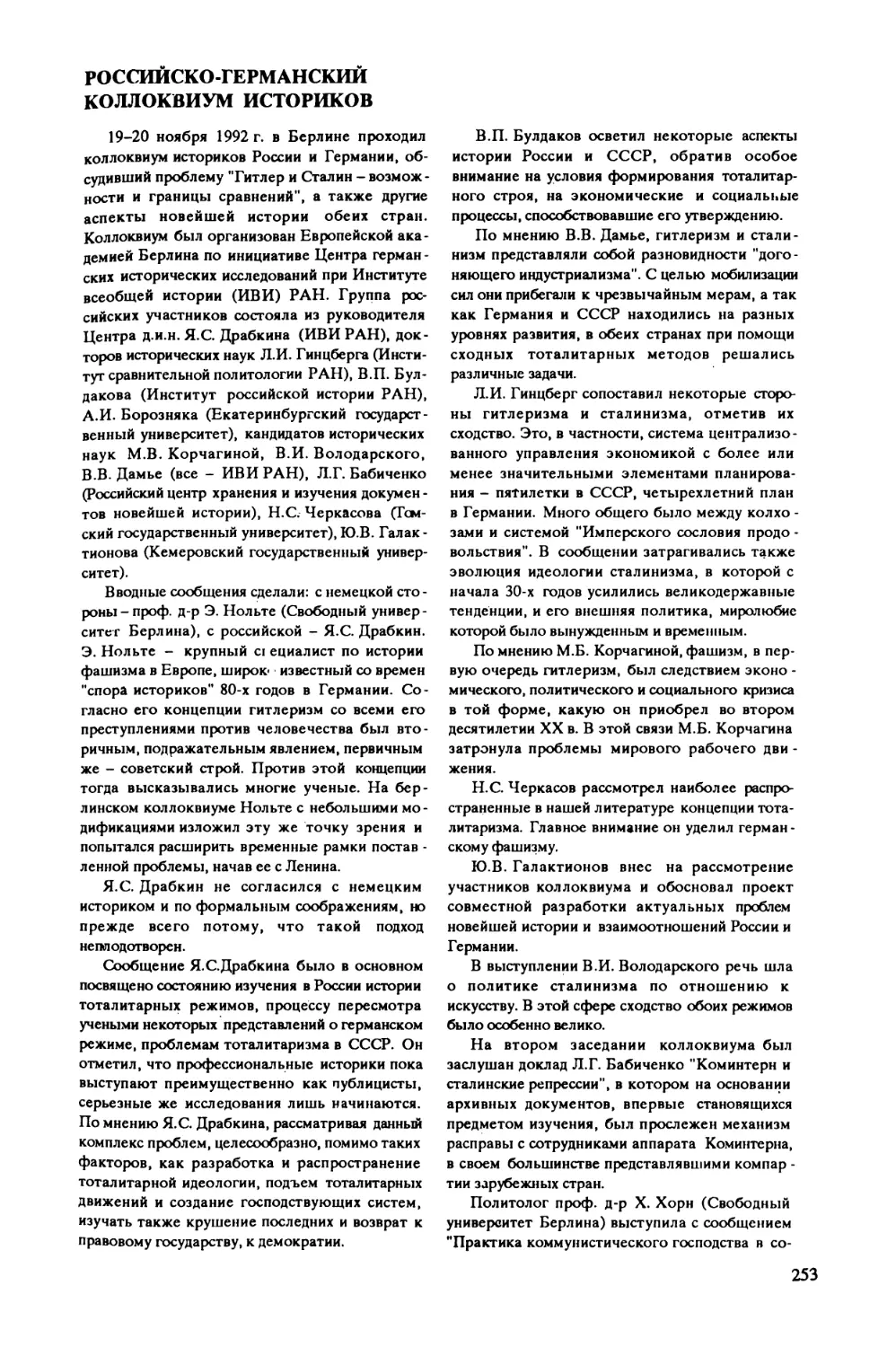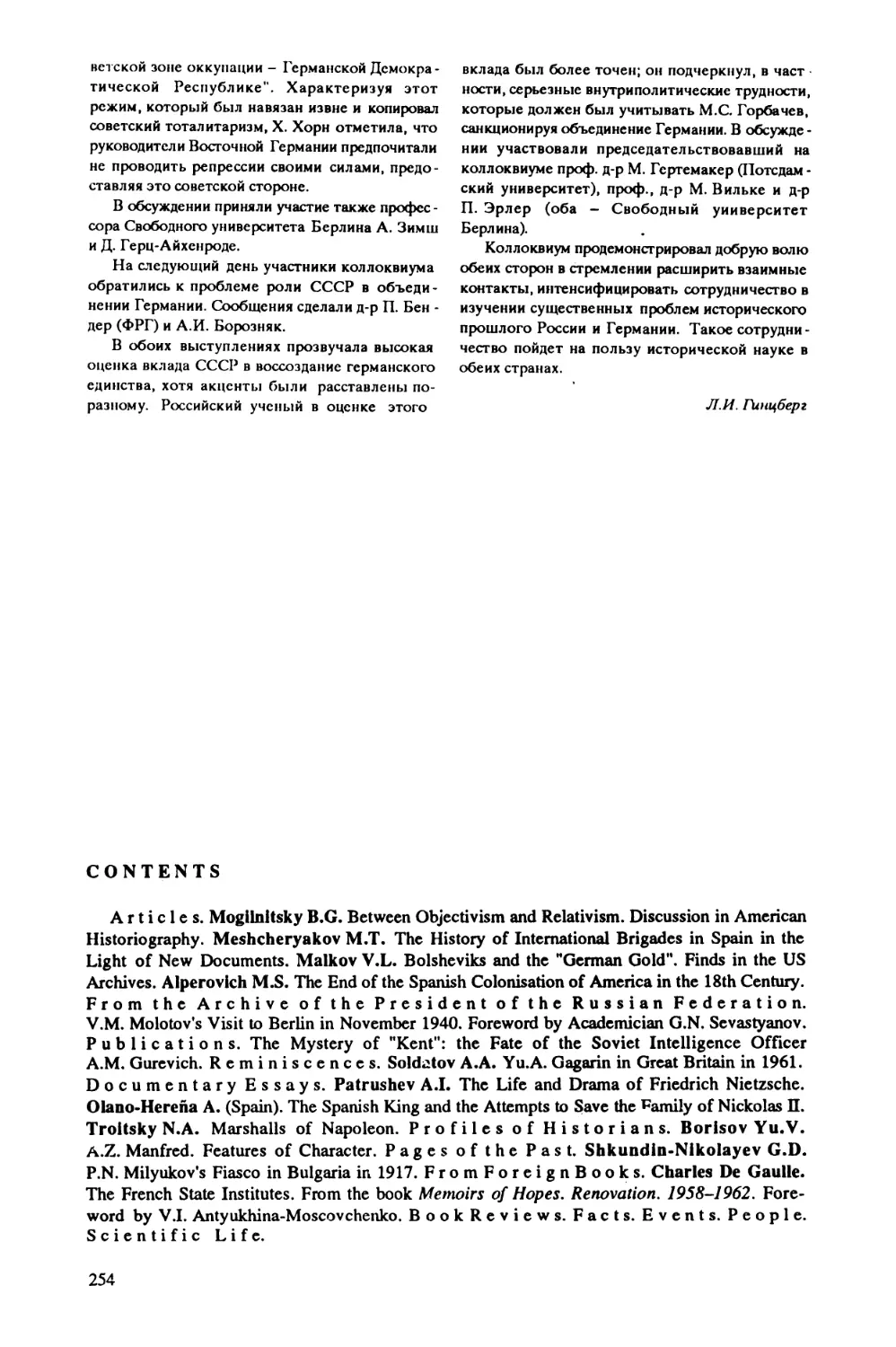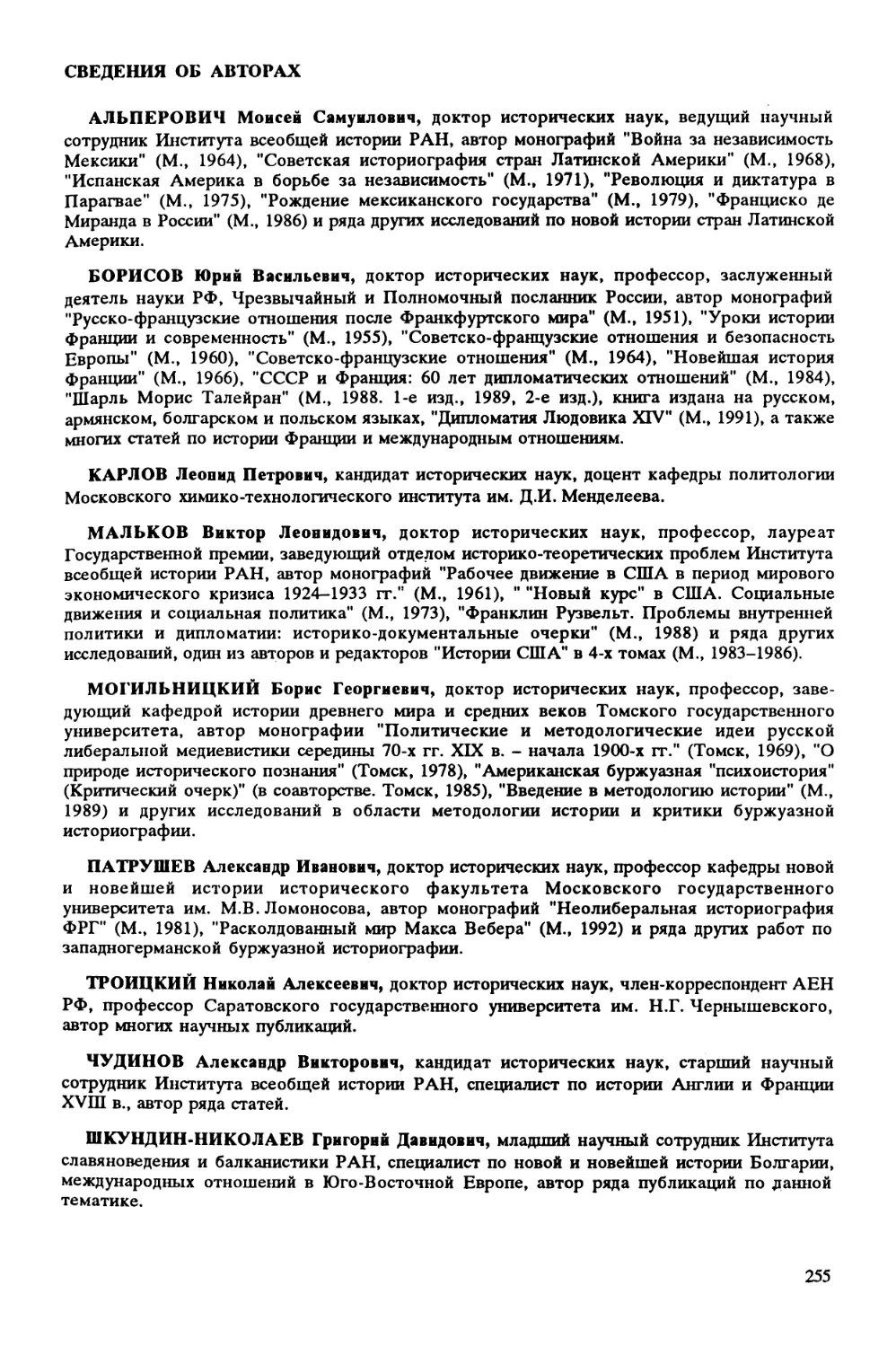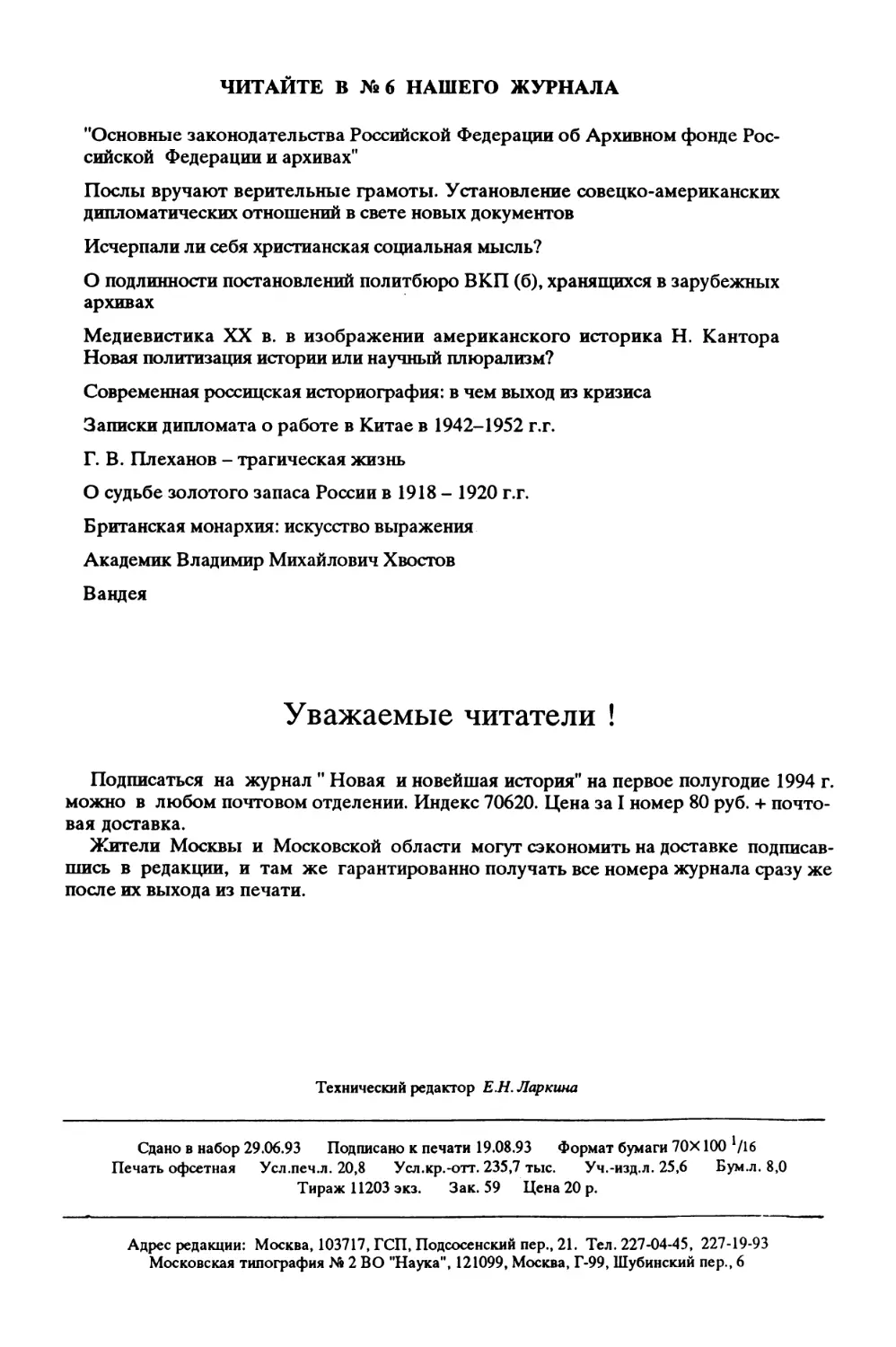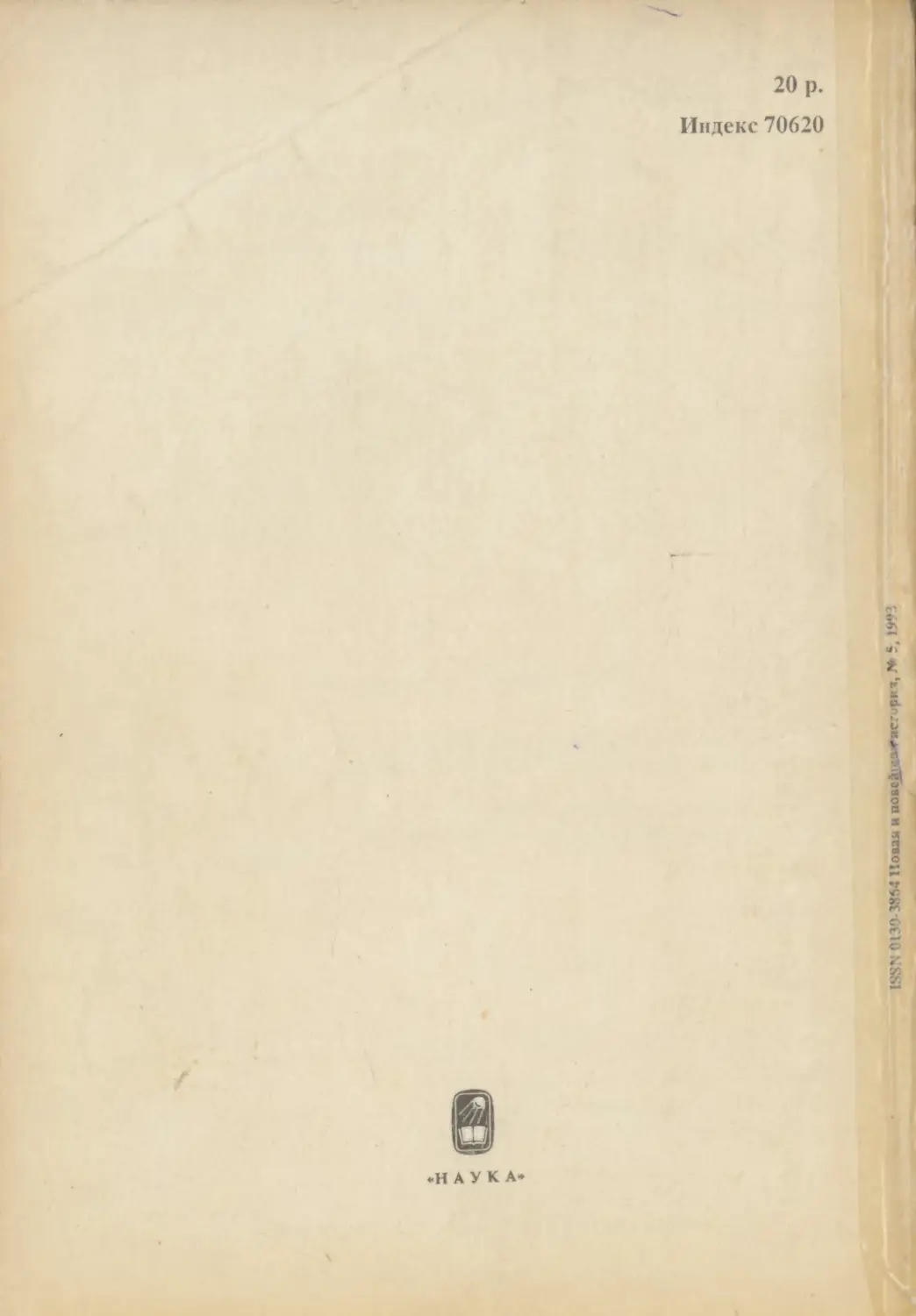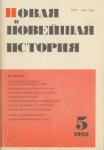Text
НОНАН
ISSN 0130-3864
iiohiahumi
нсгорня
В номере:
ПОЕЗДКА В.М. МОЛОТОВА В БЕРЛИН В 1940 г.
НОВЫЕ АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
БОЛЬШЕВИКИ И "ГЕРМАНСКОЕ ЗОЛОТО".
НАХОДКИ В АРХИВАХ США
ИСТОРИЯ ИНТЕРБРИГАД В ИСПАНИИ В СВЕТЕ НОВЫХ
ДОКУМЕНТОВ
ИСПАНСКИЙ КОРОЛЬ И ПОПЫТКИ СПАСЕНИЯ СЕЬМИ
НИКО.' АЯ II
ТАЙНА "КЕНТА". СУДЬБА СОВЕТСКОГО РАЗВЕДЧИКА
ПОРТРЕТЫ ИСТОРИКОВ. А.З. МАНФРЕД
ЖИЗНЬ И ДРАМА Ф. НИЦШЕ
МАРШАЛЫ ФРАНЦИИ
ШАРЛОТТА КОРДЕ И СМЕРТЬ МАРАТА
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ КНИГИ. МЕМУАРЫ де ГОЛЛЯ.
СОЗДАНИЕ V (ПРЕЗИДЕНТСКОЙ) РЕСПУБЛИКИ В 1958 г.
1993
РОССИЙСКАЯ ИНСТИТУТ
АКАДЕМИЯ НАУК ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
НОВАЯ
М СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ
НОВЕЙШАЯ
ЖУРНАЛ ОСНОВАН
ИГГ1¥№ПЯ в МАЕ 1957 ГОДА
■ ■ ЧИВ ■ ВЫХОДИТ 6 РАЗ в год
СОДЕРЖАНИЕ
CTATblł
Могильницкий Б.Г. (Томск). Между объективизмом и релятивизмом. Дис¬
куссии в американской историографии 3
Мещеряков М.Т. Судьба интербригад в Испании по новым документам ... 18
Мальков ВЛ. Большевики и "германское золото". Находки в архивах
США 42
Альперович М.С. Завершение испанской колонизации Америки в XVIII в. 53
ИЗ АРХИВА ПРЕЗИДЕНТА РФ
Поездка В.М. Молотова в Берлин в ноябре 1940 г. Предисловие ака¬
демика Г.Н. Севостьянова 64
ПУБЛИКАЦИИ
Тайна "Кента": судьба советского разведчика А.М. Гуревича 100
ВОСПОМИНАНИЯ
Солдатов А.А. Ю.А. Гагарин в Англии. Июль 1961 г 116
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ
Патрушев А.И. Жизнь и драма Фридриха Ницше 120
Олано-Эренья А. (Испания). Испанский король и попытки спасения семьи
Николая II 152
Троицкий Н.А. (Саратов). Маршалы Наполеона 166
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ИСТОРИКА
Борисов Ю.В. А.З. Манфред. Штрихи к портрету 179
"НАУКА" • МОСКВА
1
СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО
Шкундин-Николаев ГД. Болгарское фиаско П.Н. Милюкова в 1917 г 197
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ КНИГИ
Де Голль Ш. Мемуары надежд. Обновление. 1958-1962 гг. Институты фраш^узского
государства. Предисловие В.И. Антюхиной-Московченко 210
РЕЦЕНЗИИ
Орлов А.С. М.И. Семиряга. Тайны сталинской дипломатии 1939-1941 гг. М., 1992 231
Цверава ГЖ. (Бокситогорск). Н.Н. Болховитинов. Россия открывает Америку
1732-1799. М., 1991 233
Строганов АН. А. А. М а т л и н а. Латинская Америка в меняющемся мире. М., 1992 235
Туполев Б.М. Натиск на Африку: германская колониальная экспансионистская политика и
господство в Африке от истоков до потери колоний. 2-е изд. Берлин, 1991 237
Федосова Е.И. Е. Никол е, М. Вовель, Р. Юар, Р. Мартелл и. Привержен¬
ность Республике. Париж, 1992 240
ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
Чудинов А.В. Шарлотта Корде и смерть Марата 242
Карлов Л.П. Колумб - великий мореплаватель 245
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Москаль ЕЛ. Военная история: проблемы и перспективы изучения 249
Забалуев В.Г. Международная конференция "Христианство - XX век" 251
Гинцберг ЛЛ. Российско-германский коллоквиум историков 253
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Г.Н. Севостьянов (главный редактор)
А.В. Адо, В.А. Виноградов, В.Д. Вознесенский (ответственный секретарь),
Т.М. Исламов, Н.П. Калмыков, Ф.Н. Ковалев, И.И. Орлик, В.С. Рыкин,
Н.И. Смоленский, В.В. Согрип, Е.И. Тряпицын (зам. главного редактора),
Л.Я. Черкасский, Е.Б. Черняк, А.О. Чубарьян, Е.Ф. Язьков
Рукописи представляются в редакцию в трех экземплярах.
В случае отклонения рукописи автору возвращаются два экземпляра,
один остается в архиве редакции.
Адрес редакции: 103717, Москва, ГСП, Подсосенский пер., 21.
Тел. 227-19-93, 227-04-45
© Российская академия наук,
Институт всеобщей истории РАН, 1993 г.
2
© 1993
Б.Г. могильницкий
МЕЖДУ ОБЪЕКТИВИЗМОМ И РЕЛЯТИВИЗМОМ:
ДИСКУССИИ В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ
Правомерность и необходимость анализа теоретических дискуссий, ведущих¬
ся в исторической литературе США, прежде всего эпистемологических1 *, обу¬
словливается рядом обстоятельств. Растущий отказ отечественных историков от
былой ’’философской самоуверенности”, выражавшейся в претензии на моно¬
польное обладание истиной в последней инстанции, неизбежно влечет за собою
пересмотр устоявшейся в нашей науке однозначно негативной оценки историче¬
ского релятивизма как методологического принципа, враждебного подлинной
науке. Особый интерес в этом плане представляет американская историография
XX в., где релятивистские теории получили основательную разработку. В то же
время здесь всегда сохранялась сильная оппозиция историческому релятивиз¬
му. Исследование многолетних, подчас весьма напряженных дискуссий между
релятивистами и их оппонентами позволяет особенно рельефно представить как
возможности релятивистского подхода к осмыслению природы исторического
познания, так и его границы.
Отметим, что именно с релятивизмом связаны выход американской историо¬
графии на широкую международную сцену, преодоление известного провин¬
циализма, который в значительной мере был ей присущ в прошлом столетии, в
особенности в области исторической эпистемологии. Здесь вплоть до начала
XX в. почти безраздельно царили идеи Л. Ранке, не случайно ставшего первым
почетным членом Американской исторической ассоциации. И хотя уже в рам¬
ках ’’новой истории” начала XX в. можно заметить присутствие определенного
вызова ранкеанской идее объективности как идеалу исторического познания,
действительный разрыв с этой идеей происходит лишь в 20-30-е годы - период
своего рода релятивистской революции, связанной прежде всего с именами
К. Беккера и Ч. Бирда и оказавшей большое влияние на всю последующую исто¬
рико-методологическую мысль.
Крушение ранкеански-позитивистской идеи объективности явилось законо¬
мерным результатом внутреннего развития исторической науки, усложнения ее
проблематики, становящейся все более очевидной активной роли познающего
субъекта в процессе познания. Вместе с тем не в меньшей мере оно было органи¬
ческим следствием таких событий всемирно-исторического масштаба, какими
являлись первая мировая война и Октябрьская революция, породившие широ¬
кие представления о непредсказуемости истории, ее бессмысленности, а осозна¬
ние бессмысленности истории неизбежно оборачивалось отрицанием ее объек¬
тивности как научной дисциплины, утверждением ее социальной бесполез¬
ности.
1 Эпистемология — принятое в американской научной литературе понятие для обозначе¬
ния теории познания, равнозначное утвердившемуся в отечественной науке термину "гно¬
сеология”.
3
Чтобы верно оценить значение исторического релятивизма, его необходимо
включить в более широкие рамки, а именно - в рамки той общей духовной
атмосферы, которая с конца прошлого столетия стала утверждаться по обе сто¬
роны Атлантики, но прежде всего в Западной Европе, и которая характеризова¬
лась сильными релятивистскими настроениями в самых разных сферах науки и
культуры. Назовем в первую очередь совершившуюся на рубеже столетия рево¬
люцию в физике; одним из ее последствий стал радикальный пересмотр самого
представления о природе научного знания. Широкая экстраполяция принципов
теории относительности и квантовой механики далеко за пределы физики при¬
вела к необратимой эрозий позитивистской парадигмы науки, а с ней вместе и
позитивистского понимания научной истины как однозначно трактуемого
результата свободного от каких-либо вненаучных целей познавательного про¬
цесса. Отметим, наконец, широкое распространение с конца прошлого столетия
в Европе авангардистских течений в литературе и искусстве, знаменовавшее
крушение твердых норм XIX в. и в этих сферах2.
В этом же русле шла релятивизация исторической науки, начало которой
было положено в различных течениях европейской, в особенности немецкой,
философско-исторической мысли, разрабатывавших с конца прошлого столетия
проблему субъектно-объектных отношений в процессе исторического познания.
Американские релятивисты сделали следующий шаг на этом пути, способствуя
включению исторической дисциплины в общий интеллектуальный климат эпо¬
хи. Говоря словами американского историка исторической науки Г. Барнса, их
выводы ’’столь же радикально подрывали краеугольные понятия Ранке и его
последователей, как Эйнштейн, Планк, Шредингер и Гейзенберг подорвали ста¬
рую физику от Ньютона до Гельмгольца”3.
Несомненной заслугой релятивизма стало окончательное развенчание идеи
’’тотальной объективности” исторической науки, а вместе с тем и преодоление
ее методологической неискушенности, основательная разработка исторической
эпистемологии. При этом было сделано немало метких наблюдений о социаль¬
ной природе ранкеанского объективизма, как и исторического познания в
целом. Особенно важно подчеркнуть, что корифеи американского релятивизма
отнюдь не были чистыми методологами. В истории исторической науки их место
не в меньшей мере определяется вкладом в изучение ключевых проблем амери¬
канского прошлого в рамках ’’прогрессистского” направления американской
историографии.
В то же время релятивизм никогда не являлся безраздельно господству¬
ющим методологическим подходом в американской историографии. Даже в
30-е годы, когда популярность взглядов Ч. Бирда и К. Беккера достигла своего
пика, в американской философско-исторической литературе сохранялись актив¬
ные приверженцы традиционных объективистских представлений о природе
исторического познания, критиковавшие с этих позиций исторический реляти¬
визм, - М. Мандельбаум, А. Лавджой, Ю. Баркер.
Эта критика приобрела особенно широкий размах и ожесточенность в конце
40-50-х годов, когда, по образному выражению П. Новика, релятивизм стал пер¬
вой жертвой ’’холодной войны”. Не вдаваясь в детали, подчеркнем лишь, что
она целиком шла в русле тех перемен в послевоенной американской историо¬
графии - антипрогрессистская реакция, возрождение идеи консенсуса в исто-
2Novick Р. That Noble Dream. The "Objectivity Question” in the American Historical Profes
sion. Cambridge, 1988, p. 133—139.
3Barnes H.E. A History of Historical Writing. Norman, 1938, p. 268.
4
рии США, так называемая ’’идеологическая мобилизация” американских исто¬
риков, преследование инакомыслящих и т.п., - которые однозначно могут быть
охарактеризованы как наступление реакции. Релятивизм безоговорочно осуж¬
дался за якобы присущие ему аморальность и оправдание тоталитарных ре¬
жимов4.
Политически дискредитированный релятивизм надолго утратил свое значе¬
ние ведущего методологического подхода к изучению истории. Не благоприят¬
ствовала ему и начавшаяся в 60-е годы сциентизация американской историогра¬
фии, способствовавшая развитию в ней неообъективистских тенденций. Теоре¬
тическое обоснование эти тенденции получили в рамках аналитической филосо¬
фии истории, а шумная дискуссия об ’’охватывающем законе” возвестила о
своеобразном ренессансе позитивистских идей, затронувшем широкий спектр
общественных и гуманитарных дисциплин, в частности историю5.
Новый всплеск релятивистских настроений в американской историографии
приходится на 70-е годы. Но это не было простой реанимацией релятивизма
30-х. Облик новейшего релятивизма складывался под могущественным влияни¬
ем своего времени и отразил некоторые его существенные черты. Это - время
широкого разочарования ’’крайностями” спиентизации и связанного с ним обра¬
щения к нарративу как наиболее адекватной форме исторического изображе¬
ния. Отсюда - пристальное внимание к вопросам языка исторического по¬
вествования, его стиля. Не случайно знамением нового релятивизма стала
’’Метаистория” X. Уайта, обосновывавшая ’’неустранимо поэтическую природу
деятельности историка”6. Исходя из убеждения о царящей в истории ’’концеп¬
туальной анархии”, автор постулировал здесь положение о принципиальной
равноценности ’’стратегий интерпретации”, которые может применять историк,
руководствуясь исключительно собственными моральными и эстетическими
приоритетами, к тому же рационально не осознанными.
Книга Уайта вызвала оживленную дискуссию как в США, так и по другую сто¬
рону Атлантики. И хотя при этом обнаружился большой разброс мнений, следу¬
ет согласиться с немецким методологом Й. Рюзеном, охарактеризовавшим ее
как ’’поворотный пункт в современной дискуссии об основах исторической
науки, поскольку здесь взгляд на нарративную структуру исторического по¬
знания был развит в теорию историописания, которая объясняет историческое
познание как конкретную, лингвистическую структуру”7.
’’Вызов риторического релятивизма”8 стал характерной чертой современной
историографической ситуации, определяя одну из ведущих ее тенденций.
Новейшее свидетельство тому - уже цитировавшаяся книга профессора Чикаг-
4Очерк развития американской исторической мысли в 30—50-е годы см.: Novick Р. Op. cit.,
р. 250-319.
5См. Кон И. С. К спорам о логике исторического объяснения (схема Поппера — Гемпеля и
ее критики). — Философские проблемы исторической науки. М., 1969.
6 White Н, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe. Baltimore-
London, 1973, p. XI. Об этом см. Мучник В.М. Об антисциентистских тенденциях в западной
историко-теоретической мысли 70—80-х годов. — Методологические и историографические
вопросы исторической науки, вып. 19. Томск, 1990.
1Riisen J. Geschichtsschreibung ais Theorieproblem der Geshichtswissenschaft. Skizze zum his-
torischen Hintergrund der gegenwartigen Diskussion. — Formen der Geschischtsschreibung. Miin-
chen, 1982, S. 31.
QIggers G.G. Handbook of Historical Studies. Contemporary Research and Theory. Westport
(Conn.), 1979, p. 25.
5
ского университета П. Новика, характеризующая идею объективности как ”пре-
красную иллюзию”, недостижимую в реальной историографической практике.
Свое крайнее выражение эта тенденция получила в американской интеллек¬
туальной истории в форме так называемого деконструкционизма, основанного
на разработанном французскими постструктуралистами - Ж. Деррида и др. -
принципе деконструкции. Определяя эту последнюю как ’’активное разоблаче¬
ние и разрушение звукового письма”, ’’репрессивный” процесс в отношении
первоначального письма, реализующего первичные различия вещей, Деррида
видит задачу исследователя в том, чтобы, отбросив авторские и привнесенные
историей смыслы, восстановить ”в текстах изначальные, погребенные под раз¬
ными наслоениями языка следы социальной практики, определяющие внутрен¬
нюю логику построения звукового письма, глубокие закономерности полити¬
ческого, ’’репрессивного” производства истины”9.
Применительно к историографической практике рассматриваемый принцип
получил сугубо релятивистски-презентистскую интерпретацию. Он постулирует
признание всякого текста ’’эпистемологически неадекватным”, так как его
изучение является конструированием прошлого, его перекраиванием ради
настоящего10. Отрицается объективное значение как текста, с помощью которо¬
го историк изучает прошлое, так и самого прошлого. Ибо, справедливо подчер¬
кивает непримиримый критик исторического деконструкционизма профессор
Нью-Йоркского университета Гертруда Химмельфарб, ’’деконструкция означа¬
ет освобождение текста от конструктов, которые традиционно придавали ему
значение, начиная с намерения автора, так сказать, авторского голоса”. Соот¬
ветственно этому сам текст провозглашается ’’недетерминированным, так как
язык не отражает реальности или не соответствует ей”11.
Другим грехом деконструкционизма является органически присущий ему
антиисторизм. Утверждая, что нет ничего вне текста, требуя его освобождения
от ’’тирании контекста” - контекста событий, идей, условий, деконструкцио¬
нисты тем самым порывают с основополагающим принципом исторического под¬
хода к изучению явлений общественной жизни в их объективной данности.
Такому подходу противопоставляется откровенно презентистская установка,
последовательно отвергающая объективное значение прошлого.
Обосновывая ее, один из самых решительных приверженцев деконструкцио¬
низма в интеллектуальной истории Д. Харлан усматривает в ней альтернативу
’’радикальному контекстуализму”, настаивающему на том, что определенный
текст может быть понят только будучи помещенным в исторически специфиче¬
ский контекст публичной дискуссии, в которой он был создан. Сущность этой
альтернативы заключается в последовательном проведении презентистского
подхода к прошлому, заведомо отвергающего любую попытку выяснить объек¬
тивный смысл изучаемого текста, не говоря уже о воссоздании намерений его
автора12.
Так достигается абсолютная релятивизация историописания, которое сводит¬
ся к простой функции современности, имеющей сугубо инструментальное зна¬
9См. Некрасов С.И. Принцип деконструкции и эволюция постструктурализма. — Вопросы
философии, 1989, № 2, с. 57, 58.
10 Walzer М. Exodus and Revolution. New York, 1985, p. X.
lxHimmelfarb G. Some Reflections on the New History. — The American Historical Review,
v. 94, 1989, N 3, p. 665.
l2Harlan D. Intellectual History and the Return of Literature. - The American Historical
Review, 1989, v. 94, N 3, p. 596—598.
6
чение, т.е. обслуживание ее сиюминутных потребностей. Современность, по
убеждению Харлана, пытает историю: ”Мы должны заставить ее отвечать на
наши вопросы. Наши вопросы, вызванные нашими потребностями, сформулиро¬
ванными в наших терминах”13.
Действительно, каждое настоящее задает свои вопросы прошлому, и способ¬
ность исторической науки давать удовлетворительные ответы на них в значи¬
тельной степени определяет ее положение в обществе. Однако, во-первых, этой
способностью никак не исчерпываются социальные функции истории, а во-вто¬
рых, и это главное, сама она зависит от того, насколько глубоко история может
осмысливать прошлое, раскрывать его взаимосвязи с настоящим. Иными слова¬
ми, она зависит от научности истории, разработанности и эффективности ее
методологического инструментария, позволяющего извлекать из прошлого зна¬
ния, полезные для настоящего. А это в свою очередь предполагает в качестве
необходимой предпосылки признание объективности самого прошлого, прояв¬
ляющегося в определенной детерминации явлений общественной жизни, вопло¬
щающей связь прошлого и настоящего.
Однако Харлан как раз отрицает и детерминированность прошлого, и правдо¬
подобие исторического изображения, и даже необходимость для историков
’’иметь формализованную широко принятую систему исследовательских про¬
цедур”14. Очевидно, что понимаемая таким образом история может предложить
лишь сугубо презентистское истолкование прошлого. Но отсюда следует, что
настоящее не только формулирует вопросы к прошлому, но и, по существу,
предопределяет на них ответы. Отрицая объективность прошлого, провозгла¬
шая его недетерминированным, историк навязывает ему свою собственную
детерминацию. Обращение принципа деконструкции к изучению интеллекту¬
альной истории, следовательно, не только ведет к абсолютной релятивизации
исторической истины, но и разрушает весь традиционный образ истории как дис¬
циплины, реконструирующей прошлое в его наиболее существенных чертах. Да
и сам Харлан призывает к созданию ’’другого рода интеллектуальной истории”,
занимающейся ”не реконструкцией прошлого”, а таким изучением ’’ценных
трудов из прошлого”, чтобы они могли ’’рассказать нам о нашем настоящем”15.
Вместе с гем было бы ошибочным видеть в релятивизме и тем более в его
крайних формах, как деконструкционизм, доминирующую тенденцию в разви¬
тии современной американской историографии. По-прежнему в ней существует
сильная объективистская традиция (которую Новик определяет как ”нео- или
гиперобъективизм”), представленная такими известными именами, как О. Хэнд-
лин, П. Гэй, Г. Химмельфарб16. Даже в сфере интеллектуальной истории, став¬
шей своеобразным полигоном для опробования деконструкционистских идей в
историографической практике, можно назвать лишь единичные работы17, никак
не определяющие общий облик этой дисциплины18.
13Ibid., р. 608.
14lbid., р. 608-609.
15Ibid., р. 609.
16NovickP. Op. cit., р. 606—611.
х7Помимо цитированной книги М. Бальцера также см.: Chomsky N. Cartesian Linguistics.
New York, 1966; Diggins J. The Bard of Savagery: Thorstein Veblen and Modern Social Theory.
New York, 1978.
18Признание этого см.: Harlan D. Op. cit., p. 594.
7
Поэтому уместнее говорить о традиционной дискуссии между релятивистами
и объективистами как выражении того стремления к самоанализу, которое из¬
вестный английский историк Дж. Элтон в своей содержательной рецензии на
книгу Новика характеризует как ’’часть американской культуры”19. Вследствие
этого представляется, что наиболее плодотворным подходом к оценке эписте¬
мологических дискуссий в современной американской историографии будет не
столько выяснение того, какая сторона набирает в них очки, сколько стремле¬
ние приблизиться к пониманию в свете этих дискуссий историко-культурного
значения релятивизма.
Начнем с того, что с точки зрения современных научных знаний не совсем
корректно абсолютное противопоставление понятий ’’объективист” и ’’реляти¬
вист”, ибо релятивизм стал неотъемлемым элементом современной историогра¬
фической культуры, обусловливая известную ’’скромность” исследователя, его
отказ от излишней самонадеянности в своих познавательных усилиях, как и в
возможностях исторической науки в целом. Ведь даже такой убежденный объ¬
ективист, как Элтон, именно с релятивизмом связывает переход исторической
профессии от ее детства к отрочеству, когда пришло понимание ’’невозмож¬
ности знания всей правды”20.
Другое дело, что, как тут же не без иронии добавляет Элтон, слишком много
историков никак не могут расстаться с отрочеством, продолжая пребывать на
позициях крайнего релятивизма, угрожающего самим основам существования
исторической науки, ибо присущая ему разрушительная сила чревата само¬
ликвидацией истории как особой научной дисциплины.
В последней главе книги Новика рисуется впечатляющая картина глубокого
кризиса американской историографии. По убеждению автора, это - состояние
распада истории как целостной дисциплины. ’’Как широкое сообщество ученых,
объединенных общими целями, общими стандартами и общими намерениями,
дисциплина истории, - заявляет Новик, - перестала существовать”21.
Оставим пока в стороне вопрос, насколько это утверждение соответствует
действительности. Подчеркнем другое: перед нами выраженная релятивистская
интерпретация историографической ситуации, поразительно напоминающая по
своей методологической посылке знаменитое послание президента Американ¬
ской исторической ассоциации К. Беккера ’’Каждый сам себе историк” (1932 г.).
Приводимое Новиком библейское изречение: ”В эти дни не было царя в Из¬
раиле: каждый делал то, что считал правильным”, служащее ему для характе¬
ристики современного состояния американской историографии, могло бы стоять
в качестве эпиграфа к рассуждениям Беккера о невозможности существования
объективной научной истории. Ибо, утверждал он, каждый создает собственную
историю, являющуюся неустойчивым изображением предмета воспоминаний,
приспособленным к интересам тех, кто ею пользуется, а следовательно, одной
из бесчисленного множества других историй, написанных с иных позиций.
В итоге же то прошлое, которое конструируют люди, является ’’частично истин¬
ным, частично ложным: как целое оно не истинно и не ложно, а только наиболее
удобная форма заблуждения”22 *. О какой же целостности исторической дисцип¬
19Journal of Economic History, 1989, v. 59, N 3, p. 775.
20Ibid., p. 777.
21 Novick P. Op. cit., p. 628.
22Becker C. Everyman His Own Historian. — The American Historical Review, 1932, v. 37,
N 2, p. 221-236.
8
лины можно здесь говорить, коль ’’всяк сам себе историк”, руководствующийся
в своей деятельности намерениями, далекими от научного познания прошлого?
Так прослеживается связь между крайним релятивизмом и современными
жалобами на саморазрушение исторической дисциплины23. Последнее неизбеж¬
но вытекает из первого. Это, по-видимому, хорошо осознал уже Бирд, пытав¬
шийся найти противоядие от разрушительных потенций релятивизма. Призна¬
вая, что вся писаная история является ’’относительной ко времени и обстоя¬
тельствам, мимолетным призраком, иллюзией”, он все же полагал, что абсолют¬
ный релятивизм может быть ограничен, хотя и искал эти ограничители в сфере
субъективных переживаний историка. Спасением от релятивизма он считал
веру историка, определяющую его выбор одной из глобальных концепций, под
которые он должен подвести изучаемые явления24.
Представляется, однако, что имеются более надежные ограничители абсолют¬
ного релятивизма, коренящиеся в самой природе исторического познания, со¬
держащего определенные объективные критерии получения достоверного науч¬
ного знания. Всю историю нашей науки можно рассматривать как поступатель¬
ный процесс накопления такого знания, имеющего общезначимый характер и
являющегося с помощью общепринятых технических процедур доказуемым,
проверяемым и непротиворечивым.
В полной мере это относится, конечно, и к американской историографии. Сле¬
дует поэтому согласиться с Дж. Клоппенбергом, который в полемике с Нови¬
ком, нарисовавшим, как мы видели, весьма неприглядную картину современ¬
ного состояния американской исторической дисциплины, заявляет, что пер¬
спектива кажется ему ’’менее мрачной. Нам нет нужды выбирать между абсо¬
лютным диктатом фактов и анархией идиосинкразических интерпретаций, как
предполагает библейский образ, выдвинутый Новиком”25.
Обосновывая это положение, Клоппенберг утверждает, что все развитие аме¬
риканской философско-исторической мысли, по крайней мере в лице ее веду¬
щих представителей, шло по ту сторону объективизма и релятивизма. Конечно,
это утверждение грешит преувеличениями и натяжками, когда, например, вся¬
чески размывается, с одной стороны, релятивизм Беккера и Бирда, а с другой -
объективизм их главного обличителя в первые послевоенные годы С.Э. Мори¬
сона26. Да и новейшая американская литература являет пример диаметрально
противоположных подходов к проблеме исторического релятивизма, между
которыми едва ли возможен какой-либо компромисс. Об абсолютном реляти¬
визме, выступающем в интеллектуальной истории в форме деконструкциониз-
ма, уже говорилось. Столь же абсолютным является его полное отрицание в
книге А. Блума, обвиняющего ведущих представителей релятивизма от Бирда и
Беккера до ’’учеников Дерриды и других постструктуралистов” в ’’отходе от
традиционной веры в трансисторические, транскультурные абсолюты, на кото-
23В этих жалобах П. Новик отнюдь не одинок в новейшей американской историографии.
См., например: Handlin О. Truth in History. Cambridge (Mass.) — London, 1979, p. 8—26, 158;
Sonnichsen S.S. The Ambidextrous Historian. — University of Oklachoma Press, 1981, p. 3—4;
Curtin Ph. Depth, Span and Revelance. — The American Historical Review, 1984, v. 89, N 1, p. 2:
Hamerow T.S. Reflections on History and Historian. Madison, 1987, p. 6—10.
24Beard Ch. Written History as an Act of Faith. — The Philosophy of History in Our Time. New
York, 1959, p. 148-151.
25Kloppenberg J.T. Objectivity and Historicism: A Century of American Historical Writing. —
The American Historical Review, 1989, v. 84, N 4, p. 1029.
26Ibid., p. 1019-1021.
9
рых основана западная цивилизация, и классических американских добро¬
детелей”27.
Тем не менее Клоппенберг, несомненно, прав, выступая против жесткой и, в
сущности, бесплодной дихотомии объективизма и релятивизма как не соответ¬
ствующей современным историческим реалиям. В этом плане особый интерес
представляет его оценка новейших явлений в эпистемологических подходах
американских историков, в которых он усматривает альтернативу этой дихо¬
томии, определяя ее вслед за Т. Хаскеллом как ’’умеренный историзм”20.
Речь идет о подходе, бесповоротно отвергающем самодовольные претензии
на непогрешимость наших знаний, но вместе с тем ориентированном на получе¬
ние достоверного изображения прошлого как главной цели познавательных
усилий историков. Весьма существенным при этом является признание поступа¬
тельного характера исторического познания, предполагающее наличие некото¬
рых жестких стандартов его научности. ’’Благодаря комбинации воображения,
техники и старания, - подчеркивает Клоппенберг, - историки собрали твердые
данные, делающие теперь невозможными некоторые версии прошлого, когда-
то считавшиеся истиной. Только в этой области верифицируемого могут состя¬
заться интерпретации, которые выдержали проверку сообщества профессио¬
нальных историков”. Именно поэтому реальная историографическая практика
и воплощает в себе альтернативу ’’умеренного историзма”. Ибо, продолжает
американский ученый, ”по ту сторону мечты о научной объективности и кошма¬
ра абсолютного релятивизма лежит область прагматической истины, которая
обеспечивает нас гипотезами, предварительными синтезами, рожденными вооб¬
ражением, но подтвержденными интерпретациями, а также базисом для непре-
рывающегося исследования и экспериментирования. Такое историописание
может обеспечить знание, являющееся полезным, даже если оно должно быть
экспериментальным”29.
Разумеется, прагматическая истина имеет статус частной истины, по самой
природе своей никак не претендующей на всеобщую значимость и тем более
исключительность. Это всего лишь версия происшедшего, но версия, убедитель¬
но мотивированная историческими источниками, непротиворечивая в своих
основных элементах, способная органически включить рассматриваемое явле¬
ние в общий исторический контекст. Другими словами, отказ от ’’прекрасной
мечты” вовсе не равнозначен отрицанию принципиальной возможности адек¬
ватного изображения исторической действительности. И хотя такое изображе¬
ние не может быть зеркальным отражением или даже простой реконструкцией
прошлого, оно тем не менее способно прояснить определенные существенные
черты изучаемого явления и в этом смысле является истинным.
О том, что в современной американской историографии имеется достаточно
широкий консенсус относительно природы исторического знания, свидетель¬
ствует то обстоятельство, что даже некоторые постструктуралисты в известном
противоречии с исходными принципами деконструкционизма признают возмож¬
ность получения истинного изображения прошлого. Таков ход рассуждений
одного из самых решительных критиков идеи исторической объективности Хар¬
лана. Он убежден, что ’’нет ни объективных фактов как универсальных истин,
21Bloom A. The Closing of the American Mind. New York, 1987, p. 147-148, 126—127.
2BKloppenberg J.T. Op. cit., p. 1026—1027. Cp. Haskell T.L, The Curious Persistence of Rights
Talk in the Age of Interpretation. — Journal of American History, 1987, v. 74, N 3, p. 986.
29Kloppenberg J.T. Op. cit., p. 1029-1030.
10
ни постоянных оснований; есть только бесконечное умножение новых перспек¬
тив, непрестанное увеличение непредсказуемых интерпретаций”. Тем не менее,
продолжает он, ’’утверждать, что нет универсальной истины, не значит утверж¬
дать, что нет частной истины”30. И хотя здесь не поясняется, о какой частной
истине идет речь, важна сама постановка вопроса, намечающая возможность
склоняться к ’’умеренному историзму” даже твердокаменных приверженцев
постструктурализма.
В еще большей степени основанием для такого консенсуса служит радикаль¬
ное переосмысление самого понятия исторической объективности, полностью
порывающее с ранкеански-позитивистским идеалом, отождествлявшим ее с
политической индифферентностью историка. ’’Объективность не есть нейтраль¬
ность”, - заявляет один из крупнейших современных американских методоло¬
гов Т. Хаскел. Он подчеркивает не только ее совместимость с политическими
обязательствами историка, но и плодотворность этих последних для историче¬
ского познания (’’хорошая история может быть написана и обычно пишется
политически ангажированными учеными”). Другое дело, что эта ангажирован¬
ность должна иметь свои границы. Формулируя их, Хаскел указывает на недо¬
пустимость ее превращения в политическую пропаганду средствами истории и
соответственно на необходимость подчинения политических приоритетов
интеллектуальным. Решающими критериями объективности историка провоз¬
глашаются его беспристрастность, обязанность входить в систему взглядов оп¬
понента, способность к самоконтролю и самодисциплине31.
Развивая свою концепцию объективности, Хаскел неоднократно высказывает
убеждение, что она отражает общее отношение американских историков к этой
проблеме, что даже Новик, с чьим отождествлением объективности и нейтраль¬
ности полемизирует автор, вопреки собственной риторике осуществляет в своей
книге историографический анализ с несомненно объективистских (в хаскелов-
ском понимании этого слова) позиций. Речь, таким образом, идет о том, что
’’умеренный историзм” претендует быть выразителем на теоретическом уровне
реальной историографической практики.
Здесь мы подходим к главному вопросу, интересующему историка: в какой
мере теоретическая позиция ’’умеренного историзма” действительно адекватна
историографической практике, насколько прокламируемая американскими
методологами ’’эпистемологическая скромность” способствует познанию
прошлого, укрепляет нашу уверенность в возможности получения достоверных
исторических знаний? Ведь и Хаскел, и его многочисленные единомышленники
трактуют проблему исторической объективности преимущественно в морально-
этическом плане, отвергая в принципе претензии на обладание вечными, непо¬
грешимыми истинами и вневременными абсолютами, способствующими их
достижению32. В этой трактовке речь скорее идет об объективности подхода к
изучению прошлого, чем об объективности результатов такого изучения. По¬
казательным примером может служить цитировавшаяся статья Хаскела, деталь¬
но обосновывающая сущность этого подхода, но практически не затрагивающая
30Harlan D. Reply to David Hollinger. - The American Historical Review, 1989, v. 94, N 3,
p. 625.
3lHaskell T.L. Objectivity is not Heutrality: Rhetoric vs. Practice is Peter Novick’s that Noble
Dream. — History and Theory, 1990; v. 29, N 2.
“Новейшее свидетельство этому см.: Matthews F. The Attack on ’’Historicism”: Allan
Bloom’s Indictment of Contemporary American Historical Scholarship. - The American Historical
Review, 1990, v. 96, N 2. p. 446.
11
вопроса о природе исторического знания, получаемого с его помощью. Более
того, в русле ’’умеренного историзма” провозглашается неразрывная связь
объективного подхода и скептицизма, ибо ’’стремление к объективному зна¬
нию... неизбежно вызывает скептицизм и не может опровергнуть его, но должно
следовать под его тенью”33.
В попытке выяснения влияния этих методологических позиций на историо¬
графическую практику обратимся к получившей широкую известность книге
профессора Принстонского университета Натали Земон Дэвис ’’Возвращение
Мартена Герра” (1983 г.). Ставшая своеобразным историческим бестселлером
80-х годов, книга вызвала оживленную дискуссию, в которую активно включи¬
лась сама Дэвис с целью объяснения и дальнейшего обоснования своего иссле¬
довательского метода. Внимательно присмотримся к этому методу, так как он,
по существу, представляет собой реализацию принципов ’’умеренного историз¬
ма” в конкретном историческом исследовании.
Действительно, в полном соответствии с ними Дэвис, обосновывая свою вер¬
сию драматических событий, разыгравшихся в середине XVI в. в небольшой
южнофранцузской деревне, не претендует на ее непогрешимость. Это, как она
неоднократно подчеркивает, именно версия, вытекающая из некоторой суммы
исторических вероятностей, находящих обоснование в соответствующих источ¬
никах. ”То, что я хочу вам предложить, - пишет она, обращаясь к своим чита¬
телям, - отчасти моя гипотеза, прочно увязанная с тем, что мне поведали голо¬
са прошлого”34.
Напомним вкратце фабулу событий, получивших известность как ’’история
Мартена Герра”. В 1548 г. зажиточный крестьянин расположенной во француз¬
ских Пиренеях деревни Артига неожиданно покинул свой дом, оставив моло¬
дую жену Бертранду и только что родившегося сына, и исчез на долгие годы.
Спустя восемь лет в этой деревне объявляется ловкий мошенник, житель сосед¬
ней провинции Арно дю Тиль, по прозвищу Пансет (’’Брюхо”), и выдает себя за
исчезнувшего Мартена. Ему удается убедить в этом всех жителей деревни,
включая родственников Мартена и даже Бертранду. Через несколько лет обман
раскрывается, возвращается подлинный Мартен Герр. Пансет по приговору
Тулузского суда был повешен. Вскоре после этого история Герра была описана в
двух книгах, в том числе ’’Достопамятном приговоре”, принадлежавшем перу
судьи на Тулузском процессе, видного юриста XVI в. гуманиста Жана де Кора, а
впоследствии послужила основой для различных литературных произведений,
кинофильма и даже оперетты.
Таким образом, Дэвис не является первооткрывательницей этого сюжета. Она
’’всего лишь” предложила собственную версию его, заключающуюся в том, что к
отношениям между Арно дю Тилем и жителями Артига нельзя однозначно при¬
менять термины ’’обманщик” и ’’обманутые”. В действительности их реакция на
появление Арно в качестве Мартена Герра была гораздо более сложной, пред¬
ставляя собой причудливую смесь реакций обманутых, обманывающих или
молчащих. Главное же - Бертранда была не простодушной дурочкой, обману¬
той ловким проходимцем, а фактически его сознательной и умелой со¬
общницей.
Эта версия получает в книге разностороннее обоснование. Тем более неожи¬
данным для читателей, успевших попасть под очарование авторской аргумента¬
33Nagel Т. The View from Howhere. New York, 1986, p. 67.
34Дэвис H.3. Возвращение Мартена Герра. М., 1990, с. 17.
12
ции, является заключительный пассаж книги. ’’История Мартена Герра, -
завершает Дэвис свое исследование, - ... даже для историка, пытающегося раз¬
гадать ее смысл, по-прежнему предстает во всей своей непроницаемой жизнен¬
ности. Думаю, мне удалось раскрыть подлинные черты минувшего... или Пансет
провел меня опять?”35
Но так ли уж неожидан этот пассаж? Конечно, для читателя, убежденного в
том, что задача исторического исследования заключается в достижении непо¬
грешимой истины, исключающей всякую другую версию как ненаучную, такая
’’эпистемологическая скромность” будет непонятной. Ведь она не признает
однозначного прочтения прошлого и существования одной-единственной вер¬
ной версии его, делающей невозможным какое-либо сомнение автора в получен¬
ных им результатах. Ибо такое сомнение означает - если исходить из существо¬
вания единственно верной, неопровержимой истины - творческую неудачу
исследователя, его неспособность убедительно обосновать свое видение про¬
шлого. Но так ли это? Предоставим слово самой Дэвис, используя ее полемику с
историком из Арканзасского университета Р. Финлеем, выступившим с развер¬
нутой критикой концепции ’’Возвращения Мартена Герра” с позитивистски-
буквалистских позиций36.
’’Финлей, - подчеркивает Дэвис, - видит вещи в ясных, простых очертаниях;
он жаждет абсолютной истины, недвусмысленно установленной определенно
выраженными словами; он делает моральные оценки в терминах добра и зла”37.
Этому всезнайству, апеллирующему к букве источника как единственному
аргументу, Дэвис противопоставляет свое понимание исторической истины и
путей ее достижения, основывающееся на признании ограниченной, вероят¬
ностной природы исторического знания. Отсюда вытекает значение деклариру¬
емого исследовательницей сомнения как познавательного принципа. Но сомне¬
ния, не расслабляющего волю исследователя, обесценивающего его познава¬
тельные усилия, а оплодотворяющего эти усилия, носящего явно выраженный
созидательный характер.
Так, сомнение в содержащейся в судебном отчете характеристике Бертранды
как простодушной жертвы ловкого мошенника подвигло Дэвис к комплексно¬
му анализу обширного круга источников, раскрывающих духовный мир фран¬
цузской крестьянки XVI в., ее ментальность. Благодаря этому ей удалось убе¬
дительно обосновать свое понимание личности и мотивов поведения Бертран¬
ды, радикально расходящееся с тем, какое было зафиксировано в судебном
приговоре. ’’Простодушная жертва” превращается под пером Дэвис в расчетли¬
вую женщину, не только сознательно пошедшую на сговор с самозванцем, но и
всячески помогающую ему в его обмане.
Подчеркнем, что такое перевоплощение достигается не в результате привле¬
чения новых источников, меняющих представление о фактической канве собы¬
тий, а исключительно благодаря реинтерпретации давно известных данных,
позволяющей по-иному осмыслить сами эти события. На первый план выступает
исследование мотивов поступков героев этой истории и прежде всего, конечно,
Бертранды, так как от ее поведения в решающей степени зависели успех или
неудача всего предприятия Арно дю Тиля. Но обращение к мотивам неизбежно
предполагает вступление исследователя на достаточно зыбкую почву более или
35Там же, с. 183.
36Finlay R. The Refashioning of Martin Guerre. — The American Historical Review, 1988,
v. 93, N 3, p. 553-571.
37Davis N.Z. On the Lame. — The American Historical Review, 1988, v. 93, N 3, p. 574.
13
менее вероятностных предположений, далеко не всегда могущих быть строго
верифицированных историческими источниками.
В то же время интуиция автора, помогающая конструировать мотивы поведе¬
ния персонажей ’’деревенской истории”, как бы раздвигает фактологическую
основу повествования, не только расширяя объем достоверного знания о собы¬
тиях, происходивших в далекой французской деревне, но и дополняя и уточ¬
няя наши общие представления об этой эпохе и ее людях, причем как раз о тех,
чьи деяния, образ жизни и в особенности чувства редко попадают на страницы
исторических исследований.
Таким образом, реконструкция прошлого обогащается ’’конструированием”
его, что, разумеется, существенно усложняет проблему объективности в исто¬
рии, поскольку в познавательный процесс в качестве неотъемлемого элемента
вводится понятие вероятностного знания. Не верифицируемое источниками,
оно не может претендовать на ранг объективно-истинного в традиционно пози¬
тивистском смысле.
В этом смысле историческая объективность действительно остается ’’прекрас¬
ной мечтой”. Но, как мы пытались показать на примере книги Дэвис, принципы
’’умеренного историзма” не только не подрывают усилий историков в их веч¬
ной погоне за истиной, но и открывают новые возможности в их поисках. Дру¬
гое дело, что меняется природа этой истины. Из однозначно непреложной, раз
навсегда данной она превращается в многовариантную, изменчивую. Это ис¬
тина-гипотеза, истина-версия, претендующая на правдоподобное воспроизведе¬
ние прошлой действительности, однако не чуждая сомнению, ибо включает в
себя не только реконструкцию прошлого, но и его конструирование, а следова¬
тельно, не исключающая нацело существования других версий, так же правдо¬
подобно объясняющих прошлое. Такой подход может, конечно, рассматривать¬
ся как уступка релятивизму. Но нельзя не согласиться с теми американскими
авторами, которые связывают с ним магистральный путь развития исторической
дисциплины, отвечающий современным общенаучным представлениям о при¬
роде познавательной деятельности человека38.
Обращение к исследовательской практике американских историков поучи¬
тельно и в другом отношении. Оно позволяет прояснить те или иные методоло¬
гические понятия, раскрывая их реальное историографическое содержание.
Своеобразная историографическая интерпретация этих понятий, как правило,
снимает присущие им эпистемологические крайности, способствуя тем самым
более адекватному пониманию их действительного значения для исторической
дисциплины. Подобная ’’корректировка” должна в особенности приниматься во
внимание, когда речь идет о понятиях, характеризующих природу историческо¬
го познания, подлинный смысл которых может быть установлен только с учетом
их интерпретации в исследовательской практике.
В полной мере это относится к понятиям, релятивизирующим историческое
познание, таким, например, как широко известное ’’всякая настоящая история
является современной историей”. Это положение, сформулированное Б. Кроче,
как и связанное с ним заключение, что ’’каждое поколение заново переписыва¬
ет свою историю”, несомненно, звучит крайне релятивистски, отвергая в прин¬
ципе возможность объективного познания прошлого. В самом деле, о каком
объективном познании может идти речь, если быстротекущая современность
диктует не только подход к прошлому, но и его оценку? Собственно, так это
положение и воспринималось в советской науке.
30См.: Lewine L.W. The Unpredictable Past: Reflections on Recent American Historiography. —
The American Historical Review, 1989, v. 94, N 3.
14
Речь, таким образом, идет о фундаментальном методологическом принципе,
характеризующем природу исторического познания. Присмотримся, однако,
как этот принцип реализуется в современной американской историографии.
Примером может служить двухтомник ’’Интерпретации современной истории”,
выдержавший за короткое время пять изданий, в которых можно проследить
развитие взглядов американских исследователей на ключевые проблемы своей
истории.
В книге выделяется 20 таких проблем, каждой из которых посвящен отдель¬
ный раздел, включающий краткий историографический очерк определенной
проблемы и ее современный анализ с различных точек зрения. При этом при
всех различиях в вопросах, представленных в этих разделах, и подходах к их
освещению ’’одна тема, - подчеркивается в предисловии к пятому изданию, -
является самоочевидной во всех: взгляд на американскую историю был посто¬
янно изменяющимся”39. Впрочем, нас интересует не столько это достаточно три¬
виальное положение, сколько обоснование, которое дают ему авторы предисло¬
вия. Характеризуя причины непрерывной реинтерпретации американской исто¬
рии, они выдвигают на первый план влияние на историков современной им дей¬
ствительности, поскольку они, явно или имплицитно, отражали в своих произ¬
ведениях проблемы и пристрастия своего времени.
Это положение получает дальнейшее развитие во ’’Введении”, где содержит¬
ся емкий концептуальный очерк развития американской исторической мысли с
колониальных времен до середины 80-х годов XX в. Примечательным образом
он начинается с интерпретации приведенного выше положения Кроче, которое
истолковывается в том смысле, что ’’история в отличие от простой хроники име¬
ет значение только в той степени, в какой она задевает ответную струну в умах
современников, видящих отраженными в прошлом проблемы и вопросы насто¬
ящего”. Отмечая, что положение Кроче имеет особое отношение к изображению
американской истории, авторы подчеркивают, что каждое поколение американ¬
цев переписывало историю своей страны так, чтобы она соответствовала его соб¬
ственным представлениям, складывавшимся под детерминирующим влиянием
своего времени, господствующего там общественного мнения. И ’’хотя имелись
другие причины для этой непрерывной реинтерпретации американской истории,
изменяющийся климат мнений более, чем какой-либо другой отдельный фак¬
тор, принуждал историков периодически исправлять свой взгляд на про¬
шлое”40.
Но значит ли это, что история является простой функцией современности, по
самой своей природе не способной на адекватное постижение прошлого? Всем
своим содержанием рассматриваемый двухтомник дает на этот вопрос отрица¬
тельный ответ. Его авторы при всем различии их индивидуальных подходов
‘исходят из убеждения, что ’’непрерывная реинтерпретация американской исто¬
рии” ни в коей мере не означает непрерывного пересмотра той фактологической
основы, на которой осуществляется ее истолкование. Напротив, речь идет о
детерминируемой современностью смене концепций, методов, подходов,
позволяющей углубить понимание прошлого, открыть его новые, неизвестные
ранее исследователям пласты и тем самым увеличить сумму достоверного зна¬
ния о нем. Например, движения социального протеста 60-70-х годов стимулиро¬
вали интерес историков к таким группам, ’’которые до этого были почти не
^Interpretations of American History. Patterns and Per"pectives. 5th Ed., v. II. New York —
London, 1987, p. VII.
40Ibid., p. 1.
15
видимы в американской истории - черных, индейцев, женщин, бедняков и мно¬
гих других”, а широкое применение квантитативной техники ’’позволило но¬
вым социальным историкам осуществлять анализ исторических свидетельств из
прежде недоступных источников”41.
При этом, разумеется, никто из авторов двухтомника не сомневается, что
получаемые таким путем новые результаты могут претендовать на общезначи¬
мость, что, собственно, и ставит границы релятивизации историографического
процесса. Конечно, эти результаты не носят характера незыблемых, вечных на
все времена истин, но, отражая определенный виток движения исторической
мысли, стимулированный процессами, происходящими в современном амери¬
канском обществе, они способствуют более глубокому постижению прошлого,
’’лучшему пониманию американской истории благодаря включению в нее соци¬
альных групп, которыми относительно пренебрегали ранее”42.
Однако это ’’лучшее понимание” в силу самого своего происхождения имеет
относительный характер, будучи лишь преходящим моментом в бесконечном
процессе исторического познания. Новое настоящее принесет с собой новое про¬
чтение прошлого, которое в чем-то существенном скорректирует нынешние
представления о нем. А это означает признание как возможности получения
достоверного исторического знания, извлекаемого из всего доступного иссле¬
дователям корпуса источников, так и его относительности, ограниченности,
проистекающей из самого характера взаимоотношений между познающим
субъектом и познаваемым объектом.
Такой взгляд на природу исторической истины составляет характерную чер¬
ту современного американского историографического сознания, отражаясь в
общих подходах к исследовательской практике и оценке ее результатов. Он на¬
ходит свое проявление, в частности, в том, что даже приверженцы самых ради¬
кальных подходов в ’’новой социальной истории”, связанных с ее переориента¬
цией на преимущественное изучение положения и борьбы угнетенных групп
американского общества, приходят к пониманию относительности тех истин, за
которые они так горячо ратуют.
Показательно в этом отношении признание видного представителя радикаль¬
ной истории в США профессора Калифорнийского университета Лж. Винера.
Подчеркивая, что американская радикальная история выросла в особое течение
в рамках исторической дисциплины на фоне широкого движения за граждан¬
ские права и антивоенного движения как последовательная критика консенсус¬
ной истории, он вместе с тем счел нужным заключить анализ ее достижений в
изучении социальных и национальных конфликтов в американском обществе
указанием на относительность полученных в его итоге результатов. ’’Следует
сказать, - пишет ученый, - что радикальная история не представляет ’’истину”
в каком-либо трансцедентальном смысле; она сама является историческим про¬
дуктом”43.
Приведенные суждения, конечно, не исчерпывают всего многообразия взгля¬
дов американских ученых на проблему объективности исторического познания.
Однако они указывают на важную тенденцию, характеризующую современное
состояние изучения этой проблемы. При сохраняющемся разбросе мнений - в
41Ibid., р. 21-22. Подробнее см. разделы этого издания, посвященные изучению в амери¬
канской историографии истории женщин, истории черных американцев и т.п.
42Ibid., р. 25.
43Wiener J.M. Radical Historians and the Crisis in American History, 1959—1980. — The Jour¬
nal of American History, 1989, v. 76, N 2, p. 434.
16
нашей статье он представлен деконструкционистами, с одной стороны, и Блу¬
мом и Финлеем, с другой, - в целом происходит их заметная консолидация,
выражающаяся в сближении крайних позиций. Следует особенно подчеркнуть,
что это сближение имеет место не только в области историографической практи¬
ки, но и на уровне теоретического мышления. И историки-конкретики, и мето¬
дологи достигли значительной степени согласия в признании как способности
истории давать достоверное, общезначимое знание о прошлом, так и его ограни¬
ченности целым комплексом обстоятельств, коренящихся в познавательной по¬
зиции исследователя. Не вдаваясь в требующий специального изучения вопрос
о разноречивых оценках природы субъективных пристрастий историка, под¬
черкнем лишь, что при всех имеющихся различиях общим является убеждение
в несостоятельности ранкеански-позитивистского идеала объективности, тре¬
бовавшего изгнания из познавательного процесса таких пристрастий.
Иными словами, не только в историографической практике, но и в теоретиче¬
ских построениях многих американских методологов все более уходит в
прошлое былое безоговорочное противопоставление объективизма и релятивиз¬
ма. Если наивная вера в ’’тотальную объективность” отличала детство профес¬
сиональной историографии, а пришествие релятивизма возвестило об ее отроче¬
стве, то, продолжая этот метафорический ряд, можно сказать, что зрелость исто¬
рии как научной дисциплины проявляется в диалектическом снятии антитезы.
Это, разумеется, относится не только к американской историографии, эписте¬
мологические дискуссии в которой достаточно показательны для отношения к
рассматриваемой проблеме всего сообщества историков. Современная исто¬
риография является одновременно и релятивистской, и объективистской. Она
отказывается от претензии на монопольное обладание непогрешимой истиной,
равно как и от постулирования ’’единственно верного” пути к ней. Признавая
активную роль исследователя в познавательном процессе, современная исто¬
рическая эпистемология отвергает ранкеански-позитивистский культ историче¬
ского факта, как и сам образ историка, далекого от мирских страстей и тре¬
волнений, творящего в башне из слоновой кости на основе твердых кирпи¬
чиков-фактов незыблемой картины прошлого. Она подчеркивает социальную
обусловленность исторического познания, неизбежно релятивирующую его
результаты.
В то же время историческая наука является объективистской, поскольку
идея объективности продолжает сохранять регулятивное значение в историче¬
ском познании. Действительно, в сообществе историков, в особенности на уров¬
не конкретной историографической практики, присутствует большая мера со¬
гласия относительно предпосылок, условий и характера их деятельности. Она
включает в себя как область поиска и установления исторических данных, так
и сферу научного метода для верификации этих данных и интерпретации изу¬
чаемых явлений в целях установления их исторического значения, а следо¬
вательно, и смысла самого прошлого, выступающего объектом исторического
познания. При этом речь идет не об умозрительных конструкциях, а о реаль¬
ной исследовательской практике, воплощающей поступательный рост наших
знаний о человеке и истории. Без такого согласия история вообще не может
претендовать на ранг научной дисциплины, а занятия ею теряют всякий разум¬
ный смысл. Но признаем вместе с этим, что получаемые нами результаты, буду¬
чи лишь одной из версий исторической истины, не могут претендовать на значе¬
ние абсолютно истинных, что нет ни абсолютных фактов, ни абсолютных истин,
и согласимся, что в осознание этого большой вклад внес американский реля¬
тивизм.
17
© 1993 г.
М.Т. МЕЩЕРЯКОВ
СУДЬБА ИНТЕРБРИГАД В ИСПАНИИ
ПО НОВЫМ ДОКУМЕНТАМ*
Вокруг интербригад создано немало легенд. Н.А. Бердяев справедливо отмечал,
что ’’каждая великая историческая эпоха, даже в новой истории человечества, столь
неблагоприятной для мифологии, насыщена мифами”1. Сказанное в полной мере
относится и к истории интербригад. Как всякое неординарное историческое явление
они породили не только диаметрально противоположные оценки, но и ряд мифов,
которые должны либо приподнять и романтизировать их, либо принизить и
дискредитировать. Существует масса неизвестных страниц, малоизвестных фактов и
’’белых пятен" в истории интернационального движения, не позволяющих воссоздать
подлинную, а не мифологизированную его историю.
Одной из таких мифологизированных и запутанных страниц в истории интербригад
является само их создание. Историки либо ограничиваются констатацией того факта,
что интербригады возникли по инициативе Коминтерна, либо утверждают, что идея их
образования возникла едва ли не через неделю после начала военного мятежа в
Испании, когда на секретном совещании в Праге 27 июля 1936 г. представители
Коминтерна и Профинтерна при участии члена ЦК Французской коммунистической
партии (ФКП) Г. Монмуссо договорились сформировать интернациональный корпус
добровольцев и направить его в республиканскую Испанию, возложив всю
практическую работу по его созданию на комитет помощи в составе М. Тореза,
П. Тольятти (Эрколи), X. Диаса, Д. Ибаррури и лидера испанских социалистов, главы
правительства Испании Л. Кабальеро2. Однако обнаружить следы указанного
совещания и комитета в архивах Коминтерна до сих пор пока не удалось. Поэтому
можно согласиться с мнением французского историка К. Серрано, что в основу этой
версии легла "утка”, запущенная еще в 1936 г. берлинским радио и подхваченная всей
реакционной печатью3.
Между тем документы архива Коминтерна показывают, что до конца августа в
коммунистическом движении преобладало поразительное благодушие и пассивность в
оказании помощи испанским антифашистам4. Такую пассивность можно объяснить
тем, что сама Коммунистическая партия Испании (КПИ) не била тревоту, полагая, что
сама в союзе с другими партиями и организациями Народного фронта покончит с
военно-фашистским мятежом5. Только в конце августа, когда стало ясно, что отряды
рабочей милиции не в состоянии противостоять регулярным войскам мятежников,
получавших к тому же во все возраставших объемах военно-техническую помощь со
стороны Германии и Италии, руководство европейских компартий начало
разворачивать широкое движение солидарности с республиканской Испанией и у
некоторых лидеров возникли предложения послать в Испанию опытные в военном
Статья поступила в редакцию незадолго до кончйны автора 7 января 1993 г.
1 Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990, с. 18.
2 См.: Brome V. The International Brigades. Spain. 1936-1939. London, 1965, p. 14-15.
3 Serrano C. L'enjeu d'Espagne. PCF et la guerre d'Espagne. Paris, 1987, p. 47-48.
4 Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (далее - РЦХИДНИ) ф. 495,
оп. 2, д. 233, л. 24, 202; д. 241, л. 48.
5 Там же, д. 233, л. 203.
18
отношении кадры. Такое решение еще в начале августа принял ЦК Коммунистической
партии Германии (КПГ)6. Тогда же ЦК компартии Италии и Исполком соцпартии
заключили соглашение о создании из итальянских эмигрантов добровольческого
отряда7. Идею формирования добровольческих соединений начали выдвигать
М. Торез, Ж. Дюкло, А. Марти, В. Кодовилья (представитель ИККИ при ЦК КПИ),
помощник Тореза А. Черетти, В. Ульбрихт и другие руководители компартий.
У этой идеи было много соавторов, но прежде всего она исходила от руководящих
кругов ФКП, поскольку именно она столкнулась с массовым добровольческим
движением, охватившим как различные слои французского общества, так и
иностранную экономическую и политическую эмиграцию во Франции. Десятки
добровольцев на свой страх и риск переходили франко-испанскую границу, создавали в
Испании отряды, центурии (сотни), колонны, которые дрались с мятежниками на
различных участках фронта. Компартии Франции, а также другим организациям
Народного фронта пришлось активно включиться в организацию этого стихийного и
хаотического движения. Они образовывали центры, решавшие задачи организации и
экипировки добровольцев, оказания им помощи в установлении контактов с
испанскими властями, переходе границы и т.п.
Что же касается Коминтерна, то его Исполком каких-либо решений о создании
интербригад не принимал до середины сентября 1936 г. 16-17 сентября состоялся
президиум ИККИ, обсудивший круг проблем оказания помощи народу Испании в
борьбе с фашизмом и, как говорил Г. Димитров, предложивший компартиям
развернуть ’’международную могучую акцию, которая бы могла в конце концов
решить победу Испанской республики, испанского народа”8. В развитие рекомендаций
президиума секретариат ИККИ 18 сентября принял решение об отправке в Испанию
добровольцев-коммунистов, имевших боевой опыт или прошедших военную службу9.
Но Исполком Коминтерна лишь оформил своими решениями директивы Кремля. 26
августа состоялось заседание политбюро ЦК ВКП(б), в котором приняли участие
Г. Димитров и Д.З. Мануильский. Политбюро, как отмечал в дневнике Г. Димитров,
рекомендовало ИККИ принять меры для "эвентуальной организации
интернационального корпуса в Испании”10. Таким образом, хотя инициатива создания
интербригад исходила от компартий, решение об их создании приняло руководство
ВКП(б).
После сентябрьского решения секретариата ИККИ компартии развернули
активную вербовочную кампанию в своих странах, а также и среди политической и
экономической эмиграции ряда европейских и латиноамериканских стран, США и
Канады. Поскольку в соответствии с соглашением "О невмешательстве в испанские
дела”, подписанном большинством европейских стран, запрещалась вербовка граждан
этих стран на службу в испанские вооруженные силы, то компартии осуществляли
вербовку добровольцев, или, как их называли, "волонтеров свободы", в основном
нелегально или полулегально, тщательно скрывая местонахождение центров
вербовки, маршруты следования и т.п. Полностью скрыть эту деятельность
компартии не могли. Полиция и служба безопасности были информированы о
добровольческом движении, а во Франции кто только не знал о поезде № 77, которым
добровольцы добирались из Парижа до Перпиньяна11. Не менее активно вербовку
вели некоторые социалистические и социал-демократические партии, анархистские
организации, группы интеллектуалов. О размахе добровольческого движения можно
6 См.: Кауфман Г.В. Коммун» стическая партия Германии в борь^з за единство антифашистских сил
(1935-1939). М., 1988, с. 99.
7 Солидарность народов с Испанской республикой. М., 1973, с. 148.
8 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 2, д. 233, л. 230.
9 Там же, оп. 18, д. 1135, л. 2.
10 Централен партиен архив на Высшиа съвет на Бэлгарската социалистическа партия, ф. 146, оп. 2, ед.
хр. 34, л. 2.
11 См.: Castells A. Las brigades intemacionales en la guerra de Espańa. Barcelona, 1974, p. 64.
19
судить из следующих данных, содержавшихся в докладе одного из начальников базы
интербригад в Альбасете В. Цайссера (генерала Гомеса): с октября 1936 по сентябрь
1938 г. через базу прошло не менее 51 тыс. иностранных бойцов и офицеров12.
Особое внимание ИККИ уделил набору добровольцев среди иностранцев-
эмигрантов, проживавших и работавших в СССР, имевших боевой опыт, служивших в
армии и военизированных организациях, окончивших советские военные училища и
академии. Из этого контингента предполагалось создание командных и политических
кадров интербригад. Решением секретариата ИККИ была создана под руководством
Г. Алиханова и В. Черномордика комиссия, на которую была возложена вся работа по
отбору добровольцев. С 13 октября 1936 г. по 11 апреля 1937 г. через комиссию
прошел 1451 человек. Она рекомендовала с согласия НКВД, тщательно проверявшего
каждого волонтера, для отправки в Испанию 725 человек, но отправлено в Испанию
было всего 589 человек. Остальные не прошли сквозь сито НКВД. Нередко
отобранные для отправки добровольцы арестовывались НКВД как ’’шпионы",
"троцкисты" и т.п., а некоторые эмигранты сами отказались выехать в Испанию13.
Далеко не все добровольцы, несмотря на конспирацию, благополучно добирались до
Испании. Многие попадали ь руки полиции, оказывались в тюрьмах, были высланы на
родину, погибли в пути. Так, например, в марте 1937 г. полиция задержала 500
югославских добровольцев, которые должны были у острова Врач погрузиться на
французский пароход "Корсика", и направила их в тюрьмы14. В мае 1937 г. при
подходе к Барселоне итальянской подводной лодкой был торпедирован испанский
пароход "Сиутат де Барселона", погибло около 300 добровольцев15.
Большие трудности возникали не только перед волонтерами из стран с
фашистскими и авторитарными режимами. Всем американца'*, выезжавшим за
пределы США, в паспортах ставился штамп: "Недействителен для въезда в
Испанию"16.
Оказавшиеся в Испании добровольцы вначале концентрировались в крепости
г. Фигерас, откуда в начале октября 1936 г. были отправлены в Барселону и далее в
г. Альбасете, избранный под базу интербригад. Предварительно была достигнута
договоренность с правительством Л. Кабальеро о формировании из них
интернациональных частей17. 14 октября в Альбасете прибыла первая большая
группа волонтеров в 500 человек, 15 - вторая в 700, а уже с 20 октября началось
формирование первой 11-й интербригады, командиром которой был назначен советский
генерал Г.М. Штерн (Клебер)18. 10 ноября по базе был отдан приказ о формировании
12-й бригады под командованием генерала М. Залка (Лукача), а 20 декабря - 13-й
бригады под командованием генерала К. Сверчевского (Вальтера), будущего
заместителя министра обороны Польши в 1946-1947 гг., убитого в 1947 г.
националистами. 6 февраля 1937 г. была сформирована под командованием генерала
Я. Гала (Галича) 15-я бригада19.
Из-за тревожной обстановки, сложившейся под Мадридом, первые две бригады
формировались всего 15-20 дней. Они не успели полностью экипироваться,
вооружиться, получить все необходимое. Не у всех бойцов был военный опыт,
некоторые из них не умели обращаться с оружием, окапываться, совершать
перебежки, взаимодействовать друг с другом, ходили в атаку в полный рост. Все это
12 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 76, д. 33, л. 18.
13 Там же, д. 9, л. 4; д. 22, л. 2; д. За, л. 106, 107, 110.
14 Там же, д. 32, л. 86-87; Гиренко Ю.С. Сталин-Тито. М., 1991, с. 49.
15 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 76, д. 34, л. 37-38.
16 Castells Д. Op. cit., р. 160.
17 Лонго Л. Интернациональные бригады в Испании. М., 1966, с. 59.
18 Одновременно в Альбасете формировались первые десять бригад народной армии и интербригадам
были отданы номера от 11-го до 15-го.
19 РЦХИДНИ, ф. 545, оп. 2, д. 32, л. 25, 35. Здесь и далее указываются только первые командиры
интербригад.
20
привело к большим потерям, неразберихе, неудачам, хотя обе бригады, брошенные в
бой под Мадридом, показали высокую стойкость и вместе с испанскими частями
выполнили поставленную перед ними боевую задачу: остановить врага и не допустить
его в Мадрид. Что касается других бригад, то они создавались в более спокойной
обстановке, что позволило командованию учесть и исправить, хотя и не полностью,
допущенные ошибки и промахи.
Появление интербригад под Мадридом не осталось незамеченным. Мировая печать
широко освещала их участие в боях. Поэтому руководство Коминтерна решило, по
предложению Г. Димитрова, "открыть” факт их существования. Правда, как
показывают документы, не все члены ИККИ были вначале согласны с этим
предложением. Получив от Димитрова письмо, в котором он предлагал "самым
широким образом популяризировать интернациональные бригады, их бойцов, их
замечательную роль могучего кулака действенной солидарности международного
пролетариата с испанским народом”20, Мануильский стал призывать Димитрова не
торопиться с легализацией интербригад, опасаясь, что она позволит полиции
расшифровать каналы переброски волонтеров в Испанию21. Но его позиция не
получила поддержки в ИККИ и интербригады вышли из "подполья”22.
Продолжавшийся приток добровольцев позволил в начале марта 1937 г. создать
еще одну, 86-ю бригаду. В основном она состояла из испанских солдат и офицеров, но
один батальон - из интернационалистов. Командиром бригады стал испанский офицер
Ф. Мануэль23. Поскольку ее связи с Центральной базой интербригад носили
спорадический характер, то командование не считало ее интернациональной частью24.
В феврале завершилось формирование интернационального транспортного полка,
вошедшего позднее в состав 5-го корпуса25. В июне завершилось формирование 150-й
брига jbi, но как самостоятельная боевая единица она просуществовала менее месяца и
был . слита с 13-й бригадой. Наконец, в феврале 1938 г. в основном из славянских
батальонов была создана 129-я бригада, которой вначале командовал М. Хватов
(Харченко), а после его гибели В. Комар26. Таким образом, с октября 1936 г. по
февраль 1938 г. было создано восемь интербригад, но собственно интернациональных
соединений было только шесть: 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я и 129-я бригады.
Дважды, как видно из документов, поднимался в ИККИ вопрос о создании
интербригады из каталонцев, проживавших на юге Франции. Первый раз об этом
говорилось в решении секретариата ИККИ 27 декабря 1936 г.27 и второй - в марте
1937 г. В проекте постановления, подготовленного по поручению Димитрова в
единственном экземпляре, говорилось, что в случае успеха Франко возникла бы
неминуемая военная угроза для департаментов Восточных Пиренеев и юга Франции,
и, чтобы не допустить этого, предполагалось создать во Францци и Каталонии
комитеты защиты и французско-каталонскую бригаду с базой в Балгаре или Артесе-
де-Сегре, близ Лериды. Ответственность за их создание возлагалась на Ж. Дюкло и
А. Марти28. Однако эта идея так и не была реализована из-за сопротивления
каталонского правительства и Национальной конфедерации труда (НКТ), опасавшихся
усиления позиции коммунистов в Каталонии.
Все интербригады формировались как смешанные бригады в составе трех-четырех
батальонов лехоты, пулеметных и саперных рот, артиллерийских батарей, взводов
20 Известия на института истории на БКП, т. 15. София, 1966, с. 370.
21 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 73, д. 51, л. 67-68.
22 Там же.
23 Там же, ф. 545, оп. 3, д. 5 18, л. 3.
24 Там же, оп. 2, д. 32, л. 145.
25 Там же, л. 196.
26 Там же, оп. 3, д. 529, л. 16-17.
27 См.: VII конгресс Коммунистического Интернационала и борьба против фашизма и войны. М., 1975, с.
454.
28 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 74, д. 502, л. 51-52.
21
связи, кавалерийских эскадронов. Их численность колебалась от 1900 до 3 тыс.
человек. Кроме этого, были созданы дивизионы и группы тяжелой артиллерии,
подчинявшиеся непосредственно командованию республиканских соединений29. Из
добровольцев, имевших специальности шоферов и автомехаников, в июле 1937 г.
была создана интернациональная бронерота30. Значительные группы
интернационалистов входили в состав трех партизанских батальонов по 300-400
человек каждый. Они действовали преимущественно на центральном и южном
фронтах31. Позднее батальоны влились в 14-й (партизанский) корпус.
Значительная часть иностранных добровольцев, прибывших в разное время в
Испанию, сражались в частях испанской народной армии, в авиации, танковых
группах, на флоте. Часть из них вступила в анархистские соединения, в 29-ю дивизию,
созданную ПОУМ (Революционной партией марксистского единства). Эти
добровольцы не включались в общий состав интернационалистов.
Одновременно с формированием интербригад шло становление Центральной базы в
Альбасете. К январю 1937 г. ее структура, согласно отчетам командования,
выглядела следующим образом: начальник базы, штаб, политкомиссия, отделы
(кадров, почты и цензуры, разведки и контрразведки, военных инструкторов, центров
обучения, транспорта, вооружения), санитарная служба, военные мастерские,
редакции газеты "Доброволец свободы" и информационных бюллетеней, группа
обслуживания, комендатура, дисциплинарная рота32. До марта 1937 г. действовал
также Военный совет базы, решавший основные политические и организационные
вопросы, в который входили представители базы и ЦК КПП. В Мадриде, Валенсии,
Барселоне, Аликанте и Фигерасе база имела свои представительства33.
К весне 1937 г. была создана санитарная служба интербригад, включавшая в себя
бригадные и фронтовые госпитали, а также госпитали в тылу, дома отдыха,
передвижные эвакуационные отряды, службы гигиены, аптеки, центры реабили¬
тации34. Их обслуживали 224 врача, 439 санитаров, 177 медсестер, 650 эвакуа¬
торов35. Санитарную службу возглавляли Р. Нейман, а в дальнейшем Ц. Кристанов
(Тельге) и П. Коларов. Она принимала на лечение бойцов не только интербригад, но и
республиканской армии.
Альбасетская база сыграла важную роль в становлении и боевой деятельности
интербригад. В разное время ее возглавляли: французы Ж. Мари (но он выполнял свои
обязанности очень короткое время) и В. Гайман (Видаль) с октября 1936 по июль 1937
г.; с июля по октябрь 1937 г. болгарин К. Луканов (Белов); с ноября 1937 по май 1938
г. - немец В. Цайссер (Гомес). Генеральным инспектором интербригад, отвечавшим за
всю политическую работу в них, с декабря 1936 г. и вплоть до роспуска интербригад в
августе 1938 г., был Л. Лонго (Галло). Большую роль в деятельности бригад сыграли
члены ИККИ А. Марти, Ф. Далем, П. Тольятти (Альфредо), а также представители
Социнтерна - Ю. Дейч, П. Ненни, Ж. Дельвинье.
Многие компартии направили в Испанию представителей, возложив на них задачу
обеспечения связей добровольцев со своими партиями, оказания политической и
организационной помощи командованию в формировании частей. На первом, самом
трудном этапе становления интербригад они сыграли весьма положительную роль.
То обстоятельство, что среди волонтеров подавляющее большинство составляли
члены компартий и коммунистических союзов молодежи, дало основание многим
зарубежным исследователям считать интербригады своеобразным "международным
29 Там же, ф. 545, оп. 3, д. 432, л. 104, 141; д. 564, л. 51; д. 272, л. 1, 9, 21, 50; д. 587, л. 6; д. 628, л. 3.
30 Там же, д. 90, л. 15.
31 Там же, оп. 2, д. 32, л. 193.
32 Там же, д. 33, л. 52-55.
33 Там же, л. 50.
34 Там же, оп. 3, д. 658, л. 28-29.
35 Там же, ф. 495, оп. 76, д. 6, л. 30.
22
легионом Красной Армии", "вооруженным отрядом революционного интернационала",
армией "мировой революции"36. Несомненно, коммунистическая партия и Коминтерн
стремились максимально использовать сложившуюся в Испании ситуацию для того,
чтобы пропустить через "испанский плацдарм" как можно больше своих активистов
для накопления боевого опыта, который бы они могли использовать в грядущих
революциях. Хотя из документов Коминтерна и его секций исчезли призывы к
"пролетарской революции" и в них постоянно подчеркивалось, что стратегической
задачей компартий является борьба за демократию, против фашизма, что в Испании
идет борьба в защиту демократической республики нового типа (народная
демократия), тем не менее многие коммунисты увидели в испанских событиях начало
нового этапа социалистических революций. Часть волонтеров полагала, что они
должны бороться в Испании за установление социалистического строя37, а каждое
мероприятие в частях сопровождалось пением "Интернационала" или партийных
революционных песен. Даже в атаку части ходили с пением "Интернационала".
Командованию приходилось прилагать большие усилия к тому, чтобы убедить
добровольцев, что в Испании они сражаются не за торжество социалистической
революции, а в защиту демократических свобод испанского народа, однако полностью
преодолеть "революционаристские" настроения среди этой части бойцов и офицеров
оно так и не смогло.
Интербригады приняли участие практически во всех сколько-нибудь крупных
операциях народной армии республики: под Мадридом, на реке Хараме, под
Гвадалахарой, в наступлениях на Брунете и Сарагосу, в штурме и обороне Теруэля, в
оборонительных боях на Восточном и Левантийском фронтах, в наступательной и
оборонительной операциях на реке Эбро, а отдельные группы - в боях в Каталонии. В
этих боях они несли большие потери, испытывали огромные трудности, но не теряли
присущих им высокого боевого духа, стойкости, упорства, стремления наилучшим
образом выполнить полученные приказы. У них были неудачи, особенно в первое
время, и поражения, однако интербригады оценивались командованием народной
армии самым высоким образом, считавшим их лучшими частями по дисциплине,
боеспособности, моральному состоянию38. Характерно, что так же оценивало их
командование противника. В информационном бюллетене итальянской дивизии
"Сориа" говорилось: "Интернациональные части существенно отличаются от милиции
бблыпей храбростью, бблыпей решительностью и наступательным духом, бблыпей
способностью к маневренным действиям"39. Если учесть, в какой обстановке и какими
темпами формировались интербригады, какие трудности при этом у них возникали, то
можно сказать, что их организаторы проявили невиданную энергию, решительность,
чудеса находчивости и такую веру в начатое ими дело, что за невиданно короткие
сроки смогли создать боеспособные воинские части, оставившие неизгладимый след в
антифашистской войне испанского народа.
Трудности, с которыми столкнулись организаторы интербригад, а затем их
командование, были действительно огромные. Прежде всего это касалось личного
состава. Как показывают документы архива, в Испанию ринулась масса людей,
преисполненная ненависти к фашизму, огромного энтузиазма и революционного
романтизма, готовых отдать делу испанского народа все свои силы и, если
понадобится, жизнь. Однако далеко не все из них по состоянию здоровья и физическим
данным были способны к воинской службе. Медицинская комиссия Центральной базы
интербригад решительно отказывала слабым, хилым, хронически больным, лицам
пожилого и допризывного возраста. Командование столкнулось также и с
"добровольцами" иного рода: люмпенскими элементами, авантюристами, пьяницами,
36 См.: Thomas Н. La guerra civil espanola, t. 1. Barcelona, 1976, p. 488.
37 См.: Наши жертвы были не напрасны. 1933—1945, т. 1. М., 1988, с. 401-402.
38 Российский государственный военный архив (далее - РГВА), ф. 35001, on. 1, д. 278, л. 215.
39 Там же, д. 342, л. 22.
23
любителями поживы, увидевшими в испанских событиях удобный случай без осо¬
бых как им казалось, хлопот достичь своих отнюдь не светлых "идеалов”. И хотя
отбор добровольцев был строгим, тем не менее какая-то часть таких "борцов с
фашизмом” просочилась в интербригады, внося элементы дезорганизации. Именно
среди них чаще всего отмечались случаи недисциплинированности, пренебрежения к
воинскому долгу, пьянство, мародерство и дезертирство. Едва только на фронте
создавалась напряженная ситуация, как они покидали свои части и, пытаясь выбраться
из Испании, устремлялись в порты, где тайком пробирались на иностранные суда40,
обращались в посольства и консульства своих стран с просьбами о визах. В свою
очередь посольства провоцировали такие настроения, склоняя добровольцев к дезер¬
тирству41.
Как правило, все эти отрицательные явления происходили во время отдыха частей.
К. Сверчевской в докладной записке в Генеральный комиссариат бригад сообщал, что
в 11-й бригаде, отдыхавшей после боев, абсолютно отсутствуют самые элементарные
дисциплина и порядок42. В. Чопич, командовавший 15-й бригадой, отмечал в дневнике,
что в батальонах бригады на отдыхе часто бывали случаи пьянок, что приводило к
конфликтам с патрулями. Прибывшая на базу группа французов напилась в баре и
устроила "грандиозный скандал”, закончившийся дракой. Буйную компанию с трудом
удалось сопроводить на гауптвахту43.
Но недисциплинированность отдельных бойцов и офицеров объяснялась не только
тем, что среди них были люмпенские или уголовные элементы. Даже среди чле¬
нов компартий и профсоюзов, прибывших из демократических стран, отсутствова¬
ло самое элементарное представление о дисциплине в армии. В официальной ис¬
тории 15-й бригады отмечалось, что во время затишья на фронте в батальонах
резко падала дисциплина, бойцы самовольно уходили из частей в соседние городки и
селенья, без уважительных причин уезжали в Мадрид44. Объясняя такое положе¬
ние, авторы "истории” писали: "Большинство волонтеров 5-й бригады прибы¬
ли из демократических стран, где в рабочих организациях, в том числе и среди
коммунистов, не существовало жесткой дисциплины. Многие из них вплоть до приезда
в Испанию вообще не знали, что такое воинская дисциплина. Прибыв в Испанию, они
полагали, что, вступая в народную армию, они будут делать все, что захотят: при¬
ветствовать офицеров или ругать их, подчиняться распорядку, если он предусмотрен
контрактом, или нет, смещать командиров на собраниях, если они им не понравят¬
ся, и т.д.”45
Неблагополучно с дисциплиной было на Центральной базе. Многие участники
интердвижения отмечали, что на базе, где скапливалась иногда масса людей -
раненые, выздоравливавшие, отозванные на учебу, просто увиливавшие от фронта, -
часто встречались пьяные, происходили стычки с патрулями, драки46. Среди
фронтовиков существовало такое правило: "Хочешь разложиться - поезжай в
Альбасете"47. Командование принимало решительные меры против нарушителей
дисциплины. В архиве интербригад хранятся сотни приказов командования о
наложении на бойцов и офицеров дисциплинарных наказаний48. Для особо злостных
нарушителей была создана дисциплинарная рота49, а летом 1937 г., когда после
тяжелых боев под Брунете резко возросло количество деморализованных бойцов и
40 РЦХИДНИ, ф. 545, оп. 2, д. 32, л. 17.
41 Там же, д. 286, л. 23.
42 Там же, оп. 3, д. 61, л. 103-104.
43 Там же, д. 467, л. 25-27.
44 Там же, д. 474, л. 61.
45 Там же, л. 264.
46 РГВА, ф. 35082, on. 1, д. 150, л. 15-15об; РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 76, д. 30, л. 43.
47 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 76, д. 5, л. 63.
48 Там же, ф. 545, оп. 2, д. 47, л. 139-141, 163-164, 220-222, 271.
49 Там же, ф. 495, оп. 76, д. 30, л. 80-81.
24
офицеров, дезертиров, был создан специальный лагерь, получивший имя генерала
Лукача (М. Залки)50.
Нередко часть подвергшихся наказанию, особенно по подозрению в симпати¬
ях к троцкизму или обвинявшихся в шпионаже или воинских преступлени¬
ях, направлялись в тюрьмы Алкада, де Энарес, Мадрида и Барселоны, где они содер¬
жались вместе с уголовниками и фашистскими элементами. О порядках, царивших в
этих тюрьмах, красноречиво говорится в отчете болгарского добровольца Т. Нено¬
ва, посетившего тюрьму в Барселоне. Он писал, что в ней ’’людей избивали, часто
до потери сознания. Для этого было достаточно, чтобы заключенный сказал, что
суп невкусный. Помещения были распределены по номерам, чем выше номер, тем
хуже помещения и режим’’. В камерах стояло зловоние, заключенные задыхались,
были полуодеты, лица измученные и бледные как у мертвецов51. Эти порядки
вызывали бурное возмущение волонтеров. На собрании коммунистов 11-й бригады в
марте 1938 г. было заявлено о необходимости решительно покончить с такими поряд¬
ками.
Для поддержания дисциплины командование прибегало к такой мере, как отправка
деморализованных волонтеров, наряду с инвалидам^ и больными, во Францию, а в
отношении дезертиров, паникеров, "предателей” и ’’саботажников” применялась и
такая мера, как расстрел. Сейчас уже невозможно установить, насколько правомерно
применялась эта мера. В любой армии бывают люди, совершающие воинские
преступления и несущие за это жестокие наказания. Но несомненно и то, что нередко
"чрезвычайные” меры применялись и к волонтерам, не совершившим таких
преступлений. Они нередко становились жертвами фракционной борьбы, личной
неприязни, неправильно понятого приказа, политических и идеологических
предубеждений.
В то время в коммунистическом движении царила идеологическая нетерпимость,
сопровождавшаяся беспощадной чисткой рядов партий - от "троцкистско-зиновьевских
шпионов и убийц”, правых и других инакомыслящих. Московские судебные процессы
еще более подогрели эту идеологическую и политическую истерию. Коминтерн
ориентировал командование интербригад на беспощадную борьбу с троцкистами,
"худшими врагами испанского народа”52, вплоть до их полного уничтожения. В
интербригадах шла настоящая "охота на ведьм”. Поощрялись доносы, на собраниях
выявлялись троцкисты, собирался компромат на тех, кто хоть в какой-то мере был
связан с арестованными в СССР руководителями компартий. О том, какой размах
приобрела эта охота, видно из донесения, отправленного с базы интербригад в ЦК
КПИ в январе 1938 г. В нем перечислялись фамилии 20 человек, которые, по
утверждению анонима, являлись агентами гестапо, итальянской, венгерской, польской
и американской разведок53. Доносы были в то время обычным явлением. Например,
ФКП выпускала периодически так называемые "черные списки”, содержащие
фамилии, фотографии и даже адреса лиц, подозревавшихся в троцкизме, связях с
гестапо и пр.
Нецалая роль в раздувании этой кампании принадлежала Марти. Марти сыграл
большую роль в становлении интербригад. Посылая его в Испанию, ИККИ
подчеркивал, что при организации интербригад он должен сосредоточить свои усилия в
политической области54. При этом ИККИ учитывал не только прошлое Марти как
участника восстания французских моряков на Черном море в 1919 г., но и то, что он
родился во французской части Каталонии, носил испанскую фамилию, хорошо знал
обстановку в Испании и мог легко договориться с руководителями республики.
5 ® Там же, ф. 545, оп. 2, д. 317, л. 26; д. 85, л. 109.
51 Там же, ф. 495, оп. 76, д. 30, л. 117.
52 Там же, ф. 495, оп. 2, д. 245, л. 71.
53 Там же, ф. 545, оп. 2, д. 106, л. 200-202.
54 Там же, ф. 495, Оп. 18, д. 1132, л. 44.
25
Однако, оказавшись в Испании, Марти сосредоточил всю власть в интербригадах в
своих руках.
Многие журналисты, участники испанских событий, и историки описывают
деятельность Марти в самых мрачных красках. ’’Альбасетский мясник", "палач",
"инквизитор" и другие клички мелькают на страницах многих книг55. Одни отмечают
его крайнюю импульсивность, склонность к неожиданным приступам ярости56, другие
полагают, что он страдал манией преследования и повсюду видел врагов57. Вероятно,
в этом следует искать причины его жестокости в отношении "дезертиров, слабых,
подозрительных и шпионов"58. Малейшее несогласие или сомнение в его правоте тут
же вызывало с его стороны обвинения в "троцкизме", "шпионаже" и т.п.59
Столь жесткие и негативные оценки деятельности Марти и черт его характера,
несомненно, имели под собой серьезные основания. Марти являл собой типичный
образец политического деятеля, сформировавшегося под воздействием сталинских
методов идейно-политической борьбы. Вместе с тем он был глубоко убежден в своем
военном таланте и политической прозорливости, в своем праве судить и миловать в
силу высокого положения. Дело доходило до нелепости. Однажды Марти приказал
арестовать английского добровольца, попросившего его говорить медленнее, так как
он не понимал его60.
Люди, работавшие с ним, давали ему в отчетах в ИККИ крайне отрицательные
оценки. "Марти - человек очень тяжелый. Играет роль военно-политического вождя
бригады. Он прекрасно связан с массами, что не мешает ему арестовывать людей
налево и направо, нервничать по пустякам. Он проявляет черты самодура-генерала, -
писал один из них. - Марти не имеет формально никакого чина, а играет роль
главнокомандующего"61. Импульсивность его была такова, что неоднократно
сталкивавшийся с ним Штерн отмечал в отчете в ИККИ: "Марти, вдруг осиянный
какой-нибудь "гениальной" идеей, делал в один день из мухи слрна, а на следующий
день из слона муху"62.
Именно за эти методы критиковал Марти Тольятти, настаивавший на его отзыве из
Испании63. Летом 1937 г. Марти был отозван, и хотя в конце года вернулся64, но
напрямую во внутренние дела интербригад уже более не вмешивался. Конечно, в
расправах над инакомыслящими был виновен не только Марти. Многие историки
называют имена других руководителей интербригад, связанных с представителями
НКВД в Испании, в частности с А. Орловым (псевдоним Льва Фельдбина), а также с
республиканской службой военной информации (SIM), находившейся одно время под
контролем КПИ.
Другой, не менее сложной проблемой, с которой постоянно сталкивались
интербригады, были межнациональные отношения. Казалось бы, высокий идейно¬
политический уровень подавляющего большинства "волонтеров свободы", высокие
цели, за которые они сражались, интернациональный характер самих воинских
соединений исключали возможность каких-либо конфликтов на национальной почве.
Вместе с тем наличие в интербригадах представителей 53 стран со своим
55 Delperrie de Вауас J. Le brigades intemationales. Paris, 1968; De la Cierva у de Hoces R. Leyenda у tragedia
de las Brigades intercationales. Madrid, 1973; Widen P. The Passionaren War. New York, 1983' VilarP. La guerre
d'Espagne. Paris, 1986.
56 Эренбург И. Люди, годы, жизнь, кн. 3-4. М., 1963, с. 616; Плисонъе Г. Жизнь в борьбе. М., 1987, с.
31.
57 Widen Р. Op. cit., р. 192.
5*VilarP. Op. cit., р. 120.
59 Widen Р. Op. cit., p. 309.
60 РЦХИДНИ, ф, 495, on. 76, д. 4a, л. 205.
61 Там же, д. 4, л. 74.
62 Там же, д. 32, л. 125.
63 См.: Togliatti Р. Escritos sobre la guerra de Espana. Barcelona, 1980, p. 165.
64 РЦХИДНИ, ф. 495, on. 18, д. 1125, л. 64; ф. 545, on. 3, д. 474, л. 216.
26
менталитетом, обычаями и традициями, вкусами и привычк ми, национальными
предрассудками и интересами вызывали трения, подозрительность, разногласия и
конфликты.
Им способствовал прежде всего сам принцип формирования интербригад в
начальный период. Не было ни одной части, в которой бы не служило от 10 до
25 национальностей. Например, в батальоне им. Линкольна насчитывалось 25 наци¬
ональностей65, в артдивизионах - 14-1566, в штабе 15-й бригады служило 46 человек
12-ти национальностей. Чтобы обеспечить нормальное его функционирование, в нем
работало 12 переводчиков67. В 14-й бригаде в марте 1937 г. сражалось 606 французов,
59 бельгийцев, 31 чех и словак, 14 югославов, 20 русских (эмигрантов), 23 анг¬
личанина, а также датчане, испанцы, австрийцы, вьетнамцы, китайцы, болгары и
др-68
Переводчики ценились в частях на вес золота. От их оперативности, квалификации
и выносливости зачастую зависел исход боя, да и вся нормальная жизнь. Пока приказ
сверху или информация снизу доходили до адресата, все могло радикально измениться.
В 12-й бригаде приказы доводились следующим образом: командир бригады М. Залка
и его заместитель болгарин Петров отдавали приказ на русском языке, адъютант
А. Эйснер переводил его на французский, а переводчики на немецкий, испанский,
итальянский и т.п.69 В частях для удобства общения сложился даже своеобразный
арго, на котором говорили, отдавали приказы и даже пели песни70.
Такая многонациональность с точки зрения политической или идеологической имела
свои плюсы, поскольку интернационализм находил в этом свое чуть ли не классическое
воплощение. Но одновременно возникала масса трудностей в общении, в организации
управления, в деловой переписке. На этой же почве возникали многие недоразумения,
а то и нездоровые явления, такие, как национальное соперничество, национальный
эгоизм и протекционизм, конфликты между отдельными национальными группами.
Конфликты имели место между немецкими и французскими добровольцами, причем
дело доходило до применения оружия71. Национальные трения между испанцами,
американцами, англичанами и украинцами наблюдались в 15-й бригаде72. В польской
13-й бригаде имели место антисемитские выходки, поскольку в ее составе был
еврейский батальон73. Конфликтовали между собой выходцы из балканских стран:
сербы, хорваты, болгары74.
Командование довольно быстро заметило эти нездоровые явления. Марти,
посетивший в конце января 1937 г. 12-ю и 13-ю бригады, с тревогой сообщал Гайману:
"Мы стоим перед самой большой опасностью, которая угрожает нашим интер¬
национальным бригадам. Нет никакого сомнения в том, что в большей мере эти
затруднения возникли не из-за вражды, но также нет никакого сомнения, что развитие
этого явления не может быть ликвидировано полицейскими методами"75. Опасность
межнациональных конфликтов, способных подорвать единство бригад, отмечал в док¬
ладной записке в политсекцию Военного совета и Гайман76.
Сложные межнациональные отношения в бригадах были не столько результатом
попыток фашистской агентуры "восстановить одну национальность против другой,
65 Там же, ф. 545, оп. 3, д. 474, л. 33.
66 Там же, д. 572, л. 1.
67 Там же, д. 474, л. 91-92.
68 Там же, д. 346, л. 32.
69 Аркуш И. Герой трех народов. М., 1964, с. 42.
70 См.: Castells A. Op. cit., р. 89.
71 РЦХИДНИ, ф. 545, оп. 2, д. 69, л. 115.
72 Там же, д. 32, л. 448-450.
73 РГВА, ф. 35082, оп. 2, д. 3, л. 59.
74 РЦХИДНИ, ф. 496, оп. 76, д. 5, л. 52.
75 РГВА, ф. 35082, on. 1, д. 89, л. 227.
76 РЦХИДНИ, ф. 545, оп. 2, д. 47, л. 86.
27
восстановить испанцев против бойцов интернациональных бригад вообще"77, сколько
из-за национальных предрассудков и предубеждений. Великие цели, во имя которых
сражались и умирали интернационалисты, не могли в одно мгновение освободить их
сознание от предрассудков, приобретенных ими по мере того, как они росли, жили,
учились, работали.
Погасить или смягчить эти конфликты могли бы представители компартий при
интербригадах. Однако они нередко сами становились источником национальных
конфликтов, всеми силами защищая интересы "своих". Они вообще оказались вне
всякого контроля. Вот как описывал их деятельность Сверчевский: "Представители
братских партий существовали чуть ли не на положении легального официального
аппарата, являясь в бригады и батальоны в любое время суток, зачастую даже не
считая нужным поставить об этом в известность командование. Они вели себя как
фактические владельцы и распорядители, рассматривавшие интербригады как
собственное партийное хозяйство, а командование - как приказчиков, которым
поручено ведение этого хозяйства"78. В. Цайссер в отчете о работе базы также
отмечал, что представители партий вели в бригадах "собственную кадровую политику,
через голову военного руководства вмешивались в административные и даже военные
вопросы"79.
Стремясь потушить конфликты на межнациональной почве, командование наряду с
усилением политической работы предложило военному руководству республики
отозвать все интербригады с фронта недели на две и реорганизовать их так, чтобы
сделать более однородными по национальному составу. В частности, Марти в докладе
генеральному штабу предлагал сделать 11-ю бригаду в основном немецкоговорящей,
12-ю - славянской, 13-ю - франкоговорящей80. Позднее он же предложил создать из
французов и бельгийцев новую бригаду81. Аналогичные идеи выдвигал Гайман,
считавший необходимым реорганизовать бригады по языковому признаку и на этой
основе создать ударную силу высокой боевой ценности. Если этого не сделать,
отмечал он, то в результате интербригады будут "окончательно уничтожены"82.
В апреле-мае 1937 г. эти предложения были частично осуществлены. Интер¬
бригады последовательно выводились с фронта, реорганизовывались, пополнялись, в
результате они стали более однородными по национальному составу, хотя создать
мононациональные части так и не удалось, да это было и невозможно. Но и такая
организация в значительной степени смягчила национальные противоречия. Тогда же
11-я, 13-я и 15-я бригады вошли в состав 35-й дивизии, которой командовали
Сверчевский, а затем Ф. Морено, а 12-я и 14-я - в состав 45-й дивизии (командиры
М. Залка, Ф. Козовски, Штерн, Г. Калле).
Другой, не менее сложной проблемой, вскоре вставшей перед интербригадами,
стала проблема выживания. Большие потери и прекращение притока новых
добровольцев из-за запретов, которые ввели страны-участницы соглашения о
невмешательстве, на вербовку желающих служить в армии республики, и подобный
же запрет со стороны правительства Л. Кабальеро привели к тому, что численность
интерчастей начала быстро сокращаться. Возникла прямая угроза их истребления.
Чтобы избежать этого, командование предложило пополнить ряды интер¬
националистов за счет испанских волонтеров. Оно полагало, что таким образом
бригады получат постоянный источник пополнения и одновременно смогут органически
включиться в составе народной армии. Идея "испанизации" бригад возникла в декабре
1936 г., когда в состав 13-й и 14-й бригад были включены батальоны, целиком
77 Лонго Л. Указ, соч., с. 210-211.
78 РГВА, ф. 35082, on. 1, д. 454, л. 27.
79 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 76, д. 33, л. 25.
80 РГВА, ф. 35082, on. 1, д. 89л• 196.
81 Там же, д. 227, л. 196.
82 Там же, л. 156, 157, 158.
28
состоявшие из испанцев83. С января 1937 г. началось массовое включение в
интерчасти испанских подразделений. Интернационалисты вскоре стали составлять
всего 20-25% от общего количества бойцов и офицеров интербригад, а к концу 1937 г.
испанцы стали превосходить число интернационалистов во всех без исключения
интерчастях.
Согласно данным базы интербригад на 22 декабря 1937 г. через интербригады
прошло 27414 иностранных волонтеров. В составе частей их насчитывалось, без учета
убитых, раненых, репатриированных, пропавших без вести и дезертировавших, 20089
человек. Общее же количество бойцов интерчастей на эту дату составило 42447
человек, в том числе испанцев - 2059584. В середине января 1938 г. в 45-й дивизии
служило 1919 интернационалистов и 5386 испанцев. В 11-й бригаде испанцы составляли
81% личного состава, а 13-й - 70% и в резерве - 63%85. Хотя командные и
комиссарские посты были по-прежнему заняты в основном интернационалистами, коли¬
чество испанцев, занимавших офицерские посты, неуклонно росло.
Однако, как показывают многие факты, ’’испанизация” интербригад встретила где
скрытую, а где открытую оппозицию. Привыкшие к полной автономии
интернационалисты весьма болезненно восприняли приток испанских бойцов и
офицеров как покушение на их самостоятельность. У них по-прежнему широкой
популярностью пользовался тезис о превосходстве интербригад над испанскими,
убеждение в том, что они ’’спасают Испанию" и что без них республике уготована
участь Абиссинии (Эфиопии)86. "Автономность” интербригад доходила до того, что
командование бригад выполняло приказы вышестоящих командующих лишь после
того, как получало подтверждение из Альбасете87. Оно любой ценой стремилось
сохранить "свой" транспорт, "свои" госпитали, пренебрежительно относилось к
испанским офицерам, требуя от испанцев одновременно "безграничной приз¬
нательности" за участие интербригад в войне, не проявляя при этом, как отмечал
Сверчевский, "достаточного уважения ни к хозяевам страны, ни к законам
республики"88.
Некоторые командиры вообще отвергали саму мысль об интеграции интербригад в
испанскую армию, на чем постоянно настаивал исполком Коминтерна.
В постановлении от 27 декабря 1936 г. президиум ИККИ подчеркивал, что они
должны стать "составной частью испанской народной армии", выступал против
"чрезмерного выпячивания их роли и, решительно пресекая попытки их противо¬
поставления другим частям республиканской армии", настаивал на том, чтобы они
были "построены на основе народного фронта" и стали бы силой, содействующей
"цементированию народной армии"89. Заслушав 4 марта 1937 г. доклад Марти о
положении в интербригадах, секретариат ИККИ потребовал от их командования
решительного слияния с народной армией, ликвидации всякой их "автономии"90.
Нежелание некоторой части интернационалистов поступиться своей "автономией"
было вызвано, однако, не столько их упрямством или непониманием проблемы,
сколько сложными отношениями, сложившимися у них с политическим и военным
руководством республики. Интербригады возникли в значительной степени независимо
от него и даже вопреки ему, так же, как отряды народной милиции и другие военные
формирования. Правительство беспокоило то, что они были созданы прежде всего
коммунистами и могли укрепить позиции компартии в ущерб другим партиям и
организациям народного фронта. Это же вызывало у него серьезные подозрения о
83 РЦХИДНИ, ф. 545, оп. 2, д. 32, л. 349; д. 47, л. 216.
84 Там же, оп. 3, д. 64, л. 230; д. 108, л. Збоб, 37, 53.
85 Там же, д. 75, л. 37.
86 РГВА, ф. 35082, on. 1, д. 92, л. 35, 37, 171.
87 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 76, д. 32, л. 17.
88 РГВА, ф. 35082, on. 1, д. 95, л. 35.
89 VII конгресс Коммунистического интернационала..., с. 454.
90 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 2, д. 257, л. 82; оп. 18, д. 1125, л. 63-64.
29
подлинных намерениях организаторов бригад. В свою очередь попытки
интернационалистов "оседлать испанцев"91, по выражению Сверчевского, лишь
усиливали такие подозрения.
Поскольку интербригады снабжались в основном за счет международной помощи, то
республиканские власти не торопились решать жизненно важные для интер¬
националистов такие вопросы, как выплата жалования, пособий для семей,
потерявших кормильцев, отправка на родину раненых и инвалидов, выезд на родину
интернационалистов по неотложным делам (семейным, служебным, и др.)92. Такое
отношение к интербригадам вызывало недовольство среди волонтеров, полагавших,
что таким образом власти пытаются "подорвать престиж интернациональных
бригад"93. Кроме этого, испанское пополнение оставляло желать много лучшего.
Среди испанских волонтеров и призывников был высокий процент неграмотных, чаще
наблюдались случаи дезертирства, переходов на сторону противника, самострелы. Они
с трудом подчинялись военной дисциплине, плохо усваивали армейские порядки.
Нередко испанское командование сплавляло в интербригады не только плохо
обученных новобранцев, но и просто деклассированные элементы, уголовников,
освобожденных из тюрем в обмен на обязательство сражаться с фашизмом.
Такое пополнение снижало боеспособность бригад, было источником серьезных
конфликтов между испанцами и интернационалистами. Весьма характерным в этом
смысле был инцидент, случившийся в 13-й бригаде в разгар ожесточенных боев под
Мадридом в районе Брунете. Испанские батальоны, входившие в нее, не выдержали
огневого воздействия и атак противника, покинули линию обороны и в панике, бросая
оружие, ринулись в тыл. Командиру бригады Б. Винценто (Кригеру) и офицерам
штаба с большим трудом удалось остановить бежавших, но, будучи отведенными на
запасные позиции, деморализованные батальоны отказались выполнять приказы
командования. Дезорганизация охватила французский батальон, из которого
дезертировало 80 человек. Разъяренное испанское командование приказало
расформировать бригаду, разоружить ее, а интербатальон распределить по другим
бригадам. Руководство базы, не сумев разобраться в ситуации, поддержало приказ о
расформировании 13-й бригады, хотя многие командиры и комиссары выступали
против столь жестких мер94. Случай с 13-й бригадой был уникальным и более не
повторялся. Однако он повлиял на то, что недостатки, в общем-то присущие любой
армии, окрашивались в глазах добровольцев, прибывших "спасать Испанию", в самые
черные тона и служили основанием для пренебрежительного отношения к своим
испанским сослуживцам.
Положение осложнялось еще и тем, что абсолютное большинство волонтеров не
знало испанского и каталонского языков, обычаев, традиций страны и ее регионов.
Поэтому любое недоразумение, конфликт, проступок можно было раздуть до предела,
особенно если отсутствовало стремление к взаимопониманию. Дело доходило до того,
что некоторые командиры и комиссары требовали освободить интербригады от
"испанских товарищей"95. Торез, посетивший интербригады в феврале 1937 г., в
отчете в ИККИ сообщал, что подобные настроения получили широкое распро¬
странение. В частях пропагандировалась идея, согласно которой "интербригады лучше
организованы, чем испанская армия", что у них "лучшее командование", что они
"пример организации и храбрости"96.
Командование и политорганы бригад принимали необходимые меры против
антииспанских настроений, отдавая себе отчет в том, что без их преодоления
91 РГВА, ф. 35082, on. 1, д. 95, л. 34.
92 Там же, д . 454, л. 8-9.
93 Лонго Л. Указ, соч., с. 254.
94 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 76, д. 5, л. 156-166.
95 Там же, ф. 545, оп. 2, д. 55, л. 261.
96 Там же, ф. 495, оп. 120, д. 464, л. 49.
30
невозможно превратить интерформирование в составную часть народной армии. С
целью сближения испанских и иностранных волонтеров было введено обязательное
обучение испанскому языку97, значительная часть документации стала постепенно
вестись тоже на испанском. Поощрялись и развивались контакты интернационалистов
с местным населением, их участие в различного рода празднествах в уборке урожая,
собирались средства на содержание детских домов, для помощи беженцам и т.п.
Но если в интербригадах существовали антииспанские настроения, то подобные же
настроения в отношении интернационалистов существовали и среди политических
деятелей республики, в ее военных кругах, причем не только среди социалистов,
анархистов или республиканцев, но и среди коммунистов. Коммунисты-военачальники
ревниво следили за каждым шагом интербригад, за их успехами и неудачами. Нередко
такая ревность оборачивалась даже пропагандистской кампанией против тех или иных
командиров интербригад, как это произошло с Штерном (Клебером), которого вначале
объявили "спасителем Мадрида", а затем развернули против него кампанию нападок и
бездоказательных обвинений. Что касается большинства испанских офицеров, то их
раздражение вызывали более высокие воинские звания офицеров-интернационалистов.
В то время, как они командовали бригадами, дивизиями и даже корпусами в звания,
майора или в лучшем случае полковника, командиры интербригад имели чин
генерала98. Секретариату ИККИ пришлось специально подчеркнуть в постановлении
в ноябре 1937 г. необходимость покончить с таким порядком, когда командиры бригад
получали более высокие звания, чем испанские офицеры99. К сожалению, это
указание сильно запоздало.
К весне 1937 г. руководству интербригад стало ясно, что если не будет ликви¬
дирована их "автономия" и они не станут органической частью республиканской армии,
то само интернационалистское движение потерпит морально-политический крах.
Состоявшееся 2 марта 1937 г. совещание командного и политического состава
интербригад решительно высказалось за полное слияние интерчастей с народной
армией, дабы поставить интернационалистов и испанских солдат и офицеров в равные
условия в снабжении, вооружении, организации санитарной службы и т.п.100 Однако
разработанный совещанием план не бьп осуществлен, поскольку интербригады
принимали участие в крупных наступательных и оборонительных боях. Кроме того, ни
у командования, ни у республиканских властей не было четкого понимания того, как
осуществить слияние интерчастей с народной армией, на основе каких юридических и
иных норм делать это.
Только в начале июня в министерстве обороны состоялось расширенное совещание
представителей Правительства, командования интербригад, советников. Попытка
министра обороны И. Прието вообще расформировать интербригады и включить их
подразделения в состав испанских бригад поддержки не нашла101. Абсолютное
большинство участников высказалось за сохранение интербригад в качестве частей
народной армии. Для практического решения вопроса о слиянии было решено создать
правительственную комиссию, изучить положение в частях и на базе и только потом
принять окончательное решение.
Выявилось несколько подходов к вопросу о дальнейшей судьбе интербригад. Они
были близки по характеру, отличаясь некоторыми нюансами. Так, правительственная
комиссия предложила создать из интербригад своего рода Иностранный легион, свести
все интерформирования к пяти бригадам, в основном однородным по языковому
признаку. Они должны были на 40-50% состоять из лучших иностранных
97 Там же, ф. 545, оп. 2, д. 229, л. 153.
98 РГВА, ф. 35082, on. 1, д. 454, л. 8-9.
99 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 18, д. 1225, л. 64.
100 См.: Лонго Л. Указ, соч., с. 242-243.
101 РГВА, ф. 35082, on. 1, д. 454, л. 5; Пожарская С.П. Испанская социалистическая партия. М., 1966,
с. 170.
31
добровольцев, а остальная часть - из испанцев, их следовало довооружить лучшим
оружием для* того, чтобы они сохранили характер ударных частей. Комиссия
предложила подчинить базу в Альбасете непосредственно министерству обороны,
сократить резко ее административный аппарат и сменить руководство, поскольку
начальник базы Гайман ’’проводит политику национального протекционизма и
покрывает своих соотечественников’’102.
Руководство интербригад в своем меморандуме правительству предложило
включить интербригады органически в народную армию и основное внимание
сосредоточило на таких проблемах, как статус, права и обязанности бойцов и
офицеров, место интербригад в составе народной армии, распределение командных и
политических постов между иностранцами и испанцами, организация набора
волонтеров за границей, денежное содержание, отпуска, взаимоотношения между
бригадами и базой, базой и командованием народной армии, распространение на бойцов
законодательства Испанской республики и пр. В меморандуме также было высказано
пожелание о реорганизации Альбасетской базы103.
Проблема Центральной базы не случайно привлекла к себе внимание. Получилось
так, что при ее создании забыли определить основные задачи, организацию,
структуру, взаимоотношения с военными властями республики. Вначале она главным
образом выполняла задачи формирования интерчастей, а с апреля 1937 г. особое
внимание стала уделять вопросам обучения пополнения, подготовки офицерских и
унтер-офицерских кадров. Только с апреля по июнь 1937 г. через курсы и школы
военного обучения базы интербригад прошло 6017 волонтеров104. Однако качество
обучения не всегда удовлетворяло командование. Прошедшим школы и учебные
центры не хватало знаний по тактике, по использованию средств усиления частей. Во
многом их знания зависели от национального состава инструкторов: одни учились по
уставам германской армии, другие - по французской, третьи - по американской105.
Такое многообразие не всегда способствовало взаимопониманию частей на поле боя.
Весьма сложными были отношения между базой и бригадами. Фронтовики
жаловались на то, что база плохо связана с частями, ее представители почти не
бывали на передовой, не знали их нужд, предпочитали ’’телефонное управление",
протежировали представителям своих национальностей106. В то время, как части на
фронте нередко испытывали острую нехватку в пополнениях, база была зачастую
перегружена массой людей, занимавших различные командные должности в штабах,
школах, в различных управлениях, складах, в отделах, не связанных непосредственно
с боевой подготовкой волонтеров. По данным комиссии, проверявшей работу базы, на
31 июля 1937 г. из общего количества находившихся в ней людей 37% приходилось на
служащих и обслуживающий персонал, 23,6% - на охрану и только 39,4% - на
обучавшихся в школах и лагерях107. Особенно много находилось на базе
представителей различных компартий, что давало основание фронтовикам язвительно
называть базу "малым Коминтерном".
21 сентября начальник генерального штаба В. Рохо подписал приказ о реорга¬
низации интербригад, а 23 сентября глава правительства X. Негрин одобрил декрет об
интернациональных бригадах. В декрете указывалось, что "интернациональные
бригады формируются как подразделения, входящие в испанскую армию" на основе
уже существующих. Они должны были использоваться для выполнения всех задач
вооруженных сил и формироваться так же, как и части испанской армии. На них
распространялись законы, существовавшие в республике, установлен тот же порядок
102 РГВА, ф. 35082, on. 1, д. 85, л. 542-543.
103 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 76, д. 4а, л. 62-63.
104 РГВА, ф. 35082, on. 1, д. 95, л. 25.
105 Там же, д. 90, л. 542.
106 Там же, д. 92, л. ^71.
107 РЦХИДНИ, ф. 545, оп. 2, д. 35, л. 118.
32
военной подготовки, обмундирования и знаков различия. База бригад оставалась в
г. Альбасете. На нее возлагалась задача приема добровольцев, как испанских, так и
иностранных, а также военная подготовка и направление бойцов в действующие
части. Интербригады подчинялись командованию базы, должны были докладывать ей
о всех сторонах своей жизни и боевой деятельности. Командованию базы вменялось
распределять получаемые подарки, готовить материалы на обеспечение пенсиями
семей погибших и инвалидов, вести учет всех данных о волонтерах, создавать центры
подготовки и места отдыха.
В декрете подчеркивалось, что интербригады должны формироваться из испа¬
нских и иностранных граждан через бюро при главном управлении армии минис¬
терства обороны, причем персонал базы создавался из интернационалис¬
тов, непригодных к фронтовой службе, а работники бюро назначались министер¬
ством. Декрет предусматривал заполнение вакансий в должностях в бригадах
испанцами и иностранцами в равных долях. На волонтеров распространялись в случае
ранения или смерти те же права, что и на военнослужащих испанской армии. Декрет
устанавливал для всех бойцов 13-дневный отпуск после каждых шести месяцев
пребывания на фронте. Иностранные граждане, безупречно прослужившие в испанской
армии более года, имели право на получение, по их желанию, испанского
гражданства108.
Реорганизация бригад и базы была проведена постепенно, поскольку в то же время
части были задействованы в крупных наступательных операциях на Арагонском
фронте. База была очищена от ’’свободной” публики, количество обучавшихся выросло
до 64,5%, в то время как административный аппарат сократился до 21% и охрана до
14,5%, т.е. в полтора раза109.
Сентябрьский декрет 1937 г. положил начало новому этапу в истории интер¬
национальных бригад. Из чисто добровольческих соединений, автономных по сво¬
ему характеру, они превратились в составную часть народной армии респуб¬
лики. Органическое включение интербригад в народную армию в то же время
сохранило за ними некоторые специфические черты: добровольческий принцип
формирования для иностранных бойцов в отличие от испанцев, служивших в них по
призыву; многонациональный состав всех их соединений; определенная внутренняя
автономия при подчинении всем законам и обычаям Испанской республики и ряд
других.
Тогда же был решен вопрос о партийных представителях при интербригадах,
вызывавших всеобщее раздражение своим бесцеремонным вмешательством в дела
интернационалистов. По одним данным в конце декабря 1937 г., по другим - в январе
1938 г. по инициативе Тольятти институт представителей был ликвидирован.
Большинство из них было отозвано из Испании, оставшиеся - подчинены отделу ЦК
КПИ по работе с иностранными кадрами. Было также решено, чтобы интер¬
националисты вступили в ряды компартии Испании и руководствовались генеральной
линией КПИ110.
Однако реорганизация не означала, что интербригады тут же преодолели свои
недостатки, тем более, что им приходилось перестраиваться в боевой обстановке. В
декабре 1937 - феврале 1938 г. часть из них участвовала в наступательных и
оборонительных боях под Теруэлем, а в марте - апреле 1938 г. в боях на Восточном
фронте, закончившихся тяжелым поражением народной армии и интербригад,
прорывом противника к Средиземному морю и расчленением республики на две части.
В этих боях они понесли огромные потери, были деморализованы и ослаблены.
Сверчевский, анализируя ситуацию в интербригадах в письме к Марти, с горечью
108 Diario oficial, 27.IX.1937. См. полный текст декрета: О'Риордан М. Колонна Конноли. М., 1987, с.
211-216.
109 РГВА, ф. 35082, on. 1, д. 95, л. 26, 27.
110 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 76, д. 30, л. 74; д. 33, л. 25.
2 Новая и новейшая история, №5 33
признавал, что "как войсковые части с точки зрения силы их организации, управления,
крепкого офицерского и унтер-офицерского состава мы не выдержали экзамена в
новой тактической ситуации. Как интербригады - мы оказались недостаточно спаяны и
по сей день с испанцами, без чего нельзя и невозможно добиться нужного взаимного
доверия в бою”111. Перечисляя проявившиеся к тому времени все слабости и
недостатки интербригад, Сверчевский не преувеличивал их. Бои в марте-апреле
выпукло показали, что интербригады не смогли после декрета полностью
интегрироваться в народную армию, покончить с присущими им недостатками и
слабостями.
На обстановку в бригадах оказывало сильнейшее воздействие еще одно
обстоятельство. К тому времени антитроцкистская истерия достигла своего апогея.
Московские судебные процессы, “большая чистка” в Коминтерне и эмиграции в СССР
оказали крайне отрицательное воздействие на различные национальные группы,
втянутых в бесконечную череду собраний, на которых они разоблачали и клеймили
"врагов народа и партий”. Так, венгерские добровольцы "разоблачали” на них всех,
кто работал с Б. Куном112. Среди югославских добровольцев кипела острая
фракционная борьба между сторонниками бывшего генерального секретаря партии
М. Горкича и их противниками. Масло в огонь подлила прибывшая из Москвы
специальная комиссия во главе с Р. Чолаковичем, которая занялась чисткой
югославских частей от "горкиевичей"113. В особенно сложном положении оказались
польские добровольцы В конце 1937 г. из Испании были отозваны и арестованы в
Москве представители ЦК КП Польши - Р. Рейхер (Рвал), Циховский, М. Каган-
Серпинский и др. К тому времени компартия Польши была ликвидирована. В Испанию
прибыла специальная группа во главе с А. Ивановым для "чистки” бригады им.
Домбровского от "шпионов и провокаторов"114. Вероятно, труппа действовала весьма
напористо, если Марти сообщал Димитрову, что "наш друг Жан (Иванов) занимается
этим делом энергично"115. Такие же кампании борьбы с "врагами народа” были
проведены среди немецких, австрийских, литовских, украинских и белорусских
добровольцев.
Потери, понесенные интербригадами в весенних боях 1938 г., были огром¬
ными. Если в начале марта 15-я бригада насчитывала 2329 человек, то в на¬
чале апреля - 160116. В 14-й бригаде накануне боев насчитывалось 5150 человек,
а в начале апреля всего 2580117. Впервые франкисты в ходе этих боев захва¬
тили в плен большие группы пленных интернационалистов. Как отмечал один
из участников боев, моральный дух частей настолько сломлен, что "достаточно
было пустяка, одиночного выстрела, возгласа, чтобы вызвать тревогу, создать
панику"118.
Во время и после боев в Арагоне командование было вынуждено принять самые
жесткие меры в борьбе с дезертирством. Об остроте проблемы можно судить из
приказа министра обороны от 2 июня, в котором предусматривалось, что в случае
дезертирства солдата или офицера его родственники по мужской линии должны были
занять их место в армии либо направлялись на принудительные работы по
строительству укреплений, дорог, линий связи119. Дела о дезертирах передавались в
военные трибуналы, и судьба их была предрешена. В интербригадах с ними поступали
111 Там же, ф. 517, оп. 3, д. 26. Письмо Вальтера-Марти 21.04.1938 г.
112 Там же, ф. 545, оп. 2, д. 75, л. 6-7.
113 См.: Гиренко Ю.С. Указ, соч., с. 53.
114 Фирсов Ф.И., Яжборовская И.С. Коминтерн и Коммунистическая партия Польши. - Вопросы
истории КПСС, 1988, № 12, с. 53.
115 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 76, д. 8, л. 38.
116 Там же, оп. 3, д. 475, л. 56.
117 Там же, д. 373, л. 76.
118 Вайя А. От каторжника до генерала. М., 1986, с. 1091
119 РЦХИДНИ, ф. 545, оп. 3, д. 56, л. 69.
34
не менее жестко, а то и жестоко. Известны случаи, когда устанавливался такой
порядок борьбы с дезертирами и бежавшими с поля боя: если дезертировал солдат, то
его мог расстрелять капрал, капрала - сержант, сержанта - лейтенант120.
Но факты свидетельствуют, что дезертирство среди интернационалистов
наблюдалось главным образом в тыловых частях, хотя его не избежали и фронтовые
части. Вот некоторые данные о случаях дезертирства из интерчастей: 1 марта из 15-й
бригады дезертировало два солдата, с 6 по 14 июля - пять солдат, 29 июля - 4 августа
- два интернационалиста, 19-25 августа - четыре интернационалиста и два испанских
солдата121.
Чрезвычайно остро во время боев в Арагоне встала проблема сохранения
Центральной базы. Уже в начале апреля стало совершенно ясно, что по крайней мере
пять из шести интербригад отойдут в Каталонию и база будет отрезана от них. В
свою очередь бригады лишатся пополнения, снабжения оружием и боеприпасами,
практически будет потеряна вся санитарная служба. В этих условиях командование
поставило вопрос перед министерством обороны о передислокации базы из Альбасете
в Каталонию. 6 апреля такой приказ был отдан122. Эвакуация происходила в
невероятной спешке, тем не менее за четыре дня в Каталонию было переправлено 8
тыс. человек, в том числе 3,5 тыс. раненых, больных, выздоравливающих
интернационалистов, а также все имущество базы123. Последний поезд с ранеными
проследовал через реку Эбро под носом противника, после чего мост был взорван124.
Не удалось переправить в Каталонию лишь один эшелон с ранеными, и он был
отведен в Валенсию125.
Новая база интербригад разместилась в городке Орта близ Барселоны126.
Одновременно в городке Олот был создан центр, на который возлагалась задача
подготовки пополнения для интербригад. Ответственными за центр были назначены
майор Р. Танги и капитан Реджионетти. В короткое время центр подготовил и
отправил в действующие части 1875 человек127. Развернуться в полную силу новая
база тем не менее не успела. Еще в феврале 1938 г. в кругах, близких к министру
обороны, начали циркулировать слухи о предстоявшей ликвидации Центральной
базы128. Эвакуация создала возможности для ее роспуска. Тем самым, по мнению
командования испанской армии, ликвидировалось промежуточное звено между
интербригадами и армией и они становились органической ее частью. 28 мая приказом
министра обороны база действительно была ликвидирована и вместо нее создана
центральная администрация интернациональных бригад, подчиненная секретариату
сухопутных войск129.
После пополнения и очередной реорганизации пять интербригад, оказавшиеся в
Каталонии, приняли участие в одной из крупнейших операций народной армии -
наступлении и обороне в среднем течении Эбро. Бои здесь носили исключительно
упорный и жестокий характер. В ходе этих боев интерчасти понесли самые большие
потери за все время боевой деятельности. Только в первую неделю боев 11-я бригада
потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести 307 человек, 13-я - 420, 15-я -
552, батальон пулеметчиков - 54. Всего же 35-я дивизия во время боев на Эбро
потеряла 3872 человека, или одну треть личного состава130. Не менее значительными
120 Там же, д. 529, л. 41.
121 Там же, д. 377, л. 32, 54, 80, 88.
122 Там же, оп. 2, д. 34, л. 111.
123 Там же, ф. 495, оп. 76, д. 46, л. 68-71.
124 Там же, л. 72.
125 Delperrie de Вауас J. Op. cit., р. 394.
126 РЦХИДНИ, ф. 545, оп. 3, д. 532, л. 59.
127 Там же, оп. 3, д. 767, л. 8, 25, 28.
128 Там же, ф. 495, оп. 76, д. 33, л. 27.
129 Там же, ф. 545, оп. 3, д. 286, л. 11.
130 Mateo Mćrino Р. Рог vuestra libertad у nuestra. Madrid, 1986, р. 360, 372.
2*
35
были потери интербригад, входивших в состав 45-й дивизии. По данным командования
14-й бригады только за два дня боев она потеряла убитыми, ранеными и пропавшими
без вести 740 человек, а 12-я из 3200 бойцов - 17OO131. Личный состав батальонов
бригады сократился до роты, а рот - до взвода132.
В разгар боев на Эбро правительство республики приняло решение об отзыве ин¬
тербригад с фронта и демобилизации их личного состава. Вопрос об отзыве интер¬
бригад не возник неожиданно. Разговоры об их ликвидации начались еще ранней вес¬
ной 1938 г., когда Марти на одном из совещаний сказал, что интербригады исчерпали
себя как боевая и политическая сила133. Марти в общем-то был прав, поскольку к то¬
му времени народная армия республики превратилась в массовую армию, насчи¬
тывавшую не менее 1 млн. человек. Шесть интербригад и несколько более мелких
интернациональных частей сколько-нибудь серьезного воздействия на ход и исход
войны оказать не могли. Они представляли собой скорее морально-политическую,
нежели реальную военную силу, являясь символом международной солидарности
демократических сил с Испанской республикой. В бригадах заявление Марти
встретили с пониманием, что, однако, не отразилось на их боевой деятельности.
В мае на совещании высшего военного командования народной армии с участием
представителей интербригад вопрос об отзыве был поставлен уже в практическую
плоскость. К тому времени Лондонский комитет по невмешательству после долгих
споров принял план эвакуации всех иностранных волонтеров как из республиканской,
так и из франкистской зоны, и он вот-вот должен был вступить в действие. Поэтому
совещание высказалось за роспуск и эвакуацию интербригад, хотя его участники
знали, что уход интернационалистов может значительно ухудшить военно¬
политическую обстановку в Испании в пользу мятежников, поскольку было
совершенно ясно, что поддерживавшие их Германия и Италия вряд ли выведут свои
воинские части полностью134.
Новый импульс демобилизационным настроениям среди интернационалистов
придала массовая отправка в мае-июле из Испании больных, раненых и инвалидов.
Наконец, нараставшая угроза германской агрессии в отношении Чехословакии,
Польши и стран Прибалтики подтолкнула бойцов и офицеров из этих стран к
требованию немедленной демобилизации и отправки на родину, где бы они могли
продолжать борьбу с фашизмом135. В интербригадах росло понимание того, что они
не сегодня завтра будут ликвидированы.
Дискуссии о дальнейшей судьбе интербригад шли также в ИККИ. Если
судить по документам, то выявились две линии, два подхода к ним. Меньшинство
склонялось к мысли, что интербригады еще не исчерпали своих возможностей, их
следует пока сохранить, пополнить новым притоком добровольцев, отозвать
"выработавшие свой ресурс" кадры, очистить их службы от шкурников, авантюристов,
трусов и пораженцев, решительно покончить с демобилизационными настроениями.
Наиболее ярко эту позицию отстаивали те, кто сражался в Испании, хорошо знал
обстановку изнутри, видел и сильные и слабые стороны интербригад. В частности,
подобную позицию занимал Сверчевский, направивший в июле 1938 г. на имя
Димитрова обширное письмо. Он подчеркивал в нем, что испанцы однозначно расценят
вывод интербригад как "бегство с фронта и дезертирство в самый ответственный и
решающий момент войны". Он считал, что не может существовать никаких мотивов и
причин, оправдывающих уход хотя бы одного бойца с фронта во время боя, и что
нужно, напротив, максимально укреплять линию фронта136. Сверчевский выдвинул в
131 РЦХИДНИ, ф. 545, оп. 3, д. 399, л. 201.
132 Солидарность народов..., с. 160.
133 РГВА, ф. 35082, on. 1, д. 454, л. 16.
134 Там же, д. 266, л. 51.
135 РЦХИДНИ, ф. 545, оп. 3, д. 579, л. 136, 166.
136 РГВА, ф. 35082, on. 1, д. 454, л. 20.
36
своем письме ряд предложений, осуществление которых, по его мнению, позволило бы
значительно укрепить боеспособность интербригад, в том числе свести их в отдель¬
ную боевую группу, и расценивать демобилизационные настроения как трусость и
бегство с поля боя.
Другую точку зрения отстаивал Марти. Накануне заседания секретариата ИККИ
24 августа он направил в него записку, в которой, исходя из того, что компартии
практически прекратили вербовку добровольцев, вербовочные фонды были исчерпаны,
а добровольцы коллективно и индивидуально настаивали на эвакуации, предлагал
поставить перед правительством республики вопрос о дальнейшей судьбе интербригад
следующим образом: согласиться на эвакуацию всех без исключения добровольцев,
либо сохранить в народной армии лучшие интернациональные кадры (1000-1500
человек), эвакуировав остальных. Однако, замечал Марти, оставшиеся в ближайшие
месяцы просто погибнут, ничего не дав защитникам республики. Отвергнув эту идею,
Марти предложил освободить от службы в народной армии всех без исключения
интернационалистов, получив от факта эвакуации "все политические преимущества",
отправить их из Испании, уделив особое внимание добровольцам из фашистских стран,
не имевших возможности вернуться на родину, часть волонтеров направить в СССР в
спецшколы, чтобы максимально использовать их боевой опыт. "Решение должно быть
принято немедленно, так как решение правительства (об отзыве интербригад. - М.М.)
с каждым днем становится все более известным и может нанести тяжелый удар по
прекрасному моральному состоянию интернациональных бригад и иметь чрезвычайно
опасные последствия", - заключал свою записку Марти137.
Эта точка зрения возобладала. 25 августа 1938 г. после короткой дискуссии
секретариат принял решение об отзыве и эвакуации из Испании интернационалистов,
возложив на ЦК КПИ и ФКП всю организационную работу по осуществлению этой
задачи138.
21 сентября на сессии Лиги наций глава республиканского правительства Негрин
объявил о том, что его правительство приняло решение "о немедленном и полном
отзыве всех бойцов неиспанцев, которые участвуют в борьбе в Испании на стороне
правительства"139. 25-28 сентября все интербригады, сражавшиеся на фронте Эбро,
были отведены в тыл и размещены в 10 центрах демобилизации, созданных в районе
Барселоны140. Что касается 129-й бригады, находившейся на фронте Леванта, то ее
перевели в тыл в начале октября и разместили в районе Валенсии.
Проблемы, вставшие перед правительством республики и командованием бригад
при эвакуации интернационалистов, оказались не менее сложными и трудными, чем
при их создании. Необходимо было не просто демобилизовать 12673 "волонтеров
свободы", но и обеспечить их эвакуацию, договориться с правительствами ряда стран
о приеме, оплате проезда, размещении, питании, медицинском обслуживании, не
допустить расправы над теми, кто не мог вернуться по политическим мотивам на
родину. Многие европейские правительства приняли законы, согласно которым
добровольцы из интербригад лишались гражданства своих стран и подлежали суду за
службу в "иностранной армии". Даже там, где власти не смотрели на службу в
интербригадах как на уголовно наказуемое преступление и не чинили формальных
препятствий волонтерам для возвращения на родину, возникало множество проблем
юридического и иного характера. Например, при эвакуации 420 американских
добровольцев консульство США выдало им всего 40 паспортов. Позднее удалось
достать еще 210 паспортов через парижское консульство США141.
Серьезным препятствием для эвакуации волонтеров явилась позиция правительства
137 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 18, д. 1259, л. 4-5.
138 Там же, л. 2, 3.
139 La crisis del estado: dictadura, republica, guerra. Barcelona, 1981, p. 478.
140 РЦХИДНИ, ф. 545, on. 3, д. 771, л. 8.
141 Eby C. Voluntaries nortamericanos en la guerra civil espanola. Madrid, 1974, p. 410.
37
Франции, неоднократно срывавшего договоренности о транзите добровольцев через
французскую территорию, отказавшегося принимать эшелоны с демобилизованными
интернационалистами. В архиве Коминтерна находится обширная переписка Марти с
Торезом, в которой он обращал его внимание на различные маневры французского
правительства, срывавшего эвакуацию волонтеров, особенно тяжело раненых и
инвалидов. Отправлявшиеся во Францию из Барселоны эшелоны неоднократно часами
стояли на границе, зачастую возвращались назад. Правительство требовало, чтобы
эвакуированные добровольцы из демократических стран сами оплачивали свой проезд,
а те из них, кто в свое время эмигрировал во Францию из Германии, Италии, стран
Восточной Европы, направлялись в Северную Африку142.
Чтобы не допустить выдачи антифашистов из стран с фашистскими и автори¬
тарными режимами, руководство интербригад и ЦК КПИ достигли соглашения с
посольством Мексики в Испании об эвакуации их в эту страну. Такие же соглашения
были достигнуты с посольствами Чили, Кубы и некоторых других латиноамериканских
стран. Всего в Мексику предполагалось отправить 1500 человек143. Репатрианты
получали справочный материал об экономическом и политическом положении в
латиноамериканских странах, а коммунисты - специальные рекомендации, как вести
себя по приезде в конкретную страну и устанавливать контакты с местными левыми
силами. Так, в рекомендации выезжавшим в Мексику указывалось, что главная задача
коммунистов состоит в том, чтобы "работать в рядах народных сил страны, в рядах
движения мексиканского народа, особенно рабочего класса, за свободу, против
фашизма". Коммунисты были обязаны поддерживать единство компартии Мексики, не
создавать в ней автономных организаций или своих национальных групп, выполнять
только директивы ЦК КПМ144.
В течение сентября-ноября 1938 г. в центрах размещения интернационалистов - в
Барселоне, Мадриде, Валенсии прошли торжественные собрания, народные
празднества, встречи активистов с населением, представителями армий, партий и
организаций народного фронта. Правительство учредило специальную медаль,
которой были награждены все интернационалисты145. Каждому добровольцу вручили
факсимильное издание - обращение Д. Ибаррури к иностранным добровольцам - "До
скорого свидания, братья!"146.
28 октября в Барселоне состоялись торжественные проводы бойцов интер¬
национальных бригад, превратившиеся в одно из самых памятных торжеств в истории
интернационального движения. В них участвовало 200 тыс. жителей Барселоны и ее
окрестностей. По одной из красивейших улиц города - Диагонали - прошли специально
сформированные части интернационалистов, представлявших каждую интербригаду и
интерсоединение. Бойцы и офицеры, осыпаемые цветами, под бурные аплодисменты и
приветственные клики, шли без оружия под прославленными знаменами своих частей.
Их приветствовали глава правительства Негрин, лидеры народного фронта. Выступая
перед ними, Ибаррури заявила: "Вы можете быть уверены, что воспоминания о вас
будут вечно жить в наших сердцах... Пока существует Испания, будет жить в нас
память об интернациональных бригадах"147.
12 ноября 1938 г. первый эшелон с французскими волонтерами пересек франко¬
испанскую границу148-Всего до конца года было отправлено 13 эшелонов и еще один
- в январе 1939 г.149 В демократических странах общественность организовала
торжественную встречу своих "волонтеров свободы". 7 декабря 300 английских
142 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 76, д. 21, л. 19, 25, 26, 30, 32, 36.
143 Там же, л. 39.
144 Там же, ф. 545, оп. 2, д. 287, л. 276-277.
145 Там же, д. 771, л. 8.
146 Там же, л. 158.
147 Ибаррури Д. В борьбе. М., 1966, л. 358.
148 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 76, д. 23, л. 24.
149 Там же, ф. 545, оп. 3, д. 308, л. 150.
38
добровольцев были торжественно встречены на вокзале Виктории. В церемонии
встречи приняли участие видные деятели лейбористской и коммунистической партий,
руководители тред-юнионов - К. Эттли, С. Криппс, У. Галахер, Т. Манн, Э. Хитт и
др.150 Тогда же в Париже на Елисейских полях чествовали французских
добровольцев, торжественно продефилировавших мимо Триумфальной арки. Востор¬
женный прием встретили в Нью-Йорке бойцы бригады им. Линкольна.
К концу декабря в Испании еще оставалось почти 6 тыс. интернационалистов, в том
числе в центральной зоне - 1982 человека151. Моральное состояние еще не успевших
эвакуироваться было сложным. Ходили слухи, что прибывшие во Францию бойцы
оказались в концлагерях152. Конгресс активистов, состоявшийся в Барселоне, призвал
всех бойцов и офицеров к сохранению боевого духа, к борьбе с пессимистическими
настроениями, к укреплению единства, дисциплины и бдительности153. С подобным же
посланием обратился к интернационалистам ЦК КПП154. Стремясь поднять
моральное состояние волонтеров, командование направило во все демобилизационные
центры директиву, согласно которой добровольцы, желавшие остаться в Испании,
могли подавать заявления в министерство обороны. Добровольцам, женатым на
испанках, разрешалось выехать из страны вместе с женами. Что касается французских
добровольцев, то они выезжали на родину без каких-либо ограничений.
Однако переломить пессимистические настроения не удалось, тем более стало
известно, что многие интернационалисты из фашистских стран действительно были
задержаны французскими властями и препровождены в специальные лагеря. Особое
недоумение у добровольцев вызывало то обстоятельство, что советское посольство и
консульство в Испании практически устранились от контактов с командованием
интербригад, что они не ходатайствовали о выдаче виз для въезда в СССР. Они никак
не могли понять, почему ’’первая страна социализма” практически не предпринимала'
никаких мер для спасения жизни тех, кто сражался в Испании против фашизма.
В делах секретариата Димитрова хранятся многочисленные документы, в какой-то
мере раскрывающие обстановку, сложившуюся вокруг возвращения в СССР
интернационалистов, посланных в Испанию по линии Коминтерна, а также больных и
раненых, о которых ходатайствовал перед руководством ВКП(б) Коминтерн. 3
декабря 1938 г. Димитров направил секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву письмо, в
котором сообщал, что по линии Коминтерна в Испанию было направлено 589 членов
братских партий. К началу декабря в Испании еще оставалось 466 человек, из
которых 203 имели семьи в СССР, 115 - были советскими гражданами и 209 не могли
вернуться в свои страны, так как были по ложным обвинениям приговорены к
смертной казни или многолетнему тюремному заключению. Среди них были раненые и
инвалиды. "Секретариат ИККИ, - писал Димитров, - просит разрешить возвращение
в СССР 300 человек, эвакуированных теперь из Испании во Францию, являющихся
инвалидами и имеющих смертные или многолетние судебные приговоры, вследствие
чего они не могут вернуться в свои страны, а также не могут оставаться в других
капиталистических странах ввиду опасности выдачи фашистским правительствам155.
Итак, оставалось еще 466 человек, но, зная порядки, царившие в то время в СССР,
Димитров просил разрешение на въезд только для 300 человек.
Однако этим письмом дело не ограничилось. 16 декабря из секретариата Димитрова
Андрееву был послан список на 428 бойцов, из которых предполагалось отобрать для
возвращения 300156. Вероятно, Димитров в ЦК ВКП(б) не нашел понимания и 30
^Alexander В. British Volunteers for Liberty. London, 1980, p. 241.
151 РЦХИДНИ, ф. 545, on. 3, д. 747, л. 215; д. 771, л. 3-6.
152 Там же, д. 771, л. 17.
153 Там же, д. 747, л. 51-52.
154 Там же.
155 Там же, ф. 495, оп. 76, д. 22, л. 3.
156 Там же, л. 4.
39
декабря послал список уже на 209 человек, на которых ИККИ располагал
данными157. 10 января 1939 г. в письме в политбюро Димитров просил ускорить
решение вопроса о возвращении в СССР 209 человек158. 20 января он отправил
Андрееву дополнительный список еще на 36 человек159. Наконец, 20 августа 1939 г.
Димитров и Мануильский передали письмо Сталину, в котором обращали его внимание
на то, что во французских концлагерях все еще содержится 6011 бывших
добровольцев, и просили ’’допустить от 3 до 3,5 тысяч бывших бойцов
интернациональных бригад в СССР после тщательной проверки”160. Проверка
действительно шла очень доскональная, если 21 марта 1939 г. секретариат ИККИ
телеграфировал Торезу и Ибаррури: "Считаем целесообразным создать особо
ответственную комиссию при ПБ ФКП и ПБ КПИ, которая должна рассматривать
эти заявления (о въезде в СССР. - М.М.) и давать заключения в каждом отдельном
случае"161.
Конечно, СССР не был полностью закрыт для въезда как бойцов интербригад, так
и для испанских антифашистов, но делалось это столь медленно, с такой
бюрократической волокитой и иными помехами, что у них не могли не возникать
сомнения в добропорядочности советского руководства. В течение всего 1939 г. они
небольшими партиями отправлялись в СССР, где им оказывали необходимую помощь
в устройстве на работу, на лечение и отдых, на получение жилья. Этим занималась
специальная комиссия ИККИ в сотрудничестве с профсоюзами и местными органами
власти.
Пока командование интербригад и правительство республики под наблюдением
специальной комиссии Лиги наций осуществляли эвакуацию интернационалистов,
наступил последний акт испанской драмы. 23 декабря 1938 г. франкистские войска
развернули генеральное наступление на Каталонию. В середине января 1939 г. они
сломили сопротивление республиканцев и началось беспорядочное отступление частей
народной армии к французской границе. Вместе с ними к границе устремилась лавина
гражданских беженцев. Перед командованием интербригад с необычайной остротой
встала задача спасения почти 6 тыс. интернационалистов, не успевших покинуть
Испанию. Как боевые части интербригады уже не существовали, они были
расформированы, разоружены и в ожидании эвакуации разбросаны по маленьким
городкам и поселкам Каталонии. Над ними нависла угроза пленения или уничтожения.
О том, в каком положении оказались интернационалисты, свидетельствует
докладная записка, написанная неизвестным автором на имя Марти и начальников
пунктов размещения демобилизованных бойцов. Согласно этой записке только в
городках Осталетта, Кастельон де Амаириас, Сан Педро де Пескадоре и
Парафружель было размещено около 2 тыс. интернационалистов, в том числе
австрийцы, венгры, чехи, словаки, поляки, американцы, канадцы, причем половина из
них не имела оружия и частично была деморализована162.
Именно из этой массы людей, черпавших информацию из противоречивых слухов и
панических рассказов беженцев о полном крахе фронта, о бегстве армии и
правительства, было решено воссоздать боеспособные части, чтобы прикрыть отход
республиканских частей и гражданских беженцев. Секретариат ИККИ дал
командованию директиву, о чем Димитров сообщал Сталину, "принять меры для
бесшумного восстановления интербригад", а ЦК ФКП - послать в Испанию новый
контингент добровольцев163.
157 Там же, л. 7.
158 Там же, л. 8.
159 Там же, л. 14.
160 Там же, л. 38.
161 Там же, д. 23, л. 49.
162 Там же, ф. 545, оп. 3, д. 771, л. 34.
163 Там же, ф. 495, оп. 74, д. 216, л. 49.
40
23 января в Парафружеле состоялся общий митинг интернационалистов,
единодушно принявший обращение к правительству разрешить им вновь вступить в
народную армию. Из остатков бригады им. Домбровского была создана часть под
командованием польского коммуниста М. Торуньчика. Остатки 11-й бригады
возглавили немецкие коммунисты Г. Рау и начальник штаба Л. Ренн. Немецкий
коммунист Э. Бланк, погибший вскоре в бою, стал командиром группы,
насчитывавшей 450 человек. Из остатков 15-й бригады возник батальон неполного
состава164. Все они влились в состав 35-й дивизии165.
Порыв, охвативший интернационалистов, был настолько высок, что в новые
интерчасти записывались даже раненые. Вооружившись тем оружием, которое у них
еще было, или получив его от испанских частей, интербригады уже 26 января заняли
оборонительные позиции севернее Барселоны. В течение двух недель они с боями
отходили к французской границе. 10 февраля насчитывавшая в своих рядах всего
около 1500 человек 35-я дивизия вышла к границе и на следующий день, построенная
в колонны, с оружием в руках, под знаменами во главе с командирами частей
пересекла границу, сложила оружие и в походном порядке направилась в концлагерь
Гюрс166, спешно сооруженный по распоряжению из Парижа для приема бойцов
республиканской армии и интербригад. В концлагеря попали и другие группы
интернационалистов, отошедшие во Францию. На этом эпопея интернациональных
бригад на испанской земле закончилась.
Можно по-разному относиться к интербригадам, оценивать их вклад в борьбу
испанского народа против франкизма и итало-германских интервентов. Но не следует
забывать, что в Испанию ехали добровольцы не в туристские вояжи, не за наградами,
руководствуясь не карьеристскими соображениями, а драться с фашизмом, зная, что
им придется мучиться, страдать, а то и умереть на испанской земле, ехали по зову
сердца, готовые перенести все тяготы и трудности войны. Образно о стремлениях и
настроениях интернационалистов сказал Сверчевский: ’’Всех объединяла большая,
самая высокая и революционная цель - вооруженная борьба с фашизмом, и ради нее
немцы, итальянцы, поляки, евреи, представители национальностей всего мира до
негров, японцев и китайцев включительно умели договориться между собой, находили
общий язык, терпели равные невзгоды, жертвовали одной жизнью, умирали героями,
были преисполнены одной и той же ненавистью к общему врагу”167.
Но как во всяком массовом общественном явлении, в интердвижении были не
только светлые, но и темные стороны. В нем соседствовали, сливались и пере¬
плетались героическое и трагическое, высокое и низменное, интернационализм и
национализм. Интербригады, какими их создали люди, прибывшие в Испанию,
преисполненные высокого интернационализма и революционного романтизма, рядом с
которыми соседствовали низменные интересы и страсти, идеологическая
нетерпимость, жестокость и другие не самые лучшие человеческие качества,
усиленные к тому же методами политической борьбы того времени, когда в глазах его
участников из всего спектра красок выбирали только два цвета - красный и белый или
черный и белый. Иначе говоря, интербригады были сложным и протйворечивым
историческим явлением и их надо воспринимать такими, какими они были, не
принижать подлинного их места в истории гражданской войны в Испании и не
преувеличивать, исходя из каких-либо конъюнктурных интересов.
164 Там же, ф. 545, оп. 3, д. 571, л. 36.
165 Mateo Merino Р. Op. cit., р. 421.
166 Ibid., р. 426.
167 РГВА, ф. 35082, on. 1, д. 95, л. 46.
41
© 1993 г.
В.Л. МАЛЬКОВ
БОЛЬШЕВИКИ И "ГЕРМАНСКОЕ ЗОЛОТО".
НАХОДКИ В АРХИВАХ США
История с обвинением В.И. Ленина в шпионаже и в сношениях с "вражеским
правительством" Германии достаточно хорошо известна. Однако на протяжении
многих лет время от времени к ней вновь пробуждается интерес, и тогда на свет
всплывают какие-то забытые или заново обнаруженные детали, пускается в ход
печатный станок и дело приобретает дополнительный оттенок загадочности. Задаются
новые вопросы, рождаются новые гипотезы. Разброс мнений велик. Если одни в самбм
решении Ленина возвратиться из эмиграции в Россию сразу же после Февральской
революции видят акт мужества, другие задаются прежде всего вопросом, чем была
оплачена благосклонность и предупредительность кайзеровского правительства,
разрешившего группе большевиков беспрепятственный проезд через воюющую
Германию в конце марта 1917 г. Требует объяснения и позиция Временного
правительства, распорядившегося в середине апреля начать расследование по этому
факту, а затем снявшего этот вопрос с повестки дня, и многое другое.
Поиск новых документов, связанных с возвращением Ленина в Россию, ведется
весьма интенсивно. В то же время в очередной раз подвергаются экспертизе
документы и версии, давно, казалось, "отработанные" и, фигурально выражаясь,
сданные в архив. В ряду этих материалов особое место занимают так называемые
"документы Сиссона". О них и пойдет речь.
Любые тексты и археологические находки, писал знаменитый французский историк
Марк Блок, говорят лишь тогда, когда умеешь их спрашивать1. Наверное,
обнародование новых сенсационных сведений об "Эмсской депеше" или сараевском
убийстве не могло бы произвести большее потрясение в нашей журналистике, чем
извлечение на свет в наши дни "документов Сиссона" - связки в принципе давно
известных историкам документов более чем 70-летней давности. Возникла мысль, что
в версии о тайном сговоре большевистских вождей во главе с Лениным с германским
Генеральным штабом в 1917 г. и лежит ключ к разгадке той беспримерной легкости, с
которой командные рычаги власти оказались в конечном счете в руках красных.
Версия была тиражирована рядом солидных газет и журналов, обрастая
интригующими подробностями, безапелляционными выводами. Напористость ее
сторонников заставляет задуматься: а может быть, и в самом деле стоит ради исти¬
ны пристальнее всмотреться в версию о "германском следе" большевистской рево¬
люции?
Заметим, впрочем, что никакая напористость не снимает сомнений. Почему,
например, выдающиеся российские политики прошлого, дипломаты и государственные
деятели, живые участники и свидетели драматических событий 1917 г., так вяло и
недружно отреагировали на сообщения о том, что Ленин вернулся весной 1917 г. в
Россию с заданием германского Генштаба подорвать военную мощь страны изнутри,
добиться сепаратного мира? Американский исследователь Александр Рабинович еще в
1976 г. обратил внимание на это обстоятельство в связи с тем местом из воспомина¬
ний бывшего министра Временного правительства И.Г. Церетели о Февраль¬
ской революции, в котором последний писал о личном обращении князя Львова 4 июля
1 Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1978, с. 38.
42
1917 г. во все петроградские газеты с просьбой снять материалы с обвинением против
Ленина из-за их "поверхностности и необоснованности’’2.
Со столь же удивляющей сдержанностью отнеслись к сенсационным сообщениям о
’’немецких агентах во дворце Кшесинской” (штаб-квартира большевиков) в правящих
кругах Лондона и Парижа. По крайней мере самая первая реакция на появление
большевистского правительства во главе с Лениным не создавала впечатления, что
тревога в обеих столицах была связана с приходом к власти в Петрограде "германской
партии". Вот только некоторые факты.
Роберт Брюс Локкарт, английский разведчик с репутацией знатока русских дел,
советовал британскому Военному кабинету в начале 1918 г. признать большевистское
правительство России, хотя по Лондону ходили слухи о "германском следе"
Октябрьской революции. 7-8 февраля 1918 г. на своем заседании кабинет отклонил
это предложение, но сами дебаты неожиданно вскрыли неоднозначность в подходе
членов правительства его величества. Ллойд Джордж и Бальфур, выступавшие за
шаги в сторону признания, полагали, что следует согласиться с Локкартом. По двум
причинам. Во-первых, Локкарт находился в гуще событий и "ему виднее". Во-вторых,
большевики - грозный противник и Австрии, и Германии. Ллойд Джордж,
продемонстрировав проницательность и интеллектуальное бесстрашие в анализе
ситуации, заявил: "Россия является сейчас нашим самым мощным союзником в
Германии и в особенности в Австрии"3. И без пояснений ясно, что имелось в виду
"подрывное" влияние большевистской революции на положение в Центральных
державах.
Близким такому пониманию хода вещей было и суждение авторитетных
американских экспертов, изложенное в секретном "Докладе о политике США в
отношении России после прихода к власти большевиков", который предназначался для
глаз госсекретаря Роберта Лансинга4. Время составления доклада - весна 1918 г. И
это вовсе не единичный случай. Среди многих американских общественных деятелей и
государственных чиновников существовало мнение, по крайней мере не совпадающее
с трактовкой большевистской революции как результата тайного сговора германской
военщины и левых экстремистов5.
Вместе с тем существует другая версия, та самая, которая получила широ¬
кое распространение в нашей отечественной периодике в последнее время. Наиболее
четко она была выражена на страницах журнала "Столица" А. Арутюновым в статье
"Был ли Ленин агентом германского Генштаба?". Справедливо указав на бросающиеся
в глаза сомнительные места в ленинской переписке касательно денег партии и
поставив несколько само собой напрашивающихся вопросов, он писал: "Теперь итоги.
Группа большевиков из высшего партийного эшелона во главе с Лениным, преследуя
свои узкокорыстные цели, выражающиеся в намерении узурпировать государственную
власть в России, преднамеренно пошла на тайный сговор с германским Генштабом и,
получая крупные субсидии от него, вела подрывную деятельность в. пользу
Германии"6. Сказано предельно категорично: Ленин, большевики были куплены
германским Генштабом с целью добиться выхода России из войны, заставить ее
подписать новый Тильзитский мир. Нужны неопровержимые доказательства? Они
содержатся в "документах Сиссона", обнародованных осенью 1918 г. в США
2 См.: Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. М., 1989, с. 42,
345.
3 Kettle М. Russia and Allies, 1917-1920, v. 1. London, 1981, Ch. 8; Jones D.R. Documents on British
Relations with Russia, 1917-1918. - Canadian-American Slavic Studies, № 7, 1973, p. 219, 350-375, 498-510; №
8, 1974, p. 544-562; № 9, 1975, p. 361-370.
4 Princeton University. Mudd Library, Robert Lansing Papers. Box 4. A.C. Coolidge to Lansing, 20.V.1918; cm.
также: Unterberger B.M. The United States, Revolutionary Russia and the Rise of Czechoslovakia. Chapel Hill,
1989, p. 166.
5 Фрейд 3., Буллит У. Томас Вудро Вильсон. Психологическое исследование. М., 1992, с. 242.
6 Столица, 1991, № 1, с. 43.
43
правительственным Комитетом общественной информации с санкции президента
В. Вильсона.
Мы не намерены останавливаться на несуразицах и фактических ошибках, которые
содержатся в статье А. Арутюнова. Важнее рассмотреть вопрос по существу. Ведь
проблема имеет выход и на тайную дипломатию в финальной стадии первой мировой
войны, и на историю разведки, и на чисто российские дела - ну, скажем, на вопросы об
источниках финансирования политических партий, и в частности большевистской,
вопросы гражданской этики, общественной морали и др. И здесь мы должны
констатировать, что тема остается и будет, очевидно, долго оставаться открытой
вопреки желанию вынести окончательный и не подлежащий обжалованию вердикт.
Никакие эмоциональные обертоны не заменят логики документа, логики факта.
Как прав был французский историк Люсьен Февр, когда в 1933 г. в этюде ’’История
современной России. Неужели политика определяет все?” писал: "Несмотря на все
благие порывы, нет и не может быть истинного понимания там, где все отмечено
печатью неизбежных и роковых симпатий и антипатий”. Февр указал и на путь,
ведущий к достоверным выводам, вполне поддающимся перепроверке в отличие от
эмоционально-субъективного метода: если есть необходимость получить ответ на
вопрос, чтб произошло с Россией с 1917 г., продолжал он, то "зададим его десятку
наблюдателей - французских, английских, американских и других, которые видели все
это воочию"7.
Обратимся к документам Сиссона и связанной с ними истории. Они вошли
в брошюру "Германо-большевистский заговор", изданную в США тиражом 137 тыс.
экземпляров в конце октября 1918 г., с комментариями самого Э. Сиссона, видного
правительственного чиновника тех лет, очевидца Октябрьской революции. Это 70
документов, показывающих, как утверждалось в предисловии к брошюре, что Ленин и
Троцкий были платными агентами германских спецслужб. Документы российского
происхождения. Они оказались в руках американского правительства благодаря
стараниям Сиссона, главы петроградского бюро Комитета общественной информации
США, ставшего свидетелем "окаянных дней" в Петрограде в 1917-1918 гг.
Столкнувшись с сомнениями госдепартамента, английского правительства и части
либеральной прессы в подлинности документов, руководство Комитета общественной
информации в Вашингтоне сформировало комиссию из видных ученых (одним из них
был отец-основатель архивного дела в США и редактор печатного органа
Американской исторической ассоциации Франклин Джеймсон, другим - крупнейший в
ту пору знаток России и русского языка профессор Чикагского университета Самуэль
Харпер), которые и вынесли свой вердикт: сомнений быть не может, документы
подлинные. Сиссон продолжил процесс верификации документов и после октября
1918 г.: разыскивая новые подтверждения их достоверности, в сотрудничестве с
госдепартаментом он взял интервью у некоторых очевидцев событий, запрашивал
Лондон...
Итак, версия о "германском золоте", казалось, была подтверждена. Однако, как
выяснилось, исчезли бесследно оригиналы документов, переданные Комитетом
общественной информации президенту Вудро Вильсону на предмет их использования в
антибольшевистской кампании и погребенные в его личном архиве. Когда к Вильсону
обратились с просьбой провести генеральную разборку его бумаг, президент отклонил
ее, мотивируя желанием самолично вникнуть в их содержание. После прихода в Белый
дом в 1921 г. республиканцев сотрудники президента У. Гардинга заявили, что
документы не найдены, а супруга Вильсона со своей стороны воспрепятствовала
дальнейшему продолжению поисков. Лишь в 1952 г., за месяц до окончания
пребывания Трумэна в Белом доме, документы были обнаружены в одном из сейфов
резиденции президента.
Тайну исчезновения "документов Сиссона" прояснили результаты их тексто¬
7 Февр Л. Бои за историю. М., 1991, с. 66.
44
логического анализа, проделанного человеком, который был наилучшим обра¬
зом для этого подготовлен, - ныне здравствующим историком и дипломатом
Джорджем Кеннаном, великолепно владеющим русским и немецким языками.
В большой статье, опубликованной в 1956 г. в "Journal of Modem History", Кеннан,
использовав инструментарий лингвиста, историка и криминалиста, пришел к
однозначному выводу: "документы Сиссона" - подделка.
В данной статье нет возможности углубиться в эту детективную и по-своему
поучительную в морально-этическом плане историю, связанную, в частности, с
самокритичным признанием профессоров Джеймсона и Харпера в нарушении ими
кодекса научной объективности при проведении экспертизы "документов Сиссона".
Мотив был в обоих случаях одинаков - давление политической конъюнктуры и, как
выразился впоследствии сам Харпер, "военный угар". Этот эпизод был предметом
обсуждения на заседании Общества американских архивистов в 1982 г., где
рассматривался как классический пример ловушки, в которую может загнать ученых-
профессионалов искушение сделать уступку ажиотажному спросу, какими бы
причинами он ни был вызван8.
Насколько известно, ни англичане, ни французы не пошли на публикацию чего-либо
похожего на "документы Сиссона". Вашингтон проявил в этом смысле особую
заинтересованность и инициативу. Естественно заключить, что именно в американских
архивах следует искать ответ на вопрос, как и кем документально была
"подтверждена" версия о "германском золоте". Добавим, что очень многие герои или
очевидцы "русской смуты" оказались впоследствии на земле Америки и,
следовательно, могли в той или иной форме оставить свои "показания" для истории.
Именно поэтому Кеннан в свое время решил разыскать оставшихся в живых
участников достопамятных событий апреля-июля 1917 г., связанных с возвращением
Ленина в Россию и политическими схватками тех дней. На этом пути ему
сопутствовало везение.
В бумагах Кеннана находим сведения о его беседах с А.Ф. Керенским. В письме
Артуру Линку, крупнейшему специалисту-вильсоноведу, автору многих работ о
Вильсоне, составителю многотомного издания бумаг президента, Кеннан поделился с
ним своими впечатлениями о встрече с "главным свидетелем". "Так случилось, - писал
он, - что, занимаясь документами Сиссона, я недавно встретился с Керенским,
который рассказал мне, что в самом начале этой истории (он думает, что это
случилось осенью 1918 г.) сэр Артур Беренсон (английский политический деятель. -
В.М.) встретился с ним по поручению президента Вильсона и задал вопрос касательно
подлинности документов Сиссона. По словам Керенского, он ответил, что эти
документы - смесь правды и лжи и совершенно очевидно являются подделкой... Если
это так, то здесь лежит разгадка напавшего на президента припадка раздражения,
когда к нему обратились в связи с поисками оригиналов и, возможно, также того
факта, что они были упрятаны в самый дальний угол самого потаенного сейфа в
Белом доме"9.
8 Rapport L. Forging die Past. - OAH Newsletter, v. 11, № 3, August 1983, p. 11, 12.
9 Princeton University. Mudd Library. George Kennan Papers. Box 31. Kennan to ArthurS. Link, 25.VI.1956.
В мемуарах "Россия на историческом повороте" А.Ф. Керенский несколько раз касается вопроса о
тайных связях большевиков и германского правительства. Но, во-первых, все, что им было сказано в книге
по этому поводу, носит маргинальный характер и, во-вторых, отмечено печатью противоречивости. В
одном месте он пишет, что "цели, которые преследовал Ленин и германские "миротворцы", были
диаметрально противоположны и, безусловно, непримиримы" {Керенский А.Ф. Россия на историческом
повороте. Мемуары. М., 1993, с. 183), в другом (в главе "Путь предательства") - что "перед своим
возвращением в Россию Ленин взял на себя обязательство заключить как можно скорее сепаратный мир с
Германией" (там же, с. 216), и, наконец, в третьем он с сожалением констатирует, что архивы военного
министерства и разведывательного отделения германского Генерального штаба были полностью
уничтожены огнем, а это - "огромная утрата для истории России 1917 года" (там же, с. 217).
Не проясняет дела ссылка Керенского на якобы переданные в середине апреля 1917 г. министром
вооружений Франции Альбером Тома секретные документы для князя Львова. О содержании самих
45
Бумаги Кеннана, хранящиеся в библиотеке Принстонского университета (США) и
лишний раз убеждающие в присущей ему научной добросовестности и независимости
суждений в самых деликатных вопросах истории советско-американских отношений, -
целый материк сведений о персонажах, которые были непосредственно замешаны в
истории с обнаружением ’’германского следа” Октябрьской революции. Впрочем,
оказалось, что ставший в 1918 и 1919 гг. на короткое время мировой знаменитостью
Сиссон оставил после себя лишь книгу маловыразительных воспоминаний. В
исторических трудах, посвященных концу первой мировой войны и русско-
американским отношениям того времени, его имя встречается крайне редко, да и то,
пожалуй, лишь в назывном смысле. Переписка Джорджа Крила, влиятельного и
приближенного к Вильсону шефа информационной службы США, с государственным
секретарем Р. Лансингом тоже удручающе беззвучна, что, впрочем, и наводит на
размышления (следствие самоцензуры?). Но все усилия исследователя вознаграждает
знакомство с бумагами Артура Булларда, ближайшего сотрудника Сиссона в
Петрограде.
Сейчас имя Булларда мало кому что-либо говорит, поэтому, прежде чем перейти к
анализу документов из его архива, хранящегося в библиотеке Принстонского
университета, следует коротко остановиться на главных вехах его биографии.
Блестящий журналист, работавший на самые известные периодические издания США
(литературный псевдоним Альберт Эдвардс), с начала века он проявлял повышенный
интерес к развитию общественных процессов в России, постигая глубины
разворачивающейся на его глазах исторической драмы. Сразу же после февраля 1917
г., воспользовавшись своими дружескими отношениями с полковником Э. Хаузом,
ближайшим советником президента Вильсона, Буллард добился решения Белого дома
о посылке его в Россию.
Формально Буллард был приписан к Комитету общественной информации й
подчинен Сиссону, фактически все обстояло совсем иначе. Сиссон не знал русского
языка, Буллард владел им превосходно. Для Сиссона в России все было внове и все
было чужим. Дня Булларда, напротив, все двери были открыты, и повсюду он
встречал старых знакомых - партийных вождей, политиков, журналистов. Все, на что
был способен Сиссон, - это пропаганда американских ценностей. Буллард выполнял
секретное поручение Хауза: раз или два в месяц передавать по каналам
дипломатической связи аналитический обзор событий, происходивших в России.
Политическая разведка с выходом непосредственно на полковника Хауза и,
следовательно, на президента, минуя посла Фрэнсиса и госсекретаря, - вот чем был
занят Буллард. Насколько он справился с возложенной на него миссией, можно судить
по такому факту: после возвращения из России в 1919 h Буллард был переведен на
дипломатическую работу и назначен шефом Русского отдела госдепартамента.
Буллард оставил ряд замечательных по своей прогностической глубине, хотя
кажущихся порой парадоксальными, аналитических записок, направленных им в
Вашингтон и в Версаль полковнику Хаузу. Одни их названия говорят о многом:
"Россия в 1917-1919 гг.”, "Русская ситуация", "Меморандум о большевистском
движении в России" и др. Есть среди них и документ, специально посвященный вопросу
о "германском золоте".
В первых депешах после октябрьских дней Буллард касался "германского золота"
документов в книге не сказано ни слова (там же, с. 270). Еще меньше фактической информации содержит
рассказ Керенского о его встрече с Э. Бернштейном в 1923 г. То, чем поделился с ним Бернштейн,
занимавшийся "расследованием связей агентов германского правительства с ленийской группой
большевиков", не вызвало у автора мемуаров никакой реакции, сам же он в свою очередь пожаловался на
скудость и ограниченность собственной информации (там же, с. 376).
Мемуары Керенского вышли в 1966 г. Он работал над ними много лет, имея возможность десятки раз
перепроверить приводимые в них факты и обогатить свои воспоминания первоисточниками самого
различного происхождения. По мере надобности он так и поступал. Но в книге, "населенной" многими
историческими персонажами, нет упоминания о "документах Сиссона". Похоже, Керенский полагал, что в
этой истории давно поставлена точка.
46
лишь в общей форме, вскользь и главным образом в связи с характеристикой
непримиримой межпартийной борьбы в России. В его глазах, в этой стране все было
подчинено одному - истреблению противника, для чего любые средства считались
пригодными. Как о вполне рутинном деле он писал и о том, что подозрение в тайном
сговоре большевиков с немцами повисло над ними немедля, как только лозунг
прекращения войны безраздельно овладел российскими массами. Пропаганда
большевиков в пользу мира была организована с таким размахом, пояснял Буллард в
донесении от 17 ноября 1917 г. (н.ст.), что реанимация версии о германских целевых
"взносах” в кассу большевиков воспринималась многими как само собой разумеющееся
дело10. Но уже тогда Буллард предостерегал от упрощенного изображения
деятельности большевиков как простого производного от германских интриг. Все
значительно сложнее и серьезнее, утверждал он, что, разумеется, не исключало
"появления в будущем доказательств в пользу версии о принадлежности Ленина и
большевиков к разряду людей, сознательно согласившихся быть германскими
агентами"11.
В целом, повторяем, Буллард еще в ноябре 1917 г. не придавал вопросу о
"германском золоте" серьезного значения. По его убеждению, причины, сделавшие
большевиков хозяевами положения, были более глубокими, чем их игра на
недовольстве войной. Но ход событий повелевал переставить акценты. Большевики
цепко держались за власть, вынуждая союзников задумываться над программой
пропагандистских контрмер. Так внимание вновь было переключено на версию о
"германском золоте", тем более что союзным посольствам в Петрограде, и в
особенности посольству США, приходилось выдерживать осаду со стороны
добровольных коллекционеров разного рода порочащих большевиков материалов, как
правдоподобных, так и просто уже по внешнему виду липовых.
Помогая сбору и систематизации этих материалов, чем специально занялся Сиссон,
Буллард посчитал нужным внимательно их проанализировать с тем, чтобы отделить
правду от вымысла, подлинник от подделки. Высокое начальство в Вашингтоне
накануне появления Сиссона в столице США (май 1918 г.) с начиненным динамитом
досье на большевиков, контрабандным путем вывезенным из России, вправе было
знать, какова цена добытых сведений, степень их достоверности, прогнозируемые
последствия публикации. Так в марте 1918 г. из-под пера Булларда появилась на свет
специальная записка "О германском золоте"12. Была ли она отослана в Вашингтон
раньше прибытия туда Сиссона и ознакомились ли с нею в Белом доме и
госдепартаменте - неясно, но по свидетельству обычно хорошо осведомленных
вашингтонских журналистов (в частности, Раймонда Клэппера) вопрос о том,
публиковать или не публиковать "документы Сиссона", вызвал неоднозначную
реакцию президента Вильсона и госсекретаря Лансинга. Мнения их имели
неодинаковые оттенки13.
Президент медлил с решением, впал в "задумчивость", Лансинг, напротив,
настаивал на безотлагательной публикации. США приняли трудное решение о
посылке экспедиционного корпуса в Сибирь, и госсекретарю казалось важным
подкрепить эту весьма непопулярную акцию пропагандистским демаршем против
"Совдепии".
Записка "О германском золоте" составлена по строгим канонам следственного
документа, в сухой, сдержанной манере, без отступлений в сторону рассуждений о
судьбах русской демократии. Результат же анализа данных, относящихся к делу, был
изложен по пунктам, позволяющим "начальственному глазу" легко схватывать суть
10 Princeton University. Mudd Library. Arthur Bullard Papers. Box 6. "Russian Situation, 17 November 1917.
Excerpt from Report to George Creel on Committee of Public Information Work".
11 Ibidem.
12 Ibid. Box 6. Folder: Writings. Subject: Russia, 1917-1919. "German Gold, March 1918".
13 Library of Congress. Raymond Clapper Papers. Box 45. Correspondence, 1918. Clapper to Olive Ewing
Clapper. 8.XII.1918.
47
дела. И хотя выводы о возможном использовании антибольшевистской коллекции
были сделаны в довольно циничной форме, типичной для набиравшей обороты
психологической войны, тем не менее, пожалуй, главное состояло в том, что Буллард
при работе над запиской руководствовался принципом классического правосудия,
предполагающим, что при всяком расследовании надо выслушать и другую,
противную сторону. В условиях смятения, царившего в среде союзных дипломатов и
разведслужб, это свидетельствовало о завидном самоконтроле и желании докопаться
до истины, какой бы "неудобной" она ни была.
Записка "О германском золоте" содержала ряд логически увязанных положений.
Недостаток места вынуждает нас воспроизвести их в виде кратких тезисов с
цитированием ряда важных фрагментов:
1. Обвинение большевиков и Ленина в том, что они находились на "содержании у
Германии", не ново. "Я слышал о нем задолго до того, как покинул Америку в июне
1917 г. О нем мы вели беседы на борту судна, которое следовало курсом на Россию...
Какое-то время интерес публики к этим обвинениям в получении германских денег не
проявлялся заметным образом, но последние месяцы слух обрел устойчивость и стал
распространяться. Со всех сторон идут сомнительные и таинственные личности,
осаждающие представительства стран Антанты в России с предложением передать
абсолютно надежные доказательства связей большевиков с Германией. Но эти так
называемые доказательства, которые мне приходилось видеть, очень далеки от того,
чтобы их можно было назвать надежными. Но есть все признаки, что противники
большевиков будут использовать их в своих целях".
2. Новая вспышка старого скандала не за горами, и это соответствует самой
природе русского революционного движения, представители которого всегда полагали,
что "цель оправдывает средства".
3. Последующее вытекает их предыдущего. Правильное понимание ситуации с
’грязными деньгами" может быть составлено только в связи с историей рево¬
люционного движения в России. Буллард начинает издалека, но этот экскурс
необходим ему как пояснение к главному тезису: "Обстоятельства сложились так, что
я всегда исключительно хорошо был осведомлен о финансовых делах русских
революционеров в годы кризиса лет десять назад. Я был тогда секретарем Общества
друзей русской свободы в Америке в течение двух лет до того, как приехал в Россию.
Я занимался организацией кампании по сбору денег, которую вели г-жа Брешко-
Брешковская, Чайковский и Аладин. Я делал то же самое, когда Милюков последний
раз был в Америке. А в начале русско-японской войны партия эсеров с согласия
японского правительства и на деньги нью-йоркского банкира вела пропагандистскую
кампанию с помощью лекторов и распространяя литературу антиправительственного
содержания (т.е. враждебную русскому правительству. - В.М.) в лагерях для русских
военнопленных.
После приезда в Россию я познакомился с финским революционером Зиллиакусом,
который выступал посредником между революционными партиями и японским
посольством в Стокгольме. Он рассказал мне, что передал несколько миллионов
долларов и что почти все революционные организации России абсолютно открыто
брали японские деньги. Зиллиакус полагал, что не было причины для того, чтобы они
(партии. - В.М.) отвергли такую возможность; он отрицательно отозвался о
неискренности эсеров - их жеманстве и выражении негативного отношения к
получению таких подарков... Получив заверения в том, что деньги поступили из
американского источника, они "очень тщательно избегали этой темы, потому что
хорошо знали, что это были японские деньги".
Эсеры не гнушались брать и английские деньги. Англичане, выступавшие тогда
союзниками Японии и противниками России, сделали основательные вложения в
русскую революцию и, в частности, в транспортировку оружия. Все это означает, что
в период с 1905 по 1908 г. "все революционные партии были одним миром мазаны и ни
одна из них не была святее других".
48
4. "...Когда началась война 1914 г., они (революционеры) заявили, что новое
поражение России во внешней войне ослабит царя и обречет его на поражение во
внутренней войне. Эти пораженческие настроения в социалистических партиях
вызывались не симпатиями к Германии или ее правительству. По-настоящему
прогерманской партией в России была только Дворцовая партия. Но именно потому,
что они не симпатизировали кайзеру, революционные партии были готовы брать у
него деньги и использовать их на свои цели. Они, наверное, не очень охотно пошли бы
на обман тех, кому они симпатизируют, но кайзер в их понимании заслуживает такого
обращения".
5. "Русское революционное движение раскололось на "оборонцев" и "пораженцев".
Последние почти все без исключения выражали готовность получать немецкие деньги.
А германская разведка рассматривала это как хорошие инвестиции. Чернов,
признанный лидер эсеров, сотрудничал в специальном издании, которое с согласия
германского правительства и на финансовые средства, к которым ни один российский
патриот не имел отношения, распространялось в немецких лагерях для русских
военнопленных, т.е. делал то же самое, что в годы русско-японской войны делала его
партия в японских лагерях для русских военнопленных".
6. Закончив экспозицию, Буллард переходит к изложению своего центрального
тезиса: "Интернационалистская агитация Ленина, по-видимому, одобрительно
воспринималась германскими властями. Они легко могли предотвратить ее сколько-
нибудь значительное распространение на немецком языке, но вряд ли они упустят
шанс оказать содействие в ее распространении за пределами немецкоязычных стран.
Однако я очень сильно сомневаюсь, что Ленина занимал вопрос, откуда шли деньги.
Он мог бы сказать: "Совершенно безразлично, чтб является источником этих денег,
необходимых для борьбы, которую я веду, - получены ли они от искренних
сторонников моих идеалов или оттуда, где делают шальные деньги". То, что немцы
одобрительно относились к его деятельности, ясно видно из того факта, что они
позволили ему и его друзьям проехать через территорию Германии по пути в Россию
сразу же после Февральской революции. Они повесили пломбы на занимаемый ими
железнодорожный вагон с тем, чтобы не дать Ленину заниматься агитацией в самой
Германии, но они с удовольствием содействовали его возвращению в Россию.
Получили ли они в обмен на эту любезность от Ленина какое-либо обещание
расплатиться по счетам или ничего подобного не было, - не имеет значения. Ленин все
равно не чувствовал бы себя связанным таким обещанием. Очень возможно, что
немцы оказались довольно наивными, решив, что такое обещание и не требуется.
Они, несомненно, думали, что это само собой разумеющаяся вещь между
джентльменами.
Этот факт является типичным. Для иностранца, который оказывается в России со
своими западными принципами политической морали, факт согласия Ленина публично
принять помощь германского правительства при нынешних обстоятельствах является
первейшим доказательством того, что он германский агент. Но для русского
революционера это вовсе не является очевидностью. Вполне возможно, что Ленин
принял немецкое благодеяние с тем, чтобы в подходящий момент надуть их...
Когда я прибыл в Россию в первых числах июля 1917 г., общепризнанным было то,
что большевики имеют очень мощную прессу. Различные приложения к газете
"Правда" в большом числе циркулировали по городу и на фронте. Они внесли свою
лепту в ускорение почти неизбежной дезорганизации армии, они вели оскорбительную
и очернительную кампанию против всех социалистов, придерживающихся
национальных и патриотических убеждений, они нападали на союзников по Антанте.
Они делали то, что немцы, вне всякого сомнения, готовы были оплачивать, и все это
было полной копией 1905 г., когда все революционные партии получали деньги от
Японии. Но по прошествии двенадцати лет было бы абсурдно утверждать, что русские
социалисты пытались насадить японскую систему государственного управления в
России. И так же абсурдно утверждать, что рядовые большевики сознательно
49
действовали в интересах кайзера. Они беззаветно трудились во имя того, что они
рассматривали как свой первейший долг, и им совершенно было все равно, откуда
пришли деньги, в которых они нуждались’’.
7. Причиной снятия обвинения в измене с посаженных в тюрьму большевиков
Временным правительством является то, что эсеровская партия сама получала деньги
от Антанты. Боясь скандальной огласки, ее руководители (А.Ф. Керенский,
В.М. Чернов и др.) посчитали за благо снять вопрос с повестки дня.
8. Доказательства виновности большевиков в виде преданных гласности доку¬
ментов были достаточными, чтобы любой американский районный прокурор мог
возбудить дело, но американский же судья не нашел бы в них оснований для
разбирательства в суде присяжных, а жюри присяжных вынесло бы свой оправ¬
дательный приговор за отсутствием серьезных улик.
9. ’’Если даже большевики и получили германское золото", их действия после того,
как они взяли власть, показывают, что они перехитрили своих кредиторов. Буллард не
удержался в этом месте сделать себе комплимент. "Я оказался прав, - писал он, -
высказав предположение, что немцы будут вне себя от большевиков, которые,
получив немецкие деньги, не отблагодарили за них. Есть также большая вероятность,
что немцы будут теперь делать все, что в их силах, с тем, чтобы избавиться от них
(большевиков. - В.М ). Следует поэтому предвидеть появление новых улик с
передачей их в руки представителей союзных стран". Немцы, не встретив в
большевиках "дружеского расположения", постараются отомстить, и это окончательно
запутает картину. Отсюда вопрос: следует ли подыгрывать немцам? - так
расшифровывался этот пассаж из записки Булларда. Он отлично видел, что начало
переговоров в Брест-Литовске не свидетельствовало о взаимопонимании между
Советами и Германией и не предвещало ничего хорошего ни тем, ни другим.
Концовка записки о "германском золоте" передает целую гамму чувств, испытанных
Буллардом в ходе изучения разбухавшего буквально на глазах "досье" из
компрометирующих большевиков материалов. В ней сочеталось множество оттенков:
опасение быть втянутым в гигантскую политическую аферу с непредсказуемым
исходом, раздражение двойственностью собственной позиции (коллизия между
стремлением быть над схваткой и необходимостью отдавать предпочтение одной из
сторон, сколь бы шокирующим для обычной человеческой личности и порядочности
это ни было), брезгливость от соприкосновения с подлогом и стремление к
профессиональному успеху посредством извлечения максимума пропагандистских
выгод из потока плывущего в руки материала о тайных кознях немцев и их подручных
(реальных и мнимых) в России. Буллард писал:
"Материал, поступивший из различных источников, является различным и по своему
характеру. То, чем снабдили нас кадеты, не содержит ничего нового. Судя по всему,
он в основном собран за рубежом. Стокгольм, Амстердам, Копенгаген. Оригиналы
документов никогда не появлялись в России, хотя несколько человек утверждают, что
видели эти оригиналы. В большинстве случаев это копии телеграмм, которые, если бы
даже мы располагали оригиналами, все равно не могли бы считаться убедительными.
Ничто, например, не мешает мне послать телеграмму королю Георгу и сказать в ней,
что кайзер уполномочил меня выделить ему кредит в один миллион долларов. И
подписать - фон Гартлинг (канцлер Германии. - В.М.). Подобного рода улики в
лучшем случае имеют очень сомнительную ценность. Даже если их аутентичность
будет признана, с их помощью нельзя доказать ничего другого, кроме того, что
большевистские лидеры в прошлом получали деньги из Германии. Они не связаны с
последними событиями. В них нет никаких отсылок, относящихся к периоду
переговоров в Бресте. Если даже будет убедительно доказано, что Ленин и Троцкий
получали немецкие деньги, это не поколеблет их имиджа революционеров.
Более поздние "улики" выглядят более серьезно. Подозревают, что они были
выкрадены из папок в Смольном. Некто, предложивший продать их нам, не связывая
это ни с какими политическими мотивами, просто заявляет, что нуждается в деньгах.
50
Есть основания верить, что он и в самом деле имел доступ к документам в Смольном,
но по всему видно, что мы имеем дело с мошенником. Он не стесняясь будет
придерживать документы, пока ему не будет обещано максимальное вознаграждение.
Он еще не передал нам ни одного оригинала, хотя и позволил один из них - судя по
всему, важный, если будет установлена его аутентичность, - сфотографировать. Это,
разумеется, новая партия документов, имеющая отношение к событиям последних
недель. Если достоверность их будет установлена, то можно утверждать, что
некоторые из большевистских лидеров все еще получают немецкие деньги в обмен на
товары.
Я рекомендовал бы придерживаться политики выжидания. Я не вижу пользы от
поддержки выпадов, подобных тем, о которых здесь шла речь. Всегда есть большой
шанс, что “утечки” вроде последней сфабрикованы в Германии.
Я делаю все от меня зависящее с тем, чтобы переправить все предполагаемые
улики в Вашингтон. Здесь от них никакого проку. А в то же время всегда может
оказаться полезным иметь их под рукой для использования во внутренних делах у нас
в стране.
Как я говорил выше, сомнительные свойства этих улик, не оказывая заметного
впечатления на русских, способны поразить иностранцев, заставив их поверить в
стопроцентную убедительность доказательств. В качестве газетной сенсации в
Америке они могут нанести сильнейший удар по пацифистскому движению”14.
Судя по всему, Буллард не был в восторге от того, что в Вашингтоне слишком
буквально поняли его совет и дали ход ’’документам Сиссона". Сам он вернулся в
США только осенью 1919 г. и сразу же по заданию Лансинга засел за доклад для
сенатской комиссии по иностранным делам - "Меморандум о некоторых аспектах
большевистского движения в России. Характер большевистской власти.
Экономические результаты большевизма. Программа мировой революции”15.
Вступление к докладу написал Лансинг, а большая часть публикации была отведена
приложению, где были помещены документы из истории большевизма и Коминтерна.
Упоминаний о "германском золоте" в объемистом документе не было. Ни единого.
Весной 1920 г. Буллард - заведующий Русским отделом госдепартамента, и уже в
этом качестве ему пришлось в мае высказать свое отношение к "документам Сиссона"
в связи с подготовкой служебного меморандума для высших чиновников
госдепартамента. Цо мнению Булларда, поступившая дополнительная информация по
делу ничуть не прояснила ситуации и не давала ключа к ответу на главный вопрос. В
связи с этим Буллард рекомендовал ограничиться следующей констатацией:
а) Сиссон организовал сбор документов в Петрограде по требованию посла США
Фрэнсиса. Это, очевидно, должно было переложить часть ответственности за
прямолинейность действий службы информации на утратившего расположение Белого
дома посла.
б) "Документы Сиссона" были опубликованы преждевременно, без проведения
"критической экспертизы". Сам Сиссон, проделавший главную работу по розыску этих
документов, не располагал ни необходимым знанием языка, ни пониманием
происходившего вокруг него. Говоря о том, что подлинность документов поставлена
под сомнение, Буллард предлагал отметить в меморандуме, что сам Сиссон никогда не
придерживался определенного мнения на этот счет.
в) После отъезда Сиссона американскому посольству было предложено купить еще
одну партию документов. Было признано, что вероятность подделки в этом случае
несколько даже выше, чем в первом случае.
г) Дополнительный свет на проблему будет пролит только в том случае, если
14 Princeton University. Mudd Library. Arthur Bullard Papers. Box 6. Folder: Writings. Subject. Russia, 1917-
1919. "German Gold. March 1918”.
15 Memorandum on Certain Aspects of the Bolshevist Movement in Russia. Character of Bolshevist Rule.
Economic Results of Bolshevist Control. Bolshevist Program of World Revolution. Washington, 1919.
51
удастся обеспечить содействие со стороны лица, вхожего в руководящие органы
большевиков и информированного об их внутрипартийных делах, которые ’’остаются
вне нашего поля зрения”.
Поскольку новые сведения ничего не прибавляли к уже известному, а поиски
’’внутрипартийного крота" не обещали успеха, Буллард предлагал воздержаться от
каких-либо публикаций на тему о "германском золоте". Ее реанимация, таким образом,
казалась ему утратившей актуальность, неосуществимой и нецелесообразной. А тем
временем, полагал он, следует продолжить поиск, как он выразился, "убедительных
доказательств"16. Кеннан последовал этому совету. О том, к какому выводу он
пришел, говорилось выше: "документы Сиссона" - подлог.
16 Princeton University. Mudd Library. Arthur Bullard Papers. Box 7. Bullard's Memorandum for Mr. Carter,
29 .V. 1920.
52
© 1993 г.
М.С. АЛЬПЕРОВИЧ
ЗАВЕРШЕНИЕ ИСПАНСКОЙ
КОЛОНИЗАЦИИ АМЕРИКИ В XVIII в.
Открытие, исследование и освоение Нового Света европейцами - длительный,
многосторонний процесс, продолжавшийся несколько столетий. Протекая во
времени и пространстве, он характеризовался значительной региональной и ста¬
диальной спецификой. В данной связи автору уже приходилось подчеркивать
необходимость научного анализа всех аспектов проблемы, с учетом особенностей
рассматриваемой исторической эпохи и локальных различий1. В этом смысле
немалый интерес представляет заключительный этап испанской колонизации
американского континента, завершившийся лишь к концу 70-х годов XVIII сто¬
летия.
В ходе завоевания Америки испанские конкистадоры к концу 20-х годов XVI в.
захватили обширную территорию, простирающуюся от Мексиканского залива до
Тихого океана, а в первой половине 30-х годов открыли полуостров Калифорнию,
в дальнейшем получивший название Нижней Калифорнии. Отдельные
мореплаватели исследовали побережье расположенной севернее Верхней
Калифорнии.
Параллельно со стороны России шло широкое колонизационное движение
через Сибирь к берегам Тихого океана и далее к северо-западу американского
континента. Однако открытие Берингова пролива С. Дежневым и Ф. Алексее¬
вым (Поповым) в 1648 г. практически долго оставалось неизвестным, равно как и
результаты плавания И. Федорова и М. Гвоздева, подошедших к побережью
Северной Америки в 1732 г. Лишь итоги Второй камчатской экспедиции, во
время которой В. Беринг и А.И. Чириков в июле 1741 г. достигли американского
берега соответственно на широте 58°14' и 55°20'2, стали достоянием гласности.
Уже во второй половине 40-х годов сведения о русских открытиях проникли в
Западную Европу. К тому времени на восток в поисках пушнины устремились
сибирские промышленники и купцы. С 1743 г. по 1755 г., по подсчетам
Р.В. Макаровой, были предприняты 22 промысловые экспедиции3. К началу 60-
х годов удалось открыть почти все острова Алеутской гряды.
Продвижение русских в сторону Америки не осталось незамеченным испан¬
цами, усмотревшими в нем угрозу своим владениям на тихоокеанском побережье.
Впервые об этом заявили публично во второй половине 50-х годов XVIII в. иезуи¬
ты Андрес Маркос Буррьель и Хосе Торрубия4.
В связи с восстановлением дипломатических и консульских отношений с Испа¬
нией, попытками развития торговли с ней и ее американскими колониями в
60-х годах возрос интерес правительства Екатерины II к Америке. Усилия по
1 См. Латинская Америка, 1987, № 6. с. 57; Новая и новейшая история, 1989, № 2, с. 58; Всеоб¬
щая история: дискуссии, новые подходы. Вып. 2. М., 1989, с. 83.
2 Подробнее см.: Болховитинов Н.Н. Россия открывает Америку. 1732-1799. М., 1991, с. 18-22.
3 Макарова Р.В. Русские на Тихом океане во второй половине ХУШ в. М., 1968, с. 55.
4 Obras califomianas del Padre Miguel Venegas, t. 3, p. IV. La Paz, 1979, p. 12-13; Torrubia G.
I Moscoviti nella California... Roma, 1759, p. 4-5, 66-67.
53
изучению ее северо-западного побережья нашли выражение в плавании
И. Синдта в 1764-1766 гг. и особенно в правительственной экспедиции П.К. Кре-
ницына-М.Д. Левашова, обследовавшей в 1768-1769 гг. Алеутские острова и
юго- западную оконечность Аляски, примерно до 54° с.ш.
В начале 1774 г. российский академик Якоб фон Штелин выпустил вместе с
наброском карты ’’Краткое известие о новоизобретенном Северном архипелаге"5,
которое сразу привлекло внимание в Западной Европе. Уже в феврале того же
года немецкий географ и картограф А.Ф. Бюшинг оповестил читателей о выходе
в свет упомянутого сообщения, кратко изложив его содержание. Весной 1774 г.
академик Г.Ф. Миллер на страницах издававшегося Бюшингом еженедельника
оспорил многие утверждения своего ученого коллеги относительно гео¬
графического положения и времени открытия земель, обнаруженных русскими
в северной части Тихого океана. Он уточнил при этом их координаты и названия,
маршрут экспедиции Синдта, береговую линию американского материка, пере¬
числив поименно 56 островов, принадлежащих к группам Командорских, Ближ¬
них, Крысьих, Андреяновских, Лисьих6. Тем не менее, еще в марте того же года
появился немецкий перевод подвергшегося критике сочинения, а спустя три меся¬
ца вышло его английское издание7.
Сравнительно широкое распространение ошибочных и неточных представле¬
ний, возникших с легкой руки Штелина, пробудило в научных кругах России
стремление внести в этот вопрос полную ясность и восстановить истину. С этой
целью в Германии было издано более или менее подробное и достоверное сооб¬
щение под названием "Новые известия о вновь открытых островах в море между
Азией и Америкой", подписанное инициалами J.L.S.**8 Оно содержало сведения о
24 экспедициях русских промышленников с середины 40-х до конца 60-х годов,
изложенные на основе подлинных документов из архива Академии наук и других
официальных источников.
Об экспедиции Креницына-Левашова в "Новых известиях..." упоминалось
лишь мимоходом. Значительно большее внимание уделил этому плаванию
королевский историограф Шотландии Уильям Робертсон, в ппоцессе подготовки
труда "История Америки" посетивший Петербург. Там ему удалось ознакомиться
с переводом судового журнала и копией карты упомянутой экспедиции, кото¬
рые Адмиралтейство держало в секрете даже от Академии наук. Таким образом,
историк получил, как он считал, возможность "дать более точное представ¬
ление о ходе и границах русских открытий, чем до сих пор сообщалось пуб¬
лике9
Робертсон использовал далеко не все материалы, выданные ему по приказа¬
нию Екатерины II. Но он передал их капеллану Уильяму Коксу - члену совета
королевского колледжа в Кембридже. Неутомимый путешественник, интересо¬
вавшийся историей и географией, Кокс в ходе своей поездки по Северной Европе
около полугода, с августа 1778 по февраль 1779 г., провел в России. По распоря¬
жению императрицы он получил доступ к важным документам, касавшимся рос¬
сийских экспедиций в северной части Тихого океана. Академик П.С. Паллас
5 См.: Географический месяцослов на 1774 год. СПб., [б.г.]. "Новым Северным архипелагом"
автор именовал Алеутские острова, ограничившись в тексте описанием Андреяновских островов,
Умпака и Кадьяка, исследованных русскими с начала 60-х годов по 1767 г.
6 Wóchcntliche Nachrichtcn, 14.11.1774, S. 56; 21.11.1774, S. 57-64; 28.П.1774, S. 65-70; IS.IV.1774,
S. 122-124; 25.IV.1774, S. 129-132; 2.V.1774, S. 137-138.
7 Stdhlin J. von. Das von den Russen in den Jahren 1765, 66, 67 entdekte nordlichc Inscl-Mccr, zwischen
Kamtschatka und Nordamerika. Stuttgart, 1774; StaehlinJ. von. An Account of the New Northern Archipelage,
Irately Discovered by the Russians in the Seas of Kamtschatka and Anadir. London, 1774.
8 J.L.S.** Neue Nachrichten von denen neuentdekten Insuln in dcr See zwischen Asicn und Amcrika...
Hamburg und Leipzig, 1776.
9 Robertson W. 'Die History of America, v. I. London, 1777, p. ХП.
54
вручил ему подготовленное ранее на основе публикации J.L.S.** описание остро¬
вов, открытых русскими, между Камчаткой и Америкой в 40-60-х годах, а также
копию карты плавания Афанасия Очередина (1766-1770 г.)10. Собрав множество
различных материалов, Кокс составил обстоятельный обзор российских открытий
’’между Азией и Америкой” и по возвращении в Англию издал его в начале
1780 г.11 Наиболее существенные положения этого труда с рядом дополнений
вошли в работу Палласа ”О российских открытиях на морях между Азией и
Америкой”12.
Английский мореплаватель Джеймс Кук, в ходе своего третьего кругосветного
путешествия достигший мыса Айси-Кейп северо-восточнее Берингова пролива,
на обратном пути 23 сентября 1778 г. подошел к острову Уналашка, где
обнаружил русских промышленников. Капитан и его спутники встретились там
с опытным мореходом Герасимом Измайловым. После трагической гибели Кука
на Гавайских островах суда экспедиции 18/29 апреля 1779 г. бросили якорь в
Петропавловской гавани. Доставленные ими материалы были получены в Петер¬
бурге весной 1780 г.
Таким образом, информация о приближении русских к северо-западному побе¬
режью Америки, получившем импульс в результате Второй камчатской экспеди¬
ции и нараставшем на протяжении 40-60-х годов XVIII в., нашла широкое рас¬
пространение. Достигнув наиболее заинтересованных европейских дворов, она
особенно встревожила мадридское правительство, использовавшее восстановле¬
ние дипломатических отношений с Россией в 1760 г. для того, чтобы внимательно
следить за ее действиями в северной части Тихого океана. В королевской
инструкции вновь назначенному посланнику маркизу Альмодовару от 9 марта
1761 г. предписывалось установить ’границы открытий, сделанных русскими при
попытках плаваний к Калифорнии”, причем выражалось опасение, что "в этих
попытках они преуспели больше, чем другие страны”. Перед дипломатом стави¬
лась задача по возможности препятствовать дальнейшему продвижению России
в данном регионе13.
По прибытии в Петербург посланник поспешил доложить в Мадрид, что не ви¬
дит в настоящее время реальной угрозы испанским интересам в Америке со сто¬
роны России, хотя не исключает возникновения ее в будущем. Вместе с тем в до¬
несении первому министру Рикардо Уоллу 26 сентября (7 октября) 1761 г. он ука¬
зывал, что если бы Беринг и Чириков, подойдя к американскому континенту, не
повернули на северо-запад, а поплыли на юг, то достигли бы владений Испа¬
нии14. Почти полтора года спустя маркиз сообщил о намерении российского пра¬
вительства снарядить новую экспедицию в Тихий океан для исследования Аме¬
рики к северо-западу от Калифорнии15 * (вероятно, имелась в виду экспедиция
И. Синдта).
Преемник Альмодовара виконт де ла Эррериа 19(30) марта 1764 г. уведомил
первого министра маркиза Гримальди о плавании русского судна из Авачинской
губы на северо-восток (можно предполагать, что речь шла о боте "Св. Гавриил"
под командованием Г. Пушкарева) и о другой экспедиции, вероятно, Н. Шал ау¬
рона, которой предстояло, двигаясь от устья Колымы в восточном направлении,
13 Сохе W. Travels in Poland, Russia, Sweden and Denmark. Dublin, 1784, v. 1, p. 285-499; v. 2; v. 3,
p. 3-76. Русс, пер.: Кокс У. Путешествие Уильяма Кокса (1778). - Русская старина, 1877, г. 18. № 2.
с. 309-324; т. 19, № 5, с. 23-52.
11 Сохе IV. Account of the Russian Discoveries between Asia and America. London, 1780.
12
Месяцослов исторический и географический на 1781 год. СПб., [б.г.], с. 1-150.
13 Corrcspondencia diplomatica del Marques de Almodovar..., Madrid, 1893, p. 13-14.
14 Hull A.H. Spanish and Russian Rivalry in the North Pacific Regions of the New World, 1760-1812.
Ph. D. Dis... University of Alabama, 1966, p. 43-46.
15 Corrcspondencia diplomśtica del Marques de Almodovar..., p. 295.
55
обогнуть Чукотский полуостров и пересечь Берингов пролив. Через полгода он
доложил в Мадрид о подготовке еще одной экспедиции, видимо, Креницына-Ле-
вашова, в северной части Тихого океана, приложив карту русских открытий на
северо-западе Америки с обозначением маршрутов плаваний Беринга и Чирико¬
ва. Тремя годами позже посланник с тревогой сообщал, что Россия не отказалась
от своих намерений в отношении Америки, и с этой целью русские, продвинув¬
шись через Берингов пролив в Тихий океан, уже высаживались на побережье
американского материка, предположительно в районе полуостровов Сьюард и
Аляска16.
Донесение от 19(30) ноября 1767 г., вместе с более ранней информа¬
цией, весьма обеспокоило мадридское правительство, усмотревшее в прибли¬
жении российских мореплавателей и промышленников к побережью Америки по¬
тенциальную опасность для Калифорнии. Последняя, по представлениям сов¬
ременников, находилась недалеко от Аляски. Однако испанцы закрепили за собой
к тому времени лишь большую часть Нижней Калифорнии почти до 30-й па¬
раллели.
Гримальди поспешил ознакомить с сообщением де ла Эррерии министра по
делам Индий и флота Хулиана де Аррьягу, а 23 января 1768 г. уведомил о его
содержании вице-короля Новой Испании маркиза де Круа. ’’Русские несколь¬
ко раз пытались отыскать путь к Америке и недавно осуществили свое
намерение, предприняв плавание в северной части Тихого океана, - писал первый
министр. - Мы уверены, что они добились успеха и достигли материка, но не
знаем, на какой широте они высадились... Вследствие сказанного полагаем, что
они снарядят новые экспедиции для продолжения своих открытий,
предположительно сделанных в тех местах". Вице-королю предписывалось по¬
ручить губернатору Калифорнии внимательно следить за вероятными попыт¬
ками дальнейшего продвижения русских и по возможности препятствовать
им17.
30 апреля глава колониальной администрации переправил циркуляр первого
министра прибывшему из метрополии для очередной инспекции генеральному
ревизору (виситадор хенераль) Хосе де Гальвесу.
Последний был в то время поглощен проблемой подавления восстания индей¬
цев северо-западной провинции Соноры. С этой целью виситадор и вице-король
выдвинули идею реорганизации системы управления колонии. В связи с возмож¬
ными попытками англичан, голландцев и русских проникнуть в Калифорнию вы¬
сказывалось пожелание основать испанское поселение на берегу залива Монте¬
рей или в другом пункте тихоокеанского побережья.
По пути в порт Сан-Блас Гальвес получил упоминавшееся выше послание
Гримальди от 23 января. Ознакомившись с ним, он интерпретировал это пред¬
писание как прямой приказ занять Монтерей и построить там укрепление. О сво¬
ем намерении приступить к выполнению такой задачи виситадор уведомил вице-
короля18.
Характеризуя сложившуюся ситуацию, североамериканский историк Чарлз
Э. Чапмэн считает, что предприимчивый Гальвес задумал экспедицию на север
еще до того, как узнал об активизации русских. Сведения о ней могли лишь
ускорить его действия19. Еще более определенно высказался другой исследова¬
тель Джон У. Кахи, который не усматривает реальной опасности для испанских
владений в Америке со стороны России в конце 60-х годов. "Тревожные слухи,
16 Hull А Н. Op. cit., р. 48-50, 57, 61-62, 271.
17 Treutlein Th.E. San Francisco Bay. Discovery and Colonization, 1769-1776. San Francisco, 1968,
p. 2-3.
1Я
Priestley H.l. Jose de Galvez, Visitor-General of New Spain. Berkeley, 1916, p. 246
19 Chapman Ch.E. The Founding of Spanish California. New York, 1973, p. 70, 84.
56
исходившие от посланника в Санкт-Петербурге, - указывает он, - преувеличи¬
вали угрозу Новой Испании... Испанский двор не был встревожен в такой мерс,
как принято считать. Вице-королю Новой Испании был послан приказ разузнать
о русской опасности, но ему не предписывалось колонизовать Калифорнию. Он
передал этот приказ генеральному ревизору, и именно указанный чиновник в
действительности предрешил, что Верхняя Калифорния должна быть колонизо¬
вана. При подобном истолковании российская угроза выглядит просто предло¬
гом”20. Однако, по мнению испанского исследователя Луиса Наварро Гарсии,
приближение русских к американскому континенту явилось подлинной причиной,
побудившей Гальвеса "поторопиться продвинуть форпост империи до самого
порта Сан-Франциско”21.
По прибытии в Сан-Блас, ставший морской базой операций в Верхней Кали¬
форнии, виситадор созвал 16 мая военный совет, утвердивший конкретный план
комбинированных действий. Он предусматривал одновременную отправку на
север кораблей и сухопутных экспедиций. Их подготовкой руководил сам Галь¬
вес, высадившийся в начале июля на юге Нижней Калифорнии. В январе-февра¬
ле 1769 г. оттуда в северном направлении отплыли одно за другим суда "Сан-
Карлос” и "Сан-Антонио", а в марте выступил в поход отряд Фернандо де Риве-
ры-и-Монкады, за которым в мае последовала экспедиция Гаспара де Портолы.
Основав в июле того же года миссию Сан-Диего, испанцы продолжали дальней¬
шее продвижение и в октябре на широте 37°48' открыли вход в залив Сан-
Франциско. В мае 1770 г. была учреждена миссия и построен форт на берегу
залива Монтерей, а затем основан ряд других миссий на побережье между Сан-
Диего и Сан-Франциско.
Для последующего освоения Верхней Калифорнии важное значение имели
известия, продолжавшие поступать из Петербурга, куда в сентябре 1772 г.
прибыл новый испанский посланник граф Ласи. В данных ему инструкциях специ¬
ально говорилось о "плаваниях, которые неоднократно совершали в Калифорнию
русские с ббльшим успехом, нежели другие народы". Посланнику вменялось в
обязанность выяснить, "предпринимались ли повторно такие экспедиции и с
каким результатом, или же от этой идеи отказались"22. Уже 11(22) октября Ласи
доложил в Мадрид о стремлении Екатерины II стимулировать поиски неизвест¬
ных земель в северной части Тихого океана23. А на протяжении первой поло¬
вины следующего года прислал несколько донесений, содержавших конкретную
информацию.
7(18) февраля 1773 г. Ласи уведомил Гримальди о состоявшемся в 1769—
1771 гг. плавании русских судов с Камчатки в Америку и обратно, отметив, что
его материалы хранятся в строжайшей тайне. Видимо, речь шла об экспедиции
Креницына-Левашова, хотя посланник по ошибке назвал ее начальника Чири¬
ковым. В пространном донесении 19 марта давалось подробное описание плава¬
ний Чичагова и Креницына-Левашова, полученное от некоего лица, имевшего
доступ к императорским архивам. При этом, как подчеркивал Ласи, русские
считали открытые ими земли продолжением Калифорнии, простиравшейся, по их
мнению, до 75-й параллели. По словам дипломата, в середине 60-х годов импера¬
трица разрешила купеческой компании, действовавшей на Камчатке, основать на
американском материке постоянное поселение на широте 64°24.
20 Caughey J.W. California. New York, 1940, p. 118, 120.
Navarro Garcia L. Don Jose de Galvez у la Comandancia General de las Provincias Intcmas del Norte
de Nueva Espana. Sevilla, 1964, p. 536.
22 Corpus diplomatico Hispano-Ruso (1667-1799), v. I. Madrid, 1991, p. 185.
23 Volkl E. RuBland und Lateinamerika 1741-1841. Wiesbaden, 1968, S. 73.
24 Kadura R. Z pramenu k ruskym objevnym ccstam v 2. pol. 18. stol. v mexickem archivnim fondu. -
Ccskoslovensky casopis historicky, 1963, № 6, s. 809-810.
57
Подтверждая и конкретизируя эти данные, посланник 23 апреля, со ссылкой
на беседу с прибывшим в Петербург неким жителем Камчатки, уточнил, что на
островах, расположенных между Камчаткой и американским континентом, име¬
ются три русских селения: два - на Командорских островах (о. Беринга и о. Мед¬
ном), а третье - на о. Семидок (видимо, подразумевался один из островов
Семиди, к востоку от полуострова Аляски, примерно на широте 56°). На послед¬
нем находились якобы 4 тыс. охотников - преимущественно казаков и несколько
принудительно переселенных американцев. Считая очевидным создание русских
поселений поблизости от владений Испании в Америке, Ласи полагал, что это
обстоятельство "заслуживает самого серьезного внимания и требует своевре¬
менного принятия мер, чтобы противодействовать успехам этой нации"25.
11 мая испанский дипломат сообщил Гримальди о полученном императрицей
предложении по окончании войны с турками отправить часть российской эскадры
из Средиземного моря вокруг мыса Доброй Надежды на Камчатку, а оттуда в
Америку. По утверждению автора этого проекта, Россия имела больше основа¬
ний претендовать на американские земли, нежели какая-либо иная держава, так
как в прошлом они заселялись выходцами из Сибири26.
Под влиянием тревожных вестей из Петербурга в Мадриде возникли сомне¬
ния, достаточны ли предпринятые усилия по колонизации Верхней Калифорнии,
чтобы сдержать возможный натиск русских. 11 апреля 1773 г. министр по делам
Индий Аррьяга поручил вице-королю Новой Испании Букарели-и-Урсуа принять
необходимые меры для выяснения границ их продвижения. 25 сентября он пере¬
слал в Мехико копии упомянутых выше донесений Ласи от 19 марта и 11 мая,
предписав главе колониальной администрации постараться выяснить, "продви¬
гаются ли русские в тех местах, и сообщить, что там происходит"27. Правда,
четыре месяца спустя в очередном послании вице-королю министр заметил, что
не придает особого значения российским открытиям и не видит пока оснований
волноваться по этому поводу, но считает намечаемые акции целесообразными,
поскольку они способствуют распространению власти Испании на новые терри¬
тории28. 15 июня 1774 г., направляя Бу карел и копию донесения Ласи от 23 апре¬
ля, Аррьяга еще раз напомнил о необходимости внимательно следить за действи¬
ями русских на побережье Америки и подробно сообщать обо всем в Мадрид29.
Между тем, получив указания правительства, вице-король 18 июля 1773 г.
приказал опытному морскому офицеру Хуану Хосе Пересу Эрнандесу составить
план разведывательного плавания вдоль побережья Калифорнии в северном
направлении, о чем 27 июля доложил Аррьяге. 1 сентября Перес завершил раз¬
работку документа, а 24 декабря Букарели подписал секретные инструкции,
определявшие задачу экспедиции. На нее возлагалось исследование побережья к
северу от Монтерея, по меньшей мере, до 60° с.ш., т.е. примерно до широты,
достигнутой в свое время Берингом, и предписывалось в местах, подходящих для
основания поселений, сооружать на берегу крест и осуществлять формальную
церемонию вступления во владение данной территорией. Если по пути где-либо
будут обнаружены иностранные селения, следует точно установить их коорди¬
наты и, высадившись севернее, именем короля объявить соответствующий учас¬
ток побережья принадлежащим испанской короне30.
25 Ibid., s. 812.
Ibid., s. 811. Подробное изложение и анализ указанных донесений Ласи см.: Chapman Ch.E.
Op. cii., p. 224-226, 232.
27 Badura B. Op. cit., s. 809.
28 Chapman Ch.E. Op. cii., p. 227.
^Badura В. Op. cit., s. 811.
30 Chapman Ch.E. Op. cit., p. 228-229.
58
В полночь 25 января 1774 г. фрегат ’Сантьяго" под командованием Переса
отплыл из Сан-Бласа, но лишь в середине июня покинул гавань Монтерея. Про¬
двигаясь на север, он через пять недель достиг примерно 55° с.ш., откуда из-за
сильных течений, встречных ветров и сплошных туманов вынужден был 22 июля
повернуть назад. На обратном пути, следуя курсом на юго-запад вдоль западного
берега острова Ванкувер, принятого им за выступ материка, Перес 8 августа
обнаружил на широте 49°35' вход в узкий залив, отделяющий от Ванкувера
лежащий западнее его центральной части небольшой островок. Назвав свое
открытие "Якорной стоянкой Сан-Лоренсо"31, мореплаватель продолжал путь на
юг и в начале того же года возвратился в Сан-Блас.
26 ноября 1774 г. Букарели доложил в Мадрид, что, хотя Перес не выполнил
полностью данное ему поручение, удалось установить отсутствие иностранцев в
обследованной им части калифорнийского побережья. Однако еще до того как
это сообщение было получено в испанской столице, оттуда последовал приказ
перейти к более решительным действиям. Толчком к нему послужило очередное
донесение Ласи от 25 января 1774 г., к которому прилагалась карта, где был
показан открытый русскими архипелаг в Тихом океане. Отправляя в июне
1774 г. копии этих документов в Мехико, Аррьяга вновь напомнил вице-королю
о необходимости внимательно наблюдать за поведением русских, хотя и огово¬
рился, что считает угрозу с их стороны весьма отдаленной. Но 23 декабря того
же года министр передал Букарели указ Карла III, предлагавший, если на побе¬
режье Калифорнии будут обнаружены чужеземцы, категорически потребовать их
ухода, а в случае отказа удалить силой32.
К тому времени, когда это предписание дошло до адресата, вице-король успел
снарядить новую морскую экспедицию. Поставив перед ней в основном ту же
задачу, что и перед предыдущей, он приказал проплыть дальше на север - до 65°
с.ш., избегая иностранных поселений, если таковые окажутся где-либо.
Присланный из Мехико отчет об итогах плавания Переса, вероятно, в какой-
то мере успокоил мадридское правительство. 1 июня Аррьяга направил донесе¬
ние вице-короля вместе с путевым журналом капитана "Сантьяго" на отзыв
астроному Висенте Досу, несколькими годами раньше побывавшему в Нижней
Калифорнии. Хорошо знакомый с описаниями русских открытий в Северной
Америке, Дос в своем заключении, отметив давнее стремление России достиг¬
нуть испанских владений, констатировал тщетность предпринимавшихся до сих
пор попыток и высказал мнение, что пока Испании нечего опасаться33. Оптимис¬
тический прогноз Доса, должно быть, также оказал успокаивающее действие на
правящие круги. А в начале следующего года мнение ученого подтвердили вес¬
ти, поступившие из Америки.
16 марта 1775 г. из Сан-Бласа отправились в плавание три судна: уже извест¬
ный нам фрегат "Сантьяго", на сей раз им командовал Бруно де Эсета, шхуна
"Сонора" под командованием капитана Хуана Франсиско де ла Бодега-и-Куадра и
пакетбот "Сан-Карлос" под командованием Хуана де Айялы. Новая экспедиция,
продолжавшаяся около восьми месяцев, достигла 58° с.ш., так и не встретив
русских. В ходе ее мореплаватели высадились в нескольких пунктах нынешнего
Архипелага Александра (остров Чичагова, остров Принца Уэльского), проделав
обычную процедуру взятия этих земель во владение испанской монархии.
Одновременно происходила колонизация Верхней Калифорнии сухопутными
отрядами. Еще в мае 1772 г. комендант крепости Тубак, самой северной в Новой
Испании, - Хуан Баутиста де Анса представил вице-королю проект похода с
целью проложить маршрут к Сан-Диего и Монтерею. В сентябре следующего
31 Cook W.L. Flood Tide of Empire. New Haven - London, 1973, p. 63.
32 Chapman Ch.E. Op. cit., p. 235-240.
33 Ibid., p. 240-241.
59
года это предложение, с ведома мадридского правительства, было одобрено, и в
январе 1774 г. Анса в сопровождении монаха-францисканца Франсиско Гарсеса
отправился в путь. Двигаясь на северо-запад, он переправился через реку Коло¬
радо и 22 марта вышел к океану в районе миссии Сан-Габриэль (на месте кото¬
рой вырос впоследствии Лос-Анджелес), откуда повернул к Монтерею. В мае
Анса возвратился в Сонору34. Но уже в ноябре он получил распоряжение доста¬
вить в Верхнюю Калифорнию большую группу колонистов и домашний скот.
В октябре 1775 г. возглавляемая им экспедиция вторично выступила в дальний
поход, прошла уже изведанным ранее маршрутом и далее вдоль побережья до
залива Сан-Франциско, после чего к июню следующего года отряд Ансы вернул¬
ся обратно. А колонисты приступили к освоению территории и в сентябре 1776 г.
основали форт, а вслед за тем и миссию Сан-Франциско.
Энергичные и эффективные поиски прохода из Верхней Калифорнии в Новую
Мексику предпринял упоминавшийся Франсиско Гарсес, который в 1776 г. пере¬
сек пустыню Мохаве и открыл Калифорнийскую долину35.
Если вести, поступавшие из Новой Испании, казалось, не подтверждали нали¬
чия реальной угрозы со стороны России, то Ласи продолжал слать сообщения,
содержавшие дополнительные данные об интересах и действиях русских в север¬
ной части Тихого океана. Так, в конце апреля 1775 г. он писал из Москвы о бес¬
покойстве российского правительства в связи с плаванием Переса, о котором в
Петербурге узнали из заметки в лейденской газете от 21 марта, 1 мая посланник
повторно коснулся этого вопроса. Кроме того, в подтверждение прежней инфор¬
мации о деятельности русских в Америке к его донесению был приложен испан¬
ский перевод документа, включавшего сведения о российской торговле на
северо-западном побережье Северной Америки. Там говорилось, в частности, что
в этом регионе русскими открыты земли, простирающиеся от севера Калифорнии
примерно до 67° с.ш. Сообщалось о создании в 1763 г. купеческой компании для
ведения торговли с Камчаткой и вновь открытыми островами, а также для
дальнейших исследований. С 1768 по 1773 г. она якобы снарядила и отправила к
западному побережью Северной Америки семь кораблей36.
15(26) июня 1775 г. Ласи послал в Мадрид копию карты русских открытий в
Америке с приложением перевода пояснительного текста. Составивший его
Г.Ф. Миллер изложил предысторию, ход и результаты исследования Алеутского
архипелага в 1764-1767 гг., дал описание обнаруженных в тот период островов, а
также Камчатки37. В октябре 1775 г. Гримальди переправил эти донесения
Аррьяге.
Активизации действий Испании на северо-западном побережье Америки,
наряду с опасениями, вызванными российскими открытиями, способствовало то
обстоятельство, что этот регион привлекал все большее внимание Англии.
В связи с подготовкой третьего кругосветного плавания Кука испанская
агентура установила, что одной из главных задач нового путешествия знаме¬
нитого морехода является посещение северо-западных берегов Америки в поис¬
ках северо-западного прохода из Атлантического в Тихий океан. Учитывая это,
Хосе де Гальвес, занявший после смерти Аррьяги пост министра по делам Индий,
в мае 1776 г. предписал вице-королю Новой Испании Букарели-и-Урсуа
отправить в будущем году экспедицию для закрепления контроля над побсрежь-
34 Descubrimiento de Sonora a Califomias en el ano de 1774. - Noticias у documentos accrca de las
Califomias. 1764-1795. Madrid, 1959, p. 137-157.
35 Di ario del viaje del padre Francisco Garces (1775-1776). Mexico, 1968, p. 13-87. Об экспедиции
Ансы и Гарсеса см. также: Hague. Н. The Road to California. Glendale, 1978, p. 58-98.
36 Barras у de Aragon. F.de las. Los rusos en el noroeste de America. - Anales de la Asociación Espanola
para et Progreso de las Ciencias, ano XXI, № 1. Madrid, 1956, p. 116, 124-126.
37 Ibid., p. 117-124.
60
ем, открытым испанцами в первой половине 70-х годов. Уже через несколько
дней после отплытия Кука из Плимута Гальвес уведомил об этом Букарели, а
18 октября 1776 г. Карл III распорядился при первой возможности арестовать
Кука и его людей.
Но снаряжение испанских кораблей затянулось, а тем временем мадридское
правительство, внимательно следившее за маршрутом Кука, в конце концов все
же потеряло его из виду. Между тем английские суда "Резолюшн" и ’’Дискавери"
29 марта 1778 г. вошли в залив Сан-Лоренсо, впервые обнаруженный почти
четыре года назад Пересом. В устье его оказалась удобная бухта, названная
Куком "Дружественная гавань". Со временем первоначальное испанское обозна¬
чение в сочетании с тем, которое употребляли местные жители, превратилось в
Сан-Лоренсо де Нутка (у англичан Нутка-зунд). Продолжая плавание, Кук при
возвращении был убит гавайцами.
Лишь за три дня до его гибели испанские фрегаты "Принцесса" и "Фаворита"
под командованием капитанов Игнасио де Артеаги и Бодеги-и-Куадры отплы¬
ли, наконец, из Сан-Бласа и через пять с половиной месяцев достигли 61° с.ш.
Там, на берегу бухты острова Хинчинбрук, у входа в залив Принс-Вильям,
они 22 июля 1779 г. объявили эту землю испанским владением, в знак чего
соорудили крест. Это была самая северная точка, достигнутая в Аме¬
рике испанцами, чьи притязания распространялись впоследствии на территорию
до 61° с.ш.
Итак, в течение десятилетия граница государственных интересов Испании на
американском континенте переместилась далеко на север - к 61-й параллели.
В дальнейшем исследовании этого региона с конца 70-х годов временно наступи¬
ла пауза в связи с вступлением пиренейской монархии в войну с Англией.
Подводя итог рассматриваемому этапу испанской экспансии в северо-западной
Америке, следует заметить, что высказываемое нередко в исторической литера¬
туре мнение, будто он был обусловлен исключительно "русской угрозой"38,
вызывает серьезные зозражения. Думается, историки, придерживающиеся такой
точки зрения, исходили из поверхностной оценки фактов и чисто логических
умозаключений. Поскольку исследованию и колонизации Верхней Калифорнии
испанцами предшествовало продвижение русских к северо-западу Америки, эти
авторы, ориентируясь на хронологическую последовательность событий, склонны
рассматривать действия Испании всего лишь как ответную реакцию на рос¬
сийские открытия.
Между тем в действительности дело обстояло вовсе не так просто. Как пока¬
зано выше, мадридское правительство в ряде случаев не придавало серьезного
значения тревожным сигналам из Петербурга, считая опасения своих посланни¬
ков при дворе Екатерины II преувеличенными. Такая позиция побудила и коло¬
ниальную администрацию Новой Испании ставить перед отправляемыми на
север экспедициями только исследовательские задачи, особенно когда выясни¬
лось отсутствие русских в изучаемом районе.
В этом смысле заслуживают внимания красноречивые свидетельства совре¬
менников. Примечательно, что в поденном журнале второго штурмана шхуны
"Сонора" Франсиско Антонио Мореля нет ни единого упоминания о России и
русских. Издатель же этой публикации, член лондонского королевского общества
и член-корреспондент Академий наук в Париже, Мадриде и Петербурге Жуан
зв
См. Мирошевский В.М. Освободительные движения в американских колониях Испании от их
завоевания до войны за независимость, 1492-1810 гг. М.-Л., 1946, с. 87-88; Макарова Р.В. Указ,
соч., с. 147; Herndndez Sdnchez-Barba М. La ultima expansion espanola en America. Madrid, 1957, p. 292;
Volkl E. Op. cit.,S.48, 70-71; Archer Ch.I. The Transient Presence: A Reappraisal of Spanish Attitudes
toward the Northwest Coast in the Eighteenth Century. - Western Perspectives I. Toronto - Montreal, 1974
p. 45; Bartley R.H. Imperial Russia and the Struggle for Latin American Independence, 1808-1828. Austin,
1978, p. 22.
61
Жасинту ди Магеллан (Магальяинш) - потомок великого португальского море¬
плавателя - полагал, будто, несмотря на наличие потенциальной угрозы с рос¬
сийской стороны, на самом деле плавания испанцев середины 70-х годов вдоль
берегов Калифорнии были вызваны беспочвенными подозрениями по поводу
агрессивных намерений англичан и их попытками найти северо-западный про¬
ход39.
В итоге тщательного анализа дипломатической переписки и иных источников
уже цитировавшийся выше Ч. Чапмэн пришел к выводу, что продвижение рус¬
ских явилось лишь одной из причин, обусловивших испанскую колонизацию Верх¬
ней Калифорнии. Отправка экспедиций на север была задумана, по его словам,
еще до того, как донеслись тревожные вести с берегов Невы, хотя исследова¬
тель допускает, что они могли ускорить действия испанцев40. Развивая и
конкретизируя эту мысль, соотечественники Чапмэна Джон У. Кахи, Стюарт
Р. Томпкинз и Макс Л. Мурхед, Энтони X. Хэлл, испанский историк Энрикета
Вила Вилар и другие среди прочих факторов, стимулировавших экспансию Испа¬
нии в северной части Тихого океана, помимо активизации усилий англичан, назы¬
вают стремление к географическому исследованию Калифорнии в свете планов
ее дальнейшего освоения, потребность в дополнительных морских базах для
промежуточных стоянок манильского галиона, давление, оказывавшееся на
мадридское правительство францисканским орденом, нуждавшимся в территории
для развертывания миссионерской деятельности41.
Хотя испанские экспедиции осуществлялись втайне и их результаты не под¬
лежали огласке, кое-что все же проникло в печать. Так, открытия, сделанные
экспедицией Гаспара де Портолы, нашли отражение в путевых записках ее
участника Мигеля Костансо и на составленной им карте, включавшей полуостров
Калифорнию, Калифорнийский залив и побережье Северной Америки от 43° до
20°24' с.ш. Краткие сообщения о плавании Переса появились в Лейдене в 1775 г.
и Лондоне в 1776 г., а в 1780 г. увидел свет бортовой журнал Ф. А. Мореля.
Все эти данные стали известны и в России. Но еще раньше до Петербурга по
дипломатическим каналам дошла важная информация. В конце января 1774 г. из
Кадиса было получено донесение консула Бранденбурга о подготовке к дальнему
рейсу 30-пушечного фрегата под командованием капитана первого ранга Хуана
де Лангара. Предположительно, сообщал консул, корабль направится к берегам
Перу, а затем будут вестись исследования вдоль побережья Калифорнии42. Две
недели спустя российский посланник в Мадриде С.С. Зиновьев доложил о том же,
добавив, что "повелено оному капитану продолжать путь свой по Калифорний¬
ским берегам, сколь далеко возможно будет, стараться всеми силами искать
проход к Камчатке, также где возможно выходить на берег для открытия новых
земель”43.
В апреле 1775 г. Зиновьев отослал в Петербург фраш^узский перевод двух
писем из Новой Испании, оказавшихся в распоряжении Бранденбурга. В одном из
них говорилось о прибытии в Сан-Блас фрегата ’’Сантьяго”, дошедшего до 55-й
параллели, в другом - о предстоящем отплытии из этого порта следующей
экспедиции (Эсеты-Бодеги-и-Куадры) на север44. Не прошло и года, как послсдо-
39 Maurelle F.A. Journal of a Voyage in 1775. [London, 17801, P- IV, VIII.
40 Chapman Ch£. Op. cit., p. 70, 84, 174, 183, 186, 217.
41 Caughey J.W. Op. cit., p. 141; Tompkins S.R., Moorhead M.L. Russia's Approach to America, p. II. -
The British Columbia Historical Quarterly, v. 13. Victoria, 1949, № 3-4, p. 254-255; Hull Л.Н. Op. cit.,
p. 72, 74-75; Vila Vilar E. Los rusos en America. Sevilla, 1866, p. 65, 92.
42 Архив внешней политики Российской Империи, ф. Сношения России с Испанией, он. 58, д. 600,
л. 11. И.Ф. Бранден.бург - Коллегии иностранных дел, 26 декабря 1773 г.
43 Там же, д. 351, л. 4об.-5. С.С. Зиновьев - Н.И. Папину, 10 января 1774 г.
44 Там же, д. 358, л. 94-95. С.С. Зиновьев - Н.И. Панину, 9(20) апреля 1775 г.
62
вало донесение из Мадрида, что "экспедиция для изобретения новых в Северной
Калифорнии земель продолжается с успехом. По последним известиям вицероя
мексиканского (под ведомством которого сие производится) уведомляет, что
дошли с лишком до 58 градуса"45. В мае 1776 г. посланник, сообщая о возвра¬
щении экспедиционных судов, констатировал, что, как явствует из бортовых
журналов, участники плавания "землями от порта Монтерей до 58° высоты име¬
нем короля Гишпанского овладели, с соглашением тамошних жителей"46.
В 1777 г. Зиновьев прислал в Коллегию иностранных дел упомянутые выше
карту и рукописную копию описания "последнего путешествия в Калифорнию",
где нашли отражение итоги сухопутной и морской экспедиций 1769-1770 гг.47
Вслед за выходом из печати журнала Мореля Магеллан немедленно отправил его
с дарственной надписью Петербургской Академии наук. На основе этой пуб¬
ликации П.С. Паллас уже в 1781 г. издал в Петербурге предварительный обзор
плавания Эсеты-Бодеги-и-Куадры, а в 1782 г. - немецкий перевод самого жур¬
нала.
Поступление информации об открытиях испанских мореплавателей в северной
части Тихого океана стимулировало усилия русских по изучению и освоению
региона. При этом правительство Екатерины II вплоть до конца 80-х годов
XVIII в. неизменно рассматривало в качестве южного рубежа своих американских
владений широту 55°20', достигнутую когда-то А.И. Чириковым. Лишь в период
Нутка-зундского международного кризиса 1789-1790 гг. оно согласилось признать
претензии Испании на территорию, простирающуюся "за залив Принс-Вильям"
(т.е. к югу от 61° с.ш.).
Но с урегулированием англо-испанского конфликта (октябрь 1790 г.), сопро¬
вождавшимся ослаблением позиций пиренейской монархии на северо-западе
Америки, мадридский двор вынужден был фактически ограничить свои интересы
примерно 50-й параллелью. В сложившейся обстановке правительство Павла I не
пожелало закрепить прежнюю договоренность с Испанией формальным актом, и
при образовании Российско-американской компании (1799 г.) официально
объявило южной границей сферы ее деятельности 55-ю параллель.
45 Там же, д. 362, л. 35. С.С. Зиновьев - Н.И. Панину, 14(25) марта 1776 г.
46 Там же, д. 69. С.С. Зиновьев - Н.И. Панину, 5(16) мая 1776 г.
47 Там же, д. 368, л. 30, 32, 33-69. С.С. Зиновьев - Н.И. Панину, 20(31) марта 1777 г.
63
Из Архива Президента РФ
© 1993 г.
ПОЕЗДКА В.М. МОЛОТОВА В БЕРЛИН
В НОЯБРЕ 1940 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Поездка председателя совета народных комиссаров, народного комиссара
иностранных дел СССР В.М. Молотова в Германию, состоявшаяся 12-14 ноября
1940 г., стала сенсацией, сразу облетевшей весь мир. Миссия Молотова до сих пор
привлекает внимание общественности и вызывает повышенный интерес
исследователей, которые по-разному трактуют и оценивают ее1. Этот интерес не
случаен, ибо публикуемые ниже советские материалы переговоров Молотова с
рейхсканцлером Гитлером, рейхсминистром иностранных дел Риббентропом, беседы с
германским послом в СССР Шуленбургом, рейхсмаршалом Герингом, заместителем
Гитлера Гессом важны для понимания взаимоотношений двух государств накануне
войны между ними.
Визит Молотова в Берлин состоялся по приглашению Риббентропа, который 13
октября 1940 г. обратился к Сталину со специальным письмом. Основной смысл его
заключатся в том, что Гитлер предлагал Сталину присоединиться к подписанному в
сентябре 1940 г. Тройственному пакту и совместно с его участниками - Германией,
Италией и Японией - определить "сферы интересов" каждой из стран в глобальном
масштабе2.
Послание Риббентропа было получено в Кремле 17 октября. Вечером 21 октября
Молотов вручил Шуленбургу ответ Сталина, в котором говорилось, что "дальнейшее
улучшение отношений между нашими странами возможно лишь на прочной основе
разграничения долгосрочных взаимных интересов"3.
В конце октября по дипломатическим каналам было согласовано, что глава
советского правительства прибудет в Берлин 12 ноября и проведет там два дня.
Кроме Молотова в советскую делегацию входили: заместитель наркома иностранных
1 Филиппов ИД. Записки о "третьем рейхе". М., 1970; Бережков В.М. Страницы дипломатической
истории. М., 1987; Кегель Г. В бурях нашего века. М., 1987; Розанов ГЛ. Сталин - Гитлер. 1939-1941. М.,
1991; Ширер У. Взлет и падение третьего рейха, т. 2. М., 1991; Семиряга М.И. Тайны сталинской
дипломатии. 1939-1941 гг. М., 1992; Орлов А.Г. Третий рейх и третий Рим. 1933-1941. М., 1993; Hilger G.,
Meyer A. The Incompatibl Allies. A Memoir-History of German-Soviet Relations, 1918-1941. New York, 1953;
Hilger G. Wir und der Kreml. Deutsch-sowjetische Beziehungen 1918-1941. Frankfurt a.M. - Berlin, 1959' Fabry
Ph. Die Sowjetunion und das Dritte Reich. Eine dokuinentierte Geschichte der deutsch-sowjetischen Beziehungen von
1933 bis 1941. Stuttgart, 1971; Schmidt P. Statist auf diplomatischer Biihne 1923-1945. Wiesbaden, 1986;
Fleischhauer J. Diplomatischer Widerstand gegen "Untemehmen Barbarossa". Berlin - Frankfurt a.M., 1991.
2 Akten zur Deutschen Auswartigen Politik 1918-1945. Aus dem Archiv des Deutschen Auswartigen Amts (далее
- ADAP), Serie D. 1937-1945, Bd.XI.l. Bonn, 1964, S. 248-253; Оглашению подлежит: СССР - Германия,
1939-1941. М., 1991, с. 228-235.
3 ADAP, Serie D, Bd.XI.1, S. 300-301; Оглашению подлежит..., с. 238.
64
дел В.Г. Деканозов*, нарком черной металлургии И.Т. Тевосян, заместитель наркома
внешней торговли А.Д. Крутиков. В качестве переводчиков выступали помощник
наркома иностранных дел В.М. Бережков и первый секретарь советского полпредства
в Берлине В.Н. Павлов.
Визит Молотова в столицу "третьего рейха" проходил на фоне трагических событий
второй мировой войны, пламя которой раздувал Гитлер. "Третий рейх" установил свое
господство над значительной частью Европы. К ноябрю 1940 г. вермахт оккупировал
Польшу, Францию, Бельгию, Голландию, Люксембург, Данию и Норвегию. Германия
угрожала высадить экспедиционный корпус на Британские острова. Германские войска
находились также в Финляндии и Румынии.
Надо отметить, что 14 октября 1940 г. Сталин и Молотов утвердили разра¬
ботанный Генштабом РККА новый оперативный план "Соображения об осно¬
вах стратегического развертывания Вооруженных Сил Советского Союза на Запа¬
де и на Востоке на 1940-1941 годы", в первом разделе которого делался следующий
вывод о противниках СССР: "Таким образом, Советскому Союзу необходимо быть
готовым к борьбе на два фронта: на Западе против Германии, поддержанной Италией,
Венгрией, Румынией, Финляндией, и на Востоке - против Японии, как открытого
противника, или противника, занимающего позиции вооруженного нейтралитета,
всегда могущего перейти в открытое столкновение"4. Предполагалось, что главным
театром военных действий станет Западный, а наиболее вероятным противником
будет Германия.
Естественно, советское руководство было заинтересовано в информации о
намерениях и планах правительства Германии. Тем более что из Берлина стали
поступать в Москву все более тревожные и противоречивые сведения о разраба¬
тываемых командованием вермахта планах последующих военных кампаний.
Во время первой беседы с Молотовым 12 ноября 1940 г. Гитлер самоуверенно
заявил, что в скором времени с Англией будет покончено. После поражения
Великобритании Берлин и Москва могут приступить к разделу ее колониального
наследства. Сотрудничество двух государств, лодчеркивг т Гитлер, было важно и
полезно после заключения пакта о ненападении. Молотов, согласившись с Гитлером, в
подтверждение его слов признал выгоды, полученные обеими странами от соглашений
1939 г., в результате которых Германия "получила надежный тыл и это имело
большое значение для развития военных событий на Западе, включая поражение
Франций; правильно были также решены вопросы о Литве и Восточной Польше".
Затем глава советского правительства перешел к вопросу о Тройственном пакте и
поставил в этой связи вопросы о странах Черноморского региона, а также о "новом
порядке" в Европе и Азии и границах восточноазиатского пространства.
Рейхсканцлер ответил, что Тройственный пакт предусматривает руководящую роль
в Европе двух государств в областях их естественных интересов и предложил
Советскому Союзу "указать те области, в которых он заинтересован. То же в
отношении Великого Восточноазиатского пространства - Советский Союз должен сам
сказать, что его интересует. Он (Гитлер) предлагает Советскому Союзу участвовать
как четвертому партнеру в этом пакте".
В конце беседы председатель совета народных комиссаров СССР многозначительно
заявил: "Советский Союз может принять участие в широком соглашении четырех
держав, но только как партнер, а не как объект (а между тем только в качестве
такого объекта СССР упоминается в тройственном пакте), и готов принять участие в
некоторых акциях совместно с Германией, Италией и Японией, но для этого
необходимо внести ясность в некоторые вопросы". * 3
Доверенное лицо наркома внутренних дел СССР Л.П. Берии. В декабре 1940 г. назначен советским
полпредом в Германии.
Горьков Ю.А. Готовил ли Сталин упреждающий удар против Гитлера в 1941 г. - Новая и новейшая
история, 1993, Aft 3, с. 32.
3 Новая и новейшая история, № 5 65
Этот же тезис немецкий переводчик П. Шмидт записал так: ’’Участие России в
Тройственном пакте представляется ему (Молотову. - Г.С.) в принципе абсолютно
приемлемым при условии, что Россия является партнером, а не объектом. В этом
случае он не видит никаких сложностей в деле участия Советского Союза в общих
усилиях. Но сначала должны быть более точно определены цели и значение пакта,
особенно в связи с определением великого восточноазиатского пространства”5.
При второй встрече, состоявшейся на следующий день, в центре внимания Гитлера
и Молотова оказались проблемы стран Восточной Европы. Глава советского
правительства поставил вопрос об устранении разногласий и недоразумений в
отношениях двух государств, прежде всего о выводе германских войск из Финляндии и
Румынии. Рейхсканцлер решительно выступил против. Он заявил, что Германия ведет
войну и ей нужно сырье. Финляндия является поставщиком леса и никеля, а Румыния
- нефти. Поэтому рейх заинтересован в этих странах. Настойчивые и неоднократные
требования Молотова выполнить существовавшие соглашения относительно
Финляндии были отвергнуты6. То же самое было и в отношении Румынии, которой
Германия и Италия дали гарантии неприкосновенности без уведомления Москвы.
Когда Молотов предложил предоставить гарантии советского правительства
Болгарии, Гитлер заявил, что это невозможно без согласия Италии и Болгарии.
Беседы Риббентропа с Молотовым 12 и 13 ноября 1940 г. касались тех же вопросов,
которые обсуждались с Гитлером. Рейхсминистр иностранных дел настойчиво пытался
убедить главу советского правительства в том, что война Германии с Англией уже
выиграна, помощь Англии со стороны Америки обречена на провал и приближается
время раздела британского колониального наследства. Россия может воспользоваться
этим в случае присоединения к Тройственному пакту. Ей представится возможность
продвинуться на юг - в направлении Персидского залива и Аравийского моря. На
вопрос Молотова о Тройственном пакте Риббентроп ответил, что в нем ”не должно
содержаться ничего, что было прямо или косвенно направлено против СССР”, и
признался, что для него самого не совсем еще ясно понятие ’’Великое
восточноазиатское пространство”.
13 ноября 1940 г. Риббентроп вручил Молотову предложения о пакте четырех
держав. Текст пакта подлежал опубликованию, однако его предлагалось дополнить
двумя секретными протоколами. В первом говорилось, что интересы Германии
распространяются на Европу и Центральную Африку, Италии - также на Европу и
Северную и Северо-Восточную Африку, Японии - на районы Восточной Азии к югу
от Японской империи, Советского Союза - в направлении Индийского океана. Четыре
державы обязуются уважать территориальные интересы друг друга. Во втором -
Германия, Италия и Советский Союз заявляли о намерении освободить Турцию от ее
международных обязательств и вовлечь в политическое сотрудничество, изменить
подписанную в Монтре конвенцию о средиземноморских проливах7 и предоставить
СССР неограниченное право прохода через проливы в любое время.
Для продолжения переговоров предусматривался визит Риббентропа в Москву. Не
исключалось также проведение конференции с участием итальянских и японских
представителей.
Смысл проекта Риббентропа сводился к тому, чтобы добиться присоединения
Советского Союза к Тройственному пакту, включить его в германо-итало-японскую
коалицию и втянуть в войну против Великобритании. Одновременно дипломатия
Берлина рассчитывала изолировать Советский Союз от Восточной Европы,
5 Оглашению подлежит..., с. 258.
6 Имеется в виду секретный дополнительный протокол о границе сфер интересов Германии и СССР,
подписанный Молотовым и Риббентропом 23 августа 1939 г. в Москве. - См. Новая и новейшая история,
1993, № 1,с. 89-90.
-у
Конференция в Монтре (Швейцария) 1936 г. о режиме проливов, соединяющих Черное и Средиземное
моря. Участники: Австралия, Англия, Болгария, Греция, Румыния, СССР, Турция, Франция, Югославия,
Япония. 4
66
нейтрализовать его влияние на Балканах и, по возможности, направить военно¬
политическую активность СССР в Восточную Азию и Средний Восток, надеясь на
столкновение интересов СССР и Британской империи. Для советского правительства
эта цель была очевидна, но оно не собиралось уступать своих позиций в Европе.
Молотов настойчиво добивался обсуждения вопросов о Финляндии, Румынии, Турции,
Болгарии, Югославии, Греции, Польше, выполнения ранее достигнутых соглашений.
Переговоры проходили динамично. Они выявили скрытое политическое и
дипломатическое соперничество двух государств. Отклонение Гитлером предложений
о выводе немецких войск из Финляндии свидетельствовало о твердости Берлина в
проведении намеченных им планов. По существу, ни один из обсуждаемых вопросов не
был решен или урегулирован.
Переговоры обнажили жестокую реальность и подлинные намерения Германии. А
между тем Советский Союз не был готов к великим испытаниям и большой войне,
которая приближалась к его границам.
К сожалению, высшее военное командование Красной Армии в то время еще не
осознало и не оценило в полной мере принципиальных изменений, произошедших
благодаря вермахту в военно-оперативном искусстве. Доказательством тому -
заявление наркома обороны СССР С.К. Тимошенко на совещании высшего
руководящего состава РККА, проходившем с 23 по 31 декабря 1940 г.: "В смысле
стратегического творчества опыт войны в Европе, пожалуй, не дает ничего нового"8.
Не менее любопытное признание сделал впоследствии Молотов: "Мы знали, что война
у порога, не за горами, что мы слабей Германии, что нам придется отступать. Весь
вопрос был в том, докуда придется отступать - до Смоленска или до Москвы, это
перед войной мы обсуждали"9. Однако документальных подтверждений этим словам
Молотова пока историками не найдено.
Сталин действительно боялся надвигавшейся войны с Германией. Он всеми
средствами старался оттянуть ее начало. Эту цель преследовали в определенной мере
и поставки в Германию из СССР нефти, пшеницы и сырья в 1940-1941 гг. Но этим
Сталин укреплял потенциального противника и помогал ему в подготовке к походу на
Восток.
Вследствие недальновидной внешней политики и дипломатии Советский Союз
оказался в состоянии внешнеполитической изоляции. Он лишился возможных
союзников в лице Великобритании и США. Это был крупнейший стратегический
просчет. Молотов в Берлине выразил свое согласие с Гитлером относительно изоляции
Америки и Англии. Эта позиция Молотова отражала, по его словам, "не только точку
зрения его самого, но и советского правительства и лично И.В. Сталина". Между тем
после падения Франции в конце июня 1940 г. Черчилль в официальном послании
Сталину писал, что "Германия стала Вашим другом почти в тот самый момент, когда
она стала нашим врагом"10. Беседа британского посла С. Криппса со Сталиным 1
июля 1940 г. оказалась практически безрезультатной. После этой беседы Молотов
перестал принимать британского посла, у которого родилась мысль даже на время
покинуть Москву. В таком же положении находился и американский посол
Л. Штейнгардт. В Берлине были довольны: Гитлер очень опасался возможного
сближения Советского Союза с Англией, а также с США. Ему важно было втянуть
СССР в войну против Великобритании.
Десять дней спустя после возвращения Молотова из Берлина советское прави¬
тельство изложило свою позицию по вопросу пакта четырех держав. 25 ноября в
Кремле Молотов заявил Шуленбургу о готовности СССР принять проект пакта
четырех держав о политическом сотрудничестве и экономической взаимопомощи при
8 Русский архив. Великая Отечественная. Накануне войны, т. 12(1). М., 1993, с. 339.
9 Ого сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М., 1991, с. 31.
10 Сиполс ВЯ. Миссия Криппса в 1940 г. Беседа со Сталиным. - Новая и новейшая история, 1992, № 5,
с. 31.
3*
67
условии вывода немецких войск из Финляндии, заключения пакта о взаимопомощи
между Советским Союзом и Болгарией, признания его территориальных устремлений
южнее Батуми и Баку в направлении Персидского залива, предоставления морских и
сухопутных баз СССР в районе Босфора и Дарданелл, отказа Японии от угольных и
нефтяных концессий на Северном Сахалине. Все эти предложения подлежали
оформлению в виде пяти секретных дополнительных протоколов к пакту четырех11.
Условия, выдвинутые советским правительством, развязывали Германии руки в
Западной Европе. Они предоставляли Гитлеру возможность маневрирования и поиска
компромисса, хотя и создавали ему препятствия на Балканах и в Северной Европе. В
Москве с нетерпением ждали ответа. Время шло, а гитлеровское правительство
молчало. Ответ Берлина так и не поступил.
Каковы были причины, определявшие поведение Гитлера и его дипломатии,
характер переговоров и столь быструю потерю интереса к миссии Молотова?
Разумеется, их было много. Но все же главным обстоятельством, на наш взгляд,
являлось принятое рейхсканцлером решение начать войну против Советского Союза.
31 июля 1940 г. Гитлер официально сообщил высшему генералитету о предстоящей
военной кампании. В дневнике начальника генштаба верховного командования
сухопутных войск генерала Ф. Гальдера в этот день появилась запись: ’’Начало
[военной кампании] - май 1941 года. Продолжительность всей операции - пять
месяцев”12. Генштаб спешно приступил к разработке стратегического плана ведения
войны против СССР. В основу планирования было положено требование максимально
быстрого, молниеносного разгрома вооруженных сил Советского Союза. 1 августа
1940 г. начальник штаба 18-й армии генерал Э. Маркс, а также германский военный
атташе в Москве генерал Э. Кестринг представили общий замысел операции. 5
августа Гальдеру был доложен оперативно-стратегический план ’’Фриц",
предусматривавший нанесение ударов в направлении Москвы и Киева. 17 сентября
первый заместитель начальника генштаба сухопутных войск генерал Ф. Паулюс
закончил в основном разработку стратегического сосредоточения и развертывания
войск. Планы агрессии против СССР отрабатывались и в штабе оперативного
руководства сухопутных войск под началом генерала А. Йодля. В ноябре-декабре
генеральный штаб проводил штабные учения в соответствии с проектом директивы №
21. 4 ноября Гитлер заявил: ’’Россия - главная проблема в Европе. Надо рассчитаться
с ней”. 5 декабря Гальдер изложил ему основы планируемой военной кампании: "Цель
операции - уничтожить живую силу России. Для ее проведения необходимо 130-140
дивизий”. 18 декабря 1940 г. Гитлер подписал директиву № 21 верховного
главнокомандования вооруженных сил Германии (ОКВ) и дал ей кодовое название
’’Барбаросса’’13.
12 ноября 1940 г., в день приезда Молотова в Берлин, Гитлер подписал директиву
ОКВ № 18, в которой отмечалось: ’’Политические переговоры с целью выяснить
позицию России на ближайшее время начаты. Независимо от того, какие результаты
будут иметь эти переговоры, продолжать все приготовления в отношении Востока,
приказ о которых уже был отдан ранее устно”14. Это обстоятельство в значительной
степени определяло направленность и содержание советско-германских переговоров,
которые невозможно понять и оценить в отрыве от происходивших событий.
20 ноября Венгрия присоединилась к Тройственному пакту. Три дня спустя также
поступила и Румыния. Их примеру последовала Словакия. Когда советское
11 Оглашению подлежит..., с. 287-289; ADAP, Serie D, Bd.XI.l, S. 597-598.
12 Гальдер Ф. Военный дневник, т. 2. М., 1969, с. 81.
13 "Совершенно секретно! Только для командования!". М., 1967, с. 149-153; Даиличев В.И. Банкротство
стратегии германского фашизма, т. 1-2. М., 1973, т. 2, с. 86-89; Бланк А.С., Хавкин БД. Вторая жизнь
фельдмаршала Паулюса. М., 1990, с. 21, 27; Hitlers Weisungen fur die Krieg-fiihrung. Hrsg. von W. Hu bats ch.
Munchen, 1965, S. 96-101.
14 Дашичев В.И. Указ, соч., т. 1, с. 735; Розанов ГД. Указ, соч., с. 165; Hitlers Weisungen fiir die
Kriegfuhrung, S. 81; ADAP, Serie D., Bd.XI.l, S. 446-447.
68
правительство предложило Болгарии пакт о взаимопомощи, София его отклонила и
вскоре присоединилась к Тройственному пакту.
В свете этих важных политических и военных событий следует, как нам пред¬
ставляется, рассматривать, трактовать и оценивать миссию Молотова.
Документы германского министерства иностранных дел о советско-германских
отношениях 1939-1941 гг., в том числе относящиеся к поездке Молотова в Берлин,
впервые были изданы в США на немецком и английском языках15.
Ряд публикаций документов по этой теме осуществлен в ФРГ16.
Сборники немецких материалов по истории советско-германских отношений 1939-
1941 гг. переведены на русский язык и опубликованы17.
Советские документы о визите Молотова в Берлин, хранящиеся в Архиве
Президента Российской Федерации (АПРФ), до настоящего времени были недоступны
для исследователей. Они впервые публикуются в журнале18.
Теперь читатели имеют возможность сопоставить и сравнить записи обеих сторон,
выявить несовпадения в отдельных местах текстов, различные нюансы документов.
Орфография подлинника сохранена. Все это, несомненно, важно для установления
истины.
Редакция журнала благодарит директора АПРФ А.В. Короткова за предо¬
ставленные материалы.
Публикацию подготовили кандидаты исторических наук В.А. Лебедев и
Б.Л. Хавкин.
Академик Г.Н. Севостьянов
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ И НАРОДНОГО КОМИССАРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ тов. МОЛОТОВА В.М. С МИНИСТРОМ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ РИББЕНТРОП
В БЕРЛИНЕ 12 ноября 1940 г.
РИББЕНТРОП заявляет, что с тех пор, как в прошлом году он два раза был в
Москве, произошло много событий. Он хотел бы продолжить наши беседы, которые
мы имели тогда, и дополнить то, о чем он писал в письме Сталину*, т.е. сказать о
взглядах германского правительства на общее положение вещей в Европе и на
советско-германские отношения в особенности. Сегодня Гитлер примет Молотова, и
поэтому он не хочет предвосхищать того, о чем скажет Гитлер. Было бы, однако,
полезно, если бы мы сейчас заранее переговорили в общих чертах по основным
вопросам. Он доложит о нашей беседе Гитлеру, который сегодня и завтра будет
иметь, таким образом, возможность углубить нашу беседу. Он надеется, что этот
визит принесет пользу отношениям между СССР и Германией.
МОЛОТОВ отвечает, что он знаком с письмом г-на Риббентропа к И.В. Сталину и
15 Das nationalsozialistische Deutschland und die Sowjetunion, 1939-1941. Akten aus dem Archiv des Deutschen
Auswartigen Amts. Washington, 1948; Nazi-Soviet Relations, 1939-1941. Documents from the Archives of the
German Foreign Office. Washington, 1948.
16 Alfred Seidl (Hrsg.). Die Beziehungen zwischen.Deutschland und der Sowjetunion 1939-1941. Dokumente des
Auswartigen Amtes. Tubingen, 1949; ADAP, Serie D, Bd.VI-XII. Bonn, 1956-1969; Dokumente und Materialien
aus der Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges, Bd.I, 2. Frankfurt a.M., 1985; Deutsch-sowjetische
Geheimverbindungen. Unveroffentliche diplomatische Depeschen zwischen Berlin und Moskau im Vorabend des
Zweiten Weltkrieges. Tubingen, 1988.
17 1939-1941. Советско-нацистские отношения. Документы. Париж - Нью-Йорк, 1983; Оглашению
подлежит...
18 Архив Президента Российской Федерации, Особая папка, ф. 3, оп. 64, д. 675, л. 21-43, 49-95.
Письмо Риббентропа Сталину от 13 октября 1940 г. - Прим. ред.
69
хорошо помнит его содержание. Там уже есть общий обзор событий после осенней
встречи. Г-н Риббентроп и рейхсканцлер, очевидно, дадут мне возможность в
дополнение к данному в письме анализу ознакомиться со взглядами германского
правительства на современное международное положение и, в особенности, на
советско-германские отношения и затем обменяться мнениями по этим вопросам.
Молотов говорит, что он также полагает, что это было бы полезно для дела советско-
германских отношений.
РИББЕНТРОП заявляет, что он хочет начать с военного положения. По нашему
мнению, говорит он, Германия уже выиграла войну. Он думает, что никакое
государство в мире не в состоянии изменить положения, создавшегося в результате
побед Германии. Он полагает, что теперь мы переживаем начало конца Британской
Империи. Англия разбита, и когда она признает поражение - это только вопрос
времени. Положение в Англии тяжелое, и оно все более ухудшается. Есть признаки
беспокойства среди народа. Мы бы приветствовали, если бы признание Англией своего
поражения произошло возможно скорее, ибо мы не хотим губить жизнь людей. Если
этого не случится, мы полны решимости нанести окончательные удары. Если это не
произойдет сейчас, то произойдет, безусловно, весной. Мы будем продолжать
воздушные налеты на Англию. В последнее время мы активизируем действия нашего
подводного флота, развертывание действий которого ограничивалось из-за недостатка
подводных лодок. Теперь количество их увеличивается. Мы полагаем, что одна
Англия не сможет этого выдержать. Англия имеет одну надежду - помощь США. На
суше вступление США в войну не имеет значения для Германии. Италия и Германия
не пустят на контингент* ни одного англосакса. Помощь со стороны американского
флота сомнительна. Англия может надеяться на получение самолетов и других
военных материалов из США. Какое количество их дойдет до Англии, Риббентроп не
знает, но думает, что в результате действий нашего подводного флота, - очень
немного. Дальнейшая помощь США Англии весьма сомнительна, так что вступит ли
Америка в войну или нет - нам безразлично. В политическом отношении Риббентроп
не хотел бы делать высказываний, которые предвосхитили бы слова фюрера.
Политическое положение таково, что Германия после победы над Францией имеет
огромную роль. Во всяком случае наши потери за всю войну, хотя о них и приходится
сожалеть, не имеют абсолютно никакого значения. Германия после победы над
Францией имеет колоссальное количество дивизий. Воздушный флот крепнет, так как
мы имеем возможность мобилизовать ресурсы всей Европы. Подводный флот также
растет. Таким образом, вмешательство США и какие-либо новые действия Англии
заранее обречены на провал. Ему неизвестно, реализовала ли Англия все свои
возможности. Но в Англии, руководимой такими политическими и военными
дилетантами, как Черчиль, царит неразбериха. Нам представляется следующая
картина. Ось абсолютно господствует над значительной частью Европы как в
военном, так и в политическом отношениях. Франции, которая проиграла войну и
должна оплатить ее, предъявлены требования - никогда больше не поддерживать
Англию. Наоборот, даже Франция вступит в борьбу против Англии и Дон-Кихота Де¬
Голля в Африке. Мы не раздумываем более над тем, как выиграть войну. Мы думаем
о том, как скорее окончить успешно выигранную войну. Желание Германии окончить
возможно скорее войну привело нас к решению искать друзей, которые хотят пре¬
пятствовать расширению войны и желают мира. Риббентроп заявляет, что хочет
доверительно сообщить, что ряд государств объявил о своей солидарности с идеями
тройственного пакта. Риббентроп хотел бы сказать, что в свое время в начале
переговоров о пакте трех, которые, как он указывал в письме, были закончены в
очень короткий срок, мы исходили из мысли, что пакт никоим образом не затрагивает
интересов СССР. Эта мысль была предложена им. Япония и Италия также
высказались за нее. Это в особенности относится к Японии, отношения которой к
* Так в тексте. - Прим. ред.
70
Германии в настоящее время, когда США делает шаги к вступлению в войну, имеют
особое значение. Поэтому в пакте трех содержится статья пятая, которую
первоначально хотели сделать первой статьей. Во время своих визитов в Москву и
еще раньше Риббентроп защищал ту точку зрения, что, исходя из
внешнеполитической концепции Германии, дружественные отношения СССР с
Японией совместимы с дружественными отношениями между СССР и Германией.
Риббентроп просит вспомнить, что в свое время он в Москве высказал Сталину свой
взгляд, как Германия приветствовала бы улучшение советско-японских отношений. Он
понял Сталина тогда так, что было бы неплохо если бы Германия содействовала в
этом отношении. Он это сделал и полагает, что эта работа принесла уже некоторые
плоды. Не только во время пребывания в Москве, но в течение последних 7-8 лет он
считает, что между СССР и Японией возможно такое же разграничение сфер
интересов, как между СССР и Германией. Он считал и считает, что территориальная
политика Японии должна быть направлена не на север, а на Юг. Он сделал все
возможное, чтобы это было так. Он это делал и по другой причине, исходя из мысли,
что рано или поздно Англия будет с Германией воевать, и он рекомендовал японцам
вести эту политику и сам ее всячески поддерживал. Он думает, что фюрер выскажет
свои принципиальные соображения о целесообразности обменяться мнениями о сферах
интересов в широких чертах между Японией, Италией, СССР и Германией. Они, по
словам Риббентропа, продумывали этот вопрос и пришли к заключению, что по тому
географическому положению, которое занимают наши страны, естественное
направление экспансии при умной политике лежит в направлении на юг. Германия
имеет свои притязания в Западной и Восточной Африке - в бывших германских
колониях, т.е. тоже на юге. Притязания Италии лежат в Северной и Северовосточной
Африке. Ему кажется, что естественное стремление СССР тоже направлено на юг.
Получить выход в океан СССР мог бы тоже на юге. Это мысли, которые они часто
обсуждали с фюрером, и теперь он хотел изложить их Молотову. Мы думаем, говорит
Риббентроп, что теперь, после войны, произойдут большие перемены в мире. Сталин
сказал, что Англия не имеет больше права господствовать над миром. И если она тем
не менее затеяла эту войну, то она за нее заплатит. Мы, говорит дальше Риббентроп,
думаем, что во владениях Англии произойдут большие перемены. Мы думаем, что в
результате наших новых отношений, которые сложились в прошлом году, мы достигли
хороших успехов, как Германия, так и Советский Союз. Мы поставили на хорошую
карту. СССР провел свои ревизии на западе, и он думает, что победа Германии над
Польшей и Францией существенно содействовала этому. Мы делали в прошлом
хорошие дела, и я ставлю вопрос, не можем ли мы делать хорошие дела в будущем?
Он полагает, что СССР может извлечь выгоды при перераспределении территорий
Британской Империи путем экспансии в направлении Персидского залива и
Аравийского моря. Аспирации* СССР могут лежать в тех частях Азии, в которых
Германия не заинтересована.
Второй вопрос в этой связи, говорит Риббентроп, это вопрос о Турции. Турция была
союзницей Англии и Франции. Франция выпала. Англия - союзник сомнительный.
Турция умно свела свои обязательства по отношению к Англии к такому состоянию,
которое не выходит из рамок нейтралитета. В связи с этим Риббентроп хотел бы
обсудить с Молотовым, каковы интересы СССР в турецких делах. В интересах
быстрого окончания войны было бы важно повлиять на Турцию, чтобы высвободить
ее из-под английского влияния. Он не знает, будет ли это возможно, но при
определении основной политической концепции Италии, Германии, СССР и Японии
может быть найдется возможность повлиять на Турцию в этом направлении. Он не
говорил по этим вопросам с турками в конкретной форме. Недавно, по словам
Риббентропа, он говорил с турецким послом и заявил ему доверительно, что они
приветствовали бы политику Турции в направлении соблюдения ею абсолютного
Стремления, претензии. - Прим. ред.
71
нейтралитета и что они не имеют притязаний на турецкую территорию. "Мщ вполне
понимаем, - говорит Риббентроп, - что СССР недоволен конвенцией Монтре. Мы ею
еще более недовольны. С СССР в Монтре не особенно посчитались, а Германию
совсем не спрашивали. Я полагаю, что конвенция Монтре должна исчезнуть так же,
как и Дунайская Комиссия*, и что вместо нее должно быть создано нечто новое, о чем
могли бы договориться особо заинтересованные державы, и в первую очередь СССР,
Турция, Италия и Германия. Германии представляется совершенно приемлемой мысль,
чтобы Советскому Союзу и другим черноморским государствам были предоставлены
преимущественные права по сравнению с другими государствами. Совершенно
абсурдно, чтобы другие государства имели равные права с СССР или с другими
черноморскими государствами. Поэтому необходимо создать новое соглашение. В
новом соглашении надо предоставить СССР особые права. Как и в каком порядке это
сделать - можно подумать. Цель заключается в том, чтобы СССР смог найти выход
из проливов в Средиземное море. Я говорил по этому поводу с итальянцами и встретил
у них полное понимание. Вопрос состоит в том, чтобы СССР, Италия и Германия вели
бы такую политику, которая, во-первых, вызволила бы Турцию из ее обязательств
при полном сохранении ею ’’своего лица", как говорят на Востоке, т.е. ее престижа и
позволила бы достичь того, чтобы Турция стала участницей группы государств
(дословно - "членом комбинации"), не желающих расширения войны; во-вторых, это
должно привести к ликвидации Турцией конвенций Монтре и к созданию
удовлетворяющего Советский Союз, Италию и Германию статута с особыми правами
для СССР. В связи с этим можно было бы в какой-нибудь форме гарантировать
территорию Турции".
После этого Риббентроп сказал, что хочет высказать мысли об углублении
советско-германских отношений. Можно подумать о форме, в которой три госу¬
дарства, т.е. Германия, Италия и Япония, смогли бы притти к соглашению с СССР и в
которой можно было бы выразить, что СССР заявляет о своей солидарности со
стремлениями препятствовать дальнейшему расширению войны. Можно было бы к
этому добавить несколько пунктов о сотрудничестве и о взаимном уважении
интересов.
В том случае, говорит Риббентроп, если бы высказанные им мысли могли бы быть
реализованы, он поехал бы в Москву для решения вопросов. Все сводится к тому,
чтобы внести ясность в отношения между Германией, Италией и Японией, с одной
стороны, и с СССР с другой. Он хотел бы добавить, что уточнение высказанных
им мыслей остается за фюрером. Он просил бы Молотова высказать свое мнение
по затронутым вопросам, которые были бы обсуждены между Молотовым и фю¬
рером.
Недавно, сказал дальше Риббентроп, он имел беседу с китайским послом. Об этой
беседе его никто не просил, но ему известны признаки, что японцы ничего не имеют
против этой беседы, так как это идет по линии нашего желания препятствовать
расширению войны, по линии ее ликвидации. Он думал, нет ли путей к соглашению
между Японией и Чан-Кай-Ши**. При этом он не предлагал посредничества.
Германское правительство хотело бы это сообщить Китаю, принимая во внимание
дружественные отношения между Германией и Китаем. Он располагает сведениями
Парижская международная конференция по выработке статуса Дуная приняла в 1921 г. решение о
создании двух комиссий, ставших органами контроля над судоходством по Дунаю. Для так называемого
морского Дуная была создана Европейская дунайская комиссия в составе Франции, Великобритании, Италии
и Румынии. Для части Дуная между Ульмом и Брэилой и сети речных путей, объявленных
международными, была образована Международная дунайская комиссия в составе Германии, Австрии,
Венгрии, Чехословакии, Югославии, Румынии, а также Великобритании, Италии и Франции. В 1936 г.
Германия вышла из состава Международной дунайской комиссии, а после аншлюса Австрии в 1938 г. и
захвата Чехословакии в 1938-1939 гг. представители этих государств также вышли из состава комиссии. -
Прим. ред.
Глава гоминьдановского правительства в Китае. - Прим. ред.
72
что, как со стороны Китая, так и со стороны Японии, делались попытки найти пути к
соглашению. Правильны ли эти сведения, он не знает, но в интересах обоих народов
найти компромисс. Он, говорит Риббентроп, довел эти мысли до сведения китайского
посла.
МОЛОТОВ, ссылаясь на предстоящую сегодня беседу с Гитлером, говорит, что
пока он выскажет лишь кратко свои замечания по поводу высказанных Риббентропом
соображений. Молотов считает, что эти соображения представляют большой интерес
и поэтому целесообразно обменяться по ним мнениями. Они касаются больших
вопросов, затрагивающих многие государства. Из слов Риббентропа, говорит
Молотов, он понял, что Риббентроп придает большое значение тройственному пакту.
Это и понятно. Но, разумеется, у него, Молотова, как у представителя государства,
не участвовавшего в подготовке этого пакта, имеется потребность получить ряд
разъяснений по этому вопросу. Пакт трех говорит о новом порядке в Европе и в
великом восточно-азиатском пространстве. Желательно, прежде всего, знать границы
этих сфер влияния. Что же касается понятия "великое восточноазиатское
пространство" - то оно весьма неопределенное понятие, по крайней мере для того, кто
не участвовал в подготовке пакта. Молотов говорит, что у него были бы и другие
вопросы, касающиеся отношений СССР и Германии, выяснение которых также было
бы желательно. Что касается предположений о тех или иных акциях, в которых СССР
мог бы участвовать вместе с другими державами, - то это заслуживает обсуждения и
их следовало бы предварительно обсудить здесь, а потом в Москве, о чем было в
общей форме договорено при обмене письмами. Это, говорит Молотов, мои
предварительные замечания.
РИББЕНТРОП. "Великое восточноазиатское пространство" для меня тоже новое
понятие. Я познакомился с ним во время краткого срока, в течение которого родился
пакт. По мнению Риббентропа, понятие "Великое восточноазиатское пространство" не
имеет ничего общего с жизненно важными сферами интересов СССР. В тройственном
пакте не должно, по словам Риббентропа, содержаться ничего, что было бы прямо или
косвенно направлено против СССР.
МОЛОТОВ говорит, что поскольку дело идет, как было сказано в письме
Риббентропа и сейчас снова им повторено, о разграничении сфер интересов на
длительный срок, требуются некоторые уточнения. Поэтому он обращается к
Риббентропу с просьбой изложить в более конкретной форме мнения авторов пакта о
разграничении сфер интересов между отдельными странами или, по крайней мере,
мнение правительства Германии по этому вопросу. Что касается сфер интересов
СССР, то этим вопросам, как это естественно, Молотов хотел бы уделить особое
внимание. По мнению Советского правительства, говорит Молотов, установление
сфер интересов между СССР и Германией, происшедшее в 1939 г., касалось
определенного этапа. Это разграничение, принятое в прошлом году, исчерпано в ходе
событий 1939-40 годов, за исключением вопроса о Финляндии, который еще
полностью не решен и к которому Молотов еще вернется в беседах в Берлине. Но
поскольку Риббентроп затрагивает вопрос о разграничении сфер интересов на
длительный срок и поскольку за это время имел место такой важный факт, как пакт
трех, который уже находится в действии, то т. Молотов хотел бы предварительно
получить от министра необходимые разъяснения о характере, перспективах и значении
тройственного пакта.
На этом первая беседа с Риббентропом заканчивается.
Записал В. Павлов.
На первой странице документа на полях от руки сделана пометка: "Сведений о
просмотре тов. Молотовым данной записи не имеется. Л."
АПРФ, ф. 3, оп. 64, д. 675, лл. 21-30.
Незаверенная машинописная копия.
73
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ И НАРОДНОГО КОМИССАРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ тов. МОЛОТОВА В.М.
С РЕЙХСКАНЦЛЕРОМ ГИТЛЕРОМ. БЕРЛИН, 12.XI.1940 г.
ГИТЛЕР заявляет, что мысль, которая заставила его просить об этой встрече,
заключается в следующем:
Тенденцию развития на будущее время очень трудно установить. Вопросы будущих
конфликтов зависят от личных фактоРов» которые являются решающими в
политической жизни. Несмотря на это, он хочет попробовать, поскольку это возможно
и доступно человеческому разумению, определить на длительный срок будущее наций,
чтобы были устранены трения и исключены конфликты. Он думает, что это особенно
возможно, когда во главе двух основных наций стоят люди, которые пользуются
абсолютным авторитетом и могут решать на долгие сроки вперед. Это имеет место в
настоящее время в России и в Германии. Речь идет о двух больших нациях, которые
от природы не должны иметь противоречий, если одна нация поймет, что другой
требуется обеспечение определенных жизненных интересов, без которых невозможно
ее существование. Он уверен, что в обеих странах сегодня такой режим, который не
хочет вести войну и которому необходим мир для внутреннего строительства.
Поэтому возможно при учете обоюдных интересов - в особенности экономических -
найти такое решение, которое оставалось бы в силе за период жизни настоящих
руководителей и обеспечило бы на будущее мирную совместную работу.
МОЛОТОВ приветствует это заявление рейхсканцлера.
ГИТЛЕР повторяет, что трудно на долгое время установить развитие отношений
между народами и государствами, но он думает, что некоторые общие точки зрения
государств возможны, и тогда можно будет произвести ориентацию народов и
государств, которая даст некоторую уверенность в отношении устранения
противоречий.
Ситуация, в которой состоится настоящая беседа, отмечена тем фактом, что
Германия в настоящее время находится в войне, а Советский Союз нет. Поэтому все
наши мероприятия в некоторой степени находятся под влиянием этой войны. После
этой войны не только Германия будет иметь большие успехи, но и Россия.
Если сейчас оба государства трезво проверят результаты совместной работы за
этот год, то они придут к убеждению, что польза была в этом для обоих. Может
быть, не каждая страна достигла 100% того, на что надеялась, но в политической
жизни приходится удовольствоваться и 25%.
Возможно, и в будущем не все желания будут исполняться, но он убежден, что эти
два народа, если будут действовать совместно, смогут достичь больших успехов. Если
же они будут работать друг против друга, то от этого выиграет только кто-ip третий.
МОЛОТОВ считает это заявление правильным и подчеркивает, что все это
подтверждает история.
ГИТЛЕР продолжает, что теперь, когда этот вопрос в основном определен,
необходимо трезво проверить будущие отношения между Германией и Россией.
Сейчас положение таково, что Англия не имеет больше меча на континенте. Война не
ведется на суше и требует лишь части воздушных и морских сил. Молотов может сам
убедиться, что английские сообщения о разрушениях в Берлине не соответствуют
действительности. Борьба с Англией на 99 пунктов против одного выиграна, и если бы
не атмосферные условия, то с Англией уже было бы покончено. Как только
атмосферные условия улучшатся, наступит развязка. Сейчас его задача заключается
не только в военной подготовке к этой развязке, но и в определении политических
условий и взаимоотношений, которые будут играть роль при этой развязке и в
особенности после нее. В связи с этим желательно подвергнуть новой проверке
взаимоотношения с Россией, причем не в отрицательном, а в положительном смысле и
создать их на долгое время. В связи с этим Гитлер заявляет:
74
1. Он не просит о какой бы то ни было военной помощи - Германия в этом не
нуждается.
2. Ясно, что в связи с таким огромным расширением войны они (немцы) были
принуждены вступить в те районы, которые необходимы для обороны, но которые
Германию ни политически, ни экономически не интересуют.
3. Есть определенные требования, значение которых выяснилось особенно только
сейчас, во время войны, и которые для Германии являются жизненной
необходимостью. Это определенные виды сырья, их месторождения и связанные с
ними районы.
Возможно, Молотов будет того мнения, что в том или ином случае могли быть
отклонения от установленных в свое время со Сталиным точек зрения об областях
интересов. Эти отклонения выявились уже в течение германо-русских операций против
Польши. Он (Гитлер), в свою очередь, при спокойном обсуждении русских интересов
видел в ряде случаев, что целесообразно пойти навстречу требованиям другой страны,
как, например, в случае с Литвой*. Она с хозяйственной точки зрения для Германии
более важна, чем генерал-губернаторство**, с политической же точки зрения он
понимал желание советской стороны очистить все области между СССР и Германией
от тех духовных тенденций, развитие которых могло привести к политическим
напряжениям. То же он сделал в отношении Южного Тироля, выселив оттуда немцев,
чтобы устранить трения, могущие возникнуть между Италией и Германией. В течение
этого времени возникли такие моменты, которые не могли быть предусмотрены в
августе-сентябре прошлого года. В первую очередь нужно выяснить, в каком
направлении будет итти развитие как Германии, так и России, при этом, поскольку
речь идет о Германии, он хочет сказать следующее:
Германия нуждалась в территории, но в результате войны она полностью
обеспечена территорией более, чем на сто лет. Германии нужны колониальные
дополнения, и она их получит в Средней Африке, т.е. в областях, не интересующих
СССР (речь идет о старых германских колониях с некоторыми коррективами).
Необходимо также определенное сырье, причем этот вопрос должен быть решен как
можно скорее. Удовлетворение этих желаний ни в коем случае не затронет русских
интересов, т.к. с другой стороны можно представить развитие России на будущее
время без малейшего ущерба для германских интересов.
МОЛОТОВ выражает с этим свое созласие и считает, что в своей основе мысль
рейхсканцлера правильна.
ГИТЛЕР заявляет, что если будет обоюдное признание будущего развития, то это
будет в интересах обоих народов. Это возможно потребует много труда и напряжения
нервов, но зато в будущем оба народа будут развиваться, не став, однако, одним
единым миром, так как немец никогда не станет русским, а русский немцем. Наша
задача - обеспечить это мирное развитие. Говоря об этом, нужно сразу отметить, что
в Азии Германия не имеет никаких интересов. Причины этого в том, что в силу
соображений о национальных отношениях будущее там остается за Японией. Но и тут
он (Гитлер) не хочет изменить холодному рассудку, и, возможно, что в Азии
возродятся такие народные силы, которые исключат возможность колониальных
владений для европейских государств. Поскольку же речь идет об Европе, мы должны
рассматривать взаимоотношения между Германией и Россией, а также между Россией
и Италией в том смысле, чтобы дать каждому выход в свободное море. Германия не
имеет выхода из Северного (немецкого) моря и лишь отчасти получила его в
результате войны; Италия заперта в Средиземном море. Россия имеет лишь один
См.: "Секретный дополнительный протокол об изменении советско-германского соглашения от
23.08.1939 г. относительно сфер интересов Германии и СССР", подписанный Молотовым и Риббентропом
28.09.1939 г., и "Протокол об отказе Германии от притязаний на часть территории Литвы, указанную в
секретном дополнительном протоколе от 28.09.1939 г.", подписанный Молотовым и Шуленбургом
10.01.1941 г. - Новая и новейшая история, 1993, ЛЛ 1, с. 92-95. - Прим. ред.
Речь идет о Польше. - Прим. ред.
75
открытый порт - Мурманск, если не говорить о восточных портах, которые далеко. В
данный момент он (Гитлер) имеет в виду не мирное состояние, а военное. Сейчас лишь
три государства имеют свободный выход к морю - это Англия, США и Япония.
Россия имеет лишь внутренние моря, так как Балтийское море нужно всегда
рассматривать, как внутреннее. Он хочет поставить вопрос, насколько было бы
возможно для этих больших государств найти действительные выходы в море, причем
такие, чтобы они не служили поводом к трениям между этими государствами. В этом
смысле он (Гитлер) говорил с другими государственными деятелями, с тем чтобы эта
война не породила следующую и чтобы были соблюдены действительные интересы
государств. Это он говорил маршалу Петэну* и Лавалю** и указывал им также, что
нельзя допустить ничего такого, что помешало бы Германии продолжать войну против
Англии. Однако это лишь временная проблема.
Германские политические интересы на Балканах основаны на необходимости
обеспечить определенное сырье, но это с военной точки зрения неприятная задача,
так как нежелательно оставлять армию за тысячи клм. от баз. Однако та мысль, что
англичане обоснуются в Греции, нетерпима. Необходимость борьбы против англичан
довела немцев до Нордкапа***, она же может довести их до Египта. Это не
желательно, так как он (Гитлер) уже давно хотел окончить войну и предлагал мир
после польского похода. Тогда Франция и Англия могли легко заключить мир, так как
от них ничего не требовали. Но кровь создает права, и, кроме того, недопустимо,
чтобы от избытка сил вели войну, а потом не расплачивались за нее. Это он сказал и
французам, и они отдают себе отчет в этом, вопрос только в том, кто же именно
должен расплачиваться. Германия хотела прекратить войну, так как у нее было
достаточно работы по освоению новых областей. Кроме того, и с экономической точки
зрения война невыгодна, так как то, что затрачивается на войну, не окупается тем,
что получишь в результате войны. Они (немцы) были вынуждены занять те
территории, которые их не интересуют политически. Принцип самосохранения
заставляет каждую нацию защищать свои жизненные интересы.
Следующий момент - это проблема Америки. Он (Гитлер) не говорит об этом в
связи с настоящими событиями. США ведут чисто империалистическую политику.
США не борются за Англию, а пытаются захватить ее наследство. В этой войне
США помогают Англии лишь постольку, поскольку они создают себе вооружения и
стараются завоевать то место в мировом положении, к которому они стремятся. Он
думает, что было бы хорошо установить солидарность тех стран, которые связаны
общими интересами. Это не проблема на 1940 год, а на 1970 или 2000-й год.
Необходимо, чтобы кроме Европы как европейское государство рассматривалась и
Африка, т.е. чтобы была создана своеобразная доктрина Монроэ****, как это есть у
американцев. Он (Гитлер) считает, что теперь должна быть изменена колониальная
политика, что не нужно стремиться к получению большого числа кв. км. колониальных
территорий, а каждая страна должна получить столько колоний, сколько она может
освоить, так как лишняя территория является лишь политической нагрузкой. С этой
точки зрения есть районы, в которых Россия в первую очередь заинтересована, и
можно представить, что тут возникнут большие комбинации государств, которые
находятся в однородном положении по отношению к остальному миру и которые
установят для себя сферы интересов. Это очень трудная задача, но все-таки не такая
трудная, как завоевание этих сфер, особенно если не согласованы заранее цели. Цель
вообще достичь труднее, чем ее наметить. Нужно исходить из более широких точек
зрения. Нужно подчеркнуть, что и с восточным вопросом было не легко (имеется в
Глава правительства Виши. - Прим. ред.
Заместитель главы правительства Виши. -Прим.ред.
Мыс на острове Магерё в Норвегии, наиболее известный из крайних северных мысов Европы. -
Прим. ред.
Декларация принципов внешней политики, провозглашенная президентом США Дж. Монро (Monroe)
в 1823 г. - Прим. ред.
76
виду, очевидно, Германия. - В.М.) и хотя, возможно, что не все вопросы с Россией
решены, но все же это лучше, чем оставить вопрос открытым. Все же сейчас обе
стороны удовлетворены, так как Россия получила незамерзающие порты (в Балтике),
а Германия получила сообщение с Восточной Пруссией и также пространство, которое
может служить источником снабжения. Могут быть достигнуты успехи и в других
отношениях, однако нужно учитывать, что Германия сейчас ведет войну и должна
оставить за собой некоторые территории, хотя она не имеет там политических
интересов.
Проблемы, которые стоят перед Россией, - это Балканы и Черное море.
Политически Германия в этих проблемах совершенно не заинтересована, однако она
не может допустить того, чтобы, как это было в Салониках в прошлую войну, - там
обосновались англичане. Однако он (Гитлер) хочет подчеркнуть, что, когда кончится
война, германские войска немедленно покинут Румынию. Все эти вопросы должны
стать темой для переговоров Риббентропа в Москве и других дипломатических
переговоров. Говоря о том, что мы должны сейчас делать, нельзя не отметить, что
Россия все равно не сможет получить свободный выход из Черного моря, так как за
ним идет Средиземное, а там будет Италия.
МОЛОТОВ отвечает, что рейхсканцлером затронуты важные вопросы
международного значения и что он хочет пока высказаться лишь в общих чертах.
Общее впечатление таково, что все, что он понял из сделанного сейчас перевода
заявления Гитлера, ему кажется правильным и отвечает интересам обоих государств,
как СССР, так и Германии. Правильно, что интересы Германии и СССР не должны
находиться в противоречии, правильно также, что люди, возглавляющие сейчас эти
государства, наиболее способны решать эти вопросы в правильных широких рамках.
Поставленные Гитлером вопросы затрагивают много государств, а именно: Германию,
СССР, Италию, Японию, а также Францию, Англию, США и другие страны, но
сейчас их нужно рассматривать и непосредственно с точки зрения советско-германских
отношений. Он (Молотов) заявляет, что его последующие высказывания будут
отражать не только точку зрения его самого, но Советского Правительства и лично
И.В. Сталина. В отношении советско-германских отношений Молотов согласен с тем,
что было высказано рейхсканцлером, в частности о выгодах, полученных обеими
странами от соглашений 1939 года*. Что касается Германии, то она в результате этих
соглашений (1939 г.) получила надежный тыл, что имело большое значение для раз¬
вития военных событий на Западе, включая поражение Франции; правильно были
также решены вопросы о Литве и Восточной Польше, так как разделение Польши на
германскую и советскую Польшу могло создать трения между СССР и Германией.
Советская сторона считает, что Германия выполнила свои обязательства по этому
соглашению, кроме одного - Финляндии. В связи с этим Молотов хочет узнать,
остается ли германское правительство на точке зрения имеющегося соглашения. По
этому вопросу (1939 г.) советская сторона со своей стороны не требует ничего, кроме
того, что было решено в прошлом году.
Молотов переходит к последнему вопросу, затронутому рейхсканцлером. Если
говорить о взаимоотношениях на будущее, то нельзя не упомянуть о тройственном
пакте, заключенном недавно между Германией, Италией и Японией, который уже
находится в действии, Молотов хотел бы знать, что этот пакт собой представляет,
что он означает для Советского Союза; он хотел бы, чтобы во время его пребывания
в Берлине и пребывания Риббентропа в Москве было бы внесено больше ясности в
этот вопрос. В этой связи можно будет также поставить вопрос о Черном море и о
Балканах, что явится актуальной темой, и непосредственно вопрос о Румынии,
Болгарии и также о Турции. Далее, хотелось бы знать, что понимается под новым
порядком в Европе и Азии и где границы Восточноазиатского пространства.
См. Советско-германские документы 1939-1941 гг. - Новая и новейшая история, 1993, № 1. - Прим,
ред.
77
ГИТЛЕР отвечает, что тройственный пакт предусматривает руководящую роль в
Европе для двух государств в областях их естественных интересов. Советскому
Союзу предоставляется указать те области, в которых он заинтересован. То же в
отношении Великого Восточноазиатского пространства - Советский Союз должен сам
сказать, что его интересует. Он (Гитлс р) предлагает Советскому Союзу участвовать
как четвертому партнеру в этом пакте. Гитлер считал, что с Советским Союзом
можно будет договориться, что раньше состоялись переговоры с Италией и Францией,
а теперь, когда с ними вопрос выяснен, он счел своевременным пригласить Советский
Союз с тем, чтобы СССР высказался о своих интересах. Те вопросы, которые
Советский Союз имеет по отношению к Румынии, Болгарии и Турции, нельзя решить
здесь за 10 минут, и это должно быть предметом дипломатических переговоров. Мы
все являемся континентальными государствами, хотя каждая страна имеет свои
интересы. Америка же и Англия не являются континентальными государствами, они
лишь стремятся к натравливанию европейских государств друг на друга, и мы хотим
их исключить из Европы. Должен быть создан определенный мировой порядок,
который будет иметь свои сферы интересов.
Германия предлагает свои услуги, как хороший маклер, для того, чтобы было
достигнуто возможное взаимное понимание по этим вопросам. Мы не можем решать
вопрос о большой Азии, так как важны тут в основном русские интересы, также как
наши в Европе. При заключении тройственного пакта мы подчеркивали, что наши
особые отношения с Россией не будут затронуты, и это записано в пакте. Он
направлен против той страны, которая не имеет интересов в Европе, Африке и Азии -
также как мы не имеем интересов в Южной Америке.
МОЛОТОВ благодарит за разъяснения, но добавляет, что хотел бы получить
некоторую дополнительную информацию. Что касается роли Англии и Америки, то он
согласен с рейхсканцлером, что же касается тройственного пакта, то советская
сторона знает о нем меньше, чем участники пакта. Молотов не настаивает на том,
ч^обы разъяснения были даны сейчас. Советский Союз может принять участие в
широком соглашении четырех держав, но только как партнер, а не как объект (а
между тем только в качестве такого объекта СССР упоминается в тройственном
пакте) и готов принять участие в некоторых акциях совместно с Германией, Италией и
Японией, но для этого необходимо внести ясность в некоторые вопросы.
ГИТЛЕР (явно повеселевший в конце беседы) предлагает на этом прервать беседу
и перенести ее на завтра после завтрака в связи с необходимостью осуществить
намеченную на сегодня программу приема до возможной воздушной тревоги.
На этом беседа закончилась.
Беседу записали: В. Павлов
В. Богданов
Беседа продолжалась 2 ч. 30 м.
Начало - 15 ч. 45 м.
Окончание - 18 ч. 15 м.
На первой странице документа на полях от руки имеется пометка: "Сведений о
просмотре тов. Молотовым данной записи не имеется. Л."
Там же, л. 31-41.
Незаверенная машинописная копия.
78
БЕСЕДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
И НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
тов. МОЛОТОВА С ГЕРМАНСКИМ ПОСЛОМ ШУЛЕНБУРГОМ
13 ноября 1940 года
ШУЛЕНБУРГ заявляет, что он по поручению Риббентропа хотел бы сказать
тов. Молотову несколько слов о Финляндии, чтобы сберечь время при беседе с
фюрером после завтрака сегодня. Они в полной мере, говорит Шуленбург, признают
за СССР право на Финляндию и не имеют к ней территориальных притязаний.
Следствием этой установки явилось то, что они отказываются от концессии в
Петсамо*, которой раньше интересовались. В свое время финны указывали им,
говорит Шуленбург, на трудности с англичанами, затем они, немцы, узнали о
заинтересованности в Петсамо СССР и поэтому решили отказаться. Но Германия в
будущем заинтересована в получении 60% добываемого там никеля. Руководствуясь
этими же соображениями, Германия заинтересована в том, чтобы в Финляндии был
сохранен мир.
МОЛОТОВ говорит, что скажет два слова в ответ. Вопрос о концессии, говорит он,
возник по недоразумению в начале этого года, поскольку он возникал по претензии
Германии. После сообщения Шуленбурга вопрос был снят. Но за последнее время
финны ссылались на Германию и Англию, которые якобы не желают участия СССР в
Петсамо. В отношении Германии тов. Молотов считает это чистым обманом. В
отношении Англии он имеет заявление Криппса о том, что Англия не возражает
против намерений СССР. Что касается политической стороны вопроса о Финляндии,
то желательна ясность Германии в этом отношении. Если Германия считает, что
нужно пересмотреть и изменить прошлогоднее соглашение, мы, говорит тов. Молотов,
хотели бы знать, есть ли у Германии такое намерение, остается ли в силе все то, что
было записано в нашем протоколе, выполненном полностью как Германией, так и
СССР, за исключением этого вопроса, кэторый нс решен СССР. Хотя мы
удовлетворены мирным договором с Финляндией, но дело не может сводиться к
договору. Важно, как он выполняется. Мы видим со стороны финляндского
правительства двойственность. Эта двойственность находит свое выражение в
поощрении агитации и в распространении лозунгов вроде: ’’тот не финн, кто помирился
с мирным договором” от 12 марта 1940 года. При таком положении мы должны быть
на-чеку и не можем полагаться на бумагу. Из заявления посла он, тов. Молотов,
усматривает, что Германия подтверждает соглашение о том, что Финляндия относится
к сфере интересов СССР. Он надеется, говорит тов. Молотов, что германское
правительство сделает из этого практические выводы. Видимо, ввод германских войск
в Финляндию толкает финское правительство к предположению, что у СССР и
Германии в этом пункте не все гладко и вызвал страсти, может быть, напрасные.
Кроме того, и в Финляндии и в Германии произошел ряд политических демонстраций,
которые подчеркивали особые отношения Германии и Финляндии и, может быть,
невольно были заострены против СССР. Летом этого года мы были вынуждены
намекнуть финнам, что у нас с ними не будет хороших отношений, пока во главе
правительства стоит Таннер. Дело шло, конечно, не о личности Таннера, которого
финны убрали, а о линии поведения финского правительства, в которой ничего не
изменилось. Поэтому тов. Молотов полагает, что германское правительство сделает
практические выводы и удалит свои войска из Финляндии и прекратит политические
демонстрации. Если это было бы сделано, то в позиции Финляндии не было
двойственности. Если этой двойственности не будет, то отношения с Финляндией
будут дружественными и дело пойдет гладко. При чем мы помним, заявляет тов.
С 1945 г. - поселок Печенга в Мурманской области России. - Прим. ред.
79
Молотов, что Финляндия входит в сферу интересов СССР, и считаем это естест¬
венным и обязательным.
ШУЛЕНБУРГ заявляет, что то, что касается первого пункта, упомянутого тов.
Молотовым, то Германия не желает изменять секретный протокол. Что касается
упоминания о войсках, то он не знает, если ли они там. О демонстрациях он ничего не
слышал. Если они имеют место, то их, по его мнению, надо прекратить.
Тов. МОЛОТОВ В.М. заявляет, что о наличии войск в Финляндии посол может,
конечно, и не знать. Мы же обязаны об этом знать как соседи Финляндии. Во время
войны в Европе такого рода факты, как, например, политические демонстрации,
посылка делегаций, может быть, сами по себе и незначительные, могут иметь
неприятное острие. С окончанием войны это, конечно, сгладится.
На этом беседа заканчивается.
Записал В. Павлов.
Верно:
На первой странице документа на полях от руки имеется пометка: ’’Сведений о
просмотре тов. Молотовым данной записи не имеется. Л.”
Там же, л. 42-43.
Подлинник, машинопись.
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ И НАРОДНОГО КОМИССАРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ тов. МОЛОТОВА В.М.
С РЕЙХСКАНЦЛЕРОМ ГИТЛЕРОМ 13.XL40 г.
ГИТЛЕР заявляет, что он думает продолжить ответы на вопросы, поставленные
Молотовым во вчерашней беседе. Прежде всего он хочет остановиться на вопросе о
пакте 3-х и его внутренних целях. Он хотел бы затронуть вопрос о Советско-
Германских соглашениях, которые были заключены до настоящего времени. В связи с
этим он останавливается на словах МолОтова о том, что соглашение выполнено за
исключением пункта о Финляндии.
МОЛОТОВ заявляет, что, собственно говоря, соглашение между СССР и
Германией - это прежде всего пакт о ненападении, который, конечно, остается в силе.
Можно говорить, следовательно, о выполнении секретного протокола*, являющегося
приложением к основному договору**.
ГИТЛЕР отвечает, что в секретном протоколе была зафиксирована сфера
интересов СССР в Финляндии. Что касается перехода определенных территорий в
собственность другого государства, то он считает, что соглашение Германией
выполнено. Это не совсем можно сказать об СССР. Германия не заняла ни одной
территории, которая относилась бы к сфере интересов СССР. В свое время Германия
и СССР изменили свое соглашение, причем это изменение шло по линии интересов
СССР. ’’Это еще вопрос, - говорит Гитлер, - повлекло ли бы за собой обусловленное
прежде разделение Польши трения в отношениях между Германией и СССР, но я
должен сказать, что полученная Германией территория польского Губернаторства не
является для нее компенсацией". Гитлер считает, что в данном случае Германия
пошла навстречу интересам СССР вопреки соглашению. Тоже самое можно сказать о
Северной Буковине. В прошлом году Германия заявила, что Бессарабия не
См. ’’Секретный дополнительный протокол о границе сфер интересов Германии и СССР", подписанный
Молотовым и Риббентропом 23.08.1939 г. - Новая и новейшая история, 1993, № 1,с. 89-90. - Прим. ред.
Советско-германский договор о ненападении от 23.08.1939 г. - Известия, 24.VIII.1939. - Прим. ред.
80
представляет для нее интереса, но тогда речь шла только о Бессарабии. Когда же
СССР вместе с вопросом о Бессарабии, поставил вопрос о Буковине, то, несмотря на
это ’’новшество”, не предусмотренное соглашением, Германия понимала, что есть
моменты, которые делают целесообразным коррективы. Совершенно аналогичную
позицию Германия занимает по отношению к Финляндии. Германия не имеет
политических интересов в Финляндии. Советскому Правительству известно, что во
время советско-финской войны Германия сохраняла строжайший и даже
благожелательный нейтралитет. По словам Гитлера, он приказал задержать
пароходы, которые находились в Бергене* и должны были доставить военные
материалы Финляндии, хотя он на это не имел никакого права. Такая позиция
Германии привела к осложнениям в Шведско-Германских отношениях. Следствием
войны с Финляндией явилась война с Норвегией. В силу ухудшившихся отношений со
Швецией он, Гитлер, был вынужден бросить в Норвегию большее количество
дивизий, чем это предполагалось. Германия и теперь признает Финляндию сферой
интересов СССР, но на время войны Германия заинтересована в Финляндии эконо¬
мически, ибо получает оттуда лес и никель. Германия заинтересована в преду¬
преждении конфликтов в Балтийском море, т.к. там проходят ее торговые пути.
Утверждение, что немцы оккупировали некоторые части территории Финляндии, не
соответствует действительности. Германия направляет через Финляндию транспорты
в Киркинес**. Для этих перебросок Германии нужны две базы, т.к. из-за дальности
расстояния его нельзя было покрыть в один переход. Когда переход закончится,
больше не будет в Финляндии германских войск. Германия заинтересована в том,
чтобы Балтийское море не превратилось в театр военных действий, т.к. Англия,
располагая в настоящее время бомбардировщиками и истребителями дальнего
действия, может очутиться в финских портах, пробравшись туда с воздуха.
Позиция Германии во время финско-советской войны являлась для нее бременем
также с точки зрения психологической. Финны, которые оказывали упорное
сопротивление, завоевали симпатию во всем мире, и в особенности среди сканди¬
навских народов. И в германском народе также возникло возбуждение по поводу
поведения Германского Правительства, которое определялось соглашениями с СССР.
Все это побуждает Германское Правительство стремиться к тому, чтобы
воспрепятствовать возникновению вторичной войны в Финляндии. Это единственное
желание Германского Правительства. "Мы предоставляем русским решать вопросы их
отношений с Финляндией, мы не имеем там никаких политических интересов, -
говорит Гитлер, - но на время войны мы заинтересованы в Финляндии экономически и
ни при каких обстоятельствах не откажемся от этих интересов". Гитлер заявляет, что
он просит Правительство СССР пойти навстречу Германии так же, как Германия, по
его словам, это сделала в случае с Буковиной, Литвой и Бессарабией, где она
отказалась от своих крупных интересов и была вынуждена переселить немцев.
МОЛОТОВ говорит, что он остановится на тех же вопросах, которые затронул
Рейхсканцлер. Можно считать, что соглашение прошлого года касалось определенного
этапа, а именно вопроса о Польше и границ Советского Союза с Германией.
Соглашения и секретный протокол говорили об общей Советско-Германской границе
на Балтийском море, т.е. о прибалтийских государствах, Финляндии, Румынии и
Польше. Замечания Рейхсканцлера о необходимости корректив, по мнению
т. Молотова, правильны. Он считает, что первый этап - вопрос о Польше, -
закончился еще осенью прошлого года. Сейчас он говорит с Рейхсканцлером уже
после завершения не только первого, но и второго этапа, который закончился
поражением Франции. СССР и Германия должны исходить сейчас из положения,
возникшего не только в результате поражения Польши, но и продвижения Германии в
Норвегию, Данию, Голландию, Бельгию и Францию. Если говорить в данный момент
Порт на западе Норвегии на побережье Северного моря. - Прим. ред.
Порт на севере Норвегии на побережье Баренцева моря. -Прим.ред.
81
об итогах Советско-Германских соглашений, то надо сказать, что Германия не без
воздействия пакта с СССР сумела так быстро и со славой для своего оружия
выполнить свои операции в Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии и Франции. Что
касается литовского вопроса, то СССР не настаивал на пересмотре соглашения от
августа 1939 г. в том направлении, чтобы Литва перешла из сферы интересов
Германии в сферу интересов СССР, а восточная часть Польши к Германии. Если бы
Германия возражала против этого, СССР не настаивал бы на своей поправке. Что
касается известного кусочка Литвы, то СССР, к сожалению, не имеет ответа
Германского Правительства по этому вопросу, но это вопрос мелкий. Что касается
Буковины, то хотя это и не было предусмотрено дополнительным протоколом, -
СССР сделал уступку Германии и временно отказался от южной Буковины,
ограничившись северной Буковиной, но сделал при этом свою оговорку, что СССР
надеется, что в свое время Германия учтет заинтересованность Советского Союза в
южной Буковине. СССР до сих пор не получил от Германии отрицательного ответа на
высказанное им пожелание, но Германия вместо такого ответа гарантировала всю
территорию Румынии, забыв об указанной нашей заинтересованности и вообще дав
эти гарантии без консультации с СССР и в нарушение интересов СССР.
ГИТЛЕР заявляет, что Германия итак пошла значительно навстречу тем, что
согласилась и вообще на передачу Северной Буковины, т.к. раньше договорились
только о Бессарабии. Для решения вопросов на будущее Советский Союз должен
понять, что Германия находится в борьбе не на жизнь, а на смерть, которую она
успешно закончит. Но Германия нуждается в определенных хозяйственных и военных
предпосылках. Эти предпосылки Германия должна себе при всех условиях обеспечить,
и это Советский Союз должен понять, так же, как он, Гитлер, должен был учесть и
учел некоторые требования СССР. Эти предпосылки не противоречат соглашениям
между СССР и Германией. Это могло бы иметь место лишь тогда, если бы Германия
хотела захватить Финляндию или Бессарабию - но этого никогда не случится - и если
Германия и СССР будут открыты по отношению друг к другу, они не нарушат своих
соглашений.
Балтийское море, по мнению Гитлера, не должно стать театром военных действий,
Германия признает, что Финляндия является областью русских интересов. Если же
она стремится обеспечить необходимые ей, Германии, нефтяные источники в
Румынии, то это не противоречит, считает Гитлер, соглашению о Бессарабии.
Советский Союз должен понять, что для Германии нужны некоторые предпосылки,
которые она на время войны хочет себе обеспечить.
Из расширенной совместной работы с Германией Советский Союз может получить
совсем другие, гораздо большие выгоды, чем если сейчас во время войны будут
внесены незначительные коррективы, которые не принесут особой пользы Советскому
Союзу. Он, Гитлер, видит другие районы, в которых Советский Союз может иметь
успех и которые лежат вне районов европейской войны, где Россия может иметь
большие результаты, как Германия их имела в Европе.
"Я считаю, - говорит Гитлер, - что наши успехи будут больше, если мы будем
стоять спиной к спине и бороться с внешними силами, чем если мы будем стоять друг
против друга грудью и будем бороться друг против друга”.
МОЛОТОВ говорит, что он согласен с выводами Рейхсканцлера. Руководители
Советского Государства и прежде всего И.В. Сталин считают, что можно и
целесообразно при определенных условиях договориться, чтобы итти по пути
дальнейшего положительного развития Советско-Германских отношений, по пути
участия в некоторых совместных акциях. Но, чтобы наши отношения были прочными,
надо устранить недоразумения второстепенного характера, не имеющие большого
значения, но осложняющие их дальнейшее развитие в положительном направлении.
Таким вопросом является Финляндия. Можно считать бесспорным, что при хороших
отношениях между Германией и Советским Союзом Балтийское море не превратится
в театр военных действий и там никто не сможет играть никакой роли. Финляндский
82
вопрос следовало бы провести так, как он был решен в прошлом году. В Финлян¬
дии не должно быть германских войск, а также не должно быть тех политичес¬
ких демонстраций в Германии и в Финляндии, которые направлены против интере¬
сов Советского Союза. Между тем правящие круги Финляндии проводят в отно¬
шении СССР двойственную линию и доходят до того, что прививают массам лозунг,
что "тот не финн, кто примирился с Советско-финским мирным договором 12 марта".
Для того, чтобы перейти к новым задачам, эти вопросы должны быть урегулиро¬
ваны.
ГИТЛЕР считает, что этот вопрос нужно расчленить. Первое, по вопросу о
политических демонстрациях. Здесь трудно сказать, кто организует эти демонстрации,
и этот вопрос можно урегулировать дипломатическим путем. Что же касается
пребывания германских солдат в Финляндии, то он уверяет, что если другие вопросы
будут решены, то и этот вопрос будет урегулирован. Что касается демонстраций в
Германии, то, наоборот, в его стране всегда делалось все, чтобы финны согласились
на русские требования. То же было и в отношении Румынии; он, Гитлер, сказал
Каролю*, чтобы тот принял русские требования.
МОЛОТОВ продолжает, что в отношении Финляндии он считает, чтобы выяснить
этот вопрос является его первой обязанностью, для этого не требуется нового
соглашения, а следует лишь придерживаться того, что было установлено, т.е. что
Финляндия должна быть областью советских интересов. Это имеет особое значение
теперь, когда идет война. Советский Союз, хотя и не участвовал в большой войне,
все же воевал против Польши, против Финляндии и был совсем готов, если бы
требовалось к войне за Бессарабию. Если германская точка зрения на этот счет
изменилась, то он хотел бы получить ясность в этом вопросе.
ГИТЛЕР заявляет, что точка зрения Германии на этот вопрос не изменилась, но он
только не хочет войны в Балтийском море. Кроме того, Финляндия интересует
Германию только как поставщик леса и никеля. Германия не может терпеть там
сейчас войны, но считает, что это область интересов России. То же относится и к
Румынии, откуда Германия получает нефть; там тоже война недопустима.
"Если мы перейдем к более важным вопросам, - говорит Гитлер, - то этот вопрос
будет не существенным. Финляндия же не уйдет от Советского Союза".
Затем Гитлер интересуется вопросом, имеет ли Советский Союз намерение вести
войну в Финляндии. Он считает это существенным вопросом.
МОЛОТОВ отвечает, что если правительство Финляндии откажется от двой¬
ственной политики и от настраивания масс против СССР, все пойдет нормально.
ГИТЛЕР говорит, что он боится, что на этот раз будет воевать не только
Финляндия, но и Швеция.
МОЛОТОВ отвечает, что он не знает, что сделает Швеция, но думает, что как
Советский Союз, так и Германия заинтересованы в нейтралитете Швеции. Он не
знает, каково сейчас мнение Германского Правительства по этому вопросу. Что же
касается мира в Балтийском море, то СССР не сомневается, что мир в Балтийском
море обеспечен.
ГИТЛЕР полагает, что следует учесть те обстоятельства, которые, возможно, не
имели бы места в других районах. Можно иметь военные возможности, но условия
местности таковы, что война не будет быстро окончена. Если будет продолжительное
сопротивление, то это может оказать содействие созданию опорных английских баз.
Тогда Германии самой придется вмешаться в это дело, что для нее нежелательно. Он
бы так не говорил, если бы Россия действительно имела повод обижаться на
Германию. После окончания войны Россия может получить все, что она желает.
Переговорив с Риббентропом, Гитлер добавляет, что они только что получили ноту от
Финляндского правительства, в которой оно заявляет, что будет жить в тесном
содружестве с Советским Союзом.
Кароль П Гогенцоллерн-Зигмаринген - румынский король в 1930-1940 гг. - Прим. ред.
83
МОЛОТОВ делает замечание, что не всегда слова соответствуют делам.
В интересах обеих стран, чтобы был мир в Балтийском море, и если вопрос о
Финляндии будет решен в соответствии с прошлогодним соглашением*, то все пойдет
очень хорошо и нормально. Если же допустить оговорку об отложении этого вопроса
до окончания войны, это будет означать нарушение или изменение прошлогоднего
соглашения.
"Мы можем перейти к обсуждению других вопросов, - заявляет после этого
Молотов, - однако в отношении Финляндии я высказал точку зрения Советского
Правительства и хотел бы знать от Германского Правительства его мнение по этому
поводу”.
ГИТЛЕР утверждает, что это не будет нарушением договора, т.к. Германия лишь
не хочет войны в Балтийском море. Если там будет война, то этим будут усложнены и
затруднены отношения между Германией и Советским Союзом, а также затруднена
дальнейшая большая совместная работа. "Это моя точка зрения остается
неизменной”, - заявляет Гитлер.
МОЛОТОВ считает, что речь не идет о войне в Балтийском море, а о финском
вопросе, который должен быть решен на основе прошлогоднего соглашения.
ГИТЛЕР делает замечание, что в этом соглашении было установлено, что
Финляндия относится к сфере интересов России.
МОЛОТОВ спрашивает: "В таком же положении, как, например, Эстония и
Бессарабия?”
ГИТЛЕР говорит, что он только не хочет войны в Финляндии и, кроме того, на
время войны Финляндия является для Германии важным поставщиком.
МОЛОТОВ отмечает, что оговорка Гитлера - это новый момент, который раньше
не возникал. В соглашении советские интересы признавались без оговорок.
ГИТЛЕР не считает это новым моментом, он говорит, что, когда СССР вел с
Финляндией войну, Германия оставалась лойяльной, хотя это создавало большую
опасность. Германия же давала советы Финляндии пойти на требования России.
"Как Вы говорили, - добавляет Гитлер, - что Польша будет источником
осложнений, так теперь заявляю я, что война в Финляндии будет источником
осложнений. Россия уже получила львиную долю выгод".
Гитлер заявляет далее, что он русским не делает таких предложений, которые бы
противоречили договору, напротив, СССР сам предложил обменить часть Польши на
Литву**, что противоречило договору. Теперь он не просит изменения договора, а
липп» хочет сохранить мир в Финляндии. При гениальности русской политики России
удастся обеспечить без войны свои интересы в Финляндии. Имеются более крупные
возможности успехов, чем интересы в районах Балтийского моря.
МОЛОТОВ говорит, что ему не понятно, почему так остро ставится вопрос о войне
в Балтийском море. В прошлом году была гораздо более сложная обстановка, и речи
об опасностях войны не было. Не говоря о Бельгии, Голландии, Дании и Норвегии, -
Германия добилась поражения Франции, а также считает Англию уже побежденной, -
откуда же может теперь появиться такая опасность войны в Балтийском море?
Германия должна вести ту же политику в отношении предусмотренных прошлогодним
соглашением интересов СССР, которую она вела в прошлом году, без оговорок,
больше ничего не требуется.
ГИТЛЕР говорит, что он также имеет свое мнение о военных делах и считает, что
может повлечь значительные осложнения, если Америка и Швеция вступят в эту
войну. Он хочет окончить войну успешно, и, хотя в состоянии ее продолжать, он не
может вести ее бесконечно. Новая война в Балтийском море будет значительной
См. пункт 1 секретного дополнительного протокола от 23.08.1939 г. - Новая и новейшая история,
1993, АЛ 1, с. 89. - Прим. ред.
** См. "Секретный дополнительный протокол об изменении советско-германского соглашения от 23
августа относительно сфер интересов Германии и СССР", подписанный Молотовым и Риббентропом
28.09.1939 г. - Новая и новейшая история, 1993, № 1, с. 92. - Прим. ред.
84
нагрузкой, а вступление в войну Швеции может вызвать осложнения, которые трудно
предвидеть.
’’Объявила бы Россия немедленно войну Америке, если бы та вступила в войну?" -
спрашивает Гитлер.
МОЛОТОВ считает этот вопрос не актуальным.
ГИТЛЕР замечает, что, когда он будет актуален, будет уже поздно.
МОЛОТОВ отвечает, что сейчас нет признаков такого рода событий.
ГИТЛЕР делает замечание, что они сейчас говорят о совершенно теоретических
вопросах и он хотел бы, чтобы они вернулись к делу. Германия имеет успехи за этот
год, но она вела гигантскую войну, Россия же не вела войны, но имеет успехи. Нельзя
забывать того, что Россия огромна - от Владивостока до Европы, а Германия -
маленькая и к тому же перенаселена.
МОЛОТОВ говорит, что он согласен, что Финляндия - это вопрос частный, но тут
Советский Союз не требует ничего нового и хочет оставить так, как это было в
прошлом году.
ГИТЛЕР заявляет: он думает, что тут вопрос обстоит так:
1. Он признает, что Финляндия - область интересов России. Германия только
против войны.
2. Что касается демонстраций, - ясно, что с германской стороны ничего подобного
не предпринималось. Если какие то люди делают демонстрации в Германии, то это
легко устранить дипломатическим путем.
3. Для него ясно, что эти вопросы ничтожны и смешны в сравнении с той огромной
работой в будущем, которая предстоит. С другой стороны, он не видит, чтобы
Финляндия могла причинять большое беспокойство Советскому Союзу. Что касается
войск, то после того, как они пройдут, их больше не будет в Финляндии. Он
повторяет, что они сейчас говорят о теоретической проблеме, в то время как начинает
разрушаться огромная империя в 40 миллионов квадратных километров. Когда она
разрушится, то останется, как он выражается, "конкурсная масса", и она сможет
удовлетворить всех, кто имеет потребность в свободном выходе к океану. При этом
дело обстоит так, что собственник этой "массы" будет разбит германским оружием.
Эта "масса" управляется маленькой группой людей в 45 милл. человек, и он,
Гитлер, преисполнен решимости ликвидировать эту группу владельцев. США тоже
сейчас не делают ничего другого, как попытки урвать отдельные куски от этой
распадающейся "массы". Он хочет сконцентрироваться на уничтожении сердца этой
"массы". Поэтому Германии не симпатична война в Греции, т.к. она отвлекает силы от
центра. Уничтожение островов приведет к падению всей Британской Империи.
Мысль, что из Канады (к слову сказать, он ничего против Канады не имеет) можно
будет продолжать войну, является утопией.
Все эти вопросы должны явиться предметом обсуждений в ближайшее время. Он
думает, что все государства, которые могут быть заинтересованы в этом, должны
отложить свои мелкие конфликты для того, чтобы решить этот гигантский вопрос.
Этими государствами являются: Германия, Франция, Италия, Россия и Япония.
МОЛОТОВ говорит, что СССР интересуют эти вопросы. В этом отношении он
может сказать меньше, чем Рейхсканцлер, т.е. естественно, что меньше был занят
этими общими вопросами, чем Гитлер. Советский Союз может участвовать в широких
акциях вместе с другими государствами: Германией, Италией и Японией, и Молотов
готов приступить к обсуждению этих вопросов, однако то, что уже согласовано,
решено и не требует разъяснений, должно проводиться. Мнение Советского
Правительства по обсуждавшемуся здесь вопросу высказано ясно, и тейерь ответ за
Германской стороной.
ГИТЛЕР говорит, что, по его мнению, будет более правильно, если все вопросы
обсудить более широко, т.к. тогда будет возможно взвесить важность отдельных
вопросов. Эта работа чрезвычайно трудная. Сюда он также хочет включить
Францию, только надо помнить, что она, Франция, не аннексирована Германией, а
85
побеждена германским оружием. Нужно будет создать мировую коалицию из стран:
Испании, Франции, Италии, Германии, Советского Союза и Японии. Все они будут
удовлетворены этой "конкурсной массой". Тут есть интересные вопросы, для решения
которых необходимо нейтрализовать противоречия, имеющиеся между отдельными
странами. В Европе уже удалось достичь удовлетворения Германии, Италии,
Франции, Испании. Это было не легко, но в виду больших возможностей удалось
уладить противоречия.
Теперь речь идет о Востоке. В первую очередь - отношения между Советским
Союзом и Турцией. Это очень важный вопрос, и тут СССР должен сказать свое
мнение:
Великое азиатское пространство нужно разделить на восточно-азиатское и
центрально-азиатское. Последнее распространяется на юг, обеспечивая выход в
открытый океан, и рассматривается Германией как сфера интересов России.
Для осуществления всего этого требуется, конечно, продолжительное время 50-100
лет.
МОЛОТОВ говорит, что Гитлер коснулся больших вопросов, которые имеют не
только европейское значение. Он хочет остановиться прежде на более близких к
Европе делах. Речь идет о Турции. Отмечая, что СССР является черноморской
державой, вернее сказать, главной черноморской державой. Он считает, что
германское правительство поймет значение, которое имеет этот вопрос для
Советского Союза. Попутно же он в этой связи должен коснуться еще одного
спорного пункта. Речь идет о Румынии и связанных с этим вопросах. Что касается
Румынии, то здесь Советское правительство выразило свое неудовольствие тем, что
без консультации с ним Германия и Италия гарантировали неприкосновенность
Румынской территории. Он считает, что эти гарантии были направлены против
интересов Советского Союза. С этим фактом приходится считаться. Из заявленного
Рейхсканцлером он понял, что Германия на определенное время не считает
возможным отказаться от этих гарантий. Это не может затрагивать интересов
Советского Союза как черноморской державы, весьма заинтересованной в положении
черноморских держав и проливов. В отношении черноморских проливов нужно сказать,
что они не раз являлись воротами для нападения на Россию. Это было в Крымскую
войну 1855-56 гг. и в 1918 и 19 годах.
Молотов заявляет, что он хотел бы знать, что скажет Германское правительство,
если Советское правительство даст гарантии Болгарии на таких же основаниях, как их
дала Германия и Италия Румынии, причем с полным сохранением существующего в
Болгарии внутреннего режима, если угодно на сотни, а тысячи лет. Он по этому
вопросу хотел бы по возможности заранее договориться. Турция знает, что Советский
Союз не удовлетворен конвенцией Монтре в отношении проливов, следовательно,
этот вопрос очень актуальный.
ГИТЛЕР говорит, что относительно соглашения в Монтре это как раз то, о чем
ему говорил Риббентроп, который говорил также об этом с Италией и выяснил, что
Италия настроена благожелательно. Он, Гитлер, считает, что вопрос о проливах
должен быть решен в пользу Советского Союза.
В связи с поставленным Молотовым вопросом Гитлер считает нужным отметить
два момента:
1. Румыния сама обратилась с просьбой о гарантии, т.к. в противном случае она не
могла уступить части своей территории без войны.
2. Италия и Германия дали гарантии, т.к. это требовала необходимость обес¬
печения нефтяных источников и так как Румыния обратилась с просьбой об ох¬
ране месторождений нефти. Для этого были необходимы воздушные силы и неко¬
торые наземные войска, т.к. приходилось считаться с возможностью высадки
английских войск. Однако, как только окончится война, германские войска покинут
Румынию.
В отношении Болгарии Гитлер считает, что нужно узнать, желает ли Болгария
86
иметь эти гарантии от Советского Союза и каково будет к этому отношение Италии,
т.к. она наиболее заинтересована в этом вопросе. В отношении проливов - Россия
должна получить безопасность в Черном море. Он желал бы лично встретиться со
Сталиным, т.к. это значительно облегчило бы ведение переговоров, он надеется, что
Молотов все ему (Сталину) передаст.
МОЛОТОВ с удовлетворением отмечает последнее и говорит, что с удовольствием
передаст об этом Сталину. Мы хотим одного - гарантировать себя от нападения через
проливы. Этот вопрос СССР может решать с Турцией. Гарантии Болгарии помогли бы
его надежнее решать. Он добавляет, что СССР считает необходимым заботиться о
том, чтобы в будущем на Советский Союз не могли напасть через проливы, как это
делала не раз Англия. Он думает, что этот вопрос можно будет решать путем
договоренности с Турцией.
ГИТЛЕР заявляет, что это соответствовало бы тому, что ему высказал
Риббентроп, - это абсолютное обеспечение Черного моря путем пересмотра конвенции
в Монтре, чтобы проливы давали возможность торговым судам заходить в проливы в
мирное время, но чтобы русские военные суда имели всегда свободный выход и чтобы
вход для военных судов нечерноморских держав был закрыт.
МОЛОТОВ полагает, что в отношении проливов дело обстоит так, что СССР
заинтересован в гарантии проливов от возможного проникновения Англии, которая
особенно благодаря Греции, а также Турции имеет военные базы поблизости от
проливов. Он говорит о желании Советского Правительства, чтобы решение этого
вопроса было проведено на деле, а не осталось обещанием. Он знает, кто определяет
политику Германии, поэтому он хочет получить от Рейхсканцлера ответ на его вопрос
о гарантиях Болгарии, при чем еще раз повторяет, что внутренний режим в Болгарии
абсолютно не будет затронут и, кроме того, СССР готов поддержать стремление
Болгарии к получению выхода в Эгейское море, считая это ее стремление законным.
ГИТЛЕР считает, что, по его мнению, для этого необходимо:
1) Выяснить, желает ли сама Болгария этих гарантий Советского Союза и
2) Обсудить этот вопрос с Дуче.
МОЛОТОВ говорит, что он не считает, что этот вопрос должен быть здесь сейчас
решен, а лишь хочет знать мнение Рейхсканцлера.
ГИТЛЕР отвечает, что до переговоров с Дуче ничего сказать не может. Что
касается Дунайского вопроса, то в нем больше всего заинтересована Германия, так
как она является самой промышленной придунайской страной, вопрос же прохода в
Черное море Германию не интересует. Эти все вопросы нужно внимательно обсудить,
так как нужно устранить все трения, которые могут помешать большой будущей
работе.
МОЛОТОВ еще раз считает необходимым отметить, что у СССР в вопросе
проливов - чисто оборонительная задача, Россия через проливы никогда ни на кого не
нападала; это подтверждается историей.
ГИТЛЕР заявляет, что это ясно, так как Россия черноморское государство, но он
думает, что кроме этого Россия будет иметь и другие интересы на будущее. Он
считдет, что в вопросе об интересах СССР в азиатском пространстве СССР должен
притти к соглашению с Японией. Он видит некоторые признаки, свидетельствующие о
том, что у Японии есть желание к сближению с Россией. То же и в отношении
китайской войны. С Японией можно говорить по этому поводу.
МОЛОТОВ отмечает, что и другие вопросы интересуют также Советский Союз.
Советский Союз как большая и мощная страна не может стоять в стороне от решения
больших вопросов как в Европе, так и в Азии. Что касается советско-японских
отношений, то они хотя и медленно, но улучшаются в последнее время, теперь они,
очевидно, должны развиваться быстрее. В этом Германия оказывает СССР свое
содействие, и он за это признателен германскому правительству. Нужно найти
компромиссный выход из этого положения, которое создалось между Китаем и
Японией, причем выход почетный для Китая; в этом отношении СССР и Германия
87
могли бы сыграть важную роль. Все это нужно обсудить в дальнейшем, когда приедет
в Москву Риббентроп.
ГИТЛЕР сожалеет, что ему до сих пор не удалось встретиться с такой огромной
исторической личностью, как Сталин, тем более, что он думает, что, может быть, и
он сам попадет в историю. Но он полагает, что Сталин едва ли покинет Москву для
приезда в Германию, ему же (Гитлеру) во время войны уехать никак невозможно,
МОЛОТОВ присоединяется к словам Гитлера о желательности такой встречи и
выражает надежду, что такая встреча состоится.
На этом беседа заканчивается.
Беседу записали - В. Богданов
В. Павлов
Беседа продолжалась 3 часа 30 минут.
На первой странице документа на полях от руки имеется пометка: ’’Сведений о
просмотре тов. Молотовым данной записи не имеется. Л.”
Там же, лл. 49-67.
Незаверенная машинописная копия.
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК СССР
И НАРОДНОГО КОМИССАРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ В.М. МОЛОТОВА
С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
фон РИББЕНТРОПОМ В БЕРЛИНЕ 13 ноября 1940 г.
РИББЕНТРОП заявляет, что он хотел бы сделать некоторые дополнения и
уточнения к тому, что сказал фюрер. При этом он хочет ограничиться выска¬
зываниями о возможности определить в широких чертах линии советско-германского
сотрудничества на будущее и повторить предпосылки для такого сотрудничества, о
которых он уже писал Сталину. Он хотел бы изложить ’’сырые мысли", как он их себе
представляет, т.е. мысли, которые, может быть, в будущем могли бы быть
реализованы. Эти мысли заключаются в сотрудничестве между государствами -
участниками пакта трех и СССР. Риббентроп думает, что сначала надо найти путь,
чтобы совместно в широких чертах установить сферы интересов четырех государств и
затем особо договориться о проблеме Турции. Проблемы разграничения сфер
интересов касаются четырех государств, в то время как проблема Турции затрагивает
только Германию, Италию и СССР. После того, как Молотов переговорит со
Сталиным, и после того, как Германия и СССР договорятся по этому комплексу
вопросов, министр думает, что Германия и СССР вступят в контакт с Японией и
Италией с целью выяснения возможностей приведения их интересов к одной формуле.
Что касается Турции, то он имеет в виду контакт с Италией. Можно было бы найти
"модус процеденти"* для оказания на турок влияния в желательном направлении. Если
можно будет привести к одному знаменателю интересы этих стран, что Риббентроп
считает не невозможным и выгодным для заинтересованных сторон, тогда можно было
бы зафиксировать эти оба комплекса в доверительных документах между ними, если
СССР разделяет взгляды Германии о воспрепятствовании расширению войны и стоит
на точке зрения ее окончания. Он добавляет, что думал, что правильно понял со слов
Молотова, что все эти вопросы заслуживают изучения. Я представляю себе, что
конечной целью этого изучения должно быть заключение соглашения между
участниками пакта трех, с одной стороны, и СССР - с другой стороны о
сотрудничестве четырех держав в этом смысле. Чтобы рассмотреть эти дела более
конкретно, он набросал несколько пунктов, из которых, по его мнению, должно
Modus procedenti {лат.) - образ действия. - Прим. ред.
88
состоять это соглашение. Он хотел бы подчеркнуть, что в такой конкретной форме
он, Риббентроп, не говорил ни с Японией, ни с Италией. Он думал, что эти мысли
должны быть в первую очередь выяснены между СССР и Германией. Разумеется, в
общих чертах он обсудил эти мысли с Японией и Италией. Он хотел бы сказать одно,
а именно, что высказанное им не будет предложением, а будет только мыслями в
сыром виде. Он просит переговорить со Сталиным о возможности такого соглашения.
Следующим этапом должны быть переговоры с Италией и Японией. Все это будет
иметь смысл тогда, когда будет достигнута ясность в этих вопросах. Он мыслит себе
соглашение между участниками пакта трех и СССР примерно в следующем виде
(Риббентроп достает из кармана бумагу и говорит дальше, смотря на бумагу):
’’Правительства государств - участников тройственного пакта, руководствуясь
желанием установить новый порядок, содействующий благосостоянию народов, в
интересующих их сферах с целью создания базиса для их сотрудничества, пришли к
соглашению о нижеследующем:
1) Согласно пакту трех держав Германия, Япония и Италия пришли к соглашению,
что нужно воспрепятствовать расширению войны в мировой конфликт и что
необходимо совместно работать для установления мира, они объявили о своем
желании привлечь к сотрудничеству с ними другие народы в других частях мира,
поскольку эти народы согласны дать своим стремлениям то же направление. СССР
заявляет о своей солидарности с этими целеустремлениями и решил со своей стороны
политически сотрудничать с участниками пакта трех.
2) Германия, Италия, СССР, Япония обязуются уважать сферы взаимных
интересов. Постольку поскольку сферы этих интересов соприкасаются, они будут в
дружественном духе договариваться по всем возникающим из этого факта вопросам.
3) Договаривающиеся стороны не будут поддерживать группировок, направленных
против одной из них. Они обязуются поддерживать друг друга экономически и будут
стремиться расширить свои экономические соглашения.
4) Это соглашение можно было бы заключить на продолжительный срок, скажем на
10 лет.
К этому соглашению можно было бы добавить дополнительное секретное
соглашение в какой-либо форме. В этом дополнительном соглашении можно было бы
со ссылкой на открытое соглашение зафиксировать центры тяжести территориальных
аспираций договаривающихся четырех сторон. Что касается Германии, то кроме
ревизий, которые должны быть проведены в Европе при заключении мира, центр
тяжести ее аспираций лежит в Средней Африке. Что касается Италии то, помимо
европейских ревизий, ее аспирации будут распространяться на северо-восточную и
северную Африку. Центр тяжести аспираций Японии надо выяснить дипломатическим
путем в переговорах с ней. Риббентроп предполагает, что аспирации Японии можно
было бы направить по линии южнее Манчжоу-Го и японских островов. Что касается
СССР, то этот вопрос можно было бы выяснить. Он предполагает, что центр тяжести
аспираций СССР лежит в направлении на юг, т.е. к Индийскому океану. Можно было
бы это соглашение дополнить пунктом, в силу которого эти державы будут уважать
обоюдные притязания.
Можно было бы продумать о втором дополнительном протоколе, в котором было
бы зафиксировано следующее: Германия, Италия и СССР согласились во взглядах,
что в их интересах привлечь Турцию к сотрудничеству с ними. Они обязуются вести в
этом отношении одну и ту же политику. Германия, Италия и СССР будут действовать
в том направлении, чтобы статут Монтре был бы заменен другим статутом. По этому
новому статуту Советскому Союзу должны быть предоставлены права прохода его
военного флота через проливы, в то время, как другие державы, за исключением
черноморских, Италии и Германии, должны отказаться от своих прав на пропуск своих
военных судов через проливы. При этом само собой разумеется, что проливы
остаются открытыми для всех торговых судов. Если СССР склонен к сотрудничеству с
Италией и Японией, Германия это приветствовала бы.
89
Риббентроп полагает, что отдельные вопросы можно было бы выяснить
дипломатическим путем через дипломатических представителей: в Москве через графа
Шуленбурга, в Берлине - через полпреда. Из письма Сталина* он, Риббентроп, понял,
что тот не отрицательно относится к сотрудничеству СССР с тремя государствами. Он
думает, что дипломатические переговоры могли бы завершиться нанесением
министрами иностранных дел визита тов. Сталину и подписанием такого соглашения.
Ясно, что это нужно изучить во всех отношениях. Он не хотел бы настаивать на
получении ответа от Молотова, так как этот вопрос, само собой разумеется
нуждается в изучении и обсуждении.
Он хотел бы еще добавить следующее к высказанному им.
Министр говорит о том, что он всегда проявлял интерес к отношениям между СССР
и Японией. Он не знает, может ли он спросить у Молотова о состоянии этих отноше¬
ний. Со слов Молотова он понял, что имеются признаки, что эти отношения будут
улучшаться более быстрыми темпами. Он располагает информацией, что в Японии
придают значение заключению пакта о ненападении с СССР. Он не хочет вмеши¬
ваться в эти дела, но считает, что может быть полезно переговорить по этим вопро¬
сам. Может быть, выявится необходимость посреднического влияния Германии. Он
помнит слова Сталина, что азиатов он, Сталин, знает лучше, чем Риббентроп. Но он,
Риббентроп, знает, что Япония готова к соглашению с СССР на широкой основе. Если
удастся заключить пакт о ненападении, то Япония хотела бы в широком масштабе
урегулировать все висящие в воздухе вопросы Советско-японских отношений. Японцы
его ни о чем не просили. Но Риббентроп говорит, что им получены сведения, что япон¬
ское правительство, в случае заключения договора о ненападении, готово признать ин¬
тересы СССР во Внешней Монголии и Синцзяне, если удастся достигнуть соглашения
с Китаем. В случае присоединения СССР к пакту трех, что было бы равносильно дого¬
вору о ненападении с Японией, стало бы возможным установить сферы интересов
СССР в Британской Индии.
В вопросах Сахалинских концессий японцы тоже готовы были бы пойти навстречу,
если состоится соглашение. Но японцы должны для этого преодолеть некоторое
сопротивление внутри страны.
Тов. МОЛОТОВ просит разрешить ему сделать несколько замечаний к сказанному
Риббентропом. Он хотел бы начать с конца, а именно с советско-японских отношений.
Он уже выразил надежду на то, что есть основания быстрее пойти вперед по тому
пути, по которому развивались советско-японские отношения в этом году. Они в
общем развивались в положительном направлении, хотя и не без перебоев, задержек и
пр. Японское правительство поставило вопрос о заключении пакта о нейтралитете.
СССР счел это предложение в принципе приемлемым и дал ответ с изложением своей
точки зрения в целом. После этого последовало заявление японского правительства,
содержавшее предложение о заключении пакта о ненападении. С советской стороны
японцам было на это заявлено, что вопрос этот требует дополнительного
рассмотрения. Таково состояние советско-японских отношений, которые, по мнению
Молотова, должны углубляться. В настоящее время, как представляет себе советская
сторона, дело за тем, чтобы Япония дала ответ на упомянутое выше и переданное
Японии еще через Того** изложение советской точки зрения, причем Татекава***
обещал запросить мнение японского правительства по поводу соображений,
Ответ Сталина на письмо Риббентропа от 13.10.1940 г. был вручен Молотовым Шуленбургу
21.10.1940 г. для передачи Риббентропу. Письмо Сталина содержало такое высказывание: "Что касается
обсуждения ряда проблем совместно с Японией и Италией, то, в принципе не возражая против этой идеи, я
считаю, что этот вопрос должен будет подвергнуться предварительному рассмотрению". - Оглашению
подлежит..., с. 238. - Прим. ред.
Того Сигенори - генерал-лейтенант, в 1937-1938 гг. посол Японии в Германии, в 1938-1940 гг. посол
Японии в СССР. - Прим. ред.
Тагпекава Иошецуге - генерал-лейтенант, с ноября 1940 г. сменил Того в должности посла Японии в
Москве. - Прим. ред.
90
изложенных советской стороной, и, таким образом, дать ответ на них. Этот вопрос
связан с целым комплексом дел и требуется некоторое время для установления
взаимопонимания.
По другим вопросам, затронутым рейхсминистром, Молотов хотел бы сделать
несколько замечаний и в свою очередь поставить ряд вопросов Риббентропу.
В отношении Турции и проливов Советское правительство исходило из того, что, во-
первых, нужно договориться с Турцией по вопросу о проливах. Во-вторых, что
конвенция Монтре не годится. В-третьих, для СССР, как для черноморской державы,
необходимо получить реальные гарантии от нападения со стороны Англии через
проливы, как Англия это делала несколько раз раньше. Надо обсудить конкретные
формы гарантий от такого нападения и обеспечения безопасности для черноморских
держав и СССР. Этот вопрос нуждается в изучении и требует для своего разрешения
известного времени.
РИББЕНТРОП (прерывая переводчика) говорит, что он думает, что сотруд¬
ничество СССР, Италии и Германии должно вызволить Турцию из ее связей с Англией
и привести к выполнению пожеланий СССР о проливах. Причем удовлетворение
желаний СССР надо произвести вопреки некоторым стремлениям Италии. Германия
заинтересована в проливах во вторую очередь. В первую очередь заинтересована в
них Россия. Наши интересы идут параллельно. В то время, как Германия
заинтересована в проливах на время войны, желая воспрепятствовать попытке
англичан зайти в Черное море, СССР заинтересован в проливах постоянно.
МОЛОТОВ, дополняя высказанное, говорит, что Риббентроп должен согласиться с
положением, что Германия не является черноморской державой. Для нее проливы
имеют не второе, а пожалуй, десятое значение, для Италии, тоже нечерноморской
державы, проливы имеют, может быть, пятое значение. Для СССР вопрос о проливах
чрезвычайно важен, так как Советский Союз подвержен непосредственному
нападению на свои границы со стороны проливов. У Германии ”не болит душа” в этом
вопросе. В связи с интересами обеспечения безопасности СССР от нападения через
проливы особенно важен вопрос о Болгарии. Причем Молотов подчеркивает, что
Советский Союз не интересует внутренняя жизнь Болгарии, которую болгары могут
устраивать, как хотят на столетия и тысячелетия. СССР не только считает
необходимым коснуться вопросов Турции, но и связывает вопрос безопасности
черноморских границ СССР с советскими гарантиями Болгарии.
РИББЕНТРОП говорит, что он не может согласиться с тем, что Италия не заинте¬
ресована в проливах. Она в них заинтересована, т.к. находится в Средиземном море.
МОЛОТОВ делает замечание, что из Черного моря Италии никто и никогда не
угрожал и никогда никто не будет угрожать.
РИББЕНТРОП отвечает, что он не является морским стратегом и не может судить
о стратегическом положении Италии. Что касается гарантирования Болгарии, то он не
знает, как сегодня то же заявил и фюрер, как думает на этот счет Болгария.
Риббентроп будет иметь возможность переговорить с государственными деятелями
этих государств по этому вопросу. Как он уже говорил, некоторые государства (намек
на Болгарию. - В.М.), возможно, присоединятся к тройственному пакту в иной форме,
конечно, чем это может быть для СССР. Вопрос о гарантиях Болгарии должен быть
обсужден с Италией. Министра интересует, каким образом Молотов связывает
гарантирование Болгарии с задачей обеспечения СССР от нападения через проливы.
МОЛОТОВ указывает, что Болгария, после Турции, является наиболее близко
расположенной к проливам черноморской страной и весьма заинтересована в этом
вопросе как черноморская держава. Но в данном случае, поскольку нельзя выяснить
всех вопросов, касающихся других стран, интересно было бы узнать точку зрения
германского правительства по вопросу о даче гарантии Советским Союзом Болгарии.
Он повторяет, что он не говорит, что не надо спрашивать по этому вопросу мнений
других государств, но здесь в Берлине было бы легче выяснить точку зрения
германского правительства, чем другие вопросы.
91
РИББЕНТРОП вновь заявляет, что на этот вопрос германское правительство не
может ответить без совещания с Италией. Он хотел бы знать не соответствует ли
стремление СССР гарантировать себя от нападений со стороны Англии через проливы
тому, о чем Риббентроп говорил в этом отношении с Италией. Италия, несмотря на
свою заинтересованность в проливах обещала пойти навстречу желаниям СССР и
сделать уступки, что его, Риббентропа, очень обрадовало. Какого мнения Советское
правительство об этом проекте?
МОЛОТОВ выражает удовлетворение благожелательным отношением Италии к
этому вопросу. Он высказал свою точку зрения о том, какое значение имеет этот
вопрос для Германии, Италии и СССР, и снова заявляет, что СССР нуждается не
только в договоренности по этому вопросу с Турцией, которой принадлежат проливы,
но и в реальных гарантиях. В соответствующий ответ СССР по этому вопросу входит
также болгарский вопрос о той внешнеполитической точке зрения, которая не
затрагивает внутренней жизни Болгарии. В данном случае СССР считает возможным
по аналогии с Румынией, которой Германия и Италия дали гарантии, но дали, не
посоветовавшись заранее с СССР и не спросив мнения СССР по этому вопросу,
предоставить гарантии Болгарии. Советское правительство считает себя вправе
поставить вопрос о даче ими гарантий Болгарии, которая в свою очередь должна
Советскому Союзу гарантировать проливы. Причем Советское правительство считает
нужным спросить мнение Германии по этому вопросу.
(Далее переводчик продолжает прерванный перевод первого ответа Молотова).
МОЛОТОВ считает, что вопросы, которые интересуют Советский Союз, не
ограничиваются только Турцией. В связи с проливами СССР интересует болгарский
вопрос. Советский Союз интересует также вопрос о судьбах Венгрии и Румынии, как
государств граничащих с СССР. Советский Союз не может остаться в стороне от
того, как будут решаться судьбы этих стран. Молотов говорит, что он хотел бы
получить информацию, что думает "Ось” о Югославии и Греции. Затем насчет судеб
Польши. У СССР и Германии имеется протокол на этот счет. Остается ли этот
протокол, предусматривающий обмен мнениями о судьбах Польши, в силе? Если итти
еще далее на запад, СССР интересует вопрос о нейтралитете Швеции. В свое время
правительствами обоих государств - СССР и Германии - было высказано мнение, что
они оба заинтересованы в нейтралитете Швеции. СССР и в настоящее время
держится того же мнения в этом вопросе. Осталась ли и Германия на прежней точке
зрения по вопросу о нейтралитете Швеции?
СССР интересует вопрос о выходе из Балтийского моря: Малый и Большой Бельт,
Зунд, Каттегат и Скаггерак*. Не целесообразно ли, по примеру дунайского вопроса,
созвать также совещание заинтересованных стран по этому вопросу? Он не говорит
сейчас о финляндском вопросе, по которому он уже высказал точку зрения Советского
правительства. Если Риббентроп считает необходимым коснуться сейчас этих
вопросов, то это было бы желательно сделать. После этого, заявляет Молотов, он
хотел бы коснуться тех вопросов, о которых Риббентроп говорил вначале.
РИББЕНТРОП начинает с того, что нельзя забывать, что Германия ведет войну
против Англии и не может поэтому сейчас решить целый ряд вопросов. Он должен
сказать, что ему поставлено больше того количества вопросов, на которые он в
состоянии ответить. Германия заинтересована, говорит Риббентроп, в нейтралитете
Швеции. Решить вопрос о таких подробностях, как выход из Балтийского моря
немыслимо, там в настоящее время идет война и поэтому нельзя говорить о решении
вопроса о выходе из Балтийского моря. То же самое, в смысле преждевременности,
относится и к Польше. Что касается Балкан, то для Германии это территории, в
которых она сильно заинтересована экономически, о чем не раз Германское
правительство заявляло СССР. Германия не желает, чтобы в какой-либо форме
Англия мешала ее снабжению оттуда. Риббентропу кажется, что гарантирование
Балтийские проливы. - Прим. ред.
92
Румынии было не понято в Москве. Эта гарантия возникла, когда Риббентроп приехал
в Вену, куда были приглашены для переговоров делегации Венгрии и Румынии.
Отношения между этими странами были в тот момент очень напряженными. Венгрия
была готова начать войну против Румынии, если бы не вмешалась Германия. Для
того, чтобы побудить румын пойти на уступки, Германия дала Румынии гарантии.
Германия должна была дать эти гарантии потому, ч~о, во-первых, хотела мира на
Балканах и, во-вторых, не хотела, чтобы там засела А1£глия и мешала бы снабжению
Германии. В отношении Балкан Германия заинтересована двояко: во-первых - в
сохранении мира для обеспечения ее экономических отношений с Балканскими
странами, во-вторых, Германия не хочет, чтобы Англия создала бы там фронт против
нее. Эта заинтересованность обусловлена войной. В тот момент, когда Англия при¬
знает свое поражение и попросит нас о мире, Германия ограничится экономическими
интересами и германские войска будут выведены из Румынии. Риббентроп хочет еще
раз сказать, что Германия не имеет там территориальных интересов.
МОЛОТОВ говорит, что можно было бы договориться о времени разрешения
вопросов о выходе из Балтийского моря, если этого вопроса нельзя решить сейчас.
РИББЕНТРОП отвечает, что германские желания заключаются в том, чтобы
сделать Балтийское море свободным внутренним морем для судоходства всех
прибрежных государств. Всякий, кто сейчас высунет нос за Балтийское море,
убедится, что там идет война и поэтому нельзя говорить о выходе из моря. Он хотел
бы свести сегодняшний разговор к более крупным вопросам. Он хотел бы поставить
вопрос, готов ли СССР сотрудничать с ними. "По другим вопросам мы можем всегда
договориться, если мы на основе наших прошлогодних соглашений расширим наши
отношения", - говорит министр. Где лежат интересы Германии и СССР? - это
подлежит решению. Нужно найти решение, чтобы наши государства не стояли грудью
к груди друг друга, а совместно добивались осуществления своих интересов, чтобы они
путем совместной работы реализовали бы свои стремления, не противореча друг
другу. Риббентроп хотел бы получить ответ, готов ли СССР изучить этот вопрос и
сотрудничать с тремя державами. Из писем Сталина он вынес впечатление, что СССР
склонен к этому. Вопросы, которые касаются Германии и СССР, всегда можно
решить, важно, чтобы и Германия и СССР имели бы общие линии в крупных чертах.
С этой точки зрения вопрос Финляндии он считает второстепенным вопросом. Он
хотел бы знать, симпатизирует ли СССР в принципе мыслям по вопросу о нахождении
выхода в океан, в направлении к Индийскому океану? Обсуждал ли СССР эту мысль?
МОЛОТОВ говорит, что ему осталось ответить на общие вопросы, затронутые
Риббентропом. Он должен обратить внимание на следующее. Гитлер говорил вчера и
сегодня, так же, как и Риббентроп, что нечего заниматься частными вопросами,
поскольку Германия ведет войну не на жизнь, а на смерть. Молотов не хочет умалять
значение того состояния, в котором находится Германия, но из заявлений Гитлера и
Риббентропа у него сложилось впечатление, что война уже выиграна Германией и
вопрос об Англии, по существу, уже решен. Следовательно, можно бы выразиться,
что если Германия борется за жизнь, то Англия - "за свою смерть". Теперь к вопросу
о совместной работе СССР, Японии, Германии и Италии. Он отвечает на этот вопрос
положительно, но надо по этому вопросу договориться. Здесь возникает ряд
конкретных вопросов. Общий ответ уже был дан в письме Сталина. Он, Молотов,
подтверждал здесь и подтверждает еще раз, что нужно искать договоренности.
Правильны ли предположения Германии по вопросу о разграничении сфер интересов
трудно конкретно уже сегодня ответить на этот вопрос, ибо этот вопрос до сих пор
Германия не ставила перед СССР и он является для Советского правительства новым.
Он пока не знает мнения И.В. Сталина и других советских руководителей на этот
счет, но ответ СССР вытекает из того, что им уже говорилось. Эти большие вопросы
завтрашнего дня, с его точки зрения, не следует отрывать от вопросов сегодняшнего
дня. И если их правильно увязать, то будет найдено нужное решение. То, что ему
пришлось иметь ряд бесед с министром и с рейхсканцлером - это большой шаг вперед
93
в деле выяснения важных вопросов. Как дальше пойти по этому пути, Молотов
предоставляет решить Риббентропу. Риббентроп уже говорил, что наши послы, граф
фон дер Шуленбург и т. Шкварцев, продолжили в дипломатическом порядке
обсуждение этих вопросов. Если сейчас нет необходимости в других методах, то это
предложение приемлемо. Молотов считает, что я уже дал ответ на поставленные ему
вопросы.
На этом беседа заканчивается.
Беседа продолжалась с 21 до 24 часов в бомбоубежище Риббентропа.
Записал В. Павлов.
На первой странице документов на полях от руки имеется пометка: "Сведений о
просмотре тов. Молотовым данной записи не имеется. Л."
Там же, лл. 68-82.
Незаверенная машинописная копия.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ г. РИББЕНТРОПА ОТ 13 НОЯБРЯ СЕГО ГОДА*
О ПАКТЕ ЧЕТЫРЕХ ДЕРЖАВ, ПЕРЕДАННОЕ В.М. МОЛОТОВУ
В БЕРЛИНЕ
1. Согласно пакту трех держав Германия, Япония и Италия пришли к соглашению,
что нужно воспрепятствовать расширению войны в мировой конфликт и что
необходимо совместно работать для установления мира, они объявили о своем
желании привлечь к сотрудничеству с ними другие народы в других частях мира,
поскольку эти народы согласны дать своим стремлениям то же направление. СССР
заявляет о своей солидарности с этими целеустремлениями и решил со своей стороны
политически сотрудничать с участниками пакта трех.
2. Германия, Италия, СССР, Япония обязуются уважать сферы взаимных
интересов Постольку, поскольку сферы этих интересов соприкасаются, они будут в
дружественном духе договариваться по всем возникающим из этого факта вопросам.
3. Договаривающиеся стороны не будут поддерживать группировок, направленных
против одной из них. Они обязуются поддерживать друг друга экономически и будут
стремиться расширить свои экономические соглашения.
4. Это соглашение можно было бы заключить на продолжительный срок, скажем на
10 лет.
Там же, л. 83.
Незаверенная машинописная копия.
Из дневника СОВ. СЕКРЕТНО
В.М. Молотова
* 1940 г. - Прим, р ед.
94
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ И НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ СССР тов. МОЛОТОВА В.М. С РЕЙХМАРШАЛОМ ГЕРИНГ
В БЕРЛИНЕ 13.XI.1940 г.
После взаимных приветствий ГЕРИНГ заявляет, что прошедшая ночь в Берлине
прошла спокойно. Англичане не могли прилететь в Берлин из-за сильного ветра с
Запада. Расстояние до Берлина, говорит Геринг, вообще является для них
предельным. Кроме того, при западном ветре свыше 70 км/час в Берлине всегда
бывает спокойно. Осенью преобладают западные ветры, сильно затрудняющие
действия английской авиации. Его летчикам, говорит Геринг, эти ветры только
помогают лететь обратно в Германию.
Далее Геринг заявляет, что рад познакомиться с т. Молотовым. Ему (Герингу)
известно, что благодаря вмешательству тов. Молотова были преодолены трудности,
которые возникали в ходе экономических отношений с СССР.
Тов. МОЛОТОВ заявляет, что ему известно, что рейхсмаршал ведает большим
количеством хозяйственных, политических и военных дел, но он не знает, где лежит
центр тяжести деятельности рейхсмаршала. В данный момент, говорит т. Молотов,
вероятно, наполовину в военно-воздушных делах и наполовину в экономических. Тов.
Молотов говорит, что ему известно, что Геринг относится к выдающимся
организаторам Германии.
Отвечая, ГЕРИНГ говорит, что тов. Молотов прав, что центр тяжести его
(Геринга) деятельности лежит в авиации. Вчера он был на фронте и выехал в Берлин
с намерением познакомиться с тов. Молотовым. Сегодня он снова возвращается на
фронт. Он полагает, что авиация то оружие, которое разобьет Англию. Ему известны
разрушения в Лондоне по фотографиям, которые он видел, и, кроме того, он может
себе представить, что означают сотни тонн бомб, бросаемых на город, по сравнению с
беспокойством, которое причиняет жителям городов даже один вражеский самолет. Он
(Геринг) думает, что экономика Англии не выдержит таких ударов германской
авиации.
Геринг заявляет, что англичане утверждают, что они пульверизировали* вокзалы в
Берлине. Тов. Молотов может смотреть, что хочет и не увидит существенных
разрушений. Бомбы попали в больницу, в лакокрасочный завод, лесной склад, в
несколько домов и упали в парк "Тиргартен”. Напротив, говорит Геринг, по
фотографиям можно сделать вывод, что положение в Лондоне очень тяжелое.
Он хотел бы, чтобы тов. Молотов убедился в английской лжи. Разрушения в
Германии несравнимы с тем, что удалось германской авиации сделать в Англии, о чем
тов. Молотов имеет, вероятно, представление по докладам полпредства СССР в
Лондоне. Там груды пепла.
Далее Геринг говорит, что он хочет перейти к вопросу советско-германских
экономических отношений. Он заявляет, что в переговорах были затяжки. Он со своей
стороны приложил все усилия к осуществлению переговоров на деле. Ему ясно, что
выполнение экономических обязательств было бы мерилом доверия вождей и народов
друг к другу.
Геринг заявляет, что они, идя на сближение с СССР, произвели полную пере¬
ориентировку их внешней политики. Когда в переговорах выявилась возможность
взаимопонимания двух народов, он это приветствовал. Это взаимопонимание было
решающим для Германии. Эту новую ориентировку он, Геринг, рассматривает не как
нечто преходящее, а как совершенно окончательное и бесповоротное решение
германского правительства. Мы понимаем, говорит Геринг, что повороты в политике
таких великих народов должны привести к прочной длительной политике. Нельзя
Разрушили с воздуха, разбомбили.-Прим.ред.
95
бросаться от одного к другому тем более, когда речь идет о таких больших народах,
обладающих большой инерцией. Геринг просит передать сказанное им тов. Сталину
И.В. Геринг добавляет, что только благодаря таким людям, как Сталин и Гитлер,
удалось вызволить такие великие народы из опасности войны друг с другом. Теперь,
говорит Геринг, несколько слов об экономических делах.
Геринг говорит, что само собой разумеется, что всякие делегации, будь то русские
или германские, имеют поручения вести переговоры. Каждая делегация должна
занимать позиции, отвечающие интересам своего государства. При этом делегации,
ведя переговоры друг с другом, уходят часто в мелочи и возникают разногласия.
Задача руководителей, по мнению Геринга, состоит в том, чтобы вмешаться в этих
случаях и навести порядок. Он со своей стороны давал указания для преодоления
трудностей и полагает, что если появляются задержки в переговорах, то руководители
должны сказать свое властное слово. Он, Геринг, думает, что дело делегаций -
заниматься мелочами, а руководители должны уделять внимание крупным вопросам.
Далее Геринг говорит, что нарушение сроков поставок Германией объясняется тем,
что Германия ведет войну и тем, что заказы СССР концентрируются на предметы
вооружения. Тем не менее он обещает, что все возможное будет выполнено. Было бы,
конечно, легче это сделать, если бы советские заказы не концентрировались в одной
отрасли, а распределялись бы на целый ряд отраслей. Кроме того, его внимание
обращали также на тот факт, что русские неясно представляют себе, что они хотят
заказать. Если бы, говорит Геринг, здесь действовали быстрее, то это содействовало
бы выполнению русских желаний. Геринг заявляет, что надо всячески содействовать
ускорению дела и проявлять больше доверия. Он со своей стороны, когда речь шла о
ценах, сказал, что нужно отодвинуть этот вопрос на задний план и сначала выполнять
заказ. Так было в мае, когда СССР хотел возможно скорее получить самолеты.
Геринг заявляет, что ему известно, что СССР выполняет свои поставки в срок и
даже раньше. По его словам, девизная пика не имеет значения. Образовавшийся
дефицит будет сбалансирован. Геринг заявляет, что нужно планировать и решать
вопросы в крупных чертах. Чем шире основа, говорит он, тем глубже наши
отношения.
Отвечая на заявление Геринга, тов. МОЛОТОВ говорит, что теперь в вопросе о
советско-германских отношениях, помимо наличия добрых желаний и намерений
государственных руководителей, мы имеем год существования отношений на новой
базе и итоги их успешного развития. Наши намерения и цели подтвердились жизнью.
Тем более, следовательно, можно говорить о прочности этих отношений и о том, что
они были задуманы основательно. И Советское Правительство и И.В. Сталин, с
которым он, тов. Молотов, много говорит о советско-германских отношениях,
убеждены, что найдена хорошая база для развития дружественных отношений между
СССР и Германией. Эти отношения построены на глубоких интересах не
сегодняшнего дня.
Тов. Молотов говорит, что за экономическими отношениями он не следит во всех
деталях. Этим занимается Микоян*, которого, по словам тов. Молотова, хорошо знает
Хильгер**. Он, Микоян, в курсе дела. Все существенное, конечно, мне известно. Тов.
Молотов заявляет, что ему не всегда понятно, почему не выполняются заказы СССР,
учитывая, что в экономическом отношении положение Германии улучшилось в резу¬
льтате войны и привлечения ресурсов из других стран. Нам непонятно, говорит тов.
Молотов, почему возникают задержки в поставках или почему вопросы техпомощи, в
которой мы заинтересованы ставятся так, что у наших организаций отпадает
заинтересованность в ней. Тов. Молотов признает, что иногда бывают виноваты
наши хозяйственные организации из-за своего бюрократизма и неповоротливости.
Нарком внешней торговли, заместитель председателя совета народных комиссаров СССР. - Прим,
ред.
Советник германского посольства в Москве. -Прим.ред.
96
Тов. Молотов выражает надежду, что трудности в советско-германских эконо¬
мических отношениях могут быть ликвидированы и заявляет, что он со своей стороны
готов всячески содействовать этому. Тем более, он готов это сделать после того, как
выслушал рейхсмаршала и знает, что рейхсмаршал следит за нашими хозяйственными
делами, несмотря на свою занятость военными делами.
Тов. Молотов заявляет, что он смотрит на хозяйственные отношения оптимис¬
тически и что он уверен, что мы будем итти к новым усилиям. Он добавляет, что его
оптимизм обоснован, ибо из его разговора с рейхсканцлером он, тов. Молотов, видит,
насколько глубоко желание продолжать и развивать советско-германские отношения.
ГЕРИНГ отвечает, что он тоже не в курсе всех мелочей. На вопрос тов. Молотова
о причинах задержки выполнения отдельных заказов Геринг заявляет следующее.
Разумеется, Германия экономически укрепилась, имея в своем распоряжении большие
территории. Но он, Геринг, должен напомнить, что при этом речь идет о территории
стран, которые вели войну, повлекшую за собой большие разрушения.
Англичане разрушали все самым жестоким образом. Французы не отставали от них.
Как выглядят эти страны экономически? - спрашивает Геринг и, отвечая сам на этот
вопрос, говорит, что машины фабрик и заводов были увезены вовнутрь страны.
Чертежи сожжены. Шахты разрушены. Требуется время, чтобы это восстановить,
организовать и привести в порядок. Геринг заявляет, что они стремятся создать для
себя прочный экономический базис, направленный против Англии и США. По мере
восстановления хозяйства оккупированных Германией стран производственная
мощность Германии возрастет и будут скорее удовлетворены желания СССР.
Геринг сообщает далее, что для лучшего и быстрого удовлетворения русских
желаний им организован специальный русский комитет. В этом комитете пред¬
ставлены все заинтересованные лица. Туда входят представители министерства
иностранных дел, участвовавшие в переговорах с СССР, там имеются также
представители непосредственных исполнителей заказов, туда входит его пред¬
ставитель. Между этими людьми часто возникают разногласия. Например, мини¬
стерство сельского хозяйства говорит, что оно хочет получить столько-то миллионов
тонн кормов. Промышленность, говорит Геринг, должна компенсировать это.
Представители промышленности заявляют, что русские имеют такие то требования.
Одновременно их предприятия выполняют заказы военно-морского ведомства,
аналогичные заказам СССР. Военно-морское ведомство требует выполнения своих
заказов в первую очередь. Возникают трения. Надо искать компромисса. Задача
русского комитета, говорит Геринг, состоит в том, чтобы разрешать такие трудности,
за которыми он должен следить.
Геринг просит принять во внимание, что Германия ведет войну и что хотя
промышленность Германии сильно развита, но она имеет огромные заказы. Он
говорит, что у них нет намерения задерживать выполнение заказов, и заверяет, что
положение улучшится. Одновременно Геринг говорит снова о том, что выполнение
заказов задерживается, так как имеются неясности по отдельным статьям их.
Например, говорит он, русские потребовали определенных броневых плит, которые
нуждаются в особой закалке. Германские техники указывали, что заказ на эти
броневые плиты нельзя было выполнить по техническим причинам и предлагали
другие плиты, поскольку их можно было выполнить быстро. Однако русские
настаивали на своем, и возникла задержка. Геринг признается, что иногда в задержках
они тоже виноваты, и в частности их военное ведомство, требующее выполнения
своих заказов в первую очередь.
Геринг заявляет, что в отношении техпомощи, он дал указания, чтобы она была
предоставлена. Но иногда требования русских идут слишком далеко, говорит он. Он
заявляет, что фирмы даже по отношению к ним не всегда бывают откровенны.
Геринг говорит также, что задержки вызываются тем, что советская сторона
изменяет иногда свои желания, что нарушает их планы. Кроме того, говорит он,
советские заказы относятся к высококачественной и сложной продукции. Геринг
4 Новая и новейшая история JMt 5
97
заявляет, что они признают для себя важность поставок СССР, но СССР легче
выполнить их поскольку здесь речь идет о сырье. Германии выполнять свои поставки
труднее, так как нужно еще изготовить поставляемую продукцию.
Тов. МОЛОТОВ говорит, что хочет ответить в отношении конкретных вопросов, в
частности насчет броневых плит. Тов. Молотов указывает, что этот вопрос вряд ли
будет представлять большие затруднения, а может быть, и совсем отпадет.
Тов. Молотов заявляет, что Германия могла бы оказать существенную техни¬
ческую помощь. Он не хочет останавливаться на мелочах, но заявляет, что если наши
организации затрагивают военные секреты то мы не требуем их раскрытия. Мы
просим, говорит тов. Молотов, чтобы нам дали ясный ответ, что это секрет, что это
внутренний вопрос Германии. Тов. Молотов заявляет, что по встречным вопросам -
нефти и зерну, - мы можем и должны договориться. Трудностей ко взаимному
удовлетворению нет. Была бы заинтересованность, говорит тов. Молотов, и можно
найти решения.
ГЕРИНГ заявляет, что в связи с визитом тов. Молотова в Берлин он приложит все
усилия, чтобы по возможности выполнить желания СССР. То же относится к вопросу
техпомощи. Геринг заявляет, что он того же мнения, что непреодолимых трудностей
нет. Он просит передать свой сердечный привет И.В. Сталину.
Записал В. Павлов
21.XI.40.
На первой странице документа на полях от руки имеется пометка: “По заявлению
т. Козырева, эта запись тов. Молотовым не просмотрена".
Там же, лл. 84-92.
Подлинник, машинопись.
Из дневника СОВ. СЕКРЕТНО
В.М. Молотова
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СССР И НАРОДНОГО КОМИССАРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ тов. МОЛОТОВА В.М.
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГИТЛЕРА ГЕССОМ В БЕРЛИНЕ
13 ноября 1940 года
Тов. МОЛОТОВ спрашивает об учреждении, в котором он находится.
ГЕСС отвечает, что это связующий штаб, осуществляющий связь партии с
государством.
Тов. МОЛОТОВ говорит, что это в высшей степени интересное место в идейном и
организационном отношении и было бы интересно в общих чертах узнать о его
задачах. Ему известно, как построены взаимоотношения между партией и
государством в СССР. Германия и СССР представляют собой молодые государства, и
было бы интересно узнать, как решается этот вопрос в Германии.
ГЕСС отвечает, что центр партии находится в Мюнхене. Когда, говорит он,
национал-социалисты пришли к власти, возникла необходимость контролировать
работу министерств, в которых не было еще национал-социалистов. Из Мюнхена
исходил национал-социалистический импульс. Затем встала задача замены всех
чиновников национал-социалистами. Указом Гитлера был создан для этой цели
связующий штаб, на который была возложена задача проверить всех чиновников,
начиная с самых высших и кончая самым нисшим чином - правительственным
98
советником. Без согласия связующего штаба ни один чиновник не мог оставаться в
своей должности. Кроме этого, партия была привлечена для разработки новых
законов. Фюрер был перегружен и поэтому включил партию в дело издания законов.
На связующий штаб пала задача наблюдать за подготовкой законов.
Все эти задачи центр партии в Мюнхене не мог выполнить, так как для этого был
необходим контакт с министерствами. Если употреблять коммерческий язык, говорит
Гесс, то связующий штаб можно сравнить с филиалом Мюнхена.
Тов. МОЛОТОВ интересуется, существует ли в партии центральный комитет, как
в СССР.
ГЕСС отвечает, что эту роль выполняет съезд гауляйтеров и рейхсляйтеров*.
Тов. МОЛОТОВ спрашивает, существует ли в национал-социалистической партии
центральный аппарат.
ГЕСС отвечает, что такой аппарат существует и находится в Мюнхене. Он
возглавляет этот аппарат и выполняет две функции: является членом правительства и
начальником центрального аппарата партии.
Гесс спрашивает, как разрешается вопрос о связи партии с государством в СССР,
существует ли в СССР связующий штаб.
Тов. МОЛОТОВ говорит, что в СССР существует другая система взаимо¬
отношений между государством и партией. В СССР не существует связующего
штаба. Большинство руководителей и партии, и государства являются одними и теми
же лицами. Но есть секретари ЦК и секретари областных организаций, которые
занимаются чисто партийными делами. Они выполняют функции связующего штаба,
подбирают и расставляют людей, которые у нас также проверяются. Мы имеем
внутреннюю структуру партии, говорит тов. Молотов. Структура партии и
государства у нас дана в двух документах: в Уставе и Конституции. Конституция
определяет взаимоотношения между партией и государством.
Тов. Молотов говорит, что ему неизвестны подобные документы в отношении
Германии. Его интересует, как этот вопрос разрешается в таком высокооргани¬
зованном государстве, как Германия, так как он сам был до 1930 года, до назначения
Председателем Совета Народных Комиссаров, Секретарем Центрального Комитета
партии и 10 лет, так сказать, варился в этом соку.
ГЕСС отвечает, что взаимоотношения между партией и государством не изложены
в специальных документах. Все еще находится в стадии текущего развития.
Тов. МОЛОТОВ говорит, что это понятно.
ГЕСС говорит, что партия постепенно внедрялась в государство, так как в
Германии, в высокоорганизованном государстве, нельзя было сразу заменить всех
чиновников национал-социалистами. Национал-социалисты были в государственных
учреждениях, но они были еще не опытны и должны были учиться. На местах, в
отдельных провинциях партия была представлена гауляйтерами, которые,
ознакомившись и приобретя опыт государственной работы, были назначены затем
государственными наместниками этих провинций.
Тов. МОЛОТОВ заявляет, что в СССР и Германии много аналогичного, так как
обе партии и оба государства нового типа. Поэтому он так интересовался этим
вопросом.
Записал В. Павлов
На первой странице документа на полях от руки имеется пометка: "По заявлению
т. Козырева, эта запись тов. Молотовым не просмотрена".
Там же, лл. 93-95.
Подлинник, машинопись.
Местные и центральные партийные руководители НСДАП. - Прим.ред.
4*
99
ТАИНА ’’КЕНТА”:
СУДЬБА СОВЕТСКОГО РАЗВЕДЧИКА
А.М. ГУРЕВИЧА
О ’’Красной капелле” - организации антифашистского Сопротивления, связан¬
ной во время второй мировой войны с советской разведкой, написаны десятки
книг, опубликованных в разных странах1 * * * * * * В.
Советская разведывательная сеть в 1939-1942 гг. охватывала многие евро¬
пейские государства: в Германии работала организация Шульце-Бойзена -
Харнака, в Швейцарии - группа Радо, во Франции действовала резидентура
Треппера, в Бельгии - Гуревича.
’’Красная капелла" сумела добыть и передать в центр ценнейшую информа¬
цию: о подготовке Германией войны против СССР, о сроках начала операции
"Барбаросса", о планах наступления вермахта на Восточном фронте в 1942 г. и
многие другие сведения.
Однако судьба бойцов невидимого фронта была трагична: те из них, кто не
погиб в застенках фашистского гестапо, после войны стали жертвами сталинских
карательных органов.
1 Roeder М. Die Rote Kapelle. Europaische Spionage. Hamburg, 1952; Ritter G. Carl Goerdeler und die
deutsche Widerstandsbewegung. Munchen, 1954; Dallin D. Die Sowjetspionage. Prinzipien und Praktiken.
Koln, 1956; Flicke W. Spionagegruppe Rote Kapelle. Vaduz, 1957; Rothfels H. Die deutsche Opposition gegen
Hitler. Frankfurt a.M., 1960; Farago L. Bum after Reading. The Espionage of World War II. New York, 1961;
Kern E. Verrat an Deutschland. Spione und Saboteure gegen das eigene Vaterland. Gottingen, 1963; Biernat
К.-H., Kraushaar L. Die Schulze-Boysen-Hamack-Organisation im antifaschistischen Kampf. Berlin, 1970;
Hohne H. Keim wort: Direktor. Die Geschichte der Roten Kapelle. Frankfurt a.M., 1970; КоролъковЮ .M.
Где-то в Германии. M., 1971; его же. В годы большой войны. М., 1981; Бланк А.С. В сердце
’’третьего рейха". М., 1974; Nollau G., Zindel L. Gestapo raft Moskau. Sowjetische Fallschirmagenten im
2.Weltkrieg. Miinchen, 1974; Die deutsche antifaschistische Widerstand 1933-1945 in Bildem und
Dokumentem Hrsg. P. Altmann, H. В nidi gam, B. Mausbach-Bromberger, M. Oppenheimer. Frankfurt a.M.,
1975; Kuckhoff G. Vom Rosenkranz zur Roten Kapelle. Berlin, 1975; Trepper L. Die Wahrheit.
Autobiographie. Munchen, 1975; edem. Le grand jeu. Memoirs du chef de I'Orchestre Rouge. Paris, 1975.
Перевод отдельных глав см. "Новая и новейшая история", 1990, № 1, 2; Треппер Л.З. Большая игра.
Воспоминания руководителя "Красного оркестра". М., 1990; Гинцберг Л.И. Герои Сопротивления.
М., 1977; его же. Борьба немецких патриотов против фашизма. М., 1987; Das Geheimnis der Roten
Kapelle. Das US-Dokument 0/7708. Verrat und Venater gegen Deutschland. Hrsg. G. Sudholt. Leoni, 1978;
Blank A., Mader J. Rote Kapelle gegen Hitler. Berlin, 1979; The Rote Kapelle. The CIA's History of Soviet
Intelligence and Espionage Networks in Western Europe, 1936-1945. Washington (D.C.), 1979; PaulE. Ein
Sprechzimnier der Roten Kapelle. Berlin, 1981; Архангельский В.А. Свет над Дорой. Ташкент, 1984;
Rosiejka G. Die Rote Kapelle. yLandesverrat" als antifaschistischer Widerstand. Hamburg, 1986; Кегель Г.
В бурях нашего века. М., 1987; Радо III. Под псевдонимом "Дора". М., 1988; Balfour М. Without
Standing Hitler in Germany 1933-1945. London-New York, 1988; О разведывательной деятельности
органов госбезопасности накануне нападения фашистской Германии на Советский Союз. Справка
комитета государственной безопасности СССР. - Известия ЦК КПСС, 1990, Nt 4; Perrault G. Auf den
Spuren der Roten Kapelle. Wien-Zurich, 1990; Перро Ж. Красная капелла. М., 1990; Boysen Е. Нагго
Schulze-Boysen. Das Bild eines Freiheitskampfers. Koblenz, 1992; Eva-Maria Buch und die "Rote Kapelle".
Erinnerungen an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Hrsg. K. S chi Ide. Berlin, 1992; Erfasst? Das
Gestapo-Album zur Roten Kapelle. Eine Foto-Dokumentation. Hrsg. R. Griebel, M. Coburger, H. Scheel.
Rendsburg, 1992.
100
Л.М. Гуревич. Фото 1991 г.
В заключении в СССР оказались: П. Бетхср, И. Венцель, А. Гуревич,
Р. Дюббендорфер, Л. Треппер, Ш. Радо и другие советские разведчики. Некото¬
рые из них, например Венцель, не реабилитированы до сих пор...
На Треппера и Гуревича в 1945-1946 гг. органами контрразведки министерст¬
ва госбезопасности СССР "Смерш", возглавлявшимися генералом Абакумовым,
заместителем Берии, было заведено уголовное дело, насчитывающее 12 томов2.
Обвинительным заключением от 10 декабря 1946 г. Анатолий Маркович
Гуревич (псевдоним Кент) - один из руководителей резидентуры советской воен¬
ной разведки сначала в Брюсселе, а затем в Марселе - был обвинен в измене
Родине. Более 45 лет Гуревич считался предателем и вынужден был молчать о
своей работе в разведке.
Однако он мог бы многое рассказать. Например, о том, как сумел завербовать
и доставить в Москву шефа зондеркоманды гестапо "Красная капелла - Париж"
криминального советника Паннвица, его секретаршу Кемпу* и радиста Стлука.
Вместе с ними 7 июня 1945 г. в центр были доставлены уникальные материалы:
протоколы допросов в гестапо советских разведчиков Треппера, Гуревича, Мака-
9
Следственное дело Треппера - Гуревича находится в архиве Министерства безопасности
Российской Федерации. Оно дополняется четырьмя томами надзорного дела, хранящегося в архиве
Главной военной прокуратуры России.
В тексте документа фамилия склоняется.
101
ров а, Ефремова, Анисилина, Робинсона, Мюллер, Шнайдера, а также знакомой
Треппера - де Винтер; секретные документы сотрудников гестапо, расследовав¬
ших дело ’’Красной капеллы”. Эти документы, имеющие принципиальное значе¬
ние, до сих пор не введены в научный оборот. Изучение российских источников
по истории "Красной капеллы" только начинается.
Полная и окончательная реабилитация А.М. Гуревича прочзошла лишь
20 июня 1991 г. благодаря усилиям сотрудников Главной военной прокуратуры
(ГВП) СССР*. Ныне, по прошествии многих лет со дня окончания Великой
Отечественной войны, А.М. Гуревич наконец-то признан ее участником. Он
живет в Санкт-Петербурге, получает военную пенсию и работает над воспоми¬
наниями.
Ниже публикуется заключение ГВП СССР по уголовному делу А.М. Гуреви¬
ча. Этот документ не только раскрывает тайные страницы истории советской
военной разведки кануна второй мировой войны, но и восстанавливает честное
имя одного из ее героев.
Ю.Н. Зоря, БЛ. Хавкин
УТВЕРЖДАЮ:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПРОКУРОРА СССР-
ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР
генерал-лейтенант юстиции
А.Ф. КАТУ СЕВ
22 июля 1991 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по уголовному делу Гуревича А.М.
16 июля 1991 г. гор. Москва
21 июня 1945 г. Главным управлением контрразведки "СМЕРШ" был аресто¬
ван и 18 января 1947 г. постановлением особого совещания при МГБ СССР на
основании ст. 58-Г’б" УК РСФСР заключен в ИТЛ** сроком на 20 лет с конфис¬
кацией изъятых при аресте ценностей
ГУРЕВИЧ Анатолии Маркович, 1913 года рождения, уроженец г. Харько¬
ва, еврей, с незаконченным высшим образованием, сотрудник Главного
разведывательного управления ГШ ВС СССР***, капитан (т. 1, л.д. 1-4;
т. 2, л.д. 334).
По этому же делу вместе с Гуревичем А.М. по постановлению особого сове¬
щания при МГБ СССР от 18 января 1947 г. на основании ч. I ст. 58-6 УК РСФСР
заключен в ИТЛ сроком на 15 лет Треппер Леопольд Захарович, дело в отноше¬
нии которого 26 мая 1954 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР прекра¬
щено по реабилитирующим основаниям (т. 2, л.д. 333, 592-597).
8 октября 1955 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 17 сентября 1955 г. "Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с окку-
Реабилитацией А.М. Гуревича непосредственно занимались военные прокуроры А.Е. Борискин,
Л.М. Заика, В.К. Левковский, А.И. Эрфурт.
Исправительно-трудовой лагерь. - Прим. ред.
Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР.-Прим.ред.
102
пантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.”, Гуревич А.М.
освобожден из мест лишения свободы.
5 августа 1958 г. по представлению КГБ СССР Прокуратурой СССР и МВД
СССР отменено решение администрации ИГЛ о применении к Гуревичу амнистии
и он вновь был направлен в места лишения свободы для отбытия оставшегося
срока наказания (НП ГВП*, т. 2, л.д. 131-133, 143-146).
В июне 1960 г. Гуревич А.М. из заключения условно-досрочно освобожден.
Из материалов дела усматривается следующее.
В декабре 1937 г. Гуревич, проходя обучение в Ленинградском институте
интуризма, был откомандирован в распоряжение Разведывательного управления
РККА (впоследствии Главное разведывательное управление Генерального
Штаба ВС СССР) и направлен в Испанию в качестве переводчика на подводной
лодке ”С-4", где находился до июля 1938 г., и зарекомендовал себя в боевых
условиях исключительно с положительной стороны (т. 8, л.д. 217; т. 11, л.д. 103;
т. 12, л.д. 304).
По возвращении из Испании, в апреле 1939 г., после прохождения специальной
подготовки по заданию ГРУ Г1И ВС СССР был направлен на заграничную
работу в Бельгию, где легализовался как гражданин Уругвая Виссента Сиерра.
По оперативной работе Гуревич входил в состав нелегальной резидентуры ГРУ,
возглавляемой советским разведчиком Треппером Л.З. (псевдоним "Отто”),
в которой исполнял обязанности шифровальщика, затем заместителя резидента,
а с мая 1940 г. являлся резидентом.
Здесь Гуревич и Треппер для прикрытия разведывательной деятельности и
финансирования резидентур в странах Западной Европы создали акционерные
торговые общества "Симекско", "Симекс" и успешно выполнили ряд заданий
советской разведки.
В 1940-1941 гг. Гуревич выезжал в Швейцарию, Чехословакию и Германию
для содействия в возобновлении связи с советскими резидентурами в этих стра¬
нах, откуда доставил и передал в Центр важную информацию о подготовке Гер¬
мании к нападению на Советский Союз, об обнаружении немцами советского
дипломатического кода в эвакуированном помещении Генерального консульства
СССР в Петсамо (Финляндия) и о направлении главного удара немецко-фашист¬
ских войск на Восточном фронте в 1942 г.
Деятельность его до февраля 1942 г. Главным разведывательным управле¬
нием оценивалась положительно (т.т. 3-6; т. 8, л.д. 217-218; т. 12, л.д. 230).
С 1939 г. по 1942 г. Гуревич по совместной разведывательной работе в Бель¬
гии, Франции и Германии, помимо Треппера, знал советских разведчиков и аген¬
тов Макарова ("Хемниц"), Гросфогеля ("Андре"), Райхмана ("Фабрикант"),
Познанскую ("Аннет"), Арнольд ("Жюльетт"), Каминского ("Антонио"), Венцеля
("Герман", он же "Профессор"), Ефремова ("Паскаль"), Избуцкого ("Боб"),
Вассермана ("Голландец"), Шпрингера ("Ромео"), Шпрингер ("Шарлотта"), Акер¬
ман ("Черная"), Каца ("Рэнэ"), Корбена ("Коммерческий директор"), Шульце-
Бойзена ("Хоро") и других. Все они по заданию Треппера и Гуревича проводили
активную разведывательную деятельность.
Треппер, которому как резиденту была подчинена агентурная сеть советской
разведки в Бельгии и Франции, не принял действенных мер по организации над¬
лежащей конспирации в условиях военного времени.
Об этом в 1940 г. докладывал в Москву представитель ГРУ Большаков, про¬
верявший работу резидентур. Сообщая о неблагополучном положении в дея¬
тельности Макарова ("Хемница") и других, он, в частности, отмечал, что все
сотрудники встречаются друг с другом и в случае ареста одного может наступить
провал всей агентурной сети (т. 8, л.д. 211).
Надзорное производство Главной военной прокуратуры. - Прим.ред.
103
Как видно из материалов дела, необходимых мер по предотвращению прова¬
лов советских разведчиков не было принято.
В декабре 1941 г. в Брюсселе гестапо были арестованы помощник резидента
Макаров, радист Каминский, шифровальщик Познанская, находившиеся вместе
на конспиративной квартире у Арнольд, и захвачены шифры с ключами к ним.
В дальнейшем последовали аресты и других вышеперечисленных сотрудников
советской резидентуры.
Гуревичу и Трепперу в тот период удалось избежать ареста. В декабре 1941 г.
они переехали, первый - в Марсель, а Треппер - в Париж, где проживали по
тем же документам и под теми же фамилиями, соответственно Виссента
Сиерра и Жильберт, по которым они были известны в Бельгии, как сот¬
рудники акционерных обществ ’’Симекско” и "Симекс". Попытки Гуре¬
вича и Треппера создать новую резидентуру в Марселе оказались безуспеш¬
ными.
В 1941-1942 гг. Треппер неоднократно докладывал в Главное разведуправле-
ние о создавшемся тяжелом положении в агентурной сети, провалах в резиден¬
турах Бельгии и Франции, об аресте 27 человек, в том числе сотрудников фирм
’’Симекско” и ’’Симекс", а также Макарова, Познанской, Каминского, Арнольд,
Избуцкого, Ефремова, Шнайдера, Венцеля, Сокол Г., Сокол М., Райхмана,
Вассермана, Ликониной и других. В этих сообщениях он указывал о захвате
шифров и о сотрудничестве некоторых арестованных разведчиков и агентов с
немецкой контрразведкой.
22 ноября 1942 г. Треппер за два дня до ареста через представителей Компар¬
тии Франции направил в Главное разведывательное управление телеграмму о
провале агентурной сети и о переходе на нелегальное положение. 29 декабря
1942 г. после ареста Треппера руководство французской Компартии проинформи¬
ровало Главразведупр об исчезновении Треппера (т. 2, л.д. 576-577; т. 12,
л.д. 177-178).
9 ноября 1942 г. в Марселе был арестован Гуревич, а 24 ноября того же года
в Париже немцы арестовали Треппера.
По прибытии в СССР Гуревич 7 июня 1945 г. был изолирован органами гос¬
безопасности, а с 21 июня 1945 г. на основании постановления, утвержденного
бывшим начальником Главного управления контрразведки "Смерш" Абакумо¬
вым, заключен под стражу (т. 1, л.д. 1-4).
Согласно обвинительному заключению от 10 декабря 1946 г., Гуревич признан
виновным в том, что, находясь за границей по выполнению специального задания
советской разведки в ноябре 1942 г. в Бельгии, был арестован гестапо. На
допросах рассказал немцам о деятельности разведки, выдал известных ему
советских разведчиков, действовавших в тылу германских войск, а в марте
1943 г. изъявил свое согласие на сотрудничество с германской разведкой. По
заданию немцев установил связь с находившимся во Франции резидентом совет¬
ской разведки Озолсом ("Золя"). Действуя от имени советской разведки, получил
от него сведения о сотрудниках, входивших в его резидентуру, и передал их
немцам. Затем в течение года использовал всю резидентуру Озолса в интересах
гестапо. Установив радиосвязь с ГРУ, Гуревич по заданию гестапо направлял в
Москву ложные сведения военно-политического характера, дезинформируя
советское командование. В 1943 г. он внедрился в группу французского движения
Сопротивления, по заданию немцев собирал сведения о французских патриотах и
передавал их гестапо.
Кроме того, в резолютивной части обвинительного заключения указано, что
Гуревич не только выдал немцам известных ему советских разведчиков, но и
принимал участие в их розыске и аресте (т. 2, л.д. 329-332).
104
В постановлении о привлечении Гуревича в качестве обвиняемого и в обвини¬
тельном заключении предъявленное ему обвинение изложено неконкретно и не
подкреплено ссылками на доказательства (т. 1, л.д. 74)
В заключении органов госбезопасности, составленном в 1956 г. после произ¬
веденной дополнительной проверки, отражено, что Гуревич на допросах после
ареста гестапо выдал шифры и ключи, которыми он пользовался (т. 7, л.д. 211-
213, 216).
В представлении о лишении Гуревича права на амнистию и о его вторичном
водворении в места лишения свободы органами госбезопасности сделан вывод о
том, что Гуревич способствовал осуществлению карательных операций, про¬
водившихся немцами против французских патриотов, в результате чего гестапо
удалось арестовать и уничтожить 150 участников французского движения Сопро¬
тивления (НП ГВП, т. 2, л.д. 131-133, 143-146).
Привлечение Гуревича к уголовной ответственности несудебным органом за
измену Родине и решение Прокуратуры СССР и МВД СССР о лишении его
права на амнистию являются незаконными.
На предварительном следствии Гуревич признал себя виновным в совершении
преступления, предусмотренного ст. 58-Гб" УК РСФСР (т. 1, л.д. 75-77).
Однако в последующем, в 1948, 1953, 1956, 1961 и 1987-1988 годах, в своих
многочисленных жалобах и на допросах при дополнительном расследовании кате¬
горически отрицал предъявленное ему обвинение в измене Родине, привел новые
доводы своей невиновности, заявив при этом, что предварительное следствие в
отношении его производилось органами госбезопасности необъективно, односто¬
ронне и без учета его положительной деятельности в пользу советской разведки.
При этом он пояснил, что будучи арестован гестапо и изобличен в принадлеж¬
ности к советской разведке, никого не предал. Действуя в особо сложной обста¬
новке и не имея намерения изменить Родине, он дал ложное согласие немецкой
контрразведке на проведение радиоигры с целью выяснения ее деятельности
против СССР и сохранения жизни отдельным советским разведчикам. В осуще¬
ствлении своего намерения он впоследствии доставил в Москву документы
гестапо и завербованных им агентов немецкой разведки (т. 1, л.д. 363-366, 373-
380, 400-411, 426-430, 433-441; т. 7, л.д. 139-191, 219-234; т. 8, л.д. 10-112,
132-210, 234-275; т. 9, л.д. 121-128; т. 11, л.д. 32-101; т. 12, л.д. 6-150).
Эти его показания подтверждаются материалами уголовного дела.
Обвинение Гуревича в том, что он на допросах в гестапо предал советских
разведчиков, участвовал в их арестах, выдал сведения об организационной дея¬
тельности советской разведки, о структуре агентурной сети в Бельгии и Фран¬
ции, раскрыл шифры и ключи, основано на предположительных, неконкретных,
противоречивых показаниях Треппера и опровергаются имеющимися в деле
доказательствами.
Так, допрошенный на предварительном следствии 15 мая 1945 г. Треппер
заявил, что Гуревич выдал немцам двух французских врачей, с которыми должен
был связаться по заданию ГРУ, всю агентуру, действовавшую в Швейцарии и
Германии, разведчика Корбена и раскрыл действительное назначение фирмы
"Симекс" (т. 1, л.д. 39-54).
На допросе 27 мая 1946 г. он заявил, что оговорил Гуревича в предательстве
им сотрудников фирмы "Симекс". Тогда же Треппер показал, что в ноябре 1942 г.
на допросах в гестапо лично он сообщил подробно о действительном назначении
этой фирмы, рассказал о всех ее сотрудниках и их работе на советскую разведку
(т. 1, л.д. 136-158).
Будучи дополнительно допрошенным в 1953 и 1956 гг., Треппер, отрицая свою
личную причастность к предательству советских разведчиков, стал утверждать,
что именно Гуревич после ареста выдал резидентуру Шульце-Бойзсна ("Хоро") в
Берлине, два шифровальных ключа, один из которых не был известен гестапо;
105
раскрыл назначение фирмы "Симскс", сообщил о работе Корбсна на советскую
разведку, оказывал содействие немцам в его, Треппера, розыске после бегства из
гестапо в сентябре 1943 г. и в разоблачении Каца, оказавшего ему помощь в
побеге (т. 2, л.д. 580; т. 7, л.д. 124-138).
Показания Треппера не соответствуют действительности.
Как видно из приобщенных к делу материалов следствия гестапо, Треппер
первым по своей инициативе назвал на допросе французских врачей, с которыми
должен был связаться Гуревич по указанию ГРУ (т. 3, л.д. 19).
Что касается Гуревича, то он, допрошенный в гестапо по показаниям Треппе¬
ра, скрывая известные ему обстоятельства, дал неопределенные пояснения о
личности указанных врачей и их местожительстве, заявив, что с ними он не
встречался и пытался разыскать их не по указанию ГРУ, а по поручению
Треппера (т. 4, л.д. 107-112).
Также Треппер рассказал о том, что Корбену было известно о действительном
назначении фирмы "Симекс" (т. 3, л.д. 90-92).
Гуревич же на неоднократных допросах в гестапо отрицал причастность Кор-
бена к советской агентуре, хотя знал о его разведывательной деятельности.
Скрывая принадлежность Корбсна к советской разведке, Гуревич на допросе 2
декабря 1942 г., в частности, показал:
”Из нашей организации Корбену были знакомы "Отто” и "Андрэ”. Какой
характер носила эта связь между Корбеном, "Отто" и "Андрэ", я не знаю.
Но я думаю, что вышеназванные лица поддерживали торговые отношения.
Я не думаю, что Корбен был введен в организацию и проводил какую-то
разведдеятельность. В разговоре с Корбеном тот никогда не упоминал
имени "Отто", а называл его "Жильбертом". Исходя из этого, можно ска¬
зать, что ему не был известен псевдоним "Отто"" (т. 4, л.д. 90-91).
О том, что Гуревич не выдавал известных ему советских агентов, свидетель¬
ствует донесение самого Треппера в ГРУ, которое ему удалось отправить скрыт¬
но от гестапо в апреле 1943 г. В нем он докладывал о своем провале, арестах
Гуревича, Корбена и многих других сотрудников. Сообщил, что его непосредст¬
венно предал Корбен. О какой-либо причастности Гуревича к предательству
советских разведчиков, в том числе и выдаче им гестапо Корбена, он не указы¬
вал (т. 8, л.д. 232).
Из материалов гестапо видно, что Гуревич по собственной инициативе ника¬
кой информации о Шульце-Бойзене ("Хоро"), арестованном в августе 1942 г., не
давал. По предъявлению ему расшифрованных радиограмм по резидентуре
Шульце-Бойзена от 20 ноября 1942 г. дал показания лишь в тех пределах, кото¬
рые были известны немецкой контрразведке (т. 4, л.д. 29-30). ,
Допрошенный в декабре 1942 г. (по предъявленным показаниям Треппера) о
своих поездках в Швейцарию в 1939 и 1940 гг., Гуревич дал ложные показания о
резиденте советской разведки Радо ("Дора"). Скрыл от немцев пароль для связи с
ним, его фамилию, место жительства. Не выдал известные ему шифры и ключи,
которыми пользовался Радо для связи с Москвой, назвал вымышленное описание
его личности.
На допросе в гестапо в июле 1943 г. Гуревичу были предъявлены соответст¬
вующие записи в отношении советского резидента в Швейцарии Радо. При этом
он назвал фамилию Радо, однако точного адреса его проживания не указал,
шифры, которыми тот пользовался для связи с Москвой, не назвал и по отдель¬
ным вопросам дал путаные показания (т. 4, л.д. 31, 140; т. 11, л.д. 129-135).
Из тех же протоколов допросов Гуревича усматривается, что он уклонялся
давать по своей инициативе конкретные показания о деятельности советской
резидентуры, ссылаясь при этом на запамятование или недостаточную информи¬
рованность. Подтверждал известные немцам из иных источников факты только
106
после изобличения его на очных ставках другими арестованными или предъяв¬
ленными документами (т.т. 4, 6).
Так, на допросе 15 ноября 1942 г. Гуревич назвался уругвайским подданным
Виссента Сиерра, категорически отрицал свою принадлежность к советской раз¬
ведке и связь с разведчиком Избуцким. В ходе допроса ему была дана очная
ставка с арестованным Избуцким и последний раскрыл псевдоним Гуревича -
"Кент” (т. 4, л.д. 2-8).
Однако своего настоящего имени Гуревич так и не назвал (т. 4, л.д. 2-8).
В дальнейшем, как следует из протоколов допросов Гуревича в 1942-
1943 гг., он в разведывательной деятельности изобличался показаниями аресто¬
ванных Макарова, Вассермана, Арнольд и Треппера. В тот же период ему
предъявлялись многочисленные расшифрованные немецкой контрразведкой
радиограммы, в которых содержались обширные сведения о сотрудниках фирм
"Симекско” и "Симекс", в том числе о самом Гуревиче, Шульце-Бойзене и других
советских разведчиках (т. 4, л.д. 9-183).
Об обстоятельствах и причинах провала советской агентуры подробные
показания со ссылкой на документы дал в ходе предварительного следствия
Треппер.
Он показал, что в декабре 1941 г., во время ареста Макарова (совместно с
Гуревичем обучавшегося разведработе в Москве), немцы захватили шифры,
ключи к ним, которыми пользовались несколько резидентур, а также ряд зашиф¬
рованных радиограмм. Добившись признания Макарова, они расшифровали около
трехсот запеленгованных ими в 1940-1941 гг. радиограмм, передававшихся
Треппером и Гуревичем в ГРУ, в которых имелись адреса, фамилии разведчиков,
сведения о фирмах прикрытия и другие организационные данные об агентурной
работе резидентур в Бельгии, Франции и других странах (т. 2, л.д. 69, 71, 73, 90-
91, 432, 452, 560-583; т. 7, л.д. 210; т. 8, л.д. 232; т. 12, л.д. 158-294).
Бывший начальник 4 управления гестапо Панцингер на допросе в МГБ СССР
в 1951 г. показал, что немцы к началу 1942 г. расшифровали перехваченные
радиограммы советских радиостанций, что дало возможность выявить и ликвиди¬
ровать советскую резидентуру Шульце-Бойзена ("Хоро") в Берлине. Поскольку в
расшифрованных радиограммах упоминалась фирма ’’Симекс”, официально
действовавшая в Париже и Брюсселе, и ее сотрудники, то это в дальнейшем
позволило арестовать Треппера, Гуревича и других лиц, причастных к советской
агентуре (т. 9, л.д. 34-37, 40-41).
Из материалов дела следует, что гестапо, расшифровав запеленгованный
радиоотчег Гуревича о встрече в 1941 г. с берлинским резидентом Шульце-Бой-
зеном, получило полные данные об этой резидентуре и ликвидировало ее в
августе 1942 г., т.е. за несколько месяцев до ареста Гуревича (т. 12, л.д. 298).
Допрошенный на предварительном следствии и при дополнительном расследо¬
вании Гуревич показал, что в декабре 1941 г. немцы арестовали Макарова,
Избуцкого и ряд других советских разведчиков. При их аресте были изъяты
шифры и расшифрованы ранее направлявшиеся в Главное разведывательное
управление радиограммы, в которых содержались отчеты о разведработе и дан¬
ные об агентах. В связи с этим немецкой контрразведке стали известны агентур¬
ная сеть в Берлине, Париже, Брюсселе. Тогда же о провале он и Треппер сооб¬
щили в ГРУ.
Далее Гуревич показал, что 9 ноября 1942 г. он был арестован гестапо. На
первых допросах согласно легенде категорически отрицал свою принадлежность
к советской разведке, не назвал как на этих допросах, так и в последующем
свою настоящую фамилию. Однако был изобличен предъявленными ему показа¬
ниями ранее арестованных Макарова, Вассермана, Арнольд, Избуцкого, очной
ставкой с последним и данными, полученными немецкой контрразведкой из пере¬
хваченных и расшифрованных радиограмм советских резидентур.
107
Поскольку при подготовке его к выполнению задания в ГРУ не разрабатыва¬
лась легенда, как вести себя на допросах в случае провала, он (Гуревич) с учетом
сложившейся обстановки рассказал только об известных уже гестапо из иных
источников обстоятельствах.
Одновременно он, стремясь затянуть следствие и не причинить вреда не уста¬
новленным немцами советским разведчикам, давал гестапо ложные показания.
С этой целью он сообщил неверные сведения об обстоятельствах зачисления на
службу в разведку и прохождении специальной подготовки, скрыв, что такую
подготовку проходил в Москве по линии ГРУ вместе с Макаровым; составил
неполную схему руководимой им в Бельгии разведывательной сети; не подтвер¬
дил имеющиеся у немцев данные о принадлежности Корбена и других к совет¬
ской разведке, а также не назвал советского резидента в Швейцарии Радо, скрыв
обстоятельства встречи с ним, его местожительство, пароль для связи с ним и
шифры; дал вымышленные приметы представителя Компартии Франции,
с которым находился на связи, не назвал время, место обусловленной с ним
встречи в ноябре 1942 г. в Марселе.
Опровергая показания Треппера об участии в его розыске после побега, Гуре¬
вич пояснил, что сотрудники гестапо, установив прежнее местожительство Треп¬
пера, действительно возили его зуда и предъявляли на опознание сына Треппера.
Однако он, Гуревич, препятствуя гестапо, умышленно не опознал его.
Кроме того, Гуревич пояснил, что у него имелось два шифра, один из которых
был общим и им пользовалось шесть человек. В 1941 г. перед его убытием в
Берлин он по согласованию с Треппером передал второй шифр для расшифровки
радиограмм Макарову, о чем доложил в ГРУ. Эти шифры и ключи к ним стали
известны немцам до его ареста. Треппера, Корбена, Шульце-Бойзена, Радо,
Каца, сотрудников фирм ’’Симекско”, "Симекс" и других лиц не предавал и в их
розысках, арестах, разоблачениях участия не принимал. Треппер на предвари¬
тельном следствии и при дополнительном расследовании оговорил его (т. 1,
л.д. 363-366, 373-380, 400-411, 426-430, 433-441; т. 7, л.д. 139-191, 219-234;
т. 8, л.д. 10-112, 132-210, 234-275; т. 9, л.д. 121-128; т. 11, л.д. 32-101; т. 12,
л.д. 6-150).
Согласно материалам Главного разведывательного управления, Гуревич перед
своей поездкой в конце 1941 г. в Берлин действительно сообщил в Центр о том,
что во время его отсутствия расшифровку радиограмм будет производить
Макаров (’’Хемниц”) (т. 7, л.д. 210).
Объективность показаний Гуревича полностью подтверждается приобщен¬
ными к делу материалами следствия гестапо. Их анализ свидетельствует о том,
что на допросах он избрал правильную линию поведения, чем препятствовал
немецкой контрразведке в раскрытии советской агентуры.
О необоснованности обвинения Гуревича в предательстве советских разведчи¬
ков, выдаче противнику шифров отмечено в заключении Главной военной про¬
куратуры за 1961 г. (т. 8, л.д. 276-287).
Также несостоятельно обвинение Гуревича в том, что он в изменнических
целях, согласившись на сотрудничество с врагом, принял участие в радиоигре по
дезинформации Главного разведывательного управления, установил по поруче¬
нию гестапо связь с советским резидентом Озолсом ("Золя”), внедрился во
французское движение Сопротивления и способствовал немцам в проведении
карательных операций.
На предварительном следствии и в ходе дополнительного расследования Гуре¬
вич показал, что после ареста он, несмотря на угрозу расстрелом, длительное
время не давал согласия немецкой контрразведке на участие в радиоигре с Глав¬
ным разведывательным управлением. Весной 1943 г. немцы вновь потребовали
от него вступления в радиоигру. При этом начальник зондеркоманды Гиринг
предъявил ему документы, свидетельствующие о ее проведении с помощью
108
Треппера, других арестованных разведчиков, и он убедился, что радиоигра уже
проводится от его, Гуревича, имени. Одновременно ему была вручена радио¬
грамма Главразведупра с программой его работы и указанием об использовании
старого шифра, который еще в декабре 1941 г. был захвачен гестапо в Брюсселе
при аресте Макарова. Поскольку для связи были даны старые шифры, он
полагал, что Центр знает о начавшейся радиоигре.
Имея намерение выявить участие в радиоигре Треппера и других лиц, умень¬
шить объем дезинформации, спасти жизнь себе и остальным разведчикам, он дал
ложное согласие начальнику зондеркоманды на участие в ней. Помимо того, он
таким путем решил войти в доверие к немцам и бежать при удобном случае.
Сообщить в ГРУ об участии в радиоигре не имел возможности из-за того, что при
направлении его на спецзадание не было предусмотрено подачи условного
сигнала на случай провала. В процессе радиоигры он, пытаясь сообщить о своем
положении, неоднократно изменял стиль радиограмм, подготовленных немцами с
его участием, зашифровал их умышленно небрежно, однако в Центре по всей
вероятности не обратили на это внимания.
В марте 1943 г. в ответ на радиограмму, отправленную ранее немцами при
участии Треппера (как он узнал впоследствии), из ГРУ на его имя поступило
задание установить связь с резидентом советской разведки в Париже Озолсом
(’’Золя”). После этого немцы в течение нескольких месяцев предпринимали меры
к розыску Озолса и в августе 1943 г., выявив его местожительство, установили с
ним связь через сотрудника зондеркоманды Ленца.
Первоначально, встречаясь с Озолсом в присутствии гестаповцев, он, Гуре¬
вич, в связи с поступившими из ГРУ радиограммами был вынужден получить у
того и представить в Центр отчет о проделанной Озолсом работе за 1941-
1943 гг., сведения о других участниках его резидентуры, а также истребовать
неиспользовавшийся Озолсом радиопередатчик. Информацию Озолс передавал
как ему, так и Ленцу.
В тот же период немцы для контроля за деятельностью резидентуры Озолса и
связанной с ней группой французского движения Сопротивления, возглавляемой
Лежандром, внедрили туда несколько своих агентов. Эти группы занимались
сбором информации о немецких воинских частях, которая поступала в зондер¬
команду, обрабатывалась и направлялась в ГРУ.
При этом он, Гуревич, всячески стремился уменьшить объем дезинформации.
После побега Треппера в сентябре 1943 г. он продолжал участвовать в радио¬
игре, будучи уверен, что тот сообщил советскому командованию о его аресте и
участии в радиоигре под контролем гестапо.
В сентябре 1944 г. из Главразведупра ему поступила радиограмма о вербовке
немецких сотрудников. Выполняя это задание, он в феврале 1945 г. завербовал и
затем по указанию командования доставил в Москву начальника зондеркоманды
Паннвица и его двух помощников - радиста Стлука и секретаря Кемпу, а также
материалы следствия гестапо в отношении советских резидентур.
Как пояснил далее Гуревич, он в первое время, встречаясь с Озолсом и
Лежандром в присутствии гестаповцев, не имел возможности сообщить им об
участии в радиоигре. В дальнейшем он поставил перед начальником зондер¬
команды Паннвицем условие, что будет продолжать радиоигру только в случае
сохранения жизни Озолсу, Лежандру и причастным к ним лицам. Поэтому не рас¬
сказал им о своей работе под контролем немцев, опасаясь с их стороны непред¬
виденных действий, могущих привести к тяжким последствиям. В то же время
в целях сохранения жизни Озолсу и другим он предложил им перейти на
нелегальное положение.
Объясняя причину, почему он не бежал, Гуревич показал, что вначале он не
мог этого сделать из-за нахождения под арестом. Впоследствии, продолжая на¬
ходиться под наблюдением гестапо, он от своего намерения отказался, боясь
109
поставить под угрозу жизнь Озолса, Лежандра и других, так как после побега
Треппера немцы арестовали и расстреляли более 12 человек, оказывавших
последнему помощь в разведдеятельности (т. 1, л.д. 363-366, 373-380, 400-411,
426-430, 433-441; т. 7, л.д. 139-191, 219-234; т. 8, л.д. 10-112, 133-210, 234-275;
т. 9, л.д. 121-128; т. 11, л.д. 32-101; т. 12, л.д. 6-150).
Показания Гуревича подтверждаются имеющимися в деле доказательствами.
Будучи допрошенным по делу, Треппер показал, что он принял участие в
радиоигре под контролем гестапо в декабре 1942 г. В целях выявления советской
агентуры немецкие разведорганы при его участии направляли в ГРУ радиограм¬
мы, в которых от его имени запросили дать связь с другими советскими развед¬
чиками на оккупированной территории. В одной из очередных радиограмм от его
имени было предложено организовать прямую радиосвязь из Марселя, на что
Центр вскоре дал согласие. Тогда же из ГРУ ему, Трепперу, поступила радио¬
грамма с указанием установить связь с Озолсом ("Золя") и поручить это непо¬
средственно Гуревичу.
В апреле 1943 г., как пояснил Треппер, ему через представителей Компартии
Франции удалось сообщить в Главразвсдуправление о том, что он и Гуревич
арестованы, Озолс разыскивается и гестапо ведет с Центром радиоигру с исполь¬
зованием шифров, захваченных ранее немцами.
По утверждению Треппера, ГРУ еще в декабре 1942 г. было известно о его
и Гуревича аресте и использовании в начавшейся игре старых шифров (т. 2,
л.д. 68-82, 167-170).
Из осмотренных радиограмм Главного разведывательного управления видно,
что Треппер вступил в радиоигру в конце декабря 1942 г. и продолжал ее до сен¬
тября 1943 г., т.е. до своего бегства. При его участии немцы дезинформировали
Центр о действительном положении Гуревича, содержавшегося в это время
в тюрьме.
Так, 29 декабря 1942 г. Треппер, работая под контролем гестапо, установил
связь с Главразведупром и радиограммой запросил встречу с представителями
Компартии Франции.
В радиограммах от 3 и 5 февраля 1943 г. немецкая контрразведка через того
же Треппера, дезинформируя ГРУ, сообщила, что Гуревич имеет хорошие связи
во Франции и к 1 марта 1943 г. закончит подготовку к передаче и приему инфор¬
мации. В свою очередь Центр передал Трепперу программу дальнейшей работы
для Гуревича.
Первая радиограмма Главразведупра Гуревичу датирована 28 февраля 1943 г.
и подтверждает установление с ним связи.
В радиограмме от 10 марта 1943 г. ГРУ поручило Гуревичу установить место¬
жительство и род занятий Озолса (’’Золя”), в прошлом советского агента, его
жены и двух человек, с которыми он был связан (т. 8, л.д. 211-218).
Согласно имеющимся в деле документам Главного разведывательного управ¬
ления, после провала бельгийской резидентуры в декабре 1941 г. и прекращения
связи с Озолсом возникли опасения, не мог ли он попасть в поле зрения про¬
тивника. Несмотря на это, каких-либо мер по проверке разведдеятельности
Озолса до марта 1943 г. и в последующем не предпринималось (т. 12, л.д. 158-
163).
О том, что Главразведуправлению в апреле 1943 г. было известно об участии
Гуревича и других разведчиков в проводимой немцами радиоигре, посредством
захваченных шифров и о розыске ими Озолса, свидетельствует имеющееся в
деле донесение Треппера. Однако и после этого мер к обеспечению безопасности
разведчиков не было принято (т. 2, л.д. 412-419, 486-490; т. 8, л.д. 211-229).
18 августа 1943 г. Гуревич, работая под контролем гестапо, радиограммой
сообщил в Центр, что связь с Озолсом установлена и ему предложено составить
отчет о своей работе (т. 8, л.д. 219).
ПО
После этого ГРУ, как следует из материалов дела, решило, что Озолс пере¬
вербован гестапо, и в дальнейшем его действительным положением не занима¬
лось (т. 12, л.д. 160, 246).
Воспользовавшись этой обстановкой, немцы нейтрализовали деятельность
резидентуры Озолса, о чем показали на предварительном следствии завербован¬
ные Гуревичем начальник зондеркоманды Паннвиц и другие бывшие сотрудники
германских разведорганов (т. 2, л.д. 277-284, 285, 286-288; т. 9, л.д. 59-89, 90-
104, 105-115).
На допросах в МГБ СССР в 1945-1946 гг. Паннвиц показал, что после ареста
Треппера немецкая контрразведка с его участием организовала радиоигру с
Главным разведывательным управлением. При ее проведении из ГРУ на имя
Треппера поступила радиограмма с заданием Гуревичу установить связь с совет¬
ским резидентом во Франции Озолсом (’’Золя").
В августе 1943 г. по установлению гестапо местожительства Озолса к нему на
связь был направлен сотрудник зондеркоманды Ленц, выдавший себя за связного
Гуревича.Через некоторое время он (Паннвиц) и Ленц устроили встречу Озолса и
Гуревича.
В дальнейшем в группу Озолса гестапо внедрило своих агентов, что позволило
нейтрализовать деятельность советской резидентуры. По мнению Паннвица,
дезинформация о воинских подразделениях, направляемая в ГРУ, не сыграла
существенного значения.
Согласно показаниям Паннвица, советскому разведцентру было известно о
серьезных провалах в резидентурах Треппера и Гуревича. Поручив им вступить
на связь с Озолсом, советский разведцентр допустил ошибку. Паннвиц также
пояснил, что еще в 1944 г. у него появилось намерение перейти на сторону
советских войск. В июне 1945 г. он в сопровождении Гуревича вместе со своими
помощниками Стлука и Кемпа прибыл в Париж к советскому командованию и
предложил свои услуги (т. 2, л.д. 277-284; т. 9, л.д. 59-89).
Бывший радист зондеркоманды Стлука подтвердил, что Гуревич завербовал
его для работы на советскую разведку в феврале 1945 г., а в апреле 1945 г.
завербовал Паннвица и его секретаря Кемпу. При этом Гуревич, объясняя свои
действия, говорил ему (Стлуке), что он не боится ответственности за свое пре¬
бывание в зондеркоманде (т. 2, л.д. 285; т. 9, л.д. 105-115).
Из показаний Кемпы усматривается, что в 1944 г. Гуревич в ее присутствии
вел с Паннвицем разговор о работе на советскую разведку. В апреле 1945 г.
между ними вторично состоялся такой разговор. Тогда же Гуревич завербовал и
ее (т. 2, л.д. 286-288; т. 9, л.д. 90-104).
Вместе с тем из противоречивых и неконкретных показаний Паннвица,
Кемпы, Треппера на предварительном следствии усматривается причастность
Гуревича к арестам в 1944 г. участников французского движения Сопротивления.
Какими-либо объективными доказательствами их показания не подтверж¬
даются.
Так, по объяснению Паннвица, на допросе 8 июня 1946 г. одному из агентов
Озолса в 1944 г. стало известно об участии Гуревича в радиоигре, проводившей¬
ся немцами. Со слов сотрудников зондеркоманды он узнал, что для безопасности
Гуревича и по согласованию якобы с последним были арестованы заместитель
Озолса - агент ’’Поль” и еще 14 человек. Сам он, Паннвиц, участия в арестах не
принимал и Гуревича (как видно из его показаний) к этому не привлекал (т. 2,
л.д. 280-284; т. 9, л.д. 59-63).
На допросе 24 июля 1946 г. Паннвиц изменил свои показания и заявил, что в
июле 1944 г. сотрудник парижского отдела полиции Хольдорф рассказал одному
из представителей Компартии Франции о проводимой им (Паннвицем) работе по
нейтрализации групп французского движения Сопротивления. Узнав об этом,
гестапо задержало Хольдорфа, и в перестрелке он погиб.
111
После этого, как пояснил далее Паннвиц, парижское гестапо арестовало
14 участников движения Сопротивления (т. 9, л.д. 64-71).
Из показаний Кемпы, допрошенной по этому же вопросу, видно, что в сере¬
дине 1944 г. по указанию Паннвица был арестован ряд участников французского
движения Сопротивления. Каких-либо конкретных доказательств о непосредст¬
венном участии Гуревича в этих арестах Кемпа в своих объяснениях не привела
(т. 2, л.д. 286-288; т. 9, л.д. 90-104).
Также несостоятельными, бездоказательными являются показания Треппсра,
данные им на допросе 22 сентября 1953 г., о том, что по вине Гуревича гестапо
арестовало 150 участников французского движения Сопротивления. Никаких
доказательств в обоснование своего заявления Треппср не привел (т. 2, л.д. 560-
583).
Из имеющихся в деле показаний В. Лежандра, допрошенного французской
полицией, видно, что Гуревич непричастен к арестам участников движения Со¬
противления. Лежандр пояснил, что 18 июля 1944 г. он и Гуревич были свидете¬
лями ареста гестапо одного из французских патриотов. При этом Гуревич, пыта¬
ясь предотвратить дальнейшие провалы в его организации, сказал ему: ’’Примите
все меры предосторожности, отмените все ваши свидания, объявите тревогу
вашим агентам, тогда как я со своей стороны сделаю все необходимое”.
Помимо того, Лежандр пояснил, что Гуревич оказал ему содействие в осво¬
бождении его жены из фашистского концлагеря (т. 11, л.д. 152-155).
На предварительном следствии для устранения существенных противоречий в
показаниях Паннвица, Кемпы и Треппера очных ставок между ними и Гуревичем
не проводилось и действительные причины ареста французского движения
Сопротивления не выяснялись.
Гуревич на допросах последовательно утверждал, что, вводя немцев в
заблуждение о своем мнимом сотрудничестве с ними, он в 1943-1944 гг. исполь¬
зовал их доверие к нему, чтобы обезопасить резидентуру Озолса и причастных к
ней лиц из французского движения Сопротивления. Никого из них он не предал, в
арестах участия не принимал и узнал об этом от Паннвица только после свер¬
шившегося факта.
Более того, в связи с произведенными арестами он (Гуревич) предложил
Озолсу и Лежандру перейти на нелегальное положение, чем сохранил им жизнь.
Оказывая помощь участникам французского движения Сопротивления, он,
используя Паннвица, освободил из концентрационного лагеря жену Лежандра.
В указанный период он также не выдал гестапо и сохранил жизнь лично
завербованным им ранее советским агентам: в Чехословакии - Басистому,
Эрлиху, Бахараху; Бельгии - Сиютену, Коолену, Пиркеру, Де Тё, Стеллену;
Франции - Странскому, Блоху, Вишмонду, а всего 15 сотрудникам (т. 1, л.д. 15-
177, 93-178, 180-335; т. 7, л.д. 139-191, т. 8, л.д. 132-210; т. 9, л.д. 121-128).
Из доклада Озолса (’’Золя”) Главразведупру и его показаний на следствии
усматривается, что связь с Гуревичем была установлена в начале августа 1943 г.
через прибывшего от него агента, представившегося помощником Гуревича. На
другой день после этого он в присутствии того же помощника передал Гуревичу
отчет о проделанной им работе и список агентов. Через некоторое время он по
своей инициативе предложил Гуревичу привлечь для участия в работе против
немцев группу французского движения Сопротивления, возглавляемую Лежанд¬
ром. В последующем на встречах, на которых присутствовал тот же помощник,
он принял от Гуревича задание о вербовке агентуры и проведении разведработы.
Полученные агентами сведения о немецких воинских формированиях передавал
Гуревичу.
Озолс также пояснил, что в июле 1944 г. по вине некоего Бетова гестапо
арестовало около 14 человек, причастных к движению Сопротивления. В это же
время по ложному доносу, не имевшему отношения к разведывательной деятель¬
112
ности советской резидентуры, немцы арестовали его (Озолса) помощника Мар¬
селя Пьеро ("Поль”).
По объяснению Озолса, Гуревич был обеспокоен произведенными арестами и
по его предложению он скрывался на конспиративной квартире.
Кроме того, как следует из доклада и показаний Озолса, при содействии Гуре¬
вича освобождена жена Лежандра, содержавшаяся в концентрационном лагере.
О том, что Гуревич работает под контролем гестапо, последний ему не рассказал
и он не подозревал его в предательстве. В то же время Гуревич сказал ему, что
свои связи с немецкой полицией он использует во .вред ей (т. 1, л.д. 78-92; т. 11,
л.д. 123-128).
В своих отчетах за 1945 г. о проделанной разведработе Треппер и Гуревич
отмечают, что они и представители Компартии Франции в 1941-1943 гг. неодно¬
кратно докладывали в Главное разведывательное управление о создавшемся
тяжелом положении в советской агентурной сети в Бельгии и Франции. В част¬
ности, в этих докладах сообщалось о провале фирм "Симекско", "Симекс”, арес¬
тах многих советских разведчиков, предательстве некоторых из них, а также о
захвате немцами шифров (т. 2, л.д. 427-485; т. 7, л.д. 105-113).
Сотрудники Главного разведывательного управления, осуществлявшие руко¬
водство резидентурами в Бельгии и Франции, не учли обстановку, в которой
оказалась советская разведка в оккупированных странах, не придали должного
внимания их сообщениям и не приняли мер к предотвращению их провалов. Эти
обстоятельства повлекли аресты Треппера, Гуревича и других советских агентов
(т. 2, л.д. 446-485).
О том, что Главному разведывательному управлению об участии Треппера и
Гуревича в радиоигре было известно с апреля 1943 г., отмечает в своем докладе
от 16 апреля 1946 г. начальник отдела ГРУ полковник Леонтьев (т. 2, л.д. 412-
419, 486-490; т. 8, л.д. 211-229).
Главное разведывательное управление, зная о начавшейся немцами радиоигре
с участием советских разведчиков, дало в начале июня 1943 г. согласие на ее
продолжение, о чем в своем заявлении от 30.06.52 г. указывает Треппер.
В этом заявлении он, в частности, пояснил, что в апреле 1943 г., сообщая в
ГРУ о проводимой зондеркомандой радиоигре, запросил, продолжать ли участво¬
вать в ней и в случае согласия подать ему условный сигнал телеграммой о
состоянии его семьи. Вскоре сотрудники зондеркоманды показали ему поступив¬
шую из Главразведупра телеграмму о том, что в его семье все обстоит благо¬
получно. Он понял это как разрешение на продолжение радиоигры (т. 2,
л.д. 479).
Обстоятельства, изложенные в заявлении Треппера, подтверждаются приоб¬
щенной к делу справкой Главного разведывательного управления от 19.09.52 г.,
из которой следует, что ГРУ действительно телеграммой № 38 от 2.06.43 г.
разрешило продолжать радиоигру (т. 2, л.д. 486).
В телеграмме № 47 от 9 сентября 1944 г. Центр указывает Гуревичу заняться
вербовочной работой среди крупных немецких офицеров, убедившихся в неиз¬
бежности близкого разгрома немцев (т. 12, л.д. 161).
Из материалов уголовного дела видно, что в период с апреля 1943 г. по май
1945 г. в Главразведуправление от немецкой контрразведки поступали сообще¬
ния военно-политического характера. Эти сведения в ГРУ расценивались как
дезинформационные, вредных последствий от них не наступило (т. И, л.д. 136-
167).
Допрошенный в 1951 г. в МГБ СССР бывший начальник 4 управления гестапо
Панцингер показал, что немецкой контрразведкой с участием арестованных
советских разведчиков Гуревича и Треппера проводилась радиоигра с Москвой
с целью выявления неустановленных агентов советской разведки в Германии,
113
Франции и Бельгии. Однако от этой радиоигры существенных результатов полу¬
чено не было (т. 9, л.д. 34-54).
В своих многочисленных жалобах Гуревич заявлял, что предварительное
следствие в отношении его велось необъективно, в сторону усиления его обвине¬
ния. На допросах на него оказывалось давление, показания в протоколах записы¬
вались неполно, в них не отражена его большая работа в пользу советской
разведки.
Анализ материалов дела показывает, что заявления Гуревича соответствуют
действительности. Его показания на предварительном следствии отражены
неполно по сравнению с фактами, изложенными им при дополнительном рассле¬
довании. Имели также место случаи фальсификации.
Так, на допросах 12.07.45 г. и 13.07.56 г. Гуревич признал, что в июне 1945 г.
перед явкой к советскому командованию Паннвиц уничтожил протоколы его
допросов в гестапо за 1942 г., где Гуревич изъявил свое согласие на сотрудниче¬
ство с врагом, дал показания о причинах своего перехода к немцам, а также
показания о своей поездке в 1940 г. в Швейцарию.
В действительности указанные протоколы допросов Гуревича о мнимом
сотрудничестве с гестапо, о его поездке в Швейцарию и по другим вопросам
находятся в приобщенных к уголовному делу материалах гестапо, которые Гуре¬
вич лично доставил в Москву (т. 1, л.д. 97-145; т. 7, л.д. 180-191).
Принимавшие участие в предварительном следствии по делу Гуревича и Трсп-
пера сотрудники госбезопасности Абакумов и Лихачев за нарушения законности
осуждены к высшей мере наказания - расстрелу, а Бударев, Леонтьев, Кулешов
и Кувалдин привлечены к дисциплинарной ответственности (т. 12, л.д. 325-332).
Военная коллегия Верховного Суда СССР в своем определении от 26 мая
1956 г. указала, что следствие по данному делу проводилось необъективно (т. 2,
л.д. 592-597).
Грубое нарушение законности в отношении Гуревича было допущено
в 1958 г.
На основании бездоказательного и непроверенного заявления Треппера о том,
что якобы по вине Гуревича гестапо в 1944 г. репрессировано свыше 150 участ¬
ников французского движения Сопротивления, Прокуратура СССР и МВД СССР
5.08.58 г. вынесли незаконное решение о неприменении к Гуревичу Указа Прези¬
диума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 г. "Об амнистии".
В результате он несудебным органом вновь был водворен в ИТЛ, где необо¬
снованно содержался с 9 сентября 1958 г. до 20 июня 1960 г.
Таким образом установлено, что Гуревич в 1939-1945 гг., выполняя на окку¬
пированной фашистами территории Западной Европы специальное задание Глав¬
ного разведывательного управления, будучи по не зависящим от него обстоя¬
тельствам арестованным, не совершил преступных действий, направленных на
подрыв военной мощи, государственной независимости и территориальной непри¬
косновенности СССР.
На допросах в гестапо скрыл свое настоящее имя, не сообщил сведений,
составляющих государственную тайну, не выдал известных ему сотрудников и
агентов советской резидентуры, неустановленных фашистскими карательными
органами, и своими действиями препятствовал их выявлению.
Подтверждение им в ходе допросов в гестапо сведений, ставших известными
противнику из других источников, на предварительном следствии ошибочно
квалицифицировано как выдача государственной тайны.
Действуя в особо сложной обстановке, Гуревич без цели перехода на сторону
врага дал ложное согласие немецкой контрразведке на участие в радиоигре,
известной Главному разведывательному управлению и не причинившей ущерба
советскому государству. При этом он в интересах СССР, исполняя возложенные
на его обязанности, принял меры к сохранению жизни советскому резиденту
114
Озолсу и другим советским разведчикам. Выполняя задание Главного разведыва¬
тельного управления, завербовал и доставил в Москву руководителя немецкой
зондеркоманды и его помощников, а также ценные документы гестапо.
За измену Родине Гуревич постановлением особого совещания при МГБ СССР
от 18 января 1947 г. к уголовной ответственности привлечен необоснованно.
В соответствии с п. 1 Указа Президента СССР "О восстановлении прав всех
жертв политических репрессий 20-50-х годов” от 13 августа 1990 г. Гуревича
Анатолия Марковича считать реабилитированным.
Старший военный прокурор 2 отдела
Управления ГВП по реабилитации
полковник юстиции
В.К. Левковский
115
Воспоминания
© 1993 г.
А.А. СОЛДАТОВ
Ю.А. ГАГАРИН В АНГЛИИ.
Июль 1961 г.
С 7 по 29 июля 1961 г. в Лондоне должна была проходить советская торгово-
промышленная выставка. Правительство СССР придавало большое значение этому
мероприятию как важному фактору в деле дальнейшего развития наших
экономических отношений с Англией, взаимовыгодной торговли и деловых связей с
капиталистическими странами.
Наше посольство в Лондоне учитывало ту напряженную обстановку, которая была
создана тогда в мире наиболее враждебными СССР кругами США и других стран
НАТО. Известно было и о действиях против интересов Советского Союза
влиятельных английских кругов, тесно связанных с американскими монополиями и с
политическими деятелями США, враждебными Советскому Союзу.
Враждебные нам империалистические круги США и других стран НАТО вели
особенно ожесточенную кампанию против СССР, воспользовавшись в качестве
предлога нашими испытаниями водородной бомбы и твердой позицией СССР по
берлинскому вопросу.
Следует отметить и то, что представители английских деловых кругов, которые
активно участвовали в организации советской торгово-промышленной выставки в
Лондоне, принимали необходимые меры к тому, чтобы эта выставка была успешной,
явилась важным шагом к улучшению отношений между Англией и СССР и
способствовала дальнейшему развитию наших торговых отношений и обменов в
области науки и техники.
Исходя из лучших побуждений, английские устроители выставки обратились через
советское посольство с просьбой к правительству СССР разрешить приехать на
открытие нашей выставки первому космонавту мира Ю.А. Гагарину, только что, в
апреле 1961 г., совершившему свой исторический полет.
При рассмотрении вопроса о приглашении Юрия Гагарина на нашу выставку в
Лондон посольство учитывало то, что Англия стала первой страной, входящей в блок
НАТО, куда приедет из СССР первый космонавт.
Приходилось учитывать также, что приглашение исходило от частной английской
фирмы, устроителя нашей выставки, а официального приглашения от английского
правительства мы не имели.
При этом почти все популярные английские газеты, за исключением ’’Дейли мирор”,
выступали против приезда Гагарина в Англию. По существу, лишь один владелец
’’Дейли мирор” Сесиль Кинг повел активную кампанию в своей газете с миллионным
тиражом за одобрение приглашения Гагарина, а также за то, чтобы первому
космонавту мира был оказан в Англии самый теплый прием.
Солдатов Александр Алексеевич - дипломат, имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, на
дипломатической работе - с 1941 г. В 1960-1966 гг. - посол СССР в Великобритании.
116
Наше посольство в Англии, передав советскому правительству просьбу английской
фирмы относительно приезда в Англию Гагарина, поддержало ее, выразив
уверенность, что Гагарину будет оказан в Англии теплый прием и что посещение
Англии первым в мире космонавтом явится благоприятным фактором в деле развития
отношений между Англией и СССР.
Советское правительство ответило согласием. К сожалению, Гагарин не успевал к
открытию нашей выставки из-за большой занятости, и его приезд в Лондон был
назначен на 11 июля 1961 г.
Когда до приземления советского самолета 11 июля оставалось около часа и мы
садились в машину, чтобы ехать в аэропорт встречать Юрия Алексеевича, позвонил
по телефону главный секретарь английской королевы и по поручению королевы
спросил меня, сможет ли, по нашему мнению, майор Гагарин принять приглашение на
обед у английской королевы в Букингемском дворце 14 июля, в пятницу. Мы
ответили, что, по нашему мнению, это возможно, но окончательный ответ посольство
даст сразу по прибытии Юрия Алексеевича в Лондон.
Если учесть английские нравы и порядки, то можно понять большое значение этого
телефонного звонка из Букингемского дворца для уровня приема первого космонавта в
Англии.
Встреча Юрия Алексеевича в аэропорту была очень теплой. Несколько ча¬
сов тысячи людей терпеливо ждали прилета самолета, собравшись вокруг аэро¬
порта, на балконах и террасах здания аэропорта и даже на его крыше. Дорога от
аэропорта до Лондона на протяжении 20 км была заполнена толпами людей.
В предыдущие несколько дней в газете "Дейли мирор" неоднократно помещалась
схема маршрута Гагарина от аэропорта до советского посольства, поэтому население
Лондона имело возможность заранее выстроиться по пути следования открытой
машины с первым космонавтом. По английскому радио и в газетах отмечалось, что на
улицы Лондона 11 июля вышла такая масса людей встречать Юрия Алексеевича
Гагарина, какую Лондон не видел со дня победы над Германией во второй мировой
войне.
В тот же день, 11 июля, Гагарин посетил советскую выставку, и там состоялась
большая пресс-конференция, на которой присутствовали более 800 журналистов. На
этой конференции Юрию была вручена первая золотая медаль Британского
межпланетного общества.
Милая улыбка и манеры Юрия с самого начала его появления на английской земле
буквально покорили англичан, не говоря уж об англичанках, которые выбегали прямо
в бигуди из парикмахерских и радостно приветствовали Гагарина: "Юрий! Юрий!"
Вечером в советском посольстве состоялся большой прием в честь Гагарина,
где собрались несколько тысяч человек. Прием длился более пяти часов. О том
большом впечатлении, которое производил Юрий на английское население, гово¬
рит и такой довольно своеобразный случай: однажды поздно вечером мне сообщи¬
ли, что в посольстве Гагарина ожидает одна пожилая женщина, уже бабушка, при¬
ехавшая из Уэльса, что в южной части страны, со своим внуком для передачи
Юрию узелка с семейными драгоценностями, так как она не хотела, чтобы эти
ценности "во время будущей войны достались фашистам". Она предлагала испо¬
льзовать эти драгоценности в целях укрепления дела мира. Мы напоили и накор¬
мили старушку и внука и убедили ее вернуться домой со своими драгоцен¬
ностями.
День 12 апреля был занят поездкой в Манчестер. Здесь Гагарин посетил
муниципалитет, мэра города, а затем руководство профсоюза литейщиков. Этот
профсоюз, узнав, что Гагарин в юности работал литейщиком, прислал ему очень
теплое приглашение посетить Манчестер и их завод. К приезду Юрия на заводском
дворе собралось более 10 тыс. рабочих и, хотя лил сильный дождь, состоялся митинг,
на котором с речью выступил первый космонавт мира.
На митинге был зачитан следующий документ:
117
’’Национальный исполнительный комитет Объединенного профессионального союза
литейщиков с радостью удостоверяет, что 23 мая 1961 г. майор Юрий Гагарин
объявлен Почетным Членом № 1 нашего Союза в знак высокой оценки его подвига на
пользу человечества, совершенного им 12 апреля 1961 г. первым полетом в космос.
Председатель Фред Холлингворт
Секретарь Давид Ламберт"
Утром 13 июля Гагарин ознакомился с достопримечательностями Лондона, а затем
состоялся прием у лорд-мэра Лондона сэра Бернарда Уолей Коэна в Сити Лондона. На
приеме присутствовали все городские советники и другие видные представители
городских властей. Лорд-мэр выступил с приветственной речью, в которой он
напомнил, что во время пасхального банкета в Сити 12 апреля он, премьер-мэр, имел
честь первым в Англии официально поздравить Советский Союз с замечательным
достижением - успешным полетом первого человека в космос. Затем лорд-мэр и
Гагарин вышли на балкон. Героя-космонавта горячо приветствовал народ,
запрудивший улицы, прилегающие к Меншин-хаусу, резиденции лорда-мэра Лондона.
Во время посещения Тауэра Гагарина приветствовал почетный комендант Тауэра
фельдмаршал Александер, во время второй мировой войны командовавший войсками
союзников в Африке.
В этот же день президент Королевского общества, т.е. английской академии наук,
Говард Флори устроил завтрак в честь Гагарина, где присутствовали видные
английские ученые: Сирил Хеншельвуд, Бернард Ловел, Хэрри Мэсси и др.
После обмена приветственными речами Юрию Гагарину были вручены памятные
подарки - сочинения Ньютона и другие книги.
Позже в этот же день состоялся визит к премьер-министру Макмиллану. Он
проявил живой интерес к рассказу Гагарина о его полете в космос. Макмиллан
преподнес космонавту серебряный поднос. Гагарин подарил Макмиллану свою книгу
’’Дорога в космос”. Затем Макмиллан провел Гагарина и сопровождавших его лиц по
своей резиденции в здании Адмиралтейства, показал комнату, где заседает английский
кабинет, и затем, проводив Юрия до машины, дружески с ним распрощался.
После визита к Макмиллану Гагарин возложил венок к подножию памятника в
честь воинов, погибших во время двух мировых войн, а затем по просьбе министра
авиации посетил здание министерства авиации, где министр Эмери - зять Макмиллана
- устроил в честь Гагарина прием. На нем присутствовали старшие чиновники
министерства авиации, представители английской военной авиации. После кратких
приветственных речей Эмери преподнес Гагарину шкатулку для папирос с надписью:
"Подарок от Королевских вооруженных сил Англии”.
Вечером в этот же день был устроен большой прием в честь Гагарина в Ассо¬
циации "Британия-СССР", на котором были премьер-министр Макмиллан, министр
иностранных дел Хьюм, министр транспорта Маплис, бывший премьер лорд Эттли и
многие другие видные представители английской правящей элиты, общественных и
культурных кругов. В этот же день состоялось посещение Общества культурных
связей с СССР, президентом которого являлся известный английский юрист Притт.
Поездка Гагарина по центральной части Лондона вылилась в триумфальное
шествие, и многие тысячи лондонцев, выстроившиеся вдоль улиц, приветствовали
первого космонавта.
Наконец, днем 14 июля Гагарин был почетным гостем на обеде у английской
королевы Елизаветы II в Букингемском дворце. На обеде присутствовали также
супруг королевы принц Филипп, адмирал флота лорд Маунтбаттен - дядя королевы -
и другие видные гости. Королева и ее супруг проявили очень большое внимание к
Гагарину, интересовались его самочувствием во время полета в космос, а также
задавали много вопросов относительно того, как выглядит Земля с высоты
космического полета, какого она цвета, какого цвета небо, звезды и т.п. Принц
118
Филипп задал несколько технических вопросов, в частности, о том, как обеспечивается
устойчивость космического корабля. Гагарин очень уверенно, с большим знанием дела
вел эту беседу, подробно объясняя сложные технические вопросы. На этом обеде, как
и везде, Гагарин произвел на англичан благоприятное впечатление своим уменьем
держаться с тактом и достоинством.
В беседе со мною королева, принц Филипп и лорд Маунтбаттен говорили о том, что
все они получили истинное удовольствие от встречи с первым космонавтом, который,
как сказала королева, произвел очень большое впечатление на английский народ. Как
бы подчеркивая значение, которое они придают визиту Гагарина, королева сказала,
что впервые в истории королевской семьи всем придворным и слугам было разрешено
выстроиться в вестибюле с тем, чтобы они могли приветствовать Гагарина. Лорд
Маунтбаттен спросил меня, заметил ли я ребенка в детской коляске - младшего сына
королевы принца Эндрю. Королева хотела, сказал он, чтобы Эндрю, когда вырастет,
мог с гордостью говорить, что он тоже видел первого в мире космонавта.
В этот же день Гагарин посетил Хайгейтское кладбище и возложил венок на могилу
Карла Маркса. По дороге на Хайгейтское кладбище, несмотря на дождь и позднее
время, было много народа, как и везде, тепло приветствовавшего Юрия Гагарина.
Вечером 14 июля состоялось выступление Гагарина по английскому телевидению,
прошедшее с большим успехом.
15 июля он вместе с сопровождавшими его лицами вылетел на родину. К моменту
отъезда около посольства собралось много людей, заполнивших прилегающую улицу.
По всей дороге к аэропорту и в самом аэропорту Гагарина, как и в день приезда,
приветствовали толпы англичан. В аэропорту присутствовал парламентский секретарь
министерства авиации Риппон, вице-маршал авиации Лис, от английской компании
устроителей нашей выставки "Индастриал энд трейд файере лимитед" лорд Дройда.
Риппон в кратком слове перед корреспондентами телевизионных компаний сказал, что
Гагарин надолго останется в сердцах лондонцев: его пребывание в Англии было очень
успешным и вызвало огромный интерес. Гагарин выступил с ответным заявлением, в
котором поблагодарил английский народ за радушный прием, передал ему наилучшие
пожелания.
Всю неделю пребывания советского гостя Лондон и вся Англия жили под
впечатлением великого подвига - первого успешного полета человека в космос;
английский народ самым искренним образом выражал свое восхищение этим событием,
восторженно приветствуя Юрия Гагарина, где бы он ни появлялся. Газета "Таймс" от
17 июля 1961 г. в статье своего дипломатического корреспондента подчеркивала, что
"аплодисменты и толпы народа, собиравшиеся, чтобы посмотреть на Гагарина, были
выражением восхищения смелым достижением исключительно привлекательного
представителя из страны, с которой англичане хотят иметь дружественные
отношения".
Добрые чувства и восхищение, проявленные английским народом к мужеству Юрия
Гагарина и к советскому народу, совершившему исторический подвиг по покорению
человеком космоса, могут служить убедительным примером возможностей для
укрепления дела мира и дружественных отношений между народами.
119
Документальные очерки
© 1993 г.
А.И. ПАТРУШЕВ
ЖИЗНЬ И ДРАМА ФРИДРИХА НИЦШЕ
Пасмурный день начала января 1889 г. На туринской виа Карло-Альберто
разыгрывается сцена, так похожая на сон Раскольникова из ’’Преступления и
наказания” Ф.М. Достоевского: грубая брань кучера и свист кнута, кровавыми
рубцами покрывающего спину и костлявые ребра жалкой изможденной клячи.
Из толпы равнодушных прохожих внезапно вырывается сутулый полуслепой человек
в черном пальто. Спотыкаясь о камни мостовой, он подбегает к несчастному
созданию, обнимает его за шею, целует в глаза и своим телом пытается прикрыть от
безжалостных ударов. Жалобное ржание лошади и рыдания ее защитника сливаются
воедино. Оторопевший возница опускает кнут. Этого человека, единственного, кто
поспешил на помощь несчастному животному, хозяйки грязноватых итальянских
пансионатов обычно уважительно именовали ”11 piccolo Santo” ("Маленький святой"), а
в книге проживающих он был записан как отставной профессор Базельского
университета Фридрих Вильгельм Ницше.
Да, тот самый Ницше, философия которого до сего времени отпугивает
добропорядочных обывателей всего мира. Тот самый Ницше, который по-прежнему
считается глашатаем аморальности, жестокости, войны и насилия.
Но истинный Ницше - это гениальный провидец, угадавший роковые катаклизмы
XX в. и пытавшийся уберечь человечество от ужасной катастрофы нашей культуры1.
В затхлом воздухе Европы конца XIX в. прозвучал его исступленный призыв к свободе
как смыслу жизни. Но не был услышан в атмосфере бравурного грохота национализма,
впоследствии обернувшегося в XX в. рядом мировых войн и социальных переворотов,
превративших миллионы людей не только в подопытных кроликов для кровавых
экспериментов, но и в стадо, которое "наверняка настигнет и растопчет всякого, кто
рассматривает людей как стадо и убегает от него со всей доступной ему быстротой”2.
1 Из безбрежной литературы о Ницше и его философии назовем несколько наиболее оригинальных и
крупных произведений: Шестов Л. Достоевский и Ницше (философия трагедии). СПб., 1903; Галеви Д.
Жизнь Фридриха Ницше. СПб.-М., 1911; Drews A. Nietzsches Philosophic. Heidelberg, 1904; Bertram E.
Nietzsche. Versuch einer Mythologie. Munchen, 1918; Heckel K. Nietzsche. Sein Leben und seine Lehre. Leipzig,
1922; Andler Ch. Nietzsche, sa vie et sa pensee, t. 1-6. Paris, 1920-1931; Lessing T. Nietzsche. Berlin, 1925;
Podach ЕГ. Neitzsches Zusammenbruch. Heidelberg, 1930; Jaspers K. Nietzsche. Berlin, 1947; Schlechta K.
Nietzsches grosser Mittag. Frankfurt a.M., 1954; Heidegger M. Nietzsche, Bd. 1-2. Pfullingen, 1961; Danto A.
Nietzsche as Philosopher. New York, 1971; Hollingdale R. Nietzsche. The Man and His Philosophy. London, 1973;
Montinari M. Che cosa ha "veramente" detto Nietzsche. Roma, 1975; Steiner R. Friedrich Nietzsche. Ein Kampfer
gegen seine Zeit. Domach, 1977; Janz P.K. Friedrich Nietzsche. 3 Bde. Munchen-Wien, 1978-1979; Stern J J*. A
Study of Nietzsche. London, 1978; Kaufmann W. Nietzsche: Philosoph, Psychologe, Antichrist. Darmstadt, 1982;
Hayman R. Friedrich Nietzsche. Munchen, 1985; Gebhardt V. Pathos und Distanz: Studien zur Philosophic Friedrich
Nietzsches. Stuttgart, 1988.
2 Nietzsche F. Werke in 3 Banden. Hrsg. von Karl Schlechta, Bd. 1. Munchen, 1982, S. 830.
120
МАЛЕНЬКИЙ ПАСТОР
Родословная Фридриха Ницше теряется в глубине XVI в. Его сестра Элизабет
писала о семейной легенде, гласившей, что некий польский шляхтич Ницкий был
одним из тех, чьими усилиями саксонский курфюрст Август Сильный был избран в
1697 г. королем Польши, за что и удостоился графского титула. Но после отказа
Августа от польской короны его верный сторонник из-за участия в заговоре против
нового короля Станислава Лещиньского бежал с семьей в немецкие земли и после
трехлетних скитаний осел в Саксонии3.
Столь романтическую легенду документальные данные, однако, не подтверждают.
Ни о каком графе Ницком в изданном за 1839-1848 гг. в Лейпциге 10-томном
справочнике польских дворянских родов не упоминается. Достоверно установлено, что
предки Ницше уже с 1570 г. жили в Верхнем Лаузице, затем в Бибре, небольшом
городке близ старинного Наумбурга. Отец философа Карл Людвиг Ницше родился 10
октября 1813 г. в семье ойленбургского суперинтенданта Ф.А.Л. Ницше (1756-1826).
Окончив теологический факультет одного из лучших тогда немецких университетов
в Галле, К.Л. Ницше после недолгого пребывания при альтенбургском герцогском
дворе в качестве воспитателя трех принцесс получил от хорошо знавшего его
прусского короля Фридриха Вильгельма IV церковный приход в деревне Рёкен близ
Люцена.
По обычаю молодой пастор нанес визиты соседям, в числе которых был и его
коллега в деревне Поблес Д. Ёлер, отец 11-ти детей. Среди них рёкенский пастор
сразу выделил 17-летнюю Франциску, также очарованную кареглазым стройным
мужчиной с прекрасными манерами и моднейшим шелковым галстуком. Роман
протекал стремительно: уже 10 октября 1843 г., как раз в день рождения жениха,
состоялась свадьба.
Через год, 15 октября 1844 г., в семье появился первенец, здоровый и крепкий
малыш. Счастливый отец нарек мальчика, родившегося в день именин обожаемого
короля, тем же именем - Фридрих Вильгельм. В июле 1846 г. у Людвига и Франциски
родилась дочь Элизабет, а еще через два года - второй сын Йозеф.
Больше всех пастор любил старшего сына, с которым он много и охотно занимался.
Самым лучшим временем для маленького Фрица были часы, когда отец усаживался за
фортепиано и начинал что-нибудь импровизировать. Притихший ребенок усаживался
поближе и не сводил с отца восхищенных глаз. Не тогда ли и зародилась страстная
любовь Ницше к музыке?
В 1848 г. в безмятежную жизнь пасторского дома ворвалась буря германской
революции, прокатившейся с запада на восток по всей стране. Монархически
настроенный Людвиг был глубоко напуган и потрясен. Трудно судить, насколько
повлияло это на здоровье пастора, но в конце августа он тяжело заболел и через год,
30 июля 1849 г., скончался.
В литературе есть различные версии о причинах болезни Людвига Ницше и ее
связи с трагической судьбой старшего сына. Ясно лишь, что умер он от размягчения
мозга, возможного последствия травмы, полученной при падении с каменной лестницы
своего дома. Но эта болезнь по наследству не передается, хотя само падение с
лестницы могло быть вызвано уже начинавшей прогрессировать болезнью мозга.
Через полгода смерть вновь посещает семью Ницше. На сей раз ее жертвой стал
годовалый Йозеф. Позднее Фридрих в автобиографических заметках описал странный
сон, который видел накануне: "Я слышал в церкви погребальные звуки органа. Пока я
пытался понять, в чем дело, одна из могил внезапно вздыбилась, из нее поднялся мой
отец в саване. Он поспешил в церковь и быстро вернулся с маленьким ребенком на
руках. Вновь приоткрылся могильный холм, он влез внутрь, и крышка гроба
захлопнулась. Тотчас смолкли мощные звуки органа, и я проснулся. На следующий
3 For ster-Nietzsche Е. Der jungę Nietzsche. Leipzig, 1912, S. 7.
121
день Йозефхену внезапно стало плохо, начались боли и судороги, и через несколько
часов он умер. Мой сон сбылся полностью”4.
Весной 1850 г. семья перебралась в старинный Наумбург. Этот город знаменит
величественным готическим собором, и доныне украшающим центр города. Фридрих,
которому еще не было и шести лет, пошел учиться в мужскую народную школу.
Серьезный, немного замкнутый и неразговорчивый мальчик, с вьющимися белокурыми
волосами и унаследованными от бабушки прекрасными, хотя и близорукими голубыми
глазами, чувствовал себя в школе неуютно и одиноко. Его мягкие манеры и
рассудительность, вежливый тон вызывали постоянные насмешки над "маленьким
пастором”, как его окрестили одноклассники. Забавляло их и то глубокое чувство, с
которым Фридрих декламировал отрывки из Библии и духовные гимны. Такая
отчужденность Фридриха от коллектива сохранилась навсегда. Была ли она защитным
панцирем легкоранимого и застенчивого характера или нет, но чувство одиночества
стало его спутником на всю жизнь.
Учеба в школе, а затем в Домской гимназии давалась Фридриху легко, хотя
удивительная тщательность и аккуратность заставляли его засиживаться над
тетрадями и учебниками до полуночи. А уже в пять часов утра он вставал и спешил в
гимназию.
Но больше учебных предметов мальчика волновали поэзия и особенно музыка. Его
кумирами стали классики - В.А. Моцарт и Й. Гайдн, Ф. Шуберт и Ф. Мендельсон, Л.
ван Бетховен и И.С. Бах. В современной же музыке Г. Берлиоза или Ф. Листа он не
находил ничего, способного взволновать человека. Тех же людей, которые презирали
музыку, Ницше рассматривал как "бездуховных тварей, подобных животному”5.
Осенью 1858 г. мать Фридриха получила от ректора земельной школы-интерната
"Шульпфорте” письмо, где ее сыну как необычайно одаренному мальчику
предлагалось место в школе. Предложение было лестным, ибо Пфорта являлась
одним из самых престижных учебных заведений в Германии. Среди ее выпускников
были такие блестящие умы, как знаменитые романтики братья Ф.А. и В. Шлегели и
Новалис (псевдоним Ф. Гарденберга), поэт и драматург Ф.Г. Клошпток, известный
философ И.Г. Фихте, крупнейший историк Л. Ранке. Позднее питомцами школы стали
выдающийся историк К. Лампрехт и один из последних канцлеров империи - Т. фон
Бетман-Гольвег. Понятно, что польщенная мать с радостью согласилась. Проведший
детство в тепличном женском окружении, Фридрих вступил в иной, более суровый мир
интерната.
Складывавшееся в те годы мировоззрение Ницше нашло отражение в написанном
им в октябре 1861 г. сочинении о поэте Ф. Гёльдерлине (1770-1843), тогда не
признанном и почти неизвестном. Его творчество, воспевавшее слияние человека и
природы в духе античности и ярко отразившее разлад общества и личности, привлекло
юношу тем, что Гёльдерлин сумел выразить настроения, присущие тогда и Ницше.
В этом "эллинском монахе” он увидел родственную душу, сказавшую немцам
"горькую истину” об их жалком и убогом филистерстве. Но учитель литературы, в
полном соответствии с общепринятыми негативными оценками Гёльдерлина,
"дружески посоветовал автору избрать какого-нибудь более здорового и ясного
немецкого поэта"6. Разочарованный Ницше еще глубже замкнулся в себе и уже
никогда больше не высказывал перед преподавателями Пфорты своих истинных
чувств и мыслей.
Не складывались и отношения Ницше с воспитанниками. Они видели интел¬
лектуальное превосходство однокашника, осыпали его насмешками, их раздражало
равнодушие Ницше к тем маленьким радостям, которые приносили экскурсии, обычно
заканчивавшиеся кружкой доброго пива или бокалом вина в одном из многочисленных
4 Nietzsche F. Werice, Bd. 3. Munchen, 1954, S. 17.
5 Ibid., S. 35.
6 Fórster-Nietzsche E. Op. cit., S. 107.
122
ресторанчиков, располагавшихся по тенистым берегам Заале. Лишь с пасторским
сыном из Рейнланда Паулем Дейссеном у Фридриха возникла дружба на почве общей
любви к древнегреческой литературе, особенно к Анакреону, и намерения изучать
после окончания школы теологию в Боннском университете.
В апреле 1862 г. Ницше создает два философско-поэтических эссе: "Рок и история"
и "Свобода воли и рок", где содержатся чуть ли не все основные идеи его будущих
произведений. Вновь и вновь на протяжении всей жизни он будет возвращаться к этим
темам, с каждым разом все более страстно и открыто.
О чем пишет в эссе "Рок и история" молодой Ницше?
"Мораль - результат всеобщего развития человечества. Она - сумма всех истин
нашего мира; может быть, она в бесконечном мире значит не более, чем результат
одного духовного направления в нашем; возможно, из результатов истин отдельных
миров вновь развивается всеобщая истина.
Едва ли мы знаем, чем является само человечество: лишь ступенью, периодом во
всеобщем, в потоке становления или оно произвольное явление Бога? Может быть,
человек есть только развитие камня через медиумы растений, животных? Достигнуто
ли уже этим его завершение, не история ли это? Есть ли конец у этого вечного
становления? Каковы пружины великих часов? Они скрыты, но они те же самые в
великих часах, которые мы называем историей. Циферблат - это события. От часа к
часу все дальше прыгает стрелка, чтобы после 12 начать свой путь сызнова;
наступает новый мировой период...
Высшее понимание мировой истории недоступно людям; но великий историк, как и
великий философ, становятся пророками - ведь оба абстрагируются от внутренних
кругов к внешним...
Свободная воля предстает как раскованность, самовольность. Она - бесконечная
свобода, блуждание, дух. Но рок - это необходимость, если мы не согласны поверить,
будто мировая история - это не ошибочные грезы, невысказанные муки человечества
- фантазии, мы сами - игрушки наших фантазий. Рок - бесконечная сила
сопротивления свободной воле; свободная воля без рока мыслима столь же мало, как
дух без реалий, добро без зла...
Свободная воля - лишь абстракция и означает способность действовать осознанно,
а под роком мы понимаем принципы, которые руководят нами в неосознанных
действиях.
В свободе воли заключен для индивида принцип обособления, отделения от целого,
абсолютная неограниченность, но рок вновь органически связывает человека с общим
развитием... Абсолютная свобода воли без рока сделала бы человека Богом,
фаталистический принцип - механизмом"7.
Во втором эссе "Свобода воли и рок" самыми примечательными кажутся резкие
выпады Ницше против христианской идеи потустороннего мира: "То, что Бог
становится человеком, указывает лишь: человек должен искать свое блаженство не в
бесконечности, а создать свое небо на земле; иллюзия неземного мира исказила
отношение человеческого духа к миру земному: она была созданием детства народов...
В тяжких сомнениях и битвах мужает человечество: оно осознает в самом себе
начало, сердцевину и конец религий"8.
В этих небольших произведениях, скорее, набросках уже видны зародыши тех
проблем, вокруг которых до самого конца жизни Ницше будет обречена вращаться его
беспокойная мысль.
Критика церковных догматов, переоценка всех сложившихся за тысячи лет
человеческих ценностей, признание ограниченности и относительности всякой морали,
идея вечного становления, мысль о философе и историке как о пророке,
ниспровергающем ради будущего прошлое, проблема места и свободы личности в
7 Nietzsche F. Werke, Bd. II. Miinchen, 1934, S. 54-61.
8 Ibid., S. 63.
123
обществе и истории, пронесенное через года отрицание унификации и нивелировки
людей, страстная мечта о новой исторической эпохе, когда наконец-то род
человеческий возмужает и осознает свои задачи, - все это можно уловить в его
первых философских опытах.
Развитие эти мысли получат, конечно, гораздо позднее. Пока они не слишком были
ясны и самому автору. Его окружали провинциальный мирок Наумбурга и размеренная
жизнь интерната, начинавшие становиться уже явно тесными для его неординарных
мыслей и дерзких мечтаний.
С тем большей жадностью Ницше набросился на книги, благо в Пфорте была
отличная библиотека. Чтение значительно расширило его духовный горизонт. Юноша
увлеченно глотал книги В. Шекспира и Ж.-Ж. Руссо, Н. Макиавелли и Р. Эмерсона,
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, III. Пётефи и А. Шамиссо, Э. Гейбеля и
Т. Шторма. Любимым поэтом Ницше стал в ту пору страстный певец свободы и
романтизма Джордж Гордон Байрон.
Планы Ницше на будущее были довольно расплывчаты. То он намеревался
посвятить жизнь любимой музыке, то в нем просыпалось желание заняться
музыковедением. В 1863 г. он написал работу "О демоническом в музыке” и набросок
"О сущности музыки". Ницше усиленно изучал историю литературы и эстетику,
библейские тексты и античные трагедии. Разбросанность интересов начала тревожить
и его самого, пока он не перечеркнул все планы художественного творчества и не
решил обратиться к изучению филологии. Здесь он надеялся найти именно то, что
гармонично сочетало бы холодную логику, научный рационализм и художественную
сторону, т.е. науку, способную дать простор не только интеллекту, но и чувствам. Тем
более, что филология лучше всего отвечала его горячей любви к античности, к
произведениям Гераклита, Платона, Софокла, Эсхила, к древнегреческой лирике.
В сентябре 1864 г. Ницше закончил обучение в Пфорте и после сдачи экзаменов,
возвратился в Наумбург. Решение продолжить дальнейшую учебу в Боннском
университете он принял еще раньше. По желанию матери Фридрих обещал записаться
в университете на теологическое отделение. Через месяц, 16 октября 1864 г., после
небольшой поездки по Рейну и Пфальцу Ницше вместе с Дейссеном приехали в Бонн.
После почти казарменных порядков Пфорты их полностью захватила вольная и
безалаберная студенческая жизнь, пирушки и обязательные поединки на рапирах. Но
очень быстро Ницше остыл к развлечениям и все чаще стал задумываться о переходе
на отделение филологии, что и сделал осенью 1865 г. Он занимался в семинаре одного
из лучших немецких филологов Фридриха Ричля и той же осенью перевелся в
Лейпцигский университет в связи с переездом туда своего наставника.
ГОДЫ В ЛЕЙПЦИГЕ
Третий семестр Ницше начал, как начинают совершенно новую жизнь. Он твердо
выбрал филологию, хотя понимал, что для склада его ума и характера узкая
специализация мало подходила. Философское мышление еще не завладело разумом
Ницше, но именно Ьэды учебы в Лейпциге дали решающие духовные импульсы для
его последующей жизни и творчества. Занятия филологией вернули ему чувство
самоутверждения, в значительной мере потерянное за год обучения в Бонне, где он
постоянно разрывался между теологией, музыкой и филологией, не решаясь
остановиться на чем-нибудь одном.
Однажды, вспоминал позже сам Ницше, когда он перелистывал в книжной лавке
какую-то книгу, некий демон словно бы прошептал: купи ее! Возвратившись домой,
Ницше растянулся на кушетке и погрузился во внезапно захвативший его мир
необычайных мыслей Артура Шопенгауэра. Впечатления от книги "Мир как воля и
представление" так потрясли Ницше, что он две недели мучился от бессонницы.
Только необходимость ходить на занятия, вспоминал Ницше, помогла ему преодолеть
глубокий душевный кризис, во время которого он, по собственному признанию, был
близок к помешательству.
124
Идеи Шопенгауэра (1788-1860) оказались чрезвычайно близки собственным
размышлениям Ницше конца 1865 г. Его поразило презрение философа к людям, с их
мелочными заботами и своекорыстными интересами. Бессмысленность этого
существования, так ярко обрисованная Шопенгауэром, привела Ницше к мысли о том,
что искать смысл жизни человека в исполнении им своего долга - напрасная трата сил
и времени. Человек исполняет свой долг под давлением внешних условий
существования, и этим ничем не отличается от животного, также действующего
исключительно по обстоятельствам.
Возросший интерес Ницше к философии и стремление расширить познания в этой
области не направили его, однако, наиболее естественным путем. Он не стал
посещать лекции по философии в университете; страстные выпады Шопенгауэра
против философов на университетских кафедрах и личные впечатления от жалких
философов Боннского университета вроде недалекого К. Шааршмидта отвратили
Ницше от официальных преподавателей этой дисциплины. С тем большей жадностью
набросился он на оригинальную философскую литературу.
В ней Ницше обнаружил еще одно поразившее его произведение - только что
вышедшую в 1866 г. книгу Ф.А. Ланге ’’История материализма”. Залпом прочитав ее,
он пришел в восторг от этого "самого значительного философского произведения
последних лет", дополнявшего его любимых И. Канта и А. Шопенгауэра.
Импонировало Ницше и отсутствие специфически немецкой учености у Ланге. Сын
теолога, Фридрих Альберт Ланге (1828-1875) только в 1870 г. стал профессором
философии в Цюрихе, а с 1872 г. - в Марбургском университете. Во время создания
"Истории материализма" Ланге работал учителем гимназии и был известен своими
леволиберальными воззрениями, близкими к идеям социал-демократии.
В философии Ланге выступил как один из ранних представителей неокантианства,
наметивший главные принципы этого направления и его социально-политические
основы. Из его книги Ницше впервые получил представление о социальном
дарвинизме, о политических и экономических тенденциях современного развития,
столкнулся с оригинальной интерпретацией взглядов греческого материалиста
Демокрита и великого немецкого мыслителя Канта подробно познакомился с
представителями английского позитивизма и утилитаризма.
У Ланге Ншцпе нашел и подтверждение собственным, еще смутным философским
представлениям. Согласно Ланге, окружающий нас мир - это представление,
обусловленное физической структурой человеческого организма. Но человек не может
удовлетвориться только ограниченным чувственным материалом, открываемым в
опыте. Человек - духовное, нравственное существо, он нуждается и в идеальном
мире, который сам же и создает. Человек - творец поэтических образов, религиозных
представлений, дающих ему возможность построить в своем сознании более
совершенный мир, чем тот, который его окружает. Такой идеальный мир возвышает
человека над миром обыденности, вооружает его этической идеей, а ею для Ланге
была идея социализма. Представление о реальном мире как алогичном,
иррациональном явлении Ницше почерпнул уже у Шопенгауэра, а Ланге лишь укрепил
в нем это убеждение.
Летом 1867 г. Ницше познакомился с молодым студентом Эрвином Роде (1845-
1897), ставшим его близким другом на всю жизнь. Он был немного моложе Ницше,
родился в Гамбурге в семье врача. Своенравный и темпераментный юноша рано обна¬
ружил горячую любовь к музыке и задатки прирожденного филолога: владел фран¬
цузским, итальянским, испанским и английским языками, мастерски говорил на боль¬
шинстве немецких диалектов. Уже эти черты привлекли внимание и симпатии Ницше.
Летние каникулы они провели вдвоем, пешком путешествуя по Богемскому лесу.
Осенью 1867 г. Ницше вынужден был временно прервать обучение и пройти год
военной службы. Так он оказался во второй батарее полка полевой артиллерии,
расквартированного в родном Наумбурге. Военную службу Ницше, еще не забывший
строгие распорядки Пфорты, перенес довольно легко. Но однажды во время учений,
125
садясь на лошадь, он сильно ударился грудью о переднюю луку седла. Несмотря на
боль, Ницше остался в строю до конца учений, но вечером ему стало настолько плохо,
что он дважды терял сознание. 10 дней Фридрих почти неподвижно пролежал в
постели: у него оказались разорванными две грудные мышцы и произошло внутреннее
кровоизлияние. В поврежденных грудных костях началось нагноение, а затем осколки
стали выходить через рану наружу. Мучительный процесс продолжался почти два
месяца. Ницше прошел чрезвычайно болезненный курс лечения в клинике знаменитого
галльского врача Фолькмана и после пятимесячных страданий в августе наконец
возвратился в Наумбург.
Признанный негодным к службе в армии, Ницше возобновил обучение в уни¬
верситете. Он твердо решил вступить на стезю преподавательской деятельности и
начал обдумывать тему диссертации. Именно в то время произошло одно из наиболее
значительных и судьбоносных событий в его жизни - знакомство со знаменитым
композитором Рихардом Вагнером.
В ноябре 1868 г. Вагнер инкогнито приехал в Лейпциг навестить свою сестру
Оттилию, жену известного востоковеда Германа Брокгауза. Опекавшая Ницше фрау
Ричль, близкая подруга Оттилии, вместе с ней принимала музыканта, за плечами
которого были годы бурной деятельности: баррикадные бои революции 1848 г. в
Дрездене, где он сражался рядом с М.А. Бакуниным, годы изгнания, полунищенское
существование в Риге, возвращение после амнистии в Германию, годы непризнания, а
затем быстро растущей славы.
Ко времени приезда в родной Лейпциг Вагнер уже приобрел мировую известность.
Его гениальные творения - ’’Летучий голландец’’ (1841),”Тайнейзер” (1843-1845),
’’Лоэнгрин” (1845-1848), ’’Тристан и Изольда” (1854-1859) - вызывали восторженное
поклонение одних и яростное неприятие других.
Приехав к сестре, Вагнер, конечно же, не мог отказать ей в удовольствии
послушать его последние сочинения. Когда он исполнил отрывки из ’’Мейстерзин¬
геров”, фрау Ричль заявила, что эти мелодии она слышала ранее в прекрасном
исполнении студентом мужа - Фридрихом Ницше. Заинтригованный Вагнер выразил
непременное желание познакомиться с юношей. Так, вечером 8 ноября 1868 г. в доме
профессора Брокгауза произошла их встреча.
Кроме музыки, они сразу нашли еще одну, глубоко волновавшую их тему -
философию Шопенгауэра. Ницше был очарован дружелюбием и живостью Вагнера,
первой поистине гениальной творческой личностью, встреченной им на жизненном
пути. Его ослепил не ореол славы Вагнера, а действительно независимое мышление
известного музыканта. Вагнер, как и Ницше, стремился к обновлению немецкой
культуры.
После знакомства Ницше погрузился в чтение эстетических произведений Вагнера
"Искусство и революция” и "Опера и драма". Вновь его начали одолевать сомнения в
правильности того, что он избрал своей профессией филологию. Но именно в это
время произошли события, задержавшие на 10 лет Ницше в оковах филологической
науки.
В декабре 1868 г. в Базельском университете освободилась кафедра греческого
языка и литературы, руководитель которой, профессор А. Кисслинг, принял
приглашение перейти в университет Гамбурга. Он обратился к своему бывшему
боннскому наставнику Ричлю с вопросом о том, нельзя ли пригласить в Базель Ницше,
чьи работы по античной литературе были ему хорошо знакомы по журналу "Рейнский
музей филологии". Ричль ответил, что за 40 лет преподавания он еще не встречал
столь зрелого и глубокого студента, как этот молодой человек, который наверняка
войдет в первые ряды немецкой филологической науки.
Сам кандидат был польщен выпавшей честью - занять пост экстраординарного
профессора университета без диссертации и даже без завершенного полностью курса
обучения. В приглашении его привлекло еще одно - возможность ближе сойтись с
Вагнером, проживавшим с 1866 г. в Трибшене близ Люцерна.
126
Перед отъездом Ницше намеревался защитить в Лейпциге диссертацию на основе
своих исследований о Диогене Лаэртском. Однако совет факультета единодушно
решил, что опубликованные статьи Ницше вполне заменяют диссертацию, и 23 марта
ему присудили степень доктора без обязательной публичной защиты, дискуссии и
экзамена. Осталось решить еще одну проблему. Ницше долго колебался, не зная, как
поступить: следовало ли при переезде в Базель сохранить прусское гражданство или
же принять швейцарское. От первого варианта он отказался и 17 апреля 1869 г.
получил из ведомства в Мерзебурге извещение о согласии королевского правительства
на его выход из прусского подданства. Однако ошибочно считать, будто Ницше ’’был
гражданином Швейцарии"9. После переезда в Базель Ницше вообще не обращался с
прошением о предоставлении ему швейцарского гражданства и навсегда остался
человеком без какого-либо государственного подданства.
Для руководства базельского университета Ницше написал автобиографию, в
которой следующим образом изложил свое отношение к филологии: "Мне всегда
казалось достойным внимания, какими путями приходят именно к классической
филологии; думаю, что некоторые другие науки при их цветущей и удивительно
оплодотворяющей силе имеют большее право на приток целеустремленных талантов,
чем наша, хотя и еще бодро шагающая, но все же там и сям обнаруживающая
дряблые черты возраста филология. Я предвижу натуры, которых ставят на этот путь
обыкновенные меркантильные интересы... Многими движет прирожденный талант
преподавания, но и для них наука - лишь действенный инструмент, а не серьезная
цель их жизненного пути, к которой увлеченно стремятся. Есть небольшая группа,
наслаждающаяся эстетикой греческого мира, и еще меньшая, для которой мыслители
древности пока до конца не продуманы. У меня нет никакого права причислять себя
исключительно к какой-либо из этих групп: ведь путь, приведший меня к филологии,
столь же далеко отстоит от практического благоразумия и низкого эгоизма, как и от
того пути, по которому несет факел вдохновенная любовь к древности. Высказать
последнее нелегко, но честно.
Возможно, я вообще не отношусь к прирожденным филологам, которых природа
отмечает печатью на челе: вот филолог! и которые с полной несгибаемостью и
наивностью ребенка идут предписанным им путем"1®.
Ницше не слишком торопился в Базель. Вначале он отправился в Кёльн и Бонн,
оттуда спустился по Рейну до Бибериха, далее по железной дороге до Висбадена.
Затем Ницше посетил Гейдельберг, где любовался величественными руинами старого
замка и их живописными окрестностями на холмистых берегах Неккара. На
следующий день он сел в поезд до Базеля, но перед Карлсруэ узнал от попутчиков,
что вечером в баденской столице будет дана опера Вагнера "Нюрнбергские
мейстерзингеры". Не в силах побороть искушение, Ницше остановился в Карлсруэ,
чтобы еще раз насладиться любимой оперой. Таково было его расставание с
Германией - прекрасный Рейн, романтический Гейдельберг и чарующая музыка
Вагнера. 19 апреля 1868 г. в два часа пополудни Ницше сошел на перрон вокзала в
Базеле.
БАЗЕЛЬСКИЙ ПРОФЕССОР
Преподавание в университете и гимназии "Педагогиум" при нем довольно скоро
начали тяготить Ницше так же, как и уютная мещанская атмосфера Базеля. Его все
чаще охватывали периоды меланхолической депрессии, спасение от которой он
находил в дружбе с Вагнером, в дом которого Ницше стремился при любой
представившейся возможности, благо от Базеля до Люцерна всего два часа езды.
Погружение в возвышенный мир искусства во время частых приездов в Трибшен,
$ Зотов А.Ф., Мелъвилъ Ю.К. Буржуазная философия середины XIX - начала XX в. М., 1988, с. 288.
^Nietzsche F. Werke in 3 Banden, Bd. 3. Munchen, 1982, S. 149-150.
127
очаровательная жена Вагнера Козима разительно контрастировали с размеренным и
скучным существованием Ницше в Базеле. Это вызывало у Ницше отвращение к
филологии и науке вообще. В набросках того периода сомнения в науке выражены
достаточно определенно: ’’Цель науки - уничтожение мира... Доказано, что этот
процесс происходил уже в Греции: хотя сама греческая наука значит весьма мало.
Задача искусства - уничтожить государство. И это также случилось в Греции. После
этого наука разложила искусство’’11.
В такой обстановке сообщение Вагнера о предстоявшем вскоре их переезде в
Байрейт по приглашению баварского короля подействовало на Ницше как удар грома.
Рушилось его призрачное трибшенское счастье, а работа в Базеле теряла, казалось,
всякий смысл. Но судьба как бы взамен Вагнера подарила ему нового верного друга. В
апреле 1870 г. в Базель приехал профессор теологии Франц Овербек, поселившийся в
том же доме на Шютценграбен, где жил и Ницше. Их быстро сблизила общность
интересов и, в частности, критическое отношение к христианской церкви, а также
одинаковый взгляд на начавшуюся франко-германскую войну.
В августе 1870 г. Ницше, несмотря на попытки Козимы Вагнер отговорить его,
подал прошение об отпуске, чтобы принять участие в военных действиях. Но
нейтральные швейцарские власти запретили ему непосредственное участие в боях,
разрешив лишь службу в госпитале.
После кратких санитарных курсов, 2 сентября 1870 г., в день капитуляции армии
Мак-Магона под Седаном и пленения императора Наполеона III, Ницше приехал в
Мец, откуда с переполненным санитарным поездом возвратился в Карлсруэ. Тут
обнаружилось, что Ницше заразился дифтеритом зева и дизентерией. Он был на
волосок от смерти. Но и одной недели оказалось достаточно, чтобы усеянные трупами
поля сражений и опустошенная войной местность произвели на чувствительную
эстетическую натуру Ницше неизгладимое впечатление. Он увидел не героический
пафос и сияние побед, а кровь, грязь, хрупкость человеческого существа, ставшего
легкой добычей Бога войны Ареса. Вопрос о смысле человеческого бытия встал перед
Ницше уже не в фантастических образах искусства, а в жестокой реальности.
После болезни и возвращения в Базель Ницше начал посещать лекции
выдающегося историка Якоба Буркхардта (1818-1897), полные скепсиса и пессимизма
в отношении грядущего. Ницше пересмотрел под влиянием глубоко уважаемого им
Буркхардта свое отношение к франко-германской войне и освободился от угара
патриотизма. Теперь и он стал рассматривать Пруссию как в высшей степени опасную
для культуры милитаристскую силу.
Не без влияния Буркхардта Ницше начал разрабатывать трагическое содержание
истории в набросках к драме ’’Эмпедокл”, посвященной легендарному сицилийскому
философу, врачу и поэту V в. до н.э. В них уже заметны явные элементы философии
позднего Ницше. В эмпедокловском учении о переселении душ он нашел один из
постулатов собственной теории вечного возвращения. Сильное впечатление произвела
на Ницше легенда о самообожествлении Эмпедокла, бросившегося в кратер Этны:
Эмпедокл в разные годы посвящал себя исследованию религии, искусства, науки,
обратив последнюю против самого себя. Изучив религию, он пришел к выводу, что
она - обман. Тогда он переключился на искусство, в результате чего у него выявилось
осознание мирового страдания. Рассматривая мировое страдание, он думал, что
становится тираном, использующим религию и искусство, и при этом все более
ожесточался. Он сошел с ума и перед своим исчезновением возвестил собравшемуся у
кратера народу истину нового возрождения12.
Во многом размышления Ницше отталкивались от идей Буркхардта. Во многом, но
не во всем. Последний считал, что в истории существуют две статичные потенции -
11 Anders A., Schlechta К. Friedrich Nietzsche. Von den verborgenen Anfangen seines Philosophierens. Stuttgart,
1962, S. 61.
Nietzsche F. Werke in 16(20) Banden. Leipzig, 1905-1911; Bd. IX, S. 134.
128
религия и государство - и одна динамичная - культура. Ницше же находил статичной
только религию, а культуру разделял на два динамичных элемента: искусство,
основанное на мире видимости и фантазии, и науку, уничтожающую все иллюзии и
образы. Государство он вообще не считал созидающей силой истории, оно лишь
результат действительных потенций культуры.
В начале 1871 г. Ницше предпринял попытку занять свободное место профессора
философии, а в качестве своего преемника по филологической кафедре предложил
кандидатуру Роде. Попытка не удалась из-за противодействия руководителя основной
кафедры философии К. Стеффенсена, с подозрением относившегося к вольнодумству
Ницше, к его дружбе с язычником Вагнером и увлечению философией Шопенгауэра.
Поскольку Стеффенсен частично оплачивал содержание второй философской
кафедры, то его мнение оказалось решающим.
Хотя Ницше сам понимал, что не имеет в философии никакого имени и поэтому его
шансы весьма призрачны, тем не менее отказ его явно разочаровал. И вновь
возобновилось мучительное для него раздвоение между профессией и призванием,
между миром Базеля и миром Трибшена. Такое раздвоение и отразила его первая
большая культурологическая работа, знаменовавшая его фактическое дезертирство из
филологической науки.
НИЗВЕРЖЕНИЕ КУМИРОВ
2 января 1872 г. в книжных магазинах Лейпцига появилась книга Ницше "Рождение
трагедии из духа музыки". Задумывалась она еще до франко-германской войны, а
схематически очерчена в докладе "Греческая музыкальная драма", прочитанном в
университете в январе 1870 г.
Посвященная Вагнеру, работа определяла те основы, на которых покоится
рождение трагедии как произведения искусства. Античная и современная линии тесно
переплетаются друг с другом в постоянном сопоставлении Диониса, Аполлона и
Сократа с Вагнером и Шопенгауэром.
Ницше так сформулировал античные символы: "До сего времени мы рассматривали
аполлоновское начало и его противоположность - дионисийское - как художественные
силы: с одной стороны, как художественный мир мечты, завершенность которого не
стбит в какой-либо связи с интеллектуальным уровнем или художественным
образованием отдельной личности, а с другой - как опьяняющую действительность,
которая также не принимает во внимание отдельную личность, а наоборот, стремится
даже уничтожить индивида и заменить его мистической бесчувственностью целого"13.
Освобождающим из этих символов предстает у Ницше дионисийское начало, как бы
помогающее "избыть" страдания кошмарного бытия. Оно становится отныне его
постоянным спутником. И как удивительное предвидение собственной судьбы звучат
его слова: "Танцуя и напевая, являет себя человек как сочлен высшего сообщества: он
разучился говорить и ходить, а в танце взлетает в небеса... в нем звучит нечто
сверхъестественное: он чувствует себя Богом, сам он шествует теперь так
возвышенно и восторженно, как и боги в его снах"14. (Именно в таком экстазе
полтора десятилетия спустя увидит Овербек уже сошедшего с ума Ницше в Турине).
Исходя из "метафизики ужаса" Шопенгауэра, Ницше стремился отыскать
контрпозицию христианству и находил ее в символе или мифе разорванного на куски
Диониса, в раздроблении первоначала на множество отдельных судеб, на мир явлений,
называемых им "аполлоновой частью". То первоначало, которое Шопенгауэр назвал
волей, есть основа бытия, оно переживается непосредственно, и прежде всего через
музыку. От прочих видов искусства музыка, по мнению Ницше, отличается тем, что
она выступает непосредственным отражением воли и по отношению ко всем
13 Nietzsche F. Werke in 3 Banden, Bd. 1. Munchen, 1982, S. 25.
14 Ibidem.
5 Новая и новейшая история, № 5 129
феноменам реального мира является "вещью в себе". Поэтому мир можно назвать
воплощенной музыкой так же, как и воплощенной волей.
Ницше обрушивался на один из главных постулатов христианской веры в вечное
существование по милости Бога в потустороннем мире. Ему казалось абсурдом то, что
смерть должна быть искуплением первородного греха Адама и Евы. Он высказал
поразительную, на первый взгляд, мысль о том, что чем сильнее воля к жизни, тем
ужаснее страх смерти. И как можно жить, не думая о смерти, а зная о ее
неумолимости и неизбежности, не бояться ее? Древние греки, чтобы выдержать такое
понимание реальности, создали свою трагедию, в которой происходило как бы полное
погружение человека в смерть.
Причину заката древнегреческой трагедии Ницше усматривал в том, что уже в
пьесах Еврипида появилась идея диалектического развития как следствие
сократовского рационализма и веры в мощь науки. Сократ стал для Ницше символом
реальной потенции духа с магическим воздействием. Вместе с тем Ницше твердо
верил в то, что и наука имеет свои пределы. В исследовании отдельных явлений она,
по его мнению, в конце концов непременно натыкается на то первоначало, которое
уже невозможно познать рационально. И тогда наука переходит в искусство, а ее
методы - в инстинкты жизни. Так что искусство неизбежно корректирует и дополняет
науку. Это положение стало краеугольным камнем основ "философии жизни" Ницше.
Такое противоречивое переплетение характерно не только для книги, но и, что не
менее существенно, для самого автора. Не случайно в январе 1870 г. Ницше в письме
к Роде писал: "Наука, искусство и философия столь тесно переплелись во мне, что в
любом случае мне придется однажды родить кентавра"15.
Кентавром этим и стало "Рождение трагедии" - прощальная песнь филологии,
встреченная коллегами явно прохладно16. Критики, и прежде всего один из наиболее
известных в будущем специалистов по античной литературе У. фон Виламовиц-
Мё л ленд орф, уловили, что Ницше действительно рассматривал "филологию как
выкидыш Богини Философии, зачатый совместно с каким-то идиотом или кретином"17.
Более того, "Рождение трагедии" имело зашифрованный смысл: под камуфляжем
темы отношения Шопенгауэра и Вагнера к эллинству скрывалось главное -
отношения эллинства и христианства, причем Дионис представлял языческую
потенцию Христа, а древняя Греция являла собой своего рода трамплин для прыжка в
современность, для сильного удара по церковному, по существу, антихристианскому
тоталитаризму.
В январе - марте 1872 г. Ницше выступил с серией публичных докладов
"О будущности наших учебных заведений", имея в виду не столько швейцарские,
сколько прусские гимназии и университеты. Там впервые прозвучала одна из главных
идей Ницше - необходимость воспитания истинной аристократии духа, элиты
общества. Его ужасала тенденция к расширению и демократизации образования. Он
указывал, что "всеобщее образование - это пролог коммунизма. Таким путем
образование будет ослаблено настолько, что не сможет более давать никаких
привилегий"18. По Ницше, прагматизм должен присутствовать не в классических
гимназиях, а в реальных школах, честно обещающих дать практически полезные
знания, а вовсе не какое-то "образование".
К весне 1873 г. между Ницше и Вагнером, год назад переехавшим в Байрейт и
занятым организацией знаменитых в будущем музыкальных фестивалей, этого
удивительного сплава высокого духовного искусства и трезвого финансового расчета,
наметилось пока еще едва заметное охлаждение. Чете Вагнеров были не по душе
15 Nietzsche F. Samtliche Briefe. Kritische Studienausgabe, Bd. 1-8. Mdnchen, 1986; Bd. 3, S. 95.
16 Материалы полемики см.: Der Streit um Nietzsches Geburt der Tragodie. Hrsg. von К. Grilnder. Hildesheim,
1969.
17 Nietzsche F. Samtliche Briefe, Bd. 2, S. 329.
18 Nietzsche F. Weike in 16(20) Banden, Bd. DC, S. 425.
130
растущая Склонность Ницше к полемическому пересмотру моральных устоев
человечества и ’’шокирующая резкость" его суждений.
Вагнер предпочитал видеть в базельском профессоре верного оруженосца,
талантливого и яркого пропагандиста своих собственных воззрений. Но на такую роль
Ницше согласиться не мог: его цель - великий штурм морали и ценностей мира,
уходящего в прошлое, и поиск новых ориентиров. Но пока Ницше еще не терял
надежды, что Байрейт станет источником возрождения европейской культуры. Он
задумал серию памфлетов, смысл которых изложен в письме к Роде в марте 1874 г.:
"Для меня крайне важно раз и навсегда извергнуть из себя весь полемически
накопившийся во мне негативный материал; сначала я хочу живо пропеть всю гамму
моих неприязней, вверх и вниз, причем таким устрашающим образом, чтобы "стены
задрожали". Позднее, лет через пять, я брошу всякую полемику и примусь за
"хорошую книгу". Но сейчас мне основательно заложило грудь от сплошного
отвращения и подавленности. Будет это прилично или нет, но я должен прочистить
горло, чтобы навсегда покончить с этим"19.
Из примерно 20-24 задуманных удалось написать только четыре эссе под общим
заглавием "Несвоевременные размышления": "Давид Штраус, исповедник и писатель"
(1.873), "О пользе и вреде истории для жизни" (1874), "Шопенгауэр как воспитатель"
(1874) и "Рихард Вагнер в Байрейте" (1875-1876).
В этих размышлениях Ницше выступил страстным защитником немецкой культуры,
бичевавшим филистерстдо и победоносное опьянение после создания империи.
Сомнение Ницше, родится ли из победы Германии и ее политического объединения
блестящая культура, звучало раздражающим диссонансом на фоне бравурного грохота
литавр, возвещавших эру расцвета культуры, как произошло это с древними греками
после окончания персидских войн во времена Перикла. В статье "Господин Фридрих
Ницше и немецкая культура" лейпцигская газета объявила его "врагом Империи и
агентом Интернационала"2". Поистине, трудно представить что-либо более комичное,
нежели последнее обвинение, но после этого в Германии стали замалчивать Ницше.
Тем более, что как раз в то время, когда немецкая историческая наука становилась
образцом в Европе и переживала период подъема, (Ницше резко выступил против
преклонения перед историей как слепой силой фактов. В прошлом он видел лишь
бремя, отягощавшее память, не дававшее жить в настоящем. А между тем прошлого
нужно ровно столько, сколько требуется для свершения настоящего. В этом Ницше
явно шел по стопам Гёте, сказавшего однажды: "Лучшее, что мы имеем от истории, -
возбуждаемый ею энтузиазм"21.
Ницше различал три рода истории -. монументальный, антикварный и критический.
История первого рода, по его мнению, черпает из прошлого примеры великого и
возвышенного. Она учит, что если великое уже существовало в прошлом хотя бы
однажды, то оно может повториться и еще когда-нибудь. Поэтому монументальная
история служит источником человеческого мужества и вдохновения, источником
великих побуждений. Опасность же ее Ницше видел в том, что при таком подходе
забвению предаются целые эпохи, образующие как бы серый однообразный поток,
среди которого вершинами возносятся отдельные разукрашенные факты.
Антикварная история охраняет и почитает все прошлое, ибо оно освящено
традициями. Она по своей природе консервативна и отвергает все, что не
преклоняется перед прошлым, отметает все новое и устремленное в будущее. Когда
современность перестает одухотворять историю, антикварный род вырождается в
слепую страсть к собиранию все большего и большего числа фактов, погребающих
под собой настоящее.
Поэтому Ницше выше других ставил критическую историю, которая привлекает
19 Nietzsche F. SSmtliche Briefe, Bd. 4, S. 210-211.
20 Grenzboten, 17.X.1873.
21 Goethe J.W. Naturwissenschaftliche Schriflen, Bd. 5. Domach, 1982, S. 489.
5* 131
прошлое на суд и выносит ему приговор от имени самой жизни как темной и влекущей
за собой силы. Но он сразу предупреждал, что критическая история очень опасна,
поскольку мы продукт прежних поколений, их страстей, ошибок и даже преступлений.
И оторваться от всего этого невозможно.
Все виды истории имеют свое несомненное право на существование. В зависимости
от обстоятельств, целей и потребностей всякий человек и всякий народ нуждаются в
известном знакомстве с каждым из этих видов. Важно лишь то, чтобы история не
заменяла собою жизнь, чтобы прошлое не затмевало настоящего и будущего.
Поэтому слабых людей история подавляет, вынести ее могут только сильные
личности. В этом Ницше видел как пользу, так и вред истории для жизни^
Современную культуру Ницше отвергал потому, что она, с его точки зрения, не
сознает своего назначения вырабатывать гениев. Низкие меркантильные интересы,
холодный научный рационализм, стремление государства руководить культурой - все
это ведет ее к упадку и кризису. Между тем путь к истинной культуре, определяемой
Ницше как “единство художественного стиля во всех проявлениях жизни народа”22,
лежит через выработку в нас и вне нас философа, художника и святого, идеальное
сочетание которых Ницше находил в Шопенгауэре и Вагнере.
И новый парадокс. Панегирик Вагнеру в четвертом “Несвоевременном" - это и
отречение от него, и прощание с ним, лебединая песня “вагнерщины и героического
германизма”. Разрыв этот открывал перспективу абсолютного одиночества, ибо, по
словам самого Ницше, “у меня не было никого, кроме Рихарда Вагнера”23. В сферу
пересмотра втягивается и Шопенгауэр. Наступил короткий период позитивистского
перерождения Ницше, прилежание ремесленника стало выше природной одаренности,
наука - выше искусства, целью культуры стало уже не сотворение художественного
гения, а познание истины.
Период этот совпал со столь резким ухудшением здоровья, что Ницше в октябре
1876 г. получил годичный отпуск для лечения и отдыха. Проводя это время на
курортах Швейцарии и Италии, он урывками работал над новой книгой, составленной
в форме афоризмов, ставшей обычной для последующих сочинений Ницше. Причина
заключалась не только в том, что из-за постоянных приступов и полуслепоты он мог
лишь записывать отдельные мысли или набрасывать фрагменты. Дело в оригинальном
образе мышления Ницше, чуждом традиционной систематики, свободном и
музыкальном. Он всегда если не поэт, то чародей формы, столь богатой жанрово¬
тематическими переплетениями, что его афоризмы необычайно многослойны. Они не
фиксируют строго очерченную мысль, а скорее, нюансируют все, что приходит на ум,
предлагают не жесткую формулу, а широкое поле для осторожного обдумывания
всего предполагаемого. По словам принстонского профессора В. Кауфмана, “в одном и
том же разделе Ницше нередко занят этикой, эстетикой, философией истории,
теорией ценностей, психологией и, быть может, еще полудюжиной других областей.
Поэтому усилия издателей Ницше систематизировать его записи должны были
потерпеть неудачу”24.
Именно поэтому невозможно изложить философию Ницше, нельзя сделать то, что
не позволял себе он сам, ибо домыслы приведут лишь к тому, что свои интерпретации
будут выдаваться за его мысли. Все эти интерпретации, а их великое множество, на
самом деле - произвольные выдергивания и систематизация кусков из всего корпуса
сочинений Ницше. Интерпретации эти, разумеется, не бесполезны; одни внешне
убедительны, другие - не слишком, но все они неполны и односторонни, все они
рискуют оказаться ошибочными и несостоятельными. Поэтому лучшее, что можно
сделать, - это не увлекаться блестящими фразами, бросающимися в глаза, а
постараться очертить главные координаты мысли Ницше, не забывая при этом, что
22 Nietzsche F. Werke in 3 Banden, Bd. 1. Munchen, 1982, S. 140.
23 Ibid., Bd. 2, S. 1054.
^Kaufmann W. Nietzsche: Philosoph, Psychologe, Antichrist.2 Aufl. Darmstadt, 1988, S. 88.
132
они выступают независимо друг от друга, а попытки втиснуть их в жесткий корсет
вроде '‘философии жизни”, "волюнтаризма”, "иррационализма” заведомо обречены на
провал, что и надо честно признать заранее.
ПИРШЕСТВО МЫСЛИ
Бомба с позитивистским зарядом взорвалась в мае 1878 г. публикацией новой книги
Ницше "Человечество, слишком человеческое” с шокирующим подзаголовком "Книга
для свободных умов”. В ней автор публично и без особых церемоний порвал с
прошлым и его ценностями: эллинством, христианством, Шопенгауэром, Вагнером.
Такой неожиданный поворот вряд ли можно сводить к двум наиболее распро¬
страненным версиям. Первая объясняет его обычной завистью неудавшегося
музыканта к Вагнеру, однажды довольно пренебрежительно отозвавшемуся об одной
из музыкальных композиций Ницше. Вторая версия усматривает причину в
воздействии на Ницше его "злого демона” - философа и психолога Пауля Рэ (1849-
1901), с которым Ницше тесно сдружился, живя в Сорренто.
Несомненно, дружба с Рэ сыграла известную роль в переломе ницшевского
мировоззрения, но Ницше уже до этого знакомства явно охладел к вагнерианству и
метафизике немецкого идеализма. В Пауле Рэ он нашел не вдохновителя, а
единомышленника. Не случайно на подаренной Ницше книге "Происхождение
моральных чувств”, вышедшей за год до "Человеческого”, Рэ написал: "Отцу этой
книги с благодарностью от ее матери". Так что влияние бесспорно, но влияние
обоюдное.
Оторопевшие от измены Ницше почитатели Вагнера онемели от ярости, а в
августе 1878 г. сам маэстро разразился крайне агрессивной и злобной статьей
"Публика и популярность". Имя Ницше в ней не называлось, но явно подразуме¬
валось. Его книга расценивалась как следствие болезни, а блестящие афоризмы - как
ничтожные в интеллектуальном плане и прискорбные в моральном. Зато очень высоко
отозвался о книге Якоб Буркхардт, сказавший, что она "увеличила независимость в
мире"25. Аристократически мыслящему Буркхардту, поклоннику Ренессанса и певцу
индивидуальности личности, не могло не импонировать предостережение Ницше
против социализма, который /жаждет такой полноты государственной власти, какою
обладал только самый крайний деспотизм, и он даже превосходит все прошлое тем,
что стремится к формальному уничтожению личности; последняя представляется ему
неправомерной роскошью природы, и он хочет реформировать ее, превратив в
целесообразный орган коллектива"26.
Предупреждал Ницше и о тех опасностях, которые порождает насильственный
социальный переворот. Он "хотя и может быть источником силы в ослабевшем
человечестве, но никогда не бывает гармонизатором, строителем, художником,
завершителем человеческой природы"27.
Новый, 1879 г. принес Ницше неимоверные физические страдания: почти
каждодневные приступы болезни, непрерывная рвота, частые обмороки, резкое
ухудшение зрения. Продолжать преподавание он был не в силах, и в июне Ницше
получил по его прошению отставку с назначением ежегодной пенсии в 3 тыс. франков.
Он уехал из Базеля в Сильс-Марию, в долину Верхнего Энгадина - тихое местечко с
густым хвойным лесом и маленькими голубыми озерами. Сгорбившийся, разбитый и
постаревший лет на 10 полуслепой инвалид, хотя ему не исполнилось еще и 35 лет.
В жизни Ницше началась полоса бесконечных скитаний: летом по Швейцарии,
зимой до Северной Италии. Скромные дешевые пансионаты в Альпах или на
Лигурийском побережье; убого меблированные холодные комнаты, где он часами
25 Nietzsche F. S amt Liche Briefe, Bd. 5, S. 329.
26 Ницше Ф. Соч. в 2-х т. М., 1990; т. 1, с. 446.
27 Там же, с. 440.
133
писал, почти прижавшись двойными очками к листу бумаги, пока воспаленные глаза не
отказывали; редкие одинокие прогулки; спасавшие от бессонницы ужасные средства -
хлорал, веронал и, возможно, индийская конопля; постоянные головные боли; частые
желудочные судороги и рвотные спазмы - 10 лет длилось это мучительное
существование одного из величайших умов человечества.
Но и в тот ужасный 1879 г. он создал новые книги: "Пестрые мысли и изречения",
"Странник и его тень". А в следующем, 1880 г. появилась "Утренняя заря", где
сформулировано одно из краеугольных понятий ницшевской этики - "нравственность
нравов".
Вначале Ницше проанализировал связь падения нравственности с ростом свободы
человека. Он полагал, что свободный человек "хочет во всем зависеть от самого себя,
а не от какой-либо традиции". Последнюю он считал "высшим авторитетом, которому
повинуются не оттого, что он велит нам полезное, а оттого, что он вообще велит". А
отсюда следовало еще пока не высказанное, но уже прочерченное отношение к
морали как к чему-то относительному, так как поступок, нарушающий сложившуюся
традицию, всегда выглядит безнравственным, даже и в том случае, если в его основе
лежат мотивы, "сами положившие начало традиции"28.
"Утренняя заря" успеха почти не имела. Непривычное построение книги, более
полутысячи вроде бы никак не связанных друг с другом афоризмов могли вызвать
только недоумение, а немецкая читающая публика, привыкшая к логичной и
педантичной последовательности философских трактатов, была просто не в состоянии
одолеть это странное произведение, а уж тем более понять его.
Как продолжение "Утренней зари" зимой 1881-1882 г. Ницше написал в Генуе
"Веселую науку", выходившую позже несколькими изданиями с дополнениями.
С этого сочинения началось новое измерение мысли Ницше, невиданное никогда
прежде отношение к тысячелетней европейской истории, культуре и морали как к
личной своей проблеме: "Я вобрал в себя дух Европы - теперь я хочу нанести
контрудар"29. Но столь интимная сопереживаемость с историей не могла обернуться
ни чем иным, как "отравлением стрелой познания" и "ясновидением"30, а сам Ницше -
"полем битвы"31. Легко пожать плечами при этом признании, полагая, что оно было
высказано человеком, страдающим манией величия. Труднее признать как
непреложную данность поразительнейший дар Ницше жить в возвышенном мире и не
воспринимать это как "нечто фальшивое и жуткое"32.
Особенно впечатляют два фрагмента "Веселой науки" - "Безумный человек" и
"Величайшая тяжесть". /В первом возникает тема "смерти Бога", образ которого
увенчан в многочисленных надгробиях и церквах, разбросанных по всей Земле33.
Диагноз Ницше фиксирует глубинную ситуацию эпохи, когда сверхчувственный мир
лишается своей действенной силы будить и созидать. Отныне человек вступает в эру
совершеннолетия, теперь он предоставлен самому себе. Авторитет Бога и церкви
исчезает, но на их место приходит авторитет совести, авторитет рвущегося на
освободившееся место разума. Сверхчувственный мир идеалов умирает, но творческое
начало - прерогатива библейского Бога - переходит в человеческую деятельность. Но
коль скоро этот сверхчувственный мир начиная с Платона, вернее с христианского
толкования его учения, трактуется как мир подлинный, то его гибель означает для
Ницше конец всей предыдущей западной философии в лице метафизики или
платонизма. Ее заменяет "веселая наука" Ницше, открывающая "ужасные истины".
Второй фрагмент в общих чертах намечает развитую позднее идею "вечного
28 Nietzsche F. Werke in 3 Banden, Bd. 1. Munchen, 1982, S. 1019.
29 Nietzsche F. Schriften und Entwiirfe 1876-1880. - Werke. Hrsg. von F. Koegel, Bd. II. Leipzig, 1897, S. 389.
30 Ibid., S. 153.
31 Nietzsche F. Samtliche Briefe, Bd. 6, S. 230.
^Nietzsche F. Schriften und Entwiirfe 1881-1885. - Werke, Hrsg. von F. Koegel, Bd. 12. Leipzig, 1897, S. 363.
33 Nietzsche F. Samtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Bd. 1-5. Hrsg. von G. Colli und M. Montinari, Bd.
3. Miinchen-Berlin, 1988, S. 482.
134
возвращения". Неверно усматривать в этой концепции нечто мистическое. Наоборот:
она происходит от естественнонаучных позитивистских посылок, представленных, в
частности, Ойгеном Дюрингом в книге "Курс философии" (1875), которую внимательно
изучал Ницше.
Дюринг высказал мысль, что Вселенную в принципе можно было бы представить в
любой момент в виде комбинации элементарных частиц. Тогда мировой процесс будет
калейдоскопом их различных комбинаций, число которых имеет предел. А это
означает, что после завершения последней комбинации может вновь складываться
первая. Следовательно, мировой процесс - не что иное, как циклическое повторение
однажды уже бывшего. Дюринг как позитивист отвергал такую гипотезу, считая
количество комбинаций уходящим в "дурную бесконечность" (выражение Гегеля).
Однако эта идея глубоко поразила Ницше.
Ницше вслед за Дюрингом исходит из того, что в основе бытия лежит некое
определенное количество квантов силы, понимаемых не физически, а биологически.
Кванты эти, подобно объективациям воли в философии Шопенгауэра, находятся в
постоянной борьбе друг с другом, образуя при этом отдельные сочетания. А так как
число квантов постоянно, то периодически должны складываться комбинации, уже
бывшие когда-то прежде: "Все становление имеет место только в рамках вечного
круговращения и постоянного количества силы"34. Таким образом, бытие в том виде,
в каком оно существует, не имеет цели и смысла, оно неумолимо вновь и вновь
повторяется, никогда не переходя в небытие - неизбежный вечный круговорот и
вечное возвращение35. Но, следовательно, повторяется и человек, а значит, никакой
потусторонней небесной жизни в природе не существует и каждое мгновение вечно,
поскольку неизбежно возвращается.
МОЙ СЫН ЗАРАТУСТРА
Мысль о вечном возвращении настолько глубоко захватила Ницше, что он в
необыкновенно короткое время (всего за несколько месяцев) создал величественную
дифирамбическую поэму ’Так говорил Заратустра". Он писал ее в феврале и в конце
июня - начале июля 1883 г. в Рапалло и в феврале 1884 г. в Сильсе. Через год Ницше
создал четвертую часть поэмы, столь лично-интимную, что вышла она всего в 40
экземплярах за счет автора для близких друзей. Из этого числа Ницше подарил
только семь, ибо больше дарить было некому. Непостижимо чужд стал Ницше эпохе.
Горько читать его письма, в которых он робко извиняется за просьбу ознакомиться с
его книгой. Не успеха, не славы, даже не простого человеческого сочувствия ждал он:
он надеялся найти хоть какой-нибудь отклик на сжигающие его мысли. И все
напрасно! Даже самые близкие люди - сестра, Овербек, Роде, Буркхардт - избегали в
ответных письмах всяких суждений, словно тягостной повинности, настолько
непонятны им были боль и страдания его лихорадочного разума.
Время работы над "Заратустрой" - один из тяжелейших периодов в жизни Ницше.
В феврале 1883 г. в Венеции скончался Рихард Вагнер. Тогда же Ницше пережил
серьезную размолвку с матерью и сестрой, возмущенными его намерением жениться
на Лу Андреас-Саломе (1861-1937), в будущем известной писательнице, авторе
биографий Р.М. Рильке и 3. Фрейда, которую они считали "совершенно аморальной и
непристойной особой". Тяжело пережил Ницше и помолвку сестры с учителем
гимназии Бернхардом Фёрстером, вагнерианцем и антисемитом. В апреле 1884 г.
Ницше писал Овербеку: "Проклятое антисемитство стало причиной радикального
разрыва между мною и моей сестрой"36.
"Заратустра" занимает исключительное место в творчестве Ницше. Именно с этой
34 Nietzsche F. Werke in 16(20) Banden, Bd. XII, S. 61.
35 Ibid., Bd. XV, S. 182.
36 Nietzsche F. S amt liche Briefe, Bd. 6, S. 491.
135
книги в его умонастроении происходит резкий поворот к самоосознанию в себе
человека-рока. Но вряд ли следует считать, что эта поэма означает начало третьего,
уже собственно "ницшеанского” этапа его творчества, ибо ’’Заратустра" вообще стоит
особняком в творчестве Ницше. Эта необыкновенная музыкально-философская книга
вообще не укладывается в привычные каноны анализа. Ее органическая
музыкальность требует не столько осмысления, сколько сопереживания. Справедливо
замечает доктор философских наук К.А. Свасьян, автор предисловия и составитель
двухтомного собрания сочинений Ницше, что эта книга ставит "перед читателем
странное условие: понимать не ее, а ею"37. Добавим к этому, что "Заратустра"
практически не переводима с немецкого на другие языки, как не переводим, например,
волшебник языка Гоголь. Необычайная игра слов, россыпи неологизмов, сплошная
эквилибристика звуковых сочетаний, ритмичность, требующая не молчаливого чтения,
а декламации. Неповторимое произведение, аналог которому вряд ли сыщется в
мировой литературе.
Книга содержит необычайно большое число полускрытых ядовитых пародий
на Библию, а также лукавые выпады в адрес Шекспира, Лютера, Гомера,
Гёте, Вагнера и т.д., и т.п. На многие шедевры этих авторов Ницше дает паро¬
дии с одной-единственной целью: показать, что человек - это еще бесформен¬
ная масса, материал, требующий талантливого ваятеля для своего облагоражи¬
вания.
Только так человечество превзойдет самого себя и перейдет в иное, высшее
качество - появится сверхчеловек. Ницше закончил первую часть "Заратустры"
словами: "Мертвы все боги; теперь мы хотим, чтобы здравствовал сверхчеловек"38.
Известно, какой кровавый след оставили в истории нелюди, возомнившие себя
сверхчеловеками. Но виновен ли в этом Ницше? Ни в коем случае. Его сверхчеловек
- результат культурно-духовного совершенствования человека, тип, настолько
превосходящий современного Ницше человека по своим интеллектуально-моральным
качествам, что он образует как бы новый и особый биологический тип. Аргументы
сверхчеловека не пистолет и дубинка: они сводятся к осознанию необходимости того,
чтобы человек возносился над прежним уровнем не ради произвола и господства над
другими, а ради нового бытия, к которому нынешний человек по сути своей еще
просто не готов.
Не случайно, не красного словца ради поставил Ницше появление сверхчеловека в
зависимость от смерти богов. На первый взгляд, кажется, что Ницше помещает
человека на опустевшее место Бога. Но это не так. Если Бог мертв, то его место так
и остается пустым, и не созидание, а только господство над сущим в виде господства
над Землей переходит к сверхчеловеку будущего.
Сверхчеловек - это не вождь, возвышающийся над массой людей, не фюрер, не
дуче, не каудильо, не генеральный секретарь, как это, может быть, кое-кому
хотелось бы думать. Это нравственный образ, означающий высшую степень
духовного расцвета человечества, олицетворение тех новых моральных идеалов,
любовь к которым Ницше стремился сделать главным нравственным устремлением
человечества.
Очень просто возмутиться идеей сверхчеловека, но непозволительно представлять
это возмущение, возможно и понятное, как опровержение Ницше. Он мыслил
появление сверхчеловека как долгий процесс величайших самопреодолений, как
великое торжество духовной природы человека, а не индульгенцию буйствующему
произволу хамов39.
Другое заблуждение, вытекающее из неверного толкования сверхчеловека у
Ницше, заключается в том, что Ницше объявляют философом одной ключевой
37 Ницше Ф. Соч., т. 2, с. 771.
38 Nietzsche F. Samtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Bd. 4, S. 102.
39 Глубокий анализ понятия ’’сверхчеловек" у Ницше дан М. Хайдеггером: См.: Heidegger М. Op. cit.
136
общественной проблемы - "поддержания господства власть имущих, борьбы с
восстаниями порабощенных"40.
Действительно, господство знати - одна из главных основ общественно-морального
идеала Ницше. Но нам прежде всего надо уяснить, что вкладывает Ницше в понятия
"господство" и "знать".
"Господство" Ницше понимал не как политическую или юридическую и, тем более,
не экономическую власть над людьми. Его "господство" относится к сфере духа - это
власть в силу выдающихся духовных качеств, которыми обладающая ими личность
щедро и бескорыстно одаривает других. Недаром Ницше недвусмысленно писал: "Но
ужасом является для нас вырождающееся чувство, которое говорит: "Все для
меня" ”41.
Тогда станет понятно, что "аристократия" в учении Ницше вовсе не равнозначна со¬
циальной власти немногих избранных над массами: во всех его произведениях "знать" и
"чернь" всегда употребляются не как социально-политические, а исключительно как
моральные категории. Общественная иерархия здесь совершенно ни при чем. Не
богатством или бедностью определяются знать и чернь, а величием или
ничтожеством. Величие души - удел немногих, а оно-то и придает смысл самому
существованию человека.
СТРАДАНИЕ ДОБРОМ
Теперь рассмотрим миф о Ницше как об аморальном певце насилия и жестокости.
Смею утверждать, что ни до, ни после Ницше не было такого морального философа.
С моральной меркой он подходил ко всему, вплоть до самого бытия, что может
показаться нелепым до тех пор, пока мы не поймем общий ход его мысли.
Прозвучавшая еще в "Утренней заре" критика морали подводила человечество к
осознанию "великого полдня", к моменту высшего самосознания, к той новой морали,
которая так необычна, так высоко возносится над общепринятой, что кажется
аморальностью.
То, против чего протестовал Ницше, - это идея долга в морали. Она не может
быть не чем иным, как принуждением, обязанностью. А так как моральное
принуждение исходит из собственного "я", то психологически оно более чувствительно,
нежели принуждение внешнее. Потому-то Ницше так восставал против морального
принуждения, основанного на страхе наказания, общественного осуждения либо на
расчете на награду:
"Вы любите вашу добродетель, как мать любит свое дитя; но когда же слыхано
было, чтобы мать хотела платы за свою любовь?..
Пусть ваша добродетель будет вашим Само, а не чем-то посторонним, кожей,
покровом - вот истина из основы вашей души, вы, добродетельные!..
Пусть ваше Само отразится в поступке, как мать отражается в ребенке, - таково
должно быть ваше слово о добродетели!"42
Разве отсюда не ясно, что Ницше настаивал на воспитании таких моральных
качеств, когда должное будет одновременно и желаемым, когда моральные установки
превратятся в индивидуальные потребности, когда исчезнет чувство тягостной
принудительности моральных норм и законов?
Ницше поставил перед человеком труднейшую дилемму: мораль или свобода, ибо
традиционная мораль, окружившая человека колючей проволокой запретов, могла
утвердиться лишь на основе принудительности. Выбор Ницще был в пользу свободы,
но не столько свободы от морали, сколько свободы для морали, новой и истинно
свободной.
40 Штейгер валъд Г. Буржуазная философия и ревизионизм в империалистической Германии. М., 1983,
с. ПО.
41 Ницше Ф. Соч., т. 2, с. 54.
42 Там же, с. 67-68.
137
Праведное негодование вызывают слова Ницше: "Мы должны освободиться от
морали../' Услыхавшие их в ужасе зажимают свои уши и не внемлют продолжению
фразы: "...чтобы суметь жить морально"43.
Или коснемся приписываемой Ницше жестокости, которую выводят обычно из
донельзя затертой высказанной им формулы "падающего подтолкни". Но искажен
здесь не только смысл, а и сама фраза. Вот она: "О братья мои, разве я жесток? Но я
говорю: что падает, то нужно еще и толкнуть!
Все, что от сегодня, - падает и распадается: кто захотел бы удержать его? Но я - я
хочу еще толкнуть его!..
И кого вы не научите летать, того научите - быстрее падать!"44
Разве не следует отсюда, что речь идет не об отношениях между людьми, а о
падении эпох, государств, народов, нравов? А кто возразит против того, что все
отмирающее в истории, все, что становится нежизнеспособным, загнивающим, должно
кануть в небытие? И в этом ему надо помочь, надо подтолкнуть его к пропасти, иначе
процесс тления может тянуться годами и столетиями. Возможно, что элемент
жестокости по отношению к гибнущему присутствует, но жестокость эта необходима
во благо, а потому справедлива. Другое дело, конечно, когда за погибающее
принимают подчас вполне еще жизнеспособное и пытаются его уничтожить. Ни к чему
хорошему это привести не может. Однако Ницше к такому произволу не имеет
никакого отношения.
ПЛЯСКА НАД ПРОПАСТЬЮ
После "Заратустры" все созданное ранее казалось Ницше столь слабым, что у него
возник химерический замысел переписать прежние работы. Но из-за своей физической
слабости он ограничился лишь новыми великолепными предисловиями почти ко всём
вышедшим своим книгам. А вместо ревизии прошлого произошло обратное: Ницше
написал зимой 1885-1886 г. "прелюдию к философии будущего", книгу "По ту сторону
добра и зла", по его словам, "ужасную книгу", проистекшую на сей раз из моей души,
- очень черную"45 46. Ницше прекрасно понимал, что перешел за некую грань и стал
чем-то вроде интеллектуального диссидента, бросившего вызов лжи тысячелетий.
Именно здесь он, убежденный в том, что в человеке тварь и творец слились воедино,
разрушает в себе тварь, чтобы спасти творца. Но закончился этот кошмарный
эксперимент тем, что разрушенной оказалась не только тварь, но и разум творца.
Посылая Овербеку экземпляр с дарственной надписью, Ницше писал: "И все же,
старый друг, просьба: прочти ее всю и воздержись от горечи и осуждения... если книга
окажется тебе невмоготу, то, возможно, это не коснется сотни частностей. Может,
она послужит разъяснению в чем-то моего Заратустры, который потому и является
непонятной книгой, что восходит весь к переживаниям, не разделяемым мною ни с
кем. Если бы я мог высказать тебе мое чувство одиночества. Ни среди живых, ни
среди мертвых нет у меня никого, с кем я бы чувствовал родство. Неописуемо жутко
это"4**.
К сожалению, непонятой и непонятной осталась и книга "По ту сторону добра и
зла", изданная за счет скромных средств автора. К лету следующего года было
продано всего 114 экземпляров. Отмалчивались друзья - Роде и Овербек; Буркхардт
ответил вежливым письмом с благодарностью за книгу и чисто формальным
комплиментом, явно вымученным.
Отчаявшийся Ницше в августе 1886 г. послал книгу датскому литературному
критику Георгу Брандесу и известному французскому историку и литературоведу
43 Nietzsche F. Nachgelassene Werke, Bd. 13. Leipzig, 1904, S. 124.
44 Нищие Ф. Соч., т. 2, с. 151.
45 Nietzsche F. Samtliche Briefe, Bd. 7, S. 181.
46 Ibid., S. 223.
138
Ипполиту Тэну. Первый ничего не ответил, а Тэн отозвался необычайно похвально,
пролив бальзам на душу Ницше. А между тем именно в книге "По ту сторону добра и
зла", как ни в какой другой, {1ицше обнаружил удивительную проницательность,
предсказав катастрофические процессы будущего.
Он размышлял о распаде европейской духовности, низвержении прошлых ценностей
и норм, восстании масс и создании для их оболванивания и обслуживания чудовищной
массовой культуры, унификации людей под покровом их мнимого равенства, начале
борьбы за господство над всем земным шаром, попытках выращивания новой расы
господ, тиранических режимах как порождении демократических систем. Темы эти
будут подхвачены и развиты, только более сухо и тяжеловесно, крупнейшими
философскими умами XX в. - Эд. Гуссерлем, М. Шелером, О. Шпенглером,
X. Ортегой-Гассетом, М. Хайдеггером, К. Ясперсом, А. Камю.
Ницше затронул здесь и проблему двойной морали - господ и рабов. Но сколь
извращен его взгляд в расхожих представлениях, постоянно подпитываемых теми, кто
не удосужился вдуматься в эту проблему или просто не в состоянии этого сделать!
Ведь Ницше никоим образом не пропагандировал идею о том, что для власть
имущих должна быть одна мораль, а для подчиненных масс - другая. Он просто
констатировал это как реальный факт, но сам писал о другом - о двух типах одной
морали, существующих "даже в одном и том же человеке, в одной душе"47. Различия
этих типов определяются различием моральных ценностей. Для морали господ
характерна высокая степень самоуважения, возвышенное, гордое состояние души,
ради которого можно пожертвовать и богатством, и самой жизнью. Мораль рабов,
напротив, есть мораль полезности. Малодушный, мелочный, унижающийся человек, с
покорностью выносящий дурное обхождение ради своей выгоды - вот представитель
морали рабов, на какой бы высокой ступени социальной лестницы он ни находился.
Рабская мораль жаждет мелкого счастья и наслаждения; строгость и суровость по
отношению к самому себе - основа морали господ.
Именно в связи с книгой "По ту сторону добра и зла" появляется представление о
Ницше как о "динамите". Такую метафору употребил швейцарский критик И. Видман
в статье "Опасная книга Ницше", правильно уловивший ее взрывную мощь, которая
"может послужить весьма полезному делу; вовсе не следует, что ею необходимо
злоупотреблять в преступных целях. Следовало бы лишь отчетливо сказать там, где
хранится подобное вещество: "Это динамит!"... Ницше - первый, кто знает выход из
положения, но выход столь страшный, что это поистине ужасает - видеть его
бредущим по не проторенной еще одинокой тропе"48.
Чтобы избежать кривотолков вокруг книги, Ницше за три июльские недели 1887 г.
написал как дополнение к ней полемическое сочинение "К генеалогии морали",
изданное, кстати, также за его счет. В нем он поставил три основные проблемы:
аскетические идеалы, способные придать смысл человеческому существованию; "вина"
и "нечистая совесть" как инстинктивные источники агрессивности и жестокости;
наконец, ключевое понятие движущей силы в структурировании ценностей морали -
ressentiment49. Ницше употребил здесь французское слово, поскольку ему нет аналога
в немецком (как, кстати, и в русском языке). В общем плане это понятие
характеризует атмосферу неопределенной враждебности, ненависти и озлобления, но
не самих по себе, а только вкупе с чувством бессилия, порождаемым несоответствием
между внутренними притязаниями и фактическим положением человека в обществе.
Явление это могло возникнуть только в новое время, когда принцип средневековой
сословной регламентации, при которой человек осознавал свое место в данной
социальной микроструктуре и не сравнивал себя с представителем иного сословия, был
47 Ницше Ф. Соч., т. 2, с. 381.
4& Chronik zu Nietzsches Leben. - Samtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Bd. 15, S. 161.
49 Анализ этой проблемы прекрасно дан М. Шелером. См.: Scheier М. Vom Ressentiment in Aufbau der
Moralen. - Abhandlungen und Aufsatze, Bd. 1. Leipzig, 1915.
139
отброшен и заменен принципом эгалитаризма и формально равной конкуренции. Тогда-
то и возникло это психологическое состояние, при котором усилилось недовольство
человека своим положением в иерархии ценностей и был сформирован стереотип
неадекватных притязаний. Именно поэтому небольшая книжка Ницше дала велико¬
лепный ключ к пониманию психологического типа революционера-экстремиста, куда
более ценный, чем увесистые историко-социологические трактаты ученых мужей.
Позднее Макс Вебер блестяще использовал это понятие при анализе хозяйственной
этики мировых религий, а Вернер Зомбарт - в исследовании пролетарского
социализма.
НА ПОРОГЕ ТЬМЫ
В Ницце осенью 1887 г. Ницше приступил к первым наброскам задуманного им
"главного сочинения" всей жизни. Всего он записал 372 заметки, поделенные на
четыре раздела: европейский нигилизм, критика высших ценностей, принцип новой
оценки, дисциплина и подбор. Это действительно не отделанные и не отшлифованные
заметки, и не искрящиеся афоризмы, к которым привыкли его читатели. Собранные
затем сестрой и ее сотрудниками по "Архиву Ницше” из 5 тыс. листов рукописного
наследия философа заметки я составили одну из наиболее нашумевших его книг "Воля
к власти", хотя сам Ницше за ее содержание и смысл ответственности, как
выяснилось, не несет. Составители произвольно поместили туда не только упомянутые
заметки, но и множество других, так что общее их число перевалило за тысячу и
существенно исказило общую модальность задуманного сочинения.
В апреле 1888 г. в Ницце стало слишком жарко, яркое весеннее солнце начало
болезненно действовать на больные глаза Ницше. Пришлось снова поменять место, и
он отправился в климатически более подходящий Турин.
Ранним утром 2 апреля Ницше сел в поезд "Ривьера" и навсегда покинул Ниццу.
Чтобы попасть в Турин, следовало сделать пересадку в Савойе. Но Ницше по ошибке
сел в поезд, идущий в Геную, тогда как его багаж, состоявший в основном из
рукописей, покатил к месту назначения - в Турин. Чувствительный и легко
возбудимый Ницше тяжело перенес досадное недоразумение. В пригороде Генуи он
провел в гостинице два дня, совершенно разбитый и измученный. Лишь 5 апреля он
наконец приехал в Турин.
В это же время произошла странная история, связанная с датским литературным
критиком Г. Брандесом, с которым Ницше дружил. Именно он ввел в духовный мир
скандинавских стран философию Ницше, оказавшую заметное влияние на знаменитых
писателей Августа Стриндберга и Кнута Гамсуна.
Внимательно прочитав присланные ему издателем Фричем книги Ницше, Брандес
пришел в ужас от того, что никто в Скандинавии не знает столь великого мыслителя,
и начал готовить курс лекций о его философии для Копенгагенского университета.
Брандес попросил Ницше прислать ему свою биографию и одну из последних
фотографий, ибо внешность человека зачастую позволяет лучше понять и его
внутренний мир. Тут и началась непонятная история, ставшая, возможно, одним из
первых проявлений душевного расстройства Ницше.
Посланная Брандесу автобиография пестрила вымышленными событиями, вплоть
до того, что Ницше уверял, будто его первое и настоящее имя - Густав-Адольф.
Значительная часть автобиографии была посвящена физическому самочувствию
Ницше и настойчивому желанию уверить Брандеса в том, что у него никогда не
бывало симптомов душевного расстройства. В то же время он ничего не написал о
своих произведениях, хотя Брандеса интересовало именно это. Он специально просил
Ницше написать не просто о жизни, но как можно подробнее о своем творчестве и
дальнейших планах.
Странностями сопровождалась и просьба Брандеса прислать фотографию. Только
через три недели Ницше написал матери в Наумбург и попросил ее отправить
140
Брандесу любую из его лучших фотографий, если она даже окажется единственной.
Тем временем Брандес, уже пославший Ницше свое фото, упрекал его в
медлительности и удивлялся, что тот не найдет пяти минут, чтобы посетить
фотоателье. Но Ницше вновь переадресовал эту просьбу матери, явно не желая
фотографироваться.
Лекции Брандеса, посвященные творчеству Ницше, пользовались в Копенгагенском
университете большой популярностью и собирали более 300 слушателей. Ницше был
чрезвычайно доволен этим, но к чувству радости примешивался налет досады от того,
что его признают в Дании, а в Германии, на его родине, поклоняются другим кумирам,
прежде всего Рихарду Вагнеру.
Уязвленный Ницше задумал написать памфлет "Казус Вагнер". Это была
тщательно продуманная, блестяще написанная работа, пропитанная ядовитым и
уничтожающим сарказмом.
Прежде всего Ницше отметил болезненный характер музыки Вагнера: "Вагнер -
художник декаданса... Я далек от того, чтобы безмятежно созерцать, как этот
декадент портит нам здоровье - и к тому же музыку! Человек ли вообще Вагнер? Не
болезнь ли он скорее? Он делает больным все, к чему прикасается - он сделал
больною музыку"50.
Ницше утверждал, что Вагнер разработал новую систему музыки лишь потому, что
чувствовал свою неспособность тягаться с классиками. Его музыка просто плоха,
поэтому он прикрывает ее убожество пышностью декораций и величием легенды о
Нибелунгах. С помощью грохота барабанов и воя флейт он стремится заставить всех
остальных композиторов маршировать за собой. Поэтому вагнерианство - форма
проявления идиотизма и раболепия: "Ни вкуса, ни голоса, ни дарования: сцене Вагнера
нужно только одно: германцы... Определение германца: послушание и длинные ноги...
Глубоко символично, что появление и возвышение Вагнера совпадает по времени с
возникновением "империи": оба факта означают одно и то же - послушание и длинные
ноги"51.
Памфлет - итог длительных и мучительных раздумий Ницше над великой
проблемой искусства, под которым он имел в виду прежде всего музыку. У Вагнера
романтизм доходил до своего идеала и предела. Для Ницше романтизм - всего лишь
веха на пути к нигилизму, так же как и христианство. Как раз в то время он записал
знаменитые свои "пять нет": чувству вины; скрытому христианству (перенесенному в
музыку); XVIII в. Руссо с его "природой"; романтизму; "преобладанию стадных
инстинктов"52. Именно тогда, когда Вагнер повернул к прославлению
древнегерманского пантеона богов и немецкого рейха, отношения между ним и Ницше
начали быстро ухудшаться.
Памфлет был напечатан в середине сентября 1888 г., когда Ницше находился еще
в Сильсе. В конце месяца он вновь поехал в Турин, где его самочувствие неожиданно
резко улучшилось: пропали бессонница и головные боли, исчезли мучившие его 15 лет
приступы тошноты. Ницше страстно набросился на работу, совершал ежедневные
прогулки вдоль берега По, много читал. Вечерами отправлялся на концерты или
часами импровизировал в своей комнате на фортепиано. Он чувствовал себя
превосходно, о чем незамедлительно сообщил матери и друзьям.
Но каким же контрастом всему этому выступали некоторые трудно объяснимые
поступки Ницше! Первый из них касался его отношений со старым и добрым
знакомым, гамбургским концертмейстером Хансом фон Бюловом. 10 августа Ницше
послал ему предложение поставить на гамбургской сцене оперу своего друга Петера
Гаста "Венецианские львы", оцененную Ницше гораздо выше произведений Вагнера,
заполонивших оперные подмостки от Петербурга до Монтевидео. Занятый делами,
50 Ницше Ф. Соч., т. 2, с. 534.
51 Там же, с. 546.
^Nietzsche F. Samtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Bd. 12, S. 453-454.
141
Бюлов, который был к тому же директором берлинской филармонии и постоянно
курсировал между Гамбургом и столицей, задержался с ответом. Напрасно прождав
два месяца и потеряв терпение, Ницше, не выяснив причины молчания, написал в
начале октября Бюлову в чрезвычайно резком тоне: "Вы не ответили на мое письмо.
Обещаю Вам, что отныне навсегда оставляю Вас в покое. Я думаю, Вы понимаете,
что это пожелание выразил Вам лучший ум века"53.
Одновременно Ницше пошел на разрыв отношений с писательницей и верной своей
подругой Мальвидой фон Мейзенбуг: он послал ей "Казус Вагнер", прекрасно зная о ее
глубоком восхищении композитором. Словно не подозревая об этом, Ницше попросил
узнать у ее зятя, мужа ее приемной дочери Ольги Герцен, Габриэля Моно, кто мог бы
перевести памфлет на французский язык и напечатать его во Франции.
Получив вежливый и уклончивый ответ, а фактически отказ, Ницше пришел в
ярость и отправил Мейзенбуг подряд два оскорбительных письма: "Эти сегодняшние
людишки с их жалким выродившимся инстинктом должны бы быть счастливы, имея
того, кто в неясных случаях говорит им правду в глаза". Они нуждаются, продолжал
Ницше, "в гении лжи. Я же имею честь быть антиподом - гением истины".
И во втором письме: "В своей жизни Вы разочаровывались почти в каждом; немало
несчастий, в том числе и в моей жизни, идет отсюда... Наконец, Вы осмелились встать
между Вагнером и Ницше! Когда я пишу это, мне стыдно ставить свое имя в таком
соседстве. Итак, Вы даже и не поняли, с каким отвращением я 10 лет назад
отвернулся от Вагнера... Разве Вы не заметили, что я более 10 лет являюсь голосом
совести для немецкой музыки, что я постоянно насаждал честность, истинный вкус,
глубочайшую ненависть к отвратительной сексуальности вагнеровской музыки? Вы не
поняли ни единого моего слова; ничто не поможет в этом, и мы должны внести ясность
в наши отношения - в этом смысле "Казус Вагнер" для меня счастливый казус"54.
В обоих случаях Ницше порвал с окружением Вагнера 70-х годов. Ведь он
познакомился с Мейзенбуг еще в июне 1872 г. на представлении в мюнхенской опере
"Тристана и Изольды" в постановке Бюлова. И разрыв этот глубоко символичен:
Ницше сжег мосты, связывавшие его с прошлым.
В конце 1888 г. Ницше охватила мучительная тревога. С одной стороны, у него все
яснее начинали проступать черты мегаломании: он чувствовал, что близится его
звездный час. В письме к Стриндбергу в декабре 1888 г. Ницше писал: "Я достаточно
силен для того, чтобы расколоть историю человечества на два куска"55. С другой - у
него возрастали сомнения и смутные опасения, что мир никогда не признает его
гениальных пророчеств и не поймет его мыслей, как не поняли его "Казус Вагнер".
В лихорадочной спешке Ницше написал одновременно два произведения - "Сумерки
идолов" и "Антихрист", явно не отделанную первую часть "Переоценки всех
ценностей". Сам Ницше, правда, не хотел пока публиковать последнюю работу,
вынашивая утопическую идею: издать ее одновременно на семи европейских языках
тиражом по 1 млн. на каждом. В свет она вышла только в 1895 г., причем с
многочисленными купюрами.
Ницше подверг резкой критике христианские церкви и тех людей, которые
называли себя христианами, на самом деле не являясь ими. Он противопоставил жизнь
Иисуса трем синоптическим евангелиям, в которых, по его словам, предприняты
первые попытки по созданию системы догм христианства в вопросе негативного
отношения к миру.
Иисус же, по мнению Ницше, вовсе не отвергал мира, не истолковывал его лишь
как преддверие лучшей потусторонней жизни. Только позднейшее искажение его
взглядов последователями и апостолами, особенно Павлом, превратило его учение в
отрицание сего мира. Он не был героем, как считал крупнейший французский
53 Nietzsche F. Samtliche Briefe, Bd. 8, S. 445.
54 Ibid., S. 487.
55 Nietzsche F. S&mtliche Briefe, Bd. 8, S. 509.
142
исследователь Библии Эрнест Ренан, но был, по утверждению Ницше, идиотом.
Причем Ницше употреблял этот термин в его древнегреческом значении idiotes, что
означает святость как нахождение в своем собственном мире. Поэтому вряд ли
допустимо толковать понятие ’’идиот” у Ницше в современном значении “безумец”56.
Ницше восстал против грубых попыток христианской церкви извратить смысл и
цели истинного христианства, которое "не связано ни с одной из наглых догм,
щеголяющих его именем"57. Ложь и обман то, что мы считаем себя христианами, а
живем той жизнью, освобождение от которой проповедовал Христос.
Христианство навязывает жизни воображаемый смысл, препятствуя тем самым
выявлению смысла истинного и заменяя реальные цели идеальными. В мире же, в
котором "Бог мертв" и не существует более моральной тирании, человек остается
одиноким и свободным. Но одновременно он становится и ответственным за все
существующее, ибо, по Ницше, разум находит полное освобождение, лишь руко¬
водствуясь осознанным выбором, лишь взваливая на себя определенные обяза¬
тельства. И если необходимости невозможно избежать, то истинная свобода и зак¬
лючается в ее полном принятии. Принять мир земной и не тешить себя иллюзиями о
мире потустороннем - это означает господствовать над всем земным. Ницше потому и
отвергал христианство, что оно отрицает свободу духа, самостоятельность и
ответственность человека, превращает несвободу в идеал, а смирение - в добро¬
детель.
Но Ницше не дал ответа на вопрос: а будет ли тюрьма разума лучше разрушенной
им тюрьмы Бога? Во всяком случае, он категорически предрекал, что переход к
свободному обществу невозможно совершить насильственным уничтожением
общества нынешнего, ведь насилие способно породить только новое насилие.
Единственный, по Ницше, путь - возродить идеал свободной сильной личности,
превыше всего поставить ее суверенитет, попранный религией.
Еще не закончив работу над "Антихристом", Ницше решает создать прелюдию к
"Переоценке" в виде жизнеописания и аннотации своих книг, чтобы читатели поняли,
что он собой представляет. Так возник замысел работы "Ессе homo", где Ницше
попытался объяснить причины своего охлаждения к Вагнеру и показать, как
вызревало оно в его книгах на протяжении многих лет. Но и эта работа, настоящий
тигель, в котором переплавлены все жанры, осталась, в сущности, черновым
вариантом, в нем немало эпатирующего. Чего стоят одни названия главок - "Почему
я так мудр", "Почему я пишу такие хорошие книги", "Почему я являюсь роком"!
Вскоре начали проявляться первые симптомы неуравновешенности Ницше. Он
торопился с публикацией своих явно не законченных произведений, хотя его уже
надломленному разуму мерещились кошмары и опасности, исходящие от военной мощи
Германской империи. Его охватывал страх перед династией Гогенцоллернов,
Бисмарком, антисемитскими кругами, церковью. Все они были оскорблены в его
последних книгах, и Ницше ждал жестоких преследований. Как бы предупреждая их,
он набросал письмо кайзеру Вильгельму: "Сим я оказываю кайзеру немцев
величайшую честь, которая может выпасть на его долю: я посылаю ему первый
экземпляр книги, в которой решается судьба человечества"58.
Начавшийся отход от понимания реального мира привел Ницше к дерзкому плану
объединения всех европейских стран в единую антигерманскую лигу, чтобы надеть на
рейх смирительную рубашку или спровоцировать его на заведомо безнадежную войну
против объединенной Европы.
Наброски столь фантастического проекта производят тягостное впечатление
потому, что где-то посреди этих строчек пролегла страшная грань между разумом и
безумием:
^Давыдов Ю. Этика любви и метафизика своеволия. М., 1982, с. 117-119.
57 Nietzsche F. SSmtliche Weike. Kritis.be Studienausgabe, Bd. 13, S. 161-162.
58 Nietzsche F. SSmtliche Briefe, Bd. 8, S. 504.
143
"Я возвещаю войну. Не между народами: у меня нет слов, чтобы выразить
презрение к проклятой политике европейских династий, разжигающей эгоизм и
высокомерие между народами. Не между сословиями. Ведь у нас нет высших
сословий, следовательно, нет и низших.
Я возвещаю войну в области духа и оружием духа. Понятие политики поглощено
войной духа, все великие державы взлетят в воздух - будут войны, каких еще никогда
не было на Земле...
В ранге того, кем я должен быть, - не человеком, а роком, я хочу покончить с
этими преступными кретинами, которые больше столетия провозглашали большие
слова, великие слова. Со дней вора Фридриха Великого они ничего не делали, только
крали и лгали; единственное исключение - незабвенный Фридрих III... Сегодня, когда
у власти находится постыдная партия, когда христианская банда сеет между народами
проклятое драконово семя национализма и из любви к рабам хочет "освободить"
отечественную чернь, мы привлекаем к всемирно-историческому суду ложь...
Их орудие - князь Бисмарк, идиот, равного которому нет среди всех государ¬
ственных мужей, - никогда, ни на йоту не мыслил шире Гогенцоллернов... Чтобы
властвовала династия глупцов и преступников, Европа платит теперь ежегодно
12 млрд., разверзаются пропасти между возникающими нациями, ведутся самые
сумасбродные войны из всех, которые велись когда-либо: князь Бисмарк уничтожил
своей династической политикой все предпосылки для великих задач, для всемирно-
исторических целей, для благородной и прекрасной духовности...ч Я хочу стать судьей и
навсегда, на тысячелетия, покончить с преступным безумием династии и попов... Я
никогда не соглашусь, чтобы всякая каналья из Гогенцоллернов могла кому-то
приказывать совершать преступления. Нет права повиноваться, если приказывают
Гогенцоллерны... Да и сам рейх - ложь: ни один Гогенцоллерн, ни один Бисмарк
никогда не думали о Германии".
И в конце такая фраза: "Последнее соображение... Тем, что я уничтожу тебя,
Гогенцоллерн, я уничтожу ложь"59.
На этом последняя в жизни Ницше запись обрывается.
БЕЗУМИЕ
Обстоятельства и причины душевного надрыва Фридриха Ницше досконально не
выяснены. Сестра Элизабет упорно писала, что апоплексический удар явился
следствием нервного истощения из-за чересчур напряженной работы и вредного
воздействия успокаивающих лекарств. Но есть основания сомневаться в правоте этих
утверждений. Известно, что Ницше оставался в полном сознании, признаков чисто
физических расстройств, неизбежных при апоплексическом ударе, у него не было
зафиксировано. Не было в то время и слишком напряженной умственной
деятельности. Другое дело, что из-за брошенного им вызова могущественным силам -
церкви и Германской империи - Ницше мог с беспокойством и даже ужасом ожидать
реакции на них после выхода своих книг. Конечно, вряд ли стоит при этом всерьез
принимать версию теологических кругов, утверждавших, будто Ницше покарали сама
судьба и Божья рука за его резкие нападки на церковь и христианскую мораль.
Что касается медицинского диагноза, то он гласил: прогрессирующий паралич, под
которым, впрочем, в конце XIX в. понимали более широкий и довольно
неопределенный круг заболеваний, нежели теперь. К тому же прогрессирующий
паралич не является душевной болезнью в собственном смысле. Обычно он пред¬
ставляет нарушение функций головного мозга, вызванное внешней инфекцией,
зачастую - это последствие перенесенного сифилиса.
Сведения о болезни Ницше скудны и противоречивы. По одним данным, он якобы
59 Nietzsche F. Werke. Kritische Gesamtausgabe. Hrsg. von G. Colli und M. Montinari, Bd. VIII. Berlin, 1967,
S. 451.
144
переболел сифилисом, будучи студентом Боннского университета в 1864-1865 гг.,
после посещения публичного дома в Кёльне. Этой версии придерживался и Томас
Манн в статье “Философия Ницше в свете нашего опыта”60. Однако более вероятно
то, что если Ницше и переболел сифилисом, то во время учебы в Лейпциге. Хотя и
здесь слишком смущает то обстоятельство, что имена врачей, у которых лечился
Ницше, так и остались неизвестными, да и слухи об этом лечении довольно глухие.
Маловероятно, что болезнь таилась затем 20 лет, к тому же Ницше после душевного
надлома прожил еще 11 лет и умер от воспаления легких, что также не укладывается
в рамки диагноза прогрессирующего паралича.
Одним из первых на этом диагнозе настаивал известный лейпцигский невропатолог
П.Ю. Мёбиус, пытавшийся обнаружить признаки душевного заболевания Ницше в его
книгах61. Концепция Мёбиуса повлияла на взгляды многих исследователей Ницше,
стремившихся его мысли, не укладывающиеся в рамки традиционных представлений о
философии, объяснить исключительно душевным заболеванием. Против такого
низведения философии Ницше к патологии в свое время резко возразил Карл
Ясперс62.
Был ли душевный надлом Ницше неожиданным? Или признаки его начали
проявляться гораздо раньше? Изменилось ли что-либо в характере и поведении Ницше
в последние годы и месяцы перед трагедией? Ответить на это могут только
небольшое число людей, знавших Ницше на протяжении многих лет, прежде всего
Франц Овербек. Но он не замечал в друге никаких тревожных признаков и
обеспокоился лишь в декабре 1888 г., когда Ницше начал проявлять некоторые
странности в отношениях с издателем, постоянно требуя назад свои рукописи для
внесения в них бесконечных исправлений. Ничего особенно настораживающего не
увидел и Петер Гаст, которого даже не встревожила посланная ему 4 января 1889 г.
открытка Ницше: “Спой мне новую песню: мир преображен и небеса обрадованы.
Распятый"63.
Трагический надлом в психике Ницше произошел между 3 и 6 января 1889 г.
Быстрое помрачение разума привело к смешению всех понятий. Он забыл, что живет
в Турине: ему казалось, будто он находится в Риме и готовит созыв конгресса
европейских держав, чтобы объединить их против ненавистной Пруссо-Германии.
Ницше клеймит позором вступление Италии в союз с Германией и Австро-Венгрией в
1882 г. и в письме итальянскому королю требует его немедленного разрыва.
Помрачение рассудка Ницше видно по его запискам между 3 и 5 января. Так, 3
января он написал давней знакомой Мете фон Салис: “Мир преображен, Бог вновь на
Земле. Вы не видите, как радуются небеса? Я вступил вр владение моей империей, я
брошу папу римского в тюрьму и прикажу расстрелять Вильгельма, Бисмарка и
Штёккера”.
5 января еще одно бредовое письмо, на этот раз Буркхардту: "С Вильгельмом,
Бисмарком и всеми антисемитами покончено. Антихрист. Фридрих Ницше.
Фроментин"64.
На следующий день, в воскресенье, 6 января, в Базеле Буркхардт получил это
письмо. Его потрясли страшные слова: “В конце концов меня гораздо более
устраивало бы быть славным базельским профессором, нежели Богом; но я не
осмелился зайти в своем личном эгоизме так далеко, чтобы ради него поступиться
сотворением мира"65. Взволнованный Буркхардт отправился с письмом к Овербеку,
чей дом находился совсем рядом. Показав письмо, он предложил Овербеку немедленно
66 Манн Т. Соч., т. 10. М., 1961, с. 346-391.
61 Mobius PJ. Ausgewahlte Werke, Bd. V. Nietzsche. Barth. Leipzig, 1902.
62 Jaspers K. Nietzsche. Einfuhrung in das Verstandnis seines Philosophierens. Berlin, 1950, S. 101.
65 Nietzsche F. Samtliche Briefe, Bd. 8, S. 575.
64 Ibid., S. 576-578.
65 Ibid., S. 578.
145
поехать в Турин и привезти несчастного друга в Базель. Но Овербеку было давно
известно, что после Рождества и Нового года Ницше обычно испытывает приступы
глубокой депрессии и меланхолии. Вначале он решил, что и на сей раз та же история,
и тут же написал Ницше письмо с просьбой поскорее приехать. Но когда на
следующее утро и сам Овербек получил открытку Ницше с совершенно бредовым
текстом, ему стало ясно, что с другом случилась катастрофа. Он немедля выехал в
Италию, правда, завернув вначале в клинику профессора Вилле, чтобы договориться
о помещении туда Ницше.
Не без труда отыскав квартиру Ницше, Овербек увидел его лежащим на кушетке.
Ницше что-то читал, как оказалось, корректуру сборника из старых работ ’’Ницше
против Вагнера”. При появлении Овербека, которого он сразу узнал, Ницше горячо
обнял друга и разрыдался. Затем в ужасных конвульсиях рухнул на пол.
Выпив воды с бромом, Ницше немного успокоился и с воодушевлением заговорил о
намеченном им на вечер грандиозном приеме, идея которого целиком завладела его
воспаленным мозгом.
Больного следовало как можно быстрее доставить в Базель. Однако Ницше
категорически отказывался вставать с кушетки. Лишь после того как Овербек
объяснил ему, что они идут на тот самый прием, Ницше согласился одеться и поехать
на вокзал. Он явно не понимал, что происходит вокруг.
После мучительного пути утром 10 января они прибыли в Базель и сразу же
направились в клинику Вилле. По-прежнему не отдавая себе отчета в происходя¬
щем, Ницше вежливо поздоровался с профессором и спросил его имя. Услышав ответ,
он преспокойно заявил, что помнит происходивший между ними семь лет назад
разговор о причинах религиозного фанатизма и безумия, который действительно
имел место. Ницше, видимо, не подозревал, что на сей раз он предстал перед Вилле
как пациент.
Но в дальнейшем болезнь протекала более бурно. Ницше страдал постоянной
бессонницей, днем и ночью распевал неаполитанские песни или выкрикивал бессвязные
слова, испытывал постоянное возбуждение и отличался чудовищным аппетитом.
Через три дня в Базель приехала убитая горем Франциска Ницше. Она не могла
поверить в безумие сына и надеялась любовью и молитвами вернуть его в разумное
состояние.
Увы, ее надеждам не суждено было сбыться. Мать хотела забрать Фридриха в
Наумбург, но врачи категорически настояли на постоянном медицинском наблюдении.
Тогда было решено перевезти больного поближе к дому, в йенскую клинику.
Первая встреча матери с сыном носила драматический характер. Ницше сразу
узнал мать, быстро подошел и обнял ее со словами: "Ах, моя добрая, любимая мама,
как я рад тебя видеть!" Он спокойно и почти осмысленно беседовал с ней о семейных
делах и наумбургских знакомых. Но внезапно черты его лица исказились и раздался
звериный крик: "Ты видишь перед собой туринского тирана!" После этого речь Ницше
стала совершенно бессвязной, он все больше возбуждался, и свидание пришлось
прекратить.
Вечером 17 января Ницше вместе с матерью, врачом и санитаром отправился в
Йену, в клинику профессора О. Бинсвангера. Провожая их на вокзале, Овербек
окончательно уверился в том, что с Ницше как с мыслителем покончено навсегда.
Фридрих Ницше потерял не только разум. Наследие этого разума быстро и
беззастенчиво прибрала к рукам сестра, возвратившаяся из Парагвая после само¬
убийства запутавшегося в финансовых махинациях мужа. Она быстро отстранила от
участия в подготовке собрания сочинений Ницше Петера Гаста, противившегося
вместе с Овербеком всяческим подлогам и произвольному редактированию рукописей
из архива.
В августе 1896 г. сестра вместе с огромным архивом перебралась в Веймар и
готовила там биографию Фридриха, надеясь, что духовная жизнь Веймара,
несравнимая с захолустно-провинциальным Наумбургом, облегчит ей издание книги,
146
ставшей примером удивительной по беззастенчивости перекройки кровно родной и
духовно бесконечно далекой ей жизни брата.
После покупки большого дома на Луизенштрассе для размещения там архива
Элизабет перевезла больного в Веймар. Погруженный в глубочайшую апатию,
Ницше, казалось, не заметил ни переезда на новое место, ни смерти матери,
скончавшейся в апреле 1897 г.
Пребывание Ницше в Веймаре было недолгим. В конце августа 1900 г. он
простудился, заболел воспалением легких и тихо скончался в полдень 25 августа
1900 г. Сбылась пророческая строка из ’’Заратустры”: ”О, полуденная бездна! когда
обратно втянешь ты в себя мою душу?”66 Через три дня состоялось погребение на
семейном участке кладбища в Рёкене, где покоились его родители и брат.
Выступая на траурной церемонии, известный немецкий историк и социолог Курт
Брейзиг назвал Ницше ’’человеком, указавшим путь в новое будущее человечества”,
мыслителем, выступившим против магии Будды, Заратустры и Иисуса67.
ПОСМЕРТНЫЕ СУДЬБЫ, ИЛИ " ФИЛОСОФ НЕПРИЯТНЫХ ИСТИН"
Драматична не только жизнь Ницше, но и судьба его наследия. Затравленный
непониманием и одиночеством при жизни, он был извращен и оболган после смерти.
Скандалы вокруг его рукописей и их фальсификация последовали почти сразу. Трижды
в 1892-1899 гг. начинало выходить полное собрание сочинений Ницше и дважды
обрывалось.
Второе издание под редакцией Ф. Кёгеля, включившее значительную, часть
архивного наследия Ницше, прекратилось на 12-м томе. Причиной явился разрыв
Кёгеля с Э. Фёрстер-Ницше, когда он резко возразил против крайне тенденциозного
подбора заметок и черновых набросков 80-х годов, составивших затем, после ухода
Кёгеля, печально знаменитую фальшивку "Воля к власти”.
Вслед за Кёгелем в 1900 г. от участия в фальсификациях, доходивших до прямого
подлога писем Ницше, отказался Рудольф Штейнер, опубликовавший ряд статей о
том, что наследие гениального мыслителя очутилось в крайне нечистоплотных руках
его сестры, взявшей теперь на себя редактирование нового полного издания, начатого
в 1899 г. и составившего 19 томов.
В 1908 г. разразился грандиозный скандал в связи с тем, что К. Бернулли выпустил
документальную книгу ’’Франц Овербек и Фридрих Ницше”, куда включил ряд писем
Ницше, доказывавших, что "любимая сестра” оказывалась на деле "непримиримым
противником” его философии и совершенно чуждой его "образу мыслей"68. Скандал
закончился судебным разбирательством, но поскольку юридические права сестры на
архив были безупречны, то она осталась его владелицей вплоть до смерти в 1935 г., а
второй том книги Бернулли обезобразили многочисленные вымарки цензуры,
распорядившейся по решению суда закрасить черным наиболее разоблачительные
высказывания Ницше о сестре. Тем самым махинациям был дан зеленый свет. Не
случайно уже гораздо позднее, в 1935 г., Освальд Шпенглер, публично и
демонстративно порвал свои тесные до этого связи с архивом Ницше и его
распорядительницей в знак протеста против ее участия в нацистских фальсификациях
творчества Ницше.
Нельзя без возмущения смотреть на то, как зловещие всходы "ницшеанства”, а
фактически осквернение его памяти, чертополохом разрастались в Германии и Европе.
Словно предчувствовавший эту Вальпургиеву ночь, этот шабаш, Ницше писал о
66 Ницше Ф. Соч., т. 2, с. 200.
67 Breysig К. An Friedrich Nietzsches Bahre. - Zukunft, 1900, H. 30, S. 409-419.
68 Bernoulli C.A. Franz Overbeck und Friedrich Nietzsche. Eine Freundschaft, 2 Bde. Jena, 1908; P odach E.F.
Nietzsches Zusammenbruch. Heidelberg, 1930; Steiner R. Das Nietzsches-Archiv und seine Anklagen gegen den
bisherigen Herausgeber. - Gesammelte Aufsatze zur Kultur- und Zeitgeschichte 1887-1901. Domach, 1966. См.
также: Ницше Ф. Соч., т. 2, с. 769-772.
147
зловонном рое ядовитых мух, которые ’’льстят тебе, как Богу или дьяволу; они визжат
перед тобою, как перед Богом или дьяволом. Ну что ж! Они - льстецы и визгуны, и
ничего более”69.
А между тем ницшеанства как такового нет, этим термином обозначают по
крайней мере три различных явления.
Первое - новое воспроизведение отдельных положений Ницше в творчестве таких
философов, как М. Хайдеггер, К. Ясперс, К. Лёвит, Ж. Делёз, Ж. Деррида.
Второе - современная международная школа ницшеведения со своим ежегодником
"Ницше-штудиен", издательскими центрами, научными организациями и периодичес-
кими конференциями или симпозиумами.
Третье - дальнейшая разработка тех проблем, которые вошли в современную
культуру и философию через Ницше. А поскольку он касался буквально всего
духовного содержания истории и культуры, то по этому критерию не только
"философия жизни", у истоков которой стоял он, но практически все основные
направления современной культурологической и философской мысли можно смело
отнести к ницшеанским. Даже марксистское, если взять идеи Ницше об
относительности и обусловленности морали и нравственности или его тезис о
воспитании нового человека.
Но существует еще одно, четвертое и наиболее зловещее значение ницшеанства -
политическое, которое сконструировали прежде всего нацисты, руководствуясь
идеологией, основанной на аморальности, политическом экстремизме, цинизме и
нигилизме70. В политическом смысле трактовалась философия Ницше и у нас,
подвергаясь безусловному осуждению и критическому разгрому.
Пустившая чрезвычайно глубокие корни национал-социалистическая легенда о
Ницше как вдохновителе и предтече этой идеологии с удивительной готовностью
была воспринята и у нас. Что могли узнать о Ницше наши читатели? Вот только
несколько примеров из книг отечественных авторов:
"Творчество Ницше - настоящий гимн насилию и войне"71.
"Ницшеанство одержало победу в виде национал-социалистского миросозерца¬
ния’’72.
"В философии Ницше иррационализм... непосредственно смыкается с открытой
апологией насилия, вседозволенности, войны... агрессивного национализма,
колониализма, расизма”73.
"Ницше в плане идеологическом готовил умы... к восприятию фашистской
социально-политической программы”74.
"Очень пригодилась фашистам и теория "белокурой бестии"... В своем наиболее
известном труде "Так говорил Заратустра" Ницше воспел войну как наивысшее
проявление человеческого духа"75.
Короче говоря, Ницше предстает исчадьем ада. Но никто из отечественных
авторов не посчитал нужным объяснить, каким образом у Ницше сочетается
проповедь всего этого бреда о мировом господстве арийской расы с тем, что он,
напротив, постоянно предупреждал об опасностях национализма и подчеркивал:
"Политический расцвет народа почти с необходимостью влечет за собой духовное
обеднение и ослабление?"76
Разумеется, существует несомненная ответственность мыслителей за их идеи. Но
допустимо ли смешивать ее с ответственностью за дела? Любая система, основанная
69 Ницше Ф. Соч., т. 2, с. 38.
70 Об этом см. Камю А. Бунтующий человек.'М., 1990, с. 168-179.
71 Рахшмир П.Ю, Происхождение фашизма. М., 1981. с. 41.
72 Давыдов Ю.Н. Указ, соч., с. 261.
73 КертманЛ.Е. История культуры стран Европы и Америки. М., 1987, с. 143.
74 Зотов А.Ф., Мелъвиль Ю.К. Указ, соч., с. 330.
75 Мельников Д., Черная Л. Преступник № 1. Нацистский режим и его фюрер. М., 1991, с. 91.
76 Ницше Ф. Соч., т. 1, с. 452.
148
на господстве идеологии, в том числе и национал-социалистическая, предполагает та¬
кое перекраивание прошлого, при котором любые учения, вплоть до античной
философии могут превратиться в дубинку для избиения политического противника. Од¬
нако ответственность за толкование должен нести прежде всего интерпретатор. Тем
более что в случае Ницше с его афористической манерой изложения не требовалось
излишнего умственного напряжения, чтобы свести всю труднейшую для понимания
глубину и сложность его философии к броским и легко усваиваемым лозунгам вроде
"морали господ и морали рабов", "грядущего сверхчеловека", "белокурой бестии",
которой так жаждали стать нацисты. Но испытания звонкими обрывочными цитатами
не выдержит ни один выдающийся мыслитель, и Ницше не исключение.
Странно, однако, что в трагедии Гёте "Фауст", выдержками из которой также
щедро усеяны сочинения теоретиков нацизма, вроде бы никто не пытается отыскать
духовные импульсы фашизма. А гениальные творения Баха, Бетховена, Вагнера?
Ведь работали они на нацистскую систему ничуть не хуже, чем страстные обращения
и призывы Заратустры. Но сама мысль об их запятнанности коричневой краской
кажется кощунственной, не так ли?
А между тем шлейф чудовищного искажения тянется за Ницше до сих пор, по
крайней мере у нас77.
Проблема - Ницше и национал-социализм - действительно существует. Но суть ее
в том, что Ницше был до неузнаваемости исковеркан.
Пресловутый сверхчеловек, для которого не существует якобы никаких норм и
запретов, - лишь плод фантазии разгоряченного и озлобленного немецкого, да и не
только немецкого обывателя. У Ницше сверхчеловек - это совсем не повелитель, не
диктатор над жизнью и смертью других. Это мыслитель и художник, по капле
выдавливающий из себя рабскую мораль в долгом процессе мучительного
"самоопределения". Благороднейший интеллектуал, Ницше страстно протестовал
против опошления и нивелировки личности.
Да, он не желал признать абсолютно за каждым представителем рода чело¬
веческого права быть личностью. В массе он находил основную угрозу для развития
подлинно творческой натуры. Но так ли уж был он неправ? Разве не дала история
бесчисленных примеров того, как легко, в сущности, превращаются люди из личностей
в толпу, в стадо покорных и самодовольных существ, как быстро тварь в человеке
вытесняет творца?
Если у Ницше речь идет о достоинстве человека как личности, то у нацистов - о
превосходстве. Яростный протест великого философа против посредственности и
унылой серости был деформирован до разновидности массовой, убогой, но страшной
идеологии.
Да, Гитлер мог вычитать в "Заратустре" гимн войне. Но дело в том, что у Ницше
речь идет прежде всего о войне духа. И призывал он не к войне в обычном смысле
этого слова, а к "войне за свои мысли". Извращая суть высказывания Ницше, кто
только с торжеством не тыкал пальцем в строки: "Я призываю вас не к работе, а к
борьбе!" Но дальше-то идет фраза, придающая совершенно иной смысл сказанному:
"Да будет труд ваш борьбой и мир ваш победою!"78 Разве не ясно, что речь идет о
совсем другом значении войны и мира, борьбы и победы?
Да, Гитлер мог отыскать в "Заратустре" мысль о неравенстве людей. Но, по
Ницше, неравенство это, помимо различий в одаренности, состоит и в том, что люди
"стремятся к будущему по тысяче мостов и тропинок"79, а не маршируют стройными
колоннами под общими лозунгами, как это было в истории некоторых народов.
77 С горечью отметил это в своем прекрасном введении к двухтомнику его сочинений К. А. Свасьян. См.
Ницше Ф. Соч., т. 1, с. 42. См. также предисловия А.В. Михайлова к публикациям работ Ницше и
Хайдеггера: Вопросы философии, 1989, № 5, с. 113-122; 1990, № 7, с. 133-143.
78 Ницше Ф. Соч., т. 2, с. 34.
79 Там же, с. 72.
149
Для Гитлера кайзеровская Германия была "замечательным примером империи,
созданной исключительно на основе политики силы", наградой немцам "за их
бессмертный героизм"80. А для Ницше? Не говоря уже о том, что для него вообще
"государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ"81, Германскую
империю он считал концом немецкой культуры и философии, ибо "могущество
одуряет"82. И это одна из самых мягких оценок Ницше.
Большинство мыслей Ницше нацистские идеологи черпали, кроме "Заратустры", из
книги "Воля к власти". Но парадокс в том, что такой книги на самом деле не
существует. Есть лишь произвольная и скверная компиляция из многочисленных
заметок конца 80-х годов, беспорядочных, но и зачастую удивительно провидческих.
Фальшивку подготовила сестра безумного философа, "патологическая лгунья"83, по
словам йенского психиатра О. Бинсвангера, которую сам Фридрих в одном из писем в
мае 1884 г. назвал "мстительной антисемитской дурой"84. Лишь в 1956 г.
дармштадский профессор Карл Шлехта восстановил после тщательной работы в
архиве Ницше хронологическую композицию этих заметок под заглавием "Из
наследия 80-х годов". Издание произвело впечатление разорвавшейся бомбы, ибо
стало ясно, что речь идет о грандиозном подлоге, о полной несоизмеримости заметок и
сфабрикованной из них книги, говорить о которой после этого становится просто
неприлично.
Хорошо известно, что тремя аксиоматическими постулатами нацистской идеологии
явились национализм, славянофобия и, главное, антисемитизм. Как обстоит дело с
этими понятиями в философии Ницше, взятой в общем контексте?
О национализме. Ницше писал, что "у современных немцев появляется то
антифранцузская глупость, то антиеврейская, то антипольская, то романтико¬
христианская, то вагнерианская, то тевтонская, то прусская"85. Крылатый лозунг
национализма - "Германия превыше всего" - Ницше считал концом немецкой
философии86.
О славянах Ницше отзывался всегда позитивно, подчеркивая даже, что "немцы
вошли в ряд одаренных наций только благодаря сильной примеси славянской крови"87.
И в другом месте: "Знамение грядущего столетия - вступление русских в культуру.
Грандиозная цель. Близость варварству. Роль искусства, великодушие молодости и
фантастические безумства"88. Можно подумать, будто Ницше предвидел и мощный
взлет русского искусства в начале XX в., и кошмары послеоктябрьской трагедии.
Считая евреев "самой сильной, самой цепкой, самой чистой расой из всего
теперешнего населения Европы"89, Ницше глубоко раскрывал корни антисемитизма,
им всегда осуждавшегося: "Вся проблема евреев имеет место лишь в пределах
национальных государств, так как здесь их активность и высшая интеллигентность, их
от поколения к поколению накоплявшийся в школе страдания капитал ума и воли
должны всюду получить перевес и возбуждать зависть и ненависть; поэтому во всех
теперешних нациях распространяется литературное бесчинство казнить евреев, как
козлов отпущения, за всевозможные внешние и внутренние бедствия"90. Если Ницше
осуждал литературные казни евреев, что бы сказал он, когда эти казни обернулись
крематориями Аушвица и рвами Бабьего Яра?
80 Hitler A. Mein Kampf. Munchen, 1934, S. 318-320.
81 Ницше Ф. Соч., т. 2, с. 35.
82 Там же, с. 589.
83 Воск Е. Rudolf Steiner. Stuttgart, 1961, S. 115.
** Nietzsche F. Samtliche Briefe, Bd. 6, S. 500.
85 Ницше Ф. Соч., т. 2, с. 369.
86 Там же, с. 589.
87 Nietzsche F. Schriften und Entwiirfe 1881-1885, Bd. 12, S. 153.
88 Nietzsche F. Weike in 16(20) Banden, Bd. XI, S. 375.
89 Ницше Ф. Соч., т. 2, с. 369.
90 Там же, т. 1, с. 448.
150
Но довольно примеров. Важен итог. Ницше не имеет ни малейшего отношения к
тому, что провозгласили нацисты, бесстыдно и нагло ссылаясь на этот великий ум с
его трагическим мироощущением. А ведь он словно дает зарисовку с нацистского
митинга: "Не люблю и этих новейших спекулянтов идеализма, антисемитов, которые
нынче закатывают глаза на христианско-арийско-обывательский лад и пытаются
путем нестерпимо наглого злоупотребления дешевейшим агитационным средством,
моральной позой, возбудить все элементы рогатого скота в народе"91.
Шабаш нацистов вокруг имени Ницше достиг апогея в 1934 г., когда в помещении
его архива в Веймаре состоялось заседание Прусской академии права. Выступая на
ней, главный идеолог нацистской партии А. Розенберг заявил: "Мы, национал-
социалисты, не смеем отвергнуть такого смелого мыслителя, как Фридрих Ницше. Мы
возьмем из его пламенных идей все то, что может дать нам новые силы и
стремления"92. А осенью архив посетил и сам фюрер, горделиво позировавший
фотографам рядом с мраморным бюстом философа работы известного немецкого
скульптора М. Крузе.
Но если в чем и виновен Ницше, так это в том, что раньше всех заглянул в
кошмарную бездну грядущего и ужаснулся от открывшегося ему. И кому же придет в
голову (а ведь пришло, и многим, и вполне серьезно!) обвинять стрелку барометра,
предсказавшего ураган, в наступлении этого бедствия?
Никто, как Ницше, не призывал с таким отчаянием к бегству в царство свободы
интеллекта и никто с такой силой не почувствовал, что наступающий век несет с
собою нечто новое и ужасное, что старая эпоха отмирает, а в ее предсмертных
конвульсиях родятся тоталитарные режимы XX в.: национал-социализм в Германии и
большевизм в России: "Грядет время, когда будут вести борьбу за господство над
землей - ее будут вести во имя фундаментальных философских учений"93.
Это предсказание Ницше остается в силе. И пока оно будет оставаться в силе,
идеям Фридриха Ницше суждено быть не столько философским наследием, сколько
ареной политических битв.
91 Там же, т. 2, с. 521.
92 Volldscher Beobachter, 4.V.1934.
93 Nietzsche F. Samtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Bd. 9, S. 546. Об этом подробнее см. Игнатов А.
Черт и сверхчеловек. Предчувствие тоталитаризма Достоевским и Ницше. - Вопросы философии, 1993,
М4.
151
© 1993 г.
А.ОЛАНО-ЭРЕНБЯ (Испания)
ИСПАНСКИЙ КОРОЛЬ
И ПОПЫТКИ СПАСЕНИЯ
СЕМЬИ НИКОЛАЯП
Работа в испанских архивах совершенно неожиданно столкнула меня с доку¬
ментами, связанными с историей убийства Николая II и всей царской семьи в
Екатеринбурге. Разбирая в Архиве министерства иностранных дел Испании донесения
испанского посла в России, я обнаружила в связке документов телеграммы и депеши
1918 г., посвященные попытке испанской дипломатической миссии спасти семью
расстрелянного Николая II, ибо в Европе существовала полная уверенность в том, что
семье императора сохранена жизнь.
Находка сразу поставила ряд вопросов: кто был вдохновителем миссии, каким
образом она осуществлялась и к чему привела? Так начался этот поиск, принесший
довольно любопытные результаты, о которых и пойдет речь в очерке.
Хочу сразу оговориться, что не я была первооткрывателем этой темы в Испании. В
середине 70-х годов, сразу после падения диктатуры Франко и восстановления
института монархии в стране, появилась серия работ испанских историков и
журналистов, посвященных последнему королю Испании Альфонсу XIII. В одной из
монографий, оп/бли^ованной известным публицистом и королевским биографом
Хулианом Кортес-Каванильясом в 1976 г. под названием ’’Альфонс XIII и война 14
года’’1 появились первые сведения о попытке Альфонса XIII спасти семью Николая II.
Кортес-Каванильяс провел изыскания в Королевском архиве Восточного дворца и
опубликовал несколько обнаруженных им писем к королю Альфонсу XIII его супруги
Виктории-Евгении Баттенберг, сославшись на хранящееся в архиве дело № 63.276-С
под названием ’’Русская Императорская семья”. Письма очень интересны, и я их
приведу в данной публикации, доверившись авторитету придворного биографа, хотя
самой мне эти письма обнаружить не удалось, и дела с таким названием и под таким
номером в архиве не существует. Попутно мне удалось обнаружить ряд других
документов, относящихся к теме. Само по себе исчезновение из архива целого дела,
которое, вне сомнения, видел Кортес-Каванильяс, наводит на грустные размышления,
так как это материалы большой исторической ценности.
В это же время другой авторитетный испанский историк Карлос Секо Серрано,
действительный член Королевской академии истории, разбирая личный архив Эдуардо
Дато, являвшегося в 1918 г. государственным министром, также обнаружил
интересные материалы, связанные с миссией спасения, которые и опубликовал в
небольшой статье в журнале "Арбор” в 1976 г.2 и в сборнике "Исторические
виньетки”3, вышедшем в 1983 г. Эти материалы заслуживают полного доверия, так
как уже в теченпе 20 лет Секо Серрано обрабатывает и изучает архив Дато, и все
документы систематизированы лично им, хотя полная опись архива не составлена. Но
Алла Олано-Эренъя - испанский историк, выпускница Ленинградского государственного университета.
Статья передана в редакцию в рукописи.
1 Cortes-Cavanillas J. Alfonso XIII у la Guerra del 14. Madrid, 1976.
2 Seco Serrano C. Alfonso XIII у los Romanoff. - Arbor, № 377, Mayo 1977.
3 Seco Serrano C. Vinetas históricas. Madrid, 1983.
152
и здесь следует сделать оговорку, так как в 70-е годы Секо Серрано работал с
документами Архива министерства иностранных дел Испании и видел там
интереснейшее письмо, которое частично опубликовал. Письмо я также приведу в
статье, но в архиве его уже нет. И это тоже значительная потеря. Я имела ряд бесед
с Секо Серрано, и он любезно предоставил мне свои заметки, сделанные в Архиве
министерства иностранных дел в 70-е годы, среди них копии некоторых телеграмм,
подлинники которых мне не удалось найти. Я же провела поиск в архивах
министерства иностранных дел Испании и Королевского дворца и в статье собираюсь
прокомментировать находки.
В заключение хочу выразить глубокую благодарность за оказанную мне в работе
помощь и содействие академику К. Секо Серрано, директору Архива министерства
иностранных дел Испании Элизе Каролине де Сантос Канелехо, решавшей любые
проблемы, связанные с получением документов, начальнику архивного зала,
сотруднику архива Фернандо Рьегосе Бланко, который уделил мне много времени и
очень помог своими ценными комментариями, персоналу архива, а также начальнику
зала исследований Королевского архива Крус де Херонимо Эскудеро.
* * *
История убийства Николая II и его семьи, с годами обрастая подробностями и
деталями, привлекала к себе внимание исследователей и стала предметом много¬
численных журналистских, детективных и исторических расследований, результатом
которых стали различные версия убийства, но вплоть до открытия советских архивов
так и не получила удовлетворительного объяснения. Самым полным и интересным
трудом, обобщающим эти поиски и предположения, явилась книга американских
историков Антони Саммерса и Тома Мангольдса ’’Личное дело царя”*. Авторы
проделали колоссальную работу в европейских архивах (за исключением испанских),
выявив сотни документов и свидетельских показаний как людей, близких к событиям,
так и членов семьи Романовых, оставшихся в живых.
Результатом поиска явилась версия раздельной смерти Николая II и остальных
членов семьи, ошибочность которой уже доказана последними находками под
Екатеринбургом. Но книга не потеряла своей актуальности, потому что значительная
часть работы посвящена попыткам спасения Николая II и его семьи европейскими
монархами, когда это еще представлялось возможным. И эта интрига не распутана до
сегодняшнего дня, так как и в Английском королевском архиве, и в немецких
документах имеются огромные пробелы. Но одно бесспорно: королевские дома Англии
и Германии попустительствовали произволу правительства народных комиссаров в
отношении императорской семьи5.
После отречения Николая II в мире существовали только две силы, имевшие
возможность радикальным образом повлиять на судьбу поверженного монарха:
Германия и Англия. Первая в течение нескольких лет была противником в войне,
Англия же являлась реальным и надежным союзником, сохранившим добрые
отношения с Временным правительством, и ее твердая позиция в вопросе спасения
царской семьи, несомненно, дала бы положительные результаты. Кроме того, Николай
II и английский король Георг V были двоюродными братьями, сыновьями родных
сестер - Марии Федоровны, вдовствующей русской императрицы, и английской
королевы Александры, поддерживали давние дружеские связи, а Александра
Федоровна приходилась английскому королю двоюродной сестрой: оба они были
внуками королевы Виктории.
* Sammers A., Mangold Т. El expediente sobre el Zar. Barcelona, 1978. На английском языке книга вышла в
1976 г.
5 Ibid., cap. 19, 20, 22, 23.
153
В мире долго существовало мнение, что Георг V сделал все возможное, чтобы
спасти родственников, в то время как английское правительство, возглавлявшееся
Ллойд Джорджем, всячески препятствовало спасению. Саммерс и Мангольд
развенчивают идею ’’солидарности королей”, приводя ряд интереснейших документов.
Находки в испанских архивах дополняют историю новыми подробностями. Попробуем
восстановить хронологию событий.
Итак, первым импульсом короля Георга было предложение помощи, и в адрес
арестованного царя полетела ободряющая телеграмма. Эта телеграмма не достигла
адресата - осторожный Ллойд Джордж опасался, что ее текст вызовет нежелательный
политический резонанс6. Но английское правительство немедленно пошло на
переговоры с Временным правительством о возможности вывоза царской семьи в
Англию. Переговоры шли через П.Н. Милюкова, министра иностранных дел
Временного правительства, и Дж. Бьюкенена, английского посла в Петрограде.
Переговоры и предложения английского правительства подробно отражены в
"Мемуарах” Керенского:
”8(23) марта (в день задержания царя в Могилеве) Бьюкенен передал
П.Н. Милюкову вербальную ноту от английского правительства: "Его величество
король и правительство его величества счастливы предложить убежище в Англии
бывшему императору России”7.
Керенский сам готов был сопроводить царскую семью до Мурманска, где они могли
бы сесть на английский корабль, но, по его словам, ситуация в стране настолько
накалилась, что по дороге царская семья могла попасть в руки революционно
настроенных и ожесточенных масс, что грозило самосудом. Временное правительство
выжидало удобного момента, и летом, когда обстановка немного стабилизировалась и
народ "забыл” о существовании царя, новый министр иностранных дел
М.И. Терещенко без обиняков спросил английского посла, когда состоится отъезд
царской семьи. И тут случилось совершенно неожиданное.
"Я не помню точно, - писал Керенский, - было ли это в конце июня или в первых
числах июля, когда посол Англии в расстроенных чувствах пришел к Терещенко. С
ним было письмо от высокого чина Foreign Office, тесно связанного с двором. Со
слезами на глазах сэр Джордж Бьюкенен довел до сведения русского министра
иностранных дел, что британское правительство окончательно отказывается от своего
предложения предоставить убежище тому, кто был императором России"8.
Конечно, Керенский не мог знать всего закулисного хода событий. Инициатива
отказа принадлежала английскому королю и это достаточно аргументированно
показано Саммерсом и Мангольдом. Как пишут историки, ни корь, которой внезапно
заболели царские дети, ни экстремисты, угрожавшие захватить семью, не были
основными виновниками несостоявшегося отъезда в Англию. Все решило резкое
изменение позиций Георга V. Еще 30 марта, ровно через неделю после предложения
Англии о предоставлении убежища семье монарха, секретарь Форин оффис получил
письмо личного секретаря короля лорда Станфордгама следующего содержания:
"Король обдумал предложение правительства о приезде Николая II и его семьи в
Англию. Как Вам известно, вне всякого сомнения, король испытывает глубокие
дружеские чувства по отношению к императору, и поэтому с большим удовольствием
сделал бы все, что в его руках, чтобы помочь ему в эти критические моменты. Но его
величество не может не выразить сомнения, и не только из-за опасности путешествия,
а также из-за практических мотивов в целесообразности того, чтобы семья
обосновалась в этой стране’’9.
6 Текст телеграммы был следующим: "Случившееся на прошлой неделе меня глубоко взволновало. Мои
мысли постоянно с тобой, и я всегда останусь твоим близким и преданным другом, каким был для тебя до
сегодняшнего дня". - Ibid., р. 220.
7 Kerenski A. La verdad sobre la matanza de la Familia Imperial Rusa. Guadalajara, 1963, p. 117.
8 Ibid., p. 122.
9 Sammers A., Mangold T. Op. cit., p. 223.
154
Английское правительство, получив такое послание, было совершенно
дезориентировано и не посчитало возможным сразу "взять назад свое предложение".
Но последовал ряд более конкретных и настойчивых писем от Георга V, которые в
конечном счете и заставили Форин оффис пойти на попятную. Историки добавляют
также, что в своей настойчивости Георг V даже превзошел границы полномочий,
которыми король обладал в рамках конституционной монархии.
Естественно, английскими властями была проведена предварительная работа.
Бьюкенен подготовил почву, обосновывая запрограммированный отказ "негативным
общественным мнением": немецкие агенты смогут использовать предложе
ние английского правительства, чтобы направить российское общественное мне
ние против Англии, и лучше было бы до определенного момента переправить царскую
семью в Крым... Ллойд Джордж вообще пишет в воспоминаниях, что царская семья
погибла из-за слабости Временного правительства, которое, находясь в пол¬
ной зависимости от Советов, не смогло принять предложение Британии. Сам
Керенский, близко знакомый с Бьюкененом и сохранивший дружеские отношения с
его семьей, уже находясь в эмиграции, рассказывал, что по выходе на пенсию сэр
Джордж хотел описать все, что было известно ему по этому вопросу, в воспоминаниях
и... не написал. В 1932 г. увидели свет записки его дочери "Распад одной империи", в
которых сообщалось следующее: "По выходе на пенсию мой отец хотел прояснить
истину, но в Форин оффис пригрозили, что лишат его пенсии, если это будет
опубликовано"10.
Таким образом, Англия умыла руки, а уже в августе 1917 г. императорская семья
была переправлена в Тобольск, как казалось тогда, в целях безопасности. Но грянул
Октябрь, и какие-либо сведения о судьбе Николая и его семьи перестали поступать из
России. Запад вообще потерял представление о происходящем в стране. Только тогда
его лидеры осознали опасность, грозившую экс-императору России. Еще было не
поздно предпринять шаги по вывозу семьи, тем более что нити мирных переговоров и
решение многих жизненных вопросов России находились в руках немецких дипломатов.
Дело было за императором Вильгельмом II, приходившимся Николаю дядей. И хотя
уже в эмиграции кайзер сказал, что ни перед его дверью, ни на его руках нет крови
несчастного царя, существует ряд документов и писем, а также воспоминаний, в
которых утверждается обратное. Тот же Керенский цитировал "Мемуары" Карла фон
Бозмера, ближайшего соратника графа Мирбаха: "Если бы мы настояли на выдаче
императора, Россия бы приняла это условие, как и остальные, безоговорочно!"11.
В Архиве министерства иностранных дел Испании мне удалось обнаружить письмо
поверенного в делах Испании в России Фернандо Гомеса Контрераса, написанное сразу
же после расстрела царской семьи: "На мольбы, направляемые кайзеру некоторыми
членами императорской семьи, о том, чтобы его представитель во время своего
пребывания в Москве вступился бы за монарших пленников, Вильгельм ответил, что
его глубокое сожаление по поводу печальной ситуации сверженной фамилии и его
желание прийти к ним на помощь наталкивается на горькую и абсолютную
невозможность предпринять что-либо для облегчения их участи"12. Далее испанский
дипломат добавлял: "Позвольте в этом усомниться. О том, что Германия имела
влияние на большевиков, свидетельствует то, что как только рассеялась легенда об
интересе и протекции германского императора Романовым, их жизни оказались во
власти революционеров"13.
Это свидетельство испанского дипломата интересно еще и тем, что он был одним из
немногих дипломатических представителей, находившихся в стране в разгар событий,
и имел, вне сомнения, теснейшие связи и с немецкими дипломатами, и с секретными
^Buchanan М. The Dissolution of an Empire. London, 1932.
11 Kerenski A. Op. cit., p. 154.
12 Ministerio de Asuntos Exteriores Archivo General (далее - MAEAG), f. Politica, leg. 2649.
13 Ibidem.
155
агентами. Не забудем также о моральной стороне немецкой миссии, если бы таковая
имела место, ибо Николай II, уже находясь в Тобольске и предвидя свою судьбу,
прослышав о возможности немецких переговоров о вывозе семьи в Германию, сказал:
"Даже если это не делается для того, чтобы обесчестить меня, это все равно тяжкое
обвинение в мой адрес'*14.
Таким образом, "дипломатически" судьба Николая II была решена. В конце июля
1918 г. Европы достигла весть о казни, произошедшей с 16 на 17 июля. Как
сообщалось в прессе и многочисленных дипломатических донесениях, в частности в
донесении испанского дипломатического представителя Контрераса: "Районный
комитет Урала принял решение расстрелять Николая Романова... Его жена и дети
перевезены в безопасное место"15. Эта новость была почерпнута из выступления
Свердлова. И европейские дворы вновь почувствовали себя обязанными принять
участие в деле спасения, правда теперь уже вдовы и детей. Так началась
отвратительная дипломатическая игра, которую Керенский назвал "Воскресшие тела",
ведь в прессе так ни разу и не появилось официального сообщения о казни всей семьи
Николая II. Немецкая сторона, попытавшаяся добиться выдачи "немецких принцесс",
дочерей царя, получила предложение сначала от К. Радека - обменять их на
спартаковца Лео Иогихеса (Яна Тышку), а потом от А.А. Иоффе - на Карла
Либкнехта. Эти переговоры освещены К. Яговым в статье, опубликованной в
1935 г.16, где приводится ряд документов министерства иностранных дел Германии.
Предложения были отвергнуты немецкой стороной, а уже в середине сентября нарком
иностранных дел Г.В. Чичерин сообщил немецким дипломатам, что семья попала в
руки белогвардейцев и ее судьба неизвестна. Берлин все понял и замолчал.
Между тем в это же время в России действовала еще одна дипломатическая
миссия, пытавшаяся спасти семью казненного монарха, по поручению испанского
короля Альфонса XIII, не состоявшего в прямом родстве с Николаем И. Прямых
контактов испанский королевский и русский императорский дворы не имели,
обмениваясь только официальными письмами по случаю торжественных дат.
Война 1914-1918 гг. способствовала внутриполитической консолидации испанского
общества. Нейтралитет, объявленный Испанией уже в начале войны, в осуществле¬
нии которого немалая заслуга принадлежала Альфонсу ХШ, обернулся притоком денег
в страну и ее процветанием. Это было время "жирных коров", которые, правда, очень
быстро похудели после Версальского мира.
Трагедия войны остро переживалась испанским королевским домом: мать короля,
Мария-Кристина, принадлежала к австрийскому дому Габсбургов, а жена, Виктория-
Евгения, - к английским Баттенбергам. Усилиями короля при его личном секретариате
было создано отделение, которое взяло на себя бремя поиска пропавших без вести
солдат и офицеров воюющих стран, вызволения из плена раненых, ходатайствовало о
смягчении смертных приговоров (более 40 случаев), а также оказывало помощь
депортированному гражданскому населению, действуя зачастую более эффективно,
чем Красный Крест. Сам Альфонс являлся не только вдохновителем, но и активным
исполнителем этой миссии, лично решая многие вопросы со своими дядьями и
племянниками - монархами Европы. Испанские посольства в России, Берлине и
Австрии, Стокгольме и Берне помогли тысячам людей вернуться на родину и среди
них - многим русским. Тогда имя Альфонса было на устах каждой европейской
женщины, чей муж или сын находились на фронтах войны. В этой помощи не было
приоритетов, и пропавший немецкий солдат разыскивался наравне с русским, бельгий¬
ским, сербским или французским. Сразу же после Февральской революции в России,
когда новый посол Временного правительства Нехлюдов вручил верительные грамоты
испанскому королю в Восточном дворце и после выполнения всех необходимых
14 Kerenski Л. Op. cit., р. 155.
15 MAEAG, f. Politics, leg. 2649.
16 Jagow К. Die Schuld an Zarenmord. - Berliner Monatshefte, 1935, № 13.
156
формальностей собрался удалиться, Альфонс XIII поднялся с трона и сказал, что
благодарен Нехлюдову за упоминание его заслуг перед русским народом, но сейчас его
больше беспокоит судьба еще одного пленника - Николая II, и он просит посла
передать своему правительству настойчивую просьбу короля предоставить узникам
свободу17. Альфонс полностью доверял поступавшей из Англии информации, согласно
которой для спасения делалось все возможное.
Когда же пришла весть о казни Николая И, несмотря на непростую политическую
ситуацию, в которой находилась Испания в 1918 г., Альфонс предпринял попытку
спасения вдовы и детей царя, невзирая на возможную негативную реакцию со стороны
общественности. В самой Испании эта миссия спасения не пропагандировалась, и
испанцы узнали о ней по перепечаткам из зарубежных газет. Здесь мне хотелось бы
сделать небольшую оговорку. Когда в 1978 г. Саммерс и Мангольд готовили свою
книгу для публикации в Испании, уже появились работы Кортес-Каванильяса и Секо
Серрано. Узнав о существовании испанских документов, историки включили в книгу
новую главу под названием "Испанский друг", где прокомментировали документы,
найденные испанскими историками. Они также описали реакцию европейских дворов
на смерть Николая И:
"Москва формально объявила о том, что царь Николай был расстрелян, и мир, не
сумевший помочь, когда это было возможно, с головой ушел в похоронные торжества.
Но даже сейчас короли и премьер-министры соизмеряли свое поведение с политикой и
спрашивали себя, должны ли они присутствовать на посмертных торжествах. В
Англии король Георг V проконсультировался с правительством, которое дало понять,
что "критика не должна увести Ваше величество от линии естественного поведения,
которая заключается в том, чтобы отдать памяти императора ту же дань уважения,
которая отдается другим дружественным монархам". И король Георг, в
сопровождении жены и матери в траурных костюмах, отправился молиться за душу
царя в церковь при русском посольстве на улице Велбэк. В Испании через неделю
после того, как смерть Николая II была признана реальностью, король Альфонс -
согласно официальной хронике - ограничился отменой игры в поло, чтобы
присутствовать на корриде"18. Так пишут американские историки. Но пересмотрев
множество документов в Королевском архиве и уже отчаявшись найти какое-нибудь
подтверждение или просто упоминание об этом событии, я, перебирая папку с
документами из Сантандера (летняя резиденция испанских монархов), обнаружила
документ, который опровергает версию Саммерса и Мангольда:
"Государственное министерство. Канцелярия.
№95.
Многоуважаемый сеньор!
Его величество король соизволил распорядиться в связи со смертью Николая II,
который был императором всея Руси, о трауре при дворе в течение тридцати дней,
наполовину строгом и наполовину облегченном, начиная с 27 настоящего месяца"19.
Получив извещение о казни Николая II, Альфонс решил действовать само¬
стоятельно. На следующий день из Мадрида улетели телеграммы дипломатическим
представителям Испании в Париже, Лондоне, Вашингтоне.
В Петроград была направлена телеграмма:
"Мадрид, 31 июля 1918 г.
Государственный министр поверенному в делах Испании в Петрограде
№ 55. Лично и секретно.
17 Seco Serrano С. Vinetas históricas, р. 292.
18 Sammers A., Mangold Т. Op. cit., p. 324.
19 Patrimonio Nacional Archive General de Palacio (далее - PNAGP), cajon 16.395, exp. 17, caja 15.675.
157
Его величество, побуждаемый высочайшими чувствами, выразил намерение
предоставить убежище в Испании бывшей императрице-вдове и наследному принцу.
Попытайтесь воспользоваться подходящим случаем, чтобы конфиденциально довести
до сведения этого правительства это гуманное стремление, заверяя его, что речь ни в
коей мере не идет о вмешательстве во внутренние дела России, а всего лишь о
попытке найти благоприятное решение вопроса о вдове и сыне императора Николая,
которые могли бы находиться здесь вдалеке от политики. Это на самом деле
облегчило бы данному правительству выход из такой деликатной ситуации и было бы
встречено всеобщим одобрением. Постарайтесь телеграфировать мне о получении
этой телеграммы и после реализации миссии.
Дато"20.
На следующий день из Мадрида улетели телеграммы дипломатическим пред¬
ставителям Испании в Париже, Лондоне, Вашингтоне. Дато просил послов "довести
конфиденциально до правительства гуманные и бескорыстные действия нашего
августейшего монарха, которые, несомненно, будут встречены симпатией"21. 7
августа идентичные телеграммы были отосланы представителям Испании в Берне,
Гааге, Стокгольме, Вене, Софии и других европейских столицах.
Телеграммы вызвали бурную реакцию, в ответ посыпались одобряющие ответы,
хотя реальные предложения пришли только из Швеции, которая предлагала
беспрепятственный проезд через свою территорию, и от Голландии, предложившей
послать своего представителя для участия в миссии спасения.
Прежде чем рассказать об испанской миссии, достойной уважения, хотя и не
принесшей результатов - да и о каких результатах может идти речь, если царица и
дети были мертвы, - мне бы хотелось обратиться к письму Фернандо Контрераса,
ярко обрисовавшему атмосферу, окружавшую царскую семью в последние месяцы
перед казнью:
"Политически Николай II перестал существовать с первых часов революции в
марте, и идея царизма, принцип и система, которые ее составляют, уже умерли
естественной смертью, хотя оставался в живых ее последний представитель, и если
беспримерная для истории скорость, с которой пошел на дно столь древний режим,
были удивительны, то никого не удивило, и печально признавать это, уничтожение
суверена, который уже больше не имелся в виду как политический фактор
контрреволюции и даже неблагодарно был покинут собственными друзьями и
придворными"22.
И хотя Контрерас готов был, если не принять, то понять равнодушие народа к
монарху, то уж никак не мог ни принять, ни понять позиции тех, "которые в качестве
приближенных окружали трон, осыпанные милостями". Право же, грустно читать
строки дипломата, отнюдь не относящегося к революционно настроенным кругам, но
беспощадно критикующего тех, кто совсем недавно находился в непосредственной
близости от трона.
"Среди этих элементов... не заметно ни малейшего знака протеста, ни выражения
боли, которая восстановила бы их пошатнувшуюся честь, но верные своим привычкам
к коррупции и глубокому заблуждению, что жизнь для них должна состоять только из
веселья и наслаждений, они все еще делают усилия, чтобы вести робко и тайно среди
этого народного вихря страстей и преступлений жалкое подобие светской жизни, где
развлекают себя азартными играми, потакают своим порокам в невоздержанности,
когда находят что-нибудь выпить, и обманывают донимающий их голод, если не
находят еды". Контрерас приводит факты полнейшего равнодушия к судьбе монарха,
20 MAEAG, f. Politica, leg. 2649; f. Correspondencia con embajadas, leg. 1726, telegramas.
21 Ibidem.
22 Seco Serrano C. Venitas históricas.
158
живым примером которого служил салон графини Клейнмихель, по-видимому,
посещавшийся дипломатом: она "лезет из кожи, чтобы поддерживать открытой в
тайном углу этого огромного города пародию на то, что когда-то было ее блестящим
салоном, где сейчас слышатся жалобы и протесты из-за нехватки денег, но где не
упала ни одна слеза о монархе, который, может быть, является невинной,
искупительной жертвой за ошибки всех. И если так ведут себя те, кто должен носить
траур по пролитой крови, то что же можно ожидать от равнодушного народа или
большевиков? Первые, повторяю, похоже, спокойны и совершенно равнодушны к
трагическому событию, а вторые, понятно, выглядят удовлетворенными преступле¬
нием и в своей прессе... оскверняют память того, который, в общем, был лучше их
всех"23.
Такова была ситуация внутри страны. Сейчас, когда монарх был казнен, и остались,
как предполагалось, его вдова и дети, Европа, казалось бы, должна была
продемонстрировать свое великодушие. Но вопрос оказался не таким простым.
Например, на предложение испанского монарха английское правительство
прореагировало своеобразно и текст отправленной в Лондон телеграммы через
несколько дней пришлось дополнить. В 70-х годах Секо Серрано, который обнаружил
интересное донесение испанского посла в Лондоне Мерри дель Валя Эдуардо Дато,
которое и было опубликовано историком с соответствующими комментариями.
"Мой дорогой друг и начальник! Обрыв связи во время нашего вчерашнего
разговора не позволил мне довести до Вашего сведения очень важную и срочную
мысль, связанную с действиями, начатыми Вами в пользу вдовы и детей несчастного
экс-императора России.
Мать указанного монарха осталась в руках Советов, и что еще хуже, больше¬
вистской солдатни. Три или четыре недели назад я уже телеграфировал Вам, что с
февраля не было новостей от этой почтенного возраста принцессы. Не было ли у Вас
возможности включить эту высочайшую сеньору в проект переговоров? Она, как Вам
известно, сестра королевы Александры, матери короля Георга V, и действия в ее
пользу сделали бы более приемлемой для британской королевской семьи и английского
народа ту миссию, которая готовится для освобождения императрицы Аликс. О
последней, как мне известно из достоверных источников, очень плохого мнения как
дворец, так и общественное мнение. Она воспринимается как сознательный, так и
бессознательный агент Германии, и основная, хотя явно невольная, причина
революции, так как давала плохие советы своему мужу, которым полностью
руководила, не позволяя ему принять решения, которые, предположительно, спасли
бы имперский трон и саму Россию. Надо добавить, что раздражение, обоснованное или
несправедливое, но в совокупности очень сильное, против ймператрицы Аликс доходит
до крайности, исключая любую возможность ее проживания в Соединенном
королевстве”24.
Могущественная Англия не хотела связывать себя никакими обязательствами и,
как всегда, ставила политические интересы во главу угла.
Альфонс XIII предполагал негативную реакцию левых сил. Именно поэтому
переговоры готовились в тайне, телеграммы рассылались с грифом "совершенно
секретно" и в испанскую прессу не поступало никаких заявлений от готовивших
миссию. Король пытался прийти на помощь покинутой в несчастье императрице,
действуя больше от своего имени, хотя и заручившись поддержкой испанского
правительства. Последнее поначалу также восприняло действия монарха как шаг
доброй воли, но, получив телеграмму от Мерри дель Валя, Эдуардо Дато, вероятно,
задумавшись об оборотной стороне вопроса, немедленно позвонил королю. Думаю, что
обнаруженная мною запись в дневнике Альфонса, который вел один из секретарей,
датируемая 6 августа 1918 г., как раз и свидетельствует об имевшем место разговоре:
23 Ibidem.
24 Ibid., р. 293.
159
"Сегодня, в два часа дня его величество король работал со своим личным
секретарем... и разговаривал с государственным министром, который находился в Сан-
Себастьяне, о мерах, которые могут быть приняты, для спасения императрицы
Российской и ее детей, также как и других членов императорской семьи"25.
В эти дни в иностранные представительства были разосланы новые телеграммы:
"Сан-Себастьян. 5 августа 1918 г.
Государственный министр поверенному в делах в Петрограде
№ 59.
Миссия, возложенная на Вас в моих радиограммах 55 и 57, должна иметь в виду
мать, вдову и всех детей покойного императора.
Дато".
"Берлин
№ 462.
В моей радиограмме, совершенно секретной № 456, относительно экс-императрицы
России и наследного принца по ошибке пропущена мать покойного императора
Николая, которой наш монарх также готов предоставить убежище в Испании. Прошу
вас надлежащим образом исправить пропуск.
Дато"26.
А теперь обратимся к самой миссии.
С мая 1918 г. на пост поверенного в делах Испании вступил Фернандо Гомес
Контрерас, который должен был приехать в Петроград еще зимой. Но, прибыв в
Стокгольм в феврале, он не смог выехать из-за беспорядков, начавшихся в
Финляндии. Прежний посланник, Гарридо, находившийся в России, слал умоляющие
телеграммы: он получил разрешение Германии возвращаться через немецкую
территорию и опасался, что из-за неудачных мирных перс/оворов может потерять эту
возможность: "Если Контрерас воспользуется любой возможностью и приедет, он
найдет меня здесь в качестве частного лица, без средств и без возможности выехать к
новому месту назначения. Должен заверить, что гораздо легче въехать в Россию, чем
из нее выехать"27.
Итак, в мае 1918 г., когда Контрерас снова появился в Петрограде, ситуация уже
была экстремальной. Все депеши, отправленные Контрерасом, интересны и
содержательны, автор не избегает эмоций при оценке событий и, в частности, 20 июля
1918 г., посылая информацию об убийстве германского посла графа Мирбаха в
Москве, несмотря на свои личные добрые отношения с этим дипломатом, смерть
которого глубоко взволновала Контрераса, не преминул заметить:
"Вместе с этими выражениями чувств, которые так естественны, также говорит
логика, и если преступление никогда не может быть прощено, важно, по крайней мере,
найти объяснение...
Нельзя обращаться с народом так, как обошлись с русским народом: нельзя с целью
победы дезорганизовать его армию, уничтожив все зачатки дисциплины; это
аморально войти в союз с двумя такими авантюристами, как Ленин и Троцкий,
призванными для насаждения режима разбоя и анархии, и нельзя, в конце концов,
установить мир, от которого краснеют даже подписавшие его, извиняясь сегодня
перед своими согражданами, говоря, что они были вынуждены это сделать под
нажимом силы.
25 PNAGP, cajon 16.395, exp. 17, caja 15.675.
26 MAEAG, f. Politica, leg. 2649.
27 Ibidem.
160
В том, как все обернулось, виноваты все, но в большей мере сами немцы, которые
усилиями сотен немецких агентов, заброшенных из Швеции через Финляндию,
воспользовались первым сотрясением в марте 1917 г., которое без их рокового
вмешательства могло бы ввести эту империю в семью цивилизованных народов,
посеяли анархию на фронтах, неподчинение в массах, купив Троцкого и Ленина,
доставленных немецким правительством сюда через свою территорию в
бронированном вагоне (курьезный и уникальный в истории случай), начали ту
максималистскую пропаганду, что в кровавые дни июля была почти что воспринята
Временным правительством, и с удвоенными усилиями и новыми денежными суммами
при уже явной агитации среди народа немецких агентов и русских анархистов
(случайный союз) достигла в конце концов триумфа при помощи насилия и
всевозможных эксцессов. Как следствие, явилось правительство народных комиссаров,
и с ним одновременно и как бы по волшебству появилась в Петрограде немецкая
миссия, во главе с этим самым несчастным графом Мирбахом, которая оказалась в тот
самый момент, когда их коллеги максималисты, уже хозяева власти, провозгласили из
Смольного дворца на берегах Невы уничтожение всех моральных, религиозных и
политических принципов, на которых основано наше общество, и слом всего
существующего"28.
Карта, разыгрываемая Германией, была так отвратительна Контрерасу, что даже
большевики в этой ситуации выглядели более "чистыми". Притязания немецкой
стороны казались настолько несправедливыми, что даже те самые люди, которые
презирают понятие "Родина", нашли их чрезмерными, и не потому, что это против их
совести или того, что они называют своими принципами, а потому, что, зная, что не
являются представителями русского народа, придя к власти силой, не чувствовали
себя достаточно сильными, чтобы принять немецкие условия, и боялись, что власть
уйдет от них, из их рук (это о первой стадии переговоров в Брест-Литовске. -
А.О.-Э.). Далее дипломат пришел к неизбежному финалу истории:
"Был подписан мир и подписавшие оправдывались, что он был вырван силой,
добавляя, чтобы успокоить массы, некоторые пустые фразы в марксистском духе,
например, "немецкий пролетариат исправит в свое время эту несправедливость" и что
"это состо/ние вещей является временным, так как близка уже победа социальной
революции во всем мире".
Таким образом, Мирбах вернулся уже в качестве полномочного посла при
правительстве Советов и это было официально признано его величеством импе¬
ратором Вильгельмом П, который принял на законных основаниях анархиста Иоффе в
качестве посла при своем дворе.
У миссии Мирбаха не ожидалось трудностей с Советом народных комиссаров, так
как ее техника была очень простой: просить, сколько хочешь... И так с первого
момента своего прибытия немцы получают назад свое секвестрированное имущество,
получают компенсации за нанесенный ущерб, во всем им предоставляются
исключительные права, которые не положены нейтралам"29.
Эта информация была отправлена 20 июля 1918 г. после убийства графа Мирбаха,
а 24-го пришли официальные известия о казни императора Николая II. Тогда дипломат
еще не подозревал, что он получит полномочия провести переговоры о вывозе
императрицы и детей в Испанию.
В самом конце июля - начале августа Контрерас получил от своего правительства
соответствующие инструкции: провести переговоры с наркомом иностранных дел
Чичериным по поводу царской семьи, а также узнал, что действовать ему придется не
в одиночку, а при содействии голландского представителя.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
6 Новая и новейшая история, № 5
161
"28 августа 1918 г.
Посол Испании государственному министру
№ 108.
Представитель Нидерландов прибыл сообщить мне, что он только что получил
распоряжения своего правительства поддержать мою миссию. Представитель
Нидерландов получил соответствующие инструкции через Стокгольм и делает вывод,
что они были переданы несколько дней назад, так как уже долгое время он также не
получает телеграмм от своего правительства. Я выразил ему свое мнение по вопросу и
средствах осуществления миссии, изложенные Вашему превосходительству в
телеграмме № 107, которые Вы утвердили, так как они являются единственно
возможными и приемлемыми. В этой связи мы направили письмо специальной почтой
комиссару-министру иностранных дел, сообщая ему, что мы желаем видеть его по
важным вопросам, сознательно не указав ему цель нашего визита, чтобы он случайно
не отказался принять нас и чтобы заранее не обдумал ответа, который нам
невыгоден"30.
Трудности со связью существовали колоссальные. Многие телеграммы не при¬
ходили вообще. Свои информации Контрерас посылал или через Стокгольм, или через
Берлин. Действовать приходилось самостоятельно и на месте принимать решения. Вот
еще одна телеграмма от 27 августа: "Из-за дезорганизации телеграфной службы
невозможно получить никакую информацию, и здесь всегда принимают и взимают
плату за телеграммы, хотя их и не отправляют. Также нет телеграфной связи со
Швецией, потому что Финляндия не разрешает передавать телеграммы, идущие из
России... Ситуация осложняется с каждым днем... Узнав сегодня о миссии, порученной
мне Вашим превосходительством, чтобы добиться вывоза в Испанию российской
императорской семьи, я поспешил подготовить средства для ее реализации, и мой долг
так же велик, как велик и риск, с которым она сопряжена"31.
Обстановка в России резко осложнилась: в России начинался красный террор, и все,
заподозренные в содействии буржуазии, подлежали взятию под стражу, а в худшем
случае - расстрелу по приговору революционного трибунала. Все это описано
Контрерасом в донесении, озаглавленном "Режим террора в России":
"Имею честь передать Вам копию одного нового декрета Совета комиссаров
Северной Коммуны, который вместе с другими, аналогичного содержания, рас¬
пространяясь по стране, устанавливает режим террора в России... Этот апатичный
народ, уже деморализованный, без сил и энергии, переносит свои мучения с постыдной
покорностью и не пытается - не скажу организовать сопротивление, способное
покончить наконец с этой тиранией, - даже обсуждать или не подчиняться любому из
бессмысленных этих распоряжений, идущих во вред самому пролетариату, на который
они всегда ссылаются, провозглашая каждую секунду власть Советов.
И так они позволяют издеваться над собой, подавлять, грабить и врываться в дома.
А несколько дней назад был опубликован декрет, приказывающий зарегистрироваться
всем офицерам, служившим в армии, без различий в классах и чинах, и в России не
было ни одного, кто бы этого не сделал. Сам же приказ вышел с предательской целью
узнать их имена и адреса, чтобы впоследствии арестовать, что и произошло. Когда же
один из моих коллег сказал Зиновьеву, что это было бесчестно, тот ответил: "По
правде говоря, не думал, что в России тридцать тысяч слабоумных", - такое было
количество зарегистрировавшихся и задержанных офицеров на то время.
Таким образом, все они были арестованы: в Петрограде только за несколько ночей
было задержано до 6000 и отправлено в Кронштадт на огромных баржах, сильно
изношенных, из тех, которые служат для перевозки бревен. Известно, что одна из
барж с 500-600 узниками случайно перевернулась, и все несчастные погибли вместе с
30 Ibidem.
31 Ibidem.
162
ней, и кроме того, многие позже были расстреляны после того, как их заставили самим
себе вырыть могилу.
Как будто бы этого мало, на побережье Петергофа вблизи от Кронштадта течение
каждый день выносит большое число трупов, и почти все с руками и ногами,
связанными железной проволокой жесточайшим образом и с разорванными тканями от
острых концов этой проволоки. И так как аресты многочисленны и осуществляются по
' прихоти на таких условиях, арестованные оказываются потерянными для своих семей
и никому не известно их местонахождение.
В грязных тюрьмах, где их содержат, даже не ведут списков их имен, им не дают
еды, и потому большинство умирает от истощения, их количество таково, что тюрьмы
переполнены, и в одной камере ограниченных размеров, которая при старом режиме
предназначалась одному арестанту, сегодня находится десять или двенадцать человек,
плотно прижатых друг к другу, многие из них погибают, задохнувшись.
Расстрелы* производятся без суда и следствия, во многих случаях только чтобы
освободить место в тюрьмах для новых заключенных, и хотя печатным органам
предписано публиковать имена казненных, по правде это распоряжение редко
исполняется, и многие семьи этих арестованных живут в постоянной агонии, ничего не
зная о близких, которых у них отняли"32.
В такйх условиях дипломаты искали возможность выехать в Москву, направив
серию писем и прошений в комиссариат иностранных дел. К сожалению, мне не
удалось обнаружить ни в одном из архивов сами эти письма, может быть, они хранятся
где-нибудь в архивах министерства иностранных дел России. О начале миссии
обнаружена следующая телеграмма:
’’Берлин. 2 сентября 1918 г. 12 час. 17 мин.
Посол Испании государственному министру
№ 842.
Получаю 1 сентября следующую телеграмму из Санкт-Петербурга: ”№ 109.
Народный комиссар по иностранным делам ответил, что примет нас в Москве. Для
этого выезжаю сегодня ночью в сопровождении коллеги.
Поло” "33.
Поло - Луис Поло-де-Барнабе, испанский посол в Берлине. Ему сообщил Контрерас
о своем выезде на переговоры. 15 сентября 1918 г., вернувшись в Петербург,
Контрерас составил донесение о переговорах34.
’’Получив 22 августа 1918 г. распоряжения Вашего высочества ходатайствовать о
перемещении российской императорской семьи в Испанию, я решил, что дело такой
важности может быть обсуждено персонально с комиссарами центрального
правительства Москвы. Не стоило терять времени в ожидании более благоприятной
ситуации, так как с каждым днем... ситуация становилась более тяжелой для
царственных особ... Необходимо было продемонстрировать, что есть тот, кто не
забыл о царственных пленниках, и я подумал, как думаю и сейчас, что, несмотря на
то, что миссия пока не принесла желаемого результата, было полезным показать этим
народным комиссарам, что один благородный монарх и его правительство просили
уважения для августейших особ’’.
Далее дипломат описывает, как вместе с голландским представителем Уденгеймом
они прибыли в Москву как раз после покушения на Ленина. Дипломаты понимали, что
в условиях вспыхнувшего народного гнева судьба царской семьи может решаться в
одночасье самым жестоким образом. Понимали они и сложность своей миссии, так как
в данном случае являлись представителями ненавистной буржуазии. Кроме того, не
32 Seco Serrano С. V in etas históricas.
33 MAEAG, f. Politica, leg. 2649.
34 Seco Serrano C. Vinetas históricas.
6*
163
была известна и судьба самого Ленина, зарубежные, в частности испанские, газеты
опубликовали корреспонденции о смерти вождя большевиков (что было опровергнуто
только через неделю). В условленный час два дипломата пришли к гостинице
"Метрополь", где помещался НКИД. Им не позволили войти в здание, ответив, что
комиссаров нет. Один из работников комиссариата, который в этот момент выходил из
здания, разрешил им пройти в вестибюль. Удендейг готов был "покинуть поле боя",
деморализованный грубым обращением, Контрерас же призывал, не обращая
внимание ни на что, добиться свидания. Целый час провели дипломаты в вестибюле в
обществе красногвардейцев, и, когда их терпение уже подходило к концу, они столк¬
нулись с заместителем Чичерина Л. Караханом, "известным по переговорам в Брест-
Литовске, который... более любезно нам позволил подняться в свой кабинет, водрузив
на письменный стол без бумаг, ручек, чернильницы, но с телефоном револьвер
огромных размеров, который он извлек из своего кармана как основной рабочий
инструмент. Потом появился Чичерин и, коротко извинившись за опоздание,
предложил перейти к делу.
Чичерин не скрывал противоречивых чувств, которые вызвала цель нашего визита,
начав с объявления, что, хотя он не должен удивляться, что мы как представители
стран, все еще управляемых монархами, пришли хлопотать о царственных особах, но
не может не выразить сожаления, что мы ходатайствуем о тех, кто принес русскому
народу столько зла, бывшему жертвой их жестокого правления в течение веков. Все
это говорилось с демонстрацией эрудиции, с несуществующими аналогами, между
Французской революцией и этой скандальной разнузданностью, с абсурдными
сравнениями между императрицей России и Марией-Антуанеттой, в экзальтированных
тонах, подходящих более для митинга, как будто бы он хотел убедить нас, что
освобождение пленной императорской фамилии принесет вред русскому народу".
Контрерасу удалось объяснить, что Испания не желает вмешиваться во внутренние
дела России, а попытается только "реализовать гуманное намерение нашего монарха,
предоставив убежище императорской семье, которая сможет находиться в Испании
вне любой политики". Чичерина интересовали гарантии того, что царская семья не
будет участвовать в контрреволюционной борьбе, ведь правительство народных
комиссаров не признано Испанией. Контрерас доказывал, что сейчас не решается
вопрос о признании правительства, так как это вопрос сложной дипломатической
процедуры, и кроме того "народный комиссар в своей ноте от декабря прошлого года
сообщил союзникам и нейтралам, что признание - это формальность и что власть
советов абсолютно равнодушна к этой детали дипломатического ритуала (нота
Троцкого от 1(14) декабря 1917 г. - А.О.-Э.). Чичерина совершенно разоружил
приведенный аргумент, но тут вступил Карахан. Он стал ссылаться на трудности, с
которыми связано перемещение, на то, что народ будет против выдачи царской семьи,
а самое главное - он уверен в поддержке испанского рабочего класса, при этом он не
скрывал стремлений к революции пролетариата всех стран". Насколько
демагогическим являлся разговор можно судить хотя бы по тому, что Чичерин в
разговоре вспомнил, как испанская полиция задержала Троцкого в 1916 г. Контрерас
парировал это, заявив, что с Троцким поступили в Испании очень мягко, чего нельзя
сказать об августейших особах. Описание разговора заняло шесть рукописных страниц
отчета, и первая его часть заканчивалась выражением Контрерасом уверенности в
том, что "русский народ... честен и справедлив... и что он, в свою очередь, понимая
данный аспект дела, попытается разрешить ситуацию, в которой находятся имперские
дамы, в пользу их освобождения, хотя, в любом случае, вопрос не мог разрешиться
нигде, кроме Центрального Исполнительного Комитета, перед которым он
намеревается поднять вопрос, когда это позволит состояние здоровья Ленина".
Так закончилась беседа, продолжавшаяся почти час. Дипломаты вышли совершенно
подавленные, поняв тщетность своих намерений. Однако Контрерас не успокоился и в
ближайшие дни предпринял новый поход к Чичерину. Из разговора он вынес твердое
убеждение в том, что семья императора жива. "Комиссар систематически с
164
дьявольским лицемерием и лживостью избегал любого ответа на мои вопросы,
которые могли бы прояснить место и условия, в которых они (семья императора. -
А.О.-Э.) находятся... И единственным ответом, который он дал на мои как прямые,
так и косвенные вопросы, был тот, что они находятся во власти Совета и в полной
безопасности".
Контрерас вынужден был вернуться в Петроград из-за серьезных трений с
правительством народных комиссаров. Являясь нейтральной страной в военном
конфликте, Испания, в согласии с международными конвенциями, являлась пред¬
ставительницей интересов воюющих сторон (Австрии, Германии, России) в других
странах. Испанским представителям было доверено дипломатическими пред¬
ставителями Николая II, а потом Временного правительства имущество и документы
посольств в Берлине и Вене, а правительству народных комиссаров Испания
отказалась его выдать, так как оно не было признано последней. Вот как описывается
ситуация в телеграмме, переданной Контрерасом через Стокгольм*
”31 октября 1918 г.
№ 193.
Вся большевистская пресса обвиняет Испанию перед всем миром в препятствиях,
которые она чинит, чтобы не передавать русское посольство в Берлине, и в том, что
из этого здания исчезли многие картины большой художественной ценности и важные
исторические документы, среди которых корреспонденция между царем и
Вильгельмом. Говорится также о том, что долг Испании заключался в том, чтобы
возвратить в том виде, в котором она их получила, здания русских представительств
представителям русского правительства, каким бы оно ни было... а не рассуждать, что
должна и чего не должна передать Испания. Добавляется также, что та же самая
история повторяется в Вене, и сообщается, что русское правительство применит
крутые меры к испанским дипломатам в Петрограде".
В тяжелейшей обстановке в ноябре 1918 г., став практически заложником,
Контрерас бежал из России, перейдя границу с Финляндией. Естественно, в этих
условиях дипломат больше не смог вернуться к "миссии спасения". Кроме того, все
говорило за то, что семья Николая погибла.
Судьба самого Фернандо Гомеса Контрераса окончилась трагически. Вся его жизнь
была отдана дипломатической службе, и после России он был посланником в
Хельсинки, Варшаве, Софии. В 1932 г. вышел на пенсию, а в 1936 г. пал жертвой
гражданской войны в Испании. Король Альфонс XIII закончил свою жизнь в эмиграции
и, по-видимому, с этим связано отсутствие многих документов в Королевском архиве
Восточного дворца.
165
© 1993 г.
НА. ТРОИЦКИЙ
МАРШАЛЫ НАПОЛЕОНА
26 маршалов Первой империи (1804-1814 гг.) во Франции - это исторический
феномен. Появление такого количества военачальников впервые стало возможным
благодаря не столько Наполеону, сколько Великой французской революции. Никогда
ранее мир не видел столь яркого созвездия военачальников, поднявшихся из народных
низов исключительно по своим дарованиям и независимо от родства, протекции или
монаршего каприза. И.В. Гёте считал, что "французских маршалов, а также Блюхера
и Веллингтона вполне можно поставить в один ряд" с героями Древней Греции1. После
второй мировой войны английский публицист Александр Верт, желая подчеркнуть
выдающиеся способности Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского и
других советских полководцев, заметил, что в СССР выдвинулась "блестящая плеяда
генералов и маршалов, равных которым не было со времен "Великой армии"
Наполеона"2.
На Западе, причем не только во Франции, но и в Англии, Германии, Польше,
США, о маршалах Наполеона существует обширная литература - как обо всех
вместе3, так и о каждом в отдельности. В России же, кроме изданной в 1912 г. и ныне
являющей собою библиографическую редкость книги К.А. Военского с
характеристиками маршалов, принявших участие в нашествии Наполеона на Россию4,
а также еще более старой и менее доступной биографии И. Мюрата5, ничего
специально относящегося к наполеоновским маршалам нет. В 1930-е годы Максим
Горький попытался вызвать к ним писательский интерес, заметив с упреком, что у нас
"обойдены вниманием литераторов и такие фигуры, как сын трактирщика Иоахим
Мюрат, впоследствии король Неаполя, сын бондаря и рядовой солдат - маршал
Ожеро, сын рыночной торговки - маршал и герцог Ней"6. Однако ни наши писатели,
ни наши историки не заинтересовались "такими фигурами".
В результате наши историки и писатели, даже непосредственно занимающиеся
изучением наполеоновских войн, путают маршалов Наполеона. Называют
маршалами, говоря о 1812 г., Ю. Понятовского, Ж.-А. Лористона, О. Себастиани,
А. Коленкура, П. Дарю, А. Жюно, Ж. Раппа7. В то время как Понятовский стал
маршалом лишь в 1813 г., Лористон - в 1823, Себастиани - в 1840, а Коленкур, Дарю,
Жюно и Рапп вообще никогда не были маршалами. Маршала Пьера Франсуа Шарля
1 Эккерман ИЛ. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., 1986, с. 132.
2 Верт А. Россия в войне 1941-1945 гг. М., 1967, с. 154.
3 См., например: Gavard Ch. Galerie des marechaux de France. Paris, 1839; Życie marszałków francuzkich.
Warszawa, 1841; Lacroix D. Les marechaux de Napoleon. Paris, 1896; Lacroix D. Die marschall Napoleon I. Leipzig,
1898; Zurlinden E. Napoleon et ses marechaux. Paris, 1910; Macdonell A.G. Napoleon and His Marshals. New York,
1934; Chardigny L. Les marechaux de Napoleon. Paris, 1946 (есть подробная библиография); Valynseelc J. Les
marechaux du Premier Empire, leur familie et leur descendance. Paris, 1957; Foster J. Napoleon's Marshals. New
York, 1968; Young P., Dunn-Pattison R. Napoleon's Marchals. London, 1977; Napoleon's Marshals. New York,
1978; Dictionnaire analytique, statist!que et compare des vingt-six marechaux du Premier Empire. Paris, 1986.
4 Военский KA. Наполео i и его маршалы в 1812 г. М., 1912.
5 Сухомлинов ВА. Мюра: Иоахим-Наполеон, король обеих Сицилий. СПб., 1896 (автор этой книги в
1909-1915 гг. был военным министром Российской империи).
6 Горький М. Собр. соч., т. 26. М., 1953, с. 159. Горький путает здесь происхождение Ожеро и Нея.
7 Бескровный Л.Г. Отечественная война 1812 г. М., 1968, с. 10; его же. Русское военное искусство XIX в.
М., 1974, с. 106; Ростунов И.И. П.И. Багратион. М., 1970, с. 102; Михайлов О.Н. Генерал Ермолов. М.,
1983, с. 274; Орлик О.В. Гроза двенадцатого года. М., 1987, с. 183; Бородино. 1812. М., 1987, с. 243;
Клятву верности сдержали. М., 1987, с. 474; Сироткин В.Г. Отечественная война 1812 г. М., 1988, с. 35,
64, 125,203; Жилин П.А. Отечественная война 1812 г. М., 1988, с. 253.
166
Ожеро путают с его братом, бригадным генералом Жан-Пьером8, а маршала
Л.Г. Сен-Сира, напротив, представляют в двух лицах: говоря о капитуляции в 1813 г.
перед русскими Дрездена, где был пленен Сен-Сир, выражаются таким образом:
“Сдались в плен два маршала”9 (надо полагать, один маршал - Сен, а другой - Сир?).
Таким образом, становится очевидной необходимость предложить нашим читателям
первый на русском языке очерк обо всех маршалах Наполеона.
Звание маршала во Франции существовало как придворное достоинство с начала
XIII в., а как высший воинский чин - с 1627 г., когда кардинал А.Ж. Ришелье
упразднил должность коннетабля - главнокомандующего армией. Людовик XIV имел
уже 20 маршалов Франции, среди которых были крупнейшие полководцы своего
времени - А. Тюренн, С. Вобан, К. Виллар. Звание маршала с его отличительным
знаком - маршальским жезлом - присваивалось по указу короля. Так было до тех пор,
пока революционный Конвент 21 февраля 1793 г. не упразднил наряду с другими
"старорежимными” титулами и воинское звание маршала. Наполеон восстановил
звание маршала Франции, как только Франция после 12-летнего режима Первой
Республики была провозглашена 18 мая 1804 г. империей. Этот акт Наполеона был
одним из многих его шагов по возвращению - правда, уже в условиях новой
буржуазной Франции - старых званий и титулов, которые призваны были придать
наполеоновскому двору монархический колорит. Вместе с маршальским званием был
восстановлен и старый порядок его присвоения - по воле и за подписью монарха.
Основополагающие принципы комплектования и содержания армии Наполеон
унаследовал от революции. Благодаря успехам французской экономики и за счет
ресурсов побежденных государств Европы он лучше, чем кто-либо из его противников,
обеспечивал свою армию материально, но еще больше она превосходила все другие
армии, если можно так выразиться, в социальном отношении. То была массовая армия
нового типа. Она комплектовалась на основе всеобщей воинской повинности,
декретированной в 1793 г. и через пять лет несколько суженной в виде так
называемой конскрипции10. Эта армия не знала ни кастовых барьеров между
солдатами и офицерами, ни бессмысленной муштры, ни палочной дисциплины, зато
была сильна сознанием равенства гражданских прав и возможностей. "Последний
крестьянский сын совершенно так же, как и дворянин из древнейшего рода, мог
достичь в ней высших чинов"11, включая маршальское звание. Наполеон любил
говорить, что каждый его солдат "носит в своем ранце маршальский жезл".
Почти все лучшие маршалы Наполеона - Ланн, Массена, Ней, Мюрат, Бессьер,
Лефевр, Сюше, Журдан, Сульт - вышли из простонародья. Службу они начинали
солдатами. Но рядом с ними были и маршады-"аристократы": Даву, Макдональд,
Серрюрье, Мармон, Груши. Жалуя им маршальские жезлы, Наполеон учитывал
главным образом их воинские достоинства. Своего ближайшего друга, генерала
Андоша Жюно, император сделал герцогом, - а герцогский титул имел тогда не
каждый маршал - но так и не произвел его в маршалы, видя, что он как военачальник
все же не дотягивает до уровня маршала. Точно так же не дал он маршальского жезла
Д. Ванд а му, хотя ценил его как генерала настолько, что даже простил ему служебные
злоупотребления, сказав его уличителям: "Если бы у меня было два Вандама, то
одного из них я повесил бы за это!"
Первыми маршалами Первой империи стали 18 генералов, которым Напо¬
леон присвоил маршальские звания декретом от 19 мая 1804 г., на следующий
день после того, как он сам занял императорский трон. Из них четыре старейших были
8 Орлик О.В. Указ, соч., с. 101, 185; Жилин ПА. Указ, соч., с. 304-305, 477.
9 Бабкин В.И. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 г. М., 1962, с. 199; Минкин МЛ. и др.
От "грозы двенадцатого года" до откликов на декабризм. Саратов, 1983, с. 6.
10 От лат. conscriptio - запись. По закону 1798 г. все французы от 20 до 25 лет записывались на военную
службу. Из них Наполеон каждый год призывал нужное ему количество новобранцев. Подробно см.: Prasad
D., Smythe Т. Conscription. A World Survey. London, 1968.
11 Гейне Г. Собр. соч., т. 5. М., 1957, с. 408.
167
объявлены почетными маршалами. Пожалуй, самое громкое имя тогда имел уже почти
70-летний Франсуа Этьен Кристоф Келлерман - победитель в исторической битве при
Вальми 20 сентября 1792 г., где Французская революция одержала первую победу над
внешним врагом. Очевидец этого события Гёте сказал в тот вечер: ’’Сегодня здесь
началась новая эпоха истории”. Почетным маршалом стал и Жан-Матье Филибер
Серрюрье - участник еще Семилетней войны, герой итальянской кампании
1796-1797 гг., принявший в Мантуе капитуляцию знаменитого австрийского
фельдмаршала С. Вурмзера, с 1802 г. - вице-президент Сената. Наконец, жезлы
почетных маршалов получили еще два далеко не престарелых генерала. Один из них -
50-летний Доминик Периньон, блеск побед которого над австрийцами и пруссаками
1794-1795 гг. не затмил даже тот печальный для него факт, что в 1799 г. он был взят
в плен при Нови А.В. Суворовым, - с 1802 г. был, как и Серрюрье, вице-президентом
Сената. Другой, Франсуа Жозеф Лефевр, которому в мае 1804 г. не было еще и 49
лет, заслуживает особого представления.
Если Келлерман, Серрюрье и Периньон, увенчанные маршальскими лаврами за
прошлые заслуги, больше в сражениях за все время Первой империи не участвовали,
то Лефевр принимал активное участие во всех войнах Империи 1805-1814 гг.,
включая нашествие Наполеона на Россию, где он был начальником прославленной
Старой гвардии. Волонтер революции прямо от сохи, получивший от Наполеона сверх
маршальского жезла еще и титулы графа и герцога Данцигского, малограмотный, но
зато сильный природным умом, крестьянской смекалкой и солдатской доблестью,
Лефевр выдвинулся в ряд лучших наполеоновских маршалов12.
Среди остальных 14 маршалов ’’первого призыва”, наряду с преданными Ланном,
Бертье, Мюратом. Даву, Неем, Бессьером, Сультом, Монсеем, Мортье, Наполеон
включил и тех, кто по тем или иным причинам находился в оппозиции режиму его
личной власти: Массена, Бернадота, Журдана, Брюна, Ожеро. Все они, кроме Бертье
и Монсея, были моложе любого из почетных маршалов, а половина из 14 не достигла и
40 лет: Даву было 34 года, Ланну, Нею, Бессьеру и Сульту - по 35. Из лучших
генералов Республики остались тогда без маршальского звания лишь четверо:
фрондеры Макдональд, Сен-Сир (эти двое - временно) и убежденные республиканцы
Ж.-К. Лекурб и бывший уже в тюрьме Ж.-В. Моро. В дальнейшем стали маршалами
Империи еще восемь генералов: в 1807 г. - Виктор, в 1809 - Макдональд, Удино,
Мармон, в 1811 - Сюше, в 1812 - Сен-Сир, в 1813 - Понятовский, в 1815 - Груши.
Некоторые историки, включая таких авторитетных, как А.С. Трачевский и
Е.В. Тарле, полагали, что наполеоновские маршалы - "это все-таки нули, которые
составляли крупную сумму лишь при такой единице, как сам Наполеон"13, и что "без
него [они] теряли половину своей военной ценности’’14. Здесь нужна оговорка.
Маршалы, возможно, и выглядели нулями в сравнении с Наполеоном, но не все. Иные
из них и без него замечательно доказали свое высокое военное звание: Журдан - в
1794 г. при Флерюсе, Массена - в 1799 г. при Цюрихе, Даву - в 1806 г. при
Ауэрштедте, Сюше - с 1809 по 1814 гг. в Испании, Ланн - всегда и везде, где ему
приходилось действовать15.
Вообще, из своих генералов Наполеон выше всех ставил Л. Дезэ-и Ж.Б. Кле¬
бера16, которые, однако, не дожили до учреждения маршальских званий: оба они
12 Жена Лефевра Катрин, деревенская прачка, стала героиней всемирно известной комедии Викторьена
Сарду "Мадам Сан-Жен".
13 Трачевский А.С. Наполеон I. Первые шаги и консульство. М., 1907, с. 191.
14 Тарле Е.В. Соч., т. 7. М., 1959, с. 211.
15 О "ценности" маршалов, причем не только военной, свидетельствуют и такие факты: Мюрат был
хорошим королем (в Неаполе) при Наполеоне; королем Швеции, родоначальником правящей там до сих пор
династии стал Бернадот; Сульт долгое время был председателем Совета министров Франции; те же
Бернадот, Бертье, Даву, Сен-Сир, Виктор, Мортье были во Франции, а Понятовский в Польше военными
министрами, Макдональд - государственным министром.
16 O'Meara В. Napoleon en exil, t. 1. Bruxelles, 1822, p. 219.
168
погибли в один и тот же день, 14 июня 1800 г., в разных концах мира - Дезэ в
Пьемонте, Клебер в Египте. Из тех же, кто стали маршалами, самыми выдающимися
были Ланн, Массена и Даву.
Сын конюха, солдат революции Жан Ланн, будущий герцог Монтебелло17, был
замечен Наполеоном еще как батальонный офицер в бою при Дего 15 апреля 1796 г. и
с того дня стремительно пошел вверх, закончив итальянскую кампанию уже
генералом. В Египте он стал одним из ближайших соратников Наполеона, а в походах
1805-1809 гг. - его правой рукой и главной надеждой. Он не только исполнял замыслы
Наполеона, но и сам руководил операциями, выигрывал битвы: при Монтебелло 10
июня 1800 г. с 8-тысячным авангардом рассеял 20-тысячный корпус австрийского
фельдмаршала П.К. Отта, а при Туделе 23 ноября 1808 г. во главе 20-тысячного
корпуса разгромил 45-тысячную армию лучших испанских военачальников
X. Палафокса и Ф. Кастаньоса. Примечательно, что последний четырьмя месяцами
ранее поразил всю Европу, заставив капитулировать в чистом поле у Байлена
французский корпус генерала П. Дюпона. В феврале 1809 г. именно Ланн взял
штурмом легендарную и ранее неприступную Сарагосу, после чего написал Наполеону
о своем неприятии такой войны, когда приходится убивать мирных жителей. Историк
Ж. Мишле считал Ланна "великим солдатом" и "великим полководцем"18. Сам
Наполеон ценил Ланна за "величайшие дарования", называл его "Ахиллом" и
"Роландом" французской армии и вспоминал о нем на острове Святой Елены так: "Я
нашел его пигмеем, а потерял гигантом"19,
Талант полководца Ланн соединял с доблестью солдата. Товарищи по ору¬
жию считали его "храбрейшим в армии". Первым во главе своих гусар он врывал¬
ся на неприятельские позиции, сражался рядом со своими солдатами на улицах
Сарагосы, вел их на штурм Регенсбурга. Когда же друзья в присутствии мар¬
шала однажды восторгались его храбростью, он с досадой воскликнул: "Гусар, кото¬
рый не убит в 30 лет, - не гусар, а дрянь!" Ему было,тогда 35 лет, а через четыре
года, уже покрытый к тому времени 25 ранами, он был смертельно ранен под
Э сел ингом.
Ланн, как и обергофмаршал М. Дюрок, был близким другом Наполеона и верно
служил ему, но, получив от императора маршальский жезл, титул герцога, огромное
состояние - только в 1807 г. сразу 1 млн. франков, - он остался в душе пылким
республиканцем. Перед коронованием Наполеона Ланн, являвшийся тогда
начальником консульской гвардии, устроил императору, которому в Италии он дважды
спас жизнь, бурную сцену протеста20. Даже на смертном одре, по свидетельству лиц,
стоявших за открытой дверью, он упрекал императора в деспотизме и властолю¬
бии21.
Андре Массена, малограмотный, как и Лефевр, сын крестьянина, герцог Риволи и
князь Эсслингский, может быть, превосходил всех маршалов даром полководческой
импровизации и вообще как военачальник был всем хорош. В 1775 г. Массена стал
солдатом королевской армии и к началу революции дослужился за 14 лет до сержанта.
После революции вступил в Национальную гвардию и в 1792 г. стал капитаном, а в
1793 - генералом22. Именно он, разгромив 26 сентября 1799 г. в битве под Цюрихом
русский корпус А.М. Римского-Корсакова, заставил А.В. Суворова уйти из Швейцарии
и тем самым спас Францию от грозившего ей русско-австрийского нашествия. Но этот
уникальный самородок "имел злосчастную склонность к воровству", причем "воровал,
17 О нем под|юбно см.: Villette L. Le marechai Lannes. Un d'Artagnan sous 1'Empire. Paris, 1979; Damamme
J.-C. Lannes, marechai d'Empire. Paris, 1987.
18 Мишле Ж. История XIX в., т. 3. СПб., 1884, с. 265, 269.
19 Наполеон I. Избр. произведения. М., 1941, с. 49; Las-Cases Е. Esprit du Memorial de St.-Helene, t. 1-2.
Paris, 1823; t. 1, p. 240; t. 2, p. 258.
20 Стендаль Ф. Собр. соч., т. 14. М.-Л., 1950, с. 36.
21 Villette L. Op. cit., р. 236.
22 Из биографий Массена лучшей считается: Thierry Д. Massena, 1'enfant gate de la victoire. Paris, 1947.
169
как сорока, инстинктивно”23, а главное - очень много. Это подорвало репутацию
маршала и в конце концов привело к краху, испортило ему карьеру. Когда Наполеон
обругал его: "Вы самый большой грабитель в мире!”, - Массена вдруг возразил,
почтительно кланяясь: "После вас, государь...". За такую дерзость он перед походом в
Россию оказался в опале.
Зато Луи Николя Даву, герцог Ауэрштедтский и князь Экмюльский, отличался
редким для маршала империи бескорыстием, республиканской честностью и прямотой.
Наполеон, будучи уже в изгнании, его охарактеризовал таким образом: "Это один из
самых славных и чистых героев Франции"24. Как полководец Даву блистательно
проявил себя 14 октября 1806 г. в битве под Ауэрштедтом, где он уничтожил
половину 100-тысячной прусской армии во главе с королем, двумя принцами и
фельдмаршалом Пруссии, пока Наполеон в другом сражении, происшедшем в тот же
день под Иеной, ликвидировал другую ее половину. Победа Даву при Ауэрштедте
была тем поразительнее, что он имел всего 27 тыс. бойцов против 53 тыс. у
противника. А. Жомини по этому поводу резонно заметил, что "ни одна из
революционных войн не представляет столь несоразмерного боя со столь
удивительным успехом"25.
Разносторонне одаренный стратег, администратор, политик, "великий человек, еще
не оцененный по достоинству", как писал о нем в 1818 г. Стендаль26, Даву был
исключительно требователен к себе и другим, в любых условиях железной рукой
поддерживал порядок и дисциплину. Поэтому одна из лучших его биографий так и
называется - "Железный маршал"27. В армии его недолюбливали, как человека
излишне сурового. Здесь, по-видимому, Лев Толстой и усмотрел некоторые основания
для того, чтобы изобразить Даву на страницах "Войны и мира" "Аракчеевым
императора Наполеона"28. На деле же кроме личной суровости (тоже, впрочем,
несоизмеримой: Даву был предельно строг, Аракчеев же - патологически жесток)
между "железным маршалом" Франции и "неистовым тираном"29 России не было
ничего общего.
Кстати сказать, распространенная легенда о совместной учебе Даву с юным
Наполеоном то ли в Бриеннской, то ли в Парижской военной школе ни на чем не
основана: давно установлено, что в Парижскую школу Даву поступил 29 сентября
1785 г., т.е. через месяц после того, как Наполеон эту школу окончил30, а в
Бриеннской школе Даву и вовсе не учился.
Рядом с Даву, уступая ему как стратег, но превосходя его как тактик, блистал в
созвездии лучших наполеоновских маршалов Мишель Ней, сын бочара, герцог
Эльхингенский и князь Московский (последнего титула он был удостоен за доблесть в
Бородинской битве), герой всех кампаний Наполеона, человек исключительно
популярный в армии. "Это бог Марс, - вспоминал о нем барон П. Денье. - Его вид,
взгляд, уверенность могут воодушевить самых робких”31.
Воин рыцарского характера и неукротимого темперамента, "огнедышащий Ней”,
как назвал его герой Бородина Федор Глинка, он был живым олицетворением боевого
духа "Великой армии”. Не зря именно ему Наполеон, правда уже после смерти Ланна,
дал прозвище, которое армия ставила выше всех его титулов - "Храбрейший из
храбрых”.
И поныне не угасающий интерес к личности Нея подогревается спорами о том, как
23 Стендаль Ф. Собр. соч., т. 6. М.-Л., 1933, с. 247; т. 14, с. 295.
24 Hourtoulle F.G. Davout le terrible. Paris, 1975, p. 3.
25 Жомини А. Политическая и военная жизнь Наполеона, т. 3. СПб., 1838, с. 286.
25 Стендаль Ф. Собр. соч., т. 14, с. 299.
27 Gallaher J. The Iron Marshal. London, 1976.
28 Толстой Л.Н. Поли. собр. соч., т. 11. М., 1940, с. 20.
29 Рылеев К.Ф. Поли. собр. соч. М., 1934, с. 89.
30 Hourtoulle F.G. Op. ci»., p. 8.
31 Denniie P. Itineraire de Tempereur Napolćon pendant la campagne de 1812. Paris, 1842, p. 46.
170
кончил жизнь этот наполеоновский маршал. 7 декабря во время ’’Ста дней" он
посланный во главе королевских войск против Наполеона, перешел вместе с войскам!
на сторону бывшего императора. Теперь в Париже, на площади Обсерватории, где
французы казнили своего "Храбрейшего из храбрых", стоит памятник ему. В мирово!
же литературе бытует романтическая, но сомнительная версия о том, что Мишел!
Ней в 1815 г. спасся и уехал в США, где прожил до 1846 г. под именем Питерг
Стюарта Нея - школьного учителя32.
Далеко не самый талантливый, но самый красивый и статный, самый популярный i
литературе из маршалов Наполеона - это, конечно, Иоахим Мюрат, трактирный
слуга, ставший имперским принцем, великим герцогом Бергским, королек
Неаполитанским и, кстати, мужем сестры Наполеона Каролины Бонапарт, про
славленным начальником всей кавалерии Наполеона и вообще одним из лучшю
кавалерийских военачальников Запада.
Мюрат не был ни политиком, ни стратегом. Наполеон говорил о нем не бе:
сожаления: "У него так мало в голове!"33 Зато как предводитель конницы, виртуо:
атаки и преследования он, по мнению Наполеона, был "лучшим в мире’’34
Коронованный сорвиголова, Мюрат удалью и отвагой не уступал Ланну и Нею
Д. Байрон писал о нем:
"Там, где вражье войско смято,
Там встречали мы Мюрата"35.
Всегда в авангарде, всегда там, где наибольшая опасность и требуется высочайшее
мужество. Он грубовато подбадривал сражавшихся: "Славно, дети! Опрокиньте эт)
сволочь! Вы стреляете, как ангелы!" В критический момент сам маршал вел в атак]
свои кавалерийские лавы - высокий голубоглазый атлет, красавец с кудрями дс
плеч36, разодетый в шелка, бархат, страусовые перья, со всеми регалиями и с одниь
хлыстом в руке. И при этом он ни разу после сабельного удара под Абукиром в 1799 г
не был ранен.
Головокружительная карьера Мюрата оборвалась трагически. В 1813 г. после
битвы под Лейпцигом он изменил Наполеону, чтобы сохранить за собой неапо
литанский престол, однако во время "Ста дней" вновь выступил на стороне импера
тора, был разбит австрийцами, взят в плен и по приговору военного суда расстрелян37
Даву, Ней и Мюрат хорошо известны в России, главным образом по их участию i
войне 1812 г. В этом отношении рядом с ними можно поставить только Бертье, одноп
из самых близких соратников - не друзей, а именно соратников - Наполеона.
Луи Александр Бертье, сын ученого-географа, с малых лет привыкший работат]
над картой, служил штабным офицером в войнах двух революций - американской i
французской. В 1796 г. он сблизился с Наполеоном и стал его незаменимы!
помощником, военным министром, а с 1807 г. по 1814 г. - бессменным начальнике!
Главного штаба.
По отзыву самого Наполеона, Бертье "характер имел нерешительный, мал<
пригодный для командования армией, но обладал всеми качествами хорошел
начальника штаба"38, а именно - феноменальной памятью, оперативность*
32 Аргументы "за" и "против" этой версии см.: Натансон ЭЛ. Был ли казнен маршал Ней? - Вопросы
истории, 1968, № 7. Из множества биографий Нея самую капитальную составил военный историк Анр|
Бонналь: Bonnal Н. La vie militaire du marechai Ney, v. 1-3. Paris, 1910-1914.
33 Коленкур А. Мемуары. Поход в Россию. М., 1943, с. 294. У Мюрата "было лишь одно политическое
достоинство: он на многое дерзал и храбро дрался". -Мицкевич А. Собр. соч., т. 5. М., 1954, с. 200.
34 O'Meara В. Op. cit., t. 1, р. 90.
35 Байрон Д. Собр. соч., т. 2. М., 1981, с. 82.
36 По своей наружности Мюрат "мог бы послужить скульптору моделью для статуи бога войны". -Дюм
А. Тайный заговор. М., 1991, с. 349.
37 Есть десятки биографий Мюрата на разных языках мира. Из новейших см. TulardJ. Murat ou leveil
des nations. Paris, 1983.
38 Наполеон I. Избр. произведения, с. 68.
17
мышления, работоспособностью, аккуратностью, точностью и быстротой исполнения.
К. Маркс справедливо относил к его достоинствам и ’’геркулесовское здоровье"39. В
общем "более точного исполнителя, более пунктуального и методичного военного
чиновника, более предусмотрительного помощника Наполеон не имел никогда"40.
Понятно, почему император так доверял Бертье, осыпал его наградами - миллионное
состояние, жезл маршала, титулы герцога Валанженского, князя Невшательского,
князя Ваграмского - и так сожалел, что Бертье не было с ним при Ватерлоо: "Будь у
меня Бертье начальником штаба, я не проиграл бы битву". Очевидцы
засвидетельствовали, что в разгар битвы при Ватерлоо Наполеон, видя, что свежий
корпус маршала Груши опаздывает, спросил своего вновь назначенного начальника
штаба Н.Ж. Сульта: "Вы послали гонцов к Груши?" Сульт ответил: "Я послал
одного". "Милостивый государь! - возмутился Наполеон. - Бертье послал бы
пятерых!" Действительно, перед битвой при Эйлау Бертье послал к маршалу
Бернадоту для срочной связи с ним разными дорогами пять адъютантов с одним и тем
же приказом, и, оказалось, не зря: дошел только один из пяти.
Если Бертье был едва ли не самым близким сотрудником, помощником Наполеона,
в некотором роде его "тенью", то Жан-Батист Бессьер, наряду с Ланном, Дюроком,
Жюно, Мармоном, принадлежал к узкому кругу личных друзей императора. Рядовой
солдат 1792 г., обративший на себя внимание Наполеона в 1796 г., будучи еще
капитаном, с 1799 г. ставший начальником консульской гвардии, а затем всей
гвардейской кавалерии, маршал Империи и герцог Истрийский, Бессьер являлся одним
из лучших французских полководцев. Он совмещал в себе энергию Мюрата и
выдержку Даву. Наполеон считал его "первоклассным кавалерийским начальником" и
подчеркивал его "величайшие заслуги" в сражениях при Аустерлице, Иене,
Ваграме41. К тому же Бессьер отличался выдающимися нравственными качествами.
Гражданин античного склада, "истинный республиканец" с "плутарховским
оттенком"42, благородный, гуманный, он был любимцем солдат. "Насколько он был
популярен среди рядовых солдат, - писал о нем К. Маркс, - можно судить по тому
факту, что было сочтено целесообразным в течение некоторого времени не сообщать
армии о его смерти"43.
Маршал Бессьер был убит 1 мая 1813 г. в конце арьергардного боя под
Вейсенфельсом. Командир русской батареи, будущий декабрист О.В. Грабе-Горский
чуть ли не на пари с генералом С.Н. Ланским, как об этом свидетельствовал
очевидец, еще один будущий декабрист кн. С.Г. Волконский, выстрелил ядром в
группу неприятельских всадников, наблюдавших за ходом боя. Бессьер стоял в центре
этой группы. Ядро Горского ударило прямо в него, сразив маршала наповал44.
Превосходными военачальниками были и два наполеоновских маршала, которым
выпала трудная доля пять-шесть лет кряду бессменно сражаться в Испании. Николя
Жан де Дье Сульт, солдат 1791 г., ставший генералом уже в 1794 г., герцог
Далматский, которого Стендаль относил к "высокоодаренным людям’’45, был равно
искусным стратегом и тактиком. Он отлично проявил себя в кампаниях 1805-1807 гг.,
особенно при Аустерлице, а с 1808 г. в трудных условиях распрей между французскими
маршалами не без успеха противостоял А. Веллингтону в Испании, хотя мог бы
добиться большего, если бы меньше был занят мыслью стать королем соседней
Португалии под именем Николая I.
Луи Габриель Сюше, волонтер 1792 г., герцог Альбуферский, как командир
39 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 14, с. 96.
40 Дживелегов А.К. Александр I и Наполеон. М., 1915, с. 189.
41 Наполеон /. Избр. произведения, т. 1, с. 78.
42 Д'АбрантесЛ. Записки. М., 1837, т. 15, с. 174.
43 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 14, с. 139.
44 Волконский С.Г. Записки. Иркутск, 1991, с. 244-245. "Убил я маршала Бе севера", - вспоминал сам
Горский. - Девятнадцатый век, кн. 1, М., 1872, с. 201.
45 Стендаль Ф. Собр. соч., т. 6, с. 141.
172
дивизии в корпусе Ланна до гибели последнего терялся в лучах его славы, но с 1809 г.,
получив отдельный корпус в Испании, сразу же выдвинулся в первый ряд боевых
сподвижников Наполеона. Единственный из них, он вплоть до 1814 г. неизменно брал
верх над испанцами и англичанами, бил противника в чистом поле при Мариа,
Бельчите, Сагунте, штурмом брал города: тот же Сагунт, Таррагону, Валенсию,
Тортозу, Лериду; умело, без лишней жестокости налаживал гражданское управление
завоеванными областями. Наполеон в 1814 г. сказал о нем: "Если бы у меня было два
таких маршала, как Сюше, я не только завоевал бы Испанию, но и сохранил бы
ее"46.
Все маршалы, о которых до сих пор шла речь, кроме Массены, были преданы
Наполеону, хотя Ланн мог упрекать его в деспотизме, Мюрат в 1813 г. надолго
оставил его, Бертье в 1814 г. "улизнул от своего покровителя" (К. Маркс) к Бурбонам,
а Ней в 1815 г. временно выступил против него. Вместе с ними были удостоены
маршальских званий и служили Наполеону из патриотических или карьеристских
соображений постоянные оппозиционеры его режиму и даже личные враги. Среди них
тоже были незаурядные военачальники: Бернадот, Журдан, Брюн, Макдональд, Сен-
Сир.
Жан-Батист Жюль Бернадот, князь Понте-Корво, умный и коварный гасконец,
бывший военный министр Директории, ненавидел Наполеона, хотя получил от него
все: маршальский жезл, княжеский титул, даже шведский престол. Он сам метил в
"наполеоны", а Наполеона не прочь был бы сделать своим "бернадотом". До 1810 г.,
когда Наполеон дал согласие пожелавшим угодить ему парламентариям Швеции на
избрание Бернадота наследником шведской короны, его отношения с Бернадотом
были сложными. "Он не спускал глаз с Бернадота, он ему не доверял", - читаем у
А.З. Манфреда47. Думается, вернее судил Н.А. Полевой. Он обратил внимание на
то, что Бернадот дважды - перед битвами при Ауэрштедте и Эйлау - халатно, если
не преступно уклонялся от помощи маршалу Даву и самому Наполеону и оба раза
оставался безнаказанным, хотя в каждом случае Наполеон мог предать его военному
суду. Вместо этого император после Ауэрштедта сказал насмешливо: "Князь Понте-
Корво довольно наказан тем, что по своей воле не разделил торжества своего
товарища". По мнению Полевого, Наполеон закрывал глаза на провинности
Бернадота "из уважения к Жозефу", своему старшему брату48, которому Бернадот
приходился свояком49. Гертруда Кирхейзен считала даже, что Наполеон прощал
Бернадота, равно как и награждал его орденами, званиями, титулами, пожизненной
рентой в 300 тыс. франков, ради Дезире Клари, своей бывшей невесты, к которой
император навсегда сохранил чувство симпатии50.
Как бы то ни было, став престолонаследником и фактическим правителем Швеции,
Бернадот вскоре порвал отношения с Францией и заключил союз с Россией, а в 1813-
1814 гг. во главе шведских войск сражался против своих соотечественников на стороне
шестой антинаполеоновской коалиции.
Фрондировал против Наполеона, не опускаясь, однако, до предательства, и граф
Жан-Батист Журдан - один из лучших генералов Великой французской революции. 26
июня 1794 г. он одержал победу над австрийцами в знаменитой битве при Флерюсе,
обезопасив тем самым западную границу Франции. Убежденный республиканец,
Журдан открыто выступал против установления империи, но, не подвергшись
репрессиям, а наоборот, получив от Наполеона маршальский жезл, он честно служил
Франции, хотя и не скрывал своей антипатии к императору. Впрочем, от самого
46 Д'Абрантес Л. Записки, т. 14. М., 1837, с. 188.
47 Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М., 1980, с. 398.
48 Полевой Н.А. История Наполеона, т. 3—4. СПб., 1845; т. 3, с. 84; т. 4, с. 309.
49 Жозеф Бонапарт был женат на Жюли Клари, сестра которой, Дезире, помолвленная в 1795 г. с
Наполеоном, в 1798 г. стала женой Бернадота.
Кирхейзен Г. Женщины вокруг Наполеона. М., 1991, с. 59.
173
Наполеона Журдан всегда был несколько в стороне: он не участвовал в самых
триумфальных походах императора 1805-1807 гг., а с 1808 г. служил в Испании, как
бы выполняя роль "дядьки", военного наставника при особе короля Жозефа
Бонапарта.
Третий оппозиционер, граф Гильом Мари-Анн Брюн, в прошлом активный участник
революции, соратник Ж. Дантона и большой друг К. Денулена, с 1792 г. - полковник,
с 1793 - генерал, находчивый, неустрашимый, очень импозантный внешне - при росте
в 183 см "черты его лица были полны величия"51, - создал себе громкое имя победой 8
сентября 1799 г. при Бергене в Голландии, где он разбил русско-английскую армию
под командованием герцога Йоркского. Наполеон не любил Брюна, как и Массену, за
воровство, особенно после того как в 1807 г. Брюна, бывшего тогда губернатором
ганзейских городов, уличили в расхищении государственного имущества.
Судьба Брюна оказалась самой трагической из судеб всех наполеоновских
маршалов. 2 августа 1815 г. в Авиньоне он был растерзан толпой роялистов.
Еще два фрондера - Макдональд и Сен-Сир - не попали в первый список маршалов
Империи, но все-таки заслужили маршальские жезлы позднее: Макдональд - за успехи
в битве при Ваграме 5-6 июля 1809 г., Сен-Сир - за победу над П.Х. Витгенштейном
в России, при Полоцке, 5-6 августа 1812 г.
Жак Этьен Жозеф Александр Макдональд, герцог Тарентский, отпрыск древнего
шотландского рода, был видным генералом Великой французской революции,
учеником Ш. Пишегрю и другом Ж.-В. Моро. В 1799 г. он уступил А.В. Суворову в
упорнейшей трехдневной битве на р. Треббия52, но это поражение считалось
почетным и не испортило его репутации. В дальнейшем он вплоть до 1813 г. нигде,
даже в России 1812 г., не уронил своей воинской славы.
Человек высокой культуры - отец Макдональда был другом композитора
Г.Ф. Генделя, светски образованный и воспитанный, Макдональд отличался даром
стратега, но ему недоставало тактической изобретательности и решительности.
Русский разведчик П.А. Чуйкевич писал о нем М.Б. Барклаю де Толли перед войной
1812 г.: "Разговоры его открывают в нем великие сведения, но, кажется, [он] слишком
не деятелен и любит много спать"53.
Граф Лоран Гувион Сен-Сир, как и Макдональд, если не более, выделялся среди
маршалов Наполеона своей образованностью. Умный стратег и хитрый тактик, "очень
себе на уме, несколько в типе Бернадота"54, едва ли не лучший после Даву
администратор "Великой армии", он был и тонким, изворотливым политиком.
Несмотря на свой республиканизм и хроническую оппозиционность, Сен-Сир уживался
и с революцией, во время которой прошел путь от солдата в 1792 г. до генерала в
1794 г., и с Наполеоном, и с Бурбонами, которые дважды, в 1815 и 1817-1819 гг.,
назначали его военным и морским министром. Многотомные мемуары Сен-Сира, как и
его военно-стратегические труды, считаются классическими.
В ряд выдающихся военачальников входил и единственный иностранец среди
маршалов Наполеона, проживший маршалом всего двое суток, князь Юзеф Антоний
Понятовский. Произведенный в маршалы после первого дня "Битвы народов" под
Лейпцигом, он в последний, третий день битвы погиб. Он был племянником последнего
короля Польши Станислава-Августа Понятовского и сподвижником Т. Костюшко,
"польского Баярда", как называли его в Европе. Понятовский отличался талантами
государственного и военного деятеля, личным мужеством и обаянием, прекрасной
наружностью, а среди поляков пользовался еще и беспримерной популярностью,
перераставшей в культ его личности. "Он был идолом Польши, войска и народа", -
51 Стендаль Ф. Собр. соч., т. 13. - М.-Л., 1949, с. 149.
52 Е.В.Тарле ошибался, полагая, что Макдональд "за всю свою долгую боевую жизнь был побежден
только один раз - и побежден в Италии самим Суворовым". - Тарле Е.В. Соч., т. 7, с. 502. 14 августа
1813 г. Макдональд был разбит в сражении на р. Кацбахе прусским генералом Л.Г. Блюхером.
53 Отечественная война 1812 г. Материалы Военно-ученого архива, т. 13. СПб., 1910, с. 80.
54 Джиеелегов А.К. Указ, соч., с. 185.
174
вспоминал о нем Ф.В. Булгарин55. Наполеон, очень ценивший Понятовского, говорил
о нем на острове Святой Елены: ’’Понятовский был благородный человек, полный
чувства чести и храбрости. Я намеревался сделать его польским королем, если бы мой
поход в Россию был удачен”56.
Думается, несколько ниже всех перечисленных по своему полководческому уровню
была следующая группа маршалов, из которых Монсей и Мортье попали в первый
маршальский список, а Виктор и Удино стали маршалами соответственно через три и
пять лет.
Адриан Жанно Монсей, герцог Конельяно, считался во французской армии, подобно
Бессьеру, ’’образцом рыцарского благородства’’57. Как военачальник он прославился в
кампаниях Рейнской армии 1794-1795 гг. и с 1808 г. в Испании. Имя его сравнительно
мало известно, поскольку в походах самого Наполеона 1805-1813 гг. он не участвовал.
Эдуард Адольф Казимир Мортье, герцог Тревизский, напротив, сопровождал
Наполеона почти во всех его походах. В 1812 г. он командовал Молодой гвардией и
был военным губернатором Москвы. Но Мортье ничем особенным не отличился, хотя
и одержал победу над испанскими войсками в 1809 г. при Окане.
Виктор-Перрен Клод Виктор, герцог Беллюнский, выделялся главным образом
храбростью и был хорош как исполнитель приказов Наполеона. Маршальский жезл он
получил за выдающийся вклад в победу под Фридландом 14 июня 1807 г. Затем он
выиграл битву при Уклесе в Испании в 1808 г., а в 1812 г., как Макдональд, Сен-Сир
и Удино, небезуспешно действовал на флангах ’’Великой армии”.
Николя Шарль Удино, герцог Реджио, получивший звание маршала вместе с
Макдональдом и Мармоном за битву при Ваграме, тоже был прежде всего храбрец, о
чем свидетельствовали его 32 раны. Однако русский разведчик А.И. Чернышев в
своем ’’досье" на пего перед войной 1812 г. явно преувеличил это достоинство Удино:
"После смерти маршала Ланна маршал Удино отмечен во всей французской армии как
обладающий наиболее блестящей храбростью и личным мужеством, наиболее
способный вызвать порыв и энтузиазм в войсках, которые будут под его
командованием”58.
Итак, остается сказать еще о трех маршалах Наполеона - Ожеро, Мармоне,
Груши. Именно эти трое во всех отношениях резко уступали всем остальным, что
заставляет признать: не всегда Наполеон жаловал маршальские звания безошибочно и
своевременно. К примеру, Сюше, Макдональд и Сен-Сир на голову превосходили
любого из тройки Ожеро - Мармон - Груши, однако Макдональд стал маршалом
после Ожеро, а Сюше и Сен-Сир - еще и после Мармона.
Пьер Франсуа Шарль Ожеро, сын лакея, ставший герцогом Кастильоне, прожил
молодость фантастически авантюрно: служил солдатом во французских, прусских,
испанских, португальских, неаполитанских и даже русских войсках, "бросая их, когда
ему это надоедало”, а в промежутках "пробавлялся уроками танцев и фехтования,
дуэлями, похищениями чужих жен”59. Революция вознесла его до генеральских высот.
Он отличился в итальянской кампании 1796-1797 гг., особенно в битве при
Кастильоне, где, по словам Стендаля, "был великим полководцем, чего никогда
больше с ним не случалось"60. По-видимому, именно в память о Кастильоне Наполеон
и сделал Ожеро маршалом, а потом герцогом, после чего этот маршал-герцог уже
55 Булгарин Ф.В. Воспоминания, т. 6. СПб., 1849, с. 247.
56 Французы в России: 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев, т. 3. М., 1912, с. 383.
Подробно о Понятовском см.: Askenazy Sz. Książe Józef Poniatowski. Warszawa, 1974. В Варшаве перед
зданием Совета министров стоит конный памятник Ю. Понятовскому работы Б. Торвальдсена.
Д'АбрантесЛ. Записки, т. 16, с. 125.
58 Отечественная война 1812 г. Материалы Военно-ученого архив?, т. 13, с. 405. Такая характеристика
была бы справедливой для маршала Нея.
Манфред А.З. Указ, соч., с. 137. 12 октября 1806 г. маршал Ожеро взял в плен тот самый полк
пруссаков, в котором сам некогда служил.
60 Стендаль Ф. Собр. соч., т. 14, с. 271.
175
ничем более себя не проявил, кроме того, что он республикански фрондировал против
императора, а в 1814 г. одним из первых призвал свои войска поклясться в верности
Людовику XVIII.
Наполеон на острове Святой Елены дал Ожеро справедливые оценки: "он совсем не
имел образования и сколько-нибудь заметного ума", но "поддерживал порядок и
дисциплину" и "дрался с неустрашимостью"61.
Огюст Фредерик Луи де Вьес Мармон, герцог Рагузский, был пожалован в
маршалы после битвы при Ваграме, где он отличился, но при этом Наполеон
несколько погрешил против объективности, отдав дань личному чувству, ибо Мармон
с молодых лет был его близким другом. В дальнейшем Мармон вполне соответствовал
тому, что сказал о нем Наполеон в 1812 г. А. Коленкуру: "Очень умно говорит о
войне", но "оказывается хуже чем посредственностью, когда надо действовать"62. В
1814 г. Мармон первым из маршалов империи изменил Наполеону, запятнав себя тем
самым так, что от его титула родилось в языке парижских окраин словцо "raguser" как
"синоним подлого предательства"63.
Наконец, граф Эммануэль де Груши - "жалкая пародия на Мюрата"64. Был
удостоен маршальского звания во время "Ста дней" уже по недостатку более
достойных кандидатов и, что называется, за выслугу лет. Он действительно как
генерал, начальник кавалерийского корпуса давно был на хорошему счету, но, став
маршалом, погубил свою репутацию тем, что опоздал к битве при Ватерлоо.
Кстати, Груши в специальной литературе о маршалах Франции иногда фигурирует
как маршал с 1831 г.65, а то и вовсе отсутствует66. Все разъясняет Л. Шардиньи:
оказывается, Груши, произведенный в маршалы декретом Наполеона от 15 апреля
1815 г., был разжалован при Людовике XVIII и восстановлен в звании маршала
королем Луи Филиппом 19 ноября 1831 г.67
Итак, всего Наполеон имел 26 маршалов. Он понимал, что столь высокое звание
следует присуждать экономно, и однажды сказал о генерале 1П.-Э. Гюдене: "Он давно
бы уже получил жезл маршала, если бы можно было раздавать эти жезлы всем, кто их
заслуживал"68. Тем не менее трудно понять, почему, сделав маршалами Ожеро и
Мармона, он оставил без маршальских жезлов таких выдающихся генералов, как
Антуан Лассаль, Луи-Пьер Монбрен, Огюст Коленкур (родной брат дипломата и
мемуариста Армана Коленкура), Антуан Друо, тот же Шарль-Этьен Гюден. Наполеон
в ссылке говорил о четырех генералах: "Это были бы мои новые маршалы"69. Из них
Морис-Этьен Жерар и Бертран Клозель стали маршалами Июльской монархии
соответственно в 1830 и 1831 гг., а Ж.М. Ламарк и М. Фуа так и остались
генералами.
Не был удостоен маршальского жезла еще один из военачальников Наполеона,
который стоял вровень с его маршалами по значению и даже несколько выше их по
своему титулу, - корпусной генерал, вице-король Италии70 Евгений Богарне.
Пасынок Наполеона, т.е. сын его первой жены Жозефины от ее первого брака с
генералом Великой французской революции Александром Богарне, принц Евгений
заметно выделялся среди многолюдной родни императора военными дарованиями и
благородством характера. "Это был крупный человек, - сказал о нем после его смерти
лично знавший его Гёте. - Такие люди встречаются все реже и реже. Вот
61 Наполеон /. Избр.произведения, с. 70.
62 Коленкур А. Указ, соч., с. 301.
63 Черкасов П.П. Лафайет. Политическая биография. М., 1991, с. 318.
64 Дживелегов А.К. Указ, соч., с. 253.
65 Gavard Ch. Op. cii.
66 Valynseele J. Op. cit.
67 Chardigny L. Op. cit., p. 456.
68 Жомини А. Указ, соч., т. 5, с. 319.
69 Las-Cases Е. Op. cit., t. 1, p. 241.
70 Королем Италии являлся сам Наполеон.
176
человечество стало беднее еще на одну незаурядную личность”71. Жезл маршала
Евгений не получил, скорее всего, потому, что в 23 года он стал вице-королем и
впредь был больше занят все-таки государственными, а не военными делами.
Все маршалы Наполеона - и преданные ему, и оппозиционеры, его открытые
друзья и тайные враги - были щедро награждены за свою ратную службу отече¬
ственными и зарубежными орденами72, званиями, титулами, имущественными
владениями, многотысячными, а то и миллионными состояниями. Слава и почести
кружили им головы, победы над пятью европейскими коалициями подряд пресытили
их. Ведь все эти бывшие пахари, конюхи, бочары, лакеи, бывшие солдаты и
сержанты стали не просто маршалами, а еще и баронами, графами, герцогами,
князьями, принцами и даже королями, сами превратились в аристократов, вроде тех,
кого они в своей революционной молодости призывали вешать на фонарях. Бернадот,
став королем Швеции, не смог стереть с груди юношескую татуировку "Смерть
королям и тиранам!", но стыдился ее. Вознесенные чуть не со дна жизни на столь
головокружительные высоты, они сочли себя достаточно повоевавшими и жаждали,
что называется, почивать на лаврах.
Не только старые оппозиционеры, но и преданные Ней, Мюрат, Сульт, Мармон с
каждым новым походом все громче ворчали за спиной императора, не решаясь,
однако, пока он был всесилен, противодействовать или даже противоречить ему, когда
он в очередной раз решал сакраментальный вопрос: быть или не быть войне? Зато
между собой они ссорились открыто и зачастую по-солдатски грубо, случалось, и в
присутствии императора, так что ему приходилось одергивать их, словно
расшалившихся сорванцов73.
Любопытно, что дружили в своем маршальском кругу очень немногие: Бессьер и
Даву, Ланн и Бессьер, Массена и Ожеро. Тщеславный Мюрат очень дорожил своим
королевским титулом. Поэтому каждый, кто говорил ему "ваше величество",
становился его другом. Республиканские же строгие маршалы - Ланн, Даву, Лефевр -
зло высмеивали его страсть к титулам и нарядам. Ланн при Наполеоне называл
Мюрата "петухом" и "шутом", а однажды обругал неаполитанского короля площаДно:
"Похож на собаку, которая пляшет"74. Враждовали Ней с Массена и Сультом,
Макдональд с Виктором и Сен-Сиром, ненавидели друг друга Даву и Бертье.
Судьбы маршалов Наполеона сложились по-разному, но в общем не так трагично,
как можно подумать, читая лермонтовские строки:
"Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою".
"Погибли в бою" только Ланн, Бессьер и Понятовский. Ней и Мюрат были
расстреляны по судебным приговорам. Брюн стал жертвой роялистского самосуда, а
Мортье - террористического акта75. Бертье покончил с собой. Все остальные 18
маршалов умерли естественной смертью в покое и славе, ибо Наполеон, отрекаясь от
престола, разрешил им перейти на службу к Бурбонам, а Людовик XVIII охотно
принял их всех, кроме двух самых популярных - Мюрата и Нея.
Успели изменить Наполеону, прежде чем он окончательно в июне 1815 г. отрекся
от престола: Бернадот - в 1812 г., будучи уже наследным принцем Швеции; Мюрат -
71 Эккерман И.П. Указ, соч., с. 113.
72 Четверо наполеоновских маршалов - Бертье, Мюрат, Ланн и Бернадот (последний уже как
наследный принц Швеции) - в разное время были награждены высшим орденом Российской империи -
Святого Андрея Первозванного.
73 О взаимоотношениях маршалов Наполеона друг с другом, см. специальную главу "Les marechaux entre
eux" в кн. Л. Шардиньи. Chardigny L. Op. cit.
74 Д'АбрангпесЛ. Записки, т. 9. М., 1837, с. 320, 322.
75 Военный министр Франции маршал Э.А.К. Мортье был убит в числе 40 особ королевской свиты при
покушении карбонария Д. Фиески на короля Луи Филиппа.
177
в 1813 г., на время; Мармон, Ожеро, Периньон - в 1814 г.; отказались присоединиться
к нему после его возвращения с острова Эльба в 1815 г. Бертье, Макдональд, Виктор,
Монсей, Серрюрье.
Многие из маршалов, пережившие свержение Наполеона, оставили воспоминания,
чрезвычайно интересные и сразу же получившие широкую известность в Западной
Европе, но совершенно неведомые до сих пор - кроме отдельных фрагментов,
печатавшихся в дореволюционных журналах, - у нас в России. Остается лишь
надеяться, что придет время, когда и на русском языке можно будет прочитать
захватывающие описания 1рандиозных событий наполеоновской эпопеи, составленные
такими их свидетелями и участниками, как маршалы Первой империи во Франции
А. Массена, Л.Н. Даву, Л.А. Бертье, Л.Г. Сюше, Ж.Б. Журдан, Л.Г. Сен-Сир,
Ж.Э. Макдональд, Н.Ж. Сульт, Н.Ш. Удино, О.Ф. Мармон, Э. Груши.
178
Творческий
путь историка
© 1993 г.
Ю.В. БОРИСОВ
А.З. МАНФРЕД. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
’’Одержать верх над страстями своими; одержать победу, победить, побороть,
подчинить себе силой, одолеть”1. Цитирую толковый словарь русского языка
Владимира Даля (слово ’’одерживать”) и думаю, как справедливы эти слова. Трудно
управлять своими эмоциями, нередко противоречивыми, и преодолевать недуги,
отдавая все свое существо любимой работе; нужна воля - упорная и жесткая, - чтобы
не сломиться под тяжестью обстоятельств и условий, а подчинить их себе, выжить и
найти свое место в постоянном творческом труде; нелегко мириться с мыслью о том,
что публичное признание заслуг ученого лишь у немногих счастливцев приходит
вовремя, а к высшим ступеням в храме науки пробиваются часто не самые достойные,
а самые ловкие с сильными локтями.
Эти мысли пришли мне на ум после краткой и последней встречи в Париже с
Альбертом Захаровичем Манфредом в декабре 1976 г. Никогда не забуду его
осунувшегося устало-напряженного, почти пергаментного лица и застенчивой улыбки,
казалось, говорившей: ’’Мне просто неловко, что я болен и чертовски плохо выгляжу”.
♦ * *
Я знал Альберта Захаровича 30 лет, и всегда эта был сдержанный и деликатный,
скромный и безукоризненно вежливый человек. Интеллигент и интеллектуал в самом
высоком смысле этих понятий, которые многие, увы, по дурной традиции, идущей из
глубин векового российского мещанства, напрасно считают банальными.
Интеллигентность и интеллект - родные сестры таланта. А Манфред был,
безусловно, талантливым человеком. Но ведь никто не рождается с талантом,
например, историка. Талант - категория не биологическая, а социальная. Разумеется,
талантливый человек обладает и природными способностями, однако талант - нечто
вроде первородного алмаза, который всеми своими гранями засверкает только после
его обработки.
У юного Альберта - он родился 28 августа 1906 г. в Санкт-Петербурге, - от
природы щедро одаренного разумом и чувствами, роль искусного гранильщика
’’алмаза” сыграла семья. Это прежде всего мать, профессиональная переводчица,
родная сестра выдающегося художника Леона Бакста - живописца, графика,
театрального декоратора. Он был активным участником знаменитого художественного
1 Даль В. Толковый словарь живаго великорускаго языка, т. 2. М., 1879, с. 650.
179
объединения "Мир искусства", созданного Сергеем Дягилевым и Николаем Бенуа.
Декорации Бакста к дягилевским "Русским сезонам" в Париже фантастически
прекрасны. Бакст опекал двух своих сестер - Розу (мать Альберта) и Софью,
уехавшую во Францию перед первой мировой войной. Леона - Левушку - очень
любили в семье Манфреда. Имя его произносили всегда с нежностью и
благодарностью.
Вместе с Левушкой входили в дом Альберта русское искусство и французская
культура. Они словно сливались воедино в творчестве Бакста, своей кистью
служившего сближению России и Франции.
В обстановке культа Франции в семье и воспитывался мальчик. Он рано начал
увлекаться французской историей, "глотая" книгу за книгой. Мать не только не
мешала сыну, а наоборот, поощряла его увлечение. Она умерла, когда Альберту было
12 лет. Вместе с этим разрушился и привычный образ жизни. Семья вынуждена была
переехать из Петрограда в Саратов летом 1917 г.: пугали революция и голод. К тому
же у отца Альберта - Захара Львовича, адвоката по профессии, имелись там деловые
связи.
Любовь к Петербургу - Петрограду - Ленинграду Альберт Захарович сохранял
всю жизнь. В одной из последних его книг можно прочесть такие слова: "Я родился и
вырос в Ленинграде. Там похоронены моя мать, мой дед, мои прадеды. И хотя уже
много десятков лет я не живу в городе, где родился, я продолжаю чувствовать свою
кровную связь с ним и время от времени возвращаюсь в "свой знакомый до слез
город", где все напоминает мне о давно минувшей поре детства и юности"2.
Петроград навсегда остался в памяти Манфреда. Но жизнь продолжалась в
Саратове. В те трудные времена бед и горестей хватало на всех. Не миновали они и
семью Альберта. Он вынужден был заниматься расклейкой афиш, затем стал рабочим
в кооперативе. Как-то рассказывая мне об этом периоде своей жизни, Альберт
Захарович заметил: "Расклейка афиш очень укрепляла характер". А без характера
нет и таланта!
Хотя до революции ему не удалось закончить известное Петербургское частное
учебное заведение, созданное меценатом Тенешевым, юноша был образован и
воспитан. Общение с ним легко и быстро убеждало в этом. И юного Манфреда
приняли в аспирантуру Института истории Российской ассоциации научно-иссле¬
довательских институтов общественных наук ранее установленного возраста. Была
2 Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой французской революции. М.» 1989, с. 404.
180
еще одна и, видимо, решающая причина: реферат Альберта, посвященный Огюсту
Бланки, написанный на основе широкого круга документов и монографий, свидетель¬
ствовал о способности автора к самостоятельному научному анализу. Манфред полу¬
чил поддержку крупного ученого и известного политического деятеля М.Н. Покровс¬
кого. Руководили его научной работой выдающиеся историки - академики Н.М. Лукин
и В.П. Волгин. Мне кажется, что и тот, и другой, хотя по своим личным качествам
они были совершенно разными людьми, сумели оценить огонь вдохновения в молодом
ученом, его трудолюбие и творческое мышление.
В 1930 г., после защиты кандидатской диссертации, молодого ученого направили на
педагогическую работу в пединститут Ярославля, а затем в Ивановский педагогичес¬
кий институт (1932-1937 гг.).
Роковой 1937-й... Один за другим исчезали люди из окружения Манфреда. Тучи сгу¬
щались и над его головой. Поэтому Он решил уехать в далекий Якутск. Народный ко¬
миссариат просвещения дал официальное направление. Но в Якутске Альберта Заха¬
ровича, проработавшего всего лишь несколько месяцев в этом городе, арестовали без
предъявления обвинений и вернули в Иваново, а затем перевели во Владимирскую
тюрьму.
Талант бросили в плавильную печь сталинских репрессий. Его постигла судьба мно¬
гих интеллигентов, а оставшиеся на свободе мрачно шутили: "Спать в домашней пос¬
тели неприлично". А Манфред был "приличным" человеком. К счастью, долго быть в
тюрьме ему не пришлось. Обвинение даже по тем временам было настолько смехо¬
творным, надуманным, что следователю, оказавшемуся на удивление порядочным
человеком, пришлось дело закрыть за отсутствием состава преступления. Но режим
во Владимирской тюрьме явился суровым испытанием. Когда Альберт Захарович вы¬
шел на свободу, он весил 40 килограммов. Только в 1940 г. ученый вернулся к
трудовой деятельности. Жизнь продолжалась. Она была целиком заполнена препода¬
ванием и научными исследованиями. Эта дорога привела Манфреда в 1945 г. в Ин¬
ститут истории Академии наук СССР. С тех пор и до конца дней своих он не менял
места работы. Академическая среда со всеми ее сложностями тем не менее была сре¬
доточием личностей - ярких, оригинально мыслящих, сохранявших свое "Я" даже в
тисках партийного контроля.
Так талант прошел вместе с породившим его обществом все стадии своего
становления. И выдержал все испытания, сохранив главное - единство ума и сердца,
цельность характера. "Он был изумительно цельный человек. В нем все было спаяно в
каком-то внутреннем порыве: любовь, призвание к научно-историческому исследо¬
ванию и огромный интерес к тому, что он исследует. Научная, исследовательская
работа была его жизнью. Это ярко чувствовалось ń любом его труде. Не было
отдельно человека и ученого. Был Манфред-ученый, который жил, дышал, радовался
и был полон счастья, когда удавалось прийти к правильному выводу в трудном
исследовании или помочь товарищу, легко делился неопубликованной мыслью, мог
рассказать о чем-то новом, неизвестном и, главное, нужном"3.
Эти искренние, идущие из глубины сердца слова принадлежат академику Милице
Васильевне Нечкиной.
"ЗАЙМИТЕСЬ ФРАНЦИЕЙ, ЗАЙМИТЕСЬ СЕРЬЕЗНО"
Хорошо запомнил эти слова, несколько раз повторенные мне Манфредом во время
нашей первой встречи-знакомства в его скромной квартире в небольшом деревянном
домике на Бакунинской улице, расположенном посередине между двумя станциями
метро: Бауманской и Электрозаводской. Это был 1947-й год. Я закончил МГУ, затем
Высшую дипломатическую школу МИД СССР со специализацией по Франции и
размышлял над темой кандидатской диссертации. Об этом и шла речь во время моей
первой встречи с Альбертом Захаровичем.
3 Французский ежегодник. 1976. М., 1978, с. 9-10.
181
О первой встрече нередко помнят всю жизнь. Мы беседовали всего 20-30 минут, а
мне казалось, что я давно знаю сидевшего напротив меня человека с его мягкой,
доброжелательной улыбкой и деликатной обходительностью.
’’Посоветую Вам хорошую тему, - предложил Манфред, - Россия и Франция после
франко-прусской войны и Франкфуртского мира. Апофеоз князя Бисмарка. Франция
разгромлена. Ее территория оккупирована немцами. Германия объединена. Русская
дипломатия оказывает поддержку французам. Делаются первые шаги по пути,
приведшему к русско-французскому союзу. Документы - в изобилии: и французские, и
германские, и наши русские почти не опубликованы". Ручаюсь за точность изло¬
женных мною мыслей Альберта Захаровича, так как, вернувшись домой, "на радос¬
тях" записал нашу беседу в дневнике, который сохранил.
Сама идея не была для меня неожиданной. В общей форме Альберт Захарович уже
изложил ее в статьях4. Его взгляды разделял академик Евгений Викторович Тарле, с
которым я познакомился еще в 1943 г. в Высшей дипломатической школе, где он
преподавал, а я был слушателем. Тарле считал идею Альберта Захаровича "плодот¬
ворной". Кандидатская диссертация была написана, защищена, а вскоре и опубли¬
кована. Всегда с чувством гордости вспоминаю о том, что моя первая книга вышла в
свет под общей редакцией Тарле5.
Так состоялось знакомство ученика с учителем. Учитель выдвинул идею, ученик ее
развил и конкретизировал. Учитель пошел дальше. Он разработал концепцию русско-
французских, а затем и советско-французских отношений, которая стала общеприз¬
нанной в нашей исторической науке и разделяется многими учеными за рубежом.
Концепция? Не преувеличение ли это? Нет, Манфред поставил и решил прин¬
ципиальные, коренные вопросы взаимоотношений между Россией и Францией,
Францией и Советским Союзом. Для меня несомненно, что в "культовые времена"
вторжение историка в острую и деликатную дипломатическую сферу требовало от
него личного мужества в отстаивании своих взглядов.
Это были первые послевоенные годы. Культ личности Сталина достиг высшей
стадии. Официальная политика цепко держала в своих железных объятиях исто¬
рическую науку. Нередко критика внешней политики царизма с классовых позиций
приводила к отрицанию в ней какого-либо позитивного содержания. Принцип
партийности вступал в противоречие с научной объективностью, вынуждая историков
к одностороннему, тенденциозному освещению событий. Словно забывая о своем
тяжком предвоенном тюремном опыте, Альберт Захарович отстаивал личную точку
зрения: Россия объективно сыграла роль спасительницы Франции от нового военного
разгрома, подготавливавшегося Бисмарком в первой половине 70-х годов. От этой
отправной точки и начинался тот путь, который привел Альберта Захаровича к
выводу о том, что франко-русский союз был условием величия Франции.
Ученый шел как бы по острию политического ножа. Ведь с одной стороны Сталин
подогревал великодержавный национализм, склонный к возвеличиванию роли России в
европейской истории, с другой - исключалась "реабилитация царизма". Это реальное
противоречие отчетливо проявилось в ходе кампании 1949 г. по борьбе с
космополитизмом, когда был нанесен сокрушительный удар по общественным наукам,
по российской интеллигенции. Угроза изгнания из науки нависла и над Манфредом. В
академических институтах шла полным ходом проработка "космополитов". Альберт
Захарович был подавлен. Он сказал мне однажды: "Придет время и мы с чувством
горечи и стыда будем вспоминать то, что сейчас происходит".
Это время пришло. Но кроме горечи и стыда по поводу пережитого в то уже
далекое от нас время, память хранит имена многих ученых - молодых и не очень -
поддерживавших коллег, попавших в "опалу", протянувших им руку помощи.
4 Манфред А.З. Из предыстории франко-русского союза. - Вопросы истории, 1947, Хе 2; его же. Русско-
французские отношения после Франкфуртского мира (1871-1872). - Вопросы истории, 1950, № 6.
5 Борисов Ю.В. Русско-французские отношения после Франкфуртского мира. М., 1951.
182
Поклонников и поклонниц таланта, особенно молодых, всегда было много у Альберта
Захаровича. И все мы были рады тому, что из очередной разгромной политической
кампании он вышел без тяжелых потрясений.
Концепция русско-французских и советско-французских отношений также не была
подвергнута критике. Устояла главная идея: глубинные национальные интересы
России и Франции всегда требовали их сотрудничества в важнейших сферах общест¬
венной жизни - внешней политике, экономике, торговле, культуре. Географическое
положение двух стран на противоположных полюсах Европы делало их естественными
союзниками в борьбе против германского милитаризма. Первая мировая война под¬
твердила необходимость русско-французского союза как гаранта мира и безопасности
на европейском континенте. К этому постоянно действующему военно-страте¬
гическому фактору следует добавить традиционную заинтересованность обеих стран в
торгово-экономическом, промышленном, культурном сотрудничестве. Сфера культуры
была особенно близкой Альберту Захаровичу. Среди наших специалистов мне не при¬
ходилось видеть столь же тонкого, как он, знатока и ценителя русской и французской
литературы, русской и французской живописи, русского и французского театра.
Одна из особенностей Манфреда-историка состояла в том, что он высоко оценивал
значение культурного фактора в международных отношениях в целом, во взаимо¬
отношениях России и Франции в особенности. У администраторов от науки такая
позиция не встречала понимания. И ему приходилось "пробивать лбом" (слова
Альберта Захаровича) многочисленные преграды, как только он ставил вопрос о
публикации своей статьи о русско-французских культурных связях 70-80-х годов
XIX в. Она была подготовлена еще в 1950 г., но опубликована только через 11 лет6 7.
"Что за странная история? Почему интереснейшая статья пролежала в Вашем
личном .архиве целое десятилетие?" - спросил я однажды у Альберта Захаровича.
Удивительное дело: ответа не получил.
У меня, разумеется, своя "рабочая гипотеза", в известной мере основанная на
личном опыте историка и дипломата - девять лет я проработал в советском
посольстве в Париже в качестве советника по культуре. Как историк хорошо знаю,
что в советской историографии сложилась устойчивая, к сожалению, чисто догма¬
тическая точка зрения, согласно которой при анализе многосторонних и особенно
двусторонних отношений следует учитывать главным образом политические факторы.
Затем - торгово-экономические, финансовые. А культурные связи, мол, дело второ¬
степенное, к тому же запутанное и противоречивое*.
Запутанное и противоречивое... Именно в этих словах ключ к тем трудностям, с
которыми Альберт Захарович сталкивался при каждой своей попытке опубликовать
работу по русско-французским культурным связям. "Начальники" - политические и
научные, которым поручено было свято хранить идейную чистоту исторической науки,
предпочитали не ввязываться в литературные споры, мировоззренческие дискуссии,
опасаясь попасть в разряд диссидентов.
Видимо, нервотрепка, которую перенес Манфред в связи с его статьей о русско-
французских культурных связях, не прошла для него бесследно: культурное
сотрудничество между Советским Союзом и Францией (у меня лично сложилось такое
впечатление) не привлекало его внимания в той же мере, как российско-французские
культурные связи. Карьеристы от науки охоту отбили.
Особенно глубоко и всесторонне исследовал Альберт Захарович политическое
сотрудничество между СССР и Францией8. Он искренне радовался появлению книг
своих учеников по этой тематике.
6 Манфред Л.З. К истории русско-французских культурных связей 70-80-х годов XIX в. - Французский
ежегодник. 1959. М., 1961.
7 Мне, например, с трудом удалось отстоять разделы о франко-советских культурных связях в моей
книге. - См. Борисов Ю.В. СССР и Франция: 60 лет дипломатических отношений. М., 1984.
* Манфред А.З. Традиции дружбы и сотрудничества. Из истории русско-французских и советско-
французских связей. М., 1967.
183
Главная идея Манфреда при анализе истории советско-французских отношений - их
историческая преемственность. Эта идея не встречала единодушного признания в
среде советских историков. Причины? После Октября 1917 г. у нас существовало
постоянное стремление к полному разрыву с прошлым. Увы, в наши дни история
повторяется. В исторической науке официальная точка зрения нередко проявля¬
лась или в полном непризнании преемственности во внешней политике России и СССР,
или в стремлении рассматривать этот фактор в качестве ограниченного, второ¬
степенного.
Преемственность исходных принципов, "китов” советско-французских отношений,
несомненно, имеет свою объективную основу. Это прежде всего созданное самой
природой геостратегическое положение Франции на Западе и России, Советского
Союза на Востоке Европы. Германия Бисмарка и Вильгельма I, а затем и Германия
Гитлера оказывались как бы в тисках между Францией и Россией, Советским Союзом
при условии соблюдения ими взаимных обязательств. Геостратегический фактор
сыграл свою первостепенную роль в ходе первой мировой войны, закончившейся
поражением австро-германского блока, и содействовал победе антигитлеровской
коалиции.
Внешнеполитические, дипломатические и военно-стратегические аспекты являются
определяющими в концепции русско-французских и советско-французских отношений,
созданной Альбертом Захаровичем. По моему глубокому убеждению, пальма
первенства в разработке этой концепции принадлежит Манфреду, хотя крупный вклад
в изучение международных отношений в Европе в конце XIX - начале XX в. внесли
А.С. Ерусалимский, Ж.-Б. Дюрозель, П. Ренувен, Е.В. Тарле, В.М. Хвостов.
Отвлекаясь от общего анализа различных методологических подходов к эволюции
международных отношений в Европе, тем не менее упомяну о двух категориях, по
поводу которых неоднократно беседовал с Альбертом Захаровичем: традиционализм и
новации. Интересный обмен мнениями по этому поводу состоялся у нас осенью 1963 г.
Я попросил Манфреда высказаться по поводу моей докторской диссертации “Советско-
французские отношения 1924-1945 гг.” Одно из его замечаний показалось мне
особенно интересным (кстати говоря, оно было в письменной форме): “Традиционализм
в истории международных отношений - и многосторонних и двусторонних - признает
роль политики и политических деятелей, игнорируя или недооценивая силу воздействия
экономических, торговых, финансовых и культурных факторов. Я за комплексный
подход, когда все факторы взаимодействуют или, говоря точнее, происходит их
взаимопроникновение”. Замечание было неслучайным. Альберт Захарович считал, что
в диссертации должны быть самостоятельные разделы, посвященные, в частности,
научным и культурным связям. Я рассматривал культурное сотрудничество в извест¬
ной мере как самостоятельное, далекое от политики. И был не прав. Долго не
"сдавался” под напором аргументов Манфреда. Но через несколько лет серьезно
занялся историей культурных связей между СССР и Францией.
Несомненно, комплексный анализ двусторонних отношений как методологический
принцип - категория постоянная. Но именно как принцип, применяемый по-разному в
конкретных исторических условиях. Такой была позиция Альберта Захаровича.
Изучение его работ показывает, что геополитический фактор он считал величиной
постоянной, стабильной во взаимоотношениях России и Франции, Франции и
Советского Союза, а торгово-экономические и культурные связи рассматривал как
величины переменные, легко поддающиеся влиянию конъюнктурных обстоятельств.
Задаю себе прожективный вопрос: как бы в 1993 г., после воссоединения Германии
и коренных политико-экономических перемен на территории бывшего Советского
Союза, в Восточной и Центральной Европе, Манфред, если бы он был жив, оценил
перспективы русско-французских отношений?
Могу с достаточной уверенностью предположить, что Альберт Захарович отметил
бы резкое падение веса геополитического фактора в русско-французском сотру¬
дничестве. Думаю, что он был бы обеспокоен тем необычайно застойным состоянием,
184
которое переживают взаимоотношения России и Франции, хотя, как и в старые
времена, их объединяют договорные обязательства.
Впрочем, не буду заниматься предположениями, так как дело это для историка
неблагодарное и даже рискованное.
При всем постоянном внимании Манфреда к отношениям России и Франции его
интересовали проблемы французской внешней политики в целом. Собственно говоря, и
взаимоотношения России, Советского Союза, Франции он постоянно "вписывал” в
историю Европы и во всемирную историю. Узкий, ограниченный подход был
противопоказан этому широко мыслившему ученому.
ВРЕМЯ КРУШЕНИЯ ДОКТРИН
Началось это бурное время в Советском Союзе семь-восемь лет назад. Прошло оно
этап, именуемый его авторами перестроечным, а оппонентами "отцов перестройки” -
"так сказать перестроечным". Затем российское общество вступило в постпе¬
рестроечный период, в оценках которого у нас существует подлинный плюрализм
мнений. Его именуют "реформаторским", "переходным", редко и несмело указывая,
правда, от чего к чему, "революционным", "контрреволюционным". Несомненно, что
окончательный приговор, не подлежащий обжалованию, и в одним Богом устано¬
вленные сроки, вынесет история. Однако, не дожидаясь суда Божия, непримиримые
критики марксистской идеологии объявили ее утопией, смешивая, на мой взгляд,
научную концепцию с ее негодным практическим осуществлением. Начался пересмотр
общественных наук. Доказательством тому служат новые школьные учебники с их
попытками заново переписать целые периоды отечественной истории. Я не собираюсь
вступать в настоящей статье в теоретические споры. Меня интересует другое. У
историка Альберта Захаровича Манфреда имелась своя концепция внешней политики
Франции в последней четверти XIX - начале XX в. Верна ли эта концепция или
ошибочна? Нуждается ли она в очередном конъюнктурном пересмотре, подобном тем,
какие мы знали на протяжении советской истории?
Прежде чем ответить на этот вопрос, я решил просмотреть свои дневниковые
записи 1949 г. Как раз в то время, когда борьба с "космополитами" достигла накала, я
отвез в Архивное управление Министерства иностранных дел свою кандидатскую
диссертацию. Она целиком была построена на документах из Архива внешней
политики России и поэтому, по правилам того времени, не могла быть поставлена на
публичную защиту без согласия архивного начальства. Прошел месяц, начался второй.
За несколько дней до защиты поздно вечером (около 11 часов) меня вызвал к себе
начальник Архивного управления Владимир Михайлович Хвостов. Я немедленно
явился. Беседа была короткой. Мне был дан "совет" исключить из текста
"щекотливую тему" польско-русских отношений и "подумать" над теми страницами,
которые были отмечены голубыми закладками, аккуратно вырезанными умелой
секретарской рукой.
"Что все это значит?" - размышлял я по дороге домой. Ларчик открывался просто.
С молодым задором я высказал в работе критические замечания по поводу, как мне
казалось, принижения в "Истории дипломатии" роли России в предотвращении
германского нападения на Францию в ходе "военных тревог" 1875 и 1877 гг. Разделы
эти были написаны В.М. Хвостовым. Я не мог предположить, что в условиях борьбы с
"космополитизмом" казавшиеся мне невинными замечания могут приобрести даже для
видного ученого зловещий характер. В общем я долго не размышлял. "Критические
места" из текста введения к диссертации были сняты.
Я рассказал о встрече с Хвостовым Альберту Захаровичу. Он не только одобрил
мои решительные выводы, но и задумчиво добавил: "Опять жесткие времена. По
крайней мере надо тщательно взвесить все возможные нюансы моего подхода,
который, насколько я понимаю, Вы разделяете".
185
Держу в руках такую знакомую книгу9 - живую свидетельницу эпохи, давно
ушедшей в небытие, и ставлю перед собой вопрос: из каких основных критериев
исходил Альберт Захарович в своем анализе внешней политики Третьей республики во
Франции?
Исходный пункт - национальные интересы Франции. В последнее время мне часто
приходилось сталкиваться с праведным гневом некоторых политиков и ученых,
утверждавших, что сама категория национальных интересов - неопределенная,
нестабильная и в какой-то мере надуманная. Увы, и в 1993 г., пережив блуждания так
называемого ’’нового мышления", я не родился духовно заново и по-прежнему
утверждаю, что категория национальных интересов, понимаемая в конкретно¬
историческом плане и с учетом особенностей той или иной страны, является
универсальной внешнеполитической категорией как для практики, так и для науки.
Концепция Манфреда одновременно и проста, и сложна. Проста основная идея -
французские национальные интересы после поражения Франции в войне 1870 г.
настойчиво требовали надежных гарантий ее безопасности. Но проблема далеко
выходила за рамки внешней политики одного, хотя и крупного, европейского
государства. И в этом была ее сложность. Первостепенной для французской
дипломатии стала задача перестройки всей системы международных отношений в
Европе. Баланс сил на европейском континенте коренным образом изменился в пользу
Германской империи. Это не могло не вызывать тревоги не только в Петербурге, но и
в Лондоне, Риме, Вене, Мадриде, Брюсселе. Даже в изоляционистском Вашингтоне, в
котором европейские дела все еще не редко рассматривали с позиций "инопланетян",
серьезно задумались над необходимостью переоценки своей дипломатической
стратегии и тактики.
Разумеется, национальные интересы подвижны. Они меняются в зависимости от
внутренних условий и международного положения государства. Но, как отмечал
Альберт Захарович, всегда существуют постоянные факторы: целостность
территории и незыблемость границ, безопасность общества и личности, наличие
союзников, связанных едиными интересами. Вот такая постановка вопроса -
непреходяща. Она вполне справедлива как для Франции конца XIX в., так и для
России постперестроечного периода, хотя эта историческая аналогия, как и любая
иная, достаточно условна.
Перебрасывая мостик между эпохами, разделенными бурным нынешним столетием,
я вовсе не собираюсь стирать неповторимые особенности эпох и стран. Для Франции
1870 г. решение проблемы союзов являлось ключом к обеспечению внешней
безопасности республики. Не Англия, не Австрия, не Италия, а Россия "была той
единственной державой, которая оказала сдерживающее и умеряющее воздействие на
кайзеровскую Германию в ее агрессивных намерениях против Франции. В 1872 г., при
создании союза трех императоров, российская дипломатия, направляемая А.М. Гор¬
чаковым, не допустила превращения его в инструмент антифранцузской Политики, к
чему стремился Бисмарк. Русская дипломатия тогда уже отстаивала тезис о создании
сильной Франции, в которой она видела противовес чрезмерно возросшей мощи
Германии"10.
Конечно, в то время в Париже могли только мечтать о русско-французском союзе.
Путь к нему оказался долгим и трудным. У истоков сближения двух стран стоял
мудрый дипломат - Александр Михайлович Горчаков, обладавший удивительной
политической интуицией. Это он, учитывая национальные интересы России в Европе и
не связывая российскую дипломатию формальными обязательствами, не допустил
новой германской агрессии против ослабленной Франции. Такая позиция отвечала
правильно понятым национальным интересам Российского государства.
Придавая первостепенное значение категории национальных интересов во внешней
9 Манфред А.З. Внешняя политика Франции 1871-1891 годов. М., 1952.
10 Там же, с. 546.
186
политике как России, так и Франции, Альберт Захарович большое внимание уделял
анализу противоречий в двусторонних и многосторонних отношениях в Европе.
Особенное у Манфреда состояло в том, что он рассматривал межгосударственные
трения в их становлении и эволюции. Известно, что от ’’русского курса” французская
дипломатия, особенно на Берлинском конгрессе 1878 г., временно отошла и встала на
путь сближения с Германией и Англией. Со своей стороны германские руководители
стремились помешать курсу на сближение Франции с Россией, поддерживали
колониальные экспедиции французов в Конго, на Мадагаскаре и в Китае.
Манфред подчеркивал, что на рубеже двух веков картина международных
отношений на европейском континенте была сложной и противоречивой. Но
объективная тенденция к русско-французскому сотрудничеству прокладывала себе
дорогу через все зигзаги дипломатической истории. Путеводной нитью и для России, и
для Франции была концепция национальных интересов. В работах Альберта
Захаровича она нашла полное и аргументированное выражение.
Внешнеполитическая деятельность, особенно в ее внешних проявлениях, обладает
относительной самостоятельностью. Но это видимая часть айсберга, считал Манфред.
Видимость способна ввести в заблуждение неискушенных в политике людей. Разве
можно понять дипломатию Франции после ее войны с Пруссией, не учитывая
важнейших внутренних факторов: оккупации французской территории германскими
войсками, выплату немцам гигантской по тем временам контрибуции, унижение
национального достоинства побежденной страны.
Связь внутренней ситуации в любом государстве с его внешней политикой
неразрывная, органическая. Она становится особенно явной в эпохи национальных
трагедий и кризисов. Внешние и внутренние факторы невозможно разорвать. Причем
эта зависимость наиболее осязаема в тех случаях, когда внутри страны возникает
социально-экономический кризис и политическая нестабильность. Так было во Франции
в начале 70-х годов прошлого века. Подобная зависимость со всеми ее современными
государственными, социально-экономическими, политическими, национальными и
иными особенностями прослеживается и в России 1993 г.
Время, точно тонкое сито, отцеживает только те имена, факты, события,
концепции, которые проявили себя жизнеспособными и устойчивыми к социальным
потрясениям. Разработанная А.З. Манфредом концепция французской внешней
политики конца прошлого века прошла через ’’сито истории", выдержав проверку на
достоверность, объективность, научность. История всегда в конечном счете
освобождается от ложного и обнажает истину.
РЕВОЛЮЦИИ - ОШИБКИ ИСТОРИИ?
Лето 1972 г. Площадь Бастилии в Париже. Мы стояли у черной линии, рисующей
на камнях мостовой внешние контуры королевской крепости, сметенной народным
гневом. И Альберт Захарович - в голосе его звучали приподнятые, взволнованные
нотки - говорил о революции 1789 г.
Взволнованный монолог меня не удивил. Если можно в данном случае использовать
это слово, Манфред был влюблен во Французскую революцию. Он с удивительным
знанием многозначительных деталей вспоминал о ее событиях и людях, сравнивал
различные варианты анализа причин и следствий политической борьбы, напоминал о
подробностях прений в Конвенте, об успехах и ошибках лидеров и партий.
Восстанавливая в памяти нашу беседу и сверяя тогдашние аргументы Альберта
Захаровича с его работами, я пришел к одному для меня безальтернативному выводу:
революции не ошибки истории, они ее локомотивы.
Еще несколько лет назад этот тезис являлся аксиомой для нашей исторической
науки. Но всегда и везде в бурные эпохи коренных социальных перемен обязательно
подвергаются критике, пересмотру взгляды, концепции, десятилетия являвшиеся
187
незыблемыми. Я не осуждаю процесс идейных перемен. Он может быть полезным и
даже необходимым при соблюдении определенных условий: объективность, взаимная
терпимость к различным взглядам, обоснованность аргументов, признание истори¬
ческой преемственности, отказ от конъюнктурных политических соображений. Едва ли
можно считать, что эти условия в нынешней России соблюдаются.
Идейный плюрализм, несомненно, является одним из немногих завоеваний
российской демократии. Из всего многообразия подходов и идей, высказанных на
протяжении последних лет, я отмечу направление, которое признает только эво¬
люционный, реформистский путь развития, в принципе отвергая революции как
источник социальных потрясений, бед и несчастий для личности, общества и, в
конечном счете, для всего человечества. С таких позиций подвергнута уничтожающей
критике прежде всего история Октябрьской революции 1917 г. Гнев реформаторов,
правда, насколько мне известно, пока еще не распространился на Французскую
революцию, в изучение которой Альберт Захарович внес крупный вклад. Хотя
некоторые мои коллеги говорят: не торопитесь, всему свое время, доберутся и до
санкюлотов.
Откровенно говоря, ждать нет времени. Дни летят один за другим, как падают
листья с деревьев осенью. В этой связи хотелось бы высказать отношение к той
стройной и цельной системе взглядов, для которой у меня есть и свое название:
’’Великая французская революция в освещении Манфреда”.
Остановлюсь лишь на уроках могучей революционной бури, которая вот уже более
200 лет оказывает воздействие на европейскую и всемирную историю. ’’Весь XIX век,
тот век, который дал цивилизацию... всему человечеству, прошел под знаком
французской революции’’11. Эту идею можно продолжить. И весь бурный XX в. с его
гигантскими общественными потрясениями, движениями от капитализма к социализму
и от социализма к капитализму, с его величайшими научно-техническими открытиями
прошел под знаком идей ’’Декларации прав человека и гражданина”.
Не знаю ни одной крупной проблемы Французской революции, которую с разной
степенью глубины, разумеется, не исследовал бы Альберт Захарович12. Но я не
хотел бы выступать в этой статье в роли, как правило, неблагодарной, скрупулезного
историографа. У меня иная задача. Я хотел бы дать ответ на вопрос: нуждаются ли в
замене или, по крайней мере, "в ремонте" несущие конструкции массивного и в то же
время изящного здания, построенного Манфредом, которое можно назвать "храмом
Французской революции"? Отвечаю: конструкции - идеи - надежны, в замене или
ремонте не нуждаются.
Конструкция - идея первая. По своим объективным результатам революция
отвечала национальным интересам Франции, т.е. большинства ее населения. Она
"сокрушила феодально-абсолютистский строй, до конца добила феодализм, "испо¬
линской метлой" вымела из Франции хлам средневековья и расчистила поле для
капиталистического развития"13. Этот вывод историк подтверждает анализом
огромного фактического материала. Коренная ломка экономики повлекла за собой во
Франции глубинные изменения в государственном строе, судебной системе, орга¬
низации армии, в ее стратегии и тактике. Новая армия ценой сверхчеловеческих
усилий отстояла независимость страны, ее территориальную целостность, ее границы.
Все эти перемены отвечали непосредственным и "дальним" национальным интересам
Франции.
Революция испытала и обратное, попятное движение. "Возвращение к истокам" -
удел всех (в 1993 г. уже можно сказать: всех без исключения) революций в истории
человечества. Она прошла через испытания термидора, директории; консульства,
империи, но сохранила свои главные социально-экономические и политические итоги.
11 Ленин ВЛ. Полн. собр. соч., т. 38, с. 367.
12 Манфред А.З. Великая Французская революция. М., 1983.
13 Там же, с. 206.
188
Конструкция - идея вторая. Французская революция сделала гигантский шаг вперед
в раскрепощении человека, в защите его прав и свобод. На языке документов,
жестком, но доказательном, Альберт Захарович раскрыл процесс полной и окон¬
чательной ликвидации феодальных прав в деревне, безвозмездного и окончательного
упразднения всех феодальных повинностей, прекращения судебных дел, связанных с
правами феодалов. В работах Манфреда показано значение передачи общинных
земель крестьянам равными долями на каждую душу, продажи земельных участков с
рассрочкой платежей на десять с лишним лет. В сфере политики "якобинская
конституция 1793 года была одной из самых демократических буржуазных конституций
Нового времени"14.
Не устарела ли в свете ожесточенной критики якобинцев, столь модной во Франции
в последнее время, эта формула? Не нуждается ли она в пересмотре? Нет, оценка
Манфреда полностью сохраняет свою силу. По своей сути якобинская конституция
была нераздельна с новой Декларацией прав человека и гражданина, написанной
Робеспьером. Она объявила естественными и неотъемлемыми правами человека
свободу, равенство, безопасность и собственность.
Не идеализирует ли Альберт Захарович якобинцев и их диктаторский режим? Такой
упрек не имеет под собой оснований. Сошлюсь на один, а имеются и многие другие,
однотипные, вывод Манфреда: "У якобинского правительства не было вообще и не
могло быть единой и последовательной линии. Представляя собой разнородный в
классовом отношении блок, якобинское правительство и в своей политике отражало
противоречие интересов разных общественных групп. Эта политика была про¬
тиворечива по самому своему существу"15. Дают ли эти слова основания для
обвинения их автора в необъективности, в "предвзято-ленинском", как сказал мне
недавно один известный историк, толковании якобинизма? Думаю, что такой упрек в
адрес Альберта Захаровича был бы несправедлив.
Высоко оценивая позицию Манфреда, я вовсе не хочу сказать, что критический
анализ якобинизма как идейного течения и практической деятельности якобинцев
закончен. Конечно, Альберт Захарович не поставил, да и не мог поставить
"последнюю" - для научного познания общества не существует предела - точку в
изучении якобинской диктатуры. Оно продолжается в борьбе мнений и оценок.
Конструкция - идея третья. Взятием Бастилии датирует Манфред истоки
современной демократии. Полностью согласен с такой хронологией. Это действи¬
тельно день рождения демократии, так как в политический процесс были вовлечены
миллионы французов и француженок. Революция - "бушующее море", "народный
океан" - эти оценки Ромена Роллана получили в работах Альберта Захаровича
всестороннее научное подтверждение.
По собственному опыту знаю, как трудно в документах XVII-XVIII вв. находить
скупые, как правило, сведения о политической активности людей из народа и
народных движений. Но на такой поиск Манфред не жалел ни времени, ни сил. Он
рассказывает об активных участниках революции - рабочем Россиньоле, садовнике
Мениссье, плотнике Дюпле, типографе Моморо, слесаре Дидье. "А сколько было
сотен и тысяч еще менее заметных революционных бойцов, боевых руководителей
провинциальных муниципалитетов, местных народных обществ, революционных
комитетов, дистриктов, коммун, секций в городах и селах в 83 департаментах -
низовых вожаков народных масс, чьи имена так и остались затерянными в истории, но
роль которых в повседневном революционном творчестве была поистине
громадной"16.
Для современности важно, что Французская революция создала структуру
демократии, включавшую выборные органы власти, сеть которых покрыла всю
14 Там же, с. 145.
15 Там же, с. 170.
16 Там же, с. 160.
189
территорию Франции, многочисленные народные общества. Анализируя демо¬
кратический процесс, Альберт Захарович обосновал вывод о том, что не может быть и
речи о подлинно демократическом режиме, если он не вовлекает в свои институты
миллионы простых граждан. Правда, историки - сторонники авторитарного правления
и личных ’’исторических" решений думают иначе. Но это уже на их совести.
Конструкция - идея четвертая. Не к верхушечным, а к истинно народным
революциям Манфред относит Французскую 1789 г. и Октябрьскую 1917 г., хотя в
нашей перестроечной и постперестроечной литературе последнюю подвергли жесткой
и в ряде случаев неоправданной критике.
Величие этих революций Альберт Захарович видит не только в их всеобъемлющем
влиянии на судьбы своего народа, но и в их международном значении. Манфред
обобщил огромный фактический материал о воздействии французской революции на
государства Европы: Англию, Россию, Испанию, Италию, Бельгию, Германию,
Швейцарию, Австро-Венгрию, Польшу, Грецию и даже на далекие от европейского
континента страны Южной и Центральной Америки. "Там, где развитие
капиталистического уклада в недрах феодального строя сколь-нибудь существенно
продвинулось вперед, это влияние было сильнее и приводило к наиболее ощутимым
результатам. Но даже там, где условия общественного развития еще не создали почву
для революционного ниспровержения феодализма, Французская революция дала
толчок пробуждению и росту сознательности передовых антифеодальных сил"17.
Мне кажется, что Альберту Захаровичу в полной мере не удалось избежать общего
недостатка советской исторической науки: одностороннего идеологизированного
подхода к проблеме воздействия революционных событий во Франции на историю
Европы и всего мира. Мы неизменно подчеркивали позитивные аспекты этого
влияния, игнорируя, как правило, его отрицательные стороны, в частности связанные с
отсутствием внимания к национальным особенностям, к специфике национального
самосознания и культуры. Как ни банальны в современных условиях подобные
объяснения, все же придется сослаться на тяжелую руку официальных идеологов и
государственной цензуры. Но это скорее наша беда, а не вина.
Конструкция - идея пятая. Революционное насилие - "справедливое и необходимое
средство борьбы народа"18. Это позиция Максимилиана Робеспьера. Излагая ее, Аль¬
берт Захарович писал уже от себя, что "политика террора, суровых репрессий против
врагов революции, против спекулянтов, нарушителей государственных законов тоже
была рождена не теорией, а практикой, самой логикой борьбы. Ведь когда якобинцы
свергли власть Жиронды, они не решились даже отправить своих противников в
тюрьму; их оставили под домашним надзором. В первую же ночь жирондистские
лидеры бежали и подняли контрреволюционный мятеж. Только после убийства
Марата, Лепелетье де Сан-Фаржо, Шалье, после контрреволюционного переворота в
Дионе якобинцы, принимая требования народа, встали на путь ответного террора"19.
Отношение к террору якобинской диктатуры на протяжении вот уже более чем
двух столетий разделяет не только историков, социологов, публицистов, но и
государственных и общественных деятелей. В связи с 200-летием Французской
революции журнал "Тайм" опубликовал статью "Прошло 200 лет, а французы все еще
спорят о смысле своей революции". При этом рисуется традиционная картинка
событий: головы на пиках, голодные толпы, штурмующие Версаль, женщины с
вязанием в руках обмениваются шутками у эшафота, Марат, заколотый в своей
ванне, сотни священников-мучеников, Сен-Жюст, хриплым голосом кричащий: "Нет
свободы для врагов свободы!"20.
17 Там же, с. 100-101.
18 Там же, с. 295.
19 Там же, с. 225.
20 Цит. по: Борисов Ю.В. Дипломатия французской революции. - Международная жизнь, 1989, № 7,
с. 41.
190
Разумеется, якобинский террор, по замыслу его организаторов, являлся крайним
средством защиты революционных завоеваний. По замыслу, но далеко не всегда по
исполнению. Имели место многочисленные злоупотребления властью, преступные
действия должностных лиц, превращавшие гибель десятков и даже сотен людей, и в
их числе женщин, стариков и детей, в источник обогащения.
Трагических фактов много. Их невозможно отрицать. Но их буквально смакуют
некоторые западные исследователи, тем самым обдуманно создавая фон для
осуждения лидеров революции: Робеспьера, Дантона, Марата, Сен-Жюста. При этом
забывается главное: политических деятелей судит история, не оправдывая ошибок и
заблуждений, по их вкладу в социальный прогресс.
Такова позиция Манфреда. Изучение документов Национального архива Франции
привело его к осуждению политики террора. Он писал: ’’Террор превратился в
инструмент расправы с неугодными лицами, грабежа, личного обогащения и
бесчестных злоупотреблений”21. Это один из выводов Альберта Захаровича,
являющихся неотъемлемой частью его концепции Французской революции. Эта
концепция по своему содержанию, уровню анализа огромного фактического материала
занимает свое место в нашей исторической литературе. Отмечая выдающийся вклад
Манфреда в историографию Французской революции 1789 г., я вовсе не считаю ее
изучение законченным. Научные дискуссии продолжаются. Многие проблемы, в том
числе и принципиальные, нуждаются в дальнейшей разработке. Такой была и позиция
Альберта Захаровича. В одном из последних своих выступлений он говорил: "За
богатством достигнутых частных, конкретно-исторических данных мы не должны
упускать из виду общего направления исторического развития, мы не должны
отказываться от синтеза. Исторический синтез по-прежнему остается нашей высокой
обязанностью”22. Разве этот призыв в наши дни устарел для историков?
Вывод Мастера: от анализа фактов и событий необходимо идти к их обобщению, к
познанию закономерностей исторического процесса - подтверждается всеми его
работами, в том числе по истории французских революций XVIII-XIX вв. Парижской
Коммуне Альберт Захарович посвятил ряд своих работ, которые вошли в качестве
глав и разделов в крупные коллективные труды23.
Изучая историю Коммуны, Манфред уточнял и дополнял известные факты в свете
новых источников. Пример: анализ деятельности центрального комитета
Национальной гвардии на протяжении первых десяти дней революционных событий в
Париже в марте 1871 г.24 До исследований Альберта Захаровича это была белая, или
почти белая, страница в советской и зарубежной историографии.
Обобщение нового материала привело Манфреда и к новым выводам. Среди них
четкое разделение международных уроков деятельности коммунаров - влияние
Коммуны на всю последующую историю Европы и значение опыта Коммуны для
самой Франции, ее внешней и внутренней политики.
Мои оппоненты, возможно, скажут: это традиционный подход. Но нельзя перед
словом "традиции” непременно ставить отрицательный знак. Традиции нередко играют
в истории положительную роль. Именно это и имел в виду Альберт Захарович, когда
уделял большое внимание изучению творческих инициатив парижан в различных сфе¬
рах общественной жизни: политической, социально-экономической, духовной. Эта идея
- ведущая в трудах Манфреда по истории социалистического движения во Франции.
История социализма, его теории и практики после невероятного по масштабам,
глубине, историческому значению краха коммунистического эксперимента в Советском
Союзе не в моде как в российской действительности, так и в нашей исторической
21 Манфред Л.З. Три портрета..., с. 380.
22 Манфред А.З. Великая французская революция, с. 411.
23 Парижская коммуна 1871 г., т. 1-2. М., 1961; История Парижской коммуны 1871 года. М., 1971;
24 Манфред А.З. Историческое значение и традиции Парижской коммуны. - Новая и новейшая история,
1961, №2.
191
науке. Это подход временный, конъюнктурный, своего рода детская болезнь
переходного возраста от социализма к капитализму. В таких условиях как
специалисты, так и неспециалисты особенно остро критикуют историков за
тенденциозность, догматизм в освещении истории революции. Часто критика
справедлива, но нередко - она предвзятая, необоснованная.
Неоспоримые качества работ Манфреда по истории французских революций -
научная объективность, взвешенность оценок как позитивных, так и негативных,
анализ событий и деятельности политических лидеров без прикрас, без искусственного
подчеркивания ’’нужных" и скрытия, замалчивания "неудобных" фактов, суждений,
оценок. Манфред всегда и во всем Манфред. Он самостоятелен, оригинален в своих
взглядах, подходах, идеях, но неизменно честен, верен принципу служения истине во
всей ее сложности, противоречивости, многогранности. И при этом Мастер был
открыт для научных дискуссий, восприимчив к научной, доброжелательной и
обоснованной критике. К нему в полной мере относятся слова великого мыслителя
Пифагора: "Будь другом истины до мученичества, но не будь ее защитником до
нетерпимости"25.
ДАР БОЖИЙ: ТАЛАНТ ХУДОЖНИКА
"В последнее время у меня появилась склонность - мне не легко сказать, хорошо
это или плохо, не мне судить - раскрывать внутреннее содержание больших
общественных процессов, к которым относятся и революции, через изображение
отдельных их деятелей. Вероятно, с равным правом освещать эту тему на примере
отдельных человеческих судеб можно, говоря и о роли людей, которые стали во главе
революционного процесса, и о роли тех, которые были его рядовыми участниками. И
те и другие имеют одинаковое право на внимание"26.
Эти слова написаны Альбертом Захаровичем летом 1976 г. Он утверждал, что
склонность к созданию исторических портретов появилась у него именно в это время.
Думаю, что эти слова следует объяснить присущей Манфреду скромностью. Над
идеей исторического портрета он, видимо, задумывался значительно раньше. У меня
имеются основания для такого предположения. Расскажу об одной беседе с Евгением
Викторовичем Тарле. В конце 1953 г. он пригласил Альберта Захаровича, у них были
близкие дружественные отношения, и меня к себе на квартиру в знаменитый Дом
правительства на Берсеньевской набережной. Речь шла об участии в подготовке
крупной коллективной работы, лично интересовавшей Евгения Викторовича. Он
пребывал в хорошем расположении духа, шутил, говорил о том, что у нас
исторические работы сухие, мертвые, а нужны портреты живых людей. Неожиданно в
шутливой форме заметил: "Не только люди, но и книги стареют. Пройдет время и
Вам, Альберт Захарович, хорошо бы написать нового Наполеона, а Вам, молодой
человек, ну, скажем, испытать силы на Талейране". Замечание было откровенно
шутливым, не более. Шутка - шуткой, а она сбылась. Чего только не бывает в жизни.
Не знаю, упоминал ли когда-нибудь Альберт Захарович о шутливой ремарке
академика. Едва ли: она не выходила за рамки любезности хозяина дома. Манфред из
глубочайшего уважения к Евгению Викторовичу не считал себя морально вправе
публиковать что-либо о Наполеоне. Прошли годы, пока наконец Альберт Захарович
решился снять "табу" с наполеоновской тематики, "которое по внутреннему
побуждению" он в свое время сам на себя наложил27.
К историческому портрету Альберт Захарович предъявлял высокие требования. Он
считал, что "профессиональный подход историка, который в своей работе ограничен
документальным материалом, не позволяет ему становиться на почву
художественного вымысла. Историк всегда связан тем неопровержимым, точным
25 Цит. по: Чаша мудрости. М., 1978, с. 279.
26 Манфред А.З. Три портрета..., с. 17.
27 Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М., 1986, с. 6.
192
документальным материалом, на который он может опереться. Именно необходимость
считаться с историческими материалами, находящимися в распоряжении исследова¬
теля, и предопределяет выбор героев”28.
Для историка это преимущественно политические лидеры, стоящие во главе
государств, партий, движений. Они персонифицируют события истории, отражают их в
своих действиях и мыслях, материализованных в документальных источниках, и тем
самым дают возможность понять жизнь общества. Но не только политики ’’делают”
историю. На ее ход оказывают воздействие ученые, писатели, поэты, люди искусства.
Пример: Жан-Жак Руссо, многогранный образ которого воссоздан Альбертом
Захаровичем.
Портрет - это всегда искусство, независимо от того, нарисован ли он кистью
художника или пером историка. Однако художник располагает свободой образа,
включая вымысел, полет фантазии. Возможности историка ограниченные, но тем не
менее и они дают основания для познания психологии героев, их духовной жизни,
построения логически и исторически оправданных моделей поведения, не
противоречащих установленным фактам, логике событий, их результатам.
В творчестве Мастера исторического портрета реальность и основанный на ее
жестком фундаменте образ сливаются воедино. И перед нами в творчестве Манфреда
живые люди - Руссо, Мирабо, Марат, Робеспьер, Наполеон со всеми присущими им
чувствами: любовью и ненавистью, страхом и мужеством, самолюбием и
честолюбием, со всеми их действиями - разумными и безрассудными, честными и
лживыми, героическими и трусливыми. Сопереживая прошлое вместе с его героями,
историк становится как бы участником событий, отделенных от него десятилетиями и
даже столетиями.
Я бы назвал художественный стиль Альберта Захаровича магией слова. Стать
’’магом” - задача неимоверно трудная для историка, связанного событиями и фактами,
свершившимися, неподвижными, исключающими свободу выбора между жизнью и
смертью. Но под пером историка-художника события словно оживают,
одухотворяются, люди воскресают из небытия, мыслят и действуют. Портреты,
нарисованные Альбертом Захаровичем, - многогранные. Их невозможно воссоздать в
узких рамках журнального очерка. Я и не пытаюсь это сделать, напомню только
некоторые черты нарисованных Мастером образов.
Молодой Руссо. "Это заря революции; ее предшествие; она еще не настала, лишь
брезжит рассвет"29. Первая жизненная школа Руссо, - школа странствий, длившихся
почти десятилетие, "Не из окна кареты или почтового дилижанса познавал Руссо
жизнь своего времени. Он видел ее с самого близкого расстояния - странник с посохом
в руке, неторопливо совершающий за долгий день - от восхода до заката солнца, путь
от одного села к другому. Кто мог лучше его знать, как начинается день в
крестьянской хижине, какими причитаниями провожают его старые матери. У юного
странника нет ничего - ни денег, ни оружия; в этом мире - солнечном и хмуром, ярком
и тусклом, богатом и бедном, ласковом и жестоком - он ничем не владеет. Он не
спрашивает, что же будет завтра, потому что завтра - это сегодня, это неизвестное,
обступающее его со всех сторон”30.
Вдумайтесь в эти строки, и понятным становится вывод автора: "Для Жан Жака
Руссо с первых его сознательных шагов народ стал его собственной жизнью, он был
сам его частью, он был от него неотделим"31.
А вот другой портрет. "Мирабо - герой 1789 года"32. Одна из самых спорных и
противоречивых фигур французской истории. Он и велик и ничтожен, им можно
28 Манфред А.З. Три портрета..., с. 18.
29 Там же.
30 Там же, с. 39.
31 Там же, с. 47.
32 Там же, с. 19.
7 Новая и новейшая история, № 5 193
восхищаться, и вместе с тем он достоин презрения. Впрочем, величие всегда
противоречиво. И вот перед нами - обличитель аристократии, дворянства, отцов
церкви. "У него были свои счеты с этой спесивой богатой знатью, травившей его
двадцать лет чуть ли не собаками”33.
Но полностью порвать со своей средой Мирабо не мог. ’’При всей искренности его
презрения, его афишируемой вражде к аристократии, спесивому дворянству, от
которых он столько натерпелся за свою предшествующую жизнь, сам он по своему
внутреннему складу, привычкам, психологии все-таки оставался сеньором, барином,
аристократом, так никогда и не слившимся полностью с простым народом, интересы
которого он в то же время вполне искренне защищал’’34.
Руссо - Мирабо... Живая связь событий, выраженная в исторических портретах, не
обрывается. Она находит свое продолжение в образе Максимилиана Робеспьера. ’’Это
полдень, это революция, достигшая своей зрелости, зенита и после его гибели
пошедшая по ущербному пути упадка”35.
Прошло два века со времени казни Неподкупного, но и в наши дни о нем не говорят
как о покойнике. Вокруг имени и жизни Робеспьера по-прежнему кипят страс¬
ти. Презрение, гнев, ненависть, с одной стороны, восхищение честностью,
благородством помыслов, мужеством - с другой. И между этими взаимоиск¬
лючающими подходами бескрайнее море раскаленных эмоций, различных суждений,
нестихающих споров.
Найти верный путь в $том сложном лабиринте, где переплелись в вековой борьбе
интересы различных общественных классов и социальных групп, многообразные
оценки французской революции и ее лидеров - сложнейшая задача для историка.
Манфред ее успешно решил. Вот что он пишет: "Создался образ Робеспьера - иска¬
женный, неузнаваемый, страшный, лишенный всяких человеческих черт, окаменевший
сгусток всех пороков и низменных страстей, портрет тирана и кровожадного убийцы.
Однако вопреки этой версии, поддерживаемой государственной властью, насаждаемой
церковью, школой, официальной наукой, в сознании народа, в памяти поколений жили
иные представления о Робеспьере, иные воспоминания, иной, непохожий на страшный
портрет - человечный и человеческий образ”36.
Различны посмертные судьбы героев истории. Обосновывая эту мысль, Альберт
Захарович сравнивает отношение общества и науки к Наполеону и Робеспьеру - двум
наиболее значительным людям переломной эпохи конца XVIII - начала XIX в. "Па¬
мять Наполеона была увековечена господствующими классами Вандомской колонной,
Домом Инвалидов, монументами, сотнями тысяч репродукций, музеями, почти нео¬
бозримой литературой; но до сих пор во Франции, в столице, где некогда заседал
Конвент, и в других городах нет памятника самому замечательному представителю
Первой республики, да и имя его в истории Франции еще далеко не звучит во весь
голос”37.
Духовному облику Робеспьера, сложному и многогранному, Манфред посвятил
многие страницы своих работ. Однако анализ внутренних противоречий, являющихся
неизбежным спутником выдающихся личностей, достигает у Манфреда своего
апофеоза в портрете Наполеона Бонапарта. "Его исторический образ воплотил все
противоречия той поры. Его имя ассоциируется с безмерным честолюбием, с деспо¬
тической властью, с жестокими и кровавыми войнами, с ненасытной жаждой
завоеваний, оно рождает в памяти ужасы Сарагосы, ограбление порабощенной Герма¬
нии, вторжение в Россию. Но оно же напоминает о смелости и отваге, проявленных в
сражениях при Монтенотте, Арколе, Лодди, о таланте, умевшем дерзать, о госу¬
33 Там же, с. 200.
34 Там же, с. 205.
35 Там же, с. 19.
36 Там же, с. 249.
37 Там же, с. 250.
194
дарственном деятеле, нанесшем сокрушающие удары старой, феодальной, рутинной
Европе”38.
Но, как подчеркивает Манфред, ничто не может устоять перед всесильным бегом
времени. "Неистовый корсиканец, волновавший когда-то умы и сердца, отодвинут в
далекое прошлое. В Париже в Доме Инвалидов перед склепом Наполеона при всем
его языческом великолепии, теперь малолюдно; здесь слышна нефранцузская речь -
то иностранцы, изучающие достопримечательности столицы, считают долгом посетить
и могилу императора. Вечером на бульваре Мадлен, когда зажигаются огни, на
золотом фоне витража возникает знакомый, резко очерченный силуэт в треугольной
шляпе. Увы, то лишь одно из рекламных объявлений. Все проходит..."39.
Не скрою, чувство печали сквозит в этих строках. И известное облегчение
вызывает лишь мысль о том, что жизнь вечна. И история тоже.
ОН ЛЮБИЛ РОССИЮ И ФРАНЦИЮ
Святое слово "родина" у каждого ассоциируется со своими, личными образами,
воспоминаниями, надеждами. Но среди них всегда и непременно живут, присутствуют
близкие нам люди.
В своей семье находил Альберт Захарович всегда, и особенно р тяже¬
лых обстоятельствах, моральную, нравственную поддержку. Я думаю, что его ро¬
дные и близкие согласятся с тем, что он был и остается их кумиром. В семье
существовали духовная близость, общность интеллектуальных интересов. Назову
"манфредовскими чтениями" семейные обсуждения замыслов книг и статей, за¬
конченных и, главным образом, незаконченных текстов одного и того же автора -
мужа и отца.
Так уж сложилось в нашем обществе: не принято говорить о семейных делах. Но я
позволю себе нарушить эту традицию, хотя с ней надо считаться.
Первая жена Альберта Захаровича - Дора Семеновна, долго и тяжело болевшая,
была тонким ценителем его работ, постоянной слушательницей, высказывавшей свои
суждения. Вторая жена - Надежда Васильевна - историк, дочь Ирина - историк, дочь
Галина - историк, падчерица Тамара (в обиходе - "Тусенька", уважаемая и ценимая
Альбертом Захаровичем) - филолог. Кто знает, может быть, к нашей "исторической"
братии, придет время, примкнет и внук Манфреда - Дмитрий. Два других его внука
Михаил и Владимир уже выбрали иной жизненный путь.
Мастер горячо и преданно любил Россию. Родина у каждого одна, куда бы ни
бросала нас судьба. Но подлинный патриотизм никогда не бывает национально
ограниченным. Альберт Захарович любил Францию. И.каждая поездка в эту страну
была для него праздником, от которого он не мог отказаться даже тогда, когда
болезнь ломила тело и ноги непрочно стояли на земле.
Французские историки хорошо знали отношение Альберта Захаровича к их стране.
"Альберт Манфред любил Францию по-юношески, нежно, проникновенно и с какой-то
просветленной радостью", - писал Фернан Бродель. Его оценку разделял Альбер
Собуль: "Альберт Манфред любил Францию искренней и верной любовью, он
страстно интересовался ее историей, он боролся за лучшее взаимопонимание и дружбу
между нашими народами"40. Не правда ли - прекрасный итог яркой жизни ученого и
гражданина!
Бывает так, что судьба словно сочувствует человеческим привязанностям.
Судьба дала Альберту Захаровичу возможность попрощаться с Парижем в де¬
кабре 1976 г., буквально за несколько дней до смерти, после возвращения домой, в
Москву.
38 Манфред А.З. Наполеон Бонапарт, с. 694.
39 Там же, с. 695.
40 Французский ежегодник. 1976, с. 24-26.
7*
195
В Париже я встречал Манфреда в аэропорту. Его лицо - лицо больного человека -
меня испугало. Он признался, что чувствует себя плохо, но все-таки не мог отказаться
от поездки во Францию, которая многие десятилетия заполняла его мысли и чувства.
Он был одержим, в лучшем смысле этого слова, любовью к Франции, ее народу, к ее
истории и культуре.
У Альберта Захаровича Манфреда была трудная жизнь. Он испытал на себе все
противоречия и несправедливости эпохи, материальные лишения и нравственные
удары, преступный арест, муки тюремного заключения.
Но был и другой, светлый, радостный фон - это признание миллионов читателей в
Советском Союзе и за рубежом, это выдающийся вклад в отечественную и мировую
науку, удивительным образом сочетавшийся с упорным отказом от официального
признания заслуг ученого в родной ему Академии наук, где он проработал три
десятилетия. Альберт Захарович, на мой взгляд, достойнейший из достойных, так и не
был избран академиком.
И сладка, и горька судьба таланта. К нему редко испытывают равнодушие: его
либо любят, либо ненавидят, перед ним преклоняются либо его отвергают, его
ценят или ему завидуют. Талант неизбежно проходит через суровые жизнен¬
ные испытания, и если судьба его не сломит, то свершает то, к чему приз¬
ван, - творит. ’’Вся радость жизни - в творчестве. Творить значит убивать
смерть”.
Вещие слова Ромена Роллана для надгробия Альберту Захаровичу Манфреду.
196
Страницы прошлого
© 1993 г.
Г.Д. ШКУНДИН-НИКОЛАЕВ
БОЛГАРСКОЕ ФИАСКО П.Н. МИЛЮКОВА
В 1917 г.
5 (18) марта 1917 г., сразу же после крушения казавшейся незыблемой твердыни
российского самодержавия, Павел Николаевич Милюков (1859-1943) вступил в
управление российским министерством иностранных дел. К этому времени он был
известен в стране и за ее пределами как крупный историк, лидер западнического
крыла русской интеллигенции, теоретик либерально-демократического движения,
пламенный оратор в Государственной думе, человек с твердой гражданской позицией и
высокими нравственными идеалами*. В этот день Павел Николаевич ликовал. Он -
министр! Осуществилась мечта, которую профессор вынашивал с 1915 г.: и когда был
в Государственной думе ’’штатным” критиком внешнеполитических ’’проколов”
последних царских правительств, и когда в 1916 г. во главе думской делегации
свободно обсуждал межгосударственные проблемы с руководителями союзных держав.
С нескрываемой иронией описывает внешний облик и поведение Павла Ни¬
колаевича в этот "эпохальный” для него и, как надеялся лидер кадетов, для всей
России день В.Б. Лопухин, директор департамента личного состава и хозяйственных
дел министерства: "Он, облеченный доверием народа, авторитетнейший в глазах
народа, каким мнил себя в ту пору Милюков, руководитель внешней политики России.
От неисчислимого количества речей, произнесенных в Таврическом дворце
непрерывно стекавшимся депутациям, Павел Николаевич охрип. До потери голоса
непревзойденного пропойцы и больного горловою чахоткою в последней стадии.
Искрящиеся восторгом глаза. Не сходящая с уст радостная улыбка. Сипота заглушает
речь. Уловимы лишь отдельные отрывистые возгласы: ”... Перспективы самые
радостные! Оратор просит нашего сотрудничества. Мы отдаемся в его распоря¬
жение”1.
Но уже тогда многие из присутствовавших служащих дипломатического ведомства
не разделяли оптимизма новоиспеченного министра. Они могли поверить в "радостные
перспективы”, если бы новым правительством был провозглашен лозунг окончания
войны. Этой цели добивался народ, этого требовала обстановка - в результате
революции Россия стала лицом к лицу с практическою невозможностью продолжать
войну из-за развала армии.
Многие сотрудники центрального аппарата министерства и наиболее прозорливые
Подробнее о жизненном пути, научном творчестве и политической деятельности П.Н. Милюкова см.
Медушевский А.Н. П.Н. Милюков: ученый и политик. - История СССР, 1991, Mt 4; Нильсен Е.П. П.
Милюков и И. Сталин. О политической эволюции Милюкова в эмиграции (1918-1943). - Новая и новейшая
история, 1991, Mt 2.
^Лопухин В.Б. Люди и политика (конец XIX - начало XX в.). - Вопросы истории, 1966, Mi 11,
с. 120.
197
российские дипломаты, находившиеся за рубежом, полагали в те дни, что Временное
правительство должно осознать эту истину, чтобы затем донести ее до руководителей
Англии и Франции, которые всегда плохо разбирались в российской обстановке, а в
мартовские дни 1917 г. и вовсе в ней запутались. По мнению сотрудников внеш¬
неполитического ведомства, с союзниками следовало объясниться и постараться дого¬
вориться о наиболее безболезненном и приемлемом для обеих сторон способе и форме
прекращения Россией военных действий*.
Но Павел Николаевич рассуждал иначе. По заключению все того же Лопухина, он
не поднялся "до усвоения этих элементарных истин... В вопросе о войне гипноз
продолжал порабощать политическую мысль наших общественников и после того, как
с Февральской революциею они оказались призванными к власти. В частности,
Милюков не только не прозрел в своем отношении к войне, которую желал
продолжать во что бы то ни стало, в преемственность павшему императорскому
правительству, "до победного конца", до овладения Константинополем и проливами2 3,
но еще оказался совершенно неспособным разобраться в создавшейся общей рево¬
люционной обстановке... Политическое его ослепление, граничившее с потерею разу¬
ма, всего менее внушало доверие к прогнозам нового министра"4.
Тем не менее механизм ведомства на Певческом мосту, несколько сбавив обороты
в февральские дни, с приходом энергичного Павла Николаевича вновь стал входить в
привычный ритм налаженной работы. Новый руководитель министерства удачно
"вписался" в эту картину. Не без внутренней гордости он впоследствии писал в
мемуарах: "Про меня говорили, что я был единственным министром, которому не
пришлось учиться на лету и который сел на свое кресло в министерском кабинете на
Дворцовой площади, как полный хозяин своего дела"5.
Новоиспеченный министр не собирался переезжать в роскошную квартиру,
предназначавшуюся для него и занимавшуюся его предшественником Н.Н. Покров¬
ским. Повседневная текучка министерских дел, которая была для университетского
профессора своего рода terra incognita, все более и более затягивала его. Он сам хотел
войти во все, и масса времени уходила на ознакомление с текущим материалом, с
ежедневной корреспонденцией, с расшифровками секретных документов, не говоря
уже о приемах нужных и ненужных посетителей и просителей. Часть дня посвящалась
ежедневным беседам с послами. Павлу Николаевичу зачастую приходилось работать
в министерстве далеко за полночь. Он велел поставить себе кровать й маленькой
комнатке для служащих, по другую сторону коридора, и часто оставался там ноче¬
вать, затребовав себе лишь утренний стакан чая. Работать днем, работать ночью,
спать и есть наспех - таким был его режим дня в течение двух месяцев нахождения в
должности. Такова была "кухня", на которой фантастически работоспособный,
блистательно самоуверенный, но не очень искушенный в дипломатических тонкостях
лидер кадетов готовил одно за другим, часто без консультаций с сотрудниками, внеш¬
неполитические решения.
Павел Николаевич полагал, что революция должна сохранить аппарат власти,
персонал и даже внешнеполитическую программу царизма. По его словам, он "ценил
заведенную машину с точки зрения техники и традиции"6. Именно поэтому для него
оказались приемлемыми все царские послы, посланники и начальники отдельных
частей центрального аппарата министерства, не говоря уже о низовом составе
дипломатического ведомства. Для нового министра не было секретом, что среди
служащих были люди, не разделявшие его взглядов на текущие внешнеполитические
2См., например: Набоков КД. Испытания дипломата. Стокгольм, 1921, с. 152.
3О взглядах Милюкова на военно-политические цели России в войне см. Милюков П.Н. Почему и зачем
мы воюем? Пг., 1917.
^Лопухин В.Б. Указ, соч., с. 121.
^Милюков П.Н. Воспоминания, т. 2. М., 1990, с. 289.
^Там же.
198
проблемы, но он не боялся подпасть под их влияние и полагался на их служебную
добросовестность. Так, например, далеко не все ведущие эксперты по балканским
проблемам разделяли болгарофильские увлечения Милюкова. А ведь болгарский
вопрос, который, по признанию Павла Николаевича, был для него больным7, как и
ожидалось, занял важное место во внешнеполитических комбинациях нового министра.
Вступление Болгарии в мировую войну на стороне центральных держав осенью
1915 г. Милюков вполне обоснованно считал в немалой степени следствием грубых
ошибок союзнической и, в частности, российской дипломатии. Тогда вмешательство
болгарской армии в военные действия на Балканах на какой-то срок изменило их
общий ход, качнув чашу весов в пользу германского блока. Коллеги Милюкова давно
махнули рукой на "изменницу" Болгарию и по отношению к ней руководствовались
лишь чувством мщения, но Павла Николаевича даже после октября 1915 г. обуревала
мысль перетянуть Болгарию в антантовский лагерь путем заключения с ней
сепаратного мира.
Справедливости ради следует отметить, что и до прихода Милюкова на Певческий
мост некоторые деятели высшего военно-политического руководства стран Антанты,
в частности начальник штаба верховного главнокомандующего российской армией
генерал М.В. Алексеев, помышляли об отрыве Болгарии от центральной коалиции.
Они соблазнялись теми бесспорными стратегическими преимуществами, которые
могло принести осуществление данной акции. Но по разным причинам упомянутое
стремление в 1915-1916 гг. так и осталось лишь благим пожеланием. Фактически
Милюков первым из руководящих деятелей стран Антанты перевел этот вопрос из
области теоретических рассуждений в практическую плоскость. Позднее, 7 (20)
августа 1917 г., уже находясь не у дел и давая показания в Чрезвычайной след¬
ственной комиссии Временного правительства, он так раскрыл свои стратегические
замыслы: "С Болгарией как с нашей союзницей мы покончили бы с Турцией очень
легко, и сейчас не существовало бы Балканского театра, и, конечно, мы имели бы
давно в наших руках Проливы, а это было бы залогом, при том или ином исходе,
всяческих уступок со стороны наших противников"8.
Таким образом, вопрос о заключении мира с Болгарией интересовал Милюкова не
сам по себе, не как самоцель, а рассматривался в контексте дальнейшего продолжения
войны с Германией. Соглашаясь на неизбежные уступки Болгарии, Павел Николаевич
надеялся с их помощью ускорить окончательную победу союзников. Допуская мысль
при тогдашней ситуации на фронтах, что до решающей победы над Германией дело
может и не дойти и война окончится вничью, он видел в возможном овладении
проливами сильный козырь в предстоявшем торге с противником об условиях
будущего мирного договора. Дипломатичность Милюкова не позволила ему высказать
вслух еще одно соображение. Воцарение России в проливах до окончания войны
обезопасило бы ее от возможных поползновений со стороны ее союзниц, и в первую
очередь столь любезной милюковскому сердцу Великобритании.
Проливы... Альфа и омега внешнеполитической концепции Милюкова9. В мему¬
арах он вспоминал: "Меня называли "Милюковым-Дарданелльским" - эпитет,
которым я мог бы по справедливости гордиться, если бы в нем не было несомненного
преувеличения, созданного враждебной пропагандой в связи с незнанием вопроса"10.
При этом его подход к проблеме никогда не выражал точку зрения Временного
правительства в целом. Ни глава кабинета князь Г.Е. Львов, ни министр финансов
М.И. Терещенко, впоследствии сменивший Милюкова в ведомстве на Певческом
мосту, ни А.Ф. Керенский, занимавший пост министра юстиции, но постепенно
7Там же, с. 211.
8Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в
Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства, т. VI. М.-Л., 1926, с. 366-367.
9 См. Милюков П.Н. Константинополь и Проливы. - Вестник Европы, 1917, №1,2, 4-6.
^Милюков П.Н. Воспоминания, т. 2, с. 159.
199
выдвигавшийся в правительстве на передний план, не разделяли его взгля¬
дов11.
Но для Павла Николаевича не существовало ничего невозможного, когда речь
заходила о проливах. Став министром, он решил осуществить идею своего
предшественника Покровского, который 21 февраля (6 марта), т.е. за считанные до
революции дни, в записке на имя Николая II писал о ’’необходимости ко времени
заключения мира овладеть проливами или... настолько к ним приблизиться, чтобы при
решении этого вопроса быть в силах оказывать должное давление на Турцию. ...Без
этого мы едва ли когда-нибудь получим Константинополь и проливы и самое
соглашение о них превратится в простой клочок бумаги”12.
Милюков не только полностью одобрил эту идею, но и настойчиво пытался втайне
подготовить ее осуществление, настаивая на высадке морского десанта для захвата
проливов и турецкой столицы. Поддержанный командующим Черноморским флотом
адмиралом А.В. Колчаком Милюков осаждал просьбами генерала Алексеева, убеждая
его в необходимости предпринять эту операцию. Он был заранее уверен в ее успехе и
хотел поставить протестующую против аннексии революционную демократию перед
свершившимся фактом.
Но Ставка отрицательно отнеслась к этой затее, совершенно не соответст¬
вовавшей возможностям российской армии13. Для военных специалистов профессор-
историк Милюков всегда был и остался "штафиркою”, т.е. сугубо штатским лицом, и
его стратегические потуги вызывали у них лишь иронию.
По мере того как для Павла Николаевича становилась очевидной невозможность
добиться осуществления своей идефикс военным путем, он все более и более
склонялся к мысли о необходимости подойти к ней с другого боку - с болгарского.
Какой же была в это время внутриполитическая ситуация в Болгарии? Как там
была воспринята весть о Февральской революции и приходе Милюкова к руководству
российской внешней политикой?
Фактически уже к концу 1916 г., после военного разгрома Румынии, Болгария
достигла осуществления всех основных военно-политических целей. Вардарская
Македония и часть собственно сербских земель были присоединены к ней, а Южная
Добруджа, частично Косово и Эгейская Македония - заняты болгарской армией. Для
страны потеряло всякий смысл дальнейшее участие в бойне, конца которой не
предвиделось. В этих условиях царь Фердинанд Кобургский и либеральное
правительство д-ра В. Радославова, которые в 1915-1916 гг. были упоены громом
военных побед, с рубежа 1916-1917 гг. начали задумываться о способах выхода из
войны, стремясь при этом удержать завоеванное. С победой Февральской революции
в России перспектива окончания войны стала выглядеть вполне достижимой в глазах
болгарских политиков.
Но здесь необходимо четко дифференцировать надежды болгарского поли¬
тического и военного руководства, с одной стороны, и антантофильской оппозиции - с
другой.
Кобург и правительство рассматривали Февральскую революцию как фактор,
который, разрушив военные планы Антанты, неминуемо снизит боеспособность
российской армии, усилит в России позиции сторонников миролюбивых тенденций и
подтолкнет ее к сепаратному миру, выгодному для центральных держав.
1 Государственный архив Российской Федерации (далее - ГАРФ), ф. 579 Милюков П.Н., on. 1,
д. 1491, л. 9, 11; Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. - Вопросы истории, 1990, № 12,
с. 149; Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. М., 1991, с. 236, 239, 243, 246, 250; Палеолог М. Царская Россия
накануне революции. М., 1991, с. 420, 428, 434.
12Вестник НКИД, 1919, № 1, с. 42.
^Трубецкой Г.Н. Памяти ген. М.В. Алексеева. - Памяти кн. Гр. Н. Трубецкого. Париж, 1930,
с. 89-90; Базили Н.А. Россия под Советской властью. Париж, 1937, с. 43; Бубнов А. В царской Ставке.
Нью-Йорк, 1955, с. 135-137; Деникин А.И. Очерки русской смуты. - Вопросы истории, 1990, М* 6, с. 111-
112.
200
Первоначально злорадство болгарских правителей по поводу внутренних трудностей
России после Февраля было так велико, что они даже не задумывались о возможности
революционизирования собственной армии и роста в ней антивоенных настроений под
влиянием российских событий.
Руководители же оппозиционных партий, наоборот, надеялись на заключение
сепаратного мира Болгарии с Антантой, который мог бы оторвать страну от Гер¬
мании и в то же время сохранить за ней занятые территории, в первую очередь
Македонию14.
И эти надежды связывались с именем нового российского министра иностранных
дел Милюкова. Будучи крупнейшим в России историком-специалистом по балканским
проблемам, он всегда полагал, что македонский вопрос - это главным образом
болгарский вопрос, а в болгаро-сербском споре об этнической принадлежности
славянского населения Македонии придерживался официальной болгарской позиции.
Его популярность в Болгарии была огромной, особенно после участия в деятельности
международной комиссии института Э. Карнеги по изучению причин и последствий
Балканских войн 1912-1913 гг.1* Одна из болгарских газет, характеризуя участие
Милюкова в работе этой комиссии, напечатала в его честь следующий пассаж: "Мы
имеем своего Геркулеса - не по физической силе, но по силе мысли и эрудиции...
Геркулеса XX века, который силой занятий, слов и истин удушает современную гидру,
именуемую прессою, у которой больше ста голов и столько же отравленных языков;
очищает не Авгиевы конюшни от навоза, а мировое общественное мнение от ошибок
и клеветы в адрес болгарского народа"16. Даже такие традиционные русофобы, как
стамболовисты, преклонялись перед его авторитетом17.
Болгарское правительство, однако, встретило приход к власти Милюкова
настороженно, ибо уже его первые заявления о том, что Россия готова продолжать
войну совместно с союзниками до победного конца, очень озадачили болгарских
руководителей. Их опасения выросли еще больше после декларации Временного
правительства от 27 марта (9 апреля), выдержанной в том же духе.
Тогда Радославов стал прилагать неимоверные усилия, дабы развенчать Милюкова
в глазах болгарской оппозиции. Его официоз, газета "Народни права”, весной 1917 г.
неоднократно и по различным поводам затрагивала деятельность Милюкова,
изобличая его как российского империалиста, которому чужды национальные
устремления болгарского народа.
Но сделать это было непросто. В отличие от Милюкова д-р Радославов не обладал
большими ораторскими способностями. Один из современников так их
охарактеризовал: "В речи Радославова, лишенной движения и идей, отсутствовал
даже самый слабый огонь души. Никакой политической мысли или литературной
сентенции; ни единого мгновения, которое бы могло затронуть и пленить. Его слово
никогда не выходило за рамки самых обыкновенных выражений, употребляемых в
клубных помещениях. В Народном собрании и в нашей (болгарской. - Г.Ш.)
литературе никакой другой общественный деятель не был так беспомощен"18. У
Радославова оставалась единственная возможность - оседлать тему проливов, что он
и не преминул сделать. Ссылаясь на заявления Милюкова, правительство либералов
стало упорно запугивать болгарское общественное мнение тем, что Россия по-
14Архив внешней политики Российской империи (далее - АВ ПРИ), ф. 140 Отдел печати и осве¬
домления, оп. 477, д. 358, л. 35.
^См. подробнее: Милюков П.Н. Воспоминания, т. 2, с. 109-119; Илчев И. Карнегиевата анкета през
1913 г. Обстановка, извършване и международен отзвук. - Исторически преглед, 1989, № 10,
с. 15-28; Бирман М.А. Звездный час П.Н. Милюкова-балканиста. - Балканские исследования,
вып. 15. М., 1992, с. 181-187.
1бЦит. по: Дмитриевич Д.И. Союзъ Болгарии с Германией передъ судомъ свободной России. (Факты и
документы). Пг., 1917, с. 69.
^Кермекчиев А. Кой тръбва да победи. От гледище на българските интереси. София, 1914, с. 11.
^Тодоров П. Политически образи. София, 1939, с. 53.
201
прежнему стремится утвердиться в проливах. А это значит, резюмировала
официальная пропаганда, что с течением времени Россия аннексирует Болгарию или
по крайней мере ее восточную часть, чтобы получить сухопутный доступ к проливам.
Газета "Народни права0 доказывала зависимость Милюкова от английского посла в
Петрограде Дж. Бьюкенена и подчеркивала, что "истинная русская демократия
понимает освободительные идеи совсем не так, как это делает г. Милюков"19.
Воцарение Милюкова на Певческом мосту по-своему встревожило и союзников
Болгарии. Так, австро-венгерский посланник в Софии О. Чернин в шифровках в Вену
от 25, 26, 27 апреля и 14 мая 1917 г. доносил, что до тех пор, пока у власти в России
стоит "доброжелатель" Болгарии Милюков, опасность ее отпадения от центральной
коалиции путем заключения сепаратного мира с Антантой остается реальной20. Но
больше всех были обеспокоены руководители соседних с Болгарией стран - Румынии и
Сербии. Так, румынский премьер И. Брэтиану, которому вообще всюду мерещились
болгарофилы, заявил 6(19) марта российскому посланнику А.А. Мосолову, что "очень
опасается возможной болгарофильской окраски” российского министерства
иностранных дел21. Что же касается сербских правящих кругов, то у них вызывали
недоверие не только проболгарские, но и прохорватские симпатии Милюкова22. Его
назначение на пост министра крайне встревожило регента Александра и главу ка¬
бинета Н. Пашича, у которых и без того сложились непростые отношения с
Югославянским комитетом в Лондоне из-за разногласий по вопросу об устройстве
объединенного государства всех югославян; которое планировалось создать после
войны.
Наоборот, один из руководителей этого комитета Ф. Супило в письме к Милюкову
от 16(29) марта выразил неподдельную радость по поводу назначения последнего
министром и приветствовал его как "будущего установителя согласия, мира и любви
между всеми балканскими славянами"23.
Искренне обрадовались назначению Милюкова на высокий пост и английские
болгарофилы - братья Н. и Ч. Бекстон, Дж. Баучер, Г. Брейлсфорд, - разделявшие
взгляды российского министра иностранных дел по балканскому вопросу. Как раз
весной 1917 г. в Англии стали оживать болгарофильские настроения, впервые со
времени вступления Болгарии в войну. Ранее на протяжении полутора лет их
парализовала сербская пропаганда. Английские друзья Болгарии не без оснований
рассчитывали на поддержку Милюкова в надежде вызвать некоторые подвижки и в
позиции официального Лондона24.
Для того чтобы рассеять опасения балканских союзников России, Милюков уже
через несколько дней после своего вступления в должность, излагая точку зрения
правительства на контуры послевоенной Европы, Сделал ряд заявлений. Он
недвусмысленно высказался за воскрешение Сербии и Румынии в размерах больших,
чем когда-либо, и за создание сильного югославянского государства, которое стало бы
непреодолимой преградой для германской экспансии на Балканах25. Милюков был
первым представителем союзников, упомянувшим будущую Югославию и
выступившим против сохранения довоенного статус-кво в отношении Габсбургской
империи, в то время как Англия, Франция и США вплоть др мая 1918 г. стремились
удержать Австро-Венгрию от развала, рассчитывая, помимо прочего, оторвать ее от
19Цит. по: Ников Н.,Диловска Е. Отношението на прогерманските управляващи среди в България към
Февруарската револк ция в Русия през 1917 г.'- Сборник в чест на акад. Хр. Христов. Изследвания по
случай 60 години от рождението му. София, 1976, с. 268.
20Там же.
21ГАРФ, ф. 1001 Мосолов А.А., on. 1, д. 228, л. 2об.
22 АВ ПРИ, ф. 151, Политархив (далее - ПА), оп. 482, д. 4025, л. 12, 22.
23ГАРФ, ф. 579 Милюков П.Н., on. 1, д. 1606, л. 1,2; Mandic'A. Fragment! za historiju ujedinenja. Zagreb,
1956, S. 237-238.
24ГАРФ, ф. 579 Милюков П.Н., on. 1, д. 1761, л. 1.
25 АВ ПРИ, ф. 135 Особый политический отдел, оп. 474, д. 283, л. 162.
202
Германии. Получив наконец возможность приступить к осуществлению той славянской
политики, которую он провозглашал в своих научных трудах, Милюков решил выйти
за рамки сухого дипломатического протокола. На приеме дипломатического корпуса он
неожиданно подошел к сербскому посланнику М. Спалайковичу и сказал: "Я при¬
ветствую вас не как дипломата, а как брата-славянина”, а затем трижды расцеловал.
Такой неординарный жест, непривычный для официальной атмосферы
дипломатических раутов, чрезвычайно тронул серба. Вспоминая этот эпизод спустя 12
лет, на чествовании Милюкова в Париже в день его 70-летия, Спалайкович заверил,
что этой минуты он не забудет никогда26.
Заявления Милюкова несколько успокоили Пашича и Брэтиану27, но вызвали
бурю возмущения в Софии. Правительство либералов с одобрения Чернина
использовало их для нападок на русофильскую оппозицию, доказывая, что не может
быть другом Болгарии тот, кто желает территориального расширения ее врагов, что
усиление Сербии и Румынии сорвет осуществление болгарских национальных идеалов
и т.п. Тем самым царь и Радославов продемонстрировали, что главной политической
целью Болгарии в войне является установление гегемонии на Балканах путем
элиминирования Сербии.
Но еще оставалось "яблоко раздора" в болгаро-сербской распре - македонский
вопрос, по которому Пашич вообще не допускал никаких компромиссов. Милюков же
обещал его решить, "когда настанет для этого момент, согласно провозглашенным
принципам свободы национальностей"28, что было чревато для Сербии возможными
неприятностями. С целью "обработки" Милюкова по македонскому вопросу в начале
апреля в Петроград была направлена делегация сербских ученых, но ей переубедить
Павла Николаевича не удалось29. Тот настаивал на передаче Македонии Болгарии
ради сохранения равновесия и мира на Балканах при получении Сербией остальных
сербских и хорватских территорий. Каждая сторона осталась при своем мнении, о чем
сербские посланцы и сообщали Пашичу в донесении от 26 апреля (9 мая)30. Что
касается константинопольских грез Милюкова, то они не вызывали неприятия в
Сербии. Она была единственной балканской страной, чьи руководители тогда
искренне желали утверждения России в проливах. Ведь оно в случае создания Великой
Сербии позволило бы взять Болгарию в железные клещи, надолго отбив у последней
желание реванша, и, кроме того, могло воспрепятствовать будущим притязаниям
Румынии на роль балканского гегемона31.
Пока в европейских столицах обсуждали вероятные последствия прихода к власти
Милюкова, тот, не теряя времени, решил "брать быка за рога", перехватив
инициативу по болгарскому вопросу. Уже 7(20) марта, т.е. на третий день своего
пребывания в министерстве, он телеграфировал дипломатическому агенту в
Швейцарии А.Н. Мандельштаму: "Поручаю Вам не упустить случая завязать
сношения с болгарскими эмиссарами... Мы готовы обсудить совместно с Союзниками
всякое практическое предложение в целях сближения с нею (с Болгарией.
- Г.Ш.). Болгары должны, по-видимому, понимать, что создавшееся у нас положение
вещей представляет удобные для них условия для восстановления прежнего
единомыслия с Россией"32.
В эти же дни он провел интенсивные переговоры с английским, француз¬
ским и итальянским послами, доказывая, что переход Болгарии ознаменовал бы реши-
Милюков П.Н. Сборник материалов по чествованию его семидесятилетия. 1859—1929. Париж, 1929, с.
266.
27АВПРИ, ф. ПА, оп. 482, д. 4025, л. 13, 15, 18, 20, 26.
28Там же, л. 15.
29ТрговчевиЛЛ. Научници Cp6wje и стваранье)угословенске државе. 1914-1920. Београд, 1986, с. 122.
30Там же, с. 123.
31АВПРИ, ф. 135 Особый политический отдел, оп. 474, д. 288, л. 49; Константинополь и проливы, т. 1.
М., 1925, с. 383.
32АВПРИ, ф. ПА, оп. 482, д. 3806, л. 40.
203
тельный перелом в войне, а ради этого не следует жалеть никаких усилий33. Будучи в
целом трезвым политиком, Милюков исходил в данном вопросе не из отвлеченных
морально-этических категорий, а из своеобразного понимания российских национально¬
государственных интересов. Он знал, что ему придется преодолевать сопротивление
панславистов и правонационалистической российской прессы, которая клеймила
Болгарию как "изменницу общеславянского дела", призывала "наказать" ее за
"предательство" и вознаградить "верную и преданную" Сербию. Милюков же
настаивал на необходимости отказаться в этом вопросе от эмоциональных
соображений и смотреть на положение вещей с практической точки зрения. Его
пресловутое "болгарофильство" в довоенный период, так беспокоившее сербских
руководителей, было ответной реакцией на передержки официального российского
сербофильства, на одностороннюю просербскую ориентацию России.
В ведомстве Милюкова на Певческом мосту тоже далеко не все разделяли
болгарские планы начальника. Здесь можно назвать бывшего посланника в Сербии
князя Г.Н. Трубецкого, возглавившего затем дипломатическую канцелярию при
ставке Верховного главнокомандующего, а также большого знатока балканских
хитросплетений, начальника Ближневосточного отдела министерства А.М. Петряева,
впоследствии назначенного товарищем министра. Оба давно зарекомендовали себя
адвокатами великосербских вожделений в македонском вопросе34. Но активной
оппозиции в их лице Павел Николаевич не встретил. В условиях революционной бури
в министерстве сложилась такая обстановка, при которой чиновники боялись "сметь
свое суждение иметь" или по крайней мере открыто его высказывать. Болгарская
инициатива Милюкова была плодом его кабинетных размышлений, ему вообще было
присуще отдавать распоряжения, не спросив предварительно совета опытных
российских дипломатов. Так, К.Д. Набоков, поверенный в делах в Лондоне,
вспоминал: "Несмотря на то, что П.Н. Милюкова я знал давно, и на дружеские его
связи с моим братом (В.Д. Набоковым, одним из основателей партии кадетов и
товарищем председателя ее ЦК, отцом знаменитого писателя. - Г.Ш.), он ни разу не
обратился ко мне с личною телеграммой, как то было в обычае у прежних министров
по отношению к послам, которым они доверяли как личным друзьям. Ни одного
письма я от министра не получил. Тесного контакта, откровенного обмена мыслей,
таким образом, не установилось"35.
Сербофильские настроения, препятствовавшие осуществлению замыслов Ми¬
люкова, были сильны и во Франции. Здесь авансы в адрес Болгарии неизбежно
вызвали бы неприязненное возбуждение общественного мнения в связи с нападками
прессы на неудачную Салоникскую экспедицию союзников. Поэтому французское
правительство весьма сдержанно отнеслось к замыслам Милюкова36.
Но, получив положительный отклик со стороны Англии и Италии, Павел
Николаевич приступил к реализации плана, не тратя времени на согласование с
союзниками второстепенных деталей, благо подворачивался удобный повод. "По
наследству" от царского режима Милюкову достался "ребус", загаданный
Д. Ризовым, болгарским посланником в Берлине. Последний за несколько недель до
Февральской революции обратился к российским дипломатам в нейтральных Швеции и
Норвегии с инициативой, имеющей целью склонить Россию к сепаратному миру с
Центральным блоком. За спиной болгарина - и это было с самого начала ясно
Антанте - стояла Германия и лично канцлер Т. Бетман-Гольвег37.
3^Гам же, л. 45; Малинов А. Подъ знака на острастени и опасни политически борби. София, 1934, с. 101.
34АВПРИ, ф. ПА, оп. 482, д. 5270, л. 17-18; д. 4313, л. 17-18; Международные отношения в эпоху
империализма, серия III, т. VIII, ч. 2, № 522.
^Набоков КД. Указ, соч., с. 95.
36АВПРИ, ф. ПА, оп. 482, д. 3806, л. 45, 47; ф. 138 Секретный архив министра (далее - САМ), оп. 467,
д. 594, л. 73об, 78.
37L'Allemagne et les problJmes de la Paix pendant la Premiere guerre mondiale, T. 1. Des origines a la declaration
de la guerre sous-marine a outrance (a6ut 1914 - 31 janvier 1917). Paris, 1962, p. 522-524, 564, 569-571.
2(M
Показательно, что подавляющее большинство российских дипломатов, близко
знавших Ризова, а также итальянский министр иностранных дел барон С. Соннино не
верили в искренность болгарского обращения, расценивая его как провокацию. Они
единодушно дали Ризову убийственную характеристику: ’’Совершенно небла¬
гонадежный и способный на все политический интриган ... в сравнении с коим сам
Фердинанд может считаться образцом прямоты и политической честности"38.
Ризов был своеобразной личностью: самоуверенный, амбициозный, наступа¬
тельный, в значительной степени позер. По отзывам соотечественников, "охочий до
самых крутых поворотов утвердившейся политической линии, он готов был расшибить
голову, если бы пригодился для какой-нибудь лихой авантюры в роли советчика"39.
Мировая война всецело дала развернуться натуре Ризова. Ему было слишком тесно на
Балканах, он хотел держать в руках нити мировой политики. Спекулируя на близком
родстве с Радославовым, он считал себя вправе менторски поучать правительство.
Ризов не только верил в победу Четверного союза, открыто проповедуя единство
действий с Германией, но и был искренне убежден, что победа будет обеспечена, если
кайзер Вильгельм II прислушается к его мнению при назначении канцлера, а
германское военное командование начнет наступление против французов и русских на
том участке фронта, который он им порекомендует.
Основной пафос разглагольствований Ризова в российских миссиях в Скандинавии -
доказательство выгодности мирного договора для судеб русской революции. Эту идею
он выдвинул и в статье "Русская революция. Ее корни, надежды и будущее",
опубликованной в газете "Берлинер тагеблатт" 4 апреля 1917 г. Здесь проводилась
мысль о необходимости для России республиканской власти, Учредительного собрания
и прекращения войны с Германией, а в заключение предсказывалась будущая дружба
русского и немецкого народов40.
Хотя самонадеянная инициатива Ризова с самого начала несла на себе печать
авантюризма и легковесности, Милюков решил не упускать случая. С порога
отвергнув возможность сепаратного мира России с австро-германским блоком, он
поручил российским посланникам вступить в обмен мнениями с Ризовым или другими
болгарскими эмиссарами на предмет перехода Болгарии в лагерь Антанты41.
Анализируя дипломатическую переписку Милюкова по болгарскому вопросу, можно
прийти к выводу: если его предшественники и французские коллеги, говоря о
возможности сепаратного мира с Болгарией, рассчитывали исключительно на деятелей
болгарской оппозиции, то Павел Николаевич был готов иметь дело и с существующим
правительством Радославова. Как знаток балканских реалий, он в значительной
степени понимал всю сложность и противоречивость побудительных мотивов,
приведших Болгарию в Четверной союз, а также признавал наличие в прошлом
грубых ошибок союзнической дипломатии, в какой-то мере подтолкнувших ее к
роковому шагу.
Но вскоре безрезультатность обмена мнениями с Ризовым стала явной42. Иначе и
не могло быть, поскольку слишком различались цели партнеров по переговорам. Ризов
и стоящая за ним Германия добивались сепаратного мира, но для России, а не для
Болгарии, что подразумевал Милюков в стремлении продолжить войну с
Германией.
Тогда российский министр решил нащупать опор ные точки в лагере болгарской
антантофильской оппозиции43. Здесь его помощником оказался инициативный
38АВПРИ, ф. ПА, оп. 482, д. 3806, л. 14; ф. САМ, оп. 467, д.776, л. 13 об.
^Тодоров П. Указ, соч., с. 66.
^RisoffD. Bulgarien und Russland. - Flugschriflen des Berliner Tageblatt, Н.П. Berlin, 1917, S. 57-58.
41АВПРИ, ф.ПА, on. 482, д. 3806, л. 46; ф. 140 Отдел печати и осведомления, оп. 477, д. 887,
л. 7-8.
42АВПРИ, ф.САМ, оп. 467, д. 776, л. 34об; Новая жизнь, 1917, № 26, 18(31) мая; Радославов В.
България и световна криза. София, 1923, с. 187.
^ПоповиЬ Н. Односи Срби]е и Pycuje у првом светском рату. Београд, 1977, с. 356-357.
205
российский генеральный консул в Салониках В.Ф. Каль. Узнав о первых контактах с
болгарами российского резидента в Швейцарии Мандельштама, он рассудил, что
переговоры не увенчаются успехом, если не пообещать болгарам конкретных
территориальных приращений в Македонии. В отличие от других российских
дипломатов, например, своего непосредственного начальника - посланника в Греции
Е.П. Демидова, полагавших, что о территориальных обещаниях Болгарии не может
быть и речи и следует действовать в отношении ее лишь с позиции силы44, Каль, зная
особенности болгарского менталитета и значимость Македонии в глазах
общественного мнения страны, смотрел в корень. Он предложил министру перенести
центр переговоров из Швейцарии в Салоники и с ведома командующего Салоникской
экспедицией генерала М. Саррайля завязать с болгарскими эмиссарами контакты в
Македонии45. А поскольку беспредметные переговоры были бы обречены на провал,
Каль трижды (!) просил свое петроградское начальство хотя бы в общих чертах
указать, какие компенсации союзники согласны дать Болгарии в случае ее перехода
на их сторону46. Но у начальства за полтора месяца пребывания в министерском
кресле решительности в болгарском вопросе поубавилось. В то время как Каль с
чрезмерным оптимизмом во всех своих посланиях рисовал обстановку в Болгарии
"чрезвычайно благоприятною" для ее перехода в лагерь Антанты, Мандельштам из
Швейцарии сообщал прямо противоположную информацию, полученную из более
надежных и достоверных источников.
Мандельштам, в отличие от Каля, был искушенным резидентом и тонким
аналитиком. Старые связи, опыт, приобретенный во время многолетней службы в
российском посольстве в Турции, помогли ему, не покидая Швейцарии, разобраться во
внутренней ситуации в Болгарии лучше, чем Калю, находившемуся недалеко от
эпицентра событий. Профессор международного права Петроградского университета,
знаток Балкан, для прикрытия своей разведывательной деятельности занимавшийся
преподаванием салонных танцев, Мандельштам ловко "вальсировал" в Швейцарии с
представителями различных болгарских политических течений, а затем сообщал на
родину строго проверенную информацию, избегая категоричности, столь присущей
Калю. По сведениям Мандельштама, важнейшим фактором, который влиял на
болгарское общественное мнение, была непоколебимая вера в силу Германии. Не в
последнюю очередь это связывалось с первыми успехами подводной войны. "В
настоящее время движение против радославовского режима невозможно, так как
командование армией, артиллерийские склады, железные дороги - все в руках
немцев47. Отсюда сам собой напрашивался вывод о нереальности изменения
болгарской политики по отношению к России.
В Петрограде доверяли Мандельштаму больше, чем Калю, и не без оснований. В
итоге Милюков рекомендовал последнему ограничиться выяснением действительного
положения вещей и настроения умов в Болгарии48. Что же касается размеров
конкретных территориальных компенсаций, то Милюков, готовый на заре своей
министерской деятельности отдать Болгарии так называемую "бесспорную зону" в
Македонии, порт Каваллу и Южную Добруджу с Силистрой, стал теперь более
осторожен. 26 апреля (9 мая), т.е. за несколько дней до своего драматичного ухода в
отставку, он телеграфировал Калю: "Я считал бы преждевременным формулировать
хотя бы в общих чертах условия перехода Болгарии на сторону Согласия, которые,
очевидно, будут зависеть от активного или пассивного характера такого перехода"49.
18 апреля (1 мая) Милюков направил правительствам стран Антанты ноту,
^АВПРИ, ф. ПА, оп. 482, д. 3806, л. 57.
45Там же, л. 58.
46Там же, л. 63, 67, 69.
47Там же, л. 66, 70; АВПРИ, Ф. САМ, оп. 467, д. 775, л. 18, 20, 25.
48АВПРИ, ф. ПА, оп. 482, д. 3806, л. 60, 65.
49Там же, л. 65.
206
разъяснявшую позицию Временного правительства по вопросу о войне, где
недвусмысленно заявлялось о готовности продолжать войну до победы. После того
как 20 апреля (3 мая) об этой ноте стало известно в Петрограде, стихийно начались
демонстрации рабочих и солдат. Чтобы спасти положение, Временное правительство
пожертвовало Милюковым и поддерживавшим его военным министром А.И.
Гучковым.
Узнав о вынужденной отставке Милюкова, Каль решил действовать на свой страх
и риск. Его действия на этом этапе представляли собой агонию милюковской
инициативы. Хотя допросы пленных болгарских офицеров и солдат, проведенные
близко стоявшим к консульству капитаном Н. Суриным, подтвердили правоту
сообщений Мандельштама, неисправимый оптимист Каль не мог пассивно ждать
благоприятного момента. Через разные пункты Салоникского фронта он и Сурин
переправили в Болгарию пятерых эмиссаров из среды болгар-военнопленных. Каждый
имел по три письма - в адрес А. Малинова, И. Гешова и С. Бобчева, лидеров трех
основных оппозиционных партий: демократической, народной и прогрессивно¬
либеральной. Письма эти были подписаны капитаном Суриным и гласили следующее:
"После совершившегося в России переворота новое правительство под влиянием
хорошо известного профессора М. было бы склонно в случае радикальной перемены в
болгарской политике к примирению с Болгарией при условии признания... разумных ее
притязаний в Македонии. Войти в контакт с болгарскими политическими деятелями и
обменяться с ними мнениями по данному вопросу поручено небезызвестному Вам по
его деятель-ности в Македонии К. и мне"50.
Болгарский историк И. Илчев, излагая эти события, допустил небольшую
неточность. Каль не подписывал письма, хотя и был скрыт вместе с Милюковым за
весьма прозрачными инициалами51. Взяв всю ответственность на себя, он
рассчитывал, что уже само имя Милюкова, даже находившегося не у дел, послужит в
Болгарии гарантией успеха.
Но инициатива в России наказуема. Министерство вынесло порицание Калю за
превышение полномочий. В Петрограде опасались, что письма могут быть
опубликованы в болгарской прессе и неминуемо скомпрометируют российское
внешнеполитическое ведомство52. Эти опасения были тем больше, что как раз в те
же дни в российской печати поднялся шум по поводу очередного обращения
неугомонного Ризова с предложением о сепаратном мире. На этот раз он написал
письмо М. Горькому, с которым был знаком лично. Будучи опубликованным, это
послание сделало достоянием гласности все предыдущие контакты российской
дипломатии с Ризовым53.
Поэтому, продемонстрировав в очередной раз неустойчивость своей болгарской
политики, Петроград потребовал от Каля вернуть эмиссаров или же принять меры к
тому, чтобы письма не попали в руки болгар. Что же касается адресатов - Малинова,
Гешова и Бобчева, - то, как говорилось в запоздалой телеграмме Калю от 29 мая (11
июня), "названные болгарские деятели представляются нам наименее всего
заслуживающими доверия и подходящими для каких бы то ни было переговоров"54.
С последним замечанием трудно не согласиться. Адресаты были выбраны Суриным,
который в качестве корреспондента Петроградского телеграфного агентства долго
жил в Болгарии. Хотя Каль рекомендовал его как "одного из лучших знатоков
Болгарии и ее деятелей", выбор кандидатур был им сделан явно неудачно. Например,
профессор Бобчев при всем своем убежденном русофильстве, по меткому выражению
50Гам же, л. 82.
51Там же, л. 85; ср.: Илчев И. България и Антантата през Първата световна война. София, 1990, с.
242.
52АВПРИ, ф. САМ, оп. 467, д. 776, л. 50.
53АВПРИ, ф. ПА, оп. 482, д. 3806, л. 84; ф. 140 Отдел печати и осведомления, оп. 477, д. 377,
л. 12.
^АВПРИ, ф. САМ, оп. 467, д. 776, л. 50.
207
лидера стамболовистов Н. Генадиева, подобно Милюкову, отстоял ”на сто километров
от дипломатии" и на роль партнера в ведении таких жизненно важных для Болгарии
переговоров никак не подходил. Правда, справедливости ради следует заметить, что
выбор у Сурина был небогатый. Большинство болгарских политических деятелей и по
личным качествам, и главным образом в силу текущей конъюнктуры не были тогда
способны резко повернуть руль государственного корабля. Пожалуй, исключениями из
этого правила были лишь лидер Болгарского земледельческого народного союза А.
Стамболийский и шеф народно-либеральной партии, бывший министр иностранных дел
Генадиев. Но оба в это время находились в тюрьме, куда были брошены за
несогласие с внешнеполитическим курсом, проводимым царем.
Задуманное Калем мероприятие провалилось. Посланные им эмиссары были
перехвачены, а письма попали к Радославову55. С провалом этой акции и уходом
Милюкова с министерского поста период активных действий российской дипломатии в
Болгарии и в целом на Балканах завершился. Его преемнику Терещенко тоже не была
чужда идея раскола германского блока, но он первостепенное значение придавал
возможности отрыва Турции от центральных держав, считая именно ее наиболее
уязвимым звеном враждебной коалиции56. Правда, в отличие от Милюкова и руки у
него для этого были развязаны. В декларации обновленного состава Временного
правительства от 6 (19) мая говорилось об отказе от притязаний на проливы и
Константинополь. Хотя Терещенко и подтвердил Мандельштаму, что указания
Милюкова относительно Болгарии остаются в силе, но совместить две инициативы
было невозможно из-за взаимного недоверия Болгарии и Турции57.
Были ли вообще у Милюкова реальные шансы вывести Болгарию из войны
посредством сепаратного мира? Необходимыми предпосылками для этого могли стать
фундаментально проработанные мирные предложения, способные удовлетворить
болгар; наличие в Болгарии реальных политических сил, способных не только
воспринять идею сепаратного мира, но и осуществить ее, и, наконец, военные успехи
союзников на фронтах. Ни тем, ни другим, ни третьим Павел Николаевич весной
1917 г. не располагал. Предпринятая им инициатива была по своей сути авантюрой.
Дилетантизм профессора, слабо разбиравшегося в дипломатических хитросплетениях
и пытавшегося наскоком разрубить гордиев узел межбалканских противоречий, обрек
его начинания на вполне закономерный провал. Он вел игру без козырей и потерпел
неудачу. Помимо прочего, для осуществления акции необходимо было время, которого
история Милюкову отпустила не так много и значительную часть которого он
потратил на вопросы общей политики Временного правительства, проявив себя
главным образом в качестве члена кабинета и меньше - в качестве министра
иностранных дел. Подводя итог недолговечной министерской деятельности лидера
кадетов, уже упоминавшийся выше Лопухин заметил: "Книжник, теоретик был
Милюков, оторванный от жизни. Человек мысли (хотя и скованной книжностью)*
человек свободно лившегося слова, человек пера. Но не дбла! Не государственный
человек!"58.
Неудача Милюкова была полной, включая афронт со стороны Антанты. Историк-
большевик М.Н. Покровский, кстати, однокурсник Милюкова, злорадно заметил по
этому поводу: "Милюков был низведен так легко потому, что не угодил Антанте,
слишком надоедливо напоминая о Дарданеллах... Бестактного слугу не то что
прогнали - прогнали его массы, - но его не стали защищать, "отдали на жертву""59.
В оправдание Павла Николаевича следует, однако, отметить следующий факт:
55АВПРИ, ф. ПА, оп. 482, д. 3806, л. 105, 118.
56Там же, д. 4077, л. 17; д. 4204, л. 29; Бьюкенен Дж. Указ.соч., с. 248.
57АВПРИ, ф. ПА, оп. 482, д. 4077, л. 17, 33.
^Лопухин В.Б. Указ, соч., с. 124.
59Цит. по: Думова Н.Г. Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральской революции.
М., 1988, с. 150.
208
когда вакуум в диалоге между Болгарией и Антантой, образовавшийся после его
отставки, попыталась к своей выгоде заполнить английская дипломатия,
многоопытные специалисты из Форин оффис действовали теми же методами, что и
Милюков, и пришли к тому же неутешительному результату.
Таким образом, Болгария осталась накрепко пристегнутой к германской военной
колеснице и была обречена вместе со своими союзниками испить до дна горькую чашу
поражения.
...Милюкову оставалось лишь наблюдать из-за границы за событиями в мире и в
России, постепенно погружавшейся во мглу сталинского безвременья. Имя Павла
Николаевича если и упоминалось на Родине, то исключительно в ругательно¬
уничижительных выражениях. Но в эмигрантской жизни, полной лишений и тревог,
Милюкова отчасти согревала мысль о добром отношении к нему болгарского народа.
И суть даже не в том, что болгарское правительство стремилось облегчить участь
изгнанника, оказывая ему довольно значительную материальную помощь. Здесь
нечто большее - всенародная признательность болгар. На торжественном заседании в
Париже по поводу 70-летия Милюкова 3 марта 1929 г. президент Болгарской
академии наук историк Любомир Милетич сказал: ”Болгарский народ видит в Павле
Николаевиче как бы образ русского народа, готового поддержать своего южного
брата ... Для Болгарии Павел Николаевич был непримиримым выразителем правды в
славянских спорах. Не сотрется память о нем в болгарском народе, и не иссякнет
любовь”60.
Деятельность на посту министра иностранных дел осталась эпизодом в богатой и
многотрудной жизни Милюкова, но принимавшиеся им решения оказали определенное
влияние на ход европейских событий в заключительный период войны.
^Милюков П.Н. Сборник материалов..., с. 226.
209
Из зарубежной книги
© 1993 г.
ШАРЛЬ де ГОЛЛЬ
МЕМУАРЫ НАДЕЖД.
ОБНОВЛЕНИЕ. 1958-1962 гг.*
ИНСТИТУТЫ ФРАНЦУЗСКОГО ГОСУДАРСТВА
ПРЕДИСЛОВИЕ
Жизнь и деятельность Шарля де Голля оценивались и еще будут оцениваться по-
разному представителями разных политических течений, партий, историками,
отдельными лицами как в самой Франции, так и в других странах. Однако бесспорно,
что в течение 30 лет военной и послевоенной истории Франции генерал де Голль
находился на авансцене политической жизни страны и он играл, особенно в
критические моменты ее истории, ведущие роли. "Всю свою жизнь, - отмечает в
специальном исследовании историк Э. Поньон, - де Голль размышлял над историей
Франции. В течение 30 лет он создавал ее. Теперь он вошел в нее"1.
После окончания второй мировой войны Франции вновь суждено было пережить
критический период, связанный с распадом ее огромной колониальной империи.
Политики IV Республики после вступления Франции в НАТО не смогли решить эту
жизненно важную для страны задачу. Но именно Шарль де Голль, вернувшись к
власти в 1958 г., освободил Францию от беспрерывных колониальных войн и направил
ее политику по новому пути. За короткий срок он создал новую Республику, блестяще
усовершенствовав буржуазно-демократический аппарат государства. Он вывел
Францию в ряд подлинно великих держав и играл выдающуюся роль в международных
отношениях и мировой политике.
Де Голль оказался способен руководить политической деятельностью страны в
чрезвычайных условиях в значительной степени благодаря не только своему
характеру, но и той научно-политической подготовке, которой он обладал в силу
своего воспитания, образования и постоянного совершенствования знаний по истории
вообще, и Франции в частности. Пример столь блистательной политической карьеры
де Голля убедительно доказывает абсолютную необходимость для людей,
занимающихся политикой, приучать себя к объективным знаниям, какими бы
суровыми и неприятными они ни были.
Наряду с военной, политической, государственной деятельностью Шарль де Голль
занимался научной и литературной работой. Он писал статьи и книги, анализируя
прошлое, настоящее и прогнозируя будущее. Не считая многочисленных статей, еще
до войны он опубликовал пять книг. В 50-х годах он написал три солидных, отлично
Gaulle Ch.de. Memoires d'Espoir. Le Renouveau. 1958-1962. Paris, Pion, 1970. Перевод с французского,
общая редакция и примечания к тексту сделаны В.И. Антюхиной-Московченко.
1 Pognon Е. De Gaulle et 1'histoire de France. Trente ans eclaires par vinqt siecle. Paris, 1970, p. 7.
210
документированных тома "Военных мемуаров" - "Призыв", "Единство" и "Спасение".
После вторичного добровольного ухода от власти в 1969 г. он приступил к работе над
"Мемуарами надежд". Ему удалось полностью закончить первый том, опубликованный
в 1970 г. под названием "Обновление", где он описывает период своего руководства
страной в трудные годы - 1958-1962. Том второй, озаглавленный "Усилие", ему
завершить не удалось. Но то, что опубликовано во Франции из "Мемуаров надежд",
не только по своему глубокому содержанию, но и как литературное произведение
представляет большой интерес и для специалистов, и для широкого читателя.
Все произведения де Голля переведены на многие языки и опубликованы в
соответствующих странах. В нашей стране переведены и опубликованы только два
первые тома "Военных мемуаров"2. Поэтому впервые публикуемые на русском языке
главы из книги де Голля "Мемуары надежд. Обновление. 1958-1962" представят для
читателей немалый интерес.
Тем, кто, прочитав помещаемую ниже главу из мемуаров де Голля, захочет
увидеть какую-либо аналогию с нашей нынешней политической жизнью, стоит
обратить внимание на следующие обстоятельства. Успех де Голля в 1958 г. стал
возможен потому, что он действовал в условиях развитого гражданского общества во
Франции, имевшего богатые политические, государственно-правовые и культурные
традиции, сложившиеся политические структуры. Иными словами, у де Голля была
тогда объективная основа для достижения поставленных им целей. Сыграл свою роль
и добровольный уход де Голля на продолжительное время (с 1947 по 1958 г.) от
государственных дел и связанная с этим его определенная отстраненность от событий,
приведших Францию к политическому кризису. Референдум, проведенный де Голлем в
1958 г. по вопросу о принятии новой конституции, отвечал настроениям большинства
французского народа и привел к его сплочению, а не расколу. Политическому успеху
де Голля способствовал и сложившийся вокруг него в годы второй мировой войны
ореол спасителя нации и страны от распада и иноземного порабощения. Этот ореол
борца против распада страны, за сохранение ее единства и повышение между¬
народного авторитета, а также способность во имя национальных интересов подняться
над различными соперничавшими внутри французского общества группировками
помогли дс Голлю стать в декабре 1958 г. президентом Пятой республики.
Доктор исторических наук,
заслуженный деятель науки РФ,
профессор МГИМО МИД РФ В.И. Антюхина-Московченко
ИНСТИТУТЫ ФРАНЦУЗСКОГО ГОСУДАРСТВА
Франция возникла из глубины веков. Она существует. Ее зовут грядущие столетия.
Но всегда, во все времена Франция оставалась сама собой. Границы Франции могли
меняться, однако оставались неизменными ее рельеф, климат, реки и моря,
наложившие на нее особый отпечаток. Ее населяли народы, которые сталкивались на
протяжении Истории с самыми разнообразными испытаниями, но природа вещей,
используемая в политике, беспрестанно создавала из них единую нацию. Нация эта
существует уже на протяжении многих поколений. И сейчас она состоит из нескольких
поколений и породит еще много новых. Но благодаря присущим стране
географическим особенностям, благодаря гению населяющих ее рас, благодаря
окружающим ее соседям эта нация обрела свойственный ей определенный характер,
который заставляет французов в любую эпоху зависеть от своих отцов и нести
ответственность за своих потомков. И пока оно не распалось, это единство людей
обладает, следовательно, на этой территории, в рамках этого мира своим прошлым,
2 Голль Ш.де. Военные мемуары, т. 1. М., 1957; т. П. М., 1960.
211
своим настоящим, своим будущим, составляющим неразрывное целое. Поэтому
государство, которое несет ответственность за Францию, должно проявлять заботу
одновременно о наследии прошлого, о ее сегодняшних интересах и о ее надеждах на
будущее.
Это жизненно важная необходимость, и в случае опасности общество рано или
поздно осознает ее. Поэтому законность власти основывается на тех чувствах,
которые она вдохновляет, на ее способности обеспечить национальное единство и
преемственность, когда родина в опасности. Во Франции всегда именно в результате
войн Меровинги, Каролинги, Капетинги, Бонапарты, Ш Республика обретали и теряли
эту верховную власть. И верховная власть, которой я в момент страшного разгрома,
когда наступил мой черед в истории Франции, был облечен, сначала получила
признание французов, отказавшихся прекратить борьбу, затем по мере развития
событий - всего населения страны и, наконец, после многочисленных трений и
разочарований ее признали правительства всего мира. Благодаря этому я смог
руководить страной и привести ее к спасению.
Действительно, выбравшись из пропасти, Франция вновь предстала как
независимое и победоносное государство; она снова обладала своей территорией и
своей империей; вместе с Россией, Америкой и Англией она приняла капитуляцию
рейха; вместе с ними она присутствовала при капитуляции Японии; она располагала в
качестве компенсации за нанесенный ей ущерб экономикой Саара и поставками
рурского угля; наряду с четырьмя другими великими державами она возвысилась до
ранга основателя Организации Объединенных Наций и стала постоянным членом
ООН с правом вето.
В то время, когда можно было полагать, что наш народ после всех унижений и
испытаний в период порабощения обречен на политические, социальные и
колониальные конвульсии, которые неминуемо должны были привести страну к
тоталитарному коммунизму, пришлось вскоре констатировать, что, несмотря на
некоторые инциденты и незначительные потрясения, повсюду приветствуют де Голля;
что не существует никакой вооруженной силы, помимо регулярной армии; что
правосудие осуществляет свои дела нормально; что управление государственными
делами находится в руках квалифицированных чиновников; что глубокие реформы
задушили в зародыше революционные затеи; что наши заморские владения с доверием
и терпением ожидают объявленного и уже начатого освобождения; что новая власть
во всем и повсюду устанавливает порядок, прогресс и свободу.
Уже в то время, когда наша экономика казалась обреченной на длительный - а кое-
кто думал, даже на вечный - паралич из-за понесенного нами огромного материального
ущерба и гибели многих тысяч людей, из-за разрушения наших железных дорог,
портов, мостов, средств связи и транспорта, большого числа зданий, из-за финансового
краха вследствие гигантских изъятий, осуществленных немцами из наших ресурсов,
нашего оборудования, нашего казначейства, из-за длительного отрыва многих
миллионов французов - пленных, депортированных, беженцев - от родной земли, а
также из-за колоссальных репараций, выплачивавшихся немцам, что нанесло большой
ущерб как имуществу, так и отдельным лицам, уже в то время началось возрождение.
Среди всей этой разрухи были сделаны первые шаги по восстановлению экономики. С
грехом пополам элементарные потребности населения начали удовлетворяться.
Возвращавшиеся домой французы обретали вновь свое место - не без труда, но без
потрясений. Рост поступлений в казну, тяжелый налог национальной солидарности,
гигантский успех займа 1945 г. позволили нам приблизиться к равновесию
национального бюджета и вновь открыть нам путь к кредитам. Короче, через
несколько месяцев после победы государство твердо стояло на ногах, единство было
восстановлено, надежда воскресла, Франция заняла свое место в Европе и в мире.
Я смог добиться этого благодаря тому, что меня поддержало подавляющее
большинство народа. Наоборот, отношение организаций - политических, эконо¬
мических, профсоюзных, - быстро всплывших на поверхность, было весьма сдер¬
212
жанным. Едва враг был изгнан, как они обрушились на меня с многочисленными
обвинениями, хотя, пока дело касалось судеб нации, я не встречал с их стороны
препятствий, мешавших мне выполнить все, что было необходимо сделать. Но, когда
судьба нации была уже вне опасности, вновь стали сказываться все давнишние
претензии, проявляться прежние амбиции и крайности, как будто народ сразу же забыл
те неслыханные страдания, которые они* только что ему принесли.
Снова появились политические партии, даже под теми же названиями, с теми же
иллюзиями, с теми же приверженцами, что и до войны. Афишируя уважение к моей
личности, которого требовало общественное мнение, они выступали с критическими
замечаниями в отношении моей политики. Не оспаривая ценности услуг, которые я
сумел оказать во время чрезвычайных событий, причем, по сути дела, при отсутствии
этих партий, все они громогласно требовали возврата к тому, что считали нормальной
жизнью, т.е. к их режиму политических партий, претендуя на то, что право
располагать властью принадлежит им. Я должен прямо сказать, что со стороны
общественного мнения не высказывалось тогда никакой противоположной точки
зрения. Для каждого из тех, кто хотел что-то сказать в любой среде, с высоты любой
трибуны, от имени любой группировки или написать на страницах любой газеты, все
обстояло так, как будто бы ничто и никто не представлял страны, кроме этих не
согласных между собой фракций, которые лишь вели ее к расколу.
Но, так как я был убежден, что суверенитет принадлежит народу только тогда,
когда он имеет возможность высказывать свою волю непосредственно и во всей своей
массе, я не мог допустить, чтобы этот суверенитет был разделен между
политическими партиями, выражавшими различные интересы. Конечно, эти партии
должны были, как я полагал, способствовать выражению общественного мнения, а в
дальнейшем принимать участие в выборах депутатов, которым надлежало обсуждать
и принимать законы в парламенте. Но для того чтобы государство действительно
стало инструментом национального единства французов, выразителем высших
интересов страны и преемственности в деятельности нации, я считал необходимым,
чтобы правительство создавалось не парламентом, иначе говоря, не политическими
партиями, а стоящим над ними политическим деятелем, получившим мандат
непосредственно от нации в целом и способным выражать ее волю, решать и
действовать. Без этого множественность тенденций, свойственная нам в силу нашего
индивидуализма, нашего разнообразия, ферментов раскола, унаследованных нами от
периодов наших несчастий, снова свела бы государство к роли подмостков, где
сталкивались бы между собой беспочвенные идеологии, мелочные соперничества, к
призраку внешней и внутренней деятельности без преемственности и результатов.
Убедившись, что победа могла быть достигнута нацией только благодаря власти,
которая преодолела бы все свойственные ей разногласия, осознав подлинные размеры
проблем, выдвигаемых перед ней как настоящим, так и будущим, я понял, что
основной бой мне придется вести отныне за то, чтобы дать нации республику,
способную нести ответственность за ее судьбы.
Однако я не имел права закрывать глаза на то, что теперь, когда опасность была
позади, подобное обновление можно было осуществить только после новых тяжких
испытаний. Тем более, что после гнета оккупации и режима Виши, надолго
уничтоживших свободу французов, былая политическая игра, получившая определение
демократии, безусловно, вновь обрела утраченный блеск. Настолько, что многие мои
вчерашние соратники, которые в бытность руководителями Сопротивления кляли
политические партии, теперь старались занять в них первостепенное положение.
Впрочем, все политические организации, возобновляя свою деятельность, непременно
клялись, что осуждают прежние злоупотребления и сумеют отныне избежать их
повторения. И поскольку после диктатуры врага и его сообщников я не имел никаких
намерений устанавливать свою собственную диктатуру, поскольку я хотел утопить во
Экономические, профсоюзные, политические партии.
213
всеобщем избирательном праве серьезную и непосредственную в те дни угрозу
коммунизма и призывал народ организовать выборы в Национальное Собрание, я
должен был предвидеть, что избранное Собрание будет неизбежно принадлежать
партиям, что между Собранием и мной сразу же возникнет несовместимость, что мы
совершенно разойдемся во взглядах на конституцию, которая должна заменить
конституцию покойной III Республики, и что в результате этого власть, которая
придет на смену моей - как бы ни была она законной формально, - окажется
лишенной национальной законности.
Как только пушки умолкли, я наметил линию своего поведения. Если не принимать
мер остракизма по отношению к избранникам народа, не выступать в роли нового
угнетателя, пришедшего на смену предыдущим, если не заняться самоуничтожением,
встав на позицию, долго удержаться на которой было невозможно, учитывая общее
настроение умов во Франции и повсюду на Западе, я должен был предоставить
режиму политических партий возможность на протяжении более или менее
длительного времени вновь доказать свою вредоносность, полный решимости при этом
не играть ни роли прикрытия этого режима, ни роли его статиста. Итак, я уйду, но
уйду ничем не запятнанным. Таким образом, когда наступит время, я снова смогу
оказаться полезным - будь то я сам или показанный мною пример. Однако в
предвидении будущего и еще до избрания Национального Собрания я учредил
институт референдума, заставив народ утвердить, что отныне для того, чтобы
конституция могла вступить в законную силу, необходимо его прямое одобрение. Тем
самым я создал демократическое средство, которое в один прекрасный день поможет
мне самому создать хорошую конституцию вместо той плохой, которую политические
партии собирались выработать сами и для себя.
На протяжении семнадцати лет система политических партий еще раз проявила
свою сущность. В то время как в стенах Бурбонского и Люксембургского дворцов
плелись непрерывные интриги, совершались предательства, создавались и распадались
парламентские комбинации, находившие питательную среду в решениях съездов и
комитетов, при настойчивом вмешательстве газет, коллоквиумов, групп давления,
двенадцать председателей Совета Министров, возглавлявших двадцать четыре
кабинета, по очереди перебывали во дворце Матиньон. Это были: Феликс Гу эн, Жорж
Бидо, Леон Блюм, Поль Рамадье, Робер Шуман, Андре Мари, Анри Кэй, Ренэ
Плевен, Эдгар Фор, Антуан Пинэ, Ренэ Майер, Жозеф Ланьель, Пьер Мендес-Франс,
Ги Молле, Морис Буржес-Монури, Феликс Гайяр, Пьер Пфлимлен. Все они были
достойными людьми, безусловно, способными управлять государственными делами,
шесть из семнадцати были в свое время моими министрами, а четыре стали ими в
дальнейшем, но один за другим они неизбежно утрачивали реальную власть над
событиями из-за абсурдности режима. Сколько раз, видя, как они бьются вдали от
меня, стараясь сделать невозможное, я испытывал грусть от этой бесплодной
растраты сил! Что бы ни пытался предпринять каждый из них, страна и заграница
становились свидетелями скандального спектакля существования ’’правительств”,
сформированных в результате компромиссов и подвергавшихся яростным нападкам со
всех сторон сразу же после того, как они создавались, подрывавшихся внутренними
разногласиями и противоречиями и вскоре свергаемых в результате голосования,
которое чаще всего выражало только неудержимый аппетит новых кандидатов
на министерские портфели. А в промежутках - безвластие, продолжавшееся иногда
по нескольку недель. И на подмостках, на которых разыгрывалась эта коме¬
дия, появлялись и исчезали кандидаты в премьер-министры, с которыми ’’сове¬
товались”, которым ’’предлагали” или ’’поручали” этот пост, прежде чем один из
них добивался инвеституры от Национального Собрания. А в Елисейском дворце
Венсан Ориоль, а затем Ренэ Коти - главы государства, которые, сколько ни пеклись
они об общественном благополучии и национальном достоинстве, ничего не могли
поделать, - безропотно возглавляли незначительные фигуры, участвующие в этом
балете.
214
Однако, поскольку события шли своим чередом и повседневная жизнь не могла от
них абстрагироваться, страна часто получала иные импульсы, нежели те, которые
должна была давать ей политическая власть. Если речь шла о внутренних делах,
администрация, технические специалисты, военные сами решали, как могли, те
срочные проблемы, которые люди и ход событий ставили перед ними. Что же касается
внешнеполитических вопросов, то, несмотря на видимость дипломатического
присутствия и некоторые попытки, предпринимаемые иногда отдельными министрами,
заграница в конечном счете сама определяла, чего она ждет от Франции, и добивалась
этого.
Правда, потребительский спрос, пришедший на смену продолжительному периоду
лишений, и огромные потребности возрождения страны автоматически вызывали
бурную активность в области экономики. Управление планирования, созданное мной,
пока я был у власти, стремилось руководить этой деятельностью. Поэтому объем
промышленного и сельскохозяйственного производства непрерывно увеличивался. Но
это достигалось дорогой ценой импорта из-за границы, не компенсировавшегося
увеличением нашего экспорта, и роста заработной платы, не обусловленного
соответствующим повышением производительности труда. На государство, не
сумевшее привести дела в порядок, обрушивалось бремя дефицита. Покрытие
дефицита велось за счет кредитов по плану Маршалла, которые Франция без конца
выпрашивала у Вашингтона, за счет золотых запасов Французского банка,
находившихся во время войны на Мартинике, во Французском Судане и в
Соединенных Штатах (эти запасы я сохранил в неприкосновенности), и особенно за
счет дефицита государственного бюджета, иначе говоря, инфляции. Но следствием
этого явилось хроническое падение стоимости франка, паралич внешней торговли,
иссякание кредита - короче, растущая угроза денежного и финансового банкротства и
экономического краха. Нет сомнений, что эпизодически удачная деятельность
отдельных министров, например Антуана Пинэ и Эдгара Фора, приносила некоторое
облегчение. Но министры уходили, а беспорядок продолжал нарастать.
В таких условиях не было сделано ничего нового в социальной области по
сравнению с тем, что удалось осуществить моему правительству в период Осво¬
бождения. Непрекращающиеся забастовки приводили к увеличению заработной платы
за счет различного рода надбавок, финансирование которых шло за счет выпуска
новых банковских билетов и бонов казначейства, причем систематический рост цен
постепенно сводил на нет эти надбавки. Правда, социальное страхование, помощь
многосемейным, новая система, касающаяся сельскохозяйственной собственности, в
том виде, как я это когда-то ввел, служили достаточно сильным средством
предотвращения драм, связанных с нищетой, болезнями, безработицей, старостью,
чтобы создавшееся положение не приводило к бунтам. Но что касается вопросов,
требовавших долгосрочного решения, таких, как жилищная проблема, проблема школ
и больниц, проблема средств связи, то они настолько отставали от требований дня, что
ставили под угрозу будущее.
В то время как внутри страны ее естественная эластичность несколько смягчила
непосредственные последствия несостоятельности официальной власти, в области
внешних сношений дело обстояло иначе. Все, чего я достиг ценой настойчивых усилий
в отношении независимости страны, ее ранга, ее интересов, было сразу же подорвано.
Поскольку у режима не было пружины, позволяющей нам прочно стоять на ногах, он в
общем занимался тем, что удовлетворял интересы других. Конечно, чтобы прикрыть
отодвигание Франции на второй план, режим находил нужные ему идеологические
обоснования: одно во имя единства Европы позволяло ликвидировать те
преимущества, которые мы добивались своей победой; другое под предлогом
атлантической солидарности оправдывало подчинение Франции гегемонии англосаксов.
Так, несмотря на отсутствие серьезных гарантий, Франция согласилась с
восстановлением центральной власти немцев в трех западных зонах Германии. Так
было создано Европейское объединение угля и стали, которое, не обеспечив средств
215
для восстановления наших разрушенных шахт, освобождало немцев от репарационных
поставок топлива и давало возможность итальянцам создать у себя крупные
сталелитейные заводы. Так было ликвидировано присоединение экономики Саара к
Франции и созданное на этой территории автономное государство. Так был заключен -
и был бы проведен в жизнь, если бы от этого в последний момент не спасло
пробуждение национального сознания, - договор о создании "Европейского
оборонительного сообщества", который должен был лишить победоносную Францию
права иметь собственную армию, слить ее вооруженные силы, которые она тем не
менее обязана была предоставлять, с вооруженными силами побежденных Италии и
Германии (Англия со своей стороны отказалась от подобного национального
отречения) и передать, наконец, Соединенным Штатам Америки полное право на
командование этим безродным конгломератом. Так, после одобрения в Вашингтоне
декларации принципов, получивших название "Атлантического союза", была создана
"Организация Североатлантического договора", по условиям которой наша оборона и
соответственно наша политика растворялись внутри системы, руководимой из-за
океана, в то время как американский верховный главнокомандующий, обосновавшись
близ Версаля, осуществлял военную власть Нового Света над Старым. В результате
во время Суэцкой экспедиции, которую Лондон и Париж предприняли против Насера,
дело было поставлено так, что французские силы всех родов и всех звеньев были
подчинены англичанам. Последним достаточно было принять под давлением
Вашингтона и Москвы решение об отзыве своих войск, как тотчас были выведены и
французские силы.
Но сильнее всего нерешительность государства проявлялась во взаимоотношениях
между метрополией и заморскими территориями. Тем более что в этот период
гигантское движение за независимость подняло на борьбу одновременно все народы
колоний. В результате относительного ослабления Англии и Франции, разгрома
Италии, подчинения Бельгии и Голландии намерениям Соединенных Штатов, в
результате влияния на народы Азии и Африки битв, происходивших на их
территориях и заставивших колонизаторов обращаться к содействию колонизованных
народов, в силу бурного расцвета будь то социалистических или либеральных доктрин,
требовавших освобождения рас и народов, и, наконец, в результате волны желаний,
порожденных у обездоленных масс видом достижений современной экономики, весь
мир стал ареной потрясений, обратных по направлению, но столь же глубоких, как и
те, которые последовали за открытиями и завоеваниями, предпринимавшимися
державами старой Европы. Совершенно очевидно, что империи основывались на
факте давности владения. Но вероятно, имелась возможность превратить старые
отношения зависимости в преференциальные связи политического, экономического и
культурного сотрудничества.
От имени Франции я уже в январе 1944 г. во время Браззавильской конференции*,
наметил необходимое направление в этом сложном деле. Затем в 1945 г. я продолжал
идти по этому же пути, предоставив право голоса всем жителям Алжира, Черной
Африки, Мадагаскара, торжественно принимая в Париже бея Туниса и короля
Марокко как лиц, призванных стать полноправными суверенами, давая д’Аржанлье и
Леклерку, которых я послал со значительными силами в Индокитай, инструкции
обосноваться только на Юге и не идти без моего приказа на Север, где уже правил Хо
Ши Мин, с которым направленная мной миссия Сентени установила предварительные
контакты для переговоров. Не имея никаких иллюзий и понимая, что невозможно без
столкновений и трудностей сразу же заменить нашу империю сообществом,
основанным на свободной и договорной ассоциации, я считал, однако, осуществимым
Во время путешествия в Африку с 24 января по 2 февраля 1944 г. де Голль 30 января произнес речь
на открытии конференции в г. Браззавиле, в которой сказал, что национальный долг Франции состоит в
том, чтобы помочь народам французской колониальной Империи подняться до уровня, позволяющего им
самостоятельно управлять своими делами.
216
столь великое дело. Но было необходимо, чтобы претворение в жизнь этой цели
проводилось последовательно и решительным правительством, которое заинте¬
ресованные народы считали бы правительством, действительно представляющим ту
великодушную и мощную Францию, какой она предстала перед ними после Осво¬
бождения.
Совершенно очевидно, что режим политических партий не соответствовал этим
условиям. Разве можно было принимать категорические решения, которых требовала
деколонизация, в условиях переплетения противоречивых тенденций, существовавших
к тому же ради слова, а не дела? Каким образом мог режим политических партий
преодолеть, а при необходимости уничтожить все то противодействие чувств, при¬
вычек и интересов, которое неизбежно должно вызывать подобное мероприятие? Нет
сомнений, что среди хаоса непоследовательности некоторые руководители этого
режима выступали с отдельными ценными предложениями. Но эти предложения не
получали завершения из-за противоречий, раздиравших исполнительную власть.
Что касается Индокитая, то первоначальная тенденция, проявившаяся после моего
ухода, заключалась в том, чтобы пригласить Хо Ши Мина в Париж для переговоров, с
чем Хо Ши Мин соглашался. Но в дальнейшем возобладало стремление применить
силу. И как следствие этого - мрачная далекая война на протяжении восьми лет, в
течение которых намерение выиграть войну сменялось намерением заключить мир, но
так и не было принято окончательного решения. И какова бы ни была храбрость
бойцов на поле брани, каковы бы ни были их потери, сколь бы ни были высоки
качества и усилия администраторов, конечным результатом было тяжелое военное
поражение и последовавшая за ним неизбежная политическая ликвидация, но теперь
уже на постыдных условиях.
В отношении протекторатов Туниса и Марокко власти попеременно склонялись то к
методам принуждения, доходившим до ареста и ссылки султана Мохаммеда V и
содержания Бургибы под надзором полиции, то к сердечному согласию, когда они
восстанавливали на троне короля Марокко, предоставляли внутреннюю автономию
Тунисскому регентству и даже признавали формальную независимость обоих госу¬
дарств. Но из-за недостатка решимости довести преобразование до конца на местах
сохранялись остатки французской власти, терпевшие ежедневно яростные нападки, и
французские вооруженные силы, подвергавшиеся постоянным оскорблениям.
В Черной Африке и на Мадагаскаре, оказав сопротивление движению за право на
самоопределение» в частности подавив кровавое восстание на крупнейшем острове
Индийского океана, по инициативе Гастона Деффера* стали применять известный
закон, согласно которому на местах были созданы правительства и парламенты из
туземного населения. Им были предоставлены значительные законодательные и
административные права, однако дальше этого начинания не пошли: реформа была
неполной и желаемых результатов не дала.
Но самым жестоким образом нерешительность режима сказалась на судьбе
Алжира. Последовательно сменявшие друг друга эфемерные правительства Парижа
только и делали, что лавировали, пока не вспыхнуло вооруженное восстание. Правда,
в 1947 г. был принят Органический статус Алжира, по которому в стране создавалось
Собрание, избиравшееся путем всеобщего голосования и получившее право утвер¬
ждать бюджет и обсуждать деятельность генерал-губернатора. Это был важный шаг
по правильному пути, и если бы имелось желание сделать дальнейшие шаги в этом
направлении, то движение этой страны к такому положению, когда ее население само
будет вершить свои дела, движение по пути к постепенному созданию Алжирского
государства, присоединившегося к Французской республике, проходило бы, без
сомнения, мирным путем. К несчастью, действия подавляющего большинства жителей
Алжира французской национальности и административная рутина блокировали
дальнейшее развитие этого процесса. Поэтому власти отказались изменить систему
Деффер, Гастон - политический деятель, один из лидеров социалистической партии.
217
существования двух избирательных коллегий, по которой жители французской
национальности, составлявшие одну десятую часть всего населения, избрали половину
депутатов Собрания - столько же, сколько все остальное алжирское население. К
тому же власти оказывали сильное давление во время выдвижения кандидатур и
голосования на алжирскую часть населения. Первоначально мусульманское население
и его политическая элита относились положительно к Органическому статуту Алжира,
но вскоре, вынужденные признать, что суть реформы извращена, они отказались от
надежд, зародившихся в момент освобождения Франции, и пришли к заключению, что
не добьются свободы законным путем.
Поскольку начавшаяся 1 ноября 1954 г. вооруженная борьба не переставала в
дальнейшем усиливаться, режим политических партий стал колебаться между
различным отношением к событиям. В сущности, многие руководители режима
сознавали, что проблема требует кардинального решения. Но принять жесткие
решения, которых требовала эта проблема, снести все препятствия на пути ее
осуществления как в Алжире, так и в метрополии, пренебречь недоброжелательным
отношением прессы и парламентских групп, отношением, порождаемым возбуждением
общественности и политическими кризисами, вызывавшимися этой гигантской
проблемой, - это было выше сил неустойчивых правительств. Если не считать
нескольких жестов, свидетельствовавших о желании начать переговоры, некоторых
косвенных контактов с руководителями восстания, укрывшимися в Каире, эпизо¬
дических указаний о смягчении репрессий, назначения, почти тотчас же отмененного,
на пост министра генерала Катру*, чье имя символизировало умиротворение, режим
ограничивался тем, что с помощью солдат, вооружения и денег поддерживал борьбу,
свирепствовавшую по всей территории Алжира и вдоль границ. Материально это
стоило очень дорого, ибо приходилось держать там вооруженные силы общей числен¬
ностью 500 тыс. человек. Это обходилось дорого и с точки зрения внешне¬
политической, ибо весь мир осуждал безысходную драму. Что же касалось, наконец,
авторитета государства - это было буквально разрушительно.
Особенно гибельно это было для армии. Она не только несла на себе тяжесть
сражений, но также суровость и подчас ужасы репрессий. Находясь в постоян¬
ном контакте с жившим в состоянии тревоги французским населением Алжира и со
вспомогательными мусульманскими силами, армия постоянно испытывала тягостное
чувство, что здесь, как и в Индокитае, результатом будет военное поражение, и
поэтому в ней сильнее, чем во всех остальных . слоях общества, нарастало
недовольство политической системой, которая не представляла собой ничего, кроме
нерешительности.
Итак, в начале весны 1958 г., как бы ни казалась внешне пассивной масса фран¬
цузского населения, все свидетельствовало о нарастании тревоги. Все чувствовали,
что для ликвидации финансовых трудностей необходимы жесткие меры, что во внеш¬
неполитическом плане только иностранцы извлекали пользу из подчиненного поло¬
жения, в котором мы оказались, и особенно из того, что наша колониальная система,
прежде всего в Алжире, превратилась в бесплодную ипотеку. Между тем становилось
очевидным даже для наиболее предубежденных лиц, что, поскольку режим бессилен
разрешить все эти проблемы, вполне может создаться положение, когда встанет
вопрос об общественном спасении. Одновременно в головах многих инстинктивно
зарождалась мысль - выражалась ли она громогласно или ее поддерживали молча, -
вылившаяся в растущее движение за то, чтобы обратиться к де Голлю.
Тогда я жил в полнейшем уединении в Ля Буассери. Двери моего дома открывались
лишь для членов моей семьи или для жителей деревни. В Париж я ездил изредка и
принимал там очень немногих посетителей. Однако я прилагал очень большие усилия
к тому, чтобы попытаться изменить положение, пока оно еще не стало совершенно
Генерал Жорж Катру примкнул к де Голлю еще во время войны, выполнял многие поручения,
участвовал в военных действиях, выполнял важные дипломатические поручения, был послом в СССР.
218
безнадежным. Уже 16 июня 1946 г. я изложил в Байё* принципы, на которых должна
быть построена наша конституция, с учетом того, что представляют собой наш народ
и наше время. Потом, поскольку в конце концов была принята та конституция,
которая в противоположность моим проектам установила IV Республику, я попытался
сплотить французский народ вокруг первостепенных и постоянных интересов Франции
и создать новый режим. Однако, несмотря на большие усилия по информации
французского населения, на многочисленные митинги и собрания, на которых я лично
присутствовал во всех департаментах метрополии и Алжира, во всех заморских
департаментах и территориях, несмотря на широкую горячую помощь и преданность,
продемонстрированные самыми различными слоями населения, особенно рядовыми
французами, я не смог победить. Правда, Объединение** добилось в 1947 г.
внушительного успеха на муниципальных выборах, особенно в столице, где мой брат
Пьер стал председателем Парижского совета и оставался им - факт, не имевший
прецедента, - пять лет подряд. Правда, в только что созданном Совете Республики
более трети депутатов объединились под руководством Пьера де Голля в ’’групп)'
Объединения".
Но яростное и согласованное сопротивление всех остальных партий, недобро¬
желательное отношение профсоюзов и одновременно руководителей предприятий,
которые, несмотря на существование взаимных противоречий, тем не менее
относились подозрительно к моим проектам социальных реформ, враждебность почти
всей прессы - парижской, провинциальной и иностранной, запрет правительства
французскому радио передавать мои речи и, наконец, избирательная система (так
называемое "сблокированное представительство"), специально принятая в то время и
извращавшая принцип представительства различных мнений с помощью выборов,
способствовали тому, что в Национальное Собрание не было избрано достаточного
количества депутатов, стремившихся изменить режим. После всеобщих выборов в
Национальное Собрание в 1951 г. только 125 депутатов собрались под знаменем
Лотарингского креста***. Видя это, некоторые депутаты покинули организацию, о
принадлежности к которой настойчиво твердили. Вот почему вскоре после этого,
констатировав изменение обстановки, я распустил Объединение. Шесть лет, с 1952 по
1958 г., я писал "Военные мемуары", не вмешиваясь в общественные дрла, но и не
сомневаясь, что пороки существующего режима рано или поздно обязательно
приведут к тяжелому национальному кризису.
Вот почему кризис, разразившийся в Алжире 13 мая, меня нисколько не удивил.
Однако я никоим образом не был замешан ни в алжирских событиях, ни в движении
военных, ни в политических проектах, породивших это движение; и я не имел никаких
связей ни с лицами, действовавшими в Алжире, ни с кем-либо из министров в Париже.
Правда, Жак Сустель, один из моих ближайших соратников во время войны и затем
по деятельности в Объединении, был генерал-губернатором Алжира, но он был
назначен Мендес-Франсом и отозван Ги Молле****.Но никогда - ни во время
исполнения своих обязанностей, ни после своего возвращения - он не делал мне
никаких сообщений. Правда, во время поездки в Сахару в 1957 г., чтобы
присутствовать при испытании ракет в Хаммагири и посетить только что созданные
Город Франции, был оккупирован немцами. После высадки англо-американских войск в Нормандии
летом 1944 г. Байё стал первым освобожденным французским городом. Во вторую годовщину этого
события, 16 июня 1946 г., де Голль посетил его и произнес свою знаменитую речь о государственном
устройстве Франции. Главное содержание речи касалось роли главы государства, президента Республики,
как арбитра, стоящего над партиями, как гаранта национальной независимости страны.
Речь идет о созданной тогда де Голлем политической партии, названной им Объединение фран¬
цузского народа (РПФ).
Крест с двумя перекладинами - символ деголлевского движения "Свободная Франция", а затем
голлизма вообще. В виде такого креста огромных размеров президент Помпиду поставил памятник де
Голлю неподалеку от места его захоронения.
Мендес-Франс, Пьер и Молле, Ги - политические деятели Франции лево-буржуазного и социалис¬
тического направления, занимали посты министров и премьер-министров.
219
нефтяные разработки в Эджеле и Хасси-Мессауде, я принял в Колон-Бешаре министра
по делам Алжира Робера Лакоста, но в дальнейшем не встречался с ним. Правда, два
или три предприимчивых лица, сотрудничавших со мной в те времена, когда я
находился у дел, обосновались в Алжире с целью пропаганды идеи, что рано или
поздно настанет день, когда дело общественного спасения придется вручить мне. Но
они делали это по собственной инициативе, даже не проконсультировавшись со мной.
Правда, наконец, что после роспуска Объединения несколько парламентариев, его
бывших членов, занимали министерские посты в чередовавшихся правительствах.
Однако у меня не было никаких контактов с ними. Тем не менее я отчетливо видел
все признаки нарастающего напряжения как в политических кругах Парижа, так и
среди военных, чиновников и гражданского населения Алжира.
15 апреля было опрокинуто правительство Феликса Гайяра. После этого на
протяжении четырех недель Жоржу Бидо, а затем Рене Плевену не удавалось создать
нового правительства - до такой степени упадка дошел режим. И если Пьеру
Пфлимлену, казалось, удалось 12 мая сформировать новое правительство, это
происходило уже в такой атмосфере, когда никто не верил, что оно будет
эффективным. Одновременно в Алжире не переставала усиливаться лихорадка, тем
более что министр Робер Лакост публично заявил, что он опасается возникновения
"дипломатического Дьенбьенфу", что Союз ассоциаций бывших фронтовиков требовал
"создания любыми способами правительства общественного спасения", а теперь
Салан, главнокомандующий вооруженными силами в Алжире, телеграфировал в
Париж о возможности со стороны армии "действий в условиях отчаяния". У меня не
было, следовательно, сомнений, что взрыв неизбежен.
Я также не сомневался и в том, что мне сразу же придется принять активное учас¬
тие в событиях. Действительно, начиная с того момента, когда армия, пользующаяся
горячей поддержкой массы местного населения и одобрением многих отчаявшихся
людей в метрополии, восстает против официального аппарата - причем последний
только демонстрирует свою растерянность и свое бессилие, а среди населения нет
никакого движения доверия в поддержку этого аппарата, - становится ясно, что дело
идет к государственному перевороту, к внезапной высадке в Париже воздушного
десанта, к установлению в стране военной диктатуры, опирающейся на осадное
положение, аналогичное осадному положению в Алжире. Все это не могло не вызвать
в виде ответной реакции нарастания забастовочного движения, всеобщей обструкции,
роста активного сопротивления. Короче говоря, это была бы авантюра, следствием
которой могла стать гражданская война в условиях присутствия иностранцев, которые
очень быстро приняли бы участие в этой борьбе, преследуя свои интересы. Спасти
положение мог только общенациональный авторитет, чуждый как политическому
режиму, существовавшему в тот момент, так и силам, стремившимся его свергнуть, и
возвышающийся над тем и над другими. Он должен был взять власть в свои руки и
восстановить Государство. Ни у кого, кроме меня, такого авторитета не было.
Итак, обязанности падают на меня, живущего в уединении. Я снова чувствую себя
орудием, избранным судьбой. 18 июня 1940 г., отвечая на призыв вечной родины,
лишенной какой-либо другой помощи для спасения своей души и чести, де Голль, один,
почти никому не известный, должен был взять на себя ответственность за Францию. В
мае 1958 г., накануне разрыва, грозившего погубить нацию, в условиях распада
режима, якобы несшего на себе всю ответственность, де Голль, теперь широко
известный, но не имеющий в своем распоряжении иных средств, кроме своей
законности, должен взять на себя решение судеб страны.
На принятие решения у меня оставались считанные часы. Ибо революции
совершаются быстро. Однако мне надо было выбрать момент, когда же именно,
закрыв театр теней, я выпущу "бога из машины"*, иначе говоря, когда именно мне
Древнее латинское выражение, означающее неожиданное вмешательство. Связано с искусством
театра.
220
надо появиться на политической арене. Что лучше: вмешаться немедленно и задушить
надвигавшуюся беду в самом зародыше, идя при этом на то, что мои действия
впоследствии будут оспаривать и отрицать успокоившиеся люди, или же, наоборот,
ждать, когда создавшееся положение насилия и террора обеспечит мне всеобщее и
продолжительное одобрение? Оценив издержки того и другого решения, я выбрал
немедленные действия. Но как поступить в этом случае? Ограничиться ли
восстановлением определенного авторитета власти, вернуть армию на свое место,
обнаружить и восполнить просчеты, чтобы временно облегчить смертные муки
алжирской проблемы, а потом уйти в сторону, открыв перед ненавистной мне
политической системой расчищенный мной путь? Или же воспользоваться
предоставляющейся мне историей возможностью, а именно - банкротством партий,
дать государству институты, обеспечивающие ему в современных условиях ста¬
бильное существование и преемственность, которых оно было лишено на протяжении
последних 169 лет? Сумею ли я сделать так, чтобы появилась возможность решить
жизненно важную проблему деколонизации, начать экономическое и социальное
преобразование нашей страны в эпоху науки и техники, восстановить независимость
нашей политики и нашей обороны, превратить Францию в поборника объединения
всей европейской Европы, вернуть Франции ее ореол и влияние в мире, особенно в
странах ’’третьего мира”, которым она пользовалась на протяжении многих веков? Нет
никаких сомнений: вот цель, которую я могу и должен достичь.
Пусть будет так! Несмотря на трудности, связанные с моими личными качествами,
мой возраст - 67 лет, пробелы в моих познаниях, пределы моих способностей;
несмотря на труднейшие препятствия, которые я непременно встречу со стороны
нашего вечно подвижного народа, - ведь почти все политические, интеллектуальные и
общественные силы будут стремиться повести этот народ в противоположном
направлении; наконец, несмотря на сопротивление, которое окажут иностранные
государства возрождению могущества Франции, я буду во имя служения ей
олицетворять великие национальные стремления.
Начинать надо было с того, чтобы снова взять в руки государство. Я чувствовал,
что в этом отношении в данный момент не встречу сопротивления. Зная свой мир, я
полагал, что как в Алжире, так и в Париже, в среде тех, на ком лежит
ответственность, доминирует страх быть вынужденными применить силу и что мысли
многих обращаются ко мне в надежде на то, что я сумею избавить их от этого. 13 мая
в Алжире появились комитеты общественного спасения, сформированные из офицеров
и гражданских лиц; эти комитеты предпринимали иногда вооруженные выступления и
присваивали себе функции префектов и супрефектов. Но у меня сложилось
впечатление, что верховное командование не склонно предпринимать непоправимых
шагов. Если армия открыто осуждала бессилие политической системы, чреватой для
нее губительными последствиями, если она сочла необходимым поставить под свой
контроль местную администрацию под тем предлогом, что так ей легче бороться с
восстанием, то многие военные руководители без-всякого воодушевления
рассматривали перспективу разрыва с метрополией, военного похода на столицу и
захвата власти. Стоя на берегу столь широкого Рубикона, каким является
Средиземное море, бывшее командование, офицеры и солдаты, как правило, хотели,
чтобы в Париже появилось правительство, способное взять на себя общена¬
циональную ответственность и избавить их самих от авантюрных действий и
нарушения присяги. Но, поскольку они убеждены, что нынешний режим не в состоянии
дать им такого правительства, они в отчаянии внезапно открывают для себя, что
такое правительство могу дать им я. Уже 14 мая генерал Салан*, который накануне
Генерал Салан - участник многих колониальных войн IV Республики, один из основных вдохновителей
и руководителей войны против алжирского народа, решительный и непримиримый противник де Голля, имел
гораздо более высокий генеральский чин, чем де Голль - пять звездочек на каскетке против двух у де
Голля. Написал интересные мемуары, но местами весьма далекие от истины.
221
был вынужден уступать комнату за комнатой здания генерал-губернаторства раз¬
бушевавшейся толпе, произносит с балкона "Форума” несколько фраз, закончив их
возгласом: "Да здравствует де Голль!" Таким образом публично поставлен вопрос,
который уже царит в умах всех.
В Париже официальные круги ни о чем другом не думают. Помимо новостей,
которые я черпал из газет и радио, сообщения моего агента связи Оливье Гишара
ставили меня в курс дела в отношении того, какие расчеты и планы строились вокруг
моего имени. Тем более, что перед лицом раскола то, что по привычке еще называют
властью, проявляет признаки самоотречения. 13 мая, после начала бунта в Алжире,
Феликс Гайяр, свергнутый месяц назад, но продолжающий из-за отсутствия нового
правительства заниматься текущими делами председателя Совета Министров,
телеграфировал Салану, что не следует применять оружие против демонстрантов и
что ему самому вручается вся гражданская власть в Алжире. Если правительство
Пьера Пфлимлена и получило полномочия от Национального Собрания в течение
следующей ночи, то лишь после дебатов, показавших всеобщий разброд, и получив
при голосовании за доверие одобрение только 274 депутатов, тогда как голосовали
против и воздержались 319 депутатов. Исходя из этих результатов, все поняли, что
новое правительство не сможет осуществить решительных мер. К тому же утром 14
мая правительство подтверждает полномочия, предоставленные Салану, а затем,
запретив сначала всякую связь с Алжиром, восстанавливает ее. Во второй половине
дня 14 мая, будучи в течение нескольких часов в Париже, как я часто это делал по
средам, я из потока информации, притекавшей ко мне на ул. Сольферино, с некоторым
беспокойством узнаю, что повсюду громко или тихо произносят имя генерала де
Голля.
Я отвечаю из Коломбэ 15 мая. В моем заявлении длиной в семь строк конста¬
тируется деградация государства, являющаяся причиной угрожающего несчастья,
клеймится режим политических партий, виновный в этом катастрофическом ходе
развития, утверждается мое намерение исправить положение путем взятия на себя
вновь - я готов к этому - всей полноты власти в Республике.
Как только это заявление было опубликовано, все поняли, что факты после¬
дуют быстро. Естественно, политическая оппозиция активизирует нападки на ме¬
ня. Но это всего лишь условные рефлексы. В действительности никто не сомнева¬
ется, что если хотят избежать национального разрыва, а не плыть по воле волн,
то выход из создавшегося положения только один - де Голль. И тогда сра¬
зу формируется нарастающий поток присоединившихся к моей позиции и даже го¬
рячо ее одобряющих. Практически единственный вопрос, который стоит отныне пе¬
ред политическим аппаратом, - это форма, в которую он облечет свой отказ от
власти.
Но действовать надо быстро. Сколь бы ни было пока еще благоразумным
командование в Алжире, множество неуловимых факторов пришли в движение и
могли смести все. В то время как президент Коти публично обращается 14 мая к
генералам, офицерам и солдатам, служащим в Алжире, заклиная их "не усугублять
испытаний родины новым испытанием - расколом французов", вся поступающая из
Алжира информация свидетельствует о нарастании напряженности в армии. К тому же
на следующий день уход генерала Эли с поста начальника Генерального штаба, тогда
как всем известны его отношение к воинскому долгу и величайший авторитет в армии,
показывает, что армия в массе своей не поддерживает больше существующий режим.
Чтобы предать гласности обязательства перед нацией, которые я брал на себя, и не
имея возможности воспользоваться радио, куда доступ мне был закрыт, я созвал на 19
мая представителей прессы в Отель д'Орсэ.
Прибыв в Париж, я почувствовал, насколько сгустилась атмосфера за эти дни.
Правда, этому содействовал и министр внутренних дел Жюль Мок. Выполняя его
приказы, полиция выставила максимально возможные силы вокруг здания, в котором я
собирался провести пресс-конференцию, как будто можно было представить себе де
222
Голля, идущего во главе передовых ударных войск на штурм общественных зданий! В
тот момент, когда я ехал инкогнито из Коломбэ на встречу с одними только
журналистами, не имея иного эскорта, кроме моего адъютанта полковника де
Бонневаля и шофера Поля Фонтениля, министр лично инспектировал длинные
колонны броневиков и грузовиков с солдатами в полном вооружении, вытянувшиеся
вдоль обоих берегов Сены. Поскольку этот недостойный спектакль укрепил мою
уверенность в том, что сейчас как раз время восстановить равновесие в Республике, я
говорил с представителями прессы тоном хозяина положения. Впрочем, вопросы,
которые мне задают по поводу того, что я буду делать, получив власть, не оставляют
ни малейшего сомнения, что власть я действительно получу. Конечно, я пользуюсь
этим случаем, чтобы снова подтвердить свою волю восстановить авторитет и власть
государства и вернуть ему доверие нации. В заключение я повторил, что отдаю себя в
распоряжение страны.
А события развиваются все быстрее. В Алжире, куда пробрался Жак Сустель, к
чему я никак не был причастен, комитеты общественного спасения продолжают
устанавливать свою диктатуру. Желая знать точно, что там в действительности
происходит и каковы намерения, я по телеграфу прошу военное командование
прислать ко мне кого-нибудь, кто смог бы доложить обстановку. Моя телеграмма была
передана командованию открыто, нормальным путем генералом Лорийо, новым
начальником Генерального штаба, с согласия министра Пьера де Шевинье. Через
некоторое время генерал Дюлак в сопровождении нескольких офицеров прибыл в
Коломбэ и заявил мне от имени Салана, что, если в очень короткий срок я не возьму
власть в свои руки, военное командование не сможет помешать высадке военного
десанта в метрополии. Б Париже официальные круги, правда, все еще делают вид,
будто правительство и парламент функционируют. Так, палата депутатов под¬
тверждает предоставление правительству "чрезвычайных полномочий", а прави¬
тельство вносит на рассмотрение проект пересмотра конституции; в то время как
правые партии и партии центра делают вид, что их тревожит моя программа, левые
партии твердят о "защите Республики", а Всеобщая конфедерация труда отдает
распоряжение о забастовке, на которое вначале ответило лишь незначительное число
рабочих. Но общественность понимает, до какой степени вся эта игра напрасна. В нее
не верят даже сами игроки. Некоторые из них, и не последние по важности, открыто
присоединяются ко мне.
Так поступили, например, Жорж Бидо, который 21 мая опубликовал заявление: "Я
стою на стороне генерала де Голля"; Антуан Пинэ, который 22 мая просит
разрешения приехать к Коломбэ и получает его, а после встречи говорит повсюду:
"Генерал? Да это же прекрасный человек!" - и призывает Пфлимлена срочно
встретиться со мною; Ги Молле, заместитель премьер-министра, который 25 мая,
воспользовавшись тем, что я упомянул о нем в своей речи, произнесенной перед
журналистами, направляет мне письмо, в котором, несмотря на осторожные
выражения, чувствуется решимость присоединиться ко мне; Венсан Ориоль, который
26 мая пишет мне: "К Вам возвращается Ваш государственный министр 1945 г.
... который, чтобы оказать Вам доверие, ждет от Вас только заверения, что Вы
призовете к порядку непокорных офицеров".
Впрочем, ход событий только ускоряет эту эволюция. 24 мая вылетевшее из
Алжира подразделение приземляется на Корсике без единого выстрела, благодаря
чему комитеты общественного спасения захватывают власть в Аяччо и Бастии.
Полицейские силы, посланные из Марселя для восстановления порядка на острове, без
труда позволили обезоружить себя. Если с политическим решением станут тянуть, то
подобное произойдет в метрополии, а потом и в Париже. Мне докладывают из
официального источника, что Министерство внутренних дел предполагает
возможность вторжения в ночь с 27 на 28 мая. Куда же мы пойдем после этого?
Поэтому я ускорил ход событий в нужном направлении. 26 мая я вызвал в
Ля Буассери префекта департамента Верхняя Марна Марселя Дьебо и поручил ему
223
немедленно передать от моего имени Пфлимлену, что общественные интересы
требуют, чтобы он встретился со мной. Местом встречи я назначил расположенный в
укромном месте дом моего друга Феликса Брюно, хранителя музея Сен-Клу. Префект
выполнил мое поручение; председатель Совета Министров просил передать мне, что в
этот же вечер прибудет в указанное место.
Я нашел Пьера Пфлимлена спокойным и преисполненным чувства собственного
достоинства. Он описал мне обстановку как пилот, которому управление больше не
подчиняется. Я заявил ему, что его долг сделать из этого необходимые выводы и не
оставаться больше на посту, ибо фактически он не в состоянии выполнять связанные с
ним обязанности. При этом подразумевалось, что я готов осуществить в дальнейшем
все необходимое. Не сказав ничего определенного, председатель Совета Министров
дал мне понять, что он не исключает такой перспективы. Однако он просил меня
немедленно использовать весь мой авторитет, чтобы вернуть к повиновению военное
командование в Алжире, признав, что сам он не способен сделать это. ’’Ничто лучше
вашей просьбы, - сказал я ему, - не свидетельствует о том, какое решение
необходимо для Республики". Мы сердечно расстались, и на заре я вернулся домой,
убежденный, что Пьер Пфлимлен вскоре примет решение, которое я подсказал ему
этой ночью.
С утра я ускорил ход событий. В новом публичном заявлении сообщил, что
"я предпринял правильные шаги, необходимые для создания республиканского
правительства, способного обеспечить единство и независимость страны"; что "в этих
условиях я не могу одобрить какие-либо действия, откуда бы они ни исходили,
направленные на подрыв общественного порядка"; что "я ожидаю от сухопутных,
морских и воздушных сил в Алжире образцового поведения под командованием своих
руководителей генерала Салана, адмирала Обуано и генерала Жуо". Таким образом,
предоставив авгурам кулуаров Бурбонского дворца и редакций газет гадать о том, что
могут означать слова "правильные шаги", предпринятые мною для того, чтобы стать
во главе правительства, я предписал военным руководителям воздержаться от какого-
либо нового вмешательства, что они и выполнили.
День 27 мая был отмечен последней попыткой режима выжить, ибо правительство
заставило Национальное Собрание принять поправку к конституции, которая
теоретически содержала неплохие предпосылки для укрепления исполнительной
власти. Но все чувствовали, что уже слишком поздно и что теперь уже ничего
невозможно сделать. Равным образом нереальными выглядели многочисленные
собрания различных партий и их парламентских групп, а также принимавшиеся ими
резолюции. Не большее значение имело и ночное заседание правительства, на
котором присутствовавшие министры зевали, одолеваемые сном, а некоторые члены
правительства даже воздержались от участия в нем. Это конец! Ранним утром 28 мая
Пьер Пфлимлен говорит своим коллегам, что "отправляется на переговоры с
президентом Республики". Он действительно едет к нему и вручает заявление об
отставке.
Режиму остается теперь только одно: заявить мне о своей отставке. К счастью,
президент Коти принимает необходимые меры, чтобы это произошло не без
достоинства. Этот старый и добропорядочный француз, хотя уже давно сжился с
обычаями и традициями своей должности, хочет прежде всего служить родине. Он
чувствует, что страна стоит на краю пропасти, куда она может снова скатиться. И
перед лицом этой опасности в его сознании три обстоятельства превышают все
остальные соображения. Первое: чтобы спасти страну, сохранив Республику,
абсолютно необходимо изменить обанкротившуюся политическую систему. Второе:
армию надо безотлагательно привести к повиновению. И третье: только де Голль
может сделать и то, и другое. Но вполне естественно, президент хочет, чтобы власть
была передана мне с соблюдением всех правил, а не брошена в бегстве. Но именно
это и соответствует моим ожиданиям. Вот почему, когда в полдень Ренэ Коти
спрашивает меня, согласен ли я принять председателей обеих палат, Ле Трокера и
224
Моннервиля, чтобы соблюсти формальности перед тем, как он выступит публично, я
даю положительный ответ.
Встреча состоялась поздно вечером в доме Феликса Брюно. Гастон Миннервиль
согласен с идеей поручить мне сформировать правительство. Однако он предлагает
мне не требовать больше чем на шесть месяцев чрезвычайных полномочий, которые я
с самого начала считал необходимыми. Но Андре Ле Трокер выглядит потрясенным
предстоящими переменами. Он, который был моим военным министром во времена
Французского Комитета Национального Освобождения в Алжире, шел вместе со мной
по Елисейским полям после освобождения Парижа, стоял подле меня во время, когда
стреляли на площади перед собором Парижской богоматери, не доходит до того,
чтобы вменить мне в вину намерение стать диктатором. Но заявляет, что, учитывая
нынешние условия моего прихода к власти, я не смогу избежать такого исхода. "Вот
почему, - страстно добавляет он, - я выступаю против этого!" "Хорошо, - отвечаю я
ему, - если парламент пойдет за вами, то мне не останется ничего другого, как
предоставить вам объясняться с высадившимися парашютистами, а самому вернуться,
объятым печалью, к своему уединению". На этом встреча заканчивается. Выходя, я
заявляю генеральному секретарю при президенте Республики Шарлю Мервейе дю
Виньо, кинувшемуся ко мне за новостями, что сожалею о бесполезно затраченном
времени и отправляюсь в Коломбэ. Я прибыл туда в 5 часов утра.
Еще до полудня Ренэ Коти объявляет, что он обратится с посланием к обеим
палатам. Это послание зачитано в три часа пополудни. В нем содержится все, что
нужно сказать: необходимость изменить политическую систему; очевидность
банкротства государства и неотвратимость угрозы гражданской войны; напоминание о
генерале де Голле, "самом выдающемся из французов, который в наиболее мрачные
годы нашей истории был нашим вождем в борьбе за свободу и который, объединив
нацию вокруг себя, отказался от диктатуры ради установления Республики"; наконец,
призыв к генералу де Голлю рассмотреть совместно с главой государства меры,
которые необходимо срочно принять для создания правительства национального
спасения, и что может быть сделано для коренной реформы наших институтов;
обязательство подать в отставку с поста президента, если эта последняя попытка не
даст результатов. Национальное Собрание и Совет Республики выслушали этот
текст, прозвучавший как похоронный звон, в глубоком молчании. Сотрудникам
Елисейского дворца, из которого мне передан этот текст по телефону, я сообщил, что
скоро прибуду. В надежде, впрочем тщетной, ускользнуть от нашествия фотографов,
я вступаю во дворец через парк, а не через парадный вход. Я приехал около 8 часов
вечера. Фотографы тоже.
Ренэ Коти, чрезвычайно взволнованный, встречает меня на площадке перед
входной дверью. Наедине друг с другом в его кабинете мы быстро приходим к
согласию. Он присоединяется к моему плану: чрезвычайные полномочия, затем
роспуск парламента на каникулы, наконец, подготовка моим правительством новой
конституции и ее утверждение референдумом. Я соглашаюсь 1 июня "получить
инвеституру" от Национального Собрания, где я зачитаю краткое заявление, но не
буду присутствовать при его обсуждении. Мы расстаемся, окруженные возбужденными
журналистами и полными любопытства энтузиастами, заполнившими парк. После
этого я публикую сообщение, что мы пришли к согласию, и условия этого согласия.
Затем на всем протяжении пути, по которому я возвращаюсь в Верхнюю Марну,
многочисленные группы, ожидавшие моего проезда, оглашают ночь криками: "Да
здравствует де Голль!"
Суббота 30 мая была употреблена партиями на оформление своей капитуляции. Я
принял прежде всего Венсана Ориоля и констатировал его обращение в другую веру,
ибо он выразил готовность стать заместителем премьер-министра в новом
правительстве. Затем меня посетили Ги Молле и Морис Дейксон, которые,
вернувшись после беседы, заявили своей социалистической группе, что "пережили один
из самых великих моментов в своей жизни". Маршал Жюэн со своей стороны посетил
8 Новая и новейшая история, № 5
225
меня, чтобы лично заверить, что армия, как один человек, пойдет за мной. И вот я
смотрю, как на мой дом опускается последний вечер долгого одиночества. Что же это
за сила вещей, которая заставляет меня расстаться с ним?
Все решено. Остаются формальности. Я выполню их без излишней развязности.
Ибо перед лицом страны, равновесие которой висит на волоске, необходимо, чтобы
все происходило по установленному порядку. Наступает, вне всякого сомнения,
коренная перемена. Но это не революция. Республика обновляется, но она остается
Республикой. Вот почему, если возвращение генерала де Голля к руководству делами
Франции и не будет выглядеть как интронизация министров умирающего режима, я
все же условился с Ренэ Коти о деталях передачи власти.
В отеле "Лаперуз”, где я обычно останавливался во время моих визитов в Париж,
31 мая я собрал председателей партийных групп парламента. Отсутствуют только
коммунисты. За исключением Франсуа Миттерана, возбужденно высказывающего
свое осуждение, остальные присутствующие, почти все открыто боровшиеся против
меня на протяжении двенадцати лет, не выдвигают возражений против моего краткого
выступления с изложением тех мер, которые я намерен предпринять. Тем временем я
формирую правительство. Андре Мальро будет рядом со мной и возьмет портфель
министра культуры. Четыре государственных министра - Ги Молле, Пьер Пфлимлен,
Феликс Уфуэ-Буаньи, Луи Жакино и хранитель печати Мишель Дебре,
представляющие все политические группировки, кроме коммунистов, - будут
заниматься под моим руководством разработкой будущей конституции. Четыре других
депутата - Антуан Пинэ, Жан Бертуэн, Поль Бакон, Макс Лежен - получат
соответственно портфели министров финансов, национального образования, труда и
министра по делам Сахары. Посол Кув де Мюрвиль станет министром иностранных
дел, префект Эмиль Пеллетье - министром внутренних дел, инженер Пьер Гийома -
военным министром, губернатор Бернар Корню-Жантий - министром по делам
заморских территорий, и все они будут находиться в моем непосредственном
подчинении, а я беру на себя министерство по делам Алжира. Несколько позднее в
состав правительства войдут еще шесть парламентариев: Эдуард Рамоне станет мини¬
стром промышленности и торговли, Эдмон Мишле - по делам ветеранов войны, Роже
Удэ - сельского хозяйства, Эжен Тома - связи, Жак Сустель - информации, а также
три крупных чиновника: Пьер Сюдро возглавит министерство строительства, Бернар
Шено - здравоохранения и Андре Буллош станет делегатом при председателе Совета
Министров.
В воскресенье 1 июня я появляюсь в Национальном Собрании. Последний раз я был
здесь в январе 1946 г., когда должен был дать ответ, довольно резкий и иронический,
который он, впрочем, заслужил, Эдуарду Эррио, попытавшемуся постфактум
преподать мне урок в отношении движения Сопротивления. Инцидент происходил в
атмосфере глухой враждебности, которой окружили меня в то время парламентарии.
Сегодня, наоборот, я чувствую на скамьях амфитеатра явный интерес к моей
личности и, скорее всего, симпатию. В кратком заявлении я характеризую
сложившуюся обстановку: вырождение государства; угроза, нависшая над единством
французской нации; буря, разразившаяся в Алжире; заразная горячка, охватившая
Корсику; армия, осуществлявшая в течение долгого времени достойные похвалы
задачи, стоившие много крови, но скандализованная банкротством властей; почти
катастрофическое международное положение Франции, включая ее отношения с
союзниками. Затем я указал на то, чего жду от народных представителей:
чрезвычайных полномочий, мандата на представление стране новой конституции,
роспуска парламента. В то время как я говорил, на всех скамьях царило глубокое
молчание, что и соответствовало обстоятельствам. Потом я удалился, предоставив
Собранию формы ради обсудить мое заявление. Несмотря на несколько
недоброжелательных выступлений, в частности Пьера Мендес-Франса, Франсуа де
Ментона, Жака Дюкло и Жака Изорни, которые явились, так сказать, последней
судорогой, мои полномочия были утверждены подавляющим большинством голосов.
226
Таким же образом дело обстояло на следующий день, когда шло голосование по
законопроектам о чрезвычайных полномочиях в Алжире и в метрополии, и через день,
когда обсуждался закон относительно конституции, требовавший большинства в две
трети голосов. На обсуждении последнего законопроекта я присутствовал и неодно¬
кратно выступал, отвечая на вопросы депутатов, чтобы создать атмосферу доброже¬
лательства последним минутам последнего Национального Собрания уходящего
режи-ма. После того как закон был одобрен Советом Республики, парламент
разошелся.
Хотя такой конец эпохи оставил горечь в душе многих из тех, кто были ее
активными деятелями, зато по стране пронесся глубокий вздох облегчения. Ибо мое
возвращение создало впечатление, что нормальный порядок восстановлен. Сразу
рассеялись грозовые тучи, омрачавшие национальный горизонт. Поскольку у руля
государственного корабля появился теперь капитан, каждый почувствовал, что тяжкие
проблемы, с которыми всегда сталкивалась нация и которые до сих пор не могли
получить разрешения, наконец-то могут быть решены. И даже тот факт, что вокруг
меня был создан какой-то мифический ореол, способствовал распространению
убеждения, что препятствия, непреодолимые для любого другого, исчезнут предо
мной. И вот я снова связан договором, которым Франция прошлого, настоящего и
будущего призвала меня, как и восемнадцать лет назад, спасти ее от катастрофы. Вот
я, всегда чувствующий обязанность оправдать чрезвычайное доверие, которое
оказывает мне французский народ. Вот я, обязанный более чем когда-либо быть
именно тем де Голлем, которому приписывают все случившееся вокруг, каждое слово
и каждый жест которого, даже приписываемые ему по ошибке, станут повсюду
предметом обсуждения со всех точек зрения и который нигде не может показаться
иначе, как окруженный толпой горячих почитателей. Высокое звание вождя, тяжкие
цепи служителя!
Но раз я вступил на этот путь, надо его продолжать. В Матиньоне*, ставшем моей
резиденцией, на меня наваливаются текущие дела: Алжир, финансы и валюта,
внешнеполитическая деятельность и т.д. Но, взяв их в свои руки, я прежде всего
руковожу работой по реформе институтов государства. По этому вопросу, от которого
зависит все, свои основные мысли я высказывал и публиковал на протяжении
последних двенадцати лет. В общем должно быть осуществлено то, что получило
название "Конституция Байе", ибо там, выступая 16 июня 1946 г., я наметил основные
положения конституции, необходимой Франции.
Мишель Дебре с помощью группы молодых работников из Государственного
Совета разрабатывает проект, который я последовательно рассматриваю вместе с
назначенными министрами. После этого запрашивается мнение Конституционного
консультативного совета, созданного по закону о пересмотре конституции и
состоящего из 39 человек, в том числе 26 парламентариев, председателем которого
является Поль Рейно. Я неоднократно присутствую на заседаниях этого совета, чтобы
выслушать полезные предложения и уточнить свои собственные мысли. Затем
Государственный Совет представляет свои замечания. Наконец, весь проект в целом
обсуждается Советом Министров и каждый его член, начиная с президента Коти,
высказывает свое мнение. Выработанный таким образом текст будет предложен
французскому народу на одобрение путем референдума.
Ни на одной из дискуссий по поводу конституции не возникало принципиаль¬
ных возражений против того, чего я так давно желал. Каждая из обсуждавших ее
инстанций была согласна с тем, чтобы отныне глава государства был действительно
главой власти, нес реальную ответственность за Францию и за Республику,
действительно назначал правительство и председательствовал на его заседаниях,
действительно ведал назначением на высшие гражданские, военные и юридические
должности, был бы действительно главой армии - короче говоря, чтобы именно от
Дворец в центре Парижа, постоянная резиденция премьер-министра Французской Республики.
8*
227
него действительно исходили все важные решения, так же как и весь авто¬
ритет власти, чтобы он мог единственно по своему желанию распускать Нацио¬
нальное Собрание, чтобы он располагал возможностью предлагать стране принять
путем референдума любой законопроект, касающийся организации государствен¬
ной власти, чтобы в случае серьезного внешнего или внутреннего кризиса ему
принадлежало право принимать продиктованные обстоятельствами меры, наконец,
что он должен избираться значительно более широкой коллегией, чем члены пар¬
ламента.
Подобным же образом обстояло дело и с таким институтом, как председатель
Совета Министров, который должен вместе со своими коллегами определять и
проводить политику, но который, получая свою власть только от президента, чья роль
является главенствующей, сможет, совершенно очевидно, действовать в серьезных
вопросах лишь согласно его директивам.
Такое же всеобщее одобрение получили положения новой конституции, касавшиеся
парламента, в частности положения, согласно которым голосования в парламенте по
некоторым вопросам ставились под контроль Конституционного совета, специально
вызванного к жизни; положения, точно ограничивавшие законодательную инициативу;
положения, которые с помощью блокировки голосования, обязанности соблюдать
повестку дня, устранения прежнего типа интерпелляций и санкционировавшихся ими
голосований освобождали правительство от давления, принуждений и ловушек,
излишних и подчас оскорбительных, характерных для былых дебатов; положения,
делавшие пребывание на посту министра несовместимым с сохранением депутатского
мандата; положения, строго ограничивавшие право применять вотум доверия.
Наконец, что касается заморских территорий, то за ними признавалось право либо
остаться в составе Республики на основе специального статута, или войти в качестве
автономного государства вместе с метрополией в состав единого Сообщества, либо,
став независимым государством, присоединиться к метрополии на основе специального
договора, либо, став независимым и признанным всеми государствами, сразу и
полностью отделиться от Франции.
Практически три основных вопроса были предметом обмена мнениями между мною
и Консультативным комитетом*. ’’Сможем ли мы, - беспокоились депутаты, -
свергнуть правительство, если отныне оно будет создаваться президентом и
подчиняться только ему?" Я отвечал, что принятый Национальным Собранием вотум
недоверия правительству обязательно влечет за собой отставку последнего. "Каково
оправдание статьи 16, - спрашивали меня многие, - вручающей главе государства
власть во имя спасения Франции в случае, если ей грозит катастрофа?" Я напомнил,
что именно из-за отсутствия такой статьи в июне 1940 г. президент Лебрен, вместо
того чтобы переехать с государственным аппаратом в Алжир, призвал маршала
Петэна и открыл тем самым путь к капитуляции, и что президент Коти, наоборот,
действовал в духе статьи 16 (еще до ее принятия), когда во избежание гражданской
войны потребовал от парламента прекращения всякой оппозиции против возвращения
генерала де Голля к власти, "Будет ли Сообщество, - спрашивали комиссары, -
федерацией, как предлагает Уфуэ-Буаньи, или конфедерацией, как ее мыслит
Леопольд Сенгор?"** Я обратил внимание на то, что первоначально трудно будет дать
точное определение Сообществу и что развитие, которое предусматривается
проектом, придаст ему нужную форму без. потрясений. В общем текст конституции,
каким он был подготовлен согласно моим указаниям, стараниями Дебре и его
сотрудников, рассмотрен в моем присутствии государственными министрами, изучен
Консультативным комитетом***, обсужден в Государственном Совете и окончательно
Так в тексте. По-видимому, речь идет о Конституционном консультативном совете.
** Сенгор, Леопольд и Уфуэ-Буаньи, Феликс - лидеры африканских колоний Франции, наиболее близкие
и связанные с метрополией.
Советом.
228
утвержден решением правительства, соответствовал тому, что я считал необходимым
для Республики.
Однако все, что записано, будь то даже на пергаменте, обретает ценность лишь
тогда, когда осуществляется на практике. После утверждения новой конституции
референдумом останется применить ее на деле таким образом, чтобы она
действительно продемонстрировала эффективность и авторитет, которые юридически
заложены в ней. И сражение за это также буду вести я. Ибо совершенно ясно, что в
существе своем моя концепция отличается от концепции сторонников уходящего
режима. Последние, утверждая, что со вчерашней смутой покончено, в глубине души
весьма рассчитывают на то, что восстановление прежней игры вернет преиму¬
щественное положение политическим группировкам, а глава государства под пред¬
логом, что он является арбитром, от которого ожидают беспристрастности, будет
вынужден предоставить им эту игру. Поэтому многие из них узнали без всякого
удовольствия о моем намерении взять на себя всю ответственность. Когда это будет
осуществлено, они сначала примирятся с тем, что я играю именно эту роль, рас¬
считывая, что я избавлю их от ликвидации яблока раздора - алжирской проблемы,
после чего, как они предполагают, я сразу же - добровольно или недобровольно -
покину свой пост. Но, поскольку, разрубив один гордиев узел, я начну развязывать
другие, они станут кричать о нарушении конституции, потому что ее практическое
применение не будет отвечать их тайным мыслям.
У французского народа не было тайных мыслей, когда он принимал V Республику.
Для основной массы французов речь шла об установлении режима, который,
полностью уважая наши свободы, был бы способен к деятельности и ответственности.
Речь шла о том, чтобы иметь правительство, которое соблюдало бы интересы страны
и могло эффективно решать стоявшие перед ним проблемы. Речь шла о том, чтобы
ответить "да” де Голлю, которому верили, потому что само существование Франции
оказалось под вопросом. Когда я обращался к толпам народа 4 сентября на Площади
Республики в Париже, 20 сентября в Ренне и в Бордо, 21 сентября в Страсбурге и в
Лилле, а затем обратился ко всей стране 26 сентября по радио, я чувствовал, как в
ответ поднимается гигантская волна одобрения. 28 сентября 1958 г. метрополия
приняла конституцию семнадцатью с половиной миллионами ”да” против четырех с
половиной миллионов "нет”, т.е. 79 процентами голосовавших. Воздержалось от
голосования 15 процентов избирателей - меньше, чем когда-либо.
Но настроение народа, столь единодушно выраженное, когда речь шла о главном
вопросе, требовавшем однозначного ответа, не могло остаться неизменным во время
выборов в законодательный орган, ставших необходимыми, поскольку прежнее
Национальное Собрание было распущено референдумом. Ибо здесь вступили в
действие различные факторы: такие, как привычная борьба между отдельными
тенденциями, разнообразные интересы некоторых категорий, различные условия на
местах, пропаганда партийных активистов, ловкость кандидатов. Однако было
необходимо, чтобы широкое движение в поддержку моего призыва нашло свое
продолжение в области политических решений и чтобы в парламенте имелась
довольно многочисленная и компактная группа депутатов, поддерживающих и
утверждающих голосованием новые законы, направленные на возрождение страны, к
осуществлению которого теперь можно было приступить.
Для получения большинства в парламенте необходима мажоритарная избира¬
тельная система. Именно такое решение принимает мое правительство, которое
устанавливает избирательную систему в силу предоставленных ему чрезвычайных
полномочий, отбросив систему пропорционального представительства, столь дорогую
политическим партиям с их соперничеством и исключительностью, но несовместимую с
последовательной поддержкой единой политической линии. Мы остановились на
системе избрания одного депутата от каждого округа в два тура. Несмотря на то, что
я не принимал никакого участия в избирательной кампании и даже призвал моих
всегдашних сторонников не пользоваться моим именем в качестве лозунга, результаты
229
превзошли мои ожидания. Из числа 576 депутатов Национального Собрания 206
депутатов составили группу, верную Союзу за новую Республику, и явились дос¬
таточно решительным и компактным ядром, чтобы продолжительное время диктовать
свою волю многоликим "правым" и "центру", а также резко сократившейся "левой".
Характерным признаком этого глубокого обновления было то, что Жака Шабан-
Дельмаса избрали председателем Национального Собрания на весь срок полномочий
последнего.
21 декабря выборщики президента - депутаты, сенаторы, генеральные советники,
мэры и многие муниципальные советники - избрали главу государства. Сколь ни была
насыщена моя политическая карьера, я все же впервые выдвигал свою кандидатуру.
Ведь в 1945 г. я сам не выдвигал своей кандидатуры, когда дважды был избран
Национальным Собранием председателем Временного правительства, после того как в
течение пяти лет и в силу сложившихся обстоятельств я руководил Францией во время
войны. От коммунистов выдвинул свою кандидатуру Жорж Марран, а от Союза
демократических сил - декан Альбер Шатле. Коллегия, состоявшая из 76 тыс.
именитых выборщиков, избрала генерала де Голля большинством в 78% голосов.
8 января 1959 г. я направился в Елисейский дворец, чтобы приступить к исполнению
своих обязанностей. Президент Ренэ Коти встретил меня с достоинством, произнеся
взволнованно несколько слов. "Первый из французов стал теперь первым во
Франции", - сказал он. В то время как мы едем, сидя рядом в одной машине, по
Елисейским полям, чтобы по традиции отдать салют у могилы Неизвестного солдата,
толпа кричит одновременно: "Спасибо, Коти!" и "Да здравствует де Голль!"
Вернувшись, я чувствую, как за моей спиной захлопываются одна за другой двери
дворца - отныне я пленник Своих обязанностей.
Но одновременно я вижу, как раскрываются горизонты великого предприятия.
Конечно, в противоположность той задаче, которая стояла передо мной 18 лет назад;
моя новая задача будет лишена вдохновляющей императивности того героического
времени. Народы, и в первую очередь наш народ, не испытывают больше
потребности действовать сверх своих возможностей, как это требовалось в час
опасности. Почти для всех - и мы были в их числе - немедленная цель состояла не в
том, чтобы победить или погибнуть, а чтобы создать более или менее легкую жизнь.
Среди государственных деятелей, с которыми мне предстояло обсуждать мировые
проблемы, уже не было большинства тех гигантов, союзников или врагов, которых
выдвинула война. Остались политические руководители, стремившиеся добиться
преимущества для своих стран, пусть даже за счет других государств, но желающие
избежать риска и авантюр. Насколько в этих условиях эпоха благоприятствует
центробежным стремлениям сил современного феодализма - партий, капитала,
профсоюзов, прессы; насколько благоприятствует она несбыточным мечтаниям тех,
кто стремится подменить нашу активность на международной арене стиранием
государственных различий; насколько благоприятствует она разъедающей дея¬
тельности стольких различных кругов предпринимателей, журналистов, интел¬
лигенции, светских людей, освободившихся от страха! Короче говоря, именно тогда,
когда со всех сторон наступала посредственность, я должен был действовать во имя
величия.
И тем не менее нужно было действовать! Если Франция из своих глубин и на этот
раз вновь призвала меня стать ее руководителем, то, естественно, я это чувствовал,
не для того, чтобы президентствовать во время ее спячки. После ужасного упадка,
который она переживала на протяжении более ста лет, необходимо восстановить -
соответственно гениальности современной эпохи - могущество, богатство, величие и
блеск Франции путем использования предоставленной ей благодаря случаю
передышки, иначе когда-нибудь трагическое испытание на уровне возможностей века
уничтожит ее навсегда. А средствами такого обновления является государство,
прогресс, независимость. Итак, моя задача определена, и определена на все то время,
пока народ захочет идти за мной.
230
Рецензии
М.И. СЕМИРЯГА. ТАЙНЫ СТАЛИНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 1939-1941 гг. М.: нзд-во
"Высшая школа", 1992, ЗОЭ с.
В своей новой книге известный военный историк,
профессор Российского государственного
гуманитарного университета, д.и.н. М.И. Семряга
рассматривает события, связанные с подписанием
советско-германского пакта о ненападении от 23
августа 1939 г., и его последствия, отношения
между Германией и СССР с августа 1939 г. по июнь
1941 г.; освещает закулисные стороны сталинской
внешней политики, выдвигает гипотезы
альтернативного развития предвоенного
политического кризиса при ином подходе
руководителей того времени к проблемам
национальных интересов своих стран и
международной безопасности. Автор привлек ранее
не публиковавшиеся документы, проанализировал
малоисследованные в нашей историографии
вопросы, по-новому подошел к некоторым спорным
проблемам.
Цель работы, по словам автора, состояла в том,
чтобы показать, как вписывалась сталинская
внешнеполитическая концепция в предвоенный
политический кризис и как она соизмерялась с
политикой Англии, Франции и Германии.
Основное внимание М.И. Семиряга уделяет
анализу таких вопросов, как провал англо-франко¬
советских переговоров, возможные альтернативы
советско-германскому пакту о ненападении,
характер начального, периода второй мировой
войны, раздел Польши в сентябре 1939 г., цели
сталинского руководства в войне с Финляндией,
Катынское дело, включение в состав СССР новых
западных земель, а также подготовка плана
"Барбаросса".
Автор справедливо считает, что война с Фин¬
ляндией имела целью не столько отодвинуть гра¬
ницу на запад от Ленинграда, сколько включить эту
страну в сферу интересов СССР и улучшить его
стратегическое положение. Далеко не лучшей, как
показано в труде, была внешняя политика СССР в
1940-1941 гг., когда во имя сохранения
дружественного нейтралитета с Германией
советское правительство осложнило свои отношения
со многими странами, в том числе с потенциальными
союзниками - Францией (до лета 1940 г.), Англией,
США. В книге осуждаются силовые методы
советского руководства в отношении западных
соседей, противоречащие международному праву,
хотя следует отметить, что в годы войны
большинство государств пренебрегало правовыми
нормами, если они мешали стратегическим
приоритетам. Убедительны страницы, на которых
описываются цели и ход подготовки Герма¬
нией нападения на СССР. Введя в научный обо¬
рот новые документы, критически рассматривая
распространенные ранее оценки тех или иных
этапов и эпизодов истории начального периода
войны, полемизируя с трактовками других
историков, автор дает читателю богатую пищу для
размышлений.
В то же время внимательный читатель не может
не заметить, что авторской концепции свойственна
некоторая односторонность подхода к исследуемой
проблеме, а именно - события рассматриваются в
основном с морально-правовой точки зрения.
Раскрытие несоответствия сталинской дипломатии
нормам международного права в то кризисное время,
безусловно, необходимо, и в этом несомненная
заслуга автора. Но сосредоточение внимания только
на морально-правовом аспекте исторических
событий не позволяет читателю в полной мере
представить сложную ситуацию 1939 г. и
последующих почти двух лет. Хитросплетения
взаимно пересекавшихся национальных интересов,
личных амбиций, интриг, шантажа, блефа, которые
были характерны для того времени, отходят в такой
концепции на второй план.
Другим недостатком работы, на наш взгляд,
является то, что автор судит политиков и стратегов
30-40-х годов с позиций сегодняшнего дня, когда
ошибки прошлого наглядно видны и широко
известны. М.И. Семиряга как бы говорит: вот как
было, а вот как надо было действовать. Невольно
нарушаются принятые в исторической науке
принципы историзма. При таком подходе в стороне
остаются главные для историка вопросы: почему
события происходили именно так, а не иначе, как
видели мир и из чего исходили в своих решениях
политики и стратеги того времени.
Следует отметить как недостаток и то, что
автор привлекает в качестве аргументов лишь
те документы, которые вписываются в его
концепцию, тогда как, видимо, следует документы
рассматривать критически в совокупности с другими,
имеющими отношение к тому или иному факту.
Например, автор цитирует приказ-ультиматум
начальника военно-морской группы в Таллинне
С. Кучерова помощнику военного министра Эстонии
(с. 234), но не приводит другой документ - отмену в
тот же день этого приказа вышестоящим
начальником Кучерова командиром 65-го корпуса
А. Тюриным. Или трактовка Молотовым в беседе с
Шуленбургом причин ввода советских войск в
231
Прибалтику: "Положить конец интригам Англии и
Франции" (с. 244). Но ведь совершенно ясно, что эта
формулировка не более чем дипломатическое
прикрытие.
Размеры журнальной рецензии не позволяют
произвести подробный разбор всех основных тезисов
авторской концепции. Остановлюсь лишь на
некоторых поднятых автором проблемах, по
которым существуют различные трактовки. Первое,
что бросается в глаза при чтении книги, это то, что
автор ставит на одну доску фашистскую Германию
и большевистский Советский Союз. Однако при
внешнем сходстве тоталитарных режимов
германский фашизм имел свои характерные
отличительные особенности, не присущие
социалистическому государству.
Анализируя обстановку, в которой начиналась
вторая мировая война, М.И. Семиряга справедливо
указывает на главного ее виновника - правящую
верхушку Германии, подчеркивая в то же время,
что свою долю ответственности несет и советское
руководство, которое, подписав договор с
Германией, "создало определенные условия,
способствовавшие развязыванию войны Гитлером"
(с. 59). О немалой доле вины руководителей
западных держав автор почему-то не упоминает.
Такая трактовка проблемы сужает, по нашему
мнению, вопрос о возможности предотвращения
войны в условиях политического кризиса 1939 г.
В реальной обстановке 1939 г. войну в силу ряда
обстоятельств предотвратить не удалось.
Политическая доктрина Германии была нацелена на
установление путем вооруженного насилия
общеевропейского, а в дальнейшем и мирового
господства; милитаризованная экономика Германии
превратилась в самодовлеющий фактор,
требовавший "прыжка в войну". Союз СССР с
Англией и Францией являлся единственным
средством предотвращения войны, но для его
реализации необходимы были следующие условия:
осознание общечеловеческой угрозы нацизма и
фашистского нашествия; взаимное доверие;
невмешательство во внутренние дела друг друга и
уверенность, что каждый из союзников выполнит
свои обязательства; поддержка малыми и средними
государствами Европы и США союза Англии,
Франции и СССР. Этих условий тогда, к сожалению,
не было. И за это несли ответственность обе
стороны. Самоубийственная логика "каждый за
себя", недооценка опасности фашизма,
неспособность и нежелание неагрессивных держав
подчинить свои эгоистически понимаемые
национальные интересы общей задаче разгрома
фашизма, стремление решить свои проблемы за счет
других государств и народов привели к войне в
условиях, наиболее выгодных для агрессоров.
Выдвигая гипотезы альтернатив развития
событий, которые были бы наиболее вероятны, если
бы СССР не подписал пакта с Гитлером,
М.И. Семиряга оговаривается, что для осуще-
232
ствления этих вариантов нужна была "уверенность в
том, что Германия при отсутствии договора с СССР
не нападет на Польшу" (с. 57). Таким образом, пакт
и нападение на Польшу оказываются в одной
связке.
Но насколько правомерен этот тезис? Была ли
такая уверенность? Известно, что сослагательное
наклонение противопоказано исторической науке, но
все-таки анализ предшествовавших и
последовавших за определенным явлением фактов
позволяет выстроить иной ход событий. Нам
представляется, что нападение Германии на Польшу
не было столь тесно связано с советско-германским
пактом, как об этом пишут, и подготовка к агрессии
шла своим ходом как до, так и после подписания
злополучного пакта. Ведь все действия
гитлеровского руководства начиная с весны 1939 г.
свидетельствовали об этом.
Фашистскому режиму нужна была локальная
победоносная скоротечная война. Это диктовалось
рядом конкретных обстоятельств. О них
неоднократно говорил Гитлер. Так, на совещании с
генералитетом 22 августа он сказал: "Нам нечего
терять, мы можем только выиграть. Наше
экономическое положение таково, что мы сможем
продержаться всего несколько лет... У нас нет
выбора, мы должны действовать"1.
Действительно, милитаризованной экономике
Германии в условиях мирного времени грозили
кризис и инфляция. Выход видели в "прыжке в
войну". Кроме того, Гитлер считал, что обстановка
для захвата Польши наиболее благоприятна, так как
неагрессивные страны (СССР, западные
демократии) разобщены; их вооруженные силы и
экономические потенциалы превосходят Германию,
но они не развернуты. Поэтому надо
воспользоваться моментом.
К тому времени вермахт был наиболее бое¬
способной армией в Европе - отмобилизованной,
вооруженной передовой военной теорией, поль¬
зовавшейся поддержкой значительной части народа,
для которого возвращение Данцига было вопросом
восстановления исторической справедливости,
нарушенной Версальским договором. Но эти
преимущества расценивались как временные,
поэтому их надо было реализовать как можно
скорее, пока вероятные противники не развернули
своих военно-экономических потенциалов. Именно
эти факторы обусловили гитлеровскую агрессию
против Польши в обстановке, царившей в Европе
летом 1939 г.
Касаясь визита Молотова в Берлин в ноябре
1940 г., автор пишет: "Гитлер убедился в намерении
Сталина... на определенных условиях вступить в
агрессивный блок трех держав" (с. 76). Но на каких
условиях? Несмотря на то, что ответ советского
1 Ширер У. Взлет и падение третьего рейха, т. 1.
М„ с. 1991, с. 562.
правительства начинался со слов "советское
правительство готово принять проект пакта
четырех держав", в нем выдвигались такие условия,
которые заведомо были не приемлемы для Гитлера.
Этот документ, да и весь ход переговоров в
Берлине ясно давали понять, что СССР отвергает
предложения Германии, что он не уйдет из
европейской политики и будет настойчиво
отстаивать свои национальные интересы в этой
важнейшей части мира. С. Криппс, английский посол
в СССР, докладывая в Лондон о визите Молотова в
Берлин, писал, что "результаты встречи были
отрицательными".
Таковы наши некоторые замечания по авторской
концепции. Оценивая рассматриваемую книгу в
целом, следует сказать, что она побуждает ученых и
публицистов к новым исследованиям поставленных в
ней проблем, особенно в связи с выходом в свет
очередного, XXII тома фундаментальной серии
документов внешней политики советского
государства, охватывающего период с января по
декабрь 1939 г. В этом томе содержится много но¬
вых документов, расширяющих наше представление
о событиях, рассматриваемых в книге.
А.С. Орлов,
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Института военной истории МО РФ
Н.Н. БОЛХОВИТИНОВ. РОССИЯ ОТКРЫВАЕТ АМЕРИКУ. 1732-1799. М.:
изд-во "Международные отношения", 1991, 301 с.
Новая книга руководителя Центра северо¬
американских исследований Института всеобщей
истории РАН академика Н.Н. Болховитинова не
может оставить равнодушным читателя, интере -
сующегося историей как России, так и США. Она
вписывается в серию работ, посвященных 500-
летию экспедиции Христофора Колумба и 260-летию
плаваний русских мореходов к берегам Америки.
Вот уже более 30 лет Н.Н. Болховитинов
знакомит читателя с результатами своих разыс -
каний, прежде всего архивных, касающихся
различных граней отношений между Россией и США
в XVIII-XIX вв. При этом он считает необходимым
"строго следовать исторической правде, не
разжигать ненависть и вражду, а пусть в самой
малой степени содействовать сближению и
взаимопониманию между народами"1. Этого
принципа Н.Н. Болховитинов придерживается и в
книге "Россия открывает Америку", основанной на
материалах архивов России и США, обширной
документации на многих европейских языках и
подводящей итог его прежним работам по истории
российско-американских отношений.
Хронологические рамки монографии опре¬
деляются датами плавания М. Гвоздева и
И. Федорова - первых русских, обнаруживших
Америку со стороны Азии в 1732 г., и основанием
Русской Америки, ставшим фактом в результате
образования Российско-Американской компании в
1799 г. Однако содержание монографии выходит
далеко за рамки темы, вынесенной в заголовок. Оно
вобрало в себя не только историю географических
Болховитинов Н.Н. Русско-американские
отношения и продажа Аляски. 1834-1867. М., 1990,
с. 6.
открытий и историю Русской Америки, но и
отношение России к Американской революции XVIII
в., русско-американские научные, культурные и
торговые связи того времени и ряд других аспектов.
Открытие Америки Россией, как справедливо
подчеркивает автор, включает не только основание
Русской Америки: "К открытию Америки причастны
и литераторы, и ученые, и журналисты, и купцы, и
дипломаты, и государственные деятели, не говоря
уже о мореплавателях и путешественниках" (с. 4).
Именно этот подход и лег в основу исследования.
Книга содержит введение, 11 глав и послесловие.
Она открывается анализом малоизвестных фактов о
проникновении в Россию уже в начале XVI в.
первых сообщений о Новом Свете и о русских
географических открытиях на тихоокеанском севере
в 1732-1741 гг. Затем прослеживаются становление
и развитие научных связей, включая научные
обмены между Россией и США. Начало им было
положено еще до обретения независимости
британскими колониями в Северной Америке. Как
показывают при веденные автором выдержки из
писем, журнальных и газетных статей, других
материалов, у истоков этих контактов стояли
американские ученые Б. Франклин и Э. Стайлс и
российские - М.В. Ломоносов, Г.В. Рихман,
Ф.У.Т. Эпинус; последний развил предложенную
Франклином унитарную концепцию электричества.
Укажем, кстати, на допущенную автором
неточность. Он пишет, что при опыте Рихмана с
атмосферным электричеством летом 1753 г.,
приведшим к гибели ученого, находился Ломоносов
(с. 25-27). В действительности же при опыте
присутствовал не Ломоносов, а художник-гравер
Соколов; Ломоносов в это время наблюдал за грозой
у себя дома.
Сторонником учения Франклина был и истинный
233
сын века Просвещения, дипломат по профессии и
естествоиспытатель по призванию, посланник в
Гааге Д.А. Голицын. В январе 1777 г. он обратился
к Франклину, бывшему в то время представителем
восставших колоний в Париже и не получившему
еще официального признания даже у французского
правительства, с письмом, в котором изложил свои
взгляды на природу электрических явлений и
грозозащиту. "К чести Голицына, - пишет автор, -
надо сказать, что он не побоялся во имя интересов
науки пренебречь обычными формальностями, хотя
подобная вольность не могла встретить одобрения
царского двора" (с. 32). В эти же годы возникают
официальные связи между высшими научными
учреждениями обеих стран - Петербургской
академией наук и Американским философским
обществом, хотя дипломатические отношения между
Россией и США были установлены только в 1809 г.
Наибольший интерес в работе Н.Н. Болхови¬
тинова представляют отличающиеся новизной
информации страницы, где досконально
повествуется о межгосударственных отношениях
Российской империи и становившейся на ноги моло¬
дой буржуазной республики. Все это дано на фоне
геополитических пертурбаций в Европе второй
половины XVIII в. Введены в научный оборот доселе
не использованные документы из АВ ПР, ЦГАДА,
других архивов, главным образом, донесения
российских дипломатов, а также рескрипты
Екатерины II.
Главным событием этих лет явился, несомненно,
отказ Екатерины II послать русские войска в
Америку и провозглашение Россией 10 марта 1780 г.
Декларации о вооруженном нейтралитете, во многом
способствовавшее поражению метрополии в войне с
восставшими колониями. Автор подчеркивает:
несмотря на то, что декларации 1780 г. посвящена
обширная литература, "проблемы, связанные с
историей и значением вооруженного нейтралитета,
все еще остаются не вполне ясными" (с. 57).
Следует заметить, что сам автор сделал немало
для решения этих проблем. Данный международный
акт, выдвинувший Россию на ключевое положе¬
ние в концерте европейских держав, считает
Н.Н. Болховитинов, был "естественным резуль -
татом предшествовавших событий, и внутренние
интересы самой России, совпадавшие в то время с
общими принципами декларации, были причиной ее
провозглашения" (с. 58). Особо выделя ется роль
упоминавшегося выше Голицына-едва ли не как
главного архитектора вооружен кого нейтралитета.
Автор с полным основанием отмечает "Интересной
и своеобразной личности Голицына в истории
русской дипломатии принадлежит не совсем обычное
место"; "деятельность Голицына в Гааге
заслуживает специального внимания историка."(с.
60, 62). Добавим, что не только в Гааге, но и в
Париже, где князь возглавлял российское посольство
до назначения в Голландию.
Большое внимание уделено миссии Ф. Де ины,
американского дипломатического представителя в
Санкт-Петербурге с августа 1781 г. до сентября
1783 г. Пребывание Дейны на берегах Невы, на
первый взгляд, кажется бесполезным: признания
США как независимого государства он не добился.
Однако по существу можно с полным основанием
говорить о признании Россией нового государства де-
факто.
Весьма интересны главы, посвященные отно
шению российской общественности к американской
революции XVIII в. Автор широко цитирует
многочисленные публикации о войне в Америке на
страницах "Московских ведомостей" выдающегося
русского* просветителя Н.И. Новикова,
подчеркивавшего справедливость этой войны.
Замечательным откликом на революцию в Америке
стало письмо Эпинуса Франклину ср 12 февраля
1783 г. Русский физик, занимавший в те годы
высокий пост начальника шифровального отдела
ведомства иностранных дел, поздравлял своего
коллегу с победоносным завер шением войны за
независимость. "Если я считаю уместным
поздравить Вас, - писал он, - [...], то делаю это
потому, [...] что начали предначертанный Вам
провидением путь, пролив ослепительный и
неожиданный свет на область человеческих знаний
[...], а завершили эту блестящую карьеру, добыв и
обеспечив свободу Вашей родной стране" (с. 113).
Важный материал посвя щен восприятию событий в
Америке А.Н. Радищевым, восхищавшимся войной
за независимость.
Заканчивается книга историей создания в 1799 г.
Российско-Американской компании, управлявшей
Русской Америкой до 1867 г. В послесловии "Судьба
Русской Америки" автор прослеживает перипетии
этой судьбы вплоть до продажи Русской Америки
Соединенным Штатам в том же году.
Работа Н.Н. Болховитинова, подводя итог
исследованиям по истории открытия Россией северо -
западных берегов Америки, дает читателю много
нового и интересного материала. Умело
подобранные иллюстрации, солидный справочный
аппарат приумножают научную значимость труда.
Г.К. Цверава
234
A.A. M ат л ив а. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ.
М.: ’’Наука”, 1992, 249 с.
Проблемы внешней политики государств в
условиях все более динамичных изменений на
мировой арене привлекают внимание многих
исследователей. Этой теме - на материале
Латинской Америки - посвящена и монография
старшего научного сотрудника Института Ла¬
тинской Америки РАН к.и.н. А.А. Матлиной.
Проанализировать условия "превращения еще
недавно безгласных объектов мировой политики,
"послушного большинства” в ООН в самостоя¬
тельные государства, которые действуют в защиту
национальных интересов, зачастую весьма
существенно расходясь с целями и интересами
держав, лидирующих на мировой сцене” (с. 3) -
такую задачу поставила перед собой автор.
Хронологически работа охватывает вторую
половину XX в. вплоть до наших дней и
основывается на широком круге источников -
статистических отчетах, парламентских дебатах,
выступлениях политических и общественных
деятелей, прессе крупнейших стран региона. Это
позволило выявить на широком временном
пространстве длительные, наиболее значимые
факторы, влияющие на внешнюю политику стран
Латинской Америки, проследить в дина¬
мике основные направления их международной
деятельности, сделать убедительные выводы.
Важнейшую роль в определении характера,
целей и основных направлений внешней поли¬
тики латиноамериканских государств А.А. Мат-
лина отводит экономике (глава первая - "Эко¬
номические факторы - движущая сила внешней
политики"). По мнению автора, слабость эко¬
номического базиса в сочетании с нерав¬
ноправным, периферийным положением в мировой
экономике долгое время определяла
незначительную роль латиноамериканских
республик в международной жизни. Но начиная с
середины XX в. эти страны вступили на путь
ускоренного развития промышленности, что
заложило базу для борьбы за экономическую
самостоятельность и независимую внешнюю
политику.
Существенными факторами самостоятель¬
ности государств Латинской Америки во внешней
политике, считает автор, явились восстанов¬
ление суверенных прав над природ¬
ными ресурсами и добывающей промышлен¬
ностью, усиление роли государства и нацио¬
нального капитала в экономике. В итоге одно¬
сторонняя экономическая зависимость латино¬
американских республик от высокоразвитых держав
все более стала превращаться в "асим¬
метричную взаимозависимость" (с. 60), что создает
основу для свободы маневрирования на
международной арене.
В работе обстоятельно раскрыта неодно¬
значная, двойственная роль транснациональных
корпораций (ТНК) в экономическом развитии и в
воздействии на политику латиноамериканских стран.
С одной стороны, как отмечает автор,
доминирующие позиции ТНК в процессе
"неолиберальной" модернизации и интеграции стран
Латинской Америки в единый мирохо¬
зяйственный комплекс сковывают возможности
проведения этими странами суверенной по¬
литики. Но, с другой стороны, ускоряя модер¬
низацию и усиливая общий экономический по¬
тенциал стран, в которых он действует,
транснациональный капитал содействует нацио¬
нальному развитию и усилению международных
позиций данных государств. Сами местные филиалы
ТНК интегрируются в национальную экономику и
заинтересованы в ее развитии. Это нередко
позволяет национальным властям "навязать своей
проект транснациональному капиталу" (с. 56).
В главе второй - "Социально-политические и
идеологические факторы" автор исследует ха¬
рактер режимов, стоящих у власти в странах
Латинской Америки. Она приходит к заклю¬
чению, что республики со стабильными консти¬
туционными правительствами национал-рефор-
мистской или социал-демократической ори¬
ентации (Мексика и Венесуэла) больше склонны к
самостоятельности и активному поведению на
мировой арене, к защите национальных инте¬
ресов и к региональному сотрудничеству. В то же
время им свойственно стремление избегать
конфронтации с США и другими ведущими
державами мира добиваться взаимоприемлемых,
компромиссных решений. Они выступают за мирное
урегулирование конфликтов, за разору¬
жение.
Что касается правоавторитарных военных
режимов 60-80-х годов (Бразилия, Чили,
Аргентина), то их внешней политике, отме¬
чается в монографии, были свойственны
проамериканский курс, идеологизированность в духе
правонационалистических концепций и
экспансионистские тенденции. В работе раскры¬
ваются внутренние пружины международной
деятельности военных режимов, связанные с
формированием военно-промышленного комплек¬
са и с "превращением армии в Предпринимателя".
Автор обращает внимание на то, что в политике
правых военных правительств порой прояв¬
лялась общая для латиноамериканских стран
тенденция к самостоятельности, в частности в виде
своеобразного "правого антиамериканизма".
При анализе внешнеполитического курса
левонационалистических военных режимов конца
60-х - 70-х годов (Перу, Боливия, Панама)
235
А.А. Матлина подчеркивает непосредственную
связь их внешней политики с осуществляемыми
преобразованиями, склонность к самостоя¬
тельности, к антиимпериалистической позиции и
солидарности с остальными развивающимися
странами, хотя деятельности таких правительств
присущи авторитарные черты.
Глава третья - "Региональные державы"
посвящена новому примечательному явлению,
возникшему на мировой арене с середины 70-х
годов. Термин "региональные державы" стал
широко применяться для обозначения группы стран,
занимающих промежуточное положение в
глобальной иерархии "новых стран", достигших
достаточного уровня социально-экономического
развития для проведения самостоятельной внешней
политики и оказывающих влияние на
международные отношения в своем регионе.
В Латинской Америке к таким державам относятся
Бразилия, Мексика, Аргентина, Венесуэла. Автор
обращает внимание на их стремление к лидерству в
Латинской Америке и в целом в "третьем мире",
претензии на роль связующего звена между
высокоразвитыми и развивающимися странами.
Образование в 1986 г. "оси" Бразилия - Аргентина и
создание на этой основе более широкого "Общего
рынка стран Южного конуса" оценивается как
формирование "новой структуры международных
отношений в Южной Америке" (с. 159). Однако за
пределами региона, отмечает автор, позиции
ведущих латиноамериканских государств пока
ограничены. .
В монографии рассматривается также внеш¬
няя политика радикальных революционных
режимов на Кубе - с 1959 г. и в Никарагуа в
1979-1990 гг. (глава четвертая - "Левые ре¬
жимы и международные отношения"). Пози¬
тивное значение их внешнеполитической дея¬
тельности автор усматривает в том, что на¬
стойчивое отстаивание национального сувере¬
нитета в противостоянии могуществен¬
нейшей державе Западного полушария
стимулировало рост активности и самостоя¬
тельности других стран континента на между¬
народной арене (с. 211, 218). Вместе с тем в книге
рассмотрены и такие негативные стороны
внешнеполитического курса революционных
режимов, как перенесение в сферу между¬
народных отношений идеологии классовой борьбы,
попытки экспорта революции, что вело к росту
напряженности и конфликтным ситуациям, особенно
в Центральной Америке и Кари беком бассейне, с
вовлечением в эти конфликты внерегиональных сил.
Негативно повлияли на обстановку и
"вмешательство сверхдержав, соперничество между
США и СССР, использование ими конфликтных
ситуаций в собственных интересах и их имперские
амбиции" (с. 241).
Останавливаясь на эволюции внешнеполити¬
ческого курса латиноамериканских республик в
236
условиях произошедших в мире в последние годы
радикальных перемен, автор отмечает рост
опасений, что исчезновение "биполярности" мира
может оставить эти страны на обочине мировой
экономики и политики. В работе выделяются две
параллельные тенденции в поведении государств
Латинской Америки в начале 90-х годов: тенденция
к отождествлению себя с "третьим миром", с
"Югом" в его противостоянии довлеющему
"Северу", к объединению усилий развивающихся
стран в защите общих интересов (с. 248) и
одновременно тенденция к подклю¬
чению к высокоразвитым центрам мира, осо¬
бенно к США (с. 244).
При всех несомненных достоинствах мо¬
нографии А.А. Матлиной в ней можно встретить и
спорные моменты, некоторые неточные
формулировки. Так, вряд ли стоит однозначно
оценивать политику "Союза ради прогресса" 60-х
годов как потерпевшую неудачу (с. 214) и не
оказавшую воздействия на тенденции хозяй¬
ственного развития латиноамериканских стран
(с. 21). Все же эта политика, проводившиеся в ее
рамках реформы, особенно аграрная, социальные
мероприятия, предпринятые интеграционные усилия
содействовали экономическому и соци¬
альному прогрессу в Латинской Америке, хотя
многие радужные надежды и не оправдались.
Несколько категорично звучит тезис о
"кардинальных изменениях" в положении Ла¬
тинской Америки в мировой экономике и поли¬
тике (с. 41), если сам автор в ряде мест пишет, что
в целом периферийное, зависимое положение
латиноамериканских стран сохранилось, а их
отставание от ведущих мировых центров даже
усилилось. Отметим, что последнее также не
бесспорно.
Автору стоило обратить внимание на то, что
рост взаимозависимости, хотя и "асимметричной",
между республиками Латинской Америки и
высокоразвитыми державами создает условия не
только для большей самостоятельности стран
региона, но и для усиления взаимодействия,
сближения позиций по ряду вопросов между теми и
другими. Не случайно в последнее время наметилось
благожелательное отношение как Мексики, так и
других государств Центральной и Южной Америки к
сближению и расширению экономического
сотрудничества с США, вплоть до создания общей с
ними зоны свободной торговли в Западном
полушарии. Ввиду этого тезис о дистанцировании
латиноамериканских стран от США (с. 167) не
вполне убедителен.
Некоторые суждения, высказанные в ра¬
боте, оказались слишком оптимистическими: оценки
результатов "перестройки" в СССР и в
международной жизни, успехов "нового полити¬
ческого мышления", перспектив отношений нашей
страны с государствами Латинской Америки (с. 246-
247). Правда, многое в этом отношении стало более
очевидным уже после того, как была написана
монография, и не могло быть учтено автором.
В частности, переход в результате краха "реального
социализма" в СССР, распада Советского Союза и
углубления кризисной ситуации на его террит >рии от
"биполярного" к "монополярному" (с элементами
плюрализма) миру с гегемонией единствен¬
ной оставшейся сверхдержавы - США сузил
возможности маневра для стран "третьего мира'\ в
частности и государств Латинской Америки.
В целом монография А.А. Матлиной -
серьезное, широкое по охвату затронутых проблем
исследование, содержащее ряд оригинальных оценок
по различным аспектам внешней политики латино¬
американских государств.
А.И. Строганов,
кандидат исторически наук, доцент
кафедры новой и новейшей истории
исторического факультета МГУ
DRANG NACH AFRIKA: DIE DEUTSCHE KOLONIALE EXPANSIONSPOLITIK UND
HERRSCHAFT IN AFRIKA VON DEN ANFANGEN BIS ZUM VERLUST DER KOLONIEN.
HRSG. VON HELMUTH STOECKER. 2. Aufl. Berlin: Akademie-Verlag, 1991,319 S.
НАТИСК НА АФРИКУ: ГЕРМАНСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИОНИСТСКАЯ
ПОЛИТИКА И ГОСПОДСТВО В АФРИКЕ ОТ ИСТОКОВ ДО ПОТЕРИ
КОЛОНИЙ. 2-е изд. Берлин, 1991, 319 с.
Выход в свет второго, существенно пере¬
работанного издания коллективного труда "Натиск
на Африку", посвященного германской
экспансионистской колониальной политике в Африке
начиная с ее истоков и до утраты Германией
колоний вследствие поражения в первой мировой
войне, стал важным событием в развитии
современной историографии колониализма.
Эта работа, задуманная еще в 60-х годах в
бывшей ГДР, в Институте всеобщей истории
берлинского университета им. Гумбольдта, и
впервые изданная под общим руководством проф.
X. Штёккера в 1977 г., обобщила итоги многолетних
исследований немецких ученых - специалистов по
истории германского колониализма. Первое издание
книги получило признание научной общественности и
широкого круга читателей в обеих частях Германии
и за ее пределами.
Хотя Германия уже давно не имеет заморских
владений, ее колониальное прошлое не забыто и
оценивается по-разному. Авторы второго издания
книги стремились на основе достижений современной
исторической науки прийти к новым трактовкам и
обобщениям, расширить изложение некоторых
важных исторических сюжетов, уделяя при этом
должное внимание африканской стороне темы.
Написаны заново разделы о Германской Восточной
Африке (X. Штёккер) и об обучении местного
населения (В. Менерт), глава, повествующая о
проявлявшихся в послевоенной Германии
стремлениях к возвращению колоний (А. Рюгер), в
которой изложение доведено до 1923 г. К
сожалению, во втором издании отсутствуют
последующие разделы о колониальном
"ревизионизме" в Веймарской республике (автором
которых также был А. Рюгер) и две главы,
посвященные целям колониальной политики
нацистского режима в 1933-1943 гг.
Историографическая глава заменена расширенным
списком литературы, которая в предыдущем издании
приводилась выборочно.
В небольшой, но ёмкой по содержанию
заключительной главе, отсутствовавшей в первом
издании, X. Штёккер приходит к выводу, что 30-
летнее германское колониальное господство
принесло африканцам "потерю самоопределения и
вынужденное подчинение чужеземному
владычеству, многообразное ограничение их прав и
свобод, во многих областях отчуждение их
земельной собственности и находящихся на ней или
под ней природных богатств, а нередко также
прямое или косвенное принуждение к труду на
владельцев плантаций, торговцев или
администрацию" (с. 284). Германские завое¬
вательные походы, "карательные экспедиции",
занесенные извне инфекционные заболевания, а в
Восточной Африке и Камеруне и военные действия
во время первой мировой войны привели к гибели
многих тысяч африканцев. X. Штёккер отмечает,
что германское колониальное господство в Африке,
как и колониальное владычество других держав,
вело угнетенные народы "к экономическому и
социальному обнищанию и в культурном отношении
было больше деструктивным, чем плодотворным.
Конечно, они были выведены из местной изоляции,
включены в мировое хозяйство и познакомлены не
только с водкой и огнестрельным оружием. Однако
каким образом это произошло и обошлось какой
ценой?" (с. 285).
Особый интерес представляет глубоко раз¬
237
работанный авторами вопрос о двух фазах гер¬
манского колониального правления. Завершение
раздела мира ведущими державами на рубеже XIX-
XX вв. послужило сигналом для более интенсивной
эксплуатации колониальных владений. Влиятельные
круги крупного германского капитала, экспан¬
сионистский натиск которого, связанный со вступле¬
нием Германии в эру "мировой политики", резко
усилился, активизировали свою деятельность в коло¬
ниях, осуществляя строительство железных дорог и
основывая новые предприятия. Однако, исходя из
того, что целью заморских капиталовложений
является получение высокой гарантированной
прибыли, крупные германские банки и концерны
были готовы к массированным инвестициям в
колониях только после их "замирения" и уста¬
новления стабильного режима колониального управ¬
ления, строительства там современных путей сооб¬
щения и решения вопроса о туземной рабочей силе.
Вскоре все отчетливее стало проявляться
противоречие между стремлением крупных
германских банков и фирм ко все более эффек¬
тивному экономическому использованию колоний и
применявшимися формами и методами колони¬
ального господства. Германские монополии выра¬
жали недовольство медленным освоением колоний, а
также варварским истреблением африканского
населения, что вело к сокращению туземной рабочей
силы, хищнической эксплуатацией природных ресур¬
сов и односторонне ориентированной концессионной
политикой правительства. В книге отмечается, что
восстание гереро и нама в Юго-Западной Африке,
восстание Маджи-Маджи в Восточной Африке,
повстанческие движения в Камеруне чрезвычайно
обострили противоречия внутри господствующих
классов метрополии из-за потерпевших фиаско
методов управления колониями (с. 172).
Хотелось бы со своей стороны отметить, что
народные выступления в Африке явились про¬
явлением кризиса германской колониальной поли¬
тики 1904-1907 гг., а причины их возникновения -
экономические, политические, социальные, культур¬
ные - были вызваны установлением жесткого ко¬
лониального режима и переходом Германии к безу¬
держной эксплуатации природных и людских ресур¬
сов колоний. Эти восстания сделали неизбежным
пересмотр форм и методов германского колониаль¬
ного правления в Африке, хотя внутренние предпо¬
сылки для таких перемен складывались как в
метрополии, так и в колониях1.
X. Штёккер приходит к выводу, что назначение
в 1906 г. руководителем колониального отдела ве¬
домства иностранных дел, преобразованного в
следующем году в самостоятельное имперское
колониальное ведомство, директора Дарм¬
штадтского банка Б. Дернбурга означало
наступление нового этапа в капиталистическом
освоении германских колоний, второй фазы
германской колониальной политики, связанной с
переходом от экстенсивных методов эксплуатации
колоний к более рациональным и интенсивным.
Дернбург поставил своей целью превратить колонии
в надежный источник сырья, сферу приложения
капитала и рынок сбыта для германской
промышленности. Если уже в 1904-1906 гг.
государство увеличивало ассигнования на строи¬
тельство в колониях железных дорог, то с образо¬
ванием в 1907 г. бюловского блока в рейхстаге
сложилось прочное большинство, постоянно прояв¬
лявшее готовность выделять крупные средства для
освоения заморских владений Германской империи.
В отличие от первого, во втором издании книги
сюжет о "крупных банках и германской колони¬
альной империи" в соответствии с авторской концеп¬
цией вполне обоснованно хронологически разделен:
1884-1906 гг. и 1906-1914 гг., -"Эра Дернбурга" и
значительно расширен.
Для новой фазы колониальной эксплуатации
были характерны закладка крупных плантаций, на¬
ращивание производства тропического сырья,
строительство железных дорог?. Однако гораздо
большего внимания заслуживает деятельность круп¬
ных германских финансовых институтов по созданию
колониальных банков, активно осуществлявшаяся
именно в 1904-1906 гг. Так, в 1904 г. был основан
"Германо-Зш щноафриканский банк", развернувший
свою деятельность в Того и Камеруне. В книге, к
сожалению, о нем не сказано ни слова. В 1905 г. был
создан "Германо-Восточноафриканский банк", став¬
ший основным инструментом проведения денежной
реформы в Восточной Африке. В 1911г. произошло
учреждение "Торгового банка для Восточной Афри¬
ки", поставившего под свой контроль все банковское
дело в этой колонии. Названные банки в книге лишь
упоминаются (с. 135). Вскользь говорится о "Гер¬
манском Африканском банке", основанном в 1906 г.
и предназначенном для Германской Юго-Западной
Африки, а также для финансового проникновения в
британскую Южную Африку. В создании этих коло¬
ниальных банков принимали участие крупнейшие
берлинские финансовые институты. Наряду со
строительством железных дорог и общим возрас¬
танием инвестиций в колониях создание колони¬
альных банков являлось важным орудием осущест¬
вления интенсивной эксплуатации материальных и
людских ресурсов "заморских территорий" Германии.
В труде со ссылкой на меморандум колони¬
ального отдела ведомства иностранных дел 1906 г.
1 См.: Пегушев А.М., Туполев Б.М. Восстание
Маджи-Маджи. Становление и кризис германского
колониального правления в Восточной Африке. М.,
1991.
238
2 См.: Туполев Б.М. Германская колониальная
политика и строительство железных дорог в Африке
на рубеже XIX-XX веков. - Ежегодник германской
истории, 1986. М., 1987, с. 51-73.
приводятся цифры экспорта германского капитала в
колонии, но при этом говорится об отсутствии дос¬
таточно точных статистических данных о таких ка¬
питаловложениях (с. 131,165). Как известно, подоб¬
ные документы составлялись и в германском военно-
морском ведомстве, и в статистическом ведомстве, а
также разного рода государственными и частными
комитетами и комиссиями. Так, немецкими колони¬
альными кругами было создано специальное бюро из
профессиональных экономистов и статистиков,
подготовившее в 1906 г. меморандум о капитало¬
вложениях в германских колониях (без Киао-Чао)3.
Общая сумма таких капиталовложений оценивалась
составителями документа в 370 млн. марок, из
которых 60,7 млн. были сделаны государством. В
меморандуме приводятся подробные данные о
государственных и частных капиталовложениях в
каждой колонии в отдельности, а также об
инвестициях в разных отраслях экономики4.
Авторы труда отмечают, что, хотя вывоз сырья
из колоний и капиталовложения в них в последнее
десятилетие германского господства сильно возрос¬
ли, удовлетворить потребности Германии в тропи¬
ческих источниках сырья, в сферах приложения ка¬
питала, а по возможности и в рынках сбыта ее ко¬
лонии могли лишь в небольшой степени. Скромные
статистические данные о значении собственных ко¬
лоний для экономики страны со всей определенно¬
стью объясняют попытки проникновения герман¬
ского капитала в колониальные владения других
держав и прежде всего стремление правящих кругов
страны к созданию "Германской Срединной Афри¬
ки".
Вряд ли можно согласиться с повторением из¬
вестного по первому изданию утверждения, что от¬
ношение концернов к государству в рамках экс-пан-
сионистской политики Германии до 1914 г. еще не
было основательно и систематически исследовано (с.
165). Взаимоотношениям между промышленными
монополиями, крупными банками и органами госу¬
дарственной власти во внешней политике Германс¬
кой империи до начала первой мировой войны было
посвящено исследование В. Гуче5. Хотя, разумеет¬
ся, не вызывает возражений необходимость дальней¬
шей углубленной разработки этой проблематики.
Для рассматриваемого издания является в из¬
вестной мере оправданной содержащаяся в преди¬
5 Меморандум находится в государственном
архиве Гамбурга.
4 См.: ТуполевБМ. Германский империализм в
борьбе за "место под солнцем". Германская
экспансия на Ближнем Востоке, в Восточной
Африке и в районе Индийского океана в конце XIX
- начале XX вв. М., 1991, с. 249-251.
5 Gutsche W. Monopole, Staat und Expansion
vor 1914. Zum Funktionsmechanismus zwischen
Industriemonopolen, Grossbanken und Staatsorganen in
der Aussenpolitik des Deutschen Reiches 1897 bis
Sommer 1914. Berlin, 1986.
словии оговорка о том, что история колониального
соперничества между великими державами, обстоя¬
тельно освещенная в литературе, отступает в книге
на второй план. Правда, здесь же упоминается о
100-летней годовщине первых германских аннексий,
которая в 1984-1985 гг. послужила импульсом для их
новой интерпретации. Вместе с тем для второго
издания книги было бы целесообразно использовать
ряд серьезных публикаций и материалов научных
дискуссий, посвященных отмечавшемуся в то же
время столетию Берлинской конференции по Аф¬
рике6, которая имела существенное значение для
территориального раздела континента южнее
Сахары.
Во втором издании коллективного труда "Натиск
на Африку" убедительно показана эксплуататорская
сущность так называемой "современной политики
развития", осуществлявшейся в африканских коло¬
ниях германским империализмом. В германских
владениях не проводилось никакой индустриа¬
лизации, т.е. развития отраслей промышленности,
производившей готовую продукцию. Развитие
инфраструктуры охватывало строительство
портовых сооружений, железнодорожных линий,
других путей сообщения, а также телеграфной и
телефонной связи, что служило исключительно
целям колониальной администрации и
соответствовало интересам крупного капитала. В
случае с железными дорогами речь, как правило,
шла, за исключением поселенческой колонии Юго-
Западной Африки, об однопутных узкоколейках,
использовавшихся для перевозки сырья из
внутренних районов к побережью. Школьное дело, в
котором господствующие позиции занимали миссио¬
нерские общества, были, пожалуй, единственной
сферой германского правления, которая была
небесполезна для порабощенных народов. Но и оно
служило преимущественно обращению африканцев в
христианство, а не светскому образованию.
Таким образом, научно обоснованным является
вывод, к которому приходят авторы рас¬
сматриваемого труда, что германские власти
осуществляли в африканских колониях "развитие
для эксплуатации". Вся германская политика конца
XIX - начала XX в. в Африке приобретает свой
подлинный смысл лишь в контексте безуспешной
попытки правящих кругов страны совершить "рывок
к мировому господству", важной составной частью
которого было стремление к созданию "Германской
Срединной Африки".
БМ. Туполев,
доктор исторических наук,
заведующий сектором
Института всеобщей истории РАН
6 Bismarck, Europe and Africa. The Berlin Africa
Conference 1884-1885 and the Onset of Partition. Ed. by
Stig Forster, Wolfgang J. Mommsen and Ronald
Robinson. Oxford, 1988.
239
р
N I С О L Е Т К, VOVELLEM., HUARDR., MARTELLIR. LA
PASSION DE LA RĆPUBLIQUE. Paris, 1992, 254 p.
НИКОЛЕ К., ВОВЕЛЬМ., ЮАРР., МАРТЕЛЛИР. ПРИВЕР¬
ЖЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКЕ. Париж, 1992,254 с.
В Париже вышла книга с эффектным названием,
которое трудно точно перевести на русский язык -
"Приверженность республике", а может, лучше
"Пристрастие"? Она состоит из четырех
самостоятельных и по замыслу, и по творческому
исполнению научных очерков, ориентированных на
широкого читателя и принадлежащих перу крупных
французских историков - Клоду Николе, Мишелю
Вовелю, Раймону Юару и Роже Мартелли. В ней
охватывается огромный временной отрезок, более
двух веков, и рассматриваются наиболее
драматические периоды в истории республиканской
идеи и практики во Франции. Работа приурочена к
200-летию провозглашения Первой республики во
Франции 21 сентября 1792 г., но это не тради¬
ционное юбилейное издание, дань уважения
потомков, проявляющих почтение к своей истории.
История возникновения, внедрение в политическое
сознание республиканских идей, воплощение их на
практике - для француза чрезвычайно актуальные
проблемы, это реальность, в которой он существует
и для постижения которой он постоянно обращается
к истории. М. Вовель, написавший содержательное
введение к книге, очень точно определил предмет
исследования - попытаться ответить на
коллективный вопрос всех фразцузов, живущих
сегодня: почему республика? Почему именно
эта форма политического устройства так
укоренилась во Франции, став центральным
элементом политической культуры? Одновре¬
менно республиканские идеи, республиканские
политические институты - это не нечто застывшее,
а живое творчество, постоянное развитие
демократических принципов, меняющихся вместе со
временем и людьми. "Республика, - заключает
М. Вовель, - не раз и навсегда данное состояние,
это - непрекращающаяся борьба".
Оригинальны и замысел, и построение книги.
Первый очерк - "Три источника республиканской
доктрины во Франции" - принадлежит перу
К. Николе и посвящен преимущественно истории
республиканской доктрины во Франции в XVII-XVIII
вв. Зарождение идей свободы, равенства,
общественного договора во Франции Николе
рассматривает как органическую часть тех единых
для германо-романской цивилизации процессов,
которые еще в средние века дали ростки некоего
комплекса свобод, индивидуальных, религиоз¬
ных, а с наступлением эпохи рационализма привели
к расцвету и союзу "свободы" и "разума". Такой
подход позволяет автору выйти на проблемы,
240
издавна волновавшие историков - постижение
духовной сущности европейской цивилизации, ее
исторических путей и традиций. Николе справедливо
отмечает ту огромную роль, которую сыграло
христианство: оно сформировало Европу, наложило
неизгладимый отпечаток на личность европейского
человека. А Реформация, подчеркивает автор,
послужила толчком к развитию либеральных идей,
разрушению католических догм и развитию
индивидуального интеллекта.
Дав обзор эволюции идей естественного права,
общественного договора, народного суверенитета и
других, автор особое внимание уделяет анализу двух
разных концепций общественного договора во
французской философской и общественно-
политической мысли XVIII в. Противостояние
либеральной и демократической традиций в
общественной мысли Франции XVIII в. показано под
определенным углом зрения: что и как было усвоено
французскими революционерами "в трагические
годы Революции".
Второй очерк - "Первая республика" принад¬
лежит перу Мишеля Вовеля и посвящен истории
Первой республики во Франции. Вовель прежде
всего обращается к истории республиканской идеи в
начале революции 1789 г.: сколь многочисленны
были сторонники республиканского правления,
насколько глубоко проникла эта идея в
общественное сознание. Автор показывает, что
республиканские взгляды были не чужды многим
политическим лидерам начального периода
революции, одновременно отмечая и те опасения,
которые высказывали практически все французские
революционеры конца века, в частности и
монтаньяры. Для того чтобы республиканская идея
завоевала Францию, понадобился серьезный
политический кризис лета 1791 г., так называемый
Вареннский кризис, после которого началось
довольно быстрое внедрение этой идеи в сознание
масс.
Завершается раздел анализом республиканского
правления после Термидора. Главная задача,
которую решал Термидор, отмечает Вовель, - как
сохранить республиканскую форму правления и
изменить содержание этого режима (имеется в виду
социально-политическая политика, проводившаяся в
годы якобинской диктатуры). Однако сделать это в
условиях высокого накала революционных страстей
было крайне сложно, чем и объясняется
политическая нестабильность во Франции в 90-е
годы XVIII в.
Третий очерк - "Французский вариант: XX в." -
написан Раймоном Юаром и посвящен развитию
республиканской идеи и республиканской практики
во Франции в XIX в. Республиканская традиция
оказалась чрезвычайно живучей именно во Франции.
Но дело здесь, считает автор, не в некой фатальной
предрасположенности французов к республиканскому
образу правления, а в том, что монархический образ
правления, который был восстановлен во Франции в
1814 г., не дал стране политического мира,
политической стабильности. Монархическая идея
после 1815 г., с помощью которой пытались
скрепить разорванную "цепь времен", оказалась
несостоятельной. И прежде всего потому, что
политические структуры французской конститу¬
ционной монархии не способны были эволюцио¬
нировать. Вследствие этого и в 1830 г., и в 1848 г.
произошел "развод между монархией и страной".
Юар справедливо отмечает некую "неумелость"
политических лидеров Франции первой половины
XIX в., их неспособность адаптироваться к
современным им реалиям, вслушаться в живое
биение пульса Франции.
Юар дает высокую оценку Второй республике во
Франции и ее социальным реформам. 1848 г., по его
мнению, - новый этап в развитии республиканской
идеи; именно с этого времени можно говорить о
"республиканском прорыве". Автор отмечает, что с
1848 г. социальная проблематика уже никогда не
исчезала окончательно с горизонта французских
законодателей. И в то же время республиканские
лидеры после событий 1848-1851 гг. более терпимо,
нежели до революционных событий, стали
относиться к теориям парламентарного правления.
Поворот к идеям парламентаризма дал возможность
осуществиться новой для Франции XIX в.
политической комбинации - сближению демократов
и либералов. Однако эта комбинация нашла свою
реализацию уже после 1870 г. К 1914 г.
республиканский строй утвердился во Франции,
единственной стране Европы. Война 1914-1918 гг. и
революционные события в России вновь изменили
политическую ситуацию в Европе. "Франция, -
заканчивает свой очерк Юар, - будет ли она снова в
авангарде демократической Европы?"
Нг. этот вопрос и отвечает Роже Мартел л и в
последнем очерке - "Республиканская идея во
Франции в XX в." Российская революция 1917 г. и
первая мировая война породили, как считает автор,
третий в истории республиканской партии кризис,
после 1848 г. и Коммуны. В очерке характеризуются
политические события XX в. и роль республиканской
партии в них. Вместе с тем этот раздел перегружен
описанием истори ческих событий XX в.: войны,
политические движения, блоки, партии и т.п. Судьба
республиканской идеи и ее роли в общественном
сознании как бы тонет в калейдоскопе бурного XX
столетия. Кроме того, неоправданно мало места
отведено последним десятилетиям - всего несколько
страниц. Тем более, что в заключение Мартелли
делает важный вывод. Он считает, что
республиканская идея и республиканское движение в
целом переживают очень тяжелый период поиска
первая мировая война породили, как считает автор,
третий в истории республиканской партии кризис,
после 1848 г. и Коммуны. В очерке характеризуются
политические события XX в. и роль республиканской
партии в них. Вместе с тем этот раздел перегружен
описанием истори ческих событий XX в.: войны,
политические движения, блоки, партии и т.п. Судьба
республиканской идеи и ее роли в общественном
сознании как бы тонет в калейдоскопе бурного XX
столетия. Кроме того, неоправданно мало места
отведено последним десятилетиям - всего несколько
страниц. Тем более, что в заключение Мартелли
делает важный вывод. Он считает, что
республиканская идея и республиканское движение в
целом переживают очень тяжелый период поиска
новей "республиканской модели". Развитие
капитализма коренным образом изменило
историческую обстановку, в которой родилась
республиканская идея, и в экономическом, и
политическом, и социальном планах. Автор
полагает, что программа республиканцев,
необходимыми компонентами которой являются
парламентские формы правления и некий
социальный идеал, "слегка окрашенный эгалитариз¬
мом", в современном ее виде полностью изжила себя
повсюду в западном обществе. Однако серьезной,
развернутой аргументации такого сурового
приговора в очерке Мартелли нет. Кроме того,
следует отметить, что республиканская идея и в ее
традиционном звучании, включая и некоторую
эгалитарную окрашенность, пользуется значи -
тельно большей популярностью, притягательностью
повсюду в мире, нежели это представляется автору.
В целом интересную книгу французских
историков можно было бы дополнить еще одним
небольшим разделом: о том, что думают по поводу
республики и республиканской идеи современные
французы, как они ответили бы на вопрос, который
поставили авторы книги перед собой, начиная это
исследование: почему республика?
Е.И. Федосова,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры новой и новейшей истории
исторического факультета МГУ
241
Факты. События. Люди
ШАРЛОТТА КОРДЕ И СМЕРТЬ МАРАТА*
Исчадье мятежей подъемлет злобный крик:
Презренный, мрачный и кровавый,
Над трупом вольности безглавой
Палач уродливый возник.
Апостол гибели, усталому Аиду
Перстом он жертвы назначал,
Но вышний суд ему послал
Тебя и деву Эвмениду.
А.С. Пушкин "Кинжал”
13 июля 1793 г., в половине восьмого вечера,
когда солнце клонилось к закату и черные тени
домов становились все длиннее, когда крыши
Парижа еще горели расплавленным золотом
угасающего дня, а узкие улочки наполнялись
густеющими сумерками, возле дома № 30 на улице
Кордельеров остановился фиакр. Из кареты вышла
красивая, стройная девушка и медленно направилась
к дверям. Скромное белое платье подчеркивало
совершенство ее фигуры. Из-под круглой шляпы с
зелеными лентами выбивались густые темно-русые
волосы, отливавшие цветом ржаных колосьев, а
розовая косынка на плечах оттеняла белизну
благородного лица. Большие голубые глаза
смотрели задумчиво и печально. Весь ее облик
говорил о полной отрешенности от мирской суеты,
как будто юное создание, еще ступая по земле,
душой своей уже навсегда оставило земные заботы.
И это впечатление не было обманчивым.
Девушка шла, чтобы убить и умереть. Она уже
простилась с жизнью и в тот миг больше не
принадлежала себе. Прекрасным ангелом смерти
входила она в историю, и рок уже наделил ее
губительной силой. С этого момента неминуемая
гибель ожидает каждого, чье имя назовут ее уста.
Вот она приблизилась к дверям и, громко, отчетливо
произнося каждое слово, будто зачитала приговор,
обратилась к привратнице: "Я хочу видеть
гражданина Марата!”
Да, в этом доме жил сам Жан-Поль Марат,
вождь и кумир парижской черни, одно из главных
действующих лиц в великой драме Французской
революции. Впрочем, правильнее сказать, не "жил",
а "доживал" последние дни, медленно и мучительно
сгорая от недуга, вызванного нервным перенапря¬
жением. Целыми днями лежал он в ванне с теплой
водой, работая над статьями для газеты или преда-
Из подготовленной к печати издательством
"Знание" книги "Исторический лексикон. XVIII век".
242
ваясь размышлениям. В свои 50 лет Марат уже
получил от судьбы то, к чему стремился всю жизнь и
что считал высшим смыслом существования, ибо
сильнее всего на свете он желал славы. Любовь к
ней, как признавал он сам, была его главной
страстью 1.
В поисках славы он 16-летним юношей покинул
отчий дом в швейцарском городке Невшатель и
отправился странствовать по Европе. Его вооду¬
шевляло то, как много безвестных прежде людей
"низкого" происхождения стало в Век Разума знаме¬
нитыми благодаря успехам в философии, науке и
литературе. Чем только не занимался Марат в
предреволюционные годы, но, увы, золотая птица
удачи никак не давалась ему в руки. Попробовал он
было написать сентиментальный роман в духе Руссо,
однако сочинение получилось настолько слабым, что
сам автор не решился его опубликовать. Во время
движения за парламентскую реформу в Англии
Марат попытался приобрести популярность, издав
антиправительственный памфлет, однако благо¬
разумные англичане пренебрегли советом
эксцентричного иностранца свергнуть монарха и
назначить "добродетельного" диктатора. Тогда
Марат решил испробовать свои силы на поприще
философии и... опять потерпел крах. Хотя "гранды"
Просвещения Вольтер и Дидро обратили внимание
на его трехтомный опус, однако сочли сей труд
философским курьезом и обидно высмеяли неофита,
обозвав "чудаком" и "арлекином"1 2.
Но главные надежды на осуществление заветной
мечты о славе Марат связывал с естественными
науками. Не жалея времени, он постигал
премудрости медицины, биологии и физики. Став
придворным врачом брата французского короля, он
1 См. Марат Ж.-П. Избр. произведения, т. 3.
М., 1956, с. 230.
2 См., например, Фрыдлянд Ц. Жан-Поль Марат
и гражданская война XVIII в. М., 1959, с. 90-91.
дни и ночи напролет проводил в лаборатории,
перебирая окровавленными руками пульсирующие
внутренности заживо разрезанных животных3 или до
боли в глазах вглядывался в темноту, чтобы увидеть
’’электрическую жидкость". Увы, результат
оказался непропорционален затраченным усилиям.
Теоретическое объяснение Маратом его опытов не
выдерживало никакой критики, а потому претензии
самоуверенного выскочки на "развенчание" научных
авторитетов ("мои открытия о свете ниспровергают
все труды за целое столетие!")4 вежливо, но твердо
отклонялись академической средой. На что только
не шел он, добиваясь признания: анонимно
публиковал хвалебные отзывы о собственных
’’открытиях”, клеветал на оппонентов и даже
прибегал к откровенному жульничеству!5 Однажды,
когда он публично доказывал, что резина якобы
проводит электричество, его уличили в том, что он
спрятал в ней металлическую иголку6. Ущемленное
самолюбие, болезненная реакция на самую мягкую
критику, крепнущая год от года убежденность в
том, что он окружен "тайными врагами", зави¬
дующими его таланту, и вместе с тем непоколе¬
бимая вера в собственную гениальность, в свое
высочайшее историческое призвание - всего этого
было слишком много для простого смертного.
Раздираемый неистовыми страстями, Марат едва не
сошел в могилу от тяжелейшего нервного недуга, и
только начавшаяся революция вернула ему надежду
на жизнь.
С бешеной энергией бросился он разрушать
Старый порядок, при котором не сбылись его
честолюбивые мечты. Уже с 1789 г. издававшаяся
им газета "Друг народа" не имела себе равых в
призывах к самым крутым мерам против "врагов
свободы". Причем в число последних Марат
постепенно включил не только окружение короля,
но и большинство крупнейших деятелей революции.
Долой осторожные реформы, да здравствует на¬
родный бунт, жестокий, кровавый, беспощадный! -
вот лейтмотив его брошюр и статей. В конце 1790 г.
Марат писал: "Шесть месяцев тому назад пятьсот,
шестьсот голов было бы достаточно... Теперь...
возможно, потребуется отрубить пять-шесть тысяч
голов; но, если бы даже пришлось отрубить
двадцать тысяч, нельзя колебаться ни одной
минуты”7. Два года спустя ему уже мало этого:
"Свобода не восторжествует, пока не отрубят
3 Марат Ж.-П. Письма. М., 1923, с. 14—15.
4 Марат Ж.-П. Избр. произведения, т. 3, с. 232.
5 Подробнее о научной деятельности Марата
см.: Cabanes Marat inconnu, 1'homme prive, le
mć decin, le savant, d'apres des documents nouveaux et
inćdits. Paris, 1911.
6 См.: Араго Д.Ф. Биографии знаменитых
астрономов, физиков и геометров, т. 1. СПб., 1859,
с. 298; Тэн И. Происхождение современной
Франции, т. 4. М., 1907, с. 86.
7 Марат Ж.-П. Избр. произведения, т. 2, с. 235.
преступные головы двухсот тысяч этих злодеев"8. И
слова его не остались пустым звуком. Люмпенизиро¬
ванная толпа, низменные инстинкты и устремления
которой он изо дня в день будил своими
произведениями, с готовностью откликалась на его
призывы.
Ненавидимый и презираемый даже полити¬
ческими союзниками, у кого еще сохранились
представления о чести и порядочности, но бого¬
творимый чернью всей Франции, Марат наконец-то
был счастлив: он поймал-таки заветную птицу
славы. Правда, она имела страшное обличье гарпии,
с ног до головы забрызганной человеческой кровью,
но все же это была настоящая, громкая слава, ибо
имя Марата гремело теперь на всю Европу9.
А еще этот преждевременно постаревший,
неизлечимо больной человек хотел власти. И он ее
получил, когда взбунтовавшийся парижский плебс
изгнал 2 июня 1793 г. из Конвента правящую
"партию" жирондистов. Блестящие ораторы и
горячие республиканцы, избранные большинством
голосов в своих департаментах, эти представители
просвещенной элиты не смогли найти общий язык с
чернью столицы, властителем дум которой был
Марат. Угроза расправы побудила их бежать в
провинцию, чтобы там организовать отпор
произволу парижан.
И как будто само Провидение привело
жирондистов в нормандский городок Кан, где
уединенно и скромно жила девушка по имени Мария-
Анна-Шарлотта де Корде д'Армон10. Праправнучка
великого поэта и драматурга Пьера Корнеля, она
принадлежала к обедневшему дворянскому роду и в
свои неполные 25 лет успела познать и нужду, и
нелегкий сельский труд. Воспитанная на
республиканских традициях античности и на идеалах
8 Там же, т. 3, с. 292.
9 Слава эта надолго пережила самого Марата, В
XIX и XX вв. "якобинская" историография создала
крайне идеализированный образ Друга народа,
постаравшись затушевать самые темные стороны
его общественной и политической деятельности. В
то же время однозначно негативная оценка его
консервативными историками нередко носила
излишне эмоциональный и несколько субъективный
характер. Лишь немногие авторы сумели избежать
обеих крайностей. См., например: Gottschalk L.R.
Jean Paul Marat. A Study in Radicalism. New York,
1966.
В XIX - начале XX в. французскими исто¬
риками, принадлежавшими в основном к либерально¬
республиканской традиции, были собраны и
опубликованы многочисленные документы, подробно
освещающие жизнь Ш. Корде. События же
последних ее дней благодаря обилию источников
можно восстановить с точностью едва ли не до
минуты. См.: Huard A. Mćmoires sur Charlotte Corday
d'apres des documents authentiques et inedits. Paris,
1866; Defrance E. Charlotte Cordy et la mort de Marat.
Documents inćdits. Pairis, 1909.
243
Просвещения, она искренне сочувствовала
революции и с живым участием следила за
происходившим в столице. События 2 июня болью
отозвались в ее благородном сердце. Рушилась, не
успев утвердиться, просвещенная республика, а ей
на смену шло кровавое господство разнузданной
толпы под предводительством честолюбивых
демагогов, главным из которых был Марат. С
отчаянием взирала Шарлотта на опасности,
угрожавшие Родине и свободе, и в душе ее росла
решимость во что бы то ни стало спасти Отчизну,
пусть даже ценой собственной жизни.
Прибытие в Кан вождей жирондистов - бывшего
мэра Парижа Жерома Петиона, избранника
марсельцев Шарля-Жана-Мари Барбару, других
известных всей Франции депутатов - и выступление
молодых волонтеров из Нормандии в поход против
парижских узурпаторов еще больше укрепили
Шарлотту в ее намерении сберечь жизни этих
доблестных людей, убив того, кого она считала
виновником разгоравшейся гражданской войны. И
тогда, не сказав никому ни слова о своих планах, она
отправилась в столицу. Так она оказалась в доме на
улице Кордельеров.
Когда Шарлотта вошла в сумрачную и полу¬
пустую комнату, Марат сидел в ванне, покрытой
грязной простыней. Перед ним на доске белел лист
бумаги. "Вы прибыли из Кана? Кто из бежавших
депутатов нашел там прибежище?" Шарлотта,
медленно приближаясь, назвала имена, Марат
записал. (Если бы только она знала, что эти строки
приведут их на эшифот!) Марат зло усмехнулся:
"Прекрасно, скоро все они окажутся на гильотине!"
Больше он ничего не успел сказать. Девушка
выхватила спрятанный под косынкой нож и изо всех
сил вонзила его в грудь Марата. Тот страшно
закричал, но, когда в комнату вбежали люди, "друг
народа" был уже мертв...
Шарлотта Корде пережила его на четыре дня.
Ее еще ожидали гнев разъяренной толпы, жестокие
побои, врезавшиеся в кожу веревки, от которых
руки покрылись черными кровоподтеками. Она
мужественно перенесет многочасовые допросы и
судебный процесс, спокойно и с достоинством
отвечая следователям и прокурору.
- Почему вы совершили это убийство?
-Я видела, что гражданская война готова
вспыхнуть по всей Франции, и считала Марата
главным виновником этой катастрофы.
-Столь жестокий поступок не мог быть со¬
вершен женщиной вашего возраста без чьего-либо
подстрекательства.
- Я никому не говорила о своем замысле.
Я считала, что убиваю не человека, а хищного
зверя, пожирающего всех французов.
-Неужели вы думаете, что убили всех Маратов?
- Этот мертв, а другие, может быть, устра¬
шатся.
При обыске у девушки нашли написанное ею
"Обращение к французам, друзьям законов и мира",
где были и такие строки: "О моя родина! Твои
несчастья разрывают мне сердце. Я могу отдать
тебе только свою жизнь и благодарю Небо за то,
что свободна располагать ею".
Жарким, душным вечером 17 июля 1793 г.
Шарлотта Корде, облаченная в алое платье
"отцеубийцы", взошла*на эшафот. До самого конца,
как свидетельствуют современники, она сохраняла
полное самообладание и лишь на мгновение
побледнела при виде гильотины. Когда казнь
свершилась, помощник палача показал зрителям
отрубленную голову и, желая им угодить, нанес ей
пощечину. Но толпа ответила глухим рокотом
возмущения...
Трагическая судьба девушки из Нормандии
навсегда осталась в памяти людей как образец
гражданского мужества и беззаветной любви к
родине. Однако последствия ее самоотверженного
поступка оказались совершенно иными, чем те, на
которые она рассчитывала. Жирондисты, те, кого
она хотела спасти, были обвинены в сообщничестве
с нею и казнены, а смерть Друга народа стала для
других Маратов предлогом сделать террор
государственной политикой. Адское пламя
гражданской войны поглотило принесенную ему в
жертву жизнь, но не погасло, а взметнулось еще
выше:
"-Чья это могила? - я спросил, и мне ответил
голос из земли:
- Это могила Шарлотты Корде.
- Я нарву цветов и осыплю ими твою могилу,
потому что ты умерла за Родину!
- Нет, не рви ничего!
-Тогда я найду плакучую иву и посажу у твоей
могилы, потому что ты умерла за Родину!
-Нет, не надо цветов, не надо ивы! Плачь! И
пусть твои слезы будут кровавыми, потому что я
напрасно умерла за Родину". (Ф. Клопшток)
А.В. Чудинов
244
КОЛУМБ — ВЕЛИКИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЬ
Христофору Колумбу как никому из море¬
плавателей повезло в филателии. Его изобра¬
жение появилось на первых миниатюрах Чили в
далеком 1853 г. Так было положено начало фи¬
лателистической колумбиане. В 1869 г. в США в
обращение поступила марка, на которой изобра¬
жен Колумб со своими спутниками во время
высадки на американскую землю. К 400-летию
открытия Америки в США в 1892 г. появилась
серия из 16 марок, в которой освещается история
подготовки и осуществления экспедиции под
командованием Адмирала Моря-Океана, изобра¬
жены корабли эскадры "Санта-Мария”, "Пинта"
и "Нинья", портреты Колумба и его покро¬
вительницы королевы Изабеллы. Интерес пред¬
ставляют марки, повествующие о пребывании
Колумба в монастыре Рабида, служители кото¬
рого Антонио де Марчена и Хуан Перес оказали
ему поддержку, помогли обратиться за помощью
к испанским монархам Фердинанду и Изабелле и
получить у них аудиенцию, где Колумб доказал
возможность попасть в Индию, плывя на запад
через Атлантический оксан, о том, как Изабелла
заложила свои драгоценности ради организации
экспедиции (подобной щедрости за королевой не
водилось, испанские Монархи отличались завид¬
ной скаредностью и сами жаждали обогащения).
Одна из марок этой серии посвящена торжест -
венному приему в Барселоне, оказанному море -
плавателю после возвращения из первого путе¬
шествия, на другой марке изображен Колумб,
рассказывающий о своих открытиях и знакомя -
щий своих слушателей с привезенными пленны-
ми индейцами. Есть в этой серии и марки,
посвященные аресту Колумба и его братьев,
которых обвинили в превышении власти и как
преступников отправили в Испанию. Впослед¬
ствии, правда, они были прощены королевой.
К 400-лстию плавания Колумба приурочены
марки не только США, но и Аргентины, Гонду -
раса, Никарагуа, Сальвадора. В 1893 г. появи¬
лись марки Пуэрто-Рико и Венесуэлы, отметив¬
шие годовщины пребывания испанских кораблей
в странах Нового Света. В последующие годы
филателистическая колумбиана пополнялась мар¬
ками Гренады, Тринидада, Доминиканской рес¬
публики Кубы, Гватемалы, Сент-Люсии, Сент-
Кристофена, Перу, Мексики, Ямайки, Коста-
Рики, Колумбии, Панамы.
В Европе прошлого столетия в филателии
господствовали иные традиции: как правило на
марках многих стран помещались портреты
царствующих особ или герб государства.
Впервые Колумб появился на марках Испании
лишь в 1930 г. Это были прекрасно оформлен -
ные 35 почтовых миниатюр, на которых изобра -
жены Колумб и его помощники - братья Пинсо¬
ны, капитан "Пинты" Мартин Алонсо и капитан
"Ниньи" Висенте Яньес. На марках запечатлены
такие события, как отплытие 3 августа 1492 г.
испанской эскадры из Палоса и высадка Колумба
и его соратников 12 октября того же года на
нервом обнаруженном ими острове Гуанакани,
который адмирал назвал Сан-Сальвадором.
На родине великого мореплавателя в Италии
первые марки в его честь были выпущены в
1932 и 1938 гг.
Главная их особенность состояла в том, что
они появились не в честь Колумба, а в связи с
юбилейными датами итальянского фашизма: 10-й
годовщиной похода на Рим и провозглашением
империи.
500-летие плавания Колумба было отмечено
изданием почтовых марок и блоков во многих
странах мира, даже в таких крошечных госу¬
дарствах, как Тонга, Тувалу, острова Кука,
Норфолк, Фолклендские острова, остров Возне¬
сения и др. В некоторых странах марки стали
печатать за несколько лет до юбилея. Весьма
разнообразны и примечательны сюжеты знаков
почтовой оплаты. На марках Багамских остро¬
вов, Гайаны, Кубы, Кипра, Суринама, Швейца -
рии мы можем увидеть географические карты и
отмеченные на них маршруты плаваний Колум -
ба, а на марке Сент-Китса и Сан-Марино - все
четыре экспедиции. Выпущенные в 1989 г.
марки Испании рассказывают о том, как Колумб,
а после него и другие мореходы привезли в
Европу неизвестные ранее сельскохозяйствен -
ные культуры: маис, картофель, томаты, юкку,
какао, подсолнечник и табак. На знаках почто¬
вой оплаты Багамских островов и Сан-Марино
изображены предметы культуры и прикладного
искусства индейских народов. Интересна марка
Германии, на которой изображена титульная
гравюра книги писем Колумба, или марка
английского острова Джерси, посвященная граж¬
данам, гереселившимся в Америку. Руки в
245
кандалах на марке Гайаны напоминают о том,
как поступили с Колумбом его недоброжелатели.
Особо следует выделить памятный почтовый
блок и две марки Исландии, посвященные
плаваниям Лейва Эриксона и Колумба. Такой же
блок и марки отпечатаны на Фарерских остро -
вах, принадлежащих Дании. Ныне признано, что
Лейв Эриксон примерно в 1000 г. первым
побывал на американской земле. Вот почему в
США 9 октября празднуют как День Лейва
Эриксона, а 12 октября как День Колумба.
Открытие Америки стало событием всемир -
но-истори ческой важности. Это событие положи -
ло начало формированию мирового рынка, дало
новый толчок развитию производительных сил,
культуры, науки и техники. Вместе с тем
плавания Колумба стали отправным пунктом
колонизации Америки, порабощения и истреб¬
ления людей, населявших обширные пространст¬
ва Нового Света. Колонизация Америки связана
с именами конкистадоров, которые, как отмечал
испанский епископ Лас Касас, "шли с крестом в
руке и ненасытной жаждой золота в сердце".
Закабалением народов в разное время занима¬
лись и сподвижники Колумба, такие, как Висенте
Пинсон или Алонсо де Охеда. Последний обнару¬
жил золото на Эспаньоле и этого было доста¬
точно, чтобы захватить остров и начать ликви¬
дацию местных жителей. Участвовал Охеда и в
завоевании страны, получившей название
Венесуэла. В 1512 г. Хуан Понсе де Леон нанес
на карту открытые им острова Теркс и Ксйкос.
Занявшись поисками острова, где бьют "источ¬
ники вечной молодости”, он открыл Флориду.
Помимо де Леона колонизацией Флориды зани -
мался Педро Ариас Авила. Палачом индейских
народов считается Эрнан Кортес, завоевавший в
1521 г. страну ацтеков - Мексику. С именами
Диего де Альмагро, Франсиско Писарро и
Себастьяна Белалькасара связано покорение
империи инков в Перу в 1532-1534 гг. Писарро
"прославился" своим вероломством. Захватив в
плен правителя инков Атауальпу и получив
большой выкуп, Писарро в 1533 г. казнил своего
пленника. Гонсало Кесада в 1536 г. начал
покорение индейцев, населявших территорию
нынешней Колумбии. В 1538 г. он основал Бого¬
ту, столицу Колумбии. Педро де Альварадо из¬
вестен как завоеватель Гватемалы и основатель
ее столицы. Покорение испанцами Чили отно¬
сится к 30-40-м годам XVI столетия. Первым
туда проник Диего де Альмагро, затем Педро де
Вальдивия. Местные индейцы-арауканцы оказа¬
ли пришельцам ожесточенное сопротивление. В
стычке с индейцами погиб конкистадор Хуан де
Солис, действовавший в юго-восточной части
Южной Америки. В 1536 г. Педро де Мендоса
основал в устье Параны Буэнос-Айрес, но
поселок был уничтожен индейцами. Закрепиться
здесь удалось только Хуану де Гарай, который в
1580г. восстановил Буэнос-Айрес. Названные
246
нами конкистадоры запечатлены на почтовых
марках Испании и латиноамериканских стран. На
марках также можно увидеть изображения вице -
королей, губернаторов, высших чиновников
правосудия и церкви, управлявших гигантской
колониальной империей.
Некоторые серии почтовых марок издавал ис:.
в честь Колумба и упоминавшегося выше
епископа Бартоломе Лас Касаса. Его отец был
участником второй экспедиции Колумба, а сам он
в молодости сражался в отряде конкистадора
Диего Веласкеса во время покорения Кубы. Но
247
со временем взгляды Бартоломе радикально
изменились. Лас Касас стал борцом за права
американских индейцев, страстным обличителем
преступлений захватчиков. Отец Александр
Мень писал: "Если садизм конкистадоров стал
позором страны, считавшей себя христианской,
то Лас Касас стал ее славой. Он показал всему
миру, что есть другая Испания, которая сумела
не забыть евангельских заветов"
На почтовых марках Гренады, Бутана,
Вьетнама, островов Сан-Томе и Принсипи изо
бражен герб Колумба, дарованный ему королями
Испании. На ленте герба имеется следующий
девиз: "Для Кастилии и для Леона Новый мир
открыт Колоном". И этот девиз как нельзя
лучше определяет историческое место великого
мореплавателя.
Л.П. Карлов
1 Три каравеллы на горизонте. М., 1991, с.
116.
248
Научная жизнь
ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ
В преддверии 50-летия Победы в Великой
Отечественной войне все большее место на
страницах газет и журналов занимает военная тема.
Но, к сожалению, нередко в погоне за
сенсационными фактами люди, не отягощенные не
только историческими, но и подчас элементарными
знаниями военного дела, берутся рассуждать о
замыслах Верховного командования, стратегических
операциях и битвах, просчетах и ошибках
военачальников. Но свобода слова отнюдь не
означаез’ свободу от знаний, компетентности,
глубокого изучения предмета.
Показать сложность и многогранность нашей
военной истории, правдиво рассказать о полко¬
водцах, офицерах, рядовых солдатах, победивших в
минувшей войне, по праву названной Великой,
обязаны оставшиеся в живых ветераны,
исследователи, военные историки.
Поэтому своевременным оказалось состоявшееся
в июне этого года в Институте военной истории МО
РФ совещание военных историков Вооруженных
Сил Российской Федерации. В его работе
участвовали представители Министерства обороны,
Главного командования ОВС СНГ, Российской
академии наук, архивов, военных академий,
ветераны войны и вооруженных сил. На совещании
шел профессиональный, заинтересованный разговор
о состоянии и задачах военно-исторической работы в
вооруженных силах, об изучении военной науки и
истории.
Выступивший с докладом заместитель на¬
чальника Генерального штаба генерал-полковник
А.М. Клейменов отметил, что сегодня военным
историкам предстоит не только переосмыслить, но и
по-новому увидеть свое место и роль в развитии
военной науки. Ведь военная наука всегда
опиралась на богатейший военно-истори ческий опыг.
И кроме основной, исследовательской, она
выполняет образовательную и воспитательную
функции.
Разумеется, кризисные явления в обществе не
могли не сказаться на положении дел в армии и на
флоте, на уровне военно-исторической работы в
Российских Вооруженных Силах. Отсюда невысокое
качество ряда военно-исторических исследований
и недостаточная их практическая ценность, сла¬
бый реальный вклад историков в разработку
принципиально новых военных проблем сегодня,
опасно нарастающая оторванность от войск и их
нынешнего практического опыта, формализм в
преподавании истории войн и недостаточно высокий
уровень военно-исторических знаний офицерского
состава - все эти и другие недостатки вызывают
потребность разобраться, вскрыть причины низкого
уровня военно-исторической работы и, что самое
важное, наметить пути повышения ее эффектив¬
ности.
Научные исследования, отметил генерал -
полковник Клейменов, - одно из центральных
направлений военно-исторической работы. Это
главная задача для Института военной истории и
важнейшая для кафедр истории военного искусства
академий, архивов, военно-исторического журнала,
музеев. В последние годы военными историками
были подготовлены и опубликованы такие труды,
как: "Генеральный штаб Вооруженных Сил: история
создания и развития", "Военная история и
актуальные проблемы современной теории и
практики", "41-й год. Уроки и выводы", "Гриф
секретности снят", "Потери ВС СССР в войнах,
боевых действиях и военных конфликтах", сборник
документов и материалов Ставки В ГК по разлшшым
этапам войны и др. В настоящее время в Институте
военной истории разработана концепция
восьмитомной "Военной энциклопедии", идет
подготовка четырех томного труда "Великая
Отечественная война 1941-1945 гг. Очерки
истории", сборника документов и материалов о
командирах корпусов и дивизий Великой
Отечественной войны, семитомного "Краткого
биографического словаря". Завершается работа над
серией о полных кавалерах орденов Славы.
Готовится к изданию книга "Обращаясь к истокам.
Потенциал военной истории - обучению и
воспитанию воинов". Начат сбор, проверка и
всесторонний анализ статистической информации для
создания банка данных по военной статистике
второй мировой и Великой Отечественной войн.
Эти и другие труды - плод исследовательской
работы сотрудников Института военной исто¬
рии, Центра военно-стратегических исследований
Генштаба, Историко-архивного и военно-мемо¬
риального центра, других коллективов историков.
Вместе с тем в проводимых исследованиях порой
недостает глубины анализа, новых идей,
249
обстоятельных выводов и рекомендаций для войск.
В подтверждение можно привести такой пример. До
1995 г. Институтом военной истории предусмотрена
разработка более 60 военно-исторических трудов. О
каком качестве может идти речь при подготовке за
два-три года такого количества работ? Видимо,
поэтому авторы порой идут проторенной дорогой,
пишут сухим, казенным языком. Нет сомнения, что
плодотворность исследовательской работы должна
определяться не количеством трудов, не объемом
монографий и отчетов, а реальными научными
достижениями и открытиями, новыми подходами и
выводами.
Еще одна из причин, влияющих на качество
исследований, - слабое использование архивных
материалов и документов. Многие исследователи
заимствуют факты, материалы из опубликованных
работ, даже не сверяя содержащиеся в них ссылки
на архивы. Справедливости ради надо заметить, что
во многом повинны в этом и сами архивы, их
руководители, которые не всегда предоставляют
необходимые документы. Работы здесь непочатый
край. Из огромного количества хранящихся в наших
архивах дел в научный оборот введено не более
15%. В настоящее время в Российском
государственном военном архиве работает комиссия
по рассекречиванию документов и допуск к ним
несколько упростится.
Большую помощь исследователям окажет
готовящийся Институтом военной истории совместно
с Историко-архивным и военно-мемориальным
центром сборник документов и материалов Ставки
Верховного Главнокомандования, Государственного
комитета обороны 1941-1945 гг. и др.
С заинтересованностью обсуждали предста¬
вители Российской академии наук и академических
институтов предложение докладчика активнее
использовать зарекомендовавшую себя форму
создания временных коллективов из сотрудников
Института военной истории и институтов Российской
академии наук для подготовки фундаментальных
теоретических исследований. Следует подумать о
возможности временного привлечения историков-
специалистов по той или иной проблематике из
гражданских организаций на условиях штатного
совместительства, заключения договоров с
отдельными учеными на проведение
самостоятельных исследований по плану военно¬
исторических исследований Министерства обороны.
В заключение генерал-полковник А.М. Клей¬
менов подчеркнул, что необходимо поднять уровень
изучения и преподавания военной истории в военных
академиях и училищах. Не в полной мере
реализуются возможности военно-исторической
работы для воспитания слушателей и курсантов на
героических традициях прошлого. Ведь совсем не
случайно в академии Генерального штаба русской
армии 60-70% учебных часов отводилось истории
военного искусства и большинство дисциплин
изучалось на фоне исторических сражений, событий.
250
А чтобы люди тянулись к исторической литературе,
необходимо значительно усилить фундаментальные
военно-теоретические и особенно прикладные
исследования в области военной истории, смелее
браться за малоизученные страницы, не оставлять
"белых пятен". Воспитание историей - это
прекрасная школа гражданственности и мужества,
верности народу, Родине, и нужно всячески
содействовать тому, чтобы эту школу по-
настоящему прошли все российские воины.
Возвращаясь к вопросу сотрудничества военных
историков с гражданскими, хотелось бы заметить,
что первый такой опыт был во время подготовки
шеститомного научного труда "История Великой
Отечественной войны Советского Союза. 1941—
1945", выпущенного Военным издательством
Министерства обороны в 1960-1963 гг. Еще более
тесное сотрудничество осуществлялось при
подготовке и издании "Истории второй мировой
войны 1939-1945 гг." в 12-ти томах, последний том
которой вышел в 1982 г. Активно продолжалась
совместная работа Института военной истории и
Академии наук во время подготовки 10-томной
истории Великой Отечественной войны советского
народа, первый том которой трижды подвергался
переделке в угоду конъюнктуре. По независящим от
авторского коллектива причинам в 1991 г. работа
над ним была приостановлена. В настоящее время
идет работа над подготовкой упоминавшихся выше
очерков истории Великой Отечественной войны в
четырех томах. Сопредседателями Главной ре¬
дакционной комиссии утверждены академик
Г.Н. Севостьянов и начальник Института военной
истории генерал-майор В.А. Золотарев. В ред¬
коллегиях томов представлены специалисты в
области военной истории от Института военной
истории и других исследовательских академических
институтов и центров.
Немало проблем приходится решать коллективу,
занятому в подготовке этого труда: это и не совсем
совпадающие взгляды на структуру, разные
подходы к концепции, к освещению военных,
экономических, политических, дипломатических и
других вопросов. Но это нормальное явление в
творческой работе, в которой занят большой
коллектив из разных ведомств, институтов,
академий. Главное, чтобы участники этого важного
издания видели перед собой читателя, которого
прежде всего интересует, что появилось нового в
этом издании по сравнению с другими, как глубоко
освещены те или иные проблемы, какие новые
архивные документы введены в научный оборот и
насколько автор свободен от конъюнктуры и
стереотипов, сложившихся в освещении военной
истории.
И еще несколько слов о приостановленном в
конце 1991 г. 10-томнике по истории Великой
Отечественной войны. Все чаще обсуждается
вопрос: пришло ли время сейчас к нему
возвращаться. Выскажу свое личное мнение по
этому поводу. Прежде всего замечу, что была
реальная возможность не приостанавливать работу
над ним. Возник парадокс: до августа 1991 г. не
давали возможности писать то, что хотелось, а
после августа сами авторы решили не писать,
объясняя все сложностью происходящих в стра¬
не процессов. И только начали работать над
"Очерками" в четырех томах, наладили рабо¬
ту коллектива - снова поворот. Между тем реше -
ние о 10- томнике было принято еще в 1987 г.
Читатель так и не получил за это время ни од¬
ного тома. Думается, что к многотомнику обяза -
тельно надо возвращаться, но после окон -
чания работы над "Очерками", которые могут послу¬
жить научной базой для разработки многотомного
фундаментального труда по Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Негоже за полтора года по
нескольку раз менять решение и перенацеливать
большой творческий коллектив с одного труда на
другой. Разумным представляется мнение
большинства участвующих в работе над "Очерками"
военных и гражданских историков, которые
считают, что их необходимо вы пускать, а
параллельно вести подготовительную работу и по
мере того, как будут освобождаться исследователи
после выхода очередной книги, переключать их на
многотомник. И, конечно, его структура, науч¬
ная концепция должны быть обнародованы,
широко обсуждены научной общественностью,
заинтересованными институтами Российской
академии наук, ветеранскими организациями. Надо
привлечь для этого специалистов из стран
содружества.
Полковник Е.Н. Москаль
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ’’ХРИСТИАНСТВО - XX ВЕК”
В последние годы в Институте всеобщей истории
(ИВИ) РАН активно разрабатываются проблемы
истории религии, в частности христианства. Так,
еще в мае 1991 г. была организована и проведена
всесоюзная конференция "Проблемы истории
западного христианства и современность".
Сотрудниками института под руководством д.и.н.
О.В. Чернышевой ведутся исследования по проекту
"Религия и церковь в истории XIX-XX вв." В рамках
этой программы была организована международная
конференция "Христианство - XX век", прошедшая
21-23 апреля 1993 г. в Москве. Первый день работа
конференции проходила в здании Президиума РАН,
второй и третий - в Свято-Дани ловом монастыре.
Оргкомитет в составе докторов исторических
наук О.В . Чернышевой, Г.С. Остапенко,
А.А. Кисловой, кандидатов исторических наук
В.Г. Овчинникова и Е.С. Токаревой (ученый
секретарь комитета) под председательством к.и.н.
Н.П. Калмыкова много сделал для успешной работы
конференции: выступили 42 докладчика. Большое
содействие в подготовке и проведении конференции
оказала Московская патриархия.
Сообщения были сгруппированы по пяти
большим темам. В первый день по теме "Соци¬
альная ответственность христианской церкви XX в."
сообщения сделали доктора исторических наук
Н.А. Ковальский (Институт Европы РАН)
"Социальные проблемы в христианстве XX в.",
Л.В. Пономарева (ИВИ РАН) "Христианская
демократия: проблемы идентичности", А.А. Кислова
(ИВИ РАН) "Проблема "социальной ответ¬
ственности" в американском протестантизме XX в.",
кандидаты исторических наук В.П. Андронова
(Институт Латинской Америки РАН) "Конвергенция
большой творческий коллектив с одного труда на
католицизма и социал-демократии", Н.Н. Пота-
шинская (Институт проблем рабочего движения и
сравнительной политологии РАН) " "Моральная
теология" и современная практика католицизма",
В.Г. Овчинников (ИВИ РАН) "Роль Гапона в
событиях 9 января 1905 г."; кандидат богословия,
игумен о. Иннокентий (Павлов) из Московской
Патриархии "Русская Православная Церковь и
судьбы российской демократии", профессора Альф
Тергель (Теологический институт Уппсалы)
"Церковь и социальный порядок", Мак Леод
(Бирмингемский университет) "Церковь и рабочий
класс Берлина и Лондона", а также В. Борзенко
(Всероссийский центр изучения общественного
мнения) "Демократический процесс и церковь в
современной России: взгляд социолога", майор
Армии спасения Дженти ФейербэИк (Лондон)
"Социальная деятельность Армии спасения",
д.филос.н. Ю.В. Крянев (Московский авиационный
институт) "Экуменизм и глобализм", кандидаты
философских паук Г.С. Лялина (Российский научно-
исследовательский институт культурного и
природного наследия) "Социально-нравственная
позиция баптизма в-России в современных условиях",
А.Н. Никитина (Институт проблем рабочего
движения и сравнительной политологии РАН)
"Современное христианство о будущем челове¬
чества (некоторые тенденции в истолковании
Апокалипсиса)".
По широте тематики и представительному
уровню конференция является первой в своем роде,
что особенно важно для отечественных
специалистов, изучающих религию с точки зрения
различных наук: истории, социологии, философии,
религоведения, теологии. Сообщения, сделанные
зарубежными участниками, имели не только
251
зарубежными участниками, имели не только
теоретическую, но и практическую и, в какой-то
степени, дидактическую ценность.
Во второй день обсуждались две большие темы.
По теме "Христианская церковь и государство в XX
в." выступали профессора Рудольф Вайлер (Венский
университет) "Отношения между церковью и
государством: общие интересы в общественной
жизни", Эндрю Чэндлер (Бирмингемский
университет) "Курьезное установление: церковь и
государство в XX в.", Харри Ленхаммер
(Уппсальский университет) "Обращение к истории в
Шведской церкви в первом десятилетии XX в.",
Джеймс Троуэр (Центр по изучению истории религии
Абердинского университета) "Религия и гражданская
религия в России и Америке"; О.В. Чернышева
"Взаимоотношения церкви и государства в
Швеции: реформы 80-90-х годов", кандидаты
исторических наук В.Г. Забалуев (журнал "Новая и
новейшая история") "Политический католицизм и
государство в вильгельмовской Германии (проблема
интеграции)", Л.Н. Бровко (ИВИ РАН) "Церковь в
Германии в период второй мировой войны",
В.В. Коваль (Институт проблем рабочего движения
и сравнительной политологии) "Некоторые данные о
проблеме религиозности в армии".
По второй теме дня "Концепция личности в
христианской мысли XX в." с сообщениями вы¬
ступили: доктора философских наук И.Н. Яблоков
(МГУ) "Личность в системе христианской культуры",
Ф.Г. Овсиенко (Российская академия управления)
"Концепция личности в учении Иоанна Павла П",
Э.Г. Филимонов (центр "Религия в современном
мире" Российского независимого института
социальных и национальных проблем) "Российская
интеллигенция и религия", М.П. Мчедлов (центр
"Религия в современном мире" Российского
независимого института социальных и национальных
проблем) "Взаимоотношение христианских
конфессий в современной России"; кандидаты
философских наук Л.Д. Дмитриева (Омский
политехнический институт) "Христианские ценности
в духовной культуре российской интеллигенции",
З.П. Трофимова (МГУ) "Религиозный гуманизм в
США"; к.и.н. Д.В. Шушарин (ИВИ РАН)
"Православие и либерализм в современной России",
Е.В. Разживина (МГУ) "Г.П. Федотов о святости
как категории духовной жизни", проф. Шерон Линзи
(Сиэтлский университет) "Либеральные тенденции в
американском протестантизме XX в."
В заключительный день по теме "Христианская
церковь и проблемы евангелизации" доклады
представили: Альберто Меллони (Институт
религиозных исследований, Болонья) "Мир и
евангелие, Энциклика "Пацем им Террис"
Иоанна XXIII. Историческая основа и перспектива",
проф. Йорген Строруп (Исследовательский центр
Шведской церкви) "Вера по американскому образцу:
товар на экспорт", Г.С. Остапенко "Миссионерское
движение как феномен религиозной жизни
Великобритании", д-р Джонатан Саттен (Лидский
университет) "О русской религиозно-философской
мысли", д.и.н. О.И. Величко (Институт проблем
рабочего движения и сравнительной политологии
РАН) "Русская православная церковь и проблема
рехристианизации России (возможности и границы
геополитической концепции "православного
пространства)", Я.Г. Кротов (Православный
открытый университет) "Триумфализм и
тоталитаризм в XX в. (история русской церкви в
контексте общей церковной истории)",
Е.О. Гетманская (Санкт-Петербургский
государственный университет) "Евангелическое
возрождение в Петербурге".
В этот же день рассматривалась тема
"Христианство и национальные проблемы". В об¬
суждении выступили д.филос.н. А.А. Нуруллаев
(центр "Религия в современном мире" Российского
независимого института социальных и национальных
проблем) "Христианство и ислам: взаимодействие в
интересах мира и прогресса", кандидаты
исторических наук М.Е. Орлова (Институт проблем
рабочего движения и сравнительной политологии
РАН) "Религиозное противостояние как форма
современного социально-политического конфликта
(Северная Ирландия 60-90-х годов)",
М.С. Стецкевич (Музей истории религии Санкт-
Петербурга) "Британский католицизм".
В центре внимания участников и выступавших в
прениях были проблемы возрождения религии в
России, в первую очередь православия. Много
споров вызвала проблема отношений православной
церкви и государства в современных условиях. В
основном критически рассматривалась миссионерская
деятельность западных проповедников на
территории бывшего СССР, но при этом
обращалось внимание на недостаточную активность
самой Русской Православной Церкви. В ряде
докладов делались попытки проанализировать
прошлое русского православия, сопоставив его с
опытом развития других христианских конфессий на
Западе.
Проведенная конференция дала импульс для
дальнейшего исследования истории современного
христианства.
В.Г. Забалуев
252
РОССИИСКО-ГЕРМАНСКИИ
КОЛЛОКВИУМ ИСТОРИКОВ
19-20 ноября 1992 г. в Берлине проходил
коллоквиум историков России и Германии, об¬
судивший проблему "Гитлер и Сталин - возмож¬
ности и границы сравнений", а также другие
аспекты новейшей истории обеих стран.
Коллоквиум был организован Европейской ака¬
демией Берлина по инициативе Центра герман -
ских исторических исследований при Институте
всеобщей истории (ИВИ) РАН. Группа рос¬
сийских участников состояла из руководителя
Центра д.и.н. Я.С. Драбкина (ИВИ РАН), док¬
торов исторических наук Л.И. Гинцберга (Инсти¬
тут сравнительной политологии РАН), В.П. Бул¬
дакова (Институт российской истории РАН),
А.И. Борозняка (Екатеринбургский государст¬
венный университет), кандидатов исторических
наук М.В. Корчагиной, В.И. Володарского,
В.В. Дамье (все - ИВИ РАН), Л.Г. Бабиченко
(Российский центр хранения и изучения докумен -
тов новейшей истории), Н.С. Черкасова (Том¬
ский государственный университет),Ю.В. Галак¬
тионова (Кемеровский государственный универ¬
ситет).
Вводные сообщения сделали: с немецкой сто-
роны-проф. д-р Э. Нольте (Свободный универ¬
ситет Берлина), с российской - Я.С. Драбкин.
Э. Нольте - крупный ci ециалист по истории
фашизма в Европе, широк* известный со времен
"спора историков" 80-х годов в Германии. Со¬
гласно его концепции гитлеризм со всеми его
преступлениями против человечества был вто¬
ричным, подражательным явлением, первичным
же - советский строй. Против этой концепции
тогда высказывались многие ученые. На бер¬
линском коллоквиуме Нольте с небольшими мо¬
дификациями изложил эту же точку зрения и
попытался расширить временные рамки постав -
ленной проблемы, начав ее с Ленина.
Я.С. Драбкин не согласился с немецким
историком и по формальным соображениям, но
прежде всего потому, что такой подход
неплодотворен.
Сообщение Я.С.Драбкина было в основном
посвящено состоянию изучения в России истории
тоталитарных режимов, процессу пересмотра
учеными некоторых представлений о германском
режиме, проблемам тоталитаризма в СССР. Он
отметил, что профессиональные историки пока
выступают преимущественно как публицисты,
серьезные же исследования лишь начинаются.
По мнению Я.С. Драбкина, рассматривая данный
комплекс проблем, целесообразно, помимо таких
факторов, как разработка и распространение
тоталитарной идеологии, подъем тоталитарных
движений и создание господствующих систем,
изучать также крушение последних и возврат к
правовому государству, к демократии.
В.П. Булдаков осветил некоторые аспекты
истории России и СССР, обратив особое
внимание на условия формирования тоталитар¬
ного строя, на экономические и социальные
процессы, способствовавшие его утверждению.
По мнению В.В. Дамье, гитлеризм и стали¬
низм представляли собой разновидности "дого¬
няющего индустриализма". С целью мобилизации
сил они прибегали к чрезвычайным мерам, а так
как Германия и СССР находились на разных
уровнях развития, в обеих странах при помощи
сходных тоталитарных методов решались
различные задачи.
Л.И. Гинцберг сопоставил некоторые сторо¬
ны гитлеризма и сталинизма, отметив их
сходство. Это, в частности, система централизо¬
ванного управления экономикой с более или
менее значительными элементами планирова¬
ния - пятилетки в СССР, четырехлетний план
в Германии. Много общего было между колхо -
зами и системой "Имперского сословия продо -
вольствия". В сообщении затрагивались также
эволюция идеологии сталинизма, в которой с
начала 30-х годов усилились великодержавные
тенденции, и его внешняя политика, миролюбие
которой было вынужденным и временным.
По мнению М.Б. Корчагиной, фашизм, в пер¬
вую очередь гитлеризм, был следствием эконо -
мического, политического и социального кризиса
в той форме, какую он приобрел во втором
десятилетии XX в. В этой связи М.Б. Корчагина
затронула проблемы мирового рабочего дви -
жения.
Н.С. Черкасов рассмотрел наиболее распро¬
страненные в нашей литературе концепции тота¬
литаризма. Главное внимание он уделил герман¬
скому фашизму.
Ю.В. Галактионов внес на рассмотрение
участников коллоквиума и обосновал проект
совместной разработки актуальных проблем
новейшей истории и взаимоотношений России и
Германии.
В выступлении В.И. Володарского речь шла
о политике сталинизма по отношению к
искусству. В этой сфере сходство обоих режимов
было особенно велико.
На втором заседании коллоквиума был
заслушан доклад Л.Г. Бабиченко "Коминтерн и
сталинские репрессии", в котором на основании
архивных документов, впервые становящихся
предметом изучения, был прослежен механизм
расправы с сотрудниками аппарата Коминтерна,
в своем большинстве представлявшими компар -
тии зарубежных стран.
Политолог проф. д-р X. Хорн (Свободный
университет Берлина) выступила с сообщением
"Практика коммунистического господства в со¬
253
ветской зоне оккупации - Германской Дсмокра -
тической Республике". Характеризуя этот
режим, который был навязан извне и копировал
советский тоталитаризм, X. Хорн отметила, что
руководители Восточной Германии предпочитали
не проводить репрессии своими силами, предо¬
ставляя это советской стороне.
В обсуждении приняли участие также профсс -
сора Свободного университета Берлина А. Зимш
и Д. Герц-Айхенроде.
На следующий день участники коллоквиума
обратились к проблеме роли СССР в объеди¬
нении Германии. Сообщения сделали д-р П. Бен -
дер (ФРГ) и А.И. Борозняк.
В обоих выступлениях прозвучала высокая
оценка вклада СССР в воссоздание германского
единства, хотя акценты были расставлены по-
разному. Российский ученый в оценке этого
вклада был более точен; он подчеркнул, в част
ности, серьезные внутриполитические трудности,
которые должен был учитывать М.С. Горбачев,
санкционируя объединение Германии. В обсужде -
нии участвовали председательствовавший на
коллоквиуме проф. д-р М. Гсртемакер (Потсдам -
ский университет), проф., д-р М. Вильке и д-р
П. Эрлер (оба - Свободный университет
Берлина).
Коллоквиум продемонстрировал добрую волю
обеих сторон в стремлении расширить взаимные
контакты, интенсифицировать сотрудничество в
изучении существенных проблем исторического
прошлого России и Германии. Такое сотрудни¬
чество пойдет на пользу исторической науке в
обеих странах.
Л.И. Гинцберг
CONTENTS
Articles. Mogilnltsky B.G. Between Objectivism and Relativism. Discussion in American
Historiography. Meshcheryakov M.T. The History of International Brigades in Spain in the
Light of New Documents. Malkov V.L. Bolsheviks and the "German Gold". Finds in the US
Archives. Alperovich M.S. The End of the Spanish Colonisation of America in the 18th Century.
From the Archive of the President of the Russian Federation.
V.M. Molotov's Visit to Berlin in November 1940. Foreword by Academician G.N. Sevastyanov.
Publications. The Mystery of "Kent": the Fate of the Soviet Intelligence Officer
A.M. Gurevich. Reminiscences. Soldatov A. A. Yu. A. Gagarin in Great Britain in 1961.
Documentary Essays. Patrushev A.I. The Life and Drama of Friedrich Nietzsche.
Olano-Herena A. (Spain). The Spanish King and the Attempts to Save the family of Nickolas П.
Troitsky N.A. Marshalls of Napoleon. Profiles of Historians. Borisov Yu. V.
A.Z. Manfred. Features of Character. Pages of the Past. Shkundin-Nikolayev G.D.
P.N. Milyukov's Fiasco in Bulgaria in 1917. Fro m Forei gn В ooks. Charles De Gaulle.
The French State Institutes. From the book Memoirs of Hopes. Renovation. 1958-1962. Fore¬
word by V.I. Antyukhina-Moscovchenko. BookReviews. Facts. Events. People.
Scientific Life.
254
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
АЛЬПЕРОВИЧ Моисеи Самуилович, доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник Института всеобщей истории РАН, автор монографий "Война за независимость
Мексики" (М., 1964), "Советская историография стран Латинской Америки" (М., 1968),
"Испанская Америка в борьбе за независимость" (М., 1971), "Революция и диктатура в
Парагвае" (М., 1975), "Рождение мексиканского государства" (М., 1979), "Франциско де
Миранда в России" (М., 1986) и ряда других исследований по новой истории стран Латинской
Америки.
БОРИСОВ Юрин Васильевич, доктор исторических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, Чрезвычайный и Полномочный посланник России, автор монографий
"Русско-французские отношения после Франкфуртского мира" (М., 1951), "Уроки истории
Франции и современность" (М., 1955), "Советско-французские отношения и безопасность
Европы" (М., 1960), "Советско-французские отношения" (М., 1964), "Новейшая история
франции" (М., 1966), "СССР и Франция: 60 лет дипломатических отношений" (М., 1984),
"Шарль Морис Талейран" (М., 1988. 1-е изд., 1989, 2-е изд.), книга издана на русском,
армянском, болгарском и польском языках, "Дипломатия Людовика XIV" (М., 1991), а также
многих статей по истории Франции и международным отношениям.
КАРЛОВ Леонид Петрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии
Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева.
МАЛЬКОВ Виктор Леонидович, доктор исторических наук, профессор, лауреат
Государственной премии, заведующий отделом историко-теоретических проблем Института
всеобщей истории РАН, автор монографий "Рабочее движение в США в период мирового
экономического кризиса 1924-1933 гг." (М., 1961), " "Новый курс" в США. Социальные
движения и социальная политика" (М., 1973), "Франклин Рузвельт. Проблемы внутренней
политики и дипломатии: историко-документальные очерки" (М., 1988) и ряда других
исследований, один из авторов и редакторов "Истории США" в 4-х томах (М., 1983-1986).
МОГИЛЬНИЦКИЙ Борис Георгиевич, доктор исторических наук, профессор, заве¬
дующий кафедрой истории древнего мира и средних веков Томского государственного
университета, автор монографии "Политические и методологические идеи русской
либеральной медиевистики середины 70-х гг. XIX в. - начала 1900-х гг." (Томск, 1969), "О
природе исторического познания" (Томск, 1978), "Американская буржуазная "психоистория"
(Критический очерк)" (в соавторстве. Томск, 1985), "Введение в методологию истории" (М.,
1989) и других исследований в области методологии истории и критики буржуазной
историографии.
ПАТРУШЕВ Александр Иванович, доктор исторических наук, профессор кафедры новой
и новейшей истории исторического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, автор монографий "Неолиберальная историография
ФРГ" (М., 1981), "Расколдованный мир Макса Вебера" (М., 1992) и ряда других работ по
западногерманской буржуазной историографии.
ТРОИЦКИЙ Николай Алексеевич, доктор исторических наук, член-корреспондент АЕН
РФ, профессор Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского,
автор многих научных публикаций.
ЧУДИНОВ Александр Викторович, кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Института всеобщей истории РАН, специалист по истории Англии и Франции
XVin в., автор ряда статей.
ШКУНДИН-НИКОЛАЕВ Григорий Давидович, младший научный сотрудник Института
славяноведения и балканистики РАН, специалист по новой и новейшей истории Болгарии,
международных отношений в Юго-Восточной Европе, автор ряда публикаций по данной
тематике.
255
ЧИТАЙТЕ В №6 НАШЕГО ЖУРНАЛА
’’Основные законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Рос¬
сийской Федерации и архивах"
Послы вручают верительные грамоты. Установление совецко-американских
дипломатических отношений в свете новых документов
Исчерпали ли себя христианская социальная мысль?
О подлинности постановлений политбюро ВКП (б), хранящихся в зарубежных
архивах
Медиевистика XX в. в изображении американского историка Н. Кантора
Новая политизация истории или научный плюрализм?
Современная россицская историография: в чем выход из кризиса
Записки дипломата о работе в Китае в 1942-1952 г.г.
Г. В. Плеханов - трагическая жизнь
О судьбе золотого запаса России в 1918 - 1920 г.г.
Британская монархия: искусство выражения
Академик Владимир Михайлович Хвостов
Вандея
Уважаемые читатели !
Подписаться на журнал ’’ Новая и новейшая история" на первое полугодие 1994 г.
можно в любом почтовом отделении. Индекс 70620. Цена за I номер 80 руб. + почто¬
вая доставка.
Жители Москвы и Московской области могут сэкономить на доставке подписав¬
шись в редакции, и там же гарантированно получать все номера журнала сразу же
после их выхода из печати.
Технический редактор Е.Н. Ларкина
Сдано в набор 29.06.93 Подписано к печати 19.08.93 Формат бумаги 70Х100 */16
Печать офсетная Усл.печ.л. 20,8 Усл.кр.-отт. 235,7 тыс. Уч.-изд.л. 25,6 Бум.л. 8,0
Тираж 11203 экз. Зак. 59 Цена 20 р.
Адрес редакции: Москва, 103717, ГСП, Подсосенский пер., 21. Тел. 227-04-45, 227-19-93
Московская типография № 2 ВО "Наука", 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6
«наука»
20 р.
Индекс 70620
ISSN 0130 3854 Новая и новейуимгисгири!, 5, 1993