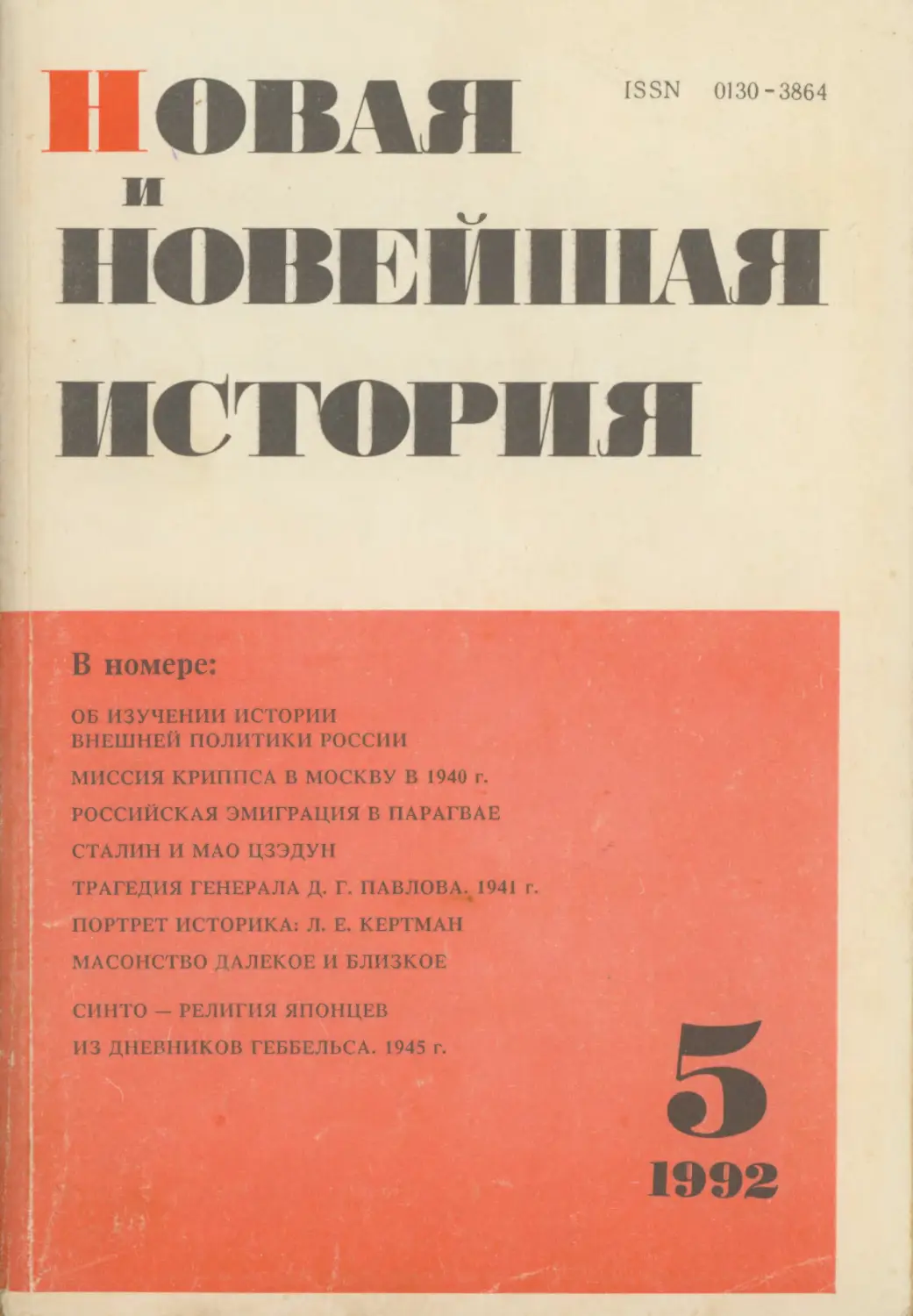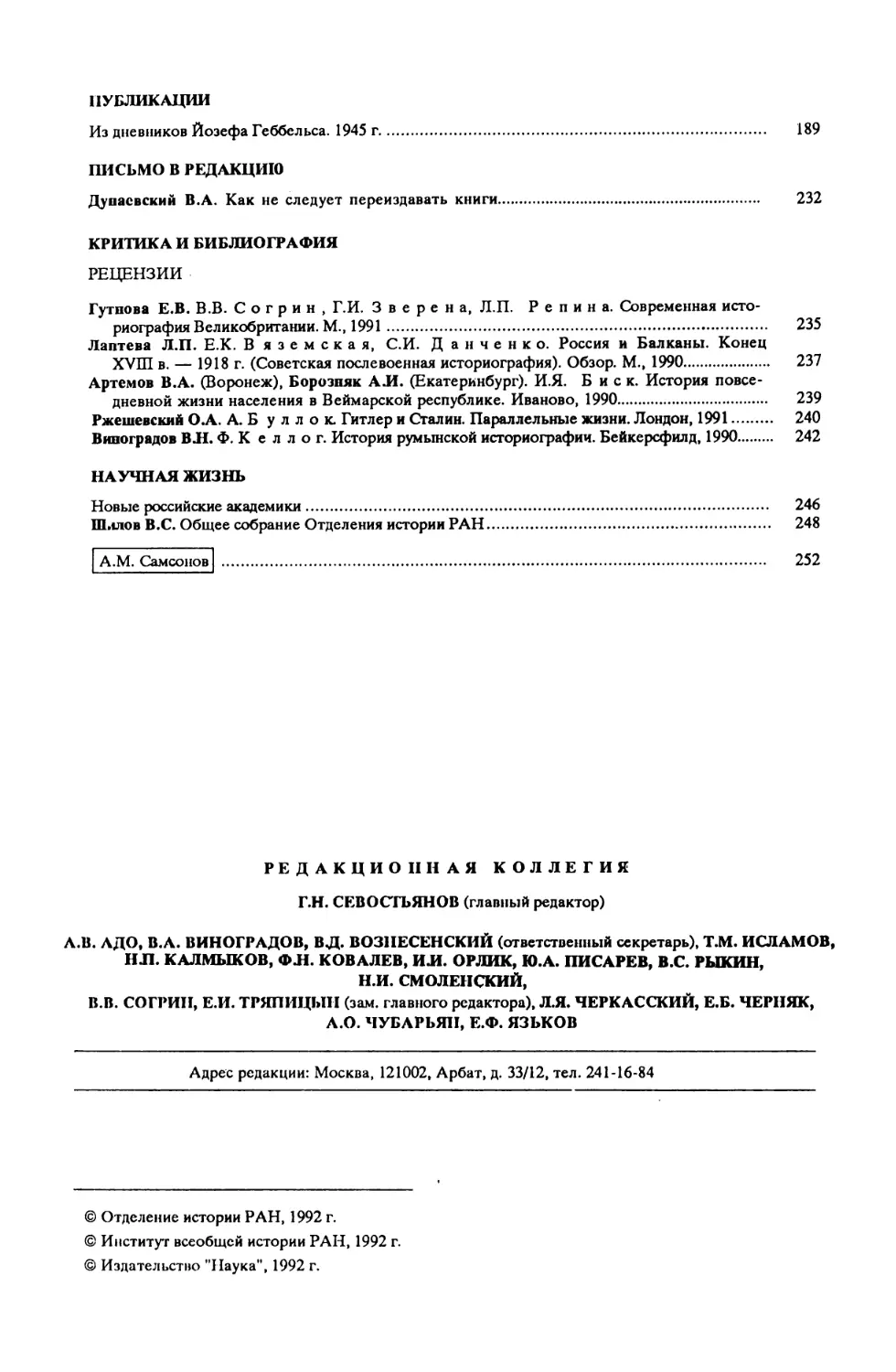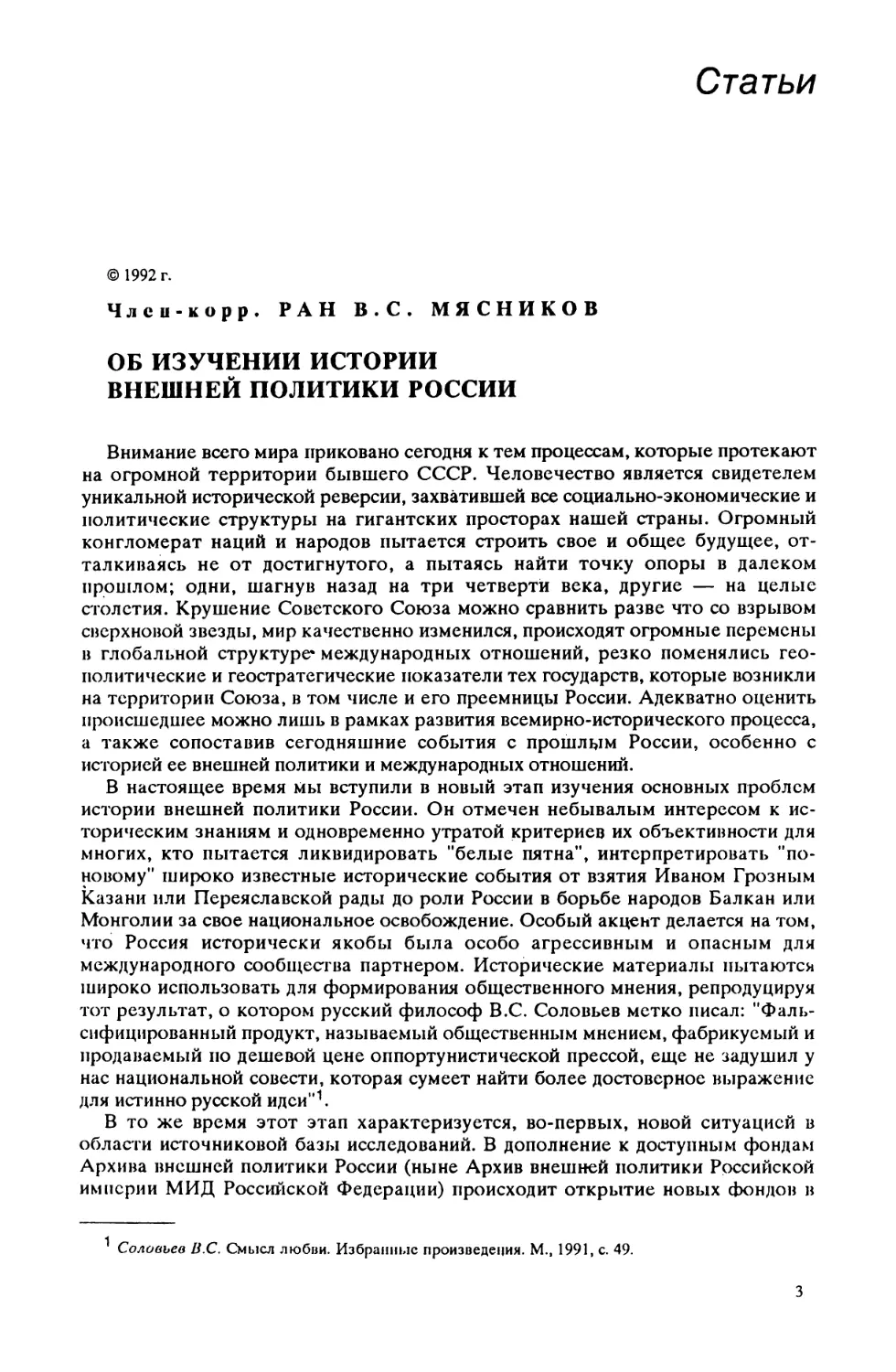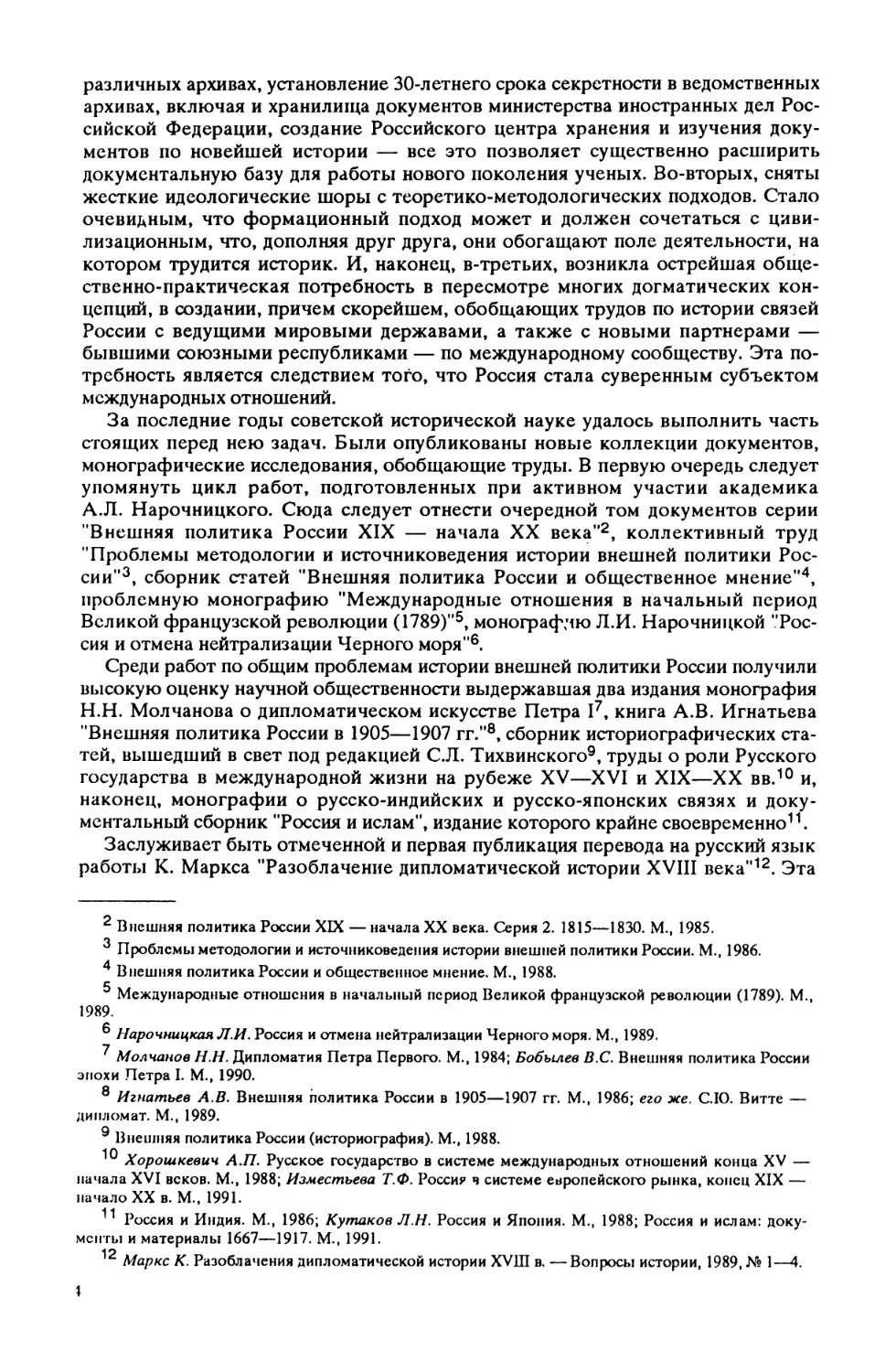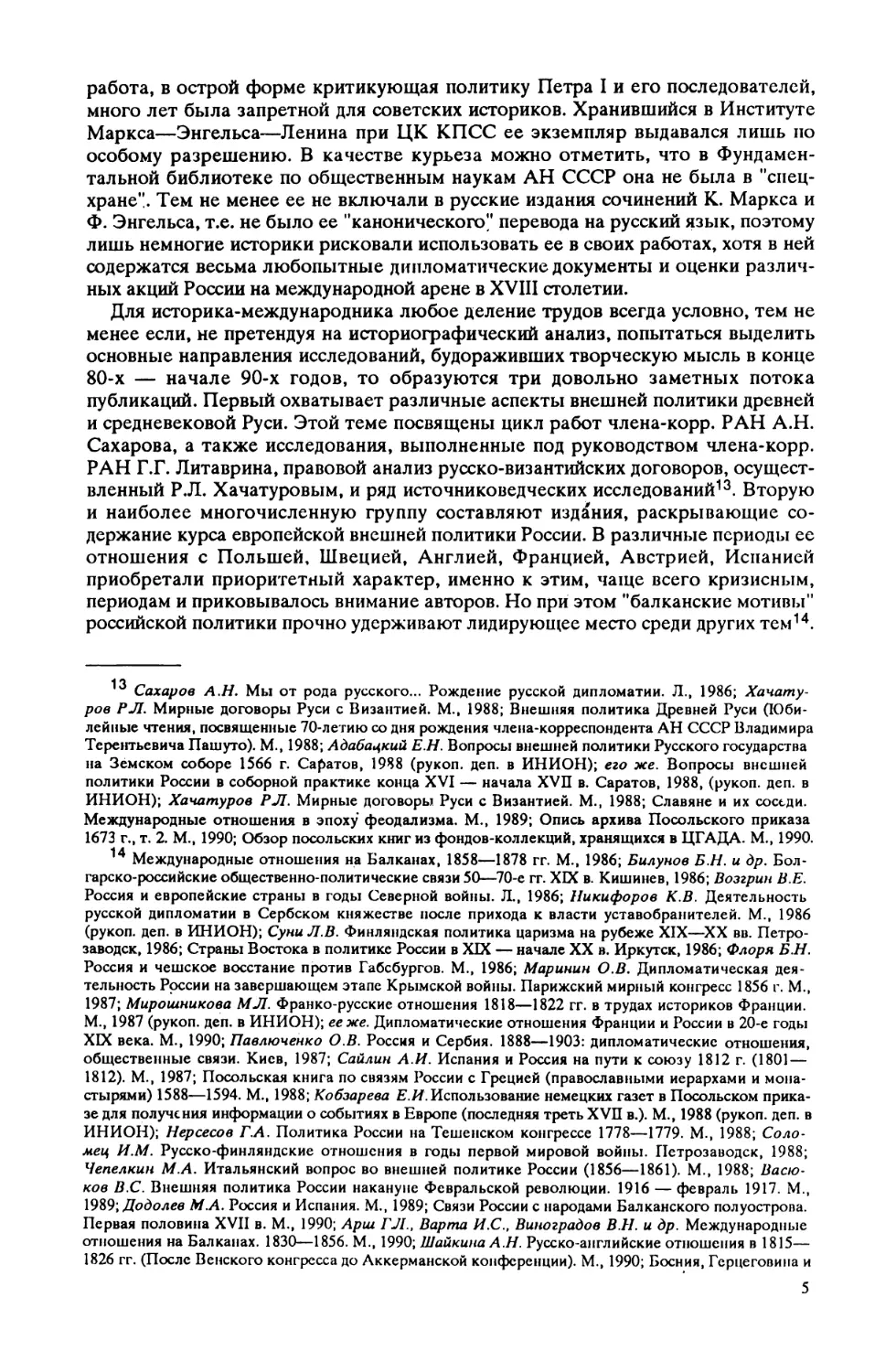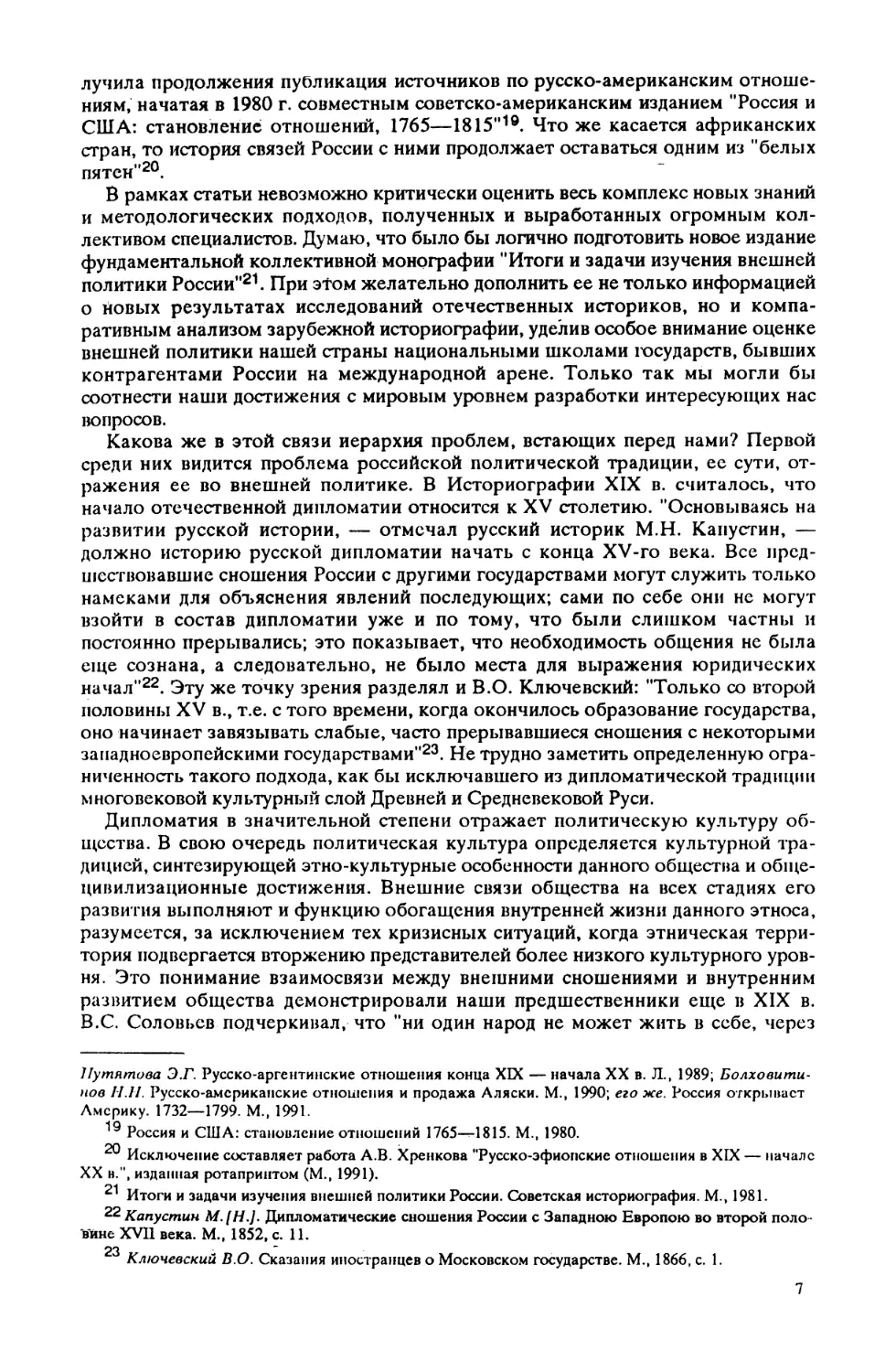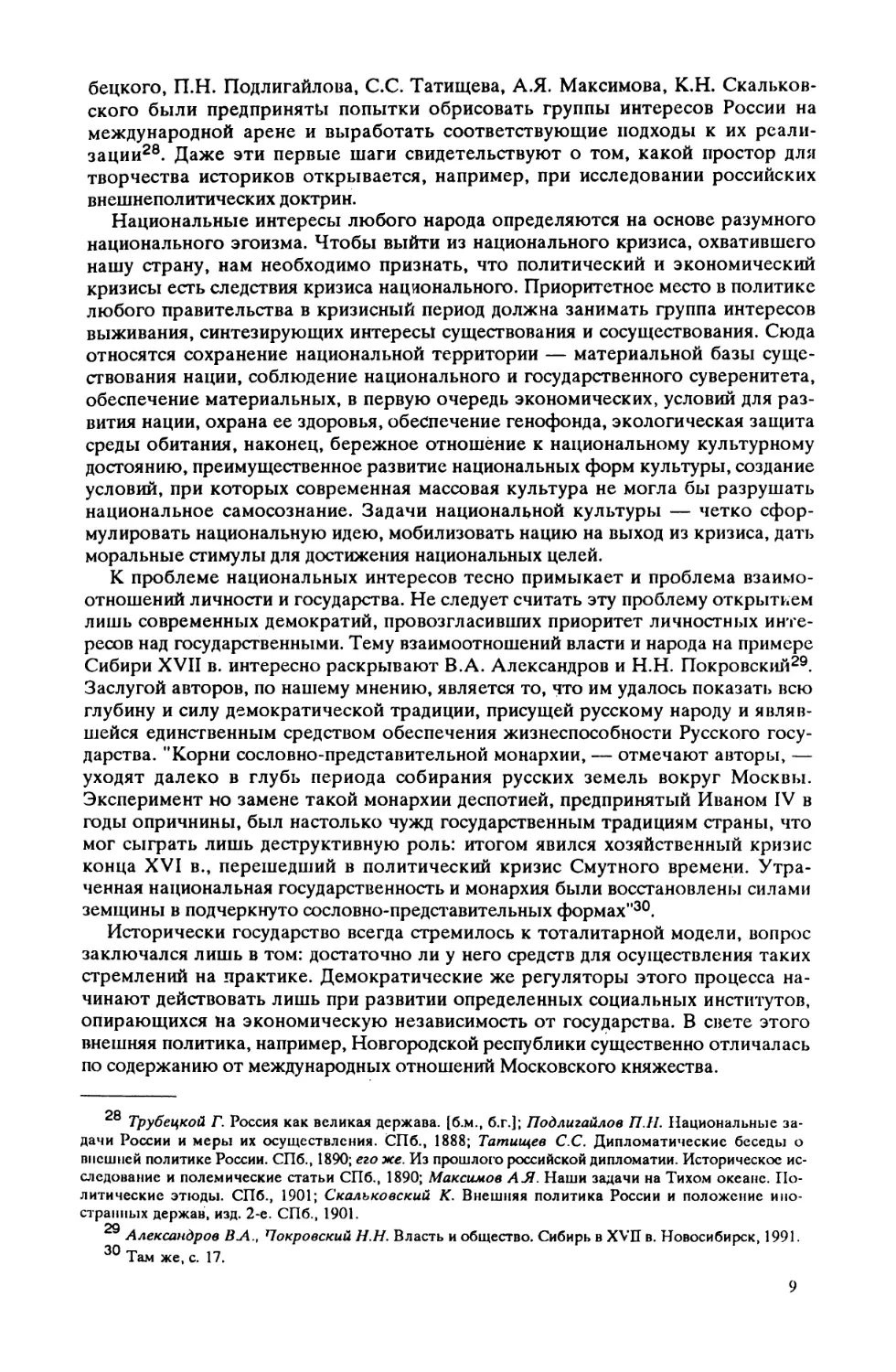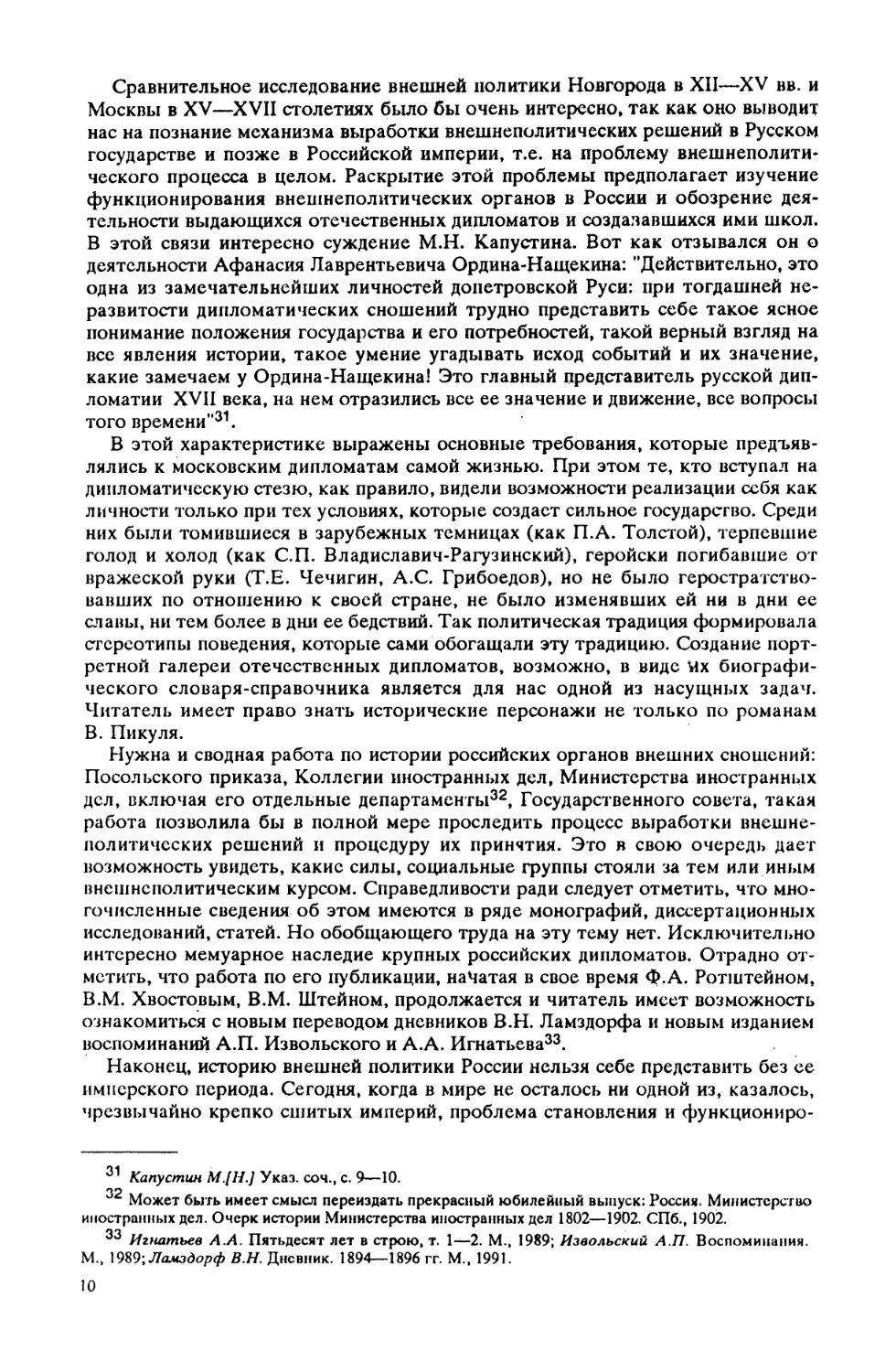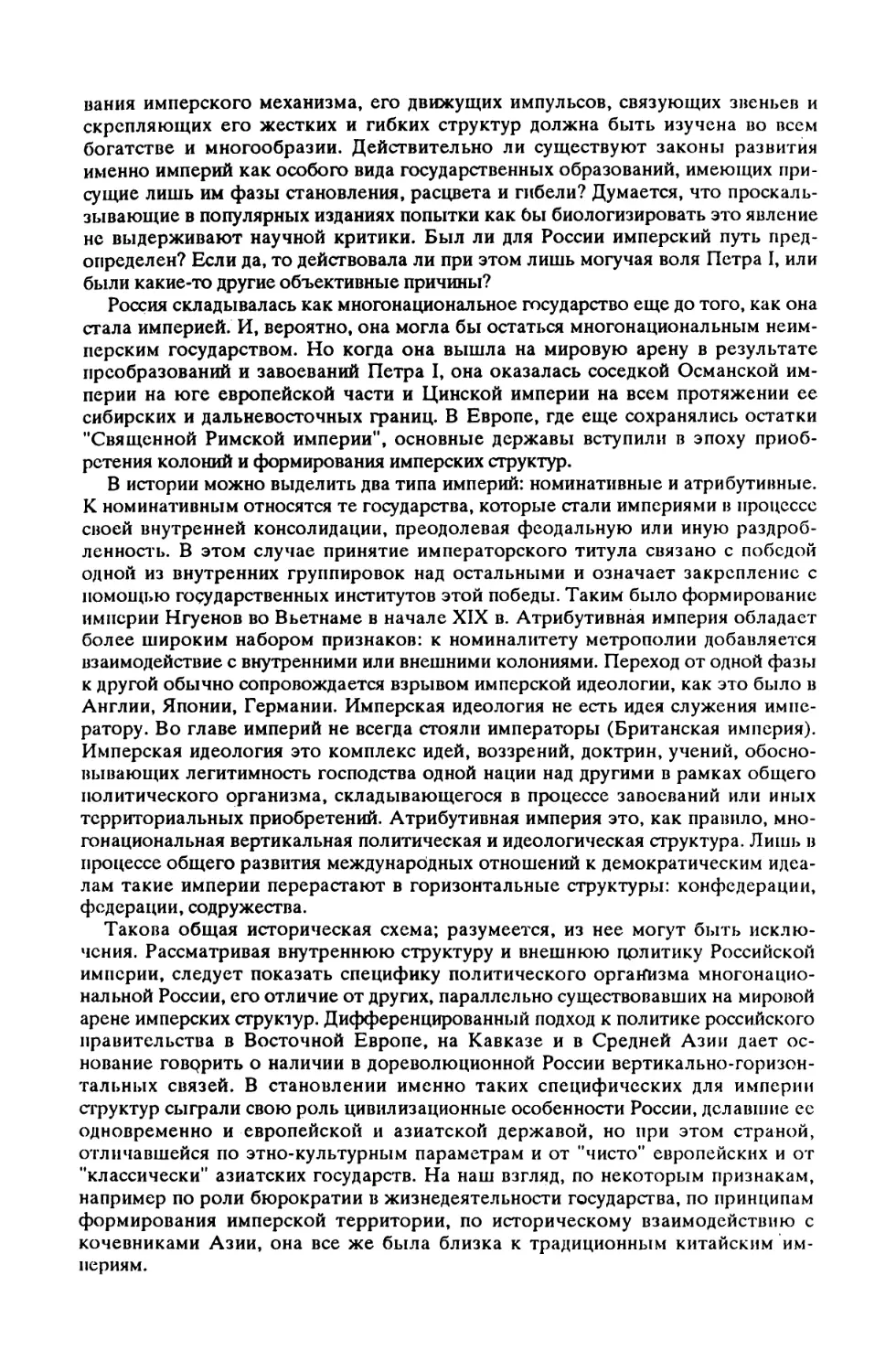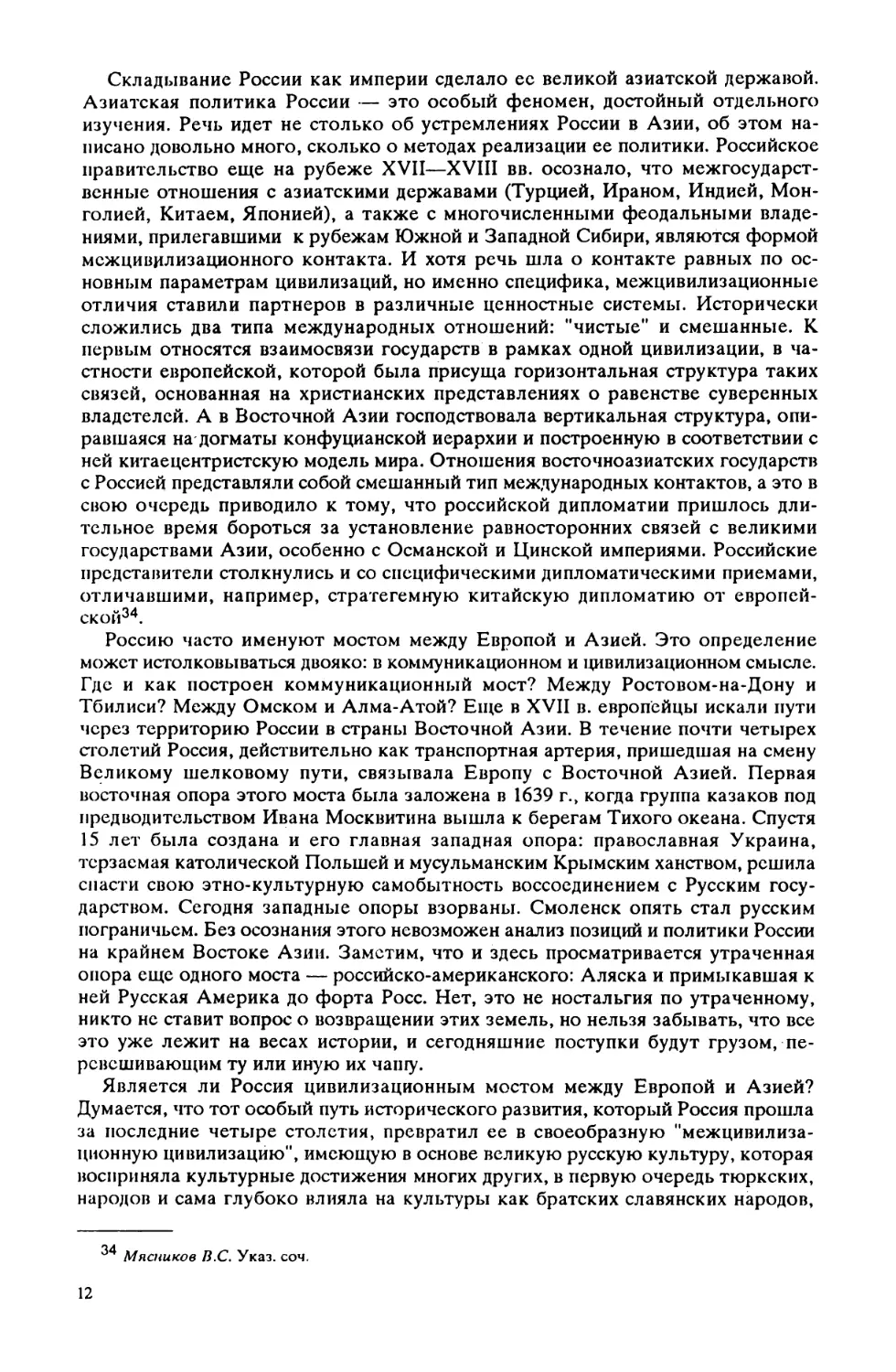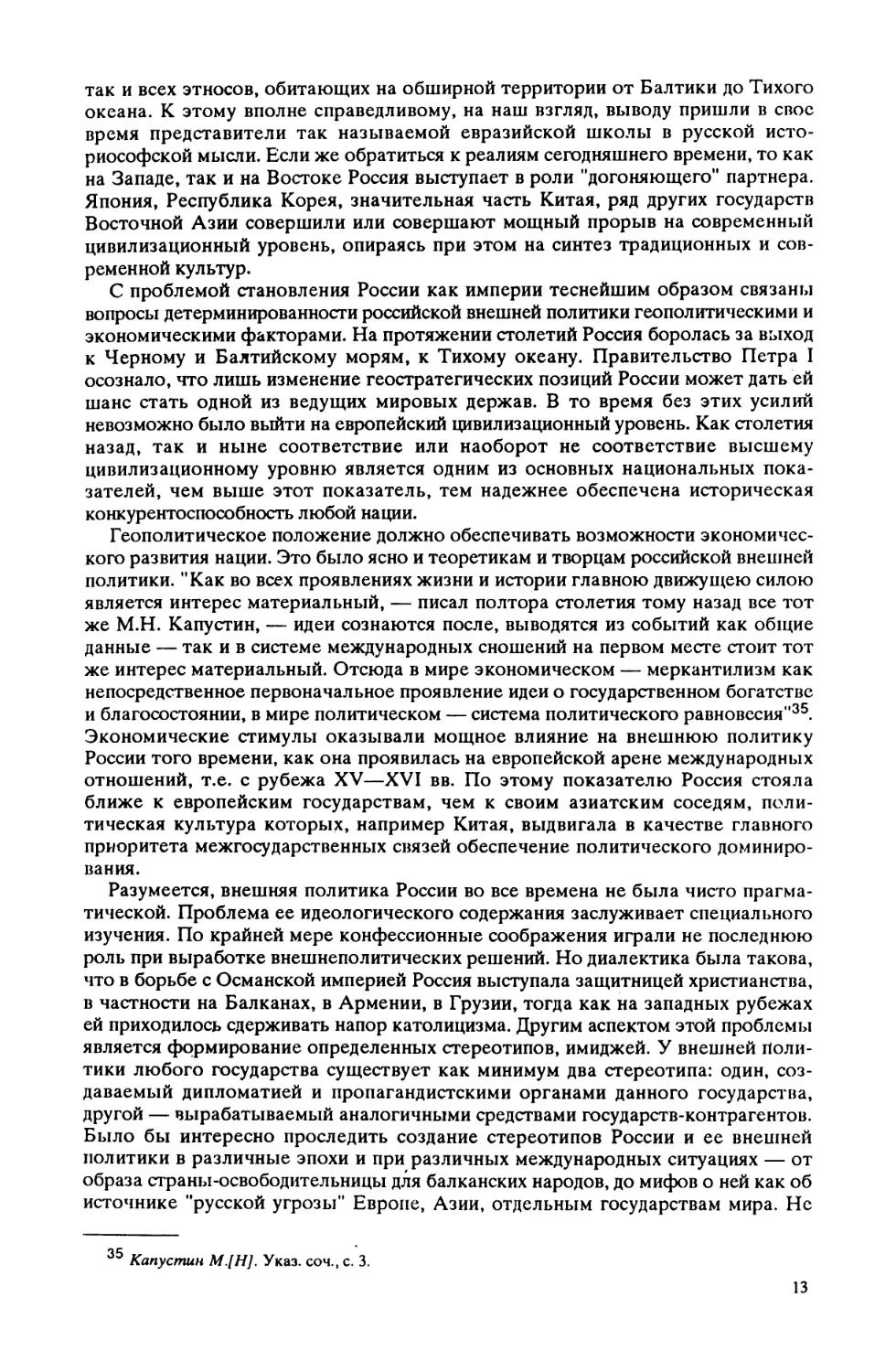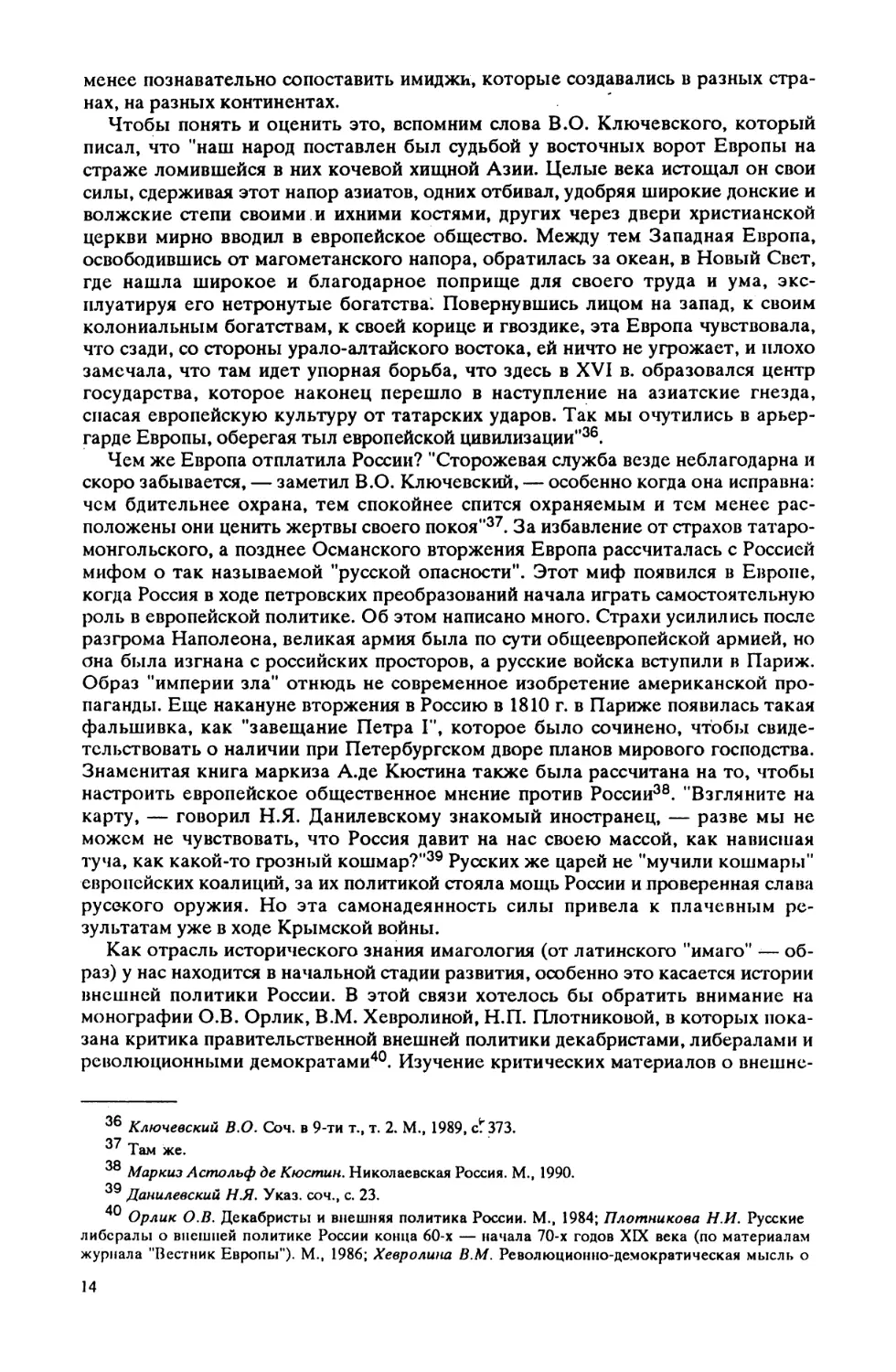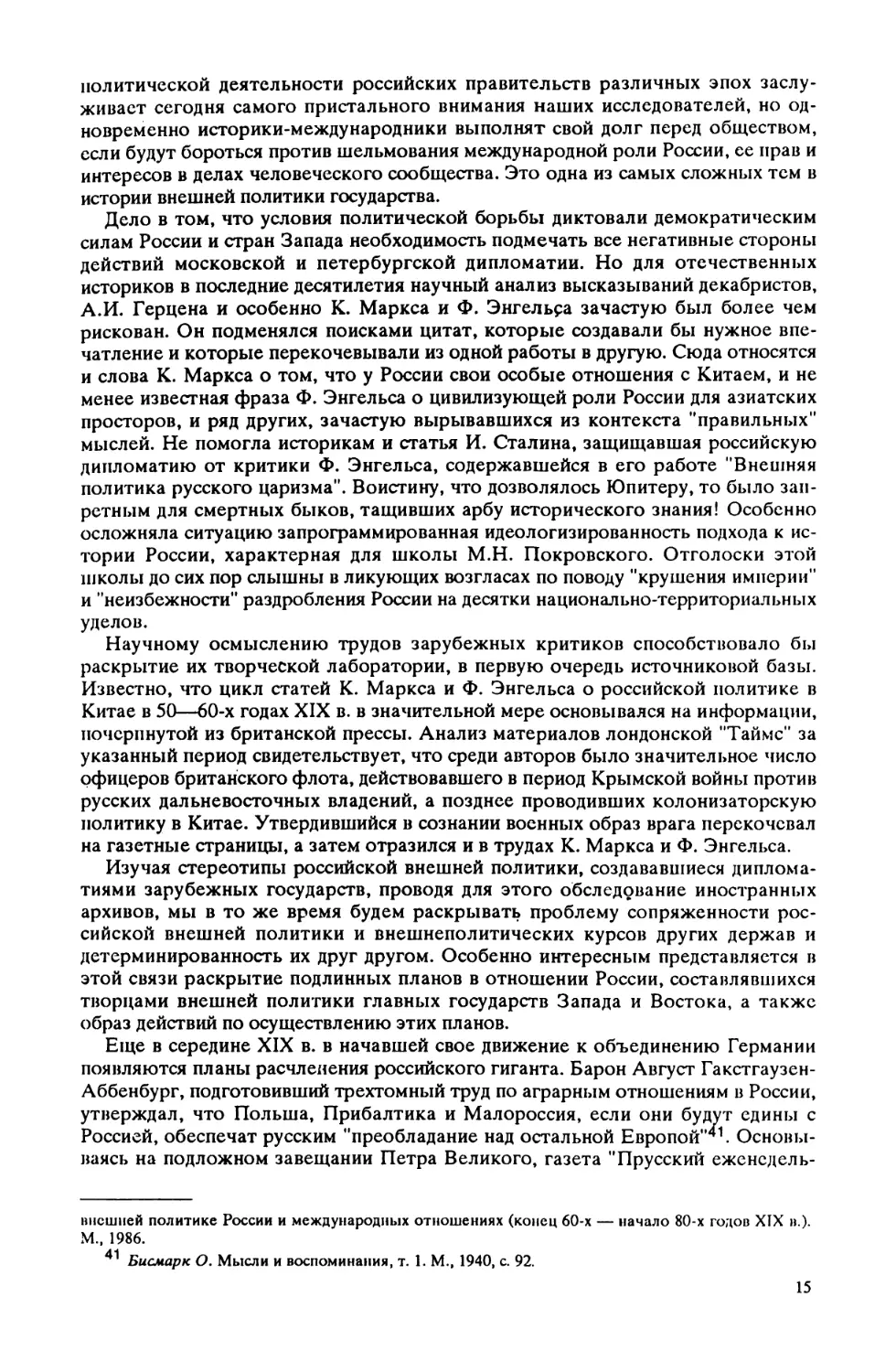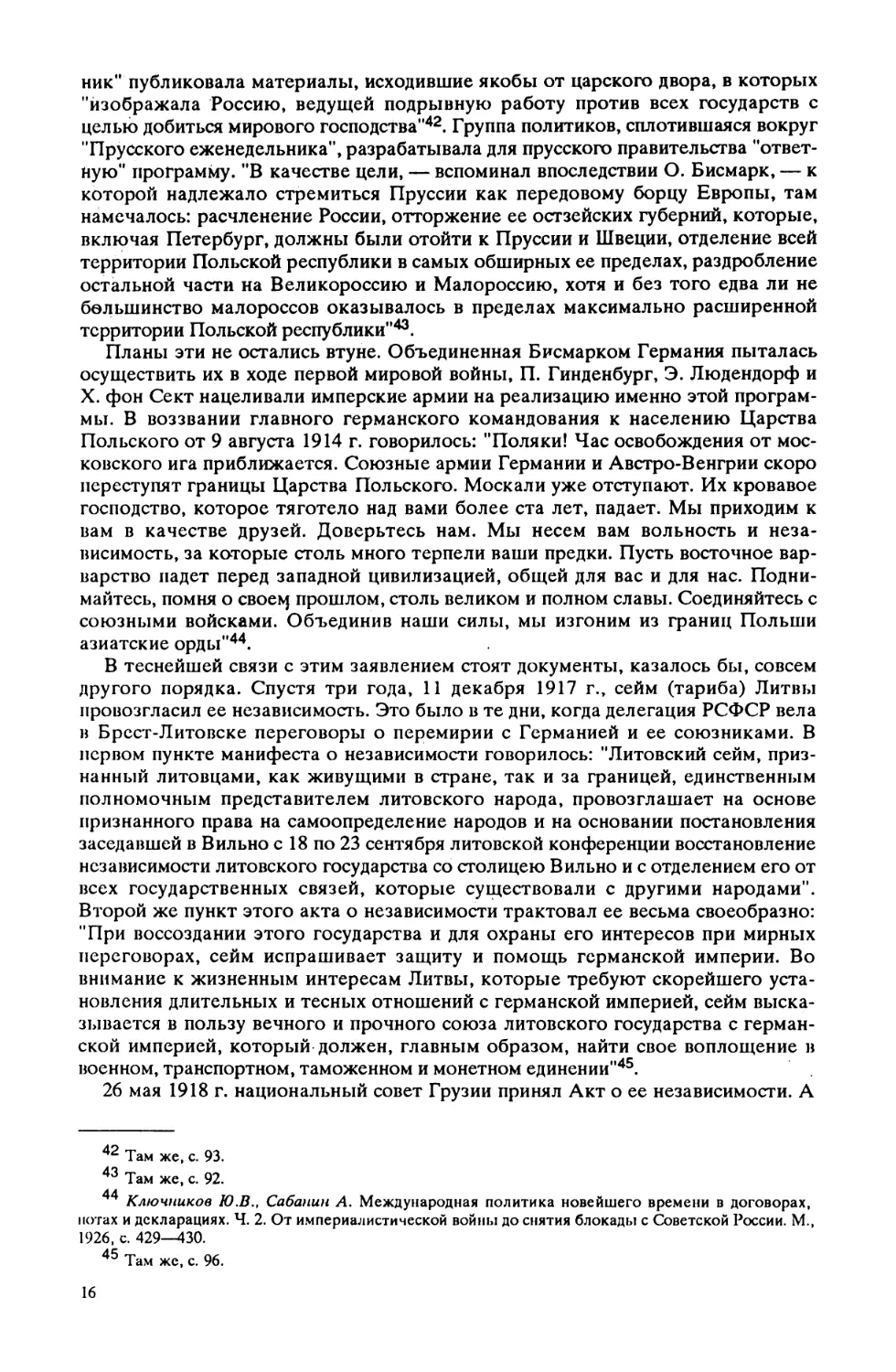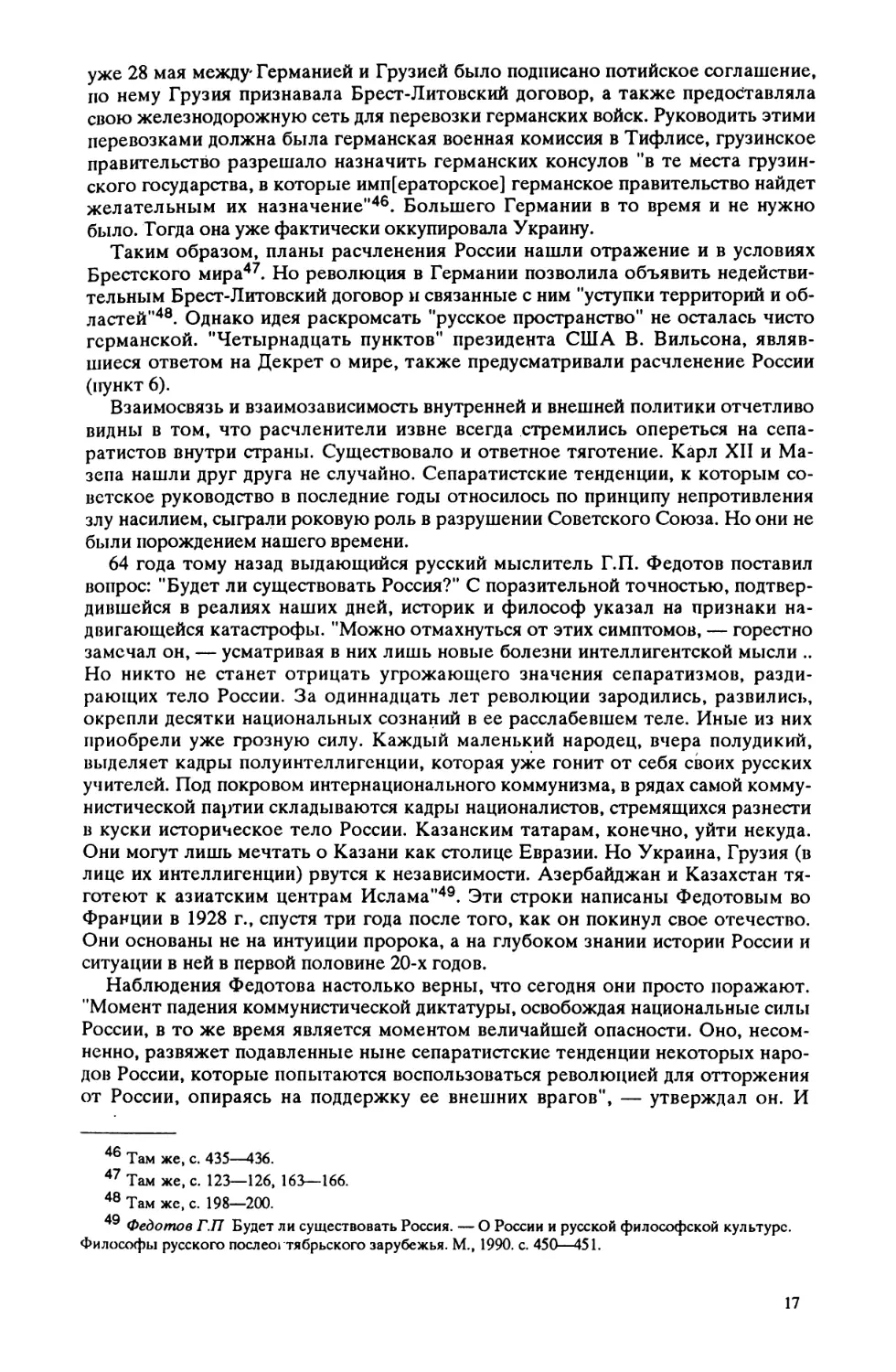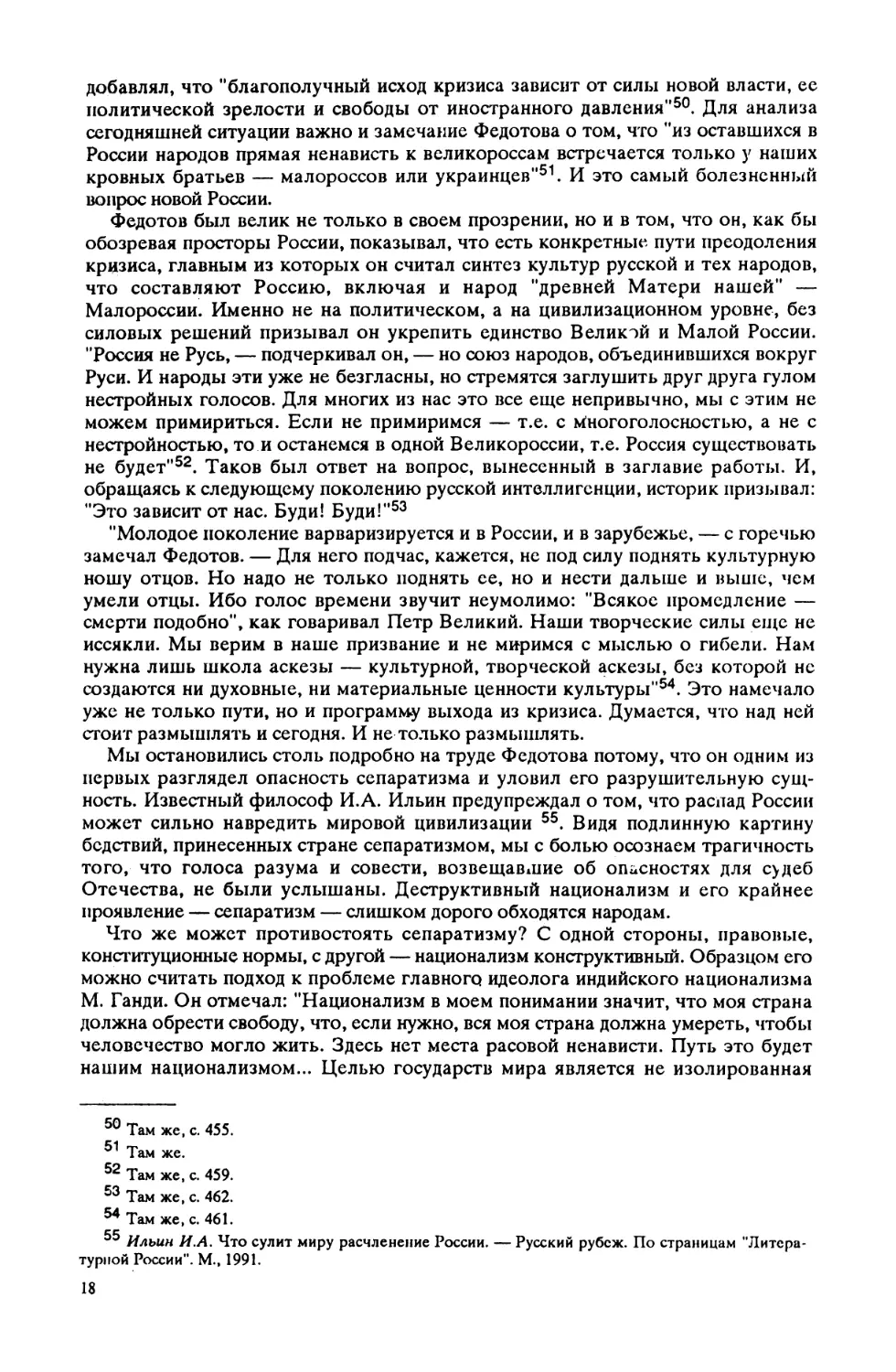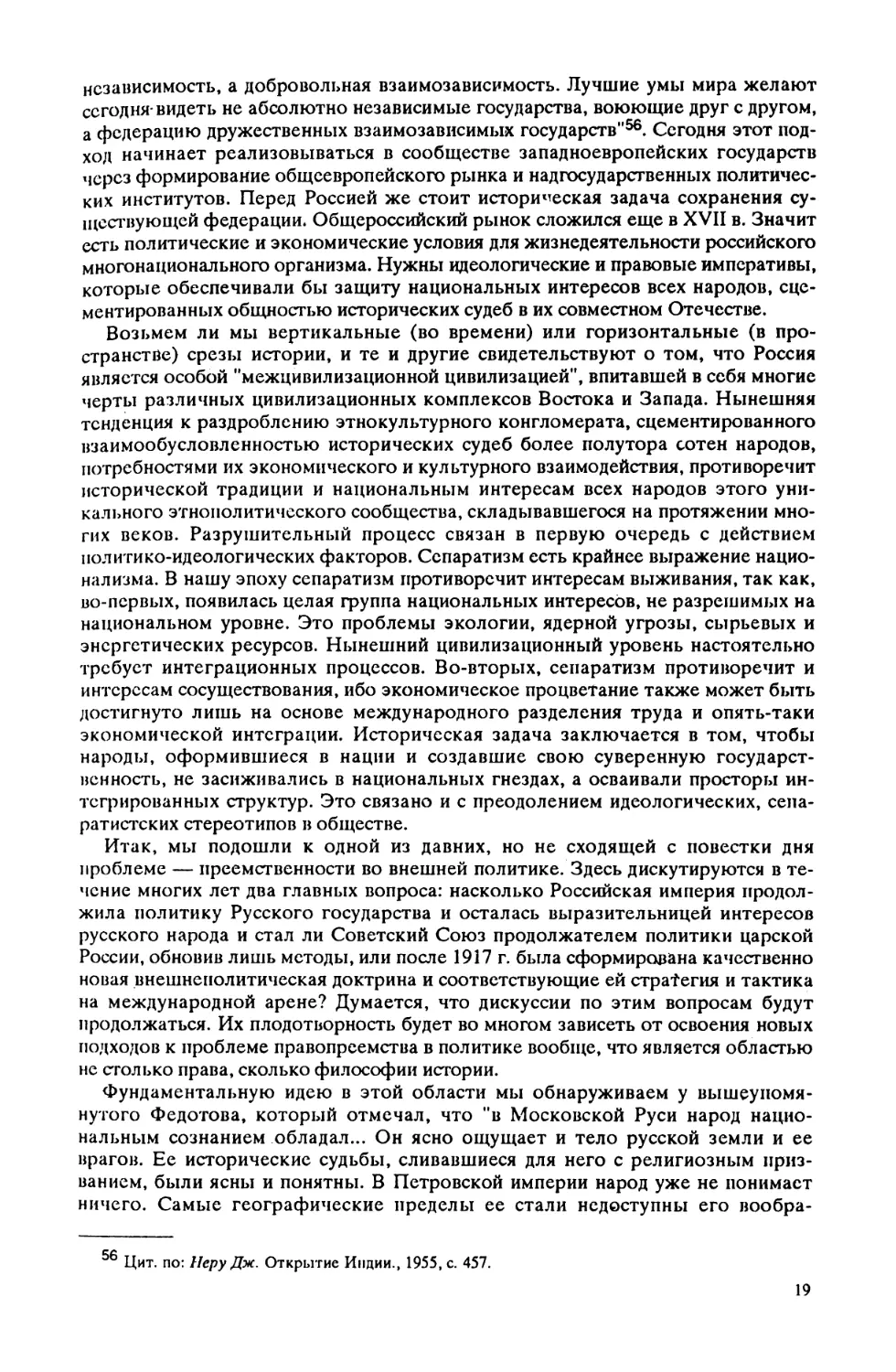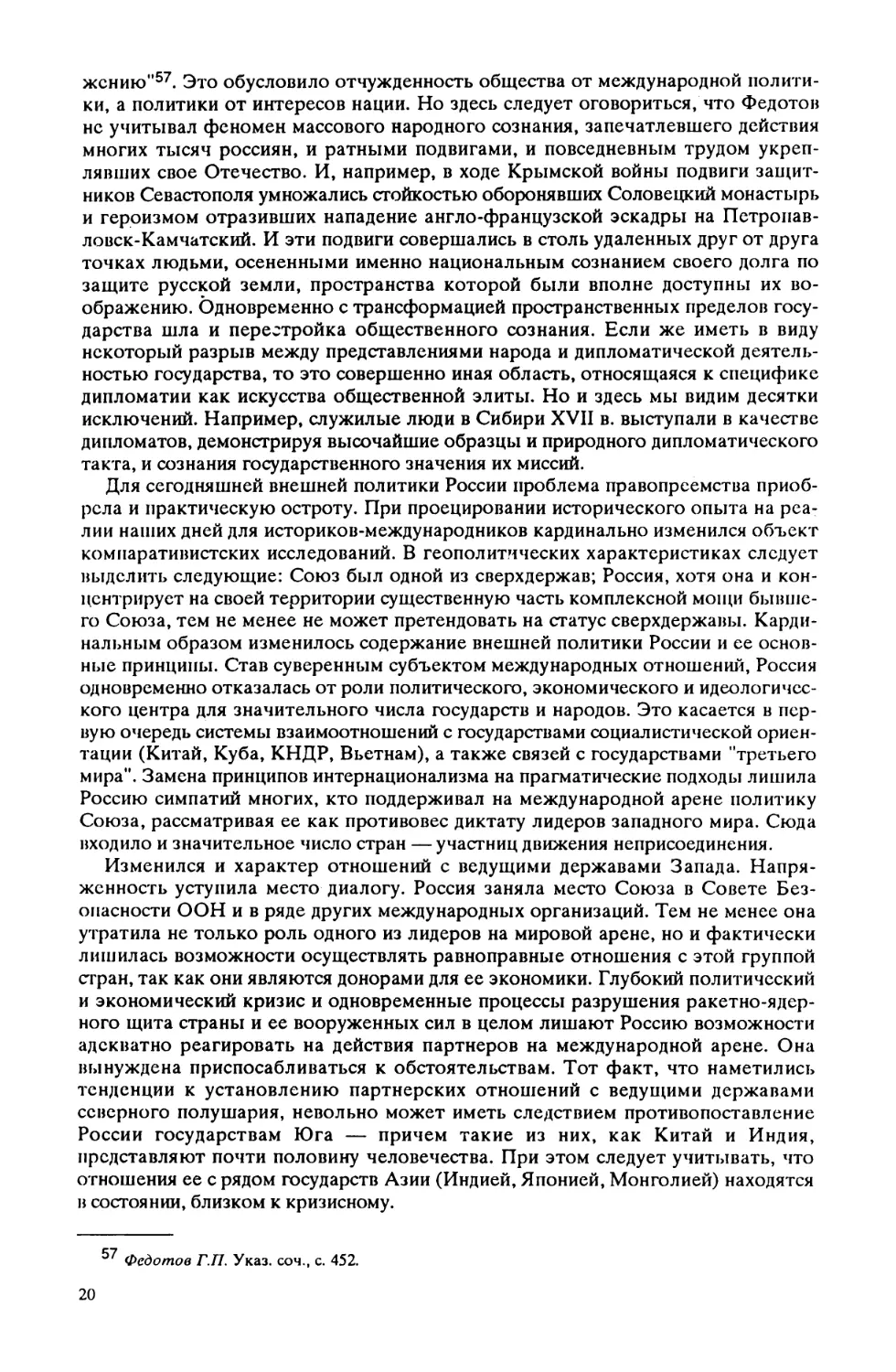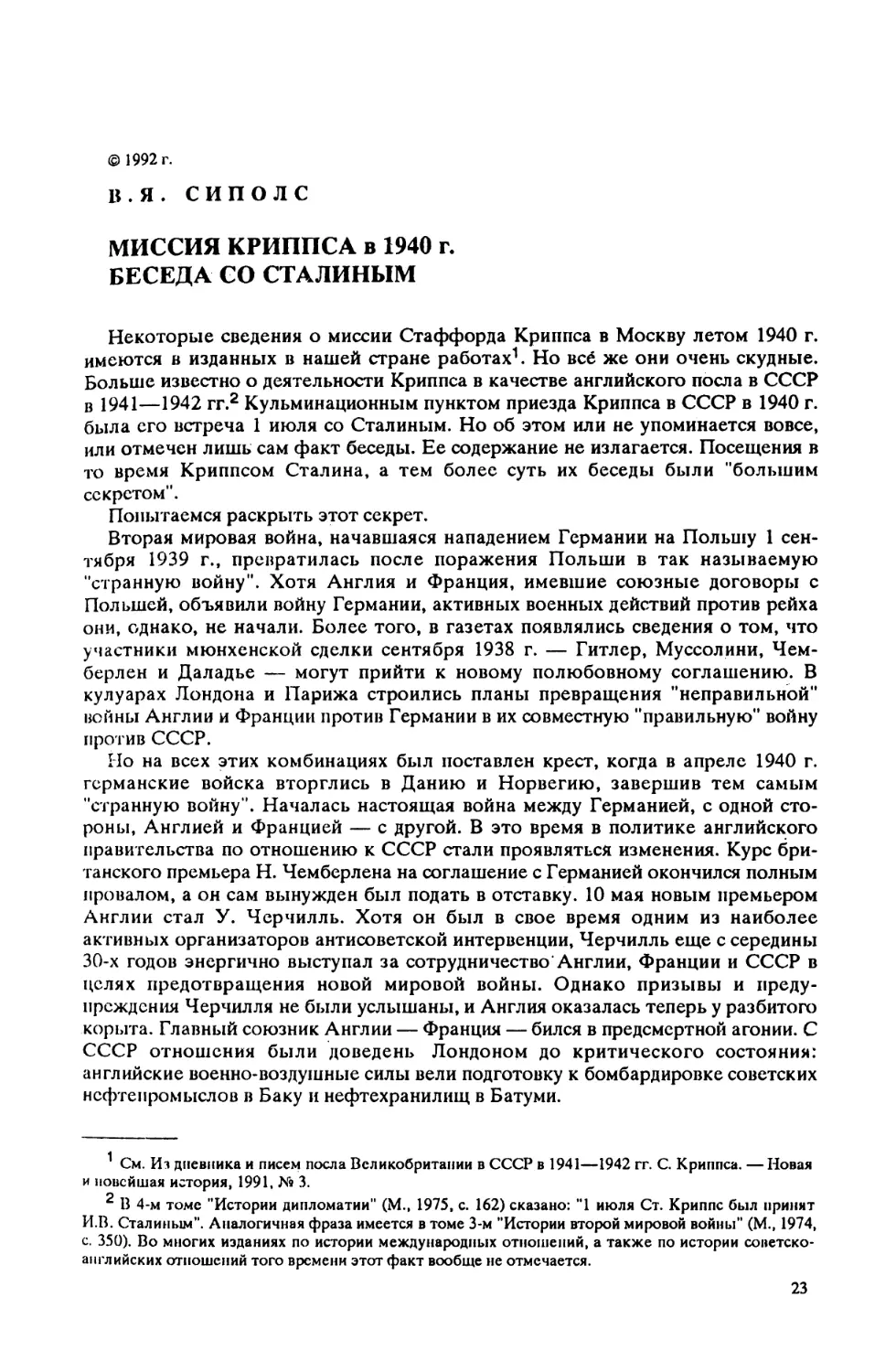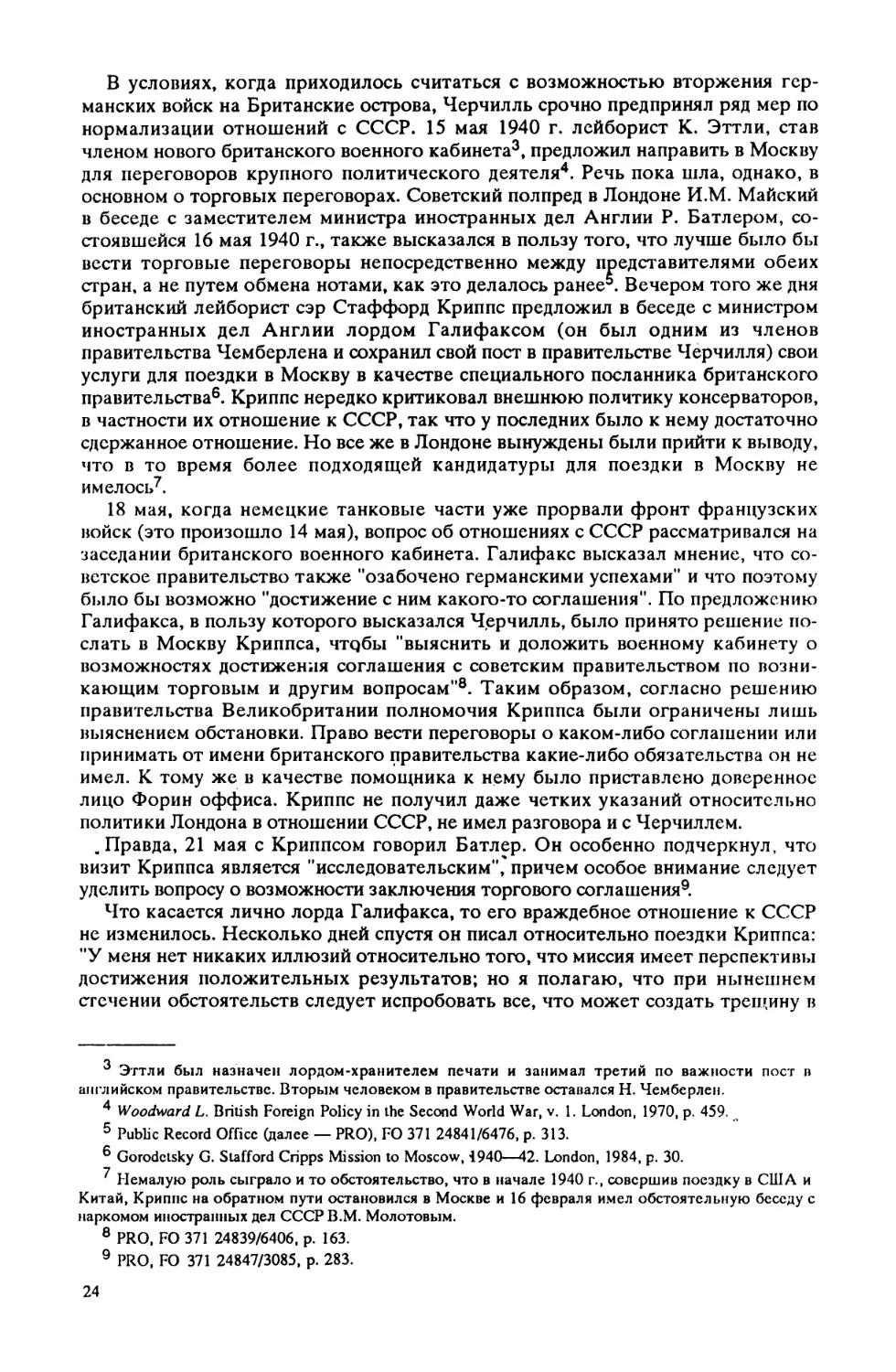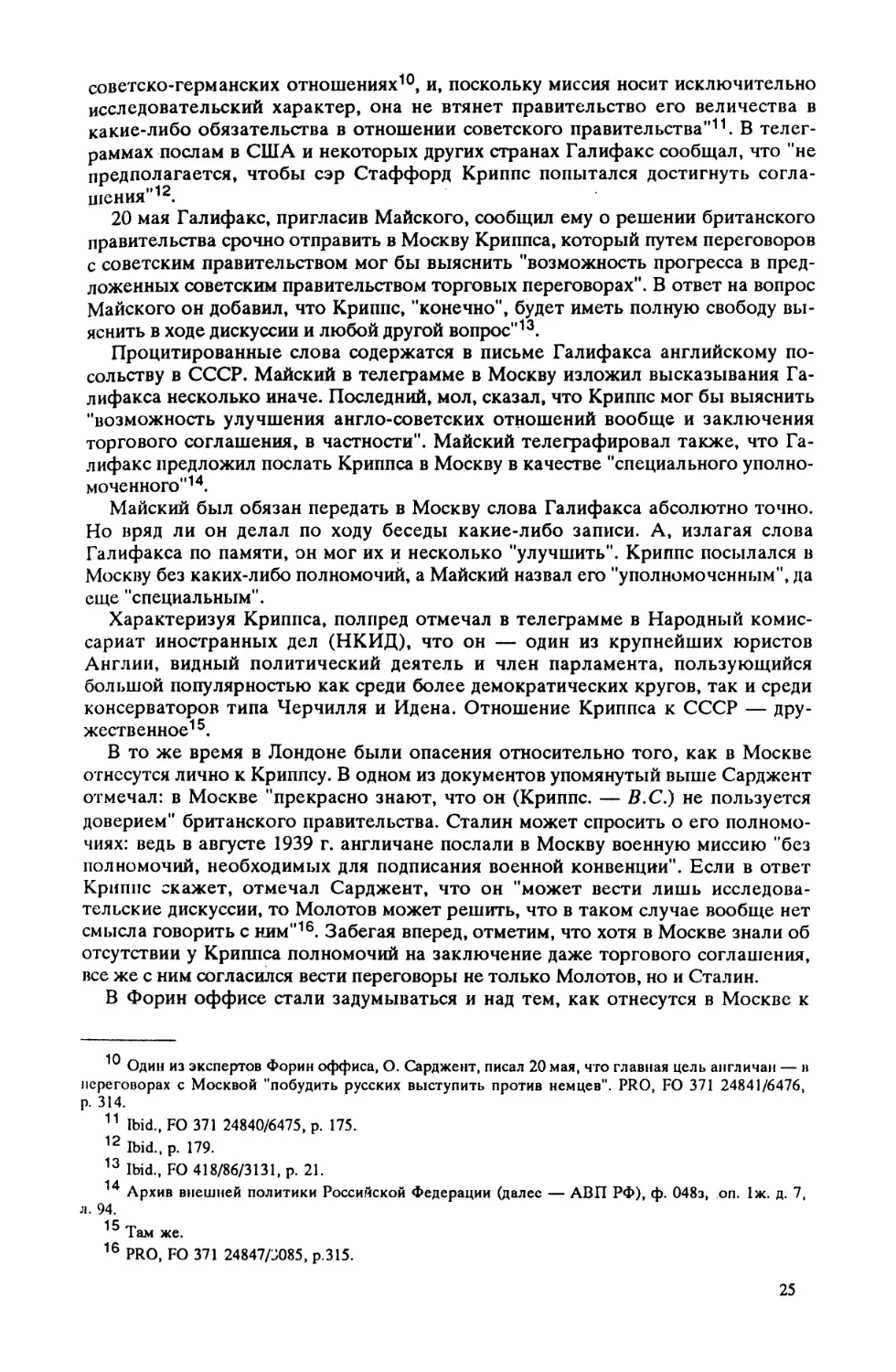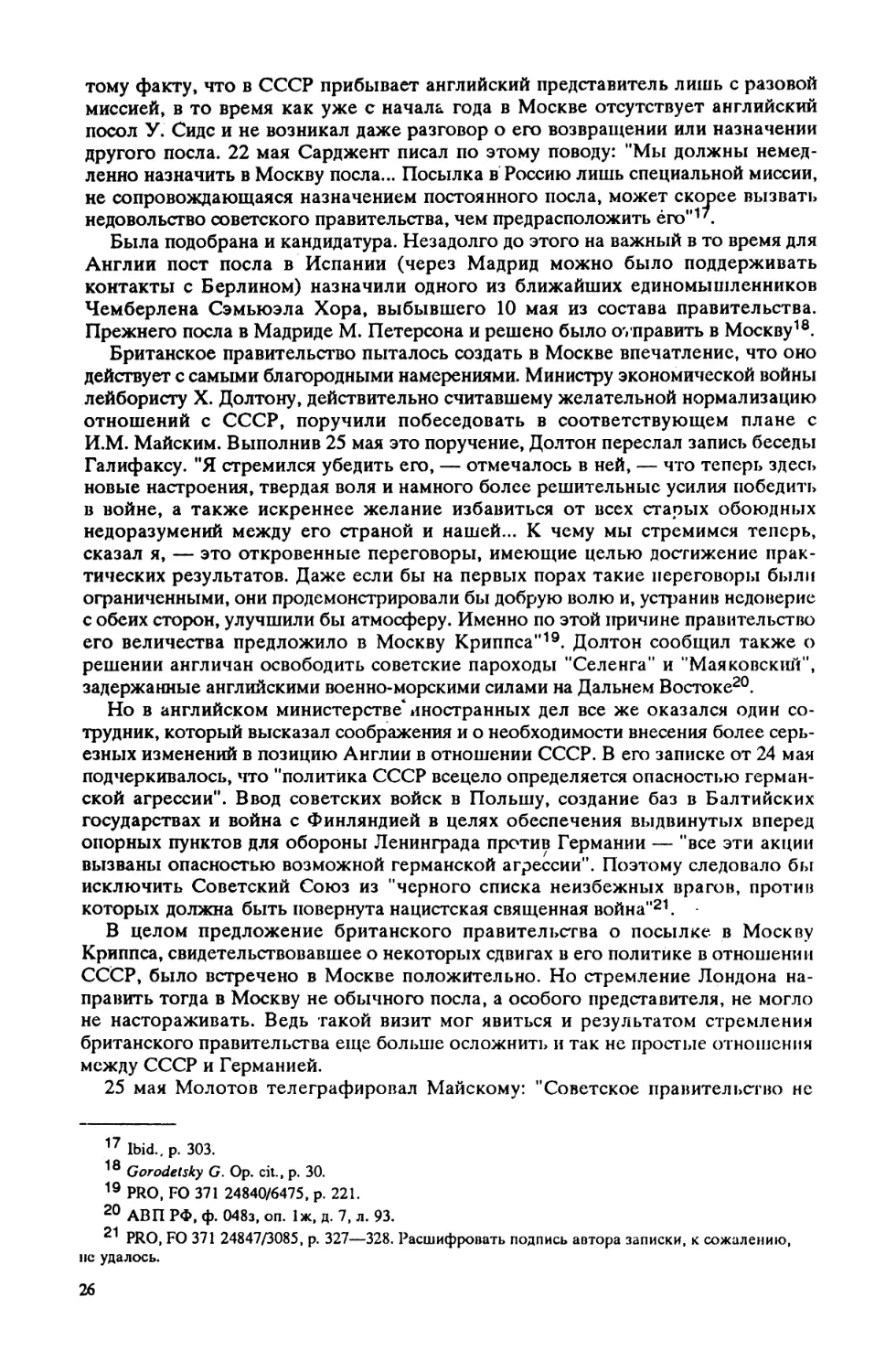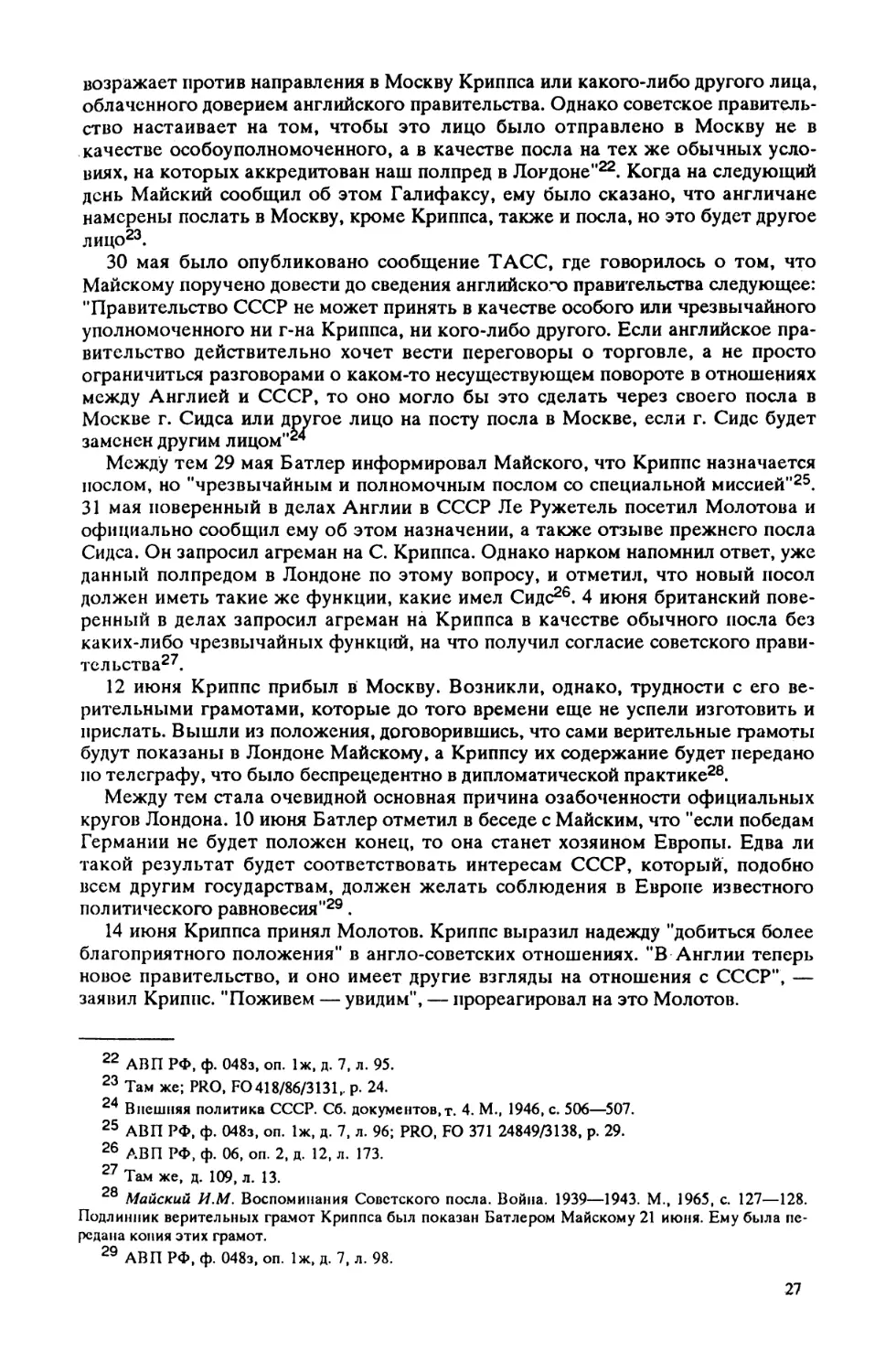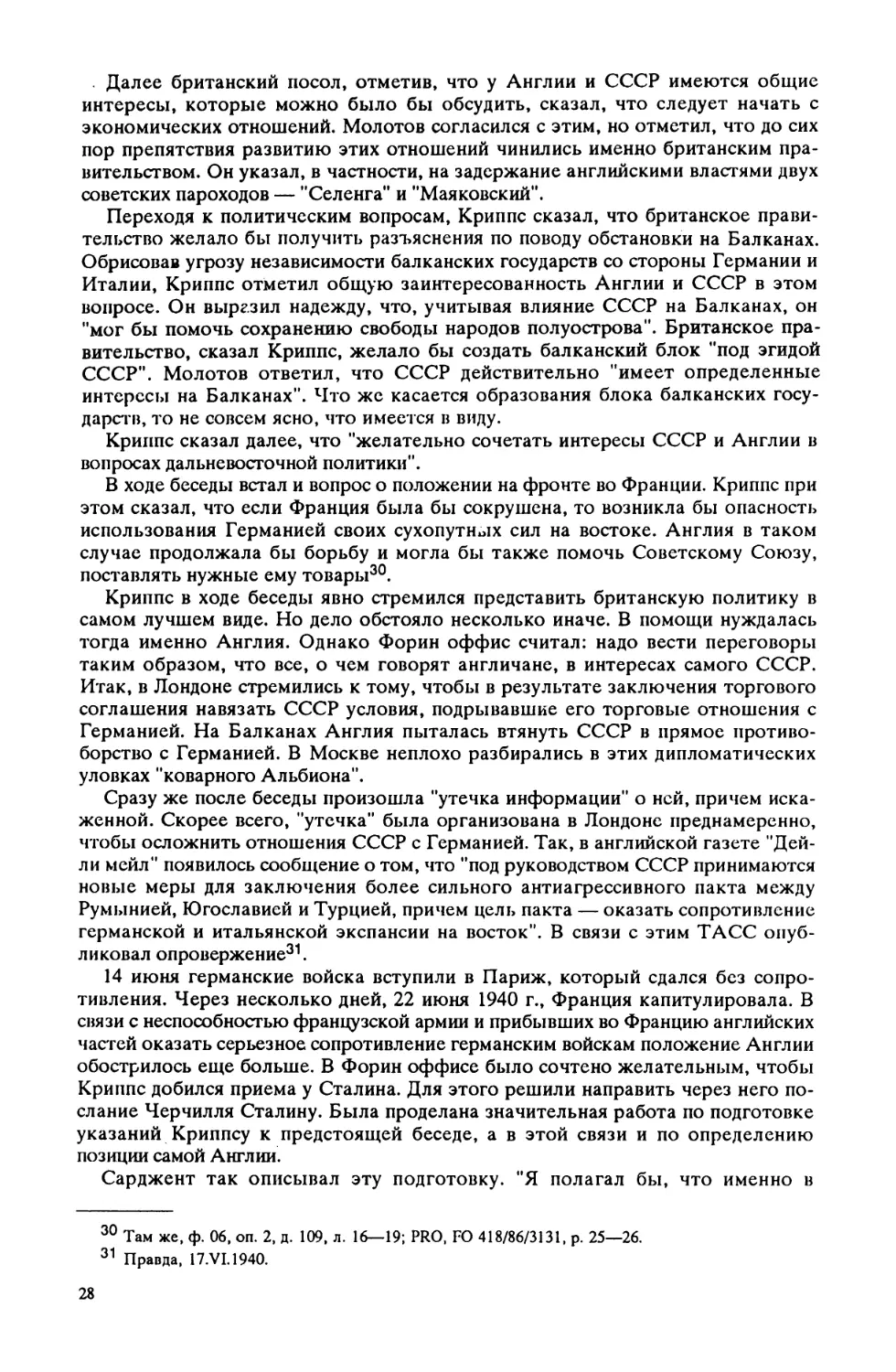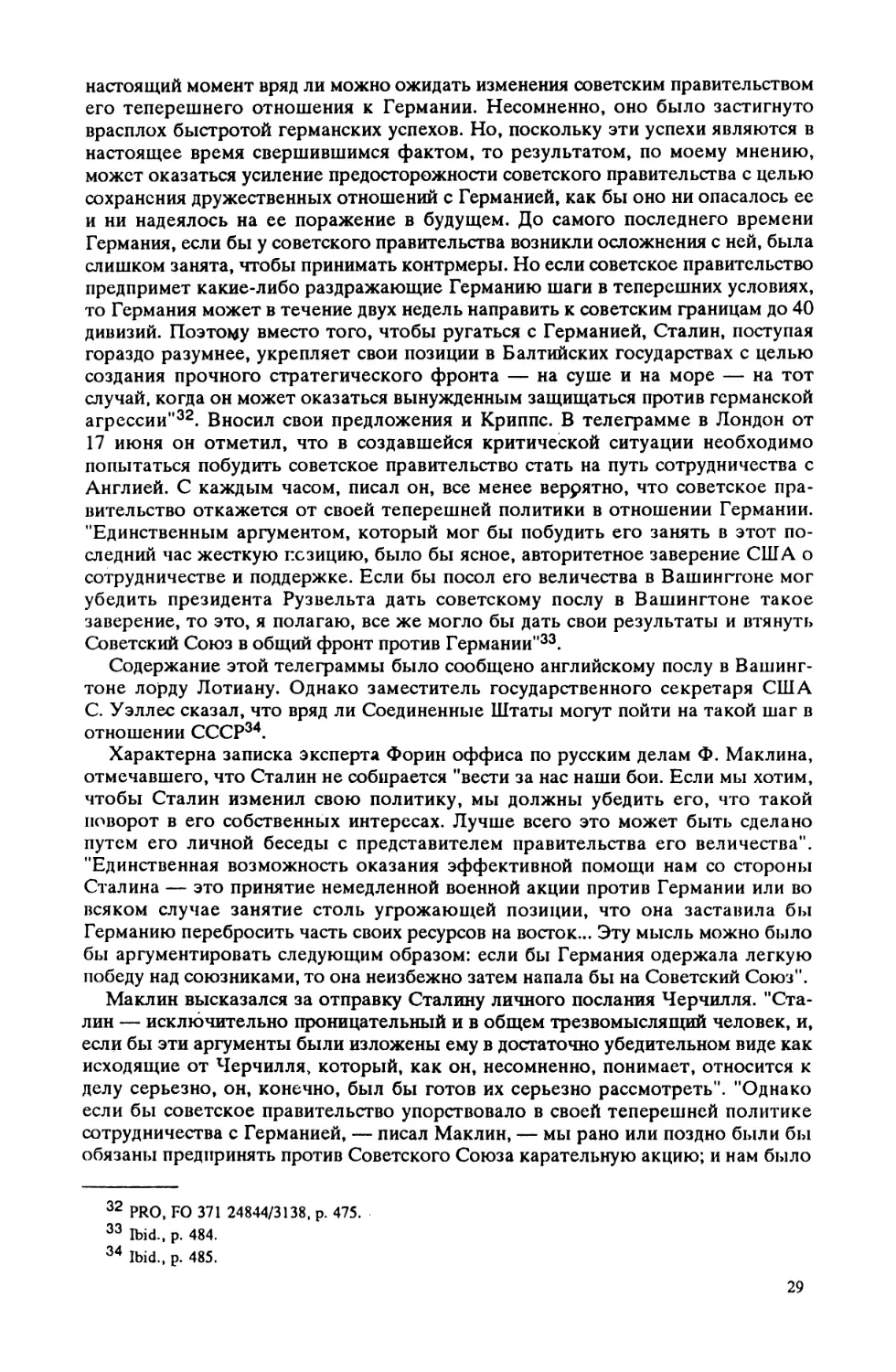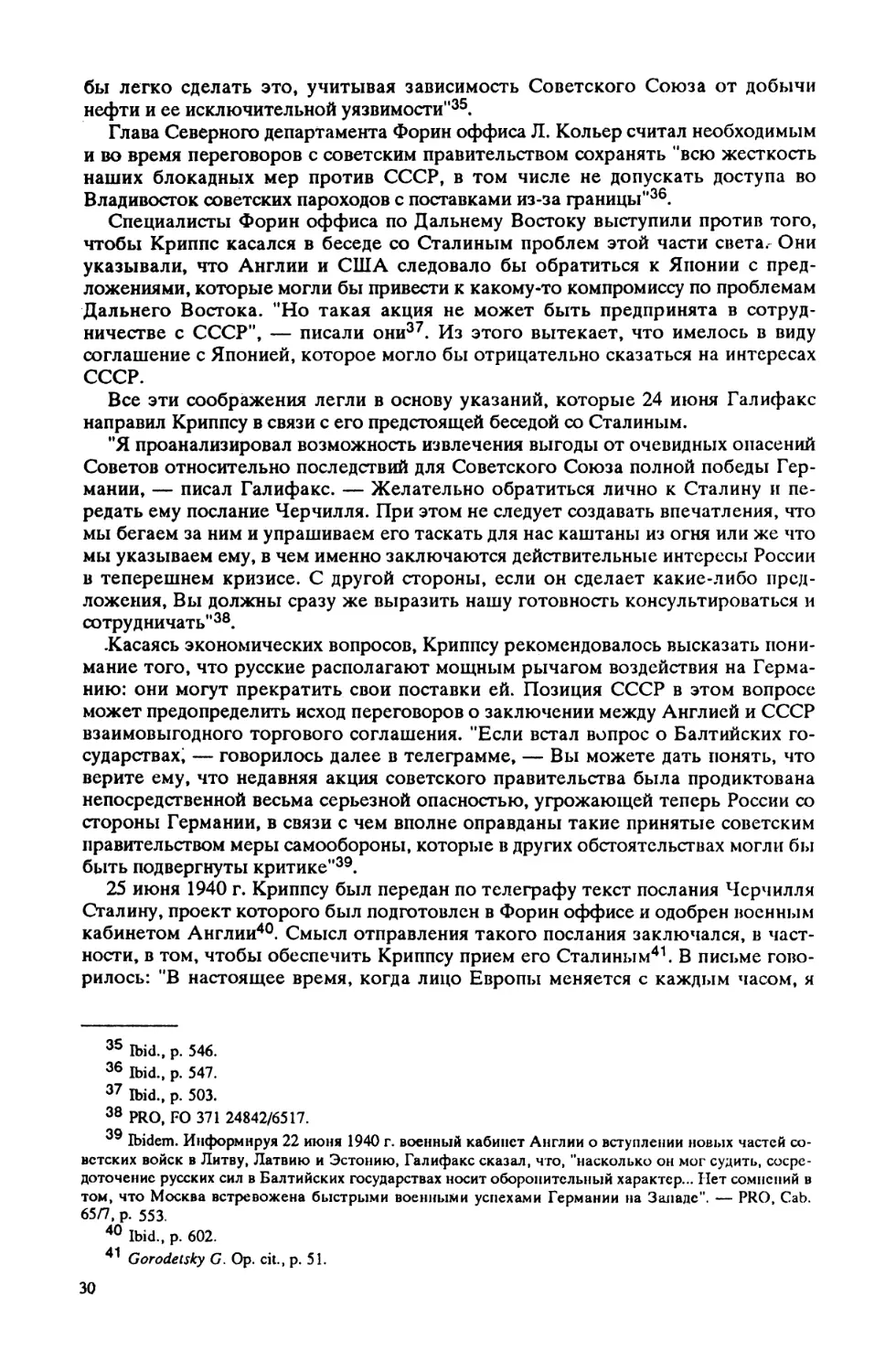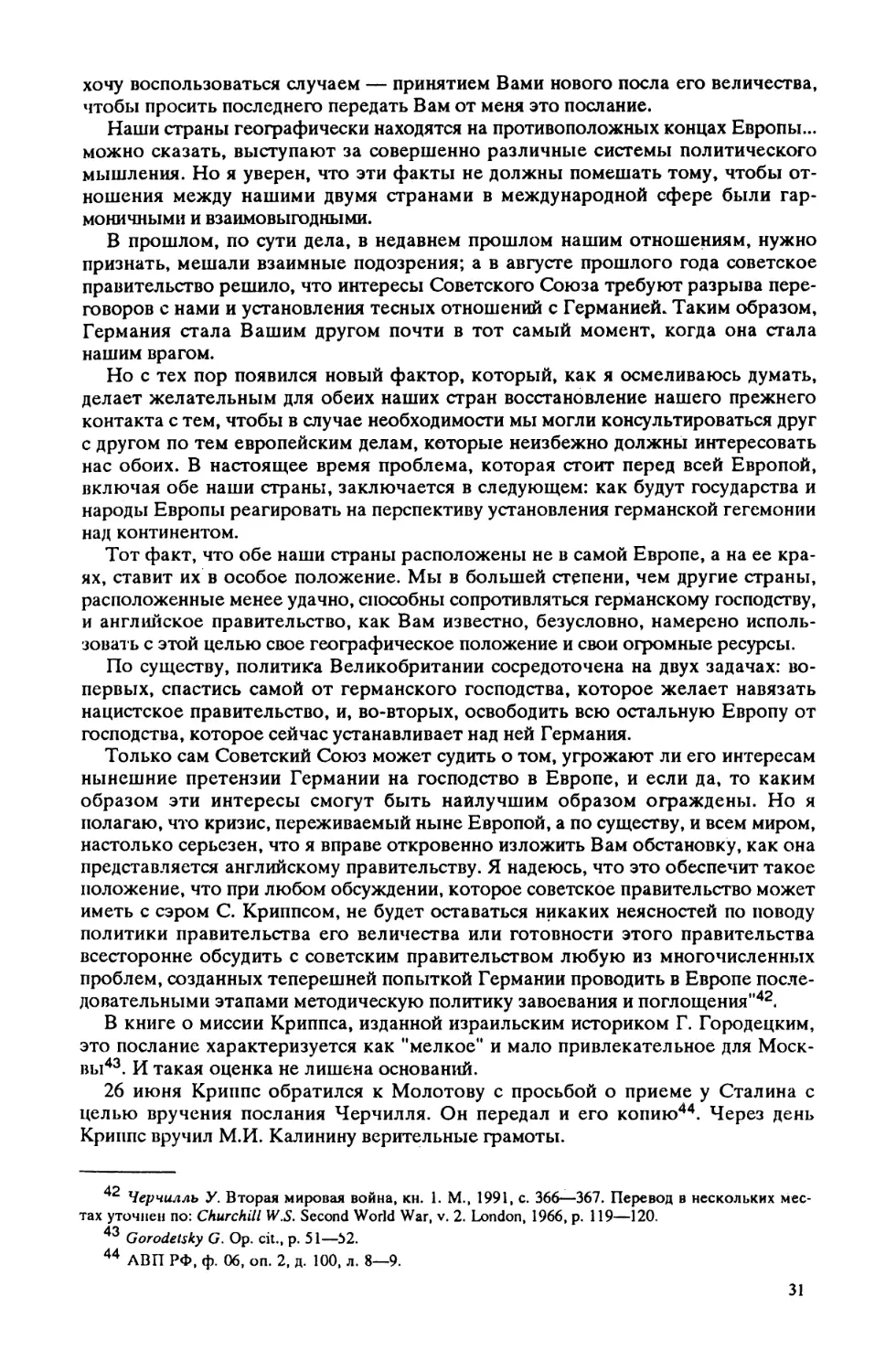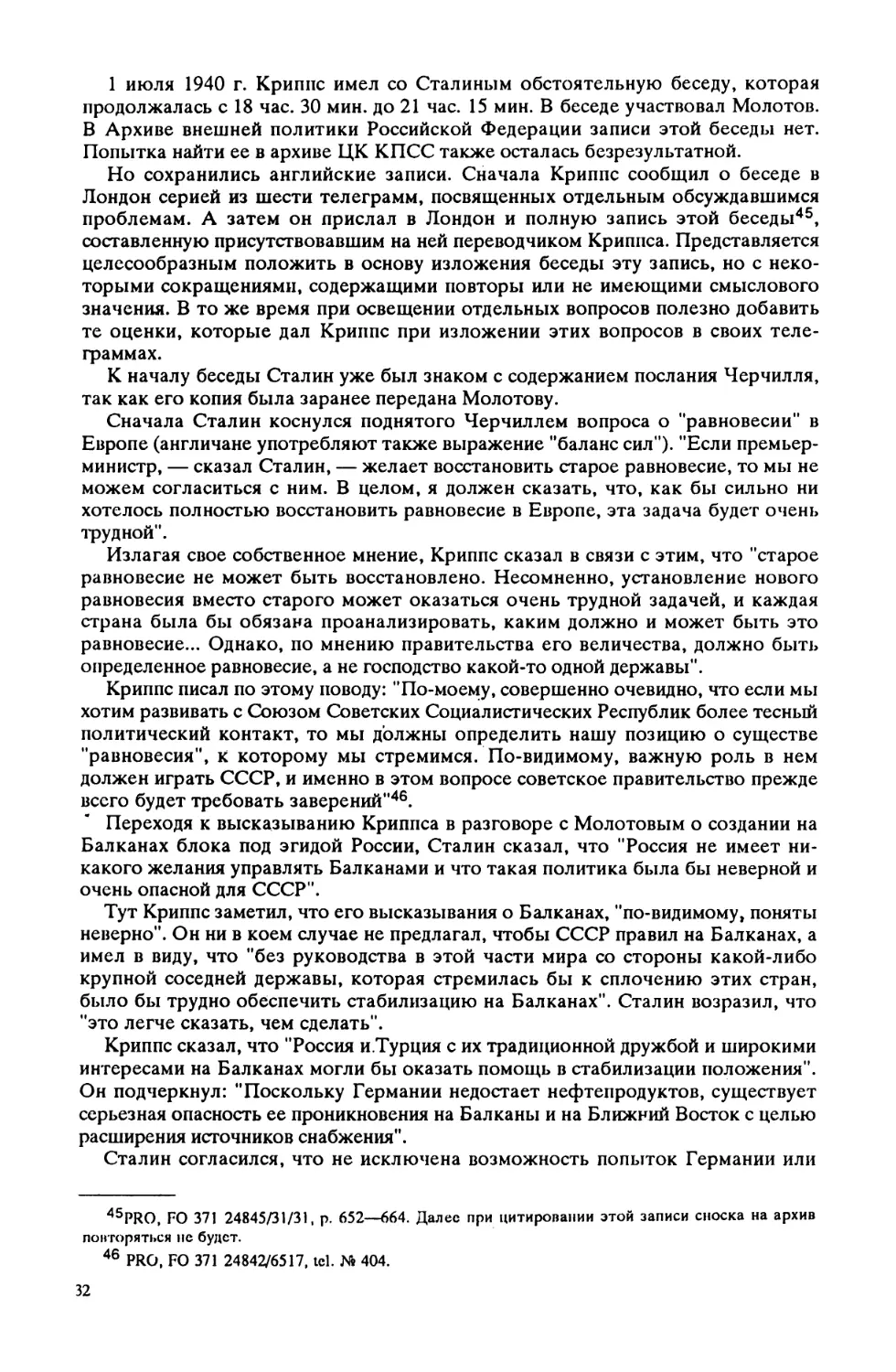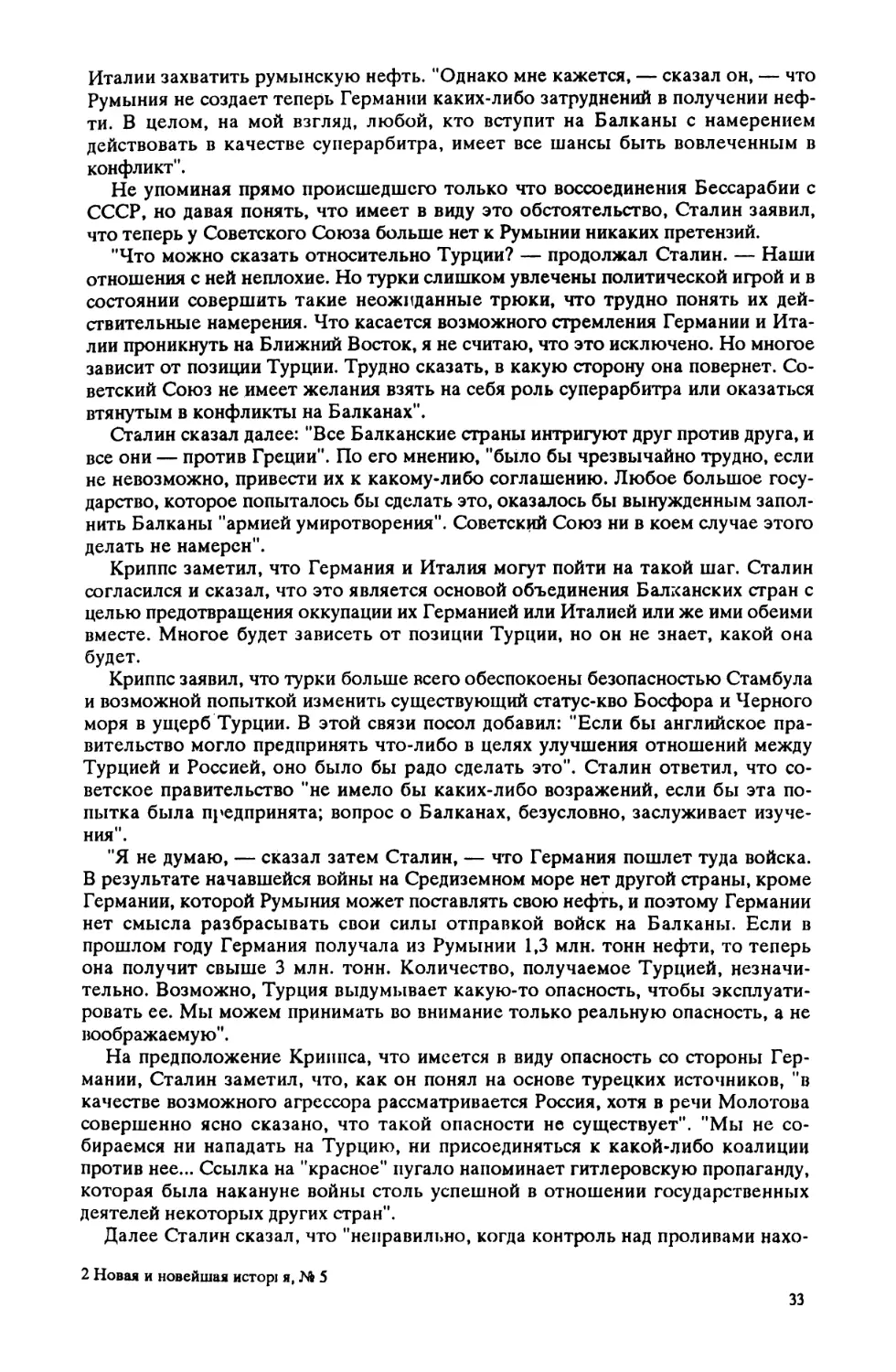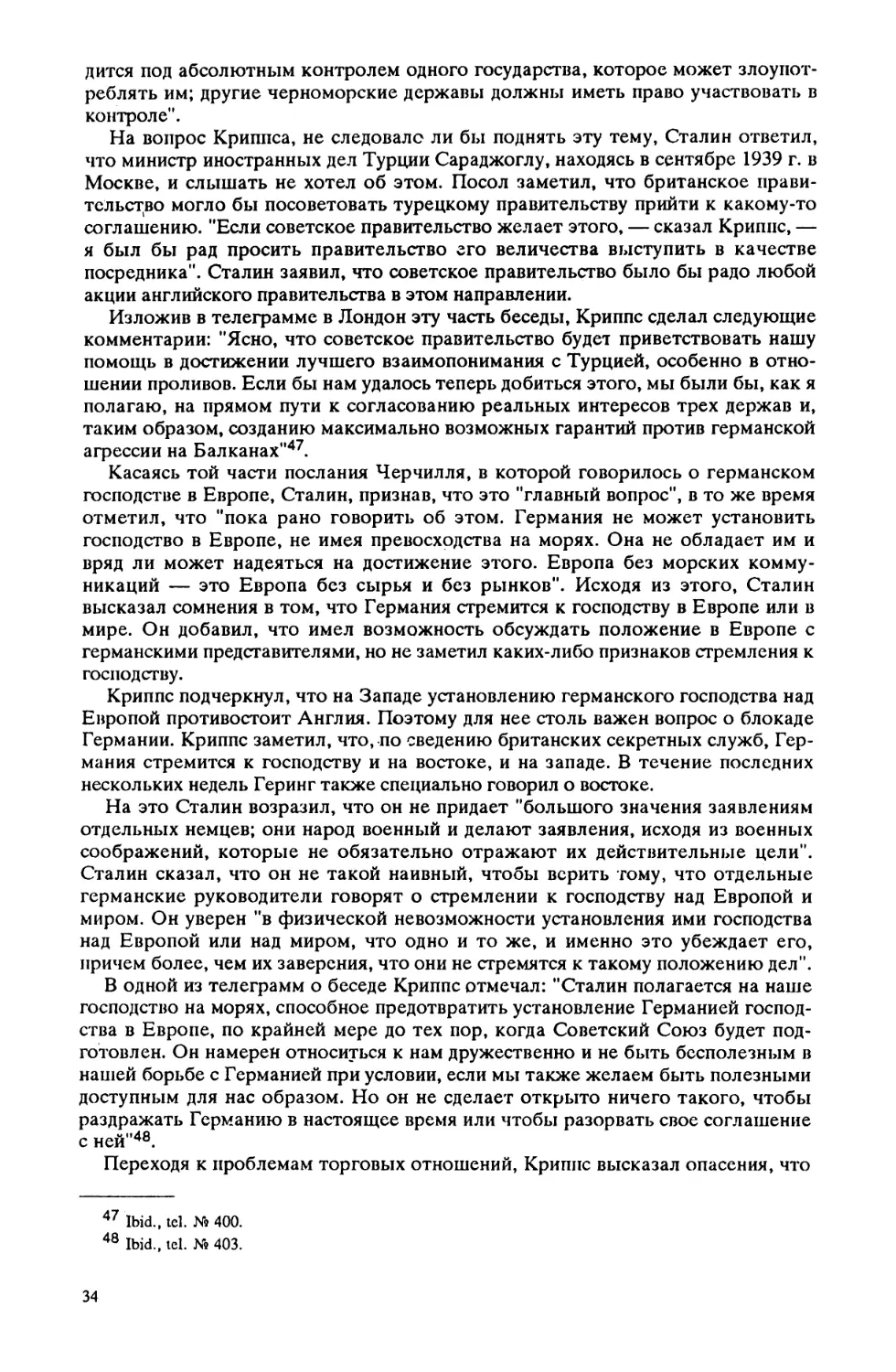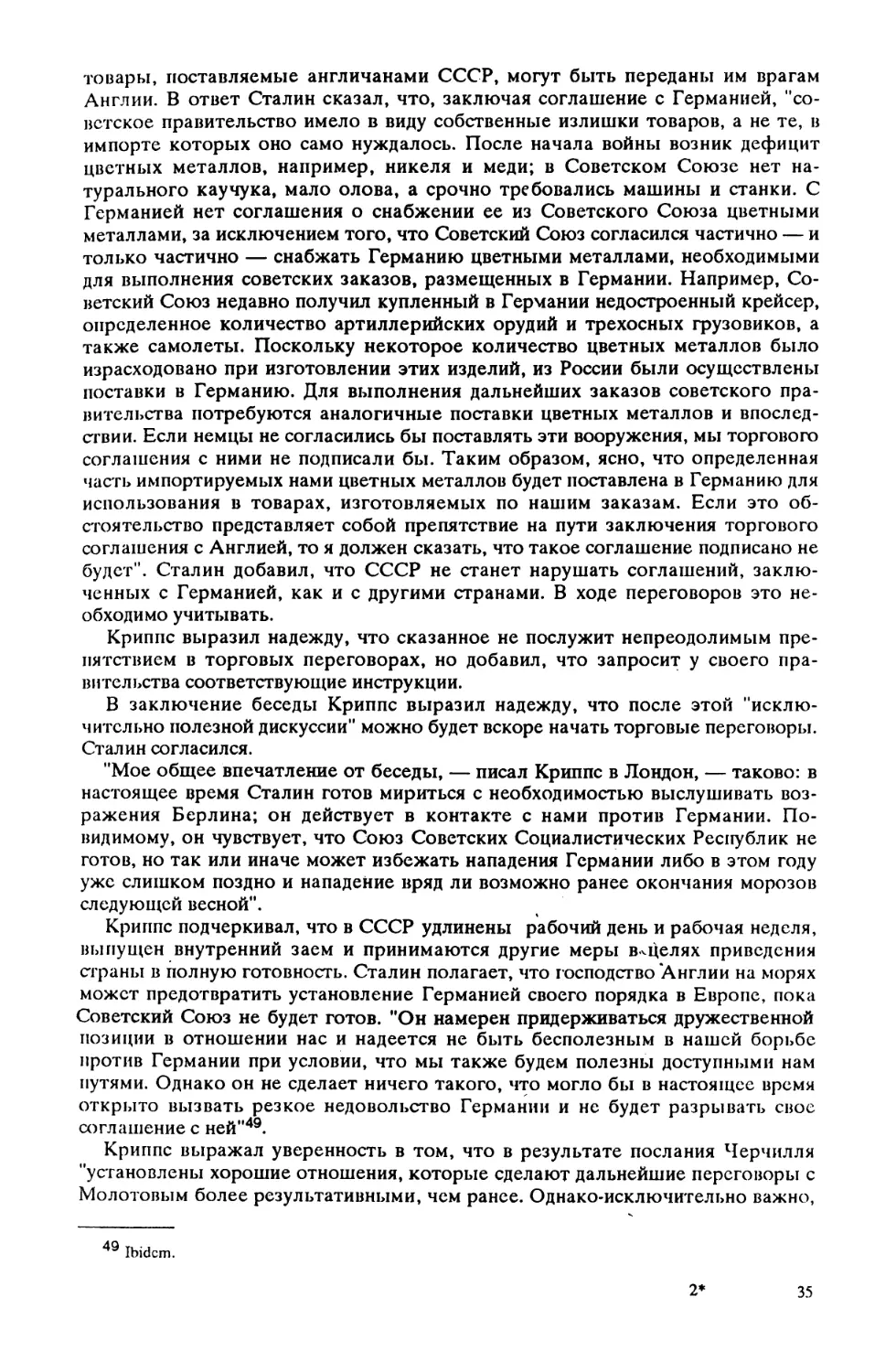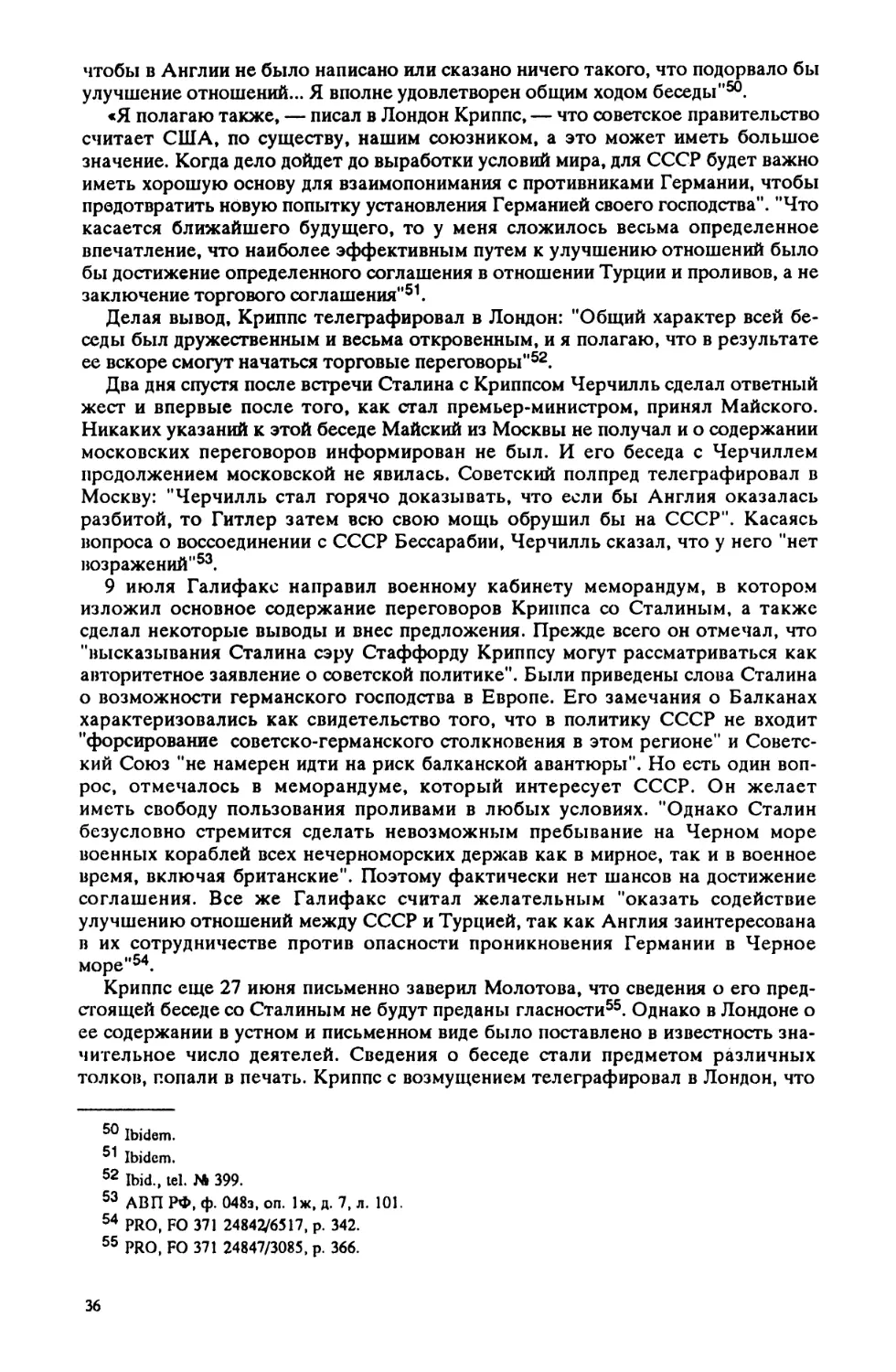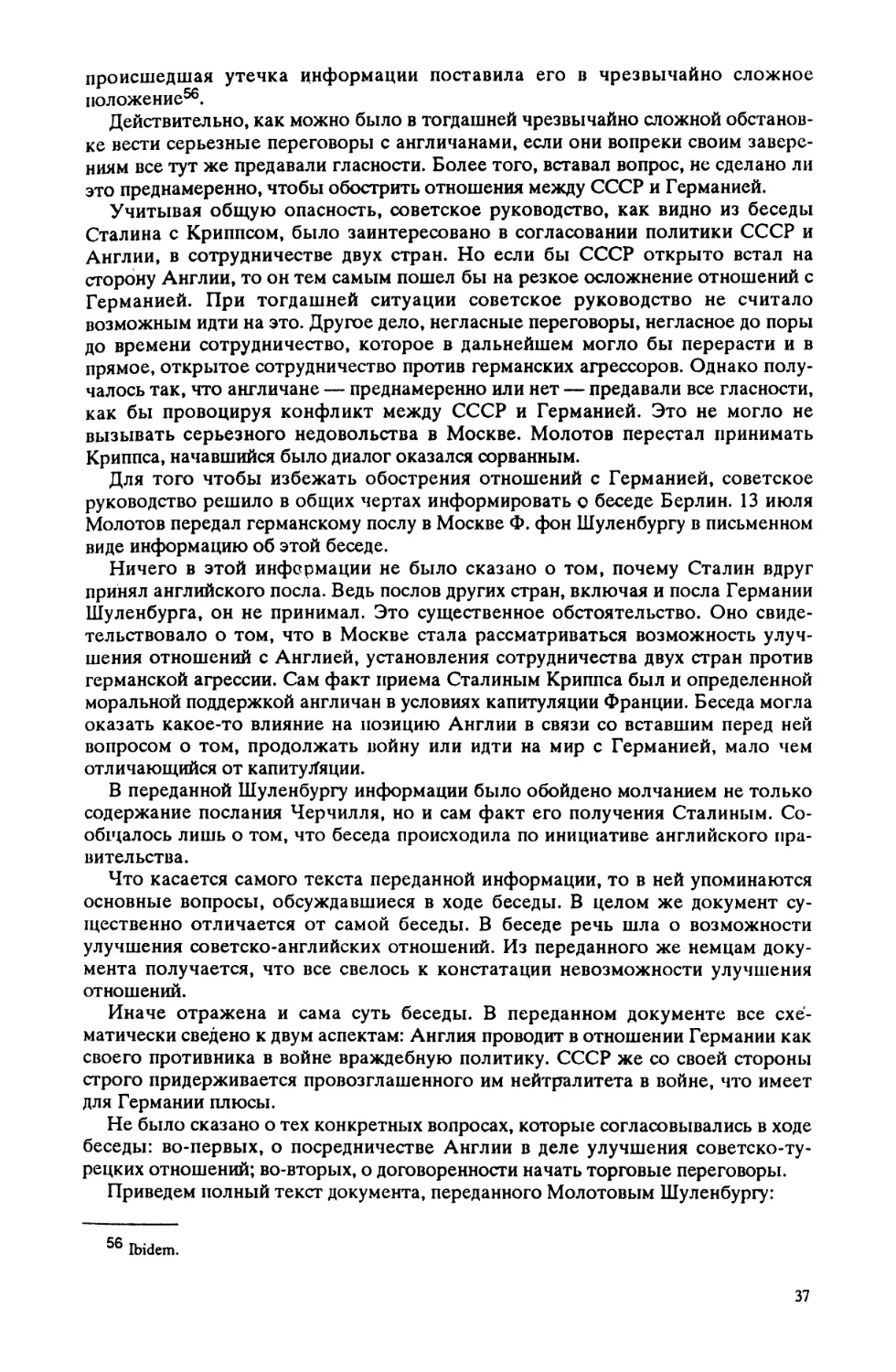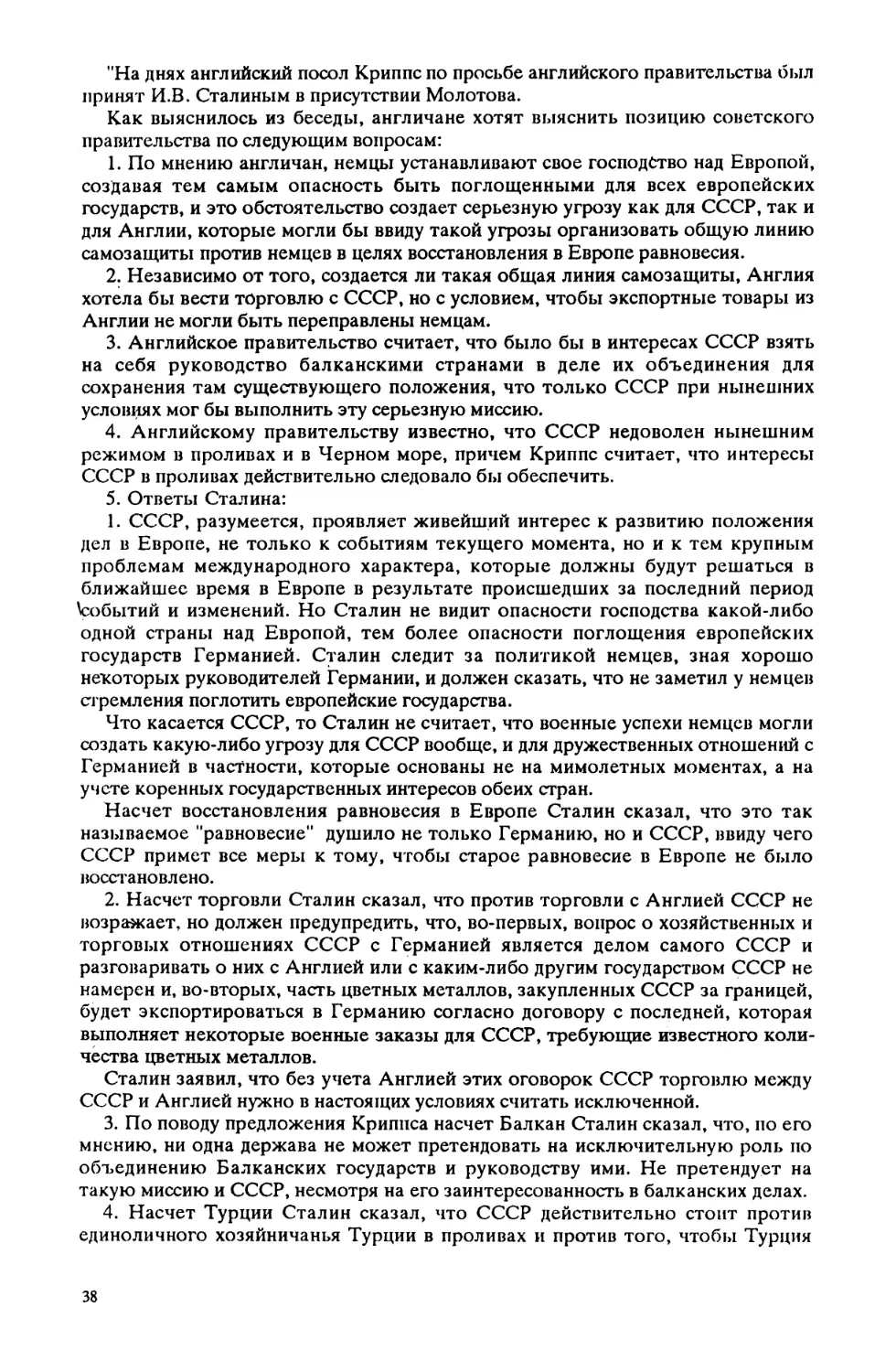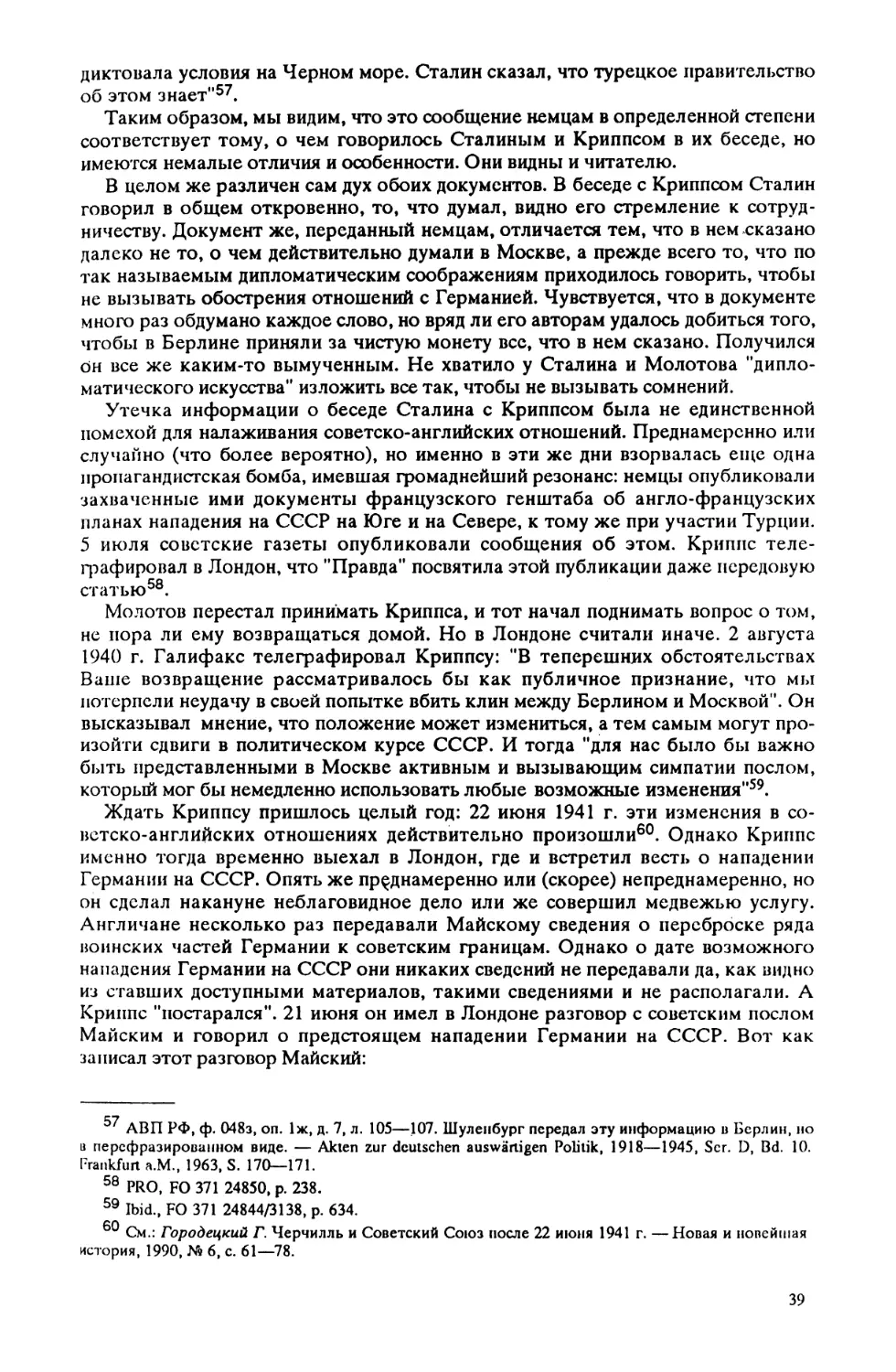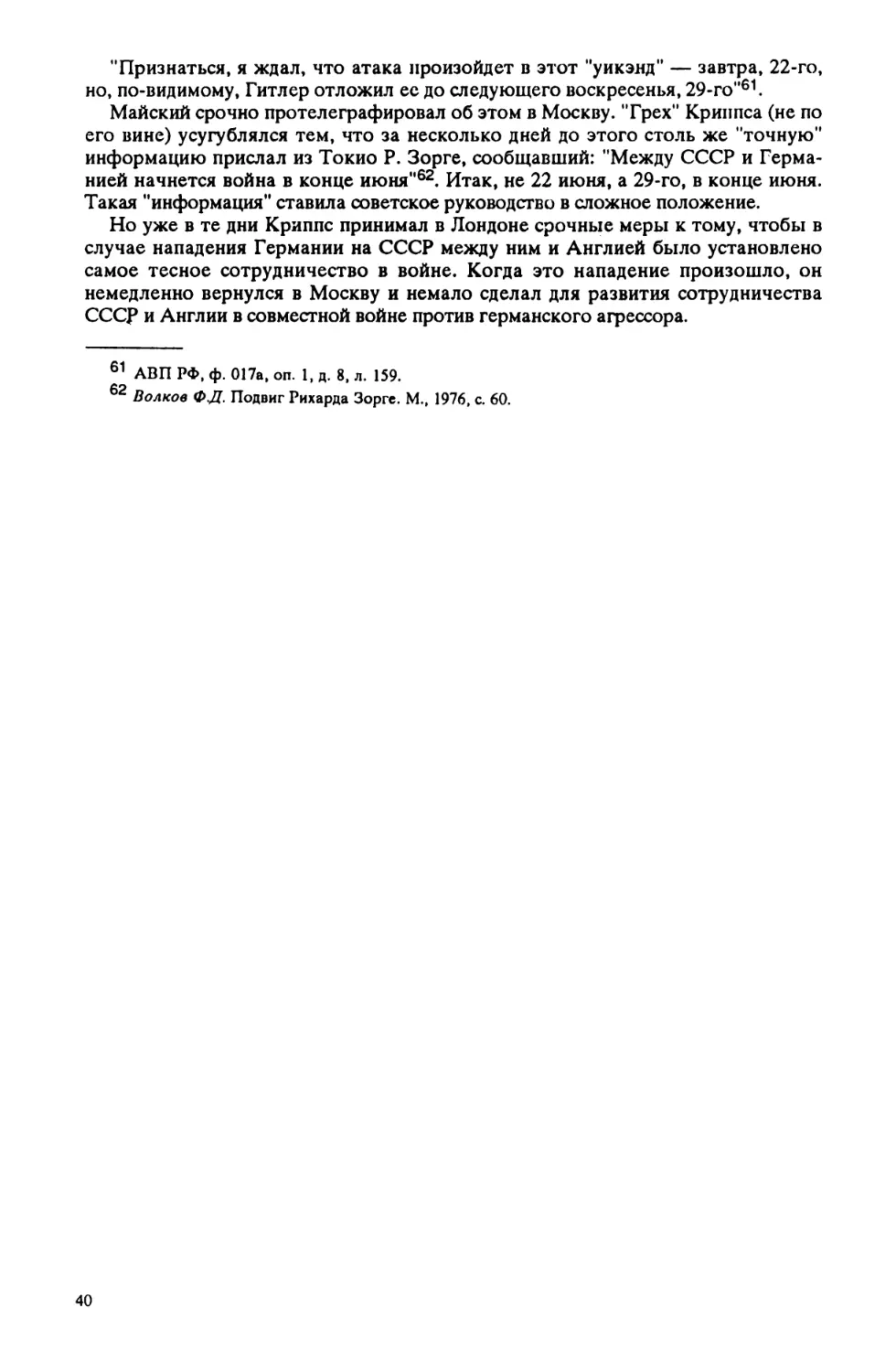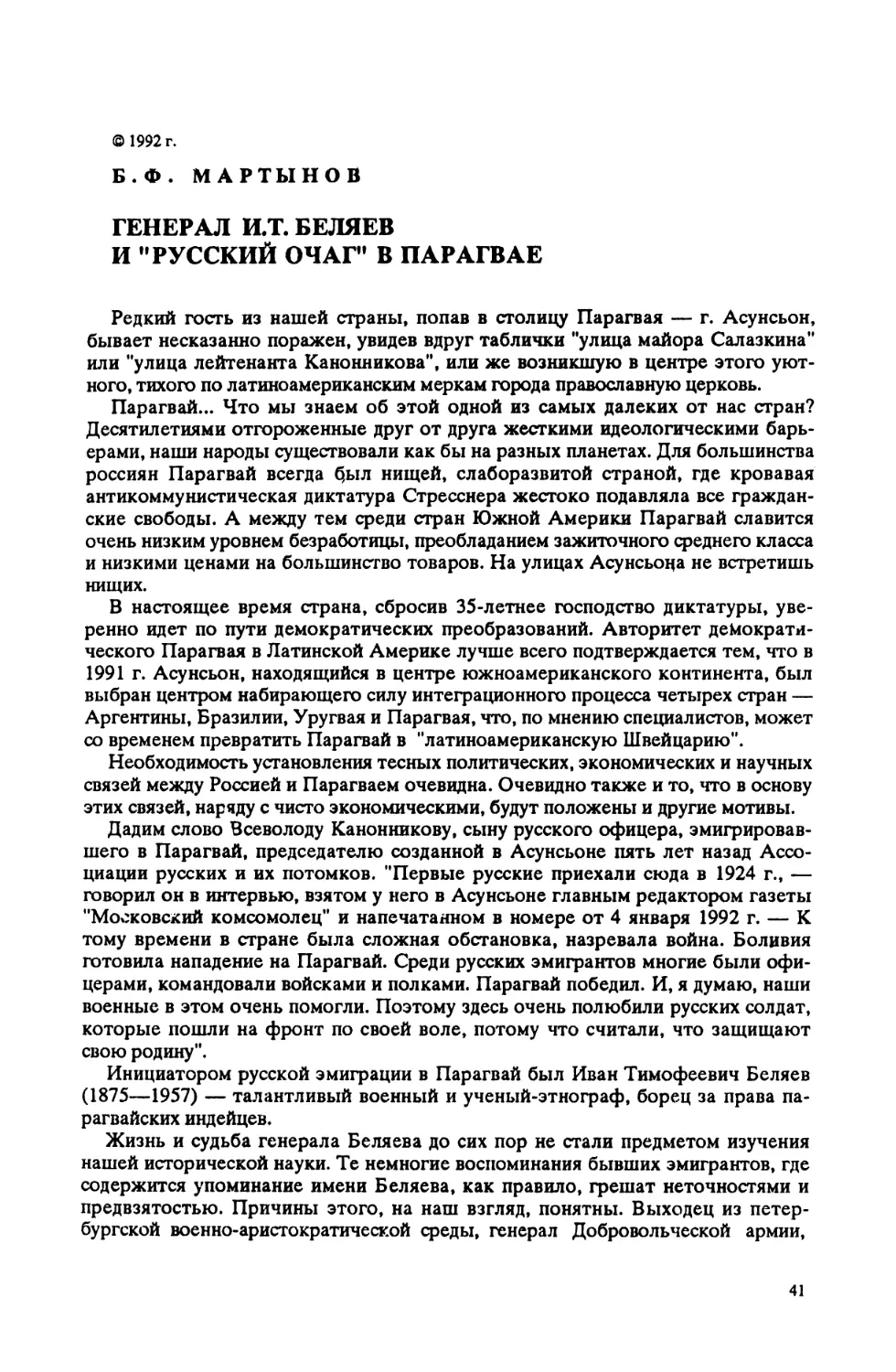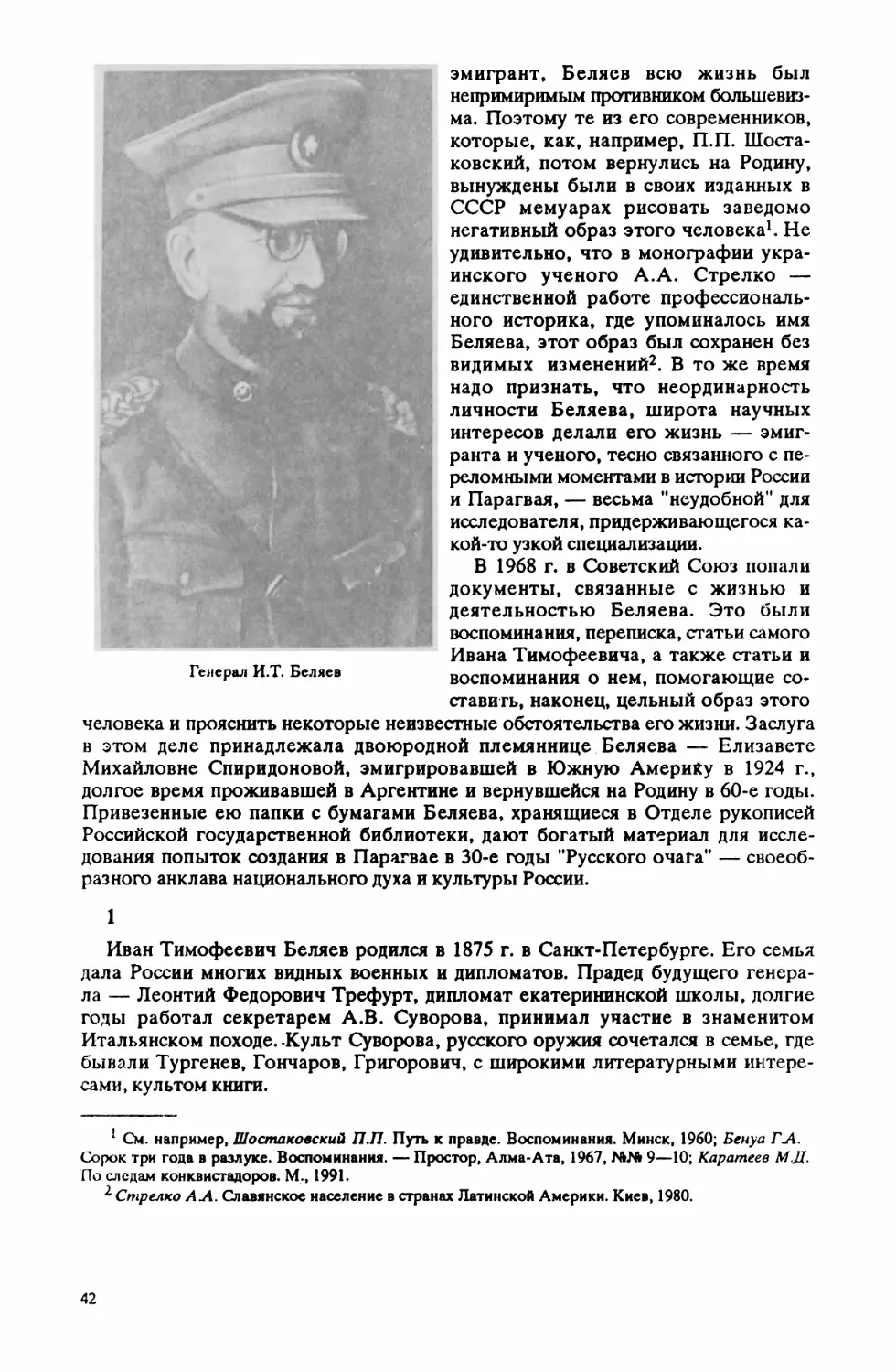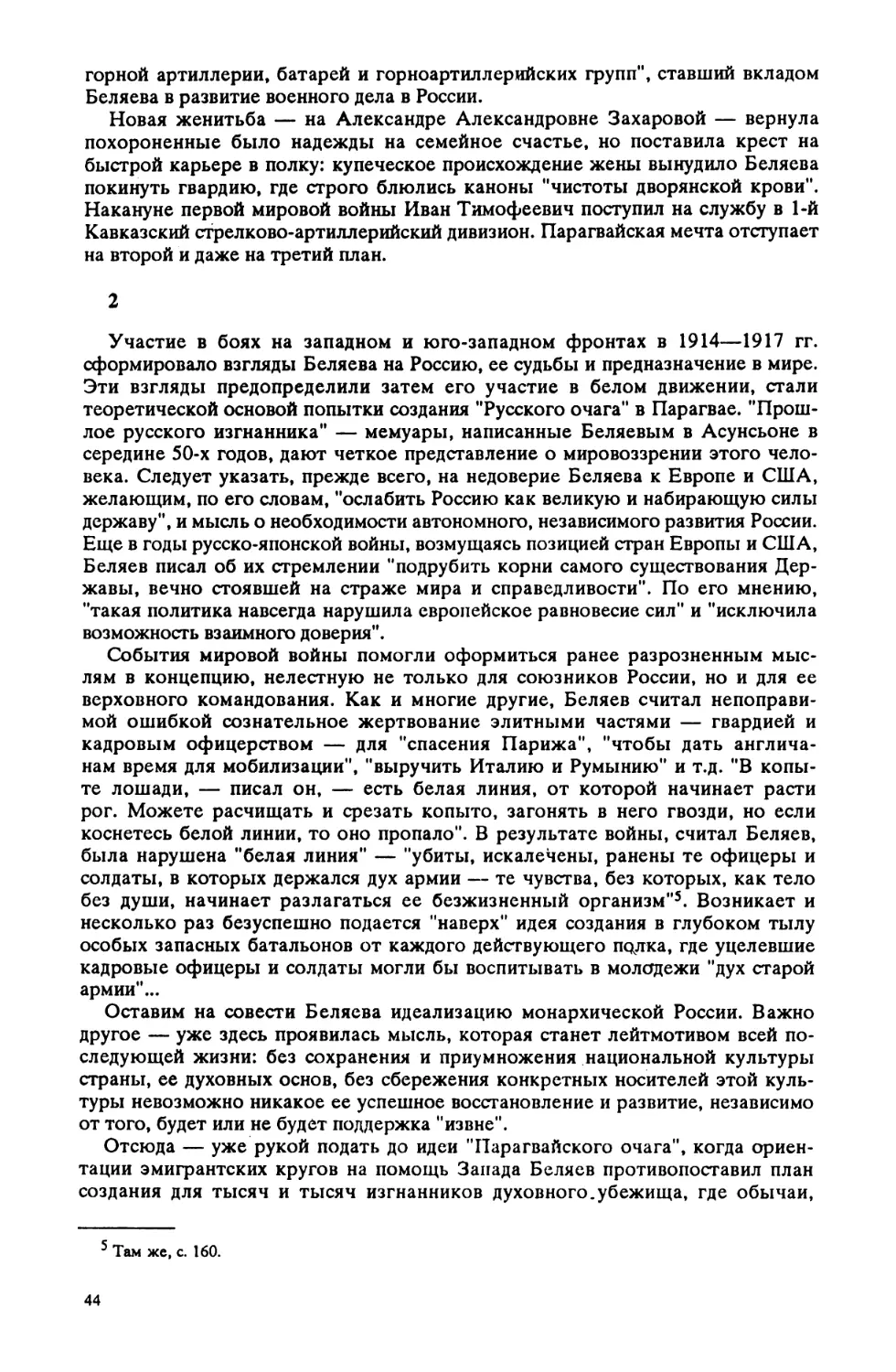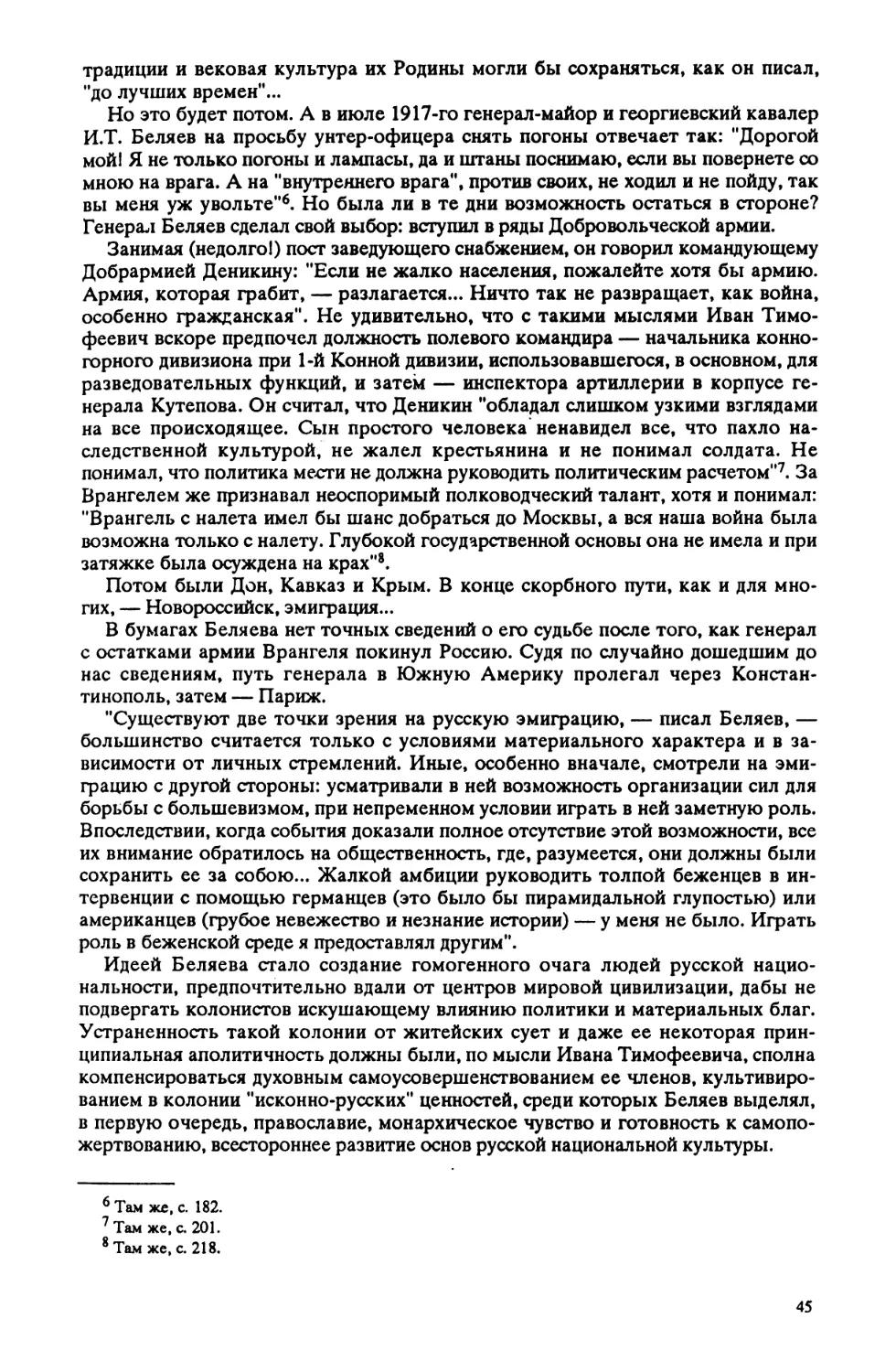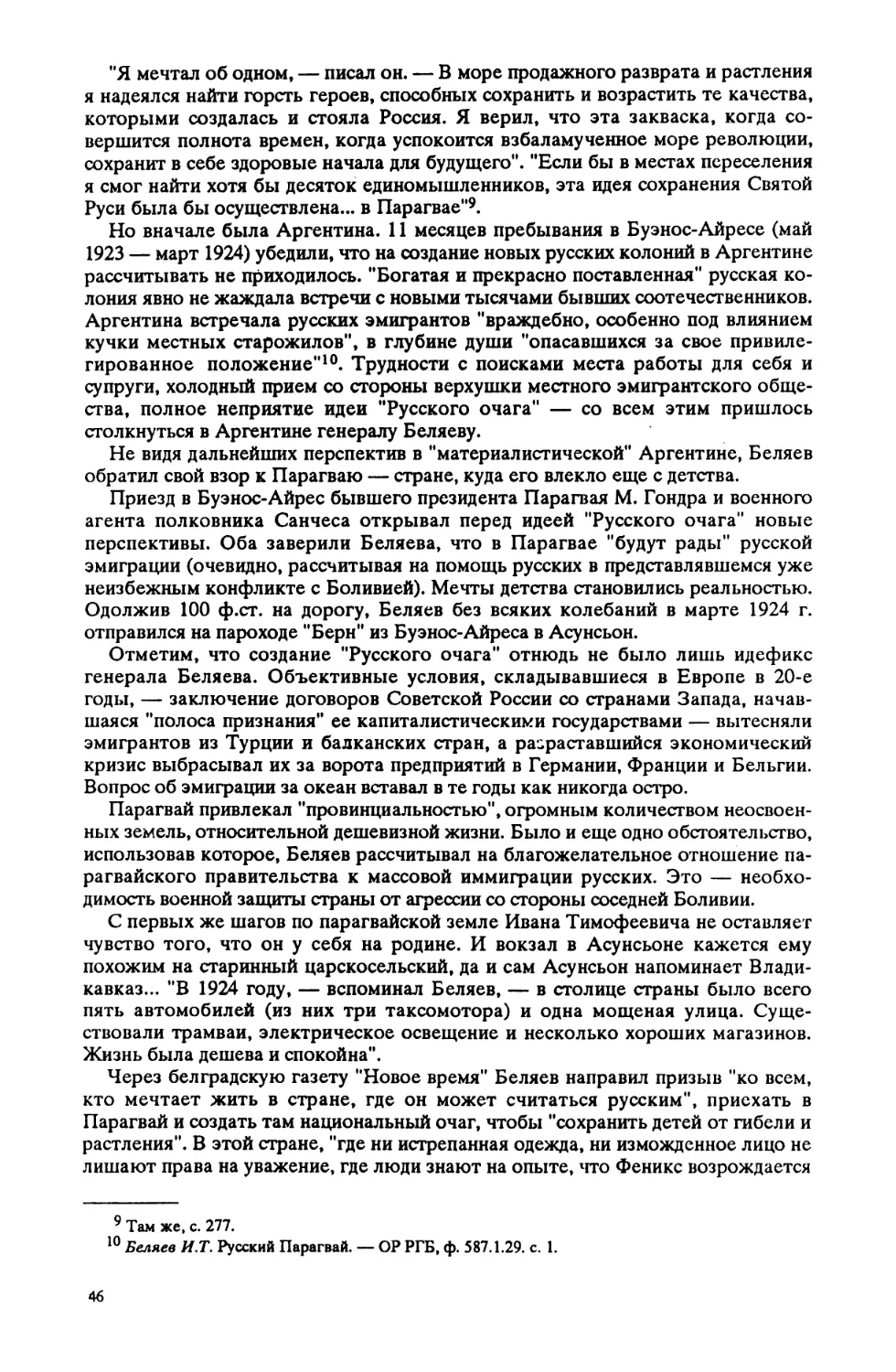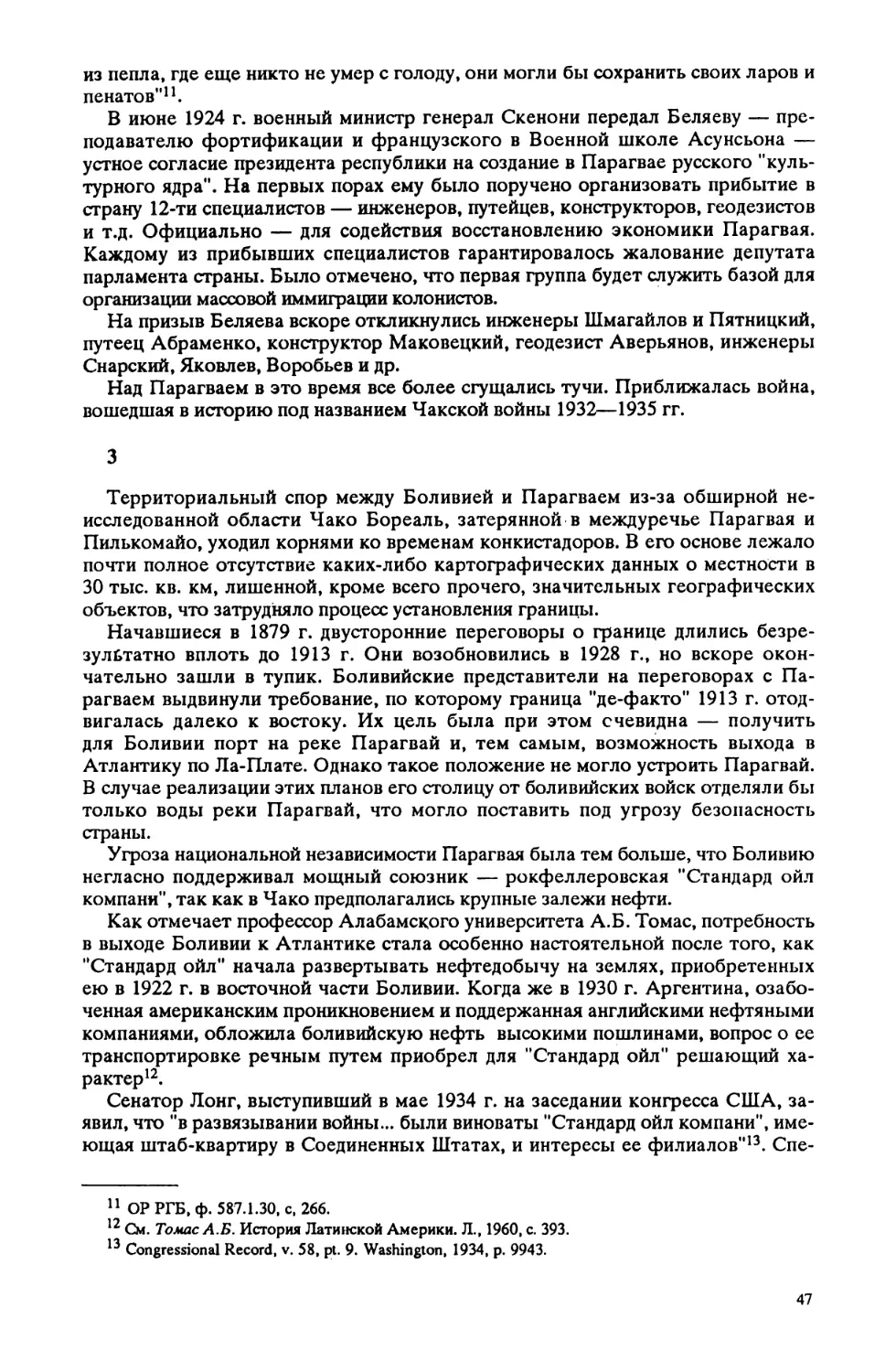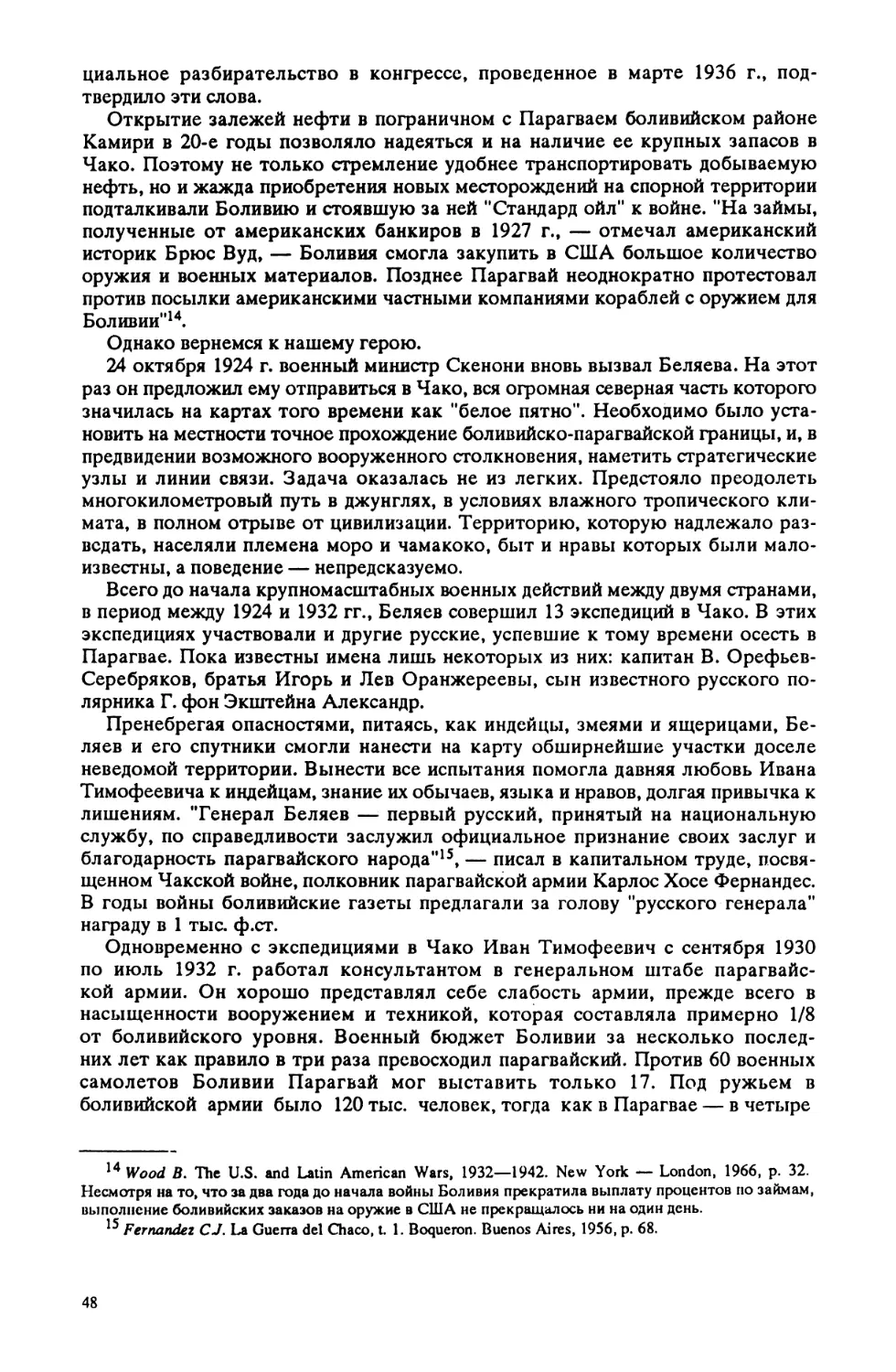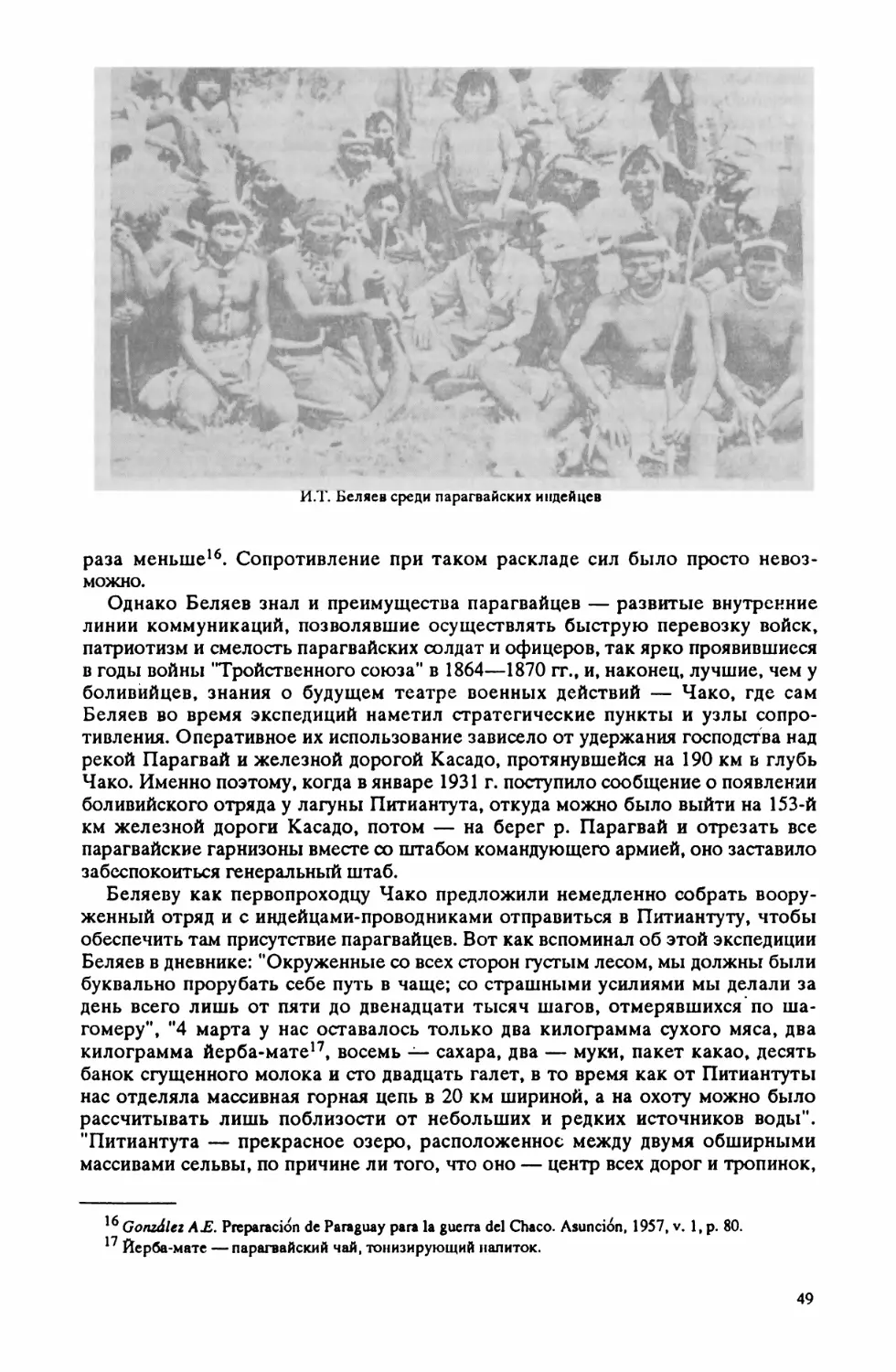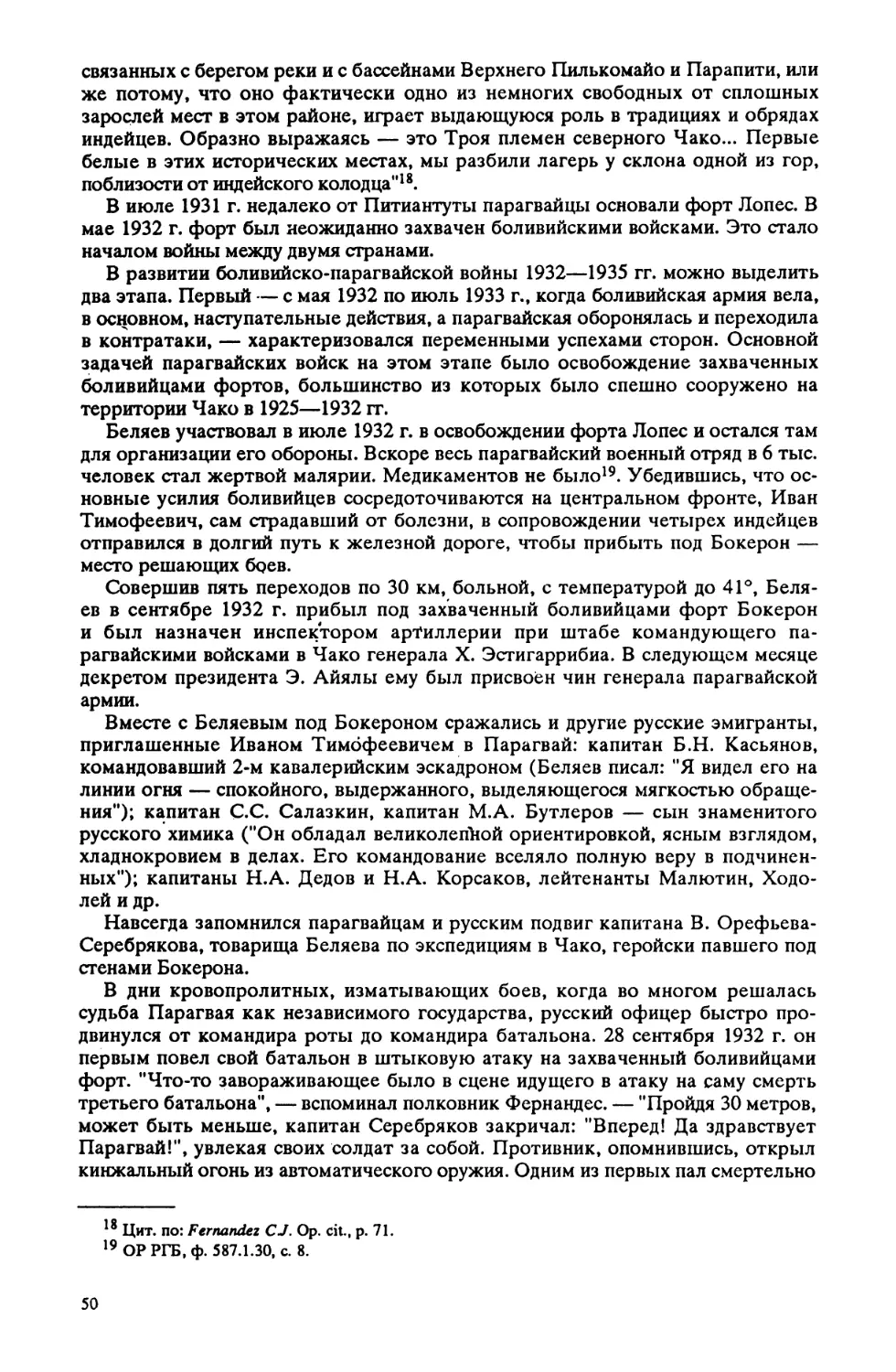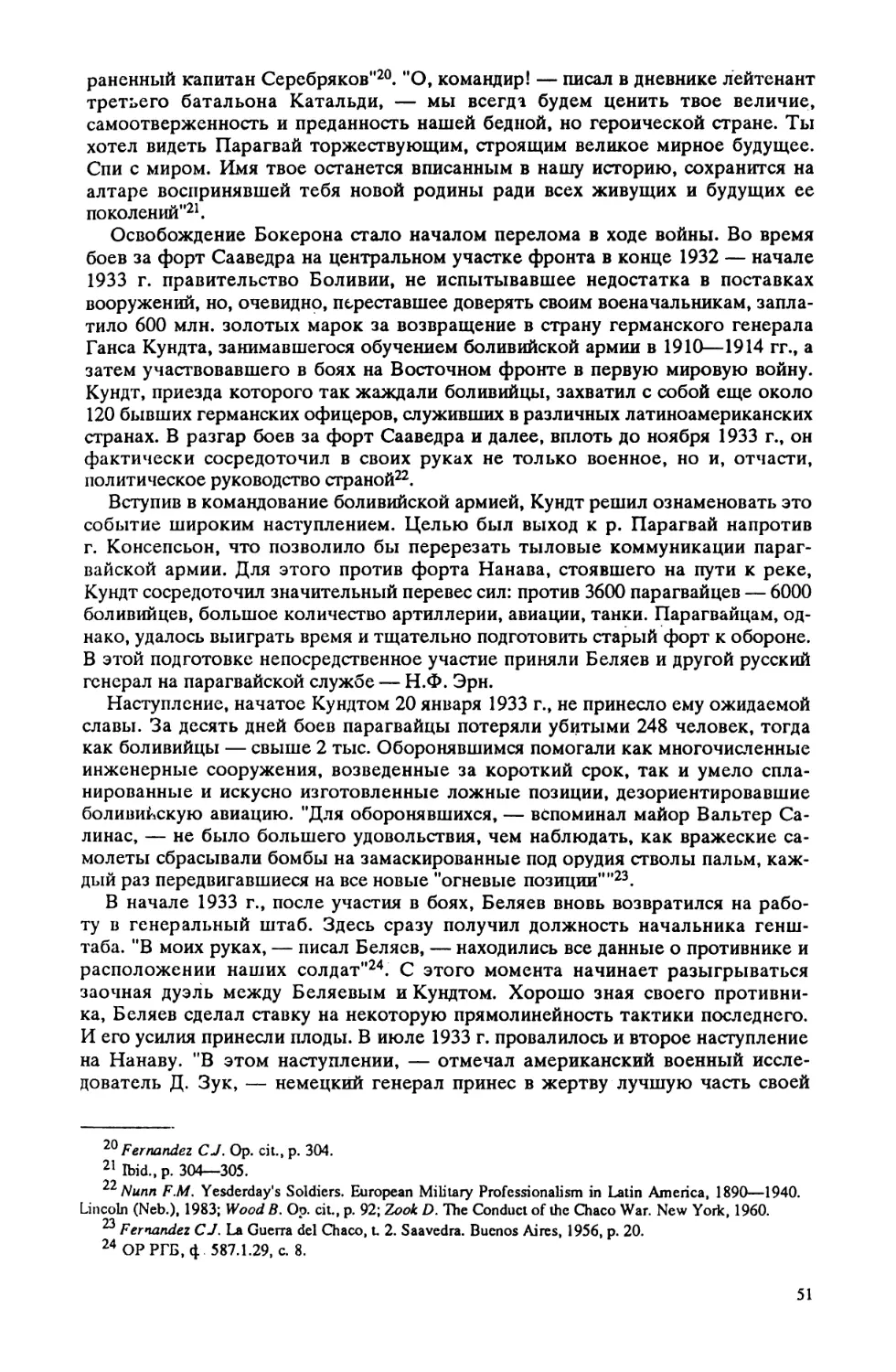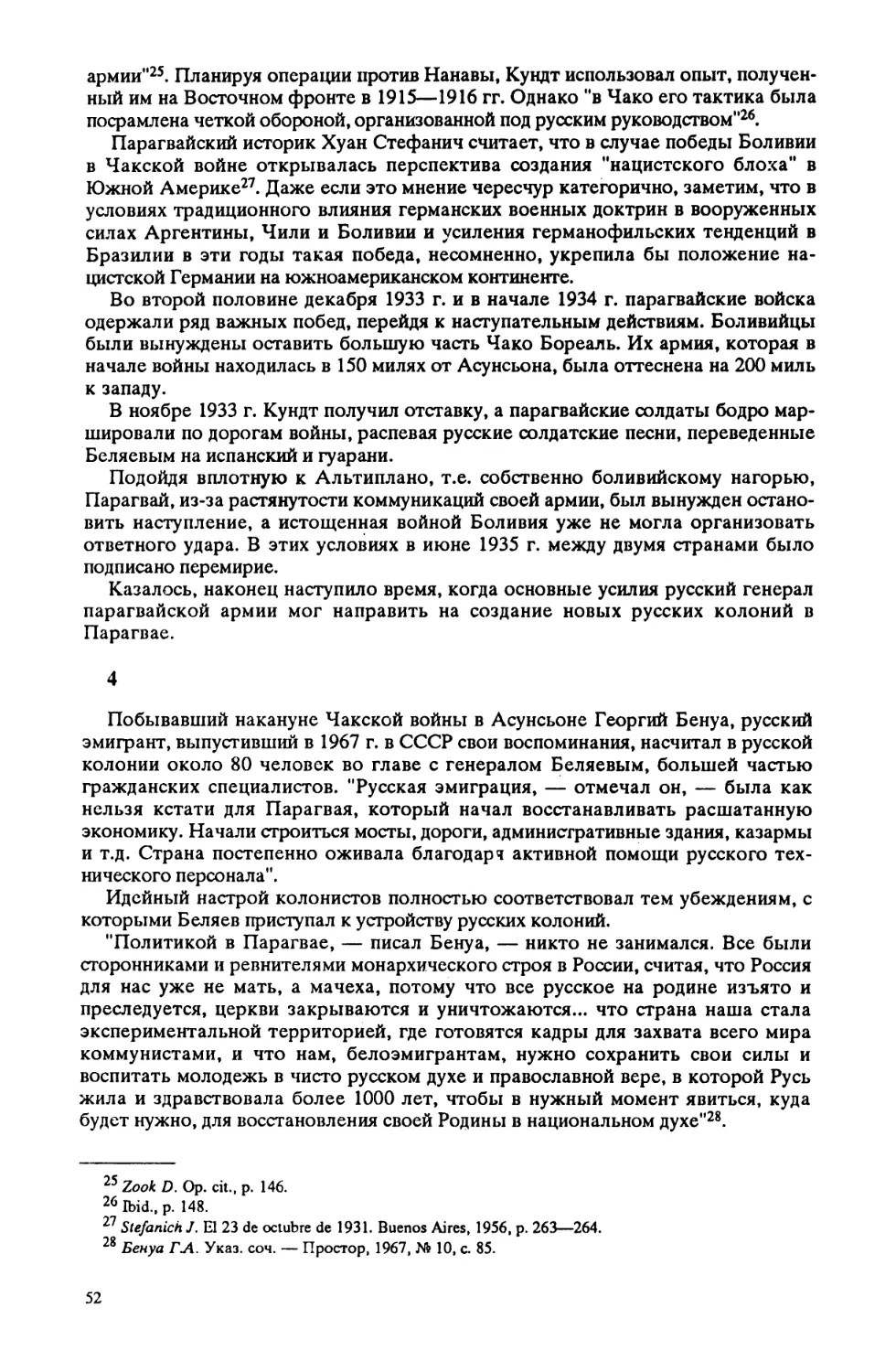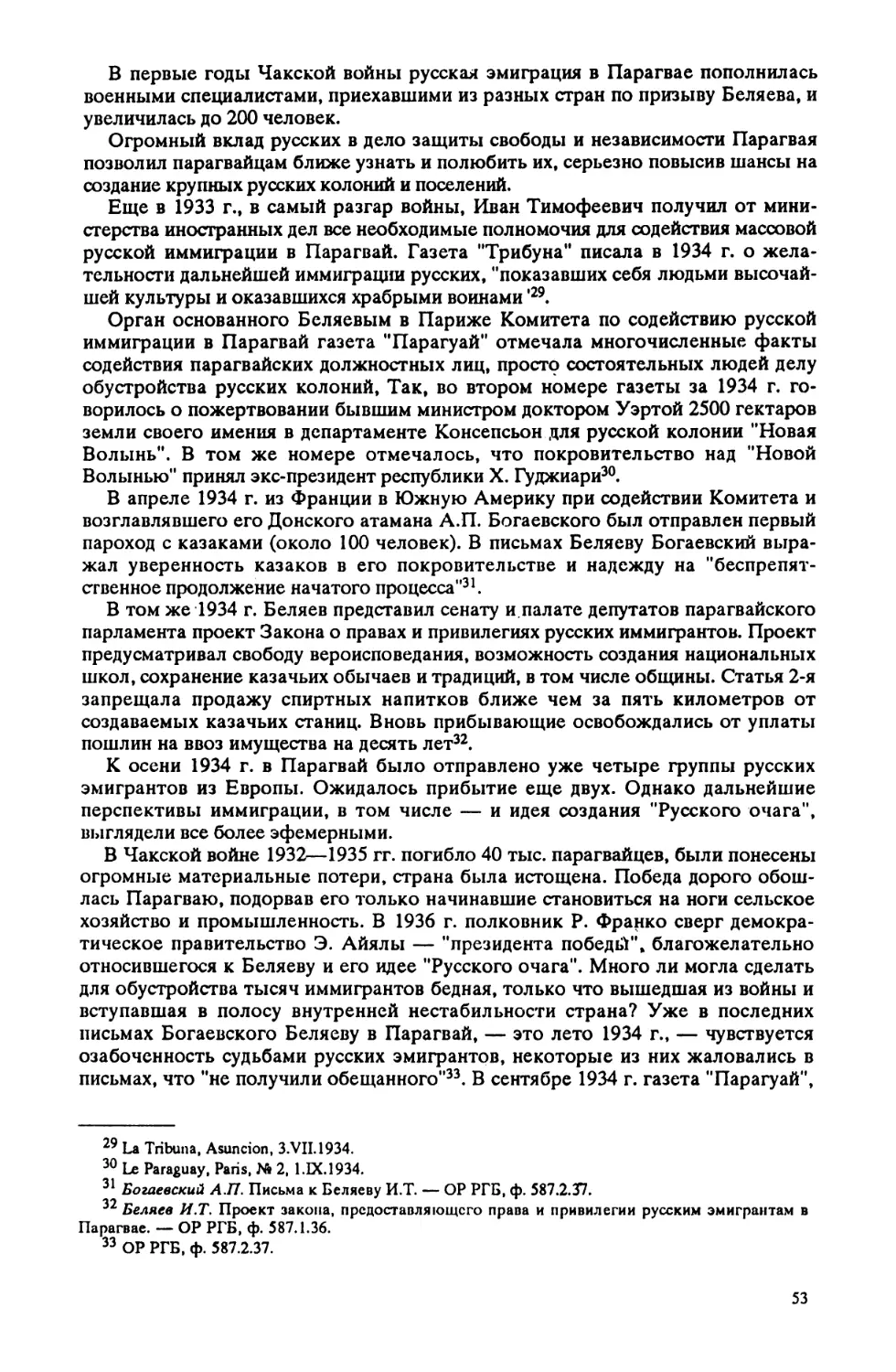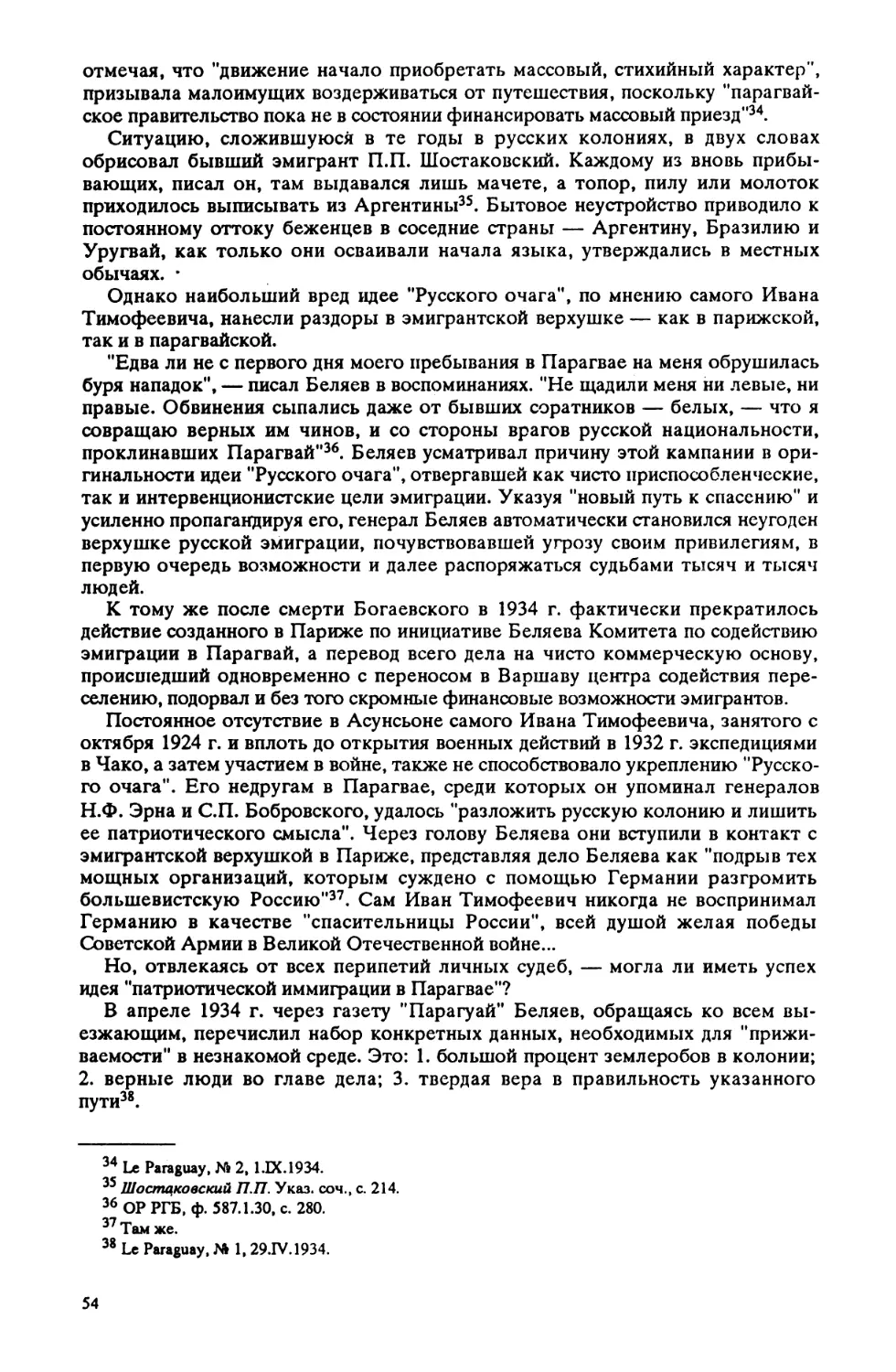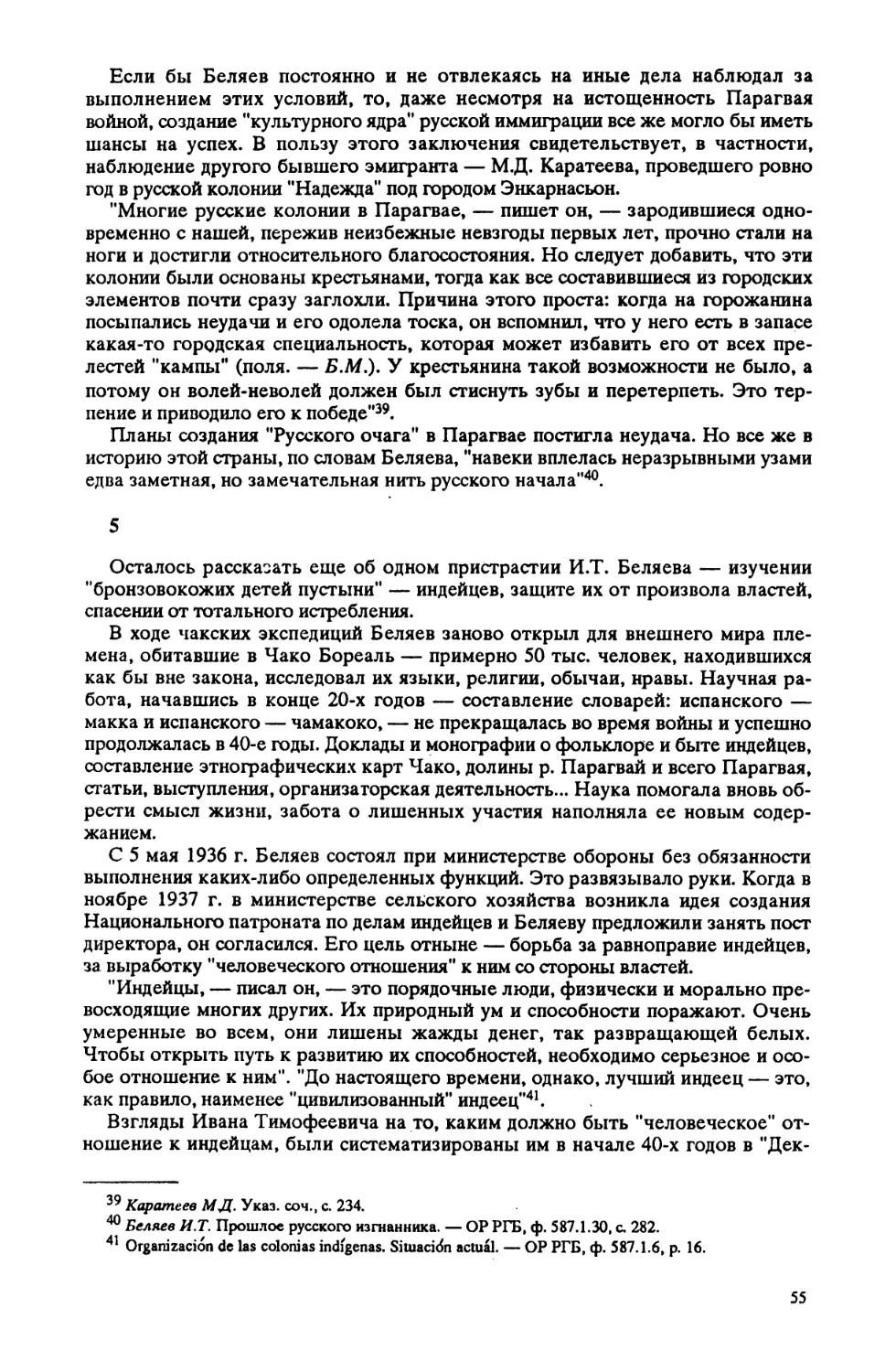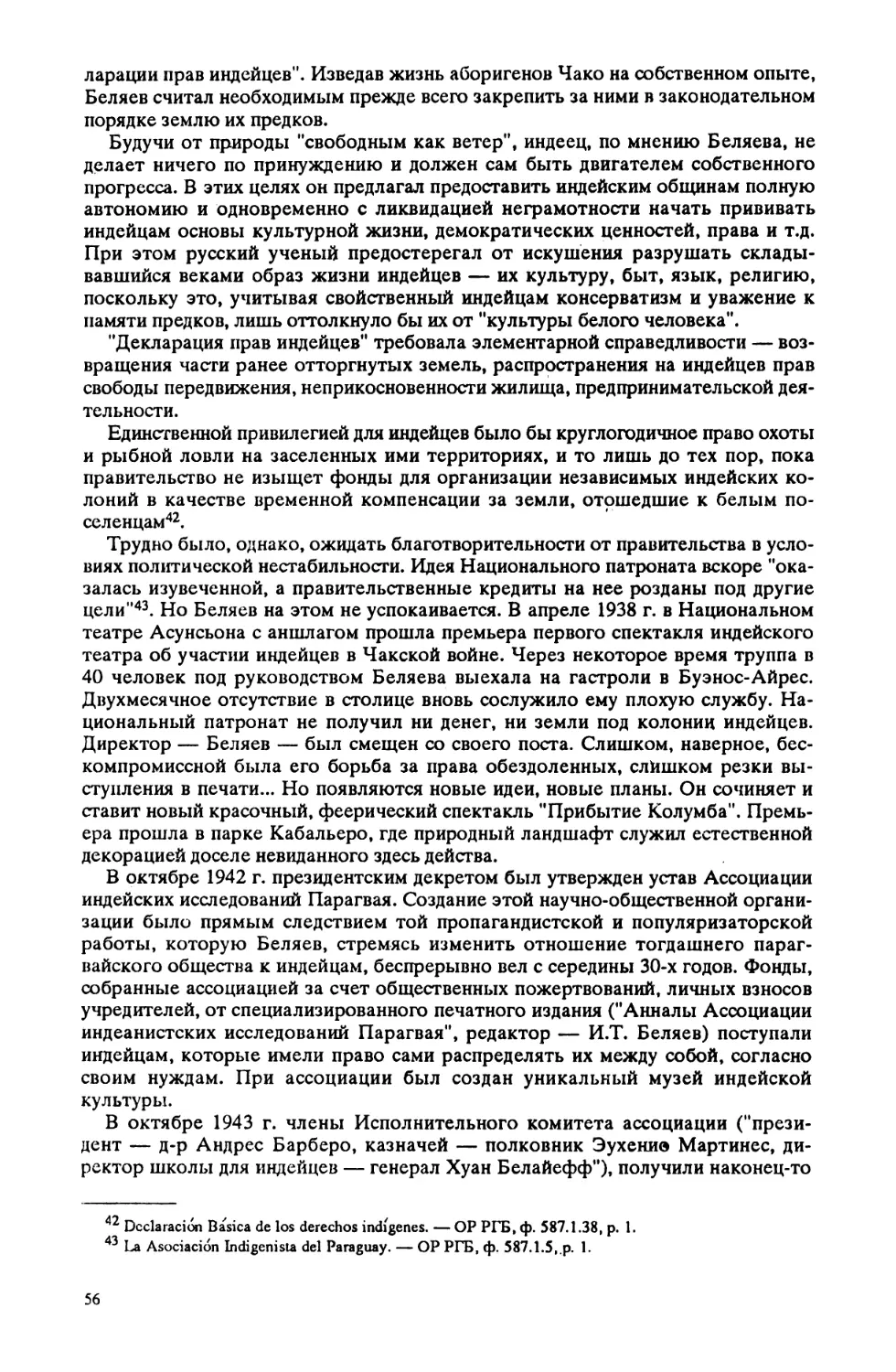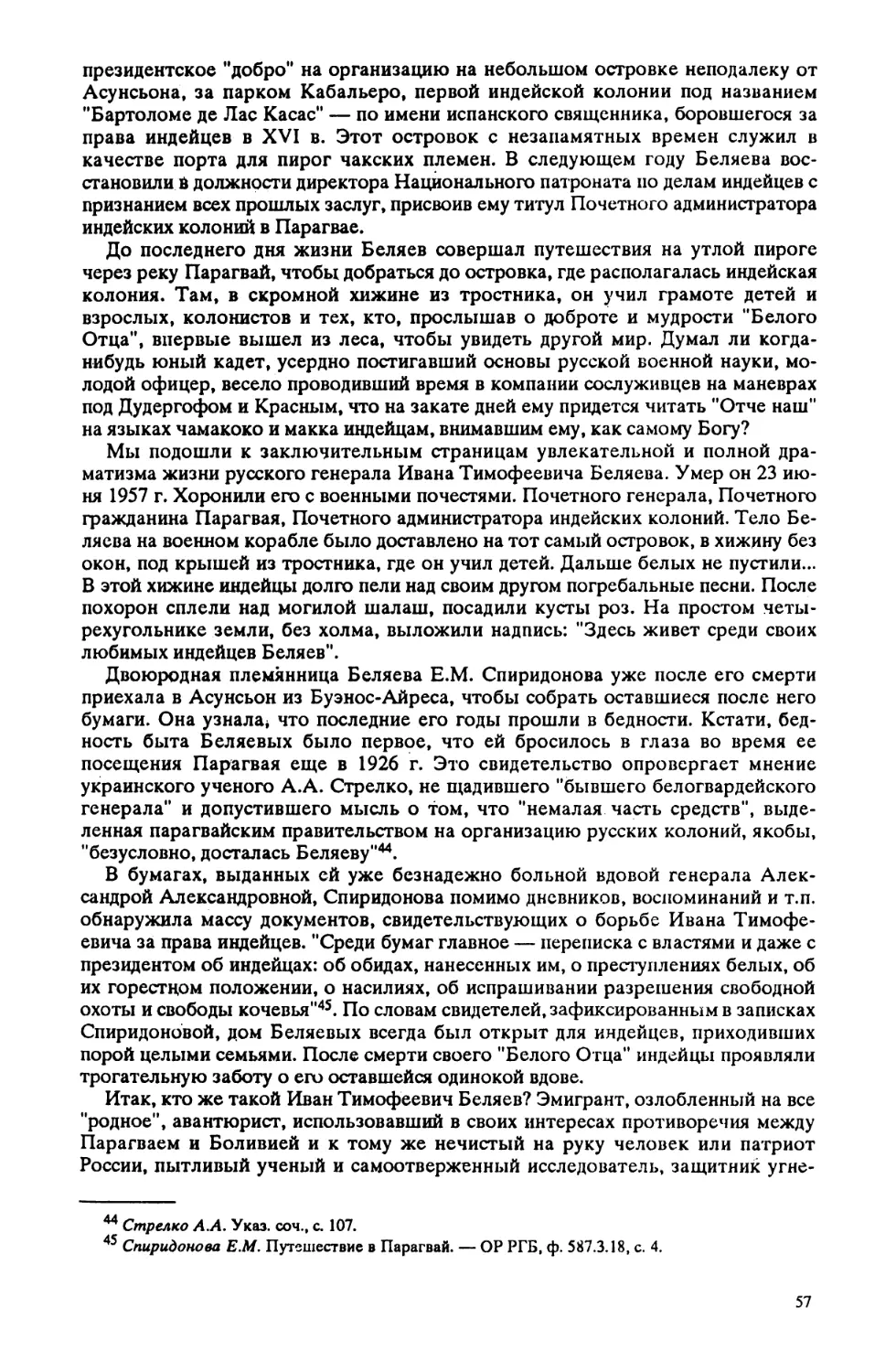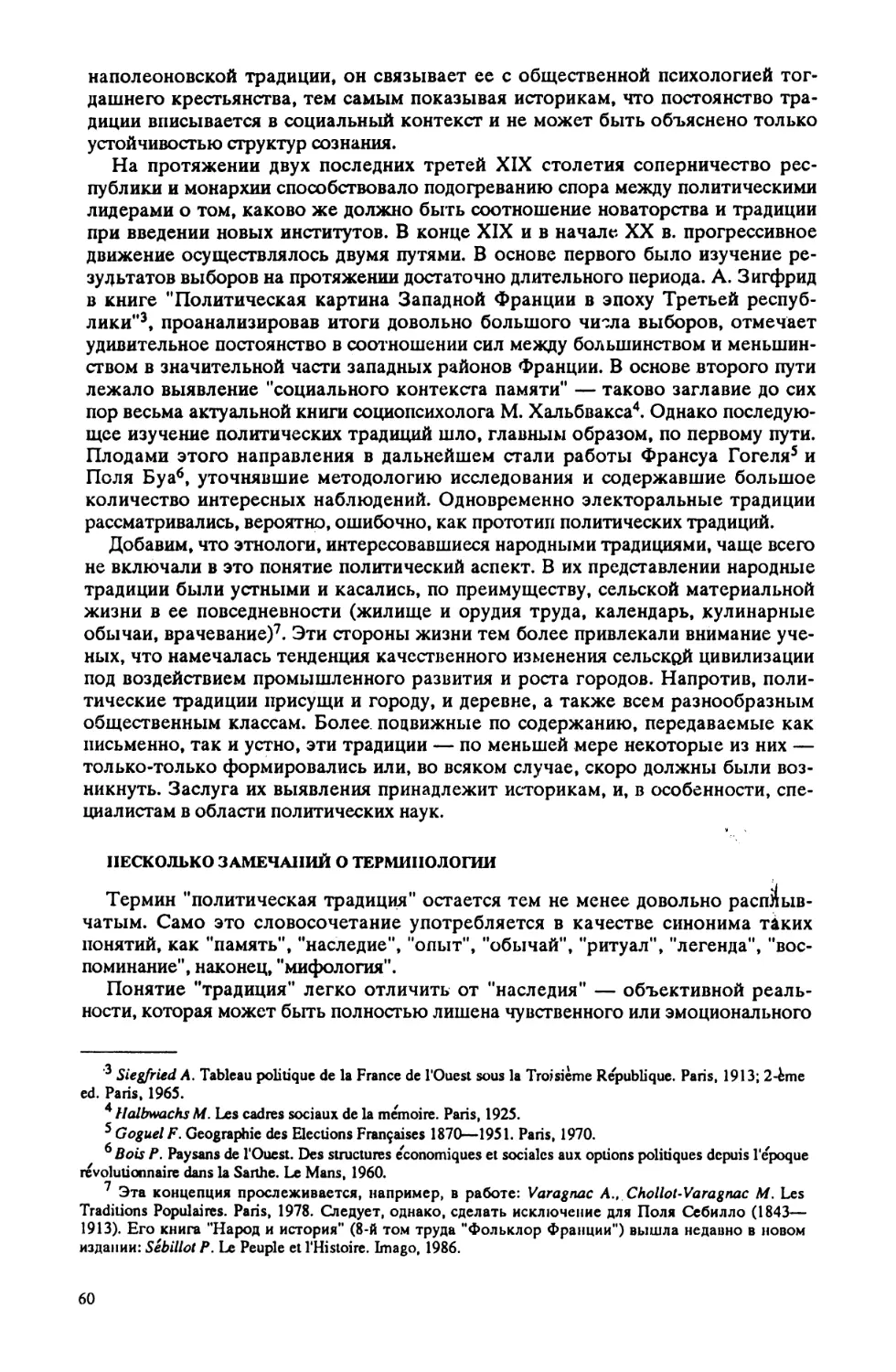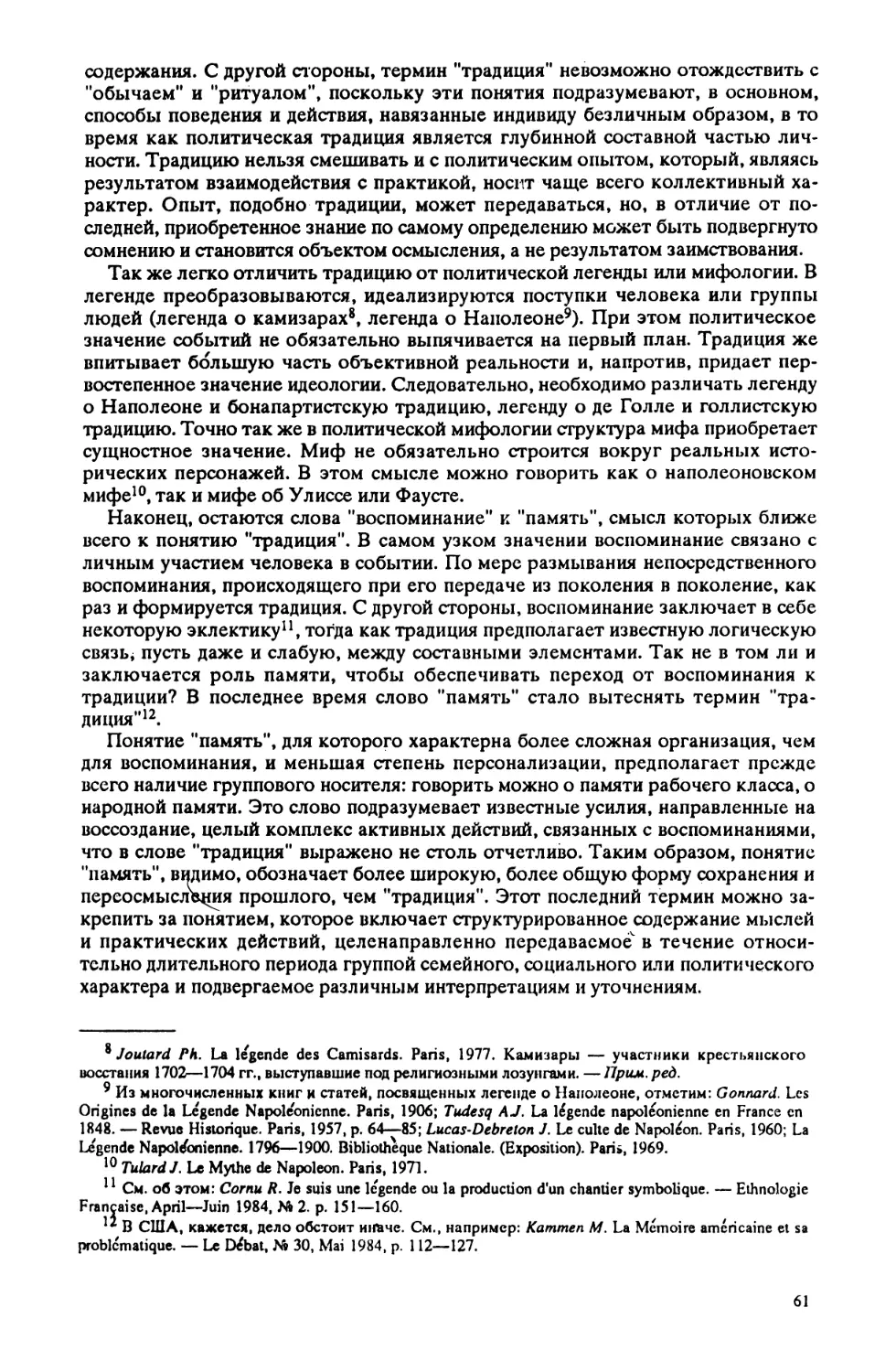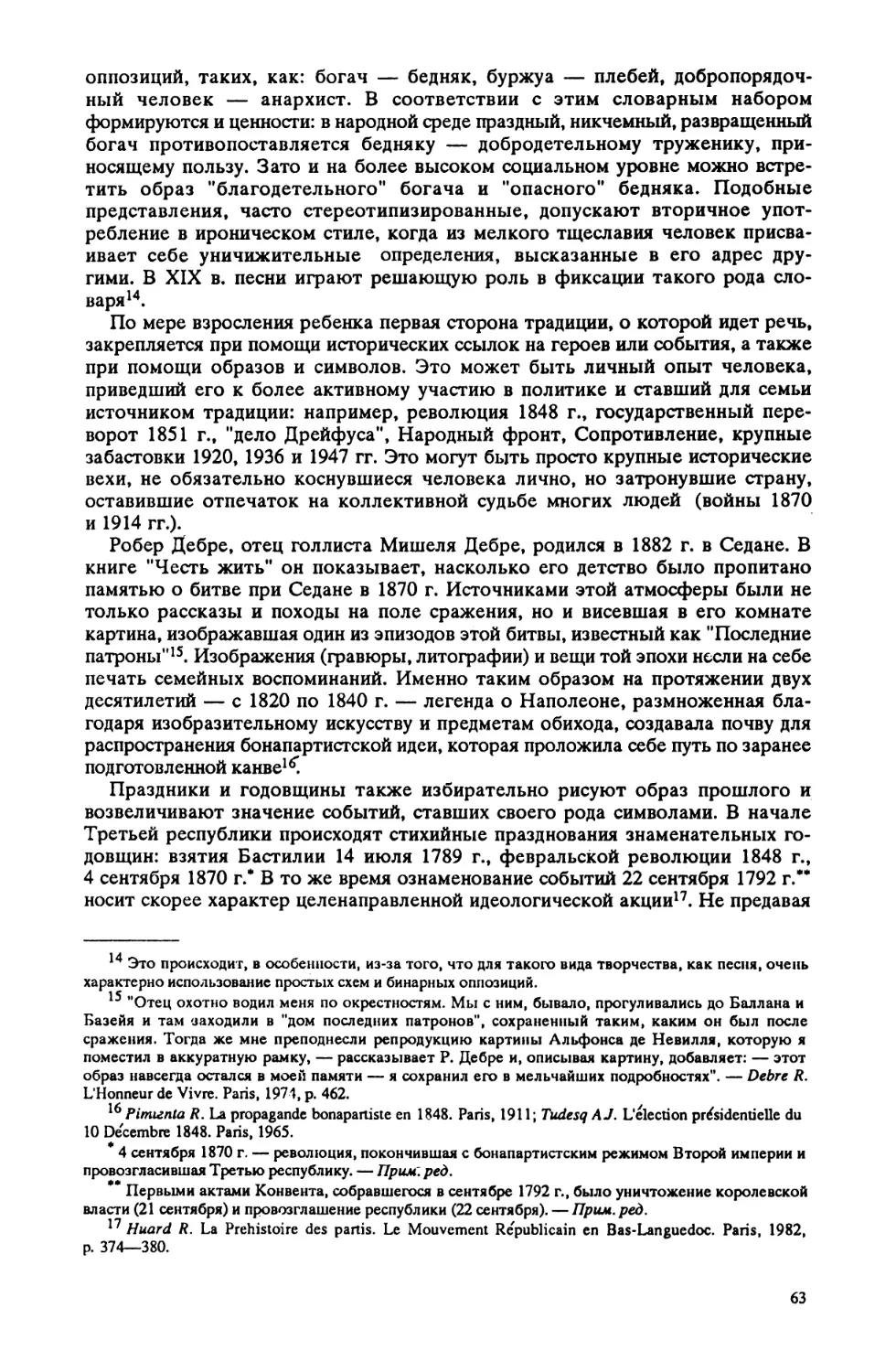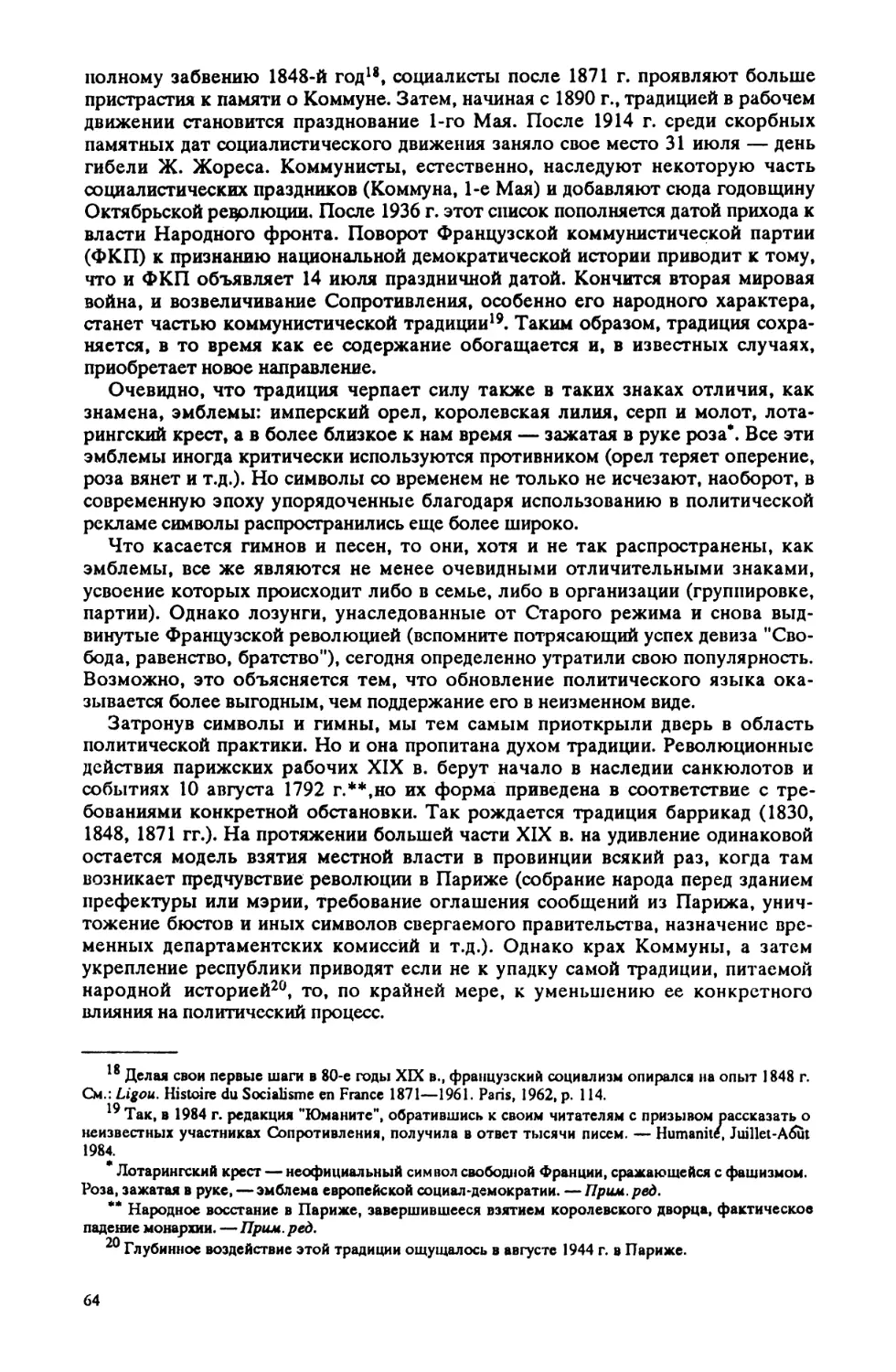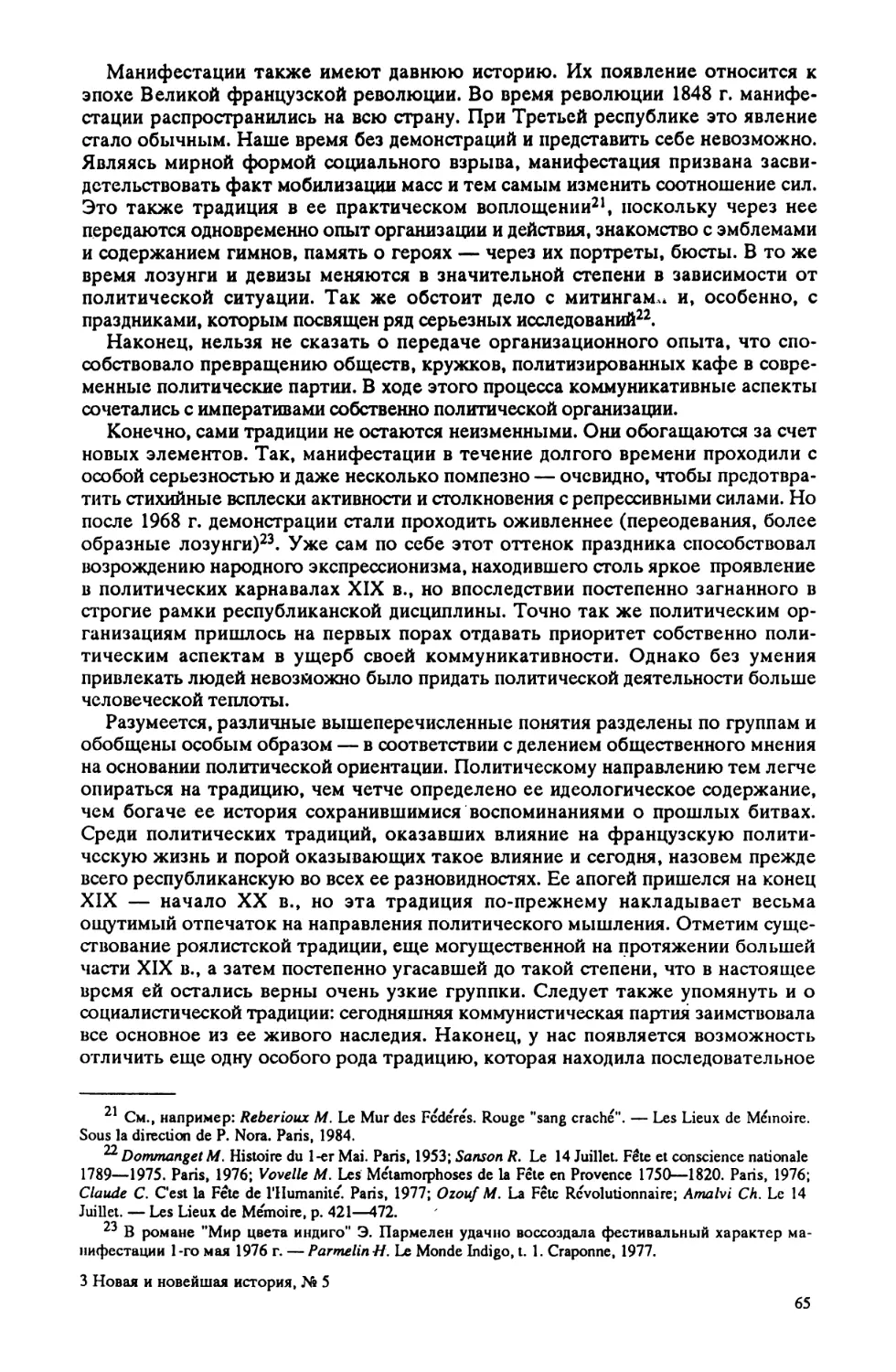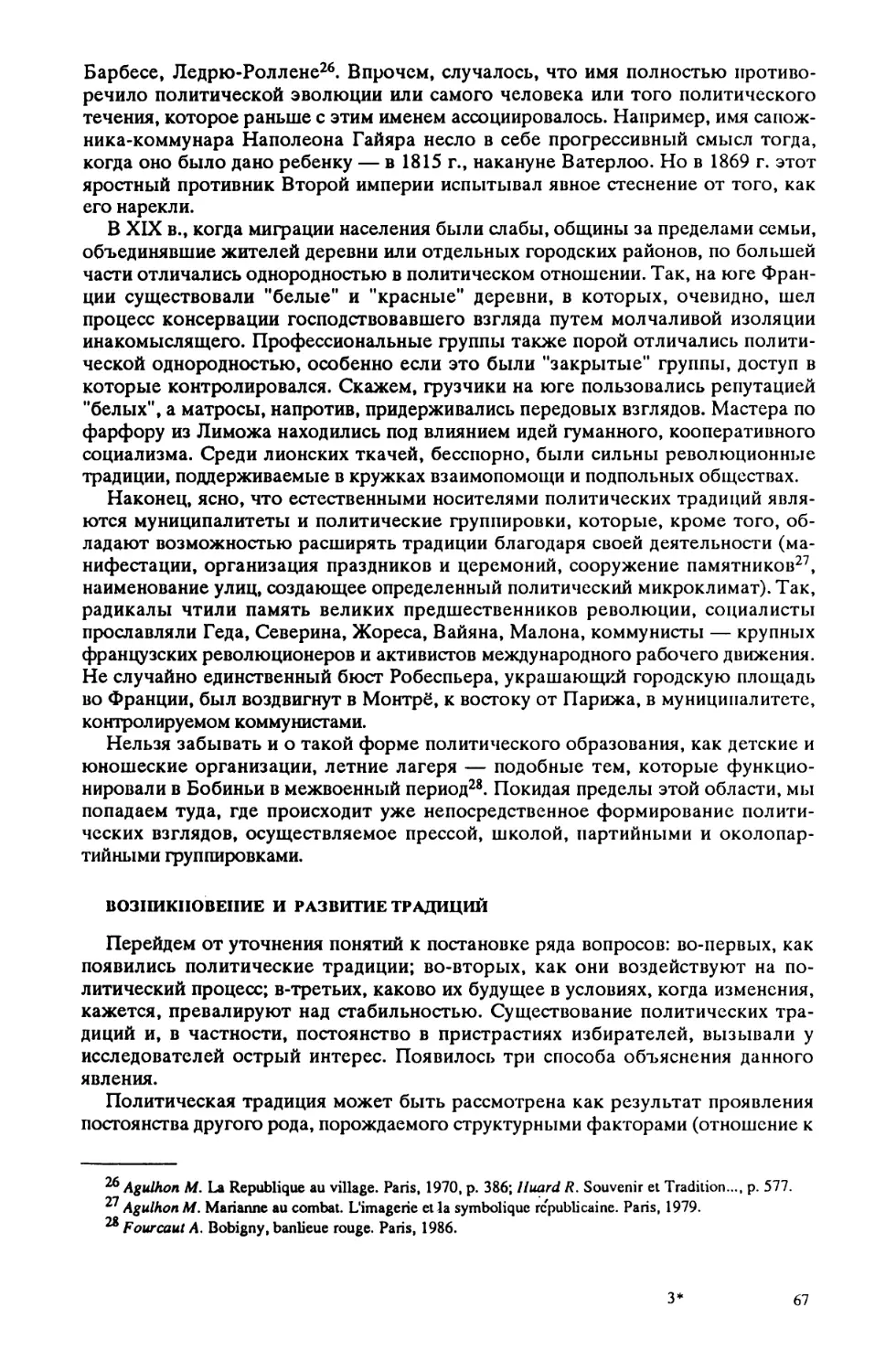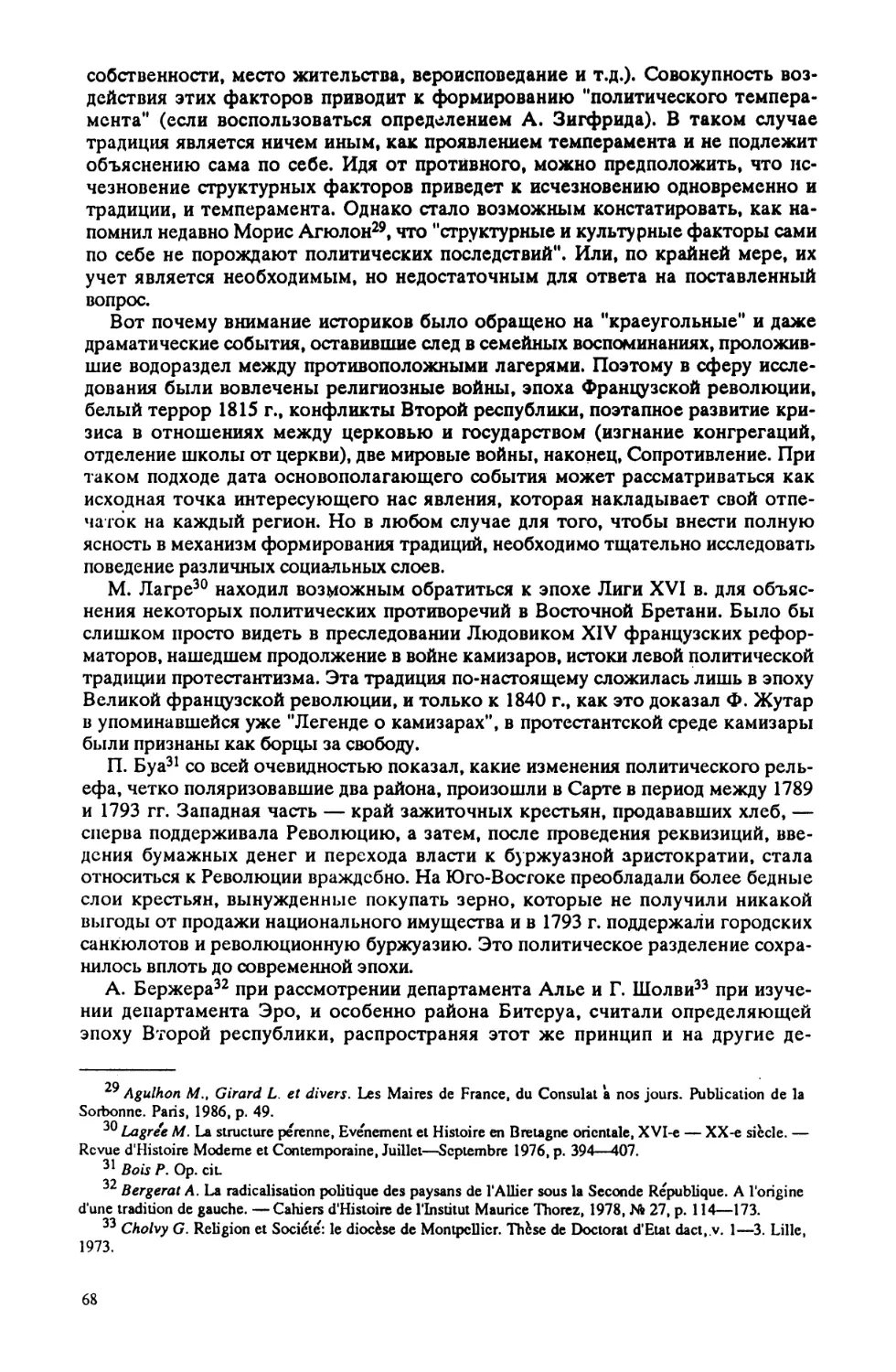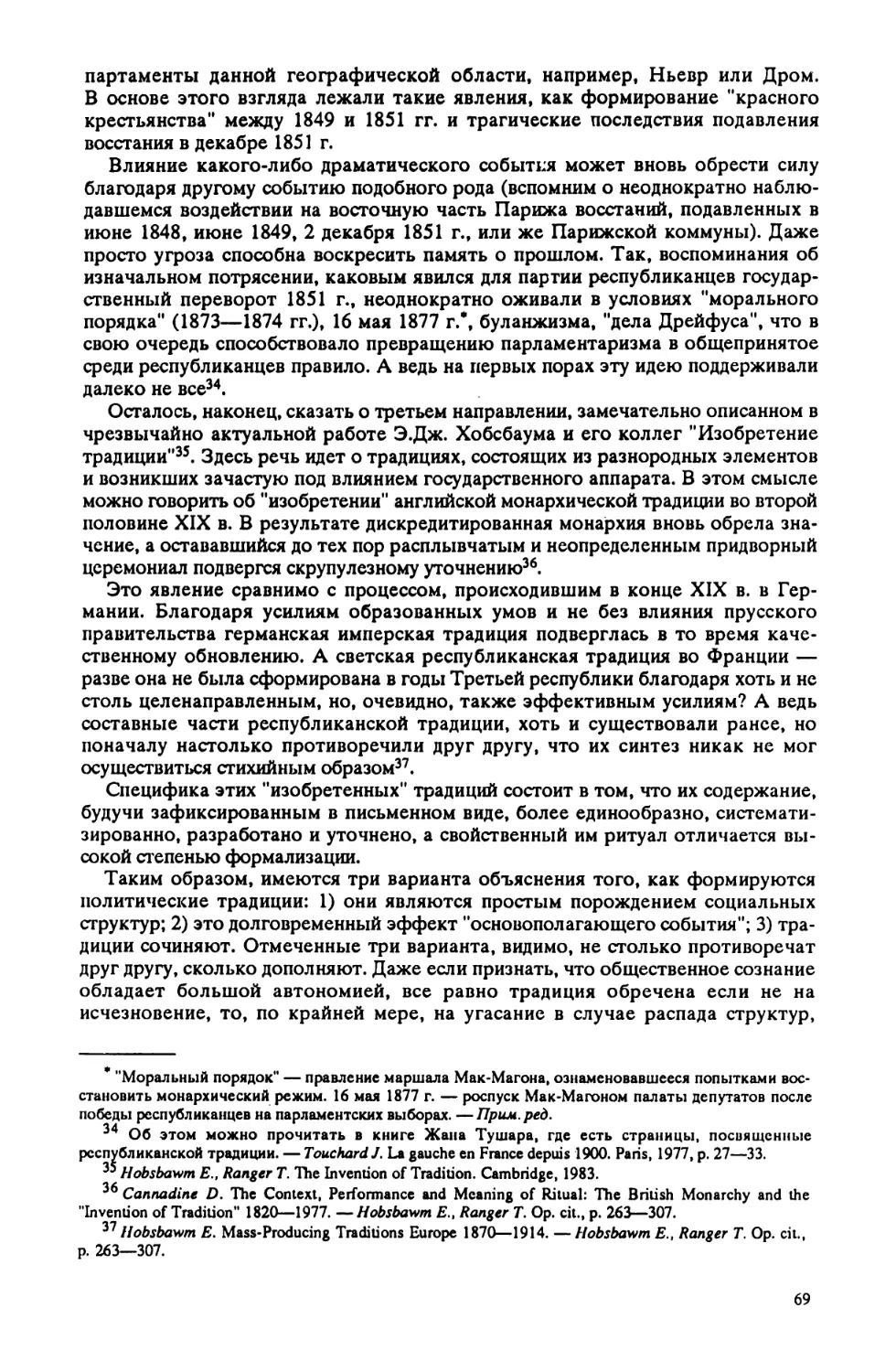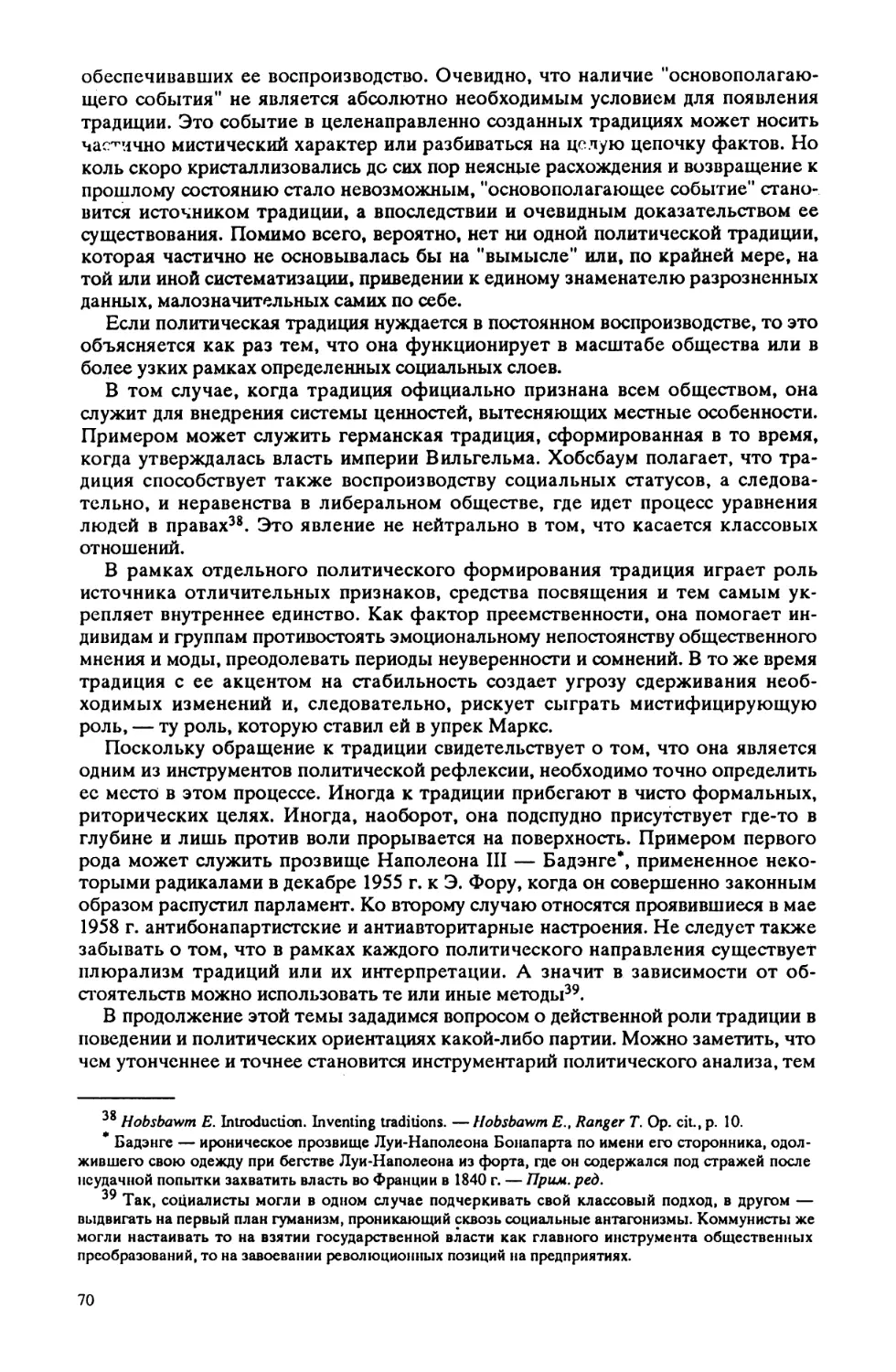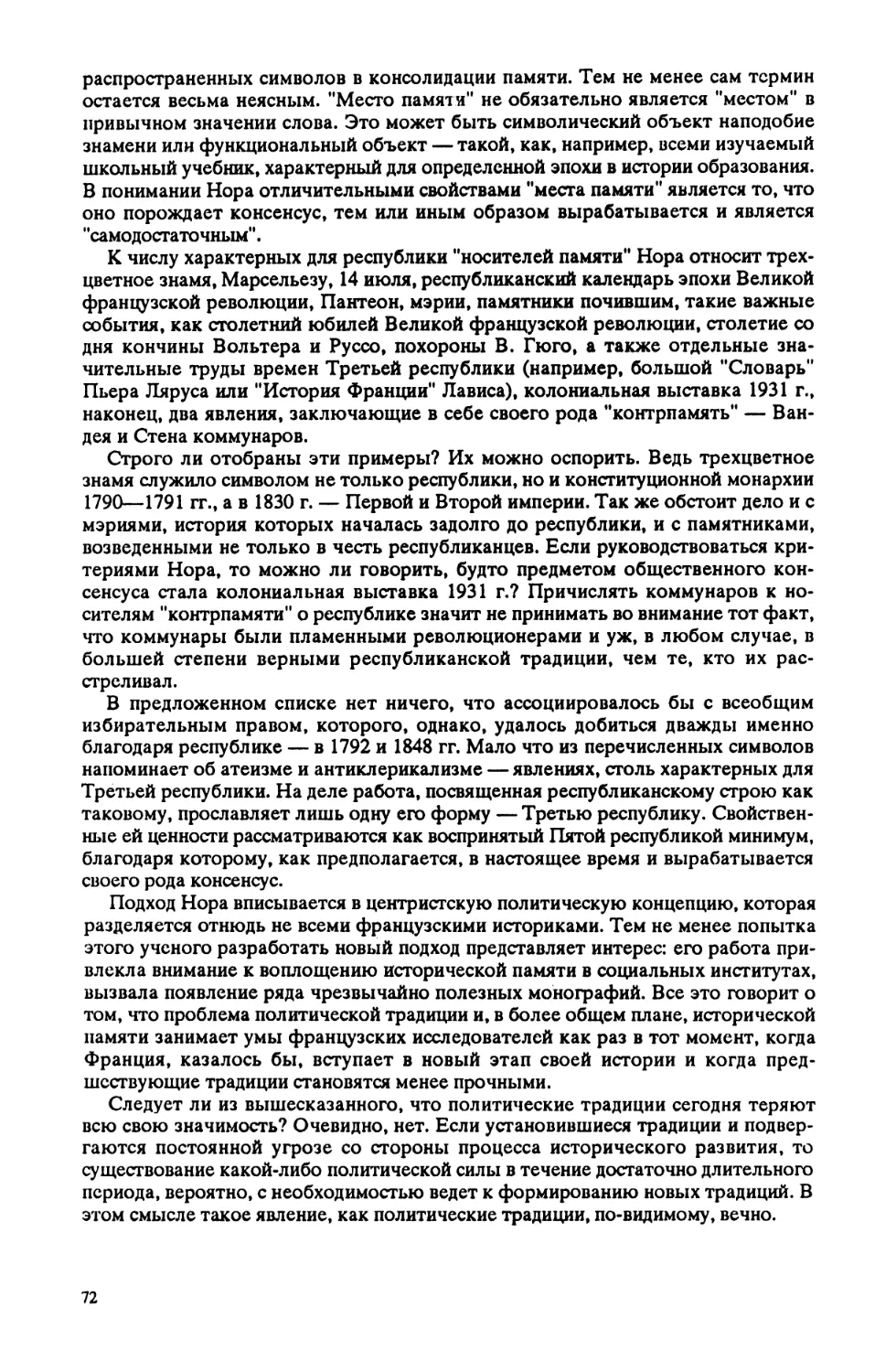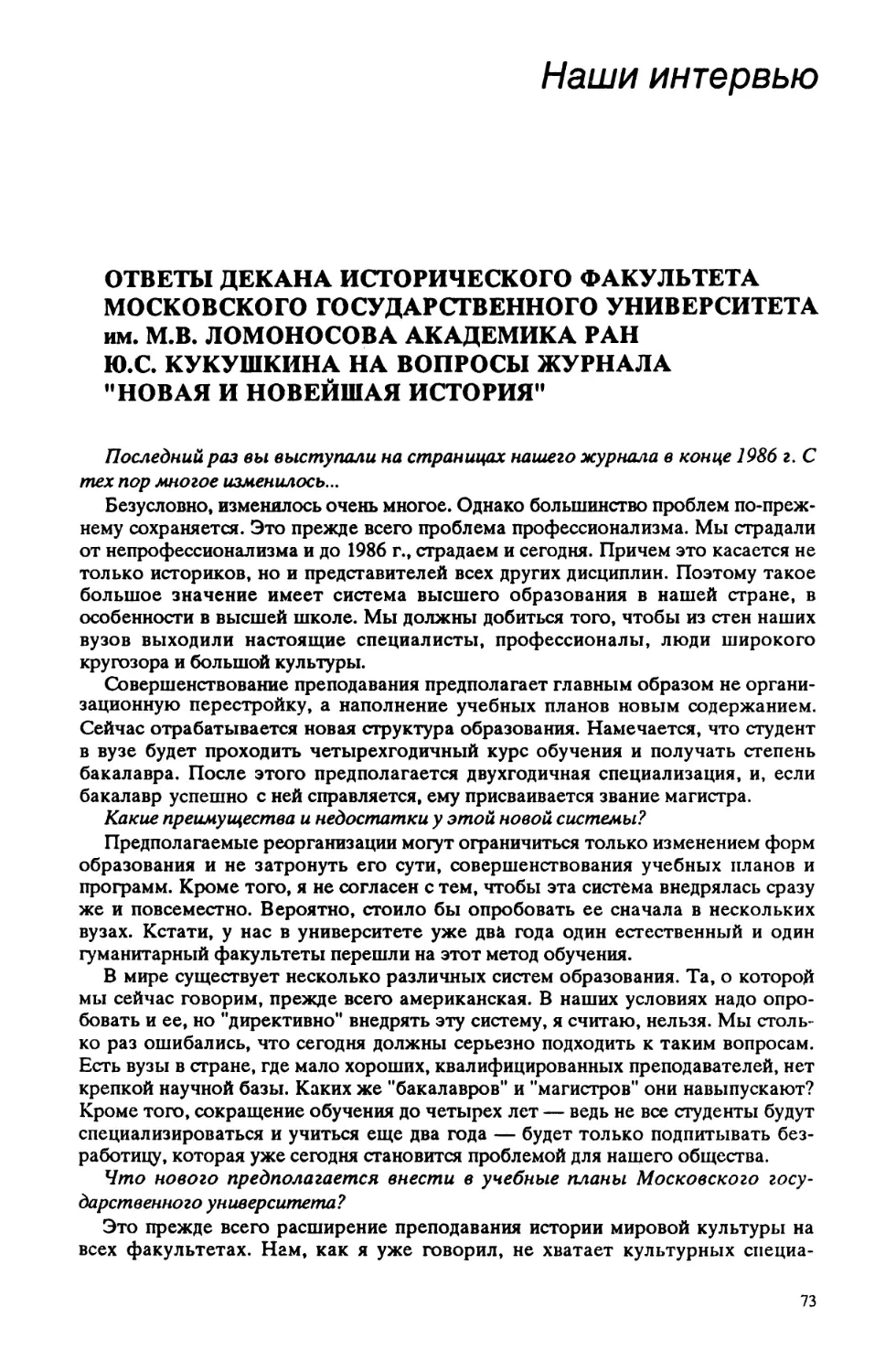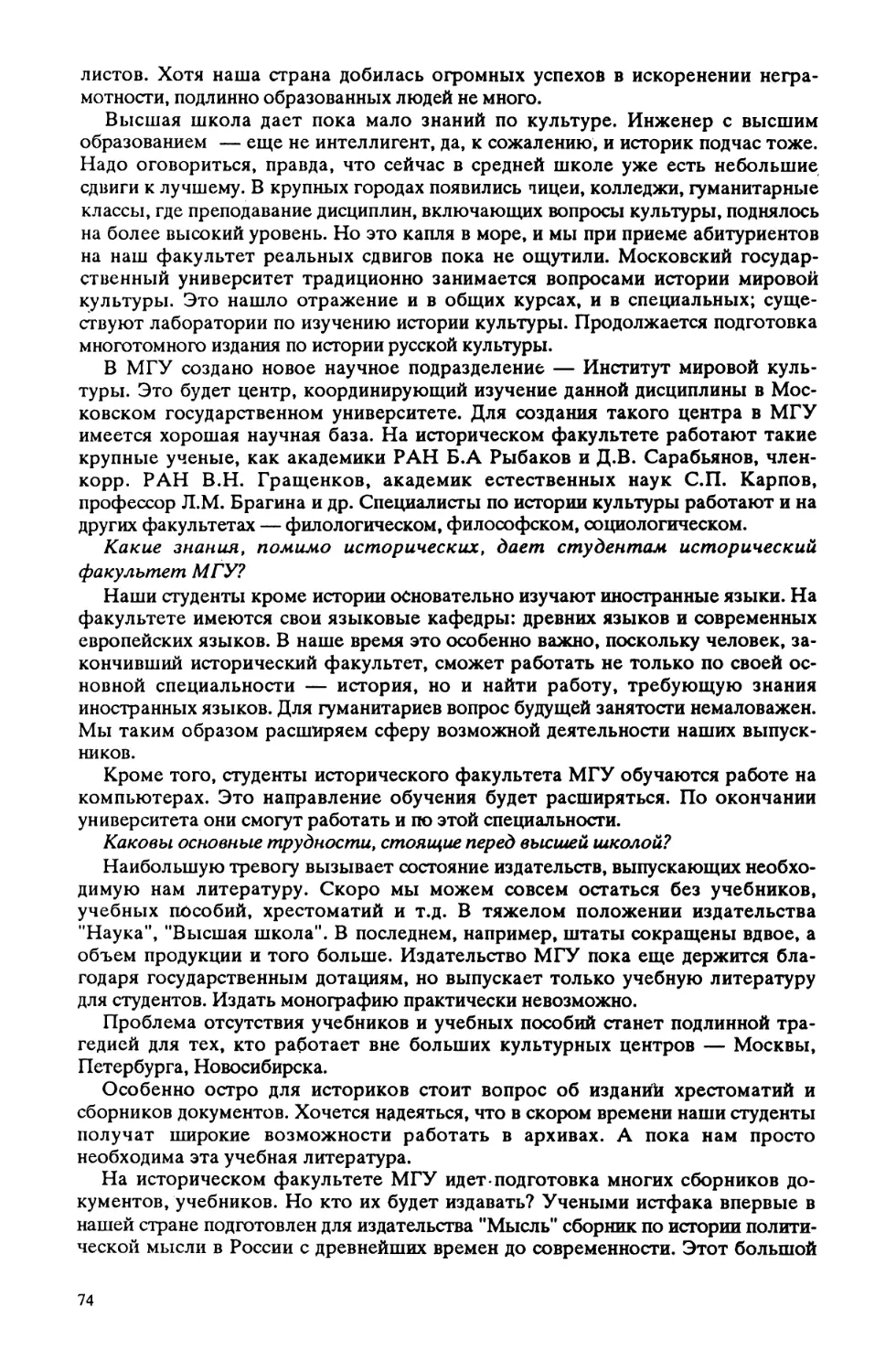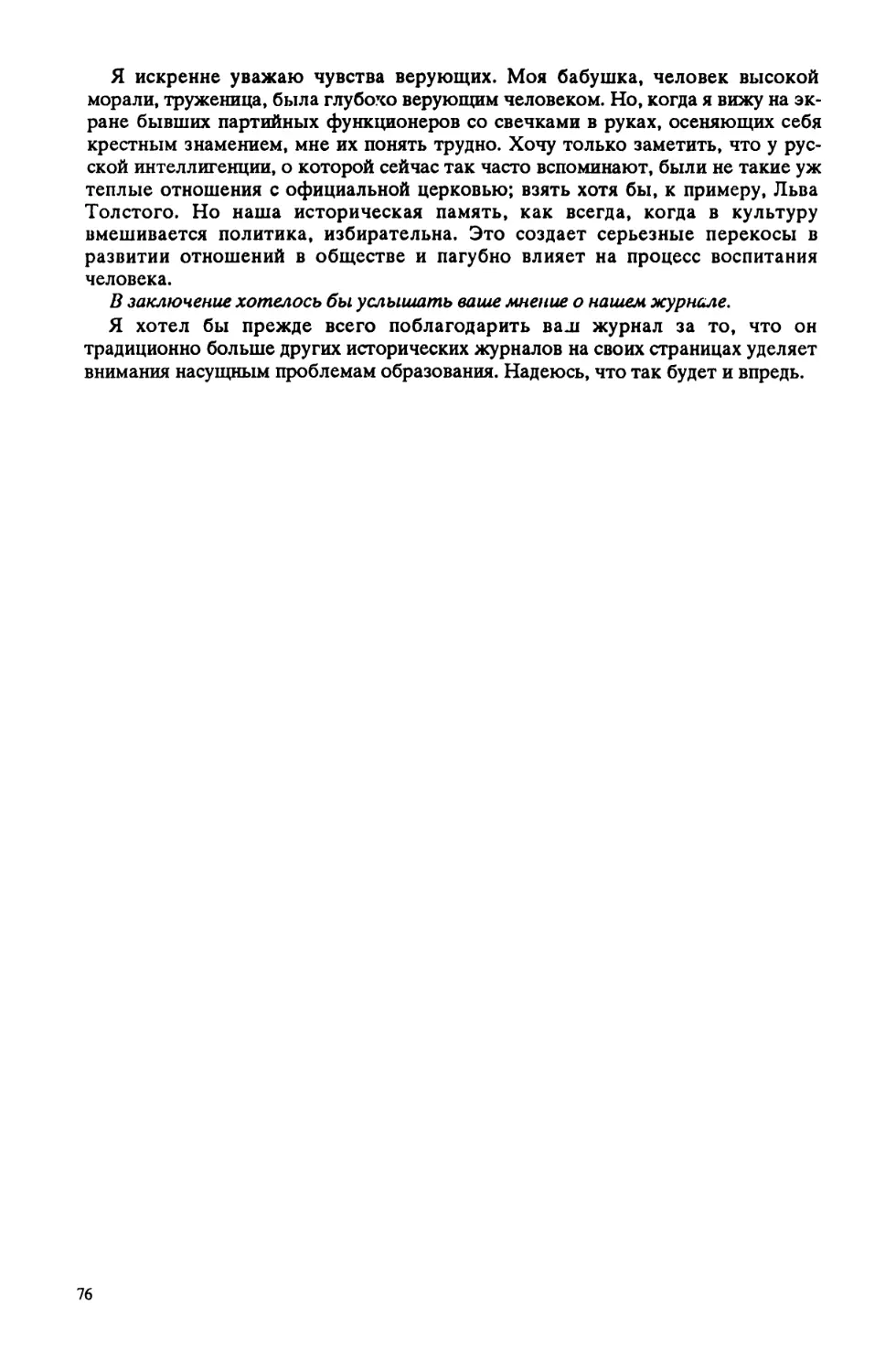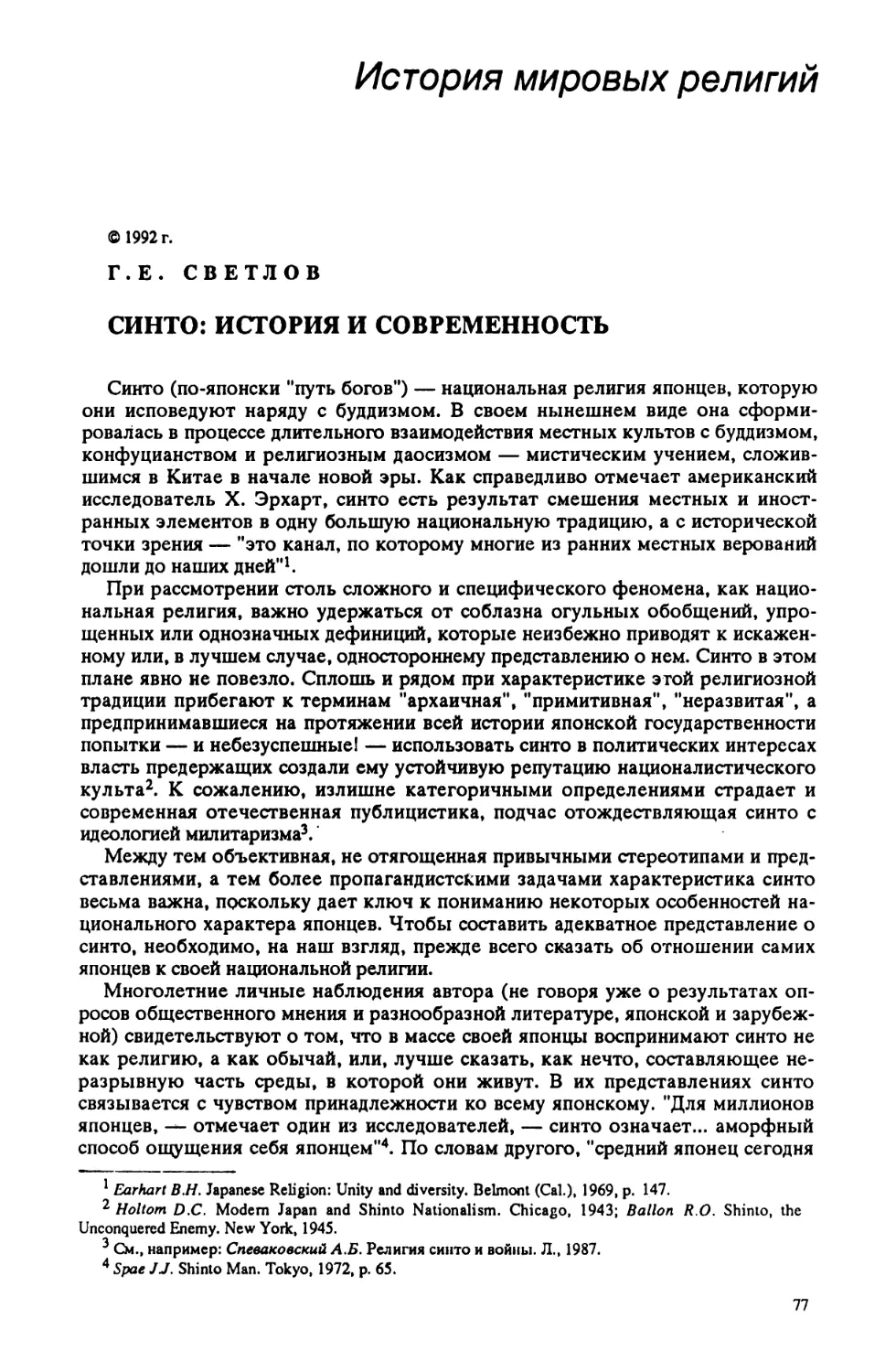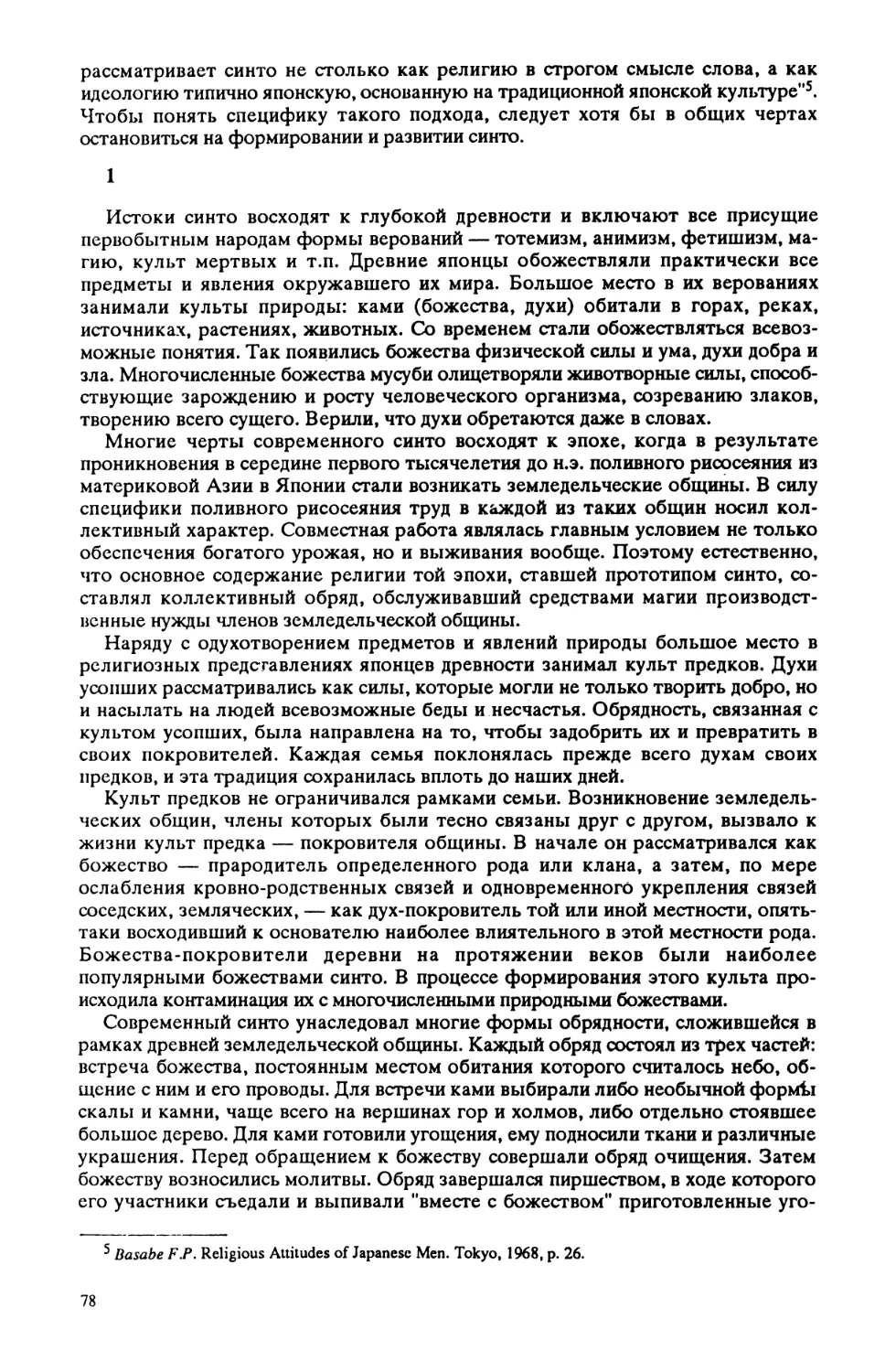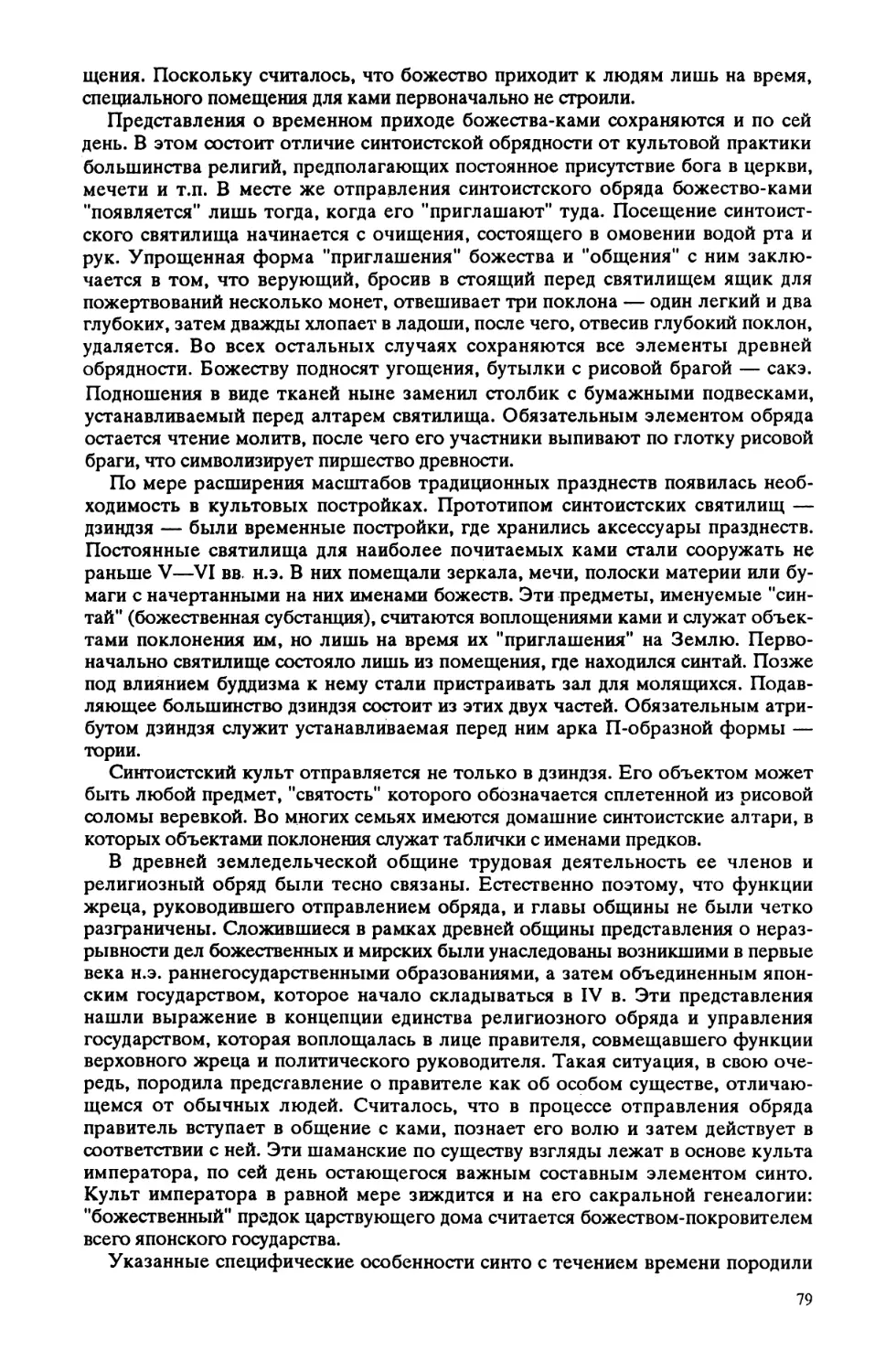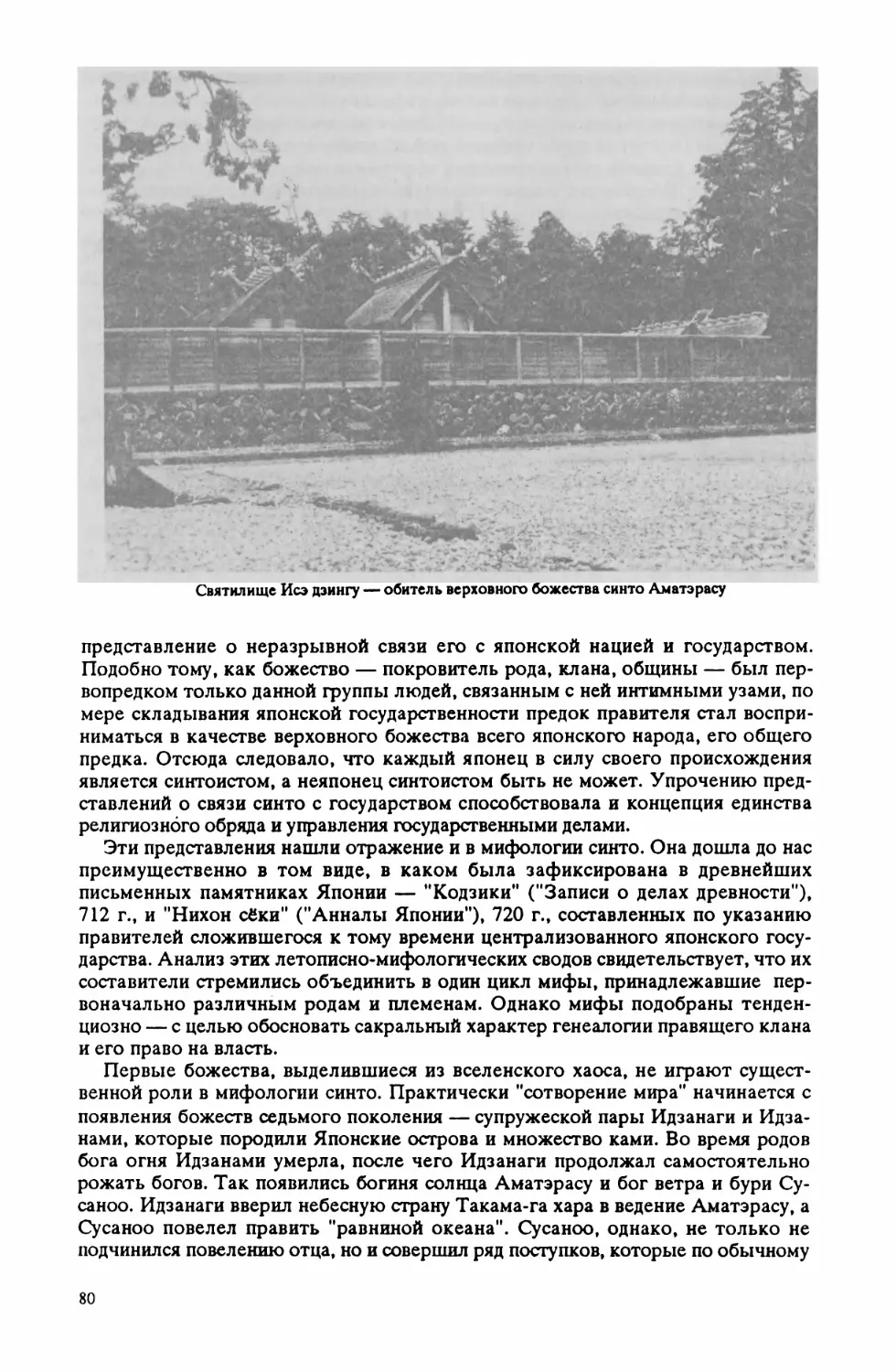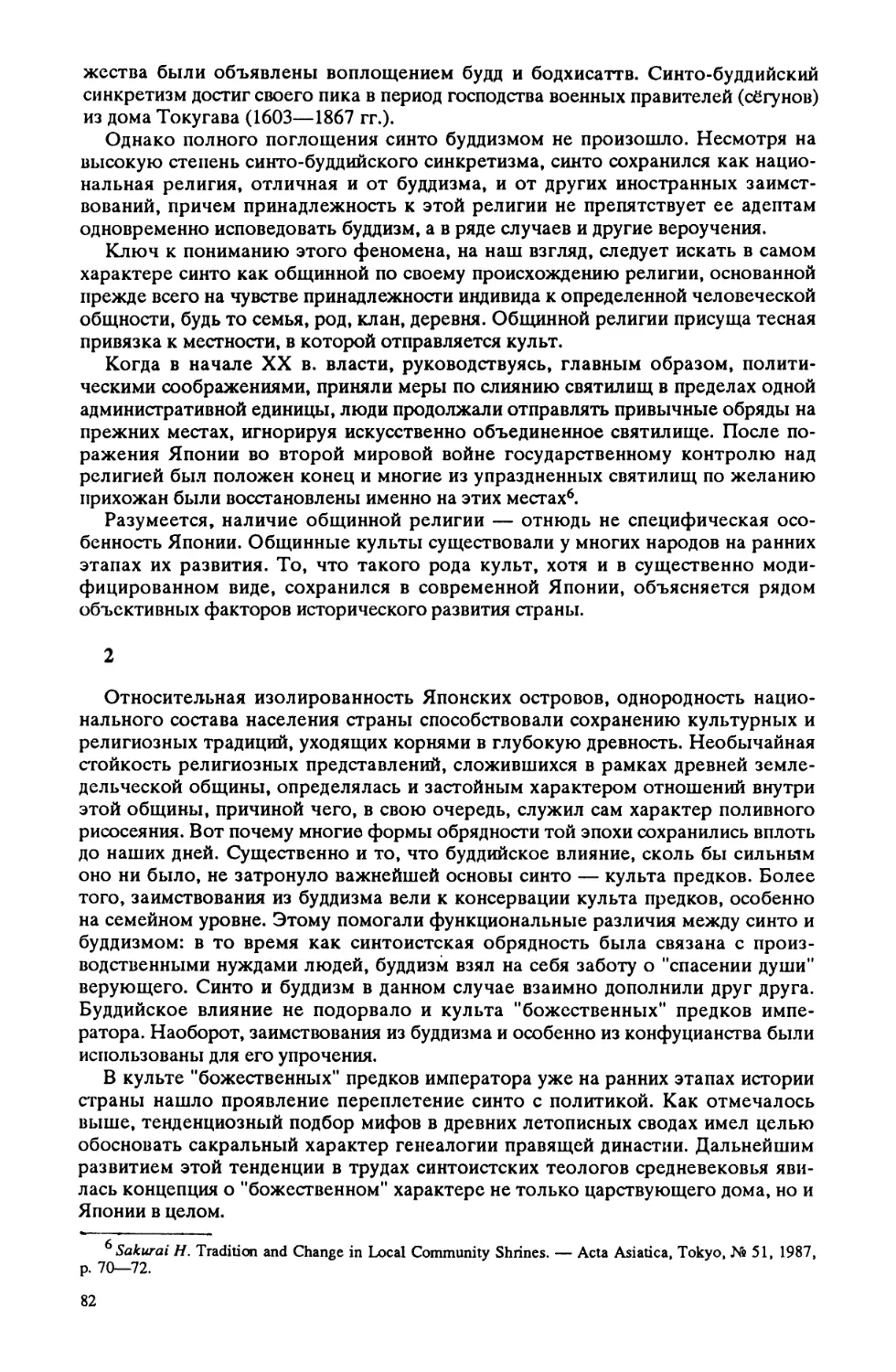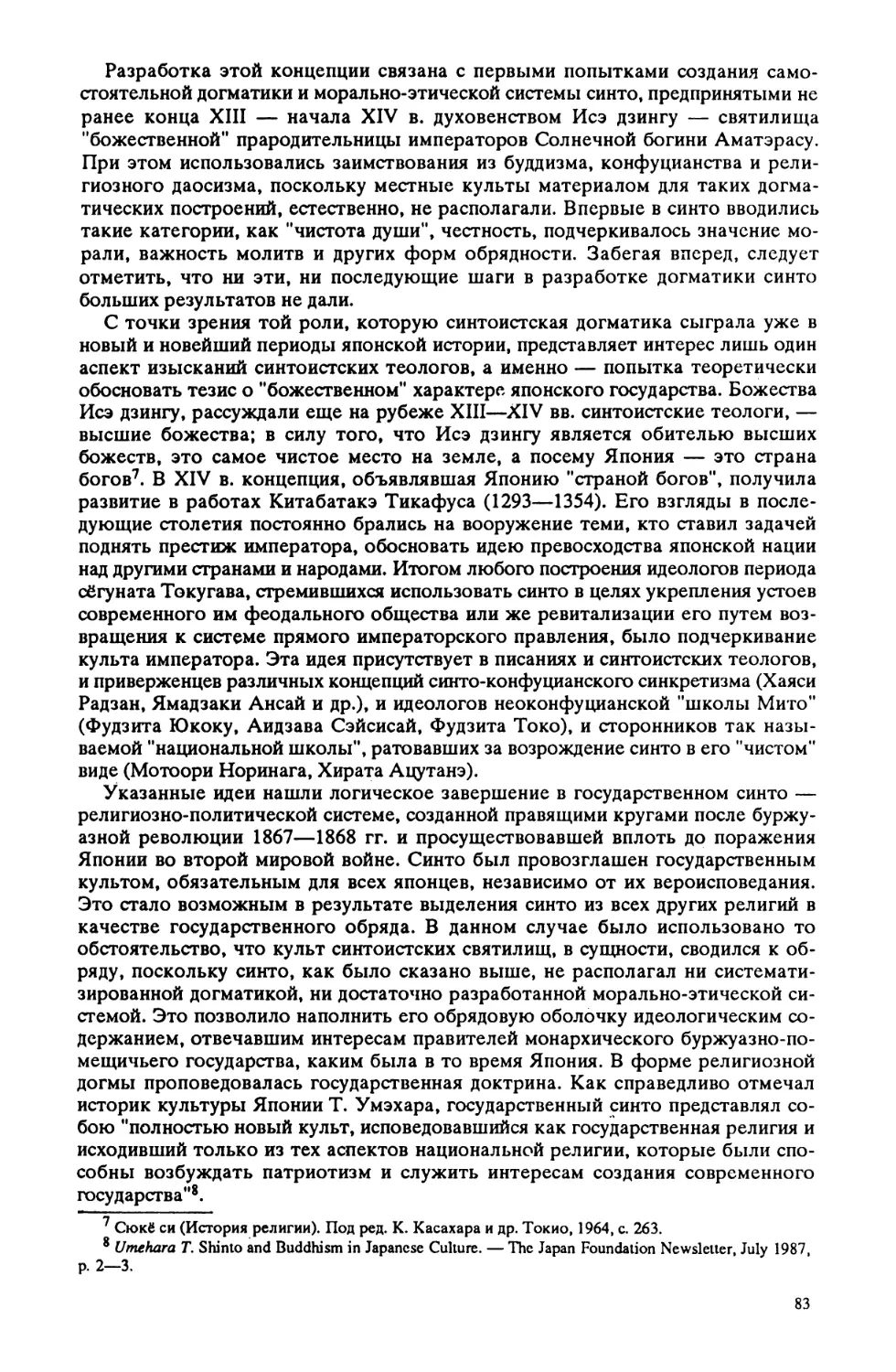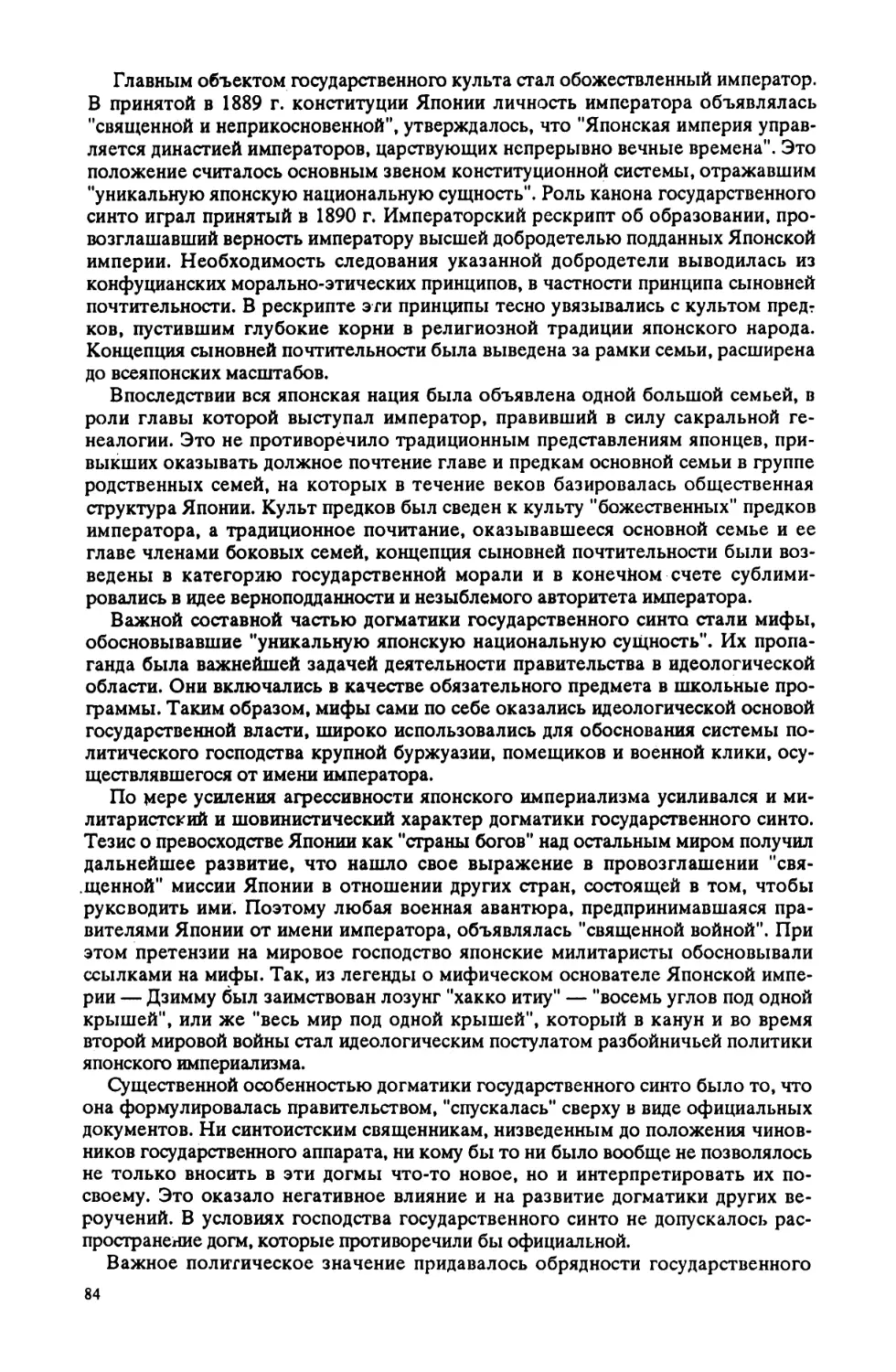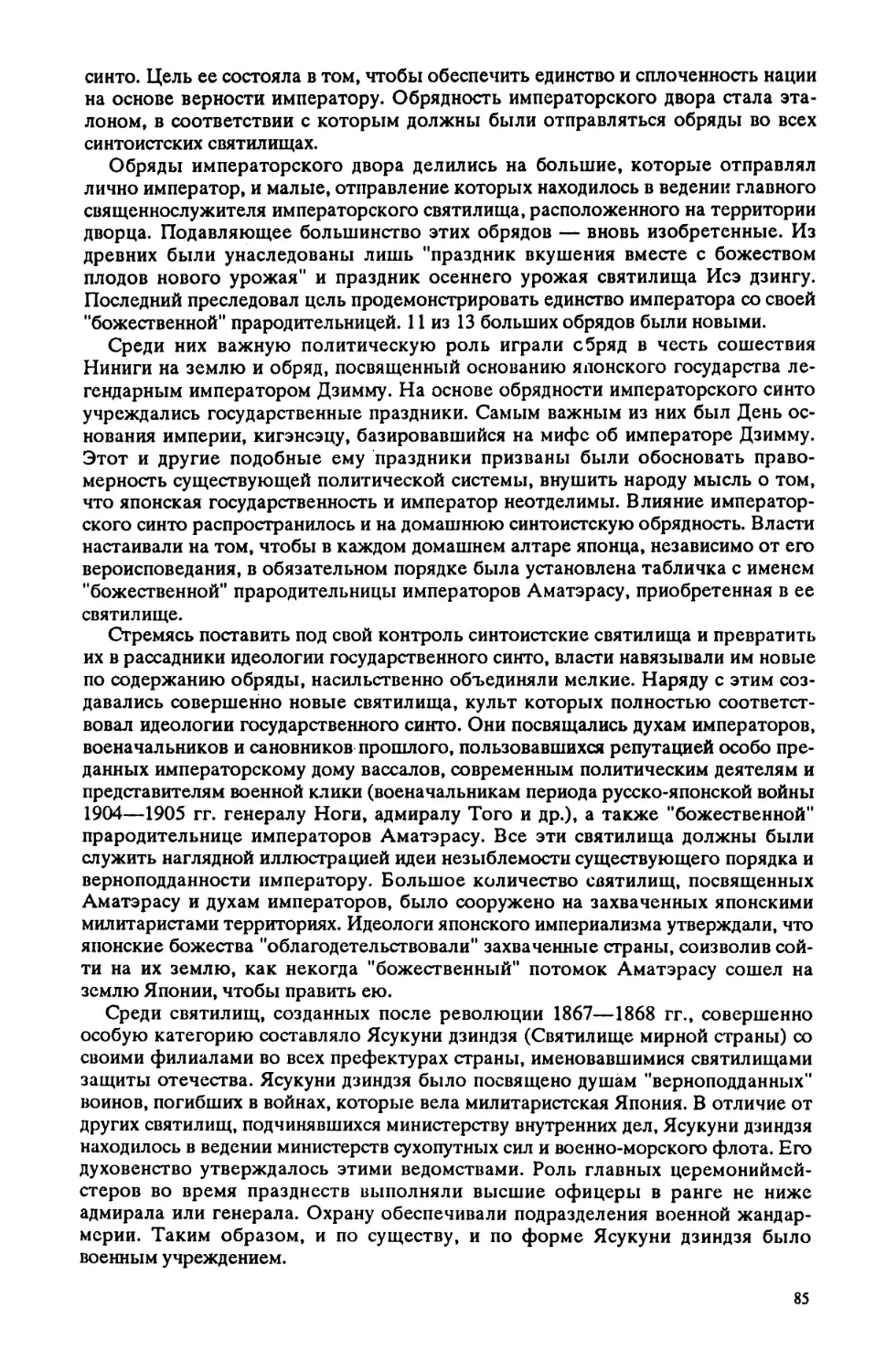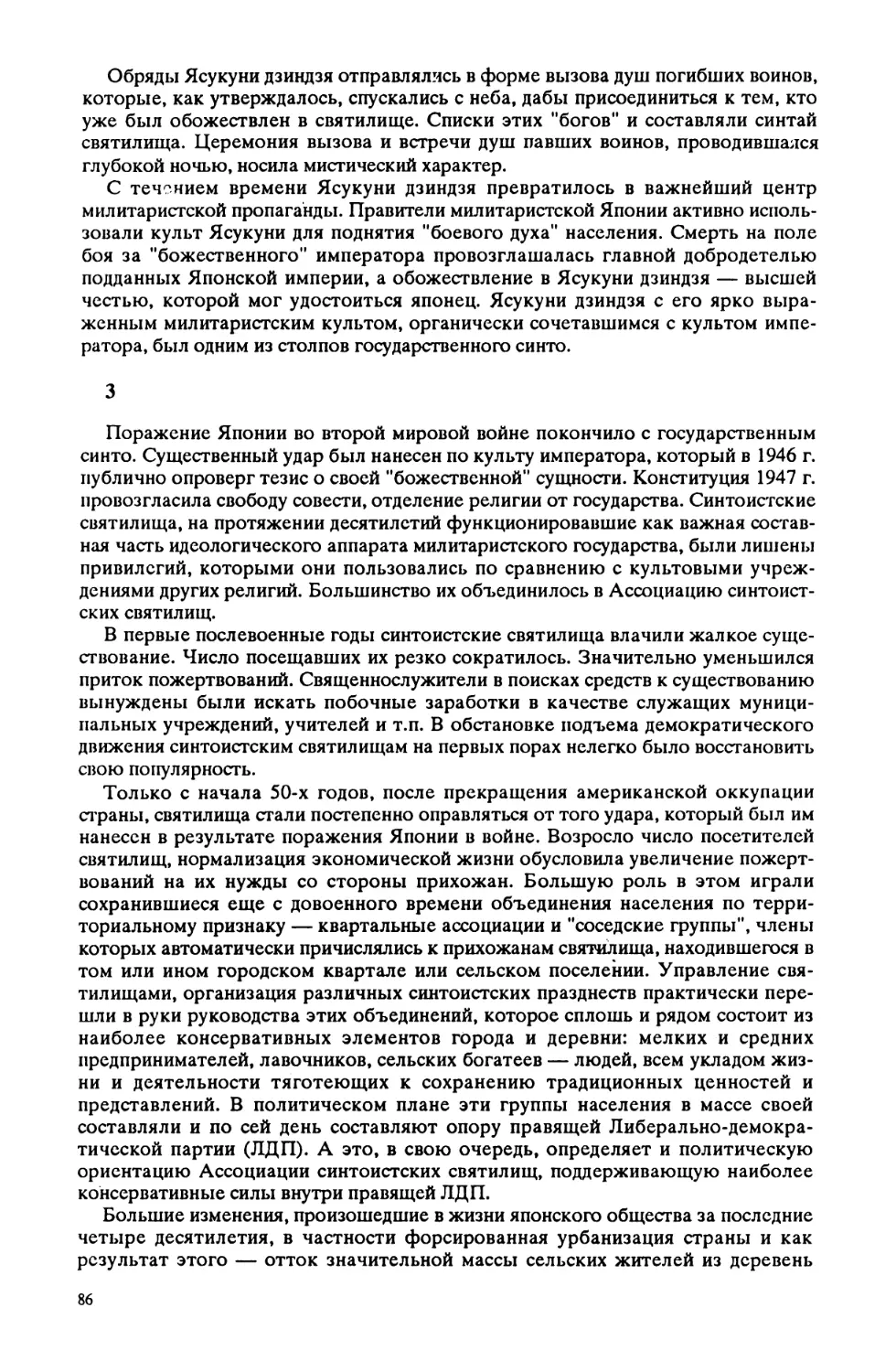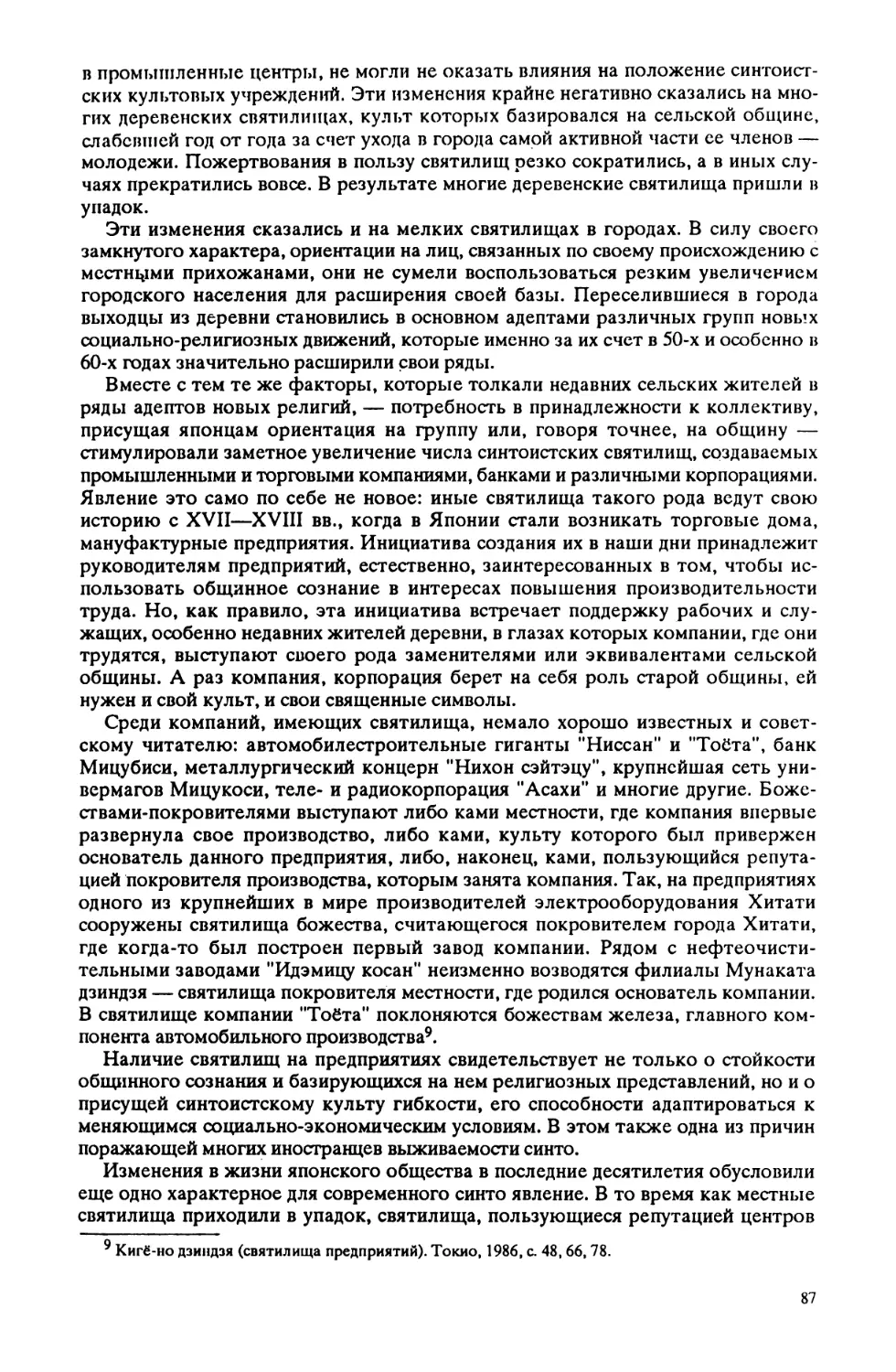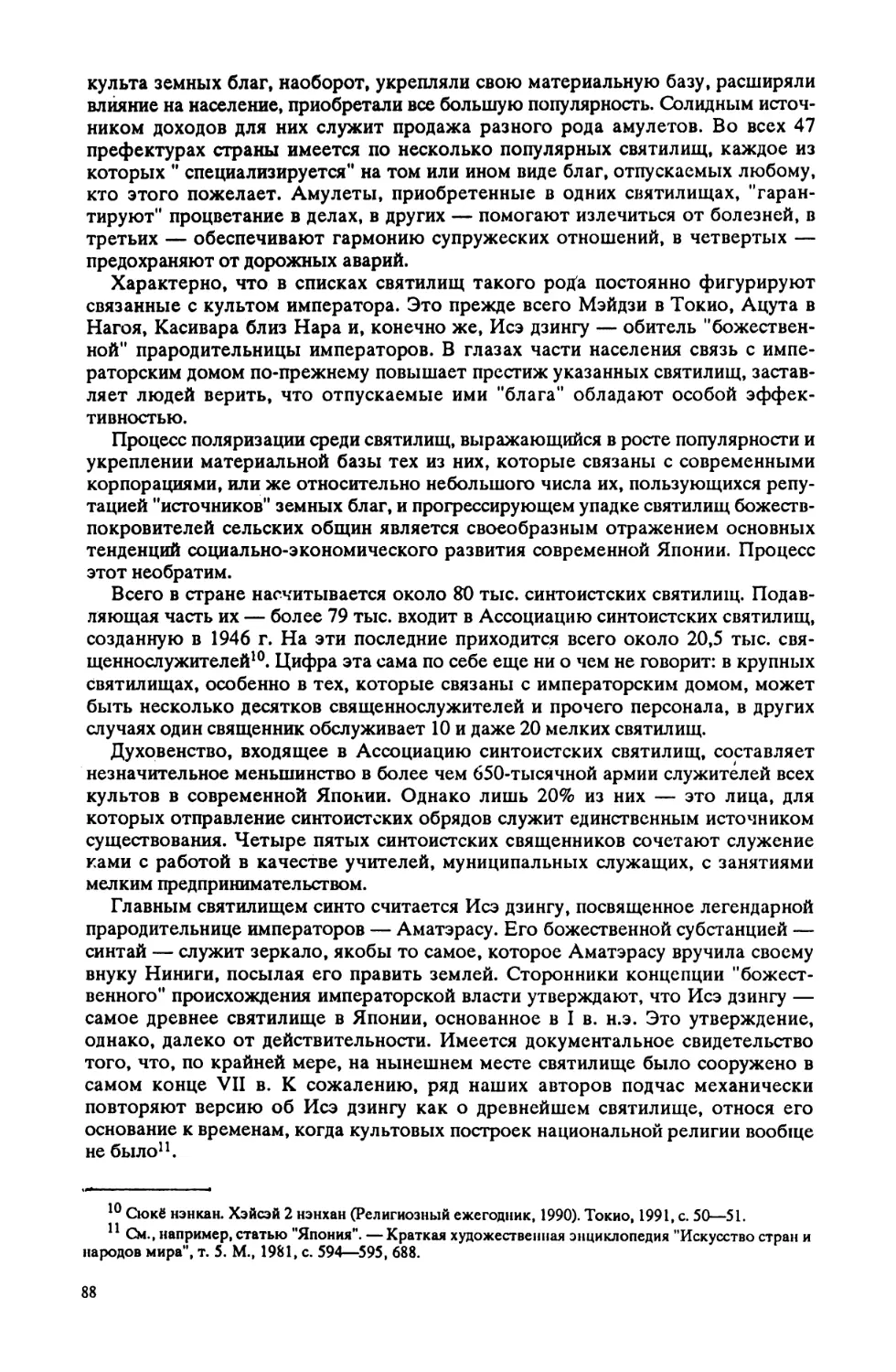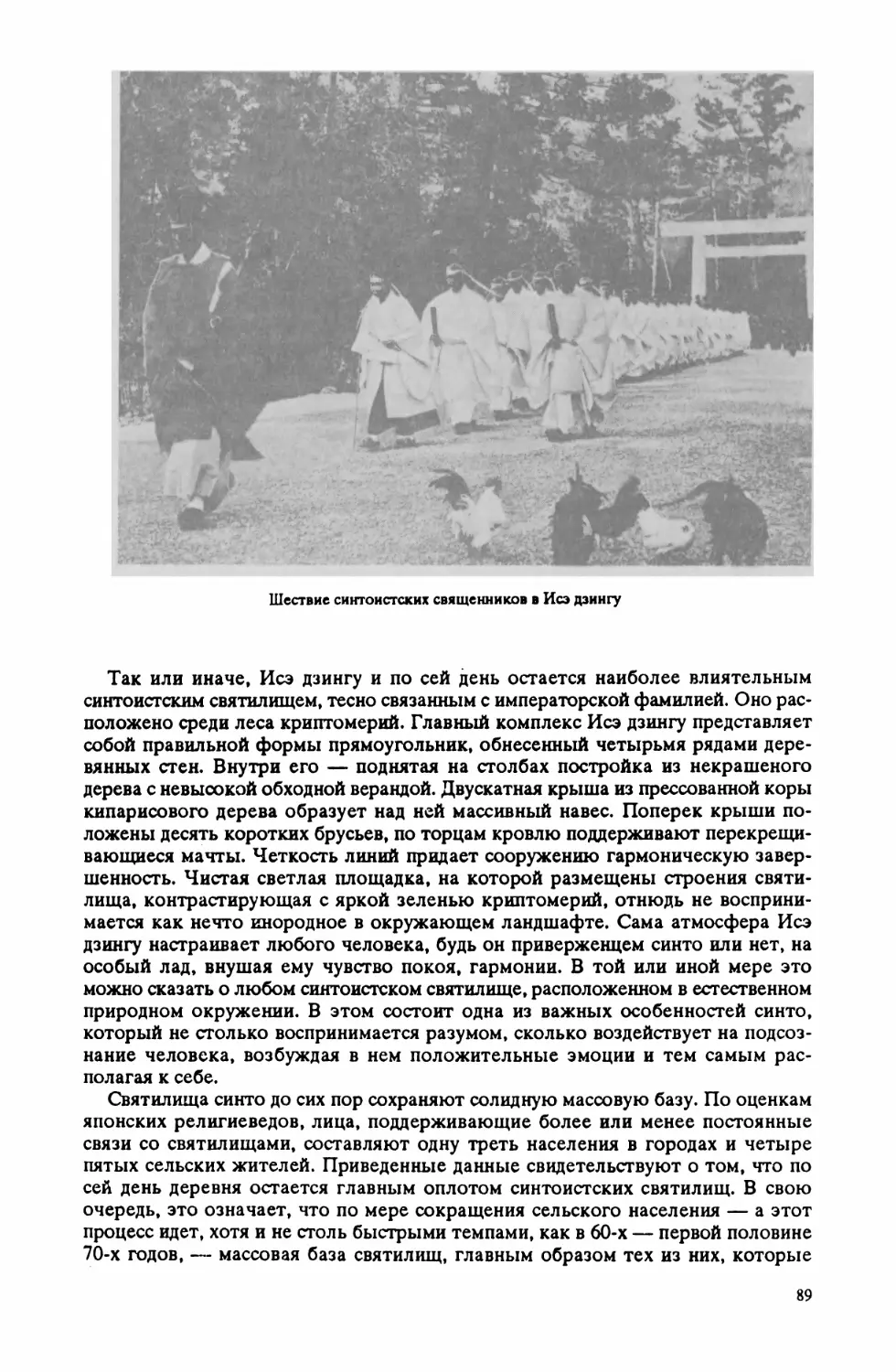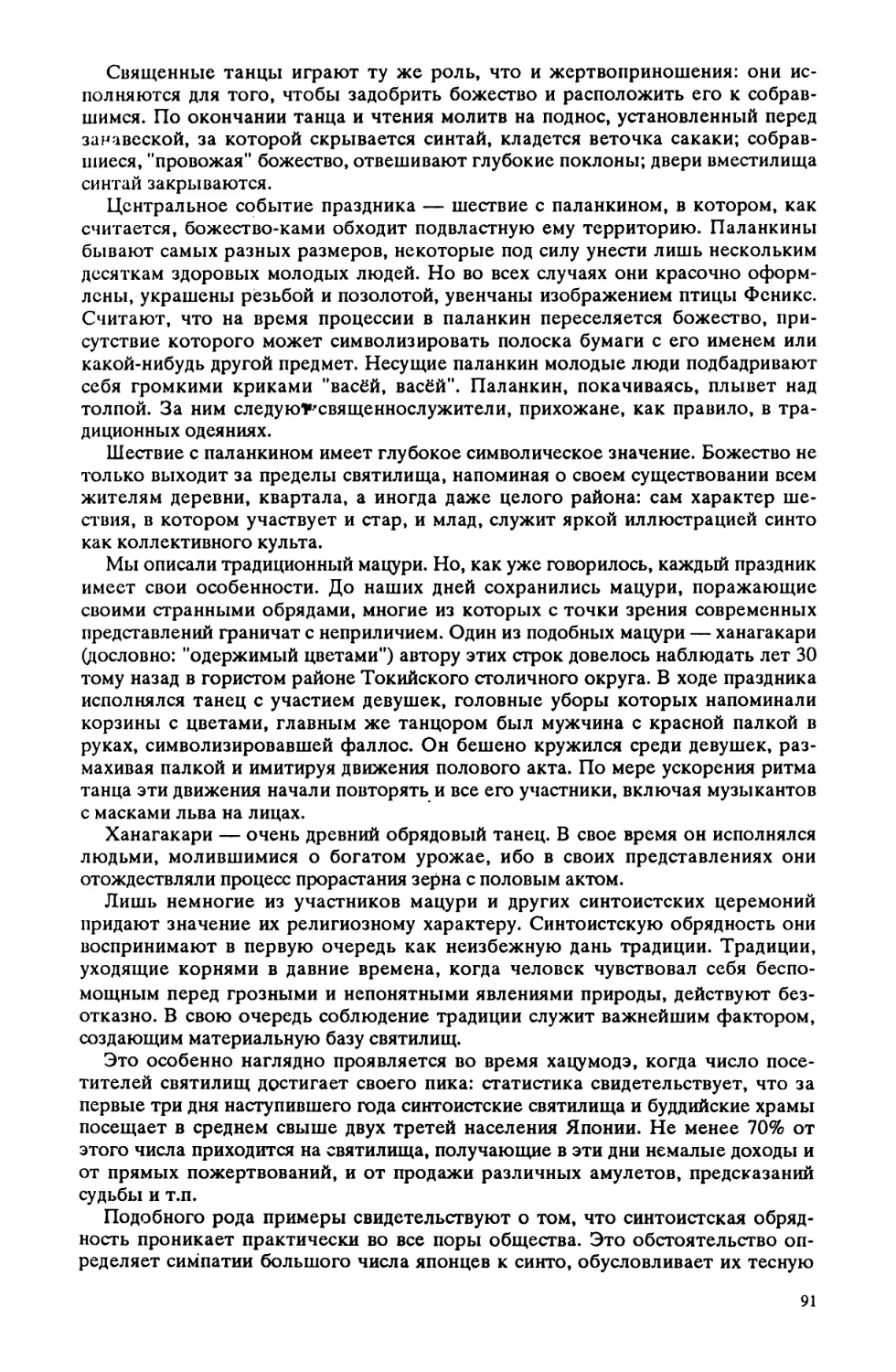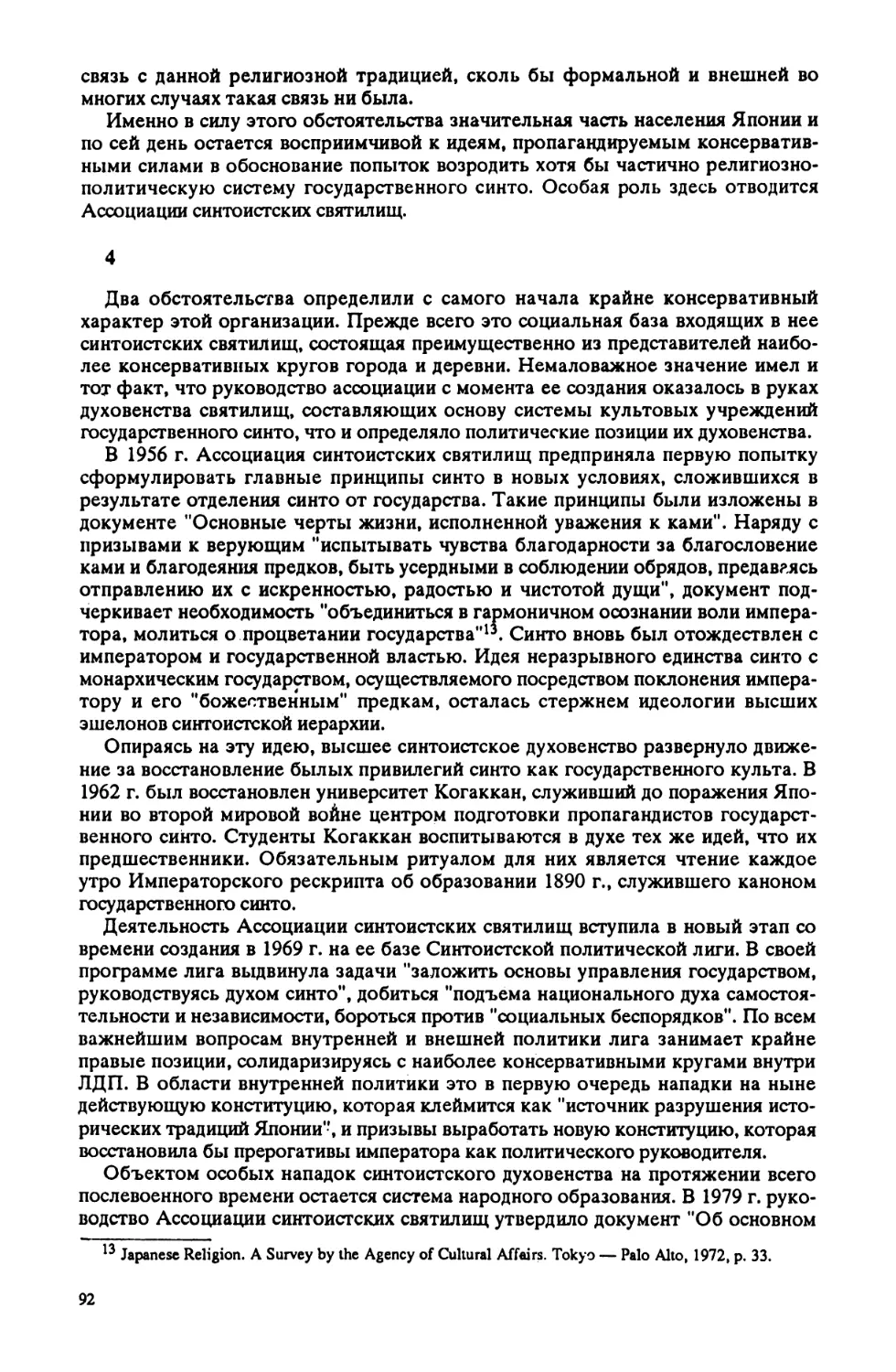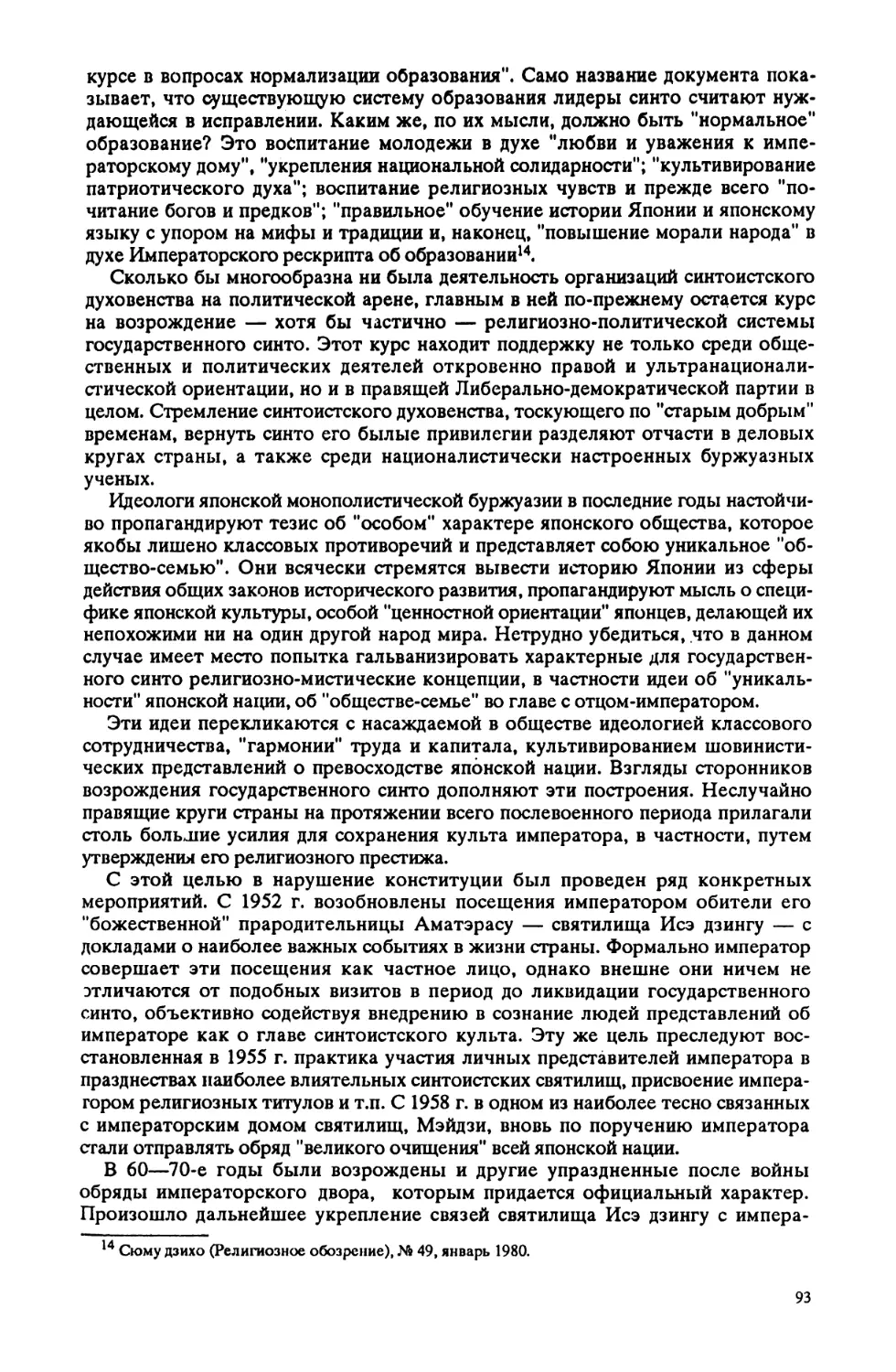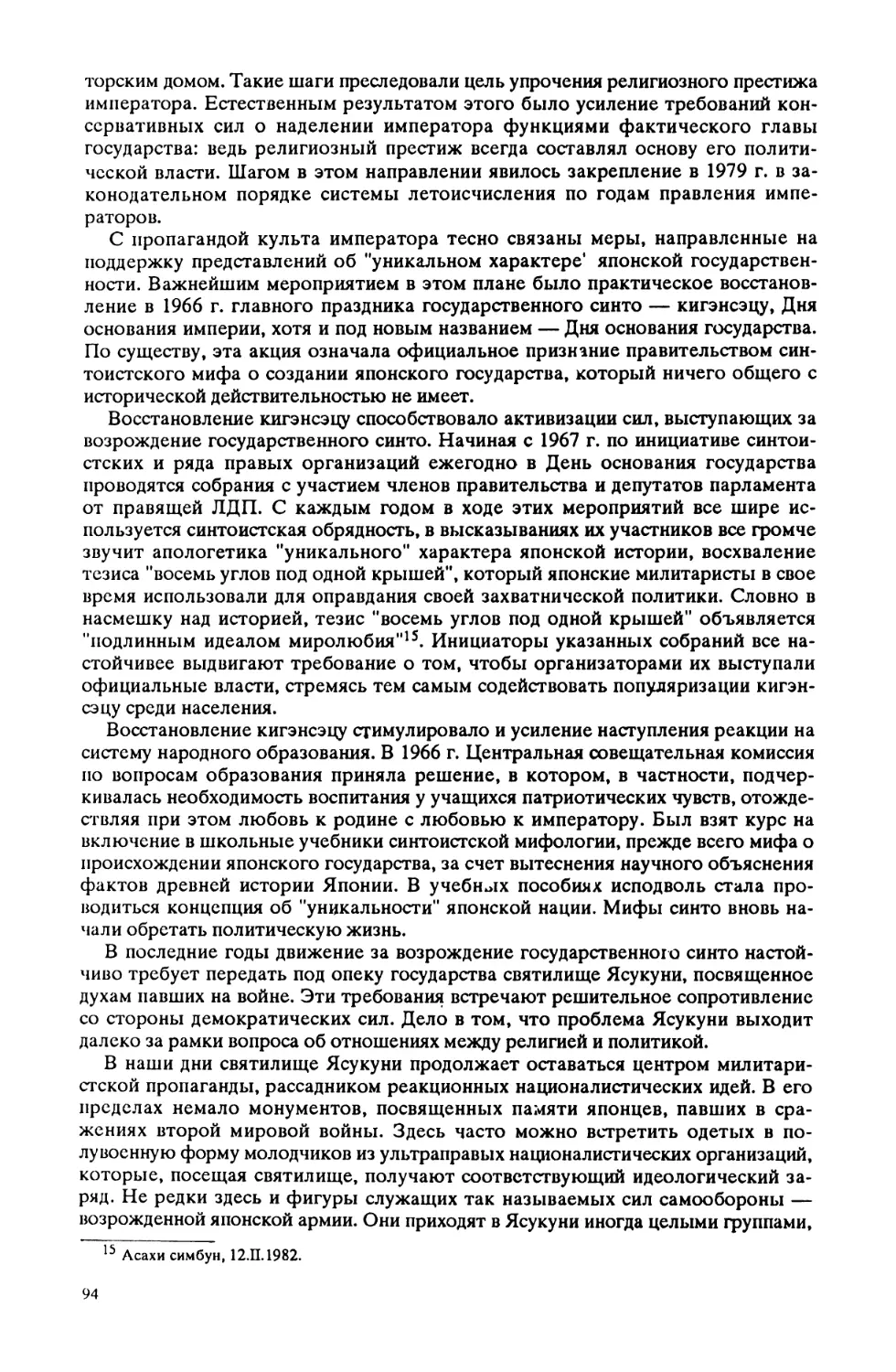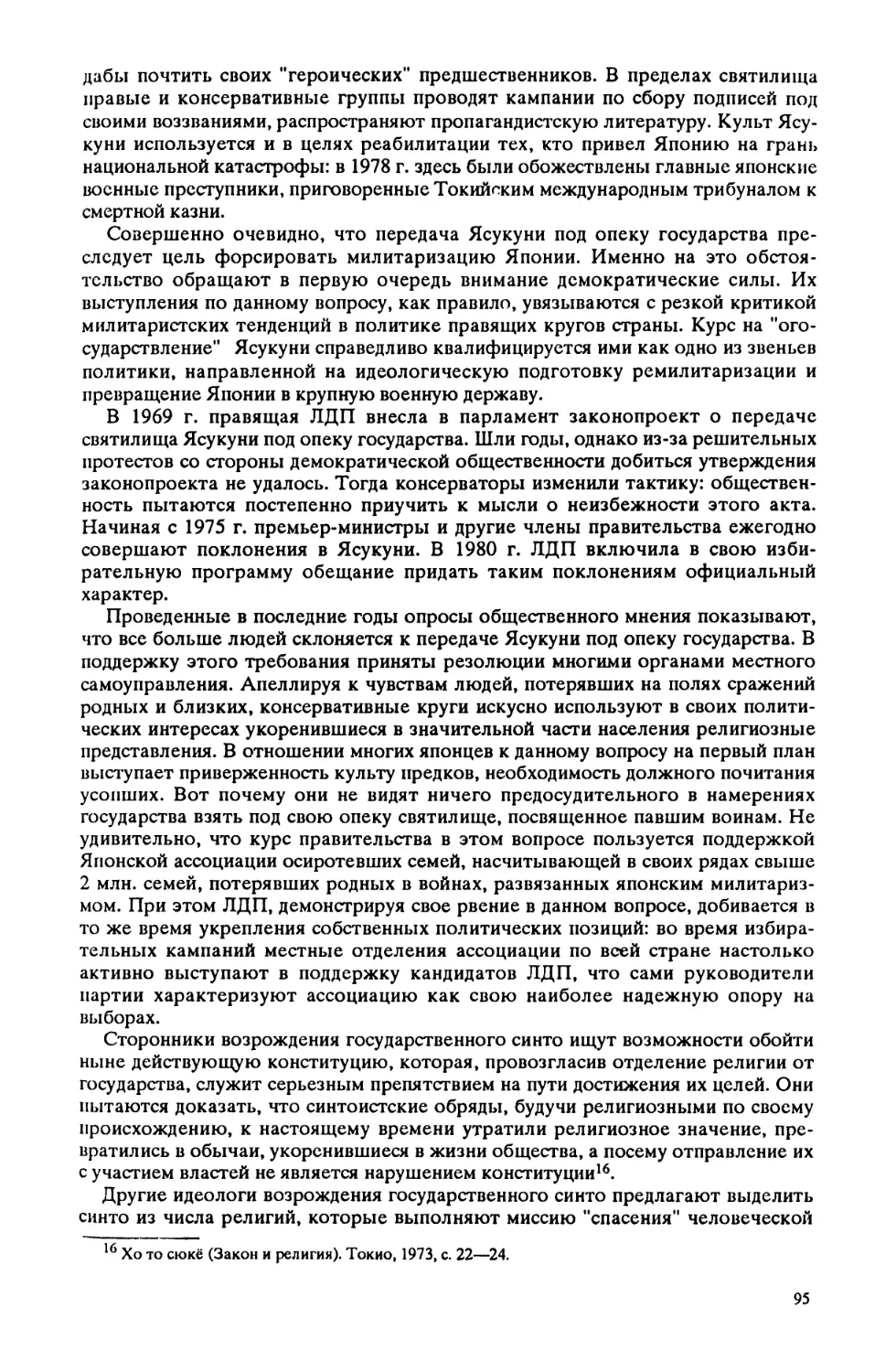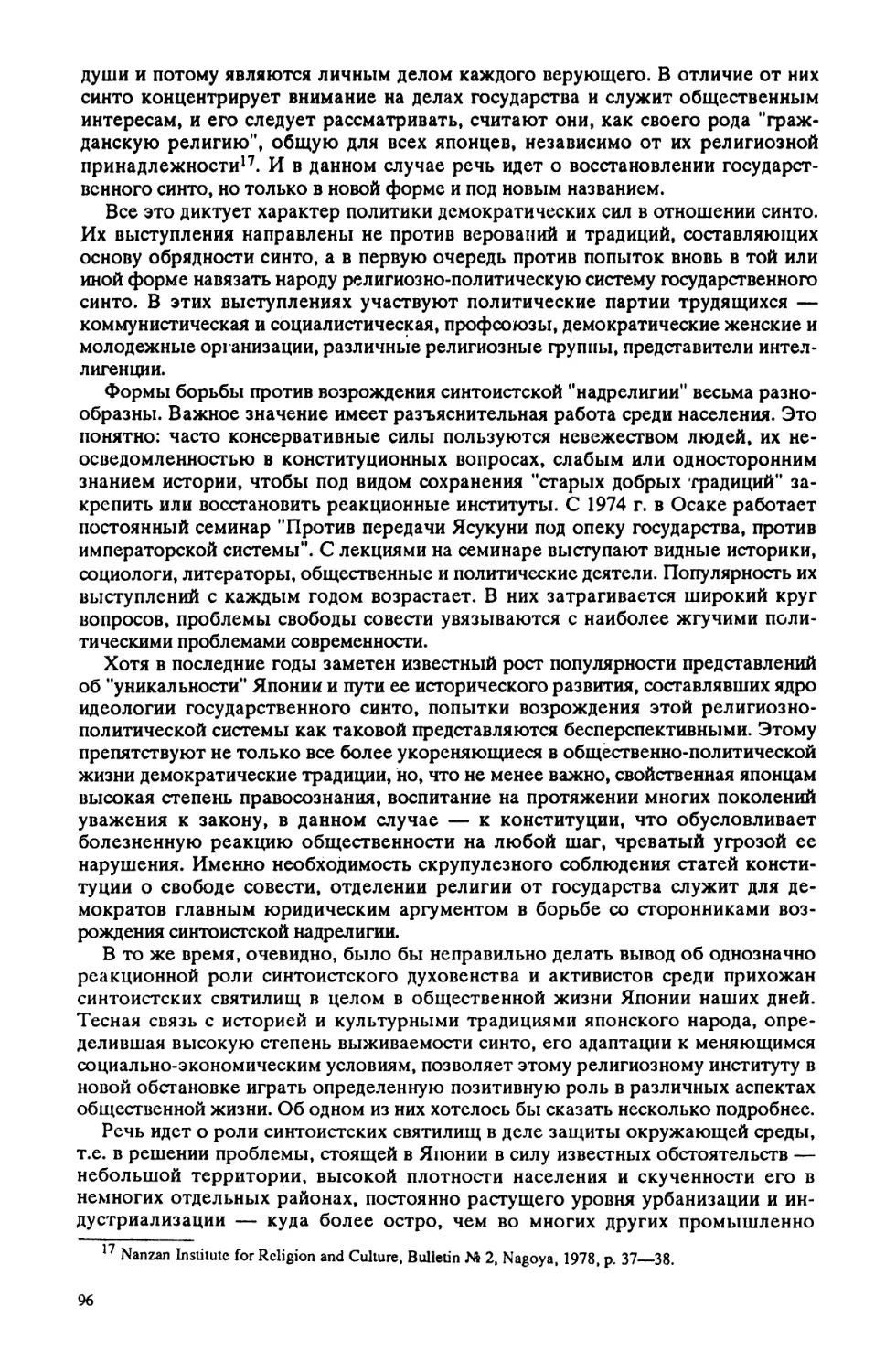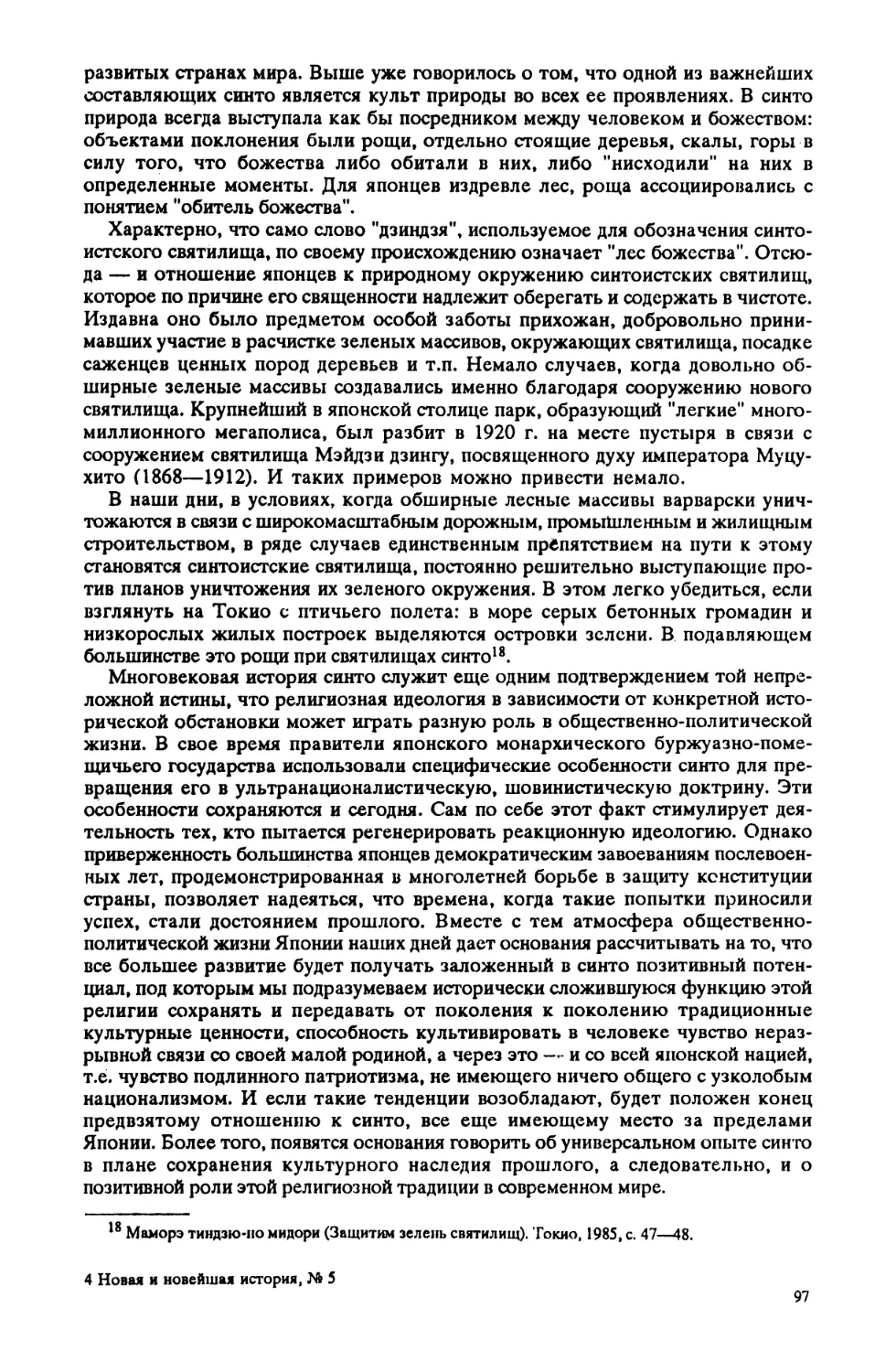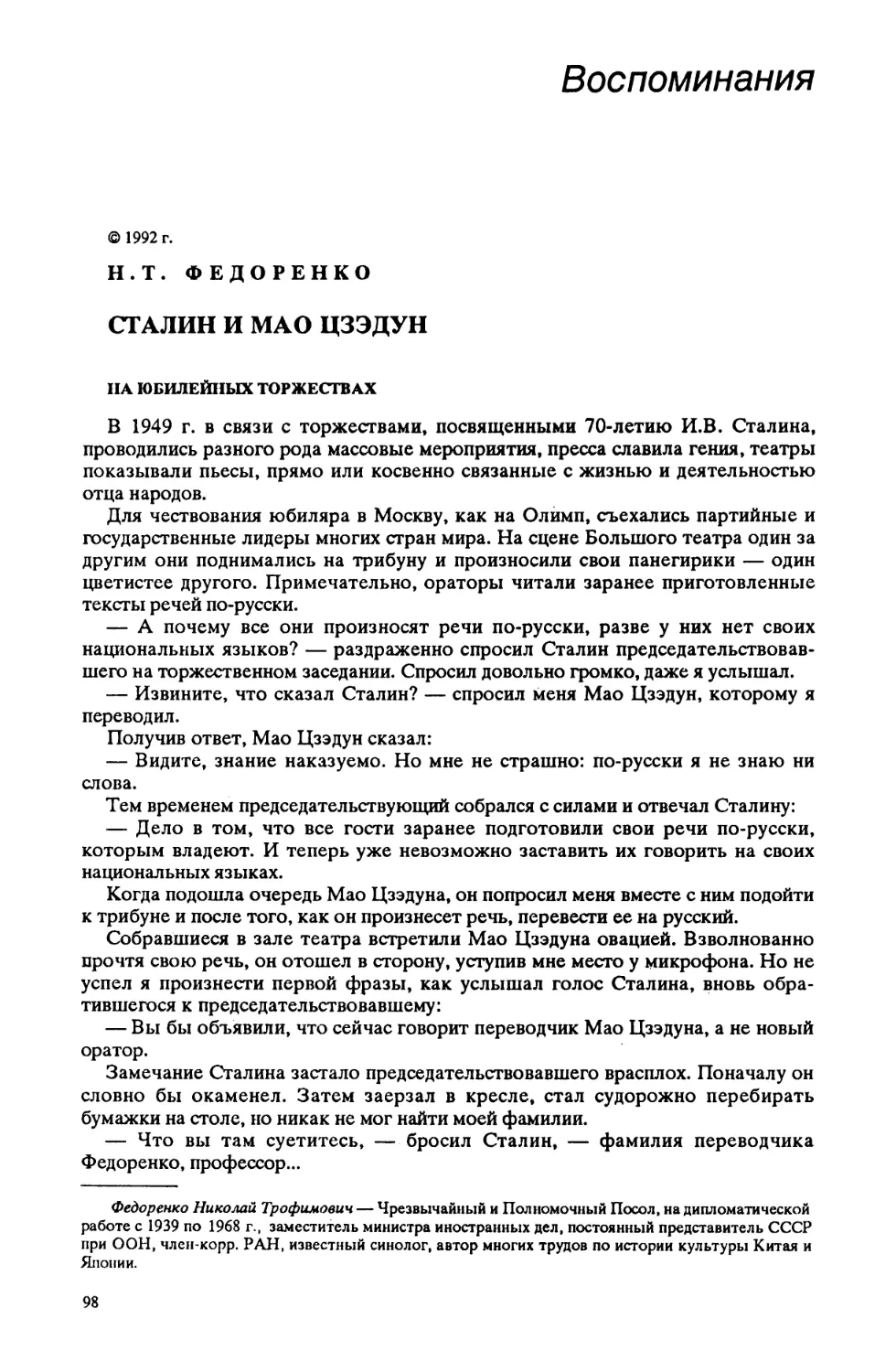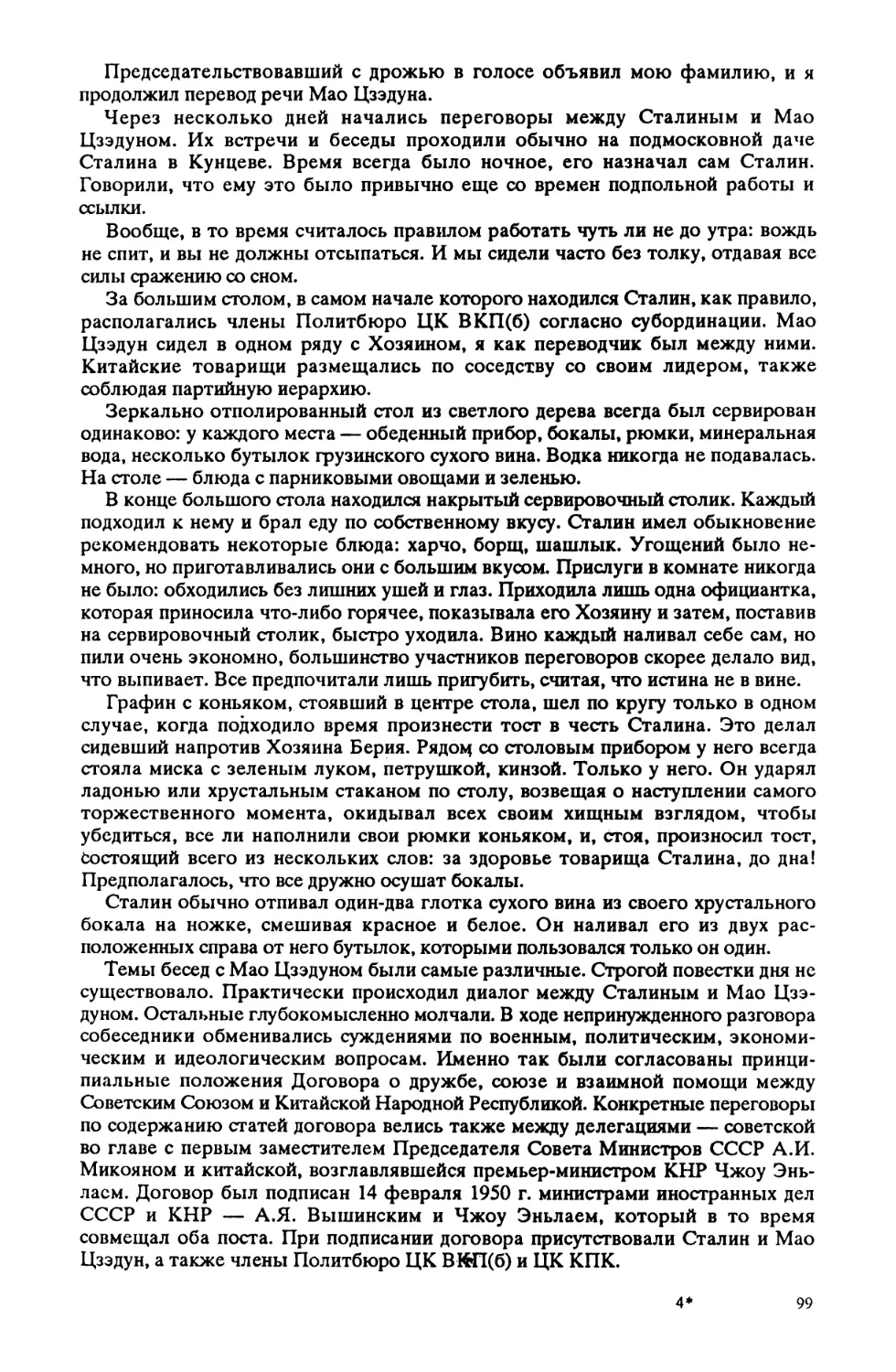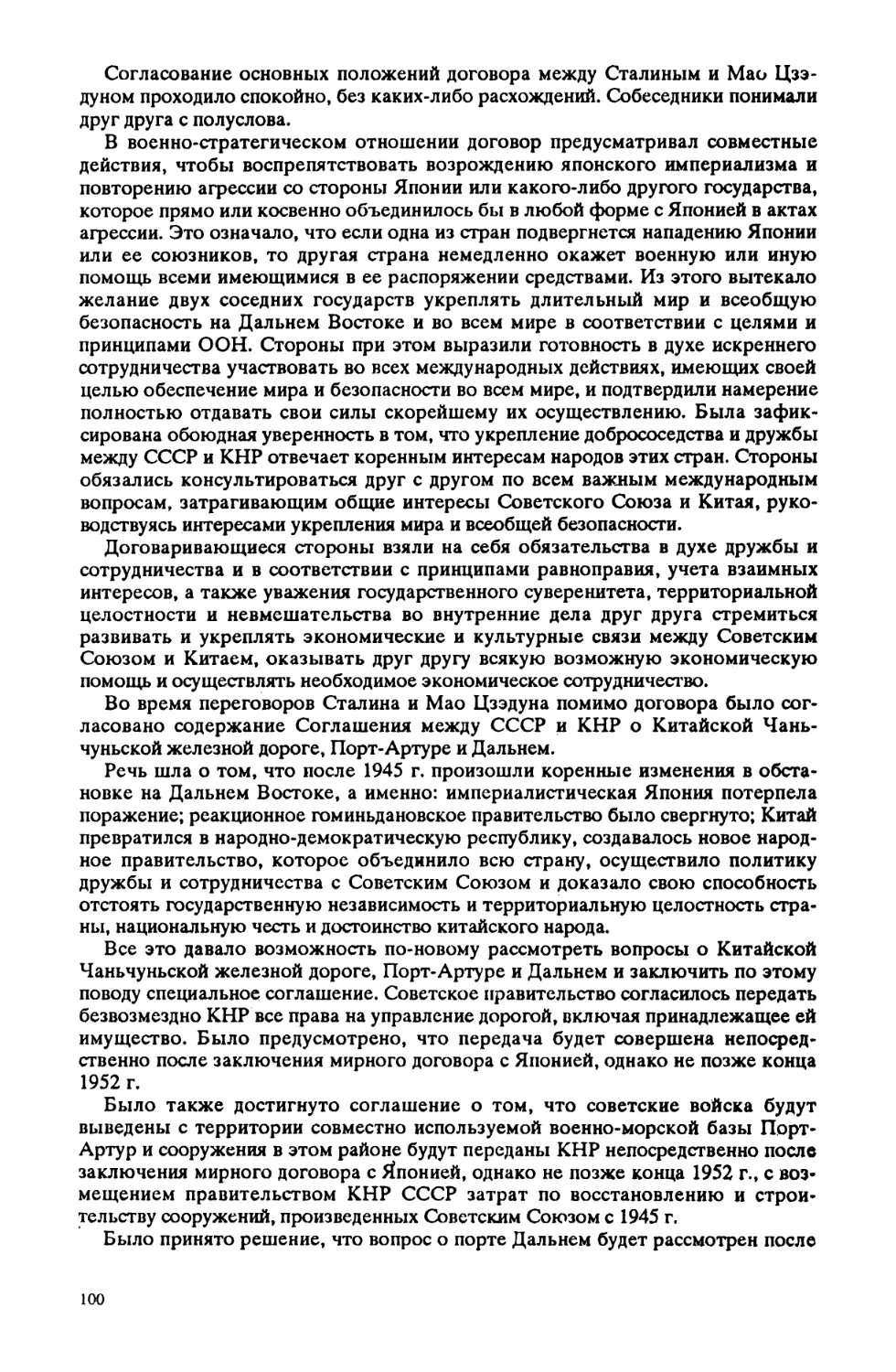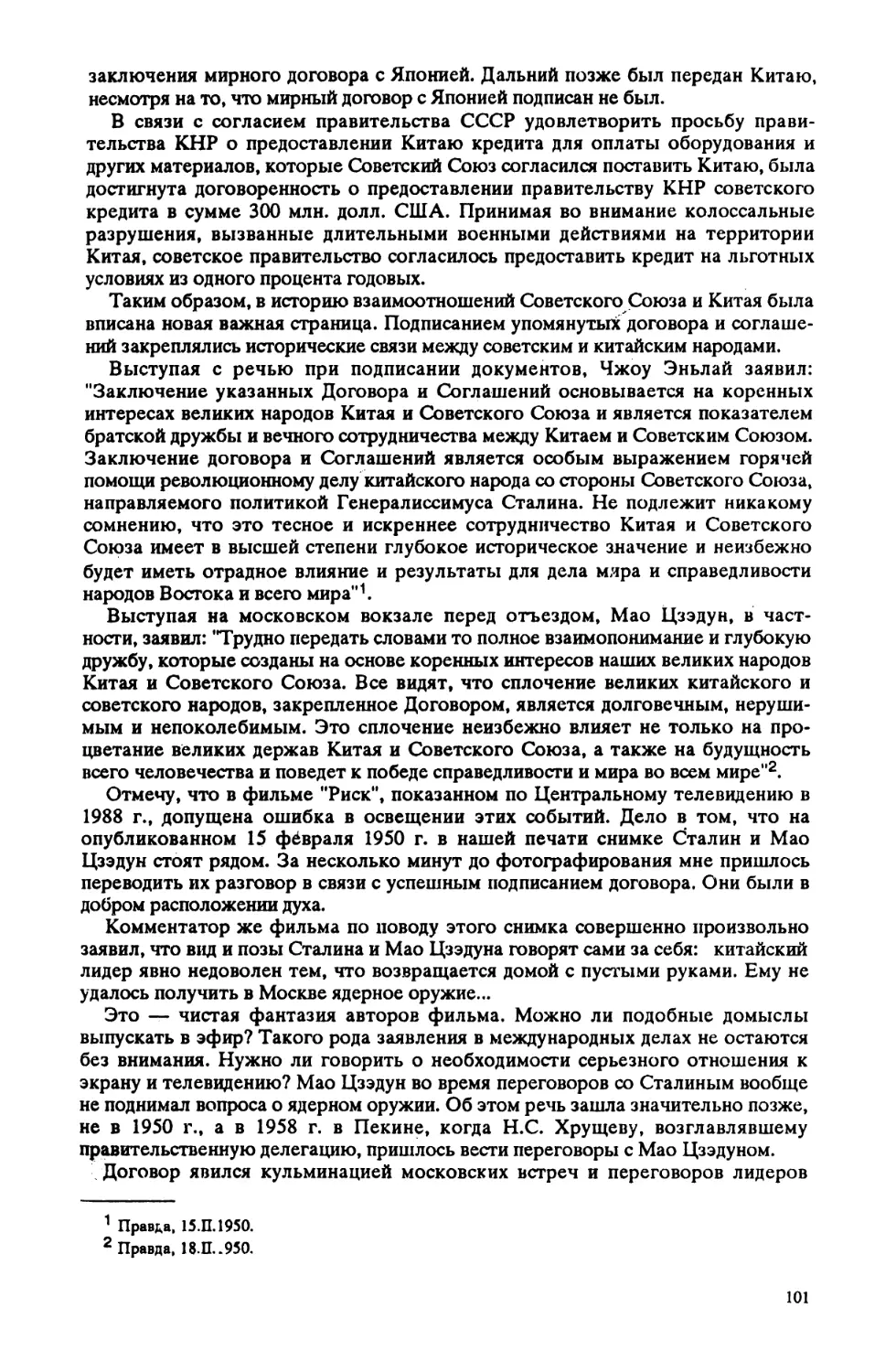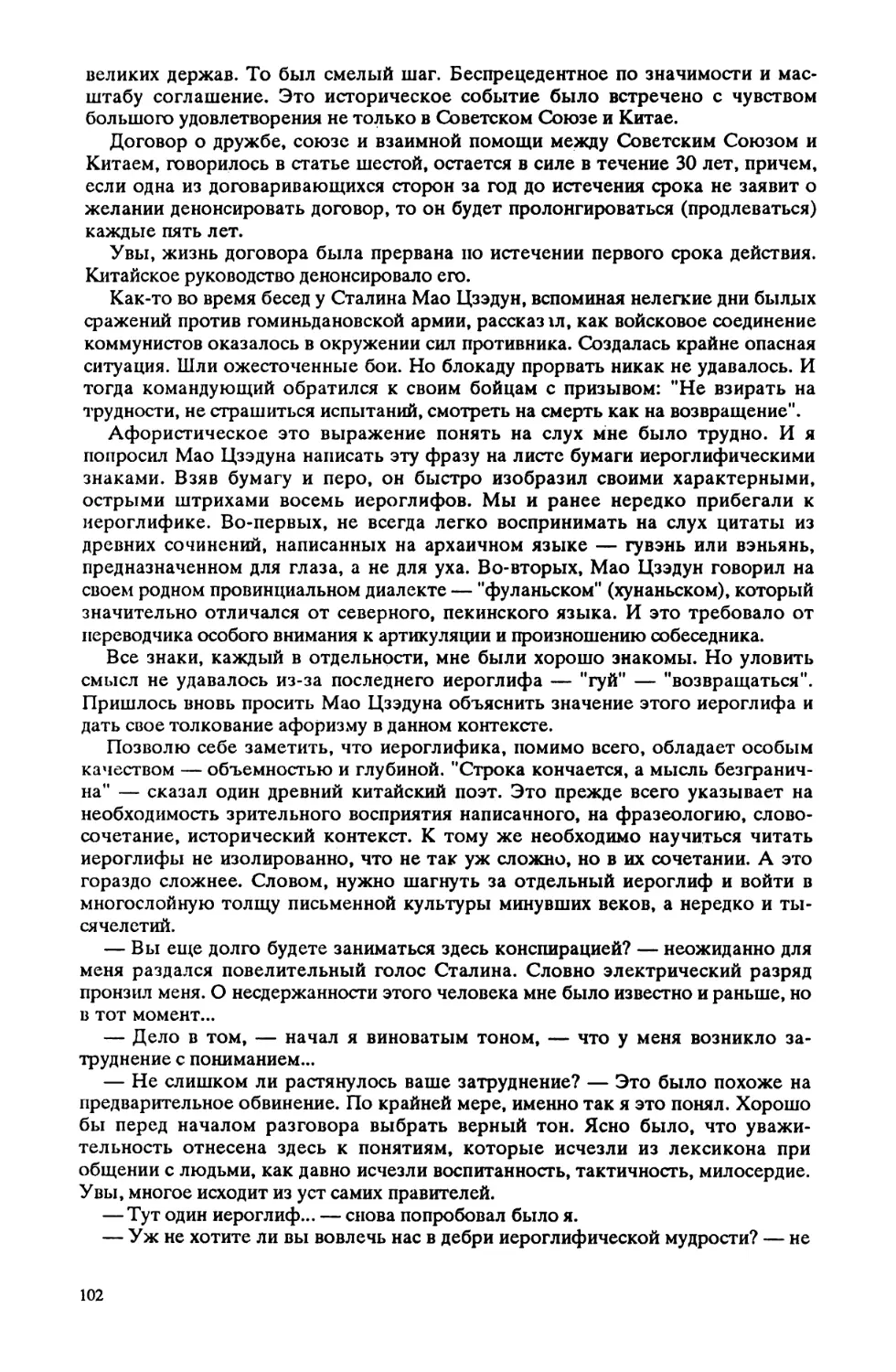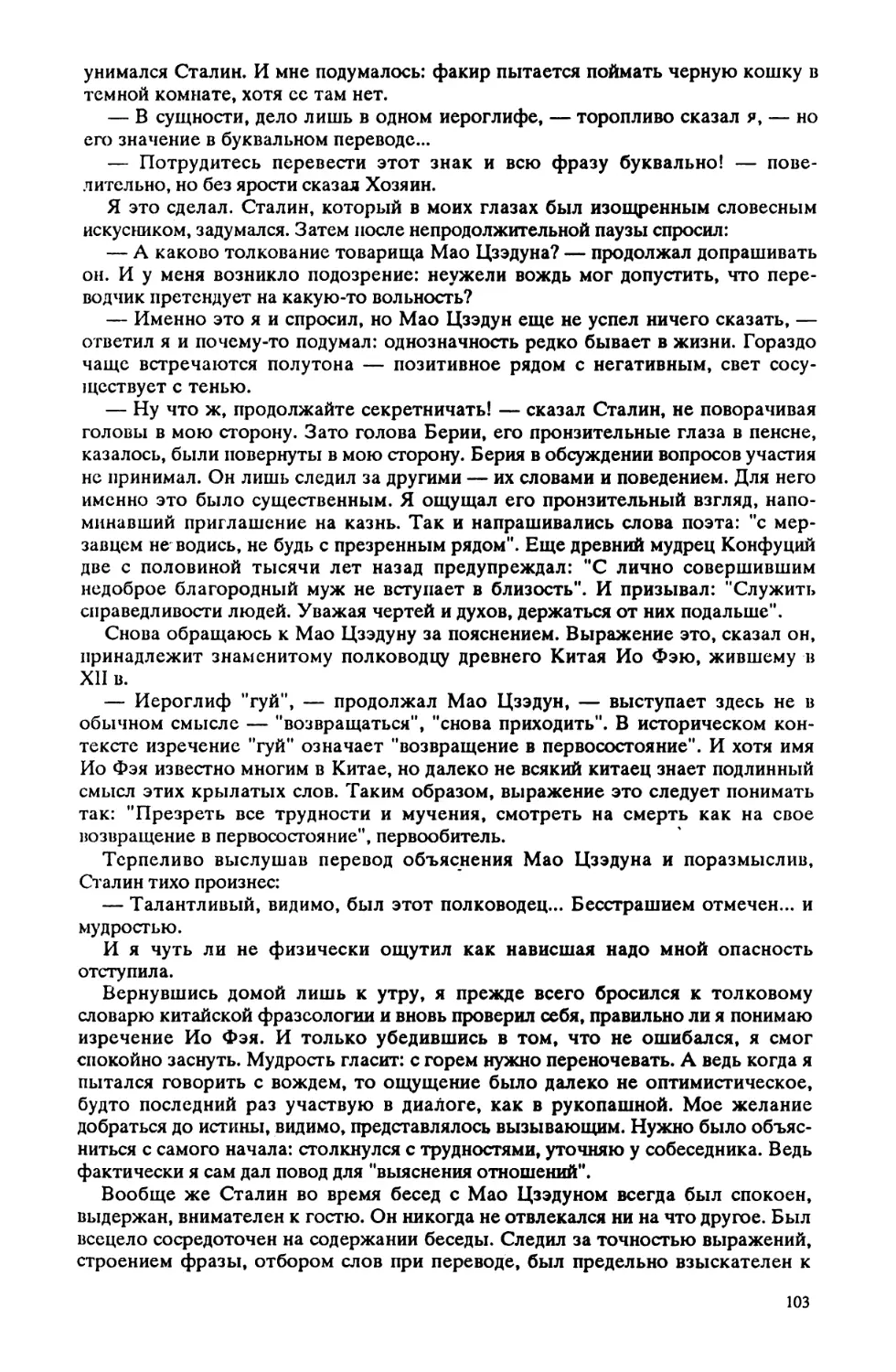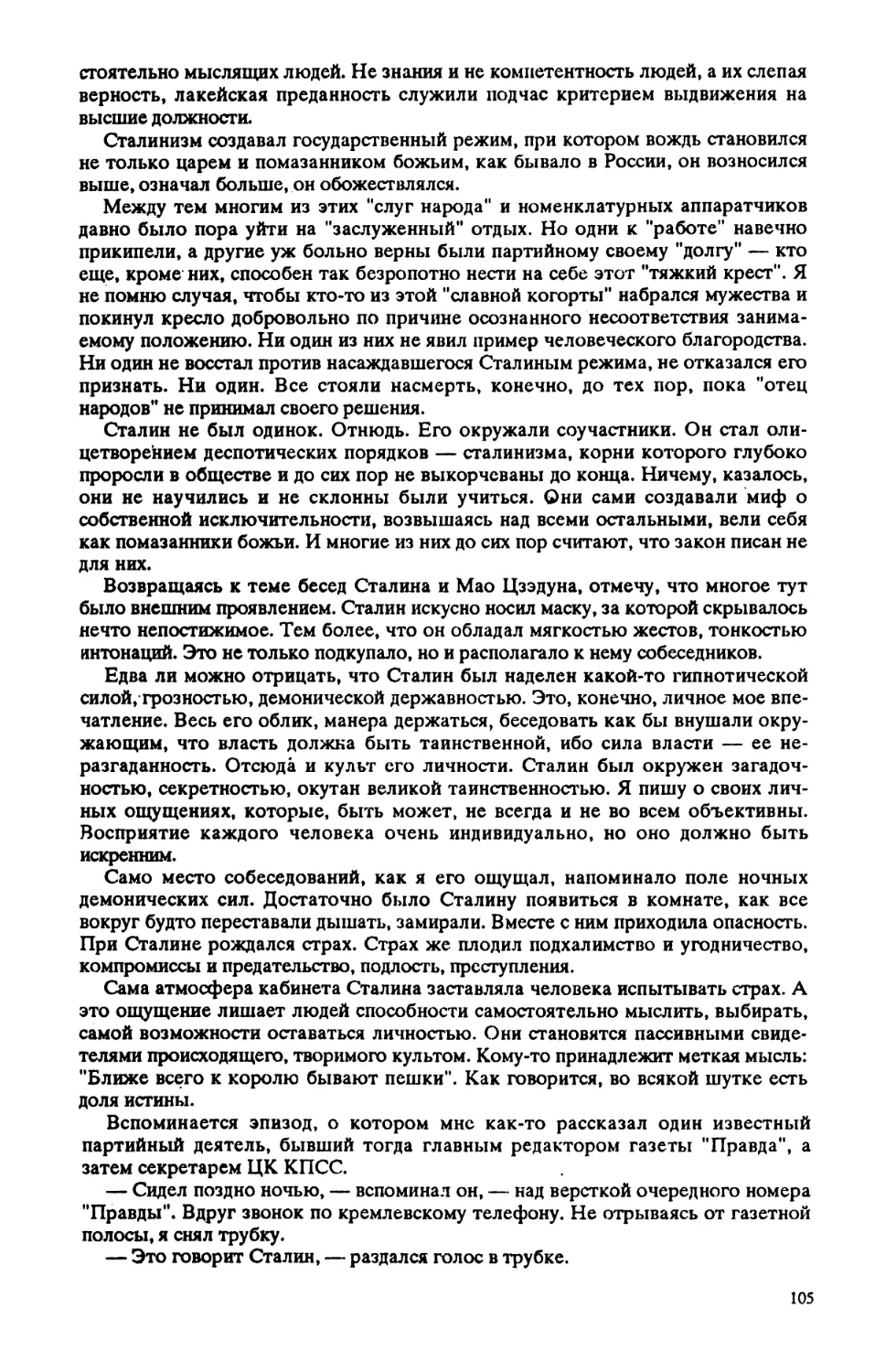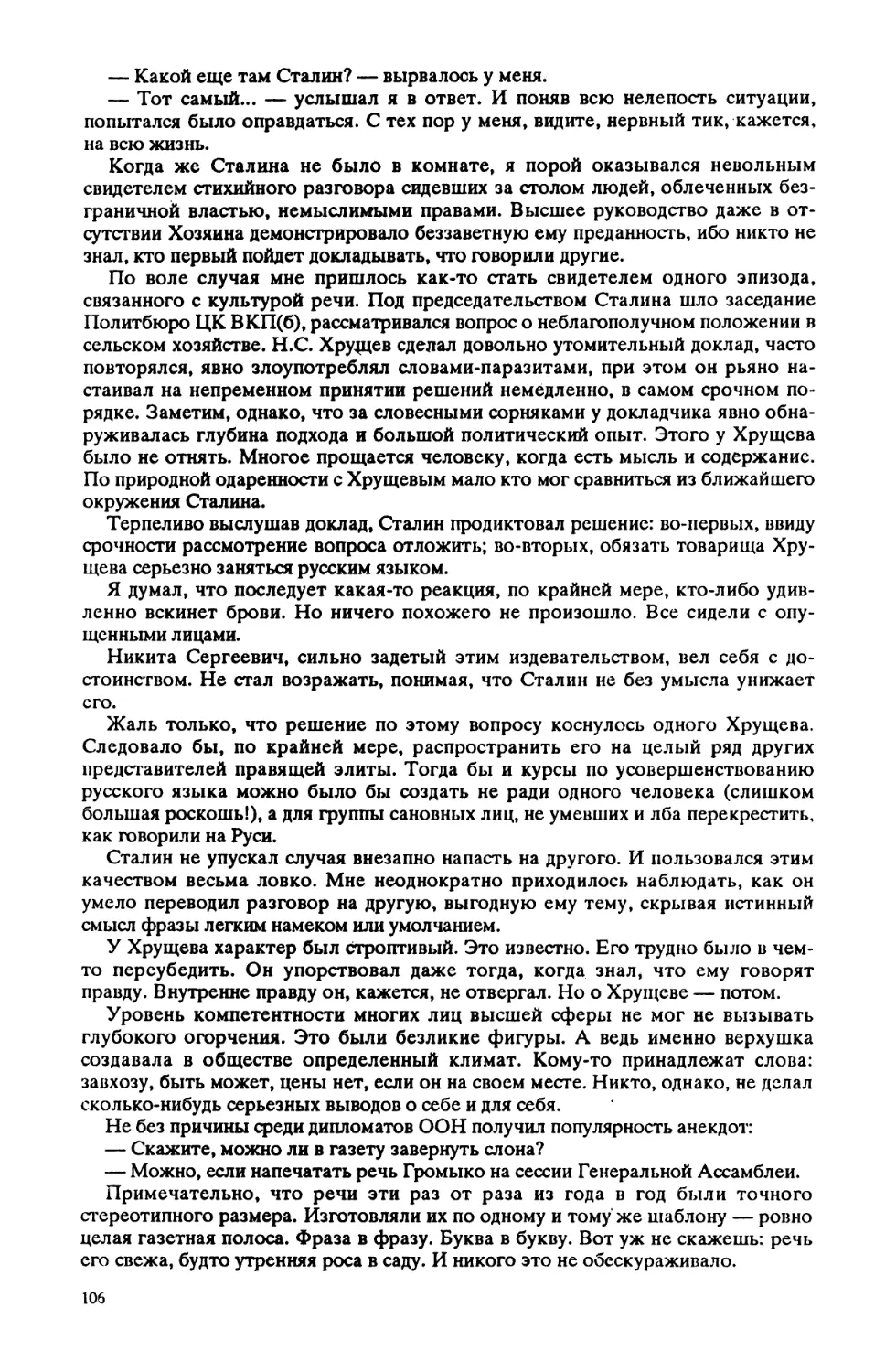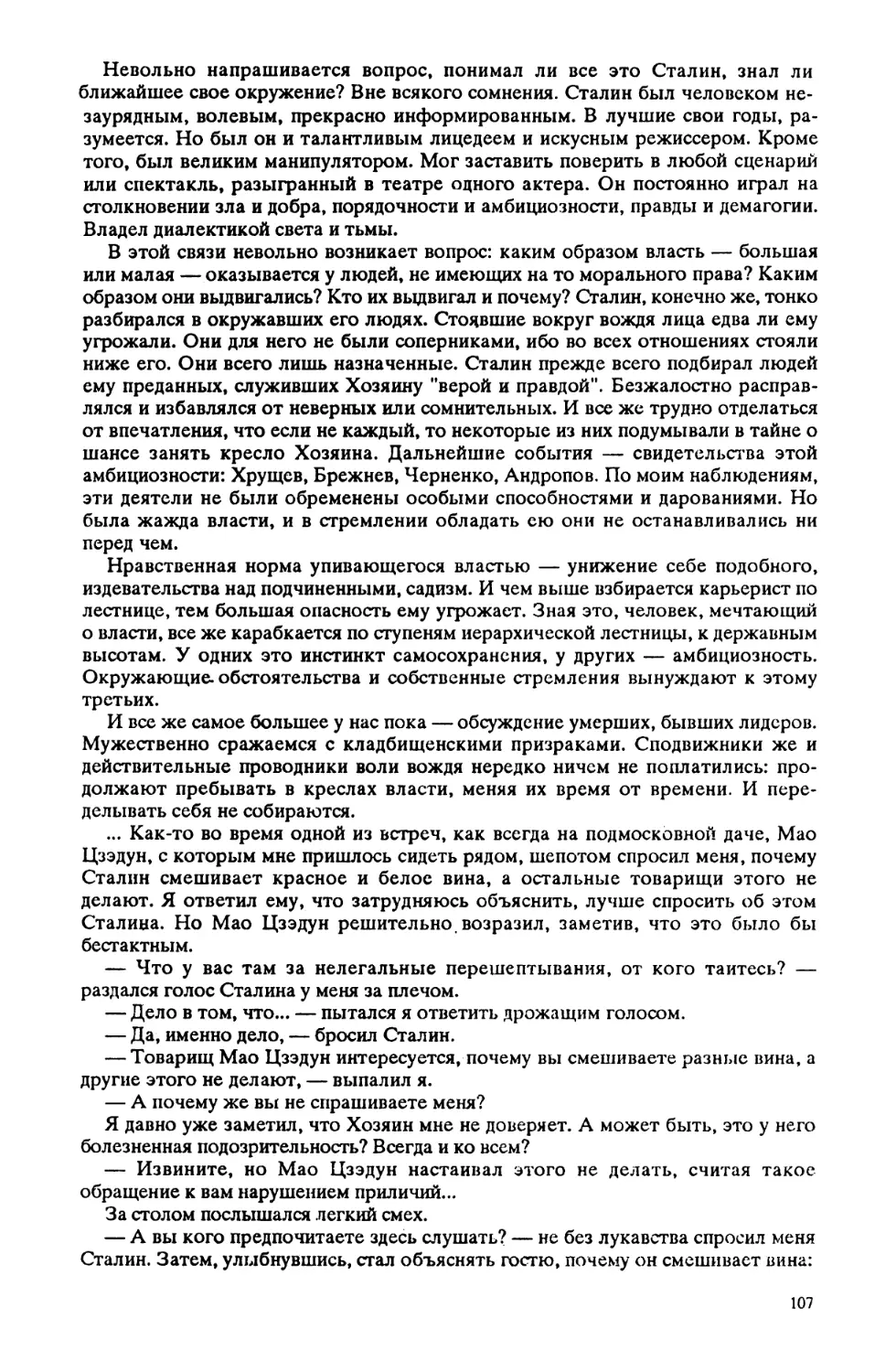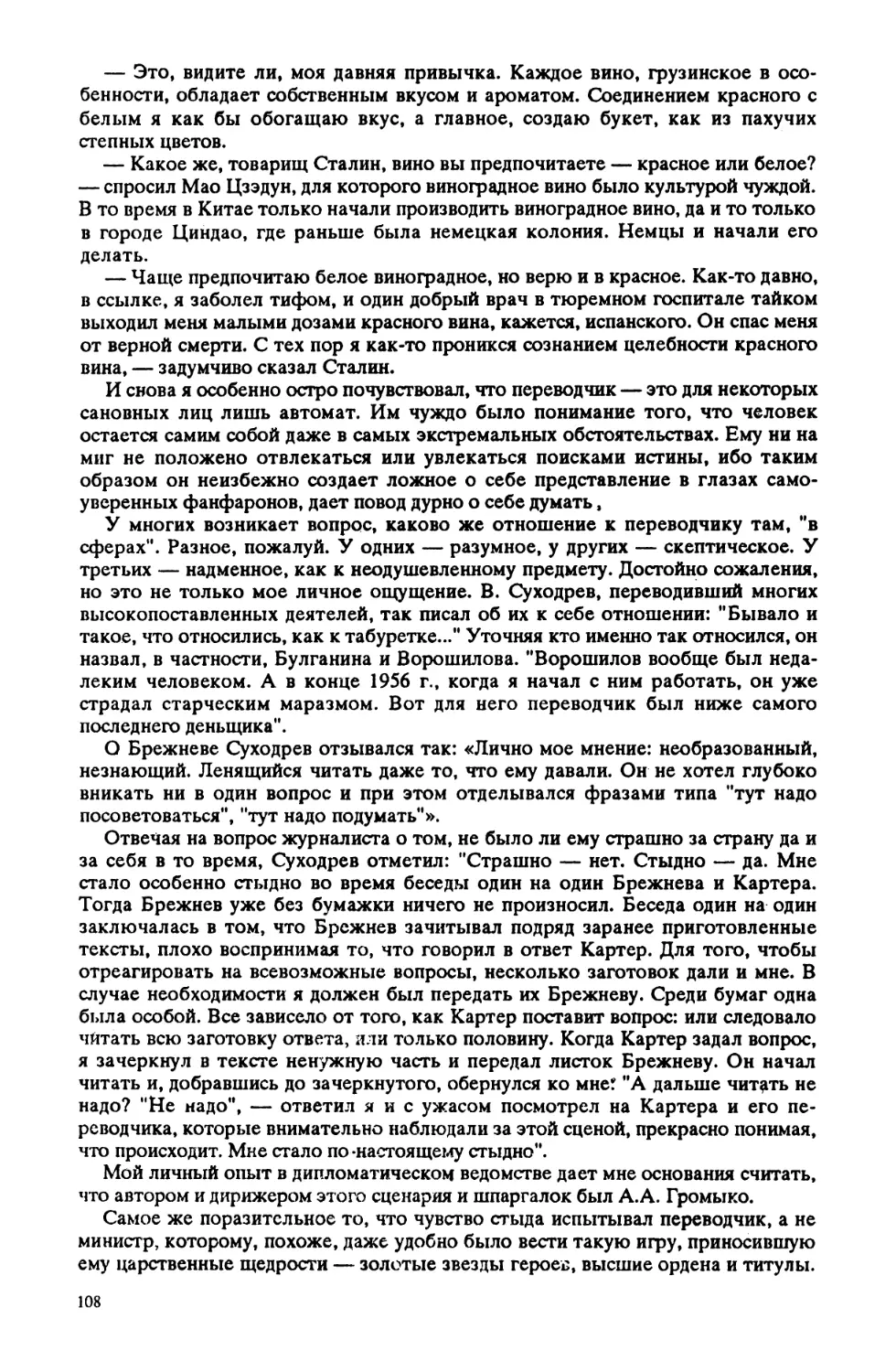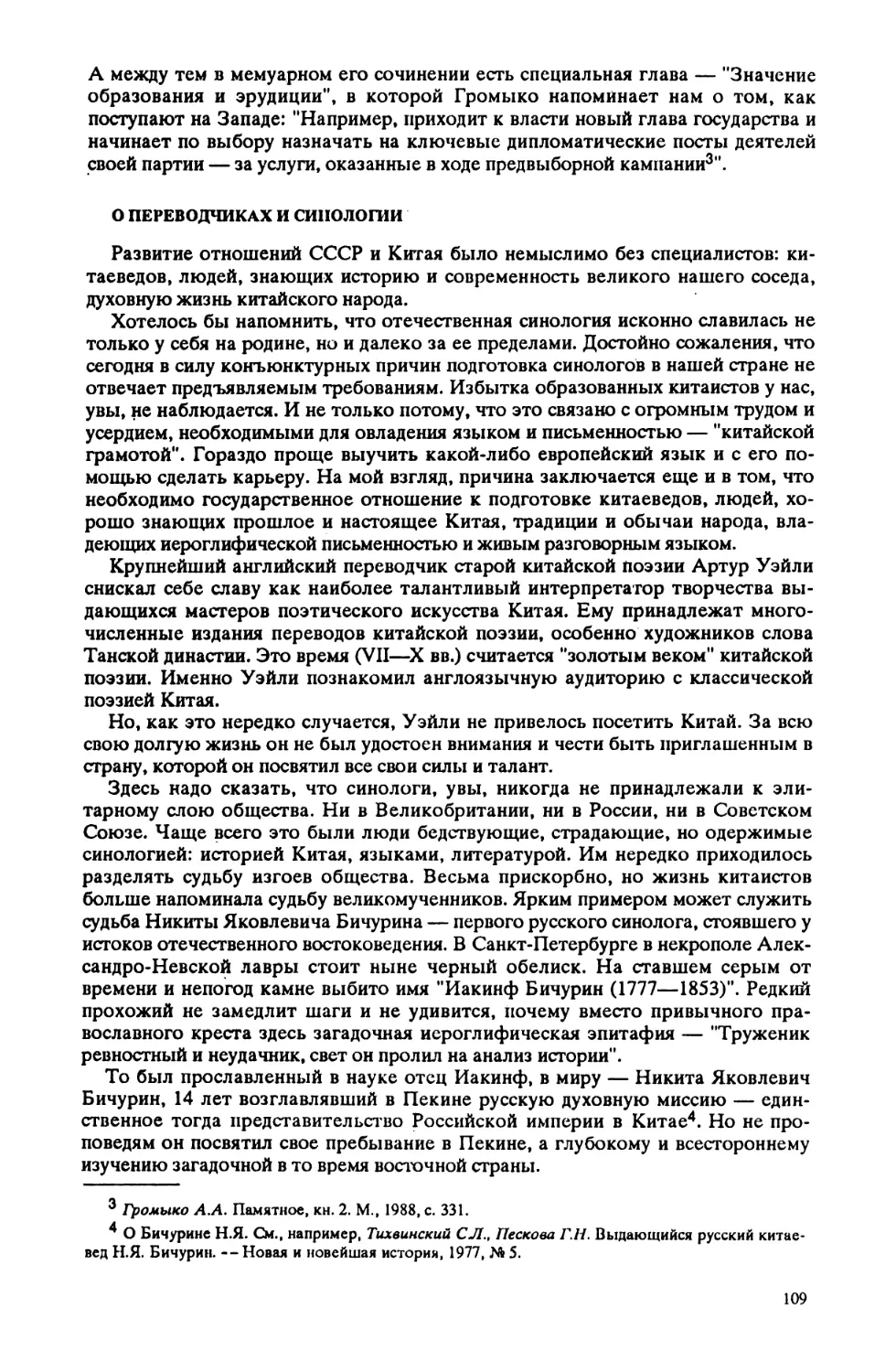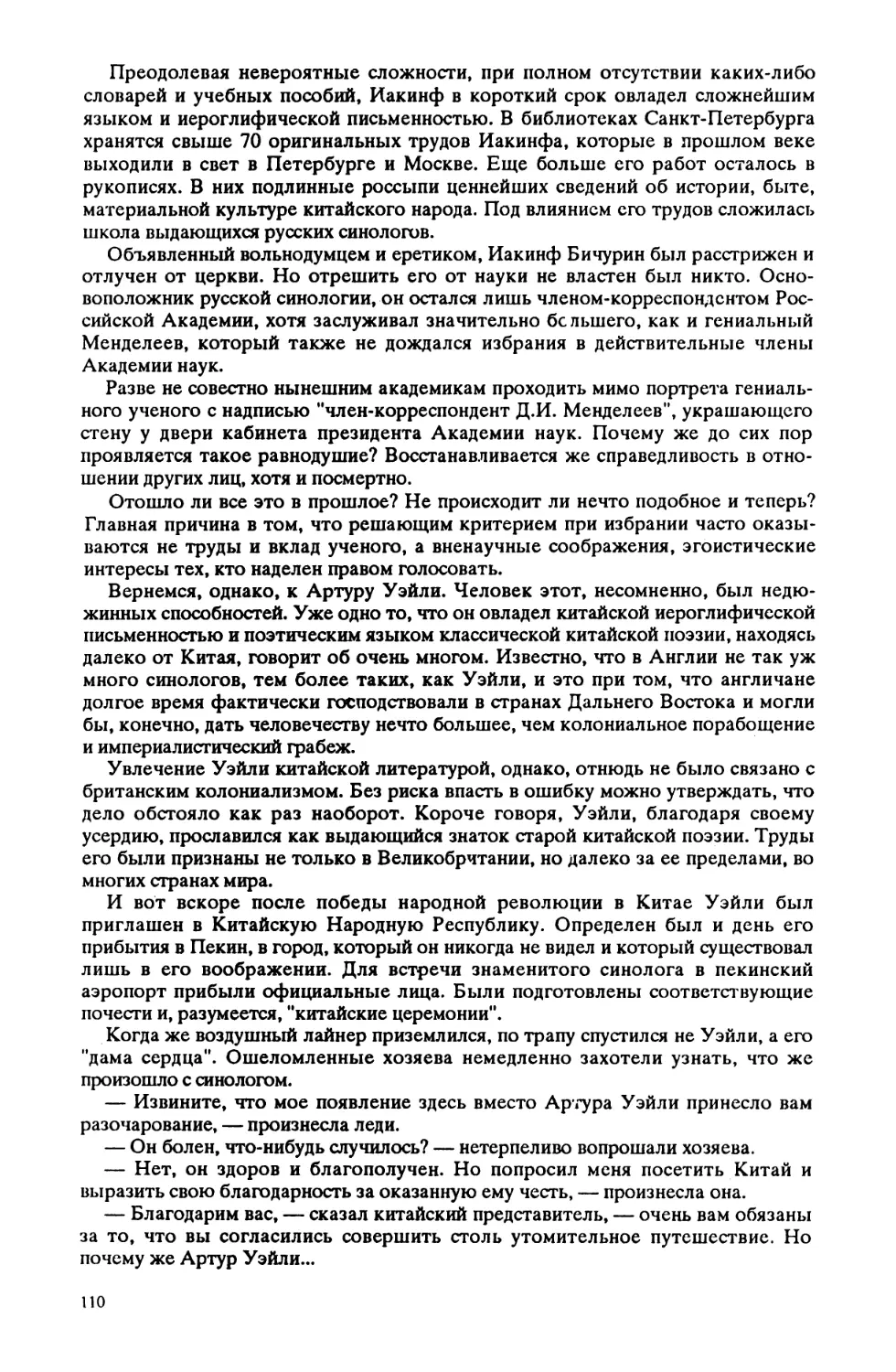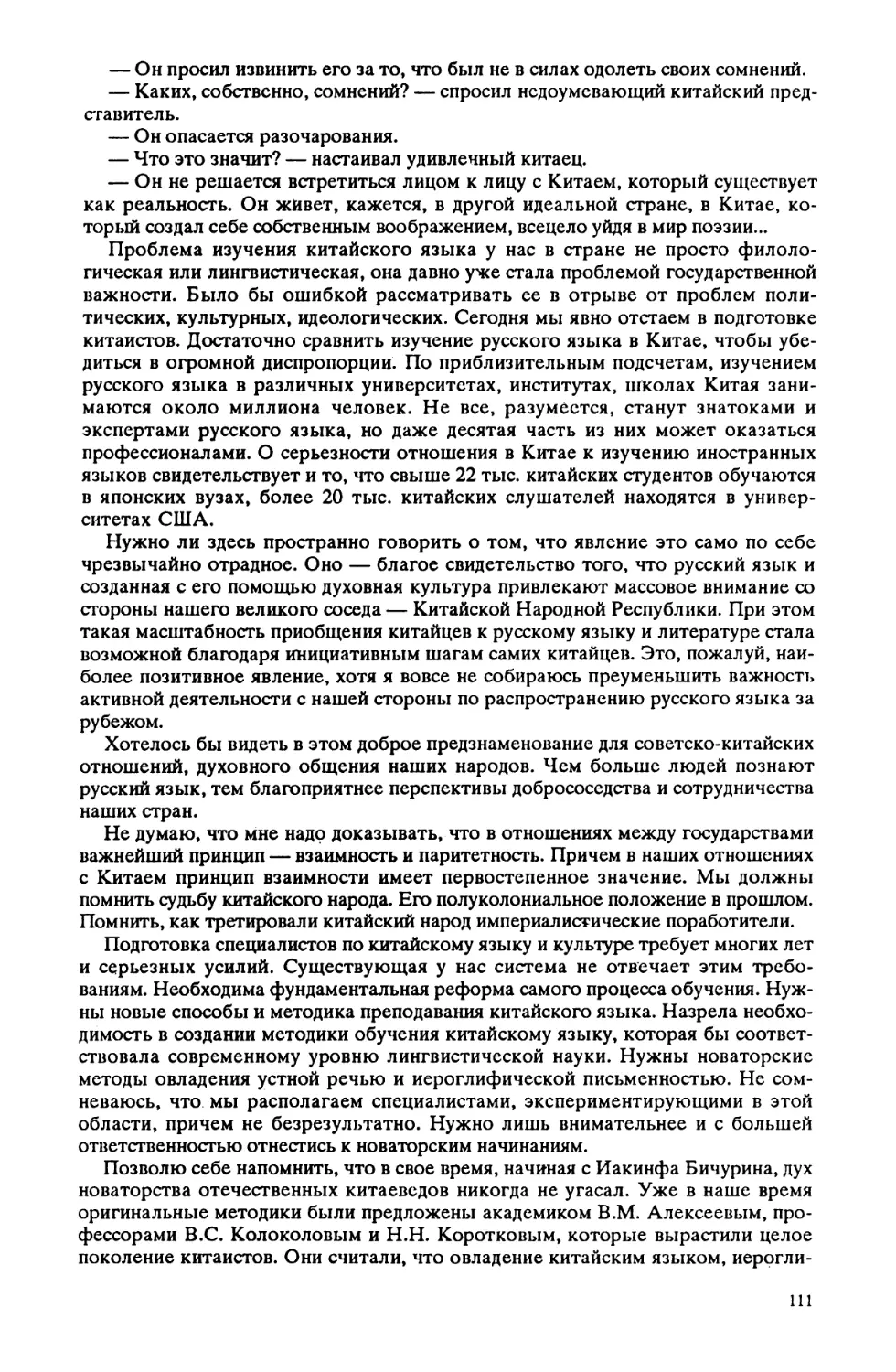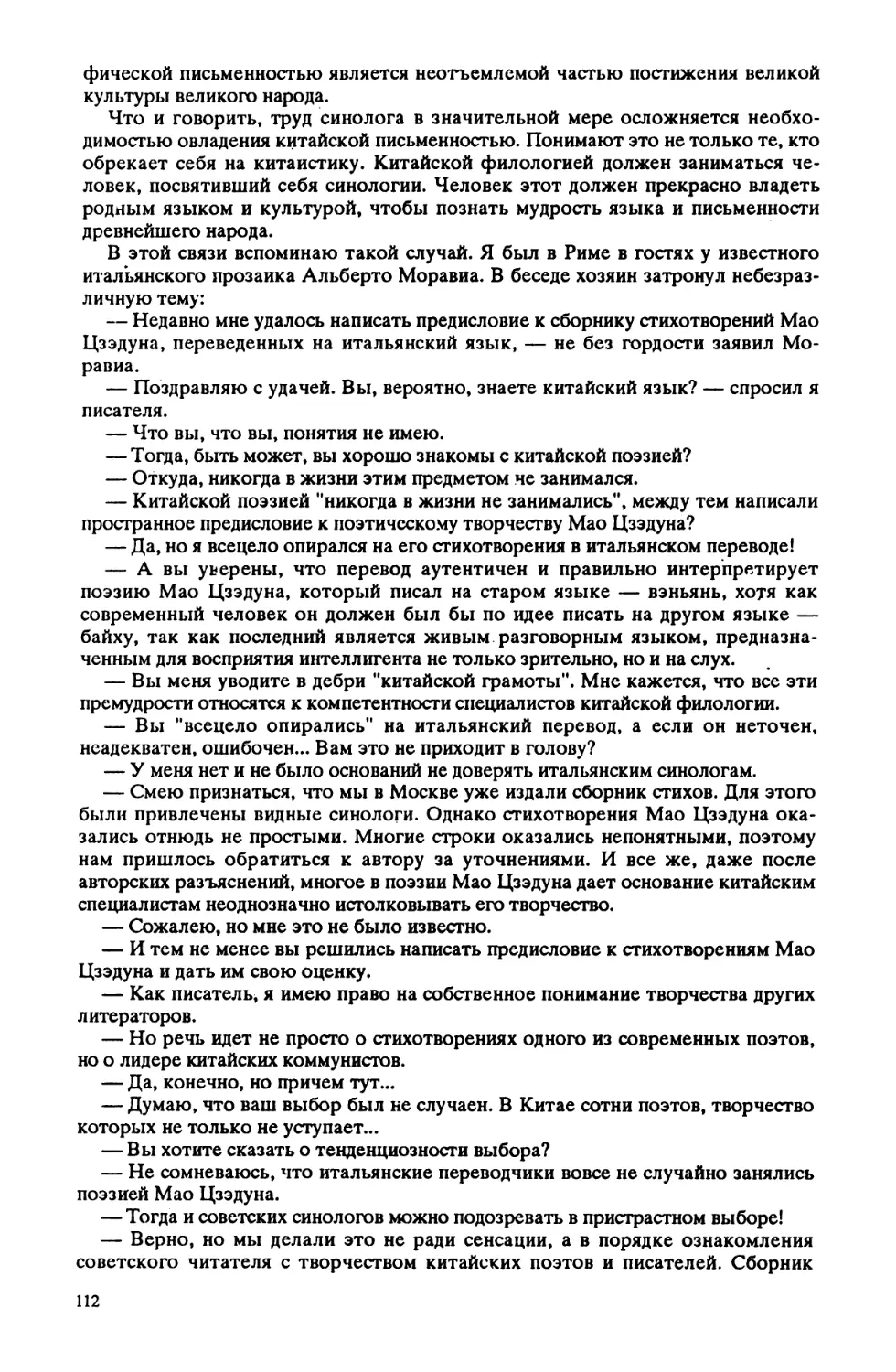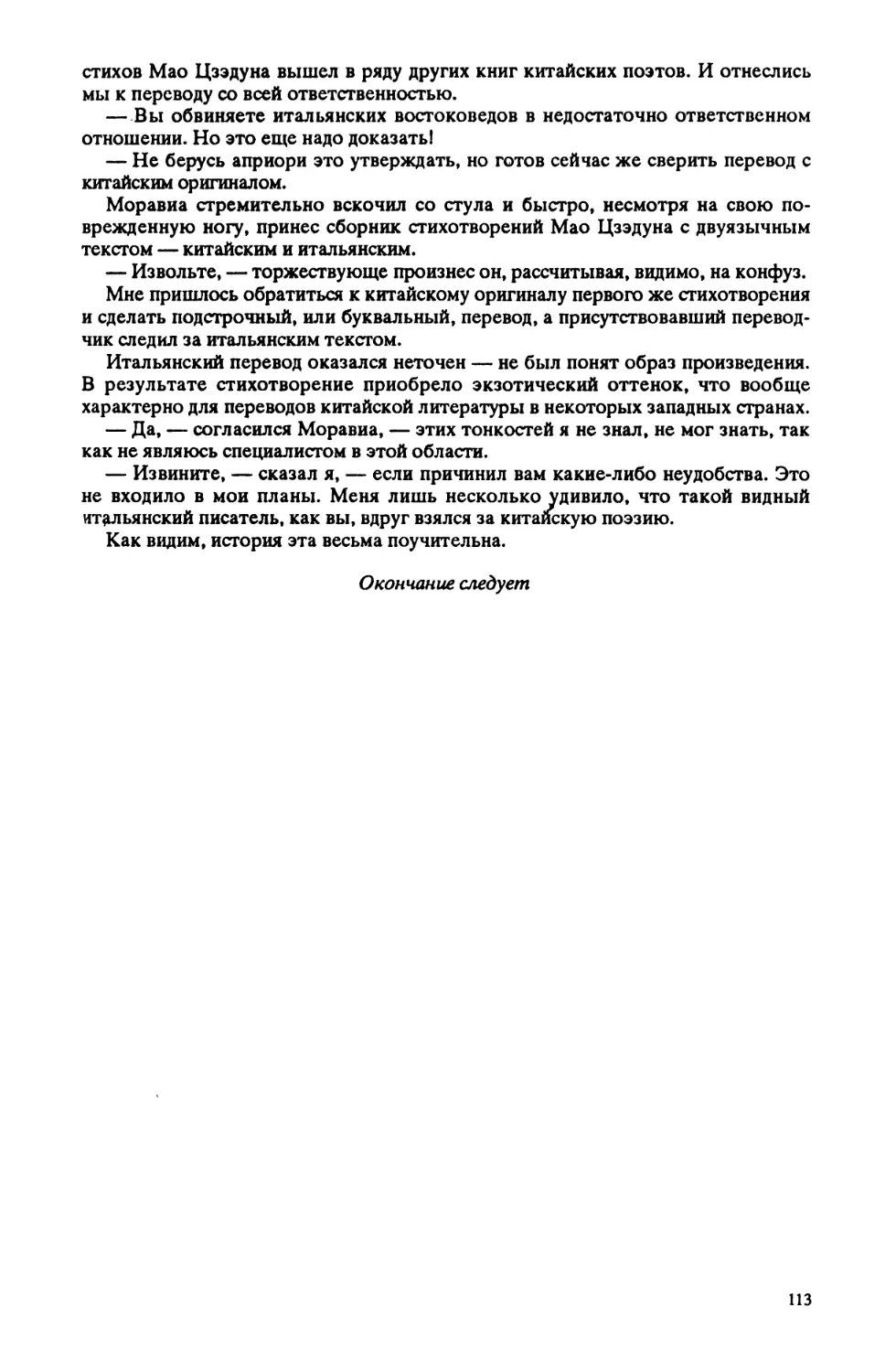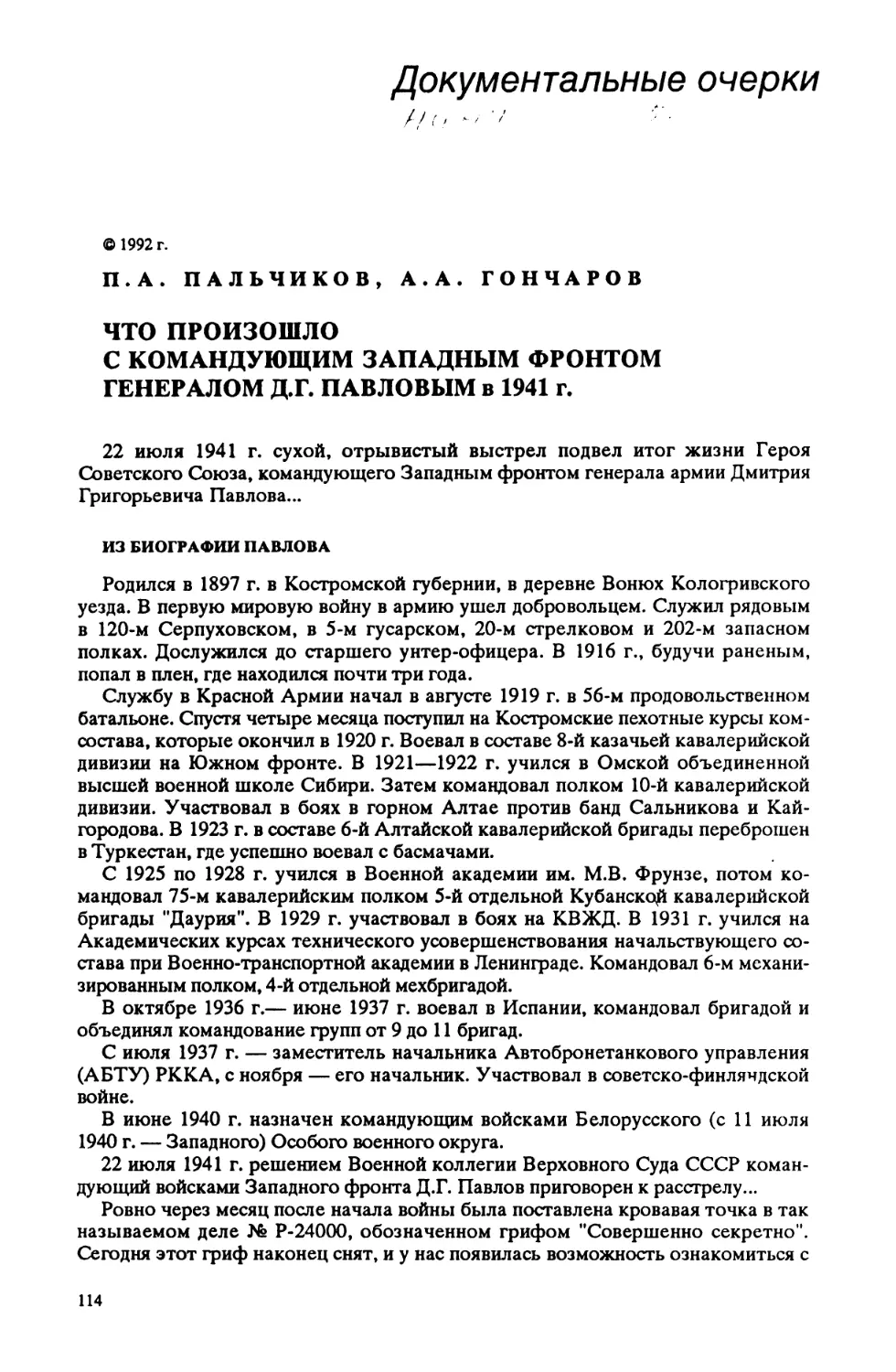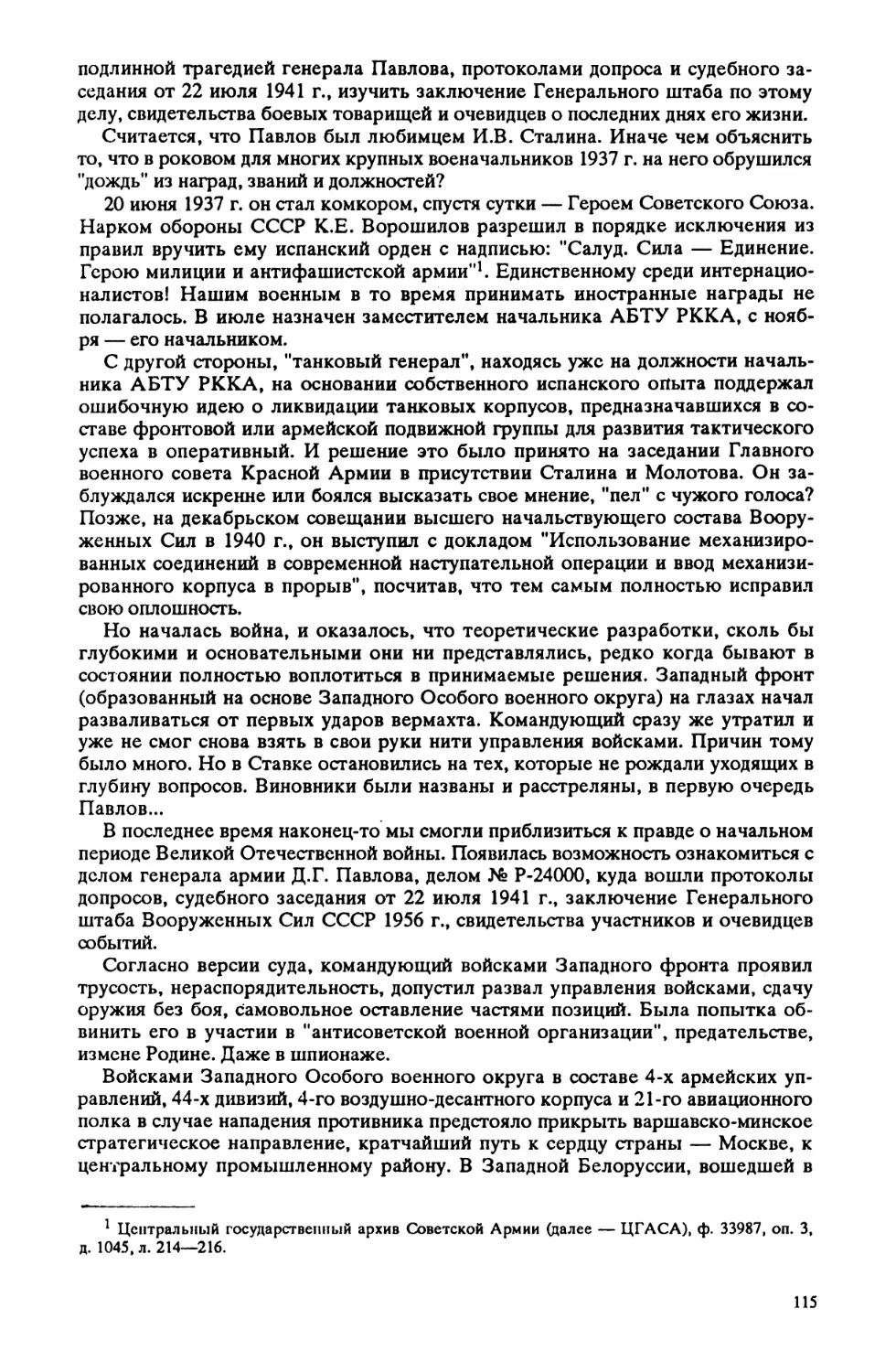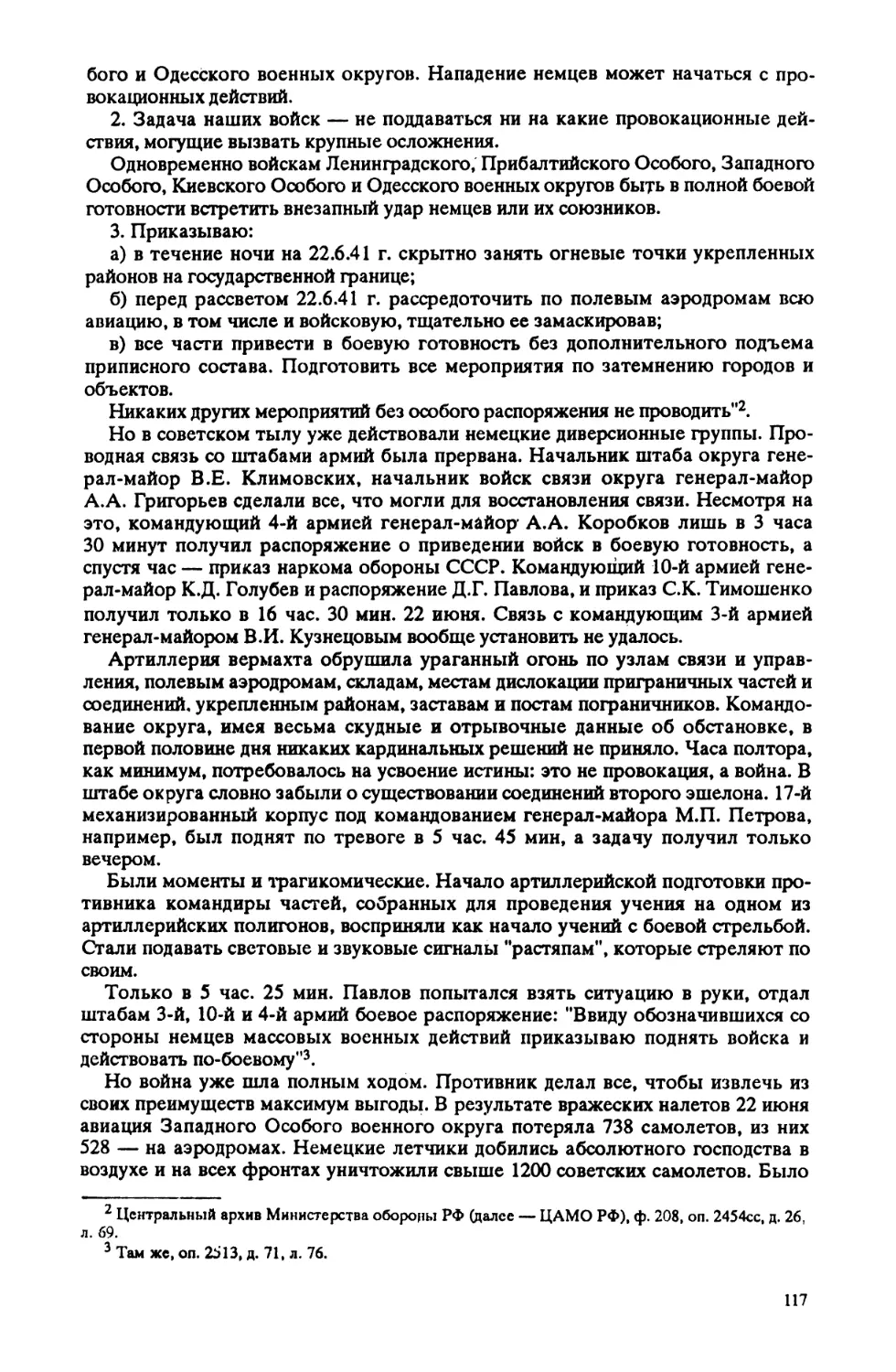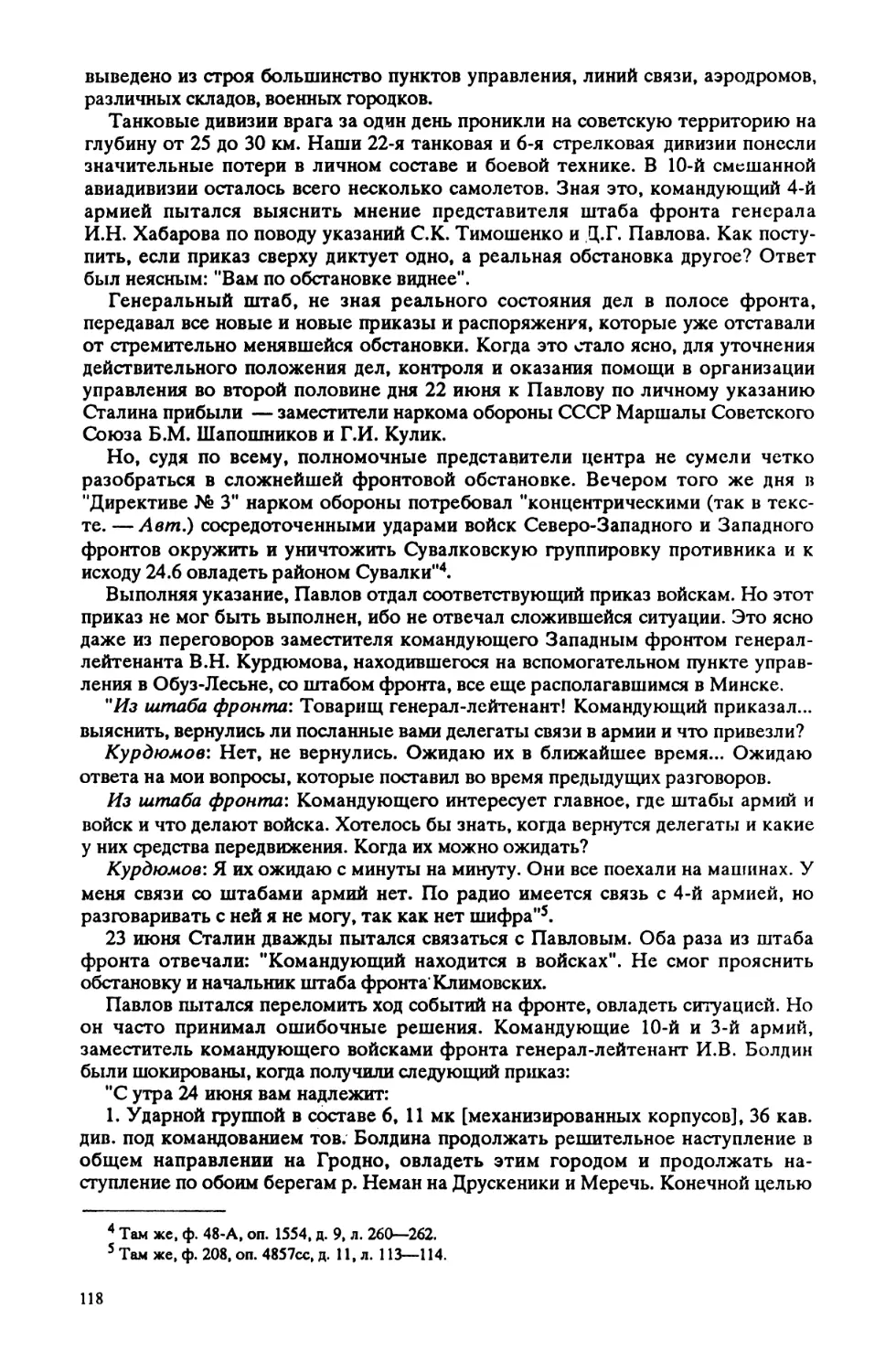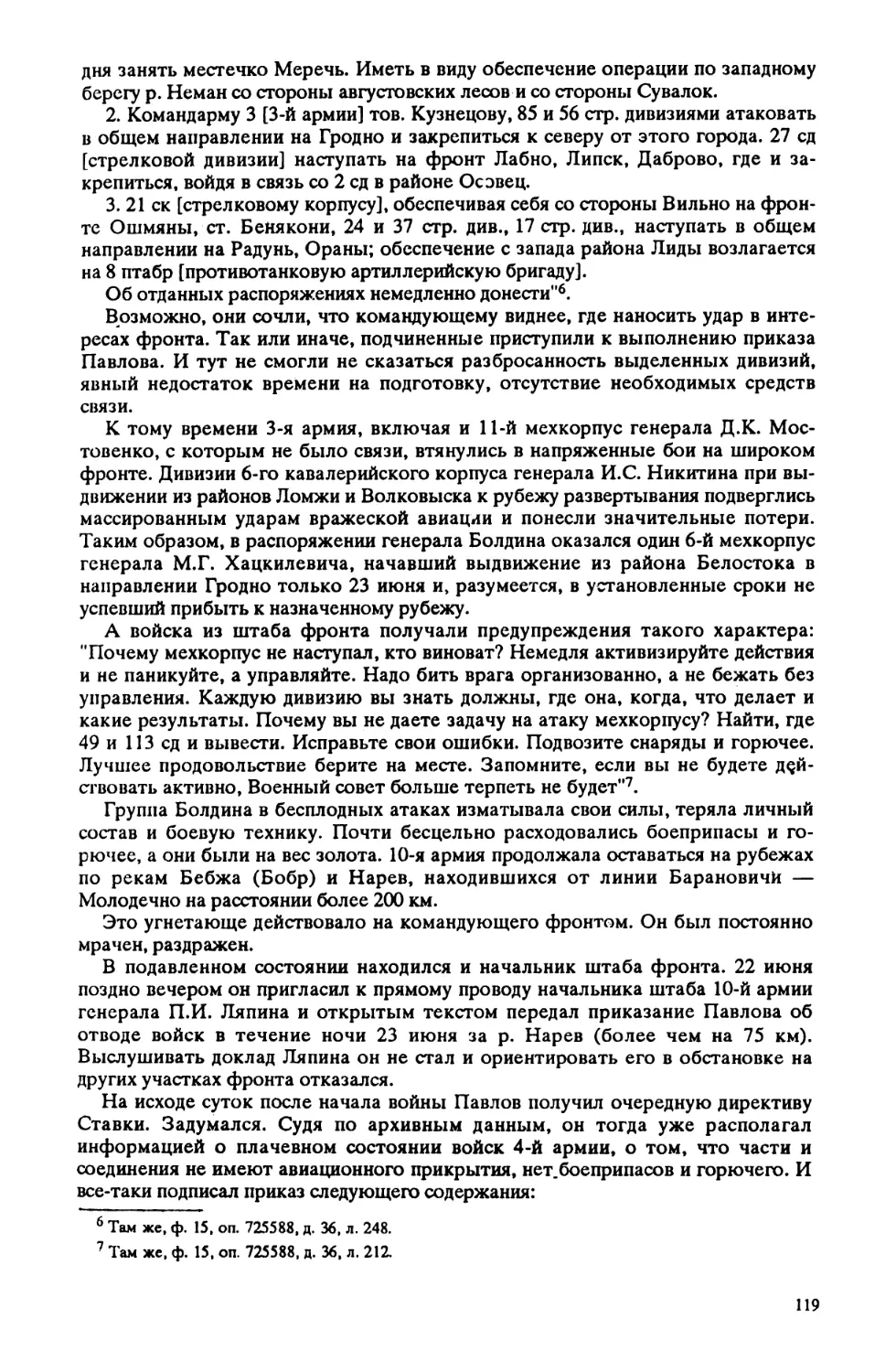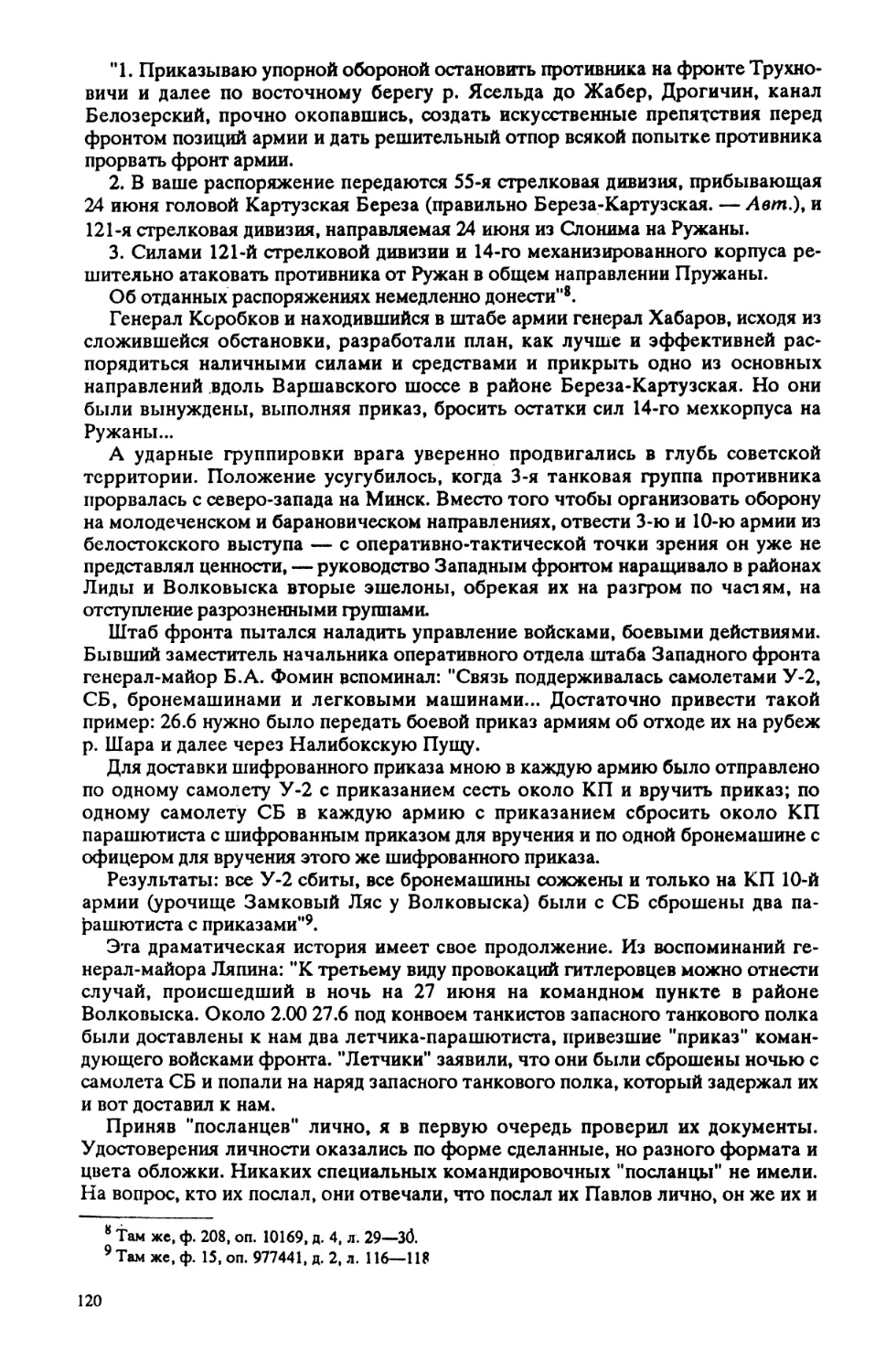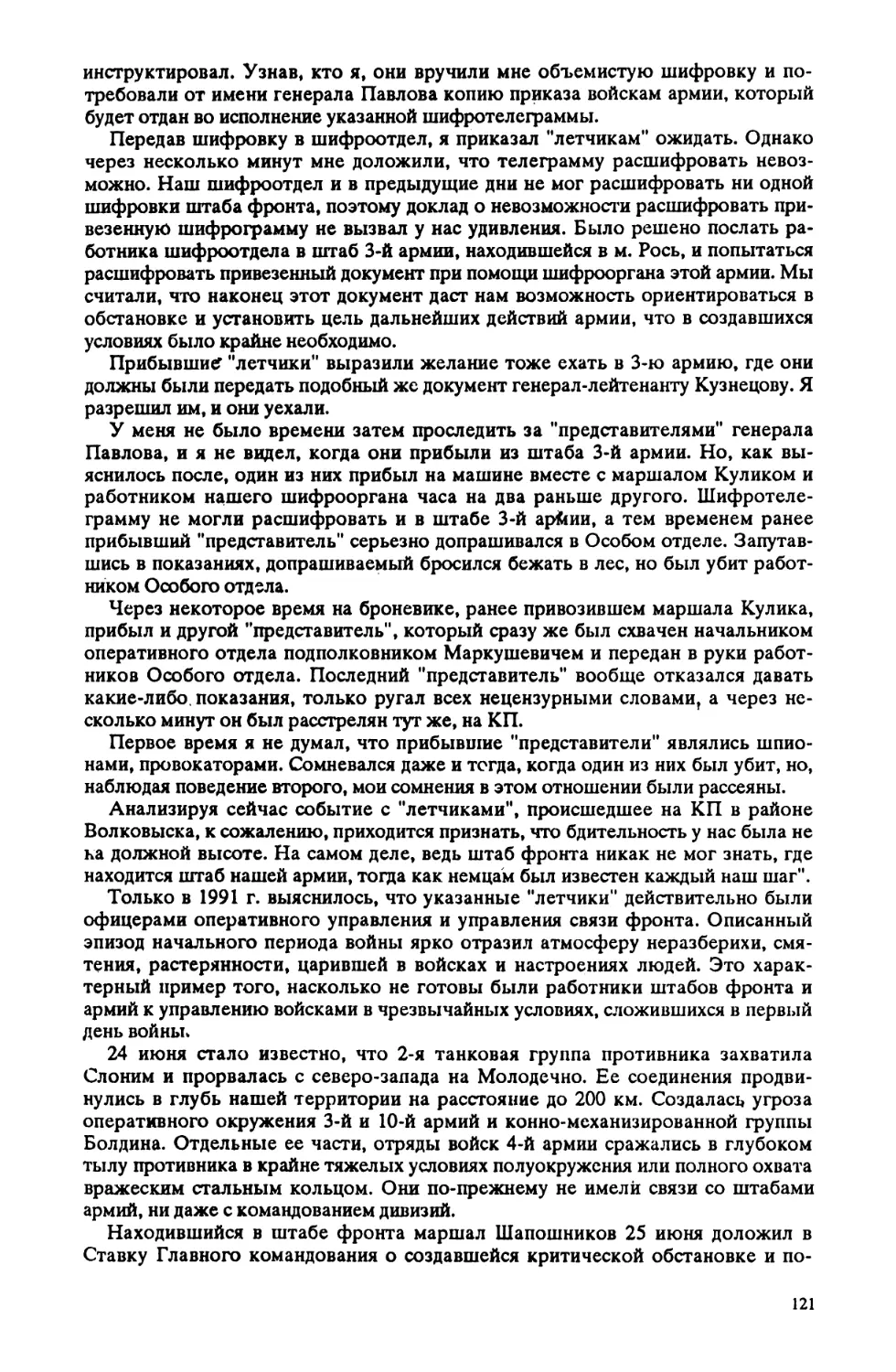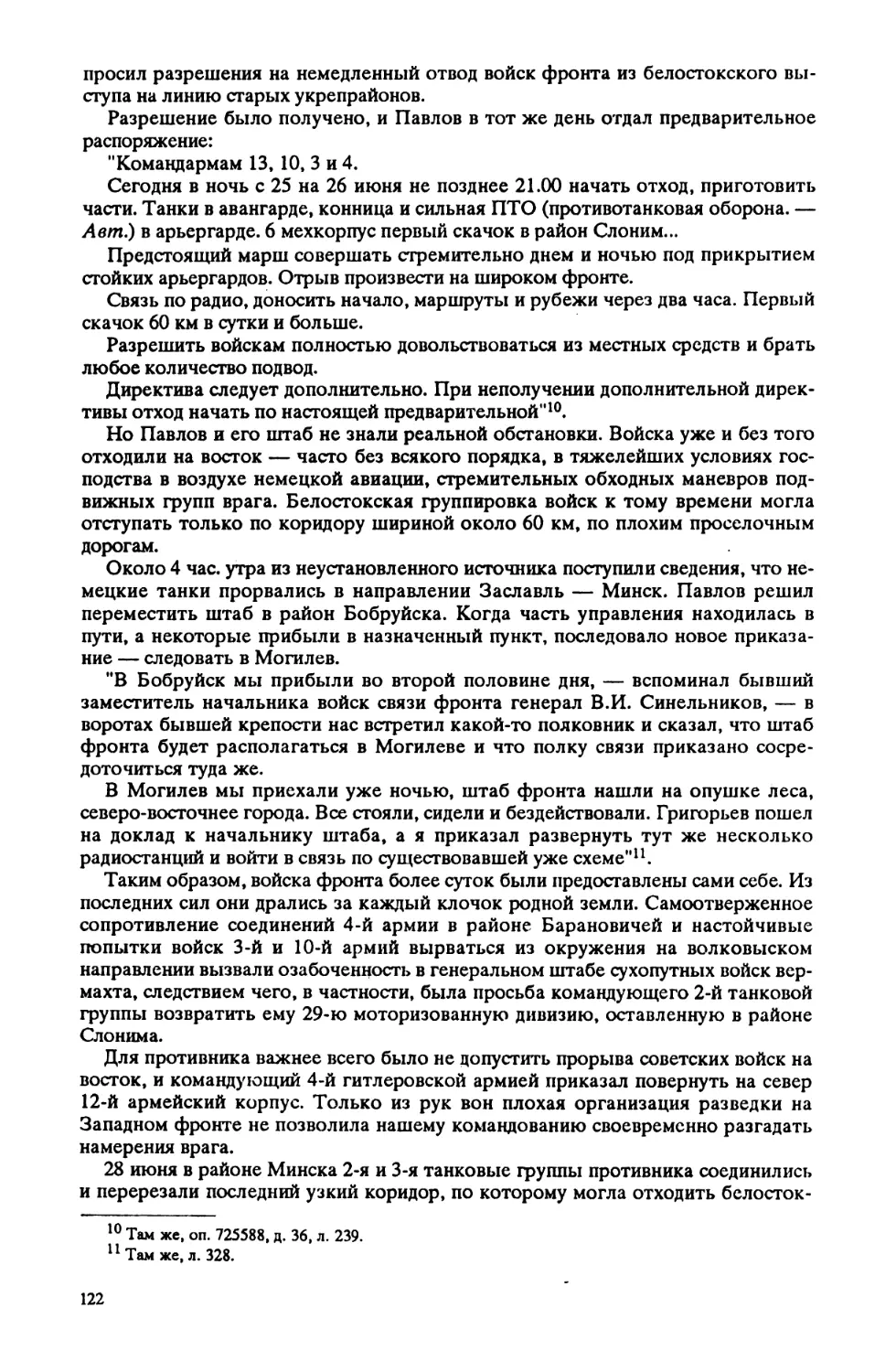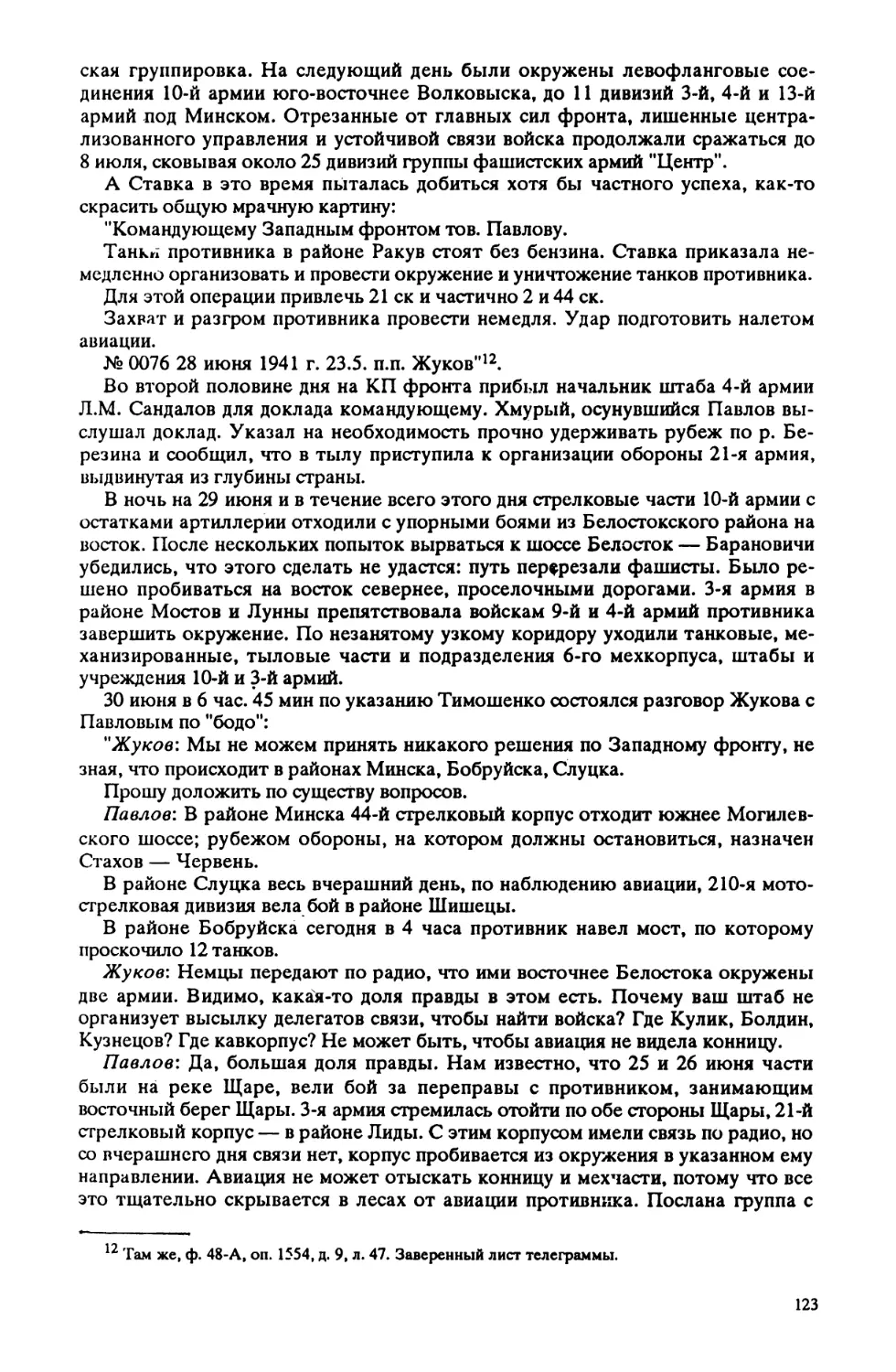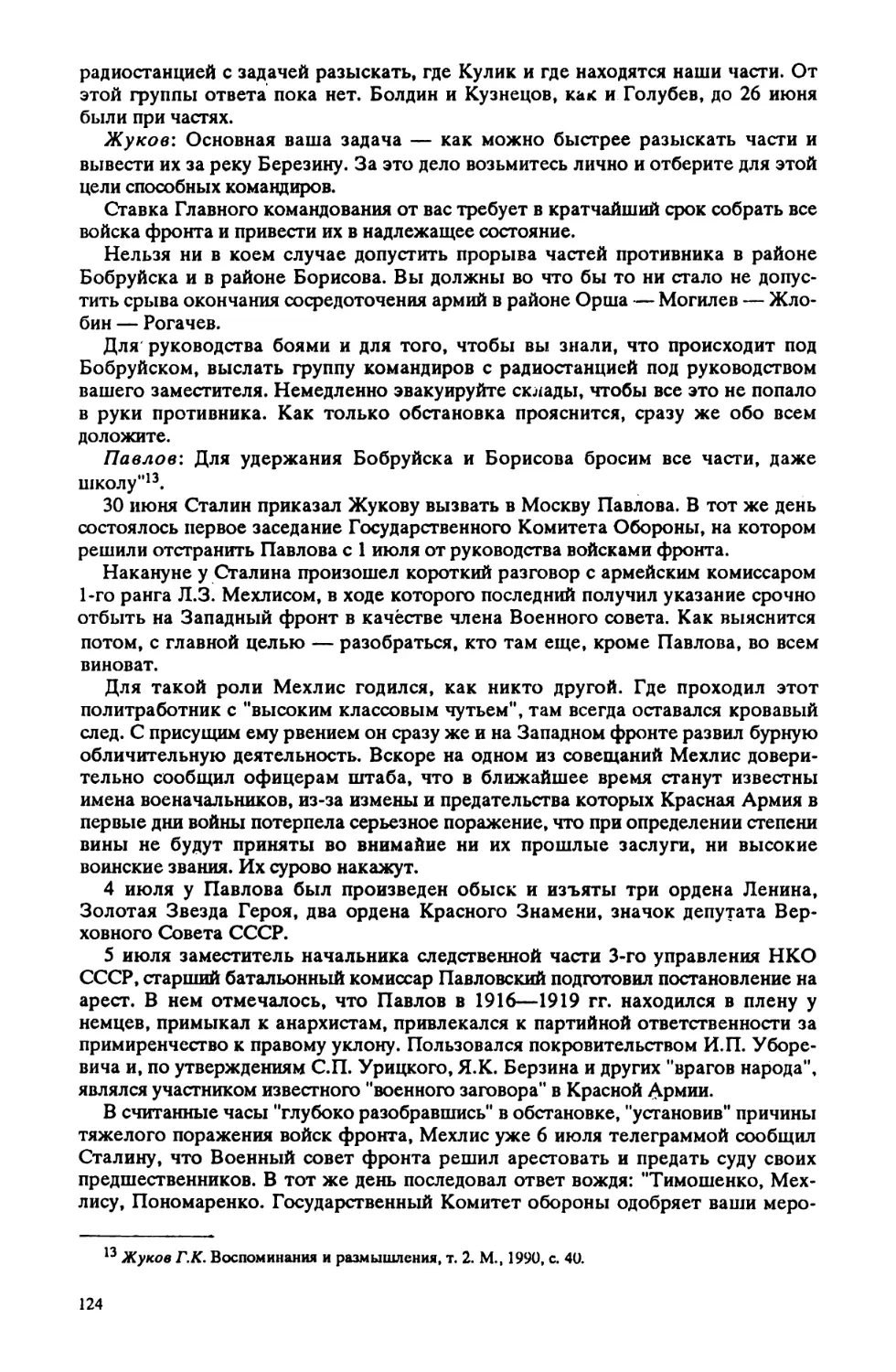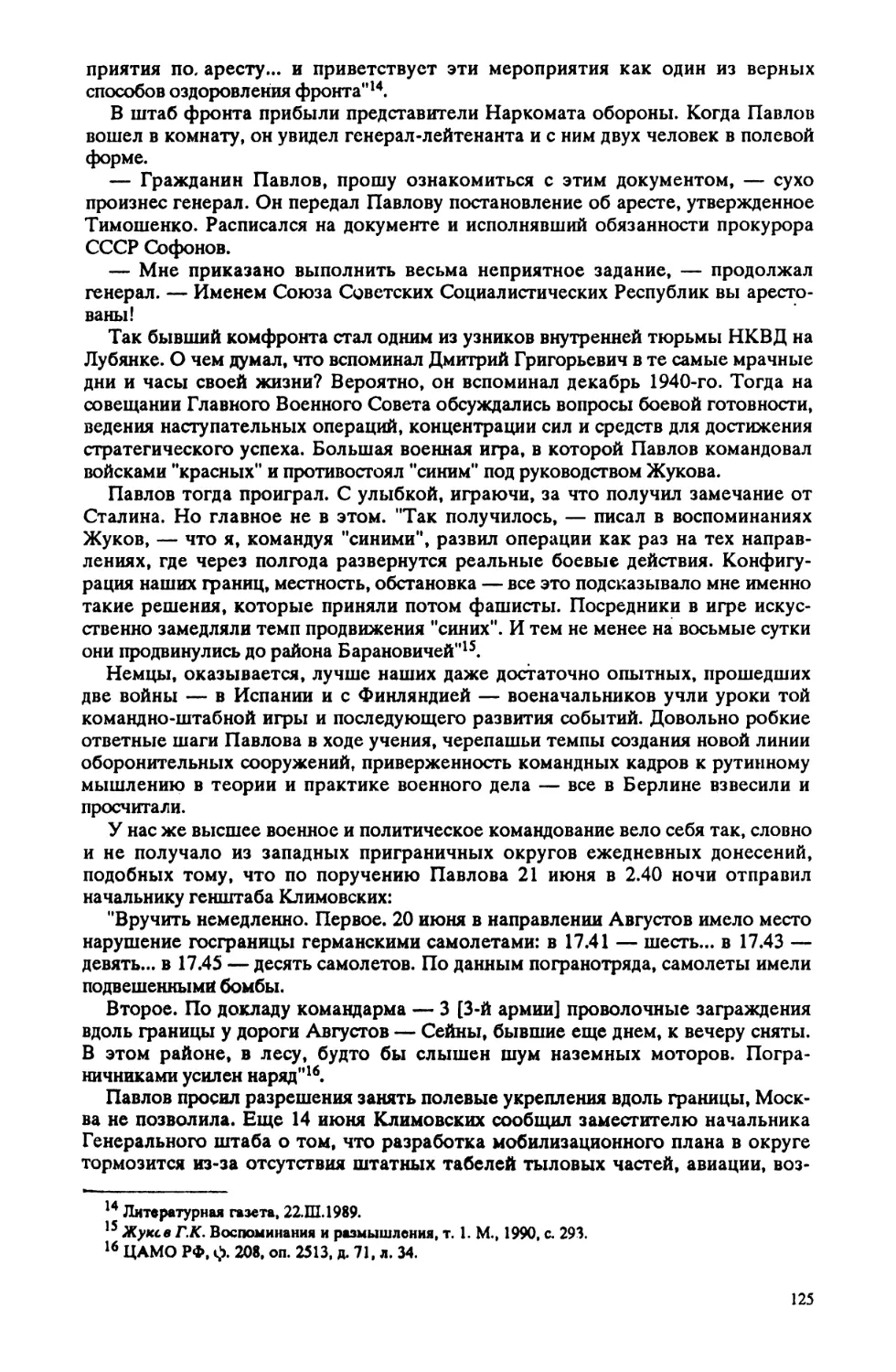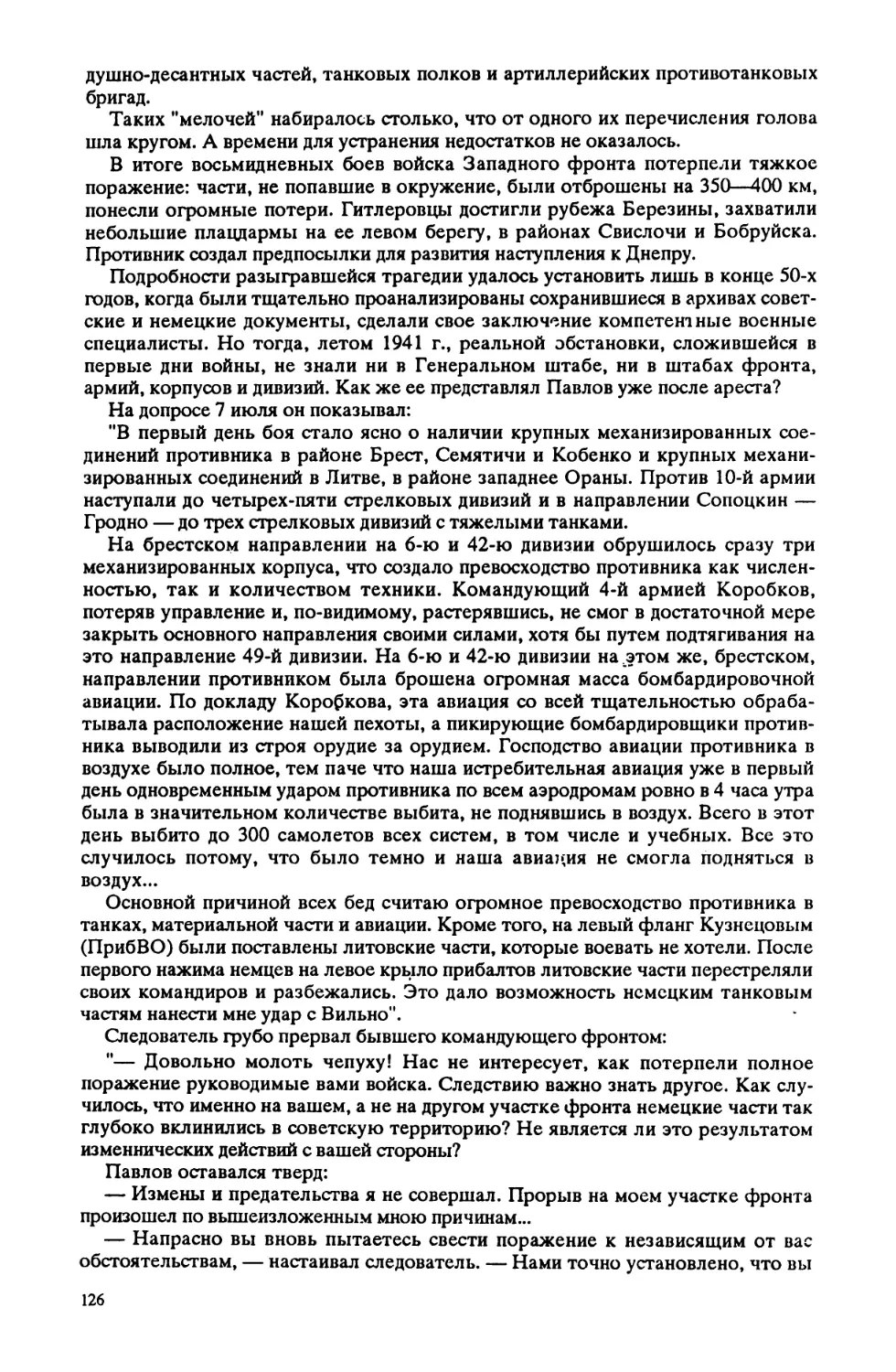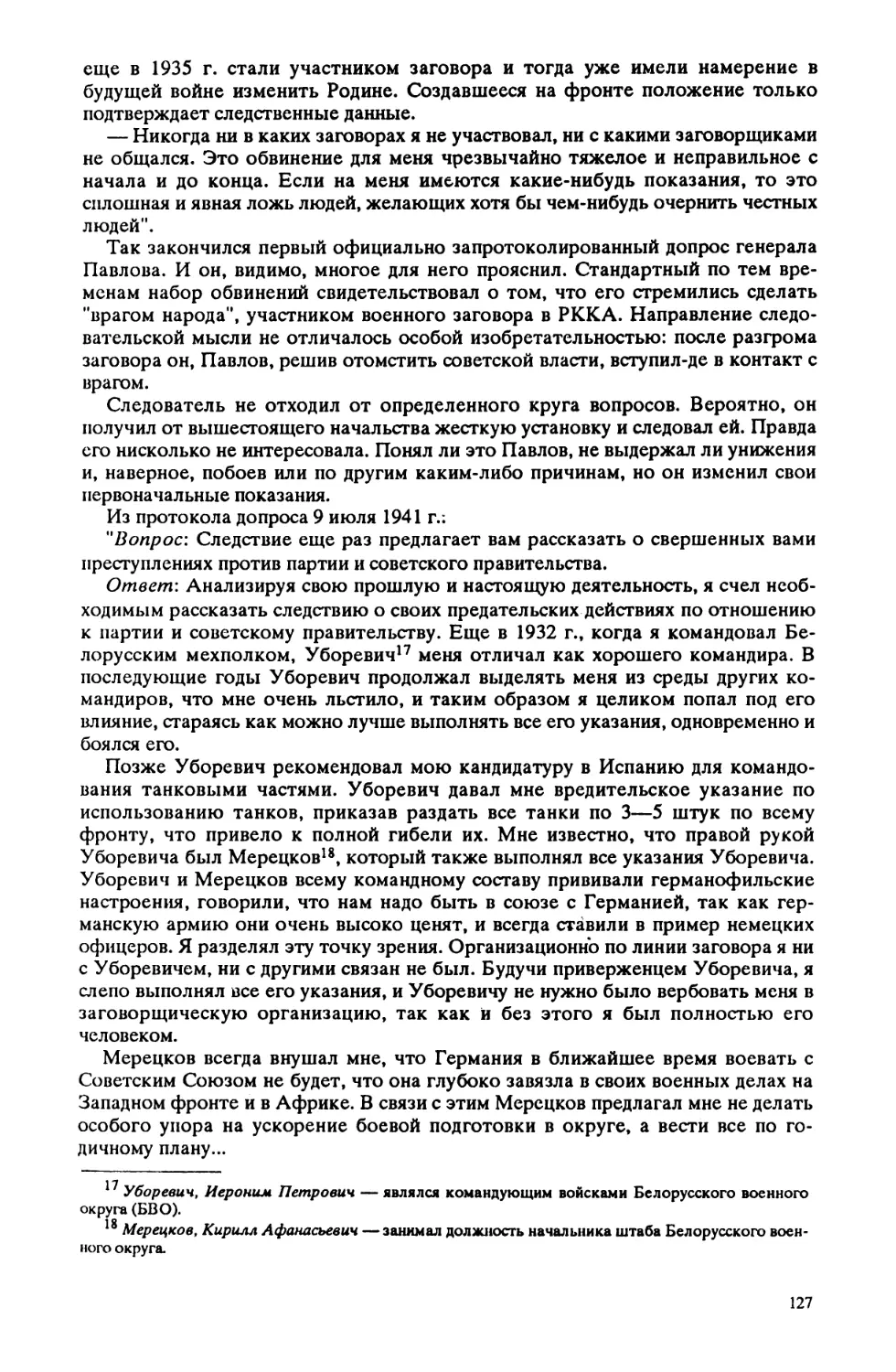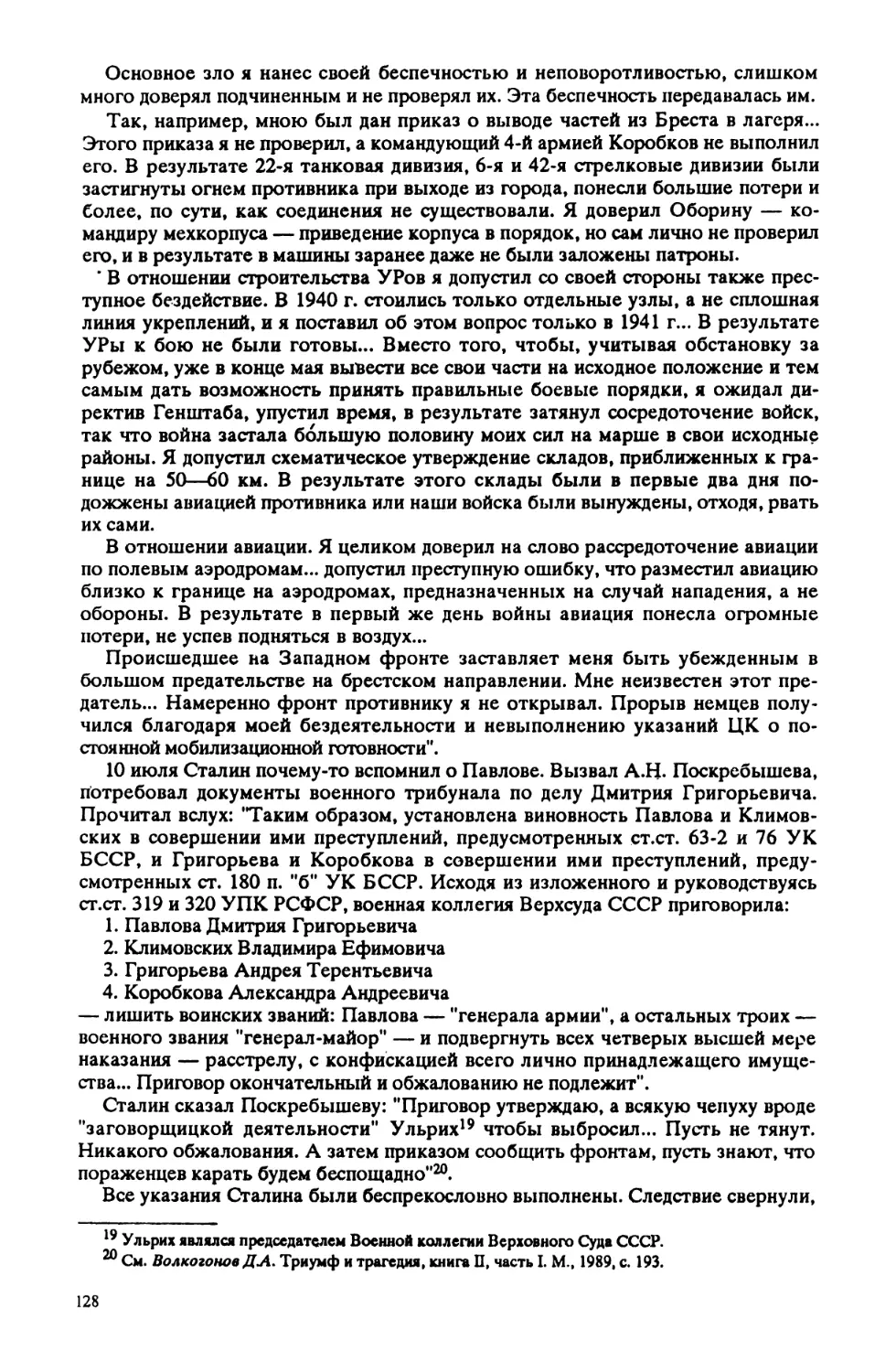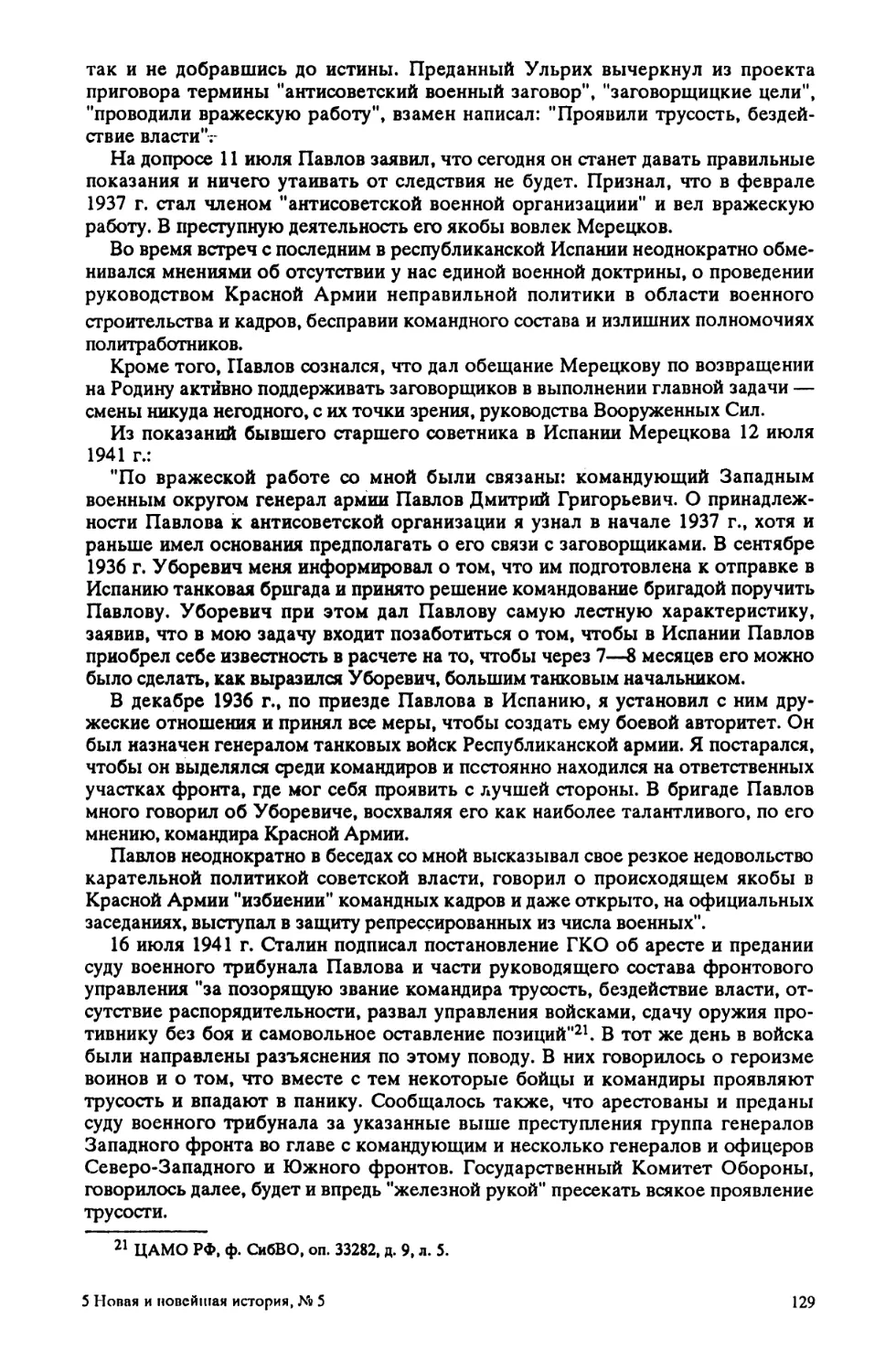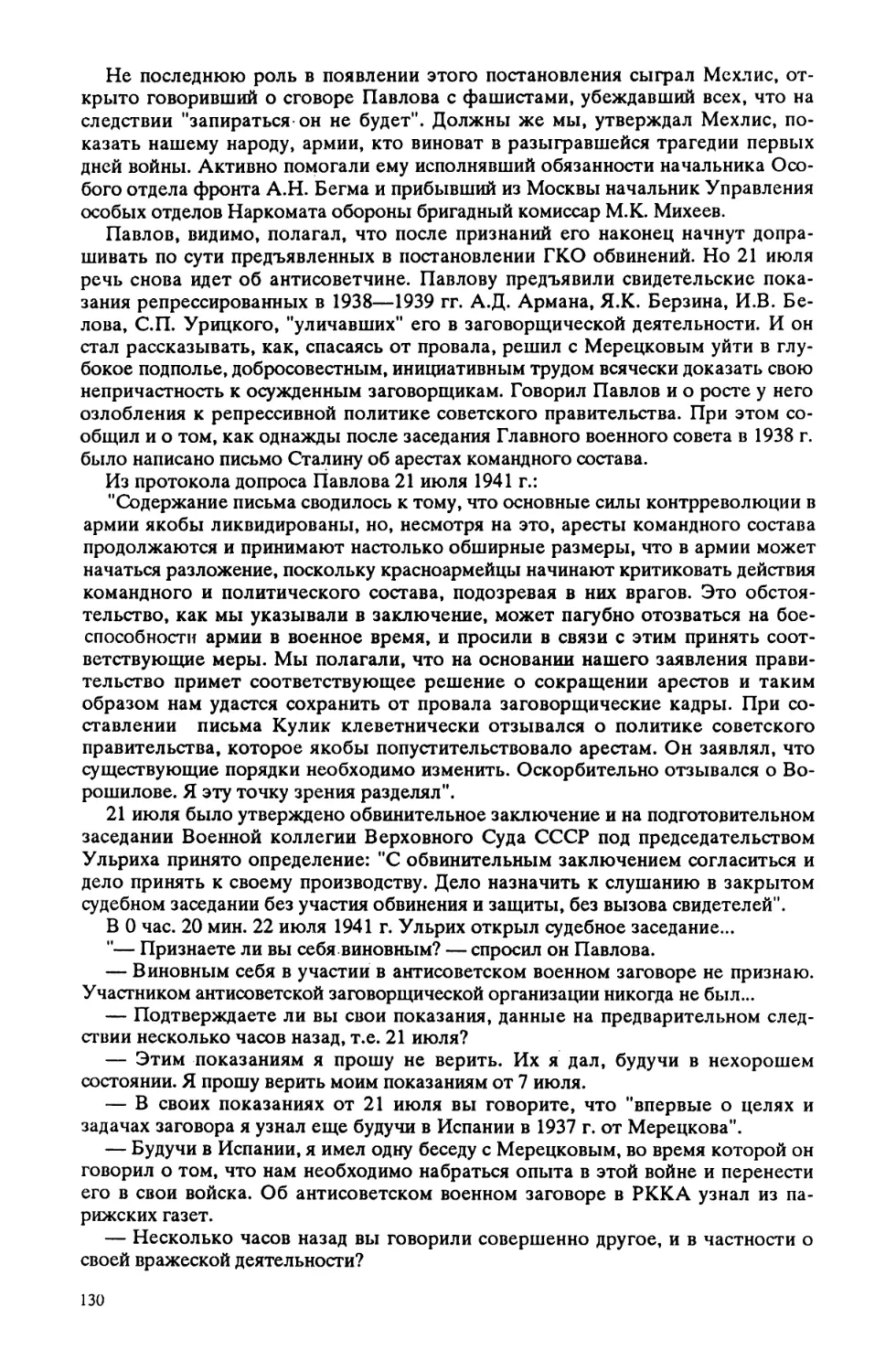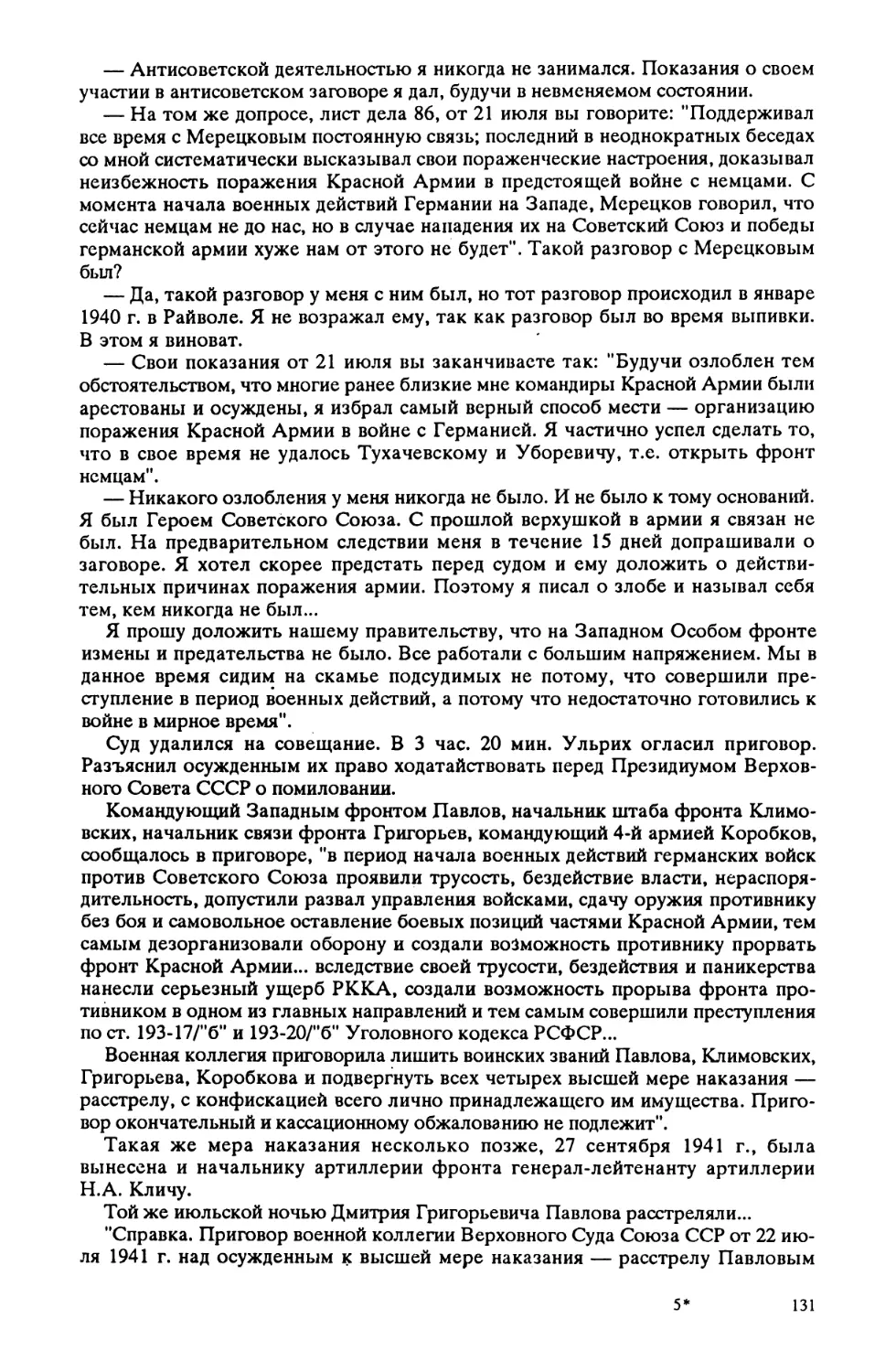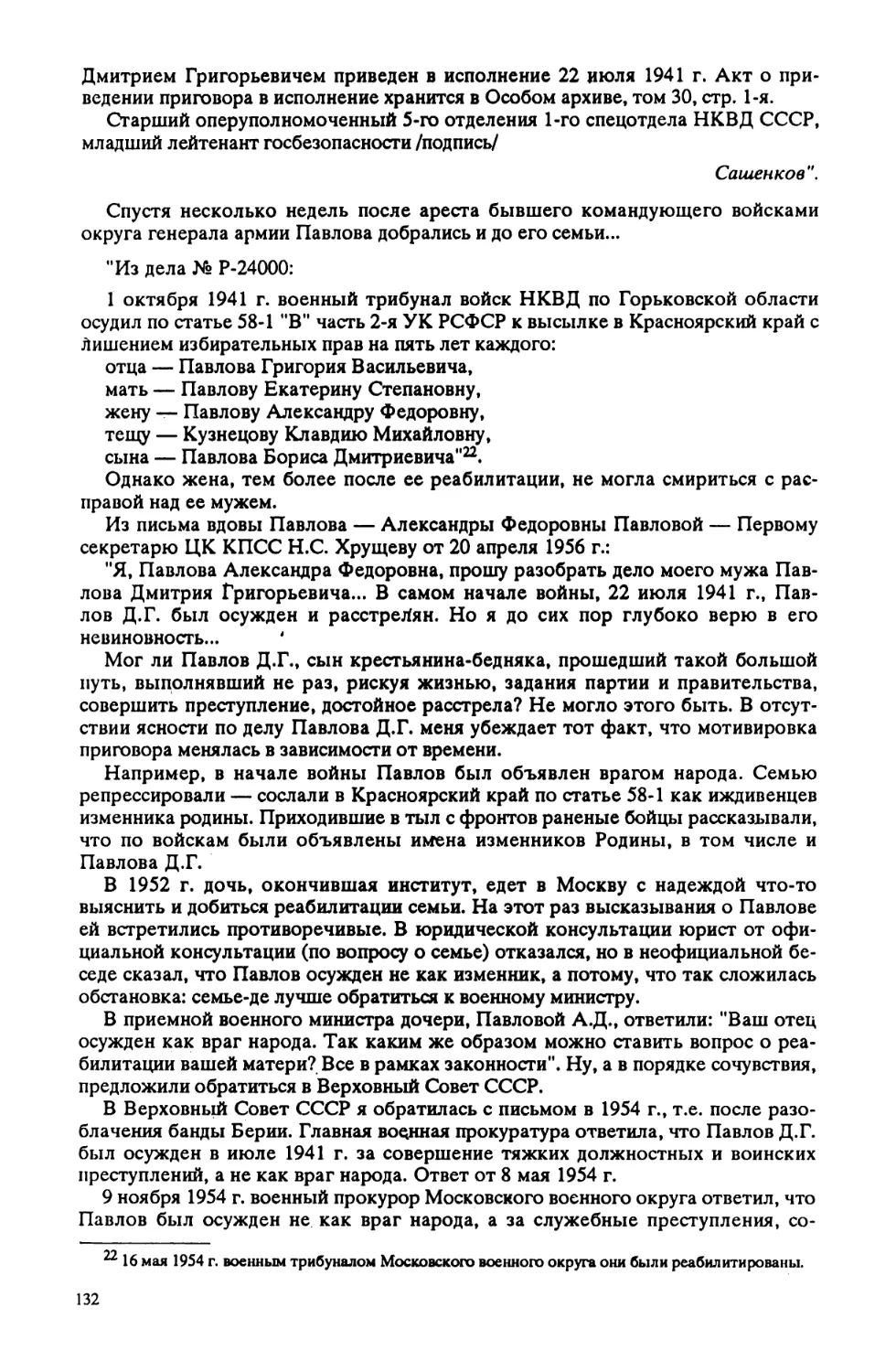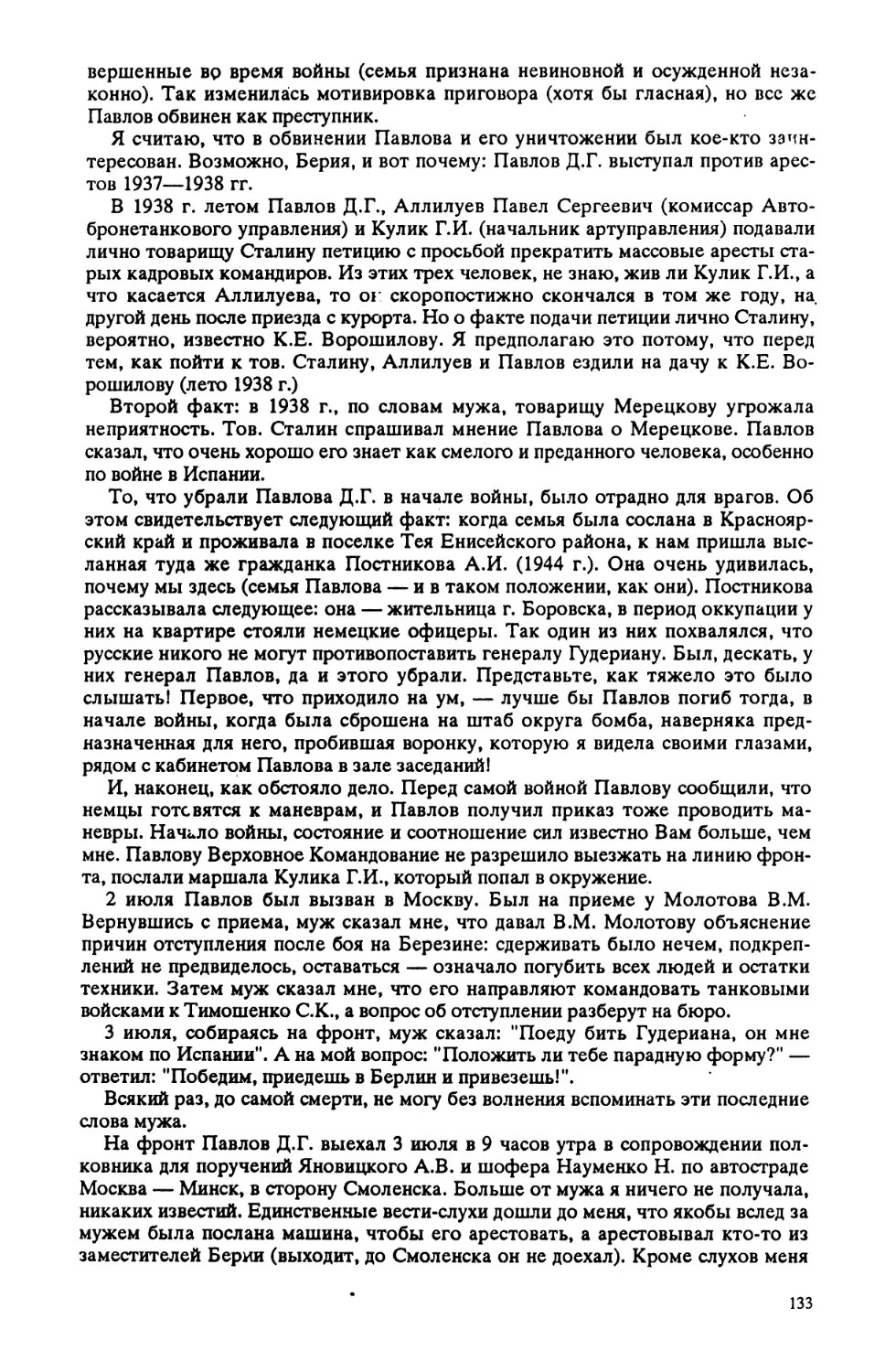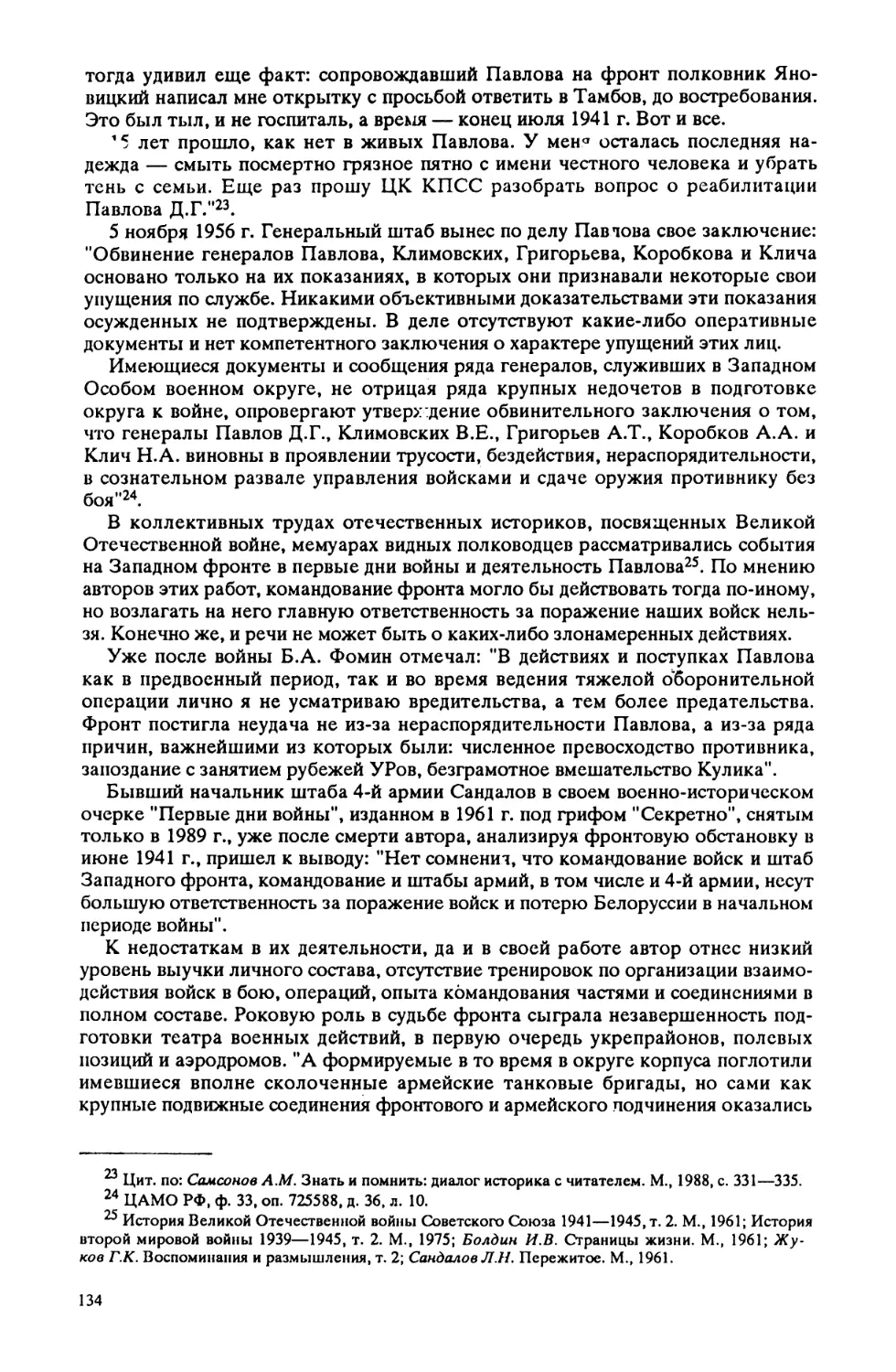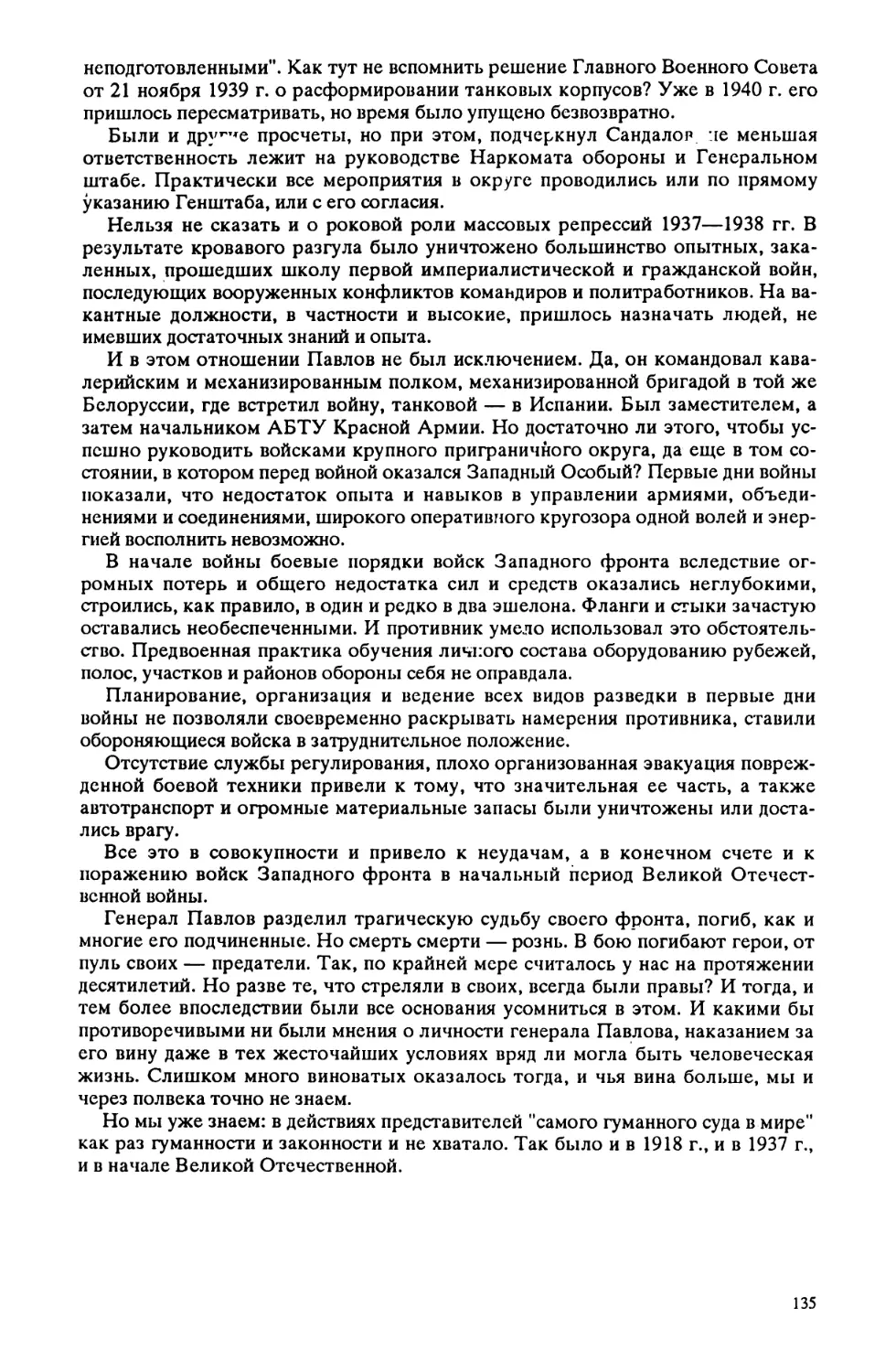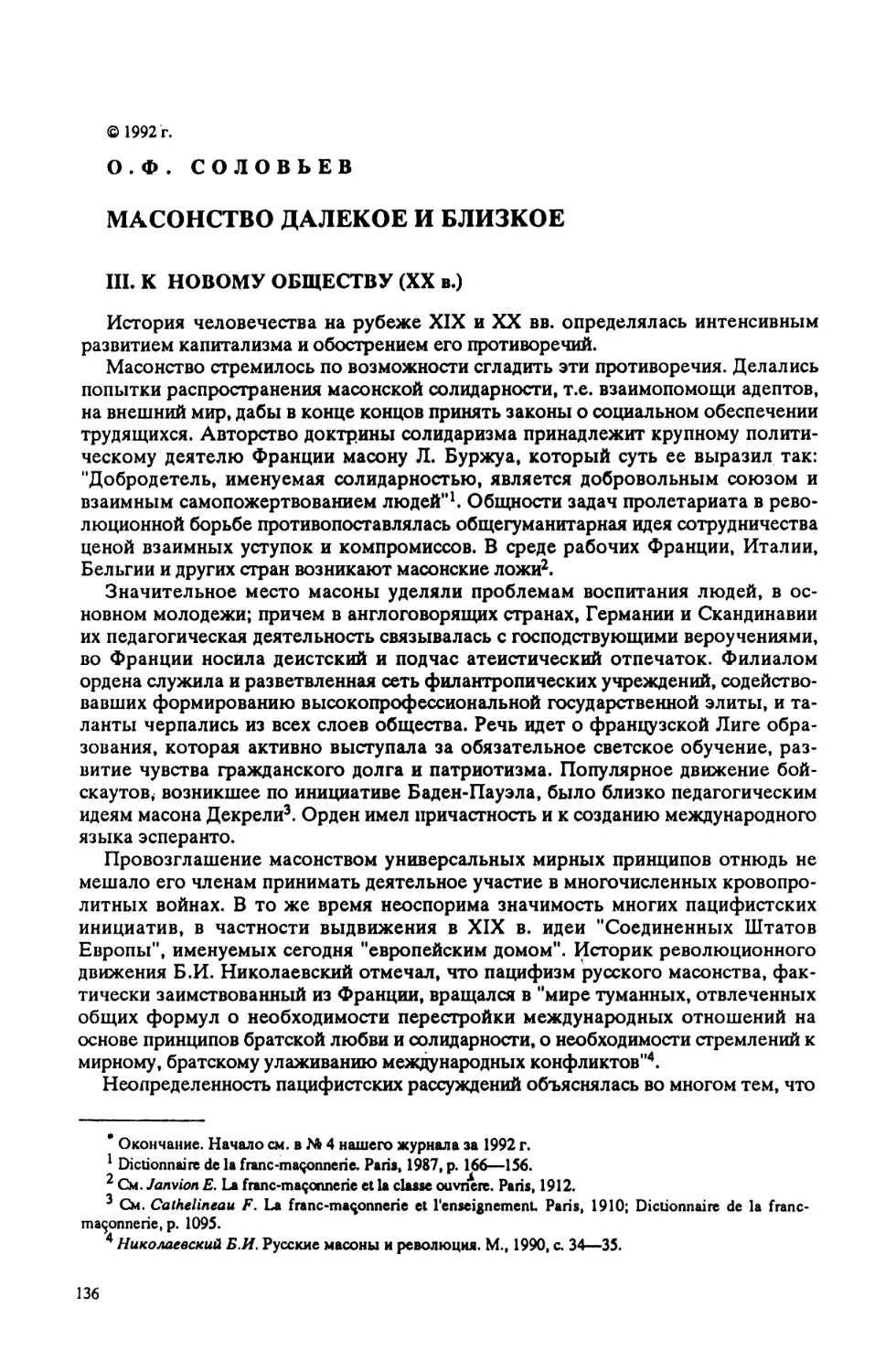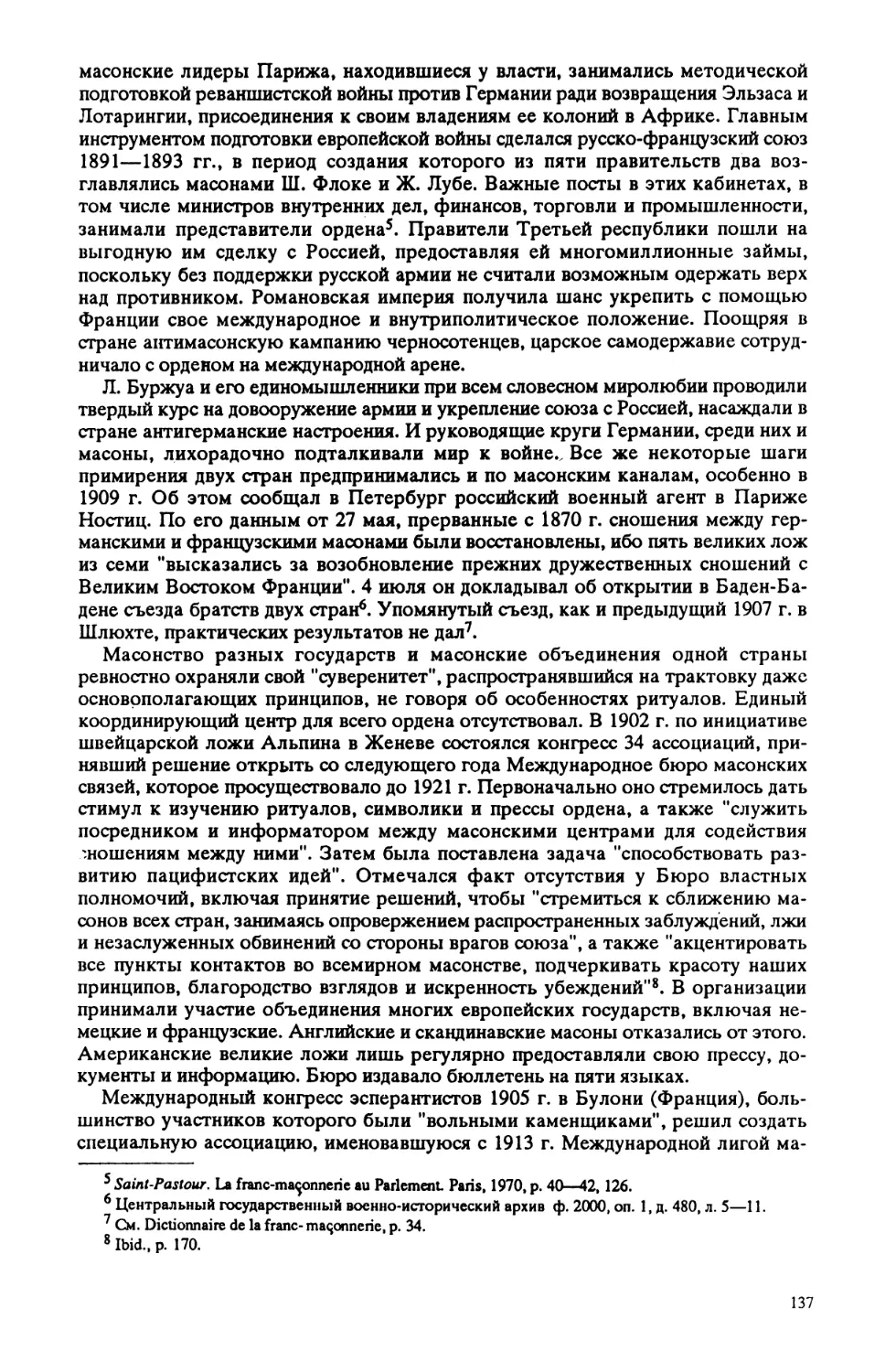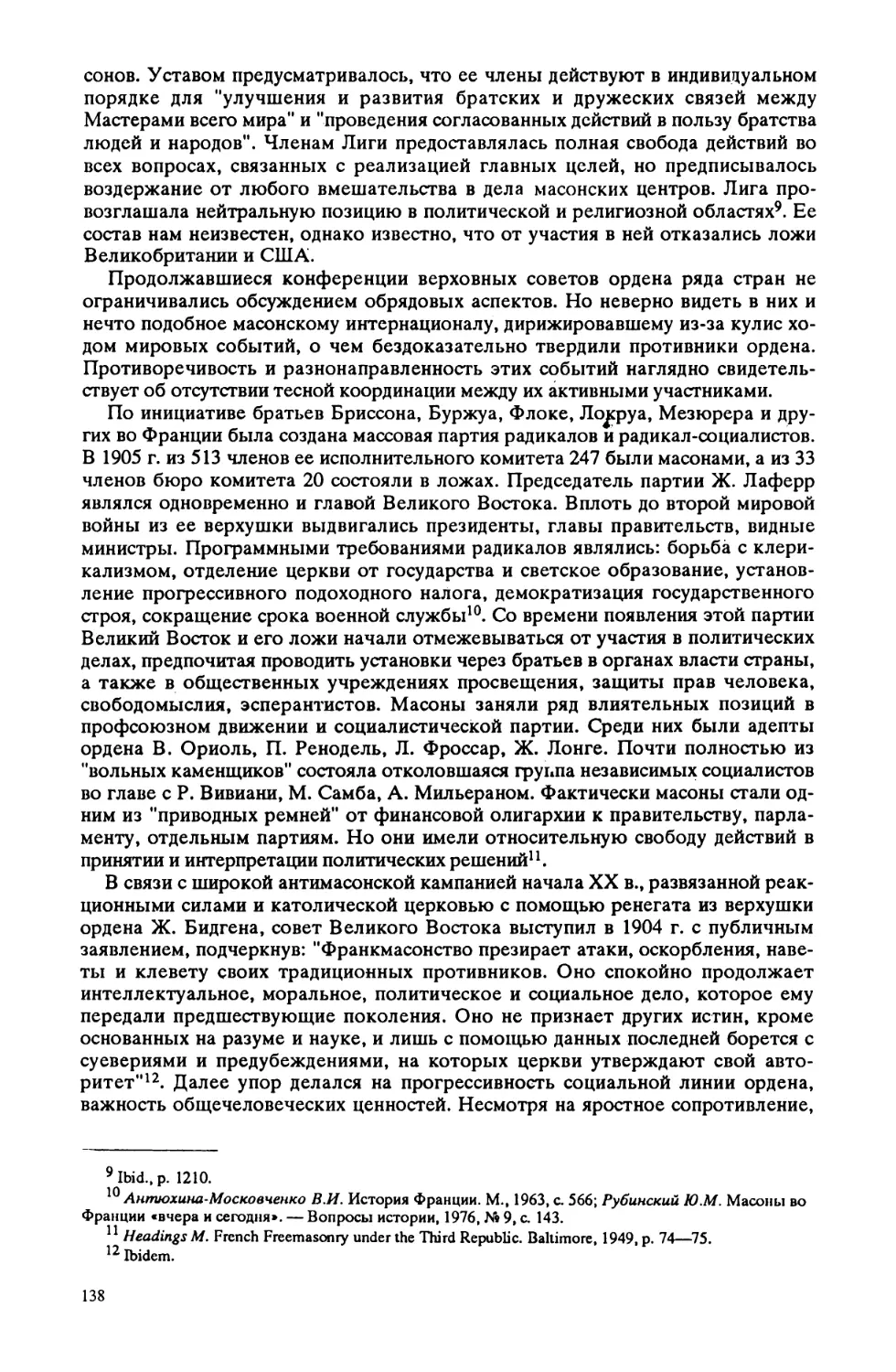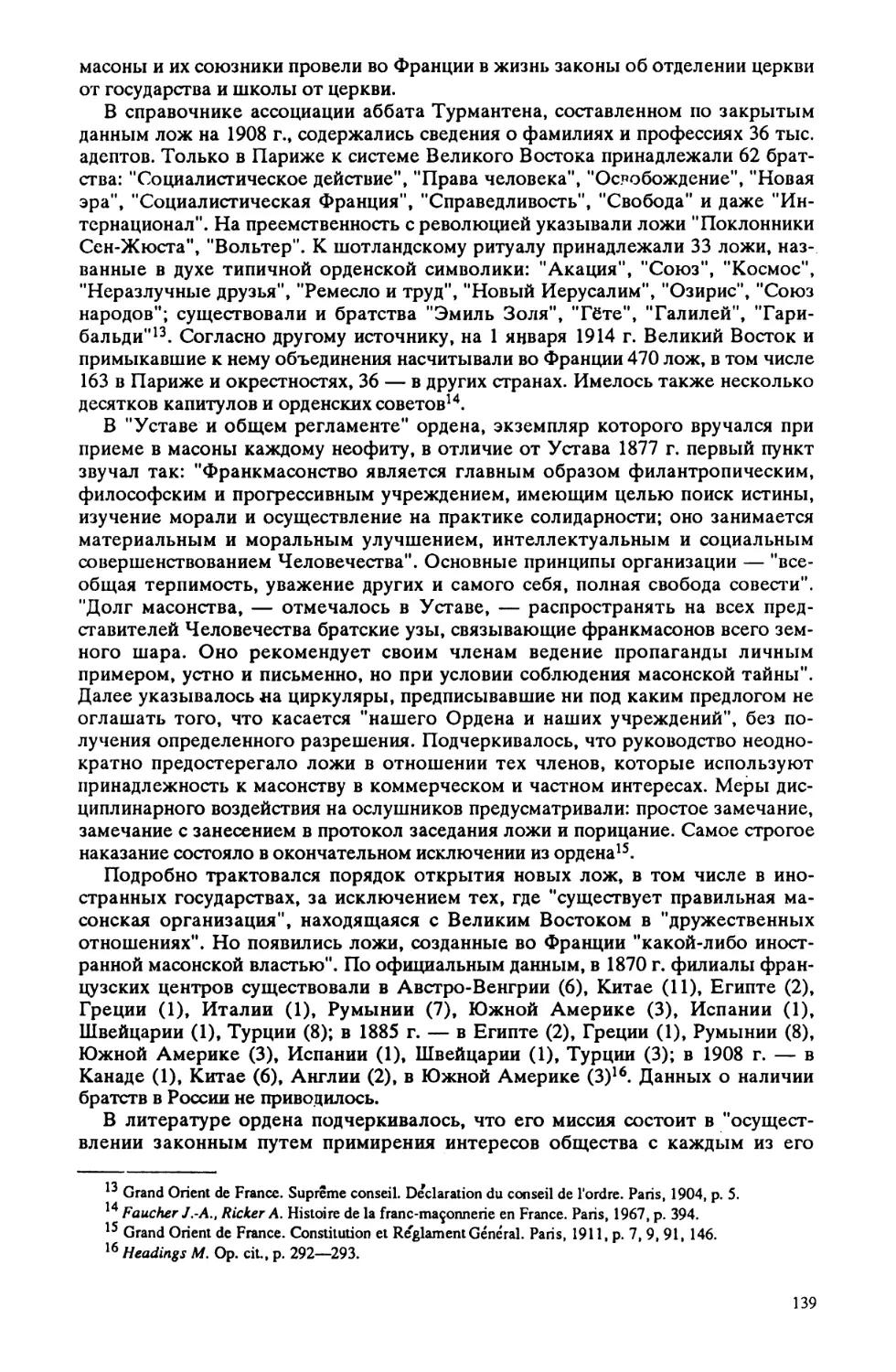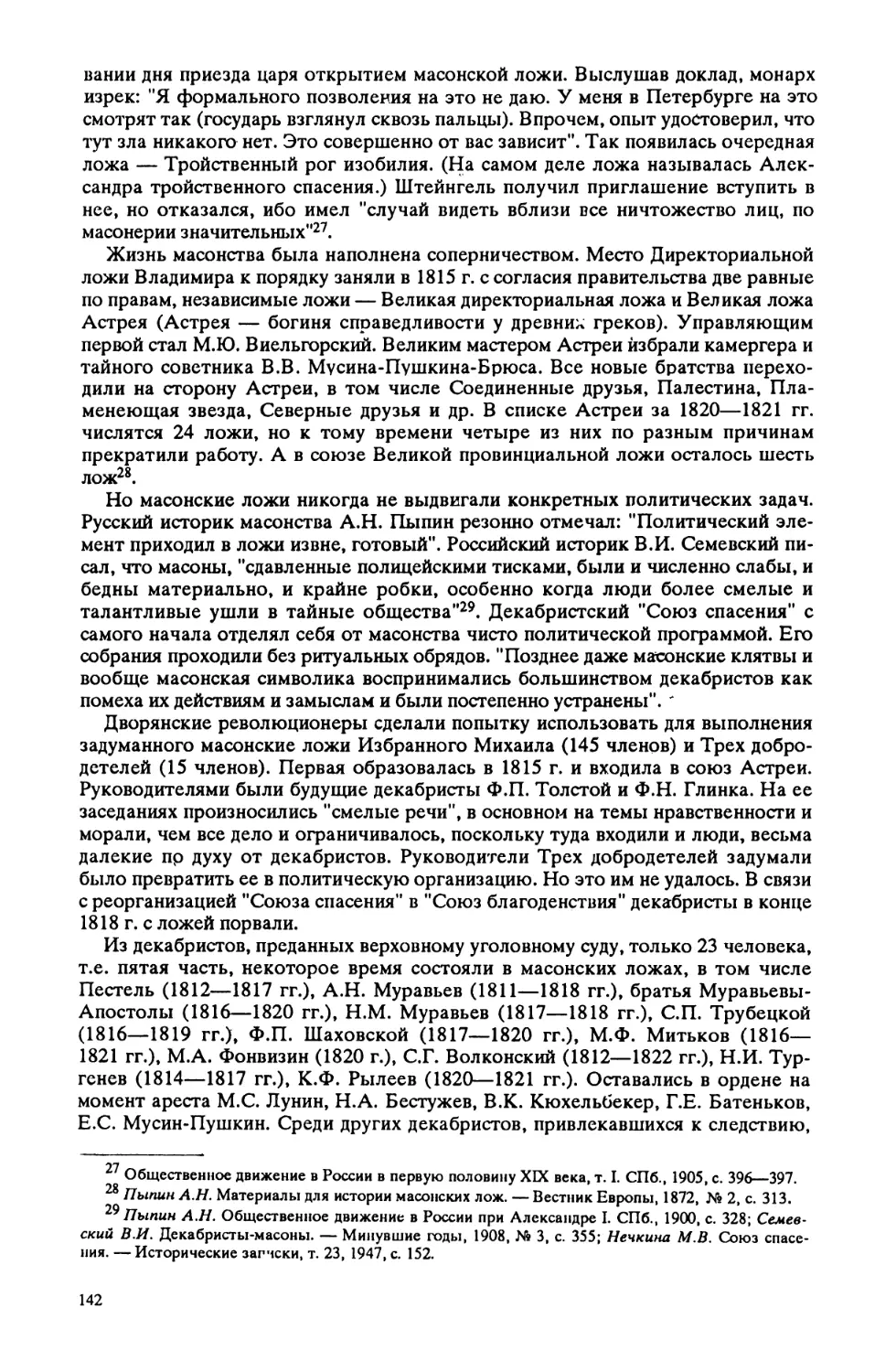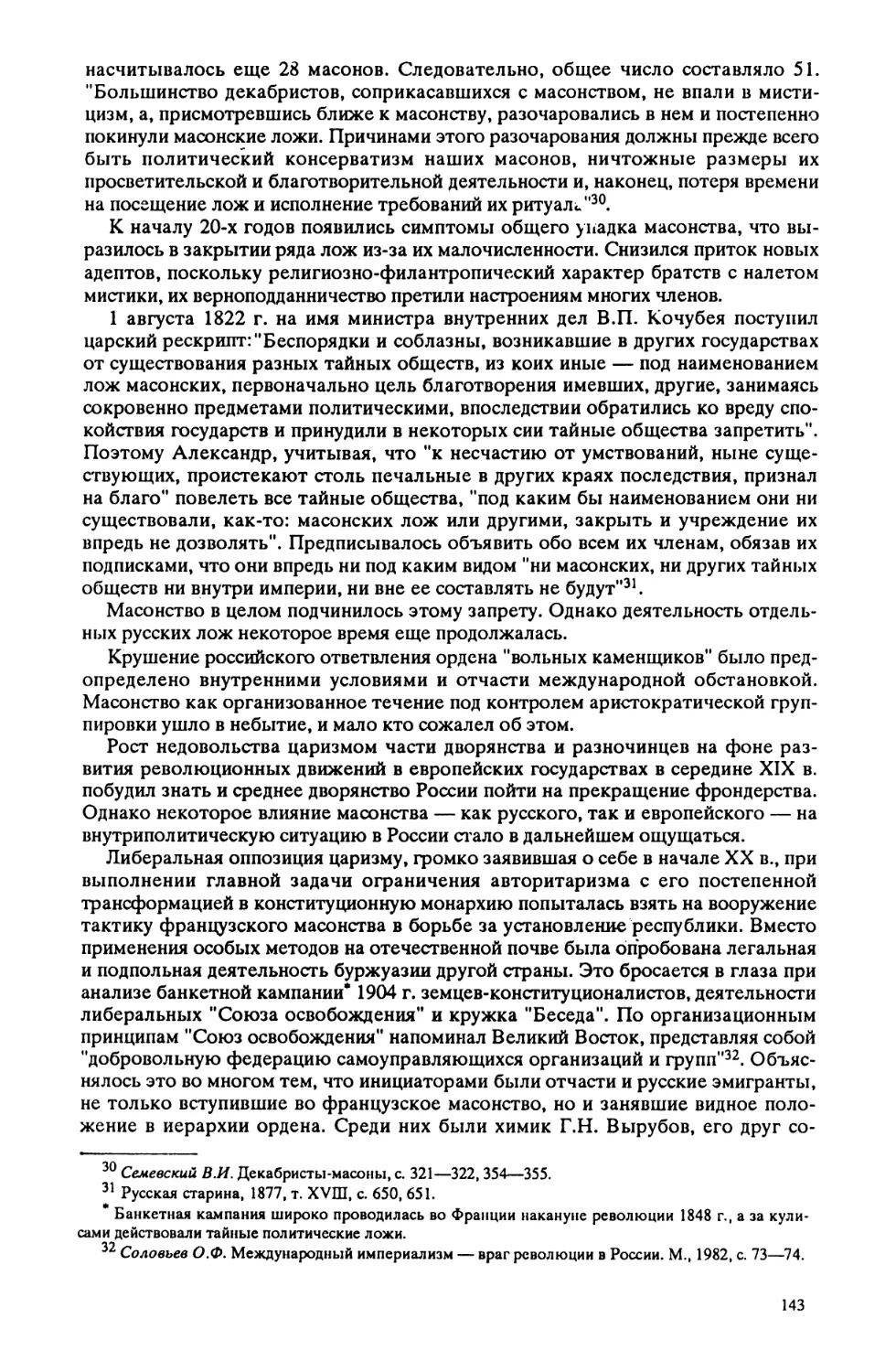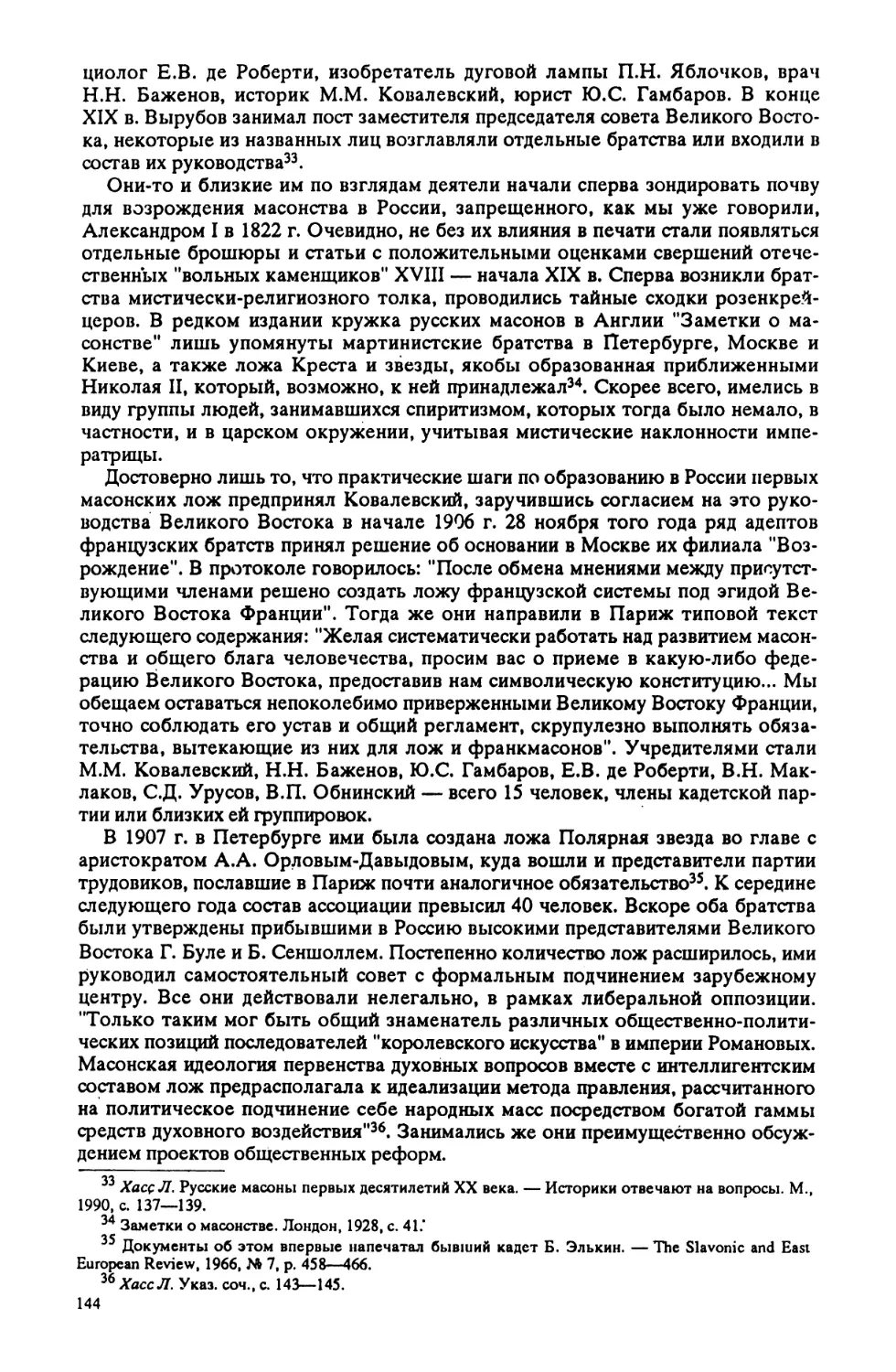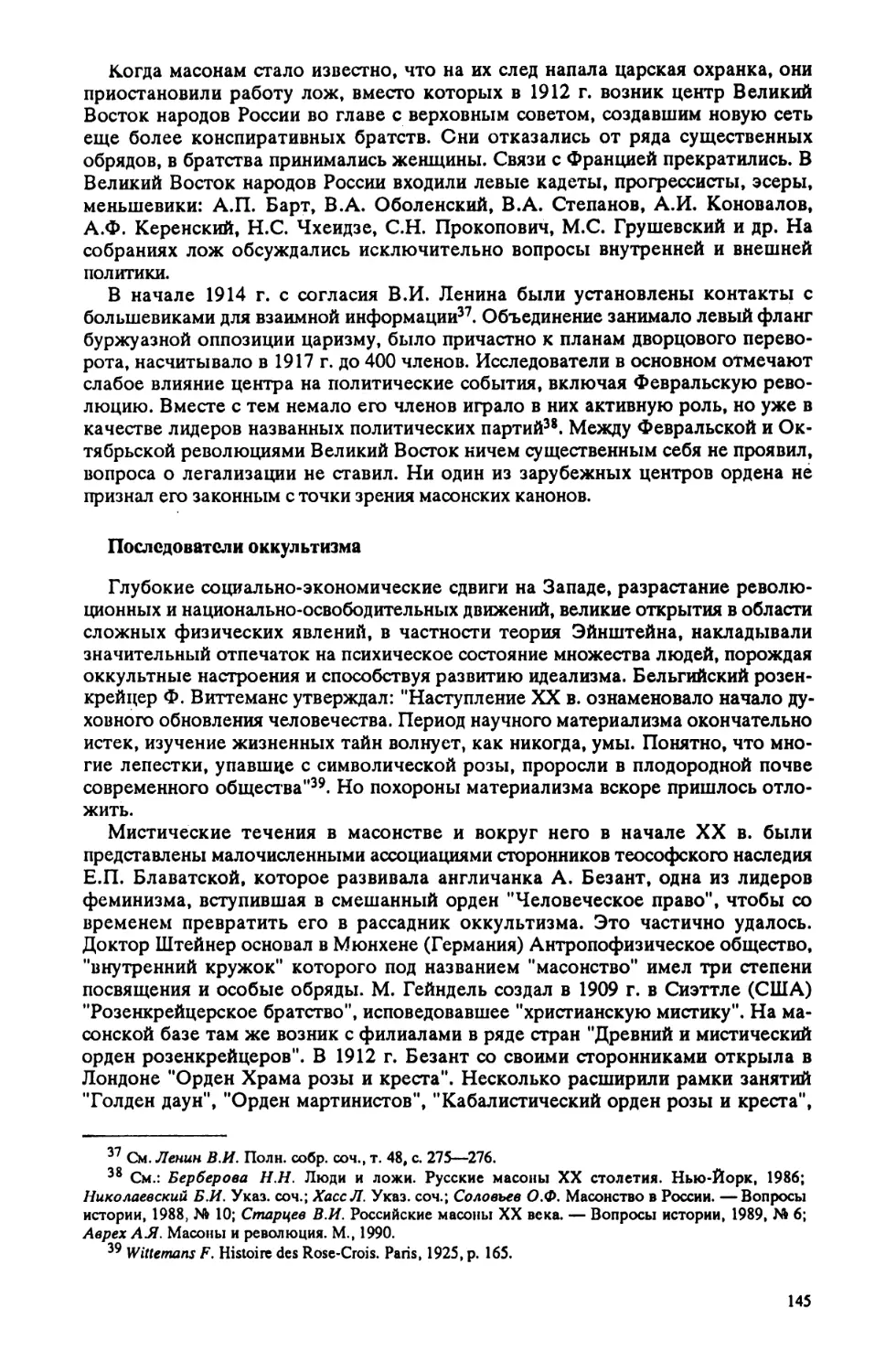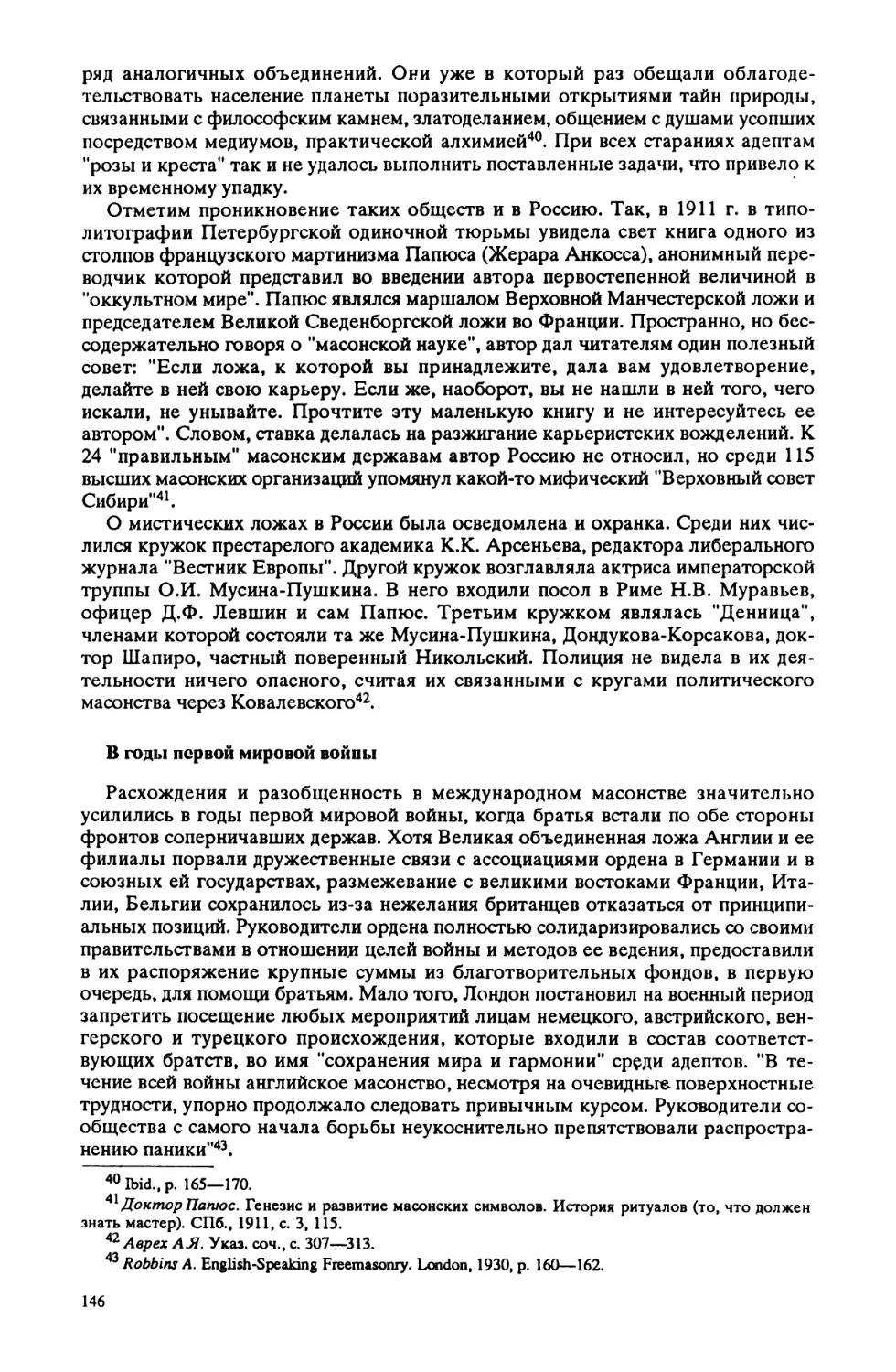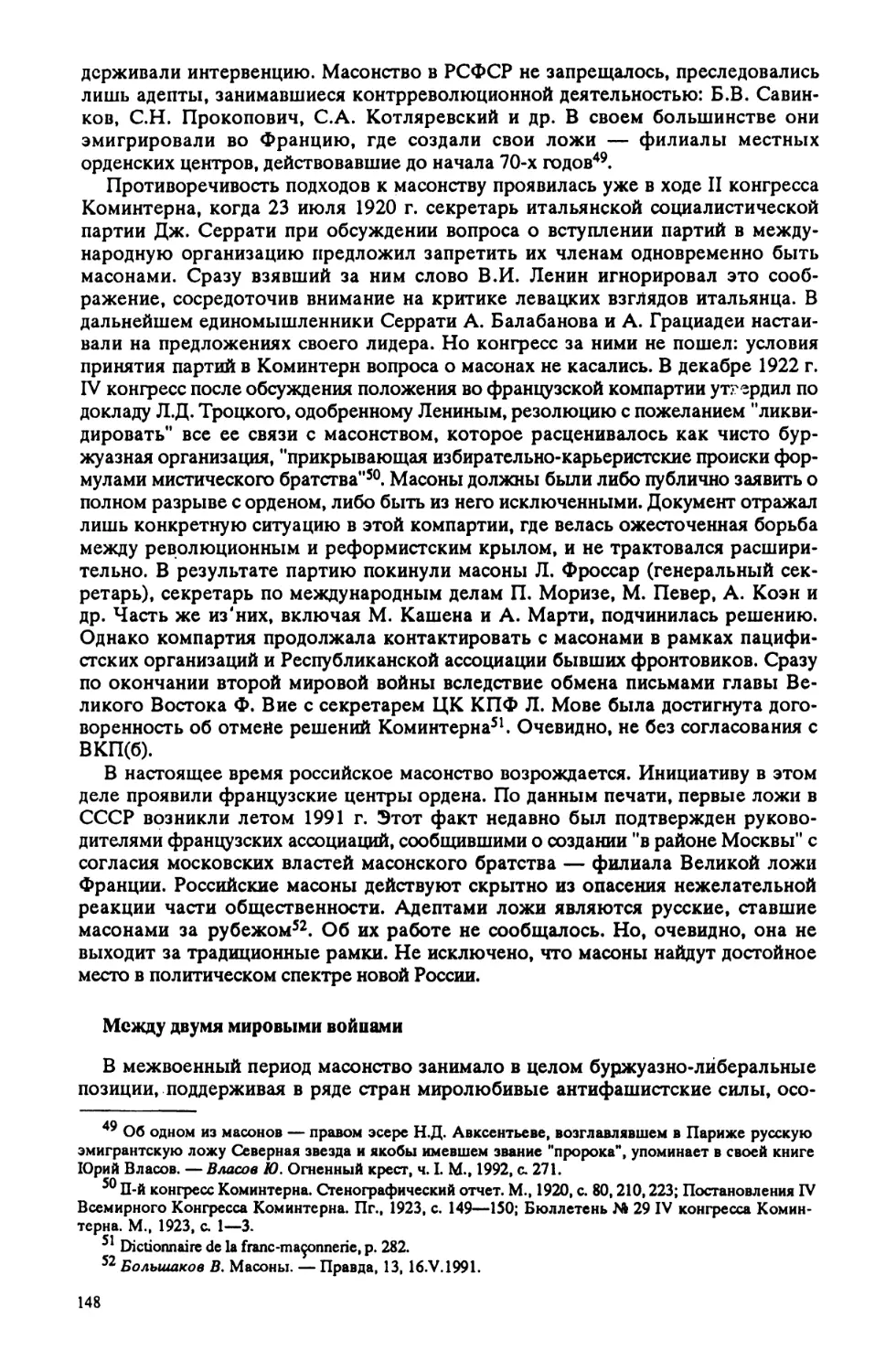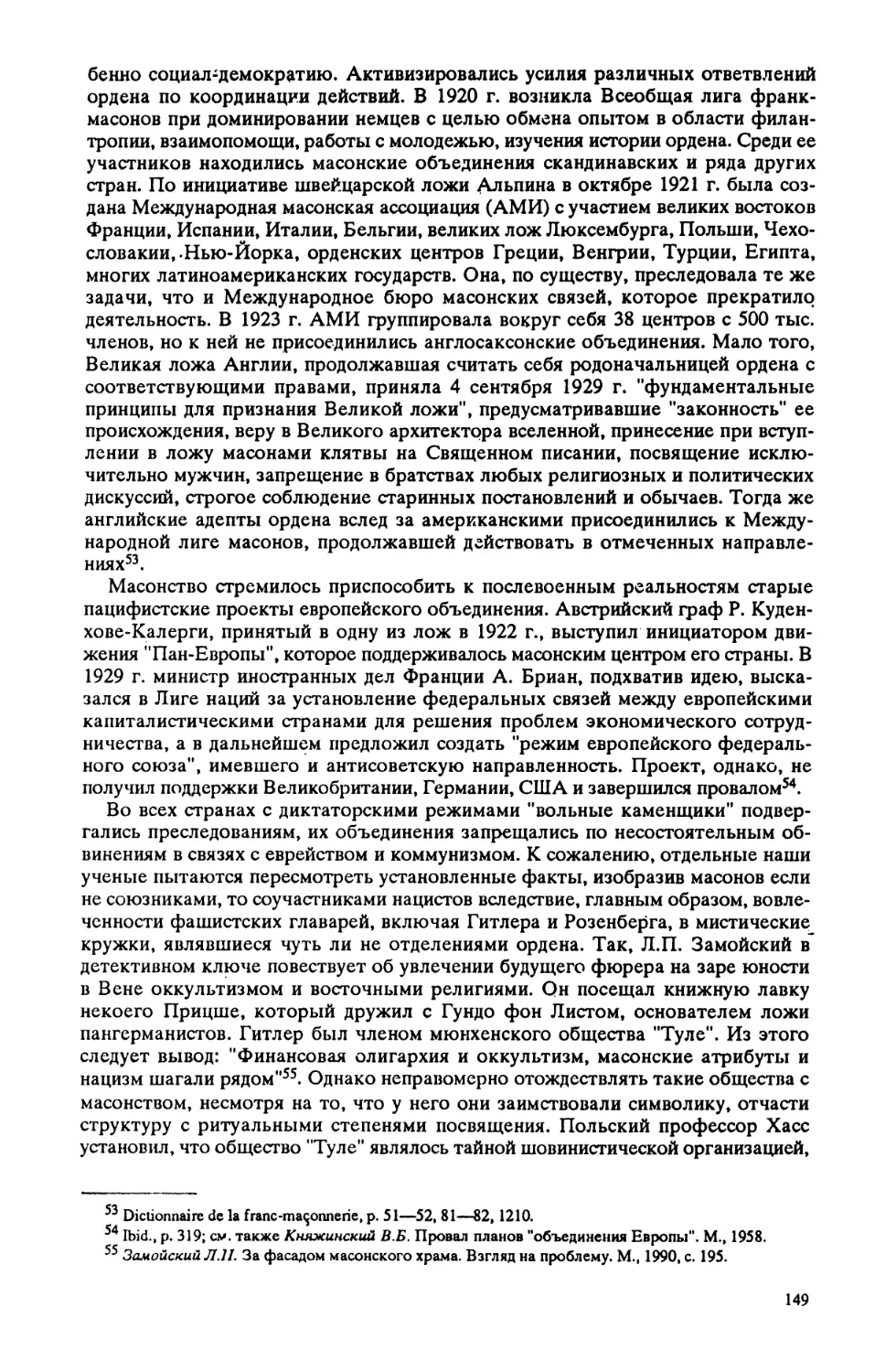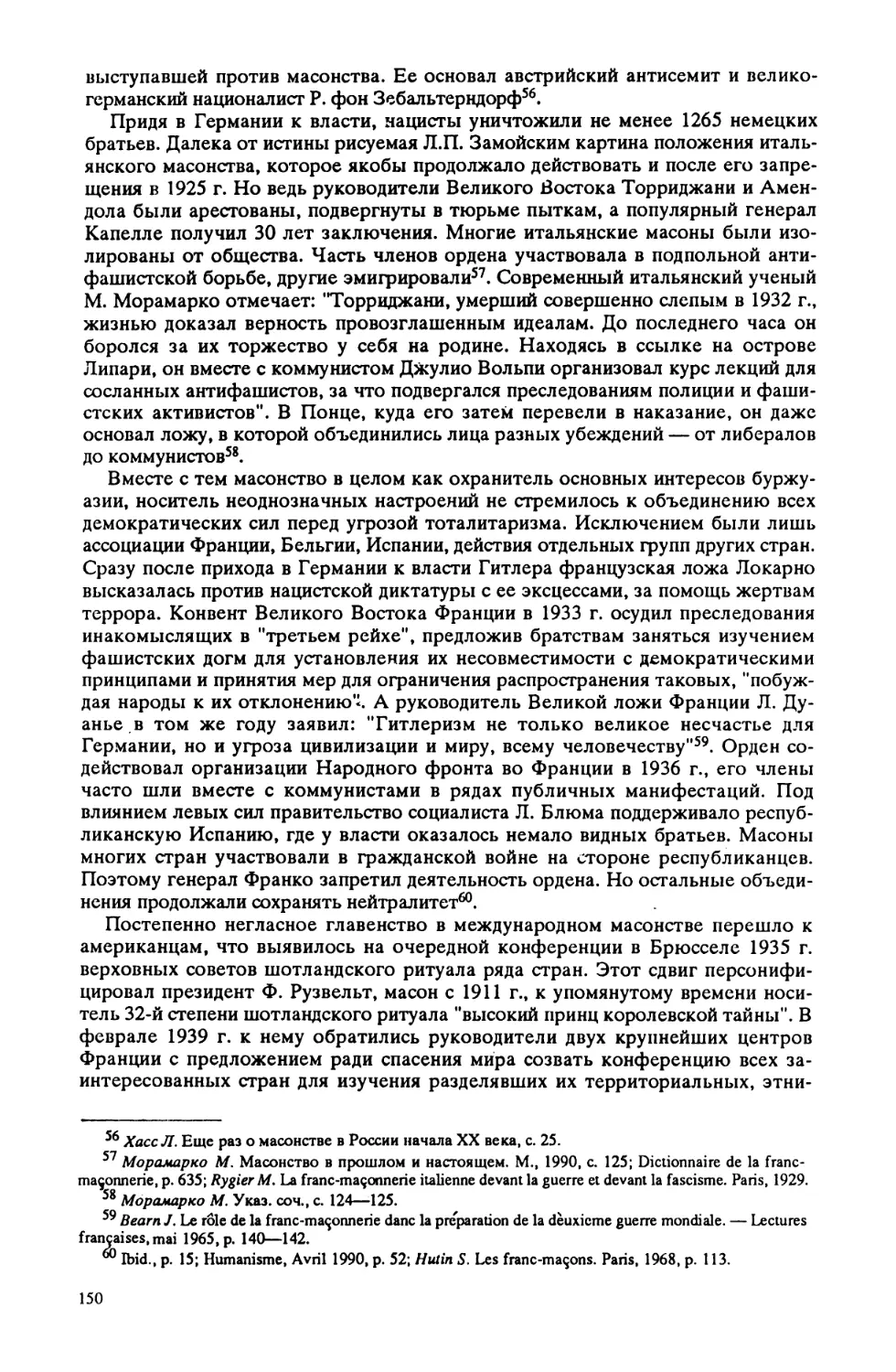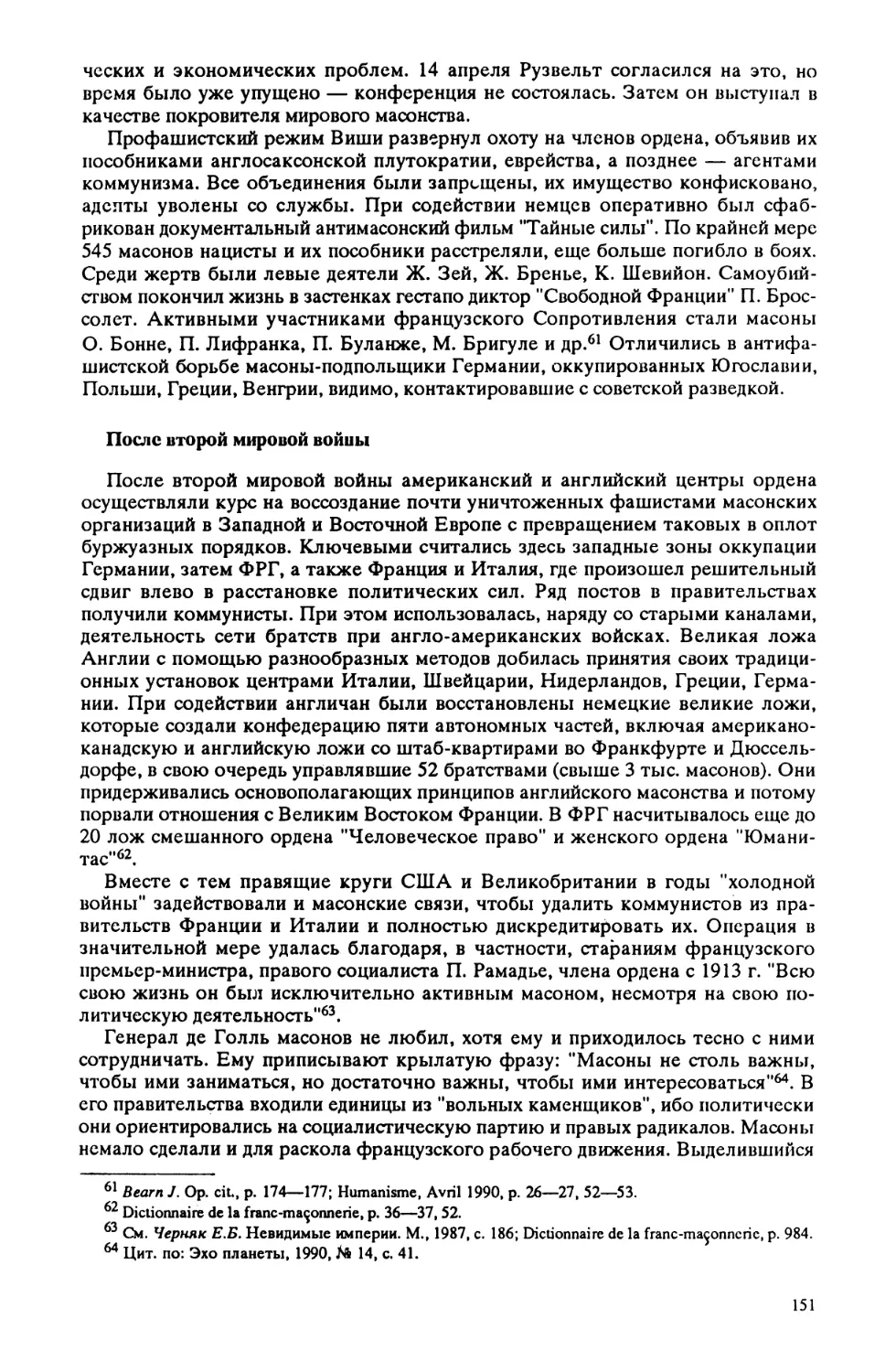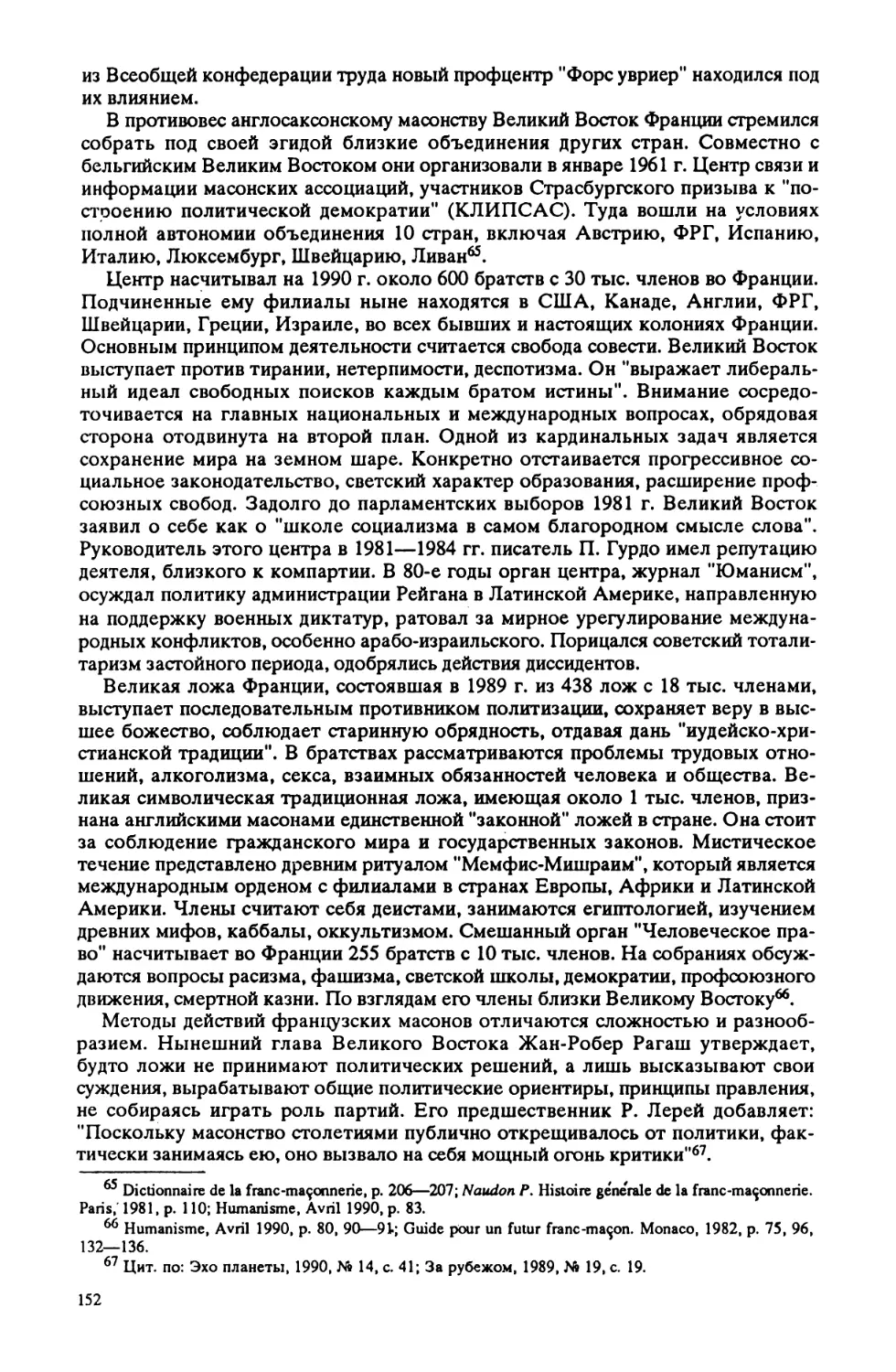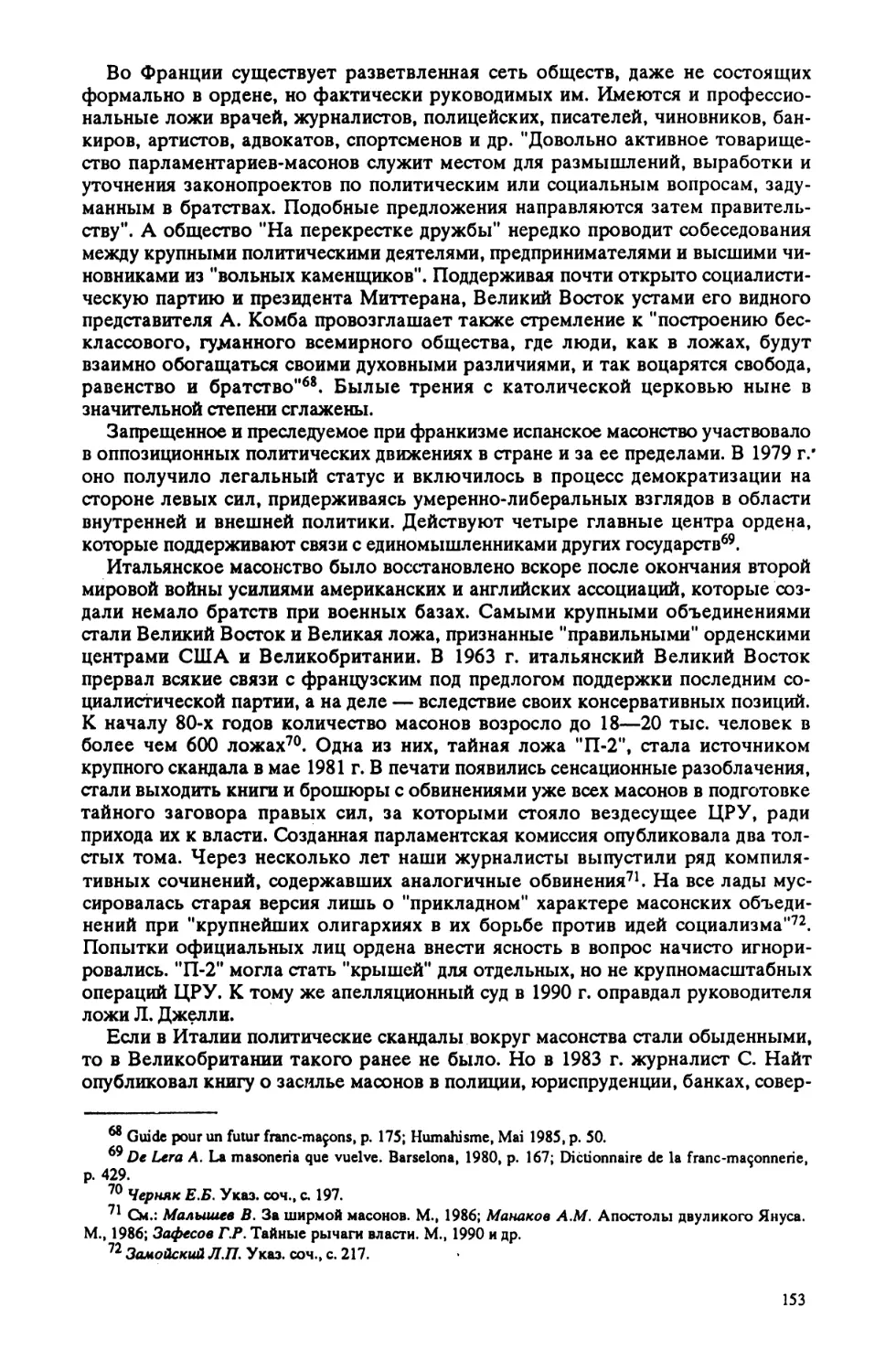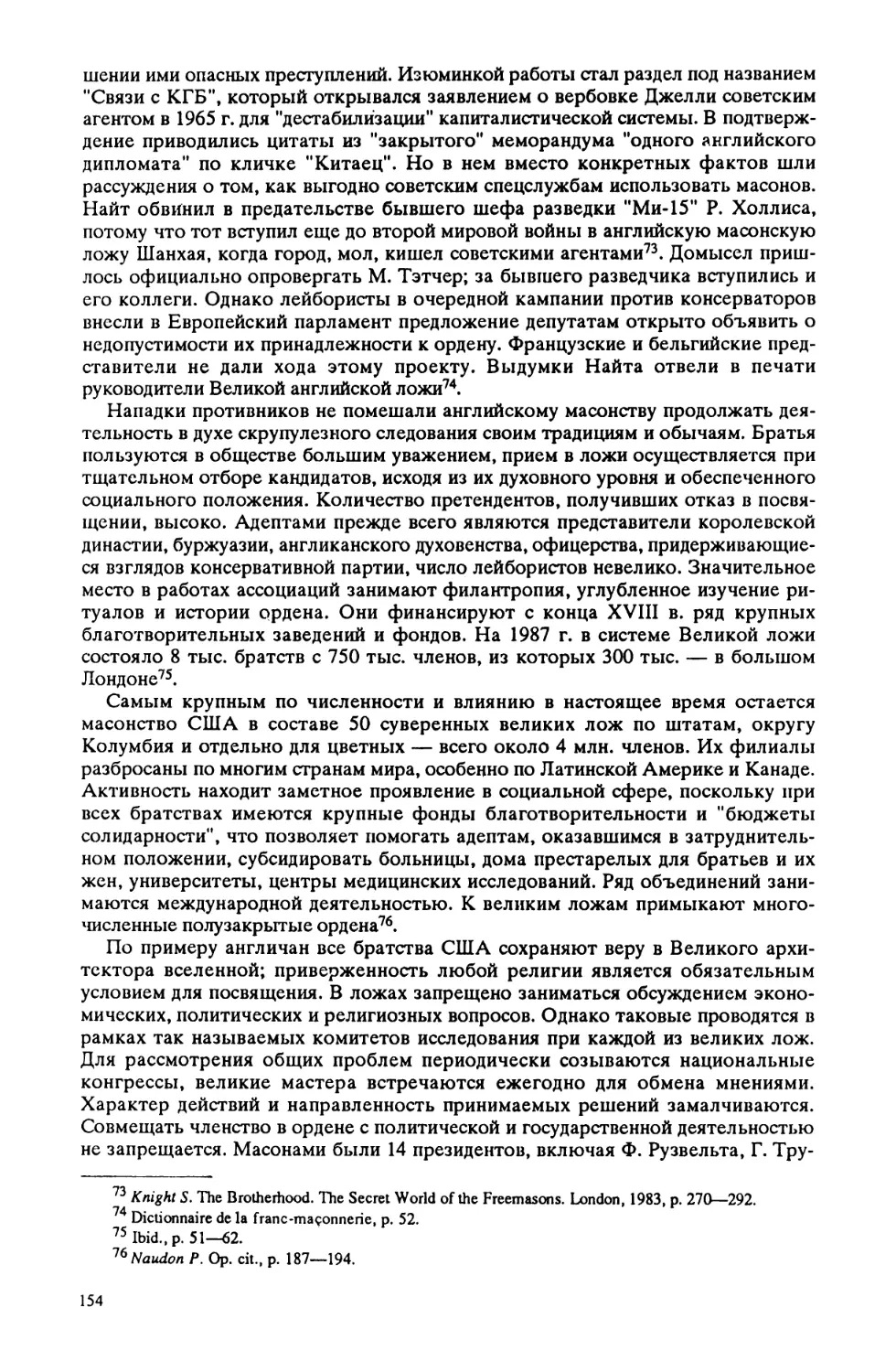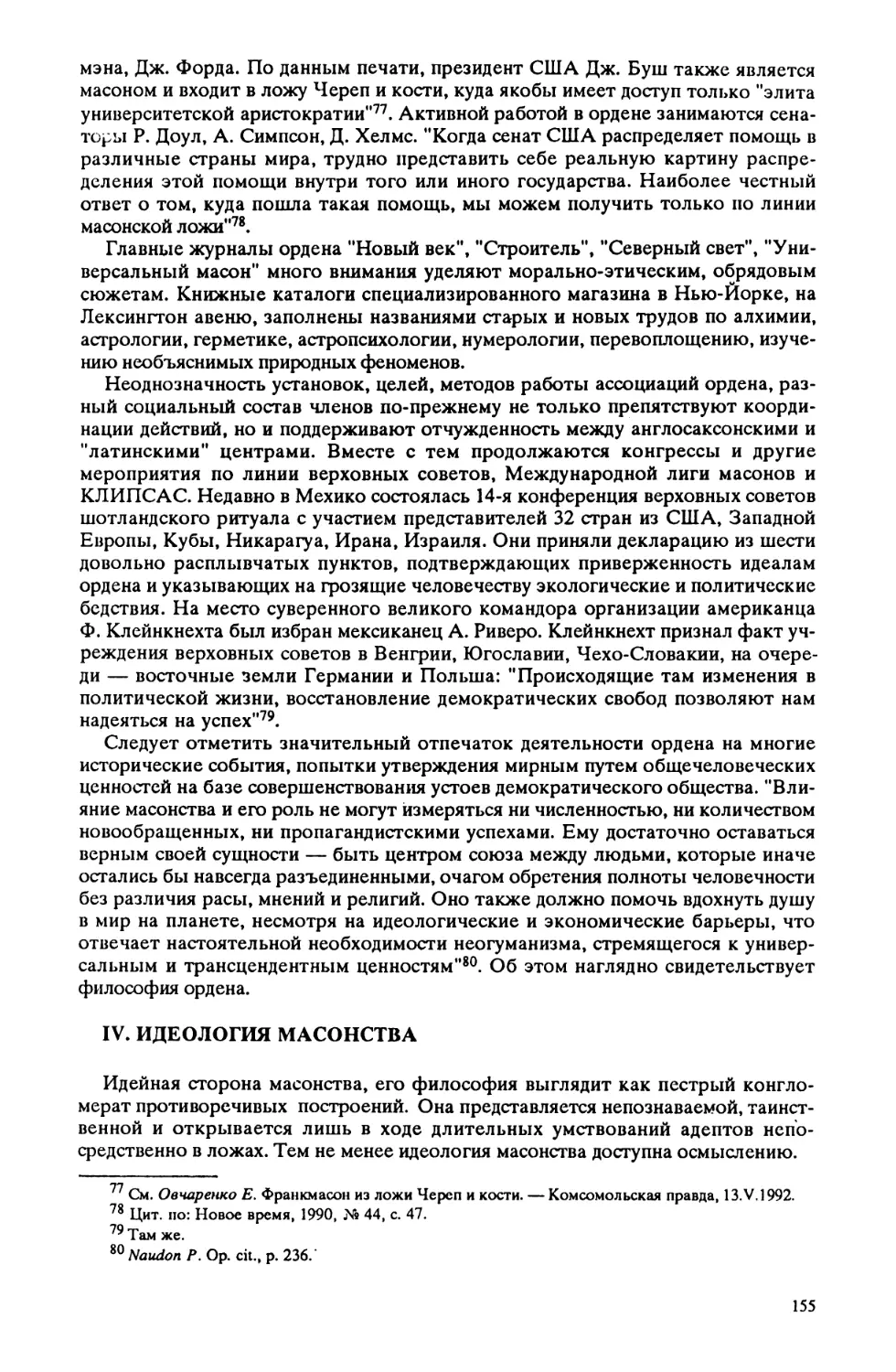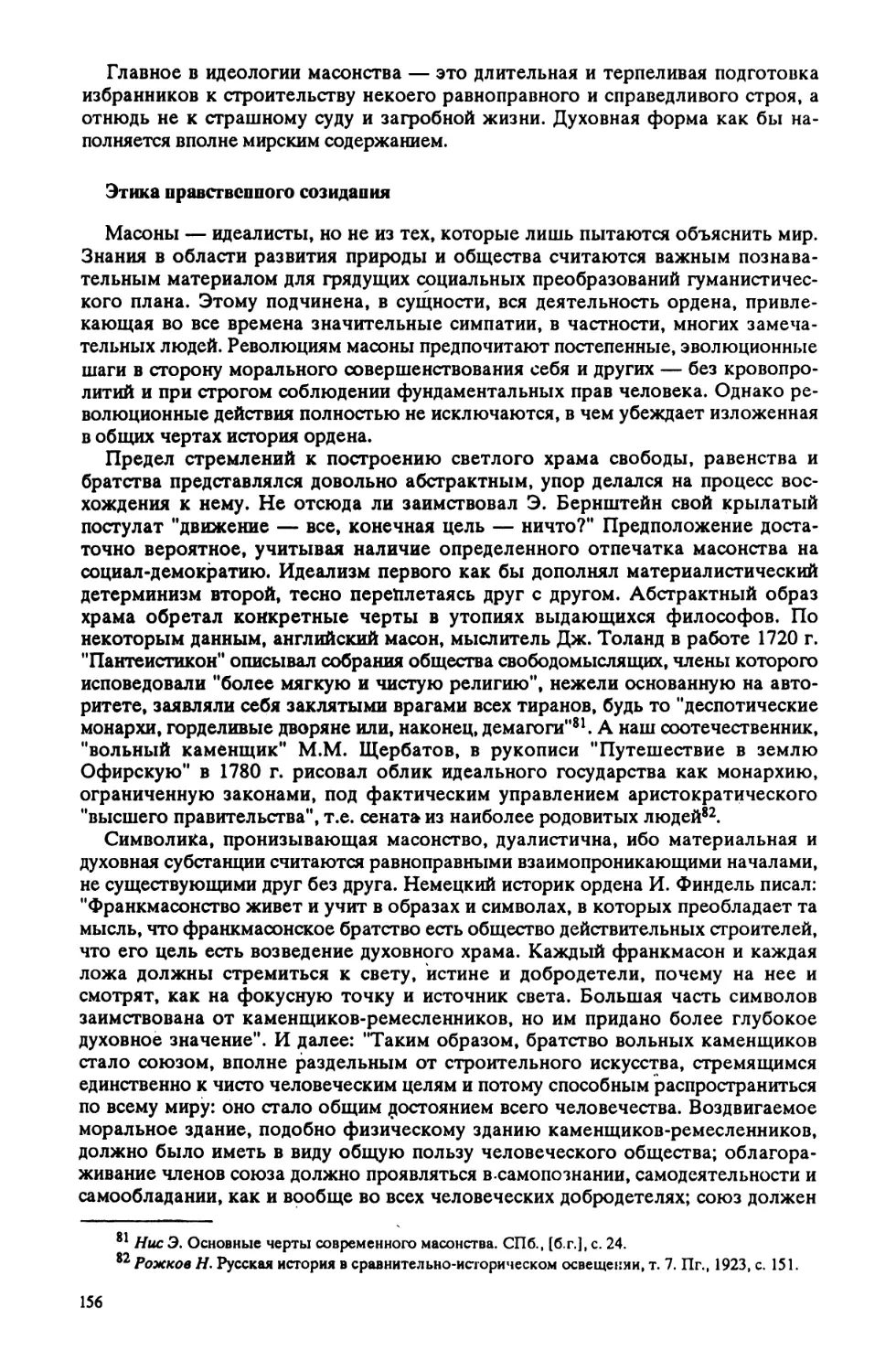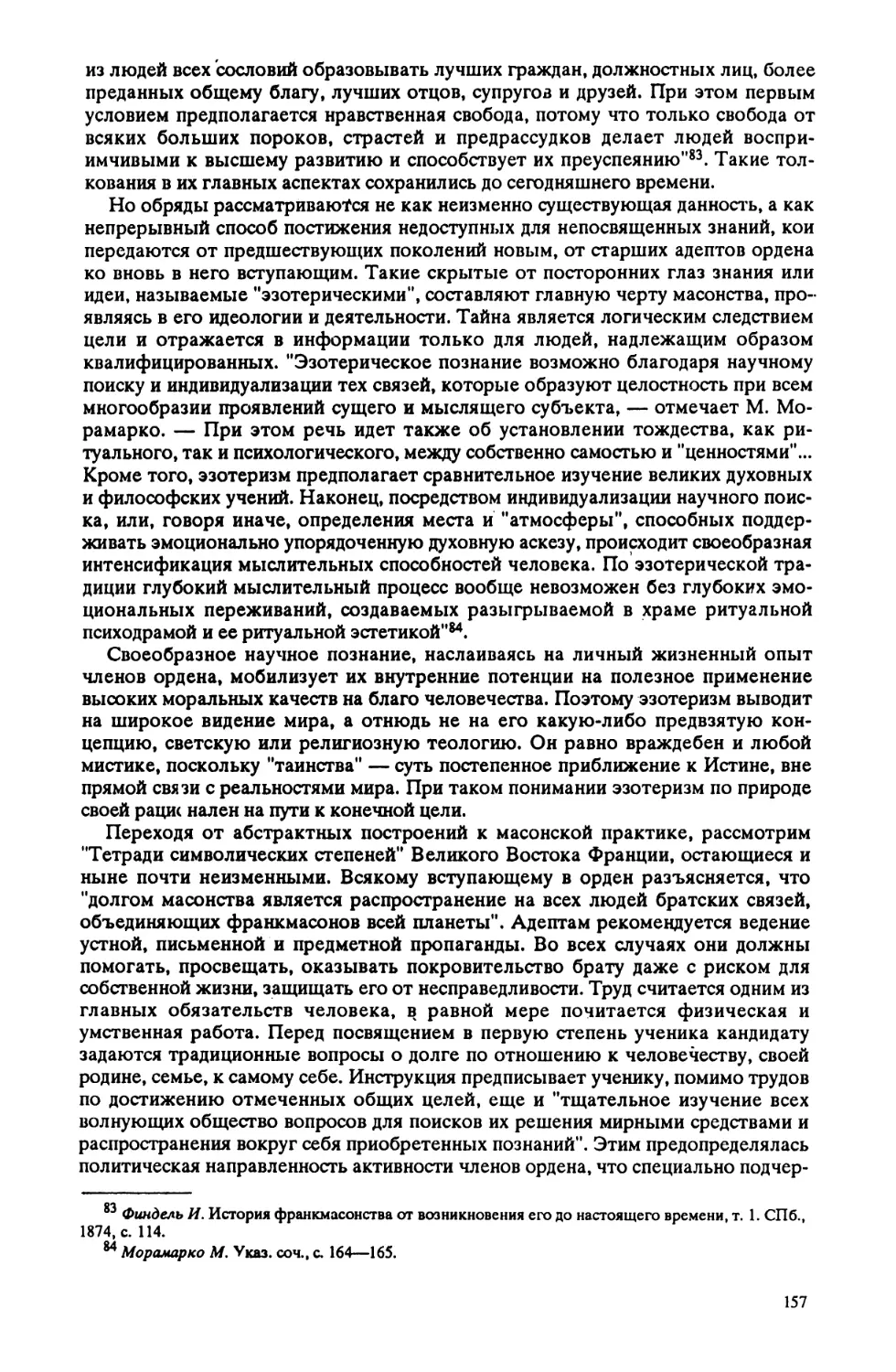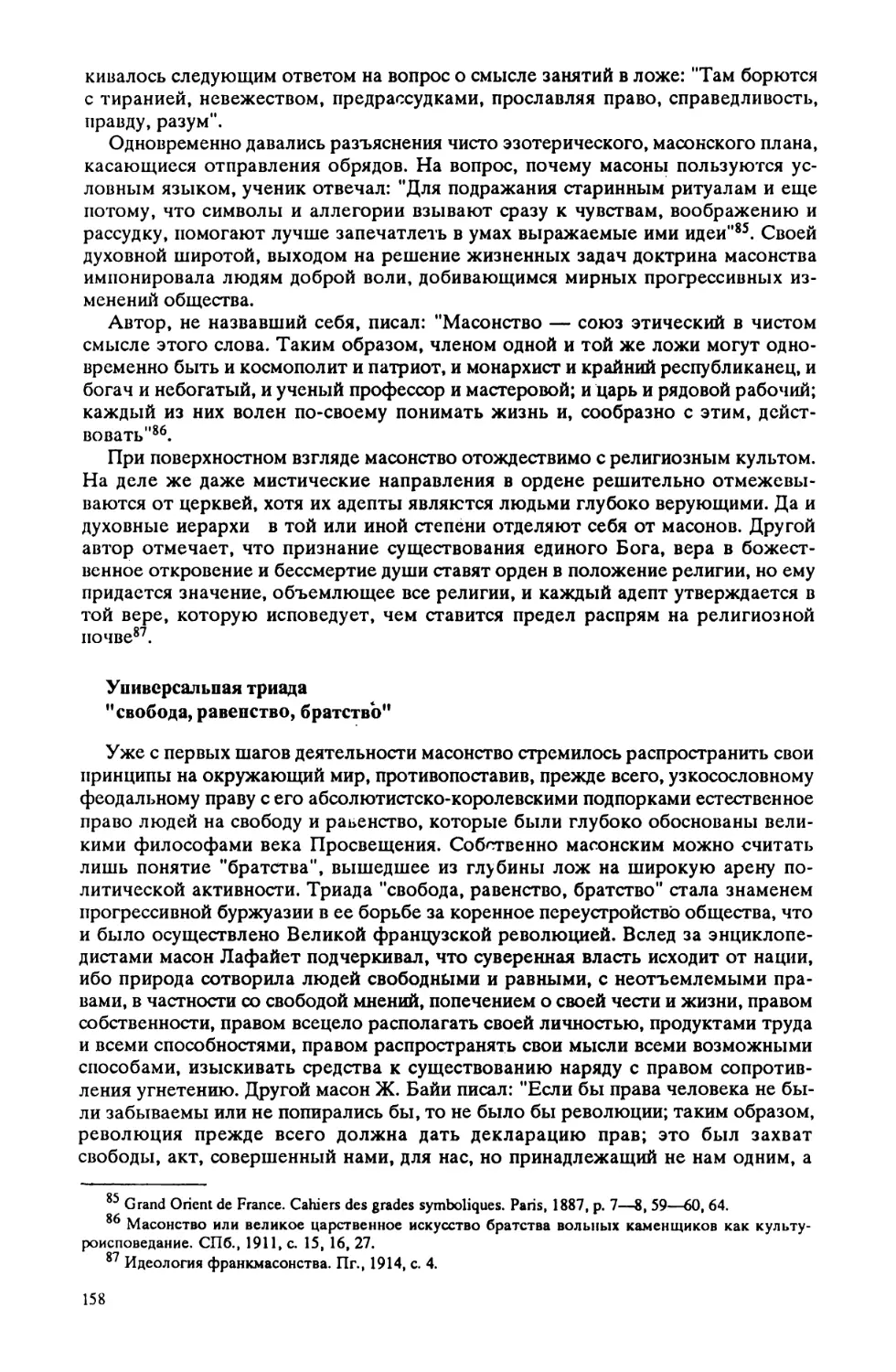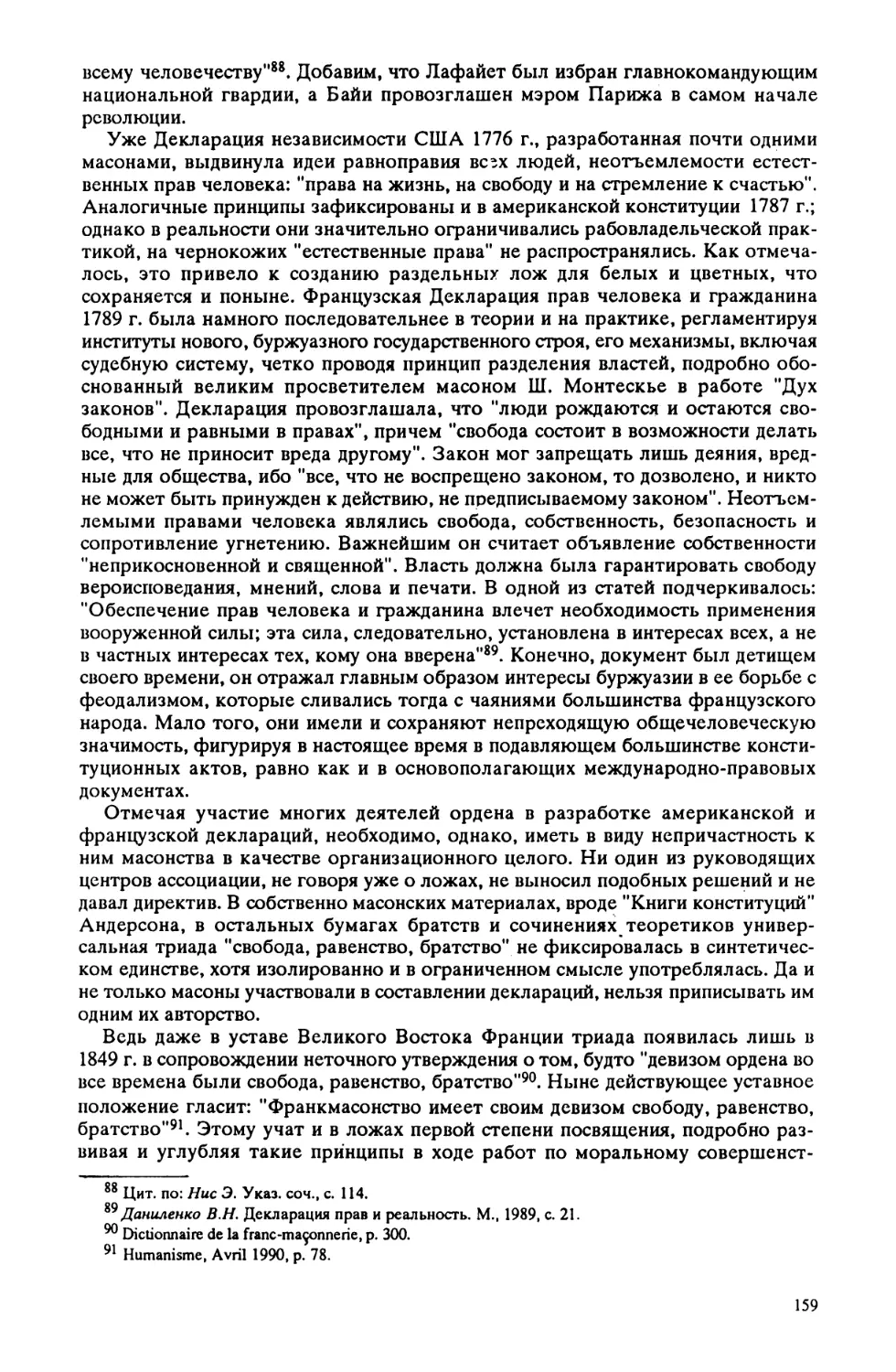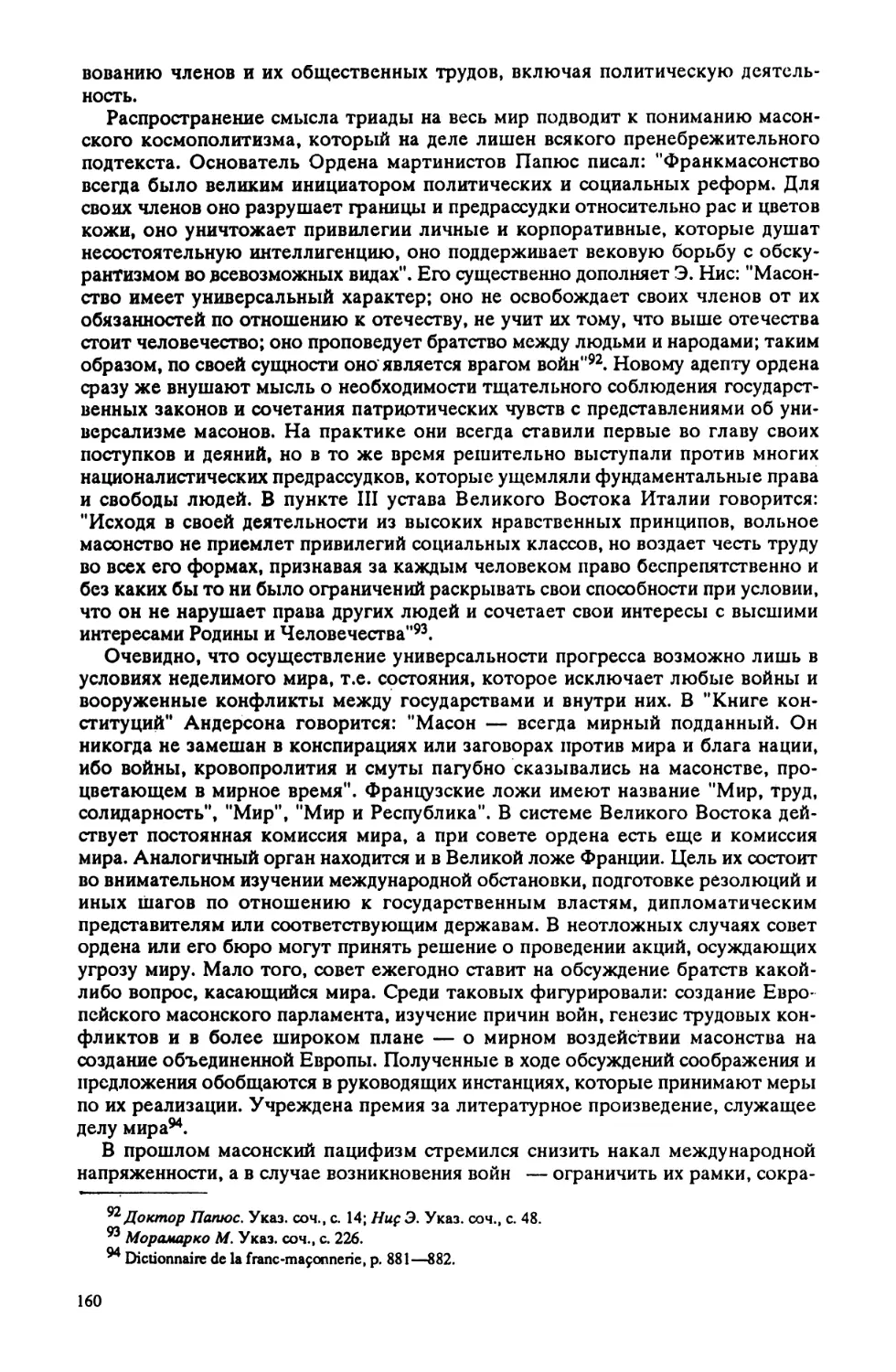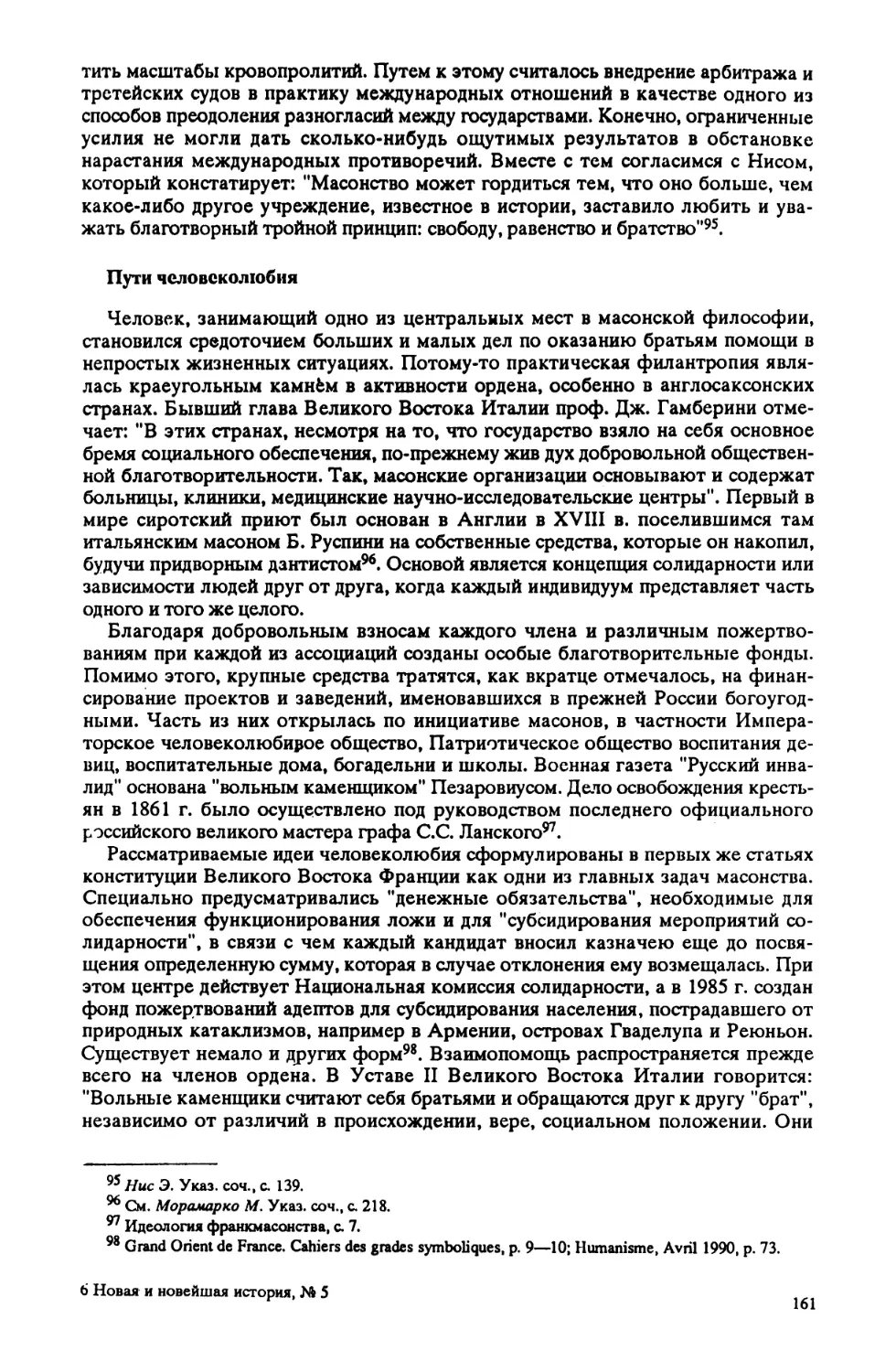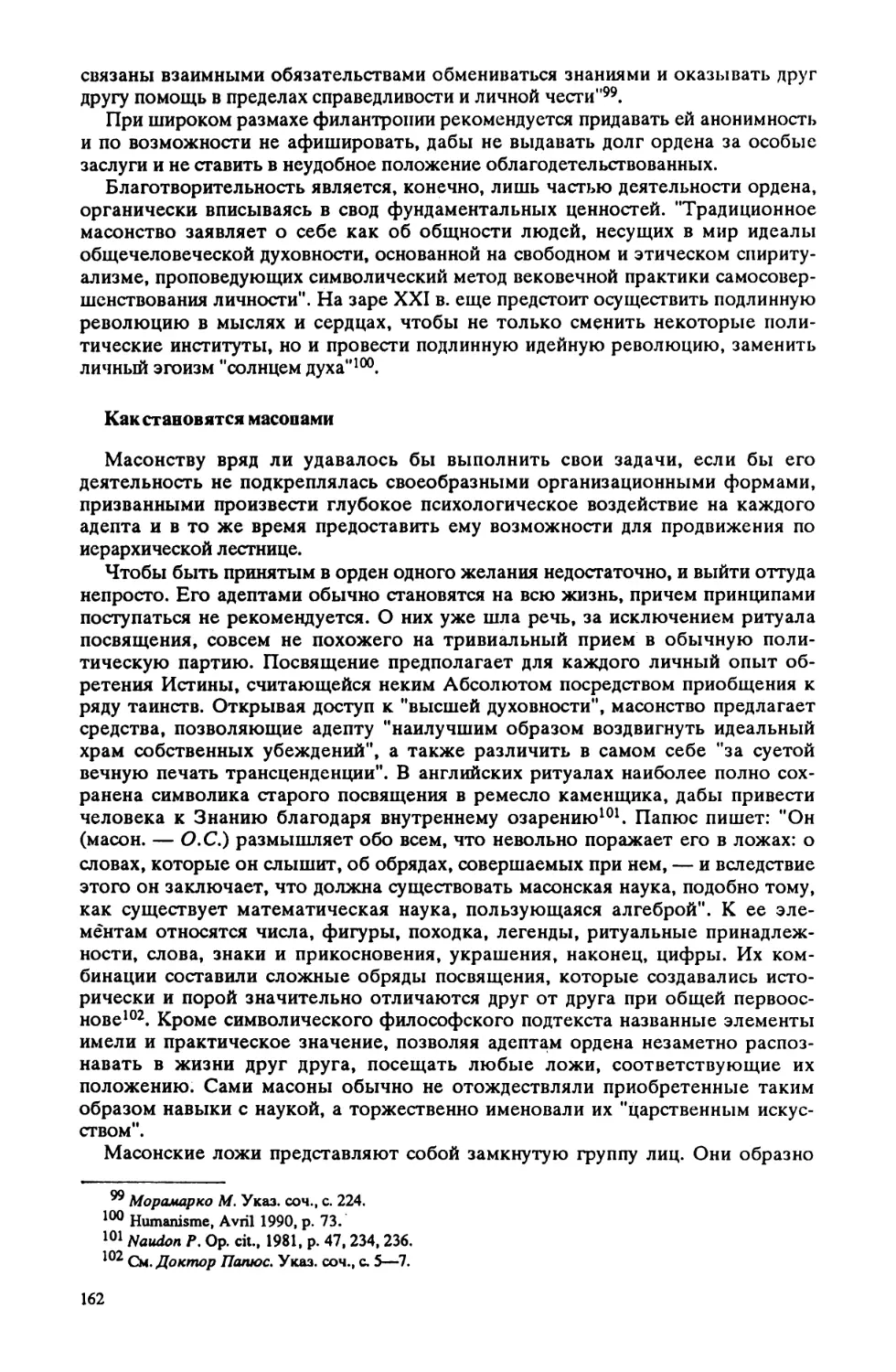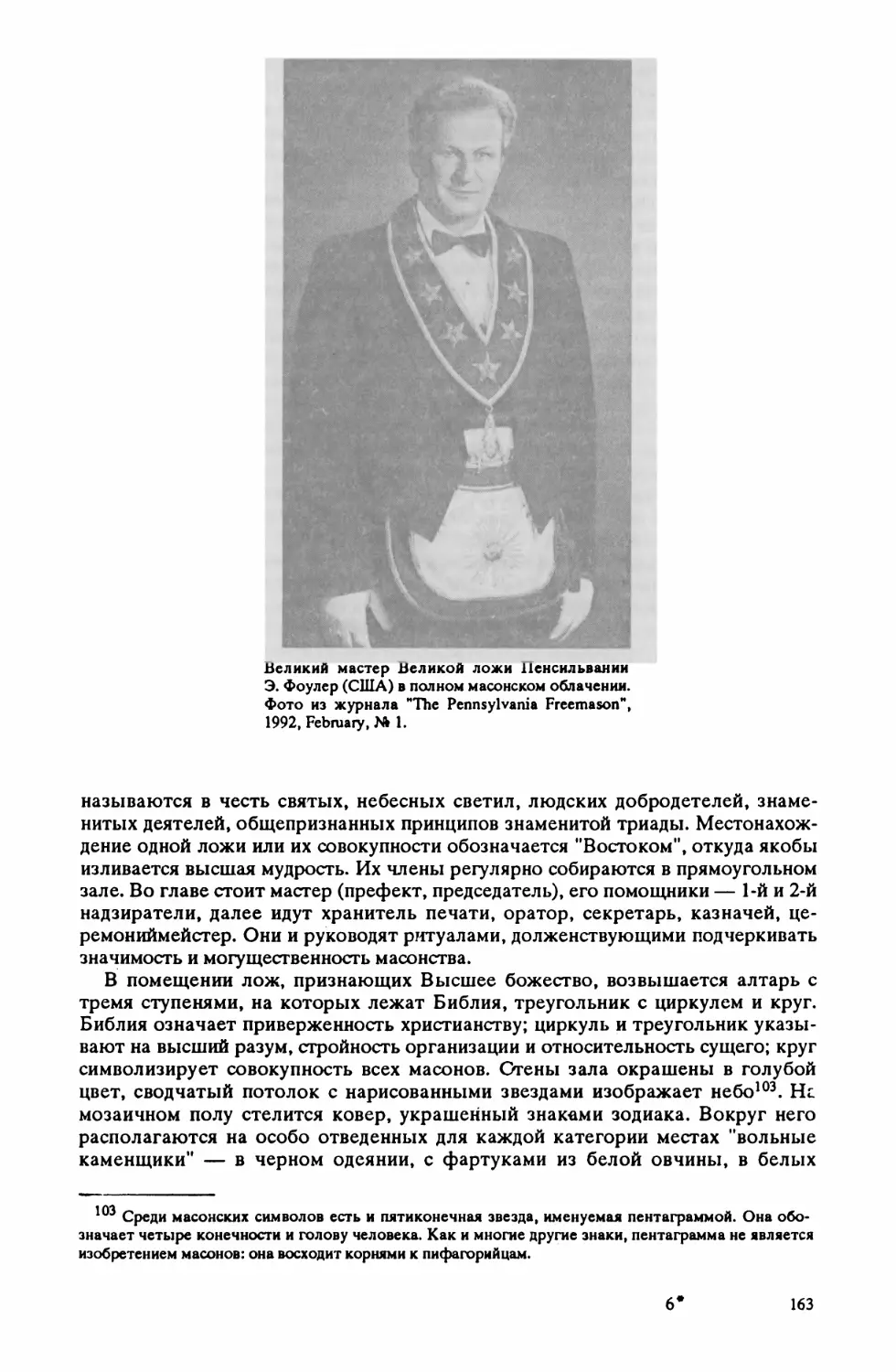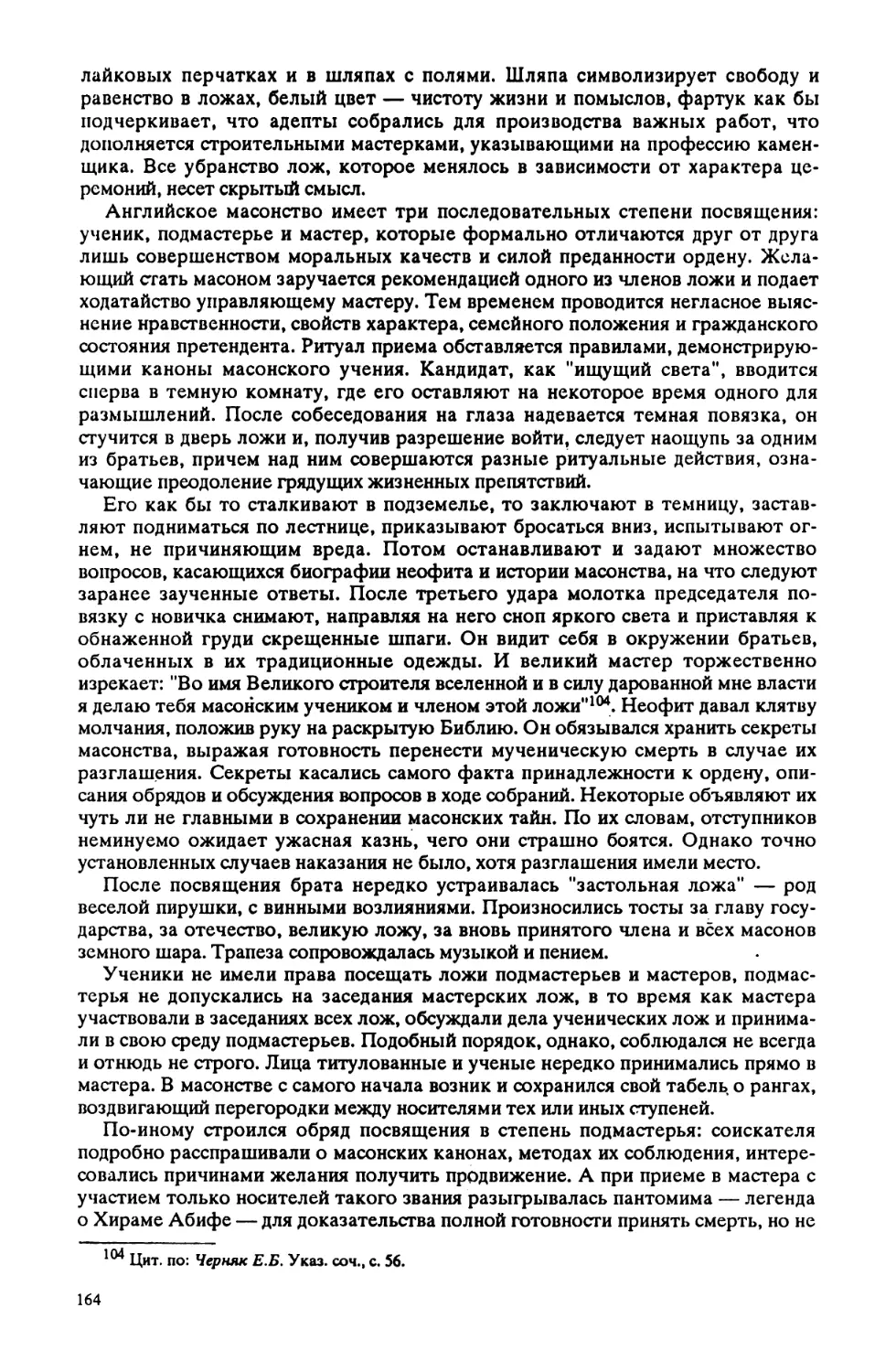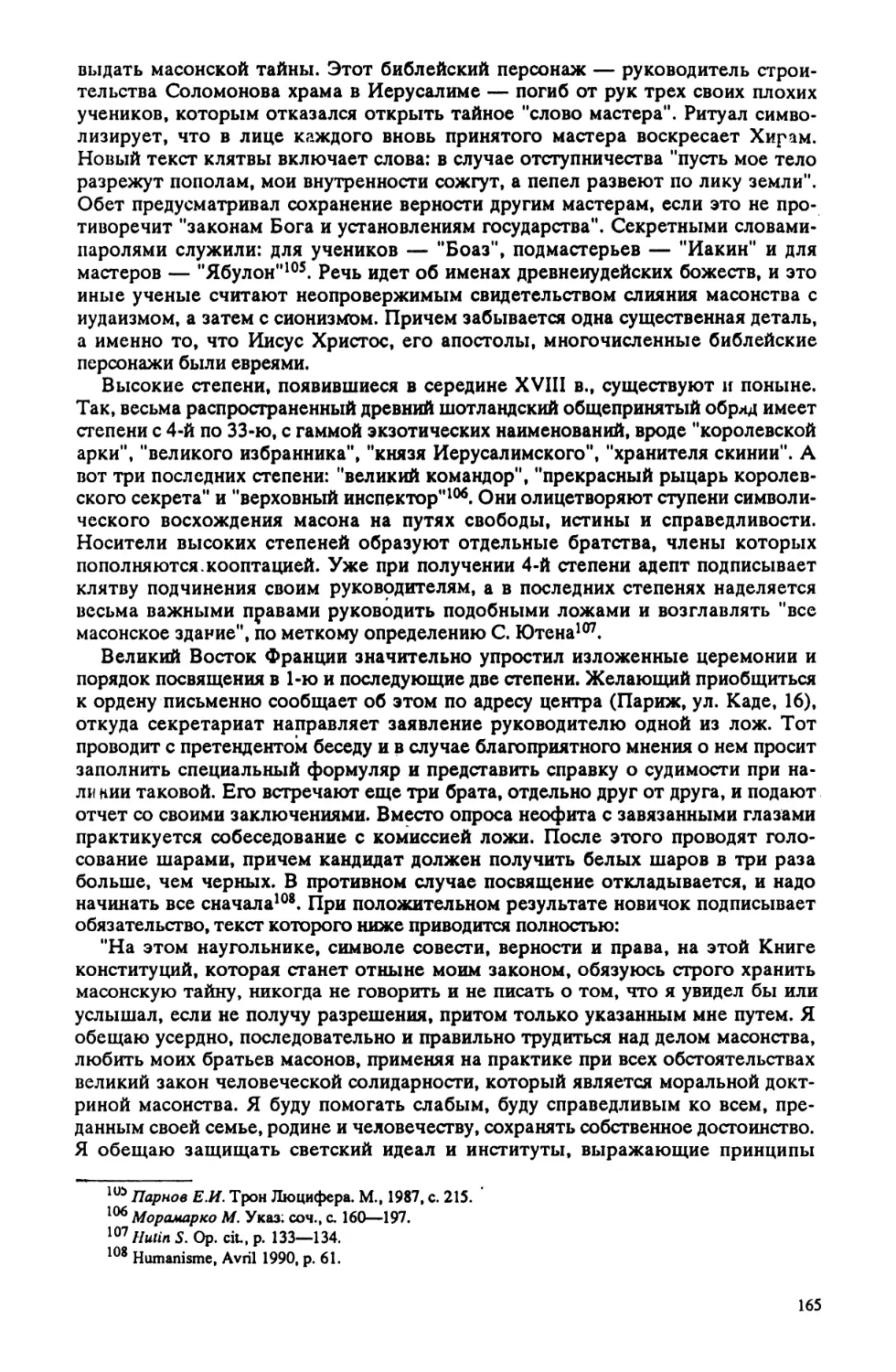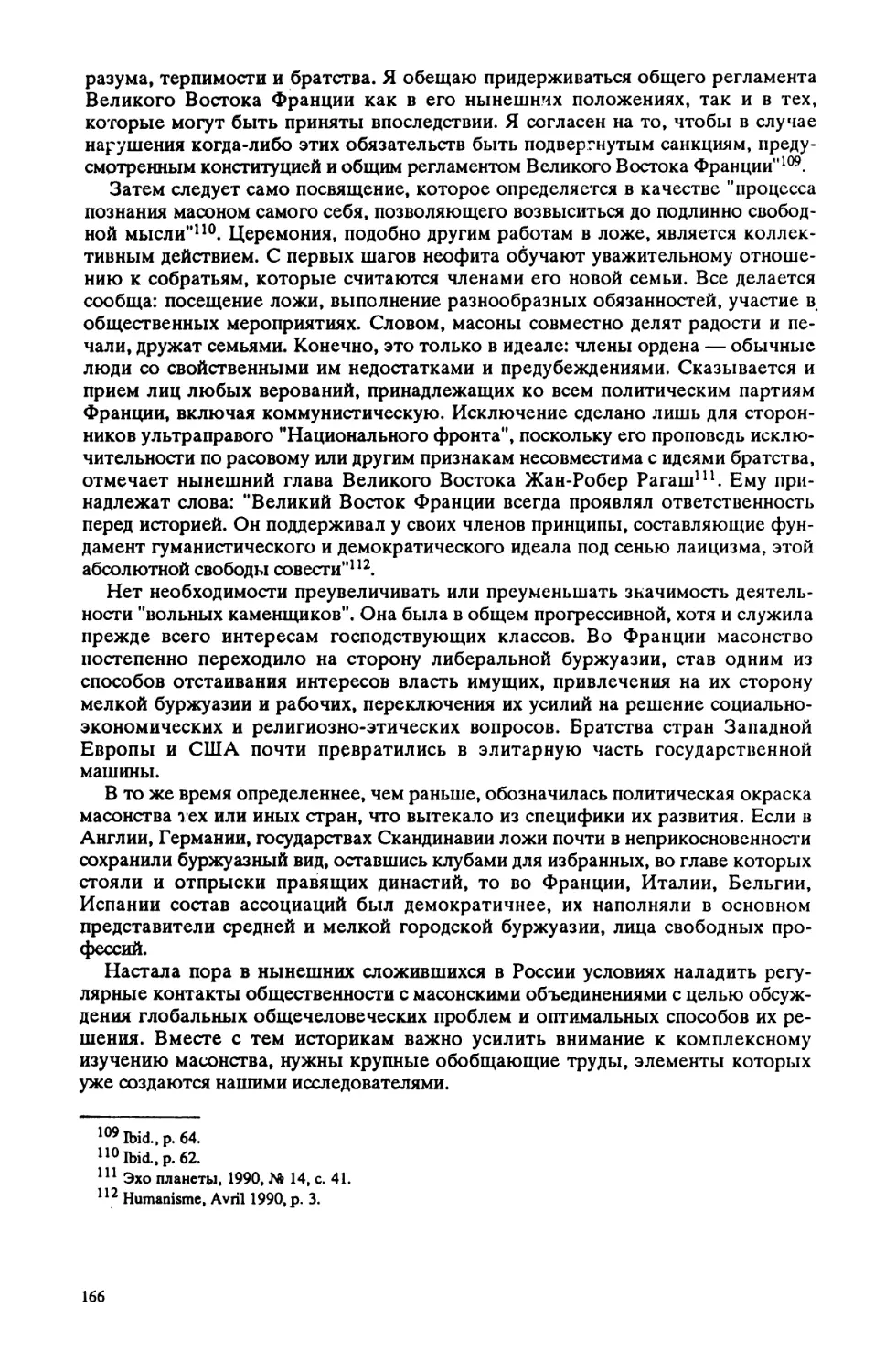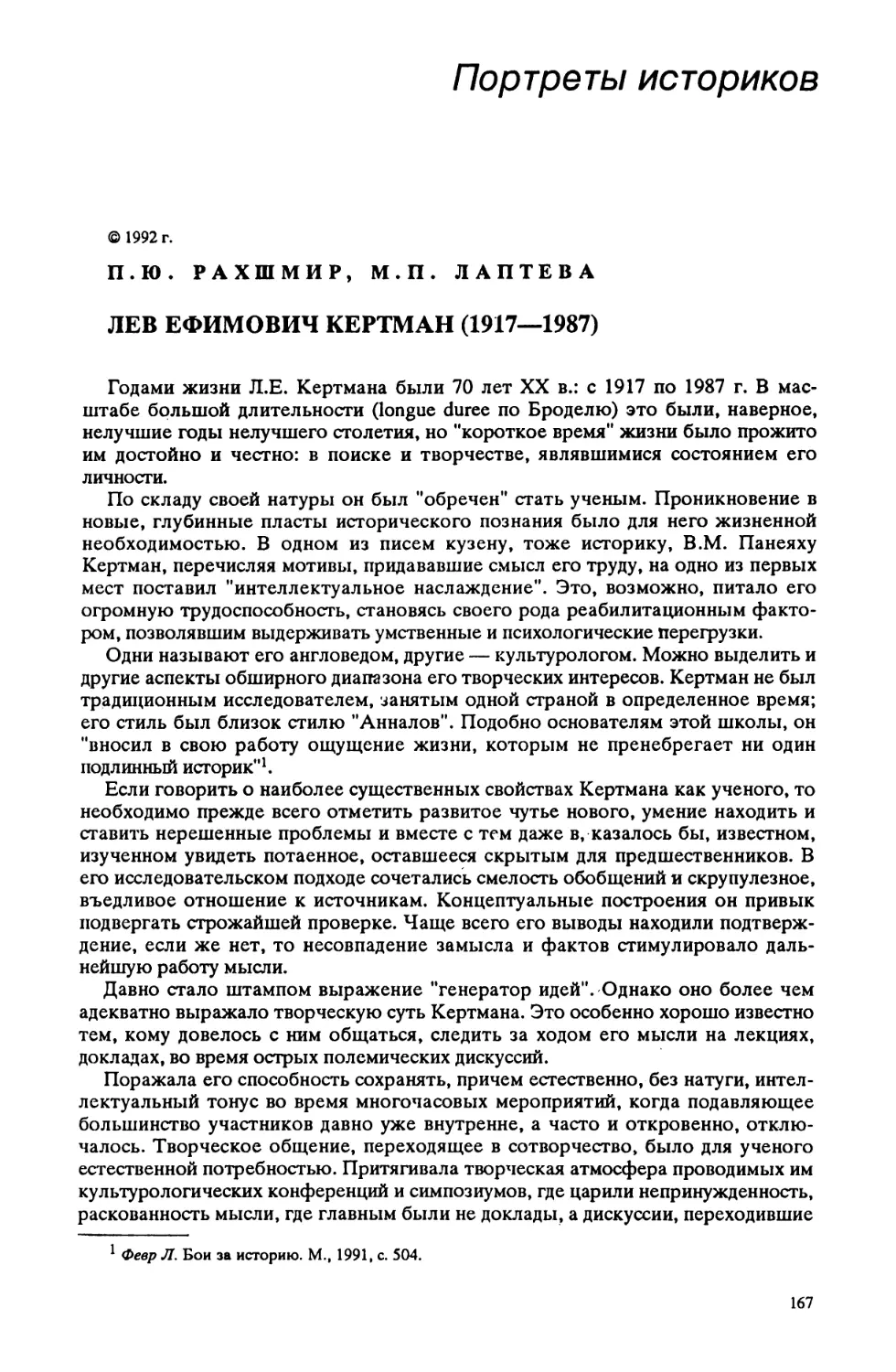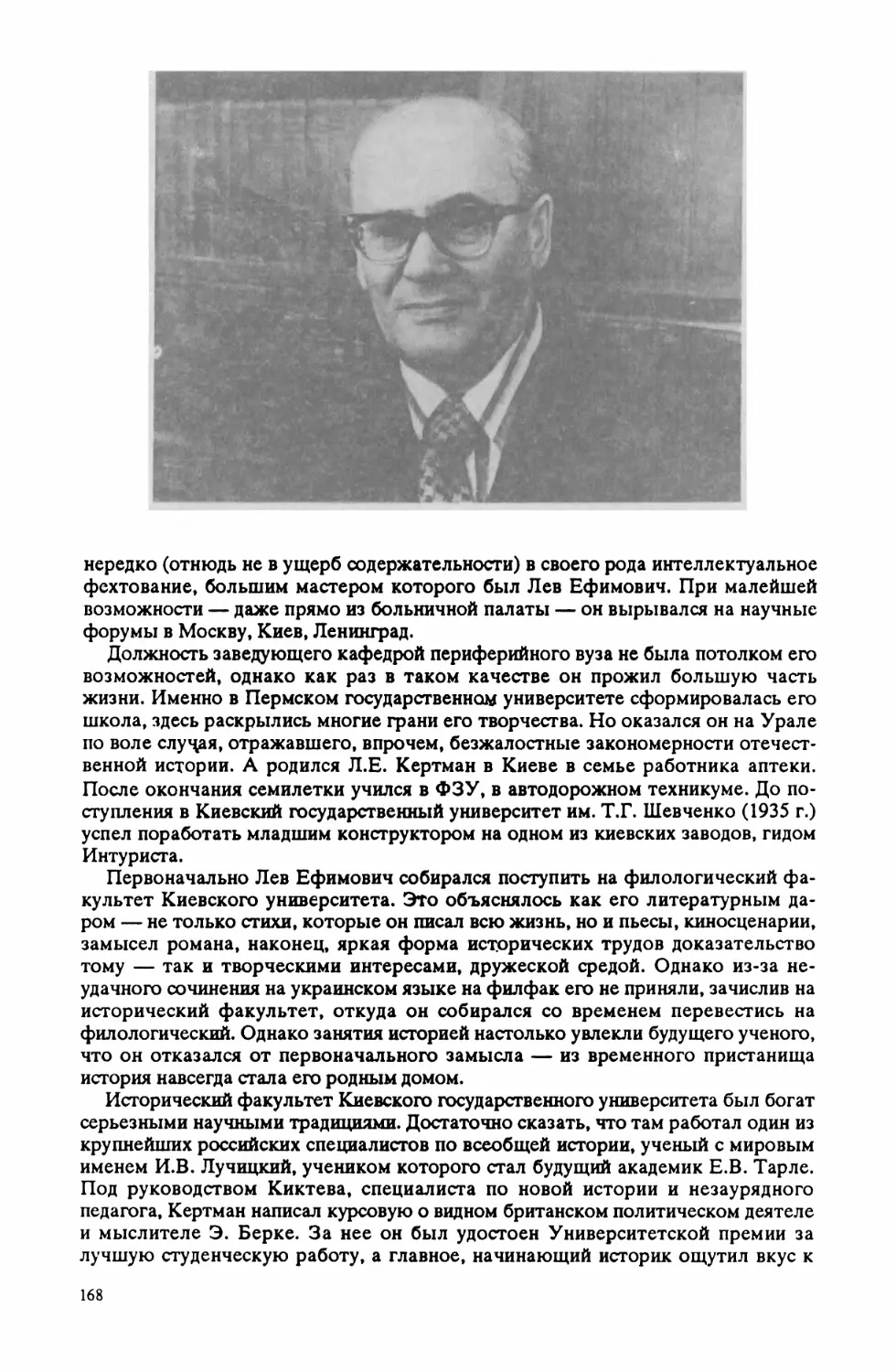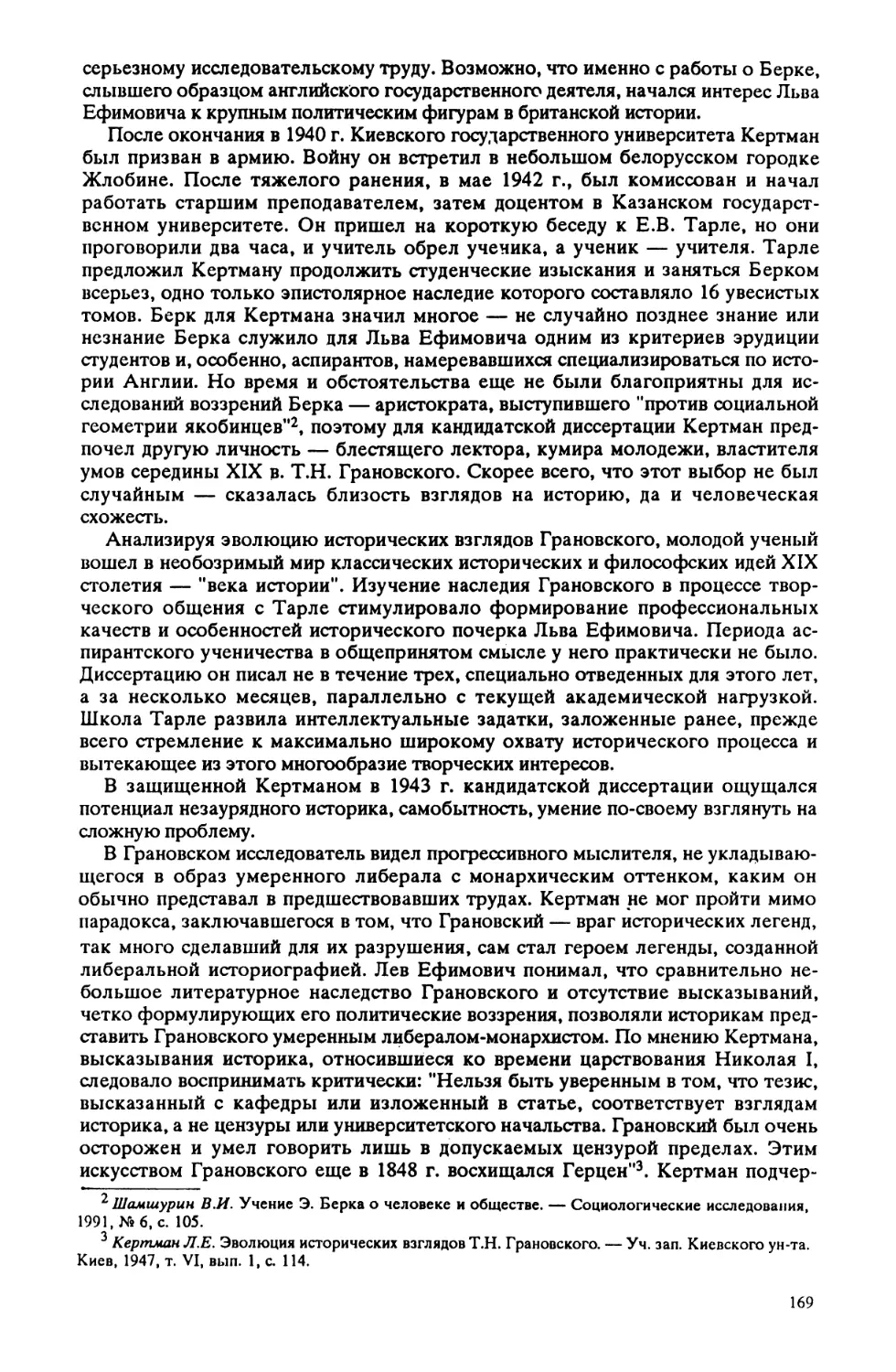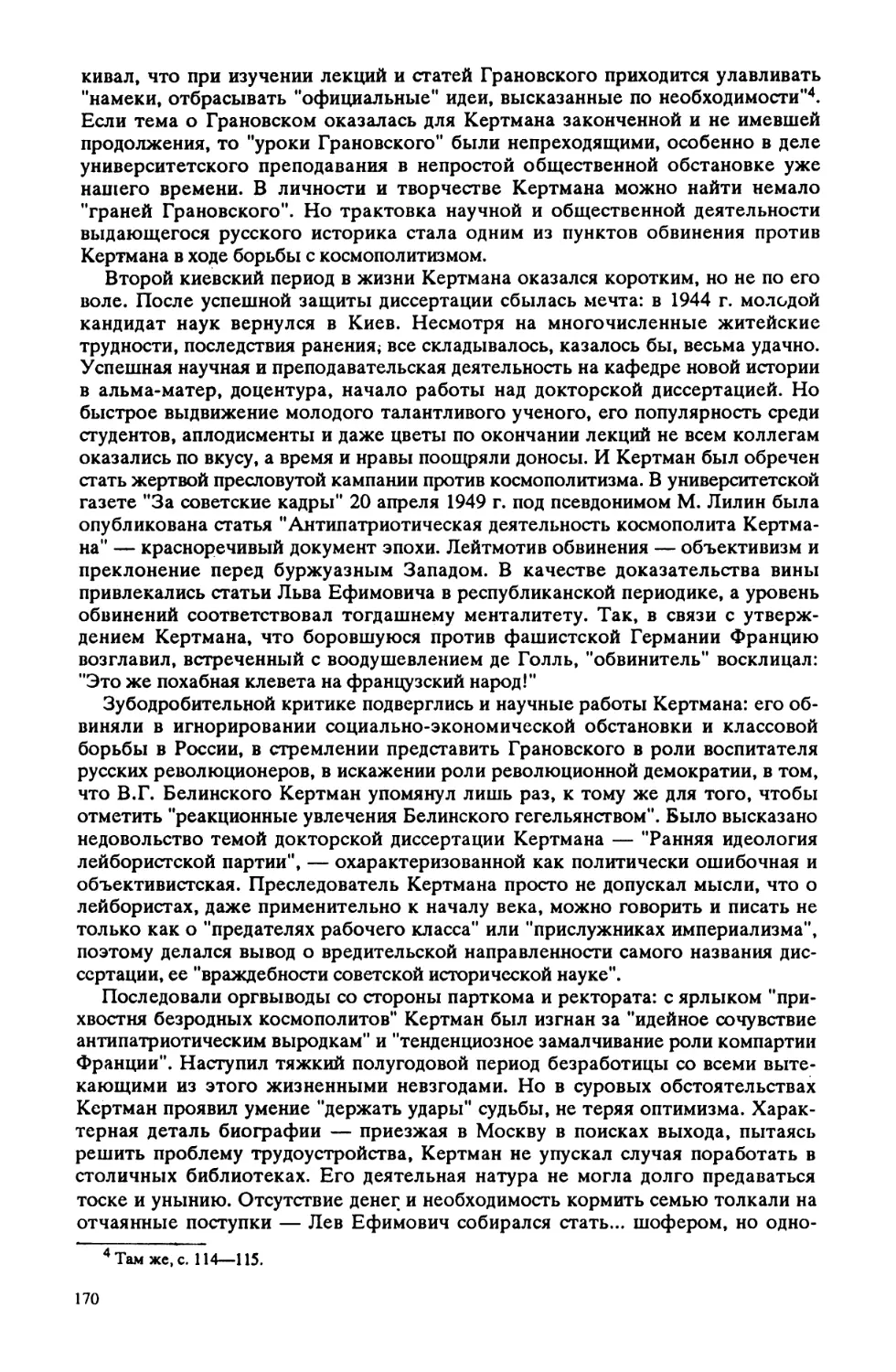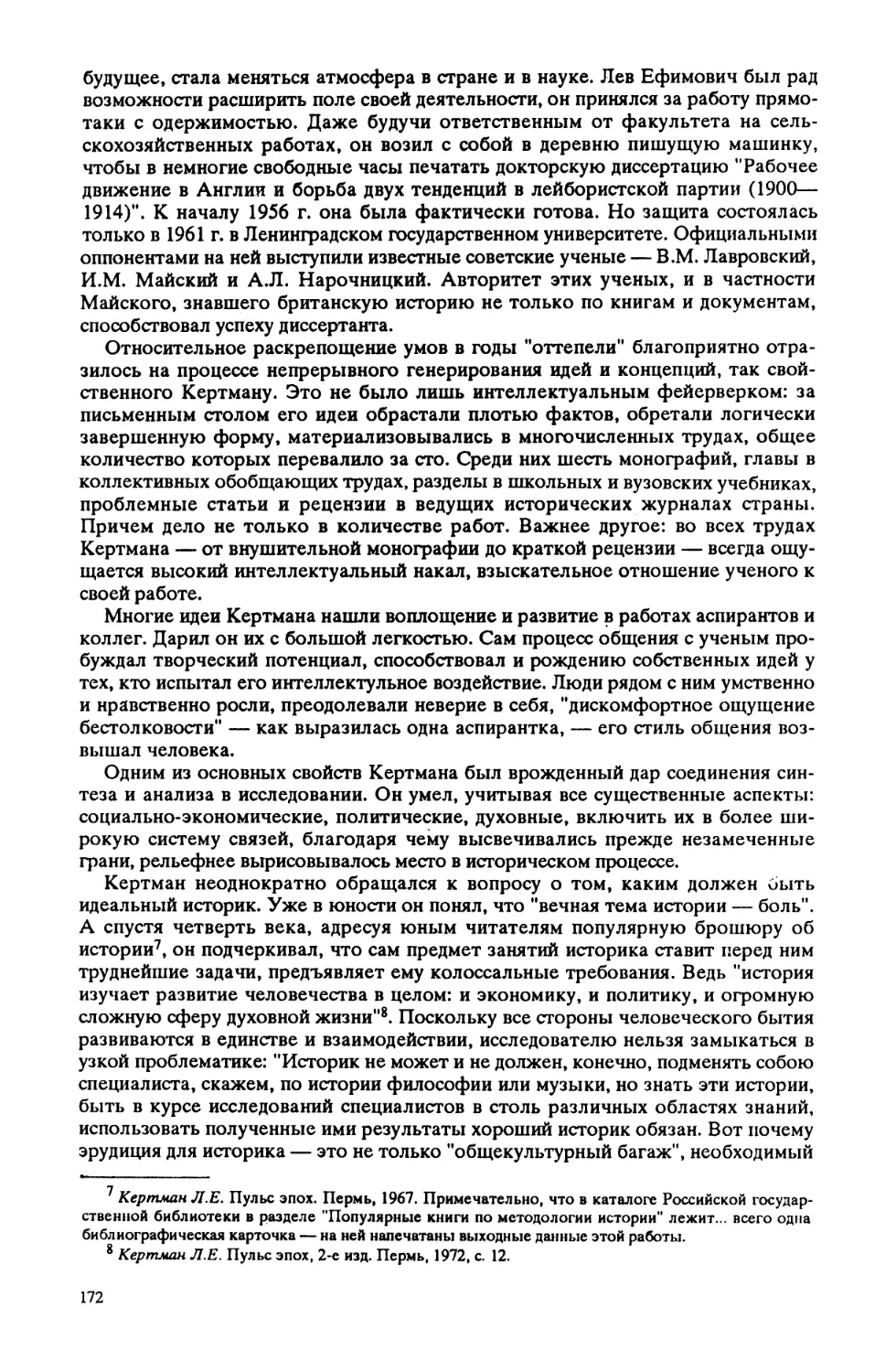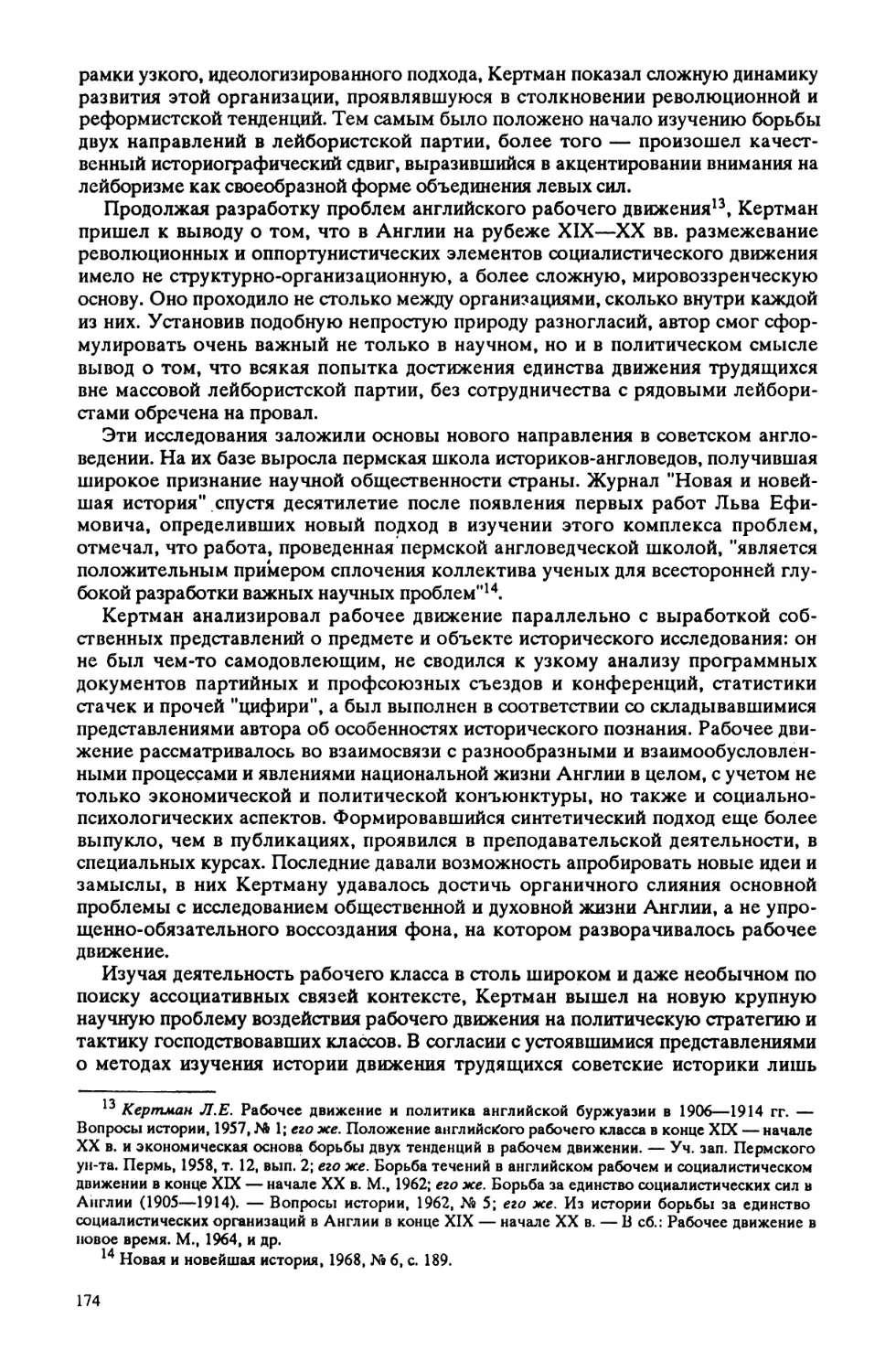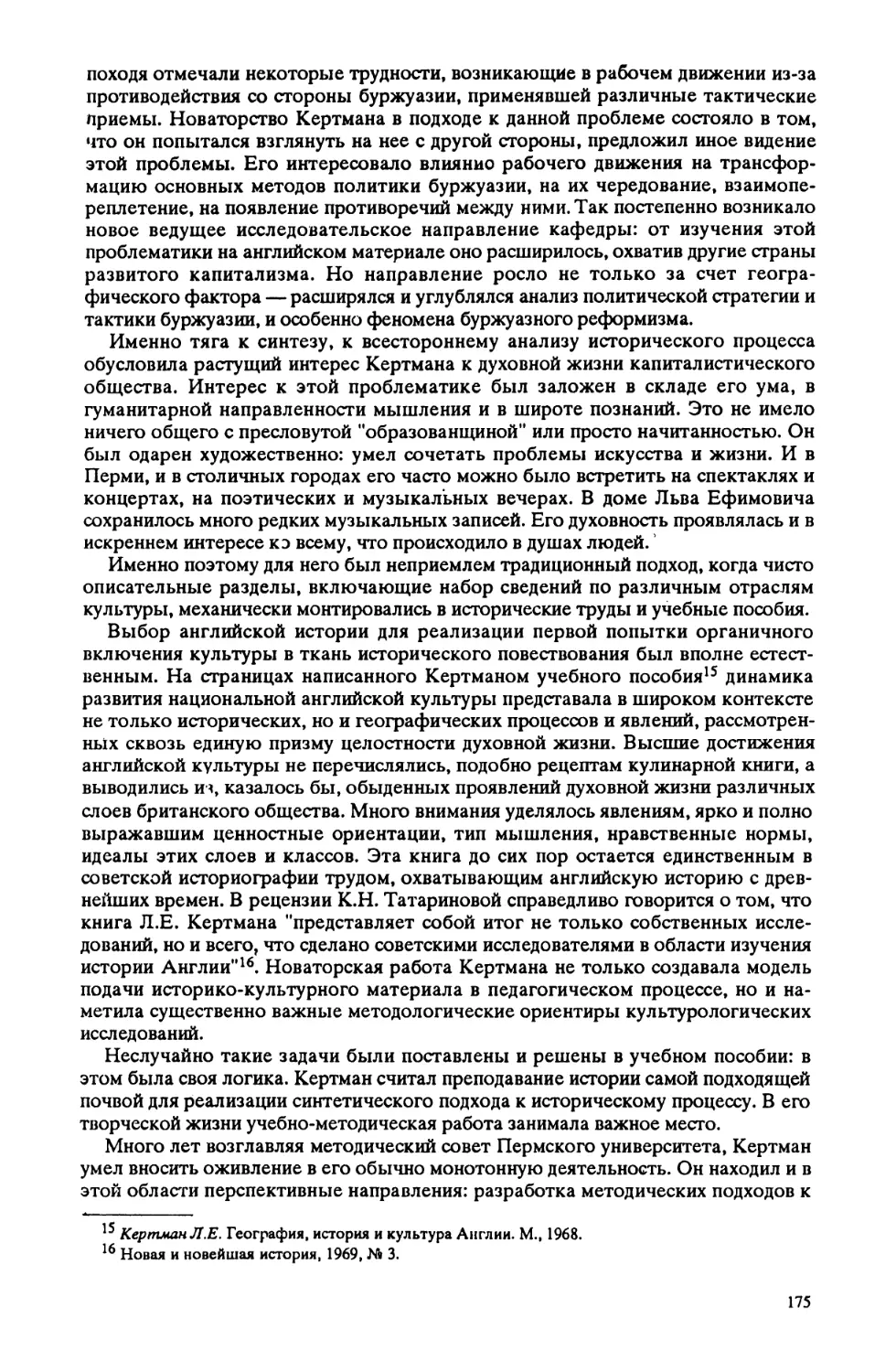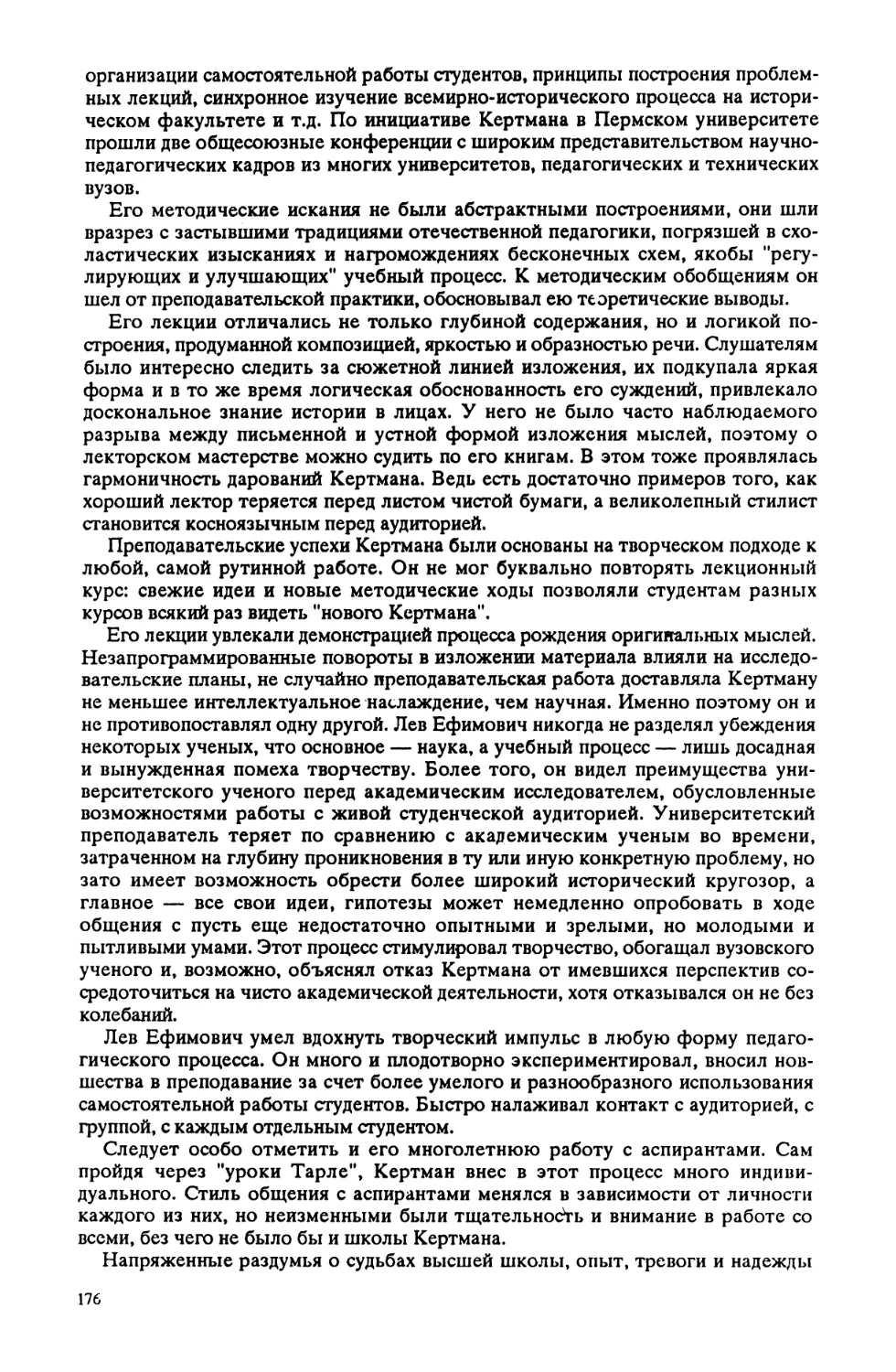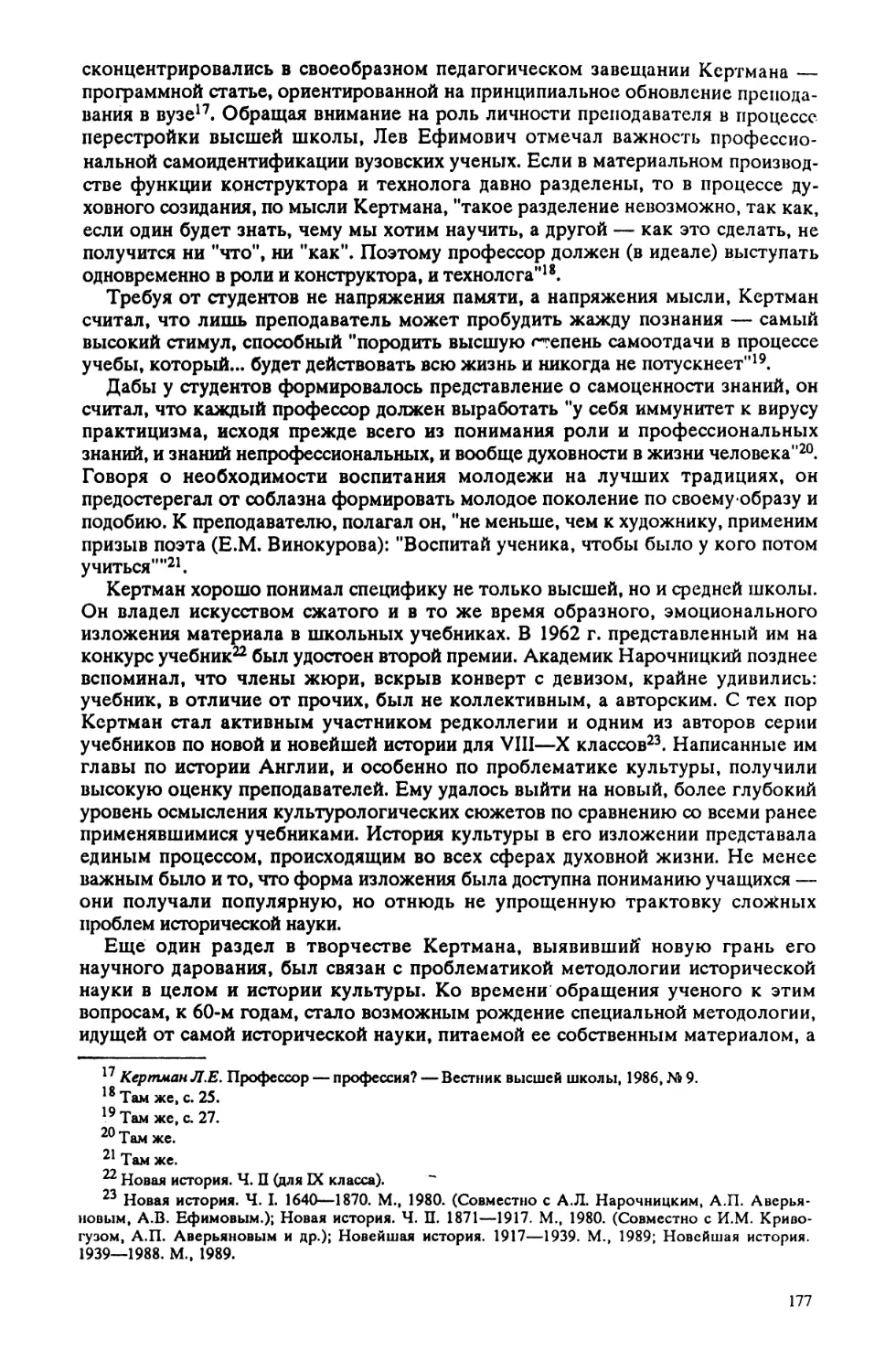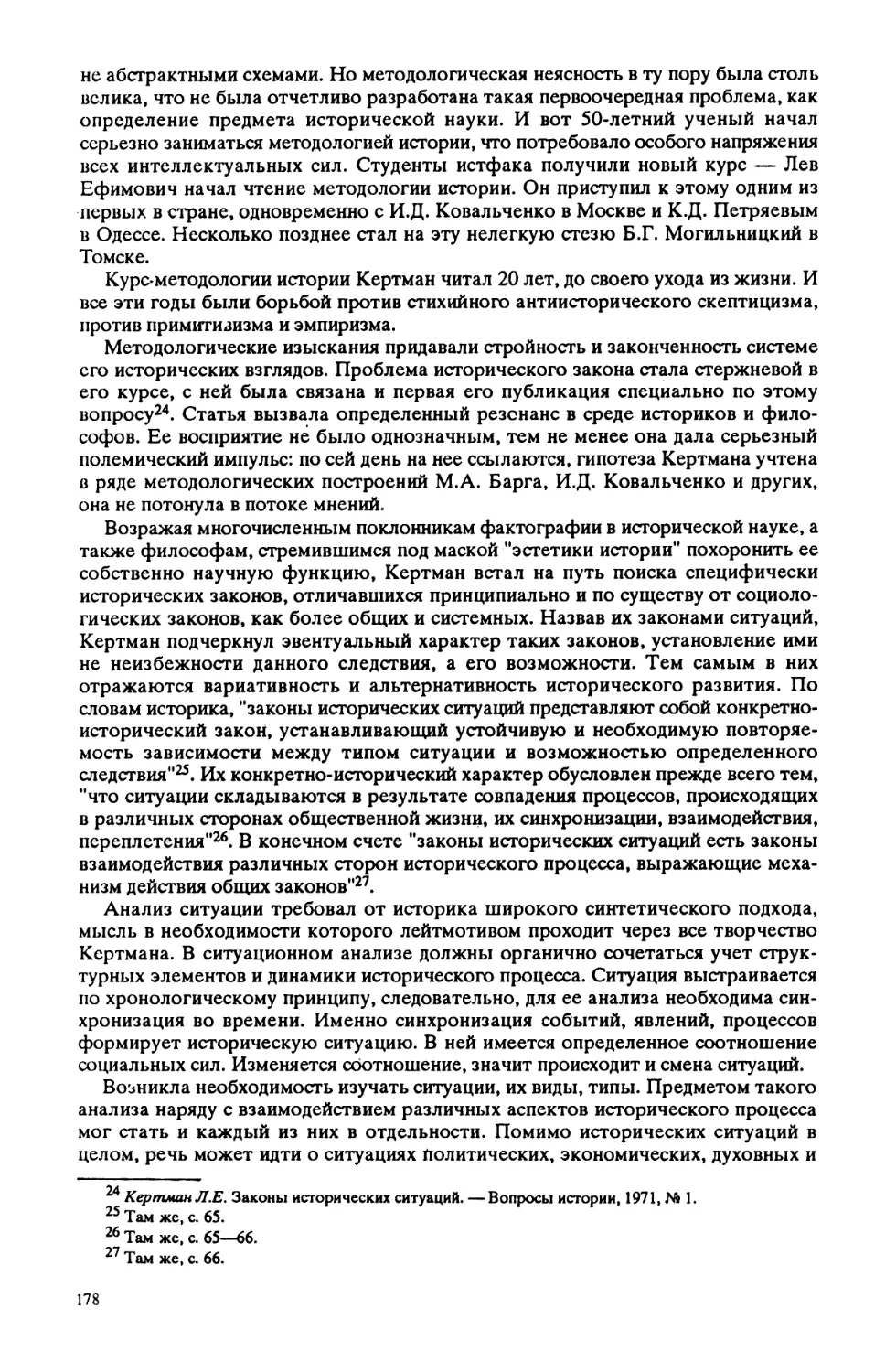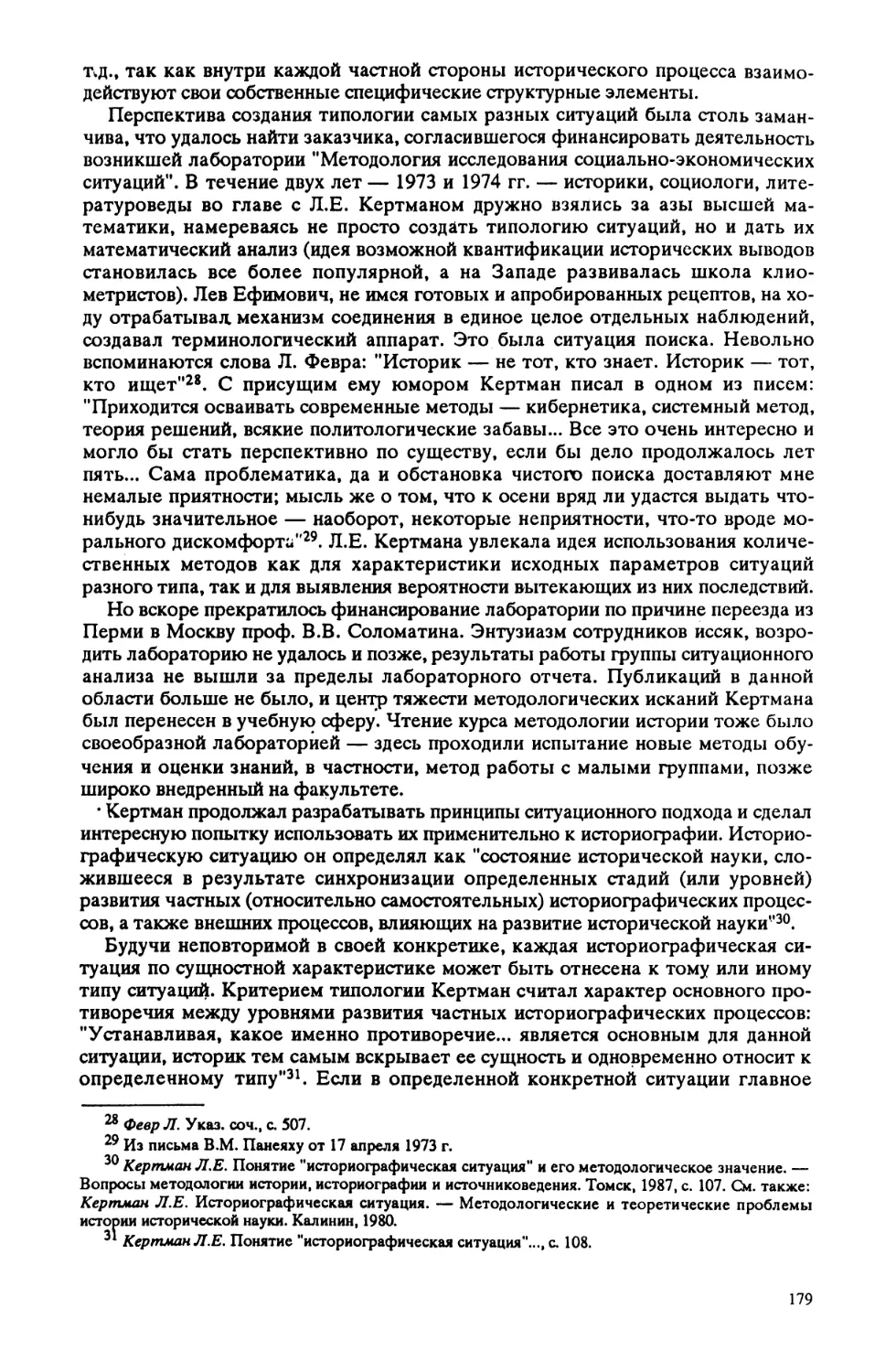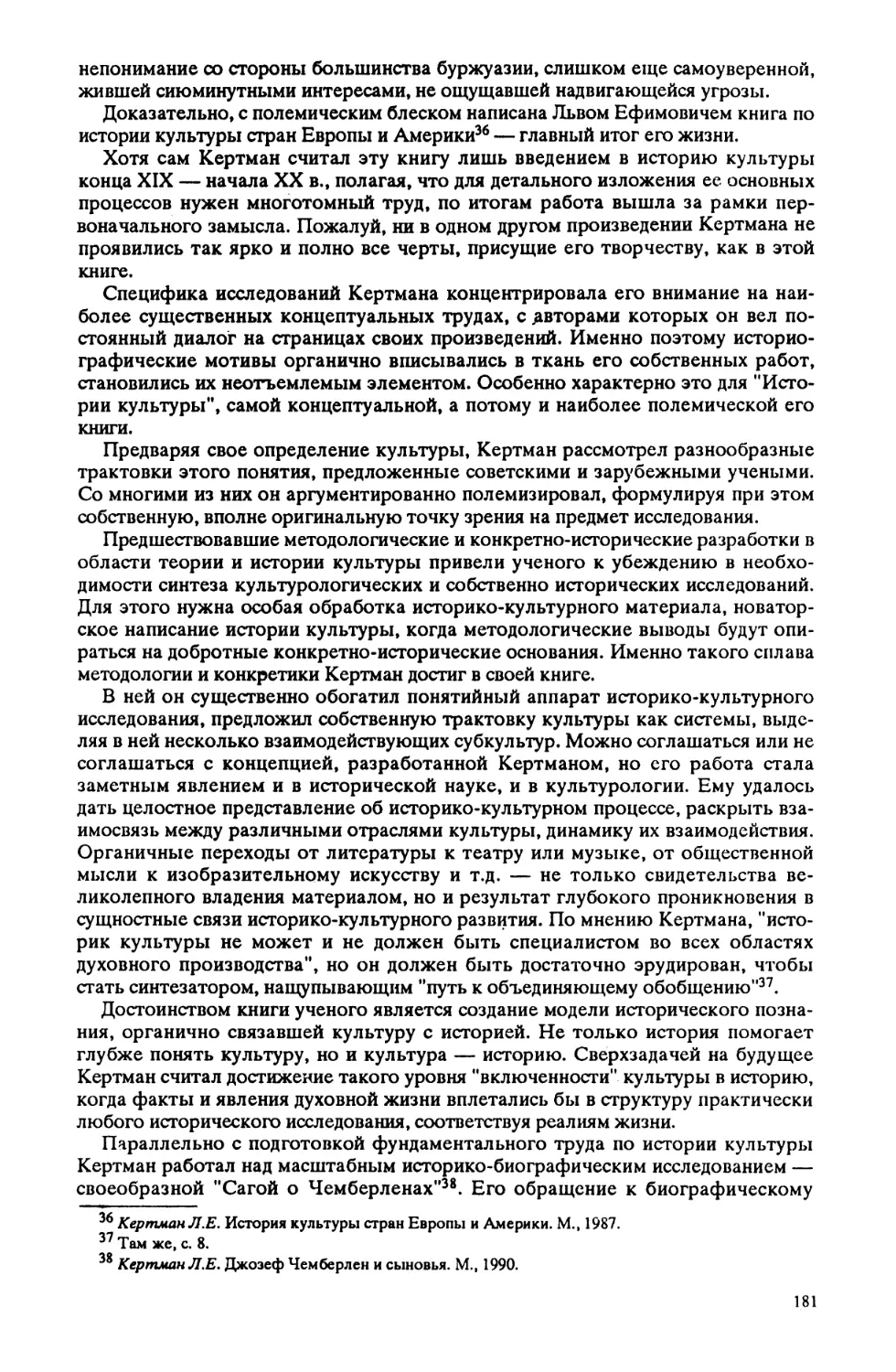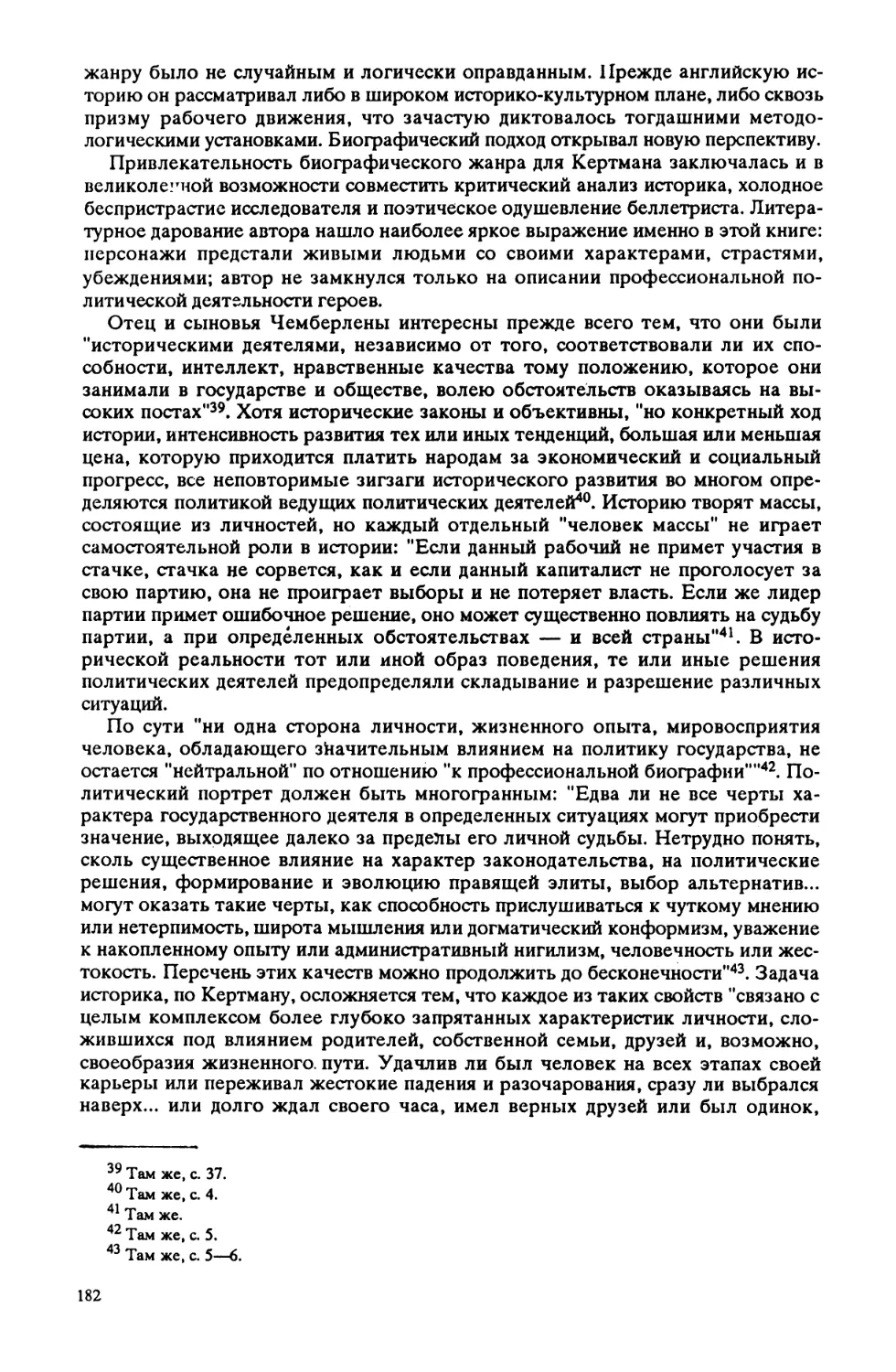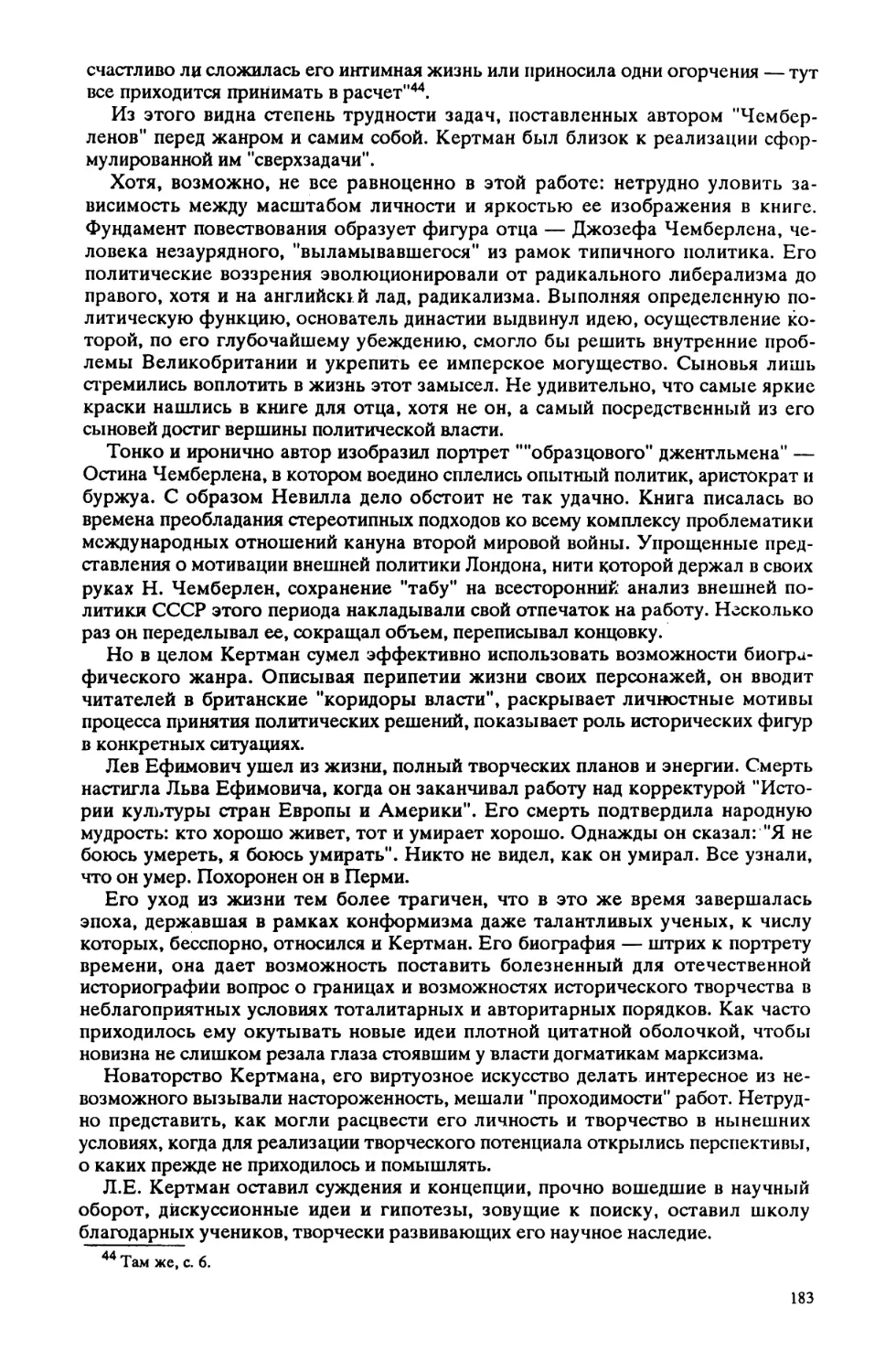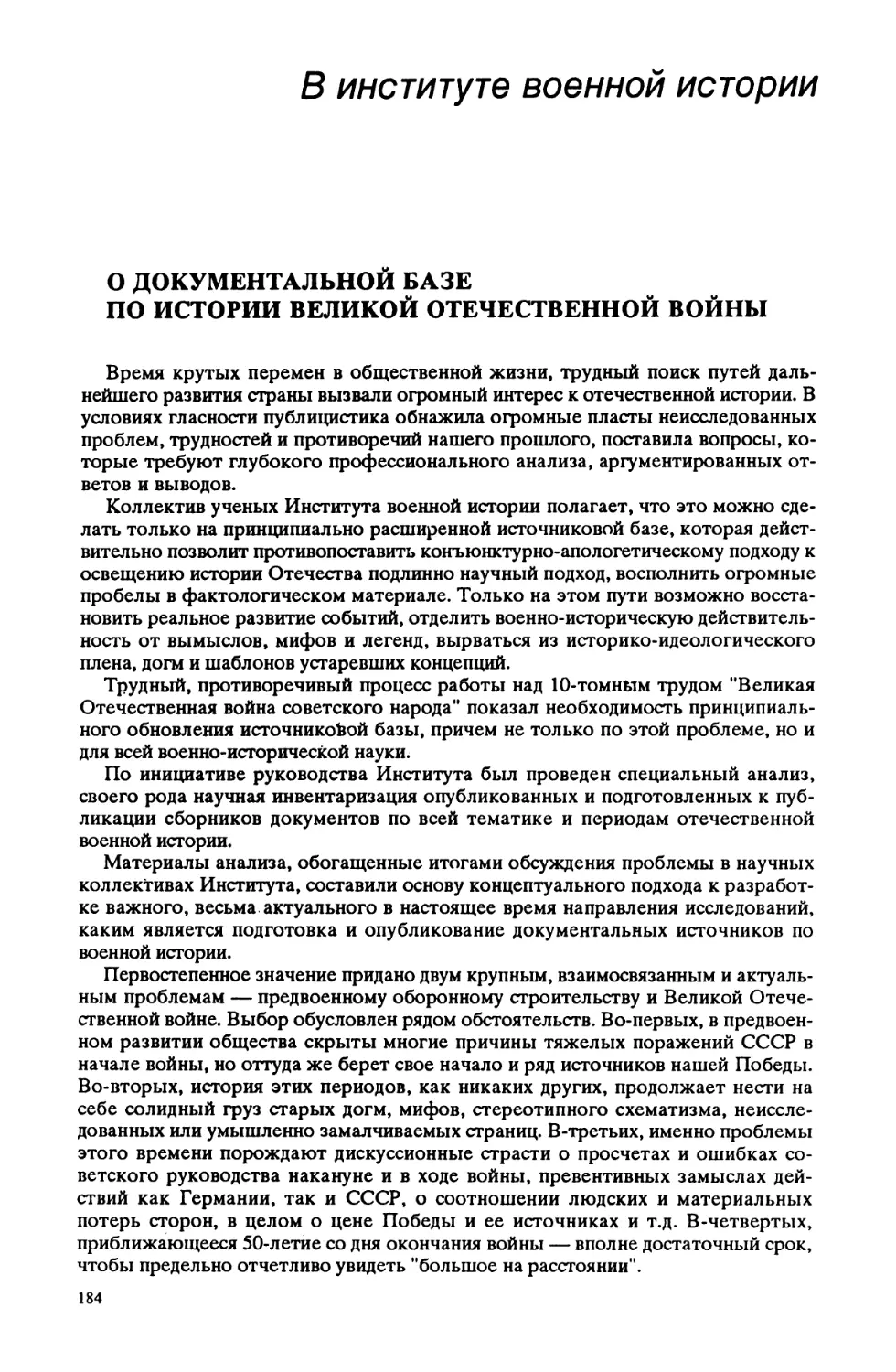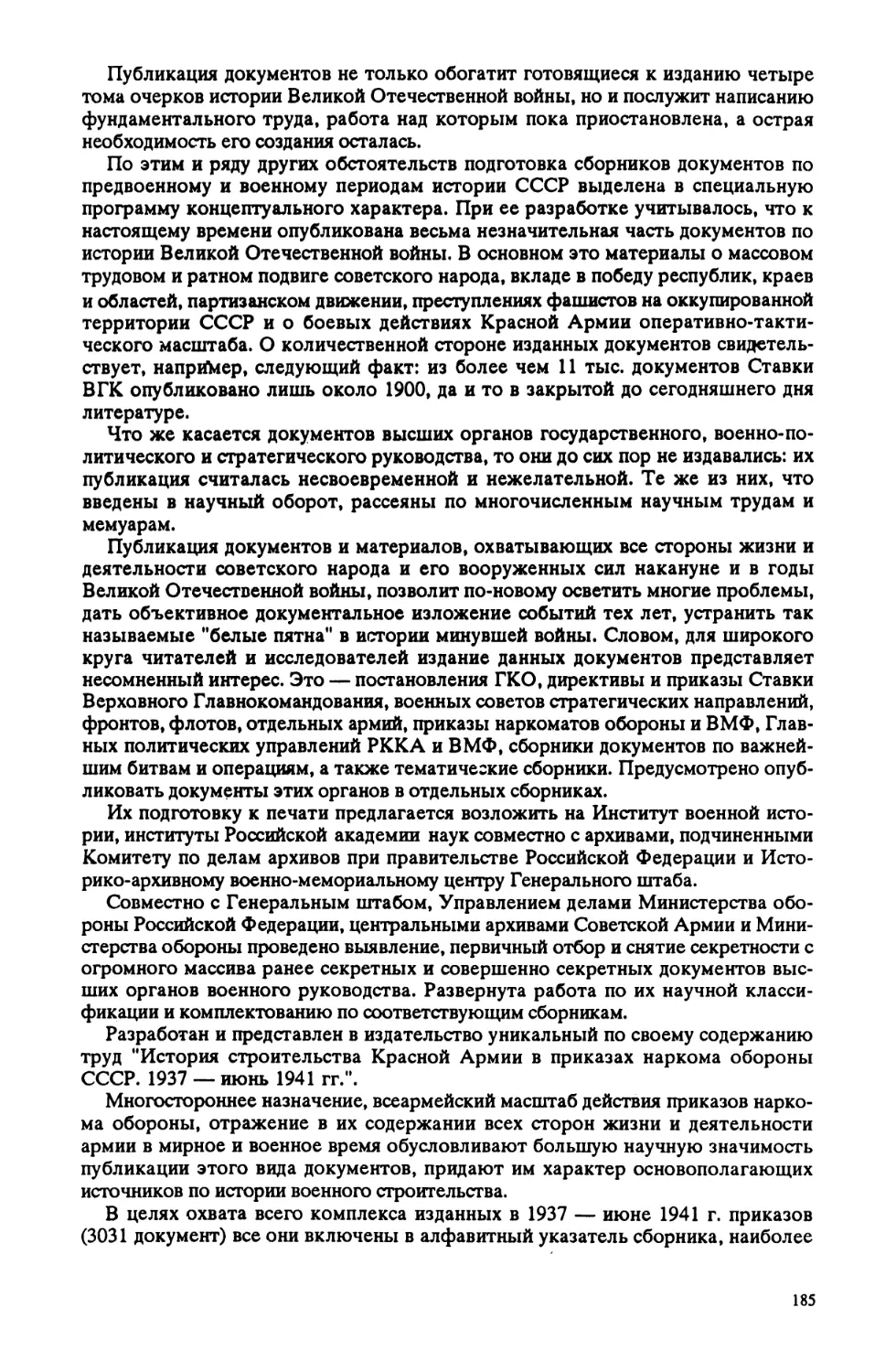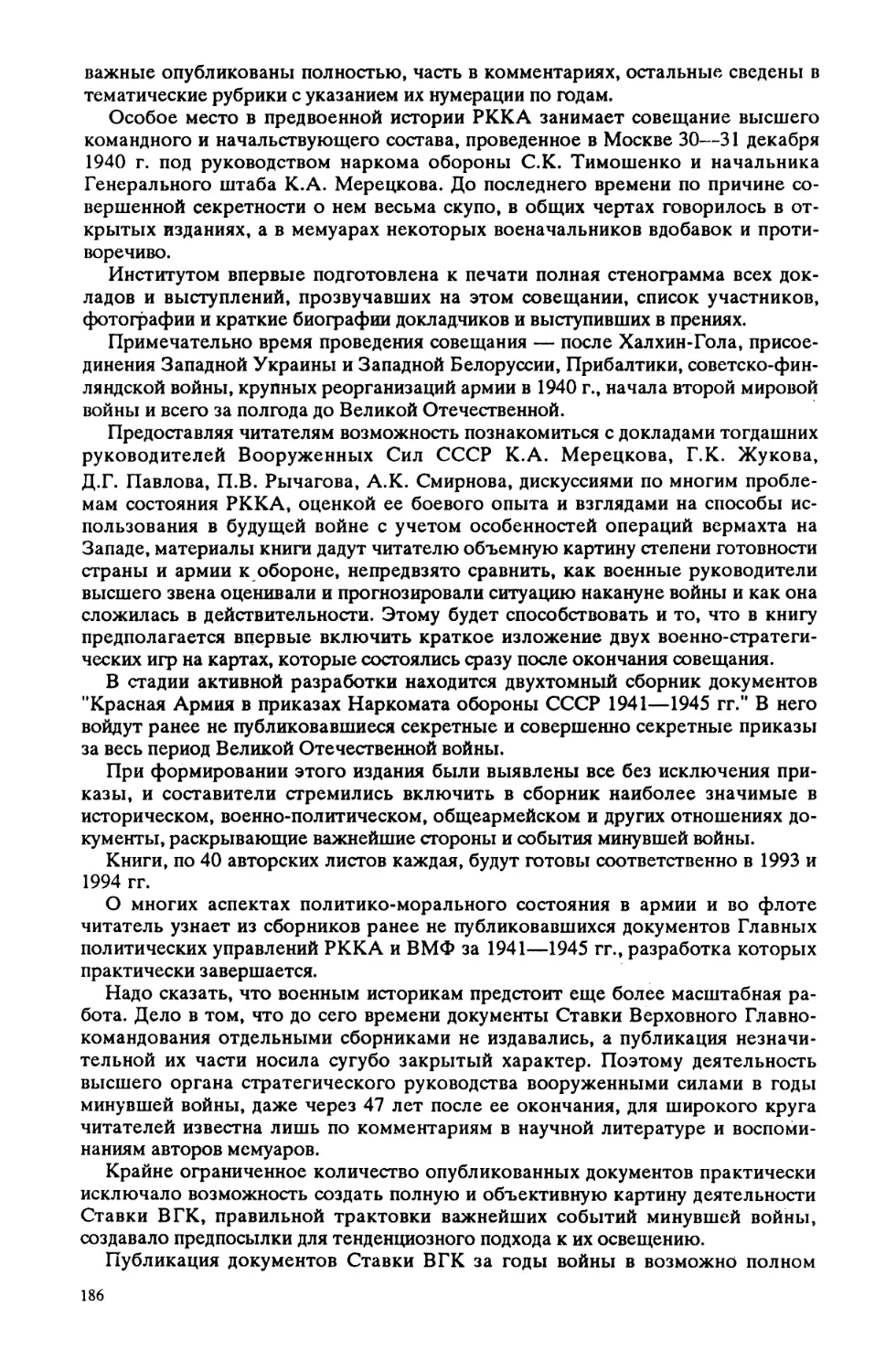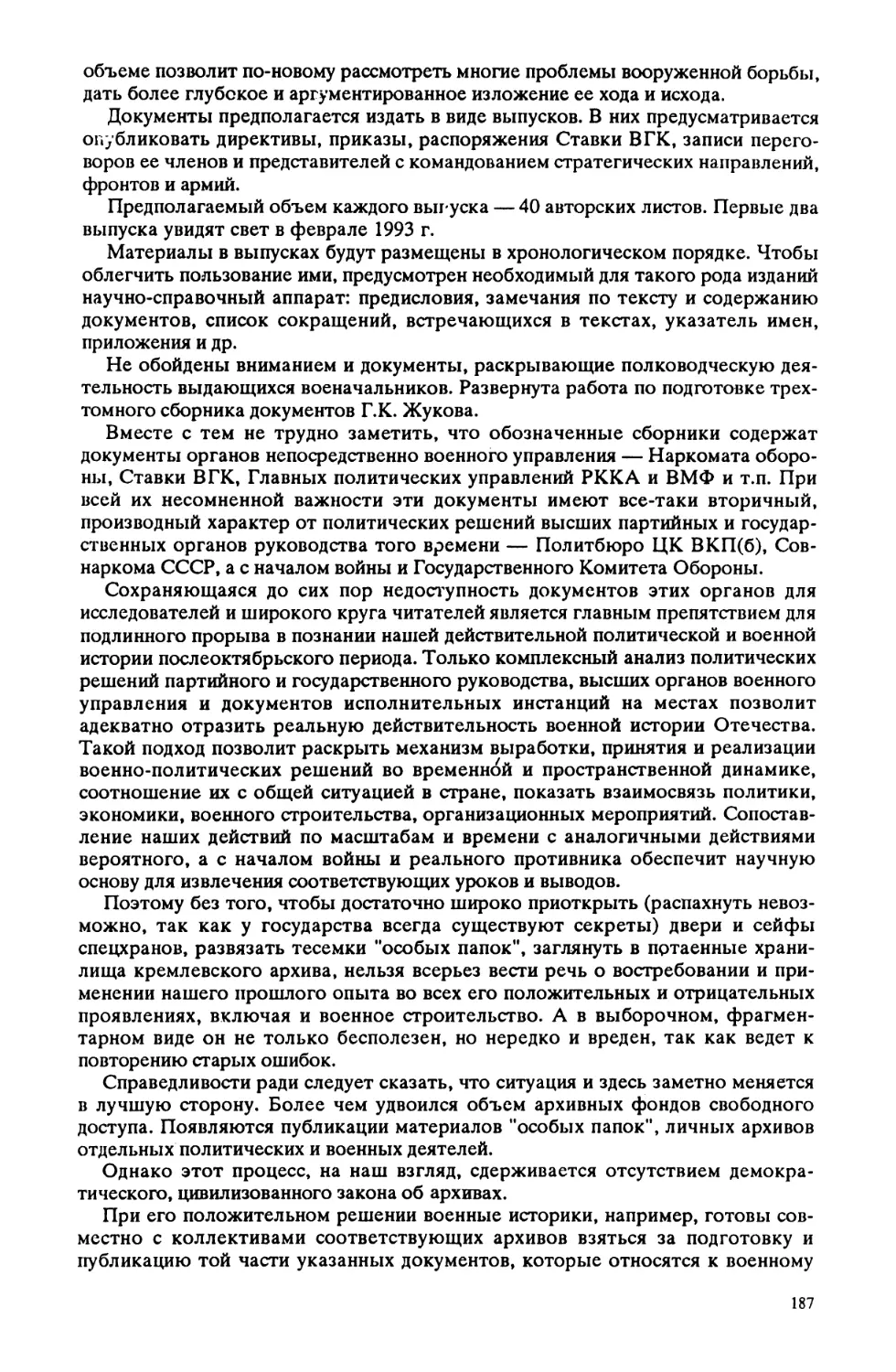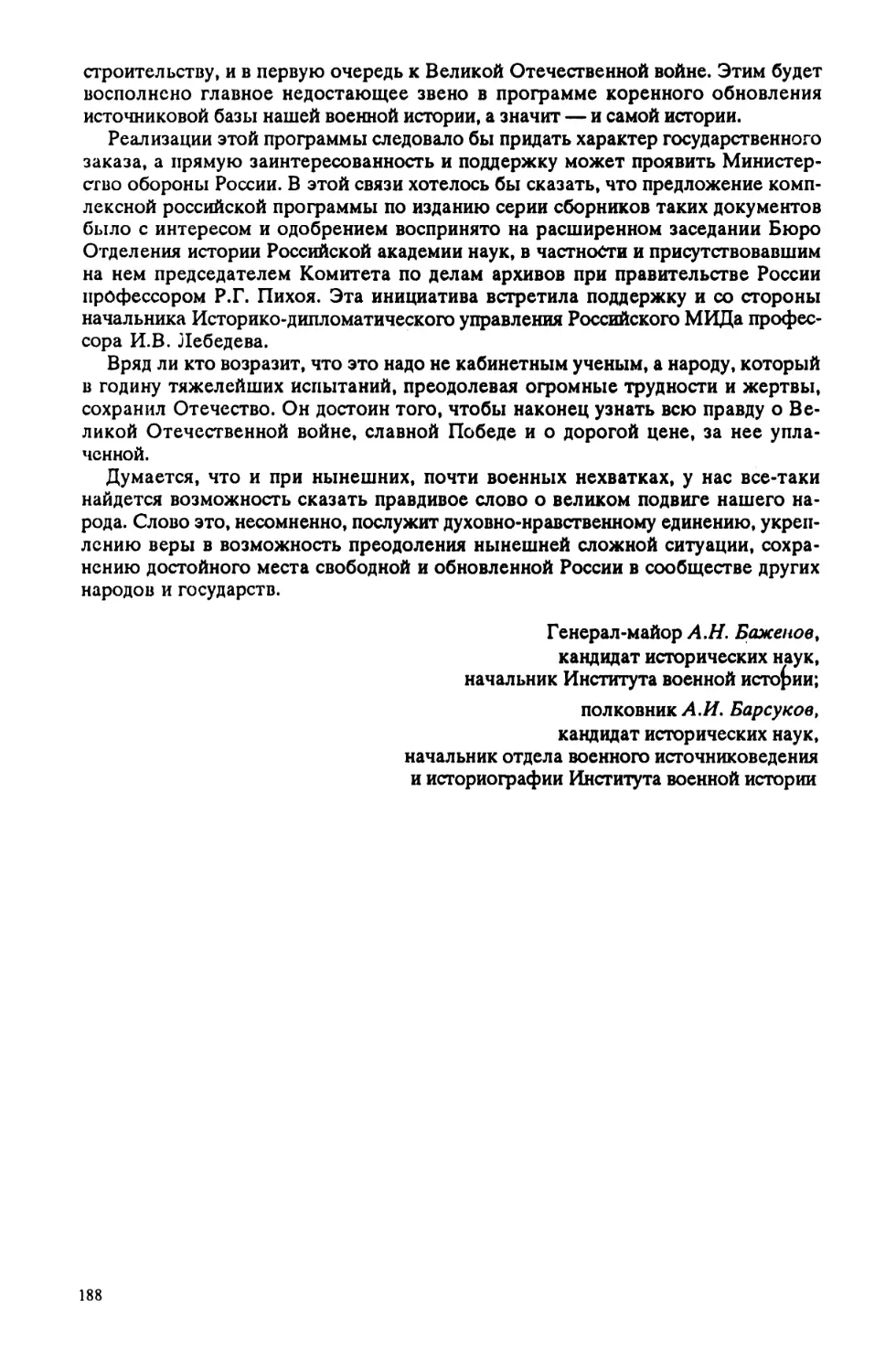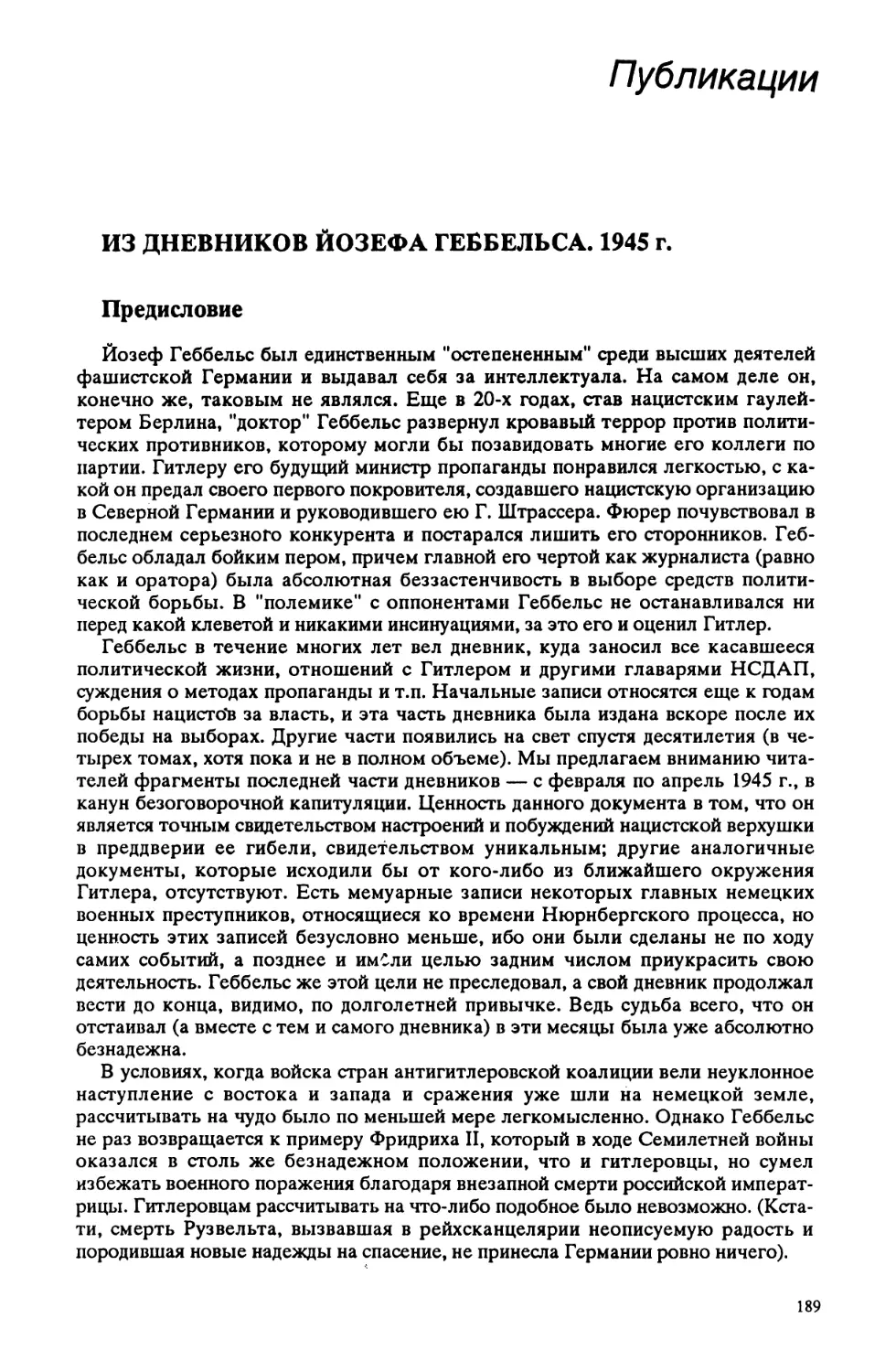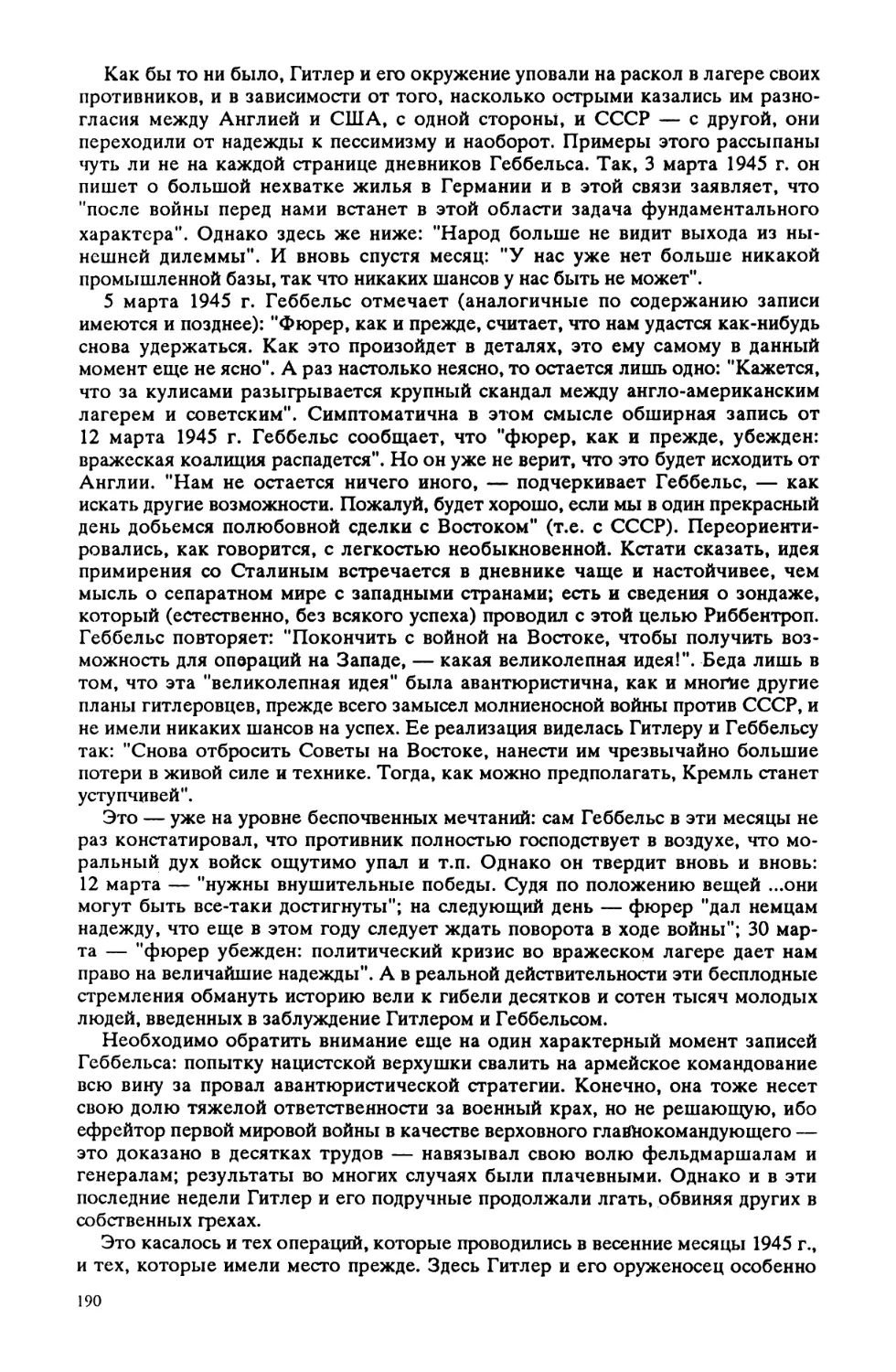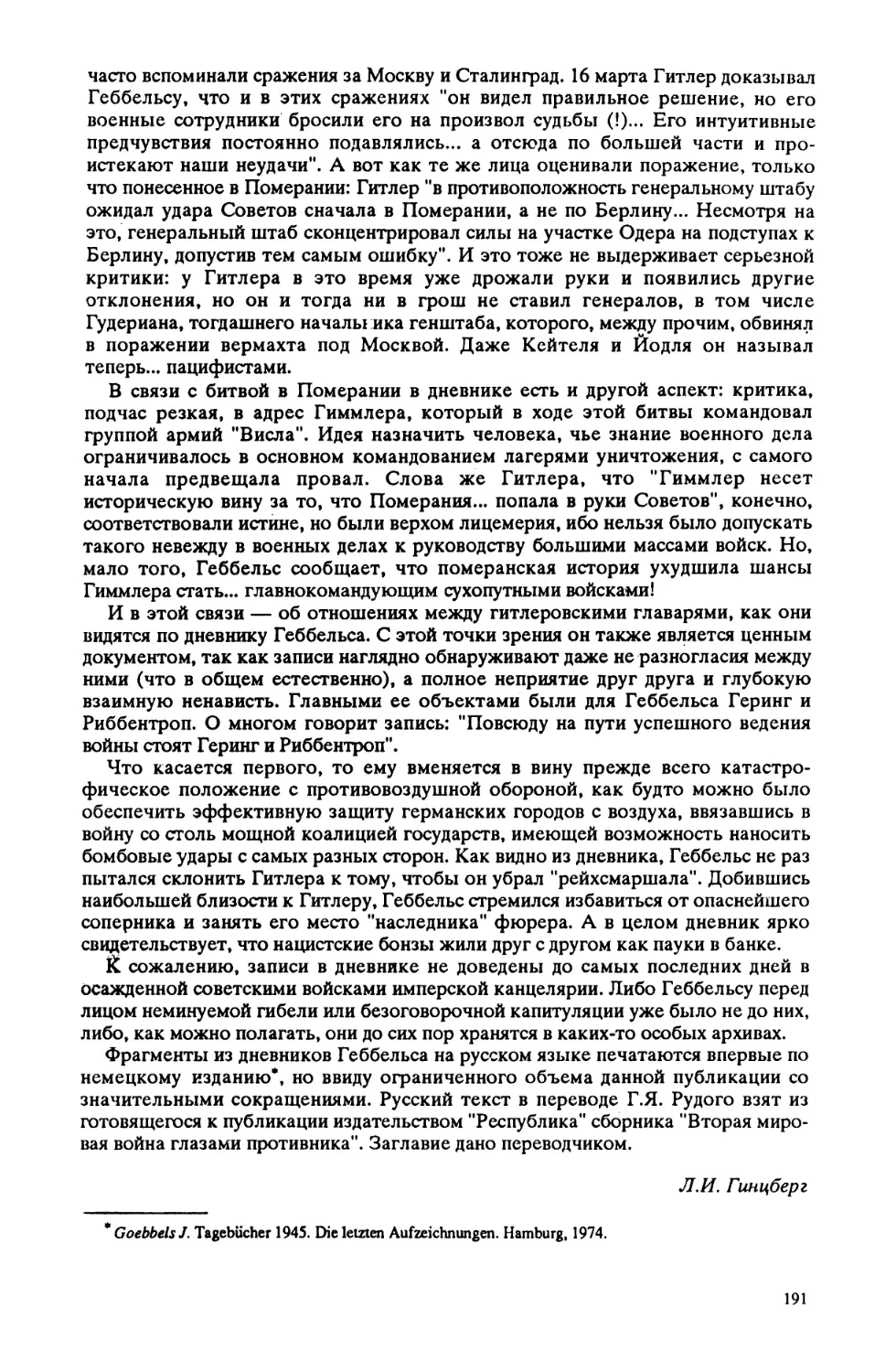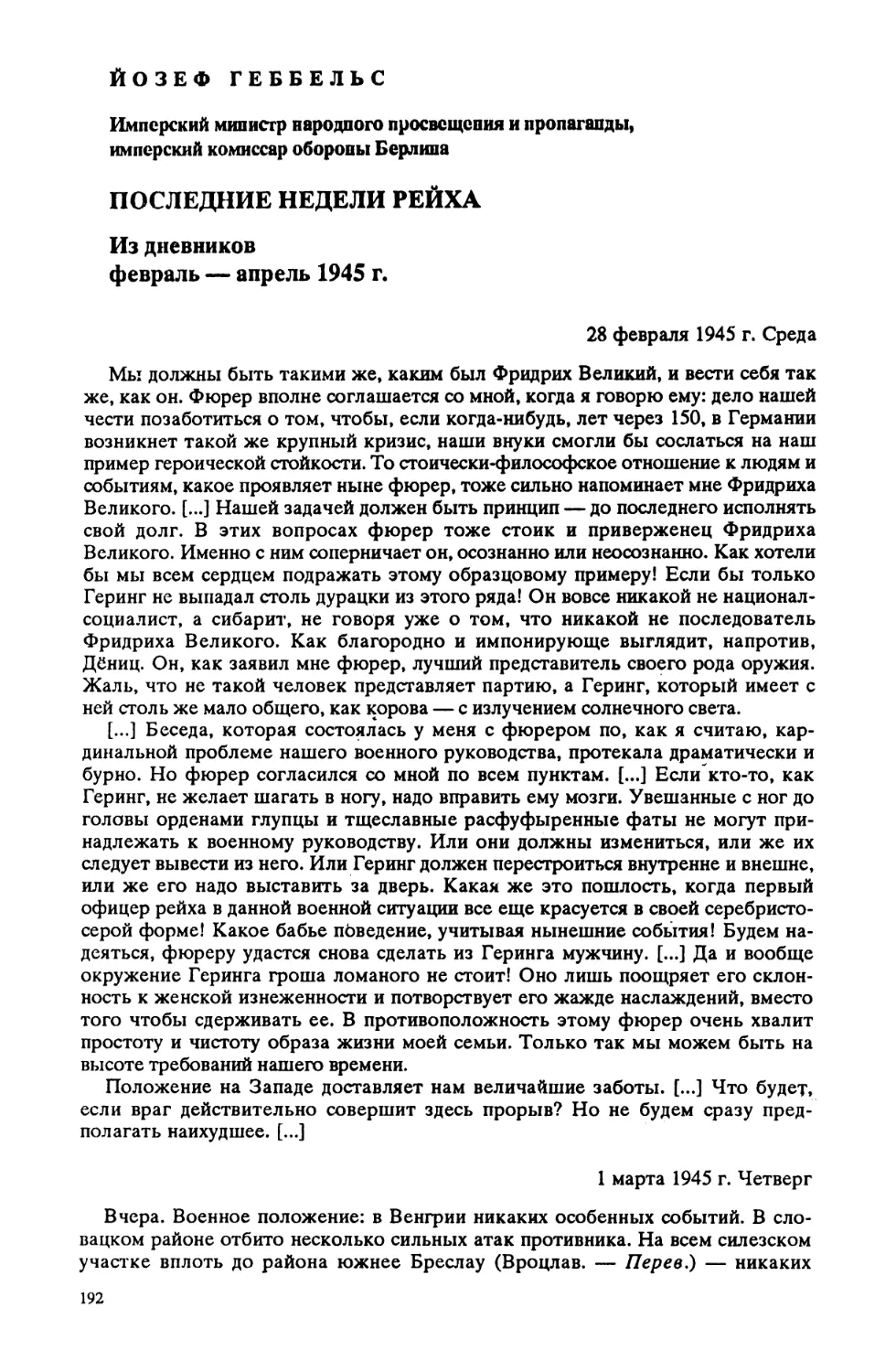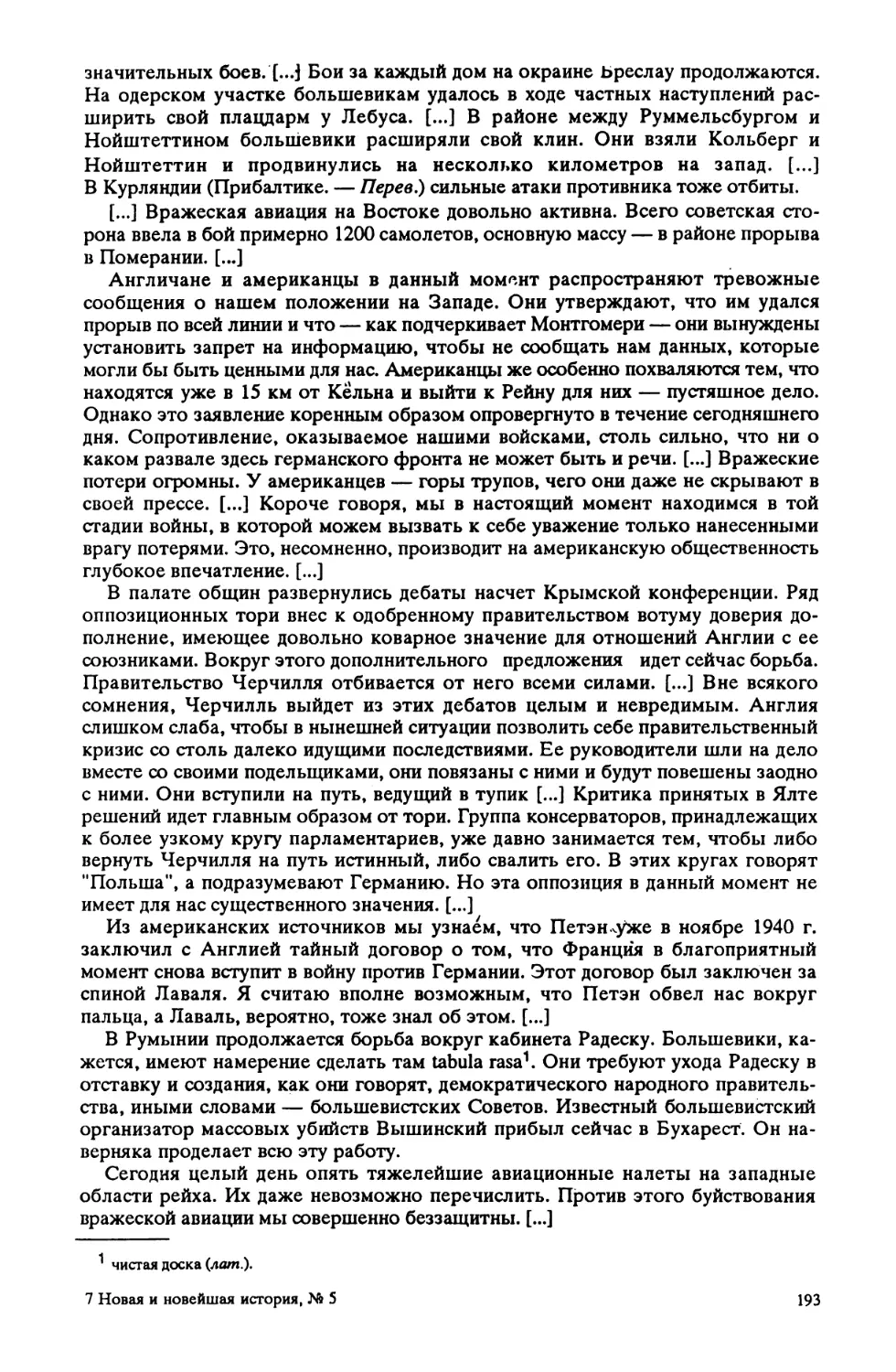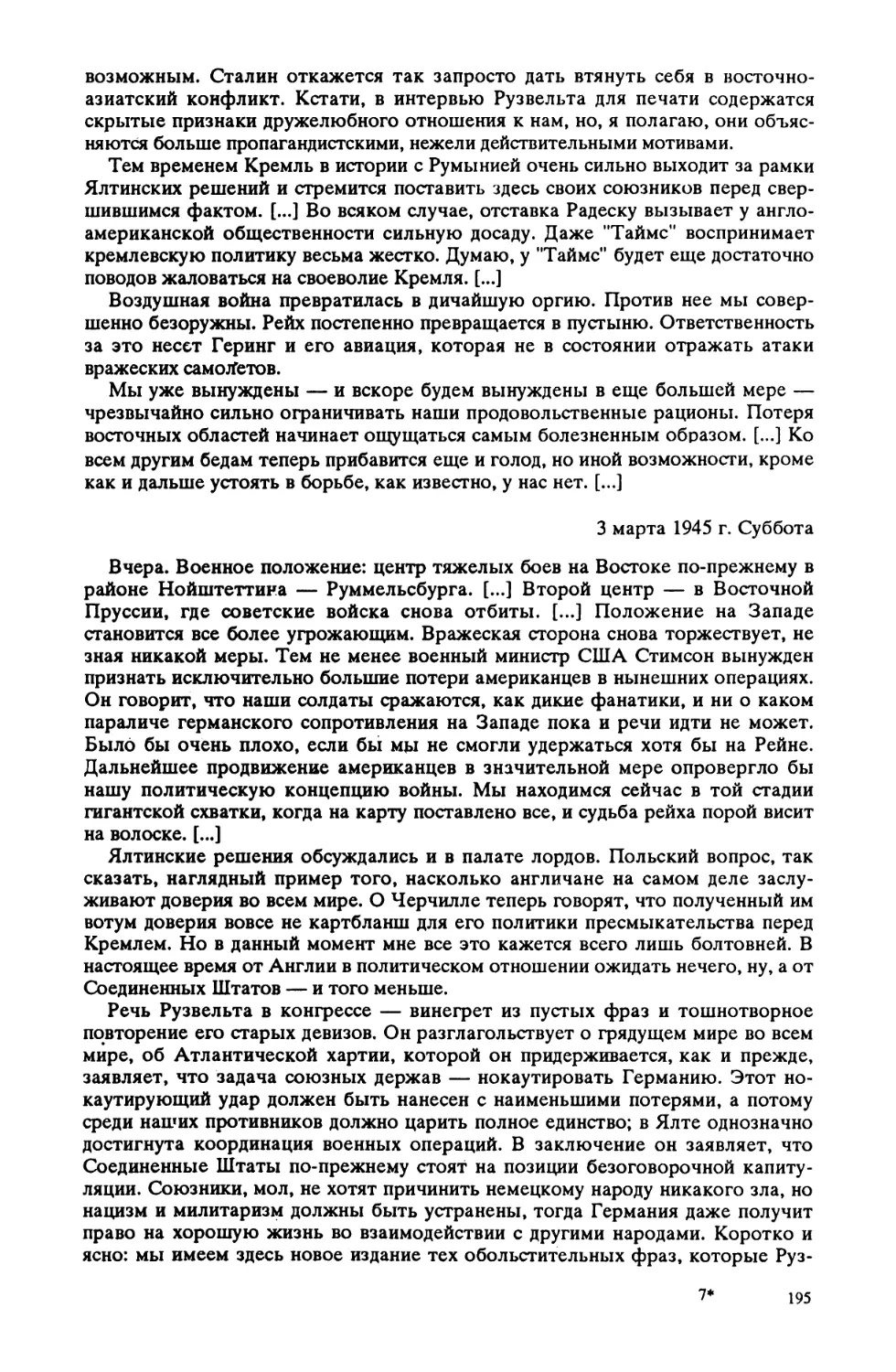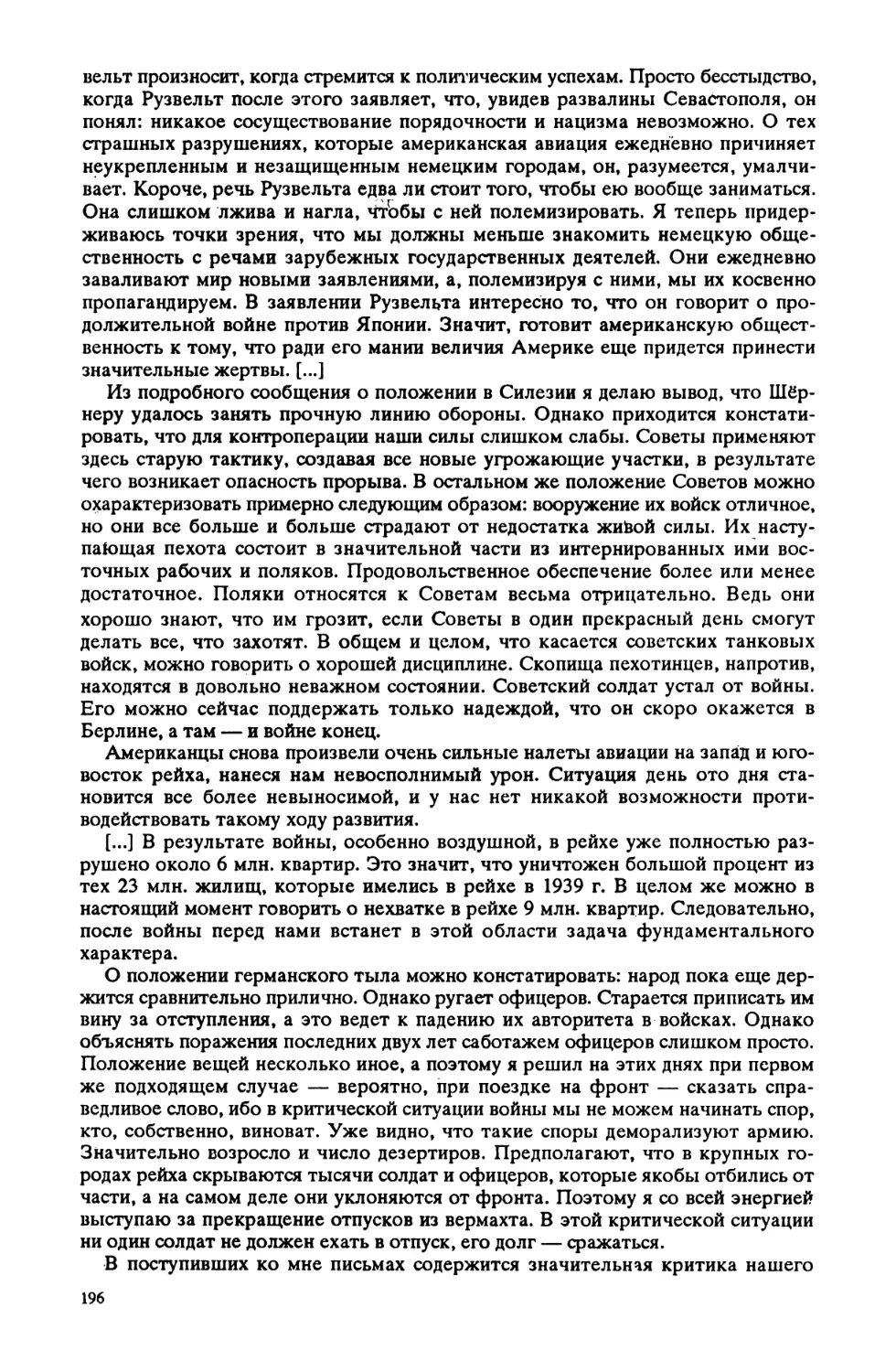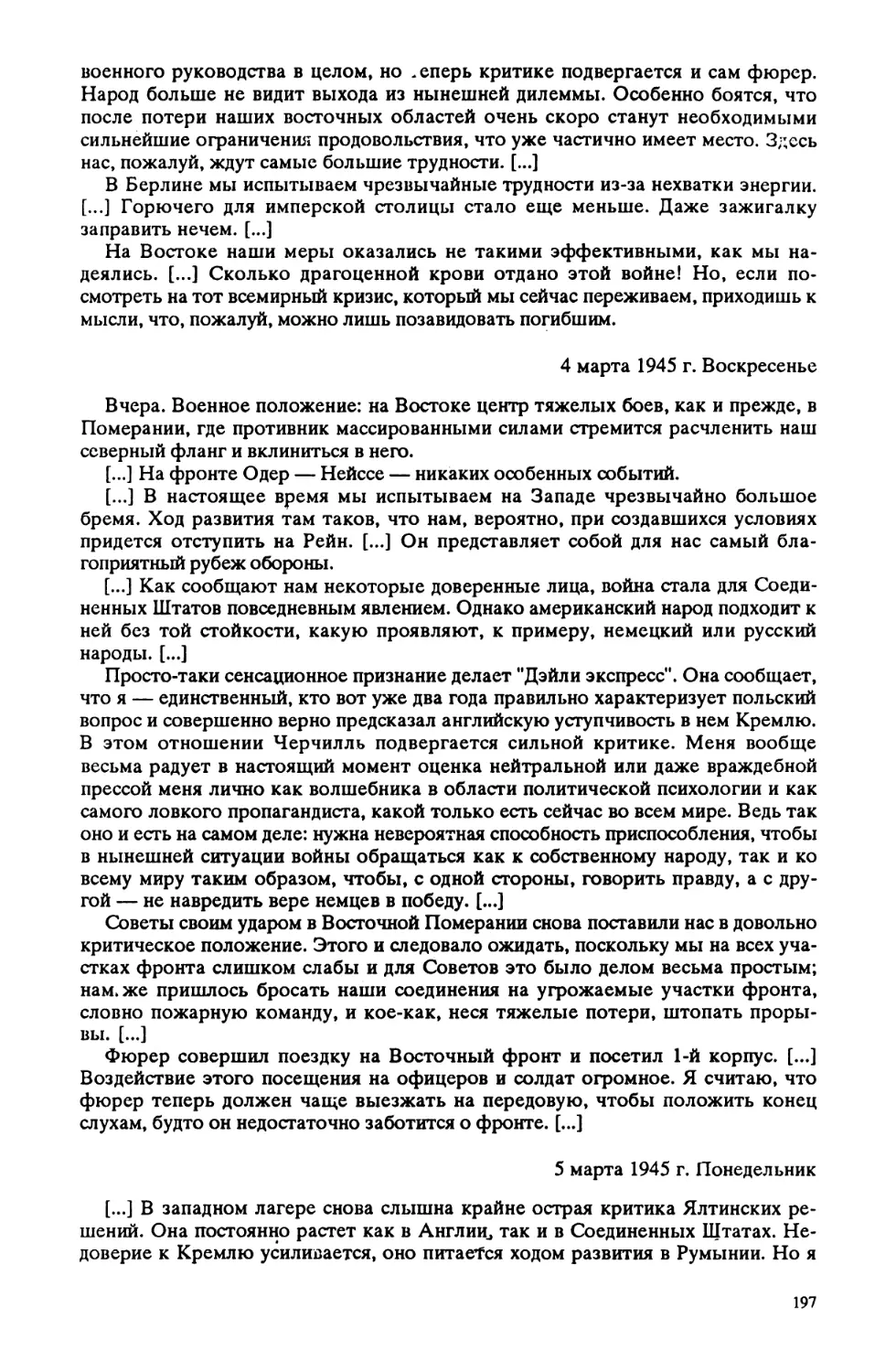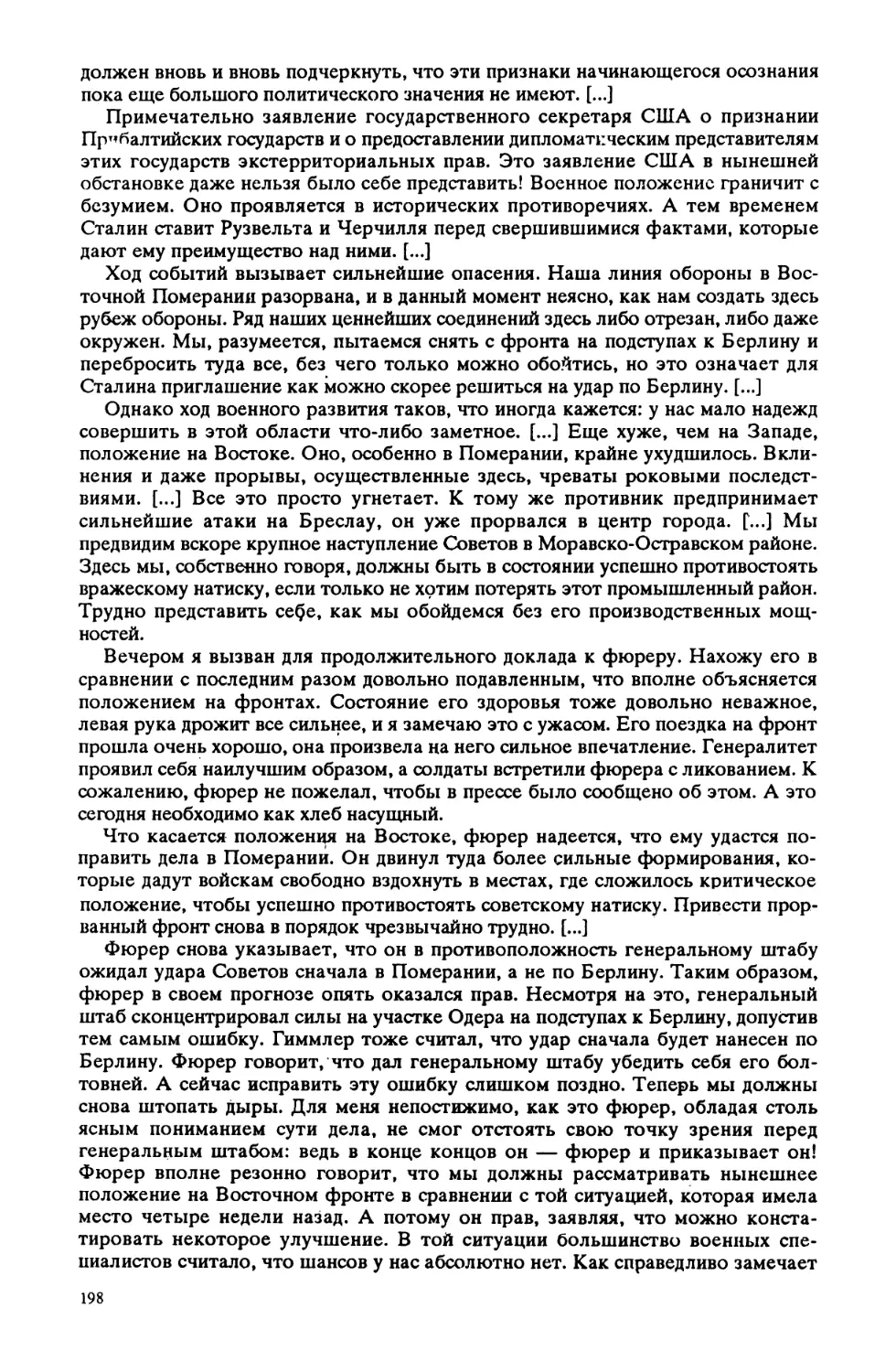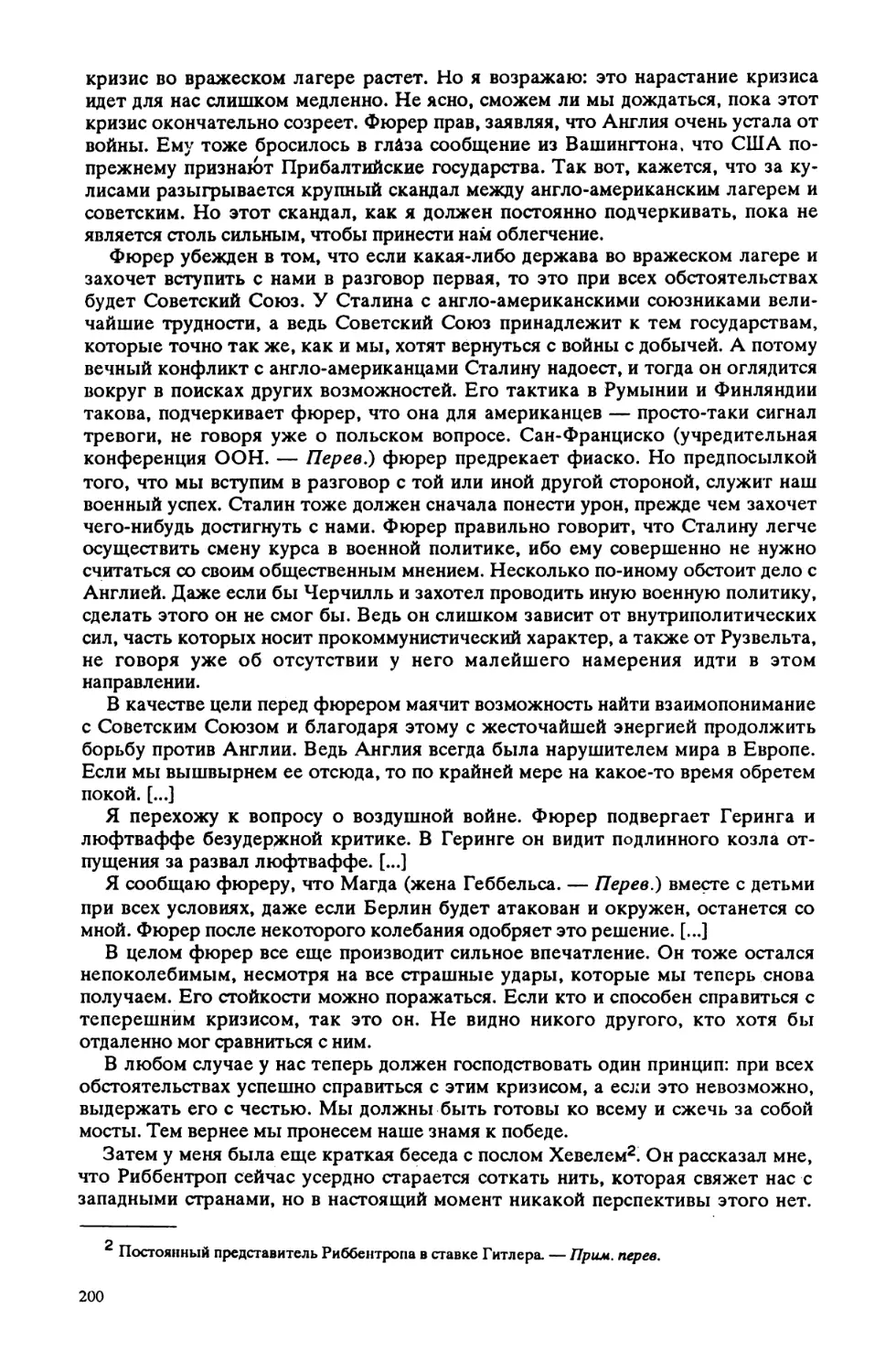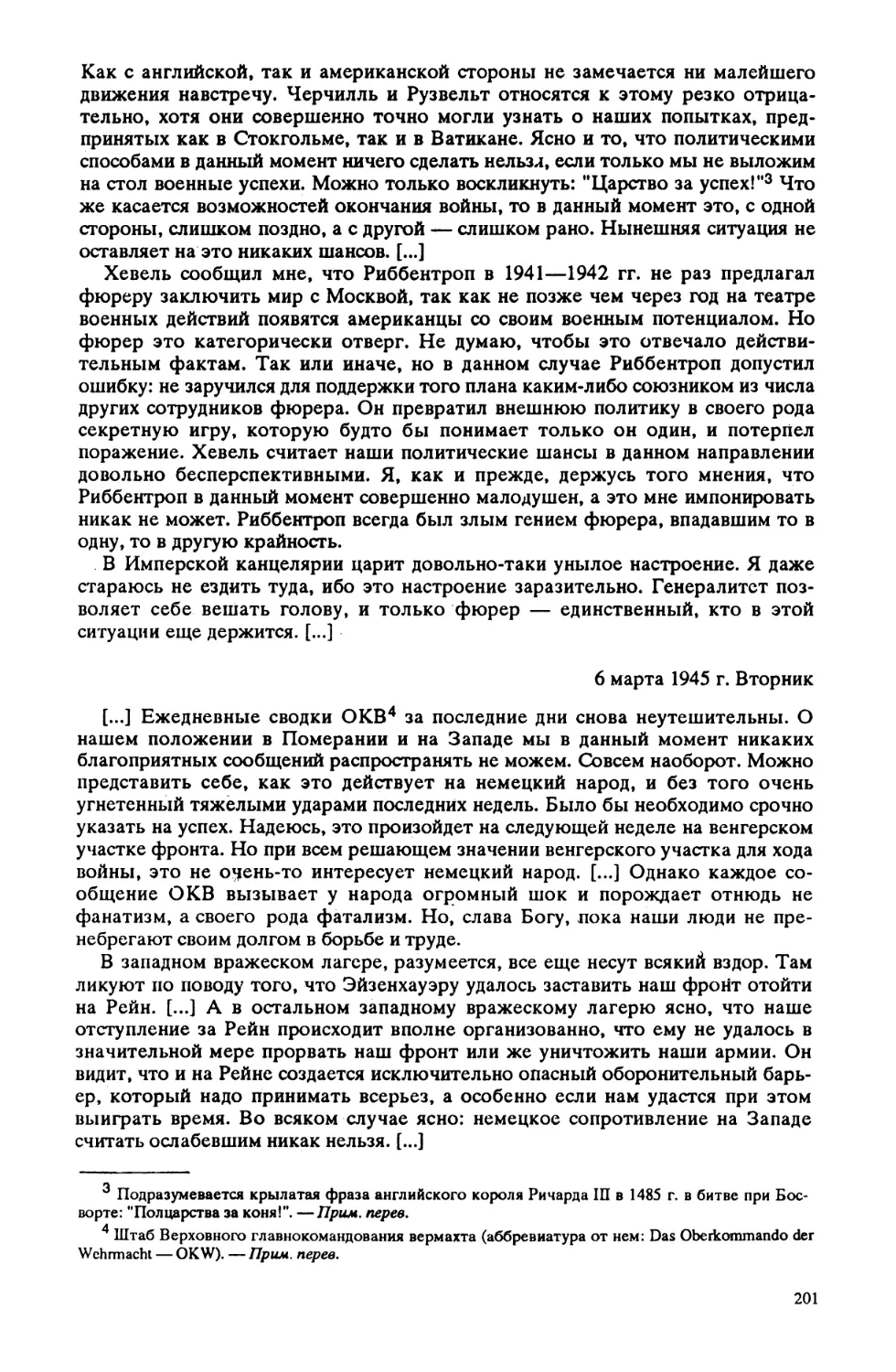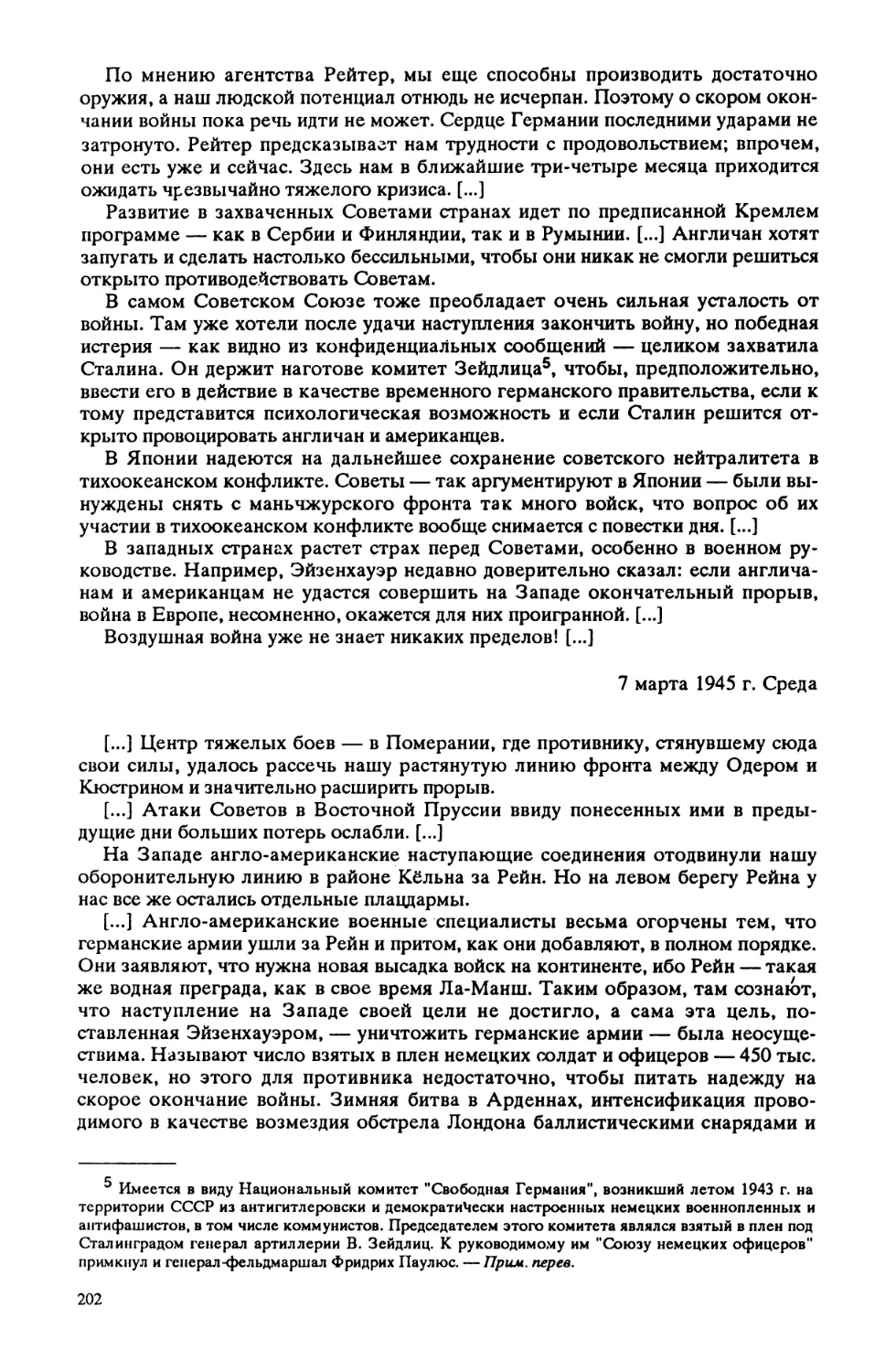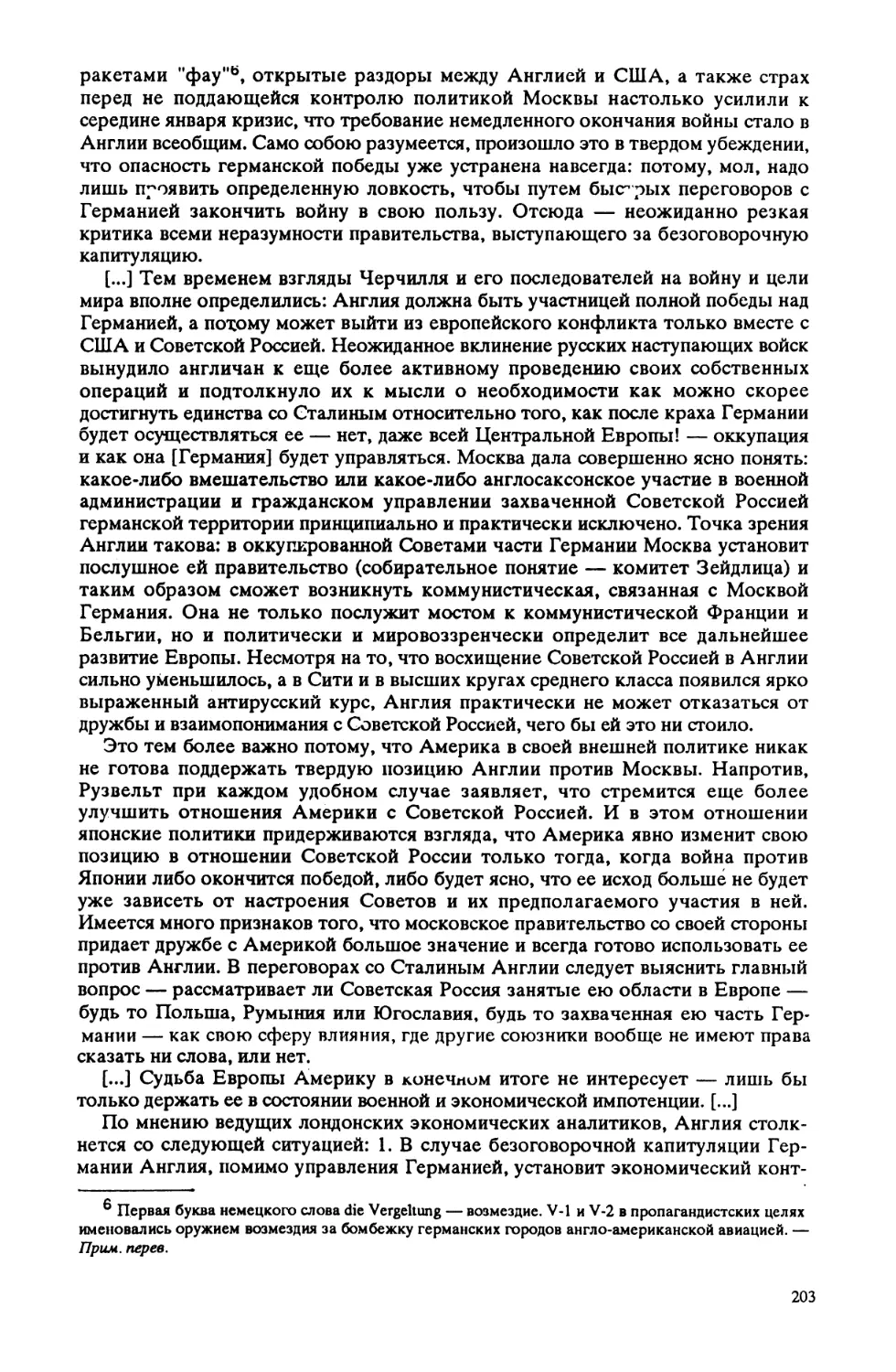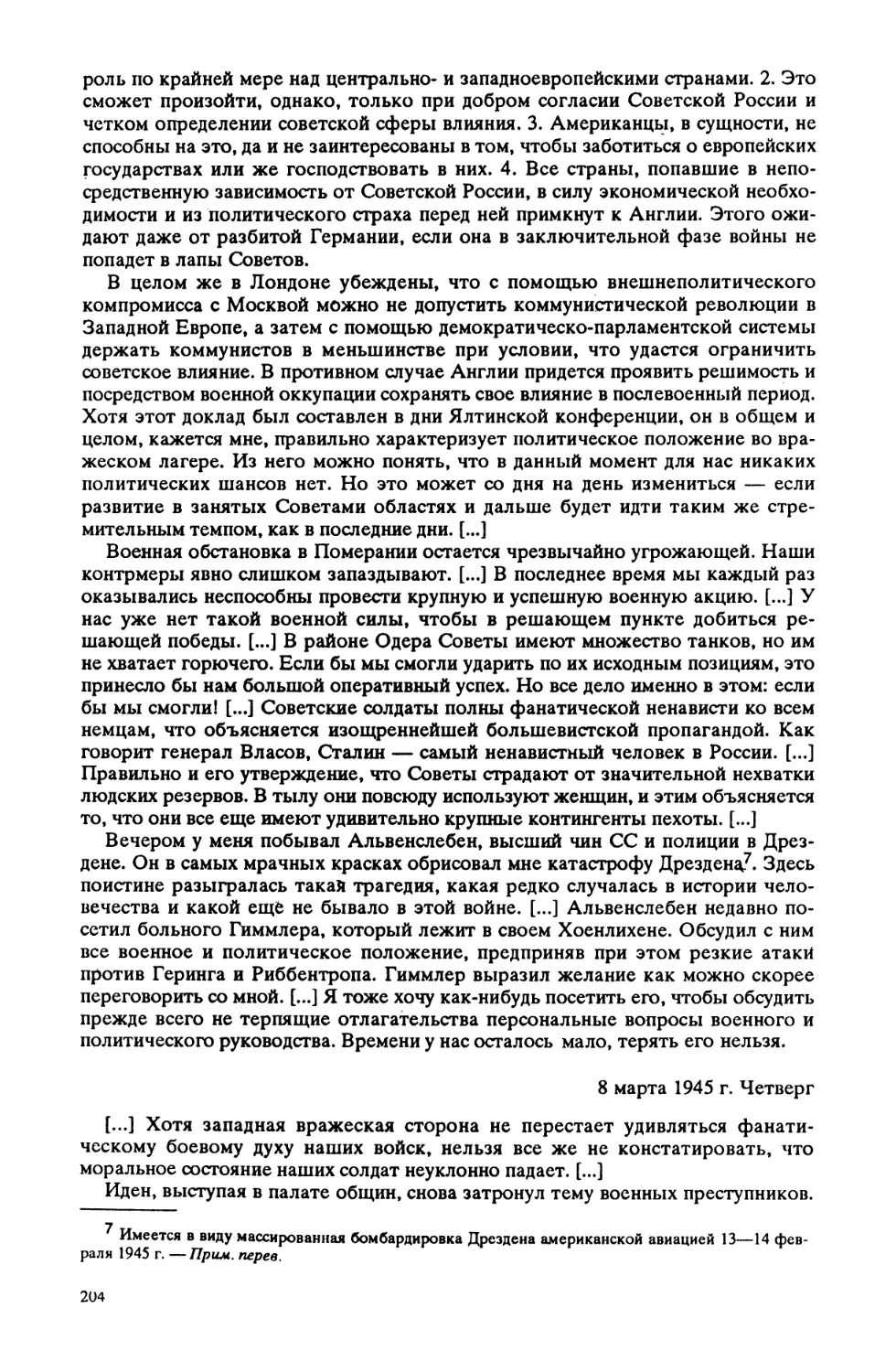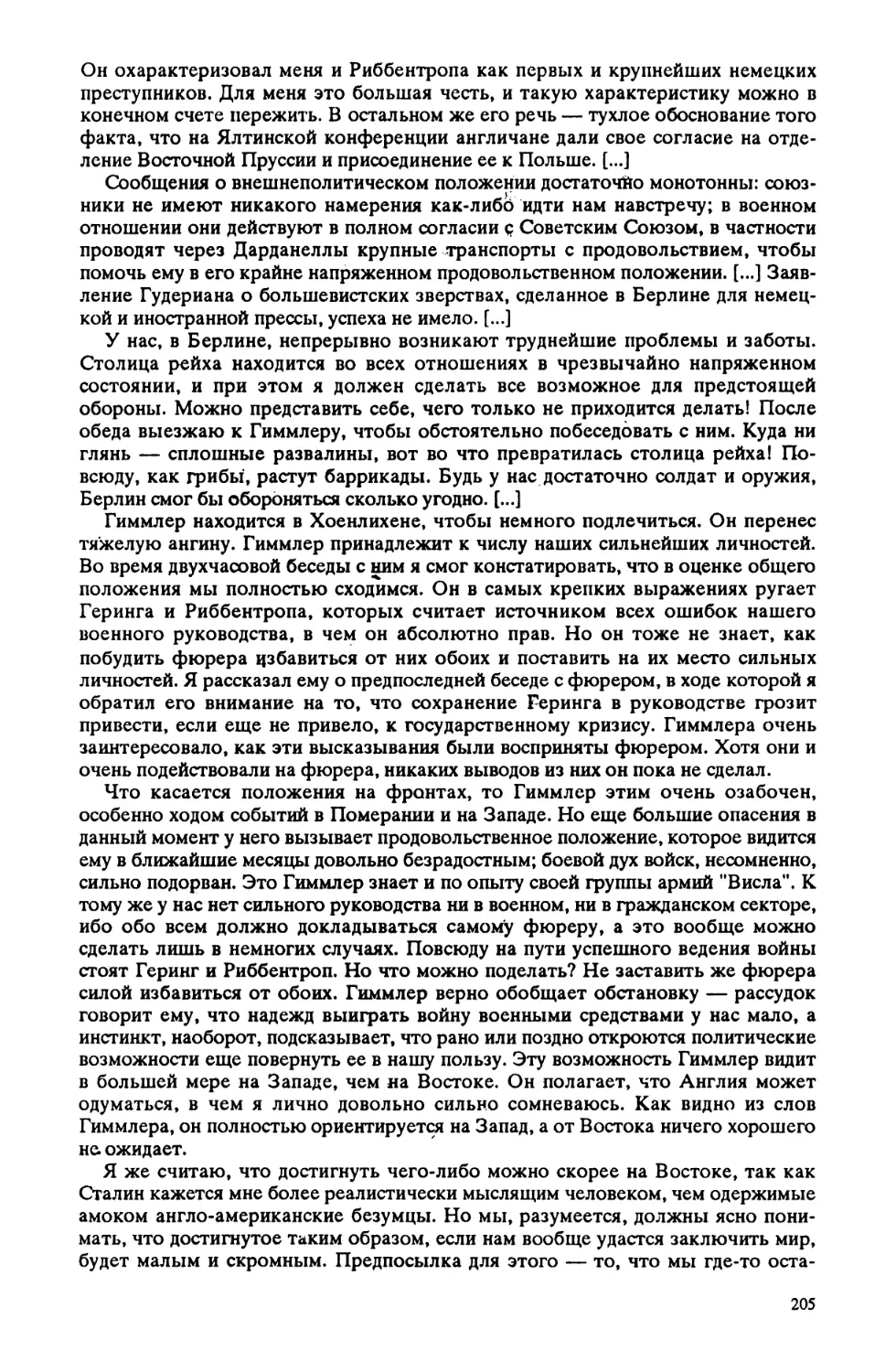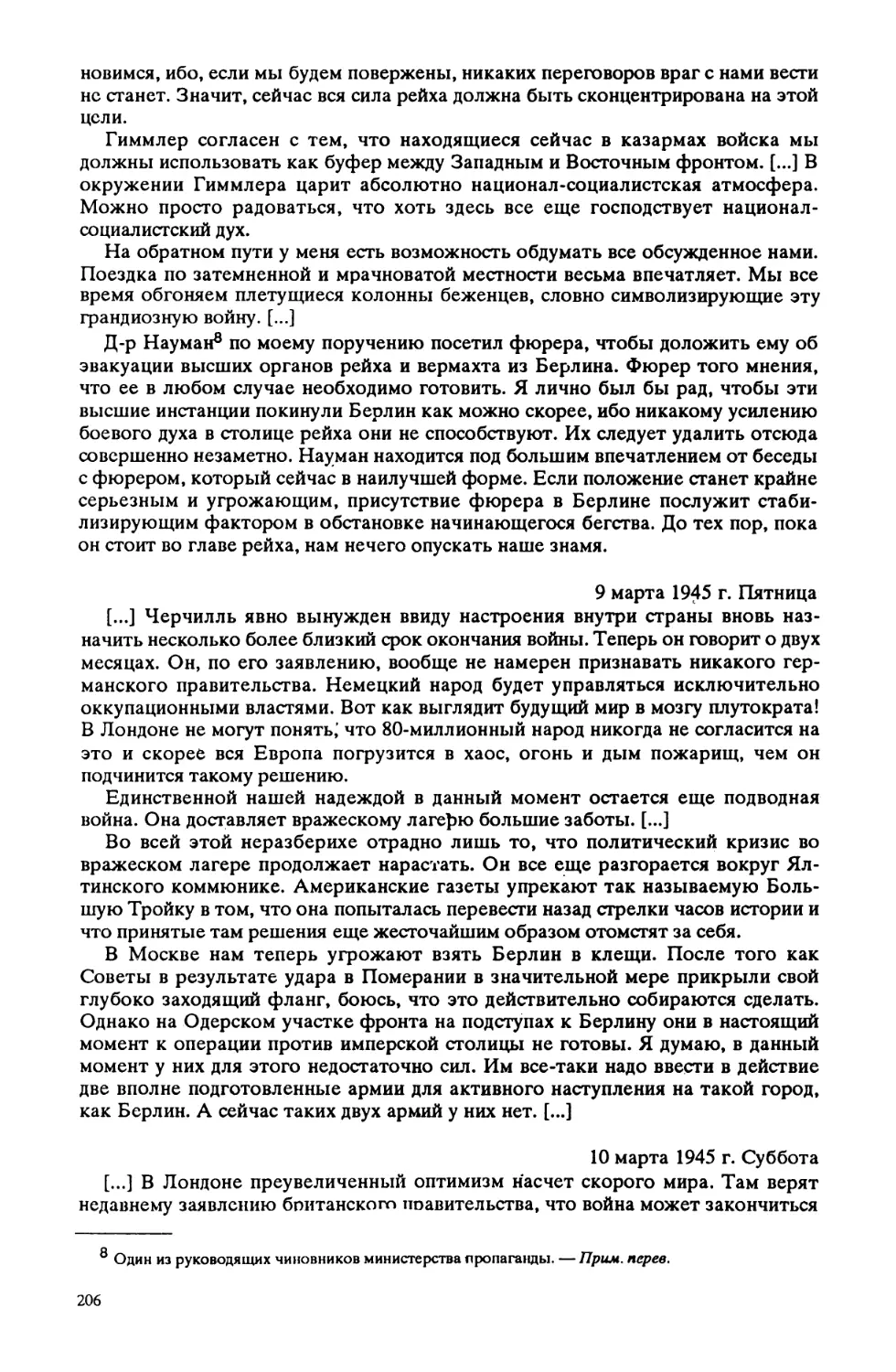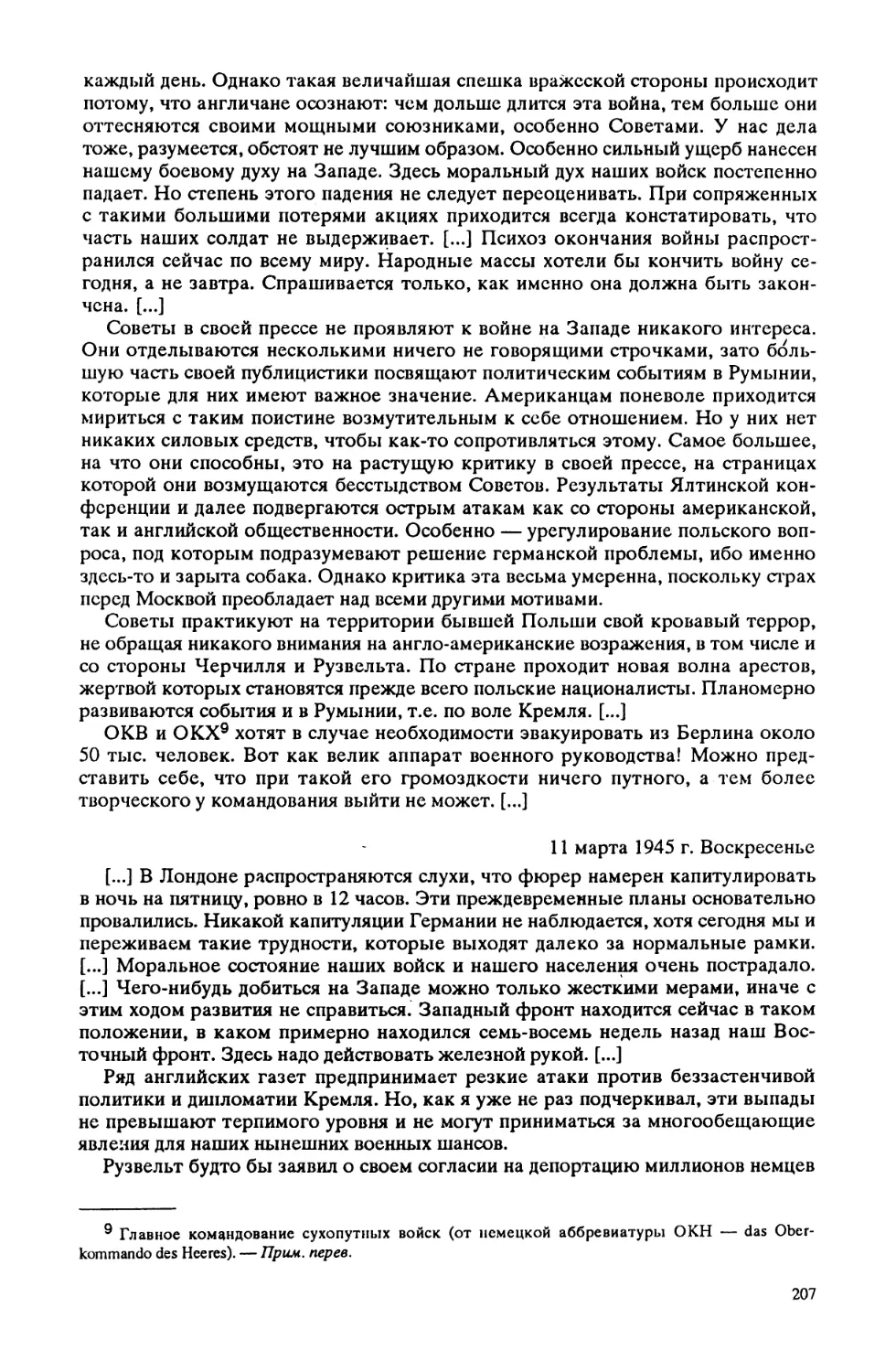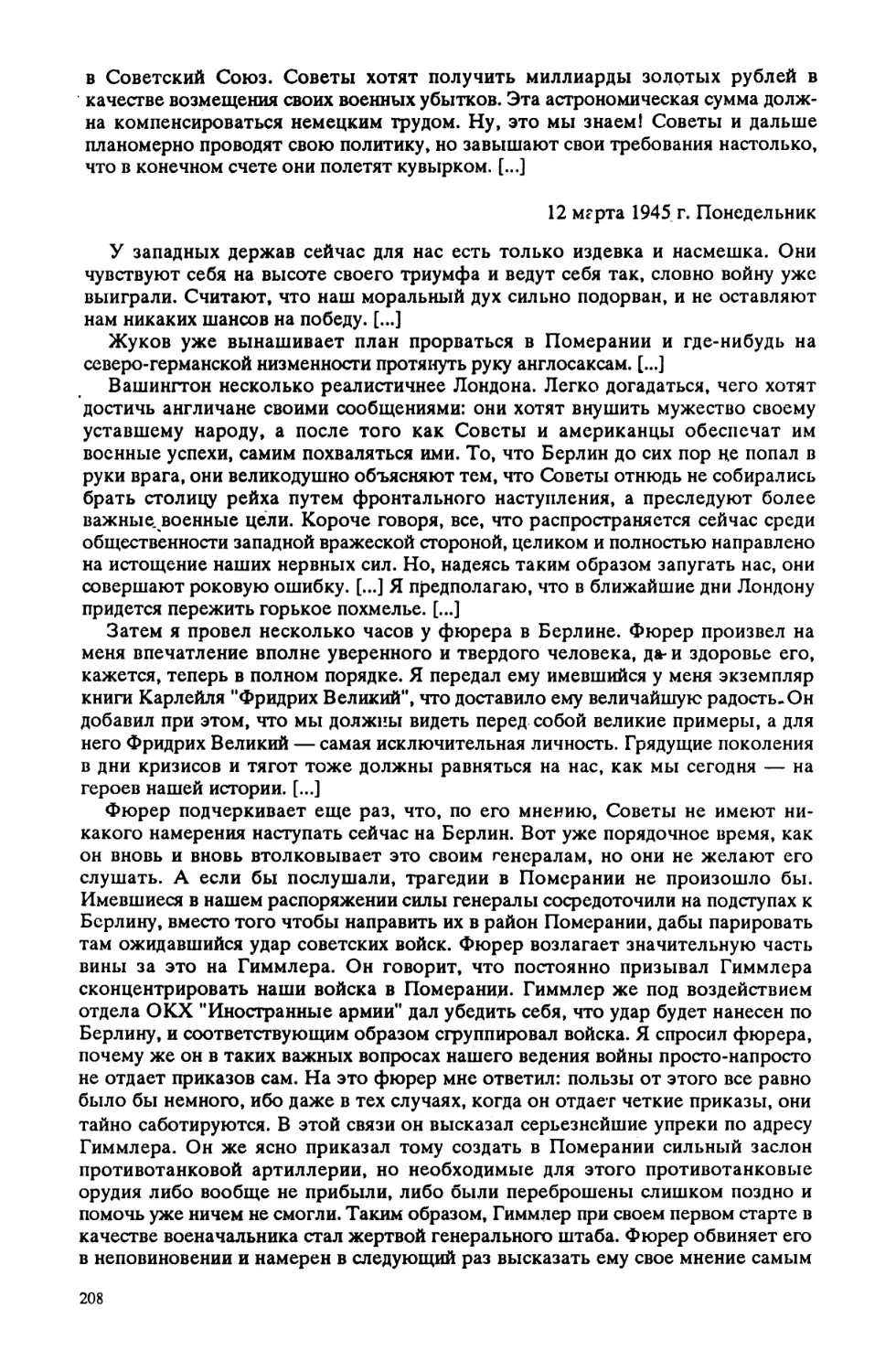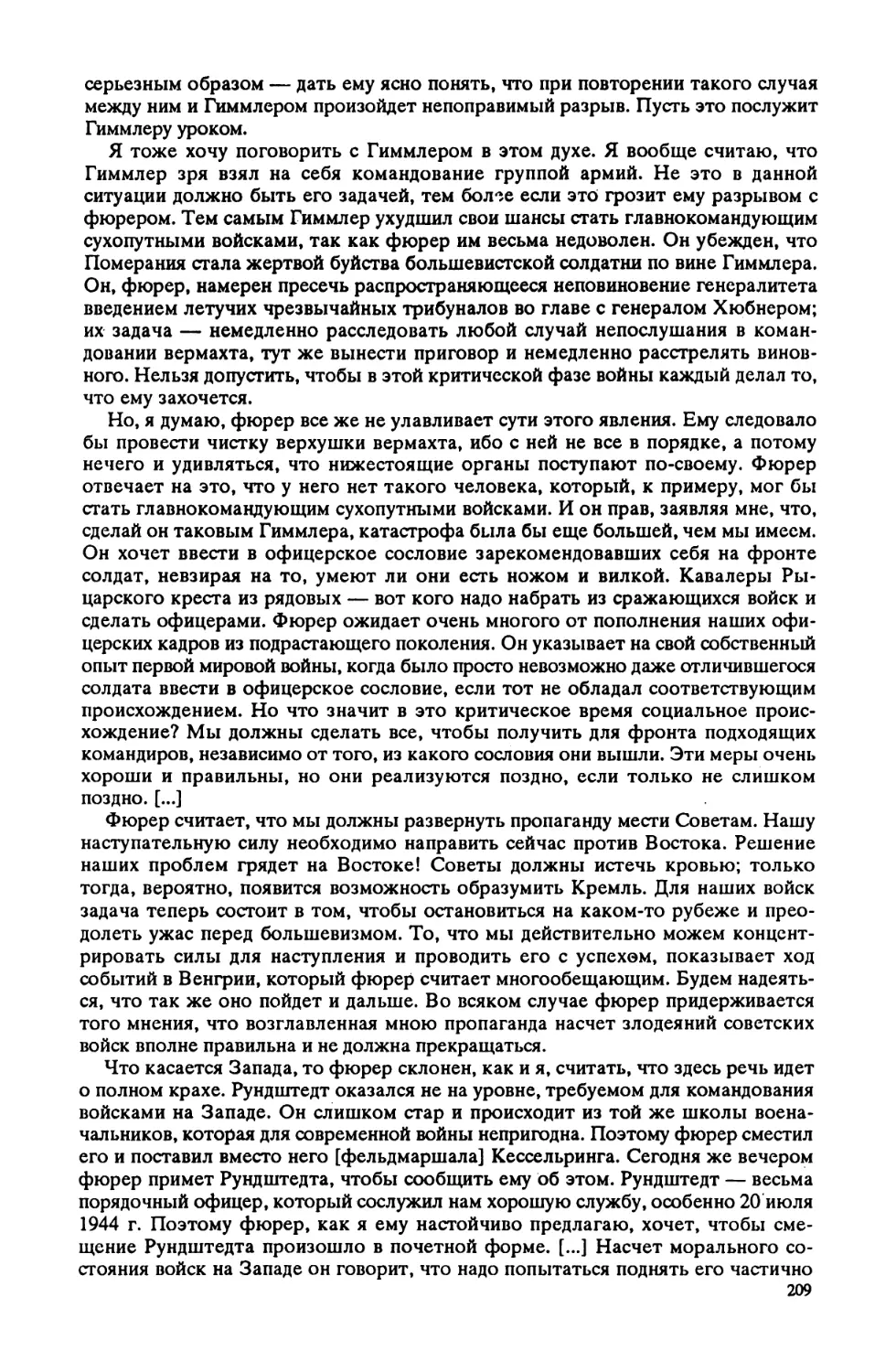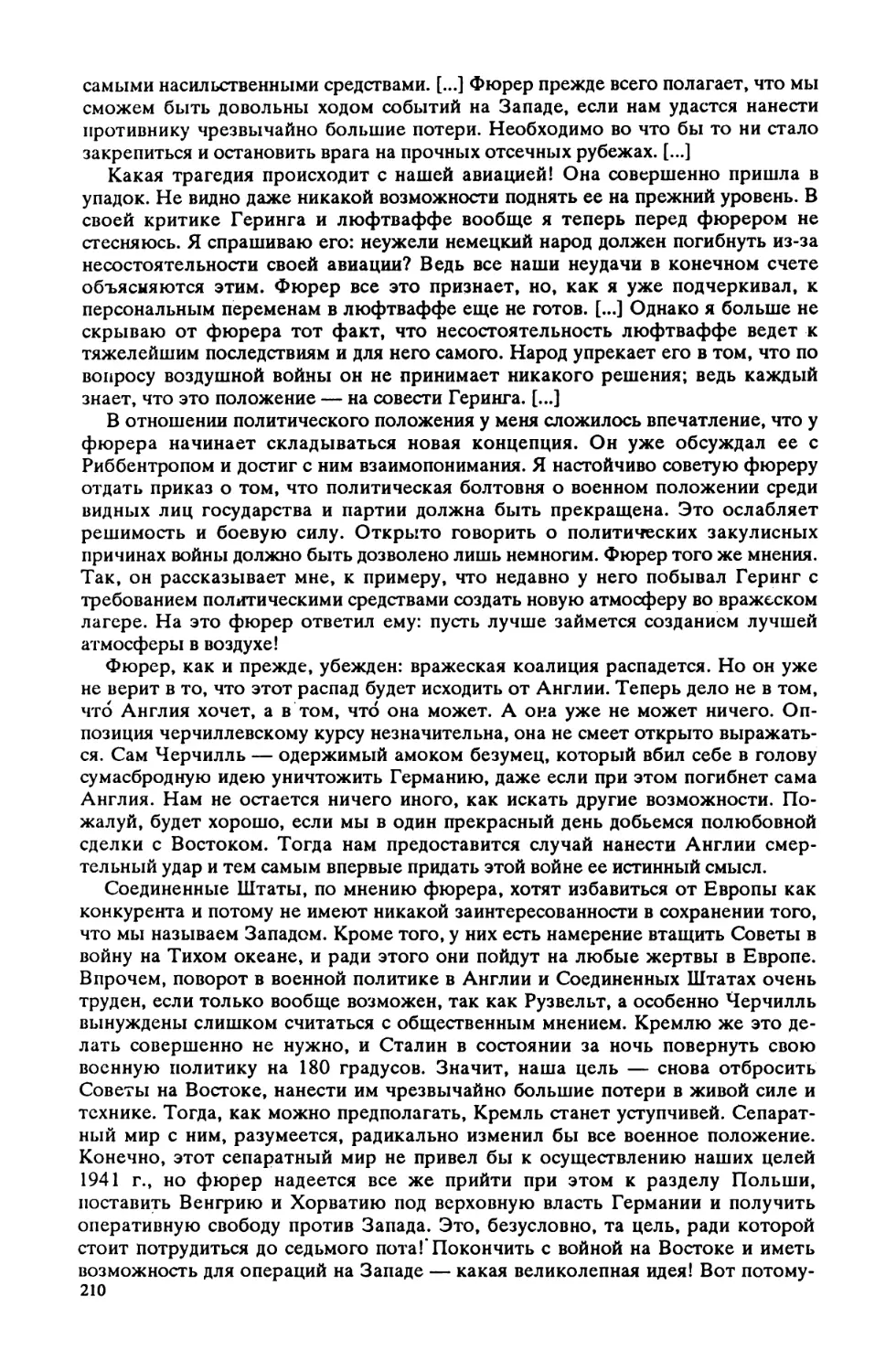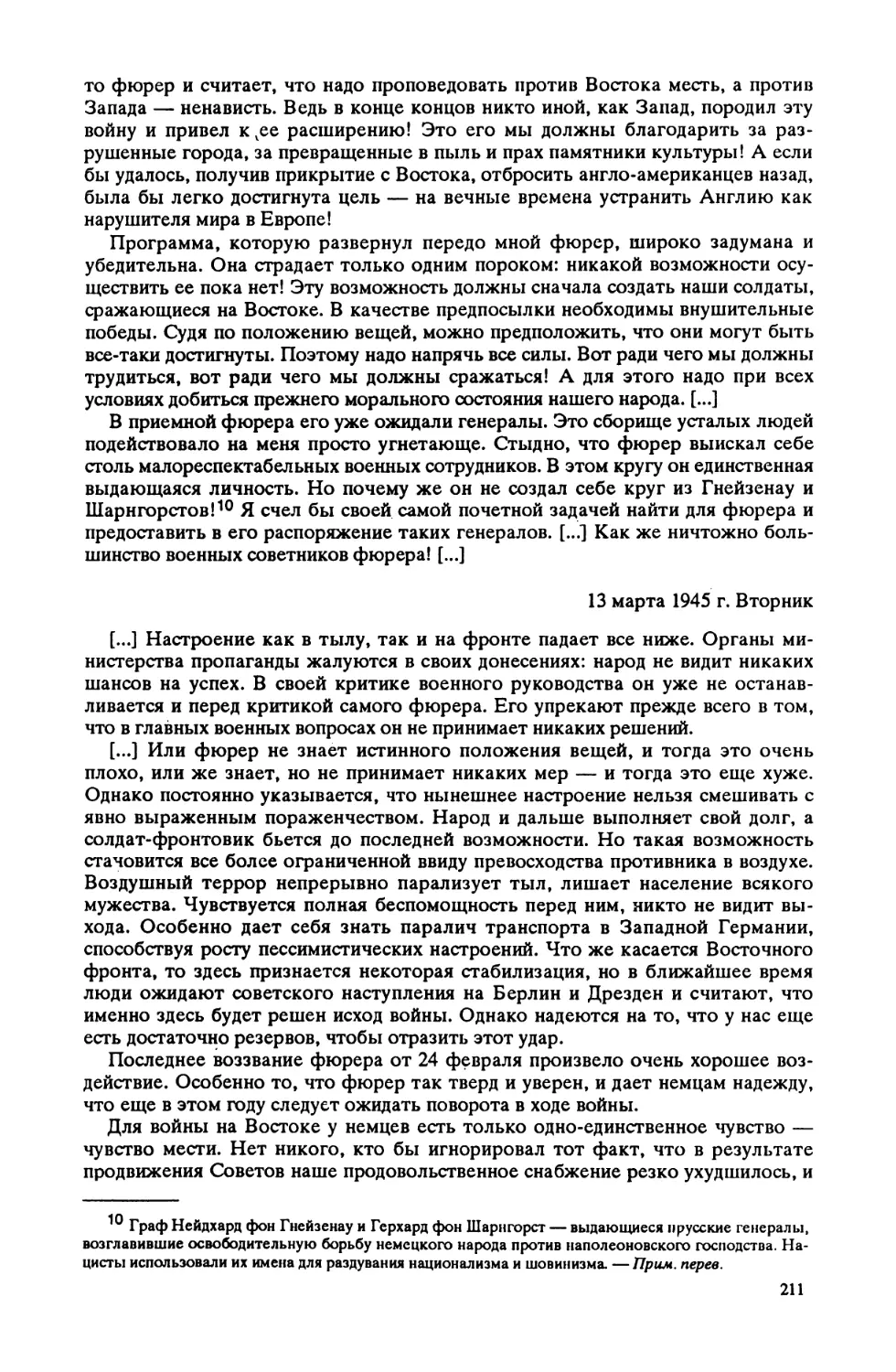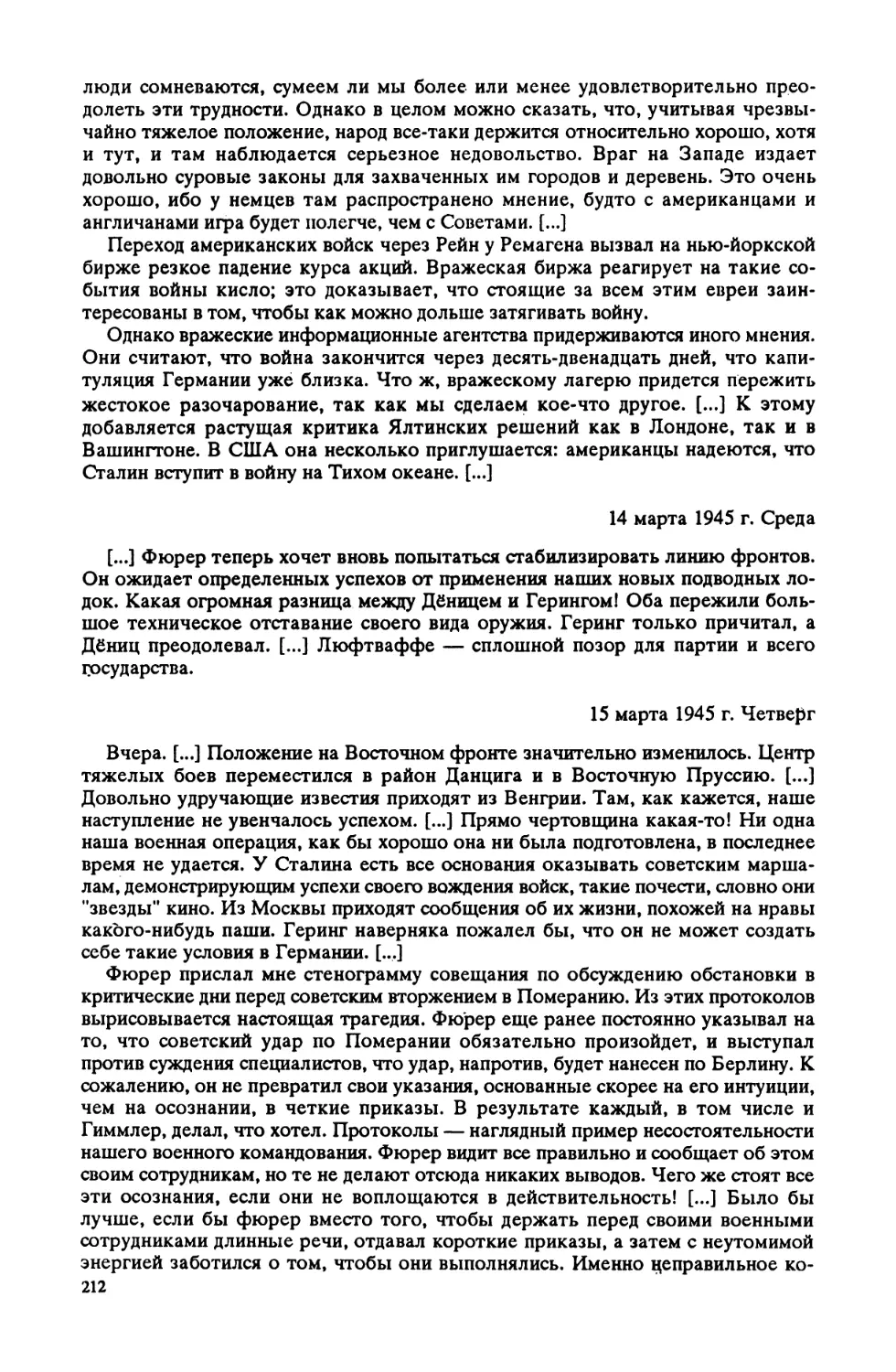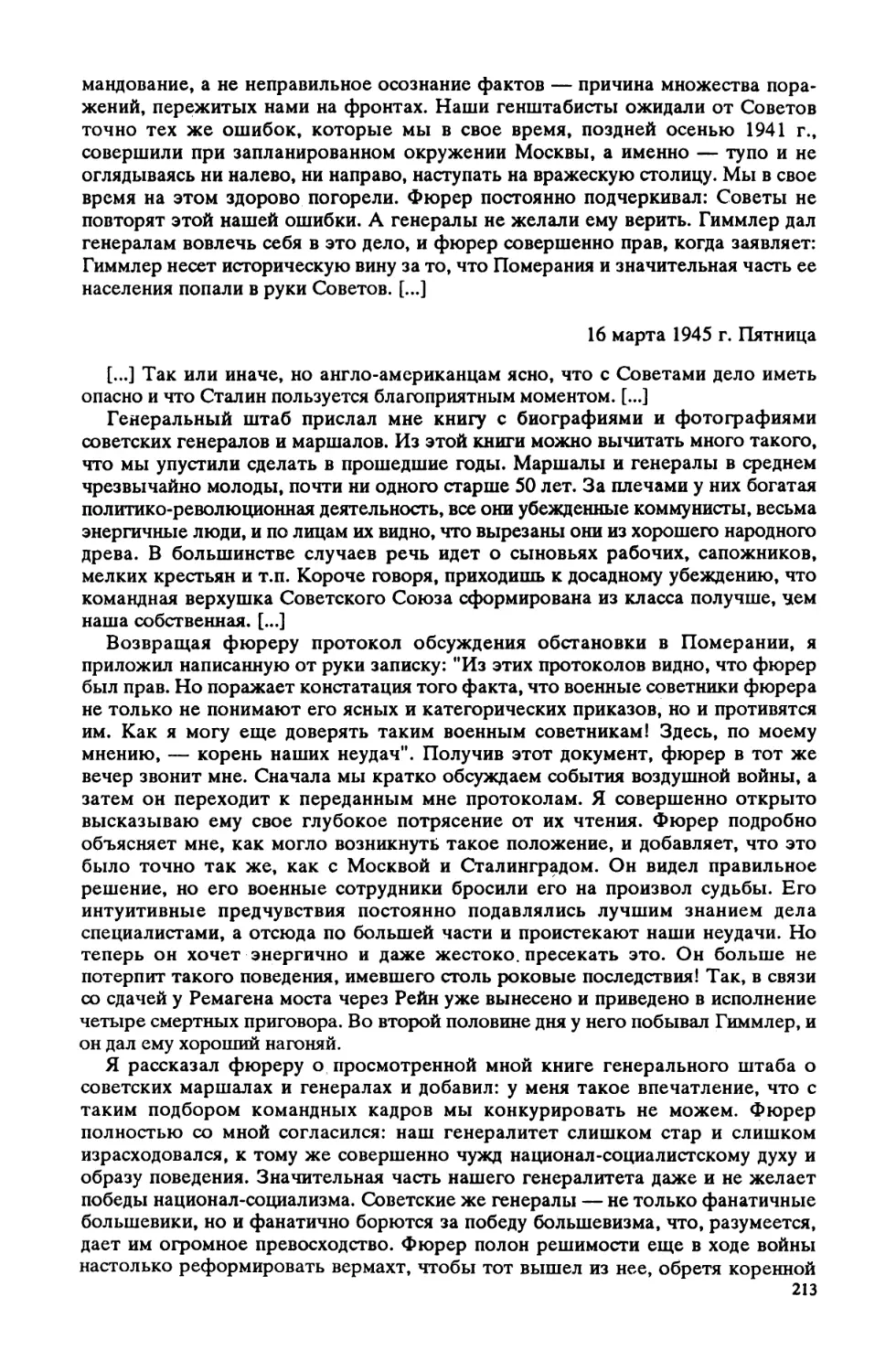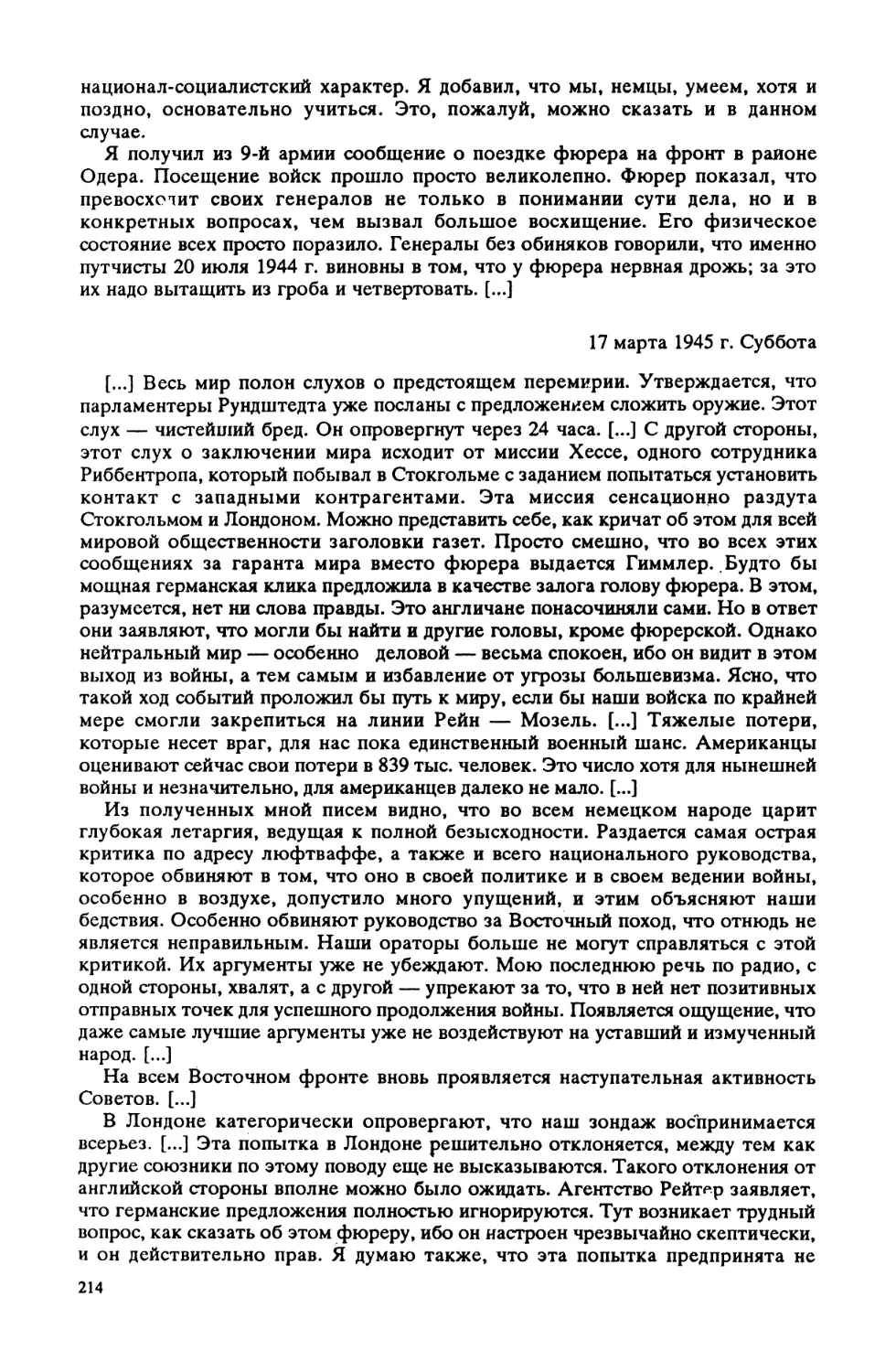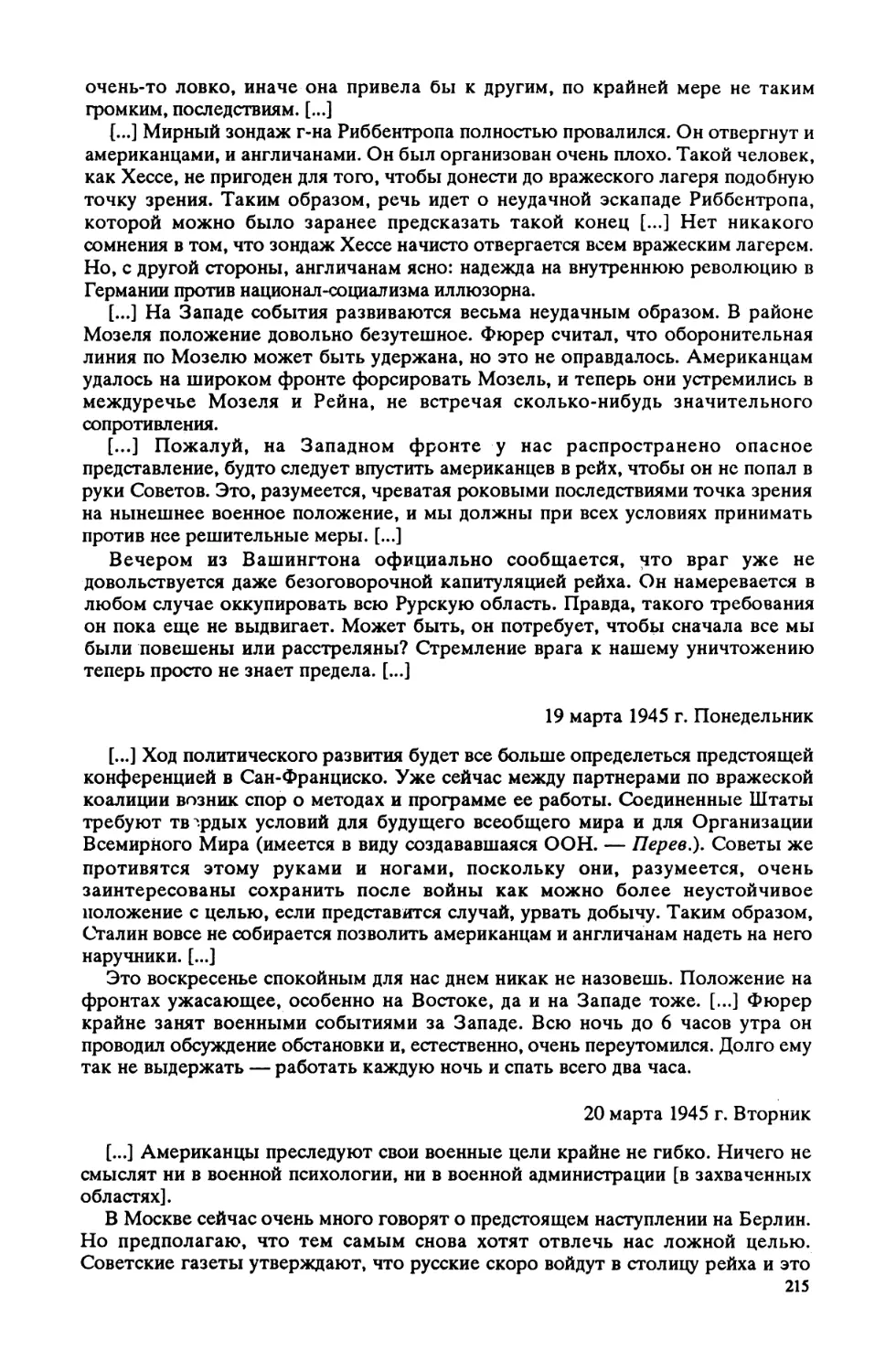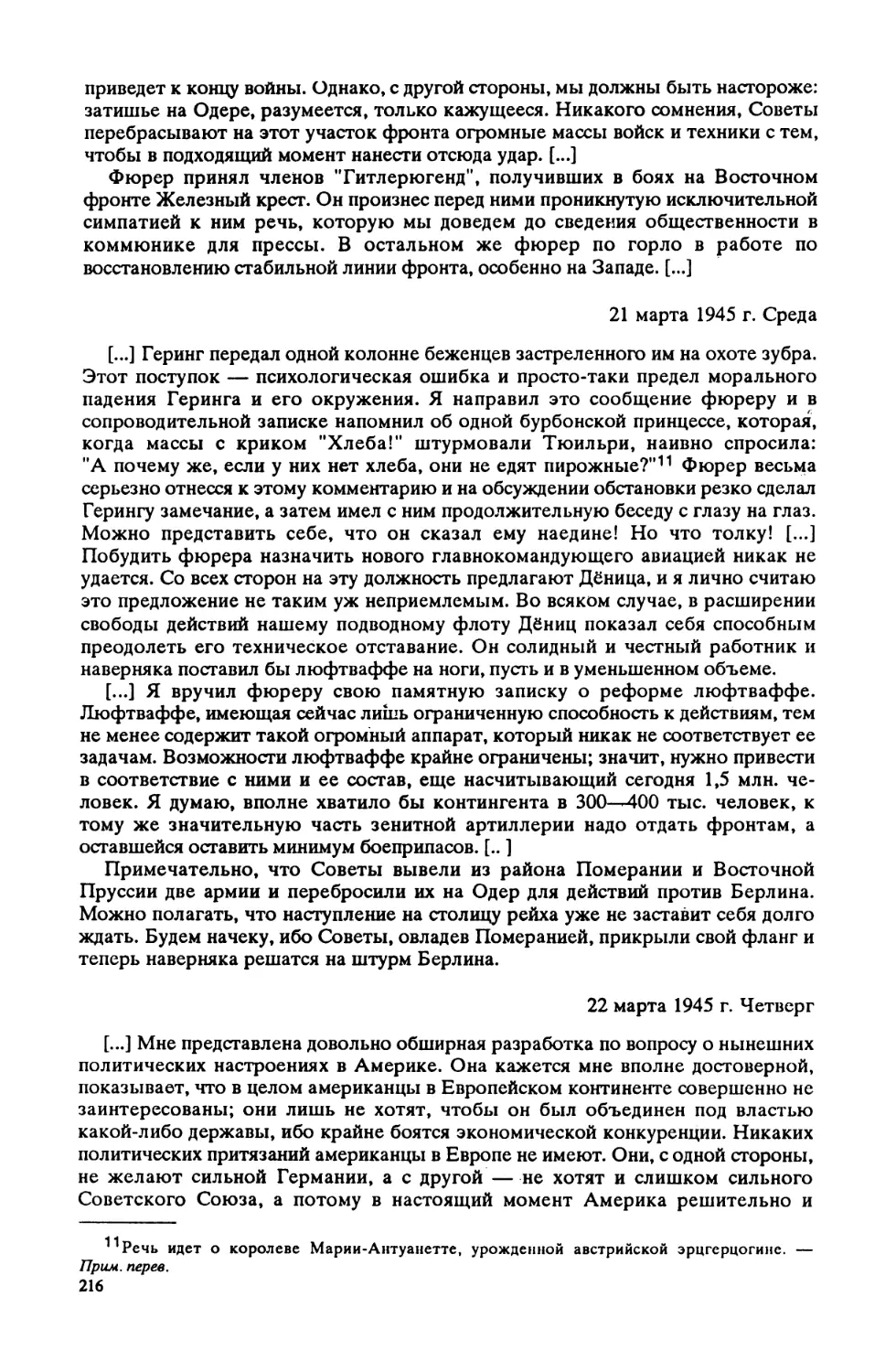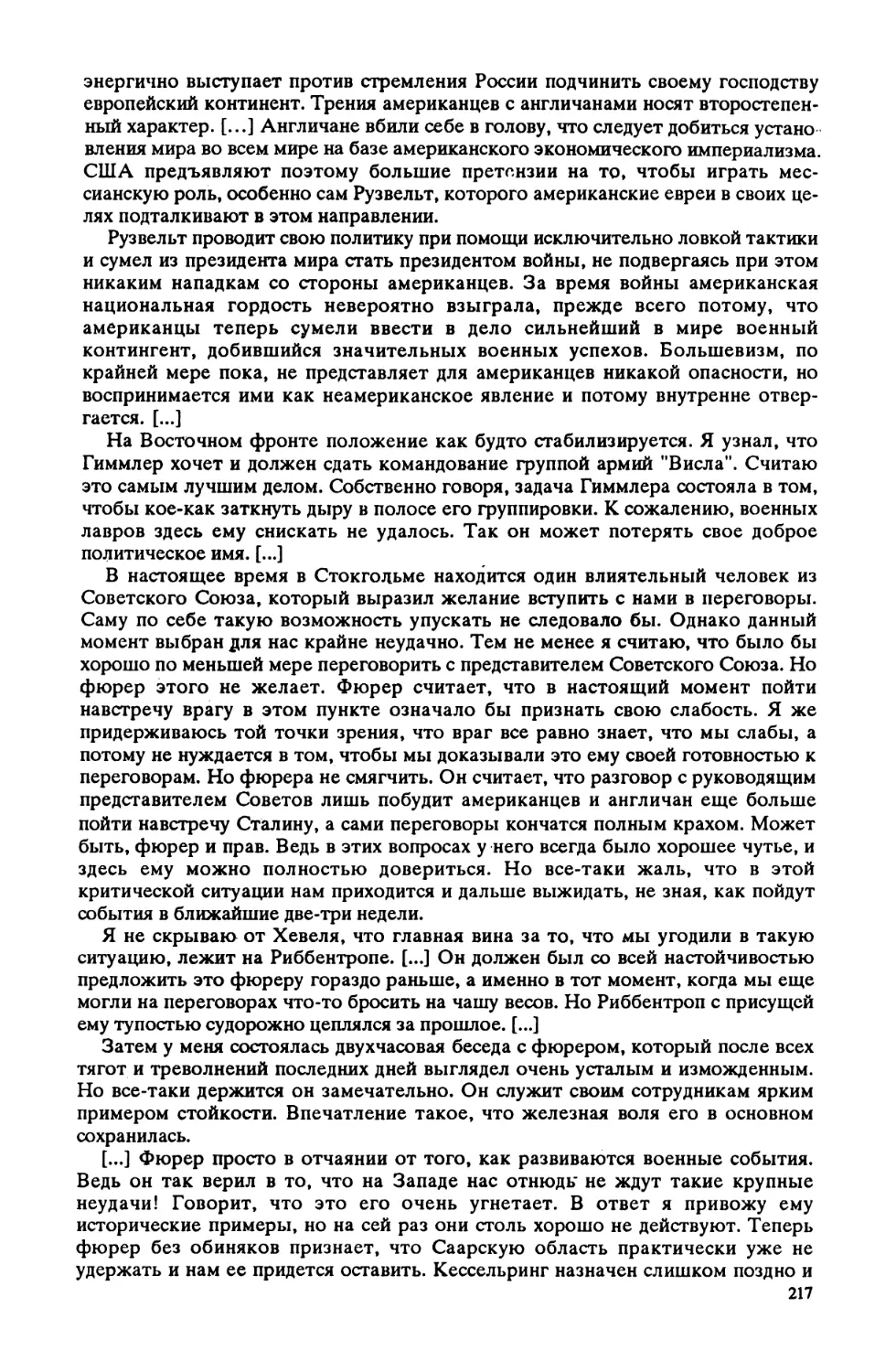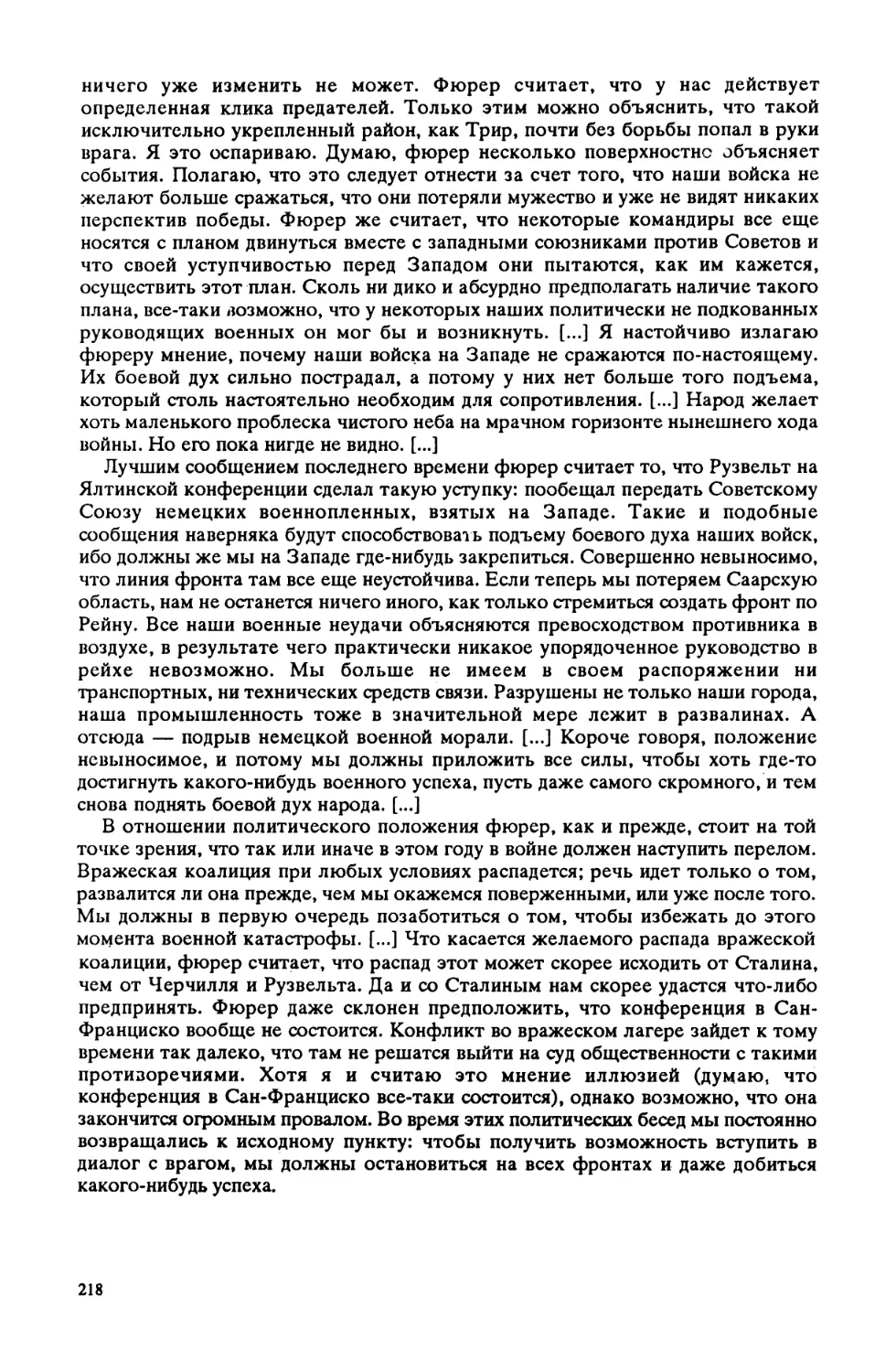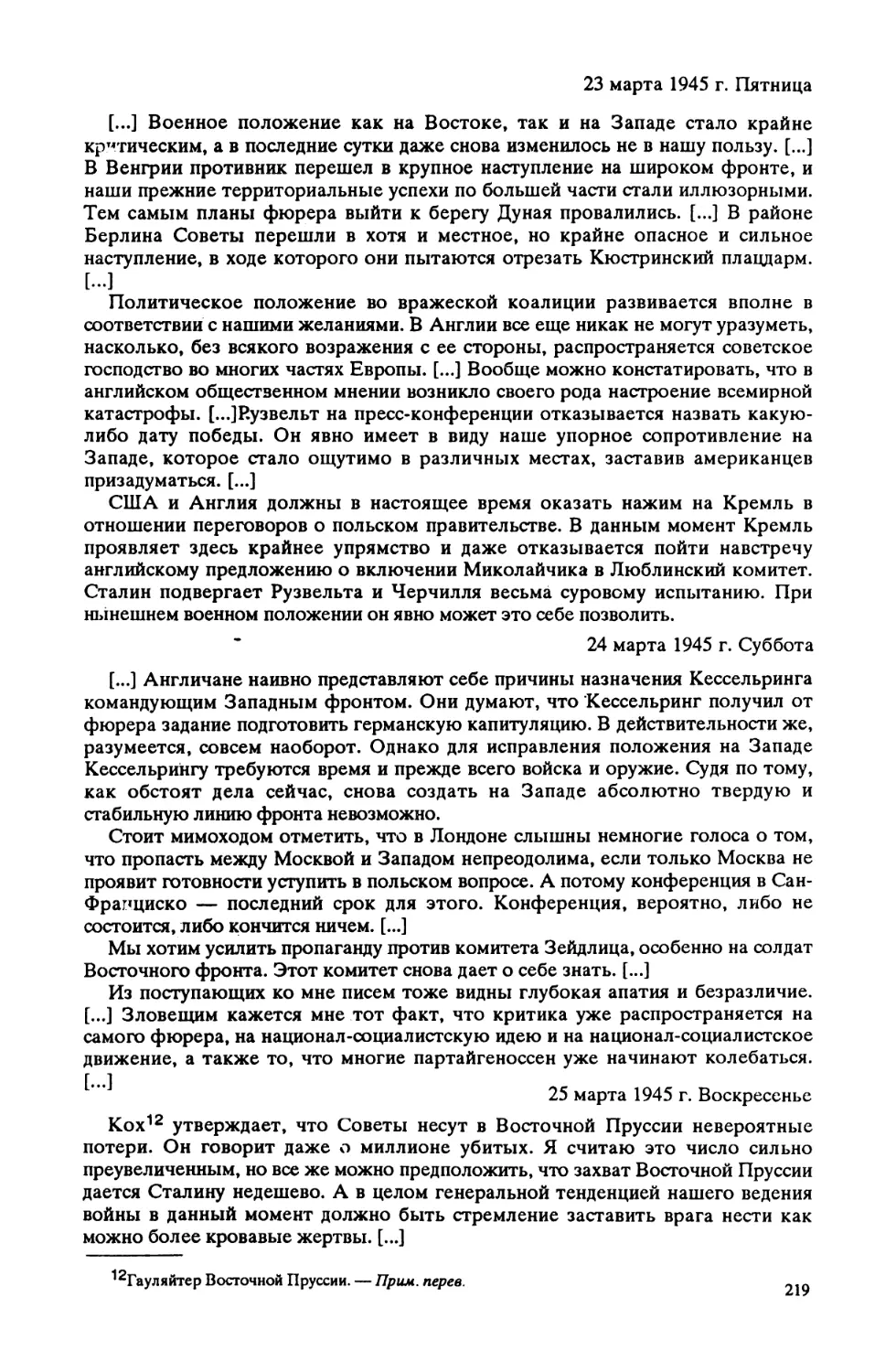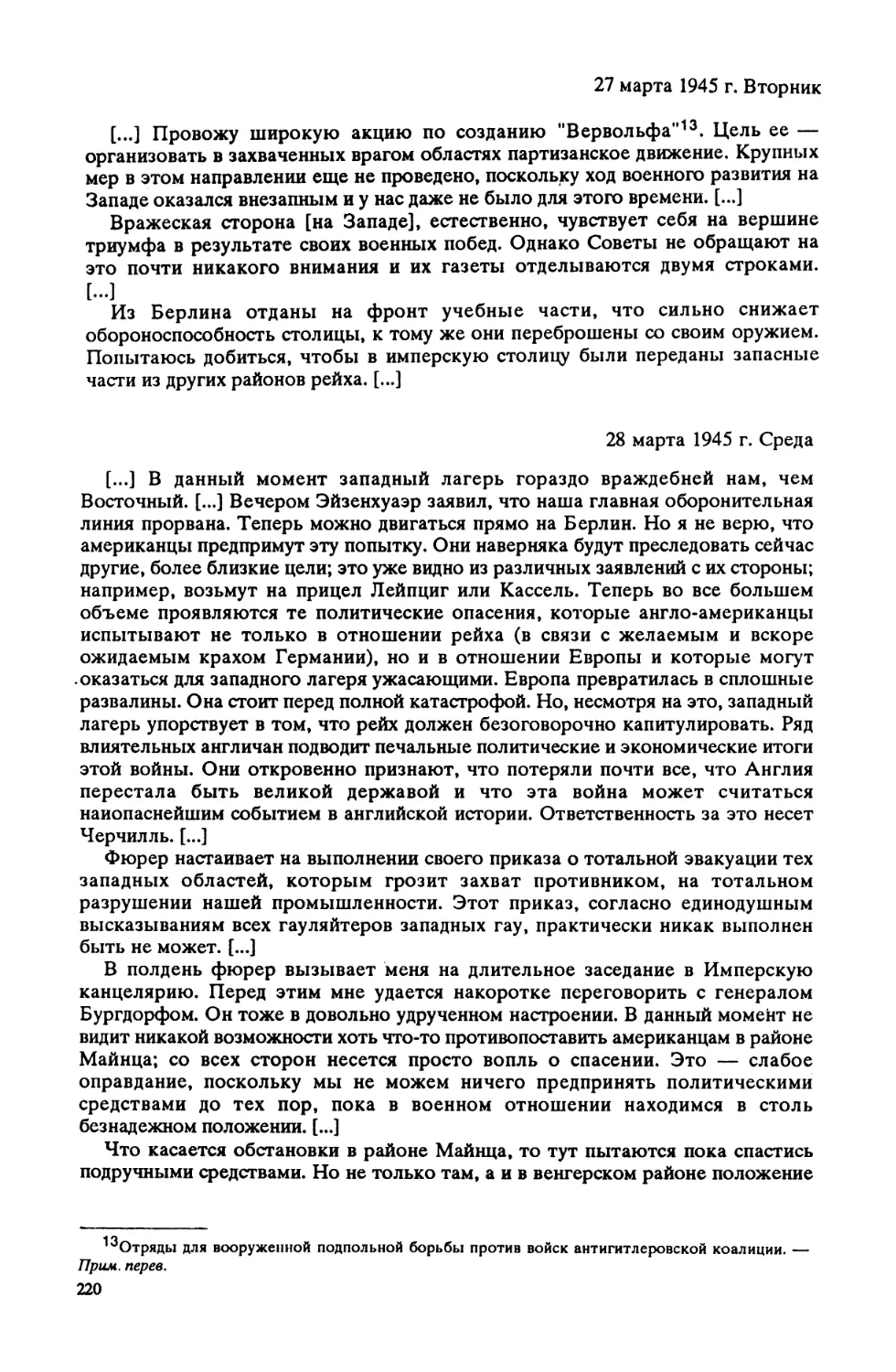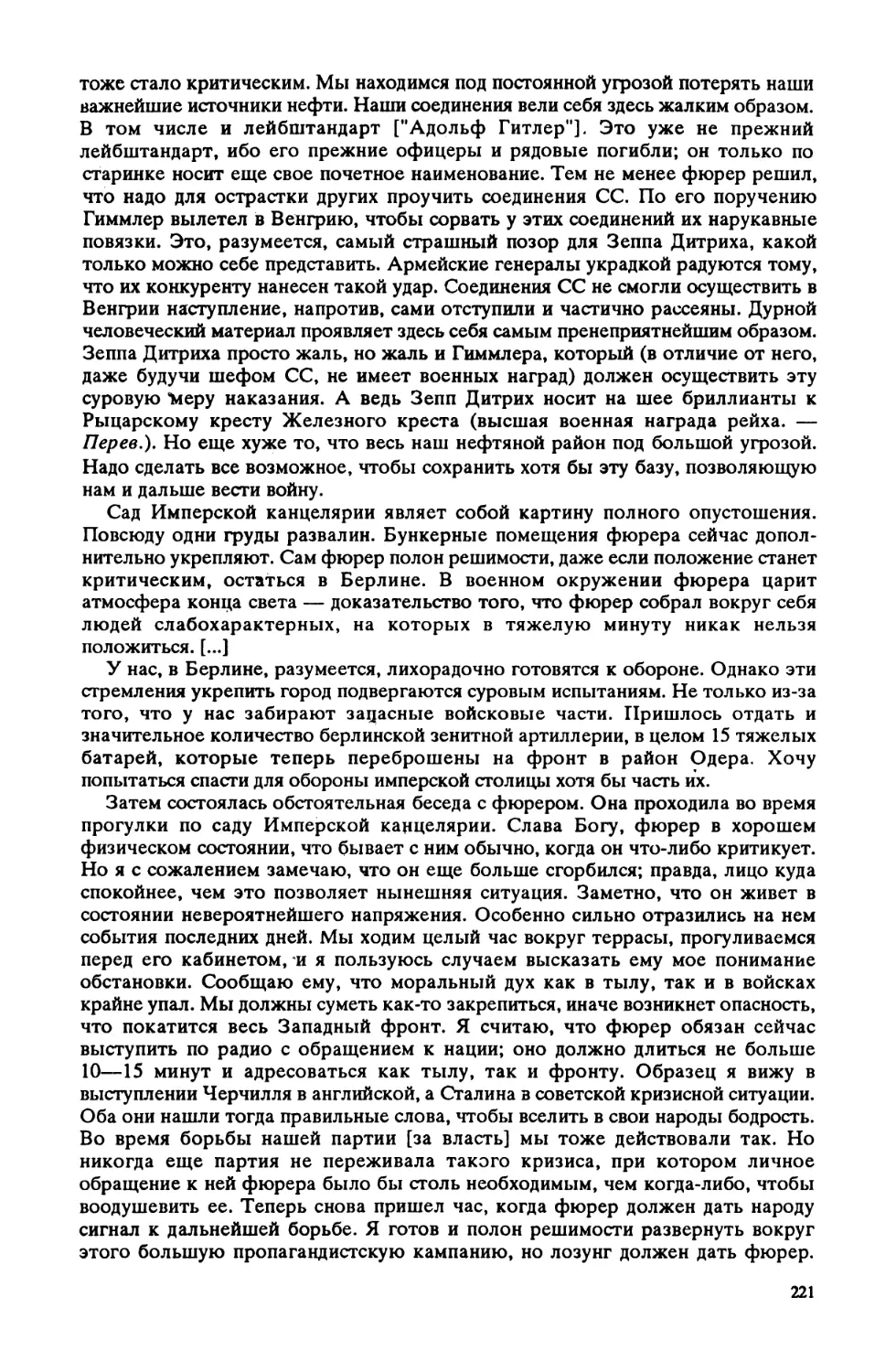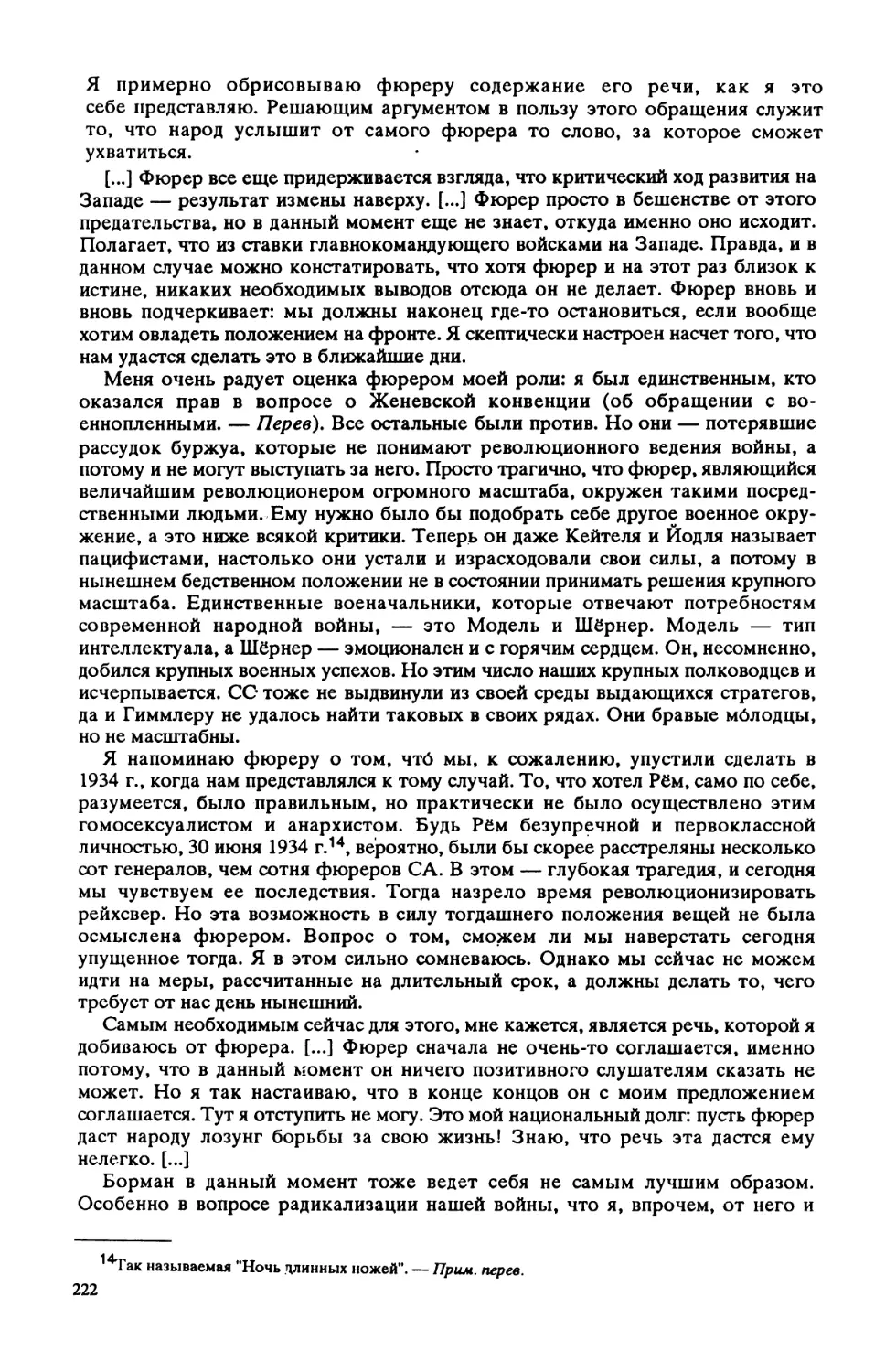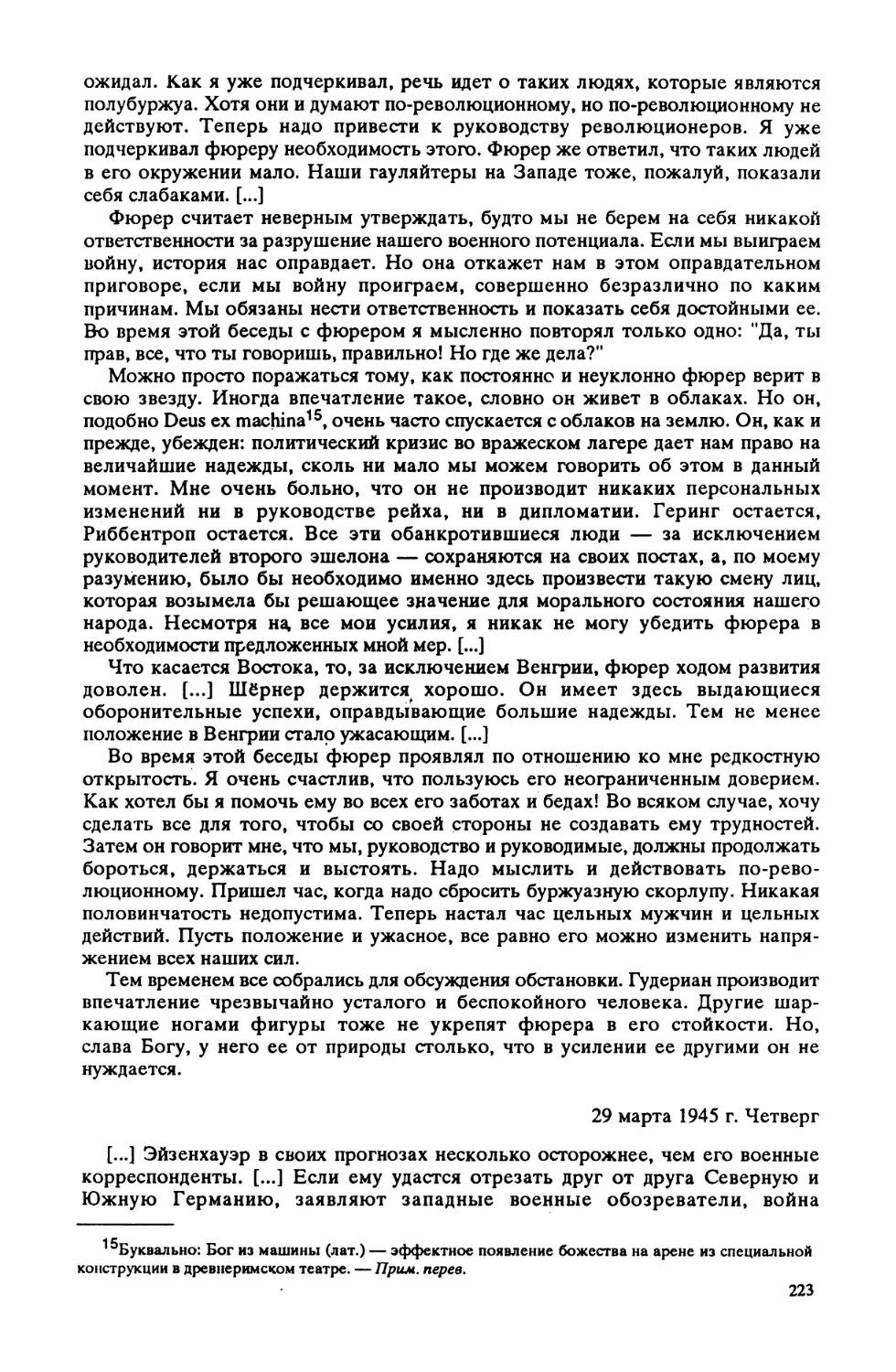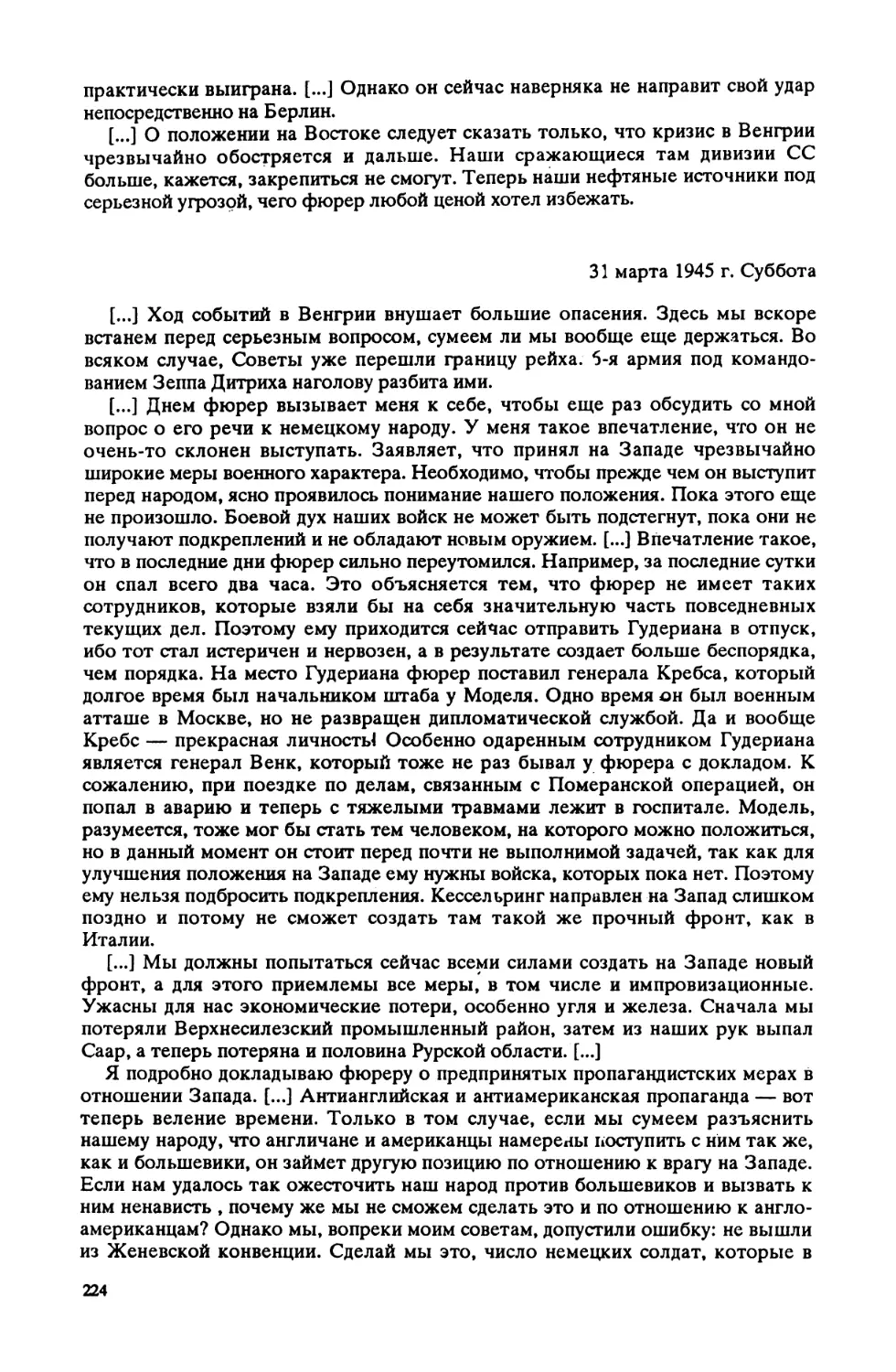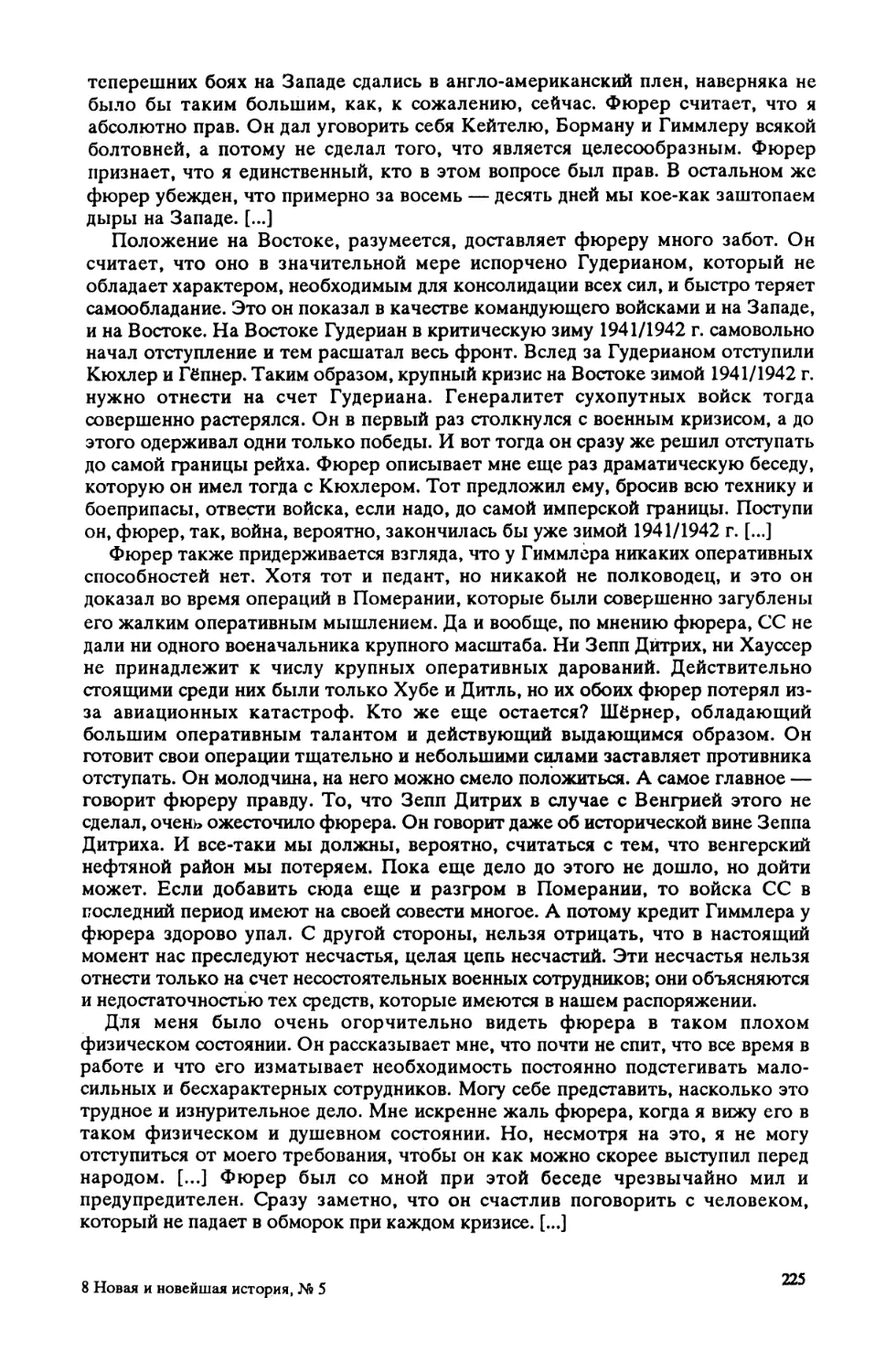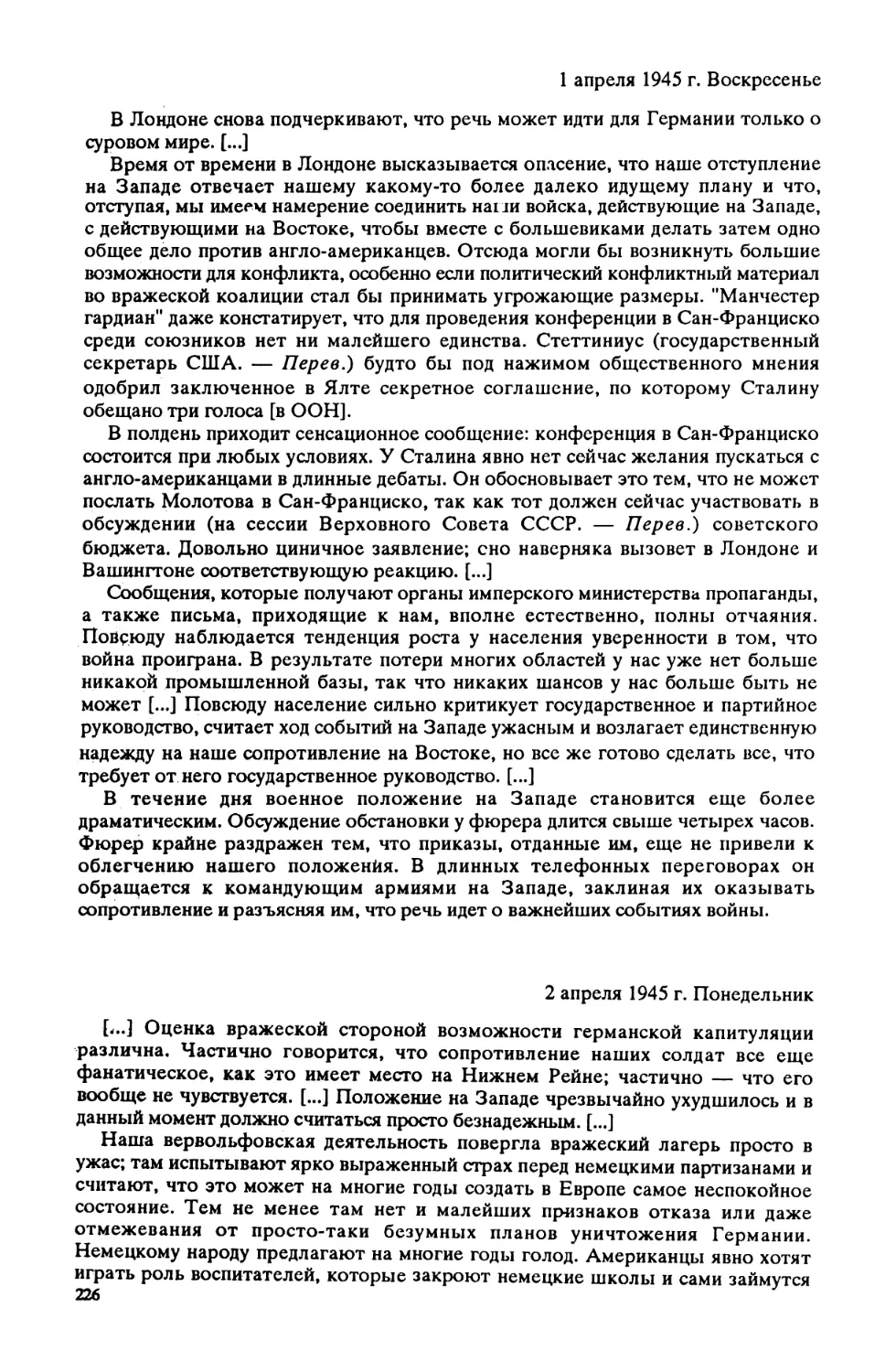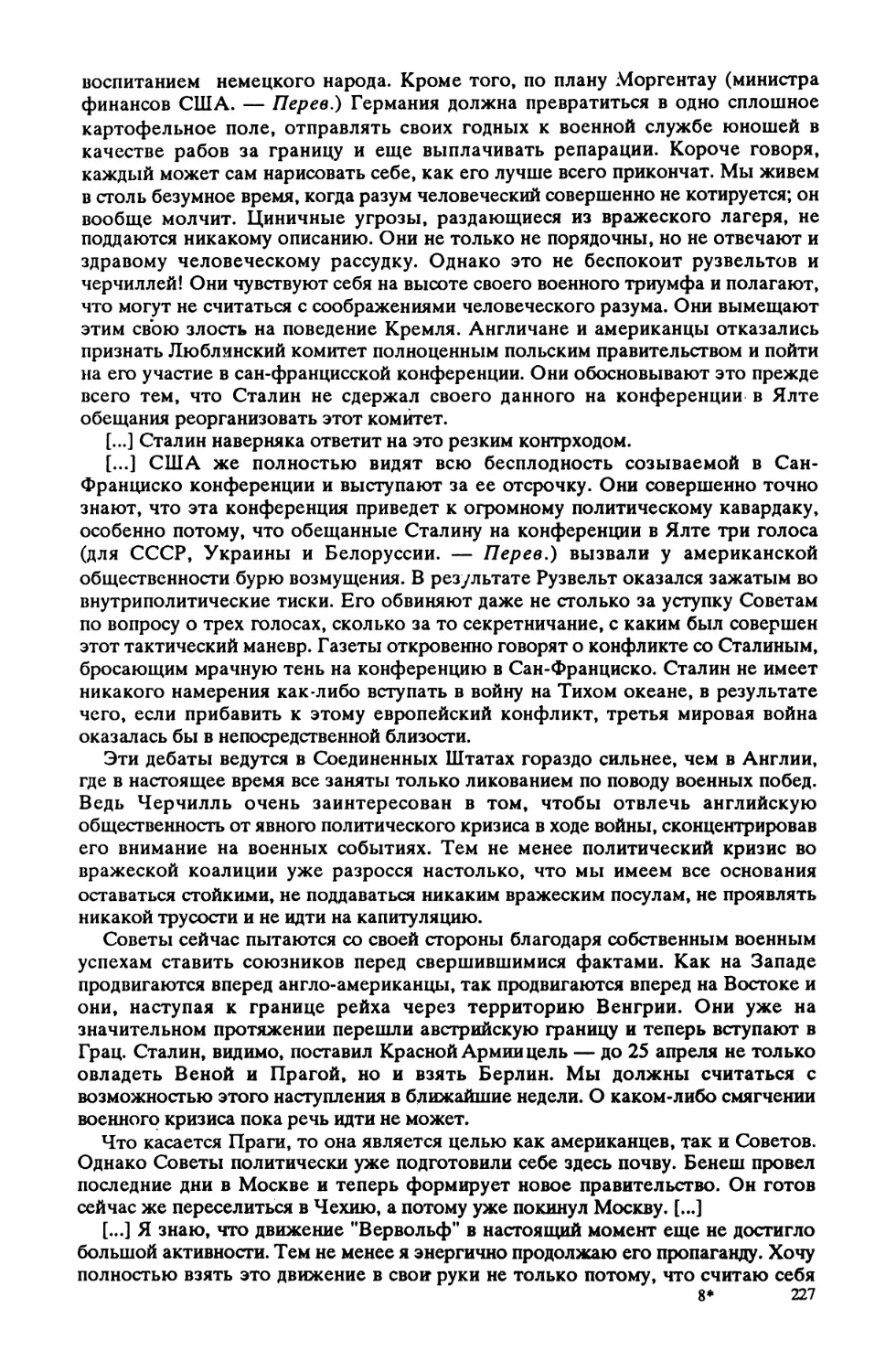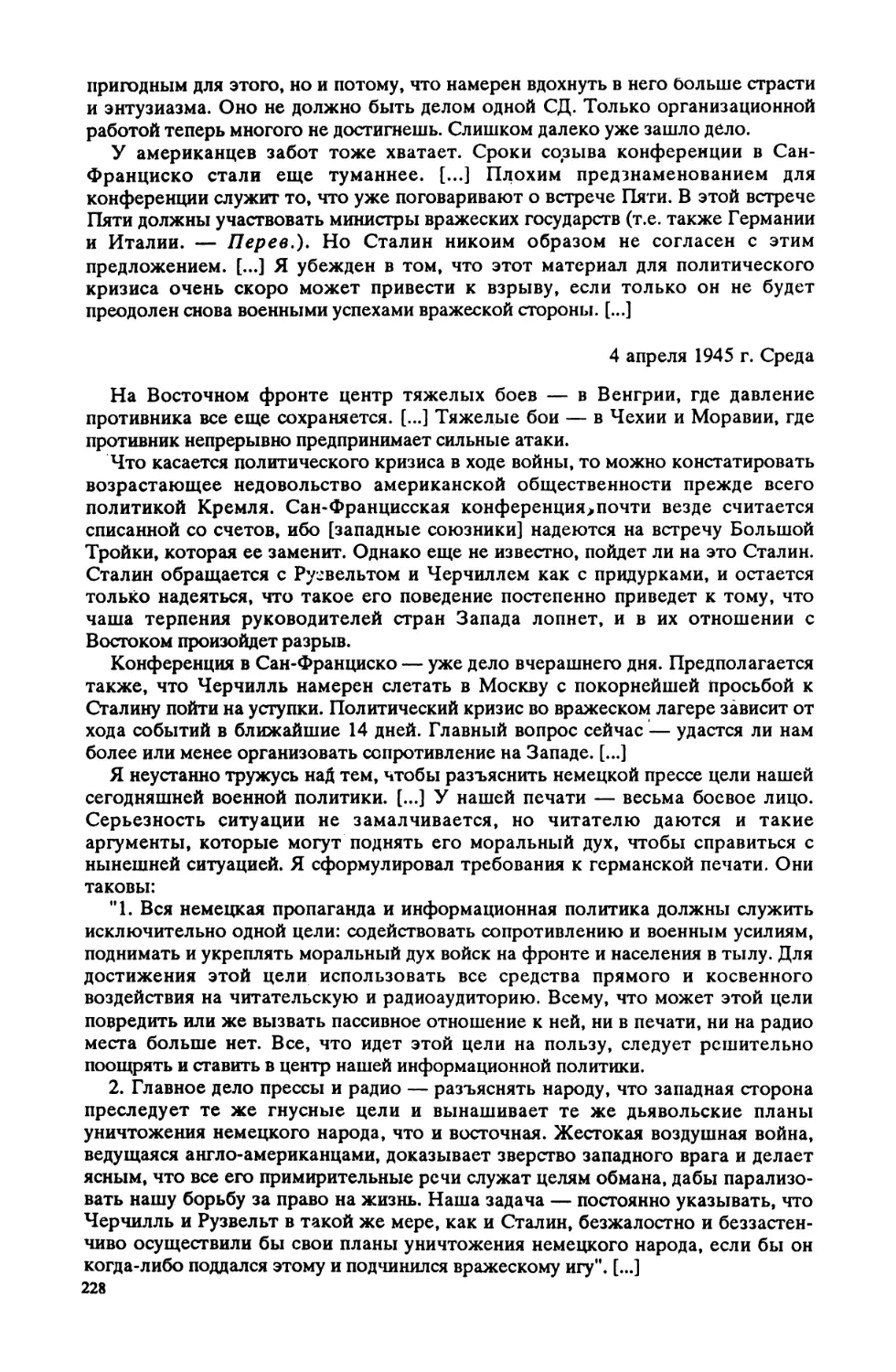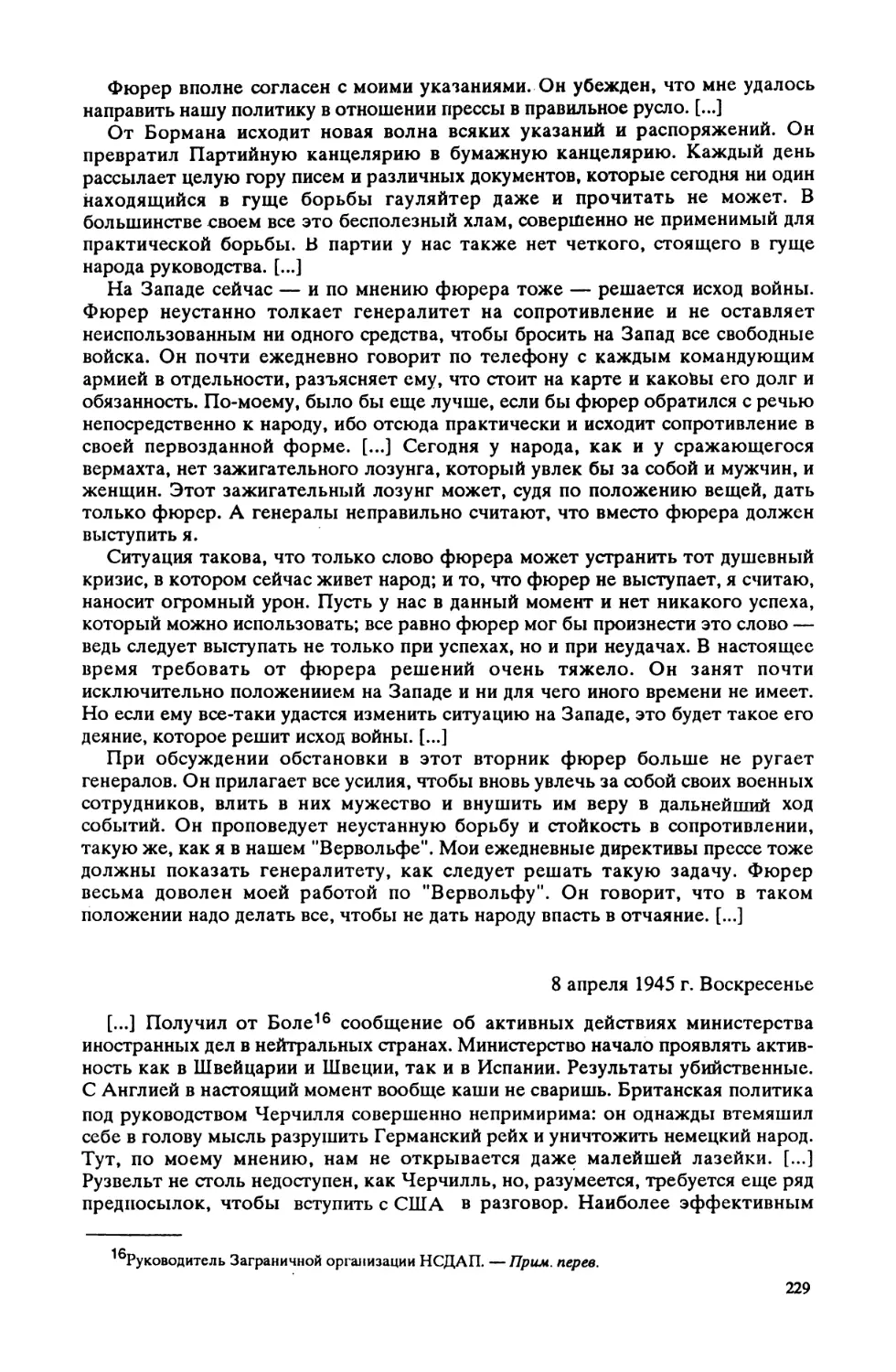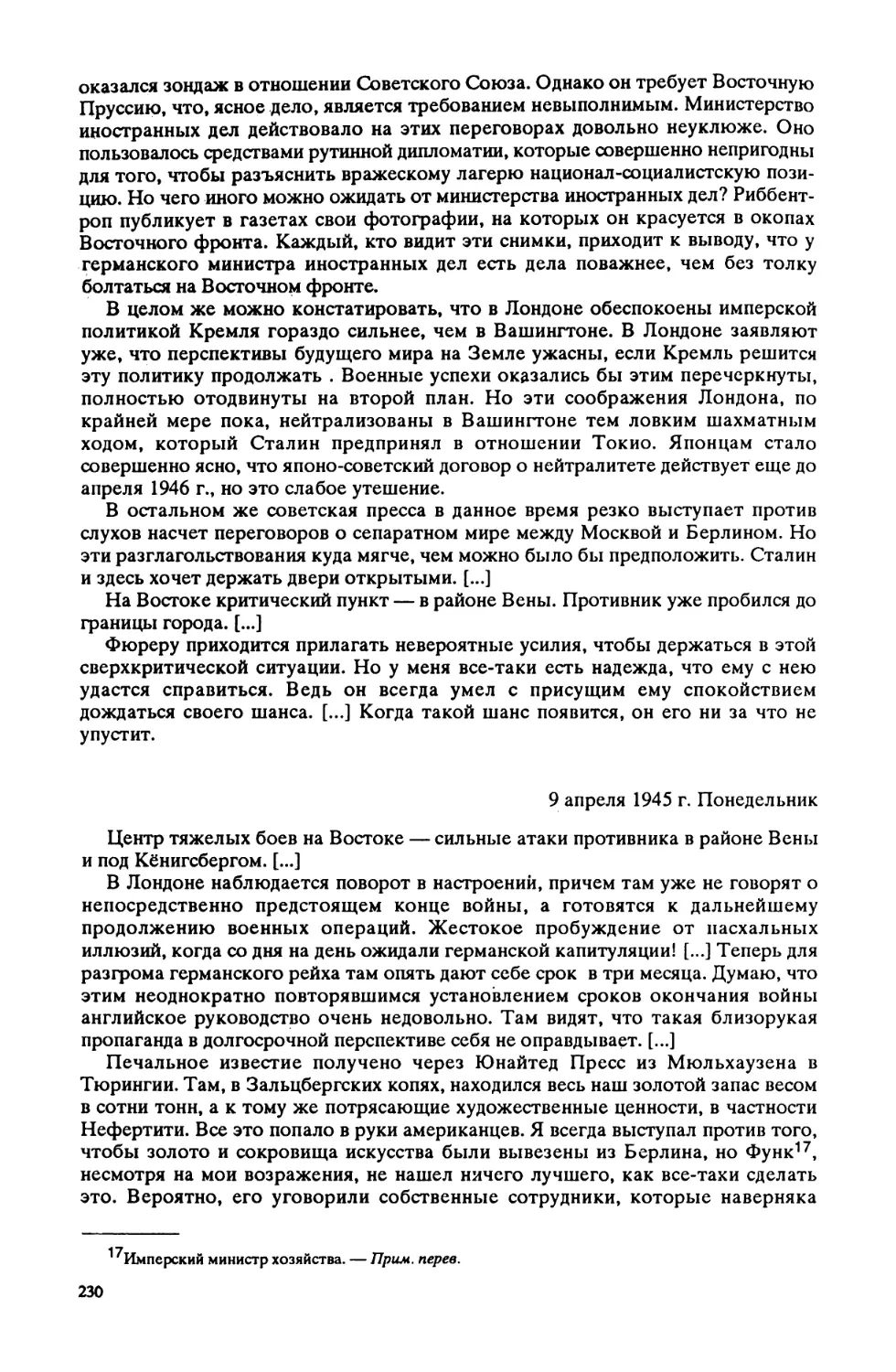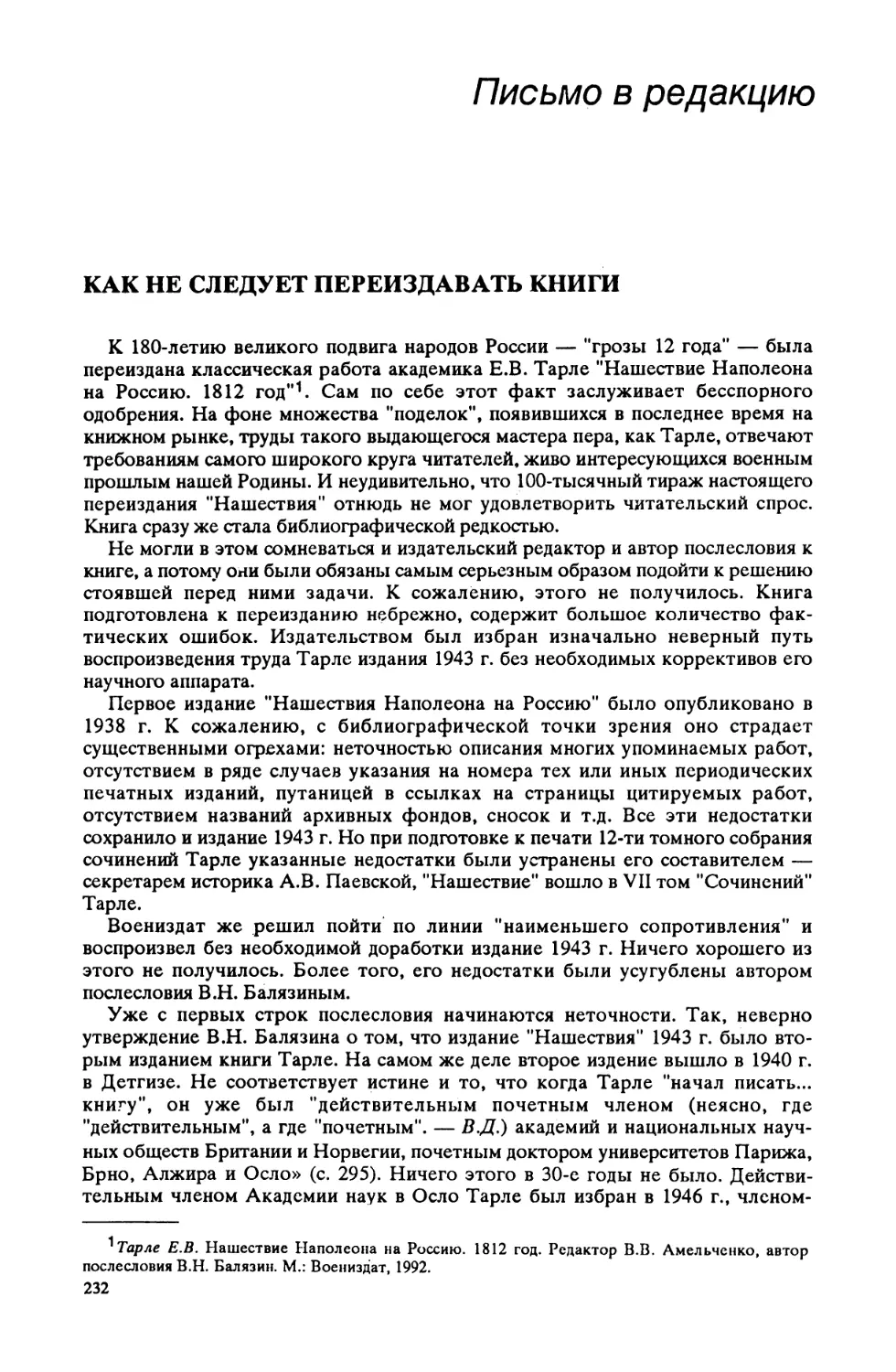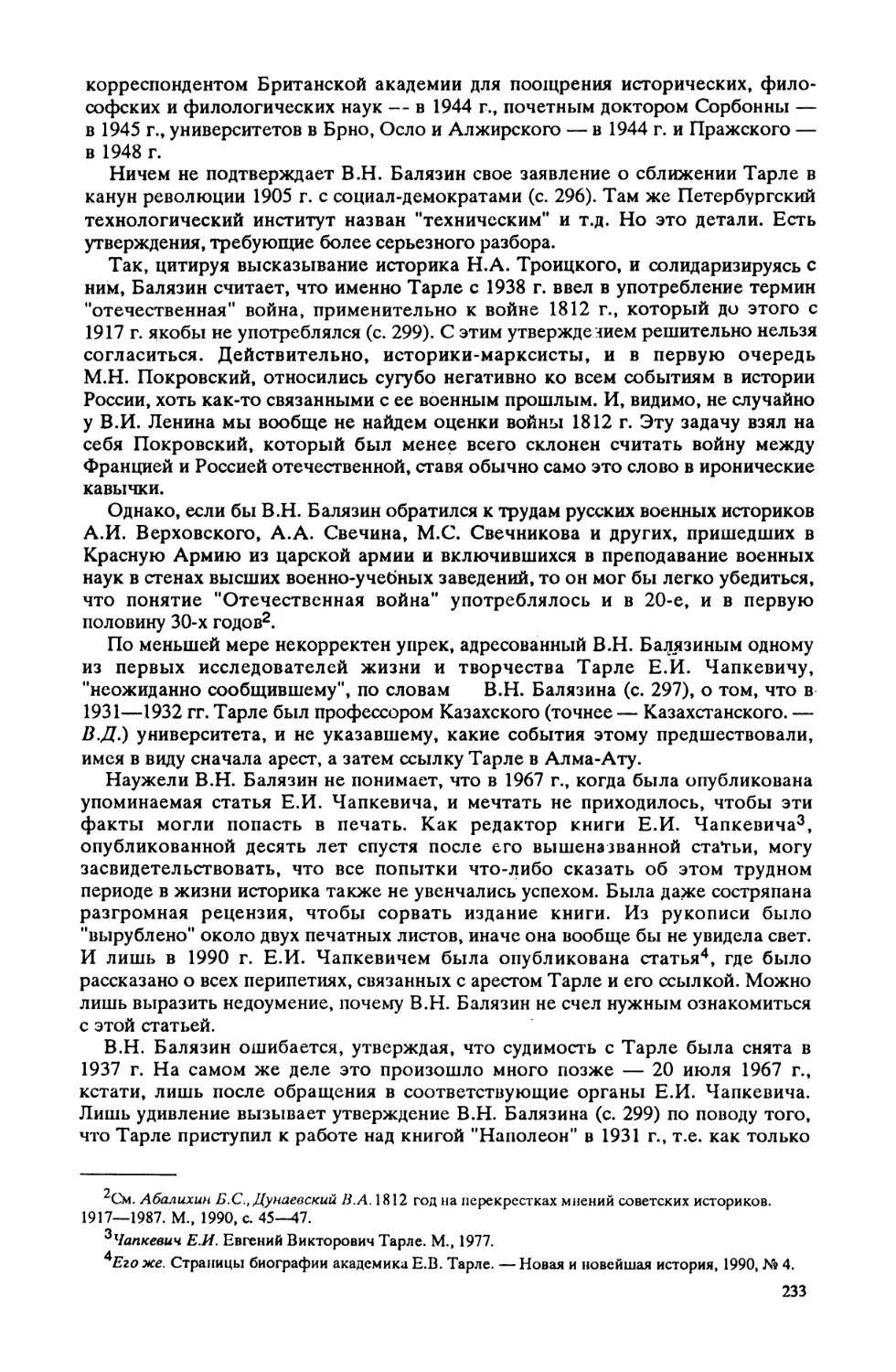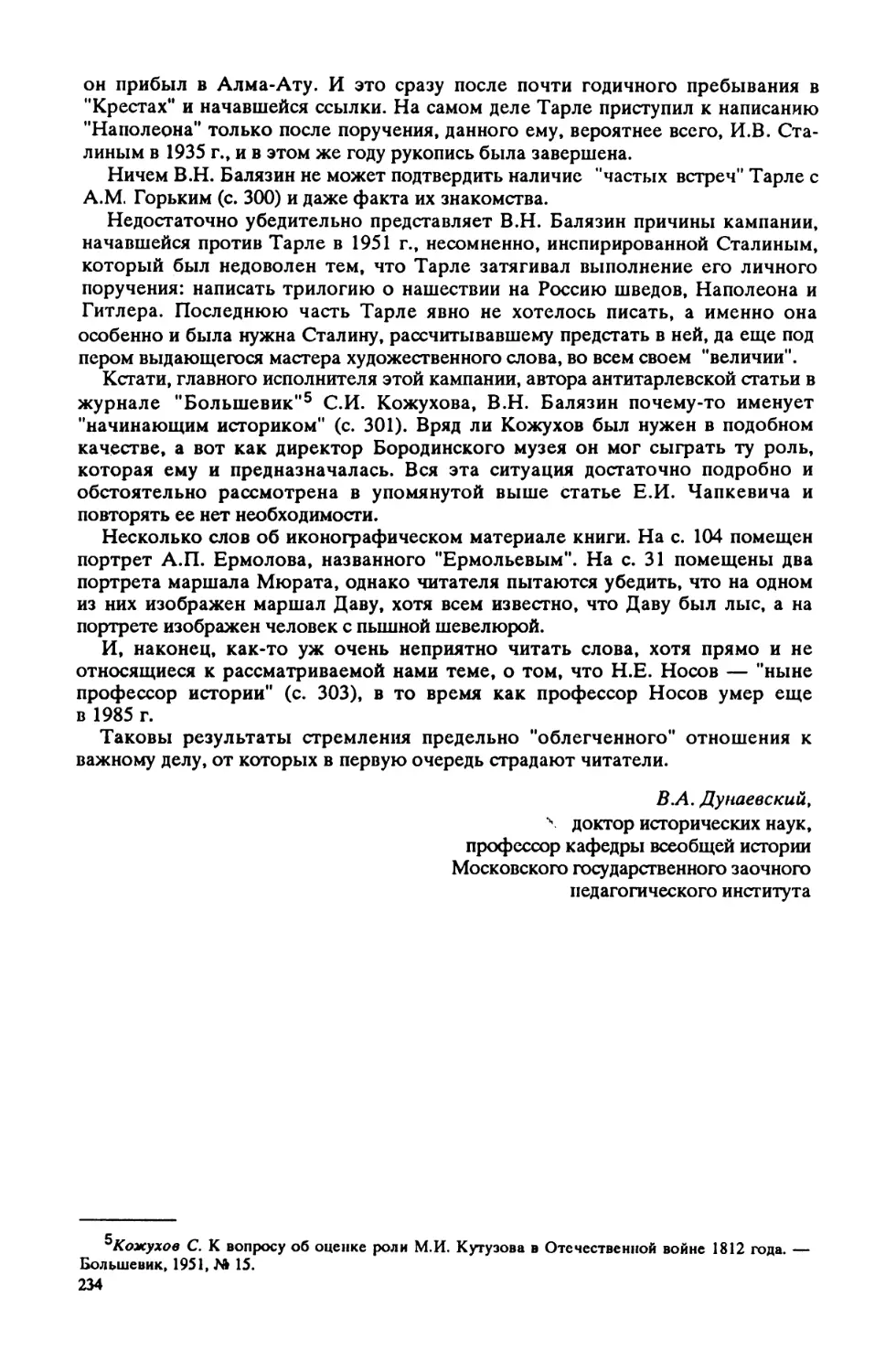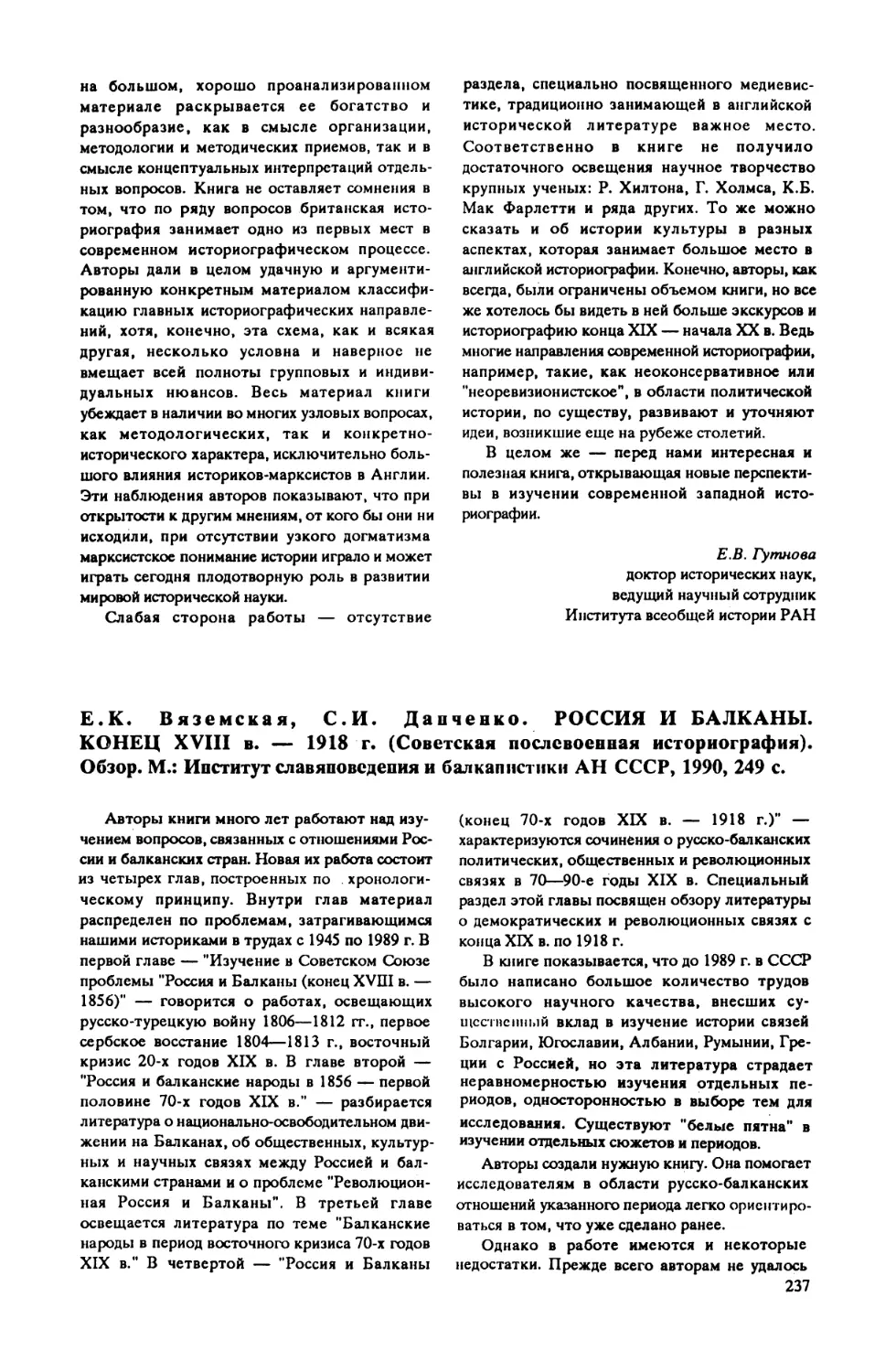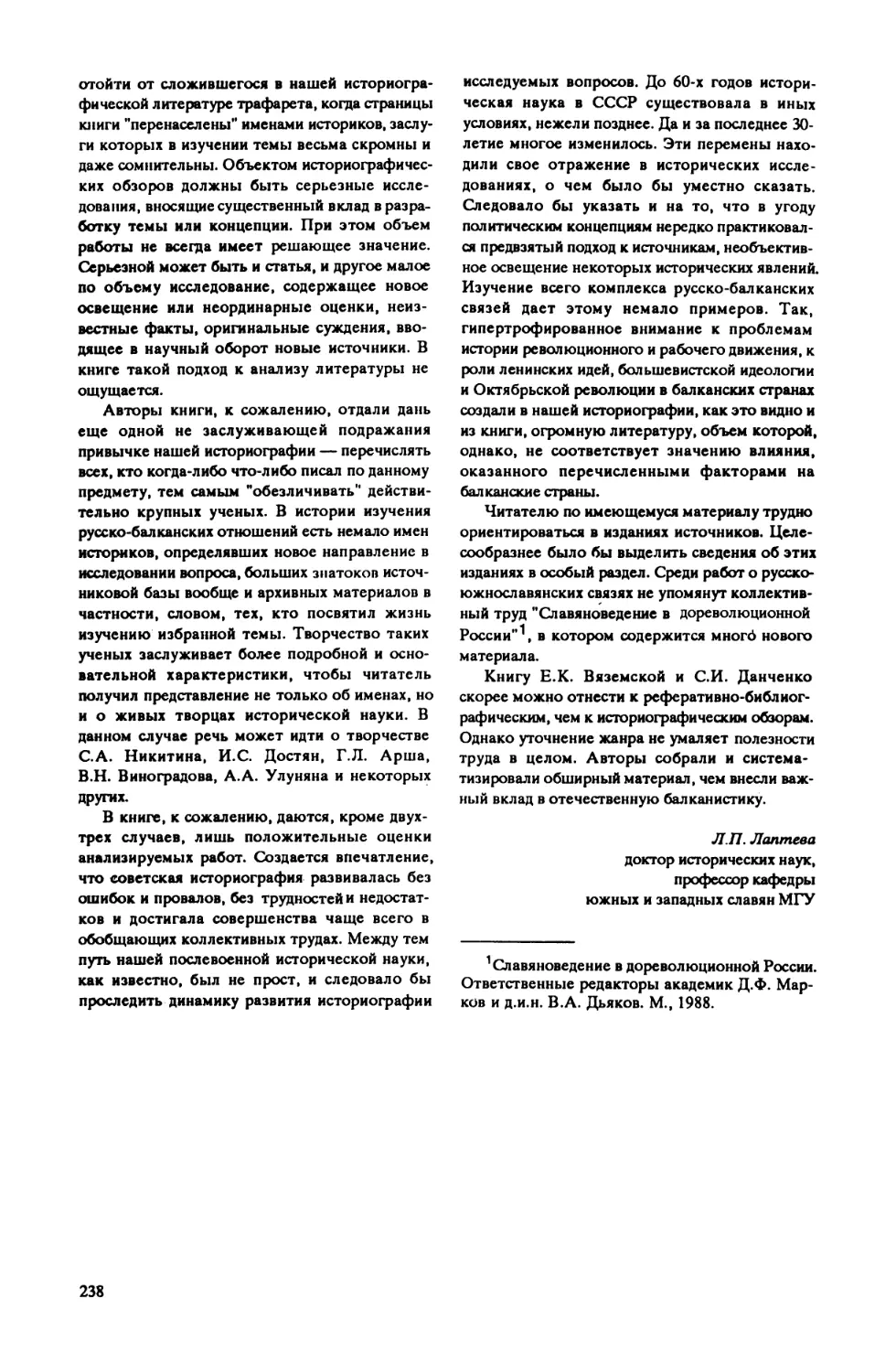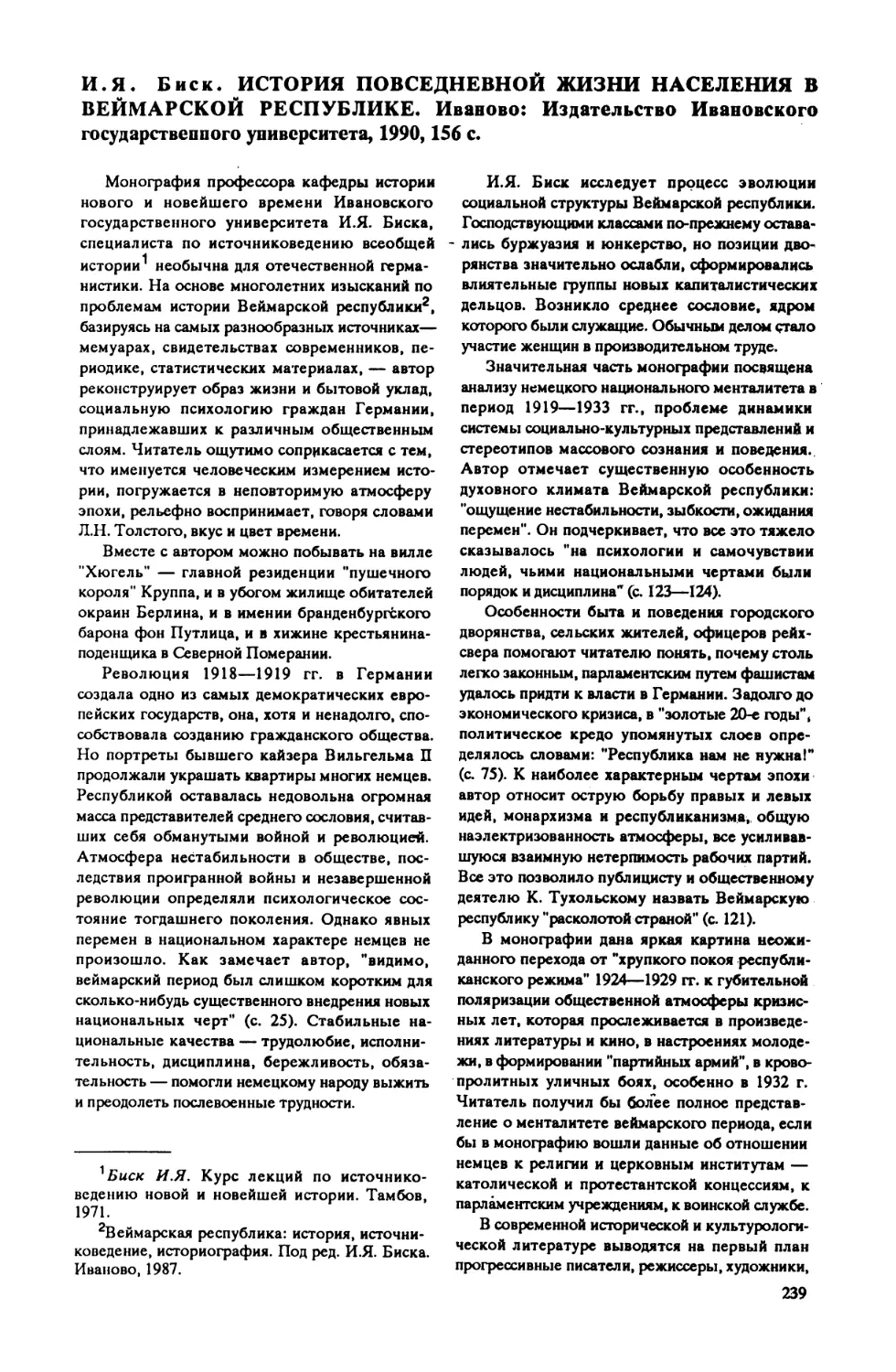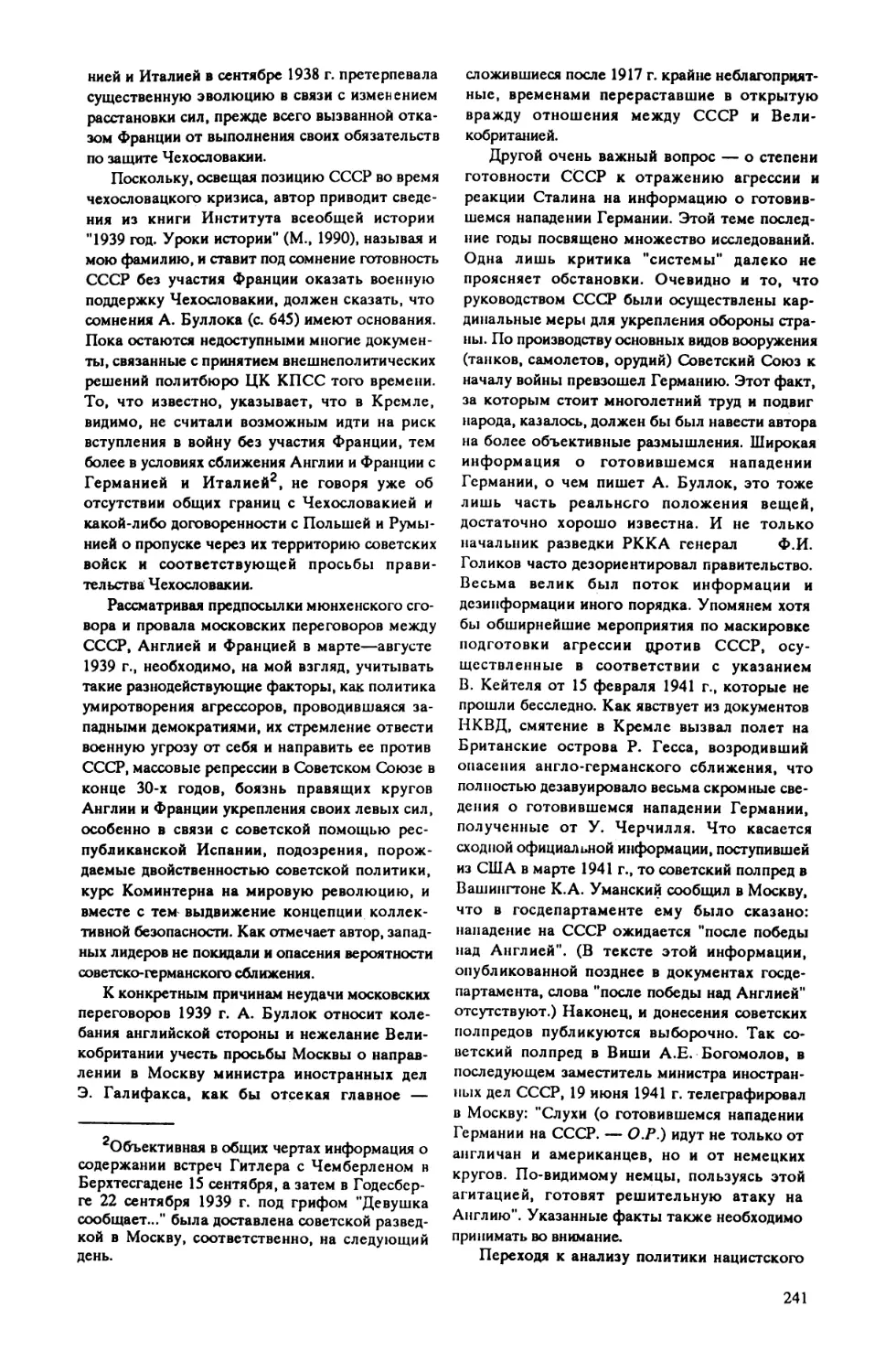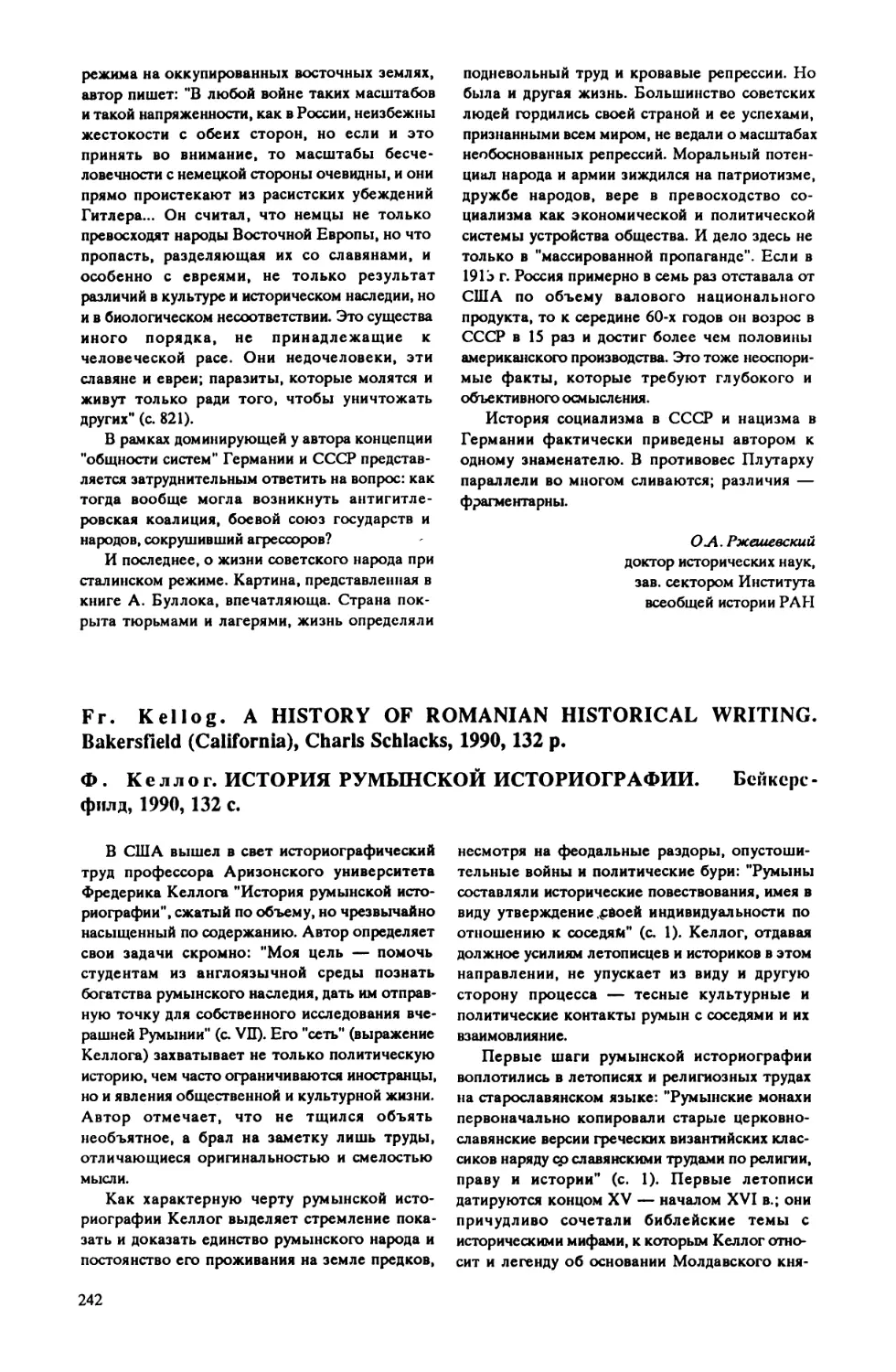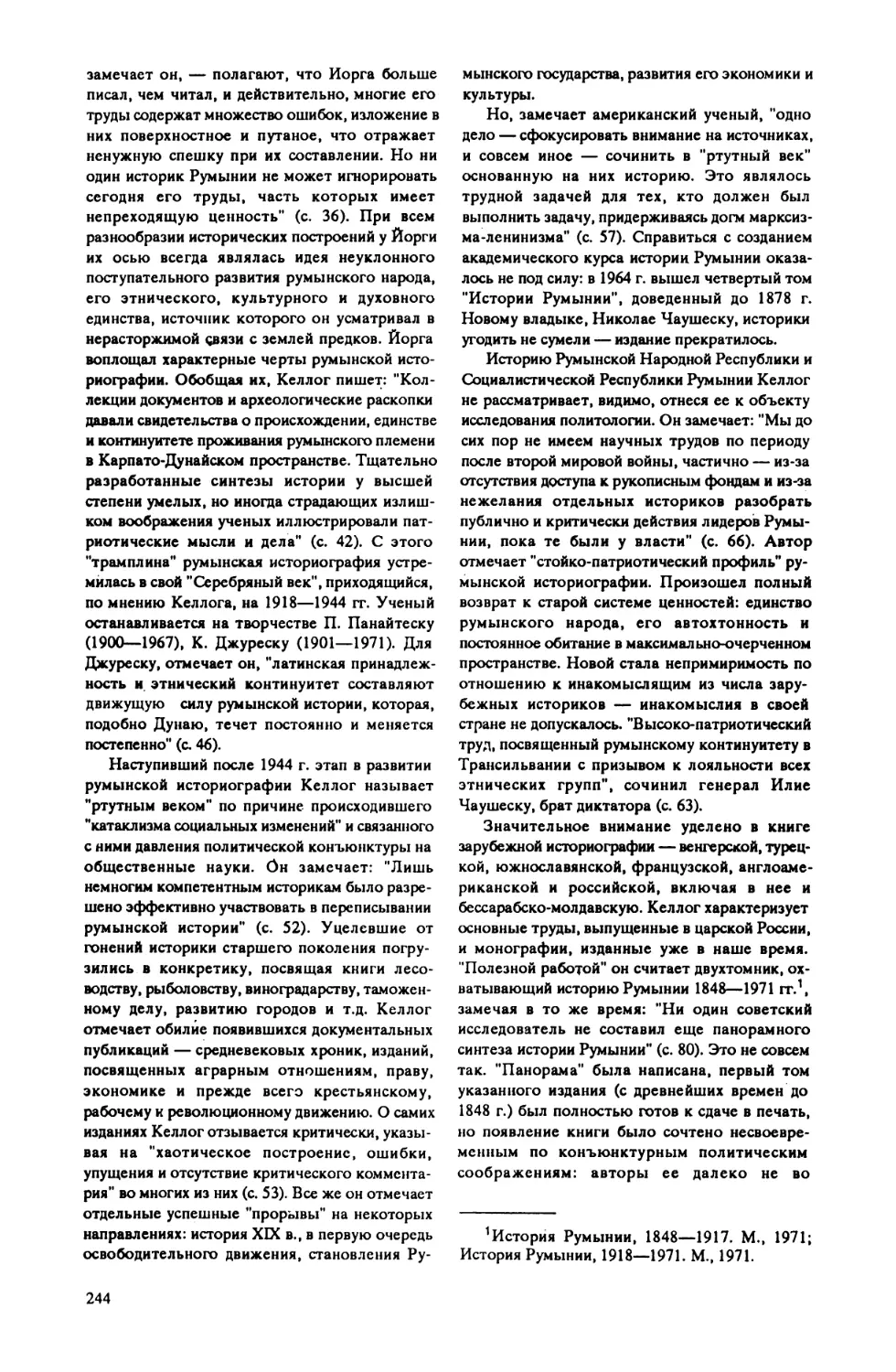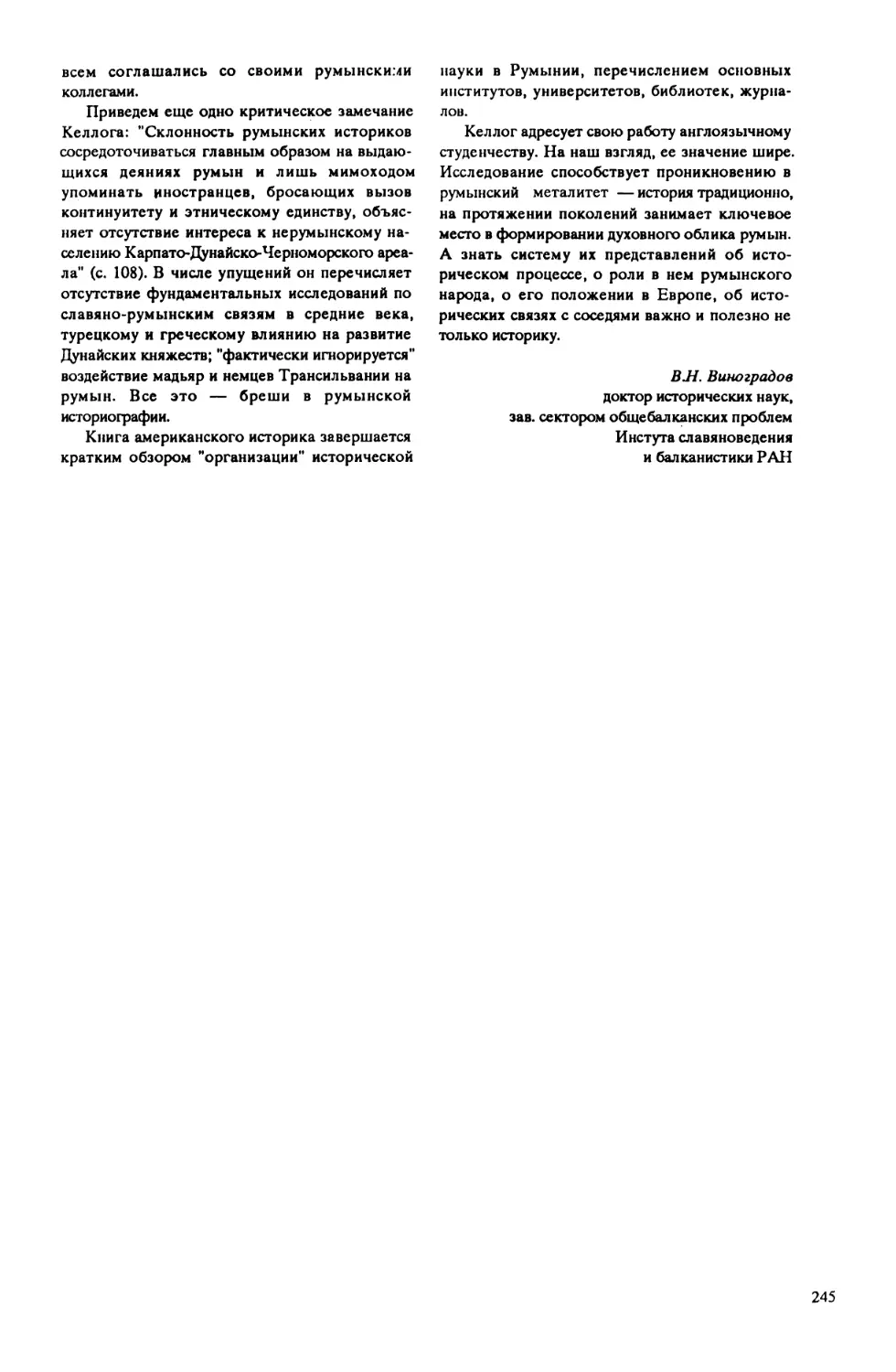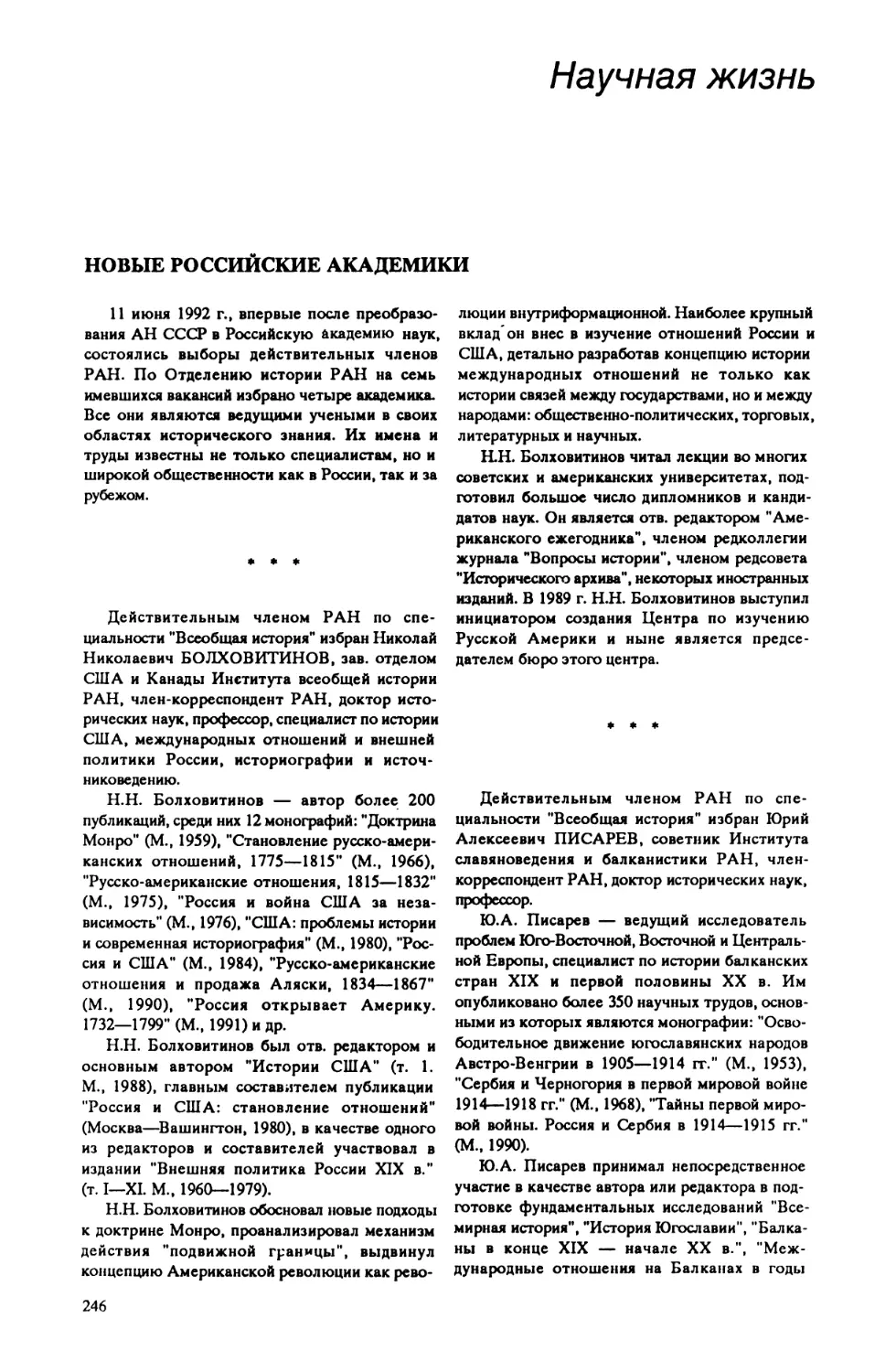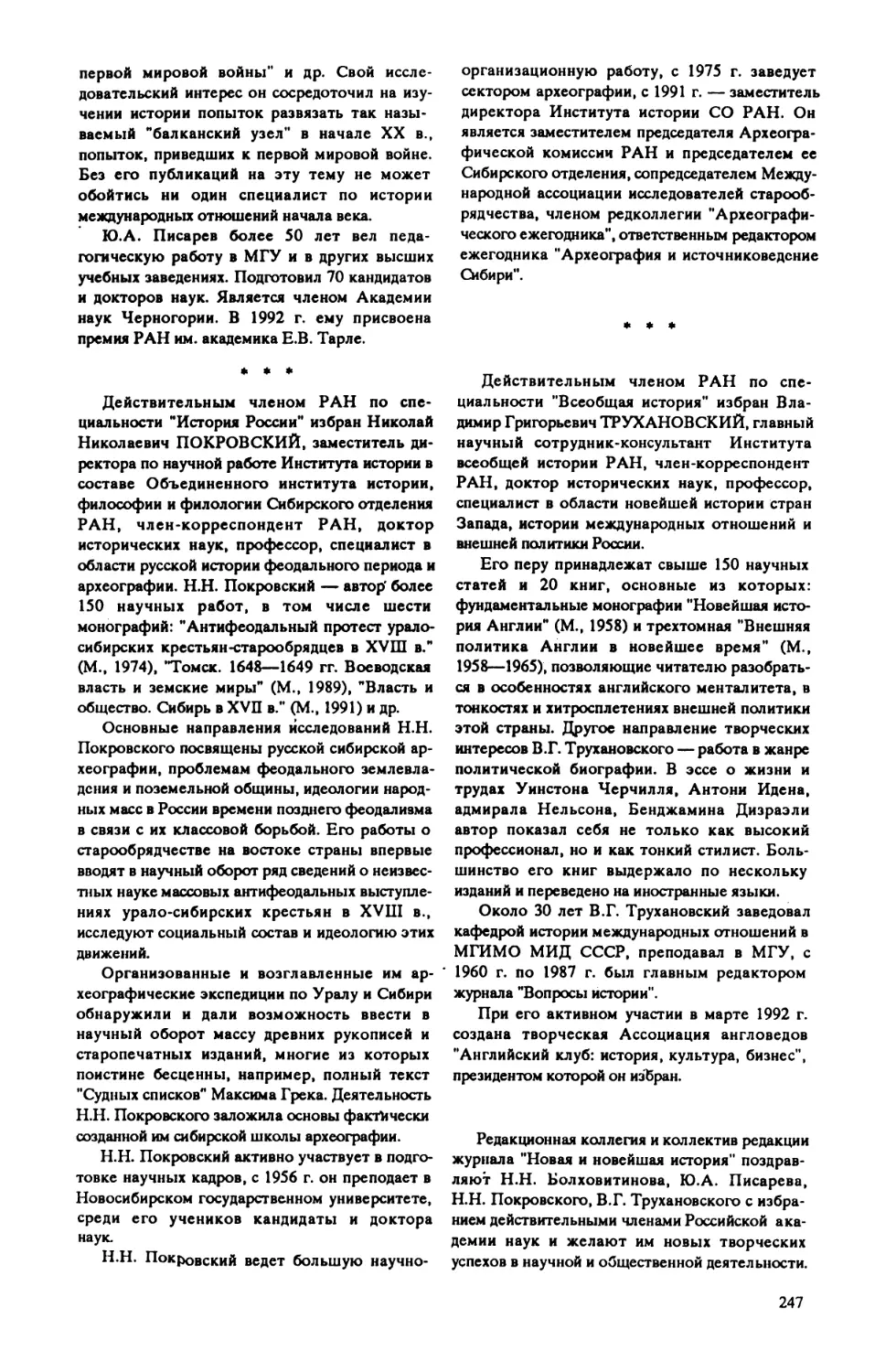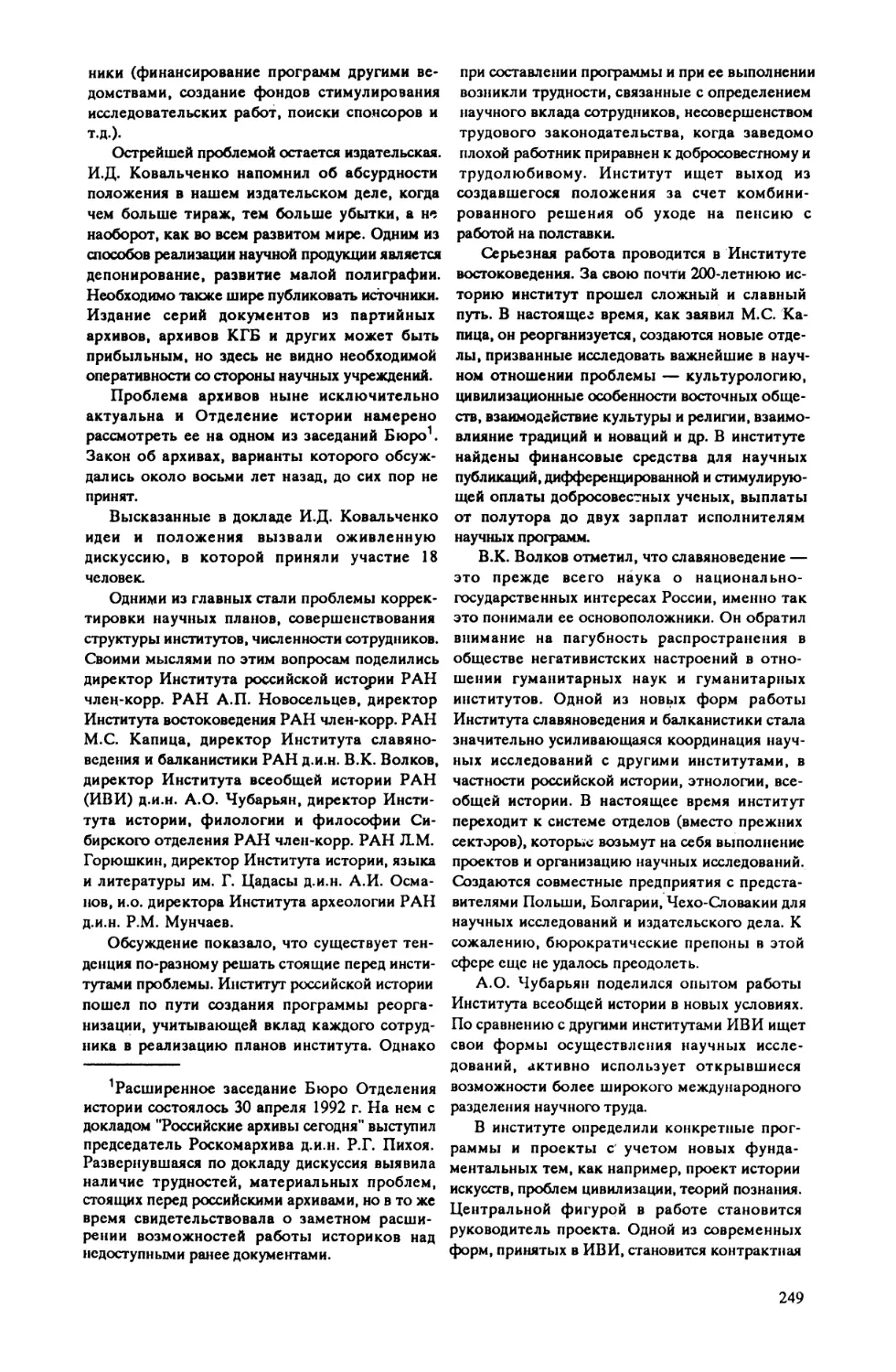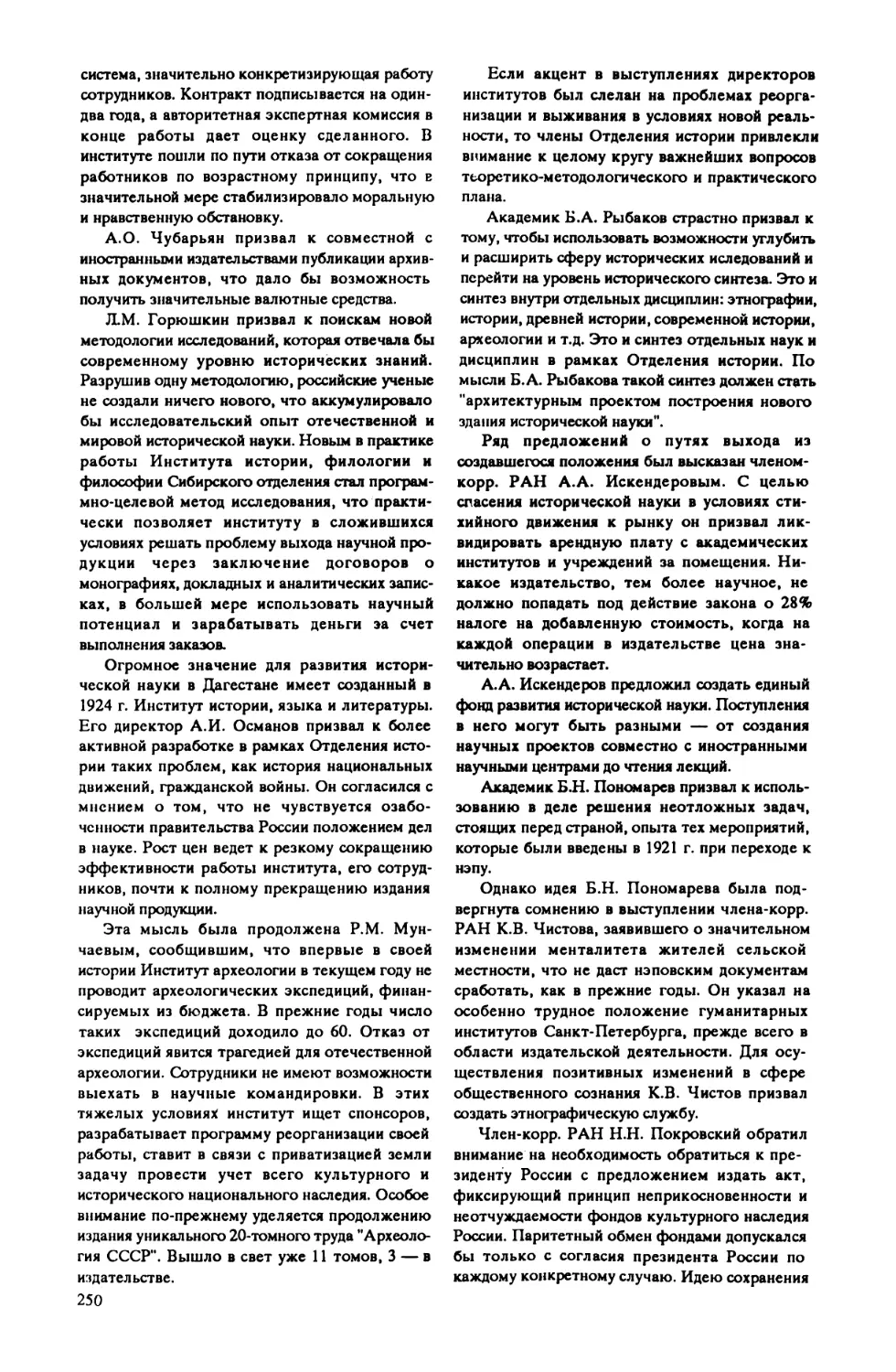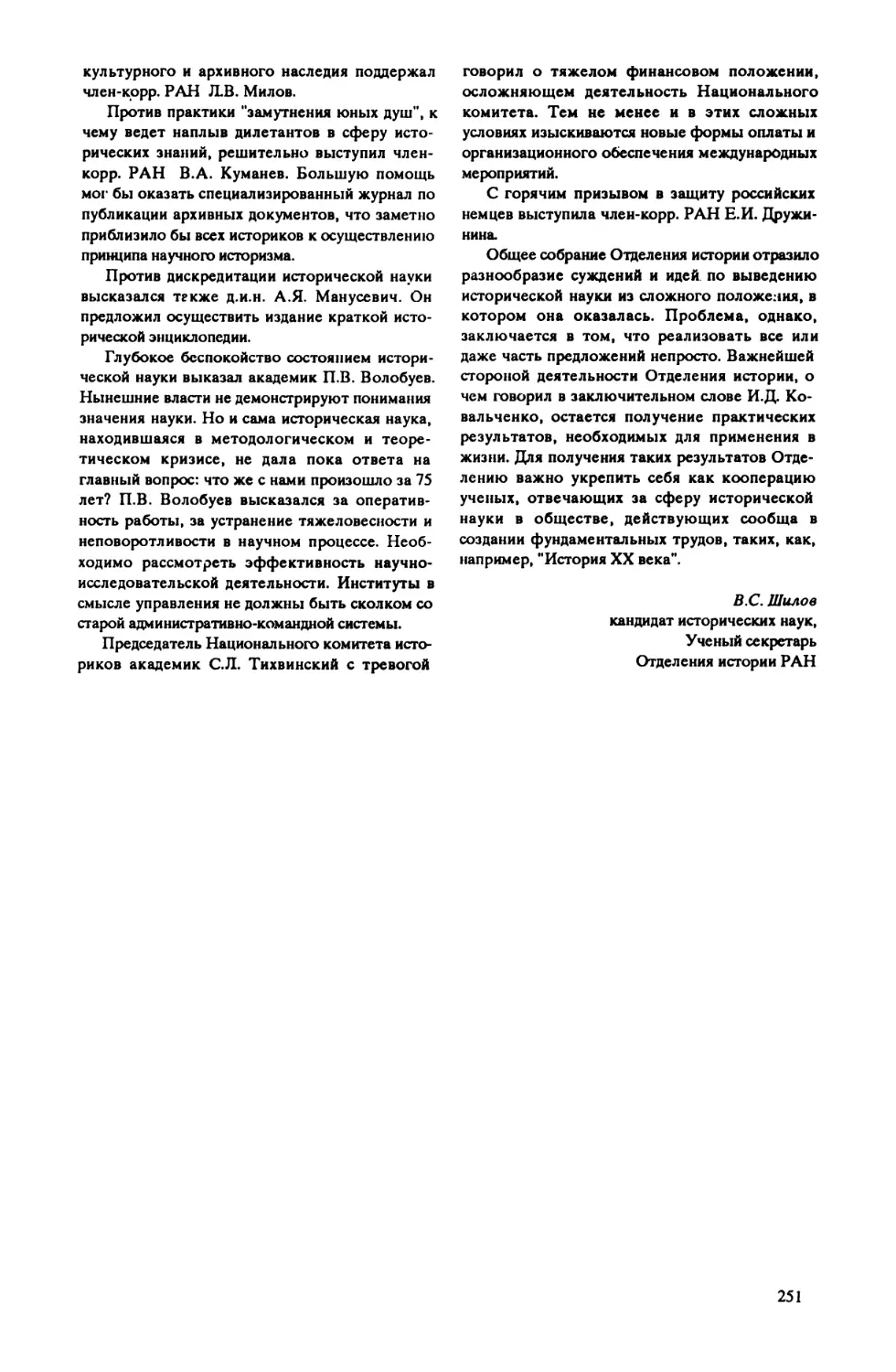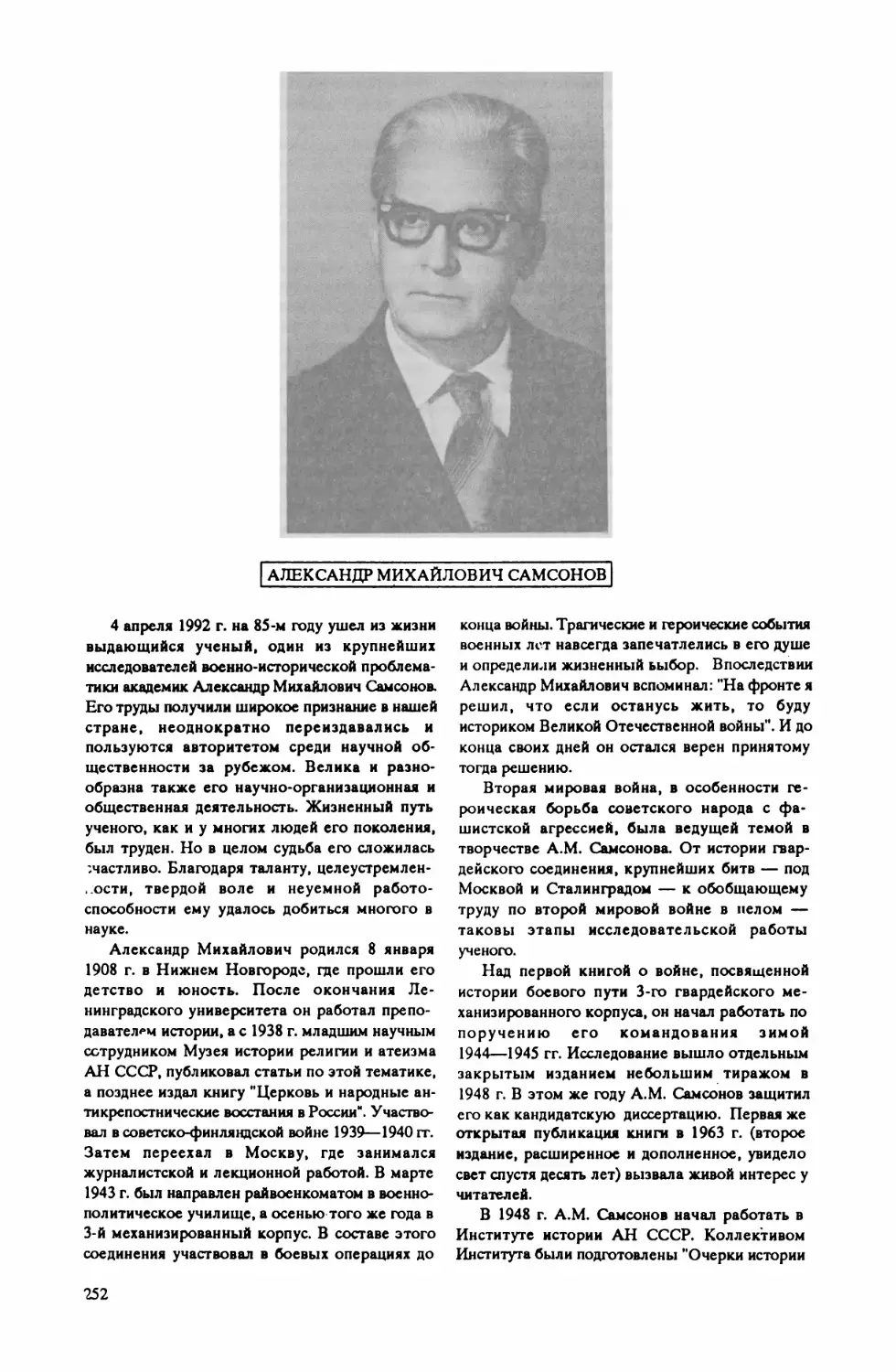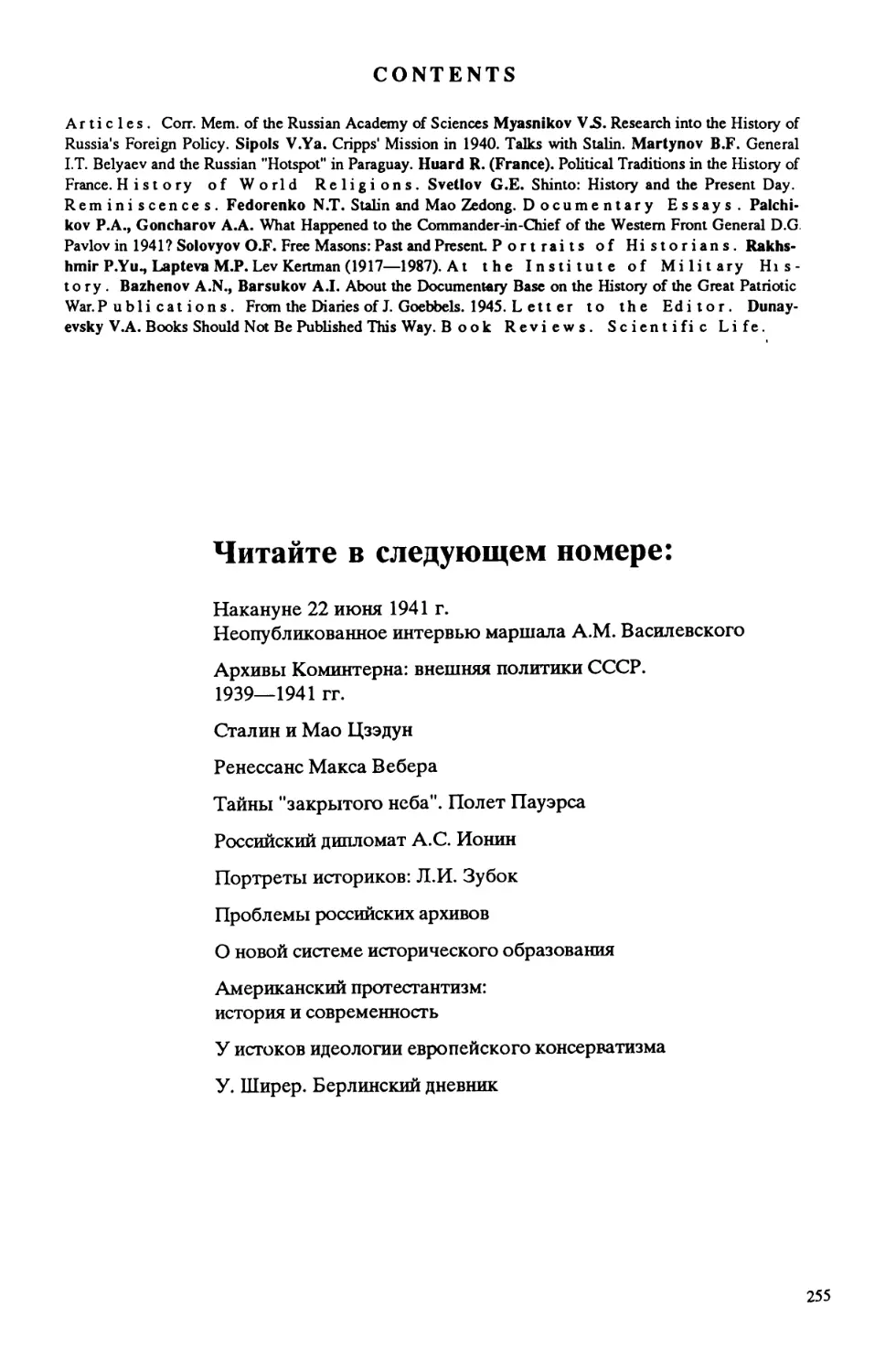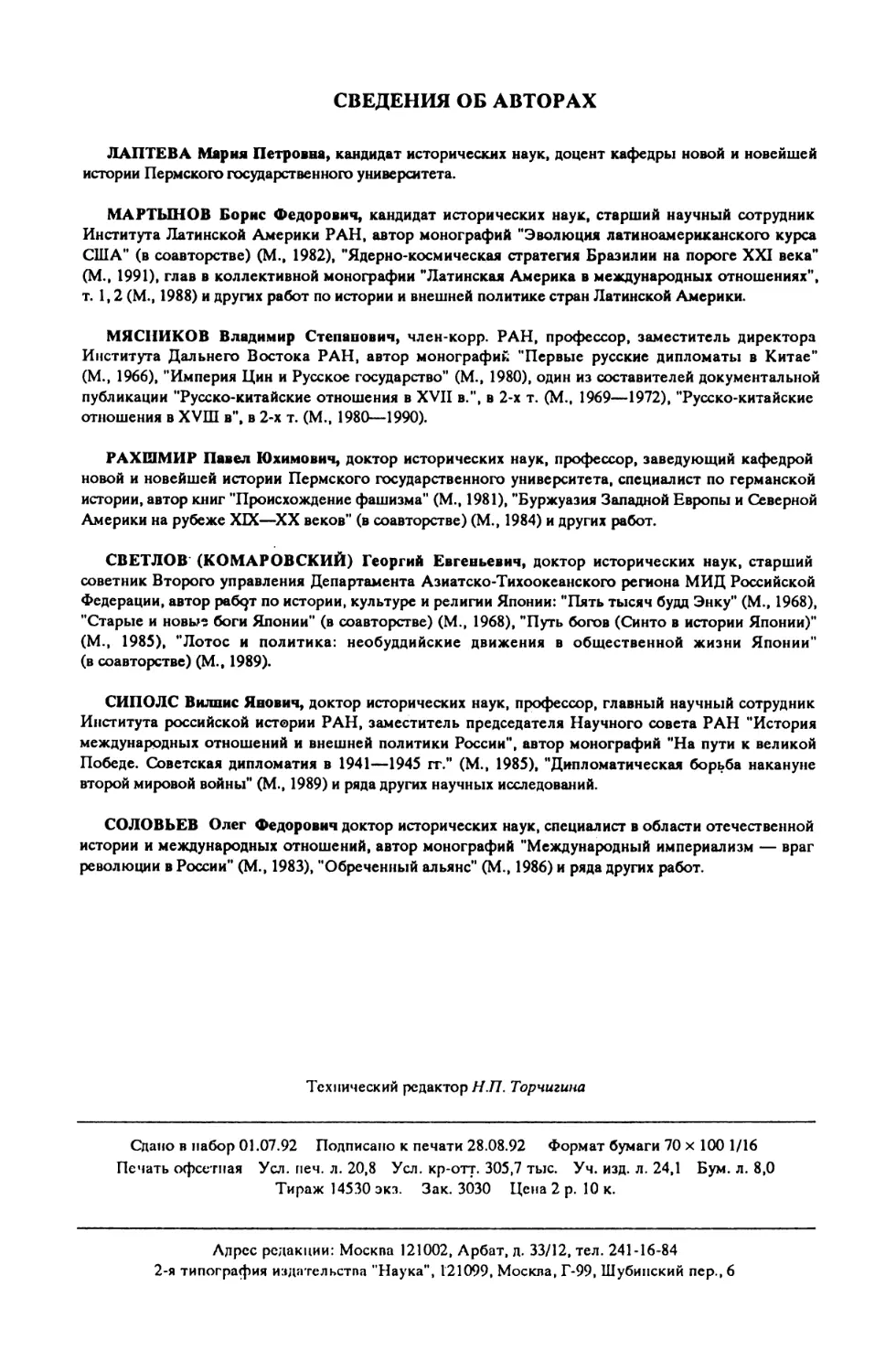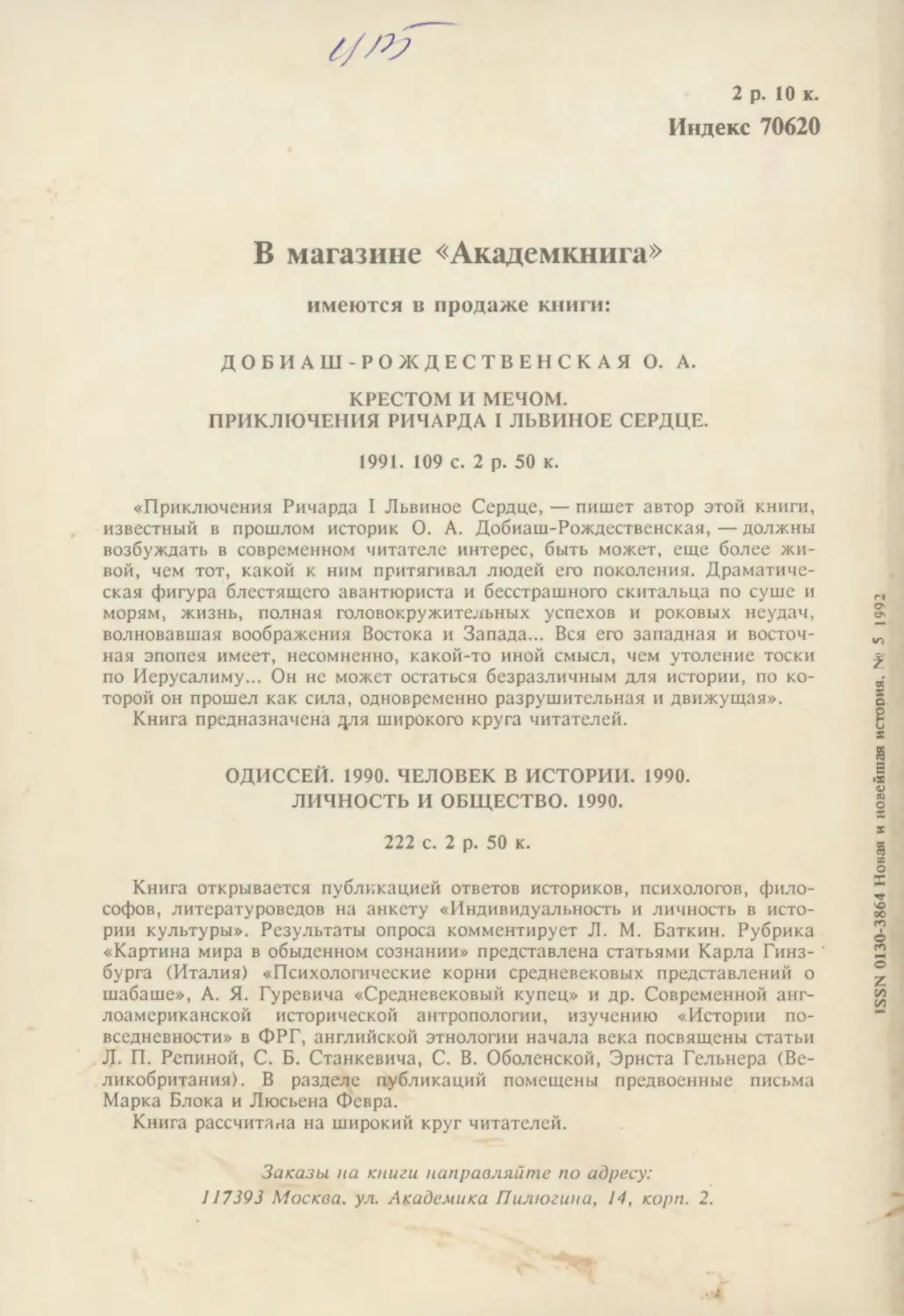Text
НОВАЯ
ISSN 0130-3864
НОВЕЙШАЯ
ИСТОРИЯ
В номере
СТАЛИН И МАО ЦЗЭДУН
МАСОНСТВО ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ
СИНТО - РЕЛИГИЯ ЯПОНЦЕВ
ИЗ ДНЕВНИКОВ ГЕББЕЛЬСА. 1945 г.
ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
МИССИЯ КРИППСА В МОСКВУ В 1940 г.
РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ПАРАГВАЕ
ТРАГЕДИЯ ГЕНЕРАЛА Д. Г. ПАВЛОВА. 1941 г.
ПОРТРЕТ ИСТОРИКА: Л. Е. КЕРТМАН
1992
российская ’
АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
НОВАЯ
НОВЕЙШАЯ
ИСТОРИЯ
5
СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ
1992
ЖУРНАЛ ОСНОВАН
В МАЕ 1957 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
СОДЕРЖАНИЕ
СТАТЬИ
Член-корр. РАН Мясников В.С. Об изучении истории внешней политики России. 3
Сиполс В.Я. Миссия Криппса в 1940 г. Беседа со Сталиным 23
Мартынов Б.Ф. Генерал И.Т. Беляев и "Русский очаг" в Парагвае 41
Юар Р. (Франция). Политические традиции в истории Франции 59
НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Ответы декана исторического факультета Московского государственного уни¬
верситета ИМ.М.В. Ломоносова академика РАН Ю.С. Кукушкина на вопросы
журнала "Новая и новейшая история" 73
ИСТОРИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИИ
Светлов Г.Е. Синто: история и современность 77
ВОСПОМИНАНИЯ
Федоренко Н.Т. Сталин и Мао Цзэдун 98
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ
Пальчиков П.А., Гончаров А.А. Что произошло с командующим Западным
фронтом генералом Д.Г. Павловым д 1941 г 114
Соловьев О.Ф. Масонство далекое и близкое (окончание) 136
ПОРТРЕТЫ ИСТОРИКОВ
Рахшмир П.Ю., Лаптева М.П. Лев Ефимович Кертман (1917—1987) 167
В ИНСТИТУТЕ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
Баженов А.Н., Барсуков А.И. О документальной базе по истории Великой
Отечественной войны 184
ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУКА". МОСКВА
ПУБЛИКАЦИИ
Из дневников Йозефа Геббельса. 1945 г 189
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Дупасвский В.А. Как не следует переиздавать книги 232
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
РЕЦЕНЗИИ
Гутпова Е.В. В.В. С о г р и н , Г.И. 3 в е р е н а, Л.П. Репина. Современная исто¬
риография Великобритании. М., 1991 235
Лаптева Л.П. Е.К. В яземская, С.И. Данченко. Россия и Балканы. Конец
ХУШ в. — 1918 г. (Советская послевоенная историография). Обзор. М., 1990 237
Артемов В.А. (Воронеж), Борозняк АЛ. (Екатеринбург). И.Я. Биек. История повсе¬
дневной жизни населения в Веймарской республике. Иваново, 1990 239
Ржешевский О.А. А. Б у л л о к. Гитлер и Сталин. Параллельные жизни. Лондон, 1991 240
Виноградов ВЛ. Ф. К е л л о г. История румынской историографии. Бейкерсфилд, 1990 242
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Новые российские академики 246
Шилов В.С. Общее собрание Отделения истории РАН 248
| А.М. Самсонов | 252
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Г.Н. СЕВОСТЬЯНОВ (главный редактор)
А.В. АДО, В.А. ВИНОГРАДОВ, ВД. ВОЗНЕСЕНСКИЙ (ответственный секретарь), Т.М. ИСЛАМОВ,
НЛ. КАЛМЫКОВ, ФЛ. КОВАЛЕВ, ИЛ. ОРЛИК, Ю.А. ПИСАРЕВ, В.С. РЫКИН,
НЛ. СМОЛЕНСКИЙ,
В.В. СОГРИН, ЕЛ. ТРЯПИЦЫН (зам. главного редактора), Л.Я. ЧЕРКАССКИЙ, Е.Б. ЧЕРНЯК,
А.О. ЧУБАРЬЯП, Е.Ф. ЯЗЬКОВ
Адрес редакции: Москва, 121002, Арбат, д. 33/12, тел. 241-16-84
© Отделение истории РАН, 1992 г.
© Институт всеобщей истории РАН, 1992 г.
© Издательство "Наука", 1992 г.
Статьи
© 1992 г.
Члси-корр. РАН В.С. МЯСНИКОВ
ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Внимание всего мира приковано сегодня к тем процессам, которые протекают
на огромной территории бывшего СССР. Человечество является свидетелем
уникальной исторической реверсии, захватившей все социально-экономические и
политические структуры на гигантских просторах нашей страны. Огромный
конгломерат наций и народов пытается строить свое и общее будущее, от¬
талкиваясь не от достигнутого, а пытаясь найти точку опоры в далеком
прошлом; одни, шагнув назад на три четверти века, другие — на целые
столетия. Крушение Советского Союза можно сравнить разве что со взрывом
сверхновой звезды, мир качественно изменился, происходят огромные перемены
в глобальной структуре международных отношений, резко поменялись гео¬
политические и геостратегические показатели тех государств, которые возникли
на территории Союза, в том числе и его преемницы России. Адекватно оценить
происшедшее можно лишь в рамках развития всемирно-исторического процесса,
а также сопоставив сегодняшние события с прошлым России, особенно с
историей ее внешней политики и международных отношений.
В настоящее время мы вступили в новый этап изучения основных проблем
истории внешней политики России. Он отмечен небывалым интересом к ис¬
торическим знаниям и одновременно утратой критериев их объективности для
многих, кто пытается ликвидировать "белые пятна", интерпретировать "по-
новому" широко известные исторические события от взятия Иваном Грозным
Казани или Переяславской рады до роли России в борьбе народов Балкан или
Монголии за свое национальное освобождение. Особый акцент делается на том,
что Россия исторически якобы была особо агрессивным и опасным для
международного сообщества партнером. Исторические материалы пытаются
широко использовать для формирования общественного мнения, репродуцируя
тот результат, о котором русский философ В.С. Соловьев метко писал: "Фаль¬
сифицированный продукт, называемый общественным мнением, фабрикуемый и
продаваемый по дешевой цене оппортунистической прессой, еще не задушил у
нас национальной совести, которая сумеет найти более достоверное выражение
для истинно русской идеи"1.
В то же время этот этап характеризуется, во-первых, новой ситуацией в
области Источниковой базы исследований. В дополнение к доступным фондам
Архива внешней политики России (ныне Архив внешней политики Российской
империи МИД Российской Федерации) происходит открытие новых фондов в
1 Соловьев В.С. Смысл любви. Избранные произведения. М., 1991, с. 49.
3
различных архивах, установление 30-летнего срока секретности в ведомственных
архивах, включая и хранилища документов министерства иностранных дел Рос¬
сийской Федерации, создание Российского центра хранения и изучения доку¬
ментов по новейшей истории — все это позволяет существенно расширить
документальную базу для работы нового поколения ученых. Во-вторых, сняты
жесткие идеологические шоры с теоретико-методологических подходов. Стало
очевидным, что формационный подход может и должен сочетаться с циви¬
лизационным, что, дополняя друг друга, они обогащают поле деятельности, на
котором трудится историк. И, наконец, в-третьих, возникла острейшая обще¬
ственно-практическая потребность в пересмотре многих догматических кон¬
цепций, в создании, причем скорейшем, обобщающих трудов по истории связей
России с ведущими мировыми державами, а также с новыми партнерами —
бывшими союзными республиками — по международному сообществу. Эта по¬
требность является следствием того, что Россия стала суверенным субъектом
международных отношений.
За последние годы советской исторической науке удалось выполнить часть
стоящих перед нею задач. Были опубликованы новые коллекции документов,
монографические исследования, обобщающие труды. В первую очередь следует
упомянуть цикл работ, подготовленных при активном участии академика
А.Л. Нарочницкого. Сюда следует отнести очередной том документов серии
"Внешняя политика России XIX — начала XX века"2, коллективный труд
"Проблемы методологии и источниковедения истории внешней политики Рос¬
сии"3, сборник статей "Внешняя политика России и общественное мнение"4,
проблемную монографию "Международные отношения в начальный период
Великой французской революции (1789)"5, монографию Л.И. Нарочницкой "Рос¬
сия и отмена нейтрализации Черного моря"6.
Среди работ по общим проблемам истории внешней политики России получили
высокую оценку научной общественности выдержавшая два издания монография
Н.Н. Молчанова о дипломатическом искусстве Петра I7, книга А.В. Игнатьева
"Внешняя политика России в 1905—1907 гг."8, сборник историографических ста¬
тей, вышедший в свет под редакцией С.Л. Тихвинского9, труды о роли Русского
государства в международной жизни на рубеже XV—XVI и XIX—XX вв.10 и,
наконец, монографии о русско-индийских и русско-японских связях и доку¬
ментальный сборник "Россия и ислам", издание которого крайне своевременно11.
Заслуживает быть отмеченной и первая публикация перевода на русский язык
работы К. Маркса "Разоблачение дипломатической истории XVIII века"12. Эта
2 Внешняя политика России XIX — начала XX века. Серия 2. 1815—1830. М., 1985.
3 Проблемы методологии и источниковедения истории внешней политики России. М., 1986.
4 Внешняя политика России и общественное мнение. М., 1988.
6 Международные отношения в начальный период Великой французской революции (1789). М.,
1989.
с
° Нарочницкая Л.И. Россия и отмена нейтрализации Черного моря. М.» 1989.
7 Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого. М., 1984; Бобылев В.С. Внешняя политика России
эпохи Петра I. М., 1990.
8 Игнатьев А.В. Внешняя политика России в 1905—1907 гг. М., 1986; его же. C.IO. Витте —
дипломат. М., 1989.
9 Внешняя политика России (историография). М., 1988.
16 Хорошкевич А.П. Русское государство в системе международных отношений конца XV —
начала XVI веков. М., 1988; Изместьева Т.Ф. Россия ч системе европейского рынка, конец XIX —
начало XX в. М., 1991.
11 Россия и Индия. М., 1986; КутаковЛ.Н. Россия и Япония. М., 1988; Россия и ислам: доку¬
менты и материалы 1667—1917. М., 1991.
12
Маркс К. Разоблачения дипломатической истории XVIII в. —Вопросы истории, 1989, № 1—4.
I
работа, в острой форме критикующая политику Петра I и его последователей,
много лет была запретной для советских историков. Хранившийся в Институте
Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК КПСС ее экземпляр выдавался лишь по
особому разрешению. В качестве курьеза можно отметить, что в Фундамен¬
тальной библиотеке по общественным наукам АН СССР она не была в "спец¬
хране’’. Тем не менее ее не включали в русские издания сочинений К. Маркса и
Ф. Энгельса, т.е. не было ее "канонического" перевода на русский язык, поэтому
лишь немногие историки рисковали использовать ее в своих работах, хотя в ней
содержатся весьма любопытные дипломатические документы и оценки различ¬
ных акций России на международной арене в XVIII столетии.
Для историка-международника любое деление трудов всегда условно, тем не
менее если, не претендуя на историографический анализ, попытаться выделить
основные направления исследований, будораживших творческую мысль в конце
80-х — начале 90-х годов, то образуются три довольно заметных потока
публикаций. Первый охватывает различные аспекты внешней политики древней
и средневековой Руси. Этой теме посвящены цикл работ члена-корр. РАН А.Н.
Сахарова, а также исследования, выполненные под руководством члена-корр.
РАН Г.Г. Литаврина, правовой анализ русско-византийских договоров, осущест¬
вленный Р.Л. Хачатуровым, и ряд источниковедческих исследований13. Вторую
и наиболее многочисленную группу составляют издания, раскрывающие со¬
держание курса европейской внешней политики России. В различные периоды ее
отношения с Польшей, Швецией, Англией, Францией, Австрией, Испанией
приобретали приоритетный характер, именно к этим, чаще всего кризисным,
периодам и приковывалось внимание авторов. Но при этом "балканские мотивы"
российской политики прочно удерживают лидирующее место среди других тем14.
13
Сахаров А.Н. Мы от рода русского... Рождение русской дипломатии. Л., 1986; Хачату¬
ров РЛ. Мирные договоры Руси с Византией. М., 1988; Внешняя политика Древней Руси (Юби¬
лейные чтения, посвященные 70-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Владимира
Терентьевича Пашуто). М., 1988; Адаба^кий Е.Н. Вопросы внешней политики Русского государства
на Земском соборе 1566 г. Саратов, 1988 (рукоп. деп. в ИНИОН); его же. Вопросы внешней
политики России в соборной практике конца XVI — начала ХУП в. Саратов, 1988, (рукоп. деп. в
ИНИОН); Хачатуров РЛ. Мирные договоры Руси с Византией. М., 1988; Славяне и их соседи.
Международные отношения в эпоху феодализма. М., 1989; Опись архива Посольского приказа
1673 г., т. 2. М., 1990; Обзор посольских книг из фондов-коллекций, хранящихся в ЦГАДА. М., 1990.
14 Международные отношения на Балканах, 1858—1878 гг. М., 1986; Билунов Б.Н. и др. Бол¬
гарско-российские общественно-политические связи 50—70-е гг. ХЕХ в. Кишинев, 1986; Возгрин В.Е.
Россия и европейские страны в годы Северной войны. Л., 1986; Никифоров К.В. Деятельность
русской дипломатии в Сербском княжестве после прихода к власти уставобранителей. М., 1986
(рукоп. деп. в ИНИОН); Суни Л.В. Финляндская политика царизма на рубеже XIX—XX вв. Петро¬
заводск, 1986; Страны Востока в политике России в XIX — начале XX в. Иркутск, 1986; Флоря Б.Н.
Россия и чешское восстание против Габсбургов. М., 1986; Маринин О.В. Дипломатическая дея¬
тельность России на завершающем этапе Крымской войны. Парижский мирный конгресс 1856 г. М.,
1987; Мирошникова МЛ. Франко-русские отношения 1818—1822 гг. в трудах историков Франции.
М., 1987 (рукоп. деп. в ИНИОН); ее же. Дипломатические отношения Франции и России в 20-е годы
ХЕХ века. М., 1990; Павлюченко О.В. Россия и Сербия. 1888—1903: дипломатические отношения,
общественные связи. Киев, 1987; Сайлин А.И. Испания и Россия на пути к союзу 1812 г. (1801 —
1812). М., 1987; Посольская книга по связям России с Грецией (православными иерархами и мона¬
стырями) 1588—1594. М., 1988; Кобзарева Е.И. Использование немецких газет в Посольском прика¬
зе для получения информации о событиях в Европе (последняя треть XVEI в.). М., 1988 (рукоп. деп. в
ИНИОН); Нерсесов Г.А. Политика России на Тешенском конгрессе 1778—1779. М., 1988; Соло¬
мен, И.М. Русско-финляндские отношения в годы первой мировой войны. Петрозаводск, 1988;
Чепелкин М.А. Итальянский вопрос во внешней политике России (1856—1861). М., 1988; Васю¬
ков В.С. Внешняя политика России накануне Февральской революции. 1916 — февраль 1917. М.,
1989; Додолев М.А. Россия и Испания. М., 1989; Связи России с народами Балканского полуострова.
Первая половина XVII в. М., 1990; Арш ГЛ., Варта И.С., Виноградов В.Н. и др. Международные
отношения на Балканах. 1830—1856. М., 1990; Шайкина А.Н. Русско-английские отношения в 1815—
1826 гг. (После Венского конгресса до Аккерманской конференции). М., 1990; Босния, Герцеговина и
5
И это не случайно: ведь славянский блок на Балканах длительное время был
опорой российской политики в Европе. К третьему потоку принадлежат иссле¬
дования, приобретшие сегодня исключительную политическую остроту: работы,
в которых анализируются различные аспекты взаимоотношений России с на¬
родами Кавказа. Причем подавляющее большинство этих работ было подго¬
товлено местными историками и издано в Тбилиси, Ереване, Баку, Махачкале15.
Близкими к ним по проблематике являются исследования, касающиеся отно¬
шений России с Турцией и Ираном16.
Отдельный блок составляют работы, связанные с историей формирования и
защиты рубежей России. Временной срез и географический диапазон этих иссле¬
дований весьма широк: от борьбы Руси за сохранение выхода к Балтийскому
морю в XIV в. и сложных перипетий в отношениях с Казанским ханством "в
XVI в. до становления азиатских и дальневосточных границ России в
XVII—XIX вв. Важной частью изучения дипломатической истории этого процесса
явилась публикация источников русского, китайского, центральноазиатского и
европейского происхождения.
Пожалуй, наименее исследованными областями истории внешней политики
России остаются американское и африканское направления. Нынешний уровень
отношений с США вызывает у читателей повышенный интерес к их истории.
Многие аспекты этих отношений раскрыты в трудах академиков Г.Н. Сево¬
стьянова, Н.Н. Болховитинова и д.и.н. Р.Ф. Иванова18. К сожалению, не по-
Россия в 1850—1875 гг.: Народы и дипломатия (материалы "круглого стола" советских и югославских
историков). М., 1991; Косик В.И. Русская политика в Болгарии в 1879—1886 гг. М., 1991.
15 Джахиев Г.А. Северный Кавказ во взаимоотношениях России с Турцией и Ираном в конце
ХУШ — начале XIX в. Махачкала, 1988; Магарадзе В.И. Материалы по истории русско-грузинских
отношений второй половины ХУШ в. Тбилиси, 1988; Буненишвили М.Н. Два посольства из Восточной
Грузии в Россию во второй половине ХУШ века. Тбилиси, 1989; Гаджиева С.М. Азербайджан во
внешней политике правительства Екатерины П. Баку, 1989; Сотовое Н.А. Северный Кавказ в
русско-иранских и русско-турецких отношениях ХУШ в. М., 1989; Иоаннисян А.Р. Россия и армянское
освободительное движение в 80-х годах ХУШ столетия. Ереван, 1990; Мартиросян М.Е. Армянский
вопрос и русская дипломатия 1912—1914 гг. Ереван, 1990.
16 Русский посол в Стамбуле П.А. Толстой и его описание Османской империи начала ХУШ в.
М., 1985; Кузнецов А.Б. Россия и Турция в первой четверти XVI в. Могилев, 1985 (рукоп. деп. в
ИНИОН); Атаев Х.А. Торгово-экономические связи Ирана с Россией в ХУШ—XIX вв. М., 1991.
1? Россия и Швеция. Документы и материалы 1809—1818. М., 1986; Кузнецов А.Б. Диплома¬
тическая борьба России за безопасность южных границ (первая половина XVI в.). Минск, 1986; его
же. Дипломатическая борьба России против агрессии Казанского ханства. Могилев, 1986 (рукоп. деп.
в ИНИОН); его же. Дипломатическая борьба России за безопасность южных и восточных границ
(1505-zrl545). Л., 1988; История посольств и дипломатические отношения Русского и Иранского
государств в 1613—1631 гг. М., 1987; Анисимов А.И. Борьба русской дипломатии против попыток
Англии создать антикитайский союз в период второй опиумной войны (1856—1860 гг). Хабаровск,
1987 (рукоп. деп. в ИНИОН); Драгнев Д.М. Россия и борьба молдавского народа против османского
ига (на примере молдавско-русского военного братства) в 1711—1812 гг. Кишинев, 1987; Мясни¬
ков В.С. Империя Цин и Русское государство в ХУП веке, изд. 2-е. Хабаровск, 1987; Романова Г.Н.
Экономические отношения России и Китая на Дальнем Востоке XIX — начала XX в. М., 1987;;
Ростунов И.И., Авдеев В.А. и др. История Северной войны 1700—1721 гг. М., 1987; Санин Г.А. От¬
ношения России и Украины с Крымским ханством в середине XVI века. М., 1987; Чимитдоржи-
ев Ш.Б. Россия и Монголия. М., 1987; Шасколъский И.П. Борьба Руси за сохранение выхода к
Балтийскому морю в XIV веке. Л., 1987; его же. Борьба Руси против шведской экспансии в Карелии.
Конец ХШ — начало XIV в. Петрозаводск, 1987; Международные отношения в Центральной Азии
ХУП—ХУШ вв. Документы и материалы, кн. 1—2. М., 1989; Крайнова В.И. Русско-американские
отношения на Дальнем Востоке в конце ХГХ — начале XX в. М., 1989; Русско-китайские отношения
в ХУП1 в. Документы и материалы, т. 2. М., 1990; Есида К. О восточном участке китайско-русской
границы по Нерчинскому договору (спец. вып. ИНИОН). М., 1990.
18 Иванов Р.Ф. Черные американцы в истории США, т. 1—2. М., 1986; его же. Президентство в
США. М., 1991; Севостьянов Г.Н. Американский экспансионизм: новейшее время. М., 1986; его же.
История внешней политики и дипломатии США (1776—1917). Зарубежная историография. М., 1986;
Комиссаров Б.И. Петербург — Рио-де-Жанейро; Становление отношений. 1808—1828. Л., 1987;
6
лучила продолжения публикация источников по русско-американским отноше¬
ниям, начатая в 1980 г. совместным советско-американским изданием "Россия и
США: становление отношений, 1765—1815"19. Что же касается африканских
стран, то история связей России с ними продолжает оставаться одним из "белых
пятен"20.
В рамках статьи невозможно критически оценить весь комплекс новых знаний
и методологических подходов, полученных и выработанных огромным кол¬
лективом специалистов. Думаю, что было бы логично подготовить новое издание
фундаментальной коллективной монографии "Итоги и задачи изучения внешней
политики России"21. При этом желательно дополнить ее не только информацией
о новых результатах исследований отечественных историков, но и компа¬
ративным анализом зарубежной историографии, уделив особое внимание оценке
внешней политики нашей страны национальными школами государств, бывших
контрагентами России на международной арене. Только так мы могли бы
соотнести наши достижения с мировым уровнем разработки интересующих нас
вопросов.
Какова же в этой связи иерархия проблем, встающих перед нами? Первой
среди них видится проблема российской политической традиции, ее сути, от¬
ражения ее во внешней политике. В Историографии XIX в. считалось, что
начало отечественной дипломатии относится к XV столетию. "Основываясь на
развитии русской истории, — отмечал русский историк М.Н. Капустин, —
должно историю русской дипломатии начать с конца XV-ro века. Все пред¬
шествовавшие сношения России с другими государствами могут служить только
намеками для объяснения явлений последующих; сами по себе они не могут
взойти в состав дипломатии уже и по тому, что были слишком частны и
постоянно прерывались; это показывает, что необходимость общения не была
еще сознана, а следовательно, не было места для выражения юридических
начал"22. Эту же точку зрения разделял и В.О. Ключевский: "Только со второй
половины XV в., т.е. с того времени, когда окончилось образование государства,
оно начинает завязывать слабые, часто прерывавшиеся сношения с некоторыми
западноевропейскими государствами"23. Не трудно заметить определенную огра¬
ниченность такого подхода, как бы исключавшего из дипломатической традиции
многовековой культурный слой Древней и Средневековой Руси.
Дипломатия в значительной степени отражает политическую культуру об¬
щества. В свою очередь политическая культура определяется культурной тра¬
дицией, синтезирующей этно-культурные особенности данного общества и обще¬
цивилизационные достижения. Внешние связи общества на всех стадиях его
развития выполняют и функцию обогащения внутренней жизни данного этноса,
разумеется, за исключением тех кризисных ситуаций, когда этническая терри¬
тория подвергается вторжению представителей более низкого культурного уров¬
ня. Это понимание взаимосвязи между внешними сношениями и внутренним
развитием общества демонстрировали наши предшественники еще в XIX в.
В.С. Соловьев подчеркивал, что "ни один народ не может жить в себе, через
Нутятова Э.Г. Русско-аргентинские отношения конца XIX — начала XX в. Л., 1989; Болховити¬
нов Н.Н. Русско-американские отношения и продажа Аляски. М., 1990; его же. Россия открывает
Америку. 1732—1799. М., 1991.
19 Россия и США: становление отношений 1765-^-1815. М., 1980.
20 Исключение составляет работа А.В. Хренкова ’’Русско-эфиопские отношения в XIX — начале
XX в.", изданная ротапринтом (М., 1991).
21 Итоги и задачи изучения внешней политики России. Советская историография. М., 1981.
22 Капустин М.[Н.]. Дипломатические сношения России с Западною Европою во второй поло ¬
вине XVII века. М., 1852, с. И.
23
Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М.» 1866, с. 1.
7
себя и для себя, но жизнь каждого народа представляет лишь определенное
участие в общей жизни человечества”24. М.Н. Капустин считал внутреннюю
функцию государства главной, но при этом отмечал, что внутреннее развитие
государства ’’может достигнуть своей крепости” только во взаимных отношениях
государств; осознавая эту истину, государства везде в жертву этому общению
приносят свою исключительность25.
На огромном историческом материале современные специалисты в области
древней и средневековой истории Русского государства показали своеобразие
культурных и политических традиций наших предков. В ходе длительной ис¬
следовательской работы были отринуты как нигилистическое отношение к
политическому потенциалу тех веков, что предшествовали формированию Киев¬
ской Руси, и само время ее существования, так и крайности византийско-пан¬
славистского начала, которое от тезиса "Москва — третий Рим, четвертому —
не бывать”, шагнуло в труде Н.Я. Данилевского к противопоставлению России и
Европы26.
Главный вывод, сделанный нашей наукой из изучения многовековой истории
развития России, заключается в том, что, пройдя через столетия междоусобиц,
чужеземного ига, через лихолетье ’’смутного времени”, русский народ и его
государственные мужи выстрадали идею единого централизованного государ¬
ства. Об этом свидетельствует и опыт Древней Руси27 * *, и консолидация русских
земель вокруг Москвы после избавления от татаро-монгольского владычества, и
становление абсолютистского государства в XVII в. Эта "полоса страданий”,
логически завершившаяся строительством единого государства, не является
достоянием лишь российской истории. Возьмем ли мы средневековую Европу или
Японию XV—XVI вв. — всюду мы видим феодальные междоусобицы, приво¬
дившие к своей противоположности — сильной государственной власти. Стрем¬
ление к созданию мощной государственности и стало стержнем политической
традиции России. Причем государственность являлась не самоцелью, а средством
развития этноса, она была скреплена с обществом духовным началом — ре¬
лигией. Установление этого факта подводит нас к двум проблемам: нацио¬
нальных интересов и взаимоотношений личности и государства.
Национальные интересы, как и многие другие понятия из теории между¬
народных отношений, являются исторической категорией. Они проходят опре¬
деленные стадии развития, на каждом из этапов истории по-разному соотносятся
с категорией "государственные интересы”. Типологически интересы националь¬
ного государства на международной арене подразделяются на три группы:
интересы существования, интересы сосуществования и функциональные. К ин¬
тересам существования следует отнести создание наиболее благоприятных ус¬
ловий для развития нации. Интересы сосуществования и функциональные опре¬
деляют свод правил действий государства на международной арене. Весь этот
комплекс интересов и охватывается понятием национальные интересы в том
случае, если государство достаточно адекватно выражает интересы нации. Мы
должны признать, что история внешней политики России с точки зрения
национальных интересов русского народа в отечественной историографии
практически не разрабатывалась, хотя на рубеже XIX—XX в. в трудах Г. Тру¬
24 Соловьев В.С. Указ, соч., с. 42.
Капустин М.[Н.] Указ, соч., с. 3.
26 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.
27 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. М., 1963; его же. Киевская Русь и русские княжества ХП—
XIII вв. М., 1982; его же. Киевская Русь. М., 1983; его же. Язычество Древней Руси. М., 1988;
Фроянов И.Я. Исторические реалии в летописном сказании о призвании варягов. —Вопросы истории,
1991, №6.
8
бецкого, П.Н. Подлигайлова, С.С. Татищева, А.Я. Максимова, К.Н. Скальков-
ского были предприняты попытки обрисовать группы интересов России на
международной арене и выработать соответствующие подходы к их реали¬
зации28. Даже эти первые шаги свидетельствуют о том, какой простор для
творчества историков открывается, например, при исследовании российских
внешнеполитических доктрин.
Национальные интересы любого народа определяются на основе разумного
национального эгоизма. Чтобы выйти из национального кризиса, охватившего
нашу страну, нам необходимо признать, что политический и экономический
кризисы есть следствия кризиса национального. Приоритетное место в политике
любого правительства в кризисный период должна занимать группа интересов
выживания, синтезирующих интересы существования и сосуществования. Сюда
относятся сохранение национальной территории — материальной базы суще¬
ствования нации, соблюдение национального и государственного суверенитета,
обеспечение материальных, в первую очередь экономических, условий для раз¬
вития нации, охрана ее здоровья, обеспечение генофонда, экологическая защита
среды обитания, наконец, бережное отношение к национальному культурному
достоянию, преимущественное развитие национальных форм культуры, создание
условий, при которых современная массовая культура не могла бы разрушать
национальное самосознание. Задачи национальной культуры — четко сфор¬
мулировать национальную идею, мобилизовать нацию на выход из кризиса, дать
моральные стимулы для достижения национальных целей.
К проблеме национальных интересов тесно примыкает и проблема взаимо¬
отношений личности и государства. Не следует считать эту проблему открытьем
лишь современных демократий, провозгласивших приоритет личностных инте¬
ресов над государственными. Тему взаимоотношений власти и народа на примере
Сибири XVII в. интересно раскрывают В.А. Александров и Н.Н. Покровский29.
Заслугой авторов, по нашему мнению, является то, что им удалось показать всю
глубину и силу демократической традиции, присущей русскому народу и являв¬
шейся единственным средством обеспечения жизнеспособности Русского госу¬
дарства. "Корни сословно-представительной монархии, — отмечают авторы, —
уходят далеко в глубь периода собирания русских земель вокруг Москвы.
Эксперимент но замене такой монархии деспотией, предпринятый Иваном IV в
годы опричнины, был настолько чужд государственным традициям страны, что
мог сыграть лишь деструктивную роль: итогом явился хозяйственный кризис
конца XVI в., перешедший в политический кризис Смутного времени. Утра¬
ченная национальная государственность и монархия были восстановлены силами
земщины в подчеркнуто сословно-представительных формах"30.
Исторически государство всегда стремилось к тоталитарной модели, вопрос
заключался лишь в том: достаточно ли у него средств для осуществления таких
стремлений на практике. Демократические же регуляторы этого процесса на¬
чинают действовать лишь при развитии определенных социальных институтов,
опирающихся на экономическую независимость от государства. В свете этого
внешняя политика, например, Новгородской республики существенно отличалась
по содержанию от международных отношений Московского княжества.
28 Трубецкой Г. Россия как великая держава, [б.м., б.г.]; Подлигайлов П.Н. Национальные за¬
дачи России и меры их осуществления. СПб., 1888; Татищев С.С. Дипломатические беседы о
внешней политике России. СПб., 1890; его же. Из прошлого российской дипломатии. Историческое ис¬
следование и полемические статьи СПб., 1890; Максимов ЛЯ. Наши задачи на Тихом океане. По¬
литические этюды. СПб., 1901; Скалъковский К. Внешняя политика России и положение ино¬
странных держав, изд. 2-е. СПб., 1901.
29
Александров В А., Покровский Н.Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991.
30 Там же, с. 17.
9
Сравнительное исследование внешней политики Новгорода в XII—XV вв. и
Москвы в XV—XVII столетиях было бы очень интересно, так как оно выводит
нас на познание механизма выработки внешнеполитических решений в Русском
государстве и позже в Российской империи, т.е. на проблему внешнеполити¬
ческого процесса в целом. Раскрытие этой проблемы предполагает изучение
функционирования внешнеполитических органов в России и обозрение дея¬
тельности выдающихся отечественных дипломатов и создававшихся ими школ.
В этой связи интересно суждение М.Н. Капустина. Вот как отзывался он о
деятельности Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащекина: ’’Действительно, это
одна из замечательнейших личностей допетровской Руси: при тогдашней не¬
развитости дипломатических сношений трудно представить себе такое ясное
понимание положения государства и его потребностей, такой верный взгляд на
все явления истории, такое умение угадывать исход событий и их значение,
какие замечаем у Ордина-Нащекина! Это главный представитель русской дип¬
ломатии XVII века, на нем отразились все ее значение и движение, все вопросы
того времени"31.
В этой характеристике выражены основные требования, которые предъяв¬
лялись к московским дипломатам самой жизнью. При этом те, кто вступал на
дипломатическую стезю, как правило, видели возможности реализации себя как
личности только при тех условиях, которые создаст сильное государство. Среди
них были томившиеся в зарубежных темницах (как П.А. Толстой), терпевшие
голод и холод (как С.П. Владиславич-Рагузинский), геройски погибавшие от
вражеской руки (Т.Е. Чечигин, А.С. Грибоедов), но не было геростратство-
вавших по отношению к своей стране, не было изменявших ей ни в дни ее
славы, ни тем более в дни ее бедствий. Так политическая традиция формировала
стереотипы поведения, которые сами обогащали эту традицию. Создание порт¬
ретной галереи отечественных дипломатов, возможно, в виде Мх биографи¬
ческого словаря-справочника является для нас одной из насущных задач.
Читатель имеет право знать исторические персонажи не только по романам
В. Пикуля.
Нужна и сводная работа по истории российских органов внешних сношений:
Посольского приказа, Коллегии иностранных дел, Министерства иностранных
дел, включая его отдельные департаменты32, Государственного совета, такая
работа позволила бы в полной мере проследить процесс выработки внешне¬
политических решений и процедуру их принятия. Это в свою очередь дает
возможность увидеть, какие силы, социальные группы стояли за тем или иным
внешнеполитическим курсом. Справедливости ради следует отметить, что мно¬
гочисленные сведения об этом имеются в ряде монографий, диссертационных
исследований, статей. Но обобщающего труда на эту тему нет. Исключительно
интересно мемуарное наследие крупных российских дипломатов. Отрадно от¬
мстить, что работа по его публикации, начатая в свое время Ф.А. Ротштейном,
В.М. Хвостовым, В.М. Штейном, продолжается и читатель имеет возможность
ознакомиться с новым переводом дневников В.Н. Ламздорфа и новым изданием
воспоминаний А.П. Извольского и А.А. Игнатьева33.
Наконец, историю внешней политики России нельзя себе представить без ее
имперского периода. Сегодня, когда в мире не осталось ни одной из, казалось,
чрезвычайно крепко сшитых империй, проблема становления и функциониро¬
31 Капустин М.[Н.] Указ, соч., с. 9—10.
32 Может быть имеет смысл переиздать прекрасный юбилейный выпуск: Россия. Министерство
иностранных дел. Очерк истории Министерства иностранных дел 1802—1902. СПб., 1902.
33 Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю, т. 1—2. М., 1989; Извольский А.П. Воспоминания.
М., 1989;Ламздорф В.Н. Дневник. 1894—1896 гг. М., 1991.
10
вания имперского механизма, его движущих импульсов, связующих звеньев и
скрепляющих его жестких и гибких структур должна быть изучена во всем
богатстве и многообразии. Действительно ли существуют законы развития
именно империй как особого вида государственных образований, имеющих при¬
сущие лишь им фазы становления, расцвета и гибели? Думается, что проскаль¬
зывающие в популярных изданиях попытки как бы биологизировать это явление
не выдерживают научной критики. Был ли для России имперский путь пред¬
определен? Если да, то действовала ли при этом лишь могучая воля Петра I, или
были какие-то другие объективные причины?
Россия складывалась как многонациональное государство еще до того, как она
стала империей. И, вероятно, она могла бы остаться многонациональным неим¬
перским государством. Но когда она вышла на мировую арену в результате
преобразований и завоеваний Петра I, она оказалась соседкой Османской им¬
перии на юге европейской части и Цинской империи на всем протяжении ее
сибирских и дальневосточных границ. В Европе, где еще сохранялись остатки
"Священной Римской империи", основные державы вступили в эпоху приоб¬
ретения колоний и формирования имперских структур.
В истории можно выделить два типа империй: номинативные и атрибутивные.
К номинативным относятся те государства, которые стали империями в процессе
своей внутренней консолидации, преодолевая феодальную или иную раздроб¬
ленность. В этом случае принятие императорского титула связано с победой
одной из внутренних группировок над остальными и означает закрепление с
помощью государственных институтов этой победы. Таким было формирование
империи Нгуенов во Вьетнаме в начале XIX в. Атрибутивная империя обладает
более широким набором признаков: к номиналитету метрополии добавляется
взаимодействие с внутренними или внешними колониями. Переход от одной фазы
к другой обычно сопровождается взрывом имперской идеологии, как это было в
Англии, Японии, Германии. Имперская идеология не есть идея служения импе¬
ратору. Во главе империй не всегда стояли императоры (Британская империя).
Имперская идеология это комплекс идей, воззрений, доктрин, учений, обосно¬
вывающих легитимность господства одной нации над другими в рамках общего
политического организма, складывающегося в процессе завоеваний или иных
территориальных приобретений. Атрибутивная империя это, как правило, мно¬
гонациональная вертикальная политическая и идеологическая структура. Лишь в
процессе общего развития международных отношений к демократическим идеа¬
лам такие империи перерастают в горизонтальные структуры: конфедерации,
федерации, содружества.
Такова общая историческая схема; разумеется, из нее могут быть исклю¬
чения. Рассматривая внутреннюю структуру и внешнюю политику Российской
империи, следует показать специфику политического организма многонацио¬
нальной России, его отличие от других, параллельно существовавших на мировой
арене имперских структур. Дифференцированный подход к политике российского
правительства в Восточной Европе, на Кавказе и в Средней Азии дает ос¬
нование говррить о наличии в дореволюционной России вертикально-горизон¬
тальных связей. В становлении именно таких специфических для империи
структур сыграли свою роль цивилизационные особенности России, делавшие ее
одновременно и европейской и азиатской державой, но при этом страной,
отличавшейся по этно-культурным параметрам и от "чисто" европейских и от
"классически" азиатских государств. На наш взгляд, по некоторым признакам,
например по роли бюрократии в жизнедеятельности государства, по принципам
формирования имперской территории, по историческому взаимодействию с
кочевниками Азии, она все же была близка к традиционным китайским им¬
периям.
Складывание России как империи сделало ее великой азиатской державой.
Азиатская политика России — это особый феномен, достойный отдельного
изучения. Речь идет не столько об устремлениях России в Азии, об этом на¬
писано довольно много, сколько о методах реализации ее политики. Российское
правительство еще на рубеже XVII—XVIII вв. осознало, что межгосударст¬
венные отношения с азиатскими державами (Турцией, Ираном, Индией, Мон¬
голией, Китаем, Японией), а также с многочисленными феодальными владе¬
ниями, прилегавшими к рубежам Южной и Западной Сибири, являются формой
межцивилизационного контакта. И хотя речь шла о контакте равных по ос¬
новным параметрам цивилизаций, но именно специфика, межцивилизационные
отличия ставили партнеров в различные ценностные системы. Исторически
сложились два типа международных отношений: "чистые" и смешанные. К
первым относятся взаимосвязи государств в рамках одной цивилизации, в ча¬
стности европейской, которой была присуща горизонтальная структура таких
связей, основанная на христианских представлениях о равенстве суверенных
владетелей. А в Восточной Азии господствовала вертикальная структура, опи¬
равшаяся на догматы конфуцианской иерархии и построенную в соответствии с
ней китаецентристскую модель мира. Отношения восточноазиатских государств
с Россией представляли собой смешанный тип международных контактов, а это в
свою очередь приводило к тому, что российской дипломатии пришлось дли¬
тельное время бороться за установление равносторонних связей с великими
государствами Азии, особенно с Османской и Цинской империями. Российские
представители столкнулись и со специфическими дипломатическими приемами,
отличавшими, например, стратегемную китайскую дипломатию от европей¬
ской34.
Россию часто именуют мостом между Европой и Азией. Это определение
может истолковываться двояко: в коммуникационном и цивилизационном смысле.
Где и как построен коммуникационный мост? Между Ростовом-на-Дону и
Тбилиси? Между Омском и Алма-Атой? Еще в XVII в. европейцы искали пути
через территорию России в страны Восточной Азии. В течение почти четырех
столетий Россия, действительно как транспортная артерия, пришедшая на смену
Великому шелковому пути, связывала Европу с Восточной Азией. Первая
восточная опора этого моста была заложена в 1639 г., когда группа казаков под
предводительством Ивана Москвитина вышла к берегам Тихого океана. Спустя
15 лет была создана и его главная западная опора: православная Украина,
терзаемая католической Польшей и мусульманским Крымским ханством, решила
спасти свою этно-культурную самобытность воссоединением с Русским госу¬
дарством. Сегодня западные опоры взорваны. Смоленск опять стал русским
пограничьем. Без осознания этого невозможен анализ позиций и политики России
на крайнем Востоке Азии. Заметим, что и здесь просматривается утраченная
опора еще одного моста — российско-американского: Аляска и примыкавшая к
ней Русская Америка до форта Росс. Нет, это не ностальгия по утраченному,
никто не ставит вопрос о возвращении этих земель, но нельзя забывать, что все
это уже лежит на весах истории, и сегодняшние поступки будут грузом, пе¬
ревешивающим ту или иную их чашу.
Является ли Россия цивилизационным мостом между Европой и Азией?
Думается, что тот особый путь исторического развития, который Россия прошла
за последние четыре столетия, превратил ее в своеобразную "межцивилиза¬
ционную цивилизацию", имеющую в основе великую русскую культуру, которая
восприняла культурные достижения многих других, в первую очередь тюркских,
народов и сама глубоко влияла на культуры как братских славянских народов,
34 Мясников В.С. Указ. соч.
12
так и всех этносов, обитающих на обширной территории от Балтики до Тихого
океана. К этому вполне справедливому, на наш взгляд, выводу пришли в свое
время представители так называемой евразийской школы в русской исто¬
риософской мысли. Если же обратиться к реалиям сегодняшнего времени, то как
на Западе, так и на Востоке Россия выступает в роли "догоняющего" партнера.
Япония, Республика Корея, значительная часть Китая, ряд других государств
Восточной Азии совершили или совершают мощный прорыв на современный
цивилизационный уровень, опираясь при этом на синтез традиционных и сов¬
ременной культур.
С проблемой становления России как империи теснейшим образом связаны
вопросы детерминированности российской внешней политики геополитическими и
экономическими факторами. На протяжении столетий Россия боролась за выход
к Черному и Балтийскому морям, к Тихому океану. Правительство Петра I
осознало, что лишь изменение геостратегических позиций России может дать ей
шанс стать одной из ведущих мировых держав. В то время без этих усилий
невозможно было выйти на европейский цивилизационный уровень. Как столетия
назад, так и ныне соответствие или наоборот не соответствие высшему
цивилизационному уровню является одним из основных национальных пока¬
зателей, чем выше этот показатель, тем надежнее обеспечена историческая
конкурентоспособность любой нации.
Геополитическое положение должно обеспечивать возможности экономичес¬
кого развития нации. Это было ясно и теоретикам и творцам российской внешней
политики. "Как во всех проявлениях жизни и истории главною движущею силою
является интерес материальный, — писал полтора столетия тому назад все тот
же М.Н. Капустин, — идеи сознаются после, выводятся из событий как общие
данные — так и в системе международных сношений на первом месте стоит тот
же интерес материальный. Отсюда в мире экономическом — меркантилизм как
непосредственное первоначальное проявление идеи о государственном богатстве
и благосостоянии, в мире политическом — система политического равновесия"35.
Экономические стимулы оказывали мощное влияние на внешнюю политику
России того времени, как она проявилась на европейской арене международных
отношений, т.е. с рубежа XV—XVI вв. По этому показателю Россия стояла
ближе к европейским государствам, чем к своим азиатским соседям, поли¬
тическая культура которых, например Китая, выдвигала в качестве главного
приоритета межгосударственных связей обеспечение политического доминиро¬
вания.
Разумеется, внешняя политика России во все времена не была чисто прагма¬
тической. Проблема ее идеологического содержания заслуживает специального
изучения. По крайней мере конфессионные соображения играли не последнюю
роль при выработке внешнеполитических решений. Но диалектика была такова,
что в борьбе с Османской империей Россия выступала защитницей христианства,
в частности на Балканах, в Армении, в Грузии, тогда как на западных рубежах
ей приходилось сдерживать напор католицизма. Другим аспектом этой проблемы
является формирование определенных стереотипов, имиджей. У внешней Поли¬
тики любого государства существует как минимум два стереотипа: один, соз¬
даваемый дипломатией и пропагандистскими органами данного государства,
другой — вырабатываемый аналогичными средствами государств-контрагентов.
Было бы интересно проследить создание стереотипов России и ее внешней
политики в различные эпохи и при различных международных ситуациях — от
образа страны-освободительницы для балканских народов, до мифов о ней как об
источнике "русской угрозы" Европе, Азии, отдельным государствам мира. Не
ПС
Капустин М.[Н]. Указ, соч., с. 3.
13
менее познавательно сопоставить имиджи, которые создавались в разных стра¬
нах, на разных континентах.
Чтобы понять и оценить это, вспомним слова В.О. Ключевского, который
писал, что "наш народ поставлен был судьбой у восточных ворот Европы на
страже ломившейся в них кочевой хищной Азии. Целые века истощал он свои
силы, сдерживая этот напор азиатов, одних отбивал, удобряя широкие донские и
волжские степи своими и ихними костями, других через двери христианской
церкви мирно вводил в европейское общество. Между тем Западная Европа,
освободившись от магометанского напора, обратилась за океан, в Новый Свет,
где нашла широкое и благодарное поприще для своего труда и ума, экс¬
плуатируя его нетронутые богатства. Повернувшись лицом на запад, к своим
колониальным богатствам, к своей корице и гвоздике, эта Европа чувствовала,
что сзади, со стороны урало-алтайского востока, ей ничто не угрожает, и плохо
замечала, что там идет упорная борьба, что здесь в XVI в. образовался центр
государства, которое наконец перешло в наступление на азиатские гнезда,
спасая европейскую культуру от татарских ударов. Так мы очутились в арьер¬
гарде Европы, оберегая тыл европейской цивилизации"36.
Чем же Европа отплатила России? "Сторожевая служба везде неблагодарна и
скоро забывается, — заметил В.О. Ключевский, — особенно когда она исправна:
чем бдительнее охрана, тем спокойнее спится охраняемым и тем менее рас¬
положены они ценить жертвы своего покоя"37. За избавление от страхов татаро-
монгольского, а позднее Османского вторжения Европа рассчиталась с Россией
мифом о так называемой "русской опасности". Этот миф появился в Европе,
когда Россия в ходе петровских преобразований начала играть самостоятельную
роль в европейской политике. Об этом написано много. Страхи усилились после
разгрома Наполеона, великая армия была по сути общеевропейской армией, но
она была изгнана с российских просторов, а русские войска вступили в Париж.
Образ "империи зла" отнюдь не современное изобретение американской про¬
паганды. Еще накануне вторжения в Россию в 1810 г. в Париже появилась такая
фальшивка, как "завещание Петра Г, которое было сочинено, чтобы свиде¬
тельствовать о наличии при Петербургском дворе планов мирового господства.
Знаменитая книга маркиза А.де Кюстина также была рассчитана на то, чтобы
настроить европейское общественное мнение против России38. "Взгляните на
карту, — говорил Н.Я. Данилевскому знакомый иностранец, — разве мы не
можем не чувствовать, что Россия давит на нас своею массой, как нависшая
туча, как какой-то грозный кошмар?"39 Русских же царей не "мучили кошмары"
европейских коалиций, за их политикой стояла мощь России и проверенная слава
русского оружия. Но эта самонадеянность силы привела к плачевным ре¬
зультатам уже в ходе Крымской войны.
Как отрасль исторического знания имагология (от латинского "имаго" -— об¬
раз) у нас находится в начальной стадии развития, особенно это касается истории
внешней политики России. В этой связи хотелось бы обратить внимание на
монографии О.В. Орлик, В.М. Хевролиной, Н.П. Плотниковой, в которых пока¬
зана критика правительственной внешней политики декабристами, либералами и
революционными демократами40. Изучение критических материалов о внешне¬
36 Ключевский В.О. Соч. в 9-ти т., т. 2. М.» 1989, с!' 373.
37 Там же.
38
Маркиз Астольф де Кюстин. Николаевская Россия. М., 1990.
39 Данилевский Н.Я. Указ, соч., с. 23.
40 Орлик О.В. Декабристы и внешняя политика России. М., 1984; Плотникова Н.И. Русские
либералы о внешней политике России конца 60-х — начала 70-х годов XIX века (по материалам
журнала "Вестник Европы"). М., 1986; Хевролина В.М. Революционно-демократическая мысль о
14
политической деятельности российских правительств различных эпох заслу¬
живает сегодня самого пристального внимания наших исследователей, но од¬
новременно историки-международники выполнят свой долг перед обществом,
если будут бороться против шельмования международной роли России, ее прав и
интересов в делах человеческого сообщества. Это одна из самых сложных тем в
истории внешней политики государства.
Дело в том, что условия политической борьбы диктовали демократическим
силам России и стран Запада необходимость подмечать все негативные стороны
действий московской и петербургской дипломатии. Но для отечественных
историков в последние десятилетия научный анализ высказываний декабристов,
А.И. Герцена и особенно К. Маркса и Ф. Энгельра зачастую был более чем
рискован. Он подменялся поисками цитат, которые создавали бы нужное впе¬
чатление и которые перекочевывали из одной работы в другую. Сюда относятся
и слова К. Маркса о том, что у России свои особые отношения с Китаем, и не
менее известная фраза Ф. Энгельса о цивилизующей роли России для азиатских
просторов, и ряд других, зачастую вырывавшихся из контекста ’’правильных"
мыслей. Не помогла историкам и статья И. Сталина, защищавшая российскую
дипломатию от критики Ф. Энгельса, содержавшейся в его работе "Внешняя
политика русского царизма". Воистину, что дозволялось Юпитеру, то было зап¬
ретным для смертных быков, тащивших арбу исторического знания! Особенно
осложняла ситуацию запрограммированная идеологизированность подхода к ис¬
тории России, характерная для школы М.Н. Покровского. Отголоски этой
школы до сих пор слышны в ликующих возгласах по поводу "крушения империи"
и "неизбежности" раздробления России на десятки национально-территориальных
уделов.
Научному осмыслению трудов зарубежных критиков способствовало бы
раскрытие их творческой лаборатории, в первую очередь Источниковой базы.
Известно, что цикл статей К. Маркса и Ф. Энгельса о российской политике в
Китае в 50—60-х годах XIX в. в значительной мере основывался на информации,
почерпнутой из британской прессы. Анализ материалов лондонской "Таймс" за
указанный период свидетельствует, что среди авторов было значительное число
офицеров британского флота, действовавшего в период Крымской войны против
русских дальневосточных владений, а позднее проводивших колонизаторскую
политику в Китае. Утвердившийся в сознании военных образ врага перекочевал
на газетные страницы, а затем отразился и в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса.
Изучая стереотипы российской внешней политики, создававшиеся диплома¬
тиями зарубежных государств, проводя для этого обследование иностранных
архивов, мы в то же время будем раскрывать проблему сопряженности рос¬
сийской внешней политики и внешнеполитических курсов других держав и
детерминированность их друг другом. Особенно интересным представляется в
этой связи раскрытие подлинных планов в отношении России, составлявшихся
творцами внешней политики главных государств Запада и Востока, а также
образ действий по осуществлению этих планов.
Еще в середине XIX в. в начавшей свое движение к объединению Германии
появляются планы расчленения российского гиганта. Барон Август Гакстгаузен-
Аббенбург, подготовивший трехтомный труд по аграрным отношениям в России,
утверждал, что Польша, Прибалтика и Малороссия, если они будут едины с
Россией, обеспечат русским "преобладание над остальной Европой"*1. Основы¬
ваясь на подложном завещании Петра Великого, газета "Прусский еженсдель-
внешней политике России и международных отношениях (конец 60-х — начало 80-х годов XIX в.).
М., 1986.
*1 Бисмарк О. Мысли и воспоминания, т. 1. М., 1940, с. 92.
15
ник” публиковала материалы, исходившие якобы от царского двора, в которых
’’изображала Россию, ведущей подрывную работу против всех государств с
целью добиться мирового господства”42. Группа политиков, сплотившаяся вокруг
"Прусского еженедельника”, разрабатывала для прусского правительства ’’ответ¬
ную” программу. "В качестве цели, — вспоминал впоследствии О. Бисмарк, — к
которой надлежало стремиться Пруссии как передовому борцу Европы, там
намечалось: расчленение России, отторжение ее остзейских губерний, которые,
включая Петербург, должны были отойти к Пруссии и Швеции, отделение всей
территории Польской республики в самых обширных ее пределах, раздробление
остальной части на Великороссию и Малороссию, хотя и без того едва ли не
большинство малороссов оказывалось в пределах максимально расширенной
территории Польской республики”43.
Планы эти не остались втуне. Объединенная Бисмарком Германия пыталась
осуществить их в ходе первой мировой войны, П. Гинденбург, Э. Людендорф и
X. фон Сект нацеливали имперские армии на реализацию именно этой програм¬
мы. В воззвании главного германского командования к населению Царства
Польского от 9 августа 1914 г. говорилось: ’’Поляки! Час освобождения от мос¬
ковского ига приближается. Союзные армии Германии и Австро-Венгрии скоро
переступят границы Царства Польского. Москали уже отступают. Их кровавое
господство, которое тяготело над вами более ста лет, падает. Мы приходим к
вам в качестве друзей. Доверьтесь нам. Мы несем вам вольность и неза¬
висимость, за которые столь много терпели ваши предки. Пусть восточное вар¬
варство падет перед западной цивилизацией, общей для вас и для нас. Подни¬
майтесь, помня о своец прошлом, столь великом и полном славы. Соединяйтесь с
союзными войсками. Объединив наши силы, мы изгоним из границ Польши
азиатские орды”44.
В теснейшей связи с этим заявлением стоят документы, казалось бы, совсем
другого порядка. Спустя три года, И декабря 1917 г., сейм (тариба) Литвы
провозгласил ее независимость. Это было в те дни, когда делегация РСФСР вела
в Брсст-Литовске переговоры о перемирии с Германией и ее союзниками. В
первом пункте манифеста о независимости говорилось: ’’Литовский сейм, приз¬
нанный литовцами, как живущими в стране, так и за границей, единственным
полномочным представителем литовского народа, провозглашает на основе
признанного права на самоопределение народов и на основании постановления
заседавшей в Вильно с 18 по 23 сентября литовской конференции восстановление
независимости литовского государства со столицею Вильно и с отделением его от
всех государственных связей, которые существовали с другими народами”.
Второй же пункт этого акта о независимости трактовал ее весьма своеобразно:
"При воссоздании этого государства и для охраны его интересов при мирных
переговорах, сейм испрашивает защиту и помощь германской империи. Во
внимание к жизненным интересам Литвы, которые требуют скорейшего уста¬
новления длительных и тесных отношений с германской империей, сейм выска¬
зывается в пользу вечного и прочного союза литовского государства с герман¬
ской империей, который должен, главным образом, найти свое воплощение в
военном, транспортном, таможенном и монетном единении”45.
26 мая 1918 г. национальный совет Грузии принял Акт о ее независимости. А
42 Там же, с. 93.
43 Там же, с. 92.
44 Ключников Ю.В., Сабанин А. Международная политика новейшего времени в договорах,
нотах и декларациях. Ч. 2. От империалистической войны до снятия блокады с Советской России. М.,
1926, с. 429—430.
45 Там же, с. 96.
16
уже 28 мая между Германией и Грузией было подписано потийское соглашение,
по нему Грузия признавала Брест-Литовский договор, а также предоставляла
свою железнодорожную сеть для перевозки германских войск. Руководить этими
перевозками должна была германская военная комиссия в Тифлисе, грузинское
правительство разрешало назначить германских консулов "в те места грузин¬
ского государства, в которые императорское] германское правительство найдет
желательным их назначение”46. Большего Германии в то время и не нужно
было. Тогда она уже фактически оккупировала Украину.
Таким образом, планы расчленения России нашли отражение и в условиях
Брестского мира47. Но революция в Германии позволила объявить недействи¬
тельным Брест-Литовский договор и связанные с ним "уступки территорий и об¬
ластей"48. Однако идея раскромсать "русское пространство" не осталась чисто
германской. "Четырнадцать пунктов" президента США В. Вильсона, являв¬
шиеся ответом на Декрет о мире, также предусматривали расчленение России
(пункт 6).
Взаимосвязь и взаимозависимость внутренней и внешней политики отчетливо
видны в том, что расчленители извне всегда стремились опереться на сепа¬
ратистов внутри страны. Существовало и ответное тяготение. Карл XII и Ма¬
зепа нашли друг друга не случайно. Сепаратистские тенденции, к которым со¬
ветское руководство в последние годы относилось по принципу непротивления
злу насилием, сыграли роковую роль в разрушении Советского Союза. Но они не
были порождением нашего времени.
64 года тому назад выдающийся русский мыслитель Г.П. Федотов поставил
вопрос: "Будет ли существовать Россия?" С поразительной точностью, подтвер¬
дившейся в реалиях наших дней, историк и философ указал на признаки на¬
двигающейся катастрофы. "Можно отмахнуться от этих симптомов, — горестно
замечал он, — усматривая в них лишь новые болезни интеллигентской мысли ..
Но никто не станет отрицать угрожающего значения сепаратизмов, разди¬
рающих тело России. За одиннадцать лет революции зародились, развились,
окрепли десятки национальных сознаний в ее расслабевшем теле. Иные из них
приобрели уже грозную силу. Каждый маленький народец, вчера полудикий,
выделяет кадры полуинтеллигенции, которая уже гонит от себя своих русских
учителей. Под покровом интернационального коммунизма, в рядах самой комму¬
нистической партии складываются кадры националистов, стремящихся разнести
в куски историческое тело России. Казанским татарам, конечно, уйти некуда.
Они могут лишь мечтать о Казани как столице Евразии. Но Украина, Грузия (в
лице их интеллигенции) рвутся к независимости. Азербайджан и Казахстан тя¬
готеют к азиатским центрам Ислама"49. Эти строки написаны Федотовым во
Франции в 1928 г., спустя три года после того, как он покинул свое отечество.
Они основаны не на интуиции пророка, а на глубоком знании истории России и
ситуации в ней в первой половине 20-х годов.
Наблюдения Федотова настолько верны, что сегодня они просто поражают.
"Момент падения коммунистической диктатуры, освобождая национальные силы
России, в то же время является моментом величайшей опасности. Оно, несом¬
ненно, развяжет подавленные ныне сепаратистские тенденции некоторых наро¬
дов России, которые попытаются воспользоваться революцией для отторжения
от России, опираясь на поддержку ее внешних врагов", — утверждал он. И
46 Там же, с. 435—436.
47 Там же, с. 123—126, 163—166.
48 Там же, с. 198—200.
49 Федотов Г.П Будет ли существовать Россия. — О России и русской философской культуре.
Философы русского послеок тябрьского зарубежья. М., 1990. с. 450—451.
17
добавлял, что "благополучный исход кризиса зависит от силы новой власти, ее
политической зрелости и свободы от иностранного давления"50. Для анализа
сегодняшней ситуации важно и замечание Федотова о том, что "из оставшихся в
России народов прямая ненависть к великороссам встречается только у наших
кровных братьев — малороссов или украинцев"51. И это самый болезненный
вопрос новой России.
Федотов был велик не только в своем прозрении, но и в том, что он, как бы
обозревая просторы России, показывал, что есть конкретные пути преодоления
кризиса, главным из которых он считал синтез культур русской и тех народов,
что составляют Россию, включая и народ "древней Матери нашей" —
Малороссии. Именно не на политическом, а на цивилизационном уровне, без
силовых решений призывал он укрепить единство Великой и Малой России.
"Россия не Русь, — подчеркивал он, — но союз народов, объединившихся вокруг
Руси. И народы эти уже не безгласны, но стремятся заглушить друг друга гулом
нестройных голосов. Для многих из нас это все еще непривычно, мы с этим не
можем примириться. Если не примиримся — т.е. с к^ногоголосностью, а не с
нестройностью, то й останемся в одной Великороссии, т.е. Россия существовать
не будет"52. Таков был ответ на вопрос, вынесенный в заглавие работы. И,
обращаясь к следующему поколению русской интеллигенции, историк призывал:
"Это зависит от нас. Буди! Буди!"53
"Молодое поколение варваризируется и в России, и в зарубежье, — с горечью
замечал Федотов. — Для него подчас, кажется, не под силу поднять культурную
ношу отцов. Но надо не только поднять ее, но и нести дальше и выше, чем
умели отцы. Ибо голос времени звучит неумолимо: "Всякое промедление —
смерти подобно", как говаривал Петр Великий. Наши творческие силы еще не
иссякли. Мы верим в наше призвание и не миримся с мыслью о гибели. Нам
нужна лишь школа аскезы — культурной, творческой аскезы, без которой не
создаются ни духовные, ни материальные ценности культуры"54. Это намечало
уже не только пути, но и программу выхода из кризиса. Думается, что над ней
стоит размышлять и сегодня. И не только размышлять.
Мы остановились столь подробно на труде Федотова потому, что он одним из
первых разглядел опасность сепаратизма и уловил его разрушительную сущ¬
ность. Известный философ И.А. Ильин предупреждал о том, что распад России
может сильно навредить мировой цивилизации 55. Видя подлинную картину
бедствий, принесенных стране сепаратизмом, мы с болью осознаем трагичность
того, что голоса разума и совести, возвещавхпие об опасностях для судеб
Отечества, не были услышаны. Деструктивный национализм и его крайнее
проявление — сепаратизм — слишком дорого обходятся народам.
Что же может противостоять сепаратизму? С одной стороны, правовые,
конституционные нормы, с другой — национализм конструктивный. Образцом его
можно считать подход к проблеме главного идеолога индийского национализма
М. Ганди. Он отмечал: "Национализм в моем понимании значит, что моя страна
должна обрести свободу, что, если нужно, вся моя страна должна умереть, чтобы
человечество могло жить. Здесь нет места расовой ненависти. Путь это будет
нашим национализмом... Целью государств мира является не изолированная
50 Там же, с. 455.
51 Там же.
52 Там же, с. 459.
53 Там же, с. 462.
54 Там же, с. 461.
55 Ильин И.А. Что сулит миру расчленение России. — Русский рубеж. По страницам "Литера¬
турной России". М., 1991.
18
независимость, а добровольная взаимозависимость. Лучшие умы мира желают
сегодня видеть не абсолютно независимые государства, воюющие друг с другом,
а федерацию дружественных взаимозависимых государств"56. Сегодня этот под¬
ход начинает реализовываться в сообществе западноевропейских государств
через формирование общеевропейского рынка и надгосударственных политичес¬
ких институтов. Перед Россией же стоит историческая задача сохранения су¬
ществующей федерации. Общероссийский рынок сложился еще в XVII в. Значит
есть политические и экономические условия для жизнедеятельности российского
многонационального организма. Нужны идеологические и правовые императивы,
которые обеспечивали бы защиту национальных интересов всех народов, сце¬
ментированных общностью исторических судеб в их совместном Отечестве.
Возьмем ли мы вертикальные (во времени) или горизонтальные (в про¬
странстве) срезы истории, и те и другие свидетельствуют о том, что Россия
является особой "межцивилизационной цивилизацией", впитавшей в себя многие
черты различных цивилизационных комплексов Востока и Запада. Нынешняя
тенденция к раздроблению этнокультурного конгломерата, сцементированного
взаимообусловленностью исторических судеб более полутора сотен народов,
потребностями их экономического и культурного взаимодействия, противоречит
исторической традиции и национальным интересам всех народов этого уни¬
кального этнополитического сообщества, складывавшегося на протяжении мно¬
гих веков. Разрушительный процесс связан в первую очередь с действием
политико-идеологических факторов. Сепаратизм есть крайнее выражение нацио¬
нализма. В нашу эпоху сепаратизм противоречит интересам выживания, так как,
во-первых, появилась целая группа национальных интересов, не разрешимых на
национальном уровне. Это проблемы экологии, ядерной угрозы, сырьевых и
энергетических ресурсов. Нынешний цивилизационный уровень настоятельно
требует интеграционных процессов. Во-вторых, сепаратизм противоречит и
интересам сосуществования, ибо экономическое процветание также может быть
достигнуто лишь на основе международного разделения труда и опять-таки
экономической интеграции. Историческая задача заключается в том, чтобы
народы, оформившиеся в нации и создавшие свою суверенную государст¬
венность, не засиживались в национальных гнездах, а осваивали просторы ин¬
тегрированных структур. Это связано и с преодолением идеологических, сепа¬
ратистских стереотипов в обществе.
Итак, мы подошли к одной из давних, но не сходящей с повестки дня
проблеме — преемственности во внешней политике. Здесь дискутируются в те¬
чение многих лет два главных вопроса: насколько Российская империя продол¬
жила политику Русского государства и осталась выразительницей интересов
русского народа и стал ли Советский Союз продолжателем политики царской
России, обновив лишь методы, или после 1917 г. была сформирована качественно
новая внешнеполитическая доктрина и соответствующие ей стратегия и тактика
на международной арене? Думается, что дискуссии по этим вопросам будут
продолжаться. Их плодотворность будет во многом зависеть от освоения новых
подходов к проблеме правопреемства в политике вообще, что является областью
не столько права, сколько философии истории.
Фундаментальную идею в этой области мы обнаруживаем у вышеупомя¬
нутого Федотова, который отмечал, что "в Московской Руси народ нацио¬
нальным сознанием обладал... Он ясно ощущает и тело русской земли и ее
врагов. Ее исторические судьбы, сливавшиеся для него с религиозным приз¬
ванием, были ясны и понятны. В Петровской империи народ уже не понимает
ничего. Самые географические пределы ее стали недоступны его вообра-
5А
Цит. по: Неру Дж. Открытие Индии., 1955, с. 457.
19
жснию"57. Это обусловило отчужденность общества от международной полити¬
ки, а политики от интересов нации. Но здесь следует оговориться, что Федотов
нс учитывал феномен массового народного сознания, запечатлевшего действия
многих тысяч россиян, и ратными подвигами, и повседневным трудом укреп¬
лявших свое Отечество. И, например, в ходе Крымской войны подвиги защит¬
ников Севастополя умножались стойкостью оборонявших Соловецкий монастырь
и героизмом отразивших нападение англо-французской эскадры на Петропав¬
ловск-Камчатский. И эти подвиги совершались в столь удаленных друг от друга
точках людьми, осененными именно национальным сознанием своего долга по
защите русской земли, пространства которой были вполне доступны их во¬
ображению. Одновременно с трансформацией пространственных пределов госу¬
дарства шла и перестройка общественного сознания. Если же иметь в виду
некоторый разрыв между представлениями народа и дипломатической деятель¬
ностью государства, то это совершенно иная область, относящаяся к специфике
дипломатии как искусства общественной элиты. Но и здесь мы видим десятки
исключений. Например, служилые люди в Сибири XVII в. выступали в качестве
дипломатов, демонстрируя высочайшие образцы и природного дипломатического
такта, и сознания государственного значения их миссий.
Для сегодняшней внешней политики России проблема правопреемства приоб¬
рела и практическую остроту. При проецировании исторического опыта на реа¬
лии наших дней для историков-международников кардинально изменился объект
компаративистских исследований. В геополитических характеристиках следует
выделить следующие: Союз был одной из сверхдержав; Россия, хотя она и кон¬
центрирует на своей территории существенную часть комплексной мощи бывше¬
го Союза, тем не менее не может претендовать на статус сверхдержавы. Карди¬
нальным образом изменилось содержание внешней политики России и ее основ¬
ные принципы. Став суверенным субъектом международных отношений, Россия
одновременно отказалась от роли политического, экономического и идеологичес¬
кого центра для значительного числа государств и народов. Это касается в пер¬
вую очередь системы взаимоотношений с государствами социалистической ориен¬
тации (Китай, Куба, КНДР, Вьетнам), а также связей с государствами "третьего
мира". Замена принципов интернационализма на прагматические подходы лишила
Россию симпатий многих, кто поддерживал на международной арене политику
Союза, рассматривая ее как противовес диктату лидеров западного мира. Сюда
входило и значительное число стран —участниц движения неприсоединения.
Изменился и характер отношений с ведущими державами Запада. Напря¬
женность уступила место диалогу. Россия заняла место Союза в Совете Без¬
опасности ООН и в ряде других международных организаций. Тем не менее она
утратила не только роль одного из лидеров на мировой арене, но и фактически
лишилась возможности осуществлять равноправные отношения с этой группой
стран, так как они являются донорами для ее экономики. Глубокий политический
и экономический кризис и одновременные процессы разрушения ракетно-ядер¬
ного щита страны и ее вооруженных сил в целом лишают Россию возможности
адекватно реагировать на действия партнеров на международной арене. Она
вынуждена приспосабливаться к обстоятельствам. Тот факт, что наметились
тенденции к установлению партнерских отношений с ведущими державами
северного полушария, невольно может иметь следствием противопоставление
России государствам Юга — причем такие из них, как Китай и Индия,
представляют почти половину человечества. При этом следует учитывать, что
отношения ее с рядом государств Азии (Индией, Японией, Монголией) находятся
в состоянии, близком к кризисному.
Ы Федотов Г.П. Указ, соч., с. 452.
20
Наконец, отчетливо просматривается и утрата Россией традиционных дру¬
жественных связей с теми странами, народам которых она помогала в на¬
ционально-освободительной борьбе. Эти особые отношения начались в исто¬
рическом прошлом. Даже когда Россия являлась империей, она объективно со¬
действовала становлению суверенных государств на Балканском полуострове, в
Монголии, Корее.
Обновленная Россия значительно отличается по своему геостратегическому
положению и от Союза и от дореволюционной России. Сегодня стало модным
говорить о "сдвиге России на Восток". Этой словесной конструкцией пытаются
прикрыть катастрофическую ситуацию на ее западных рубежах. До петровского
’’окна в Европу" сузились позиции России на Балтике, где образовался к тому же
отрезанный от основного массива государства анклав — Калининградская об¬
ласть. По сухопутью Россию связывает с Европой "белорусский коридор". Бе¬
ларусь — суверенное государство, ее позиции могут меняться. Это видно на
примере Украины. Утрачены и южные форпосты, за которые столетиями шла
борьба с Турцией: Крым, Новороссия, Заднестровье. Если будет реализована
идея балтийско-черноморской федерации, то Россия окажется отрезанной от
Европы этим образованием, откатившись к своим рубежам XVII в. События в
Закавказье и на самом Кавказе лишают Россию ее ключевых позиций на Черном
и Каспийском морях.
От Каспийского моря и до предгорий Алтая соседями России являются новые
государственные образования, тяготеющие друг к другу на конфессиональной
основе и являющиеся объектом активных политических усилий таких лидеров
исламского мира, как Иран и Турция. Причем Иран, представляющий из себя
центр шиитской фундаменталистской ортодоксии и проповедующий идеи ис¬
ламской революции, пожалуй, менее привлекателен для среднеазиатских сун¬
нитов, уже вкусивших от благ современной цивилизации, чем совершающая
прорыв в сообщество развитых государств Турция, за спиной которой стоят ее
натовские союзники во главе с США. Заинтересованность в укреплении своих
позиций в этой части Азии лидеры Запада проявили путем принятия бывших
советских среднеазиатских республик и Казахстана в состав государств, под¬
писавших Хельсинкские соглашения по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Политика может посмеяться над географией, если это ей выгодно, но и у
географии может быть заготовлена ответная шутка, например, наблюдающийся
в псследние годы прогрессирующий рост численности азиатского, в частности
мусульманского, населения в Северной Европе.
* * *
История внешней политики России это история славных свершений воистину
великого народа, больше отдававшего другим, чем получавшего себе от того
тончайшего баланса, который выражает взаимосвязь внутренней и внешней
политики. Лучшие умы России сознавали, что внешняя политика не* должна
покрывать издержки политики внутренней, что при всей их взаимообус¬
ловленности внешняя политика подчиняется своим законам развития, что в ней
исключительно важную роль играют нравственные аспекты. Не только народ
данной страны, но и народы других государств должны быть уверены в
справедливости тех или иных внешнеполитических акций. Последующие исто¬
рические события ощущают на себе заряд инерции предыдущих чаще всего в
соответствии с их моральными параметрами. Воспитание исторического сознания
нынешнего и грядущих поколений не совместимо с безоглядным негативизмом,
огульным отрицанием исторического прошлого. Народы должны знать подлин¬
21
ные национальные цели, национальные интересы и не только сегодняшние, но и
исторически формировавшиеся. Выбирая пути своего дальнейшего развития, они
имеют право знать, за что боролись их предки и что они сами отстаивают
теперь. Научными знаниями, исторической памятью они должны быть защи¬
щены от соблазнительных призывов, с помощью которых ставятся подчас лож¬
ные цели и предпринимаются попытки манипулировать общественным сознанием
и в конечном итоге народными судьбами.
Функция науки как объективного судьи в делах минувших и сегодняшних дней
связана во многом с ее материальной независимостью. Только экономическая
самостоятельность обществоведения может создать атмосферу, при которой
историк выступает как не зависимый от властей предержащих эксперт, руко¬
водствующийся сознанием лишь своего научного и гражданского долга. Сейчас
наши историки-международники приступают к созданию крупного коллективного
научного труда ’’История внешней политики России”. Данная статья является
попыткой наметить контуры некоторых проблем, представляющихся актуаль¬
ными. Если что-то из отмеченного войдет в общую ткань этого труда, то автор
будет считать свою миссию выполненной. Думается, что предстоящая работа
заслуживает максимального напряжения наших усилий как научных, так и
научно-организационных. Читатель ждет от него не столько ликвидации "белых
пятен” или сенсационных разоблачений, сколько той концепции истории внешней
политики России, которая содержала бы ответ на главный мучающий наше
общество вопрос: какая закономерность истории приводит к тому, что победы
российской дипломатии и русского оружия на протяжении столетий не ком¬
пенсируют затраченных на них усилий, не ведут к росту благосостояния об¬
щества и процветанию страны и в конечном счете не могут уберечь народ от
трагедий?
22
© 1992 г.
в.Я. сиполс
МИССИЯ КРИППСА в 1940 г.
БЕСЕДА СО СТАЛИНЫМ
Некоторые сведения о миссии Стаффорда Криппса в Москву летом 1940 г.
имеются в изданных в нашей стране работах1. Но все же они очень скудные.
Больше известно о деятельности Криппса в качестве английского посла в СССР
в 1941—1942 гг.2 Кульминационным пунктом приезда Криппса в СССР в 1940 г.
была его встреча 1 июля со Сталиным. Но об этом или не упоминается вовсе,
или отмечен лишь сам факт беседы. Ее содержание не излагается. Посещения в
то время Криппсом Сталина, а тем более суть их беседы были "большим
секретом".
Попытаемся раскрыть этот секрет.
Вторая мировая война, начавшаяся нападением Германии на Польшу 1 сен¬
тября 1939 г., превратилась после поражения Польши в так называемую
"странную войну". Хотя Англия и Франция, имевшие союзные договоры с
Польшей, объявили войну Германии, активных военных действий против рейха
они, однако, не начали. Более того, в газетах появлялись сведения о том, что
участники мюнхенской сделки сентября 1938 г. — Гитлер, Муссолини, Чем¬
берлен и Даладье — могут прийти к новому полюбовному соглашению. В
кулуарах Лондона и Парижа строились планы превращения "неправильной"
войны Англии и Франции против Германии в их совместную "правильную" войну
против СССР.
Но на всех этих комбинациях был поставлен крест, когда в апреле 1940 г.
германские войска вторглись в Данию и Норвегию, завершив тем самым
"странную войну". Началась настоящая война между Германией, с одной сто¬
роны, Англией и Францией — с другой. В это время в политике английского
правительства по отношению к СССР стали проявляться изменения. Курс бри¬
танского премьера Н. Чемберлена на соглашение с Германией окончился полным
провалом, а он сам вынужден был подать в отставку. 10 мая новым премьером
Англии стал У. Черчилль. Хотя он был в свое время одним из наиболее
активных организаторов антисоветской интервенции, Черчилль еще с середины
30-х годов энергично выступал за сотрудничество Англии, Франции и СССР в
целях предотвращения новой мировой войны. Однако призывы и преду¬
преждения Черчилля не были услышаны, и Англия оказалась теперь у разбитого
корыта. Главный союзник Англии — Франция — бился в предсмертной агонии. С
СССР отношения были доведень Лондоном до критического состояния:
английские военно-воздушные силы вели подготовку к бомбардировке советских
нефтепромыслов в Баку и нефтехранилищ в Батуми.
1 См. Из дневника и писем посла Великобритании в СССР в 1941—1942 гг. С. Криппса. —Новая
и новейшая история, 1991. Хе 3.
2 В 4-м томе "Истории дипломатии" (М., 1975, с. 162) сказано: "1 июля Ст. Криппс был принят
И.В. Сталиным". Аналогичная фраза имеется в томе 3-м "Истории второй мировой войны" (М., 1974,
с. 350). Во многих изданиях по истории международных отношений, а также по истории советско-
английских отношений того времени этот факт вообще не отмечается.
23
В условиях, когда приходилось считаться с возможностью вторжения гер¬
манских войск на Британские острова, Черчилль срочно предпринял ряд мер по
нормализации отношений с СССР. 15 мая 1940 г. лейборист К. Эттли, став
членом нового британского военного кабинета3, предложил направить в Москву
для переговоров крупного политического деятеля4 5. Речь пока шла, однако, в
основном о торговых переговорах. Советский полпред в Лондоне И.М. Майский
в беседе с заместителем министра иностранных дел Англии Р. Батлером, со¬
стоявшейся 16 мая 1940 г., также высказался в пользу того, что лучше было бы
вести торговые переговоры непосредственно между представителями обеих
стран, а не путем обмена нотами, как это делалось ранее®. Вечером того же дня
британский лейборист сэр Стаффорд Криппс предложил в беседе с министром
иностранных дел Англии лордом Галифаксом (он был одним из членов
правительства Чемберлена и сохранил свой пост в правительстве Черчилля) свои
услуги для поездки в Москву в качестве специального посланника британского
правительства6. Криппс нередко критиковал внешнюю политику консерваторов,
в частности их отношение к СССР, так что у последних было к нему достаточно
сдержанное отношение. Но все же в Лондоне вынуждены были прийти к выводу,
что в то время более подходящей кандидатуры для поездки в Москву не
имелось7.
18 мая, когда немецкие танковые части уже прорвали фронт французских
войск (это произошло 14 мая), вопрос об отношениях с СССР рассматривался на
заседании британского военного кабинета. Галифакс высказал мнение, что со¬
ветское правительство также "озабочено германскими успехами" и что поэтому
было бы возможно "достижение с ним какого-то соглашения". По предложению
Галифакса, в пользу которого высказался Черчилль, было принято решение по¬
слать в Москву Криппса, чтобы "выяснить и доложить военному кабинету о
возможностях достижения соглашения с советским правительством по возни¬
кающим торговым и другим вопросам"8. Таким образом, согласно решению
правительства Великобритании полномочия Криппса были ограничены лишь
выяснением обстановки. Право вести переговоры о каком-либо соглашении или
принимать от имени британского правительства какие-либо обязательства он не
имел. К тому же в качестве помощника к нему было приставлено доверенное
лицо Форин оффиса. Криппс не получил даже четких указаний относительно
политики Лондона в отношении СССР, не имел разговора и с Черчиллем.
и Правда, 21 мая с Криппсом говорил Батлер. Он особенно подчеркнул, что
визит Криппса является "исследовательским", причем особое внимание следует
уделить вопросу о возможности заключения торгового соглашения9.
Что касается лично лорда Галифакса, то его враждебное отношение к СССР
не изменилось. Несколько дней спустя он писал относительно поездки Криппса:
"У меня нет никаких иллюзий относительно того, что миссия имеет перспективы
достижения положительных результатов; но я полагаю, что при нынешнем
стечении обстоятельств следует испробовать все, что может создать трещину в
3 Эттли был назначен лордом-хранителем печати и занимал третий по важности пост в
английском правительстве. Вторым человеком в правительстве оставался Н. Чемберлен.
4 Woodward L. British Foreign Policy in the Second World War, v. 1. London, 1970, p. 459. o
5 Public Record Office (далее— PRO), FO 371 24841/6476, p. 313.
6 Gorodetsky G. Sufford Cripps Mission to Moscow, 4940—42. London, 1984, p. 30.
7 Немалую роль сыграло и то обстоятельство, что в начале 1940 г., совершив поездку в США и
Китай, Криппс на обратном пути остановился в Москве и 16 февраля имел обстоятельную беседу с
наркомом иностранных дел СССРВ.М. Молотовым.
8 PRO, FO 371 24839/6406, р. 163.
9 PRO, FO 371 24847/3085, р. 283.
24
советско-германских отношениях10, и, поскольку миссия носит исключительно
исследовательский характер, она не втянет правительство его величества в
какие-либо обязательства в отношении советского правительства”11. В телег¬
раммах послам в США и некоторых других странах Галифакс сообщал, что "не
предполагается, чтобы сэр Стаффорд Криппс попытался достигнуть согла¬
шения”12.
20 мая Галифакс, пригласив Майского, сообщил ему о решении британского
правительства срочно отправить в Москву Криппса, который путем переговоров
с советским правительством мог бы выяснить ’’возможность прогресса в пред¬
ложенных советским правительством торговых переговорах”. В ответ на вопрос
Майского он добавил, что Криппс, "конечно”, будет иметь полную свободу вы¬
яснить в ходе дискуссии и любой другой вопрос”13.
Процитированные слова содержатся в письме Галифакса английскому по¬
сольству в СССР. Майский в телеграмме в Москву изложил высказывания Га¬
лифакса несколько иначе. Последний, мол, сказал, что Криппс мог бы выяснить
"возможность улучшения англо-советских отношений вообще и заключения
торгового соглашения, в частности”. Майский телеграфировал также, что Га¬
лифакс предложил послать Криппса в Москву в качестве "специального уполно¬
моченного”14.
Майский был обязан передать в Москву слова Галифакса абсолютно точно.
Но вряд ли он делал по ходу беседы какие-либо записи. А, излагая слова
Галифакса по памяти, он мог их и несколько "улучшить". Криппс посылался в
Москву без каких-либо полномочий, а Майский назвал его "уполномоченным”, да
еще "специальным”.
Характеризуя Криппса, полпред отмечал в телеграмме в Народный комис¬
сариат иностранных дел (НКИД), что он — один из крупнейших юристов
Англин, видный политический деятель и член парламента, пользующийся
большой популярностью как среди более демократических кругов, так и среди
консерваторов типа Черчилля и Идена. Отношение Криппса к СССР — дру¬
жественное15.
В то же время в Лондоне были опасения относительно того, как в Москве
отнесутся лично к Криппсу. В одном из документов упомянутый выше Сарджент
отмечал: в Москве "прекрасно знают, что он (Криппс. — В.С,) не пользуется
доверием" британского правительства. Сталин может спросить о его полномо¬
чиях: ведь в августе 1939 г. англичане послали в Москву военную миссию "без
полномочий, необходимых для подписания военной конвенции". Если в ответ
Криппс скажет, отмечал Сарджент, что он "может вести лишь исследова¬
тельские дискуссии, то Молотов может решить, что в таком случае вообще нет
смысла говорить с ним”16. Забегая вперед, отметим, что хотя в Москве знали об
отсутствии у Криппса полномочий на заключение даже торгового соглашения,
все же с ним согласился вести переговоры не только Молотов, но и Сталин.
В Форин оффисе стали задумываться и над тем, как отнесутся в Москве к
10 Один из экспертов Форин оффиса, О. Сарджент, писал 20 мая, что главная цель англичан — в
переговорах с Москвой "побудить русских выступить против немцев". PRO, FO 371 24841/6476,
р. 314.
11 Ibid., FO 371 24840/6475, р. 175.
12 Ibid., р. 179.
13 Ibid., FO 418/86/3131, р. 21.
14 Архив внешней политики Российской Федерации (далее — АВП РФ), ф. 048з, он. 1ж. д. 7,
Л. 94.
15 Там же.
16 PRO, FO 371 24847/3085, р.315.
25
тому факту, что в СССР прибывает английский представитель лишь с разовой
миссией, в то время как уже с начала года в Москве отсутствует английский
посол У. Сиде и не возникал даже разговор о его возвращении или назначении
другого посла. 22 мая Сарджент писал по этому поводу: "Мы должны немед¬
ленно назначить в Москву посла... Посылка в Россию лишь специальной миссии,
не сопровождающаяся назначением постоянного посла, может скорее вызвать
недовольство советского правительства, чем предрасположить его"17.
Была подобрана и кандидатура. Незадолго до этого на важный в то время для
Англии пост посла в Испании (через Мадрид можно было поддерживать
контакты с Берлином) назначили одного из ближайших единомышленников
Чемберлена Сэмьюэла Хора, выбывшего 10 мая из состава правительства.
Прежнего посла в Мадриде М. Петерсона и решено было отправить в Москву18.
Британское правительство пыталось создать в Москве впечатление, что оно
действует с самыми благородными намерениями. Министру экономической войны
лейбористу X. Долтону, действительно считавшему желательной нормализацию
отношений с СССР, поручили побеседовать в соответствующем плане с
И.М. Майским. Выполнив 25 мая это поручение, Долтон переслал запись беседы
Галифаксу. "Я стремился убедить его, — отмечалось в ней, — что теперь здесь
новые настроения, твердая воля и намного более решительные усилия победить
в войне, а также искреннее желание избавиться от всех старых обоюдных
недоразумений между его страной и нашей... К чему мы стремимся теперь,
сказал я, — это откровенные переговоры, имеющие целью достижение прак¬
тических результатов. Даже если бы на первых порах такие переговоры были
ограниченными, они продемонстрировали бы добрую волю и, устранив недоверие
с обеих сторон, улучшили бы атмосферу. Именно по этой причине правительство
его величества предложило в Москву Криппса"19. Долтон сообщил также о
решении англичан освободить советские пароходы "Селенга" и "Маяковский",
задержанные английскими военно-морскими силами на Дальнем Востоке20.
Но в английском министерстве* иностранных дел все же оказался один со¬
трудник, который высказал соображения и о необходимости внесения более серь¬
езных изменений в позицию Англии в отношении СССР. В его записке от 24 мая
подчеркивалось, что "политика СССР всецело определяется опасностью герман¬
ской агрессии". Ввод советских войск в Польшу, создание баз в Балтийских
государствах и война с Финляндией в целях обеспечения выдвинутых вперед
опорных пунктов для обороны Ленинграда против Германии — "все эти акции
вызваны опасностью возможной германской агрессии". Поэтому следовало бы
исключить Советский Союз из "черного списка неизбежных врагов, против
которых должна быть повернута нацистская священная война"21.
В целом предложение британского правительства о посылке в Москву
Криппса, свидетельствовавшее о некоторых сдвигах в его политике в отношении
СССР, было встречено в Москве положительно. Но стремление Лондона на¬
править тогда в Москву не обычного посла, а особого представителя, не могло
не настораживать. Ведь такой визит мог явиться и результатом стремления
британского правительства еще больше осложнить и так не простые отношения
между СССР и Германией.
25 мая Молотов телеграфировал Майскому: "Советское правительство не
17 Ibid., р. 303.
18 Gorodetsky G. Op. cit., р. 30.
19 PRO, FO 371 24840/6475, p. 221.
28 АВП РФ, ф. 048з, on. 1ж, д. 7, л. 93.
21 PRO, FO 371 24847/3085, р. 327—328. Расшифровать подпись автора записки, к сожалению,
нс удалось.
26
возражает против направления в Москву Криппса или какого-либо другого лица,
облаченного доверием английского правительства. Однако советское правитель¬
ство настаивает на том, чтобы это лицо было отправлено в Москву не в
качестве особоуполномоченного, а в качестве посла на тех же обычных усло¬
виях, на которых аккредитован наш полпред в Лондоне”22. Когда на следующий
день Майский сообщил об этом Галифаксу, ему было сказано, что англичане
намерены послать в Москву, кроме Криппса, также и посла, но это будет другое
лицо23.
30 мая было опубликовано сообщение ТАСС, где говорилось о том, что
Майскому поручено довести до сведения английское правительства следующее:
"Правительство СССР не может принять в качестве особого или чрезвычайного
уполномоченного ни г-на Криппса, ни кого-либо другого. Если английское пра¬
вительство действительно хочет вести переговоры о торговле, а не просто
ограничиться разговорами о каком-то несуществующем повороте в отношениях
между Англией и СССР, то оно могло бы это сделать через своего посла в
Москве г. Сидса или другое лицо на посту посла в Москве, если г. Сиде будет
заменен другим лицом”2*
Между тем 29 мая Батлер информировал Майского, что Криппс назначается
послом, но "чрезвычайным и полномочным послом со специальной миссией”25.
31 мая поверенный в делах Англии в СССР Ле Ружетель посетил Молотова и
официально сообщил ему об этом назначении, а также отзыве прежнего посла
Сидса. Он запросил агреман на С. Криппса. Однако нарком напомнил ответ, уже
данный полпредом в Лондоне по этому вопросу, и отметил, что новый посол
должен иметь такие же функции, какие имел Сиде26. 4 июня британский пове¬
ренный в делах запросил агреман на Криппса в качестве обычного посла без
каких-либо чрезвычайных функций, на что получил согласие советского прави¬
тельства27.
12 июня Криппс прибыл в Москву. Возникли, однако, трудности с его ве¬
рительными грамотами, которые до того времени еще не успели изготовить и
прислать. Вышли из положения, договорившись, что сами верительные грамоты
будут показаны в Лондоне Майскому, а Криппсу их содержание будет передано
по телеграфу, что было беспрецедентно в дипломатической практике28.
Между тем стала очевидной основная причина озабоченности официальных
кругов Лондона. 10 июня Батлер отметил в беседе с Майским, что "если победам
Германии не будет положен конец, то она станет хозяином Европы. Едва ли
такой результат будет соответствовать интересам СССР, который, подобно
всем другим государствам, должен желать соблюдения в Европе известного
политического равновесия”29.
14 июня Криппса принял Молотов. Криппс выразил надежду "добиться более
благоприятного положения" в англо-советских отношениях. "В Англии теперь
новое правительство, и оно имеет другие взгляды на отношения с СССР", —
заявил Криппс. "Поживем — увидим", — прореагировал на это Молотов.
22 АВП РФ, ф. 048з, оп. 1ж, д. 7, л. 95.
23 Там же; PRO, FO 418/86/3131,. р. 24.
2* Внешняя политика СССР. Сб. документов, т. 4. М., 1946, с. 506—507.
25 АВП РФ, ф. 048з, оп. 1ж, д. 7, л. 96; PRO, FO 371 24849/3138, р. 29.
26 АВП РФ, ф. 06, оп. 2, д. 12, л. 173.
27 Там же, д. 109, л. 13.
28
Майский И.М. Воспоминания Советского посла. Война. 1939—1943. М., 1965, с. 127—128.
Подлинник верительных грамот Криппса был показан Батлером Майскому 21 июня. Ему была пе¬
редана копия этих грамот.
29 АВП РФ, ф. 048з, оп. 1ж, д. 7, л. 98.
27
Далее британский посол, отметив, что у Англии и СССР имеются общие
интересы, которые можно было бы обсудить, сказал, что следует начать с
экономических отношений. Молотов согласился с этим, но отметил, что до сих
пор препятствия развитию этих отношений чинились именно британским пра¬
вительством. Он указал, в частности, на задержание английскими властями двух
советских пароходов — ’’Селенга” и "Маяковский”.
Переходя к политическим вопросам, Криппс сказал, что британское прави¬
тельство желало бы получить разъяснения по поводу обстановки на Балканах.
Обрисовав угрозу независимости балканских государств со стороны Германии и
Италии, Криппс отметил общую заинтересованность Англии и СССР в этом
вопросе. Он выразил надежду, что, учитывая влияние СССР на Балканах, он
"мог бы помочь сохранению свободы народов полуострова”. Британское пра¬
вительство, сказал Криппс, желало бы создать балканский блок "под эгидой
СССР”. Молотов ответил, что СССР действительно ’’имеет определенные
интересы на Балканах”. Что же касается образования блока балканских госу¬
дарств, то не совсем ясно, что имеется в виду.
Криппс сказал далее, что "желательно сочетать интересы СССР и Англии в
вопросах дальневосточной политики”.
В ходе беседы встал и вопрос о положении на фронте во Франции. Криппс при
этом сказал, что если Франция была бы сокрушена, то возникла бы опасность
использования Германией своих сухопутной сил на востоке. Англия в таком
случае продолжала бы борьбу и могла бы также помочь Советскому Союзу,
поставлять нужные ему товары30.
Криппс в ходе беседы явно стремился представить британскую политику в
самом лучшем виде. Но дело обстояло несколько иначе. В помощи нуждалась
тогда именно Англия. Однако Форин оффис считал: надо вести переговоры
таким образом, что все, о чем говорят англичане, в интересах самого СССР.
Итак, в Лондоне стремились к тому, чтобы в результате заключения торгового
соглашения навязать СССР условия, подрывавшие его торговые отношения с
Германией. На Балканах Англия пыталась втянуть СССР в прямое противо¬
борство с Германией. В Москве неплохо разбирались в этих дипломатических
уловках "коварного Альбиона”.
Сразу же после беседы произошла "утечка информации” о ней, причем иска¬
женной. Скорее всего, "утечка” была организована в Лондоне преднамеренно,
чтобы осложнить отношения СССР с Германией. Так, в английской газете "Дей¬
ли мейл” появилось сообщение о том, что "под руководством СССР принимаются
новые меры для заключения более сильного антиагрессивного пакта между
Румынией, Югославией и Турцией, причем цель пакта — оказать сопротивление
германской и итальянской экспансии на восток”. В связи с этим ТАСС опуб¬
ликовал опровержение31.
14 июня германские войска вступили в Париж, который сдался без сопро¬
тивления. Через несколько дней, 22 июня 1940 г., Франция капитулировала. В
связи с неспособностью французской армии и прибывших во Францию английских
частей оказать серьезное сопротивление германским войскам положение Англии
обострилось еще больше. В Форин оффисе было сочтено желательным, чтобы
Криппс добился приема у Сталина. Для этого решили направить через него по¬
слание Черчилля Сталину. Была проделана значительная работа по подготовке
указаний Криппсу к предстоящей беседе, а в этой связи и по определению
позиции самой Англии.
Сарджент так описывал эту подготовку. ”Я полагал бы, что именно в
30 Там же, ф. 06, оп. 2, д. 109, л. 16—19; PRO, FO 418/86/3131, р. 25—26.
31 Правда, 17.VI.1940.
28
настоящий момент вряд ли можно ожидать изменения советским правительством
его теперешнего отношения к Германии. Несомненно, оно было застигнуто
врасплох быстротой германских успехов. Но, поскольку эти успехи являются в
настоящее время свершившимся фактом, то результатом, по моему мнению,
может оказаться усиление предосторожности советского правительства с целью
сохранения дружественных отношений с Германией, как бы оно ни опасалось ее
и ни надеялось на ее поражение в будущем. До самого последнего времени
Германия, если бы у советского правительства возникли осложнения с ней, была
слишком занята, чтобы принимать контрмеры. Но если советское правительство
предпримет какие-либо раздражающие Германию шаги в теперешних условиях,
то Германия может в течение двух недель направить к советским границам до 40
дивизий. Поэтому вместо того, чтобы ругаться с Германией, Сталин, поступая
гораздо разумнее, укрепляет свои позиции в Балтийских государствах с целью
создания прочного стратегического фронта — на суше и на море — на тот
случай, когда он может оказаться вынужденным защищаться против германской
агрессии”32. Вносил свои предложения и Криппс. В телеграмме в Лондон от
17 июня он отметил, что в создавшейся критической ситуации необходимо
попытаться побудить советское правительство стать на путь сотрудничества с
Англией. С каждым часом, писал он, все менее вероятно, что советское пра¬
вительство откажется от своей теперешней политики в отношении Германии.
"Единственным аргументом, который мог бы побудить его занять в этот по¬
следний час жесткую позицию, было бы ясное, авторитетное заверение США о
сотрудничестве и поддержке. Если бы посол его величества в Вашинггоне мог
убедить президента Рузвельта дать советскому послу в Вашингтоне такое
заверение, то это, я полагаю, все же могло бы дать свои результаты и втянуть
Советский Союз в общий фронт против Германии"33.
Содержание этой телеграммы было сообщено английскому послу в Вашинг¬
тоне лорду Лотиану. Однако заместитель государственного секретаря США
С. Уэллес сказал, что вряд ли Соединенные Штаты могут пойти на такой шаг в
отношении СССР34.
Характерна записка эксперта Фор ин оффиса по русским делам Ф. Маклина,
отмечавшего, что Сталин не собирается "вести за нас наши бои. Если мы хотим,
чтобы Сталин изменил свою политику, мы должны убедить его, что такой
поворот в его собственных интересах. Лучше всего это может быть сделано
путем его личной беседы с представителем правительства его величества".
"Единственная возможность оказания эффективной помощи нам со стороны
Сталина — это принятие немедленной военной акции против Германии или во
всяком случае занятие столь угрожающей позиции, что она заставила бы
Германию перебросить часть своих ресурсов на восток... Эту мысль можно было
бы аргументировать следующим образом: если бы Германия одержала легкую
победу над союзниками, то она неизбежно затем напала бы на Советский Союз".
Маклин высказался за отправку Сталину личного послания Черчилля. "Ста¬
лин — исключительно проницательный и в общем трезвомыслящий человек, и,
если бы эти аргументы были изложены ему в достаточно убедительном виде как
исходящие от Черчилля, который, как он, несомненно, понимает, относится к
делу серьезно, он, конечно, был бы готов их серьезно рассмотреть". "Однако
если бы советское правительство упорствовало в своей теперешней политике
сотрудничества с Германией, — писал Маклин, — мы рано или поздно были бы
обязаны предпринять против Советского Союза карательную акцию; и нам было
32 PRO, FO 371 24844/3138, р. 475.
33 Ibid., р. 484.
34 Ibid., р. 485.
29
бы легко сделать это, учитывая зависимость Советского Союза от добычи
нефти и ее исключительной уязвимости"35.
Глава Северного департамента Форин оффиса Л. Кольер считал необходимым
и во время переговоров с советским правительством сохранять "всю жесткость
наших блокадных мер против СССР, в том числе не допускать доступа во
Владивосток советских пароходов с поставками из-за границы"36.
Специалисты Форин оффиса по Дальнему Востоку выступили против того,
чтобы Криппс касался в беседе со Сталиным проблем этой части света. Они
указывали, что Англии и США следовало бы обратиться к Японии с пред¬
ложениями, которые могли бы привести к какому-то компромиссу по проблемам
Дальнего Востока. "Но такая акция не может быть предпринята в сотруд¬
ничестве с СССР", — писали они37. Из этого вытекает, что имелось в виду
соглашение с Японией, которое могло бы отрицательно сказаться на интересах
СССР.
Все эти соображения легли в основу указаний, которые 24 июня Галифакс
направил Криппсу в связи с его предстоящей беседой со Сталиным.
"Я проанализировал возможность извлечения выгоды от очевидных опасений
Советов относительно последствий для Советского Союза полной победы Гер¬
мании, — писал Галифакс. — Желательно обратиться лично к Сталину и пе¬
редать ему послание Черчилля. При этом не следует создавать впечатления, что
мы бегаем за ним и упрашиваем его таскать для нас каштаны из огня или же что
мы указываем ему, в чем именно заключаются действительные интересы России
в теперешнем кризисе. С другой стороны, если он сделает какие-либо пред¬
ложения, Вы должны сразу же выразить нашу готовность консультироваться и
сотрудничать"38.
.Касаясь экономических вопросов, Криппсу рекомендовалось высказать пони¬
мание того, что русские располагают мощным рычагом воздействия на Герма¬
нию: они могут прекратить свои поставки ей. Позиция СССР в этом вопросе
может предопределить исход переговоров о заключении между Англией и СССР
взаимовыгодного торгового соглашения. "Если встал вопрос о Балтийских го¬
сударствах; — говорилось далее в телеграмме, — Вы можете дать понять, что
верите ему, что недавняя акция советского правительства была продиктована
непосредственной весьма серьезной опасностью, угрожающей теперь России со
стороны Германии, в связи с чем вполне оправданы такие принятые советским
правительством меры самообороны, которые в других обстоятельствах могли бы
быть подвергнуты критике"39.
25 июня 1940 г. Криппсу был передан по телеграфу текст послания Черчилля
Сталину, проект которого был подготовлен в Форин оффисе и одобрен военным
кабинетом Англии40. Смысл отправления такого послания заключался, в част¬
ности, в том, чтобы обеспечить Криппсу прием его Сталиным41. В письме гово¬
рилось: "В настоящее время, когда лицо Европы меняется с каждым часом, я
35 Ibid., р. 546.
36 Ibid., р. 547.
37 Ibid., р. 503.
38 PRO, FO 371 24842/6517.
39 Ibidem. Информируя 22 июня 1940 г. военный кабинет Англии о вступлении новых частей со¬
ветских войск в Литву, Латвию и Эстонию, Галифакс сказал, что, "насколько он мог судить, сосре¬
доточение русских сил в Балтийских государствах носит оборонительный характер... Нет сомнений в
том, что Москва встревожена быстрыми военными успехами Германии на Западе". — PRO, Cab.
65/7, р. 553.
40 Ibid., р. 602.
41 Gorodetsky G. Op. cit., p. 51.
30
хочу воспользоваться случаем — принятием Вами нового посла его величества,
чтобы просить последнего передать Вам от меня это послание.
Наши страны географически находятся на противоположных концах Европы...
можно сказать, выступают за совершенно различные системы политического
мышления. Но я уверен, что эти факты не должны помешать тому, чтобы от¬
ношения между нашими двумя странами в международной сфере были гар¬
моничными и взаимовыгодными.
В прошлом, по сути дела, в недавнем прошлом нашим отношениям, нужно
признать, мешали взаимные подозрения; а в августе прошлого года советское
правительство решило, что интересы Советского Союза требуют разрыва пере¬
говоров с нами и установления тесных отношений с Германией^ Таким образом,
Германия стала Вашим другом почти в тот самый момент, когда она стала
нашим врагом.
Но с тех пор появился новый фактор, который, как я осмеливаюсь думать,
делает желательным для обеих наших стран восстановление нашего прежнего
контакта с тем, чтобы в случае необходимости мы могли консультироваться друг
с другом по тем европейским делам, которые неизбежно должны интересовать
нас обоих. В настоящее время проблема, которая стоит перед всей Европой,
включая обе наши страны, заключается в следующем: как будут государства и
народы Европы реагировать на перспективу установления германской гегемонии
над континентом.
Тот факт, что обе наши страны расположены не в самой Европе, а на ее кра¬
ях, ставит их в особое положение. Мы в большей степени, чем другие страны,
расположенные менее удачно, способны сопротивляться германскому господству,
и английское правительство, как Вам известно, безусловно, намерено исполь¬
зовать с этой целью свое географическое положение и свои огромные ресурсы.
По существу, политика Великобритании сосредоточена на двух задачах: во-
первых, спастись самой от германского господства, которое желает навязать
нацистское правительство, и, во-вторых, освободить всю остальную Европу от
господства, которое сейчас устанавливает над ней Германия.
Только сам Советский Союз может судить о том, угрожают ли его интересам
нынешние претензии Германии на господство в Европе, и если да, то каким
образом эти интересы смогут быть найлучшим образом ограждены. Но я
полагаю, что кризис, переживаемый ныне Европой, а по существу, и всем миром,
настолько серьезен, что я вправе откровенно изложить Вам обстановку, как она
представляется английскому правительству. Я надеюсь, что это обеспечит такое
положение, что при любом обсуждении, которое советское правительство может
иметь с сэром С. Криппсом, не будет оставаться никаких неясностей по поводу
политики правительства его величества или готовности этого правительства
всесторонне обсудить с советским правительством любую из многочисленных
проблем, созданных теперешней попыткой Германии проводить в Европе после¬
довательными этапами методическую политику завоевания и поглощения"42.
В книге о миссии Криппса, изданной израильским историком Г. Городецким,
это послание характеризуется как "мелкое" и мало привлекательное для Моск¬
вы43. И такая оценка не лишена оснований.
26 июня Криппс обратился к Молотову с просьбой о приеме у Сталина с
целью вручения послания Черчилля. Он передал и его копию44. Через день
Криппс вручил М.И. Калинину верительные грамоты.
42 Черчилль У. Вторая мировая война, кн. 1. М., 1991, с. 366—367. Перевод в нескольких мес¬
тах уточнен по: Churchill W.S. Second World War, v. 2. London, 1966, p. 119—120.
43 Gorodetsky G. Op. cit., p. 51—52.
44 АВП РФ, ф. 06, on. 2, д. 100, л. 8—9.
31
1 июля 1940 г. Криппс имел со Сталиным обстоятельную беседу, которая
продолжалась с 18 час. 30 мин. до 21 час. 15 мин. В беседе участвовал Молотов.
В Архиве внешней политики Российской Федерации записи этой беседы нет.
Попытка найти ее в архиве ЦК КПСС также осталась безрезультатной.
Но сохранились английские записи. Сначала Криппс сообщил о беседе в
Лондон серией из шести телеграмм, посвященных отдельным обсуждавшимся
проблемам. А затем он прислал в Лондон и полную запись этой беседы45,
составленную присутствовавшим на ней переводчиком Криппса. Представляется
целесообразным положить в основу изложения беседы эту запись, но с неко¬
торыми сокращениями, содержащими повторы или не имеющими смыслового
значения. В то же время при освещении отдельных вопросов полезно добавить
те оценки, которые дал Криппс при изложении этих вопросов в своих теле¬
граммах.
К началу беседы Сталин уже был знаком с содержанием послания Черчилля,
так как его копия была заранее передана Молотову.
Сначала Сталин коснулся поднятого Черчиллем вопроса о "равновесии" в
Европе (англичане употребляют также выражение "баланс сил"). "Если премьер-
министр, — сказал Сталин, — желает восстановить старое равновесие, то мы не
можем согласиться с ним. В целом, я должен сказать, что, как бы сильно ни
хотелось полностью восстановить равновесие в Европе, эта задача будет очень
трудной".
Излагая свое собственное мнение, Криппс сказал в связи с этим, что "старое
равновесие не может быть восстановлено. Несомненно, установление нового
равновесия вместо старого может оказаться очень трудной задачей, и каждая
страна была бы обязана проанализировать, каким должно и может быть это
равновесие... Однако, по мнению правительства его величества, должно быть
определенное равновесие, а не господство какой-то одной державы".
Криппс писал по этому поводу: "По-моему, совершенно очевидно, что если мы
хотим развивать с Союзом Советских Социалистических Республик более тесный
политический контакт, то мы должны определить нашу позицию о существе
"равновесия", к которому мы стремимся. По-видимому, важную роль в нем
должен играть СССР, и именно в этом вопросе советское правительство прежде
всего будет требовать заверений"46.
Переходя к высказыванию Криппса в разговоре с Молотовым о создании на
Балканах блока под эгидой России, Сталин сказал, что "Россия не имеет ни¬
какого желания управлять Балканами и что такая политика была бы неверной и
очень опасной для СССР".
Тут Криппс заметил, что его высказывания о Балканах, "по-видимому, поняты
неверно". Он ни в коем случае не предлагал, чтобы СССР правил на Балканах, а
имел в виду, что "без руководства в этой части мира со стороны какой-либо
крупной соседней державы, которая стремилась бы к сплочению этих стран,
было бы трудно обеспечить стабилизацию на Балканах". Сталин возразил, что
"это легче сказать, чем сделать".
Криппс сказал, что "Россия и.Турция с их традиционной дружбой и широкими
интересами на Балканах могли бы оказать помощь в стабилизации положения".
Он подчеркнул: "Поскольку Германии недостает нефтепродуктов, существует
серьезная опасность ее проникновения на Балканы и на Ближний Восток с целью
расширения источников снабжения".
Сталин согласился, что не исключена возможность попыток Германии или
45PRO, FO 371 24845/31/31, р. 652—664. Далее при цитировании этой записи сноска на архив
повторяться не будет.
46 PRO, FO 371 24842/6517, tel. № 404.
32
Италии захватить румынскую нефть. "Однако мне кажется, — сказал он, — что
Румыния не создает теперь Германии каких-либо затруднений в получении неф¬
ти. В целом, на мой взгляд, любой, кто вступит на Балканы с намерением
действовать в качестве суперарбитра, имеет все шансы быть вовлеченным в
конфликт".
Не упоминая прямо происшедшего только что воссоединения Бессарабии с
СССР, но давая понять, что имеет в виду это обстоятельство, Сталин заявил,
что теперь у Советского Союза больше нет к Румынии никаких претензий.
"Что можно сказать относительно Турции? — продолжал Сталин. — Наши
отношения с ней неплохие. Но турки слишком увлечены политической игрой и в
состоянии совершить такие неожиданные трюки, что трудно понять их дей¬
ствительные намерения. Что касается возможного стремления Германии и Ита¬
лии проникнуть на Ближний Восток, я не считаю, что это исключено. Но многое
зависит от позиции Турции. Трудно сказать, в какую сторону она повернет. Со¬
ветский Союз не имеет желания взять на себя роль суперарбитра или оказаться
втянутым в конфликты на Балканах".
Сталин сказал далее: "Все Балканские страны интригуют друг против друга, и
все они — против Греции". По его мнению, "было бы чрезвычайно трудно, если
не невозможно, привести их к какому-либо соглашению. Любое большое госу¬
дарство, которое попыталось бы сделать это, оказалось бы вынужденным запол¬
нить Балканы "армией умиротворения". Советский Союз ни в коем случае этого
делать не намерен".
Криппс заметил, что Германия и Италия могут пойти на такой шаг. Сталин
согласился и сказал, что это является основой объединения Балканских стран с
целью предотвращения оккупации их Германией или Италией или же ими обеими
вместе. Многое будет зависеть от позиции Турции, но он не знает, какой она
будет.
Криппс заявил, что турки больше всего обеспокоены безопасностью Стамбула
и возможной попыткой изменить существующий статус-кво Босфора и Черного
моря в ущерб Турции. В этой связи посол добавил: "Если бы английское пра¬
вительство могло предпринять что-либо в целях улучшения отношений между
Турцией и Россией, оно было бы радо сделать это". Сталин ответил, что со¬
ветское правительство "не имело бы каких-либо возражений, если бы эта по¬
пытка была предпринята; вопрос о Балканах, безусловно, заслуживает изуче¬
ния".
"Я не думаю, — сказал затем Сталин, — что Германия пошлет туда войска.
В результате начавшейся войны на Средиземном море нет другой страны, кроме
Германии, которой Румыния может поставлять свою нефть, и поэтому Германии
нет смысла разбрасывать свои силы отправкой войск на Балканы. Если в
прошлом году Германия получала из Румынии 1,3 млн. тонн нефти, то теперь
она получит свыше 3 млн. тонн. Количество, получаемое Турцией, незначи¬
тельно. Возможно, Турция выдумывает какую-то опасность, чтобы эксплуати¬
ровать ее. Мы можем принимать во внимание только реальную опасность, а не
воображаемую".
На предположение Криппса, что имеется в виду опасность со стороны Гер¬
мании, Сталин заметил, что, как он понял на основе турецких источников, "в
качестве возможного агрессора рассматривается Россия, хотя в речи Молотова
совершенно ясно сказано, что такой опасности не существует". "Мы не со¬
бираемся ни нападать на Турцию, ни присоединяться к какой-либо коалиции
против нее... Ссылка на "красное" пугало напоминает гитлеровскую пропаганду,
которая была накануне войны столь успешной в отношении государственных
деятелей некоторых других стран".
Далее Сталин сказал, что "неправильно, когда контроль над проливами нахо-
2 Новая и новейшая истор] я, М 5
33
дится под абсолютным контролем одного государства, которое может злоупот¬
реблять им; другие черноморские державы должны иметь право участвовать в
контроле”.
На вопрос Криппса, не следовало ли бы поднять эту тему, Сталин ответил,
что министр иностранных дел Турции Сараджоглу, находясь в сентябре 1939 г. в
Москве, и слышать не хотел об этом. Посол заметил, что британское прави¬
тельство могло бы посоветовать турецкому правительству прийти к какому-то
соглашению. "Если советское правительство желает этого, — сказал Криппс, —
я был бы рад просить правительство его величества выступить в качестве
посредника”. Сталин заявил, что советское правительство было бы радо любой
акции английского правительства в этом направлении.
Изложив в телеграмме в Лондон эту часть беседы, Криппс сделал следующие
комментарии: "Ясно, что советское правительство будет приветствовать нашу
помощь в достижении лучшего взаимопонимания с Турцией, особенно в отно¬
шении проливов. Если бы нам удалось теперь добиться этого, мы были бы, как я
полагаю, на прямом пути к согласованию реальных интересов трех держав и,
таким образом, созданию максимально возможных гарантий против германской
агрессии на Балканах”47.
Касаясь той части послания Черчилля, в которой говорилось о германском
господстве в Европе, Сталин, признав, что это "главный вопрос”, в то же время
отметил, что "пока рано говорить об этом. Германия не может установить
господство в Европе, не имея превосходства на морях. Она не обладает им и
вряд ли может надеяться на достижение этого. Европа без морских комму¬
никаций — это Европа без сырья и без рынков”. Исходя из этого, Сталин
высказал сомнения в том, что Германия стремится к господству в Европе или в
мире. Он добавил, что имел возможность обсуждать положение в Европе с
германскими представителями, но не заметил каких-либо признаков стремления к
господству.
Криппс подчеркнул, что на Западе установлению германского господства над
Европой противостоит Англия. Поэтому для нее столь важен вопрос о блокаде
Германии. Криппс заметил, что, по сведению британских секретных служб, Гер¬
мания стремится к господству и на востоке, и на западе. В течение последних
нескольких недель Геринг также специально говорил о востоке.
На это Сталин возразил, что он не придает "большого значения заявлениям
отдельных немцев; они народ военный и делают заявления, исходя из военных
соображений, которые не обязательно отражают их действительные цели”.
Сталин сказал, что он не такой наивный, чтобы верить тому, что отдельные
германские руководители говорят о стремлении к господству над Европой и
миром. Он уверен "в физической невозможности установления ими господства
над Европой или над миром, что одно и то же, и именно это убеждает его,
причем более, чем их заверения, что они не стремятся к такому положению дел”.
В одной из телеграмм о беседе Криппс отмечал: "Сталин полагается на наше
господство на морях, способное предотвратить установление Германией господ¬
ства в Европе, по крайней мере до тех пор, когда Советский Союз будет под¬
готовлен. Он намерен относиться к нам дружественно и не быть бесполезным в
нашей борьбе с Германией при условии, если мы также желаем быть полезными
доступным для нас образом. Но он не сделает открыто ничего такого, чтобы
раздражать Германию в настоящее время или чтобы разорвать свое соглашение
с ней”48.
Переходя к проблемам торговых отношений, Криппс высказал опасения, что
47 Ibid., tel. № 400.
48 Ibid., tel. № 403.
34
товары, поставляемые англичанами СССР, могут быть переданы им врагам
Англии. В ответ Сталин сказал, что, заключая соглашение с Германией, "со¬
ветское правительство имело в виду собственные излишки товаров, а не те, в
импорте которых оно само нуждалось. После начала войны возник дефицит
цветных металлов, например, никеля и меди; в Советском Союзе нет на¬
турального каучука, мало олова, а срочно требовались машины и станки. С
Германией нет соглашения о снабжении ее из Советского Союза цветными
металлами, за исключением того, что Советский Союз согласился частично — и
только частично — снабжать Германию цветными металлами, необходимыми
для выполнения советских заказов, размещенных в Германии. Например, Со¬
ветский Союз недавно получил купленный в Германии недостроенный крейсер,
определенное количество артиллерийских орудий и трехосных грузовиков, а
также самолеты. Поскольку некоторое количество цветных металлов было
израсходовано при изготовлении этих изделий, из России были осуществлены
поставки в Германию. Для выполнения дальнейших заказов советского пра¬
вительства потребуются аналогичные поставки цветных металлов и впослед¬
ствии. Если немцы не согласились бы поставлять эти вооружения, мы торгового
соглашения с ними не подписали бы. Таким образом, ясно, что определенная
часть импортируемых нами цветных металлов будет поставлена в Германию для
использования в товарах, изготовляемых по нашим заказам. Если это об¬
стоятельство представляет собой препятствие на пути заключения торгового
соглашения с Англией, то я должен сказать, что такое соглашение подписано не
будет". Сталин добавил, что СССР не станет нарушать соглашений, заклю¬
ченных с Германией, как и с другими странами. В ходе переговоров это не¬
обходимо учитывать.
Криппс выразил надежду, что сказанное не послужит непреодолимым пре¬
пятствием в торговых переговорах, но добавил, что запросит у своего пра¬
вительства соответствующие инструкции.
В заключение беседы Криппс выразил надежду, что после этой "исклю¬
чительно полезной дискуссии" можно будет вскоре начать торговые переговоры.
Сталин согласился.
"Мое общее впечатление от беседы, — писал Криппс в Лондон, — таково: в
настоящее время Сталин готов мириться с необходимостью выслушивать воз¬
ражения Берлина; он действует в контакте с нами против Германии. По-
видимому, он чувствует, что Союз Советских Социалистических Республик не
готов, но так или иначе может избежать нападения Германии либо в этом году
уже слишком поздно и нападение вряд ли возможно ранее окончания морозов
следующей весной".
Криппс подчеркивал, что в СССР удлинены рабочий день и рабочая неделя,
выпущен внутренний заем и принимаются другие меры в щелях приведения
страны в полную готовность. Сталин полагает, что господство Англии на морях
может предотвратить установление Германией своего порядка в Европе, пока
Советский Союз не будет готов. "Он намерен придерживаться дружественной
позиции в отношении нас и надеется не быть бесполезным в нашей борьбе
против Германии при условии, что мы также будем полезны доступными нам
путями. Однако он не сделает ничего такого, что могло бы в настоящее время
открыто вызвать резкое недовольство Германии и не будет разрывать свое
соглашение с ней"49.
Криппс выражал уверенность в том, что в результате послания Черчилля
"установлены хорошие отношения, которые сделают дальнейшие переговоры с
Молотовым более результативными, чем ранее. Однако-исключительно важно,
49 Ibidem.
2*
35
чтобы в Англии не было написано или сказано ничего такого, что подорвало бы
улучшение отношений... Я вполне удовлетворен общим ходом беседы”50.
«Я полагаю также, — писал в Лондон Криппс, — что советское правительство
считает США, по существу, нашим союзником, а это может иметь большое
значение. Когда дело дойдет до выработки условий мира, для СССР будет важно
иметь хорошую основу для взаимопонимания с противниками Германии, чтобы
предотвратить новую попытку установления Германией своего господства”. ’’Что
касается ближайшего будущего, то у меня сложилось весьма определенное
впечатление, что наиболее эффективным путем к улучшению отношений было
бы достижение определенного соглашения в отношении Турции и проливов, а не
заключение торгового соглашения”51.
Делая вывод, Криппс телеграфировал в Лондон: ’’Общий характер всей бе¬
седы был дружественным и весьма откровенным, и я полагаю, что в результате
ее вскоре смогут начаться торговые переговоры”52.
Два дня спустя после встречи Сталина с Криппсом Черчилль сделал ответный
жест и впервые после того, как стал премьер-министром, принял Майского.
Никаких указаний к этой беседе Майский из Москвы не получал и о содержании
московских переговоров информирован не был. И его беседа с Черчиллем
продолжением московской не явилась. Советский полпред телеграфировал в
Москву: "Черчилль стал горячо доказывать, что если бы Англия оказалась
разбитой, то Гитлер затем всю свою мощь обрушил бы на СССР ". Касаясь
вопроса о воссоединении с СССР Бессарабии, Черчилль сказал, что у него "нет
возражений”53.
9 июля Галифакс направил военному кабинету меморандум, в котором
изложил основное содержание переговоров Криппса со Сталиным, а также
сделал некоторые выводы и внес предложения. Прежде всего он отмечал, что
"высказывания Сталина сэру Стаффорду Криппсу могут рассматриваться как
авторитетное заявление о советской политике”. Были приведены слова Сталина
о возможности германского господства в Европе. Его замечания о Балканах
характеризовались как свидетельство того, что в политику СССР не входит
"форсирование советско-германского столкновения в этом регионе” и Советс¬
кий Союз "не намерен идти на риск балканской авантюры”. Но есть один воп¬
рос, отмечалось в меморандуме, который интересует СССР. Он желает
иметь свободу пользования проливами в любых условиях. “Однако Сталин
безусловно стремится сделать невозможным пребывание на Черном море
военных кораблей всех нечерноморских держав как в мирное, так и в военное
время, включая британские”. Поэтому фактически нет шансов на достижение
соглашения. Все же Галифакс считал желательным "оказать содействие
улучшению отношений между СССР и Турцией, так как Англия заинтересована
в их сотрудничестве против опасности проникновения Германии в Черное
море”54.
Криппс еще 27 июня письменно заверил Молотова, что сведения о его пред¬
стоящей беседе со Сталиным не будут преданы гласности55. Однако в Лондоне о
ее содержании в устном и письменном виде было поставлено в известность зна¬
чительное число деятелей. Сведения о беседе стали предметом различных
толков, попали в печать. Криппс с возмущением телеграфировал в Лондон, что
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Ibid., tel. № 399.
53 АВП РФ, ф. 048з, оп. 1ж, д. 7, л. 101.
54 PRO, FO 371 24842/6517, р. 342.
55 PRO, FO 371 24847/3085, р. 366.
36
происшедшая утечка информации поставила его в чрезвычайно сложное
положение56.
Действительно, как можно было в тогдашней чрезвычайно сложной обстанов¬
ке вести серьезные переговоры с англичанами, если они вопреки своим завере¬
ниям все тут же предавали гласности. Более того, вставал вопрос, не сделано ли
это преднамеренно, чтобы обострить отношения между СССР и Германией.
Учитывая общую опасность, советское руководство, как видно из беседы
Сталина с Криппсом, было заинтересовано в согласовании политики СССР и
Англии, в сотрудничестве двух стран. Но если бы СССР открыто встал на
сторону Англии, то он тем самым пошел бы на резкое осложнение отношений с
Германией. При тогдашней ситуации советское руководство не считало
возможным идти на это. Другое дело, негласные переговоры, негласное до поры
до времени сотрудничество, которое в дальнейшем могло бы перерасти и в
прямое, открытое сотрудничество против германских агрессоров. Однако полу¬
чалось так, что англичане — преднамеренно или нет — предавали все гласности,
как бы провоцируя конфликт между СССР и Германией. Это не могло не
вызывать серьезного недовольства в Москве. Молотов перестал принимать
Криппса, начавшийся было диалог оказался сорванным.
Для того чтобы избежать обострения отношений с Германией, советское
руководство решило в общих чертах информировать о беседе Берлин. 13 июля
Молотов передал германскому послу в Москве Ф. фон Шуленбургу в письменном
виде информацию об этой беседе.
Ничего в этой информации не было сказано о том, почему Сталин вдруг
принял английского посла. Ведь послов других стран, включая и посла Германии
Шуленбурга, он не принимал. Это существенное обстоятельство. Оно свиде¬
тельствовало о том, что в Москве стала рассматриваться возможность улуч¬
шения отношений с Англией, установления сотрудничества двух стран против
германской агрессии. Сам факт приема Сталиным Криппса был и определенной
моральной поддержкой англичан в условиях капитуляции Франции. Беседа могла
оказать какое-то влияние на позицию Англии в связи со вставшим перед ней
вопросом о том, продолжать войну или идти на мир с Германией, мало чем
отличающийся от капитуляции.
В переданной Шуленбургу информации было обойдено молчанием не только
содержание послания Черчилля, но и сам факт его получения Сталиным. Со¬
общалось лишь о том, что беседа происходила по инициативе английского пра¬
вительства.
Что касается самого текста переданной информации, то в ней упоминаются
основные вопросы, обсуждавшиеся в ходе беседы. В целом же документ су¬
щественно отличается от самой беседы. В беседе речь шла о возможности
улучшения советско-английских отношений. Из переданного же немцам доку¬
мента получается, что все свелось к констатации невозможности улучшения
отношений.
Иначе отражена и сама суть беседы. В переданном документе все схе¬
матически сведено к двум аспектам: Англия проводит в отношении Германии как
своего противника в войне враждебную политику. СССР же со своей стороны
строго придерживается провозглашенного им нейтралитета в войне, что имеет
для Германии плюсы.
Не было сказано о тех конкретных вопросах, которые согласовывались в ходе
беседы: во-первых, о посредничестве Англии в деле улучшения советско-ту¬
рецких отношений; во-вторых, о договоренности начать торговые переговоры.
Приведем полный текст документа, переданного Молотовым Шуленбургу:
56 Ibidem.
37
"На днях английский посол Криппс по просьбе английского правительства был
принят И.В. Сталиным в присутствии Молотова.
Как выяснилось из беседы, англичане хотят выяснить позицию советского
правительства по следующим вопросам:
1. По мнению англичан, немцы устанавливают свое господство над Европой,
создавая тем самым опасность быть поглощенными для всех европейских
государств, и это обстоятельство создает серьезную угрозу как для СССР, так и
для Англии, которые могли бы ввиду такой угрозы организовать общую линию
самозащиты против немцев в целях восстановления в Европе равновесия.
2. Независимо от того, создается ли такая общая линия самозащиты, Англия
хотела бы вести торговлю с СССР, но с условием, чтобы экспортные товары из
Англии не могли быть переправлены немцам.
3. Английское правительство считает, что было бы в интересах СССР взять
на себя руководство балканскими странами в деле их объединения для
сохранения там существующего положения, что только СССР при нынешних
условиях мог бы выполнить эту серьезную миссию.
4. Английскому правительству известно, что СССР недоволен нынешним
режимом в проливах и в Черном море, причем Криппс считает, что интересы
СССР в проливах действительно следовало бы обеспечить.
5. Ответы Сталина:
1. СССР, разумеется, проявляет живейший интерес к развитию положения
дел в Европе, не только к событиям текущего момента, но и к тем крупным
проблемам международного характера, которые должны будут решаться в
ближайшее время в Европе в результате происшедших за последний период
^событий и изменений. Но Сталин не видит опасности господства какой-либо
одной страны над Европой, тем более опасности поглощения европейских
государств Германией. Сталин следит за политикой немцев, зная хорошо
некоторых руководителей Германии, и должен сказать, что не заметил у немцев
стремления поглотить европейские государства.
Что касается СССР, то Сталин не считает, что военные успехи немцев могли
создать какую-либо угрозу для СССР вообще, и для дружественных отношений с
Германией в частности, которые основаны не на мимолетных моментах, а на
учете коренных государственных интересов обеих стран.
Насчет восстановления равновесия в Европе Сталин сказал, что это так
называемое "равновесие" душило не только Германию, но и СССР, ввиду чего
СССР примет все меры к тому, чтобы старое равновесие в Европе не было
восстановлено.
2. Насчет торговли Сталин сказал, что против торговли с Англией СССР не
возражает, но должен предупредить, что, во-первых, вопрос о хозяйственных и
торговых отношениях СССР с Германией является делом самого СССР и
разговаривать о них с Англией или с каким-либо другим государством СССР не
намерен и, во-вторых, часть цветных металлов, закупленных СССР за границей,
будет экспортироваться в Германию согласно договору с последней, которая
выполняет некоторые военные заказы для СССР, требующие известного коли¬
чества цветных металлов.
Сталин заявил, что без учета Англией этих оговорок СССР торговлю между
СССР и Англией нужно в настоящих условиях считать исключенной.
3. По поводу предложения Криппса насчет Балкан Сталин сказал, что, по его
мнению, ни одна держава не может претендовать на исключительную роль по
объединению Балканских государств и руководству ими. Не претендует на
такую миссию и СССР, несмотря на его заинтересованность в балканских делах.
4. Насчет Турции Сталин сказал, что СССР действительно стоит против
единоличного хозяйничанья Турции в проливах и против того, чтобы Турция
38
диктовала условия на Черном море. Сталин сказал, что турецкое правительство
об этом знает"57.
Таким образом, мы видим, что это сообщение немцам в определенной степени
соответствует тому, о чем говорилось Сталиным и Криппсом в их беседе, но
имеются немалые отличия и особенности. Они видны и читателю.
В целом же различен сам дух обоих документов. В беседе с Криппсом Сталин
говорил в общем откровенно, то, что думал, видно его стремление к сотруд¬
ничеству. Документ же, переданный немцам, отличается тем, что в нем сказано
далеко не то, о чем действительно думали в Москве, а прежде всего то, что по
так называемым дипломатическим соображениям приходилось говорить, чтобы
не вызывать обострения отношений с Германией. Чувствуется, что в документе
много раз обдумано каждое слово, но вряд ли его авторам удалось добиться того,
чтобы в Берлине приняли за чистую монету все, что в нем сказано. Получился
он все же каким-то вымученным. Не хватило у Сталина и Молотова "дипло¬
матического искусства" изложить все так, чтобы не вызывать сомнений.
Утечка информации о беседе Сталина с Криппсом была не единственной
помехой для налаживания советско-английских отношений. Преднамеренно или
случайно (что более вероятно), но именно в эти же дни взорвалась еще одна
пропагандистская бомба, имевшая громаднейший резонанс: немцы опубликовали
захваченные ими документы французского генштаба об англо-французских
планах нападения на СССР на Юге и на Севере, к тому же при участии Турции.
5 июля советские газеты опубликовали сообщения об этом. Криппс теле¬
графировал в Лондон, что "Правда" посвятила этой публикации даже передовую
статью58.
Молотов перестал принимать Криппса, и тот начал поднимать вопрос о том,
не пора ли ему возвращаться домой. Но в Лондоне считали иначе. 2 августа
1940 г. Галифакс телеграфировал Криппсу: "В теперешних обстоятельствах
Ваше возвращение рассматривалось бы как публичное признание, что мы
потерпели неудачу в своей попытке вбить клин между Берлином и Москвой". Он
высказывал мнение, что положение может измениться, а тем самым могут про¬
изойти сдвиги в политическом курсе СССР. И тогда "для нас было бы важно
быть представленными в Москве активным и вызывающим симпатии послом,
который мог бы немедленно использовать любые возможные изменения"59.
Ждать Криппсу пришлось целый год: 22 июня 1941 г. эти изменения в со¬
ветско-английских отношениях действительно произошли60. Однако Криппс
именно тогда временно выехал в Лондон, где и встретил весть о нападении
Германии на СССР. Опять же преднамеренно или (скорее) непреднамеренно, но
он сделал накануне неблаговидное дело или же совершил медвежью услугу.
Англичане несколько раз передавали Майскому сведения о переброске ряда
воинских частей Германии к советским границам. Однако о дате возможного
нападения Германии на СССР они никаких сведений не передавали да, как видно
из ставших доступными материалов, такими сведениями и не располагали. А
Криппс "постарался". 21 июня он имел в Лондоне разговор с советским послом
Майским и говорил о предстоящем нападении Германии на СССР. Вот как
записал этот разговор Майский:
87 АВП РФ, ф. 048з, оп. 1ж, д. 7, л. 105—107. Шулепбург передал эту информацию в Берлин, но
u перефразированном виде. — Akten zur dcutschen auswartigen Politik, 1918—1945, Ser. D, Bd. 10.
Frankfurt a.M., 1963, S. 170—171.
58 PRO, FO 371 24850, p. 238.
59 Ibid., FO 371 24844/3138, p. 634.
60
См.: Городецкий Г. Черчилль и Советский Союз после 22 июня 1941 г. —Новая и новейшая
история, 1990, 6, с. 61—78.
39
"Признаться, я ждал, что атака произойдет в этот "уикэнд" — завтра, 22-го,
но, по-видимому, Гитлер отложил ее до следующего воскресенья, 29-го"61.
Майский срочно протелеграфировал об этом в Москву. "Грех" Криппса (не по
его вине) усугублялся тем, что за несколько дней до этого столь же "точную"
информацию прислал из Токио Р. Зорге, сообщавший: "Между СССР и Герма¬
нией начнется война в конце июня"62. Итак, не 22 июня, а 29-го, в конце июня.
Такая "информация" ставила советское руководство в сложное положение.
Но уже в те дни Криппс принимал в Лондоне срочные меры к тому, чтобы в
случае нападения Германии на СССР между ним и Англией было установлено
самое тесное сотрудничество в войне. Когда это нападение произошло, он
немедленно вернулся в Москву и немало сделал для развития сотрудничества
СССР и Англии в совместной войне против германского агрессора.
61 АВП РФ, ф. 017а, on. 1, д. 8, л. 159.
62
л Волков Ф.Д. Подвиг Рихарда Зорге. М., 1976, с. 60.
40
©1992 г.
Б.Ф. МАРТЫНОВ
ГЕНЕРАЛ И.Т. БЕЛЯЕВ
И ” РУССКИЙ ОЧАГ’ В ПАРАГВАЕ
Редкий гость из нашей страны, попав в столицу Парагвая — г. Асунсьон,
бывает несказанно поражен, увидев вдруг таблички "улица майора Салазкина"
или "улица лейтенанта Канонникова", или же возникшую в центре этого уют¬
ного, тихого по латиноамериканским меркам города православную церковь.
Парагвай... Что мы знаем об этой одной из самых далеких от нас стран?
Десятилетиями отгороженные друг от друга жесткими идеологическими барь¬
ерами, наши народы существовали как бы на разных планетах. Для большинства
россиян Парагвай всегда §ыл нищей, слаборазвитой страной, где кровавая
антикоммунистическая диктатура Стресснера жестоко подавляла все граждан¬
ские свободы. А между тем среди стран Южной Америки Парагвай славится
очень низким уровнем безработицы, преобладанием зажиточного среднего класса
и низкими ценами на большинство товаров. На улицах Асунсьоца не встретишь
нищих.
В настоящее время страна, сбросив 35-летнее господство диктатуры, уве¬
ренно идет по пути демократических преобразований. Авторитет демократи¬
ческого Парагвая в Латинской Америке лучше всего подтверждается тем, что в
1991 г. Асунсьон, находящийся в центре южноамериканского континента, был
выбран центром набирающего силу интеграционного процесса четырех стран —
Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая, что, по мнению специалистов, может
со временем превратить Парагвай в "латиноамериканскую Швейцарию".
Необходимость установления тесных политических, экономических и научных
связей между Россией и Парагваем очевидна. Очевидно также и то, что в основу
этих связей, наряду с чисто экономическими, будут положены и другие мотивы.
Дадим слово Всеволоду Канонникову, сыну русского офицера, эмигрировав¬
шего в Парагвай, председателю созданной в Асунсьоне пять лет назад Ассо¬
циации русских и их потомков. "Первые русские приехали сюда в 1924 г., —
говорил он в интервью, взятом у него в Асунсьоне главным редактором газеты
"Московский комсомолец" и напечатанном в номере от 4 января 1992 г. — К
тому времени в стране была сложная обстановка, назревала война. Боливия
готовила нападение на Парагвай. Среди русских эмигрантов многие были офи¬
церами, командовали войсками и полками. Парагвай победил. И, я думаю, наши
военные в этом очень помогли. Поэтому здесь очень полюбили русских солдат,
которые пошли на фронт по своей воле, потому что считали, что защищают
свою родину".
Инициатором русской эмиграции в Парагвай был Иван Тимофеевич Беляев
(1875—1957) — талантливый военный и ученый-этнограф, борец за права па¬
рагвайских индейцев.
Жизнь и судьба генерала Беляева до сих пор не стали предметом изучения
нашей исторической науки. Те немногие воспоминания бывших эмигрантов, где
содержится упоминание имени Беляева, как правило, грешат неточностями и
предвзятостью. Причины этого, на наш взгляд, понятны. Выходец из петер¬
бургской военно-аристократической среды, генерал Добровольческой армии,
41
Генерал И.Т. Беляев
эмигрант, Беляев всю жизнь был
непримиримым противником большевиз¬
ма. Поэтому те из его современников,
которые, как, например, П.П. Шоста-
ковский, потом вернулись на Родину,
вынуждены были в своих изданных в
СССР мемуарах рисовать заведомо
негативный образ этого человека1. Не
удивительно, что в монографии укра¬
инского ученого А.А. Стрелко —
единственной работе профессиональ¬
ного историка, где упоминалось имя
Беляева, этот образ был сохранен без
видимых изменений2. В то же время
надо признать, что неординарность
личности Беляева, широта научных
интересов делали его жизнь — эмиг¬
ранта и ученого, тесно связанного с пе¬
реломными моментами в истории России
и Парагвая, — весьма ’’неудобной" для
исследователя, придерживающегося ка¬
кой-то узкой специализации.
В 1968 г. в Советский Союз попали
документы, связанные с жизнью и
деятельностью Беляева. Это были
воспоминания, переписка, статьи самого
Ивана Тимофеевича, а также статьи и
воспоминания о нем, помогающие со¬
ставить, наконец, цельный образ этого
человека и прояснить некоторые неизвестные обстоятельства его жизни. Заслуга
в этом деле принадлежала двоюродной племяннице Беляева — Елизавете
Михайловне Спиридоновой, эмигрировавшей в Южную Америку в 1924 г.,
долгое время проживавшей в Аргентине и вернувшейся на Родину в 60-е годы.
Привезенные ею папки с бумагами Беляева, хранящиеся в Отделе рукописей
Российской государственной библиотеки, дают богатый материал для иссле¬
дования попыток создания в Парагвае в 30-е годы ’’Русского очага" — своеоб¬
разного анклава национального духа и культуры России.
1
Иван Тимофеевич Беляев родился в 1875 г. в Санкт-Петербурге. Его семья
дала России многих видных военных и дипломатов. Прадед будущего генера¬
ла — Леонтий Федорович Трефурт, дипломат екатерининской школы, долгие
годы работал секретарем А.В. Суворова, принимал участие в знаменитом
Итальянском походе. -Культ Суворова, русского оружия сочетался в семье, где
бывали Тургенев, Гончаров, Григорович, с широкими литературными интере¬
сами, культом книги.
1 См. например, Шостаковский П.П. Путь к правде. Воспоминания. Минск, 1960; Бенуа ГЛ.
Сорок три года в разлуке. Воспоминания. — Простор, Алма-Ата, 1967, №№ 9—10; Каратеев М.Д.
По следам конквистадоров. М., 1991.
2 Стрелко АЛ. Славянское население в странах Латинской Америки. Киев, 1980.
42
Проводя долгие часы в библиотеке отца, мальчик зачитывался романами
Майн Рида и Фенимора Купера, подолгу изучал карты Америки. С семи лет, по
признанию самого Беляева, началось его увлечение индейцами, пронесенное че¬
рез всю жизнь, и Парагваем — страной, давшей ему последнее убежище.
Первое же знакомство с ним произошло на чердаке родовой усадьбы Беляевых
под Гдовом, где в старых бумагах прадеда была найдена замечательная карта
Асунсьона XVIII в. Откуда взялась карта столицы Парагвая (ставшая пред¬
вестницей судьбы!) в сельце Леонтьевском — остается загадкой...
Парагвай будоражил воображение смелостью вызова, брошенного двум мо¬
гущественным соседям — Аргентине и Бразилии, стойкостью народа, сражав¬
шегося до последней капли крови, трагичностью судьбы, отбросившей страну в
результате войны на десятилетия назад3. В кадетском корпусе, зачитываясь
“Всемирной историей” Э. Реклю, географическими журналами, историей путе¬
шествий и открытий, юноша мечтал о возрождении былого величия этой
индейской страны.
Как в кадетском корпусе, так и позже в престижном Михайловском артил¬
лерийском училище юный Беляев не имел равных в знании истории и языков. В
то же время точные науки давались ему труднее, да и усвоению их мешала
невнимательность: часто “между строк учебника грезились индейские луки со
стрелами"4. СЬободного времени не оставалось. Оно было поделено между воен¬
ными дисциплинами и страстью, захватившей, похоже, всерьез. Блестящий “ми-
хайлон” (шутливое прозвище юнкеров Михайловского артиллерийского училища,
принятое в те годы в гвардейских полках) и гвардеец вел образ жизни, мягко
говоря, не совсем типичный для своих лет и положения: выкраивал часы для
занятий с дальним родственником — академиком С.Ф. Ольденбургом по геог¬
рафии и антропологии, штудировал книги об индейцах, выписанные из универ¬
ситетской и академической библиотек, изучал испанский язык. Став офицером,
Беляев был принят в Императорское Географическое общество, завязал зна¬
комство с академиками П.П. Семеновым-Тян-Шанским, Н.А. Богуславским,
А.И. Мушкетовым.
Но отчего тогда так рвался на военную службу этот в общем-то сугубо
штатский по складу ума и физическому развитию человек? Отчего такая на¬
стойчивость при поступлении в училище, куда сначала его не хотели брать из-за
сильной близорукости? Почему, наконец, артиллеристом, когда “не в ладах с
математикой”? Семейная традиция, отложившаяся в генах невозможность не
сопереживать судьбам Родины? Парагвай оставался мечтой, а Россия требовала
службы.
Перенапряжение в годы учебы не прошло даром. Начались боли в сердце, и
молодой офицер оставил свою бригаду и отправился на Кавказ поправлять
здоровье. Возвращение в 1905 г. в Петербург сулило размеренную жизнь
перспективного военного, надежды на быструю карьеру. Два события внесли
хаос в, казалось, уже налаживавшийся порядок — неожиданная кончина совсем
еще молодой жены, с которой он не прожил и года, и поражение России в русско-
японской войне. В минуту отчаяния даже пришла мысль об эмиграции — в
Парагвай, военным инструктором. Отвлекла от нее необходимость срочной и
коренной реформы армии. Беляев усиленно работает над методикой подготовки
военных разведчиков, пригодившейся ему потом — ив первую мировую, и в
годы гражданской, и, наконец, — в Парагвае. В 1913 г. выходит в свет “Устав
3 В войне 'Тройственного союза" (1864—1870 гг.), которую Бразилия, Аргентина и Уругвай вели
против Парагвая, было истреблено 4/5 всего взрослого населения этого небольшою государства.
4 Беляев И.Т. Прошлое русского изгнанника. Воспоминания, ч. 1—8. Рукопись. — Отдел руко¬
писей Российской государственной библиотеки (далее — ОР РГБ), ф. 587.1.30.
43
горной артиллерии, батарей и горноартиллерийских групп", ставший вкладом
Беляева в развитие военного дела в России.
Новая женитьба — на Александре Александровне Захаровой — вернула
похороненные было надежды на семейное счастье, но поставила крест на
быстрой карьере в полку: купеческое происхождение жены вынудило Беляева
покинуть гвардию, где строго блюлись каноны "чистоты дворянской крови".
Накануне первой мировой войны Иван Тимофеевич поступил на службу в 1-й
Кавказский стрелково-артиллерийский дивизион. Парагвайская мечта отступает
на второй и даже на третий план.
2
Участие в боях на западном и юго-западном фронтах в 1914—1917 гг.
сформировало взгляды Беляева на Россию, ее судьбы и предназначение в мире.
Эти взгляды предопределили затем его участие в белом движении, стали
теоретической основой попытки создания "Русского очага" в Парагвае. "Прош¬
лое русского изгнанника" — мемуары, написанные Беляевым в Асунсьоне в
середине 50-х годов, дают четкое представление о мировоззрении этого чело¬
века. Следует указать, прежде всего, на недоверие Беляева к Европе и США,
желающим, по его словам, "ослабить Россию как великую и набирающую силы
державу", и мысль о необходимости автономного, независимого развития России.
Еще в годы русско-японской войны, возмущаясь позицией стран Европы и США,
Беляев писал об их стремлении "подрубить корни самого существования Дер¬
жавы, вечно стоявшей на страже мира и справедливости". По его мнению,
"такая политика навсегда нарушила европейское равновесие сил" и "исключила
возможность взаимного доверия".
События мировой войны помогли оформиться ранее разрозненным мыс¬
лям в концепцию, нелестную не только для союзников России, но и для ее
верховного командования. Как и многие другие, Беляев считал непоправи¬
мой ошибкой сознательное жертвование элитными частями — гвардией и
кадровым офицерством — для "спасения Парижа", "чтобы дать англича¬
нам время для мобилизации", "выручить Италию и Румынию" и т.д. "В копы¬
те лошади, — писал он, — есть белая линия, от которой начинает расти
рог. Можете расчищать и срезать копыто, загонять в него гвозди, но если
коснетесь белой линии, то оно пропало". В результате войны, считал Беляев,
была нарушена "белая линия" — "убиты, искалечены, ранены те офицеры и
солдаты, в которых держался дух армии — те чувства, без которых, как тело
без души, начинает разлагаться ее безжизненный организм"5. Возникает и
несколько раз безуспешно подается "наверх" идея создания в глубоком тылу
особых запасных батальонов от каждого действующего полка, где уцелевшие
кадровые офицеры и солдаты могли бы воспитывать в молодежи "дух старой
армии"...
Оставим на совести Беляева идеализацию монархической России. Важно
другое — уже здесь проявилась мысль, которая станет лейтмотивом всей по¬
следующей жизни: без сохранения и приумножения национальной культуры
страны, ее духовных основ, без сбережения конкретных носителей этой куль¬
туры невозможно никакое ее успешное восстановление и развитие, независимо
от того, будет или не будет поддержка "извне".
Отсюда — уже рукой подать до идеи "Парагвайского очага", когда ориен¬
тации эмигрантских кругов на помощь Запада Беляев противопоставил план
создания для тысяч и тысяч изгнанников духовного.убежища, где обычаи,
5 Там же, с. 160.
44
традиции и вековая культура их Родины могли бы сохраняться, как он писал,
”до лучших времен"...
Но это будет потом. А в июле 1917-го генерал-майор и георгиевский кавалер
И.Т. Беляев на просьбу унтер-офицера снять погоны отвечает так: "Дорогой
мой! Я не только погоны и лампасы, да и штаны поснимаю, если вы повернете со
мною на врага. А на "внутреннего врага", против своих, не ходил и не пойду, так
вы меня уж увольте"6. Но была ли в те дни возможность остаться в стороне?
Генерал Беляев сделал свой выбор: вступил в ряды Добровольческой армии.
Занимая (недолго!) пост заведующего снабжением, он говорил командующему
Добрармией Деникину: "Если не жалко населения, пожалейте хотя бы армию.
Армия, которая грабит, — разлагается... Ничто так не развращает, как война,
особенно гражданская". Не удивительно, что с такими мыслями Иван Тимо¬
феевич вскоре предпочел должность полевого командира — начальника конно¬
горного дивизиона при 1-й Конной дивизии, использовавшегося, в основном, для
разведовательных функций, и затем — инспектора артиллерии в корпусе ге¬
нерала Кутепова. Он считал, что Деникин "обладал слишком узкими взглядами
на все происходящее. Сын простого человека ненавидел все, что пахло на¬
следственной культурой, не жалел крестьянина и не понимал солдата. Не
понимал, что политика мести не должна руководить политическим расчетом"7. За
Врангелем же признавал неоспоримый полководческий талант, хотя и понимал:
"Врангель с налета имел бы шанс добраться до Москвы, а вся наша война была
возможна только с налету. Глубокой государственной основы она не имела и при
затяжке была осуждена на крах"8.
Потом были Дон, Кавказ и Крым. В конце скорбного пути, как и для мно¬
гих, — Новороссийск, эмиграция...
В бумагах Беляева нет точных сведений о его судьбе после того, как генерал
с остатками армии Врангеля покинул Россию. Судя по случайно дошедшим до
нас сведениям, путь генерала в Южную Америку пролегал через Констан¬
тинополь, затем — Париж.
"Существуют две точки зрения на русскую эмиграцию, — писал Беляев, —
большинство считается только с условиями материального характера и в за¬
висимости от личных стремлений. Иные, особенно вначале, смотрели на эми¬
грацию с другой стороны: усматривали в ней возможность организации сил для
борьбы с большевизмом, при непременном условии играть в ней заметную роль.
Впоследствии, когда события доказали полное отсутствие этой возможности, все
их внимание обратилось на общественность, где, разумеется, они должны были
сохранить ее за собою... Жалкой амбиции руководить толпой беженцев в ин¬
тервенции с помощью германцев (это было бы пирамидальной глупостью) или
американцев (грубое невежество и незнание истории) — у меня не было. Играть
роль в беженской среде я предоставлял другим".
Идеей Беляева стало создание гомогенного очага людей русской нацио¬
нальности, предпочтительно вдали от центров мировой цивилизации, дабы не
подвергать колонистов искушающему влиянию политики и материальных благ.
Устраненность такой колонии от житейских сует и даже ее некоторая прин¬
ципиальная аполитичность должны были, по мысли Ивана Тимофеевича, сполна
компенсироваться духовным самоусовершенствованием ее членов, культивиро¬
ванием в колонии "исконно-русских" ценностей, среди которых Беляев выделял,
в первую очередь, православие, монархическое чувство и готовность к самопо¬
жертвованию, всестороннее развитие основ русской национальной культуры.
6 Там же, с. 182.
7 Там же, с. 201.
8 Там же, с. 218.
45
"Я мечтал об одном, — писал он. — В море продажного разврата и растления
я надеялся найти горсть героев, способных сохранить и возрастить те качества,
которыми создалась и стояла Россия. Я верил, что эта закваска, когда со¬
вершится полнота времен, когда успокоится взбаламученное море революции,
сохранит в себе здоровые начала для будущего”. “Если бы в местах переселения
я смог найти хотя бы десяток единомышленников, эта идея сохранения Святой
Руси была бы осуществлена... в Парагвае”9.
Но вначале была Аргентина. 11 месяцев пребывания в Буэнос-Айресе (май
1923 — март 1924) убедили, что на создание новых русских колоний в Аргентине
рассчитывать не приходилось. ’’Богатая и прекрасно поставленная” русская ко¬
лония явно не жаждала встречи с новыми тысячами бывших соотечественников.
Аргентина встречала русских эмигрантов ’’враждебно, особенно под влиянием
кучки местных старожилов”, в глубине души ’’опасавшихся за свое привиле¬
гированное положение”10. Трудности с поисками места работы для себя и
супруги, холодный прием со стороны верхушки местного эмигрантского обще¬
ства, полное неприятие идеи "Русского очага” — со всем этим пришлось
столкнуться в Аргентине генералу Беляеву.
Не видя дальнейших перспектив в "материалистической” Аргентине, Беляев
обратил свой взор к Парагваю — стране, куда его влекло еще с детства.
Приезд в Буэнос-Айрес бывшего президента Парагвая М. Гондра и военного
агента полковника Санчеса открывал перед идеей "Русского очага” новые
перспективы. Оба заверили Беляева, что в Парагвае "будут рады" русской
эмиграции (очевидно, рассчитывая на помощь русских в представлявшемся уже
неизбежным конфликте с Боливией). Мечты детства становились реальностью.
Одолжив 100 ф.ст. на дорогу, Беляев без всяких колебаний в марте 1924 г.
отправился на пароходе "Берн” из Буэнос-Айреса в Асунсьон.
Отметим, что создание "Русского очага” отнюдь не было лишь идефикс
генерала Беляева. Объективные условия, складывавшиеся в Европе в 20-е
годы, — заключение договоров Советской России со странами Запада, начав¬
шаяся "полоса признания” ее капиталистическими государствами — вытесняли
эмигрантов из Турции и балканских стран, а разраставшийся экономический
кризис выбрасывал их за ворота предприятий в Германии, Франции и Бельгии.
Вопрос об эмиграции за океан вставал в те годы как никогда остро.
Парагвай привлекал "провинциальностью”, огромным количеством неосвоен¬
ных земель, относительной дешевизной жизни. Было и еще одно обстоятельство,
использовав которое, Беляев рассчитывал на благожелательное отношение па¬
рагвайского правительства к массовой иммиграции русских. Это — необхо¬
димость военной защиты страны от агрессии со стороны соседней Боливии.
С первых же шагов по парагвайской земле Ивана Тимофеевича не оставляет
чувство того, что он у себя на родине. И вокзал в Асунсьоне кажется ему
похожим на старинный царскосельский, да и сам Асунсьон напоминает Влади¬
кавказ... ”В 1924 году, — вспоминал Беляев, — в столице страны было всего
пять автомобилей (из них три таксомотора) и одна мощеная улица. Суще¬
ствовали трамваи, электрическое освещение и несколько хороших магазинов.
Жизнь была дешева и спокойна”.
Через белградскую газету "Новое время" Беляев направил призыв "ко всем,
кто мечтает жить в стране, где он может считаться русским", приехать в
Парагвай и создать там национальный очаг, чтобы "сохранить детей от гибели и
растления”. В этой стране, "где ни истрепанная одежда, ни изможденное лицо не
лишают права на уважение, где люди знают на опыте, что Феникс возрождается
9 Там же, с. 277.
10 Беляев И.Т. Русский Парагвай. — ОР РГБ, ф. 587.1.29. с. 1.
46
из пепла, где еще никто не умер с голоду, они могли бы сохранить своих ларов и
пенатов”11.
В июне 1924 г. военный министр генерал Скенони передал Беляеву — пре¬
подавателю фортификации и французского в Военной школе Асунсьона —
устное согласие президента республики на создание в Парагвае русского ’’куль¬
турного ядра”. На первых порах ему было поручено организовать прибытие в
страну 12-ти специалистов — инженеров, путейцев, конструкторов, геодезистов
и т.д. Официально — для содействия восстановлению экономики Парагвая.
Каждому из прибывших специалистов гарантировалось жалование депутата
парламента страны. Было отмечено, что первая группа будет служить базой для
организации массовой иммиграции колонистов.
На призыв Беляева вскоре откликнулись инженеры Шмагайлов и Пятницкий,
путеец Абраменко, конструктор Маковецкий, геодезист Аверьянов, инженеры
Снарский, Яковлев, Воробьев и др.
Над Парагваем в это время все более сгущались тучи. Приближалась война,
вошедшая в историю под названием Чакской войны 1932—1935 гг.
3
Территориальный спор между Боливией и Парагваем из-за обширной не¬
исследованной области Чако Бореаль, затерянной в междуречье Парагвая и
Пилькомайо, уходил корнями ко временам конкистадоров. В его основе лежало
почти полное отсутствие каких-либо картографических данных о местности в
30 тыс. кв. км, лишенной, кроме всего прочего, значительных географических
объектов, что затрудняло процесс установления границы.
Начавшиеся в 1879 г. двусторонние переговоры о границе длились безре¬
зультатно вплоть до 1913 г. Они возобновились в 1928 г., но вскоре окон¬
чательно зашли в тупик. Боливийские представители на переговорах с Па¬
рагваем выдвинули требование, по которому граница ’’де-факто” 1913 г. отод¬
вигалась далеко к востоку. Их цель была при этом очевидна — получить
для Боливии порт на реке Парагвай и, тем самым, возможность выхода в
Атлантику по Ла-Плате. Однако такое положение не могло устроить Парагвай.
В случае реализации этих планов его столицу от боливийских войск отделяли бы
только воды реки Парагвай, что могло поставить под угрозу безопасность
страны.
Угроза национальной независимости Парагвая была тем больше, что Боливию
негласно поддерживал мощный союзник — рокфеллеровская ’’Стандард ойл
компанн", так как в Чако предполагались крупные залежи нефти.
Как отмечает профессор Алабамского университета А.Б. Томас, потребность
в выходе Боливии к Атлантике стала особенно настоятельной после того, как
’’Стандард ойл” начала развертывать нефтедобычу на землях, приобретенных
ею в 1922 г. в восточной части Боливии. Когда же в 1930 г. Аргентина, озабо¬
ченная американским проникновением и поддержанная английскими нефтяными
компаниями, обложила боливийскую нефть высокими пошлинами, вопрос о ее
транспортировке речным путем приобрел для ’’Стандард ойл” решающий ха¬
рактер12.
Сенатор Лонг, выступивший в мае 1934 г. на заседании конгресса США, за¬
явил, что ”в развязывании войны... были виноваты "Стандард ойл компани", име¬
ющая штаб-квартиру в Соединенных Штатах, и интересы ее филиалов”13. Спе¬
11 ОР РГБ, ф. 587.1.30, с, 266.
12 См. Томас А.Б. История Латинской Америки. Л., 1960, с. 393.
13 Congressional Record, v. 58, pt. 9. Washington, 1934, p. 9943.
47
циальное разбирательство в конгрессе, проведенное в марте 1936 г., под¬
твердило эти слова.
Открытие залежей нефти в пограничном с Парагваем боливийском районе
Камири в 20-е годы позволяло надеяться и на наличие ее крупных запасов в
Чако. Поэтому не только стремление удобнее транспортировать добываемую
нефть, но и жажда приобретения новых месторождений на спорной территории
подталкивали Боливию и стоявшую за ней "Стандард ойл" к войне. "На займы,
полученные от американских банкиров в 1927 г., — отмечал американский
историк Брюс Вуд, — Боливия смогла закупить в США большое количество
оружия и военных материалов. Позднее Парагвай неоднократно протестовал
против посылки американскими частными компаниями кораблей с оружием для
Боливии"14.
Однако вернемся к нашему герою.
24 октября 1924 г. военный министр Скенони вновь вызвал Беляева. На этот
раз он предложил ему отправиться в Чако, вся огромная северная часть которого
значилась на картах того времени как "белое пятно". Необходимо было уста¬
новить на местности точное прохождение боливийско-парагвайской границы, и, в
предвидении возможного вооруженного столкновения, наметить стратегические
узлы и линии связи. Задача оказалась не из легких. Предстояло преодолеть
многокилометровый путь в джунглях, в условиях влажного тропического кли¬
мата, в полном отрыве от цивилизации. Территорию, которую надлежало раз¬
ведать, населяли племена моро и чамакоко, быт и нравы которых были мало¬
известны, а поведение — непредсказуемо.
Всего до начала крупномасштабных военных действий между двумя странами,
в период между 1924 и 1932 гг., Беляев совершил 13 экспедиций в Чако. В этих
экспедициях участвовали и другие русские, успевшие к тому времени осесть в
Парагвае. Пока известны имена лишь некоторых из них: капитан В. Орефьев-
Серебряков, братья Игорь и Лев Оранжереевы, сын известного русского по¬
лярника Г. фон Экштейна Александр.
Пренебрегая опасностями, питаясь, как индейцы, змеями и ящерицами, Бе¬
ляев и его спутники смогли нанести на карту обширнейшие участки доселе
неведомой территории. Вынести все испытания помогла давняя любовь Ивана
Тимофеевича к индейцам, знание их обычаев, языка и нравов, долгая привычка к
лишениям. "Генерал Беляев — первый русский, принятый на национальную
службу, по справедливости заслужил официальное признание своих заслуг и
благодарность парагвайского народа"15, — писал в капитальном труде, посвя¬
щенном Чакской войне, полковник парагвайской армии Карлос Хосе Фернандес.
В годы войны боливийские газеты предлагали за голову "русского генерала"
награду в 1 тыс. ф.ст.
Одновременно с экспедициями в Чако Иван Тимофеевич с сентября 1930
по июль 1932 г. работал консультантом в генеральном штабе парагвайс¬
кой армии. Он хорошо представлял себе слабость армии, прежде всего в
насыщенности вооружением и техникой, которая составляла примерно 1/8
от боливийского уровня. Военный бюджет Боливии за несколько послед¬
них лет как правило в три раза превосходил парагвайский. Против 60 военных
самолетов Боливии Парагвай мог выставить только 17. Под ружьем в
боливийской армии было 120 тыс. человек, тогда как в Парагвае — в четыре
14 Wood В. The U.S. and Latin American Wars, 1932—1942. New York — London, 1966, p. 32.
Несмотря на то, что за два года до начала войны Боливия прекратила выплату процентов по займам,
выполнение боливийских заказов на оружие в США не прекращалось ни на один день.
15 Fernandez CJ. La Guerra del Chaco, t. 1. Boqueron. Buenos Aires, 1956, p. 68.
48
среди
раза меньше16. Сопротивление при таком раскладе сил было просто невоз¬
можно.
Однако Беляев знал и преимущества парагвайцев — развитые внутренние
линии коммуникаций, позволявшие осуществлять быструю перевозку войск,
патриотизм и смелость парагвайских солдат и офицеров, так ярко проявившиеся
в годы войны 'Тройственного союза" в 1864—1870 гг., и, наконец, лучшие, чем у
боливийцев, знания о будущем театре военных действий — Чако, где сам
Беляев во время экспедиций наметил стратегические пункты и узлы сопро¬
тивления. Оперативное их использование зависело от удержания господства над
рекой Парагвай и железной дорогой Касадо, протянувшейся на 190 км в глубь
Чако. Именно поэтому, когда в январе 1931 г. поступило сообщение о появлении
боливийского отряда у лагуны Питиантута, откуда можно было выйти на 153-й
км железной дороги Касадо, потом — на берег р. Парагвай и отрезать все
парагвайские гарнизоны вместе со штабом командующего армией, оно заставило
забеспокоиться генеральный штаб.
Беляеву как первопроходцу Чако предложили немедленно собрать воору¬
женный отряд и с индейцами-проводниками отправиться в Питиантуту, чтобы
обеспечить там присутствие парагвайцев. Вот как вспоминал об этой экспедиции
Беляев в дневнике: "Окруженные со всех сторон густым лесом, мы должны были
буквально прорубать себе путь в чаще; со страшными усилиями мы делали за
день всего лишь от пяти до двенадцати тысяч шагов, отмерявшихся по ша¬
гомеру", "4 марта у нас оставалось только два килограмма сухого мяса, два
килограмма йерба-мате17, восемь — сахара, два — муки, пакет какао, десять
банок сгущенного молока и сто двадцать галет, в то время как от Питиантуты
нас отделяла массивная горная цепь в 20 км шириной, а на охоту можно было
рассчитывать лишь поблизости от небольших и редких источников воды".
"Питиантута — прекрасное озеро, расположенное между двумя обширными
массивами сельвы, по причине ли того, что оно — центр всех дорог и тропинок,
16 Gonzdlez А£. Preparation de Paraguay para la guerra del Chaco. Asuncion, 1957, v. 1, p. 80.
17 Йерба-мате — парагвайский чай, тонизирующий напиток.
49
связанных с берегом реки и с бассейнами Верхнего Пилькомайо и Парапити, или
же потому, что оно фактически одно из немногих свободных от сплошных
зарослей мест в этом районе, играет выдающуюся роль в традициях и обрядах
индейцев. Образно выражаясь — это Троя племен северного Чако... Первые
белые в этих исторических местах, мы разбили лагерь у склона одной из гор,
поблизости от индейского колодца”18.
В июле 1931 г. недалеко от Питиантуты парагвайцы основали форт Лопес. В
мае 1932 г. форт был неожиданно захвачен боливийскими войсками. Это стало
началом войны между двумя странами.
В развитии боливийско-парагвайской войны 1932—1935 гг. можно выделить
два этапа. Первый — с мая 1932 по июль 1933 г., когда боливийская армия вела,
в основном, наступательные действия, а парагвайская оборонялась и переходила
в контратаки, — характеризовался переменными успехами сторон. Основной
задачей парагвайских войск на этом этапе было освобождение захваченных
боливийцами фортов, большинство из которых было спешно сооружено на
территории Чако в 1925—1932 гг.
Беляев участвовал в июле 1932 г. в освобождении форта Лопес и остался там
для организации его обороны. Вскоре весь парагвайский военный отряд в 6 тыс.
человек стал жертвой малярии. Медикаментов не было19. Убедившись, что ос¬
новные усилия боливийцев сосредоточиваются на центральном фронте, Иван
Тимофеевич, сам страдавший от болезни, в сопровождении четырех индейцев
отправился в долгий путь к железной дороге, чтобы прибыть под Бокерон —
место решающих боев.
Совершив пять переходов по 30 км, больной, с температурой до 41°, Беля¬
ев в сентябре 1932 г. прибыл под захваченный боливийцами форт Бокерон
и был назначен инспектором артиллерии при штабе командующего па¬
рагвайскими войсками в Чако генерала X. Эстигаррибиа. В следующем месяце
декретом президента Э. Айялы ему был присвоен чин генерала парагвайской
армии.
Вместе с Беляевым под Бокероном сражались и другие русские эмигранты,
приглашенные Иваном Тимофеевичем в Парагвай: капитан Б.Н. Касьянов,
командовавший 2-м кавалерийским эскадроном (Беляев писал: "Я видел его на
линии огня — спокойного, выдержанного, выделяющегося мягкостью обраще¬
ния”); капитан С.С. Салазкин, капитан М.А. Бутлеров — сын знаменитого
русского химика (”Он обладал великолепной ориентировкой, ясным взглядом,
хладнокровием в делах. Его командование вселяло полную веру в подчинен¬
ных”); капитаны Н.А. Дедов и Н.А. Корсаков, лейтенанты Малютин, Ходо-
лей и др.
Навсегда запомнился парагвайцам и русским подвиг капитана В. Орефьева-
Серебрякова, товарища Беляева по экспедициям в Чако, геройски павшего под
стенами Бокерона.
В дни кровопролитных, изматывающих боев, когда во многом решалась
судьба Парагвая как независимого государства, русский офицер быстро про¬
двинулся от командира роты до командира батальона. 28 сентября 1932 г. он
первым повел свой батальон в штыковую атаку на захваченный боливийцами
форт. "Что-то завораживающее было в сцене идущего в атаку на саму смерть
третьего батальона”, — вспоминал полковник Фернандес. — "Пройдя 30 метров,
может быть меньше, капитан Серебряков закричал: "Вперед! Да здравствует
Парагвай!”, увлекая своих солдат за собой. Противник, опомнившись, открыл
кинжальный огонь из автоматического оружия. Одним из первых пал смертельно
18 Цит. по: Fernandez CJ. Op. cit, р. 71.
19 OP РГБ.ф. 587.1.30, с. 8.
50
раненный капитан Серебряков"20. "О, командир! — писал в дневнике лейтенант
третьего батальона Катальди, — мы всегда будем ценить твое величие,
самоотверженность и преданность нашей бедной, но героической стране. Ты
хотел видеть Парагвай торжествующим, строящим великое мирное будущее.
Спи с миром. Имя твое останется вписанным в нашу историю, сохранится на
алтаре воспринявшей тебя новой родины ради всех живущих и будущих ее
поколений"21.
Освобождение Бокерона стало началом перелома в ходе войны. Во время
боев за форт Сааведра на центральном участке фронта в конце 1932 — начале
1933 г. правительство Боливии, не испытывавшее недостатка в поставках
вооружений, но, очевидно, переставшее доверять своим военачальникам, запла¬
тило 600 млн. золотых марок за возвращение в страну германского генерала
Ганса Кундта, занимавшегося обучением боливийской армии в 1910—1914 гг., а
затем участвовавшего в боях на Восточном фронте в первую мировую войну.
Кундт, приезда которого так жаждали боливийцы, захватил с собой еще около
120 бывших германских офицеров, служивших в различных латиноамериканских
странах. В разгар боев за форт Сааведра и далее, вплоть до ноября 1933 г., он
фактически сосредоточил в своих руках не только военное, но и, отчасти,
политическое руководство страной22.
Вступив в командование боливийской армией, Кундт решил ознаменовать это
событие широким наступлением. Целью был выход к р. Парагвай напротив
г. Консепсьон, что позволило бы перерезать тыловые коммуникации параг¬
вайской армии. Для этого против форта Нанава, стоявшего на пути к реке,
Кундт сосредоточил значительный перевес сил: против 3600 парагвайцев — 6000
боливийцев, большое количество артиллерии, авиации, танки. Парагвайцам, од¬
нако, удалось выиграть время и тщательно подготовить старый форт к обороне.
В этой подготовке непосредственное участие приняли Беляев и другой русский
генерал на парагвайской службе — Н.Ф. Эрн.
Наступление, начатое Кундтом 20 января 1933 г., не принесло ему ожидаемой
славы. За десять дней боев парагвайцы потеряли убитыми 248 человек, тогда
как боливийцы — свыше 2 тыс. Оборонявшимся помогали как многочисленные
инженерные сооружения, возведенные за короткий срок, так и умело спла¬
нированные и искусно изготовленные ложные позиции, дезориентировавшие
боливийскую авиацию. "Для оборонявшихся, — вспоминал майор Вальтер Са¬
линас, — не было большего удовольствия, чем наблюдать, как вражеские са¬
молеты сбрасывали бомбы на замаскированные под орудия стволы пальм, каж¬
дый раз передвигавшиеся на все новые "огневые позиции""23.
В начале 1933 г., после участия в боях, Беляев вновь возвратился на рабо¬
ту в генеральный штаб. Здесь сразу получил должность начальника генш¬
таба. "В моих руках, — писал Беляев, — находились все данные о противнике и
расположении наших солдат"24. С этого момента начинает разыгрываться
заочная дуэль между Беляевым и Кундтом. Хорошо зная своего противни¬
ка, Беляев сделал ставку на некоторую прямолинейность тактики последнего.
И его усилия принесли плоды. В июле 1933 г. провалилось и второе наступление
на Нанаву. "В этом наступлении, — отмечал американский военный иссле¬
дователь Д. Зук, — немецкий генерал принес в жертву лучшую часть своей
Fernandez С J. Op. cit., p. 304.
21 Ibid., p. 304—305.
22 Nunn F.M. Yesderday's Soldiers. European Military Professionalism in Latin America, 1890—1940.
Lincoln (Neb.), 1983; Wood B. Op. cit., p. 92; Zook D. The Conduct of the Chaco War. New York, 1960.
23 Fernandez CJ. La Guerra del Chaco, L 2. Saavedra. Buenos Aires, 1956, p. 20.
24 OP РГБ, 4 587.1.29, c. 8.
51
армии”25. Планируя операции против Нанавы, Кундт использовал опыт, получен¬
ный им на Восточном фронте в 1915—1916 гг. Однако ”в Чако его тактика была
посрамлена четкой обороной, организованной под русским руководством”26.
Парагвайский историк Хуан Стефанич считает, что в случае победы Боливии
в Чакской войне открывалась перспектива создания "нацистского блоха” в
Южной Америке27. Даже если это мнение чересчур категорично, заметим, что в
условиях традиционного влияния германских военных доктрин в вооруженных
силах Аргентины, Чили и Боливии и усиления германофильских тенденций в
Бразилии в эти годы такая победа, несомненно, укрепила бы положение на¬
цистской Германии на южноамериканском континенте.
Во второй половине декабря 1933 г. и в начале 1934 г. парагвайские войска
одержали ряд важных побед, перейдя к наступательным действиям. Боливийцы
были вынуждены оставить большую часть Чако Бореаль. Их армия, которая в
начале войны находилась в 150 милях от Асунсьона, была оттеснена на 200 миль
к западу.
В ноябре 1933 г. Кундт получил отставку, а парагвайские солдаты бодро мар¬
шировали по дорогам войны, распевая русские солдатские песни, переведенные
Беляевым на испанский и гуарани.
Подойдя вплотную к Альтиплано, т.е. собственно боливийскому нагорью,
Парагвай, из-за растянутости коммуникаций своей армии, был вынужден остано¬
вить наступление, а истощенная войной Боливия уже не могла организовать
ответного удара. В этих условиях в июне 1935 г. между двумя странами было
подписано перемирие.
Казалось, наконец наступило время, когда основные усилия русский генерал
парагвайской армии мог направить на создание новых русских колоний в
Парагвае.
4
Побывавший накануне Чакской войны в Асунсьоне Георгий Бенуа, русский
эмигрант, выпустивший в 1967 г. в СССР свои воспоминания, насчитал в русской
колонии около 80 человек во главе с генералом Беляевым, большей частью
гражданских специалистов. ’’Русская эмиграция, — отмечал он, — была как
нельзя кстати для Парагвая, который начал восстанавливать расшатанную
экономику. Начали строиться мосты, дороги, административные здания, казармы
и т.д. Страна постепенно оживала благодаря активной помощи русского тех¬
нического персонала”.
Идейный настрой колонистов полностью соответствовал тем убеждениям, с
которыми Беляев приступал к устройству русских колоний.
’’Политикой в Парагвае, — писал Бенуа, — никто не занимался. Все были
сторонниками и ревнителями монархического строя в России, считая, что Россия
для нас уже не мать, а мачеха, потому что все русское на родине изъято и
преследуется, церкви закрываются и уничтожаются... что страна наша стала
экспериментальной территорией, где готовятся кадры для захвата всего мира
коммунистами, и что нам, белоэмигрантам, нужно сохранить свои силы и
воспитать молодежь в чисто русском духе и православной вере, в которой Русь
жила и здравствовала более 1000 лет, чтобы в нужный момент явиться, куда
будет нужно, для восстановления своей Родины в национальном духе”28.
25 Zook D. Op. cit., р. 146.
26 Ibid., р. 148.
27 StefanichJ. El 23 de octubre de 1931. Buenos Aires, 1956, p. 263—264.
28 Бенуа ГА. Указ. соч. — Простор, 1967, № 10, с. 85.
52
В первые годы Чакской войны русская эмиграция в Парагвае пополнилась
военными специалистами, приехавшими из разных стран по призыву Беляева, и
увеличилась до 200 человек.
Огромный вклад русских в дело защиты свободы и независимости Парагвая
позволил парагвайцам ближе узнать и полюбить их, серьезно повысив шансы на
создание крупных русских колоний и поселений.
Еще в 1933 г., в самый разгар войны, Иван Тимофеевич получил от мини¬
стерства иностранных дел все необходимые полномочия для содействия массовой
русской иммиграции в Парагвай. Газета “Трибуна” писала в 1934 г. о жела¬
тельности дальнейшей иммиграции русских, "показавших себя людьми высочай¬
шей культуры и оказавшихся храбрыми воинами *29.
Орган основанного Беляевым в Париже Комитета по содействию русской
иммиграции в Парагвай газета "Парагуай" отмечала многочисленные факты
содействия парагвайских должностных лиц, просто состоятельных людей делу
обустройства русских колоний. Так, во втором номере газеты за 1934 г. го¬
ворилось о пожертвовании бывшим министром доктором Уэртой 2500 гектаров
земли своего имения в департаменте Консепсьон для русской колонии "Новая
Волынь". В том же номере отмечалось, что покровительство над "Новой
Волынью" принял экс-президент республики X. Гуджиари30.
В апреле 1934 г. из Франции в Южную Америку при содействии Комитета и
возглавлявшего его Донского атамана А.П. Богаевского был отправлен первый
пароход с казаками (около 100 человек). В письмах Беляеву Богаевский выра¬
жал уверенность казаков в его покровительстве и надежду на "беспрепят¬
ственное продолжение начатого процесса"31.
В том же 1934 г. Беляев представил сенату и палате депутатов парагвайского
парламента проект Закона о правах и привилегиях русских иммигрантов. Проект
предусматривал свободу вероисповедания, возможность создания национальных
школ, сохранение казачьих обычаев и традиций, в том числе общины. Статья 2-я
запрещала продажу спиртных напитков ближе чем за пять километров от
создаваемых казачьих станиц. Вновь прибывающие освобождались от уплаты
пошлин на ввоз имущества на десять лет32.
К осени 1934 г. в Парагвай было отправлено уже четыре группы русских
эмигрантов из Европы. Ожидалось прибытие еще двух. Однако дальнейшие
перспективы иммиграции, в том числе — и идея создания "Русского очага",
выглядели все более эфемерными.
В Чакской войне 1932—1935 гг. погибло 40 тыс. парагвайцев, были понесены
огромные материальные потери, страна была истощена. Победа дорого обош¬
лась Парагваю, подорвав его только начинавшие становиться на ноги сельское
хозяйство и промышленность. В 1936 г. полковник Р. Франко сверг демокра¬
тическое правительство Э. Айялы — "президента победй'\ благожелательно
относившегося к Беляеву и его идее "Русского очага". Много ли могла сделать
для обустройства тысяч иммигрантов бедная, только что вышедшая из войны и
вступавшая в полосу внутренней нестабильности страна? Уже в последних
письмах Богаевского Беляеву в Парагвай, — это лето 1934 г., — чувствуется
озабоченность судьбами русских эмигрантов, некоторые из них жаловались в
письмах, что "не получили обещанного"33. В сентябре 1934 г. газета "Парагуай",
29 La Tribuna, Asuncion, 3.VII. 1934.
30 Le Paraguay, Paris, № 2, 1.IX. 1934.
31 Богаевский А.П. Письма к Беляеву И.Т. — ОР РГБ, ф. 587.2.37.
32 Беляев И.Т. Проект закона, предоставляющего права и привилегии русским эмигрантам в
Парагвае. — ОР РГБ, ф. 587.1.36.
33 ОР РГБ, ф. 587.2.37.
53
отмечая, что ’’движение начало приобретать массовый, стихийный характер",
призывала малоимущих воздерживаться от путешествия, поскольку ’’парагвай¬
ское правительство пока не в состоянии финансировать массовый приезд"34.
Ситуацию, сложившуюся в те годы в русских колониях, в двух словах
обрисовал бывший эмигрант П.П. Шостаковский. Каждому из вновь прибы¬
вающих, писал он, там выдавался лишь мачете, а топор, пилу или молоток
приходилось выписывать из Аргентины35. Бытовое неустройство приводило к
постоянному оттоку беженцев в соседние страны — Аргентину, Бразилию и
Уругвай, как только они осваивали начала языка, утверждались в местных
обычаях. •
Однако наибольший вред идее ’’Русского очага", по мнению самого Ивана
Тимофеевича, нанесли раздоры в эмигрантской верхушке — как в парижской,
так и в парагвайской.
"Едва ли не с первого дня моего пребывания в Парагвае на меня обрушилась
буря нападок", — писал Беляев в воспоминаниях. "Не щадили меня ни левые, ни
правые. Обвинения сыпались даже от бывших соратников — белых, — что я
совращаю верных им чинов, и со стороны врагов русской национальности,
проклинавших Парагвай"36. Беляев усматривал причину этой кампании в ори¬
гинальности идеи "Русского очага", отвергавшей как чисто приспособленческие,
так и интервенционистские цели эмиграции. Указуя "новый путь к спасению" и
усиленно пропагандируя его, генерал Беляев автоматически становился неугоден
верхушке русской эмиграции, почувствовавшей угрозу своим привилегиям, в
первую очередь возможности и далее распоряжаться судьбами тысяч и тысяч
людей.
К тому же после смерти Богаевского в 1934 г. фактически прекратилось
действие созданного в Париже по инициативе Беляева Комитета по содействию
эмиграции в Парагвай, а перевод всего дела на чисто коммерческую основу,
происшедший одновременно с переносом в Варшаву центра содействия пере¬
селению, подорвал и без того скромные финансовые возможности эмигрантов.
Постоянное отсутствие в Асунсьоне самого Ивана Тимофеевича, занятого с
октября 1924 г. и вплоть до открытия военных действий в 1932 г. экспедициями
в Чако, а затем участием в войне, также не способствовало укреплению "Русско¬
го очага". Его недругам в Парагвае, среди которых он упоминал генералов
Н.Ф. Эрна и С.П. Бобровского, удалось "разложить русскую колонию и лишить
ее патриотического смысла". Через голову Беляева они вступили в контакт с
эмигрантской верхушкой в Париже, представляя дело Беляева как "подрыв тех
мощных организаций, которым суждено с помощью Германии разгромить
большевистскую Россию"37. Сам Иван Тимофеевич никогда не воспринимал
Германию в качестве "спасительницы России", всей душой желая победы
Советской Армии в Великой Отечественной войне...
Но, отвлекаясь от всех перипетий личных судеб, — могла ли иметь успех
идея "патриотической иммиграции в Парагвае"?
В апреле 1934 г. через газету "Парагуай" Беляев, обращаясь ко всем вы¬
езжающим, перечислил набор конкретных данных, необходимых для "прижи¬
ваемости" в незнакомой среде. Это: 1. большой процент землеробов в колонии;
2. верные люди во главе дела; 3. твердая вера в правильность указанного
пути38.
34 Le Paraguay, № 2, 1.IX. 1934.
35 Шостцковский П.П. Указ, соч., с. 214.
36 ОР РГБ, ф. 587.1.30, с. 280.
37 Там же.
38 Le Paraguay, № 1,29.IV. 1934.
54
Если бы Беляев постоянно и не отвлекаясь на иные дела наблюдал за
выполнением этих условий, то, даже несмотря на истощенность Парагвая
войной, создание ’’культурного ядра" русской иммиграции все же могло бы иметь
шансы на успех. В пользу этого заключения свидетельствует, в частности,
наблюдение другого бывшего эмигранта — М.Д. Каратеева, проведшего ровно
год в русской колонии "Надежда" под городом Энкарнасьон.
"Многие русские колонии в Парагвае, — пишет он, — зародившиеся одно¬
временно с нашей, пережив неизбежные невзгоды первых лет, прочно стали на
ноги и достигли относительного благосостояния. Но следует добавить, что эти
колонии были основаны крестьянами, тогда как все составившиеся из городских
элементов почти сразу заглохли. Причина этого проста: когда на горожанина
посыпались неудачи и его одолела тоска, он вспомнил, что у него есть в запасе
какая-то городская специальность, которая может избавить его от всех пре¬
лестей "кампы" (поля. — Б.М.). У крестьянина такой возможности не было, а
потому он волей-неволей должен был стиснуть зубы и перетерпеть. Это тер¬
пение и приводило его к победе"39.
Планы создания "Русского очага" в Парагвае постигла неудача. Но все же в
историю этой страны, по словам Беляева, "навеки вплелась неразрывными узами
едва заметная, но замечательная нить русского начала"40.
5
Осталось рассказать еще об одном пристрастии И.Т. Беляева — изучении
’’бронзовокожих детей пустыни" — индейцев, защите их от произвола властей,
спасении от тотального истребления.
В ходе чакских экспедиций Беляев заново открыл для внешнего мира пле¬
мена, обитавшие в Чако Бореаль — примерно 50 тыс. человек, находившихся
как бы вне закона, исследовал их языки, религии, обычаи, нравы. Научная ра¬
бота, начавшись в конце 20-х годов — составление словарей: испанского —
макка и испанского — чамакоко, — не прекращалась во время войны и успешно
продолжалась в 40-е годы. Доклады и монографии о фольклоре и быте индейцев,
составление этнографических карт Чако, долины р. Парагвай и всего Парагвая,
статьи, выступления, организаторская деятельность... Наука помогала вновь об¬
рести смысл жизни, забота о лишенных участия наполняла ее новым содер¬
жанием.
С 5 мая 1936 г. Беляев состоял при министерстве обороны без обязанности
выполнения каких-либо определенных функций. Это развязывало руки. Когда в
ноябре 1937 г. в министерстве сельского хозяйства возникла идея создания
Национального патроната по делам индейцев и Беляеву предложили занять пост
директора, он согласился. Его цель отныне — борьба за равноправие индейцев,
за выработку "человеческого отношения" к ним со стороны властей.
"Индейцы, — писал он, — это порядочные люди, физически и морально пре¬
восходящие многих других. Их природный ум и способности поражают. Очень
умеренные во всем, они лишены жажды денег, так развращающей белых.
Чтобы открыть путь к развитию их способностей, необходимо серьезное и осо¬
бое отношение к ним". "До настоящего времени, однако, лучший индеец — это,
как правило, наименее "цивилизованный" индеец’’41.
Взгляды Ивана Тимофеевича на то, каким должно быть "человеческое" от¬
ношение к индейцам, были систематизированы им в начале 40-х годов в "Дек¬
39 Каратеев МД. Указ, соч., с. 234.
40 Беляев И.Т. Прошлое русского изгнанника. — ОР РГБ, ф. 587.1.30, с. 282.
41 Organization de las colonias indigenas. Situation actual. — OP РГБ, ф. 587.1.6, p. 16.
55
ларации прав индейцев". Изведав жизнь аборигенов Чако на собственном опыте,
Беляев считал необходимым прежде всего закрепить за ними в законодательном
порядке землю их предков.
Будучи от природы "свободным как ветер", индеец, по мнению Беляева, не
делает ничего по принуждению и должен сам быть двигателем собственного
прогресса. В этих целях он предлагал предоставить индейским общинам полную
автономию и одновременно с ликвидацией неграмотности начать прививать
индейцам основы культурной жизни, демократических ценностей, права и т.д.
При этом русский ученый предостерегал от искушения разрушать склады¬
вавшийся веками образ жизни индейцев — их культуру, быт, язык, религию,
поскольку это, учитывая свойственный индейцам консерватизм и уважение к
памяти предков, лишь оттолкнуло бы их от "культуры белого человека".
"Декларация прав индейцев" требовала элементарной справедливости — воз¬
вращения части ранее отторгнутых земель, распространения на индейцев прав
свободы передвижения, неприкосновенности жилища, предпринимательской дея¬
тельности.
Единственной привилегией для индейцев было бы круглогодичное право охоты
и рыбной ловли на заселенных ими территориях, и то лишь до тех пор, пока
правительство не изыщет фонды для организации независимых индейских ко¬
лоний в качестве временной компенсации за земли, отошедшие к белым по¬
селенцам42.
Трудно было, однако, ожидать благотворительности от правительства в усло¬
виях политической нестабильности. Идея Национального патроната вскоре "ока¬
залась изувеченной, а правительственные кредиты на нее розданы под другие
цели"43. Но Беляев на этом не успокаивается. В апреле 1938 г. в Национальном
театре Асунсьона с аншлагом прошла премьера первого спектакля индейского
театра об участии индейцев в Чакской войне. Через некоторое время труппа в
40 человек под руководством Беляева выехала на гастроли в Буэнос-Айрес.
Двухмесячное отсутствие в столице вновь сослужило ему плохую службу. На¬
циональный патронат не получил ни денег, ни земли под колонии индейцев.
Директор — Беляев — был смещен со своего поста. Слишком, наверное, бес¬
компромиссной была его борьба за права обездоленных, слишком резки вы¬
ступления в печати... Но появляются новые идеи, новые планы. Он сочиняет и
ставит новый красочный, феерический спектакль "Прибытие Колумба". Премь¬
ера прошла в парке Кабальеро, где природный ландшафт служил естественной
декорацией доселе невиданного здесь действа.
В октябре 1942 г. президентским декретом был утвержден устав Ассоциации
индейских исследований Парагвая. Создание этой научно-общественной органи¬
зации было прямым следствием той пропагандистской и популяризаторской
работы, которую Беляев, стремясь изменить отношение тогдашнего параг¬
вайского общества к индейцам, беспрерывно вел с середины 30-х годов. Фонды,
собранные ассоциацией за счет общественных пожертвований, личных взносов
учредителей, от специализированного печатного издания ("Анналы Ассоциации
индеанистских исследований Парагвая", редактор — И.Т. Беляев) поступали
индейцам, которые имели право сами распределять их между собой, согласно
своим нуждам. При ассоциации был создан уникальный музей индейской
культуры.
В октябре 1943 г. члены Исполнительного комитета ассоциации ("прези¬
дент — д-р Андрес Барберо, казначей — полковник Эухенио Мартинес, ди¬
ректор школы для индейцев — генерал Хуан Белайефф"), получили наконец-то
42 Dcclaración Basica de los derechos indigenes. — OP РГБ, ф. 587.1.38, p. 1.
43 La Asociación Indi genista del Paraguay. — OP РГБ, ф. 587.1.5,.p. 1.
56
президентское "добро" на организацию на небольшом островке неподалеку от
Асунсьона, за парком Кабальеро, первой индейской колонии под названием
"Бартоломе де Лас Касас" — по имени испанского священника, боровшегося за
права индейцев в XVI в. Этот островок с незапамятных времен служил в
качестве порта для пирог чакских племен. В следующем году Беляева вос¬
становили В должности директора Национального патроната по делам индейцев с
признанием всех прошлых заслуг, присвоив ему титул Почетного администратора
индейских колоний в Парагвае.
До последнего дня жизни Беляев совершал путешествия на утлой пироге
через реку Парагвай, чтобы добраться до островка, где располагалась индейская
колония. Там, в скромной хижине из тростника, он учил грамоте детей и
взрослых, колонистов и тех, кто, прослышав о доброте и мудрости "Белого
Отца", впервые вышел из леса, чтобы увидеть другой мир. Думал ли когда-
нибудь юный кадет, усердно постигавший основы русской военной науки, мо¬
лодой офицер, весело проводивший время в компании сослуживцев на маневрах
под Дудергофом и Красным, что на закате дней ему придется читать "Отче наш"
на языках чамакоко и макка индейцам, внимавшим ему, как самому Богу?
Мы подошли к заключительным страницам увлекательной и полной дра¬
матизма жизни русского генерала Ивана Тимофеевича Беляева. Умер он 23 ию¬
ня 1957 г. Хоронили его с военными почестями. Почетного генерала, Почетного
гражданина Парагвая, Почетного администратора индейских колоний. Тело Бе¬
ляева на военном корабле было доставлено на тот самый островок, в хижину без
окон, под крышей из тростника, где он учил детей. Дальше белых не пустили...
В этой хижине индейцы долго пели над своим другом погребальные песни. После
похорон сплели над могилой шалаш, посадили кусты роз. На простом четы¬
рехугольнике земли, без холма, выложили надпись: "Здесь живет среди своих
любимых индейцев Беляев".
Двоюродная племянница Беляева Е.М. Спиридонова уже после его смерти
приехала в Асунсьон из Буэнос-Айреса, чтобы собрать оставшиеся после него
бумаги. Она узнала^ что последние его годы прошли в бедности. Кстати, бед¬
ность быта Беляевых было первое, что ей бросилось в глаза во время ее
посещения Парагвая еще в 1926 г. Это свидетельство опровергает мнение
украинского ученого А.А. Стрелко, не щадившего "бывшего белогвардейского
генерала" и допустившего мысль о том, что "немалая часть средств", выде¬
ленная парагвайским правительством на организацию русских колоний, якобы,
"безусловно, досталась Беляеву"44.
В бумагах, выданных ей уже безнадежно больной вдовой генерала Алек¬
сандрой Александровной, Спиридонова помимо дневников, воспоминаний и т.п.
обнаружила массу документов, свидетельствующих о борьбе Ивана Тимофе¬
евича за права индейцев. "Среди бумаг главное — переписка с властями и даже с
президентом об индейцах: об обидах, нанесенных им, о преступлениях белых, об
их горестном положении, о насилиях, об испрашивании разрешения свободной
охоты и свободы кочевья"45. По словам свидетелей, зафиксированным в записках
Спиридоновой, дом Беляевых всегда был открыт для индейцев, приходивших
порой целыми семьями. После смерти своего "Белого Отца" индейцы проявляли
трогательную заботу о его оставшейся одинокой вдове.
Итак, кто же такой Иван Тимофеевич Беляев? Эмигрант, озлобленный на все
"родное", авантюрист, использовавший в своих интересах противоречия между
Парагваем и Боливией и к тому же нечистый на руку человек или патриот
России, пытливый ученый и самоотверженный исследователь, защитник угне-
44 Стрелко А.А. Указ, соч., с. 107.
45 Спиридонова Е.М. Путешествие в Парагвай. — ОР РГБ, ф. 587.3.18, с. 4.
57
темных и обличитель жестокостей? Независимо от того, что автор сам для себя
уже однозначно ответил на этот вопрос, думается, что время успело расставить
все по своим местам. Отказываясь от взгляда на мир через оптику прицелов
гражданской войны, мы открываем для себя заново — нет, не историю как
опрокинутую в прошлое систему отношений между базисом и надстройкой — мы
открываем для себя людей. И учимся судить о людях по тому, что они сами из
себя представляют и что оставляют после себя, а не по тому, сторонниками
какой доктрины они являются. А оставил после себя Беляев в Парагвае тысячи
благодарных ему людей — русских и парагвайцев, белых и индейцев. Оставил
Ассоциацию и музей, ценнейшие научные труды и посеял на далекой южно¬
американской земле те семена русской гуманистической культуры, которые мы
сегодня по крупицам собираем у себя на Родине.
58
© 1992 г.
РАЙМОН ЮАР (Франция)
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В ИСТОРИИ ФРАНЦИИ
По мере того, как изучение истории менталитетов на протяжении последних
десятилетии стало играть все большую роль ь комплексе исторических иссле¬
дований, заметно возрос интерес французских историков к такому явлению, как
политические традиции. Правда, этот путь был проложен не историками, а
другими учеными, прежде всего политологами и социологами.
Осмысление того, что политические традиции существуют и оказывают
влияние на политический процесс, произошло во Франции уже давно. И хотя
трудно указать какую-либо конкретную дату, тем не менее можно признать, что
оно восходит к 1848 г.: мощное возрождение революционной традиции1 сопро¬
вождалось выходом на поверхность традиции наполеоновского толка, влияние
которой проявилось в ходе президентских выборов 10 декабря 1848 г. В 1852 г. в
работе ’’Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта” К. Маркс дает общее описание
этого феномена и предлагает некоторые принципы его объяснения: ’’Традиции
всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз
тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и
окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи рево¬
люционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на
помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы,
чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке
разыгрывать новую сцену всемирной истории. Так, Лютер переодевался апо¬
столом Павлом, революция 1789—1814 гг. драпировалась поочередно то в кос¬
тюм Римской республики, то в костюм Римской империи, а революция 1848 г. не
нашла ничего лучшего, как пародировать то 1789 год, то революционные тра¬
диции 1793—1795 годов”2.
Таким образом, Маркс обращает внимание как на непрерывные, так и на
время от времени возрождающиеся процессы в политических умонастроениях.
Он констатирует, что оживление традиции происходит с особенной силой во
времена кризиса: субъекты политической жизни, сталкиваясь с совершенно новой
обстановкой, ищут ориентиры, образцы поведения, в соответствии с которыми
можно было бы направить свою деятельность. В таком случае обращение к
традиции либо дает силы для преодоления кризиса, либо сбивает с пути, приводя
к напяливанию на себя рубища прошлого. Маркс указывает на отдельные на¬
правления развития традиции, на имена, лозунги, костюмы. Наконец, говоря о
Юар, Раймон — профессор университета в г. Монпелье, доктор исторических наук, специалист по
истории политических партий и политических традиций. Автор многочисленных трудов, в том числе
пяти монографий; последняя — "Всеобщее голосование во Франции. 1848—1946 гг.’’ (Париж,
1991).— Прим.ред.
1 Силу этой традиции автор показал на примере департамента Гар. См.: Huard R. Souvenir et
Tradition revolutionnaires, 1848—1851. — Annales Historiques de la Revolution Franęaisc, № 258, Oct.-Dec.
1984, p. 565—587.
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 8, с. 119. См. также с. 207—217, где речь идет о наполеоновской
традиции. Начиная с 1845 г., с работы "Святое семейство", Маркс писал об "античной концепции
политической жизни”, господствовавшей во время террора, но тогда он называл ее "иллюзией".
59
наполеоновской традиции, он связывает ее с общественной психологией тог¬
дашнего крестьянства, тем самым показывая историкам, что постоянство тра¬
диции вписывается в социальный контекст и не может быть объяснено только
устойчивостью структур сознания.
На протяжении двух последних третей XIX столетия соперничество рес¬
публики и монархии способствовало подогреванию спора между политическими
лидерами о том, каково же должно быть соотношение новаторства и традиции
при введении новых институтов. В конце XIX и в начале XX в. прогрессивное
движение осуществлялось двумя путями. В основе первого было изучение ре¬
зультатов выборов на протяжении достаточно длительного периода. А. Зигфрид
в книге "Политическая картина Западной Франции в эпоху Третьей респуб¬
лики"3, проанализировав итоги довольно большого числа выборов, отмечает
удивительное постоянство в соотношении сил между большинством и меньшин¬
ством в значительной части западных районов Франции. В основе второго пути
лежало выявление "социального контекста памяти" — таково заглавие до сих
пор весьма актуальной книги социопсихолога М. Хальбвакса4. Однако последую¬
щее изучение политических традиций шло, главным образом, по первому пути.
Плодами этого направления в дальнейшем стали работы Франсуа Гогеля5 и
Поля Буа6, уточнявшие методологию исследования и содержавшие большое
количество интересных наблюдений. Одновременно электоральные традиции
рассматривались, вероятно, ошибочно, как прототип политических традиций.
Добавим, что этнологи, интересовавшиеся народными традициями, чаще всего
не включали в это понятие политический аспект. В их представлении народные
традиции были устными и касались, по преимуществу, сельской материальной
жизни в ее повседневности (жилище и орудия труда, календарь, кулинарные
обычаи, врачевание)7. Эти стороны жизни тем более привлекали внимание уче¬
ных, что намечалась тенденция качественного изменения сельской цивилизации
под воздействием промышленного развития и роста городов. Напротив, поли¬
тические традиции присущи и городу, и деревне, а также всем разнообразным
общественным классам. Более подвижные по содержанию, передаваемые как
письменно, так и устно, эти традиции — по меньшей мере некоторые из них —
только-только формировались или, во всяком случае, скоро должны были воз¬
никнуть. Заслуга их выявления принадлежит историкам, и, в особенности, спе¬
циалистам в области политических наук.
НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О ТЕРМИНОЛОГИИ
Термин "политическая традиция" остается тем не менее довольно расплыв¬
чатым. Само это словосочетание употребляется в качестве синонима таких
понятий, как "память", "наследие", "опыт", "обычай", "ритуал", "легенда", "вос¬
поминание", наконец, "мифология".
Понятие "традиция" легко отличить от "наследия" — объективной реаль¬
ности, которая может быть полностью лишена чувственного или эмоционального
3 Siegfried A. Tableau politique de la France de 1'Ouest sous la Troisieme Republique. Paris, 1913; 24me
ed. Paris, 1965.
4 Halbwachs M. Les cadres sociaux de la memoire. Paris, 1925.
5 Goguel F. Geographic des Elections Franęaises 1870—1951. Paris, 1970.
& Bois P. Paysans de 1'Ouest. Des structures e'conomiques et sociales aux options politiques dcpuis 1'epoque
revolutionnaire dans la Sarthe. Le Mans, 1960.
7 Эта концепция прослеживается, например, в работе: Varagnac A., Chollot-Varagnac М. Les
Traditions Populaires. Paris, 1978. Следует, однако, сделать исключение для Поля Себилло (1843—
1913). Его книга "Народ и история" (8-й том труда "Фольклор Франции") вышла недавно в новом
издании: Sebillot Р. Le Peuple et 1'Histoire. Imago, 1986.
60
содержания. С другой стороны, термин ’’традиция" невозможно отождествить с
"обычаем" и "ритуалом", поскольку эти понятия подразумевают, в основном,
способы поведения и действия, навязанные индивиду безличным образом, в то
время как политическая традиция является глубинной составной частью лич¬
ности. Традицию нельзя смешивать и с политическим опытом, который, являясь
результатом взаимодействия с практикой, носит чаще всего коллективный ха¬
рактер. Опыт, подобно традиции, может передаваться, но, в отличие от по¬
следней, приобретенное знание по самому определению может быть подвергнуто
сомнению и становится объектом осмысления, а не результатом заимствования.
Так же легко отличить традицию от политической легенды или мифологии. В
легенде преобразовываются, идеализируются поступки человека или группы
людей (легенда о камизарах8, легенда о Наполеоне9). При этом политическое
значение событий не обязательно выпячивается на первый план. Традиция же
впитывает большую часть объективной реальности и, напротив, придает пер¬
востепенное значение идеологии. Следовательно, необходимо различать легенду
о Наполеоне и бонапартистскую традицию, легенду о де Голле и голлистскую
традицию. Точно так же в политической мифологии структура мифа приобретает
сущностное значение. Миф не обязательно строится вокруг реальных исто¬
рических персонажей. В этом смысле можно говорить как о наполеоновском
мифе10, так и мифе об Улиссе или Фаусте.
Наконец, остаются слова "воспоминание" к "память", смысл которых ближе
всего к понятию "традиция". В самом узком значении воспоминание связано с
личным участием человека в событии. По мере размывания непосредственного
воспоминания, происходящего при его передаче из поколения в поколение, как
раз и формируется традиция. С другой стороны, воспоминание заключает в себе
некоторую эклектику11, тогда как традиция предполагает известную логическую
связь, пусть даже и слабую, между составными элементами. Так не в том ли и
заключается роль памяти, чтобы обеспечивать переход от воспоминания к
традиции? В последнее время слово "память" стало вытеснять термин "тра¬
диция"12.
Понятие "память", для которого характерна более сложная организация, чем
для воспоминания, и меньшая степень персонализации, предполагает прежде
всего наличие группового носителя: говорить можно о памяти рабочего класса, о
народной памяти. Это слово подразумевает известные усилия, направленные на
воссоздание, целый комплекс активных действий, связанных с воспоминаниями,
что в слове "традиция" выражено не столь отчетливо. Таким образом, понятие
"память", видимо, обозначает более широкую, более общую форму сохранения и
переосмыслщшя прошлого, чем "традиция". Этот последний термин можно за¬
крепить за понятием, которое включает структурированное содержание мыслей
и практических действий, целенаправленно передаваемое в течение относи¬
тельно длительного периода группой семейного, социального или политического
характера и подвергаемое различным интерпретациям и уточнениям.
8 Joutard Ph. La legende des Camisards. Paris, 1977. Камизары — участники крестьянского
восстания 1702—1704 гг., выступавшие под религиозными лозунгами. —Прим.ред.
9 Из многочисленных книг и статей, посвященных легенде о Наполеоне, отметим: Gonnard. Les
Origines de la Legende Napoleonienne. Paris, 1906; Tudesq A J. La Ugende napoleonienne en France en
1848. — Revue Historique. Paris, 1957, p. 64—85; Lucas-Debreton J. Le culte de Napoleon. Paris, 1960; La
Legende Napoleonienne. 1796—1900. Bibliotheque Nalionale. (Exposition). Paris, 1969.
10 TulardJ. Le Mythe de Napoleon. Paris, 1971.
11 См. об этом: Cornu R. Je suis une legende ou la production d'un chantier symbolique. — Ethnologie
Francaise, April—Juin 1984, № 2. p. 151—160.
12 В США, кажется, дело обстоит иначе. См., например: Kammen М. La Memoire americaine et sa
problem atique. — Le Dćbat, № 30, Mai 1984, p. 112—127.
61
Следует, наконец, определить место политической традиции по отношению к
двум столь всеобъемлющим явлениям, как менталитет и политическая идео¬
логия. Может быть, политическая традиция находится на пересечении двух по¬
следних и является своего рода смешением этих реальностей? Традиция — это
элемент, конституирующий типы политических менталитетов. Подобно послед¬
ним, она представляет фактор исторического значения, но опирается на кон¬
кретные события и факты, четко зафиксированные в пространстве и во времени.
Для передачи традиции необходимо участие осознанной воли.
Традиция является также в каждый данный момент базовым элементом
политической идеологии. Но если политическая идеология вынуждена постоянно
приспосабливаться к новым фактам и идеям, порождаемым в процессе поли¬
тической борьбы, то традиция представляет собой скорее инерционную силу. Ее
воздействие является позитивным тогда, когда оно увеличивает сопротивля¬
емость к чрезмерным увлечениям, сиюминутной моде, и негативным, когда
сдерживает необходимые изменения. Отметим, к примеру, сосуществование в
республиканском движении Франции XIX в., с одной стороны, непреклонной
приверженности к республиканскому строю, уходящей корнями в традицию
Великой французской революции, и, с другой — ожесточенной идейной борьбы
за очищение республиканской традиции от террористических элементов, вос¬
принятых и порой возвеличенных в народной среде13.
Вот почему традиция составляет часть политической культуры в привычном и
общепризнанном смысле этого выражения. Наличие традиции стимулирует раз¬
витие политической культуры, углубляя, например, знания о наиболее важных
исторических событиях, составляющих ее скелет.
СОДЕРЖАНИЕ ТРАДИЦИЙ
Логика всех вышеупомянутых понятий допускает различные толкования.
Попробуем определить в наиболее общем виде, что такое политическая тра¬
диция, в особенности, что чаще всего понимают под этим словом в народной
среде. Ведь именно в этой среде традиция в наименьшей степени смешана с
идеологией. Кроме того, как раз благодаря народным слоям традиция оказывает
влияние на политический процесс.
Во всем передаваемом содержании традиции самым простым является,
очевидно, определение своего места в политическом спектре и представление,
пусть даже весьма туманное, о существующих политических силах. Последние
мысленно подгоняются под некий общеупотребительный словесный набор, ко¬
торый чаще всего строится по принципу бинарных схем.
Начиная с XVIII в. борьба за муниципальную власть приводит к политической
дифференциации населения, порождает противостояние групп политических ли¬
деров и закрепляет его на протяжении нескольких поколений. Во время Фран*
цузской революции эти столкновения продолжались, но прибавились также и
новые — между сторонниками и противниками великого события. Позже, во
второй половине XIX в., вопросом первоочередной важности станет противо¬
стояние между клерикалами и антиклерикалами, которое найдет воплощение в
разделении школ на светскую и католическую.
Дети очень рано усваивают эти расхождения и переносят их на свой уровень,
примером чему могут служить драки между дворами. Таким же образом ребенок
подмечает более или менее верно, какое общественное положение занимает его
семья (и соответственно решает, кто он — "простолюдин” или "буржуа”). Все
эти способы восприятия связаны с практикой использования в языке бинарных
13 FuretF. La Gauche et la Revolution. Paris, 1986.
62
оппозиций, таких, как: богач — бедняк, буржуа — плебей, добропорядоч¬
ный человек — анархист. В соответствии с этим словарным набором
формируются и ценности: в народной среде праздный, никчемный, развращенный
богач противопоставляется бедняку — добродетельному труженику, при¬
носящему пользу. Зато и на более высоком социальном уровне можно встре¬
тить образ ’’благодетельного” богача и ’’опасного” бедняка. Подобные
представления, часто стереотипизированные, допускают вторичное упот¬
ребление в ироническом стиле, когда из мелкого тщеславия человек присва¬
ивает себе уничижительные определения, высказанные в его адрес дру¬
гими. В XIX в. песни играют решающую роль в фиксации такого рода сло¬
варя14.
По мере взросления ребенка первая сторона традиции, о которой идет речь,
закрепляется при помощи исторических ссылок на героев или события, а также
при помощи образов и символов. Это может быть личный опыт человека,
приведший его к более активному участию в политике и ставший для семьи
источником традиции: например, революция 1848 г., государственный пере¬
ворот 1851 г., ’’дело Дрейфуса”, Народный фронт, Сопротивление, крупные
забастовки 1920, 1936 и 1947 гг. Это могут быть просто крупные исторические
вехи, не обязательно коснувшиеся человека лично, но затронувшие страну,
оставившие отпечаток на коллективной судьбе многих людей (войны 1870
и 1914 гг.).
Робер Дебре, отец голлиста Мишеля Дебре, родился в 1882 г. в Седане. В
книге "Честь жить" он показывает, насколько его детство было пропитано
памятью о битве при Седане в 1870 г. Источниками этой атмосферы были не
только рассказы и походы на поле сражения, но и висевшая в его комнате
картина, изображавшая один из эпизодов этой битвы, известный как "Последние
патроны”15. Изображения (гравюры, литографии) и вещи той эпохи несли на себе
печать семейных воспоминаний. Именно таким образом на протяжении двух
десятилетий — с 1820 по 1840 г. — легенда о Наполеоне, размноженная бла¬
годаря изобразительному искусству и предметам обихода, создавала почву для
распространения бонапартистской идеи, которая проложила себе путь по заранее
подготовленной канве1
Праздники и годовщины также избирательно рисуют образ прошлого и
возвеличивают значение событий, ставших своего рода символами. В начале
Третьей республики происходят стихийные празднования знаменательных го¬
довщин: взятия Бастилии 14 июля 1789 г., февральской революции 1848 г.,
4 сентября 1870 г.* В то же время ознаменование событий 22 сентября 1792 г.**
носит скорее характер целенаправленной идеологической акции17. Не предавая
14 Это происходит, в особенности, из-за того, что для такого вида творчества, как песня, очень
характерно использование простых схем и бинарных оппозиций.
15 "Отец охотно водил меня по окрестностям. Мы с ним, бывало, прогуливались до Баллана и
Базейя и там заходили в "дом последних патронов”, сохраненный таким, каким он был после
сражения. Тогда же мне преподнесли репродукцию картины Альфонса де Невилля, которую я
поместил в аккуратную рамку, — рассказывает Р. Дебре и, описывая картину, добавляет: — этот
образ навсегда остался в моей памяти — я сохранил его в мельчайших подробностях". — Debre R.
L'Honneur de Vivre. Paris, 1974, p. 462.
16 Pimienta R. La propagandę bonapaitiste en 1848. Paris, 1911; Tudesq A J. L'election pr&identielle du
10 Decembre 1848. Paris, 1965.
4 сентября 1870 г. — революция, покончившая с бонапартистским режимом Второй империи и
провозгласившая Третью республику. — Прим. ред.
Первыми актами Конвента, собравшегося в сентябре 1792 г., было уничтожение королевской
власти (21 сентября) и провозглашение республики (22 сентября). — Прим. ред.
17 Huard R. La Prehistoire des partis. Le Mouvement Re'publicain en Bas-Languedoc. Paris, 1982,
p. 374—380.
63
полному забвению 1848-й год18, социалисты после 1871 г. проявляют больше
пристрастия к памяти о Коммуне. Затем, начиная с 1890 г., традицией в рабочем
движении становится празднование 1-го Мая. После 1914 г. среди скорбных
памятных дат социалистического движения заняло свое место 31 июля — день
гибели Ж. Жореса. Коммунисты, естественно, наследуют некоторую часть
социалистических праздников (Коммуна, 1-е Мая) и добавляют сюда годовщину
Октябрьской резолюции. После 1936 г. этот список пополняется датой прихода к
власти Народного фронта. Поворот Французской коммунистической партии
(ФКП) к признанию национальной демократической истории приводит к тому,
что и ФКП объявляет 14 июля праздничной датой. Кончится вторая мировая
война, и возвеличивание Сопротивления, особенно его народного характера,
станет частью коммунистической традиции19. Таким образом, традиция сохра¬
няется, в то время как ее содержание обогащается и, в известных случаях,
приобретает новое направление.
Очевидно, что традиция черпает силу также в таких знаках отличия, как
знамена, эмблемы: имперский орел, королевская лилия, серп и молот, лота¬
рингский крест, а в более близкое к нам время — зажатая в руке роза*. Все эти
эмблемы иногда критически используются противником (орел теряет оперение,
роза вянет и т.д.). Но символы со временем не только не исчезают, наоборот, в
современную эпоху упорядоченные благодаря использованию в политической
рекламе символы распространились еще более широко.
Что касается гимнов и песен, то они, хотя и не так распространены, как
эмблемы, все же являются не менее очевидными отличительными знаками,
усвоение которых происходит либо в семье, либо в организации (группировке,
партии). Однако лозунги, унаследованные от Старого режима и снова выд¬
винутые Французской революцией (вспомните потрясающий успех девиза "Сво¬
бода, равенство, братство"), сегодня определенно утратили свою популярность.
Возможно, это объясняется тем, что обновление политического языка ока¬
зывается более выгодным, чем поддержание его в неизменном виде.
Затронув символы и гимны, мы тем самым приоткрыли дверь в область
политической практики. Но и она пропитана духом традиции. Революционные
действия парижских рабочих XIX в. берут начало в наследии санкюлотов и
событиях 10 августа 1792 г.**,но их форма приведена в соответствие с тре¬
бованиями конкретной обстановки. Так рождается традиция баррикад (1830,
1848, 1871 гг.). На протяжении большей части XIX в. на удивление одинаковой
остается модель взятия местной власти в провинции всякий раз, когда там
возникает предчувствие революции в Париже (собрание народа перед зданием
префектуры или мэрии, требование оглашения сообщений из Парижа, унич¬
тожение бюстов и иных символов свергаемого правительства, назначение вре¬
менных департаментских комиссий и т.д.). Однако крах Коммуны, а затем
укрепление республики приводят если не к упадку самой традиции, питаемой
народной историей20, то, по крайней мере, к уменьшению ее конкретного
влияния на политический процесс.
18 Делая свои первые шаги в 80-е годы XIX в., французский социализм опирался на опыт 1848 г.
См.: Ligou.. Histoire du Socialisme en France 1871—1961. Paris, 1962, p. 114.
19 Так, в 1984 г. редакция "Юманите”, обратившись к своим читателям с призывом рассказать о
неизвестных участниках Сопротивления, получила в ответ тысячи писем. — Humanite, Juillet-AÓut
1984.
Лотарингский крест — неофициальный символ свободной Франции, сражающейся с фашизмом.
Роза, зажатая в руке, — эмблема европейской социал-демократии. —Прим.ред.
** Народное восстание в Париже, завершившееся взятием королевского дворца, фактическое
падение монархии. — Прим. ред.
20 Глубинное воздействие этой традиции ощущалось в августе 1944 г. в Париже.
64
Манифестации также имеют давнюю историю. Их появление относится к
эпохе Великой французской революции. Во время революции 1848 г. манифе¬
стации распространились на всю страну. При Третьей республике это явление
стало обычным. Наше время без демонстраций и представить себе невозможно.
Являясь мирной формой социального взрыва, манифестация призвана засви¬
детельствовать факт мобилизации масс и тем самым изменить соотношение сил.
Это также традиция в ее практическом воплощении21, поскольку через нее
передаются одновременно опыт организации и действия, знакомство с эмблемами
и содержанием гимнов, память о героях — через их портреты, бюсты. В то же
время лозунги и девизы меняются в значительной степени в зависимости от
политической ситуации. Так же обстоит дело с митингам.. и, особенно, с
праздниками, которым посвящен ряд серьезных исследований22.
Наконец, нельзя не сказать о передаче организационного опыта, что спо¬
собствовало превращению обществ, кружков, политизированных кафе в совре¬
менные политические партии. В ходе этого процесса коммуникативные аспекты
сочетались с императивами собственно политической организации.
Конечно, сами традиции не остаются неизменными. Они обогащаются за счет
новых элементов. Так, манифестации в течение долгого времени проходили с
особой серьезностью и даже несколько помпезно — очевидно, чтобы предотвра¬
тить стихийные всплески активности и столкновения с репрессивными силами. Но
после 1968 г. демонстрации стали проходить оживленнее (переодевания, более
образные лозунги)23. Уже сам по себе этот оттенок праздника способствовал
возрождению народного экспрессионизма, находившего столь яркое проявление
в политических карнавалах XIX в., но впоследствии постепенно загнанного в
строгие рамки республиканской дисциплины. Точно так же политическим ор¬
ганизациям пришлось на первых порах отдавать приоритет собственно поли¬
тическим аспектам в ущерб своей коммуникативности. Однако без умения
привлекать людей невозможно было придать политической деятельности больше
человеческой теплоты.
Разумеется, различные вышеперечисленные понятия разделены по группам и
обобщены особым образом — в соответствии с делением общественного мнения
на основании политической ориентации. Политическому направлению тем легче
опираться на традицию, чем четче определено ее идеологическое содержание,
чем богаче ее история сохранившимися воспоминаниями о прошлых битвах.
Среди политических традиций, оказавших влияние на французскую полити¬
ческую жизнь и порой оказывающих такое влияние и сегодня, назовем прежде
всего республиканскую во всех ее разновидностях. Ее апогей пришелся на конец
XIX — начало XX в., но эта традиция по-прежнему накладывает весьма
ощутимый отпечаток на направления политического мышления. Отметим суще¬
ствование роялистской традиции, еще могущественной на протяжении большей
части XIX в., а затем постепенно угасавшей до такой степени, что в настоящее
время ей остались верны очень узкие группки. Следует также упомянуть и о
социалистической традиции: сегодняшняя коммунистическая партия заимствовала
все основное из ее живого наследия. Наконец, у нас появляется возможность
отличить еще одну особого рода традицию, которая находила последовательное
21 См., например: Reberioux М. Le Mur des Fcderes. Rouge "sang crache". — Les Lieux de M&noire.
Sous la direction de P. Nora. Paris, 1984.
22 Dommanget M. Histoire du 1-er Mai. Paris, 1953; Sanson R. Le 14 Juillet. Fete et conscience nationale
1789—1975. Paris, 1976; Vovelle M. Les Metamorphoses de la Fete en Provence 1750—1820. Paris, 1976;
Claude C. C'est la Fete de 1'Humanite'. Paris, 1977; Ozouf M. La Fete Rcvolutionnaire; Amalvi Ch. Le 14
Juillet. — Les Lieux de Memoire, p. 421—472.
23 В романе "Мир цвета индиго" Э. Пармелен удачно воссоздала фестивальный характер ма¬
нифестации 1-го мая 1976 г. —Parmelinłł. Le Monde Indigo, t. 1. Craponne, 1977.
3 Новая и новейшая история, Ne 5
65
воплощение в недолговечных (чаще всего) политических образованиях. Я имею в
виду плебисцитарную традицию, социально-психологический механизм формиро¬
вания которой, видимо, отличается от механизмов формирования предшествую¬
щих. Явление, о котором идет речь, в свое время принимало формы бонапар¬
тизма, буланжизма, петэнизма и голлизма. Введение выборов президента всеоб¬
щим голосованием — новинка Пятой республики — очевидно, вписывается в ее
рамки.
Политические традиции предполагают наличие не только некоторого объек¬
тивного содержания, но и носителей — индивидов или групп. В роли носителей
могут выступать и отдельные личности, особенно в периоды политической
реакции. "Папаша Низрон", описанный О. Бальзаком в романе "Крестьяне"24,
бывший председатель якобинского клуба в своей деревне, ставший звонарем,
церковным сторожем и ризничим, воплощал в глазах людей, уважавших его,
хотя и не разделявших его взглядов, память о революционной эпохе. То же
самое можно сказать и о старике по прозвищу "Система", описанном Э. Ренаном
в "Воспоминаниях о детстве и юности"25. Неожиданно оказавшись в условиях
враждебного окружения, антифашист, социалист или коммунист также мог ис¬
пытать подобное.
Тем не менее традиция проявляется в полной мере лишь тогда, когда в
качестве ее носителей выступают социальная группа, семья, сельская община,
профессиональный коллектив или какое-либо политическое объединение. Суще¬
ствуют — и это очевидно всякому наблюдателю — целые династии полити¬
ческих активистов, причем как на высших, так и на низших этажах общества.
Определенная политическая преемственность связывает великого Карно, дея¬
теля Французской революции, его сына, министра народного просвещения в
1848 г. Ипполита Карно и его внука Сади Карно, президента в 80-х годах.
Аналогичную преемственность можно проследить и на примере не столь из¬
вестных семейств.
Так, Кай Гракх Монтегю, основавший примерно в 1850 г. республиканские
секретные общества в департаменте Гар, был сыном Франсуа Монтегю, члена
Конвента от Восточных Пиренеев, подвергнутого преследованиям в 1816 г.
Иногда связь обрывается, или, по крайней мере, взгляды разнятся, но в пределах
одной и той же традиции. В этом смысле показателен пример семьи Тест,
давшей июльской монархии министра и генерала. Отец, Антуан Тест, во время
Великой французской революции занимал должность прокурора при админи¬
страции департамента Гар. Это был убежденный республиканец и совершенно
бескорыстный человек. Судьбы его трех сыновей сложились по-разному. Шарль-
Антуан Тест, торговавший в Париже книгами, республиканец и коммунист, друг
Буонаротти и д'Арженсона, продолжил крайне левую традицию семьи. Два его
брата: один — генерал во времена Империи, затем видный орлеанистский
деятель, поддержавший в конце концов Вторую империю, другой — коррум¬
пированный министр при Луи-Филиппе — оба продолжили буржуазную линию
революции.
Крещения в семьях, придерживавшихся республиканских взглядов в эпоху
Великой французской революции, свидетельствовали о намерении родителей
поддержать в детях преемственность семейной традиции. В местечке Люк
(департамент Вар) в 1850 г. один слесарь, уже назвавший двух своих старших
детей Жюли и Эмиль — в честь Руссо, нарек младшую дочь Максимиллианной в
честь Робеспьера. Примерно в то же время крестьянин Ж. Клавель из Кодонь-
яна (департамент Гар) соединил в имени сына память о Дантоне, Робеспьере,
24 Balzac Н.de.Oeuvres completes. Т. VHI. Les Paysans. Paris, 1949, p. 185—187.
25 Renan E. Souvenirs d'enfance et de jeunesse. Paris, 1959, p. 68—72.
66
Барбесе, Ледрю-Роллене26. Впрочем, случалось, что имя полностью противо¬
речило политической эволюции или самого человека или того политического
течения, которое раньше с этим именем ассоциировалось. Например, имя сапож¬
ника-коммунара Наполеона Гайяра несло в себе прогрессивный смысл тогда,
когда оно было дано ребенку — в 1815 г., накануне Ватерлоо. Но в 1869 г. этот
яростный противник Второй империи испытывал явное стеснение от того, как
его нарекли.
В XIX в., когда миграции населения были слабы, общины за пределами семьи,
объединявшие жителей деревни или отдельных городских районов, по большей
части отличались однородностью в политическом отношении. Так, на юге Фран¬
ции существовали “белые" и "красные" деревни, в которых, очевидно, шел
процесс консервации господствовавшего взгляда путем молчаливой изоляции
инакомыслящего. Профессиональные группы также порой отличались полити¬
ческой однородностью, особенно если это были "закрытые" группы, доступ в
которые контролировался. Скажем, грузчики на юге пользовались репутацией
"белых", а матросы, напротив, придерживались передовых взглядов. Мастера по
фарфору из Лиможа находились под влиянием идей гуманного, кооперативного
социализма. Среди лионских ткачей, бесспорно, были сильны революционные
традиции, поддерживаемые в кружках взаимопомощи и подпольных обществах.
Наконец, ясно, что естественными носителями политических традиций явля¬
ются муниципалитеты и политические группировки, которые, кроме того, об¬
ладают возможностью расширять традиции благодаря своей деятельности (ма¬
нифестации, организация праздников и церемоний, сооружение памятников27,
наименование улиц, создающее определенный политический микроклимат). Так,
радикалы чтили память великих предшественников революции, социалисты
прославляли Геда, Северина, Жореса, Вайяна, Малона, коммунисты — крупных
французских революционеров и активистов международного рабочего движения.
Не случайно единственный бюст Робеспьера, украшающий городскую площадь
во Франции, был воздвигнут в Монтрё, к востоку от Парижа, в муниципалитете,
контролируемом коммунистами.
Нельзя забывать и о такой форме политического образования, как детские и
юношеские организации, летние лагеря — подобные тем, которые функцио¬
нировали в Бобиньи в межвоенный период28. Покидая пределы этой области, мы
попадаем туда, где происходит уже непосредственное формирование полити¬
ческих взглядов, осуществляемое прессой, школой, партийными и околопар-
тийными группировками.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИИ
Перейдем от уточнения понятий к постановке ряда вопросов: во-первых, как
появились политические традиции; во-вторых, как они воздействуют на по¬
литический процесс; в-третьих, каково их будущее в условиях, когда изменения,
кажется, превалируют над стабильностью. Существование политических тра¬
диций и, в частности, постоянство в пристрастиях избирателей, вызывали у
исследователей острый интерес. Появилось три способа объяснения данного
явления.
Политическая традиция может быть рассмотрена как результат проявления
постоянства другого рода, порождаемого структурными факторами (отношение к
26 Agulhon М. La Republique au village. Paris, 1970, p. 386; lluard R. Souvenir et Tradition..., p. 577.
27 Agulhon M. Marianne au combat. L'imagerie etla symbolique rcpublicaine. Paris, 1979.
28 Four caul A. Bobigny, banlieue rouge. Paris, 1986.
3*
67
собственности, место жительства, вероисповедание и т.д.). Совокупность воз¬
действия этих факторов приводит к формированию "политического темпера¬
мента" (если воспользоваться определением А. Зигфрида). В таком случае
традиция является ничем иным, как проявлением темперамента и не подлежит
объяснению сама по себе. Идя от противного, можно предположить, что ис¬
чезновение структурных факторов приведет к исчезновению одновременно и
традиции, и темперамента. Однако стало возможным констатировать, как на¬
помнил недавно Морис Агюлон29, что "структурные и культурные факторы сами
по себе не порождают политических последствий". Или, по крайней мере, их
учет является необходимым, но недостаточным для ответа на поставленный
вопрос.
Вот почему внимание историков было обращено на "краеугольные" и даже
драматические события, оставившие след в семейных воспоминаниях, проложив¬
шие водораздел между противоположными лагерями. Поэтому в сферу иссле¬
дования были вовлечены религиозные войны, эпоха Французской революции,
белый террор 1815 г., конфликты Второй республики, поэтапное развитие кри¬
зиса в отношениях между церковью и государством (изгнание конгрегаций,
отделение школы от церкви), две мировые войны, наконец, Сопротивление. При
таком подходе дата основополагающего события может рассматриваться как
исходная точка интересующего нас явления, которая накладывает свой отпе¬
чаток на каждый регион. Но в любом случае для того, чтобы внести полную
ясность в механизм формирования традиций, необходимо тщательно исследовать
поведение различных социальных слоев.
М. Лагре30 находил возможным обратиться к эпохе Лиги XVI в. для объяс¬
нения некоторых политических противоречий в Восточной Бретани. Было бы
слишком просто видеть в преследовании Людовиком XIV французских рефор¬
маторов, нашедшем продолжение в войне камизаров, истоки левой политической
традиции протестантизма. Эта традиция по-настоящему сложилась лишь в эпоху
Великой французской революции, и только к 1840 г., как это доказал Ф. Жутар
в упоминавшейся уже "Легенде о камизарах", в протестантской среде камизары
были признаны как борцы за свободу.
П. Буа31 со всей очевидностью показал, какие изменения политического рель¬
ефа, четко поляризовавшие два района, произошли в Сарте в период между 1789
и 1793 гг. Западная часть — край зажиточных крестьян, продававших хлеб, —
сперва поддерживала Революцию, а затем, после проведения реквизиций, вве¬
дения бумажных денег и перехода власти к буржуазной аристократии, стала
относиться к Революции враждебно. На Юго-Востоке преобладали более бедные
слои крестьян, вынужденные покупать зерно, которые не получили никакой
выгоды от продажи национального имущества и в 1793 г. поддержали городских
санкюлотов и революционную буржуазию. Это политическое разделение сохра¬
нилось вплоть до современной эпохи.
А. Бержера32 при рассмотрении департамента Алье и Г. Шолви33 при изуче¬
нии департамента Эро, и особенно района Битеруа, считали определяющей
эпоху Второй республики, распространяя этот же принцип и на другие де¬
29 Agulhon М., Girard L. et divers. Les Maires de France, du Consulat a nos jours. Publication de la
Sorbonne. Paris, 1986, p. 49.
30 Lagree M. La structure perenne, Evenement et Histoire en Bretagne oricntale, XVI-e — XX-e siecle. —
Revue d'Histoire Modeme et Contemporaine, Juillet—Scptembre 1976, p. 394—-407.
31 Bois P. Op. ciL
Bergerat A. La radicalisation politique des paysans de PAllier sous la Seconde Republique. A 1'origine
d'une tradition de gauche. — Cahiers d'Histoire de 1'Institut Maurice Thorez, 1978, № 27, p. 114—173.
33 Cholvy G. Religion et Societe: le diocese de Montpellier. These de Doctoral d'Etat dact, v. 1—3. Lille,
1973.
68
партаменты данной географической области, например, Ньевр или Дром.
В основе этого взгляда лежали такие явления, как формирование "красного
крестьянства" между 1849 и 1851 гг. и трагические последствия подавления
восстания в декабре 1851 г.
Влияние какого-либо драматического события может вновь обрести силу
благодаря другому событию подобного рода (вспомним о неоднократно наблю¬
давшемся воздействии на восточную часть Парижа восстаний, подавленных в
июне 1848, июне 1849, 2 декабря 1851 г., или же Парижской коммуны). Даже
просто угроза способна воскресить память о прошлом. Так, воспоминания об
изначальном потрясении, каковым явился для партии республиканцев государ¬
ственный переворот 1851 г., неоднократно оживали в условиях "морального
порядка" (1873—1874 гг.), 16 мая 1877 г.*, буланжизма, "дела Дрейфуса", что в
свою очередь способствовало превращению парламентаризма в общепринятое
среди республиканцев правило. А ведь на первых порах эту идею поддерживали
далеко не все34.
Осталось, наконец, сказать о третьем направлении, замечательно описанном в
чрезвычайно актуальной работе Э.Дж. Хобсбаума и его коллег "Изобретение
традиции"35. Здесь речь идет о традициях, состоящих из разнородных элементов
и возникших зачастую под влиянием государственного аппарата. В этом смысле
можно говорить об "изобретении" английской монархической традиции во второй
половине XIX в. В результате дискредитированная монархия вновь обрела зна¬
чение, а остававшийся до тех пор расплывчатым и неопределенным придворный
церемониал подвергся скрупулезному уточнению36.
Это явление сравнимо с процессом, происходившим в конце XIX в. в Гер¬
мании. Благодаря усилиям образованных умов и не без влияния прусского
правительства германская имперская традиция подверглась в то время каче¬
ственному обновлению. А светская республиканская традиция во Франции —
разве она не была сформирована в годы Третьей республики благодаря хоть и не
столь целенаправленным, но, очевидно, также эффективным усилиям? А ведь
составные части республиканской традиции, хоть и существовали ранее, но
поначалу настолько противоречили друг другу, что их синтез никак не мог
осуществиться стихийным образом37.
Специфика этих "изобретенных" традиций состоит в том, что их содержание,
будучи зафиксированным в письменном виде, более единообразно, системати-
зированно, разработано и уточнено, а свойственный им ритуал отличается вы¬
сокой степенью формализации.
Таким образом, имеются три варианта объяснения того, как формируются
политические традиции: 1) они являются простым порождением социальных
структур; 2) это долговременный эффект "основополагающего события"; 3) тра¬
диции сочиняют. Отмеченные три варианта, видимо, не столько противоречат
друг другу, сколько дополняют. Даже если признать, что общественное сознание
обладает большой автономией, все равно традиция обречена если не на
исчезновение, то, по крайней мере, на угасание в случае распада структур,
"Моральный порядок" — правление маршала Мак-Магона, ознаменовавшееся попытками вос¬
становить монархический режим. 16 мая 1877 г. — роспуск Мак-Магоном палаты депутатов после
победы республиканцев на парламентских выборах. —Прим.ред.
34 Об этом можно прочитать в книге Жана Тушара, где есть страницы, посвященные
республиканской традиции. — Touchard J. La gauche en France depuis 1900. Paris, 1977, p. 27—33.
35 Hobsbawm E., Ranger T. The Invention of Tradition. Cambridge, 1983.
36 Cannadine D. The Context, Performance and Meaning of Ritual: The British Monarchy and the
"Invention of Tradition" 1820—1977. —Hobsbawm E., Ranger T. Op. cit., p. 263—307.
37 Hobsbawm E. Mass-Producing Traditions Europe 1870—1914. — Hobsbawm E., Ranger T. Op. cit.,
p. 263—307.
69
обеспечивавших ее воспроизводство. Очевидно, что наличие ’’основополагаю¬
щего события” не является абсолютно необходимым условием для появления
традиции. Это событие в целенаправленно созданных традициях может носить
частично мистический характер или разбиваться на целую цепочку фактов. Но
коль скоро кристаллизовались до сих пор неясные расхождения и возвращение к
прошлому состоянию стало невозможным, ’’основополагающее событие” стано¬
вится источником традиции, а впоследствии и очевидным доказательством ее
существования. Помимо всего, вероятно, нет ни одной политической традиции,
которая частично не основывалась бы на "вымысле” или, по крайней мере, на
той или иной систематизации, приведении к единому знаменателю разрозненных
данных, малозначительных самих по себе.
Если политическая традиция нуждается в постоянном воспроизводстве, то это
объясняется как раз тем, что она функционирует в масштабе общества или в
более узких рамках определенных социальных слоев.
В том случае, когда традиция официально признана всем обществом, она
служит для внедрения системы ценностей, вытесняющих местные особенности.
Примером может служить германская традиция, сформированная в то время,
когда утверждалась власть империи Вильгельма. Хобсбаум полагает, что тра¬
диция способствует также воспроизводству социальных статусов, а следова¬
тельно, и неравенства в либеральном обществе, где идет процесс уравнения
людей в правах38. Это явление не нейтрально в том, что касается классовых
отношений.
В рамках отдельного политического формирования традиция играет роль
источника отличительных признаков, средства посвящения и тем самым ук¬
репляет внутреннее единство. Как фактор преемственности, она помогает ин¬
дивидам и группам противостоять эмоциональному непостоянству общественного
мнения и моды, преодолевать периоды неуверенности и сомнений. В то же время
традиция с ее акцентом на стабильность создает угрозу сдерживания необ¬
ходимых изменений и, следовательно, рискует сыграть мистифицирующую
роль, — ту роль, которую ставил ей в упрек Маркс.
Поскольку обращение к традиции свидетельствует о том, что она является
одним из инструментов политической рефлексии, необходимо точно определить
ее место в этом процессе. Иногда к традиции прибегают в чисто формальных,
риторических целях. Иногда, наоборот, она подспудно присутствует где-то в
глубине и лишь против воли прорывается на поверхность. Примером первого
рода может служить прозвище Наполеона III — Бадэнге*, примененное неко¬
торыми радикалами в декабре 1955 г. к Э. Фору, когда он совершенно законным
образом распустил парламент. Ко второму случаю относятся проявившиеся в мае
1958 г. антибонапартистские и антиавторитарные настроения. Не следует также
забывать о том, что в рамках каждого политического направления существует
плюрализм традиций или их интерпретации. А значит в зависимости от об¬
стоятельств можно использовать те или иные методы39.
В продолжение этой темы зададимся вопросом о действенной роли традиции в
поведении и политических ориентациях какой-либо партии. Можно заметить, что
чем утонченнее и точнее становится инструментарий политического анализа, тем
38 Hobsbawm Е. Introduction. Inventing traditions. —Hobsbawm E., Ranger T. Op. cit., p. 10.
Бадэнге — ироническое прозвище Луи-Наполеона Бонапарта по имени его сторонника, одол¬
жившего свою одежду при бегстве Луи-Наполеона из форта, где он содержался под стражей после
неудачной попытки захватить власть во Франции в 1840 г. — Прим. ред.
39 Так, социалисты могли в одном случае подчеркивать свой классовый подход, в другом —
выдвигать на первый план гуманизм, проникающий сквозь социальные антагонизмы. Коммунисты же
могли настаивать то на взятии государственной власти как главного инструмента общественных
преобразований, то на завоевании революционных позиций на предприятиях.
70
в большей степени усложняется и быстрее меняется политическая жизнь. В то
же время уменьшается воздействие традиции на политические позиции. Это
воздействие можно учитывать разве что в качестве значимого фактора куль¬
турного порядка способствующего формированию идеологически последователь¬
ных взглядов. Поэтому вполне возможно, что влияние традиции вчера было
сильнее, чем оно есть сегодня и будет завтра. Но классовые позиции не следует
отождествлять с какой-то одной традицией: они зиждятся на более глубоком
фундаменте экономической и социальной структуры, который не подвержен
поверхностным изменениям.
В этом смысле всякая традиция обречена на смерть, но в основе процессов,
ведущих к ее исчезновению, лежат разные причины. Начиная с конца XIX в.
изменения становятся ощутимыми: происходит поправение республиканского и
либерального востока страны, Париж склоняется от радикализма к нацио¬
нализму. В одном случае изменения связаны с естественным развитием бур¬
жуазного республиканизма, либерального с политической точки зрения, но кон¬
сервативного в социальном отношении. В другом случае в основе явления лежит
кризис народных устоев парижского радикализма, причина которого кроется как
в привлекательности плебисцитарных течений, враждебных принципу парла¬
ментской республики, так и в эволюции состава парижского населения. Уже в
наше время были отмечены процессы социалистической переориентации запада и
поправения “красного юга”. Разумеется, корни этих явлений различны, но их
результат — определенная политическая нивелировка регионов. В настоящее
время действует немало факторов, ослабляющих воздействие традиций. От¬
метим следующие:
— растущая миграционная мобильность населения;
— распад исторически сложившихся социальных общностей, вызванный по¬
следствиями экономического развития (например, опустошение аграрных районов
в результате массового переселения сельских жителей, а в более позднее вре¬
мя — расшатывание традиционных баз рабочего класса под воздействием кри¬
зиса и технологических изменений);
— трансформация политических структур Франции в 1958 г., положившая ко¬
нец длительной традиции приоритета парламента, все более и более очевидная
интернационализация французской политической жизни;
— засилье аудиовизуальных средств массовой коммуникации;
— интернационализация культуры.
Даже семья, являющаяся по преимуществу носителем политических традиций,
переживает воздействие общей социальной эволюции (участились разводы, дети
все меньше общаются со своими бабушками и дедушками).
Вот почему французский историк и публицист Пьер Нора предложил недавно
новый термин — “место памяти"40. По мнению Нора, традиция, если она пере¬
стает передаваться стихийным образом в рамках определенных социальных
групп, уступает место новым формам трансмиссии и консервации, которые под¬
разумевают наличие институтов или, по крайней мере, символов, легитими¬
рованных государством либо национальным консенсусом. Таков смысл, вклады¬
ваемый Нора в словосочетание “место памяти". Нора и некоторые его соавторы
по недавно вышедшему в свет многотомному изданию применили свой подход к
понятиям "республика" и "нация". Новый термин, каковы бы ни были его
преимущества, не может быть воспринят без критического осмысления. Заслуга
Нора заключается в том, что он, сближаясь в этом отношении с Хобсбаумом,
обращает внимание на роль институтов, мифологизированных событий, широко
40 Les Lieux de Memoire. Sous la direction de P. Nora T. 1. La Republique. Paris, 1984; T. 2. La Nation.
Paris, 1986.
71
распространенных символов в консолидации памяти. Тем не менее сам термин
остается весьма неясным. "Место памяти" не обязательно является "местом" в
привычном значении слова. Это может быть символический объект наподобие
знамени или функциональный объект — такой, как, например, всеми изучаемый
школьный учебник, характерный для определенной эпохи в истории образования.
В понимании Нора отличительными свойствами "места памяти" является то, что
оно порождает консенсус, тем или иным образом вырабатывается и является
"самодостаточным".
К числу характерных для республики "носителей памяти" Нора относит трех¬
цветное знамя, Марсельезу, 14 июля, республиканский календарь эпохи Великой
французской революции, Пантеон, мэрии, памятники почившим, такие важные
события, как столетний юбилей Великой французской революции, столетие со
дня кончины Вольтера и Руссо, похороны В. Гюго, а также отдельные зна¬
чительные труды времен Третьей республики (например, большой "Словарь"
Пьера Ляруса или "История Франции" Лависа), колониальная выставка 1931 г.,
наконец, два явления, заключающие в себе своего рода "контрпамять" — Ван¬
дея и Стена коммунаров.
Строго ли отобраны эти примеры? Их можно оспорить. Ведь трехцветное
знамя служило символом не только республики, но и конституционной монархии
1790—1791 гг., а в 1830 г. — Первой и Второй империи. Так же обстоит дело и с
мэриями, история которых началась задолго до республики, и с памятниками,
возведенными не только в честь республиканцев. Если руководствоваться кри¬
териями Нора, то можно ли говорить, будто предметом общественного кон¬
сенсуса стала колониальная выставка 1931 г.? Причислять коммунаров к но¬
сителям "контрпамяти" о республике значит не принимать во внимание тот факт,
что коммунары были пламенными революционерами и уж, в любом случае, в
большей степени верными республиканской традиции, чем те, кто их рас¬
стреливал.
В предложенном списке нет ничего, что ассоциировалось бы с всеобщим
избирательным правом, которого, однако, удалось добиться дважды именно
благодаря республике — в 1792 и 1848 гг. Мало что из перечисленных символов
напоминает об атеизме и антиклерикализме — явлениях, столь характерных для
Третьей республики. На деле работа, посвященная республиканскому строю как
таковому, прославляет лишь одну его форму — Третью республику. Свойствен¬
ные ей ценности рассматриваются как воспринятый Пятой республикой минимум,
благодаря которому, как предполагается, в настоящее время и вырабатывается
своего рода консенсус.
Подход Нора вписывается в центристскую политическую концепцию, которая
разделяется отнюдь не всеми французскими историками. Тем не менее попытка
этого ученого разработать новый подход представляет интерес: его работа при¬
влекла внимание к воплощению исторической памяти в социальных институтах,
вызвала появление ряда чрезвычайно полезных монографий. Все это говорит о
том, что проблема политической традиции и, в более общем плане, исторической
памяти занимает умы французских исследователей как раз в тот момент, когда
Франция, казалось бы, вступает в новый этап своей истории и когда пред¬
шествующие традиции становятся менее прочными.
Следует ли из вышесказанного, что политические традиции сегодня теряют
всю свою значимость? Очевидно, нет. Если установившиеся традиции и подвер¬
гаются постоянной угрозе со стороны процесса исторического развития, то
существование какой-либо политической силы в течение достаточно длительного
периода, вероятно, с необходимостью ведет к формированию новых традиций. В
этом смысле такое явление, как политические традиции, по-видимому, вечно.
72
Наши интервью
ОТВЕТЫ ДЕКАНА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
им. М.В. ЛОМОНОСОВА АКАДЕМИКА РАН
Ю.С. КУКУШКИНА НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА
"НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ"
Последний раз вы выступали на страницах нашего журнала в конце 1986 г. С
тех пор многое изменилось...
Безусловно, изменилось очень многое. Однако большинство проблем по-преж¬
нему сохраняется. Это прежде всего проблема профессионализма. Мы страдали
от непрофессионализма и до 1986 г., страдаем и сегодня. Причем это касается не
только историков, но и представителей всех других дисциплин. Поэтому такое
большое значение имеет система высшего образования в нашей стране, в
особенности в высшей школе. Мы должны добиться того, чтобы из стен наших
вузов выходили настоящие специалисты, профессионалы, люди широкого
кругозора и большой культуры.
Совершенствование преподавания предполагает главным образом не органи¬
зационную перестройку, а наполнение учебных планов новым содержанием.
Сейчас отрабатывается новая структура образования. Намечается, что студент
в вузе будет проходить четырехгодичный курс обучения и получать степень
бакалавра. После этого предполагается двухгодичная специализация, и, если
бакалавр успешно с ней справляется, ему присваивается звание магистра.
Какие преимущества и недостатки у этой новой системы?
Предполагаемые реорганизации могут ограничиться только изменением форм
образования и не затронуть его сути, совершенствования учебных планов и
программ. Кроме того, я не согласен с тем, чтобы эта система внедрялась сразу
же и повсеместно. Вероятно, стоило бы опробовать ее сначала в нескольких
вузах. Кстати, у нас в университете уже два года один естественный и один
гуманитарный факультеты перешли на этот метод обучения.
В мире существует несколько различных систем образования. Та, о которой
мы сейчас говорим, прежде всего американская. В наших условиях надо опро¬
бовать и ее, но ’’директивно” внедрять эту систему, я считаю, нельзя. Мы столь¬
ко раз ошибались, что сегодня должны серьезно подходить к таким вопросам.
Есть вузы в стране, где мало хороших, квалифицированных преподавателей, нет
крепкой научной базы. Каких же "бакалавров” и "магистров” они навыпускают?
Кроме того, сокращение обучения до четырех лет — ведь не все студенты будут
специализироваться и учиться еще два года — будет только подпитывать без¬
работицу, которая уже сегодня становится проблемой для нашего общества.
Что нового предполагается внести в учебные планы Московского госу¬
дарственного университета?
Это прежде всего расширение преподавания истории мировой культуры на
всех факультетах. Нам, как я уже говорил, не хватает культурных специа¬
73
листов. Хотя наша страна добилась огромных успехов в искоренении негра¬
мотности, подлинно образованных людей не много.
Высшая школа дает пока мало знаний по культуре. Инженер с высшим
образованием — еще не интеллигент, да, к сожалению, и историк подчас тоже.
Надо оговориться, правда, что сейчас в средней школе уже есть небольшие
сдвиги к лучшему. В крупных городах появились лицеи, колледжи, гуманитарные
классы, где преподавание дисциплин, включающих вопросы культуры, поднялось
на более высокий уровень. Но это капля в море, и мы при приеме абитуриентов
на наш факультет реальных сдвигов пока не ощутили. Московский государ¬
ственный университет традиционно занимается вопросами истории мировой
культуры. Это нашло отражение и в общих курсах, и в специальных; суще¬
ствуют лаборатории по изучению истории культуры. Продолжается подготовка
многотомного издания по истории русской культуры.
В МГУ создано новое научное подразделение — Институт мировой куль¬
туры. Это будет центр, координирующий изучение данной дисциплины в Мос¬
ковском государственном университете. Для создания такого центра в МГУ
имеется хорошая научная база. На историческом факультете работают такие
крупные ученые, как академики РАН Б.А Рыбаков и Д.В. Сарабьянов, член-
корр. РАН В.Н. Гращенков, академик естественных наук С.П. Карпов,
профессор Л.М. Брагина и др. Специалисты по истории культуры работают и на
других факультетах — филологическом, философском, социологическом.
Какие знания, помимо исторических, дает студентам исторический
факультет МГУ?
Наши студенты кроме истории основательно изучают иностранные языки. На
факультете имеются свои языковые кафедры: древних языков и современных
европейских языков. В наше время это особенно важно, поскольку человек, за¬
кончивший исторический факультет, сможет работать не только по своей ос¬
новной специальности — история, но и найти работу, требующую знания
иностранных языков. Для гуманитариев вопрос будущей занятости немаловажен.
Мы таким образом расширяем сферу возможной деятельности наших выпуск¬
ников.
Кроме того, студенты исторического факультета МГУ обучаются работе на
компьютерах. Это направление обучения будет расширяться. По окончании
университета они смогут работать и по этой специальности.
Каковы основные трудности, стоящие перед высшей школой?
Наибольшую тревогу вызывает состояние издательств, выпускающих необхо¬
димую нам литературу. Скоро мы можем совсем остаться без учебников,
учебных пособий, хрестоматий и т.д. В тяжелом положении издательства
’’Наука”, "Высшая школа”. В последнем, например, штаты сокращены вдвое, а
объем продукции и того больше. Издательство МГУ пока еще держится бла¬
годаря государственным дотациям, но выпускает только учебную литературу
для студентов. Издать монографию практически невозможно.
Проблема отсутствия учебников и учебных пособий станет подлинной тра¬
гедией для тех, кто работает вне больших культурных центров — Москвы,
Петербурга, Новосибирска.
Особенно остро для историков стоит вопрос об изданий хрестоматий и
сборников документов. Хочется надеяться, что в скором времени наши студенты
получат широкие возможности работать в архивах. А пока нам просто
необходима эта учебная литература.
На историческом факультете МГУ идет подготовка многих сборников до¬
кументов, учебников. Но кто их будет издавать? Учеными истфака впервые в
нашей стране подготовлен для издательства "Мысль" сборник по истории полити¬
ческой мысли в России с древнейших времен до современности. Этот большой
74
фундаментальный труд в 40 авт. листов уже два года лежит в издательстве без
движения. Кафедра отечественной истории ХХв. истфака ведет работу над
многотомной хрестоматией по отечественной истории. Первый том, посвя¬
щенный 1917—1920 гг., сейчас сдается в набор. Однако когда выйдет этот том
и, тем более, последующие? Остается только надеяться на лучшее.
Как вы ответили на такой скорее философский вопрос: говорят, что в
обществе всеобщего пессимизма ничего хорошего создать нельзя?
Я не считаю, что наше общество — общество всеобщего пессимизма. У нас
очень много оптимистов. И это прежде всего школьные учителя и преподава¬
тели вузов, т.е. те люди, которые работают с молодежью. Ведь в любом
обществе молодежь — наиболее жизнерадостная часть населения. Не могут не
быть оптимистами и настоящие ученые, для которых наука всегда была и будет
важнее всех материальных благ.
Пессимистами я бы назвал тех, кто мешает сегодня развитию науки и
образования. Для проведения настоящих реформ в сфере образования необхо¬
димы средства, а нам их выделяется крайне мало. Непонимание наших проблем
вызывает боль. Большой ошибкой, я считаю, является сокращение на 30%
приема студентов в вузы страны в этом году. К счастью, МГУ это решение не
коснулось. Ведь это еще один, я бы сказал, "перегиб”. В стране явно не хватает
специалистов по некоторым профессиям, скажем, грамотных экономистов или
юристов. И вообще нам не хватает хорошо подготовленных профессионалов. Да
и молодежи это решение вряд ли прибавит оптимизма.
В настоящее время наше общество живет как бы в состоянии деидеоло-
гизированном. Может ли марксизм-ленинизм нам заменить религия?
Во-первых, я не согласен с тем, что наше общество деидеологизировано.
Деидеологизированных обществ не бывает, это обман. Конечно, не могут быть
все люди марксистами-ленинцами, как это представлялось раньше. Но и сегодня
мы повторяем свои прошлые ошибки — мы так же нетерпимы к иному мнению,
чем наше собственное. Плюрализма, о котором было сказано так много и с
высоких трибун, и на митингах, в общем-то, к сожалению, у нас не существует.
Борьба мнений выливается в рукопашный бой.
Беда в том, что нашими “идеологами” подчас становятся люди неком¬
петентные, плохо знающие, к примеру, историю. А некомпетентность ведет к
однобоким оценкам прошлого нашей страны, к появлению всяческих новых
"мифов”. Нас как бы бросает из крайности в крайность. За 70 лет о Николае II
не было сказано ни одного хорошего слова; сейчас попробуйте произнести хоть
одно плохое! Возникает естественный вопрос: так кто же все-таки больше
"виноват” в событиях 1917 г. — Ленин или Николай II? Или, например, идеа¬
лизация жизни России начала века...
И, наконец, о религии. Она, конечно же, идеологию заменить не может — ни
марксистско-ленинскую, ни любую другую. Это совершенно разные явления. Но
так же, как недопустимо навязывать любую идеологию, нельзя искусственно
насаждать религию. Россия — страна многонациональная, в ней существует
множество религиозных конфессий. На экранах же телевизоров представлена
главным образом православная религия, что несправедливо по отношению к тем,
кто исповедует другую веру. Или: можно ли в нашей ситуации объявлять Пасху
или любой другой православный праздник государственным? Кстати, в 1992 г. в
Татьянин день, 25 января, традиционный студенческий праздник, в МГУ было
организовано православное богослужение. Я считаю это ошибкой — ведь в
нашем университете учатся студенты из разных регионов, где далеко не все
придерживаются каких-либо одних религиозных взглядов. Между прочим, хочу
напомнить, что, когда М.В. Ломоносов основал Московский университет, там в
отличие от загадноевропейских университетов, так называемого "теологи¬
ческого” факультета не было.
75
Я искренне уважаю чувства верующих. Моя бабушка, человек высокой
морали, труженица, была глубоко верующим человеком. Но, когда я вижу на эк¬
ране бывших партийных функционеров со свечками в руках, осеняющих себя
крестным знамением, мне их понять трудно. Хочу только заметить, что у рус¬
ской интеллигенции, о которой сейчас так часто вспоминают, были не такие уж
теплые отношения с официальной церковью; взять хотя бы, к примеру, Льва
Толстого. Но наша историческая память, как всегда, когда в культуру
вмешивается политика, избирательна. Это создает серьезные перекосы в
развитии отношений в обществе и пагубно влияет на процесс воспитания
человека.
В заключение хотелось бы услышать ваше мнение о нашем журнале.
Я хотел бы прежде всего поблагодарить ваш журнал за то, что он
традиционно больше других исторических журналов на своих страницах уделяет
внимания насущным проблемам образования. Надеюсь, что так будет и впредь.
76
История мировых религий
© 1992 г.
Г.Е. СВЕТЛОВ
СИНТО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Синто (по-японски "путь богов") — национальная религия японцев, которую
они исповедуют наряду с буддизмом. В своем нынешнем виде она сформи¬
ровалась в процессе длительного взаимодействия местных культов с буддизмом,
конфуцианством и религиозным даосизмом — мистическим учением, сложив¬
шимся в Китае в начале новой эры. Как справедливо отмечает американский
исследователь X. Эрхарт, синто есть результат смешения местных и иност¬
ранных элементов в одну большую национальную традицию, а с исторической
точки зрения — "это канал, по которому многие из ранних местных верований
дошли до наших дней"1.
При рассмотрении столь сложного и специфического феномена, как нацио¬
нальная религия, важно удержаться от соблазна огульных обобщений, упро¬
щенных или однозначных дефиниций, которые неизбежно приводят к искажен¬
ному или, в лучшем случае, одностороннему представлению о нем. Синто в этом
плане явно не повезло. Сплошь и рядом при характеристике этой религиозной
традиции прибегают к терминам "архаичная", "примитивная", "неразвитая", а
предпринимавшиеся на протяжении всей истории японской государственности
попытки — и небезуспешные! — использовать синто в политических интересах
власть предержащих создали ему устойчивую репутацию националистического
культа2. К сожалению, излишне категоричными определениями страдает и
современная отечественная публицистика, подчас отождествляющая синто с
идеологией милитаризма3.
Между тем объективная, не отягощенная привычными стереотипами и пред¬
ставлениями, а тем более пропагандистскими задачами характеристика синто
весьма важна, поскольку дает ключ к пониманию некоторых особенностей на¬
ционального характера японцев. Чтобы составить адекватное представление о
синто, необходимо, на наш взгляд, прежде всего сказать об отношении самих
японцев к своей национальной религии.
Многолетние личные наблюдения автора (не говоря уже о результатах оп¬
росов общественного мнения и разнообразной литературе, японской и зарубеж¬
ной) свидетельствуют о том, что в массе своей японцы воспринимают синто не
как религию, а как обычай, или, лучше сказать, как нечто, составляющее не¬
разрывную часть среды, в которой они живут. В их представлениях синто
связывается с чувством принадлежности ко всему японскому. "Для миллионов
японцев, — отмечает один из исследователей, — синто означает... аморфный
способ ощущения себя японцем"4. По словам другого, "средний японец сегодня
1 Earhart В.И. Japanese Religion: Unity and diversity. Belmont (Cal.), 1969, p. 147.
2 Holtom D.C. Modem Japan and Shinto Nationalism. Chicago, 1943; Ballon R.O. Shinto, the
Unconquered Enemy. New York, 1945.
3 См., например: Спееаковский А.Б. Религия синто и войны. Л., 1987.
4 Spae JJ. Shinto Man. Tokyo, 1972, p. 65.
77
рассматривает синто не столько как религию в строгом смысле слова, а как
идеологию типично японскую, основанную на традиционной японской культуре”5.
Чтобы понять специфику такого подхода, следует хотя бы в общих чертах
остановиться на формировании и развитии синто.
1
Истоки синто восходят к глубокой древности и включают все присущие
первобытным народам формы верований — тотемизм, анимизм, фетишизм, ма¬
гию, культ мертвых и т.п. Древние японцы обожествляли практически все
предметы и явления окружавшего их мира. Большое место в их верованиях
занимали культы природы: ками (божества, духи) обитали в горах, реках,
источниках, растениях, животных. Со временем стали обожествляться всевоз¬
можные понятия. Так появились божества физической силы и ума, духи добра и
зла. Многочисленные божества мусуби олицетворяли животворные силы, способ¬
ствующие зарождению и росту человеческого организма, созреванию злаков,
творению всего сущего. Верили, что духи обретаются даже в словах.
Многие черты современного синто восходят к эпохе, когда в результате
проникновения в середине первого тысячелетия до н.э. поливного рисосеяния из
материковой Азии в Японии стали возникать земледельческие общины. В силу
специфики поливного рисосеяния труд в каждой из таких общин носил кол¬
лективный характер. Совместная работа являлась главным условием не только
обеспечения богатого урожая, но и выживания вообще. Поэтому естественно,
что основное содержание религии той эпохи, ставшей прототипом синто, со¬
ставлял коллективный обряд, обслуживавший средствами магии производст¬
венные нужды членов земледельческой общины.
Наряду с одухотворением предметов и явлений природы большое место в
религиозных представлениях японцев древности занимал культ предков. Духи
усопших рассматривались как силы, которые могли не только творить добро, но
и насылать на людей всевозможные беды и несчастья. Обрядность, связанная с
культом усопших, была направлена на то, чтобы задобрить их и превратить в
своих покровителей. Каждая семья поклонялась прежде всего духам своих
предков, и эта традиция сохранилась вплоть до наших дней.
Культ предков не ограничивался рамками семьи. Возникновение земледель¬
ческих общин, члены которых были тесно связаны друг с другом, вызвало к
жизни культ предка — покровителя общины. В начале он рассматривался как
божество — прародитель определенного рода или клана, а затем, по мере
ослабления кровно-родственных связей и одновременного укрепления связей
соседских, земляческих, — как дух-покровитель той или иной местности, опять-
таки восходивший к основателю наиболее влиятельного в этой местности рода.
Божества-покровители деревни на протяжении веков были наиболее
популярными божествами синто. В процессе формирования этого культа про¬
исходила контаминация их с многочисленными природными божествами.
Современный синто унаследовал многие формы обрядности, сложившейся в
рамках древней земледельческой общины. Каждый обряд состоял из трех частей:
встреча божества, постоянным местом обитания которого считалось небо, об¬
щение с ним и его проводы. Для встречи ками выбирали либо необычной формах
скалы и камни, чаще всего на вершинах гор и холмов, либо отдельно стоявшее
большое дерево. Для ками готовили угощения, ему подносили ткани и различные
украшения. Перед обращением к божеству совершали обряд очищения. Затем
божеству возносились молитвы. Обряд завершался пиршеством, в ходе которого
его участники съедали и выпивали "вместе с божеством" приготовленные уго¬
5 Basabe F.P. Religious Attitudes of Japanese Men. Tokyo, 1968, p. 26.
78
щения. Поскольку считалось, что божество приходит к людям лишь на время,
специального помещения для ками первоначально не строили.
Представления о временном приходе божества-ками сохраняются и по сей
день. В этом состоит отличие синтоистской обрядности от культовой практики
большинства религий, предполагающих постоянное присутствие бога в церкви,
мечети и т.п. В месте же отправления синтоистского обряда божество-ками
"появляется” лишь тогда, когда его ’’приглашают” туда. Посещение синтоист¬
ского святилища начинается с очищения, состоящего в омовении водой рта и
рук. Упрощенная форма "приглашения” божества и "общения” с ним заклю¬
чается в том, что верующий, бросив в стоящий перед святилищем ящик для
пожертвований несколько монет, отвешивает три поклона — один легкий и два
глубоких, затем дважды хлопает в ладоши, после чего, отвесив глубокий поклон,
удаляется. Во всех остальных случаях сохраняются все элементы древней
обрядности. Божеству подносят угощения, бутылки с рисовой брагой — сакэ.
Подношения в виде тканей ныне заменил столбик с бумажными подвесками,
устанавливаемый перед алтарем святилища. Обязательным элементом обряда
остается чтение молитв, после чего его участники выпивают по глотку рисовой
браги, что символизирует пиршество древности.
По мере расширения масштабов традиционных празднеств появилась необ¬
ходимость в культовых постройках. Прототипом синтоистских святилищ —
дзиндзя — были временные постройки, где хранились аксессуары празднеств.
Постоянные святилища для наиболее почитаемых ками стали сооружать не
раньше V—VI вв. н.э. В них помещали зеркала, мечи, полоски материи или бу¬
маги с начертанными на них именами божеств. Эти предметы, именуемые "син-
тай" (божественная субстанция), считаются воплощениями ками и служат объек¬
тами поклонения им, но лишь на время их "приглашения” на Землю. Перво¬
начально святилище состояло лишь из помещения, где находился синтай. Позже
под влиянием буддизма к нему стали пристраивать зал для молящихся. Подав¬
ляющее большинство дзиндзя состоит из этих двух частей. Обязательным атри¬
бутом дзиндзя служит устанавливаемая перед ним арка П-образной формы —
тории.
Синтоистский культ отправляется не только в дзиндзя. Его объектом может
быть любой предмет, "святость” которого обозначается сплетенной из рисовой
соломы веревкой. Во многих семьях имеются домашние синтоистские алтари, в
которых объектами поклонения служат таблички с именами предков.
В древней земледельческой общине трудовая деятельность ее членов и
религиозный обряд были тесно связаны. Естественно поэтому, что функции
жреца, руководившего отправлением обряда, и главы общины не были четко
разграничены. Сложившиеся в рамках древней общины представления о нераз¬
рывности дел божественных и мирских были унаследованы возникшими в первые
века н.э. раннегосударственными образованиями, а затем объединенным япон¬
ским государством, которое начало складываться в IV в. Эти представления
нашли выражение в концепции единства религиозного обряда и управления
государством, которая воплощалась в лице правителя, совмещавшего функции
верховного жреца и политического руководителя. Такая ситуация, в свою оче¬
редь, породила представление о правителе как об особом существе, отличаю¬
щемся от обычных людей. Считалось, что в процессе отправления обряда
правитель вступает в общение с ками, познает его волю и затем действует в
соответствии с ней. Эти шаманские по существу взгляды лежат в основе культа
императора, по сей день остающегося важным составным элементом синто.
Культ императора в равной мере зиждится и на его сакральной генеалогии:
"божественный" предок царствующего дома считается божеством-покровителем
всего японского государства.
Указанные специфические особенности синто с течением времени породили
79
Святилище Исэ дзингу — обитель верховного божества синто Аматэрасу
представление о неразрывной связи его с японской нацией и государством.
Подобно тому, как божество — покровитель рода, клана, общины — был пер¬
вопредком только данной группы людей, связанным с ней интимными узами, по
мере складывания японской государственности предок правителя стал воспри¬
ниматься в качестве верховного божества всего японского народа, его общего
предка. Отсюда следовало, что каждый японец в силу своего происхождения
является синтоистом, а неяпонец синтоистом быть не может. Упрочению пред¬
ставлений о связи синто с государством способствовала и концепция единства
религиозного обряда и управления государственными делами.
Эти представления нашли отражение и в мифологии синто. Она дошла до нас
преимущественно в том виде, в каком была зафиксирована в древнейших
письменных памятниках Японии — "Кодзики" ("Записи о делах древности"),
712 г., и "Нихон сёки" ("Анналы Японии"), 720 г., составленных по указанию
правителей сложившегося к тому времени централизованного японского госу¬
дарства. Анализ этих летописно-мифологических сводов свидетельствует, что их
составители стремились объединить в один цикл мифы, принадлежавшие пер¬
воначально различным родам и племенам. Однако мифы подобраны тенден¬
циозно — с целью обосновать сакральный характер генеалогии правящего клана
и его право на власть.
Первые божества, выделившиеся из вселенского хаоса, не играют сущест¬
венной роли в мифологии синто. Практически "сотворение мира" начинается с
появления божеств седьмого поколения — супружеской пары Идзанаги и Идза-
нами, которые породили Японские острова и множество ками. Во время родов
бога огня Идзанами умерла, после чего Идзанаги продолжал самостоятельно
рожать богов. Так появились богиня солнца Аматэрасу и бог ветра и бури Су-
саноо. Идзанаги вверил небесную страну Такама-га хара в ведение Аматэрасу, а
Сусаноо повелел править "равниной океана". Сусаноо, однако, не только не
подчинился повелению отца, но и совершил ряд поступков, которые по обычному
80
праву древности считались тягчаишими преступлениями: разрушил О1раждения
рисовых полей Аматэрасу, разорил се огороды, осквернил ее жилище. Оскорб¬
ленная Аматэрасу укрылась в небесной пещере, и весь мир погрузился во тьму.
Богам потребовалось затратить немало усилий, чтобы побудить Аматэрасу вый¬
ти из пещеры. Сусаноо за свои проступки навечно был изгнан из небесной страны
на Землю, где породнился с земными божествами. Один из его потомков — О-ку-
нинуси (Великий хозяин земли) стал править Землею. Однако через некоторое
время О-кунинуси отказался от власти в пользу Ниниги — внука Аматэрасу,
сошедшего на землю по повелению своей "божественной" бабушки. Потомок
Ниниги, фигурирующий в мифах под именем императора Дзимму (Божественный
воин), и положил начало императорской династии.
Эти мифы, очевидно, содержат отголоски реальных событий. Рассказ об
Аматэрасу и Сусаноо, по всей вероятности, отражает борьбу между царским
кланом, утвердившимся первоначально в местности Ямато в Центральной Япо¬
нии, и племенными вождями Идзумо — района, прилегающего к побережью
Японского моря. Легенда о завоевании императором Дзимму Ямато, видимо,
отражает сведения о массовых переселениях из Северного Кюсю в Централь¬
ную Японию в I—III вв. н.э., сопровождавшихся столкновениями пришельцев с
местными жителями. Красной нитью через мифы проходит мысль о "священном"
праве царского клана Ямато на власть. Эти мифы составили основу религиозного
престижа правителей страны, которые постоянно ссылались на "прямое" про¬
исхождение от верховного божества — Аматэрасу. При этом подчеркивалось,
что "божественная" кровь Аматэрасу передается из поколения в поколение
императорской фамилии. Император именовался "сыном небес", "продолжением"
Аматэрасу во времени, "Богом в человеческом облике".
Фиксация мифов в древнейших летописных сводах привела к оформлению
местных верований и культов в единую религию японского народа. Это вовсе не
означает, что указанные мифы заменили собой культы и религиозные пред¬
ставления, характерные для различных районов страны; во многих случаях
подобные культы сохранились вплоть до наших дней. Однако мифология "Код-
зики" и "Нихон сёки" с течением времени становилась фактором, оказывавшим
возрастающее влияние на формирование синтоистского пантеона и обрядности
во всеяпонском масштабе. Аналогичную роль играли и меры по систематизации
культов святилищ, возведению обрядности и особенно праздников наиболее
влиятельных из них в ранг общегосударственных. Эти меры, предпринимавшиеся
правителями страны начиная с VII в., способствовали инкорпорированию от¬
дельных местных культов в общенациональную религию.
Таким образом, синто как религия всего японского народа формировался в
.процессе становления и развития японской государственности. Превращение
местных культов в общую религию всей страны стимулировалось и утверж¬
дением на японской почве буддизма, проникшего в Японию еще в VI в. Сам
термин "синто" был введен для того, чтобы отличить национальную религию от
буддизма.
Как и в ряде других стран, распространение буддизма в Японии шло в
основном по пути сосуществования с местными божествами-ками, а не кон¬
фронтации с ними. Местные ками не отвергались, а привлекались на сторону
буддизма в привычной для них функции охранителей мест, в данном случае тех,
где сооружались буддийские храмы. Одновременно шел интенсивный процесс
взаимодействия местных культов как с буддизмом, так и с другими заимст¬
вованиями из материковой Азии — религиозным даосизмом и конфуцианством. В
частности, многие элементы буддизма и религиозного даосизма вошли в об¬
рядность синто, а на последующих этапах истории иностранные заимствования
широко использовались в попытках разработать синтоистскую догматику. Со
временем синто стал занимать подчиненное буддизму положение. Местные бо¬
81
жества были объявлены воплощением будд и бодхисаттв. Синто-буддийский
синкретизм достиг своего пика в период господства военных правителей (сёгунов)
из дома Токугава (1603—1867 гг.).
Однако полного поглощения синто буддизмом не произошло. Несмотря на
высокую степень синто-буддийского синкретизма, синто сохранился как нацио¬
нальная религия, отличная и от буддизма, и от других иностранных заимст¬
вований, причем принадлежность к этой религии не препятствует ее адептам
одновременно исповедовать буддизм, а в ряде случаев и другие вероучения.
Ключ к пониманию этого феномена, на наш взгляд, следует искать в самом
характере синто как общинной по своему происхождению религии, основанной
прежде всего на чувстве принадлежности индивида к определенной человеческой
общности, будь то семья, род, клан, деревня. Общинной религии присуща тесная
привязка к местности, в которой отправляется культ.
Когда в начале XX в. власти, руководствуясь, главным образом, полити¬
ческими соображениями, приняли меры по слиянию святилищ в пределах одной
административной единицы, люди продолжали отправлять привычные обряды на
прежних местах, игнорируя искусственно объединенное святилище. После по¬
ражения Японии во второй мировой войне государственному контролю над
религией был положен конец и многие из упраздненных святилищ по желанию
прихожан были восстановлены именно на этих местах6.
Разумеется, наличие общинной религии — отнюдь не специфическая осо¬
бенность Японии. Общинные культы существовали у многих народов на ранних
этапах их развития. То, что такого рода культ, хотя и в существенно моди¬
фицированном виде, сохранился в современной Японии, объясняется рядом
объективных факторов исторического развития страны.
2
Относительная изолированность Японских островов, однородность нацио¬
нального состава населения страны способствовали сохранению культурных и
религиозных традиций, уходящих корнями в глубокую древность. Необычайная
стойкость религиозных представлений, сложившихся в рамках древней земле¬
дельческой общины, определялась и застойным характером отношений внутри
этой общины, причиной чего, в свою очередь, служил сам характер поливного
рисосеяния. Вот почему многие формы обрядности той эпохи сохранились вплоть
до наших дней. Существенно и то, что буддийское влияние, сколь бы сильным
оно ни было, не затронуло важнейшей основы синто — культа предков. Более
того, заимствования из буддизма вели к консервации культа предков, особенно
на семейном уровне. Этому помогали функциональные различия между синто и
буддизмом: в то время как синтоистская обрядность была связана с произ¬
водственными нуждами людей, буддизм взял на себя заботу о "спасении души"
верующего. Синто и буддизм в данном случае взаимно дополнили друг друга.
Буддийское влияние не подорвало и культа "божественных" предков импе¬
ратора. Наоборот, заимствования из буддизма и особенно из конфуцианства были
использованы для его упрочения.
В культе "божественных" предков императора уже на ранних этапах истории
страны нашло проявление переплетение синто с политикой. Как отмечалось
выше, тенденциозный подбор мифов в древних летописных сводах имел целью
обосновать сакральный характер генеалогии правящей династии. Дальнейшим
развитием этой тенденции в трудах синтоистских теологов средневековья яви¬
лась концепция о "божественном" характере не только царствующего дома, но и
Японии в целом.
6 Sakurai Н. Tradition and Change in Local Community Shrines. — Acta Asiatica, Tokyo, № 51, 1987,
p. 70—72.
82
Разработка этой концепции связана с первыми попытками создания само¬
стоятельной догматики и морально-этической системы синто, предпринятыми не
ранее конца XIII — начала XIV в. духовенством Исэ дзингу — святилища
"божественной” прародительницы императоров Солнечной богини Аматэрасу.
При этом использовались заимствования из буддизма, конфуцианства и рели¬
гиозного даосизма, поскольку местные культы материалом для таких догма¬
тических построений, естественно, не располагали. Впервые в синто вводились
такие категории, как "чистота души”, честность, подчеркивалось значение мо¬
рали, важность молитв и других форм обрядности. Забегая вперед, следует
отметить, что ни эти, ни последующие шаги в разработке догматики синто
больших результатов не дали.
С точки зрения той роли, которую синтоистская догматика сыграла уже в
новый и новейший периоды японской истории, представляет интерес лишь один
аспект изысканий синтоистских теологов, а именно — попытка теоретически
обосновать тезис о "божественном" характере японского государства. Божества
Исэ дзингу, рассуждали еще на рубеже XIII—XIV вв. синтоистские теологи, —
высшие божества; в силу того, что Исэ дзингу является обителью высших
божеств, это самое чистое место на земле, а посему Япония — это страна
богов7. В XIV в. концепция, объявлявшая Японию "страной богов", получила
развитие в работах Китабатакэ Тикафуса (1293—1354). Его взгляды в после¬
дующие столетия постоянно брались на вооружение теми, кто ставил задачей
поднять престиж императора, обосновать идею превосходства японской нации
над другими странами и народами. Итогом любого построения идеологов периода
сёгуната Токугава, стремившихся использовать синто в целях укрепления устоев
современного им феодального общества или же ревитализации его путем воз¬
вращения к системе прямого императорского правления, было подчеркивание
культа императора. Эта идея присутствует в писаниях и синтоистских теологов,
и приверженцев различных концепций синто-конфуцианского синкретизма (Хаяси
Радзан, Ямадзаки Ансай и др.), и идеологов неоконфуцианской "школы Мито"
(Фудзита Юкоку, Аидзава Сэйсисай, Фудзита Токо), и сторонников так назы¬
ваемой "национальной школы", ратовавших за возрождение синто в его "чистом"
виде (Мотоори Норинага, Хирата Ацутанэ).
Указанные идеи нашли логическое завершение в государственном синто —
религиозно-политической системе, созданной правящими кругами после буржу¬
азной революции 1867—1868 гг. и просуществовавшей вплоть до поражения
Японии во второй мировой войне. Синто был провозглашен государственным
культом, обязательным для всех японцев, независимо от их вероисповедания.
Это стало возможным в результате выделения синто из всех других религий в
качестве государственного обряда. В данном случае было использовано то
обстоятельство, что культ синтоистских святилищ, в сущности, сводился к об¬
ряду, поскольку синто, как было сказано выше, не располагал ни системати¬
зированной догматикой, ни достаточно разработанной морально-этической си¬
стемой. Это позволило наполнить его обрядовую оболочку идеологическим со¬
держанием, отвечавшим интересам правителей монархического буржуазно-по¬
мещичьего государства, каким была в то время Япония. В форме религиозной
догмы проповедовалась государственная доктрина. Как справедливо отмечал
историк культуры Японии Т. Умэхара, государственный синто представлял со¬
бою "полностью новый культ, исповедовавшийся как государственная религия и
исходивший только из тех аспектов национальной религии, которые были спо¬
собны возбуждать патриотизм и служить интересам создания современного
государства"8.
7 Сюкё си (История религии). Под ред. К. Касахара и др. Токио, 1964, с. 263.
8 Umehara Т. Shinto and Buddhism in Japanese Culture. — The Japan Foundation Newsletter, July 1987,
p. 2—3.
83
Главным объектом государственного культа стал обожествленный император.
В принятой в 1889 г. конституции Японии личность императора объявлялась
"священной и неприкосновенной", утверждалось, что "Японская империя управ¬
ляется династией императоров, царствующих непрерывно вечные времена". Это
положение считалось основным звеном конституционной системы, отражавшим
"уникальную японскую национальную сущность". Роль канона государственного
синто играл принятый в 1890 г. Императорский рескрипт об образовании, про¬
возглашавший верность императору высшей добродетелью подданных Японской
империи. Необходимость следования указанной добродетели выводилась из
конфуцианских морально-этических принципов, в частности принципа сыновней
почтительности. В рескрипте эти принципы тесно увязывались с культом пред?
ков, пустившим глубокие корни в религиозной традиции японского народа.
Концепция сыновней почтительности была выведена за рамки семьи, расширена
до всеяпонских масштабов.
Впоследствии вся японская нация была объявлена одной большой семьей, в
роли главы которой выступал император, правивший в силу сакральной ге¬
неалогии. Это не противоречило традиционным представлениям японцев, при¬
выкших оказывать должное почтение главе и предкам основной семьи в группе
родственных семей, на которых в течение веков базировалась общественная
структура Японии. Культ предков был сведен к культу "божественных" предков
императора, а традиционное почитание, оказывавшееся основной семье и ее
главе членами боковых семей, концепция сыновней почтительности были воз¬
ведены в категорию государственной морали и в конечном счете сублими¬
ровались в идее верноподданности и незыблемого авторитета императора.
Важной составной частью догматики государственного синто стали мифы,
обосновывавшие "уникальную японскую национальную сущность". Их пропа¬
ганда была важнейшей задачей деятельности правительства в идеологической
области. Они включались в качестве обязательного предмета в школьные про¬
граммы. Таким образом, мифы сами по себе оказались идеологической основой
государственной власти, широко использовались для обоснования системы по¬
литического господства крупной буржуазии, помещиков и военной клики, осу¬
ществлявшегося от имени императора.
По мере усиления агрессивности японского империализма усиливался и ми¬
литаристский и шовинистический характер догматики государственного синто.
Тезис о превосходстве Японии как "страны богов" над остальным миром получил
дальнейшее развитие, что нашло свое выражение в провозглашении "свя¬
щенной" миссии Японии в отношении других стран, состоящей в том, чтобы
руководить ими. Поэтому любая военная авантюра, предпринимавшаяся пра¬
вителями Японии от имени императора, объявлялась "священной войной". При
этом претензии на мировое господство японские милитаристы обосновывали
ссылками на мифы. Так, из легенды о мифическом основателе Японской импе¬
рии — Дзимму был заимствован лозунг "хакко итиу" — "восемь углов под одной
крышей", или же "весь мир под одной крышей", который в канун и во время
второй мировой войны стал идеологическим постулатом разбойничьей политики
японского империализма.
Существенной особенностью догматики государственного синто было то, что
она формулировалась правительством, "спускалась" сверху в виде официальных
документов. Ни синтоистским священникам, низведенным до положения чинов¬
ников государственного аппарата, ни кому бы то ни было вообще не позволялось
не только вносить в эти догмы что-то новое, но и интерпретировать их по-
своему. Это оказало негативное влияние и на развитие догматики других ве¬
роучений. В условиях господства государственного синто не допускалось рас¬
пространение догм, которые противоречили бы официальной.
Важное политическое значение придавалось обрядности государственного
84
синто. Цель ее состояла в том, чтобы обеспечить единство и сплоченность нации
на основе верности императору. Обрядность императорского двора стала эта¬
лоном, в соответствии с которым должны были отправляться обряды во всех
синтоистских святилищах.
Обряды императорского двора делились на большие, которые отправлял
лично император, и малые, отправление которых находилось в ведении главного
священнослужителя императорского святилища, расположенного на территории
дворца. Подавляющее большинство этих обрядов — вновь изобретенные. Из
древних были унаследованы лишь "праздник вкушения вместе с божеством
плодов нового урожая" и праздник осеннего урожая святилища Исэ дзингу.
Последний преследовал цель продемонстрировать единство императора со своей
"божественной" прародительницей. 11 из 13 больших обрядов были новыми.
Среди них важную политическую роль играли сбряд в честь сошествия
Ниниги на землю и обряд, посвященный основанию японского государства ле¬
гендарным императором Дзимму. На основе обрядности императорского синто
учреждались государственные праздники. Самым важным из них был День ос¬
нования империи, кигэнсэцу, базировавшийся на мифе об императоре Дзимму.
Этот и другие подобные ему праздники призваны были обосновать право¬
мерность существующей политической системы, внушить народу мысль о том,
что японская государственность и император неотделимы. Влияние император¬
ского синто распространилось и на домашнюю синтоистскую обрядность. Власти
настаивали на том, чтобы в каждом домашнем алтаре японца, независимо от его
вероисповедания, в обязательном порядке была установлена табличка с именем
"божественной" прародительницы императоров Аматэрасу, приобретенная в ее
святилище.
Стремясь поставить под свой контроль синтоистские святилища и превратить
их в рассадники идеологии государственного синто, власти навязывали им новые
по содержанию обряды, насильственно объединяли мелкие. Наряду с этим соз¬
давались совершенно новые святилища, культ которых полностью соответст¬
вовал идеологии государственного синто. Они посвящались духам императоров,
военачальников и сановников прошлого, пользовавшихся репутацией особо пре¬
данных императорскому дому вассалов, современным политическим деятелям и
представителям военной клики (военачальникам периода русско-японской войны
1904—1905 гг. генералу Ноги, адмиралу Того и др.), а также "божественной"
прародительнице императоров Аматэрасу. Все эти святилища должны были
служить наглядной иллюстрацией идеи незыблемости существующего порядка и
верноподданности императору. Большое количество святилищ, посвященных
Аматэрасу и духам императоров, было сооружено на захваченных японскими
милитаристами территориях. Идеологи японского империализма утверждали, что
японские божества "облагодетельствовали" захваченные страны, соизволив сой¬
ти на их землю, как некогда "божественный" потомок Аматэрасу сошел на
землю Японии, чтобы править ею.
Среди святилищ, созданных после революции 1867—1868 гг., совершенно
особую категорию составляло Ясукуни дзиндзя (Святилище мирной страны) со
своими филиалами во всех префектурах страны, именовавшимися святилищами
защиты отечества. Ясукуни дзиндзя было посвящено душам "верноподданных"
воинов, погибших в войнах, которые вела милитаристская Япония. В отличие от
других святилищ, подчинявшихся министерству внутренних дел, Ясукуни дзиндзя
находилось в ведении министерств сухопутных сил и военно-морского флота. Его
духовенство утверждалось этими ведомствами. Роль главных церемониймей¬
стеров во время празднеств выполняли высшие офицеры в ранге не ниже
адмирала или генерала. Охрану обеспечивали подразделения военной жандар¬
мерии. Таким образом, и по существу, и по форме Ясукуни дзиндзя было
военным учреждением.
85
Обряды Ясукуни дзиндзя отправлялись в форме вызова душ погибших воинов,
которые, как утверждалось, спускались с неба, дабы присоединиться к тем, кто
уже был обожествлен в святилище. Списки этих "богов" и составляли синтай
святилища. Церемония вызова и встречи душ павших воинов, проводившаяся
глубокой ночью, носила мистический характер.
С течением времени Ясукуни дзиндзя превратилось в важнейший центр
милитаристской пропаганды. Правители милитаристской Японии активно исполь¬
зовали культ Ясукуни для поднятия "боевого духа" населения. Смерть на поле
боя за "божественного" императора провозглашалась главной добродетелью
подданных Японской империи, а обожествление в Ясукуни дзиндзя — высшей
честью, которой мог удостоиться японец. Ясукуни дзиндзя с его ярко выра¬
женным милитаристским культом, органически сочетавшимся с культом импе¬
ратора, был одним из столпов государственного синто.
3
Поражение Японии во второй мировой войне покончило с государственным
синто. Существенный удар был нанесен по культу императора, который в 1946 г.
публично опроверг тезис о своей "божественной" сущности. Конституция 1947 г.
провозгласила свободу совести, отделение религии от государства. Синтоистские
святилища, на протяжении десятилетий функционировавшие как важная состав¬
ная часть идеологического аппарата милитаристского государства, были лишены
привилегий, которыми они пользовались по сравнению с культовыми учреж¬
дениями других религий. Большинство их объединилось в Ассоциацию синтоист¬
ских святилищ.
В первые послевоенные годы синтоистские святилища влачили жалкое суще¬
ствование. Число посещавших их резко сократилось. Значительно уменьшился
приток пожертвований. Священнослужители в поисках средств к существованию
вынуждены были искать побочные заработки в качестве служащих муници¬
пальных учреждений, учителей и т.п. В обстановке подъема демократического
движения синтоистским святилищам на первых порах нелегко было восстановить
свою популярность.
Только с начала 50-х годов, после прекращения американской оккупации
страны, святилища стали постепенно оправляться от того удара, который был им
нанесен в результате поражения Японии в войне. Возросло число посетителей
святилищ, нормализация экономической жизни обусловила увеличение пожерт¬
вований на их нужды со стороны прихожан. Большую роль в этом играли
сохранившиеся еще с довоенного времени объединения населения по терри¬
ториальному признаку — квартальные ассоциации и "соседские группы", члены
которых автоматически причислялись к прихожанам святилища, находившегося в
том или ином городском квартале или сельском поселении. Управление свя¬
тилищами, организация различных синтоистских празднеств практически пере¬
шли в руки руководства этих объединений, которое сплошь и рядом состоит из
наиболее консервативных элементов города и деревни: мелких и средних
предпринимателей, лавочников, сельских богатеев — людей, всем укладом жиз¬
ни и деятельности тяготеющих к сохранению традиционных ценностей и
представлений. В политическом плане эти группы населения в массе своей
составляли и по сей день составляют опору правящей Либерально-демокра¬
тической партии (ЛДП). А это, в свою очередь, определяет и политическую
ориентацию Ассоциации синтоистских святилищ, поддерживающую наиболее
консервативные силы внутри правящей ЛДП.
Большие изменения, произошедшие в жизни японского общества за последние
четыре десятилетия, в частности форсированная урбанизация страны и как
результат этого — отток значительной массы сельских жителей из деревень
86
в промышленные центры, не могли не оказать влияния на положение синтоист¬
ских культовых учреждений. Эти изменения крайне негативно сказались на мно¬
гих деревенских святилищах, культ которых базировался на сельской общине,
слабевшей год от года за счет ухода в города самой активной части ее членов —
молодежи. Пожертвования в пользу святилищ резко сократились, а в иных слу¬
чаях прекратились вовсе. В результате многие деревенские святилища пришли в
упадок.
Эти изменения сказались и на мелких святилищах в городах. В силу своего
замкнутого характера, ориентации на лиц, связанных по своему происхождению с
местными прихожанами, они не сумели воспользоваться резким увеличением
городского населения для расширения своей базы. Переселившиеся в города
выходцы из деревни становились в основном адептами различных групп новых
социально-религиозных движений, которые именно за их счет в 50-х и особенно в
60-х годах значительно расширили свои ряды.
Вместе с тем те же факторы, которые толкали недавних сельских жителей в
ряды адептов новых религий, — потребность в принадлежности к коллективу,
присущая японцам ориентация на группу или, говоря точнее, на общину —
стимулировали заметное увеличение числа синтоистских святилищ, создаваемых
промышленными и торговыми компаниями, банками и различными корпорациями.
Явление это само по себе не новое: иные святилища такого рода ведут свою
историю с XVII—XVIII вв., когда в Японии стали возникать торговые дома,
мануфактурные предприятия. Инициатива создания их в наши дни принадлежит
руководителям предприятий, естественно, заинтересованных в том, чтобы ис¬
пользовать общинное сознание в интересах повышения производительности
труда. Но, как правило, эта инициатива встречает поддержку рабочих и слу¬
жащих, особенно недавних жителей деревни, в глазах которых компании, где они
трудятся, выступают своего рода заменителями или эквивалентами сельской
общины. А раз компания, корпорация берет на себя роль старой общины, ей
нужен и свой культ, и свои священные символы.
Среди компаний, имеющих святилища, немало хорошо известных и совет¬
скому читателю: автомобилестроительные гиганты "Ниссан" и "Тоёта", банк
Мицубиси, металлургический концерн "Нихон сэйтэцу", крупнейшая сеть уни¬
вермагов Мицукоси, теле- и радиокорпорация "Асахи" и многие другие. Боже¬
ствами-покровителями выступают либо ками местности, где компания впервые
развернула свое производство, либо ками, культу которого был привержен
основатель данного предприятия, либо, наконец, ками, пользующийся репута¬
цией покровителя производства, которым занята компания. Так, на предприятиях
одного из крупнейших в мире производителей электрооборудования Хитати
сооружены святилища божества, считающегося покровителем города Хитати,
где когда-то был построен первый завод компании. Рядом с нефтеочисти¬
тельными заводами "Идэмицу косан" неизменно возводятся филиалы Мунаката
дзиндзя — святилища покровителя местности, где родился основатель компании.
В святилище компании "Тоёта" поклоняются божествам железа, главного ком¬
понента автомобильного производства9.
Наличие святилищ на предприятиях свидетельствует не только о стойкости
общинного сознания и базирующихся на нем религиозных представлений, но и о
присущей синтоистскому культу гибкости, его способности адаптироваться к
меняющимся социально-экономическим условиям. В этом также одна из причин
поражающей многих иностранцев выживаемости синто.
Изменения в жизни японского общества в последние десятилетия обусловили
еще одно характерное для современного синто явление. В то время как местные
святилища приходили в упадок, святилища, пользующиеся репутацией центров
9 Кигё-но дзиндзя (святилища предприятий). Токио, 1986, с. 48, 66, 78.
87
культа земных благ, наоборот, укрепляли свою материальную базу, расширяли
влияние на население, приобретали все большую популярность. Солидным источ¬
ником доходов для них служит продажа разного рода амулетов. Во всех 47
префектурах страны имеется по несколько популярных святилищ, каждое из
которых ” специализируется” на том или ином виде благ, отпускаемых любому,
кто этого пожелает. Амулеты, приобретенные в одних святилищах, "гаран¬
тируют” процветание в делах, в других — помогают излечиться от болезней, в
третьих — обеспечивают гармонию супружеских отношений, в четвертых —
предохраняют от дорожных аварий.
Характерно, что в списках святилищ такого рода постоянно фигурируют
связанные с культом императора. Это прежде всего Мэйдзи в Токио, Ацута в
Нагоя, Касивара близ Нара и, конечно же, Исэ дзингу — обитель "божествен¬
ной” прародительницы императоров. В глазах части населения связь с импе¬
раторским домом по-прежнему повышает престиж указанных святилищ, застав¬
ляет людей верить, что отпускаемые ими "блага" обладают особой эффек¬
тивностью.
Процесс поляризации среди святилищ, выражающийся в росте популярности и
укреплении материальной базы тех из них, которые связаны с современными
корпорациями, или же относительно небольшого числа их, пользующихся репу¬
тацией "источников” земных благ, и прогрессирующем упадке святилищ божеств-
покровителей сельских общин является своеобразным отражением основных
тенденций социально-экономического развития современной Японии. Процесс
этот необратим.
Всего в стране насчитывается около 80 тыс. синтоистских святилищ. Подав¬
ляющая часть их — более 79 тыс. входит в Ассоциацию синтоистских святилищ,
созданную в 1946 г. На эти последние приходится всего около 20,5 тыс. свя¬
щеннослужителей10. Цифра эта сама по себе еще ни о чем не говорит: в крупных
Святилищах, особенно в тех, которые связаны с императорским домом, может
быть несколько десятков священнослужителей и прочего персонала, в других
случаях один священник обслуживает 10 и даже 20 мелких святилищ.
Духовенство, входящее в Ассоциацию синтоистских святилищ, составляет
незначительное меньшинство в более чем 650-тысячной армии служителей всех
культов в современной Японии. Однако лишь 20% из них — это лица, для
которых отправление синтоистских обрядов служит единственным источником
существования. Четыре пятых синтоистских священников сочетают служение
ками с работой в качестве учителей, муниципальных служащих, с занятиями
мелким предпринимательством.
Главным святилищем синто считается Исэ дзингу, посвященное легендарной
прародительнице императоров — Аматэрасу. Его божественной субстанцией —
синтай — служит зеркало, якобы то самое, которое Аматэрасу вручила своему
внуку Ниниги, посылая его править землей. Сторонники концепции "божест¬
венного” происхождения императорской власти утверждают, что Исэ дзингу —
самое древнее святилище в Японии, основанное в I в. н.э. Это утверждение,
однако, далеко от действительности. Имеется документальное свидетельство
того, что, по крайней мере, на нынешнем месте святилище было сооружено в
самом конце VII в. К сожалению, ряд наших авторов подчас механически
повторяют версию об Исэ дзингу как о древнейшем святилище, относя его
основание к временам, когда культовых построек национальной религии вообще
не было11.
10 Сюкё нэнкан. Хэйсэй 2 нэнхан (Религиозный ежегодник, 1990). Токио, 1991, с. 50—51.
11 См., например, статью ’’Япония”. —Краткая художественная энциклопедия ’’Искусство стран и
народов мира”, т. 5. М., 1981, с. 594—595, 688.
88
Шествие синтоистских священников в Исэ дзингу
Так или иначе, Исэ дзингу и по сей день остается наиболее влиятельным
синтоистским святилищем, тесно связанным с императорской фамилией. Оно рас¬
положено среди леса криптомерий. Главный комплекс Исэ дзингу представляет
собой правильной формы прямоугольник, обнесенный четырьмя рядами дере¬
вянных стен. Внутри его — поднятая на столбах постройка из некрашеного
дерева с невысокой обходной верандой. Двускатная крыша из прессованной коры
кипарисового дерева образует над ней массивный навес. Поперек крыши по¬
ложены десять коротких брусьев, по торцам кровлю поддерживают перекрещи¬
вающиеся мачты. Четкость линий придает сооружению гармоническую завер¬
шенность. Чистая светлая площадка, на которой размещены строения святи¬
лища, контрастирующая с яркой зеленью криптомерий, отнюдь не восприни¬
мается как нечто инородное в окружающем ландшафте. Сама атмосфера Исэ
дзингу настраивает любого человека, будь он приверженцем синто или нет, на
особый лад, внушая ему чувство покоя, гармонии. В той или иной мере это
можно сказать о любом синтоистском святилище, расположенном в естественном
природном окружении. В этом состоит одна из важных особенностей синто,
который не столько воспринимается разумом, сколько воздействует на подсоз¬
нание человека, возбуждая в нем положительные эмоции и тем самым рас¬
полагая к себе.
Святилища синто до сих пор сохраняют солидную массовую базу. По оценкам
японских религиеведов, лица, поддерживающие более или менее постоянные
связи со святилищами, составляют одну треть населения в городах и четыре
пятых сельских жителей. Приведенные данные свидетельствуют о том, что по
сей день деревня остается главным оплотом синтоистских святилищ. В свою
очередь, это означает, что по мере сокращения сельского населения — а этот
процесс идет, хотя и не столь быстрыми темпами, как в 60-х — первой половине
70-х годов, — массовая база святилищ, главным образом тех из них, которые
89
посвящены божествам-покровителям данной деревни или квартала, будет со¬
кращаться.
Вместе с тем обрядность синто продолжает занимать большое место в
повседневной жизни большинства японцев. В ходе обследования, проведенного
газетой ’’Асахи” в 1981 г., 62% опрошенных сообщили, что дома у них имеются
камидана, 56% совершают хацумодэ — обряд первого посещения святилища в
новом году, 55% имеют приобретенные в святилищах амулеты, а 76% в то или
иное время покупали там же отпечатанные на бумажных полосках предсказания
судьбы12.
Синтоистская обрядность сопровождает самые примечательные события в
жизни японцев, даже многих из тех, кто в обычное время не поддерживает
постоянных контактов со святилищами. Так, приобщение маленького японца к
культу синто начинается с обряда хацумаири, когда ребенка, которому испол¬
нилось чуть больше месяца, приносят впервые в местное святилище. Ежегодно
15 ноября детей, достигших к этому дню трех, пяти и семи лет, наряжают во все
лучшее и ведут опять-таки в святилище, дабы испросить для них покро¬
вительство местных богов. Этот красочный обряд так и называется ’’Семь, пять
и три”. К участию в синтоистских празднествах — мацури — дети привлекаются
с самого раннего возраста. Во время экзаменационной сессии редко кто из
молодых людей не пойдет в святилище божества знания Тэндзин, чтобы за¬
ручиться помощью в сдаче экзаменов. Большинство свадеб и по сей день
устраивается с соблюдением синтоистской обрядности. Закладка любого здания
не обходится без дзитинсай — церемонии успокоения земли. Соответствующими
обрядами отмечаются также завершение сборки каркаса и окончание строи¬
тельства. В святилище приходят, чтобы подвергнуться очищению с целью
добиться успеха в предпринимательской деятельности, на политическом поп¬
рище, в спортивных соревнованиях. Практически ни одна промышленная, тор¬
говая или транспортная компания не начинает своей деятельности без соот¬
ветствующей синтоистской церемонии. При этом очищению может быть под¬
вергнут не только человек, но и автомобиль, и станок, и любой другой предмет.
Особое место в обрядности синто занимают праздники — мацури. Каждое
синтоистское святилище, как правило, проводит свой праздник, основанный на
легенде о его происхождении и деяниях божества, которому оно посвящено. Уже
в силу этого праздники различных святилищ очень отличаются друг от друга.
Вместе с тем в них много общего. В частности, совпадают порядок проведения и
основные элементы мацури. Накануне святилище украшается свежими ветками
вечнозеленого дерева сакаки, обновляются соломенные веревки, бумажные под¬
вески на них. В назначенный день и час в молельном зале собираются священ¬
нослужители — активисты из числа прихожан, а в ряде случаев — музыканты,
исполняющие обрядовую музыку. Главный священнослужитель обмахивает соб¬
равшихся специальным опахалом — это коллективный обряд очищения. После
этого двери вместилища синтай приоткрываются, но синтай все равно не виден
никому, так как его заслоняет занавеска. Священнослужители по цепочке пе¬
редают и ставят перед нею подносы с пожертвованными яствами. Затем чи¬
таются подобающие случаю молитвы.
Во многих случаях в программу праздника входит исполнение священных
танцев. У каждого святилища он свой. Иногда это красочное хореографическое
представление, сюжет которого заимствован из легенд о почитаемом здесь
божестве. В крупных святилищах содержится целый штат служительниц, в обя¬
занности которых входит и исполнение танцев. Однако в качестве исполнителей
могут выступать и местные жители, которые считают своим долгом всячески
сохранять и популяризировать древние традиции и обычаи.
12 Асахи симбун, 5.V.1981.
90
Священные танцы играют ту же роль, что и жертвоприношения: они ис¬
полняются для того, чтобы задобрить божество и расположить его к собрав¬
шимся. По окончании танца и чтения молитв на поднос, установленный перед
занавеской, за которой скрывается синтай, кладется веточка сакаки; собрав¬
шиеся, ’’провожая” божество, отвешивают глубокие поклоны; двери вместилища
синтай закрываются.
Центральное событие праздника — шествие с паланкином, в котором, как
считается, божество-ками обходит подвластную ему территорию. Паланкины
бывают самых разных размеров, некоторые под силу унести лишь нескольким
десяткам здоровых молодых людей. Но во всех случаях они красочно оформ¬
лены, украшены резьбой и позолотой, увенчаны изображением птицы Феникс.
Считают, что на время процессии в паланкин переселяется божество, при¬
сутствие которого может символизировать полоска бумаги с его именем или
какой-нибудь другой предмет. Несущие паланкин молодые люди подбадривают
себя громкими криками ”васёй, васёй”. Паланкин, покачиваясь, плывет над
толпой. За ним следуюТ’священнослужители, прихожане, как правило, в тра¬
диционных одеяниях.
Шествие с паланкином имеет глубокое символическое значение. Божество не
только выходит за пределы святилища, напоминая о своем существовании всем
жителям деревни, квартала, а иногда даже целого района: сам характер ше¬
ствия, в котором участвует и стар, и млад, служит яркой иллюстрацией синто
как коллективного культа.
Мы описали традиционный мацури. Но, как уже говорилось, каждый праздник
имеет свои особенности. До наших дней сохранились мацури, поражающие
своими странными обрядами, многие из которых с точки зрения современных
представлений граничат с неприличием. Один из подобных мацури — ханагакари
(дословно: ’’одержимый цветами”) автору этих строк довелось наблюдать лет 30
тому назад в гористом районе Токийского столичного округа. В ходе праздника
исполнялся танец с участием девушек, головные уборы которых напоминали
корзины с цветами, главным же танцором был мужчина с красной палкой в
руках, символизировавшей фаллос. Он бешено кружился среди девушек, раз¬
махивая палкой и имитируя движения полового акта. По мере ускорения ритма
танца эти движения начали повторять и все его участники, включая музыкантов
с масками льва на лицах.
Ханагакари — очень древний обрядовый танец. В свое время он исполнялся
людьми, молившимися о богатом урожае, ибо в своих представлениях они
отождествляли процесс прорастания зерна с половым актом.
Лишь немногие из участников мацури и других синтоистских церемоний
придают значение их религиозному характеру. Синтоистскую обрядность они
воспринимают в первую очередь как неизбежную дань традиции. Традиции,
уходящие корнями в давние времена, когда человек чувствовал себя беспо¬
мощным перед грозными и непонятными явлениями природы, действуют без¬
отказно. В свою очередь соблюдение традиции служит важнейшим фактором,
создающим материальную базу святилищ.
Это особенно наглядно проявляется во время хацумодэ, когда число посе¬
тителей святилищ достигает своего пика: статистика свидетельствует, что за
первые три дня наступившего года синтоистские святилища и буддийские храмы
посещает в среднем свыше двух третей населения Японии. Не менее 70% от
этого числа приходится на святилища, получающие в эти дни немалые доходы и
от прямых пожертвований, и от продажи различных амулетов, предсказаний
судьбы и т.п.
Подобного рода примеры свидетельствуют о том, что синтоистская обряд¬
ность проникает практически во все поры общества. Это обстоятельство оп¬
ределяет симпатии большого числа японцев к синто, обусловливает их тесную
91
связь с данной религиозной традицией, сколь бы формальной и внешней во
многих случаях такая связь ни была.
Именно в силу этого обстоятельства значительная часть населения Японии и
по сей день остается восприимчивой к идеям, пропагандируемым консерватив¬
ными силами в обоснование попыток возродить хотя бы частично религиозно¬
политическую систему государственного синто. Особая роль здесь отводится
Ассоциации синтоистских святилищ.
4
Два обстоятельства определили с самого начала крайне консервативный
характер этой организации. Прежде всего это социальная база входящих в нее
синтоистских святилищ, состоящая преимущественно из представителей наибо¬
лее консервативных кругов города и деревни. Немаловажное значение имел и
тот факт, что руководство ассоциации с момента ее создания оказалось в руках
духовенства святилищ, составляющих основу системы культовых учреждений
государственного синто, что и определяло политические позиции их духовенства.
В 1956 г. Ассоциация синтоистских святилищ предприняла первую попытку
сформулировать главные принципы синто в новых условиях, сложившихся в
результате отделения синто от государства. Такие принципы были изложены в
документе "Основные черты жизни, исполненной уважения к ками". Наряду с
призывами к верующим “испытывать чувства благодарности за благословение
ками и благодеяния предков, быть усердными в соблюдении обрядов, предаваясь
отправлению их с искренностью, радостью и чистотой дущи”, документ под¬
черкивает необходимость “объединиться в гармоничном осознании воли импера¬
тора, молиться о процветании государства"1*. Синто вновь был отождествлен с
императором и государственной властью. Идея неразрывного единства синто с
монархическим государством, осуществляемого посредством поклонения импера¬
тору и его “божественным" предкам, осталась стержнем идеологии высших
эшелонов синтоистской иерархии.
Опираясь на эту идею, высшее синтоистское духовенство развернуло движе¬
ние за восстановление былых привилегий синто как государственного культа. В
1962 г. был восстановлен университет Когаккан, служивший до поражения Япо¬
нии во второй мировой войне центром подготовки пропагандистов государст¬
венного синто. Студенты Когаккан воспитываются в духе тех же идей, что их
предшественники. Обязательным ритуалом для них является чтение каждое
утро Императорского рескрипта об образовании 1890 г., служившего каноном
государственного синто.
Деятельность Ассоциации синтоистских святилищ вступила в новый этап со
времени создания в 1969 г. на ее базе Синтоистской политической лиги. В своей
программе лига выдвинула задачи “заложить основы управления государством,
руководствуясь духом синто", добиться “подъема национального духа самостоя¬
тельности и независимости, бороться против “социальных беспорядков". По всем
важнейшим вопросам внутренней и внешней политики лига занимает крайне
правые позиции, солидаризируясь с наиболее консервативными кругами внутри
ЛДП. В области внутренней политики это в первую очередь нападки на ныне
действующую конституцию, которая клеймится как “источник разрушения исто¬
рических традиций Японии", и призывы выработать новую конституцию, которая
восстановила бы прерогативы императора как политического руководителя.
Объектом особых нападок синтоистского духовенства на протяжении всего
послевоенного времени остается система народного образования. В 1979 г. руко¬
водство Ассоциации синтоистских святилищ утвердило документ “Об основном
13 Japanese Religion. A Survey by the Agency of Cultural Affairs. Tokyo — Palo Alto, 1972, p. 33.
92
курсе в вопросах нормализации образования". Само название документа пока¬
зывает, что существующую систему образования лидеры синто считают нуж¬
дающейся в исправлении. Каким же, по их мысли, должно быть "нормальное"
образование? Это воспитание молодежи в духе "любви и уважения к импе¬
раторскому дому", "укрепления национальной солидарности"; "культивирование
патриотического духа"; воспитание религиозных чувств и прежде всего "по¬
читание богов и предков"; "правильное" обучение истории Японии и японскому
языку с упором на мифы и традиции и, наконец, "повышение морали народа" в
духе Императорского рескрипта об образовании14.
Сколько бы многообразна ни была деятельность организаций синтоистского
духовенства на политической арене, главным в ней по-прежнему остается курс
на возрождение — хотя бы частично — религиозно-политической системы
государственного синто. Этот курс находит поддержку не только среди обще¬
ственных и политических деятелей откровенно правой и ультранационали¬
стической ориентации, ио и в правящей Либерально-демократической партии в
целом. Стремление синтоистского духовенства, тоскующего по "старым добрым"
временам, вернуть синто его былые привилегии разделяют отчасти в деловых
кругах страны, а также среди националистически настроенных буржуазных
ученых.
Идеологи японской монополистической буржуазии в последние годы настойчи¬
во пропагандируют тезис об "особом" характере японского общества, которое
якобы лишено классовых противоречий и представляет собою уникальное "об¬
щество-семью". Они всячески стремятся вывести историю Японии из сферы
действия общих законов исторического развития, пропагандируют мысль о специ¬
фике японской культуры, особой "ценностной ориентации" японцев, делающей их
непохожими ни на один другой народ мира. Нетрудно убедиться, что в данном
случае имеет место попытка гальванизировать характерные для государствен¬
ного синто религиозно-мистические концепции, в частности идеи об "уникаль¬
ности" японской нации, об "обществе-семье" во главе с отцом-императором.
Эти идеи перекликаются с насаждаемой в обществе идеологией классового
сотрудничества, "гармонии" труда и капитала, культивированием шовинисти¬
ческих представлений о превосходстве японской нации. Взгляды сторонников
возрождения государственного синто дополняют эти построения. Неслучайно
правящие круги страны на протяжении всего послевоенного периода прилагали
столь большие усилия для сохранения культа императора, в частности, путем
утверждения его религиозного престижа.
С этой целью в нарушение конституции был проведен ряд конкретных
мероприятий. С 1952 г. возобновлены посещения императором обители его
"божественной" прародительницы Аматэрасу — святилища Исэ дзингу — с
докладами о наиболее важных событиях в жизни страны. Формально император
совершает эти посещения как частное лицо, однако внешне они ничем не
отличаются от подобных визитов в период до ликвидации государственного
синто, объективно содействуя внедрению в сознание людей представлений об
императоре как о главе синтоистского культа. Эту же цель преследуют вос¬
становленная в 1955 г. практика участия личных представителей императора в
празднествах наиболее влиятельных синтоистских святилищ, присвоение импера¬
тором религиозных титулов и т.п. С 1958 г. в одном из наиболее тесно связанных
с императорским домом святилищ, Мэйдзи, вновь по поручению императора
стали отправлять обряд "великого очищения" всей японской нации.
В 60—70-е годы были возрождены и другие упраздненные после войны
обряды императорского двора, которым придается официальный характер.
Произошло дальнейшее укрепление связей святилища Исэ дзингу с импера¬
14 Сюму дзихо (Религиозное обозрение), № 49, январь 1980.
93
торским домом. Такие шаги преследовали цель упрочения религиозного престижа
императора. Естественным результатом этого было усиление требований кон¬
сервативных сил о наделении императора функциями фактического главы
государства: ведь религиозный престиж всегда составлял основу его полити¬
ческой власти. Шагом в этом направлении явилось закрепление в 1979 г. в за¬
конодательном порядке системы летоисчисления по годам правления импе¬
раторов.
С пропагандой культа императора тесно связаны меры, направленные на
поддержку представлений об ’’уникальном характере' японской государствен¬
ности. Важнейшим мероприятием в этом плане было практическое восстанов¬
ление в 1966 г. главного праздника государственного синто — кигэнсэцу, Дня
основания империи, хотя и под новым названием — Дня основания государства.
По существу, эта акция означала официальное признание правительством син¬
тоистского мифа о создании японского государства, который ничего общего с
исторической действительностью не имеет.
Восстановление кигэнсэцу способствовало активизации сил, выступающих за
возрождение государственного синто. Начиная с 1967 г. по инициативе синтои¬
стских и ряда правых организаций ежегодно в День основания государства
проводятся собрания с участием членов правительства и депутатов парламента
от правящей ЛДП. С каждым годом в ходе этих мероприятий все шире ис¬
пользуется синтоистская обрядность, в высказываниях их участников все громче
звучит апологетика "уникального" характера японской истории, восхваление
тезиса "восемь углов под одной крышей", который японские милитаристы в свое
время использовали для оправдания своей захватнической политики. Словно в
насмешку над историей, тезис "восемь углов под одной крышей" объявляется
"подлинным идеалом миролюбия"15. Инициаторы указанных собраний все на¬
стойчивее выдвигают требование о том, чтобы организаторами их выступали
официальные власти, стремясь тем самым содействовать популяризации кигэн¬
сэцу среди населения.
Восстановление кигэнсэцу стимулировало и усиление наступления реакции на
систему народного образования. В 1966 г. Центральная совещательная комиссия
по вопросам образования приняла решение, в котором, в частности, подчер¬
кивалась необходимость воспитания у учащихся патриотических чувств, отожде¬
ствляя при этом любовь к родине с любовью к императору. Был взят курс на
включение в школьные учебники синтоистской мифологии, прежде всего мифа о
происхождении японского государства, за счет вытеснения научного объяснения
фактов древней истории Японии. В учебных пособиях исподволь стала про¬
водиться концепция об "уникальности" японской нации. Мифы синто вновь на¬
чали обретать политическую жизнь.
В последние годы движение за возрождение государственною синто настой¬
чиво требует передать под опеку государства святилище Ясукуни, посвященное
духам павших на войне. Эти требования встречают решительное сопротивление
со стороны демократических сил. Дело в том, что проблема Ясукуни выходит
далеко за рамки вопроса об отношениях между религией и политикой.
В наши дни святилище Ясукуни продолжает оставаться центром милитари¬
стской пропаганды, рассадником реакционных националистических идей. В его
пределах немало монументов, посвященных памяти японцев, павших в сра¬
жениях второй мировой войны. Здесь часто можно встретить одетых в по¬
лувоенную форму молодчиков из ультраправых националистических организаций,
которые, посещая святилище, получают соответствующий идеологический за¬
ряд. Не редки здесь и фигуры служащих так называемых сил самообороны —
возрожденной японской армии. Они приходят в Ясукуни иногда целыми группами,
15 Асахи симбун, 12.П.1982.
94
дабы почтить своих "героических" предшественников. В пределах святилища
правые и консервативные группы проводят кампании по сбору подписей под
своими воззваниями, распространяют пропагандистскую литературу. Культ Ясу¬
куни используется и в целях реабилитации тех, кто привел Японию на грань
национальной катастрофы: в 1978 г. здесь были обожествлены главные японские
военные преступники, приговоренные Токийским международным трибуналом к
смертной казни.
Совершенно очевидно, что передача Ясукуни под опеку государства пре¬
следует цель форсировать милитаризацию Японии. Именно на это обстоя¬
тельство обращают в первую очередь внимание демократические силы. Их
выступления по данному вопросу, как правило, увязываются с резкой критикой
милитаристских тенденций в политике правящих кругов страны. Курс на "ого¬
сударствление" Ясукуни справедливо квалифицируется ими как одно из звеньев
политики, направленной на идеологическую подготовку ремилитаризации и
превращение Японии в крупную военную державу.
В 1969 г. правящая ЛДП внесла в парламент законопроект о передаче
святилища Ясукуни под опеку государства. Шли годы, однако из-за решительных
протестов со стороны демократической общественности добиться утверждения
законопроекта не удалось. Тогда консерваторы изменили тактику: обществен¬
ность пытаются постепенно приучить к мысли о неизбежности этого акта.
Начиная с 1975 г. премьер-министры и другие члены правительства ежегодно
совершают поклонения в Ясукуни. В 1980 г. ЛДП включила в свою изби¬
рательную программу обещание придать таким поклонениям официальный
характер.
Проведенные в последние годы опросы общественного мнения показывают,
что все больше людей склоняется к передаче Ясукуни под опеку государства. В
поддержку этого требования приняты резолюции многими органами местного
самоуправления. Апеллируя к чувствам людей, потерявших на полях сражений
родных и близких, консервативные круги искусно используют в своих полити¬
ческих интересах укоренившиеся в значительной части населения религиозные
представления. В отношении многих японцев к данному вопросу на первый план
выступает приверженность культу предков, необходимость должного почитания
усопших. Вот почему они не видят ничего предосудительного в намерениях
государства взять под свою опеку святилище, посвященное павшим воинам. Не
удивительно, что курс правительства в этом вопросе пользуется поддержкой
Японской ассоциации осиротевших семей, насчитывающей в своих рядах свыше
2 млн. семей, потерявших родных в войнах, развязанных японским милитариз¬
мом. При этом ЛДП, демонстрируя свое рвение в данном вопросе, добивается в
то же время укрепления собственных политических позиций: во время избира¬
тельных кампаний местные отделения ассоциации по всей стране настолько
активно выступают в поддержку кандидатов ЛДП, что сами руководители
партии характеризуют ассоциацию как свою наиболее надежную опору на
выборах.
Сторонники возрождения государственного синто ищут возможности обойти
ныне действующую конституцию, которая, провозгласив отделение религии от
государства, служит серьезным препятствием на пути достижения их целей. Они
пытаются доказать, что синтоистские обряды, будучи религиозными по своему
происхождению, к настоящему времени утратили религиозное значение, пре¬
вратились в обычаи, укоренившиеся в жизни общества, а посему отправление их
с участием властей не является нарушением конституции16.
Другие идеологи возрождения государственного синто предлагают выделить
синто из числа религий, которые выполняют миссию "спасения" человеческой
16 Хо то сюкё (Закон и религия). Токио, 1973, с. 22—24.
95
души и потому являются личным делом каждого верующего. В отличие от них
синто концентрирует внимание на делах государства и служит общественным
интересам, и его следует рассматривать, считают они, как своего рода "граж¬
данскую религию", общую для всех японцев, независимо от их религиозной
принадлежности17. И в данном случае речь идет о восстановлении государст¬
венного синто, но только в новой форме и под новым названием.
Все это диктует характер политики демократических сил в отношении синто.
Их выступления направлены не против верований и традиций, составляющих
основу обрядности синто, а в первую очередь против попыток вновь в той или
иной форме навязать народу религиозно-политическую систему государственного
синто. В этих выступлениях участвуют политические партии трудящихся —
коммунистическая и социалистическая, профсоюзы, демократические женские и
молодежные организации, различные религиозные группы, представители интел¬
лигенции.
Формы борьбы против возрождения синтоистской "надрелигии" весьма разно¬
образны. Важное значение имеет разъяснительная работа среди населения. Это
понятно: часто консервативные силы пользуются невежеством людей, их не¬
осведомленностью в конституционных вопросах, слабым или односторонним
знанием истории, чтобы под видом сохранения "старых добрых традиций" за¬
крепить или восстановить реакционные институты. С 1974 г. в Осаке работает
постоянный семинар "Против передачи Ясукуни под опеку государства, против
императорской системы". С лекциями на семинаре выступают видные историки,
социологи, литераторы, общественные и политические деятели. Популярность их
выступлений с каждым годом возрастает. В них затрагивается широкий круг
вопросов, проблемы свободы совести увязываются с наиболее жгучими поли¬
тическими проблемами современности.
Хотя в последние годы заметен известный рост популярности представлений
об "уникальности" Японии и пути ее исторического развития, составлявших ядро
идеологии государственного синто, попытки возрождения этой религиозно¬
политической системы как таковой представляются бесперспективными. Этому
препятствуют не только все более укореняющиеся в общественно-политической
жизни демократические традиции, но, что не менее важно, свойственная японцам
высокая степень правосознания, воспитание на протяжении многих поколений
уважения к закону, в данном случае — к конституции, что обусловливает
болезненную реакцию общественности на любой шаг, чреватый угрозой ее
нарушения. Именно необходимость скрупулезного соблюдения статей консти¬
туции о свободе совести, отделении религии от государства служит для де¬
мократов главным юридическим аргументом в борьбе со сторонниками воз¬
рождения синтоистской надрелигии.
В то же время, очевидно, было бы неправильно делать вывод об однозначно
реакционной роли синтоистского духовенства и активистов среди прихожан
синтоистских святилищ в целом в общественной жизни Японии наших дней.
Тесная связь с историей и культурными традициями японского народа, опре¬
делившая высокую степень выживаемости синто, его адаптации к меняющимся
социально-экономическим условиям, позволяет этому религиозному институту в
новой обстановке играть определенную позитивную роль в различных аспектах
общественной жизни. Об одном из них хотелось бы сказать несколько подробнее.
Речь идет о роли синтоистских святилищ в деле защиты окружающей среды,
т.е. в решении проблемы, стоящей в Японии в силу известных обстоятельств —
небольшой территории, высокой плотности населения и скученности его в
немногих отдельных районах, постоянно растущего уровня урбанизации и ин¬
дустриализации — куда более остро, чем во многих других промышленно
17 Nanzan Institute for Religion and Culture, Bulletin № 2, Nagoya, 1978, p. 37—38.
96
развитых странах мира. Выше уже говорилось о том, что одной из важнейших
составляющих синто является культ природы во всех ее проявлениях. В синто
природа всегда выступала как бы посредником между человеком и божеством:
объектами поклонения были рощи, отдельно стоящие деревья, скалы, горы в
силу того, что божества либо обитали в них, либо ’’нисходили” на них в
определенные моменты. Для японцев издревле лес, роща ассоциировались с
понятием ’’обитель божества”.
Характерно, что само слово "дзиндзя", используемое для обозначения синто¬
истского святилища, по своему происхождению означает “лес божества”. Отсю¬
да — и отношение японцев к природному окружению синтоистских святилищ,
которое по причине его священности надлежит оберегать и содержать в чистоте.
Издавна оно было предметом особой заботы прихожан, добровольно прини¬
мавших участие в расчистке зеленых массивов, окружающих святилища, посадке
саженцев ценных пород деревьев и т.п. Немало случаев, когда довольно об¬
ширные зеленые массивы создавались именно благодаря сооружению нового
святилища. Крупнейший в японской столице парк, образующий "легкие” много¬
миллионного мегаполиса, был разбит в 1920 г. на месте пустыря в связи с
сооружением святилища Мэйдзи дзингу, посвященного духу императора Муцу-
хито (1868—1912). И таких примеров можно привести немало.
В наши дни, в условиях, когда обширные лесные массивы варварски унич¬
тожаются в связи с широкомасштабным дорожным, промышленным и жилищным
строительством, в ряде случаев единственным препятствием на пути к этому
становятся синтоистские святилища, постоянно решительно выступающие про¬
тив планов уничтожения их зеленого окружения. В этом легко убедиться, если
взглянуть на Токио с птичьего полета: в море серых бетонных громадин и
низкорослых жилых построек выделяются островки зелени. В подавляющем
большинстве это рощи при святилищах синто18.
Многовековая история синто служит еще одним подтверждением той непре¬
ложной истины, что религиозная идеология в зависимости от конкретной исто¬
рической обстановки может играть разную роль в общественно-политической
жизни. В свое время правители японского монархического буржуазно-поме¬
щичьего государства использовали специфические особенности синто для пре¬
вращения его в ультранационалистическую, шовинистическую доктрину. Эти
особенности сохраняются и сегодня. Сам по себе этот факт стимулирует дея¬
тельность тех, кто пытается регенерировать реакционную идеологию. Однако
приверженность большинства японцев демократическим завоеваниям послевоен¬
ных лет, продемонстрированная в многолетней борьбе в защиту конституции
страны, позволяет надеяться, что времена, когда такие попытки приносили
успех, стали достоянием прошлого. Вместе с тем атмосфера общественно-
политической жизни Японии наших дней дает основания рассчитывать на то, что
все большее развитие будет получать заложенный в синто позитивный потен¬
циал, под которым мы подразумеваем исторически сложившуюся функцию этой
религии сохранять и передавать от поколения к поколению традиционные
культурные ценности, способность культивировать в человеке чувство нераз¬
рывной связи со своей малой родиной, а через это — и со всей японской нацией,
т.е. чувство подлинного патриотизма, не имеющего ничего общего с узколобым
национализмом. И если такие тенденции возобладают, будет положен конец
предвзятому отношению к синто, все еще имеющему место за пределами
Японии. Более того, появятся основания говорить об универсальном опыте синто
в плане сохранения культурного наследия прошлого, а следовательно, и о
позитивной роли этой религиозной традиции в современном мире.
18 Маморэ тиндзю-но мидори (Защитим зелень святилищ). Токио, 1985, с. 47—48.
4 Новая и новейшая история, № 5
97
Воспоминания
© 1992 г.
Н.Т. ФЕДОРЕНКО
СТАЛИН И МАО ЦЗЭДУН
НА ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВАХ
В 1949 г. в связи с торжествами, посвященными 70-летию И.В. Сталина,
проводились разного рода массовые мероприятия, пресса славила гения, театры
показывали пьесы, прямо или косвенно связанные с жизнью и деятельностью
отца народов.
Для чествования юбиляра в Москву, как на Олимп, съехались партийные и
государственные лидеры многих стран мира. На сцене Большого театра один за
другим они поднимались на трибуну и произносили свои панегирики — один
цветистее другого. Примечательно, ораторы читали заранее приготовленные
тексты речей по-русски.
— А почему все они произносят речи по-русски, разве у них нет своих
национальных языков? — раздраженно спросил Сталин председательствовав¬
шего на торжественном заседании. Спросил довольно громко, даже я услышал.
— Извините, что сказал Сталин? — спросил меня Мао Цзэдун, которому я
переводил.
Получив ответ, Мао Цзэдун сказал:
— Видите, знание наказуемо. Но мне не страшно: по-русски я не знаю ни
слова.
Тем временем председательствующий собрался с силами и отвечал Сталину:
— Дело в том, что все гости заранее подготовили свои речи по-русски,
которым владеют. И теперь уже невозможно заставить их говорить на своих
национальных языках.
Когда подошла очередь Мао Цзэдуна, он попросил меня вместе с ним подойти
к трибуне и после того, как он произнесет речь, перевести ее на русский.
Собравшиеся в зале театра встретили Мао Цзэдуна овацией. Взволнованно
прочтя свою речь, он отошел в сторону, уступив мне место у микрофона. Но не
успел я произнести первой фразы, как услышал голос Сталина, вновь обра¬
тившегося к председательствовавшему:
— Вы бы объявили, что сейчас говорит переводчик Мао Цзэдуна, а не новый
оратор.
Замечание Сталина застало председательствовавшего врасплох. Поначалу он
словно бы окаменел. Затем заерзал в кресле, стал судорожно перебирать
бумажки на столе, но никак не мог найти моей фамилии.
— Что вы там суетитесь, — бросил Сталин, — фамилия переводчика
Федоренко, профессор...
Федоренко Николай Трофимович — Чрезвычайный и Полномочный Посол, на дипломатической
работе с 1939 по 1968 г.» заместитель министра иностранных дел, постоянный представитель СССР
при ООН, член-корр. РАН, известный синолог, автор многих трудов по истории культуры Китая и
Японии.
98
Председательствовавший с дрожью в голосе объявил мою фамилию, и я
продолжил перевод речи Мао Цзэдуна.
Через несколько дней начались переговоры между Сталиным и Мао
Цзэдуном. Их встречи и беседы проходили обычно на подмосковной даче
Сталина в Кунцеве. Время всегда было ночное, его назначал сам Сталин.
Говорили, что ему это было привычно еще со времен подпольной работы и
ссылки.
Вообще, в то время считалось правилом работать чуть ли не до утра: вождь
не спит, и вы не должны отсыпаться. И мы сидели часто без толку, отдавая все
силы сражению со сном.
За большим столом, в самом начале которого находился Сталин, как правило,
располагались члены Политбюро ЦК ВКП(б) согласно субординации. Мао
Цзэдун сидел в одном ряду с Хозяином, я как переводчик был между ними.
Китайские товарищи размещались по соседству со своим лидером, также
соблюдая партийную иерархию.
Зеркально отполированный стол из светлого дерева всегда был сервирован
одинаково: у каждого места — обеденный прибор, бокалы, рюмки, минеральная
вода, несколько бутылок грузинского сухого вина. Водка никогда не подавалась.
На столе — блюда с парниковыми овощами и зеленью.
В конце большого стола находился накрытый сервировочный столик. Каждый
подходил к нему и брал еду по собственному вкусу. Сталин имел обыкновение
рекомендовать некоторые блюда: харчо, борщ, шашлык. Угощений было не¬
много, но приготавливались они с большим вкусом. Прислуги в комнате никогда
не было: обходились без лишних ушей и глаз. Приходила лишь одна официантка,
которая приносила что-либо горячее, показывала его Хозяину и затем, поставив
на сервировочный столик, быстро уходила. Вино каждый наливал себе сам, но
пили очень экономно, большинство участников переговоров скорее делало вид,
что выпивает. Все предпочитали лишь пригубить, считая, что истина не в вине.
Графин с коньяком, стоявший в центре стола, шел по кругу только в одном
случае, когда подходило время произнести тост в честь Сталина. Это делал
сидевший напротив Хозяина Берия. Рядом со столовым прибором у него всегда
стояла миска с зеленым луком, петрушкой, кинзой. Только у него. Он ударял
ладонью или хрустальным стаканом по столу, возвещая о наступлении самого
торжественного момента, окидывал всех своим хищным взглядом, чтобы
убедиться, все ли наполнили свои рюмки коньяком, и, стоя, произносил тост,
Состоящий всего из нескольких слов: за здоровье товарища Сталина, до дна!
Предполагалось, что все дружно осушат бокалы.
Сталин обычно отпивал один-два глотка сухого вина из своего хрустального
бокала на ножке, смешивая красное и белое. Он наливал его из двух рас¬
положенных справа от него бутылок, которыми пользовался только он один.
Темы бесед с Мао Цзэдуном были самые различные. Строгой повестки дня не
существовало. Практически происходил диалог между Сталиным и Мао Цзэ¬
дуном. Остальные глубокомысленно молчали. В ходе непринужденного разговора
собеседники обменивались суждениями по военным, политическим, экономи¬
ческим и идеологическим вопросам. Именно так были согласованы принци¬
пиальные положения Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между
Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. Конкретные переговоры
по содержанию статей договора велись также между делегациями — советской
во главе с первым заместителем Председателя Совета Министров СССР А.И.
Микояном и китайской, возглавлявшейся премьер-министром КНР Чжоу Энь-
ласм. Договор был подписан 14 февраля 1950 г. министрами иностранных дел
СССР и КНР — А.Я. Вышинским и Чжоу Эньлаем, который в то время
совмещал оба поста. При подписании договора присутствовали Сталин и Мао
Цзэдун, а также члены Политбюро ЦК ВКП(б) и ЦК КПК.
4*
99
Согласование основных положений договора между Сталиным и Мао Цзэ¬
дуном проходило спокойно, без каких-либо расхождений. Собеседники понимали
друг друга с полуслова.
В военно-стратегическом отношении договор предусматривал совместные
действия, чтобы воспрепятствовать возрождению японского империализма и
повторению агрессии со стороны Японии или какого-либо другого государства,
которое прямо или косвенно объединилось бы в любой форме с Японией в актах
агрессии. Это означало, что если одна из стран подвергнется нападению Японии
или ее союзников, то другая страна немедленно окажет военную или иную
помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Из этого вытекало
желание двух соседних государств укреплять длительный мир и всеобщую
безопасность на Дальнем Востоке и во всем мире в соответствии с целями и
принципами ООН. Стороны при этом выразили готовность в духе искреннего
сотрудничества участвовать во всех международных действиях, имеющих своей
целью обеспечение мира и безопасности во всем мире, и подтвердили намерение
полностью отдавать свои силы скорейшему их осуществлению. Была зафик¬
сирована обоюдная уверенность в том, что укрепление добрососедства и дружбы
между СССР и КНР отвечает коренным интересам народов этих стран. Стороны
обязались консультироваться друг с другом по всем важным международным
вопросам, затрагивающим общие интересы Советского Союза и Китая, руко¬
водствуясь интересами укрепления мира и всеобщей безопасности.
Договаривающиеся стороны взяли на себя обязательства в духе дружбы и
сотрудничества и в соответствии с принципами равноправия, учета взаимных
интересов, а также уважения государственного суверенитета, территориальной
целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга стремиться
развивать и укреплять экономические и культурные связи между Советским
Союзом и Китаем, оказывать друг другу всякую возможную экономическую
помощь и осуществлять необходимое экономическое сотрудничество.
Во время переговоров Сталина и Мао Цзэдуна помимо договора было сог¬
ласовано содержание Соглашения между СССР и КНР о Китайской Чань-
чуньской железной дороге, Порт-Артуре и Дальнем.
Речь шла о том, что после 1945 г. произошли коренные изменения в обста¬
новке на Дальнем Востоке, а именно: империалистическая Япония потерпела
поражение; реакционное гоминьдановское правительство было свергнуто; Китай
превратился в народно-демократическую республику, создавалось новое народ¬
ное правительство, которое объединило всю страну, осуществило политику
дружбы и сотрудничества с Советским Союзом и доказало свою способность
отстоять государственную независимость и территориальную целостность стра¬
ны, национальную честь и достоинство китайского народа.
Все это давало возможность по-новому рассмотреть вопросы о Китайской
Чаньчуньской железной дороге, Порт-Артуре и Дальнем и заключить по этому
поводу специальное соглашение. Советское правительство согласилось передать
безвозмездно КНР все права на управление дорогой, включая принадлежащее ей
имущество. Было предусмотрено, что передача будет совершена непосред¬
ственно после заключения мирного договора с Японией, однако не позже конца
1952 г.
Было также достигнуто соглашение о том, что советские войска будут
выведены с территории совместно используемой военно-морской базы Порт-
Артур и сооружения в этом районе будут переданы КНР непосредственно после
заключения мирного договора с Японией, однако не позже конца 1952 г., с воз¬
мещением правительством КНР СССР затрат по восстановлению и строи¬
тельству сооружений, произведенных Советским Союзом с 1945 г.
Было принято решение, что вопрос о порте Дальнем будет рассмотрен после
100
заключения мирного договора с Японией. Дальний позже был передан Китаю,
несмотря на то, что мирный договор с Японией подписан не был.
В связи с согласием правительства СССР удовлетворить просьбу прави¬
тельства КНР о предоставлении Китаю кредита для оплаты оборудования и
других материалов, которые Советский Союз согласился поставить Китаю, была
достигнута договоренность о предоставлении правительству КНР советского
кредита в сумме 300 млн. долл. США. Принимая во внимание колоссальные
разрушения, вызванные длительными военными действиями на территории
Китая, советское правительство согласилось предоставить кредит на льготных
условиях из одного процента годовых.
Таким образом, в историю взаимоотношений Советского Союза и Китая была
вписана новая важная страница. Подписанием упомянутый договора и соглаше¬
ний закреплялись исторические связи между советским и китайским народами.
Выступая с речью при подписании документов, Чжоу Эньлай заявил:
"Заключение указанных Договора и Соглашений основывается на коренных
интересах великих народов Китая и Советского Союза и является показателем
братской дружбы и вечного сотрудничества между Китаем и Советским Союзом.
Заключение договора и Соглашений является особым выражением горячей
помощи революционному делу китайского народа со стороны Советского Союза,
направляемого политикой Генералиссимуса Сталина. Не подлежит никакому
сомнению, что это тесное и искреннее сотрудничество Китая и Советского
Союза имеет в высшей степени глубокое историческое значение и неизбежно
будет иметь отрадное влияние и результаты для дела мира и справедливости
народов Востока и всего мира"1.
Выступая на московском вокзале перед отъездом, Мао Цзэдун, в част¬
ности, заявил: ‘Трудно передать словами то полное взаимопонимание и глубокую
дружбу, которые созданы на основе коренных интересов наших великих народов
Китая и Советского Союза. Все видят, что сплочение великих китайского и
советского народов, закрепленное Договором, является долговечным, неруши¬
мым и непоколебимым. Это сплочение неизбежно влияет не только на про¬
цветание великих держав Китая и Советского Союза, а также на будущность
всего человечества и поведет к победе справедливости и мира во всем мире"2.
Отмечу, что в фильме "Риск", показанном по Центральному телевидению в
1988 г., допущена ошибка в освещении этих событий. Дело в том, что на
опубликованном 15 февраля 1950 г. в нашей печати снимке Сталин и Мао
Цзэдун стоят рядом. За несколько минут до фотографирования мне пришлось
переводить их разговор в связи с успешным подписанием договора. Они были в
добром расположении духа.
Комментатор же фильма по поводу этого снимка совершенно произвольно
заявил, что вид и позы Сталина и Мао Цзэдуна говорят сами за себя: китайский
лидер явно недоволен тем, что возвращается домой с пустыми руками. Ему не
удалось получить в Москве ядерное оружие...
Это — чистая фантазия авторов фильма. Можно ли подобные домыслы
выпускать в эфир? Такого рода заявления в международных делах не остаются
без внимания. Нужно ли говорить о необходимости серьезного отношения к
экрану и телевидению? Мао Цзэдун во время переговоров со Сталиным вообще
не поднимал вопроса о ядерном оружии. Об этом речь зашла значительно позже,
не в 1950 г., а в 1958 г. в Пекине, когда Н.С. Хрущеву, возглавлявшему
правительственную делегацию, пришлось вести переговоры с Мао Цзэдуном.
Договор явился кульминацией московских встреч и переговоров лидеров
1 Правда, 15.П.1950.
2 Правда, 18.П..950.
101
великих держав. То был смелый шаг. Беспрецедентное по значимости и мас¬
штабу соглашение. Это историческое событие было встречено с чувством
большого удовлетворения не только в Советском Союзе и Китае.
Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между Советским Союзом и
Китаем, говорилось в статье шестой, остается в силе в течение 30 лет, причем,
если одна из договаривающихся сторон за год до истечения срока не заявит о
желании денонсировать договор, то он будет пролонгироваться (продлеваться)
каждые пять лет.
Увы, жизнь договора была прервана по истечении первого срока действия.
Китайское руководство денонсировало его.
Как-то во время бесед у Сталина Мао Цзэдун, вспоминая нелегкие дни былых
сражений против гоминьдановской армии, рассказ гл, как войсковое соединение
коммунистов оказалось в окружении сил противника. Создалась крайне опасная
ситуация. Шли ожесточенные бои. Но блокаду прорвать никак не удавалось. И
тогда командующий обратился к своим бойцам с призывом: ”Не взирать на
трудности, не страшиться испытаний, смотреть на смерть как на возвращение".
Афористическое это выражение понять на слух мне было трудно. И я
попросил Мао Цзэдуна написать эту фразу на листе бумаги иероглифическими
знаками. Взяв бумагу и перо, он быстро изобразил своими характерными,
острыми штрихами восемь иероглифов. Мы и ранее нередко прибегали к
иероглифике. Во-первых, не всегда легко воспринимать на слух цитаты из
древних сочинений, написанных на архаичном языке — гувэнь или вэньянь,
предназначенном для глаза, а не для уха. Во-вторых, Мао Цзэдун говорил на
своем родном провинциальном диалекте — "фуланьском" (хунаньском), который
значительно отличался от северного, пекинского языка. И это требовало от
переводчика особого внимания к артикуляции и произношению собеседника.
Все знаки, каждый в отдельности, мне были хорошо знакомы. Но уловить
смысл не удавалось из-за последнего иероглифа — "гуй" — "возвращаться".
Пришлось вновь просить Мао Цзэдуна объяснить значение этого иероглифа и
дать свое толкование афоризму в данном контексте.
Позволю себе заметить, что иероглифика, помимо всего, обладает особым
качеством — объемностью и глубиной. "Строка кончается, а мысль безгранич¬
на" — сказал один древний китайский поэт. Это прежде всего указывает на
необходимость зрительного восприятия написанного, на фразеологию, слово¬
сочетание, исторический контекст. К тому же необходимо научиться читать
иероглифы не изолированно, что не так уж сложно, но в их сочетании. А это
гораздо сложнее. Словом, нужно шагнуть за отдельный иероглиф и войти в
многослойную толщу письменной культуры минувших веков, а нередко и ты¬
сячелетий.
— Вы еще долго будете заниматься здесь конспирацией? — неожиданно для
меня раздался повелительный голос Сталина. Словно электрический разряд
пронзил меня. О несдержанности этого человека мне было известно и раньше, но
в тот момент...
— Дело в том, — начал я виноватым тоном, — что у меня возникло за¬
труднение с пониманием...
— Не слишком ли растянулось ваше затруднение? — Это было похоже на
предварительное обвинение. По крайней мере, именно так я это понял. Хорошо
бы перед началом разговора выбрать верный тон. Ясно было, что уважи¬
тельность отнесена здесь к понятиям, которые исчезли из лексикона при
общении с людьми, как давно исчезли воспитанность, тактичность, милосердие.
Увы, многое исходит из уст самих правителей.
— Тут один иероглиф... — снова попробовал было я.
— Уж не хотите ли вы вовлечь нас в дебри иероглифической мудрости? — не
102
унимался Сталин. И мне подумалось: факир пытается поймать черную кошку в
темной комнате, хотя ее там нет.
— В сущности, дело лишь в одном иероглифе, — торопливо сказал я, — но
его значение в буквальном переводе...
— Потрудитесь перевести этот знак и всю фразу буквально! — пове¬
лительно, но без ярости сказал Хозяин.
Я это сделал. Сталин, который в моих глазах был изощренным словесным
искусником, задумался. Затем после непродолжительной паузы спросил:
— А каково толкование товарища Мао Цзэдуна? — продолжал допрашивать
он. И у меня возникло подозрение: неужели вождь мог допустить, что пере¬
водчик претендует на какую-то вольность?
— Именно это я и спросил, но Мао Цзэдун еще не успел ничего сказать, —
ответил я и почему-то подумал: однозначность редко бывает в жизни. Гораздо
чаще встречаются полутона — позитивное рядом с негативным, свет сосу¬
ществует с тенью.
— Ну что ж, продолжайте секретничать! — сказал Сталин, не поворачивая
головы в мою сторону. Зато голова Берии, его пронзительные глаза в пенсне,
казалось, были повернуты в мою сторону. Берия в обсуждении вопросов участия
нс принимал. Он лишь следил за другими — их словами и поведением. Для него
именно это было существенным. Я ощущал его пронзительный взгляд, напо¬
минавший приглашение на казнь. Так и напрашивались слова поэта: "с мер¬
завцем не водись, не будь с презренным рядом”. Еще древний мудрец Конфуций
две с половиной тысячи лет назад предупреждал: ”С лично совершившим
недоброе благородный муж не вступает в близость". И призывал: "Служить
справедливости людей. Уважая чертей и духов, держаться от них подальше”.
Снова обращаюсь к Мао Цзэдуну за пояснением. Выражение это, сказал он,
принадлежит знаменитому полководцу древнего Китая Ио Фэю, жившему в
XII в.
— Иероглиф "гуй", — продолжал Мао Цзэдун, — выступает здесь не в
обычном смысле — "возвращаться", "снова приходить”. В историческом кон¬
тексте изречение "гуй" означает "возвращение в первосостояние". И хотя имя
Ио Фэя известно многим в Китае, но далеко не всякий китаец знает подлинный
смысл этих крылатых слов. Таким образом, выражение это следует понимать
так: "Презреть все трудности и мучения, смотреть на смерть как на свое
возвращение в первосостояние", первообитель.
Терпеливо выслушав перевод объяснения Мао Цзэдуна и поразмыслив,
Сталин тихо произнес:
— Талантливый, видимо, был этот полководец... Бесстрашием отмечен... и
мудростью.
И я чуть ли не физически ощутил как нависшая надо мной опасность
отступила.
Вернувшись домой лишь к утру, я прежде всего бросился к толковому
словарю китайской фразеологии и вновь проверил себя, правильно ли я понимаю
изречение Ио Фэя. И только убедившись в том, что не ошибался, я смог
спокойно заснуть. Мудрость гласит: с горем нужно переночевать. А ведь когда я
пытался говорить с вождем, то ощущение было далеко не оптимистическое,
будто последний раз участвую в диалоге, как в рукопашной. Мое желание
добраться до истины, видимо, представлялось вызывающим. Нужно было объяс¬
ниться с самого начала: столкнулся с трудностями, уточняю у собеседника. Ведь
фактически я сам дал повод для "выяснения отношений”.
Вообще же Сталин во время бесед с Мао Цзэдуном всегда был спокоен,
выдержан, внимателен к гостю. Он никогда не отвлекался ни на что другое. Был
всецело сосредоточен на содержании беседы. Следил за точностью выражений,
строением фразы, отбором слов при переводе, был предельно взыскателен к
103
изложению мысли, формулировкам, речевой нюансировке, нетерпим ко всякой
фразеологической неряшливости и замшелости.
Помнится, как во время встречи Сталина с секретарем ЦК КПК Лю Шаоци
на подмосковной "дальней даче" возникла необходимость послать информацию
по важному вопросу Мао Цзэдуну, находившемуся тогда в Пекине.
— Думаю, что мы должны немедленно информировать товарища Мао
Цзэдуна по этому вопросу, чтобы он знал и нашу точку зрения. Нет ли иных
соображений, товарищи? — обратился Сталин к сидевшим за столом членам
Политбюро ЦК ВКП(б).
бее молчали, как обычно в таких случаях, хорошо понимая, что раз вождь
сказал, так оно и будет.
— Кто бы взял на себя труд сформулировать текст телеграммы? —
продолжал Сталин.
Никто не нарушил царившей тишины.
— Мы только что договорились, что пошлем информацию, а теперь... может
быть, товарищ Маленков? — спросил он опустившего глаза секретаря ЦК
ВКП(б).
Но тот и нс шелохнулся, если не считать того, что, как мне показалось, у
него будто уши оттопырились.
Когда человек уверен в себе, он должен выходить на ринг. Но на ринг никто
не выходил.
— Никто не желает, значит... Тогда попросим... впрочем, просить не будем.
Сам займусь. — довольно решительно сказал Сталин, вызвал стенографистку и
начал диктовать, прохаживаясь вдоль стола заседаний.
Мне пришлось переводить на китайский язык "диктовку" для Лю Шаоци,
который, разумеется, очень внимательно слушал и ловил каждое слово. Сталин
говорил медленно, четко, будто чеканил каждое слово. После очередной фразы
останавливался и напоминал стенографистке о необходимости строго соблюдать
его пунктуацию, не менять фразы, не переставлять слова. Он привык говорить
один раз. И я постепенно усвоил это.
Закончив диктовать, Сталин попросил быстро отпечатать текст в количестве,
соответствующем числу присутствовавших. Вскоре перед каждым из нас лежал
лист бумаги с информацией на полстраницы. По просьбе Лю Шаоци я вновь
перевел ему текст, который иначе как лапидарным и не назовешь и из которого
нельзя было выбросить ни единого слова, ни одного знака препинания. Все это
внушало расположение к лидеру, ибо, казалось, основательным и без заумности.
Прочтя текст, Сталин вновь обратился к присутствовавшим:
— Если все ознакомились с текстом, то прошу высказаться, может быть, что-
либо добавить или опустить?
Никто не произнес ни единого звука. Все было ясно, как в букваре.
— Отличный текст, товарищ Сталин, — нарушил молчание Лю Шаоци и
добавил, — информация краткая, но исчерпывающая. Разрешите вас побла¬
годарить и поздравить, товарищ Сталин.
"Да, да, прекрасно, — заговорили все присутствовавшие, — поздравляем вас,
товарищ Сталин".
СТАЛИН И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
В лихое это время непререкаемый авторитет Сталина неуклонно транс¬
формировался в культ личности. Всемогущий монарх, он окончательно перестал
считаться с другими, стал повелителем, перед которым трепетали все страны,
если не сказать мир. Он не терпел возражений, и в значительной степени этому
способствовало его окружение. Оно состояло из угодников, лицемеров и карь¬
еристов, стоявших стеной вокруг вождя и не допускавших к нему само-
104
стоятельно мыслящих людей. Не знания и не компетентность людей, а их слепая
верность, лакейская преданность служили подчас критерием выдвижения на
высшие должности.
Сталинизм создавал государственный режим, при котором вождь становился
не только царем и помазанником божьим, как бывало в России, он возносился
выше, означал больше, он обожествлялся.
Между тем многим из этих "слуг народа" и номенклатурных аппаратчиков
давно было пора уйти на "заслуженный" отдых. Но одни к "работе" навечно
прикипели, а другие уж больно верны были партийному своему "долгу" — кто
еще, кроме них, способен так безропотно нести на себе этот "тяжкий крест". Я
не помню случая, чтобы кто-то из этой "славной когорты" набрался мужества и
покинул кресло добровольно по причине осознанного несоответствия занима¬
емому положению. Ни один из них не явил пример человеческого благородства.
Ни один не восстал против насаждавшегося Сталиным режима, не отказался его
признать. Ни один. Все стояли насмерть, конечно, до тех пор, пока "отец
народов" не принимал своего решения.
Сталин не был одинок. Отнюдь. Его окружали соучастники. Он стал оли¬
цетворением деспотических порядков — сталинизма, корни которого глубоко
проросли в обществе и до сих пор не выкорчеваны до конца. Ничему, казалось,
они не научились и не склонны были учиться. Они сами создавали миф о
собственной исключительности, возвышаясь над всеми остальными, вели себя
как помазанники божьи. И многие из них до сих пор считают, что закон писан не
для них.
Возвращаясь к теме бесед Сталина и Мао Цзэдуна, отмечу, что многое тут
было внешним проявлением. Сталин искусно носил маску, за которой скрывалось
нечто непостижимое. Тем более, что он обладал мягкостью жестов, тонкостью
интонаций. Это не только подкупало, но и располагало к нему собеседников.
Едва ли можно отрицать, что Сталин был наделен какой-то гипнотической
силой, грозностью, демонической державностью. Это, конечно, личное мое впе¬
чатление. Весь его облик, манера держаться, беседовать как бы внушали окру¬
жающим, что власть должка быть таинственной, ибо сила власти — ее не¬
разгаданность. Отсюда и культ его личности. Сталин был окружен загадоч¬
ностью, секретностью, окутан великой таинственностью. Я пишу о своих лич¬
ных ощущениях, которые, быть может, не всегда и не во всем объективны.
Восприятие каждого человека очень индивидуально, но оно должно быть
искренним.
Само место собеседований, как я его ощущал, напоминало поле ночных
демонических сил. Достаточно было Сталину появиться в комнате, как все
вокруг будто переставали дышать, замирали. Вместе с ним приходила опасность.
При Сталине рождался страх. Страх же плодил подхалимство и угодничество,
компромиссы и предательство, подлость, преступления.
Сама атмосфера кабинета Сталина заставляла человека испытывать страх. А
это ощущение лишает людей способности самостоятельно мыслить, выбирать,
самой возможности оставаться личностью. Они становятся пассивными свиде¬
телями происходящего, творимого культом. Кому-то принадлежит меткая мысль:
"Ближе всего к королю бывают пешки". Как говорится, во всякой шутке есть
доля истины.
Вспоминается эпизод, о котором мне как-то рассказал один известный
партийный деятель, бывший тогда главным редактором газеты "Правда", а
затем секретарем ЦК КПСС.
— Сидел поздно ночью, — вспоминал он, — над версткой очередного номера
"Правды". Вдруг звонок по кремлевскому телефону. Не отрываясь от газетной
полосы, я снял трубку.
— Это говорит Сталин, — раздался голос в трубке.
105
— Какой еще там Сталин? — вырвалось у меня.
— Тот самый... — услышал я в ответ. И поняв всю нелепость ситуации,
попытался было оправдаться. С тех пор у меня, видите, нервный тик, кажется,
на всю жизнь.
Когда же Сталина не было в комнате, я порой оказывался невольным
свидетелем стихийного разговора сидевших за столом людей, облеченных без¬
граничной властью, немыслимыми правами. Высшее руководство даже в от¬
сутствии Хозяина демонстрировало беззаветную ему преданность, ибо никто не
знал, кто первый пойдет докладывать, что говорили другие.
По воле случая мне пришлось как-то стать свидетелем одного эпизода,
связанного с культурой речи. Под председательством Сталина шло заседание
Политбюро ЦК ВКП(б), рассматривался вопрос о неблагополучном положении в
сельском хозяйстве. Н.С. Хрущев сделал довольно утомительный доклад, часто
повторялся, явно злоупотреблял словами-паразитами, при этом он рьяно на¬
стаивал на непременном принятии решений немедленно, в самом срочном по¬
рядке. Заметим, однако, что за словесными сорняками у докладчика явно обна¬
руживалась глубина подхода и большой политический опыт. Этого у Хрущева
было не отнять. Многое прощается человеку, когда есть мысль и содержание.
По природной одаренности с Хрущевым мало кто мог сравниться из ближайшего
окружения Сталина.
Терпеливо выслушав доклад, Сталин продиктовал решение: во-первых, ввиду
срочности рассмотрение вопроса отложить; во-вторых, обязать товарища Хру¬
щева серьезно заняться русским языком.
Я думал, что последует какая-то реакция, по крайней мере, кто-либо удив¬
ленно вскинет брови. Но ничего похожего не произошло. Все сидели с опу¬
щенными лицами.
Никита Сергеевич, сильно задетый этим издевательством, вел себя с до¬
стоинством. Не стал возражать, понимая, что Сталин не без умысла унижает
его.
Жаль только, что решение по этому вопросу коснулось одного Хрущева.
Следовало бы, по крайней мере, распространить его на целый ряд других
представителей правящей элиты. Тогда бы и курсы по усовершенствованию
русского языка можно было бы создать не ради одного человека (слишком
большая роскошь!), а для группы сановных лиц, не умевших и лба перекрестить,
как говорили на Руси.
Сталин не упускал случая внезапно напасть на другого. И пользовался этим
качеством весьма ловко. Мне неоднократно приходилось наблюдать, как он
умело переводил разговор на другую, выгодную ему тему, скрывая истинный
смысл фразы легким намеком или умолчанием.
У Хрущева характер был строптивый. Это известно. Его трудно было в чем-
то переубедить. Он упорствовал даже тогда, когда знал, что ему говорят
правду. Внутренне правду он, кажется, не отвергал. Но о Хрущеве — потом.
Уровень компетентности многих лиц высшей сферы не мог не вызывать
глубокого огорчения. Это были безликие фигуры. А ведь именно верхушка
создавала в обществе определенный климат. Кому-то принадлежат слова:
завхозу, быть может, цены нет, если он на своем месте. Никто, однако, не делал
сколько-нибудь серьезных выводов о себе и для себя.
Не без причины среди дипломатов ООН получил популярность анекдот:
— Скажите, можно ли в газету завернуть слона?
— Можно, если напечатать речь Громыко на сессии Генеральной Ассамблеи.
Примечательно, что речи эти раз от раза из года в год были точного
стереотипного размера. Изготовляли их по одному и тому же шаблону — ровно
целая газетная полоса. Фраза в фразу. Буква в букву. Вот уж не скажешь: речь
его свежа, будто утренняя роса в саду. И никого это не обескураживало.
106
Невольно напрашивается вопрос, понимал ли все это Сталин, знал ли
ближайшее свое окружение? Вне всякого сомнения. Сталин был человеком не¬
заурядным, волевым, прекрасно информированным. В лучшие свои годы, ра¬
зумеется. Но был он и талантливым лицедеем и искусным режиссером. Кроме
того, был великим манипулятором. Мог заставить поверить в любой сценарии
или спектакль, разыгранный в театре одного актера. Он постоянно играл на
столкновении зла и добра, порядочности и амбициозности, правды и демагогии.
Владел диалектикой света и тьмы.
В этой связи невольно возникает вопрос: каким образом власть — большая
или малая — оказывается у людей, не имеющих на то морального права? Каким
образом они выдвигались? Кто их выдвигал и почему? Сталин, конечно же, тонко
разбирался в окружавших его людях. Стоявшие вокруг вождя лица едва ли ему
угрожали. Они для него не были соперниками, ибо во всех отношениях стояли
ниже его. Они всего лишь назначенные. Сталин прежде всего подбирал людей
ему преданных, служивших Хозяину “верой и правдой”. Безжалостно расправ¬
лялся и избавлялся от неверных или сомнительных. И все же трудно отделаться
от впечатления, что если не каждый, то некоторые из них подумывали в тайне о
шансе занять кресло Хозяина. Дальнейшие события — свидетельства этой
амбициозности: Хрущев, Брежнев, Черненко, Андропов. По моим наблюдениям,
эти деятели не были обременены особыми способностями и дарованиями. Но
была жажда власти, и в стремлении обладать ею они не останавливались ни
перед чем.
Нравственная норма упивающегося властью — унижение себе подобного,
издевательства над подчиненными, садизм. И чем выше взбирается карьерист по
лестнице, тем большая опасность ему угрожает. Зная это, человек, мечтающий
о власти, все же карабкается по ступеням иерархической лестницы, к державным
высотам. У одних это инстинкт самосохранения, у других — амбициозность.
Окружающие, обстоятельства и собственные стремления вынуждают к этому
третьих.
И все же самое большее у нас пока — обсуждение умерших, бывших лидеров.
Мужественно сражаемся с кладбищенскими призраками. Сподвижники же и
действительные проводники воли вождя нередко ничем не поплатились: про¬
должают пребывать в креслах власти, меняя их время от времени. И пере¬
делывать себя не собираются.
... Как-то во время одной из встреч, как всегда на подмосковной даче, Мао
Цзэдун, с которым мне пришлось сидеть рядом, шепотом спросил меня, почему
Сталин смешивает красное и белое вина, а остальные товарищи этого не
делают. Я ответил ему, что затрудняюсь объяснить, лучше спросить об этом
Сталина. Но Мао Цзэдун решительно возразил, заметив, что это было бы
бестактным.
— Что у вас там за нелегальные перешептывания, от кого таитесь? —
раздался голос Сталина у меня за плечом.
— Дело в том, что... — пытался я ответить дрожащим голосом.
— Да, именно дело, — бросил Сталин.
— Товарищ Мао Цзэдун интересуется, почему вы смешиваете разные вина, а
другие этого не делают, — выпалил я.
— А почему же вы не спрашиваете меня?
Я давно уже заметил, что Хозяин мне не доверяет. А может быть, это у него
болезненная подозрительность? Всегда и ко всем?
— Извините, но Мао Цзэдун настаивал этого не делать, считая такое
обращение к вам нарушением приличий...
За столом послышался легкий смех.
— А вы кого предпочитаете здесь слушать? — не без лукавства спросил меня
Сталин. Затем, улыбнувшись, стал объяснять гостю, почему он смешивает вина:
107
— Это, видите ли, моя давняя привычка. Каждое вино, грузинское в осо¬
бенности, обладает собственным вкусом и ароматом. Соединением красного с
белым я как бы обогащаю вкус, а главное, создаю букет, как из пахучих
степных цветов.
— Какое же, товарищ Сталин, вино вы предпочитаете — красное или белое?
— спросил Мао Цзэдун, для которого виноградное вино было культурой чуждой.
В то время в Китае только начали производить виноградное вино, да и то только
в городе Циндао, где раньше была немецкая колония. Немцы и начали его
делать.
— Чаще предпочитаю белое виноградное, но верю и в красное. Как-то давно,
в ссылке, я заболел тифом, и один добрый врач в тюремном госпитале тайком
выходил меня малыми дозами красного вина, кажется, испанского. Он спас меня
от верной смерти. С тех пор я как-то проникся сознанием целебности красного
вина, — задумчиво сказал Сталин.
И снова я особенно остро почувствовал, что переводчик — это для некоторых
сановных лиц лишь автомат. Им чуждо было понимание того, что человек
остается самим собой даже в самых экстремальных обстоятельствах. Ему ни на
миг не положено отвлекаться или увлекаться поисками истины, ибо таким
образом он неизбежно создает ложное о себе представление в глазах само¬
уверенных фанфаронов, дает повод дурно о себе думать,
У многих возникает вопрос, каково же отношение к переводчику там, "в
сферах”. Разное, пожалуй. У одних — разумное, у других — скептическое. У
третьих — надменное, как к неодушевленному предмету. Достойно сожаления,
но это не только мое личное ощущение. В. Суходрев, переводивший многих
высокопоставленных деятелей, так писал об их к себе отношении: " Бывало и
такое, что относились, как к табуретке..." Уточняя кто именно так относился, он
назвал, в частности, Булганина и Ворошилова. "Ворошилов вообще был неда¬
леким человеком. А в конце 1956 г., когда я начал с ним работать, он уже
страдал старческим маразмом. Вот для него переводчик был ниже самого
последнего деныцика".
О Брежневе Суходрев отзывался так: «Лично мое мнение: необразованный,
незнающий. Ленящийся читать даже то, что ему давали. Он не хотел глубоко
вникать ни в один вопрос и при этом отделывался фразами типа "тут надо
посоветоваться", "тут надо подумать"».
Отвечая на вопрос журналиста о том, не было ли ему страшно за страну да и
за себя в то время, Суходрев отметил: "Страшно — нет. Стыдно — да. Мне
стало особенно стыдно во время беседы один на один Брежнева и Картера.
Тогда Брежнев уже без бумажки ничего не произносил. Беседа один на один
заключалась в том, что Брежнев зачитывал подряд заранее приготовленные
тексты, плохо воспринимая то, что говорил в ответ Картер. Для того, чтобы
отреагировать на всевозможные вопросы, несколько заготовок дали и мне. В
случае необходимости я должен был передать их Брежневу. Среди бумаг одна
была особой. Все зависело от того, как Картер поставит вопрос: или следовало
чйтать всю заготовку ответа, или только половину. Когда Картер задал вопрос,
я зачеркнул в тексте ненужную часть и передал листок Брежневу. Он начал
читать и, добравшись до зачеркнутого, обернулся ко мне? "А дальше читать не
надо? "Не надо", — ответил я и с ужасом посмотрел на Картера и его пе¬
реводчика, которые внимательно наблюдали за этой сценой, прекрасно понимая,
что происходит. Мне стало по-настоящему стыдно".
Мой личный опыт в дипломатическом ведомстве дает мне основания считать,
что автором и дирижером этого сценария и шпаргалок был А.А. Громыко.
Самое же поразительное то, что чувство стыда испытывал переводчик, а не
министр, которому, похоже, даже удобно было вести такую игру, приносившую
ему царственные щедрости — золотые звезды героес, высшие ордена и титулы.
108
А между тем в мемуарном его сочинении есть специальная глава — "Значение
образования и эрудиции", в которой Громыко напоминает нам о том, как
поступают на Западе: "Например, приходит к власти новый глава государства и
начинает по выбору назначать на ключевые дипломатические посты деятелей
своей партии — за услуги, оказанные в ходе предвыборной кампании3".
О ПЕРЕВОДЧИКАХ И СИНОЛОГИИ
Развитие отношений СССР и Китая было немыслимо без специалистов: ки¬
таеведов, людей, знающих историю и современность великого нашего соседа,
духовную жизнь китайского народа.
Хотелось бы напомнить, что отечественная синология исконно славилась не
только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. Достойно сожаления, что
сегодня в силу конъюнктурных причин подготовка синологов в нашей стране не
отвечает предъявляемым требованиям. Избытка образованных китаистов у нас,
увы, не наблюдается. И не только потому, что это связано с огромным трудом и
усердием, необходимыми для овладения языком и письменностью — "китайской
грамотой". Гораздо проще выучить какой-либо европейский язык и с его по¬
мощью сделать карьеру. На мой взгляд, причина заключается еще и в том, что
необходимо государственное отношение к подготовке китаеведов, людей, хо¬
рошо знающих прошлое и настоящее Китая, традиции и обычаи народа, вла¬
деющих иероглифической письменностью и живым разговорным языком.
Крупнейший английский переводчик старой китайской Поэзии Артур Уэйли
снискал себе славу как наиболее талантливый интерпретатор творчества вы¬
дающихся мастеров поэтического искусства Китая. Ему принадлежат много¬
численные издания переводов китайской поэзии, особенно художников слова
Танской династии. Это время (VII—X вв.) считается "золотым веком" китайской
поэзии. Именно Уэйли познакомил англоязычную аудиторию с классической
поэзией Китая.
Но, как это нередко случается, Уэйли не привелось посетить Китай. За всю
свою долгую жизнь он не был удостоен внимания и чести быть приглашенным в
страну, которой он посвятил все свои силы и талант.
Здесь надо сказать, что синологи, увы, никогда не принадлежали к эли¬
тарному слою общества. Ни в Великобритании, ни в России, ни в Советском
Союзе. Чаще всего это были люди бедствующие, страдающие, но одержимые
синологией: историей Китая, языками, литературой. Им нередко приходилось
разделять судьбу изгоев общества. Весьма прискорбно, но жизнь китаистов
больше напоминала судьбу великомученников. Ярким примером может служить
судьба Никиты Яковлевича Бичурина — первого русского синолога, стоявшего у
истоков отечественного востоковедения. В Санкт-Петербурге в некрополе Алек¬
сандро-Невской лавры стоит ныне черный обелиск. На ставшем серым от
времени и непогод камне выбито имя "Иакинф Бичурин (1777—1853)". Редкий
прохожий не замедлит шаги и не удивится, почему вместо привычного пра¬
вославного креста здесь загадочная иероглифическая эпитафия — "Труженик
ревностный и неудачник, свет он пролил на анализ истории".
То был прославленный в науке отец Иакинф, в миру — Никита Яковлевич
Бичурин, 14 лет возглавлявший в Пекине русскую духовную миссию — един¬
ственное тогда представительство Российской империи в Китае4. Но не про¬
поведям он посвятил свое пребывание в Пекине, а глубокому и всестороннему
изучению загадочной в то время восточной страны.
3 Громыко А.А. Памятное, кн. 2. М., 1988, с. 331.
4 О Бичурине Н.Я. См., например, Тихвинский С Л., Пескова Г.И. Выдающийся русский китае¬
вед Н.Я. Бичурин. --Новая и новейшая история, 1977, № 5.
109
Преодолевая невероятные сложности, при полном отсутствии каких-либо
словарей и учебных пособий, Иакинф в короткий срок овладел сложнейшим
языком и иероглифической письменностью. В библиотеках Санкт-Петербурга
хранятся свыше 70 оригинальных трудов Иакинфа, которые в прошлом веке
выходили в свет в Петербурге и Москве. Еще больше его работ осталось в
рукописях. В них подлинные россыпи ценнейших сведений об истории, быте,
материальной культуре китайского народа. Под влиянием его трудов сложилась
школа выдающихся русских синологов.
Объявленный вольнодумцем и еретиком, Иакинф Бичурин был расстрижен и
отлучен от церкви. Но отрешить его от науки не властен был никто. Осно¬
воположник русской синологии, он остался лишь членом-корреспондентом Рос¬
сийской Академии, хотя заслуживал значительно большего, как и гениальный
Менделеев, который также не дождался избрания в действительные члены
Академии наук.
Разве не совестно нынешним академикам проходить мимо портрета гениаль¬
ного ученого с надписью "член-корреспондент Д.И. Менделеев", украшающего
стену у двери кабинета президента Академии наук. Почему же до сих пор
проявляется такое равнодушие? Восстанавливается же справедливость в отно¬
шении других лиц, хотя и посмертно.
Отошло ли все это в прошлое? Не происходит ли нечто подобное и теперь?
Главная причина в том, что решающим критерием при избрании часто оказы¬
ваются не труды и вклад ученого, а вненаучные соображения, эгоистические
интересы тех, кто наделен правом голосовать.
Вернемся, однако, к Артуру Уэйли. Человек этот, несомненно, был недю¬
жинных способностей. Уже одно то, что он овладел китайской иероглифической
письменностью и поэтическим языком классической китайской поэзии, находясь
далеко от Китая, говорит об очень многом. Известно, что в Англии не так уж
много синологов, тем более таких, как Уэйли, и это при том, что англичане
долгое время фактически господствовали в странах Дальнего Востока и могли
бы, конечно, дать человечеству нечто большее, чем колониальное порабощение
и империалистический грабеж.
Увлечение Уэйли китайской литературой, однако, отнюдь не было связано с
британским колониализмом. Без риска впасть в ошибку можно утверждать, что
дело обстояло как раз наоборот. Короче говоря, Уэйли, благодаря своему
усердию, прославился как выдающийся знаток старой китайской поэзии. Труды
его были признаны не только в Великобритании, но далеко за ее пределами, во
многих странах мира.
И вот вскоре после победы народной революции в Китае Уэйли был
приглашен в Китайскую Народную Республику. Определен был и день его
прибытия в Пекин, в город, который он никогда не видел и который существовал
лишь в его воображении. Для встречи знаменитого синолога в пекинский
аэропорт прибыли официальные лица. Были подготовлены соответствующие
почести и, разумеется, "китайские церемонии".
Когда же воздушный лайнер приземлился, по трапу спустился не Уэйли, а его
"дама сердца". Ошеломленные хозяева немедленно захотели узнать, что же
произошло с синологом.
— Извините, что мое появление здесь вместо Артура Уэйли принесло вам
разочарование, — произнесла леди.
— Он болен, что-нибудь случилось? — нетерпеливо вопрошали хозяева.
— Нет, он здоров и благополучен. Но попросил меня посетить Китай и
выразить свою благодарность за оказанную ему честь, — произнесла она.
— Благодарим вас, — сказал китайский представитель, — очень вам обязаны
за то, что вы согласились совершить столь утомительное путешествие. Но
почему же Артур Уэйли...
ПО
— Он просил извинить его за то, что был не в силах одолеть своих сомнений.
— Каких, собственно, сомнений? — спросил недоумевающий китайский пред¬
ставитель.
— Он опасается разочарования.
— Что это значит? — настаивал удивленный китаец.
— Он не решается встретиться лицом к лицу с Китаем, который существует
как реальность. Он живет, кажется, в другой идеальной стране, в Китае, ко¬
торый создал себе собственным воображением, всецело уйдя в мир поэзии...
Проблема изучения китайского языка у нас в стране не просто филоло¬
гическая или лингвистическая, она давно уже стала проблемой государственной
важности. Было бы ошибкой рассматривать ее в отрыве от проблем поли¬
тических, культурных, идеологических. Сегодня мы явно отстаем в подготовке
китаистов. Достаточно сравнить изучение русского языка в Китае, чтобы убе¬
диться в огромной диспропорции. По приблизительным подсчетам, изучением
русского языка в различных университетах, институтах, школах Китая зани¬
маются около миллиона человек. Не все, разумеется, станут знатоками и
экспертами русского языка, но даже десятая часть из них может оказаться
профессионалами. О серьезности отношения в Китае к изучению иностранных
языков свидетельствует и то, что свыше 22 тыс. китайских студентов обучаются
в японских вузах, более 20 тыс. китайских слушателей находятся в универ¬
ситетах США.
Нужно ли здесь пространно говорить о том, что явление это само по себе
чрезвычайно отрадное. Оно — благое свидетельство того, что русский язык и
созданная с его помощью духовная культура привлекают массовое внимание со
стороны нашего великого соседа — Китайской Народной Республики. При этом
такая масштабность приобщения китайцев к русскому языку и литературе стала
возможной благодаря инициативным шагам самих китайцев. Это, пожалуй, наи¬
более позитивное явление, хотя я вовсе не собираюсь преуменьшить важность
активной деятельности с нашей стороны по распространению русского языка за
рубежом.
Хотелось бы видеть в этом доброе предзнаменование для советско-китайских
отношений, духовного общения наших народов. Чем больше людей познают
русский язык, тем благоприятнее перспективы добрососедства и сотрудничества
наших стран.
Не думаю, что мне надо доказывать, что в отношениях между государствами
важнейший принцип — взаимность и паритетность. Причем в наших отношениях
с Китаем принцип взаимности имеет первостепенное значение. Мы должны
помнить судьбу китайского народа. Его полуколониальное положение в прошлом.
Помнить, как третировали китайский народ империалистические поработители.
Подготовка специалистов по китайскому языку и культуре требует многих лет
и серьезных усилий. Существующая у нас система не отвечает этим требо¬
ваниям. Необходима фундаментальная реформа самого процесса обучения. Нуж¬
ны новые способы и методика преподавания китайского языка. Назрела необхо¬
димость в создании методики обучения китайскому языку, которая бы соответ¬
ствовала современному уровню лингвистической науки. Нужны новаторские
методы овладения устной речью и иероглифической письменностью. Не сом¬
неваюсь, что мы располагаем специалистами, экспериментирующими в этой
области, причем не безрезультатно. Нужно лишь внимательнее и с большей
ответственностью отнестись к новаторским начинаниям.
Позволю себе напомнить, что в свое время, начиная с Иакинфа Бичурина, дух
новаторства отечественных китаеведов никогда не угасал. Уже в наше время
оригинальные методики были предложены академиком В.М. Алексеевым, про¬
фессорами В.С. Колоколовым и Н.Н. Коротковым, которые вырастили целое
поколение китаистов. Они считали, что овладение китайским языком, иерогли¬
111
фической письменностью является неотъемлемой частью постижения великой
культуры великого народа.
Что и говорить, труд синолога в значительной мере осложняется необхо¬
димостью овладения китайской письменностью. Понимают это не только те, кто
обрекает себя на китаистику. Китайской филологией должен заниматься че¬
ловек, посвятивший себя синологии. Человек этот должен прекрасно владеть
родным языком и культурой, чтобы познать мудрость языка и письменности
древнейшего народа.
В этой связи вспоминаю такой случай. Я был в Риме в гостях у известного
итальянского прозаика Альберто Моравиа. В беседе хозяин затронул небезраз¬
личную тему:
— Недавно мне удалось написать предисловие к сборнику стихотворений Мао
Цзэдуна, переведенных на итальянский язык, — не без гордости заявил Мо¬
равиа.
— Поздравляю с удачей. Вы, вероятно, знаете китайский язык? — спросил я
писателя.
— Что вы, что вы, понятия не имею.
— Тогда, быть может, вы хорошо знакомы с китайской поэзией?
— Откуда, никогда в жизни этим предметом не занимался.
— Китайской поэзией "никогда в жизни не занимались", между тем написали
пространное предисловие к поэтическому творчеству Мао Цзэдуна?
— Да, но я всецело опирался на его стихотворения в итальянском переводе!
— А вы уверены, что перевод аутентичен и правильно интерпретирует
поэзию Мао Цзэдуна, который писал на старом языке — вэньянь, хотя как
современный человек он должен был бы по идее писать на другом языке —
байху, так как последний является живым разговорным языком, предназна¬
ченным для восприятия интеллигента не только зрительно, но и на слух.
— Вы меня уводите в дебри "китайской грамоты". Мне кажется, что все эти
премудрости относятся к компетентности специалистов китайской филологии.
— Вы "всецело опирались" на итальянский перевод, а если он неточен,
неадекватен, ошибочен... Вам это не приходит в голову?
— У меня нет и не было оснований не доверять итальянским синологам.
— Смею признаться, что мы в Москве уже издали сборник стихов. Для этого
были привлечены видные синологи. Однако стихотворения Мао Цзэдуна ока¬
зались отнюдь не простыми. Многие строки оказались непонятными, поэтому
нам пришлось обратиться к автору за уточнениями. И все же, даже после
авторских разъяснений, многое в поэзии Мао Цзэдуна дает основание китайским
специалистам неоднозначно истолковывать его творчество.
— Сожалею, но мне это не было известно.
— И тем не менее вы решились написать предисловие к стихотворениям Мао
Цзэдуна и дать им свою оценку.
— Как писатель, я имею право на собственное понимание творчества других
литераторов.
— Но речь идет не просто о стихотворениях одного из современных поэтов,
но о лидере китайских коммунистов.
— Да, конечно, но причем тут...
— Думаю, что ваш выбор был не случаен. В Китае сотни поэтов, творчество
которых не только не уступает...
— Вы хотите сказать о тенденциозности выбора?
— Не сомневаюсь, что итальянские переводчики вовсе не случайно занялись
поэзией Мао Цзэдуна.
— Тогда и советских синологов можно подозревать в пристрастном выборе!
— Верно, но мы делали это не ради сенсации, а в порядке ознакомления
советского читателя с творчеством китайских поэтов и писателей. Сборник
112
стихов Мао Цзэдуна вышел в ряду других книг китайских поэтов. И отнеслись
мы к переводу со всей ответственностью.
— Вы обвиняете итальянских востоковедов в недостаточно ответственном
отношении. Но это еще надо доказать!
— Не берусь априори это утверждать, но готов сейчас же сверить перевод с
китайским оригиналом.
Моравиа стремительно вскочил со стула и быстро, несмотря на свою по¬
врежденную ногу, принес сборник стихотворений Мао Цзэдуна с двуязычным
текстом — китайским и итальянским.
— Извольте, — торжествующе произнес он, рассчитывая, видимо, на конфуз.
Мне пришлось обратиться к китайскому оригиналу первого же стихотворения
и сделать подстрочный, или буквальный, перевод, а присутствовавший перевод¬
чик следил за итальянским текстом.
Итальянский перевод оказался неточен — не был понят образ произведения.
В результате стихотворение приобрело экзотический оттенок, что вообще
характерно для переводов китайской литературы в некоторых западных странах.
— Да, — согласился Моравиа, — этих тонкостей я не знал, не мог знать, так
как не являюсь специалистом в этой области.
— Извините, — сказал я, — если причинил вам какие-либо неудобства. Это
не входило в мои планы. Меня лишь несколько удивило, что такой видный
итальянский писатель, как вы, вдруг взялся за китайскую поэзию.
Как видим, история эта весьма поучительна.
Окончание следует
113
Документальные очерки
© 1992 г.
П.А. ПАЛЬЧИКОВ, А.А. ГОНЧАРОВ
ЧТО ПРОИЗОШЛО
С КОМАНДУЮЩИМ ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ
ГЕНЕРАЛОМ ДТ. ПАВЛОВЫМ в 1941 г.
22 июля 1941 г. сухой, отрывистый выстрел подвел итог жизни Героя
Советского Союза, командующего Западным фронтом генерала армии Дмитрия
Григорьевича Павлова...
ИЗ БИОГРАФИИ ПАВЛОВА
Родился в 1897 г. в Костромской губернии, в деревне Вонюх Кологривского
уезда. В первую мировую войну в армию ушел добровольцем. Служил рядовым
в 120-м Серпуховском, в 5-м гусарском, 20-м стрелковом и 202-м запасном
полках. Дослужился до старшего унтер-офицера. В 1916 г., будучи раненым,
попал в плен, где находился почти три года.
Службу в Красной Армии начал в августе 1919 г. в 56-м продовольственном
батальоне. Спустя четыре месяца поступил на Костромские пехотные курсы ком¬
состава, которые окончил в 1920 г. Воевал в составе 8-й казачьей кавалерийской
дивизии на Южном фронте. В 1921—1922 г. учился в Омской объединенной
высшей военной школе Сибири. Затем командовал полком 10-й кавалерийской
дивизии. Участвовал в боях в горном Алтае против банд Сальникова и Кай-
городова. В 1923 г. в составе 6-й Алтайской кавалерийской бригады переброшен
в Туркестан, где успешно воевал с басмачами.
С 1925 по 1928 г. учился в Военной академии им. М.В. Фрунзе, потом ко¬
мандовал 75-м кавалерийским полком 5-й отдельной Кубанской кавалерийской
бригады ’’Даурия”. В 1929 г. участвовал в боях на КВЖД. В 1931 г. учился на
Академических курсах технического усовершенствования начальствующего со¬
става при Военно-транспортной академии в Ленинграде. Командовал 6-м механи¬
зированным полком, 4-й отдельной мехбригадой.
В октябре 1936 г.— июне 1937 г. воевал в Испании, командовал бригадой и
объединял командование групп от 9 до 11 бригад.
С июля 1937 г. — заместитель начальника Автобронетанкового управления
(АБТУ) РККА, с ноября — его начальник. Участвовал в советско-финляндской
войне.
В июне 1940 г. назначен командующим войсками Белорусского (с 11 июля
1940 г. — Западного) Особого военного округа.
22 июля 1941 г. решением Военной коллегии Верховного Суда СССР коман¬
дующий войсками Западного фронта Д.Г. Павлов приговорен к расстрелу...
Ровно через месяц после начала войны была поставлена кровавая точка в так
называемом деле № Р-24000, обозначенном грифом “Совершенно секретно”.
Сегодня этот гриф наконец снят, и у нас появилась возможность ознакомиться с
114
подлинной трагедией генерала Павлова, протоколами допроса и судебного за¬
седания от 22 июля 1941 г., изучить заключение Генерального штаба по этому
делу, свидетельства боевых товарищей и очевидцев о последних днях его жизни.
Считается, что Павлов был любимцем И.В. Сталина. Иначе чем объяснить
то, что в роковом для многих крупных военачальников 1937 г. на него обрушился
’’дождь” из наград, званий и должностей?
20 июня 1937 г. он стал комкором, спустя сутки — Героем Советского Союза.
Нарком обороны СССР К.Е. Ворошилов разрешил в порядке исключения из
правил вручить ему испанский орден с надписью: "Салуд. Сила — Единение.
Герою милиции и антифашистской армии”1. Единственному среди интернацио¬
налистов! Нашим военным в то время принимать иностранные награды не
полагалось. В июле назначен заместителем начальника АБТУ РККА, с нояб¬
ря — его начальником.
С другой стороны, ’’танковый генерал”, находясь уже на должности началь¬
ника АБТУ РККА, на основании собственного испанского опыта поддержал
ошибочную идею о ликвидации танковых корпусов, предназначавшихся в со¬
ставе фронтовой или армейской подвижной группы для развития тактического
успеха в оперативный. И решение это было принято на заседании Главного
военного совета Красной Армии в присутствии Сталина и Молотова. Он за¬
блуждался искренне или боялся высказать свое мнение, "пел” с чужого голоса?
Позже, на декабрьском совещании высшего начальствующего состава Воору¬
женных Сил в 1940 г., он выступил с докладом "Использование механизиро¬
ванных соединений в современной наступательной операции и ввод механизи¬
рованного корпуса в прорыв”, посчитав, что тем самым полностью исправил
свою оплошность.
Но началась война, и оказалось, что теоретические разработки, сколь бы
глубокими и основательными они ни представлялись, редко когда бывают в
состоянии полностью воплотиться в принимаемые решения. Западный фронт
(образованный на основе Западного Особого военного округа) на глазах начал
разваливаться от первых ударов вермахта. Командующий сразу же утратил и
уже не смог снова взять в свои руки нити управления войсками. Причин тому
было много. Но в Ставке остановились на тех, которые не рождали уходящих в
глубину вопросов. Виновники были названы и расстреляны, в первую очередь
Павлов...
В последнее время наконец-то мы смогли приблизиться к правде о начальном
периоде Великой Отечественной войны. Появилась возможность ознакомиться с
делом генерала армии Д.Г. Павлова, делом № Р-24000, куда вошли протоколы
допросов, судебного заседания от 22 июля 1941 г., заключение Генерального
штаба Вооруженных Сил СССР 1956 г., свидетельства участников и очевидцев
событий.
Согласно версии суда, командующий войсками Западного фронта проявил
трусость, нераспорядительность, допустил развал управления войсками, сдачу
оружия без боя, самовольное оставление частями позиций. Была попытка об¬
винить его в участии в "антисоветской военной организации”, предательстве,
измене Родине. Даже в шпионаже.
Войсками Западного Особого военного округа в составе 4-х армейских уп¬
равлений, 44-х дивизий, 4-го воздушно-десантного корпуса и 21-го авиационного
полка в случае нападения противника предстояло прикрыть варшавско-минское
стратегическое направление, кратчайший путь к сердцу страны — Москве, к
центральному промышленному району. В Западной Белоруссии, вошедшей в
1 Центральный государственный архив Советской Армии (далее — ЦГАСА), ф. 33987, оп. 3,
д. 1045, л. 214—216.
115
состав Советского Союза в 1939 г., предстояло построить новые укрепленные
районы, аэродромы, железные, шоссейные, грунтовые дороги, оборудовать скла¬
ды, базы для всех видов снабжения, создать систему оперативной связи: те¬
лефонную, телеграфную, радио...
Генеральный штаб Красной Армии разработал тогда два варианта возведения
укрепрайонов. В первом случае их предстояло строить непосредственно вдоль
границы, во втором — на удалении 25—50 км от нее. Предпочтительнее был
второй вариант: строительство тогда велось бы не на глазах у противника,
создавалась бы полоса обеспечения из дополнительных оборонительных соору¬
жений между границей и укрепрайонами. Преодоление ее потребовало бы от
нападавших сил и времени, что было на руку войскам прикрытия. Но победили
не логика и здравый смысл, а убежденность, что "бить врага будем на чужой
территории”. И передний край укрепрайонов пролег практически по линии го¬
сударственной границы.
Было от чего болеть голове командующего. Не хватало производственных
мощностей, собственных сил округа, материалов. На помощь строительным,
инженерным, саперным батальонам приходилось привлекать стрелковые под¬
разделения, что наносило ущерб боевой учебе. В целом западную границу СССР
удалось прикрыть подготовленными долговременными оборонительными рубе¬
жами на 17%.
4 июня 1941 г. разведотдел округа подготовил документ для доклада коман¬
дующему. Павлов вчитывался в тревожные строки: немцы увеличили группи¬
ровку войск, создали значительный запас техники, горючего, боеприпасов, про¬
должают оборудовать театр военных действий. Тучи сгущались. И все-таки ко¬
мандующий не ожидал, что гроза разразится так скоро.
К двадцатым числам июня картина в округе выглядела так. Войска 3-й, 10-й и
4-й армий находились в местах постоянной дислокации. Управление 13-й армии
продолжало оставаться в Могилеве. Из глубины территории выдвигались 2-й,
21-й и 47-й стрелковые корпуса. До границы им предстояло пройти от 150 до
400 км. В промежутке между Лидой и Днепром располагались б-я, 7-я и 8-я
противотанковые бригады, 17-й и 20-й механизированные корпуса и 4-й воз¬
душно-десантный. Оба мехкорпуса были в стадии формирования, имели соответ¬
ственно 63 и 94 танка, слабо вооруженную пехоту, крайне малое количество
автомобилей. У противотанковых бригад отсутствовали средства буксировки
орудий. Значительная часть войсковой артиллерии находилась в отрыве от своих
соединений. В белостокском выступе сосредоточилась основная часть войск
первого эшелона — хорошо укомплектованные боевой техникой 6-й, 11-й и 13-й
механизированные, 6-й кавалерийский корпуса. Это вполне отвечало замыслу
наступательных действий советских войск. Сувалковская группировка гитлеров¬
цев по отношению к нашей занимала охватывающее положение. Увы, о том,
что в случае успеха противника мы окажемся под угрозой окружения, тогда не
думали.
Субботний вечер 21 июня мало чем отличался от других предвыходных.
Красноармейцы смотрели кинокартины, самодеятельные спектакли, концерты.
Многие командиры находились в отпусках. Отдыхал и руководящий состав
округа. Павлов допоздна смотрел спектакль прибывшего в Минск на гастроли
МХАТа с участием Аллы Тарасовой. Правда, по его приказу командующие,
начальники штабов армий должны были прибыть на рабочие места и "быть
наготове”.
В ночь на 22 июня штаб Западного округа получил из Москвы шифровку. В
2 час. 25 мин. была предпринята попытка отдать в армии распоряжение: "Пере¬
даю приказ Народного комиссара обороны для немедленного исполнения:
1. В течение 22—23.6.41 г. возможно внезапное нападение немцев на фронтах
Ленинградского, Прибалтийского Особого, Западного Особого, Киевского Осо¬
116
бого и Одесского военных округов. Нападение немцев может начаться с про¬
вокационных действий.
2. Задача наших войск — не поддаваться ни на какие провокационные дей¬
ствия, могущие вызвать крупные осложнения.
Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского Особого, Западного
Особого, Киевского Особого и Одесского военных округов быть в полной боевой
готовности встретить внезапный удар немцев или их союзников.
3. Приказываю:
а) в течение ночи на 22.6.41 г. скрытно занять огневые точки укрепленных
районов на государственной границе;
б) перед рассветом 22.6.41 г. рассредоточить по полевым аэродромам всю
авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировав;
в) все части привести в боевую готовность без дополнительного подъема
приписного состава. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и
объектов.
Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить”2.
Но в советском тылу уже действовали немецкие диверсионные группы. Про¬
водная связь со штабами армий была прервана. Начальник штаба округа гене¬
рал-майор В.Е. Климовских, начальник войск связи округа генерал-майор
А.А. Григорьев сделали все, что могли для восстановления связи. Несмотря на
это, командующий 4-й армией генерал-майор* А.А. Коробков лишь в 3 часа
30 минут получил распоряжение о приведении войск в боевую готовность, а
спустя час — приказ наркома обороны СССР. Командующий 10-й армией гене¬
рал-майор К.Д. Голубев и распоряжение Д.Г. Павлова, и приказ С.К. Тимошенко
получил только в 16 час. 30 мин. 22 июня. Связь с командующим 3-й армией
генерал-майором В.И. Кузнецовым вообще установить не удалось.
Артиллерия вермахта обрушила ураганный огонь по узлам связи и управ¬
ления, полевым аэродромам, складам, местам дислокации приграничных частей и
соединений, укрепленным районам, заставам и постам пограничников. Командо¬
вание округа, имея весьма скудные и отрывочные данные об обстановке, в
первой половине дня никаких кардинальных решений не приняло. Часа полтора,
как минимум, потребовалось на усвоение истины: это не провокация, а война. В
штабе округа словно забыли о существовании соединений второго эшелона. 17-й
механизированный корпус под командованием генерал-майора М.П. Петрова,
например, был поднят по тревоге в 5 час. 45 мин, а задачу получил только
вечером.
Были моменты и трагикомические. Начало артиллерийской подготовки про¬
тивника командиры частей, собранных для проведения учения на одном из
артиллерийских полигонов, восприняли как начало учений с боевой стрельбой.
Стали подавать световые и звуковые сигналы “растяпам”, которые стреляют по
своим.
Только в 5 час. 25 мин. Павлов попытался взять ситуацию в руки, отдал
штабам 3-й, 10-й и 4-й армий боевое распоряжение: “Ввиду обозначившихся со
стороны немцев массовых военных действий приказываю поднять войска и
действовать по-боевому”3.
Но война уже шла полным ходом. Противник делал все, чтобы извлечь из
своих преимуществ максимум выгоды. В результате вражеских налетов 22 июня
авиация Западного Особого военного округа потеряла 738 самолетов, из них
528 — на аэродромах. Немецкие летчики добились абсолютного господства в
воздухе и на всех фронтах уничтожили свыше 1200 советских самолетов. Было
2 Центральный архив Министерства обороны РФ (далее — ЦАМО РФ), ф. 208, оп. 2454сс, д. 26,
л. 69.
3 Там же, оп. 2513, д. 71, л. 76.
117
выведено из строя большинство пунктов управления, линий связи, аэродромов,
различных складов, военных городков.
Танковые дивизии врага за один день проникли на советскую территорию на
глубину от 25 до 30 км. Наши 22-я танковая и 6-я стрелковая дивизии понесли
значительные потери в личном составе и боевой технике. В 10-й смешанной
авиадивизии осталось всего несколько самолетов. Зная это, командующий 4-й
армией пытался выяснить мнение представителя штаба фронта генерала
И.Н. Хабарова по поводу указаний С.К. Тимошенко и Д.Г. Павлова. Как посту¬
пить, если приказ сверху диктует одно, а реальная обстановка другое? Ответ
был неясным: "Вам по обстановке виднее".
Генеральный штаб, не зная реального состояния дел в полосе фронта,
передавал все новые и новые приказы и распоряжения, которые уже отставали
от стремительно менявшейся обстановки. Когда это стало ясно, для уточнения
действительного положения дел, контроля и оказания помощи в организации
управления во второй половине дня 22 июня к Павлову по личному указанию
Сталина прибыли — заместители наркома обороны СССР Маршалы Советского
Союза Б.М. Шапошников и Г.И. Кулик.
Но, судя по всему, полномочные предстацители центра не сумели четко
разобраться в сложнейшей фронтовой обстановке. Вечером того же дня в
"Директиве № 3" нарком обороны потребовал "концентрическими (так в текс¬
те. — Авт.) сосредоточенными ударами войск Северо-Западного и Западного
фронтов окружить и уничтожить Сувалковскую группировку противника и к
исходу 24.6 овладеть районом Сувалки"4.
Выполняя указание, Павлов отдал соответствующий приказ войскам. Но этот
приказ не мог быть выполнен, ибо не отвечал сложившейся ситуации. Это ясно
даже из переговоров заместителя командующего Западным фронтом генерал-
лейтенанта В.Н. Курдюмова, находившегося на вспомогательном пункте управ¬
ления в Обуз-Лесьне, со штабом фронта, все еще располагавшимся в Минске.
"Из штаба фронта*. Товарищ генерал-лейтенант! Командующий приказал...
выяснить, вернулись ли посланные вами делегаты связи в армии и что привезли?
Курдюмов*. Нет, не вернулись. Ожидаю их в ближайшее время... Ожидаю
ответа на мои вопросы, которые поставил во время предыдущих разговоров.
Из штаба фронта: Командующего интересует главное, где штабы армий и
войск и что делают войска. Хотелось бы знать, когда вернутся делегаты и какие
у них средства передвижения. Когда их можно ожидать?
Курдюмов: Я их ожидаю с минуты на минуту. Они все поехали на машинах. У
меня связи со штабами армий нет. По радио имеется связь с 4-й армией, но
разговаривать с ней я не могу, так как нет шифра"5.
23 июня Сталин дважды пытался связаться с Павловым. Оба раза из штаба
фронта отвечали: "Командующий находится в войсках". Не смог прояснить
обстановку и начальник штаба фронта Климовских.
Павлов пытался переломить ход событий на фронте, овладеть ситуацией. Но
он часто принимал ошибочные решения. Командующие 10-й и 3-й армий,
заместитель командующего войсками фронта генерал-лейтенант И.В. Болдин
были шокированы, когда получили следующий приказ:
"С утра 24 июня вам надлежит:
1. Ударной группой в составе 6, 11 мк [механизированных корпусов], 36 кав.
див. под командованием тов. Болдина продолжать решительное наступление в
общем направлении на Гродно, овладеть этим городом и продолжать на¬
ступление по обоим берегам р. Неман на Друскеники и Меречь. Конечной целью
4 Там же, ф. 48-А, оп. 1554, д. 9, л. 260—262.
5 Там же, ф. 208, оп. 4857сс, д. 11, л. 113—114.
118
дня занять местечко Меречь. Иметь в виду обеспечение операции по западному
берегу р. Неман со стороны августовских лесов и со стороны Су валок.
2. Командарму 3 [3-й армии] тов. Кузнецову, 85 и 56 стр. дивизиями атаковать
в общем направлении на Гродно и закрепиться к северу от этого города. 27 сд
[стрелковой дивизии] наступать на фронт Лабно, Липск, Даброво, где и за¬
крепиться, войдя в связь со 2 сд в районе Осэвец.
3. 21 ск [стрелковому корпусу], обеспечивая себя со стороны Вильно на фрон¬
те Ошмяны, ст. Бейякони, 24 и 37 стр. див., 17 стр. див., наступать в общем
направлении на Радунь, Ораны; обеспечение с запада района Лиды возлагается
на 8 птабр [противотанковую артиллерийскую бригаду].
Об отданных распоряжениях немедленно донести"6.
Возможно, они сочли, что командующему виднее, где наносить удар в инте¬
ресах фронта. Так или иначе, подчиненные приступили к выполнению приказа
Павлова. И тут не смогли не сказаться разбросанность выделенных дивизий,
явный недостаток времени на подготовку, отсутствие необходимых средств
связи.
К тому времени 3-я армия, включая и 11-й мехкорпус генерала Д.К. Мос-
товенко, с которым не было связи, втянулись в напряженные бои на широком
фронте. Дивизии 6-го кавалерийского корпуса генерала И.С. Никитина при вы¬
движении из районов Ломжи и Волковыска к рубежу развертывания подверглись
массированным ударам вражеской авиации и понесли значительные потери.
Таким образом, в распоряжении генерала Болдина оказался один 6-й мехкорпус
генерала М.Г. Хацкилевича, начавший выдвижение из района Белостока в
направлении Гродно только 23 июня и, разумеется, в установленные сроки не
успевший прибыть к назначенному рубежу.
А войска из штаба фронта получали предупреждения такого характера:
"Почему мехкорпус не наступал, кто виноват? Немедля активизируйте действия
и не паникуйте, а управляйте. Надо бить врага организованно, а не бежать без
управления. Каждую дивизию вы знать должны, где она, когда, что делает и
какие результаты. Почему вы не даете задачу на атаку мехкорпусу? Найти, где
49 и 113 сд и вывести. Исправьте свои ошибки. Подвозите снаряды и горючее.
Лучшее продовольствие берите на месте. Запомните, если вы не будете дей¬
ствовать активно, Военный совет больше терпеть не будет"7.
Группа Болдина в бесплодных атаках изматывала свои силы, теряла личный
состав и боевую технику. Почти бесцельно расходовались боеприпасы и го¬
рючее, а они были на вес золота. 10-я армия продолжала оставаться на рубежах
по рекам Бебжа (Бобр) и Нарев, находившихся от линии Барановичи —
Молодечно на расстоянии более 200 км.
Это угнетающе действовало на командующего фронтом. Он был постоянно
мрачен, раздражен.
В подавленном состоянии находился и начальник штаба фронта. 22 июня
поздно вечером он пригласил к прямому проводу начальника штаба 10-й армии
генерала П.И. Ляпина и открытым текстом передал приказание Павлова об
отводе войск в течение ночи 23 июня за р. Нарев (более чем на 75 км).
Выслушивать доклад Ляпина он не стал и ориентировать его в обстановке на
других участках фронта отказался.
На исходе суток после начала войны Павлов получил очередную директиву
Ставки. Задумался. Судя по архивным данным, он тогда уже располагал
информацией о плачевном состоянии войск 4-й армии, о том, что части и
соединения не имеют авиационного прикрытия, нет.боеприпасов и горючего. И
все-таки подписал приказ следующего содержания:
6 Там же, ф. 15, оп. 725588, д. 36, л. 248.
7 Там же, ф. 15, оп. 725588, д. 36, л. 212.
119
”1. Приказываю упорной обороной остановить противника на фронте Трухно-
вичи и далее по восточному берегу р. Ясельда до Жабер, Дрогичин, канал
Белозерский, прочно окопавшись, создать искусственные препятствия перед
фронтом позиций армии и дать решительный отпор всякой попытке противника
прорвать фронт армии.
2. В ваше распоряжение передаются 55-я стрелковая дивизия, прибывающая
24 июня головой Картузская Береза (правильно Береза-Картузская. — Авт.), и
121-я стрелковая дивизия, направляемая 24 июня из Слонима на Ружаны.
3. Силами 121-й стрелковой дивизии и 14-го механизированного корпуса ре¬
шительно атаковать противника от Ружан в общем направлении Пружаны.
Об отданных распоряжениях немедленно донести"8.
Генерал Коробков и находившийся в штабе армии генерал Хабаров, исходя из
сложившейся обстановки, разработали план, как лучше и эффективней рас¬
порядиться наличными силами и средствами и прикрыть одно из основных
направлений вдоль Варшавского шоссе в районе Береза-Картузская. Но они
были вынуждены, выполняя приказ, бросить остатки сил 14-го мехкорпуса на
Ружаны...
А ударные группировки врага уверенно продвигались в глубь советской
территории. Положение усугубилось, когда 3-я танковая группа противника
прорвалась с северо-запада на Минск. Вместо того чтобы организовать оборону
на молодеченском и барановическом направлениях, отвести 3-ю и 10-ю армии из
белостокского выступа — с оперативно-тактической точки зрения он уже не
представлял ценности, — руководство Западным фронтом наращивало в районах
Лиды и Волковыска вторые эшелоны, обрекая их на разгром по часа ям, на
отступление разрозненными группами.
Штаб фронта пытался наладить управление войсками, боевыми действиями.
Бывший заместитель начальника оперативного отдела штаба Западного фронта
генерал-майор Б.А. Фомин вспоминал: "Связь поддерживалась самолетами У-2,
СБ, бронемашинами и легковыми машинами... Достаточно привести такой
пример: 26.6 нужно было передать боевой приказ армиям об отходе их на рубеж
р. Шара и далее через Налибокскую Пущу.
Для доставки шифрованного приказа мною в каждую армию было отправлено
по одному самолету У-2 с приказанием сесть около КП и вручить приказ; по
одному самолету СБ в каждую армию с приказанием сбросить около КП
парашютиста с шифрованным приказом для вручения и по одной бронемашине с
офицером для вручения этого же шифрованного приказа.
Результаты: все У-2 сбиты, все бронемашины сожжены и только на КП 10-й
армии (урочище Замковый Ляс у Волковыска) были с СБ сброшены два па¬
рашютиста с приказами"9.
Эта драматическая история имеет свое продолжение. Из воспоминаний ге¬
нерал-майора Ляпина: "К третьему виду провокаций гитлеровцев можно отнести
случай, происшедший в ночь на 27 июня на командном пункте в районе
Волковыска. Около 2.00 27.6 под конвоем танкистов запасного танкового полка
были доставлены к нам два летчика-парашютиста, привезшие "приказ" коман¬
дующего войсками фронта. "Летчики" заявили, что они были сброшены ночью с
самолета СБ и попали на наряд запасного танкового полка, который задержал их
и вот доставил к нам.
Приняв "посланцев" лично, я в первую очередь проверил их документы.
Удостоверения личности оказались по форме сделанные, но разного формата и
цвета обложки. Никаких специальных командировочных "посланцы" не имели.
На вопрос, кто их послал, они отвечали, что послал их Павлов лично, он же их и
8 Там же, ф. 208, оп. 10169, д. 4, л. 29—3Ó.
9 Там же, ф. 15, оп. 977441, д. 2, л. 116—118
120
инструктировал. Узнав, кто я, они вручили мне объемистую шифровку и по¬
требовали от имени генерала Павлова копию приказа войскам армии, который
будет отдан во исполнение указанной шифротелеграммы.
Передав шифровку в шифроотдел, я приказал "летчикам" ожидать. Однако
через несколько минут мне доложили, что телеграмму расшифровать невоз¬
можно. Наш шифроотдел и в предыдущие дни не мог расшифровать ни одной
шифровки штаба фронта, поэтому доклад о невозможности расшифровать при¬
везенную шифрограмму не вызвал у нас удивления. Было решено послать ра¬
ботника шифроотдела в штаб 3-й армии, находившейся в м. Рось, и попытаться
расшифровать привезенный документ при помощи шифрооргана этой армии. Мы
считали, что наконец этот документ даст нам возможность ориентироваться в
обстановке и установить цель дальнейших действий армии, что в создавшихся
условиях было крайне необходимо.
Прибывшие "летчики" выразили желание тоже ехать в 3-ю армию, где они
должны были передать подобный же документ генерал-лейтенанту Кузнецову. Я
разрешил им, и они уехали.
У меня не было времени затем проследить за "представителями" генерала
Павлова, и я не видел, когда они прибыли из штаба 3-й армии. Но, как вы¬
яснилось после, один из них прибыл на машине вместе с маршалом Куликом и
работником нашего шифрооргана часа на два раньше другого. Шифротеле¬
грамму не могли расшифровать и в штабе 3-й ар<<ии, а тем временем ранее
прибывший "представитель" серьезно допрашивался в Особом отделе. Запутав¬
шись в показаниях, допрашиваемый бросился бежать в лес, но был убит работ¬
ником Особого отдела.
Через некоторое время на броневике, ранее привозившем маршала Кулика,
прибыл и другой "представитель", который сразу же был схвачен начальником
оперативного отдела подполковником Маркушевичем и передан в руки работ¬
ников Особого отдела. Последний "представитель” вообще отказался давать
какие-либо, показания, только ругал всех нецензурными словами, а через не¬
сколько минут он был расстрелян тут же, на КП.
Первое время я не думал, что прибывшие "представители" являлись шпио¬
нами, провокаторами. Сомневался даже и тогда, когда один из них был убит, но,
наблюдая поведение второго, мои сомнения в этом отношении были рассеяны.
Анализируя сейчас событие с "летчиками", происшедшее на КП в районе
Волковыска, к сожалению, приходится признать, что бдительность у нас была не
ьа должной высоте. На самом деле, ведь штаб фронта никак не мог знать, где
находится штаб нашей армии, тогда как немцам был известен каждый наш шаг".
Только в 1991 г. выяснилось, что указанные "летчики" действительно были
офицерами оперативного управления и управления связи фронта. Описанный
эпизод начального периода войны ярко отразил атмосферу неразберихи, смя¬
тения, растерянности, царившей в войсках и настроениях людей. Это харак¬
терный пример того, насколько не готовы были работники штабов фронта и
армий к управлению войсками в чрезвычайных условиях, сложившихся в первый
день войны.
24 июня стало известно, что 2-я танковая группа противника захватила
Слоним и прорвалась с северо-запада на Молодечно. Ее соединения продви¬
нулись в глубь нашей территории на расстояние до 200 км. Создалась угроза
оперативного окружения 3-й и 10-й армий и конно-механизированной группы
Болдина. Отдельные ее части, отряды войск 4-й армии сражались в глубоком
тылу противника в крайне тяжелых условиях полуокружения или полного охвата
вражеским стальным кольцом. Они по-прежнему не имели связи со штабами
армий, ни даже с командованием дивизий.
Находившийся в штабе фронта маршал Шапошников 25 июня доложил в
Ставку Главного командования о создавшейся критической обстановке и по¬
121
просил разрешения на немедленный отвод войск фронта из белостокского вы¬
ступа на линию старых укрепрайонов.
Разрешение было получено, и Павлов в тот же день отдал предварительное
распоряжение:
“Командармам 13, 10, 3 и 4.
Сегодня в ночь с 25 на 26 июня не позднее 21.00 начать отход, приготовить
части. Танки в авангарде, конница и сильная ПТО (противотанковая оборона. —
Авт.) в арьергарде. 6 мехкорпус первый скачок в район Слоним...
Предстоящий марш совершать стремительно днем и ночью под прикрытием
стойких арьергардов. Отрыв произвести на широком фронте.
Связь по радио, доносить начало, маршруты и рубежи через два часа. Первый
скачок 60 км в сутки и больше.
Разрешить войскам полностью довольствоваться из местных средств и брать
любое количество подвод.
Директива следует дополнительно. При неполучении дополнительной дирек¬
тивы отход начать по настоящей предварительной"10.
Но Павлов и его штаб не знали реальной обстановки. Войска уже и без того
отходили на восток — часто без всякого порядка, в тяжелейших условиях гос¬
подства в воздухе немецкой авиации, стремительных обходных маневров под¬
вижных групп врага. Белостокская группировка войск к тому времени могла
отступать только по коридору шириной около 60 км, по плохим проселочным
дорогам.
Около 4 час. утра из неустановленного источника поступили сведения, что не¬
мецкие танки прорвались в направлении Заславль — Минск. Павлов решил
переместить штаб в район Бобруйска. Когда часть управления находилась в
пути, а некоторые прибыли в назначенный пункт, последовало новое приказа¬
ние — следовать в Могилев.
"В Бобруйск мы прибыли во второй половине дня, — вспоминал бывший
заместитель начальника войск связи фронта генерал В.И. Синельников, — в
воротах бывшей крепости нас встретил какой-то полковник и сказал, что штаб
фронта будет располагаться в Могилеве и что полку связи приказано сосре¬
доточиться туда же.
В Могилев мы приехали уже ночью, штаб фронта нашли на опушке леса,
северо-восточнее города. Все стояли, сидели и бездействовали. Григорьев пошел
на доклад к начальнику штаба, а я приказал развернуть тут же несколько
радиостанций и войти в связь по существовавшей уже схеме"11.
Таким образом, войска фронта более суток были предоставлены сами себе. Из
последних сил они дрались за каждый клочок родной земли. Самоотверженное
сопротивление соединений 4-й армии в районе Барановичей и настойчивые
попытки войск 3-й и 10-й армий вырваться из окружения на волковыском
направлении вызвали озабоченность в генеральном штабе сухопутных войск вер¬
махта, следствием чего, в частности, была просьба командующего 2-й танковой
группы возвратить ему 29-ю моторизованную дивизию, оставленную в районе
Слонима.
Для противника важнее всего было не допустить прорыва советских войск на
восток, и командующий 4-й гитлеровской армией приказал повернуть на север
12-й армейский корпус. Только из рук вон плохая организация разведки на
Западном фронте не позволила нашему командованию своевременно разгадать
намерения врага.
28 июня в районе Минска 2-я и 3-я танковые группы противника соединились
и перерезали последний узкий коридор, по которому могла отходить белосток-
10 Там же, оп. 725588, д. 36, л. 239.
11 Там же, л. 328.
122
екая группировка. На следующий день были окружены левофланговые сое¬
динения 10-й армии юго-восточнее Волковыска, до 11 дивизий 3-й, 4-й и 13-й
армий под Минском. Отрезанные от главных сил фронта, лишенные центра¬
лизованного управления и устойчивой связи войска продолжали сражаться до
8 июля, сковывая около 25 дивизий группы фашистских армий "Центр".
А Ставка в это время пыталась добиться хотя бы частного успеха, как-то
скрасить общую мрачную картину:
"Командующему Западным фронтом тов. Павлову.
Танки противника в районе Ракув стоят без бензина. Ставка приказала не¬
медленно организовать и провести окружение и уничтожение танков противника.
Для этой операции привлечь 21 ск и частично 2 и 44 ск.
Захват и разгром противника провести немедля. Удар подготовить налетом
авиации.
№ 0076 28 июня 1941 г. 23.5. п.п. Жуков"12.
Во второй половине дня на КП фронта прибыл начальник штаба 4-й армии
Л.М. Сандалов для доклада командующему. Хмурый, осунувшийся Павлов вы¬
слушал доклад. Указал на необходимость прочно удерживать рубеж по р. Бе¬
резина и сообщил, что в тылу приступила к организации обороны 21-я армия,
выдвинутая из глубины страны.
В ночь на 29 июня и в течение всего этого дня стрелковые части 10-й армии с
остатками артиллерии отходили с упорными боями из Белостокского района на
восток. После нескольких попыток вырваться к шоссе Белосток — Барановичи
убедились, что этого сделать не удастся: путь перерезали фашисты. Было ре¬
шено пробиваться на восток севернее, проселочными дорогами. 3-я армия в
районе Мостов и Лунны препятствовала войскам 9-й и 4-й армий противника
завершить окружение. По незанятому узкому коридору уходили танковые, ме¬
ханизированные, тыловые части и подразделения 6-го мехкорпуса, штабы и
учреждения 10-й и 3-й армий.
30 июня в 6 час. 45 мин по указанию Тимошенко состоялся разговор Жукова с
Павловым по "бодо":
"Жуков: Мы не можем принять никакого решения по Западному фронту, не
зная, что происходит в районах Минска, Бобруйска, Слуцка.
Прошу доложить по существу вопросов.
Павлов: В районе Минска 44-й стрелковый корпус отходит южнее Могилев¬
ского шоссе; рубежом обороны, на котором должны остановиться, назначен
Стахов — Червень.
В районе Слуцка весь вчерашний день, по наблюдению авиации, 210-я мото¬
стрелковая дивизия вела бой в районе Шишецы.
В районе Бобруйска сегодня в 4 часа противник навел мост, по которому
проскочило 12 танков.
Жуков: Немцы передают по радио, что ими восточнее Белостока окружены
две армии. Видимо, какая-то доля правды в этом есть. Почему ваш штаб не
организует высылку делегатов связи, чтобы найти войска? Где Кулик, Болдин,
Кузнецов? Где кавкорпус? Не может быть, чтобы авиация не видела конницу.
Павлов: Да, большая доля правды. Нам известно, что 25 и 26 июня части
были на реке Щаре, вели бой за переправы с противником, занимающим
восточный берег Щары. 3-я армия стремилась отойти по обе стороны Щары, 21-й
стрелковый корпус — в районе Лиды. С этим корпусом имели связь по радио, но
со вчерашнего дня связи нет, корпус пробивается из окружения в указанном ему
направлении. Авиация не может отыскать конницу и мехчасти, потому что все
это тщательно скрывается в лесах от авиации противника. Послана группа с
12 Там же, ф. 48-А, оп. 1554, д. 9, л. 47. Заверенный лист телеграммы.
123
радиостанцией с задачей разыскать, где Кулик и где находятся наши части. От
этой группы ответа пока нет. Болдин и Кузнецов, как и Голубев, до 26 июня
были при частях.
Жуков: Основная ваша задача — как можно быстрее разыскать части и
вывести их за реку Березину. За это дело возьмитесь лично и отберите для этой
цели способных командиров.
Ставка Главного командования от вас требует в кратчайший срок собрать все
войска фронта и привести их в надлежащее состояние.
Нельзя ни в коем случае допустить прорыва частей противника в районе
Бобруйска и в районе Борисова. Вы должны во что бы то ни стало не допус¬
тить срыва окончания сосредоточения армий в районе Орша — Могилев — Жло¬
бин — Рогачев.
Для руководства боями и для того, чтобы вы знали, что происходит под
Бобруйском, выслать группу командиров с радиостанцией под руководством
вашего заместителя. Немедленно эвакуируйте склады, чтобы все это не попало
в руки противника. Как только обстановка прояснится, сразу же обо всем
доложите.
Павлов: Для удержания Бобруйска и Борисова бросим все части, даже
школу”13.
30 июня Сталин приказал Жукову вызвать в Москву Павлова. В тот же день
состоялось первое заседание Государственного Комитета Обороны, на котором
решили отстранить Павлова с 1 июля от руководства войсками фронта.
Накануне у Сталина произошел короткий разговор с армейским комиссаром
1-го ранга Л.З. Мехлисом, в ходе которого последний получил указание срочно
отбыть на Западный фронт в качестве члена Военного совета. Как выяснится
потом, с главной целью — разобраться, кто там еще, кроме Павлова, во всем
виноват.
Для такой роли Мехлис годился, как никто другой. Где проходил этот
политработник с ’’высоким классовым чутьем”, там всегда оставался кровавый
след. С присущим ему рвением он сразу же и на Западном фронте развил бурную
обличительную деятельность. Вскоре на одном из совещаний Мехлис довери¬
тельно сообщил офицерам штаба, что в ближайшее время станут известны
имена военачальников, из-за измены и предательства которых Красная Армия в
первые дни войны потерпела серьезное поражение, что при определении степени
вины не будут приняты во внимайие ни их прошлые заслуги, ни высокие
воинские звания. Их сурово накажут.
4 июля у Павлова был произведен обыск и изъяты три ордена Ленина,
Золотая Звезда Героя, два ордена Красного Знамени, значок депутата Вер¬
ховного Совета СССР.
5 июля заместитель начальника следственной части 3-го управления НКО
СССР, старший батальонный комиссар Павловский подготовил постановление на
арест. В нем отмечалось, что Павлов в 1916—1919 гг. находился в плену у
немцев, примыкал к анархистам, привлекался к партийной ответственности за
примиренчество к правому уклону. Пользовался покровительством И.П. Уборе-
вича и, по утверждениям С.П. Урицкого, Я.К. Берзина и других "врагов народа”,
являлся участником известного ’’военного заговора” в Красной Армии.
В считанные часы "глубоко разобравшись” в обстановке, ’’установив” причины
тяжелого поражения войск фронта, Мехлис уже 6 июля телеграммой сообщил
Сталину, что Военный совет фронта решил арестовать и предать суду своих
предшественников. В тот же день последовал ответ вождя: ’’Тимошенко, Мех-
лису, Пономаренко. Государственный Комитет обороны одобряет ваши меро¬
13 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления, т. 2. М., 1990, с. 40.
124
приятия по, аресту... и приветствует эти мероприятия как один из верных
способов оздоровления фронта”14.
В штаб фронта прибыли представители Наркомата обороны. Когда Павлов
вошел в комнату, он увидел генерал-лейтенанта и с ним двух человек в полевой
форме.
— Гражданин Павлов, прошу ознакомиться с этим документом, — сухо
произнес генерал. Он передал Павлову постановление об аресте, утвержденное
Тимошенко. Расписался на документе и исполнявший обязанности прокурора
СССР Софонов.
— Мне приказано выполнить весьма неприятное задание, — продолжал
генерал. — Именем Союза Советских Социалистических Республик вы аресто¬
ваны!
Так бывший комфронта стал одним из узников внутренней тюрьмы НКВД на
Лубянке. О чем думал, что вспоминал Дмитрий Григорьевич в те самые мрачные
дни и часы своей жизни? Вероятно, он вспоминал декабрь 1940-го. Тогда на
совещании Главного Военного Совета обсуждались вопросы боевой готовности,
ведения наступательных операций, концентрации сил и средств для достижения
стратегического успеха. Большая военная игра, в которой Павлов командовал
войсками “красных” и противостоял "синим” под руководством Жукова.
Павлов тогда проиграл. С улыбкой, играючи, за что получил замечание от
Сталина. Но главное не в этом. “Так получилось, — писал в воспоминаниях
Жуков, — что я, командуя “синими”, развил операции как раз на тех направ¬
лениях, где через полгода развернутся реальные боевые действия. Конфигу¬
рация наших границ, местность, обстановка — все это подсказывало мне именно
такие решения, которые приняли потом фашисты. Посредники в игре искус¬
ственно замедляли темп продвижения “синих”. И тем не менее на восьмые сутки
они продвинулись до района Барановичей”15.
Немцы, оказывается, лучше наших даже достаточно опытных, прошедших
две войны — в Испании и с Финляндией — военачальников учли уроки той
командно-штабной игры и последующего развития событий. Довольно робкие
ответные шаги Павлова в ходе учения, черепашьи темпы создания новой линии
оборонительных сооружений, приверженность командных кадров к рутинному
мышлению в теории и практике военного дела — все в Берлине взвесили и
просчитали.
У нас же высшее военное и политическое командование вело себя так, словно
и не получало из западных приграничных округов ежедневных донесений,
подобных тому, что по поручению Павлова 21 июня в 2.40 ночи отправил
начальнику генштаба Климовских:
“Вручить немедленно. Первое. 20 июня в направлении Августов имело место
нарушение госграницы германскими самолетами: в 17.41 — шесть... в 17.43 —
девять... в 17.45 — десять самолетов. По данным погранотряда, самолеты имели
подвешенными бомбы.
Второе. По докладу командарма — 3 [3-й армии] проволочные заграждения
вдоль границы у дороги Августов — Сейны, бывшие еще днем, к вечеру сняты.
В этом районе, в лесу, будто бы слышен шум наземных моторов. Погра¬
ничниками усилен наряд”16.
Павлов просил разрешения занять полевые укрепления вдоль границы, Моск¬
ва не позволила. Еще 14 июня Климовских сообщил заместителю начальника
Генерального штаба о том, что разработка мобилизационного плана в округе
тормозится из-за отсутствия штатных табелей тыловых частей, авиации, воз¬
14 Литературная газета, 22.Ш. 1989.
15 Жуке в Г.К. Воспоминания и размышления, т. 1. М., 1990, с. 293.
16 ЦАМО РФ, ф. 208, оп. 2513, д. 71, л. 34.
125
душно-десантных частей, танковых полков и артиллерийских противотанковых
бригад.
Таких “мелочей” набиралось столько, что от одного их перечисления голова
шла кругом. А времени для устранения недостатков не оказалось.
В итоге восьмидневных боев войска Западного фронта потерпели тяжкое
поражение: части, не попавшие в окружение, были отброшены на 350—400 км,
понесли огромные потери. Гитлеровцы достигли рубежа Березины, захватили
небольшие плацдармы на ее левом берегу, в районах Свислочи и Бобруйска.
Противник создал предпосылки для развития наступления к Днепру.
Подробности разыгравшейся трагедии удалось установить лишь в конце 50-х
годов, когда были тщательно проанализированы сохранившиеся в архивах совет¬
ские и немецкие документы, сделали свое заключение компетентные военные
специалисты. Но тогда, летом 1941 г., реальной обстановки, сложившейся в
первые дни войны, не знали ни в Генеральном штабе, ни в штабах фронта,
армий, корпусов и дивизий. Как же ее представлял Павлов уже после ареста?
На допросе 7 июля он показывал:
"В первый день боя стало ясно о наличии крупных механизированных сое¬
динений противника в районе Брест, Семятичи и Кобенко и крупных механи¬
зированных соединений в Литве, в районе западнее Ораны. Против 10-й армии
наступали до четырех-пяти стрелковых дивизий и в направлении Сопоцкин —
Гродно — до трех стрелковых дивизий с тяжелыми танками.
На брестском направлении на 6-ю и 42-ю дивизии обрушилось сразу три
механизированных корпуса, что создало превосходство противника как числен¬
ностью, так и количеством техники. Командующий 4-й армией Коробков,
потеряв управление и, по-видимому, растерявшись, не смог в достаточной мере
закрыть основного направления своими силами, хотя бы путем подтягивания на
это направление 49-й дивизии. На 6-ю и 42-ю дивизии на этом же, брестском,
направлении противником была брошена огромная масса бомбардировочной
авиации. По докладу Коробкова, эта авиация со всей тщательностью обраба¬
тывала расположение нашей пехоты, а пикирующие бомбардировщики против¬
ника выводили из строя орудие за орудием. Господство авиации противника в
воздухе было полное, тем паче что наша истребительная авиация уже в первый
день одновременным ударом противника по всем аэродромам ровно в 4 часа утра
была в значительном количестве выбита, не поднявшись в воздух. Всего в этот
день выбито до 300 самолетов всех систем, в том числе и учебных. Все это
случилось потому, что было темно и наша авиация не смогла подняться в
воздух...
Основной причиной всех бед считаю огромное превосходство противника в
танках, материальной части и авиации. Кроме того, на левый фланг Кузнецовым
(ПрибВО) были поставлены литовские части, которые воевать не хотели. После
первого нажима немцев на левое крыло прибалтов литовские части перестреляли
своих командиров и разбежались. Это дало возможность немецким танковым
частям нанести мне удар с Вильно”.
Следователь грубо прервал бывшего командующего фронтом:
”— Довольно молоть чепуху! Нас не интересует, как потерпели полное
поражение руководимые вами войска. Следствию важно знать другое. Как слу¬
чилось, что именно на вашем, а не на другом участке фронта немецкие части так
глубоко вклинились в советскую территорию? Не является ли это результатом
изменнических действий с вашей стороны?
Павлов оставался тверд:
— Измены и предательства я не совершал. Прорыв на моем участке фронта
произошел по вышеизложенным мною причинам...
— Напрасно вы вновь пытаетесь свести поражение к независящим от вас
обстоятельствам, — настаивал следователь. — Нами точно установлено, что вы
126
еще в 1935 г. стали участником заговора и тогда уже имели намерение в
будущей войне изменить Родине. Создавшееся на фронте положение только
подтверждает следственные данные.
— Никогда ни в каких заговорах я не участвовал, ни с какими заговорщиками
не общался. Это обвинение для меня чрезвычайно тяжелое и неправильное с
начала и до конца. Если на меня имеются какие-нибудь показания, то это
сплошная и явная ложь людей, желающих хотя бы чем-нибудь очернить честных
людей".
Так закончился первый официально запротоколированный допрос генерала
Павлова. И он, видимо, многое для него прояснил. Стандартный по тем вре¬
менам набор обвинений свидетельствовал о том, что его стремились сделать
"врагом народа", участником военного заговора в РККА. Направление следо¬
вательской мысли не отличалось особой изобретательностью: после разгрома
заговора он, Павлов, решив отомстить советской власти, вступил-де в контакт с
врагом.
Следователь не отходил от определенного круга вопросов. Вероятно, он
получил от вышестоящего начальства жесткую установку и следовал ей. Правда
его нисколько не интересовала. Понял ли это Павлов, не выдержал ли унижения
и, наверное, побоев или по другим каким-либо причинам, но он изменил свои
первоначальные показания.
Из протокола допроса 9 июля 1941 г.;
"Вопрос: Следствие еще раз предлагает вам рассказать о свершенных вами
преступлениях против партии и советского правительства.
Ответ: Анализируя свою прошлую и настоящую деятельность, я счел необ¬
ходимым рассказать следствию о своих предательских действиях по отношению
к партии и советскому правительству. Еще в 1932 г., когда я командовал Бе¬
лорусским мехполком, Уборевич17 меня отличал как хорошего командира. В
последующие годы Уборевич продолжал выделять меня из среды других ко¬
мандиров, что мне очень льстило, и таким образом я целиком попал под его
влияние, стараясь как можно лучше выполнять все его указания, одновременно и
боялся его.
Позже Уборевич рекомендовал мою кандидатуру в Испанию для командо¬
вания танковыми частями. Уборевич давал мне вредительское указание по
использованию танков, приказав раздать все танки по 3—5 штук по всему
фронту, что привело к полной гибели их. Мне известно, что правой рукой
Уборевича был Мерецков18, который также выполнял все указания Уборевича.
Уборевич и Мерецков всему командному составу прививали германофильские
настроения, говорили, что нам надо быть в союзе с Германией, так как гер¬
манскую армию они очень высоко ценят, и всегда ставили в пример немецких
офицеров. Я разделял эту точку зрения. Организационно по линии заговора я ни
с Уборевичем, ни с другими связан не был. Будучи приверженцем Уборевича, я
слепо выполнял все его указания, и Уборевичу не нужно было вербовать меня в
заговорщическую организацию, так как й без этого я был полностью его
человеком.
Мерецков всегда внушал мне, что Германия в ближайшее время воевать с
Советским Союзом не будет, что она глубоко завязла в своих военных делах на
Западном фронте и в Африке. В связи с этим Мерецков предлагал мне не делать
особого упора на ускорение боевой подготовки в округе, а вести все по го¬
дичному плану...
17 Уборевич, Иероним Петрович — являлся командующим войсками Белорусского военного
округа (БВО).
18 Мерецков, Кирилл Афанасьевич —занимал должность начальника штаба Белорусского воен¬
ного округа.
127
Основное зло я нанес своей беспечностью и неповоротливостью, слишком
много доверял подчиненным и не проверял их. Эта беспечность передавалась им.
Так, например, мною был дан приказ о выводе частей из Бреста в лагеря...
Этого приказа я не проверил, а командующий 4-й армией Коробков не выполнил
его. В результате 22-я танковая дивизия, 6-я и 42-я стрелковые дивизии были
застигнуты огнем противника при выходе из города, понесли большие потери и
более, по сути, как соединения не существовали. Я доверил Оборину — ко¬
мандиру мехкорпуса — приведение корпуса в порядок, но сам лично не проверил
его, и в результате в машины заранее даже не были заложены патроны.
‘ В отношении строительства УРов я допустил со своей стороны также прес¬
тупное бездействие. В 1940 г. стоились только отдельные узлы, а не сплошная
линия укреплений, и я поставил об этом вопрос только в 1941 г... В результате
УРы к бою не были готовы... Вместо того, чтобы, учитывая обстановку за
рубежом, уже в конце мая вывести все свои части на исходное положение и тем
самым дать возможность принять правильные боевые порядки, я ожидал ди¬
ректив Генштаба, упустил время, в результате затянул сосредоточение войск,
так что война застала большую половину моих сил на марше в свои исходные
районы. Я допустил схематическое утверждение складов, приближенных к гра¬
нице на 50—60 км. В результате этого склады были в первые два дня по¬
дожжены авиацией противника или наши войска были вынуждены, отходя, рвать
их сами.
В отношении авиации. Я целиком доверил на слово рассредоточение авиации
по полевым аэродромам... допустил преступную ошибку, что разместил авиацию
близко к границе на аэродромах, предназначенных на случай нападения, а не
обороны. В результате в первый же день войны авиация понесла огромные
потери, не успев подняться в воздух...
Происшедшее на Западном фронте заставляет меня быть убежденным в
большом предательстве на брестском направлении. Мне неизвестен этот пре¬
датель... Намеренно фронт противнику я не открывал. Прорыв немцев полу¬
чился благодаря моей бездеятельности и невыполнению указаний ЦК о по¬
стоянной мобилизационной готовности".
10 июля Сталин почему-то вспомнил о Павлове. Вызвал А.Н. Поскребышева,
потребовал документы военного трибунала по делу Дмитрия Григорьевича.
Прочитал вслух: 'Таким образом, установлена виновность Павлова и Климов¬
ских в совершении ими преступлений, предусмотренных ст.ст. 63-2 и 76 УК
БССР, и Григорьева и Коробкова в совершении ими преступлений, преду¬
смотренных ст. 180 п. "б" УК БССР. Исходя из изложенного и руководствуясь
ст.ст. 319 и 320 УПК РСФСР, военная коллегия Верхсуда СССР приговорила:
1. Павлова Дмитрия Григорьевича
2. Климовских Владимира Ефимовича
3. Григорьева Андрея Терентьевича
4. Коробкова Александра Андреевича
— лишить воинских званий: Павлова — "генерала армии", а остальных троих —
военного звания "генерал-майор" — и подвергнуть всех четверых высшей мере
наказания — расстрелу, с конфискацией всего лично принадлежащего имуще¬
ства... Приговор окончательный и обжалованию не подлежит".
Сталин сказал Поскребышеву: "Приговор утверждаю, а всякую чепуху вроде
"заговорщицкой деятельности" Ульрих19 чтобы выбросил... Пусть не тянут.
Никакого обжалования. А затем приказом сообщить фронтам, пусть знают, что
пораженцев карать будем беспощадно"20.
Все указания Сталина были беспрекословно выполнены. Следствие свернули,
19 Ульрих являлся председателем Военной коллегии Верховного Суда СССР.
20 См. Волкогонов ДА. Триумф и трагедия, книга П, часть I. М., 1989, с. 193.
128
так и не добравшись до истины. Преданный Ульрих вычеркнул из проекта
приговора термины "антисоветский военный заговор", "заговорщицкие цели",
"проводили вражескую работу", взамен написал: "Проявили трусость, бездей¬
ствие власти".
На допросе 11 июля Павлов заявил, что сегодня он станет давать правильные
показания и ничего утаивать от следствия не будет. Признал, что в феврале
1937 г. стал членом "антисоветской военной организациии" и вел вражескую
работу. В преступную деятельность его якобы вовлек Мерецков.
Во время встреч с последним в республиканской Испании неоднократно обме¬
нивался мнениями об отсутствии у нас единой военной доктрины, о проведении
руководством Красной Армии неправильной политики в области военного
строительства и кадров, бесправии командного состава и излишних полномочиях
политработников.
Кроме того, Павлов сознался, что дал обещание Мерецкову по возвращении
на Родину активно поддерживать заговорщиков в выполнении главной задачи —
смены никуда негодного, с их точки зрения, руководства Вооруженных Сил.
Из показаний бывшего старшего советника в Испании Мерецкова 12 июля
1941 г.:
"По вражеской работе со мной были связаны: командующий Западным
военным округом генерал армии Павлов Дмитрий Григорьевич. О принадлеж¬
ности Павлова к антисоветской организации я узнал в начале 1937 г., хотя и
раньше имел основания предполагать о его связи с заговорщиками. В сентябре
1936 г. Уборевич меня информировал о том, что им подготовлена к отправке в
Испанию танковая бригада и принято решение командование бригадой поручить
Павлову. Уборевич при этом дал Павлову самую лестную характеристику,
заявив, что в мою задачу входит позаботиться о том, чтобы в Испании Павлов
приобрел себе известность в расчете на то, чтобы через 7—8 месяцев его можно
было сделать, как выразился Уборевич, большим танковым начальником.
В декабре 1936 г., по приезде Павлова в Испанию, я установил с ним дру¬
жеские отношения и принял все меры, чтобы создать ему боевой авторитет. Он
был назначен генералом танковых войск Республиканской армии. Я постарался,
чтобы он выделялся среди командиров и постоянно находился на ответственных
участках фронта, где мог себя проявить с лучшей стороны. В бригаде Павлов
много говорил об Уборевиче, восхваляя его как наиболее талантливого, по его
мнению, командира Красной Армии.
Павлов неоднократно в беседах со мной высказывал свое резкое недовольство
карательной политикой советской власти, говорил о происходящем якобы в
Красной Армии "избиении" командных кадров и даже открыто, на официальных
заседаниях, выступал в защиту репрессированных из числа военных".
16 июля 1941 г. Сталин подписал постановление ГКО об аресте и предании
суду военного трибунала Павлова и части руководящего состава фронтового
управления "за позорящую звание командира трусость, бездействие власти, от¬
сутствие распорядительности, развал управления войсками, сдачу оружия про¬
тивнику без боя и самовольное оставление позиций"21. В тот же день в войска
были направлены разъяснения по этому поводу. В них говорилось о героизме
воинов и о том, что вместе с тем некоторые бойцы и командиры проявляют
трусость и впадают в панику. Сообщалось также, что арестованы и преданы
суду военного трибунала за указанные выше преступления группа генералов
Западного фронта во главе с командующим и несколько генералов и офицеров
Северо-Западного и Южного фронтов. Государственный Комитет Обороны,
говорилось далее, будет и впредь "железной рукой" пресекать всякое проявление
трусости.
21 ЦАМО РФ, ф. СибВО, оп. 33282, д. 9, л. 5.
5 Новая и новейшая история, № 5
129
Не последнюю роль в появлении этого постановления сыграл Мехлис, от¬
крыто говоривший о сговоре Павлова с фашистами, убеждавший всех, что на
следствии "запираться он не будет". Должны же мы, утверждал Мехлис, по¬
казать нашему народу, армии, кто виноват в разыгравшейся трагедии первых
дней войны. Активно помогали ему исполнявший обязанности начальника Осо¬
бого отдела фронта А.Н. Бегма и прибывший из Москвы начальник Управления
особых отделов Наркомата обороны бригадный комиссар М.К. Михеев.
Павлов, видимо, полагал, что после признаний его наконец начнут допра¬
шивать по сути предъявленных в постановлении ГКО обвинений. Но 21 июля
речь снова идет об антисоветчине. Павлову предъявили свидетельские пока¬
зания репрессированных в 1938—1939 гг. А.Д. Армана, Я.К. Берзина, И.В. Бе¬
лова, С.П. Урицкого, "уличавших" его в заговорщической деятельности. И он
стал рассказывать, как, спасаясь от провала, решил с Мерецковым уйти в глу¬
бокое подполье, добросовестным, инициативным трудом всячески доказать свою
непричастность к осужденным заговорщикам. Говорил Павлов и о росте у него
озлобления к репрессивной политике советского правительства. При этом со¬
общил и о том, как однажды после заседания Главного военного совета в 1938 г.
было написано письмо Сталину об арестах командного состава.
Из протокола допроса Павлова 21 июля 1941 г.:
"Содержание письма сводилось к тому, что основные силы контрреволюции в
армии якобы ликвидированы, но, несмотря на это, аресты командного состава
продолжаются и принимают настолько обширные размеры, что в армии может
начаться разложение, поскольку красноармейцы начинают критиковать действия
командного и политического состава, подозревая в них врагов. Это обстоя¬
тельство, как мы указывали в заключение, может пагубно отозваться на бое¬
способности армии в военное время, и просили в связи с этим принять соот¬
ветствующие меры. Мы полагали, что на основании нашего заявления прави¬
тельство примет соответствующее решение о сокращении арестов и таким
образом нам удастся сохранить от провала заговорщические кадры. При со¬
ставлении письма Кулик клеветнически отзывался о политике советского
правительства, которое якобы попустительствовало арестам. Он заявлял, что
существующие порядки необходимо изменить. Оскорбительно отзывался о Во¬
рошилове. Я эту точку зрения разделял".
21 июля было утверждено обвинительное заключение и на подготовительном
заседании Военной коллегии Верховного Суда СССР под председательством
Ульриха принято определение: "С обвинительным заключением согласиться и
дело принять к своему производству. Дело назначить к слушанию в закрытом
судебном заседании без участия обвинения и защиты, без вызова свидетелей".
В 0 час. 20 мин. 22 июля 1941 г. Ульрих открыл судебное заседание...
"— Признаете ли вы себя виновным? — спросил он Павлова.
— Виновным себя в участии в антисоветском военном заговоре не признаю.
Участником антисоветской заговорщической организации никогда не был...
— Подтверждаете ли вы свои показания, данные на предварительном след¬
ствии несколько часов назад, т.е. 21 июля?
— Этим показаниям я прошу не верить. Их я дал, будучи в нехорошем
состоянии. Я прошу верить моим показаниям от 7 июля.
— В своих показаниях от 21 июля вы говорите, что "впервые о целях и
задачах заговора я узнал еще будучи в Испании в 1937 г. от Мерецкова".
— Будучи в Испании, я имел одну беседу с Мерецковым, во время которой он
говорил о том, что нам необходимо набраться опыта в этой войне и перенести
его в свои войска. Об антисоветском военном заговоре в РККА узнал из па¬
рижских газет.
— Несколько часов назад вы говорили совершенно другое, и в частности о
своей вражеской деятельности?
130
— Антисоветской деятельностью я никогда не занимался. Показания о своем
участии в антисоветском заговоре я дал, будучи в невменяемом состоянии.
— На том же допросе, лист дела 86, от 21 июля вы говорите: ’’Поддерживал
все время с Мерецковым постоянную связь; последний в неоднократных беседах
со мной систематически высказывал свои пораженческие настроения, доказывал
неизбежность поражения Красной Армии в предстоящей войне с немцами. С
момента начала военных действий Германии на Западе, Мерецков говорил, что
сейчас немцам не до нас, но в случае нападения их на Советский Союз и победы
германской армии хуже нам от этого не будет". Такой разговор с Мерецковым
был?
— Да, такой разговор у меня с ним был, но тот разговор происходил в январе
1940 г. в Райволе. Я не возражал ему, так как разговор был во время выпивки.
В этом я виноват.
— Свои показания от 21 июля вы заканчиваете так: "Будучи озлоблен тем
обстоятельством, что многие ранее близкие мне командиры Красной Армии были
арестованы и осуждены, я избрал самый верный способ мести — организацию
поражения Красной Армии в войне с Германией. Я частично успел сделать то,
что в свое время не удалось Тухачевскому и Уборевичу, т.е. открыть фронт
немцам".
— Никакого озлобления у меня никогда не было. И не было к тому оснований.
Я был Героем Советского Союза. С прошлой верхушкой в армии я связан не
был. На предварительном следствии меня в течение 15 дней допрашивали о
заговоре. Я хотел скорее предстать перед судом и ему доложить о действи¬
тельных причинах поражения армии. Поэтому я писал о злобе и называл себя
тем, кем никогда не был...
Я прошу доложить нашему правительству, что на Западном Особом фронте
измены и предательства не было. Все работали с большим напряжением. Мы в
данное время сидим на скамье подсудимых не потому, что совершили пре¬
ступление в период военных действий, а потому что недостаточно готовились к
войне в мирное время".
Суд удалился на совещание. В 3 час. 20 мин. Ульрих огласил приговор.
Разъяснил осужденным их право ходатайствовать перед Президиумом Верхов¬
ного Совета СССР о помиловании.
Командующий Западным фронтом Павлов, начальник штаба фронта Климо¬
вских, начальник связи фронта Григорьев, командующий 4-й армией Коробков,
сообщалось в приговоре, "в период начала военных действий германских войск
против Советского Союза проявили трусость, бездействие власти, нераспоря¬
дительность, допустили развал управления войсками, сдачу оружия противнику
без боя и самовольное оставление боевых позиций частями Красной Армии, тем
самым дезорганизовали оборону и создали возможность противнику прорвать
фронт Красной Армии... вследствие своей трусости, бездействия и паникерства
нанесли серьезный ущерб РККА, создали возможность прорыва фронта про¬
тивником в одном из главных направлений и тем самым совершили преступления
по ст. 193-17/"б" и 193-20/"б" Уголовного кодекса РСФСР...
Военная коллегия приговорила лишить воинских званий Павлова, Климовских,
Григорьева, Коробкова и подвергнуть всех четырех высшей мере наказания —
расстрелу, с конфискацией всего лично принадлежащего им имущества. Приго¬
вор окончательный и кассационному обжалованию не подлежит".
Такая же мера наказания несколько позже, 27 сентября 1941 г., была
вынесена и начальнику артиллерии фронта генерал-лейтенанту артиллерии
Н.А. Кличу.
Той же июльской ночью Дмитрия Григорьевича Павлова расстреляли...
"Справка. Приговор военной коллегии Верховного Суда Союза ССР от 22 ию¬
ля 1941 г. над осужденным к высшей мере наказания — расстрелу Павловым
5*
131
Дмитрием Григорьевичем приведен в исполнение 22 июля 1941 г. Акт о при¬
ведении приговора в исполнение хранится в Особом архиве, том 30, стр. 1-я.
Старший оперуполномоченный 5-го отделения 1-го спецотдела НКВД СССР,
младший лейтенант госбезопасности /подпись/
Сашенков".
Спустя несколько недель после ареста бывшего командующего войсками
округа генерала армии Павлова добрались и до его семьи...
"Из дела № Р-24000:
1 октября 1941 г. военный трибунал войск НКВД по Горьковской области
осудил по статье 58-1 "В" часть 2-я УК РСФСР к высылке в Красноярский край с
Лишением избирательных прав на пять лет каждого:
отца — Павлова Григория Васильевича,
мать — Павлову Екатерину Степановну,
жену — Павлову Александру Федоровну,
тещу — Кузнецову Клавдию Михайловну,
сына — Павлова Бориса Дмитриевича”22.
Однако жена, тем более после ее реабилитации, не могла смириться с рас¬
правой над ее мужем.
Из письма вдовы Павлова — Александры Федоровны Павловой — Первому
секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущеву от 20 апреля 1956 г.:
"Я, Павлова Александра Федоровна, прошу разобрать дело моего мужа Пав¬
лова Дмитрия Григорьевича... В самом начале войны, 22 июля 1941 г., Пав¬
лов Д.Г. был осужден и расстрелян. Но я до сих пор глубоко верю в его
невиновность...
Мог ли Павлов Д.Г., сын крестьянина-бедняка, прошедший такой большой
путь, выполнявший не раз, рискуя жизнью, задания партии и правительства,
совершить преступление, достойное расстрела? Не могло этого быть. В отсут¬
ствии ясности по делу Павлова Д.Г. меня убеждает тот факт, что мотивировка
приговора менялась в зависимости от времени.
Например, в начале войны Павлов был объявлен врагом народа. Семью
репрессировали — сослали в Красноярский край по статье 58-1 как иждивенцев
изменника родины. Приходившие в тыл с фронтов раненые бойцы рассказывали,
что по войскам были объявлены имена изменников Родины, в том числе и
Павлова Д.Г.
В 1952 г. дочь, окончившая институт, едет в Москву с надеждой что-то
выяснить и добиться реабилитации семьи. На этот раз высказывания о Павлове
ей встретились противоречивые. В юридической консультации юрист от офи¬
циальной консультации (по вопросу о семье) отказался, но в неофициальной бе¬
седе сказал, что Павлов осужден не как изменник, а потому, что так сложилась
обстановка: семье-де лучше обратиться к военному министру.
В приемной военного министра дочери, Павловой А.Д., ответили: "Ваш отец
осужден как враг народа. Так каким же образом можно ставить вопрос о реа¬
билитации вашей матери? Все в рамках законности". Ну, а в порядке сочувствия,
предложили обратиться в Верховный Совет СССР.
В Верховный Совет СССР я обратилась с письмом в 1954 г., т.е. после разо¬
блачения банды Берии. Главная военная прокуратура ответила, что Павлов Д.Г.
был осужден в июле 1941 г. за совершение тяжких должностных и воинских
преступлений, а не как враг народа. Ответ от 8 мая 1954 г.
9 ноября 1954 г. военный прокурор Московского военного округа ответил, что
Павлов был осужден не как враг народа, а за служебные преступления, со¬
22 16 мая 1954 г. военным трибуналом Московского военного округа они были реабилитированы.
132
вершенные bq время войны (семья признана невиновной и осужденной неза¬
конно). Так изменилась мотивировка приговора (хотя бы гласная), но все же
Павлов обвинен как преступник.
Я считаю, что в обвинении Павлова и его уничтожении был кое-кто заин¬
тересован. Возможно, Берия, и вот почему: Павлов Д.Г. выступал против арес¬
тов 1937—1938 гг.
В 1938 г. летом Павлов Д.Г., Аллилуев Павел Сергеевич (комиссар Авто-
бронетанкового управления) и Кулик Г.И. (начальник артуправления) подавали
лично товарищу Сталину петицию с просьбой прекратить массовые аресты ста¬
рых кадровых командиров. Из этих трех человек, не знаю, жив ли Кулик Г.И., а
что касается Аллилуева, то oi скоропостижно скончался в том же году, на
другой день после приезда с курорта. Но о факте подачи петиции лично Сталину,
вероятно, известно К.Е. Ворошилову. Я предполагаю это потому, что перед
тем, как пойти к тов. Сталину, Аллилуев и Павлов ездили на дачу к К.Е. Во¬
рошилову (лето 1938 г.)
Второй факт: в 1938 г., по словам мужа, товарищу Мерецкову угрожала
неприятность. Тов. Сталин спрашивал мнение Павлова о Мерецкове. Павлов
сказал, что очень хорошо его знает как смелого и преданного человека, особенно
по войне в Испании.
То, что убрали Павлова Д.Г. в начале войны, было отрадно для врагов. Об
этом свидетельствует следующий факт: когда семья была сослана в Краснояр¬
ский край и проживала в поселке Тея Енисейского района, к нам пришла выс¬
ланная туда же гражданка Постникова А.И. (1944 г.). Она очень удивилась,
почему мы здесь (семья Павлова — ив таком положении, как они). Постникова
рассказывала следующее: она — жительница г. Боровска, в период оккупации у
них на квартире стояли немецкие офицеры. Так один из них похвалялся, что
русские никого не могут противопоставить генералу Гудериану. Был, дескать, у
них генерал Павлов, да и этого убрали. Представьте, как тяжело это было
слышать! Первое, что приходило на ум, — лучше бы Павлов погиб тогда, в
начале войны, когда была сброшена на штаб округа бомба, наверняка пред¬
назначенная для него, пробившая воронку, которую я видела своими глазами,
рядом с кабинетом Павлова в зале заседаний!
И, наконец, как обстояло дело. Перед самой войной Павлову сообщили, что
немцы готовятся к маневрам, и Павлов получил приказ тоже проводить ма¬
невры. Начало войны, состояние и соотношение сил известно Вам больше, чем
мне. Павлову Верховное Командование не разрешило выезжать на линию фрон¬
та, послали маршала Кулика Г.И., который попал в окружение.
2 июля Павлов был вызван в Москву. Был на приеме у Молотова В.М.
Вернувшись с приема, муж сказал мне, что давал В.М. Молотову объяснение
причин отступления после боя на Березине: сдерживать было нечем, подкреп¬
лений не предвиделось, оставаться — означало погубить всех людей и остатки
техники. Затем муж сказал мне, что его направляют командовать танковыми
войсками к Тимошенко С.К., а вопрос об отступлении разберут на бюро.
3 июля, собираясь на фронт, муж сказал: ’’Поеду бить Гудериана, он мне
знаком по Испании”. А на мой вопрос: “Положить ли тебе парадную форму?” —
ответил: “Победим, приедешь в Берлин и привезешь!".
Всякий раз, до самой смерти, не могу без волнения вспоминать эти последние
слова мужа.
На фронт Павлов Д.Г. выехал 3 июля в 9 часов утра в сопровождении пол¬
ковника для поручений Яновицкого А.В. и шофера Науменко Н. по автостраде
Москва — Минск, в сторону Смоленска. Больше от мужа я ничего не получала,
никаких известий. Единственные вести-слухи дошли до меня, что якобы вслед за
мужем была послана машина, чтобы его арестовать, а арестовывал кто-то из
заместителей Берии (выходит, до Смоленска он не доехал). Кроме слухов меня
133
тогда удивил еще факт: сопровождавший Павлова на фронт полковник Яно-
вицкий написал мне открытку с просьбой ответить в Тамбов, до востребования.
Это был тыл, и не госпиталь, а время — конец июля 1941 г. Вот и все.
'5 лет прошло, как нет в живых Павлова. У мен° осталась последняя на¬
дежда — смыть посмертно грязное пятно с имени честного человека и убрать
тень с семьи. Еще раз прошу ЦК КПСС разобрать вопрос о реабилитации
Павлова Д.Г.”23.
5 ноября 1956 г. Генеральный штаб вынес по делу Павлова свое заключение:
“Обвинение генералов Павлова, Климовских, Григорьева, Коробкова и Клича
основано только на их показаниях, в которых они признавали некоторые свои
упущения по службе. Никакими объективными доказательствами эти показания
осужденных не подтверждены. В деле отсутствуют какие-либо оперативные
документы и нет компетентного заключения о характере упущений этих лиц.
Имеющиеся документы и сообщения ряда генералов, служивших в Западном
Особом военном округе, не отрицая ряда крупных недочетов в подготовке
округа к войне, опровергают утверждение обвинительного заключения о том,
что генералы Павлов Д.Г., Климовских В.Е., Григорьев А.Т., Коробков А.А. и
Клич Н.А. виновны в проявлении трусости, бездействия, нераспорядительности,
в сознательном развале управления войсками и сдаче оружия противнику без
боя”24.
В коллективных трудах отечественных историков, посвященных Великой
Отечественной войне, мемуарах видных полководцев рассматривались события
на Западном фронте в первые дни войны и деятельность Павлова25. По мнению
авторов этих работ, командование фронта могло бы действовать тогда по-иному,
но возлагать на него главную ответственность за поражение наших войск нель¬
зя. Конечно же, и речи не может быть о каких-либо злонамеренных действиях.
Уже после войны Б.А. Фомин отмечал: “В действиях и поступках Павлова
как в предвоенный период, так и во время ведения тяжелой оборонительной
операции лично я не усматриваю вредительства, а тем более предательства.
Фронт постигла неудача не из-за нераспорядительности Павлова, а из-за ряда
причин, важнейшими из которых были: численное превосходство противника,
запоздание с занятием рубежей УРов, безграмотное вмешательство Кулика”.
Бывший начальник штаба 4-й армии Сандалов в своем военно-историческом
очерке “Первые дни войны”, изданном в 1961 г. под грифом “Секретно”, снятым
только в 1989 г., уже после смерти автора, анализируя фронтовую обстановку в
июне 1941 г., пришел к выводу: “Нет сомненит, что командование войск и штаб
Западного фронта, командование и штабы армий, в том числе и 4-й армии, несут
большую ответственность за поражение войск и потерю Белоруссии в начальном
периоде войны”.
К недостаткам в их деятельности, да и в своей работе автор отнес низкий
уровень выучки личного состава, отсутствие тренировок по организации взаимо¬
действия войск в бою, операций, опыта командования частями и соединениями в
полном составе. Роковую роль в судьбе фронта сыграла незавершенность под¬
готовки театра военных действий, в первую очередь укрепрайонов, полевых
позиций и аэродромов. “А формируемые в то время в округе корпуса поглотили
имевшиеся вполне сколоченные армейские танковые бригады, но сами как
крупные подвижные соединения фронтового и армейского подчинения оказались
23 Цит. по: Самсонов А.М. Знать и помнить: диалог историка с читателем. М., 1988, с. 331—335.
24 ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 725588, д. 36, л. 10.
История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, т. 2. М., 1961; История
второй мировой войны 1939—1945, т. 2. М., 1975; Болдин И.В. Страницы жизни. М., 1961; Жу¬
ков Г.К. Воспоминания и размышления, т. 2; Сандалов Л.Н. Пережитое. М., 1961.
134
неподготовленными”. Как тут не вспомнить решение Главного Военного Совета
от 21 ноября 1939 г. о расформировании танковых корпусов? Уже в 1940 г. его
пришлось пересматривать, но время было упущено безвозвратно.
Были и дру^е просчеты, но при этом, подчеркнул Сандалов ле меньшая
ответственность лежит на руководстве Наркомата обороны и Генеральном
штабе. Практически все мероприятия в округе проводились или по прямому
указанию Генштаба, или с его согласия.
Нельзя не сказать и о роковой роли массовых репрессий 1937—1938 гг. В
результате кровавого разгула было уничтожено большинство опытных, зака¬
ленных, прошедших школу первой империалистической и гражданской войн,
последующих вооруженных конфликтов командиров и политработников. На ва¬
кантные должности, в частности и высокие, пришлось назначать людей, не
имевших достаточных знаний и опыта.
И в этом отношении Павлов не был исключением. Да, он командовал кава¬
лерийским и механизированным полком, механизированной бригадой в той же
Белоруссии, где встретил войну, танковой — в Испании. Был заместителем, а
затем начальником АБТУ Красной Армии. Но достаточно ли этого, чтобы ус¬
пешно руководить войсками крупного приграничного округа, да еще в том со¬
стоянии, в котором перед войной оказался Западный Особый? Первые дни войны
показали, что недостаток опыта и навыков в управлении армиями, объеди¬
нениями и соединениями, широкого оперативного кругозора одной волей и энер¬
гией восполнить невозможно.
В начале войны боевые порядки войск Западного фронта вследствие ог¬
ромных потерь и общего недостатка сил и средств оказались неглубокими,
строились, как правило, в один и редко в два эшелона. Фланги и стыки зачастую
оставались необеспеченными. И противник умело использовал это обстоятель¬
ство. Предвоенная практика обучения личного состава оборудованию рубежей,
полос, участков и районов обороны себя не оправдала.
Планирование, организация и ведение всех видов разведки в первые дни
войны не позволяли своевременно раскрывать намерения противника, ставили
обороняющиеся войска в затруднительное положение.
Отсутствие службы регулирования, плохо организованная эвакуация повреж¬
денной боевой техники привели к тому, что значительная ее часть, а также
автотранспорт и огромные материальные запасы были уничтожены или доста¬
лись врагу.
Все это в совокупности и привело к неудачам, а в конечном счете и к
поражению войск Западного фронта в начальный период Великой Отечест¬
венной войны.
Генерал Павлов разделил трагическую судьбу своего фронта, погиб, как и
многие его подчиненные. Но смерть смерти — рознь. В бою погибают герои, от
пуль своих — предатели. Так, по крайней мере считалось у нас на протяжении
десятилетий. Но разве те, что стреляли в своих, всегда были правы? И тогда, и
тем более впоследствии были все основания усомниться в этом. И какими бы
противоречивыми ни были мнения о личности генерала Павлова, наказанием за
его вину даже в тех жесточайших условиях вряд ли могла быть человеческая
жизнь. Слишком много виноватых оказалось тогда, и чья вина больше, мы и
через полвека точно не знаем.
Но мы уже знаем: в действиях представителей "самого гуманного суда в мире”
как раз гуманности и законности и не хватало. Так было и в 1918 г., и в 1937 г.,
и в начале Великой Отечественной.
135
© 1992 г.
О. Ф . СОЛОВЬЕВ
МАСОНСТВО ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ
III. К НОВОМУ ОБЩЕСТВУ (XX в.)
История человечества на рубеже XIX и XX вв. определялась интенсивным
развитием капитализма и обострением его противоречий.
Масонство стремилось по возможности сгладить эти противоречия. Делались
попытки распространения масонской солидарности, т.е. взаимопомощи адептов,
на внешний мир, дабы в конце концов принять законы о социальном обеспечении
трудящихся. Авторство доктрины солидаризма принадлежит крупному полити¬
ческому деятелю Франции масону Л. Буржуа, который суть ее выразил так:
"Добродетель, именуемая солидарностью, является добровольным союзом и
взаимным самопожертвованием людей"1. Общности задач пролетариата в рево¬
люционной борьбе противопоставлялась общегуманитарная идея сотрудничества
ценой взаимных уступок и компромиссов. В среде рабочих Франции, Италии,
Бельгии и других стран возникают масонские ложи2.
Значительное место масоны уделяли проблемам воспитания людей, в ос¬
новном молодежи; причем в англоговорящих странах, Германии и Скандинавии
их педагогическая деятельность связывалась с господствующими вероучениями,
во Франции носила деистский и подчас атеистический отпечаток. Филиалом
ордена служила и разветвленная сеть филантропических учреждений, содейство¬
вавших формированию высокопрофессиональной государственной элиты, и та¬
ланты черпались из всех слоев общества. Речь идет о французской Лиге обра¬
зования, которая активно выступала за обязательное светское обучение, раз¬
витие чувства гражданского долга и патриотизма. Популярное движение бой¬
скаутов, возникшее по инициативе Баден-Пауэла, было близко педагогическим
идеям масона Декрели3. Орден имел причастность и к созданию международного
языка эсперанто.
Провозглашение масонством универсальных мирных принципов отнюдь не
мешало его членам принимать деятельное участие в многочисленных кровопро¬
литных войнах. В то же время неоспорима значимость многих пацифистских
инициатив, в частности выдвижения в XIX в. идеи "Соединенных Штатов
Европы", именуемых сегодня "европейским домом". Историк революционного
движения Б.И. Николаевский отмечал, что пацифизм русского масонства, фак¬
тически заимствованный из Франции, вращался в "мире туманных, отвлеченных
общих формул о необходимости перестройки международных отношений на
основе принципов братской любви и солидарности, о необходимости стремлений к
мирному, братскому улаживанию международных конфликтов"4.
Неопределенность пацифистских рассуждений объяснялась во многом тем, что
Окончание. Начало см. в № 4 нашего журнала за 1992 г.
1 Dictionnaire de la franc-maęonnerie. Paris, 1987, p. 166—156.
2 См. Janvion E, La franc-maęonnerie et la classe ouvriere. Paris, 1912.
3 Cm. Cathelineau F. La franc-maęonnerie et I'enseignement. Paris, 1910; Dictionnaire de la franc-
maęonnerie, p. 1095.
4 Николаевский Б.И. Русские масоны и революция. М., 1990, с. 34—35.
136
масонские лидеры Парижа, находившиеся у власти, занимались методической
подготовкой реваншистской войны против Германии ради возвращения Эльзаса и
Лотарингии, присоединения к своим владениям ее колоний в Африке. Главным
инструментом подготовки европейской войны сделался русско-французский союз
1891—1893 гг., в период создания которого из пяти правительств два воз¬
главлялись масонами III. Флоке и Ж. Лубе. Важные посты в этих кабинетах, в
том числе министров внутренних дел, финансов, торговли и промышленности,
занимали представители ордена5. Правители Третьей республики пошли на
выгодную им сделку с Россией, предоставляя ей многомиллионные займы,
поскольку без поддержки русской армии не считали возможным одержать верх
над противником. Романовская империя получила шанс укрепить с помощью
Франции свое международное и внутриполитическое положение. Поощряя в
стране аптимасонскую кампанию черносотенцев, царское самодержавие сотруд¬
ничало с орденом на международной арене.
Л. Буржуа и его единомышленники при всем словесном миролюбии проводили
твердый курс на довооружение армии и укрепление союза с Россией, насаждали в
стране антигерманские настроения. И руководящие круги Германии, среди них и
масоны, лихорадочно подталкивали мир к войне. Все же некоторые шаги
примирения двух стран предпринимались и по масонским каналам, особенно в
1909 г. Об этом сообщал в Петербург российский военный агент в Париже
Ностиц. По его данным от 27 мая, прерванные с 1870 г. сношения между гер¬
манскими и французскими масонами были восстановлены, ибо пять великих лож
из семи "высказались за возобновление прежних дружественных сношений с
Великим Востоком Франции". 4 июля он докладывал об открытии в Баден-Ба¬
дене съезда братств двух стран6. Упомянутый съезд, как и предыдущий 1907 г. в
Шлюхте, практических результатов не дал7.
Масонство разных государств и масонские объединения одной страны
ревностно охраняли свой "суверенитет", распространявшийся на трактовку даже
основополагающих принципов, не говоря об особенностях ритуалов. Единый
координирующий центр для всего ордена отсутствовал. В 1902 г. по инициативе
швейцарской ложи Альпина в Женеве состоялся конгресс 34 ассоциаций, при¬
нявший решение открыть со следующего года Международное бюро масонских
связей, которое просуществовало до 1921 г. Первоначально оно стремилось дать
стимул к изучению ритуалов, символики и прессы ордена, а также "служить
посредником и информатором между масонскими центрами для содействия
сношениям между ними". Затем была поставлена задача "способствовать раз¬
витию пацифистских идей". Отмечался факт отсутствия у Бюро властных
полномочий, включая принятие решений, чтобы "стремиться к сближению ма¬
сонов всех стран, занимаясь опровержением распространенных заблуждений, лжи
и незаслуженных обвинений со стороны врагов союза", а также "акцентировать
все пункты контактов во всемирном масонстве, подчеркивать красоту наших
принципов, благородство взглядов и искренность убеждений"8. В организации
принимали участие объединения многих европейских государств, включая не¬
мецкие и французские. Английские и скандинавские масоны отказались от этого.
Американские великие ложи лишь регулярно предоставляли свою прессу, до¬
кументы и информацию. Бюро издавало бюллетень на пяти языках.
Международный конгресс эсперантистов 1905 г. в Булони (Франция), боль¬
шинство участников которого были "вольными каменщиками", решил создать
специальную ассоциацию, именовавшуюся с 1913 г. Международной лигой ма¬
5 Saint-Pas tour. La franc-maęonnerie au ParlemenL Paris, 1970, p. 40—42,126.
6 Центральный государственный военно-исторический архив ф. 2000, on. 1, д. 480, л. 5—11.
7 См. Dictionnaire de la franc- maęonnerie, p. 34.
8 Ibid., p. 170.
137
сонов. Уставом предусматривалось, что ее члены действуют в индивидуальном
порядке для “улучшения и развития братских и дружеских связей между
Мастерами всего мира” и “проведения согласованных действий в пользу братства
людей и народов”. Членам Лиги предоставлялась полная свобода действий во
всех вопросах, связанных с реализацией главных целей, но предписывалось
воздержание от любого вмешательства в дела масонских центров. Лига про¬
возглашала нейтральную позицию в политической и религиозной областях9. Ее
состав нам неизвестен, однако известно, что от участия в ней отказались ложи
Великобритании и США.
Продолжавшиеся конференции верховных советов ордена ряда стран не
ограничивались обсуждением обрядовых аспектов. Но неверно видеть в них и
нечто подобное масонскому интернационалу, дирижировавшему из-за кулис хо¬
дом мировых событий, о чем бездоказательно твердили противники ордена.
Противоречивость и разнонаправленность этих событий наглядно свидетель¬
ствует об отсутствии тесной координации между их активными участниками.
По инициативе братьев Бриссона, Буржуа, Флоке, Лодеру а, Мезюрера и дру¬
гих во Франции была создана массовая партия радикалов и радикал-социалистов.
В 1905 г. из 513 членов ее исполнительного комитета 247 были масонами, а из 33
членов бюро комитета 20 состояли в ложах. Председатель партии Ж. Лаферр
являлся одновременно и главой Великого Востока. Вплоть до второй мировой
войны из ее верхушки выдвигались президенты, главы правительств, видные
министры. Программными требованиями радикалов являлись: борьба с клери¬
кализмом, отделение церкви от государства и светское образование, установ¬
ление прогрессивного подоходного налога, демократизация государственного
строя, сокращение срока военной службы10. Со времени появления этой партии
Великий Восток и его ложи начали отмежевываться от участия в политических
делах, предпочитая проводить установки через братьев в органах власти страны,
а также в общественных учреждениях просвещения, защиты прав человека,
свободомыслия, эсперантистов. Масоны заняли ряд влиятельных позиций в
профсоюзном движении и социалистической партии. Среди них были адепты
ордена В. Ориоль, П. Ренод ель, Л. Фроссар, Ж. Лонге. Почти полностью из
“вольных каменщиков” состояла отколовшаяся группа независимых социалистов
во главе с Р. Вивиани, М. Самба, А. Мильераном. Фактически масоны стали од¬
ним из “приводных ремней” от финансовой олигархии к правительству, парла¬
менту, отдельным партиям. Но они имели относительную свободу действий в
принятии и интерпретации политических решений11.
В связи с широкой антимасонской кампанией начала XX в., развязанной реак¬
ционными силами и католической церковью с помощью ренегата из верхушки
ордена Ж. Бидгена, совет Великого Востока выступил в 1904 г. с публичным
заявлением, подчеркнув: “Франкмасонство презирает атаки, оскорбления, наве¬
ты и клевету своих традиционных противников. Оно спокойно продолжает
интеллектуальное, моральное, политическое и социальное дело, которое ему
передали предшествующие поколения. Оно не признает других истин, кроме
основанных на разуме и науке, и лишь с помощью данных последней борется с
суевериями и предубеждениями, на которых церкви утверждают свой авто¬
ритет”12. Далее упор делался на прогрессивность социальной линии ордена,
важность общечеловеческих ценностей. Несмотря на яростное сопротивление,
9 Ibid., р. 1210.
10 Антюхина-Московченко В.И. История Франции. М., 1963, с. 566; Рубинский Ю.М. Масоны во
Франции «вчера и сегодня». — Вопросы истории, 1976, Ne 9, с. 143.
11 Headings М. French Freemasonry under the Third Republic. Baltimore, 1949, p. 74—75.
12 Ibidem.
138
масоны и их союзники провели во Франции в жизнь законы об отделении церкви
от государства и школы от церкви.
В справочнике ассоциации аббата Турмантена, составленном по закрытым
данным лож на 1908 г., содержались сведения о фамилиях и профессиях 36 тыс.
адептов. Только в Париже к системе Великого Востока принадлежали 62 брат¬
ства: ’’Социалистическое действие”, "Права человека”, "Освобождение”, "Новая
эра", "Социалистическая Франция", "Справедливость", "Свобода" и даже "Ин¬
тернационал". На преемственность с революцией указывали ложи "Поклонники
Сен-Жюста", "Вольтер". К шотландскому ритуалу принадлежали 33 ложи, наз¬
ванные в духе типичной орденской символики: "Акация", "Союз", "Космос",
"Неразлучные друзья", "Ремесло и труд", "Новый Иерусалим", "Озирис", "Союз
народов"; существовали и братства "Эмиль Золя", "Гёте", "Галилей", "Гари¬
бальди"13. Согласно другому источнику, на 1 января 1914 г. Великий Восток и
примыкавшие к нему объединения насчитывали во Франции 470 лож, в том числе
163 в Париже и окрестностях, 36 — в других странах. Имелось также несколько
десятков капитулов и орденских советов14.
В "Уставе и общем регламенте" ордена, экземпляр которого вручался при
приеме в масоны каждому неофиту, в отличие от Устава 1877 г. первый пункт
звучал так: "Франкмасонство является главным образом филантропическим,
философским и прогрессивным учреждением, имеющим целью поиск истины,
изучение морали и осуществление на практике солидарности; оно занимается
материальным и моральным улучшением, интеллектуальным и социальным
совершенствованием Человечества". Основные принципы организации — "все¬
общая терпимость, уважение других и самого себя, полная свобода совести".
"Долг масонства, — отмечалось в Уставе, — распространять на всех пред¬
ставителей Человечества братские узы, связывающие франкмасонов всего зем¬
ного шара. Оно рекомендует своим членам ведение пропаганды личным
примером, устно и письменно, но при условии соблюдения масонской тайны".
Далее указывалось на циркуляры, предписывавшие ни под каким предлогом не
оглашать того, что касается "нашего Ордена и наших учреждений", без по¬
лучения определенного разрешения. Подчеркивалось, что руководство неодно¬
кратно предостерегало ложи в отношении тех членов, которые используют
принадлежность к масонству в коммерческом и частном интересах. Меры дис¬
циплинарного воздействия на ослушников предусматривали: простое замечание,
замечание с занесением в протокол заседания ложи и порицание. Самое строгое
наказание состояло в окончательном исключении из ордена15.
Подробно трактовался порядок открытия новых лож, в том числе в ино¬
странных государствах, за исключением тех, где "существует правильная ма¬
сонская организация", находящаяся с Великим Востоком в "дружественных
отношениях". Но появились ложи, созданные во Франции "какой-либо иност¬
ранной масонской властью". По официальным данным, в 1870 г. филиалы фран¬
цузских центров существовали в Австро-Венгрии (6), Китае (11), Египте (2),
Греции (1), Италии (1), Румынии (7), Южной Америке (3), Испании (1),
Швейцарии (1), Турции (8); в 1885 г. — в Египте (2), Греции (1), Румынии (8),
Южной Америке (3), Испании (1), Швейцарии (1), Турции (3); в 1908 г. — в
Канаде (1), Китае (6), Англии (2), в Южной Америке (З)16. Данных о наличии
братств в России не приводилось.
В литературе ордена подчеркивалось, что его миссия состоит в "осущест¬
влении законным путем примирения интересов общества с каждым из его
13 Grand Orient de France. Supreme conseil. Declaration du conseil de 1'ordre. Paris, 1904, p. 5.
14 Faucher J.-A., Ricker A. Hi stoi re de la franc-maęonnerie en France. Paris, 1967, p. 394.
15 Grand Orient de France. Constitution et Reglament General. Paris, 1911, p. 7, 9, 91, 146.
16 Headings M. Op. cit., p. 292—293.
139
членов’'17. Провозглашалась борьба с бедностью законодательными мерами, т.е.
ставилась задача обеспечения классового мира посредством социал-реформизма.
По словам фламандца Б. Леена, революции масоны противопоставляют эво¬
люцию: общество, раздираемое противоречиями, все равно развивается, эволю¬
ционирует, движется к прогрессу. Масон должен "решительно использовать все
средства, могущие способствовать примирению разных точек зрения или проти¬
воположных интересов ради содействия процветанию". Выдвигалась также
задача наступления на католическую церковь18. В практической работе адептов
ордена выделялись два определяющих аспекта: предпринимались усилия для
продвижения видных деятелей на ключевые позиции в государственном аппарате
с тем, чтобы они могли влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны;
были разработаны важные подходы к решению крупных социальных проблем,
особенно затрагивающих отношения между трудом и капиталом. Масоны многое
сделали для распространения среди трудящихся социал-реформизма и солида-
ризма, развития цели нейтральности профсоюзов19.
Международная сторона работы масонства проявлялась в создание филиалов
братств Англии, США, Франции, Италии. Сеть лож ордена распространилась
почти на все страны мира — от государств Латинской Америки и Африки до
Индии, Китая и Японии. Вместе с тем утверждалась практика приема в ложи
великих держав политических эмигрантов с созданием для них и особых братств.
Российское масонство
С начала XIX в. захиревшее было в России масонство постепенно оживлялось.
Близкий друг просветителя Н.И. Новикова, чиновник Коллегии иностранных дел
мистик А.Ф. Лабзин основал в январе 1800 г. ложу Умирающего сфинкса.
Позднее возникли ложи Соединенных друзей в Петербурге, Нептуна в Москве,
Малого светила в Риге. Александр I в 1803 г. разрешил масонскую деятель¬
ность, что привело к возобновлению занятий и в некоторых старых ложах,
которые существовали главным образом в обеих столицах, отдельных губерн¬
ских городах и в армии под началом "Капитула Феникса". Руководящий состав и
костяк лож был представлен преимущественно отпрысками аристократических
родов Гагариных, Голицыных, Волконских, Долгоруких, Трубецких, Апраксиных,
Виельгорских, Разумовских, Строгановых. "Капитул" ревниво следил за тем,
чтобы в ложи принимались "благорожденные дворяне, с познаниями в науках,
чистые нравами и телом здравые"20. В России существовали тайные, дейст¬
вующие по особым регламентам ложи, занимавшиеся изучением литературы по
алхимии и магии. Их членам предписывалось остерегаться "отягчения и раз¬
вращения ума многим чтением вольнодумных книг". Подобные ложи предназ¬
начались "исключительно для русских дворян православного вероисповедания".
Предельный возраст для вступавших понижался с 21 года до 17 лет, число
участников ограничивалось 20. При приеме требовалось поручительство за
новичка всех братьев. Управляющему мастеру предоставлялась неограниченная
власть над остальными адептами, которые клялись ему подчиняться всю жизнь.
Он же являлся единственной для них масонской властью21.
17 La franc-maęonnerie du_£>rand Orient de France. Paris, p. 12.
18 Leen В. Le role de la maęonncrie a noire epoque. Schaerbeek, 1905, p. 8—13.
19 Cm. Mittler E. La question des rapports entre Id socialisme, le syndicalisme et la franc-maconnerie. Paris,
1911.
20 Соколовская T.O. Капитул Феникса. Высшее тайное масонское правление в России (1778—
1822 гг.). Пг., 1916, с. 47—49.
21 Соколовская Т.О. Новые данные для истории русского масонства по рукописям Тверской
ученой архивной комиссии. Тверь, 1912, с. 4; Масонство в его прошлом и настоящем, т. 2. М., 1915,
с. 155—156, 170—171.
140
По взглядам и действиям масонские руководители и их "паства" выступали в
качестве апологетов самодержавия. Так» в 1804 г. было испрошено согласие царя
на открытие в Петербурге ложи, названной в его честь ложей Александра
благотворительности к коронованному Пеликану. Император написал на докладе
по этому поводу, что ему "сие не противно". Позднее в честь императрицы была
создана ложа Елизаветы к добродетели. Царь не препятствовал существованию
масонских лож, имевших среди членов "очень многих лиц", близких ему22. Общим
правилом было "не иметь никаких таинств перед правительством", постепенно
преобразуя ложи "в своеобразные общественные клубы, где вся фантастика и
символистика становились лишь модным придатком". Масоны "не поднимали
вопроса об уничтожении крепостного права", но часто и много выступали в его
поддержку23.
Колоритные образы масонов оставил нам С.Т. Аксаков — отец известного
писателя-славянофила И.С. Аксакова24.
Царское правительство и лично Александр I задумали поставить масонство
себе на службу, что соответствовало и планам вельможной знати. По некоторым
данным, царь был даже посвящен в масоны в 1803 г. И.В. Бебером — видным
членом ордена, профессором физики и математики, инспектором 2-го кадетского
корпуса. Французский историк С. Грюнвальд отрицает факт принятия импера¬
тора в обычную ложу: обер-прокурор Синода А.Н. Голицын и сенатор Г.Г. Ку-
шелев якобы изобрели для него "специальный ритуал посвящения", который они
приняли и сами. Ученый ссылается на письмо Голицына к царю от 4 марта
1821 г., в котором, в частности, говорилось: "Обязательства, которые мы втроем
взяли на себя перед лицом всевышнего, — не шутка". По его словам, члены
интимного братства, возможно, проводили и соответствующие церемонии в
Зимнем дворце25.
После Отечественной войны 1812 г. усилилось стремление дворян к вступ¬
лению в масонские ложи. Приход в орден свежих сил послужил катализатором
реформаторского течения с упором на отказ от присвоения высоких степеней,
возвращение к более простому масонству английского типа с тремя степенями и
усилению внимания к филантропии.
В конце концов главный врач Обуховской больницы Е.Е. Эллизен открыто
ввел в своем братстве систему трех степеней. За ним последовали Изида в
Ревеле и Нептун в Кронштадте. В инициативную группу Эллизена входили
также вра*г Кейзер, часовой мастер Квосич, книготорговец Вейер и адвокат
Лерх26. Между ними и приверженцами других лож начались трения.
Масонские руководители пытались отстаивать различными путями интересы
фрондировавшей аристократии, не исключая и борьбу за влияние на царя.
Император интересовался деятельностью ложи Трех добродетелей, существо¬
вавшей в Петербурге с 1815 по 1822 г. Но будущий декабрист А.Н. Муравьев,
один из должностных лиц ложи, однажды обратился к монарху по масонскому
обычаю на "ты". Эта фамильярность произвела на царя неблагоприятное впе¬
чатление. Он выразил Муравьеву свое неудовольствие и больше в ложу не
приезжал. Любопытно также свидетельство декабриста В.И. Штейнгеля, слу¬
жившего в 1816 г. адъютантом военного генерал-губернатора Москвы А.П. Тор¬
масова. Когда в августе в первопрестольную прибыл Александр I, то содер¬
жатель косметического магазина Розенштраух подал прошение об ознамено¬
22 См. неопубликованный доклад Соколовской ’’Масонство в 1812 г." — Центральный государ¬
ственный архив литературы и искусства (далее — ЦГАЛИ), ф. 442, on. 1, д. 126, л. 2.
23 Мельгунов С. Дела и люди александровского времени. Берлин, 1923, с. 258,260.
24 Аксаков С.Т, Встреча с мартинистами. — Русская беседа, 1859, т. 1, с. 41, 71—74.
25 Grunwald С. Alexandre ler, le tsar mystique. Paris, 1955, p. 223—234.
26 Соколовская T.O, Капитул Феникса..., с. 51—52.
141
вании дня приезда царя открытием масонской ложи. Выслушав доклад, монарх
изрек: "Я формального позволения на это не даю. У меня в Петербурге на это
смотрят так (государь взглянул сквозь пальцы). Впрочем, опыт удостоверил, что
тут зла никакого нет. Это совершенно от вас зависит". Так появилась очередная
ложа — Тройственный рог изобилия. (На самом деле ложа называлась Алек¬
сандра тройственного спасения.) Штейнгель получил приглашение вступить в
нее, но отказался, ибо имел "случай видеть вблизи все ничтожество лиц, по
масонерии значительных"27.
Жизнь масонства была наполнена соперничеством. Место Директориальной
ложи Владимира к порядку заняли в 1815 г. с согласия правительства две равные
по правам, независимые ложи — Великая директориальная ложа и Великая ложа
Астрея (Астрея — богиня справедливости у древних греков). Управляющим
первой стал М.Ю. Виельгорский. Великим мастером Астреи избрали камергера и
тайного советника В.В. Мусина-Пушкина-Брюса. Все новые братства перехо¬
дили на сторону Астреи, в том числе Соединенные друзья, Палестина, Пла¬
менеющая звезда, Северные друзья и др. В списке Астреи за 1820—1821 гг.
числятся 24 ложи, но к тому времени четыре из них по разным причинам
прекратили работу. А в союзе Великой провинциальной ложи осталось шесть
лож28.
Но масонские ложи никогда не выдвигали конкретных политических задач.
Русский историк масонства А.Н. Пыпин резонно отмечал: "Политический эле¬
мент приходил в ложи извне, готовый". Российский историк В.И. Семевский пи¬
сал, что масоны, "сдавленные полицейскими тисками, были и численно слабы, и
бедны материально, и крайне робки, особенно когда люди более смелые и
талантливые ушли в тайные общества"29. Декабристский "Союз спасения" с
самого начала отделял себя от масонства чисто политической программой. Его
собрания проходили без ритуальных обрядов. "Позднее даже масонские клятвы и
вообще масонская символика воспринимались большинством декабристов как
помеха их действиям и замыслам и были постепенно устранены". "
Дворянские революционеры сделали попытку использовать для выполнения
задуманного масонские ложи Избранного Михаила (145 членов) и Трех добро¬
детелей (15 членов). Первая образовалась в 1815 г. и входила в союз Астреи.
Руководителями были будущие декабристы Ф.П. Толстой и Ф.Н. Глинка. На ее
заседаниях произносились "смелые речи", в основном на темы нравственности и
морали, чем все дело и ограничивалось, поскольку туда входили и люди, весьма
далекие пр духу от декабристов. Руководители Трех добродетелей задумали
было превратить ее в политическую организацию. Но это им не удалось. В связи
с реорганизацией "Союза спасения" в "Союз благоденствия" декабристы в конце
1818 г. с ложей порвали.
Из декабристов, преданных верховному уголовному суду, только 23 человека,
т.е. пятая часть, некоторое время состояли в масонских ложах, в том числе
Пестель (1812—1817 гг.), А.Н. Муравьев (1811—1818 гг.), братья Муравьевы-
Апостолы (1816—1820 гг.), Н.М. Муравьев (1817—1818 гг.), С.П. Трубецкой
(1816—1819 гг.), Ф.П. Шаховской (1817—1820 гг.), М.Ф. Митьков (1816—
1821 гг.), М.А. Фонвизин (1820 г.), С.Г. Волконский (1812—1822 гг.), Н.И. Тур¬
генев (1814—1817 гг.), К.Ф. Рылеев (1820—1821 гг.). Оставались в ордене на
момент ареста М.С. Лунин, Н.А. Бестужев, В.К. Кюхельбекер, Г.Е. Батеньков,
Е.С. Мусин-Пушкин. Среди других декабристов, привлекавшихся к следствию,
27 Общественное движение в России в первую половину ХЕХ века, т. I. СПб., 1905, с. 396—397.
28 Пыпин А.Н. Материалы для истории масонских лож. — Вестник Европы, 1872, № 2, с. 313.
29 Пыпин А.Н. Общественное движение в России при Александре I. СПб., 1900, с. 328; Семев¬
ский В.И. Декабристы-масоны. — Минувшие годы, 1908, № 3, с. 355; Нечкина М.В. Союз спасе¬
ния. — Исторические загчски, т. 23, 1947, с. 152.
142
насчитывалось еще 28 масонов. Следовательно, общее число составляло 51.
"Большинство декабристов, соприкасавшихся с масонством, не впали в мисти¬
цизм, а, присмотревшись ближе к масонству, разочаровались в нем и постепенно
покинули масонские ложи. Причинами этого разочарования должны прежде всего
быть политический консерватизм наших масонов, ничтожные размеры их
просветительской и благотворительной деятельности и, наконец, потеря времени
на посещение лож и исполнение требований их ритуал и"30.
К началу 20-х годов появились симптомы общего упадка масонства, что вы¬
разилось в закрытии ряда лож из-за их малочисленности. Снизился приток новых
адептов, поскольку религиозно-филантропический характер братств с налетом
мистики, их верноподданничество претили настроениям многих членов.
1 августа 1822 г. на имя министра внутренних дел В.П. Кочубея поступил
царский рескрипт:"Беспорядки и соблазны, возникавшие в других государствах
от существования разных тайных обществ, из коих иные — под наименованием
лож масонских, первоначально цель благотворения имевших, другие, занимаясь
сокровенно предметами политическими, впоследствии обратились ко вреду спо¬
койствия государств и принудили в некоторых сии тайные общества запретить".
Поэтому Александр, учитывая, что "к несчастию от умствований, ныне суще¬
ствующих, проистекают столь печальные в других краях последствия, признал
на благо" повелеть все тайные общества, "под каким бы наименованием они ни
существовали, как-то: масонских лож или другими, закрыть и учреждение их
впредь не дозволять". Предписывалось объявить обо всем их членам, обязав их
подписками, что они впредь ни под каким видом "ни масонских, ни других тайных
обществ ни внутри империи, ни вне ее составлять не будут"31.
Масонство в целом подчинилось этому запрету. Однако деятельность отдель¬
ных русских лож некоторое время еще продолжалась.
Крушение российского ответвления ордена "вольных каменщиков" было пред¬
определено внутренними условиями и отчасти международной обстановкой.
Масонство как организованное течение под контролем аристократической груп¬
пировки ушло в небытие, и мало кто сожалел об этом.
Рост недовольства царизмом части дворянства и разночинцев на фоне раз¬
вития революционных движений в европейских государствах в середине XIX в.
побудил знать и среднее дворянство России пойти на прекращение фрондерства.
Однако некоторое влияние масонства — как русского, так и европейского — на
внутриполитическую ситуацию в России стало в дальнейшем ощущаться.
Либеральная оппозиция царизму, громко заявившая о себе в начале XX в., при
выполнении главной задачи ограничения авторитаризма с его постепенной
трансформацией в конституционную монархию попыталась взять на вооружение
тактику французского масонства в борьбе за установление республики. Вместо
применения особых методов на отечественной почве была опробована легальная
и подпольная деятельность буржуазии другой страны. Это бросается в глаза при
анализе банкетной кампании* 1904 г. земцев-конституционалистов, деятельности
либеральных "Союза освобождения" и кружка "Беседа". По организационным
принципам "Союз освобождения" напоминал Великий Восток, представляя собой
"добровольную федерацию самоуправляющихся организаций и групп"32. Объяс¬
нялось это во многом тем, что инициаторами были отчасти и русские эмигранты,
не только вступившие во французское масонство, но и занявшие видное поло¬
жение в иерархии ордена. Среди них были химик Г.Н. Вырубов, его друг со¬
30 Семевский В.И. Декабристы-масоны, с. 321—322, 354—355.
31 Русская старина, 1877, т. ХУШ, с. 650, 651.
Банкетная кампания широко проводилась во Франции накануне революции 1848 г., а за кули¬
сами действовали тайные политические ложи.
32 Соловьев О.Ф. Международный империализм — враг революции в России. М., 1982, с. 73—74.
143
циолог Е.В. де Роберти, изобретатель дуговой лампы П.Н. Яблочков, врач
Н.Н. Баженов, историк М.М. Ковалевский, юрист Ю.С. Гамбаров. В конце
XIX в. Вырубов занимал пост заместителя председателя совета Великого Восто¬
ка, некоторые из названных лиц возглавляли отдельные братства или входили в
состав их руководства33.
Они-то и близкие им по взглядам деятели начали сперва зондировать почву
для возрождения масонства в России, запрещенного, как мы уже говорили,
Александром I в 1822 г. Очевидно, не без их влияния в печати стали появляться
отдельные брошюры и статьи с положительными оценками свершений отече¬
ственных "вольных каменщиков" XVIII — начала XIX в. Сперва возникли брат¬
ства мистически-религиозного толка, проводились тайные сходки розенкрей¬
церов. В редком издании кружка русских масонов в Англии "Заметки о ма¬
сонстве" лишь упомянуты мартинистские братства в Петербурге, Москве и
Киеве, а также ложа Креста и звезды, якобы образованная приближенными
Николая II, который, возможно, к ней принадлежал34. Скорее всего, имелись в
виду группы людей, занимавшихся спиритизмом, которых тогда было немало, в
частности, и в царском окружении, учитывая мистические наклонности импе¬
ратрицы.
Достоверно лишь то, что практические шаги по образованию в России первых
масонских лож предпринял Ковалевский, заручившись согласием на это руко¬
водства Великого Востока в начале 1906 г. 28 ноября того года ряд адептов
французских братств принял решение об основании в Москве их филиала "Воз¬
рождение". В протоколе говорилось: "После обмена мнениями между присутст¬
вующими членами решено создать ложу французской системы под эгидой Ве¬
ликого Востока Франции". Тогда же они направили в Париж типовой текст
следующего содержания: "Желая систематически работать над развитием масон¬
ства и общего блага человечества, просим вас о приеме в какую-либо феде¬
рацию Великого Востока, предоставив нам символическую конституцию... Мы
обещаем оставаться непоколебимо приверженными Великому Востоку Франции,
точно соблюдать его устав и общий регламент, скрупулезно выполнять обяза¬
тельства, вытекающие из них для лож и франкмасонов". Учредителями стали
М.М. Ковалевский, Н.Н. Баженов, Ю.С. Гамбаров, Е.В. де Роберти, В.Н. Мак¬
лаков, С.Д. Урусов, В.П. Обнинский — всего 15 человек, члены кадетской пар¬
тии или близких ей группировок.
В 1907 г. в Петербурге ими была создана ложа Полярная звезда во главе с
аристократом А.А. Орловым-Давыдовым, куда вошли и представители партии
трудовиков, пославшие в Париж почти аналогичное обязательство35. К середине
следующего года состав ассоциации превысил 40 человек. Вскоре оба братства
были утверждены прибывшими в Россию высокими представителями Великого
Востока Г. Буле и Б. Сеншоллем. Постепенно количество лож расширилось, ими
руководил самостоятельный совет с формальным подчинением зарубежному
центру. Все они действовали нелегально, в рамках либеральной оппозиции.
"Только таким мог быть общий знаменатель различных общественно-полити¬
ческих позиций последователей "королевского искусства" в империи Романовых.
Масонская идеология первенства духовных вопросов вместе с интеллигентским
составом лож предрасполагала к идеализации метода правления, рассчитанного
на политическое подчинение себе народных масс посредством богатой гаммы
средств духовного воздействия"36. Занимались же они преимущественно обсуж¬
дением проектов общественных реформ.
33 XacęJI. Русские масоны первых десятилетий XX века. — Историки отвечают на вопросы. М.,
1990, с. 137—139.
34 Заметки о масонстве. Лондон, 1928, с. 41.*
35 Документы об этом впервые напечатал бывший кадет Б. Элькин. — The Slavonic and East
European Review, 1966, № 7, p. 458—466.
36 ХассЛ. Указ, соч., с. 143—145.
144
Когда масонам стало известно, что на их след напала царская охранка, они
приостановили работу лож, вместо которых в 1912 г. возник центр Великий
Восток народов России во главе с верховным советом, создавшим новую сеть
еще более конспиративных братств. Они отказались от ряда существенных
обрядов, в братства принимались женщины. Связи с Францией прекратились. В
Великий Восток народов России входили левые кадеты, прогрессисты, эсеры,
меньшевики: А.П. Барт, В.А. Оболенский, В.А. Степанов, А.И. Коновалов,
А.Ф. Керенский, Н.С. Чхеидзе, С.Н. Прокопович, М.С. Грушевский и др. На
собраниях лож обсуждались исключительно вопросы внутренней и внешней
политики.
В начале 1914 г. с согласия В.И. Ленина были установлены контакты с
большевиками для взаимной информации37. Объединение занимало левый фланг
буржуазной оппозиции царизму, было причастно к планам дворцового перево¬
рота, насчитывало в 1917 г. до 400 членов. Исследователи в основном отмечают
слабое влияние центра на политические события, включая Февральскую рево¬
люцию. Вместе с тем немало его членов играло в них активную роль, но уже в
качестве лидеров названных политических партий38. Между Февральской и Ок¬
тябрьской революциями Великий Восток ничем существенным себя не проявил,
вопроса о легализации не ставил. Ни один из зарубежных центров ордена не
признал его законным с точки зрения масонских канонов.
Последователи оккультизма
Глубокие социально-экономические сдвиги на Западе, разрастание револю¬
ционных и национально-освободительных движений, великие открытия в области
сложных физических явлений, в частности теория Эйнштейна, накладывали
значительный отпечаток на психическое состояние множества людей, порождая
оккультные настроения и способствуя развитию идеализма. Бельгийский розен¬
крейцер Ф. Виттеманс утверждал: "Наступление XX в. ознаменовало начало ду¬
ховного обновления человечества. Период научного материализма окончательно
истек, изучение жизненных тайн волнует, как никогда, умы. Понятно, что мно¬
гие лепестки, упавшие с символической розы, проросли в плодородной почве
современного общества"39. Но похороны материализма вскоре пришлось отло¬
жить.
Мистические течения в масонстве и вокруг него в начале XX в. были
представлены малочисленными ассоциациями сторонников теософского наследия
Е.П. Блаватской, которое развивала англичанка А. Безант, одна из лидеров
феминизма, вступившая в смешанный орден "Человеческое право", чтобы со
временем превратить его в рассадник оккультизма. Это частично удалось.
Доктор Штейнер основал в Мюнхене (Германия) Антропофизическое общество,
"внутренний кружок" которого под названием "масонство" имел три степени
посвящения и особые обряды. М. Гейндель создал в 1909 г. в Сиэттле (США)
"Розенкрейцерское братство", исповедовавшее "христианскую мистику". На ма¬
сонской базе там же возник с филиалами в ряде стран "Древний и мистический
орден розенкрейцеров". В 1912 г. Безант со своими сторонниками открыла в
Лондоне "Орден Храма розы и креста". Несколько расширили рамки занятий
"Голден даун", "Орден мартинистов", "Кабалистический орден розы и креста",
37 См. Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 48, с. 275—276.
38 См.: Берберова Н.Н. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. Нью-Йорк, 1986;
Николаевский Б.И. Указ, соч.; Хасс Л. Указ, соч.; Соловьев О.Ф. Масонство в России. —Вопросы
истории, 1988, № 10; Старцев В.И. Российские масоны XX века. — Вопросы истории, 1989, № 6;
Аврех АЛ. Масоны и революция. М., 1990.
39 Wittemans F. Hi stoi ге des Rose-Crois. Paris, 1925, p. 165.
145
ряд аналогичных объединений. Они уже в который раз обещали облагоде¬
тельствовать население планеты поразительными открытиями тайн природы,
связанными с философским камнем, златоделанием, общением с душами усопших
посредством медиумов, практической алхимией40. При всех стараниях адептам
"розы и креста" так и не удалось выполнить поставленные задачи, что привело к
их временному упадку.
Отметим проникновение таких обществ и в Россию. Так, в 1911 г. в типо¬
литографии Петербургской одиночной тюрьмы увидела свет книга одного из
столпов французского мартинизма Папюса (Жерара Анкосса), анонимный пере¬
водчик которой представил во введении автора первостепенной величиной в
"оккультном мире". Папюс являлся маршалом Верховной Манчестерской ложи и
председателем Великой Сведенборгской ложи во Франции. Пространно, но бес¬
содержательно говоря о "масонской науке", автор дал читателям один полезный
совет: "Если ложа, к которой вы принадлежите, дала вам удовлетворение,
делайте в ней свою карьеру. Если же, наоборот, вы не нашли в ней того, чего
искали, не унывайте. Прочтите эту маленькую книгу и не интересуйтесь ее
автором". Словом, ставка делалась на разжигание карьеристских вожделений. К
24 "правильным" масонским державам автор Россию не относил, но среди 115
высших масонских организаций упомянул какой-то мифический "Верховный совет
Сибири"41.
О мистических ложах в России была осведомлена и охранка. Среди них чис¬
лился кружок престарелого академика К.К. Арсеньева, редактора либерального
журнала "Вестник Европы". Другой кружок возглавляла актриса императорской
труппы О.И. Мусина-Пушкина. В него входили посол в Риме Н.В. Муравьев,
офицер Д.Ф. Левшин и сам Папюс. Третьим кружком являлась "Денница",
членами которой состояли та же Мусина-Пушкина, Дондукова-Корсакова, док¬
тор Шапиро, частный поверенный Никольский. Полиция не видела в их дея¬
тельности ничего опасного, считая их связанными с кругами политического
масонства через Ковалевского42.
В годы первой мировой войны
Расхождения и разобщенность в международном масонстве значительно
усилились в годы первой мировой войны, когда братья встали по обе стороны
фронтов соперничавших держав. Хотя Великая объединенная ложа Англии и ее
филиалы порвали дружественные связи с ассоциациями ордена в Германии и в
союзных ей государствах, размежевание с великими востоками Франции, Ита¬
лии, Бельгии сохранилось из-за нежелания британцев отказаться от принципи¬
альных позиций. Руководители ордена полностью солидаризировались со своими
правительствами в отношении целей войны и методов ее ведения, предоставили
в их распоряжение крупные суммы из благотворительных фондов, в первую
очередь, для помощи братьям. Мало того, Лондон постановил на военный период
запретить посещение любых мероприятий лицам немецкого, австрийского, вен¬
герского и турецкого происхождения, которые входили в состав соответст¬
вующих братств, во имя "сохранения мира и гармонии" среди адептов. "В те¬
чение всей войны английское масонство, несмотря на очевидные поверхностные
трудности, упорно продолжало следовать привычным курсом. Руководители со¬
общества с самого начала борьбы неукоснительно препятствовали распростра¬
нению паники"43.
40 Ibid., р. 165—170.
Доктор Папюс. Генезис и развитие масонских символов. История ритуалов (то, что должен
знать мастер). СПб., 1911, с. 3, 115.
42 Аврех АД. Указ, соч., с. 307—313.
43 Robbins A. English-Speaking Freemasonry. London, 1930, р. 160—162.
146
Масонские узы не могли не способствовать прочности коалиции Антанты
перед лицом противников. Ведь французское правительство возглавлял брат
Р. Вивиани, к ордену принадлежала и часть его членов, равно как и главно¬
командующий генерал Ж. Жоффр. Британский кабинет либерала Г. Асквита
имел в своем составе видных масонов в лице министра Г. Китченера и главно¬
командующего Д. Хейга, не считая других высших чиновников. Вступление
Италии в войну на стороне Антанты было достигнуто в результате давления на
нее Великого Востока, великий мастер которого получил за это благодарность
короля44. В то же время влиятельная социалистическая партия выступила за
нейтралитет страны, придерживаясь антимасонских позиций.
Каналы ордена использовались воюющими державами для реализации их
явных и тайных целей. Так, английские братья регулярно снабжали до двухсот
соплеменников, интернированных в Рюлебене, близ Берлина, посылками. При
посредничестве Великой ложи Нидерландов были созданы два братства для
английских моряков и солдат в лагерях Гронингена и Шевенингена. В то же
время германские правящие круги для раскола Антанты с конца 1914 г.
предпринимали небезуспешные попытки установления связей с пораженческой
частью социалистической партии Франции, имевшей выход на Великий Восток.
Через видного журналиста, директора газеты "Эклер" Э. Жюде немцы пытались
оказывать содействие приходу к власти "партии мира", склонной к принятию
условий Берлина. Весной 1915 г. руководитель влиятельной католической партии
Центра в Германии М. Эрцбергер и его тайная агентура установили контакты с
группой итальянских деятелей во главе с банкиром Каваллини, маркизом Адда и
политиком Джолитти. Посредником вновь выступил Жюде, получивший от
немцев на расходы 4,1 млн. марок. Итальянцы делали ставку на влиятельного
члена совета ордена, министра морского флота Франции В. Оганьера, но
желаемого не добились45.
Масоны союзных и нейтральных стран укрепляли сотрудничество в рамках
упоминавшихся международных организаций со штаб-квартирами в Швейцарии.
В январе и июне 1917 г. они провели специальные конференции, сводившиеся к
поддержке линии правительств. Французские члены ордена деятельно участво¬
вали в разработке основ Версальского мирного договора и в основании Лиги
наций. Известный читателю Л. Буржуа получил в ознаменование своих па¬
цифистских заслуг Нобелевскую премию мира46. В борьбе за мир он взаимо¬
действовал с английскими и американскими братьями.
Октябрьская революция в России была встречена "вольными каменщиками"
неоднозначно. Часть членов правительств, вроде У. Черчилля, относились непри¬
миримо к советской власти. Некоторые же левые радикалы и французские
социалисты сочувствовали ей. Социалисты, в том числе А. Марти, стали руко¬
водителями восстания во французском флоте на Черном море в 1919 г. в
поддержку большевиков47. Среди российской контрреволюции и поддерживавших
ее кругов разворачивалась кампания, изображавшая Октябрьскую революцию в
качестве "достижения масонов", союзников и инспираторов коммунизма48. Это
была явная ложь, поскольку Великий Восток народов России и его ложи не
поддерживали связей с иностранными центрами ордена. Вдобавок, многие ма¬
соны из лидеров меньшевиков и эсеров во главе с Чхеидзе и Керенским под-
44 Dictionnaire de la franc-maęonnerie, p. 635.
45 См. Robbins A. Op. ciL, p. 163; Bariety J. L'Allemagne et les problemes de la paix pendant la premiere
guerre mondiale. — Revue historique, Avrile-Juin 1965; Kupferman A. Les debuts de 1'offensive morale
allemande contrę la France. —Revue historique, Janvier-Mars 1973.
46 ХассЛ. Еще раз о масонстве в России начала XX века. — Вопросы истории, 1990, Хе 1, с. 31;
GuichardA. Les franc-maęons. Paris, 1969, p. 187—188.
47 Guichard A. Op. ciL, p. 782.
48 Mackenzie N. Secret Societies. New York, 1967, p. 149.
147
дсрживали интервенцию. Масонство в РСФСР не запрещалось, преследовались
лишь адепты, занимавшиеся контрреволюционной деятельностью: Б.В. Савин*
ков, С.Н. Прокопович, С.А. Котляревский и др. В своем большинстве они
эмигрировали во Францию, где создали свои ложи — филиалы местных
орденских центров, действовавшие до начала 70-х годов49.
Противоречивость подходов к масонству проявилась уже в ходе II конгресса
Коминтерна, когда 23 июля 1920 г. секретарь итальянской социалистической
партии Дж. Серрати при обсуждении вопроса о вступлении партий в между¬
народную организацию предложил запретить их членам одновременно быть
масонами. Сразу взявший за ним слово В.И. Ленин игнорировал это сооб¬
ражение, сосредоточив внимание на критике левацких взглядов итальянца. В
дальнейшем единомышленники Серрати А. Балабанова и А. Грациадеи настаи¬
вали на предложениях своего лидера. Но конгресс за ними не пошел: условия
принятия партий в Коминтерн вопроса о масонах не касались. В декабре 1922 г.
IV конгресс после обсуждения положения во французской компартии утгердил по
докладу Л.Д. Троцкого, одобренному Лениным, резолюцию с пожеланием "ликви¬
дировать0 все ее связи с масонством, которое расценивалось как чисто бур¬
жуазная организация, "прикрывающая избирательно-карьеристские происки фор¬
мулами мистического братства"50. Масоны должны были либо публично заявить о
полном разрыве с орденом, либо быть из него исключенными. Документ отражал
лишь конкретную ситуацию в этой компартии, где велась ожесточенная борьба
между революционным и реформистским крылом, и не трактовался расшири¬
тельно. В результате партию покинули масоны Л. Фроссар (генеральный сек¬
ретарь), секретарь по международным делам П. Моризе, М. Певер, А. Коэн и
др. Часть же из * них, включая М. Кашена и А. Марти, подчинилась решению.
Однако компартия продолжала контактировать с масонами в рамках пацифи¬
стских организаций и Республиканской ассоциации бывших фронтовиков. Сразу
по окончании второй мировой войны вследствие обмена письмами главы Ве¬
ликого Востока Ф. Вие с секретарем ЦК КПФ Л. Мове была достигнута дого¬
воренность об отмейе решений Коминтерна51. Очевидно, не без согласования с
ВКП(б).
В настоящее время российское масонство возрождается. Инициативу в этом
деле проявили французские центры ордена. По данным печати, первые ложи в
СССР возникли летом 1991 г. Этот факт недавно был подтвержден руково¬
дителями французских ассоциаций, сообщившими о создании "в районе Москвы" с
согласия московских властей масонского братства — филиала Великой ложи
Франции. Российские масоны действуют скрытно из опасения нежелательной
реакции части общественности. Адептами ложи являются русские, ставшие
масонами за рубежом52. Об их работе не сообщалось. Но, очевидно, она не
выходит за традиционные рамки. Не исключено, что масоны найдут достойное
место в политическом спектре новой России.
Между двумя мировыми войпами
В межвоенный период масонство занимало в целом буржуазно-либеральные
позиции, поддерживая в ряде стран миролюбивые антифашистские силы, осо¬
49 Об одном из масонов — правом эсере Н.Д. Авксентьеве, возглавлявшем в Париже русскую
эмигрантскую ложу Северная звезда и якобы имевшем звание ’’пророка", упоминает в своей книге
Юрий Власов. — Власов Ю. Огненный крест, ч. I. М., 1992, с. 271.
50 П-й конгресс Коминтерна. Стенографический отчет. М., 1920, с. 80,210,223; Постановления IV
Всемирного Конгресса Коминтерна. Пг., 1923, с. 149—150; Бюллетень № 29 IV конгресса Комин¬
терна. М., 1923, с. 1—3.
51 Dictionnaire de la franc-maęonnerie, p. 282.
52 Большаков В. Масоны. — Правда, 13, 16.V.1991.
148
бенно социал-демократию. Активизировались усилия различных ответвлений
ордена по координации действий. В 1920 г. возникла Всеобщая лига франк¬
масонов при доминировании немцев с целью обмена опытом в области филан¬
тропии, взаимопомощи, работы с молодежью, изучения истории ордена. Среди ее
участников находились масонские объединения скандинавских и ряда других
стран. По инициативе швейцарской ложи Альпина в октябре 1921 г. была соз¬
дана Международная масонская ассоциация (АМИ) с участием великих востоков
Франции, Испании, Италии, Бельгии, великих лож Люксембурга, Польши, Чехо¬
словакии, .Нью-Йорка, орденских центров Греции, Венгрии, Турции, Египта,
многих латиноамериканских государств. Она, по существу, преследовала те же
задачи, что и Международное бюро масонских связей, которое прекратило
деятельность. В 1923 г. АМИ группировала вокруг себя 38 центров с 500 тыс.
членов, но к ней не присоединились англосаксонские объединения. Мало того,
Великая ложа Англии, продолжавшая считать себя родоначальницей ордена с
соответствующими правами, приняла 4 сентября 1929 г. "фундаментальные
принципы для признания Великой ложи", предусматривавшие "законность" ее
происхождения, веру в Великого архитектора вселенной, принесение при вступ¬
лении в ложу масонами клятвы на Священном писании, посвящение исклю¬
чительно мужчин, запрещение в братствах любых религиозных и политических
дискуссии, строгое соблюдение старинных постановлений и обычаев. Тогда же
английские адепты ордена вслед за американскими присоединились к Между¬
народной лиге масонов, продолжавшей действовать в отмеченных направле¬
ниях53.
Масонство стремилось приспособить к послевоенным реальностям старые
пацифистские проекты европейского объединения. Австрийский граф Р. Куден-
хове-Калерги, принятый в одну из лож в 1922 г., выступил инициатором дви¬
жения "Пан-Европы", которое поддерживалось масонским центром его страны. В
1929 г. министр иностранных дел Франции А. Бриан, подхватив идею, выска¬
зался в Лиге наций за установление федеральных связей между европейскими
капиталистическими странами для решения проблем экономического сотруд¬
ничества, а в дальнейшем предложил создать "режим европейского федераль¬
ного союза", имевшего и антисоветскую направленность. Проект, однако, не
получил поддержки Великобритании, Германии, США и завершился провалом54.
Во всех странах с диктаторскими режимами "вольные каменщики" подвер¬
гались преследованиям, их объединения запрещались по несостоятельным об¬
винениям в связях с еврейством и коммунизмом. К сожалению, отдельные наши
ученые пытаются пересмотреть установленные факты, изобразив масонов если
не союзниками, то соучастниками нацистов вследствие, главным образом, вовле¬
ченности фашистских главарей, включая Гитлера и Розенберга, в мистические
кружки, являвшиеся чуть ли не отделениями ордена. Так, Л.П. Замойский в
детективном ключе повествует об увлечении будущего фюрера на заре юности
в Вене оккультизмом и восточными религиями. Он посещал книжную лавку
некоего Прицше, который дружил с Гундо фон Листом, основателем ложи
пангерманистов. Гитлер был членом мюнхенского общества "Туле". Из этого
следует вывод: "Финансовая олигархия и оккультизм, масонские атрибуты и
нацизм шагали рядом"55. Однако неправомерно отождествлять такие общества с
масонством, несмотря на то, что у него они заимствовали символику, отчасти
структуру с ритуальными степенями посвящения. Польский профессор Хасс
установил, что общество "Туле" являлось тайной шовинистической организацией,
53 Diclionnaire de la franc-maęonnerie, p. 51—52, 81—82,1210.
54 Ibid., p. 319; см. также Княжинский В.Б. Провал планов "объединения Европы". М., 1958.
55 Замойский Л.П. За фасадом масонского храма. Взгляд на проблему. М., 1990, с. 195.
149
выступавшей против масонства. Ее основал австрийский антисемит и велико¬
германский националист Р. фон Зебальтерндорф56.
Придя в Германии к власти, нацисты уничтожили не менее 1265 немецких
братьев. Далека от истины рисуемая Л.П. Замойским картина положения италь¬
янского масонства, которое якобы продолжало действовать и после его запре¬
щения в 1925 г. Но ведь руководители Великого Востока Торриджани и Амен¬
дола были арестованы, подвергнуты в тюрьме пыткам, а популярный генерал
Капелле получил 30 лет заключения. Многие итальянские масоны были изо¬
лированы от общества. Часть членов ордена участвовала в подпольной анти¬
фашистской борьбе, другие эмигрировали57. Современный итальянский ученый
М. Морамарко отмечает: ’’Торриджани, умерший совершенно слепым в 1932 г.,
жизнью доказал верность провозглашенным идеалам. До последнего часа он
боролся за их торжество у себя на родине. Находясь в ссылке на острове
Липари, он вместе с коммунистом Джулио Вольпи организовал курс лекций для
сосланных антифашистов, за что подвергался преследованиям полиции и фаши¬
стских активистов”. В Понце, куда его затем перевели в наказание, он даже
основал ложу, в которой объединились лица разных убеждений — от либералов
до коммунистов58.
Вместе с тем масонство в целом как охранитель основных интересов буржу¬
азии, носитель неоднозначных настроений не стремилось к объединению всех
демократических сил перед угрозой тоталитаризма. Исключением были лишь
ассоциации Франции, Бельгии, Испании, действия отдельных групп других стран.
Сразу после прихода в Германии к власти Гитлера французская ложа Локарно
высказалась против нацистской диктатуры с ее эксцессами, за помощь жертвам
террора. Конвент Великого Востока Франции в 1933 г. осудил преследования
инакомыслящих в "третьем рейхе”, предложив братствам заняться изучением
фашистских догм для установления их несовместимости с демократическими
принципами и принятия мер для ограничения распространения таковых, "побуж¬
дая народы к их отклонению”. А руководитель Великой ложи Франции Л. Ду-
анье в том же году заявил: "Гитлеризм не только великое несчастье для
Германии, но и угроза цивилизации и миру, всему человечеству"59. Орден со¬
действовал организации Народного фронта во Франции в 1936 г., его члены
часто шли вместе с коммунистами в рядах публичных манифестаций. Под
влиянием левых сил правительство социалиста Л. Блюма поддерживало респуб¬
ликанскую Испанию, где у власти оказалось немало видных братьев. Масоны
многих стран участвовали в гражданской войне на стороне республиканцев.
Поэтому генерал Франко запретил деятельность ордена. Но остальные объеди¬
нения продолжали сохранять нейтралитет60.
Постепенно негласное главенство в международном масонстве перешло к
американцам, что выявилось на очередной конференции в Брюсселе 1935 г.
верховных советов шотландского ритуала ряда стран. Этот сдвиг персонифи¬
цировал президент Ф. Рузвельт, масон с 1911 г., к упомянутому времени носи¬
тель 32-й степени шотландского ритуала "высокий принц королевской тайны". В
феврале 1939 г. к нему обратились руководители двух крупнейших центров
Франции с предложением ради спасения мира созвать конференцию всех за¬
интересованных стран для изучения разделявших их территориальных, этни¬
56 Хасс Л. Еще раз о масонстве в России начала XX века, с. 25.
57 Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем. М., 1990, с. 125; Dictionnaire de la franc-
maęonnerie, p. 635; Rygier M. La franc-maęonnerie italienne devant la guerre et devant la fascisme. Paris, 1929.
58 Морамарко M. Указ, соч., с. 124—-125.
59 Bearn J. Le role de la franc-maęonnerie dane la preparation de la deuxieme guerre mondiale. — Lectures
francaises, mai 1965, p. 140—142.
w Ibid., p. 15; Humanisme, Avril 1990, p. 52; Hutin S. Les franc-maęons. Paris, 1968, p. 113.
150
ческих и экономических проблем. 14 апреля Рузвельт согласился на это, но
время было уже упущено — конференция не состоялась. Затем он выступал в
качестве покровителя мирового масонства.
Профашистский режим Виши развернул охоту на членов ордена, объявив их
пособниками англосаксонской плутократии, еврейства, а позднее — агентами
коммунизма. Все объединения были запрещены, их имущество конфисковано,
адепты уволены со службы. При содействии немцев оперативно был сфаб¬
рикован документальный антимасонский фильм "Тайные силы". По крайней мере
545 масонов нацисты и их пособники расстреляли, еще больше погибло в боях.
Среди жертв были левые деятели Ж. Зей, Ж. Бренье, К. Шевийон. Самоубий¬
ством покончил жизнь в застенках гестапо диктор "Свободной Франции" П. Брос-
солет. Активными участниками французского Сопротивления стали масоны
О. Бонне, П. Лифранка, П. Буланже, М. Бригуле и др.61 Отличились в антифа¬
шистской борьбе масоны-подпольщики Германии, оккупированных Югославии,
Польши, Греции, Венгрии, видимо, контактировавшие с советской разведкой.
После второй мировой войны
После второй мировой войны американский и английский центры ордена
осуществляли курс на воссоздание почти уничтоженных фашистами масонских
организаций в Западной и Восточной Европе с превращением таковых в оплот
буржуазных порядков. Ключевыми считались здесь западные зоны оккупации
Германии, затем ФРГ, а также Франция и Италия, где произошел решительный
сдвиг влево в расстановке политических сил. Ряд постов в правительствах
получили коммунисты. При этом использовалась, наряду со старыми каналами,
деятельность сети братств при англо-американских войсках. Великая ложа
Англии с помощью разнообразных методов добилась принятия своих традици¬
онных установок центрами Италии, Швейцарии, Нидерландов, Греции, Герма¬
нии. При содействии англичан были восстановлены немецкие великие ложи,
которые создали конфедерацию пяти автономных частей, включая американо¬
канадскую и английскую ложи со штаб-квартирами во Франкфурте и Дюссель¬
дорфе, в свою очередь управлявшие 52 братствами (свыше 3 тыс. масонов). Они
придерживались основополагающих принципов английского масонства и потому
порвали отношения с Великим Востоком Франции. В ФРГ насчитывалось еще до
20 лож смешанного ордена "Человеческое право" и женского ордена "Юмани-
тас"62.
Вместе с тем правящие круги США и Великобритании в годы "холодной
войны" задействовали и масонские связи, чтобы удалить коммунистов из пра¬
вительств Франции и Италии и полностью дискредитировать их. Операция в
значительной мере удалась благодаря, в частности, стараниям французского
премьер-министра, правого социалиста П. Рамадье, члена ордена с 1913 г. "Всю
свою жизнь он был исключительно активным масоном, несмотря на свою по¬
литическую деятельность"63.
Генерал де Голль масонов не любил, хотя ему и приходилось тесно с ними
сотрудничать. Ему приписывают крылатую фразу: "Масоны не столь важны,
чтобы ими заниматься, но достаточно важны, чтобы ими интересоваться"64. В
его правительства входили единицы из "вольных каменщиков", ибо политически
они ориентировались на социалистическую партию и правых радикалов. Масоны
немало сделали и для раскола французского рабочего движения. Выделившийся
61 Bearn J. Op. cit., р. 174—177; Humanisme, Avril 1990, p. 26—27, 52—53.
62 Dictionnaire de la franc-maęonnerie, p. 36—37, 52.
63 См. Черняк Е.Б. Невидимые империи. M., 1987, с. 186; Dictionnaire de la franc-maęonncric, p. 984.
64 Цит. по: Эхо планеты, 1990, № 14, с. 41.
151
из Всеобщей конфедерации труда новый профцентр “Форс увриер" находился под
их влиянием.
В противовес англосаксонскому масонству Великий Восток Франции стремился
собрать под своей эгидой близкие объединения других стран. Совместно с
бельгийским Великим Востоком они организовали в январе 1961 г. Центр связи и
информации масонских ассоциаций, участников Страсбургского призыва к "по¬
строению политической демократии" (КЛИПСАС). Туда вошли на условиях
полной автономии объединения 10 стран, включая Австрию, ФРГ, Испанию,
Италию, Люксембург, Швейцарию, Ливан65.
Центр насчитывал на 1990 г. около 600 братств с 30 тыс. членов во Франции.
Подчиненные ему филиалы ныне находятся в США, Канаде, Англии, ФРГ,
Швейцарии, Греции, Израиле, во всех бывших и настоящих колониях Франции.
Основным принципом деятельности считается свобода совести. Великий Восток
выступает против тирании, нетерпимости, деспотизма. Он "выражает либераль¬
ный идеал свободных поисков каждым братом истины". Внимание сосредо¬
точивается на главных национальных и международных вопросах, обрядовая
сторона отодвинута на второй план. Одной из кардинальных задач является
сохранение мира на земном шаре. Конкретно отстаивается прогрессивное со¬
циальное законодательство, светский характер образования, расширение проф¬
союзных свобод. Задолго до парламентских выборов 1981 г. Великий Восток
заявил о себе как о "школе социализма в самом благородном смысле слова".
Руководитель этого центра в 1981—1984 гг. писатель П. Гурдо имел репутацию
деятеля, близкого к компартии. В 80-е годы орган центра, журнал "Юманисм",
осуждал политику администрации Рейгана в Латинской Америке, направленную
на поддержку военных диктатур, ратовал за мирное урегулирование междуна¬
родных конфликтов, особенно арабо-израильского. Порицался советский тотали¬
таризм застойного периода, одобрялись действия диссидентов.
Великая ложа Франции, состоявшая в 1989 г. из 438 лож с 18 тыс. членами,
выступает последовательным противником политизации, сохраняет веру в выс¬
шее божество, соблюдает старинную обрядность, отдавая дань "иудейско-хри¬
стианской традиции". В братствах рассматриваются проблемы трудовых отно¬
шений, алкоголизма, секса, взаимных обязанностей человека и общества. Ве¬
ликая символическая традиционная ложа, имеющая около 1 тыс. членов, приз¬
нана английскими масонами единственной "законной" ложей в стране. Она стоит
за соблюдение гражданского мира и государственных законов. Мистическое
течение представлено древним ритуалом "Мемфис-Мишраим", который является
международным орденом с филиалами в странах Европы, Африки и Латинской
Америки. Члены считают себя деистами, занимаются египтологией, изучением
древних мифов, каббалы, оккультизмом. Смешанный орган "Человеческое пра¬
во" насчитывает во Франции 255 братств с 10 тыс. членов. На собраниях обсуж¬
даются вопросы расизма, фашизма, светской школы, демократии, профсоюзного
движения, смертной казни. По взглядам его члены близки Великому Востоку66.
Методы действий французских масонов отличаются сложностью и разнооб¬
разием. Нынешний глава Великого Востока Жан-Робер Рагаш утверждает,
будто ложи не принимают политических решений, а лишь высказывают свои
суждения, вырабатывают общие политические ориентиры, принципы правления,
не собираясь играть роль партий. Его предшественник Р. Лерей добавляет:
"Поскольку масонство столетиями публично открещивалось от политики, фак¬
тически занимаясь ею, оно вызвало на себя мощный огонь критики"67.
65 Dictionnaire de la franc-maęonnerie, p. 206—207; Naudon P. Histoire gene'rale de la franc-maęonnerie.
Paris,' 1981, p. 110; Humanisme, Avril 1990, p. 83.
66 Humanisme, Avril 1990, p. 80, 90—91>; Guide pour un futur franc-maęon. Monaco, 1982, p. 75, 96,
132—136.
67 Цит. по: Эхо планеты, 1990, № 14, с. 41; За рубежом, 1989, № 19, с. 19.
152
Во Франции существует разветвленная сеть обществ, даже не состоящих
формально в ордене, но фактически руководимых им. Имеются и профессио¬
нальные ложи врачей, журналистов, полицейских, писателей, чиновников, бан¬
киров, артистов, адвокатов, спортсменов и др. "Довольно активное товарище¬
ство парламентариев-масонов служит местом для размышлений, выработки и
уточнения законопроектов по политическим или социальным вопросам, заду¬
манным в братствах. Подобные предложения направляются затем правитель¬
ству". А общество "На перекрестке дружбы" нередко проводит собеседования
между крупными политическими деятелями, предпринимателями и высшими чи¬
новниками из "вольных каменщиков". Поддерживая почти открыто социалисти¬
ческую партию и президента Миттерана, Великий Восток устами его видного
представителя А. Комба провозглашает также стремление к "построению бес¬
классового, гуманного всемирного общества, где люди, как в ложах, будут
взаимно обогащаться своими духовными различиями, и так воцарятся свобода,
равенство и братство"68. Былые трения с католической церковью ныне в
значительной степени сглажены.
Запрещенное и преследуемое при франкизме испанское масонство участвовало
в оппозиционных политических движениях в стране и за ее пределами. В 1979 г/
оно получило легальный статус и включилось в процесс демократизации на
стороне левых сил, придерживаясь умеренно-либеральных взглядов в области
внутренней и внешней политики. Действуют четыре главные центра ордена,
которые поддерживают связи с единомышленниками других государств69.
Итальянское масонство было восстановлено вскоре после окончания второй
мировой войны усилиями американских и английских ассоциаций, которые соз¬
дали немало братств при военных базах. Самыми крупными объединениями
стали Великий Восток и Великая ложа, признанные "правильными" орденскими
центрами США и Великобритании. В 1963 г. итальянский Великий Восток
прервал всякие связи с французским под предлогом поддержки последним со¬
циалистической партии, а на деле — вследствие своих консервативных позиций.
К началу 80-х годов количество масонов возросло до 18—20 тыс. человек в
более чем 600 ложах70. Одна из них, тайная ложа "П-2", стала источником
крупного скандала в мае 1981 г. В печати появились сенсационные разоблачения,
стали выходить книги и брошюры с обвинениями уже всех масонов в подготовке
тайного заговора правых сил, за которыми стояло вездесущее ЦРУ, ради
прихода их к власти. Созданная парламентская комиссия опубликовала два тол¬
стых тома. Через несколько лет наши журналисты выпустили ряд компиля¬
тивных сочинений, содержавших аналогичные обвинения71. На все лады мус¬
сировалась старая версия лишь о "прикладном" характере масонских объеди¬
нений при "крупнейших олигархиях в их борьбе против идей социализма"72.
Попытки официальных лиц ордена внести ясность в вопрос начисто игнори¬
ровались. "П-2" могла стать "крышей" для отдельных, но не крупномасштабных
операций ЦРУ. К тому же апелляционный суд в 1990 г. оправдал руководителя
ложи Л. Джелли.
Если в Италии политические скандалы вокруг масонства стали обыденными,
то в Великобритании такого ранее не было. Но в 1983 г. журналист С. Найт
опубликовал книгу о засилье масонов в полиции, юриспруденции, банках, совер¬
68 Guide pour un futur franc-maęons, p. 175; Humahisme, Mai 1985, p. 50.
69 De Lera A. La masoneria que vuelve. Barselona, 1980, p. 167; Dićtionnaire de la franc-maęonnerie,
p. 429.
70 Черняк Е.Б. Указ, соч.» с. 197.
71 См.: Малышев В. За ширмой масонов. М., 1986; Манаков А.М. Апостолы двуликого Януса.
М., 1986; Зафесов Г.Р. Тайные рычаги власти. М., 1990 и др.
72 Замойский Л.П. Указ, соч., с. 217.
153
шении ими опасных преступлений. Изюминкой работы стал раздел под названием
‘ Связи с КГБ”, который открывался заявлением о вербовке Джелли советским
агентом в 1965 г. для "дестабилизации” капиталистической системы. В подтверж¬
дение приводились цитаты из “закрытого” меморандума “одного английского
дипломата” по кличке “Китаец”. Но в нем вместо конкретных фактов шли
рассуждения о том, как выгодно советским спецслужбам использовать масонов.
Найт обвинил в предательстве бывшего шефа разведки “Ми-15” Р. Холлиса,
потому что тот вступил еще до второй мировой войны в английскую масонскую
ложу Шанхая, когда город, мол, кишел советскими агентами73. Домысел приш¬
лось официально опровергать М. Тэтчер; за бывшего разведчика вступились и
его коллеги. Однако лейбористы в очередной кампании против консерваторов
внесли в Европейский парламент предложение депутатам открыто объявить о
недопустимости их принадлежности к ордену. Французские и бельгийские пред¬
ставители не дали хода этому проекту. Выдумки Найта отвели в печати
руководители Великой английской ложи74.
Нападки противников не помешали английскому масонству продолжать дея¬
тельность в духе скрупулезного следования своим традициям и обычаям. Братья
пользуются в обществе большим уважением, прием в ложи осуществляется при
тщательном отборе кандидатов, исходя из их духовного уровня и обеспеченного
социального положения. Количество претендентов, получивших отказ в посвя¬
щении, высоко. Адептами прежде всего являются представители королевской
династии, буржуазии, англиканского духовенства, офицерства, придерживающие¬
ся взглядов консервативной партии, число лейбористов невелико. Значительное
место в работах ассоциаций занимают филантропия, углубленное изучение ри¬
туалов и истории ордена. Они финансируют с конца XVIII в. ряд крупных
благотворительных заведений и фондов. На 1987 г. в системе Великой ложи
состояло 8 тыс. братств с 750 тыс. членов, из которых 300 тыс. — в большом
Лондоне75.
Самым крупным по численности и влиянию в настоящее время остается
масонство США в составе 50 суверенных великих лож по штатам, округу
Колумбия и отдельно для цветных — всего около 4 млн. членов. Их филиалы
разбросаны по многим странам мира, особенно по Латинской Америке и Канаде.
Активность находит заметное проявление в социальной сфере, поскольку при
всех братствах имеются крупные фонды благотворительности и “бюджеты
солидарности”, что позволяет помогать адептам, оказавшимся в затруднитель¬
ном положении, субсидировать больницы, дома престарелых для братьев и их
жен, университеты, центры медицинских исследований. Ряд объединений зани¬
маются международной деятельностью. К великим ложам примыкают много¬
численные полузакрытые ордена76.
По примеру англичан все братства США сохраняют веру в Великого архи¬
тектора вселенной; приверженность любой религии является обязательным
условием для посвящения. В ложах запрещено заниматься обсуждением эконо¬
мических, политических и религиозных вопросов. Однако таковые проводятся в
рамках так называемых комитетов исследования при каждой из великих лож.
Для рассмотрения общих проблем периодически созываются национальные
конгрессы, великие мастера встречаются ежегодно для обмена мнениями.
Характер действий и направленность принимаемых решений замалчиваются.
Совмещать членство в ордене с политической и государственной деятельностью
не запрещается. Масонами были 14 президентов, включая Ф. Рузвельта, Г. Тру¬
73 Knight S. The Brotherhood. The Secret World of the Freemasons. London, 1983, p. 270—292.
74 Dictionnaire de la franc-maęonnerie, p. 52.
75 Ibid., p. 51—62.
76 Naudon P. Op. cit., p. 187—194.
154
мэна, Дж. Форда. По данным печати, президент США Дж. Буш также является
масоном и входит в ложу Череп и кости, куда якобы имеет доступ только "элита
университетской аристократии"77. Активной работой в ордене занимаются сена¬
торы Р. Доул, А. Симпсон, Д. Хелмс. "Когда сенат США распределяет помощь в
различные страны мира, трудно представить себе реальную картину распре¬
деления этой помощи внутри того или иного государства. Наиболее честный
ответ о том, куда пошла такая помощь, мы можем получить только по линии
масонской ложи"78.
Главные журналы ордена "Новый век", "Строитель", "Северный свет", "Уни¬
версальный масон" много внимания уделяют морально-этическим, обрядовым
сюжетам. Книжные каталоги специализированного магазина в Нью-Йорке, на
Лексингтон авеню, заполнены названиями старых и новых трудов по алхимии,
астрологии, герметике, астропсихологии, нумерологии, перевоплощению, изуче¬
нию необъяснимых природных феноменов.
Неоднозначность установок, целей, методов работы ассоциаций ордена, раз¬
ный социальный состав членов по-прежнему не только препятствуют коорди¬
нации действий, но и поддерживают отчужденность между англосаксонскими и
"латинскими" центрами. Вместе с тем продолжаются конгрессы и другие
мероприятия по линии верховных советов, Международной лиги масонов и
КЛИПСАС. Недавно в Мехико состоялась 14-я конференция верховных советов
шотландского ритуала с участием представителей 32 стран из США, Западной
Европы, Кубы, Никарагуа, Ирана, Израиля. Они приняли декларацию из шести
довольно расплывчатых пунктов, подтверждающих приверженность идеалам
ордена и указывающих на грозящие человечеству экологические и политические
бедствия. На место суверенного великого командора организации американца
Ф. Клейнкнехта был избран мексиканец А. Риверо. Клейнкнехт признал факт уч¬
реждения верховных советов в Венгрии, Югославии, Чехо-Словакии, на очере¬
ди — восточные земли Германии и Польша: "Происходящие там изменения в
политической жизни, восстановление демократических свобод позволяют нам
надеяться на успех"79.
Следует отметить значительный отпечаток деятельности ордена на многие
исторические события, попытки утверждения мирным путем общечеловеческих
ценностей на базе совершенствования устоев демократического общества. "Вли¬
яние масонства и его роль не могут измеряться ни численностью, ни количеством
новообращенных, ни пропагандистскими успехами. Ему достаточно оставаться
верным своей сущности — быть центром союза между людьми, которые иначе
остались бы навсегда разъединенными, очагом обретения полноты человечности
без различия расы, мнений и религий. Оно также должно помочь вдохнуть душу
в мир на планете, несмотря на идеологические и экономические барьеры, что
отвечает настоятельной необходимости неогуманизма, стремящегося к универ¬
сальным и трансцендентным ценностям"80. Об этом наглядно свидетельствует
философия ордена.
IV. ИДЕОЛОГИЯ МАСОНСТВА
Идейная сторона масонства, его философия выглядит как пестрый конгло¬
мерат противоречивых построений. Она представляется непознаваемой, таинст¬
венной и открывается лишь в ходе длительных умствований адептов непо¬
средственно в ложах. Тем не менее идеология масонства доступна осмыслению.
77 См. Овчаренко Е. Франкмасон из ложи Череп и кости. — Комсомольская правда, 13.V.1992.
78 Цит. по: Новое время, 1990, № 44, с. 47.
79 Там же.
80 Naudon Р. Op. cii., р. 236.
155
Главное в идеологии масонства — это длительная и терпеливая подготовка
избранников к строительству некоего равноправного и справедливого строя, а
отнюдь не к страшному суду и загробной жизни. Духовная форма как бы на¬
полняется вполне мирским содержанием.
Этика правствсппого созидания
Масоны — идеалисты, но не из тех, которые лишь пытаются объяснить мир.
Знания в области развития природы и общества считаются важным познава¬
тельным материалом для грядущих социальных преобразований гуманистичес¬
кого плана. Этому подчинена, в сущности, вся деятельность ордена, привле¬
кающая во все времена значительные симпатии, в частности, многих замеча¬
тельных людей. Революциям масоны предпочитают постепенные, эволюционные
шаги в сторону морального совершенствования себя и других — без кровопро¬
литий и при строгом соблюдении фундаментальных прав человека. Однако ре¬
волюционные действия полностью не исключаются, в чем убеждает изложенная
в общих чертах история ордена.
Предел стремлений к построению светлого храма свободы, равенства и
братства представлялся довольно абстрактным, упор делался на процесс вос¬
хождения к нему. Не отсюда ли заимствовал Э. Бернштейн свой крылатый
постулат ’’движение — все, конечная цель — ничто?” Предположение доста¬
точно вероятное, учитывая наличие определенного отпечатка масонства на
социал-демократию. Идеализм первого как бы дополнял материалистический
детерминизм второй, тесно переплетаясь друг с другом. Абстрактный образ
храма обретал конкретные черты в утопиях выдающихся философов. По
некоторым данным, английский масон, мыслитель Дж. Толанд в работе 1720 г.
"Пантеистикон" описывал собрания общества свободомыслящих, члены которого
исповедовали "более мягкую и чистую религию”, нежели основанную на авто¬
ритете, заявляли себя заклятыми врагами всех тиранов, будь то "деспотические
монархи, горделивые дворяне или, наконец, демагоги”81. А наш соотечественник,
"вольный каменщик” М.М. Щербатов, в рукописи "Путешествие в землю
Офирскую” в 1780 г. рисовал облик идеального государства как монархию,
ограниченную законами, под фактическим управлением аристократического
"высшего правительства", т.е. сената из наиболее родовитых людей82.
Символика, пронизывающая масонство, дуалистична, ибо материальная и
духовная субстанции считаются равноправными взаимопроникающими началами,
не существующими друг без друга. Немецкий историк ордена И. Финдель писал:
"Франкмасонство живет и учит в образах и символах, в которых преобладает та
мысль, что франкмасонское братство есть общество действительных строителей,
что его цель есть возведение духовного храма. Каждый франкмасон и каждая
ложа должны стремиться к свету, истине и добродетели, почему на нее и
смотрят, как на фокусную точку и источник света. Большая часть символов
заимствована от каменщиков-ремесленников, но им придано более глубокое
духовное значение". И далее: "Таким образом, братство вольных каменщиков
стало союзом, вполне раздельным от строительного искусства, стремящимся
единственно к чисто человеческим целям и потому способным распространиться
по всему миру: оно стало общим достоянием всего человечества. Воздвигаемое
моральное здание, подобно физическому зданию каменщиков-ремесленников,
должно было иметь в виду общую пользу человеческого общества; облагора¬
живание членов союза должно проявляться в самопознании, самодеятельности и
самообладании, как и вообще во всех человеческих добродетелях; союз должен
81 Нис Э. Основные черты современного масонства. СПб., [б.г.], с. 24.
82 Рожков Н Русская история в сравнительно-историческом освещении, т. 7. Пг., 1923, с. 151.
156
из людей всех сословий образовывать лучших граждан, должностных лиц, более
преданных общему благу, лучших отцов, супругов и друзей. При этом первым
условием предполагается нравственная свобода, потому что только свобода от
всяких больших пороков, страстей и предрассудков делает людей воспри¬
имчивыми к высшему развитию и способствует их преуспеянию"83. Такие тол¬
кования в их главных аспектах сохранились до сегодняшнего времени.
Но обряды рассматриваются не как неизменно существующая данность, а как
непрерывный способ постижения недоступных для непосвященных знаний, кои
передаются от предшествующих поколений новым, от старших адептов ордена
ко вновь в него вступающим. Такие скрытые от посторонних глаз знания или
идеи, называемые "эзотерическими", составляют главную черту масонства, про¬
являясь в его идеологии и деятельности. Тайна является логическим следствием
цели и отражается в информации только для людей, надлежащим образом
квалифицированных. "Эзотерическое познание возможно благодаря научному
поиску и индивидуализации тех связей, которые образуют целостность при всем
многообразии проявлений сущего и мыслящего субъекта, — отмечает М. Мо-
рамарко. — При этом речь идет также об установлении тождества, как ри¬
туального, так и психологического, между собственно самостью и "ценностями"...
Кроме того, эзотеризм предполагает сравнительное изучение великих духовных
и философских учений. Наконец, посредством индивидуализации научного поис¬
ка, или, говоря иначе, определения места и "атмосферы", способных поддер¬
живать эмоционально упорядоченную духовную аскезу, происходит своеобразная
интенсификация мыслительных способностей человека. По эзотерической тра¬
диции глубокий мыслительный процесс вообще невозможен без глубоких эмо¬
циональных переживаний, создаваемых разыгрываемой в храме ритуальной
психодрамой и ее ритуальной эстетикой"84.
Своеобразное научное познание, наслаиваясь на личный жизненный опыт
членов ордена, мобилизует их внутренние потенции на полезное применение
высоких моральных качеств на благо человечества. Поэтому эзотеризм выводит
на широкое видение мира, а отнюдь не на его какую-либо предвзятую кон¬
цепцию, светскую или религиозную теологию. Он равно враждебен и любой
мистике, поскольку "таинства" — суть постепенное приближение к Истине, вне
прямой связи с реальностями мира. При таком понимании эзотеризм по природе
своей рацис нален на пути к конечной цели.
Переходя от абстрактных построений к масонской практике, рассмотрим
"Тетради символических степеней" Великого Востока Франции, остающиеся и
ныне почти неизменными. Всякому вступающему в орден разъясняется, что
"долгом масонства является распространение на всех людей братских связей,
объединяющих франкмасонов всей планеты". Адептам рекомендуется ведение
устной, письменной и предметной пропаганды. Во всех случаях они должны
помогать, просвещать, оказывать покровительство брату даже с риском для
собственной жизни, защищать его от несправедливости. Труд считается одним из
главных обязательств человека, в равной мере почитается физическая и
умственная работа. Перед посвящением в первую степень ученика кандидату
задаются традиционные вопросы о долге по отношению к человечеству, своей
родине, семье, к самому себе. Инструкция предписывает ученику, помимо трудов
по достижению отмеченных общих целей, еще и "тщательное изучение всех
волнующих общество вопросов для поисков их решения мирными средствами и
распространения вокруг себя приобретенных познаний". Этим предопределялась
политическая направленность активности членов ордена, что специально подчер¬
83 Финделъ И. История франкмасонства от возникновения его до настоящего времени, т. 1. СПб.,
1874, с. 114.
84 Морамарко М. Указ, соч., с. 164—165.
157
кивалось следующим ответом на вопрос о смысле занятий в ложе: "Там борются
с тиранией, невежеством, предрассудками, прославляя право, справедливость,
правду, разум".
Одновременно давались разъяснения чисто эзотерического, масонского плана,
касающиеся отправления обрядов. На вопрос, почему масоны пользуются ус¬
ловным языком, ученик отвечал: "Для подражания старинным ритуалам и еще
потому, что символы и аллегории взывают сразу к чувствам, воображению и
рассудку, помогают лучше запечатлеть в умах выражаемые ими идеи"85. Своей
духовной широтой, выходом на решение жизненных задач доктрина масонства
импонировала людям доброй воли, добивающимся мирных прогрессивных из¬
менений общества.
Автор, не назвавший себя, писал: "Масонство — союз этический в чистом
смысле этого слова. Таким образом, членом одной и той же ложи могут одно¬
временно быть и космополит и патриот, и монархист и крайний республиканец, и
богач и небогатый, и ученый профессор и мастеровой; и царь и рядовой рабочий;
каждый из них волен по-своему понимать жизнь и, сообразно с этим, дейст¬
вовать"86.
При поверхностном взгляде масонство отождествимо с религиозным культом.
На деле же даже мистические направления в ордене решительно отмежевы¬
ваются от церквей, хотя их адепты являются людьми глубоко верующими. Да и
духовные иерархи в той или иной степени отделяют себя от масонов. Другой
автор отмечает, что признание существования единого Бога, вера в божест¬
венное откровение и бессмертие души ставят орден в положение религии, но ему
придается значение, объемлющее все религии, и каждый адепт утверждается в
той вере, которую исповедует, чем ставится предел распрям на религиозной
почве87.
Универсальная триада
"свобода, равенство, братство"
Уже с первых шагов деятельности масонство стремилось распространить свои
принципы на окружающий мир, противопоставив, прежде всего, узкосословному
феодальному праву с его абсолютистско-королевскими подпорками естественное
право людей на свободу и равенство, которые были глубоко обоснованы вели¬
кими философами века Просвещения. Собственно масонским можно считать
лишь понятие "братства", вышедшее из глубины лож на широкую арену по¬
литической активности. Триада "свобода, равенство, братство" стала знаменем
прогрессивной буржуазии в ее борьбе за коренное переустройство общества, что
и было осуществлено Великой французской революцией. Вслед за энциклопе¬
дистами масон Лафайет подчеркивал, что суверенная власть исходит от нации,
ибо природа сотворила людей свободными и равными, с неотъемлемыми пра¬
вами, в частности со свободой мнений, попечением о своей чести и жизни, правом
собственности, правом всецело располагать своей личностью, продуктами труда
и всеми способностями, правом распространять свои мысли всеми возможными
способами, изыскивать средства к существованию наряду с правом сопротив¬
ления угнетению. Другой масон Ж. Байи писал: "Если бы права человека не бы¬
ли забываемы или не попирались бы, то не было бы революции; таким образом,
революция прежде всего должна дать декларацию прав; это был захват
свободы, акт, совершенный нами, для нас, но принадлежащий не нам одним, а
85 Grand Orient de France. Cahiers des grades symboliques. Paris, 1887, p. 7—8, 59—60, 64.
86 Масонство или великое царственное искусство братства вольных каменщиков как культу-
роисповедание. СПб., 1911, с. 15, 16, 27.
87 Идеология франкмасонства. Пг., 1914, с. 4.
158
всему человечеству"88. Добавим, что Лафайет был избран главнокомандующим
национальной гвардии, а Байи провозглашен мэром Парижа в самом начале
революции.
Уже Декларация независимости США 1776 г., разработанная почти одними
масонами, выдвинула идеи равноправия вс^х людей, неотъемлемости естест¬
венных прав человека: "права на жизнь, на свободу и на стремление к счастью".
Аналогичные принципы зафиксированы и в американской конституции 1787 г.;
однако в реальности они значительно ограничивались рабовладельческой прак¬
тикой, на чернокожих "естественные права" не распространялись. Как отмеча¬
лось, это привело к созданию раздельных лож для белых и цветных, что
сохраняется и поныне. Французская Декларация прав человека и гражданина
1789 г. была намного последовательнее в теории и на практике, регламентируя
институты нового, буржуазного государственного строя, его механизмы, включая
судебную систему, четко проводя принцип разделения властей, подробно обо¬
снованный великим просветителем масоном Ш. Монтескье в работе "Дух
законов". Декларация провозглашала, что "люди рождаются и остаются сво¬
бодными и равными в правах", причем "свобода состоит в возможности делать
все, что не приносит вреда другому". Закон мог запрещать лишь деяния, вред¬
ные для общества, ибо "все, что не воспрещено законом, то дозволено, и никто
не может быть принужден к действию, не предписываемому законом". Неотъем¬
лемыми правами человека являлись свобода, собственность, безопасность и
сопротивление угнетению. Важнейшим он считает объявление собственности
"неприкосновенной и священной". Власть должна была гарантировать свободу
вероисповедания, мнений, слова и печати. В одной из статей подчеркивалось:
"Обеспечение прав человека и гражданина влечет необходимость применения
вооруженной силы; эта сила, следовательно, установлена в интересах всех, а не
в частных интересах тех, кому она вверена"89. Конечно, документ был детищем
своего времени, он отражал главным образом интересы буржуазии в ее борьбе с
феодализмом, которые сливались тогда с чаяниями большинства французского
народа. Мало того, они имели и сохраняют непреходящую общечеловеческую
значимость, фигурируя в настоящее время в подавляющем большинстве консти¬
туционных актов, равно как и в основополагающих международно-правовых
документах.
Отмечая участие многих деятелей ордена в разработке американской и
французской деклараций, необходимо, однако, иметь в виду непричастность к
ним масонства в качестве организационного целого. Ни один из руководящих
центров ассоциации, не говоря уже о ложах, не выносил подобных решений и не
давал директив. В собственно масонских материалах, вроде "Книги конституций"
Андерсона, в остальных бумагах братств и сочинениях теоретиков универ¬
сальная триада "свобода, равенство, братство" не фиксировалась в синтетичес¬
ком единстве, хотя изолированно и в ограниченном смысле употреблялась. Да и
не только масоны участвовали в составлении деклараций, нельзя приписывать им
одним их авторство.
Ведь даже в уставе Великого Востока Франции триада появилась лишь в
1849 г. в сопровождении неточного утверждения о том, будто "девизом ордена во
все времена были свобода, равенство, братство"90. Ныне действующее уставное
положение гласит: "Франкмасонство имеет своим девизом свободу, равенство,
братство"91. Этому учат и в ложах первой степени посвящения, подробно раз¬
вивая и углубляя такие принципы в ходе работ по моральному совершенст-
88 Цит. по: Нис Э. Указ, соч., с. 114.
Даниленко В.Н. Декларация прав и реальность. М., 1989, с. 21.
90 Dictionnaire de la franc-maęonnerie, p. 300.
91 Humanisme, Avril 1990, p. 78.
159
вованию членов и их общественных трудов, включая политическую деятель¬
ность.
Распространение смысла триады на весь мир подводит к пониманию масон¬
ского космополитизма, который на деле лишен всякого пренебрежительного
подтекста. Основатель Ордена мартинистов Папюс писал: ’’Франкмасонство
всегда было великим инициатором политических и социальных реформ. Для
своих членов оно разрушает границы и предрассудки относительно рас и цветов
кожи, оно уничтожает привилегии личные и корпоративные, которые душат
несостоятельную интеллигенцию, оно поддерживает вековую борьбу с обску¬
рантизмом во всевозможных видах”. Его существенно дополняет Э. Нис: "Масон¬
ство имеет универсальный характер; оно не освобождает своих членов от их
обязанностей по отношению к отечеству, не учит их тому, что выше отечества
стоит человечество; оно проповедует братство между людьми и народами; таким
образом, по своей сущности оно является врагом войн”92. Новому адепту ордена
сразу же внушают мысль о необходимости тщательного соблюдения государст¬
венных законов и сочетания патриотических чувств с представлениями об уни¬
версализме масонов. На практике они всегда ставили первые во главу своих
поступков и деяний, но в то же время решительно выступали против многих
националистических предрассудков, которые ущемляли фундаментальные права
и свободы людей. В пункте III устава Великого Востока Италии говорится:
"Исходя в своей деятельности из высоких нравственных принципов, вольное
масонство не приемлет привилегий социальных классов, но воздает честь труду
во всех его формах, признавая за каждым человеком право беспрепятственно и
без каких бы то ни было ограничений раскрывать свои способности при условии,
что он не нарушает права других людей и сочетает свои интересы с высшими
интересами Родины и Человечества"93.
Очевидно, что осуществление универсальности прогресса возможно лишь в
условиях неделимого мира, т.е. состояния, которое исключает любые войны и
вооруженные конфликты между государствами и внутри них. В "Книге кон¬
ституций" Андерсона говорится: "Масон — всегда мирный подданный. Он
никогда не замешан в конспирациях или заговорах против мира и блага нации,
ибо войны, кровопролития и смуты пагубно сказывались на масонстве, про¬
цветающем в мирное время". Французские ложи имеют название "Мир, труд,
солидарность", "Мир", "Мир и Республика". В системе Великого Востока дей¬
ствует постоянная комиссия мира, а при совете ордена есть еще и комиссия
мира. Аналогичный орган находится и в Великой ложе Франции. Цель их состоит
во внимательном изучении международной обстановки, подготовке резолюций и
иных шагов по отношению к государственным властям, дипломатическим
представителям или соответствующим державам. В неотложных случаях совет
ордена или его бюро могут принять решение о проведении акций, осуждающих
угрозу миру. Мало того, совет ежегодно ставит на обсуждение братств какой-
либо вопрос, касающийся мира. Среди таковых фигурировали: создание Евро¬
пейского масонского парламента, изучение причин войн, генезис трудовых кон¬
фликтов и в более широком плане — о мирном воздействии масонства на
создание объединенной Европы. Полученные в ходе обсуждений соображения и
предложения обобщаются в руководящих инстанциях, которые принимают меры
по их реализации. Учреждена премия за литературное произведение, служащее
делу мира94.
В прошлом масонский пацифизм стремился снизить накал международной
напряженности, а в случае возникновения войн — ограничить их рамки, сокра¬
92 Доктор Папюс. Указ, соч.» с. 14; Huę Э. Указ, соч., с. 48.
93 Морамарко М. Указ, соч., с. 226.
94 Dictionnaire de la franc-maęonnerie, p. 881—882.
160
тить масштабы кровопролитий. Путем к этому считалось внедрение арбитража и
третейских судов в практику международных отношений в качестве одного из
способов преодоления разногласий между государствами. Конечно, ограниченные
усилия не могли дать сколько-нибудь ощутимых результатов в обстановке
нарастания международных противоречий. Вместе с тем согласимся с Нисом,
который констатирует: "Масонство может гордиться тем, что оно больше, чем
какое-либо другое учреждение, известное в истории, заставило любить и ува¬
жать благотворный тройной принцип: свободу, равенство и братство"95.
Пути человеколюбия
Человек, занимающий одно из центральных мест в масонской философии,
становился средоточием больших и малых дел по оказанию братьям помощи в
непростых жизненных ситуациях. Потому-то практическая филантропия явля¬
лась краеугольным камнём в активности ордена, особенно в англосаксонских
странах. Бывший глава Великого Востока Италии проф. Дж. Гамберини отме¬
чает: "В этих странах, несмотря на то, что государство взяло на себя основное
бремя социального обеспечения, по-прежнему жив дух добровольной обществен¬
ной благотворительности. Так, масонские организации основывают и содержат
больницы, клиники, медицинские научно-исследовательские центры". Первый в
мире сиротский приют был основан в Англии в XVIII в. поселившимся там
итальянским масоном Б. Руспини на собственные средства, которые он накопил,
будучи придворным дантистом96. Основой является концепция солидарности или
зависимости людей друг от друга, когда каждый индивидуум представляет часть
одного и того же целого.
Благодаря добровольным взносам каждого члена и различным пожертво¬
ваниям при каждой из ассоциаций созданы особые благотворительные фонды.
Помимо этого, крупные средства тратятся, как вкратце отмечалось, на финан¬
сирование проектов и заведений, именовавшихся в прежней России богоугод¬
ными. Часть из них открылась по инициативе масонов, в частности Импера¬
торское человеколюбивое общество. Патриотическое общество воспитания де¬
виц, воспитательные дома, богадельни и школы. Военная газета "Русский инва¬
лид" основана "вольным каменщиком" Пезаровиусом. Дело освобождения кресть¬
ян в 1861 г. было осуществлено под руководством последнего официального
российского великого мастера графа С.С. Ланского97.
Рассматриваемые идеи человеколюбия сформулированы в первых же статьях
конституции Великого Востока Франции как одни из главных задач масонства.
Специально предусматривались "денежные обязательства", необходимые для
обеспечения функционирования ложи и для "субсидирования мероприятий со¬
лидарности", в связи с чем каждый кандидат вносил казначею еще до посвя¬
щения определенную сумму, которая в случае отклонения ему возмещалась. При
этом центре действует Национальная комиссия солидарности, а в 1985 г. создан
фонд пожертвований адептов для субсидирования населения, пострадавшего от
природных катаклизмов, например в Армении, островах Гваделупа и Реюньон.
Существует немало и других форм98. Взаимопомощь распространяется прежде
всего на членов ордена. В Уставе II Великого Востока Италии говорится:
"Вольные каменщики считают себя братьями и обращаются друг к другу "брат",
независимо от различий в происхождении, вере, социальном положении. Они
95 Нис Э. Указ, соч., с. 139.
96 См. Морамарко М. Указ, соч., с. 218.
97 Идеология франкмасонства, с. 7.
98 Grand Orient de France. Cahiers des grades symboliques, p. 9—10; Humanisme, Avril 1990, p. 73.
6 Новая и новейшая история, № 5
161
связаны взаимными обязательствами обмениваться знаниями и оказывать друг
другу помощь в пределах справедливости и личной чести”99.
При широком размахе филантропии рекомендуется придавать ей анонимность
и по возможности не афишировать, дабы не выдавать долг ордена за особые
заслуги и не ставить в неудобное положение облагодетельствованных.
Благотворительность является, конечно, лишь частью деятельности ордена,
органически вписываясь в свод фундаментальных ценностей. "Традиционное
масонство заявляет о себе как об общности людей, несущих в мир идеалы
общечеловеческой духовности, основанной на свободном и этическом спириту¬
ализме, проповедующих символический метод вековечной практики самосовер¬
шенствования личности”. На заре XXI в. еще предстоит осуществить подлинную
революцию в мыслях и сердцах, чтобы не только сменить некоторые поли¬
тические институты, но и провести подлинную идейную революцию, заменить
личный эгоизм "солнцем духа”100.
Как становятся масонами
Масонству вряд ли удавалось бы выполнить свои задачи, если бы его
деятельность не подкреплялась своеобразными организационными формами,
призванными произвести глубокое психологическое воздействие на каждого
адепта и в то же время предоставить ему возможности для продвижения по
иерархической лестнице.
Чтобы быть принятым в орден одного желания недостаточно, и выйти оттуда
непросто. Его адептами обычно становятся на всю жизнь, причем принципами
поступаться не рекомендуется. О них уже шла речь, за исключением ритуала
посвящения, совсем не похожего на тривиальный прием в обычную поли¬
тическую партию. Посвящение предполагает для каждого личный опыт об¬
ретения Истины, считающейся неким Абсолютом посредством приобщения к
ряду таинств. Открывая доступ к "высшей духовности”, масонство предлагает
средства, позволяющие адепту "наилучшим образом воздвигнуть идеальный
храм собственных убеждений”, а также различить в самом себе "за суетой
вечную печать трансценденции”. В английских ритуалах наиболее полно сох¬
ранена символика старого посвящения в ремесло каменщика, дабы привести
человека к Знанию благодаря внутреннему озарению101. Папюс пишет: "Он
(масон. — О. С.) размышляет обо всем, что невольно поражает его в ложах: о
словах, которые он слышит, об обрядах, совершаемых при нем, — и вследствие
этого он заключает, что должна существовать масонская наука, подобно тому,
как существует математическая наука, пользующаяся алгеброй". К ее эле¬
ментам относятся числа, фигуры, походка, легенды, ритуальные принадлеж¬
ности, слова, знаки и прикосновения, украшения, наконец, цифры. Их ком¬
бинации составили сложные обряды посвящения, которые создавались исто¬
рически и порой значительно отличаются друг от друга при общей первоос¬
нове102. Кроме символического философского подтекста названные элементы
имели и практическое значение, позволяя адептам ордена незаметно распоз¬
навать в жизни друг друга, посещать любые ложи, соответствующие их
положению. Сами масоны обычно не отождествляли приобретенные таким
образом навыки с наукой, а торжественно именовали их "царственным искус¬
ством".
Масонские ложи представляют собой замкнутую группу лиц. Они образно
99 Морамарко М. Указ, соч., с. 224.
100 Humanisme, Avril 1990, р. 73.
101 Naudon Р, Op. cit., 1981, р. 47,234,236.
102 См. Доктор Папюс, Указ, соч., с. 5—7.
162
Великий мастер Великой ложи Пенсильвании
Э. Фоулер (США) в полном масонском облачении.
Фото из журнала "The Pennsylvania Freemason",
1992, Febraary, № 1.
называются в честь святых, небесных светил, людских добродетелей, знаме¬
нитых деятелей, общепризнанных принципов знаменитой триады. Местонахож¬
дение одной ложи или их совокупности обозначается ’’Востоком”, откуда якобы
изливается высшая мудрость. Их члены регулярно собираются в прямоугольном
зале. Во главе стоит мастер (префект, председатель), его помощники — 1-й и 2-й
надзиратели, далее идут хранитель печати, оратор, секретарь, казначей, це¬
ремониймейстер. Они и руководят ритуалами, долженствующими подчеркивать
значимость и могущественность масонства.
В помещении лож, признающих Высшее божество, возвышается алтарь с
тремя ступенями, на которых лежат Библия, треугольник с циркулем и круг.
Библия означает приверженность христианству; циркуль и треугольник указы¬
вают на высший разум, стройность организации и относительность сущего; круг
символизирует совокупность всех масонов. Стены зала окрашены в голубой
цвет, сводчатый потолок с нарисованными звездами изображает небо103. Нг
мозаичном полу стелится ковер, украшенный знаками зодиака. Вокруг него
располагаются на особо отведенных для каждой категории местах ’’вольные
каменщики” — в черном одеянии, с фартуками из белой овчины, в белых
103 Среди масонских символов есть и пятиконечная звезда, именуемая пентаграммой. Она обо¬
значает четыре конечности и голову человека. Как и многие другие знаки, пентаграмма не является
изобретением масонов: она восходит корнями к пифагорийцам.
6
163
лайковых перчатках и в шляпах с полями. Шляпа символизирует свободу и
равенство в ложах, белый цвет — чистоту жизни и помыслов, фартук как бы
подчеркивает, что адепты собрались для производства важных работ, что
дополняется строительными мастерками, указывающими на профессию камен¬
щика. Все убранство лож, которое менялось в зависимости от характера це¬
ремоний, несет скрытый смысл.
Английское масонство имеет три последовательных степени посвящения:
ученик, подмастерье и мастер, которые формально отличаются друг от друга
лишь совершенством моральных качеств и силой преданности ордену. Жела¬
ющий стать масоном заручается рекомендацией одного из членов ложи и подает
ходатайство управляющему мастеру. Тем временем проводится негласное выяс¬
нение нравственности, свойств характера, семейного положения и гражданского
состояния претендента. Ритуал приема обставляется правилами, демонстрирую¬
щими каноны масонского учения. Кандидат, как "ищущий света", вводится
сперва в темную комнату, где его оставляют на некоторое время одного для
размышлений. После собеседования на глаза надевается темная повязка, он
стучится в дверь ложи и, получив разрешение войти, следует наощупь за одним
из братьев, причем над ним совершаются разные ритуальные действия, озна¬
чающие преодоление грядущих жизненных препятствий.
Его как бы то сталкивают в подземелье, то заключают в темницу, застав¬
ляют подниматься по лестнице, приказывают бросаться вниз, испытывают ог¬
нем, не причиняющим вреда. Потом останавливают и задают множество
вопросов, касающихся биографии неофита и истории масонства, на что следуют
заранее заученные ответы. После третьего удара молотка председателя по¬
вязку с новичка снимают, направляя на него сноп яркого света и приставляя к
обнаженной груди скрещенные шпаги. Он видит себя в окружении братьев,
облаченных в их традиционные одежды. И великий мастер торжественно
изрекает: "Во имя Великого строителя вселенной и в силу дарованной мне власти
я делаю тебя масойским учеником и членом этой ложи"104. Неофит давал клятву
молчания, положив руку на раскрытую Библию. Он обязывался хранить секреты
масонства, выражая готовность перенести мученическую смерть в случае их
разглашения. Секреты касались самого факта принадлежности к ордену, опи¬
сания обрядов и обсуждения вопросов в ходе собраний. Некоторые объявляют их
чуть ли не главными в сохранении масонских тайн. По их словам, отступников
неминуемо ожидает ужасная казнь, чего они страшно боятся. Однако точно
установленных случаев наказания не было, хотя разглашения имели место.
После посвящения брата нередко устраивалась "застольная ложа" — род
веселой пирушки, с винными возлияниями. Произносились тосты за главу госу¬
дарства, за отечество, великую ложу, за вновь принятого члена и всех масонов
земного шара. Трапеза сопровождалась музыкой и пением.
Ученики не имели права посещать ложи подмастерьев и мастеров, подмас¬
терья не допускались на заседания мастерских лож, в то время как мастера
участвовали в заседаниях всех лож, обсуждали дела ученических лож и принима¬
ли в свою среду подмастерьев. Подобный порядок, однако, соблюдался не всегда
и отнюдь не строго. Лица титулованные и ученые нередко принимались прямо в
мастера. В масонстве с самого начала возник и сохранился свой табель о рангах,
воздвигающий перегородки между носителями тех или иных ступеней.
По-иному строился обряд посвящения в степень подмастерья: соискателя
подробно расспрашивали о масонских канонах, методах их соблюдения, интере¬
совались причинами желания получить продвижение. А при приеме в мастера с
участием только носителей такого звания разыгрывалась пантомима — легенда
о Хираме Абифе — для доказательства полной готовности принять смерть, но не
104 Цит. по: Черняк Е.Б. Указ, соч., с. 56.
164
выдать масонской тайны. Этот библейский персонаж — руководитель строи¬
тельства Соломонова храма в Иерусалиме — погиб от рук трех своих плохих
учеников, которым отказался открыть тайное "слово мастера". Ритуал симво¬
лизирует, что в лице каждого вновь принятого мастера воскресает Хирам.
Новый текст клятвы включает слова: в случае отступничества "пусть мое тело
разрежут пополам, мои внутренности сожгут, а пепел развеют по лику земли".
Обет предусматривал сохранение верности другим мастерам, если это не про¬
тиворечит "законам Бога и установлениям государства". Секретными словами-
паролями служили: для учеников — "Боаз", подмастерьев — "Иакин" и для
мастеров — "Ябулон"105. Речь идет об именах древнеиудейских божеств, и это
иные ученые считают неопровержимым свидетельством слияния масонства с
иудаизмом, а затем с сионизмом. Причем забывается одна существенная деталь,
а именно то, что Иисус Христос, его апостолы, многочисленные библейские
персонажи были евреями.
Высокие степени, появившиеся в середине XVIII в., существуют и поныне.
Так, весьма распространенный древний шотландский общепринятый обряд имеет
степени с 4-й по 33-ю, с гаммой экзотических наименований, вроде "королевской
арки", "великого избранника", "князя Иерусалимского", "хранителя скинии". А
вот три последних степени: "великий командор", "прекрасный рыцарь королев¬
ского секрета" и "верховный инспектор"106. Они олицетворяют ступени символи¬
ческого восхождения масона на путях свободы, истины и справедливости.
Носители высоких степеней образуют отдельные братства, члены которых
пополняются.кооптацией. Уже при получении 4-й степени адепт подписывает
клятву подчинения своим руководителям, а в последних степенях наделяется
весьма важными правами руководить подобными ложами и возглавлять "все
масонское здание", по меткому определению С. Ютена107.
Великий Восток Франции значительно упростил изложенные церемонии и
порядок посвящения в 1-ю и последующие две степени. Желающий приобщиться
к ордену письменно сообщает об этом по адресу центра (Париж, ул. Каде, 16),
откуда секретариат направляет заявление руководителю одной из лож. Тот
проводит с претендентом беседу и в случае благоприятного мнения о нем просит
заполнить специальный формуляр и представить справку о судимости при на-
ли нии таковой. Его встречают еще три брата, отдельно друг от друга, и подают
отчет со своими заключениями. Вместо опроса неофита с завязанными глазами
практикуется собеседование с комиссией ложи. После этого проводят голо¬
сование шарами, причем кандидат должен получить белых шаров в три раза
больше, чем черных. В противном случае посвящение откладывается, и надо
начинать все сначала108. При положительном результате новичок подписывает
обязательство, текст которого ниже приводится полностью:
"На этом наугольнике, символе совести, верности и права, на этой Книге
конституций, которая станет отныне моим законом, обязуюсь строго хранить
масонскую тайну, никогда не говорить и не писать о том, что я увидел бы или
услышал, если не получу разрешения, притом только указанным мне путем. Я
обещаю усердно, последовательно и правильно трудиться над делом масонства,
любить моих братьев масонов, применяя на практике при всех обстоятельствах
великий закон человеческой солидарности, который является моральной докт¬
риной масонства. Я буду помогать слабым, буду справедливым ко всем, пре¬
данным своей семье, родине и человечеству, сохранять собственное достоинство.
Я обещаю защищать светский идеал и институты, выражающие принципы
1и:> Парнов Е.И. Трон Люцифера. М., 1987, с. 215.
106 Морамарко М. Указ; соч., с. 160—197.
107 Hutin S. Op. ciL, р. 133—134.
108 Humanisme, Avril 1990, p. 61.
165
разума, терпимости и братства. Я обещаю придерживаться общего регламента
Великого Востока Франции как в его нынешних положениях, так и в тех,
которые могут быть приняты впоследствии. Я согласен на то, чтобы в случае
нарушения когда-либо этих обязательств быть подвергнутым санкциям, преду¬
смотренным конституцией и общим регламентом Великого Востока Франции"109.
Затем следует само посвящение, которое определяется в качестве "процесса
познания масоном самого себя, позволяющего возвыситься до подлинно свобод¬
ной мысли”110. Церемония, подобно другим работам в ложе, является коллек¬
тивным действием. С первых шагов неофита обучают уважительному отноше¬
нию к собратьям, которые считаются членами его новой семьи. Все делается
сообща: посещение ложи, выполнение разнообразных обязанностей, участие в
общественных мероприятиях. Словом, масоны совместно делят радости и пе¬
чали, дружат семьями. Конечно, это только в идеале: члены ордена — обычные
люди со свойственными им недостатками и предубеждениями. Сказывается и
прием лиц любых верований, принадлежащих ко всем политическим партиям
Франции, включая коммунистическую. Исключение сделано лишь для сторон¬
ников ультраправого "Национального фронта", поскольку его проповедь исклю¬
чительности по расовому или другим признакам несовместима с идеями братства,
отмечает нынешний глава Великого Востока Жан-Робер Рагаш111. Ему при¬
надлежат слова: "Великий Восток Франции всегда проявлял ответственность
перед историей. Он поддерживал у своих членов принципы, составляющие фун¬
дамент гуманистического и демократического идеала под сенью лаицизма, этой
абсолютной свободы совести"112.
Нет необходимости преувеличивать или преуменьшать значимость деятель¬
ности "вольных каменщиков". Она была в общем прогрессивной, хотя и служила
прежде всего интересам господствующих классов. Во Франции масонство
постепенно переходило на сторону либеральной буржуазии, став одним из
способов отстаивания интересов власть имущих, привлечения на их сторону
мелкой буржуазии и рабочих, переключения их усилий на решение социально-
экономических и религиозно-этических вопросов. Братства стран Западной
Европы и США почти превратились в элитарную часть государственной
машины.
В то же время определеннее, чем раньше, обозначилась политическая окраска
масонства тех или иных стран, что вытекало из специфики их развития. Если в
Англии, Германии, государствах Скандинавии ложи почти в неприкосновенности
сохранили буржуазный вид, оставшись клубами для избранных, во главе которых
стояли и отпрыски правящих династий, то во Франции, Италии, Бельгии,
Испании состав ассоциаций был демократичнее, их наполняли в основном
представители средней и мелкой городской буржуазии, лица свободных про¬
фессий.
Настала пора в нынешних сложившихся в России условиях наладить регу¬
лярные контакты общественности с масонскими объединениями с целью обсуж¬
дения глобальных общечеловеческих проблем и оптимальных способов их ре¬
шения. Вместе с тем историкам важно усилить внимание к комплексному
изучению масонства, нужны крупные обобщающие труды, элементы которых
уже создаются нашими исследователями.
109 Ibid., р. 64.
110 Ibid., р. 62.
111 Эхо планеты, 1990, № 14, с. 41.
112 Humanisme, Avril 1990, р. 3.
166
Портреты историков
© 1992 г.
П.Ю. РАХШМИР, М.П. ЛАПТЕВА
ЛЕВ ЕФИМОВИЧ КЕРТМАН (1917—1987)
Годами жизни Л.Е. Кертмана были 70 лет XX в.: с 1917 по 1987 г. В мас¬
штабе большой длительности (longue duree по Броделю) это были, наверное,
нелучшие годы нелучшего столетия, но "короткое время" жизни было прожито
им достойно и честно: в поиске и творчестве, являвшимися состоянием его
личности.
По складу своей натуры он был "обречен" стать ученым. Проникновение в
новые, глубинные пласты исторического познания было для него жизненной
необходимостью. В одном из писем кузену, тоже историку, В.М. Панеяху
Кертман, перечисляя мотивы, придававшие смысл его труду, на одно из первых
мест поставил "интеллектуальное наслаждение". Это, возможно, питало его
огромную трудоспособность, становясь своего рода реабилитационным факто¬
ром, позволявшим выдерживать умственные и психологические перегрузки.
Одни называют его англоведом, другие — культурологом. Можно выделить и
другие аспекты обширного диапазона его творческих интересов. Кертман не был
традиционным исследователем, занятым одной страной в определенное время;
его стиль был близок стилю "Анналов". Подобно основателям этой школы, он
"вносил в свою работу ощущение жизни, которым не пренебрегает ни один
подлинный историк"1.
Если говорить о наиболее существенных свойствах Кертмана как ученого, то
необходимо прежде всего отметить развитое чутье нового, умение находить и
ставить нерешенные проблемы и вместе с тем даже в, казалось бы, известном,
изученном увидеть потаенное, оставшееся скрытым для предшественников. В
его исследовательском подходе сочетались смелость обобщений и скрупулезное,
въедливое отношение к источникам. Концептуальные построения он привык
подвергать строжайшей проверке. Чаще всего его выводы находили подтверж¬
дение, если же нет, то несовпадение замысла и фактов стимулировало даль¬
нейшую работу мысли.
Давно стало штампом выражение "генератор идей". Однако оно более чем
адекватно выражало творческую суть Кертмана. Это особенно хорошо известно
тем, кому довелось с ним общаться, следить за ходом его мысли на лекциях,
докладах, во время острых полемических дискуссий.
Поражала его способность сохранять, причем естественно, без натуги, интел¬
лектуальный тонус во время многочасовых мероприятий, когда подавляющее
большинство участников давно уже внутренне, а часто и откровенно, отклю¬
чалось. Творческое общение, переходящее в сотворчество, было для ученого
естественной потребностью. Притягивала творческая атмосфера проводимых им
культурологических конференций и симпозиумов, где царили непринужденность,
раскованность мысли, где главным были не доклады, а дискуссии, переходившие
1 Феер Л. Бои за историю. М.» 1991, с. 504.
167
нередко (отнюдь не в ущерб содержательности) в своего рода интеллектуальное
фехтование, большим мастером которого был Лев Ефимович. При малейшей
возможности — даже прямо из больничной палаты — он вырывался на научные
форумы в Москву, Киев, Ленинград.
Должность заведующего кафедрой периферийного вуза не была потолком его
возможностей, однако как раз в таком качестве он прожил большую часть
жизни. Именно в Пермском государственном университете сформировалась его
школа, здесь раскрылись многие грани его творчества. Но оказался он на Урале
по воле случая, отражавшего, впрочем, безжалостные закономерности отечест¬
венной истории. А родился Л.Е. Кертман в Киеве в семье работника аптеки.
После окончания семилетки учился в ФЗУ, в автодорожном техникуме. До по¬
ступления в Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (1935 г.)
успел поработать младшим конструктором на одном из киевских заводов, гидом
Интуриста.
Первоначально Лев Ефимович собирался поступить на филологический фа¬
культет Киевского университета. Это объяснялось как его литературным да¬
ром — не только стихи, которые он писал всю жизнь, но и пьесы, киносценарии,
замысел романа, наконец, яркая форма исторических трудов доказательство
тому — так и творческими интересами, дружеской средой. Однако из-за не¬
удачного сочинения на украинском языке на филфак его не приняли, зачислив на
исторический факультет, откуда он собирался со временем перевестись на
филологический. Однако занятия историей настолько увлекли будущего ученого,
что он отказался от первоначального замысла — из временного пристанища
история навсегда стала его родным домом.
Исторический факультет Киевского государственного университета был богат
серьезными научными традициями. Достаточно сказать, что там работал один из
крупнейших российских специалистов по всеобщей истории, ученый с мировым
именем И.В. Лучицкий, учеником которого стал будущий академик Е.В. Тарле.
Под руководством Киктева, специалиста по новой истории и незаурядного
педагога, Кертман написал курсовую о видном британском политическом деятеле
и мыслителе Э. Берке. За нее он был удостоен Университетской премии за
лучшую студенческую работу, а главное, начинающий историк ощутил вкус к
168
серьезному исследовательскому труду. Возможно, что именно с работы о Берке,
слывшего образцом английского государственного деятеля, начался интерес Льва
Ефимовича к крупным политическим фигурам в британской истории.
После окончания в 1940 г. Киевского государственного университета Кертман
был призван в армию. Войну он встретил в небольшом белорусском городке
Жлобине. После тяжелого ранения, в мае 1942 г., был комиссован и начал
работать старшим преподавателем, затем доцентом в Казанском государст¬
венном университете. Он пришел на короткую беседу к Е.В. Тарле, но они
проговорили два часа, и учитель обрел ученика, а ученик — учителя. Тарле
предложил Кертману продолжить студенческие изыскания и заняться Берком
всерьез, одно только эпистолярное наследие которого составляло 16 увесистых
томов. Берк для Кертмана значил многое — не случайно позднее знание или
незнание Берка служило для Льва Ефимовича одним из критериев эрудиции
студентов и, особенно, аспирантов, намеревавшихся специализироваться по исто¬
рии Англии. Но время и обстоятельства еще не были благоприятны для ис¬
следований воззрений Берка — аристократа, выступившего "против социальной
геометрии якобинцев’’2, поэтому для кандидатской диссертации Кертман пред¬
почел другую личность — блестящего лектора, кумира молодежи, властителя
умов середины XIX в. Т.Н. Грановского. Скорее всего, что этот выбор не был
случайным — сказалась близость взглядов на историю, да и человеческая
схожесть.
Анализируя эволюцию исторических взглядов Грановского, молодой ученый
вошел в необозримый мир классических исторических и философских идей XIX
столетия — "века истории". Изучение наследия Грановского в процессе твор¬
ческого общения с Тарле стимулировало формирование профессиональных
качеств и особенностей исторического почерка Льва Ефимовича. Периода ас¬
пирантского ученичества в общепринятом смысле у него практически не было.
Диссертацию он писал не в течение трех, специально отведенных для этого лет,
а за несколько месяцев, параллельно с текущей академической нагрузкой.
Школа Тарле развила интеллектуальные задатки, заложенные ранее, прежде
всего стремление к максимально широкому охвату исторического процесса и
вытекающее из этого многообразие творческих интересов.
В защищенной Кертманом в 1943 г. кандидатской диссертации ощущался
потенциал незаурядного историка, самобытность, умение по-своему взглянуть на
сложную проблему.
В Грановском исследователь видел прогрессивного мыслителя, не укладываю¬
щегося в образ умеренного либерала с монархическим оттенком, каким он
обычно представал в предшествовавших трудах. Кертман не мог пройти мимо
парадокса, заключавшегося в том, что Грановский — враг исторических легенд,
так много сделавший для их разрушения, сам стал героем легенды, созданной
либеральной историографией. Лев Ефимович понимал, что сравнительно не¬
большое литературное наследство Грановского и отсутствие высказываний,
четко формулирующих его политические воззрения, позволяли историкам пред¬
ставить Грановского умеренным либералом-монархистом. По мнению Кертмана,
высказывания историка, относившиеся ко времени царствования Николая I,
следовало воспринимать критически: "Нельзя быть уверенным в том, что тезис,
высказанный с кафедры или изложенный в статье, соответствует взглядам
историка, а не цензуры или университетского начальства. Грановский был очень
осторожен и умел говорить лишь в допускаемых цензурой пределах. Этим
искусством Грановского еще в 1848 г. восхищался Герцен"3. Кертман подчер-
2 Шамшурин В.И. Учение Э. Берка о человеке и обществе. — Социологические исследования,
1991, №6, с. 105.
3 Кертман Л.Е. Эволюция исторических взглядов Т.Н. Грановского. — Уч. зап. Киевского ун-та.
Киев, 1947, т. VI, вып. 1, с. 114.
169
кивал, что при изучении лекций и статей Грановского приходится улавливать
"намеки, отбрасывать "официальные" идеи, высказанные по необходимости"4.
Если тема о Грановском оказалась для Кертмана законченной и не имевшей
продолжения, то "уроки Грановского" были непреходящими, особенно в деле
университетского преподавания в непростой общественной обстановке уже
нашего времени. В личности и творчестве Кертмана можно найти немало
"граней Грановского". Но трактовка научной и общественной деятельности
выдающегося русского историка стала одним из пунктов обвинения против
Кертмана в ходе борьбы с космополитизмом.
Второй киевский период в жизни Кертмана оказался коротким, но не по его
воле. После успешной защиты диссертации сбылась мечта: в 1944 г. молодой
кандидат наук вернулся в Киев. Несмотря на многочисленные житейские
трудности, последствия ранения; все складывалось, казалось бы, весьма удачно.
Успешная научная и преподавательская деятельность на кафедре новой истории
в альма-матер, доцентура, начало работы над докторской диссертацией. Но
быстрое выдвижение молодого талантливого ученого, его популярность среди
студентов, аплодисменты и даже цветы по окончании лекций не всем коллегам
оказались по вкусу, а время и нравы поощряли доносы. И Кертман был обречен
стать жертвой пресловутой кампании против космополитизма. В университетской
газете "За советские кадры" 20 апреля 1949 г. под псевдонимом М. Лилин была
опубликована статья "Антипатриотическая деятельность космополита Кертма¬
на" — красноречивый документ эпохи. Лейтмотив обвинения — объективизм и
преклонение перед буржуазным Западом. В качестве доказательства вины
привлекались статьи Льва Ефимовича в республиканской периодике, а уровень
обвинений соответствовал тогдашнему менталитету. Так, в связи с утверж¬
дением Кертмана, что боровшуюся против фашистской Германии Францию
возглавил, встреченный с воодушевлением де Голль, "обвинитель" восклицал:
"Это же похабная клевета на французский народ!"
Зубодробительной критике подверглись и научные работы Кертмана: его об¬
виняли в игнорировании социально-экономической обстановки и классовой
борьбы в России, в стремлении представить Грановского в роли воспитателя
русских революционеров, в искажении роли революционной демократии, в том,
что В.Г. Белинского Кертман упомянул лишь раз, к тому же для того, чтобы
отметить "реакционные увлечения Белинского гегельянством". Было высказано
недовольство темой докторской диссертации Кертмана — "Ранняя идеология
лейбористской партии", — охарактеризованной как политически ошибочная и
объективистская. Преследователь Кертмана просто не допускал мысли, что о
лейбористах, даже применительно к началу века, можно говорить и писать не
только как о "предателях рабочего класса" или "прислужниках империализма",
поэтому делался вывод о вредительской направленности самого названия дис¬
сертации, ее "враждебности советской исторической науке".
Последовали оргвыводы со стороны парткома и ректората: с ярлыком "при¬
хвостня безродных космополитов" Кертман был изгнан за "идейное сочувствие
антипатриотическим выродкам" и "тенденциозное замалчивание роли компартии
Франции". Наступил тяжкий полугодовой период безработицы со всеми выте¬
кающими из этого жизненными невзгодами. Но в суровых обстоятельствах
Кертман проявил умение "держать удары" судьбы, не теряя оптимизма. Харак¬
терная деталь биографии — приезжая в Москву в поисках выхода, пытаясь
решить проблему трудоустройства, Кертман не упускал случая поработать в
столичных библиотеках. Его деятельная натура не могла долго предаваться
тоске и унынию. Отсутствие денег и необходимость кормить семью толкали на
отчаянные поступки — Лев Ефимович собирался стать... шофером, но одно¬
4 Там же, с. 114—115.
170
временно не прекращал борьбу за свои права, разослав в 60 вузов страны письма
и заявления протеста. Но клеймо ’’космополита” перечеркивало и ум, и талант, и
знания. Получив 60 отказов, Кертман сумел найти себе работу лишь в Пермском
университете, да и то благодаря случайной личной встрече с его ректором
А.И. Букиревым, беспредельно преданным университету и постоянно озабочен¬
ным его будущим, человеком, прошедшим две войны, мыслившим без оглядки на
высокое начальство и последние инструкции5.
С 1949 г. вся жизнь Кертмана была связана с Пермским университетом, где он
более трех десятилетий возглавлял кафедру сначала всеобщей, а затем новой и
новейшей истории. При нем кафедра стала авторитетным научным и педаго¬
гическим центром в уральском регионе и за его пределами. А привязанность к
вузу, приютившему изгнанника, отразилась впоследствии в кропотливой работе
по подготовке юбилейной книги по истории университета6.
Но киевский шлейф осложнил первые годы жизни Кертмана и на Урале.
Обстановка в университете была благополучной: доброжелательное отношение
коллег, восхищение студентов, которым Кертман читал всю новую и новейшую
историю стран Запада, кроме того, историю славян и специальные курсы. Но при
такой огромной нагрузке Лев Ефимович еще умудряйся выступать с публичными
лекциями в сети партпросвещения. Здесь его и подстерегал очередной удар.
За подписью заведующего кафедрой марксизма-ленинизма пединститута
Г.И. Дедова областная газета ’’Звезда" от 2 февраля 1952 г. опубликовала
статью ”06 ошибочных выводах в лекциях Л.Е. Кертмана”. Мотивы появления
этого пасквиля очевидны: профессиональная зависть к талантливому коллеге-
сопернику, желание нанести ему удар ниже пояса, спекулируя на "пятнах” его
биографии. Правда, статья в "Звезде” была выдержана в более умеренной
тональности по сравнению с киевской и содержала не столь категоричные
выводы, но в ней звучали упреки в низкопоклонстве перед "загнивающим бур¬
жуазным миром”, в смаковании подробностей быта миллиардеров, в игнориро¬
вании героической, самоотверженной борьбы народных масс, в том, что у
лектора "не хватает времени” на характеристику борьбы братских коммуни¬
стических и рабочих партий. Хотя и несколько завуалированно, но снова звучало
страшное по тем временам обвинение в объективизме.
И это при том, что многие статьи и лекции Кертмана конца 40-х — начала
50-х годов в целом были выдержаны в духе тогдашней ортодоксии. Но в них
конечно не могла не сказаться неординарность Кертмана: они отличались
своеобразием построения, подачи материала, яркостью речи, в них фигурировали
факты, добытые из иностранных источников. На фоне господствовавших тогда
серости и монотонности все это настораживало, вызывало раздражение, вос¬
принималось как нечто чужеродное. Биографические штрихи в портретах бур¬
жуазных политических деятелей и бизнесменов придавали им определенные
человеческие качества, что противоречило бытовавшему тогда абстрактному,
чудовищному и в то же время карикатурному "образу врага”.
Но до оргвыводов дело на этот раз не дошло. Посланные в редакцию
"Правды” текст статьи и стенограмма лекции, к счастью, попали члену ред¬
коллегии, сумевшему понять вздорность и несостоятельность обвинений. "Звез¬
да” тихо дала отбой. Возможно сказалась и несколько иная атмосфера на Урале
по сравнению с Украиной. Здесь в самом университетском коллективе не воз¬
никало полосы отчуждения. Поводом для обвинений послужила не собственно
профессиональная, а скорее, просветительская деятельность Кертмана, поэтому
все обошлось.
С 1953 г. начали исчезать прежние ограничения, появились перспективы на
5 См.: Пермский университет в воспоминаниях современников. Пермь, 1991, с. 7,73.
6 Кертман Л.Е. и др. Первый на Урале. Пермь, 1987.
171
будущее, стала меняться атмосфера в стране и в науке. Лев Ефимович был рад
возможности расширить поле своей деятельности, он принялся за работу прямо-
таки с одержимостью. Даже будучи ответственным от факультета на сель¬
скохозяйственных работах, он возил с собой в деревню пишущую машинку,
чтобы в немногие свободные часы печатать докторскую диссертацию "Рабочее
движение в Англии и борьба двух тенденций в лейбористской партии (1900—
1914)". К началу 1956 г. она была фактически готова. Но защита состоялась
только в 1961 г. в Ленинградском государственном университете. Официальными
оппонентами на ней выступили известные советские ученые — В.М. Лавровский,
И.М. Майский и А.Л. Нарочницкий. Авторитет этих ученых, и в частности
Майского, знавшего британскую историю не только по книгам и документам,
способствовал успеху диссертанта.
Относительное раскрепощение умов в годы "оттепели" благоприятно отра¬
зилось на процессе непрерывного генерирования идей и концепций, так свой¬
ственного Кертману. Это не было лишь интеллектуальным фейерверком: за
письменным столом его идеи обрастали плотью фактов, обретали логически
завершенную форму, материализовывались в многочисленных трудах, общее
количество которых перевалило за сто. Среди них шесть монографий, главы в
коллективных обобщающих трудах, разделы в школьных и вузовских учебниках,
проблемные статьи и рецензии в ведущих исторических журналах страны.
Причем дело не только в количестве работ. Важнее другое: во всех трудах
Кертмана — от внушительной монографии до краткой рецензии — всегда ощу¬
щается высокий интеллектуальный накал, взыскательное отношение ученого к
своей работе.
Многие идеи Кертмана нашли воплощение и развитие в работах аспирантов и
коллег. Дарил он их с большой легкостью. Сам процесс общения с ученым про¬
буждал творческий потенциал, способствовал и рождению собственных идей у
тех, кто испытал его интеллектульное воздействие. Люди рядом с ним умственно
и нравственно росли, преодолевали неверие в себя, "дискомфортное ощущение
бестолковости" — как выразилась одна аспирантка, — его стиль общения воз¬
вышал человека.
Одним из основных свойств Кертмана был врожденный дар соединения син¬
теза и анализа в исследовании. Он умел, учитывая все существенные аспекты:
социально-экономические, политические, духовные, включить их в более ши¬
рокую систему связей, благодаря чему высвечивались прежде незамеченные
грани, рельефнее вырисовывалось место в историческом процессе.
Кертман неоднократно обращался к вопросу о том, каким должен быть
идеальный историк. Уже в юности он понял, что "вечная тема истории — боль".
А спустя четверть века, адресуя юным читателям популярную брошюру об
истории7, он подчеркивал, что сам предмет занятий историка ставит перед ним
труднейшие задачи, предъявляет ему колоссальные требования. Ведь "история
изучает развитие человечества в целом: и экономику, и политику, и огромную
сложную сферу духовной жизни"8. Поскольку все стороны человеческого бытия
развиваются в единстве и взаимодействии, исследователю нельзя замыкаться в
узкой проблематике: "Историк не может и не должен, конечно, подменять собою
специалиста, скажем, по истории философии или музыки, но знать эти истории,
быть в курсе исследований специалистов в столь различных областях знаний,
использовать полученные ими результаты хороший историк обязан. Вот почему
эрудиция для историка — это не только "общекультурный багаж", необходимый
7 Кертман Л.Е. Пульс эпох. Пермь, 1967. Примечательно, что в каталоге Российской государ¬
ственной библиотеки в разделе "Популярные книги по методологии истории" лежит... всего одна
библиографическая карточка — на ней напечатаны выходные данные этой работы.
8 Кертман Л.Е. Пульс эпох, 2-е изд. Пермь, 1972, с. 12.
172
каждому культурному человеку независимо от рода деятельности, а насущная
профессиональная необходимость"9.
Кертман не упускал случая привлечь внимание к давно назревшей, но весьма
далекой от разрешения проблеме. Рецензируя книгу "Из литературного наследия
академика Тарле" (М., 1981), он нашел великолепный повод, "чтобы задуматься
о характере подготовки нашей молодежи"10. Сложившаяся практика подготовки
молодых научных кадров заставила Льва Ефимовича высказать неутешительное
суждение о ней: "Откуда возьмутся историки-эрудиты, если мы сосредоточиваем
внимание аспиранта лишь на одной теме, которая к тому же нередко раз¬
рабатывалась им в дипломной работе?!" Тарле был для Кертмана образцом
широты исторических познаний, но "говоря о великой ценности всякого знания,
Е.В. Тарле имел в виду не только приращение того, что знает человечество.
Для него объем знаний был одним из важнейших критериев личности, особенно
если речь шла о человеке науки"11.
Свои соображения об "идеальном типе" историка Кертман обстоятельно
развил на одной из "историографических сред" в Институте всеобщей истории
АН СССР, куда его постоянно приглашали и где высказываемые им идеи падали
на благодатную почву. В ноябре 1977 г. Кертман обратил внимание на нега¬
тивные последствия углубляющейся дифференциации исторической науки, в
частности, на возможную угрозу ее дезинтеграции. При этом расчленение науки
на историю отдельных эпох или даже отдельных стран в тот или иной период
еще не так опасно с точки зрения значимости и масштаба выводов историка;
гораздо более пагубна дифференциация исторических дисциплин и соответ¬
ственно кадров ученых по отдельным сторонам или аспектам исторического
процесса: экономическая история, политическая история, история рабочего дви¬
жения, международных отношений, культуры и т.д.
По мнению Кертмана, вычленение отдельных сторон исторического процесса,
совершаемое в благородных целях более глубокого исследования, на деле при¬
водило к известному насилию над реальной, живой историей, в которой все
процессы — и экономические, и политические, и духовные — развиваются в
неразрывной связи и взаимодействии.
Лев Ефимович видел основную задачу ученого в раскрытии конкретно¬
исторических закономерностей, проявляющихся не в экономике, политике, идео¬
логии или культуре, а в истории, т.е. во взаимодействии всех базисных и
надстроечных процессов и явлений. Так, он полагал, что адекватное вос¬
произведение реальной истории рабочего класса было невозможно без учета
социально-экономической среды его обитания, без анализа политической обста¬
новки, стратегии и тактики господствовавшей элиты, более того, без спе¬
циального изучения социальной психологии и духовного облика различных слоев
самого рабочего класса.
Было бы, наверное, преувеличением утверждать, что ему удалось достигнуть
того высокого уровня синтеза, который он наметил теоретически, однако уже в
самых первых его работах ощущается стремление показать рабочее движение в
контексте английской общественной жизни в целом. В основе его первой мо¬
нографии12 лежали материалы докторской диссертации.
Эта работа отразила многие отмеченные выше черты, характерные для его
творчества. В отечественной англоведческой литературе того времени преоб¬
ладали упрощенные представления о лейбористской партии. Стремясь выйти за
9 Там же, с. 12—13.
10 Новая и новейшая история, 1983, № 1, с. 178.
11 Там же, с. 179.
12 Кертман Л.Е. Рабочее движение в Англии и борьба двух тенденций в лейбористской партии
(1900—1914). Пермь, 1957.
173
рамки узкого, идеологизированного подхода, Кертман показал сложную динамику
развития этой организации, проявлявшуюся в столкновении революционной и
реформистской тенденций. Тем самым было положено начало изучению борьбы
двух направлений в лейбористской партии, более того — произошел качест¬
венный историографический сдвиг, выразившийся в акцентировании внимания на
лейборизме как своеобразной форме объединения левых сил.
Продолжая разработку проблем английского рабочего движения13, Кертман
пришел к выводу о том, что в Англии на рубеже XIX—XX вв. размежевание
революционных и оппортунистических элементов социалистического движения
имело не структурно-организационную, а более сложную, мировоззренческую
основу. Оно проходило не столько между организациями, сколько внутри каждой
из них. Установив подобную непростую природу разногласий, автор смог сфор¬
мулировать очень важный не только в научном, но и в политическом смысле
вывод о том, что всякая попытка достижения единства движения трудящихся
вне массовой лейбористской партии, без сотрудничества с рядовыми лейбори¬
стами обречена на провал.
Эти исследования заложили основы нового направления в советском англо¬
ведении. На их базе выросла пермская школа историков-англоведов, получившая
широкое признание научной общественности страны. Журнал ’’Новая и новей¬
шая история” спустя десятилетие после появления первых работ Льва Ефи¬
мовича, определивших новый подход в изучении этого комплекса проблем,
отмечал, что работа, проведенная пермской англоведческой школой, "является
положительным примером сплочения коллектива ученых для всесторонней глу¬
бокой разработки важных научных проблем"14.
Кертман анализировал рабочее движение параллельно с выработкой соб¬
ственных представлений о предмете и объекте исторического исследования: он
не был чем-то самодовлеющим, не сводился к узкому анализу программных
документов партийных и профсоюзных съездов и конференций, статистики
стачек и прочей "цифири", а был выполнен в соответствии со складывавшимися
представлениями автора об особенностях исторического познания. Рабочее дви¬
жение рассматривалось во взаимосвязи с разнообразными и взаимообусловлен¬
ными процессами и явлениями национальной жизни Англии в целом, с учетом не
только экономической и политической конъюнктуры, но также и социально¬
психологических аспектов. Формировавшийся синтетический подход еще более
выпукло, чем в публикациях, проявился в преподавательской деятельности, в
специальных курсах. Последние давали возможность апробировать новые идеи и
замыслы, в них Кертману удавалось достичь органичного слияния основной
проблемы с исследованием общественной и духовной жизни Англии, а не упро¬
щенно-обязательного воссоздания фона, на котором разворачивалось рабочее
движение.
Изучая деятельность рабочего класса в столь широком и даже необычном по
поиску ассоциативных связей контексте, Кертман вышел на новую крупную
научную проблему воздействия рабочего движения на политическую стратегию и
тактику господствовавших классов. В согласии с устоявшимися представлениями
о методах изучения истории движения трудящихся советские историки лишь
13 Кертман Л.Е. Рабочее движение и политика английской буржуазии в 1906—1914 гг. —
Вопросы истории, 1957, № 1; его же. Положение английского рабочего класса в конце XIX — начале
XX в. и экономическая основа борьбы двух тенденций в рабочем движении. — Уч. зап. Пермского
ун-та. Пермь, 1958, т. 12, вып. 2; его же. Борьба течений в английском рабочем и социалистическом
движении в конце XIX — начале XX в. М., 1962; его же. Борьба за единство социалистических сил в
Англии (1905—1914). — Вопросы истории, 1962, № 5; его же. Из истории борьбы за единство
социалистических организаций в Англии в конце XIX — начале XX в. — В сб.: Рабочее движение в
новое время. М., 1964, и др.
14 Новая и новейшая история, 1968, Хе 6, с. 189.
174
походя отмечали некоторые трудности, возникающие в рабочем движении из-за
противодействия со стороны буржуазии, применявшей различные тактические
приемы. Новаторство Кертмана в подходе к данной проблеме состояло в том,
что он попытался взглянуть на нее с другой стороны, предложил иное видение
этой проблемы. Его интересовало влияние рабочего движения на трансфор¬
мацию основных методов политики буржуазии, на их чередование, взаимопе¬
реплетение, на появление противоречий между ними. Так постепенно возникало
новое ведущее исследовательское направление кафедры: от изучения этой
проблематики на английском материале оно расширилось, охватив другие страны
развитого капитализма. Но направление росло не только за счет геогра¬
фического фактора — расширялся и углублялся анализ политической стратегии и
тактики буржуазии, и особенно феномена буржуазного реформизма.
Именно тяга к синтезу, к всестороннему анализу исторического процесса
обусловила растущий интерес Кертмана к духовной жизни капиталистического
общества. Интерес к этой проблематике был заложен в складе его ума, в
гуманитарной направленности мышления и в широте познаний. Это не имело
ничего общего с пресловутой "образованщиной" или просто начитанностью. Он
был одарен художественно: умел сочетать проблемы искусства и жизни. И в
Перми, и в столичных городах его часто можно было встретить на спектаклях и
концертах, на поэтических и музыкальных вечерах. В доме Льва Ефимовича
сохранилось много редких музыкальных записей. Его духовность проявлялась и в
искреннем интересе кэ всему, что происходило в душах людей.
Именно поэтому для него был неприемлем традиционный подход, когда чисто
описательные разделы, включающие набор сведений по различным отраслям
культуры, механически монтировались в исторические труды и учебные пособия.
Выбор английской истории для реализации первой попытки органичного
включения культуры в ткань исторического повествования был вполне естест¬
венным. На страницах написанного Кертманом учебного пособия15 динамика
развития национальной английской культуры представала в широком контексте
не только исторических, но и географических процессов и явлений, рассмотрен¬
ных сквозь единую призму целостности духовной жизни. Высшие достижения
английской культуры не перечислялись, подобно рецептам кулинарной книги, а
выводились из, казалось бы, обыденных проявлений духовной жизни различных
слоев британского общества. Много внимания уделялось явлениям, ярко и полно
выражавшим ценностные ориентации, тип мышления, нравственные нормы,
идеалы этих слоев и классов. Эта книга до сих пор остается единственным в
советской историографии трудом, охватывающим английскую историю с древ¬
нейших времен. В рецензии К.Н. Татариновой справедливо говорится о том, что
книга Л.Е. Кертмана ’’представляет собой итог не только собственных иссле¬
дований, но и всего, что сделано советскими исследователями в области изучения
истории Англии"16. Новаторская работа Кертмана не только создавала модель
подачи историко-культурного материала в педагогическом процессе, но и на¬
метила существенно важные методологические ориентиры культурологических
исследований.
Неслучайно такие задачи были поставлены и решены в учебном пособии: в
этом была своя логика. Кертман считал преподавание истории самой подходящей
почвой для реализации синтетического подхода к историческому процессу. В его
творческой жизни учебно-методическая работа занимала важное место.
Много лет возглавляя методический совет Пермского университета, Кертман
умел вносить оживление в его обычно монотонную деятельность. Он находил и в
этой области перспективные направления: разработка методических подходов к
15 КертманЛ.Е. География, история и культура Англии. М., 1968.
16 Новая и новейшая история, 1969, № 3.
175
организации самостоятельной работы студентов, принципы построения проблем¬
ных лекций, синхронное изучение всемирно-исторического процесса на истори¬
ческом факультете и т.д. По инициативе Кертмана в Пермском университете
прошли две общесоюзные конференции с широким представительством научно¬
педагогических кадров из многих университетов, педагогических и технических
вузов.
Его методические искания не были абстрактными построениями, они шли
вразрез с застывшими традициями отечественной педагогики, погрязшей в схо¬
ластических изысканиях и нагромождениях бесконечных схем, якобы "регу¬
лирующих и улучшающих" учебный процесс. К методическим обобщениям он
шел от преподавательской практики, обосновывал ею теоретические выводы.
Его лекции отличались не только глубиной содержания, но и логикой по¬
строения, продуманной композицией, яркостью и образностью речи. Слушателям
было интересно следить за сюжетной линией изложения, их подкупала яркая
форма и в то же время логическая обоснованность его суждений, привлекало
доскональное знание истории в лицах. У него не было часто наблюдаемого
разрыва между письменной и устной формой изложения мыслей, поэтому о
лекторском мастерстве можно судить по его книгам. В этом тоже проявлялась
гармоничность дарований Кертмана. Ведь есть достаточно примеров того, как
хороший лектор теряется перед листом чистой бумаги, а великолепный стилист
становится косноязычным перед аудиторией.
Преподавательские успехи Кертмана были основаны на творческом подходе к
любой, самой рутинной работе. Он не мог буквально повторять лекционный
курс: свежие идеи и новые методические ходы позволяли студентам разных
курсов всякий раз видеть "нового Кертмана".
Его лекции увлекали демонстрацией процесса рождения оригинальных мыслей.
Незапрограммированные повороты в изложении материала влияли на исследо¬
вательские планы, не случайно преподавательская работа доставляла Кертману
не меньшее интеллектуальное наслаждение, чем научная. Именно поэтому он и
не противопоставлял одну другой. Лев Ефимович никогда не разделял убеждения
некоторых ученых, что основное — наука, а учебный процесс — лишь досадная
и вынужденная помеха творчеству. Более того, он видел преимущества уни¬
верситетского ученого перед академическим исследователем, обусловленные
возможностями работы с живой студенческой аудиторией. Университетский
преподаватель теряет по сравнению с академическим ученым во времени,
затраченном на глубину проникновения в ту или иную конкретную проблему, но
зато имеет возможность обрести более широкий исторический кругозор, а
главное — все свои идеи, гипотезы может немедленно опробовать в ходе
общения с пусть еще недостаточно опытными и зрелыми, но молодыми и
пытливыми умами. Этот процесс стимулировал творчество, обогащал вузовского
ученого и, возможно, объяснял отказ Кертмана от имевшихся перспектив со¬
средоточиться на чисто академической деятельности, хотя отказывался он не без
колебаний.
Лев Ефимович умел вдохнуть творческий импульс в любую форму педаго¬
гического процесса. Он много и плодотворно экспериментировал, вносил нов¬
шества в преподавание за счет более умелого и разнообразного использования
самостоятельной работы студентов. Быстро налаживал контакт с аудиторией, с
группой, с каждым отдельным студентом.
Следует особо отметить и его многолетнюю работу с аспирантами. Сам
пройдя через "уроки Тарле", Кертман внес в этот процесс много индиви¬
дуального. Стиль общения с аспирантами менялся в зависимости от личности
каждого из них, но неизменными были тщательность и внимание в работе со
всеми, без чего не было бы и школы Кертмана.
Напряженные раздумья о судьбах высшей школы, опыт, тревоги и надежды
176
сконцентрировались в своеобразном педагогическом завещании Кертмана
программной статье, ориентированной на принципиальное обновление препода¬
вания в вузе17. Обращая внимание на роль личности преподавателя в процессе
перестройки высшей школы, Лев Ефимович отмечал важность профессио¬
нальной самоидентификации вузовских ученых. Если в материальном производ¬
стве функции конструктора и технолога давно разделены, то в процессе ду¬
ховного созидания, по мысли Кертмана, “такое разделение невозможно, так как,
если один будет знать, чему мы хотим научить, а другой — как это сделать, не
получится ни “что”, ни “как”. Поэтому профессор должен (в идеале) выступать
одновременно в роли и конструктора, и технолога”18.
Требуя от студентов не напряжения памяти, а напряжения мысли, Кертман
считал, что лишь преподаватель может пробудить жажду познания — самый
высокий стимул, способный “породить высшую степень самоотдачи в процессе
учебы, который... будет действовать всю жизнь и никогда не потускнеет”19.
Дабы у студентов формировалось представление о самоценности знаний, он
считал, что каждый профессор должен выработать “у себя иммунитет к вирусу
практицизма, исходя прежде всего из понимания роли и профессиональных
знаний, и знаний непрофессиональных, и вообще духовности в жизни человека"20.
Говоря о необходимости воспитания молодежи на лучших традициях, он
предостерегал от соблазна формировать молодое поколение по своему образу и
подобию. К преподавателю, полагал он, “не меньше, чем к художнику, применим
призыв поэта (Е.М. Винокурова): “Воспитай ученика, чтобы было у кого потом
учиться””21.
Кертман хорошо понимал специфику не только высшей, но и средней школы.
Он владел искусством сжатого и в то же время образного, эмоционального
изложения материала в школьных учебниках. В 1962 г. представленный им на
конкурс учебник22 был удостоен второй премии. Академик Нарочницкий позднее
вспоминал, что члены жюри, вскрыв конверт с девизом, крайне удивились:
учебник, в отличие от прочих, был не коллективным, а авторским. С тех пор
Кертман стал активным участником редколлегии и одним из авторов серии
учебников по новой и новейшей истории для VIII—X классов23. Написанные им
главы по истории Англии, и особенно по проблематике культуры, получили
высокую оценку преподавателей. Ему удалось выйти на новый, более глубокий
уровень осмысления культурологических сюжетов по сравнению со всеми ранее
применявшимися учебниками. История культуры в его изложении представала
единым процессом, происходящим во всех сферах духовной жизни. Не менее
важным было и то, что форма изложения была доступна пониманию учащихся —
они получали популярную, но отнюдь не упрощенную трактовку сложных
проблем исторической науки.
Еще один раздел в творчестве Кертмана, выявивший' новую грань его
научного дарования, был связан с проблематикой методологии исторической
науки в целом и истории культуры. Ко времени обращения ученого к этим
вопросам, к 60-м годам, стало возможным рождение специальной методологии,
идущей от самой исторической науки, питаемой ее собственным материалом, а
17 КертманЛ.Е. Профессор — профессия? — Вестник высшей школы, 1986, № 9.
18 Там же, с. 25.
19 Там же, с. 27.
20 Там же.
21 Там же.
22 Новая история. Ч. П (для IX класса).
23 Новая история. Ч. I. 1640—1870. М., 1980. (Совместно с А.Л. Нарочницким, А.П. Аверья¬
новым, А.В. Ефимовым.); Новая история. Ч. П. 1871—1917. М., 1980. (Совместно с И.М. Криво-
гузом, А.П. Аверьяновым и др.); Новейшая история. 1917—1939. М., 1989; Новейшая история.
1939—1988. М., 1989.
177
не абстрактными схемами. Но методологическая неясность в ту пору была столь
велика, что не была отчетливо разработана такая первоочередная проблема, как
определение предмета исторической науки. И вот 50-летний ученый начал
серьезно заниматься методологией истории, что потребовало особого напряжения
всех интеллектуальных сил. Студенты истфака получили новый курс — Лев
Ефимович начал чтение методологии истории. Он приступил к этому одним из
первых в стране, одновременно с И.Д. Ковальченко в Москве и К.Д. Петряевым
в Одессе. Несколько позднее стал на эту нелегкую стезю Б.Г. Могильницкий в
Томске.
Курс-методологии истории Кертман читал 20 лет, до своего ухода из жизни. И
все эти годы были борьбой против стихийного антиисторического скептицизма,
против примитивизма и эмпиризма.
Методологические изыскания придавали стройность и законченность системе
его исторических взглядов. Проблема исторического закона стала стержневой в
его курсе, с ней была связана и первая его публикация специально по этому
вопросу24. Статья вызвала определенный резонанс в среде историков и фило¬
софов. Ее восприятие не было однозначным, тем не менее она дала серьезный
полемический импульс: по сей день на нее ссылаются, гипотеза Кертмана учтена
в ряде методологических построений М.А. Барга, И.Д. Ковальченко и других,
она не потонула в потоке мнений.
Возражая многочисленным поклонникам фактографии в исторической науке, а
также философам, стремившимся под маской "эстетики истории" похоронить ее
собственно научную функцию, Кертман встал на путь поиска специфически
исторических законов, отличавшихся принципиально и по существу от социоло¬
гических законов, как более общих и системных. Назвав их законами ситуаций,
Кертман подчеркнул эвентуальный характер таких законов, установление ими
не неизбежности данного следствия, а его возможности. Тем самым в них
отражаются вариативность и альтернативность исторического развития. По
словам историка, "законы исторических ситуаций представляют собой конкретно¬
исторический закон, устанавливающий устойчивую и необходимую повторяе¬
мость зависимости между типом ситуации и возможностью определенного
следствия"25. Их конкретно-исторический характер обусловлен прежде всего тем,
"что ситуации складываются в результате совпадения процессов, происходящих
в различных сторонах общественной жизни, их синхронизации, взаимодействия,
переплетения"26. В конечном счете "законы исторических ситуаций есть законы
взаимодействия различных сторон исторического процесса, выражающие меха¬
низм действия общих законов"27.
Анализ ситуации требовал от историка широкого синтетического подхода,
мысль в необходимости которого лейтмотивом проходит через все творчество
Кертмана. В ситуационном анализе должны органично сочетаться учет струк¬
турных элементов и динамики исторического процесса. Ситуация выстраивается
по хронологическому принципу, следовательно, для ее анализа необходима син¬
хронизация во времени. Именно синхронизация событий, явлений, процессов
формирует историческую ситуацию. В ней имеется определенное соотношение
социальных сил. Изменяется соотношение, значит происходит и смена ситуаций.
Возникла необходимость изучать ситуации, их виды, типы. Предметом такого
анализа наряду с взаимодействием различных аспектов исторического процесса
мог стать и каждый из них в отдельности. Помимо исторических ситуаций в
целом, речь может идти о ситуациях Политических, экономических, духовных и
24 Кертман Л.Е. Законы исторических ситуаций. —Вопросы истории, 1971, № 1.
25 Там же, с. 65.
26 Там же, с. 65—66.
27 Там же, с. 66.
178
Т;Д., так как внутри каждой частной стороны исторического процесса взаимо¬
действуют свои собственные специфические структурные элементы.
Перспектива создания типологии самых разных ситуаций была столь заман¬
чива, что удалось найти заказчика, согласившегося финансировать деятельность
возникшей лаборатории “Методология исследования социально-экономических
ситуаций”. В течение двух лет — 1973 и 1974 гг. — историки, социологи, лите¬
ратуроведы во главе с Л.Е. Кертманом дружно взялись за азы высшей ма¬
тематики, намереваясь не просто создать типологию ситуаций, но и дать их
математический анализ (идея возможной квантификации исторических выводов
становилась все более популярной, а на Западе развивалась школа клио-
метристов). Лев Ефимович, не имея готовых и апробированных рецептов, на хо¬
ду отрабатывая механизм соединения в единое целое отдельных наблюдений,
создавал терминологический аппарат. Это была ситуация поиска. Невольно
вспоминаются слова Л. Февра: ’’Историк — не тот, кто знает. Историк — тот,
кто ищет”28. С присущим ему юмором Кертман писал в одном из писем:
"Приходится осваивать современные методы — кибернетика, системный метод,
теория решений, всякие политологические забавы... Все это очень интересно и
могло бы стать перспективно по существу, если бы дело продолжалось лет
пять... Сама проблематика, да и обстановка чистого поиска доставляют мне
немалые приятности; мысль же о том, что к осени вряд ли удастся выдать что-
нибудь значительное — наоборот, некоторые неприятности, что-то вроде мо¬
рального дискомфорта’'29. Л.Е. Кертмана увлекала идея использования количе¬
ственных методов как для характеристики исходных параметров ситуаций
разного типа, так и для выявления вероятности вытекающих из них последствий.
Но вскоре прекратилось финансирование лаборатории по причине переезда из
Перми в Москву проф. В.В. Соломатина. Энтузиазм сотрудников иссяк, возро¬
дить лабораторию не удалось и позже, результаты работы группы ситуационного
анализа не вышли за пределы лабораторного отчета. Публикаций в данной
области больше не было, и центр тяжести методологических исканий Кертмана
был перенесен в учебную сферу. Чтение курса методологии истории тоже было
своеобразной лабораторией — здесь проходили испытание новые методы обу¬
чения и оценки знаний, в частности, метод работы с малыми группами, позже
широко внедренный на факультете.
• Кертман продолжал разрабатывать принципы ситуационного подхода и сделал
интересную попытку использовать их применительно к историографии. Историо¬
графическую ситуацию он определял как "состояние исторической науки, сло¬
жившееся в результате синхронизации определенных стадий (или уровней)
развития частных (относительно самостоятельных) историографических процес¬
сов, а также внешних процессов, влияющих на развитие исторической науки"30.
Будучи неповторимой в своей конкретике, каждая историографическая си¬
туация по сущностной характеристике может быть отнесена к тому или иному
типу ситуаций. Критерием типологии Кертман считал характер основного про¬
тиворечия между уровнями развития частных историографических процессов:
"Устанавливая, какое именно противоречие... является основным для данной
ситуации, историк тем самым вскрывает ее сущность и одновременно относит к
определенному типу"31. Если в определенной конкретной ситуации главное
28 Февр Л. Указ, соч., с. 507.
29 Из письма В.М. Панеяху от 17 апреля 1973 г.
30 Кертман Л.Е. Понятие "историографическая ситуация" и его методологическое значение. —
Вопросы методологии истории, историографии и источниковедения. Томск, 1987, с. 107. См. также:
Кертман Л.Е. Историографическая ситуация. — Методологические и теоретические проблемы
истории исторической науки. Калинин, 1980.
31 КертманЛ.Е. Понятие "историографическая ситуация"..., с. 108.
179
противоречие возникает между значительным масштабом накопленных знаний и
отставанием их методологического осмысления, то оно является источником
развития ситуации. Когда оно будет ’'снято”, возникает ситуация нового типа:
преобладание тех или иных направлений исторической мысли или же пре¬
имущественный интерес к той или иной проблематике”32.
В ходе изучения истории культуры Кертман высказал мысль о целесооб¬
разности разработки понятия "духовная ситуация”, которое могло бы суще¬
ственно обогатить понятийный аппарат истории и теории культуры.
Эта идея была отражена в еще одной методологической статье, но уже по
проблемам методологии изучения культуры33. Не случайно этот своего рода
культурологический манифест был опубликован на страницах "Новой и новейшей
истории”, журнала, редакция которого сумела оценить новую, сразу же засвер¬
кавшую грань творчества своего постоянного и желанного автора. Статья
пользовалась большим успехом: культуролог побеждал другие страсти, и глав¬
ным делом последних 15 лет жизни Кертмана стала подготовка крупного ис¬
следования по теории и истории мировой культуры.
Вообще "творческая ситуация” последних лет жизни Кертмана характери¬
зовалась особой интенсивностью. Преобладание культурологического интереса
не мешало одновременной работе на нескольких направлениях. Переключение с
одного на другое являлось своеобразной разгрузкой и позволяло поддерживать
творческую форму: были подготовлены три монографии, две из которых ему не
суждено было увидеть.
Особое пристрастие к истории конца XIX — начала XX в. вылилось в
написанную в соавторстве с одним из ближайших учеников книгу об эволюции
политической стратегии и тактики буржуазии этого периода, ее ценностей,
идеалов, морали34. На страницах работы вырисовывается политический спектр
цивилизованного общества начала нашего столетия. Дифференцированному ана¬
лизу подвергнуты основные тогдашние типы политики: либеральная и кон¬
сервативная. В центре внимания авторов стоял вопрос о соотношении между
ними и зарождавшимися тогда формами буржуазного реформизма.
В книге подчеркивалось, что буржуазии нелегко давался реформистский опыт.
Возникновение буржуазного реформизма и превращение его с начала XX в. в
постоянный элемент социальной жизни Запада привело к усилению опасной
праворадикальной тенденции, имевшей трагические последствия для ряда стран.
К основным особенностям этого социально-политического явления в книге от¬
несены перманентность и системность, рассмотрена основа вызревания рефор¬
мизма в недрах либеральной политики, было проведено сравнение с прошлыми,
весьма поверхностными и редкими случаями его проявления, "когда реформы
представляли собой эпизодические акции с кратковременными целями”35. Хотя в
сферу буржуазного реформизма в начале столетия втянулись различные фракции
верхов вплоть до умеренных консерваторов, все же самый сильный и после¬
довательный реформистский импульс исходил от леволиберальных кругов,
стремившихся к серьезной модернизации структур общества. Книга интересна
сочетанием исторического, политологического и психологического подходов. Про¬
анализированы причины сравнительной немногочисленности идеологов и лидеров,
осознавших стратегическую роль реформистского курса, наталкивавшихся на
32 Там же.
33 Кертман Л.Е. К методологии изучения культуры и критике ее идеалистических концепций. —
Новая и новейшая история, 1973, ЛЬ 3.
34 Кертман Л.Е., Рахшмир П.Ю. Буржуазия Западной Европы и Северной Америки на рубеже
XIX—XX веков. М., 1984.
35 Там же, с. 125.
180
непонимание со стороны большинства буржуазии, слишком еще самоуверенной,
жившей сиюминутными интересами, не ощущавшей надвигающейся угрозы.
Доказательно, с полемическим блеском написана Львом Ефимовичем книга по
истории культуры стран Европы и Америки36 — главный итог его жизни.
Хотя сам Кертман считал эту книгу лишь введением в историю культуры
конца XIX — начала XX в., полагая, что для детального изложения ее основных
процессов нужен многотомный труд, по итогам работа вышла за рамки пер¬
воначального замысла. Пожалуй, ни в одном другом произведении Кертмана не
проявились так ярко и полно все черты, присущие его творчеству, как в этой
книге.
Специфика исследований Кертмана концентрировала его внимание на наи¬
более существенных концептуальных трудах, с Авторами которых он вел по¬
стоянный диалог на страницах своих произведений. Именно поэтому историо¬
графические мотивы органично вписывались в ткань его собственных работ,
становились их неотъемлемым элементом. Особенно характерно это для "Исто¬
рии культуры", самой концептуальной, а потому и наиболее полемической его
книги.
Предваряя свое определение культуры, Кертман рассмотрел разнообразные
трактовки этого понятия, предложенные советскими и зарубежными учеными.
Со многими из них он аргументированно полемизировал, формулируя при этом
собственную, вполне оригинальную точку зрения на предмет исследования.
Предшествовавшие методологические и конкретно-исторические разработки в
области теории и истории культуры привели ученого к убеждению в необхо¬
димости синтеза культурологических и собственно исторических исследований.
Для этого нужна особая обработка историко-культурного материала, новатор¬
ское написание истории культуры, когда методологические выводы будут опи¬
раться на добротные конкретно-исторические основания. Именно такого сплава
методологии и конкретики Кертман достиг в своей книге.
В ней он существенно обогатил понятийный аппарат историко-культурного
исследования, предложил собственную трактовку культуры как системы, выде¬
ляя в ней несколько взаимодействующих субкультур. Можно соглашаться или не
соглашаться с концепцией, разработанной Кертманом, но его работа стала
заметным явлением и в исторической науке, и в культурологии. Ему удалось
дать целостное представление об историко-культурном процессе, раскрыть вза¬
имосвязь между различными отраслями культуры, динамику их взаимодействия.
Органичные переходы от литературы к театру или музыке, от общественной
мысли к изобразительному искусству и т.д. — не только свидетельства ве¬
ликолепного владения материалом, но и результат глубокого проникновения в
сущностные связи историко-культурного развития. По мнению Кертмана, "исто¬
рик культуры не может и не должен быть специалистом во всех областях
духовного производства", но он должен быть достаточно эрудирован, чтобы
стать синтезатором, нащупывающим "путь к объединяющему обобщению"37.
Достоинством книги ученого является создание модели исторического позна¬
ния, органично связавшей культуру с историей. Не только история помогает
глубже понять культуру, но и культура — историю. Сверхзадачей на будущее
Кертман считал достижение такого уровня "включенности" культуры в историю,
когда факты и явления духовной жизни вплетались бы в структуру практически
любого исторического исследования, соответствуя реалиям жизни.
Параллельно с подготовкой фундаментального труда по истории культуры
Кертман работал над масштабным историко-биографическим исследованием —
своеобразной "Сагой о Чемберленах"38. Его обращение к биографическому
36 Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки. М., 1987.
37 Там же, с. 8.
38 Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья. М., 1990.
181
жанру было не случайным и логически оправданным. Прежде английскую ис¬
торию он рассматривал либо в широком историко-культурном плане, либо сквозь
призму рабочего движения, что зачастую диктовалось тогдашними методо¬
логическими установками. Биографический подход открывал новую перспективу.
Привлекательность биографического жанра для Кертмана заключалась и в
великолепной возможности совместить критический анализ историка, холодное
беспристрастие исследователя и поэтическое одушевление беллетриста. Литера¬
турное дарование автора нашло наиболее яркое выражение именно в этой книге:
персонажи предстали живыми людьми со своими характерами, страстями,
убеждениями; автор не замкнулся только на описании профессиональной по¬
литической деятельности героев.
Отец и сыновья Чемберлены интересны прежде всего тем, что они были
’’историческими деятелями, независимо от того, соответствовали ли их спо¬
собности, интеллект, нравственные качества тому положению, которое они
занимали в государстве и обществе, волею обстоятельств оказываясь на вы¬
соких постах”39 40. Хотя исторические законы и объективны, "но конкретный ход
истории, интенсивность развития тех или иных тенденций, большая или меньшая
цена, которую приходится платить народам за экономический и социальный
прогресс, все неповторимые зигзаги исторического развития во многом опре¬
деляются политикой ведущих политических деятелей*0. Историю творят массы,
состоящие из личностей, но каждый отдельный "человек массы" не играет
самостоятельной роли в истории: "Если данный рабочий не примет участия в
стачке, стачка не сорвется, как и если данный капиталист не проголосует за
свою партию, она не проиграет выборы и не потеряет власть. Если же лидер
партии примет ошибочное решение, оно может существенно повлиять на судьбу
партии, а при определенных обстоятельствах — и всей страны"41. В исто¬
рической реальности тот или иной образ поведения, те или иные решения
политических деятелей предопределяли складывание и разрешение различных
ситуаций.
По сути "ни одна сторона личности, жизненного опыта, мировосприятия
человека, обладающего значительным влиянием на политику государства, не
остается "нейтральной" по отношению "к профессиональной биографии""42. По¬
литический портрет должен быть многогранным: "Едва ли не все черты ха¬
рактера государственного деятеля в определенных ситуациях могут приобрести
значение, выходящее далеко за пределы его личной судьбы. Нетрудно понять,
сколь существенное влияние на характер законодательства, на политические
решения, формирование и эволюцию правящей элиты, выбор альтернатив...
могут оказать такие черты, как способность прислушиваться к чуткому мнению
или нетерпимость, широта мышления или догматический конформизм, уважение
к накопленному опыту или административный нигилизм, человечность или жес¬
токость. Перечень этих качеств можно продолжить до бесконечности"43. Задача
историка, по Кертману, осложняется тем, что каждое из таких свойств "связано с
целым комплексом более глубоко запрятанных характеристик личности, сло¬
жившихся под влиянием родителей, собственной семьи, друзей и, возможно,
своеобразия жизненного, пути. Удачлив ли был человек на всех этапах своей
карьеры или переживал жестокие падения и разочарования, сразу ли выбрался
наверх... или долго ждал своего часа, имел верных друзей или был одинок,
39 Там же, с. 37.
40 Там же, с. 4.
41 Там же.
42 Там же, с. 5.
43 Там же, с. 5—6.
182
счастливо ли сложилась его интимная жизнь или приносила одни огорчения — тут
все приходится принимать в расчет"44.
Из этого видна степень трудности задач, поставленных автором "Чембер¬
ленов" перед жанром и самим собой. Кертман был близок к реализации сфор¬
мулированной им "сверхзадачи".
Хотя, возможно, не все равноценно в этой работе: нетрудно уловить за¬
висимость между масштабом личности и яркостью ее изображения в книге.
Фундамент повествования образует фигура отца — Джозефа Чемберлена, че¬
ловека незаурядного, "выламывавшегося" из рамок типичного политика. Его
политические воззрения эволюционировали от радикального либерализма до
правого, хотя и на английскгй лад, радикализма. Выполняя определенную по¬
литическую функцию, основатель династии выдвинул идею, осуществление ко¬
торой, по его глубочайшему убеждению, смогло бы решить внутренние проб¬
лемы Великобритании и укрепить ее имперское могущество. Сыновья лишь
стремились воплотить в жизнь этот замысел. Не удивительно, что самые яркие
краски нашлись в книге для отца, хотя не он, а самый посредственный из его
сыновей достиг вершины политической власти.
Тонко и иронично автор изобразил портрет ""образцового" джентльмена" —
Остина Чемберлена, в котором воедино сплелись опытный политик, аристократ и
буржуа. С образом Невилла дело обстоит не так удачно. Книга писалась во
времена преобладания стереотипных подходов ко всему комплексу проблематики
международных отношений кануна второй мировой войны. Упрощенные пред¬
ставления о мотивации внешней политики Лондона, нити которой держал в своих
руках Н. Чемберлен, сохранение "табу" на всесторонний анализ внешней по¬
литики СССР этого периода накладывали свой отпечаток на работу. Несколько
раз он переделывал ее, сокращал объем, переписывал концовку.
Но в целом Кертман сумел эффективно использовать возможности биогра¬
фического жанра. Описывая перипетии жизни своих персонажей, он вводит
читателей в британские "коридоры власти", раскрывает личностные мотивы
процесса принятия политических решений, показывает роль исторических фигур
в конкретных ситуациях.
Лев Ефимович ушел из жизни, полный творческих планов и энергии. Смерть
настигла Льва Ефимовича, когда он заканчивал работу над корректурой "Исто¬
рии культуры стран Европы и Америки". Его смерть подтвердила народную
мудрость: кто хорошо живет, тот и умирает хорошо. Однажды он сказал: "Я не
боюсь умереть, я боюсь умирать". Никто не видел, как он умирал. Все узнали,
что он умер. Похоронен он в Перми.
Его уход из жизни тем более трагичен, что в это же время завершалась
эпоха, державшая в рамках конформизма даже талантливых ученых, к числу
которых, бесспорно, относился и Кертман. Его биография — штрих к портрету
времени, она дает возможность поставить болезненный для отечественной
историографии вопрос о границах и возможностях исторического творчества в
неблагоприятных условиях тоталитарных и авторитарных порядков. Как часто
приходилось ему окутывать новые идеи плотной цитатной оболочкой, чтобы
новизна не слишком резала глаза стоявшим у власти догматикам марксизма.
Новаторство Кертмана, его виртуозное искусство делать интересное из не¬
возможного вызывали настороженность, мешали "проходимости" работ. Нетруд¬
но представить, как могли расцвести его личность и творчество в нынешних
условиях, когда для реализации творческого потенциала открылись перспективы,
о каких прежде не приходилось и помышлять.
Л.Е. Кертман оставил суждения и концепции, прочно вошедшие в научный
оборот, дискуссионные идеи и гипотезы, зовущие к поиску, оставил школу
благодарных учеников, творчески развивающих его научное наследие.
44 Там же, с. 6.
183
В институте военной истории
О ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЕ
ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Время крутых перемен в общественной жизни, трудный поиск путей даль¬
нейшего развития страны вызвали огромный интерес к отечественной истории. В
условиях гласности публицистика обнажила огромные пласты неисследованных
проблем, трудностей и противоречий нашего прошлого, поставила вопросы, ко¬
торые требуют глубокого профессионального анализа, аргументированных от¬
ветов и выводов.
Коллектив ученых Института военной истории полагает, что это можно сде¬
лать только на принципиально расширенной Источниковой базе, которая дейст¬
вительно позволит противопоставить конъюнктурно-апологетическому подходу к
освещению истории Отечества подлинно научный подход, восполнить огромные
пробелы в фактологическом материале. Только на этом пути возможно восста¬
новить реальное развитие событий, отделить военно-историческую действитель¬
ность от вымыслов, мифов и легенд, вырваться из историко-идеологического
плена, догм и шаблонов устаревших концепций.
Трудный, противоречивый процесс работы над 10-томным трудом "Великая
Отечественная война советского народа" показал необходимость принципиаль¬
ного обновления источникоЬой базы, причем не только по этой проблеме, но и
для всей военно-исторической науки.
По инициативе руководства Института был проведен специальный анализ,
своего рода научная инвентаризация опубликованных и подготовленных к пуб¬
ликации сборников документов по всей тематике и периодам отечественной
военной истории.
Материалы анализа, обогащенные итогами обсуждения проблемы в научных
коллективах Института, составили основу концептуального подхода к разработ¬
ке важного, весьма актуального в настоящее время направления исследований,
каким является подготовка и опубликование документальных источников по
военной истории.
Первостепенное значение придано двум крупным, взаимосвязанным и актуаль¬
ным проблемам — предвоенному оборонному строительству и Великой Отече¬
ственной войне. Выбор обусловлен рядом обстоятельств. Во-первых, в предвоен¬
ном развитии общества скрыты многие причины тяжелых поражений СССР в
начале войны, но оттуда же берет свое начало и ряд источников нашей Победы.
Во-вторых, история этих периодов, как никаких других, продолжает нести на
себе солидный груз старых догм, мифов, стереотипного схематизма, неиссле¬
дованных или умышленно замалчиваемых страниц. В-третьих, именно проблемы
этого времени порождают дискуссионные страсти о просчетах и ошибках со¬
ветского руководства накануне и в ходе войны, превентивных замыслах дей¬
ствий как Германии, так и СССР, о соотношении людских и материальных
потерь сторон, в целом о цене Победы и ее источниках и т.д. В-четвертых,
приближающееся 50-летие со дня окончания войны — вполне достаточный срок,
чтобы предельно отчетливо увидеть "большое на расстоянии".
184
Публикация документов не только обогатит готовящиеся к изданию четыре
тома очерков истории Великой Отечественной войны, но и послужит написанию
фундаментального труда, работа над которым пока приостановлена, а острая
необходимость его создания осталась.
По этим и ряду других обстоятельств подготовка сборников документов по
предвоенному и военному периодам истории СССР выделена в специальную
программу концептуального характера. При ее разработке учитывалось, что к
настоящему времени опубликована весьма незначительная часть документов по
истории Великой Отечественной войны. В основном это материалы о массовом
трудовом и ратном подвиге советского народа, вкладе в победу республик, краев
и областей, партизанском движении, преступлениях фашистов на оккупированной
территории СССР и о боевых действиях Красной Армии оперативно-такти¬
ческого масштаба. О количественной стороне изданных документов свидетель¬
ствует, напрйМер, следующий факт: из более чем 11 тыс. документов Ставки
ВГК опубликовано лишь около 1900, да и то в закрытой до сегодняшнего дня
литературе.
Что же касается документов высших органов государственного, военно-по¬
литического и стратегического руководства, то они до сих пор не издавались: их
публикация считалась несвоевременной и нежелательной. Те же из них, что
введены в научный оборот, рассеяны по многочисленным научным трудам и
мемуарам.
Публикация документов и материалов, охватывающих все стороны жизни и
деятельности советского народа и его вооруженных сил накануне и в годы
Великой Отечественной войны, позволит по-новому осветить многие проблемы,
дать объективное документальное изложение событий тех лет, устранить так
называемые "белые пятна" в истории минувшей войны. Словом, для широкого
круга читателей и исследователей издание данных документов представляет
несомненный интерес. Это — постановления ГКО, директивы и приказы Ставки
Верховного Главнокомандования, военных советов стратегических направлений,
фронтов, флотов, отдельных армий, приказы наркоматов обороны и ВМФ, Глав¬
ных политических управлений РККА и ВМФ, сборники документов по важней¬
шим битвам и операциям, а также тематические сборники. Предусмотрено опуб¬
ликовать документы этих органов в отдельных сборниках.
Их подготовку к печати предлагается возложить на Институт военной исто¬
рии, институты Российской академии наук совместно с архивами, подчиненными
Комитету по делам архивов при правительстве Российской Федерации и Исто¬
рико-архивному военно-мемориальному центру Генерального штаба.
Совместно с Генеральным штабом, Управлением делами Министерства обо¬
роны Российской Федерации, центральными архивами Советской Армии и Мини¬
стерства обороны проведено выявление, первичный отбор и снятие секретности с
огромного массива ранее секретных и совершенно секретных документов выс¬
ших органов военного руководства. Развернута работа по их научной класси¬
фикации и комплектованию по соответствующим сборникам.
Разработан и представлен в издательство уникальный по своему содержанию
труд "История строительства Красной Армии в приказах наркома обороны
СССР. 1937 — июнь 1941 гг.".
Многостороннее назначение, всеармейский масштаб действия приказов нарко¬
ма обороны, отражение в их содержании всех сторон жизни и деятельности
армии в мирное и военное время обусловливают большую научную значимость
публикации этого вида документов, придают им характер основополагающих
источников по истории военного строительства.
В целях охвата всего комплекса изданных в 1937 — июне 1941 г. приказов
(3031 документ) все они включены в алфавитный указатель сборника, наиболее
185
важные опубликованы полностью, часть в комментариях, остальные сведены в
тематические рубрики с указанием их нумерации по годам.
Особое место в предвоенной истории РККА занимает совещание высшего
командного и начальствующего состава, проведенное в Москве 30—31 декабря
1940 г. под руководством наркома обороны С.К. Тимошенко и начальника
Генерального штаба К.А. Мерецкова. До последнего времени по причине со¬
вершенной секретности о нем весьма скупо, в общих чертах говорилось в от¬
крытых изданиях, а в мемуарах некоторых военачальников вдобавок и проти¬
воречиво.
Институтом впервые подготовлена к печати полная стенограмма всех док¬
ладов и выступлений, прозвучавших на этом совещании, список участников,
фотографии и краткие биографии докладчиков и выступивших в прениях.
Примечательно время проведения совещания — после Халхин-Гола, присое¬
динения Западной Украины и Западной Белоруссии, Прибалтики, советско-фин¬
ляндской войны, крупных реорганизаций армии в 1940 г., начала второй мировой
войны и всего за полгода до Великой Отечественной.
Предоставляя читателям возможность познакомиться с докладами тогдашних
руководителей Вооруженных Сил СССР К.А. Мерецкова, Г.К. Жукова,
Д.Г. Павлова, П.В. Рычагова, А.К. Смирнова, дискуссиями по многим пробле¬
мам состояния РККА, оценкой ее боевого опыта и взглядами на способы ис¬
пользования в будущей войне с учетом особенностей операций вермахта на
Западе, материалы книги дадут читателю объемную картину степени готовности
страны и армии к обороне, непредвзято сравнить, как военные руководители
высшего звена оценивали и прогнозировали ситуацию накануне войны и как она
сложилась в действительности. Этому будет способствовать и то, что в книгу
предполагается впервые включить краткое изложение двух военно-стратеги¬
ческих игр на картах, которые состоялись сразу после окончания совещания.
В стадии активной разработки находится двухтомный сборник документов
“Красная Армия в приказах Наркомата обороны СССР 1941—1945 гг.” В него
войдут ранее не публиковавшиеся секретные и совершенно секретные приказы
за весь период Великой Отечественной войны.
При формировании этого издания были выявлены все без исключения при¬
казы, и составители стремились включить в сборник наиболее значимые в
историческом, военно-политическом, общеармейском и других отношениях до¬
кументы, раскрывающие важнейшие стороны и события минувшей войны.
Книги, по 40 авторских листов каждая, будут готовы соответственно в 1993 и
1994 гг.
О многих аспектах политико-морального состояния в армии и во флоте
читатель узнает из сборников ранее не публиковавшихся документов Главных
политических управлений РККА и ВМФ за 1941—1945 гг., разработка которых
практически завершается.
Надо сказать, что военным историкам предстоит еще более масштабная ра¬
бота. Дело в том, что до сего времени документы Ставки Верховного Главно¬
командования отдельными сборниками не издавались, а публикация незначи¬
тельной их части носила сугубо закрытый характер. Поэтому деятельность
высшего органа стратегического руководства вооруженными силами в годы
минувшей войны, даже через 47 лет после ее окончания, для широкого круга
читателей известна лишь по комментариям в научной литературе и воспоми¬
наниям авторов мемуаров.
Крайне ограниченное количество опубликованных документов практически
исключало возможность создать полную и объективную картину деятельности
Ставки В ГК, правильной трактовки важнейших событий минувшей войны,
создавало предпосылки для тенденциозного подхода к их освещению.
Публикация документов Ставки ВГК за годы войны в возможно полном
186
объеме позволит по-новому рассмотреть многие проблемы вооруженной борьбы,
дать более глубокое и аргументированное изложение ее хода и исхода.
Документы предполагается издать в виде выпусков. В них предусматривается
опубликовать директивы, приказы, распоряжения Ставки ВГК, записи перего¬
воров ее членов и представителей с командованием стратегических направлений,
фронтов и армий.
Предполагаемый объем каждого выг уска — 40 авторских листов. Первые два
выпуска увидят свет в феврале 1993 г.
Материалы в выпусках будут размещены в хронологическом порядке. Чтобы
облегчить пользование ими, предусмотрен необходимый для такого рода изданий
научно-справочный аппарат: предисловия, замечания по тексту и содержанию
документов, список сокращений, встречающихся в текстах, указатель имен,
приложения и др.
Не обойдены вниманием и документы, раскрывающие полководческую дея¬
тельность выдающихся военачальников. Развернута работа по подготовке трех¬
томного сборника документов Г.К. Жукова.
Вместе с тем не трудно заметить, что обозначенные сборники содержат
документы органов непосредственно военного управления — Наркомата оборо¬
ны, Ставки ВГК, Главных политических управлений РККА и ВМФ и т.п. При
всей их несомненной важности эти документы имеют все-таки вторичный,
производный характер от политических решений высших партийных и государ¬
ственных органов руководства того времени — Политбюро ЦК ВКП(б), Сов¬
наркома СССР, а с началом войны и Государственного Комитета Обороны.
Сохраняющаяся до сих пор недоступность документов этих органов для
исследователей и широкого круга читателей является главным препятствием для
подлинного прорыва в познании нашей действительной политической и военной
истории послеоктябрьского периода. Только комплексный анализ политических
решений партийного и государственного руководства, высших органов военного
управления и документов исполнительных инстанций на местах позволит
адекватно отразить реальную действительность военной истории Отечества.
Такой подход позволит раскрыть механизм выработки, принятия и реализации
военно-политических решений во временной и пространственной динамике,
соотношение их с общей ситуацией в стране, показать взаимосвязь политики,
экономики, военного строительства, организационных мероприятий. Сопостав¬
ление наших действий по масштабам и времени с аналогичными действиями
вероятного, а с началом войны и реального противника обеспечит научную
основу для извлечения соответствующих уроков и выводов.
Поэтому без того, чтобы достаточно широко приоткрыть (распахнуть невоз¬
можно, так как у государства всегда существуют секреты) двери и сейфы
спецхранов, развязать тесемки ’’особых папок”, заглянуть в потаенные храни¬
лища кремлевского архива, нельзя всерьез вести речь о востребовании и при¬
менении нашего прошлого опыта во всех его положительных и отрицательных
проявлениях, включая и военное строительство. А в выборочном, фрагмен¬
тарном виде он не только бесполезен, но нередко и вреден, так как ведет к
повторению старых ошибок.
Справедливости ради следует сказать, что ситуация и здесь заметно меняется
в лучшую сторону. Более чем удвоился объем архивных фондов свободного
доступа. Появляются публикации материалов "особых папок”, личных архивов
отдельных политических и военных деятелей.
Однако этот процесс, на наш взгляд, сдерживается отсутствием демокра¬
тического, цивилизованного закона об архивах.
При его положительном решении военные историки, например, готовы сов¬
местно с коллективами соответствующих архивов взяться за подготовку и
публикацию той части указанных документов, которые относятся к военному
187
строительству, и в первую очередь к Великой Отечественной войне. Этим будет
восполнено главное недостающее звено в программе коренного обновления
Источниковой базы нашей военной истории, а значит — и самой истории.
Реализации этой программы следовало бы придать характер государственного
заказа, а прямую заинтересованность и поддержку может проявить Министер¬
ство обороны России. В этой связи хотелось бы сказать, что предложение комп¬
лексной российской программы по изданию серии сборников таких документов
было с интересом и одобрением воспринято на расширенном заседании Бюро
Отделения истории Российской академии наук, в частности и присутствовавшим
на нем председателем Комитета по делам архивов при правительстве России
профессором Р.Г. Пихоя. Эта инициатива встретила поддержку и со стороны
начальника Историко-дипломатического управления Российского МИДа профес¬
сора И.В. Лебедева.
Вряд ли кто возразит, что это надо не кабинетным ученым, а народу, который
в годину тяжелейших испытаний, преодолевая огромные трудности и жертвы,
сохранил Отечество. Он достоин того, чтобы наконец узнать всю правду о Ве¬
ликой Отечественной войне, славной Победе и о дорогой цене, за нее упла¬
ченной.
Думается, что и при нынешних, почти военных нехватках, у нас все-таки
найдется возможность сказать правдивое слово о великом подвиге нашего на¬
рода. Слово это, несомненно, послужит духовно-нравственному единению, укреп¬
лению веры в возможность преодоления нынешней сложной ситуации, сохра¬
нению достойного места свободной и обновленной России в сообществе других
народов и государств.
Генерал-майор Л.Я. Баженов,
кандидат исторических наук,
начальник Института военной истории;
полковник Л.Я. Барсуков,
кандидат исторических наук,
начальник отдела военного источниковедения
и историографии Института военной истории
188
Публикации
ИЗ ДНЕВНИКОВ ЙОЗЕФА ГЕББЕЛЬСА. 1945 г.
Предисловие
Йозеф Геббельс был единственным “остепененным” среди высших деятелей
фашистской Германии и выдавал себя за интеллектуала. На самом деле он,
конечно же, таковым не являлся. Еще в 20-х годах, став нацистским гаулей¬
тером Берлина, ’’доктор” Геббельс развернул кровавый террор против полити¬
ческих противников, которому могли бы позавидовать многие его коллеги по
партии. Гитлеру его будущий министр пропаганды понравился легкостью, с ка¬
кой он предал своего первого покровителя, создавшего нацистскую организацию
в Северной Германии и руководившего ею Г. Штрассера. Фюрер почувствовал в
последнем серьезного конкурента и постарался лишить его сторонников. Геб¬
бельс обладал бойким пером, причем главной его чертой как журналиста (равно
как и оратора) была абсолютная беззастенчивость в выборе средств полити¬
ческой борьбы. В "полемике” с оппонентами Геббельс не останавливался ни
перед какой клеветой и никакими инсинуациями, за это его и оценил Гитлер.
Геббельс в течение многих лет вел дневник, куда заносил все касавшееся
политической жизни, отношений с Гитлером и другими главарями НСДАП,
суждения о методах пропаганды и т.п. Начальные записи относятся еще к годам
борьбы нацисто’в за власть, и эта часть дневника была издана вскоре после их
победы на выборах. Другие части появились на свет спустя десятилетия (в че¬
тырех томах, хотя пока и не в полном объеме). Мы предлагаем вниманию чита¬
телей фрагменты последней части дневников — с февраля по апрель 1945 г., в
канун безоговорочной капитуляции. Ценность данного документа в том, что он
является точным свидетельством настроений и побуждений нацистской верхушки
в преддверии ее гибели, свидетельством уникальным; другие аналогичные
документы, которые исходили бы от кого-либо из ближайшего окружения
Гитлера, отсутствуют. Есть мемуарные записи некоторых главных немецких
военных преступников, относящиеся ко времени Нюрнбергского процесса, но
ценность этих записей безусловно меньше, ибо они были сделаны не по ходу
самих событий, а позднее и имСли целью задним числом приукрасить свою
деятельность. Геббельс же этой цели не преследовал, а свой дневник продолжал
вести до конца, видимо, по долголетней привычке. Ведь судьба всего, что он
отстаивал (а вместе с тем и самого дневника) в эти месяцы была уже абсолютно
безнадежна.
В условиях, когда войска стран антигитлеровской коалиции вели неуклонное
наступление с востока и запада и сражения уже шли на немецкой земле,
рассчитывать на чудо было по меньшей мере легкомысленно. Однако Геббельс
не раз возвращается к примеру Фридриха II, который в ходе Семилетней войны
оказался в столь же безнадежном положении, что и гитлеровцы, но сумел
избежать военного поражения благодаря внезапной смерти российской императ¬
рицы. Гитлеровцам рассчитывать на что-либо подобное было невозможно. (Кста¬
ти, смерть Рузвельта, вызвавшая в рейхсканцелярии неописуемую радость и
породившая новые надежды на спасение, не принесла Германии ровно ничего).
189
Как бы то ни было, Гитлер и его окружение уповали на раскол в лагере своих
противников, и в зависимости от того, насколько острыми казались им разно¬
гласия между Англией и CHIA, с одной стороны, и СССР — с другой, они
переходили от надежды к пессимизму и наоборот. Примеры этого рассыпаны
чуть ли не на каждой странице дневников Геббельса. Так, 3 марта 1945 г. он
пишет о большой нехватке жилья в Германии и в этой связи заявляет, что
"после войны перед нами встанет в этой области задача фундаментального
характера”. Однако здесь же ниже: ’’Народ больше не видит выхода из ны¬
нешней дилеммы”. И вновь спустя месяц: "У нас уже нет больше никакой
промышленной базы, так что никаких шансов у нас быть не может”.
5 марта 1945 г. Геббельс отмечает (аналогичные по содержанию записи
имеются и позднее): ’’Фюрер, как и прежде, считает, что нам удастся как-нибудь
снова удержаться. Как это произойдет в деталях, это ему самому в данный
момент еще не ясно”. А раз настолько неясно, то остается лишь одно: "Кажется,
что за кулисами разыгрывается крупный скандал между англо-американским
лагерем и советским”. Симптоматична в этом смысле обширная запись от
12 марта 1945 г. Геббельс сообщает, что ’’фюрер, как и прежде, убежден:
вражеская коалиция распадется". Но он уже не верит, что это будет исходить от
Англии. "Нам не остается ничего иного, — подчеркивает Геббельс, — как
искать другие возможности. Пожалуй, будет хорошо, если мы в один прекрасный
день добьемся полюбовной сделки с Востоком” (т.е. с СССР). Переориенти¬
ровались, как говорится, с легкостью необыкновенной. Кстати сказать, идея
примирения со Сталиным встречается в дневнике чаще и настойчивее, чем
мысль о сепаратном мире с западными странами; есть и сведения о зондаже,
который (естественно, без всякого успеха) проводил с этой целью Риббентроп.
Геббельс повторяет: "Покончить с войной на Востоке, чтобы получить воз¬
можность для операций на Западе, — какая великолепная идея!”. Беда лишь в
том, что эта "великолепная идея” была авантюристична, как и многие другие
планы гитлеровцев, прежде всего замысел молниеносной войны против СССР, и
не имели никаких шансов на успех. Ее реализация виделась Гитлеру и Геббельсу
так: "Снова отбросить Советы на Востоке, нанести им чрезвычайно большие
потери в живой силе и технике. Тогда, как можно предполагать, Кремль станет
уступчивей”.
Это — уже на уровне беспочвенных мечтаний: сам Геббельс в эти месяцы не
раз констатировал, что противник полностью господствует в воздухе, что мо¬
ральный дух войск ощутимо упал и т.п. Однако он твердит вновь и вновь:
12 марта — "нужны внушительные победы. Судя по положению вещей ...они
могут быть все-таки достигнуты”; на следующий день — фюрер "дал немцам
надежду, что еще в этом году следует ждать поворота в ходе войны”; 30 мар¬
та — "фюрер убежден: политический кризис во вражеском лагере дает нам
право на величайшие надежды”. А в реальной действительности эти бесплодные
стремления обмануть историю вели к гибели десятков и сотен тысяч молодых
людей, введенных в заблуждение Гитлером и Геббельсом.
Необходимо обратить внимание еще на один характерный момент записей
Геббельса: попытку нацистской верхушки свалить на армейское командование
всю вину за провал авантюристической стратегии. Конечно, она тоже несет
свою долю тяжелой ответственности за военный крах, но не решающую, ибо
ефрейтор первой мировой войны в качестве верховного главнокомандующего —
это доказано в десятках трудов — навязывал свою волю фельдмаршалам и
генералам; результаты во многих случаях были плачевными. Однако и в эти
последние недели Гитлер и его подручные продолжали лгать, обвиняя других в
собственных грехах.
Это касалось и тех операций, которые проводились в весенние месяцы 1945 г.,
и тех, которые имели место прежде. Здесь Гитлер и его оруженосец особенно
190
часто вспоминали сражения за Москву и Сталинград. 16 марта Гитлер доказывал
Геббельсу, что и в этих сражениях "он видел правильное решение, но его
военные сотрудники бросили его на произвол судьбы (!)... Его интуитивные
предчувствия постоянно подавлялись... а отсюда по большей части и про¬
истекают наши неудачи". А вот как те же лица оценивали поражение, только
что понесенное в Померании: Гитлер "в противоположность генеральному штабу
ожидал удара Советов сначала в Померании, а не по Берлину... Несмотря на
это, генеральный штаб сконцентрировал силы на участке Одера на подступах к
Берлину, допустив тем самым ошибку". И это тоже не выдерживает серьезной
критики: у Гитлера в это время уже дрожали руки и появились другие
отклонения, но он и тогда ни в грош не ставил генералов, в том числе
Гудериана, тогдашнего начали ика генштаба, которого, между прочим, обвинял
в поражении вермахта под Москвой. Даже Кейтеля и Йодля он называл
теперь... пацифистами.
В связи с битвой в Померании в дневнике есть и другой аспект: критика,
подчас резкая, в адрес Гиммлера, который в ходе этой битвы командовал
группой армий "Висла". Идея назначить человека, чье знание военного дела
ограничивалось в основном командованием лагерями уничтожения, с самого
начала предвещала провал. Слова же Гитлера, что "Гиммлер несет
историческую вину за то, что Померания... попала в руки Советов", конечно,
соответствовали истине, но были верхом лицемерия, ибо нельзя было допускать
такого невежду в военных делах к руководству большими массами войск. Но,
мало того, Геббельс сообщает, что померанская история ухудшила шансы
Гиммлера стать... главнокомандующим сухопутными войсками!
И в этой связи — об отношениях между гитлеровскими главарями, как они
видятся по дневнику Геббельса. С этой точки зрения он также является ценным
документом, так как записи наглядно обнаруживают даже не разногласия между
ними (что в общем естественно), а полное неприятие друг друга и глубокую
взаимную ненависть. Главными ее объектами были для Геббельса Геринг и
Риббентроп. О многом говорит запись: "Повсюду на пути успешного ведения
войны стоят Геринг и Риббентроп".
Что касается первого, то ему вменяется в вину прежде всего катастро¬
фическое положение с противовоздушной обороной, как будто можно было
обеспечить эффективную защиту германских городов с воздуха, ввязавшись в
войну со столь мощной коалицией государств, имеющей возможность наносить
бомбовые удары с самых разных сторон. Как видно из дневника, Геббельс не раз
пытался склонить Гитлера к тому, чтобы он убрал "рейхсмаршала". Добившись
наибольшей близости к Гитлеру, Геббельс стремился избавиться от опаснейшего
соперника и занять его место "наследника" фюрера. А в целом дневник ярко
свидетельствует, что нацистские бонзы жили друг с другом как пауки в банке.
К сожалению, записи в дневнике не доведены до самых последних дней в
Осажденной советскими войсками имперской канцелярии. Либо Геббельсу перед
лицом неминуемой гибели или безоговорочной капитуляции уже было не до них,
либо, как можно полагать, они до сих пор хранятся в каких-то особых архивах.
Фрагменты из дневников Геббельса на русском языке печатаются впервые по
немецкому изданию*, но ввиду ограниченного объема данной публикации со
значительными сокращениями. Русский текст в переводе Г.Я. Рудого взят из
готовящегося к публикации издательством "Республика" сборника "Вторая миро¬
вая война глазами противника". Заглавие дано переводчиком.
Л.И. Гинцберг
* Goebbels J. Tagebiicher 1945. Die letzten Aufzeichnungen. Hamburg, 1974.
191
ЙОЗЕФ ГЕББЕЛЬС
Имперский министр народного просвещения и пропаганды,
имперский комиссар обороны Берлина
ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ РЕЙХА
Из дневников
февраль — апрель 1945 г.
28 февраля 1945 г. Среда
Мы должны быть такими же, каким был Фридрих Великий, и вести себя так
же, как он. Фюрер вполне соглашается со мной, когда я говорю ему: дело нашей
чести позаботиться о том, чтобы, если когда-нибудь, лет через 150, в Германии
возникнет такой же крупный кризис, наши внуки смогли бы сослаться на наш
пример героической стойкости. То стоически-философское отношение к людям и
событиям, какое проявляет ныне фюрер, тоже сильно напоминает мне Фридриха
Великого. [...] Нашей задачей должен быть принцип — до последнего исполнять
свой долг. В этих вопросах фюрер тоже стоик и приверженец Фридриха
Великого. Именно с ним соперничает он, осознанно или неосознанно. Как хотели
бы мы всем сердцем подражать этому образцовому примеру! Если бы только
Геринг не выпадал столь дурацки из этого ряда! Он вовсе никакой не национал-
социалист, а сибарит, не говоря уже о том, что никакой не последователь
Фридриха Великого. Как благородно и импонирующе выглядит, напротив,
Дёниц. Он, как заявил мне фюрер, лучший представитель своего рода оружия.
Жаль, что не такой человек представляет партию, а Геринг, который имеет с
ней столь же мало общего, как корова — с излучением солнечного света.
[...] Беседа, которая состоялась у меня с фюрером по, как я считаю, кар¬
динальной проблеме нашего военного руководства, протекала драматически и
бурно. Но фюрер согласился со мной по всем пунктам. [...] Если кто-то, как
Геринг, не желает шагать в ногу, надо вправить ему мозги. Увешанные с ног до
головы орденами глупцы и тщеславные расфуфыренные фаты не могут при¬
надлежать к военному руководству. Или они должны измениться, или же их
следует вывести из него. Или Геринг должен перестроиться внутренне и внешне,
или же его надо выставить за дверь. Какая же это пошлость, когда первый
офицер рейха в данной военной ситуации все еще красуется в своей серебристо-
серой форме! Какое бабье поведение, учитывая нынешние события! Будем на¬
деяться, фюреру удастся снова сделать из Геринга мужчину. [...] Да и вообще
окружение Геринга гроша ломаного не стоит! Оно лишь поощряет его склон¬
ность к женской изнеженности и потворствует его жажде наслаждений, вместо
того чтобы сдерживать ее. В противоположность этому фюрер очень хвалит
простоту и чистоту образа жизни моей семьи. Только так мы можем быть на
высоте требований нашего времени.
Положение на Западе доставляет нам величайшие заботы. [...] Что будет,
если враг действительно совершит здесь прорыв? Но не будем сразу пред¬
полагать наихудшее. [...]
1 марта 1945 г. Четверг
Вчера. Военное положение: в Венгрии никаких особенных событий. В сло¬
вацком районе отбито несколько сильных атак противника. На всем силезском
участке вплоть до района южнее Бреслау (Вроцлав. — Перев,) — никаких
192
значительных боев. [...} Бои за каждый дом на окраине Бреслау продолжаются.
На одерском участке большевикам удалось в ходе частных наступлений рас¬
ширить свой плацдарм у Лебуса. [...] В районе между Руммельсбургом и
Нойштеттином большевики расширяли свой клин. Они взяли Кольберг и
Нойштеттин и продвинулись на несколько километров на запад. [...]
В Курляндии (Прибалтике. — Перев.) сильные атаки противника тоже отбиты.
[...] Вражеская авиация на Востоке довольно активна. Всего советская сто¬
рона ввела в бой примерно 1200 самолетов, основную массу — в районе прорыва
в Померании. [...]
Англичане и американцы в данный момент распространяют тревожные
сообщения о нашем положении на Западе. Они утверждают, что им удался
прорыв по всей линии и что — как подчеркивает Монтгомери — они вынуждены
установить запрет на информацию, чтобы не сообщать нам данных, которые
могли бы быть ценными для нас. Американцы же особенно похваляются тем, что
находятся уже в 15 км от Кёльна и выйти к Рейну для них — пустяшное дело.
Однако это заявление коренным образом опровергнуто в течение сегодняшнего
дня. Сопротивление, оказываемое нашими войсками, столь сильно, что ни о
каком развале здесь германского фронта не может быть и речи. [...] Вражеские
потери огромны. У американцев — горы трупов, чего они даже не скрывают в
своей прессе. [...] Короче говоря, мы в настоящий момент находимся в той
стадии войны, в которой можем вызвать к себе уважение только нанесенными
врагу потерями. Это, несомненно, производит на американскую общественность
глубокое впечатление. [...]
В палате общин развернулись дебаты насчет Крымской конференции. Ряд
оппозиционных тори внес к одобренному правительством вотуму доверия до¬
полнение, имеющее довольно коварное значение для отношений Англии с ее
союзниками. Вокруг этого дополнительного предложения идет сейчас борьба.
Правительство Черчилля отбивается от него всеми силами. [...] Вне всякого
сомнения, Черчилль выйдет из этих дебатов целым и невредимым. Англия
слишком слаба, чтобы в нынешней ситуации позволить себе правительственный
кризис со столь далеко идущими последствиями. Ее руководители шли на дело
вместе со своими поделыциками, они повязаны с ними и будут повешены заодно
с ними. Они вступили на путь, ведущий в тупик [...] Критика принятых в Ялте
решений идет главным образом от тори. Группа консерваторов, принадлежащих
к более узкому кругу парламентариев, уже давно занимается тем, чтобы либо
вернуть Черчилля на путь истинный, либо свалить его. В этих кругах говорят
"Польша”, а подразумевают Германию. Но эта оппозиция в данный момент не
имеет для нас существенного значения. [...]
Из американских источников мы узнаём, что Петэн^уже в ноябре 1940 г.
заключил с Англией тайный договор о том, что Франция в благоприятный
момент снова вступит в войну против Германии. Этот договор был заключен за
спиной Лаваля. Я считаю вполне возможным, что Петэн обвел нас вокруг
пальца, а Лаваль, вероятно, тоже знал об этом. [...]
В Румынии продолжается борьба вокруг кабинета Радеску. Большевики, ка¬
жется, имеют намерение сделать там tabula rasa1. Они требуют ухода Радеску в
отставку и создания, как они говорят, демократического народного правитель¬
ства, иными словами — большевистских Советов. Известный большевистский
организатор массовых убийств Вышинский прибыл сейчас в Бухарест. Он на¬
верняка проделает всю эту работу.
Сегодня целый день опять тяжелейшие авиационные налеты на западные
области рейха. Их даже невозможно перечислить. Против этого буйствования
вражеской авиации мы совершенно беззащитны. [...]
чистая доска (лат.).
7 Новая и новейшая история, № 5
193
Восстановление моральной силы наших войск приобрело теперь решающее
значение.
В 7 часов вечера по радио передается [в записи] моя речь. Слушаю ее еще
раз. Содержание и стиль отличны, и я ожидаю, что она все-таки подействует на
радиослушателей, хотя я и не был в состоянии преподнести им в качестве
наилучших аргументов политические успехи. Но ведь народ сегодня доволен уже
тем, что с ним хоть час кто-то поговорил по-хорошему.
В вечерней сводке сообщается, что на Западе нашим войскам снова удалось
остановить англо-американское продвижение. Они, хотя и с большими усилиями,
в течение-всего дня удерживали свои позиции. [...]
На Востоке враг тоже не продвинулся в Восточной Померании. Мы ударили с
обеих сторон по его передовым отрядам, и им пришлось остановиться, чтобы нс
оказаться отрезанными от своих тылов. Есть надежда, что довольно крити¬
ческое положение здесь будет ликвидировано. Однако сильные атаки противника
в полосе всей группы армий "Висла”, слава Богу, отбиты. [...] Бои в Бреслау
медленно приближаются к центру города и отличаются большой ожесточен¬
ностью. [...]
2 марта 1945 г. Пятница
Вчера. Военное положение: на Восточном фронте центр тяжести находился в
Восточной Пруссии, где Советы снова безуспешно наступали крупными силами.
[...] В Померании Советы большими группами продвигались на север. [...] В
Курляндии боевые действия пошли на убыль. [...] Массированное наступление
американцев между Ахеном и Кёльном достигло кульминационной точки. [...] На
Востоке снова оживленные налеты авиации противника на Восточную Пруссию.
[...]
Вражеская сторона оценивает теперь возможности и шансы англо-амери¬
канского наступления несколько более скептически. Прежде всего там неприятно
поражены и удивлены тем твердым сопротивлением, которое наши войска
оказывают продвижению американцев в районе Мёнхен-Гладбах — Рейн. Го¬
ворят о фанатических воинах, которые превосходят один другого храбростью и
решимостью сражаться до конца. Генерал Монтгомери тоже стал гораздо осто¬
рожнее в своих оценках. Он слишком расхвастался, а теперь ему приходится с
досадой брать свои слова обратно.
В палате общин продолжаются дебаты насчет Крымской конференции,
причем в очень возбужденной форме. Черчиллю приходится иметь дело с весьма
значительной оппозицией, пусть даже она в данный момент еще и не может
стать активной. Страх перед большевизмом широко распространен среди
английской общественности. Однако публично об этом говорить не решаются,
чтобы не привести Сталина и Кремль в дурное настроение. [...] Палата общин
снова падает на колени перед союзниками — как перед американцами, так и
особенно перед Советами. Раздаются отдельные голоса, как, например, одного
консервативного депутата, который публично заявил, что на Крымской кон¬
ференции Черчилль преподнес Англии новый Дюнкерк, а Европа прямым ходом
движется под господство большевизма. К сожалению, как уже сказано, такие
голоса единичны и в настоящий момент они практического воздействия еще не
имеют.
Но оппозиция растет не только в Лондоне, но и в Вашингтоне. Конгресс США
устами некоторых конгрессменов выразил недовольство Ялтинскими решениями.
При этом все больше говорят только о польском вопросе, в действительности
подразумевая, с одной стороны, большевизм, а с другой — Германию. [...] Руз¬
вельту пришлось в интервью для прессы смущенно признать, что о Японии на
Ялтинской конференции вообще не говорилось. Я тоже считаю это вполне
194
возможным. Сталин откажется так запросто дать втянуть себя в восточно¬
азиатский конфликт. Кстати, в интервью Рузвельта для печати содержатся
скрытые признаки дружелюбного отношения к нам, но, я полагаю, они объяс¬
няются больше пропагандистскими, нежели действительными мотивами.
Тем временем Кремль в истории с Румынией очень сильно выходит за рамки
Ялтинских решений и стремится поставить здесь своих союзников перед свер¬
шившимся фактом. [...] Во всяком случае, отставка Радеску вызывает у англо-
американской общественности сильную досаду. Даже ’’Таймс” воспринимает
кремлевскую политику весьма жестко. Думаю, у "Таймс” будет еще достаточно
поводов жаловаться на своеволие Кремля. [...]
Воздушная война превратилась в дичайшую оргию. Против нее мы совер¬
шенно безоружны. Рейх постепенно превращается в пустыню. Ответственность
за это несет Геринг и его авиация, которая не в состоянии отражать атаки
вражеских самолетов.
Мы уже вынуждены — и вскоре будем вынуждены в еще большей мере —
чрезвычайно сильно ограничивать наши продовольственные рационы. Потеря
восточных областей начинает ощущаться самым болезненным образом. [...] Ко
всем другим бедам теперь прибавится еще и голод, но иной возможности, кроме
как и дальше устоять в борьбе, как известно, у нас нет. [...]
3 марта 1945 г. Суббота
Вчера. Военное положение: центр тяжелых боев на Востоке по-прежнему в
районе Нойштеттина — Руммельсбурга. [...] Второй центр — в Восточной
Пруссии, где советские войска снова отбиты. [...] Положение на Западе
становится все более угрожающим. Вражеская сторона снова торжествует, не
зная никакой меры. Тем не менее военный министр США Стимсон вынужден
признать исключительно большие потери американцев в нынешних операциях.
Он говорит, что наши солдаты сражаются, как дикие фанатики, и ни о каком
параличе германского сопротивления на Западе пока и речи идти не может.
Было бы очень плохо, если бы мы не смогли удержаться хотя бы на Рейне.
Дальнейшее продвижение американцев в значительной мере опровергло бы
нашу политическую концепцию войны. Мы находимся сейчас в той стадии
гигантской схватки, когда на карту поставлено все, и судьба рейха порой висит
на волоске. [...]
Ялтинские решения обсуждались и в палате лордов. Польский вопрос, так
сказать, наглядный пример того, насколько англичане на самом деле заслу¬
живают доверия во всем мире. О Черчилле теперь говорят, что полученный им
вотум доверия вовсе не картбланш для его политики пресмыкательства перед
Кремлем. Но в данный момент мне все это кажется всего лишь болтовней. В
настоящее время от Англии в политическом отношении ожидать нечего, ну, а от
Соединенных Штатов — и того меньше.
Речь Рузвельта в конгрессе — винегрет из пустых фраз и тошнотворное
повторение его старых девизов. Он разглагольствует о грядущем мире во всем
мире, об Атлантической хартии, которой он придерживается, как и прежде,
заявляет, что задача союзных держав — нокаутировать Германию. Этот но¬
каутирующий удар должен быть нанесен с наименьшими потерями, а потому
среди наших противников должно царить полное единство; в Ялте однозначно
достигнута координация военных операций. В заключение он заявляет, что
Соединенные Штаты по-прежнему стоят на позиции безоговорочной капиту¬
ляции. Союзники, мол, не хотят причинить немецкому народу никакого зла, но
нацизм и милитаризм должны быть устранены, тогда Германия даже получит
право на хорошую жизнь во взаимодействии с другими народами. Коротко и
ясно: мы имеем здесь новое издание тех обольстительных фраз, которые Руз¬
7*
195
вельт произносит, когда стремится к политическим успехам. Просто бесстыдство,
когда Рузвельт после этого заявляет, что, увидев развалины Севастополя, он
понял: никакое сосуществование порядочности и нацизма невозможно. О тех
страшных разрушениях, которые американская авиация ежедневно причиняет
неукрепленным и незащищенным немецким городам, он, разумеется, умалчи¬
вает. Короче, речь Рузвельта едва ли стоит того, чтобы ею вообще заниматься.
Она слишком лжива и нагла, чтобы с ней полемизировать. Я теперь придер¬
живаюсь точки зрения, что мы должны меньше знакомить немецкую обще¬
ственность с речами зарубежных государственных деятелей. Они ежедневно
заваливают мир новыми заявлениями, а, полемизируя с ними, мы их косвенно
пропагандируем. В заявлении Рузвельта интересно то, что он говорит о про¬
должительной войне против Японии. Значит, готовит американскую общест¬
венность к тому, что ради его мании величия Америке еще придется принести
значительные жертвы. [...]
Из подробного сообщения о положении в Силезии я делаю вывод, что Шёр-
неру удалось занять прочную линию обороны. Однако приходится констати¬
ровать, что для контроперации наши силы слишком слабы. Советы применяют
здесь старую тактику, создавая все новые угрожающие участки, в результате
чего возникает опасность прорыва. В остальном же положение Советов можно
охарактеризовать примерно следующим образом: вооружение их войск отличное,
но они все больше и больше страдают от недостатка жиЬой силы. Их насту¬
пающая пехота состоит в значительной части из интернированных ими вос¬
точных рабочих и поляков. Продовольственное обеспечение более или менее
достаточное. Поляки относятся к Советам весьма отрицательно. Ведь они
хорошо знают, что им грозит, если Советы в один прекрасный день смогут
делать все, что захотят. В общем и целом, что касается советских танковых
войск, можно говорить о хорошей дисциплине. Скопища пехотинцев, напротив,
находятся в довольно неважном состоянии. Советский солдат устал от войны.
Его можно сейчас поддержать только надеждой, что он скоро окажется в
Берлине, а там — и войне конец.
Американцы снова произвели очень сильные налеты авиации на запад и юго-
восток рейха, нанеся нам невосполнимый урон. Ситуация день ото дня ста¬
новится все более невыносимой, и у нас нет никакой возможности проти¬
водействовать такому ходу развития.
[...] В результате войны, особенно воздушной, в рейхе уже полностью раз¬
рушено около 6 млн. квартир. Это значит, что уничтожен большой процент из
тех 23 млн. жилищ, которые имелись в рейхе в 1939 г. В целом же можно в
настоящий момент говорить о нехватке в рейхе 9 млн. квартир. Следовательно,
после войны перед нами встанет в этой области задача фундаментального
характера.
О положении германского тыла можно констатировать: народ пока еще дер¬
жится сравнительно прилично. Однако ругает офицеров. Старается приписать им
вину за отступления, а это ведет к падению их авторитета в войсках. Однако
объяснять поражения последних двух лет саботажем офицеров слишком просто.
Положение вещей несколько иное, а поэтому я решил на этих днях при первом
же подходящем случае — вероятно, при поездке на фронт — сказать спра¬
ведливое слово, ибо в критической ситуации войны мы не можем начинать спор,
кто, собственно, виноват. Уже видно, что такие споры деморализуют армию.
Значительно возросло и число дезертиров. Предполагают, что в крупных го¬
родах рейха скрываются тысячи солдат и офицеров, которые якобы отбились от
части, а на самом деле они уклоняются от фронта. Поэтому я со всей энергией
выступаю за прекращение отпусков из вермахта. В этой критической ситуации
ни один солдат не должен ехать в отпуск, его долг — сражаться.
В поступивших ко мне письмах содержится значительная критика нашего
196
военного руководства в целом, но -еперь критике подвергается и сам фюрер.
Народ больше не видит выхода из нынешней дилеммы. Особенно боятся, что
после потери наших восточных областей очень скоро станут необходимыми
сильнейшие ограничение продовольствия, что уже частично имеет место. Здесь
нас, пожалуй, ждут самые большие трудности. [...]
В Берлине мы испытываем чрезвычайные трудности из-за нехватки энергии.
[...] Горючего для имперской столицы стало еще меньше. Даже зажигалку
заправить нечем. [...]
На Востоке наши меры оказались не такими эффективными, как мы на¬
деялись. [...] Сколько драгоценной крови отдано этой войне! Но, если по¬
смотреть на тот всемирный кризис, который мы сейчас переживаем, приходишь к
мысли, что, пожалуй, можно лишь позавидовать погибшим.
4 марта 1945 г. Воскресенье
Вчера. Военное положение: на Востоке центр тяжелых боев, как и прежде, в
Померании, где противник массированными силами стремится расчленить наш
северный фланг и вклиниться в него.
[...] На фронте Одер — Нейссе — никаких особенных событий.
[...] В настоящее время мы испытываем на Западе чрезвычайно большое
бремя. Ход развития там таков, что нам, вероятно, при создавшихся условиях
придется отступить на Рейн. [...] Он представляет собой для нас самый бла¬
гоприятный рубеж обороны.
[...] Как сообщают нам некоторые доверенные лица, война стала для Соеди¬
ненных Штатов повседневным явлением. Однако американский народ подходит к
ней без той стойкости, какую проявляют, к примеру, немецкий или русский
народы. [...]
Просто-таки сенсационное признание делает "Дэйли экспресс". Она сообщает,
что я — единственный, кто вот уже два года правильно характеризует польский
вопрос и совершенно верно предсказал английскую уступчивость в нем Кремлю.
В этом отношении Черчилль подвергается сильной критике. Меня вообще
весьма радует в настоящий момент оценка нейтральной или даже враждебной
прессой меня лично как волшебника в области политической психологии и как
самого ловкого пропагандиста, какой только есть сейчас во всем мире. Ведь так
оно и есть на самом деле: нужна невероятная способность приспособления, чтобы
в нынешней ситуации войны обращаться как к собственному народу, так и ко
всему миру таким образом, чтобы, с одной стороны, говорить правду, а с дру¬
гой — не навредить вере немцев в победу. [...]
Советы своим ударом в Восточной Померании снова поставили нас в довольно
критическое положение. Этого и следовало ожидать, поскольку мы на всех уча¬
стках фронта слишком слабы и для Советов это было делом весьма простым;
нам. же пришлось бросать наши соединения на угрожаемые участки фронта,
словно пожарную команду, и кое-как, неся тяжелые потери, штопать проры¬
вы. [...]
Фюрер совершил поездку на Восточный фронт и посетил 1-й корпус. [...]
Воздействие этого посещения на офицеров и солдат огромное. Я считаю, что
фюрер теперь должен чаще выезжать на передовую, чтобы положить конец
слухам, будто он недостаточно заботится о фронте. [...]
5 марта 1945 г. Понедельник
[...] В западном лагере снова слышна крайне острая критика Ялтинских ре¬
шений. Она постоянно растет как в Англии, так и в Соединенных Штатах. Не¬
доверие к Кремлю усиливается, оно питается ходом развития в Румынии. Но я
197
должен вновь и вновь подчеркнуть, что эти признаки начинающегося осознания
пока еще большого политического значения не имеют. [...]
Примечательно заявление государственного секретаря США о признании
Прибалтийских государств и о предоставлении дипломатическим представителям
этих государств экстерриториальных прав. Это заявление США в нынешней
обстановке даже нельзя было себе представить! Военное положение граничит с
безумием. Оно проявляется в исторических противоречиях. А тем временем
Сталин ставит Рузвельта и Черчилля перед свершившимися фактами, которые
дают ему преимущество над ними. [...]
Ход событий вызывает сильнейшие опасения. Наша линия обороны в Вос¬
точной Померании разорвана, и в данный момент неясно, как нам создать здесь
рубеж обороны. Ряд наших ценнейших соединений здесь либо отрезан, либо даже
окружен. Мы, разумеется, пытаемся снять с фронта на подступах к Берлину и
перебросить туда все, без чего только можно обойтись, но это означает для
Сталина приглашение как можно скорее решиться на удар по Берлину. [...]
Однако ход военного развития таков, что иногда кажется: у нас мало надежд
совершить в этой области что-либо заметное. [...] Еще хуже, чем на Западе,
положение на Востоке. Оно, особенно в Померании, крайне ухудшилось. Вкли¬
нения и даже прорывы, осуществленные здесь, чреваты роковыми последст¬
виями. [...] Все это просто угнетает. К тому же противник предпринимает
сильнейшие атаки на Бреслау, он уже прорвался в центр города. [...] Мы
предвидим вскоре крупное наступление Советов в Моравско-Остравском районе.
Здесь мы, собственно говоря, должны быть в состоянии успешно противостоять
вражескому натиску, если только не хотим потерять этот промышленный район.
Трудно представить се§е, как мы обойдемся без его производственных мощ¬
ностей.
Вечером я вызван для продолжительного доклада к фюреру. Нахожу его в
сравнении с последним разом довольно подавленным, что вполне объясняется
положением на фронтах. Состояние его здоровья тоже довольно неважное,
левая рука дрожит все сильнее, и я замечаю это с ужасом. Его поездка на фронт
прошла очень хорошо, она произвела на него сильное впечатление. Генералитет
проявил себя наилучшим образом, а солдаты встретили фюрера с ликованием. К
сожалению, фюрер не пожелал, чтобы в прессе было сообщено об этом. А это
сегодня необходимо как хлеб насущный.
Что касается положения на Востоке, фюрер надеется, что ему удастся по¬
править дела в Померании. Он двинул туда более сильные формирования, ко¬
торые дадут войскам свободно вздохнуть в местах, где сложилось критическое
положение, чтобы успешно противостоять советскому натиску. Привести прор¬
ванный фронт снова в порядок чрезвычайно трудно. [...]
Фюрер снова указывает, что он в противоположность генеральному штабу
ожидал удара Советов сначала в Померании, а не по Берлину. Таким образом,
фюрер в своем прогнозе опять оказался прав. Несмотря на это, генеральный
штаб сконцентрировал силы на участке Одера на подступах к Берлину, допустив
тем самым ошибку. Гиммлер тоже считал, что удар сначала будет нанесен по
Берлину. Фюрер говорит, что дал генеральному штабу убедить себя его бол¬
товней. А сейчас исправить эту ошибку слишком поздно. Теперь мы должны
снова штопать дыры. Для меня непостижимо, как это фюрер, обладая столь
ясным пониманием сути дела, не смог отстоять свою точку зрения перед
генеральным штабом: ведь в конце концов он — фюрер и приказывает он!
Фюрер вполне резонно говорит, что мы должны рассматривать нынешнее
положение на Восточном фронте в сравнении с той ситуацией, которая имела
место четыре недели назад. А потому он прав, заявляя, что можно конста¬
тировать некоторое улучшение. В той ситуации большинство военных спе¬
циалистов считало, что шансов у нас абсолютно нет. Как справедливо замечает
198
фюрер, в Берлине уже паковали чемоданы и считали столицу рейха потерянной,
в то время как сам фюрер прибыл тогда в Берлин. Если бы он не взял дело в
свои руки, мы стояли бы сегодня, наверное, на Эльбе. [...]
Я изложил сЬ^реру свой план задержания отбившихся от своих чя-тей солдат
и формирования из них новых полков. Фюрер согласился с этим планом. Он
также поддержал идею создания в Берлине женских батальонов. Ведь мно¬
жество женщин охотно согласится нести фронтовую службу, и фюрер считает,
что если они пойдут добровольно, то будут биться фанатически. Их надо
использовать во второй линии, тогда у мужчин исчезнет желание ретироваться с
первой. Что касается силезскогс участка фронта, то фюрер видит на нем вре¬
менную стабилизацию. Он очень доволен проделанной Шёрнером работой. [...]
Некоторые опасения внушает фюреру Моравско-Остравский индустриальный
район. В этом районе Советы сконцентрировали большие силы, и здесь следует
в ближайшие дни ожидать вражеского удара. Фюрер полон решимости при
любых обстоятельствах остановить противника, разумеется, если для этого у
нас хватит сил. 6 марта, т.е. завтра, должен начаться наш удар в Венгрии.
Фюрер боится, что противник уже узнал о сосредоточении наших войск в этом
районе и, соответственно, подготовился. Тем не менее он надеется, что наши
меры приведут к полному успеху. Ведь и у нас стоят наготове первоклассные
войска под командованием [обергруппенфюрера, генерала войск СС] Зеппа
Дитриха. Генеральный штаб тоже видит теперь необходимость нашего удара в
Венгрии. А еще недавно он руками и ногами противился тому, чтобы акции тут
проводились в первую очередь. Теперь до него, прежде всего на примере по¬
ложения с бензином, наконец-то дошло, что мы ни в коем случае не можем уйти
из Венгрии, если только не хотим полностью прекратить нашу моторизованную
войну. Фюрер прав, когда говорит мне, что в распоряжении Сталина имеется ряд
выдающихся военачальников, но нет ни одного гениального. Имей он такого,
советский удар был бы нанесен, скажем, не на Барановском плацдарме, а на
территории Венгрии. Если бы у нас отняли венгерскую нефть, мы просто
оказались бы неспособны на те контрнаступления, которые мы планируем на
Востоке.
Много забот доставляет фюреру положение на Западе. Тут тоже, можно
считать, фронт разорван. Несмотря на это, фюрер надеется, что мы удержимся
на Рейне, ибо тот является идеальным рубежом Для обороны. Он отдал приказы
действовать так, чтобы при любых обстоятельствах удерживать на Рейне не¬
сколько плацдармов.
[...] Я настойчиво внушал фюреру, что рушится наш последний военный
тезис, ибо, если американцы пробьются в Центральную Германию, у них нс
будет ни малейшего побуждения вообще пойти на какой-либо разговор с нами.
Наша задача теперь: во что бы то ни стало устоять. Кризис во вражеском
лагере хотя и возрастает, но еще большой вопрос, приведет ли он к взрыву до
тех пор, пока мы более или менее в состоянии сопротивляться. Предпосылка
успешного окончания войны — кризис во вражеском лагере должен разразиться
прежде, чем мы окажемся поверженными.
Фюрер снова в резких выражениях нападает на генеральный штаб. Но я
задаю ему вопрос: какая от этого польза? Ему надо было послать генеральный
штаб к черту, раз тот чинит ему такие большие трудности. В ответ фюрер
цитирует Бисмарка, который однажды сказал: с датчанами он справился, с
австрийцами и французами тоже, а вот с бюрократией рейха не смог. Но ведь
Бисмарк не обладал такой властью, как фюрер! [...] Однако фюрер, как и
прежде, считает, что нам удастся как-нибудь снова удержаться. Как это про¬
изойдет в деталях, ему самому в данный момент еще неясно. [...]
Что касается оценки внешнеполитического положения, то тут фюрер питает
весьма радужные надежды. Он с удовлетворением замечает, что политический
199
кризис во вражеском лагере растет. Но я возражаю: это нарастание кризиса
идет для нас слишком медленно. Не ясно, сможем ли мы дождаться, пока этот
кризис окончательно созреет. Фюрер прав, заявляя, что Англия очень устала от
войны. Ему тоже бросилось в глаза сообщение из Вашингтона, что США по-
прежнему признают Прибалтийские государства. Так вот, кажется, что за ку¬
лисами разыгрывается крупный скандал между англо-американским лагерем и
советским. Но этот скандал, как я должен постоянно подчеркивать, пока не
является столь сильным, чтобы принести нам облегчение.
Фюрер убежден в том, что если какая-либо держава во вражеском лагере и
захочет вступить с нами в разговор первая, то это при всех обстоятельствах
будет Советский Союз. У Сталина с англо-американскими союзниками вели¬
чайшие трудности, а ведь Советский Союз принадлежит к тем государствам,
которые точно так же, как и мы, хотят вернуться с войны с добычей. А потому
вечный конфликт с англо-американцами Сталину надоест, и тогда он оглядится
вокруг в поисках других возможностей. Его тактика в Румынии и Финляндии
такова, подчеркивает фюрер, что она для американцев — просто-таки сигнал
тревоги, не говоря уже о польском вопросе. Сан-Франциско (учредительная
конференция ООН. — Перев.) фюрер предрекает фиаско. Но предпосылкой
того, что мы вступим в разговор с той или иной другой стороной, служит наш
военный успех. Сталин тоже должен сначала понести урон, прежде чем захочет
чего-нибудь достигнуть с нами. Фюрер правильно говорит, что Сталину легче
осуществить смену курса в военной политике, ибо ему совершенно не нужно
считаться со своим общественным мнением. Несколько по-иному обстоит дело с
Англией. Даже если бы Черчилль и захотел проводить иную военную политику,
сделать этого он не смог бы. Ведь он слишком зависит от внутриполитических
сил, часть которых носит прокоммунистический характер, а также от Рузвельта,
не говоря уже об отсутствии у него малейшего намерения идти в этом
направлении.
В качестве цели перед фюрером маячит возможность найти взаимопонимание
с Советским Союзом и благодаря этому с жесточайшей энергией продолжить
борьбу против Англии. Ведь Англия всегда была нарушителем мира в Европе.
Если мы вышвырнем ее отсюда, то по крайней мере на какое-то время обретем
покой. [...]
Я перехожу к вопросу о воздушной войне. Фюрер подвергает Геринга и
люфтваффе безудержной критике. В Геринге он видит подлинного козла от¬
пущения за развал люфтваффе. [...]
Я сообщаю фюреру, что Магда (жена Геббельса. — Перев.) вместе с детьми
при всех условиях, даже если Берлин будет атакован и окружен, останется со
мной. Фюрер после некоторого колебания одобряет это решение. [...]
В целом фюрер все еще производит сильное впечатление. Он тоже остался
непоколебимым, несмотря на все страшные удары, которые мы теперь снова
получаем. Его стойкости можно поражаться. Если кто и способен справиться с
теперешним кризисом, так это он. Не видно никого другого, кто хотя бы
отдаленно мог сравниться с ним.
В любом случае у нас теперь должен господствовать один принцип: при всех
обстоятельствах успешно справиться с этим кризисом, а если это невозможно,
выдержать его с честью. Мы должны быть готовы ко всему и сжечь за собой
мосты. Тем вернее мы пронесем наше знамя к победе.
Затем у меня была еще краткая беседа с послом Хевелем2. Он рассказал мне,
что Риббентроп сейчас усердно старается соткать нить, которая свяжет нас с
западными странами, но в настоящий момент никакой перспективы этого нет.
о
л Постоянный представитель Риббентропа в ставке Гитлера. — Прим, перев.
200
Как с английской, так и американской стороны не замечается ни малейшего
движения навстречу. Черчилль и Рузвельт относятся к этому резко отрица¬
тельно, хотя они совершенно точно могли узнать о наших попытках, пред¬
принятых как в Стокгольме, так и в Ватикане. Ясно и то, что политическими
способами в данный момент ничего сделать нельзя, если только мы не выложим
на стол военные успехи. Можно только воскликнуть: “Царство за успех!”3 Что
же касается возможностей окончания войны, то в данный момент это, с одной
стороны, слишком поздно, а с другой — слишком рано. Нынешняя ситуация не
оставляет на это никаких шансов. [...]
Хевель сообщил мне, что Риббентроп в 1941—1942 гг. не раз предлагал
фюреру заключить мир с Москвой, так как не позже чем через год на театре
военных действий появятся американцы со своим военным потенциалом. Но
фюрер это категорически отверг. Не думаю, чтобы это отвечало действи¬
тельным фактам. Так или иначе, но в данном случае Риббентроп допустил
ошибку: не заручился для поддержки того плана каким-либо союзником из числа
других сотрудников фюрера. Он превратил внешнюю политику в своего рода
секретную игру, которую будто бы понимает только он один, и потерпел
поражение. Хевель считает наши политические шансы в данном направлении
довольно бесперспективными. Я, как и прежде, держусь того мнения, что
Риббентроп в данный момент совершенно малодушен, а это мне импонировать
никак не может. Риббентроп всегда был злым гением фюрера, впадавшим то в
одну, то в другую крайность.
В Имперской канцелярии царит довольно-таки унылое настроение. Я даже
стараюсь не ездить туда, ибо это настроение заразительно. Генералитет поз¬
воляет себе вешать голову, и только фюрер — единственный, кто в этой
ситуации еще держится. [...]
6 марта 1945 г. Вторник
[...] Ежедневные сводки ОКВ4 за последние дни снова неутешительны. О
нашем положении в Померании и на Западе мы в данный момент никаких
благоприятных сообщений распространять не можем. Совсем наоборот. Можно
представить себе, как это действует на немецкий народ, и без того очень
угнетенный тяжелыми ударами последних недель. Было бы необходимо срочно
указать на успех. Надеюсь, это произойдет на следующей неделе на венгерском
участке фронта. Но при всем решающем значении венгерского участка для хода
войны, это не о^ень-то интересует немецкий народ. [...] Однако каждое со¬
общение ОКВ вызывает у народа огромный шок и порождает отнюдь не
фанатизм, а своего рода фатализм. Но, слава Богу, пока наши люди не пре¬
небрегают своим долгом в борьбе и труде.
В западном вражеском лагере, разумеется, все еще несут всякий вздор. Там
ликуют по поводу того, что Эйзенхауэру удалось заставить наш фронт отойти
на Рейн. [...] А в остальном западному вражескому лагерю ясно, что наше
отступление за Рейн происходит вполне организованно, что ему не удалось в
значительной мере прорвать наш фронт или же уничтожить наши армии. Он
видит, что и на Рейне создается исключительно опасный оборонительный барь¬
ер, который надо принимать всерьез, а особенно если нам удастся при этом
выиграть время. Во всяком случае ясно: немецкое сопротивление на Западе
считать ослабевшим никак нельзя. [...]
3 Подразумевается крылатая фраза английского короля Ричарда Ш в 1485 г. в битве при Бос¬
ворте: "Полцарства за коня!". —Прим, перев.
4 Штаб Верховного главнокомандования вермахта (аббревиатура от нем: Das Oberkommando der
Wehrmacht — OKW). — Прим, перев.
201
По мнению агентства Рейтер, мы еще способны производить достаточно
оружия, а наш людской потенциал отнюдь не исчерпан. Поэтому о скором окон¬
чании войны пока речь идти не может. Сердце Германии последними ударами не
затронуто. Рейтер предсказывает нам трудности с продовольствием; впрочем,
они есть уже и сейчас. Здесь нам в ближайшие три-четыре месяца приходится
ожидать чрезвычайно тяжелого кризиса. [...]
Развитие в захваченных Советами странах идет по предписанной Кремлем
программе — как в Сербии и Финляндии, так и в Румынии. [...] Англичан хотят
запугать и сделать настолько бессильными, чтобы они никак не смогли решиться
открыто противодействовать Советам.
В самом Советском Союзе тоже преобладает очень сильная усталость от
войны. Там уже хотели после удачи наступления закончить войну, но победная
истерия — как видно из конфиденциальных сообщений — целиком захватила
Сталина. Он держит наготове комитет Зейдлица5, чтобы, предположительно,
ввести его в действие в качестве временного германского правительства, если к
тому представится психологическая возможность и если Сталин решится от¬
крыто провоцировать англичан и американцев.
В Японии надеются на дальнейшее сохранение советского нейтралитета в
тихоокеанском конфликте. Советы — так аргументируют в Японии — были вы¬
нуждены снять с маньчжурского фронта так много войск, что вопрос об их
участии в тихоокеанском конфликте вообще снимается с повестки дня. [...]
В западных странах растет страх перед Советами, особенно в военном ру¬
ководстве. Например, Эйзенхауэр недавно доверительно сказал: если англича¬
нам и американцам не удастся совершить на Западе окончательный прорыв,
война в Европе, несомненно, окажется для них проигранной. [...]
Воздушная война уже не знает никаких пределов! [...]
7 марта 1945 г. Среда
[...] Центр тяжелых боев — в Померании, где противнику, стянувшему сюда
свои силы, удалось рассечь нашу растянутую линию фронта между Одером и
Кюстрином и значительно расширить прорыв.
[...] Атаки Советов в Восточной Пруссии ввиду понесенных ими в преды¬
дущие дни больших потерь ослабли. [...]
На Западе англо-американские наступающие соединения отодвинули нашу
оборонительную линию в районе Кёльна за Рейн. Но на левом берегу Рейна у
нас все же остались отдельные плацдармы.
[...] Англо-американские военные специалисты весьма огорчены тем, что
германские армии ушли за Рейн и притом, как они добавляют, в полном порядке.
Они заявляют, что нужна новая высадка войск на континенте, ибо Рейн — такая
же водная преграда, как в свое время Ла-Манш. Таким образом, там сознают,
что наступление на Западе своей цели не достигло, а сама эта цель, по¬
ставленная Эйзенхауэром, — уничтожить германские армии — была неосуще¬
ствима. Называют число взятых в плен немецких солдат и офицеров — 450 тыс.
человек, но этого для противника недостаточно, чтобы питать надежду на
скорое окончание войны. Зимняя битва в Арденнах, интенсификация прово¬
димого в качестве возмездия обстрела Лондона баллистическими снарядами и
5 Имеется в виду Национальный комитет "Свободная Германия", возникший летом 1943 г. на
территории СССР из антигитлеровски и демократически настроенных немецких военнопленных и
антифашистов, в том числе коммунистов. Председателем этого комитета являлся взятый в плен под
Сталинградом генерал артиллерии В. Зейдлиц. К руководимому им "Союзу немецких офицеров"
примкнул и генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. — Прим, пер ев.
202
ракетами "фау“ь, открытые раздоры между Англией и США, а также страх
перед не поддающейся контролю политикой Москвы настолько усилили к
середине января кризис, что требование немедленного окончания войны стало в
Англии всеобщим. Само собою разумеется, произошло это в твердом убеждении,
что опасность германской победы уже устранена навсегда: потому, мол, надо
лишь проявить определенную ловкость, чтобы путем бысг рых переговоров с
Германией закончить войну в свою пользу. Отсюда — неожиданно резкая
критика всеми неразумности правительства, выступающего за безоговорочную
капитуляцию.
[...] Тем временем взгляды Черчилля и его последователей на войну и цели
мира вполне определились: Англия должна быть участницей полной победы над
Германией, а потому может выйти из европейского конфликта только вместе с
США и Советской Россией. Неожиданное вклинение русских наступающих войск
вынудило англичан к еще более активному проведению своих собственных
операций и подтолкнуло их к мысли о необходимости как можно скорее
достигнуть единства со Сталиным относительно того, как после краха Германии
будет осуществляться ее — нет, даже всей Центральной Европы! — оккупация
и как она [Германия] будет управляться. Москва дала совершенно ясно понять:
какое-либо вмешательство или какое-либо англосаксонское участие в военной
администрации и гражданском управлении захваченной Советской Россией
германской территории принципиально и практически исключено. Точка зрения
Англии такова: в оккупированной Советами части Германии Москва установит
послушное ей правительство (собирательное понятие — комитет Зейд лица) и
таким образом сможет возникнуть коммунистическая, связанная с Москвой
Германия. Она не только послужит мостом к коммунистической Франции и
Бельгии, но и политически и мировоззренчески определит все дальнейшее
развитие Европы. Несмотря на то, что восхищение Советской Россией в Англии
сильно уменьшилось, а в Сити и в высших кругах среднего класса появился ярко
выраженный антирусский курс, Англия практически не может отказаться от
дружбы и взаимопонимания с Советской Россией, чего бы ей это ни стоило.
Это тем более важно потому, что Америка в своей внешней политике никак
не готова поддержать твердую позицию Англии против Москвы. Напротив,
Рузвельт при каждом удобном случае заявляет, что стремится еще более
улучшить отношения Америки с Советской Россией. И в этом отношении
японские политики придерживаются взгляда, что Америка явно изменит свою
позицию в отношении Советской России только тогда, когда война против
Японии либо окончится победой, либо будет ясно, что ее исход больше не будет
уже зависеть от настроения Советов и их предполагаемого участия в ней.
Имеется много признаков того, что московское правительство со своей стороны
придает дружбе с Америкой большое значение и всегда готово использовать ее
против Англии. В переговорах со Сталиным Англии следует выяснить главный
вопрос — рассматривает ли Советская Россия занятые ею области в Европе —
будь то Польша, Румыния или Югославия, будь то захваченная ею часть Гер¬
мании — как свою сферу влияния, где другие союзники вообще не имеют права
сказать ни слова, или нет.
[...] Судьба Европы Америку в конечном итоге не интересует — лишь бы
только держать ее в состоянии военной и экономической импотенции. [...]
По мнению ведущих лондонских экономических аналитиков, Англия столк¬
нется со следующей ситуацией: 1. В случае безоговорочной капитуляции Гер¬
мании Англия, помимо управления Германией, установит экономический конт-
6 Первая буква немецкого слова die Vergellung — возмездие. V-1 и V-2 в пропагандистских целях
именовались оружием возмездия за бомбежку германских городов англо-американской авиацией. —
Прим, перев.
203
роль по крайней мере над центрально- и западноевропейскими странами. 2. Это
сможет произойти, однако, только при добром согласии Советской России и
четком определении советской сферы влияния. 3. Американцы, в сущности, не
способны на это, да и не заинтересованы в том, чтобы заботиться о европейских
государствах или же господствовать в них. 4. Все страны, попавшие в непо¬
средственную зависимость от Советской России, в силу экономической необхо¬
димости и из политического страха перед ней примкнут к Англии. Этого ожи¬
дают даже от разбитой Германии, если она в заключительной фазе войны не
попадет в лапы Советов.
В целом же в Лондоне убеждены, что с помощью внешнеполитического
компромисса с Москвой можно не допустить коммунистической революции в
Западной Европе, а затем с помощью демократическо-парламентской системы
держать коммунистов в меньшинстве при условии, что удастся ограничить
советское влияние. В противном случае Англии придется проявить решимость и
посредством военной оккупации сохранять свое влияние в послевоенный период.
Хотя этот доклад был составлен в дни Ялтинской конференции, он в общем и
целом, кажется мне, правильно характеризует политическое положение во вра¬
жеском лагере. Из него можно понять, что в данный момент для нас никаких
политических шансов нет. Но это может со дня на день измениться — если
развитие в занятых Советами областях и дальше будет идти таким же стре¬
мительным темпом, как в последние дни. [...]
Военная обстановка в Померании остается чрезвычайно угрожающей. Наши
контрмеры явно слишком запаздывают. [...] В последнее время мы каждый раз
оказывались неспособны провести крупную и успешную военную акцию. [...] У
нас уже нет такой военной силы, чтобы в решающем пункте добиться ре¬
шающей победы. [...] В районе Одера Советы имеют множество танков, но им
не хватает горючего. Если бы мы смогли ударить по их исходным позициям, это
принесло бы нам большой оперативный успех. Но все дело именно в этом: если
бы мы смогли! [...] Советские солдаты полны фанатической ненависти ко всем
немцам, что объясняется изощреннейшей большевистской пропагандой. Как
говорит генерал Власов, Сталин — самый ненавистный человек в России. [...]
Правильно и его утверждение, что Советы страдают от значительной нехватки
людских резервов. В тылу они повсюду используют женщин, и этим объясняется
то, что они все еще имеют удивительно крупные контингенты пехоты. [...]
Вечером у меня побывал Альвенслебен, высший чин СС и полиции в Дрез¬
дене. Он в самых мрачных красках обрисовал мне катастрофу Дрезденд7. Здесь
поистине разыгралась такай трагедия, какая редко случалась в истории чело¬
вечества и какой ещё не бывало в этой войне. [...] Альвенслебен недавно по¬
сетил больного Гиммлера, который лежит в своем Хоенлихене. Обсудил с ним
все военное и политическое положение, предприняв при этом резкие атакй
против Геринга и Риббентропа. Гиммлер выразил желание как можно скорее
переговорить со мной. [...] Я тоже хочу как-нибудь посетить его, чтобы обсудить
прежде всего не терпящие отлагательства персональные вопросы военного и
политического руководства. Времени у нас осталось мало, терять его нельзя.
8 марта 1945 г. Четверг
[...] Хотя западная вражеская сторона не перестает удивляться фанати¬
ческому боевому духу наших войск, нельзя все же не констатировать, что
моральное состояние наших солдат неуклонно падает. [...]
Иден, выступая в палате общин, снова затронул тему военных преступников.
7 Имеется в виду массированная бомбардировка Дрездена американской авиацией 13—14 фев¬
раля 1945 г. —Прим, перев.
204
Он охарактеризовал меня и Риббентропа как первых и крупнейших немецких
преступников. Для меня это большая честь, и такую характеристику можно в
конечном счете пережить. В остальном же его речь — тухлое обоснование того
факта, что на Ялтинской конференции англичане дали свое согласие на отде¬
ление Восточной Пруссии и присоединение ее к Польше. [...]
Сообщения о внешнеполитическом положении достаточно монотонны: союз¬
ники не имеют никакого намерения как-либо идти нам навстречу; в военном
отношении они действуют в полном согласии ę Советским Союзом, в частности
проводят через Дарданеллы крупные транспорты с продовольствием, чтобы
помочь ему в его крайне напряженном продовольственном положении. [...] Заяв¬
ление Гудериана о большевистских зверствах, сделанное в Берлине для немец¬
кой и иностранной прессы, успеха не имело. [...]
У нас, в Берлине, непрерывно возникают труднейшие проблемы и заботы.
Столица рейха находится во всех отношениях в чрезвычайно напряженном
состоянии, и при этом я должен сделать все возможное для предстоящей
обороны. Можно представить себе, чего только не приходится делать! После
обеда выезжаю к Гиммлеру, чтобы обстоятельно побеседовать с ним. Куда ни
глянь — сплошные развалины, вот во что превратилась столица рейха! По¬
всюду, как грибы, растут баррикады. Будь у нас достаточно солдат и оружия,
Берлин смог бы обороняться сколько угодно. [...]
Гиммлер находится в Хоенлихене, чтобы немного подлечиться. Он перенес
тяжелую ангину. Гиммлер принадлежит к числу наших сильнейших личностей.
Во время двухчасовой беседы с ним я смог констатировать, что в оценке общего
положения мы полностью сходимся. Он в самых крепких выражениях ругает
Геринга и Риббентропа, которых считает источником всех ошибок нашего
военного руководства, в чем он абсолютно прав. Но он тоже не знает, как
побудить фюрера избавиться от них обоих и поставить на их место сильных
личностей. Я рассказал ему о предпоследней беседе с фюрером, в ходе которой я
обратил его внимание на то, что сохранение Геринга в руководстве грозит
привести, если еще не привело, к государственному кризису. Гиммлера очень
заинтересовало, как эти высказывания были восприняты фюрером. Хотя они и
очень подействовали на фюрера, никаких выводов из них он пока не сделал.
Что касается положения на франтах, то Гиммлер этим очень озабочен,
особенно ходом событий в Померании и на Западе. Но еще большие опасения в
данный момент у него вызывает продовольственное положение, которое видится
ему в ближайшие месяцы довольно безрадостным; боевой дух войск, несомненно,
сильно подорван. Это Гиммлер знает и по опыту своей группы армий "Висла". К
тому же у нас нет сильного руководства ни в военном, ни в гражданском секторе,
ибо обо всем должно докладываться самому фюреру, а это вообще можно
сделать лишь в немногих случаях. Повсюду на пути успешного ведения войны
стоят Геринг и Риббентроп. Но что можно поделать? Не заставить же фюрера
силой избавиться от обоих. Гиммлер верно обобщает обстановку — рассудок
говорит ему, что надежд выиграть войну военными средствами у нас мало, а
инстинкт, наоборот, подсказывает, что рано или поздно откроются политические
возможности еще повернуть ее в нашу пользу. Эту возможность Гиммлер видит
в большей мере на Западе, чем на Востоке. Он полагает, что Англия может
одуматься, в чем я лично довольно сильно сомневаюсь. Как видно из слов
Гиммлера, он полностью ориентируется на Запад, а от Востока ничего хорошего
не. ожидает.
Я же считаю, что достигнуть чего-либо можно скорее на Востоке, так как
Сталин кажется мне более реалистически мыслящим человеком, чем одержимые
амоком англо-американские безумцы. Но мы, разумеется, должны ясно пони¬
мать, что достигнутое таким образом, если нам вообще удастся заключить мир,
будет малым и скромным. Предпосылка для этого — то, что мы где-то оста¬
205
новимся, ибо, если мы будем повержены, никаких переговоров враг с нами вести
не станет. Значит, сейчас вся сила рейха должна быть сконцентрирована на этой
цели.
Гиммлер согласен с тем, что находящиеся сейчас в казармах войска мы
должны использовать как буфер между Западным и Восточным фронтом. [...] В
окружении Гиммлера царит абсолютно национал-социалистская атмосфера.
Можно просто радоваться, что хоть здесь все еще господствует национал-
социалистский дух.
На обратном пути у меня есть возможность обдумать все обсужденное нами.
Поездка по затемненной и мрачноватой местности весьма впечатляет. Мы все
время обгоняем плетущиеся колонны беженцев, словно символизирующие эту
грандиозную войну. [...]
Д-р Науман8 по моему поручению посетил фюрера, чтобы доложить ему об
эвакуации высших органов рейха и вермахта из Берлина. Фюрер того мнения,
что ее в любом случае необходимо готовить. Я лично был бы рад, чтобы эти
высшие инстанции покинули Берлин как можно скорее, ибо никакому усилению
боевого духа в столице рейха они не способствуют. Их следует удалить отсюда
совершенно незаметно. Науман находится под большим впечатлением от беседы
с фюрером, который сейчас в наилучшей форме. Если положение станет крайне
серьезным и угрожающим, присутствие фюрера в Берлине послужит стаби¬
лизирующим фактором в обстановке начинающегося бегства. До тех пор, пока
он стоит во главе рейха, нам нечего опускать наше знамя.
9 марта 1945 г. Пятница
[...] Черчилль явно вынужден ввиду настроения внутри страны вновь наз¬
начить несколько более близкий срок окончания войны. Теперь он говорит о двух
месяцах. Он, по его заявлению, вообще не намерен признавать никакого гер¬
манского правительства. Немецкий народ будет управляться исключительно
оккупационными властями. Вот как выглядит будущий мир в мозгу плутократа!
В Лондоне не могут понять; что 80-миллионный народ никогда не согласится на
это и скорее вся Европа погрузится в хаос, огонь и дым пожарищ, чем он
подчинится такому решению.
Единственной нашей надеждой в данный момент остается еще подводная
война. Она доставляет вражескому лагерю большие заботы. [...]
Во всей этой неразберихе отрадно лишь то, что политический кризис во
вражеском лагере продолжает нарастать. Он все еще разгорается вокруг Ял¬
тинского коммюнике. Американские газеты упрекают так называемую Боль¬
шую Тройку в том, что она попыталась перевести назад стрелки часов истории и
что принятые там решения еще жесточайшим образом отомстят за себя.
В Москве нам теперь угрожают взять Берлин в клещи. После того как
Советы в результате удара в Померании в значительной мере прикрыли свой
глубоко заходящий фланг, боюсь, что это действительно собираются сделать.
Однако на Одерском участке фронта на подступах к Берлину они в настоящий
момент к операции против имперской столицы не готовы. Я думаю, в данный
момент у них для этого недостаточно сил. Им все-таки надо ввести в действие
две вполне подготовленные армии для активного наступления на такой город,
как Берлин. А сейчас таких двух армий у них нет. [...]
10 марта 1945 г. Суббота
[...] В Лондоне преувеличенный оптимизм насчет скорого мира. Там верят
недавнему заявлению британского правительства, что война может закончиться
8 Один из руководящих чиновников министерства пропаганды. — Прим, перев.
206
каждый день. Однако такая величайшая спешка вражеской стороны происходит
потому, что англичане осознают: чем дольше длится эта война, тем больше они
оттесняются своими мощными союзниками, особенно Советами. У нас дела
тоже, разумеется, обстоят не лучшим образом. Особенно сильный ущерб нанесен
нашему боевому духу на Западе. Здесь моральный дух наших войск постепенно
падает. Но степень этого падения не следует переоценивать. При сопряженных
с такими большими потерями акциях приходится всегда констатировать, что
часть наших солдат не выдерживает. [...] Психоз окончания войны распрост¬
ранился сейчас по всему миру. Народные массы хотели бы кончить войну се¬
годня, а не завтра. Спрашивается только, как именно она должна быть закон¬
чена. [...]
Советы в своей прессе не проявляют к войне на Западе никакого интереса.
Они отделываются несколькими ничего не говорящими строчками, зато боль¬
шую часть своей публицистики посвящают политическим событиям в Румынии,
которые для них имеют важное значение. Американцам поневоле приходится
мириться с таким поистине возмутительным к себе отношением. Но у них нет
никаких силовых средств, чтобы как-то сопротивляться этому. Самое большее,
на что они способны, это на растущую критику в своей прессе, на страницах
которой они возмущаются бесстыдством Советов. Результаты Ялтинской кон¬
ференции и далее подвергаются острым атакам как со стороны американской,
так и английской общественности. Особенно — урегулирование польского воп¬
роса, под которым подразумевают решение германской проблемы, ибо именно
здесь-то и зарыта собака. Однако критика эта весьма умеренна, поскольку страх
перед Москвой преобладает над всеми другими мотивами.
Советы практикуют на территории бывшей Польши свой кровавый террор,
не обращая никакого внимания на англо-американские возражения, в том числе и
со стороны Черчилля и Рузвельта. По стране проходит новая волна арестов,
жертвой которых становятся прежде всего польские националисты. Планомерно
развиваются события и в Румынии, т.е. по воле Кремля. [...]
ОКБ и ОКХ9 хотят в случае необходимости эвакуировать из Берлина около
50 тыс. человек. Вот как велик аппарат военного руководства! Можно пред¬
ставить себе, что при такой его громоздкости ничего путного, а тем более
творческого у командования выйти не может. [...]
11 марта 1945 г. Воскресенье
[...] В Лондоне распространяются слухи, что фюрер намерен капитулировать
в ночь на пятницу, ровно в 12 часов. Эти преждевременные планы основательно
провалились. Никакой капитуляции Германии не наблюдается, хотя сегодня мы и
переживаем такие трудности, которые выходят далеко за нормальные рамки.
[...] Моральное состояние наших войск и нашего населенщ! очень пострадало.
[...] Чего-нибудь добиться на Западе можно только жесткими мерами, иначе с
этим ходом развития не справиться. Западный фронт находится сейчас в таком
положении, в каком примерно находился семь-восемь недель назад наш Вос¬
точный фронт. Здесь надо действовать железной рукой. [...]
Ряд английских газет предпринимает резкие атаки против беззастенчивой
политики и дипломатии Кремля. Но, как я уже не раз подчеркивал, эти выпады
не превышают терпимого уровня и не могут приниматься за многообещающие
явления для наших нынешних военных шансов.
Рузвельт будто бы заявил о своем согласии на депортацию миллионов немцев
9 Главное комцндование сухопутных войск (от немецкой аббревиатуры ОКН — das ОЬег-
kommando des Heeres). — Прим, перев.
207
в Советский Союз. Советы хотят получить миллиарды золотых рублей в
качестве возмещения своих военных убытков. Эта астрономическая сумма долж¬
на компенсироваться немецким трудом. Ну, это мы знаем! Советы и дальше
планомерно проводят свою политику, но завышают свои требования настолько,
что в конечном счете они полетят кувырком. [...]
12 мгрта 1945 г. Понедельник
У западных держав сейчас для нас есть только издевка и насмешка. Они
чувствуют себя на высоте своего триумфа и ведут себя так, словно войну уже
выиграли. Считают, что наш моральный дух сильно подорван, и не оставляют
нам никаких шансов на победу. [...]
Жуков уже вынашивает план прорваться в Померании и где-нибудь на
северо-германской низменности протянуть руку англосаксам. [...]
Вашингтон несколько реалистичнее Лондона. Легко догадаться, чего хотят
достичь англичане своими сообщениями: они хотят внушить мужество своему
уставшему народу, а после того как Советы и американцы обеспечат им
военные успехи, самим похваляться ими. То, что Берлин до сих пор це попал в
руки врага, они великодушно объясняют тем, что Советы отнюдь не собирались
брать столицу рейха путем фронтального наступления, а преследуют более
важнывоенные цели. Короче говоря, все, что распространяется сейчас среди
общественности западной вражеской стороной, целиком и полностью направлено
на истощение наших нервных сил. Но, надеясь таким образом запугать нас, они
совершают роковую ошибку. [...] Я предполагаю, что в ближайшие дни Лондону
придется пережить горькое похмелье. [...]
Затем я провел несколько часов у фюрера в Берлине. Фюрер произвел на
меня впечатление вполне уверенного и твердого человека, да- и здоровье его,
кажется, теперь в полном порядке. Я передал ему имевшийся у меня экземпляр
книги Карлейля "Фридрих Великий", что доставило ему величайшую радость. Он
добавил при этом, что мы должны видеть перед собой великие примеры, а для
него Фридрих Великий — самая исключительная личность. Грядущие поколения
в дни кризисов и тягот тоже должны равняться на нас, как мы сегодня — на
героев нашей истории. [...]
Фюрер подчеркивает еще раз, что, по его мнению, Советы не имеют ни¬
какого намерения наступать сейчас на Берлин. Вот уже порядочное время, как
он вновь и вновь втолковывает это своим генералам, но они не желают его
слушать. А если бы послушали, трагедии в Померании не произошло бы.
Имевшиеся в нашем распоряжении силы генералы сосредоточили на подступах к
Берлину, вместо того чтобы направить их в район Померании, дабы парировать
там ожидавшийся удар советских войск. Фюрер возлагает значительную часть
вины за это на Гиммлера. Он говорит, что постоянно призывал Гиммлера
сконцентрировать наши войска в Померании. Гиммлер же под воздействием
отдела ОКХ "Иностранные армии" дал убедить себя, что удар будет нанесен по
Берлину, и соответствующим образом сгруппировал войска. Я спросил фюрера,
почему же он в таких важных вопросах нашего ведения войны просто-напросто
не отдает приказов сам. На это фюрер мне ответил: пользы от этого все равно
было бы немного, ибо даже в тех случаях, когда он отдает четкие приказы, они
тайно саботируются. В этой связи он высказал серьезнейшие упреки по адресу
Гиммлера. Он же ясно приказал тому создать в Померании сильный заслон
противотанковой артиллерии, но необходимые для этого противотанковые
орудия либо вообще не прибыли, либо были переброшены слишком поздно и
помочь уже ничем не смогли. Таким образом, Гиммлер при своем первом старте в
качестве военачальника стал жертвой генерального штаба. Фюрер обвиняет его
в неповиновении и намерен в следующий раз высказать ему свое мнение самым
208
серьезным образом — дать ему ясно понять, что при повторении такого случая
между ним и Гиммлером произойдет непоправимый разрыв. Пусть это послужит
Гиммлеру уроком.
Я тоже хочу поговорить с Гиммлером в этом духе. Я вообще считаю, что
Гиммлер зря взял на себя командование группой армий. Не это в данной
ситуации должно быть его задачей, тем бол^е если это грозит ему разрывом с
фюрером. Тем самым Гиммлер ухудшил свои шансы стать главнокомандующим
сухопутными войсками, так как фюрер им весьма недоволен. Он убежден, что
Померания стала жертвой буйства большевистской солдатни по вине Гиммлера.
Он, фюрер, намерен пресечь распространяющееся неповиновение генералитета
введением летучих чрезвычайных трибуналов во главе с генералом Хюбнером;
их задача — немедленно расследовать любой случай непослушания в коман¬
довании вермахта, тут же вынести приговор и немедленно расстрелять винов¬
ного. Нельзя допустить, чтобы в этой критической фазе войны каждый делал то,
что ему захочется.
Но, я думаю, фюрер все же не улавливает сути этого явления. Ему следовало
бы провести чистку верхушки вермахта, ибо с ней не все в порядке, а потому
нечего и удивляться, что нижестоящие органы поступают по-своему. Фюрер
отвечает на это, что у него нет такого человека, который, к примеру, мог бы
стать главнокомандующим сухопутными войсками. И он прав, заявляя мне, что,
сделай он таковым Гиммлера, катастрофа была бы еще большей, чем мы имеем.
Он хочет ввести в офицерское сословие зарекомендовавших себя на фронте
солдат, невзирая на то, умеют ли они есть ножом и вилкой. Кавалеры Ры¬
царского креста из рядовых — вот кого надо набрать из сражающихся войск и
сделать офицерами. Фюрер ожидает очень многого от пополнения наших офи¬
церских кадров из подрастающего поколения. Он указывает на свой собственный
опыт первой мировой войны, когда было просто невозможно даже отличившегося
солдата ввести в офицерское сословие, если тот не обладал соответствующим
происхождением. Но что значит в это критическое время социальное проис¬
хождение? Мы должны сделать все, чтобы получить для фронта подходящих
командиров, независимо от того, из какого сословия они вышли. Эти меры очень
хороши и правильны, но они реализуются поздно, если только не слишком
поздно. [...]
Фюрер считает, что мы должны развернуть пропаганду мести Советам. Нашу
наступательную силу необходимо направить сейчас против Востока. Решение
наших проблем грядет на Востоке! Советы должны истечь кровью; только
тогда, вероятно, появится возможность образумить Кремль. Для наших войск
задача теперь состоит в том, чтобы остановиться на каком-то рубеже и прео¬
долеть ужас перед большевизмом. То, что мы действительно можем концент¬
рировать силы для наступления и проводить его с успехом, показывает ход
событий в Венгрии, который фюрер считает многообещающим. Будем надеять¬
ся, что так же оно пойдет и дальше. Во всяком случае фюрер придерживается
того мнения, что возглавленная мною пропаганда насчет злодеяний советских
войск вполне правильна и не должна прекращаться.
Что касается Запада, то фюрер склонен, как и я, считать, что здесь речь идет
о полном крахе. Рундштедт оказался не на уровне, требуемом для командования
войсками на Западе. Он слишком стар и происходит из той же школы воена¬
чальников, которая для современной войны непригодна. Поэтому фюрер сместил
его и поставил вместо него [фельдмаршала] Кессельринга. Сегодня же вечером
фюрер примет Рундштедта, чтобы сообщить ему об этом. Рундштедт — весьма
порядочный офицер, который сослужил нам хорошую службу, особенно 20 июля
1944 г. Поэтому фюрер, как я ему настойчиво предлагаю, хочет, чтобы сме¬
щение Рундштедта произошло в почетной форме. [...] Насчет морального со¬
стояния войск на Западе он говорит, что надо попытаться поднять его частично
209
самыми насильственными средствами. [...] Фюрер прежде всего полагает, что мы
сможем быть довольны ходом событий на Западе, если нам удастся нанести
противнику чрезвычайно большие потери. Необходимо во что бы то ни стало
закрепиться и остановить врага на прочных отсечных рубежах. [...]
Какая трагедия происходит с нашей авиацией! Она совершенно пришла в
упадок. Не видно даже никакой возможности поднять ее на прежний уровень. В
своей критике Геринга и люфтваффе вообще я теперь перед фюрером не
стесняюсь. Я спрашиваю его: неужели немецкий народ должен погибнуть из-за
несостоятельности своей авиации? Ведь все наши неудачи в конечном счете
объясняются этим. Фюрер все это признает, но, как я уже подчеркивал, к
персональным переменам в люфтваффе еще не готов. [...] Однако я больше не
скрываю от фюрера тот факт, что несостоятельность люфтваффе ведет к
тяжелейшим последствиям и для него самого. Народ упрекает его в том, что по
вопросу воздушной войны он не принимает никакого решения; ведь каждый
знает, что это положение — на совести Геринга. [...]
В отношении политического положения у меня сложилось впечатление, что у
фюрера начинает складываться новая концепция. Он уже обсуждал ее с
Риббентропом и достиг с ним взаимопонимания. Я настойчиво советую фюреру
отдать приказ о том, что политическая болтовня о военном положении среди
видных лиц государства и партии должна быть прекращена. Это ослабляет
решимость и боевую силу. Открыто говорить о политических закулисных
причинах войны должно быть дозволено лишь немногим. Фюрер того же мнения.
Так, он рассказывает мне, к примеру, что недавно у него побывал Геринг с
требованием политическими средствами создать новую атмосферу во вражеском
лагере. На это фюрер ответил ему: пусть лучше займется созданием лучшей
атмосферы в воздухе!
Фюрер, как и прежде, убежден: вражеская коалиция распадется. Но он уже
не верит в то, что этот распад будет исходить от Англии. Теперь дело не в том,
что Англия хочет, а в том, что она может. А она уже не может ничего. Оп¬
позиция черчиллевскому курсу незначительна, она не смеет открыто выражать¬
ся. Сам Черчилль — одержимый амоком безумец, который вбил себе в голову
сумасбродную идею уничтожить Германию, даже если при этом погибнет сама
Англия. Нам не остается ничего иного, как искать другие возможности. По¬
жалуй, будет хорошо, если мы в один прекрасный день добьемся полюбовной
сделки с Востоком. Тогда нам предоставится случай нанести Англии смер¬
тельный удар и тем самым впервые придать этой войне ее истинный смысл.
Соединенные Штаты, по мнению фюрера, хотят избавиться от Европы как
конкурента и потому не имеют никакой заинтересованности в сохранении того,
что мы называем Западом. Кроме того, у них есть намерение втащить Советы в
войну на Тихом океане, и ради этого они пойдут на любые жертвы в Европе.
Впрочем, поворот в военной политике в Англии и Соединенных Штатах очень
труден, если только вообще возможен, так как Рузвельт, а особенно Черчилль
вынуждены слишком считаться с общественным мнением. Кремлю же это де¬
лать совершенно не нужно, и Сталин в состоянии за ночь повернуть свою
военную политику на 180 градусов. Значит, наша цель — снова отбросить
Советы на Востоке, нанести им чрезвычайно большие потери в живой силе и
технике. Тогда, как можно предполагать, Кремль станет уступчивей. Сепарат¬
ный мир с ним, разумеется, радикально изменил бы все военное положение.
Конечно, этот сепаратный мир не привел бы к осуществлению наших целей
1941 г., но фюрер надеется все же прийти при этом к разделу Польши,
поставить Венгрию и Хорватию под верховную власть Германии и получить
оперативную свободу против Запада. Это, безусловно, та цель, ради которой
стоит потрудиться до седьмого пота!’Покончить с войной на Востоке и иметь
возможность для операций на Западе — какая великолепная идея! Вот потому-
210
то фюрер и считает, что надо проповедовать против Востока месть, а против
Запада — ненависть. Ведь в конце концов никто иной, как Запад, породил эту
войну и привел к vee расширению! Это его мы должны благодарить за раз¬
рушенные города, за превращенные в пыль и прах памятники культуры! А если
бы удалось, получив прикрытие с Востока, отбросить англо-американцев назад,
была бы легко достигнута цель — на вечные времена устранить Англию как
нарушителя мира в Европе!
Программа, которую развернул передо мной фюрер, широко задумана и
убедительна. Она страдает только одним пороком: никакой возможности осу¬
ществить ее пока нет! Эту возможность должны сначала создать наши солдаты,
сражающиеся на Востоке. В качестве предпосылки необходимы внушительные
победы. Судя по положению вещей, можно предположить, что они могут быть
все-таки достигнуты. Поэтому надо напрячь все силы. Вот ради чего мы должны
трудиться, вот ради чего мы должны сражаться! А для этого надо при всех
условиях добиться прежнего морального состояния нашего народа. [...]
В приемной фюрера его уже ожидали генералы. Это сборище усталых людей
подействовало на меня просто угнетающе. Стыдно, что фюрер выискал себе
столь малореспектабельных военных сотрудников. В этом кругу он единственная
выдающаяся личность. Но почему же он не создал себе круг из Гнейзенау и
Шарнгорстов!10 Я счел бы своей самой почетной задачей найти для фюрера и
предоставить в его распоряжение таких генералов. [...] Как же ничтожно боль¬
шинство военных советников фюрера! [...]
13 марта 1945 г. Вторник
[...] Настроение как в тылу, так и на фронте падает все ниже. Органы ми¬
нистерства пропаганды жалуются в своих донесениях: народ не видит никаких
шансов на успех. В своей критике военного руководства он уже не останав¬
ливается и перед критикой самого фюрера. Его упрекают прежде всего в том,
что в главных военных вопросах он не принимает никаких решений.
[...] Или фюрер не знает истинного положения вещей, и тогда это очень
плохо, или же знает, но не принимает никаких мер — и тогда это еще хуже.
Однако постоянно указывается, что нынешнее настроение нельзя смешивать с
явно выраженным пораженчеством. Народ и дальше выполняет свой долг, а
солдат-фронтовик бьется до последней возможности. Но такая возможность
становится все более ограниченной ввиду превосходства противника в воздухе.
Воздушный террор непрерывно парализует тыл, лишает население всякого
мужества. Чувствуется полная беспомощность перед ним, никто не видит вы¬
хода. Особенно дает себя знать паралич транспорта в Западной Германии,
способствуя росту пессимистических настроений. Что же касается Восточного
фронта, то здесь признается некоторая стабилизация, но в ближайшее время
люди ожидают советского наступления на Берлин и Дрезден и считают, что
именно здесь будет решен исход войны. Однако надеются на то, что у нас еще
есть достаточно резервов, чтобы отразить этот удар.
Последнее воззвание фюрера от 24 февраля произвело очень хорошее воз¬
действие. Особенно то, что фюрер так тверд и уверен, и дает немцам надежду,
что еще в этом году следует ожидать поворота в ходе войны.
Для войны на Востоке у немцев есть только одно-единственное чувство —
чувство мести. Нет никого, кто бы игнорировал тот факт, что в результате
продвижения Советов наше продовольственное снабжение резко ухудшилось, и
° Граф Нейдхард фон Гнейзенау и Герхард фон Шарнгорст — выдающиеся прусские генералы,
возглавившие освободительную борьбу немецкого народа против наполеоновского господства. На¬
цисты использовали их имена для раздувания национализма и шовинизма. —Прим, перев.
211
люди сомневаются, сумеем ли мы более или менее удовлетворительно прео¬
долеть эти трудности. Однако в целом можно сказать, что, учитывая чрезвы¬
чайно тяжелое положение, народ все-таки держится относительно хорошо, хотя
и тут, и там наблюдается серьезное недовольство. Враг на Западе издает
довольно суровые законы для захваченных им городов и деревень. Это очень
хорошо, ибо у немцев там распространено мнение, будто с американцами и
англичанами игра будет полегче, чем с Советами. [...]
Переход американских войск через Рейн у Ремагена вызвал на нью-йоркской
бирже резкое падение курса акций. Вражеская биржа реагирует на такие со¬
бытия войны кисло; это доказывает, что стоящие за всем этим евреи заин¬
тересованы в том, чтобы как можно дольше затягивать войну.
Однако вражеские информационные агентства придерживаются иного мнения.
Они считают, что война закончится через десять-двенадцать дней, что капи¬
туляция Германии уже близка. Что ж, вражескому лагерю придется пережить
жестокое разочарование, так как мы сделаем кое-что другое. [...] К этому
добавляется растущая критика Ялтинских решений как в Лондоне, так и в
Вашингтоне. В США она несколько приглушается: американцы надеются, что
Сталин вступит в войну на Тихом океане. [...]
14 марта 1945 г. Среда
[...] Фюрер теперь хочет вновь попытаться стабилизировать линию фронтов.
Он ожидает определенных успехов от применения наших новых подводных ло¬
док. Какая огромная разница между Дёницем и Герингом! Оба пережили боль¬
шое техническое отставание своего вида оружия. Геринг только причитал, а
Дёниц преодолевал. [...] Люфтваффе — сплошной позор для партии и всего
государства.
15 марта 1945 г. Четверг
Вчера. [...] Положение на Восточном фронте значительно изменилось. Центр
тяжелых боев переместился в район Данцига и в Восточную Пруссию. [...]
Довольно удручающие известия приходят из Венгрии. Там, как кажется, наше
наступление не увенчалось успехом. [...] Прямо чертовщина какая-то! Ни одна
наша военная операция, как бы хорошо она ни была подготовлена, в последнее
время не удается. У Сталина есть все основания оказывать советским марша¬
лам, демонстрирующим успехи своего вождения войск, такие почести, словно они
"звезды" кино. Из Москвы приходят сообщения об их жизни, похожей на нравы
какого-нибудь паши. Геринг наверняка пожалел бы, что он не может создать
себе такие условия в Германии. [...]
Фюрер прислал мне стенограмму совещания по обсуждению обстановки в
критические дни перед советским вторжением в Померанию. Из этих протоколов
вырисовывается настоящая трагедия. Фюрер еще ранее постоянно указывал на
то, что советский удар по Померании обязательно произойдет, и выступал
против суждения специалистов, что удар, напротив, будет нанесен по Берлину. К
сожалению, он не превратил свои указания, основанные скорее на его интуиции,
чем на осознании, в четкие приказы. В результате каждый, в том числе и
Гиммлер, делал, что хотел. Протоколы — наглядный пример несостоятельности
нашего военного командования. Фюрер видит все правильно и сообщает об этом
своим сотрудникам, но те не делают отсюда никаких выводов. Чего же стоят все
эти осознания, если они не воплощаются в действительность! [...] Было бы
лучше, если бы фюрер вместо того, чтобы держать перед своими военными
сотрудниками длинные речи, отдавал короткие приказы, а затем с неутомимой
энергией заботился о том, чтобы они выполнялись. Именно неправильное ко-
212
мандование, а не неправильное осознание фактов — причина множества пора¬
жений, пережитых нами на фронтах. Наши генштабисты ожидали от Советов
точно тех же ошибок, которые мы в свое время, поздней осенью 1941 г.,
совершили при запланированном окружении Москвы, а именно — тупо и не
оглядываясь ни налево, ни направо, наступать на вражескую столицу. Мы в свое
время на этом здорово погорели. Фюрер постоянно подчеркивал: Советы не
повторят этой нашей ошибки. А генералы не желали ему верить. Гиммлер дал
генералам вовлечь себя в это дело, и фюрер совершенно прав, когда заявляет:
Гиммлер несет историческую вину за то, что Померания и значительная часть ее
населения попали в руки Советов. [...]
16 марта 1945 г. Пятница
[...] Так или иначе, но англо-американцам ясно, что с Советами дело иметь
опасно и что Сталин пользуется благоприятным моментом. [...]
Генеральный штаб прислал мне книгу с биографиями и фотографиями
советских генералов и маршалов. Из этой книги можно вычитать много такого,
что мы упустили сделать в прошедшие годы. Маршалы и генералы в среднем
чрезвычайно молоды, почти ни одного старше 50 лет. За плечами у них богатая
политико-революционная деятельность, все они убежденные коммунисты, весьма
энергичные люди, и по лицам их видно, что вырезаны они из хорошего народного
древа. В большинстве случаев речь идет о сыновьях рабочих, сапожников,
мелких крестьян и т.п. Короче говоря, приходишь к досадному убеждению, что
командная верхушка Советского Союза сформирована из класса получше, чем
наша собственная. [...]
Возвращая фюреру протокол обсуждения обстановки в Померании, я
приложил написанную от руки записку: "Из этих протоколов видно, что фюрер
был прав. Но поражает констатация того факта, что военные советники фюрера
не только не понимают его ясных и категорических приказов, но и противятся
им. Как я могу еще доверять таким военным советникам! Здесь, по моему
мнению, — корень наших неудач". Получив этот документ, фюрер в тот же
вечер звонит мне. Сначала мы кратко обсуждаем события воздушной войны, а
затем он переходит к переданным мне протоколам. Я совершенно открыто
высказываю ему свое глубокое потрясение от их чтения. Фюрер подробно
объясняет мне, как могло возникнуть такое положение, и добавляет, что это
было точно так же, как с Москвой и Сталинградом. Он видел правильное
решение, но его военные сотрудники бросили его на произвол судьбы. Его
интуитивные предчувствия постоянно подавлялись лучшим знанием дела
специалистами, а отсюда по большей части и проистекают наши неудачи. Но
теперь он хочет энергично и даже жестоко, пресекать это. Он больше не
потерпит такого поведения, имевшего столь роковые последствия! Так, в связи
со сдачей у Ремагена моста через Рейн уже вынесено и приведено в исполнение
четыре смертных приговора. Во второй половине дня у него побывал Гиммлер, и
он дал ему хороший нагоняй.
Я рассказал фюреру о просмотренной мной книге генерального штаба о
советских маршалах и генералах и добавил: у меня такое впечатление, что с
таким подбором командных кадров мы конкурировать не можем. Фюрер
полностью со мной согласился: наш генералитет слишком стар и слишком
израсходовался, к тому же совершенно чужд национал-социалистскому духу и
образу поведения. Значительная часть нашего генералитета даже и не желает
победы национал-социализма. Советские же генералы — не только фанатичные
большевики, но и фанатично борются за победу большевизма, что, разумеется,
дает им огромное превосходство. Фюрер полон решимости еще в ходе войны
настолько реформировать вермахт, чтобы тот вышел из нее, обретя коренной
213
национал-социалистский характер. Я добавил, что мы, немцы, умеем, хотя и
поздно, основательно учиться. Это, пожалуй, можно сказать и в данном
случае.
Я получил из 9-й армии сообщение о поездке фюрера на фронт в районе
Одера. Посещение войск прошло просто великолепно. Фюрер показал, что
превосходит своих генералов не только в понимании сути дела, но и в
конкретных вопросах, чем вызвал большое восхищение. Его физическое
состояние всех просто поразило. Генералы без обиняков говорили, что именно
путчисты 20 июля 1944 г. виновны в том, что у фюрера нервная дрожь; за это
их надо вытащить из гроба и четвертовать. [...]
17 марта 1945 г. Суббота
[...] Весь мир полон слухов о предстоящем перемирии. Утверждается, что
парламентеры Рундштедта уже посланы с предложением сложить оружие. Этот
слух — чистейший бред. Он опровергнут через 24 часа. [...] С другой стороны,
этот слух о заключении мира исходит от миссии Хессе, одного сотрудника
Риббентропа, который побывал в Стокгольме с заданием попытаться установить
контакт с западными контрагентами. Эта миссия сенсационно раздута
Стокгольмом и Лондоном. Можно представить себе, как кричат об этом для всей
мировой общественности заголовки газет. Просто смешно, что во всех этих
сообщениях за гаранта мира вместо фюрера выдается Гиммлер. Будто бы
мощная германская клика предложила в качестве залога голову фюрера. В этом,
разумеется, нет ни слова правды. Это англичане понасочиняли сами. Но в ответ
они заявляют, что могли бы найти и другие головы, кроме фюрерской. Однако
нейтральный мир — особенно деловой — весьма спокоен, ибо он видит в этом
выход из войны, а тем самым и избавление от угрозы большевизма. Ясно, что
такой ход событий проложил бы путь к миру, если бы наши войска по крайней
мере смогли закрепиться на линии Рейн — Мозель. [...] Тяжелые потери,
которые несет враг, для нас пока единственный военный шанс. Американцы
оценивают сейчас свои потери в 839 тыс. человек. Это число хотя для нынешней
войны и незначительно, для американцев далеко не мало. [...]
Из полученных мной писем видно, что во всем немецком народе царит
глубокая летаргия, ведущая к полной безысходности. Раздается самая острая
критика по адресу люфтваффе, а также и всего национального руководства,
которое обвиняют в том, что оно в своей политике и в своем ведении войны,
особенно в воздухе, допустило много упущений, и этим объясняют наши
бедствия. Особенно обвиняют руководство за Восточный поход, что отнюдь не
является неправильным. Наши ораторы больше не могут справляться с этой
критикой. Их аргументы уже не убеждают. Мою последнюю речь по радио, с
одной стороны, хвалят, а с другой — упрекают за то, что в ней нет позитивных
отправных точек для успешного продолжения войны. Появляется ощущение, что
даже самые лучшие аргументы уже не воздействуют на уставший и измученный
народ. [...]
На всем Восточном фронте вновь проявляется наступательная активность
Советов. [...]
В Лондоне категорически опровергают, что наш зондаж воспринимается
всерьез. [...] Эта попытка в Лондоне решительно отклоняется, между тем как
другие союзники по этому поводу еще не высказываются. Такого отклонения от
английской стороны вполне можно было ожидать. Агентство Рейтер заявляет,
что германские предложения полностью игнорируются. Тут возникает трудный
вопрос, как сказать об этом фюреру, ибо он настроен чрезвычайно скептически,
и он действительно прав. Я думаю также, что эта попытка предпринята не
214
очень-то ловко, иначе она привела бы к другим, по крайней мере не таким
громким, последствиям. [...]
(...] Мирный зондаж г-на Риббентропа полностью провалился. Он отвергнут и
американцами, и англичанами. Он был организован очень плохо. Такой человек,
как Хессе, не пригоден для того, чтобы донести до вражеского лагеря подобную
точку зрения. Таким образом, речь идет о неудачной эскападе Риббентропа,
которой можно было заранее предсказать такой конец [...] Нет никакого
сомнения в том, что зондаж Хессе начисто отвергается всем вражеским лагерем.
Но, с другой стороны, англичанам ясно: надежда на внутреннюю революцию в
Германии против национал-социализма иллюзорна.
[...] На Западе события развиваются весьма неудачным образом. В районе
Мозеля положение довольно безутешное. Фюрер считал, что оборонительная
линия по Мозелю может быть удержана, но это не оправдалось. Американцам
удалось на широком фронте форсировать Мозель, и теперь они устремились в
междуречье Мозеля и Рейна, не встречая сколько-нибудь значительного
сопротивления.
[...] Пожалуй, на Западном фронте у нас распространено опасное
представление, будто следует впустить американцев в рейх, чтобы он не попал в
руки Советов. Это, разумеется, чреватая роковыми последствиями точка зрения
на нынешнее военное положение, и мы должны при всех условиях принимать
против нее решительные меры. [...]
Вечером из Вашингтона официально сообщается, что враг уже не
довольствуется даже безоговорочной капитуляцией рейха. Он намеревается в
любом случае оккупировать всю Рурскую область. Правда, такого требования
он пока еще не выдвигает. Может быть, он потребует, чтобы сначала все мы
были повешены или расстреляны? Стремление врага к нашему уничтожению
теперь просто не знает предела. [...]
19 марта 1945 г. Понедельник
[...] Ход политического развития будет все больше определеться предстоящей
конференцией в Сан-Франциско. Уже сейчас между партнерами по вражеской
коалиции возник спор о методах и программе ее работы. Соединенные Штаты
требуют твердых условий для будущего всеобщего мира и для Организации
Всемирного Мира (имеется в виду создававшаяся ООН. — Перев.). Советы же
противятся этому руками и ногами, поскольку они, разумеется, очень
заинтересованы сохранить после войны как можно более неустойчивое
положение с целью, если представится случай, урвать добычу. Таким образом,
Сталин вовсе не собирается позволить американцам и англичанам надеть на него
наручники. [...]
Это воскресенье спокойным для нас днем никак не назовешь. Положение на
фронтах ужасающее, особенно на Востоке, да и на Западе тоже. [...] Фюрер
крайне занят военными событиями за Западе. Всю ночь до 6 часов утра он
проводил обсуждение обстановки и, естественно, очень переутомился. Долго ему
так не выдержать — работать каждую ночь и спать всего два часа.
20 марта 1945 г. Вторник
[...] Американцы преследуют свои военные цели крайне не гибко. Ничего не
смыслят ни в военной психологии, ни в военной администрации [в захваченных
областях].
В Москве сейчас очень много говорят о предстоящем наступлении на Берлин.
Но предполагаю, что тем самым снова хотят отвлечь нас ложной целью.
Советские газеты утверждают, что русские скоро войдут в столицу рейха и это
215
приведет к концу войны. Однако, с другой стороны, мы должны быть настороже:
затишье на Одере, разумеется, только кажущееся. Никакого сомнения, Советы
перебрасывают на этот участок фронта огромные массы войск и техники с тем,
чтобы в подходящий момент нанести отсюда удар. [...]
Фюрер принял членов ’’Гитлерюгенд", получивших в боях на Восточном
фронте Железный крест. Он произнес перед ними проникнутую исключительной
симпатией к ним речь, которую мы доведем до сведения общественности в
коммюнике для прессы. В остальном же фюрер по горло в работе по
восстановлению стабильной линии фронта, особенно на Западе. [...]
21 марта 1945 г. Среда
[...] Геринг передал одной колонне беженцев застреленного им на охоте зубра.
Этот поступок — психологическая ошибка и просто-таки предел морального
падения Геринга и его окружения. Я направил это сообщение фюреру и в
сопроводительной записке напомнил об одной бурбонской принцессе, которая,
когда массы с криком "Хлеба!" штурмовали Тюильри, наивно спросила:
"А почему же, если у них нет хлеба, они не едят пирожные?"11 Фюрер весьма
серьезно отнесся к этому комментарию и на обсуждении обстановки резко сделал
Герингу замечание, а затем имел с ним продолжительную беседу с глазу на глаз.
Можно представить себе, что он сказал ему наедине! Но что толку! [...]
Побудить фюрера назначить нового главнокомандующего авиацией никак не
удается. Со всех сторон на эту должность предлагают Дёница, и я лично считаю
это предложение не таким уж неприемлемым. Во всяком случае, в расширении
свободы действий нашему подводному флоту Дёниц показал себя способным
преодолеть его техническое отставание. Он солидный и честный работник и
наверняка поставил бы люфтваффе на ноги, пусть и в уменьшенном объеме.
[...] Я вручил фюреру свою памятную записку о реформе люфтваффе.
Люфтваффе, имеющая сейчас лишь ограниченную способность к действиям, тем
не менее содержит такой огромный аппарат, который никак не соответствует ее
задачам. Возможности люфтваффе крайне ограничены; значит, нужно привести
в соответствие с ними и ее состав, еще насчитывающий сегодня 1,5 млн. че¬
ловек. Я думаю, вполне хватило бы контингента в 300—400 тыс. человек, к
тому же значительную часть зенитной артиллерии надо отдать фронтам, а
оставшейся оставить минимум боеприпасов. [.. ]
Примечательно, что Советы вывели из района Померании и Восточной
Пруссии две армии и перебросили их на Одер для действий против Берлина.
Можно полагать, что наступление на столицу рейха уже не заставит себя долго
ждать. Будем начеку, ибо Советы, овладев Померанией, прикрыли свой фланг и
теперь наверняка решатся на штурм Берлина.
22 марта 1945 г. Четверг
[...] Мне представлена довольно обширная разработка по вопросу о нынешних
политических настроениях в Америке. Она кажется мне вполне достоверной,
показывает, что в целом американцы в Европейском континенте совершенно не
заинтересованы; они лишь не хотят, чтобы он был объединен под властью
какой-либо державы, ибо крайне боятся экономической конкуренции. Никаких
политических притязаний американцы в Европе не имеют. Они, с одной стороны,
не желают сильной Германии, а с другой —не хотят и слишком сильного
Советского Союза, а потому в настоящий момент Америка решительно и
11 Речь идет о королеве Марии-Антуанетте, урожденной австрийской эрцгерцогине. —
Прим, перев.
216
энергично выступает против стремления России подчинить своему господству
европейский континент. Трения американцев с англичанами носят второстепен¬
ный характер. [...] Англичане вбили себе в голову, что следует добиться устано
вления мира во всем мире на базе американского экономического империализма.
США предъявляют поэтому большие претензии на то, чтобы играть мес¬
сианскую роль, особенно сам Рузвельт, которого американские евреи в своих це¬
лях подталкивают в этом направлении.
Рузвельт проводит свою политику при помощи исключительно ловкой тактики
и сумел из президента мира стать президентом войны, не подвергаясь при этом
никаким нападкам со стороны американцев. За время войны американская
национальная гордость невероятно взыграла, прежде всего потому, что
американцы теперь сумели ввести в дело сильнейший в мире военный
контингент, добившийся значительных военных успехов. Большевизм, по
крайней мере пока, не представляет для американцев никакой опасности, но
воспринимается ими как неамериканское явление и потому внутренне отвер¬
гается. [...]
На Восточном фронте положение как будто стабилизируется. Я узнал, что
Гиммлер хочет и должен сдать командование группой армий "Висла”. Считаю
это самым лучшим делом. Собственно говоря, задача Гиммлера состояла в том,
чтобы кое-как заткнуть дыру в полосе его группировки. К сожалению, военных
лавров здесь ему снискать не удалось. Так он может потерять свое доброе
политическое имя. [...]
В настоящее время в Стокгольме находится один влиятельный человек из
Советского Союза, который выразил желание вступить с нами в переговоры.
Саму по себе такую возможность упускать не следовало бы. Однако данный
момент выбран для нас крайне неудачно. Тем не менее я считаю, что было бы
хорошо по меньшей мере переговорить с представителем Советского Союза. Но
фюрер этого не желает. Фюрер считает, что в настоящий момент пойти
навстречу врагу в этом пункте означало бы признать свою слабость. Я же
придерживаюсь той точки зрения, что враг все равно знает, что мы слабы, а
потому не нуждается в том, чтобы мы доказывали это ему своей готовностью к
переговорам. Но фюрера не смягчить. Он считает, что разговор с руководящим
представителем Советов лишь побудит американцев и англичан еще больше
пойти навстречу Сталину, а сами переговоры кончатся полным крахом. Может
быть, фюрер и прав. Ведь в этих вопросах у него всегда было хорошее чутье, и
здесь ему можно полностью довериться. Но все-таки жаль, что в этой
критической ситуации нам приходится и дальше выжидать, не зная, как пойдут
события в ближайшие две-три недели.
Я не скрываю от Хевеля, что главная вина за то, что мы угодили в такую
ситуацию, лежит на Риббентропе. [...] Он должен был со всей настойчивостью
предложить это фюреру гораздо раньше, а именно в тот момент, когда мы еще
могли на переговорах что-то бросить на чашу весов. Но Риббентроп с присущей
ему тупостью судорожно цеплялся за прошлое. [...]
Затем у меня состоялась двухчасовая беседа с фюрером, который после всех
тягот и треволнений последних дней выглядел очень усталым и изможденным.
Но все-таки держится он замечательно. Он служит своим сотрудникам ярким
примером стойкости. Впечатление такое, что железная воля его в основном
сохранилась.
[...] Фюрер просто в отчаянии от того, как развиваются военные события.
Ведь он так верил в то, что на Западе нас отнюдь" не ждут такие крупные
неудачи! Говорит, что это его очень угнетает. В ответ я привожу ему
исторические примеры, но на сей раз они столь хорошо не действуют. Теперь
фюрер без обиняков признает, что Саарскую область практически уже не
удержать и нам ее придется оставить. Кессельринг назначен слишком поздно и
217
ничего уже изменить не может. Фюрер считает, что у нас действует
определенная клика предателей. Только этим можно объяснить, что такой
исключительно укрепленный район, как Трир, почти без борьбы попал в руки
врага. Я это оспариваю. Думаю, фюрер несколько поверхностно объясняет
события. Полагаю, что это следует отнести за счет того, что наши войска не
желают больше сражаться, что они потеряли мужество и уже не видят никаких
перспектив победы. Фюрер же считает, что некоторые командиры все еще
носятся с планом двинуться вместе с западными союзниками против Советов и
что своей уступчивостью перед Западом они пытаются, как им кажется,
осуществить этот план. Сколь ни дико и абсурдно предполагать наличие такого
плана, все-таки возможно, что у некоторых наших политически не подкованных
руководящих военных он мог бы и возникнуть. [...] Я настойчиво излагаю
фюреру мнение, почему наши войска на Западе не сражаются по-настоящему.
Их боевой дух сильно пострадал, а потому у них нет больше того подъема,
который столь настоятельно необходим для сопротивления. [...] Народ желает
хоть маленького проблеска чистого неба на мрачном горизонте нынешнего хода
войны. Но его пока нигде не видно. [...]
Лучшим сообщением последнего времени фюрер считает то, что Рузвельт на
Ялтинской конференции сделал такую уступку: пообещал передать Советскому
Союзу немецких военнопленных, взятых на Западе. Такие и подобные
сообщения наверняка будут способствовать подъему боевого духа наших войск,
ибо должны же мы на Западе где-нибудь закрепиться. Совершенно невыносимо,
что линия фронта там все еще неустойчива. Если теперь мы потеряем Саарскую
область, нам не останется ничего иного, как только стремиться создать фронт по
Рейну. Все наши военные неудачи объясняются превосходством противника в
воздухе, в результате чего практически никакое упорядоченное руководство в
рейхе невозможно. Мы больше не имеем в своем распоряжении ни
транспортных, ни технических средств связи. Разрушены не только наши города,
наша промышленность тоже в значительной мере лежит в развалинах. А
отсюда — подрыв немецкой военной морали. [...] Короче говоря, положение
невыносимое, и потому мы должны приложить все силы, чтобы хоть где-то
достигнуть какого-нибудь военного успеха, пусть даже самого скромного, и тем
снова поднять боевой дух народа. [...]
В отношении политического положения фюрер, как и прежде, стоит на той
точке зрения, что так или иначе в этом году в войне должен наступить перелом.
Вражеская коалиция при любых условиях распадется; речь идет только о том,
развалится ли она прежде, чем мы окажемся поверженными, или уже после того.
Мы должны в первую очередь позаботиться о том, чтобы избежать до этого
момента военной катастрофы. [...] Что касается желаемого распада вражеской
коалиции, фюрер считает, что распад этот может скорее исходить от Сталина,
чем от Черчилля и Рузвельта. Да и со Сталиным нам скорее удастся что-либо
предпринять. Фюрер даже склонен предположить, что конференция в Сан-
Франциско вообще не состоится. Конфликт во вражеском лагере зайдет к тому
времени так далеко, что там не решатся выйти на суд общественности с такими
противоречиями. Хотя я и считаю это мнение иллюзией (думаю, что
конференция в Сан-Франциско все-таки состоится), однако возможно, что она
закончится огромным провалом. Во время этих политических бесед мы постоянно
возвращались к исходному пункту: чтобы получить возможность вступить в
диалог с врагом, мы должны остановиться на всех фронтах и даже добиться
какого-нибудь успеха.
218
23 марта 1945 г. Пятница
[...] Военное положение как на Востоке, так и на Западе стало крайне
критическим, а в последние сутки даже снова изменилось не в нашу пользу. [...]
В Венгрии противник перешел в крупное наступление на широком фронте, и
наши прежние территориальные успехи по большей части стали иллюзорными.
Тем самым планы фюрера выйти к берегу Дуная провалились. [...] В районе
Берлина Советы перешли в хотя и местное, но крайне опасное и сильное
наступление, в ходе которого они пытаются отрезать Кюстринский плацдарм.
[...]
Политическое положение во вражеской коалиции развивается вполне в
соответствии с нашими желаниями. В Англии все еще никак не могут уразуметь,
насколько, без всякого возражения с ее стороны, распространяется советское
господство во многих частях Европы. [...] Вообще можно констатировать, что в
английском общественном мнении возникло своего рода настроение всемирной
катастрофы. [...]Вузвельт на пресс-конференции отказывается назвать какую-
либо дату победы. Он явно имеет в виду наше упорное сопротивление на
Западе, которое стало ощутимо в различных местах, заставив американцев
призадуматься. [...]
США и Англия должны в настоящее время оказать нажим на Кремль в
отношении переговоров о польском правительстве. В данным момент Кремль
проявляет здесь крайнее упрямство и даже отказывается пойти навстречу
английскому предложению о включении Миколайчика в Люблинский комитет.
Сталин подвергает Рузвельта и Черчилля весьма суровому испытанию. При
нынешнем военном положении он явно может это себе позволить.
24 марта 1945 г. Суббота
[...] Англичане наивно представляют себе причины назначения Кессельринга
командующим Западным фронтом. Они думают, что Кессельринг получил от
фюрера задание подготовить германскую капитуляцию. В действительности же,
разумеется, совсем наоборот. Однако для исправления положения на Западе
Кессельрингу требуются время и прежде всего войска и оружие. Судя по тому,
как обстоят дела сейчас, снова создать на Западе абсолютно твердую и
стабильную линию фронта невозможно.
Стоит мимоходом отметить, что в Лондоне слышны немногие голоса о том,
что пропасть между Москвой и Западом непреодолима, если только Москва не
проявит готовности уступить в польском вопросе. А потому конференция в Сан-
Фрагщиско — последний срок для этого. Конференция, вероятно, либо не
состоится, либо кончится ничем. [...]
Мы хотим усилить пропаганду против комитета Зейдлица, особенно на солдат
Восточного фронта. Этот комитет снова дает о себе знать. [...]
Из поступающих ко мне писем тоже видны глубокая апатия и безразличие.
[...] Зловещим кажется мне тот факт, что критика уже распространяется на
самого фюрера, на национал-социалистскую идею и на национал-социалистское
движение, а также то, что многие партайгеноссен уже начинают колебаться.
Ł 1 25 марта 1945 г. Воскресенье
Кох12 утверждает, что Советы несут в Восточной Пруссии невероятные
потери. Он говорит даже о миллионе убитых. Я считаю это число сильно
преувеличенным, но все же можно предположить, что захват Восточной Пруссии
дается Сталину недешево. А в целом генеральной тенденцией нашего ведения
войны в данный момент должно быть стремление заставить врага нести как
можно более кровавые жертвы. [...]
12Гауляйтер Восточной Пруссии. — Прим, перев.
219
27 марта 1945 г. Вторник
[...] Провожу широкую акцию по созданию "Вервольфа"13. Цель ее —
организовать в захваченных врагом областях партизанское движение. Крупных
мер в этом направлении еще не проведено, поскольку ход военного развития на
Западе оказался внезапным и у нас даже не было для этого времени. [...]
Вражеская сторона [на Западе], естественно, чувствует себя на вершине
триумфа в результате своих военных побед. Однако Советы не обращают на
это почти никакого внимания и их газеты отделываются двумя строками.
[...]
Из Берлина отданы на фронт учебные части, что сильно снижает
обороноспособность столицы, к тому же они переброшены со своим оружием.
Попытаюсь добиться, чтобы в имперскую столицу были переданы запасные
части из других районов рейха. [...]
28 марта 1945 г. Среда
[...] В данный момент западный лагерь гораздо враждебней нам, чем
Восточный. [...] Вечером Эйзенхуаэр заявил, что наша главная оборонительная
линия прорвана. Теперь можно двигаться прямо на Берлин. Но я не верю, что
американцы предпримут эту попытку. Они наверняка будут преследовать сейчас
другие, более близкие цели; это уже видно из различных заявлений с их стороны;
например, возьмут на прицел Лейпциг или Кассель. Теперь во все большем
объеме проявляются те политические опасения, которые англо-американцы
испытывают не только в отношении рейха (в связи с желаемым и вскоре
ожидаемым крахом Германии), но и в отношении Европы и которые могут
.оказаться для западного лагеря ужасающими. Европа превратилась в сплошные
развалины. Она стоит перед полной катастрофой. Но, несмотря на это, западный
лагерь упорствует в том, что рейх должен безоговорочно капитулировать. Ряд
влиятельных англичан подводит печальные политические и экономические итоги
этой войны. Они откровенно признают, что потеряли почти все, что Англия
перестала быть великой державой и что эта война может считаться
наиопаснейшим событием в английской истории. Ответственность за это несет
Черчилль. [...]
Фюрер настаивает на выполнении своего приказа о тотальной эвакуации тех
западных областей, которым грозит захват противником, на тотальном
разрушении нашей промышленности. Этот приказ, согласно единодушным
высказываниям всех гауляйтеров западных гау, практически никак выполнен
быть не может. [...]
В полдень фюрер вызывает меня на длительное заседание в Имперскую
канцелярию. Перед этим мне удается накоротке переговорить с генералом
Бургдорфом. Он тоже в довольно удрученном настроении. В данный момент не
видит никакой возможности хоть что-то противопоставить американцам в районе
Майнца; со всех сторон несется просто вопль о спасении. Это — слабое
оправдание, поскольку мы не можем ничего предпринять политическими
средствами до тех пор, пока в военном отношении находимся в столь
безнадежном положении. [...]
Что касается обстановки в районе Майнца, то тут пытаются пока спастись
подручными средствами. Но не только там, айв венгерском районе положение
13Отряды для вооруженной подпольной борьбы против войск антигитлеровской коалиции. —
Прим, перев.
220
тоже стало критическим. Мы находимся под постоянной угрозой потерять наши
важнейшие источники нефти. Наши соединения вели себя здесь жалким образом.
В том числе и лейбштандарт [’’Адольф Гитлер”]. Это уже не прежний
лейбштандарт, ибо его прежние офицеры и рядовые погибли; он только по
старинке носит еще свое почетное наименование. Тем не менее фюрер решил,
что надо для острастки других проучить соединения СС. По его поручению
Гиммлер вылетел в Венгрию, чтобы сорвать у этих соединений их нарукавные
повязки. Это, разумеется, самый страшный позор для Зеппа Дитриха, какой
только можно себе представить. Армейские генералы украдкой радуются тому,
что их конкуренту нанесен такой удар. Соединения СС не смогли осуществить в
Венгрии наступление, напротив, сами отступили и частично рассеяны. Дурной
человеческий материал проявляет здесь себя самым пренеприятнейшим образом.
Зеппа Дитриха просто жаль, но жаль и Гиммлера, который (в отличие от него,
даже будучи шефом СС, не имеет военных наград) должен осуществить эту
суровую *Меру наказания. А ведь Зепп Дитрих носит на шее бриллианты к
Рыцарскому кресту Железного креста (высшая военная награда рейха. —
Перев.). Но еще хуже то, что весь наш нефтяной район под большой угрозой.
Надо сделать все возможное, чтобы сохранить хотя бы эту базу, позволяющую
нам и дальше вести войну.
Сад Имперской канцелярии являет собой картину полного опустошения.
Повсюду одни груды развалин. Бункерные помещения фюрера сейчас допол¬
нительно укрепляют. Сам фюрер полон решимости, даже если положение станет
критическим, остаться в Берлине. В военном окружении фюрера царит
атмосфера конца света — доказательство того, что фюрер собрал вокруг себя
людей слабохарактерных, на которых в тяжелую минуту никак нельзя
положиться. [...]
У нас, в Берлине, разумеется, лихорадочно готовятся к обороне. Однако эти
стремления укрепить город подвергаются суровым испытаниям. Не только из-за
того, что у нас забирают зацасные войсковые части. Пришлось отдать и
значительное количество берлинской зенитной артиллерии, в целом 15 тяжелых
батарей, которые теперь переброшены на фронт в район Одера. Хочу
попытаться спасти для обороны имперской столицы хотя бы часть их.
Затем состоялась обстоятельная беседа с фюрером. Она проходила во время
прогулки по саду Имперской канцелярии. Слава Богу, фюрер в хорошем
физическом состоянии, что бывает с ним обычно, когда он что-либо критикует.
Но я с сожалением замечаю, что он еще больше сгорбился; правда, лицо куда
спокойнее, чем это позволяет нынешняя ситуация. Заметно, что он живет в
состоянии невероятнейшего напряжения. Особенно сильно отразились на нем
события последних дней. Мы ходим целый час вокруг террасы, прогуливаемся
перед его кабинетом, и я пользуюсь случаем высказать ему мое понимание
обстановки. Сообщаю ему, что моральный дух как в тылу, так и в войсках
крайне упал. Мы должны суметь как-то закрепиться, иначе возникнет опасность,
что покатится весь Западный фронт. Я считаю, что фюрер обязан сейчас
выступить по радио с обращением к нации; оно должно длиться не больше
10—15 минут и адресоваться как тылу, так и фронту. Образец я вижу в
выступлении Черчилля в английской, а Сталина в советской кризисной ситуации.
Оба они нашли тогда правильные слова, чтобы вселить в свои народы бодрость.
Во время борьбы нашей партии [за власть] мы тоже действовали так. Но
никогда еще партия не переживала такого кризиса, при котором личное
обращение к ней фюрера было бы столь необходимым, чем когда-либо, чтобы
воодушевить ее. Теперь снова пришел час, когда фюрер должен дать народу
сигнал к дальнейшей борьбе. Я готов и полон решимости развернуть вокруг
этого большую пропагандистскую кампанию, но лозунг должен дать фюрер.
221
Я примерно обрисовываю фюреру содержание его речи, как я это
себе представляю. Решающим аргументом в пользу этого обращения служит
то, что народ услышит от самого фюрера то слово, за которое сможет
ухватиться.
[...] Фюрер все еще придерживается взгляда, что критический ход развития на
Западе — результат измены наверху. [...] Фюрер просто в бешенстве от этого
предательства, но в данный момент еще не знает, откуда именно оно исходит.
Полагает, что из ставки главнокомандующего войсками на Западе. Правда, и в
данном случае можно констатировать, что хотя фюрер и на этот раз близок к
истине, никаких необходимых выводов отсюда он не делает. Фюрер вновь и
вновь подчеркивает: мы должны наконец где-то остановиться, если вообще
хотим овладеть положением на фронте. Я скептически настроен насчет того, что
нам удастся сделать это в ближайшие дни.
Меня очень радует оценка фюрером моей роли: я был единственным, кто
оказался прав в вопросе о Женевской конвенции (об обращении с во¬
еннопленными. — Перев). Все остальные были против. Но они — потерявшие
рассудок буржуа, которые не понимают революционного ведения войны, а
потому и не могут выступать за него. Просто трагично, что фюрер, являющийся
величайшим революционером огромного масштаба, окружен такими посред¬
ственными людьми. Ему нужно было бы подобрать себе другое военное окру¬
жение, а это ниже всякой критики. Теперь он даже Кейтеля и Йодля называет
пацифистами, настолько они устали и израсходовали свои силы, а потому в
нынешнем бедственном положении не в состоянии принимать решения крупного
масштаба. Единственные военачальники, которые отвечают потребностям
современной народной войны, — это Модель и Шёрнер. Модель — тип
интеллектуала, а Шёрнер — эмоционален и с горячим сердцем. Он, несомненно,
добился крупных военных успехов. Но этим число наших крупных полководцев и
исчерпывается. СО тоже не выдвинули из своей среды выдающихся стратегов,
да и Гиммлеру не удалось найти таковых в своих рядах. Они бравые мблодцы,
но не масштабны.
Я напоминаю фюреру о том, чтб мы, к сожалению, упустили сделать в
1934 г., когда нам представлялся к тому случай. То, что хотел Рём, само по себе,
разумеется, было правильным, но практически не было осуществлено этим
гомосексуалистом и анархистом. Будь Рём безупречной и первоклассной
личностью, 30 июня 1934 г.14, вероятно, были бы скорее расстреляны несколько
сот генералов, чем сотня фюреров СА. В этом — глубокая трагедия, и сегодня
мы чувствуем ее последствия. Тогда назрело время революционизировать
рейхсвер. Но эта возможность в силу тогдашнего положения вещей не была
осмыслена фюрером. Вопрос о том, сможем ли мы наверстать сегодня
упущенное тогда. Я в этом сильно сомневаюсь. Однако мы сейчас не можем
идти на меры, рассчитанные на длительный срок, а должны делать то, чего
требует от нас день нынешний.
Самым необходимым сейчас для этого, мне кажется, является речь, которой я
добиваюсь от фюрера. [...] Фюрер сначала не очень-то соглашается, именно
потому, что в данный момент он ничего позитивного слушателям сказать не
может. Но я так настаиваю, что в конце концов он с моим предложением
соглашается. Тут я отступить не могу. Это мой национальный долг: пусть фюрер
даст народу лозунг борьбы за свою жизнь! Знаю, что речь эта дастся ему
нелегко. [...]
Борман в данный момент тоже ведет себя не самым лучшим образом.
Особенно в вопросе радикализации нашей войны, что я, впрочем, от него и
и ак называемая "Ночь длинных ножей". — Прим, перев.
222
ожидал. Как я уже подчеркивал, речь идет о таких людях, которые являются
полубуржуа. Хотя они и думают по-революционному, но по-революционному не
действуют. Теперь надо привести к руководству революционеров. Я уже
подчеркивал фюреру необходимость этого. Фюрер же ответил, что таких людей
в его окружении мало. Наши гауляйтеры на Западе тоже, пожалуй, показали
себя слабаками. [...]
Фюрер считает неверным утверждать, будто мы не берем на себя никакой
ответственности за разрушение нашего военного потенциала. Если мы выиграем
войну, история нас оправдает. Но она откажет нам в этом оправдательном
приговоре, если мы войну проиграем, совершенно безразлично по каким
причинам. Мы обязаны нести ответственность и показать себя достойными ее.
Во время этой беседы с фюрером я мысленно повторял только одно: "Да, ты
прав, все, что ты говоришь, правильно! Но где же дела?"
Можно просто поражаться тому, как постоянно и неуклонно фюрер верит в
свою звезду. Иногда впечатление такое, словно он живет в облаках. Но он,
подобно Deus ex machina15, очень часто спускается с облаков на землю. Он, как и
прежде, убежден: политический кризис во вражеском лагере дает нам право на
величайшие надежды, сколь ни мало мы можем говорить об этом в данный
момент. Мне очень больно, что он не производит никаких персональных
изменений ни в руководстве рейха, ни в дипломатии. Геринг остается,
Риббентроп остается. Все эти обанкротившиеся люди — за исключением
руководителей второго эшелона — сохраняются на своих постах, а, по моему
разумению, было бы необходимо именно здесь произвести такую смену лиц,
которая возымела бы решающее значение для морального состояния нашего
народа. Несмотря на, все мои усилия, я никак не могу убедить фюрера в
необходимости предложенных мной мер. [...]
Что касается Востока, то, за исключением Венгрии, фюрер ходом развития
доволен. [...] Шёрнер держится хорошо. Он имеет здесь выдающиеся
оборонительные успехи, оправдывающие большие надежды. Тем не менее
положение в Венгрии стало ужасающим. [...]
Во время этой беседы фюрер проявлял по отношению ко мне редкостную
открытость. Я очень счастлив, что пользуюсь его неограниченным доверием.
Как хотел бы я помочь ему во всех его заботах и бедах! Во всяком случае, хочу
сделать все для того, чтобы со своей стороны не создавать ему трудностей.
Затем он говорит мне, что мы, руководство и руководимые, должны продолжать
бороться, держаться и выстоять. Надо мыслить и действовать по-рево-
люционному. Пришел час, когда надо сбросить буржуазную скорлупу. Никакая
половинчатость недопустима. Теперь настал час цельных мужчин и цельных
действий. Пусть положение и ужасное, все равно его можно изменить напря¬
жением всех наших сил.
Тем временем все собрались для обсуждения обстановки. Гудериан производит
впечатление чрезвычайно усталого и беспокойного человека. Другие шар¬
кающие ногами фигуры тоже не укрепят фюрера в его стойкости. Но,
слава Богу, у него ее от природы столько, что в усилении ее другими он не
нуждается.
29 марта 1945 г. Четверг
[...] Эйзенхауэр в своих прогнозах несколько осторожнее, чем его военные
корреспонденты. [...] Если ему удастся отрезать друг от друга Северную и
Южную Германию, заявляют западные военные обозреватели, война
1 буквально: Бог из машины (лат.) — эффектное появление божества на арене из специальной
конструкции в древнеримском театре. — Прим, перев.
223
практически выиграна. [...] Однако он сейчас наверняка не направит свой удар
непосредственно на Берлин.
[...] О положении на Востоке следует сказать только, что кризис в Венгрии
чрезвычайно обостряется и дальше. Наши сражающиеся там дивизии СС
больше, кажется, закрепиться не смогут. Теперь наши нефтяные источники под
серьезной угрозой, чего фюрер любой ценой хотел избежать.
31 марта 1945 г. Суббота
[...] Ход событий в Венгрии внушает большие опасения. Здесь мы вскоре
встанем перед серьезным вопросом, сумеем ли мы вообще еще держаться. Во
всяком случае, Советы уже перешли границу рейха. 5-я армия под командо¬
ванием Зеппа Дитриха наголову разбита ими.
[...] Днем фюрер вызывает меня к себе, чтобы еще раз обсудить со мной
вопрос о его речи к немецкому народу. У меня такое впечатление, что он не
очень-то склонен выступать. Заявляет, что принял на Западе чрезвычайно
широкие меры военного характера. Необходимо, чтобы прежде чем он выступит
перед народом, ясно проявилось понимание нашего положения. Пока этого еще
не произошло. Боевой дух наших войск не может быть подстегнут, пока они не
получают подкреплений и не обладают новым оружием. [...] Впечатление такое,
что в последние дни фюрер сильно переутомился. Например, за последние сутки
он спал всего два часа. Это объясняется тем, что фюрер не имеет таких
сотрудников, которые взяли бы на себя значительную часть повседневных
текущих дел. Поэтому ему приходится сейчас отправить Гудериана в отпуск,
ибо тот стал истеричен и нервозен, а в результате создает больше беспорядка,
чем порядка. На место Гудериана фюрер поставил генерала Кребса, который
долгое время был начальником штаба у Моделя. Одно время он был военным
атташе в Москве, но не развращен дипломатической службой. Да и вообще
Кребс — прекрасная личность! Особенно одаренным сотрудником Гудериана
является генерал Венк, который тоже не раз бывал у фюрера с докладом. К
сожалению, при поездке по делам, связанным с Померанской операцией, он
попал в аварию и теперь с тяжелыми травмами лежит в госпитале. Модель,
разумеется, тоже мог бы стать тем человеком, на которого можно положиться,
но в данный момент он стоит перед почти не выполнимой задачей, так как для
улучшения положения на Западе ему нужны войска, которых пока нет. Поэтому
ему нельзя подбросить подкрепления. Кессельринг направлен на Запад слишком
поздно и потому не сможет создать там такой же прочный фронт, как в
Италии.
[...] Мы должны попытаться сейчас всеми силами создать на Западе новый
фронт, а для этого приемлемы все меры, в том числе и импровизационные.
Ужасны для нас экономические потери, особенно угля и железа. Сначала мы
потеряли Верхнесилезский промышленный район, затем из наших рук выпал
Саар, а теперь потеряна и половина Рурской области. [...]
Я подробно докладываю фюреру о предпринятых пропагандистских мерах в
отношении Запада. [...] Антианглийская и антиамериканская пропаганда — вот
теперь веление времени. Только в том случае, если мы сумеем разъяснить
нашему народу, что англичане и американцы намерены поступить с ним так же,
как и большевики, он займет другую позицию по отношению к врагу на Западе.
Если нам удалось так ожесточить наш народ против большевиков и вызвать к
ним ненависть , почему же мы не сможем сделать это и по отношению к англо-
американцам? Однако мы, вопреки моим советам, допустили ошибку: не вышли
из Женевской конвенции. Сделай мы это, число немецких солдат, которые в
224
теперешних боях на Западе сдались в англо-американский плен, наверняка не
было бы таким большим, как, к сожалению, сейчас. Фюрер считает, что я
абсолютно прав. Он дал уговорить себя Кейтелю, Борману и Гиммлеру всякой
болтовней, а потому не сделал того, что является целесообразным. Фюрер
признает, что я единственный, кто в этом вопросе был прав. В остальном же
фюрер убежден, что примерно за восемь — десять дней мы кое-как заштопаем
дыры на Западе. [...]
Положение на Востоке, разумеется, доставляет фюреру много забот. Он
считает, что оно в значительной мере испорчено Гудерианом, который не
обладает характером, необходимым для консолидации всех сил, и быстро теряет
самообладание. Это он показал в качестве командующего войсками и на Западе,
и на Востоке. На Востоке Гудериан в критическую зиму 1941/1942 г. самовольно
начал отступление и тем расшатал весь фронт. Вслед за Гудерианом отступили
Кюхлер и Гёпнер. Таким образом, крупный кризис на Востоке зимой 1941/1942 г.
нужно отнести на счет Гудериана. Генералитет сухопутных войск тогда
совершенно растерялся. Он в первый раз столкнулся с военным кризисом, а до
этого одерживал одни только победы. И вот тогда он сразу же решил отступать
до самой границы рейха. Фюрер описывает мне еще раз драматическую беседу,
которую он имел тогда с Кюхлером. Тот предложил ему, бросив всю технику и
боеприпасы, отвести войска, если надо, до самой имперской границы. Поступи
он, фюрер, так, война, вероятно, закончилась бы уже зимой 1941/1942 г. [...]
Фюрер также придерживается взгляда, что у Гиммлера никаких оперативных
способностей нет. Хотя тот и педант, но никакой не полководец, и это он
доказал во время операций в Померании, которые были совершенно загублены
его жалким оперативным мышлением. Да и вообще, по мнению фюрера, СС не
дали ни одного военачальника крупного масштаба. Ни Зепп Дитрих, ни Хауссер
не принадлежит к числу крупных оперативных дарований. Действительно
стоящими среди них были только Хубе и Дитль, но их обоих фюрер потерял из-
за авиационных катастроф. Кто же еще остается? Шёрнер, обладающий
большим оперативным талантом и действующий выдающимся образом. Он
готовит свои операции тщательно и небольшими силами заставляет противника
отступать. Он молодчина, на него можно смело положиться. А самое главное —
говорит фюреру правду. То, что Зепп Дитрих в случае с Венгрией этого не
сделал, очень ожесточило фюрера. Он говорит даже об исторической вине Зеппа
Дитриха. И все-таки мы должны, вероятно, считаться с тем, что венгерский
нефтяной район мы потеряем. Пока еще дело до этого не дошло, но дойти
может. Если добавить сюда еще и разгром в Померании, то войска СС в
последний период имеют на своей совести многое. А потому кредит Гиммлера у
фюрера здорово упал. С другой стороны, нельзя отрицать, что в настоящий
момент нас преследуют несчастья, целая цепь несчастий. Эти несчастья нельзя
отнести только на счет несостоятельных военных сотрудников; они объясняются
и недостаточностью тех средств, которые имеются в нашем распоряжении.
Для меня было очень огорчительно видеть фюрера в таком плохом
физическом состоянии. Он рассказывает мне, что почти не спит, что все время в
работе и что его изматывает необходимость постоянно подстегивать мало¬
сильных и бесхарактерных сотрудников. Могу себе представить, насколько это
трудное и изнурительное дело. Мне искренне жаль фюрера, когда я вижу его в
таком физическом и душевном состоянии. Но, несмотря на это, я не могу
отступиться от моего требования, чтобы он как можно скорее выступил перед
народом. [...] Фюрер был со мной при этой беседе чрезвычайно мил и
предупредителен. Сразу заметно, что он счастлив поговорить с человеком,
который не падает в обморок при каждом кризисе. [...]
8 Новая и новейшая история, № 5
225
1 апреля 1945 г. Воскресенье
В Лондоне снова подчеркивают, что речь может идти для Германии только о
суровом мире. [...]
Время от времени в Лондоне высказывается опасение, что наше отступление
на Западе отвечает нашему какому-то более далеко идущему плану и что,
отступая, мы имеем намерение соединить наши войска, действующие на Западе,
с действующими на Востоке, чтобы вместе с большевиками делать затем одно
общее дело против англо-американцев. Отсюда могли бы возникнуть большие
возможности для конфликта, особенно если политический конфликтный материал
во вражеской коалиции стал бы принимать угрожающие размеры. "Манчестер
гардиан" даже констатирует, что для проведения конференции в Сан-Франциско
среди союзников нет ни малейшего единства. Стеттиниус (государственный
секретарь США. — Перев.) будто бы под нажимом общественного мнения
одобрил заключенное в Ялте секретное соглашение, по которому Сталину
обещано три голоса [в ООН].
В полдень приходит сенсационное сообщение: конференция в Сан-Франциско
состоится при любых условиях. У Сталина явно нет сейчас желания пускаться с
англо-американцами в длинные дебаты. Он обосновывает это тем, что не может
послать Молотова в Сан-Франциско, так как тот должен сейчас участвовать в
обсуждении (на сессии Верховного Совета СССР. — Перев.) советского
бюджета. Довольно циничное заявление; сно наверняка вызовет в Лондоне и
Вашингтоне соответствующую реакцию. [...]
Сообщения, которые получают органы имперского министерства пропаганды,
а также письма, приходящие к нам, вполне естественно, полны отчаяния.
ПоВрюду наблюдается тенденция роста у населения уверенности в том, что
война проиграна. В результате потери многих областей у нас уже нет больше
никакой промышленной базы, так что никаких шансов у нас больше быть не
может [...] Повсюду население сильно критикует государственное и партийное
руководство, считает ход событий на Западе ужасным и возлагает единственную
надежду на наше сопротивление на Востоке, но все же готово сделать все, что
требует от него государственное руководство. [...]
В течение дня военное положение на Западе становится еще более
драматическим. Обсуждение обстановки у фюрера длится свыше четырех часов.
Фюрер крайне раздражен тем, что приказы, отданные им, еще не привели к
облегчению нашего положенйя. В длинных телефонных переговорах он
обращается к командующим армиями на Западе, заклиная их оказывать
сопротивление и разъясняя им, что речь идет о важнейших событиях войны.
2 апреля 1945 г. Понедельник
Оценка вражеской стороной возможности германской капитуляции
различна. Частично говорится, что сопротивление наших солдат все еще
фанатическое, как это имеет место на Нижнем Рейне; частично — что его
вообще не чувствуется. [...] Положение на Западе чрезвычайно ухудшилось и в
данный момент должно считаться просто безнадежным. [...]
Наша вервольфовская деятельность повергла вражеский лагерь просто в
ужас; там испытывают ярко выраженный страх перед немецкими партизанами и
считают, что это может на многие годы создать в Европе самое неспокойное
состояние. Тем не менее там нет и малейших признаков отказа или даже
отмежевания от просто-таки безумных планов уничтожения Германии.
Немецкому народу предлагают на многие годы голод. Американцы явно хотят
играть роль воспитателей, которые закроют немецкие школы и сами займутся
226
воспитанием немецкого народа. Кроме того, по плану Моргентау (министра
финансов США. — Перев.) Германия должна превратиться в одно сплошное
картофельное поле, отправлять своих годных к военной службе юношей в
качестве рабов за границу и еще выплачивать репарации. Короче говоря,
каждый может сам нарисовать себе, как его лучше всего прикончат. Мы живем
в столь безумное время, когда разум человеческий совершенно не котируется; он
вообще молчит. Циничные угрозы, раздающиеся из вражеского лагеря, не
поддаются никакому описанию. Они не только не порядочны, но не отвечают и
здравому человеческому рассудку. Однако это не беспокоит Рузвельтов и
Черчиллей! Они чувствуют себя на высоте своего военного триумфа и полагают,
что могут не считаться с соображениями человеческого разума. Они вымещают
этим свою злость на поведение Кремля. Англичане и американцы отказались
признать Люблинский комитет полноценным польским правительством и пойти
на его участие в сан-францисской конференции. Они обосновывают это прежде
всего тем, что Сталин не сдержал своего данного на конференции в Ялте
обещания реорганизовать этот комйтет.
[...] Сталин наверняка ответит на это резким контрходом.
[...] США же полностью видят всю бесплодность созываемой в Сан-
Франциско конференции и выступают за ее отсрочку. Они совершенно точно
знают, что эта конференция приведет к огромному политическому кавардаку,
особенно потому, что обещанные Сталину на конференции в Ялте три голоса
(для СССР, Украины и Белоруссии. — Перев.) вызвали у американской
общественности бурю возмущения. В результате Рузвельт оказался зажатым во
внутриполитические тиски. Его обвиняют даже не столько за уступку Советам
по вопросу о трех голосах, сколько за то секретничание, с каким был совершен
этот тактический маневр. Газеты откровенно говорят о конфликте со Сталиным,
бросающим мрачную тень на конференцию в Сан-Франциско. Сталин не имеет
никакого намерения как-либо вступать в войну на Тихом океане, в результате
чего, если прибавить к этому европейский конфликт, третья мировая война
оказалась бы в непосредственной близости.
Эти дебаты ведутся в Соединенных Штатах гораздо сильнее, чем в Англии,
где в настоящее время все заняты только ликованием по поводу военных побед.
Ведь Черчилль очень заинтересован в том, чтобы отвлечь английскую
общественность от явного политического кризиса в ходе войны, сконцентрировав
его внимание на военных событиях. Тем не менее политический кризис во
вражеской коалиции уже разросся настолько, что мы имеем все основания
оставаться стойкими, не поддаваться никаким вражеским посулам, не проявлять
никакой трусости и не идти на капитуляцию.
Советы сейчас пытаются со своей стороны благодаря собственным военным
успехам ставить союзников перед свершившимися фактами. Как на Западе
продвигаются вперед англо-американцы, так продвигаются вперед на Востоке и
они, наступая к границе рейха через территорию Венгрии. Они уже на
значительном протяжении перешли австрийскую границу и теперь вступают в
Грац. Сталин, видимо, поставил Красной Армии цель — до 25 апреля не только
овладеть Веной и Прагой, но и взять Берлин. Мы должны считаться с
возможностью этого наступления в ближайшие недели. О каком-либо смягчении
военного кризиса пока речь идти не может.
Что касается Праги, то она является целью как американцев, так и Советов.
Однако Советы политически уже подготовили себе здесь почву. Бенеш провел
последние дни в Москве и теперь формирует новое правительство. Он готов
сейчас же переселиться в Чехию, а потому уже покинул Москву. [...]
[...] Я знаю, что движение "Вервольф” в настоящий момент еще не достигло
большой активности. Тем не менее я энергично продолжаю его пропаганду. Хочу
полностью взять это движение в свои руки не только потому, что считаю себя
8* 227
пригодным для этого, но и потому, что намерен вдохнуть в него больше страсти
и энтузиазма. Оно не должно быть делом одной СД. Только организационной
работой теперь многого не достигнешь. Слишком далеко уже зашло дело.
У американцев забот тоже хватает. Сроки созыва конференции в Сан-
Франциско стали еще туманнее. [...] Плохим предзнаменованием для
конференции служит то, что уже поговаривают о встрече Пяти. В этой встрече
Пяти должны участвовать министры вражеских государств (т.е. также Германии
и Италии. — Перво.). Но Сталин никоим образом не согласен с этим
предложением. [...] Я убежден в том, что этот материал для политического
кризиса очень скоро может привести к взрыву, если только он не будет
преодолен снова военными успехами вражеской стороны. [...]
4 апреля 1945 г. Среда
На Восточном фронте центр тяжелых боев — в Венгрии, где давление
противника все еще сохраняется. [...] Тяжелые бои — в Чехии и Моравии, где
противник непрерывно предпринимает сильные атаки.
Что касается политического кризиса в ходе войны, то можно констатировать
возрастающее недовольство американской общественности прежде всего
политикой Кремля. Сан-Францисская конференция,почти везде считается
списанной со счетов, ибо [западные союзники] надеются на встречу Большой
Тройки, которая ее заменит. Однако еще не известно, пойдет ли на это Сталин.
Сталин обращается с Рузвельтом и Черчиллем как с придурками, и остается
только надеяться, что такое его поведение постепенно приведет к тому, что
чаша терпения руководителей стран Запада лопнет, и в их отношении с
Востоком произойдет разрыв.
Конференция в Сан-Франциско — уже дело вчерашнего дня. Предполагается
также, что Черчилль намерен слетать в Москву с покорнейшей просьбой к
Сталину пойти на уступки. Политический кризис во вражеском лагере зависит от
хода событий в ближайшие 14 дней. Главный вопрос сейчас — удастся ли нам
более или менее организовать сопротивление на Западе. [...]
Я неустанно тружусь над тем, чтобы разъяснить немецкой прессе цели нашей
сегодняшней военной политики. [...] У нашей печати — весьма боевое лицо.
Серьезность ситуации не замалчивается, но читателю даются и такие
аргументы, которые могут поднять его моральный дух, чтобы справиться с
нынешней ситуацией. Я сформулировал требования к германской печати. Они
таковы:
"1. Вся немецкая пропаганда и информационная политика должны служить
исключительно одной цели: содействовать сопротивлению и военным усилиям,
поднимать и укреплять моральный дух войск на фронте и населения в тылу. Для
достижения этой цели использовать все средства прямого и косвенного
воздействия на читательскую и радиоаудиторию. Всему, что может этой цели
повредить или же вызвать пассивное отношение к ней, ни в печати, ни на радио
места больше нет. Все, что идет этой цели на пользу, следует решительно
поощрять и ставить в центр нашей информационной политики.
2. Главное дело прессы и радио — разъяснять народу, что западная сторона
преследует те же гнусные цели и вынашивает те же дьявольские планы
уничтожения немецкого народа, что и восточная. Жестокая воздушная война,
ведущаяся англо-американцами, доказывает зверство западного врага и делает
ясным, что все его примирительные речи служат целям обмана, дабы парализо¬
вать нашу борьбу за право на жизнь. Наша задача — постоянно указывать, что
Черчилль и Рузвельт в такой же мере, как и Сталин, безжалостно и беззастен¬
чиво осуществили бы свои планы уничтожения немецкого народа, если бы он
когда-либо поддался этому и подчинился вражескому игу”. [...]
228
Фюрер вполне согласен с моими указаниями. Он убежден, что мне удалось
направить нашу политику в отношении прессы в правильное русло. [...]
От Бормана исходит новая волна всяких указаний и распоряжений. Он
превратил Партийную канцелярию в бумажную канцелярию. Каждый день
рассылает целую гору писем и различных документов, которые сегодня ни один
находящийся в гуще борьбы гауляйтер даже и прочитать не может. В
большинстве своем все это бесполезный хлам, совершенно не применимый для
практической борьбы. В партии у нас также нет четкого, стоящего в гуще
народа руководства. [...]
На Западе сейчас — и по мнению фюрера тоже — решается исход войны.
Фюрер неустанно толкает генералитет на сопротивление и не оставляет
неиспользованным ни одного средства, чтобы бросить на Запад все свободные
войска. Он почти ежедневно говорит по телефону с каждым командующим
армией в отдельности, разъясняет ему, что стоит на карте и каковы его долг и
обязанность. По-моему, было бы еще лучше, если бы фюрер обратился с речью
непосредственно к народу, ибо отсюда практически и исходит сопротивление в
своей первозданной форме. [...] Сегодня у народа, как и у сражающегося
вермахта, нет зажигательного лозунга, который увлек бы за собой и мужчин, и
женщин. Этот зажигательный лозунг может, судя по положению вещей, дать
только фюрер. А генералы неправильно считают, что вместо фюрера должен
выступить я.
Ситуация такова, что только слово фюрера может устранить тот душевный
кризис, в котором сейчас живет народ; и то, что фюрер не выступает, я считаю,
наносит огромный урон. Пусть у нас в данный момент и нет никакого успеха,
который можно использовать; все равно фюрер мог бы произнести это слово —
ведь следует выступать не только при успехах, но и при неудачах. В настоящее
время требовать от фюрера решений очень тяжело. Он занят почти
исключительно положениием на Западе и ни для чего иного времени не имеет.
Но если ему все-таки удастся изменить ситуацию на Западе, это будет такое его
деяние, которое решит исход войны. [...]
При обсуждении обстановки в этот вторник фюрер больше не ругает
генералов. Он прилагает все усилия, чтобы вновь увлечь за собой своих военных
сотрудников, влить в них мужество и внушить им веру в дальнейший ход
событий. Он проповедует неустанную борьбу и стойкость в сопротивлении,
такую же, как я в нашем "Вервольфе". Мои ежедневные директивы прессе тоже
должны показать генералитету, как следует решать такую задачу. Фюрер
весьма доволен моей работой по "Вервольфу". Он говорит, что в таком
положении надо делать все, чтобы не дать народу впасть в отчаяние. [...]
8 апреля 1945 г. Воскресенье
[...] Получил от Боле16 сообщение об активных действиях министерства
иностранных дел в нейтральных странах. Министерство начало проявлять актив¬
ность как в Швейцарии и Швеции, так и в Испании. Результаты убийственные.
С Англией в настоящий момент вообще каши не сваришь. Британская политика
под руководством Черчилля совершенно непримирима: он однажды втемяшил
себе в голову мысль разрушить Германский рейх и уничтожить немецкий народ.
Тут, по моему мнению, нам не открывается даже малейшей лазейки. [...]
Рузвельт не столь недоступен, как Черчилль, но, разумеется, требуется еще ряд
предпосылок, чтобы вступить с США в разговор. Наиболее эффективным
16
Руководитель Заграничной организации НСДАП. —Прим, перев.
229
оказался зондаж в отношении Советского Союза. Однако он требует Восточную
Пруссию, что, ясное дело, является требованием невыполнимым. Министерство
иностранных дел действовало на этих переговорах довольно неуклюже. Оно
пользовалось средствами рутинной дипломатии, которые совершенно непригодны
для того, чтобы разъяснить вражескому лагерю национал-социалистскую пози¬
цию. Но чего иного можно ожидать от министерства иностранных дел? Риббент¬
роп публикует в газетах свои фотографии, на которых он красуется в окопах
Восточного фронта. Каждый, кто видит эти снимки, приходит к выводу, что у
германского министра иностранных дел есть дела поважнее, чем без толку
болтаться на Восточном фронте.
В целом же можно констатировать, что в Лондоне обеспокоены имперской
политикой Кремля гораздо сильнее, чем в Вашингтоне. В Лондоне заявляют
уже, что перспективы будущего мира на Земле ужасны, если Кремль решится
эту политику продолжать . Военные успехи оказались бы этим перечеркнуты,
полностью отодвинуты на второй план. Но эти соображения Лондона, по
крайней мере пока, нейтрализованы в Вашингтоне тем ловким шахматным
ходом, который Сталин предпринял в отношении Токио. Японцам стало
совершенно ясно, что японо-советский договор о нейтралитете действует еще до
апреля 1946 г., но это слабое утешение.
В остальном же советская пресса в данное время резко выступает против
слухов насчет переговоров о сепаратном мире между Москвой и Берлином. Но
эти разглагольствования куда мягче, чем можно было бы предположить. Сталин
и здесь хочет держать двери открытыми. [...]
На Востоке критический пункт — в районе Вены. Противник уже пробился до
границы города. [...]
Фюреру приходится прилагать невероятные усилия, чтобы держаться в этой
сверхкритической ситуации. Но у меня все-таки есть надежда, что ему с нею
удастся справиться. Ведь он всегда умел с присущим ему спокойствием
дождаться своего шанса. [...] Когда такой шанс появится, он его ни за что не
упустит.
9 апреля 1945 г. Понедельник
Центр тяжелых боев на Востоке — сильные атаки противника в районе Вены
и под Кёнигсбергом. [...]
В Лондоне наблюдается поворот в настроений, причем там уже не говорят о
непосредственно предстоящем конце войны, а готовятся к дальнейшему
продолжению военных операций. Жестокое пробуждение от пасхальных
иллюзий, когда со дня на день ожидали германской капитуляции! [...] Теперь для
разгрома германского рейха там опять дают себе срок в три месяца. Думаю, что
этим неоднократно повторявшимся установлением сроков окончания войны
английское руководство очень недовольно. Там видят, что такая близорукая
пропаганда в долгосрочной перспективе себя не оправдывает. [...]
Печальное известие получено через Юнайтед Пресс из Мюльхаузена в
Тюрингии. Там, в Зальцбергских копях, находился весь наш золотой запас весом
в сотни тонн, а к тому же потрясающие художественные ценности, в частности
Нефертити. Все это попало в руки американцев. Я всегда выступал против того,
чтобы золото и сокровища искусства были вывезены из Берлина, но Функ17,
несмотря на мои возражения, не нашел ничего лучшего, как все-таки сделать
это. Вероятно, его уговорили собственные сотрудники, которые наверняка
17Имперский министр хозяйства. — Прим, перев.
230
сумели под этим предлогом смыться в более спокойную Тюрингию, а не
оставаться в Берлине. И теперь они, преступно нарушив свои должностные
обязанности, отдали бесценные сокровища искусства, принадлежащие немецкому
народу, в руки врага. [...]
Из всех сообщений можно понять, что во вражеской коалиции один боится
другого, но самый сильный страх и наибольшее недоверие там испытывают к
Сталину. [...]
Важнейшие для нашего продовольственного снабжения и для нашего
вооружения области нами потеряны. Фюрер должен как можно скорее начать
наше наступление в Тюрингии, чтобы мы смогли перевести дыхание. Но сегодня
при тех силах, которые еще имеются в нашем распоряжении, дышать свободно
нам осталось уже недолго. [...]
[На дате 10 апреля 1945 г. дневниковые записи, содержащиеся в немецком
издании, обрываются].
231
Письмо в редакцию
КАК НЕ СЛЕДУЕТ ПЕРЕИЗДАВАТЬ КНИГИ
К 180-летию великого подвига народов России — "грозы 12 года" — была
переиздана классическая работа академика Е.В. Тарле "Нашествие Наполеона
на Россию. 1812 год"1. Сам по себе этот факт заслуживает бесспорного
одобрения. На фоне множества "поделок", появившихся в последнее время на
книжном рынке, труды такого выдающегося мастера пера, как Тарле, отвечают
требованиям самого широкого круга читателей, живо интересующихся военным
прошлым нашей Родины. И неудивительно, что 100-тысячный тираж настоящего
переиздания "Нашествия" отнюдь не мог удовлетворить читательский спрос.
Книга сразу же стала библиографической редкостью.
Не могли в этом сомневаться и издательский редактор и автор послесловия к
книге, а потому они были обязаны самым серьезным образом подойти к решению
стоявшей перед ними задачи. К сожалению, этого не получилось. Книга
подготовлена к переизданию небрежно, содержит большое количество фак¬
тических ошибок. Издательством был избран изначально неверный путь
воспроизведения труда Тарле издания 1943 г. без необходимых коррективов его
научного аппарата.
Первое издание "Нашествия Наполеона на Россию" было опубликовано в
1938 г. К сожалению, с библиографической точки зрения оно страдает
существенными огрехами: неточностью описания многих упоминаемых работ,
отсутствием в ряде случаев указания на номера тех или иных периодических
печатных изданий, путаницей в ссылках на страницы цитируемых работ,
отсутствием названий архивных фондов, сносок и т.д. Все эти недостатки
сохранило и издание 1943 г. Но при подготовке к печати 12-ти томного собрания
сочинений Тарле указанные недостатки были устранены его составителем —
секретарем историка А.В. Паевской, "Нашествие" вошло в VII том "Сочинений"
Тарле.
Воениздат же решил пойти по линии "наименьшего сопротивления" и
воспроизвел без необходимой доработки издание 1943 г. Ничего хорошего из
этого не получилось. Более того, его недостатки были усугублены автором
послесловия В.Н. Балязиным.
Уже с первых строк послесловия начинаются неточности. Так, неверно
утверждение В.Н. Балязина о том, что издание "Нашествия" 1943 г. было вто¬
рым изданием книги Тарле. На самом же деле второе издение вышло в 1940 г.
в Детгизе. Не соответствует истине и то, что когда Тарле "начал писать...
книгу", он уже был "действительным почетным членом (неясно, где
"действительным", а где "почетным". — В.Д.) академий и национальных науч¬
ных обществ Британии и Норвегии, почетным доктором университетов Парижа,
Брно, Алжира и Осло» (с. 295). Ничего этого в 30-е годы не было. Действи¬
тельным членом Академии наук в Осло Тарле был избран в 1946 г., членом-
1 Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год. Редактор В.В. Амельченко, автор
послесловия В.Н. Балязин. М.: Воениздат, 1992.
232
корреспондентом Британской академии для поощрения исторических, фило¬
софских и филологических наук — в 1944 г., почетным доктором Сорбонны —
в 1945 г., университетов в Брно, Осло и Алжирского — в 1944 г. и Пражского —
в 1948 г.
Ничем не подтверждает В.Н. Балязин свое заявление о сближении Тарле в
канун революции 1905 г. с социал-демократами (с. 296). Там же Петербургский
технологический институт назван ’’техническим” и т.д. Но это детали. Есть
утверждения, требующие более серьезного разбора.
Так, цитируя высказывание историка Н.А. Троицкого, и солидаризируясь с
ним, Балязин считает, что именно Тарле с 1938 г. ввел в употребление термин
"отечественная” война, применительно к войне 1812 г., который до этого с
1917 г. якобы не употреблялся (с. 299). С этим утверждением решительно нельзя
согласиться. Действительно, историки-марксисты, и в первую очередь
М.Н. Покровский, относились сугубо негативно ко всем событиям в истории
России, хоть как-то связанными с ее военным прошлым. И, видимо, не случайно
у В.И. Ленина мы вообще не найдем оценки войны 1812 г. Эту задачу взял на
себя Покровский, который был менее всего склонен считать войну между
Францией и Россией отечественной, ставя обычно само это слово в иронические
кавычки.
Однако, если бы В.Н. Балязин обратился к трудам русских военных историков
А.И. Верховского, А.А. Свечина, М.С. Свечникова и других, пришедших в
Красную Армию из царской армии и включившихся в преподавание военных
наук в стенах высших военно-учебных заведений, то он мог бы легко убедиться,
что понятие "Отечественная война” употреблялось и в 20-е, и в первую
половину 30-х годов2.
По меньшей мере некорректен упрек, адресованный В.Н. Балязиным одному
из первых исследователей жизни и творчества Тарле Е.И. Чапкевичу,
"неожиданно сообщившему”, по словам В.Н. Балязина (с. 297), о том, что в
1931—1932 гг. Тарле был профессором Казахского (точнее — Казахстанского. —
В.Д.) университета, и не указавшему, какие события этому предшествовали,
имея в виду сначала арест, а затем ссылку Тарле в Алма-Ату.
Наужели В.Н. Балязин не понимает, что в 1967 г., когда была опубликована
упоминаемая статья Е.И. Чапкевича, и мечтать не приходилось, чтобы эти
факты могли попасть в печать. Как редактор книги Е.И. Чапкевича3,
опубликованной десять лет спустя после его вышеназванной статьи, могу
засвидетельствовать, что все попытки что-либо сказать об этом трудном
периоде в жизни историка также не увенчались успехом. Была даже состряпана
разгромная рецензия, чтобы сорвать издание книги. Из рукописи было
"вырублено” около двух печатных листов, иначе она вообще бы не увидела свет.
И лишь в 1990 г. Е.И. Чапкевичем была опубликована статья4, где было
рассказано о всех перипетиях, связанных с арестом Тарле и его ссылкой. Можно
лишь выразить недоумение, почему В.Н. Балязин не счел нужным ознакомиться
с этой статьей.
В.Н. Балязин ошибается, утверждая, что судимость с Тарле была снята в
1937 г. На самом же деле это произошло много позже — 20 июля 1967 г.,
кстати, лишь после обращения в соответствующие органы Е.И. Чапкевича.
Лишь удивление вызывает утверждение В.Н. Балязина (с. 299) по поводу того,
что Тарле приступил к работе над книгой "Наполеон” в 1931 г., т.е. как только
2См. Абалихин Б.С., Дунаевский В.А. 1812 год на перекрестках мнений советских историков.
1917—1987. М.» 1990, с. 45—47.
^Чапкевич Е.И. Евгений Викторович Тарле. М., 1977.
4Ег<? же. Страницы биографии академика Е.В. Тарле. — Новая и новейшая история, 1990, Хе 4.
233
он прибыл в Алма-Ату. И это сразу после почти годичного пребывания в
"Крестах” и начавшейся ссылки. На самом деле Тарле приступил к написанию
"Наполеона” только после поручения, данного ему, вероятнее всего, И.В. Ста¬
линым в 1935 г., и в этом же году рукопись была завершена.
Ничем В.Н. Балязин не может подтвердить наличие "частых встреч" Тарле с
А.М. Горьким (с. 300) и даже факта их знакомства.
Недостаточно убедительно представляет В.Н. Балязин причины кампании,
начавшейся против Тарле в 1951 г., несомненно, инспирированной Сталиным,
который был недоволен тем, что Тарле затягивал выполнение его личного
поручения: написать трилогию о нашествии на Россию шведов, Наполеона и
Гитлера. Последнюю часть Тарле явно не хотелось писать, а именно она
особенно и была нужна Сталину, рассчитывавшему предстать в ней, да еще под
пером выдающегося мастера художественного слова, во всем своем "величии".
Кстати, главного исполнителя этой кампании, автора антитарлевской статьи в
журнале "Большевик"5 С.И. Кожухова, В.Н. Балязин почему-то именует
"начинающим историком" (с. 301). Вряд ли Кожухов был нужен в подобном
качестве, а вот как директор Бородинского музея он мог сыграть ту роль,
которая ему и предназначалась. Вся эта ситуация достаточно подробно и
обстоятельно рассмотрена в упомянутой выше статье Е.И. Чапкевича и
повторять ее нет необходимости.
Несколько слов об иконографическом материале книги. На с. 104 помещен
портрет А.П. Ермолова, названного "Ермольевым". На с. 31 помещены два
портрета маршала Мюрата, однако читателя пытаются убедить, что на одном
из них изображен маршал Даву, хотя всем известно, что Даву был лыс, а на
портрете изображен человек с пышной шевелюрой.
И, наконец, как-то уж очень неприятно читать слова, хотя прямо и не
относящиеся к рассматриваемой нами теме, о том, что Н.Е. Носов — "ныне
профессор истории” (с. 303), в то время как профессор Носов умер еще
в 1985 г.
Таковы результаты стремления предельно "облегченного" отношения к
важному делу, от которых в первую очередь страдают читатели.
В.А. Дунаевский,
4 доктор исторических наук,
профессор кафедры всеобщей истории
Московского государственного заочного
педагогического института
$ Кожухов С. К вопросу об оценке роли М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 года. —
Большевик, 1951, № 15.
234
Критика и библиография
Рецензии
В.В.. Согрин, Г.И. Зверева, Л.П. Репина. СОВРЕМЕННАЯ
ИСТОРИОГРАФИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. М.: изд-во "Наука", 1991,226 с.
Эту книгу можно назвать долгожданной.
Авторы ее впервые в нашей литературе
предлагают монографию, всесторонне осве¬
щающую современное состояние одной из на¬
циональных историографий Западной Европы —
британской. До сих пор мы не располагали
работой такого рода ни для одной из других
европейских стран. И можно только пожелать,
чтобы этот опыт послужил примером для
подобных исследований.
Книга отличается здравым плюрализмом,
полностью свободна как от стереотипа ’’всеоб¬
щего кризиса" западной историографии, так и от
стремления отлучить от марксизма английских
историков-марксистов, чем мы часто грешили
раньше, или, напротив, — обличать их за
приверженность теории формаций, чем иногда
грешим теперь. Книга делится на две части.
Первая часть посвящена общим проблемам
современной английской историографии. В ней
три главы: 1. "Основы организации исторической
науки в Великобритании" (автор Г.И. Зверева),
2. "Мировоззрение и методология" (В.В. Согрин),
3. ""Новая историческая наука" и социальная
история" (Л.П. Репина). Вторая часть книги
освещает концепции по ряду важных проблем
британской истории. В ней четыре главы:
4. "Английская революция середины XVII в."
(Л.П. Репина); 5. "Тенденции и закономерности
рабочего движения"; 6. "История партийно¬
политической системы" (обе В.В. Согрин);
7. "Внешняя политика Великобритании в
XIX—XX вв." (Г.И. Зверева).
В первой главе перед читателем раскры¬
ваются богатство и разнообразие организа¬
ционных форм британской исторической науки, а
также ее отзывчивость на вновь возникающие
потребности: постоянное расширение числа
университетов разного типа, возникновение при
них все новых исследовательских центров не
только по отдельным вопросам британской
истории, но и по истории многих стран Европы, в
том числе славянских, а также США, Латинской
Америки, Азии, Африки. Отмечается роль госу¬
дарства в финансировании исторической науки и
в выборе ее основных направлений.
Во второй главе рассматриваются методоло¬
гические основы британской исторической науки.
Они очень многообразны. С одной стороны,
британская историография распадается на ’’тра¬
диционную" и "новую историю”, с другой —
внутри каждой из них имеются глубокие миро¬
воззренческие различия между консервативным,
либеральным и радикально-демократическим
направлениями. Последнее находится с начала
60-х годов под сильным влиянием историков-
марксистов, к которым принадлежат известные
ученые К. Хилл, Р. Хилтон, Э. Хобсбоум,
М. Добб, А. Мортон, Э. Томпсон н многие
другие.
Консервативные историки (И. Берлин,
А. Баллок, Г. Баттерфилд и др.) не приемлют в
своем большинстве принципов "новой истории".
В методологии они традиционалисты, Сторонники
идеографического метода и нарративности, отда¬
ют предпочтение политической истории, явля¬
ются противниками широких обобщений и
междисциплинарных подходов.
Либеральные и радикально-демократические
историки считают, что традиционалисты завели
развитие исторической науки в глубокий кризис,
лишив ее социальной значимости и оторвав от
современности. Эти исследователи — сторонники
синтеза в истории, пропагандисты междисципли¬
нарных методов и различных форм социального
анализа. История для них — постоянный диалог
прошлого с настоящим, в ходе которого перед
исследователем открываются все новые аспекты
прошлого. Фундаментом методологических
построений либеральных историков, как правило,
служит веберовская теория "идеальных типов",
или структурализм. Но есть среди них и такие,
которые частично пытаются опереться и на
марксистское понимание истории или, во всяком
случае, признают его плодотворное воздействие
на английскую послевоенную историографию
(Дж. Барраклоу, А. Марвик, Э. Карр,
Б. Ходдон). Либеральные историки в отличие от
консерваторов сохраняют верность теории
прогресса, но понимают его по-разному: одни —
как чисто эволюционный, другие, — допуская,
что он мог осуществляться в острой социальной
235
борьбе и революциях, которые, впрочем, оце¬
ниваются как нежелательные.
В третьей главе рассматривается положение
и проблемы "новой исторической науки" на
английской почве. Л.П. Репина видит ее
национальную особенность в том, что она
концентрирует свои интересы вокруг социальной
истории в ее разных аспектах, а освещает
проблематику демографии и социальной антро¬
пологии. Отмечается большая роль историков-
марксистов в этой направленности "новой
истории" в Англии. Именно они с конца 60-х
годов нацелили ее на сочетание междисципли¬
нарных методов с классовым анализом, на
изучение социальных структур "снизу", на инте¬
рес к народной культуре религии, к народным
движениям. Вслед за марксистами по этому пути
пошли радикалы, а позднее и либеральные
историки. Именно они проявляют особый
интерес к изучению различных микроструктур и
локальной истории, которая в последние два
десятилетия переживает в Англии "бум".
Разные подходы к истории отражаются и в
трактовке отдельных проблем. Как они прелом¬
ляются в конкретном изучении английской рево¬
люции середины XVII в., хорошо показано в
четвертой главе. Историки-марксисты акценти¬
руют внимание на изучении социальных аспектов
революции (К. Хилл и его школа), такой подход
порывает с чисто политическим или религиозным
ее истолкованием, принятым до середины XX в.
Теперь эти проблемы стоят в центре внимания
также радикальных и либеральных исследо¬
вателей (Дж. Эйлмер, Л. Стоунь Б. Мэннинг и
др.). Если историки консервативного направле¬
ния (Дж. Элтон, К. Рассел) видят в революции
чисто политический кризис — восстание консер-
ватгвных парламентариев против прогрессиста
или даже "революционера" Карла I, прово¬
дившего нужную политику централизации, то
либеральные историки (Э. Хьюз, Б. Мэннинг)
выдвигают аргументы в пользу признания
общенационального и социального, а именно
буржуазного, характера революции.
Консервативная реакция на приоритет со¬
циальных проблем в изучении революции отра¬
зилась и в подъеме "неоревизионистского"
направления в изучении истории парламента в
XVI — начале XVII в. (Дж. Элтон, К. Рассел и
др.). В противовес либеральным концепциям по
этому вопросу, консерваторы стараются вся¬
чески умалить значение палаты общин, подчер¬
кнуть ее полную зависимость от короля и
палаты лордов, ее слабую связь с электоратом.
Эти историки в центр своего внимания ставят не
социально-политические функции парламента, но
его формально-институционную историю.
В целом же новейшая историография
английской революции во всем ее многообразии
236
расширяет и углубляет наши представления об
этом событии или, вернее, цепи событий,
позволяет посмотреть на нее не только из
центра, но и с периферии, не только со стороны
элиты, но и "снизу", из толщи народа.
Глава пятая посвящена другой коронной теме
современной английской историографии —
истории рабочего движения. Подлинный поворот
в ее углублении произвела книга историка
марксистской ориентации Э. Томпсона "Форми¬
рование английского рабочего класса" (1963),
провозгласившая и реализовавшая принцип
комплексного подхода к проблеме и в плане
объектов исследования — разных слоев рабочего
класса, их повседневную жизнь и менталитет.
Эта новая модель, поднявшая изучение проб¬
лемы на более высокий уровень, быстро была
взята на вооружение всеми направлениями
британской историографии, что дало жизнь ряду
различных, иногда даже противоположных
концепций по узловым вопросам проблемы: о
характере рабочего движения в XVIII— начале
XIX в., об исторических судьбах английского
рабочего класса в средневикторианский период и,
в частности, о происхождении и месте в его
истории рабочей аристократии, о чартизме как
политическом движении и его традициях в
современном английском пролетариате.
По мнению ВЗ. Согрина (глава шестая), тон
в вопросах истории английской партийно-поли¬
тической системы задают консервативные и
либеральные историки. Между ними ведется
оживленная полемика, главным образом по
вопросу об исторической роли вигизма, в ста¬
новлении современного конституционного строя,
которую консерваторы всячески стараются
умалить, а либералы поднять. В оценке исто¬
рического значения и современной роли консер¬
вативной партии соотношение обратное. Ожив¬
ленная полемика ведется и вокруг судеб
лейбористской партии.
Хотя история внешней политики Великобри¬
тании в XIX—XX вв. принадлежит к наиболее
традиционным темам, в ней с середины 60-х
годов произошли значительные сдвиги (глава
седьмая). Здесь утвердился системный подход —
стремление увязать внешнюю политику с
международными отношениями момента и внут¬
ренней эволюцией страны. С этих позиций
рассматриваются становление и распад Бри¬
танской империи, место Британии в современном
европеизме, британский империализм, политика
умиротворения Германии накануне второй
мировой войны. К сожалению, последняя глава
оказалсь слишком сжатой, конспективной по
сравнению с остальными разделами.
В целом работа В.В. Согрина, Г.И. Зверевой,
Л.П. Репиной дает достаточно полное освещение
современной британской историографии. В ней
на большом, хорошо проанализированном
материале раскрывается ее богатство и
разнообразие, как в смысле организации,
методологии и методических приемов, так и в
смысле концептуальных интерпретаций отдель¬
ных вопросов. Книга не оставляет сомнения в
том, что по ряду вопросов британская исто¬
риография занимает одно из первых мест в
современном историографическом процессе.
Авторы дали в целом удачную и аргументи¬
рованную конкретным материалом классифи¬
кацию главных историографических направле¬
ний, хотя, конечно, эта схема, как и всякая
другая, несколько условна и наверное не
вмещает всей полноты групповых и индиви¬
дуальных нюансов. Весь материал книги
убеждает в наличии во многих узловых вопросах,
как методологических, так и конкретно¬
исторического характера, исключительно боль¬
шого влияния историков-марксистов в Англии.
Эти наблюдения авторов показывают, что при
открытости к другим мнениям, от кого бы они ни
исходили, при отсутствии узкого догматизма
марксистское понимание истории играло и может
играть сегодня плодотворную роль в развитии
мировой исторической науки.
Слабая сторона работы — отсутствие
раздела, специально посвященного медиевис¬
тике, традиционно занимающей в английской
исторической литературе важное место.
Соответственно в книге не получило
достаточного освещения научное творчество
крупных ученых: Р. Хилтона, Г. Холмса, К.Б.
Мак Фарлетти и ряда других. То же можно
сказать и об истории культуры в разных
аспектах, которая занимает большое место в
английской историографии. Конечно, авторы, как
всегда, были ограничены объемом книги, но все
же хотелось бы видеть в ней больше экскурсов и
историографию конца XIX — начала XX в. Ведь
многие направления современной историографии,
например, такие, как неоконсервативное или
"неоревизионистское", в области политической
истории, по существу, развивают и уточняют
идеи, возникшие еще на рубеже столетий.
В целом же — перед нами интересная и
полезная книга, открывающая новые перспекти¬
вы в изучении современной западной исто¬
риографии.
Е.В. Гутнова
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН
Е.К. Вяземская, С.И. Данченко. РОССИЯ И БАЛКАНЫ.
КОНЕЦ XVIII в. — 1918 г. (Советская послевоенная историография).
Обзор. М.: Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1990, 249 с.
Авторы книги много лет работают над изу¬
чением вопросов, связанных с отношениями Рос¬
сии и балканских стран. Новая их работа состоит
из четырех глав, построенных по хронологи¬
ческому принципу. Внутри глав материал
распределен по проблемам, затрагивающимся
нашими историками в трудах с 1945 по 1989 г. В
первой главе — "Изучение в Советском Союзе
проблемы "Россия и Балканы (конец ХУШ в. —
1856)" — говорится о работах, освещающих
русско-турецкую войну 1806—1812 гг., первое
сербское восстание 1804—1813 г., восточный
кризис 20-х годов XIX в. В главе второй —
"Россия и балканские народы в 1856 — первой
половине 70-х годов XIX в." — разбирается
литература о национально-освободительном дви¬
жении на Балканах, об общественных, культур¬
ных и научных связях между Россией и бал¬
канскими странами и о проблеме "Революцион¬
ная Россия и Балканы". В третьей главе
освещается литература по теме "Балканские
народы в период восточного кризиса 70-х годов
XIX в." В четвертой — "Россия и Балканы
(конец 70-х годов XIX в. — 1918 г.)" —
характеризуются сочинения о русско-балканских
политических, общественных и революционных
связях в 70—90-е годы XIX в. Специальный
раздел этой главы посвящен обзору литературы
о демократических и революционных связях с
конца XIX в. по 1918 г.
В книге показывается, что до 1989 г. в СССР
было написано большое количество трудов
высокого научного качества, внесших су¬
щественный вклад в изучение истории связей
Болгарии, Югославии, Албании, Румынии, Гре¬
ции с Россией, но эта литература страдает
неравномерностью изучения отдельных пе¬
риодов, односторонностью в выборе тем для
исследования. Существуют "белые пятна" в
изучении отдельных сюжетов и периодов.
Авторы создали нужную книгу. Она помогает
исследователям в области русско-балканских
отношений указанного периода легко ориентиро¬
ваться в том, что уже сделано ранее.
Однако в работе имеются и некоторые
недостатки. Прежде всего авторам не удалось
237
отойти от сложившегося в нашей историогра¬
фической литературе трафарета, когда страницы
книги "перенаселены" именами историков, заслу¬
ги которых в изучении темы весьма скромны и
даже сомнительны. Объектом историографичес¬
ких обзоров должны быть серьезные иссле¬
дования, вносящие существенный вклад в разра¬
ботку темы или концепции. При этом объем
работы не всегда имеет решающее значение.
Серьезной может быть и статья, и другое малое
по объему исследование, содержащее новое
освещение или неординарные оценки, неиз¬
вестные факты, оригинальные суждения, вво¬
дящее в научный оборот новые источники. В
книге такой подход к анализу литературы не
ощущается.
Авторы книги, к сожалению, отдали дань
еще одной не заслуживающей подражания
привычке нашей историографии — перечислять
всех, кто когда-либо что-либо писал по данному
предмету, тем самым "обезличивать" действи¬
тельно крупных ученых. В истории изучения
русско-балканских отношений есть немало имен
историков, определявших новое направление в
исследовании вопроса, больших знатоков Источ¬
никовой базы вообще и архивных материалов в
частности, словом, тех, кто посвятил жизнь
изучению избранной темы. Творчество таких
ученых заслуживает более подробной и осно¬
вательной характеристики, чтобы читатель
получил представление не только об именах, но
и о живых творцах исторической науки. В
данном случае речь может идти о творчестве
С.А. Никитина, И.С. Достян, Г.Л. Арша,
В.Н. Виноградова, А.А. Улуняна и некоторых
Других.
В книге, к сожалению, даются, кроме двух-
трех случаев, лишь положительные оценки
анализируемых работ. Создается впечатление,
что советская историография развивалась без
ошибок и провалов, без трудностей и недостат¬
ков и достигала совершенства чаще всего в
обобщающих коллективных трудах. Между тем
путь нашей послевоенной исторической науки,
как известно, был не прост, и следовало бы
проследить динамику развития историографии
исследуемых вопросов. До 60-х годов истори¬
ческая наука в СССР существовала в иных
условиях, нежели позднее. Да и за последнее 30-
летие многое изменилось. Эти перемены нахо¬
дили свое отражение в исторических иссле¬
дованиях, о чем было бы уместно сказать.
Следовало бы указать и на то, что в угоду
политическим концепциям нередко практиковал¬
ся предвзятый подход к источникам, необъектив¬
ное освещение некоторых исторических явлений.
Изучение всего комплекса русско-балканских
связей дает этому немало примеров. Так,
гипертрофированное внимание к проблемам
истории революционного и рабочего движения, к
роли ленинских идей, большевистской идеологии
и Октябрьской революции в балканских странах
создали в нашей историографии, как это видно и
из книги, огромную литературу, объем которой,
однако, не соответствует значению влияния,
оказанного перечисленными факторами на
балканские страны.
Читателю по имеющемуся материалу трудно
ориентироваться в изданиях источников. Целе¬
сообразнее было бы выделить сведения об этих
изданиях в особый раздел. Среди работ о русско-
южнославянских связях не упомянут коллектив¬
ный труд "Славяноведение в дореволюционной
России" \ в котором содержится многд нового
материала.
Книгу Е.К. Вяземской и С.И. Данченко
скорее можно отнести к реферативно-библиог¬
рафическим, чем к историографическим обзорам.
Однако уточнение жанра не умаляет полезности
труда в целом. Авторы собрали и система¬
тизировали обширный материал, чем внесли важ¬
ный вклад в отечественную балканистику.
Л.П. Лаптева
доктор исторических наук,
профессор кафедры
южных и западных славян МГУ
1 Славяноведение в дореволюционной России.
Ответственные редакторы академик Д.Ф. Мар¬
ков и д.и.н. В.А. Дьяков. М., 1988.
238
И.Я. Биек. ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В
ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. Иваново: Издательство Ивановского
государственного университета, 1990,156 с.
Монография профессора кафедры истории
нового и новейшего времени Ивановского
государственного университета И.Я. Биека,
специалиста по источниковедению всеобщей
истории необычна для отечественной герма¬
нистики. На основе многолетних изысканий по
проблемам истории Веймарской республики* 2,
базируясь на самых разнообразных источниках—
мемуарах, свидетельствах современников, пе¬
риодике, статистических материалах, — автор
реконструирует образ жизни и бытовой уклад,
социальную психологию граждан Германии,
принадлежавших к различным общественным
слоям. Читатель ощутимо соприкасается с тем,
что именуется человеческим измерением исто¬
рии, погружается в неповторимую атмосферу
эпохи, рельефно воспринимает, говоря словами
Л.Н. Толстого, вкус и цвет времени.
Вместе с автором можно побывать на вилле
"Хюгель" — главной резиденции "пушечного
короля" Круппа, и в убогом жилище обитателей
окраин Берлина, и в имении бранденбургского
барона фон Путлица, и в хижине крестьянина-
поденщика в Северной Померании.
Революция 1918—1919 гг. в Германии
создала одно из самых демократических евро¬
пейских государств, она, хотя и ненадолго, спо¬
собствовала созданию гражданского общества.
Но портреты бывшего кайзера Вильгельма П
продолжали украшать квартиры многих немцев.
Республикой оставалась недовольна огромная
масса представителей среднего сословия, считав¬
ших себя обманутыми войной и революцией.
Атмосфера нестабильности в обществе, пос¬
ледствия проигранной войны и незавершенной
революции определяли психологическое сос¬
тояние тогдашнего поколения. Однако явных
перемен в национальном характере немцев не
произошло. Как замечает автор, "видимо,
веймарский период был слишком коротким для
сколько-нибудь существенного внедрения новых
национальных черт" (с. 25). Стабильные на¬
циональные качества — трудолюбие, исполни¬
тельность, дисциплина, бережливость, обяза¬
тельность — помогли немецкому народу выжить
и преодолеть послевоенные трудности.
Биек И.Я. Курс лекций по источнико¬
ведению новой и новейшей истории. Тамбов,
1971.
2Веймарская республика: история, источни¬
коведение, историография. Под ред. И.Я. Биека.
Иваново, 1987.
И.Я. Биек исследует процесс эволюции
социальной структуры Веймарской республики.
Господствующими классами по-прежнему остава-
- лись буржуазия и юнкерство, но позиции дво¬
рянства значительно ослабли, сформировались
влиятельные группы новых капиталистических
дельцов. Возникло среднее сословие, ядром
которого были служащие. Обычным делом стало
участие женщин в производительном труде.
Значительная часть монографии посвящена
анализу немецкого национального менталитета в
период 1919—1933 гг., проблеме динамики
системы социально-культурных представлений и
стереотипов массового сознания и поведения.
Автор отмечает существенную особенность
духовного климата Веймарской республики:
"ощущение нестабильности, зыбкости, ожидания
перемен". Он подчеркивает, что все это тяжело
сказывалось "на психологии и самочувствии
людей, чьими национальными чертами были
порядок и дисциплина" (с. 123—124).
Особенности быта и поведения городского
дворянства, сельских жителей, офицеров рейх¬
свера помогают читателю понять, почему столь
легко законным, парламентским путем фашистам
удалось придти к власти в Германии. Задолго до
экономического кризиса, в "золотые 20-е годы",
политическое кредо упомянутых слоев опре¬
делялось словами: "Республика нам не нужна!"
(с. 75). К наиболее характерным чертам эпохи
автор относит острую борьбу правых и левых
идей, монархизма и республиканизма, общую
наэлектризованность атмосферы, все усиливав¬
шуюся взаимную нетерпимость рабочих партий.
Все это позволило публицисту и общественному
деятелю К. Тухольскому назвать Веймарскую
республику "расколотой страной" (с. 121).
В монографии дана яркая картина неожи¬
данного перехода от "хрупкого покоя республи¬
канского режима" 1924—1929 гг. к губительной
поляризации общественной атмосферы кризис¬
ных лет, которая прослеживается в произведе¬
ниях литературы и кино, в настроениях молоде¬
жи, в формировании "партийных армий", в крово¬
пролитных уличных боях, особенно в 1932 г.
Читатель получил бы более полное представ¬
ление о менталитете веймарского периода, если
бы в монографию вошли данные об отношении
немцев к религии и церковным институтам —
католической и протестантской концессиям, к
парламентским учреждениям, к воинской службе.
В современной исторической и культурологи¬
ческой литературе выводятся на первый план
прогрессивные писатели, режиссеры, художники,
239
публицисты, действовавшие в Веймарской рес¬
публике — Томас и Генрих Манн, Б. Брехт,
А. Зегерс, Э. Пискатор, М. Рейнхардт,
К. Осецкий. Между тем, как отмечается в книге,
степень их воздействия на общественное мнение
была ограниченной: "Численно преобладали
реакционные литераторы, произведения которых
пропагандировались массовой националистичес¬
кой периодикой, выходили большими тиражами,
раскупались и оказывали большое влияние на
читателей" (с. 13).
Проблематика монографии И.Я. Биека орга¬
нически включена в мировое историографи¬
ческое пространство. Основная линия изысканий
ученого совпадает с направлением плодотвор¬
ного исследовательского поиска западной исто¬
рической науки (преимущественно в рамках
"новой социальной истории").
Суждения и выводы историка неразрывно
связаны с тревожными проблемами нашей
современности. Автор указывает на чрезмерную
опасность неподготовленности нации к демокра¬
тии в условиях отсутствия политического опыта
ее защиты. "Немцы не выдержали испытания
демократией. Выдержим ли мы его?" (с. 154).
Действительность наших дней требует не
игнорировать уроки истории, но внимательно
исследовать их. Книга И.Я. Биека дает повод
для серьезных и поучительных размышлений.
Полезно было бы вслед за этой монографией
опубликовать работы о быте и нравах людей в
других странах в различные исторические
периоды.
ВЛ. Артемов
доктор исторических наук,
профессор кафедры истории
нового и новейшего времени
Воронежского педагогического института
А.И. Борозняк
доктор исторических наук, зав. кафедрой
методологии истории
Екатеринбургского государственного
университета
А. Bullock. HITLER AND STALIN. Parallel Lives. London: Harper Collins
Publishers, 1991, 1200 p.
А. Буллок. ГИТЛЕР И СТАЛИН. Параллельные жизни. Лондон, 1991,
1200 с.
Новая книга А. Буллока заслуживает вни¬
мания. Маститый автор решил путем сравнения
не только раскрыть уникальную индиви¬
дуальность А Гитлера и И.В. Сталина как исто¬
рических лич. остей, но и сопоставить существо¬
вавшие при их правлении режимы государствен¬
ного устройства с "различием и общностью" (с.
ХУШ). Название книги автор поясняет словами
Плутарха: "Параллельные жизни, как парал¬
лельные линии, не сходятся и не сливаются"
(с. ХУШ).
Задача, поставленная перед собой А. Булло¬
ком, требует овладения огромным объемом
документального материала, анализа важнейших
экономических, политических, военных и со¬
циальных реалий Германии и СССР того
времени, международной обстановки и тенденций
ее развития, глубинных истоков и целей внешней
политики великих держав и многих других
аспектов. Автор опирается на обширную исто¬
риографическую базу, включая новейшую лите¬
ратуру (труды Д. Волкогонова, Г. Розанова,
Р. Такера, Р. Конквеста, Д. Эриксона и др.).
"Результатом этой титанической работы, —
писал профессор Кембриджского университета
Д. Рейнольдс, — яви. ась книга в 1200 страниц,
толщиной в семь сантиметров и весом в два
240
килограмма. Но в противовес многим мега¬
биографиям она заслуживает того, чтобы ее
читали и рекламировали"1.
В книге раскрывается широкая по факти¬
ческому материалу картина становления основ¬
ных этапов развития Германии и СССР в
рассматриваемый период, воссоздаются общая
международная обстановка того времени, основ¬
ные вехи совместной борьбы СССР, Вели¬
кобритании и США с фашистской агрессией,
проблемы и противоречия послевоенного
устройства мира. Автор с позиций последо¬
вательного приверженца демократии и против¬
ника репрессивных режимов, раскрывая и спра¬
ведливо осуждая сталинские беззакония, делает
однозначный вывод: "Времена Гитлера и
Сталина являются одним из самых черных
периодов в европейской истории, который, как
считали многие, означает конец европейской
цивилизации" (с. 1079).
Из множества вопросов, затронутых в книге,
остановимся на некоторых, касающихся СССР.
Внешняя политика СССР во время событий в
Чехословакии летом 1938 г. и мюнхенского
соглашения между Англией, Францией, Герма¬
не Independent on Sunday, 7.УП.1991.
нией и Италией в сентябре 1938 г. претерпевала
существенную эволюцию в связи с изменением
расстановки сил, прежде всего вызванной отка¬
зом Франции от выполнения своих обязательств
по защите Чехословакии.
Поскольку, освещая позицию СССР во время
чехословацкого кризиса, автор приводит сведе¬
ния из книги Института всеобщей истории
"1939 год. Уроки истории" (М., 1990), называя и
мою фамилию, и ставит под сомнение готовность
СССР без участия Франции оказать военную
поддержку Чехословакии, должен сказать, что
сомнения А. Буллока (с. 645) имеют основания.
Пока остаются недоступными многие докумен¬
ты, связанные с принятием внешнеполитических
решений политбюро ЦК КПСС того времени.
То, что известно, указывает, что в Кремле,
видимо, не считали возможным идти на риск
вступления в войну без участия Франции, тем
более в условиях сближения Англии и Франции с
Германией и Италией2, не говоря уже об
отсутствии общих границ с Чехословакией и
какой-либо договоренности с Польшей и Румы¬
нией о пропуске через их территорию советских
войск и соответствующей просьбы прави¬
тельства Чехословакии.
Рассматривая предпосылки мюнхенского сго¬
вора и провала московских переговоров между
СССР, Англией и Францией в марте—августе
1939 г., необходимо, на мой взгляд, учитывать
такие разнодействующие факторы, как политика
умиротворения агрессоров, проводившаяся за¬
падными демократиями, их стремление отвести
военную угрозу от себя и направить ее против
СССР, массовые репрессии в Советском Союзе в
конце 30-х годов, боязнь правящих кругов
Англии и Франции укрепления своих левых сил,
особенно в связи с советской помощью рес¬
публиканской Испании, подозрения, порож¬
даемые двойственностью советской политики,
курс Коминтерна на мировую революцию, и
вместе с тем выдвижение концепции коллек¬
тивной безопасности. Как отмечает автор, запад¬
ных лидеров не покидали и опасения вероятности
советско-германского сближения.
К конкретным причинам неудачи московских
переговоров 1939 г. А. Буллок относит коле¬
бания английской стороны и нежелание Вели¬
кобритании учесть просьбы Москвы о направ¬
лении в Москву министра иностранных дел
Э. Галифакса, как бы отсекая главное —
Объективная в общих чертах информация о
содержании встреч Гитлера с Чемберленом в
Берхтесгадене 15 сентября, а затем в Годесбер-
ге 22 сентября 1939 г. под грифом "Девушка
сообщает..." была доставлена советской развед¬
кой в Москву, соответственно, на следующий
день.
сложившиеся после 1917 г. крайне неблагоприят¬
ные, временами перераставшие в открытую
вражду отношения между СССР и Вели¬
кобританией.
Другой очень важный вопрос — о степени
готовности СССР к отражению агрессии и
реакции Сталина на информацию о готовив¬
шемся нападении Германии. Этой теме послед¬
ние годы посвящено множество исследований.
Одна лишь критика "системы" далеко не
проясняет обстановки. Очевидно и то, что
руководством СССР были осуществлены кар¬
динальные меры для укрепления обороны стра¬
ны. По производству основных видов вооружения
(танков, самолетов, орудий) Советский Союз к
началу войны превзошел Германию. Этот факт,
за которым стоит многолетний труд и подвиг
народа, казалось, должен бы был навести автора
на более объективные размышления. Широкая
информация о готовившемся нападении
Германии, о чем пишет А. Буллок, это тоже
лишь часть реального положения вещей,
достаточно хорошо известна. И не только
начальник разведки РККА генерал Ф.И.
Голиков часто дезориентировал правительство.
Весьма велик был поток информации и
дезинформации иного порядка. Упомянем хотя
бы обширнейшие мероприятия по маскировке
подготовки агрессии цротив СССР, осу¬
ществленные в соответствии с указанием
В. Кейтеля от 15 февраля 1941 г., которые не
прошли бесследно. Как явствует из документов
НКВД, смятение в Кремле вызвал полет на
Британские острова Р. Гесса, возродивший
опасения англо-германского сближения, что
полностью дезавуировало весьма скромные све¬
дения о готовившемся нападении Германии,
полученные от У. Черчилля. Что касается
сходной официальной информации, поступившей
из США в марте 1941 г., то советский полпред в
Вашингтоне К.А. Уманский сообщил в Москву,
что в госдепартаменте ему было сказано:
нападение на СССР ожидается "после победы
над Англией". (В тексте этой информации,
опубликованной позднее в документах госде¬
партамента, слова "после победы над Англией"
отсутствуют.) Наконец, и донесения советских
полпредов публикуются выборочно. Так со¬
ветский полпред в Виши А.Е. Богомолов, в
последующем заместитель министра иностран¬
ных дел СССР, 19 июня 1941 г. телеграфировал
в Москву: "Слухи (о готовившемся нападении
Германии на СССР. — О.Р.) идут не только от
англичан и американцев, но и от немецких
кругов. По-видимому немцы, пользуясь этой
агитацией, готовят решительную атаку на
Англию". Указанные факты также необходимо
принимать во внимание.
Переходя к анализу политики нацистского
241
режима на оккупированных восточных землях,
автор пишет: "В любой войне таких масштабов
и такой напряженности, как в России, неизбежны
жестокости с обеих сторон, но если и это
принять во внимание, то масштабы бесче*
ловечности с немецкой стороны очевидны, и они
прямо проистекают из расистских убеждений
Гитлера... Он считал, что немцы не только
превосходят народы Восточной Европы, но что
пропасть, разделяющая их со славянами, и
особенно с евреями, не только результат
различий в культуре и историческом наследии, но
и в биологическом несоответствии. Это существа
иного порядка, не принадлежащие к
человеческой расе. Они недочеловеки, эти
славяне и евреи; паразиты, которые молятся и
живут только ради того, чтобы уничтожать
других” (с. 821).
В рамках доминирующей у автора концепции
"общности систем” Германии и СССР представ¬
ляется затруднительным ответить на вопрос: как
тогда вообще могла возникнуть антигитле¬
ровская коалиция, боевой союз государств и
народов, сокрушивший агрессоров?
И последнее, о жизни советского народа при
сталинском режиме. Картина, представленная в
книге А. Буллока, впечатляюща. Страна пок¬
рыта тюрьмами и лагерями, жизнь определяли
подневольный труд и кровавые репрессии. Но
была и другая жизнь. Большинство советских
людей гордились своей страной и ее успехами,
признанными всем миром, не ведали о масштабах
необоснованных репрессий. Моральный потен¬
циал народа и армии зиждился на патриотизме,
дружбе народов, вере в превосходство со¬
циализма как экономической и политической
системы устройства общества. И дело здесь не
только в "массированной пропаганде”. Если в
191 э г. Россия примерно в семь раз отставала от
США по объему валового национального
продукта, то к середине 60-х годов он возрос в
СССР в 15 раз и достиг более чем половины
американского производства. Эго тоже неоспори¬
мые факты, которые требуют глубокого и
объективного осмысления.
История социализма в СССР и нацизма в
Германии фактически приведены автором к
одному знаменателю. В противовес Плутарху
параллели во многом сливаются; различия —
фрагментарны.
О А. Ржешевский
доктор исторических наук,
зав. сектором Института
всеобщей истории РАН
Fr. К el log. A HISTORY OF ROMANIAN HISTORICAL WRITING.
Bakersfield (California), Charts Schlacks, 1990,132 p.
Ф. Келлог. ИСТОРИЯ РУМЫНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ. Бейкере -
филд, 1990,132 с.
В США вышел в свет историографический
труд профессора Аризонского университета
Фредерика Келлога "История румынской исто¬
риографии", сжатый по объему, но чрезвычайно
насыщенный по содержанию. Автор определяет
свои задачи скромно: "Моя цель — помочь
студентам из англоязычной среды познать
богатства румынского наследия, дать им отправ¬
ную точку для собственного исследования вче¬
рашней Румынии" (с. VII). Его "сеть" (выражение
Келлога) захватывает не только политическую
историю, чем часто ограничиваются иностранцы,
но и явления общественной и культурной жизни.
Автор отмечает, что не тщился объять
необъятное, а брал на заметку лишь труды,
отличающиеся оригинальностью и смелостью
мысли.
Как характерную черту румынской исто¬
риографии Келлог выделяет стремление пока¬
зать и доказать единство румынского народа и
постоянство его проживания на земле предков,
несмотря на феодальные раздоры, опустоши¬
тельные войны и политические бури: "Румыны
составляли исторические повествования, имея в
виду утверждение .рдоей индивидуальности по
отношению к соседям" (с. 1). Келлог, отдавая
должное усилиям летописцев и историков в этом
направлении, не упускает из виду и другую
сторону процесса — тесные культурные и
политические контакты румын с соседями и их
взаимовлияние.
Первые шаги румынской историографии
воплотились в летописях и религиозных трудах
на старославянском языке: "Румынские монахи
первоначально копировали старые церковно¬
славянские версии греческих византийских клас¬
сиков наряду ср славянскими трудами по религии,
праву и истории" (с. 1). Первые летописи
датируются концом XV — началом XVI в.; они
причудливо сочетали библейские темы с
историческими мифами, к которым Келлог отно¬
сит и легенду об основании Молдавского кня¬
242
жества выходцем из Марамуреша Драгошем в
местах, куда в пылу охотничьего азарта его
привела погоня за диким быком. Первую
хронику на родном языке написал молдавский
сановник Григоре Уреке (приблизительно
1590—1647 гг.). Тогда же, в середине
XVIT столетия, появилась румыноязычная
валашская летопись. Наиболее выдающимся
летописцем Ф. Келлог считает Мирона Костина,
живщего в 1633—1691 гг., который черпал
материал из польских и других зарубежных
источников. Он отмечает и отсутствие у Мирона
Костина энтузиазма по отношению к прослав¬
ленному герою, господарю Михаю Храброму
(с. 3).
Высоко оценивает Келлог деятельность
выдающегося просветителя, молдавского князя
Димитрия Кантемира. Тот пытался соединить
судьбы своей родины с Россией, вступив в
российское подданство. После Прутского похода
Петра I в 1711 г. князь Димитрий покинул
отечество; в России он создал произведения,
прославившие его в ученом мире, в частности
"Описание Молдавии" и "Хронику румыно-
молдовалахов в древности", отстаивая латинское
происхождение своего народа. А сын его,
Антиох, стал крупным поэтом России.
Вопросы этногенеза румын по понятным при¬
чинам волновали умы в Трансильванском
княжестве, входившем в Австро-Венгерскую
империю, где проживали румыны, венгры и
немцы и многие другие народы, причем первые
не входили в состав "исторических наций” и
национальными правами не пользовались.
Представители трансильванской школы —
С Мику-Клайн, Г. Шинкай, П. Майор — разра¬
ботали теорию континуитета — непрерывного
проживания предков румын на территории
Валахии, Молдавии и Трансильвании с римских
времен, отрицая при этом несомненный факт
первоначального дакийского компонента и после¬
дующего славянского воздействия на образо¬
вание восточно-романского этноса. Останавли¬
вается Келлог и на аргументах проводников
другой, миграционной теории — Ф. Зульцера,
И. Эдера (XVIII в.), развитой в XIX в. Р. Рёсле¬
ром, утверждавших, что римские поселенцы
покинули Древнюю Дакию в 271 г. н.э., вместе с
римскими легионами переправились через Дунай
и после нескольких веков сожительства со
славянами вернулись на левобережье. Уже
тогда, в ХУШ в., проблема континуитета стала
полем идеологической борьбы: трансильванские
немцы, отстаивая свое привилегированное поло¬
жение, рассматривали местных румын как "при¬
шельцев" (с. 23); последние же, добиваясь равно¬
правия, отстаивали свою автохтонность.
Зрелость румынской исторической науки
наступила в XIX столетии; в качестве ее
сверхзадачи выступало доказательство единства
и солидарности румынского народа на протя¬
жении веков. Вторую половину XIX в. Келлог
считает "золотым веком" румынской исто¬
риографии, тогда творили Михаил Когэлничану
(1817—1891), Богдан Петричейку-Хаждэу
(1838—1907), Александру Ксенопол
(1847—1920).
Когэлничану усматривал этнокультурную
жизнестойкость румын в том, что они не
поддались напору католицизма, восприняли пра¬
вославие и кирилицу. Бессарабец Петричейку-
Хаждэу, выпускник Харьковского университета,
ученый энциклопедической эрудиции, историк,
лингвист, славист, исследователь архивов, счи¬
тал, что румыны произошли от слияния римлян,
даков, фракийцев и славян (с. 31).
Александру Ксенопол создал многотомный
синтетический курс "Истории румын трояновой
Дакии", по нашему мнению, до сих пор
непревзойденный по аргументированности и
стройности изложения. Приверженец теории
континуитета, Ксенопол не отвергал, а тща¬
тельно прослеживал влияние славян на обычаи,
язык и церковь румын, и во всеуслышание
заявил о том, что дерзнул выступить с этим
непопулярным утверждением. Келлог — ив
этом его заслуга — не немеет перед автори¬
тетами. Он усматривает слабость Ксенопола в
недостаточном знакомстве с первоисточниками:
"Он опирался почти исключительно на опубли¬
кованные, а не на архивные свидетельства;
незнание им старых церковнославянских руко¬
писей снизило значение его суждений, ка¬
сающихся средних веков и начала нового вре¬
мени. Кроме того, он проявлял склонность
отдавать предпочтение молдаво-валашским
делам перед трансильванскими" (с. 33).
Келлог уделяет внимание и трудам Иоанна
Бдгдана (1864—1919), "восхитительного сла¬
виста", исследователя и публикатора архивных
материалов, подчеркивавшего связи мира ру¬
мынского со славянским в языке, письменности,
обычаях, верованиях, учреждениях и праве:
"Богдан полагал, что румынская народность
явилась продуктом романо-славянского сплава,
произошедшего в VI—X вв." (с. 35).
Николае Йоргу (1870—1940) Келлог именует
самым плодовитым из историков Румынии, а
возможно, и всего мира. Его эрудиция казалась
безбрежной: история родной страны, Османской
империи, Византии, Англии, Австрии, Италии,
международных отношений, культуры, в первую
очередь литературы. Список его трудов вклю¬
чает 1359 книг и брошюр и приблизительно
25 тыс. статей, сообщений, рецензий — тут уж
счет теряется (с. 36). Однако Келлог остается
верен себе и делает в адрес корифея
критическое замечание: "Некоторые критики,—
243
замечает он, — полагают, что Иорга больше
писал, чем читал, и действительно, многие его
труды содержат множество ошибок, изложение в
них поверхностное и путаное, что отражает
ненужную спешку при их составлении. Но ни
один историк Румынии не может игнорировать
сегодня его труды, часть которых имеет
непреходящую ценность" (с. 36). При всем
разнообразии исторических построений у Йорги
их осью всегда являлась идея неуклонного
поступательного развития румынского народа,
его этнического, культурного и духовного
единства, источник которого он усматривал в
нерасторжимой овязи с землей предков. Йорга
воплощал характерные черты румынской исто¬
риографии. Обобщая их, Келлог пишет: "Кол¬
лекции документов и археологические раскопки
давали свидетельства о происхождении, единстве
и континуитете проживания румынского племени
в Карпато-Дунайском пространстве. Тщательно
разработанные синтезы истории у высшей
степени умелых, но иногда страдающих излиш¬
ком воображения ученых иллюстрировали пат¬
риотические мысли и дела" (с. 42). С этого
"трамплина" румынская историография устре¬
милась в свой "Серебряный век”, приходящийся,
по мнению Келлога, на 1918—1944 гг. Ученый
останавливается на творчестве П. Панайтеску
(1900—1967), К. Джуреску (1901—1971). Для
Джуреску, отмечает он, "латинская принадлеж¬
ность и этнический континуитет составляют
движущую силу румынской истории, которая,
подобно Дунаю, течет постоянно и меняется
постепенно" (с. 46).
Наступивший после 1944 г. этап в развитии
румынской историографии Келлог называет
"ртутным веком" по причине происходившего
"катаклизма социальных изменений" и связанного
с ними давления политической конъюнктуры на
общественные науки. Он замечает: "Лишь
немногим компетентным историкам было разре¬
шено эффективно участвовать в переписывании
румынской истории" (с. 52). Уцелевшие от
гонений историки старшего поколения погру¬
зились в конкретику, посвящая книги лесо¬
водству, рыболовству, виноградарству, таможен¬
ному делу, развитию городов и т.д. Келлог
отмечает обилие появившихся документальных
публикаций — средневековых хроник, изданий,
посвященных аграрным отношениям, праву,
экономике и прежде всего крестьянскому,
рабочему к революционному движению. О самих
изданиях Келлог отзывается критически, указы¬
вая на "хаотическое построение, ошибки,
упущения и отсутствие критического коммента¬
рия" во многих из них (с. 53). Все же он отмечает
отдельные успешные "прорывы" на некоторых
направлениях: история XIX в., в первую очередь
освободительного движения, становления Ру¬
мынского государства, развития его экономики и
культуры.
Но, замечает американский ученый, "одно
дело — сфокусировать внимание на источниках,
и совсем иное — сочинить в "ртутный век"
основанную на них историю. Это являлось
трудной задачей для тех, кто должен был
выполнить задачу, придерживаясь догм марксиз¬
ма-ленинизма" (с. 57). Справиться с созданием
академического курса истории Румынии оказа¬
лось не под силу: в 1964 г. вышел четвертый том
"Истории Румынии", доведенный до 1878 г.
Новому владыке, Николае Чаушеску, историки
угодить не сумели — издание прекратилось.
Историю Румынской Народной Республики и
Социалистической Республики Румынии Келлог
не рассматривает, видимо, отнеся ее к объекту
исследования политологии. Он замечает: "Мы до
сих пор не имеем научных трудов по периоду
после второй мировой войны, частично — из-за
отсутствия доступа к рукописным фондам и из-за
нежелания отдельных историков разобрать
публично и критически действия лидеров Румы¬
нии, пока те были у власти" (с. 66). Автор
отмечает "стойко-патриотический профиль" ру¬
мынской историографии. Произошел полный
возврат к старой системе ценностей: единство
румынского народа, его автохтонность и
постоянное обитание в максимально-очерченном
пространстве. Новой стала непримиримость по
отношению к инакомыслящим из числа зару¬
бежных историков — инакомыслия в своей
стране не допускалось. "Высоко-патриотический
труд, посвященный румынскому континуитету в
Трансильвании с призывом к лояльности всех
этнических групп”, сочинил генерал Илие
Чаушеску, брат диктатора (с. 63).
Значительное внимание уделено в книге
зарубежной историографии — венгерской, турец¬
кой, южнославянской, французской, англоаме¬
риканской и российской, включая в нее и
бессарабско-молдавскую. Келлог характеризует
основные труды, выпущенные в царской России,
и монографии, изданные уже в наше время.
"Полезной работой" он считает двухтомник, ох¬
ватывающий историю Румынии 1848—1971 гг.1,
замечая в то же время: "Ни один советский
исследователь не составил еще панорамного
синтеза истории Румынии" (с. 80). Это не совсем
так. "Панорама" была написана, первый том
указанного издания (с древнейших времен до
1848 г.) был полностью готов к сдаче в печать,
но появление книги было сочтено несвоевре¬
менным по конъюнктурным политическим
соображениям: авторы ее далеко не во
1История Румынии, 1848—1917. М., 1971;
История Румынии, 1918—1971. М., 1971.
244
всем соглашались со своими румынскими
коллегами.
Приведем еще одно критическое замечание
Келлога: ’’Склонность румынских историков
сосредоточиваться главным образом на выдаю¬
щихся деяниях румын и лишь мимоходом
упоминать иностранцев, бросающих вызов
континуитету и этническому единству, объяс¬
няет отсутствие интереса к нерумынскому на¬
селению Карпато-Дунайско-Черноморского ареа¬
ла” (с. 108). В числе упущений он перечисляет
отсутствие фундаментальных исследований по
славяно-румынским связям в средние века,
турецкому и греческому влиянию на развитие
Дунайских княжеств; "фактически игнорируется”
воздействие мадьяр и немцев Трансильвании на
румын. Все это — бреши в румынской
историографии.
Книга американского историка завершается
кратким обзором "организации" исторической
науки в Румынии, перечислением основных
институтов, университетов, библиотек, журна¬
лов.
Келлог адресует свою работу англоязычному
студенчеству. На наш взгляд, ее значение шире.
Исследование способствует проникновению в
румынский металитет —история традиционно,
на протяжении поколений занимает ключевое
место в формировании духовного облика румын.
А знать систему их представлений об исто¬
рическом процессе, о роли в нем румынского
народа, о его положении в Европе, об исто¬
рических связях с соседями важно и полезно не
только историку.
В Л. Виноградов
доктор исторических наук,
зав. сектором общебалканских проблем
Инстута славяноведения
и балканистики РАН
245
Научная жизнь
НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ АКАДЕМИКИ
11 июня 1992 г.» впервые после преобразо¬
вания АН СССР в Российскую академию наук,
состоялись выборы действительных членов
РАН. По Отделению истории РАН на семь
имевшихся вакансий избрано четыре академика.
Все они являются ведущими учеными в своих
областях исторического знания. Их имена и
труды известны не только специалистам, но и
широкой общественности как в России, так и за
рубежом.
Действительным членом РАН по спе¬
циальности "Всеобщая история" избран Николай
Николаевич БОЛХОВИТИНОВ, зав. отделом
США и Канады Института всеобщей истории
РАН, член-корреспондент РАН, доктор исто¬
рических наук, профессор, специалист по истории
США, международных отношений и внешней
политики России, историографии и источ¬
никоведению.
Н.Н. Болховитинов — автор более 200
публикаций, среди них 12 монографий: "Доктрина
Монро" (М., 1959), "Становление русско-амери¬
канских отношений, 1775—1815" (М., 1966),
"Русско-американские отношения, 1815—1832"
(М., 1975), "Россия и война США за неза¬
висимость" (М., 1976), "США: проблемы истории
и современная историография" (М., 1980), "Рос¬
сия и США" (М., 1984), "Русско-американские
отношения и продажа Аляски, 1834—1867"
(М., 1990), "Россия открывает Америку.
1732—1799” (М., 1991) и др.
Н.Н. Болховитинов был отв. редактором и
основным автором "Истории США" (т. 1.
М., 1988), главным составителем публикации
"Россия и США: становление отношений"
(Москва—Вашингтон, 1980), в качестве одного
из редакторов и составителей участвовал в
издании "Внешняя политика России XIX в."
(т. I—XI. М., 1960—1979).
Н.Н. Болховитинов обосновал новые подходы
к доктрине Монро, проанализировал механизм
действия "подвижной границы", выдвинул
концепцию Американской революции как рево¬
246
люции внутриформационной. Наиболее крупный
вклад'он внес в изучение отношений России и
США, детально разработав концепцию истории
международных отношений не только как
истории связей между государствами, но и между
народами: общественно-политических, торговых,
литературных и научных.
Н.Н. Болховитинов читал лекции во многих
советских и американских университетах, под¬
готовил большое число дипломников и канди¬
датов наук. Он является отв. редактором "Аме¬
риканского ежегодника", членом редколлегии
журнала "Вопросы истории”, членом редсовета
"Исторического архива", некоторых иностранных
изданий. В 1989 г. Н.Н. Болховитинов выступил
инициатором создания Центра по изучению
Русской Америки и ныне является предсе¬
дателем бюро этого центра.
♦ ♦ ♦
Действительным членом РАН по спе¬
циальности "Всеобщая история" избран Юрий
Алексеевич ПИСАРЕВ, советник Института
славяноведения и балканистики РАН, член-
корреспондент РАН, доктор исторических наук,
профессор.
Ю.А. Писарев — ведущий исследователь
проблем Юго-Восточной, Восточной и Централь¬
ной Европы, специалист по истории балканских
стран XIX и первой половины XX в. Им
опубликовано более 350 научных трудов, основ¬
ными из которых являются монографии: "Осво¬
бодительное движение югославянских народов
Австро-Венгрии в 1905—1914 гг." (М., 1953),
"Сербия и Черногория в первой мировой войне
1914—1918 гг." (М., 1968), "Тайны первой миро¬
вой войны. Россия и Сербия в 1914—1915 гг."
(М., 1990).
Ю.А. Писарев принимал непосредственное
участие в качестве автора или редактора в под¬
готовке фундаментальных исследований "Все¬
мирная история", "История Югославии", "Балка¬
ны в конце XIX — начале XX в.", "Меж¬
дународные отношения на Балканах в годы
первой мировой войны" и др. Свой иссле¬
довательский интерес он сосредоточил на изу¬
чении истории попыток развязать так назы¬
ваемый "балканский узел" в начале XX в.,
попыток, приведших к первой мировой войне.
Без его публикаций на эту тему не может
обойтись ни один специалист по истории
международных отношений начала века.
Ю.А. Писарев более 50 лет вел педа¬
гогическую работу в МГУ и в других высших
учебных заведениях. Подготовил 70 кандидатов
и докторов наук. Является членом Академии
наук Черногории. В 1992 г. ему присвоена
премия РАН им. академика Е.В. Тарле.
♦ ♦ ♦
Действительным членом РАН по спе¬
циальности "История России" избран Николай
Николаевич ПОКРОВСКИЙ, заместитель ди¬
ректора по научной работе Института истории в
составе Объединенного института истории,
философии и филологии Сибирского отделения
РАН, член-корреспондент РАН, доктор
исторических наук, профессор, специалист в
области русской истории феодального периода и
археографии. Н.Н. Покровский — автор' более
150 научных работ, в том числе шести
монографий: "Антифеодальный протест урало¬
сибирских крестьян-старообрядцев в ХУШ в."
(М., 1974), "Томск. 1648—1649 гг. Воеводская
власть и земские миры" (М., 1989), "Власть и
общество. Сибирь в ХУП в." (М., 1991) и др.
Основные направления исследований Н.Н.
Покровского посвящены русской сибирской ар¬
хеографии, проблемам феодального землевла¬
дения и поземельной общины, идеологии народ¬
ных масс в России времени позднего феодализма
в связи с их классовой борьбой. Его работы о
старообрядчестве на востоке страны впервые
вводят в научный оборот ряд сведений о неизвес¬
тных науке массовых антифеодальных выступле¬
ниях урало-сибирских крестьян в ХУШ в.,
исследуют социальный состав и идеологию этих
движений.
Организованные и возглавленные им ар¬
хеографические экспедиции по Уралу и Сибири
обнаружили и дали возможность ввести в
научный оборот массу древних рукописей и
старопечатных изданий, многие из которых
поистине бесценны, например, полный текст
"Судных списков" Максима Грека. Деятельность
Н.Н. Покровского заложила основы фактически
созданной им сибирской школы археографии.
Н.Н. Покровский активно участвует в подго¬
товке научных кадров, с 1956 г. он преподает в
Новосибирском государственном университете,
среди его учеников кандидаты и доктора
наук.
Н.Н. Покровский ведет большую научно¬
организационную работу, с 1975 г. заведует
сектором археографии, с 1991 г. — заместитель
директора Института истории СО РАН. Он
является заместителем председателя Археогра¬
фической комиссии РАН и председателем ее
Сибирского отделения, сопредседателем Между¬
народной ассоциации исследователей старооб¬
рядчества, членом редколлегии "Археографи¬
ческого ежегодника", ответственным редактором
ежегодника "Археография и источниковедение
Сибири".
Действительным членом РАН по спе¬
циальности "Всеобщая история" избран Вла¬
димир Григорьевич ТРУХАНОВСКИЙ, главный
научный сотрудник-консультант Института
всеобщей истории РАН, член-корреспондент
РАН, доктор исторических наук, профессор,
специалист в области новейшей истории стран
Запада, истории международных отношений и
внешней политики России.
Его перу принадлежат свыше 150 научных
статей и 20 книг, основные из которых:
фундаментальные монографии "Новейшая исто¬
рия Англии" (М., 1958) и трехтомная "Внешняя
политика Англии в новейшее время" (М.,
1958—1965), позволяющие читателю разобрать¬
ся в особенностях английского менталитета, в
тонкостях и хитросплетениях внешней политики
этой страны. Другое направление творческих
интересов В.Г. Трухановского — работа в жанре
политической биографии. В эссе о жизни и
трудах Уинстона Черчилля, Антони Идена,
адмирала Нельсона, Бенджамина Дизраэли
автор показал себя не только как высокий
профессионал, но и как тонкий стилист. Боль¬
шинство его книг выдержало по нескольку
изданий и переведено на иностранные языки.
Около 30 лет В.Г. Трухановский заведовал
кафедрой истории международных отношений в
МГИМО МИД СССР, преподавал в МГУ, с
1960 г. по 1987 г. был главным редактором
журнала "Вопросы истории".
При его активном участии в марте 1992 г.
создана творческая Ассоциация англоведов
"Английский клуб: история, культура, бизнес",
президентом которой он избран.
Редакционная коллегия и коллектив редакции
журнала "Новая и новейшая история" поздрав¬
ляют Н.Н. Болховитинова, Ю.А. Писарева,
Н.Н. Покровского, В.Г. Трухановского с избра¬
нием действительными членами Российской ака¬
демии наук и желают им новых творческих
успехов в научной и общественной деятельности.
247
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ИСТОРИИ РАН
Академия наук не изолированное от осталь¬
ного мира учреждение. Эта простая истина вновь
нашла подтверждание на годичном общем
собрании Отделения истории РАН, состоявшемся
под председательством академика Г.Н.
Севостьянова 6 апреля 1992 г. Уже в докладе
академика-секретаря Отделения академика И.Д.
Ковальченко "Итоги и перспективы
деятельности научных учреждений Отделения
истории" отразилась сложность новых исто¬
рических условий. Руководство академических
институтов Отделения стремилось дать ответ на
множество сложных научных и научно-орга¬
низационных вопросов, стоящих перед учеными-
историками.
Отметив, что на состояние дел в Академии
огромное влияние оказывает общая ситуация в
стране, И.Д. Ковальченко указал, что в усло¬
виях резкого повышения цен возникает немало
проблем, связанных с эффективностью исполь¬
зования имеющихся ресурсов, структурой науч¬
но-исследовательских подразделений, кадрами.
По целому ряду направлений в работе
институтов Отделения, заявил докладчик, дос¬
тигнуты положительные результаты. Однако
этот факт не устраняет необходимости значи¬
тельного обновления научной проблематики и
активизации исследований на различных уровнях
изучения проблем, начиная с отдельно взятого
конкретно-исторического исследования до обоб¬
щающих трудов синтетического плана с
использованием межинститутских разработок и
междисциплинарных данных.
В этом см лсле Отделению истории в
соответствии с действующим ныне постанов¬
лением Президиума РАН об Отделении
отводится роль прежде всего научного "мозго¬
вого центра", не только координирующего
pt боту научных учреждений страны, но также
выдвигающего и разрабатывающего наиболее
важные и принципиальные проблемы.
Важнейшей стороной деятельности Отде¬
ления при такой постановке вопроса является
взаимодействие с мировой исторической наукой,
’’вписывание" в нее. А это, в свою очередь,
предполагает совместную разработку тем,
представляющих взаимный научный интерес.
Решительные шаги в реализации междуна¬
родного научного сотрудничества Отделения
истории РАН в текущем году уже сделаны: в
январе 1992 г. состоялось двухдневное сове¬
щание с участием американских, французских,
германских и итальянских историков, на котором
была достигнута договоренность о совместной
разработке таких тем, как "Реформы и
революции", "История представительских учреж¬
дений и политических партий", "Интеллигенция в
общественно-политической жизни XIX—XX ве¬
ков", "Менталитет и социально-экономическое
развитие", "Культура, церковь и религия".
, Реализация международных проектов повы¬
шает нашу ответственность, требует привле¬
чения новых материалов и, что исключительно
важно, выработки новых методологических прин¬
ципов, новых концептуальных подходов.
Объединяющей сквозной темой всех раз¬
работок становится история мировой цивилиза¬
ции и место России в мировом историческом
процессе. Близкой к ней по объединяющей
функции является тема "Человек в истории", с
которой связано исследование такой актуальной
и сложной проблемы, как "Массы, власть и
личность" в их взаимодействии в различных
исторических условиях и на различных этапах
исторического развития.
И.Д. Ковальченко назвал также темы, для
изучения которых имеется значительный кадро¬
вый потенциал: "Межнациональные отношения и
культурное развитие народов Российской Фе¬
дерации", "История идей социализма и их
осуществление в Советском Союзе и других
странах" и др.
Докладчик уделил внимание рассмотрению
возможных путей реализации проектов создания
небольших "мобильных" исследовательских
групп, подготавливающих тематические сборни¬
ки, монографии и концентрирующих усилия
вокруг одной конкретной проблемы, соот¬
ветствующей структурной реорганизации инсти¬
тутов. Это связано с внедрением контрактной
системы, резким усилением взаимодействия
между историческими журналами и институтами,
когда журналы используют научный потенциал
институтов для постановки крупных проблем, а
институты опираются на журналы для опе¬
ративного освещения и обсуждения таких
проблем.
Решение фундаментальных, основопола¬
гающих проблем исторической науки важно не
только в плане собственно научном. Оно не¬
посредственно затрагивает судьбы наших науч¬
ных кадров. И.Д. Ковальченко высказался
против каких-либо схем решения проблемы
кадров по принципу возраста. Только квалифи¬
кация и работоспособность могут быть мерилом
научной состоятельности. Но этому в значитель¬
ной мере мешает отсутствие должной дифферен¬
циации в оплате, уравниловка, наличие разрос¬
шегося административного аппарата.
Новых подходов требует система финанси¬
рования исследований и оплаты труда. Помимо
бюджетного финансирования, впрочем в совре¬
менных условиях весьма ограниченного, доклад¬
чик призвал изыскивать и небюджетные источ¬
248
ники (финансирование программ другими ве¬
домствами, создание фондов стимулирования
исследовательских работ, поиски спонсоров и
т.д.).
Острейшей проблемой остается издательская.
И.Д. Ковальченко напомнил об абсурдности
положения в нашем издательском деле, когда
чем больше тираж, тем больше убытки, а не
наоборот, как во всем развитом мире. Одним из
способов реализации научной продукции является
депонирование, развитие малой полиграфии.
Необходимо также шире публиковать источники.
Издание серий документов из партийных
архивов, архивов КГБ и других может быть
прибыльным, но здесь не видно необходимой
оперативности со стороны научных учреждений.
Проблема архивов ныне исключительно
актуальна и Отделение истории намерено
рассмотреть ее на одном из заседаний Бюро1.
Закон об архивах, варианты которого обсуж¬
дались около восьми лет назад, до сих пор не
принят.
Высказанные в докладе И.Д. Ковальченко
идеи и положения вызвали оживленную
дискуссию, в которой приняли участие 18
человек.
Одними из главных стали проблемы коррек¬
тировки научных планов, совершенствования
структуры институтов, численности сотрудников.
Своими мыслями по этим вопросам поделились
директор Института российской истории РАН
член-корр. РАН А.П. Новосельцев, директор
Института востоковедения РАН член-корр. РАН
М.С. Капица, директор Института славяно¬
ведения и балканистики РАН д.и.н. В.К. Волков,
директор Института всеобщей истории РАН
(ИВИ) д.и.н. А.О. Чубарьян, директор Инсти¬
тута истории, филологии и философии Си¬
бирского отделения РАН член-корр. РАН Л.М.
Горюшкин, директор Института истории, языка
и литературы им. Г. Цадасы д.и.н. А.И. Осма¬
нов, и.о. директора Института археологии РАН
д.и.н. Р.М. Мунчаев.
Обсуждение показало, что существует тен¬
денция по-разному решать стоящие перед инсти¬
тутами проблемы. Институт российской истории
пошел по пути создания программы реорга¬
низации, учитывающей вклад каждого сотруд¬
ника в реализацию планов института. Однако
Расширенное заседание Бюро Отделения
истории состоялось 30 апреля 1992 г. На нем с
докладом "Российские архивы сегодня" выступил
председатель Роскомархива д.и.н. Р.Г. Пихоя.
Развернувшаяся по докладу дискуссия выявила
наличие трудностей, материальных проблем,
стоящих перед российскими архивами, но в то же
время свидетельствовала о заметном расши¬
рении возможностей работы историков над
недоступными ранее документами.
при составлении программы и при ее выполнении
возникли трудности, связанные с определением
научного вклада сотрудников, несовершенством
трудового законодательства, когда заведомо
плохой работник приравнен к добросовестному и
трудолюбивому. Институт ищет выход из
создавшегося положения за счет комбини¬
рованного решения об уходе на пенсию с
работой на полставки.
Серьезная работа проводится в Институте
востоковедения. За свою почти 200-летнюю ис¬
торию институт прошел сложный и славный
путь. В настоящее время, как заявил М.С. Ка¬
пица, он реорганизуется, создаются новые отде¬
лы, призванные исследовать важнейшие в науч¬
ном отношении проблемы — культурологию,
цивилизационные особенности восточных обще¬
ств, взаимодействие культуры и религии, взаимо¬
влияние традиций и новаций и др. В институте
найдены финансовые средства для научных
публикаций, дифференцированной и стимулирую¬
щей оплаты добросовестных ученых, выплаты
от полутора до двух зарплат исполнителям
научных программ.
В.К. Волков отметил, что славяноведение —
это прежде всего наука о национально¬
государственных интересах России, именно так
это понимали ее основоположники. Он обратил
внимание на пагубность распространения в
обществе негативистских настроений в отно¬
шении гуманитарных наук и гуманитарных
институтов. Одной из новых форм работы
Института славяноведения и балканистики стала
значительно усиливающаяся координация науч¬
ных исследований с другими институтами, в
частности российской истории, этнологии, все¬
общей истории. В настоящее время институт
переходит к системе отделов (вместо прежних
секторов), которые возьмут на себя выполнение
проектов и организацию научных исследований.
Создаются совместные предприятия с предста¬
вителями Польши, Болгарии, Чехо-Словакии для
научных исследований и издательского дела. К
сожалению, бюрократические препоны в этой
сфере еще не удалось преодолеть.
А.О. Чубарьян поделился опытом работы
Института всеобщей истории в новых условиях.
По сравнению с другими институтами ИВ И ищет
свои формы осуществления научных иссле¬
дований, активно использует открывшиеся
возможности более широкого международного
разделения научного труда.
В институте определили конкретные прог¬
раммы и проекты с учетом новых фунда¬
ментальных тем, как например, проект истории
искусств, проблем цивилизации, теорий познания.
Центральной фигурой в работе становится
руководитель проекта. Одной из современных
форм, принятых в ИВИ, становится контрактная
249
система, значительно конкретизирующая работу
сотрудников. Контракт подписывается на один-
два года, а авторитетная экспертная комиссия в
конце работы дает оценку сделанного. В
институте пошли по пути отказа от сокращения
работников по возрастному принципу, что в
значительной мере стабилизировало моральную
и нравственную обстановку.
А.О. Чубарьян призвал к совместной с
иностранными издательствами публикации архив¬
ных документов, что дало бы возможность
получить значительные валютные средства.
JLM. Горюшкин призвал к поискам новой
методологии исследований, которая отвечала бы
современному уровню исторических знаний.
Разрушив одну методологию, российские ученые
не создали ничего нового, что аккумулировало
бы исследовательский опыт отечественной и
мировой исторической науки. Новым в практике
работы Института истории, филологии и
философии Сибирского отделения стал програм¬
мно-целевой метод исследования, что практи¬
чески позволяет институту в сложившихся
условиях решать проблему выхода научной про¬
дукции через заключение договоров о
монографиях, докладных и аналитических запис¬
ках, в большей мере использовать научный
потенциал и зарабатывать деньги за счет
выполнения заказов.
Огромное значение для развития истори¬
ческой науки в Дагестане имеет созданный в
1924 г. Институт истории, языка и литературы.
Его директор А.И. Османов призвал к более
активной разработке в рамках Отделения исто¬
рии таких проблем, как история национальных
движений, гражданской войны. Он согласился с
мнением о том, что не чувствуется озабо¬
ченности правительства России положением дел
в науке. Рост цен ведет к резкому сокращению
эффективности работы института, его сотруд¬
ников, почти к полному прекращению издания
научной продукции.
Эта мысль была продолжена Р.М. Мун-
чаевым, сообщившим, что впервые в своей
истории Институт археологии в текущем году не
проводит археологических экспедиций, финан¬
сируемых из бюджета. В прежние годы число
таких экспедиций доходило до 60. Отказ от
экспедиций явится трагедией для отечественной
археологии. Сотрудники не имеют возможности
выехать в научные командировки. В этих
тяжелых условиях институт ищет спонсоров,
разрабатывает программу реорганизации своей
работы, ставит в связи с приватизацией земли
задачу провести учет всего культурного и
исторического национального наследия. Особое
внимание по-прежнему уделяется продолжению
издания уникального 20-томного труда "Археоло¬
гия СССР". Вышло в свет уже 11 томов, 3 — в
издательстве.
250
Если акцент в выступлениях директоров
институтов был слелан на проблемах реорга¬
низации и выживания в условиях новой реаль¬
ности, то члены Отделения истории привлекли
внимание к целому кругу важнейших вопросов
теоретико-методологического и практического
плана.
Академик Б.А. Рыбаков страстно призвал к
тому, чтобы использовать возможности углубить
и расширить сферу исторических иследований и
перейти на уровень исторического синтеза. Это и
синтез внутри отдельных дисциплин: этнографии,
истории, древней истории, современной истории,
археологии и т.д. Это и синтез отдельных наук и
дисциплин в рамках Отделения истории. По
мысли Б.А. Рыбакова такой синтез должен стать
"архитектурным проектом построения нового
здания исторической науки".
Ряд предложений о путях выхода из
создавшегося положения был высказан членом-
корр. РАН А.А. Искендеровым. С целью
спасения исторической науки в условиях сти¬
хийного движения к рынку он призвал лик¬
видировать арендную плату с академических
институтов и учреждений за помещения. Ни¬
какое издательство, тем более научное, не
должно попадать под действие закона о 28%
налоге на добавленную стоимость, когда на
каждой операции в издательстве цена зна¬
чительно возрастает.
А.А. Искендеров предложил создать единый
фонд развития исторической науки. Поступления
в него могут быть разными — от создания
научных проектов совместно с иностранными
научными центрами до чтения лекций.
Академик Б.Н. Пономарев призвал к исполь¬
зованию в деле решения неотложных задач,
стоящих перед страной, опыта тех мероприятий,
которые были введены в 1921 г. при переходе к
нэпу.
Однако идея Б.Н. Пономарева была под¬
вергнута сомнению в выступлении члена-корр.
РАН К.В. Чистова, заявившего о значительном
изменении менталитета жителей сельской
местности, что не даст нэповским документам
сработать, как в прежние годы. Он указал на
особенно трудное положение гуманитарных
институтов Санкт-Петербурга, прежде всего в
области издательской деятельности. Для осу¬
ществления позитивных изменений в сфере
общественного сознания К.В. Чистов призвал
создать этнографическую службу.
Член-корр. РАН Н.Н. Покровский обратил
внимание на необходимость обратиться к пре¬
зиденту России с предложением издать акт,
фиксирующий принцип неприкосновенности и
неотчуждаемости фондов культурного наследия
России. Паритетный обмен фондами допускался
бы только с согласия президента России по
каждому конкретному случаю. Идею сохранения
культурного и архивного наследия поддержал
член-корр. РАН JLB. Милов.
Против практики "замутнения юных душ", к
чему ведет наплыв дилетантов в сферу исто¬
рических знаний, решительно выступил член-
корр. РАН В.А. Куманев. Большую помощь
мог бы оказать специализированный журнал по
публикации архивных документов, что заметно
приблизило бы всех историков к осуществлению
принципа научного историзма.
Против дискредитации исторической науки
высказался также д.и.н. А.Я. Манусевич. Он
предложил осуществить издание краткой исто¬
рической энциклопедии.
Глубокое беспокойство состоянием истори¬
ческой науки выказал академик П.В. Волобуев.
Нынешние власти не демонстрируют понимания
значения науки. Но и сама историческая наука,
находившаяся в методологическом и теоре¬
тическом кризисе, не дала пока ответа на
главный вопрос: что же с нами произошло за 75
лет? П.В. Волобуев высказался за оператив¬
ность работы, за устранение тяжеловесности и
неповоротливости в научном процессе. Необ¬
ходимо рассмотреть эффективность научно-
исследовательской деятельности. Институты в
смысле управления не должны быть сколком со
старой административно-командной системы.
Председатель Национального комитета исто¬
риков академик С.Л. Тихвинский с тревогой
говорил о тяжелом финансовом положении,
осложняющем деятельность Национального
комитета. Тем не менее и в этих сложных
условиях изыскиваются новые формы оплаты и
организационного обеспечения международных
мероприятий.
С горячим призывом в защиту российских
немцев выступила член-корр. РАН Е.И. Дружи¬
нина.
Общее собрание Отделения истории отразило
разнообразие суждений и идей по выведению
исторической науки из сложного положения, в
котором она оказалась. Проблема, однако,
заключается в том, что реализовать все или
даже часть предложений непросто. Важнейшей
стороной деятельности Отделения истории, о
чем говорил в заключительном слове И.Д. Ко¬
вальченко, остается получение практических
результатов, необходимых для применения в
жизни. Для получения таких результатов Отде¬
лению важно укрепить себя как кооперацию
ученых, отвечающих за сферу исторической
науки в обществе, действующих сообща в
создании фундаментальных трудов, таких, как,
например, "История XX века".
В.С. Шилов
кандидат исторических наук,
Ученый секретарь
Отделения истории РАН
251
I АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ САМСОНОВ |
4 апреля 1992 г. на 85-м году ушел из жизни
выдающийся ученый, один из крупнейших
исследователей военно-исторической проблема¬
тики академик Александр Михайлович Самсонов.
Его труды получили широкое признание в нашей
стране, неоднократно переиздавались и
пользуются авторитетом среди научной об¬
щественности за рубежом. Велика и разно¬
образна также его научно-организационная и
общественная деятельность. Жизненный путь
ученого, как и у многих людей его поколения,
был труден. Но в целом судьба его сложилась
;частливо. Благодаря таланту, целеустремлен¬
ности, твердой воле и неуемной работо¬
способности ему удалось добиться многого в
науке.
Александр Михайлович родился 8 января
1908 г. в Нижнем Новгороде, где прошли его
детство и юность. После окончания Ле¬
нинградского университета он работал препо¬
давателем истории, а с 1938 г. младшим научным
сотрудником Музея истории религии и атеизма
АН СССР, публиковал статьи по этой тематике,
а позднее издал книгу "Церковь и народные ан¬
тикрепостнические восстания в России". Участво¬
вал в советско-финляндской войне 1939—1940 гг.
Затем переехал в Москву, где занимался
журналистской и лекционной работой. В марте
1943 г. был направлен райвоенкоматом в военно¬
политическое училище, а осенью того же года в
3-й механизированный корпус. В составе этого
соединения участвовал в боевых операциях до
конца войны. Трагические и героические события
военных лет навсегда запечатлелись в его душе
и определили жизненный ьыбор. Впоследствии
Александр Михайлович вспоминал: "На фронте я
решил, что если останусь жить, то буду
историком Великой Отечественной войны". И до
конца своих дней он остался верен принятому
тогда решению.
Вторая мировая война, в особенности ге¬
роическая борьба советского народа с фа¬
шистской агрессией, была ведущей темой в
творчестве А.М. Самсонова. От истории гвар¬
дейского соединения, крупнейших битв — под
Москвой и Сталинградом — к обобщающему
труду по второй мировой войне в пелом —
таковы этапы исследовательской работы
ученого.
Над первой книгой о войне, посвященной
истории боевого пути 3-го гвардейского ме¬
ханизированного корпуса, он начал работать по
поручению его командования зимой
1944—1945 гг. Исследование вышло отдельным
закрытым изданием небольшим тиражом в
1948 г. В этом же году А.М. Самсонов защитил
его как кандидатскую диссертацию. Первая же
открытая публикация книги в 1963 г. (второе
издание, расширенное и дополненное, увидело
свет спустя десять лет) вызвала живой интерес у
читателей.
В 1948 г. А.М. Самсонов начал работать в
Институте истории АН СССР. Коллективом
Института были подготовлены "Очерки истории
252
Великой Отечественной войны" (1955), в ко¬
торых А.М. Самсонову принадлежали главы,
посвященные положению СССР накануне напа¬
дения фашистской Германии и событиям первого
периода войны. В 50-е годы главное внимание
ученый уделял монографическому исследованию
переломных этапов в истории второй мировой
войны — Московской и Сталинградской
битвам.
С разрывом в несколько лет вышли в свет
три книги А.М. Самсонова: две посвященные
Московской битве, третья — Сталинградской.
Первая — "Великая битва под Москвой и ее
военно-политическое значение" (1956) —
представляла собой популярный очерк, вторая —
"Великая битва под Москвой. 1941—1942 гг."
(1958) — монографическое исследование.
Центральное место в научном наследии
ученого занимает фундаментальная монография
"Сталинградская битва" (1961). В этом труде
особенно четко определились характерные черты
исследовательской манеры автора, которые
были ему присущи и в более ранних работах.
Речь идет о комплексном использовании разно¬
образных документальных материалов (архивных
и опубликованных), рассказов очевидцев —
непосредственных участников битвы от прослав¬
ленных полководцев до рядовых бойцов, ме¬
муаров, писем и обширной литературы; всесто¬
роннем раскрытии проблемы с точки зрения
военной, политической, экономической и идеоло¬
гической. Книга привлекла внимание читателей в
нашей стране и за рубежом, получила высокую
оценку в отечественной и зарубежной
прессе.
В 1961 г. Александр Михайлович представил
сваэ книгу о Сталинградской битве в качестве
докторской диссертации и успешно защитил ее.
В последующие годы ученый работал как автор
и ответственный редактор над подготовкой к
печати X тома "Истории СССР с древнейших
времен до наших дней", освещающего жизнь
страны в годы войны (1941—1945). Книга вышла
также отдельным изданием. Одновременно он
готовил переиздание своих основных прежних
трудов, переработанных с учетом новых мате¬
риалов, литературы и критических замечаний.
С конца 60-х годов внимание ученого было
сосредоточено на подготовке краткого очерка по
истории второй мировой войны. Книга вышла в
свет в 1975 г. под названием "Крах фашистской
агрессии. 1939—1945". В ней обобщены итоги
изучения войны советскими и зарубежными
учеными, характеризуются главные тенденции
мирового развития, боевые действия на основных
театрах войны. Большое место отведено борьбе
СССР против агрессии и его решающей роли в
разгроме блока фашистских государств. Кроме
первого издания, вышло еще три: в 1980, 1985 и
1990 гг., причем последние два под новым
названием "Вторая мировая война. 1939—1945.
Очерк важнейших событий".
К военной тематике во многом тяготеет и
книга А.М. Самсонова "Память минувшего.
События, люди, история" (1988 г.), над которой
он работал в первой половине 80-х ^одов. Она
необычна по своему содержанию. Первая часть
"Далекое—близкое" отчасти автобиографи¬
ческая, но главным образом состоит из воспо¬
минаний о людях, известных автору, прошедших
через трудные испытания Великой Оте¬
чественной войны, а если шире, то о поколении,
одержавшем победу над фашистской Германией.
Вторая часть в основном посвящена исто¬
риографическим и источниковедческим пробле¬
мам, первоочередным задачам изучения, дискус¬
сионным вопросам истории второй мировой и
Великой Отечественной войн. Автор делится
также впечатлениями о встречах и дискуссиях с
историками стран Восточной и Западной
Европы.
А.М. Самсонов принадлежал к тому типу
ученых, для которых исследовательская работа
немыслима без научно-организационной и об¬
щественной деятельности. Эта деятельность
была велика, многогранна и более четырех
десятилетий тесно связана с Академией наук.
Александр Михайлович в 50—60-х годах был
ученым секретарем Редакционно-издательского
совета, затем директором издательства Ака¬
демии наук СССР. Тогда были осуществлены
крупные меры по совершенствованию плани¬
рования издания научной литературы, улуч¬
шению ее тематики, сокращению сроков про¬
хождения рукописей в издательстве, по рас¬
ширению полиграфической базы. Увеличился
выпуск книжной и журнальной продукции,
улучшилось ее качество, повысились тиражи
научной литературы.
Александр Михайлович поддерживал исследо¬
вания и публикации источников, двигавшие
вперед науку, в которых проявлялось стремле¬
ние авторов правдиво освещать историю нашей
страны, издание многих из них в силу разных
причин (чаще всего цензурных и идеологических
запретов) тормозилось или запрещалось. Благо¬
даря настойчивости и упорству ему удавалось
иногда "пробивать" такие издания. На этой
почве возникали конфликты с вышестоящими
партийными инстанциями. За выпуск книжки
А.М. Некрича "22 июня 1941 года" А.М. Самсо¬
нову комиссия партийного контроля при ЦК
КПСС вынесла партийный выговор с занесением
в учетную карточку.
По инициативе и под научным руководством
А.М. Самсонова при издательстве Академии
наук СССР стала выходить серия "Вторая
мировая война в исследованиях, воспоминаниях.
253
документах". За время ее существования
(1965—1975 гг.) было опубликовано 90 книг.
Благодаря этой серии удалось сохранить для
науки и общества многие ценные воспоминания
крупных военачальников, государственных и
общественных деятелей. Среди авторов марша¬
лы А.М. Василевский, Г.К. Жуков, М.В. Заха¬
ров, Р.Я. Малиновский, К.С. Москаленко,
А.И. Еременко, К.К. Рокоссовский и др. Книги
серии пользуются популярностью среди чита¬
телей. Военные деятели высоко ценили эту
серию и некоторые из них отдавали ей
предпочтение перед другими изданиями.
В течение многих лет А.М. Самсонов
являлся заместителем председателя редколлегии
популярной серии "Литературные памятники" и
главным редактором серии "Памятники исто¬
рической мысли", председателем редколлегии
серии "Народы в борьбе против фашизма и
агрессии", членом редколлегии журнала "Исто¬
рия СССР" (ныне "Отечественная история"). В
1969 г. он был утвержден главным редактором
"Исторических записок" — старейшего издания
Института истории АН СССР, которое поль¬
зуется признанием в кругах научной обществен¬
ности в нашей стране и за рубежом.
Столь же масштабна и разнообразна другая
общественно-научная деятельность А.М. Самсо¬
нова. Он был руководителем комплексной прог¬
раммы "Проблема войны и мира в XX веке",
членом бюро Отделения истории АН СССР,
членом Национального комитета историков, за¬
местителем председателя советской части Ко¬
миссии историков СССР и Чехословакии , членом
ученых советов ряда институтов. Александр
Михайлович — участник многих международных
встреч ученых.
Признание больших заслуг А.М. Самсонова в
исследовательской и научно-общественной дея¬
тельности нашло выражение в избрании его в
1964 г. членом-корреспондентом АН СССР, а в
1981 г. академиком.
Ученого всегда влекла публицистическая
деятельность, он использовал возможность выс¬
тупать в периодической печати, на телевидении,
по радио на злободневные темы. Выступления и
интервью А.М. Самсонова в 1987 г. на темы о
"белых пятнах" в изучении прошлого, о роли
Сталина в истории нашей страны вызвали
широкий отклик.
В последние годы А.М. Самсонов много
размышлял о современном состоянии и путях
развития исторической науки в новых условиях,
что нашло отражение в его выступлениях и
статьях.
В новых изданиях своих книг ученый в
противовес официальной историографии попы¬
тался по-новому осветить ряд принципиальных
вопросов истории Великой Отечественной и
второй мировой войн.
А.М. Самсонов много и плодотворно сот¬
рудничал в журнале "Новая и новейшая исто¬
рия". Его содержательные материалы с инте¬
ресом воспринимались читателями.
Александр Михайлович прожил долгую и
плодотворную жизнь. До конца своих дней
сохранил творческую энергию и огромную
работоспособность. Его книги, публицистические
выступления принесли ему известность, уваже¬
ние и признательность. А что может быть
отраднее для ученого, чем широкая и благо¬
дарная читательская аудитория? Органически
присущая ему интеллигентность проявлялась во
всем, особенно в отношениях с людьми.
Вся многогранная деятельность ученого-
гражданина была подчинена интересам науки и
служению Родине. Светлая память о нем
сохранится навсегда.
254
CONTENTS
Articles. Corr. Mem. of the Russian Academy of Sciences Myasnikov V-S. Research into the History of
Russia's Foreign Policy. Sipols V.Ya. Cripps' Mission in 1940. Talks with Stalin. Martynov B.F. General
LT. Belyaev and the Russian "Hotspot” in Paraguay. Huard R. (France). Political Traditions in the History of
France. History of World Religions. Svetlov G.E. Shinto: History and the Present Day.
Reminiscences. Fedorenko N.T. Stalin and Mao Zedong. Documentary Essays. Palchi*
kov P.A., Goncharov A.A. What Happened to the Commander-in-Chief of the Western Front General D.G.
Pavlov in 1941? Solovyov O.F. Free Masons: Past and Present. Portraits of Historians. Rakhs-
hmir P.Yu., Lapteva M.P. Lev Kertman (1917—1987). At the Institute of Military His¬
tory. Bazhenov A.N., Barsukov A.I. About the Documentary Base on the History of the Great Patriotic
War.P ubli cat ion s . From the Diaries of J. Goebbels. 1945. L ett er to the Editor. Dunay-
evsky V.A. Books Should Not Be Published This Way. Book Reviews. Scientific Life.
Читайте в следующем номере:
Накануне 22 июня 1941 г.
Неопубликованное интервью маршала А.М. Василевского
Архивы Коминтерна: внешняя политики СССР.
1939—1941 гг.
Сталин и Мао Цзэдун
Ренессанс Макса Вебера
Тайны ’’закрытого неба". Полет Пауэрса
Российский дипломат А.С. Ионин
Портреты историков: Л.И. Зубок
Проблемы российских архивов
О новой системе исторического образования
Американский протестантизм:
история и современность
У истоков идеологии европейского консерватизма
У. Ширер. Берлинский дневник
255
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
ЛАПТЕВА Мария Петровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей
истории Пермского государственного университета.
МАРТЫНОВ Борис Федорович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Института Латинской Америки РАН, автор монографий "Эволюция латиноамериканского курса
США" (в соавторстве) (М., 1982), "Ядерно-космическая стратегия Бразилии на пороге XXI века"
(М., 1991), глав в коллективной монографии "Латинская Америка в международных отношениях",
т. 1,2 (М., 1988) и других работ по истории и внешней политике стран Латинской Америки.
МЯСНИКОВ Владимир Степанович, член-корр. РАН, профессор, заместитель директора
Института Дальнего Востока РАН, автор монографий "Первые русские дипломаты в Китае"
(М., 1966), "Империя Цин и Русское государство" (М., 1980), один из составителей документальной
публикации "Русско-китайские отношения в XVII в.", в 2-х т. (М., 1969—1972), "Русско-китайские
отношения в ХУШ в", в 2-х т. (М., 1980—1990).
РАХШМИР Павел Юхимович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой
новой и новейшей истории Пермского государственного университета, специалист по германской
истории, автор книг "Происхождение фашизма" (М., 1981), "Буржуазия Западной Европы и Северной
Америки на рубеже XIX—XX веков" (в соавторстве) (М., 1984) и других работ.
СВЕТЛОВ (КОМАРОВСКИЙ) Георгий Евгеньевич, доктор исторических наук, старший
советник Второго управления Департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Российской
Федерации, автор раб<?т по истории, культуре и религии Японии: "Пять тысяч будд Энку" (М., 1968),
"Старые и новы? боги Японии" (в соавторстве) (М., 1968), "Путь богов (Синто в истории Японии)"
(М., 1985), "Лотос и политика: необуддийские движения в общественной жизни Японии"
(в соавторстве) (М., 1989).
СИПОЛС Виллис Янович, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник
Института российской истории РАН, заместитель председателя Научного совета РАН "История
международных отношений и внешней политики России", автор монографий "На пути к великой
Победе. Советская дипломатия в 1941—1945 гт." (М., 1985), "Дипломатическая борьба накануне
второй мировой войны" (М., 1989) и ряда других научных исследований.
СОЛОВЬЕВ Олег Федорович доктор исторических наук, специалист в области отечественной
истории и международных отношений, автор монографий "Международный империализм — враг
революции в России" (М., 1983), "Обреченный альянс" (М., 1986) и ряда других работ.
Технический редактор Н.П. Торчигина
Сдано в набор 01.07.92 Подписано к печати 28.08.92 Формат бумаги 70 х 100 1/16
Печать офсетпая Усл. печ. л. 20,8 Усл. кр-отт. 305,7 тыс. Уч. изд. л. 24,1 Бум. л. 8,0
Тираж 14530 экз. Зак. 3030 Цена 2 р. Юк.
Адрес редакции: Москва 121002, Арбат, д. 33/12, тел. 241-16-84
2-я типография издательства "Наука", 121099, Москва, Г-99, Шубипский пер., 6
2 р. 10 к.
Индекс 70620
В магазине «Академкнига»
имеются в продаже книги:
ДОБИАШ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ О. А.
КРЕСТОМ И МЕЧОМ.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РИЧАРДА I ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ.
1991. 109 с. 2 р. 50 к.
«Приключения Ричарда I Львиное Сердце, — пишет автор этой книги,
известный в прошлом историк О. А. Добиаш-Рождественская, — должны
возбуждать в современном читателе интерес, быть может, еще более жи¬
вой, чем тот, какой к ним притягивал людей его поколения. Драматиче¬
ская фигура блестящего авантюриста и бесстрашного скитальца по суше и
морям, жизнь, полная головокружительных успехов и роковых неудач,
волновавшая воображения Востока и Запада... Вся его западная и восточ¬
ная эпопея имеет, несомненно, какой-то иной смысл, чем утоление тоски
по Иерусалиму... Он не может остаться безразличным для истории, по ко¬
торой он прошел как сила, одновременно разрушительная и движущая».
Книга предназначена для широкого круга читателей.
ОДИССЕЙ. 1990. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ. 1990.
ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО. 1990.
222 с. 2 р. 50 к.
Книга открывается публикацией ответов историков, психологов, фило¬
софов, литературоведов на анкету «Индивидуальность и личность в исто¬
рии культуры». Результаты опроса комментирует Л. М. Баткин. Рубрика
«Картина мира в обыденном сознании» представлена статьями Карла Гинз¬
бурга (Италия) «Психологические корни средневековых представлений о
шабаше», А. Я. Гуревича «Средневековый купец» и др. Современной анг-
лоамериканской исторической антропологии, изучению «Истории по¬
вседневности» в ФРГ, английской этнологии начала века посвящены статьи
Л. П. Репиной, С. Б. Станкевича, С. В. Оболенской, Эрнста Гельнера (Ве¬
ликобритания). В разделе публикаций помещены предвоенные письма
Марка Блока и Люсьена Февра.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Заказы на книги направляйте по адресу:
117393 Москва. ул. Академика Пилюгина, 14, корп. 2.
; •
ISSN 0130-3864 Новая и новейшая история, № 5 1992