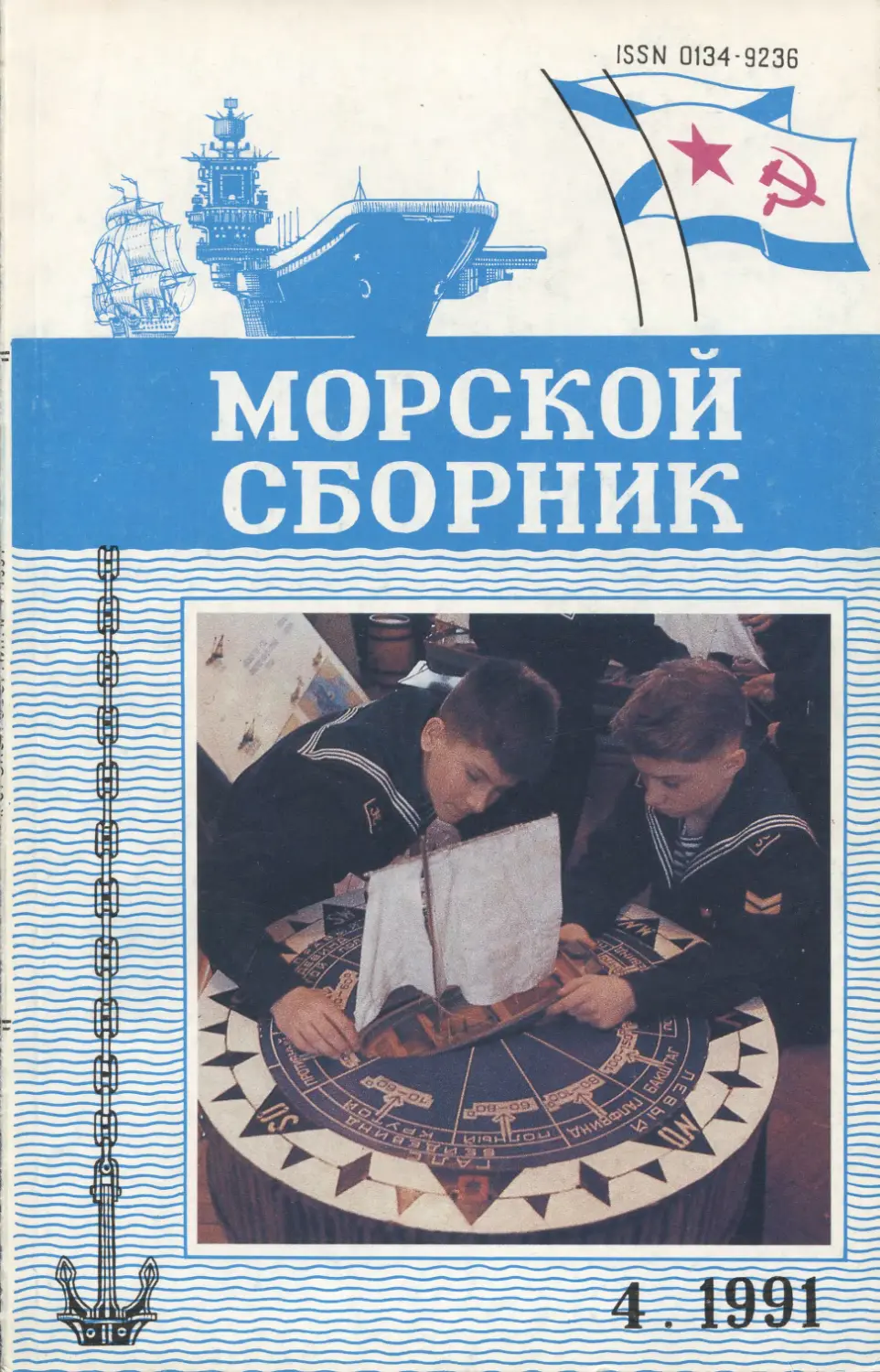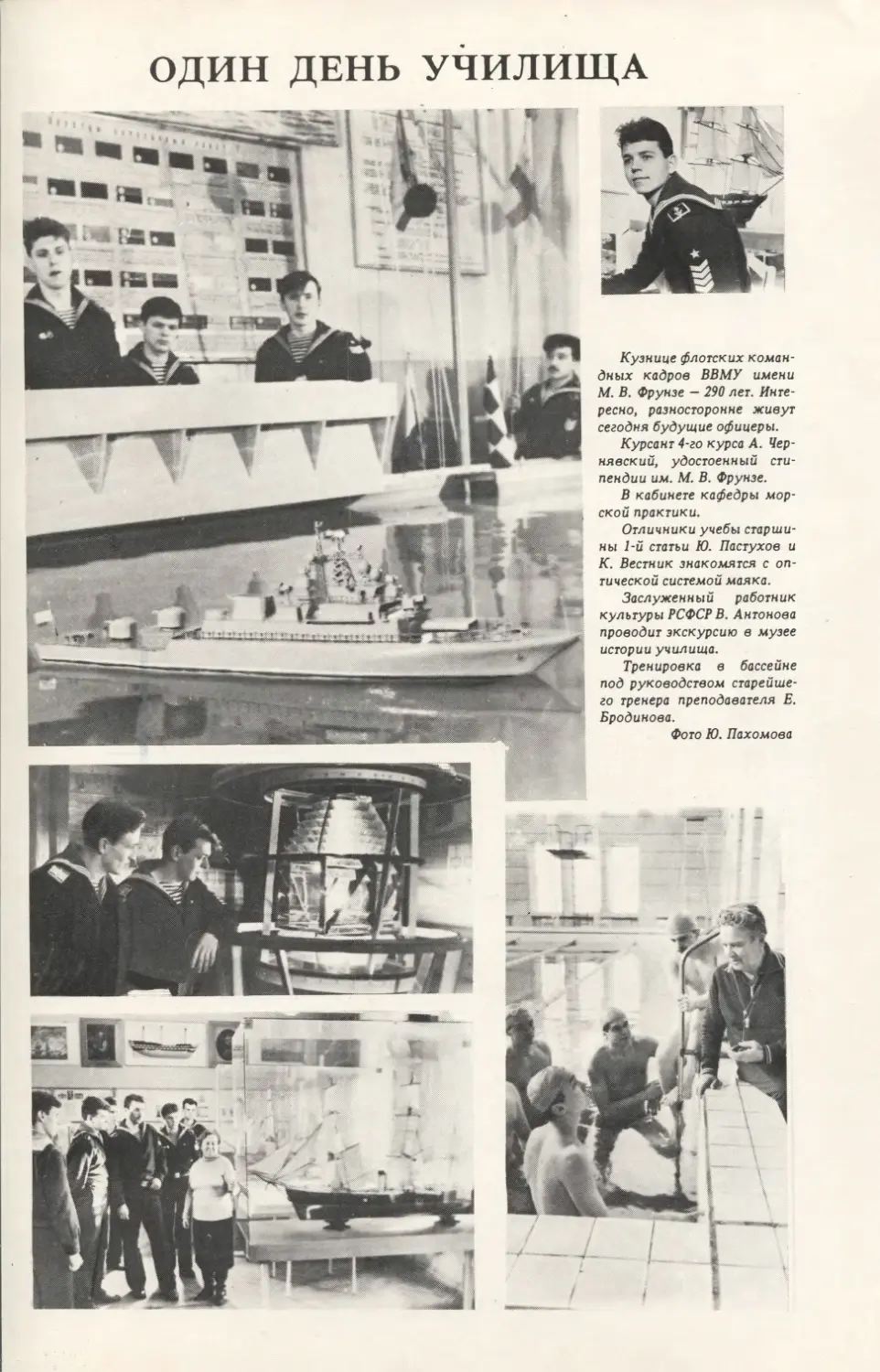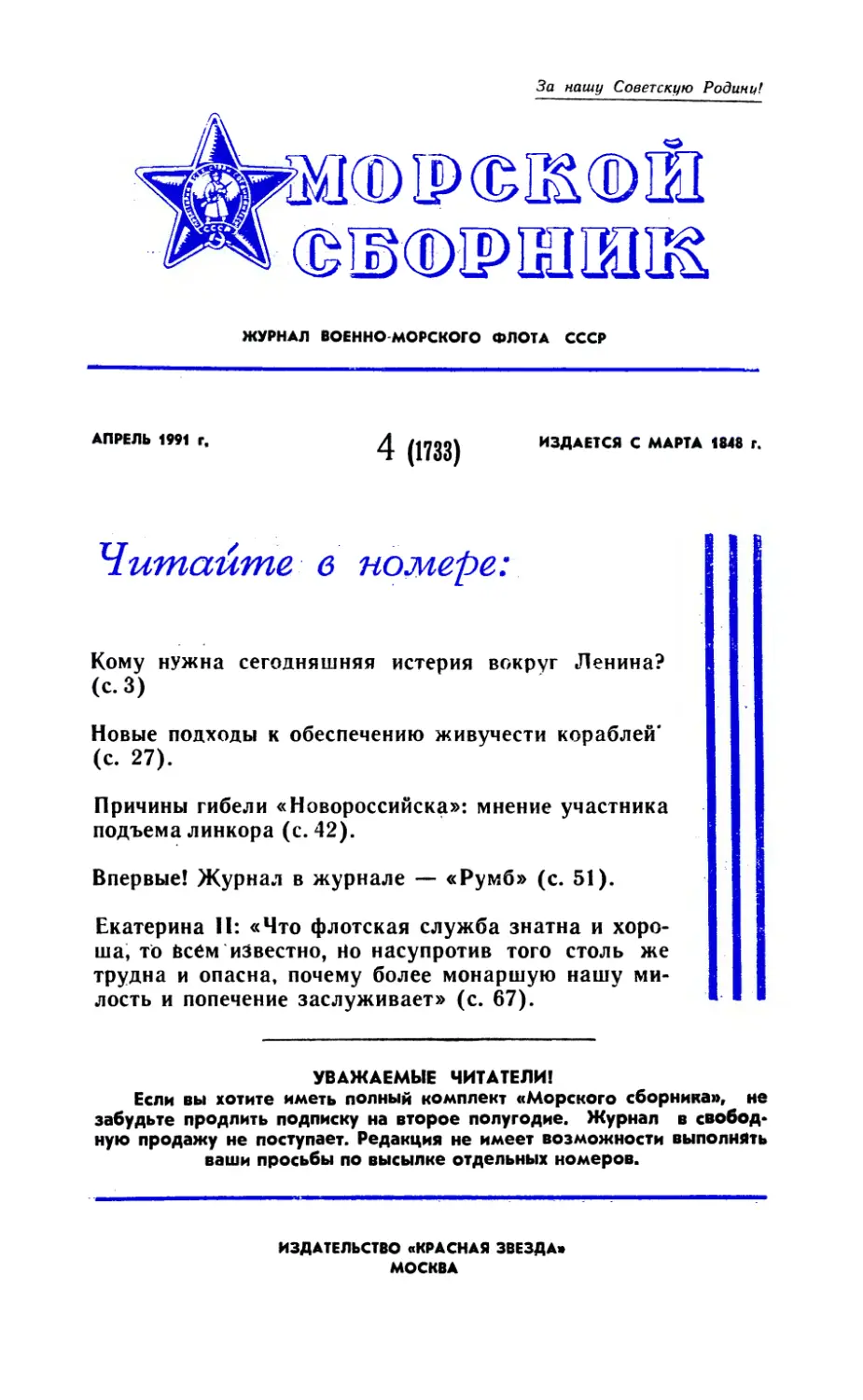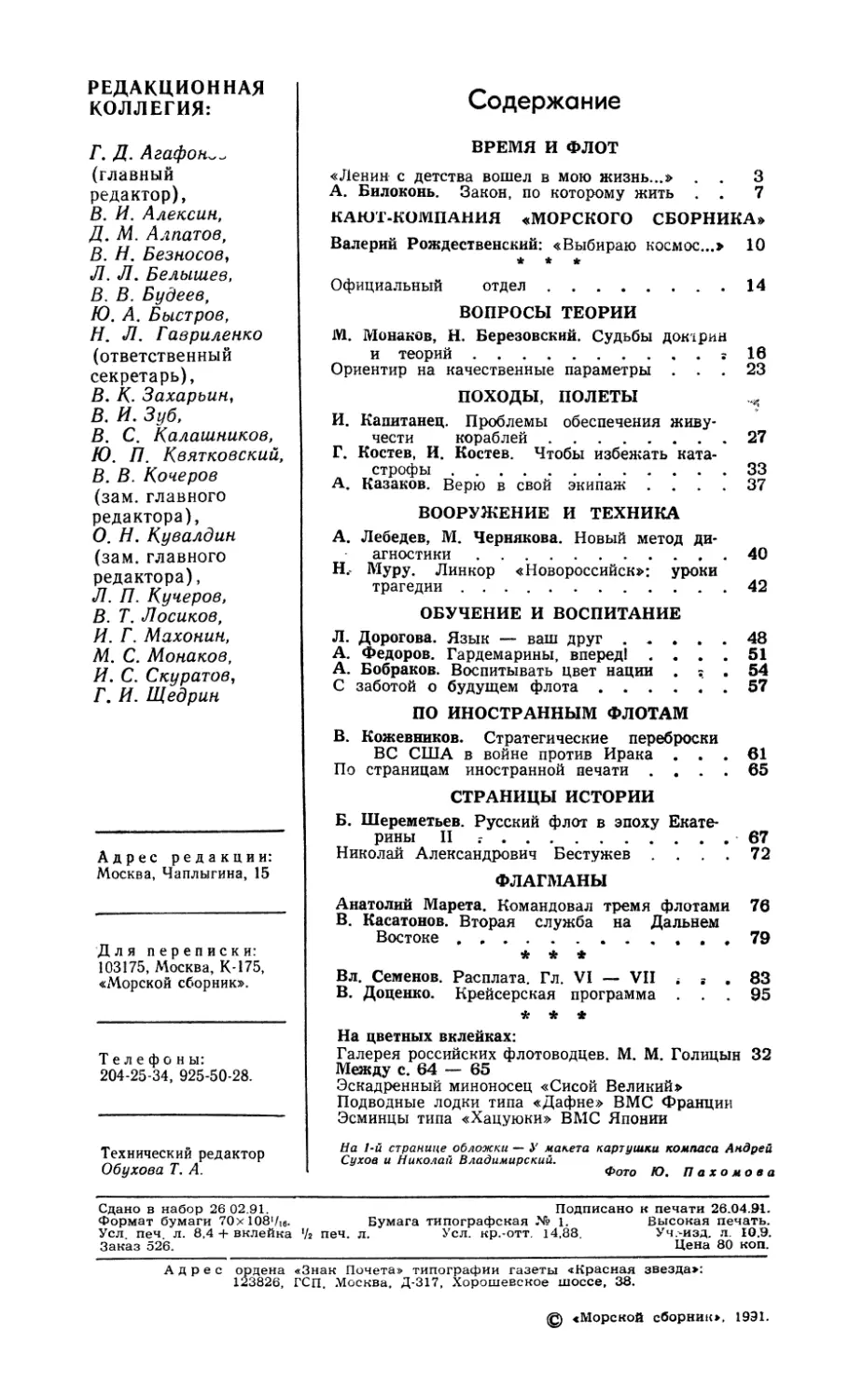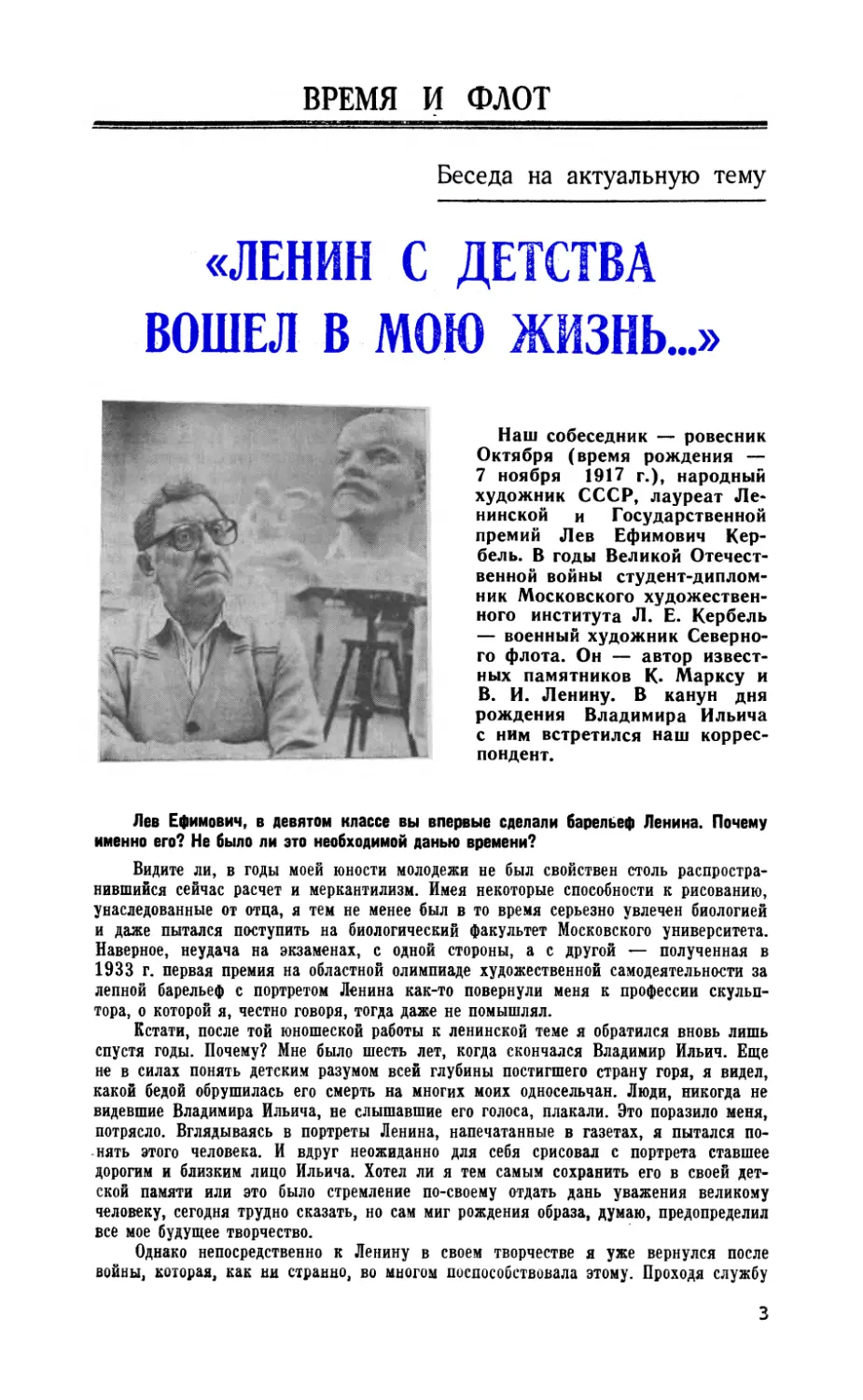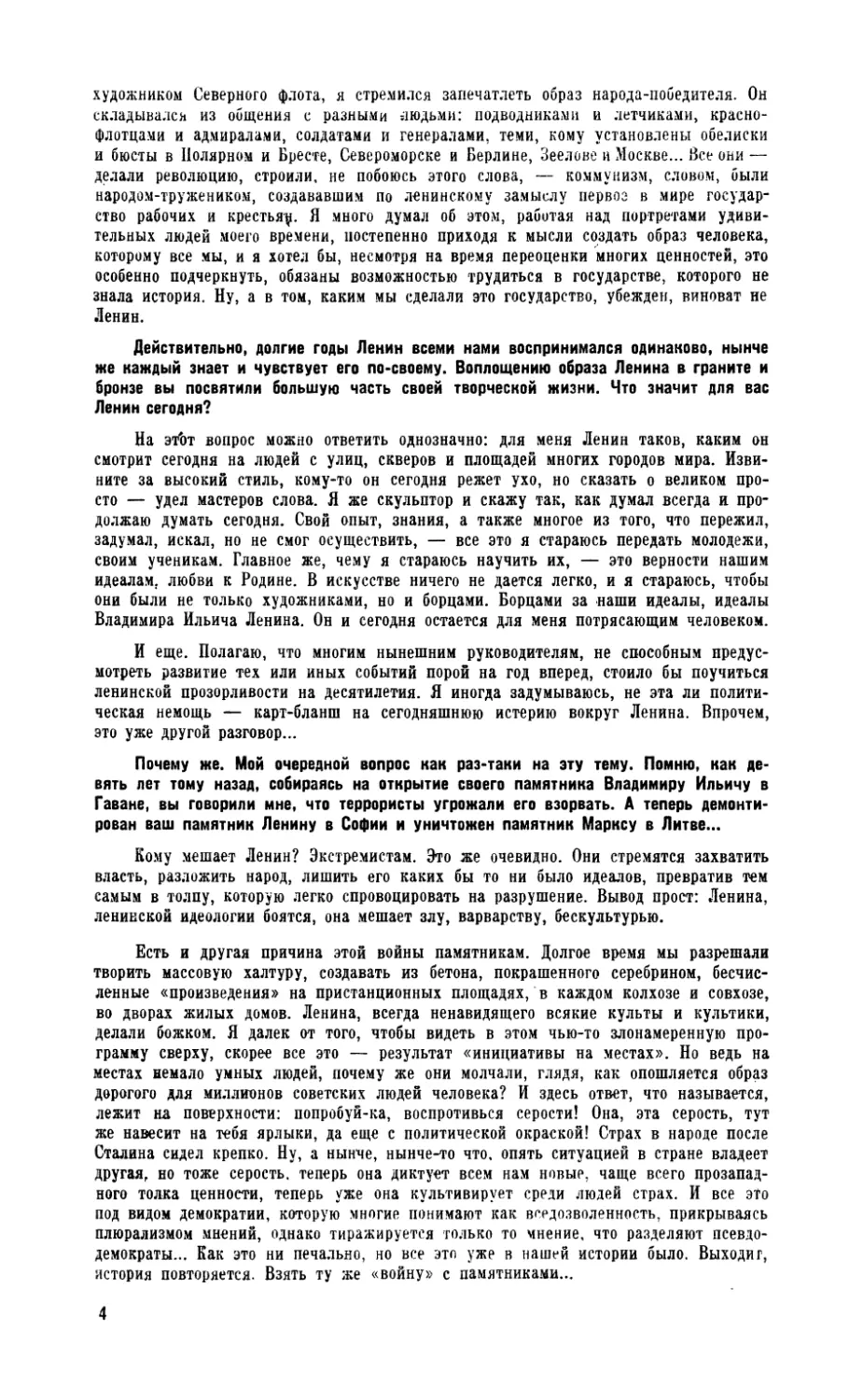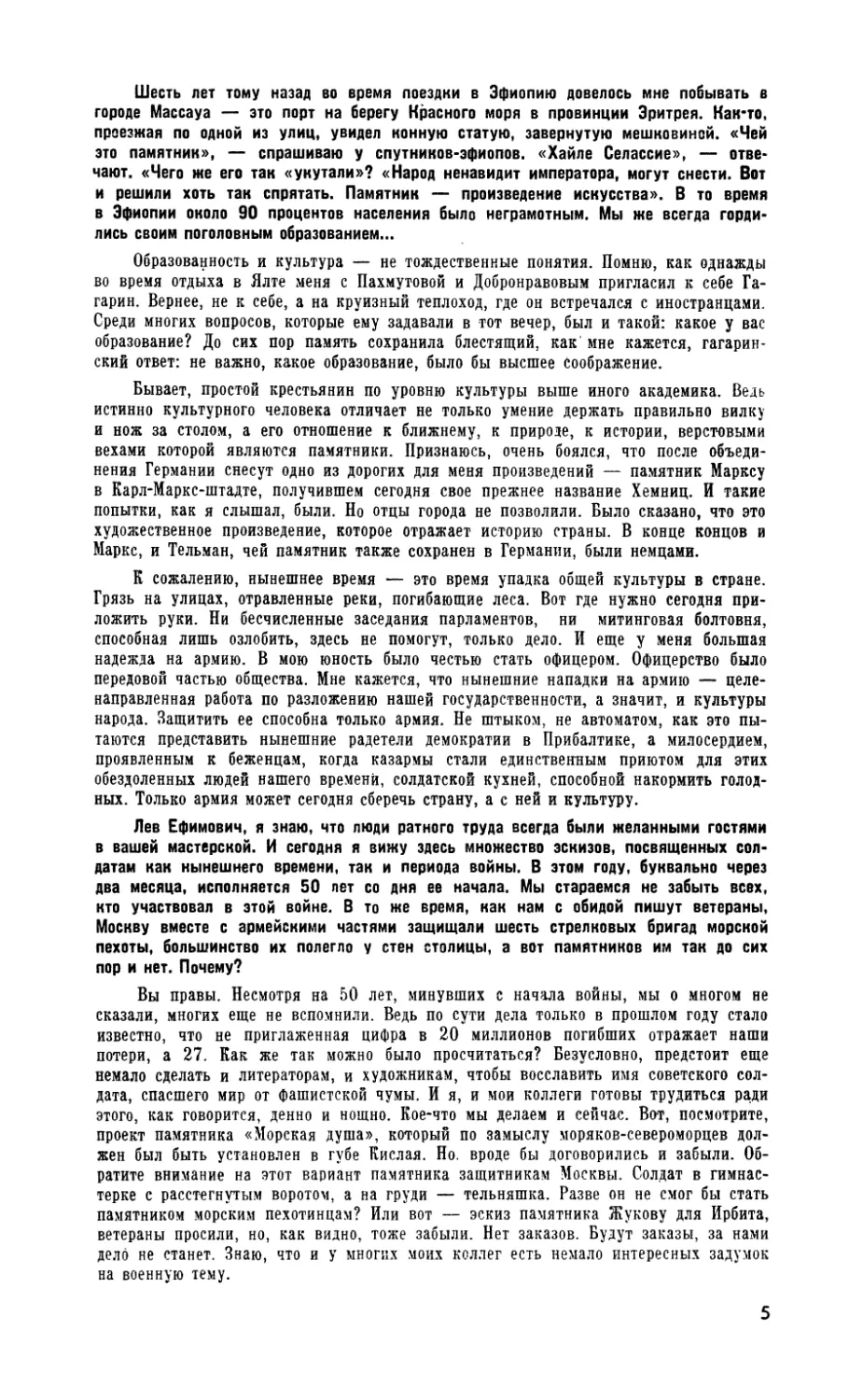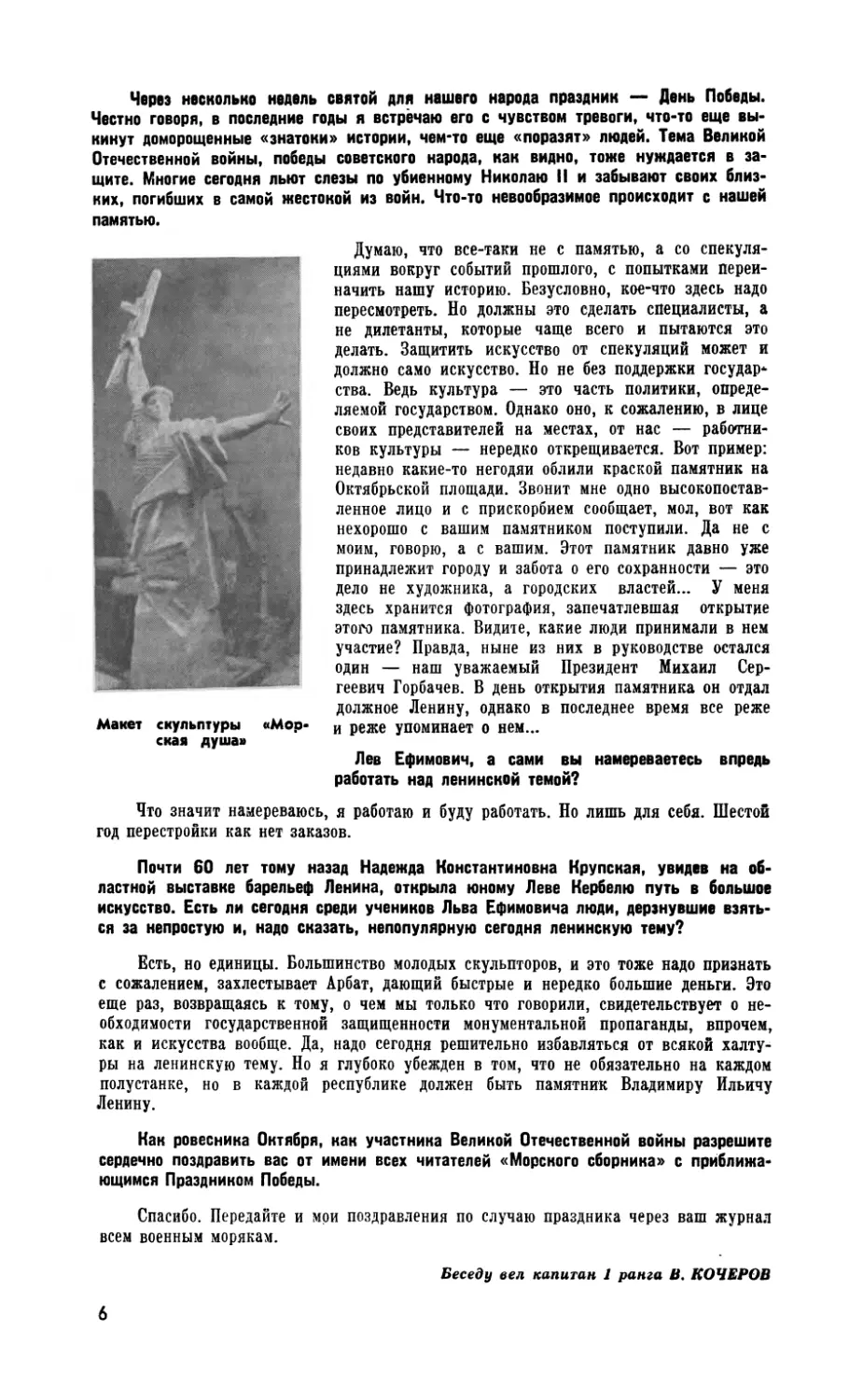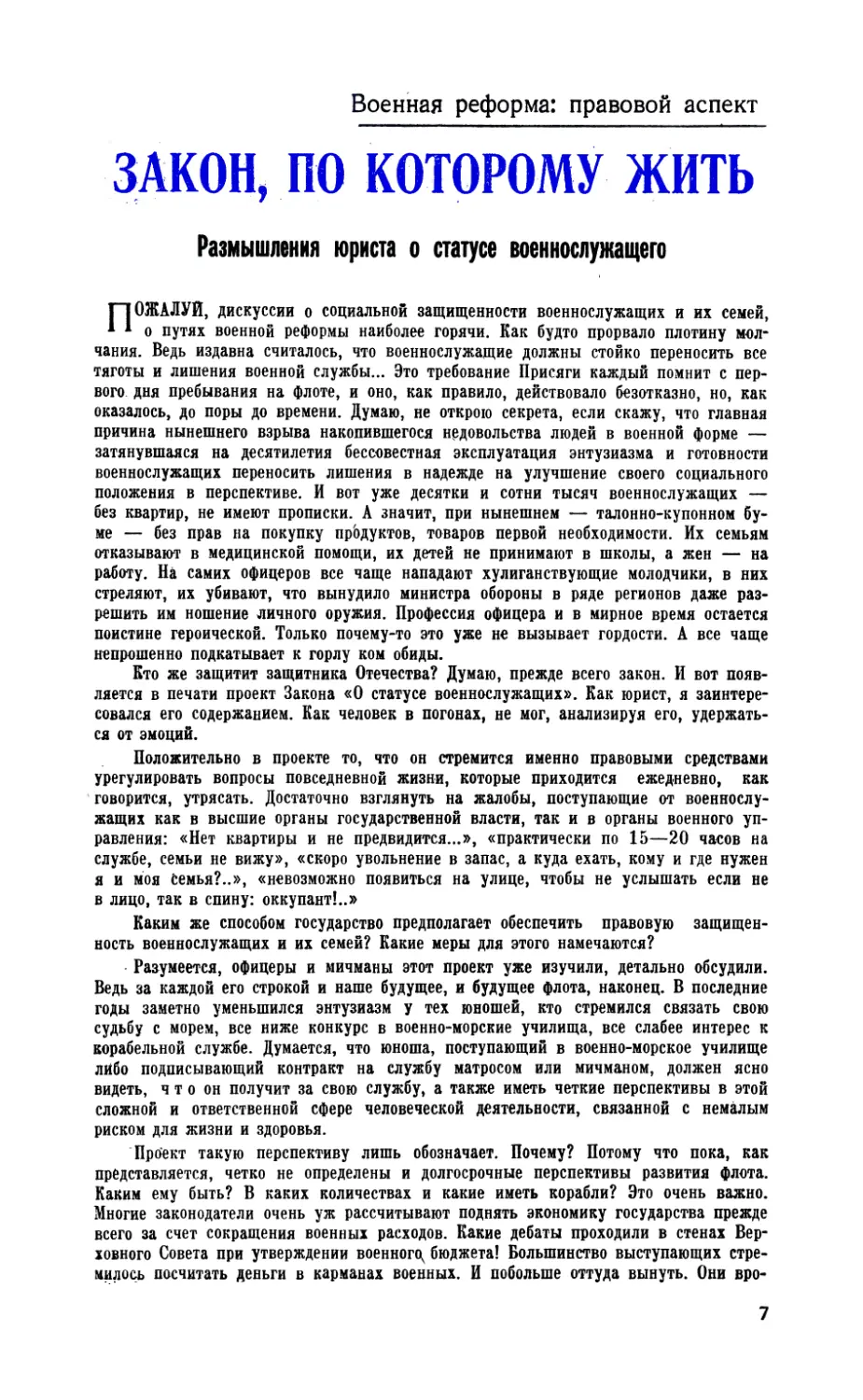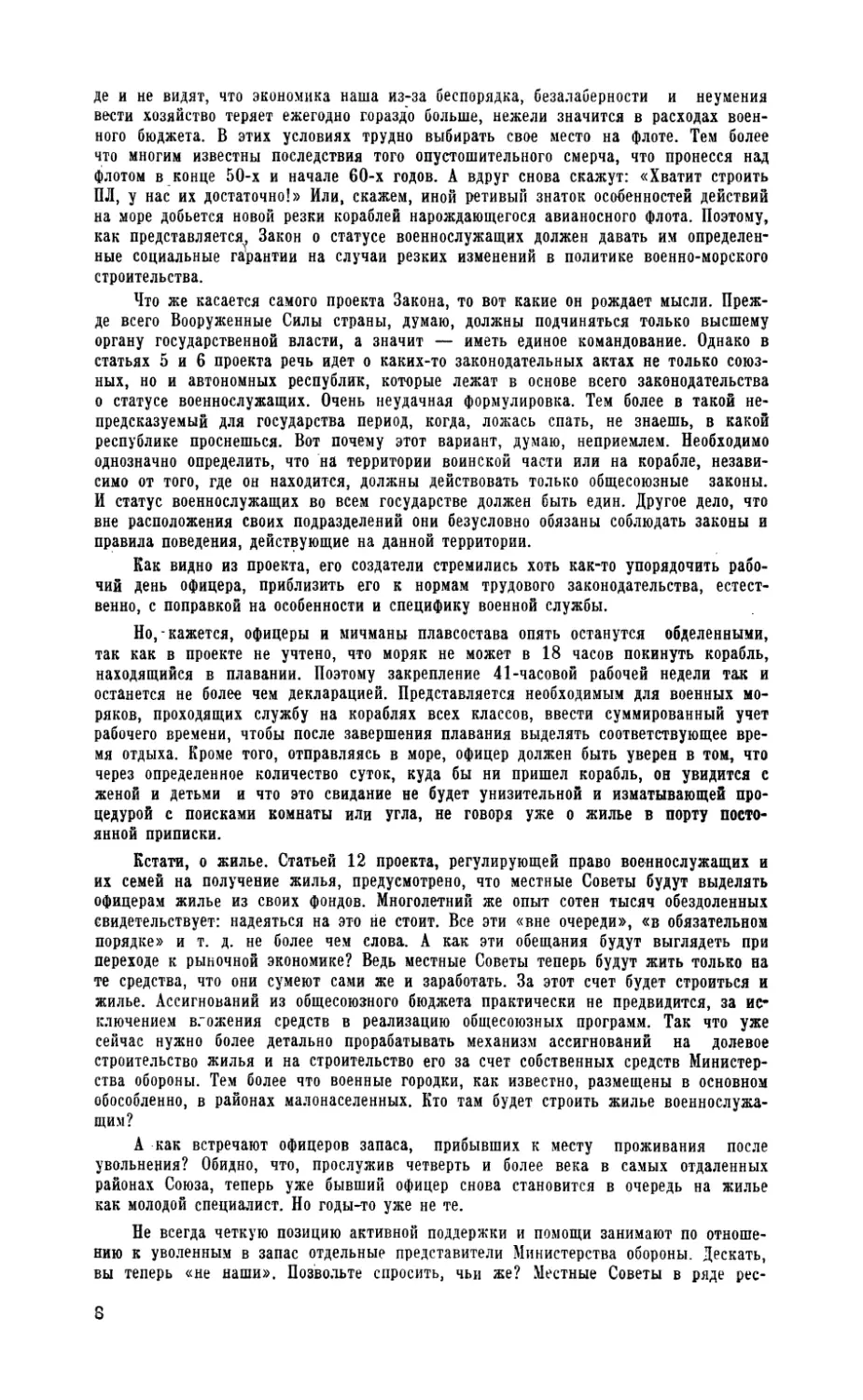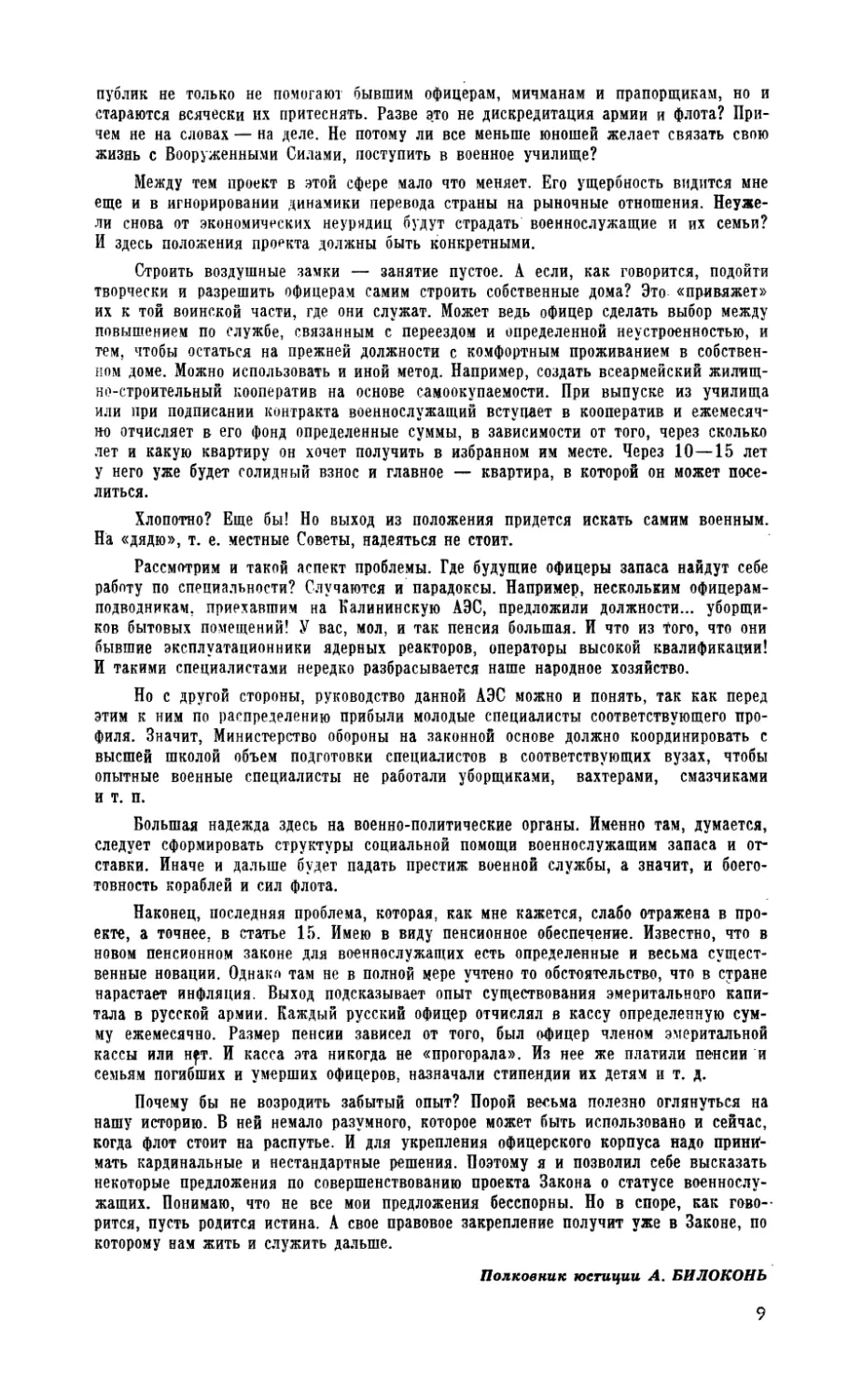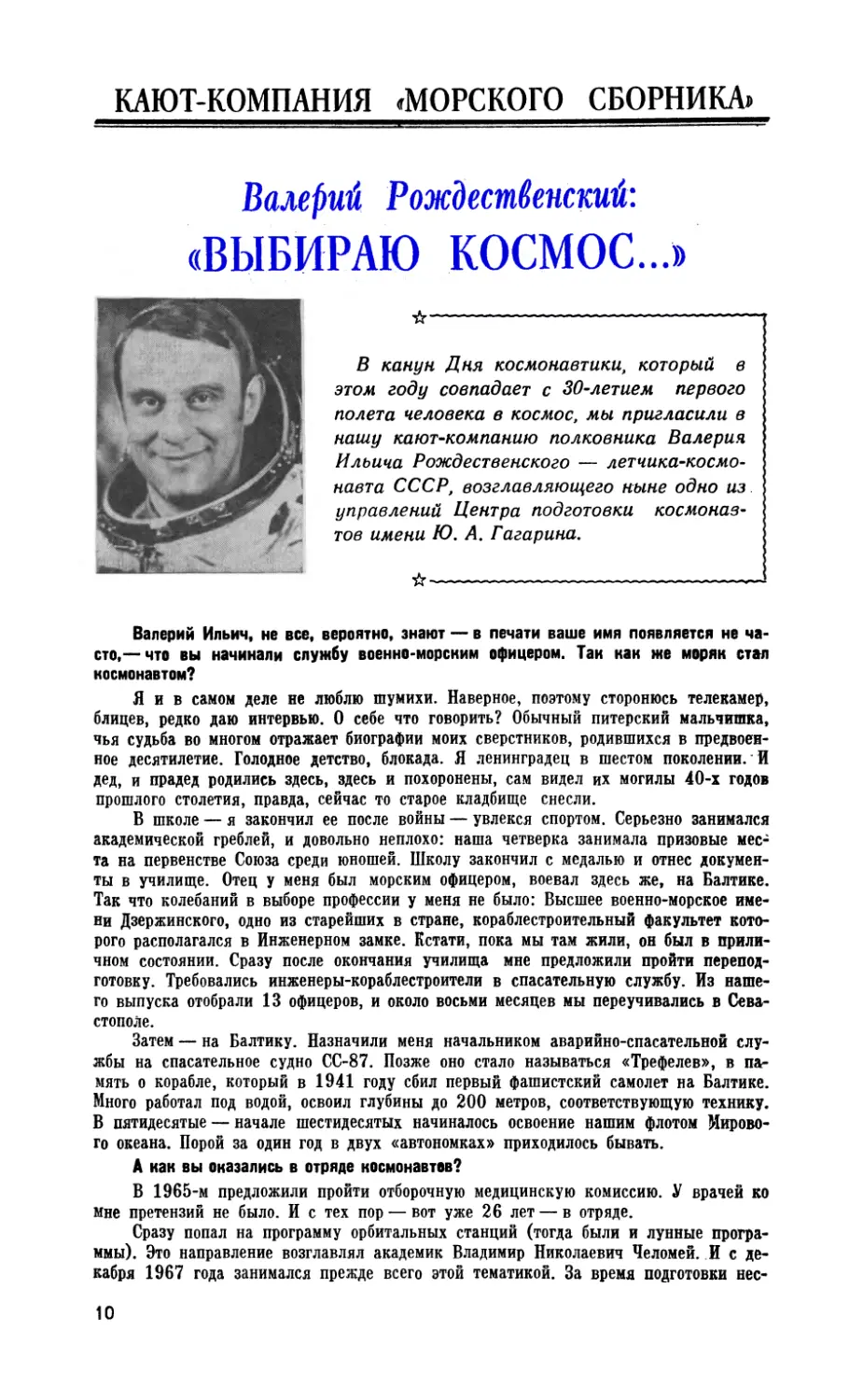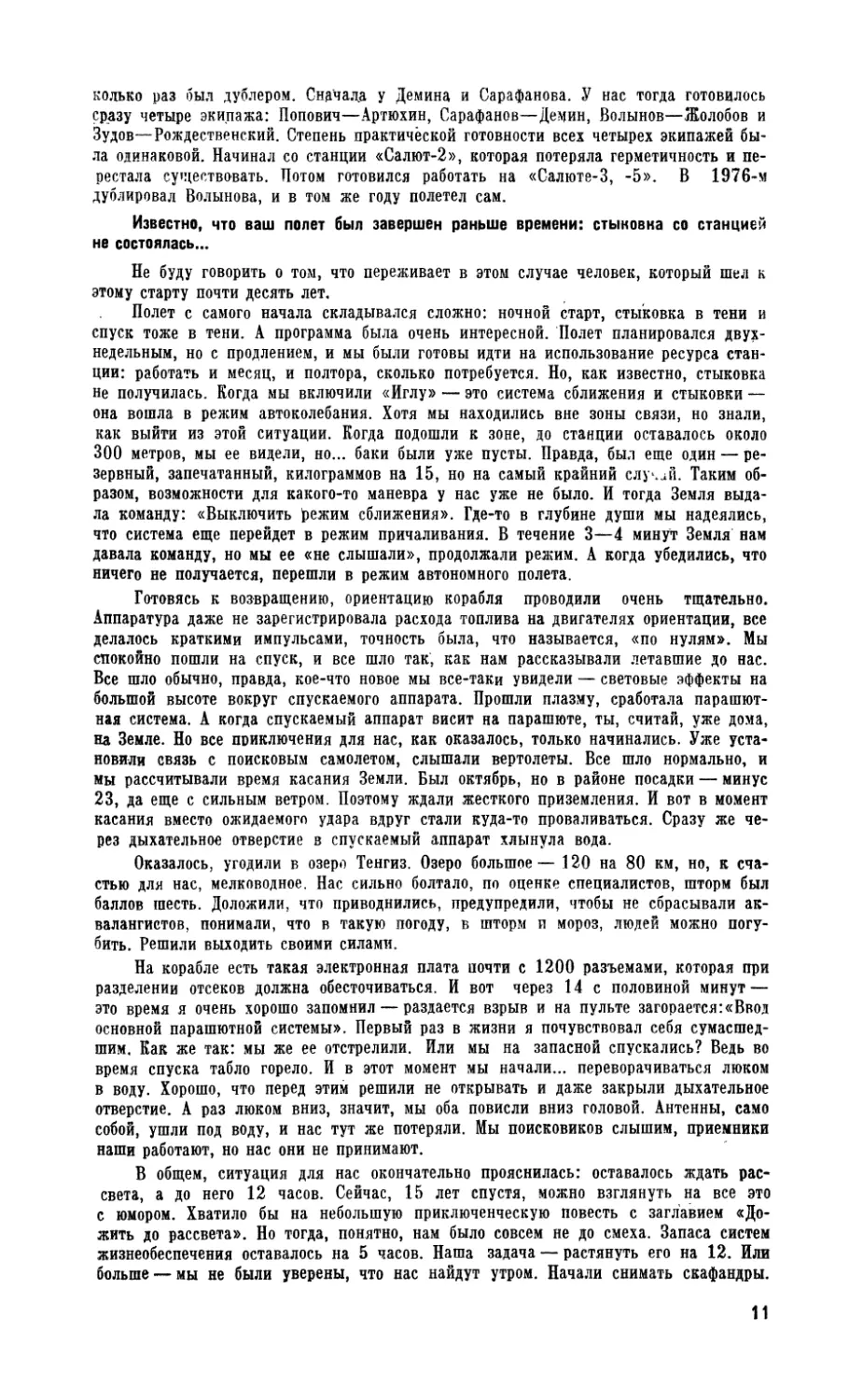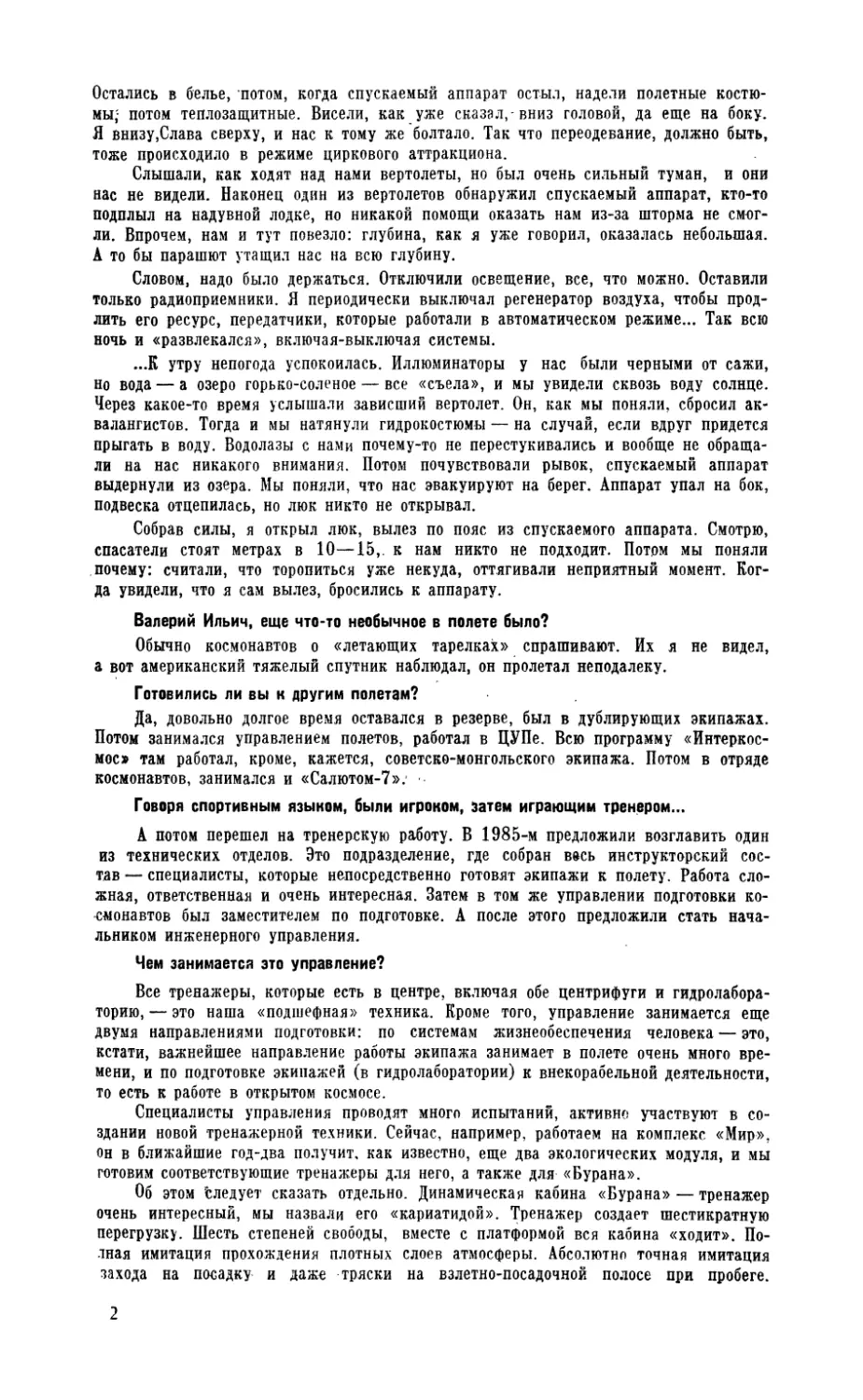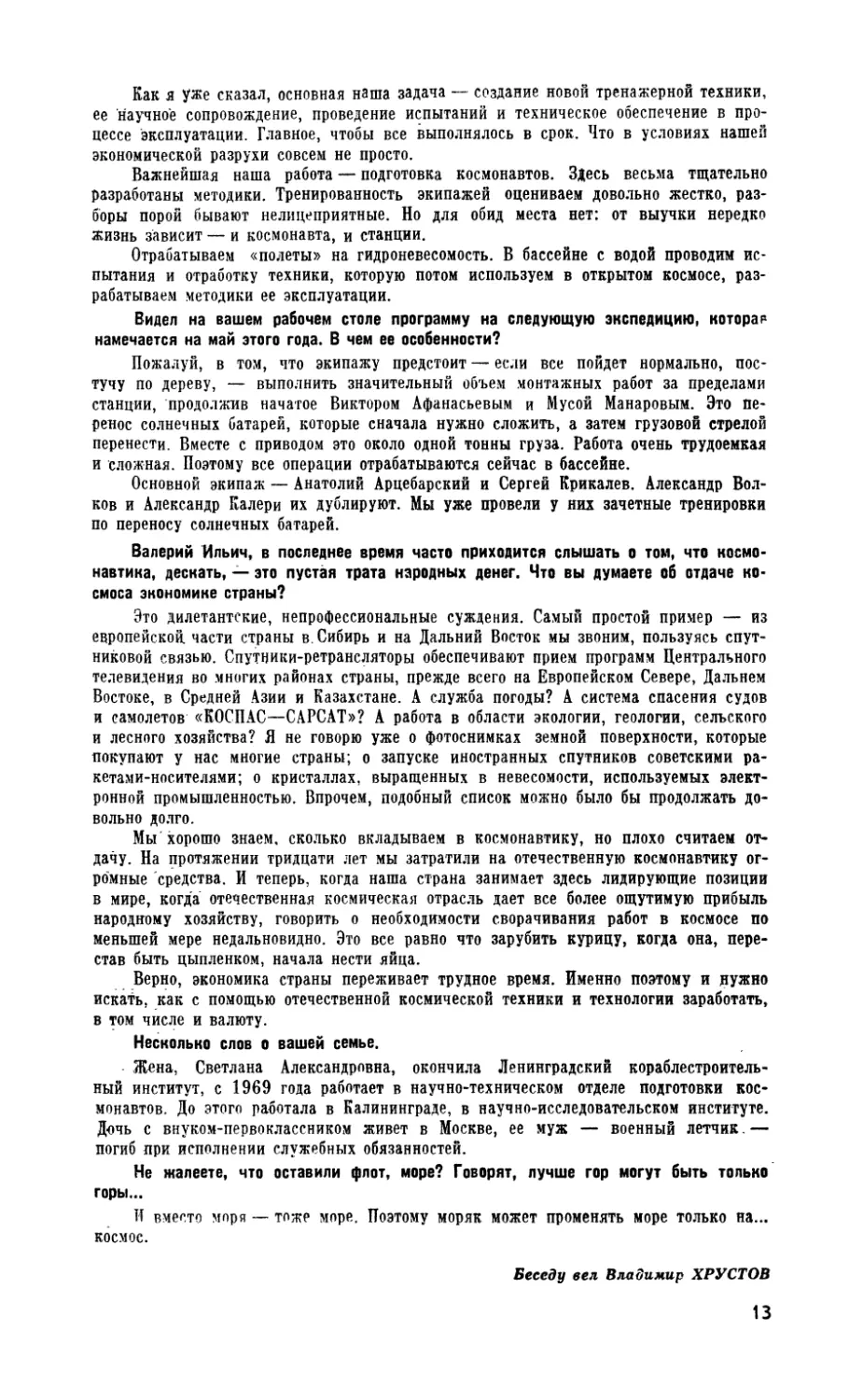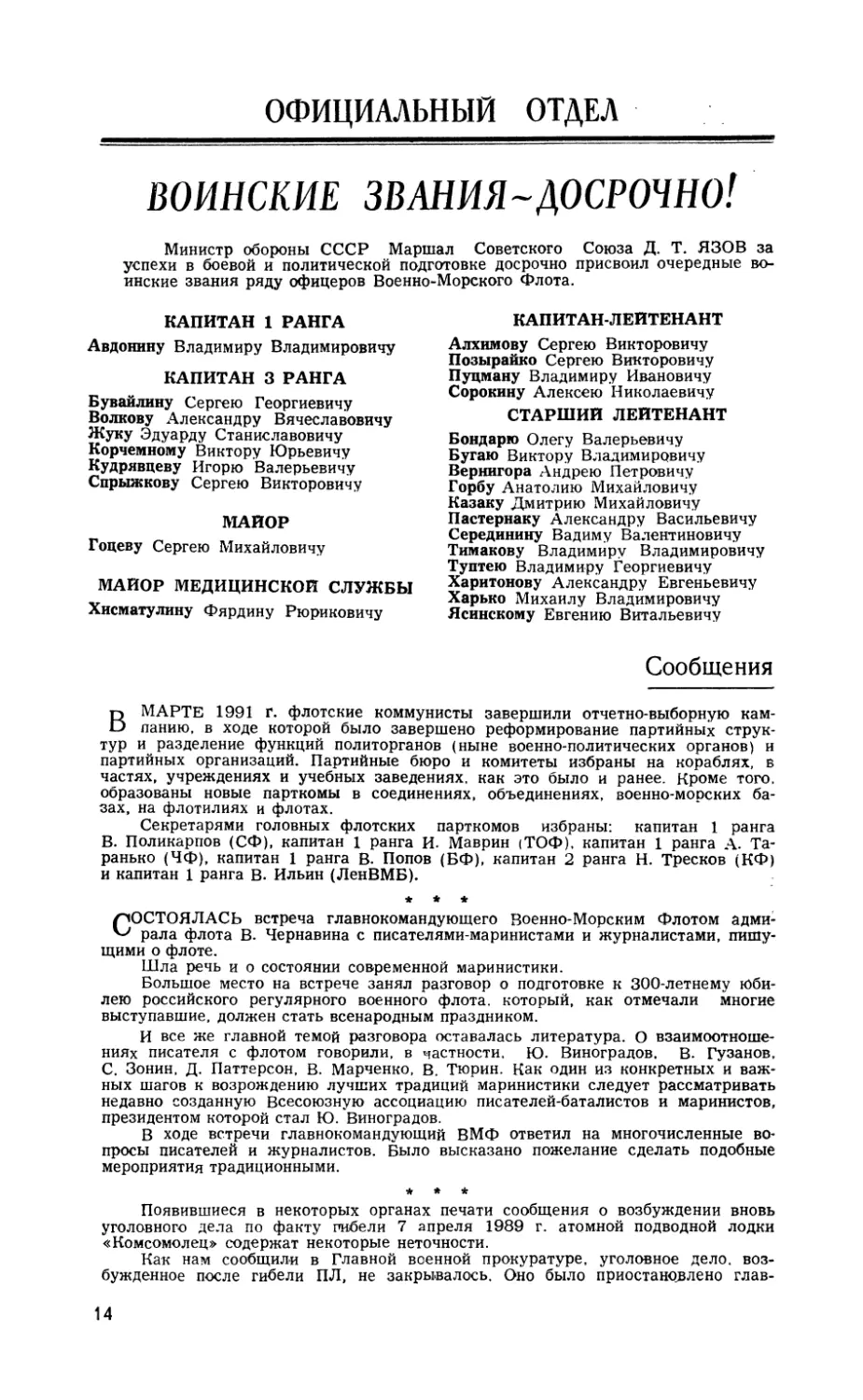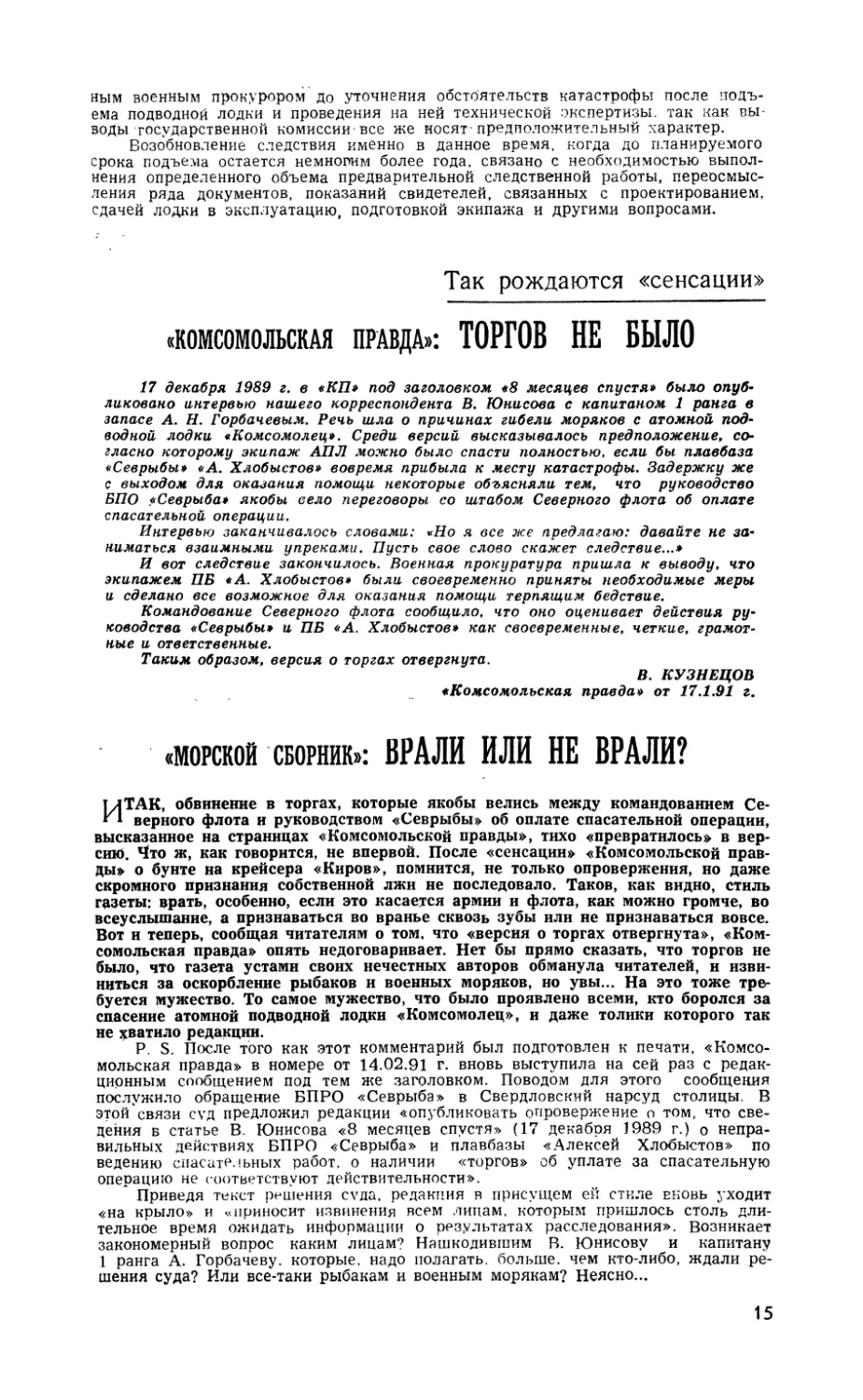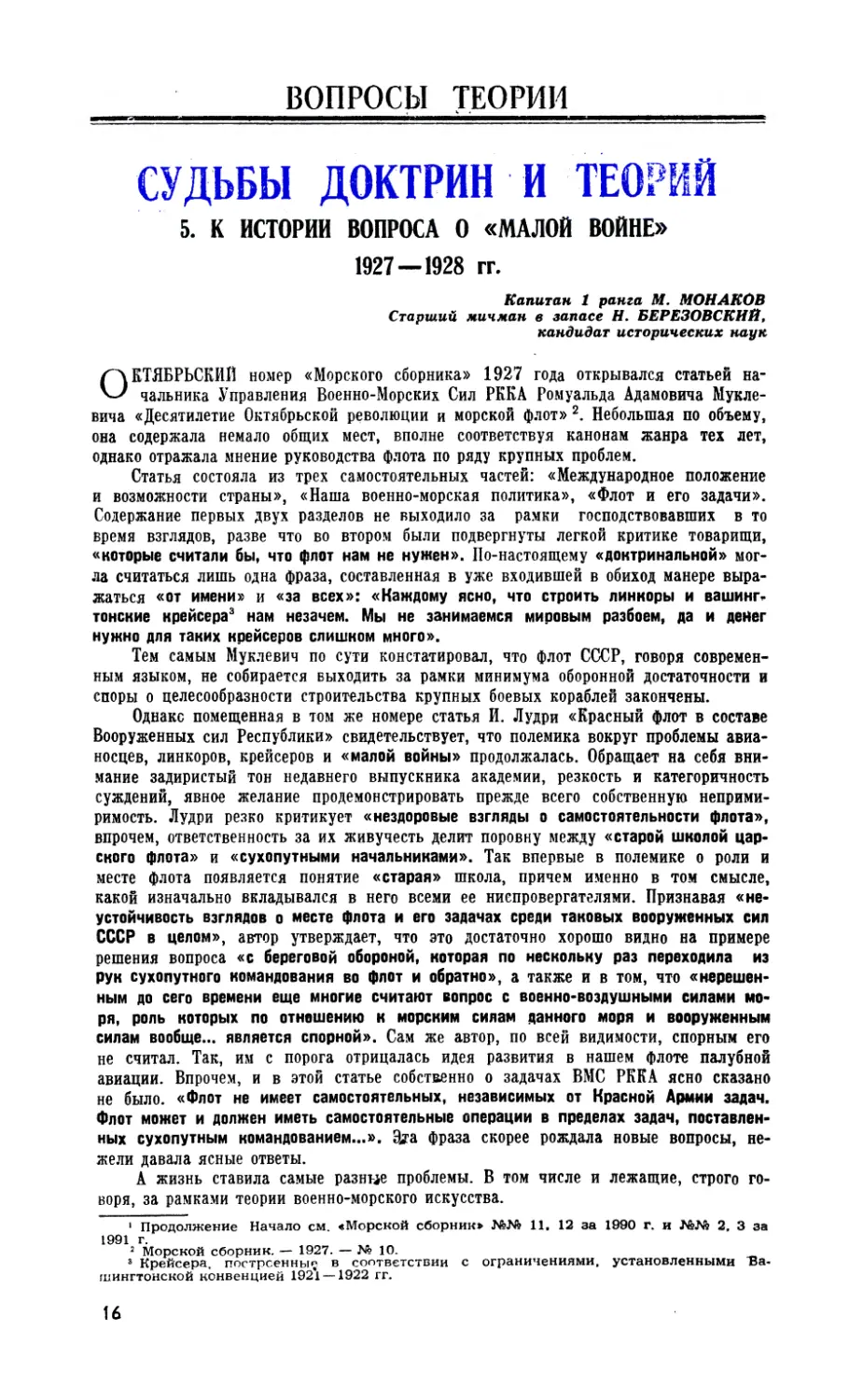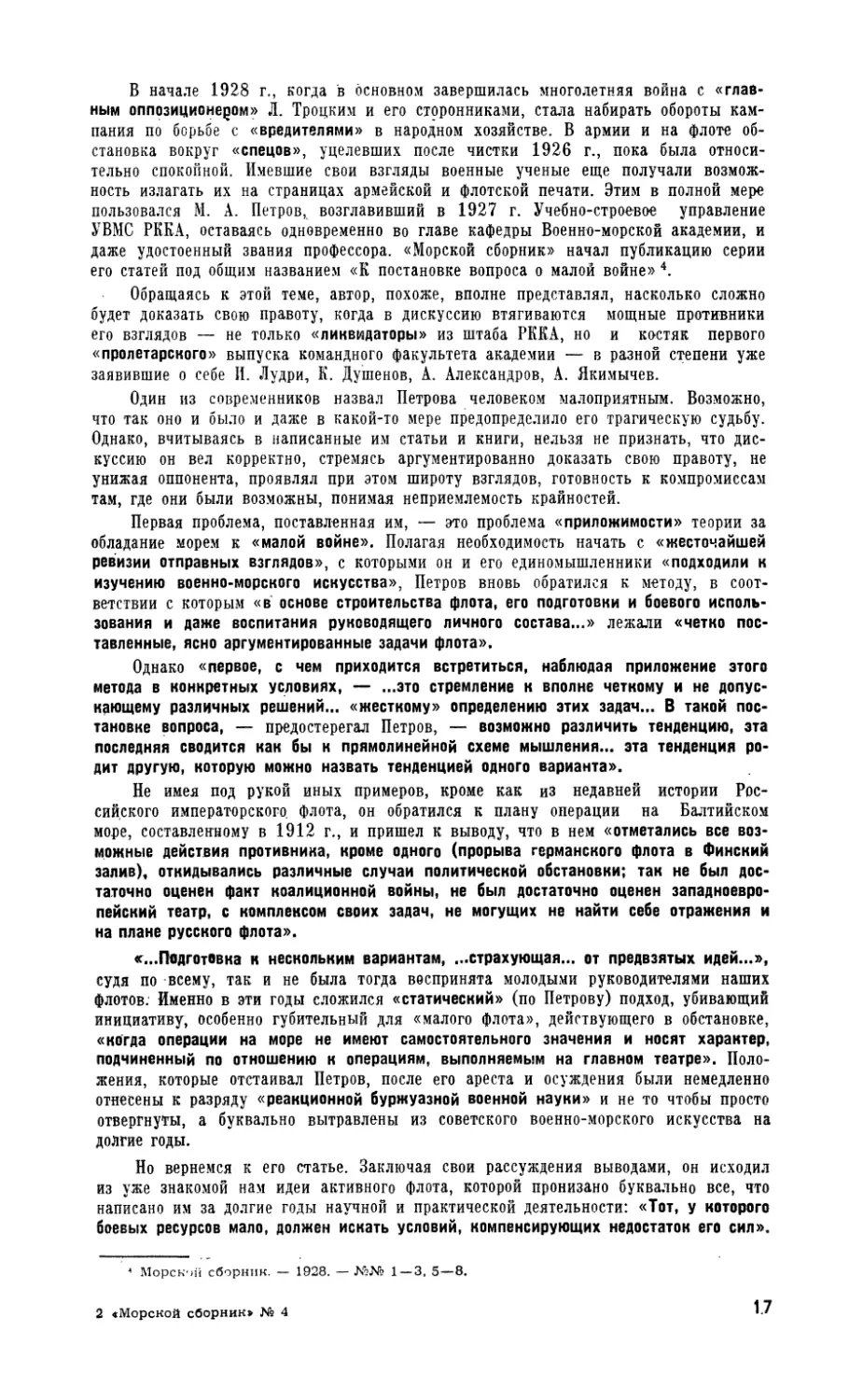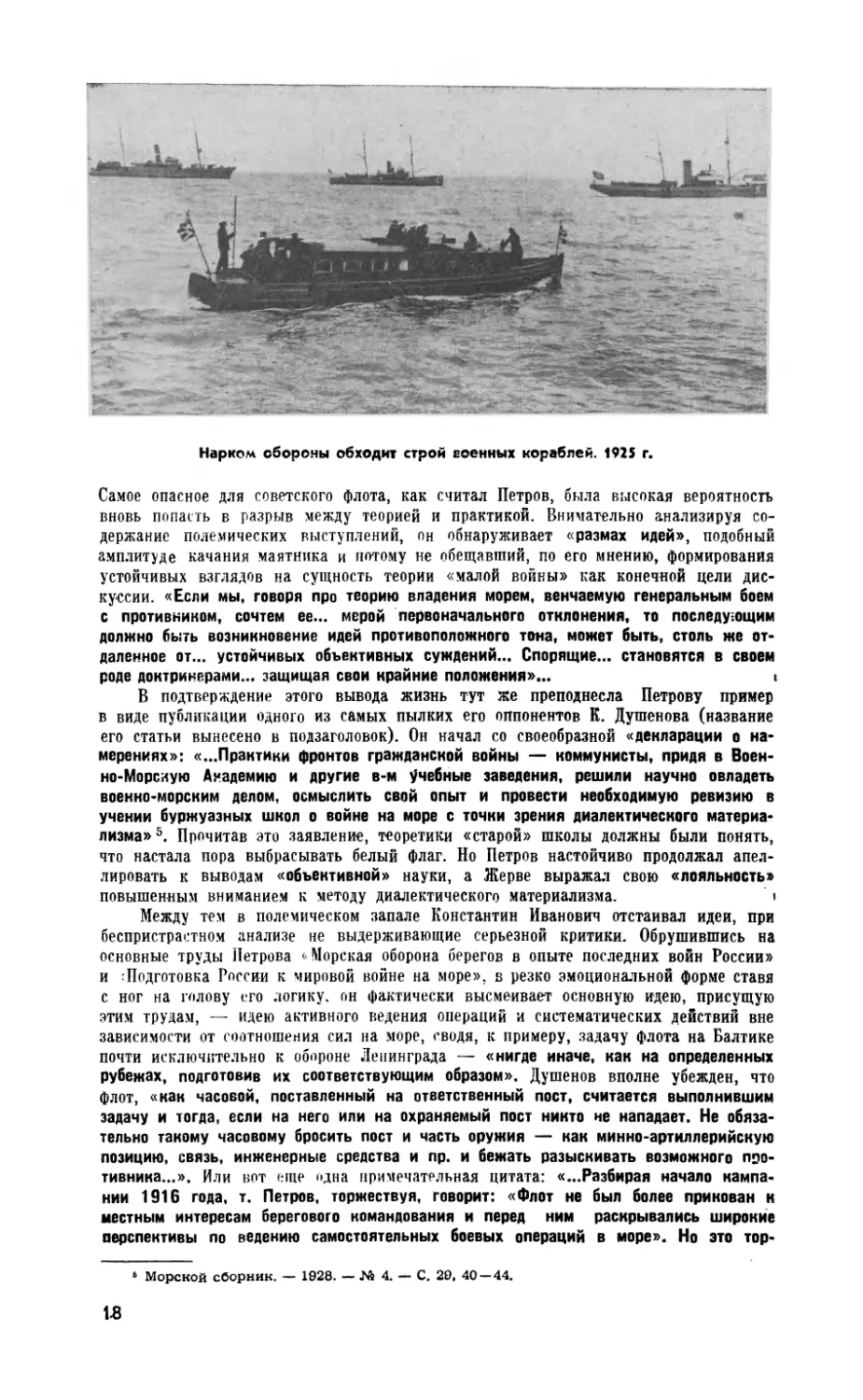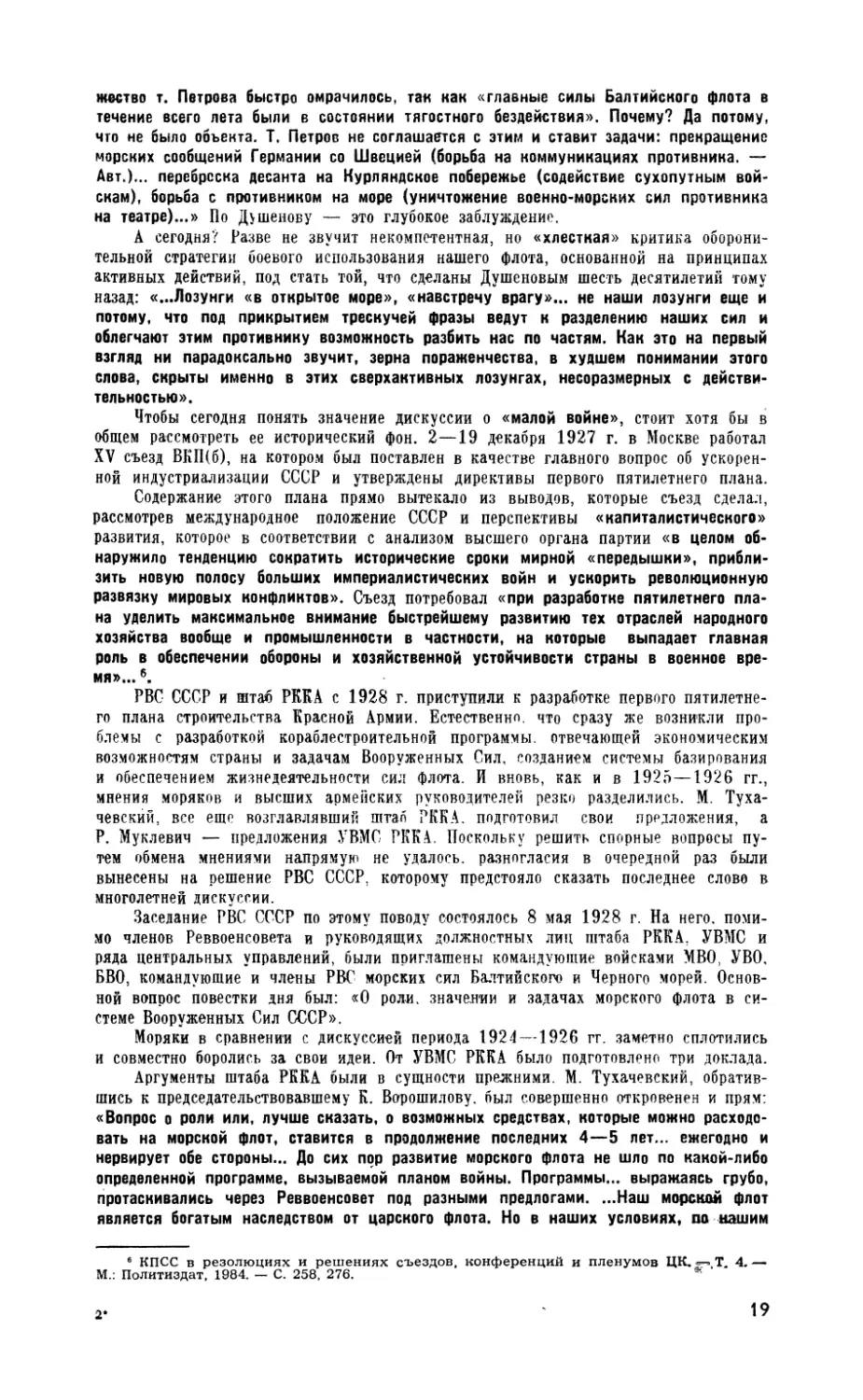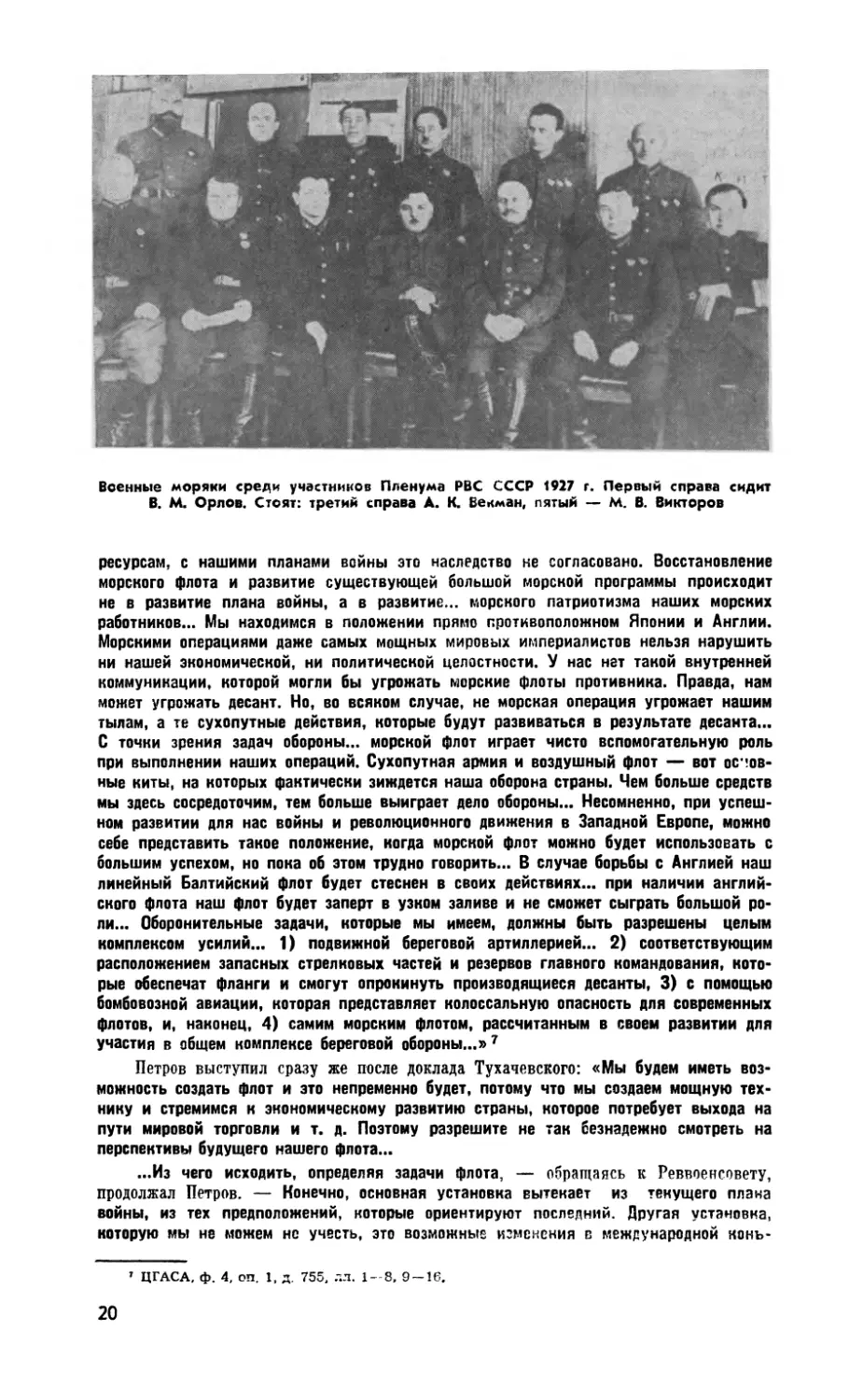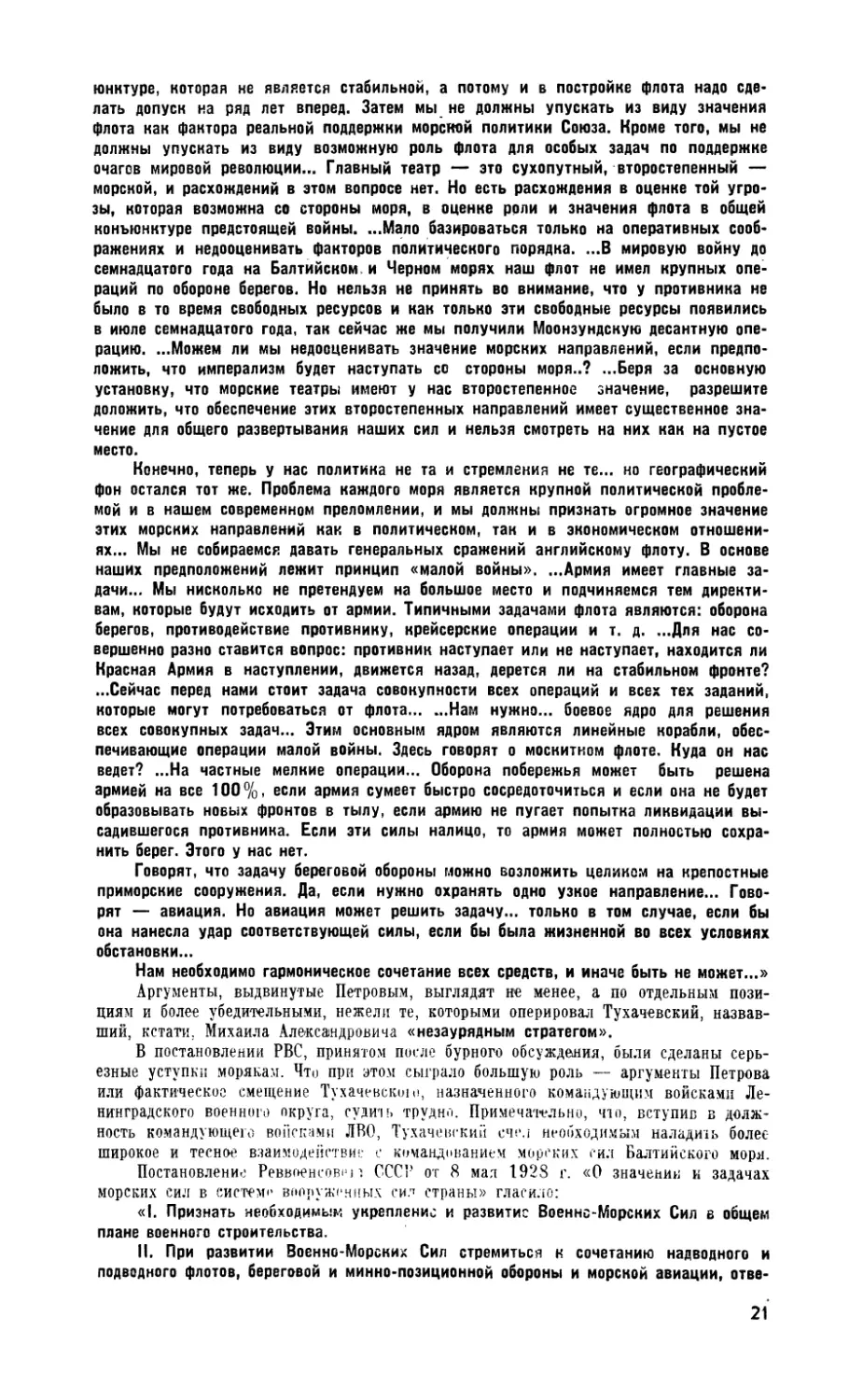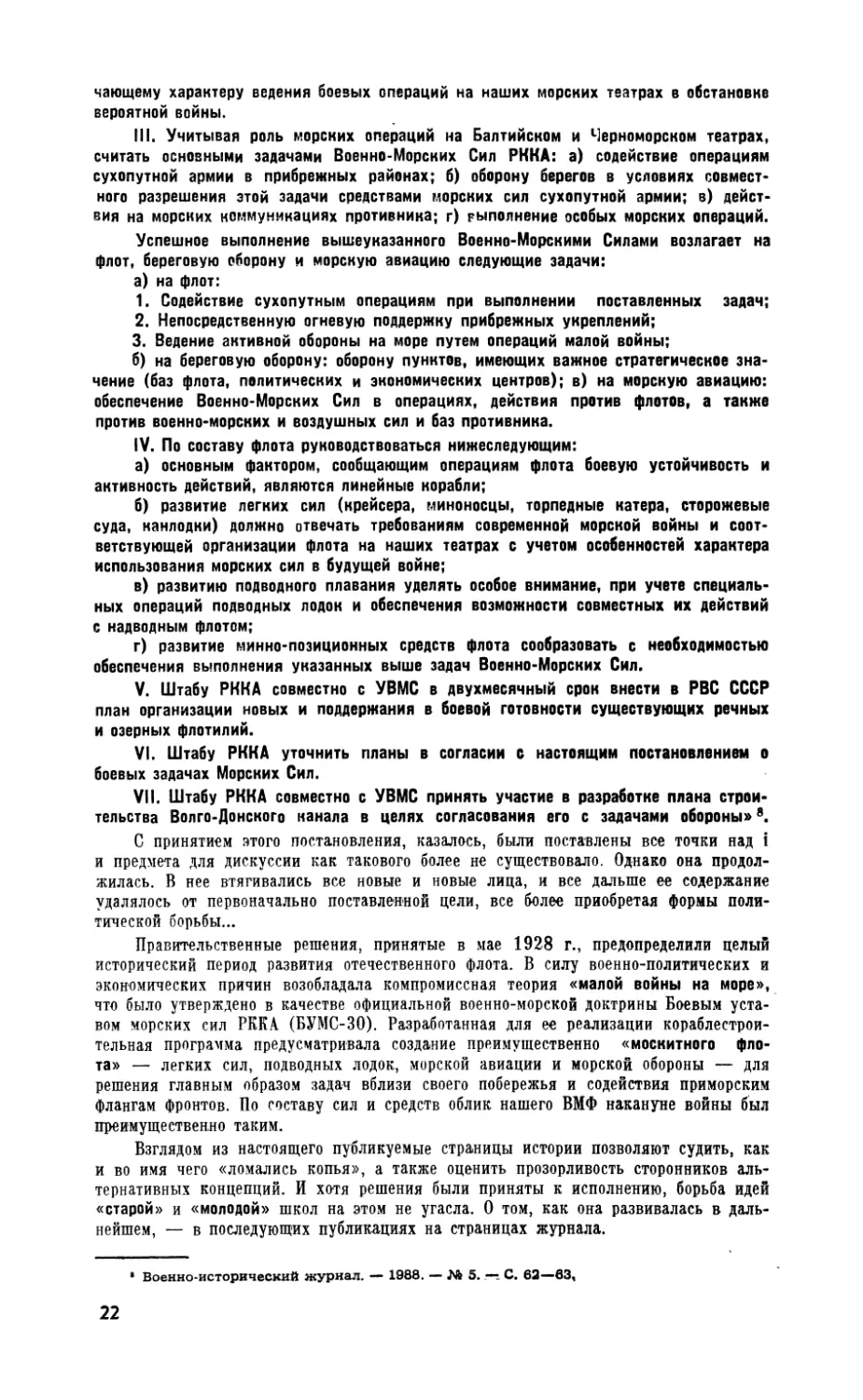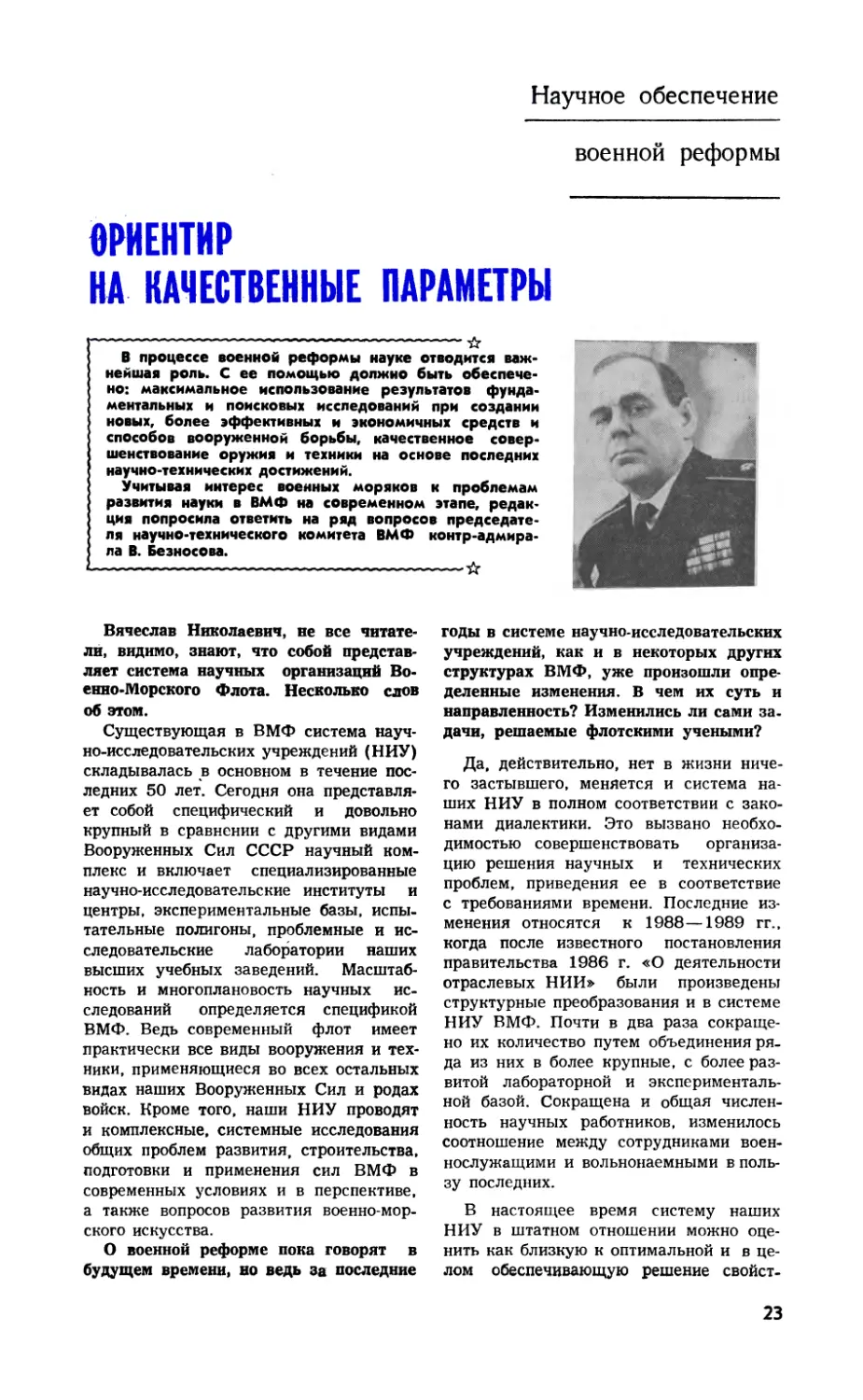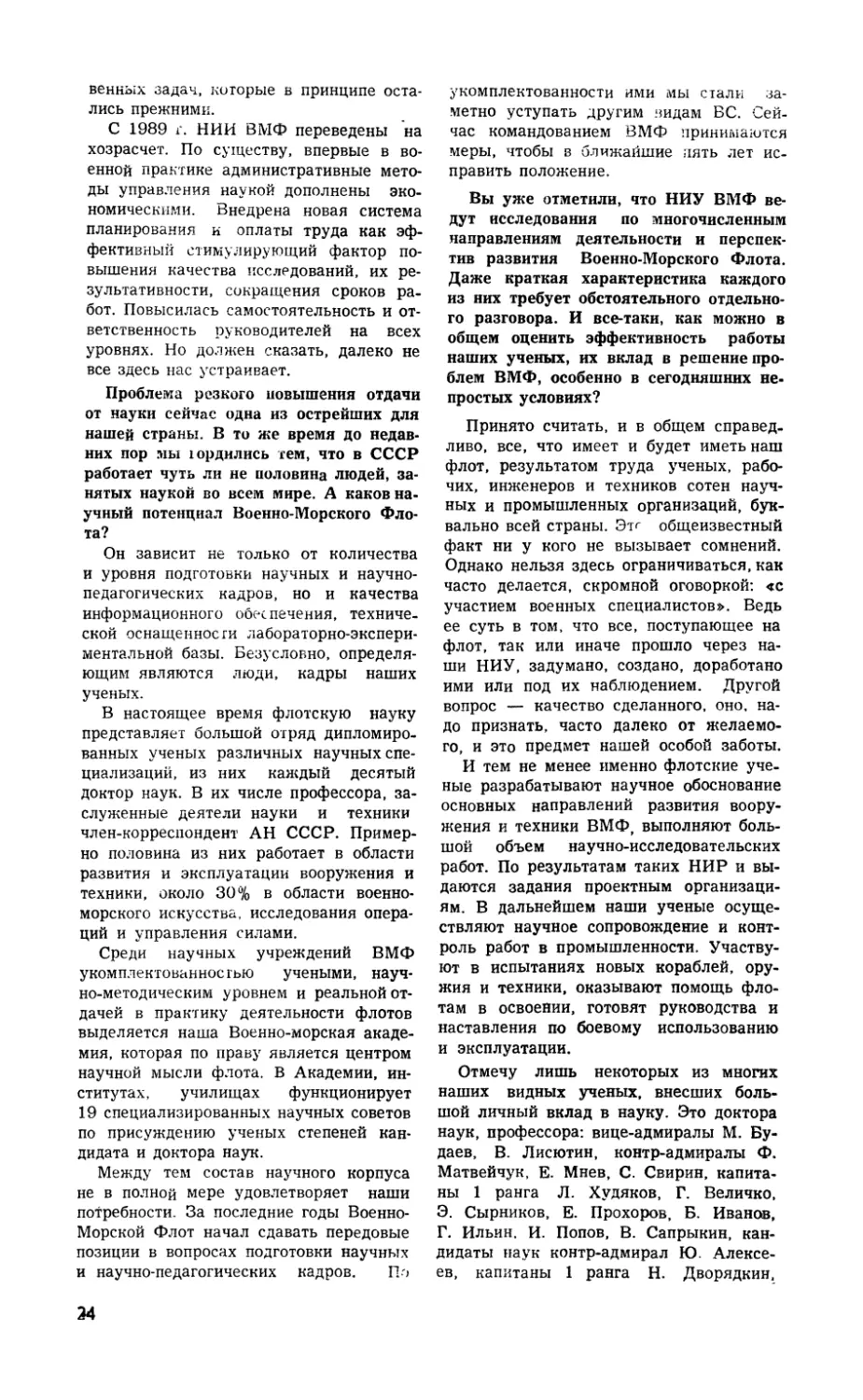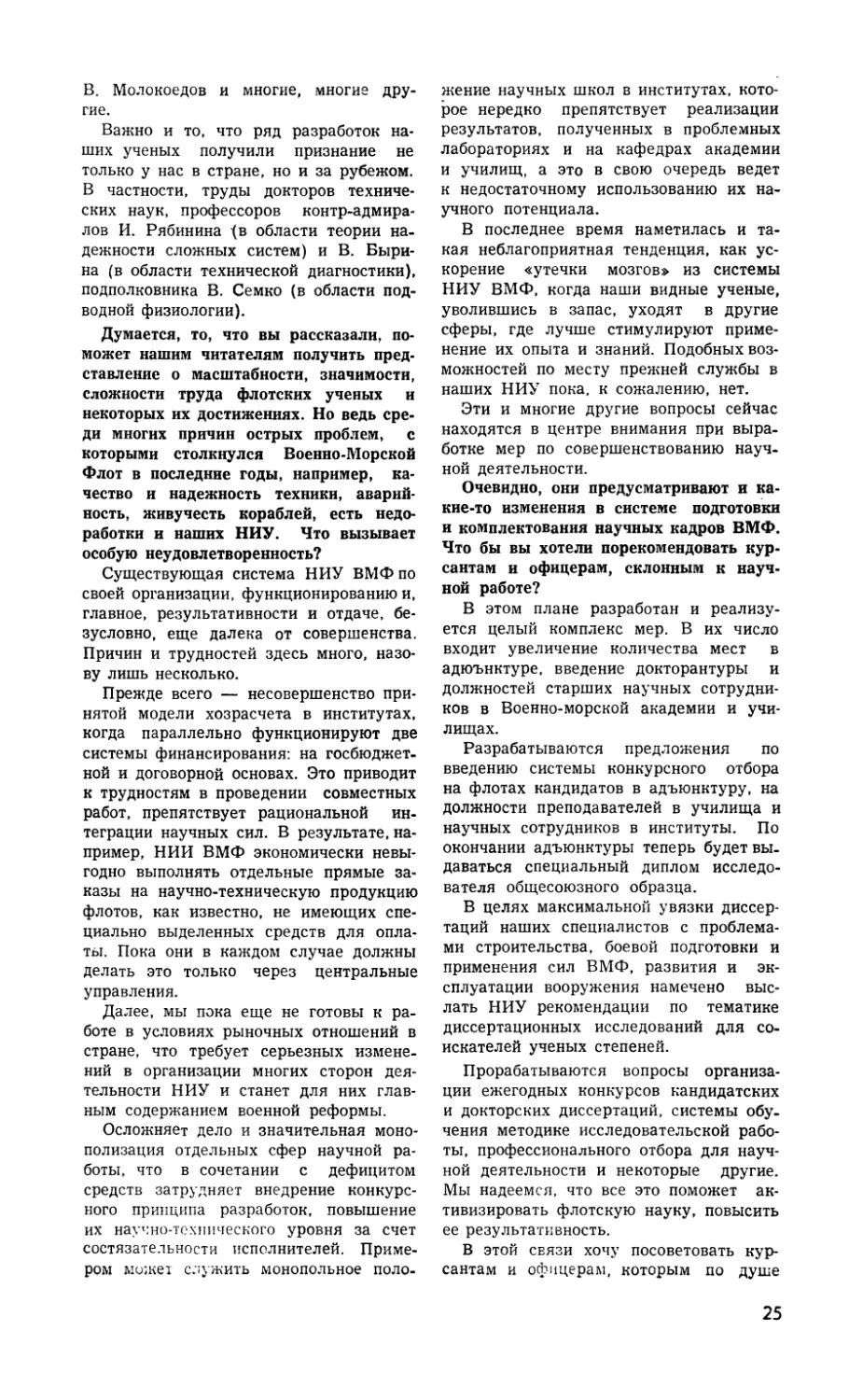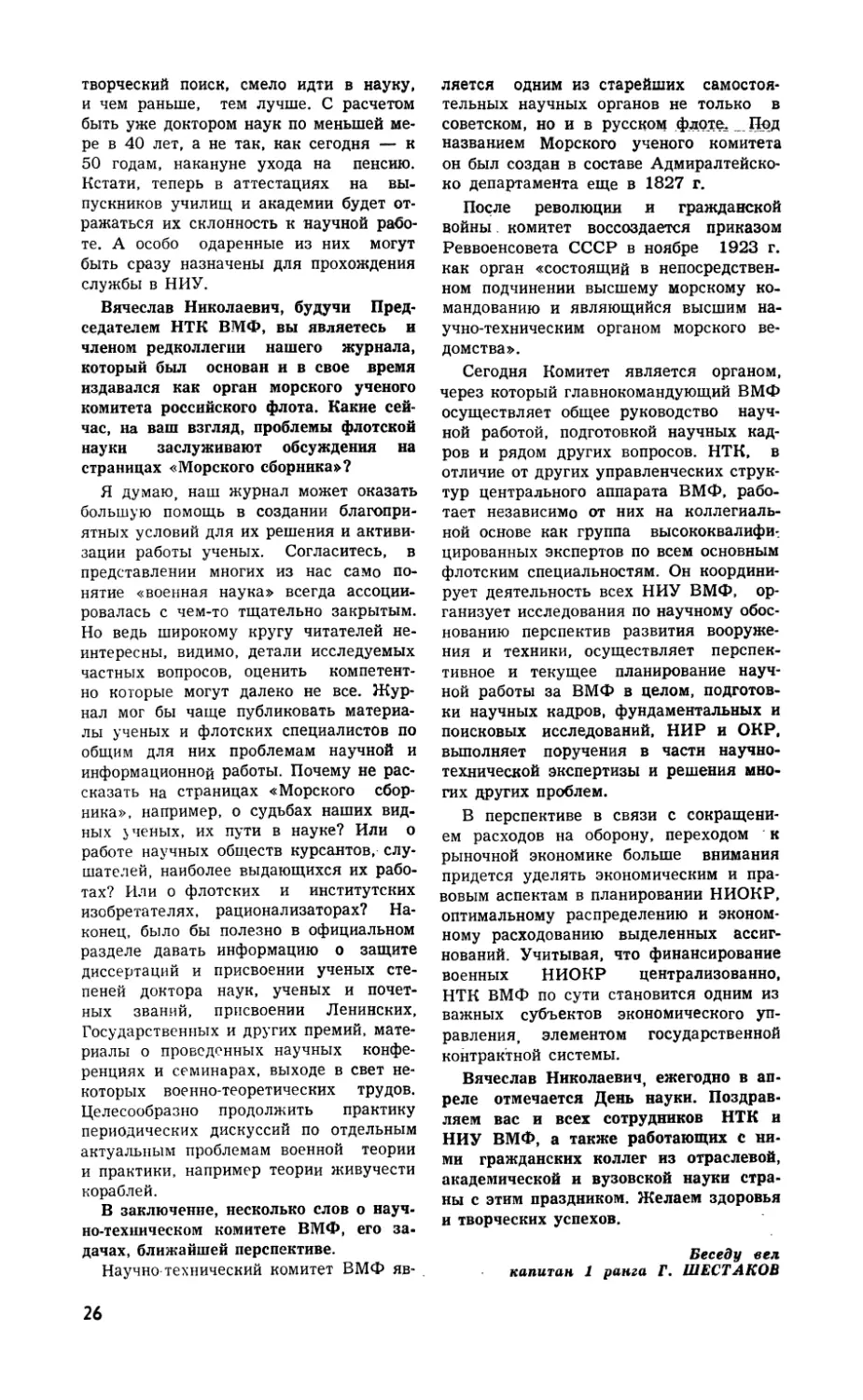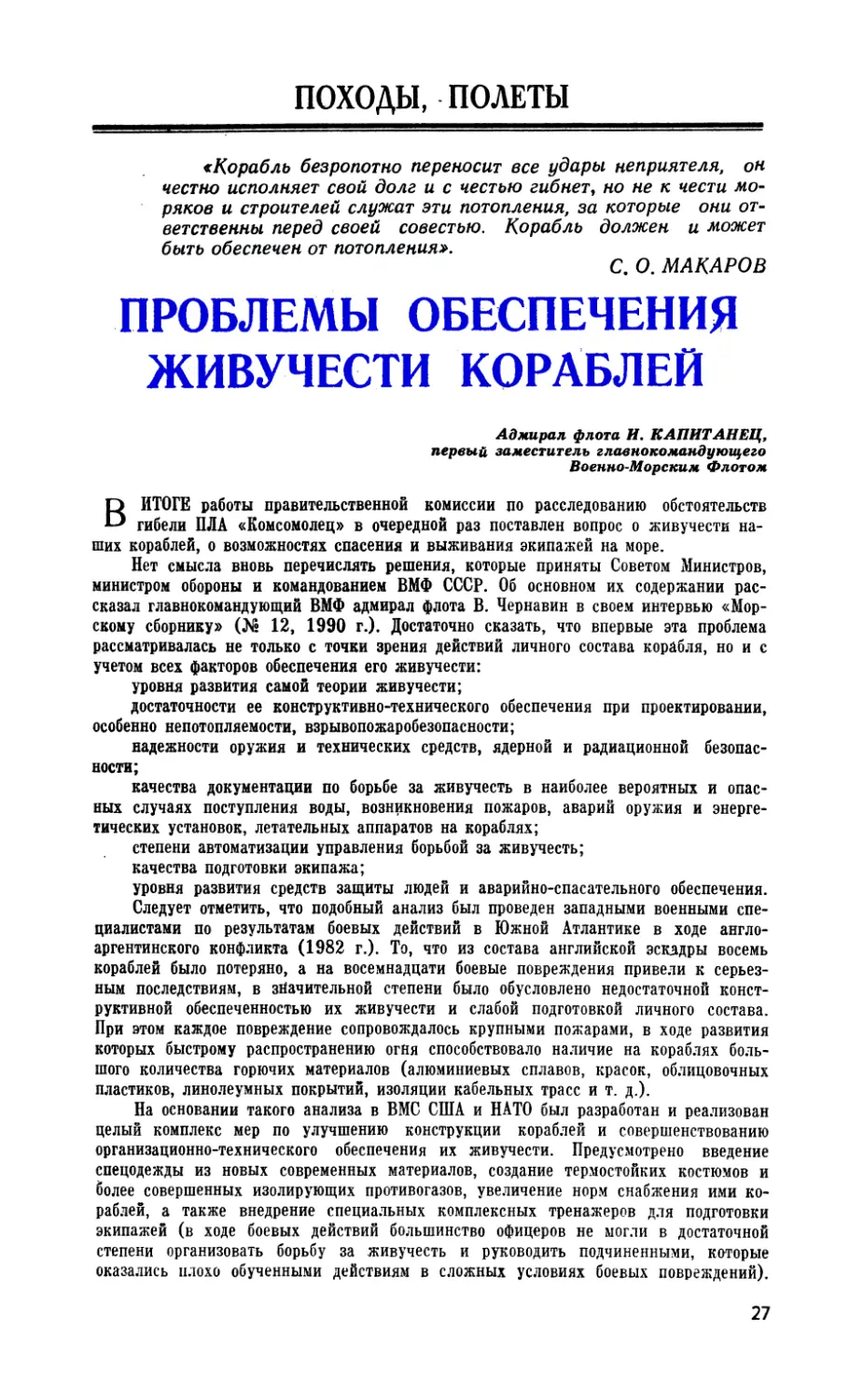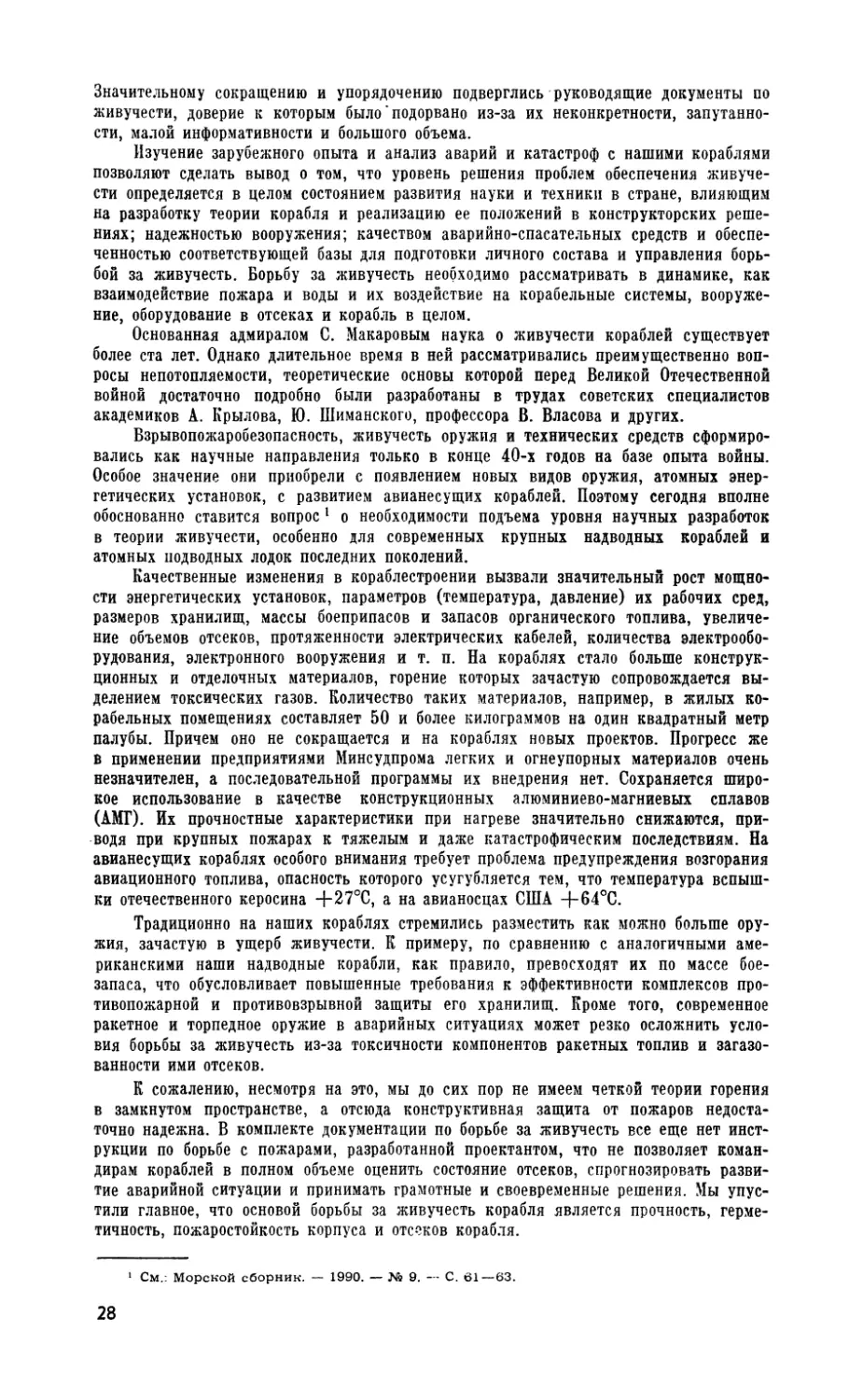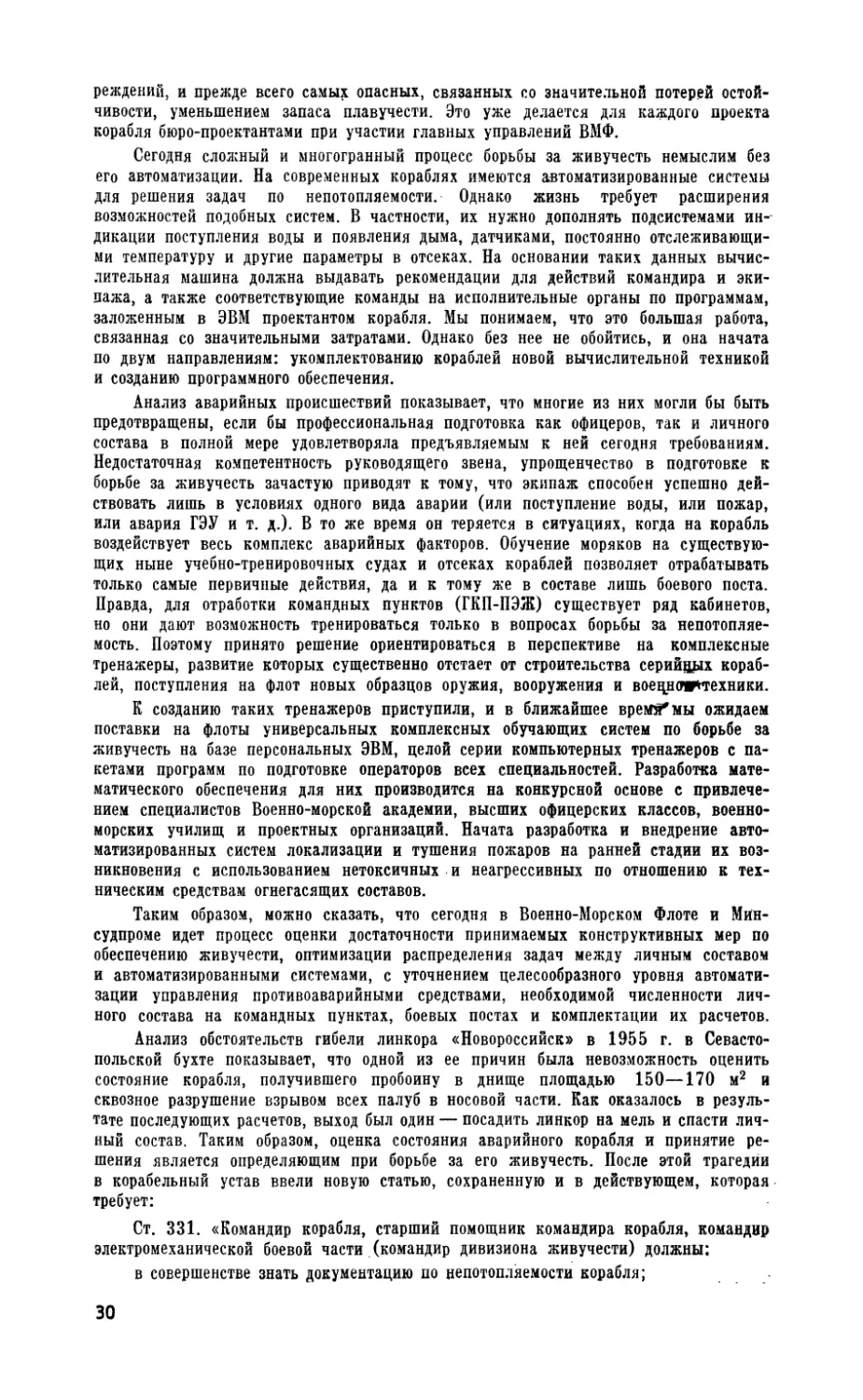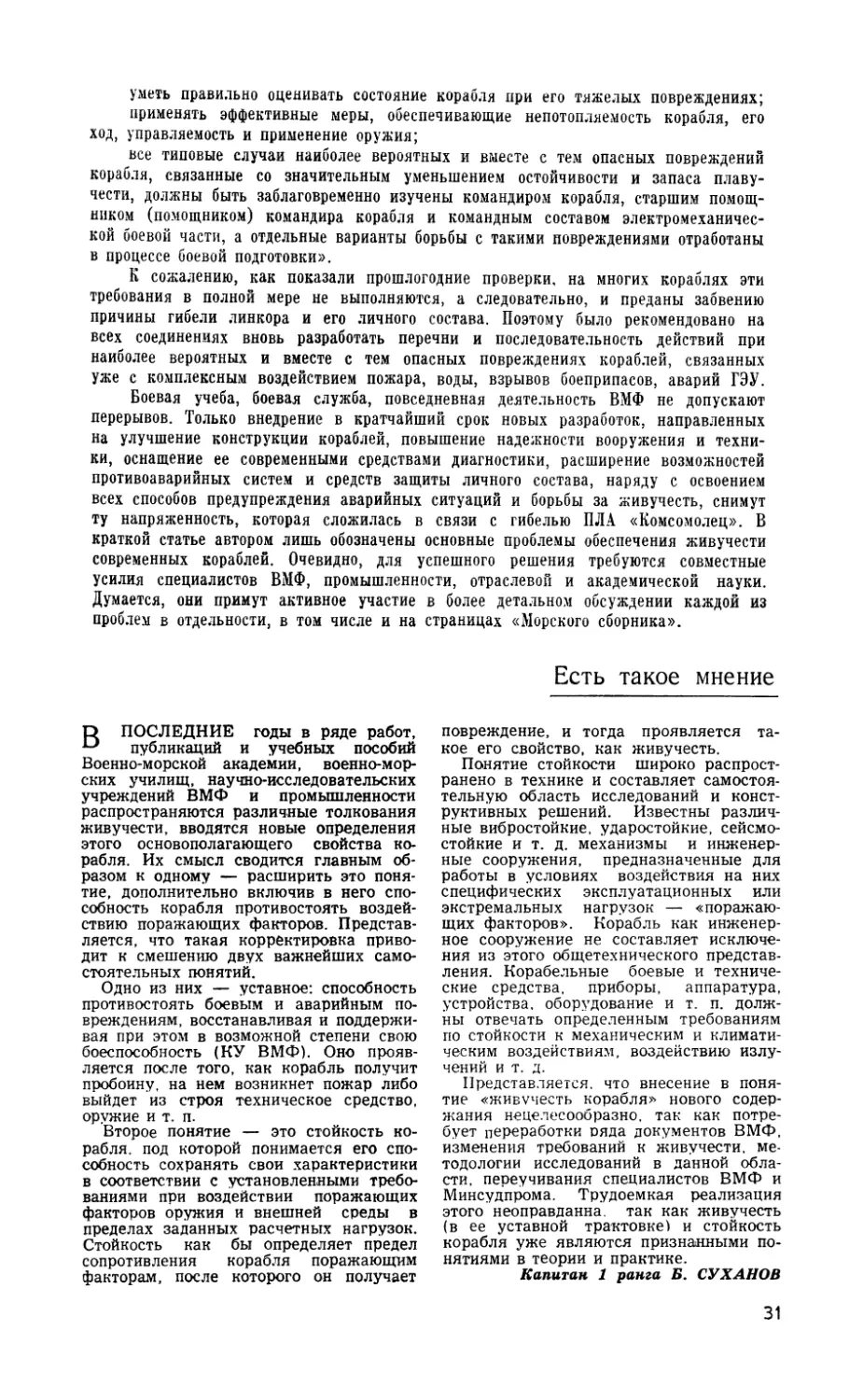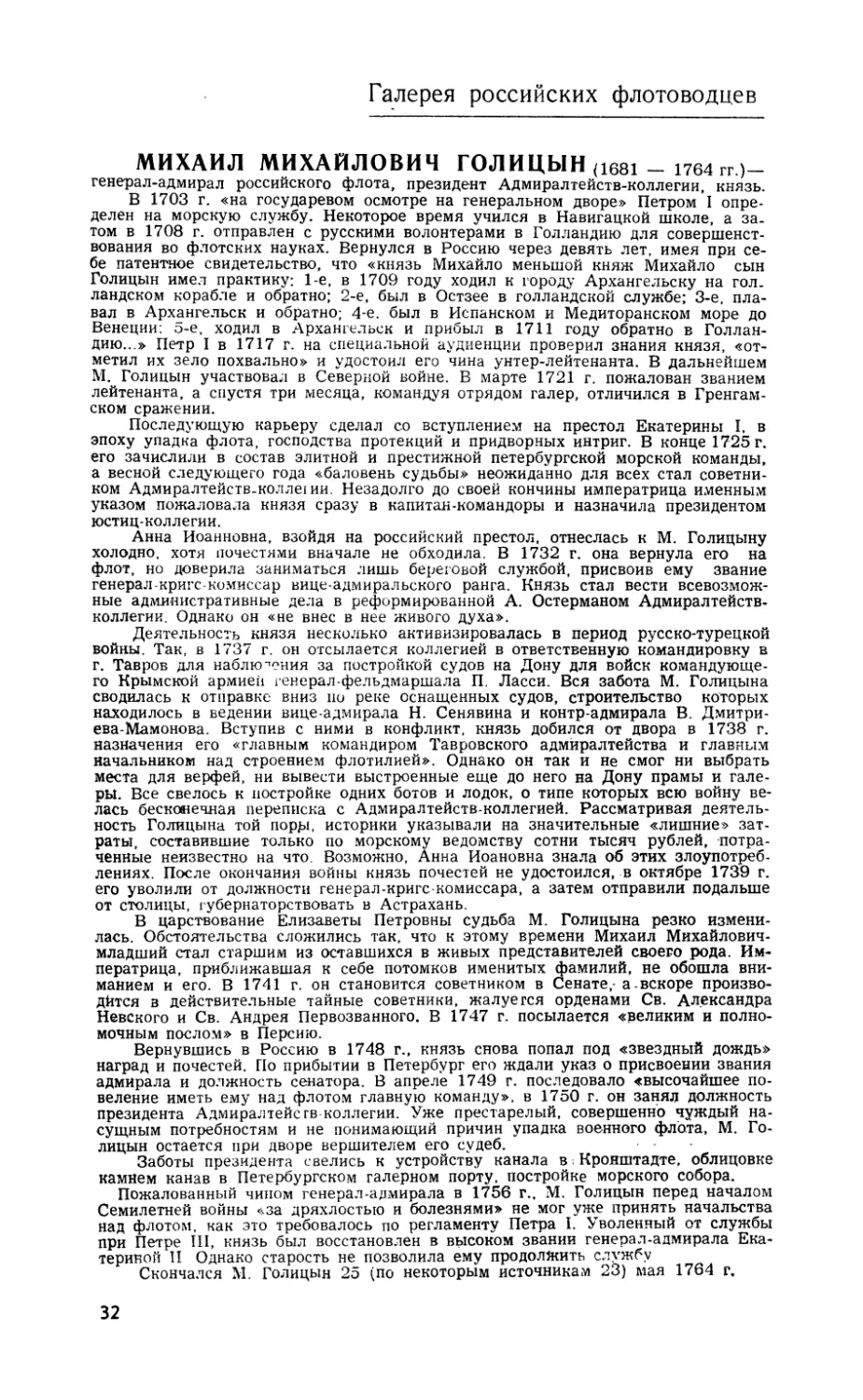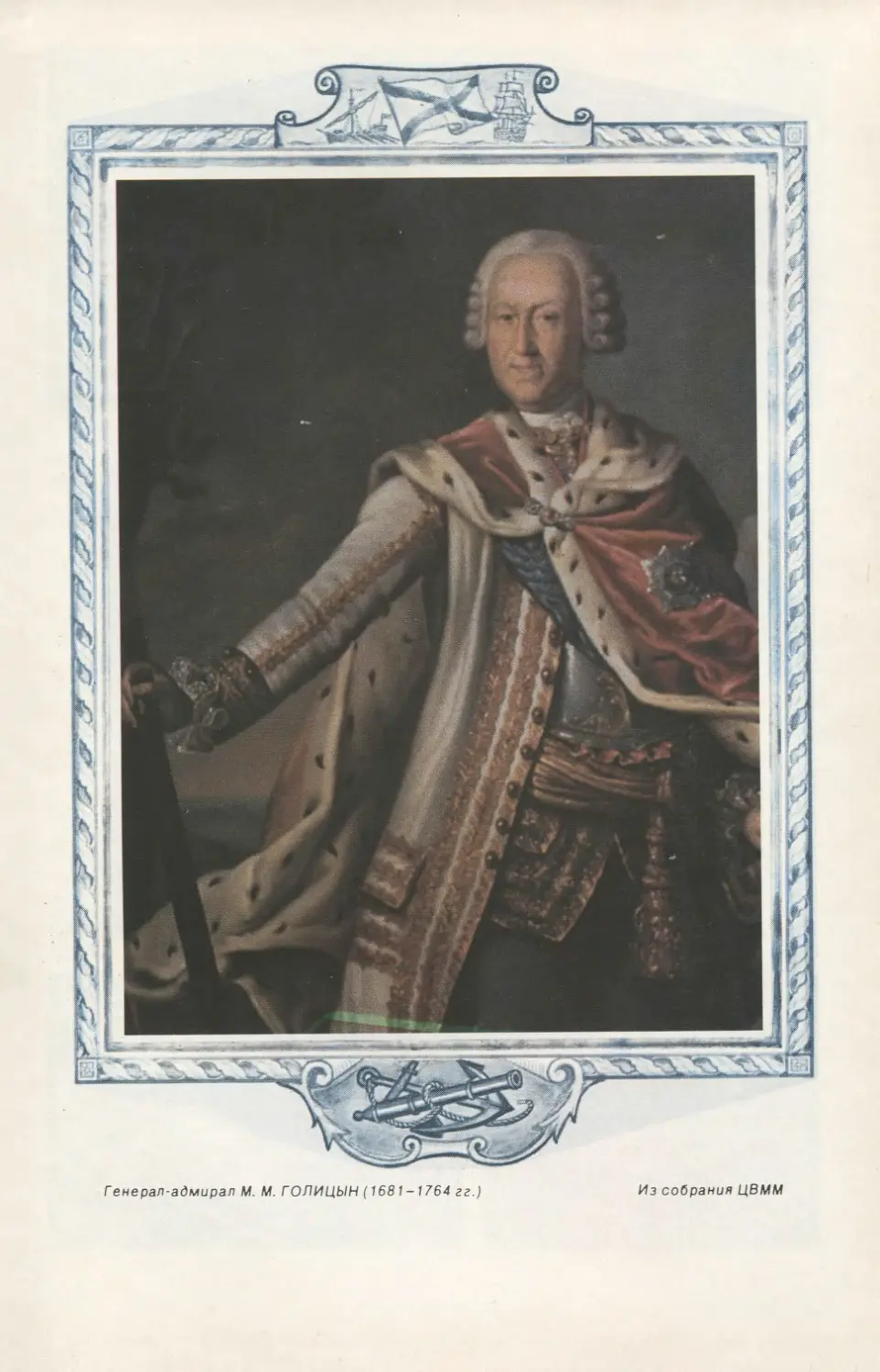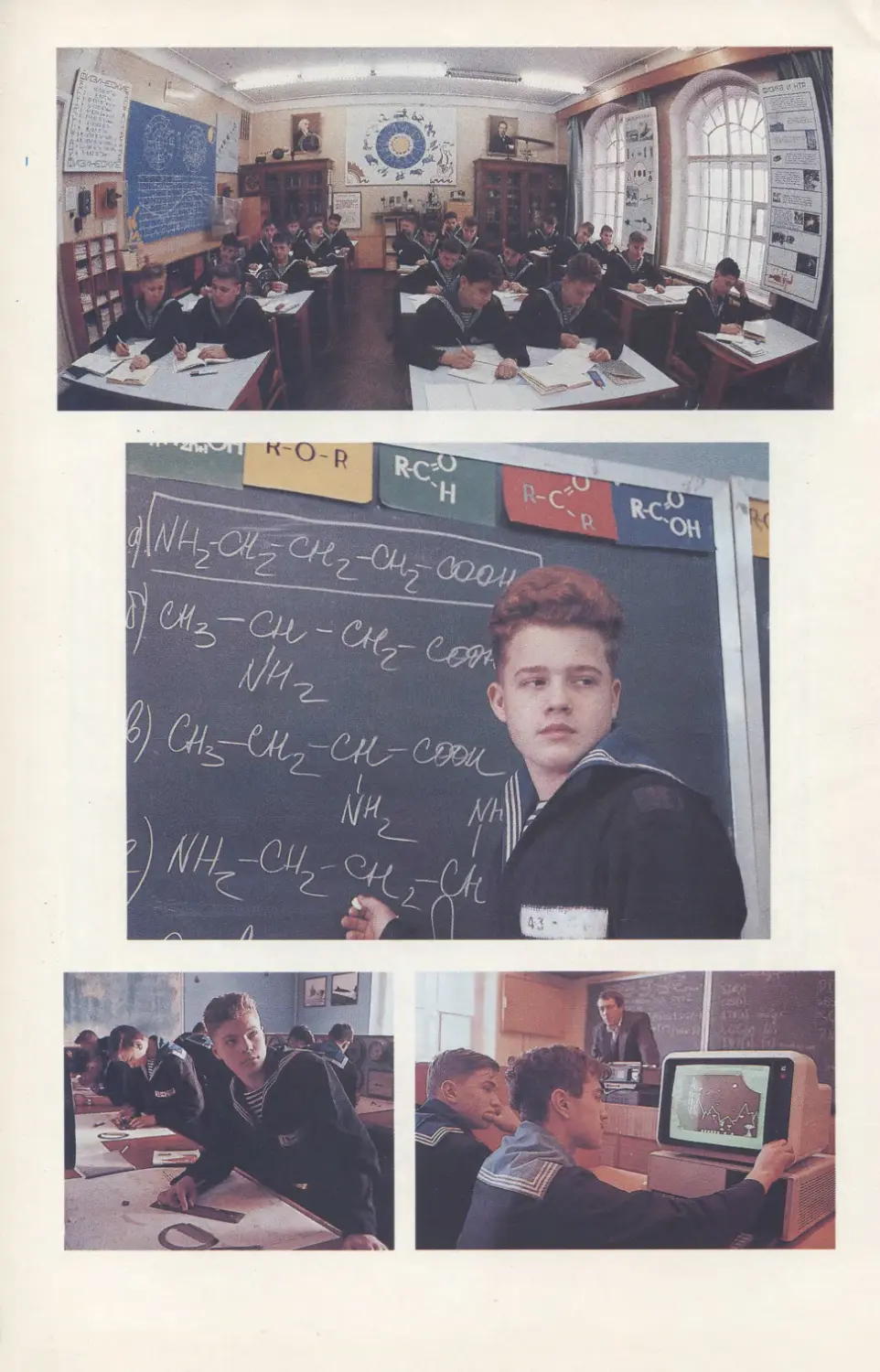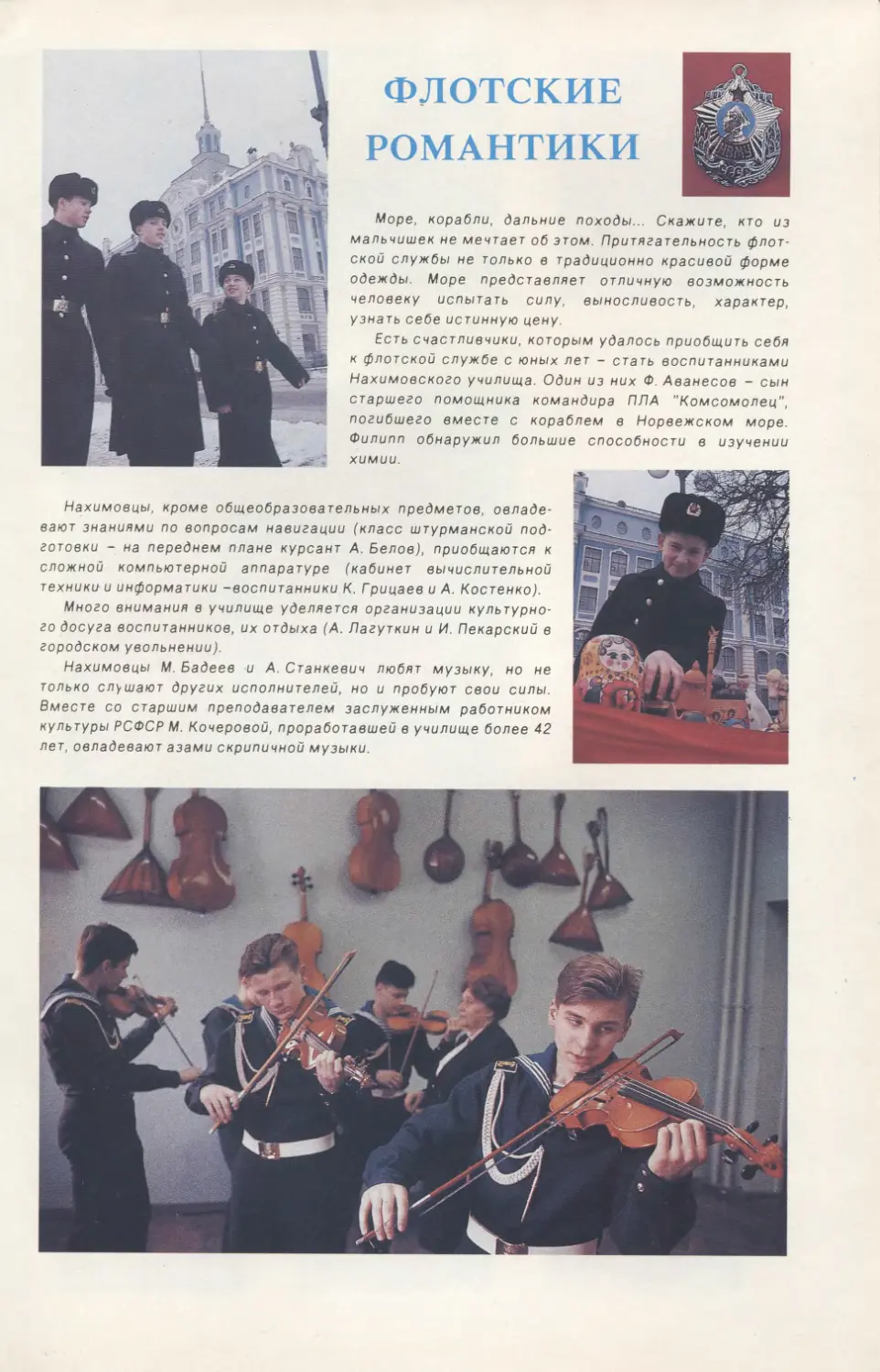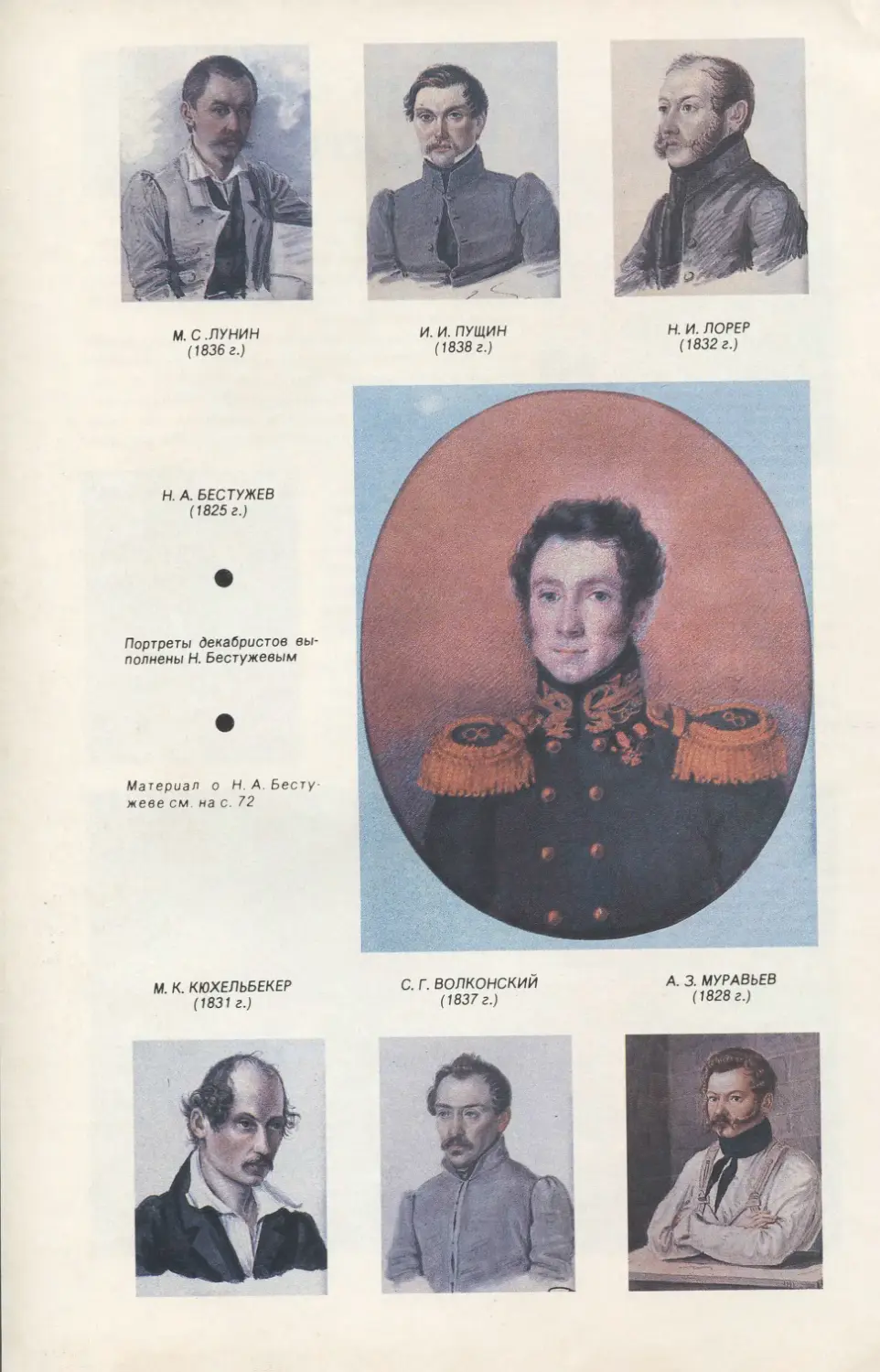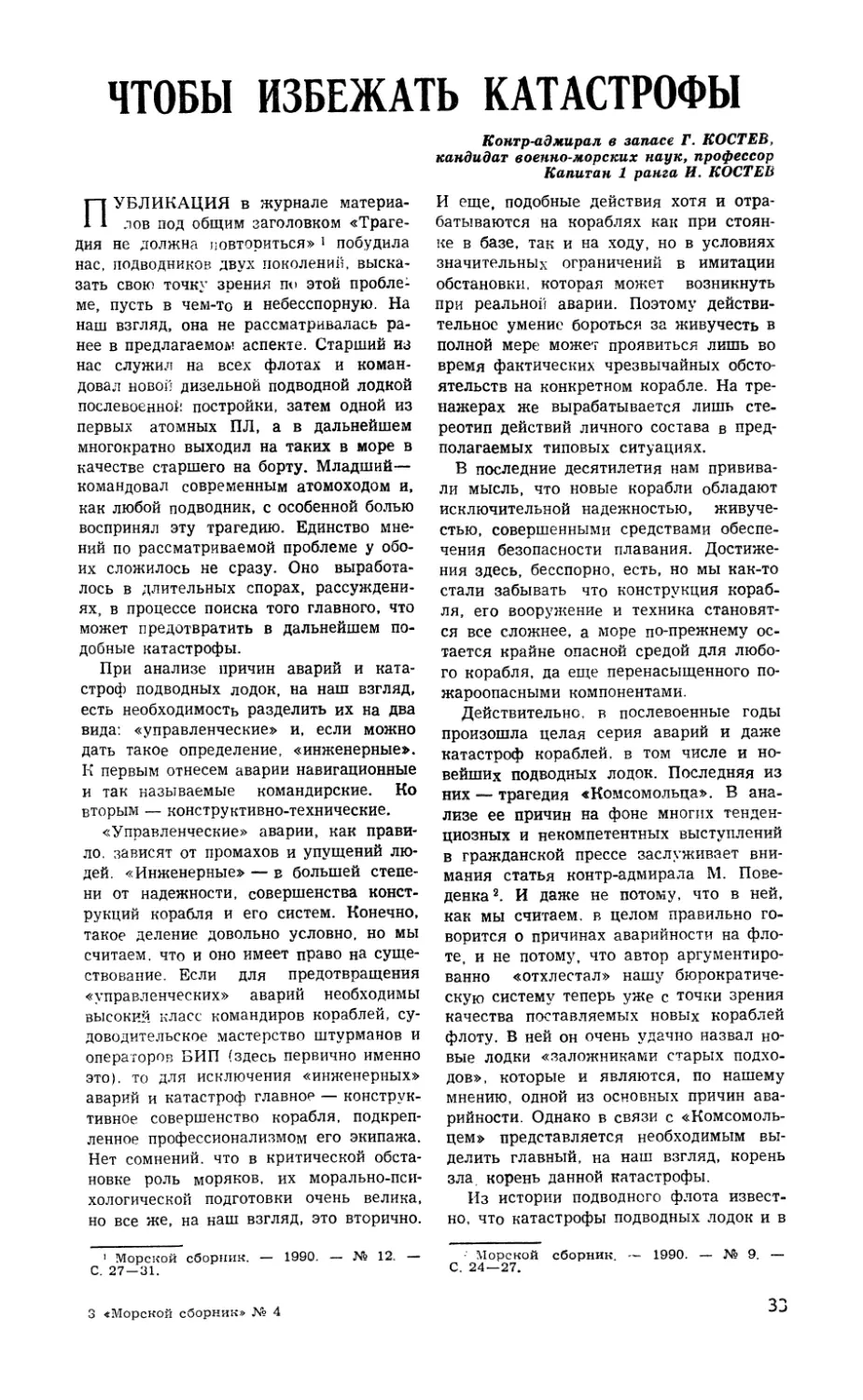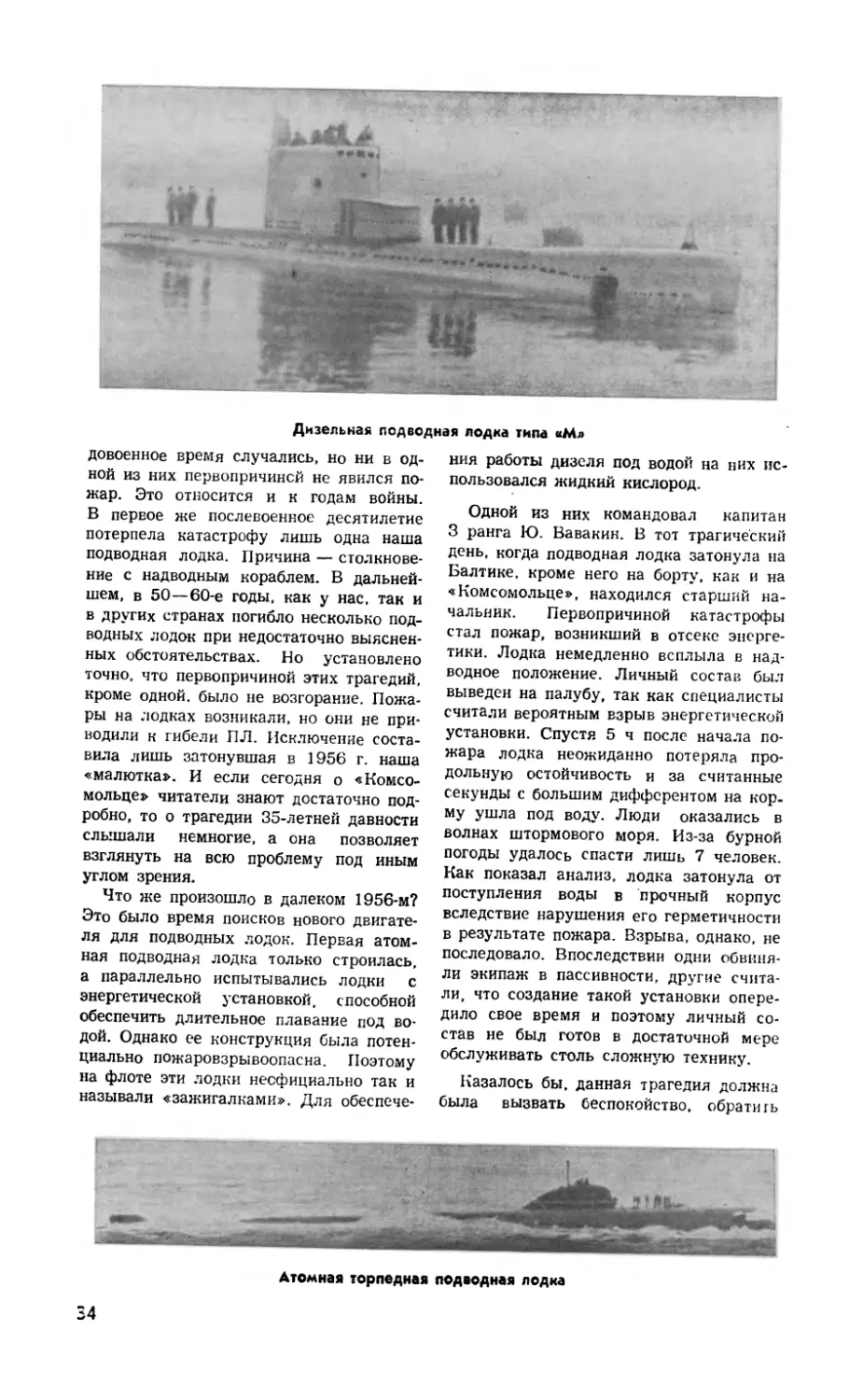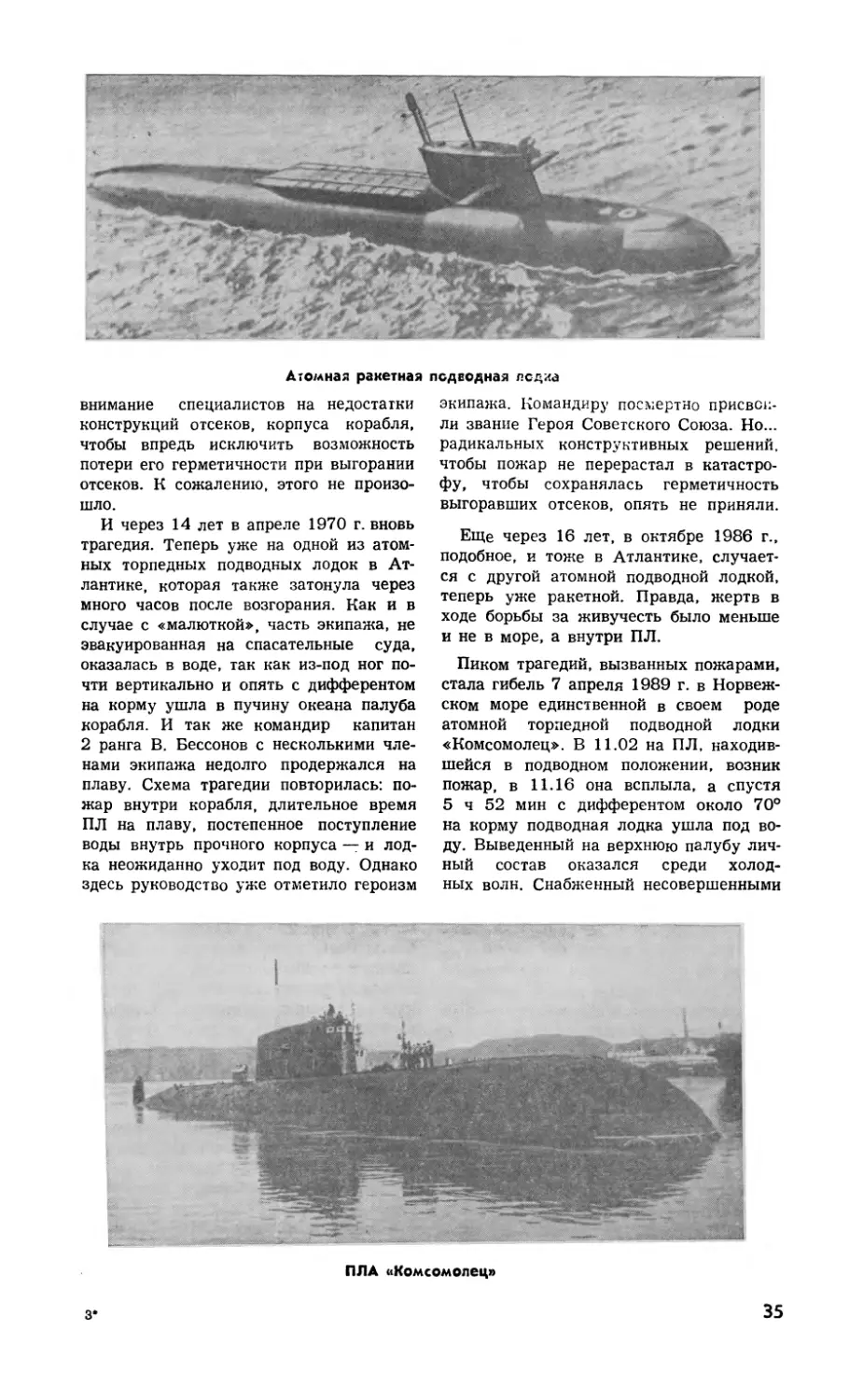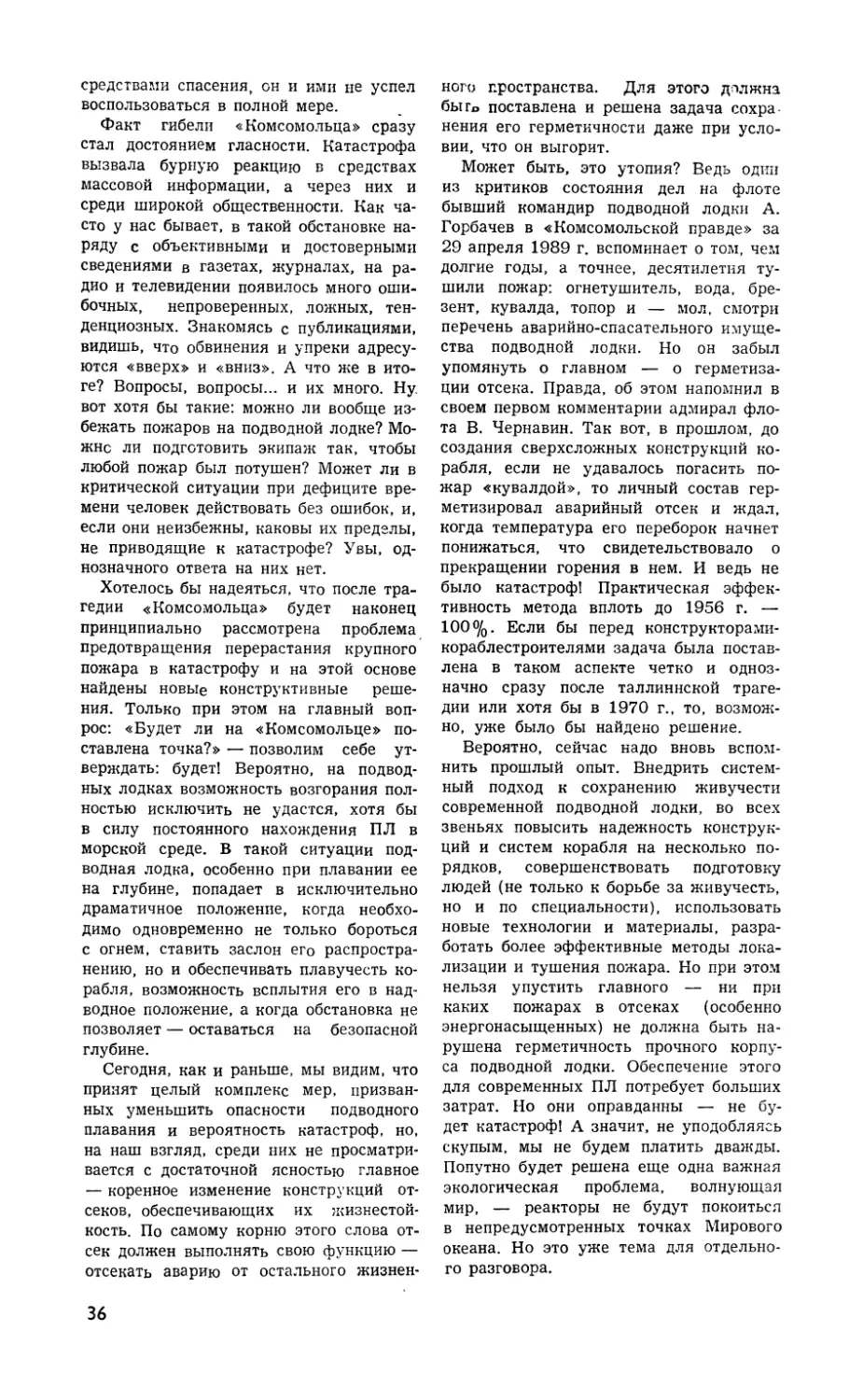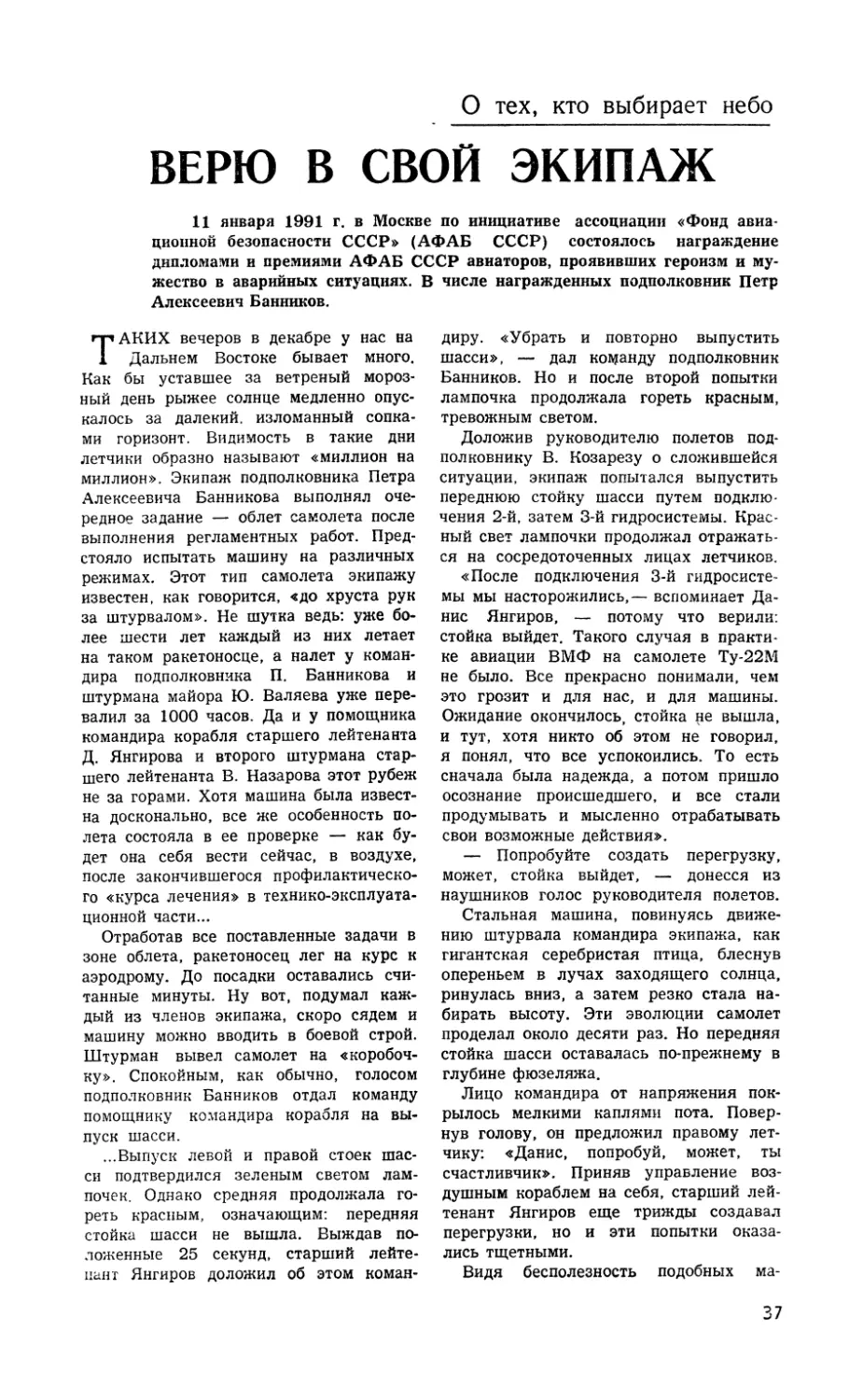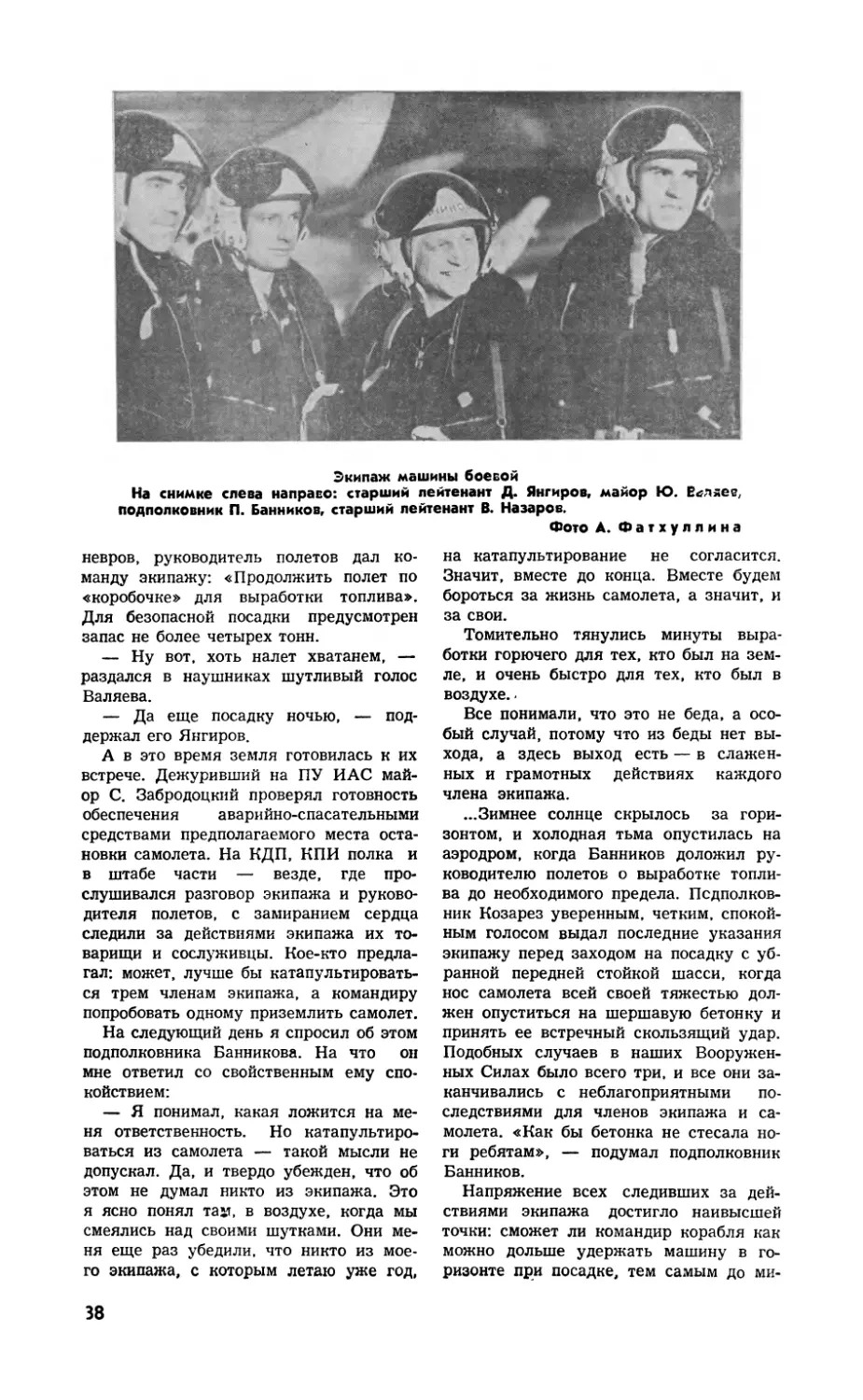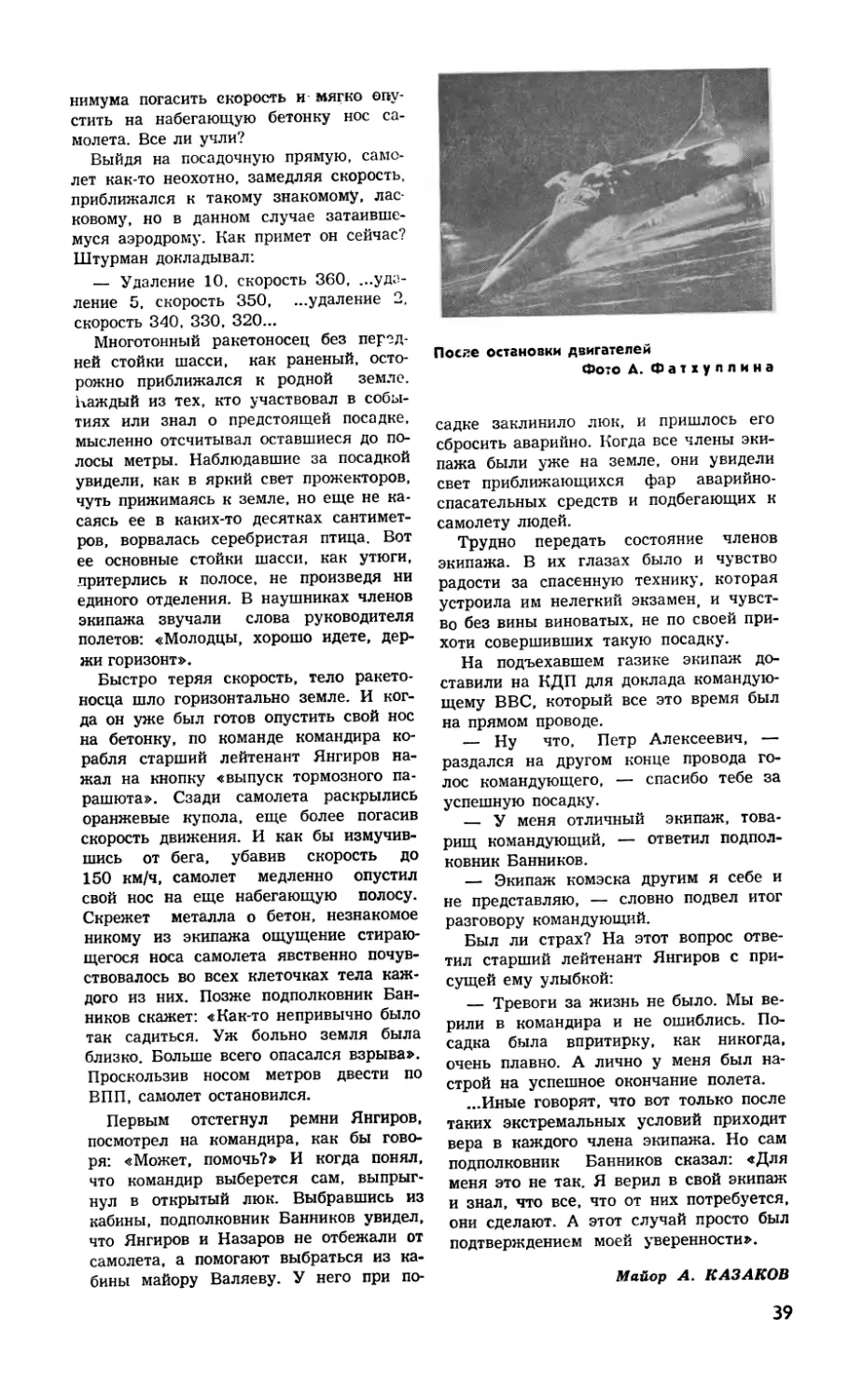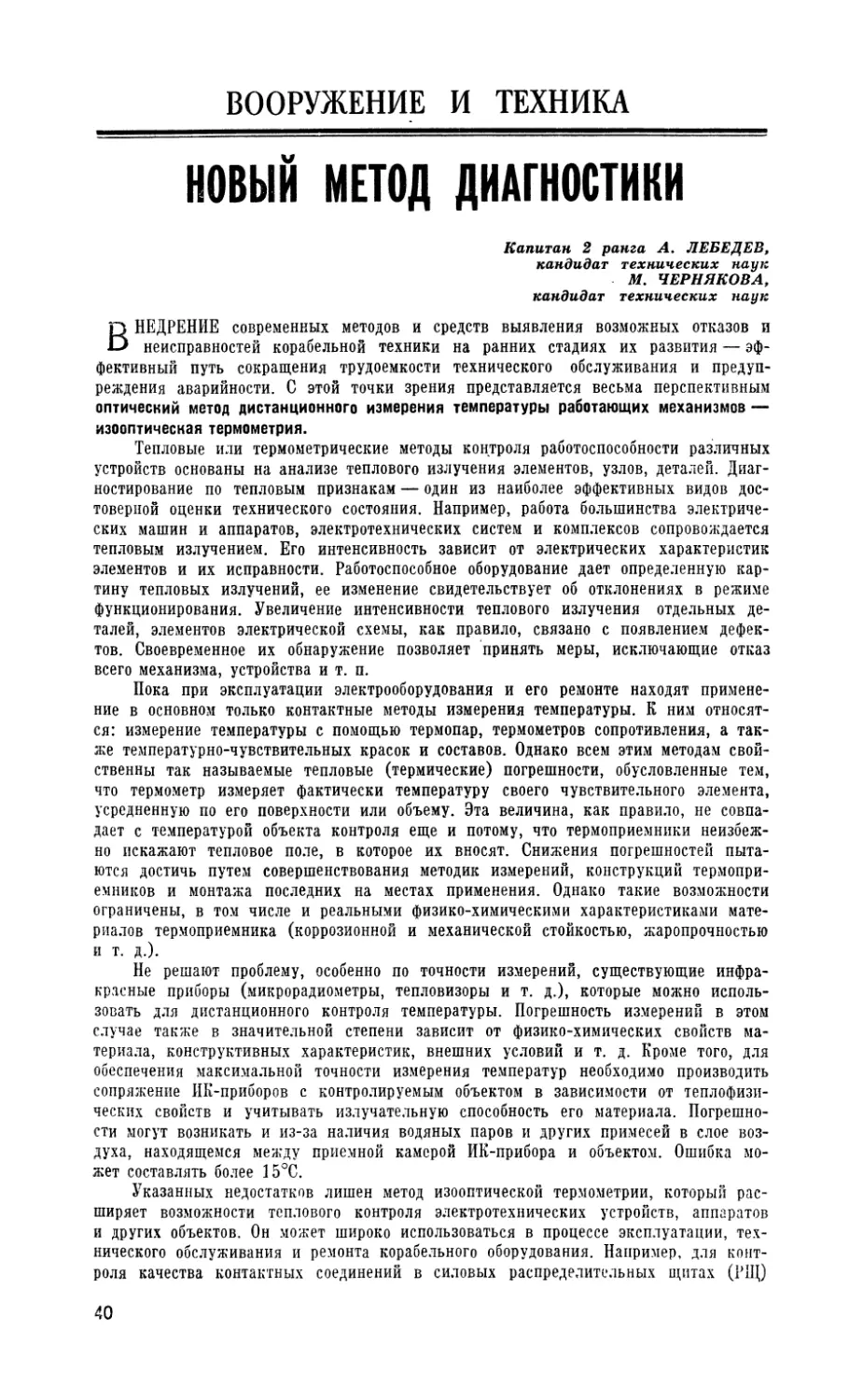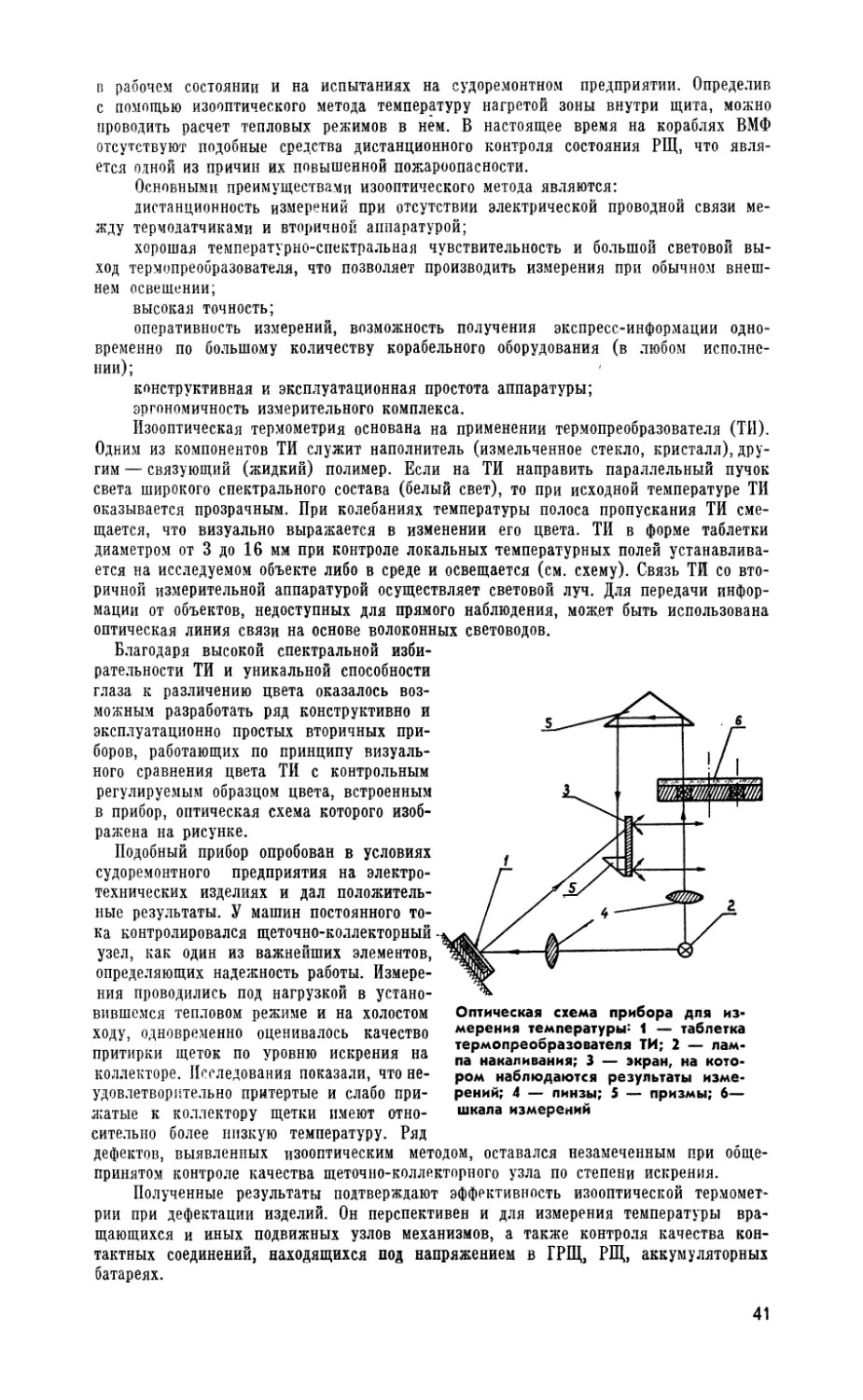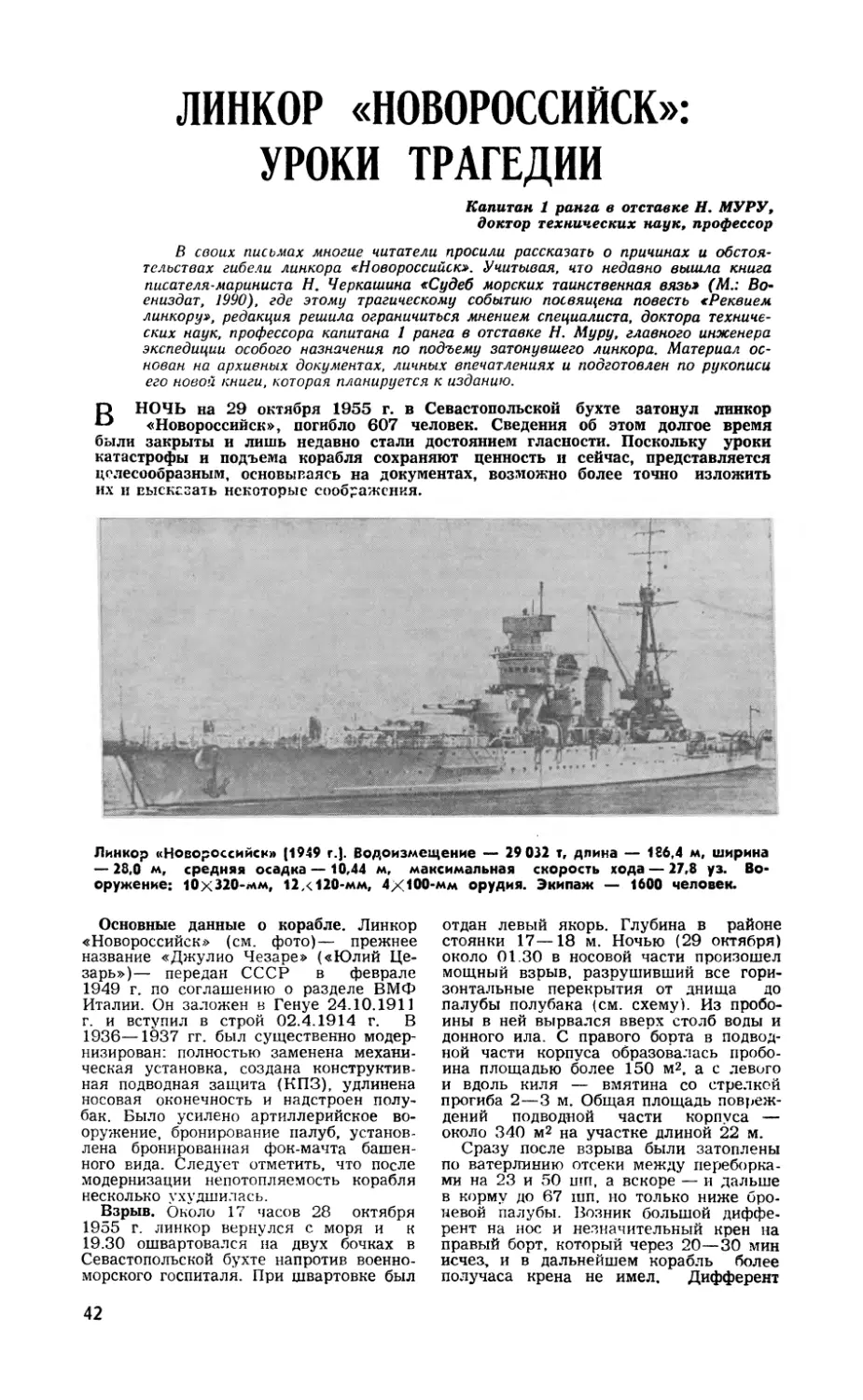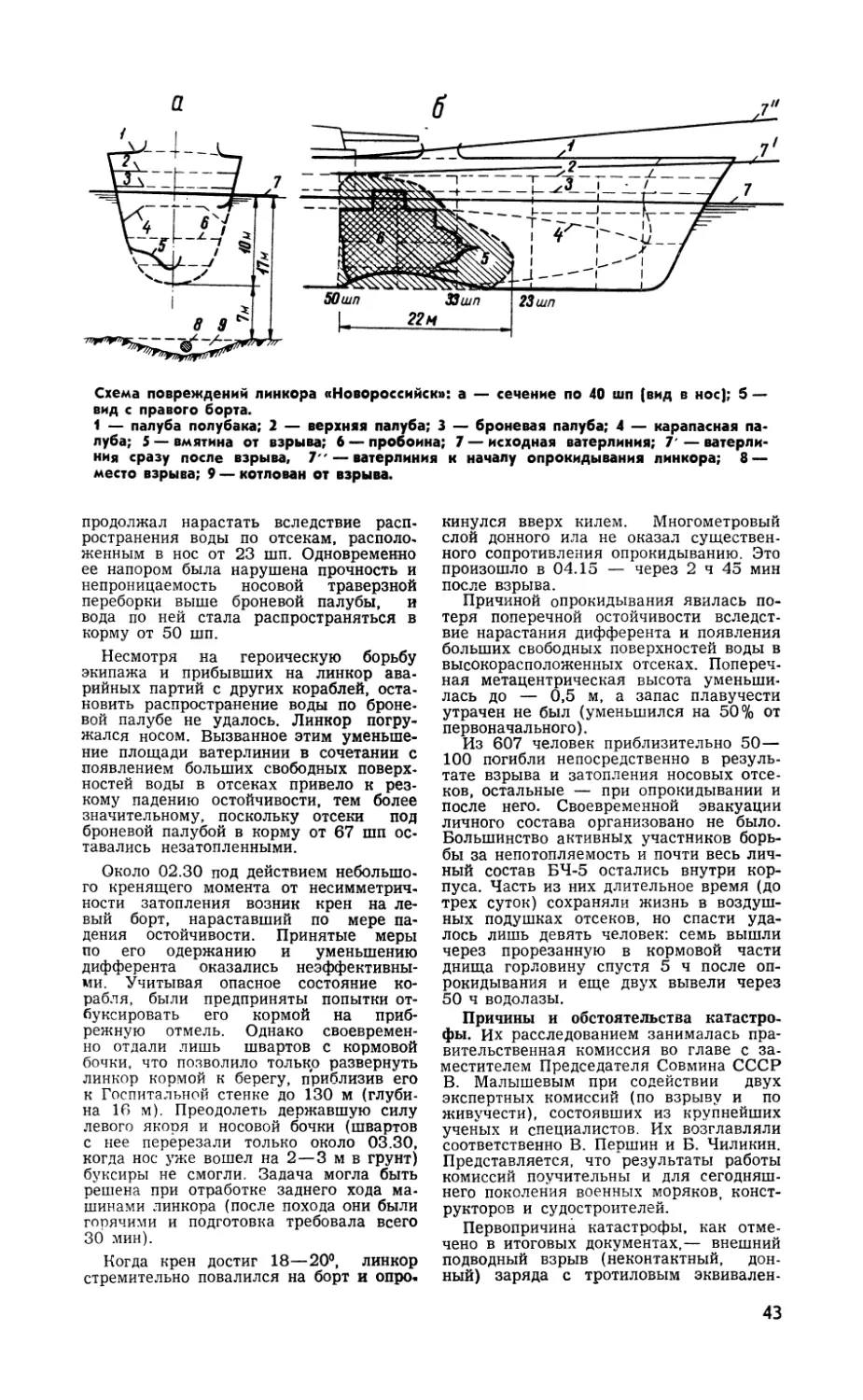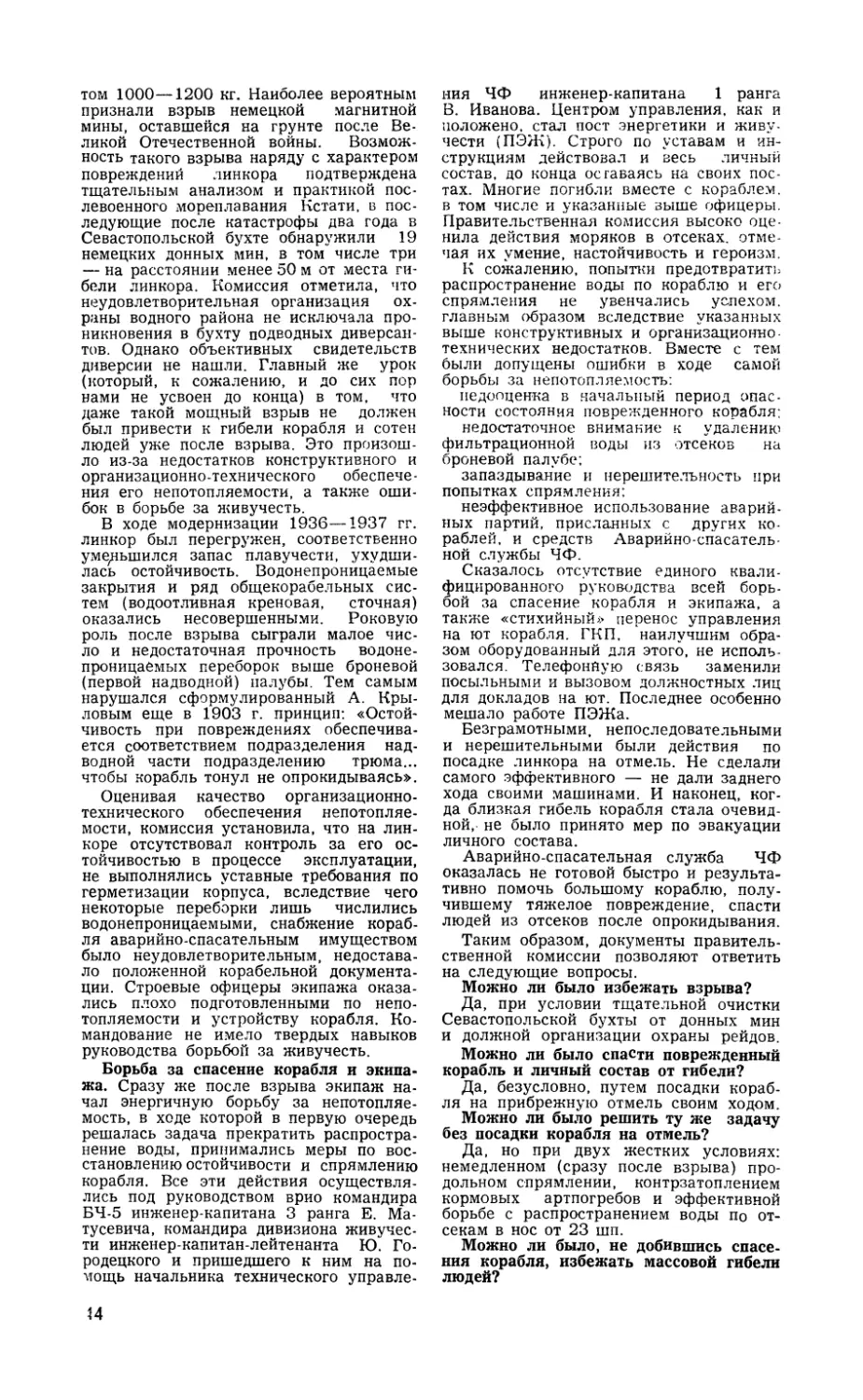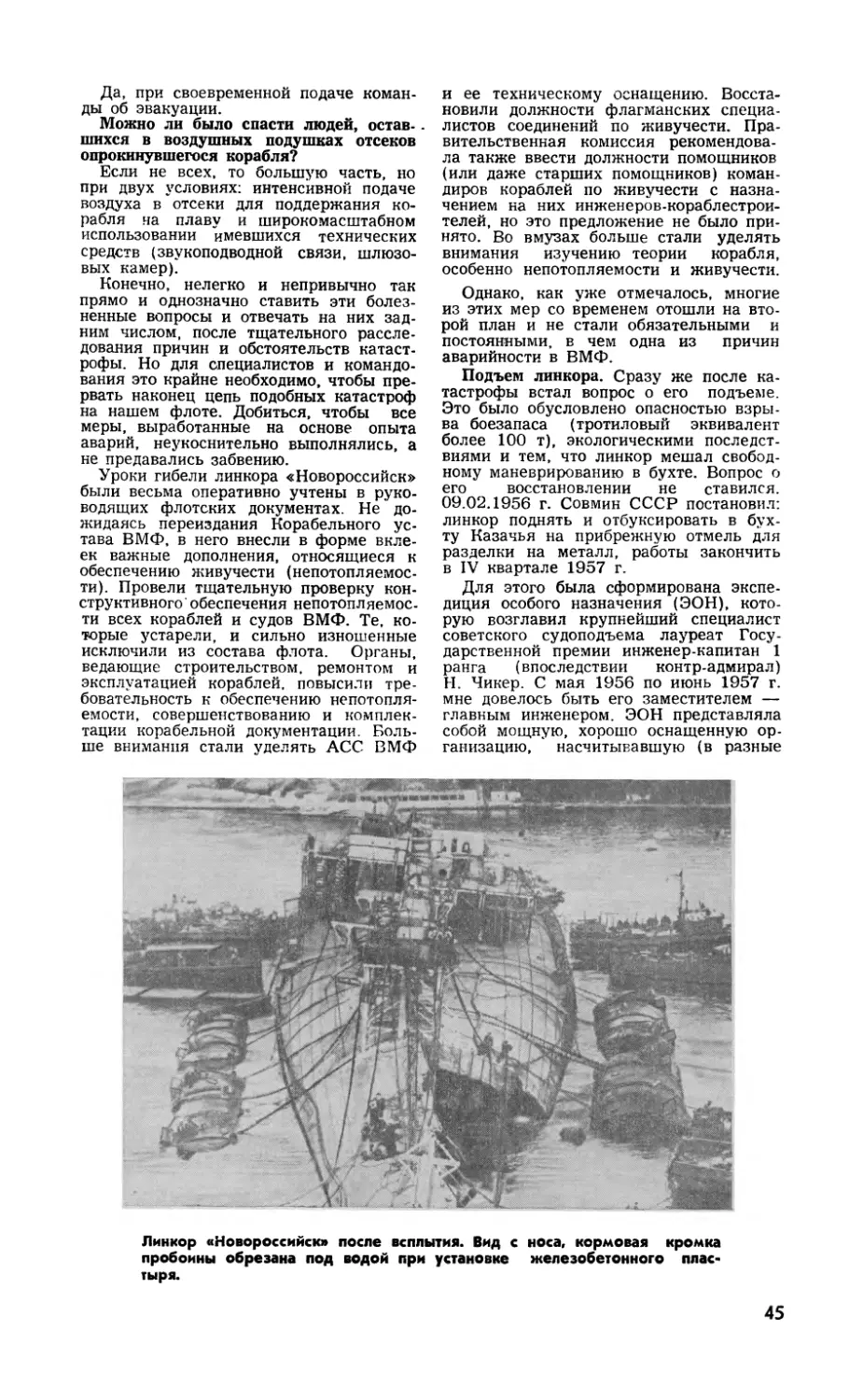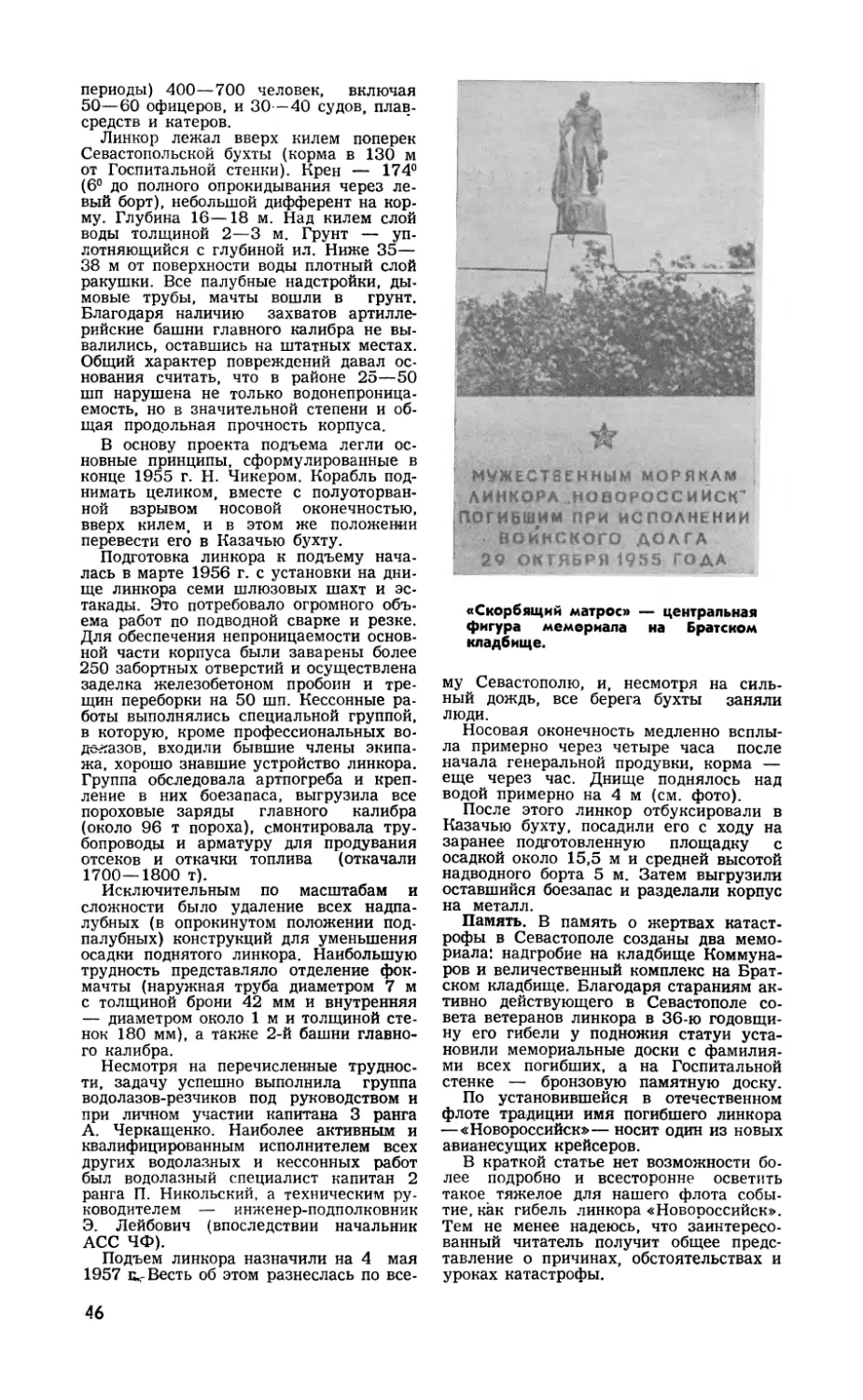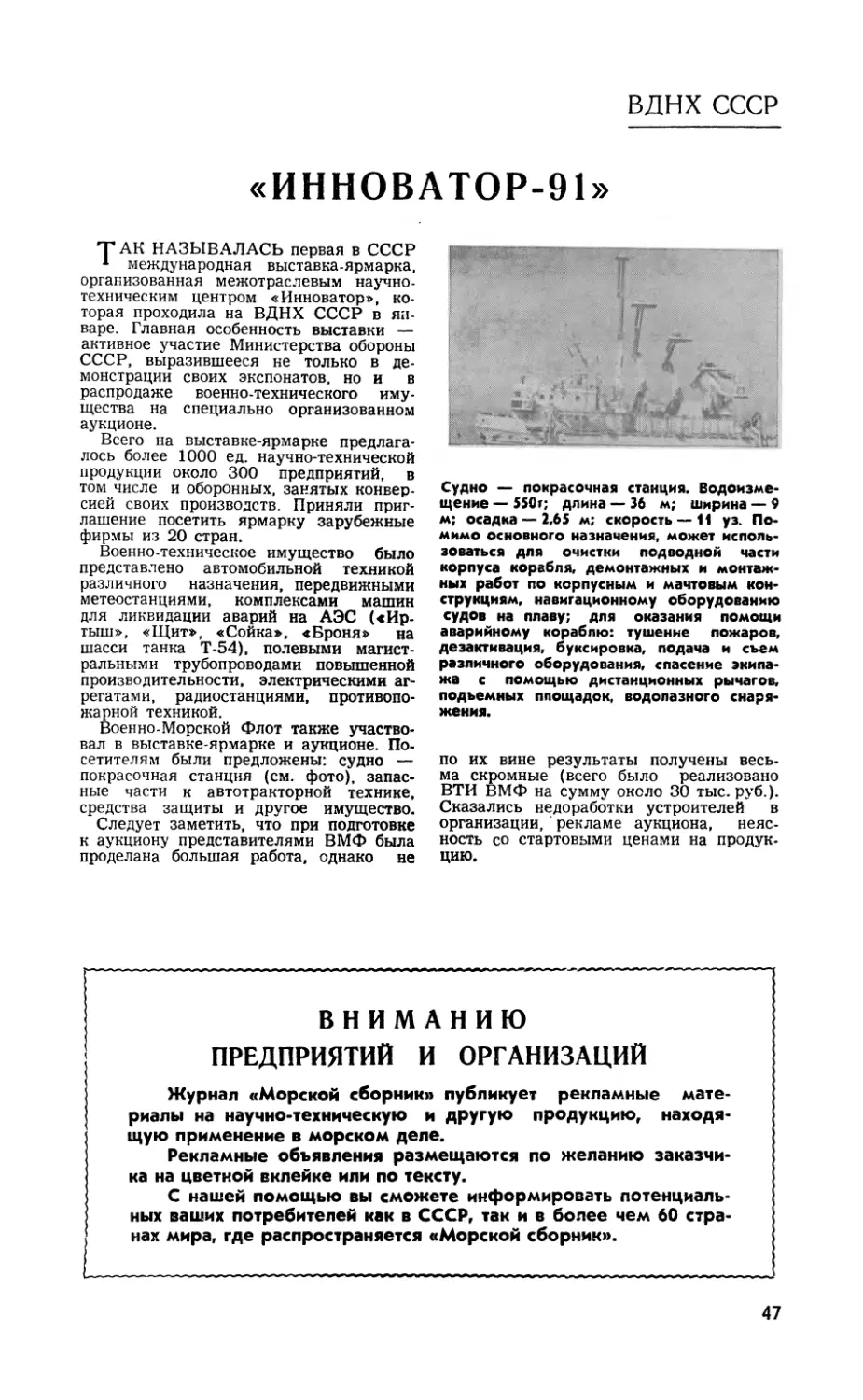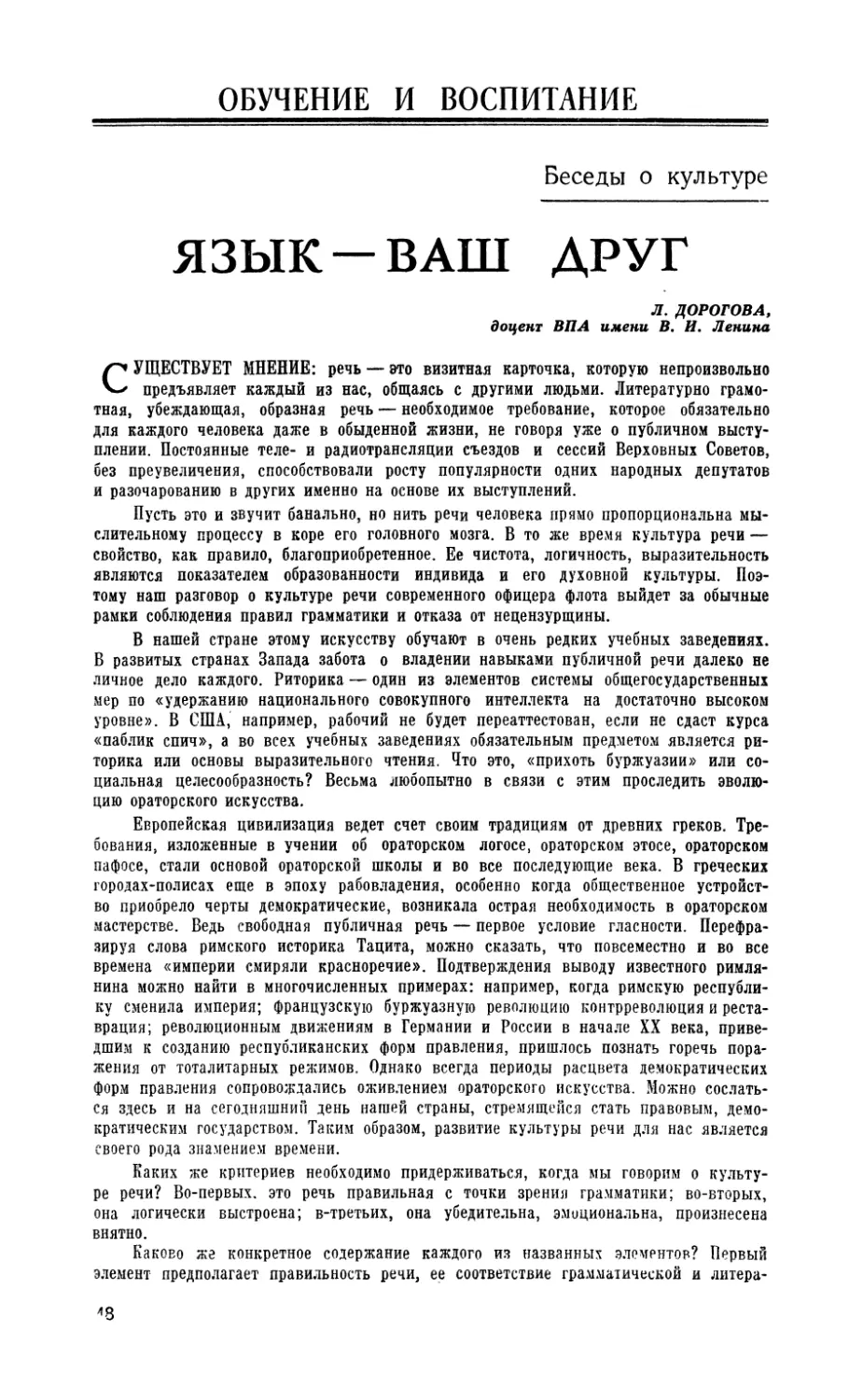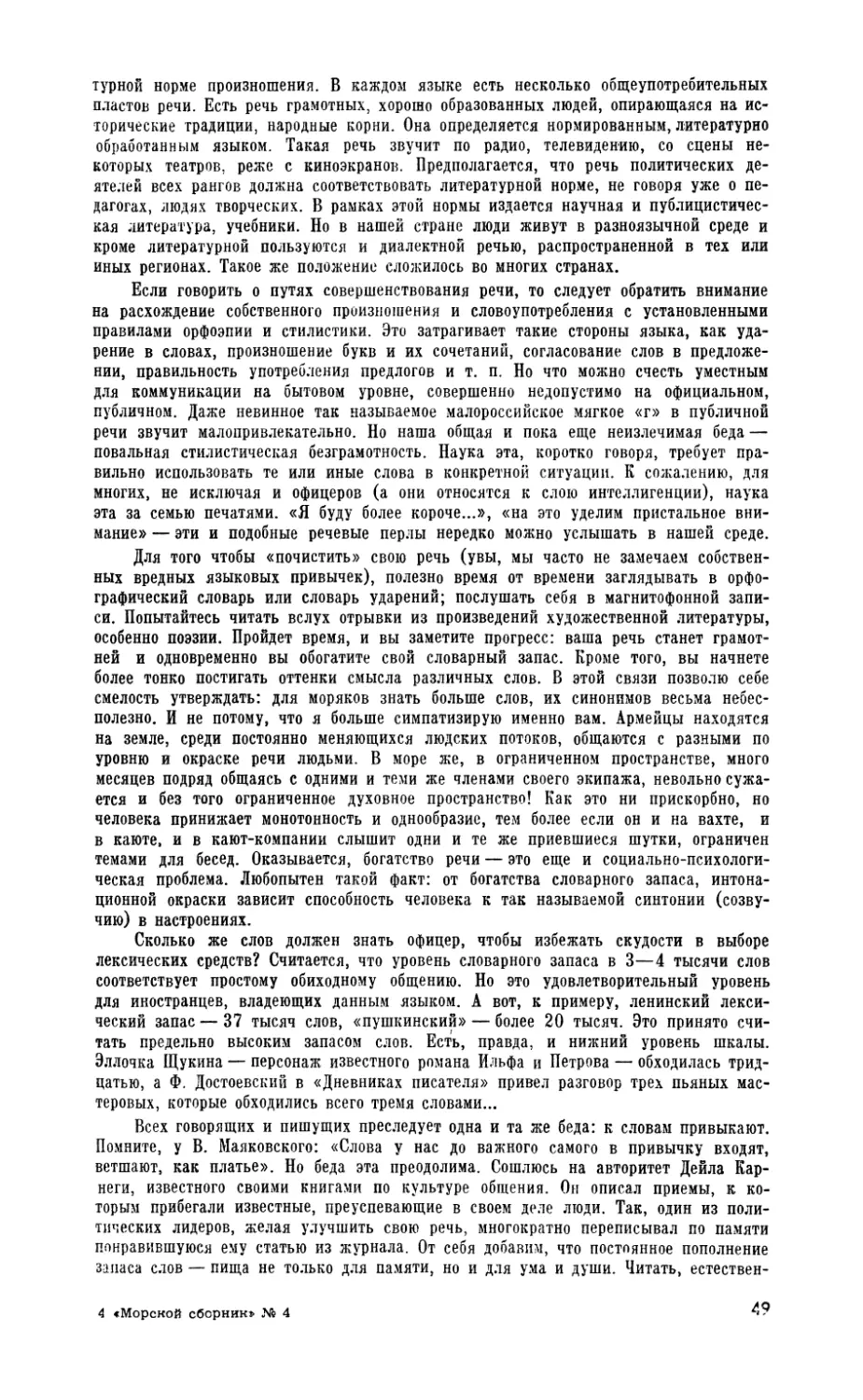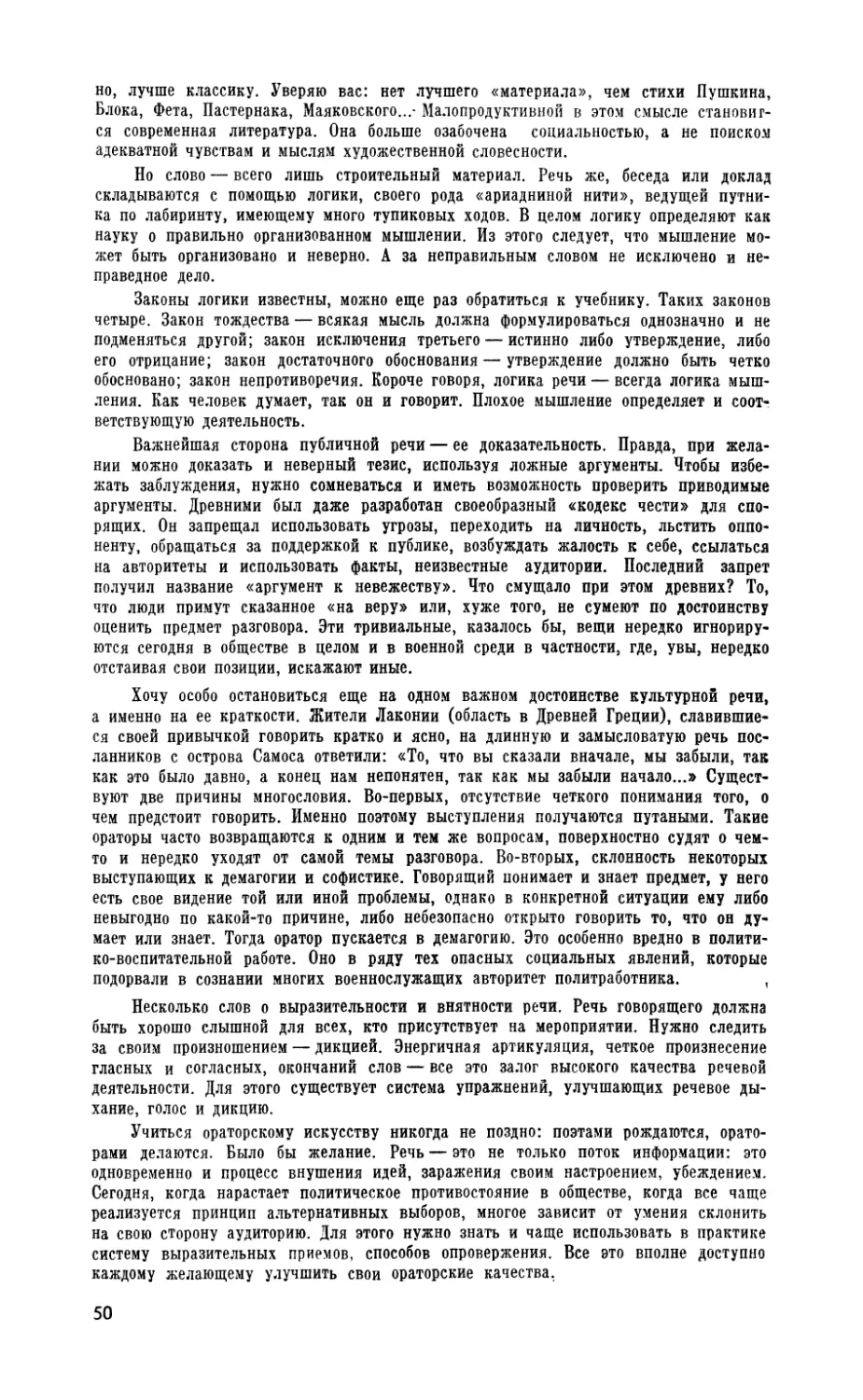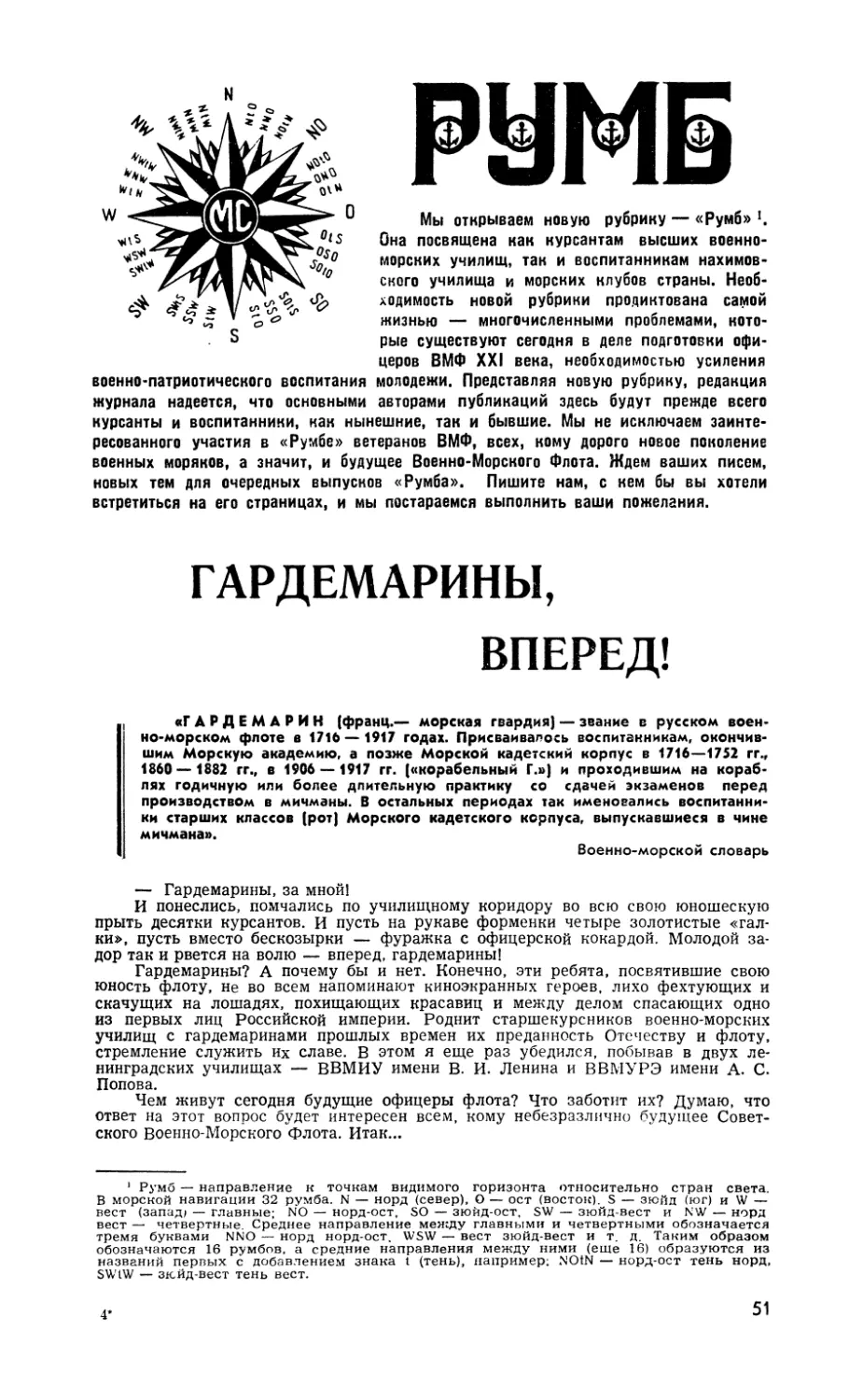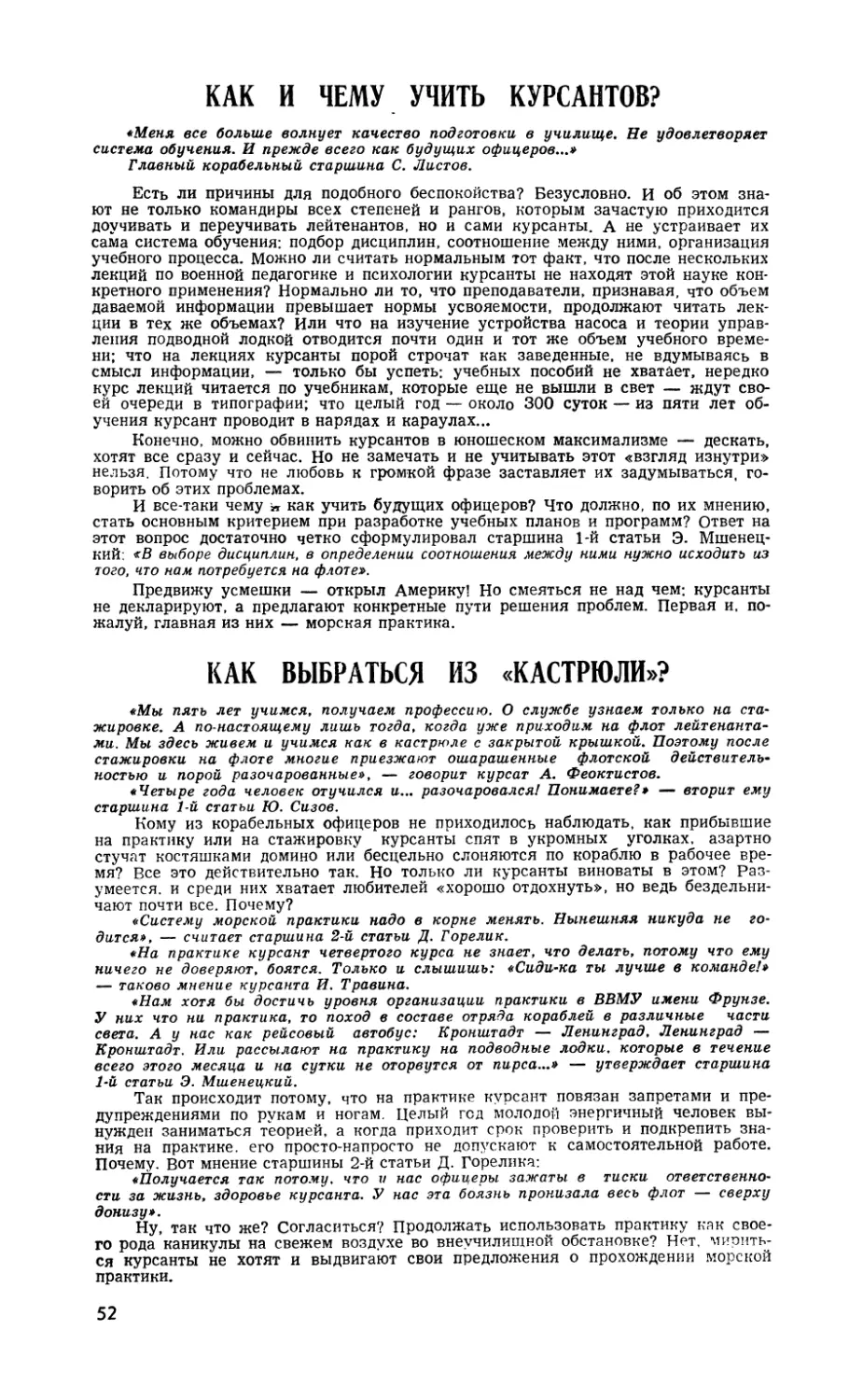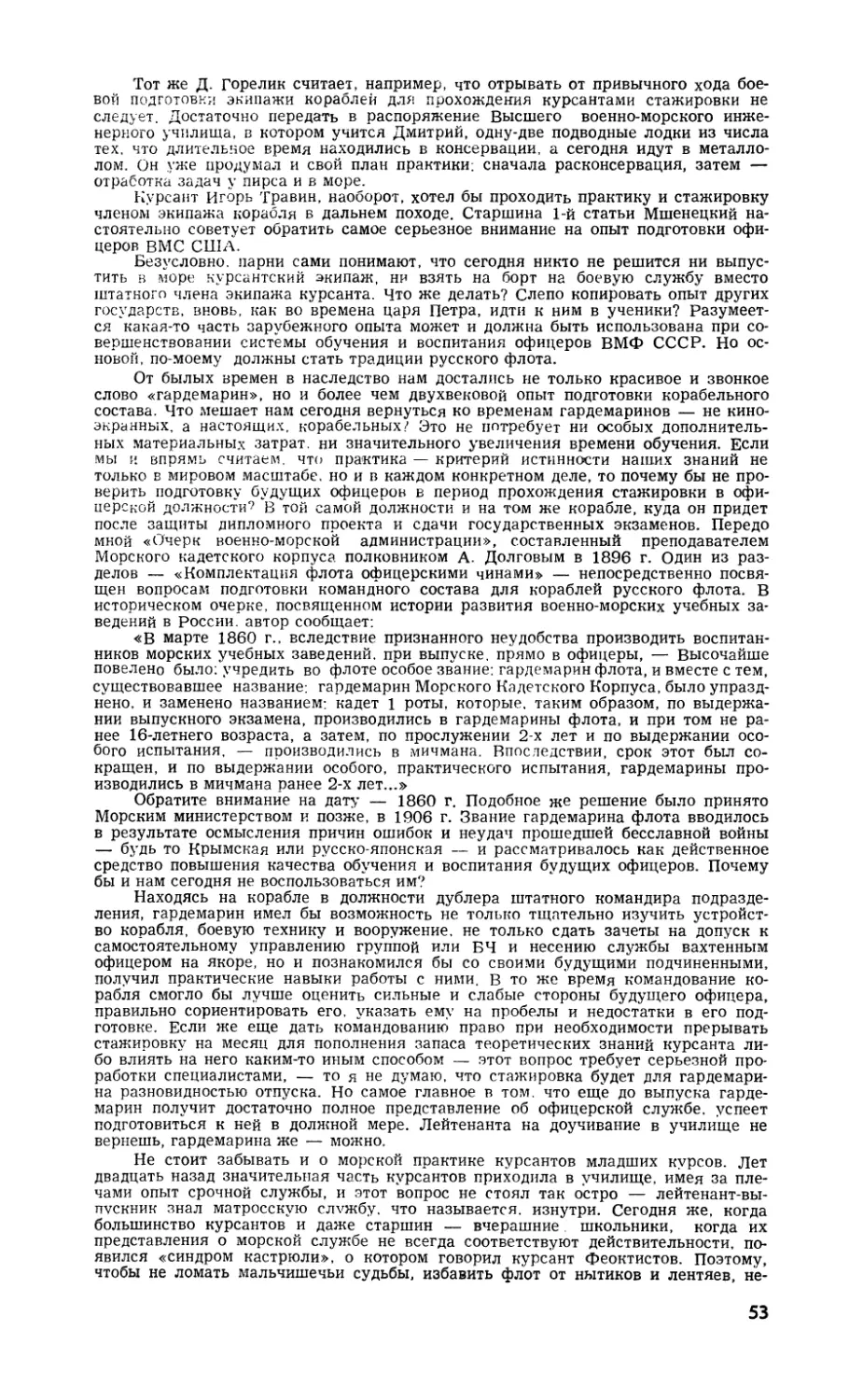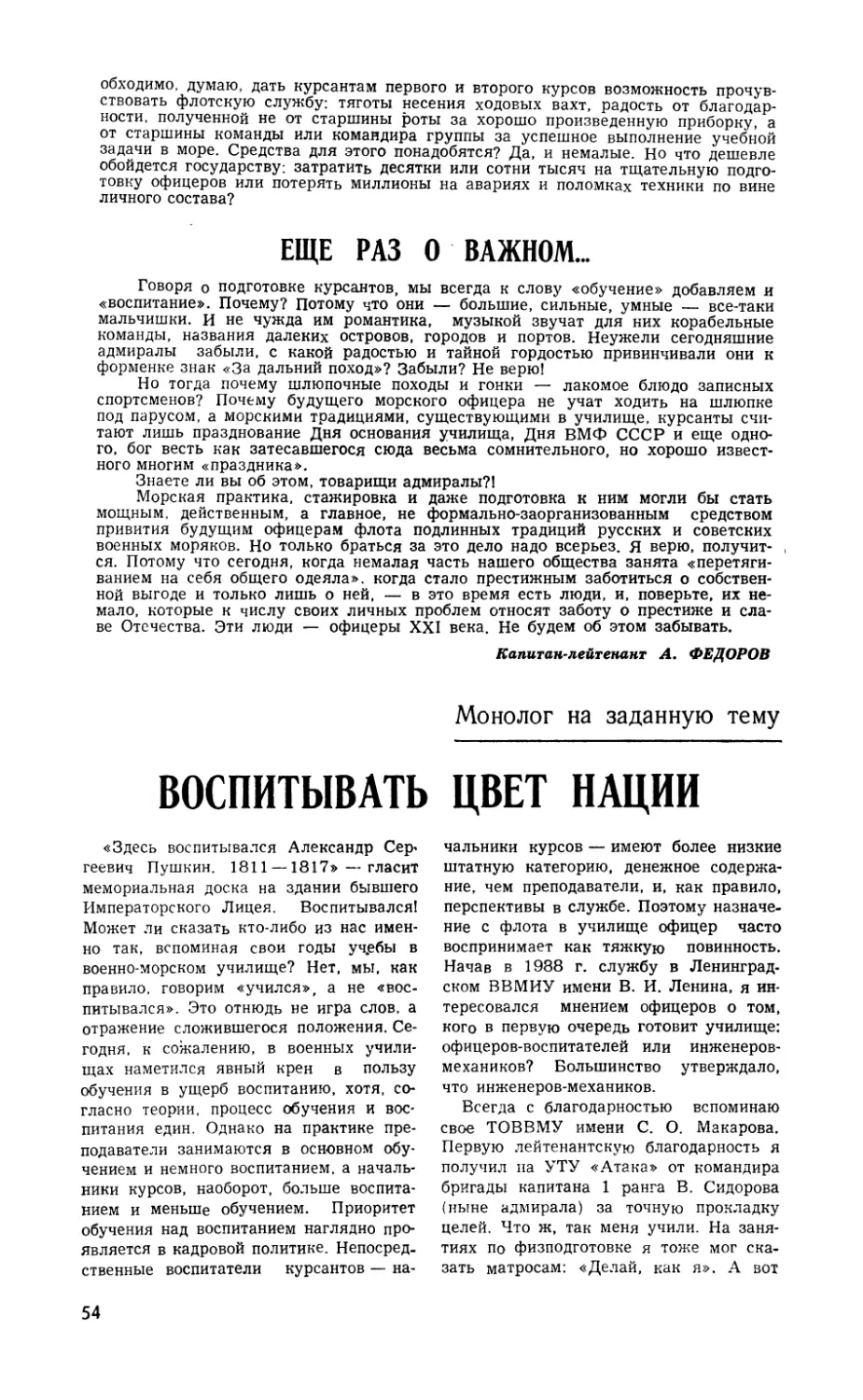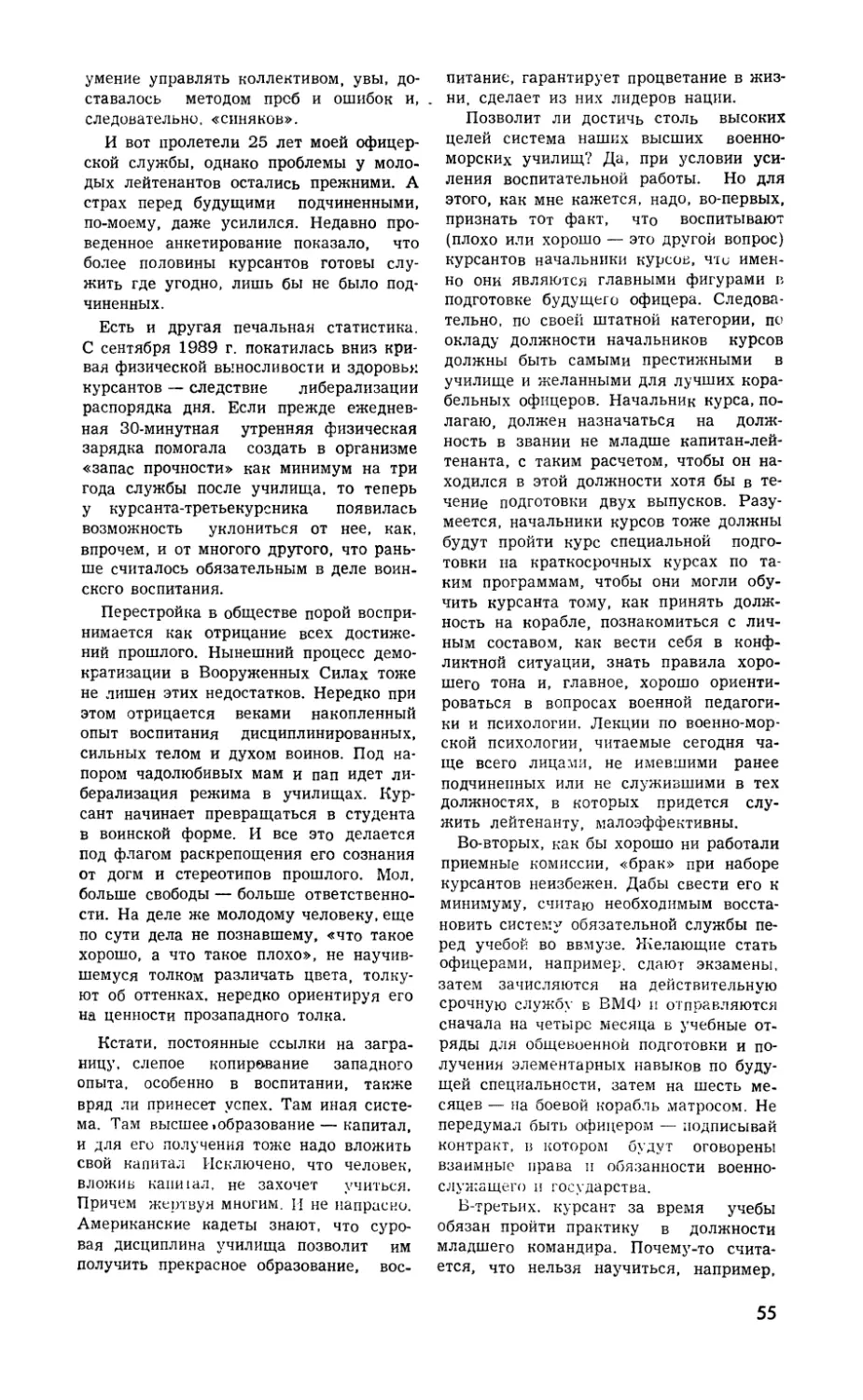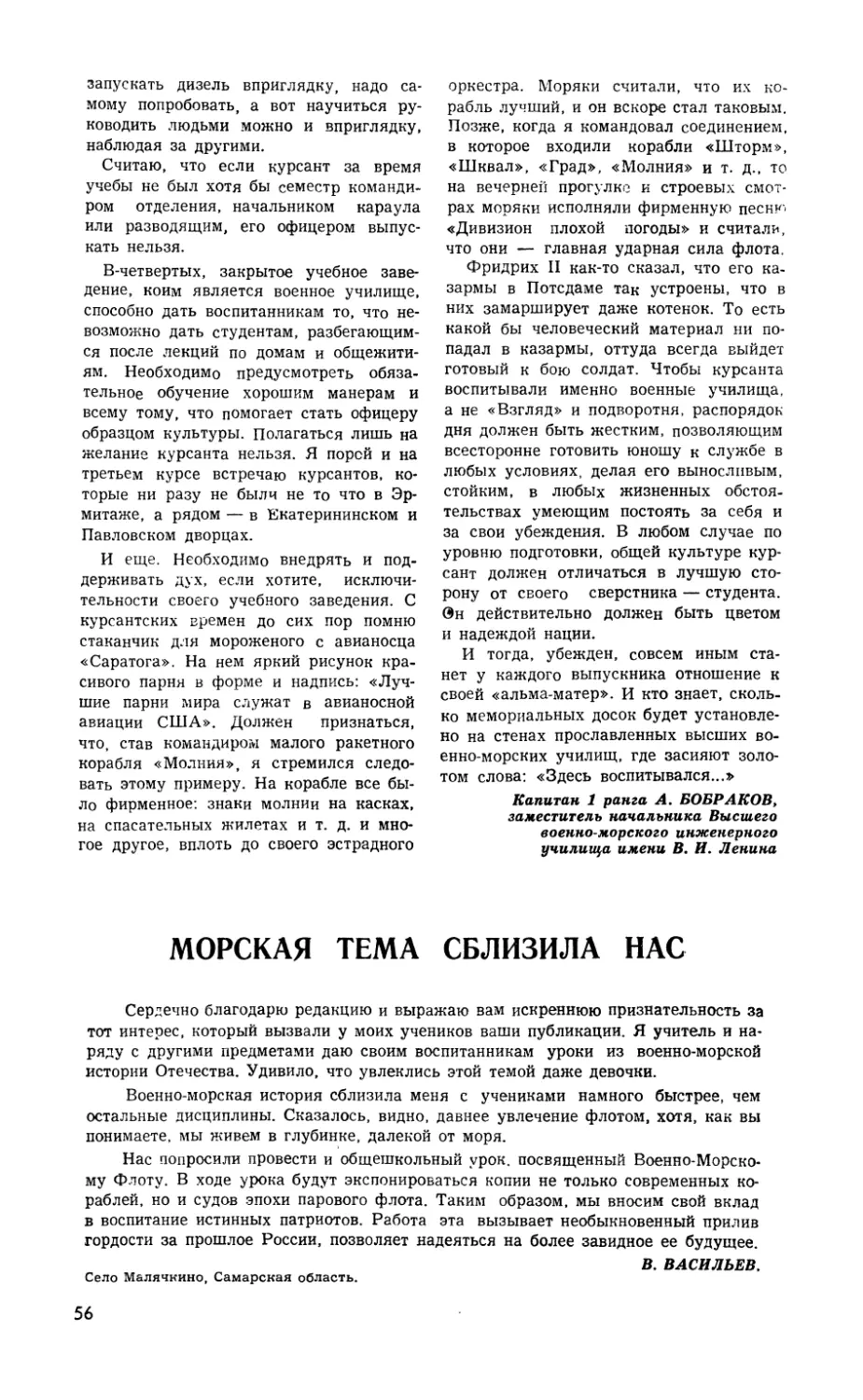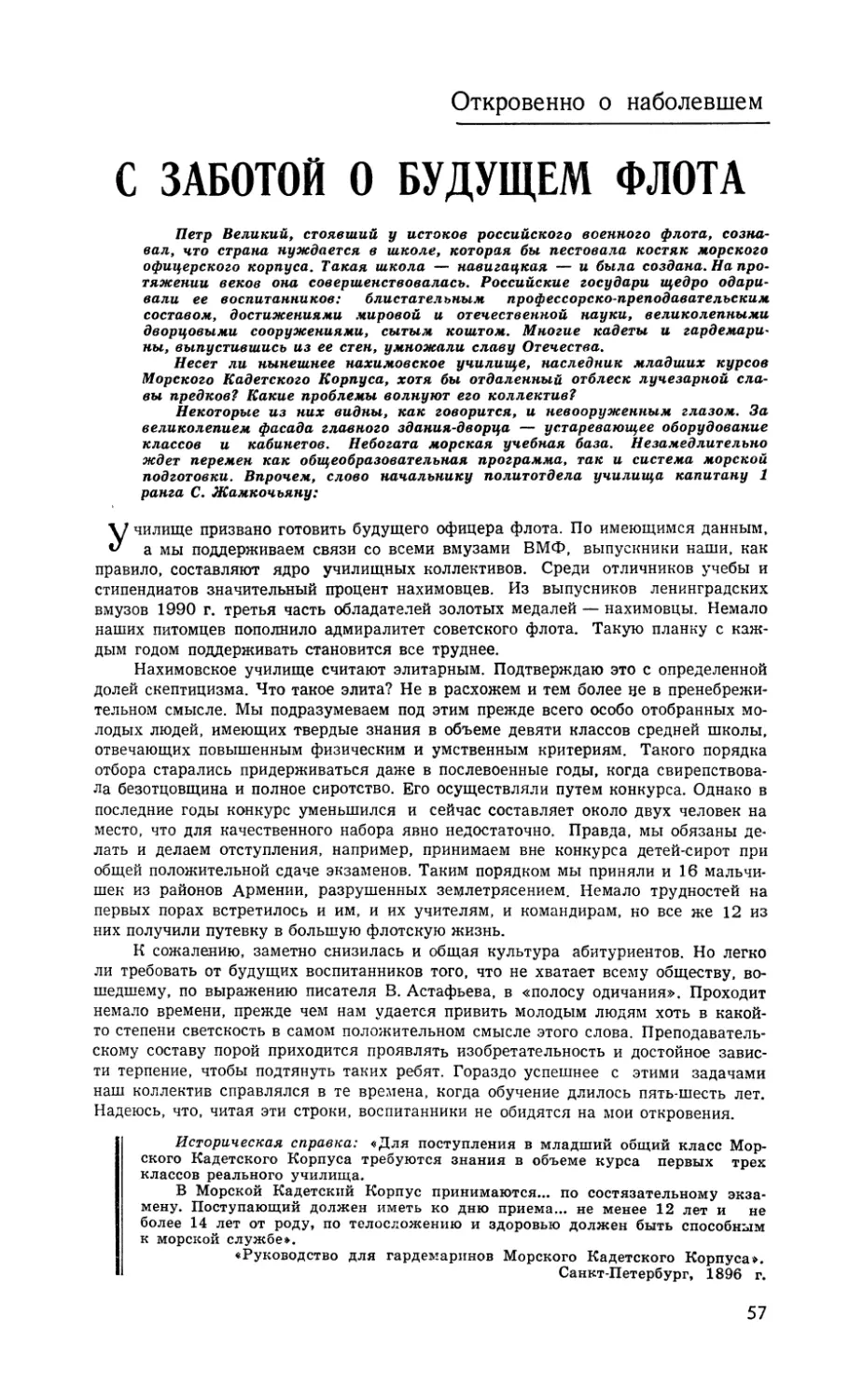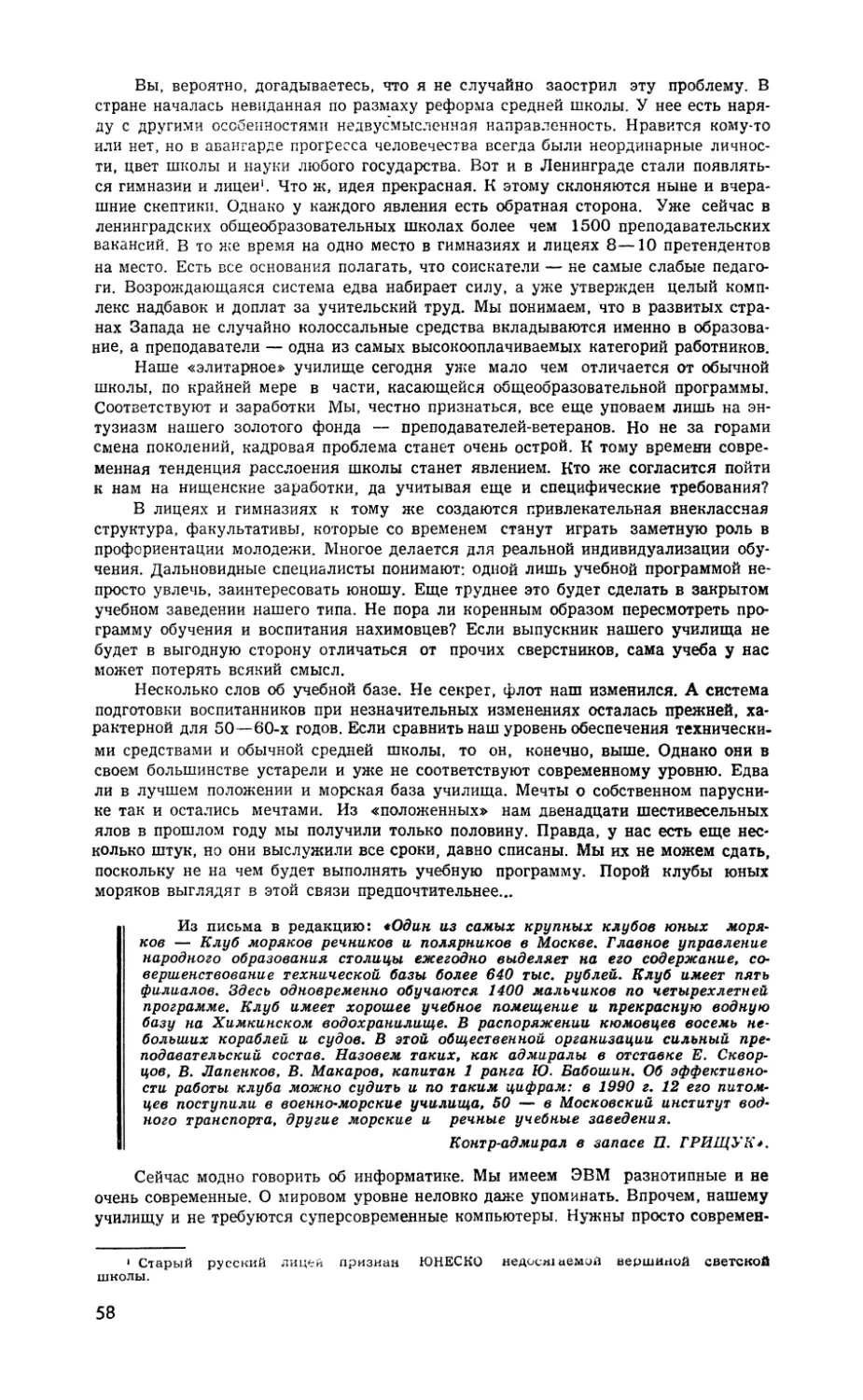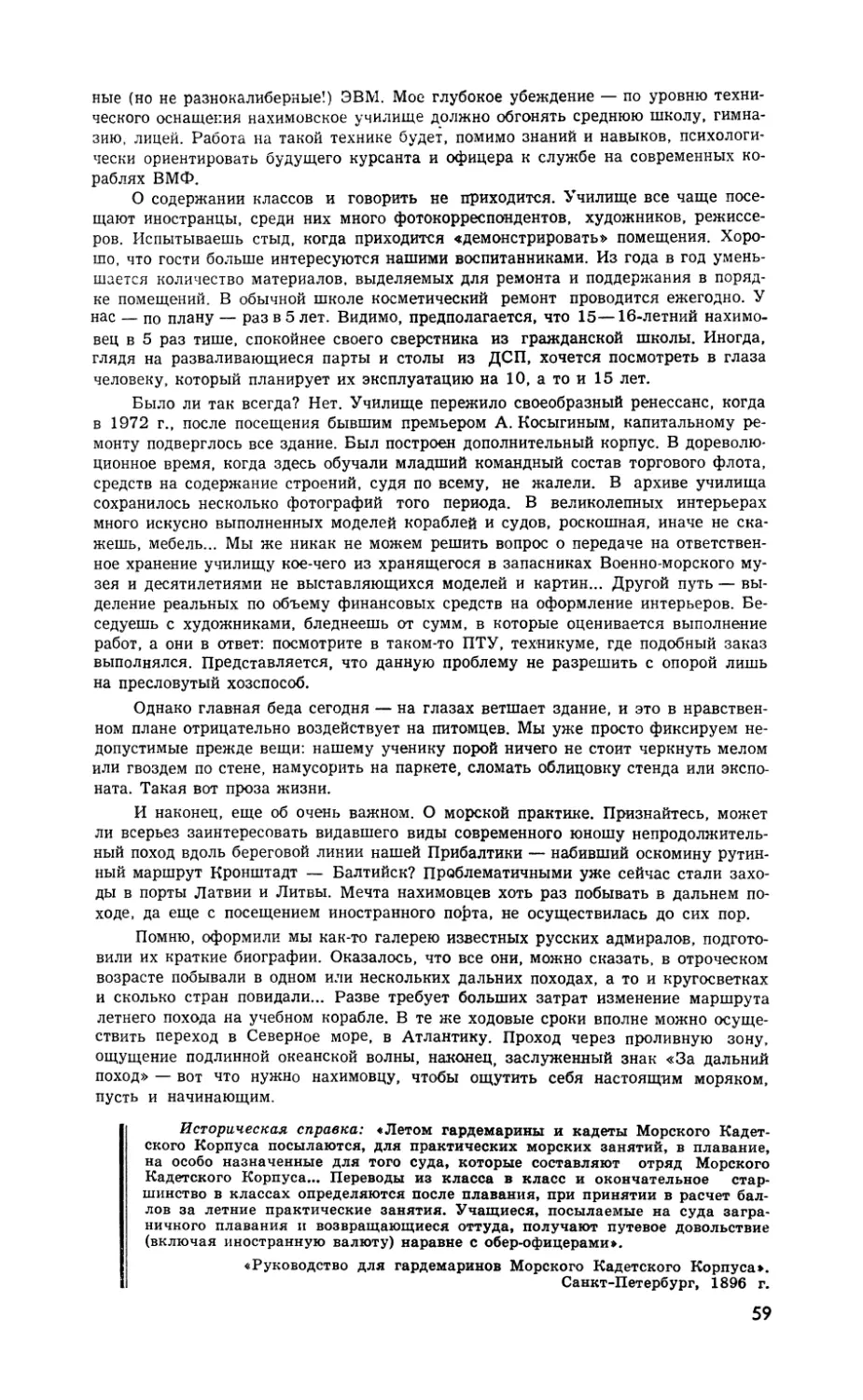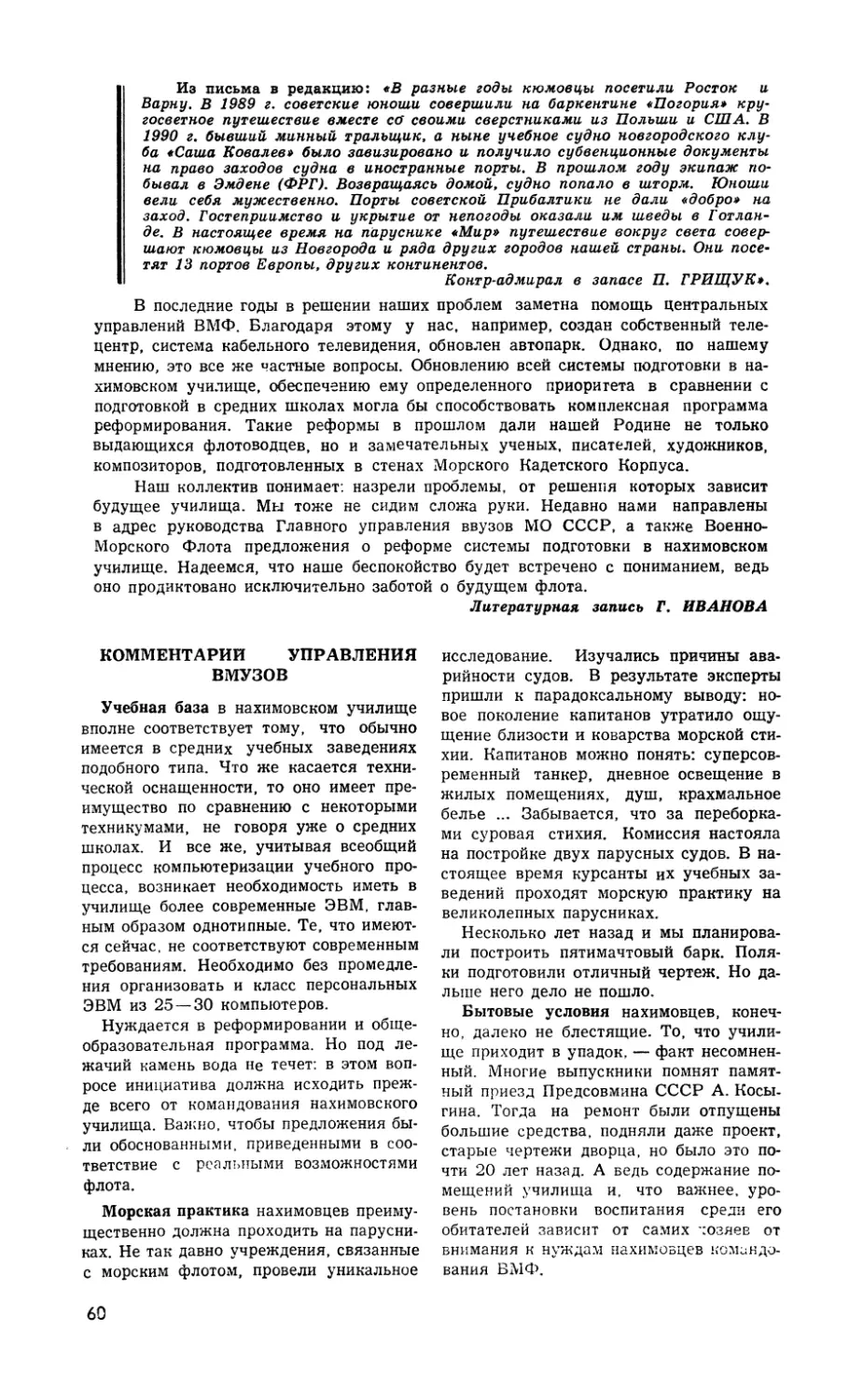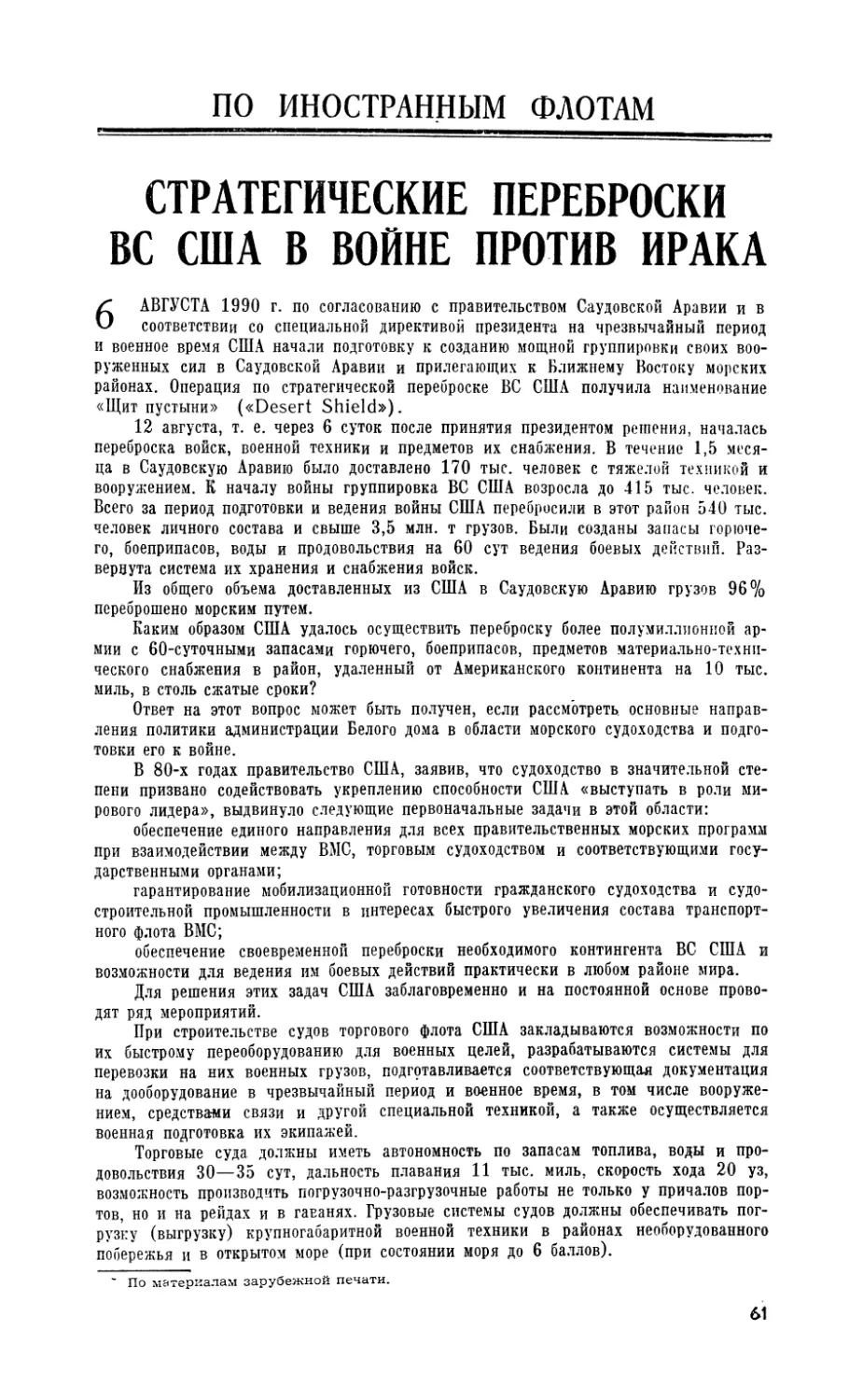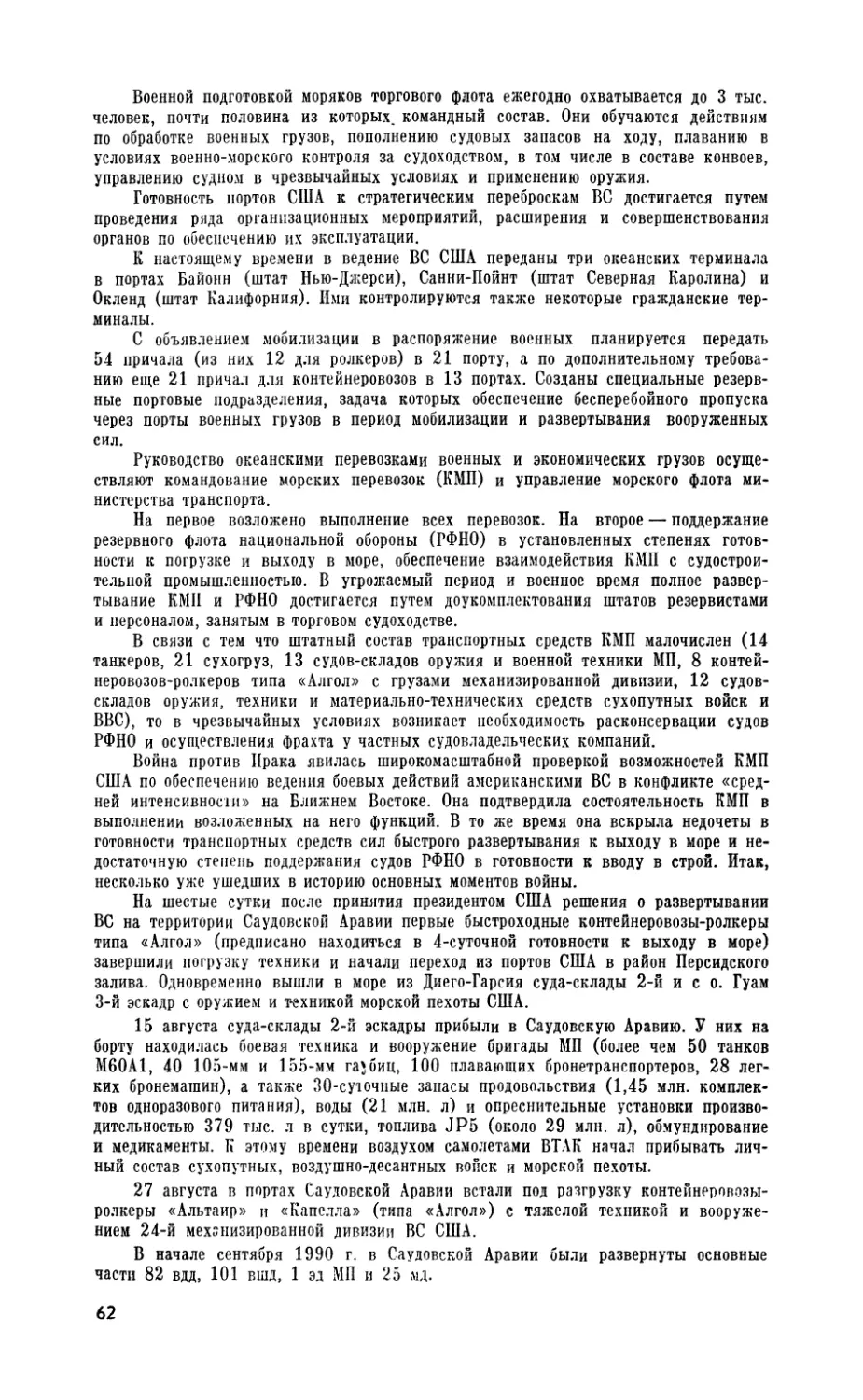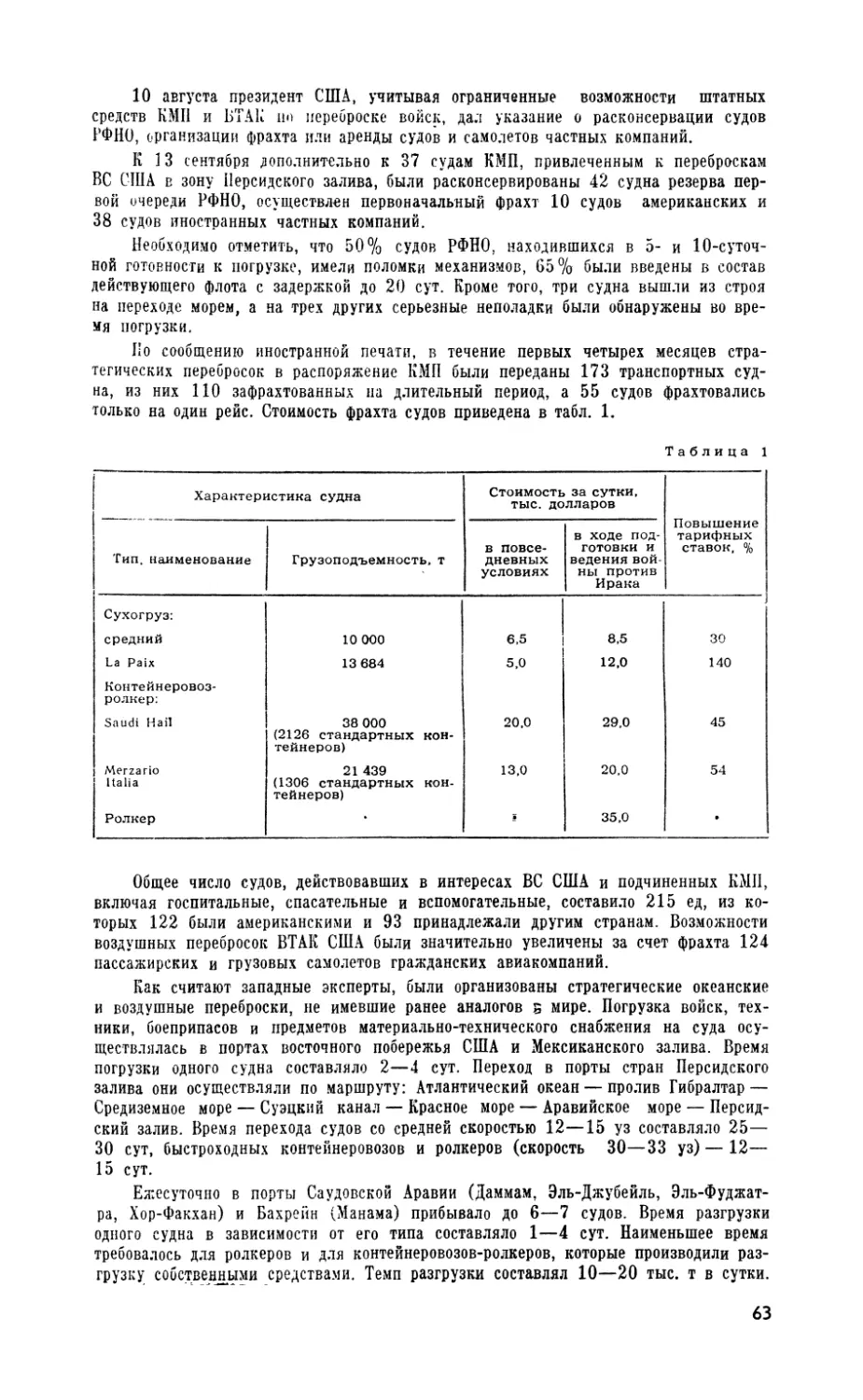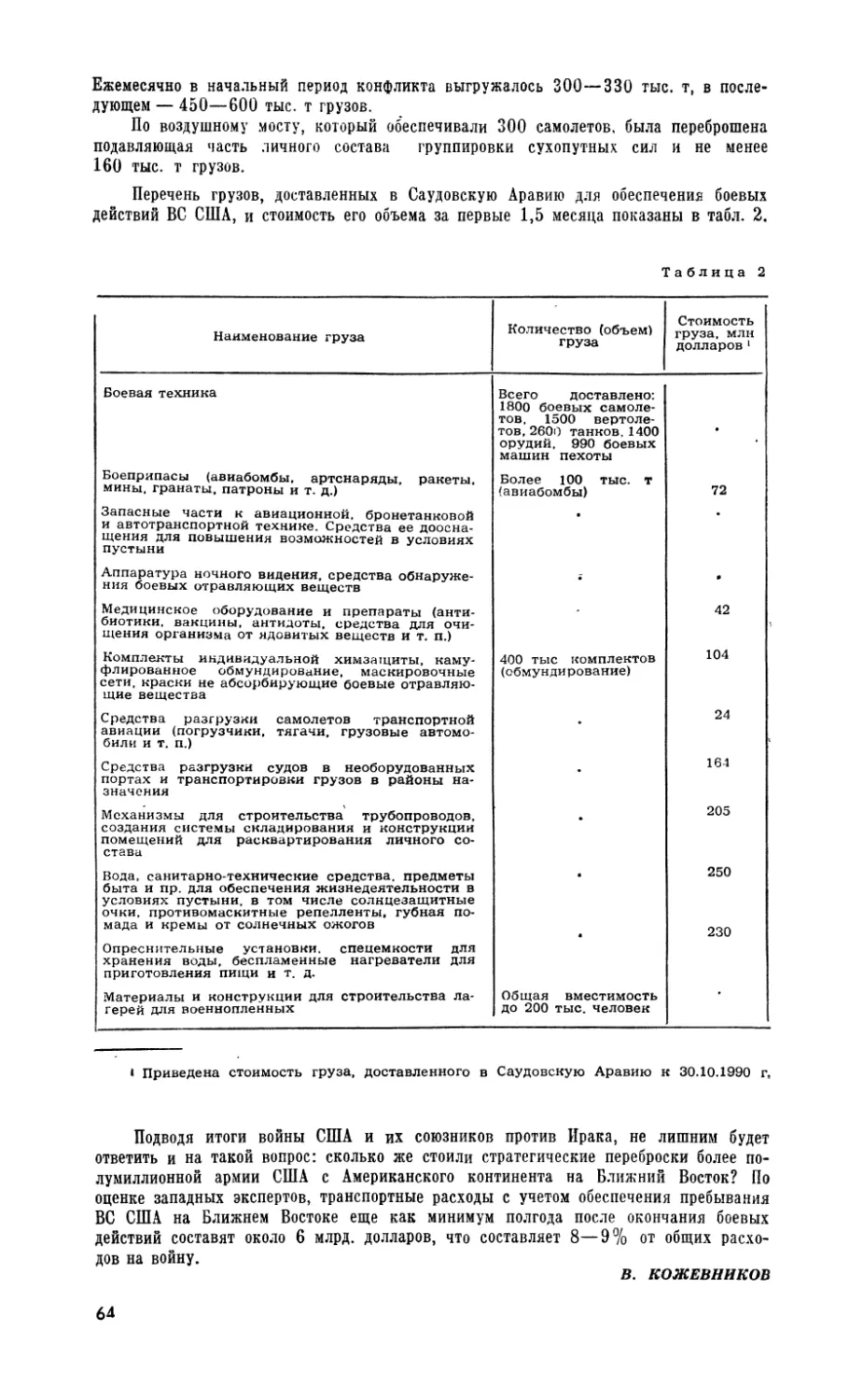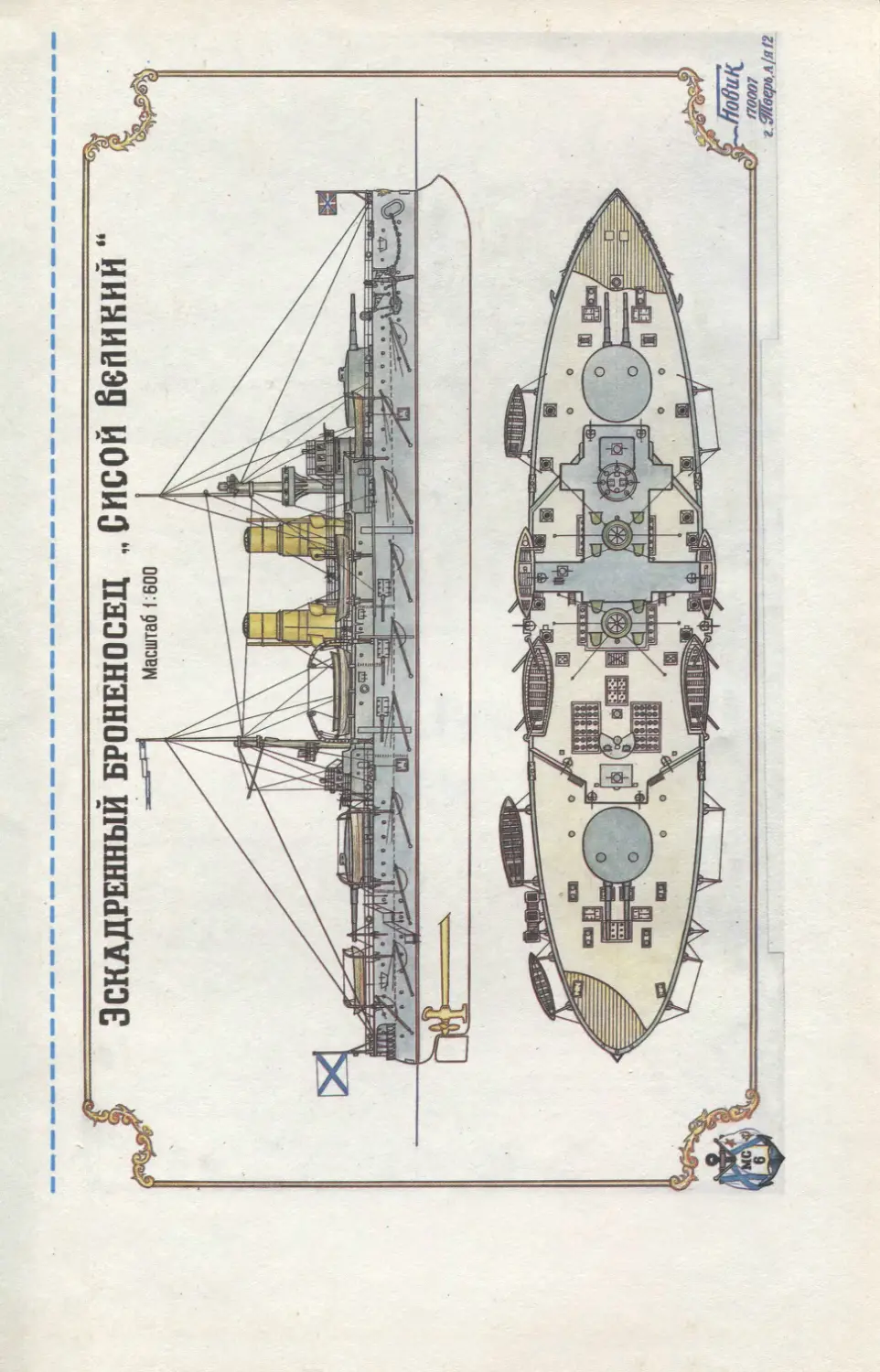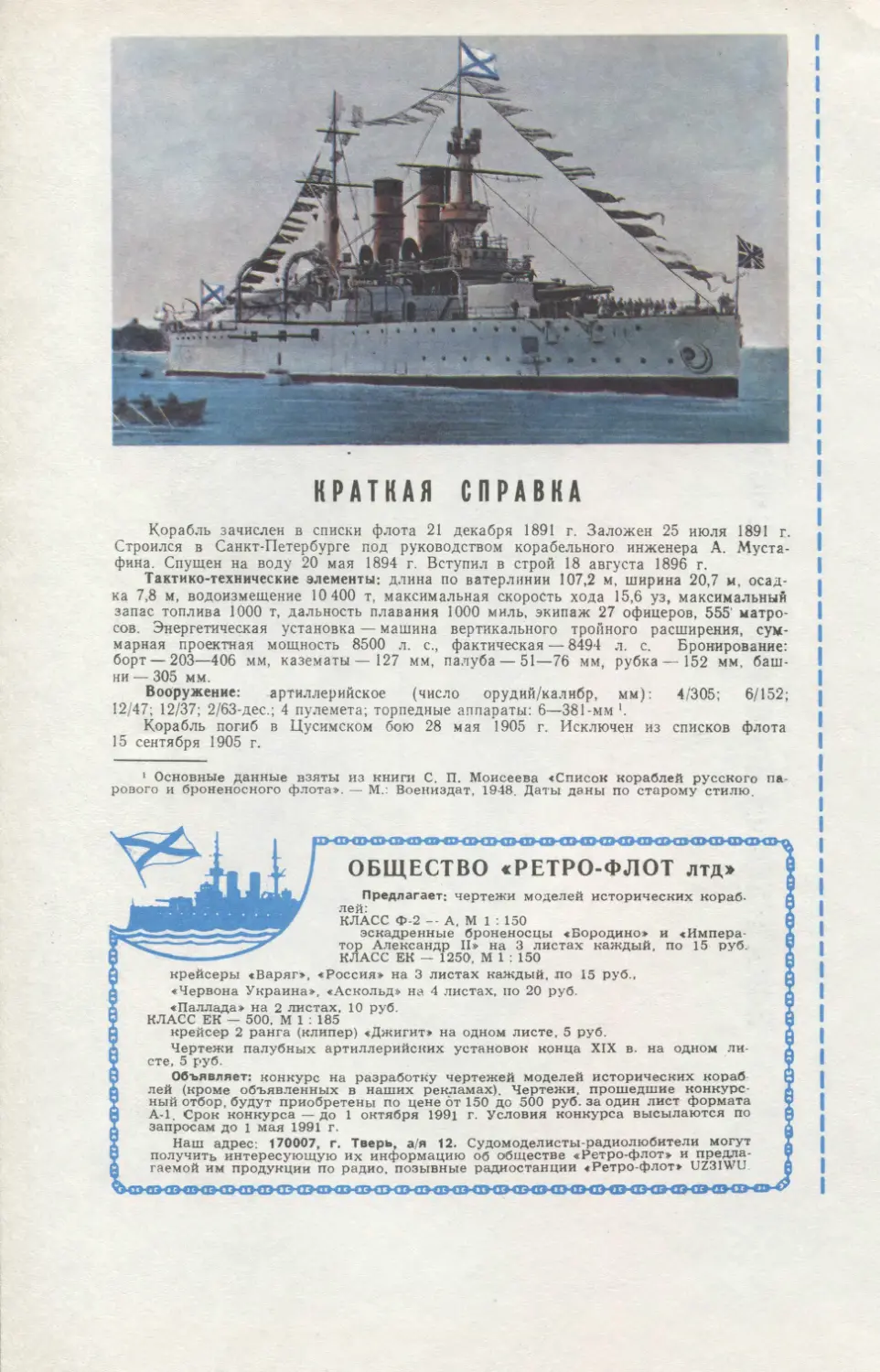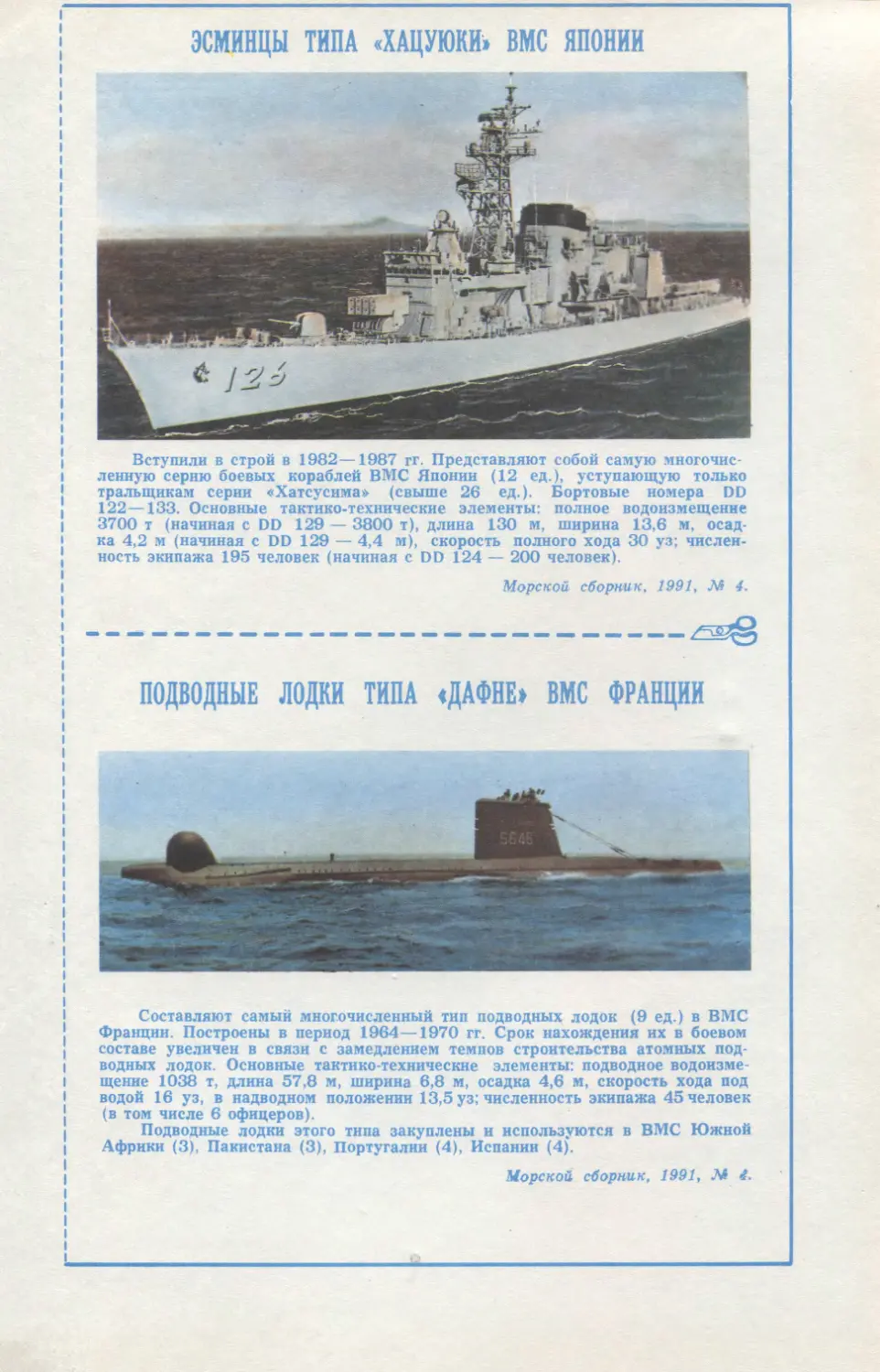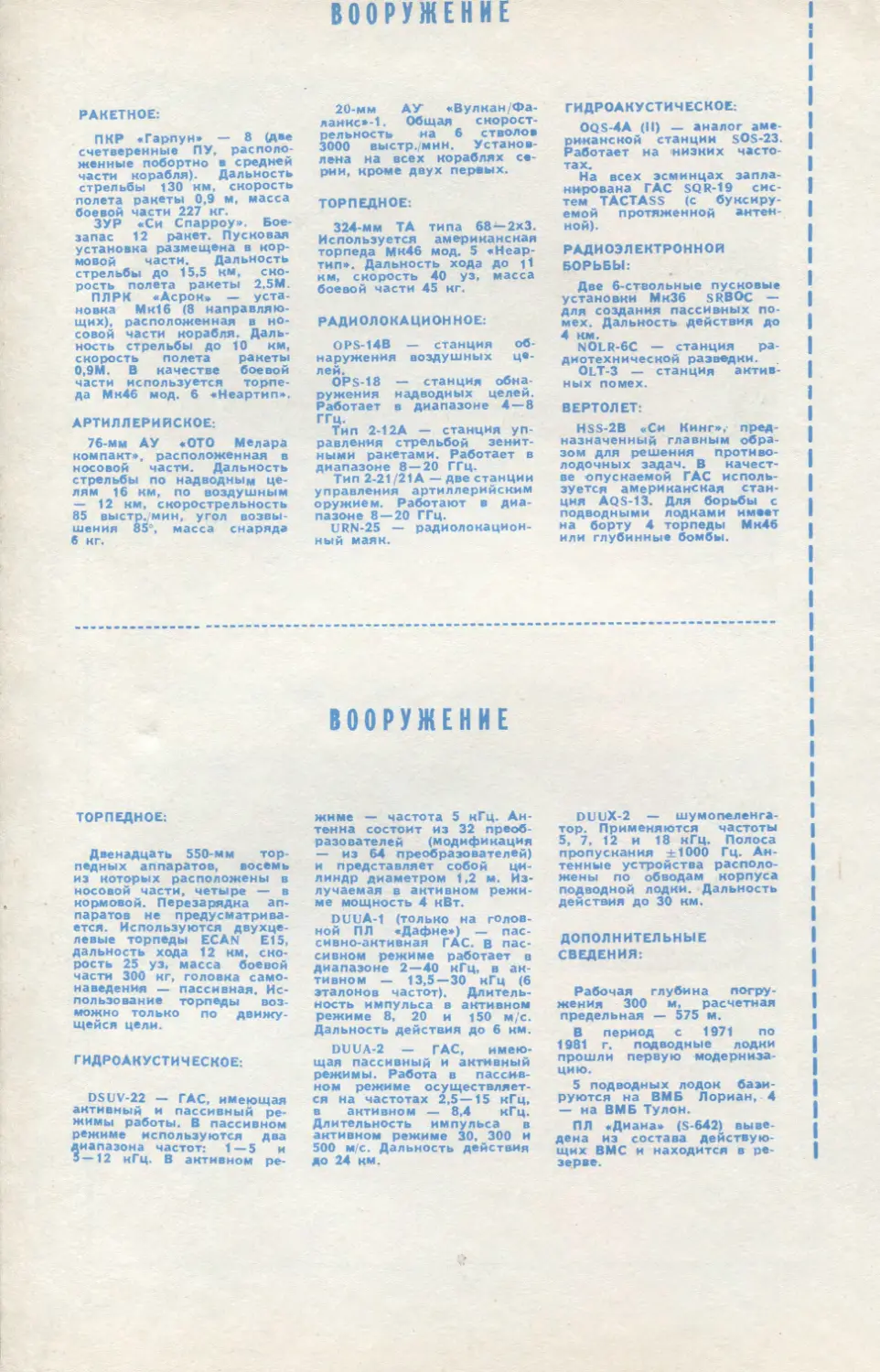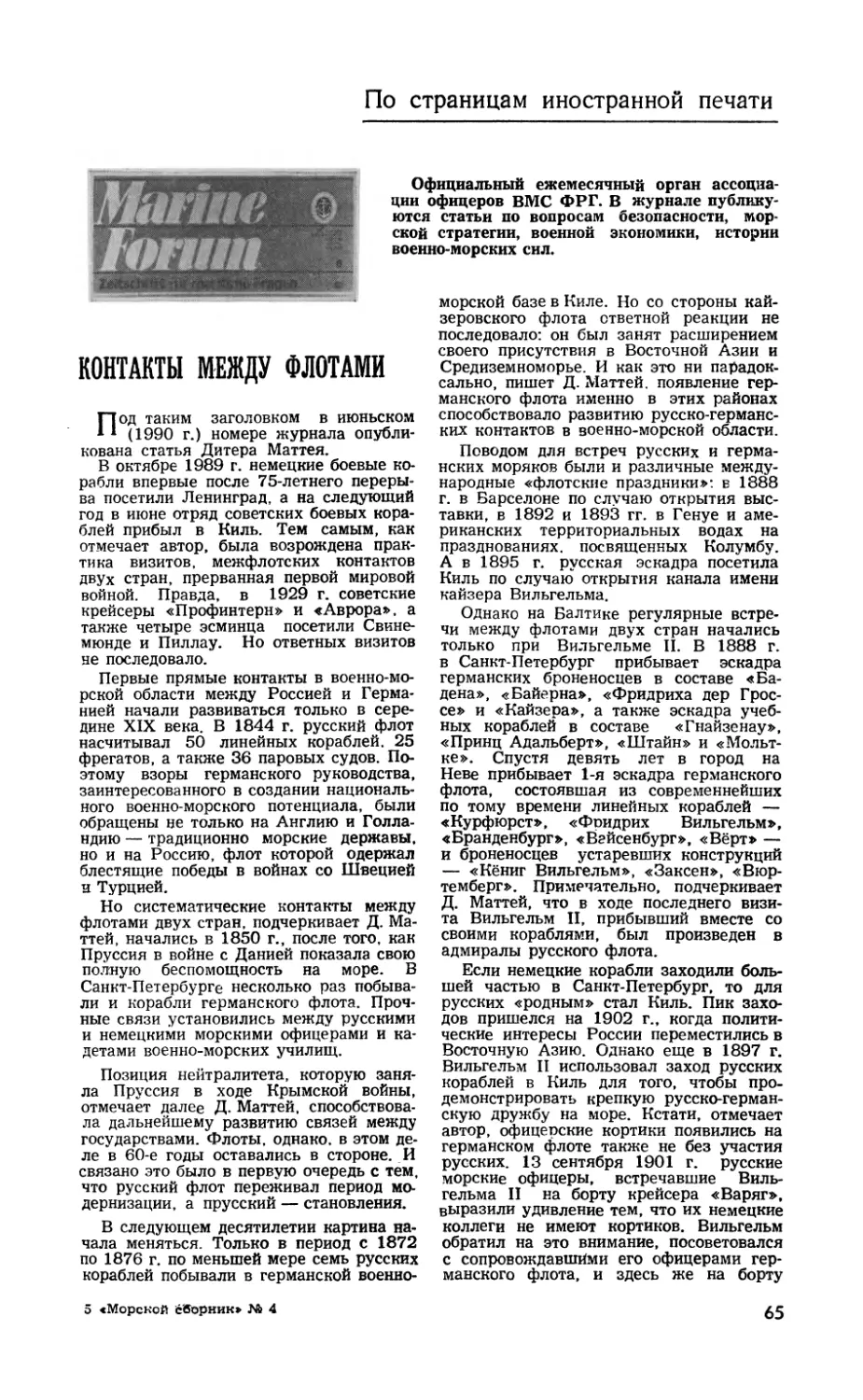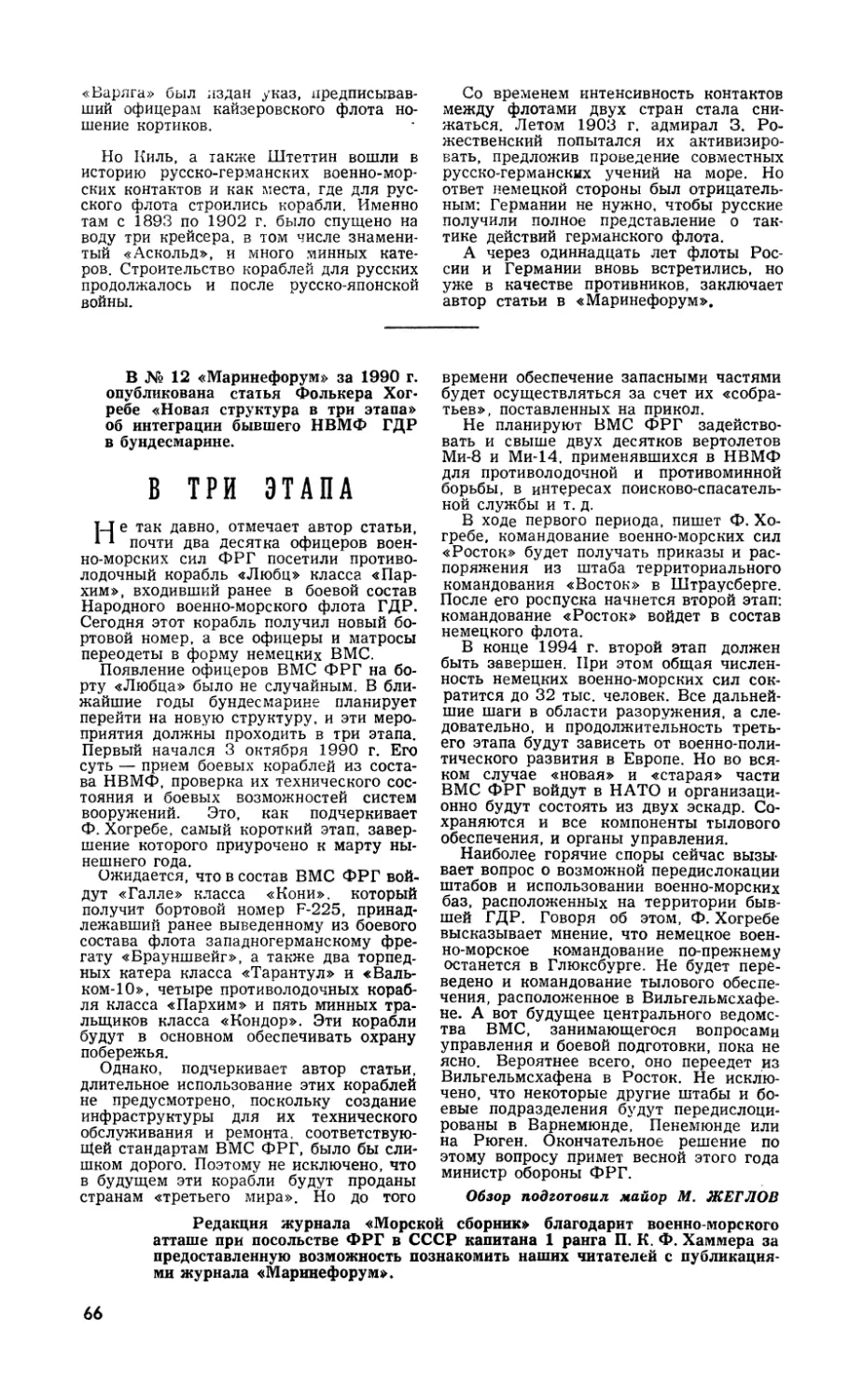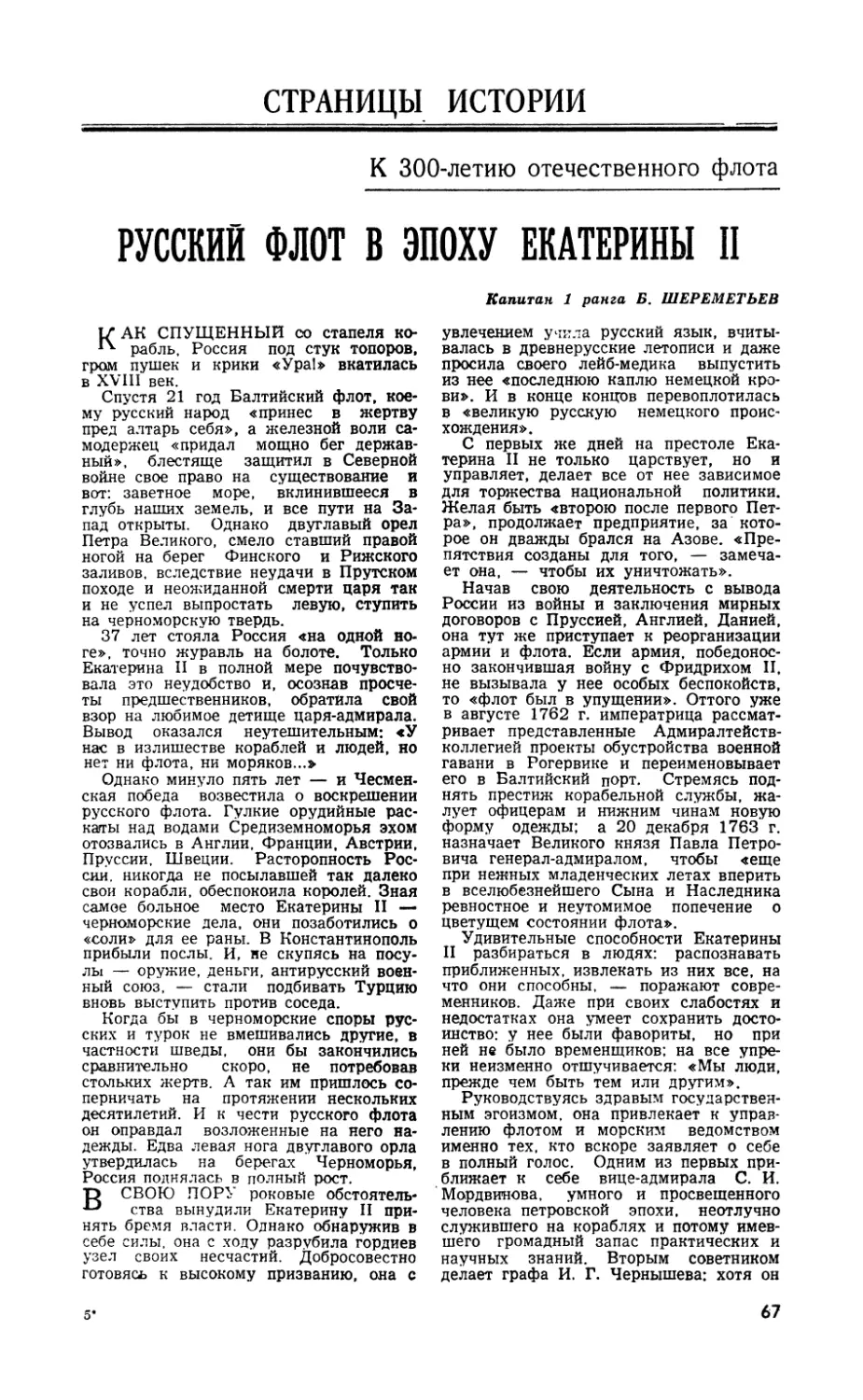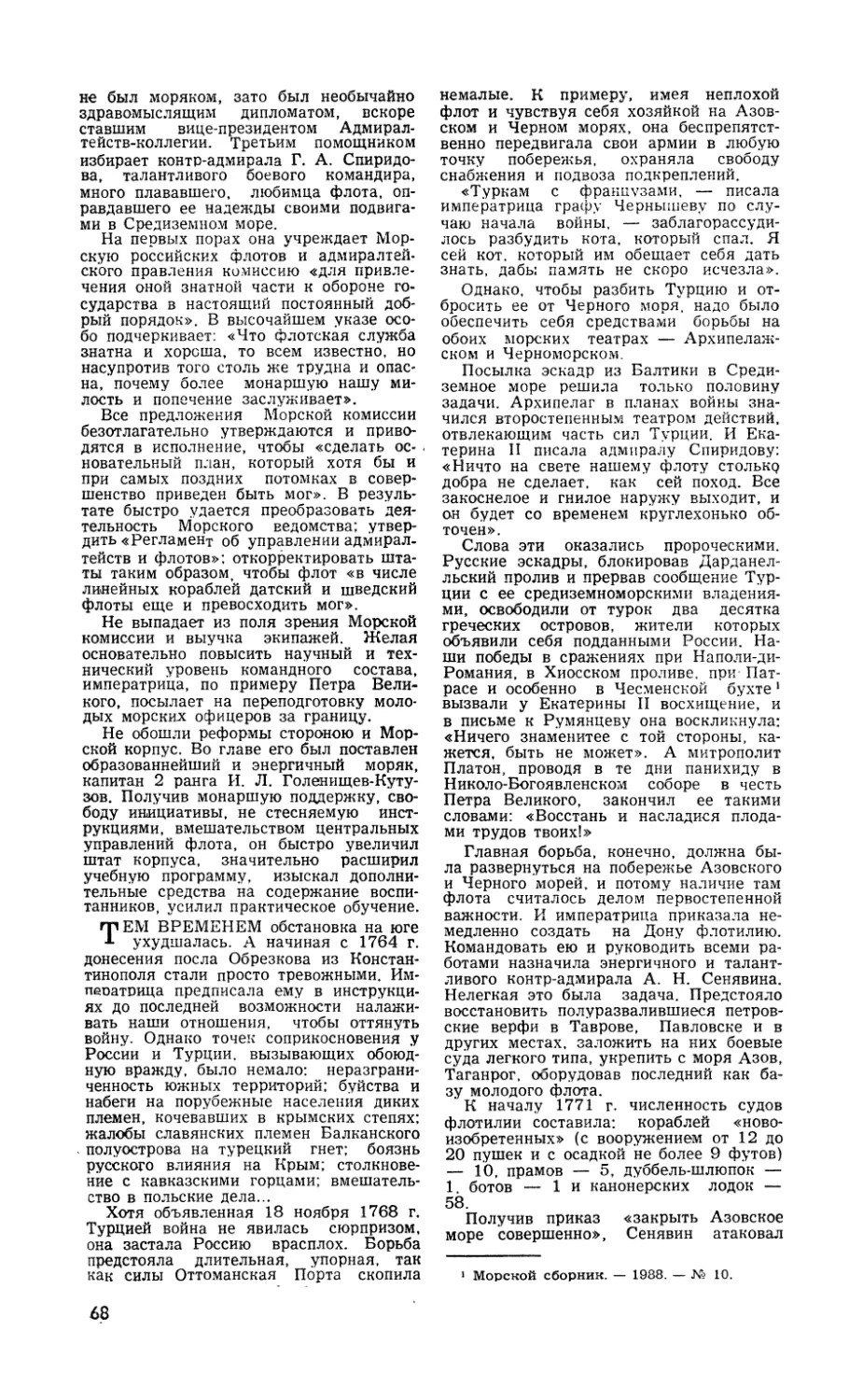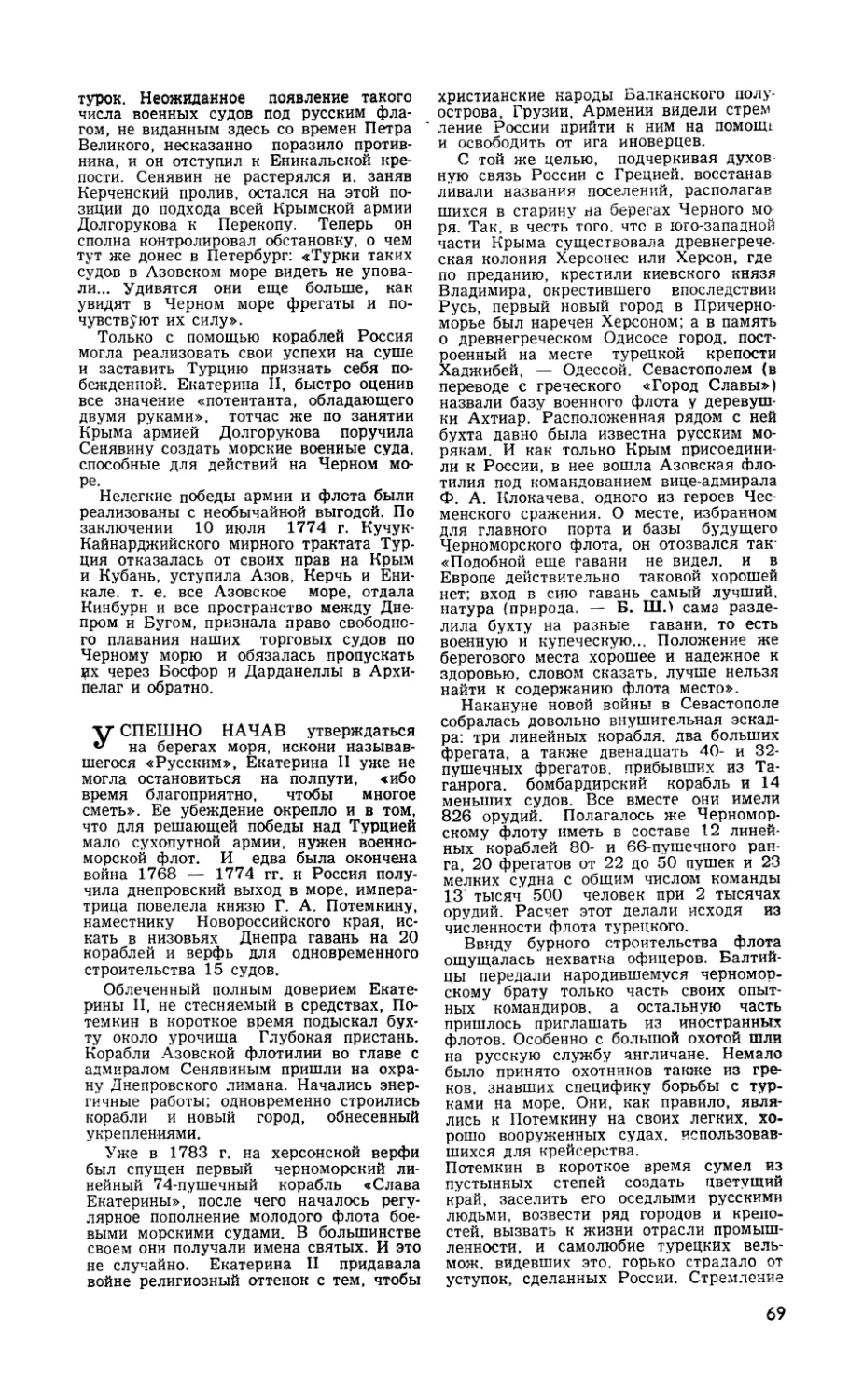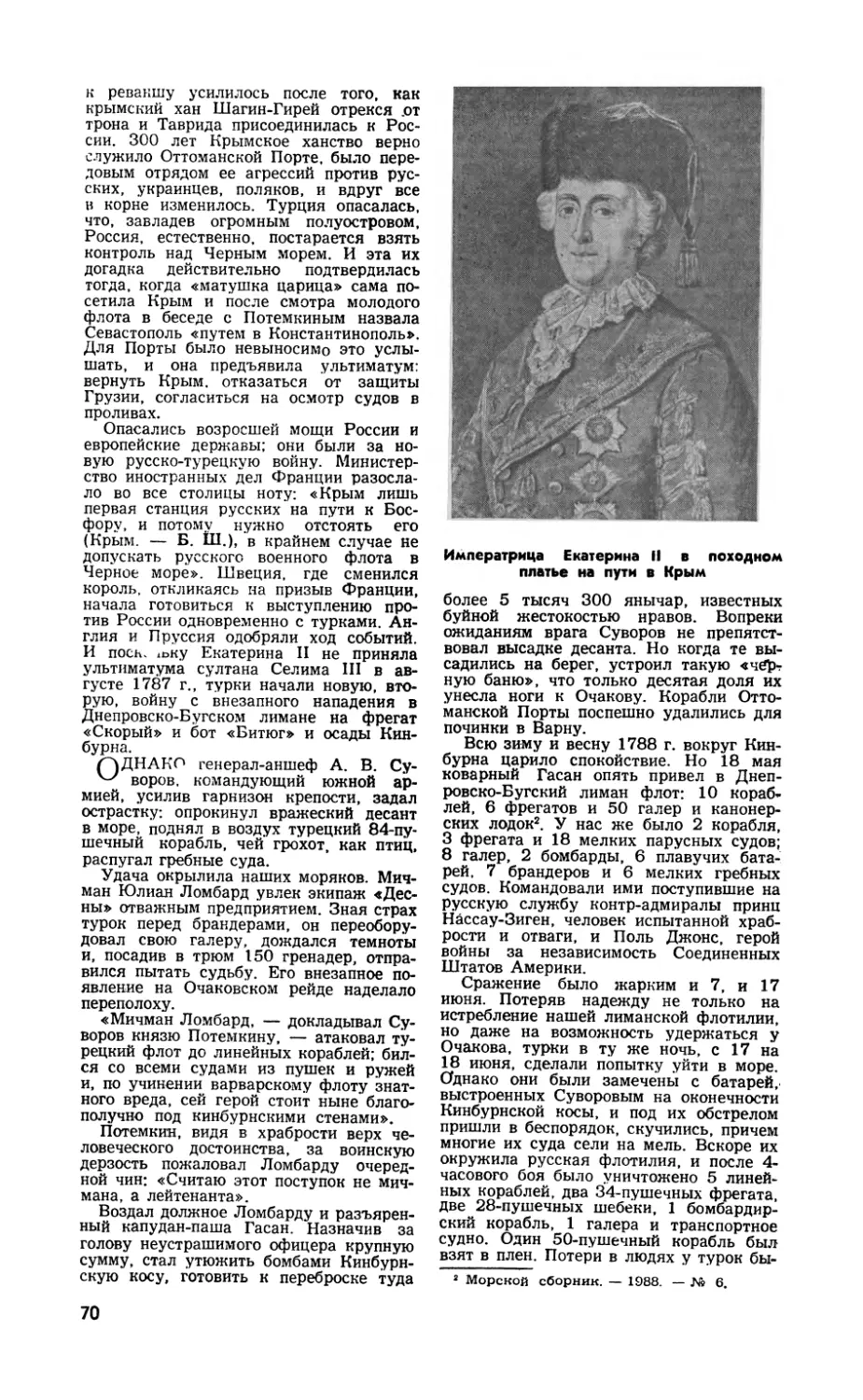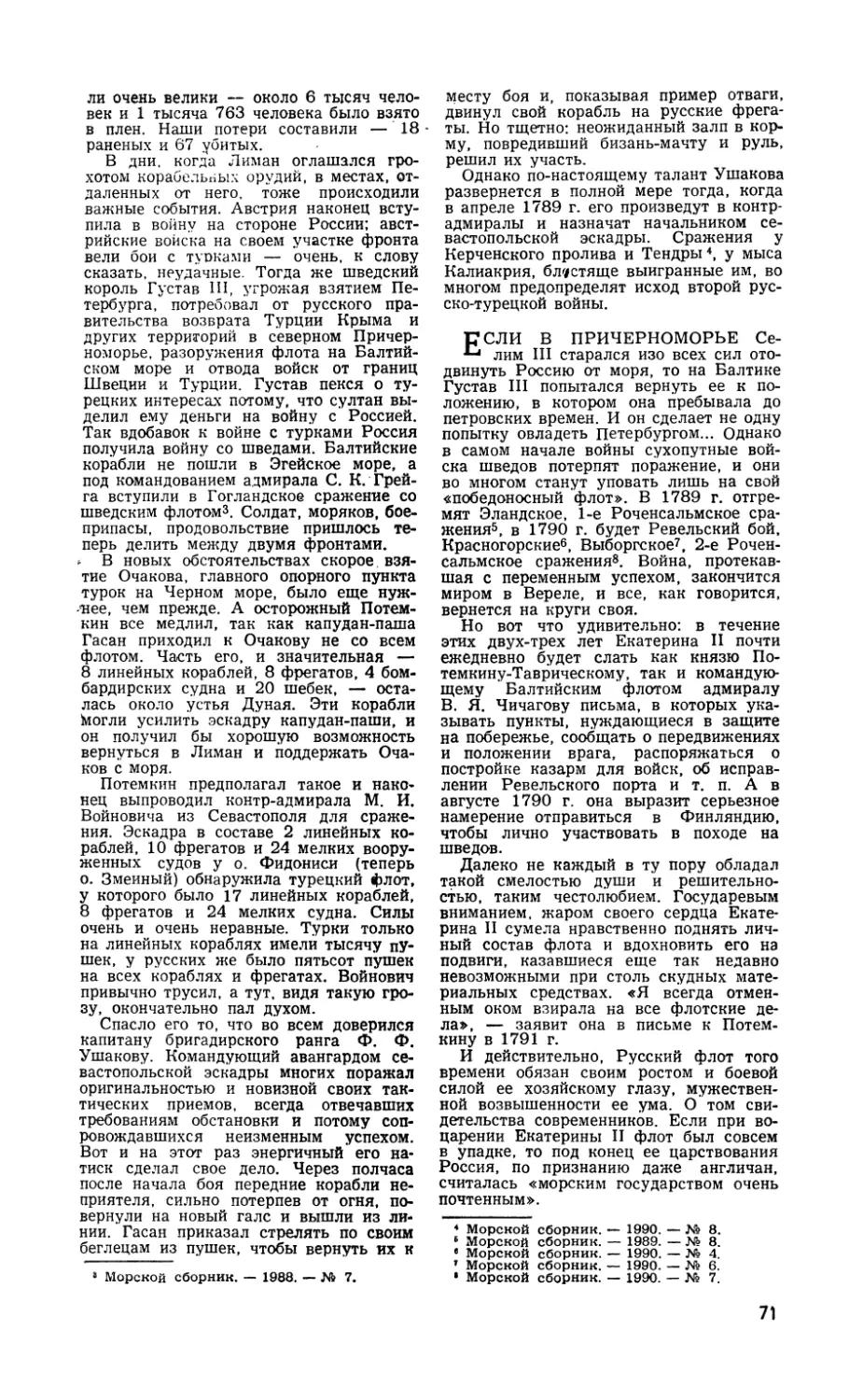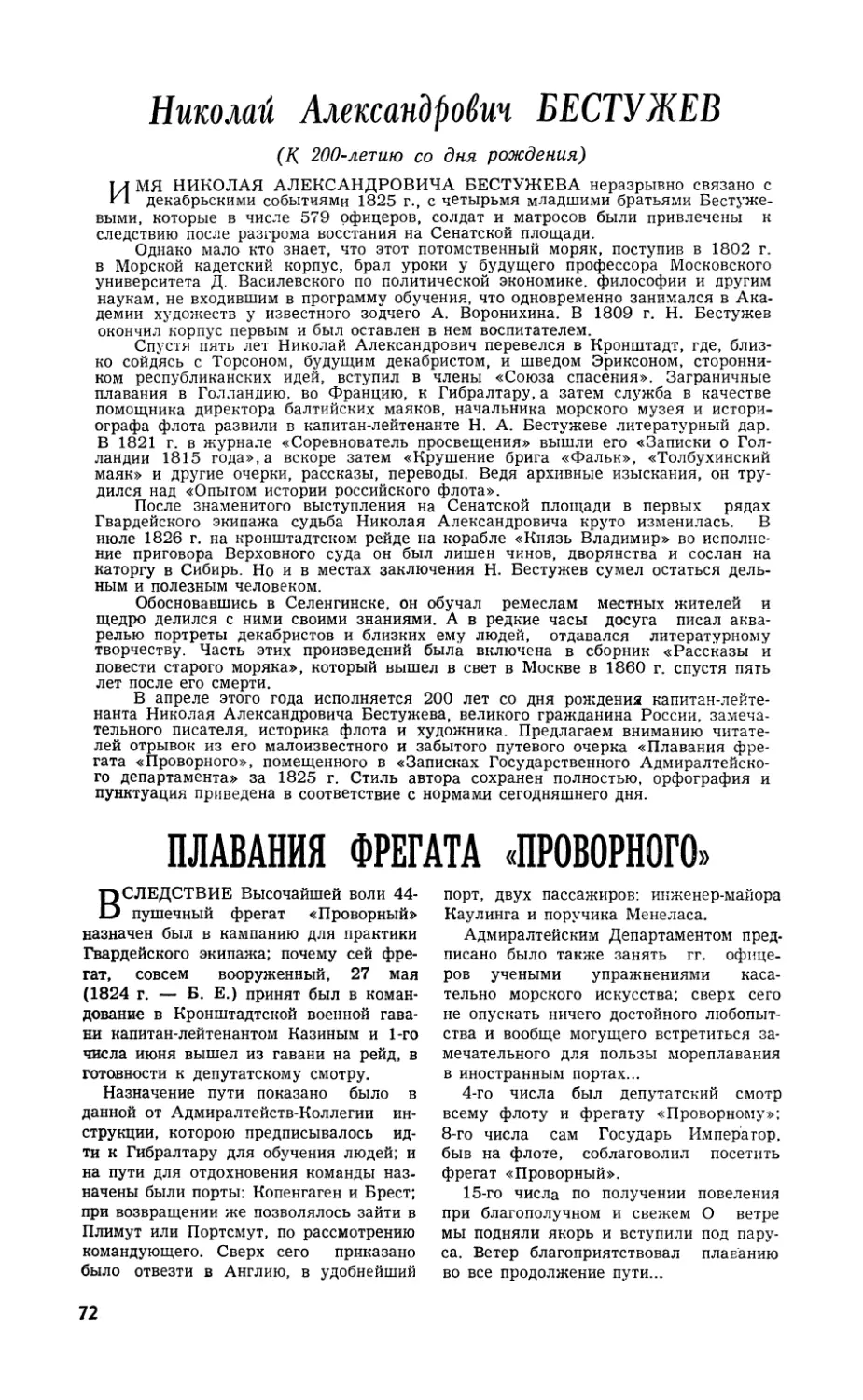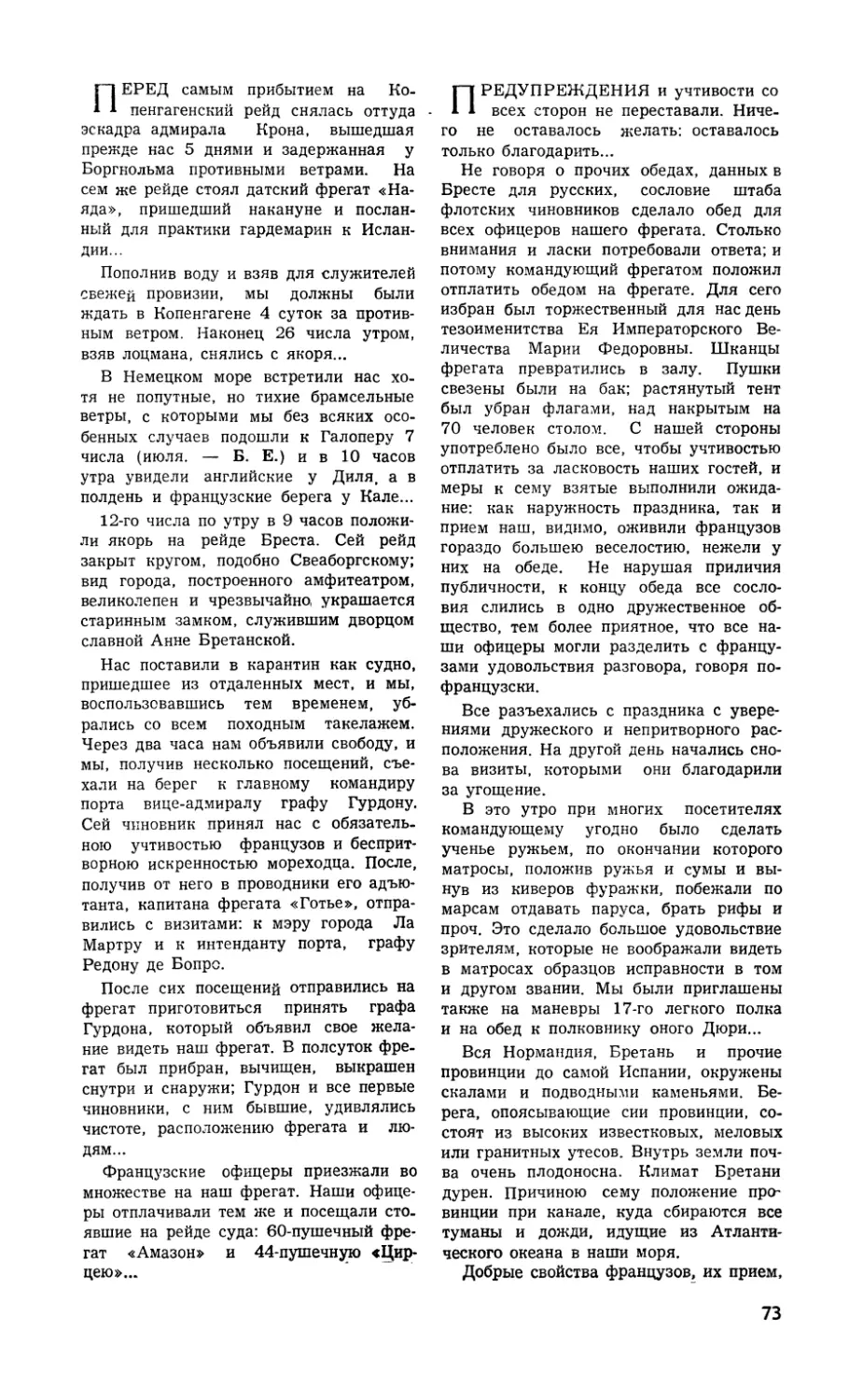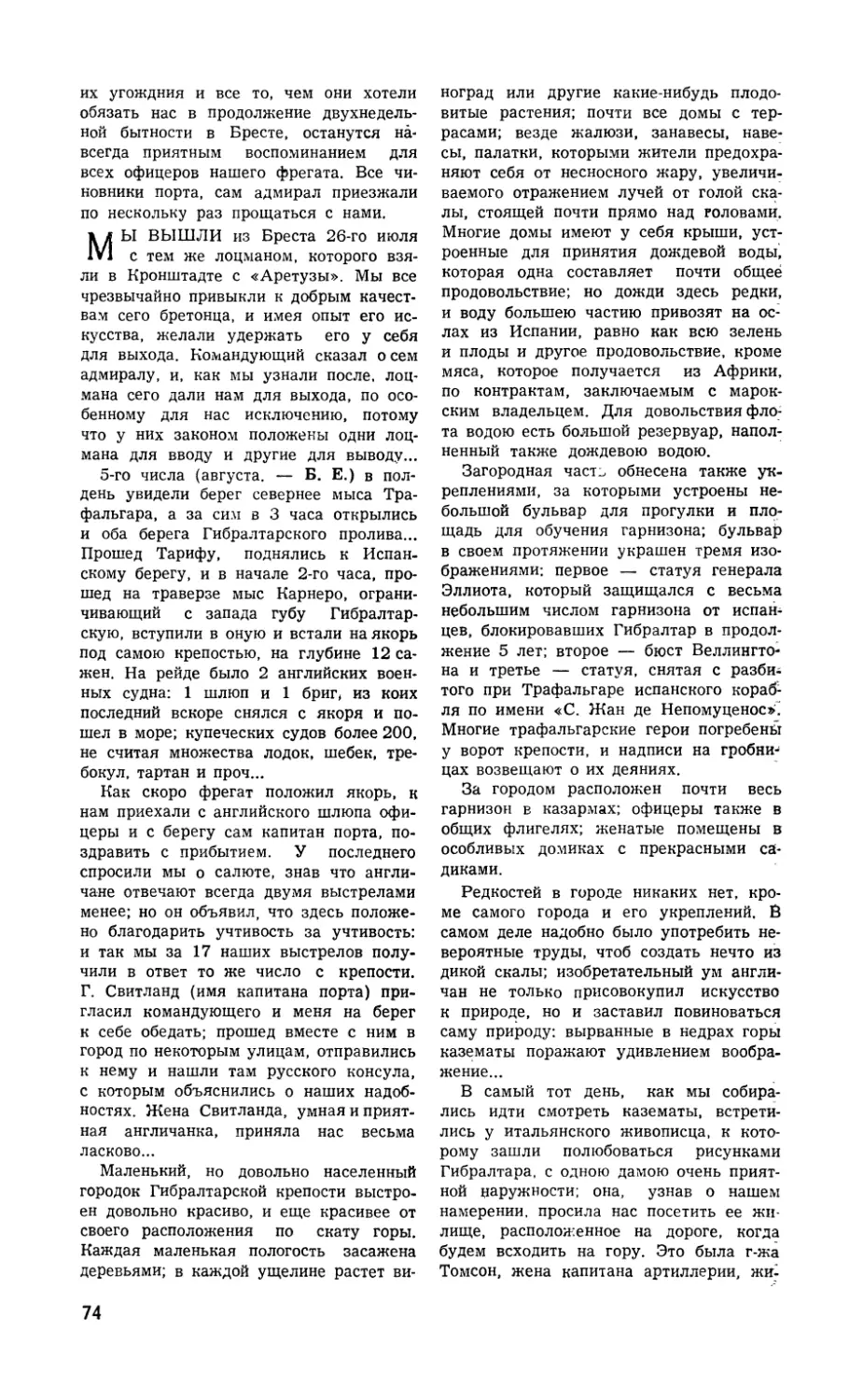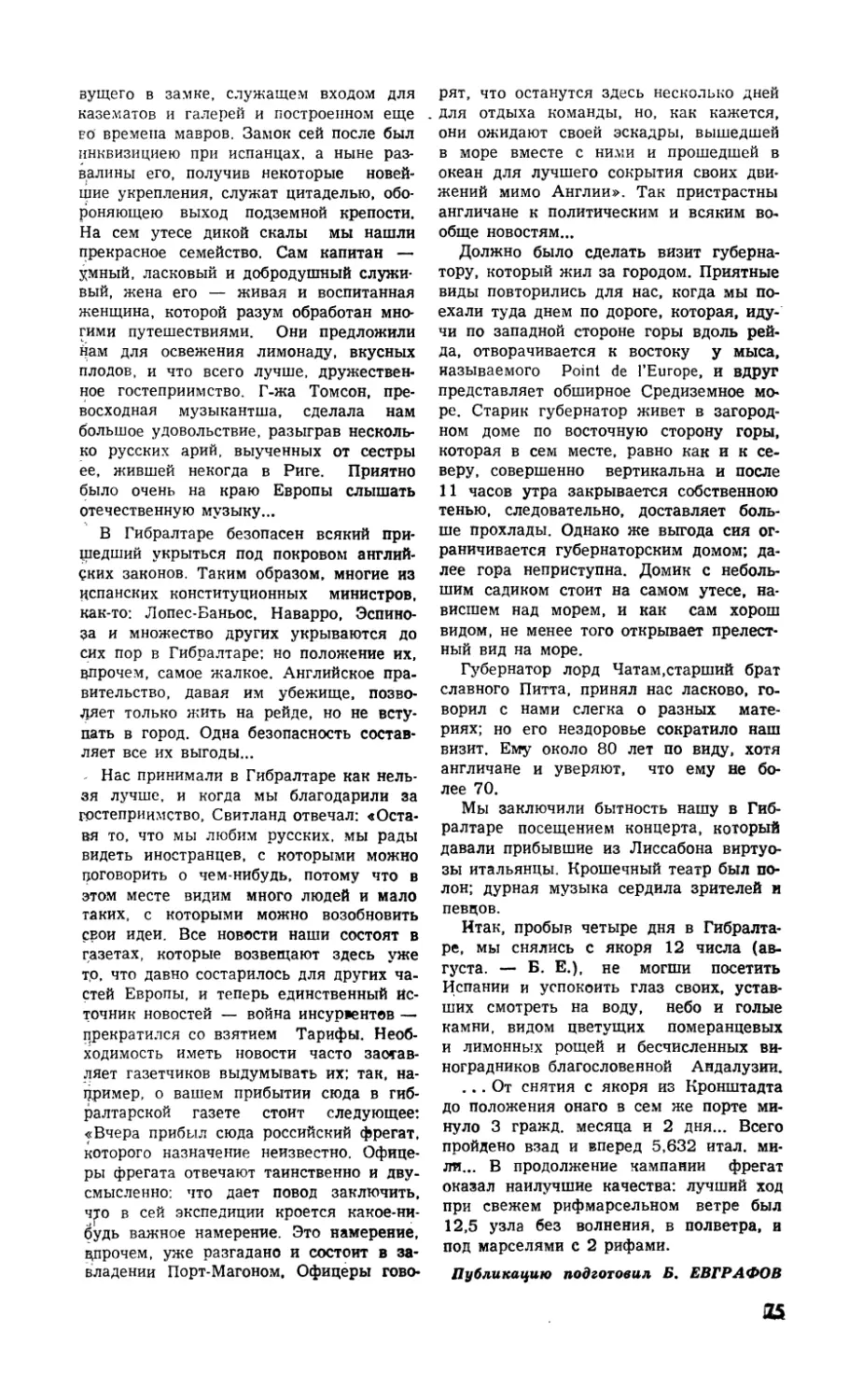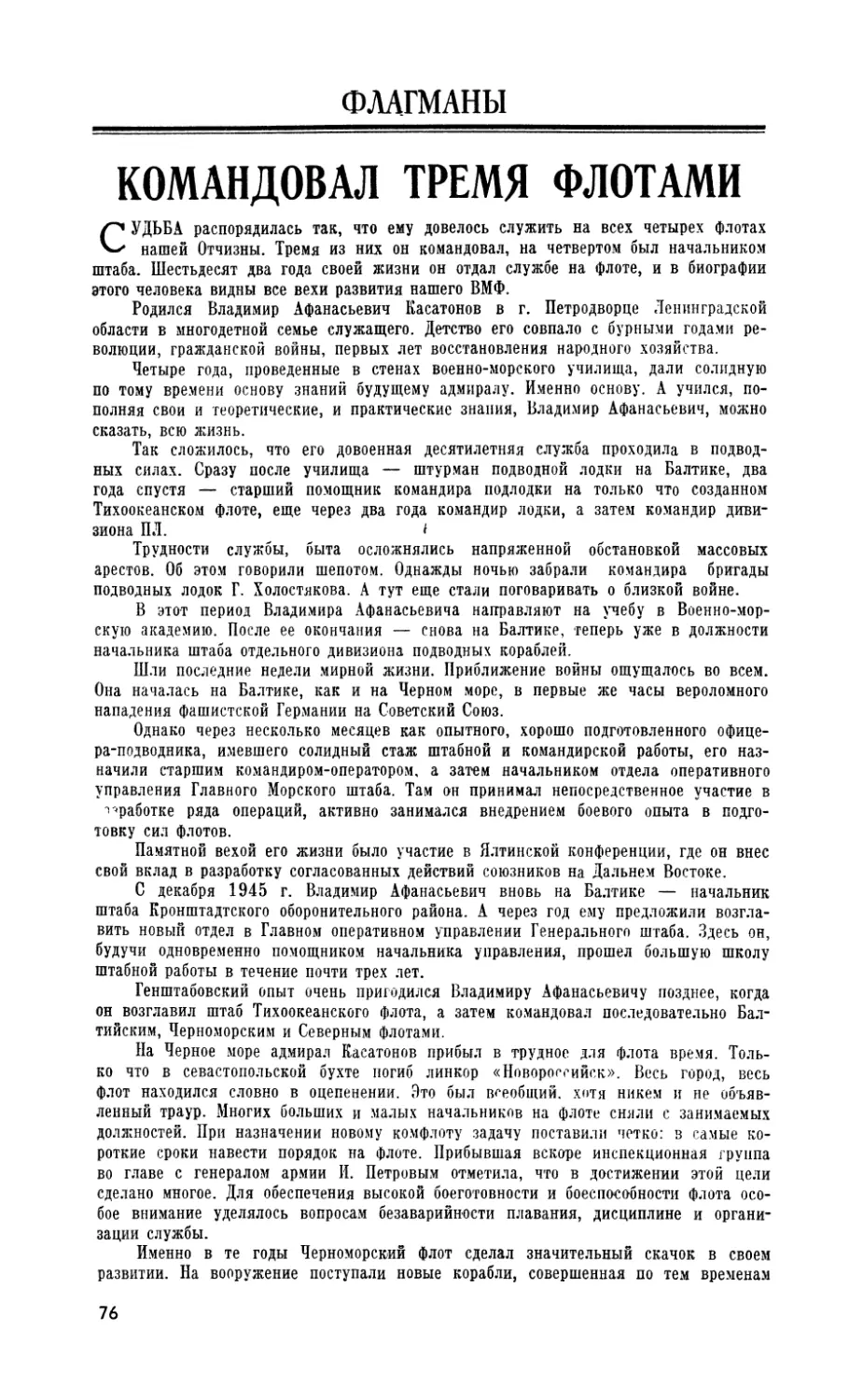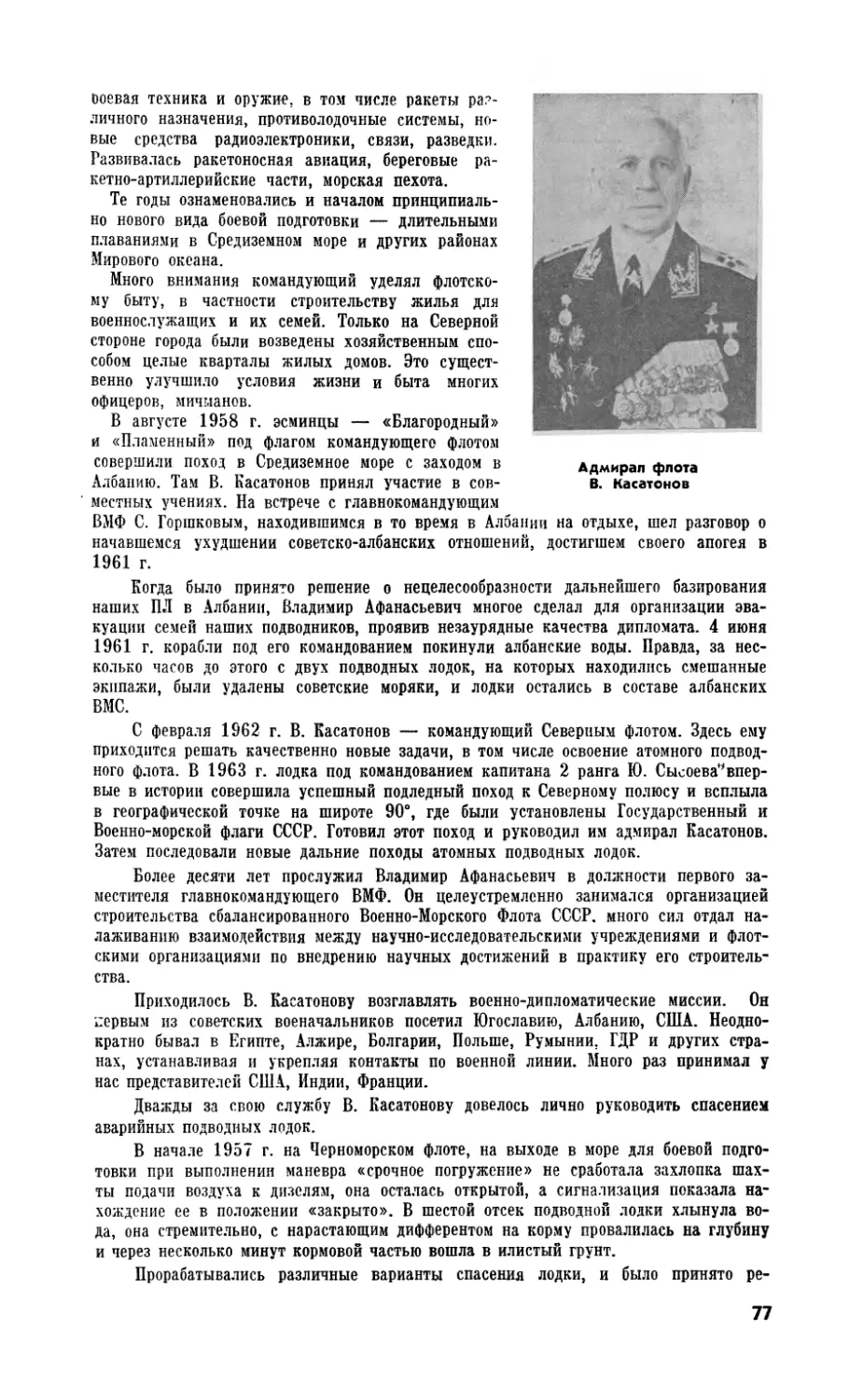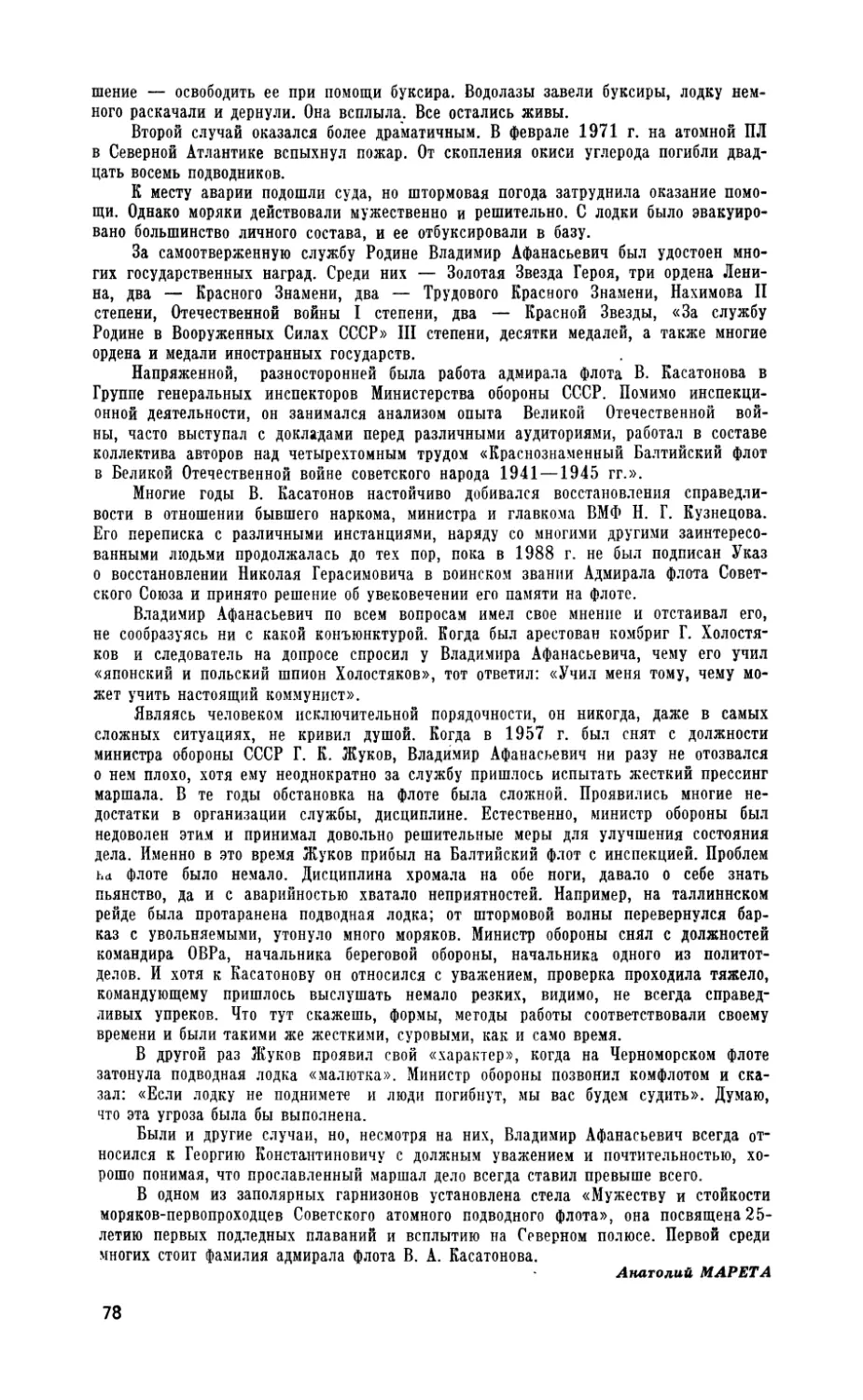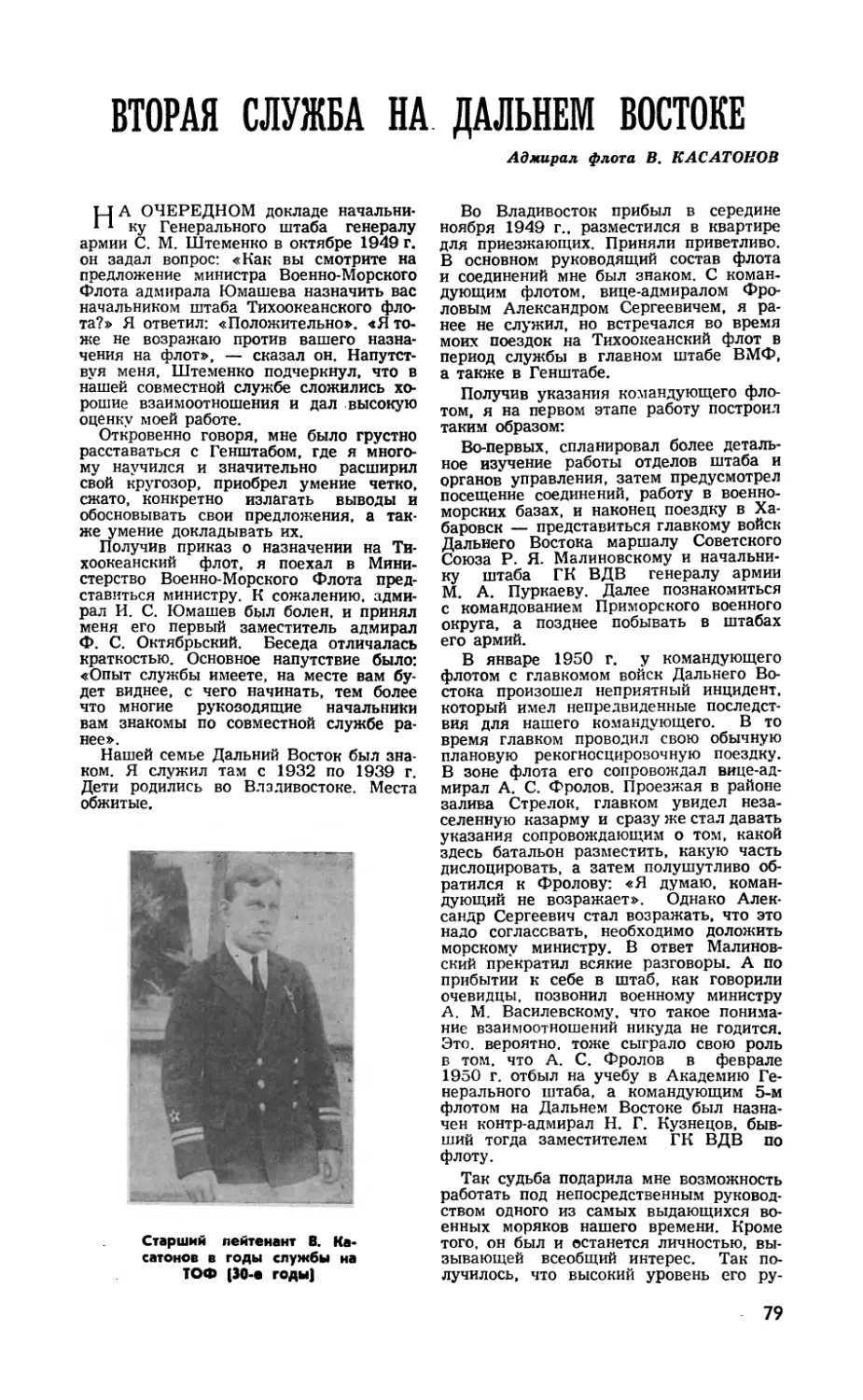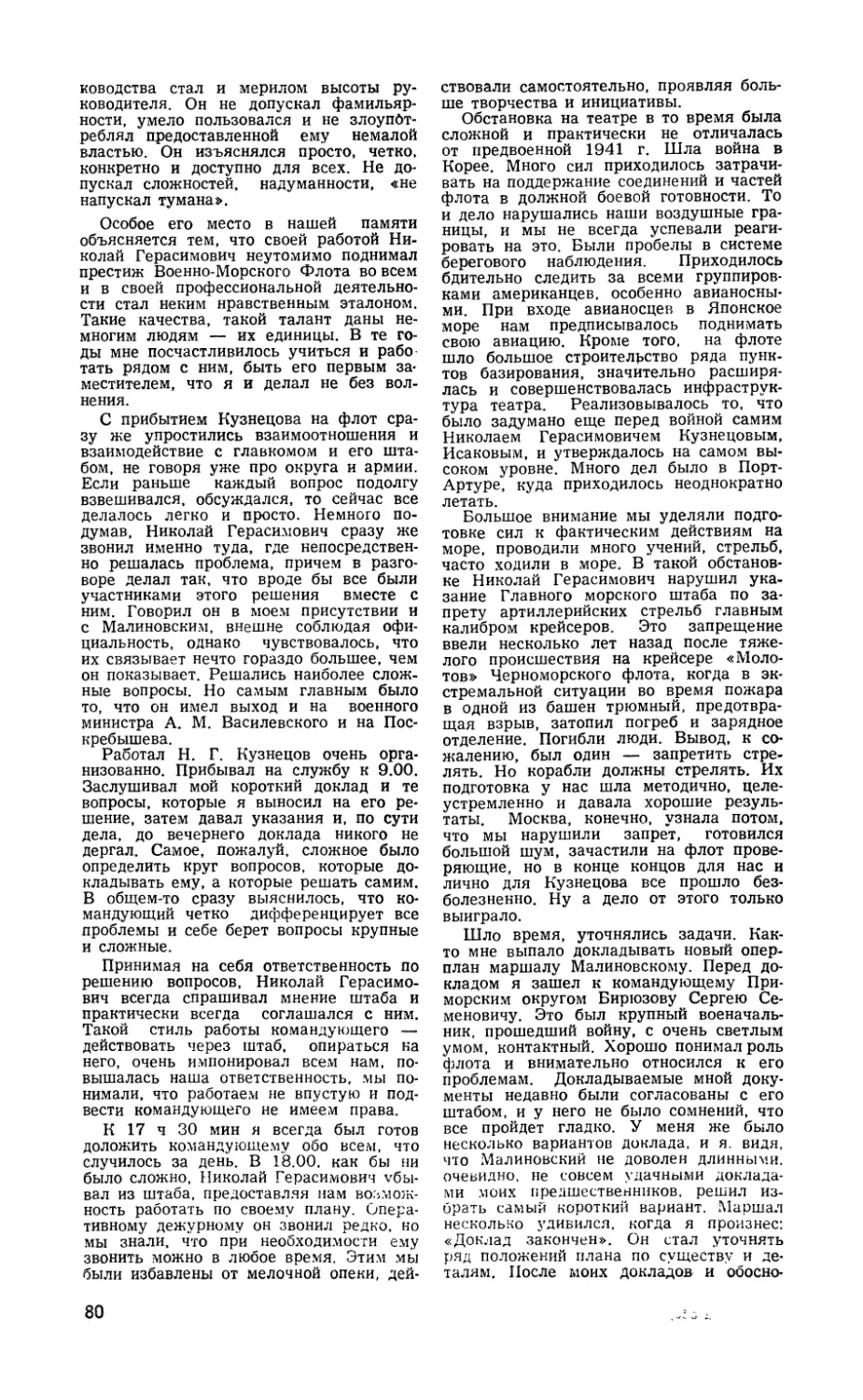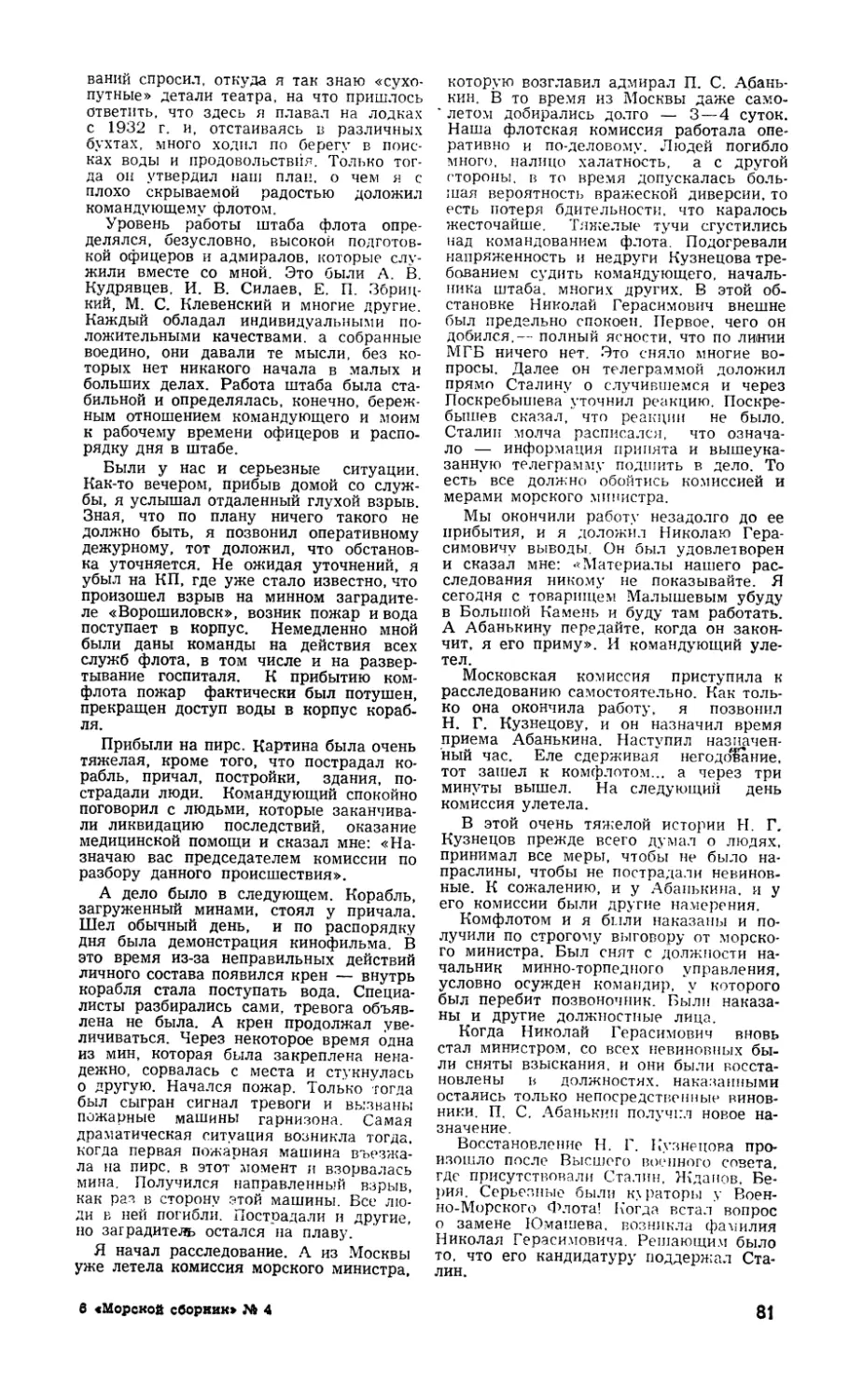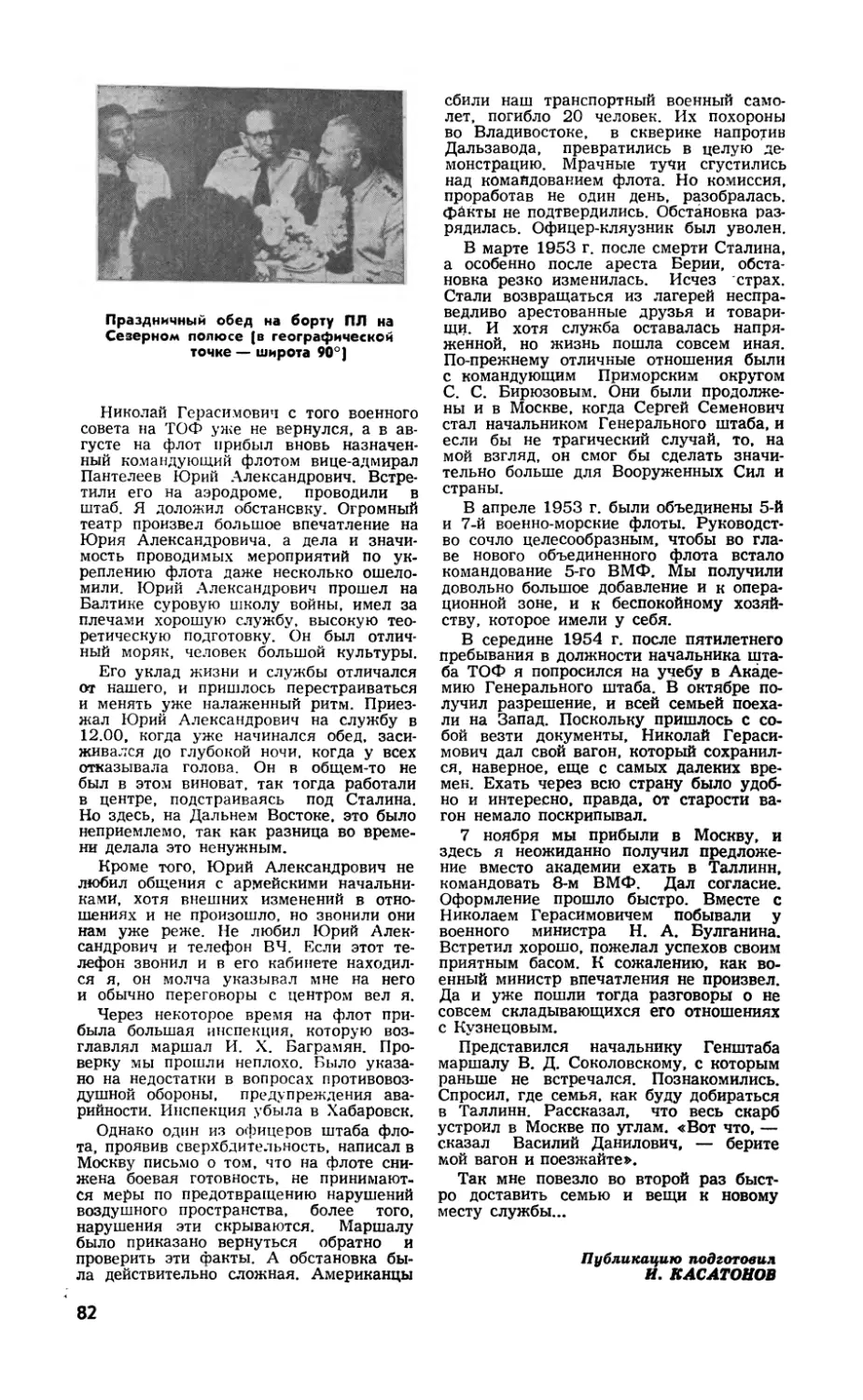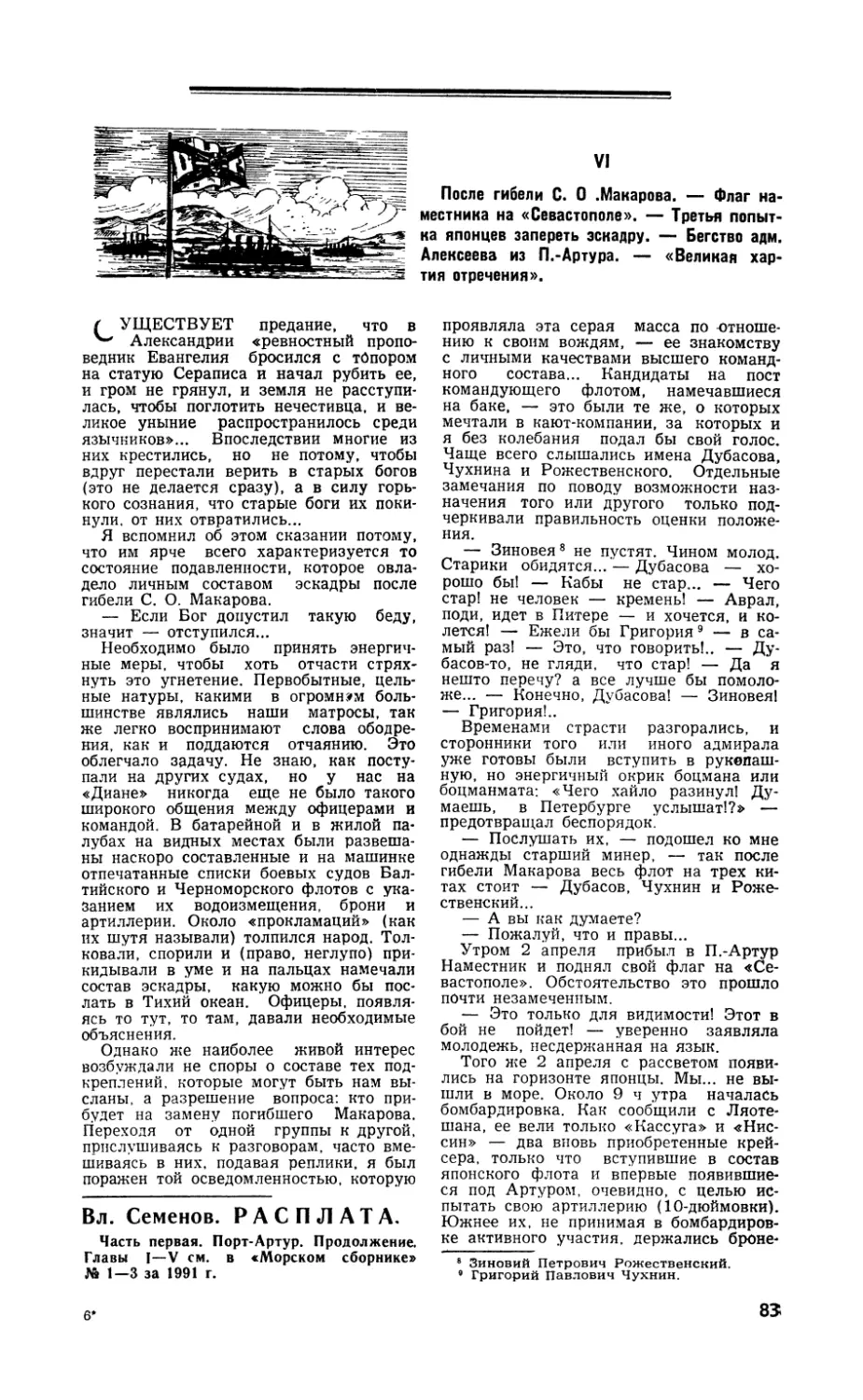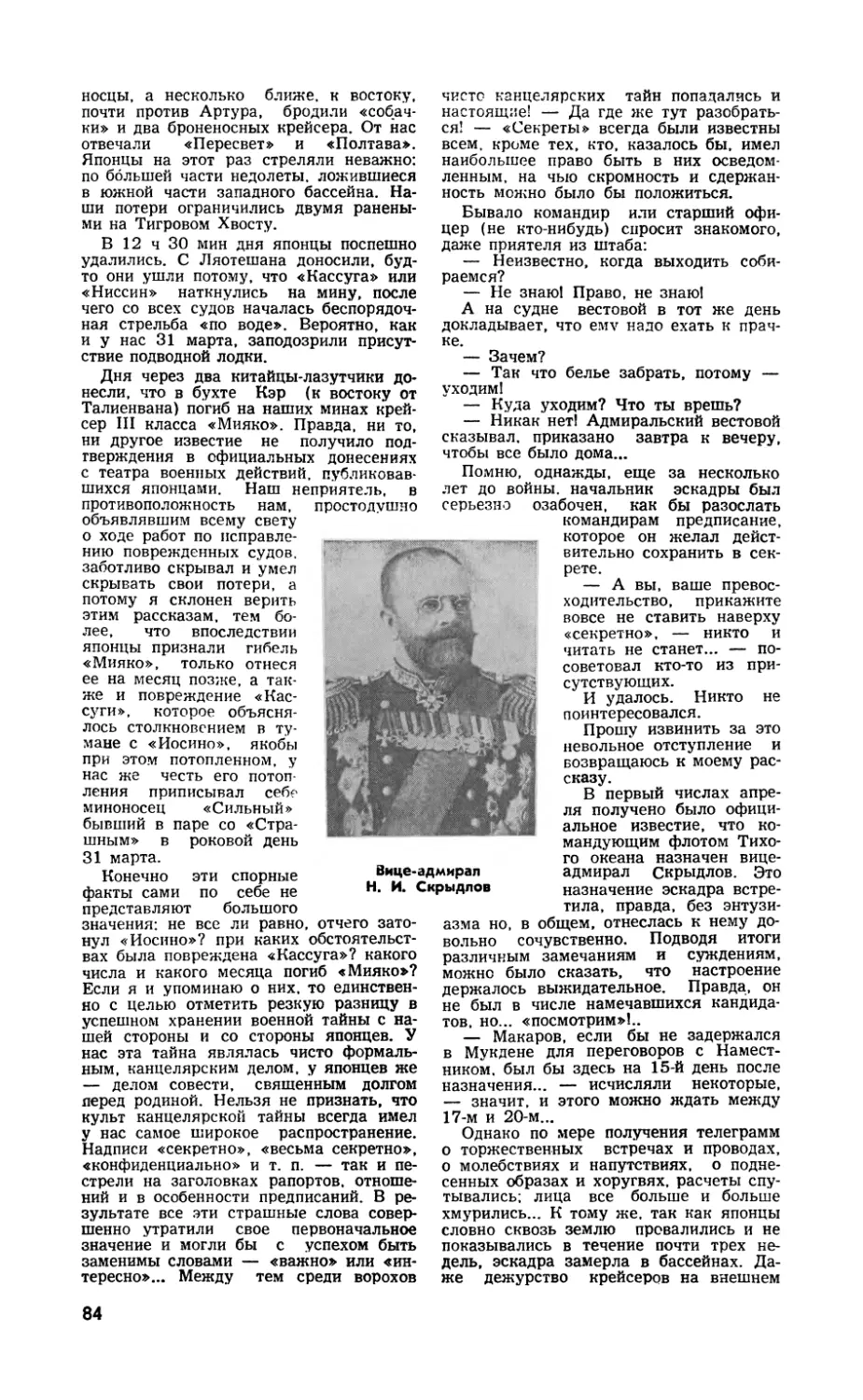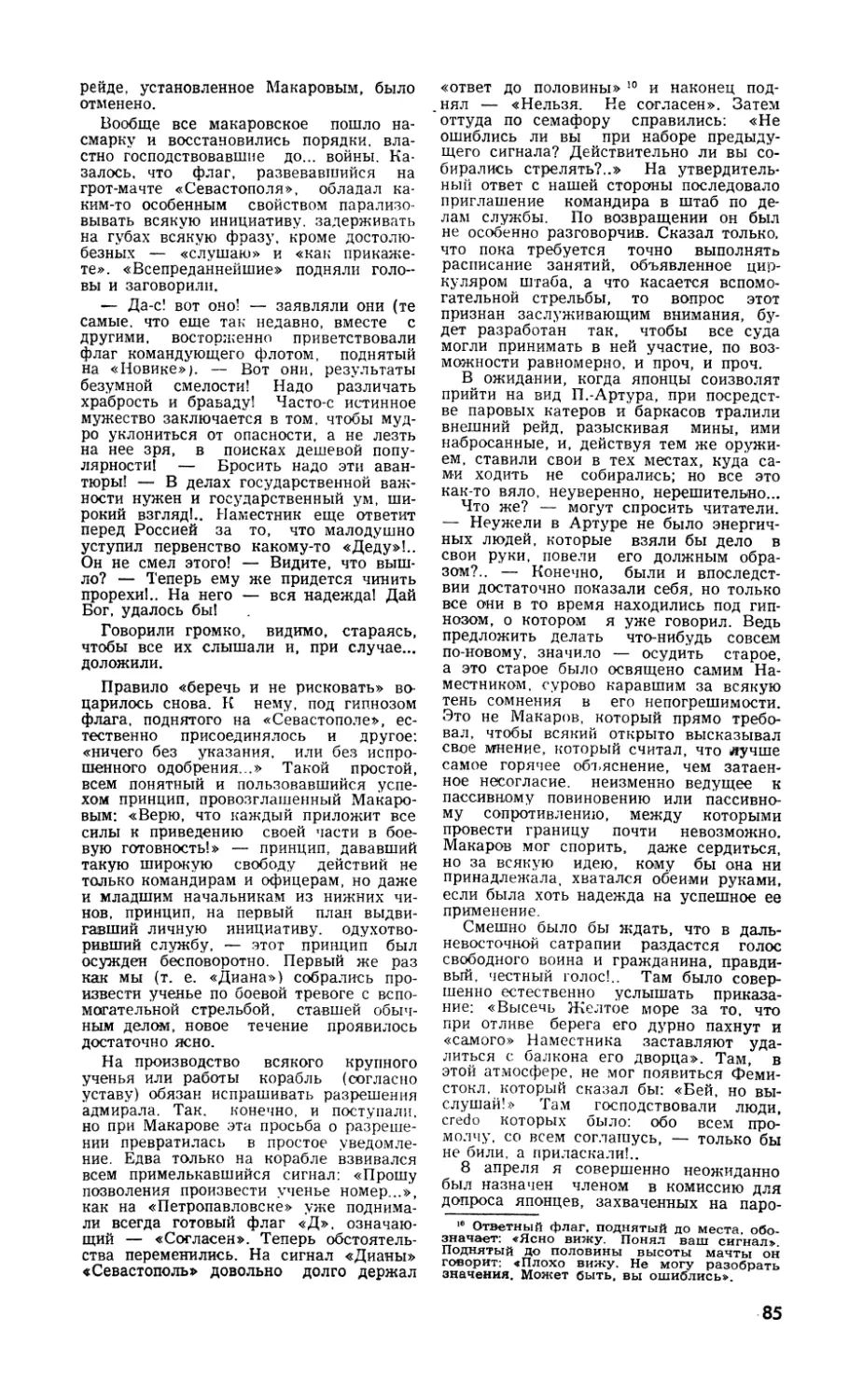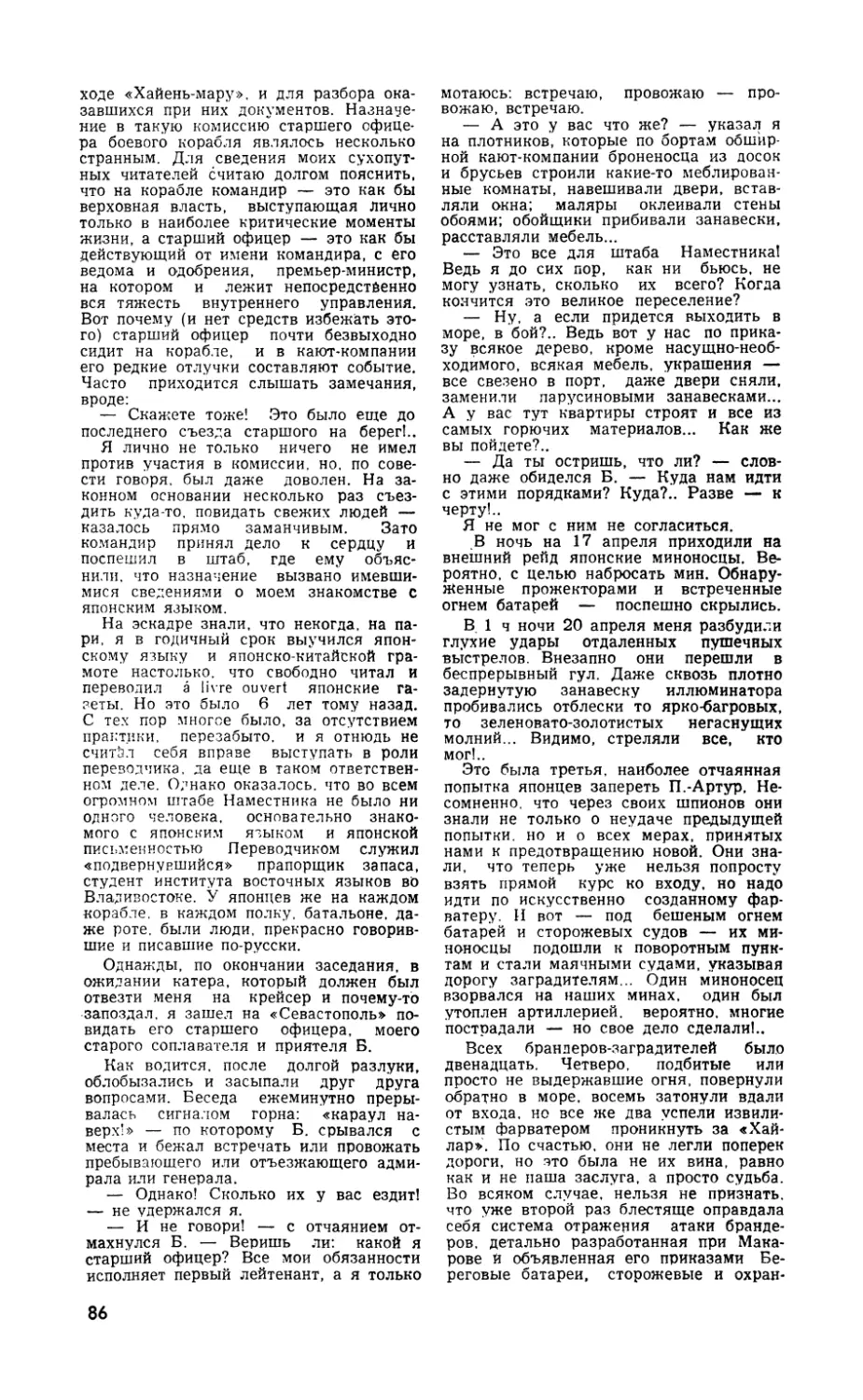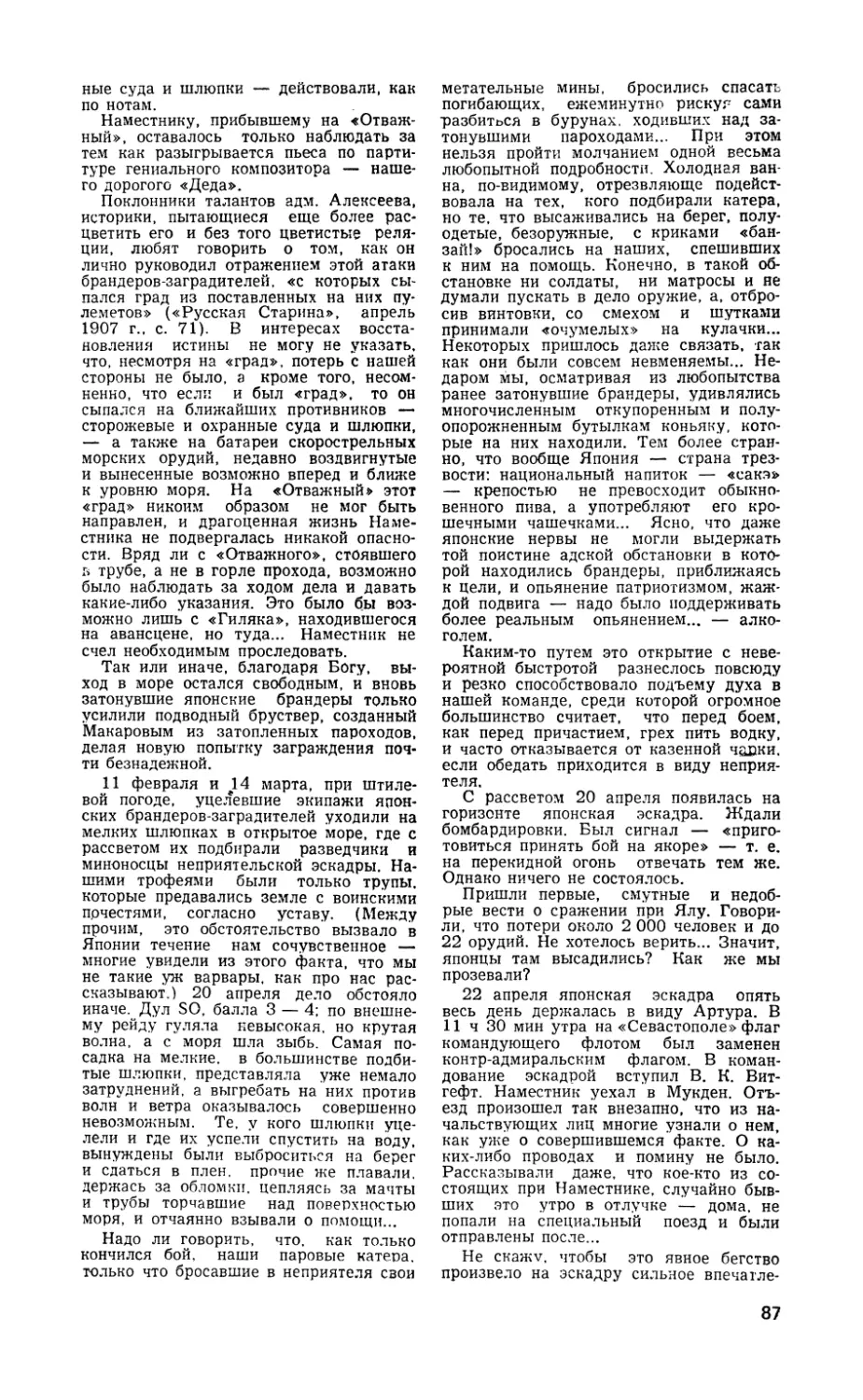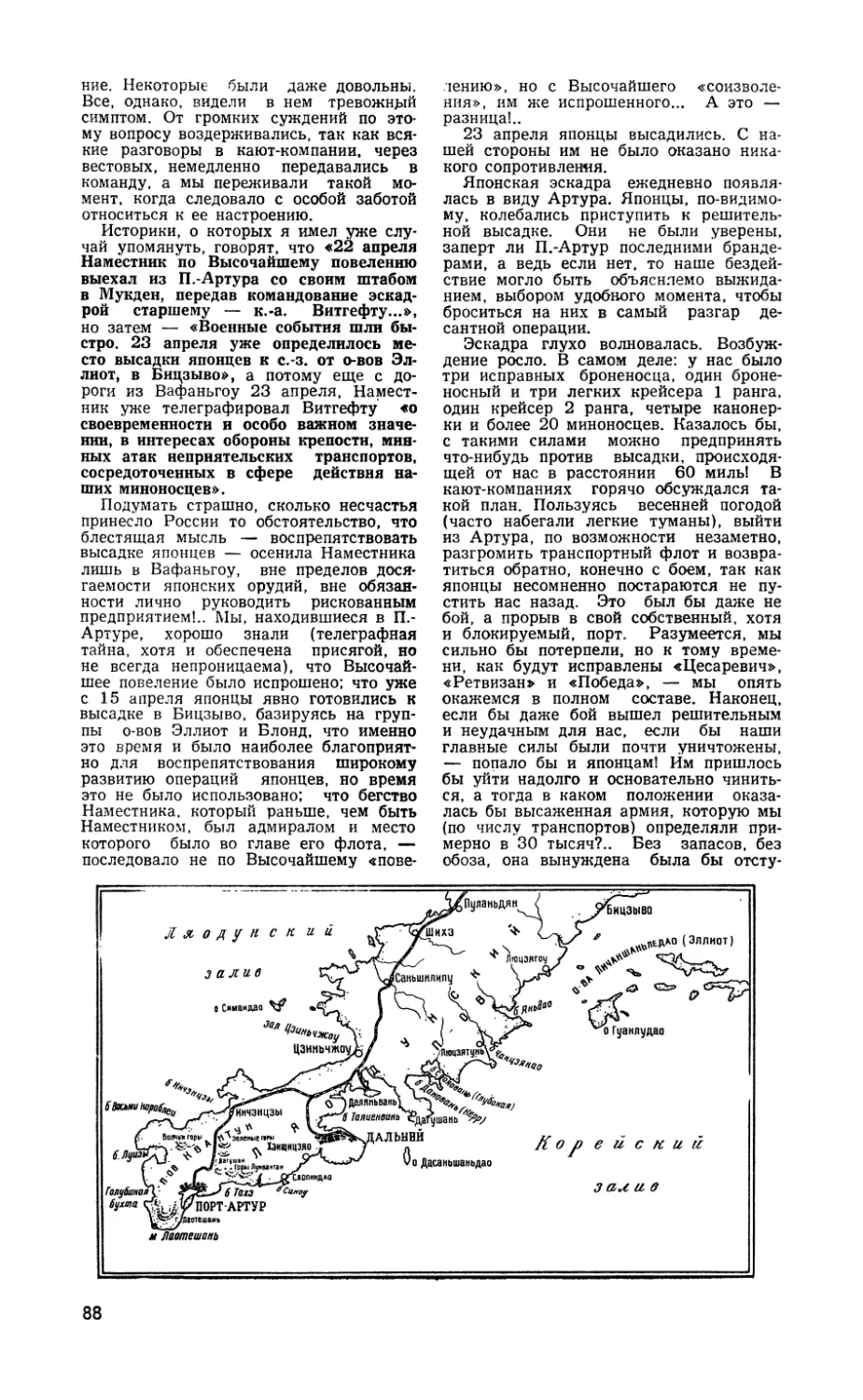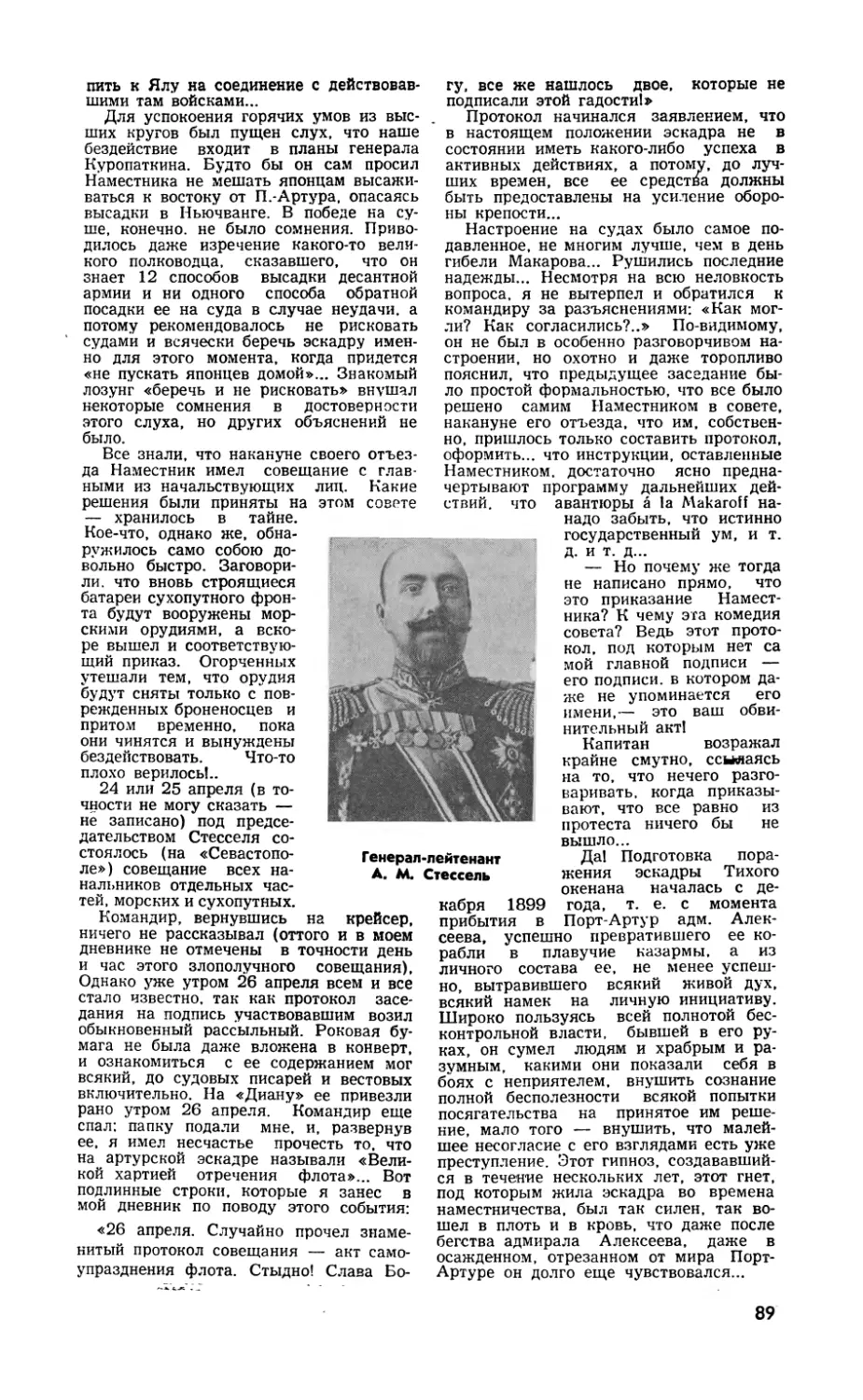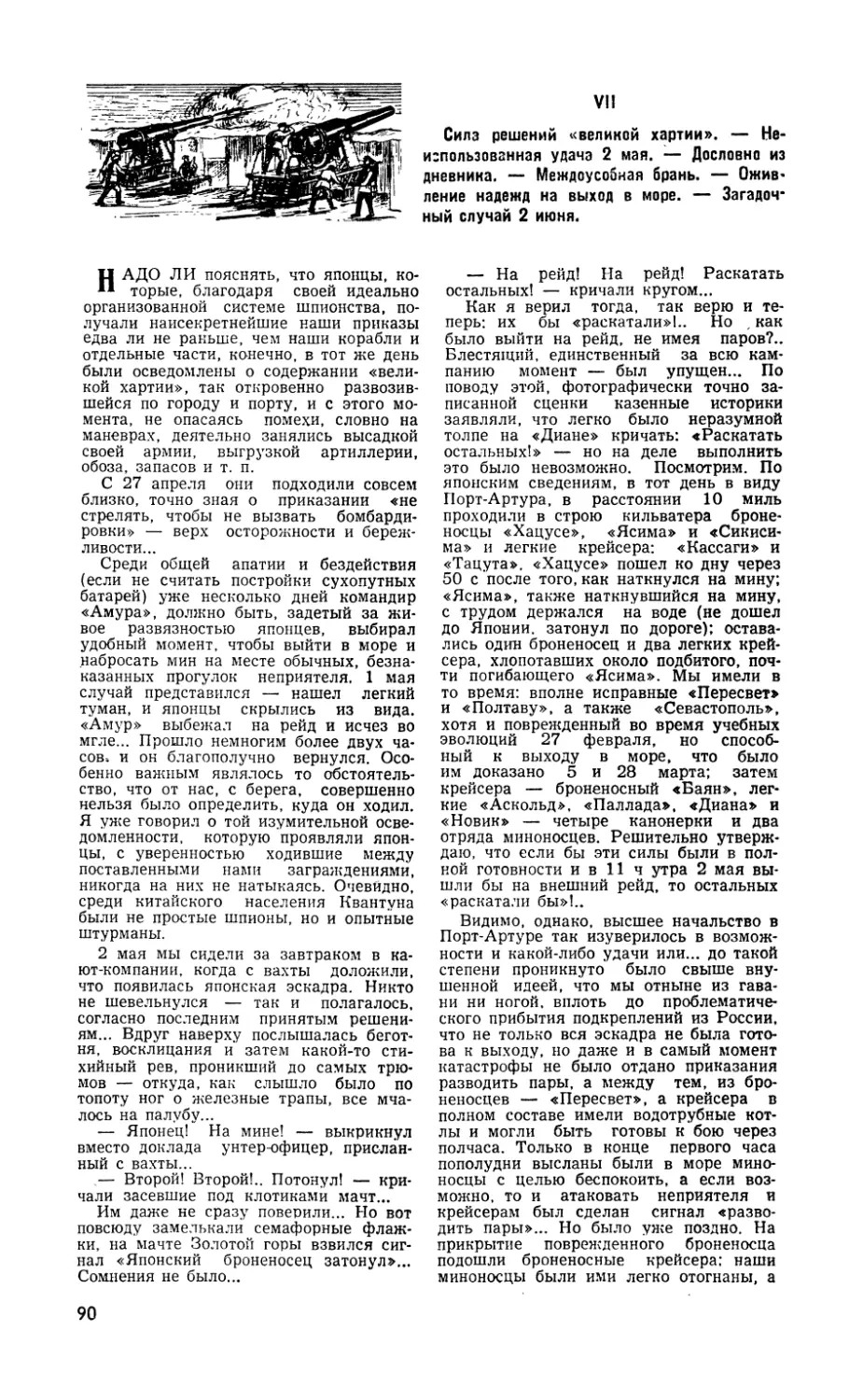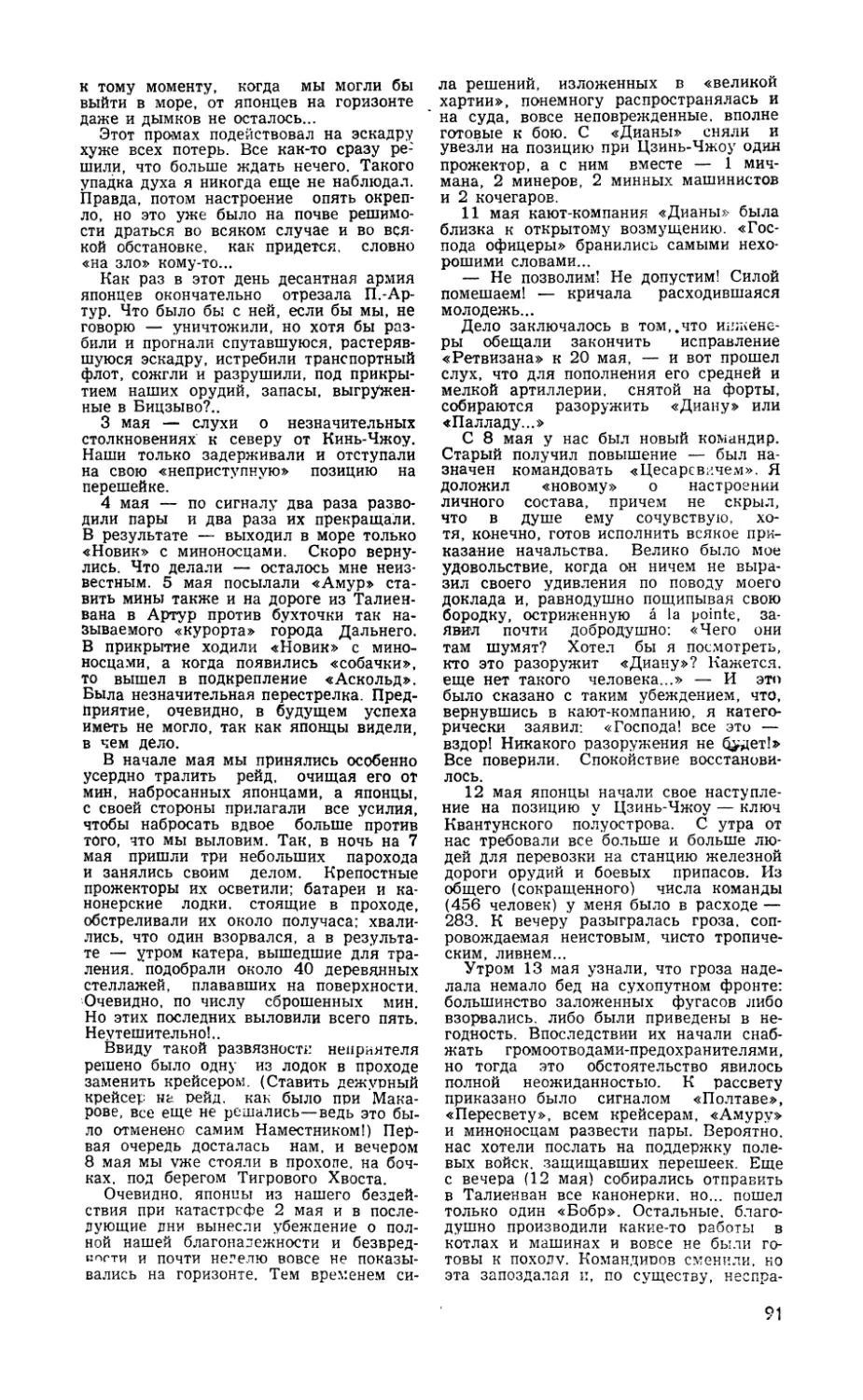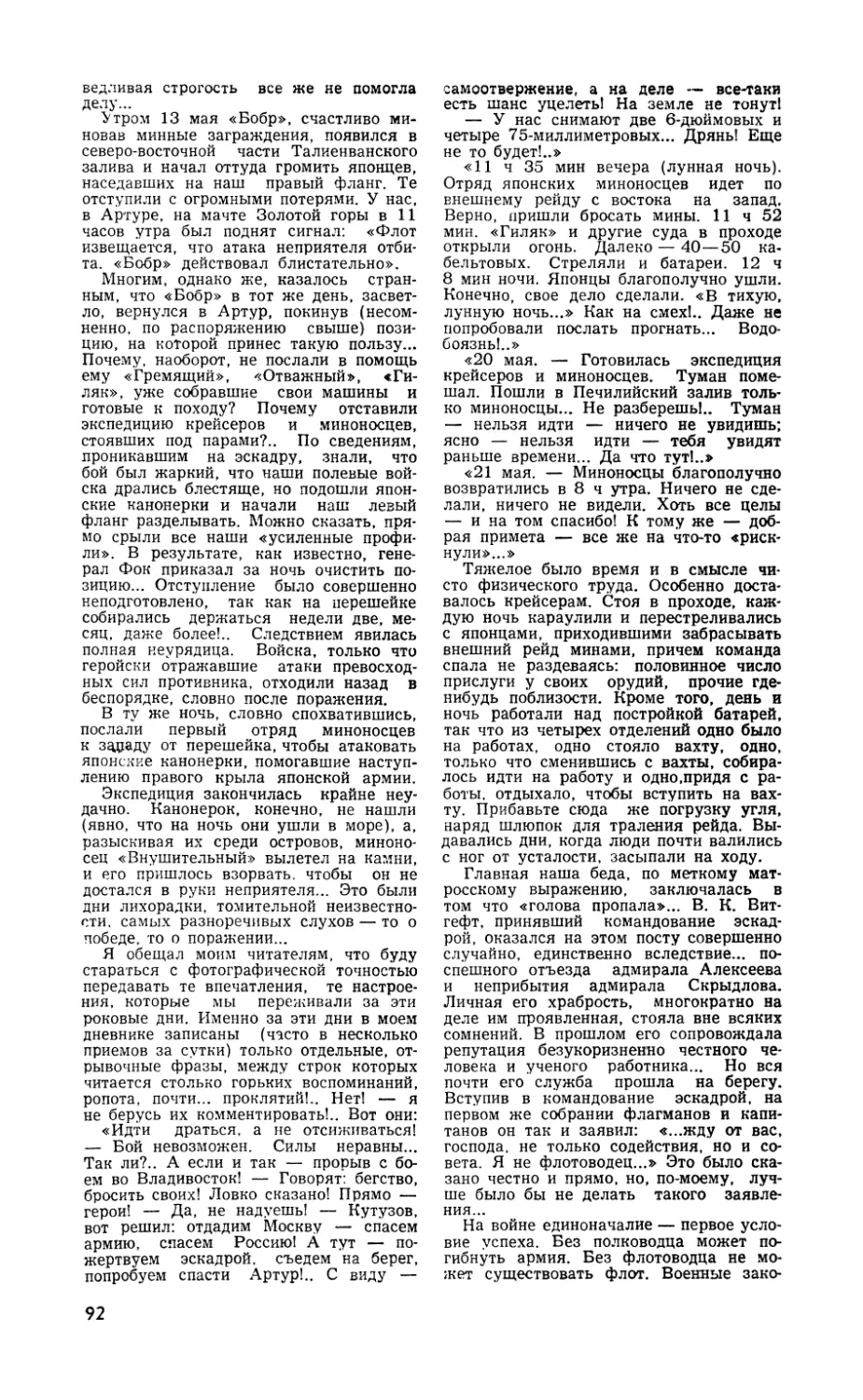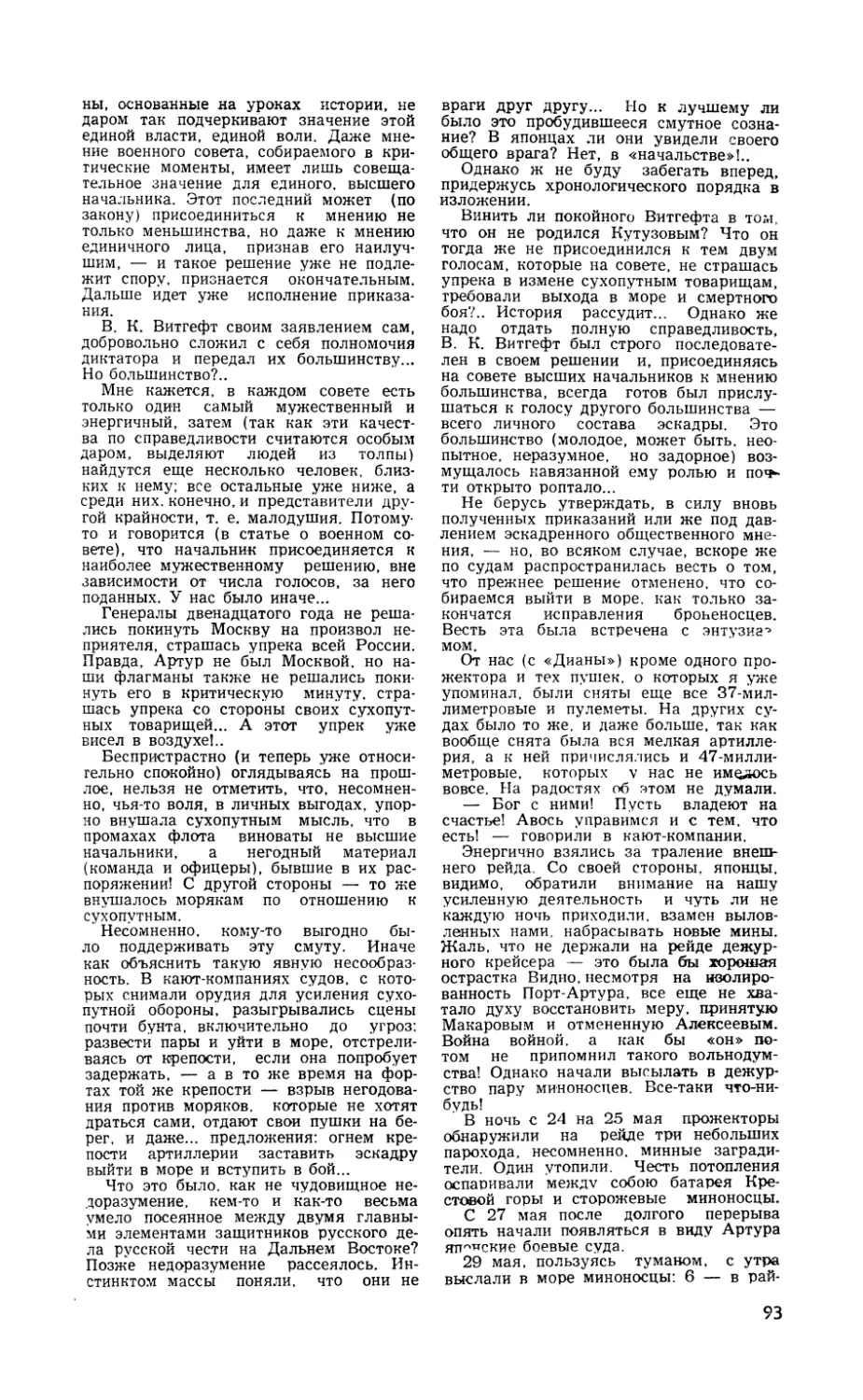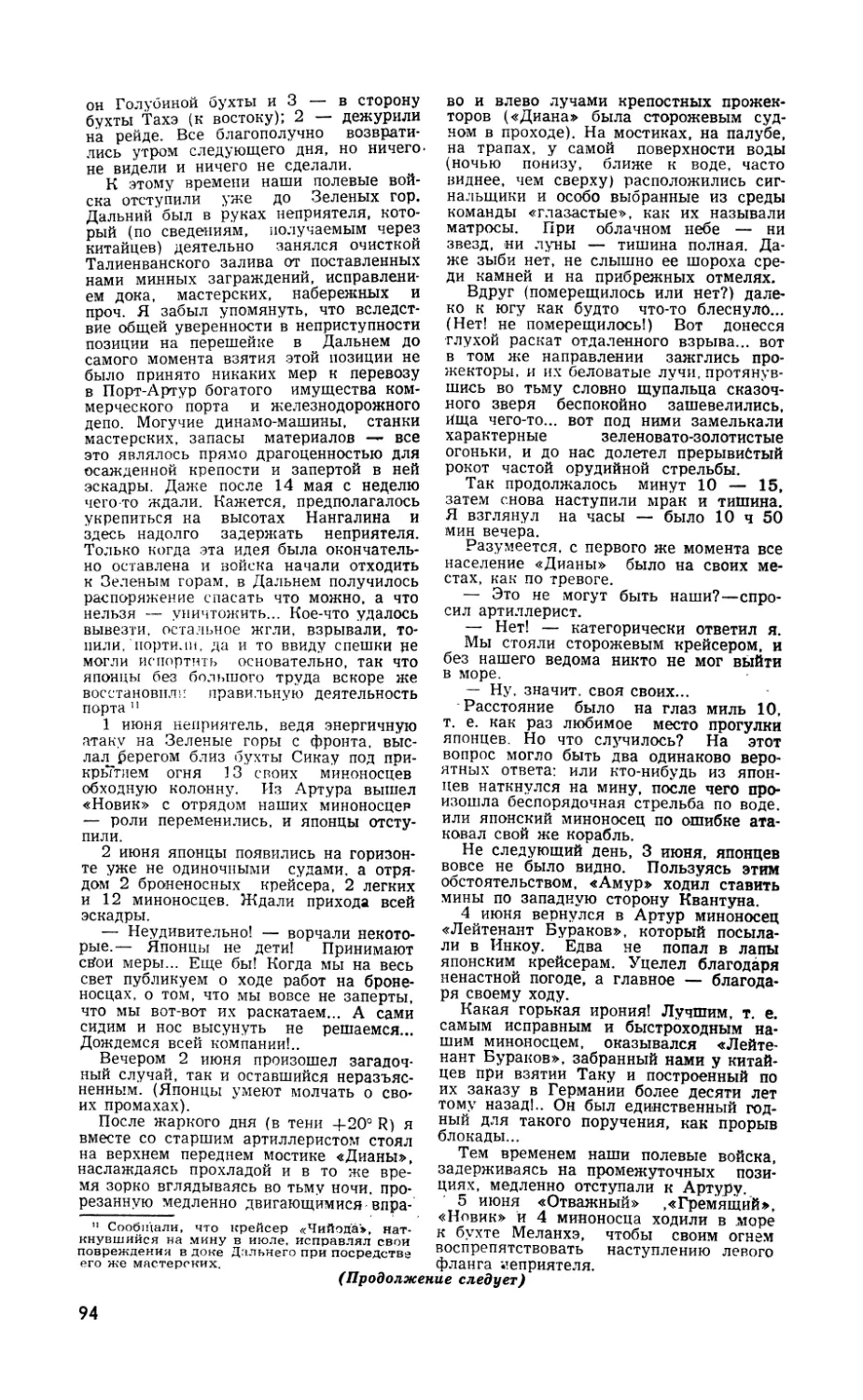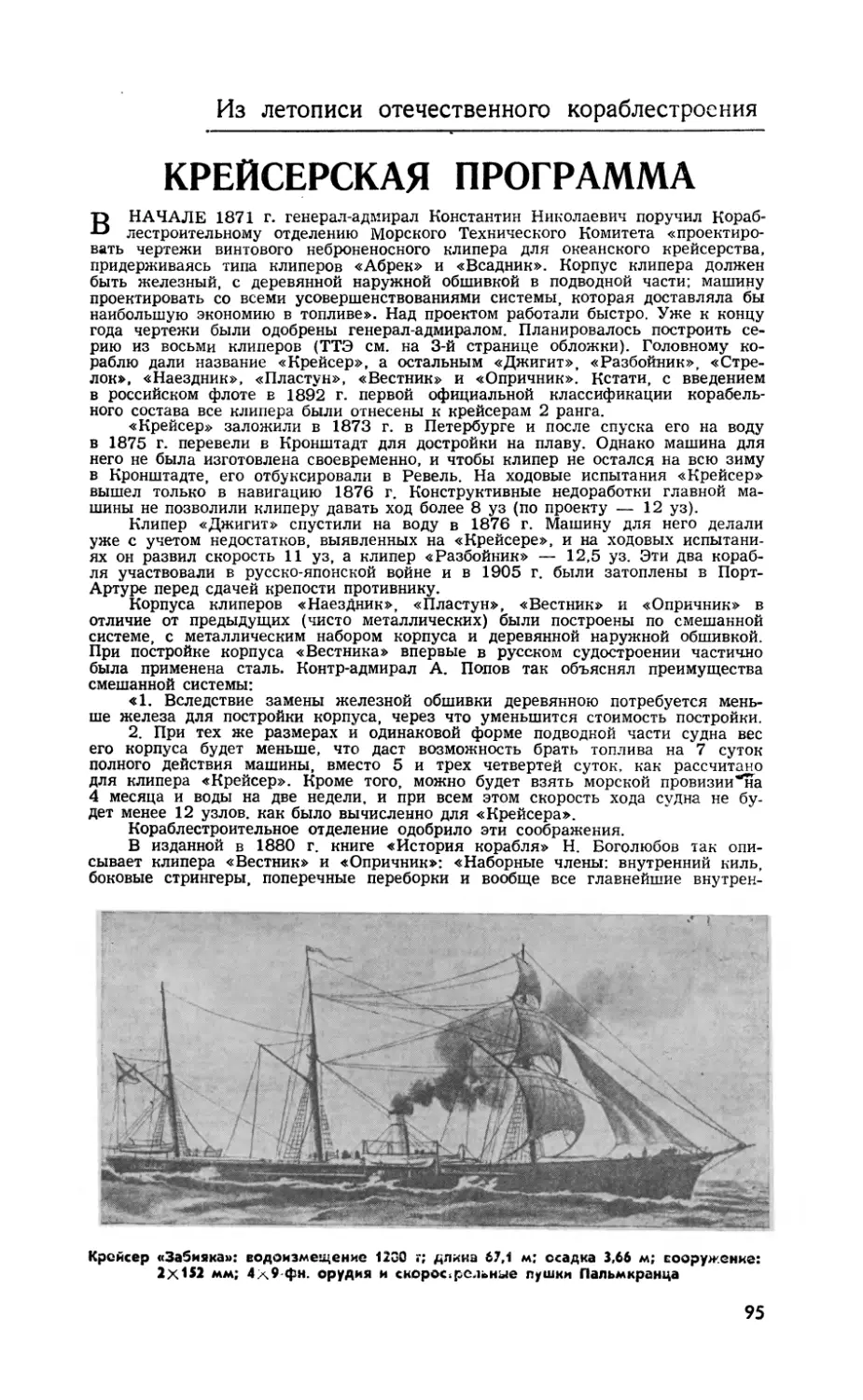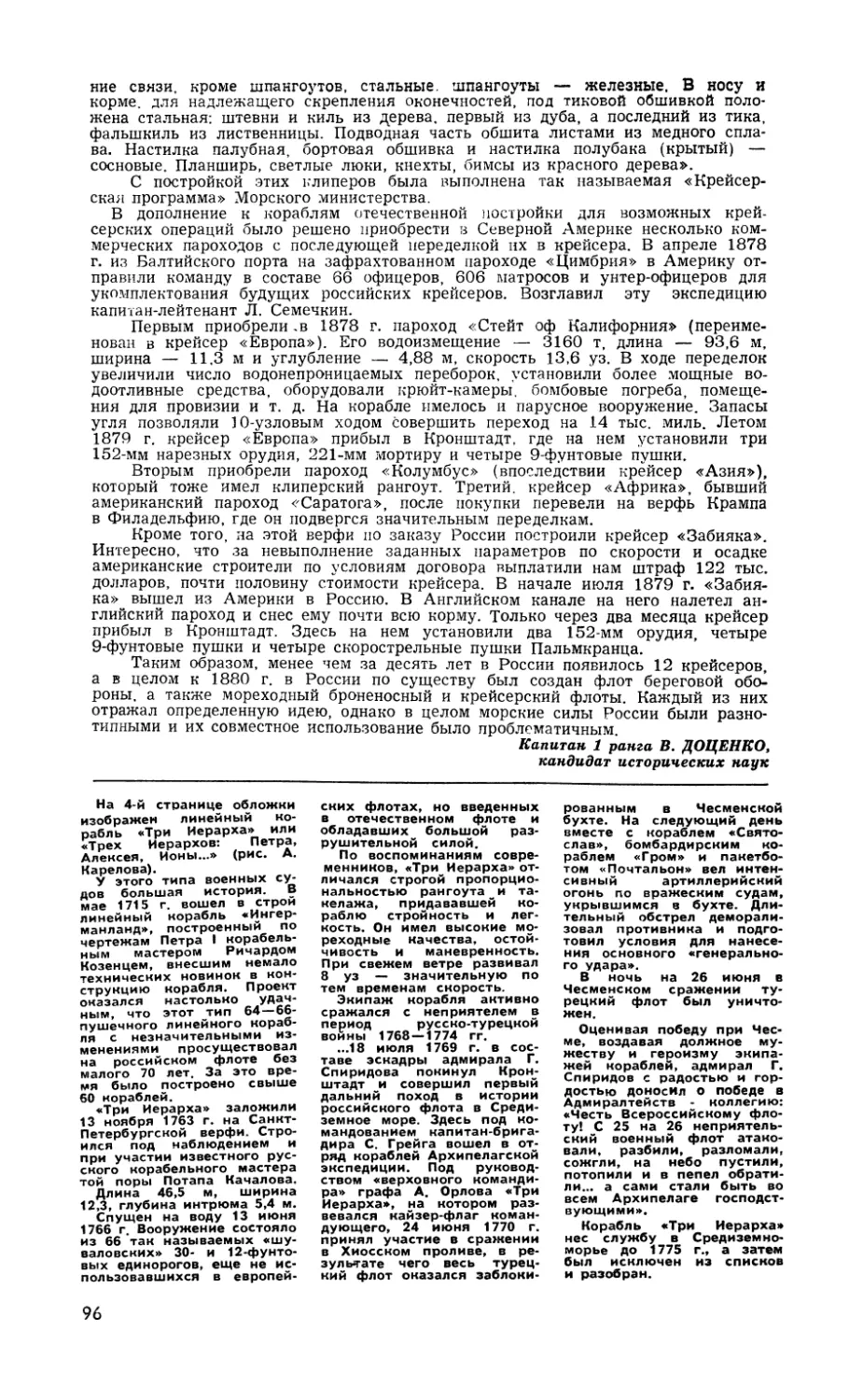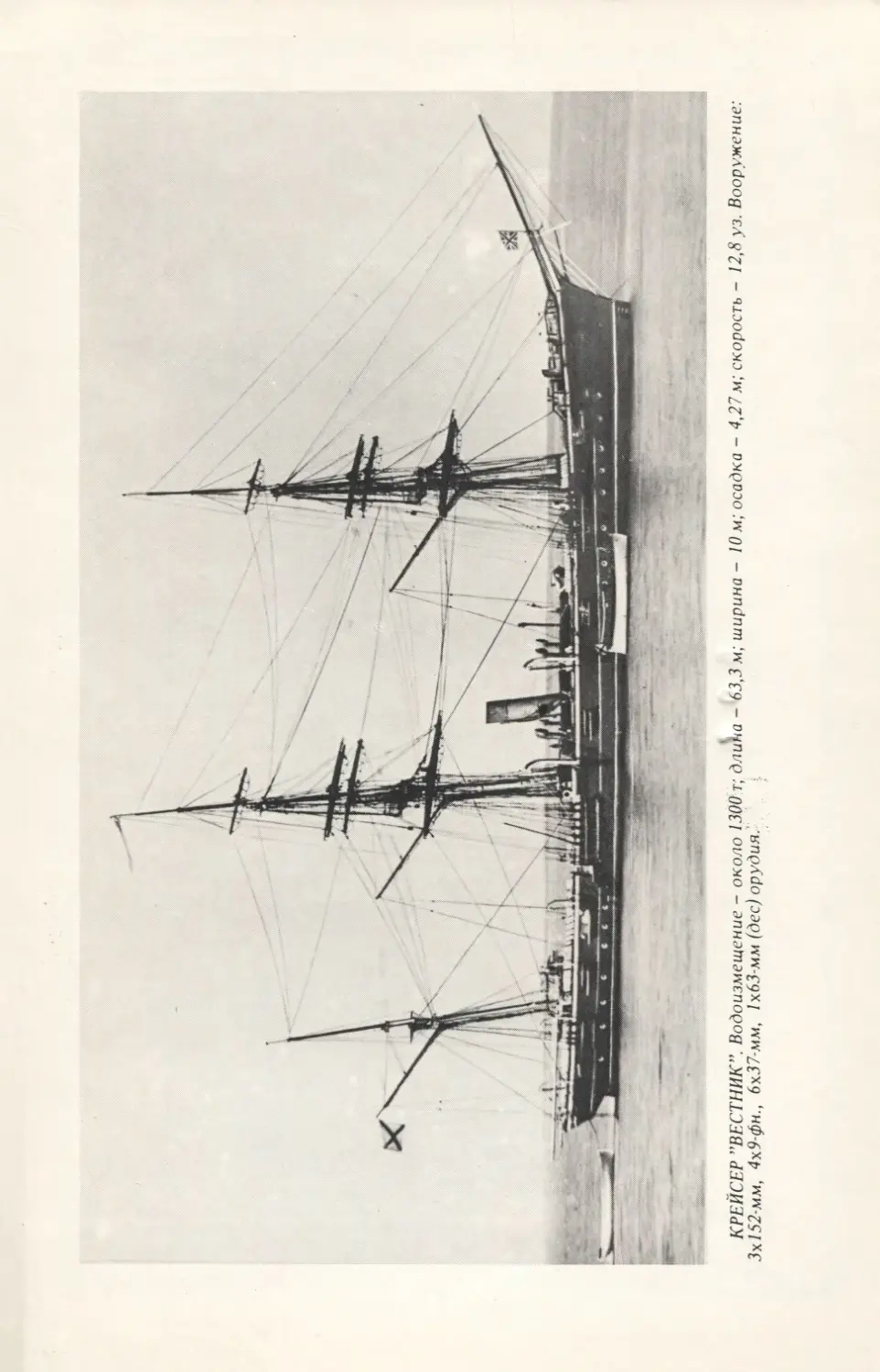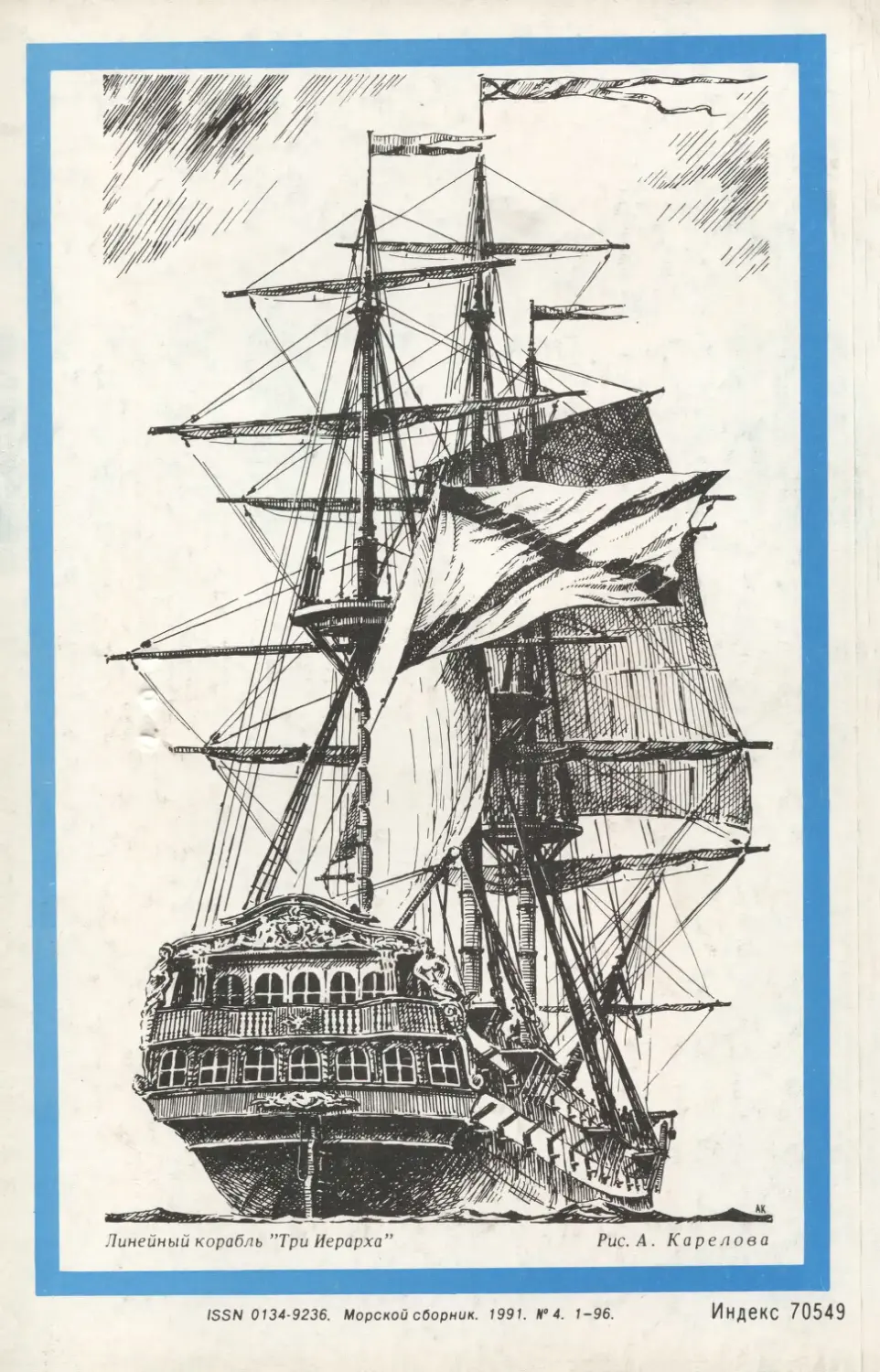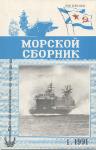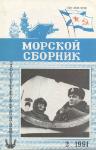Text
За нашу Советскую Родинц!
ЖУРНАЛ ВОЕННО МОРСКОГО ФЛОТА СССР
АПРЕЛЬ 1991 г.
4 (1733)
ИЗДАЕТСЯ С МАРТА 1848 г.
Читайте в номере:
Кому нужна сегодняшняя истерия вокруг Ленина?
(с. 3)
Новые подходы к обеспечению живучести кораблей'
(с. 27).
Причины гибели «Новороссийска»: мнение участника
подъема линкора (с. 42).
Впервые! Журнал в журнале — «Румб» (с. 51).
Екатерина II: «Что флотская служба знатна и
хороша, то йсбм известно, но насупротив того столь же
трудна и опасна, почему более монаршую нашу
милость и попечение заслуживает» (с. 67).
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите иметь полный комплект «Морского сборника», не
забудьте продлить подписку на второе полугодие. Журнал в свобод»
ную продажу не поступает. Редакция не имеет возможности выполнить
ваши просьбы по высылке отдельных номеров.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
МОСКВА
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
Г. Д. Агафон^„
(главный
редактор),
В. И. Алексин,
Д. М. Алпатов,
В. Н. Безносое,
Л. Л. Белышев,
В. В. Будеев,
Ю. А. Быстрое,
Н. Л. Гавриленко
(ответственный
секретарь),
В. К. Захарьин,
В. И. Зуб,
В. С. Калашников,
Ю. П. Квятковский,
В. В. Кочеров
(зам. главного
редактора),
О. Н. Кувалдин
(зам. главного
редактора),
Л. П. Кучеров,
В. Т. Лосиков,
И. Г. Махонин,
М. С. Монаков,
И. С. Скуратов,
Г. Я. Щедрин
Адрес редакции:
Москва, Чаплыгина, 15
Для переписки:
103175, Москва, К-175,
«Морской сборник».
Телефоны:
204-25-34, 925-50-28.
Технический редактор
Обухова Т. Л.
Содержание
время и флот
«Ленин с детства вошел в мою жизнь...» . . 3
А. Билоконь. Закон, по которому жить . . 7
КАЮТ-КОМПАНИЯ «МОРСКОГО СБОРНИКА»
Валерий Рождественский: «Выбираю космос...» 10
* * *
Официальный отдел 14
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
М. Монаков, Н. Березовский. Судьбы доктрин
и теорий 5 16
Ориентир на качественные параметры ... 23
ПОХОДЫ, ПОЛЕТЫ ^
И. Капитанец. Проблемы обеспечения
живучести кораблей 27
Г. Костев, И. Костев. Чтобы избежать
катастрофы 33
А. Казаков. Верю в свой экипаж .... 37
ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА
А. Лебедев, М. Чернякова. Новый метод
диагностики 40
Н.~ Муру. Линкор «Новороссийск»: уроки
трагедии 42
ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Л. Дорогова. Язык — ваш друг 48
А, Федоров. Гардемарины, вперед! . ... 51
A. Бобраков. Воспитывать цвет нации . г . 54
С заботой о будущем флота ....,'. 57
ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ
B. Кожевников. Стратегические переброски
ВС США в войне против Ирака ... 61
По страницам иностранной печати .... 65
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Б. Шереметьев. Русский флот в эпоху
Екатерины И .- . 67
Николай Александрович Бестужев .... 72
ФЛАГМАНЫ
Анатолий Марета. Командовал тремя флотами 76
В. Касатонов. Вторая служба на Дальнем
Востоке # „ • 79
* * *
Вл. Семенов. Расплата. Гл. VI — VII * s . 83
В. Доценко. Крейсерская программа ... 95
* * *
На цветных вклейках:
Галерея российских флотоводцев. М. М. Голицын 32
Между с. 64 — 65
Эскадренный миноносец «Сисой Великий»
Подводные лодки типа «Дафне» ВМС Франции
Эсминцы типа «Хацуюки» ВМС Японии
На 1-й странице обложки — У макета картушки компаса Андрей
Сухов и Николай Владимирский.
Фото Ю, Па х о мо в а
Сдано в набор 26 02.91. П
Формат бумаги 70xl08'/t6. Бумага типографская № 1.
Усл. печ. л. 8,4 + вклейка 7г печ. л. Усл. кр.-отт. 14,88.
Заказ 526.
Подписано к печати 26.04.91.
Высокая печать.
Уч.-изд. л. 10.9.
Цена 80 коп.
Адрес
ордена «Знак Почета» типографии газеты «Красная звезда>:
123826, ГСП. Москва. Д-317, Хорошевское шоссе, 38.
«Морской сборник», 1991.
ВРЕМЯ И ФЛОТ
Беседа на актуальную тему
«ЛЕНИН С ДЕТСТВА
ВОШЕЛ В МОЮ ЖИЗНЬ...»
Наш собеседник — ровесник
Октября (время рождения —
7 ноября 1917 г.), народный
художник СССР, лауреат
Ленинской и Государственной
премий Лев Ефимович
Кербель. В годы Великой
Отечественной войны
студент-дипломник Московского
художественного института Л. Е. Кербель
— военный художник
Северного флота. Он — автор
известных памятников К. Марксу и
В. И. Ленину. В канун дня
рождения Владимира Ильича
с ним встретился наш
корреспондент.
Лев Ефимович, в девятом классе вы впервые сделали барельеф Ленина. Почему
именно его? Не было ли это необходимой данью времени?
Видите ли, в годы моей юности молодежи не был свойствен столь
распространившийся сейчас расчет и меркантилизм. Имея некоторые способности к рисованию,
унаследованные от отца, я тем не менее был в то время серьезно увлечен биологией
и даже пытался поступить на биологический факультет Московского университета.
Наверное, неудача на экзаменах, с одной стороны, а с другой — полученная в
1933 г. первая премия на областной олимпиаде художественной самодеятельности за
лепной барельеф с портретом Ленина как-то повернули меня к профессии
скульптора, о которой я, честно говоря, тогда даже не помышлял.
Кстати, после той юношеской работы к ленинской теме я обратился вновь лишь
спустя годы. Почему? Мне было шесть лет, когда скончался Владимир Ильич. Еще
не в силах понять детским разумом всей глубины постигшего страну горя, я видел,
какой бедой обрушилась его смерть на многих моих односельчан. Люди, никогда не
видевшие Владимира Ильича, не слышавшие его голоса, плакали. Это поразило меня,
потрясло. Вглядываясь в портреты Ленина, напечатанные в газетах, я пытался
понять этого человека. И вдруг неожиданно для себя срисовал с портрета ставшее
дорогим и близким лицо Ильича. Хотел ли я тем самым сохранить его в своей
детской памяти или это было стремление по-своему отдать дань уважения великому
человеку, сегодня трудно сказать, но сам миг рождения образа, думаю, предопределил
все мое будущее творчество.
Однако непосредственно к Ленину в своем творчестве я уже вернулся после
войны, которая, как ни странно, во многом поспособствовала этому. Проходя службу
художником Северного флота, я стремился запечатлеть образ народа-победителя. Он
складывался из общения с разными людьми: подводниками и летчиками,
краснофлотцами и адмиралами, солдатами и генералами, теми, кому установлены обелиски
и бюсты в Полярном и Бресте, Североморске и Берлине, Зеелове и Москве... Все они —
делали революцию, строили, не побоюсь этого слова, — коммунизм, словом, были
народом-тружеником, создававшим по ленинскому замыслу нервоз в мире
государство рабочих и крестья*н. Я много думал об этом, работая над портретами
удивительных людей моего времени, постепенно приходя к мысли создать образ человека,
которому все мы, и я хотел бы, несмотря на время переоценки многих ценностей, это
особенно подчеркнуть, обязаны возможностью трудиться в государстве, которого не
знала история. Ну, а в том, каким мы сделали это государство, убежден, виноват не
Ленин.
Действительно, долгие годы Ленин всеми нами воспринимался одинаково, нынче
же каждый знает и чувствует его по-своему. Воплощению образа Ленина в граните и
бронзе вы посвятили большую часть своей творческой жизни. Что значит для вас
Ленин сегодня?
На эт'от вопрос можно ответить однозначно: для меня Ленин таков, каким он
смотрит сегодня на людей с улиц, скверов и площадей многих городов мира.
Извините за высокий стиль, кому-то он сегодня режет ухо, но сказать о великом
просто — удел мастеров слова. Я же скульптор и скажу так, как думал всегда и
продолжаю думать сегодня. Свой опыт, знания, а также многое из того, что пережил,
задумал, искал, но не смог осуществить, — все это я стараюсь передать молодежи,
своим ученикам. Главное же, чему я стараюсь научить их, — это верности нашим
идеалам, любви к Родине. В искусстве ничего не дается легко, и я стараюсь, чтобы
они были не только художниками, но и борцами. Борцами за наши идеалы, идеалы
Владимира Ильича Ленина. Он и сегодня остается для меня потрясающим человеком.
И еще. Полагаю, что многим нынешним руководителям, не способным
предусмотреть развитие тех или иных событий порой на год вперед, стоило бы поучиться
ленинской прозорливости на десятилетия. Я иногда задумываюсь, не эта ли
политическая немощь — карт-бланш на сегодняшнюю истерию вокруг Ленина. Впрочем,
это уже другой разговор...
Почему же. Мой очередной вопрос как раз-таки на эту тему. Помню, как
девять лет тому назад, собираясь на открытие своего памятника Владимиру Ильичу в
Гаване, вы говорили мне, что террористы угрожали его взорвать. А теперь
демонтирован ваш памятник Ленину в Софии и уничтожен памятник Марксу в Литве...
Кому мешает Ленин? Экстремистам. Это же очевидно. Они стремятся захватить
власть, разложить народ, лишить его каких бы то ни было идеалов, превратив тем
самым в толпу, которую легко спровоцировать на разрушение. Вывод прост: Ленина,
ленинской идеологии боятся, она мешает злу, варварству, бескультурью.
Есть и другая причина этой войны памятникам. Долгое время мы разрешали
творить массовую халтуру, создавать из бетона, покрашенного серебрином,
бесчисленные «произведения» на пристанционных площадях, в каждом колхозе и совхозе,
во дворах жилых домов. Ленина, всегда ненавидящего всякие культы и культики,
делали божком. Я далек от того, чтобы видеть в этом чью-то злонамеренную
программу сверху, скорее все это — результат «инициативы на местах». Но ведь на
местах немало умных людей, почему же они молчали, глядя, как опошляется образ
дорогого для миллионов советских людей человека? И здесь ответ, что называется,
лежит на поверхности: попробуй-ка, воспротивься серости! Она, эта серость, тут
же навесит на тебя ярлыки, да еще с политической окраской! Страх в народе после
Сталина сидел крепко. Ну, а нынче, нынче-то что, опять ситуацией в стране владеет
другая, но тоже серость, теперь она диктует всем нам новые, чаще всего
прозападного толка ценности, теперь уже она культивирует среди людей страх. И все это
под видом демократии, которую многие понимают как вседозволенность, прикрываясь
плюрализмом мнений, однако тиражируется только то мнение, что разделяют
псевдодемократы... Как это ни печально, но все это уже в нашей истории было. Выходит,
история повторяется. Взять ту же «войну» с памятниками...
Шесть лет тому назад во время поездки в Эфиопию довелось мне побывать в
городе Массауа — это порт на берегу Красного моря в провинции Эритрея. Как-то,
проезжая по одной из улиц, увидел конную статую, завернутую мешковиной. «Чей
это памятник», — спрашиваю у спутников-эфиопов. «Хайле Селассие», —
отвечают. «Чего же его так «укутали»? «Народ ненавидит императора, могут снести. Вот
и решили хоть так спрятать. Памятник — произведение искусства». В то время
в Эфиопии около 90 процентов населения было неграмотным. Мы же всегда
гордились своим поголовным образованием...
Образованность и культура — не тождественные понятия. Помню, как однажды
во время отдыха в Ялте меня с Пахмутовой и Добронравовым пригласил к себе
Гагарин. Вернее, не к себе, а на круизный теплоход, где он встречался с иностранцами.
Среди многих вопросов, которые ему задавали в тот вечер, был и такой: какое у вас
образование? До сих пор память сохранила блестящий, как мне кажется, гагарин-
ский ответ: не важно, какое образование, было бы высшее соображение.
Бывает, простой крестьянин по уровню культуры выше иного академика. Ведь
истинно культурного человека отличает не только умение держать правильно вилку
и нож за столом, а его отношение к ближнему, к природе, к истории, верстовыми
вехами которой являются памятники. Признаюсь, очень боялся, что после
объединения Германии снесут одно из дорогих для меня произведений — памятник Марксу
в Карл-Маркс-штадте, получившем сегодня свое прежнее название Хемниц. И такие
попытки, как я слышал, были. Но отцы города не позволили. Было сказано, что это
художественное произведение, которое отражает историю страны. В конце концов и
Маркс, и Тельман, чей памятник также сохранен в Германии, были немцами.
К сожалению, нынешнее время — это время упадка общей культуры в стране.
Грязь на улицах, отравленные реки, погибающие леса. Вот где нужно сегодня
приложить руки. Ни бесчисленные заседания парламентов, ни митинговая болтовня,
способная лишь озлобить, здесь не помогут, только дело. И еще у меня большая
надежда на армию. В мою юность было честью стать офицером. Офицерство было
передовой частью общества. Мне кажется, что нынешние нападки на армию —
целенаправленная работа по разложению нашей государственности, а значит, и культуры
народа. Защитить ее способна только армия. Не штыком, не автоматом, как это
пытаются представить нынешние радетели демократии в Прибалтике, а милосердием,
проявленным к беженцам, когда казармы стали единственным приютом для этих
обездоленных людей нашего времени, солдатской кухней, способной накормить
голодных. Только армия может сегодня сберечь страну, а с ней и культуру.
Лев Ефимович, я знаю, что люди ратного труда всегда были желанными гостями
в вашей мастерской. И сегодня я вижу здесь множество эскизов, посвященных
солдатам как нынешнего времени, так и периода войны. В этом году, буквально через
два месяца, исполняется 50 лет со дня ее начала. Мы стараемся не забыть всех,
кто участвовал в этой войне. В то же время, как нам с обидой пишут ветераны,
Москву вместе с армейскими частями защищали шесть стрелковых бригад морской
пехоты, большинство их полегло у стен столицы, а вот памятников им так до сих
пор и нет. Почему?
Вы правы. Несмотря на 50 лет, минувших с начала войны, мы о многом не
сказали, многих еще не вспомнили. Ведь по сути дела только в прошлом году стало
известно, что не приглаженная цифра в 20 миллионов погибших отражает наши
потери, а 27. Как же так можно было просчитаться? Безусловно, предстоит еще
немало сделать и литераторам, и художникам, чтобы восславить имя советского
солдата, спасшего мир от фашистской чумы. И я, и мои коллеги готовы трудиться ради
этого, как говорится, денно и нощно. Кое-что мы делаем и сейчас. Вот, посмотрите,
проект памятника «Морская душа», который по замыслу моряков-североморцев
должен был быть установлен в губе Кислая. Но. вроде бы договорились и забыли.
Обратите внимание на этот вариант памятника защитникам Москвы. Солдат в
гимнастерке с расстегнутым воротом, а на груди — тельняшка. Разве он не смог бы стать
памятником морским пехотинцам? Или вот — эскиз памятника Жукову для Ирбита,
ветераны просили, но, как видно, тоже забыли. Нет заказов. Будут заказы, за нами
дело не станет. Знаю, что и у многих моих коллег есть немало интересных задумок
на военную тему.
Через несколько недель святой для нашего народа праздник — День Победы.
Честно говоря, в последние годы я встречаю его с чувством тревоги, что-то еще
выкинут доморощенные «знатоки» истории, чем-то еще «поразят» людей. Тема Великой
Отечественной войны, победы советского народа, как видно, тоже нуждается в
защите. Многие сегодня льют слезы по убиенному Николаю II и забывают своих
близких, погибших в самой жестокой из войн. Что-то невообразимое происходит с нашей
памятью.
Думаю, что все-таки не с памятью, а со
спекуляциями вокруг событий прошлого, с попытками
переиначить нашу историю. Безусловно, кое-что здесь надо
пересмотреть. Но должны это сделать специалисты, а
не дилетанты, которые чаще всего и пытаются это
делать. Защитить искусство от спекуляций может и
должно само искусство. Но не без поддержки
государства. Ведь культура — это часть политики,
определяемой государством. Однако оно, к сожалению, в лице
своих представителей на местах, от нас —
работников культуры — нередко открещивается. Вот пример:
недавно какие-то негодяи облили краской памятник на
Октябрьской площади. Звонит мне одно
высокопоставленное лицо и с прискорбием сообщает, мол, вот как
нехорошо с вашим памятником поступили. Да не с
моим, говорю, а с вашим. Этот памятник давно уже
принадлежит городу и забота о его сохранности — это
дело не художника, а городских властей... У меня
здесь хранится фотография, запечатлевшая открытие
этом памятника. Видите, какие люди принимали в нем
участие? Правда, ныне из них в руководстве остался
один — наш уважаемый Президент Михаил
Сергеевич Горбачев. В день открытия памятника он отдал
должное Ленину, однако в последнее время все реже
и реже упоминает о нем...
Лев Ефимович, а сами вы намереваетесь впредь
работать над ленинской темой?
Что значит намереваюсь, я работаю и буду работать. Но лишь для себя. Шестой
год перестройки как нет заказов.
Почти 60 лет тому назад Надежда Константиновна Крупская, увидев на
областной выставке барельеф Ленина, открыла юному Леве Кербелю путь в большое
искусство. Есть ли сегодня среди учеников Льва Ефимовича люди, дерзнувшие
взяться за непростую и, надо сказать, непопулярную сегодня ленинскую тему?
Есть, но единицы. Большинство молодых скульпторов, и это тоже надо признать
с сожалением, захлестывает Арбат, дающий быстрые и нередко большие деньги. Это
еще раз, возвращаясь к тому, о чем мы только что говорили, свидетельствует о
необходимости государственной защищенности монументальной пропаганды, впрочем,
как и искусства вообще. Да, надо сегодня решительно избавляться от всякой
халтуры на ленинскую тему. Но я глубоко убежден в том, что не обязательно на каждом
полустанке, но в каждой республике должен быть памятник Владимиру Ильичу
Ленину.
Как ровесника Октября, как участника Великой Отечественной войны разрешите
сердечно поздравить вас от имени всех читателей «Морского сборника» с
приближающимся Праздником Победы.
Спасибо. Передайте и мри поздравления по случаю праздника через ваш журнал
всем военным морякам.
Макет скульптуры
екая душа»
«Мор-
Беседу вел капитан 1 ранга В. КОЧЕРОВ
Военная реформа: правовой аспект
ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ ЖИТЬ
Размышления юриста о статусе военнослужащего
ПОЖАЛУЙ, дискуссии о социальной защищенности военнослужащих и их семей,
1*о путях военной реформы наиболее горячи. Как будто прорвало плотину
молчания. Ведь издавна считалось, что военнослужащие должны стойко переносить все
тяготы и лишения военной службы... Это требование Присяги каждый помнит с
первого дня пребывания на флоте, и оно, как правило, действовало безотказно, но, как
оказалось, до поры до времени. Думаю, не открою секрета, если скажу, что главная
причина нынешнего взрыва накопившегося недовольства людей в военной форме —
затянувшаяся на десятилетия бессовестная эксплуатация энтузиазма и готовности
военнослужащих переносить лишения в надежде на улучшение своего социального
положения в перспективе. И вот уже десятки и сотни тысяч военнослужащих —
без квартир, не имеют прописки. А значит, при нынешнем — талонно-купонном
буме — без прав на покупку прЬдуктов, товаров первой необходимости. Их семьям
отказывают в медицинской помощи, их детей не принимают в школы, а жен — на
работу. На самих офицеров все чаще нападают хулиганствующие молодчики, в них
стреляют, их убивают, что вынудило министра обороны в ряде регионов даже
разрешить им ношение личного оружия. Профессия офицера и в мирное время остается
поистине героической. Только почему-то это уже не вызывает гордости. А все чаще
непрошенно подкатывает к горлу ком обиды.
Ето же защитит защитника Отечества? Думаю, прежде всего закон. И вот
появляется в печати проект Закона «О статусе военнослужащих». Как юрист, я
заинтересовался его содержанием. Как человек в погонах, не мог, анализируя его,
удержаться от эмоций.
Положительно в проекте то, что он стремится именно правовыми средствами
урегулировать вопросы повседневной жизни, которые приходится ежедневно, как
говорится, утрясать. Достаточно взглянуть на жалобы, поступающие от
военнослужащих как в высшие органы государственной власти, так и в органы военного
управления: «Нет квартиры и не предвидится...», «практически по 15—20 часов на
службе, семьи не вижу», «скоро увольнение в запас, а куда ехать, кому и где нужен
я и моя Семья?..», «невозможно появиться на улице, чтобы не услышать если не
в лицо, так в спину: оккупант!..»
Каким же способом государство предполагает обеспечить правовую
защищенность военнослужащих и их семей? Какие меры для этого намечаются?
Разумеется, офицеры и мичманы этот проект уже изучили, детально обсудили.
Ведь за каждой его строкой и наше будущее, и будущее флота, наконец. В последние
годы заметно уменьшился энтузиазм у тех юношей, кто стремился связать свою
судьбу с морем, все ниже конкурс в военно-морские училища, все слабее интерес к
корабельной службе. Думается, что юноша, поступающий в военно-морское училище
либо подписывающий контракт на службу матросом или мичманом, должен ясно
видеть, ч т о он получит за свою службу, а также иметь четкие перспективы в этой
сложной и ответственной сфере человеческой деятельности, связанной с немалым
риском для жизни и здоровья.
Проект такую перспективу лишь обозначает. Почему? Потому что пока, как
представляется, четко не определены и долгосрочные перспективы развития флота.
Каким ему быть? В каких количествах и какие иметь корабли? Это очень важно.
Многие законодатели очень уж рассчитывают поднять экономику государства прежде
всего за счет сокращения военных расходов. Какие дебаты проходили в стенах
Верховного Совета при утверждении военного^ бюджета! Большинство выступающих
стремилось посчитать деньги в карманах военных. И побольше оттуда вынуть. Они вро-
де и не видят, что экономика наша из-за беспорядка, безалаберности и неумения
вести хозяйство теряет ежегодно гораздо больше, нежели значится в расходах
военного бюджета. В этих условиях трудно выбирать свое место на флоте. Тем более
что многим известны последствия того опустошительного смерча, что пронесся над
флотом в конце 50-х и начале 60-х годов. А вдруг снова скажут: «Хватит строить
ПЛ, у нас их достаточно!» Или, скажем, иной ретивый знаток особенностей действий
на море добьется новой резки кораблей нарождающегося авианосного флота. Поэтому,
как представляется, Закон о статусе военнослужащих должен давать им
определенные социальные гарантии на случаи резких изменений в политике военно-морского
строительства.
Что же касается самого проекта Закона, то вот какие он рождает мысли.
Прежде всего Вооруженные Силы страны, думаю, должны подчиняться только высшему
органу государственной власти, а значит — иметь единое командование. Однако в
статьях 5 и 6 проекта речь идет о каких-то законодательных актах не только
союзных, но и автономных республик, которые лежат в основе всего законодательства
о статусе военнослужащих. Очень неудачная формулировка. Тем более в такой
непредсказуемый для государства период, когда, ложась спать, не знаешь, в какой
республике проснешься. Вот почему этот вариант, думаю, неприемлем. Необходимо
однозначно определить, что на территории воинской части или на корабле,
независимо от того, где он находится, должны действовать только общесоюзные законы.
И статус военнослужащих во всем государстве должен быть един. Другое дело, что
вне расположения своих подразделений они безусловно обязаны соблюдать законы и
правила поведения, действующие на данной территории.
Как видно из проекта, его создатели стремились хоть как-то упорядочить
рабочий день офицера, приблизить его к нормам трудового законодательства,
естественно, с поправкой на особенности и специфику военной службы.
Но,-кажется, офицеры и мичманы плавсостава опять останутся обделенными,
так как в проекте не учтено, что моряк не может в 18 часов покинуть корабль,
находящийся в плавании. Поэтому закрепление 41-часовой рабочей недели так и
останется не более чем декларацией. Представляется необходимым для военных
моряков, проходящих службу на кораблях всех классов, ввести суммированный учет
рабочего времени, чтобы после завершения плавания выделять соответствующее
время отдыха. Кроме того, отправляясь в море, офицер должен быть уверен в том, что
через определенное количество суток, куда бы ни пришел корабль, он увидится с
женой и детьми и что это свидание не будет унизительной и изматывающей
процедурой с поисками комнаты или угла, не говоря уже о жилье в порту
постоянной приписки.
Кстати, о жилье. Статьей 12 проекта, регулирующей право военнослужащих и
их семей на получение жилья, предусмотрено, что местные Советы будут выделять
офицерам жилье из своих фондов. Многолетний же опыт сотен тысяч обездоленных
свидетельствует: надеяться на это не стоит. Все эти «вне очереди», «в обязательном
порядке» и т. д. не более чем слова. А как эти обещания будут выглядеть при
переходе к рыночной экономике? Ведь местные Советы теперь будут жить только на
те средства, что они сумеют сами же и заработать. За этот счет будет строиться и
жилье. Ассигнований из общесоюзного бюджета практически не предвидится, за
исключением вгожения средств в реализацию общесоюзных программ. Так что уже
сейчас нужно более детально прорабатывать механизм ассигнований на долевое
строительство жилья и на строительство его за счет собственных средств
Министерства обороны. Тем более что военные городки, как известно, размещены в основном
обособленно, в районах малонаселенных. Кто там будет строить жилье
военнослужащим?
А как встречают офицеров запаса, прибывших к месту проживания после
увольнения? Обидно, что, прослужив четверть и более века в самых отдаленных
районах Союза, теперь уже бывший офицер снова становится в очередь на жилье
как молодой специалист. Но годы-то уже не те.
Не всегда четкую позицию активной поддержки и помощи занимают по
отношению к уволенным в запас отдельные представители Министерства обороны. Дескать,
вы теперь «не наши». Позвольте спросить, чьи же? Местные Советы в ряде рее-
публик не только не помогают бывшим офицерам, мичманам и прапорщикам, но и
стараются всячески их притеснять. Разве это не дискредитация армии и флота?
Причем не на словах — на деле. Не потому ли все меньше юношей желает связать свою
жизнь с Вооруженными Силами, поступить в военное училище?
Между тем проект в этой сфере мало что меняет. Его ущербность видится мне
еще и в игнорировании динамики перевода страны на рыночные отношения.
Неужели снова от экономических неурядиц будут страдать военнослужащие и их семьи?
И здесь положения проекта должны быть конкретными.
Строить воздушные замки — занятие пустое. А если, как говорится, подойти
творчески и разрешить офицерам самим строить собственные дома? Это «привяжет»
их к той воинской части, где они служат. Может ведь офицер сделать выбор между
повышением по службе, связанным с переездом и определенной неустроенностью, и
тем, чтобы остаться на прежней должности с комфортным проживанием в
собственном доме. Можно использовать и иной метод. Например, создать всеармейский
жилищно-строительный кооператив на основе самоокупаемости. При выпуске из училища
или при подписании контракта военнослужащий вступает в кооператив и
ежемесячно отчисляет в его фонд определенные суммы, в зависимости от того, через сколько
лет и какую квартиру он хочет получить в избранном им месте. Через 10—15 лет
у него уже будет солидный взнос и главное — квартира, в которой он может
поселиться.
Хлопотно? Еще бы! Но выход из положения придется искать самим военным.
На «дядю», т. е. местные Советы, надеяться не стоит.
Рассмотрим и такой аспект проблемы. Где будущие офицеры запаса найдут себе
работу по специальности? Случаются и парадоксы. Например, нескольким офицерам-
подводникам, приехавшим на Калининскую АЭС, предложили должности...
уборщиков бытовых помещений! У вас, мол, и так пенсия большая. И что из того, что они
бывшие эксплуатационники ядерных реакторов, операторы высокой квалификации!
И такими специалистами нередко разбрасывается наше народное хозяйство.
Но с другой стороны, руководство данной АЭС можно и понять, так как перед
этим к ним по распределению прибыли молодые специалисты соответствующего
профиля. Значит, Министерство обороны на законной основе должно координировать с
высшей школой объем подготовки специалистов в соответствующих вузах, чтобы
опытные военные специалисты не работали уборщиками, вахтерами, смазчиками
и т. п.
Большая надежда здесь на военно-политические органы, Именно там, думается,
следует сформировать структуры социальной помощи военнослужащим запаса и
отставки. Иначе и дальше будет падать престиж военной службы, а значит, и
боеготовность кораблей и сил флота.
Наконец, последняя проблема, которая, как мне кажется, слабо отражена в
проекте, а точнее, в статье 15. Имею в виду пенсионное обеспечение. Известно, что в
новом пенсионном законе для военнослужащих есть определенные и весьма
существенные новации. Однако там не в полной мере учтено то обстоятельство, что в стране
нарастает инфляция. Выход подсказывает опыт существования эмеритального
капитала в русской армии. Каждый русский офицер отчислял в кассу определенную
сумму ежемесячно. Размер пенсии зависел от того, был офицер членом эмеритальной
кассы или нрг. И касса эта никогда не «прогорала». Из нее же платили пенсии и
семьям погибших и умерших офицеров, назначали стипендии их детям и т. д.
Почему бы не возродить забытый опыт? Порой весьма полезно оглянуться на
нашу историю. В ней немало разумного, которое может быть использовано и сейчас,
когда флот стоит на распутье. И для укрепления офицерского корпуса надо
принимать кардинальные и нестандартные решения. Поэтому я и позволил себе высказать
некоторые предложения по совершенствованию проекта Закона о статусе
военнослужащих. Понимаю, что не все мои предложения бесспорны. Но в споре, как
говорится, пусть родится истина. А свое правовое закрепление получит уже в Законе, по
которому нам жить и служить дальше.
Полковник юстиции А. БИЛОКОНЬ
КАЮТ-КОМПАНИЯ «МОРСКОГО СБОРНИКА*
Валерий Рождественский:
((ВЫБИРАЮ КОСМОС...»
В канун Дня космонавтики, который в
этом году совпадает с 30-летием первого
полета человека в космос, мы пригласили в
нашу кают-компанию полковника Валерия
Ильича Рождественского —
летчика-космонавта СССР, возглавляющего ныне одно из
управлений Центра подготовки
космонавтов имени /О. А. Гагарина,
Валерий Ильич, не все, вероятно, знают — в печати ваше имя появляется не
часто,—что вы начинали службу военно-морским офицером. Таи как же моряк стал
космонавтом?
Я и в самом деле не люблю шумихи. Наверное, поэтому сторонюсь телекамер,
блицев, редко даю интервью. О себе что говорить? Обычный питерский мальчишка,
чья судьба во многом отражает биографии моих сверстников, родившихся в
предвоенное десятилетие. Голодное детство, блокада. Я ленинградец в шестом поколении. И
дед, и прадед родились здесь, здесь и похоронены, сам видел их могилы 40-х годов
прошлого столетия, правда, сейчас то старое кладбище снесли.
В школе — я закончил ее после войны — увлекся спортом. Серьезно занимался
академической греблей, и довольно неплохо: наша четверка занимала призовые
места на первенстве Союза среди юношей. Школу закончил с медалью и отнес
документы в училище. Отец у меня был морским офицером, воевал здесь же, на Балтике.
Так что колебаний в выборе профессии у меня не было: Высшее военно-морское
имени Дзержинского, одно из старейших в стране, кораблестроительный факультет
которого располагался в Инженерном замке. Кстати, пока мы там жили, он был в
приличном состоянии. Сразу после окончания училища мне предложили пройти
переподготовку. Требовались инженеры-кораблестроители в спасательную службу. Из
нашего выпуска отобрали 13 офицеров, и около восьми месяцев мы переучивались в
Севастополе.
Затем — на Балтику. Назначили меня начальником аварийно-спасательной
службы на спасательное судно СС-87. Позже оно стало называться «Трефелев», в
память о корабле, который в 1941 году сбил первый фашистский самолет на Балтике.
Много работал под водой, освоил глубины до 200 метров, соответствующую технику.
В пятидесятые — начале шестидесятых начиналось освоение нашим флотом
Мирового океана. Порой за один год в двух «автономках» приходилось бывать.
А как вы оказались в отряде космонавтов?
В 1965-м предложили пройти отборочную медицинскую комиссию. У врачей ко
мне претензий не было. И с тех пор — вот уже 26 лет — в отряде.
Сразу попал на программу орбитальных станций (тогда были и лунные
программы). Это направление возглавлял академик Владимир Николаевич Челомей. И с
декабря 1967 года занимался прежде всего этой тематикой. За время подготовки нес-
10
колько раз был дублером. Сначала У Демина и Сарафанова. У нас тогда готовилось
сразу четыре экипажа: Попович—Артюхин, Сарафанов—Демин, Волынов—Жолобов и
Зудов—Рождественский. Степень практической готовности всех четырех экипажей
была одинаковой. Начинал со станции «Салют-2», которая потеряла герметичность и
перестала существовать. Потом готовился работать на «Салюте-3, -5». В 1976-м
дублировал Вольтова, и в том же году полетел сам.
Известно, что ваш полет был завершен раньше времени: стыковка со станцией
не состоялась...
Не буду говорить о том, что переживает в этом случае человек, который шел к
этому старту почти десять лет.
Полет с самого начала складывался сложно: ночной старт, стыковка в тени и
спуск тоже в тени. А программа была очень интересной. Полет планировался
двухнедельным, но с продлением, и мы были готовы идти на использование ресурса
станции: работать и месяц, и полтора, сколько потребуется. Но, как известно, стыковка
не получилась. Когда мы включили «Иглу» — это система сближения и стыковки —
она вошла в режим автоколебания. Хотя мы находились вне зоны связи, но знали,
как выйти из этой ситуации. Когда подошли к зоне, до станции оставалось около
300 метров, мы ее видели, но... баки были уже пусты. Правда, был еще один —
резервный, запечатанный, килограммов на 15, но на самый крайний случай. Таким
образом, возможности для какого-то маневра у нас уже не было. И тогда Земля
выдала команду: «Выключить )режим сближения». Где-то в глубине души мы надеялись,
что система еще перейдет в режим причаливания. В течение 3—4 минут Земля нам
давала команду, но мы ее «не слышали», продолжали режим. А когда убедились, что
ничего не получается, перешли в режим автономного полета.
Готовясь к возвращению, ориентацию корабля проводили очень тщательно.
Аппаратура даже не зарегистрировала расхода топлива на двигателях ориентации, все
делалось краткими импульсами, точность была, что называется, «по нулям». Мы
спокойно пошли на спуск, и все шло так, как нам рассказывали летавшие до нас.
Все шло обычно, правда, кое-что новое мы все-таки увидели — световые эффекты на
большой высоте вокруг спускаемого аппарата. Прошли плазму, сработала
парашютная система. А когда спускаемый аппарат висит на парашюте, ты, считай, уже дома,
на Земле. Но все приключения для нас, как оказалось, только начинались. Уже
установили связь с поисковым самолетом, слышали вертолеты. Все шло нормально, и
мы рассчитывали время касания Земли. Был октябрь, но в районе посадки — минус
23, да еще с сильным ветром. Поэтому ждали жесткого приземления. И вот в момент
касания вместо ожидаемого удара вдруг стали куда-то проваливаться. Сразу же
через дыхательное отверстие в спускаемый аппарат хлынула вода.
Оказалось, угодили в озеро Тенгиз. Озеро большое— 120 на 80 км, но, к
счастью для нас, мелководное. Нас сильно болтало, по оценке специалистов, шторм был
баллов шесть. Доложили, что приводнились, предупредили, чтобы не сбрасывали
аквалангистов, понимали, что в такую погоду, в шторм и мороз, людей можно
погубить. Решили выходить своими силами.
На корабле есть такая электронная плата почти с 1200 разъемами, которая при
разделении отсеков должна обесточиваться. И вот через 14 с половиной минут —
это время я очень хорошо запомнил — раздается взрыв и на пульте загорается:«Ввод
основной парашютной системы». Первый раз в жизни я почувствовал себя
сумасшедшим, Как же так: мы же ее отстрелили. Или мы на запасной спускались? Ведь во
время спуска табло горело. И в этот момент мы начали... переворачиваться люком
в воду. Хорошо, что перед этим решили не открывать и даже закрыли дыхательное
отверстие. А раз люком вниз, значит, мы оба повисли вниз головой. Антенны, само
собой, ушли под воду, и нас тут же потеряли. Мы поисковиков слышим, приемники
наши работают, но нас они не принимают.
В общем, ситуация для нас окончательно прояснилась: оставалось ждать
рассвета, а до него 12 часов. Сейчас, 15 лет спустя, можно взглянуть на все это
с юмором. Хватило бы на небольшую приключенческую повесть с заглавием
«Дожить до рассвета». Но тогда, понятно, нам было совсем не до смеха. Запаса систем
жизнеобеспечения оставалось на 5 часов. Наша задача — растянуть его на 12. Или
больше —мы не были уверены, что нас найдут утром. Начали снимать скафандры.
11
Остались в белье, потом, когда спускаемый аппарат остыл, надели полетные
костюмы; потом теплозащитные. Висели, как уже сказал,-вниз головой, да еще на боку.
Я внизу,Слава сверху, и нас к тому же болтало. Так что переодевание, должно быть,
тоже происходило в режиме циркового аттракциона.
Слышали, как ходят над нами вертолеты, но был очень сильный туман, и они
нас не видели. Наконец один из вертолетов обнаружил спускаемый аппарат, кто-то
подплыл на надувной лодке, но никакой помощи оказать нам из-за шторма не
смогли. Впрочем, нам и тут повезло: глубина, как я уже говорил, оказалась небольшая.
А то бы парашют утащил нас на всю глубину.
Словом, надо было держаться. Отключили освещение, все, что можно. Оставили
только радиоприемники. Я периодически выключал регенератор воздуха, чтобы
продлить его ресурс, передатчики, которые работали в автоматическом режиме... Так всю
ночь и «развлекался», включая-выключая системы.
...К утру непогода успокоилась. Иллюминаторы у нас были черными от сажи,
но вода — а озеро горько-соленое — все «съела», и мы увидели сквозь воду солнце.
Через какое-то время услышали зависший вертолет. Он, как мы поняли, сбросил
аквалангистов. Тогда и мы натянули гидрокостюмы — на случай, если вдруг придется
прыгать в воду. Водолазы с нами почему-то не перестукивались и вообще не
обращали на нас никакого внимания. Потом почувствовали рывок, спускаемый аппарат
выдернули из озера. Мы поняли, что нас эвакуируют на берег. Аппарат упал на бок,
подвеска отцепилась, но люк никто не открывал.
Собрав силы, я открыл люк, вылез по пояс из спускаемого аппарата. Смотрю,
спасатели стоят метрах в 10—15,. к нам никто не подходит. Потом мы поняли
почему: считали, что торопиться уже некуда, оттягивали неприятный момент.
Когда увидели, что я сам вылез, бросились к аппарату.
Валерий Ильич, еще что-то необычное в полете было?
Обычно космонавтов о «летающих тарелках» спрашивают. Их я не видел,
а вот американский тяжелый спутник наблюдал, он пролетал неподалеку.
Готовились ли вы к другим полетам?
Да, довольно долгое время оставался в резерве, был в дублирующих экипажах.
Потом занимался управлением полетов, работал в ЦУПе. Всю программу
«Интеркосмос» там работал, кроме, кажется, советско-монгольского экипажа. Потом в отряде
космонавтов, занимался и «Салютом-7».
Говоря спортивным языком, были игроком, затем играющим тренером...
А потом перешел на тренерскую работу. В 1985-м предложили возглавить один
из технических отделов. Это подразделение, где собран в&сь инструкторский
состав — специалисты, которые непосредственно готовят экипажи к полету. Работа
сложная, ответственная и очень интересная. Затем в том же управлении подготовки
космонавтов был заместителем по подготовке. А после этого предложили стать
начальником инженерного управления.
Чем занимается это управление?
Все тренажеры, которые есть в центре, включая обе центрифуги и
гидролабораторию, — это наша «подшефная» техника. Кроме того, управление занимается еще
двумя направлениями подготовки: по системам жизнеобеспечения человека — это,
кстати, важнейшее направление работы экипажа занимает в полете очень много
времени, и по подготовке экипажей (в гидролаборатории) к внекорабельной деятельности,
то есть к работе в открытом космосе.
Специалисты управления проводят много испытаний, активно участвуют в
создании новой тренажерной техники. Сейчас, например, работаем на комплекс «Мир»,
он в ближайшие год-два получит, как известно, еще два экологических модуля, и мы
готовим соответствующие тренажеры для него, а также для «Бурана».
Об этом Следует сказать отдельно. Динамическая кабина «Бурана» — тренажер
очень интересный, мы назвали его «кариатидой». Тренажер создает шестикратную
перегрузку. Шесть степеней свободы, вместе с платформой вся кабина «ходит».
Полная имитация прохождения плотных слоев атмосферы. Абсолютно точная имитация
захода на посадку и даже тряски на взлетно-посадочной полосе при пробеге.
2
Как я уже сказал, основная наша задача — создание новой тренажерной техники,
ее научное сопровождение, проведение испытаний и техническое обеспечение в
процессе эксплуатации. Главное, чтобы все выполнялось в срок. Что в условиях нашей
экономической разрухи совсем не просто.
Важнейшая наша работа — подготовка космонавтов. Здесь весьма тщательно
разработаны методики. Тренированность экипажей оцениваем довольно жестко,
разборы порой бывают нелицеприятные. Но для обид места нет: от выучки нередко
Жизнь зависит — и космонавта, и станции.
Отрабатываем «полеты» на гидроневесомость. В бассейне с водой проводим
испытания и отработку техники, которую потом используем в открытом космосе,
разрабатываем методики ее эксплуатации.
Видел на вашем рабочем столе программу на следующую экспедицию, которая
намечается на май этого года. В чем ее особенности?
Пожалуй, в том, что экипажу предстоит — если все пойдет нормально,
постучу по дереву, — выполнить значительный объем монтажных работ за пределами
станции, продолжив начатое Виктором Афанасьевым и Мусой Манаровым. Это
перенос солнечных батарей, которые сначала нужно сложить, а затем грузовой стрелой
перенести. Вместе с приводом это около одной тонны груза. Работа очень трудоемкая
и сложная. Поэтому все операции отрабатываются сейчас в бассейне.
Основной экипаж — Анатолий Арцебарский и Сергей Крикалев. Александр
Волков и Александр Калери их дублируют. Мы уже провели у них зачетные тренировки
по переносу солнечных батарей.
Валерий Ильич, в последнее время часто приходится слышать о том, что
космонавтика, дескать, — это пустая трата народных денег. Что вы думаете об отдаче
космоса экономике страны?
Это дилетантские, непрофессиональные суждения. Самый простой пример — из
европейской, части страны в. Сибирь и на Дальний Восток мы звоним, пользуясь
спутниковой связью. Спутники-ретрансляторы обеспечивают прием программ Центрального
телевидения во многих районах страны, прежде всего на Европейском Севере, Дальнем
Востоке, в Средней Азии и Казахстане. А служба погоды? А система спасения судов
и самолетов «ЕОСПАС—САРСАТ»? А работа в области экологии, геологии, сельского
и лесного хозяйства? Я не говорю уже о фотоснимках земной поверхности, которые
покупают у нас многие страны; о запуске иностранных спутников советскими
ракетами-носителями; о кристаллах, выращенных в невесомости, используемых
электронной промышленностью. Впрочем, подобный список можно было бы продолжать
довольно долго.
Мы хорошо знаем, сколько вкладываем в космонавтику, но плохо считаем
отдачу. На протяжении тридцати лет мы затратили на отечественную космонавтику
огромные средства. И теперь, когда наша страна занимает здесь лидирующие позиции
в мире, когда отечественная космическая отрасль дает все более ощутимую прибыль
народному хозяйству, говорить о необходимости сворачивания работ в космосе по
меньшей мере недальновидно. Это все равно что зарубить курицу, когда она,
перестав быть цыпленком, начала нести яйца.
Верно, экономика страны переживает трудное время. Именно поэтому и нужно
искать, как с помощью отечественной космической техники и технологии заработать,
в том числе и валюту.
Несколько слов о вашей семье.
!Еена, Светлана Александровна, окончила Ленинградский
кораблестроительный институт, с 1969 года работает в научно-техническом отделе подготовки
космонавтов. До этого работала в Калининграде, в научно-исследовательском институте.
Дочь с внуком-первоклассником живет в Москве, ее муж — военный летчик,—
погиб при исполнении служебных обязанностей.
Не жалеете, что оставили флот, море? Говорят, лучше гор могут быть только
годы...
И вместо моря — тоже море. Поэтому моряк может променять море только на...
космос.
Беседу вел Владимир ХРУСТОВ
13
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ-ДОСРОЧНО!
Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Т. ЯЗОВ за
успехи в боевой и политической подготовке досрочно присвоил очередные
воинские звания ряду офицеров Военно-Морского Флота.
КАПИТАН 1 РАНГА
Авдонину Владимиру Владимировичу
КАПИТАН 3 РАНГА
Бувайлину Сергею Георгиевичу
Волкову Александру Вячеславовичу
Жуку Эдуарду Станиславовичу
Корчемному Виктору Юрьевичу
Кудрявцеву Игорю Валерьевичу
Спрыжкову Сергею Викторовичу
МАИОР
Гоцеву Сергею Михайловичу
МАИОР МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
Хисматулину Фярдину Рюриковичу
КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ
Алхимову Сергею Викторовичу
Позырайко Сергею Викторовичу
Пуцману Владимиру Ивановичу
Сорокину Алексею Николаевичу
старший лейтенант
Бондарю Олегу Валерьевичу
Бугаю Виктору Владимировичу
Вернигора Андрею Петровичу
Горбу Анатолию Михайловичу
Казаку Дмитрию Михайловичу
Пастернаку Александру Васильевичу
Серединину Вадиму Валентиновичу
Тимакову Владимиру Владимировичу
Туптею Владимиру Георгиевичу
Харитонову Александру Евгеньевичу
Харько Михаилу Владимировичу
Ясинскому Евгению Витальевичу
Сообщения
В МАРТЕ 1991 г. флотские коммунисты завершили отчетно-выборную
кампанию, в ходе которой было завершено реформирование партийных
структур и разделение функций политорганов (ныне военно-политических органов) и
партийных организаций. Партийные бюро и комитеты избраны на кораблях, в
частях, учреждениях и учебных заведениях, как это было и ранее. Кроме того,
образованы новые парткомы в соединениях, объединениях, военно-морских
базах, на флотилиях и флотах.
Секретарями головных флотских парткомов избраны: капитан 1 ранга
B. Поликарпов (СФ), капитан 1 ранга И. Маврин (ТОФ), капитан 1 ранга А. Та-
ранько (ЧФ), капитан 1 ранга В. Попов (БФ), капитан 2 ранга Н. Тресков (КФ)
и капитан 1 ранга В. Ильин (ЛенВМБ).
* * *
/СОСТОЯЛАСЬ встреча главнокомандующего Военно-Морским Флотом адми-
^ рала флота В. Чернавина с писателями-маринистами и журналистами,
пишущими о флоте.
Шла речь и о состоянии современной маринистики.
Большое место на встрече занял разговор о подготовке к 300-летнему
юбилею российского регулярного военного флота, который, как отмечали многие
выступавшие, должен стать всенародным праздником.
И все же главной темой разговора оставалась литература. О
взаимоотношениях писателя с флотом говорили, в частности. Ю. Виноградов, В. Гузанов,
C. Зонин, Д. Паттерсон, В. Марченко, В. Тюрин. Как один из конкретных и
важных шагов к возрождению лучших традиций маринистики следует рассматривать
недавно созданную Всесоюзную ассоциацию писателей-баталистов и маринистов,
президентом которой стал Ю. Виноградов.
В ходе встречи главнокомандующий ВМФ ответил на многочисленные
вопросы писателей и журналистов. Было высказано пожелание сделать подобные
мероприятия традиционными.
* * *
Появившиеся в некоторых органах печати сообщения о возбуждении вновь
уголовного дела по факту пибели 7 апреля 1989 г. атомной подводной лодки
«Комсомолец» содержат некоторые неточности.
Как нам сообщили в Главной военной прокуратуре, уголовное дело,
возбужденное после гибели ПЛ, не закрывалось. Оно было приостановлено глав-
14
ным военным прокурором до уточнения обстоятельств катастрофы после
подъема подводной лодки и проведения на ней технической экспертизы, так как
выводы государственной комиссии-все же носят предположительный характер.
Возобновление следствия именно в данное время, когда до планируемого
срока подъема остается немногим более года, связано с необходимостью
выполнения определенного объема предварительной следственной работы,
переосмысления ряда документов, показаний свидетелей, связанных с проектированием,
сдачей лодки в эксплуатацию, подготовкой экипажа и другими вопросами.
Так рождаются «сенсации»
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»: ТОРГОВ НЕ БЫЛО
17 декабря 1989 г. в «КП» под заголовком «8 месяцев спустя» было
опубликовано интервью нашего корреспондента В, Юнисова с капитанам 1 ранга в
запасе А. Н. Горбачевым. Речь шла о причинах гибели моряков с атомной
подводной лодки «Комсомолец». Среди версий высказывалось предположение,
согласно которому экипаж АЛЛ можно было спасти полностью, если бы плавбаза
«Севрыбы» «А. Хлобыстов» вовремя прибыла к месту катастрофы. Задержку же
с выходом для оказания помощи некоторые объясняли тем, что руководство
БПО «Севрыба» якобы еело переговоры со штабом Северного флота об оплате
спасательной операции.
Интервью заканчивалось словами: «Но я все же предлагаю: давайте не
заниматься взаимными упреками. Пусть свое слово скажет следствие...»
И вот следствие закончилось. Военная прокуратура пришла к выводу, что
экипажем ПБ «А. Хлобыстов» были своевременно приняты необходимые меры
и сделано все возможное для оказания помощи терпящим бедствие.
Командование Северного флота сообщило, что оно оценивает действия
руководства «Севрыбы» и ПБ «А. Хлобыстов» как своевременные, четкие,
грамотные и ответственные.
Таким образом, версия о торгах отвергнута.
В. КУЗНЕЦОВ
4iКомсомольская правда» от 17.1.91 г.
«морской сборник»: ВРАЛИ ИЛИ НЕ ВРАЛИ?
ИТАК, обвинение в торгах, которые якобы велись между командованием
Северного флота и руководством «Севрыбы» об оплате спасательной операции,
высказанное на страницах «Комсомольской правды», тихо «превратилось» в
версию. Что ж, как говорится, не впервой. После «сенсации» «Комсомольской
правды» о бунте на крейсера «Киров», помнится, не только опровержения, но даже
скромного признания собственной лжи не последовало. Таков, как видно, стиль
газеты: врать, особенно, если это касается армии и флота, как можно громче, во
всеуслышание, а признаваться во вранье сквозь зубы или не признаваться вовсе.
Вот и теперь, сообщая читателям о том, что «версия о торгах отвергнута»,
«Комсомольская правда» опять недоговаривает. Нет бы прямо сказать, что торгов не
было, что газета устами своих нечестных авторов обманула читателей, и
извиниться за оскорбление рыбаков и военных моряков, но увы... На это тоже
требуется мужество. То самое мужество, что было проявлено всеми, кто боролся за
спасение атомной подводной лодки «Комсомолец», и даже толики которого так
не хватило редакции.
P. S. После того как этот комментарий был подготовлен к печати,
«Комсомольская правда» в номере от 14.02.91 г. вновь выступила на сей раз с
редакционным сообщением под тем же заголовком. Поводом для этого сообщения
послужило обращение БПРО «Севрыба» в Свердловский нарсуд столицы. В
этой связи суд предложил редакции «опубликовать опровержение о том, что
сведения в статье В. Юнисова «8 месяцев спустя» (17 декабря 1989 г.) о
неправильных действиях БПРО «Севрыба» и плавбазы «Алексей Хлобыстов» по
ведению спасательных работ, о наличии «торгов» об уплате за спасательную
операцию не соответствуют действительности».
Приведя текст решения суда, редакция в присущем ей стиле вновь уходит
«на крыло» и «приносит извинения всем лицам, которым пришлось столь
длительное время ожидать информации о результатах расследования». Возникает
закономерный вопрос каким лицам? Нашкодившим В. Юнисову и капитану
1 ранга А. Горбачеву, которые, надо полагать, больше, чем кто-либо, ждали
решения суда? Или все-таки рыбакам и военным морякам? Неясно...
15
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
СУДЬБЫ ДОКТРИН И ТЕОР
5. К ИСТОРИИ ВОПРОСА О «МАЛОЙ ВОЙНЕ»
1927 — 1928 гг.
Капитан 1 ранга М. МОНАКОВ
Старший мичман в запасе Н. БЕРЕЗОВСКИЙ,
кандидат исторических наук
ГЛ КТЯБРЬСКИЙ номер «Морского сборника» 1927 года открывался статьей на-
\~J чальника Управления Военно-Морских Сил РККА Ромуальда Адамовича Мукле-
вича «Десятилетие Октябрьской революции и морской флот» 2. Небольшая по объему,
она содержала немало общих мест, вполне соответствуя канонам жанра тех лет,
однако отражала мнение руководства флота по ряду крупных проблем.
Статья состояла из трех самостоятельных частей: «Международное положение
и возможности страны», «Наша военно-морская политика», «Флот и его задачи».
Содержание первых двух разделов не выходило за рамки господствовавших в то
время взглядов, разве что во втором были подвергнуты легкой критике товарищи,
«которые считали бы, что флот нам не нужен». По-настоящему «доктринальной»
могла считаться лишь одна фраза, составленная в уже входившей в обиход манере
выражаться «от имени» и «за всех»: «Каждому ясно, что строить линкоры и
вашингтонские крейсера3 нам незачем. Мы не занимаемся мировым разбоем, да и денег
нужно для таких крейсеров слишком много».
Тем самым Муклевич по сути констатировал, что флот СССР, говоря
современным языком, не собирается выходить за рамки минимума оборонной достаточности и
споры о целесообразности строительства крупных боевых кораблей закончены.
Однако помещенная в том же номере статья И. Лудри «Красный флот в составе
Вооруженных сил Республики» свидетельствует, что полемика вокруг проблемы
авианосцев, линкоров, крейсеров и «малой войны» продолжалась. Обращает на себя
внимание задиристый тон недавнего выпускника академии, резкость и категоричность
суждений, явное желание продемонстрировать прежде всего собственную
непримиримость. Лудри резко критикует «нездоровые взгляды о самостоятельности флота»,
впрочем, ответственность за их живучесть делит поровну между «старой школой
царского флота» и «сухопутными начальниками». Так впервые в полемике о роли и
месте флота появляется понятие «старая» школа, причем именно в том смысле,
какой изначально вкладывался в него всеми ее ниспровергателями. Признавая
«неустойчивость взглядов о месте флота и его задачах среди таковых вооруженных сил
СССР в целом», автор утверждает, что это достаточно хорошо видно на примере
решения вопроса «с береговой обороной, которая по нескольку раз переходила из
рук сухопутного командования во флот и обратно», а также и в том, что
«нерешенным до сего времени еще многие считают вопрос с военно-воздушными силами
моря, роль которых по отношению к морским силам данного моря и вооруженным
силам вообще... является спорной». Сам же автор, по всей видимости, спорным его
не считал. Так, им с порога отрицалась идея развития в нашем флоте палубной
авиации. Впрочем, и в этой статье собственно о задачах ВМС РККА ясно сказано
не было. «Флот не имеет самостоятельных, независимых от Красной Армии задач.
Флот может и должен иметь самостоятельные операции в пределах задач,
поставленных сухопутным командованием...». 3ja фраза скорее рождала новые вопросы,
нежели давала ясные ответы.
А жизнь ставила самые разные проблемы. В том числе и лежащие, строго
говоря, за рамками теории военно-морского искусства.
1 Продолжение Начало см. «Морской сборник» №№ 11, 12 за 1990 г. и №№ 2, 3 за
1991 г.
2 Морской сборник. — 1927. — № 10.
3 Крейсера, построенные в соответствии с ограничениями, установленными
"Вашингтонской конвенцией 1921 — 1922 гг.
16
В начале 1928 г., когда в основном завершилась многолетняя война с
«главным оппозиционером» Л. Троцким и его сторонниками, стала набирать обороты
кампания по борьбе с «вредителями» в народном хозяйстве. В армии и на флоте
обстановка вокруг «спецов», уцелевших после чистки 1926 г., пока была
относительно спокойной. Имевшие свои взгляды военные ученые еще получали
возможность излагать их на страницах армейской и флотской печати. Этим в полной мере
пользовался М. А. Петров, возглавивший в 1927 г. Учебно-строевое управление
УВМС РККА, оставаясь одновременно во главе кафедры Военно-морской академии, и
даже удостоенный звания профессора. «Морской сборник» начал публикацию серии
его статей под общим названием «К постановке вопроса о малой войне» 4.
Обращаясь к этой теме, автор, похоже, вполне представлял, насколько сложно
будет доказать свою правоту, когда в дискуссию втягиваются мощные противники
его взглядов — не только «ликвидаторы» из штаба РККА, но и костяк первого
«пролетарского» выпуска командного факультета академии — в разной степени уже
заявившие о себе И. Лудри, К. Душенов, А. Александров, А. Якимычев.
Один из современников назвал Петрова человеком малоприятным. Возможно,
что так оно и было и даже в какой-то мере предопределило его трагическую судьбу.
Однако, вчитываясь в написанные им статьи и книги, нельзя не признать, что
дискуссию он вел корректно, стремясь аргументированно доказать свою правоту, не
унижая оппонента, проявлял при этом широту взглядов, готовность к компромиссам
там, где они были возможны, понимая неприемлемость крайностей.
Первая проблема, поставленная им, — это проблема «приложимости» теории за
обладание морем к «малой войне». Полагая необходимость начать с «жесточайшей
ревизии отправных взглядов», с которыми он и его единомышленники «подходили к
изучению военно-морского искусства», Петров вновь обратился к методу, в
соответствии с которым «в основе строительства флота, его подготовки и боевого
использования и даже воспитания руководящего личного состава...» лежали «четко
поставленные, ясно аргументированные задачи флота».
Однако «первое, с чем приходится встретиться, наблюдая приложение этого
метода в конкретных условиях, — ...это стремление к вполне четкому и не
допускающему различных решений... «жесткому» определению этих задач... В такой
постановке вопроса, — предостерегал Петров, — возможно различить тенденцию, эта
последняя сводится как бы к прямолинейной схеме мышления... эта тенденция
родит другую, которую можно назвать тенденцией одного варианта».
Не имея под рукой иных примеров, кроме как из недавней истории
Российского императорского, флота, он обратился к плану операции на Балтийском
море, составленному в 1912 г., и пришел к выводу, что в нем «отметались все
возможные действия противника, кроме одного (прорыва германского флота в Финский
залив), откидывались различные случаи политической обстановки; так не был
достаточно оценен факт коалиционной войны, не был достаточно оценен
западноевропейский театр, с комплексом своих задач, не могущих не найти себе отражения и
на плане русского флота».
«...Подготовка к нескольким вариантам, ...страхующая... от предвзятых идей...»,
судя по всему, так и не была тогда воспринята молодыми руководителями наших
флотов. Именно в эти годы сложился «статический» (по Петрову) подход, убивающий
инициативу, особенно губительный для «малого флота», действующего в обстановке,
«когда операции на море не имеют самостоятельного значения и носят характер,
подчиненный по отношению к операциям, выполняемым на главном театре».
Положения, которые отстаивал Петров, после его ареста и осуждения были немедленно
отнесены к разряду «реакционной буржуазной военной науки» и не то чтобы просто
отвергнуты, а буквально вытравлены из советского военно-морского искусства на
долгие годы.
Но вернемся к его статье. Заключая свои рассуждения выводами, он исходил
из уже знакомой нам идеи активного флота, которой пронизано буквально все, что
написано им за долгие годы научной и практической деятельности: «Тот, у которого
боевых ресурсов мало, должен искать условий, компенсирующих недостаток его сил».
4 Морской сборник. — 1928. — №№ 1—3, 5—8.
2 «Морской сборник» № 4 ■-/
Нарком сбороны обходит строй военных кораблей. 1925 г.
Самое опасное для советского флота, как считал Петров, была высокая вероятность
вновь попасть в разрыв между теорией и практикой. Внимательно анализируя
содержание полемических выступлений, он обнаруживает «размах идей», подобный
амплитуде качания маятника и потому не обещавший, по его мнению, формирования
устойчивых взглядов на сущность теории «малой войны» как конечной цели
дискуссии. «Если мы, говоря про теорию владения морем, венчаемую генеральным боем
с противником, сочтем ее... мерой первоначального отклонения, то последующим
должно быть возникновение идей противоположного тона, может быть, столь же
отдаленное от... устойчивых объективных суждений... Спорящие... становятся в своем
роде доктринерами... защищая свои крайние положения»... t
В подтверждение этого вывода жизнь тут же преподнесла Петрову пример
в виде публикации одного из самых пылких его оппонентов К. Душенова (название
его статьи вынесено в подзаголовок). Он начал со своеобразной «декларации о
намерениях»: «...Практики фронтов гражданской войны — коммунисты, придя в
Военно-Мореную Академию и другие в-м Учебные заведения, решили научно овладеть
военно-морским делом, осмыслить свой опыт и провести необходимую ревизию в
учении буржуазных школ о войне на море с точки зрения диалектического
материализма» 5. Прочитав это заявление, теоретики «старой» школы должны были понять,
что настала пора выбрасывать белый флаг. Но Петров настойчиво продолжал
апеллировать к выводам «объективной» науки, а Жерве выражал свою «лояльность»
повышенным вниманием к методу диалектического материализма. i
Между тем в полемическом запале Константин Иванович отстаивал идеи, при
беспристрастном анализе не выдерживающие серьезной критики. Обрушившись на
основные труды Петрова < Морская оборона берегов в опыте последних войн России»
и ^Подготовка России к мировой войне на море», в резко эмоциональной форме ставя
с ног на голову его логику, он фактически высмеивает основную идею, присущую
этим трудам, — идею активного ведения операций и систематических действий вне
зависимости от соотношения сил на море, сводя, к примеру, задачу флота на Балтике
почти исключительно к обороне Ленинграда — «нигде иначе, как на определенных
рубежах, подготовив их соответствующим образом». Душенов вполне убежден, что
флот, «как часовой, поставленный на ответственный пост, считается выполнившим
задачу и тогда, если на него или на охраняемый пост никто че нападает. Не
обязательно такому часовому бросить пост и часть оружия — как минно-артиллерийскую
позицию, связь, инженерные средства и пр. и бежать разыскивать возможного
противника...». Или вот еще одна примечательная цитата: «...Разбирая начало
кампании 1916 года, т. Петров, торжествуя, говорит: «Флот не был более прикован к
местным интересам берегового командования и перед ним раскрывались широкие
перспективы по ведению самостоятельных боевых операций в море». Но это тор-
6 Морской сборник. — 1928. — № 4. — С. 20, 40-44.
\8
жест во т. Петрова быстро омрачилось, таи как «главные силы Балтийского флота в
течение всего лета были в состоянии тягостного бездействия». Почему? Да потому,
что не было объента. Т. Петров не соглашается с этим и ставит задачи: прекращение
морских сообщений Германии со Швецией (борьба на коммуникациях противника. —
Авт.)... перебрсска десанта на Курляндское побережье (содействие сухопутным
войскам), борьба с противником на море (уничтожение военно-морских сил противника
на театре)...» По Душенову — это глубокое заблуждение.
А сегодня? Разве не звучит некомпетентная, но «хлесткая» критика
оборонительной стратегии боевого использования нашего флота, основанной на принципах
активных действий, под стать той, что сделаны Душеновым шесть десятилетий тому
назад: «...Лозунги «в открытое море», «навстречу врагу»... не наши лозунги еще и
потому, что под прикрытием трескучей фразы ведут к разделению наших сил и
облегчают этим противнику возможность разбить нас по частям. Как это на первый
взгляд ни парадоксально звучит, зерна пораженчества, в худшем понимании этого
слова, скрыты именно в этих сверхактивных лозунгах, несоразмерных с
действительностью».
Чтобы сегодня понять значение дискуссии о «малой войне», стоит хотя бы в
общем рассмотреть ее исторический фон. 2—19 декабря 1927 г. в Москве работал
XV съезд ВКП(б), на котором был поставлен в качестве главного вопрос об
ускоренной индустриализации СССР и утверждены директивы первого пятилетнего плана.
Содержание этого плана прямо вытекало из выводов, которые съезд сделал,
рассмотрев международное положение СССР и перспективы «капиталистического»
развития, которое в соответствии с анализом высшего органа партии «в целом
обнаружило тенденцию сократить исторические сроки мирной «передышки»,
приблизить новую полосу больших империалистических войн и ускорить революционную
развязку мировых конфликтов». Съезд потребовал «при разработке пятилетнего
плана уделить максимальное внимание быстрейшему развитию тех отраслей народного
хозяйства вообще и промышленности в частности, на которые выпадает главная
роль в обеспечении обороны и хозяйственной устойчивости страны в военное
время»... б,
РВС СССР и штаб РЕКА с 1928 г. приступили к разработке первого
пятилетнего плана строительства Красной Армии. Естественно, что сразу же возникли
проблемы с разработкой кораблестроительной программы, отвечающей экономическим
возможностям страны и задачам Вооруженных Сил, созданием системы базирования
и обеспечением жизнедеятельности сил флота. И вновь, как и в 1925—1926 гг.,
мнения моряков и высших армейских руководителей резко разделились. М.
Тухачевский, все еще возглавлявший штап РККА, подготовил свои предложения, а
Р. Муклевич — предложения УВМС РККА. Поскольку решить спорные вопросы
путем обмена мнениями напрямую не удалось, разногласия в очередной раз были
вынесены на решение РВС СССР, которому предстояло сказать последнее слова в
многолетней дискуссии.
Заседание РВС СССР по этому поводу состоялось 8 мая 1928 г. На него,
помимо членов Реввоенсовета и руководящих должностных лиц штаба РККА. УВМС и
ряда центральных управлений, были приглашены командующие войсками МВО, УВО,
БВО, командующие и члены РВС морских сил Балтийского и Черного морей.
Основной вопрос повестки дня был: «О роли, значении и задачах морского флота в
системе Вооруженных Сил СССР».
Моряки в сравнении с дискуссией периода 1924 —1926 гг. заметно сплотились
и совместно боролись за свои идеи. От УВМС РККА было подготовлено три доклада.
Аргументы штаба РККА были в сущности прежними. М. Тухачевский,
обратившись к председательствовавшему К. Ворошилову, был совершенно откровенен и прям:
«Вопрос о роли или, лучше сказать, о возможных средствах, которые можно
расходовать на морской флот, ставится в продолжение последних 4—5 лет... ежегодно и
нервирует обе стороны... До сих пор развитие морского флота не шло по какой-либо
определенной программе, вызываемой планом войны. Программы... выражаясь грубо,
протаскивались через Реввоенсовет под разными предлогами. ...Наш морской флот
является богатым наследством от царского флота. Но в наших условиях, по нашим
6 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.-=»,Т. 4.—
М.: Политиздат, 1984. — С. 258, 276.
а. - 19
Военные моряки среди участников Пленума РВС СССР 1927 г. Первый справа сидит
В. М. Орлов. Стоят: третий справа А. К. Векман, пятый — М. В. Викторов
ресурсам, с нашими планами войны это наследство ке согласовано. Восстановление
морского флота и развитие существующей большой морской программы происходит
не в развитие плана войны, а в развитие... морского патриотизма наших морских
работников... Мы находимся в положении прямо противоположном Японии и Англии.
Морскими операциями даже самых мощных мировых империалистов нельзя нарушить
ни нашей экономической, ни политической целостности. V нас нет такой внутренней
коммуникации, которой могли бы угрожать морские флоты противника. Правда, нам
может угрожать десант. Но, во всяком случае, не морская операция угрожает нашим
тылам, а те сухопутные действия, которые будут развиваться в результате десанта...
С точки зрения задач обороны... морской флот играет чисто вспомогательную роль
при выполнении наших операций. Сухопутная армия и воздушный флот — вот
основные киты, на которых фактически зиждется наша оборона страны. Чем больше средств
мы здесь сосредоточим, тем больше выиграет дело обороны... Несомненно, при
успешном развитии для нас войны и революционного движения в Западной Европе, можно
себе представить такое положение, когда морской флот можно будет использовать с
большим успехом, но пока об этом трудно говорить... В случае борьбы с Англией наш
линейный Балтийский флот будет стеснен в своих действиях... при наличии
английского флота наш флот будет заперт в узком заливе и не сможет сыграть большой
роли... Оборонительные задачи, которые мы имеем, должны быть разрешены целым
комплексом усилий... 1) подвижной береговой артиллерией... 2) соответствующим
расположением запасных стрелковых частей и резервов главного командования,
которые обеспечат фланги и смогут опрокинуть производящиеся десанты, 3) с помощью
бомбовозной авиации, которая представляет колоссальную опасность для современных
флотов, и, наконец, 4) самим морским флотом, рассчитанным в своем развитии для
участия в общем комплексе береговой обороны...»7
Петров выступил сразу же после доклада Тухачевского: «Мы будем иметь
возможность создать флот и это непременно будет, потому что мы создаем мощную
технику и стремимся к экономическому развитию страны, которое потребует выхода на
пути мировой торговли и т. д. Поэтому разрешите не так безнадежно смотреть на
перспективы будущего нашего флота...
...Из чего исходить, определяя задачи флота, — обращаясь к Реввоенсовету,
продолжал Петров. — Конечно, основная установка вытекает из текущего плзна
войны, из тех предположений, которые ориентируют последний. Другая установка,
которую мы не можем не учесть, это возможные изменения в международной нонъ-
1 ЦГАСА, ф. 4, оп. 1, д. 755, лл. 1-8, 9-16.
20
юнктуре, которая не является стабильной, а потому и в постройке флота надо
сделать допуск на ряд лет вперед. Затем мы не должны упускать из виду значения
флота как фактора реальной поддержки морской политики Союза. Кроме того, мы не
должны упускать из виду возможную роль флота для особых задач по поддержке
очагов мировой революции... Главный театр — это сухопутный, второстепенный —
морской, и расхождений в этом вопросе нет. Но есть расхождения в оценке той
угрозы, которая возможна со стороны моря, в оценке роли и значения флота в общей
конъюнктуре предстоящей войны. ...Мало базироваться только на оперативных
соображениях и недооценивать факторов политического порядка. ...В мировую войну до
семнадцатого года на Балтийском, и Черном морях наш флот не имел крупных
операций по обороне берегов. Но нельзя не принять во внимание, что у противника не
было в то время свободных ресурсов и как только эти свободные ресурсы появились
в июле семнадцатого года, так сейчас же мы получили Моонзундскую десантную
операцию. ...Можем ли мы недооценивать значение морских направлений, если
предположить, что имперализм будет наступать со стороны моря..? ...Беря за основную
установку, что морские театры имеют у нас второстепенное значение, разрешите
доложить, что обеспечение этих второстепенных направлений имеет существенное
значение для общего развертывания наших сил и нельзя смотреть на них как на пустое
место.
Конечно, теперь у нас политика не та и стремления не те... ко географический
фон остался тот же. Проблема каждого моря является крупной политической
проблемой и в нашем современном преломлении, и мы должны признать огромное значение
этих морских направлений как в политическом, так и в экономическом
отношениях... Мы не собираемся давать генеральных сражений английскому флоту. В основе
наших предположений лежит принцип «малой войны». ...Армия имеет главные
задачи... Мы нисколько не претендуем на большое место и подчиняемся тем
директивам, которые будут исходить от армии. Типичными задачами флота являются: оборона
берегов, противодействие противнику, крейсерские операции и т. д. ...Для нас
совершенно разно ставится вопрос: противник наступает или не наступает, находится ли
Красная Армия в наступлении, движется назад, дерется ли на стабильном фронте?
...Сейчас перед нами стоит задача совокупности всех операций и всех тех заданий,
которые могут потребоваться от флота... ...Нам нужно... боевое ядро для решения
всех совокупных задач... Этим основным ядром являются линейные корабли,
обеспечивающие операции малой войны. Здесь говорят о москитном флоте. Куда он нас
ведет? ...На частные мелкие операции... Оборона побережья может быть решена
армией на все 100%, если армия сумеет быстро сосредоточиться и если она не будет
образовывать новых фронтов в тылу, если армию не пугает попытка ликвидации
высадившегося противника. Если эти силы налицо, то армия может полностью
сохранить берег. Этого у нас нет.
Говорят, что задачу береговой обороны можно возложить целиком на крепостные
приморские сооружения. Да, если нужно охранять одно узкое направление...
Говорят — авиация. Но авиация может решить задачу... только в том случае, если бы
ока нанесла удар соответствующей силы, если бы была жизненной во всех условиях
обстановки...
Нам необходимо гармоническое сочетание всех средств, и иначе быть не может...»
Аргументы, выдвинутые Петровым, выглядят не менее, а по отдельным
позициям и более убедительными, нежели те, которыми оперировал Тухачевский,
назвавший, кстати, Михаила Александровича «незаурядным стратегом».
В постановлении РВС, принятом после бурного обсуждения, были сделаны
серьезные уступки морякам. Что при этом сыграло большую роль — аргументы Петрова
или фактическое смещение Тухачевским», назначенного командующим войсками
Ленинградского военного округа, судить трудно. Примечательно, что, вступив в
должность командующею войсками ЛВО, Тухачевский счел необходимым наладшь более-
широкое и тесное взаимодействие с командованием морских сил Балтийского моря.
Постановление Реввоенсовеп СССР от 8 мая 1928 г. «О значении и задачах
морских сил в систем»» вооруженных сил страны» гласило:
«I. Признать необходимым укрепление и развитие Военно-Морских Сил в общем
плане военного строительства.
II. При развитии Военно-Морских Сил стремиться к сочетанию надводного и
подводного флотов, береговой и минно-позиционной обороны и морской авиации, отве-
21
чающему характеру ведения боевых операций на наших морских театрах в обстановке
вероятной войны.
III. Учитывая роль морских операций на Балтийском и Черноморском театрах,
считать основными задачами Военно-Морских Сил РККА: а) содействие операциям
сухопутной армии в прибрежных районах; б) оборону берегов в условиях
совместного разрешения этой задачи средствами морских сил сухопутной армии; в)
действия на морских коммуникациях противника; г) выполнение особых морских операций.
Успешное выполнение вышеуказанного Военно-Морскими Силами возлагает на
флот, береговую оборону и морскую авиацию следующие задачи:
а) на флот:
1. Содействие сухопутным операциям при выполнении поставленных задач;
2. Непосредственную огневую поддержку прибрежных укреплений;
3. Ведение активной обороны на море путем операций малой войны;
б) на береговую оборону: оборону пунктов, имеющих важное стратегическое
значение (баз флота, политических и экономических центров); в) на морскую авиацию:
обеспечение Военно-Морских Сил в операциях, действия против флотов, а также
против военно-морских и воздушных сил и баз противника.
IV. По составу флота руководствоваться нижеследующим:
а) основным фактором, сообщающим операциям флота боевую устойчивость и
активность действий, являются линейные корабли;
б) развитие легких сил (крейсера, миноносцы, торпедные катера, сторожевые
суда, канлодки) должно отвечать требованиям современной морской войны и
соответствующей организации флота на наших театрах с учетом особенностей характера
использования морских сил в будущей войне;
в) развитию подводного плавания уделять особое внимание, при учете
специальных операций подводных лодок и обеспечения возможности совместных их действий
с надводным флотом;
г) развитие минно-позиционных средств флота сообразовать с необходимостью
обеспечения выполнения указанных выше задач Военно-Морских Сил.
V. Штабу РККА совместно с УВМС в двухмесячный срок внести в РВС СССР
план организации новых и поддержания в боевой готовности существующих речных
и озерных флотилий.
VI. Штабу РККА уточнить планы в согласии с настоящим постановлением о
боевых задачах Морских Сил.
VII. Штабу РККА совместно с УВМС принять участие в разработке плана
строительства Волго-Донского канала в целях согласования его с задачами обороны»8.
С принятием этого постановления, казалось, были поставлены все точки над i
и предмета для дискуссии как такового более не существовало. Однако она
продолжилась. В нее втягивались все новые и новые лица, и все дальше ее содержание
удалялось от первоначально поставленной цели, все более приобретая формы
политической борьбы...
Правительственные решения, принятые в мае 1928 г., предопределили целый
исторический период развития отечественного флота. В силу военно-политических и
экономических причин возобладала компромиссная теория «малой войны на море»,
что было утверждено в качестве официальной военно-морской доктрины Боевым
уставом морских сил РККА (БУМС-ЗО). Разработанная для ее реализации
кораблестроительная программа предусматривала создание преимущественно «москитного
флота» — легких сил, подводных лодок, морской авиации и морской обороны — для
решения главным образом задач вблизи своего побережья и содействия приморским
флангам фронтов. По составу сил и средств облик нашего ВМФ накануне войны был
преимущественно таким.
Взглядом из настоящего публикуемые страницы истории позволяют судить, как
и во имя чего «ломались копья», а также оценить прозорливость сторонников
альтернативных концепций. И хотя решения были приняты к исполнению, борьба идей
«старой» и «молодой» школ на этом не угасла. О том, как она развивалась в
дальнейшем, — в последующих публикациях на страницах журнала.
' Военно-исторический журнал. — 1988. — № 5. —_ С. 62—63,
22
Научное обеспечение
ОРИЕНТИР
НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
военной реформы
В процессе военной реформы науке отводится
важнейшая роль. С ее помощью должно быть
обеспечено: максимальное использование результатов
фундаментальных и поисковых исследований при создании
новых, более эффективных и экономичных средств и
способов вооруженной борьбы, качественное
совершенствование оружия и техники на основе последних
научно-технических достижений.
Учитывая интерес военных моряков к проблемам
развития науки в ВМФ на современном этапе,
редакция попросила ответить на ряд вопросов
председателя научно-технического комитета ВМФ
контр-адмирала В. Безносова.
Вячеслав Николаевич, не все
читатели, видимо, знают, что собой
представляет система научных организаций
Военно-Морского Флота. Несколько слов
об этом.
Существующая в ВМФ система
научно-исследовательских учреждений (НИУ)
складывалась в основном в течение
последних 50 лет. Сегодня она
представляет собой специфический и довольно
крупный в сравнении с другими видами
Вооруженных Сил СССР научный
комплекс и включает специализированные
научно-исследовательские институты и
центры, экспериментальные базы,
испытательные полигоны, проблемные и
исследовательские лаборатории наших
высших учебных заведений.
Масштабность и многоплановость научных
исследований определяется спецификой
ВМФ. Ведь современный флот имеет
практически все виды вооружения и
техники, применяющиеся во всех остальных
видах наших Вооруженных Сил и родах
войск. Кроме того, наши НИУ проводят
и комплексные, системные исследования
общих проблем развития, строительства,
подготовки и применения сил ВМФ в
современных условиях и в перспективе,
а также вопросов развития
военно-морского искусства.
О военной реформе пока говорят в
будущем времени, но ведь за последние
годы в системе научно-исследовательских
учреждений, как и в некоторых других
структурах ВМФ, уже произошли
определенные изменения. В чем их суть и
направленность? Изменились ли сами за.
дачи, решаемые флотскими учеными?
Да, действительно, нет в жизни
ничего застывшего, меняется и система
наших НИУ в полном соответствии с
законами диалектики. Это вызвано
необходимостью совершенствовать
организацию решения научных и технических
проблем, приведения ее в соответствие
с требованиями времени. Последние
изменения относятся к 1988—1989 гг.,
когда после известного постановления
правительства 1986 г. «О деятельности
отраслевых НИИ» были произведены
структурные преобразования и в системе
НИУ ВМФ. Почти в два раза
сокращено их количество путем объединения
ряда из них в более крупные, с более
развитой лабораторной и
экспериментальной базой. Сокращена и общая
численность научных работников, изменилось
соотношение между сотрудниками
военнослужащими и вольнонаемными в
пользу последних.
В настоящее время систему наших
НИУ в штатном отношении можно
оценить как близкую к оптимальной и в
целом обеспечивающую решение свойст-
23
венных задач, которые в принципе
остались прежними.
С 1989 г. НИИ ВМФ переведены на
хозрасчет. По существу, впервые в
военной практике административные
методы управления наукой дополнены
экономическими. Внедрена новая система
планирования к оплаты труда как
эффективный стимулирующий фактор
повышения качества исследований, их
результативности, сокращения сроков
работ. Повысилась самостоятельность и
ответственность руководителей на всех
уровнях. Но должен сказать, далеко не
все здесь нас устраивает.
Проблема резкого повышения отдачи
от науки сейчас одна из острейших для
нашей страны. В то же время до
недавних пор мы юрдились тем, что в СССР
работает чуть ли не половина людей,
занятых наукой во всем мире. А каков
научный потенциал Военно-Морского
Флота?
Он зависит не только от количества
и уровня подготовки научных и научно-
педагогических кадров, но и качества
информационного обеспечения,
технической оснащенности лабораторно-экспери-
ментальной базы. Безусловно,
определяющим являются люди, кадры наших
ученых.
В настоящее время флотскую науку
представляет большой отряд
дипломированных ученых различных научных
специализаций, из них каждый десятый
доктор наук. В их числе профессора,
заслуженные деятели науки и техники
член-корреспондент АН СССР.
Примерно половина из них работает в области
развития и эксплуатации вооружения и
техники, около 30% в области военно-
морского искусства, исследования
операций и управления силами.
Среди научных учреждений ВМФ
укомплектованностью учеными,
научно-методическим уровнем и реальной
отдачей в практику деятельности флотов
выделяется наша Военно-морская
академия, которая по праву является центром
научной мысли флота. В Академии,
институтах, училищах функционирует
19 специализированных научных советов
по присуждению ученых степеней
кандидата и доктора наук.
Между тем состав научного корпуса
не в полной мере удовлетворяет наши
потребности. За последние годы Военно-
Морской Флот начал сдавать передовые
позиции в вопросах подготовки научных
и научно-педагогических кадров. По
укомплектованности ими мы стали
заметно уступать другим видам ВС.
Сейчас командованием ВМФ принимаются
меры, чтобы в ближайшие пять лет
исправить положение.
Вы уже отметили, что НИУ ВМФ
ведут исследования по многочисленным
направлениям деятельности и
перспектив развития Военно-Морского Флота.
Даже краткая характеристика каждого
из них требует обстоятельного
отдельного разговора. И все-таки, как можно в
общем оценить эффективность работы
наших ученых, их вклад в решение
проблем ВМФ, особенно в сегодняшних
непростых условиях?
Принято считать, и в общем
справедливо, все, что имеет и будет иметь наш
флот, результатом труда ученых,
рабочих, инженеров и техников сотен
научных и промышленных организаций,
буквально всей страны. Этт общеизвестный
факт ни у кого не вызывает сомнений.
Однако нельзя здесь ограничиваться, как
часто делается, скромной оговоркой: «с
участием военных специалистов». Ведь
ее суть в том, что все, поступающее на
флот, так или иначе прошло через
наши НИУ, задумано, создано, доработано
ими или под их наблюдением. Другой
вопрос — качество сделанного, оно,
надо признать, часто далеко от
желаемого, и это предмет нашей особой заботы.
И тем не менее именно флотские
ученые разрабатывают научное обоснование
основных направлений развития
вооружения и техники ВМФ, выполняют
большой объем научно-исследовательских
работ. По результатам таких НИР и
выдаются задания проектным
организациям. В дальнейшем наши ученые
осуществляют научное сопровождение и
контроль работ в промышленности.
Участвуют в испытаниях новых кораблей,
оружия и техники, оказывают помощь
флотам в освоении, готовят руководства и
наставления по боевому использованию
и эксплуатации.
Отмечу лишь некоторых из многих
наших видных ученых, внесших
большой личный вклад в науку. Это доктора
наук, профессора: вице-адмиралы М.
Будаев, В. Лисютин, контр-адмиралы Ф.
Матвейчук, Е. Мнев, С. Свирин,
капитаны 1 ранга Л. Худяков, Г. Величко,
Э. Сырников, Е. Прохоров, Б. Иванов,
Г. Ильин, И. Попов, В. Сапрыкин,
кандидаты наук контр-адмирал Ю.
Алексеев, капитаны 1 ранга Н. Дворядкин,
В. Молокоедов и многие, многие
другие.
Важно и то, что ряд разработок
наших ученых получили признание не
только у нас в стране, но и за рубежом.
В частности, труды докторов
технических наук, профессоров
контр-адмиралов И. Рябинина \в области теории
надежности сложных систем) и В. Быри-
на (в области технической диагностики),
подполковника В. Семко (в области
подводной физиологии).
Думается, то, что вы рассказали,
поможет нашим читателям получить
представление о масштабности, значимости,
сложности труда флотских ученых и
некоторых их достижениях. Но ведь
среди многих причин острых проблем, с
которыми столкнулся Военно-Морской
Флот в последние годы, например,
качество и надежность техники,
аварийность, живучесть кораблей, есть
недоработки и наших НИУ. Что вызывает
особую неудовлетворенность?
Существующая система НИУ ВМФ по
своей организации, функционированию и,
главное, результативности и отдаче,
безусловно, еще далека от совершенства.
Причин и трудностей здесь много,
назову лишь несколько.
Прежде всего — несовершенство
принятой модели хозрасчета в институтах,
когда параллельно функционируют две
системы финансирования: на госбюджет,
ной и договорной основах. Это приводит
к трудностям в проведении совместных
работ, препятствует рациональной
интеграции научных сил. В результате,
например, НИИ ВМФ экономически
невыгодно выполнять отдельные прямые
заказы на научно-техническую продукцию
флотов, как известно, не имеющих
специально выделенных средств для
оплаты. Пока они в каждом случае должны
делать это только через центральные
управления.
Далее, мы пока еще не готовы к
работе в условиях рыночных отношений в
стране, что требует серьезных
изменений в организации многих сторон
деятельности НИУ и станет для них
главным содержанием военной реформы.
Осложняет дело и значительная
монополизация отдельных сфер научной
работы, что в сочетании с дефицитом
средств затрудняет внедрение
конкурсного принципа разработок, повышение
их научно-технического уровня за счет
состязательности исполнителей.
Примером может служить монопольное
положение научных школ в институтах,
которое нередко препятствует реализации
результатов, полученных в проблемных
лабораториях и на кафедрах академии
и училищ, а это в свою очередь ведет
к недостаточному использованию их
научного потенциала.
В последнее время наметилась и
такая неблагоприятная тенденция, как
ускорение «утечки мозгов» из системы
НИУ ВМФ, когда наши видные ученые,
уволившись в запас, уходят в другие
сферы, где лучше стимулируют
применение их опыта и знаний. Подобных
возможностей по месту прежней службы в
наших НИУ пока, к сожалению, нет.
Эти и многие другие вопросы сейчас
находятся в центре внимания при
выработке мер по совершенствованию
научной деятельности.
Очевидно, они предусматривают и
какие-то изменения в системе подготовки
и комплектования научных кадров ВМФ.
Что бы вы хотели порекомендовать
курсантам и офицерам, склонным к
научной работе?
В этом плане разработан и
реализуется целый комплекс мер. В их число
входит увеличение количества мест в
адюънктуре, введение докторантуры и
должностей старших научных
сотрудников в Военно-морской академии и
училищах.
Разрабатываются предложения по
введению системы конкурсного отбора
на флотах кандидатов в адъюнктуру, на
должности преподавателей в училища и
научных сотрудников в институты. По
окончании адъюнктуры теперь будет
выдаваться специальный диплом
исследователя общесоюзного образца.
В целях максимальной увязки
диссертаций наших специалистов с
проблемами строительства, боевой подготовки и
применения сил ВМФ, развития и
эксплуатации вооружения намечено
выслать НИУ рекомендации по тематике
диссертационных исследований для
соискателей ученых степеней.
Прорабатываются вопросы
организации ежегодных конкурсов кандидатских
и докторских диссертаций, системы
обучения методике исследовательской
работы, профессионального отбора для
научной деятельности и некоторые другие.
Мы надеемся, что все это поможет
активизировать флотскую науку, повысить
ее результативность.
В этой сеязи хочу посоветовать
курсантам и офицерам, которым по душе
25
творческий поиск, смело идти в науку,
и чем раньше, тем лучше. С расчетом
быть уже доктором наук по меньшей
мере в 40 лет, а не так, как сегодня — к
50 годам, накануне ухода на пенсию.
Кстати, теперь в аттестациях на
выпускников училищ и академии будет
отражаться их склонность к научной
работе. А особо одаренные из них могут
быть сразу назначены для прохождения
службы в НИУ.
Вячеслав Николаевич, будучи
Председателем НТК ВМФ, вы являетесь и
членом редколлегии нашего журнала,
который был основан и в свое время
издавался как орган морского ученого
комитета российского флота. Какие
сейчас, на ваш взгляд, проблемы флотской
науки заслуживают обсуждения на
страницах «Морского сборника»?
Я думаю, наш журнал может оказать
большую помощь в создании
благоприятных условий для их решения и
активизации работы ученых. Согласитесь, в
представлении многих из нас само
понятие «военная наука» всегда
ассоциировалась с чем-то тщательно закрытым.
Но ведь широкому кругу читателей
неинтересны, видимо, детали исследуемых
частных вопросов, оценить
компетентно которые могут далеко не все.
Журнал мог бы чаще публиковать
материалы ученых и флотских специалистов по
общим для них проблемам научной и
информационной работы. Почему не
рассказать на страницах «Морского
сборника», например, о судьбах наших
видных ученых, их пути в науке? Или о
работе научных обществ курсантов,
слушателей, наиболее выдающихся их
работах? Или о флотских и институтских
изобретателях, рационализаторах?
Наконец, было бы полезно в официальном
разделе давать информацию о защите
диссертаций и присвоении ученых
степеней доктора наук, ученых и
почетных званий, присвоении Ленинских,
Государственных и других премий,
материалы о проведенных научных
конференциях и семинарах, выходе в свет
некоторых военно-теоретических трудов.
Целесообразно продолжить практику
периодических дискуссий по отдельным
актуальным проблемам военной теории
и практики, например теории живучести
кораблей.
В заключение, несколько слов о науч-
но-техническом комитете ВМФ, его
задачах, ближайшей перспективе.
Научно технический комитет ВМФ яв- .
ляется одним из старейших
самостоятельных научных органов не только в
советском, но и в русском флоте, __ Под
названием Морского ученого комитета
он был создан в составе Адмиралтейско-
ко департамента еще в 1827 г.
После революции и гражданской
войны комитет воссоздается приказом
Реввоенсовета СССР в ноябре 1923 г.
как орган «состоящий в
непосредственном подчинении высшему морскому
командованию и являющийся высшим
научно-техническим органом морского
ведомства».
Сегодня Комитет является органом,
через который главнокомандующий ВМФ
осуществляет общее руководство
научной работой, подготовкой научных
кадров и рядом других вопросов. НТК, в
отличие от других управленческих
структур центрального аппарата ВМФ,
работает независимо от них на
коллегиальной основе как группа высококвалифи-.
цированных экспертов по всем основным
флотским специальностям. Он
координирует деятельность всех НИУ ВМФ,
организует исследования по научному
обоснованию перспектив развития
вооружения и техники, осуществляет
перспективное и текущее планирование
научной работы за ВМФ в целом,
подготовки научных кадров, фундаментальных и
поисковых исследований, НИР и ОКР,
выполняет поручения в части научно-
технической экспертизы и решения
многих других проблем.
В перспективе в связи с
сокращением расходов на оборону, переходом к
рыночной экономике больше внимания
придется уделять экономическим и
правовым аспектам в планировании НИОКР,
оптимальному распределению и
экономному расходованию выделенных
ассигнований. Учитывая, что финансирование
военных НИОКР централизованно,
НТК ВМФ по сути становится одним из
важных субъектов экономического
управления, элементом государственной
контрактной системы.
Вячеслав Николаевич, ежегодно в
апреле отмечается День науки.
Поздравляем вас и всех сотрудников НТК и
НИУ ВМФ, а также работающих с
ними гражданских коллег из отраслевой,
академической и вузовской науки
страны с этим праздником. Желаем здоровья
и творческих успехов.
Беседу вел
капитан 1 ранга Г. ШЕСТАКОВ
26
ПОХОДЫ, ПОЛЕТЫ
«Корабль безропотно переносит все удары неприятеля, он
честно исполняет свой долг и с честью гибнет, но не к чести
моряков и строителей служат эти потопления, за которые они
ответственны перед своей совестью. Корабль должен и может
быть обеспечен от потопления».
С. О. МАКАРОВ
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИВУЧЕСТИ КОРАБЛЕЙ
Адмирал флота И. КАПИТАНЕЦ,
первый заместитель главнокомандующего
Военно-Морским Флотом
D ИТОГЕ работы правительственной комиссии по расследованию обстоятельств
*-* гибели ПЛА «Комсомолец» в очередной раз поставлен вопрос о живучести
наших кораблей, о возможностях спасения и выживания экипажей на море.
Нет смысла вновь перечислять решения, которые приняты Советом Министров,
министром обороны и командованием ВМФ СССР. Об основном их содержании
рассказал главнокомандующий ВМФ адмирал флота В. Чернавин в своем интервью
«Морскому сборнику» (№ 12, 1990 г.). Достаточно сказать, что впервые эта проблема
рассматривалась не только с точки зрения действий личного состава корабля, но и с
учетом всех факторов обеспечения его живучести:
уровня развития самой теории живучести;
достаточности ее конструктивно-технического обеспечения при проектировании,
особенно непотопляемости, взрывопожаробезопасности;
надежности оружия и технических средств, ядерной и радиационной
безопасности;
качества документации по борьбе за живучесть в наиболее вероятных и
опасных случаях поступления воды, возникновения пожаров, аварий оружия и
энергетических установок, летательных аппаратов на кораблях;
степени автоматизации управления борьбой за живучесть;
качества подготовки экипажа;
уровня развития средств защиты людей и аварийно-спасательного обеспечения.
Следует отметить, что подобный анализ был проведен западными военными
специалистами по результатам боевых действий в Южной Атлантике в ходе
англоаргентинского конфликта (1982 г.). То, что из состава английской эскадры восемь
кораблей было потеряно, а на восемнадцати боевые повреждения привели к
серьезным последствиям, в значительной степени было обусловлено недостаточной
конструктивной обеспеченностью их живучести и слабой подготовкой личного состава.
При этом каждое повреждение сопровождалось крупными пожарами, в ходе развития
которых быстрому распространению огня способствовало наличие на кораблях
большого количества горючих материалов (алюминиевых сплавов, красок, облицовочных
пластиков, линолеумных покрытий, изоляции кабельных трасс и т. д.).
На основании такого анализа в ВМС США и НАТО был разработан и реализован
целый комплекс мер по улучшению конструкции кораблей и совершенствованию
организационно-технического обеспечения их живучести. Предусмотрено введение
спецодежды из новых современных материалов, создание термостойких костюмов и
более совершенных изолирующих противогазов, увеличение норм снабжения ими
кораблей, а также внедрение специальных комплексных тренажеров для подготовки
экипажей (в ходе боевых действий большинство офицеров не могли в достаточной
степени организовать борьбу за живучесть и руководить подчиненными, которые
оказались плохо обученными действиям в сложных условиях боевых повреждений).
27
Значительному сокращению и упорядочению подверглись руководящие документы по
живучести, доверие к которым было * подорвано из-за их неконкретности,
запутанности, малой информативности и большого объема.
Изучение зарубежного опыта и анализ аварий и катастроф с нашими кораблями
позволяют сделать вывод о том, что уровень решения проблем обеспечения
живучести определяется в целом состоянием развития науки и техники в стране, влияющим
на разработку теории корабля и реализацию ее положений в конструкторских
решениях; надежностью вооружения; качеством аварийно-спасательных средств и
обеспеченностью соответствующей базы для подготовки личного состава и управления
борьбой за живучесть. Борьбу за живучесть необходимо рассматривать в динамике, как
взаимодействие пожара и воды и их воздействие на корабельные системы,
вооружение, оборудование в отсеках и корабль в целом.
Основанная адмиралом С. Макаровым наука о живучести кораблей существует
более ста лет. Однако длительное время в ней рассматривались преимущественно
вопросы непотопляемости, теоретические основы которой перед Великой Отечественной
войной достаточно подробно были разработаны в трудах советских специалистов
академиков А. Крылова, Ю. Шиманского, профессора В. Власова и других.
Взрывопожаробезопасность, живучесть оружия и технических средств
сформировались как научные направления только в конце 40-х годов на базе опыта войны.
Особое значение они приобрели с появлением новых видов оружия, атомных
энергетических установок, с развитием авианесущих кораблей. Поэтому сегодня вполне
обоснованно ставится вопрос 1 о необходимости подъема уровня научных разработок
в теории живучести, особенно для современных крупных надводных кораблей и
атомных подводных лодок последних поколений.
Качественные изменения в кораблестроении вызвали значительный рост
мощности энергетических установок, параметров (температура, давление) их рабочих сред,
размеров хранилищ, массы боеприпасов и запасов органического топлива,
увеличение объемов отсеков, протяженности электрических кабелей, количества
электрооборудования, электронного вооружения и т. п. На кораблях стало больше
конструкционных и отделочных материалов, горение которых зачастую сопровождается
выделением токсических газов. Количество таких материалов, например, в жилых
корабельных помещениях составляет 50 и более килограммов на один квадратный метр
палубы. Причем оно не сокращается и на кораблях новых проектов. Прогресс же
в применении предприятиями Минсудпрома легких и огнеупорных материалов очень
незначителен, а последовательной программы их внедрения нет. Сохраняется
широкое использование в качестве конструкционных алюминиево-магниевых сплавов
(АМГ). Их прочностные характеристики при нагреве значительно снижаются,
приводя при крупных пожарах к тяжелым и даже катастрофическим последствиям. На
авианесущих кораблях особого внимания требует проблема предупреждения возгорания
авиационного топлива, опасность которого усугубляется тем, что температура
вспышки отечественного керосина +27°С, а на авианосцах США +64°С.
Традиционно на наших кораблях стремились разместить как можно больше
оружия, зачастую в ущерб живучести. К примеру, по сравнению с аналогичными
американскими наши надводные корабли, как правило, превосходят их по массе
боезапаса, что обусловливает повышенные требования к эффективности комплексов
противопожарной и противовзрывной защиты его хранилищ. Кроме того, современное
ракетное и торпедное оружие в аварийных ситуациях может резко осложнить
условия борьбы за живучесть из-за токсичности компонентов ракетных топлив и
загазованности ими отсеков.
К сожалению, несмотря на это, мы до сих пор не имеем четкой теории горения
в замкнутом пространстве, а отсюда конструктивная защита от пожаров
недостаточно надежна. В комплекте документации по борьбе за живучесть все еще нет
инструкции по борьбе с пожарами, разработанной проектантом, что не позволяет
командирам кораблей в полном объеме оценить состояние отсеков, спрогнозировать
развитие аварийной ситуации и принимать грамотные и своевременные решения. Мы
упустили главное, что основой борьбы за живучесть корабля является прочность,
герметичность, пожаростойкость корпуса и отсеков корабля.
1 См.. Морской сборник. — 1990. — № 9. — С. 61—63.
28
Флотским специалистам крайне нужны научно обоснованные методики расчетов
для оценки:
соотношения горючих и негорючих материалов в целом по кораблю и по всем
его отсекам;
степени угрозы взрыва в отсеке, возникновения и распространения пожаров, а
также рекомендованных зон для создания рубежей обороны;
вероятных температурных полей и потоков при пожарах в отсеках и допустимых
тепловых режимов в них;
возможности и эффективности нейтрализации любых пожаров с помощью средств
многократного применения.
Живучесть корабля при больших повреждениях корпуса в результате взрывов
и пожаров органически связана с его непотопляемостью, которая должна
обеспечиваться надежной конструкцией корпуса, а также водонепроницаемыми отсеками и
газонепроницаемыми, огнестойкими переборками. Опыт войн и военных конфликтов
на море, аварии и катастрофы кораблей в мирное время подтверждают необходимость
создания такого корпуса и отсеков, чтобы они выдерживали комплексное воздействие
пожара, воды и загазованности. Разумеется, это непросто, ведь усиление
конструктивной защиты приведет к увеличению водоизмещения корабля. Следовательно, задачу
нужно решать комплексно, путем создания противопожарных и автономных зон,
локализирующих возгорание любого масштаба и одновременно снижая массогабарит-
ные характеристики оружия и технических средств, внедряя в практику легкие
материалы повышенной прочности и используя для этого последние достижения науки
и техники в самых разных областях. Одной из серьезных проблем обеспечения
непотопляемости является большая затесненность нижних частей трюмов
машинно-котельных отделений, энергоотсеков, отсеков подводных лодок, не позволяющая
личному составу вести результативную борьбу с повреждениями корпуса, второго дна
и способствующая беспрепятственному распространению воды в этих помещениях.
Надо признать, что недооценка сложности и взаимосвязанности перечисленных
проблем обеспечения плавучести кораблей наиболее остро проявилась в катастрофах
ВПК «Отважный» (1974 г.) и атомных подводных лодок (1970, 1986, 1989 гг.).
К сожалению, принятые после них меры не носили комплексного характера, а часть
так и осталась на бумаге. В течение года после гибели ПЛА «Комсомолец» в ВМФ
обобщено достаточное количество материалов по конструктивным недостаткам всех
проектов кораблей. По ним принят ряд совместных с промышленностью решений,
выделены определенные средства и начата реализация выработанных предложений
как на строящихся кораблях, так и на находящихся в эксплуатации. Нами обращено
внимание на низкую надежность переносных средств борьбы с пожарами, водой и
на недостаточную эффективность стационарных, а также на отсутствие на ГКП, в
ПЭЖ современных систем обнаружения поступления воды, появления дыма и
повышения температур в помещениях и отсеках кораблей. Соответствующие работы
начаты всеми заинтересованными организациями.
Новый подход к конструктивному и техническому обеспечению живучести
заставил пересмотреть документы, определяющие основные требования к
проектированию надводных кораблей и подводных лодок. По недостаткам конструктивного или
технического характера, которые не могут быть устранены немедленно,
принимаются меры организационного плана. Например, в связи с тем, что автоматизация
процессов управления кораблями, их оружием и ГЭУ привела к существенному
сокращению личного состава (экипаж дизельной лодки первого послевоенного
поколения составлял 54 человека, экипаж «Комсомольца» — 64 человека, при этом
водоизмещение последнего в 5,5 раз больше). Сейчас на флоте проводится работа по
изменению штатов, табелей, пересмотру корабельных боевых расписаний, создаются
новые инструкции дежурно-вахтенной службе. Большое значение мы придаем
разработке на кораблях учений по гирьбе за живучесть при комплексном воздействии
аварийных Факторов. В соединениях флота перерабатываются все руководящие
документы в ?том направлении. Но юстаточный эффект данные меры принесут только
тогда, копи проектные организации не только поставят на эксплуатируемые корабли
новые иуководствя по боевому использованию технических средств, но и разработают
проектную документацию рекомендательного характера по действиям личного
состава при возникновении вероятных аварийных ситуаций и получении боевых пов-
29
реждений, и прежде всего самых опасных, связанных со значительной потерей
остойчивости, уменьшением запаса плавучести. Это уже делается для каждого проекта
корабля бюро-проектантами при участии главных управлений ВМФ.
Сегодня сложный и многогранный процесс борьбы за живучесть немыслим без
его автоматизации. На современных кораблях имеются автоматизированные системы
для решения задач по непотопляемости. Однако жизнь требует расширения
возможностей подобных систем. В частности, их нужно дополнять подсистемами
индикации поступления воды и появления дыма, датчиками, постоянно
отслеживающими температуру и другие параметры в отсеках. На основании таких данных
вычислительная машина должна выдавать рекомендации для действий командира и
экипажа, а также соответствующие команды на исполнительные органы по программам,
заложенным в ЭВМ проектантом корабля. Мы понимаем, что это большая работа,
связанная со значительными затратами. Однако без нее не обойтись, и она начата
по двум направлениям: укомплектованию кораблей новой вычислительной техникой
и созданию программного обеспечения.
Анализ аварийных происшествий показывает, что многие из них могли бы быть
предотвращены, если бы профессиональная подготовка как офицеров, так и личного
состава в полной мере удовлетворяла предъявляемым к ней сегодня требованиям.
Недостаточная компетентность руководящего звена, упрощенчество в подготовке к
борьбе за живучесть зачастую приводят к тому, что экипаж способен успешно
действовать лишь в условиях одного вида аварии (или поступление воды, или пожар,
или авария ГЭУ и т. д.). В то же время он теряется в ситуациях, когда на корабль
воздействует весь комплекс аварийных факторов. Обучение моряков на
существующих ныне учебно-тренировочных судах и отсеках кораблей позволяет отрабатывать
только самые первичные действия, да и к тому же в составе лишь боевого поста.
Правда, для отработки командных пунктов (ГКП-ПЭЖ) существует ряд кабинетов,
но они дают возможность тренироваться только в вопросах борьбы за
непотопляемость. Поэтому принято решение ориентироваться в перспективе на комплексные
тренажеры, развитие которых существенно отстает от строительства серийных
кораблей, поступления на флот новых образцов оружия, вооружения и воеван(ЛГН|ехники.
К созданию таких тренажеров приступили, и в ближайшее время* мы ожидаем
поставки на флоты универсальных комплексных обучающих систем по борьбе за
живучесть на базе персональных ЭВМ, целой серии компьютерных тренажеров с
пакетами программ по подготовке операторов всех специальностей. Разработка
математического обеспечения для них производится на конкурсной основе с
привлечением специалистов Военно-морской академии, высших офицерских классов, военно-
морских училищ и проектных организаций. Начата разработка и внедрение
автоматизированных систем локализации и тушения пожаров на ранней стадии их
возникновения с использованием нетоксичных и неагрессивных по отношению к
техническим средствам огнегасящих составов.
Таким образом, можно сказать, что сегодня в Военно-Морском Флоте и Мин-
судпроме идет процесс оценки достаточности принимаемых конструктивных мер по
обеспечению живучести, оптимизации распределения задач между личным составом
и автоматизированными системами, с уточнением целесообразного уровня
автоматизации управления противоаварийными средствами, необходимой численности
личного состава на командных пунктах, боевых постах и комплектации их расчетов.
Анализ обстоятельств гибели линкора «Новороссийск» в 1955 г. в
Севастопольской бухте показывает, что одной из ее причин была невозможность оценить
состояние корабля, получившего пробоину в днище площадью 150—170 м2 и
сквозное разрушение взрывом всех палуб в носовой части. Как оказалось в
результате последующих расчетов, выход был один — посадить линкор на мель и спасти
личный состав. Таким образом, оценка состояния аварийного корабля и принятие
решения является определяющим при борьбе за его живучесть. После этой трагедии
в корабельный устав ввели новую статью, сохраненную и в действующем, которая
требует:
Ст. 331. «Командир корабля, старший помощник командира корабля, командир
электромеханической боевой части (командир дивизиона живучести) должны:
в совершенстве знать документацию по непотопляемости корабля;
30
уметь правильно оценивать состояние корабля при его тяжелых повреждениях;
применять эффективные меры, обеспечивающие непотопляемость корабля, его
ход, управляемость и применение оружия;
все типовые случаи наиболее вероятных и вместе с тем опасных повреждений
корабля, связанные со значительным уменьшением остойчивости и запаса
плавучести, должны быть заблаговременно изучены командиром корабля, старшим
помощником (помощником) командира корабля и командным составом
электромеханической боевой части, а отдельные варианты борьбы с такими повреждениями отработаны
в процессе боевой подготовки».
К сожалению, как показали прошлогодние проверки, на многих кораблях эти
требования в полной мере не выполняются, а следовательно, и преданы забвению
причины гибели линкора и его личного состава. Поэтому было рекомендовано на
всех соединениях вновь разработать перечни и последовательность действий при
наиболее вероятных и вместе с тем опасных повреждениях кораблей, связанных
уже с комплексным воздействием пожара, воды, взрывов боеприпасов, аварий ГЭУ.
Боевая учеба, боевая служба, повседневная деятельность ВМФ не допускают
перерывов. Только внедрение в кратчайший срок новых разработок, направленных
на улучшение конструкции кораблей, повышение надежности вооружения и
техники, оснащение ее современными средствами диагностики, расширение возможностей
противоаварийных систем и средств защиты личного состава, наряду с освоением
всех способов предупреждения аварийных ситуаций и борьбы за живучесть, снимут
ту напряженность, которая сложилась в связи с гибелью ПЛА «Комсомолец». В
краткой статье автором лишь обозначены основные проблемы обеспечения живучести
современных кораблей. Очевидно, для успешного решения требуются совместные
усилия специалистов ВМФ, промышленности, отраслевой и академической науки.
Думается, они примут активное участие в более детальном обсуждении каждой из
проблем в отдельности, в том числе и на страницах «Морского сборника».
Есть такое мнение
D ПОСЛЕДНИЕ годы в ряде работ,
*-* публикаций и учебных пособий
Военно-морской академии,
военно-морских училищ, научно-исследовательских
учреждений ВМФ и промышленности
распространяются различные толкования
живучести, вводятся новые определения
этого основополагающего свойства
корабля. Их смысл сводится главным
образом к одному — расширить это
понятие, дополнительно включив в него
способность корабля противостоять
воздействию поражающих факторов.
Представляется, что такая корректировка
приводит к смешению двух важнейших
самостоятельных понятий.
Одно из них — уставное: способность
противостоять боевым и аварийным
повреждениям, восстанавливая и
поддерживая при этом в возможной степени свою
боеспособность (КУ ВМФ). Оно
проявляется после того, как корабль получит
пробоину, на нем возникнет пожар либо
выйдет из строя техническое средство,
оружие и т. п.
Второе понятие — это стойкость
корабля, под которой понимается его
способность сохранять свои характеристики
в соответствии с установленными
требованиями при воздействии поражающих
факторов оружия и внешней среды в
пределах заданных расчетных нагрузок.
Стойкость как бы определяет предел
сопротивления корабля поражающим
факторам, после которого он получает
повреждение, и тогда проявляется
такое его свойство, как живучесть.
Понятие стойкости широко
распространено в технике и составляет
самостоятельную область исследований и
конструктивных решений. Известны
различные вибростойкие, ударостойкие,
сейсмостойкие и т. д. механизмы и
инженерные сооружения, предназначенные для
работы в условиях воздействия на них
специфических эксплуатационных или
экстремальных нагрузок —
«поражающих факторов». Корабль как
инженерное сооружение не составляет
исключения из этого общетехнического
представления. Корабельные боевые и
технические средства, приборы, аппаратура,
устройства, оборудование и т. п.
должны отвечать определенным требованиям
по стойкости к механическим и
климатическим воздействиям, воздействию
излучений и т. д.
Представляется, что внесение в
понятие «живучесть корабля» нового
содержания нецелесообразно, так как
потребует переработки ряда документов ВМФ,
изменения требований к живучести,
методологии исследований в данной
области, переучивания специалистов ВМФ и
Минсудпрома. Трудоемкая реализация
этого неоправданна, так как живучесть
(в ее уставной трактовке) и стойкость
корабля уже являются признанными
понятиями в теории и практике.
Капитан 1 ранга Б. СУХАНОВ
31
Галерея российских флотоводцев
МИХАИЛ МИХАИЛОВИЧ ГОЛИЦЫН Ц681 - 1764 гг.)-
генерал-адмирал российского флота, президент Адмиралтейств-коллегий, князь.
В 1703 г. «на государевом осмотре на генеральном дворе» Петром I
определен на морскую службу. Некоторое время учился в Навигацкой школе, а за.
том в 1708 г. отправлен с русскими волонтерами в Голландию для
совершенствования во флотских науках. Вернулся в Россию через девять лет, имея при
себе патентное свидетельство, что «князь Михайло меньшой княж Михайло сын
Голицын имел практику: 1-е, в 1709 году ходил к городу Архангельску на
голландском корабле и обратно; 2-е, был в Остзее в голландской службе; 3-е,
плавал в Архангельск и обратно; 4-е, был в Испанском и Медиторанском море до
Венеции: 5-е, ходил в Архангельск и прибыл в 1711 году обратно в
Голландию...» Петр I в 1717 г. на специальной аудиенции проверил знания князя,
«отметил их зело похвально» и удостоил его чина унтер-лейтенанта. В дальнейшем
М. Голицын участвовал в Северной войне. В марте 1721 г. пожалован званием
лейтенанта, а спустя три месяца, командуя отрядом галер, отличился в Гренгам-
ском сражении.
Последующую карьеру сделал со вступлением на престол Екатерины I, в
эпоху упадка флота, господства протекций и придворных интриг. В конце 1725 г.
его зачислили в состав элитной и престижной петербургской морской команды,
а весной следующего года «баловень судьбы» неожиданно для всех стал
советником Адмиралтейств-коллегий. Незадолго до своей кончины императрица именным
указом пожаловала князя сразу в капитан-командоры и назначила президентом
юстиц-коллегии.
Анна Иоанновна, взойдя на российский престол, отнеслась к М. Голицыну
холодно, хотя почестями вначале не обходила. В 1732 г. она вернула его на
флот, но доверила заниматься лишь береговой службой, присвоив ему звание
генерал-кригс-комиссар вице-адмиральского ранга. Князь стал вести
всевозможные административные дела в реформированной А. Остерманом Адмиралтейств-
коллегий. Однако он «не внес в нее живого духа».
Деятельность князя несколько активизировалась в период русско-турецкой
войны. Так, в 1737 г. он отсылается коллегией в ответственную командировку в
г. Тавров для наблюдения за постройкой судов на Дону для войск
командующего Крымской армией генерал-фельдмаршала П. Ласси. Вся забота М. Голицына
сводилась к отправке вниз по реке оснащенных судов, строительство которых
находилось в ведении вице-адмирала Н. Сенявина и контр-адмирала В.
Дмитриева-Мамонова. Вступив с ними в конфликт, князь добился от двора в 1738 г.
назначения его «главным командиром Тавровского адмиралтейства и главным
начальником над строением флотилией». Однако он так и не смог ни выбрать
места для верфей, ни вывести выстроенные еще до него на Дону прамы и
галеры. Все свелось к постройке одних ботов и лодок, о типе которых всю войну
велась бесконечная переписка с Адмиралтейств-коллегией. Рассматривая
деятельность Голицына той поры, историки указывали на значительные «лишние»
затраты, составившие только по морскому ведомству сотни тысяч рублей,
потраченные неизвестно на что. Возможно, Анна Иоановна знала об этих
злоупотреблениях. После окончания войны князь почестей не удостоился, в октябре 1739 г.
его уволили от должности гене рал-кригс-комиссара, а затем отправили подальше
от столицы, губернаторствовать в Астрахань.
В царствование Елизаветы Петровны судьба М. Голицына резко
изменилась. Обстоятельства сложились так, что к этому времени Михаил Михайлович-
младший стал старшим из оставшихся в живых представителей своего рода.
Императрица, приближавшая к себе потомков именитых фамилий, не обошла
вниманием и его. В 1741 г. он становится советником в Сенате,- а-вскоре
производится з действительные тайные советники, жалуется орденами Св. Александра
Невского и Св. Андрея Первозванного. В 1747 г. посылается «великим и
полномочным послом» в Персию.
Вернувшись в Россию в 1748 г., князь снова попал под «звездный дождь»
наград и почестей. По прибытии в Петербург его ждали указ о присвоении звания
адмирала и должность сенатора. В апреле 1749 г. последовало «высочайшее
повеление иметь ему над флотом главную команду», в 1750 г. он занял должность
президента Адмиралтейств коллегии. Уже престарелый, совершенно чуждый на-
сущныхМ потребностям и не понимающий причин упадка военного флота, М.
Голицын остается при дворе вершителем его судеб.
Заботы президента свелись к устройству канала в ; Кронштадте, облицовке
камнем канав в Петербургском галерном порту, постройке морского собора.
Пожалованный чином генерал-адмирала в 1756 г., М. Голицын перед началом
Семилетней войны «за дряхлостью и болезнями» не мог уже принять начальства
над флотом, как это требовалось по регламенту Петра I. Уволенный от службы
при Петре III, князь был восстановлен в высоком звании генерал-адмирала
Екатериной II Однако старость не позволила ему продолжить службу
Скончался М. Голицын 25 (по некоторым источникам 23) мая 1764 г,
32
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КАТАСТРОФЫ
Г~Т УБЛИКАЦИЯ в журнале материа-
11 лов под общим заголовком
«Трагедия не должна повториться» i побудила
нас, подводников двух поколений,
высказать свою точку зрения по этой
проблеме, пусть в чем-то и небесспорную. На
наш взгляд, она не рассматривалась
ранее в предлагаемом аспекте. Старший из
нас служил на всех флотах и
командовал новой дизельной подводной лодкой
послевоенной постройки, затем одной из
первых атомных ПЛ, а в дальнейшем
многократно выходил на таких в море в
качестве старшего на борту. Младший—
командовал современным атомоходом и,
как любой подводник, с особенной болью
воспринял эту трагедию. Единство
мнений по рассматриваемой проблеме у
обоих сложилось не сразу. Оно
выработалось в длительных спорах,
рассуждениях, в процессе поиска того главного, что
может предотвратить в дальнейшем
подобные катастрофы.
При анализе причин аварий и
катастроф подводных лодок, на наш взгляд,
есть необходимость разделить их на два
вида: «управленческие» и, если можно
дать такое определение, «инженерные».
К первым отнесем аварии навигационные
и так называемые командирские. Ко
вторым — конструктивно-технические.
«Управленческие» аварии, как
правило, зависят от промахов и упущений
людей. «Инженерные» — в большей
степени от надежности, совершенства
конструкций корабля и его систем. Конечно,
такое деление довольно условно, но мы
считаем, что и оно имеет право на
существование. Если для предотвращения
«управленческих» аварий необходимы
высокий класс командиров кораблей,
судоводительское мастерство штурманов и
операторов БИП (здесь первично именно
это), то для исключения «инженерных»
аварий и катастроф главное —
конструктивное совершенство корабля,
подкрепленное профессионализмом его экипажа.
Нет сомнений, что в критической
обстановке роль моряков, их
морально-психологической подготовки очень велика,
но все же, на наш взгляд, это вторично.
Контр-адмирал в запасе Г. КОСТЕВ,
кандидат военно-морских наук, профессор
Капитан 1 ранга И. КОСТЕВ
И еще, подобные действия хотя и
отрабатываются на кораблях как при
стоянке в базе, так и на ходу, но в условиях
значительных ограничений в имитации
обстановки, которая может возникнуть
при реальной аварии. Поэтому
действительное умение бороться за живучесть в
полной мере может проявиться лишь во
время фактических чрезвычайных
обстоятельств на конкретном корабле. На
тренажерах же вырабатывается лишь
стереотип действий личного состава в
предполагаемых типовых ситуациях.
В последние десятилетия нам
прививали мысль, что новые корабли обладают
исключительной надежностью,
живучестью, совершенными средствами
обеспечения безопасности плавания.
Достижения здесь, бесспорно, есть, но мы как-то
стали забывать что конструкция
корабля, его вооружение и техника
становятся все сложнее, а море по-прежнему
остается крайне опасной средой для
любого корабля, да еще перенасыщенного
пожароопасными компонентами.
Действительно, в послевоенные годы
произошла целая серия аварий и даже
катастроф кораблей, в том числе и но-
вейших подводных лодок. Последняя из
них — трагедия «Комсомольца». В
анализе ее причин на фоне многих
тенденциозных и некомпетентных выступлений
в гражданской прессе заслуживает
внимания статья контр-адмирала М. Пове-
денка2. И даже не потому, что в ней,
как мы считаем, в целом правильно
говорится о причинах аварийности на
флоте, и не потому, что автор
аргументированно «отхлестал» нашу
бюрократическую систему теперь уже с точки зрения
качества поставляемых новых кораблей
флоту. В ней он очень удачно назвал
новые лодки «заложниками старых
подходов», которые и являются, по нашему
мнению, одной из основных причин
аварийности. Однако в связи с
«Комсомольцем» представляется необходимым
выделить главный, на наш взгляд, корень
зла. корень данной катастрофы.
Из истории подводного флота
известно, что катастрофы подводных лодок и в
1 Морской сборник. — 1990. — № 12. —
С. 27 — 31.
- Морской сборник. — 1990. — № 9. —
С. 24—27.
3 «Морской сборник» № 4
зз
довоенное время случались, но ни в
одной из них первопричиной не явился
пожар. Это откосится и к годам войны.
В первое же послевоенное десятилетие
потерпела катастрофу лишь одна наша
подводная лодка. Причина —
столкновение с надводным кораблем. В
дальнейшем, в 50—60-е годы, как у нас. так и
в других странах погибло несколько
подводных лодок при недостаточно
выясненных обстоятельствах. Но установлено
точно, что первопричиной этих трагедий,
кроме одной, было не возгорание.
Пожары на лодках возникали, но они не
приводили к гибели ПЛ. Исключение
составила лишь затонувшая в 1956 г. наша
«малютка». И если сегодня о
«Комсомольце» читатели знают достаточно
подробно, то о трагедии 35-летней давности
слышали немногие, а она позволяет
взглянуть на всю проблему под иным
углом зрения.
Что же произошло в далеком 1956-м?
Это было время поисков нового
двигателя для подводных лодок. Первая
атомная подводная лодка только строилась,
а параллельно испытывались лодки с
энергетической установкой, способной
обеспечить длительное плавание под
водой. Однако ее конструкция была
потенциально пожаровзрывоопасна. Поэтому
на флоте эти лодки неофициально так и
называли «зажигалками». Для обеспече-
Днзельная подводная лодка типа «Мл
ния работы дизеля под водой на них
использовался жидкий кислород.
Одной из них командовал капитан
3 ранга Ю. Вавакин. В тот трагический
день, когда подводная лодка затонула на
Балтике, кроме него на борту, как и на
«Комсомольце», находился старший
начальник. Первопричиной катастрофы
стал пожар, возникший в отсеке
энергетики. Лодка немедленно всплыла в
надводное положение. Личный состав был
выведен на палубу, так как специалисты
считали вероятным взрыв энергетической
установки. Спустя 5 ч после начала
пожара лодка неожиданно потеряла
продольную остойчивость и за считанные
секунды с большим дифферентом на
корму ушла под воду. Люди оказались в
волнах штормового моря. Из-за бурной
погоды удалось спасти лишь 7 человек.
Как показал анализ, лодка затонула от
поступления воды в прочный корпус
вследствие нарушения его герметичности
в результате пожара. Взрыва, однако, не
последовало. Впоследствии одни
обвиняли экипаж в пассивности, другие
считали, что создание такой установки
опередило свое время и поэтому личный
состав не был готов в достаточной мере
обслуживать столь сложную технику.
Казалось бы, данная трагедия должна
была вызвать беспокойство, обратить
Атомная торпедная лрдводная лодиа
34
Атомная ракетная подводная лсд на
внимание специалистов на недостатки
конструкций отсеков, корпуса корабля,
чтобы впредь исключить возможность
потери его герметичности при выгорании
отсеков. К сожалению, этого не
произошло.
И через 14 лет в апреле 1970 г. вновь
трагедия. Теперь уже на одной из
атомных торпедных подводных лодок в
Атлантике, которая также затонула через
много часов после возгорания. Как и в
случае с «малюткой», часть экипажа, не
эвакуированная на спасательные суда,
оказалась в воде, так как из-под ног
почти вертикально и опять с дифферентом
на корму ушла в пучину океана палуба
корабля. И так же командир капитан
2 ранга В. Бессонов с несколькими
членами экипажа недолго продержался на
плаву. Схема трагедии повторилась:
пожар внутри корабля, длительное время
ПЛ на плаву, постепенное поступление
воды внутрь прочного корпуса — и
лодка неожиданно уходит под воду. Однако
здесь руководство уже отметило героизм
экипажа. Командиру посмертно
присвоили звание Героя Советского Союза. Но...
радикальных конструктивных решений,
чтобы пожар не перерастал в
катастрофу, чтобы сохранялась герметичность
выгоравших отсеков, опять не приняли.
Еще через 16 лет, в октябре 1986 г.,
подобное, и тоже в Атлантике,
случается с другой атомной подводной лодкой,
теперь уже ракетной. Правда, жертв в
ходе борьбы за живучесть было меньше
и не в море, а внутри ПЛ.
Пиком трагедий, вызванных пожарами,
стала гибель 7 апреля 1989 г. в
Норвежском море единственной в своем роде
атомной торпедной подводной лодки
«Комсомолец». В 11.02 на ПЛ,
находившейся в подводном положении, возник
пожар, в 11.16 она всплыла, а спустя
5 ч 52 мин с дифферентом около 70°
на корму подводная лодка ушла под
воду. Выведенный на верхнюю палубу
личный состав оказался среди
холодных волн. Снабженный несовершенными
ПЛА «Комсомолец»
35
средствами спасения, он и ими не успел
воспользоваться в полной мере.
Факт гибели «Комсомольца» сразу
стал достоянием гласности. Катастрофа
вызвала бурную реакцию в средствах
массовой информации, а через них и
среди широкой общественности. Как
часто у нас бывает, в такой обстановке
наряду с объективными и достоверными
сведениями в газетах, журналах, на
радио и телевидении появилось много
ошибочных, непроверенных, ложных,
тенденциозных. Знакомясь с публикациями,
видишь, что обвинения и упреки
адресуются «вверх» и «вниз». А что же в
итоге? Вопросы, вопросы... и их много. Ну
вот хотя бы такие: можно ли вообще
избежать пожаров на подводной лодке? Мо-
жнс ли подготовить экипаж так, чтобы
любой пожар был потушен? Может ли в
критической ситуации при дефиците
времени человек действовать без ошибок, и,
если они неизбежны, каковы их пределы,
не приводящие к катастрофе? Увы,
однозначного ответа на них нет.
Хотелось бы надеяться, что после
трагедии «Комсомольца» будет наконец
принципиально рассмотрена проблема
предотвращения перерастания крупного
пожара в катастрофу и на этой основе
найдены новые конструктивные
решения. Только при этом на главный
вопрос: «Будет ли на «Комсомольце»
поставлена точка?» — позволим себе
утверждать: будет! Вероятно, на
подводных лодках возможность возгорания
полностью исключить не удастся, хотя бы
в силу постоянного нахождения ПЛ в
морской среде. В такой ситуации
подводная лодка, особенно при плавании ее
на глубине, попадает в исключительно
драматичное положение, когда
необходимо одновременно не только бороться
с огнем, ставить заслон его
распространению, но и обеспечивать плавучесть
корабля, возможность всплытия его в
надводное положение, а когда обстановка не
позволяет — оставаться на безопасной
глубине.
Сегодня, как и раньше, мы видим, что
принят целый комплекс мер,
призванных уменьшить опасности подводного
плавания и вероятность катастроф, но,
на наш взгляд, среди них не
просматривается с достаточной ясностью главное
— коренное изменение конструкций
отсеков, обеспечивающих их
жизнестойкость. По самому корню этого слова
отсек должен выполнять свою функцию —
отсекать аварию от остального
жизненного пространства. Для этого дпляша
быть поставлена и решена задача
сохранения его герметичности даже при
условии, что он выгорит.
Может быть, это утопия? Ведь один
из критиков состояния дел на флоте
бывший командир подводной лодки А.
Горбачев в «Комсомольской правде» за
29 апреля 1989 г. вспоминает о том, чем
долгие годы, а точнее, десятилетия
тушили пожар: огнетушитель, вода,
брезент, кувалда, топор и — мол, смотри
перечень аварийно-спасательного
имущества подводной лодки. Но он забыл
упомянуть о главном — о
герметизации отсека. Правда, об этом напомнил в
своем первом комментарии адмирал
флота В. Чернавин. Так вот, в прошлом, до
создания сверхсложных конструкций
корабля, если не удавалось погасить
пожар «кувалдой», то личный состав
герметизировал аварийный отсек и ждал,
когда температура его переборок начнет
понижаться, что свидетельствовало о
прекращении горения в нем. И ведь не
было катастроф! Практическая
эффективность метода вплоть до 1956 г. —
100%. Если бы перед конструкторами-
кораблестроителями задача была
поставлена в таком аспекте четко и
однозначно сразу после таллиннской
трагедии или хотя бы в 1970 г., то,
возможно, уже было бы найдено решение.
Вероятно, сейчас надо вновь
вспомнить прошлый опыт. Внедрить
системный подход к сохранению живучести
современной подводной лодки, во всех
звеньях повысить надежность
конструкций и систем корабля на несколько
порядков, совершенствовать подготовку
людей (не только к борьбе за живучесть,
но и по специальности), использовать
новые технологии и материалы,
разработать более эффективные методы
локализации и тушения пожара. Но при этом
нельзя упустить главного — ни при
каких пожарах в отсеках (особенно
энергонасыщенных) не должна быть
нарушена герметичность прочного
корпуса подводной лодки. Обеспечение этого
для современных ПЛ потребует больших
затрат. Но они оправданны — не
будет катастроф! А значит, не уподобляясь
скупым, мы не будем платить дважды.
Попутно будет решена еще одна важная
экологическая проблема, волнующая
мир, — реакторы не будут покоиться
в непредусмотренных точках Мирового
океана. Но это уже тема для
отдельного разговора.
36
О тех, кто выбирает небо
ВЕРЮ В СВОЙ ЭКИПАЖ
11 января 1991 г. в Москве по инициативе ассоциации «Фонд
авиационной безопасности СССР» (АФАБ СССР) состоялось награждение
дипломами и премиями АФАБ СССР авиаторов, проявивших героизм и
мужество в аварийных ситуациях. В числе награжденных подполковник Петр
Алексеевич Банников.
грАКИХ вечеров в декабре у нас на
1 Дальнем Востоке бывает много.
Как бы уставшее за ветреный
морозный день рыжее солнце медленно
опускалось за далекий, изломанный
сопками горизонт. Видимость в такие дни
летчики образно называют «миллион на
миллион». Экипаж подполковника Петра
Алексеевича Банникова выполнял
очередное задание — облет самолета после
выполнения регламентных работ.
Предстояло испытать машину на различных
режимах. Этот тип самолета экипажу
известен, как говорится, «до хруста рук
за штурвалом». Не шутка ведь: уже
более шести лет каждый из них летает
на таком ракетоносце, а налет у
командира подполковника П. Банникова и
штурмана майора Ю. Валяева уже
перевалил за 1000 часов. Да и у помощника
командира корабля старшего лейтенанта
Д. Янгирова и второго штурмана
старшего лейтенанта В. Назарова этот рубеж
не за горами. Хотя машина была
известна досконально, все же особенность
полета состояла в ее проверке — как
будет она себя вести сейчас, в воздухе,
после закончившегося
профилактического «курса лечения» в
технико-эксплуатационной части...
Отработав все поставленные задачи в
зоне облета, ракетоносец лег на курс к
аэродрому. До посадки оставались
считанные минуты. Ну вот, подумал
каждый из членов экипажа, скоро сядем и
машину можно вводить в боевой строй.
Штурман вывел самолет на
«коробочку». Спокойным, как обычно, голосом
подполковник Банников отдал команду
помощнику командира корабля на
выпуск шасси.
...Выпуск левой и правой стоек
шасси подтвердился зеленым светом
лампочек. Однако средняя продолжала
гореть красным, означающим: передняя
стойка шасси не вышла. Выждав
положенные 25 секунд, старший
лейтенант Янгиров доложил об этом
командиру. «Убрать и повторно выпустить
шасси», — дал команду подполковник
Банников. Но и после второй попытки
лампочка продолжала гореть красным,
тревожным светом.
Доложив руководителю полетов
подполковнику В. Козарезу о сложившейся
ситуации, экипаж попытался выпустить
переднюю стойку шасси путем
подключения 2-й, затем 3-й гидросистемы.
Красный свет лампочки продолжал
отражаться на сосредоточенных лицах летчиков.
«После подключения 3-й
гидросистемы мы насторожились,— вспоминает Да-
нис Янгиров, — потому что верили:
стойка выйдет. Такого случая в
практике авиации ВМФ на самолете Ту-22М
не было. Все прекрасно понимали, чем
это грозит и для нас, и для машины.
Ожидание окончилось, стойка не вышла,
и тут, хотя никто об этом не говорил,
я понял, что все успокоились. То есть
сначала была надежда, а потом пришло
осознание происшедшего, и все стали
продумывать и мысленно отрабатывать
свои возможные действия».
— Попробуйте создать перегрузку,
может, стойка выйдет, — донесся из
наушников голос руководителя полетов.
Стальная машина, повинуясь
движению штурвала командира экипажа, как
гигантская серебристая птица, блеснув
опереньем в лучах заходящего солнца,
ринулась вниз, а затем резко стала
набирать высоту. Эти эволюции самолет
проделал около десяти раз. Но передняя
стойка шасси оставалась по-прежнему в
глубине фюзеляжа.
Лицо командира от напряжения
покрылось мелкими каплями пота.
Повернув голову, он предложил правому
летчику: «Данис, попробуй, может, ты
счастливчик». Приняв управление
воздушным кораблем на себя, старший
лейтенант Янгиров еще трижды создавал
перегрузки, но и эти попытки
оказались тщетными.
Видя бесполезность подобных ма-
37
Экипаж машины боевой
На снимке слева направо: старший лейтенант Д. Янгиров, майор Ю.
подполковник П. Банников, старший лейтенант В. Назаров.
Фото А. Фатхуллина
невров, руководитель полетов дал
команду экипажу: «Продолжить полет по
«коробочке» для выработки топлива».
Для безопасной посадки предусмотрен
запас не более четырех тонн.
— Ну вот, хоть налет хватанем, —
раздался в наушниках шутливый голос
Валяева.
— Да еще посадку ночью, —
поддержал его Янгиров.
А в это время земля готовилась к их
встрече. Дежуривший на ПУ НАС
майор С. Забродоцкий проверял готовность
обеспечения аварийно-спасательными
средствами предполагаемого места
остановки самолета. На КДП, КПИ полка и
в штабе части — везде, где
прослушивался разговор экипажа и
руководителя полетов, с замиранием сердца
следили за действиями экипажа их
товарищи и сослуживцы. Кое-кто
предлагал: может, лучше бы
катапультироваться трем членам экипажа, а командиру
попробовать одному приземлить самолет.
На следующий день я спросил об этом
подполковника Банникова. На что он
мне ответил со свойственным ему
спокойствием:
— Я понимал, какая ложится на
меня ответственность. Но
катапультироваться из самолета — такой мысли не
допускал. Да, и твердо убежден, что об
этом не думал никто из экипажа. Это
я ясно понял та*т, в воздухе, когда мы
смеялись над своими шутками. Они
меня еще раз убедили, что никто из
моего экипажа, с которым летаю уже год,
на катапультирование не согласится.
Значит, вместе до конца. Вместе будем
бороться за жизнь самолета, а значит, и
за свои.
Томительно тянулись минуты
выработки горючего для тех, кто был на
земле, и очень быстро для тех, кто был в
воздухе..
Все понимали, что это не беда, а
особый случай, потому что из беды нет
выхода, а здесь выход есть — в
слаженных и грамотных действиях каждого
члена экипажа.
...Зимнее солнце скрылось за
горизонтом, и холодная тьма опустилась на
аэродром, когда Банников доложил
руководителю полетов о выработке
топлива до необходимого предела.
Подполковник Козарез уверенным, четким,
спокойным голосом выдал последние указания
экипажу перед заходом на посадку с
убранной передней стойкой шасси, когда
нос самолета всей своей тяжестью
должен опуститься на шершавую бетонку и
принять ее встречный скользящий удар.
Подобных случаев в наших
Вооруженных Силах было всего три, и все они
заканчивались с неблагоприятными
последствиями для членов экипажа и
самолета. «Как бы бетонка не стесала
ноги ребятам», — подумал подполковник
Банников.
Напряжение всех следивших за
действиями экипажа достигло наивысшей
точки: сможет ли командир корабля как
можно дольше удержать машину в
горизонте при посадке, тем самым до ми-
38
нимума погасить скорость и мягко
опустить на набегающую бетонку нос
самолета. Все ли учли?
Выйдя на посадочную прямую,
самолет как-то неохотно, замедляя скорость,
приближался к такому знакомому,
ласковому, но в данном случае
затаившемуся аэродрому. Как примет он сейчас?
Штурман докладывал:
— Удаление 10, скорость 360,
...удаление 5, скорость 350, ...удаление 2,
скорость 340, 330, 320...
Многотонный ракетоносец без
передней стойки шасси, как раненый,
осторожно приближался к родной земле.
Каждый из тех, кто участвовал в
событиях или знал о предстоящей посадке,
мысленно отсчитывал оставшиеся до
полосы метры. Наблюдавшие за посадкой
увидели, как в яркий свет прожекторов,
чуть прижимаясь к земле, но еще не
касаясь ее в каких-то десятках
сантиметров, ворвалась серебристая птица. Вот
ее основные стойки шасси, как утюги,
притерлись к полосе, не произведя ни
единого отделения. В наушниках членов
экипажа звучали слова руководителя
полетов: «Молодцы, хорошо идете,
держи горизонт».
Быстро теряя скорость, тело
ракетоносца шло горизонтально земле. И
когда он уже был готов опустить свой нос
на бетонку, по команде командира
корабля старший лейтенант Янгиров
нажал на кнопку «выпуск тормозного
парашюта». Сзади самолета раскрылись
оранжевые купола, еще более погасив
скорость движения. И как бы
измучившись от бега, убавив скорость до
150 км/ч, самолет медленно опустил
свой нос на еще набегающую полосу.
Скрежет металла о бетон, незнакомое
никому из экипажа ощущение
стирающегося носа самолета явственно
почувствовалось во всех клеточках тела
каждого из них. Позже подполковник
Банников скажет: «Как-то непривычно было
так садиться. Уж больно земля была
близко. Больше всего опасался взрыва».
Проскользив носом метров двести по
ВПП, самолет остановился.
Первым отстегнул ремни Янгиров,
посмотрел на командира, как бы
говоря: «Может, помочь?» И когда понял,
что командир выберется сам,
выпрыгнул в открытый люк. Выбравшись из
кабины, подполковник Банников увидел,
что Янгиров и Назаров не отбежали от
самолета, а помогают выбраться из
кабины майору Валяеву. У него при по-
Пос*?е остановки двигателей
Фото А. Фатхуплина
садке заклинило люк, и пришлось его
сбросить аварийно. Когда все члены
экипажа были уже на земле, они увидели
свет приближающихся фар аварийно-
спасательных средств и подбегающих к
самолету людей.
Трудно передать состояние членов
экипажа. В их глазах было и чувство
радости за спасенную технику, которая
устроила им нелегкий экзамен, и
чувство без вины виноватых, не по своей
прихоти совершивших такую посадку.
На подъехавшем газике экипаж
доставили на КДП для доклада
командующему ВВС, который все это время был
на прямом проводе.
— Ну что, Петр Алексеевич, —
раздался на другом конце провода
голос командующего, — спасибо тебе за
успешную посадку.
— У меня отличный экипаж,
товарищ командующий, — ответил
подполковник Банников.
— Экипаж комэска другим я себе и
не представляю, — словно подвел итог
разговору командующий.
Был ли страх? На этот вопрос
ответил старший лейтенант Янгиров с
присущей ему улыбкой:
— Тревоги за жизнь не было. Мы
верили в командира и не ошиблись.
Посадка была впритирку, как никогда,
очень плавно. А лично у меня был
настрой на успешное окончание полета.
...Иные говорят, что вот только после
таких экстремальных условий приходит
вера в каждого члена экипажа. Но сам
подполковник Банников сказал: «Для
меня это не так. Я верил в свой экипаж
и знал, что все, что от них потребуется,
они сделают. А этот случай просто был
подтверждением моей уверенности».
Майор А. КАЗАКОВ
39
ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА
НОВЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ
Капитан 2 ранга А. ЛЕБЕДЕВ,
кандидат технических наук
М. ЧЕРНЯКОВА,
кандидат технических наук
ВНЕДРЕНИЕ современных методов и средств выявления возможных отказов и
неисправностей корабельной техники на ранних стадиях их развития —
эффективный путь сокращения трудоемкости технического обслуживания и
предупреждения аварийности. С этой точки зрения представляется весьма перспективным
оптический метод дистанционного измерения температуры работающих механизмов —
изооптическая термометрия.
Тепловые или термометрические методы контроля работоспособности различных
устройств основаны на анализе теплового излучения элементов, узлов, деталей.
Диагностирование по тепловым признакам — один из наиболее эффективных видов
достоверной оценки технического состояния. Например, работа большинства
электрических машин и аппаратов, электротехнических систем и комплексов сопровождается
тепловым излучением. Его интенсивность зависит от электрических характеристик
элементов и их исправности. Работоспособное оборудование дает определенную
картину тепловых излучений, ее изменение свидетельствует об отклонениях в режиме
функционирования. Увеличение интенсивности теплового излучения отдельных
деталей, элементов электрической схемы, как правило, связано с появлением
дефектов. Своевременное их обнаружение позволяет принять меры, исключающие отказ
всего механизма, устройства и т. п.
Пока при эксплуатации электрооборудования и его ремонте находят
применение в основном только контактные методы измерения температуры. К ним
относятся: измерение температуры с помощью термопар, термометров сопротивления, а
также температурно-чувствительных красок и составов. Однако всем этим методам
свойственны так называемые тепловые (термические) погрешности, обусловленные тем,
что термометр измеряет фактически температуру своего чувствительного элемента,
усредненную по его поверхности или объему. Эта величина, как правило, не
совпадает с температурой объекта контроля еще и потому, что термоприемники
неизбежно искажают тепловое поле, в которое их вносят. Снижения погрешностей
пытаются достичь путем совершенствования методик измерений, конструкций
термоприемников и монтажа последних на местах применения. Однако такие возможности
ограничены, в том числе и реальными физико-химическими характеристиками
материалов термоприемника (коррозионной и механической стойкостью, жаропрочностью
и т. д.).
Не решают проблему, особенно по точности измерений, существующие
инфракрасные приборы (микрорадиометры, тепловизоры и т. д.), которые можно
использовать для дистанционного контроля температуры. Погрешность измерений в этом
случае также в значительной степени зависит от физико-химических свойств
материала, конструктивных характеристик, внешних условий и т. д. Кроме того, для
обеспечения максимальной точности измерения температур необходимо производить
сопряжение ИК-приборов с контролируемым объектом в зависимости от теплофизи-
ческих свойств и учитывать излучательную способность его материала.
Погрешности могут возникать и из-за наличия водяных паров и других примесей в слое
воздуха, находящемся между приемной камерой ИК-прибора и объектом. Ошибка
может составлять более 15°С.
Указанных недостатков лишен метод изооптической термометрии, который
расширяет возможности теплового контроля электротехнических устройств, аппаратов
и других объектов. Он может широко использоваться в процессе эксплуатации,
технического обслуживания и ремонта корабельного оборудования. Например, для
контроля качества контактных соединений в силовых распределительных щитах (РЩ)
40
в рабочем состоянии и на испытаниях на судоремонтном предприятии. Определив
с помощью изооптического метода температуру нагретой зоны внутри щита, можно
проводить расчет тепловых режимов в нем. В настоящее время на кораблях ВМФ
отсутствуют подобные средства дистанционного контроля состояния РЩ, что
является одной из причин их повышенной пожароопасности.
Основными преимуществами изооптического метода являются:
дистанционность измерений при отсутствии электрической проводной связи
между термодатчиками и вторичной аппаратурой;
хорошая температурно-спектральная чувствительность и большой световой
выход термопреобразователя, что позволяет производить измерения при обычном
внешнем освещении;
высокая точность;
оперативность измерений, возможность получения экспресс-информации
одновременно по большому количеству корабельного оборудования (в любом
исполнении);
конструктивная и эксплуатационная простота аппаратуры;
эргономичность измерительного комплекса.
Изооптическая термометрия основана на применении термопреобразователя (ТИ).
Одним из компонентов ТИ служит наполнитель (измельченное стекло, кристалл),
другим — связующий (жидкий) полимер. Если на ТИ направить параллельный пучок
света широкого спектрального состава (белый свет), то при исходной температуре ТИ
оказывается прозрачным. При колебаниях температуры полоса пропускания ТИ
смещается, что визуально выражается в изменении его цвета. ТИ в форме таблетки
диаметром от 3 до 16 мм при контроле локальных температурных полей
устанавливается на исследуемом объекте либо в среде и освещается (см. схему). Связь ТИ со
вторичной измерительной аппаратурой осуществляет световой луч. Для передачи
информации от объектов, недоступных для прямого наблюдения, может быть использована
оптическая линия связи на основе волоконных световодов.
Благодаря высокой спектральной
избирательности ТИ и уникальной способности
глаза к различению цвета оказалось
возможным разработать ряд конструктивно и
эксплуатационно простых вторичных
приборов, работающих по принципу
визуального сравнения цвета ТИ с контрольным
регулируемым образцом цвета, встроенным
в прибор, оптическая схема которого
изображена на рисунке.
Подобный прибор опробован в условиях
судоремонтного предприятия на
электротехнических изделиях и дал
положительные результаты. У машин постоянного
тока контролировался щеточно-коллекторный-^
узел, как один из важнейших элементов,
определяющих надежность работы.
Измерения проводились под нагрузкой в
установившемся тепловом режиме и на холостом
б
Оптическая схема прибора для
измерения температуры^ 1 — таблетка
термопреобразователя ТИ; 2 —
лампа накаливания; 3 — экран, на
котором наблюдаются результаты
измерений; 4 — линзы; 5 — призмы; 6—
шкала измерений
ходу, одновременно оценивалось качество
притирки щеток по уровню искрения на
коллекторе. Исследования показали, что
неудовлетворительно притертые и слабо
прижатые к коллектору щетки имеют
относительно более низкую температуру. Ряд
дефектов, выявленных изооптическим методом, оставался незамеченным при
общепринятом контроле качества щеточно-коллекторного узла по степени искрения.
Полученные результаты подтверждают эффективность изооптической
термометрии при дефектации изделий. Он перспективен и для измерения температуры
вращающихся и иных подвижных узлов механизмов, а также контроля качества
контактных соединений, находящихся под напряжением в ГРЩ, РЩ, аккумуляторных
батареях.
41
ЛИНКОР «НОВОРОССИЙСК»:
УРОКИ ТРАГЕДИИ
Капитан 1 ранга в отставке Н. МУРУ,
доктор технических наук, профессор
В своих письмах многие читатели просили рассказать о причинах и
обстоятельствах гибели линкора «Новороссийск». Учитывая, что недавно вышла книга
писателя-мариниста Н. Черкашина «Судеб морских таинственная вязь» (М.: Во
ениздат, 1990), где этому трагическому событию посвящена повесть <Реквием
линкору», редакция решила ограничиться мнением специалиста, доктора
технических наук, профессора капитана 1 ранга в отставке Н. Муру, главного инженера
экспедиции особого назначения по подъему затонувшего линкора. Материал
основан на архивных документах, личных впечатлениях и подготовлен по рукописи
его новой книги, которая планируется к изданию.
В НОЧЬ на 29 октября 1955 г. в Севастопольской бухте затонул линкор
«Новороссийск», погибло 607 человек. Сведения об этом долгое время
были закрыты и лишь недавно стали достоянием гласности. Поскольку уроки
катастрофы и подъема корабля сохраняют ценность и сейчас, представляется
целесообразным, основываясь на документах, возможно более точно изложить
их и высказать некоторые соображения.
Линкор «Новороссийск» (1949 г.). Водоизмещение — 29 032 т, длина — 186,4 м, ширина
— 23,0 м, средняя осадка — 10,44 мг максимальная скорость хода — 27,8 уз.
Вооружение: Юх320-мм, 12<120-мм, 4ХЮ0-мм орудия. Экипаж — 1600 человек.
Основные данные о корабле. Линкор
«Новороссийск» (см. фото)— прежнее
название «Джулио Чезаре» («Юлий
Цезарь»)— передан СССР в феврале
1949 г. по соглашению о разделе ВМФ
Италии. Он заложен в Генуе 24.10.1911
г. и вступил в строй 02.4.1914 г. В
1936—1937 гг. был существенно
модернизирован: полностью заменена
механическая установка, создана
конструктивная подводная защита (КПЗ), удлинена
носовая оконечность и надстроен
полубак. Было усилено артиллерийское
вооружение, бронирование палуб,
установлена бронированная фок-мачта
башенного вида. Следует отметить, что после
модернизации непотопляемость корабля
несколько ухудшилась.
Взрыв. Около 17 часов 28 октября
1955 г. линкор вернулся с моря и к
19.30 ошвартовался на двух бочках в
Севастопольской бухте напротив военно-
морского госпиталя. При швартовке был
отдан левый якорь. Глубина в районе
стоянки 17—18 м. Ночью (29 октября)
около 01.30 в носовой части произошел
мощный взрыв, разрушивший все
горизонтальные перекрытия от днища до
палубы полубака (см. схему). Из
пробоины в ней вырвался вверх столб воды и
донного ила. С правого борта в
подводной части корпуса образовалась
пробоина площадью более 150 м2, а с левого
и вдоль киля — вмятина со стрелкой
прогиба 2—3 м. Общая площадь
повреждений подводной части корпуса —
около 340 м2 на участке длиной 22 м.
Сразу после взрыва были затоплены
по ватерлинию отсеки между
переборками на 23 и 50 шп, а вскоре — и дальше
в корму до 67 шп, но только ниже
броневой палубы. Возник большой
дифферент на нос и незначительный крен на
правый борт, который через 20—30 мин
исчез, и в дальнейшем корабль более
получаса крена не имел. Дифферент
42
Схема повреждений линкора «Новороссийск»: а — сечение по 40 шп (вид в нос); 5 —
вид с правого борта.
1 — палуба полубака; 2 — верхняя палуба; 3 — броневая палуба; 4 — карапасная
палуба; 5 — вмятина от взрыва; 6 — пробоина; 7 — исходная ватерлиния; 7' —
ватерлиния сразу после взрыва, 7"— ватерлиния к началу опрокидывания линкора; 8 —
место взрыва; 9 — котлован от взрыва.
продолжал нарастать вследствие
распространения воды по отсекам,
расположенным в нос от 23 шп. Одновременно
ее напором была нарушена прочность и
непроницаемость носовой траверзной
переборки выше броневой палубы, и
вода по ней стала распространяться в
корму от 50 шп.
Несмотря на героическую борьбу
экипажа и прибывших на линкор
аварийных партий с других кораблей,
остановить распространение воды по
броневой палубе не удалось. Линкор
погружался носом. Вызванное этим
уменьшение площади ватерлинии в сочетании с
появлением больших свободных
поверхностей воды в отсеках привело к
резкому падению остойчивости, тем более
значительному, поскольку отсеки под
броневой палубой в корму от 67 шп
оставались незатопленными.
Около 02.30 под действием
небольшого кренящего момента от
несимметричности затопления возник крен на
левый борт, нараставший по мере
падения остойчивости. Принятые меры
по его одержанию и уменьшению
дифферента оказались
неэффективными. Учитывая опасное состояние
корабля, были предприняты попытки
отбуксировать его кормой на
прибрежную отмель. Однако
своевременно отдали лишь швартов с кормовой
бочки, что позволило только развернуть
линкор кормой к берегу, приблизив его
к Госпитальной стенке до 130 м
(глубина 16 м). Преодолеть державшую силу
левого якоря и носовой бочки (швартов
с нее перерезали только около 03.30,
когда нос уже вошел на 2—3 м в грунт)
буксиры не смогли. Задача могла быть
решена при отработке заднего хода
машинами линкора (после похода они были
горячими и подготовка требовала всего
30 мин).
Когда крен достиг 18—20°, линкор
стремительно повалился на борт и опро*
кинулся вверх килем. Многометровый
слой донного ила не оказал
существенного сопротивления опрокидыванию. Это
произошло в 04.15 — через 2 ч 45 мин
после взрыва.
Причиной опрокидывания явилась
потеря поперечной остойчивости
вследствие нарастания дифферента и появления
больших свободных поверхностей воды в
высокорасположенных отсеках.
Поперечная метацентрическая высота
уменьшилась до — 0,5 м, а запас плавучести
утрачен не был (уменьшился на 50% от
первоначального).
Из 607 человек приблизительно 50—
100 погибли непосредственно в
результате взрыва и затопления носовых
отсеков, остальные — при опрокидывании и
после него. Своевременной эвакуации
личного состава организовано не было.
Большинство активных участников
борьбы за непотопляемость и почти весь
личный состав БЧ-5 остались внутри
корпуса. Часть из них длительное время (до
трех суток) сохраняли жизнь в
воздушных подушках отсеков, но спасти
удалось лишь девять человек: семь вышли
через прорезанную в кормовой части
днища горловину спустя 5 ч после
опрокидывания и еще двух вывели через
50 ч водолазы.
Причины и обстоятельства
катастрофы. Их расследованием занималась
правительственная комиссия во главе с
заместителем Председателя Совмина СССР
В. Малышевым при содействии двух
экспертных комиссий (по взрыву и по
живучести), состоявших из крупнейших
ученых и специалистов. Их возглавляли
соответственно В. Першин и Б. Чиликин.
Представляется, что результаты работы
комиссий поучительны и для
сегодняшнего поколения военных моряков,
конструкторов и судостроителей.
Первопричина катастрофы, как
отмечено в итоговых документах,— внешний
подводный взрыв (неконтактный,
донный) заряда с тротиловым эквивален-
43
том 1000—1200 кг. Наиболее вероятным
признали взрыв немецкой магнитной
мины, оставшейся на грунте после
Великой Отечественной войны.
Возможность такого взрыва наряду с характером
повреждений линкора подтверждена
тщательным анализом и практикой
послевоенного мореплавания Кстати, в
последующие после катастрофы два года в
Севастопольской бухте обнаружили 19
немецких донных мин, в том числе три
— на расстоянии менее 50 м от места
гибели линкора. Комиссия отметила, что
неудовлетворительная организация
охраны водного района не исключала
проникновения в бухту подводных
диверсантов. Однако объективных свидетельств
диверсии не нашли. Главный же урок
(который, к сожалению, и до сих пор
нами не усвоен до конца) в том, что
даже такой мощный взрыв не должен
был привести к гибели корабля и сотен
людей уже после взрыва. Это
произошло из-за недостатков конструктивного и
организационно-технического
обеспечения его непотопляемости, а также
ошибок в борьбе за живучесть.
В ходе модернизации 1936—1937 гг.
линкор был перегружен, соответственно
уменьшился запас плавучести,
ухудшилась остойчивость. Водонепроницаемые
закрытия и ряд общекорабельных
систем (водоотливная креновая, сточная)
оказались несовершенными. Роковую
роль после взрыва сыграли малое
число и недостаточная прочность
водонепроницаемых переборок выше броневой
(первой надводной) палубы. Тем самым
нарушался сформулированный А.
Крыловым еще в 1903 г. принцип:
«Остойчивость при повреждениях
обеспечивается соответствием подразделения
надводной части подразделению трюма...
чтобы корабль тонул не опрокидываясь».
Оценивая качество организационно-
технического обеспечения
непотопляемости, комиссия установила, что на
линкоре отсутствовал контроль за его
остойчивостью в процессе эксплуатации,
не выполнялись уставные требования по
герметизации корпуса, вследствие чего
некоторые переборки лишь числились
водонепроницаемыми, снабжение
корабля аварийно-спасательным имуществом
было неудовлетворительным,
недоставало положенной корабельной
документации. Строевые офицеры экипажа
оказались плохо подготовленными по
непотопляемости и устройству корабля.
Командование не имело твердых навыков
руководства борьбой за живучесть.
Борьба за спасение корабля и
экипажа. Сразу же после взрыва экипаж
начал энергичную борьбу за
непотопляемость, в ходе которой в первую очередь
решалась задача прекратить
распространение воды, принимались меры по
восстановлению остойчивости и спрямлению
корабля. Все эти действия
осуществлялись под руководством врио командира
БЧ-5 инженер-капитана 3 ранга Е. Ма-
тусевича, командира дивизиона
живучести инженер-капитан-лейтенанта Ю.
Городецкого и пришедшего к ним на
помощь начальника технического
управления ЧФ инженер-капитана 1 ранга
В. Иванова. Центром управления, как и
положено, стал пост энергетики и
живучести (ПЭЖ). Строго по уставам и
инструкциям действовал и весь личный
состав, до конца оставаясь на своих
постах. Многие погибли вместе с кораблем,
в том числе и указанные выше офицеры.
Правительственная колшссия высоко
оценила действия моряков в отсеках,
отмечая их умение, настойчивость и героизм.
К сожалению, попытки предотвратить
распространение воды по кораблю и его
спрямления не увенчались успехом,
главным образом вследствие указанных
выше конструктивных и организационно-
технических недостатков. Вместе с тем
были допущены ошибки в ходе самой
борьбы за непотопляемость:
недооценка в начальный период
опасности состояния поврежденного корабля;
недостаточное внимание к удалению
фильтрационной воды из отсеков на
броневой палубе;
запаздывание и нерешительность при
попытках спрямления;
неэффективное использование
аварийных партий, присланных с других
кораблей, и средств
Аварийно-спасательной службы ЧФ.
Сказалось отсутствие единого
квалифицированного руководства всей
борьбой за спасение' корабля и экипажа, а
также «стихийный» перенос управления
на ют корабля. ГКП, наилучшим
образом оборудованный для этого, не
использовался. Телефонную связь заменили
посыльными и вызовом должностных лиц
для докладов на ют. Последнее особенно
мешало работе ПЭЖа.
Безграмотными, непоследовательными
и нерешительными были действия по
посадке линкора на отмель. Не сделали
самого эффективного — не дали заднего
хода своими машинами. И наконец,
когда близкая гибель корабля стала
очевидной, не было принято мер по эвакуации
личного состава.
Аварийно-спасательная служба ЧФ
оказалась не готовой быстро и
результативно помочь большому кораблю,
получившему тяжелое повреждение, спасти
людей из отсеков после опрокидывания.
Таким образом, документы
правительственной комиссии позволяют ответить
на следующие вопросы.
Можно ли было избежать взрыва?
Да, при условии тщательной очистки
Севастопольской бухты от донных мин
и должной организации охраны рейдов.
Можно ли было спасти поврежденный
корабль и личный состав от гибели?
Да, безусловно, путем посадки
корабля на прибрежную отмель своим ходом.
Можно ли было решить ту же задачу
без посадки корабля на отмель?
Да, но при двух жестких условиях:
немедленном (сразу после взрыва)
продольном спрямлении, контрзатоплением
кормовых артпогребов и эффективной
борьбе с распространением воды по
отсекам в нос от 23 шп.
Можно ли было, не добившись
спасения корабля, избежать массовой гибели
людей?
Да, при своевременной подаче
команды об эвакуации.
Можно ли было спасти людей, остав-.
шихся в воздушных подушках отсеков
опрокинувшегося корабля?
Если не всех, то большую часть, но
при двух условиях: интенсивной подаче
воздуха в отсеки для поддержания
корабля на плаву и широкомасштабном
использовании имевшихся технических
средств (звукоподводной связи,
шлюзовых камер).
Конечно, нелегко и непривычно так
прямо и однозначно ставить эти
болезненные вопросы и отвечать на них
задним числом, после тщательного
расследования причин и обстоятельств
катастрофы. Но для специалистов и
командования это крайне необходимо, чтобы
прервать наконец цепь подобных катастроф
на нашем флоте. Добиться, чтобы все
меры, выработанные на основе опыта
аварий, неукоснительно выполнялись, а
не предавались забвению.
Уроки гибели линкора «Новороссийск»
были весьма оперативно учтены в
руководящих флотских документах. Не
дожидаясь переиздания Корабельного
устава ВМФ, в него внесли в форме
вклеек важные дополнения, относящиеся к
обеспечению живучести
(непотопляемости). Провели тщательную проверку
конструктивного обеспечения
непотопляемости всех кораблей и судов ВМФ. Те,
которые устарели, и сильно изношенные
исключили из состава флота. Органы,
ведающие строительством, ремонтом и
эксплуатацией кораблей, повысили
требовательность к обеспечению
непотопляемости, совершенствованию и
комплектации корабельной документации.
Больше внимания стали уделять АСС ВМФ
и ее техническому оснащению.
Восстановили должности флагманских
специалистов соединений по живучести.
Правительственная комиссия
рекомендовала также ввести должности помощников
(или даже старших помощников)
командиров кораблей по живучести с
назначением на них
инженеров-кораблестроителей, но это предложение не было
принято. Во вмузах больше стали уделять
внимания изучению теории корабля,
особенно непотопляемости и живучести.
Однако, как уже отмечалось, многие
из этих мер со временем отошли на
второй план и не стали обязательными и
постоянными, в чем одна из причин
аварийности в ВМФ.
Подъем линкора. Сразу же после
катастрофы встал вопрос о его подъеме.
Это было обусловлено опасностью
взрыва боезапаса (тротиловый эквивалент
более 100 т), экологическими
последствиями и тем, что линкор мешал
свободному маневрированию в бухте. Вопрос о
его восстановлении не ставился.
09.02.1956 г. Совмин СССР постановил:
линкор поднять и отбуксировать в
бухту Казачья на прибрежную отмель для
разделки на металл, работы закончить
в IV квартале 1957 г.
Для этого была сформирована
экспедиция особого назначения (ЭОН),
которую возглавил крупнейший специалист
советского судоподъема лауреат
Государственной премии инженер-капитан 1
ранга (впоследствии контр-адмирал)
Н. Чикер. С мая 1956 по июнь 1957 г.
мне довелось быть его заместителем —
главным инженером. ЭОН представляла
собой мощную, хорошо оснащенную
организацию, насчитывавшую (в разные
Линкор «Новороссийск» после всплытия. Вид с носа, кормовая кромка
пробоины обрезана под водой при установке железобетонного
пластыря.
45
периоды) 400—700 человек, включая
50—60 офицеров, и 30—40 судов,
плавсредств и катеров.
Линкор лежал вверх килем поперек
Севастопольской бухты (корма в 130 м
от Госпитальной стенки). Крен — 174°
(6° до полного опрокидывания через
левый борт), небольшой дифферент на
корму. Глубина 16—18 м. Над килем слой
воды толщиной 2—3 м. Грунт —
уплотняющийся с глубиной ил. Ниже 35—
38 м от поверхности воды плотный слой
ракушки. Все палубные надстройки,
дымовые трубы, мачты вошли в грунт.
Благодаря наличию захватов
артиллерийские башни главного калибра не
вывалились, оставшись на штатных местах.
Общий характер повреждений давал
основания считать, что в районе 25—50
шп нарушена не только
водонепроницаемость, но в значительной степени и
общая продольная прочность корпуса.
В основу проекта подъема легли
основные принципы, сформулированные в
конце 1955 г. Н. Чикером. Корабль
поднимать целиком, вместе с
полуоторванной взрывом носовой оконечностью,
вверх килем, и в этом же положении
перевести его в Казачью бухту.
Подготовка линкора к подъему
началась в марте 1956 г. с установки на
днище линкора семи шлюзовых шахт и
эстакады. Это потребовало огромного
объема работ по подводной сварке и резке.
Для обеспечения непроницаемости
основной части корпуса были заварены более
250 забортных отверстий и осуществлена
заделка железобетоном пробоин и
трещин переборки на 50 шп. Кессонные
работы выполнялись специальной группой,
в которую, кроме профессиональных во-
д^ггазов, входили бывшие члены
экипажа, хорошо знавшие устройство линкора.
Группа обследовала артпогреба и
крепление в них боезапаса, выгрузила все
пороховые заряды главного калибра
(около 96 т пороха), смонтировала
трубопроводы и арматуру для продувания
отсеков и откачки топлива (откачали
1700—1800 т).
Исключительным по масштабам и
сложности было удаление всех
надпалубных (в опрокинутом положении под-
палубных) конструкций для уменьшения
осадки поднятого линкора. Наибольшую
трудность представляло отделение фок-
мачты (наружная труба диаметром 7 м
с толщиной брони 42 мм и внутренняя
— диаметром около 1 м и толщиной
стенок 180 мм), а также 2-й башни
главного калибра.
Несмотря на перечисленные
трудности, задачу успешно выполнила группа
водолазов-резчиков под руководством и
при личном участии капитана 3 ранга
А. Черкащенко. Наиболее активным и
квалифицированным исполнителем всех
других водолазных и кессонных работ
был водолазный специалист капитан 2
ранга П. Никольский, а техническим
руководителем — инженер-подполковник
Э. Лейбович (впоследствии начальник
АСС ЧФ).
Подъем линкора назначили на 4 мая
1957 совесть об этом разнеслась по все-
МУЖЕСТВЕННЫМ МОРЯКАМ ;
ЛИНКОРА НОВОРОССИЙСК4
ПОгибшим пря исполнении
- ВОИНСКОГО ДОЛГА
29 ОКТЯБРЯ 1955 ГОД
«Скорбящий матрос» — центральная
фигура мемориала на Братском
кладбище.
му Севастополю, и, несмотря на
сильный дождь, все берега бухты заняли
люди.
Носовая оконечность медленно
всплыла примерно через четыре часа после
начала генеральной продувки, корма —
еще через час. Днище поднялось над
водой примерно на 4 м (см. фото).
После этого линкор отбуксировали в
Казачью бухту, посадили его с ходу на
заранее подготовленную площадку с
осадкой около 15,5 м и средней высотой
надводного борта 5 м. Затем выгрузили
оставшийся боезапас и разделали корпус
на металл.
Память. В память о жертвах
катастрофы в Севастополе созданы два
мемориала: надгробие на кладбище
Коммунаров и величественный комплекс на
Братском кладбище. Благодаря стараниям
активно действующего в Севастополе
совета ветеранов линкора в Зб-ю
годовщину его гибели у подножия статуи
установили мемориальные доски с
фамилиями всех погибших, а на Госпитальной
стенке — бронзовую памятную доску.
По установившейся в отечественном
флоте традиции имя погибшего линкора
—«Новороссийск»— носит один из новых
авианесущих крейсеров.
В краткой статье нет возможности
более подробно и всесторонне осветить
такое тяжелое для нашего флота
событие, как гибель линкора «Новороссийск».
Тем не менее надеюсь, что
заинтересованный читатель получит общее
представление о причинах, обстоятельствах и
уроках катастрофы.
46
ВДНХ СССР
«ИННОВАТОР-91»
Т АК НАЗЫВАЛАСЬ первая в СССР
1 международная выставка-ярмарка,
организованная межотраслевым научно-
техническим центром «Инноватор»,
которая проходила на ВДНХ СССР в
январе. Главная особенность выставки —
активное участие Министерства обороны
СССР, выразившееся не только в
демонстрации своих экспонатов, но и в
распродаже военно-технического
имущества на специально организованном
аукционе.
Всего на выставке-ярмарке
предлагалось более 1000 ед. научно-технической
продукции около 300 предприятий, в
том числе и оборонных, занятых
конверсией своих производств. Приняли
приглашение посетить ярмарку зарубежные
фирмы из 20 стран.
Военно-техническое имущество было
представлено автомобильной техникой
различного назначения, передвижными
метеостанциями, комплексами машин
для ликвидации аварий на АЭС
(«Иртыш», «Щит», «Сойка», «Броня» на
шасси танка Т-54), полевыми
магистральными трубопроводами повышенной
производительности, электрическими
агрегатами, радиостанциями,
противопожарной техникой.
Военно-Морской Флот также
участвовал в выставке-ярмарке и аукционе.
Посетителям были предложены: судно —
покрасочная станция (см. фото),
запасные части к автотракторной технике,
средства защиты и другое имущество.
Следует заметить, что при подготовке
к аукциону представителями ВМФ была
проделана большая работа, однако не
Судно — покрасочная станция.
Водоизмещение — 550г; длина — 36 м; ширина — 9
м; осадка — 2,65 м; скорость — 11 уз.
Помимо основного назначения, может
использоваться для очистки подводной части
корпуса корабля, демонтажных и
монтажных работ по корпусным и мачтовым
конструкциям, навигационному оборудованию
судов на плаву; для оказания помощи
аварийному кораблю: тушение пожаров,
дезактивация, буксировка, подача и съем
различного оборудования, спасение
экипажа с помощью дистанционных рычагов,
подъемных площадок, водолазного
снаряжения.
по их вине результаты получены
весьма скромные (всего было реализовано
ВТИ ВМФ на сумму около 30 тыс. руб.).
Сказались недоработки устроителей в
организации, рекламе аукциона,
неясность со стартовыми ценами на
продукцию.
ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Журнал «Морской сборник» публикует рекламные
материалы на научно-техническую и другую продукцию,
находящую применение в морском деле.
Рекламные объявления размещаются по желанию
заказчика на цветной вклейке или по тексту.
С нашей помощью вы сможете информировать
потенциальных ваших потребителей как в СССР, так и в более чем 60
странах мираг где распространяется «Морской сборник».
47
ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Беседы о культуре
ЯЗЫК —ВАШ ДРУГ
Л. ДОРОГОВА,
доцент ВПА имени В. И. Ленина
СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ: речь —это визитная карточка, которую непроизвольно
предъявляет каждый из нас, общаясь с другими людьми. Литературно
грамотная, убеждающая, образная речь — необходимое требование, которое обязательно
для каждого человека даже в обыденной жизни, не говоря уже о публичном
выступлении. Постоянные теле- и радиотрансляции съездов и сессий Верховных Советов,
без преувеличения, способствовали росту популярности одних народных депутатов
и разочарованию в других именно на основе их выступлений.
Пусть это и звучит банально, но нить речи человека прямо пропорциональна
мыслительному процессу в коре его головного мозга. В то же время культура речи —
свойство, как правило, благоприобретенное. Ее чистота, логичность, выразительность
являются показателем образованности индивида и его духовной культуры.
Поэтому наш разговор о культуре речи современного офицера флота выйдет за обычные
рамки соблюдения правил грамматики и отказа от нецензурщины.
В нашей стране этому искусству обучают в очень редких учебных заведениях.
В развитых странах Запада забота о владении навыками публичной речи далеко не
личное дело каждого. Риторика — один из элементов системы общегосударственных
мер по «удержанию национального совокупного интеллекта на достаточно высоком
уровне». В США, например, рабочий не будет переаттестован, если не сдаст курса
«паблик спич», а во всех учебных заведениях обязательным предметом является
риторика или основы выразительного чтения. Что это, «прихоть буржуазии» или
социальная целесообразность? Весьма любопытно в связи с этим проследить
эволюцию ораторского искусства.
Европейская цивилизация ведет счет своим традициям от древних греков.
Требования, изложенные в учении об ораторском логосе, ораторском этосе, ораторском
пафосе, стали основой ораторской школы и во все последующие века. В греческих
городах-полисах еще в эпоху рабовладения, особенно когда общественное
устройство приобрело черты демократические, возникала острая необходимость в ораторском
мастерстве. Ведь свободная публичная речь — первое условие гласности.
Перефразируя слова римского историка Тацита, можно сказать, что повсеместно и во все
времена «империи смиряли красноречие». Подтверждения выводу известного
римлянина можно найти в многочисленных примерах: например, когда римскую
республику сменила империя; французскую буржуазную революцию контрреволюция и
реставрация; революционным движениям в Германии и России в начале XX века,
приведшим к созданию республиканских форм правления, пришлось познать горечь
поражения от тоталитарных режимов. Однако всегда периоды расцвета демократических
форм правления сопровождались оживлением ораторского искусства. Можно
сослаться здесь и на сегодняшний день нашей страны, стремящейся стать правовым,
демократическим государством. Таким образом, развитие культуры речи для нас является
своего рода знамением времени.
Каких же критериев необходимо придерживаться, когда мы говорим о
культуре речи? Во-первых, это речь правильная с точки зрения грамматики; во-вторых,
она логически выстроена; в-третьих, она убедительна, эмоциональна, произнесена
внятно.
Каково же конкретное содержание каждого из названных элементов? Первый
элемент предполагает правильность речи, ее соответствие грамматической и литера-
"8
турной норме произношения. В каждом языке есть несколько общеупотребительных
пластов речи. Есть речь грамотных, хорошо образованных людей, опирающаяся на
исторические традиции, народные корни. Она определяется нормированным, литературно
обработанным языком. Такая речь звучит по радио, телевидению, со сцены
некоторых театров, реже с киноэкранов. Предполагается, что речь политических
деятелей всех рангов должна соответствовать литературной норме, не говоря уже о
педагогах, людях творческих. В рамках этой нормы издается научная и
публицистическая литература, учебники. Но в нашей стране люди живут в разноязычной среде и
кроме литературной пользуются и диалектной речью, распространенной в тех или
иных регионах. Такое же положение сложилось во многих странах.
Если говорить о путях совершенствования речи, то следует обратить внимание
на расхождение собственного произношения и словоупотребления с установленными
правилами орфоэпии и стилистики. Это затрагивает такие стороны языка, как
ударение в словах, произношение букв и их сочетаний, согласование слов в
предложении, правильность употребления предлогов и т. п. Но что можно счесть уместным
для коммуникации на бытовом уровне, совершенно недопустимо на официальном,
публичном. Даже невинное так называемое малороссийское мягкое «г» в публичной
речи звучит малопривлекательно. Но наша общая и пока еще неизлечимая беда —
повальная стилистическая безграмотность. Наука эта, коротко говоря, требует
правильно использовать те или иные слова в конкретной ситуации. К сожалению, для
многих, не исключая и офицеров (а они относятся к слою интеллигенции), наука
эта за семью печатями. «Я буду более короче...», «на это уделим пристальное
внимание» — эти и подобные речевые перлы нередко можно услышать в нашей среде.
Для того чтобы «почистить» свою речь (увы, мы часто не замечаем
собственных вредных языковых привычек), полезно время от времени заглядывать в
орфографический словарь или словарь ударений; послушать себя в магнитофонной
записи. Попытайтесь читать вслух отрывки из произведений художественной литературы,
особенно поэзии. Пройдет время, и вы заметите прогресс: ваша речь станет
грамотней и одновременно вы обогатите свой словарный запас. Кроме того, вы начнете
более тонко постигать оттенки смысла различных слов. В этой связи позволю себе
смелость утверждать: для моряков знать больше слов, их синонимов весьма
небесполезно. И не потому, что я больше симпатизирую именно вам. Армейцы находятся
на земле, среди постоянно меняющихся людских потоков, общаются с разными по
уровню и окраске речи людьми. В море же, в ограниченном пространстве, много
месяцев подряд общаясь с одними и теми же членами своего экипажа, невольно
сужается и без того ограниченное духовное пространство! Как это ни прискорбно, но
человека принижает монотонность и однообразие, тем более если он и на вахте, и
в каюте, и в кают-компании слышит одни и те же приевшиеся шутки, ограничен
темами для бесед. Оказывается, богатство речи — это еще и
социально-психологическая проблема. Любопытен такой факт: от богатства словарного запаса,
интонационной окраски зависит способность человека к так называемой синтонии
(созвучию) в настроениях.
Сколько же слов должен знать офицер, чтобы избежать скудости в выборе
лексических средств? Считается, что уровень словарного запаса в 3—4 тысячи слов
соответствует простому обиходному общению. Но это удовлетворительный уровень
для иностранцев, владеющих данным языком. А вот, к примеру, ленинский
лексический запас — 37 тысяч слов, «пушкинский» — более 20 тысяч. Это принято
считать предельно высоким запасом слов. Есть, правда, и нижний уровень шкалы.
Эллочка Щукина — персонаж известного романа Ильфа и Петрова — обходилась
тридцатью, а Ф. Достоевский в «Дневниках писателя» привел разговор трех пьяных
мастеровых, которые обходились всего тремя словами...
Всех говорящих и пишущих преследует одна и та же беда: к словам привыкают.
Помните, у В. Маяковского: «Слова у нас до важного самого в привычку входят,
ветшают, как платье». Но беда эта преодолима. Сошлюсь на авторитет Дейла Кар-
неги, известного своими книгами по культуре общения. Он описал приемы, к
которым прибегали известные, преуспевающие в своем деле люди. Так, один из
политических лидеров, желая улучшить свою речь, многократно переписывал по памяти
понравившуюся ему статью из журнала. От себя добавим, что постоянное пополнение
запаса слов — пища не только для памяти, но и для ума и души. Читать, естествен-
4 «Морской сборник» № 4
49
но, лучше классику. Уверяю вас: нет лучшего «материала», чем стихи Пушкина,
Блока, Фета, Пастернака, Маяковского...- Малопродуктивной в этом смысле
становится современная литература. Она больше озабочена социальностью, а не поиском
адекватной чувствам и мыслям художественной словесности.
Но слово — всего лишь строительный материал. Речь же, беседа или доклад
складываются с помощью логики, своего рода «ариадниной нити», ведущей
путника по лабиринту, имеющему много тупиковых ходов. В целом логику определяют как
науку о правильно организованном мышлении. Из этого следует, что мышление
может быть организовано и неверно. А за неправильным словом не исключено и
неправедное дело.
Законы логики известны, можно еще раз обратиться к учебнику. Таких законов
четыре. Закон тождества — всякая мысль должна формулироваться однозначно и не
подменяться другой; закон исключения третьего — истинно либо утверждение, либо
его отрицание; закон достаточного обоснования — утверждение должно быть четко
обосновано; закон непротиворечия. Короче говоря, логика речи — всегда логика
мышления. Как человек думает, так он и говорит. Плохое мышление определяет и
соответствующую деятельность.
Важнейшая сторона публичной речи — ее доказательность. Правда, при
желании можно доказать и неверный тезис, используя ложные аргументы. Чтобы
избежать заблуждения, нужно сомневаться и иметь возможность проверить приводимые
аргументы. Древними был даже разработан своеобразный «кодекс чести» для
спорящих. Он запрещал использовать угрозы, переходить на личность, льстить
оппоненту, обращаться за поддержкой к публике, возбуждать жалость к себе, ссылаться
на авторитеты и использовать факты, неизвестные аудитории. Последний запрет
получил название «аргумент к невежеству». Что смущало при этом древних? То,
что люди примут сказанное «на веру» или, хуже того, не сумеют по достоинству
оценить предмет разговора. Эти тривиальные, казалось бы, вещи нередко
игнорируются сегодня в обществе в целом и в военной среди в частности, где, увы, нередко
отстаивая свои позиции, искажают иные.
Хочу особо остановиться еще на одном важном достоинстве культурной речи,
а именно на ее краткости. Жители Лаконии (область в Древней Греции),
славившиеся своей привычкой говорить кратко и ясно, на длинную и замысловатую речь
посланников с острова Самоса ответили: «То, что вы сказали вначале, мы забыли, так
как это было давно, а конец нам непонятен, так как мы забыли начало...»
Существуют две причины многословия. Во-первых, отсутствие четкого понимания того, о
чем предстоит говорить. Именно поэтому выступления получаются путаными. Такие
ораторы часто возвращаются к одним и тем же вопросам, поверхностно судят о чем-
то и нередко уходят от самой темы разговора. Во-вторых, склонность некоторых
выступающих к демагогии и софистике. Говорящий понимает и знает предмет, у него
есть свое видение той или иной проблемы, однако в конкретной ситуации ему либо
невыгодно по какой-то причине, либо небезопасно открыто говорить то, что он
думает или знает. Тогда оратор пускается в демагогию. Это особенно вредно в
политико-воспитательной работе. Оно в ряду тех опасных социальных явлений, которые
подорвали в сознании многих военнослужащих авторитет политработника. ,
Несколько слов о выразительности и внятности речи. Речь говорящего должна
быть хорошо слышной для всех, кто присутствует на мероприятии. Нужно следить
за своим произношением — дикцией. Энергичная артикуляция, четкое произнесение
гласных и согласных, окончаний слов — все это залог высокого качества речевой
деятельности. Для этого существует система упражнений, улучшающих речевое
дыхание, голос и дикцию.
Учиться ораторскому искусству никогда не поздно: поэтами рождаются,
ораторами делаются. Было бы желание. Речь — это не только поток информации: это
одновременно и процесс внушения идей, заражения своим настроением, убеждением.
Сегодня, когда нарастает политическое противостояние в обществе, когда все чаще
реализуется принцип альтернативных выборов, многое зависит от умения склонить
на свою сторону аудиторию. Для этого нужно знать и чаще использовать в практике
систему выразительных приемов, способов опровержения. Все это вполне доступно
каждому желающему улучшить свои ораторские качества.
50
Мы открываем новую рубрику — «Румб» К
Она посвящена как курсантам высших военно-
морских училищ, так и воспитанникам
нахимовского училища и морских клубов страны.
Необходимость новой рубрики продиктована самой
жизнью — многочисленными проблемами,
которые существуют сегодня в деле подготовки
офицеров ВМФ XXI века, необходимостью усиления
военно-патриотического воспитания молодежи. Представляя новую рубрику, редакция
журнала надеется, что основными авторами публикаций здесь будут прежде всего
курсанты и воспитанники, как нынешние, так и бывшие. Мы не исключаем
заинтересованного участия в «Румбе» ветеранов ВМФ, всех, кому дорого новое поколение
военных моряков, а значит, и будущее Военно-Морского Флота. Ждем ваших писем,
новых тем для очередных выпусков «Румба». Пишите нам, с кем бы вы хотели
встретиться на его страницах, и мы постараемся выполнить ваши пожелания.
ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!
«ГАРДЕМАРИН (франц.— морская гвардия) — звание в русском
военно-морском флоте в 1716 — 1917 годах. Присваивалось воспитанникам,
окончившим Морскую академию, а позже Морской кадетский корпус в 1716—1752 гг.,
1860 — 1882 гг., в 1906 — 1917 гг. («корабельный Г.») и проходившим на
кораблях годичную или более длительную практику со сдачей экзаменов перед
производством в мичманы. В остальных периодах так именовались
воспитанники старших классов (рот) Морского кадетского корпуса, выпускавшиеся в чине
мичмана».
Военно-морской словарь
— Гардемарины, за мной!
И понеслись, помчались по училищному коридору во всю свою юношескую
прыть десятки курсантов. И пусть на рукаве форменки четыре золотистые
«галки», пусть вместо бескозырки — фуражка с офицерской кокардой. Молодой
задор так и рвется на волю — вперед, гардемарины!
Гардемарины? А почему бы и нет. Конечно, эти ребята, посвятившие свою
юность флоту, не во всем напоминают киноэкранных героев, лихо фехтующих и
скачущих на лошадях, похищающих красавиц и между делом спасающих одно
из первых лиц Российской империи. Роднит старшекурсников военно-морских
училищ с гардемаринами прошлых времен их преданность Отечеству и флоту,
стремление служить их славе. В этом я еще раз убедился, побывав в двух
ленинградских училищах — ВВМИУ имени В. И. Ленина и ВВМУРЭ имени А. С.
Попова.
Чем живут сегодня будущие офицеры флота? Что заботит их? Думаю, что
ответ на этот вопрос будет интересен всем, кому небезразлично будущее
Советского Военно-Морского Флота. Итак...
1 Румб — направление к точкам видимого горизонта относительно стран света.
В морской навигации 32 румба. N — норд (север), О — ост (восток). S — зюйд (юг) и W —
вест (запад; — главные; NO — норд-ост, SO — зюйд-ост, SW — зюйд-вест и NW — норд
вест — четвертные. Среднее направление между главными и четвертными обозначается
тремя буквами NNO — норд норд-ост. WSW — вест зюйд-вест и т. д. Таким образом
обозначаются 16 румбов, а средние направления между ними (еще 16) образуются из
названий первых с добавлением знака t (тень), например: NOtN — норд-ост тень норд,
SW1W — зюйд-вест тень вест.
4*
51
КАК И ЧЕМУ УЧИТЬ КУРСАНТОВ?
«Меня все больше волнует качество подготовки в училище» Не удовлетворяет
система обучения. И прежде всего как будущих офицеров..,»
Главный корабельный старшина С. Листов.
Есть ли причины для подобного беспокойства? Безусловно. И об этом
знают не только командиры всех степеней и рангов, которым зачастую приходится
доучивать и переучивать лейтенантов, но и сами курсанты. А не устраивает их
сама система обучения: подбор дисциплин, соотношение между ними, организация
учебного процесса. Можно ли считать нормальным тот факт, что после нескольких
лекций по военной педагогике и психологии курсанты не находят этой науке
конкретного применения? Нормально ли то, что преподаватели, признавая, что объем
даваемой информации превышает нормы усвояемости, продолжают читать
лекции в тех же объемах? Или что на изучение устройства насоса и теории
управления подводной лодкой отводится почти один и тот же объем учебного
времени; что на лекциях курсанты порой строчат как заведенные, не вдумываясь в
смысл информации, — только бы успеть: учебных пособий не хватает, нередко
курс лекций читается по учебникам, которые еще не вышли в свет — ждут
своей очереди в типографии; что целый год — около 300 суток — из пяти лет
обучения курсант проводит в нарядах и караулах...
Конечно, можно обвинить курсантов в юношеском максимализме — дескать,
хотят все сразу и сейчас. Но не замечать и не учитывать этот «взгляд изнутри»
нельзя. Потому что не любовь к громкой фразе заставляет их задумываться,
говорить об этих проблемах.
И все-таки чему » как учить будущих офицеров? Что должно, по их мнению,
стать основным критерием при разработке учебных планов и программ? Ответ на
этот вопрос достаточно четко сформулировал старшина 1-й статьи Э. Мшенец-
кий: <г£ выборе дисциплин, в определении соотношения между ними нужно исходить из
того, что нам потребуется на флоте».
Предвижу усмешки — открыл Америку! Но смеяться не над чем: курсанты
не декларируют, а предлагают конкретные пути решения проблем. Первая и,
пожалуй, главная из них — морская практика.
КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ «КАСТРЮЛИ»?
«Мы пять лет учимся, получаем профессию. О службе узнаем только на
стажировке. А по-настоящему лишь тогда, когда уже приходим на флот лейтенанта-
ми. Мы здесь живем и учимся как в кастрюле с закрытой крышкой. Поэтому после
стажировки на флоте многие приезжают ошарашенные флотской
действительностью и порой разочарованные», — говорит курсат А. Феоктистов.
«Четыре года человек отучился и... разочаровался! Понимаете?» — вторит ему
старшина 1-й статьи Ю. Сизов.
Кому из корабельных офицеров не приходилось наблюдать, как прибывшие
на практику или на стажировку курсанты спят в укромных уголках, азартно
стучат костяшками домино или бесцельно слоняются по кораблю в рабочее
время? Все это действительно так. Но только ли курсанты виноваты в этом?
Разумеется, и среди них хватает любителей «хорошо отдохнуть», но ведь
бездельничают почти все. Почему?
«Систему морской практики надо в корне менять. Нынешняя никуда не
годится», — считает старшина 2-й статьи Д. Горелик.
«На практике курсант четвертого курса не знает, что делать, потому что ему
ничего не доверяют, боятся. Только и слышишь: «Сиди-ка ты лучше в команде!»
— таково мнение курсанта И. Травина.
«Нам хотя бы достичь уровня организации практики в ВВМУ имени Фрунзе.
У них что ни практика, то поход в составе отряда кораблей в различные части
света. А у нас как рейсовый автобус: Кронштадт — Ленинград, Ленинград —
Кронштадт. Или рассылают на практику на подводные лодки, которые в течение
всего этого месяца и на сутки не оторвутся от пирса...» — утверждает старшина
1-й статьи Э. Мшенецкий.
Так происходит потому, что на практике курсант повязан запретами и
предупреждениями по рукам и ногам. Целый год молодой энергичный человек
вынужден заниматься теорией, а когда приходит срок проверить и подкрепить
знания на практике, его просто-напросто не допускают к самостоятельной работе.
Почему. Вот мнение старшины 2-й статьи Д. Горелика:
«Получается так потому, что и нас офицеры зажаты в тиски
ответственности за жизнь, здоровье курсанта. У нас эта боязнь пронизала весь флот — сверху
донизу».
Ну, так что же? Согласиться? Продолжать использовать практику как
своего рода каникулы на свежем воздухе во внеучилищной обстановке? Нет,
мириться курсанты не хотят и выдвигают свои предложения о прохождении морской
практики.
52
Тот же Д. Горелик считает, например, что отрывать от привычного хода
боевой подготовки экипажи кораблей для прохождения курсантами стажировки не
следует. Достаточно передать в распоряжение Высшего военно-морского
инженерного училища, в котором учится Дмитрий, одну-две подводные лодки из числа
тех. что длительное время находились в консервации, а сегодня идут в
металлолом. Он уже продумал и свой план практики: сначала расконсервация, затем —
отработка задач у пирса и в море.
Курсант Игорь Травин, наоборот, хотел бы проходить практику и стажировку
членом экипажа корабля в дальнем походе. Старшина 1-й статьи Мшенецкий
настоятельно советует обратить самое серьезное внимание на опыт подготовки
офицеров ВМС США.
Безусловно, парни сами понимают, что сегодня никто не решится ни
выпустить в море курсантский экипаж, ни взять на борт на боевую службу вместо
штатного члена экипажа курсанта. Что же делать? Слепо копировать опыт других
государств, вновь, как во времена царя Петра, идти к ним в ученики?
Разумеется какая-то часть зарубежного опыта может и должна быть использована при
совершенствовании системы обучения и воспитания офицеров ВМФ СССР. Но
основой, по-моему должны стать традиции русского флота.
От былых времен в наследство нам достались не только красивое и звонкое
слово «гардемарин», но и более чем двухвековой опыт подготовки корабельного
состава. Что мешает нам сегодня вернуться ко временам гардемаринов — не
киноэкранных, а настоящих, корабельных/ Это не потребует ни особых
дополнительных материальных затрат, ни значительного увеличения времени обучения. Если
мы к впрямь считаем, что практика — критерий истинности наших знаний не
только в мировом масштабе, но и в каждом конкретном деле, то почему бы не
проверить подготовку будущих офицеров в период прохождения стажировки в
офицерской должности'? В "той самой должности и на том же корабле, куда он придет
после защиты дипломного проекта и сдачи государственных экзаменов. Передо
мной «Очерк военно-морской администрации», составленный преподавателем
Морского кадетского корпуса полковником А. Долговым в 1896 г. Один из
разделов — «Комплектация флота офицерскими чинами» — непосредственно
посвящен вопросам подготовки командного состава для кораблей русского флота. В
историческом очерке, посвященном истории развития военно-морских учебных
заведений в России, автор сообщает:
«В марте I860 г., вследствие признанного неудобства производить
воспитанников морских учебных заведений, при выпуске, прямо в офицеры, — Высочайше
повелено было: учредить во флоте особое звание: гардемарин флота, и вместе с тем,
существовавшее название: гардемарин Морского Кадетского Корпуса, было
упразднено, и заменено названием: кадет 1 роты, которые, таким образом, по выдержа-
нии выпускного экзамена, производились в гардемарины флота, и при том не
ранее 16-летнего возраста, а затем, по прослужении 2-х лет и по выдержании
особого испытания, — производились в мичмана. Впоследствии, срок этот был
сокращен, и по выдержании особого, практического испытания, гардемарины
производились в мичмана ранее 2-х лет...»
Обратите внимание на дату — 1860 г. Подобное же решение было принято
Морским министерством и позже, в 1906 г. Звание гардемарина флота вводилось
в результате осмысления причин ошибок и неудач прошедшей бесславной войны
— будь то Крымская или русско-японская — и рассматривалось как действенное
средство повышения качества обучения и воспитания будущих офицеров. Почему
бы и нам сегодня не воспользоваться им?
Находясь на корабле в должности дублера штатного командира
подразделения, гардемарин имел бы возможность не только тщательно изучить
устройство корабля, боевую технику и вооружение, не только сдать зачеты на допуск к
самостоятельному управлению группой или БЧ и несению службы вахтенным
офицером на якоре, но и познакомился бы со своими будущими подчиненными,
получил практические навыки работы с ними. В то же время командование
корабля смогло бы лучше оценить сильные и слабые стороны будущего офицера,
правильно сориентировать его, указать ему на пробелы и недостатки в его
подготовке. Если же еще дать командованию право при необходимости прерывать
стажировку на месяц для пополнения запаса теоретических знаний курсанта
либо влиять на него каким-то иным способом — этот вопрос требует серьезной
проработки специалистами, — то я не думаю, что стажировка будет для
гардемарина разновидностью отпуска. Но самое главное в том. что еще до выпуска
гардемарин получит достаточно полное представление об офицерской службе, успеет
подготовиться к ней в должной мере. Лейтенанта на доучивание в училище не
вернешь, гардемарина же — можно.
Не стоит забывать и о морской практике курсантов младших курсов. Лет
двадцать назад значительная часть курсантов приходила в училище, имея за
плечами опыт срочной службы, и этот вопрос не стоял так остро —
лейтенант-выпускник знал матросскую службу, что называется, изнутри. Сегодня же, когда
большинство курсантов и даже старшин — вчерашние. школьники, когда их
представления о морской службе не всегда соответствуют действительности,
появился «синдром кастрюли», о котором говорил курсант Феоктистов. Поэтому,
чтобы не ломать мальчишечьи судьбы, избавить флот от нытиков и лентяев, не-
53
обходимо, думаю, дать курсантам первого и второго курсов возможность
прочувствовать флотскую службу: тяготы несения ходовых вахт, радость от
благодарности, полученной не от старшины роты за хорошо произведенную приборку, а
от старшины команды или командира группы за успешное выполнение учебной
задачи в море. Средства для этого понадобятся? Да, и немалые. Но что дешевле
обойдется государству: затратить десятки или сотни тысяч на тщательную
подготовку офицеров или потерять миллионы на авариях и поломках техники по вине
личного состава?
ЕЩЕ РАЗ О ВАЖНОМ...
Говоря о подготовке курсантов, мы всегда к слову «обучение» добавляем и
«воспитание». Почему? Потому что они — большие, сильные, умные — все-таки
мальчишки. И не чужда им романтика, музыкой звучат для них корабельные
команды, названия далеких островов, городов и портов. Неужели сегодняшние
адмиралы забыли, с какой радостью и тайной гордостью привинчивали они к
форменке знак «За дальний поход»? Забыли? Не верю!
Но тогда почему шлюпочные походы и гонки — лакомое блюдо записных
спортсменов? Почему будущего морского офицера не учат ходить на шлюпке
под парусом, а морскими традициями, существующими в училище, курсанты
считают лишь празднование Дня основания училища, Дня ВМФ СССР и еще
одного, бог весть как затесавшегося сюда весьма сомнительного, но хорошо
известного многим «праздника».
Знаете ли вы об этом, товарищи адмиралы?!
Морская практика, стажировка и даже подготовка к ним могли бы стать
мощным, действенным, а главное, не формально-заорганизованным средством
привития будущим офицерам флота подлинных традиций русских и советских
военных моряков. Но только браться за это дело надо всерьез. Я верю, получит- ,
ся. Потому что сегодня, когда немалая часть нашего общества занята
«перетягиванием на себя общего одеяла», когда стало престижным заботиться о
собственной выгоде и только лишь о ней, — в это время есть люди, и, поверьте, их
немало, которые к числу своих личных проблем относят заботу о престиже и
славе Отечества. Эти люди — офицеры XXI века. Не будем об этом забывать.
Капитан-лейтенант А. ФЕДОРОВ
Монолог на заданную тему
ВОСПИТЫВАТЬ ЦВЕТ НАЦИИ
«Здесь воспитывался Александр Сер- чальники курсов — имеют более низкие
геевич Пушкин. 1811 —1817» — гласит штатную категорию, денежное содержа-
мемориальная доска на здании бывшего ние, чем преподаватели, и, как правило,
Императорского Лицея. Воспитывался! перспективы в службе. Поэтому назначе-
Может ли сказать кто-либо из нас имен- ние с флота в училище офицер часто
но так, вспоминая свои годы уч.ебы в воспринимает как тяжкую повинность.
военно-морском училище? Нет, мы, как Начав в 1988 г. службу в Ленинград-
правило, говорим «учился», а не «вое- ском ВВМИУ имени В. И. Ленина, я ин-
питывался». Это отнюдь не игра слов, а тересовался мнением офицеров о том,
отражение сложившегося положения. Се- кого в первую очередь готовит училище:
годня, к сожалению, в военных учили- офицеров-воспитателей или инженеров-
щах наметился явный крен в пользу механиков? Большинство утверждало,
обучения в ущерб воспитанию, хотя, со- что инженеров-механиков,
гласно теории, процесс обучения и вое- Всегда с благодарностью вспоминаю
питания един. Однако на практике пре- свое ТОВВхМУ имени С. О. Макарова,
подаватели занимаются в основном обу- Первую лейтенантскую благодарность я
чением и немного воспитанием, а началь- получил на УТУ «Атака» от командира
ники курсов, наоборот, больше воспита- бригады капитана 1 ранга В. Сидорова
нием и меньше обучением. Приоритет (ныне адмирала) за точную прокладку
обучения над воспитанием наглядно про- целей. Что ж, так меня учили. На заня-
является в кадровой политике. Непосред- тиях по физподготовке я тоже мог ска-
ственные воспитатели курсантов — на- зать матросам: «Делай, как я». А вот
54
умение управлять коллективом, увы,
доставалось методом проб и ошибок и,
следовательно, «синяков».
И вот пролетели 25 лет моей
офицерской службы, однако проблемы у
молодых лейтенантов остались прежними. А
страх перед будущими подчиненными,
по-моему, даже усилился. Недавно
проведенное анкетирование показало, что
более половины курсантов готоеы
служить где угодно, лишь бы не было
подчиненных.
Есть и другая печальная статистика.
С сентября 1989 г. покатилась вниз
кривая физической выносливости и здоровья
курсантов — следствие либерализации
распорядка дня. Если прежде
ежедневная 30-минутная утренняя физическая
зарядка помогала создать в организме
«запас прочности» как минимум на три
года службы после училища, то теперь
у курсанта-третьекурсника появилась
возможность уклониться от нее, как,
впрочем, и от многого другого, что
раньше считалось обязательным в деле воин-
сксго воспитания.
Перестройка в обществе порой
воспринимается как отрицание всех
достижений прошлого. Нынешний процесс
демократизации в Вооруженных Силах тоже
не лишен этих недостатков. Нередко при
этом отрицается веками накопленный
опыт воспитания дисциплинированных,
сильных телом и духом воинов. Под
напором чадолюбивых мам и пап идет
либерализация режима в училищах.
Курсант начинает превращаться в студента
в воинской форме. И все это делается
под флагом раскрепощения его сознания
от догм и стереотипов прошлого. Мол.
больше свободы — больше
ответственности. На деле же молодому человеку, еще
по сути дела не познавшему, «что такое
хорошо, а что такое плохо», не
научившемуся толком различать цвета,
толкуют об оттенках, нередко ориентируя его
на ценности прозападного толка.
Кстати, постоянные ссылки на
заграницу, слепое копирование западного
опыта, особенно в воспитании, также
вряд ли принесет успех. Там иная
система. Там высшее «образование — капитал,
и для его получения тоже надо вложить
свой капитал Исключено, что человек,
вложив кашпал, не захочет учиться.
Причем жертвуя многим, и не напрасно.
Американские кадеты знают, что
суровая дисциплина училища позволит им
получить прекрасное образование,
воспитание, гарантирует процветание в
жизни, сделает из них лидеров нации.
Позволит ли достичь столь высоких
целей система наших высших военно-
морских училищ? Да, при условии
усиления воспитательной работы. Но для
этого, как мне кажется, надо, во-первых,
признать тот факт, что воспитывают
(плохо или хорошо — это другой вопрос)
курсантов начальники курсов, чти
именно они являются главными фигурами в
подготовке будущего офицера.
Следовательно, по своей штатной категории, по
окладу должности начальников курсов
должны быть самыми престижными в
училище и желанными для лучших
корабельных офицеров. Начальник курса,
полагаю, должен назначаться на
должность в звании не младше
капитан-лейтенанта, с таким расчетом, чтобы он
находился в этой должности хотя бы в
течение подготовки двух выпусков.
Разумеется, начальники курсов тоже должны
будут пройти курс специальной
подготовки на краткосрочных курсах по
таким программам, чтобы они могли
обучить курсанта тому, как принять
должность на корабле, познакомиться с
личным составом, как вести себя в
конфликтной ситуации, знать правила
хорошего тона и, главное, хорошо
ориентироваться в вопросах военной
педагогики и психологии. Лекции по
военно-морской психологии, читаемые сегодня
чаще всего лицами, не имевшими ранее
подчиненных или не служившими в тех
должностях, в которых придется
служить лейтенанту, малоэффективны.
Во-вторых, как бы хорошо ни работали
приемные комиссии, «брак» при наборе
курсантов неизбежен. Дабы свести его к
минимуму, считаю необходимым
восстановить систему обязательной службы
перед учебой во ввмузе. Желающие стать
офицерами, например, сдают экзамены,
затем зачисляются на действительную
срочную службу в ВМФ и отправляются
сначала на четыре месяца в учебные
отряды для общевоенной подготовки и
получения элементарных навыков по
будущей специальности, затем на шесть
месяцев — на боевой корабль матросом. Не
передумал быть офицером — подписывай
контракт, в котором будут оговорены
взаимные права и обязанности
военнослужащего н государства.
В-третьих, курсант за время учебы
обязан пройти практику в должности
младшего командира. Почему-то
считается, что нельзя научиться, например,
55
запускать дизель вприглядку, надо
самому попробовать, а вот научиться
руководить людьми можно и вприглядку,
наблюдая за другими.
Считаю, что если курсант за время
учебы не был хотя бы семестр
командиром отделения, начальником караула
или разводящим, его офицером
выпускать нельзя.
В-четвертых, закрытое учебное
заведение, коим является военное училище,
способно дать воспитанникагл то, что
невозможно дать студентам,
разбегающимся после лекций по домам и
общежитиям. Необходимо предусмотреть
обязательное обучение хорошим манерам и
всему тому, что помогает стать офицеру
образцом культуры. Полагаться лишь на
желание курсанта нельзя. Я порей и на
третьем курсе встречаю курсантов,
которые ни разу не были не то что в
Эрмитаже, а рядом — в Екатерининском и
Павловском дворцах.
И еще. Необходимо внедрять и
поддерживать дух, если хотите,
исключительности своего учебного заведения. С
курсантских времен до сих пор помню
стаканчик для мороженого с авианосца
«Саратога». На нем яркий рисунок
красивого парня в форме и надпись:
«Лучшие парни мира служат в авианосной
авиации США». Должен признаться,
что, став командиром малого ракетного
корабля «Молния», я стремился
следовать этому примеру. На корабле все
было фирменное: знаки молнии на касках,
на спасательных жилетах и т. д. и
многое другое, вплоть до своего эстрадного
оркестра. Моряки считали, что их
корабль лучший, и он вскоре стал таковым.
Позже, когда я командовал соединением,
в которое входили корабли «Шторм»,
«Шквал», «Град», «Молния» и т. д., то
на вечерней прогулке и строевых
смотрах моряки исполняли фирменную песню
«Дивизион плохой погоды» и считала,
что они — главная ударная сила флота.
Фридрих II как-то сказал, что его
казармы в Потсдаме так устроены, что в
них замарширует даже котенок. То есть
какой бы человеческий материал ни
попадал в казармы, оттуда всегда выйдет
готовый к бою солдат. Чтобы курсанта
воспитывали именно военные училища,
а не «Взгляд» и подворотня, распорядок
дня должен быть жестким, позволяющим
всесторонне готовить юношу к службе в
любых условиях, делая его выносливым,
стойким, в любых жизненных
обстоятельствах умеющим постоять за себя и
за свои убеждения. В любом случае по
уровню подготовки, общей культуре
курсант должен отличаться в лучшую
сторону от своего сверстника — студента.
@н действительно должен быть цветом
и надеждой нации.
И тогда, убежден, совсем иным
станет у каждого выпускника отношение к
своей «альма-матер». И кто знает,
сколько мемориальных досок будет
установлено на стенах прославленных высших
военно-морских училищ, где засияют
золотом слова: «Здесь воспитывался...»
Капитан 1 ранга А, БОБРАКОВ,
заместитель начальника Высшего
военно-морского инженерного
училища имени В. И, Ленина
МОРСКАЯ ТЕМА СБЛИЗИЛА НАС
Сердечно благодарю редакцию и выражаю вам искреннюю признательность за
тот интерес, который вызвали у моих учеников ваши публикации. Я учитель и
наряду с другими предметами даю своим воспитанникам уроки из военно-морской
истории Отечества. Удивило, что увлеклись этой темой даже девочки.
Военно-морская история сблизила меня с учениками намного быстрее, чем
остальные дисциплины. Сказалось, видно, давнее увлечение флотом, хотя, как вы
понимаете, мы живем в глубинке, далекой от моря.
Нас попросили провести и общешкольный урок, посвященный
Военно-Морскому Флоту. В ходе урока будут экспонироваться копии не только современных
кораблей, но и судов эпохи парового флота. Таким образом, мы вносим свой вклад
в воспитание истинных патриотов. Работа эта вызывает необыкновенный прилив
гордости за прошлое России, позволяет надеяться на более завидное ее будущее.
В. ВАСИЛЬЕВ.
Село Малячкино, Самарская область.
56
Откровенно о наболевшем
С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ ФЛОТА
Петр Великий, стоявший у истоков российского военного флота,
сознавал, что страна нуждается в школе, которая бы пестовала костяк морского
офицерского корпуса. Такая школа — навигацкая — и была создана. На
протяжении веков она совершенствовалась. Российские государи щедро
одаривали ее воспитанников: блистательным профессорско-преподавательским
составом, достижениями мировой и отечественной науки, великолепными
дворцовыми сооружениями, сытым коштом. Многие кадеты и
гардемарины, выпустившись из ее стен, умножали славу Отечества.
Несет ли нынешнее нахимовское училище, наследник младших курсов
Морского Кадетского Корпуса, хотя бы отдаленный отблеск лучезарной
славы предков? Какие проблемы волнуют его коллектив?
Некоторые из них видны, как говорится, и невооруженным глазом. За
великолепием фасада главного здания-дворца — устаревающее оборудование
классов и кабинетов. Небогата морская учебная база. Незамедлительно
ждет перемен как общеобразовательная программа, так и система морской
подготовки. Впрочем, слово начальнику политотдела училища капитану 1
ранга С. Жамкочьяну:
Училище призвано готовить будущего офицера флота. По имеющимся данным,
а мы поддерживаем связи со всеми вмузами ВМФ, выпускники наши, как
правило, составляют ядро училищных коллективов. Среди отличников учебы и
стипендиатов значительный процент нахимовцев. Из выпусников ленинградских
вмузов 1990 г. третья часть обладателей золотых медалей — нахимовцы. Немало
наших питомцев пополнило адмиралитет советского флота. Такую планку с
каждым годом поддерживать становится все труднее.
Нахимовское училище считают элитарным. Подтверждаю это с определенной
долей скептицизма. Что такое элита? Не в расхожем и тем более не в
пренебрежительном смысле. Мы подразумеваем под этим прежде всего особо отобранных
молодых людей, имеющих твердые знания в объеме девяти классов средней школы,
отвечающих повышенным физическим и умственным критериям. Такого порядка
отбора старались придерживаться даже в послевоенные годы, когда
свирепствовала безотцовщина и полное сиротство. Его осуществляли путем конкурса. Однако в
последние годы конкурс уменьшился и сейчас составляет около двух человек на
место, что для качественного набора явно недостаточно. Правда, мы обязаны
делать и делаем отступления, например, принимаем вне конкурса детей-сирот при
общей положительной сдаче экзаменов. Таким порядком мы приняли и 16
мальчишек из районов Армении, разрушенных землетрясением. Немало трудностей на
первых порах встретилось и им, и их учителям, и командирам, но все же 12 из
них получили путевку в большую флотскую жизнь.
К сожалению, заметно снизилась и общая культура абитуриентов. Но легко
ли требовать от будущих воспитанников того, что не хватает всему обществу,
вошедшему, по выражению писателя В. Астафьева, в «полосу одичания». Проходит
немало времени, прежде чем нам удается привить молодым людям хоть в какой-
то степени светскость в самом положительном смысле этого слова.
Преподавательскому составу порой приходится проявлять изобретательность и достойное
зависти терпение, чтобы подтянуть таких ребят. Гораздо успешнее с этими задачами
наш коллектив справлялся в те времена, когда обучение длилось пять-шесть лет.
Надеюсь, что, читая эти строки, воспитанники не обидятся на мои откровения.
Историческая справка: «Для поступления в младший общий класс
Морского Кадетского Корпуса требуются знания в объеме курса первых трех
классов реального училища.
В Морской Кадетский Корпус принимаются... по состязательному
экзамену. Поступающий должен иметь ко дню приема... не менее 12 лет и не
более 14 лет от роду, по телосложению и здоровью должен быть способным
к морской службе».
«Руководство для гардемаринов Морского Кадетского Корпуса».
Санкт-Петербург, 1896 г.
57
Вы, вероятно, догадываетесь, что я не случайно заострил эту проблему. В
стране началась невиданная по размаху реформа средней школы. У нее есть
наряду с другими особенностями недвусмысленная направленность. Нравится кому-то
или нет, но в авангарде прогресса человечества всегда были неординарные
личности, цвет школы и науки любого государства. Вот и в Ленинграде стали
появляться гимназии и лицеи1. Что ж, идея прекрасная. К этому склоняются ныне и
вчерашние скептики. Однако у каждого явления есть обратная сторона. Уже сейчас в
ленинградских общеобразовательных школах более чем 1500 преподавательских
вакансий, в то же время на одно место в гимназиях и лицеях 8—10 претендентов
на место. Есть все основания полагать, что соискатели — не самые слабые
педагоги. Возрождающаяся система едва набирает силу, а уже утвержден целый
комплекс надбавок и доплат за учительский труд. Мы понимаем, что в развитых
странах Запада не случайно колоссальные средства вкладываются именно в
образование, а преподаватели — одна из самых высокооплачиваемых категорий работников.
Наше «элитарное» училище сегодня уже мало чем отличается от обычной
школы, по крайней мере в части, касающейся общеобразовательной программы.
Соответствуют и заработки Мы, честно признаться, все еще уповаем лишь на
энтузиазм нашего золотого фонда — преподавателей-ветеранов. Но не за горами
смена поколений, кадровая проблема станет очень острой. К тому времени
современная тенденция расслоения школы станет явлением. Кто же согласится пойти
к нам на нищенские заработки, да учитывая еще и специфические требования?
В лицеях и гимназиях к тому же создаются привлекательная внеклассная
структура, факультативы, которые со временем станут играть заметную роль в
профориентации молодежи. Многое делается для реальной индивидуализации
обучения. Дальновидные специалисты понимают: одной лишь учебной программой
непросто увлечь, заинтересовать юношу. Еще труднее это будет сделать в закрытом
учебном заведении нашего типа. Не пора ли коренным образом пересмотреть
программу обучения и воспитания нахимовцев? Если выпускник нашего училища не
будет в выгодную сторону отличаться от прочих сверстников, сама учеба у нас
может потерять всякий смысл.
Несколько слов об учебной базе. Не секрет, флот наш изменился. А система
подготовки воспитанников при незначительных изменениях осталась прежней,
характерной для 50—60-х годов. Если сравнить наш уровень обеспечения
техническими средствами и обычной средней школы, то он, конечно, выше. Однако они в
своем большинстве устарели и уже не соответствуют современному уровню. Едва
ли в лучшем положении и морская база училища. Мечты о собственном
паруснике так и остались мечтами. Из «положенных» нам двенадцати шестивесельных
ялов в прошлом году мы получили только половину. Правда, у нас есть еще
несколько штук, но они выслужили все сроки, давно списаны. Мы их не можем сдать,
поскольку не на чем будет выполнять учебную программу. Порой клубы юных
моряков выглядят в этой связи предпочтительнее...
Из письма в редакцию: Юдин из самых крупных клубов юных
моряков — Клуб моряков речников и полярников в Москве. Главное управление
народного образования столицы ежегодно выделяет на его содержание,
совершенствование технической базы более 640 тыс. рублей. Клуб имеет пять
филиалов. Здесь одновременно обучаются 1400 мальчиков по четырехлетней
программе. Клуб имеет хорошее учебное помещение и прекрасную водную
базу на Химкинском водохранилище. В распоряжении кюмовцев восемь
небольших кораблей и судов. В этой общественной организации сильный
преподавательский состав. Назовем таких, как адмиралы в отставке Е.
Скворцов, В. Лапенков, В. Макаров, капитан 1 ранга Ю. Бабошин. Об эффективно-
сти работы клуба можно судить и по таким цифрам: в 1990 г. 12 его
питомцев поступили в военно-морские училища, 50 — в Московский институт
водного транспорта, другие морские и речные учебные заведения.
Контр-адмирал в запасе п. ГРИЩУК+.
Сейчас модно говорить об информатике. Мы имеем ЭВМ разнотипные и не
очень современные. О мировом уровне неловко даже упоминать. Впрочем, нашему
училищу и не требуются суперсовременные компьютеры. Нужны просто современ-
1 Старый русский лицей признан ЮНЕСКО недосыпаемой вершиной светской
школы.
58
ные (но не разнокалиберные!) ЭВМ. Мое глубокое убеждение — по уровню
технического оснащения нахимовское училище должно обгонять среднюю школу,
гимназию, лицей. Работа на такой технике будет, помимо знаний и навыков,
психологически ориентировать будущего курсанта и офицера к службе на современных
кораблях ВМФ.
О содержании классов и говорить не приходится. Училище все чаще
посещают иностранцы, среди них много фотокорреспондентов, художников,
режиссеров. Испытываешь стыд, когда приходится «демонстрировать» помещения.
Хорошо, что гости больше интересуются нашими воспитанниками. Из года в год
уменьшается количество материалов, выделяемых для ремонта и поддержания в
порядке помещений. В обычной школе косметический ремонт проводится ежегодно. У
нас — по плану — раз в 5 лет. Видимо, предполагается, что 15—16-летний
нахимовец в 5 раз тише, спокойнее своего сверстника из гражданской школы. Иногда,
глядя на разваливающиеся парты и столы из ДСП, хочется посмотреть в глаза
человеку, который планирует их эксплуатацию на 10, а то и 15 лет.
Было ли так всегда? Нет. Училище пережило своеобразный ренессанс, когда
в 1972 г., после посещения бывшим премьером А. Косыгиным, капитальному
ремонту подверглось все здание. Был построен дополнительный корпус. В
дореволюционное время, когда здесь обучали младший командный состав торгового флота,
средств на содержание строений, судя по всему, не жалели. В архиве училища
сохранилось несколько фотографий того периода. В великолепных интерьерах
много искусно выполненных моделей кораблей и судов, роскошная, иначе не
скажешь, мебель... Мы же никак не можем решить вопрос о передаче на
ответственное хранение училищу кое-чего из хранящегося в запасниках Военно-морского
музея и десятилетиями не выставляющихся моделей и картин... Другой путь —
выделение реальных по объему финансовых средств на оформление интерьеров.
Беседуешь с художниками, бледнеешь от сумм, в которые оценивается выполнение
работ, а они в ответ: посмотрите в таком-то ПТУ, техникуме, где подобный заказ
выполнялся. Представляется, что данную проблему не разрешить с опорой лишь
на пресловутый хозспособ.
Однако главная беда сегодня — на глазах ветшает здание, и это в
нравственном плане отрицательно воздействует на питомцев. Мы уже просто фиксируем
недопустимые прежде вещи: нашему ученику порой ничего не стоит черкнуть мелом
или гвоздем по стене, намусорить на паркете, сломать облицовку стенда или
экспоната. Такая вот проза жизни.
И наконец, еще об очень важном. О морской практике. Признайтесь, может
ли всерьез заинтересовать видавшего виды современного юношу
непродолжительный поход вдоль береговой линии нашей Прибалтики — набивший оскомину
рутинный маршрут Кронштадт — Балтийск? Проблематичными уже сейчас стали
заходы в порты Латвии и Литвы. Мечта нахимовцев хоть раз побывать в дальнем
походе, да еще с посещением иностранного порта, не осуществилась до сих пор.
Помню, оформили мы как-то галерею известных русских адмиралов,
подготовили их краткие биографии. Оказалось, что все они, можно сказать, в отроческом
возрасте побывали в одном или нескольких дальних походах, а то и кругосветках
и сколько стран повидали... Разве требует больших затрат изменение маршрута
летнего похода на учебном корабле. В те же ходовые сроки вполне можно
осуществить переход в Северное море, в Атлантику. Проход через проливную зону,
ощущение подлинной океанской волны, наконец, заслуженный знак «За дальний
поход» — вот что нужно нахимовцу, чтобы ощутить себя настоящим моряком,
пусть и начинающим.
Историческая справка: «Летом гардемарины и кадеты Морского
Кадетского Корпуса посылаются, для практических морских занятий, в плавание,
на особо назначенные для того суда, которые составляют отряд Морского
Кадетского Корпуса... Переводы из класса в класс и окончательное
старшинство в классах определяются после плавания, при принятии в расчет
баллов за летние практические занятия. Учащиеся, посылаемые на суда
заграничного плавания и возвращающиеся оттуда, получают путевое довольствие
(включая иностранную валюту) наравне с обер-офицерами».
«Руководство для гардемаринов Морского Кадетского Корпуса».
Санкт-Петербург, 1896 г.
59
Из письма в редакцию: «В разные годы кюмовцы посетили Росток и
Варну. В 1989 г. советские юноши совершили на баркентине «Погория»
кругосветное путешествие вместе со' своими сверстниками из Польши и США. В
1990 г. бывший минный тральщик, а ныне учебное судно новгородского
клуба «Саша Ковалев» было завизировано и получило субвенционные документы
на право заходов судна в иностранные порты. В прошлом году экипаж
побывал в Эмдене (ФРГ). Возвращаясь домой, судно попало в шторм. Юноши
вели себя мужественно. Порты советской Прибалтики не дали «добро» на
заход. Гостеприимство и укрытие от непогоды оказали им шведы в
Готланде. В настоящее время на паруснике «Мир» путешествие вокруг света
совершают кюмовцы из Новгорода и ряда других городов нашей страны. Они
посетят 13 портов Европы, других континентов.
Контр-адмирал в запасе П. ГРИЩУК».
В последние годы в решении наших проблем заметна помощь центральных
управлений ВМФ. Благодаря этому у нас, например, создан собственный
телецентр, система кабельного телевидения, обновлен автопарк. Однако, по нашему
мнению, это все же частные вопросы. Обновлению всей системы подготовки в
нахимовском училище, обеспечению ему определенного приоритета в сравнении с
подготовкой в средних школах могла бы способствовать комплексная программа
реформирования. Такие реформы в прошлом дали нашей Родине не только
выдающихся флотоводцев, но и замечательных ученых, писателей, художников,
композиторов, подготовленных в стенах Морского Кадетского Корпуса.
Наш коллектив понимает: назрели проблемы, от решения которых зависит
будущее училища. Мы тоже не сидим сложа руки. Недавно нами направлены
в адрес руководства Главного управления ввузов МО СССР, а также Военно-
Морского Флота предложения о реформе системы подготовки в нахимовском
училище. Надеемся, что наше беспокойство будет встречено с пониманием, ведь
оно продиктовано исключительно заботой о будущем флота.
Литературная запись Г. ИВАНОВА
КОММЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ВМУЗОВ
Учебная база в нахимовском училище
вполне соответствует тому, что обычно
имеется в средних учебных заведениях
подобного типа. Что же касается
технической оснащенности, то оно имеет
преимущество по сравнению с некоторыми
техникумами, не говоря уже о средних
школах. И все же, учитывая всеобщий
процесс компьютеризации учебного
процесса, возникает необходимость иметь в
училище более современные ЭВМ,
главным образом однотипные. Те, что
имеются сейчас, не соответствуют современным
требованиям. Необходимо без
промедления организовать и класс персональных
ЭВМ из 25 — 30 компьютеров.
Нуждается в реформировании и
общеобразовательная программа. Но под
лежачий камень вода не течет: в этом
вопросе инициатива должна исходить
прежде всего от командования нахимовского
училища. Важно, чтобы предложения
были обоснованными, приведенными в
соответствие с реальными возможностями
флота.
Морская практика нахимовцев
преимущественно должна проходить на
парусниках. Не так давно учреждения, связанные
с морским флотом, провели уникальное
исследование. Изучались причины
аварийности судов. В результате эксперты
пришли к парадоксальному выводу:
новое поколение капитанов утратило
ощущение близости и коварства морской
стихии. Капитанов можно понять:
суперсовременный танкер, дневное освещение в
жилых помещениях, душ, крахмальное
белье ... Забывается, что за
переборками суровая стихия. Комиссия настояла
на постройке двух парусных судов. В
настоящее время курсанты их учебных
заведений проходят морскую практику на
великолепных парусниках.
Несколько лет назад и мы
планировали построить пятимачтовый барк.
Поляки подготовили отличный чертеж. Но
дальше него дело не пошло.
Бытовые условия нахимовцев,
конечно, далеко не блестящие. То, что
училище приходит в упадок, — факт
несомненный. Многие выпускники помнят
памятный приезд Предсовмина СССР А.
Косыгина. Тогда на ремонт были отпущены
большие средства, подняли даже проект,
старые чертежи дворца, но было это
почти 20 лет назад. А ведь содержание
помещений училища и, что важнее,
уровень постановки воспитания среди его
обитателей зависит от самих хозяев от
внимания к нуждам нахимовцев
командования ВМФ.
60
ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРЕБРОСКИ
ВС США В ВОЙНЕ ПРОТИВ ИРАКА
6 АВГУСТА 1990 г. по согласованию с правительством Саудовской Аравии и в
соответствии со специальной директивой президента на чрезвычайный период
и военное время США начали подготовку к созданию мощной группировки своих
вооруженных сил в Саудовской Аравии и прилегающих к Ближнему Востоку морских
районах. Операция по стратегической переброске ВС США получила наименование
«Щит пустыни» («Desert Shield»).
12 августа, т. е. через 6 суток после принятия президентом решения, началась
переброска войск, военной техники и предметов их снабжения. В течение 1,5
месяца в Саудовскую Аравию было доставлено 170 тыс. человек с тяжелой техникой и
вооружением. К началу войны группировка ВС США возросла до 415 тыс. человек.
Всего за период подготовки и ведения войны США перебросили в этот район 540 тыс.
человек личного состава и свыше 3,5 млн. т грузов. Были созданы запасы
горючего, боеприпасов, воды и продовольствия на 60 сут ведения боевых действий.
Развернута система их хранения и снабжения войск.
Из общего объема доставленных из США в Саудовскую Аравию грузов 96%
переброшено морским путем.
Каким образом США удалось осуществить переброску более полумиллионной
армии с 60-суточными запасами горючего, боеприпасов, предметов
материально-технического снабжения в район, удаленный от Американского континента на 10 тыс.
миль, в столь сжатые сроки?
Ответ на этот вопрос может быть получен, если рассмотреть основные
направления политики администрации Белого дома в области морского судоходства и
подготовки его к войне.
В 80-х годах правительство США, заявив, что судоходство в значительной
степени призвано содействовать укреплению способности США «выступать в роли
мирового лидера», выдвинуло следующие первоначальные задачи в этой области:
обеспечение единого направления для всех правительственных морских программ
при взаимодействии между ВМС, торговым судоходством и соответствующими
государственными органами;
гарантирование мобилизационной готовности гражданского судоходства и
судостроительной промышленности в интересах быстрого увеличения состава
транспортного флота ВМС;
обеспечение своевременной переброски необходимого контингента ВС США и
возможности для ведения им боевых действий практически в любом районе мира.
Для решения этих задач США заблаговременно и на постоянной основе
проводят ряд мероприятий.
При строительстве судов торгового флота США закладываются возможности по
их быстрому переоборудованию для военных целей, разрабатываются системы для
перевозки на них военных грузов, подготавливается соответствующая документация
на дооборудование в чрезвычайный период и военное время, в том числе
вооружением, средствами связи и другой специальной техникой, а также осуществляется
военная подготовка их экипажей.
Торговые суда должны иметь автономность по запасам топлива, воды и
продовольствия 30—35 сут, дальность плавания 11 тыс. миль, скорость хода 20 уз,
возможность производить погрузочно-разгрузочные работы не только у причалов
портов но и на рейдах и в гаианях. Грузовые системы судов должны обеспечивать
погрузку (выгрузку) крупногабаритной военной техники в районах необорудованного
побережья и в открытом море (при состоянии моря до 6 баллов).
' По материалам зарубежной печати.
61
Военной подготовкой моряков торгового флота ежегодно охватывается до 3 тыс.
человек, почти половина из которых, командный состав. Они обучаются действиям
по обработке военных грузов, пополнению судовых запасов на ходу, плаванию в
условиях военно-морского контроля за судоходством, в том числе в составе конвоев,
управлению судном в чрезвычайных условиях и применению оружия.
Готовность портов США к стратегическим переброскам ВС достигается путем
проведения ряда организационных мероприятий, расширения и совершенствования
органов по обеспечению их эксплуатации.
К настоящему времени в ведение ВС США переданы три океанских терминала
в портах Байонн (штат Нью-Джерси), Санни-Пойнт (штат Северная Каролина) и
Окленд (штат Калифорния). Ими контролируются также некоторые гражданские
терминалы.
С объявлением мобилизации в распоряжение военных планируется передать
54 причала (из них 12 для ролкеров) в 21 порту, а по дополнительному
требованию еще 21 причал для контейнеровозов в 13 портах. Созданы специальные
резервные портовые подразделения, задача которых обеспечение бесперебойного пропуска
через порты военных грузов в период мобилизации и развертывания вооруженных
сил.
Руководство океанскими перевозками военных и экономических грузов
осуществляют командование морских перевозок (КМП) и управление морского флота
министерства транспорта.
На первое возложено выполнение всех перевозок. На второе — поддержание
резервного флота национальной обороны (РФНО) в установленных степенях
готовности к погрузке и выходу в море, обеспечение взаимодействия КМП с
судостроительной промышленностью. В угрожаемый период и военное время полное
развертывание КМП и РФНО достигается путем доукомплектования штатов резервистами
и персоналом, занятым в торговом судоходстве.
В связи с тем что штатный состав транспортных средств КМП малочислен (14
танкеров, 21 сухогруз, 13 судов-складов оружия и военной техники МП, 8
контейнеровозов-ролкеров типа «Алгол» с грузами механизированной дивизии, 12 судов-
складов оружия, техники и материально-технических средств сухопутных войск и
ВВС), то в чрезвычайных условиях возникает необходимость расконсервации судов
РФНО и осуществления фрахта у частных судовладельческих компаний.
Война против Ирака явилась широкомасштабной проверкой возможностей КМП
США по обеспечению ведения боевых действий американскими ВС в конфликте
«средней интенсивности» на Ближнем Востоке. Она подтвердила состоятельность КМП в
выполнении возложенных на него функций. В то же время она вскрыла недочеты в
готовности транспортных средств сил быстрого развертывания к выходу в море и
недостаточную степень поддержания судов РФНО в готовности к вводу в строй. Итак,
несколько уже ушедших в историю основных моментов войны.
На шестые сутки после принятия президентом США решения о развертывании
ВС на территории Саудовской Аравии первые быстроходные контейнеровозы-ролкеры
типа «Алгол» (предписано находиться в 4-суточной готовности к выходу в море)
завершили погрузку техники и начали переход из портов США в район Персидского
залива. Одновременно вышли в море из Диего-Гарсия суда-склады 2-й и с о. Гуам
3-й эскадр с оружием и техникой морской пехоты США.
15 августа суда-склады 2-й эскадры прибыли в Саудовскую Аравию. У них на
борту находилась боевая техника и вооружение бригады МП (более чем 50 танков
М60А1, 40 105-мм и 155-мм га;биц, 100 плавающих бронетранспортеров, 28
легких бронемашин), а также 30-суючные запасы продовольствия (1,45 млн.
комплектов одноразового питания), воды (21 млн. л) и опреснительные установки
производительностью 379 тыс. л в сутки, топлива JP5 (около 29 млн. л), обмундирование
и медикаменты. К этому времени воздухом самолетами ВТАК начал прибывать
личный состав сухопутных, воздушно-десантных войск и морской пехоты.
27 августа в портах Саудовской Аравии встали под разгрузку контейнеровозы-
ролкеры «Альтаир» и «Капелла» (типа «Алгол») с тяжелой техникой и
вооружением 24-й механизированной дивизии ВС США.
В начале сентября 1990 г. в Саудовской Аравии были развернуты основные
части 82 вдд, 101 вшд, 1 эд МП и 25 мд.
62
10 августа президент США, учитывая ограниченные возможности штатных
средств КМП и БТАК по переброске войск, дал указание о расконсервации судов
РФНО, организации фрахта или аренды судов и самолетов частных компаний.
К 13 сентября дополнительно к 37 судам КМП, привлеченным к переброскам
ВС США в зону Персидского залива, были расконсервированы 42 судна резерва
первой очереди РФНО, осуществлен первоначальный фрахт 10 судов американских и
38 судов иностранных частных компаний.
Необходимо отметить, что 50% судов РФНО, находившихся в 5- и 10-суточ-
ной готовности к погрузке, имели поломки механизмов, 65% были введены в состав
действующего флота с задержкой до 20 сут. Кроме того, три судна вышли из строя
на переходе морем, а на трех других серьезные неполадки были обнаружены во
время погрузки.
По сообщению иностранной печати, в течение первых четырех месяцев
стратегических перебросок в распоряжение КМП были переданы 173 транспортных
судна, из них ПО зафрахтованных на длительный период, а 55 судов фрахтовались
только на один рейс. Стоимость фрахта судов приведена в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика судна
Тип. наименование
Сухогруз:
средний
La Paix
Контейнеровоз-
ролкер:
Saudi Hail
Merzario
Italia
Ролкер
Грузоподъемность, т
10 000
13 684
38 000
(2126 стандартных
контейнеров)
21 439
(1306 стандартных
контейнеров)
Стоимость за сутки,
тыс. долларов
в
повседневных
условиях
6,5
5,0
20,0
13,0
»
в ходе
подготовки и
ведения
войны против
Ирака
8,5
12,0
29,0
20.0
35,0
Повышение
тарифных
ставок, %
30
140
45
54
•
Общее число судов, действовавших в интересах ВС США и подчиненных КМП,
включая госпитальные, спасательные и вспомогательные, составило 215 ед, из
которых 122 были американскими и 93 принадлежали другим странам. Возможности
воздушных перебросок ВТАК США были значительно увеличены за счет фрахта 124
пассажирских и грузовых самолетов гражданских авиакомпаний.
Как считают западные эксперты, были организованы стратегические океанские
и воздушные переброски, не имевшие ранее аналогов s мире. Погрузка войск,
техники, боеприпасов и предметов материально-технического снабжения на суда
осуществлялась в портах восточного побережья США и Мексиканского залива. Время
погрузки одного судна составляло 2—4 сут. Переход в порты стран Персидского
залива они осуществляли по маршруту: Атлантический океан — пролив Гибралтар —
Средиземное море — Суэцкий канал — Красное море — Аравийское море —
Персидский залив. Время перехода судов со средней скоростью 12—15 уз составляло 25—
30 сут, быстроходных контейнеровозов и ролкеров (скорость 30—33 уз) — 12—
15 сут.
Ежесуточно в порты Саудовской Аравии (Даммам, Эль-Джубейль, Эль-Фуджат-
ра, Хор-Факхан) и Бахрейн (Манама) прибывало до 6—7 судов. Время разгрузки
одного судна в зависимости от его типа составляло 1—4 сут. Наименьшее время
требовалось для ролкеров и для контейнеровозов-ролкеров, которые производили
разгрузку собственными средствами. Темп разгрузки составлял 10—20 тыс. т в сутки.
63
Ежемесячно в начальный период конфликта выгружалось 300—330 тыс. т, в
последующем — 450—600 тыс. т грузов.
По воздушному мосту, который обеспечивали 300 самолетов, была переброшена
подавляющая часть личного состава группировки сухопутных сил и не менее
160 тыс. т грузов.
Перечень грузов, доставленных в Саудовскую Аравию для обеспечения боевых
действий ВС США, и стоимость его объема за первые 1,5 месяца показаны в табл. 2.
Таблица 2
Наименование груза
Количество (объем)
груза
Стоимость
груза, млн
долларов >
Боевая техника
Боеприпасы (авиабомбы, артснаряды, ракеты,
мины, гранаты, патроны и т. д.)
Запасные части к авиационной, бронетанковой
и автотранспортной технике. Средства ее доосна-
щения для повышения возможностей в условиях
пустыни
Аппаратура ночного видения, средства
обнаружения боевых отравляющих веществ
Медицинское оборудование и препараты
(антибиотики, вакцины, антидоты, средства для
очищения организма от ядовитых веществ и т. п.)
Комплекты индивидуальной химзащиты,
камуфлированное обмундирование, маскировочные
сети, краски не абсорбирующие боевые
отравляющие вещества
Средства разгрузки самолетов транспортной
авиации (погрузчики, тягачи, грузовые
автомобили и т. п.)
Средства разгрузки судов в необорудованных
портах и транспортировки грузов в районы
назначения
Механизмы для строительства трубопроводов,
создания системы складирования и конструкции
помещений для расквартирования личного
состава
Вода, санитарно-технические средства, предметы
быта и пр. для обеспечения жизнедеятельности в
условиях пустыни, в том числе солнцезащитные
очки, противомаскитные репелленты, губная
помада и кремы от солнечных ожогов
Опреснительные установки, спецемкости для
хранения воды, беспламенные нагреватели для
приготовления пищи и т. д.
Материалы и конструкции для строительства
лагерей для военнопленных
Всего доставлено:
1800 боевых
самолетов, 1500
вертолетов, 2600 танков,1400
орудий, 990 боевых
машин пехоты
Более 100 тыс. т
(авиабомбы)
400 тыс комплектов
(обмундирование)
Общая вместимость
до 200 тыс. человек
72
42
104
24
164
205
250
230
Приведена стоимость груза, доставленного в Саудовскую Аравию к 30.10Л990 г,
Подводя итоги войны США и их союзников против Ирака, не лишним будет
ответить и на такой вопрос: сколько же стоили стратегические переброски более
полумиллионной армии США с Американского континента на Ближний Восток? По
оценке западных экспертов, транспортные расходы с учетом обеспечения пребывания
ВС США на Ближнем Востоке еще как минимум полгода после окончания боевых
действий составят около 6 млрд. долларов, что составляет 8—9% от общих
расходов на войну.
В. КОЖЕВНИКОВ
По страницам иностранной печати
Forum
Официальный ежемесячный орган
ассоциации офицеров ВМС ФРГ. В журнале
публикуются статьи по вопросам безопасности,
морской стратегии, военной экономики, истории
военно-морских сил.
КОНТАКТЫ МЕЖДУ ФЛОТАМИ
Под таким заголовком в июньском
(1990 г.) номере журнала
опубликована статья Дитера Маттея.
В октябре 1989 г. немецкие боевые
корабли впервые после 75-летнего
перерыва посетили Ленинград, а на следующий
год в июне отряд советских боевых
кораблей прибыл в Киль. Тем самым, как
отмечает автор, была возрождена
практика визитов, межфлотских контактов
двух стран, прерванная первой мировой
войной. Правда, в 1929 г. советские
крейсеры «Профинтерн» и «Аврора», а
также четыре эсминца посетили Свине-
мюнде и Пиллау. Но ответных визитов
не последовало.
Первые прямые контакты в
военно-морской области между Россией и
Германией начали развиваться только в
середине XIX века. В 1844 г. русский флот
насчитывал 50 линейных кораблей. 25
фрегатов, а также 36 паровых судов.
Поэтому взоры германского руководства,
заинтересованного в создании
национального военно-морского потенциала, были
обращены не только на Англию и
Голландию — традиционно морские державы,
но и на Россию, флот которой одержал
блестящие победы в войнах со Швецией
и Турцией.
Но систематические контакты между
флотами двух стран, подчеркивает Д. Ма-
ттей, начались в 1850 г., после того, как
Пруссия в войне с Данией показала свою
полную беспомощность на море. В
Санкт-Петербурге несколько раз
побывали и корабли германского флота.
Прочные связи установились между русскими
и немецкими морскими офицерами и
кадетами военно-морских училищ.
Позиция нейтралитета, которую
заняла Пруссия в ходе Крымской войны,
отмечает далее Д. Маттей,
способствовала дальнейшему развитию связей между
государствами. Флоты, однако, в этом
деле в 60-е годы оставались в стороне. И
связано это было в первую очередь с тем,
что русский флот переживал период
модернизации, а прусский — становления.
В следующем десятилетии картина
начала меняться. Только в период с 1872
по 1876 г. по меньшей мере семь русских
кораблей побывали в германской военно-
морской базе в Киле. Но со стороны
кайзеровского флота ответной реакции не
последовало: он был занят расширением
своего присутствия в Восточной Азии и
Средиземноморье. И как это ни
парадоксально, пишет Д. Маттей. появление
германского флота именно в этих районах
способствовало развитию
русско-германских контактов в военно-морской области.
Поводом для встреч русских и
германских моряков были и различные
международные «флотские праздники»: в 1888
г. в Барселоне по случаю открытия
выставки, в 1892 и 1893 гг. в Генуе и
американских территориальных водах на
празднованиях, посвященных Колумбу.
А в 1895 г. русская эскадра посетила
Киль по случаю открытия канала имени
кайзера Вильгельма.
Однако на Балтике регулярные
встречи между флотами двух стран начались
только при Вильгельме II. В 1888 г.
в Санкт-Петербург прибывает эскадра
германских броненосцев в составе «Ба-
дена», «Байерна», «Фридриха дер
Гроссе» и «Кайзера», а также эскадра
учебных кораблей в составе «Гнайзенау»,
«Принц Адальберт», «Штайн» и «Мольт-
ке». Спустя девять лет в город на
Неве прибывает 1-я эскадра германского
флота, состоявшая из современнейших
по тому времени линейных кораблей —
«Курфюрст», «Фридрих Вильгельм»,
«Бранденбург», «Вгйсенбург», «Вёрт» —
и броненосцев устаревших конструкций
— «Кёниг Вильгельм», «Заксен», «Вюр-
темберг». Примечательно, подчеркивает
Д. Маттей, что в ходе последнего
визита Вильгельм И, прибывший вместе со
своими кораблями, был произведен в
адмиралы русского флота.
Если немецкие корабли заходили
большей частью в Санкт-Петербург, то для
русских «родным» стал Киль. Пик
заходов пришелся на 1902 г., когда
политические интересы России переместились в
Восточную Азию. Однако еще в 1897 г.
Вильгельм II использовал заход русских
кораблей в Киль для того, чтобы
продемонстрировать крепкую
русско-германскую дружбу на море. Кстати, отмечает
автор, офицерские кортики появились на
германском флоте также не без участия
русских. 13 сентября 1901 г. русские
морские офицеры, встречавшие
Вильгельма II на борту крейсера «Варяг»,
выразили удивление тем, что их немецкие
коллеги не имеют кортиков. Вильгельм
обратил на это внимание, посоветовался
с сопровождавшими его офицерами
германского флота, и здесь же на борту
5 «Морской сборник» № 4
65
«Варяга» был издан указ,
предписывавший офицерам кайзеровского флота
ношение кортиков.
Но Киль, а также Штеттин вошли в
историю русско-германских
военно-морских контактов и как места, где для
русского флота строились корабли. Именно
там с 1893 по 1902 г. было спущено на
воду три крейсера, в том числе
знаменитый «Аскольд», и много минных
катеров. Строительство кораблей для русских
продолжалось и после русско-японской
войны.
В № 12 «Маринефорум» за 1990 г.
опубликована статья Фолькера
Хогребе «Новая структура в три этапа»
об интеграции бывшего НВМФ ГДР
в бундесмарине.
В ТРИ ЭТАПА
Не так давно, отмечает автор статьи,
почти два десятка офицеров
военно-морских сил ФРГ посетили
противолодочный корабль «Любц» класса «Пар-
хим», входивший ранее в боевой состав
Народного военно-морского флота ГДР.
Сегодня этот корабль получил новый
бортовой номер, а все офицеры и матросы
переодеты в форму немецких ВМС.
Появление офицеров ВМС ФРГ на
борту «Любца» было не случайным. В
ближайшие годы бундесмарине планирует
перейти на новую структуру, и эти
мероприятия должны проходить в три этапа.
Первый начался 3 октября 1990 г. Его
суть — прием боевых кораблей из
состава НВМФ, проверка их технического
состояния и боевых возможностей систем
вооружений. Это, как подчеркивает
Ф. Хогребе, самый короткий этап,
завершение которого приурочено к марту
нынешнего года.
Ожидается, что в состав ВМС ФРГ
войдут «Галле» класса «Кони», который
получит бортовой номер F-225,
принадлежавший ранее выведенному из боевого
состава флота западногерманскому
фрегату «Брауншвейг», а также два
торпедных катера класса «Тарантул» и
«Вальком-10», четыре противолодочных
корабля класса «Пархим» и пять минных
тральщиков класса «Кондор». Эти корабли
будут в основном обеспечивать охрану
побережья.
Однако, подчеркивает автор статьи,
длительное использование этих кораблей
не предусмотрено, поскольку создание
инфраструктуры для их технического
обслуживания и ремонта,
соответствующей "стандартам ВМС ФРГ, было бы
слишком дорого. Поэтому не исключено, что
в будущем эти корабли будут проданы
странам «третьего мира». Но до того
Со временем интенсивность контактов
между флотами двух стран стала
снижаться. Летом 1903 г. адмирал 3. Ро-
жественский попытался их
активизировать, предложив проведение совместных
русско-германских учений на море. Но
ответ немецкой стороны был
отрицательным: Германии не нужно, чтобы русские
получили полное представление о
тактике действий герхманского флота.
А через одиннадцать лет флоты
России и Германии вновь встретились, но
уже в качестве противников, заключает
автор статьи в «Маринефорум».
времени обеспечение запасными частями
будет осуществляться за счет их
«собратьев», поставленных на прикол.
Не планируют ВМС ФРГ
задействовать и свыше двух десятков вертолетов
Ми-8 и Ми-14, применявшихся в НВМФ
для противолодочной и противоминной
борьбы, в интересах
поисково-спасательной службы и т. д.
В ходе первого периода, пишет Ф.
Хогребе, командование военно-морских сил
«Росток» будет получать приказы и
распоряжения из штаба территориального
командования «Восток» в Штраусберге.
После его роспуска начнется второй этап:
командование «Росток» войдет в состав
немецкого флота.
В конце 1994 г. второй этап должен
быть завершен. При этом общая
численность немецких военно-морских сил
сократится до 32 тыс. человек. Все
дальнейшие шаги в области разоружения, а
следовательно, и продолжительность
третьего этапа будут зависеть от
военно-политического развития в Европе. Но во
всяком случае «новая» и «старая» части
ВМС ФРГ войдут в НАТО и
организационно будут состоять из двух эскадр.
Сохраняются и все компоненты тылового
обеспечения, и органы управления.
Наиболее горячие споры сейчас
вызывает вопрос о возможной передислокации
штабов и использовании военно-морских
баз, расположенных на территории
бывшей ГДР. Говоря об этом, Ф. Хогребе
высказывает мнение, что немецкое
военно-морское командование по-прежнему
останется в Глюксбурге. Не будет
переведено и командование тылового
обеспечения, расположенное в Вильгельмсхафе-
не. А вот будущее центрального
ведомства ВМС, занимающегося вопросами
управления и боевой подготовки, пока не
ясно. Вероятнее всего, оно переедет из
Вильгельмсхафена в Росток. Не
исключено, что некоторые другие штабы и
боевые подразделения будут
передислоцированы в Варнемюнде, Пенемюнде или
на Рюген. Окончательное решение по
этому вопросу примет весной этого года
министр обороны ФРГ.
Обзор подготовил майор М. ЖЕГЛОВ
Редакция журнала «Морской сборник» благодарит военно-морского
атташе при посольстве ФРГ в СССР капитана 1 ранга П. К. Ф. Хаммера за
предоставленную возможность познакомить наших читателей с
публикациями журнала «Маринефорум».
66
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
К 300-летию отечественного флота
РУССКИЙ ФЛОТ В ЭПОХУ ЕКАТЕРИНЫ II
1/АК СПУЩЕННЫЙ со стапеля ко-
* * раб ль, Россия под стук топоров,
гром пушек и крики «Ура!» вкатилась
в XVIII век.
Спустя 21 год Балтийский флот,
коему русский народ «принес в жертву
пред алтарь себя», а железной воли
самодержец «придал мощно бег
державный», блестяще защитил в Северной
войне свое право на существование и
вот: заветное море, вклинившееся в
глубь наших земель, и все пути на
Запад открыты. Однако двуглавый орел
Петра Великого, смело ставший правой
ногой на берег Финского и Рижского
заливов, вследствие неудачи в Прутском
походе и неожиданной смерти царя так
и не успел выпростать левую, ступить
на черноморскую твердь.
37 лет стояла Россия «на одной
ноге», точно журавль на болоте. Только
Екатерина II в полной мере
почувствовала это неудобство и, осознав
просчеты предшественников, обратила свой
взор на любимое детище царя-адмирала.
Вывод оказался неутешительным: «У
нас в излишестве кораблей и людей, но
нет ни флота, ни моряков...»
Однако минуло пять лет — и
Чесменская победа возвестила о воскрешении
русского флота. Гулкие орудийные рас-
каггы над водами Средиземноморья эхом
отозвались в Англии, Франции, Австрии,
Пруссии, Швеции. Расторопность
России, никогда не посылавшей так далеко
свои корабли, обеспокоила королей. Зная
самое больное место Екатерины II —
черноморские дела, они позаботились о
«соли» для ее раны. В Константинополь
прибыли послы. И, не скупясь на
посулы — оружие, деньги, антирусский
военный союз, — стали подбивать Турцию
вновь выступить против соседа.
Когда бы в черноморские споры
русских и турок не вмешивались другие, в
частности шведы, они бы закончились
сравнительно скоро, не потребовав
стольких жертв. А так им пришлось
соперничать на протяжении нескольких
десятилетий. И к чести русского флота
он оправдал возложенные на него
надежды. Едва левая нога двуглавого орла
утвердилась на берегах Черноморья,
Россия поднялась в полный рост.
Г> СВОЮ ПОРУ роковые обстоятель-
JJ ства вынудили Екатерину II
принять бремя власти. Однако обнаружив в
себе силы, она с ходу разрубила гордиев
узел своих несчастий. Добросовестно
готовясь к высокому призванию, она с
Капитан 1 ранга Б. ШЕРЕМЕТЬЕВ
увлечением учила русский язык,
вчитывалась в древнерусские летописи и даже
просила своего лейб-медика выпустить
из нее «последнюю каплю немецкой
крови». И в конце концов перевоплотилась
в «великую русскую немецкого
происхождения».
С первых же дней на престоле
Екатерина II не только царствует, но и
управляет, делает все от нее зависимое
для торжества национальной политики.
Желая быть «второю после первого
Петра», продолжает предприятие, за
которое он дважды брался на Азове.
«Препятствия созданы для того, —
замечает она, — чтобы их уничтожать».
Начав свою деятельность с вывода
России из войны и заключения мирных
договоров с Пруссией, Англией, Данией,
она тут же приступает к реорганизации
армии и флота. Если армия,
победоносно закончившая войну с Фридрихом II,
не вызывала у нее особых беспокойств,
то «флот был в упущении». Оттого уже
в августе 1762 г. императрица
рассматривает представленные Адмиралтейств-
коллегией проекты обустройства военной
гавани в Рогервике и переименовывает
его в Балтийский порт. Стремясь
поднять престиж корабельной службы,
жалует офицерам и нижним чинам новую
форму одежды; а 20 декабря 1763* г.
назначает Великого князя Павла
Петровича генерал-адмиралом, чтобы «еще
при нежных младенческих летах вперить
в вселюбезнейшего Сына и Наследника
ревностное и неутомимое попечение о
цветущем состоянии флота».
Удивительные способности Екатерины
II разбираться в людях: распознавать
приближенных, извлекать из них все, на
что они способны, — поражают
современников. Даже при своих слабостях и
недостатках она умеет сохранить
достоинство: у нее были фавориты, но при
ней не было временщиков; на все
упреки неизменно отшучивается: «Мы люди,
прежде чем быть тем или другим».
Руководствуясь здравым
государственным эгоизмом, она привлекает к
управлению флотом и морским ведомством
именно тех, кто вскоре заявляет о себе
в полный голос. Одним из первых
приближает к себе вице-адмирала С. И.
Мордвинова, умного и просвещенного
человека петровской эпохи, неотлучно
служившего на кораблях и потому
имевшего громадный запас практических и
научных знаний. Вторым советником
делает графа И. Г. Чернышева: хотя он
67
не был моряком, зато был необычайно
здравомыслящим дипломатом, вскоре
ставшим вице-президентом
Адмиралтейств-коллегий. Третьим помощником
избирает контр-адмирала Г. А. Спиридо-
ва, талантливого боевого командира,
много плававшего, любимца флота,
оправдавшего ее надежды своими
подвигами в Средиземном море.
На первых порах она учреждает
Морскую российских флотов и
адмиралтейского правления комиссию «для
привлечения оной знатной части к обороне
государства в настоящий постоянный
добрый порядок». В высочайшем указе
особо подчеркивает: «Что флотская служба
знатна и хороша, то всем известно, но
насупротив того столь же трудна и
опасна, почему более монаршую нашу
милость и попечение заслуживает».
Все предложения Морской комиссии
безотлагательно утверждаются и
приводятся в исполнение, чтобы «сделать ос- .
новательный план, который хотя бы и
при самых поздних потомках в
совершенство приведен быть мог». В
результате быстро удается преобразовать
деятельность Морского ведомства;
утвердить «Регламент об управлении
адмиралтейств и флотов»; откорректировать
штаты таким образом, чтобы флот «в числе
линейных кораблей датский и шведский
флоты еще и превосходить мог».
Не выпадает из поля зрения Морской
комиссии и выучка экипажей. Желая
основательно повысить научный и
технический уровень командного состава,
императрица, по примеру Петра
Великого, посылает на переподготовку
молодых морских офицеров за границу.
Не обошли реформы стороною и
Морской корпус. Во главе его был поставлен
образованнейший и энергичный моряк,
капитан 2 ранга И. Л. Голенищев-Куту-
зов. Получив монаршую поддержку,
свободу инициативы, не стесняемую
инструкциями, вмешательством центральных
управлений флота, он быстро увеличил
штат корпуса, значительно расширил
учебную программу, изыскал
дополнительные средства на содержание
воспитанников, усилил практическое обучение.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ обстановка на юге
ухудшалась. А начиная с 1764 г.
донесения посла Обрезкова из
Константинополя стали просто тревожными. Им-
пеиатоица предписала ему в
инструкциях до последней возможности
налаживать наши отношения, чтобы оттянуть
войну. Однако точек соприкосновения у
России и Турции, вызывающих
обоюдную вражду, было немало:
неразграниченность южных территорий; буйства и
набеги на порубежные населения диких
племен, кочевавших в крымских степях;
жалобы славянских племен Балканского
. полуострова на турецкий гнет; боязнь
русского влияния на Крым;
столкновение с кавказскими горцами;
вмешательство в польские дела...
Хотя объявленная 18 ноября 1768 г.
Турцией война не явилась сюрпризом,
она застала Россию врасплох. Борьба
предстояла длительная, упорная, так
как силы Оттоманская Порта скопила
немалые. К примеру, имея неплохой
флот и чувствуя себя хозяйкой на
Азовском и Черном морях, она
беспрепятственно передвигала свои армии в любую
точку побережья, охраняла свободу
снабжения и подвоза подкреплений.
«Туркам с французами, — писала
императрица графу Чернышеву по
случаю начала войны, —
заблагорассудилось разбудить кота, который спал. Я
сей кот. который им обещает себя дать
знать, дабы память не скоро исчезла».
Однако, чтобы разбить Турцию и
отбросить ее от Черного моря, надо было
обеспечить себя средствами борьбы на
обоих морских театрах — Архипелаж-
ском и Черноморском.
Посылка эскадр из Балтики в
Средиземное море решила только половину
задачи. Архипелаг в планах войны
значился второстепенным театром действий,
отвлекающим часть сил Турции. И
Екатерина II писала адмиралу Спиридову:
«Ничто на свете нашему флоту столько
добра не сделает, как сей поход. Все
закоснелое и гнилое наружу выходит, и
он будет со временем круглехонько
обточен».
Слова эти оказались пророческими.
Русские эскадры, блокировав Д ар дане л-
льский пролив и прервав сообщение
Турции с ее средиземноморскими
владениями, освободили от турок два десятка
греческих островов, жители которых
объявили себя подданными России.
Наши победы в сражениях при Наполи-ди-
Романия, в Хиосском проливе, при Пат-
расе и особенно в Чесменской бухте'
вызвали у Екатерины II восхищение, и
в письме к Румянцеву она воскликнула:
«Ничего знаменитее с той стороны,
кажется, быть не может». А митрополит
Платон, проводя в те дни панихиду в
Николо-Богоявленском соборе в честь
Петра Великого, закончил ее такими
словами: «Восстань и насладися
плодами трудов твоих!»
Главная борьба, конечно, должна
была развернуться на побережье Азовского
и Черного морей, и потому наличие там
флота считалось делом первостепенной
важности. И императрица приказала
немедленно создать на Дону флотилию.
Командовать ею и руководить всеми
работами назначила энергичного и
талантливого контр-адмирала А. Н. Сенявина.
Нелегкая это была задача. Предстояло
восстановить полуразвалившиеся
петровские верфи в Таврове, Павловске и в
других местах, заложить на них боевые
суда легкого типа, укрепить с моря Азов,
Таганрог, оборудовав последний как
базу молодого флота.
' К началу 1771 г. численность судов
флотилии составила: кораблей
«новоизобретенных» (с вооружением от 12 до
20 пушек и с осадкой не более 9 футов)
— 10, прамов — 5, дуббель-шлюпок —
1 ботов — 1 и канонерских лодок —
58.
Получив приказ «закрыть Азовское
море совершенно», Сенявин атаковал
Морской сборник. — 1988. — № 10.
турок. Неожиданное появление такого
числа военных судов под русским
флагом, не виданным здесь со времен Петра
Великого, несказанно поразило
противника, и он отступил к Еникальской
крепости. Сенявин не растерялся и, заняв
Керченский пролив, остался на этой
позиции до подхода всей Крымской армии
Долгорукова к Перекопу. Теперь он
сполна контролировал обстановку, о чем
тут же донес в Петербург: «Турки таких
судов в Азовском море видеть не
уповали... Удивятся они еще больше, как
увидят в Черном море фрегаты и
почувствуют их силу».
Только с помощью кораблей Россия
могла реализовать свои успехи на суше
и заставить Турцию признать себя
побежденной. Екатерина II, быстро оценив
все значение «потентанта, обладающего
двумя руками», тотчас же по занятии
Крыма армией Долгорукова поручила
Сенявину создать морские военные суда,
способные для действий на Черном мо-
ре.
Нелегкие победы армии и флота были
реализованы с необычайной выгодой. По
заключении 10 июля 1774 г. Кучук-
Кайнарджийского мирного трактата
Турция отказалась от своих прав на Крым
и Кубань, уступила Азов, Керчь и Ени-
кале, т. е. все Азовское море, отдала
Кинбурн и все пространство между
Днепром и Бугом, признала право
свободного плавания наших торговых судов по
Черному морю и обязалась пропускать
их через Босфор и Дарданеллы в
Архипелаг и обратно.
у СПЕШНО НАЧАВ утверждаться
& на берегах моря, искони
называвшегося «Русским», Екатерина II уже не
могла остановиться на полпути, «ибо
время благоприятно, чтобы многое
сметь». Ее убеждение окрепло и в том,
что для решающей победы над Турцией
мало сухопутной армии, нужен военно-
морской флот. И едва была окончена
война 1768 — 1774 гг. и Россия
получила днепровский выход в море,
императрица повелела князю Г. А. Потемкину,
наместнику Новороссийского края,
искать в низовьях Днепра гавань на 20
кораблей и верфь для одновременного
строительства 15 судов.
Облеченный полным доверием
Екатерины II, не стесняемый в средствах,
Потемкин в короткое время подыскал
бухту около урочища Глубокая пристань.
Корабли Азовской флотилии во главе с
адмиралом Сенявиным пришли на
охрану Днепровского лимана. Начались
энергичные работы; одновременно строились
корабли и новый город, обнесенный
укреплениями.
Уже в 1783 г. на херсонской верфи
был спущен первый черноморский
линейный 74-пушечный корабль «Слава
Екатерины», после чего началось
регулярное пополнение молодого флота
боевыми морскими судами. В большинстве
своем они получали имена святых. И это
не случайно. Екатерина II придавала
войне религиозный оттенок с тем, чтобы
христианские народы Балканского
полуострова, Грузии, Армении видели стрем
ление России прийти к ним на помоии
и освободить от ига иноверцев.
С той же целью, подчеркивая духов
ную связь России с Грецией,
восстанавливали названия поселений, располагав
шихся в старину на берегах Черного
моря. Так, в честь того, что в юго-западной
части Крыма существовала
древнегреческая колония Херсонес или Херсон, где
по преданию, крестили киевского князя
Владимира, окрестившего впоследствии
Русь, первый новый город в
Причерноморье был наречен Херсоном; а в память
о древнегреческом Одисосе город,
построенный на месте турецкой крепости
Хаджибей, — Одессой. Севастополем (в
переводе с греческого «Город Славы»)
назвали базу военного флота у
деревушки Ахтиар. Расположенная рядом с ней
бухта давно была известна русским
морякам. И как только Крым
присоединили к России, в нее вошла Азовская
Флотилия под командованием вице-адмирала
Ф. А. Клокачева. одного из героев
Чесменского сражения. О месте, избранном
для главного порта и базы будущего
Черноморского флота, он отозвался так-
«Подобной еще гавани не видел, и в
Европе действительно таковой хорошей
нет; вход в сию гавань самый лучший,
натура (природа. — Б. Ш.) сама
разделила бухту на разные гавани, то есть
военную и купеческую... Положение же
берегового места хорошее и надежное к
здоровью, словом сказать, лучше нельзя
найти к содержанию флота место».
Накануне новой войны в Севастополе
собралась довольно внушительная
эскадра: три линейных корабля, два больших
фрегата, а также двенадцать 40- и 32-
пушечных фрегатов, прибывших из
Таганрога, бомбардирский корабль и 14
меньших судов. Все вместе они имели
826 орудий. Полагалось же
Черноморскому флоту иметь в составе 12
линейных кораблей 80- и 66-пушечного
ранга, 20 фрегатов от 22 до 50 пушек и 23
мелких судна с общим числом команды
13 тысяч 500 человек при 2 тысячах
орудий. Расчет этот делали исходя из
численности флота турецкого.
Ввиду бурного строительства флота
ощущалась нехватка офицеров.
Балтийцы передали народившемуся
черноморскому брату только часть своих
опытных командиров, а остальную часть
пришлось приглашать из иностранных
флотов. Особенно с большой охотой шли
на русскую службу англичане. Немало
было принято охотников также из
греков, знавших специфику борьбы с
турками на море. Они, как правило,
являлись к Потемкину на своих легких,
хорошо вооруженных судах,
использовавшихся для крейсерства.
Потемкин в короткое время сумел из
пустынных степей создать цветущий
край, заселить его оседлыми русскими
людьми, возвести ряд городов и
крепостей, вызвать к жизни отрасли
промышленности, и самолюбие турецких
вельмож, видевших это, горько страдало от
уступок, сделанных России. Стремление
69
к реваншу усилилось после того, как
крымский хан Шагин-Гирей отрекся .от
трона и Таврида присоединилась к
России. 300 лет Крымское ханство верно
служило Оттоманской Порте, было
передовым отрядом ее агрессий против
русских, украинцев, поляков, и вдруг все
н корне изменилось. Турция опасалась,
что, завладев огромным полуостровом,
Россия, естественно, постарается взять
контроль над Черным морем. И эта их
догадка действительно подтвердилась
тогда, когда «матушка царица» сама
посетила Крым и после смотра молодого
флота в беседе с Потемкиным назвала
Севастополь «путем в Константинополь».
Для Порты было невыносимо это
услышать, и она предъявила ультиматум:
вернуть Крым, отказаться от защиты
Грузии, согласиться на осмотр судов в
проливах.
Опасались возросшей мощи России и
европейские державы; они были за
новую русско-турецкую войну.
Министерство иностранных дел Франции
разослало во все столицы ноту: «Крым лишь
первая станция русских на пути к
Босфору, и потому нужно отстоять его
(Крым. —- Б. Ш.), 'в крайнем случае не
допускать русского военного флота в
Черное море». Швеция, где сменился
король, откликаясь на призыв Франции,
начала готовиться к выступлению
против России одновременно с турками.
Англия и Пруссия одобряли ход событий.
И поск. 1ьку Екатерина II не приняла
ультиматума султана Селима III в
августе 1787 г., турки начали новую,
вторую, войну с внезапного нападения в
Днепровско-Бугском лимане на фрегат
«Скорый» и бот «Битюг» и осады Кин-
бурна.
ГЛДНАКО генерал-аншеф А. В. Су-
^ воров, командующий южной
армией, усилив гарнизон крепости, задал
острастку: опрокинул вражеский десант
в море, поднял в воздух турецкий 84-пу-
шечный корабль, чей грохот, как птиц,
распугал гребные суда.
Удача окрылила наших моряков.
Мичман Юлиан Ломбард увлек экипаж
«Десны» отважным предприятием. Зная страх
турок перед брандерами, он
переоборудовал свою галеру, дождался темноты
и, посадив в трюм 150 гренадер,
отправился пытать судьбу. Его внезапное
появление на Очаковском рейде наделало
переполоху.
«Мичман Ломбард, — докладывал
Суворов князю Потемкину, — атаковал
турецкий флот до линейных кораблей;
бился со всеми судами из пушек и ружей
и, по учинении варварскому флоту
знатного вреда, сей герой стоит
ныне'благополучно под кинбурнскими стенами».
Потемкин, видя в храбрости верх
человеческого достоинства, за воинскую
дерзость пожаловал Ломбарду
очередной чин: «Считаю этот поступок не
мичмана, а лейтенанта».
Воздал должное Ломбарду и
разъяренный капудан-паша Гасан. Назначив за
голову неустрашимого офицера крупную
сумму, стал утюжить бомбами Кинбурн-
скую косу, готовить к переброске туда
Императрица Екатерина II в походном
платье на пути в Крым
более 5 тысяч 300 янычар, известных
буйной жестокостью нравов. Вопреки
ожиданиям врага Суворов не
препятствовал высадке десанта. Но когда те
высадились на берег, устроил такую «черт
ную баню», что только десятая доля их
унесла ноги к Очакову. Корабли
Оттоманской Порты поспешно удалились для
починки в Варну.
Всю зиму и весну 1788 г. вокруг Кин-
бурна царило спокойствие. Но 18 мая
коварный Гасан опять привел в Днеп-
ровско-Бугский лиман флот: 10
кораблей, 6 фрегатов и 50 галер и
канонерских лодок2. У нас же было 2 корабля,
3 фрегата и 18 мелких парусных судов;
8 галер, 2 бомбарды, 6 плавучих
батарей. 7 брандеров и 6 мелких гребных
судов. Командовали ими поступившие на
русскую службу контр-адмиралы принц
Нассау-Зиген, человек испытанной
храбрости и отваги, и Поль Джонс, герой
войны за независимость Соединенных
Штатов Америки.
Сражение было жарким и 7, и 17
июня. Потеряв надежду не только на
истребление нашей лиманской флотилии,
но даже на возможность удержаться у
Очакова, турки в ту же ночь, с 17 на
18 июня, сделали попытку уйти в море.
Однако они были замечены с батарей,
выстроенных Суворовым на оконечности
Кинбуриской косы, и под их обстрелом
пришли в беспорядок, скучились, причем
многие их суда сели на мель. Вскоре их
окружила русская флотилия, и после 4-
часового боя было уничтожено 5
линейных кораблей, два 34-пушечных фрегата,
две 28-пушечных шебеки, 1
бомбардирский корабль, 1 галера и транспортное
судно. Один 50-пушечный корабль был
взят в плен. Потери в людях у турок бы-
2 Морской сборник. — 1988. — № 6.
70
ли очень велики — около 6 тысяч
человек и 1 тысяча 763 человека было взято
в плен. Наши потери составили — 18
раненых и 67 убитых.
В дни, когда Лиман оглашался
грохотом корабельных орудий, в местах,
отдаленных от него, тоже происходили
важные события. Австрия наконец
вступила в войну на стороне России;
австрийские войска на своем участке фронта
вели бои с турками — очень, к слову
сказать, неудачные. Тогда же шведский
король Густав III, угрожая взятием
Петербурга, потребовал от русского
правительства возврата Турции Крыма и
других территорий в северном
Причерноморье, разоружения флота на
Балтийском морю и отвода войск от границ
Швеции и Турции. Густав пекся о
турецких интересах потому, что султан
выделил ему деньги на войну с Россией.
Так вдобавок к войне с турками Россия
получила войну со шведами. Балтийские
корабли не пошли в Эгейское море, а
под командованием адмирала С. К. Трей-
га вступили в Гогландское сражение со
шведским флотом3. Солдат, моряков,
боеприпасы, продовольствие пришлось
теперь делить между двумя фронтами.
~ В новых обстоятельствах скорое,
взятие Очакова, главного опорного пункта
турок на Черном море, было еще
нужнее, чем прежде. А осторожный
Потемкин все медлил, так как капудан-паша
Гасан приходил к Очакову не со всем
флотом. Часть его, и значительная —
8 линейных кораблей, 8 фрегатов, 4
бомбардирских судна и 20 шебек, —
осталась около устья Дуная. Эти корабли
могли усилить эскадру капудан-паши, и
он получил бы хорошую возможность
вернуться в Лиман и поддержать
Очаков с моря.
Потемкин предполагал такое и
наконец выпроводил контр-адмирала М. И.
Войновича из Севастополя для
сражения. Эскадра в составе 2 линейных
кораблей, 10 фрегатов и 24 мелких
вооруженных судов у о. Фидониси (теперь
о. Змеиный) обнаружила турецкий флот,
у которого было 17 линейных кораблей,
8 фрегатов и 24 мелких судна. Силы
очень и очень неравные. Турки только
на линейных кораблях имели тысячу пУ-
шек, у русских же было пятьсот пушек
на всех кораблях и фрегатах. Войнович
привычно трусил, а тут, видя такую
грозу, окончательно пал духом.
Спасло его то, что во всем доверился
капитану бригадирского ранга Ф. Ф.
Ушакову. Командующий авангардом
севастопольской эскадры многих поражал
оригинальностью и новизной своих
тактических приемов, всегда отвечавших
требованиям обстановки и потому
сопровождавшихся неизменным успехом.
Вот и на этот раз энергичный' его
натиск сделал свое дело. Через полчаса
после начала боя передние корабли
неприятеля, сильно потерпев от огня,
повернули на новый галс и вышли из
линии. Гасан приказал стрелять по своим
беглецам из пушек, чтобы вернуть их к
8 Морской сборник. — 1988. — JSfo 7.
месту боя и, показывая пример отваги,
двинул свой корабль на русские
фрегаты. Но тщетно: неожиданный залп в
корму, повредивший бизань-мачту и руль,
решил их участь.
Однако по-настоящему талант Ушакова
развернется в полной мере тогда, когда
в апреле 1789 г. его произведут в
контрадмиралы и назначат начальником
севастопольской эскадры. Сражения у
Керченского пролива и Тендры4, у мыса
Калиакрия, блестяще выигранные им, во
многом предопределят исход второй
русско-турецкой войны.
ЕСЛИ В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ
Селим III старался изо всех сил
отодвинуть Россию от моря, то на Балтике
Густав III попытался вернуть ее к
положению, в котором она пребывала до
петровских времен. И он сделает не одну
попытку овладеть Петербургом... Однако
в самом начале войны сухопутные
войска шведов потерпят поражение, и они
во многом станут уповать лишь на свой
«победоносный флот». В 1789 г.
отгремят Эландское, 1-е Роченсальмское
сражения5, в 1790 г. будет Ревельский бой,
Красногорские6, Выборгское7, 2-е
Роченсальмское сражения®. Война,
протекавшая с переменным успехом, закончится
миром в Вереле, и все, как говорится,
вернется на круги своя.
Но вот что удивительно: в течение
этих двух-трех лет Екатерина II почти
ежедневно будет слать как князю По-
темкину-Таврическому, так и
командующему Балтийским флотом адмиралу
В. Я. Чичагову письма, в которых
указывать пункты, нуждающиеся в защите
на побережье, сообщать о передвижениях
и положении врага, распоряжаться о
постройке казарм для войск, об
исправлении Ревельского порта и т. п. А в
августе 1790 г. она выразит серьезное
намерение отправиться в Финляндию,
чтобы лично участвовать в походе на
шведов.
Далеко не каждый в ту пору обладал
такой смелостью души и
решительностью, таким честолюбием. Государевым
вниманием, жаром своего сердца
Екатерина II сумела нравственно поднять
личный состав флота и вдохновить его на
подвиги, казавшиеся еще так недавно
невозможными при столь скудных
материальных средствах. «Я всегда
отменным оком взирала на все флотские
дела», — заявит она в письме к
Потемкину в 1791 г.
И действительно, Русский флот того
времени обязан своим ростом и боевой
силой ее хозяйскому глазу,
мужественной возвышенности ее ума. О том
свидетельства современников. Если при
воцарении Екатерины II флот был совсем
в упадке, то под конец ее царствования
Россия, по признанию даже англичан,
считалась «морским государством очень
почтенным».
Морской сборник. — 1990. — N° 8.
Морской сборник. — 1989. — № 8.
Морской сборник. — 1990. — № 4.
Морской сборник. — 1990. — № 6.
Морской сборник. — 1990. — № 7.
71
Николай Александрович БЕСТУЖЕВ
(К 200-летию со дня рождения)
ИМЯ НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БЕСТУЖЕВА неразрывно связано с
декабрьскими событиями 1825 г., с четырьмя младшими братьями
Бестужевыми, которые в числе 579 офицеров, солдат и матросов были привлечены к
следствию после разгрома восстания на Сенатской площади.
Однако мало кто знает, что этот потомственный моряк, поступив в 1802 г.
в Морской кадетский корпус, брал уроки у будущего профессора Московского
университета Д. Василевского по политической экономике, философии и другим
наукам, не входившим в программу обучения, что одновременно занимался в
Академии художеств у известного зодчего А. Воронихина. В 1809 г. Н. Бестужев
окончил корпус первым и был оставлен в нем воспитателем.
Спустя пять лет Николай Александрович перевелся в Кронштадт, где,
близко сойдясь с Торсоном, будущим декабристом, и шведом Эриксоном,
сторонником республиканских идей, вступил в члены «Союза спасения». Заграничные
плавания в Голландию, во Францию, к Гибралтару, а затем служба в качестве
помощника директора балтийских маяков, начальника морского музея и
историографа флота развили в капитан-лейтенанте Н. А. Бестужеве литературный дар.
В 1821 г. в журнале «Соревнователь просвещения» вышли его «Записки о
Голландии 1815 года», а вскоре затем «Крушение брига «Фальк», «Толбухинский
маяк» и другие очерки, рассказы, переводы. Ведя архивные изыскания, он
трудился над «Опытом истории российского флота».
После знаменитого выступления на Сенатской площади в первых рядах
Гвардейского экипажа судьба Николая Александровича круто изменилась. В
июле 1826 г. на кронштадтском рейде на корабле «Князь Владимир» во
исполнение приговора Верховного суда он был лишен чинов, дворянства и сослан на
каторгу в Сибирь. Но и в местах заключения Н. Бестужев сумел остаться
дельным и полезным человеком.
Обосновавшись в Селенгинске, он обучал ремеслам местных жителей и
щедро делился с ними своими знаниями. А в редкие часы досуга писал
акварелью портреты декабристов и близких ему людей, отдавался литературному
творчеству. Часть этих произведений была включена в сборник «Рассказы и
повести старого моряка», который вышел в свет в Москве в 1860 г. спустя пять
лет после его смерти.
В апреле этого года исполняется 200 лет со дня рождения
капитан-лейтенанта Николая Александровича Бестужева, великого гражданина России,
замечательного писателя, историка флота и художника. Предлагаем вниманию
читателей отрывок из его малоизвестного и забытого путевого очерка «Плавания
фрегата «Проворного», помещенного в «Записках Государственного
Адмиралтейского департамента» за 1825 г. Стиль автора сохранен полностью, орфография и
пунктуация приведена в соответствие с нормами сегодняшнего дня.
ПЛАВАНИЯ ФРЕГАТА «ПРОВОРНОГО»
ВСЛЕДСТВИЕ Высочайшей воли 44- порт, двух пассажиров: инженер-майора
пушечный фрегат «Проворный» Каулинга и поручика Менеласа.
назначен был в кампанию для практики Адмиралтейским Департаментом пред-
Гвардейского экипажа; почему сей фре- писано было также занять гг. офице-
гат, совсем вооруженный, 27 мая ров учеными упражнениями каса-
(1824 г. — Б. Е.) принят был в коман- тельно морского искусства; сверх сего
дование в Кронштадтской военной гава- не опускать ничего достойного любопыт-
ни капитан-лейтенантом Казиным и 1-го ства и вообще могущего встретиться за-
числа июня вышел из гавани на рейд, в мечательного для пользы мореплавания
готовности к депутатскому смотру. в иностранным портах...
Назначение пути показано было в 4-го числа был депутатский смотр
данной от Адмиралтейств-Коллегий ин- всему флоту и фрегату «Проворному»;
струкции, которою предписывалось ид- 8-го числа сам Государь Император,
ти к Гибралтару для обучения людей; и быв на флоте, соблаговолил посетить
на пути для отдохновения команды наз- фрегат «Проворный»,
начены были порты: Копенгаген и Брест; 15-го числа по получении повеления
при возвращении же позволялось зайти в при благополучном и свежем О ветре
Плимут или Портсмут, по рассмотрению мы подняли якорь и вступили под пару-
командующего. Сверх сего приказано са. Ветер благоприятствовал плаванию
было отвезти в Англию, в удобнейший во все продолжение пути...
72
ПЕРЕД самым прибытием на
Копенгагенский рейд снялась оттуда
эскадра адмирала Крона, вышедшая
прежде нас 5 днями и задержанная у
Боргнольма противными ветрами. На
сем же рейде стоял датский фрегат
«Наяда», пришедший накануне и
посланный для практики гардемарин к
Исландии...
Пополнив воду и взяв для служителей
свежей провизии, мы должны были
ждать в Копенгагене 4 суток за
противным ветром. Наконец 26 числа утром,
взяв лоцмана, снялись с якоря...
В Немецком море встретили нас
хотя не попутные, но тихие брамсельные
ветры, с которыми мы без всяких
особенных случаев подошли к Галоперу 7
числа (июля. — Б. Е.) и в 10 часов
утра увидели английские у Диля, а в
полдень и французские берега у Кале...
12-го числа по утру в 9 часов
положили якорь на рейде Бреста. Сей рейд
закрыт кругом, подобно Свеаборгскому;
вид города, построенного амфитеатром,
великолепен и чрезвычайно, украшается
старинным замком, служившим дворцом
славной Анне Бретанской.
Нас поставили в карантин как судно,
пришедшее из отдаленных мест, и мы,
воспользовавшись тем временем,
убрались со всем походным такелажем.
Через два часа нам объявили свободу, и
мы, получив несколько посещений,
съехали на берег к главному командиру
порта вице-адмиралу графу Гурдону.
Сей чиновник принял нас с
обязательною учтивостью французов и
беспритворною искренностью мореходца. После,
получив от него в проводники его
адъютанта, капитана фрегата «Готье»,
отправились с визитами: к мэру города Ла
Мартру и к интенданту порта, графу
Редону де Бопро.
После сих посещений отправились на
фрегат приготовиться принять графа
Гурдона, который объявил свое
желание видеть наш фрегат. В полсуток
фрегат был прибран, вычищен, выкрашен
сну три и снаружи; Гурдон и все первые
чиновники, с ним бывшие, удивлялись
чистоте, расположению фрегата и
людям...
Французские офицеры приезжали во
множестве на наш фрегат. Наши
офицеры отплачивали тем же и посещали
стоявшие на рейде суда: 60-пушечный
фрегат «Амазон» и 44-пушечную
«Цирцею»...
Г"! РЕДУПРЕЖДЕНИЯ и учтивости со
1 1 всех сторон не переставали.
Ничего не оставалось желать: оставалось
только благодарить...
Не говоря о прочих обедах, данных в
Бресте для русских, сословие штаба
флотских чиновников сделало обед для
всех офицеров нашего фрегата. Столько
внимания и ласки потребовали ответа; и
потому командующий фрегатом положил
отплатить обедом на фрегате. Для сего
избран был торжественный для нас день
тезоименитства Ея Императорского
Величества Марии Федоровны. Шканцы
фрегата превратились в залу. Пушки
свезены были на бак; растянутый тент
был убран флагами, над накрытым на
70 человек столом. С нашей стороны
употреблено было все, чтобы учтивостью
отплатить за ласковость наших гостей, и
меры к сему взятые выполнили
ожидание: как наружность праздника, так и
прием наш, видимо, оживили французов
гораздо большею веселостию, нежели у
них на обеде. Не нарушая приличия
публичности, к концу обеда все
сословия слились в одно дружественное
общество, тем более приятное, что все
наши офицеры могли разделить с
французами удовольствия разговора, говоря по-
французски.
Все разъехались с праздника с
уверениями дружеского и непритворного
расположения. На другой день начались
снова визиты, которыми они благодарили
за угощение.
В это утро при многих посетителях
командующему угодно было сделать
ученье ружьем, по окончании которого
матросы, положив ружья и сумы и
вынув из киверов фуражки, побежали по
марсам отдавать паруса, брать рифы и
проч. Это сделало большое удовольствие
зрителям, которые не воображали видеть
в матросах образцов исправности в том
и другом звании. Мы были приглашены
также на маневры 17-го легкого полка
и на обед к полковнику оного Дюри...
Вся Нормандия, Бретань и прочие
провинции до самой Испании, окружены
скалами и подводными каменьями.
Берега, опоясывающие сии провинции,
состоят из высоких известковых, меловых
или гранитных утесов. Внутрь земли
почва очень плодоносна. Климат Бретани
дурен. Причиною сему положение
провинции при канале, куда сбираются все
туманы и дожди, идущие из
Атлантического океана в наши моря.
Добрые свойства французов, их прием,
73
их угождния и все то, чем они хотели
обязать нас в продолжение
двухнедельной бытности в Бресте, останутся
навсегда приятным воспоминанием для
всех офицеров нашего фрегата. Все
чиновники порта, сам адмирал приезжали
по нескольку раз прощаться с нами.
МЫ ВЫШЛИ из Бреста 26-го июля
с тем же лоцманом, которого
взяли в Кронштадте с «Аретузы». Мы все
чрезвычайно привыкли к добрым
качествам сего бретонца, и имея опыт его
искусства, желали удержать его у себя
для выхода. Командующий сказал о сем
адмиралу, и, как мы узнали после,
лоцмана сего дали нам для выхода, по
особенному для нас исключению, потому
что у них законом положены одни
лоцмана для вводу и другие для выводу...
5-го числа (августа. — Б. Е.) в
полдень увидели берег севернее мыса
Трафальгара, а за сим в 3 часа открылись
и оба берега Гибралтарского пролива...
Прошед Тарифу, поднялись к
Испанскому берегу, и в начале 2-го часа,
прошед на траверзе мыс Карнеро,
ограничивающий с запада губу
Гибралтарскую, вступили в оную и встали на якорь
под самою крепостью, на глубине 12
сажен. На рейде было 2 английских
военных судна: 1 шлюп и 1 бриг, из коих
последний вскоре снялся с якоря и
пошел в море; купеческих судов более 200,
не считая множества лодок, шебек, тре-
бокул, тартан и проч...
Как скоро фрегат положил якорь, к
нам приехали с английского шлюпа
офицеры и с берегу сам капитан порта,
поздравить с прибытием. У последнего
спросили мы о салюте, знав что
англичане отвечают всегда двумя выстрелами
менее; но он объявил, что здесь
положено благодарить учтивость за учтивость:
и так мы за 17 наших выстрелов
получили в ответ то же число с крепости.
Г. Свитланд (имя капитана порта)
пригласил командующего и меня на берег
к себе обедать; прошед вместе с ним в
город по некоторым улицам, отправились
к нему и нашли там русского консула,
с которым объяснились о наших
надобностях. Жена Свитланда, умная и
приятная англичанка, приняла нас весьма
ласково...
Маленький, но довольно населенный
городок Гибралтарской крепости
выстроен довольно красиво, и еще красивее от
своего расположения по скату горы.
Каждая маленькая пологость засажена
деревьями; в каждой ущелине растет
виноград или другие какие-нибудь
плодовитые растения; почти все домы с
террасами; везде жалюзи, занавесы,
навесы, палатки, которыми жители
предохраняют себя от несносного жару,
увеличиваемого отражением лучей от голой
скалы, стоящей почти прямо над головами.
Многие домы имеют у себя крыши,
устроенные для принятия дождевой воды,
которая одна составляет почти общее
продовольствие; но дожди здесь редки,
и воду большею частию привозят на
ослах из Испании, равно как всю зелень
и плоды и другое продовольствие, кроме
мяса, которое получается из Африки,
по контрактам, заключаемым с марок-
ским владельцем. Для довольствия
флота водою есть большой резервуар,
наполненный также дождевою водою.
Загородная част:, обнесена также
укреплениями, за которыми устроены
небольшой бульвар для прогулки и
площадь для обучения гарнизона; бульвар
в своем протяжении украшен тремя
изображениями: первое — статуя генерала
Эллиота, который защищался с весьма
небольшим числом гарнизона от
испанцев, блокировавших Гибралтар в
продолжение 5 лет; второе — бюст
Веллингтона и третье — статуя, снятая с разбив
того при Трафальгаре испанского
корабля по имени «С. Жан де Непомуценос»!
Многие трафальгарские герои погребены
у ворот крепости, и надписи на гробни^
цах возвещают о их деяниях.
За городом расположен почти весь
гарнизон в казармах; офицеры также в
общих флигелях; женатые помещены в
особливых домиках с прекрасными
садиками.
Редкостей в городе никаких нет,
кроме самого города и его укреплений. В
самом деле надобно было употребить
невероятные труды, чтоб создать нечто из
дикой скалы; изобретательный ум
англичан не только присовокупил искусство
к природе, но и заставил повиноваться
саму природу: вырванные в недрах горы
казематы поражают удивлением
воображение...
В самый тот день, как мы
собирались идти смотреть казематы,
встретились у итальянского живописца, к
которому зашли полюбоваться рисунками
Гибралтара, с одною дамою очень
приятной наружности; она, узнав о нашем
намерении, просила нас посетить ее
жилище, расположенное на дороге, когда
будем всходить на гору. Это была г-жа
Томсон, жена капитана артиллерии, жи!
74
вущего в замке, служащем входом для
казематов и галерей и построенном еще
ео времена мавров. Замок сей после был
инквизициею при испанцах, а ныне
развалины его, получив некоторые
новейшие укрепления, служат цитаделью,
обороняющею выход подземной крепости.
На сем утесе дикой скалы мы нашли
прекрасное семейство. Сам капитан —
умный, ласковый и добродушный
служивый, жена его — живая и воспитанная
женщина, которой разум обработан
многими путешествиями. Они предложили
йам для освежения лимонаду, вкусных
плодов, и что всего лучше,
дружественное гостеприимство. Г-жа Томсон,
превосходная музыкантша, сделала нам
большое удовольствие, разыграв
несколько русских арий, выученных от сестры
ее, жившей некогда в Риге. Приятно
было очень на краю Европы слышать
отечественную музыку...
В Гибралтаре безопасен всякий
пришедший укрыться под покровом
английских законов. Таким образом, многие из
испанских конституционных министров,
как-то: Лопес-Баньос, Наварро, Эспино-
за и множество других укрываются до
сих пор в Гибралтаре; но положение их,
впрочем, самое жалкое. Английское
правительство, давая им убежище,
позволяет только жить на рейде, но не
вступать в город. Одна безопасность
составляет все их выгоды...
- Нас принимали в Гибралтаре как
нельзя лучше, и когда мы благодарили за
гостеприимство, Свитланд отвечал: «Оста-
вя то, что мы любим русских, мы рады
видеть иностранцев, с которыми можно
поговорить о чем-нибудь, потому что в
атом месте видим много людей и мало
таких, с которыми можно возобновить
сбои идеи. Все новости наши состоят в
газетах, которые возвещают здесь уже
то, что давно состарилось для других
частей Европы, и теперь единственный
источник новостей — война инсур*ентвв —
прекратился со взятием Тарифы.
Необходимость иметь новости часто
заставляет газетчиков выдумывать их; так,
например, о вашем прибытии сюда в
гибралтарской газете стоит следующее:
«Вчера прибыл сюда российский фрегат,
которого назначение неизвестно.
Офицеры фрегата отвечают таинственно и
двусмысленно: что дает повод заключить,
что в сей экспедиции кроется
какое-нибудь важное намерение. Это намерение,
дпрочем, уже разгадано и состоит в
завладении Порт-Магоном. Офицеры
говорят, что останутся здесь несколько дней
. для отдыха команды, но, как кажется,
они ожидают своей эскадры, вышедшей
в море вместе с ними и прошедшей в
океан для лучшего сокрытия своих
движений мимо Англии». Так пристрастны
англичане к политическим и всяким
вообще новостям...
Должно было сделать визит
губернатору, который жил за городом. Приятные
виды повторились для нас, когда мы
поехали туда днем по дороге, которая, иду-
чи по западной стороне горы вдоль
рейда, отворачивается к востоку у мыса,
называемого Point de ГЕигоре, и вдруг
представляет обширное Средиземное
море. Старик губернатор живет в
загородном доме по восточную сторону горы,
которая в сем месте, равно как и к
северу, совершенно вертикальна и после
11 часов утра закрывается собственною
тенью, следовательно, доставляет
больше прохлады. Однако же выгода сия
ограничивается губернаторским домом;
далее гора неприступна. Домик с
небольшим садиком стоит на самом утесе,
нависшем над морем, и как сам хорош
видом, не менее того открывает
прелестный вид на море.
Губернатор лорд Чатам,старший брат
славного Питта, принял нас ласково,
говорил с нами слегка о разных
материях; но его нездоровье сократило наш
визит. Ему около 80 лет по виду, хотя
англичане и уверяют, что ему не
более 70.
Мы заключили бытность нашу в
Гибралтаре посещением концерта, который
давали прибывшие из Лиссабона
виртуозы итальянцы. Крошечный театр был
полон; дурная музыка сердила зрителей и
певцов.
Итак, пробыв четыре дня в
Гибралтаре, мы снялись с якоря 12 числа
(августа. — Б. Е.), не могши посетить
Испании и успокоить глаз своих,
уставших смотреть на воду, небо и голые
камни, видом цветущих померанцевых
и лимонных рощей и бесчисленных
виноградников благословенной Андалузии.
... От снятия с якоря из Кронштадта
до положения онаго в сем же порте
минуло 3 гражд. месяца и 2 дня... Всего
пройдено взад и вперед 5,632 итал.
мили... В продолжение кампании фрегат
оказал наилучшие качества: лучший ход
при свежем рифмарсельном ветре был
12,5 узла без волнения, в полветра, и
под марселями с 2 рифами.
Публикацию подготовил Б. ЕВГРАФОВ
ФЛАГМАНЫ
КОМАНДОВАЛ ТРЕМЯ ФЛОТАМИ
(** УДЬБА распорядилась так, что ему довелось служить на всех четырех флотах
^ нашей Отчизны. Тремя из них он командовал, на четвертом был начальником
штаба. Шестьдесят два года своей жизни он отдал службе на флоте, и в биографии
этого человека видны все вехи развития нашего ВМФ.
Родился Владимир Афанасьевич Касатонов в г. Петродворце Ленинградской
области в многодетной семье служащего. Детство его совпало с бурными годами
революции, гражданской войны, первых лет восстановления народного хозяйства.
Четыре года, проведенные в стенах военно-морского училища, дали солидную
по тому времени основу знаний будущему адмиралу. Именно основу. А учился,
пополняя свои и теоретические, и практические знания, Владимир Афанасьевич, можно
сказать, всю жизнь.
Так сложилось, что его довоенная десятилетняя служба проходила в
подводных силах. Сразу после училища — штурман подводной лодки на Балтике, два
года спустя — старший помощник командира подлодки на только что созданном
Тихоокеанском флоте, еще через два года командир лодки, а затем командир
дивизиона ПЛ. i
Трудности службы, быта осложнялись напряженной обстановкой массовых
арестов. Об этом говорили шепотом. Однажды ночью забрали командира бригады
подводных лодок Г. Холостякова. А тут еще стали поговаривать о близкой войне.
В этот период Владимира Афанасьевича направляют на учебу в
Военно-морскую академию. После ее окончания — снова на Балтике, теперь уже в должности
начальника штаба отдельного дивизиона подводных кораблей.
Шли последние недели мирной жизни. Приближение войны ощущалось во всем.
Она началась на Балтике, как и на Черном море, в первые же часы вероломного
нападения фашистской Германии на Советский Союз.
Однако через несколько месяцев как опытного, хорошо подготовленного
офицера-подводника, имевшего солидный стаж штабной и командирской работы, его
назначили старшим командиром-оператором, а затем начальником отдела оперативного
управления Главного Морского штаба. Там он принимал непосредственное участие в
^работке ряда операций, активно занимался внедрением боевого опыта в
подготовку сил флотов.
Памятной вехой его жизни было участие в Ялтинской конференции, где он внес
свой вклад в разработку согласованных действий союзников на Дальнем Востоке.
С декабря 1945 г. Владимир Афанасьевич вновь на Балтике — начальник
штаба Кронштадтского оборонительного района. А через год ему предложили
возглавить новый отдел в Главном оперативном управлении Генерального штаба. Здесь он,
будучи одновременно помощником начальника управления, прошел большую школу
штабной работы в течение почти трех лет.
Генштабовский опыт очень пригодился Владимиру Афанасьевичу позднее, когда
он возглавил штаб Тихоокеанского флота, а затем командовал последовательно
Балтийским, Черноморским и Северным флотами.
На Черное море адмирал Касатонов прибыл в трудное для флота время.
Только что в севастопольской бухте погиб линкор «Новороссийск». Весь город, весь
флот находился словно в оцепенении. Это был всеобщий, хотя никем и не
объявленный траур. Многих больших и малых начальников на флоте сняли с занимаемых
должностей. При назначении новому комфлоту задачу поставили четко: в самые
короткие сроки навести порядок на флоте. Прибывшая вскоре инспекционная группа
во главе с генералом армии И. Петровым отметила, что в достижении этой цели
сделано многое. Для обеспечения высокой боеготовности и боеспособности флота
особое внимание уделялось вопросам безаварийности плавания, дисциплине и
организации службы.
Именно в те годы Черноморский флот сделал значительный скачок в своем
развитии. На вооружение поступали новые корабли, совершенная по тем временам
76
Адмирал флота
В. Касатонов
ооевая техника и оружие, в том числе ракеты
различного назначения, противолодочные системы,
новые средства радиоэлектроники, связи, разведки.
Развивалась ракетоносная авиация, береговые ра-
кетно-артиллерийские части, морская пехота.
Те годы ознаменовались и началом
принципиально нового вида боевой подготовки — длительными
плаваниями в Средиземном море и других районах
Мирового океана.
Много внимания командующий уделял
флотскому быту, в частности строительству жилья для
военнослужащих и их семей. Только на Северной
стороне города были возведены хозяйственным
способом целые кварталы жилых домов. Это
существенно улучшило условия жизни и быта многих
офицеров, мичманов.
В августе 1958 г. эсминцы — «Благородный»
и «Пламенный» под флагом командующего флотом
совершили поход в Средиземное море с заходом в
Албанию. Там В. Касатонов принял участие в
совместных учениях. На встрече с главнокомандующим
ВМФ С. Горшковым, находившимся в то время в Албании на отдыхе, шел разговор о
начавшемся ухудшении советско-албанских отношений, достигшем своего апогея в
1961 г.
Когда было принято решение о нецелесообразности дальнейшего базирования
наших ПЛ в Албании, Владимир Афанасьевич многое сделал для организации
эвакуации семей наших подводников, проявив незаурядные качества дипломата. 4 июня
1961 г. корабли под его командованием покинули албанские воды. Правда, за
несколько часов до этого с двух подводных лодок, на которых находились смешанные
экипажи, были удалены советские моряки, и лодки остались в составе албанских
ВМС.
С февраля 1962 г. В. Касатонов — командующий Северным флотом. Здесь ему
приходится решать качественно новые задачи, в том числе освоение атомного
подводного флота. В 1963 г. лодка под командованием капитана 2 ранга Ю.
Сысоева^впервые в истории совершила успешный подледный поход к Северному полюсу и всплыла
в географической точке на широте 90°, где были установлены Государственный и
Военно-морской флаги СССР. Готовил этот поход и руководил им адмирал Касатонов.
Затем последовали новые дальние походы атомных подводных лодок.
Более десяти лет прослужил Владимир Афанасьевич в должности первого
заместителя главнокомандующего ВМФ. Он целеустремленно занимался организацией
строительства сбалансированного Военно-Морского Флота СССР, много сил отдал
налаживанию взаимодействия между научно-исследовательскими учреждениями и
флотскими организациями по внедрению научных достижений в практику его
строительства.
Приходилось В. Касатонову возглавлять военно-дипломатические миссии. Он
первым из советских военачальников посетил Югославию, Албанию, США.
Неоднократно бывал в Египте, Алжире, Болгарии, Польше, Румынии, ГДР и других
странах, устанавливая и укрепляя контакты по военной линии. Много раз принимал у
нас представителей США, Индии, Франции.
Дважды за свою службу В. Касатонову довелось лично руководить спасением
аварийных подводных лодок.
В начале 1957 г. на Черноморском флоте, на выходе в море для боевой
подготовки при выполнении маневра «срочное погружение» не сработала захлопка
шахты подачи воздуха к дизелям, она осталась открытой, а сигнализация показала
нахождение ее в положении «закрыто». В шестой отсек подводной лодки хлынула
вода, она стремительно, с нарастающим дифферентом на корму провалилась на глубину
и через несколько минут кормовой частью вошла в илистый грунт.
Прорабатывались различные варианты спасения лодки, и было принято ре-
77
шение — освободить ее при помощи буксира. Водолазы завели буксиры, лодку
немного раскачали и дернули. Она всплыла. Все остались живы.
Второй случай оказался более драматичным. В феврале 1971 г. на атомной ПЛ
в Северной Атлантике вспыхнул пожар. От скопления окиси углерода погибли
двадцать восемь подводников.
К месту аварии подошли суда, но штормовая погода затруднила оказание
помощи. Однако моряки действовали мужественно и решительно. С лодки было
эвакуировано большинство личного состава, и ее отбуксировали в базу.
За самоотверженную службу Родине Владимир Афанасьевич был удостоен
многих государственных наград. Среди них — Золотая Звезда Героя, три ордена
Ленина, два — Красного Знамени, два — Трудового Красного Знамени, Нахимова II
степени, Отечественной войны I степени, два — Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, десятки медалей, а также многие
ордена и медали иностранных государств.
Напряженной, разносторонней была работа адмирала флота В. Касатонова в
Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Помимо
инспекционной деятельности, он занимался анализом опыта Великой Отечественной
войны, часто выступал с докладами перед различными аудиториями, работал в составе
коллектива авторов над четырехтомным трудом «Краснознаменный Балтийский флот
в Великой Отечественной войне советского народа 1941 —1945 гг.».
Многие годы В. Касатонов настойчиво добивался восстановления
справедливости в отношении бывшего наркома, министра и главкома ВМФ Н. Г. Кузнецова.
Его переписка с различными инстанциями, наряду со многими другими
заинтересованными людьми продолжалась до тех пор, пока в 1988 г. не был подписан Указ
о восстановлении Николая Герасимовича в воинском звании Адмирала флота
Советского Союза и принято решение об увековечении его памяти на флоте.
Владимир Афанасьевич по всем вопросам имел свое мнение и отстаивал его,
не сообразуясь ни с какой конъюнктурой. Когда был арестован комбриг Г.
Холостяков и следователь на допросе спросил у Владимира Афанасьевича, чему его учил
«японский и польский шпион Холостяков», тот ответил: «Учил меня тому, чему
может учить настоящий коммунист».
Являясь человеком исключительной порядочности, он никогда, даже в самых
сложных ситуациях, не кривил душой. Когда в 1957 г. был снят с должности
министра обороны СССР Г. К. Жуков, Владимир Афанасьевич ни разу не отозвался
о нем плохо, хотя ему неоднократно за службу пришлось испытать жесткий прессинг
маршала. В те годы обстановка на флоте была сложной. Проявились многие
недостатки в организации службы, дисциплине. Естественно, министр обороны был
недоволен этим и принимал довольно решительные меры для улучшения состояния
дела. Именно в это время Жуков прибыл на Балтийский флот с инспекцией. Проблем
hd флоте было немало. Дисциплина хромала на обе ноги, давало о себе знать
пьянство, да и с аварийностью хватало неприятностей. Например, на таллиннском
рейде была протаранена подводная лодка; от штормовой волны перевернулся бар-
каз с увольняемыми, утонуло много моряков. Министр обороны снял с должностей
командира ОВРа, начальника береговой обороны, начальника одного из
политотделов. И хотя к Касатонову он относился с уважением, проверка проходила тяжело,
командующему пришлось выслушать немало резких, видимо, не всегда
справедливых упреков. Что тут скажешь, формы, методы работы соответствовали своему
времени и были такими же жесткими, суровыми, как и само время.
В другой раз Жуков проявил свой «характер», когда на Черноморском флоте
затонула подводная лодка «малютка». Министр обороны позвонил комфлотом и
сказал: «Если лодку не поднимете и люди погибнут, мы вас будем судить». Думаю,
что эта угроза была бы выполнена.
Были и другие случаи, но, несмотря на них, Владимир Афанасьевич всегда
относился к Георгию Константиновичу с должным уважением и почтительностью,
хорошо понимая, что прославленный маршал дело всегда ставил превыше всего.
В одном из заполярных гарнизонов установлена стела «Мужеству и стойкости
моряков-первопроходцев Советского атомного подводного флота», она посвящена 25-
летию первых подледных плаваний и всплытию на Северном полюсе. Первой среди
многих стоит фамилия адмирала флота В. А. Касатонова.
Анатолий МАРЕТА
78
ВТОРАЯ СЛУЖБА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Адмирал флота В. КАСАТОНОВ
начальни-
генералу
НА ОЧЕРЕДНОМ докладе
ку Генерального штаба
армии С. М. Штеменко в октябре 1949 г.
он задал вопрос: «Как вы смотрите на
предложение министра Военно-Морского
Флота адмирала Юмашева назначить вас
начальником штаба Тихоокеанского
флота?» Я ответил: «Положительно». «Я
тоже не возражаю против вашего
назначения на флот», — сказал он.
Напутствуя меня, Штеменко подчеркнул, что в
нашей совместной службе сложились
хорошие взаимоотношения и дал высокую
оценку моей работе.
Откровенно говоря, мне было грустно
расставаться с Генштабом, где я
многому научился и значительно расширил
свой кругозор, приобрел умение четко,
сжато, конкретно излагать выводы и
обосновывать свои предложения, а
также умение докладывать их.
Получив приказ о назначении на
Тихоокеанский флот, я поехал в
Министерство Военно-Морского Флота
представиться министру. К сожалению,
адмирал И. С. Юмашев был болен, и принял
меня его первый заместитель адмирал
Ф. С. Октябрьский. Беседа отличалась
краткостью. Основное напутствие было:
«Опыт службы имеете, на месте вам
будет виднее, с чего начинать, тем более
что многие рукозодящие начальники
вам знакомы по совместной службе
ранее».
Нашей семье Дальний Восток был
знаком. Я служил там с 1932 по 1939 г.
Дети родились во Владивостоке. Места
обжитые.
Старший лейтенант В.
Касатонов в годы службы на
ТОФ (30-е годы)
Во Владивосток прибыл в середине
ноября 1949 г., разместился в квартире
для приезжающих. Приняли приветливо.
В основном руководящий состав флота
и соединений мне был знаком. С
командующим флотом, вице-адмиралом
Фроловым Александром Сергеевичем, я
ранее не служил, но встречался во время
моих поездок на Тихоокеанский флот в
период службы в главном штабе ВМФ,
а также в Генштабе.
Получив указания командующего
флотом, я на первом этапе работу построил
таким образом:
Во-первых, спланировал более
детальное изучение работы отделов штаба и
органов управления, затем предусмотрел
посещение соединений, работу в военно-
морских базах, и наконец поездку в
Хабаровск — представиться главкому войск
Дальнего Востока маршалу Советского
Союза Р. Я. Малиновскому и
начальнику штаба ГК ВДВ генералу армии
М. А. Пуркаеву. Далее познакомиться
с командованием Приморского военного
округа, а позднее побывать в штабах
его армий.
В январе 1950 г. у командующего
флотом с главкомом войск Дальнего
Востока произошел неприятный инцидент,
который имел непредвиденные
последствия для нашего командующего. В то
время главком проводил свою обычную
плановую рекогносцировочную поездку.
В зоне флота его сопровождал
вице-адмирал А. С. Фролов. Проезжая в районе
залива Стрелок, главком увидел
незаселенную казарму и сразу же стал давать
указания сопровождающим о том, какой
здесь батальон разместить, какую часть
дислоцировать, а затем полушутливо
обратился к Фролову: «Я думаю,
командующий не возражает». Однако
Александр Сергеевич стал возражать, что это
надо согласовать, необходимо доложить
морскому министру. В ответ
Малиновский прекратил всякие разговоры. А по
прибытии к себе в штаб, как говорили
очевидцы, позвонил военному министру
А. М. Василевскому, что такое
понимание взаимоотношений никуда не годится.
Это. вероятно, тоже сыграло свою роль
в том, что А. С. Фролов в феврале
1950 г. отбыл на учебу в Академию
Генерального штаба, а командующим 5-м
флотом на Дальнем Востоке был
назначен контр-адмирал Н. Г. Кузнецов,
бывший тогда заместителем ГК ВДВ по
флоту.
Так судьба подарила мне возможность
работать под непосредственным
руководством одного из самых выдающихся
военных моряков нашего времени. Кроме
того, он был и останется личностью,
вызывающей всеобщий интерес. Так
получилось, что высокий уровень его ру-
79
ководства стал и мерилом высоты
руководителя. Он не допускал
фамильярности, умело пользовался и не злоупбт-
реблял предоставленной ему немалой
властью. Он изъяснялся просто, четко,
конкретно и доступно для всех. Не
допускал сложностей, надуманности, «не
напускал тумана».
Особое его место в нашей памяти
объясняется тем, что своей работой
Николай Герасимович неутомимо поднимал
престиж Военно-Морского Флота во всем
и в своей профессиональной
деятельности стал неким нравственным эталоном.
Такие качества, такой талант даны
немногим людям — их единицы. В те
годы мне посчастливилось учиться и рабо
тать рядом с ним, быть его первым
заместителем, что я и делал не без
волнения.
С прибытием Кузнецова на флот
сразу же упростились взаимоотношения и
взаимодействие с главкомом и его
штабом, не говоря уже про округа и армии.
Если раньше каждый вопрос подолгу
взвешивался, обсуждался, то сейчас все
делалось легко и просто. Немного
подумав, Николай Герасимович сразу же
звонил именно туда, где
непосредственно решалась проблема, причем в
разговоре делал так, что вроде бы все были
участниками этого решения вместе с
ним. Говорил он в моем присутствии и
с Малиновским, внешне соблюдая
официальность, однако чувствовалось, что
их связывает нечто гораздо большее, чем
он показывает. Решались наиболее
сложные вопросы. Но самым главным было
то, что он имел выход и на военного
министра А. М. Василевского и на
Поскребышева.
Работал Н. Г. Кузнецов очень
организованно. Прибывал на службу к 9.00.
Заслушивал мой короткий доклад и те
вопросы, которые я выносил на его
решение, затем давал указания и, по сути
дела, до вечернего доклада никого не
дергал. Самое, пожалуй, сложное было
определить круг вопросов, которые
докладывать ему, а которые решать самим.
В общем-то сразу выяснилось, что
командующий четко дифференцирует все
проблемы и себе берет вопросы крупные
и сложные.
Принимая на себя ответственность по
решению вопросов, Николай
Герасимович всегда спрашивал мнение штаба и
практически всегда соглашался с ним.
Такой стиль работы командующего —
действовать через штаб, опираться на
него, очень импонировал всем нам,
повышалась наша ответственность, мы
понимали, что работаем не впустую и
подвести командующего не имеем права.
К 17 ч 30 мин я всегда был готов
доложить командующему обо всем, что
случилось за день. В 18.00. как бы ни
было сложно, Николай Герасимович
убывал из штаба, предоставляя нам воз?иож-
ность работать по своему плану.
Оперативному дежурному он звонил редко, ко
мы знали, что при необходимости ему
звонить можно в любое время. Этим мы
были избавлены от мелочной опеки,
действовали самостоятельно, проявляя
больше творчества и инициативы.
Обстановка на театре в то время была
сложной и практически не отличалась
от предвоенной 1941 г. Шла война в
Корее. Много сил приходилось
затрачивать на поддержание соединений и частей
флота в должной боевой готовности. То
и дело нарушались наши воздушные
границы, и мы не всегда успевали
реагировать на это. Были пробелы в системе
берегового наблюдения. Приходилось
бдительно следить за всеми
группировками американцев, особенно
авианосными. При входе авианосцев в Японское
море нам предписывалось поднимать
свою авиацию. Кроме того, на флоте
шло большое строительство ряда
пунктов базирования, значительно
расширялась и совершенствовалась
инфраструктура театра. Реализовывалось то, что
было задумано еще перед войной самим
Николаем Герасимовичем Кузнецовым,
Исаковым, и утверждалось на самом
высоком уровне. Много дел было в Порт-
Артуре, куда приходилось неоднократно
летать.
Большое внимание мы уделяли
подготовке сил к фактическим действиям на
море, проводили много учений, стрельб,
часто ходили в море. В такой
обстановке Николай Герасимович нарушил
указание Главного морского штаба по
запрету артиллерийских стрельб главным
калибром крейсеров. Это запрещение
ввели несколько лет назад после
тяжелого происшествия на крейсере
«Молотов» Черноморского флота, когда в
экстремальной ситуации во время пожара
в одной из башен трюмный,
предотвращая взрыв, затопил погреб и зарядное
отделение. Погибли люди. Вывод, к
сожалению, был один — запретить
стрелять. Но корабли должны стрелять. Их
подготовка у нас шла методично,
целеустремленно и давала хорошие
результаты. Москва, конечно, узнала потом,
что мы нарушили запрет, готовился
большой шум, зачастили на флот
проверяющие, но в конце концов для нас и
лично для Кузнецова все прошло
безболезненно. Ну а дело от этого только
выиграло.
Шло время, уточнялись задачи. Как-
то мне выпало докладывать новый опер-
план маршалу Малиновскому. Перед
докладом я зашел к командующему
Приморским округом Бирюзову Сергею
Семеновичу. Это был крупный
военачальник, прошедший войну, с очень светлым
умом, контактный. Хорошо понимал роль
флота и внимательно относился к его
проблемам. Докладываемые мной
документы недавно были согласованы с его
штабом, и у него не было сомнений, что
все пройдет гладко. У меня же было
несколько вариантов доклада, и я. видя,
что Малиновский не доволен длинными,
очевидно, не совсем удачными
докладами моих предшественников, решил
избрать самый короткий вариант. Маршал
несколько удивился, когда я произнес:
«Доклад закончен». Он стал уточнять
ряд положений плана по существу и
деталям. После моих докладов и обосно-
80
ваний спросил, откуда я так знаю
«сухопутные» детали театра, на что пришлось
ответить, что здесь я плавал на лодках
с 1932 г. и, отстаиваясь в различных
бухтах, много ходил по берегу в
поисках воды и продовольствия. Только
тогда он утвердил наш план, о чем я с
плохо скрываемой радостью доложил
командующему флотом.
Уровень работы штаба флота
определялся, безусловно, высокой
подготовкой офицеров и адмиралов, которые
служили вместе со мной. Это были А. В.
Кудрявцев. И. В. Силаев, Е. П. Збриц-
кий, М. С. Клевенский и многие другие.
Каждый обладал индивидуальными
положительными качествами.' а собранные
воедино, они давали те мысли, без
которых нет никакого начала в малых и
больших делах. Работа штаба была
стабильной и определялась, конечно,
бережным отношением командующего и моим
к рабочему времени офицеров и
распорядку дня в штабе.
Были у нас и серьезные ситуации.
Как-то вечером, прибыв домой со
службы, я услышал отдаленный глухой взрыв.
Зная, что по плану ничего такого не
должно быть, я позвонил оперативному
дежурному, тот доложил, что
обстановка уточняется. Не ожидая уточнений, я
убыл на КП, где уже стало известно, что
произошел взрыв на минном
заградителе «Ворошиловск», возник пожар и вода
поступает в корпус. Немедленно мной
были даны команды на действия всех
служб флота, в том числе и на
развертывание госпиталя. К прибытию ком-
флота пожар фактически был потушен,
прекращен доступ воды в корпус
корабля.
Прибыли на пирс. Картина была очень
тяжелая, кроме того, что пострадал
корабль, причал, постройки, здания,
пострадали люди. Командующий спокойно
поговорил с людьми, которые
заканчивали ликвидацию последствий, оказание
медицинской помощи и сказал мне:
«Назначаю вас председателем комиссии по
разбору данного происшествия».
А дело было в следующем. Корабль,
загруженный минами, стоял у причала.
Шел обычный день, и по распорядку
дня была демонстрация кинофильма. В
это время из-за неправильных действий
личного состава появился крен — внутрь
корабля стала поступать вода.
Специалисты разбирались сами, тревога
объявлена не была. А крен продолжал
увеличиваться. Через некоторое время одна
из мин, которая была закреплена
ненадежно, сорвалась с места и стукнулась
о другую. Начался пожар. Только тогда
был сыгран сигнал тревоги и вызваны
пожарные машины гарнизона. Самая
драматическая ситуация возникла тогда,
когда первая пожарная машина
въезжала на пирс, в этот момент и взорвалась
мина. Получился направленный взрыв,
как раз в сторону этой машины. Все
люди б ней погибли. Пострадали и другие,
но заградитель остался на плаву.
Я начал расследование. А из Москвы
уже летела комиссия морского министра,
которую возглавил адмирал П. С. Абань-
кин. В то время из Москвы даже само-
* летом добирались долго — 3—4 суток.
Наша флотская комиссия работала
оперативно и по-деловому. Людей погибло
много, налицо халатность, а с другой
стороны, в то время допускалась
большая вероятность вражеской диверсии,то
есть потеря бдительности, что каралось
жесточайше. Тяжелые тучи сгустились
над командованием флота. Подогревали
напряженность и недруги Кузнецова
требованием судить командующего,
начальника штаба, многих других. В этой
обстановке Николай Герасимович внешне
был предельно спокоен. Первое, чего он
добился.— полный ясности, что по линии
МГБ ничего нет. Это сняло многие
вопросы. Далее он телеграммой доложил
прямо Сталину о случившемся и через
Поскребышева уточнил реакцию.
Поскребышев сказал, что реакции не было.
Сталин молча расписался, что
означало — информация принята и
вышеуказанную телеграмму подшить в дело. То
есть все должно обойтись комиссией и
мерами морского министра.
Мы окончили работу незадолго до ее
прибытия, и я доложил Николаю
Герасимовичу выводы. Он был удовлетворен
и сказал мне: «Материалы нашего
расследования никому не показывайте. Я
сегодня с товарищем Малышевым убуду
в Большой Камень и буду там работать.
А Абанькину передайте, когда он
закончит, я его приму». И командующий
улетел.
Московская комиссия приступила к
расследованию самостоятельно. Как
только она окончила работу, я позвонил
Н. Г. Кузнецову, и он назначил время
приема Абанькина. Наступил
назначенный час. Еле сдерживая негодование,
тот зашел к комфлотом... а через три
минуты вышел. На следующий день
комиссия улетела.
В этой очень тяжелой истории Н. Г.
Кузнецов прежде всего думал о людях,
принимал все меры, чтобы не было
напраслины, чтобы не пострадали
невиновные. К сожалению, и у Абанькина. и у
его комиссии были другие намерения.
Комфлотом и я были наказаны и
получили по строгому выговору от
морского министра. Был снят с должности
начальник минно-торпедного управления,
условно осужден командир, у которого
был перебит позвоночник. Были
наказаны и другие должностные лица.
Когда Николай Герасимович вновь
стал министром, со всех невиновных
были сняты взыскания, и они были
восстановлены в должностях, наказанными
остались только непосредственные
виновники. П. С. Абанькин получил новое
назначение.
Восстановление Н. Г. Кузнецова
произошло после Высшего военного совета,
где присутствовали Сталин, Жданов.
Берия. Серьезные были кураторы у
Военно-Морского Флота! Когда встал вопрос
о замене Юмашева, возникла фамилия
Николая Герасимовича. Решающим было
то, что его кандидатуру поддержал
Сталин.
6 «Морской сборник» J* 4
81
Праздничный обед на борту ПЛ на
Сезерном полюсе (в географической
точке — широта 90°)
Николай Герасимович с того военного
совета на ТОФ уже не вернулся, а в
августе на флот прибыл вновь
назначенный командующий флотом вице-адмирал
Пантелеев Юрий Александрович.
Встретили его на аэродроме, проводили в
штаб. Я доложил обстановку. Огромный
театр произвел большое впечатление на
Юрия Александровича, а дела и
значимость проводимых мероприятий по
укреплению флота даже несколько
ошеломили. Юрий Александрович прошел на
Балтике суровую школу войны, имел за
плечами хорошую службу, высокую
теоретическую подготовку. Он был
отличный моряк, человек большой культуры.
Его уклад жизни и службы отличался
от нашего, и пришлось перестраиваться
и менять уже налаженный ритм.
Приезжал Юрий Александрович на службу в
12.00, когда уже начинался обед,
засиживался до глубокой ночи, когда у всех
отказывала голова. Он в общем-то не
был в этом виноват, так тогда работали
в центре, подстраиваясь под Сталина.
Но здесь, на Дальнем Востоке, это было
неприемлемо, так как разница во
времени делала это ненужным.
Кроме того, Юрий Александрович не
любил общения с армейскими
начальниками, хотя внешних изменений в
отношениях и не произошло, но звонили они
нам уже реже. Не любил Юрий
Александрович и телефон ВЧ. Если этот
телефон звонил и в его кабинете
находился я, он молча указывал мне на него
и обычно переговоры с центром вел я.
Через некоторое время на флот
прибыла большая инспекция, которую
возглавлял маршал И. X. Баграмян.
Проверку мы прошли неплохо. Было
указано на недостатки в вопросах
противовоздушной обороны, предупреждения
аварийности. Инспекция убыла в Хабаровск.
Однако один из офицеров штаба
флота, проявив сверхбдительность, написал в
Москву письмо о том, что на флоте
снижена боевая готовность, не
принимаются меры по предотвращению нарушений
воздушного пространства, более того,
нарушения эти скрываются. Маршалу
было приказано вернуться обратно и
проверить эти факты. А обстановка
была действительно сложная. Американцы
сбили наш транспортный военный
самолет, погибло 20 человек. Их похороны
во Владивостоке, в скверике напротив
Дальзавода, превратились в целую
демонстрацию. Мрачные тучи сгустились
над командованием флота. Но комиссия,
проработав не один день, разобралась,
факты не подтвердились. Обстановка
разрядилась. Офицер-кляузник был уволен.
В марте 1953 г. после смерти Сталина,
а особенно после ареста Берии,
обстановка резко изменилась. Исчез страх.
Стали возвращаться из лагерей
несправедливо арестованные друзья и
товарищи. И хотя служба оставалась
напряженной, но жизнь пошла совсем иная.
По-прежнему отличные отношения были
с командующим Приморским округом
С. С. Бирюзовым. Они были
продолжены и в Москве, когда Сергей Семенович
стал начальником Генерального штаба, и
если бы не трагический случай, то, на
мой взгляд, он смог бы сделать
значительно больше для Вооруженных Сил и
страны.
В апреле 1953 г. были объединены 5-й
и 7-й военно-морские флоты.
Руководство сочло целесообразным, чтобы во
главе нового объединенного флота встало
командование 5-го ВМФ. Мы получили
довольно большое добавление и к
операционной зоне, и к беспокойному
хозяйству, которое имели у себя.
В середине 1954 г. после пятилетнего
пребывания в должности начальника
штаба ТОФ я попросился на учебу в
Академию Генерального штаба. В октябре
получил разрешение, и всей семьей
поехали на Запад. Поскольку пришлось с
собой везти документы, Николай
Герасимович дал свой вагон, который
сохранился, наверное, еще с самых далеких
времен. Ехать через всю страну было
удобно и интересно, правда, от старости
вагон немало поскрипывал.
7 ноября мы прибыли в Москву, и
здесь я неожиданно получил
предложение вместо академии ехать в Таллинн,
командовать 8-м ВМФ. Дал согласие.
Оформление прошло быстро. Вместе с
Николаем Герасимовичем побывали у
военного министра Н. А. Булганина.
Встретил хорошо, пожелал успехов своим
приятным басом. К сожалению, как
военный министр впечатления не произвел.
Да и уже пошли тогда разговоры о не
совсем складывающихся его отношениях
с Кузнецовым.
Представился начальнику Генштаба
маршалу В. Д. Соколовскому, с которым
раньше не встречался. Познакомились.
Спросил, где семья, как буду добираться
в Таллинн. Рассказал, что весь скарб
устроил в Москве по углам. «Вот что, —
сказал Василий Данилович, — берите
мой вагон и поезжайте».
Так мне повезло во второй раз
быстро доставить семью и вещи к новому
месту службы...
Публикацию подготовил
И. КАСАТОНОВ
82
VI
После гибели С. О .Макарова. — Флаг
наместника на «Севастополе». — Третья
попытка японцев запереть эскадру. — Бегство адм.
Алексеева из П.-Артура. — «Великая
хартия отречения».
{ УЩЕСТВУЕТ предание, что в
^* Александрии «ревностный
проповедник Евангелия бросился с топором
на статую Сераписа и начал рубить ее,
и гром не грянул, и земля не
расступилась, чтобы поглотить нечестивца, и
великое уныние распространилось среди
язычников»... Впоследствии многие из
них крестились, но не потому, чтобы
вдруг перестали верить в старых богов
(это не делается сразу), а в силу
горького сознания, что старые боги их
покинули, от них отвратились...
Я вспомнил об этом сказании потому,
что им ярче всего характеризуется то
состояние подавленности, которое
овладело личным составом эскадры после
гибели С. О. Макарова.
— Если Бог допустил такую беду,
значит — отступился...
Необходимо было принять
энергичные меры, чтобы хоть отчасти
стряхнуть это угнетение. Первобытные,
цельные натуры, какими в огромном
большинстве являлись наши матросы, так
же легко воспринимают слова
ободрения, как и поддаются отчаянию. Это
облегчало задачу. Не знаю, как
поступали на других судах, но у нас на
«Диане» никогда еще не было такого
широкого общения между офицерами и
командой. В батарейной и в жилой
палубах на видных местах были
развешаны наскоро составленные и на машинке
отпечатанные списки боевых судов
Балтийского и Черноморского флотов с
указанием их водоизмещения, брони и
артиллерии. Около «прокламаций» (как
их шутя называли) толпился народ.
Толковали, спорили и (право, неглупо)
прикидывали в уме и на пальцах намечали
состав эскадры, какую можно бы
послать в Тихий океан. ' Офицеры,
появляясь то тут, то там, давали необходимые
объяснения.
Однако же наиболее живой интерес
возбуждали не споры о составе тех
подкреплений, которые могут быть нам
высланы, а разрешение вопроса: кто
прибудет на замену погибшего Макарова.
Переходя от одной группы к другой,
прислушиваясь к разговорам, часто
вмешиваясь в них, подавая реплики, я был
поражен той осведомленностью, которую
Вл. Семенов. РАСПЛАТА.
Часть первая. Порт-Артур. Продолжение.
Главы I—V см. в «Морском сборнике»
№ 1—3 за 1991 г.
проявляла эта серая масса по
отношению к своим вождям, — ее знакомству
с личными качествами высшего
командного состава... Кандидаты на пост
командующего флотом, намечавшиеся
на баке, — это были те же, о которых
мечтали в кают-компании, за которых и
я без колебания подал бы свой голос.
Чаще всего слышались имена Дубасова,
Чухнина и Рожественского. Отдельные
замечания по поводу возможности
назначения того или другого только
подчеркивали правильность оценки
положения.
— Зиновея8 не пустят. Чином молод.
Старики обидятся... — Дубасова —
хорошо бы! — Кабы не стар... — Чего
стар! не человек — кремень! — Аврал,
поди, идет в Питере — и хочется, и
колется! — Ежели бы Григория9 — в
самый раз! — Это, что говорить!.. — Ду-
басов-то, не гляди, что стар! — Да я
нешто перечу? а все лучше бы
помоложе... — Конечно, Дубасова! — Зиновея!
— Григория!..
Временами страсти разгорались, и
сторонники того или иного адмирала
уже готовы были вступить в
рукопашную, но энергичный окрик боцмана или
боцманмата: «Чего хайло разинул!
Думаешь, в Петербурге услышат!?» —
предотвращал беспорядок'.
— Послушать их, — подошел ко мне
однажды старший минер, — так после
гибели Макарова весь флот на трех
китах стоит — Дубасов, Чухнин и Роже-
ственский...
— А вы как думаете?
— Пожалуй, что и правы...
Утром 2 апреля прибыл в П.-Артур
Наместник и поднял свой флаг на
«Севастополе». Обстоятельство это прошло
почти незамеченным.
— Это только для видимости! Этот в
бой не пойдет! — уверенно заявляла
молодежь, несдержанная на язык.
Того же 2 апреля с рассветом
появились на горизонте японцы. Мы... не
вышли в море. Около 9 ч утра началась
бомбардировка. Как сообщили с Ляоте-
шана, ее вели только «Кассуга» и «Нис-
син» — два вновь приобретенные
крейсера, только что вступившие в состав
японского флота и впервые
появившиеся под Артуром, очевидно, с целью
испытать свою артиллерию (10-дюймовки).
Южнее их, не принимая в
бомбардировке активного участия, держались броне-
8 Зиновий Петрович Рожественский.
9 Григорий Павлович Чухнин.
носцы, а несколько ближе, к востоку,
почти против Артура, бродили
«собачки» и два броненосных крейсера. От нас
отвечали «Пересвет» и «Полтава».
Японцы на этот раз стреляли неважно:
по большей части недолеты, ложившиеся
в южной части западного бассейна.
Наши потери ограничились двумя
ранеными на Тигровом Хвосту.
В 12 ч 30 мин дня японцы поспешно
удалились. С Ляотешана доносили,
будто они ушли потому, что «Кассуга» или
«Ниссин» наткнулись на мину, после
чего со всех судов началась
беспорядочная стрельба «по воде». Вероятно, как
и у нас 31 марта, заподозрили
присутствие подводной лодки.
Дня через два китайцы-лазутчики
донесли, что в бухте Кэр (к востоку от
Талиенвана) погиб на наших минах
крейсер III класса «Мияко». Правда, ни то,
ни другое известие не получило
подтверждения в официальных донесениях
с театра военных действий,
публиковавшихся японцами. Наш неприятель, в
противоположность нам, простодушно
объявлявшим всему свету
о ходе работ по
исправлению поврежденных судов,
заботливо скрывал и умел
скрывать свои потери, а
потому я склонен верить
этим рассказам, тем
более, что впоследствии
японцы признали гибель
«Мияко», только отнеся
ее на месяц позже, а
также и повреждение «Кас-
суги», которое
объяснялось столкновением в
тумане с «Иосино», якобы
при этом потопленном, у
нас же честь его
потопления приписывал себе
миноносец «Сильный»
бывший в паре со
«Страшным» в роковой день
31 марта.
Конечно эти спорные
факты сами по себе не
представляют большого
значения: не все ли равно, отчего
затонул «Иосино»? при каких
обстоятельствах была повреждена «Кассуга»? какого
числа и какого месяца погиб «Мияко»?
Если я и упоминаю о них. то
единственно с целью отметить резкую разницу в
успешном хранении военной тайны с
нашей стороны и со стороны японцев. У
нас эта тайна являлась чисто
формальным, канцелярским делом, у японцев же
— делом совести, священным долгом
перед родиной. Нельзя не признать, что
культ канцелярской тайны всегда имел
у нас самое широкое распространение.
Надписи «секретно», «весьма секретно»,
«конфиденциально» и т. п. — так и
пестрели на заголовках рапортов,
отношений и в особенности предписаний. В
результате все эти страшные слова
совершенно утратили свое первоначальное
значение и могли бы с успехом быть
заменимы словами — «важно» или
«интересно»... Между тем среди ворохов
Вице-адмирал
Н. И. Скрыдлов
чисто канцелярских тайн попадались и
настоящие! — Да где же тут
разобраться! — «Секреты» всегда были известны
всем, кроме тех, кто, казалось бы, имел
наибольшее право быть в них
осведомленным, на чью скромность и
сдержанность можно было бы положиться.
Бывало командир или старший
офицер (не кто-нибудь) спросит знакомого,
даже приятеля из штаба:
— Неизвестно, когда выходить
собираемся?
— Не знаю! Право, не знаю!
А на судне вестовой в тот же день
докладывает, что ему надо ехать к
прачке.
— Зачем?
— Так что белье забрать, потому —
уходим!
— Куда уходим? Что ты врешь?
— Никак нет! Адмиральский вестовой
сказывал, приказано завтра к вечеру,
чтобы все было дома...
Помню, однажды, еще за несколько
лет до войны, начальник эскадры был
серьезно озабочен, как бы разослать
командирам предписание,
которое он желал
действительно сохранить в
секрете.
— А вы, ваше
превосходительство, прикажите
вовсе не ставить наверху
«секретно», — никто и
читать не станет... —
посоветовал кто-то из
присутствующих.
И удалось. Никто не
поинтересовался.
Прошу извинить за это
невольное отступление и
возвращаюсь к моему
рассказу.
В первый числах
апреля получено было
официальное известие, что
командующим флотом
Тихого океана назначен вице-
адмирал Скрыдлов. Это
назначение эскадра
встретила, правда, без
энтузиазма но, в общем, отнеслась к нему
довольно сочувственно. Подводя итоги
различным замечаниям и суждениям,
можно было сказать, что настроение
держалось выжидательное. Правда, он
не был в числе намечавшихся
кандидатов, но... «посмотрим»!..
— Макаров, если бы не задержался
в Мукдене для переговоров с
Наместником, был бы здесь на 15-й день после
назначения... — исчисляли некоторые,
— значит, и этого можно ждать между
17-м и 20-м...
Однако по мере получения телеграмм
о торжественных встречах и проводах,
о молебствиях и напутствиях, о
поднесенных образах и хоругвях, расчеты
спутывались; лица все больше и больше
хмурились... К тому же. так как японцы
словно сквозь землю провалились и не
показывались в течение почти трех
недель, эскадра замерла в бассейнах.
Даже дежурство крейсеров на внешнем
84
рейде, установленное Макаровым, было
отменено.
Вообще все макаровское пошло
насмарку и восстановились порядки,
властно господствовавшие до... войны.
Казалось, что флаг, развевавшийся на
грот-мачте «Севастополя», обладал
каким-то особенным свойством парализо-
вывать всякую инициативу, задерживать
на губах всякую фразу, кроме достолю-
безных — «слушаю» и «как
прикажете». «Всепреданнейшие» подняли
головы и заговорили.
— Да-с! вот оно! — заявляли они (те
самые, что еще так недавно, вместе с
другими, восторженно приветствовали
флаг командующего флотом, поднятый
на «Новике»). — Вот они, результаты
безумной смелости! Надо различать
храбрость и браваду! Часто-с истинное
мужество заключается в том, чтобы
мудро уклониться от опасности, а не лезть
на нее зря, в поисках дешевой
популярности! — Бросить надо эти
авантюры! — В делах государственной
важности нужен и государственный ум,
широкий взгляд!.. Наместник еще ответит
перед Россией за то, что малодушно
уступил первенство какому-то «Деду»!..
Он не смел этого! — Видите, что
вышло? — Теперь ему же придется чинить
прорехи!.. На него — вся надежда! Дай
Бог, удалось бы!
Говорили громко, видимо, стараясь,
чтобы все их слышали и, при случае...
доложили.
Правило «беречь и не рисковать»
воцарилось снова. К нему, под гипнозом
флага, поднятого на «Севастополе»,
естественно присоединялось и другое:
«ничего без указания, или без
испрошенного одобрения...» Такой простой,
всем понятный и пользовавшийся
успехом принцип, провозглашенный
Макаровым: «Верю, что каждый приложит все
силы к приведению своей части в
боевую готовность!» — принцип, дававший
такую широкую свободу действий не
только командирам и офицерам, но даже
и младшим начальникам из нижних
чинов, принцип, на первый план
выдвигавший личную инициативу,
одухотворивший службу, — этот принцип был
осужден бесповоротно. Первый же раз
как мы (т. е. «Диана») собрались
произвести ученье по боевой тревоге с
вспомогательной стрельбой, ставшей
обычным делом, новое течение проявилось
достаточно ясно.
На производство всякого крупного
ученья или работы корабль (согласно
уставу) обязан испрашивать разрешения
адмирала. Так. конечно, и поступали,
но при Макарове эта просьба о
разрешении превратилась в простое
уведомление. Едва только на корабле взвивался
всем примелькавшийся сигнал: «Прошу
позволения произвести ученье номер...»,
как на «Петропавловске» уже
поднимали всегда готовый флаг «Д».
означающий — «Согласен». Теперь
обстоятельства переменились. На сигнал «Дианы»
«Севастополь» довольно долго держал
«ответ до половины» !0 и наконец под-
. нял — «Нельзя. Не согласен». Затем
оттуда по семафору справились: «Не
ошиблись ли вы при наборе
предыдущего сигнала? Действительно ли вы
собирались стрелять?..» На
утвердительный ответ с нашей стороны последовало
приглашение командира в штаб по
делам службы. По возвращении он был
не особенно разговорчив. Сказал только,
что пока требуется точно выполнять
расписание занятий, объявленное
циркуляром штаба, а что касается
вспомогательной стрельбы, то вопрос этот
признан заслуживающим внимания,
будет разработан так, чтобы все суда
могли принимать в ней участие, по
возможности равномерно, и проч, и проч.
В ожидании, когда японцы соизволят
прийти на вид П.-Артура, при
посредстве паровых катеров и баркасов тралили
внешний рейд, разыскивая мины, ими
набросанные, и, действуя тем же
оружием, ставили свои в тех местах, куда
сами ходить не собирались; но все это
как-то вяло, неуверенно, нерешительно...
Что же? — могут спросить читатели.
— Неужели в Артуре не было
энергичных людей, которые взяли бы дело в
свои руки, повели его должным
образом?.. — Конечно, были и
впоследствии достаточно показали себя, но только
все они в то время находились под
гипнозом, о котором я уже говорил. Ведь
предложить делать что-нибудь совсем
по-новому, значило — осудить старое,
а это старое было освящено самим
Наместником, сурово каравшим за всякую
тень сомнения в его непогрешимости.
Это не Макаров, который прямо
требовал, чтобы всякий открыто высказывал
свое мнение, который считал, что *ягучше
самое горячее объяснение, чем
затаенное несогласие, неизменно ведущее к
пассивному повиновению или
пассивному сопротивлению, между которыми
провести границу почти невозможно.
Макаров мог спорить, даже сердиться,
но за всякую идею, кому бы она ни
принадлежала, хватался обеими руками,
если была хоть надежда на успешное ее
применение.
Смешно было бы ждать, что в
дальневосточной сатрапии раздастся голос
свободного воина и гражданина,
правдивый, честный голос!.. Там было
совершенно естественно услышать
приказание: «Высечь Желтое море за то, что
при отливе берега его дурно пахнут и
«самого» Наместника заставляют
удалиться с балкона его дворца». Там, в
этой атмосфере, не мог появиться Феми-
стокл, который сказал бы: «Бей, но
выслушай!» Там господствовали люди,
credo которых было: обо всем
промолчу, со всем соглашусь, — только бы
не били, а приласкали!..
8 апреля я совершенно неожиданно
был назначен членом в комиссию для
допроса японцев, захваченных на паро-
10 Ответный флаг, поднятый до места,
обозначает: «Ясно вижу. Понял ваш сигнал».
Поднятый до половины высоты мачты он
говорит: «Плохо вижу. Не могу разобрать
значения. Может быть, вы ошиблись».
85
ходе «Хайень-мару». и для разбора
оказавшихся при них документов.
Назначение в такую комиссию старшего
офицера боевого корабля являлось несколько
странным. Для сведения моих
сухопутных читателей считаю долгом пояснить,
что на корабле командир — это как бы
верховная власть, выступающая лично
только в наиболее критические моменты
жизни, а старший офицер — это как бы
действующий от имени командира, с его
ведома и одобрения, премьер-министр,
на котором и лежит непосредственно
вся тяжесть внутреннего управления.
Вот почему (и нет средств избежать
этого) старший офицер почти безвыходно
сидит на корабле, и в кают-компании
его редкие отлучки составляют событие.
Часто приходится слышать замечания,
вроде:
— Скажете тоже! Это было еще до
последнего съезда старшого на берег!..
Я лично не только ничего не имел
против участия в комиссии, но, по
совести говоря, был даже доволен. На
законном основании несколько раз
съездить куда-то, повидать свежих людей —
казалось прямо заманчивым. Зато
командир принял дело к сердцу и
поспешил в штаб, где ему
объяснили, что назначение вызвано
имевшимися сведениями о моем знакомстве с
японским языком.
На эскадре знали, что некогда, на
пари, я в годичный срок выучился
японскому языку и японско-китайской
грамоте настолько, что свободно читал и
переводил a livre ouvert японские
газеты. Но это было 6 лет тому назад.
С тех пор многое было, за отсутствием
практики, перезабыто, и я отнюдь не
считйл себя вправе выступать в роли
переводчика, да еще в таком
ответственном деле. Олнако оказалось, что во всем
огромном штабе Наместника не было ни
одного человека, основательно
знакомого с японским языком и японской
письменностью Переводчиком служил
«подвернувшийся» прапорщик запаса,
студент института восточных языков во
Владивостоке. У японцев же на каждом
корабле, в каждом полку, батальоне,
даже роте, были люди, прекрасно
говорившие и писавшие по-русски.
Однажды, по окончании заседания, в
ожидании катера, который должен был
отвезти меня на крейсер и почему-то
запоздал, я зашел на «Севастополь»
повидать его старшего офицера, моего
старого соплавателя и приятеля В.
Как водится, после долгой разлуки,
облобызались и засыпали друг друга
вопросами. Беседа ежеминутно
прерывалась сигналом горна: «караул
наверх!» — по которому Б. срывался с
места и бежал встречать или провожать
пребывающего или отъезжающего
адмирала или генерала.
— Однако! Сколько их у вас ездит!
— не удержался я.
— И не говори! — с отчаянием
отмахнулся Б. — Веришь ли: какой я
старший офицер? Все мои обязанности
исполняет первый лейтенант, а я только
мотаюсь: встречаю, провожаю —
провожаю, встречаю.
— А это у вас что же? — указал я
на плотников, которые по бортам
обширной кают-компании броненосца из досок
и брусьев строили какие-то
меблированные комнаты, навешивали двери,
вставляли окна; маляры оклеивали стены
обоями; обойщики прибивали занавески,
расставляли мебель...
— Это все для штаба Наместника!
Ведь я до сих пор, как ни бьюсь, не
могу узнать, сколько их всего? Когда
кончится это великое переселение?
— Ну, а если придется выходить в
море, в бой?.. Ведь вот у нас по
приказу всякое дерево, кроме
насущно-необходимого, всякая мебель, украшения —
все свезено в порт, даже двери сняли,
заменили парусиновыми занавесками...
А у вас тут квартиры строят и все из
самых горючих материалов... Как же
вы пойдете?..
— Да ты остришь, что ли? —
словно даже обиделся Б. — Куда нам идти
с этими порядками? Куда?.. Разве — к
черту!..
Я не мог с ним не согласиться.
В ночь на 17 апреля приходили на
внешний рейд японские миноносцы.
Вероятно, с целью набросать мин.
Обнаруженные прожекторами и встреченные
огнем батарей — поспешно скрылись.
В. 1 ч ночи 20 апреля меня разбудили
глухие удары отдаленных пушечных
выстрелов. Внезапно они перешли в
беспрерывный гул. Даже сквозь плотно
задернутую занавеску иллюминатора
пробивались отблески то ярко-багровых,
то зеленовато-золотистых негаснущих
молний... Видимо, стреляли все, кто
мог!..
Это была третья, наиболее отчаянная
попытка японцев запереть П.-Артур,
Несомненно, что через своих шпионов они
знали не только о неудаче предыдущей
попытки, но и о всех мерах, принятых
нами к предотвращению новой. Они
знали, что теперь уже нельзя попросту
взять прямой курс ко входу, но надо
идти по искусственно созданному
фарватеру. И вот — под бешеным' огнем
батарей и сторожевых судов — их
миноносцы подошли к поворотным
пунктам и стали маячными судами, указывая
дорогу заградителям... Один миноносец
взорвался на наших минах, один был
утоплен артиллерией, вероятно, многие
пострадали — но свое дело сделали!..
Всех бранперов-заградителей было
двенадцать. Четверо, подбитые или
просто не выдержавшие огня, повернули
обратно в море, восемь затонули вдали
от входа, но все же два успели
извилистым фарватером проникнуть за «Хай-
лар». По счастью, они не легли поперек
дороги, но это была не их вина, равно
как и не наша заслуга, а просто судьба.
Во всяком случае, нельзя не признать,
что уже второй раз блестяще оправдала
себя система отражения атаки
брандеров, детально разработанная при
Макарове и объявленная его приказами
Береговые батареи, сторожевые и охран-
86
ные суда и шлюпки — действовали, как
по нотам.
Наместнику, прибывшему на
«Отважный», оставалось только наблюдать за
тем как разыгрывается пьеса по
партитуре гениального композитора —
нашего дорогого «Деда».
Поклонники талантов адм. Алексеева,
историки, пытающиеся еще более
расцветить его и без того цветистые
реляции, любят говорить о том, как он
лично руководил отражением этой атаки
брандеров-заградителей, «с которых
сыпался град из поставленных на них
пулеметов» («Русская Старина», апрель
1907 г., с. 71). В интересах
восстановления истины не могу не указать,
что, несмотря на «град», потерь с нашей
стороны не было, а кроме того,
несомненно, что если и был «град», то он
сыпался на ближайших противников —
сторожевые и охранные суда и шлюпки,
— а также на батареи скорострельных
морских орудий, недавно воздвигнутые
и вынесенные возможно вперед и ближе
к уровню моря. На «Отважный» этот
«град» никоим образом не мог быть
направлен, и драгоценная жизнь
Наместника не подвергалась никакой
опасности. Вряд ли с «Отважного», стоявшего
ь трубе, а не в горле прохода, возможно
было наблюдать за ходом дела и давать
какие-либо указания. Это было бы
возможно лишь с «Гиляка», находившегося
на авансцене, но туда... Наместник не
счел необходимым проследовать.
Так или иначе, благодаря Богу,
выход в море остался свободным, и вновь
затонувшие японские брандеры только
усилили подводный бруствер, созданный
Макаровым из затопленных пароходов,
делая новую попытку заграждения
почти безнадежной.
11 февраля и 14 марта, при
штилевой погоде, уцелевшие экипажи
японских брандеров-заградителей уходили на
мелких шлюпках в открытое море, где с
рассветом их подбирали разведчики и
миноносцы неприятельской эскадры.
Нашими трофеями были только трупы,
которые предавались земле с воинскими
прчестями, согласно уставу. (Между
прочим, это обстоятельство вызвало в
Японии течение нам сочувственное —
многие увидели из этого факта, что мы
не такие уж варвары, как про нас
рассказывают.) 20 апреля дело обстояло
иначе. Дул SO, балла 3 — 4; по
внешнему рейду гуляла невысокая, но крутая
волна, а с моря шла зыбь. Самая
посадка на мелкие, в большинстве
подбитые шлюпки, представляла уже немало
затруднений, а выгребать на них против
волн и ветра оказывалось совершенно
невозможным. Те, у кого шлюпки
уцелели и где их успели спустить на воду,
вынуждены были выброситься на берег
и сдаться в плен, прочие же плавали,
держась за обломки, цепляясь за мачты
и трубы торчавшие над поверхностью
моря, и отчаянно взывали о помощи...
Надо ли говорить, что, как только
кончился бой, наши паровые катера,
только что бросавшие в неприятеля свои
метательные мины, бросились спасать
погибающих, ежеминутно рискуя сами
разбиться в бурунах, ходивших над
затонувшими пароходами... При этом
нельзя пройти молчанием одной весьма
любопытной подробности. Холодная
ванна, по-видимому, отрезвляюще
подействовала на тех, кого подбирали катера,
но те, что высаживались на берег,
полуодетые, безоружные, с криками
«банзай!» бросались на наших, спешивших
к ним на помощь. Конечно, в такой
обстановке ни солдаты, ни матросы и не
думали пускать в дело оружие, а,
отбросив винтовки, со смехом и шутками
принимали «очумелых» на кулачки...
Некоторых пришлось даже связать, так
как они были совсем невменяемы...
Недаром мы, осматривая из любопытства
ранее затонувшие брандеры, удивлялись
многочисленным откупоренным и
полуопорожненным бутылкам коньяку,
которые на них находили. Тем более
странно, что вообще Япония — страна
трезвости: национальный напиток — «еакэ»
— крепостью не превосходит
обыкновенного пива, а употребляют его
крошечными чашечками... Ясно, что даже
японские нервы не могли выдержать
той поистине адской обстановки в
которой находились брандеры, приближаясь
к цели, и опьянение патриотизмом,
жаждой подвига — надо было поддерживать
более реальным опьянением... —
алкоголем.
Каким-то путем это открытие с
невероятной быстротой разнеслось повсюду
и резко способствовало подъему духа в
нашей команде, среди которой огромное
большинство считает, что перед боем,
как перед причастием, грех пить водку,
и часто отказывается от казенной чалки,
если обедать приходится в виду
неприятеля.
С рассветом 20 апреля появилась на
горизонте японская эскадра. Ждали
бомбардировки. Был сигнал —
«приготовиться принять бой на якоре» — т. е.
на перекидной огонь отвечать тем же.
Однако ничего не состоялось.
Пришли первые, смутные и
недобрые вести о сражении при Ялу.
Говорили, что потери около 2 000 человек и до
22 орудий. Не хотелось верить... Значит,
японцы там высадились? Как же мы
прозевали?
22 апреля японская эскадра опять
весь день держалась в виду Артура. В
11 ч 30 мин утра на «Севастополе» флаг
командующего флотом был заменен
контр-адмиральским флагом. В
командование эскадрой вступил В. К. Вит-
гефт. Наместник уехал в Мукден.
Отъезд произошел так внезапно, что из
начальствующих лиц многие узнали о нем,
как уже о совершившемся факте. О
каких-либо проводах и помину не было.
Рассказывали даже, что кое-кто из
состоящих при Наместнике, случайно
бывших это утро в отлучке — дома, не
попали на специальный поезд и были
отправлены после...
Не скажу, чтобы это явное бегство
произвело на эскадру сильное впечагле-
87
ние. Некоторые были даже довольны.
Все, однако, видели в нем тревожньш
симптом. От громких суждений по
этому вопросу воздерживались, так как
всякие разговоры в кают-компании, через
вестовых, немедленно передавались в
команду, а мы переживали такой
момент, когда следовало с особой заботой
относиться к ее настроению.
Историки, о которых я имел уже
случай упомянуть, говорят, что «22 апреля
Наместник по Высочайшему повелению
выехал из П.-Артура со своим штабом
в Мукден, передав командование
эскадрой старшему — к.-а. Витгефту...»,
но затем — «Военные события шли
быстро. 23 апреля уже определилось
место высадки японцев к с.-з. от о-вов
Эллиот, в Бицзыво», а потому еще с
дороги из Вафаньгоу 23 апреля,
Наместник уже телеграфировал Витгефту «о
своевременности и особо важном
значении, в интересах обороны крепости,
минных атак неприятельских транспортов,
сосредоточенных в сфере действия
наших миноносцев».
Подумать страшно, сколько несчастья
принесло России то обстоятельство, что
блестящая мысль — воспрепятствовать
высадке японцев — осенила Наместника
лишь в Вафаньгоу, вне пределов
досягаемости японских орудий, вне
обязанности лично руководить рискованным
предприятием!.. Мы, находившиеся в
П.Артуре, хорошо знали (телеграфная
тайна, хотя и обеспечена присягой, но
не всегда непроницаема), что
Высочайшее повеление было испрошено; что уже
с 15 апреля японцы явно готовились к
высадке в Бицзыво, базируясь на
группы о-вов Эллиот и Блонд, что именно
это время и было наиболее
благоприятно для воспрепятствования широкому
развитию операций японцев, но время
это не было использовано; что бегство
Наместника, который раньше, чем быть
Наместником, был адмиралом и место
которого было во главе его флота, —
последовало не по Высочайшему
«повелению», но с Высочайшего
«соизволения», им же испрошенного... А это —
разница!..
23 апреля японцы высадились. С
нашей стороны им не было оказано
никакого сопротивления.
Японская эскадра ежедневно
появлялась в виду Артура. Японцы,
по-видимому, колебались приступить к
решительной высадке. Они не были уверены,
заперт ли П.-Артур последними
брандерами, а ведь если нет, то наше
бездействие могло быть объясняемо
выжиданием, выбором удобного момента, чтобы
броситься на них в самый разгар
десантной операции.
Эскадра глухо волновалась.
Возбуждение росло. В самом деле: у нас было
три исправных броненосца, один
броненосный и три легких крейсера 1 ранга,
один крейсер 2 ранга, четыре
канонерки и более 20 миноносцев. Казалось бы,
с такими силами можно предпринять
что-нибудь против высадки,
происходящей от нас в расстоянии 60 миль! В
кают-компаниях горячо обсуждался
такой план. Пользуясь весенней погодой
(часто набегали легкие туманы), выйти
из Артура, по возможности незаметно,
разгромить транспортный флот и
возвратиться обратно, конечно с боем, так как
японцы несомненно постараются не
пустить нас назад. Это был бы даже не
бой, а прорыв в свой собственный, хотя
и блокируемый, порт. Разумеется, мы
сильно бы потерпели, но к тому
времени, как будут исправлены «Цесаревич»,
«Ретвизан» и «Победа», — мы опять
окажемся в полном составе. Наконец,
если бы даже бой вышел решительным
и неудачным для нас, если бы наши
главные силы были почти уничтожены,
— попало бы и японцам! Им пришлось
бы уйти надолго и основательно
чиниться, а тогда в каком положении
оказалась бы высаженная армия, которую мы
(по числу транспортов) определяли
примерно в 30 тысяч?.. Без запасов, без
обоза, она вынуждена была бы отсту-
t.Boom
Голуби/-.
бухта
Л
щ
и ЛпО1
л о д у и с
залив
0 Сииаидао 4d
Зад
Д^Йэнцзь
»;°Рь1^^зепеиыег»л1
^ОРТ-АРТУР
ааотешамь
нешань
кий ^Г^^^СШихэ
^\уу Ч^Саньшилипу
Пуланьдян 1 <
цзиньчжо^/ •* ^.siS^
***
^©1кДАЛЬНВЙ
Jr^**-**^ vo Дасаньшаньдао
Лгацзягоу /
^Бицзыво
о Гуанлудао
Кор е й с к и
з аи и в
(Эллиот)
88
пить к Ялу на соединение с
действовавшими там войсками...
Для успокоения горячих умов из
высших кругов был пущен слух, что наше
бездействие входит в планы генерала
Куропаткина. Будто бы он сам просил
Наместника не мешать японцам
высаживаться к востоку от П.-Артура, опасаясь
высадки в Ньючванге. В победе на
суше, конечно, не было сомнения.
Приводилось даже изречение какого-то
великого полководца, сказавшего, что он
знает 12 способов высадки десантной
армии и ни одного способа обратной
посадки ее на суда в случае неудачи, а
потому рекомендовалось не рисковать
судами и всячески беречь эскадру
именно для этого момента, когда придется
«не пускать японцев домой»... Знакомый
лозунг «беречь и не рисковать» внушал
некоторые сомнения в достоверности
этого слуха, но других объяснений не
было.
Все знали, что накануне своего
отъезда Наместник имел совещание с
главными из начальствующих лиц. Какие
решения были приняты на этом совете
— хранилось в тайне.
Кое-что, однако же,
обнаружилось само собою
довольно быстро.
Заговорили, что вновь строящиеся
батареи сухопутного
фронта будут вооружены
морскими орудиями, а
вскоре вышел и
соответствующий приказ. Огорченных
утешали тем, что орудия
будут сняты только с
"поврежденных броненосцев и
притом временно, пока
они чинятся и вынуждены
бездействовать. Что-то
плохо верилось!..
24 или 25 апреля (в
точности не могу сказать —
не записано) под
председательством Стесселя
состоялось (на
«Севастополе») совещание всех на-
нальников отдельных
частей, морских и сухопутных.
Командир, вернувшись на крейсер,
ничего не рассказывал (оттого и в моем
дневнике не отмечены в точности день
и час этого злополучного совещания),
Однако уже утром 26 апреля всем и все
стало известно, так как протокол
заседания на подпись участвовавшим возил
обыкновенный рассыльный. Роковая
бумага не была даже вложена в конверт,
и ознакомиться с ее содержанием мог
всякий, до судовых писарей и вестовых
включительно. На «Диану» ее привезли
рано утром 26 апреля. Командир еще
спал; папку подали мне, и, развернув
ее, я имел несчастье прочесть то, что
на артурской эскадре называли
«Великой хартией отречения флота»... Вот
подлинные строки, которые я занес в
мой дневник по поводу этого события:
«26 апреля. Случайно прочел
знаменитый протокол совещания — акт
самоупразднения флота. Стыдно! Слава Бо-
Генерал
А. М.
гу, все же нашлось двое, которые не
подписали этой гадости!»
Протокол начинался заявлением, что
в настоящем положении эскадра не в
состоянии иметь какого-либо успеха в
активных действиях, а потому, до
лучших времен, все ее средства должны
быть предоставлены на усиление
обороны крепости...
Настроение на судах было самое
подавленное, не многим лучше, чем в день
гибели Макарова... Рушились последние
надежды... Несмотря на всю неловкость
вопроса, я не вытерпел и обратился к
командиру за разъяснениями: «Как
могли? Как согласились?..» По-видимому,
он не был в особенно разговорчивом
настроении, но охотно и даже торопливо
пояснил, что предыдущее заседание
было простой формальностью, что все было
решено самим Наместником в совете,
накануне его отъезда, что им,
собственно, пришлось только составить протокол,
оформить... что инструкции, оставленные
Наместником, достаточно ясно предна-
чертывают программу дальнейших
действий, что авантюры a la Makaroff на-
надо забыть, что истинно
государственный ум, и т.
Д. и т. д...
— Но почему же тогда
не написано прямо, что
это приказание
Наместника? К чему эта комедия
совета? Ведь этот
протокол, под которым нет са
мой главной подписи —
его подписи, в котором
даже не упоминается его
имени,— это ваш
обвинительный акт!
Капитан возражал
крайне смутно, ссылаясь
на то, что нечего
разговаривать, когда
приказывают, что все равно из
протеста ничего бы не
вышло...
Да! Подготовка
поражения эскадры Тихого
окенана началась с де-
года, т. е. с момента
прибытия в Порт-Артур адм.
Алексеева, успешно превратившего ее
корабли в плавучие казармы, а из
личного состава ее, не менее
успешно, вытравившего всякий живой дух,
всякий намек на личную инициативу.
Широко пользуясь всей полнотой
бесконтрольной власти, бывшей в его
руках, он сумел людям и храбрым и
разумным, какими они показали себя в
боях с неприятелем, внушить сознание
полной бесполезности всякой попытки
посягательства на принятое им
решение, мало того — внушить, что
малейшее несогласие с его взглядами есть уже
преступление. Этот гипноз,
создававшийся в течение нескольких лет, этот гнет,
под которым жила эскадра во времена
наместничества, был так силен, так
вошел в плоть и в кровь, что даже после
бегства адмирала Алексеева, даже в
осажденном, отрезанном от мира Порт-
Артуре он долго еще чувствовался...
лейтенант
Стессель
кабря 1899
89
VI!
Сила решений «великой хартии». —
Неиспользованная удача 2 мая. — Дословно из
дневника. — Междоусобная брань. —
Оживление надежд на выход в море. —
Загадочный случай 2 июня.
НАДО ЛИ пояснять, что японцы,
которые, благодаря своей идеально
организованной системе шпионства,
получали наисекретнейшие наши приказы
едва ли не раньше, чем наши корабли и
отдельные части, конечно, в тот же день
были осведомлены о содержании
«великой хартии», так откровенно
развозившейся по городу и порту, и с этого
момента, не опасаясь помехи, словно на
маневрах, деятельно занялись высадкой
своей армии, выгрузкой артиллерии,
обоза, запасов и т. п.
С 27 апреля они подходили совсем
близко, точно зная о приказании «не
стрелять, чтобы не вызвать
бомбардировки» — верх осторожности и
бережливости...
Среди общей апатии и бездействия
(если не считать постройки сухопутных
батарей) уже несколько дней командир
«Амура», должно быть, задетый за
живое развязностью японцев, выбирал
удобный момент, чтобы выйти в море и
набросать мин на месте обычных,
безнаказанных прогулок неприятеля. 1 мая
случай представился — нашел легкий
туман, и японцы скрылись из вида.
«Амур» выбежал на рейд и исчез во
мгле... Прошло немногим более двух
часов, и он благополучно вернулся.
Особенно важным являлось то
обстоятельство, что от нас, с берега, совершенно
нельзя было определить, куда он ходил.
Я уже говорил о той изумительной
осведомленности, которую проявляли
японцы, с уверенностью ходившие между
поставленными нами заграждениями,
никогда на них не натыкаясь. Очевидно,
среди китайского населения Квантуна
были не простые шпионы, но и опытные
штурманы.
2 мая мы сидели за завтраком в
кают-компании, когда с вахты доложили,
что появилась японская эскадра. Никто
не шевельнулся — так и полагалось,
согласно последним принятым
решениям... Вдруг наверху послышалась
беготня, восклицания и затем какой-то
стихийный рев, проникший до самых
трюмов — откуда, как слышло было по
топоту ног о железные трапы, все
мчалось на палубу...
— Японец! На мине! — выкрикнул
вместо доклада унтер-офицер,
присланный с вахты...
.— Второй! Второй!.. Потонул! —
кричали засевшие под клотиками мачт...
Им даже не сразу поверили... Но вот
повсюду замелькали семафорные
флажки, на мачте Золотой горы взвился
сигнал «Японский броненосец затонул»...
Сомнения не было...
— На рейд! На рейд! Раскатать
остальных! — кричали кругом...
Как я верил тогда, так верю и
теперь: их бы «раскатали»!.. Но , как
было выйти на рейд, не имея паров?..
Блестящий, единственный за всю
кампанию момент — был упущен... По
поводу этой, фотографически точно
записанной сценки казенные историки
заявляли, что легко было неразумной
толпе на «Диане» кричать: «Раскатать
остальных!» — но на деле выполнить
это было невозможно. Посмотрим. По
японским сведениям, в тот день в виду
Порт-Артура, в расстоянии 10 миль
проходили в строю кильватера
броненосцы «Хацусе», «Ясима» и «Сикиси-
ма» и легкие крейсера: «Кассаги» и
«Тацута». «Хацусе» пошел ко дну через
50 с после того, как наткнулся на мину;
«Ясима», также наткнувшийся на мину,
с трудом держался на воде (не дошел
до Японии, затонул по дороге);
оставались один броненосец и два легких
крейсера, хлопотавших около подбитого,
почти погибающего «Ясима». Мы имели в
то время: вполне исправные «Пересвет»
и «Полтаву», а также «Севастополь»,
хотя и поврежденный во время учебных
эволюции 27 февраля, но
способный к выходу в море, что было
им доказано 5 и 28 марта; затем
крейсера — броненосный «Баян»,
легкие «Аскольд», «Паллада», «Диана» и
«Новик» — четыре канонерки и два
отряда миноносцев. Решительно
утверждаю, что если бы эти силы были в
полкой готовности и в 11 ч утра 2 мая
вышли бы на внешний рейд, то остальных
«раскатали бы»!..
Видимо, однако, высшее начальство в
Порт-Артуре так изуверилось в
возможности и какой-либо удачи или... до такой
степени проникнуто было свыше
внушенной идеей, что мы отныне из
гавани ни ногой, вплоть до
проблематического прибытия подкреплений из России,
что не только вся эскадра не была
готова к выходу, но даже и в самый момент
катастрофы не было отдано приказания
разводить пары, а между тем, из
броненосцев — «Пересвет», а крейсера в
полном составе имели водотрубные
котлы и могли быть готовы к бою через
полчаса. Только в конце первого часа
пополудни высланы были в море
миноносцы с целью беспокоить, а если
возможно, то и атаковать неприятеля и
крейсерам был сделан сигнал
«разводить пары»... Но было уже поздно. На
прикрытие поврежденного броненосца
подошли броненосные крейсера: наши
миноносцы были ими легко отогнаны, а
90
к тому моменту, когда мы могли бы
выйти в море, от японцев на горизонте
даже и дымков не осталось...
Этот промах подействовал на эскадру
хуже всех потерь. Все как-то сразу ре:
шили, что больше ждать нечего. Такого
упадка духа я никогда еще не наблюдал.
Правда, потом настроение опять
окрепло, но это уже было на почве
решимости драться во всяком случае и во
всякой обстановке, как придется, словно
«на зло» кому-то...
Как раз в этот день десантная армия
японцеЕ окончательно отрезала
П.-Артур. Что было бы с ней, если бы мы, не
говорю — уничтожили, но хотя бы
разбили и прогнали спутавшуюся,
растерявшуюся эскадру, истребили транспортный
флот, сожгли и разрушили, под
прикрытием наших орудий, запасы,
выгруженные в Бицзыво?..
3 мая — слухи о незначительных
столкновениях к северу от Кинь-Чжоу.
Наши только задерживали и отступали
на свою «неприступную» позицию на
перешейке.
4 мая — по сигналу два раза
разводили пары и два раза их прекращали.
В результате — выходил в море только
«Новик» с миноносцами. Скоро
вернулись. Что делали — осталось мне
неизвестным. 5 мая посылали «Амур»
ставить мины также и на дороге из Талиен-
вана в Артур против бухточки так
называемого «курорта» города Дальнего.
В прикрытие ходили «Новик» с
миноносцами, а когда появились «собачки»,
то вышел в подкрепление «Аскольд».
Была незначительная перестрелка.
Предприятие, очевидно, в будущем успеха
иметь не могло, так как японцы видели,
в чем дело.
В начале мая мы принялись особенно
усердно тралить рейд, очищая его от
мин, набросанных японцами, а японцы,
с своей стороны прилагали все усилия,
чтобы набросать вдвое больше против
того, что мы выловим. Так, в ночь на 7
мая пришли три небольших парохода
и занялись своим делом. Крепостные
прожекторы их осветили; батареи и
канонерские лодки, стоящие в проходе,
обстреливали их около получаса;
хвалились, что один взорвался, а в
результате — утром катера, вышедшие для
траления, подобрали около 40 деревянных
стеллажей, плававших на поверхности.
Очевидно, по числу сброшенных мин.
Но этих последних выловили всего пять.
Неутешительно!..
Ввиду такой развязности неприятеля
решено было одну из лодок в проходе
заменить крейсером. (Ставить дежурный
крейсер на рейд, как было при
Макарове, все еще не решались—ведь это
было отменено самим Наместником!)
Первая очередь досталась нам, и вечером
8 мая мы уже стояли в прохопе. на
бочках, под берегом Тигрового Хвоста.
Очевидно, японцы из нашего
бездействия при катастрофе 2 мая и в
последующие дни вынесли убеждение о
полной нашей благонадежности и
безвредности и почти негелю вовсе не
показывались на горизонте. Тем временем
сила решений, изложенных в «великой
хартии», понемногу распространялась и
на суда, вовсе неповрежденные, вполне
готовые к бою. С «Дианы» сняли и
увезли на позицию при Цзинь-Чжоу один
прожектор, а с ним вместе — 1
мичмана, 2 минеров, 2 минных машинистов
и 2 кочегаров.
11 мая кают-компания «Дианы» была
близка к открытому возмущению.
«Господа офицеры» бранились самыми
нехорошими словами...
— Не позволим! Не допустим! Силой
помешаем! — кричала расходившаяся
молодежь...
Дело заключалось в том,.что
инженеры обещали закончить исправление
«Ретвизана» к 20 мая, — и вот прошел
слух, что для пополнения его средней и
мелкой артиллерии, снятой на форты,
собираются разоружить «Диану» или
«Палладу...»
С 8 мая у нас был новый командир.
Старый получил повышение — был
назначен командовать «Цесаревичем». Я
доложил «новому» о настроении
личного состава, причем не скрыл,
что в душе ему сочувствую,
хотя, конечно, готов исполнить всякое
приказание начальства. Велико было мое
удовольствие, когда он ничем не
выразил своего удивления по поводу моего
доклада и, равнодушно пощипывая свою
бородку, остриженную a la pointe,
заявил почти добродушно: «Чего они
там шумят? Хотел бы я посмотреть,
кто это разоружит «Диану»? Кажется,
еще нет такого человека...» — И это
было сказано с таким убеждением, что,
вернувшись в кают-компанию, я
категорически заявил: «Господа! все это —
вздор! Никакого разоружения не §^дет!»
Все поверили. Спокойствие
восстановилось.
12 мая японцы начали свое
наступление на позицию у Цзинь-Чжоу — ключ
Квантунского полуострова. С утра от
нас требовали все больше и больше
людей для перевозки на станцию железной
дороги орудий и боевых припасов. Из
общего (сокращенного) числа команды
(456 человек) у меня было в расходе —
283. К вечеру разыгралась гроза,
сопровождаемая неистовым, чисто
тропическим, ливнем...
Утром 13 мая узнали, что гроза
наделала немало бед на сухопутном фронте:
большинство заложенных фугасов либо
взорвались, либо были приведены в
негодность. Впоследствии их начали
снабжать громоотводами-предохранителями,
но тогда это обстоятельство явилось
полной неожиданностью. К рассвету
приказано было сигналом «Полтаве»,
«Пересвету», всем крейсерам, «Амуру»
и миноносцам развести пары. Вероятно,
нас хотели послать на поддержку
полевых войск, защищавших перешеек. Еще
с вечера (12 мая) собирались отправить
в Талиенван все канонерки, но... пошел
только один «Бобр». Остальные,
благодушно производили какке-то работы в
котлах и машинах и вовсе не были
готовы к походу. Командиров сменили, ко
эта запоздалая и, по существу, неспра-
91
ведливая строгость все же не помогла
делу...
Утром 13 мая «Бобр», счастливо
миновав минные заграждения, появился в
северо-восточной части Талиенванского
залива и начал оттуда громить японцев,
наседавших на наш правый фланг. Те
отступили с огромными потерями. У нас,
в Артуре, на мачте Золотой горы в 11
часов утра был поднят сигнал: «Флот
извещается, что атака неприятеля
отбита. «Бобр» действовал блистательно».
Многим, однако же, казалось
странным, что «Бобр» в тот же день,
засветло, вернулся в Артур, покинув
(несомненно, по распоряжению свыше)
позицию, на которой принес такую пользу...
Почему, наоборот, не послали в помощь
ему «Гремящий», «Отважный»,
«Гиляк», уже собравшие свои машины и
готовые к походу? Почему отставили
экспедицию крейсеров и ' миноносцев,
стоявших под парами?.. По сведениям,
проникавшим на эскадру, знали, что
бой был жаркий, что наши полевые
войска дрались блестяще, но подошли
японские канонерки и начали наш левый
фланг разделывать. Можно сказать,
прямо срыли все наши «усиленные
профили». В результате, как известно,
генерал Фок приказал за ночь очистить
позицию... Отступление было совершенно
неподготовлено, так как на перешейке
собирались держаться недели две,
месяц, даже более!.. Следствием явилась
полная неурядица. Войска, только что
геройски отражавшие атаки
превосходных сил противника, отходили назад в
беспорядке, словно после поражения.
В ту же ночь, словно спохватившись,
послали первый отряд миноносцев
к западу от перешейка, чтобы атаковать
японские канонерки, помогавшие
наступлению правого крыла японской армии.
Экспедиция закончилась крайне
неудачно. Канонерок, конечно, не нашли
(явно, что на ночь они ушли в хморе), а,
разыскивая их среди островов,
миноносец «Внушительный» вылетел на камни,
и его пришлось взорвать, чтобы он не
достался в руки неприятеля... Это были
дни лихорадки, томительной
неизвестности, самых разноречивых слухов — то о
победе, то о поражении...
Я обещал моим читателям, что буду
стараться с фотографической точностью
передавать те впечатления, те
настроения, которые мы переживали за эти
роковые дни. Именно за эти дни в моем
дневнике записаны (часто в несколько
приемов за сутки) только отдельные,
отрывочные фразы, между строк которых
читается столько горьких воспоминаний,
ропота, почти... проклятий!.. Нет! — я
не берусь их комментировать!.. Вот они:
«Идти драться, а не отсиживаться!
— Бой невозможен. Силы неравны...
Так ли?.. А если и так — прорыв с
боем во Владивосток! — Говорят: бегство,
бросить своих! Ловко сказано! Прямо —
герои! — Да, не надуешь! — Кутузов,
вот решил: отдадим Москву — спасем
армию, спасем Россию! А тут —
пожертвуем эскадрой, съедем на берег,
попробуем спасти Артур!.. С виду —
самоотвержение, а на деле — все-таки
есть шанс уцелеть! На земле не тонут!
— У нас снимают две 6-дюйхмовых и
четыре 75-миллиметровых... Дрянь! Еще
не то будет!..»
«11 ч 35 мин вечера (лунная ночь).
Отряд японских миноносцев идет по
внешнему рейду с востока на запад.
Верно, пришли бросать мины. 11 ч 52
мин. «Гиляк» и другие суда в проходе
открыли огонь. Далеко — 40—50
кабельтовых. Стреляли и батареи. 12 ч
8 мин ночи. Японцы благополучно ушли.
Конечно, свое дело сделали. «В тихую,
лунную ночь...» Как на смех!.. Даже не
попробовали послать прогнать...
Водобоязнь!..»
«20 мая. — Готовилась экспедиция
крейсеров и миноносцев. Туман
помешал. Пошли в Печилийский залив
только миноносцы... Не разберешь!.. Туман
— нельзя идти — ничего не увидишь;
ясно — нельзя идти — тебя увидят
раньше времени... Да что тут!..»
«21 мая. — Миноносцы благополучно
возвратились в 8 ч утра. Ничего не
сделали, ничего не видели. Хоть все целы
— и на том спасибо! К тому же —
добрая примета — все же на что-то
«рискнули»...»
Тяжелое было время и в смысле
чисто физического труда. Особенно
доставалось крейсерам. Стоя в проходе,
каждую ночь караулили и перестреливались
с японцами, приходившими забрасывать
внешний рейд минами, причем команда
спала не раздеваясь: половинное число
прислуги у своих орудий, прочие где-
нибудь поблизости. Кроме того, день и
ночь работали над постройкой батарей,
так что из четырех отделений одно было
на работах, одно стояло вахту, одно,
только что сменившись с вахты,
собиралось идти на работу и о дно,придя с
работы, отдыхало, чтобы вступить на
вахту. Прибавьте сюда же погрузку угля,
наряд шлюпок для траления рейда.
Выдавались дни, когда люди почти валились
с ног от усталости, засыпали на ходу.
Главная наша беда, по меткому
матросскому выражению, заключалась в
том что «голова пропала»... В. К. Вит-
гефт, принявший командование
эскадрой, оказался на этом посту совершенно
случайно, единственно вследствие...
поспешного отъезда адмирала Алексеева
и неприбытия адмирала Скрыдлова.
Личная его храбрость, многократно на
деле им проявленная, стояла вне всяких
сомнений. В прошлом его сопровождала
репутация безукоризненно честного
человека и ученого работника... Но вся
почти его служба прошла на берегу.
Вступив в командование эскадрой, на
первом же собрании флагманов и
капитанов он так и заявил: «...жду от вас,
господа, не только содействия, но и
совета. Я не флотоводец...» Это было
сказано честно и прямо, но, по-моему,
лучше было бы не делать такого
заявления...
На войне единоначалие — первое
условие успеха. Без полководца может
погибнуть армия. Без флотоводца не
может существовать флот. Военные зако-
92
ны, основанные на уроках истории, не
даром так подчеркивают значение этой
единой власти, единой воли. Даже
мнение военного совета, собираемого в
критические моменты, имеет лишь
совещательное значение для единого, высшего
начальника. Этот последний может (по
закону) присоединиться к мнению не
только меньшинства, но даже к мнению
единичного лица, признав его
наилучшим, — и такое решение уже не
подлежит спору, признается окончательным.
Дальше идет уже исполнение
приказания.
В. К. Витгефт своим заявлением сам,
добровольно сложил с себя полномочия
диктатора и передал их большинству...
Но большинство?..
Мне кажется, в каждом совете есть
только один самый мужественный и
энергичный, затем (так как эти
качества по справедливости считаются особым
даром, выделяют людей из толпы)
найдутся еще несколько человек,
близких к нему; все остальные уже ниже, а
среди них.конечно,и представители
другой крайности, т. е. малодушия. Потому-
то и говорится (в статье о военном
совете), что начальник присоединяется к
наиболее мужественному решению, вне
зависимости от числа голосов, за него
поданных. У нас было иначе...
Генералы двенадцатого года не
решались покинуть Москву на произвол
неприятеля, страшась упрека всей России.
Правда, Артур не был Москвой, но
наши флагманы также не решались
покинуть его в критическую минуту,
страшась упрека со стороны своих
сухопутных товарищей... А этот упрек уже
висел в воздухе!..
Беспристрастно (и теперь уже
относительно спокойно) оглядываясь на
прошлое, нельзя не отметить, что,
несомненно, чья-то воля, в личных выгодах,
упорно внушала сухопутным мысль, что в
промахах флота виноваты не высшие
начальники, а негодный материал
(команда и офицеры), бывшие в их
распоряжении! С другой стороны — то же
внушалось морякам по отношению к
сухопутным.
' Несомненно, кому-то выгодно
было поддерживать эту смуту. Иначе
как объяснить такую явную
несообразность. В кают-компаниях судов, с
которых снимали орудия для усиления
сухопутной обороны, разыгрывались сцены
почти бунта, включительно до угроз:
развести пары и уйти в море,
отстреливаясь от крепости, если она попробует
задержать, — а в то же время на
фортах той же крепости — взрыв
негодования против моряков, которые не хотят
драться сами, отдают свои пушки на
берег, и даже... предложения: огнем
крепости артиллерии заставить эскадру
выйти в море и вступить в бой...
Что это было, как не чудовищное
недоразумение, кем-то и как-то весьма
умело посеянное между двумя
главными элементами защитников русского
дела русской чести на Дальнем Востоке?
Позже недоразумение рассеялось.
Инстинктом массы поняли, что они не
враги друг другу... Но к лучшему ли
было это пробудившееся смутное
сознание? В японцах ли они увидели своего
общего врага? Нет, в «начальстве»!..
Однако ж не буду забегать вперед,
придержусь хронологического порядка в
изложении.
Винить ли покойного Витгефта в том,
что он не родился Кутузовым? Что он
тогда же не присоединился к тем двум
голосам, которые на совете, не страшась
упрека в измене сухопутным товарищам,
требовали выхода в море и смертного
боя?.. История рассудит... Однако же
надо отдать полную справедливость,
В. К. Витгефт был строго
последователен в своем решении и, присоединяясь
на совете высших начальников к мнению
большинства, всегда готов был
прислушаться к голосу другого большинства —
всего личного состава эскадры. Это
большинство (молодое, может быть,
неопытное, неразумное, но задорное)
возмущалось навязанной ему ролью и поч*-
ти открыто роптало...
Не берусь утверждать, в силу вновь
полученных приказаний или же под
давлением эскадренного общественного
мнения, — но, во всяком случае, вскоре же
по судам распространилась весть о том,
что прежнее решение отменено, что
собираемся выйти в море, как только
закончатся исправления броьеносцев.
Весть эта была встречена с энтузиа->
мом.
От нас (с «Дианы») кроме одного
прожектора и тех пушек, о которых я уже
упоминал, были сняты еще все
37-миллиметровые и пулеметы. На других
судах было то же, и даже больше, так как
вообще снята была вся мелкая
артиллерия, а к ней причислялись и
47-миллиметровые, которых v нас не имелось
вовсе. На радостях об этом не думали.
— Бог с ними! Пусть владеют на
счастье! Авось управимся и с тем, что
есть! — говорили в кают-компании.
Энергично взялись за траление
внешнего рейда. Со своей стороны, японцы,
видимо, обратили внимание на нашу
усиленную деятельность и чуть ли не
каждую ночь приходили, взамен
выловленных нами, набрасывать новые мины.
Жаль, что не держали на рейде
дежурного крейсера — это была бы хорошая
острастка Видно, несмотря на
изолированность Порт-Артура, все еще не
хватало духу восстановить меру, принятую
Макаровым и отмененную Алексеевым.
Война войной, а как бы «он»
потом не припомнил такого
вольнодумства! Однако начали высылать в
дежурство пару миноносцев. Все-таки
что-нибудь!
В ночь с 24 на 25 мая прожекторы
обнаружили на рейде три небольших
парохода, несомненно, минные
заградители. Один утопили. Честь потопления
оспаривали между собою батарея
Крестовой горы и сторожевые миноносцы.
С 27 мая после долгого перерыва
опять начали появляться в виду Артура
яп°^ские боевые суда.
29 мая, пользуясь туманом, с ут*>а
выслали в море миноносцы: 6 — в рай-
93
он Голубиной бухты и 3 — в сторону
бухты Тахэ (к востоку); 2 — дежурили
на рейде. Все благополучно возврати-
во и влево лучами крепостных
прожекторов («Диана» была сторожевым
судном в проходе). На мостиках, на палубе,
лись утром следующего дня, но ничего • на трапах, у самой поверхности воды
не видели и ничего не сделали. /unuutn nAUM>lv "nHWQ " олтто «o^™
К этому времени наши полевые
войска отступили уже до Зеленых гор.
Дальний'был в руках неприятеля,
который (по сведениям, получаемым через
китайцев) деятельно занялся очисткой
Талиенванского залива от поставленных
нами минных заграждений,
исправлением дока, мастерских, набережных и
проч. Я забыл упомянуть, что
вследствие общей уверенности в неприступности
позиции на перешейке в Дальнем до
самого момента взятия этой позиции не
было принято никаких мер к перевозу
в Порт-Артур богатого имущества
коммерческого порта и железнодорожного
депо. Могучие динамо-машины, станки
мастерских, запасы материалов — все
это являлось прямо драгоценностью для
осажденной крепости и запертой в ней
эскадры. Даже после 14 мая с неделю
чего-то ждали. Кажется, предполагалось
укрепиться на высотах Нангалина и
здесь надолго задержать неприятеля.
Только когда эта идея была
окончательно оставлена и войска начали отходить
к Зеленым горам, в Дальнем получилось
распоряжение спасать что можно, а что
нельзя — уничтожить... Кое-что удалось
вывезти, остальное жгли, взрывали,
топили, портили, да и то ввиду спешки не
могли испортить основательно, так что
японцы без большого труда вскоре же
восстановили правильную деятельность
порта п
1 июня неприятель, ведя энергичную
атаку на Зеленые горы с фронта,
выслал берегом близ бухты Сикау под
прикрытием огня 13 своих миноносцев
обходную колонну. Из Артура вышел
«Новик» с отрядом наших миноносцер
— роли переменились, и японцы
отступили.
2 июня японцы появились на
горизонте уже не одиночными судами, а
отрядом 2 броненосных крейсера, 2 легких
и 12 миноносцев. Ждали прихода всей
эскадры.
— Неудивительно! — ворчали
некоторые.— Японцы не дети! Принимают
свГои меры... Еще бы! Когда мы на весь
свет публикуем о ходе работ на
броненосцах, о том, что мы вовсе не заперты,
что мы вот-вот их раскатаем... А сами
сидим и нос высунуть не решаемся...
Дождемся всей компании!..
Вечером 2 июня произошел
загадочный случай, так и оставшийся
неразъясненным. (Японцы умеют молчать о
своих промахах).
После жаркого дня (в тени -f 20° R) я
вместе со старшим артиллеристом стоял
на верхнем переднем мостике «Дианы»,
наслаждаясь прохладой и в то же
время зорко вглядываясь во тьму ночи,
прорезанную медленно двигающимися впра-
11 Сообщали, что крейсер «Чийода»,
наткнувшийся на мину в июле, исправлял свои
повреждения в доке Дальнего при посредстве
его же мастерских.
(Продолжение следует)
(ночью понизу, ближе к воде, часто
виднее, чем сверху) расположились
сигнальщики и особо выбранные из среды
команды «глазастые», как их называли
матросы. При облачном небе — ни
звезд, ни луны — тишина полная.
Даже зыби нет, не слышно ее шороха
среди камней и на прибрежных отмелях.
Вдруг (померещилось или нет?)
далеко к югу как будто что-то блеснуло...
(Нет! не померещилось!) Вот донесся
глухой раскат отдаленного взрыва... вот
в том же направлении зажглись
прожекторы, и их беловатые лучи,
протянувшись во тьму словно щупальца
сказочного зверя беспокойно зашевелились,
ища чего-то... вот под ними замелькали
характерные зеленовато-золотистые
огоньки, и до нас долетел прерывистый
рокот частой орудийной стрельбы.
Так продолжалось минут 10 — 15,
затем снова наступили мрак и тишина.
Я взглянул на часы — было 10 ч 50
мин вечера.
Разумеется, с первого же момента все
население «Дианы» было на своих
местах, как по тревоге.
— Это не могут быть
наши?—спросил артиллерист.
—• Нет! — категорически ответил я.
Мы стояли сторожевым крейсером, и
без нашего ведома никто не мог выйти
в море.
— Ну, значит, своя своих...
Расстояние было на глаз миль 10,
т. е. как раз любимое место прогулки
японцев. Но что случилось? На этот
вопрос могло быть два одинаково
вероятных ответа: или кто-нибудь из
японцев наткнулся на мину, после чего
произошла беспорядочная стрельба по воде.
или японский миноносец по ошибке
атаковал свой же корабль.
Не следующий день, 3 июня, японцев
вовсе не было видно. Пользуясь этим
обстоятельством, «Амур» ходил ставить
мины по западную сторону Квантуна.
4 июня вернулся в Артур миноносец
«Лейтенант Бураков», который
посылали в Инкоу. Едва не попал в лапы
японским крейсерам. Уцелел благодаря
ненастной погоде, а главное —
благодаря своему ходу.
Какая горькая ирония! Лучшим, т. е.
самым исправным и быстроходным
нашим миноносцем, оказывался
«Лейтенант Бураков», забранный нами у
китайцев при взятии Таку и построенный по
их заказу в Германии более десяти лет
тому назад!.. Он был единственный
годный для такого поручения, как прорыв
блокады...
Тем временем наши полевые войска,
задерживаясь на промежуточных
позициях, медленно отступали к Артуру.
5 июня «Отважный» .«Гремящий»,
«Новик» и 4 миноносца ходили в море
к бухте Меланхэ, чтобы своим огнем
воспрепятствовать наступлению левого
фланга неприятеля.
94
Из летописи отечественного кораблестроения
КРЕЙСЕРСКАЯ ПРОГРАММА
ВНАЧАЛЕ 1871 г. генерал-адмирал Константин Николаевич поручил
Кораблестроительному отделению Морского Технического Комитета
«проектировать чертежи винтового неброненосного клипера для океанского крейсерства,
придерживаясь типа клиперов «Абрек» и «Всадник». Корпус клипера должен
быть железный, с деревянной наружной обшивкой в подводной части; машину
проектировать со всеми усовершенствованиями системы, которая доставляла бы
наибольшую экономию в топливе». Над проектом работали быстро. Уже к концу
года чертежи были одобрены генерал-адмиралом. Планировалось построить
серию из восьми клиперов (ТТЭ см. на 3-й странице обложки). Головному
кораблю дали название «Крейсер», а остальным «Джигит», «Разбойник»,
«Стрелок», «Наездник», «Пластун», «Вестник» и «Опричник». Кстати, с введением
в российском флоте в 1892 г. первой официальной классификации
корабельного состава все клипера были отнесены к крейсерам 2 ранга.
«Крейсер» заложили в 1873 г. в Петербурге и после спуска его на воду
в 1875 г. перевели в Кронштадт для достройки на плаву. Однако машина для
него не была изготовлена своевременно, и чтобы клипер не остался на всю зиму
в Кронштадте, его отбуксировали в Ревель. На ходовые испытания «Крейсер»
вышел только в навигацию 1876 г. Конструктивные недоработки главной
машины не позволили клиперу давать ход более 8 уз (по проекту — 12 уз).
Клипер «Джигит» спустили на воду в 1876 г. Машину для него делали
уже с учетом недостатков, выявленных на «Крейсере», и на ходовых
испытаниях он развил скорость 11 уз, а клипер «Разбойник» — 12,5 уз. Эти два
корабля участвовали в русско-японской войне и в 1905 г. были затоплены в Порт-
Артуре перед сдачей крепости противнику.
Корпуса клиперов «НаезДник», «Пластун», «Вестник» и «Опричник» в
отличие от предыдущих (чисто металлических) были построены по смешанной
системе, с металлическим набором корпуса и деревянной наружной обшивкой.
При постройке корпуса «Вестника» впервые в русском судостроении частичло
была применена сталь. Контр-адмирал А. Попов так объяснял преимущества
смешанной системы:
«1. Вследствие замены железной обшивки деревянною потребуется
меньше железа для постройки корпуса, через что уменьшится стоимость постройки.
2. При тех же размерах и одинаковой форме подводной части судна вес
его корпуса будет меньше, что даст возможность брать топлива на 7 суток
полного действия машины, вместо 5 и трех четвертей суток, как рассчитано
для клипера «Крейсер». Кроме того, можно будет взять морской провизии*на
4 месяца и воды на две недели, и при всем этом скорость хода судна не
будет менее 12 узлов, как было вы численно для «Крейсера».
Кораблестроительное отделение одобрило эти соображения.
В изданной в 1880 г. книге «История корабля» Н. Боголюбов так
описывает клипера «Вестник» и «Опричник»: «Наборные члены: внутренний киль,
боковые стрингеры, поперечные переборки и вообще все главнейшие внутрен-
Крсйсер «Забияка»: водоизмещение 1200 г; дл*на 67,1 м; осадка 3,66 м; сооружение:
2x152 мм; 4x9 фн. орудия и скорострельное пушки Пальмкранца
95
ние связи, кроме шпангоутов, стальные, шпангоуты — железные. В носу и
корме, для надлежащего скрепления оконечностей, под тиковой обшивкой
положена стальная: штевни и киль из дерева, первый из дуба, а последний из тика,
фальшкиль из лиственницы. Подводная часть обшита листами из медного
сплава. Настилка палубная, бортовая обшивка и настилка полубака (крытый) —
сосновые. Планширь, светлые люки, кнехты, бимсы из красного дерева».
С постройкой этих клиперов была выполнена так называемая
«Крейсерская программа» Морского министерства.
В дополнение к кораблям отечественной постройки для возможных
крейсерских операций было решено приобрести в Северной Америке несколько
коммерческих пароходов с последующей переделкой их в крейсера. В апреле 1878
г. из Балтийского порта на зафрахтованном пароходе «Цимбрия» в Америку
отправили команду в составе 66 офицеров, 606 матросов и унтер-офицеров для
укомплектования будущих российских крейсеров. Возглавил эту экспедицию
капитан-лейтенант Л. Семечкин.
Первым приобрели .в 1878 г. пароход «Стейт оф Калифорния»
(переименован в крейсер «Европа»). Его водоизмещение — 3160 т, длина — 93,6 м,
ширина — 11,3 м и углубление — 4,88 м, скорость 13,6 уз. В ходе переделок
увеличили число водонепроницаемых переборок, установили более мощные
водоотливные средства, оборудовали крюйт-камеры, бомбовые погреба,
помещения для провизии и т. д. На корабле имелось и парусное вооружение. Запасы
угля позволяли 10-узловым ходом совершить переход на 14 тыс. миль. Летом
1879 г. крейсер «Европа» прибыл в Кронштадт, где на нем установили три
152-мм нарезных орудия, 221-мм мортиру и четыре 9-фунтовые пушки.
Вторым приобрели пароход «Колумбус» (впоследствии крейсер «Азия»),
который тоже имел клиперский рангоут. Третий, крейсер «Африка», бывший
американский пароход «Саратога», после покупки перевели на верфь Крампа
в Филадельфию, где он подвергся значительным переделкам.
Кроме того, на этой верфи по заказу России построили крейсер «Забияка».
Интересно, что за невыполнение заданных параметров по скорости и осадке
американские строители по условиям договора выплатили нам штраф 122 тыс.
долларов, почти половину стоимости крейсера. В начале июля 1879 г.
«Забияка» вышел из Америки в Россию. В Английском канале на него налетел
английский пароход и снес ему почти всю корму. Только через два месяца крейсер
прибыл в Кронштадт. Здесь на нем установили два 152-мм орудия, четыре
9-фунтовые пушки и четыре скорострельные пушки Пальмкранца.
Таким образом, менее чем за десять лет в России появилось 12 крейсеров,
а в целом к 1880 г. в России по существу был создан флот береговой
обороны, а также мореходный броненосный и крейсерский флоты. Каждый из них
отражал определенную идею, однако в целом морские силы России были
разнотипными и их совместное использование было проблематичным.
Капитан 1 ранга В. ДОЦЕНКО,
кандидат исторических наук
На 4-й странице обложки
изображен линейный
корабль «Три Иерарха» или
«Трех Иерархов: Петра,
Алексея, Ионы...» (рис. А.
Карелова).
У этого типа военных
судов большая история. В
мае 1715 г. вошел в строи
линейный корабль «Ингер-
манланд», построенный по
чертежам Петра I
корабельным мастером Ричардом
Козенцем, внесшим немало
технических новинок в
конструкцию корабля. Проект
оказался настолько УД*4/
ным, что этот тип 64 — 66-
пушечного линейного
корабля с незначительными
изменениями просуществовал
на российском флоте без
малого 70 лет. За это
время было построено свыше
60 кораблей.
«Три Иерарха» заложили
13 ноября 1763 г. на Санкт-
Петербургской верфи.
Строился под наблюдением и
при участии известного
русского корабельного мастера
той поры Потапа Качалова.
Длина 46,5 м, ширина
12,3, глубина интрюма 5,4 м.
Спущен на воду 13 июня
1766 г. Вооружение состояло
из 66 так называемых «шу-
валовских» 30- и
12-фунтовых единорогов, еще не
использовавшихся в
европейских флотах, но введенных
в отечественном флоте и
обладавших большой
разрушительной силой.
По воспоминаниям
современников, «Три Иерарха»
отличался строгой
пропорциональностью рангоута и
такелажа, придававшей
кораблю стройность и
легкость. Он имел высокие
мореходные качества,
остойчивость и маневренность.
При свежем ветре развивал
8 уз — значительную по
тем временам скорость.
Экипаж корабля активно
сражался с неприятелем в
период русско-турецкой
воины 1768 — 1774 гг.
...18 июля 1769 г. в
составе эскадры адмирала Г.
Спиридова покинул
Кронштадт и совершил первый
дальний поход в истории
российского флота в
Средиземное море. Здесь под
командованием
капитан-бригадира С. Грейга вошел в
отряд кораблей Архипелагской
экспедиции. Под
руководством «верховного
командира» графа А. Орлова «Три
Иерарха», на котором
развевался кайзер-флаг
командующего, 24 июня 1770 г.
принял участие в сражении
в Хиосском проливе, в
результате чего весь
турецкий флот оказался
заблокированным в Чесменской
бухте. На следующий день
вместе с кораблем
«Святослав», бомбардирским
кораблем «Гром» и
пакетботом «Почтальон» вел
интенсивный артиллерийский
огонь по вражеским судам,
укрывшимся в бухте.
Длительный обстрел
деморализовал противника и
подготовил условия для
нанесения основного
«генерального удара».
В ночь на 26 июня в
Чесменском сражении
турецкий флот был
уничтожен.
Оценивая победу при Чес-
ме, воздавая должное
мужеству и героизму
экипажей кораблей, адмирал Г.
Спиридов с радостью и
гордостью доносил о победе в
Адмиралтейств - коллегию:
«Честь Всероссийскому
флоту! С 25 на 26
неприятельский военный флот
атаковали, разбили, разломали,
сожгли, на небо пустили,
потопили и в пепел
обратили... а сами стали быть во
всем Архипелаге
господствующими».
Корабль «Три Иерарха»
нес службу в
Средиземноморье до 1775 г., а затем
был исключен из списков
и разобран.
96