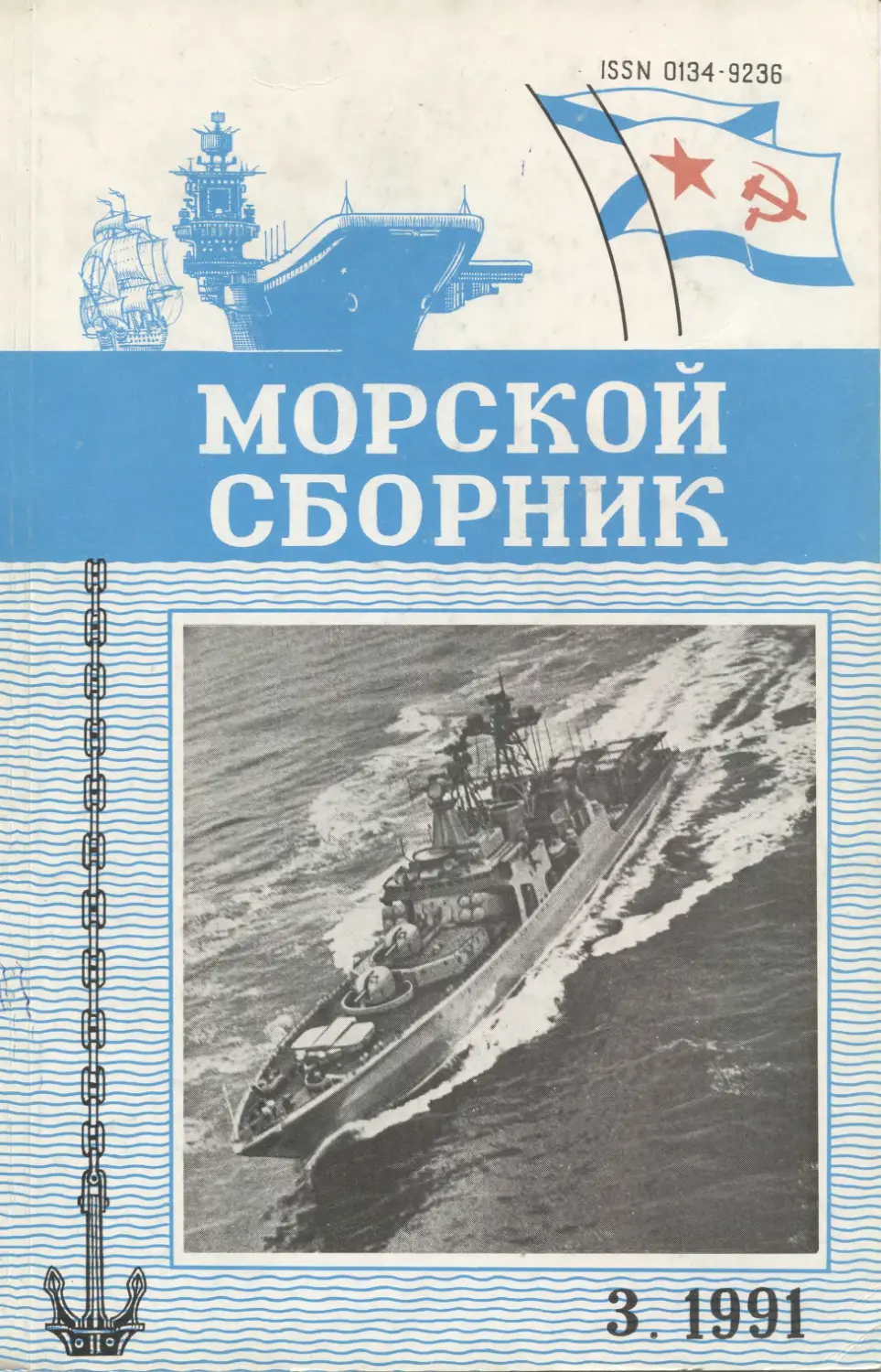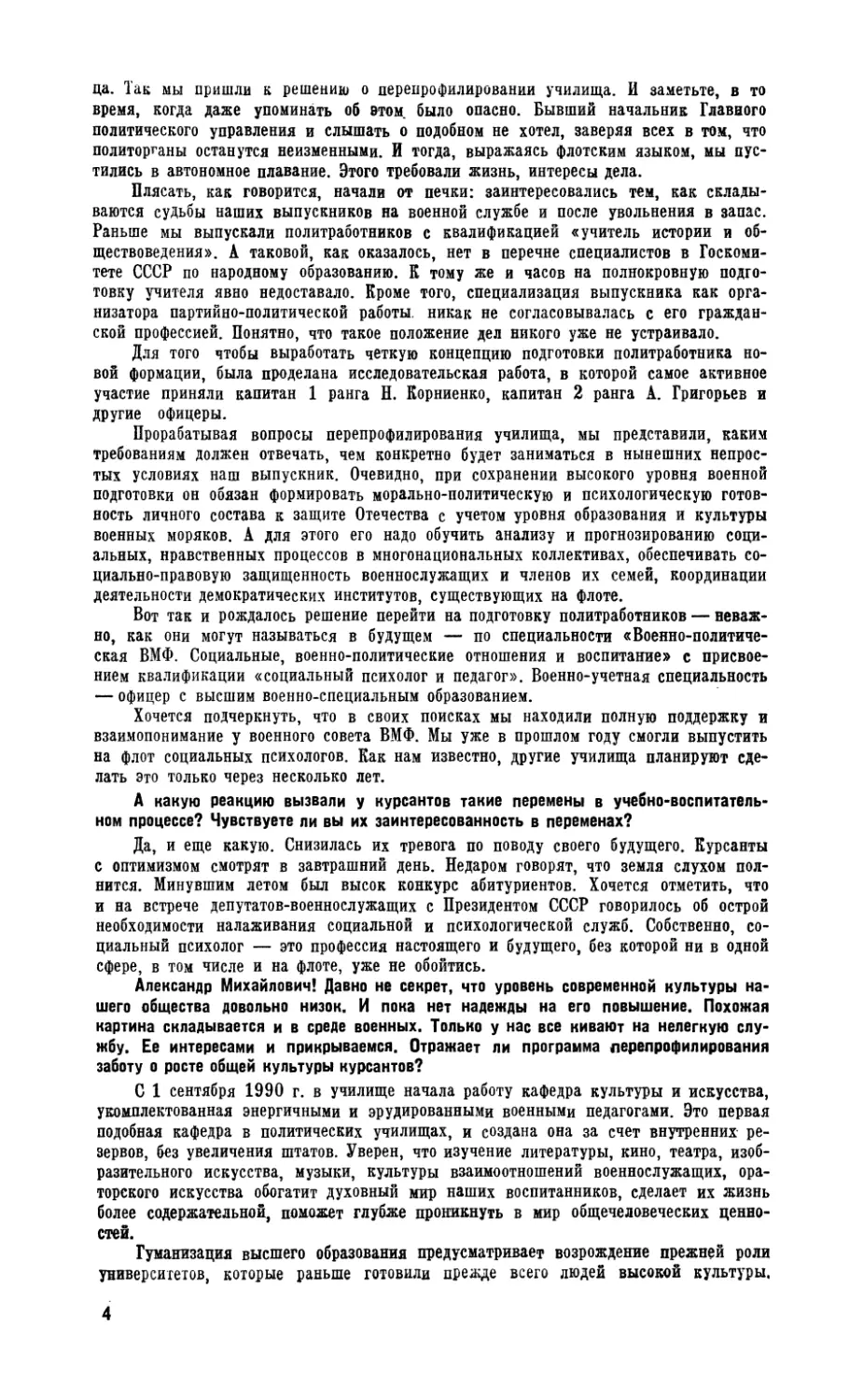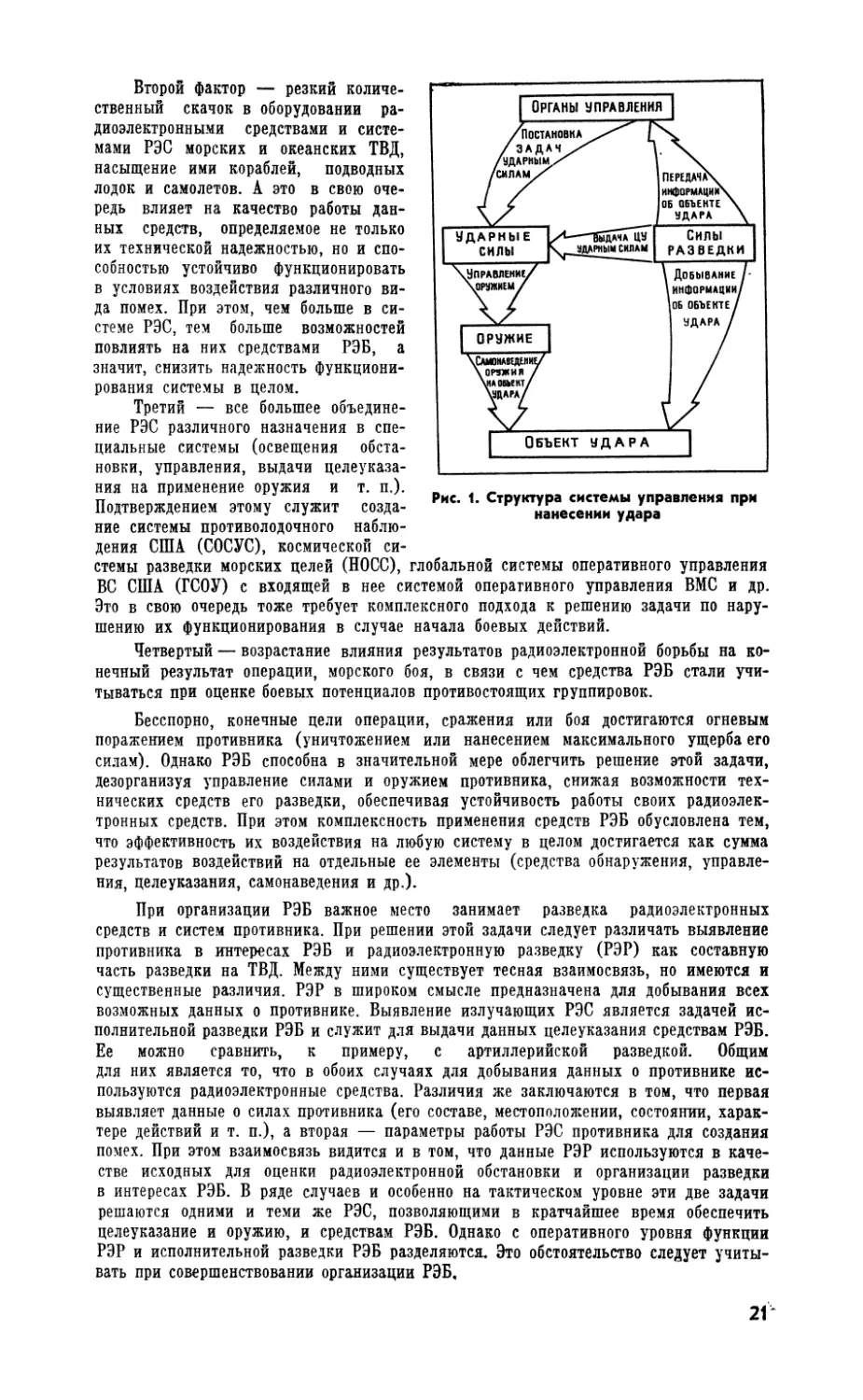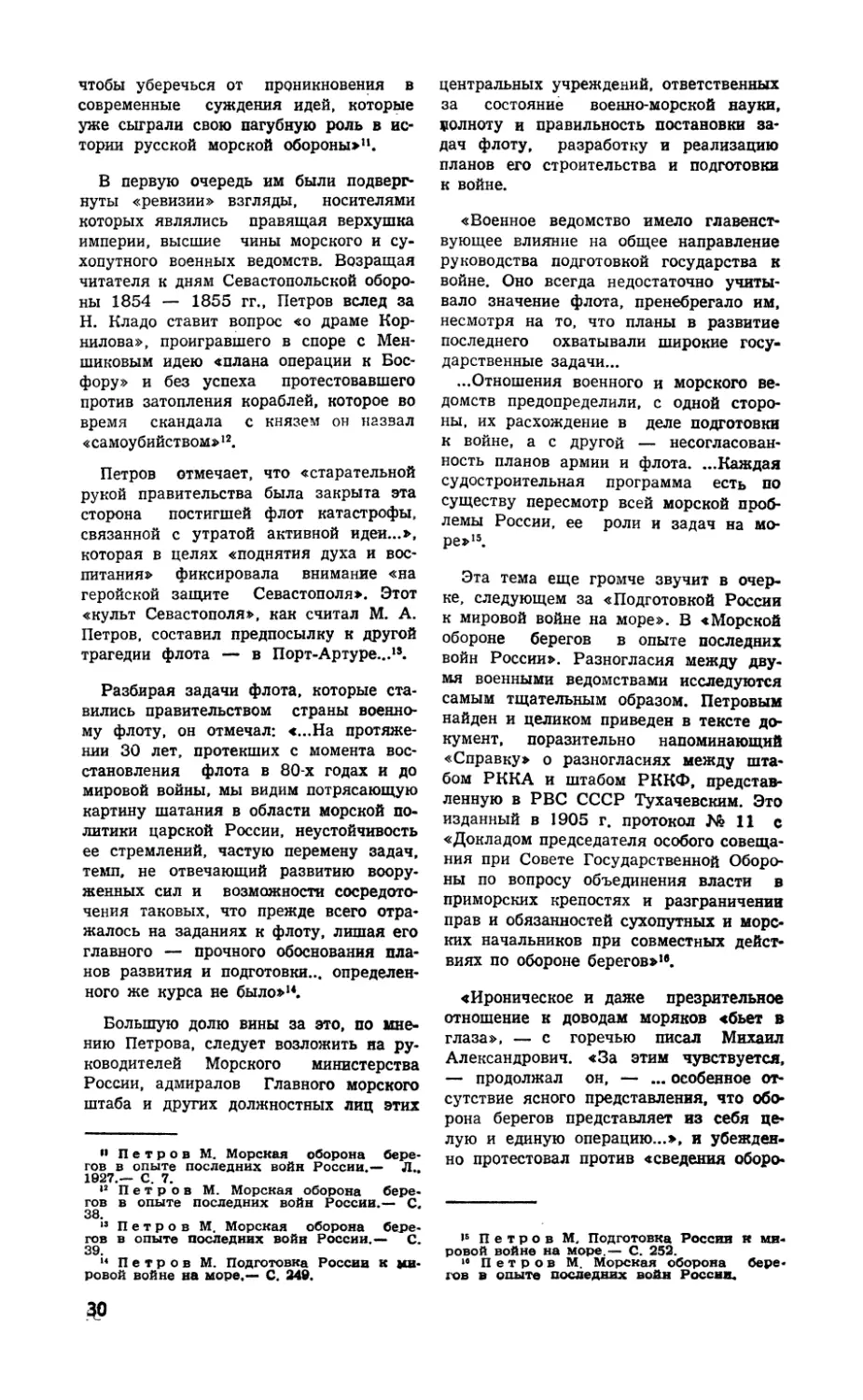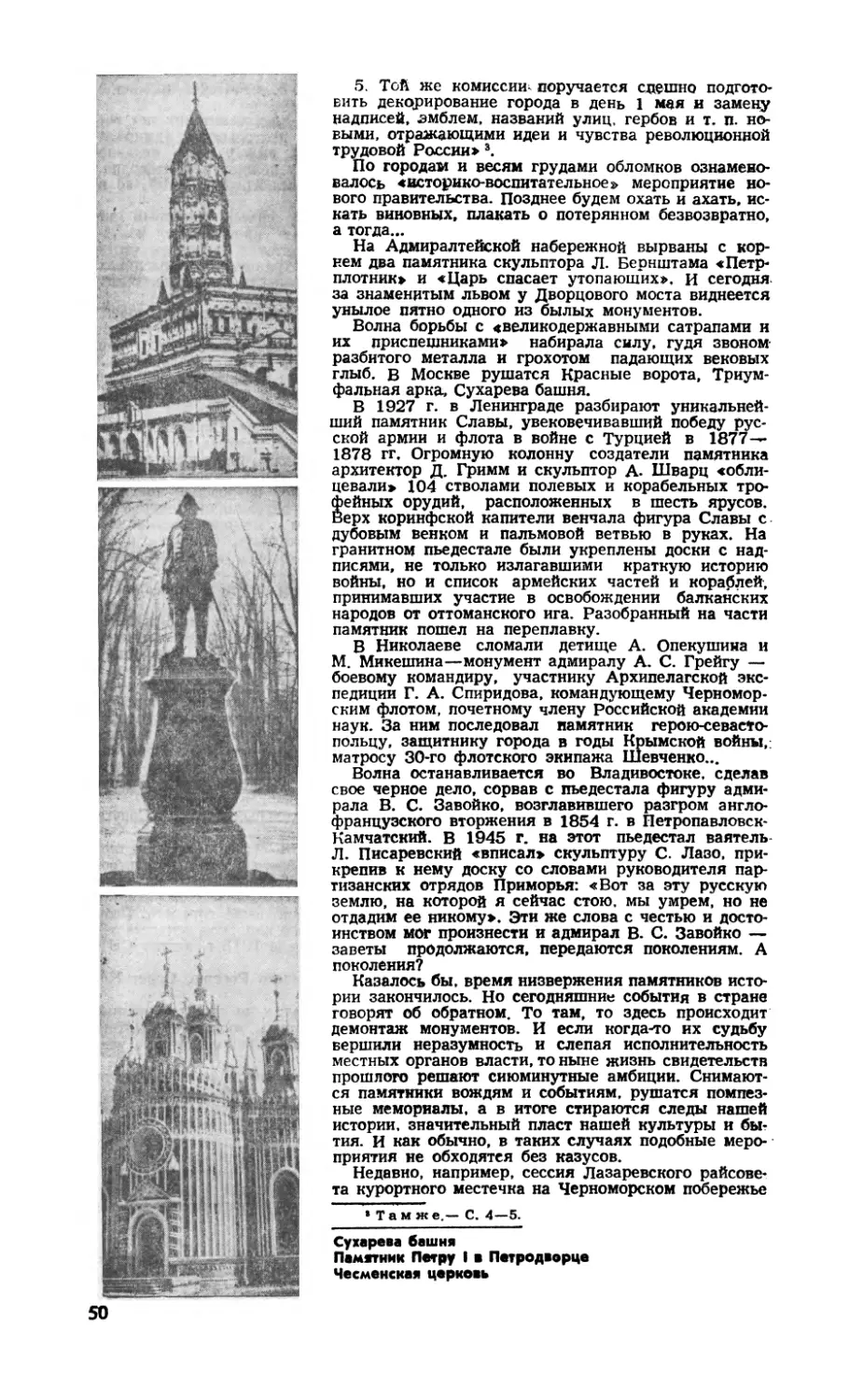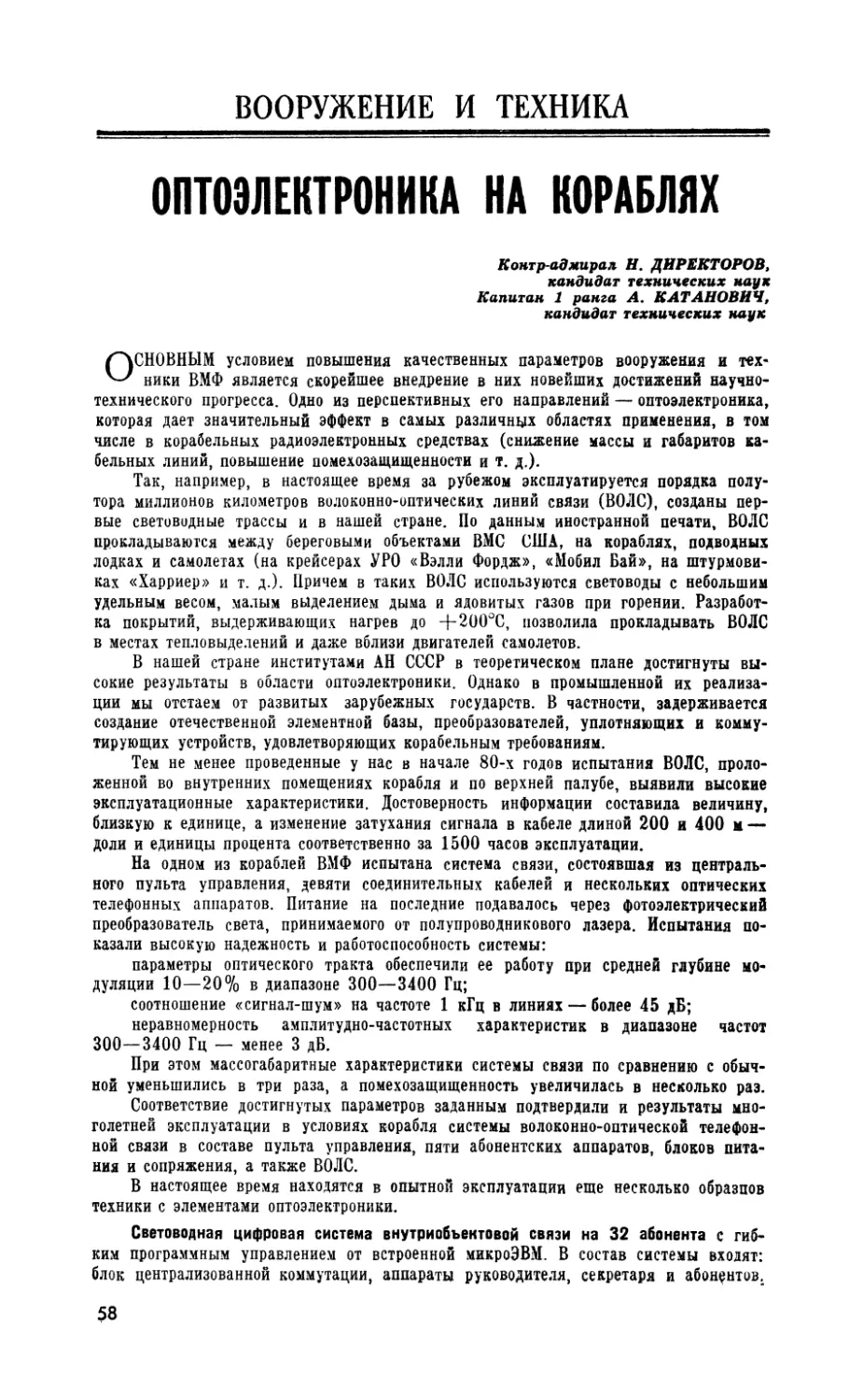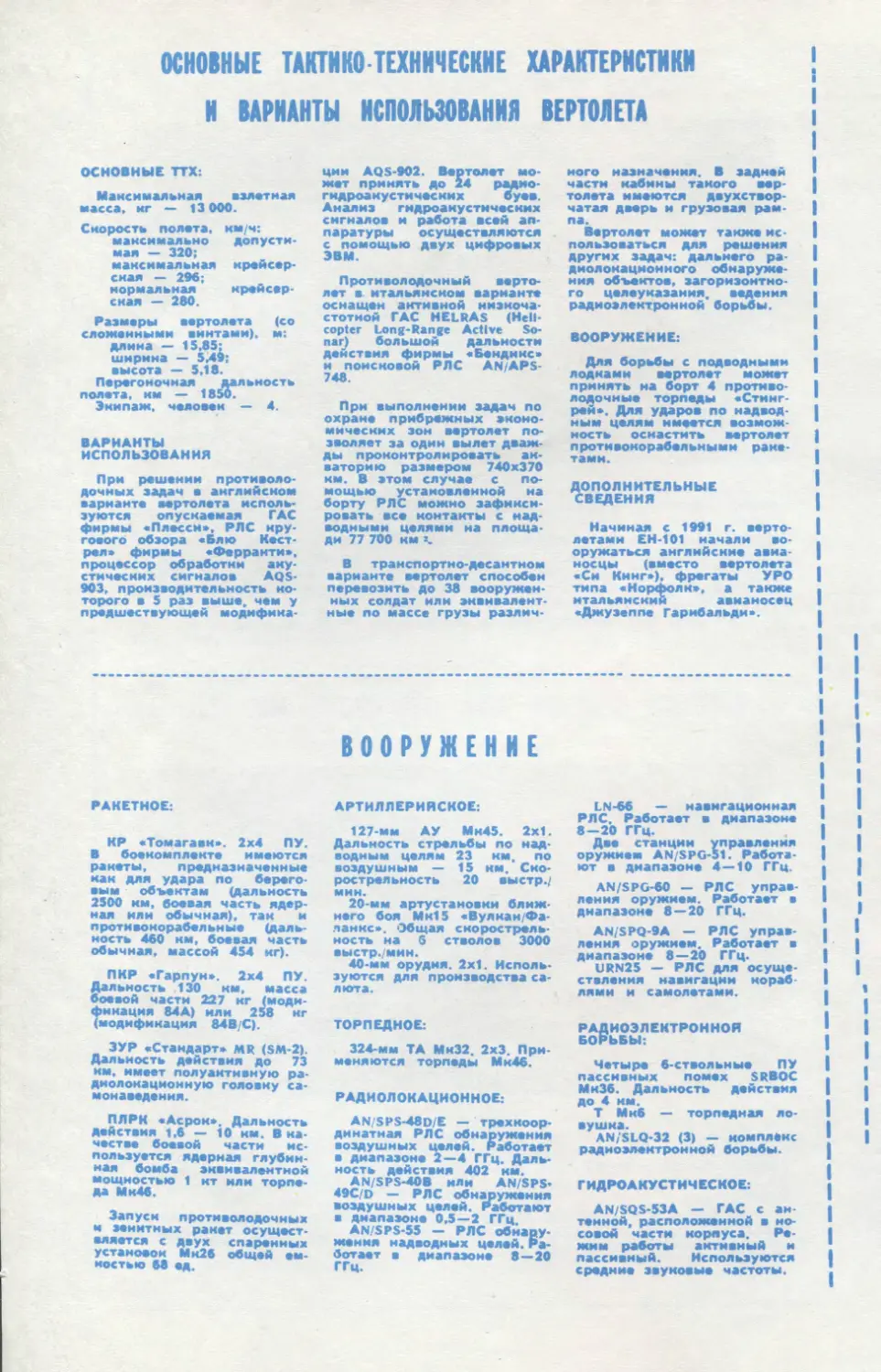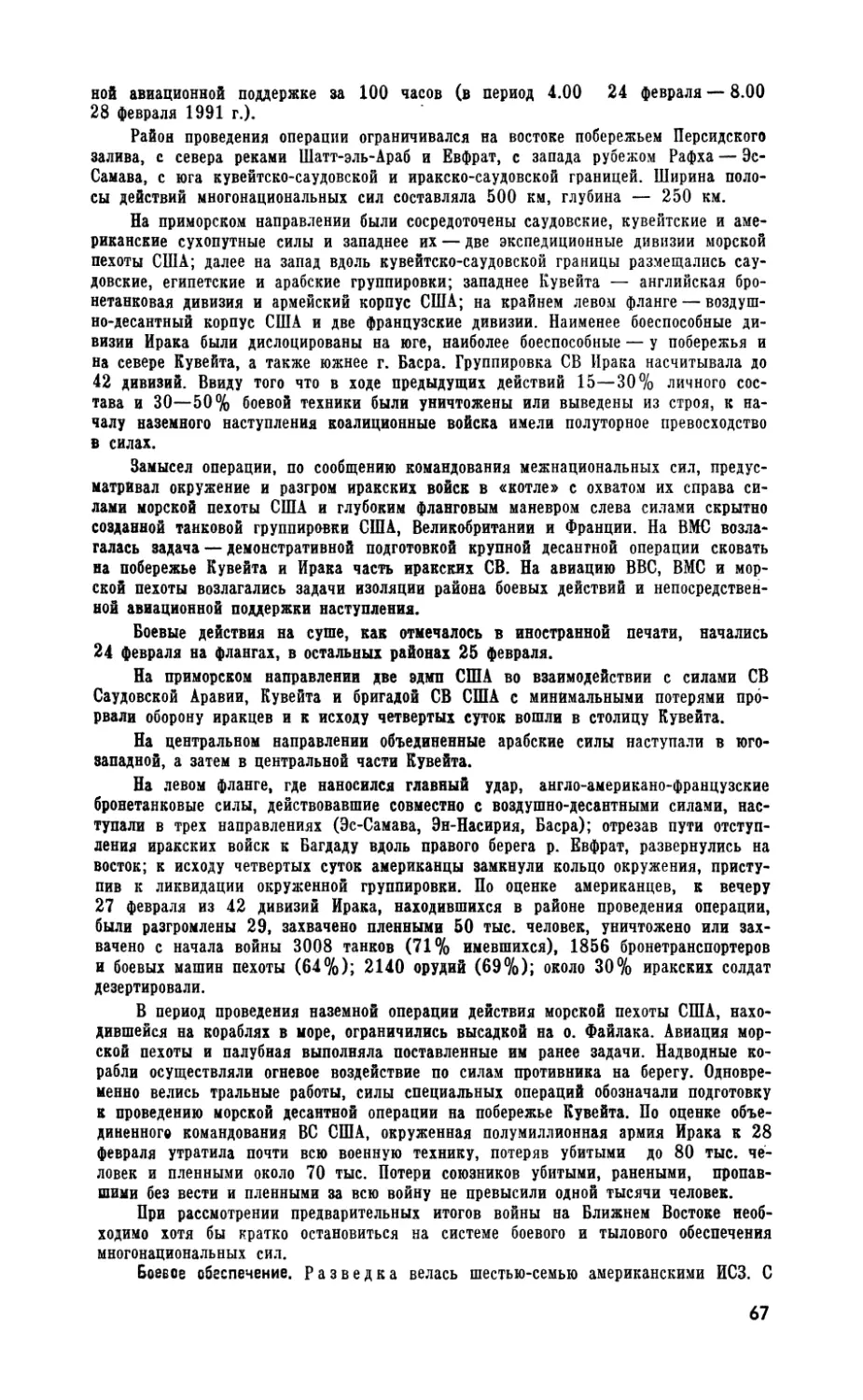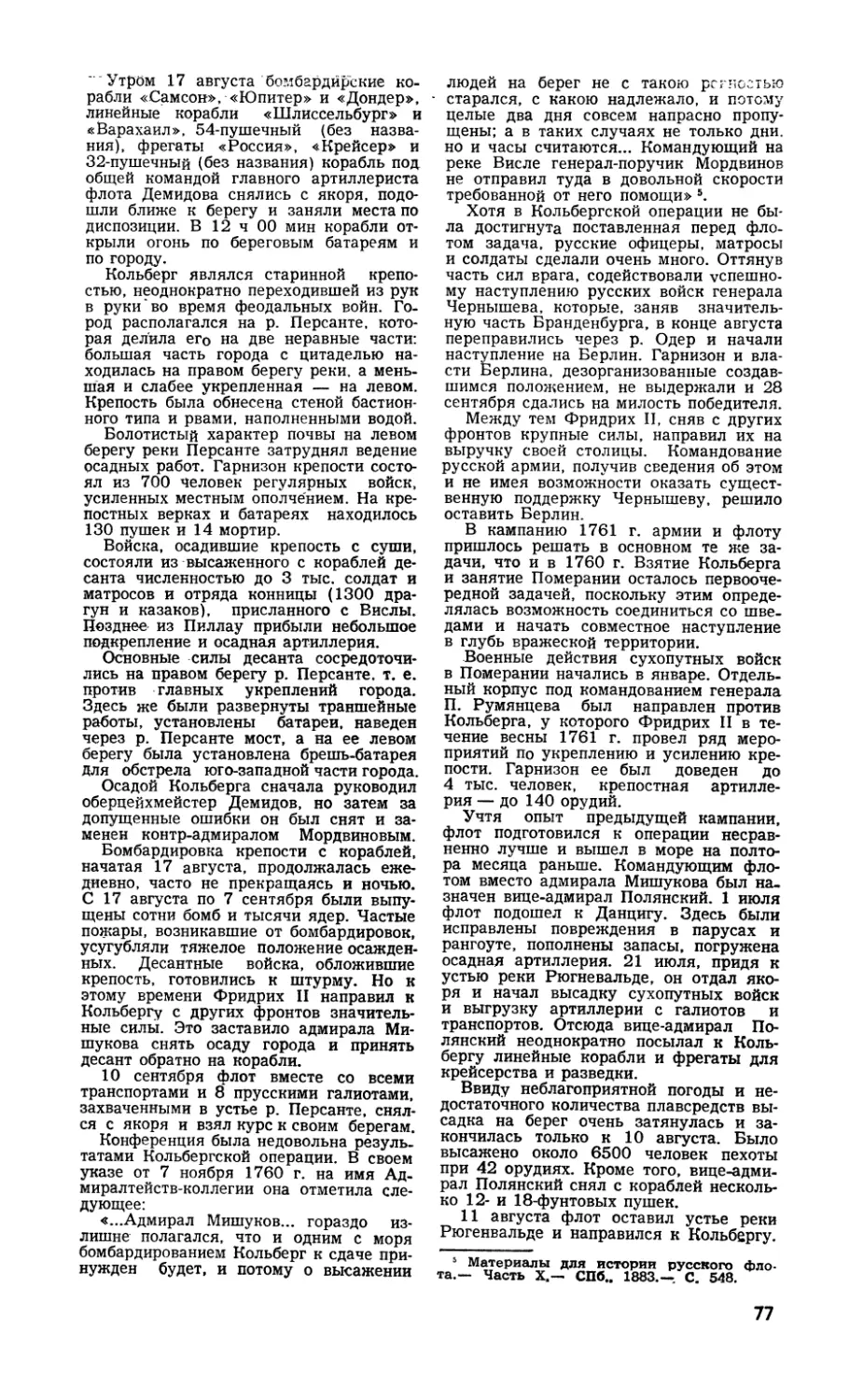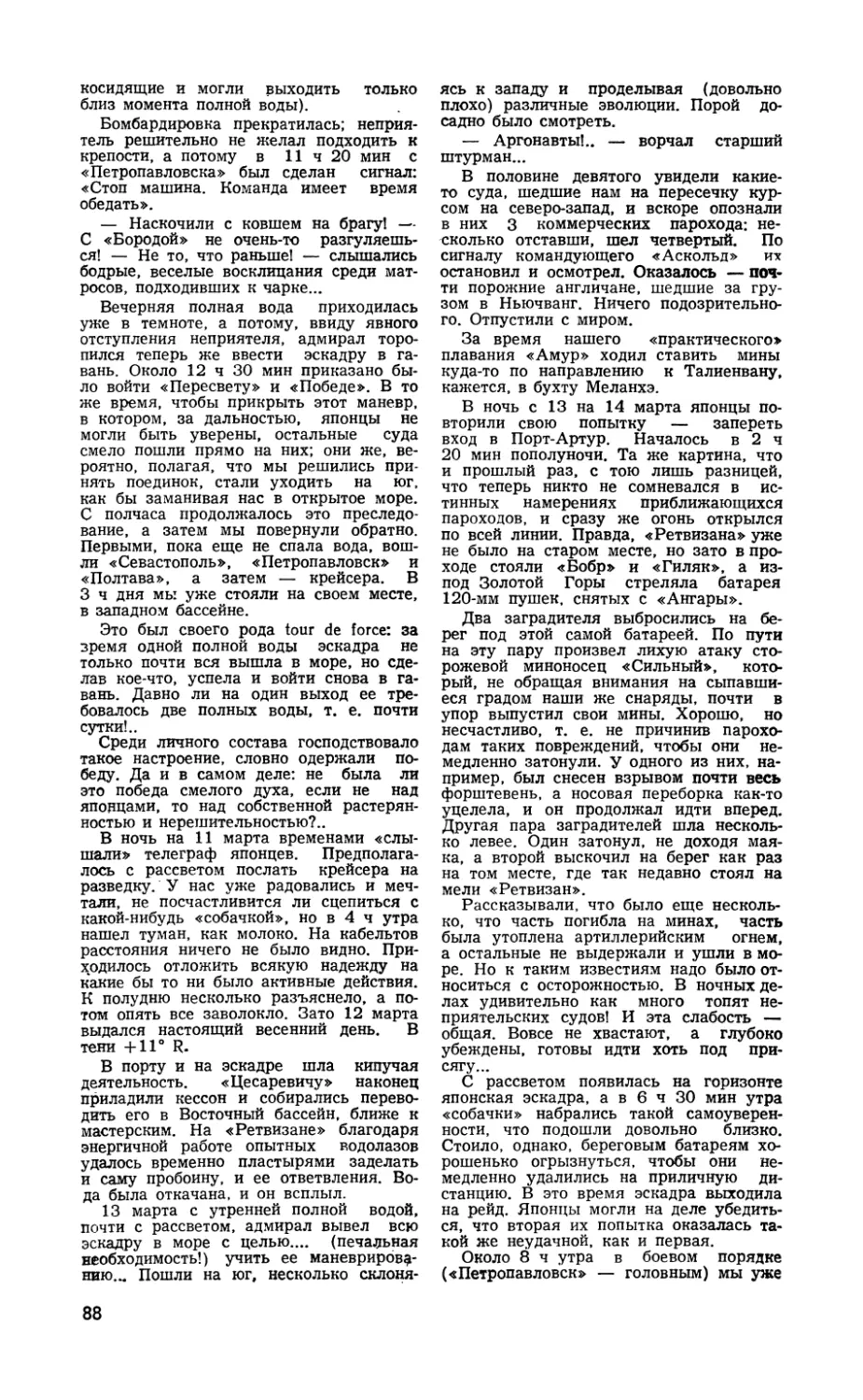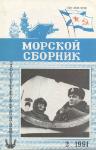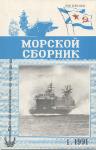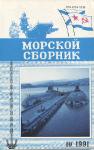Text
За нашу Советскую Родину!
ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР
МАРТ 1991
3 (1732)
ИЗДАЕТСЯ С МАРТА 1848 г.
Читайте в номере
Новая ориентация в подготовке курсантов Киевского
политического (с. 3)
Заботы женсоветов в дальних гарнизонах (с. 9)
Район плавания — зона Персидского залива (с. 65)
Командир не искал оправданий (с. 40)
Казалось бы, время низвержения памятников
закончилось (с. 48)
Помимо собственных забот флоту все чаще
приходится заниматься решением общих задач охраны
природы (с. 53).
Г, Зиновьев, Л. Троцкий и Кронштадтская трагедия
(с. 79)
ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА*
МОСКВА
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
Л Д. Агафонов
(главный редактор),
В. И. Алексин,
Д. М. Алпатов,
В. Н. Безносое,
Л. Л. Белышев,
В. В, Будеев,
Ю. А. Быстрое,
Н. Л. Гавриленко
(ответственный
секретарь),
В. К. Захарьин,
В. И. Зуб,
В. С. Калашников,
Ю. П. Квятковский,
В. В. Кочеров
(зам. главного
редактора),
О. Н. Кувалдин
(зам. главного
редактора),
Л. П. Кучеров,
В. Г. Лосиков,
И. Г. Махонин,
М. С. Монаков,
И. С. Скуратов,
Г. И. Щедрин.
Адрес редакции:
Москва, Чаплыгина, 15
Для переписки:
103175, Москва, К-175,
«Морской сборникэ.
Телефоны:
204-25-34; 925-50-28.
Технический редактор
Обухова Т. А.
Содержание
время и флот
Политработник завтрашнего дня . 3
В. Марюха. Эстония: военнослужащие вне
закона d ........ 7
КАЮТ-КОМПАНИЯ «МОРСКОГО СБОРНИКА»
Пусть женщина женщиной будет ... 9
официальный отдел
Из Указов Президента СССР ... 14
В Верховном Совете СССР .... 15
A. Аристов. Два часа в музее КГБ . . 17
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
B. Калинин, А. Лобанчук. Некоторые
тенденции развития радиоэлектронной
борьбы в боевых действиях на море . • 19
М. Монаков, Н. Березовский. Судьбы доктрин
и теорий 24
ПОХОДЫ И ПОЛЕТЫ
A. Яковлев. Через два океана ... 33
Н. Гавриленко. Третий командир ... 40
ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Н. Карасев. Что показал эксперимент . . 45
B. Арсеньев. Утраченные памятники России 48
ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЖИЗНЬ ОКЕАНА
В. Мясников. Что может флот? . .53
«Кит» на Ладоге 57
ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА
Н. Директоров, А. Натанович. Оптоэлектрони-
ка на кораблях 58
П. Ищенко. Обитаемость подводных лодок:
от Леонардо да Винчи до 61
Г. Котов. Тайна пропавшей субмарины . . 64
ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ
Б. Маркедл. На Ближнем Востоке огонь
прекращен 65
A. Евсеев. Авианосцы до 2005 г. . . й 69
По страницам иностранной печати ... 70
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Ф. Криницын. Русский флот в Семилетней
войне 74
Н. Васецкий. Кронштадтский мятеж: взгляд
сквозь годы . . . ... 79
Вл. Семенов. Расплата. Гл. V. ... 87
B. Доценко. Броненосцы для эскадренного боя 95
* * *
На цветных вклейках:
Галерея российских флотоводцев. П. Г. Каш-
кин • • • . 32
Между с. 64 и 65
Расчет интерференционного множителя
Новый многоцелевой вертолет ЕН-101
Атомные крейсера типа «Вирджиния» ВМС США
На 1-й стр обложки — фото Ю. П ах о мое а.
Сдано в набор 23.01.91.
Формат бумаги 70xl08Vie,
Усл. печ. л. 8.4+вклейка Va печ. л.
Заказ 372
Подписано к печати 25.03.91.
Бумага типографская № 1. Высокая печать.
Усл. кр.-отт. 14,88. Уч.-изд. Л. 10,9.
Цена 80 коп.
Адрес ордена <3нак Почета> типографии газеты «Красная звезда>:
123826. ГСП, Москва. Д-317, Хорошевское шоссе. 38,
«Морской сборник», 1991.
ВРЕМЯ И ФЛОТ
Беседа на актуальную тему
ПОЛИТРАБОТНИК
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
В прошлом году в Минске состоялся
первый межвузовский слет представителей
политических училищ Вооруженных Сил.
Полным откровением для многих у част-
никое встречи явилась программа
перепрофилирования училища, изложенная в
выступлении начальника Киевского ВВМПУ
контр-адмирала А. Коровина. Это был не
прожект, а взвешенная и конструктивная
программа воспитания политработника
новой формации. О том, как она претворяется
в жизнь, рассказывает Александр
Михайлович Коровин.
Александр Михайлович! Если учитывать, что на новые учебные планы другие
политические училища станут переходить только в 1991—1992 учебном году, то
КВВМПУ ощутимо их опережает. Возникает вопрос: как удалось предвосхитить Указ
Президента СССР о реформировании политических органов и оказаться на острие
решения проблем, стоящих перед ними?
А мы ничего не предвосхищали. Ны начали действовать исходя из прогноза,
составленного на основе анализа обстановки в обществе и в Вооруженных Силах,
Когда на Ш внеочередном съезде народных депутатов СССР изменили в Еонституции
СССР содержание статей 6 и 7, где шла речь о руководящей роли КПСС, стало ясно,
что таким образом функции государства и партии разделились. Значит, следовало
вносить коррективы и в систему подготовки политработников.
Известно, что военная реформа предусматривает крупные изменения в составе,
структуре, оснащении и базировании ВМФ, освоение принципов и порядка
применения флота, вытекающие из оборонительной доктрины, стратегии, оперативного
искусства и тактики. Готов ли действовать в этих условиях, требующих нового
мышления, наш выпускник, обучающийся по старым учебным программам? Вряд ли.
Ведь военной реформе необходима совершенно иная система обучения и воспитания.
Вечера вопросов и ответов, которые регулярно проводит командование училища
с курсантами, повседневное общение с ними позволили почувствовать возникновение
и нарастание их неуверенности в завтрашнем дне. Именно по этим причинам семь
выпускников 1990 года покинули училище лейтенантами запаса. Для них не прошли
бесследно действия антикоммунистических и сепаратистских сил в ряде наших
республик, объявивших Вооруженные Силы СССР соккупационными», делающих все
для раскола Советского Союза. Нельзя не учитывать неоднозначный для судеб
офицеров процесс сокращения Вооруженных Сил, бытовую неустроенность семей
военнослужащих. К тому же их труд начал становиться в обществе все менее
уважаемым...
Чем училище может защитить своего питомца в первую очередь? Думаю, тем,
что курсанф будет приобретать еще и гражданскую профессию общесоюзного образ-
ца. Так мы пришли к решению о перепрофилировании училища. И заметьте, в то
время, когда даже упоминать об этом, было опасно. Бывший начальник Главного
политического управления и слышать о подобном не хотел, заверяя всех в том, что
политорганы останутся неизменными. И тогда, выражаясь флотским языком, мы
пустились в автономное плавание. Этого требовали жизнь, интересы дела.
Плясать, как говорится, начали от печки: заинтересовались тем, как
складываются судьбы наших выпускников на военной службе и после увольнения в запас.
Раньше мы выпускали политработников с квалификацией «учитель истории и
обществоведения». А таковой, как оказалось, нет в перечне специалистов в
Госкомитете СССР по народному образованию. К тому же и часов на полнокровную
подготовку учителя явно недоставало. Кроме того, специализация выпускника как
организатора партийно-политической работы, никак не согласовывалась с его
гражданской профессией. Понятно, что такое положение дел никого уже не устраивало.
Для того чтобы выработать четкую концепцию подготовки политработника
новой формации, была проделана исследовательская работа, в которой самое активное
участие приняли капитан 1 ранга Н. Корниенко, капитан 2 ранга А. Григорьев и
другие офицеры.
Прорабатывая вопросы перепрофилирования училища, мы представили, каким
требованиям должен отвечать, чем конкретно будет заниматься в нынешних
непростых условиях наш выпускник. Очевидно, при сохранении высокого уровня военной
подготовки он обязан формировать морально-политическую и психологическую
готовность личного состава к защите Отечества с учетом уровня образования и культуры
военных моряков. А для этого его надо обучить анализу и прогнозированию
социальных, нравственных процессов в многонациональных коллективах, обеспечивать
социально-правовую защищенность военнослужащих и членов их семей, координации
деятельности демократических институтов, существующих на флоте.
Вот так и рождалось решение перейти на подготовку политработников —
неважно, как они могут называться в будущем — по специальности
«Военно-политическая ВМФ. Социальные, военно-политические отношения и воспитание» с
присвоением квалификации «социальный психолог и педагог». Военно-учетная специальность
— офицер с высшим военно-специальным образованием.
Хочется подчеркнуть, что в своих поисках мы находили полную поддержку и
взаимопонимание у военного совета ВМФ. Мы уже в прошлом году смогли выпустить
на флот социальных психологов. Как нам известно, другие училища планируют
сделать это только через несколько лет.
А какую реакцию вызвали у курсантов такие перемены в
учебно-воспитательном процессе? Чувствуете ли вы их заинтересованность в переменах?
Да, и еще какую. Снизилась их тревога по поводу своего будущего. Курсанты
с оптимизмом смотрят в завтрашний день. Недаром говорят, что земля слухом
полнится. Минувшим летом был высок конкурс абитуриентов. Хочется отметить, что
и на встрече депутатов-военнослужащих с Президентом СССР говорилось об острой
необходимости налаживания социальной и психологической служб. Собственно,
социальный психолог — это профессия настоящего и будущего, без которой ни в одной
сфере, в том числе и на флоте, уже не обойтись.
Александр Михайлович! Давно не секрет, что уровень современной культуры
нашего общества довольно низок. И пока нет надежды на его повышение. Похожая
картина складывается и в среде военных. Только у нас все кивают на нелегкую
службу. Ее интересами и прикрываемся. Отражает ли программа перепрофилирования
заботу о росте общей культуры курсантов?
С 1 сентября 1990 г. в училище начала работу кафедра культуры и искусства,
укомплектованная энергичными и эрудированными военными педагогами. Это первая
подобная кафедра в политических училищах, и создана она за счет внутренних
резервов, без увеличения штатов. Уверен, что изучение литературы, кино, театра,
изобразительного искусства, музыки, культуры взаимоотношений военнослужащих,
ораторского искусства обогатит духовный мир наших воспитанников, сделает их жизнь
более содержательной, поможет глубже проникнуть в мир общечеловеческих
ценностей.
Гуманизация высшего образования предусматривает возрождение прежней роли
университетов, которые раньше готовили прежде всего людей высокой культуры.
Нужно иметь в виду, что современная культура не ограничиться историей и
искусством, литературой и философией. Она включает в себя и естественные науки,
поскольку наука и техника — важнейшие-элементы, если хотите — инструменты
культуры. Университет, как альма-матер отечественной интеллигенции, должен
формировать и развивать в человеке человеческое.
Лично я, как начальник военно-учебного заведения, вот такой путь развития
вижу и для нашего училища. Его выпускник прежде всего гуманист, военный
интеллигент, человек высокой нравственности и культуры.
Новый «профиль» выпускника, очевидно, потребовал и изучения новых
дисциплин. Какие в связи с этим произошли изменения на кафедрах общественных наук?
Действительно, предметов стало больше, увеличилось время на их изучение.
Отныне курсанты постигают социальную психологию, физиологию высшей нервной
деятельности, политологию, политическую историю XX века и другие. Следует отметить,
что часов на их овладение в училище отведено больше, нежели в гражданских вузах.
Преподавание социально-политических наук мы постарались привести к
высоким стандартам университетского образования. Для этого в училище была создана
надежная база. Плодотворными оказались поиски новых подходов к изучению
общественных наук, внедрению современных эффективных методик обучения, обновлению
содержания учебных дисциплин. Избавляясь от догматизма и схоластики прошлых
лет, которые способствовали дискредитации теории социализма и его ценностей,
профессорско-преподавательский состав осваивал новые теоретические трактовки
различных сторон общественной жизни, уделяя большое внимание преподаванию военной
проблематики общественных наук, целенаправленному внедрению в учебный процесс
результатов научно-исследовательской работы, активных форм занятий.
Мы не могли обойтись и без реформирования кафедр. Так, кафедра истории ЕПСС
преобразована в кафедру политической истории, кафедра научного коммунизма — в
кафедру научного социализма и политологии. Внесено незначительное на первый
взгляд, но существенное по смыслу изменение в название кафедры военной
педагогики и психологии: военной социальной психологии и педагогики. Кафедрой
философии стала кафедра марксистско-ленинской философии, кафедра
партийно-политической работы — кафедрой военно-политической работы.
Эти новации принципиальны по своей сути и отражают характер военной
реформы, которая реорганизует политические органы в органы государственного
управления, существенно изменяет характер деятельности заместителя командира по
военно-политической работе. Скажем, если прежде политработник должен был уметь
организовать и вести партийные и комсомольские собрания, конференции, то
сегодня ему прежде всего предстоит изучать конкретную личность, ее взаимоотношения
с коллективом, настроения военных моряков, разбираться в мотивах соперничества
между военнослужащими, проводить среди них опросы. Словом, это социологическая
и психологическая деятельность, на первый план которой выходит воспитательная
работа. Немалую роль станет играть педагогическая культура политработника.
Поскольку политорганы больше не руководят организациями КПСС и не
занимаются партийной работой, не сузится ли поле деятельности политработника?
Никоим образом. Основная роль военно-политических органов будет
заключаться в проведении государственной политики в области обороны, воспитания и
социальной защиты военнослужащих. А приоритетными функциями политработника
становятся политическое, воинское, нравственное и правовое воспитание. На него
возлагается вся полнота ответственности за воинскую дисциплину личного состава,
его политико-моральное состояние.
Как будет строиться, скажем, взаимодействие политработника и партийной
организации, не возникнут ли разногласия?
Не должны. Они будут взаимодействовать. Ведь партийная организация
займется в принципе теми же вопросами, что и политработник, но только уже через вом-
мунистов, через повышение партийного влияния. Значительного внимания
коммунистов потребуют связи с общественно-политическими организациями. Думаю,
политработник получит от партийной организации ощутимую поддержку.
Основная часть личного состава ВМФ — молодежь. Ее наиболее влиятельной
организацией остается ВЛКСМ. В связи с зтим возникает такой вопрос: может ли
политработник новой формации занять должность освобожденного комсомольского
работника?
Может. И к работе с молодежью наш выпускник будет подготовлен. Но здесь
опять нужно прогнозирование. Судя по всему, все идет к тому, что ВЛКСМ,
находящийся сейчас в глубоком кризисе, претерпит структурно-организационные
изменения. Возможно, и скорее всего, поменяется и его название, что повлечет за собой
совершенно иные формы и методы работы, отличные от прежних. Офицер по работе
с молодежью теперь будет ставить в основу своей деятельности формирование у нее
таких качеств, как патриотизм, интернационализм, верность Отечеству, Конституции,
военной присяге, прививать морякам уважение к нравственным нормам, к таким
понятиям, как честь, достоинство, высокая дисциплинированность.
Ко дню открытия XXVIII съезда КПСС в стране уже насчитывалось немало по-
литических партий...
Да, отмена монополии КПСС на власть открыла путь к созданию
многопартийной системы. Можно смело утверждать, что каждый месяц возникают новые партии.
...Теперь представьте себе, что уже в следующем наборе вы встретитесь с
кандидатами для поступления в училище — представителями различных, кроме КПСС,
партий. Будут ли они приняты в училище?
Сегодня это маловероятно. Пока единственной реальной политической силой,
самой массовой, пользующейся к тому же авторитетом на флоте, остается
Коммунистическая партия. В ВМФ среди офицерского состава 75% —члены КПСС.
В будущем, и не таком далеком, когда эти партии окрепнут организационно,
такие ситуации не исключены. Тогда критерием для всех кандидатов в наше
училище станут: их политическое кредо, социалистический выбор, любовь к флоту и
верность ему, присяге, долгу вооруженного защитника своего Отечества.
Многопартийность — это одна из зримых примет демократического процесса. Но
лично я глубоко убежден, что право на создание своих организаций в Вооруженных
Силах должна иметь только правящая партия. Наличие других станет тормозом для
повышения боевого потенциала, потому что непременно начнется политическая
борьба за свое влияние.
Много ведется разговоров о департизации армии и флота. Сегодня, наверное, всем
понятно, каким силам это на руку. Допускаете ли вы возможность департизации?
Понимаете, делать подобные заключения очень сложно. Но непредсказуемых
ситуаций в политическом развитии общества не бывает. Нужно их просчитывать,
опираться на научный анализ. У нас в стране многие беды от того, что отсутствует
научное, точное прогнозирование. Сегодня без этого немудрено отстать от реалий
жизни. Вот, например, в сентябре вышла директива министра обороны и начальника
Главного политического управления о преподавании общественных наук. Для нас,
пока она готовилась, издавалась, многие позиции устарели. А взять кафедру
культуры и искусства. Она позарез необходима уже сегодня, сейчас, а Генштаб
планирует ее создание на более поздний срок. Так что, отложить этическое и
эстетическое воспитание курсантов, повышение уровня их культуры? Нет. Командование,
ученый совет училища, в который, кстати, входят восемь курсантов, находит
возможность для работы этой кафедры, как находит возможность для последовательного
решения всей программы перепрофилирования учебно-воспитательного процесса.
Вот так и с департизацией. Думаю, что это уже не только лозунги и призывы.
Возьму на себя смелость утверждать, что в принципе она потихоньку началась.
Так что в будущем я вовсе этого не исключаю.
Жизнь на самом деле меняется так быстро, что порою и не успеваешь
оглянуться, остановиться, подвести итог, определить перспективу... Не таится ли здесь
опасность для начатых преобразований в дальнейшем застыть, приобрести, так сказать,
инерцию покоя?
За жизнью все-таки нужно поспевать, держать руку на ее пульсе. Застоя не
будет, если постоянно ориентироваться на передовую науку, быть тесно связанными
с практикой флота, хорошо знать его нужды й запросы.
Остается пожелать, чтобы осуществились ваши замыслы, сбылись все надежды
на предстоящем нелегком пут.
Спасибо.
Беседу вел капитан 2 ранга ДГ. ПОПОВ
Демократия как она есть
ЭСТОНИЯ: ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВНЕ ЗАКОНА
ПОСЛЕ январский событий в
Вильнюсе и Риге наша
«демократически настроенная» пресса предрекла, что
в соответствии со «сценарием центра» в
очередное воскресенье января следует
ожидать подобного и в Таллинне.
Возникшее в столице Эстонии напряжение
подогревали и местные средства
массовой информации, политические и
общественные движения. Их сегодня в
республике великое множество. Старый
город, в котором расположились
парламент и правительство ЭССР, покрылся
баррикадами, где денно и нощно несут
постовую службу крепкие парни в
форме «Кодукайтсе». Их штаб под крышей
Департамента цен находится всего в сот-
не-другой метров от одной из военно-
морских частей. Один из руководителей
«Кодукайтсе» Андрус Ээвель, с
которым мне довелось побеседовать, не
скрывал, что они готовы к
кровопролитию, якобы готовящемуся некими
темными силами совместно с частями и
подразделениями Вооруженных Сил,
дислоцирующимися в городе.
По иную сторону баррикад остались
те, кто в репортаже ленинградского
тележурналиста А. Невзорова получил
емкое и глубокое по смыслу
определение «наши». Принятые за последние
год-два законодательные акты
поставили их по сути вне закона.
Изначально запрограммированное
парламентом Эстонии отношение к
военнослужащим на ее территории
предполагало, что армия не останется вне
политических баталий. Принятые Верховным
Советом республики постановления и
законодательные акты как бы
подталкивали военнослужащих к выступлению
против существующей власти или же к
выдвижению требований, адресованных
центру, о социальной защищенности.
Ибо тысячи офицеров, мичманов,
прапорщиков, членов их семей лишались,
согласно новым законам, элементарных
человеческих прав — на жилье,
медицинское обслуживание, образование.
Само пребывание в республике армии
было объявлено незаконным, статус ее
признан «оккупационным» с
вытекающими отсюда последствиями — с
отказом от службы в армии «оккупантов»,
укрывательством дезертиров,
требованиями покинуть территорию республики,
угрозами в адрес военнослужащих.
Результатом этой кампании стало
дезертирство из армии свыше трехсот
военнослужащих-эстонцев и то, что на
призывные пункты добровольно пришло
лишь 30 процентов призывников,
большинство из которых — русскоязычные.
Ну а какого еще отношения к армии и
флоту можно ждать, если нынешнему
поколению эстонцев терпеливо
вдалбливают, что «оккупация» Советской
Армией Эстонии привела к значительным
жертвам и разрушениям. На улице Ха-
рью, к примеру, на всеобщее обозрение
выставлены изготовленные на
добротном уровне плакаты, из коих
становится известно, что в марте 1944 г.
советская авиация уничтожила 53% жилых
домов. Однако то, что эта цифра
далеко не соответствует действительности,
известно любому непредвзятому
горожанину.
В некоторых местах от призывоь к
насилию перешли к конкретным
действиям. Угрозы физической расправы
раздаются в адрес «несговорчивых»
работников военкоматов, отказывающих в
«помощи» уклоняющимся от службы.
Старший военно-морской начальник
вице-адмирал Ю. Белов рассказывал мне, что
в конце минувшего года были избиты
два военных моряка (поиск нападавших
результатов, конечно, не дал), у штаба
базы состоялась демонстрация с
требованием освободить «захваченную»
территорию, имели место и попытки
проникновения на охраняемые военные
объекты с целью завладения оружием. К
счастью, все обошлось без жертв. Но
это пока. Долго ли продержится столь
шаткое равновесие? И сколько еще
потребуется времени республиканскому
правительству, чтобы понять: военные
не могут исполнять свой воинский долг,
не вмешиваясь в происходящие
процессы, если их интересы попираются.
Судите сами. За истекший год в Тал-
линне военнослужащим не выделено ни
одного квадратного метра жилья. В
единственной воинской части, которую за
время пребывания у власти посетил
Э. Сависсаар, семьи военнослужащих
вообще живут в бараке, который и под
конюшню рачительный хозяин не
рискнул бы использовать. Председатель
Таллиннского горсовета А. Корк подписал
постановление, запрещающее военным
строительство жилого дома, отказано
им и в праве на долевое участие в
строительстве.
Но не только бесквартирные
чувствуют себя обездоленными. Даже наличие
постоянного жилья и прописки не
гарантирует военным равных с другими
гражданами прав. На период службы в
республике ограничены сроки
прописки — не более пяти лет. Удар
получили те, кто выслужил установленные
сроки. В отделениях внутренних дел
бывшим военнослужащим отказывают в
выдаче советских паспортов.
Но это, так сказать, социальная
сфера, задевающая чисто человеческие
интересы военнослужащих. Кардинальных
изменений к лучшему в ней вряд ли
стоит ожидать хотя бы потому, что
трудности испытывают не только
военнослужащие. Даже эстонцам,
прожившим длительное время за пределами
республики, по возвращении на землю
предков по существующему
законодательству придется немало лет ожидать
уравнения в правах с коренными
жителями. Однако есть факты иного рода. К
примеру, в Ляэне-Выруском уезде.
Военные здесь давно уже содержат на
своем попечении интернат для детей-
сирот, дом престарелых, что для
уездного руководства явилось неожиданным.
Пришлось и ему подумать о своих
«негаданных» помощниках: выделили муку,
когда были перебои с поставками,
решили вопрос с карточками потребителя для
всех жителей гарнизонов. Но это, к
сожалению, пока единичные случаи.
С неменьшей остротой стоят и
проблемы сугубо специфические для
воинских частей и условий выполнения ими
своих задач. До минимума, например,
урезаны занимаемые частями
территории, оставшийся в ведении военных
моряков причальный фронт едва
удовлетворяет имеющиеся потребности. Но
и за оставшиеся в ведении
Министерства обороны земли власти требуют
огромную арендную плату, возмещение
ущерба, нанесенного экологии и
развитию республиканских инфраструктур.
— На том основании, что в акт 1940
года, которым правительство Эстонии
передавало земли Наркомату обороны,
не было включено здание нынешнего
матросского Базового морского клуба,
Балтийский судостроительный завод
требует вернуть его и намерен возродить
там Народный дом, — рассказывает
вице-адмирал Ю. Белов. — Городские
власти оспаривают принадлежность нам
Матросского парка и здания одной из
частей — в нем планируют разместить
филармонию.
Конечно, заботиться о музыкальной
культуре населения города нужно, но
не в ущерб обороноспособности страны.
Впрочем, Эстония стремится обособить
свою обороноспособность от
обороноспособности Союза, хотя сегодня в
республике просто некем заменить военных
моряков, а потребности в их
присутствии значительны. В своей зоне
ответственности военные моряки
обеспечивают безопасность плавания гражданских
и военных судов, в их ведении —
борьба с минной опасностью (а на Балтике
такая угроза все еще сохраняется — в
минувшем году уничтожено 2 морских
мины и значительное число
боеприпасов в прибрежной зоне). Уйди военные
моряки из Эстонии — и кто будет
заниматься этим?
Равновесие, установившееся в
Эстонии после январской напряженности,
иначе как хрупким не назовешь —
слишком уж много накопилось
нерешенных проблем, касающихся в том числе
и военнослужащих. Но как бы то ни
было, наши несут там свою нелегкую
службу. Нет разговоров о том, чтобы
свергать законное правительство, в чем
их пытались обвинить псевдодемократы,
нет и жалоб на существующие тяготы.
Все хотят только одного — знать, что
их голос услышан и проблемы будут
решаться. Это возможно только в том
случае, если в республике возобладают
не митинговые страсти, а трезвый
подход ко всему комплексу проблем.
Капитан 3 ранга В. МАРЮХА
8
Кают-компания «Морского сборника»
ПУСТЬ ЖЕНЩИНА
ЖЕНЩИНОЙ БУДЕТ
В канун Международного женского дня
наш нештатный корреспондент капитан 1 ран-
га И. Коваленко пригласил в кают-компанию
«МС» старшего инструктора
военно-политического управления ВМФ по работе среди
семей военнослужащих М. Добровольскую.
Марина Карамановна, если честно,
поводом для беседы с вами послужил не
столько традиционный интерес к одному
из безоблачных советских праздников,
сколько не всеми замеченный
политический факт: в некоторых сражающихся
за суверенитет республиках принято
решение об отмене советских
государственных праздников, в том числе и 8
Марта.
Я не знаю, насколько широко
распространяется это новшество —
республиканские парламенты с ловкостью
плагиаторов перенимают друг у друга
законы, но все же без тени юмора хочу
спросить: неужели действительно так
печально будущее этого дня календаря, а
с ним и женского движения, и как нам
теперь относиться к празднованию 8
Марта?
Как и подобает мужчинам. А что
касается запретов на праздник, то меня не
покидает ощущение, что в подобном
решении больше юмора, чем здравого
смысла. Ведь еще в VI веке у
древних славян, которые были известны
демократичным устройством своей жизни,
существовал женский праздник первого
березового листка. Хотя, конечно, вряд
ли он был тогда наполнен политическим
содержанием. Скорее это был знак
преклонения перед женщиной, как
хранительницей очага, и матерью —
продолжательницей рода.
Но жизнь, общественные уклады, как
известно, менялись, а с ними и
положение женщины в обществе. Причем не в
лучшую для нее сторону. Даже
капитализм, который для многих у нас стал
вдруг образцом демократии и светлого
настоящего, за всю свою многовековую
историю полностью не решил проблем в
жизни женщин.
День 8 Марта — своего рода
лакмусовая бумажка, тест на демократичность
общества, на то, как оно относится к
женщине и ее проблемам. У нас они,
конечно же, далеко не решены.
Но, судя по всему, настрой на их
решение серьезный. Ноябрь прошлого года
ознаменовался рождением новой
организации — Союза женщин РСФСР,
членом правления которой вы избраны.
Расскажите, пожалуйста, об этой
организации — чем вызвано ее появление,
каковы цели, задачи и чего ждать от
нее Вооруженным Силам, в частности
флоту?
Возникновение союза — это результат
демократических процессов,
происходящих в стране, и одновременно реакция
россиянок на положение женщины в
нашем обществе.
Особый для меня разговор —
проблема женщин, связанных через своих
мужей с жизнью армии и флота. За
десятилетия в обществе сформировалось
отношение к военному как к человеку,
который обязан не рассуждать и
предназначение которого — выживать там, где
обычный гражданин не протянет и
месяца. И пока армию и флот называли
любимым детищем народа, его
гордостью, пока уверяли, что труд военного
нужен стране, офицеры действительно не
задумывались, насколько адекватны
требования общества к военнослужащему и
вознаграждение за его труд. Без всякой
модной нынче иронии служба была
священным долгом, почетной обязанностью
— этим все сказано. С такой
убежденностью жили все — от матроса до адми-
рала, до жены офицера, мичмана.
Сейчас же, когда армию низвели до
положения Золушки (работа самая
непривлекательная, ругательства в ее адрес —
самые отборные), когда под видом
реформирования Вооруженных Сил
допускается яростное очернительство тех, кто в
любой момент именем Родины по
приказу и по долгу должен будет умереть, у
военнослужащих возникает законный
вопрос: а почему, собственно, их труд в
обществе и по моральной, и по
материальной шкале упал практически до
низших оценок?
И самое главное: почему в условиях
подчас на грани выживания должны
жить и дети, жены военнослужащих,
почему они, не присягнув, не надев
мундир, тоже обязаны «стойко переносить
тяготы и лишения»? Вследствие чего,
простите за банальность, беременная
жена офицера за весь период своего
интересного положения часто не имеет
возможности даже воспользоваться женской
консультацией? У меня постоянно перед
глазами женщины из дальневосточного
гарнизона (и сколько же их!), которые
мучаются, рискуют, но до ближайшей
консультации из-за расстояния и
утомительной тряски предпочитают не ездить,
а к поездке в роддом вообще относятся
как к последней в своей жизни.
Я могла бы долго говорить о качестве
существования в социально необустроен-
ных военных городках, о том, чего
лишены там семьи военнослужащих — оно
на порядок ниже, чем на «гражданке».
О нехватке детских учреждений, о
бесконечных переездах, о безработных
женах офицеров, мичманов, вследствие чего
трудовой стаж многих из них к концу
службы мужа составляет лишь
несколько лет.
Но все же эти проблемы кажутся
безобидными по сравнению с теми, что
возникли перед семьями
военнослужащих в последнее время. Я имею в виду
катастрофическую необеспеченность
жильем, социальную незащищенность, а во
многих случаях нарушение
элементарных прав человека в республиках, где
разгул национализма и
антиконституционная деятельность сепаратистски
настроенных правительств достигла апогея.
За всеми этими вывихами демократии —
разрушенные семьи, осиротевшие
дети, поломанные человеческие судьбы,
потерянные жизненные перспективы.
Вспомните события в Баку — они бурей
вымели из города, да и из республики,
тысячи людей. Только семей офицеров и
мичманов Каспийской флотилии было
эвакуировано в Подмосковье более 400
и столько же — на Черноморский флот.
А физические оскорбления, моральный
террор, угрозы расправы,
непредоставление прописки и вида на жительство,
наконец, убийства офицеров, мичманов,
прапорщиков?
А незащищенность военнослужащих и
их семей перед рынком, атмосфера
постоянного морального давления на
армию, флот, а. значит, и на семьи
военнослужащих со стороны средств
массовой информации?
Разве все это не требует активизации
работы женских советов?
Другими словами, если жены
военнослужащих через женсоветы себя не за-
щитят, то кто же? А что же Союз
женщин России?
К сожалению, Союз пока очень далек
от проблем семей военнослужащих. Я с
горечью вспоминаю его учредительную
конференцию, на которой были
делегатки со всех концов России. Там не
нашлось места подлинным армейским
проблемам. Зато хватало выступлений,
реплик и даже выкриков, в которых легко
узнавались спекуляции на материнском
горе «Щита» и периодических изданий,
с далеко не безобидными целями
увлеченно разрабатывающих антиармейскую
тему.
И все же я с надеждой смотрю в
будущее. У Союза гуманные цели. Среди
его задач — адаптация,профессиональная
подготовка и переподготовка,
повышение квалификации женщин, их
социальная защищенность и реализация
права на труд в условиях рыночной
экономики. Не забыта и такая злободневная
проблема, как оказание помощи
женщинам в предпринимательской
деятельности, особенно в сфере мелкого и
среднего бизнеса. Много внимания будет
уделено укреплению семьи.
Союз женщин РСФСР — это
добровольная независимая общественная
организация, созданная для защиты
интересов и обеспечения достойного
положения женщин в обществе, повышения их
роли в общественно-политической,
экономической и культурной жизни страны.
Она провозгласила, что выступает за
общечеловеческие ценности, социальную
справедливость, гуманное,
демократическое устройство общества и готова к
сотрудничеству со всеми организациями и
партиями, стоящими на платформе де-
гостях у экипажа ЭМ «Отчаянный»
Фото Г. Д и а к о в а
мократических преобразований в стране.
Женсоветы Вооруженных Сил вошли в
Союз женщин России в полном составе.
Что это нам дает? Женсоветы армии
и флота, как коллективный член Союза,
вправе рассчитывать на защиту своих
интересов и прав во взаимоотношениях с
государственными, хозяйственными и
другими органами и общественными
организациями; на внимательное
рассмотрение своих предложений по вопросам
улучшения положения женщин, семьи и
ребенка и внесение их в порядке
законодательной инициативы от имени Союза
женщин в Верховный Совет республики,
местные Советы народных депутатов.
Задача же наших женсоветов — еде*
лать проблемы семей военнослужащих
достоянием Союза, использовать его
возможности для их решения.
Вы старший инструктор
политуправления ВМФ по работе среди семей
военнослужащих, с женсоветамн работают
главным образом политработники, хотя
все решения — и положительные, и
отрицательные — принимает командир-
единоначальник. Не будем говорить о
причинах, но к политорганам сейчас
отношение неоднозначное. Есть, например,
люди, которые утверждают, что
женсоветы — это одна нз устаревших
структур политорганов, выполняющих их волю
и действующих под их диктовку. А как
вы думаете?
Настроения такие действительно есть,
воя ве считаю это большой бедой дая
женсоветов, тем более сигналом для их
схода со сцены.
Не так давно на семинаре,
проводившемся в частях центрального
подчинения, я уже слышала высказывания
одного офицера по поводу женсоветов как
структуры политорганов и даже призыв
выходить из них, образовывать свои
женские партии.
Что же, партия — это, может быть, и
неплохо. Но для чего? Я не думаю, что
такого рода организации, оторванные от
командования гарнизона, более того,
запрограммированные на конфронтацию с
ним, способны что-то сделать, кроме
выражения протеста. Но протест у нас
сейчас выражают многие, а практические
дела делать охочих маловато.
Известно, есть в стране проблема
детей Чернобыля. Но ведь она есть и на
флоте — заражению подвергся один из
гарнизонов. Хоть одна
благотворительная или общественная, в том числе
женская, организация помогла детям
военных? Отнюдь! Этой помощью
занимаются командиры и политработники прн
самом активном и тесном
сотрудничестве с женсоветами. Больше никто
интереса к больным детям, не говоря уже о
милосердии, не проявил. Почему?
Проблемы военных и их семей за пределами
гарнизонов не воспринимаются как
острые.
Словом, семьи офицеров, мичманов,
прапорщиков, а если доживем до
полностью профессиональной армии, то и
семьи солдат, матросов, старшин всегда
будут существовать. А значит, будут
нужны и женские советы (впрочем,
Можете их назвать ассоциациями, союзами
и т. п.), которые будут защищать свои
специфические интересы. А коль так, то
нам надо не распускать советы, не
растаскивать женщин по партиям, а,
наоборот, консолидировать в рамках
Вооруженных Сил движение женщин, чтобы
добиваться решения всех проблем не
только на местном, но и на
государственном уровне.
Надо искать и новые формы работы
на местах. Может быть, подумать и о
своих финансах — это заметно расширит
возможности женсоветов.
Насколько женсовет соединения,
части, корабля зависим от командира? Как
вы думаете, почему председателем жен-
совета до недавнего времени
непременно была жена командира?
Все очень просто: избирая
председателем «первую леди» части, корабля,
женщины надеются, что уж своей-то
супруге командир не откажет. Нередко так
оно и случалось: жизненно важные для
семей своего гарнизона проблемы
решались за обеденным семейным столом...
А зависит женсовет от командира
ровно настолько, насколько этот женсовет
и особенно его председатель позволяют
себе от кого-то зависеть.
Разумеется, женсоветы в
Вооруженных Силах задуманы не как конфронти-
рующие с командирами общественны?
организации, а, наоборот, работающие в
интересах боеготовности. Разве от
решения социальных вопросов не зависит
здоровье и благополучие семей, а в
конечном итоге через самочувствие и
настроение офицера, мичмана — все та же
боеготовность? К сожалению, случается,
что этими чисто житейскими
проблемами командир пренебрегает, оправдываясь
интересами все той же боеготовности. Я,
например, знаю, как в одном гарнизоне
командир лишь изредка давал автобус
для доставки детей в школу и из
школы. А до нее, между прочим, 10
километров, а дети в основном ученики 1 —
5-х классов. Рейсовый же автобус
проходит лишь рано утром и поздно
вечером. Дети находятся по нескольку часов
на автобусной остановке, простужаются,
а у командира объяснение одно: боевая
подготовка да еще то, что в эту школу
^одят и его дети — старшеклассники.
Вот тут женсовет должен действовать
эчень жестко. И именно такие ситуации
показывают, кто есть кто в женсовете:
люди, которые лишь способны
заглядывать в рот командиру в надежде угадать,
чего он изволит, или умеющие в
интересах дела ставить вопросы крайне
принципиально. И если совет именно такой —
в этой части, гарнизоне вряд ли кто
будет искать правду на стороне или
прибегать к услугам недобросовестных
изданий.
Марина Карамановна, вот мы с вами
говорим «женсовет, женсовет...» А что
он значит для конкретных людей?
Какова его роль в жизни экипажа
конкретного корабля?
Огромна, если, конечно, в совете
подбираются неравнодушные женщины,
если командир, заместитель по политчасти
увлечены идеей сплочения экипажа и
думают о людях. В таких случаях
возникает особенная атмосфера. Я,
например, видела подобное на эсминце
«Отчаянный». И особенно меня привлекало
то, что женсовет там без
преувеличения — одна из равноправных структур
экипажа. Я бы сказала даже, что само
понятие «экипаж» на «Отчаянном»
наполнено более широким содержанием и
подразумевает не только личный состав
корабля, но и, как говорят на флоте, его
прекрасную половину.
Весь этот коллектив живет как бы в
двух измерениях: в море и на берегу. И
если той частью людей, что в море,
руководит командир «Отчаянного» капитан
2 ранга Александр Владимирович Ко-
ноплев, то оставшихся на берегу
объединяет председатель женсовета Лариса
Викторовна Привалова. У нее полная
информация о каждой семье, адреса,
телефоны, дни рождения и семейные
праздники, она знает, у кого болен ребенок,
а чей не устроен в ясли, какие у кого
бытовые проблемы... Проблемы
женщины здесь решают сообща. А это,
поверьте, очень важно, особенно для тех, кто
в море.
Или вот еще. Многие наши издания
усердно пытаются уверить читателя в
том, что офицеры страшно далеки от
матросов, что эти группы испытывают
взаимное отчуждение и едва ли не
противостоят друг другу. Я не знаю, где
берут такую фактуру для своих
рассуждений журналисты, но я бы хотела
увидеть их, к примеру, на корабельных
торжествах, посвященных годовщине
экипажа, возвращению его с боевой службы
и т. п., когда этот коллектив вместе,
12
когда офицеры, мичманы, матросы,
женщины, дети — все за одним столом
и каждый здесь не в гостях, а дома,
когда всем вручаются подарки и для
каждого находится теплое слово. Мне
известен, например, и такой факт: женсо-
вет противолодочного крейсера «Москва»
призвал жен офицеров и мичманов
своего корабля поработать в совхозе, а
заработанное в виде овощей и фруктов
передать матросам...
Таким образом, женсоветы кораблей
и частей преследуют только свои узкие
ведомственно-семейные цели?
Разумеется, нет. Например, в одном
из гарнизонов Северного флота женсовет
(председатель — Вородич Галина
Александровна) взял на себя значительную
часть забот о малоимущих
пенсионерах — людях гражданских и к флоту
отношения почти не имеющих, участвует
в работе поселкового совета
многодетных матерей. Один из женсоветов
тихоокеанцев . шефствует над детским
домом в Елизово, другой во главе с
Лидией Алексеевной Курановой активно
работает с призывниками, молодыми
семьями.
По мере сил женсоветы участвуют и
в акциях милосердия. Перечисляют
деньги в фонд реабилитации воинов-«аф-
ганцев», на счет телевизионного
Чернобыльского марафона и в Детский фон,]
имени Ленина. С флотов через Комитет
советских женщин регулярно уходят
подарки детям Сальвадора и Никарагуа...
В отдельных гарнизонах женсоветы
частей нередко становятся центрами
всей работы с поселковыми детьми и
даже семьями.
Словом, в чем в чем, а в
ведомственной ограниченности наших женщин вряд
ли можно упрекнуть.
Надеюсь, вы понимаете, что это лишь
некоторые примеры, те, что в памяти.
Я уже называла ряд фамилий, но мне
хотелось бы еще сказать доброе слово
и об Останиной Татьяне Флоровне с
Тихоокеанского флота, и о Мироновой
Людмиле Алексеевне с Балтики, Задер-
ман Валентине Алексеевне из
Ленинграда, Дьяковой Наталье Никитичне с
Севера и многих, многих других.
Пользуясь случаем, я поздравляю их и всех
женщин с праздником первого
березового листка! Счастья вам и давайте ни
при каких обстоятельствах не будем
забывать, что мы — женщины!
Очень личное
ЖДИТЕ НАС, ДЕТИ
тт ИСЬМО это я получил после возвращения подводной лодки из похода. «Здрав-
-*•* ствуйте, Карен Георгиевич! — писала мне девочка Света из мурманского
детдома. — У нас все хорошо. Ваши подарки всем ребятам понравились.
Спасибо всему экипажу, который старался для нас. Передайте всем своим друзьям
большой-большой привет. Приезжайте еще. Ждем вас. До свидания!»
Я читал большие, старательно выведенные буквы, и мне казалось, что в
моих ладонях не тетрадный листок, а детская душа трепещет и надеется: не
забудут о ней, позаботятся военные моряки. И еще раз со всей отчетливостью
понял — правильно сделал свой выбор экипаж, решив шефствовать над детьми, у
которых нет семей.
Помню, как собирались в детский дом, упаковывали ящики с продуктами, с
книгами, с подарками. Как молча ехали, размышляя о предстоящей встрече,
матросы: русский С. Комин, киргиз С. Маматкулов, азербайджанец X. Гурбанов,
украинец В. Волжинский, узбек Н. Имаков, татарин X. Хасанов...
Конечно, не просто нам было поначалу даже смотреть в глаза этим
обездомленным малышам. Но постепенно натянутость исчезла. Рассказали о флотской
службе, вспомнили интересные морские истории. Дети задавали вопросы, порой
неожиданно серьезные. Особенно мальчики.
Ближе к вечеру стали прощаться. Честно говоря, сердце щемило — не
хотелось оставлять бойких, любознательных, симпатичных ребят. Мы вошли в их мир,
и сами стали чуть-чуть другими. Детские доверчивые взгляды и улыбки мы
сохраним в своих душах. И будем помнить в морских походах, что стоим на защите и
этих самых беззащитных маленьких граждан нашей страны.
...Я сажусь за стол и пишу ответ Свете: «Мы обязательно приедем. Ждите
нас!»
Капитан 2 ранга К. БАБАЯН,
командир подводной лодки
13
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
О награждении орденами и медалями СССР
военнослужащих Советской Армии и Военно-Морского Флота
За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания,
присвоить звание Героя Советского Союза капитану 3 ранга ВАТАГИНУ
Александру Ивановичу.
* * *
За большой вклад в развитие медицинской науки, разработку новых
высокоэффективных методов обеспечения жизнедеятельности человека в агрессивных
экологических средах обитания присвоить звание Героя Социалистического
Труда полковнику медицинской службы СЕМКО Валентину Владимировичу.
За образцовое выполнение задания командования по приведению
организационной структуры Вооруженных Сил СССР в соответствие с современной
советской военной доктриной и большие заслуги в освоении новых
высокоэффективных образцов военной техники НАГРАДИТЬ:
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Авдонина Александра Алексеевича —
капитана 2 ранга.
Баренцева Александра Матвеевича —
капитана 1 ранга.
Батракова Владимира
Александровича — полковника.
Васильева Валерия Ивановича —
капитана 1 ранга.
Волкова Алексея Александровича —
генерал-майора авиации.
Гнатусина Федора Ивановича —
капитана 1 ранга.
Долгих Валерия Николаевича —
полковника.
Дригола Владимира Кирилловича —
капитана 1 ранга.
Жеглова Владимира Васильевича —
генерал-майора медицинской службы.
Завадского Владимира Викторовича
— полковника.
Зеленского Юрия Павловича —
полковника.
Золотохина Геннадия Епатьевича —
вице-адмирала.
Иванова Виталия Константиновича -—
капитана 1 ранга.
Кирсанова Владимира Ивановича —
капитана 2 ранга.
Макрусева Анатолия Владимировича
— полковника.
Маркитантова Бориса Степановича —
капитана 1 ранга.
Михайлова Аликана Иосифовича —
полковника.
Павлюченкова Олега Гавриловича —
капитана 1 ранга.
Сорокина Станислава Николаевича —
полковника.
Терняева Николая Николаевича —
подполковника юстиции.
* *
За отличные успехи в боевой и политической подготовке, большие заслуги
в поддержании высокой боевой готовности войск и освоение новой военной тех-
ники НАГРАДИТЬ:
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Антонова Анатолия Ивановича —
капитана 1 ранга.
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Алехина Станислава Юрьевича —
капитана 2 ранга.
Афокькнна Валентина Ивановича —
капитана 1 ранга.
Бабко Владимира Петровича —
капитана 1 ранга.
Бараненкова Николая Григорьевича
— майора.
Беленова Сергея Николаевича —
капитана 1 ранга.
Бородина Евгения Андреевича —
контр-адмирала.
Верхотурцева Виталия
Григорьевича — майора.
Виноградова Михаила Петровича —
майора.
Гарипова Гранита фатиховича —
капитана 2 ранга.
Гришкова Игоря Евгеньевича —
капитана 1 ранга.
Егорова Валерия Андреевича —
капитана 1 ранга.
Еремина Василия Петровича и
контрадмирала.
Ерохина Василия Павловича —
подполковника.
Зверева Сергея Анатольевича —
капитана 2 ранга.
Киселева Владислава Ивановича —
полковника.
Ковальчука Олега Александровича —
капитана 1 ранга.
14
Кудряшова Бориса Алексеевича —
подполковника.
Малашевича Алексея Михайловича —
капитана 1 ранга.
Манченко Александра Сергеевича —
подполковника.
Марфу тина Анатолия Дмитриевича —
капитана 1 ранга.
Матвеева Юрия Владимировича —
капитана 1 ранга.
Мелешко Валентина Яковлевича —
капитана 1 ранга.
Москалева Николая Георгиевича —
капитана 1 ранга.
Нелюбова Евгения Васильевича —
полковника.
Панасова Александра Федосеевича —
майора.
Пелевина Владимира Николаевича —
капитана 2 ранга.
Романова Геннадия Александровича
— полковника.
Москва, Кремль
Февраль 1991 г.
Россихина Вячеслава Олеговича —
майора.
Ручко Александра Сергеевича —
майора.
Рябцева Юрия Николаевича —
подполковника.
Сафронова Вадима Ивановича —
капитана 3 ранга.
. Селиванова Валентина Егоровича —
вице-адмирала.
Суслова Александра Николаевича —
подполковника.
Тарасова Павла Петровича —
капитана 1 ранга.
Харенко Сергея Валентиновича —
майора.
Черкесова Валерия Вячеславовича —
майора.
Шишщына Валерия Васильевича —
полковника.
Шмакова Сергея Борисовича —
капитана 2 ранга.
Президент Союза Советских
Социалистических Республик
М. ГОРБАЧЕВ
В Верховном Совете СССР
В соответствии с поручением Комитета Верховного Совета СССР по
вопросам обороны и государственной безопасности рабочая комиссия рассмотрела
«Обращение...» » участников встречи 5—6 октября 1990 г., организованной
Комитетом Верховного Совета СССР по делам молодежи, в связи с окончанием работы
Правительственной комиссии по расследованию причин и обстоятельств гибели
подводной лодки «Комсомолец», а также материалы, представленные
вице-адмиралом в отставке Е. Черновым, народными депутатами СССР А. Емельяненковьш
и В. Мининым.
Дополнительно запрошены, изучены и проанализированы: акт
правительственной комиссии, акты секций рабочей комиссии, заключительный акт об
окончании опытовой эксплуатации подводной лодки «Комсомолец», совместный приказ
министра обороны и судостроительной промышленности СССР, заключение по
анализу действий личного состава подводной лодки при борьбе за живучесть,
выполненное Минсудпромом СССР, письма и обращения командиров атомных
подводных лодок, офицеров-подводников, членов экипажа ПЛ «Комсомолец» и др.
материалы. На основании указанных документов и заслушивания специалистов
ВМФ, науки и промышленности рабочая комиссия подготовила заключение, в
котором содержатся следующие выводы и предложения.
ВЫВОДЫ:
1. Большая часть предложений, представленных в Комитет тов. Черновым,
заслуживает внимания. В основном они отражены в мероприятиях ВМФ и Мин-
еудпрома и находятся в настоящее время в стадии проработки и реализации.
2. Рабочая комиссия Комитета считает заслуживающими доверия выводы
Правительственной комиссии по расследованию причин аварии и обстоятельств
гибели подводной лодки «Комсомолец» и не видит оснований ставить под сомнение
результаты ее работы.
3. По итогам работы Правительственной комиссии ВМФ и Минсудпромом
СССР разработаны мероприятия по предупреждению аварийности кораблей,
повышению их живучести и совершенствованию профессиональной подготовленности
личного состава, в том числе приняты решения на уровне Правительства. За
реализацией утвержденных мероприятий установлен контроль ведомств.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Принимая во внимание, что мероприятия, реализуемые ВМФ и
промышленностью, включают большую часть предложений тов. Чернова Е. Д., заседание
Комитета по ним не проводить, ограничиться результатами работы рабочей
комиссии.
2. Проведенный Правительственной комиссией большой объем всесторонних
расследований причин аварии и обстоятельств гибели подводной лодки
«Комсомолец» определяет нецелесообразность дополнительных расследований до
возможного подъема лодки.
■ См. Морской сборник. — 1990, — Ш 12. — С. 27—28,
15
3. Формирование при парламентских комитетах комплексной экспертной
группы из «независимых специалистов» для изучения и анализа фактического
положения дел на флоте считать нецелесообразным.
4. Минобороны СССР (ВМФ) и Минсудпрому СССР ускорить принятие
конкретного решения о внедрении в ВМФ сервисного (фирменного) обслуживания
наиболее сложной техники предприятиями промышленности и о формировании
экипажей подводных лодок* профессиональным личным составом.
5. Считать целесообразным заслушать во 2-м полугодии 1991 г. в Комитете
Верховного Совета СССР по вопросам обороны и госбезопасности Министерство
обороны СССР и Министерство судостроительной промышленности СССР о ходе
выполнения принятых решений и постановлений по обстоятельствам и причинам
гибели подводной лодки «Комсомолец».
НЕ ЗАБОЛТАТЬ БЫ ДЕЛА... Реплика
ТЕКСТ, с которым вы только что познакомились, казалось бы, ставит точку в
полемике о необходимости нового расследования причин и обстоятельств
гибели ПЛА «Комсомолец». Однако ленинградская газета «Невское время» недавно
заявила, что это всего лишь «Точка со знаком вопроса». И помогло ей прийти к
такому выводу, вынесенному в заголовок, интервью с вице-адмиралом в отставке
Е. Д. Черновым.
Как не может быть знак вопроса без точки полноценным знаком
препинания, так не может безапелляционность суждений быть истиной в последней
инстанции. А именно на нее и претендует в этом интервью Евгений Дмитриевич.
Если прежде всего его обвинения строились на необъективных, по его мнению,
выводах правительственной комиссии, расследовавшей обстоятельства гибели
ПЛА «Комсомолец», то теперь они сосредоточены на критике необоснованного,
как ему представляется, заключения рабочей комиссии Комитета Верховного
Совета СССР.
Что ж, критиковать сегодня можно кого угодно, даже Президента, лишь бы
критика была по делу. Однако сосредоточивать ее огонь не на фактах, а на
личностях — не лучший способ выявления истины. Например, утверждение Е. Д.
Чернова о том, что Главнокомандующий ВМФ, «лично руководивший работой
комиссии по расследованию причин гибели ПЛ «Комсомолец»... вывел из поля
зрения и профессионального разбора целый ряд принципиальных вопросов...» и
тем самым ввел комиссию в заблуждение, не соответствует действительности.
Работой комиссии руководили министр обороны СССР и секретарь ЦК КПСС.
Что же касается обвинений в сокрытии от комиссии «целого ряда
принципиальных вопросов», то в ее составе были как прежний, так и нынешний министры
Минсудпрома. ученые, конструкторы, представители научных учреждений ВМФ
и промышленности, от которых что-либо скрыть, извините, вряд ли возможно.
Критикуя всех, кто, по его мнению, допустил гибель «Комсомольца», Е. Д.
Чернов скромно умалчивает о том, что он сам принимал эту лодку и без малого три
года являлся председателем комиссии по ее опытовой эксплуатации. Как же
случилось, что он не замечал тех конструктивных недоработок, которые выявила
комиссия после аварии?
Немногие знают, что после увольнения из рядов Вооруженных Сил вице-
адмирал в отставке Е. Д. Чернов работал в той проектной организации, которая
создавала «Комсомолец». Вот бы где, казалось, можно было использовать свой
большой опыт и результаты личного расследования для устранения
конструктивных недостатков корабля. Но Евгений Дмитриевич в этой организации долго не
задержался. По крайней мере о его личном участии, как кандидата
военно-морских наук, в доработке проекта мы не знаем. Зато благодаря его многочисленным
интервью в печати широко известно о «виновниках» аварии и
«недобросовестности» всех, кто занимался ее расследованием.
Дабы придать этим и многим другим «фактам» некое правдоподобие,
Евгений Дмитриевич пытается представить себя в глазах общественного мнения
человеком, пострадавшим за критику руководства ВМФ и потому преждевременно
уволенным с флота. Прием не нов. На Руси принято жалеть незаслуженно
обиженных. Жалеют в «Невском времени» и Чернова. И напрасно. Уволили его в
запас не в соответствии с законом — в пятьдесят пять, а когда ему перевалило за
шестьдесят.
Можно привести и другие примеры некорректности в полемике в печати
Евгения Дмитриевича, но мы не ставим перед собой подобной цели. Герой
Советского Союза вице-адмирал в отставке Е. Д. Чернов известен на флоте. Ему, как
и каждому из нас, свойственны ошибки и заблуждения. Хорошо бы вовремя в них
разобраться, не дать захлестнуть себя эмоциям. Для всех нас сегодня гораздо
важнее совместная работа по выполнению решений правительства, направленных
на улучшение как конструктивных особенностей кораблей, так и подготовки
экипажей. Думаем, что именно здесь флоту очень бы пригодился опыт как тех, кто
продолжает служить, так и ушедших в-запас или отставку.
16
Документы и судьбы
ДВА ЧАСА В МУЗЕЕ КГБ
«Дорогой друг! Мы рады, что вы
приняли наше предложение. Нас
интересуют ядерные энергетические установки
подводных лодок и крейсера «Киров»...
— так неожиданно для
присутствующих офицеров и служащих Главного
штаба ВМФ цитатой из разведзадания
шпиону начал свой рассказ о музее
сотрудник Центра общественных связей
КГБ СССР.
К шпиону, торговавшему секретами
военно-морского флота, мы еще
вернемся, а пока пройдем по залам музея
КГБ, который недавно открыл свои
двери посетителям.
Первый зал посвящен традициям
ВЧК—КГБ, основополагающим
принципам органов госбезопасности,
заложенным первым председателем
Всероссийской Чрезвычайной Комиссии
Феликсом Эдмундовичем Дзержинским и
получившим, можно сказать, второе
дыхание при Ю. В. Андропове. Сотрудник
музея познакомил посетителей с
восстановленным по сохранившимся
фотографиям фрагментом кабинета, в котором
Ф. Э. Дзержинский работал в здании
на Лубянке в первые годы советской
власти.
Рядом с фрагментом кабинета Ф. Э.
Дзержинского на турникетах
подлинные документы того времени — указы,
приказы, мандаты и фотографии. Чем
они интересны для военных моряков?
— Моряки Балтийского флота, —
рассказал экскурсовод, — составили
костяк войсковых подразделений ВЧК,
охраняли известное здание на
Гороховой улице в Петрограде, участвовали в
раскрытии заговоров. В органах
госбезопасности в послереволюционные годы
работали моряки: Д. Мальков, ставший
затем комендантом Кремля; член
Кронштадтского Совета, первый начальник
морского особого отдела при РВС
Балтийского флота Д. И. Демьянович —
участник штурма Зимнего дворца;
С. Н. Розанов — начальник
Ораниенбаумского морского отделения
Петроградской ЧК. В марте 1918 г.
заместителем председателя этой же ЧК стал
В. И. Зоф — будущий начальник
Морских Сил СССР.Лишь недавно стало
достоянием широкой общественности
имя бывшего гардемарина российского
флота, выдающегося советского
разведчика, длительное время нелегально
работавшего за границей, Д. Быстролетова.
Вот на стенде фотография моряка.
Те, кто интересуется историей,
конечно же, узнали первого красного
адмирала М. В. Иванова, кадрового
флотского офицера, стоявшего у истоков
морских частей погранохраны.
Сотрудник музея также рассказал и
о еще не получивших широкого
освещения в печати фактах борьбы с
иностранными разведками. Среди них дело
английского шпиона — командира
спасательного судна «Коммуна» бригады
подводных лодок морских сил Балтийского
моря Клепикова. Он установил связь с
английским резидентом в Финляндии,
бывшим капитаном царского флота Чет-
вертухиным, и стал передавать ему
секретные сведения о составе
военно-морского флота, артиллерийском и минном
вооружении, оперативных заданиях, о
плане мобилизации флота. Трибунал
воздал должное Клепикову.
Не обойдены в экспозициях и
трагические события периода массовых
репрессий, произвола и беззакония.
Офицеры и служащие Главного штаба ВМФ
смогли ознакомиться с материалами,
раскрывающими подоплеку и механизм
фальсификаций, создания мифических
подпольных организаций, в том числе и
известного «Военно-фашистского
заговора в Красной Армии». Вот фото
палача-садиста Ушакова (Ушиминского),
начавшего раскручивать «враждебную
сеть» в Военно-Морском Флоте.
Для надзора за флотом Сталин
назначил на пост наркома ВМФ ближайшего
подручного Ежова — Фриновского,
расстрелянного впоследствии за грубейшие
нарушения соцзаконности. Он немало
постарался для «наведения морского
порядка» в наркомате и на флоте.
Жертвами репрессий стали многие адмиралы
и офицеры Военно-Морского Флота.
Полную противоположность фринов-
ским, ушаковым и им подобным
представляли чекисты-дзержинцы, приняв-'
2 «Морской сборкик>
17
шие мучительные пытки и смерть, но не
ставшие на путь беззакония. Среди них
Т. Д. Дерибас, В. А. Стырне, Я. К. Оль-
ский.
В преддверии войны были
обескровлены не только армия и флот, но и
органы госбезопасности. Естественно, это
не могло не сказаться на эффективности
тайной борьбы с ведомством адмирала
Канариса. И несмотря ни на что,
советские разведчики, сотрудники
территориальных органов НКВД, военные
контрразведчики, 2200 спецотрядов и групп
чекистов много сделали в годы войны с
фашизмом. Большой объем развединфор-
мации, в том числе о немецком военном
флоте, передала группа «Форт»,
руководимая Героем Советского Союза А. Ля-
гиным, а также чекисты, действовавшие
в Одессе. Геройски проявили себя
многие сотрудники флотской контрразведки.
Оперуполномоченный СМЕРШ
Черноморского флота Павел Михайлович
Силаев с группой краснофлотцев
прикрывал отход одной из частей и, истратив
последние патроны, подорвал себя и
наседавших фашистов. Удостоен звания
Героя Советского Союза
чекист-тихоокеанец Михаил Петрович Крыгин. В составе
десанта он высадился в порту Сейсин и
обеспечил захват архива центра
японской разведки. В жестоком бою с
самураями Крыгин погиб.
— С 1943 г. — говорит сотрудник
музея, — военная контрразведка вошла в
состав Наркомата обороны. В НК ВМФ
существовало управление контрразведки
СМЕРШ. Общее руководство им
осуществлял Н. Г. Кузнецов. Сейчас появилось
много досужих рассуждений о его
отношении к чекистам. История,
думается, все расставит на свои места.
А пока разрешите представить вам
контрразведчика Владимира Кузнецова,
сына Николая Герасимовича.
— Я оказался здесь как бы в роли
живого экспоната, — с шутки начал
Владимир Николаевич, — а если серьезно,
то пришел сюда только для того, чтобы
сказать вам: не было у отца
предубеждения по отношению к чекистам. Когда
решался вопрос о моем зачислении в
органы госбезопасности, отец сказал:
«Работа нужная для страны, и ты должен
достойно трудиться на любом участке,
куда тебя направят».
Сотрудник музея обратил внимание
своих слушателей на некоторые
экспонаты, имеющие непосредственное
отношение к Военно-Морскому Флоту. Вот, к
примеру, фото части ракетной системы,
разрабатывавшейся для ВМФ. Именно
эта система стала объектом ряда
диверсионных актов, совершенных рабочим
одного из оборонных заводов Анисиным.
Предпринятый чекистами активный
розыск позволил установить его.
Другой экспонат — тайник,
закамуфлированный под камень. А в нем
шпионские инструкции и задание агенту
Рольфу Даниэлю. Приведем здесь лишь
несколько из 73 вопросов, поставленных
шпиону:
«1. К каким документам, дающим
ответы на наши вопросы насчет ядерных
реакторов, вы имеете доступ? Где эти
документы находятся? Засекречены ли
они?
2. Пожалуйста, составьте список всех
конструкторских бюро, производственных
предприятий и районов испытаний, о
которых вам известно, что они связаны с
военно-морскими научными
исследованиями...
3. О каких современных и будущих
атомных подводных кораблях вам
известно? Сообщите следующие данные:
где и когда построены; номера проекта:
тип подводного корабля; тип и число
реакторов, мощность каждого реактора...
4. Были ли вы когда-нибудь на борту
атомной подлодки или на любом другом
военном судне? Когда? Номера проекта,
где находится?
5. Опишите подлодку «Золотая
рыбка» (рабочую характеристику, размеры,
число реакторов), имеют ли другие
подлодки реакторы типа свинец-висмут?
Знаете ли вы число экипажа «Золотой
рыбки...»
Чекисты раскрыли тайну псевдонима
Рольф Даниэль. Им оказался научный
работник НИИ Арктики и Антарктики
некий Павлов. По приговору военного
трибунала он понес суровую, но
заслуженную кару. А те, кто выходил с ним
на связь, — вице-консул генконсульства
США в Ленинграде Аугустенборг и его
супруга — выдворены из СССР.
Около двух часов продолжался осмотр
экспозиции. Знакомство офицеров и
служащих Военно-Морского Флота с
деятельностью чекистов, направленной на
обеспечение безопасности страны и ее
Вооруженных Сил, позволило много
узнать нового из истории и сегодняшних
будней КГБ СССР.
Капитан 2 ранга А. АРИСТОВ
18
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ
В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА МОР
Контр-адмирал В, КАЛИНИН
Капитан 1 ранга А. ЛОБАНЧУК
/** ЕГОДНЯ, в условиях активной реализации оборонной направленности нашего
w военного строительства, уровень развития средств радиоэлектронной борьбы
(РЭБ) и их готовность к действиям по срыву или максимальному затруднению
достижения агрессором целей внезапного нападения приобретают важнейшее значение.
Они объективно требуют к себе самого пристального внимания, всесторонней оценки
их возможностей в решении всего комплекса возникающих задач и принятия
неотложных мер к устранению выявляемого несоответствия современным
требованиям.
Анализ развития способов ведения вооруженной борьбы на море, в том числе
и хода боевых действий в региональных конфликтах последнего времени, показывает,
что успех в бою зависит не только от мощи поражающих свойств применяемого
оружия, но и от технических возможностей используемых при этом радиоэлектронных
средств (РЭС), решающих задачи освещения обстановки, управления силами и
оружием, наведения и выдачи целеуказания, разведки, РЭБ и т. д. Они используются
как самостоятельно, так и в составе автоматизированных систем, причем надежность
их функционирования оказывает все большее влияние на конечный результат
противоборства.
Все углубляющаяся в последнее время специализация РЭС вызывает
увеличение их числа на надводных кораблях, подводных лодках, самолетах и наземных
объектах флотов. Например, если в начале второй мировой войны на типовой
группировке надводных кораблей насчитывалось около двадцати различных РЭС, то в 50-е
годы на аналогичной по составу группировке их количество удвоилось, в 60-е —
приблизилось к 100 ед., а в настоящее время превзошло 300. При этом вместе с
количеством изменялось и качество радиоэлектронного вооружения, расширялись его
возможности, увеличивалась надежность.
Параллельно с совершенствованием РЭС шло развитие средств как мешающих
их работе, так и защиты от преднамеренных помех. Постепенно это соперничество
переросло в «борьбу в эфире». Некоторые авторы стали использовать термины
«борьба за управление» и «борьба с информацией». Но все сходятся в одном: кто имеет
превосходство в РЭБ, тот имеет преимущество в достижении поставленной цели.
Известно, что РЭБ, являясь одним из основных видов оперативного и боевого
обеспечения, оказывает все большее, а в ряде случаев и определяющее, влияние на
исход операций и боевых столкновений, воздействуя на работу радиоэлектронных
средств систем управления силами и оружием противника, других обеспечивающих
систем и средств. Так, если в ходе первой мировой войны на Балтике использовалась
только одна Гапсальская береговая радиостанция, которая мешала германским
кораблям передавать свои донесения по радио, то в 30—40-е годы началось массовое
вооружение кораблей и самолетов средствами помех, а также формирование
специальных береговых и авиационных подразделений, Например, в ходе Нормандской де-
19
сантной операции в 1944 г. передатчиками помех были оборудованы 262 надводных
корабля и большое число самолетов. Значительное количество таких передатчиков
было установлено и на побережье Англии. На ложном направлении высадки
действовала специальная эскадрилья самолетов—пастановщиков пассивных помех. В
результате такого массированного применения помех немецкие РЛС на побережье
Нормандии оказались полностью подавленными. Это способствовало тому, что из более
чем двух тысяч кораблей, участвовавших в высадке, от воздействия противника было
потеряно только шесть.
Анализ вооруженных конфликтов последнего времени показывает, что в
большинстве случаев комплекс мероприятий по нарушению нормального
функционирования систем освещения обстановки противника, управления его силами во всех
звеньях и оружием нападающая сторона стремилась провести еще до развязывания боевых
действий или одновременно с их началом. Так поступили многонациональные силы
антииракской коалиции в январе 1991 г., когда еще до начала боевых действий
приступили к проведению операции по массированному подавлению РЭС ПВО и системы
управления силами Ирака. Предварительный анализ показывает, что такое
широкомасштабное применение средств РЭБ позволило подавить помехами РЭС ПВО Ирака,
а часть из них вывести из строя применением ракет, самонаводящихся на излучения
РЛС. Это явилось одним из факторов, обеспечивших оперативную и тактическую
внезапность нанесения первых воздушных ударов, а также практически отсутствие
потерь многонациональных сил в начале боевых действий.
Таким образом, развитие средств и способов радиоэлектронной борьбы шло от
их одиночного применения к проведению специальных действий по массированному
и комплексному воздействию на радиоэлектронные средства противника, затрудняя,
а иногда и парализуя работу его боевых и обеспечивающих систем. Именно этим в
определяется сегодня значение РЭБ. Однако до настоящего времени есть мнение, что
радиоэлектронная борьба дело второстепенное. Переубедить тех, кто предпочитает
иметь больше оружия, чем средств РЭБ, попробуем на примере из действий
британского флота в англо-аргентинском конфликте 1982 г.
В четырех случаях использования аргентинскими войстсами противокорабельных
ракет (ПКР) по английским кораблям их было выпущено 10 ед. (6 — с самолетов и
4 — с береговых установок). Обстреливалось пять кораблей: авианосцы «Гермес» и
«Инвинсибл», эсминцы УРО «Шеффилд» и «Глэморган», а также фрегат «Плимут».
Из них только один (эм УРО «Шеффилд») не использовал для своей защиты средств
РЭБ. Именно он и был потоплен. В то же время комплексное и своевременное
применение пассивных и активных помех остальными кораблями позволило отвести 8 из
9 ракет на ложные цели. Из 4 ракет, выпущенных по эм УРО «Глэморган»,
использовавшего средства РЭБ, попала только одна. Эсминец получил повреждения. При
этом следует заметить, что огневыми средствами всех указанных кораблей не было
сбито ни одной ракеты и ни одного самолета.
Рассматривая тенденции развития РЭБ в боевых действиях на море, следует
выделить два ее направления: совершенствование организации РЭБ
в операциях и боевых действиях и дальнейшее развитие самих средств РЭБ. При
этом необходимо учитывать, что несмотря на общую тенденцию количественного
сокращения ударного оружия на носителях просматривается
стремление сохранить и даже повысить их боевые возможности путем совершенствования
систем разведки, целеуказания и РЭБ. В настоящее время на организацию и
ведение радиоэлектронной борьбы, по нашему мнению, оказывают влияние следующие
факторы.
Первый — это сложившаяся структура системы управления силами и оружием.
В последние годы в оценке перспективных способов ведения боевых действий на
море произошел переход от концепции «силы против сил» к концепции «боевые
системы против боевых систем», в которой одним из основных элементов является
система управления (см. рис. 1). Это в свою очередь повлияло на содержание
радиоэлектронной борьбы, одной из важнейших задач которой является нарушение
функционирования данной системы путем: воздействия средствами РЭБ на входящие в ее
состав РЭС, изменения свойств среды, затрудняющие распространение
электромагнитных или иных волн. Она проводится в сочетании с применением оружия по всем
элементам этой системы.
2ft
УДАРНЫЕ
СИЛЫ
Добывание
информации/
об объекте /
УДАРА /
Объект я дар а |
Рис. 1. Структура системы управления при
нанесении удара
Второй фактор — резкий
количественный скачок в оборудовании
радиоэлектронными средствами и
системами РЭС морских и океанских ТВД,
насыщение ими кораблей, подводных
лодок и самолетов. А это в свою
очередь влияет на качество работы
данных средств, определяемое не только
их технической надежностью, но и
способностью устойчиво функционировать
в условргях воздействия различного
вида помех. При этом, чем больше в
системе РЭС, тем больше возможностей
повлиять на них средствами РЭБ, а
значит, снизить надежность
функционирования системы в целом.
Третий — все большее
объединение РЭС различного назначения в
специальные системы (освещения
обстановки, управления, выдачи
целеуказания на применение оружия и т. п.).
Подтверждением этому служит
создание системы противолодочного
наблюдения США (СОСУС), космической
системы разведки морских целей (НОСС), глобальной системы оперативного управления
ВС США (ГСОУ) с входящей в нее системой оперативного управления ВМС и др.
Это в свою очередь тоже требует комплексного подхода к решению задачи по
нарушению их функционирования в случае начала боевых действий.
Четвертый — возрастание влияния результатов радиоэлектронной борьбы на
конечный результат операции, морского боя, в связи с чем средства РЭБ стали
учитываться при оценке боевых потенциалов противостоящих группировок.
Бесспорно, конечные цели операции, сражения или боя достигаются огневым
поражением противника (уничтожением или нанесением максимального ущерба его
силам). Однако РЭБ способна в значительной мере облегчить решение этой задачи,
дезорганизуя управление силами и оружием противника, снижая возможности
технических средств его разведки, обеспечивая устойчивость работы своих
радиоэлектронных средств. При этом комплексность применения средств РЭБ обусловлена тем,
что эффективность их воздействия на любую систему в целом достигается как сумма
результатов воздействий на отдельные ее элементы (средства обнаружения,
управления, целеуказания, самонаведения и др.).
При организации РЭБ важное место занимает разведка радиоэлектронных
средств и систем противника. При решении этой задачи следует различать выявление
противника в интересах РЭБ и радиоэлектронную разведку (РЭР) как составную
часть разведки на ТВД. Между ними существует тесная взаимосвязь, но имеются и
существенные различия. РЭР в широком смысле предназначена для добывания всех
возможных данных о противнике. Выявление излучающих РЭС является задачей
исполнительной разведки РЭБ и служит для выдачи данных целеуказания средствам РЭБ.
Ее можно сравнить, к примеру, с артиллерийской разведкой. Общим
для них является то, что в обоих случаях для добывания данных о противнике
используются радиоэлектронные средства. Различия же заключаются в том, что первая
выявляет данные о силах противника (его составе, местоположении, состоянии,
характере действий и т. п.), а вторая — параметры работы РЭС противника для создания
помех. При этом взаимосвязь видится и в том, что данные РЭР используются в
качестве исходных для оценки радиоэлектронной обстановки и организации разведки
в интересах РЭБ. В ряде случаев и особенно на тактическом уровне эти две задачи
решаются одними и теми же РЭС, позволяющими в кратчайшее время обеспечить
целеуказание и оружию, и средствам РЭБ. Однако с оперативного уровня функции
РЭР и исполнительной разведки РЭБ разделяются. Это обстоятельство следует
учитывать при совершенствовании организации РЭБ,
21
Составной частью организации РЭВ является оценка радиоэлектронной
обстановки в районе предстоящих боевых действий и в целом на ТВД. Оценка
радиоэлектронной обстановки проводится для определения наиболее уязвимых звеньев в
радиоэлектронных системах противника и оценки собственных возможностей по
нарушению их работы. Отсюда вытекает необходимость определения потребного для этого
наряда сил в средств. Однако в настоящее время успешное решение данной задачи
из-за постоянного увеличения числа радиоэлектронных объектов на ТВД,
динамичности изменения обстановки становится возможным уже только с использованием
современной ЭВТ.
В то же время противник также будет стремиться решить аналогичные задачи
по отношению к нашим системам. Это потребует, во-первых, обеспечить их защиту
от преднамеренных помех. Во-вторых, устранить или ослабить ряд демаскирующих
признаков при росте интенсивности использования своих РЭС для снижения
эффективности ведения противником разведки. В-третьих, исключить взаимные помехи при
одновременном использовании РЭС различного назначения. Все это требует четкой
координации и организации взаимодействия имеющихся средств при решении всего
комплекса задач радиоэлектронной борьбы.
Важность правильной организации радиоэлектронной защиты как составной части
РЭБ иллюстрируют последствия упущений в этом вопросе, приведшие к гибели эм
УРО «Шеффилд». На нем из-за возможных помех проведению сеанса связи через
ИСЗ выключили РЭС освещения воздушной обстановки. И как итог не была
обеспечена своевременность применения зенитно-огневых средств, средств РЭБ для
отражения удара ПЕР.
Исходя из сказанного, содержание РЭБ можно сформулировать так.
Радиоэлектронная борьба — это комплекс согласованных по целям, месту и времени
мероприятий i действий сил по выявлению радиоэлектронных средств и систем
противника, их электронному подавлению, противодействию техническим средствам
разведки противника, а также радиоэлектронной защите своих РЭС и систем. РЭБ
проводится в сочетании с огневым поражением радиоэлектронных объектов противника
и в тесном взаимодействии с другими видами оперативного (боевого) обеспечения.
РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ БОРЬБА
Огневое
поражение
(вывод
ИЗ СТРОЯ)
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ
ОБЪЕКТОВ
Сочна
Выявление
РЭС
и систем
ПРОТИВНИКА
Радиоэлектронное
подавление
РЭС
ПРОТИВНИКА
радиоэлектронная
защита
своих рэс
И СИСТЕМ
Противодей-
твие
техниЧЕСКИМ
СРЕДСТВАМ
РАЗВЕДКИ
ф
ДРУГИЕ
ВИДЫ
ОПЕРАТИВНОГО
(БОЕВОГО)
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
О СНИЗИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ СИЛ ПРОТИВНИЦА
О ПОВЫСИТЬ ЭФфЕКНШНШЬ ДЕЙСТВИЙ СВОИХ СИЛ
Дезорганизация управ
ЛЕНИЯ СИЛАМИ И QPH
ЖИЕМ ПРОТИВНИКА
Снижение возможностей
РАЗВЕДКИ ПРОТИВНИКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
иБЕТЖЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ |
РАБОТЫ СВОИХ РЭС
И СИСТЕМ
бис 2, Содожани*, осношны* цели и задачи РЭБ
Основными факторами, влияющими,, до нашему мнению, на дальнейшее развитие
средств РЭБ, являются:
освоение новых диапазонов частот, в которые перемещают свою работу
разрабатываемые и принимаемые на вооружение РЭС обнаружения и связи;
бурное развитие элементной базы и массовое внедрение ЭВТ для обработки
информации РЭР;
использование новых нетрадиционных приемов освещения обстановки и
передачи информации.
Они влекут за собой необходимость совершенствования существующих
электронных средств на базе новых технологий, внедрение более совершенной ЭВТ и
разработку средств для воздействия на перспективные РЭС.
В первом случае четко просматривается тенденция создания
многофункциональных бортовых (индивидуальных) автоматизированных комплексов РЭБ надводных
кораблей, самолетов и подводных лодок. Примером может служить
автоматизированный комплекс РЭВ для надводных кораблей США AN/SLQ-32.
Создание же принципиально новых средств РЭБ будет идти, как нам
представляется, не только в направлении их применения для нарушения работы РЭС в
новых частотных диапазонах, но и создания высокопотенциальных средств, которые,
используя новые физические принципы, будут способны не только подавлять РЭС,
но и выводить из строя их отдельные элементы. Кроме того, использование для
передачи информации новых видов связи требует пересмотра и самой структуры
помех, где предполагается не только силовое давление, но и разрушение полезного
сигнала (внедрение в него дополнительных составляющих, «вырезывание» части
сигнала и т. п.).
Развиваются и средства создания ложных целей, как для введения противника
в заблуждение относительно истинного состава и боевого порядка группировки сил,
так и для отведения самонаводящегося оружия (ПНР, торпед, зенитных ракет и
т. д.). Их прогресс будет идти по пути расширения диапазонов для имитации
различных физических полей надводных кораблей, подводных лодок и летательных
аппаратов. Для успешного применения ложных целей при индивидуальной защите по-
прежнему будут совершенствоваться средства предупреждения объекта об облучении.
На эффективность работы РЭС и ведение РЭБ в дальнейшем будут оказывать
влияние средства снижения заметности самолетов, надводных кораблей и подводных
лодок. Наиболее показательной здесь может служить технология «Стеле».
И последнее, пожалуй, направление развития РЭБ на современном этапе, как
считают специалисты,—это совершенствование противорадиолокационных ракет и
организации их применения в сочетании с комплексным использованием бортовых
самолетных средств РЭБ, что позволит более успешно решать задачи борьбы как с
корабельными, так и с континентальными средствами ПВО.
Подводя итог обзора тенденций развития средств и способов РЭБ в боевых
действиях на море, необходимо подчеркнуть рост требований к уровню подготовки
офицеров штабов различного уровня, кораблей и авиации в вопросах их применения.
Умение анализировать складывающуюся радиоэлектронную обстановку, определять
конкретные цели и задачи РЭБ, организовывать комплексное применение имеющихся
средств, глубоко понимать ее содержание в современных боевых действиях на море
обуславливает качественное и успешное выполнение поставленных задач. Достижение
целей ведения радиоэлектронной борьбы во многом будет зависеть и от настойчивой
деятельности по ее организации, и от постоянного совершенствования способов
применения ее сил и средств, и от изыскания новых, нетрадиционных приемов ведения
РЭБ.
СУДЬБЫ ДОКТРИН И ТЕОРИЙ
4. ФЛОТ ДОЛЖЕН БЫТЬ АКТИВНЫМ. 1925—1928 гг.
ЗНАЧЕНИЕ решений в отношении
перспектив строительства РККФ,
принятых на рубеже 1925—1926 гг., отнюдь
не в том, что они принимались впервые.
Попытки определить роль и место флота
в обеспечении интересов государства и
в системе вооруженных сил, разработать
реальную кораблестроительную
программу с конца 1920 г. предпринимались, по
крайней мере, трижды. Однако никак не
удавалось окончательно согласовать их
ни с задачами РККФ, ни с
возможностями экономики, подорванной войнами.
Работы по проектированию, достройке
я восстановлению кораблей велись по
мере выделения на эти цели бюджетных
сумм, по планам ничего общего не
имевших с действительными потребностями в
силах на каждом из морских театров.
Неустойчивость взглядов на применение
Военно-Морского Флота проявлялась в
глубине и размахе
организационно-штатных мероприятий, приводивших к
частым и не всегда обоснованным
изменениям в составе частей и соединений
морских сил, структуре и функциях органов
управления.
Последовавшие за итогами маневров
1925 г. постановления РВС СССР
выделяются среди них, потому что впервые
эти вопросы попытались решить в
комплексе, исходя из стратегической
концепции применения вооруженных сил в
рамках единой военной доктрины. Другой
вопрос, насколько эта концепция
отвечала содержанию доктрины, а доктрина —
реальному положению страны в
окружающем ее мире и степени грозящей
опасности извне.
Как мы уже могли убедиться,
руководство РККА, с одной стороны, а
РККФ — с другой, использовали итоги
маневров в целях обоснования далеко
не совпадающих, а потому и
противоположных выводов о роли и месте флота
среди других видов Вооруженных Сил. А
разногласия между штабами РККА и
Предыдущие статьи подборки см. в
«Морском сборнике> № 11. 12 за 1990 г. и № 2
за 1991 г.
Капитан 1 ранга М. МОНАКОВ
Старший мичман в запасе
Я. БЕРЕЗОВСКИЙ,
кандидат исторических наук
РККФ поставили первых лиц Наркомата
по военным и морским делам и РВС
СССР (К. Ворошилова, И. Уншлихта и
др.) в сложное и даже двусмысленное
положение.
Обремененные правом и обязанностью
принимать решения, конник Ворошилов
и чекист Уншлихт с большим доверием
относились к выводам Тухачевского,
внешне совершенно доказательным. В
выкладках штаба РККА была близкая им,
практикам, конкретика, подкупающее
отсутствие терминологических
туманностей, присущих теоретическим изыскам
моряков. Однако, не будучи уверенными
в собственной компетентности и
осознавая высокую стоимость возможной
ошибки — речь шла о многомиллионных
затратах, — они решили потянуть время
испытанным аппаратным способом. 7
декабря 1925 г. была образована Морская
комиссия РВС СССР во главе с И. Ун-
шлихтом. Со стороны моряков в ее
состав были включены В. Зоф, его
помощник по техническо-хозяйственной части
П. Куриков, начальник технического
управления Н. Власьев, начальник
оперативной части А. Тошаков. От РККА —
М. Тухачевский, С. Каменев, начальник
ВВС РККА П. Баранов и Левичев.
Комиссия собиралась четырежды, но
разницу во взглядах на задачи флота,
его состав, перспективы развития,
строительство боевых кораблей,
организационные формы и подчиненность родов сил
(в частности, морской авиации)
устранить не удалось. С констатации этого
факта 16 марта 1926 г. Уншлихт начал
свое выступление на заседании РВС
СССР, на котором рассматривались
итоги работы Морской комиссии. Впрочем,
к этому времени активность штаба
РККА, по настоянию которого еще в
январе была образована подкомиссия в
составе Г. Галкина, начальника
оперативного управления штаба РККА
В. Триандафиллова и начальника моби-
лизационно-планового управления
аппарата начальника снабжений РККА
А. Вольпе, стала приносить плоды.
24 г
Штаб РККА начал оказывать все более
заметное влияние на формирование
окончательных решений руководства РВС.
Так, постановлением РВС флоту были
определены задачи в полном
соответствии с упомянутыми в предыдущей
статье предложениями штаба РККА.
Свертывались работы по восстановлению
линкора «Фрунзе». Прекращена
подготовка к переоборудованию в авианосец
линейного крейсера «Измаил». А
выделенные на текущий 1925—1926
бюджетный год 27 864 тыс. рублей (около
5% всех военных расходов)
направлялись на достройку кораблей, оставшихся
на заводах со времен войны, ремонт и
модернизацию наиболее сохранившихся и
современных из числа находящихся в
строю и на долговременном хранении.
Продолжая наступление, которое
контр-адмирал В. Белли позднее назвал
«очередным разгоном морского
ведомства», штаб РККА в апреле 1926 г.
разработал «Соображения по вопросу
организации Морских сил». Исходя из
своего понимания роли флота как
«вспомогательной» и в целях «установления
более тесной его связи» с армией и
военно-воздушными силами, авторы
«Соображений. ..» предложили ликвидировать
штаб РККФ как оперативный орган
управления силами на театрах.
Характерным является и то, что
группа работников штаба РККА во главе с
В. Триандафилловым не сочла нужным
даже поставить в известность военно-
морское командование и привлечь к
работе его ответственных лиц.Проект
постановления «Об изменении организации
управления Наморси» попал к морякам
лишь после того, как он был
представлен в секретариат Реввоенсовета.
Спешно подготовленный в штабе
РККФ контрдоклад руководство РВС
СССР не убедил, хотя в нем моряки
пытались раскрыть всю историю вопроса и
вновь акцентировать внимание на
значении флота для обороны страны.
Предложения, разработанные Тухачевским,
Триандафилловым и их помощниками,
опять показались более приемлемыми.
Прежде всего как позволяющие
существенно сократить центральный аппарат,
что считалось одной из главных задач
реформы. К тому же такое сокращение
обещало освобождение от значительного
числа «буржуазных военспецов»,
оставшихся из которых было уже легче взять
под контроль комиссаров и армейских
штабных командиров, среди которых
процент «бывших» был не столь высок,
как среди флотских. А в 1926 г.
отношение к военспецам вновь стало, мягко
говоря, осторожным.
Приказом РВС СССР № 390 от 22
июля 1926 г. Управление
Военно-Морских Сил СССР было преобразовано в
Управление Военно-Морских Сил РККА.
Впервые за более чем двухсотлетнюю
историю своего существования
отечественный флот утрачивал структуру вида
вооруженных сил, а силы на театрах
становились в полном смысле слова
«морскими силами», так как им по сути
дела отводилась роль одного из родов
войск в составе приморских военных
округов. УВМС РККА новым положением
были оставлены лишь функции по
руководству боевой,
организационно-мобилизационной и технической подготовкой
военно-морских сил и береговой
обороны, комплектования личным составом,
обучения, организации службы,
постройки, ремонта и оборудования кораблей и
специальных сооружений,
гидрографических работ и обеспечения
безопасности мореплавания.
Вопросы оперативного использования
сил флотов становились прерогативой
командующих войсками приморских
округов. Вместо оперативных органов
флота в штабе РККА был сформирован 2-й
(морской) отдел оперативного
управления, не подчиненный начальнику
Управления ВМС. Этому организационно
слабому подразделению (из 6 человек)
вменялось в обязанность заниматься
разработкой всех планов, мероприятий,
заданий, связанных с оперативным
использованием военно-морских сил в военное
время, а также «со строительством и
развитием Военно-морских сил и
береговой обороны».
В общем, это означало, что отныне
решающую роль в формировании
взглядов руководства страны на задачи
флота и перспективы его развития
предполагало полностью взять на себя
руководство штаба РККА.
В силу объективных причин,
малочисленности и качественной слабости
состава РККФ, тяжелого финансового
положения СССР, высокой стоимости
боевых кораблей и береговых объектов,
относительно больших сроков
реализации кораблестроительных программ и
планов развития других родов сил
многие из моряков в принципе
соглашались с тем, что со строительством
большого флота следует повременить,
25
Дань своему времени...
Такой лозунг украшал фасад здания
Адмиралтейства в 1921 г.)
что задачи флота должны сводиться в
первую очередь к оказанию содействия
войскам Красной Армии на приморских
направлениях и обеспечению
прибрежных коммуникаций. Однако руководство
и ведущие теоретики флота всегда
имели в виду сохранение и по возможности
расширение первоначальной базы для
воссоздания морской мощи, способной
вернуть стране ее законное место в
ряду великих морских держав.
Но именно в этом они не находили
поддержки в кругу молодых и
несомненно выдающихся руководителей штаба
Красной Армии, которые, справедливо
полагая, что решающим театром
будущей войны будет сухопутный,
по-современному — Европейский ТВД, считали,
что на море наши вооруженные силы
никаких стратегических целей
преследовать не будут и не должны к этому
стремиться.
В основе их рассуждений, с одной
стороны, были несомненные достижения
нашей военной мысли, с другой —
заблуждения, порожденные сначала теорией
мировой революции, а затем ошибочным
прогнозом накопления и разрешения
противоречий в Европе и в мире,
порожденных Октябрем и Версальской системой.
К выдающимся достижениям военных
теоретиков в конце 20-х —
начале 30-х годов историки военного
искусства единодушно относят теорию
глубокой операции. Уже в те годы она
по достоинству была оценена всеми, кто
искал выход иэ тупика позиционной во*
йны, который в полной мере негативно
проявил себя на западном фронте
первой мировой.
А заблуждения были обусловлены
тем, что, следуя в русле политических
теорий, они были склонны к переоценке
кризисных явлений и элементов
внутренней нестабильности, характерных
для большинства колоний, полуколоний
и стран послевоенной Европы, в
особенности побежденных. Это приводило их
к мысли о допустимости и даже
желательности коалиции с Германией,
Болгарией, Турцией и др. В первую
очередь — с Германией, что
подкреплялось целым рядом политических шагов
и фактически военным сотрудничеством
с ней. Те же заблуждения были
свойственны и морякам.
Так, разработанный штабом РККФ и
представленный в РВС СССР 31 марта
1925 г. «Проект пятилетнего плана
усиления РККФ» признавал, что он в
существующем составе, «... имея своим
противником всю совокупность военных
флотов капиталистических государств,
может выполнить лишь те ограниченные
задачи, которые ставят ему
утвержденные РВС СССР планы кампаний и
которые недостаточно обеспечивают
обороноспособность союза со стороны
моря...
...В нашей политике мы — едины, а
потому все могут котироваться как
противники, но из этих всех, однако,
Германия на Балтийском море, Болгария —
на Черном... должны расцениваться не
одинаково с Антантой...>х.
Однако авторы этой программы
считали, в отличие от коллег в штабе
РККА, что «выход СССР на арену
мировой политики, связанный с
разрешением колониальных вопросов и
наличием в капиталистических государствах
мощной военной силы, обязывает его,
хотя бы ценой большого
экономического напряжения страны, создать
соответствующую морскую вооруженную
силу, которая могла бы быть
противопоставленной противнику и обеспечить
интересы пролетарской революции.
Технически необходимой
предпосылкой для мировой революции является
пролетарская революция в Германии,
располагающей сильно развитой
тяжелой промышленностью»2.
» ЦГАСА. ф. 4 он. 2 д. 98. лл. 268—269.
272 об.. 275.
* ЦГАСА, ф. 4. оп, 2, д. 98. Л, 276 об,
26
Как говорится, ни убавить, ни
прибавить... Практический интерес к
военному сотрудничеству с Германией подпи-
тывался глубоким научным интересом
советских военных теоретиков к
сильным сторонам германской военной
доктрины и эффективной практике ее
военного строительства. Более того,
открытая полемика моряков с М. Тухачевским,
которая началась еще в 1924 г., прямо
связана с его попыткой осмыслить этот
опыт применительно к задачам,
стоявшим перед Вооруженными Силами
СССР, которые, как и Германия в
мировую войну, оказались в ситуации
«против почти всего культурного мира».
Последнее выражение употребил Б. Жерзе
в своей статье «Организация
стратегии» 3, написанной в ответ на
публикацию М. Тухачевским статьи
«Стратегия организации» № 23 «Военного
вестника» за 1924 год.
Обращаясь к затронутому
Тухачевским вопросу о роли германского флота
в мировой войне и споря с ним, Борис
Борисович утверждал, что эта роль в
борьбе против Антанты как коалиции
крупнейших морских держав не только
могла, но и должна была быть иной.
«...В первоначальный период мировой
империалистической войны ничто не
мешало германскому командованию вести
решительные операции и на морском
театре войны- Наоборот, эти морские
стратегические операции были только
крайне полезны, мешая в этот
критический период войны сообщениям
Англии с Францией и облегчая этим в
значительной степени грандиозную задачу,
которую выполняли в это время
сухопутные германские силы...
Нам могут возразить, что при том
отношении в силах британского и
германского флотов, которое имело место
во время империалистической войны,
т. е. как 3:2, трудно было бы думать
о решительной борьбе германского
флота против своего соперника,
обладавшего, к тому же, стратегически более
выгодным расположением своих
морских баз...» Однако последовавшие
выводы Жерве обращены скорее к РККФ,
нежели к почившему в Скапа-флоу
«флоту Открытого моря». «Пока... мы
имели все основания утверждать, что в
морской войне, так же как и в
сухопутной, число не является единственным
решающим фактором; что история
морских войн знает много случаев победы
слабейших флотов, при еще более
невыгодном соотношении сил и
стратегической обстановке, чем это имело место в
мировую войну в отношении
германского флота»4. А коль это так, то следует
искать такие формы и способы боевых
действий на море, которые давали бы и
слабейшей стороне возможность
использовать всякий свой шанс против
сильнейшего противника. Флот любого
состава должен быть активным — в этом
кредо Жерве и теоретиков его школы.
Эта идея в еще большей степени
пронизывает труды Петрова, самого
темпераментного оппонента М.
Тухачевского. Полагая, что против заблуждений
творцов теории «глубокой операции»
надо бороться только капитальными
научными исследованиями, и основательно
взявшись за перо, он в весьма короткие
сроки (за два неполных года) написал
целую серию трудов, по праву вошедших
в золотой фонд советской
военно-морской науки.
В 1924 — 1925 гг., работая над
курсом морской тактики для
слушателей академии н над проектом боевого
устава РККФ, Петров пришел к
поразившим его самого выводам, что
современная ему теория применения ВМФ
и родов его сил страдает явной
неполнотой. Так он обнаружил, что «границу
между тактикой и стратегией по
внешним признакам зачастую настолько
трудно определить, что, говорят, надо
«чувствовать», где начинается одна и
кончается другая...>5.
И чем более он углублялся в теорию
вопроса, тем меньше сомнений
испытывал в том, что «наши корабли новейшей
постройки свидетельствуют о той
большой работе, которая была проведена в
области тактического изучения свойств
оружия... Наряду с этим должно быть
уделено столько же интереса и
другому отделу тактики, который мы выше
охарактеризовали как «боевую
деятельность» флота, рассматривающую
приложение не одного какого-либо средства
или рода оружия, а всей их
совокупности в применении к типичной обстанов-
8 Морской
С. 20.
сборник. — 1924.—
♦ Морской сборник, — 1924.— >6 10.—
С. 24—25.
6 Петров М. А. Морская тактика: Бое-
вал деятельность флота.— Л.. 1924.— С. 11.
27
ке...» и делал категорический вывод в
присущей ему манере: «Опыт японской
войны был сравнительно полно
использован, но... в отношении свойств
оружия. Боевая деятельность флота
изучена не была. В последней войне мы
видим подтверждение этого. Умея владеть
оружием, оставалось желать очень
многого в искусстве вести боевые
действия»6. Вновь и вновь возвращаясь к
этой мысли, Михаил Александрович по
сути дал нам начала теории ведения
операций флота (правда, ни разу не
употребив соответствующего термина).
У читателя может возникнуть вопрос:
ну и что из этого следует? А из этого
следует, что еще не вполне осознанно, но
зато вполне целеустремленно и Жерве, и
Петров искали выход из кризиса
доктрины владения морем на путях
разработки теории оперативного искусства
военно-морского флота, чего не смогли,
а потом и не захотели понять их
оппоненты как среди работников штаба
РККА, так и среди «своих»,
выпускников академии, составлявших так
называемую «молодую» школу. К тому же,
практика пока что все больше уходила
в отрыв от поисков ведущих советских
военно-морских теоретиков.
Победа М. Тухачевского и его
единомышленников при рассмотрении в
РВС СССР задач и места РККФ среди
других видов вооруженных сил и
программ его строительства привела к тому,
что проект боевого устава флота,
разработанный в 1924 году Петровым, так
и не был принят. Многие ценные
положения, выдвинутые им и его
оппонентами в ходе обсуждения содержания
устава на страницах «Морского
сборника», по сути дела были отброшены. В
свою очередь это приостановило процесс
выработки единых взглядов на боевую
деятельность флота и применение родов
его сил.
Первая советская
кораблестроительная программа, утвержденная 26
ноября 1926 г. Советом Труда и Обороны
СССР — «Программа строительства
Морских Сил РККА на 1926 — 1932
гг.», — существенно расходилась с
упомянутым ранее проектом штаба
РККФ. При всех недостатках того
проекта он предусматривал постройку
целого ряда боевых кораблей, отсутствие
которых в составе ВМФ остро сказалось
на его сбалансированности, мешало
• Петров М. А. Морская тактика:
Боевая деятельность флота.— С. 27.
возможности вести активные боевые
действия в удаленных районах морей и
океанов, на равных вести борьбу с
соединениями военно-морских сил
враждебных СССР держав.
Если бы получили поддержку и были
реально воплощены в жизнь
предложения, рожденные в оперативном
управлении штаба РККФ, к началу 30-х
годов в составе нашего Военно-Морского
Флота могли появиться авианосец на 50
самолетов с дальностью плавания 3000
миль (переоборудованный из линейного
крейсера «Измаил»), крупные
надводные минные заградители (на 600 мин
каждый), подводные крейсера с
дальностью плавания до 10 000 миль. Флот
мог получить 12 новых эсминцев, 4
монитора, 23 тральщика, 27 подводных
лодок (из них 6 крейсерских для
Севера), 4 подводных минных заградителя,
60 торпедных, 36 сторожевых и 6
бронекатеров. Кроме того, проектом
предусматривалось восстановление и
модернизация кораблей Бизертской эскадры:
линкор, 6 эсминцев и 4 подводные
лодки. (Корабли ЧФ, угнанные
врангелевцами при бегстве из Крыма.) С учетом
вывода из боевого состава устаревших
кораблей это позволило бы иметь в
составе флота 4 линкора, 4 крейсера,
авианосец, 26 эсминцев, 4 монитора, 12 кан-
лодок, 2 минных заградителя, 40
подводных лодок, 60 торпедных, 36
сторожевых и 13 бронекатеров.
Программа, утвержденная СТО, хотя
и учитывала мнение Управления ВМС
РККА, которое В. Зоф изложил в
своем докладе Морской комиссии в конце
мая 1926 г., однако в основном
исходила из предположений, разработанных
штабом РККА. Наряду с достройкой,
ремонтом и модернизацией линкора
«Фрунзе», 2 крейсеров и 4 эсминцев,
ею было предусмотрено строительство
монитора, 12 подводных лодок, 18
сторожевых кораблей и 36 торпедных
катеров.
Как отмечал сменивший В. Зофа на
посту начальника УВМС РККА Р.
Муклевич, при разработке и
реализации этой программы в качестве
руководства были приняты следующие
соображения:
а) строить только то и в таких
размерах, что нам «по карману»;
б) вначале строить корабли тех
классов, которые необходимы для
оборонительных действий;
28
в) исходить только из возможностей
отечественной промышленности.
Б.Жерве, если судить по его
публикациям, к этому времени уже начинал
уставать от борьбы за «морскую идею>.
Его увлекла теория применения
диалектического метода в военном деле,
и он с рвением первого ученика
принялся за азы марксизма.
Дальнейшее развитие взгляды
Бориса Борисовича на флот и его место
среди других видов Вооруженных Сил
получили в главных трудах Михаила
Александровича Петрова. В 1926 —
1927 гг. им были написаны два
крупных очерка — книги «Подготовка
России к мировой войне на море» и
«Морская оборона берегов в опыте последних
войн России».
Первый очерк написан по плану
работы Морискома и на основании его
архивов. Второй — плод журнальной
полемики. Его основой была серия
статей, опубликованных в «Морском
сборнике» и в других флотских
изданиях. В введении к нему Петров прямо
указывал: «Мною руководит
определенная цель — связать проблему обороны
с практической постановкой вопроса о
восстановлении морских сил Союза»7.
Оба эти труда сегодня смотрятся как
части целого — системы взглядов
незаурядного военно-морского теоретика
на содержание военной доктрины
России. При этом он подчеркивает такую
существенную деталь. Первые крупные
решения по восстановлению флота после
Крымской войны готовились не только
моряками. Они готовились так
называемым «Особым совещанием» под
председательством великого князя Алексея
Александровича, в которое, помимо
управляющего Морским министерством8,
полноправными членами вошли два
министра — военный и иностранных дел.
Именно эти решения, принятые в
начале 1880-х годов, как утверждал Петров,
заложили основу «морской обороны
берегов» и явились, несмотря на зигзаги,
генеральной линией строительства и
подготовки флотов на Балтике, Черном
море и на Тихом океане вплоть до
начала первой мировой войны.
Оба труда написаны на богатейшей
документальной основе. Автор
использует протоколы «Особого совещания»,
заседаний Совета министров, Совета
государственной обороны, дела с
документами по работе различных комиссий
морского и сухопутного военных
ведомств, последовательно рассматривая,
как решался весь круг вопросов,
связанных с проблемой обороны берегов
России и подготовкой ее к войне на
море. Завершая свое исследование, он
убежденно писал: «Фундаментом
строительства флота... можно считать:
а) обоснованные, устойчивые,
отвечающие требованиям стратегии и с ними
сообразованные политические задачи
морской силы;
б) наличие определяемого как с
упомянутыми политическими задачами, так
и с реальной возможностью их
достижения плана подготовки государства к
войне...;
в) правильные стратегические
директивы флоту.., развитые затем в
систематических планах создания,
оборудования и боевого использования морских
сил...»9.
Исходя из того, что этот фундамент
нельзя создать усилиями лишь одного
морского ведомства, Петров
акцентирует внимание на том, что Министерство
иностранных дел России, ответственное
за формулировку политической задачи
флоту, систематически устранялось от
этой работы либо ограничивалось
разъяснениями общего характера. Однако
наихудшую роль, по его мнению,
сыграли «несогласованность намерений
главных объектов... — армии и
флота» 10 и место, которое отводилось
военно-морскому флоту в течение шести
десятилетий от начала Крымской войны
и до 1914 года.
Говоря о значении флота для
Российского государства, Петров не уставал
подчеркивать особенность, присущую
историческому пути вооруженных сил
России — ее морская сила пережила в
прошлом несколько периодов
значительного подъема и почти столько же
периодов глубокого упадка, причем
воссоздание флота всегда превращалось в
тяжелейшую проблему. Анализируя эту
ситуацию, он писал: «Эти традиции
должны быть подвергнуты основательной
ревизии, а опыт вновь пересмотрен,
7 Петров М. А. Морская оборона
берегов в опыте последних войн России.—
М.. 1927.— С. 5.
9 До 1905 г. Морское министерство
номинально имело главой генерал-адмирала —
одного из великих князей царской семьи.
• Петров М. Подготовка России к
мировой войне на море. — С. 249.
10 Петров М. А. Подготовка России- к
мировой войне на море.— С. 251.
29
чтобы уберечься от проникновения в
современные суждения идей, которые
уже сыграли свою пагубную роль в
истории русской морской обороны>!|.
В первую очередь им были
подвергнуты «ревизии» взгляды, носителями
которых являлись правящая верхушка
империи, высшие чины морского и
сухопутного военных ведомств. Возращая
читателя к дням Севастопольской
обороны 1854 — 1855 гг., Петров вслед за
Н. Кладо ставит вопрос «о драме
Корнилова», проигравшего в споре с Мен-
шиковым идею «плана операции к
Босфору» и без успеха протестовавшего
против затопления кораблей, которое во
время скандала с князем он назвал
«самоубийством»12.
Петров отмечает, что «старательной
рукой правительства была закрыта эта
сторона постигшей флот катастрофы,
связанной с утратой активной идеи...*,
которая в целях «поднятия духа и
воспитания» фиксировала внимание «на
геройской защите Севастополя». Этот
«культ Севастополя», как считал М. А.
Петров, составил предпосылку к другой
трагедии флота — в Порт-Артуре...18.
Разбирая задачи флота, которые
ставились правительством страны
военному флоту, он отмечал: «...На
протяжении 30 лет, протекших с момента
восстановления флота в 80-х годах и до
мировой войны, мы видим потрясающую
картину шатания в области морской
политики царской России, неустойчивость
ее стремлений, частую перемену задач,
темп, не отвечающий развитию
вооруженных сил и возможности
сосредоточения таковых, что прежде всего
отражалось на заданиях к флоту, лишая его
главного — прочного обоснования
планов развития и подготовки...
определенного же курса не было»14.
Большую долю вины за это, по
мнению Петрова, следует возложить на
руководителей Морского министерства
России, адмиралов Главного морского
штаба и других должностных лиц этих
" Петров М. Морская оборона
берегов в опыте последних войн России.— Л..
1927.— С. 7.
»2 Петров М. Морская оборона
берегов в опыте последних войн России.— С.
38.
is Петров М. Морская оборона
берегов в опыте последних войн России.— С.
39.
14 Петров М. Подготовка России к
мировой войне на море.— С. 349.
центральных учреждений, ответственных
за состояние военно-морской науки,
полноту и правильность постановки
задач флоту, разработку и реализацию
планов его строительства и подготовки
к войне.
«Военное ведомство имело
главенствующее влияние на общее направление
руководства подготовкой государства к
войне. Оно всегда недостаточно
учитывало значение флота, пренебрегало им,
несмотря на то, что планы в развитие
последнего охватывали широкие
государственные задачи...
...Отношения военного и морского
ведомств предопределили, с одной
стороны, их расхождение в деле подготовки
к войне, а с другой —
несогласованность планов армии и флота. ...Каждая
судостроительная программа есть по
существу пересмотр всей морской
проблемы России, ее роли и задач на
море»13.
Эта тема еще громче звучит в
очерке, следующем за «Подготовкой России
к мировой войне на море». В «Морской
обороне берегов в опыте последних
войн России». Разногласия между
двумя военными ведомствами исследуются
самым тщательным образом. Петровым
найден и целиком приведен в тексте
документ, поразительно напоминающий
«Справку» о разногласиях между
штабом РККА и штабом РККФ,
представленную в РВС СССР Тухачевским. Это
изданный в 1905 г. протокол № 11 с
«Докладом председателя особого
совещания при Совете Государственной
Обороны по вопросу объединения власти в
приморских крепостях и разграничении
прав и обязанностей сухопутных и
морских начальников при совместных
действиях по обороне берегов»16.
«Ироническое и даже презрительное
отношение к доводам моряков «бьет в
глаза», — с горечью писал Михаил
Александрович. «За этим чувствуется.
— продолжал он, — ... особенное
отсутствие ясного представления, что
оборона берегов представляет из себя це*
лую и единую операцию...», и
убежденно протестовал против «сведения оборо-
|б Петров М, Подготовка России к
мировой войне на море.— С. 252.
10 Петров М. Морская оборона
берегов в опыте последних войн Россия.
ны берегов к обороне пунктов на
берегу»17.
Рассматривая историю решения этой
проблемы в опыте войн, которые
Россия вела в течение последних семи
десятилетий, он утверждает и убеждает
примерами, что поражения в этих
войнах были прямо связаны не только с
качественной слабостью или
малочисленностью морских сил России на
соответствующих театрах, но главным
образом с отказом от использования этих
сил для активных действий, для
упреждения противника, срыва или
затруднения реализации его замыслов.
Однако на примере первой мировой
войны он приходит к выводу о том, что
одного стремления к активной обороне
недостаточно. Реализовать эту идею
может лишь флот вполне
определенного состава. «Какой же?» — спрашивает
Петров и отвечает себе в обычной
манере, уверенно, резко, определенно:
«Идея активной обороны, проблема
линейного флота»18.
Эта манера вести дискуссию с
оппонентами высокого уровня в дальнейшем
стоила ему свободы и жизни. Но если
быть объективными, то, во-первых,
Петров лишь разделял взгляды,
господствующие среди современных ему военно-
морских теоретиков, а во-вторых, его
представления о задачах и составе
флота были гораздо шире, нежели
приписываемые ему до сей поры не вполне
добросовестными критиками. Сложнее с
добросовестными — такими, к примеру,
как глубоко уважаемый авторами К. Ша-
цилло19.
Сосредоточенность Михаила
Александровича на проблеме строительства
линкоров, его не вполне укладывающееся
в традиции нестандартное толкование
причин и удручающих провалов попыток
реализовать на отечественной почве так
называемую «морскую идею»
действительно вызывает во многом
оправданную критику. Но есть в этих трудах
нечто не замеченное или почти не
замеченное оппонентами, не утратившее
своего значения и по сей день.
17 Петров М. Морская оборона
берегов в опыте последних войн России.— С.
89,
18 Петров М. Морская оборона
берегов в опыте последних войн России.— С.
93.
19 Ш а ц и л л о К. Ф. Русский
империализм и развитие флота.— М.: Наука.
1968.— С. 315.
Так, Петров, критикуя паллиативные
решения проблемы обороны берегов и
подготовку России к мировой войне,
убедительно доказал, что
несбалансированность, предпочтение развитию
какого-либо одного класса кораблей или
рода сил в ущерб другим всегда приводит
к утрате флотом способности
полноценно решать поставленные ему задачи.
Анализируя ход боевых действий на
море в войнах, которые велись Россией
во второй половине XIX — начале XX
веков, он подводит читателя к
неизбежному выводу о кризисе теории владения
морем, так как основная идея этой
теории — достижение господства
уничтожением неприятельского флота в
генеральном сражении даже на опыте
русско-японской войны — выглядит
сомнительной. Зато налицо явная
необходимость постоянного ведения флотом
независимо от его численности и
состава операций и систематических
действий, ибо пассивность неизбежно ведет
его к гибели.
Убедительно показав все сложности,
связанные с созданием группировки сил
флота на морском театре, Михаил
Александрович поднимает еще одну жгучую
проблему, о которой до недавнего
времени наша военная публицистика
говорила довольно глухо и невнятно,
несмотря на то, что она занимает
центральное место в развитии любого вида
вооруженных сил, а военно-морского
флота—в особенности: «Не было
сознания всей важности значения хорошо
оборудованного театра. Иначе нельзя
объяснить постоянную бедность в этом
отношении, в то время как на армию и
флот отпускали большие средства».
С горечью писал Петров и о
настроениях против строительства флота,
всегда имевших в России мощную
питательную среду.
Настроения эти в Отечестве нашем
живы и ныне. Одной из причин,
полагаем, является та, что с трудами таких
выдающихся теоретиков, как М. А.
Петров, по нашим наблюдениям, мало
знакомы даже профессионалы, а
парламентарии и общественность, как правило,
видят лишь результаты порочных
решений, принятых келейно несколько
десятилетий тому назад. Невнимание к
собственной истории, к опыту других
стран закономерно оборачивается
новыми ошибками...
(Продолжение следует)
Галерея российских флотоводцев
ПЕТР ГАВРИЛОВИЧ КАШКИН (1694-1763 гг.) - вице-
адмирал , главный командир галерного флота, член Адмиралтейств-коллегий.
Происходил из древнего византийского дворянского рода. Предки его в
1473 г. прибыли в Россию в свите царевны Софьи Палеолог. Отец и старшие
братья находились на военной службе. П. Кашкин мальчиком был отдан в
Навигацкую школу в Москве, а в 1715 г. переведен в Морскую академию в
Санкт-Петербург. В 1716 г. произведен в гардемарины и по указу царя послан
в Венецию для приобретения практики на галерном флоте. В течение четырех
лет плавал на различных гребных судах, участвовал в сражениях с турецкими
кораблями, а также в абордажных боях с морскими пиратами. За храбрость
получил от венецианских властей «патент на самостоятельное командование
кораблем». Прибыв в Россию, в 1720 г. он получил звание унтер-лейтенанта
галерного флота.
27 июля 1720 г. П. Кашкин участвовал в Гренгамском сражении, в
котором проявил тактическую смекалку, перекрыв галерами путь шведским
кораблям у о-ва Дегерэ. В кампанию следующего года командовал группой гребных
судов при высадке десанта на побережье Швеции. После заключения Ништадт-
ского мира вместе с галерами вернулся в Петербург и участвовал в торжествах
по поводу окончания войны, устроенных Петром I на Неве. Весной 1726 г.
откомандирован в Брянск для строительства галер и прамов на Двинской верфи.
«За примерное радение» в пополнении галерного флота новыми судами в январе
1729 г. пожалован чином лейтенанта, поступил под начало
капитан-командора Н. Вильбоа, занимавшегося возведением Санкт-Петербургского
Адмиралтейства и «адмиралтейских палат» на Преображенском острове. В задачу
лейтенанта входило наблюдение за закладкой ластовых судов на новой верфи.
В октябре 1732 г. Адмиралтейств-коллегия «определила строить» первый
в столице мост через Неву, названный Исаакиевским. Начальником
строительства стал П. Кашкин.
Во время войны с Турцией 1735—1739 гг. Петра Гавриловича снова
посылают в Брянск. Согласно указу Сената он с января 1737 г. руководит
постройкой на четырех верфях мостовых плашкоутов (понтонов), прамов,
плоскодонных галер и дубель-шлюпок для Днепровской флотилии. Уже летом
организует дополнительные верфи по всему судоходному руслу Двины, на
которых строятся не только прамы и галеры, но и бригантины, венецианские боты,
речные грузовые суда — байдаки.
В 1739 г. после окончания войны П. Кашкину по настоянию командующего
Днепровской флотилией вице-адмирала Н. Сенявина присваивают чин капитана
полковничьего ранга и назначают начальником Петербургского главного
галерного порта, одновременно вменяя в обязанности «исполнять должность капитана
над галерным флотом». Это назначение вернуло моряка на море, продолжило его
боевую деятельность. В войне со Швецией 1741 —1743 гг. гребная флотилия
П. Кашкина, состоявшая из 32 галер, поддерживала в июне 1742 г.
наступление армейского корпуса генерал-фельдмаршала П. Ласси вдоль побережья
Финского залива в направлении на Гельсингфорс, Корабли под командованием
П. Кашкина, следуя финляндскими шхерами, доставили 10-тысячный десант на
левый фланг корпуса, позволив русским войскам начать наступление на
шведскую территорию. В одном из сражений со шведами в мае 1743 г. Петр
Гаврилович был тяжело ранен в ногу, но, несмотря на незаживающую рану, продолжал
командовать эскадрой до окончания войны.
В 1747 г. при Ревельском порте Адмиралтейств-коллегий началось
формирование гребного флота. Командовать им стал П. Кашкин, направленный с
35 галерами из Петербурга. Петр Гаврилович за три года не только оформил
Ревельский гребной флот, но добился от коллегии открытия школы корабельных
артиллеристов. Это дало возможность не пополнять команды за счет
сухопутных бомбардиров. В 1753 г. его отозвали в столицу и присвоили звание капитан-
командора, а через год назначили директором Адмиралтейской конторы.
Во время Семилетней войны П. Кашкин по именному указу Елизаветы
направляется в Ревель и вновь принимает командование над гребным флотом,
включенным в состав эскадры контр-адмирала В. Люиса. Галеры блокируют
прусские порты Мемель, Пиллау, Кенигсберг. За успешное участие в боевых
операциях в мае 1757 г. П. Кашкин был удостоен звания контр-адмирала.
В 1760 г. он занимается обеспечением и снабжением корабельного и гребного
флотов. В связи с окончанием Семилетней войны «за проявленные труды
Отечества ради» его наградили орденом Св. Анны. Пришедшая к власти
Екатерина II отметила заслуги П. Кашкина перед флотом «бриллиантовым кольцом с
собственной руки». В сентябре 1763 г. он был произведен в вице-адмиралы.
Однако время триумфа для П. Кашкина пришло слишком поздно. В декабре
1763 г. он скончался.
32
ПОХОДЫ И ПОЛЕТЫ
Наши корабли в зоне Персидского залива
ЧЕРЕЗ ДВА ОКЕАНА
Капитан 1 ранга А. ЯКОВЛЕВ
Г~1РИСЛУШИВАЯСЬ к жарким дебатам в Верховном Совете СССР о том, посылать
* ' или не посылать войска в район Персидского залива, моряки отряда кораблей
ВМФ в Индийском океане недоумевали: ведь часть его сил ...давно находилась в этом
районе.
Впервые отряд кораблей в Индийском океане мне довелось увидеть еще
летом 1968 года с борта самолета. Сверху он выглядел просто крошечным. И
состоял тогда из нескольких вспомогательных судов Черноморского флота. К середине
70-х годов, когда мне довелось служить здесь, в него входили уже боевые корабли,
что явилось следствием возрастания угрозы Советскому Союзу и его интересам в
этом районе со стороны США и ряда других иностранных государств.
В период обострения внутриполитической ситуации в НДРЙ на долю кораблей
отряда в Индийском океане выпало участие в эвакуации советских граждан. Они
осуществляли боевое траление в водах Персидского залива во время ирано-иракского
вооруженного конфликта и так называемой «танкерной войны». Начиная с сентября
1986 г., корабли отряда провели через Персидский залив более 800 судов,
«заработав» государству многие миллионы инвалютных рублей. Благодаря им на дне
Персидского залива, ставшего «кладбищем кораблей», нет ни одного советского судна.
Сегодня в условиях резкого усиления военного присутствия США, ряда других
стран в районе Персидского залива перед отрядом стоят ответственные задачи. По
словам его командира вице-адмирала В. Сергеева, они заключаются в недопущении
агрессивных действий, в том числе связанных с последствиями нападения Ирака
на Кувейт, против нашего судоходства в этом районе.
Около 90 судов под советским флагом бороздят сегодня воды Индийского океана.
В северо-западной его части, и особенно в Персидском заливе, за их безопасность
отвечают корабли этого отряда, в котором мне в очередной раз довелось побывать в
канун нового, 1991 года. О том, в каких условиях живут и выполняют свои
ответственные задачи наши моряки, что они думают по поводу тех или иных событий в
стране и за рубежом, и пойдет речь в заметках, которые предлагаются вниманию
читателей «Морского сборника».
1. ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ
Что бы ни говорили об укреплении взаимопонимания между Востоком и
Западом, какие бы ни приводили примеры, подтверждающие крушение «образа врага»
в нашем сознании, я ни за что не поверю в необратимость этих действительно
ожидаемых нами позитивных перемен, пока не удостоверюсь в том, что они затронули
«человека с ружьем». И что бы ни говорили о контактах на высшем уровне, о
достигнутых соглашениях в области сокращения войск и вооружений, я буду стоять
на своем, полагая, что лучше ошибиться, чем стать жертвой иллюзий.
Да, сдвиги к лучшему в отношениях между военнослужащими стран, в
недавнем прошлом, казалось бы, непримиримых противников, есть. Это заметно не только
по официальным визитам, которых сегодня, как никогда, много, что само по себе
располагает к взаимопониманию. Это чувствуется и в обстановке, приближенной в
боевой и потому исключающей всякую неискренность. Взять, к примеру,
Персидский залив. Не первый раз сводит судьба советские и американские корабли в этом
районе. В период ирано-иракского конфликта и те и другие, находясь по сути дела
3 «Морской сборник»
33
по одну сторону баррикад, обеспечивали безопасность гражданского судоходства.
Однако представляется, что ни советские, ни американские моряки так и не поняли,
что им был предоставлен поистине уникальный шанс стать союзниками. И вот
новый шанс, к сожалению, предоставленный лишь благодаря очередному всплеску
напряженности в Персидском заливе. На сей раз сдвиги в сторону растущего
взаимопонимания более очевидны. По крайней мере с советской стороны оценки поведения
американских кораблей, авиации и моряков стали заметно более доброжелательными.
«Они отличные моряки,— говорит об американцах в районе Персидского залива
офицер штаба отряда капитан 2 ранга В. Каюров. — В районе, где мы стоим, они
ведут разведку, досматривают суда. Когда пролетают, всегда запрашивают, будем ли
мы летать, нет ли у нас планов на выход».
Не стоит говорить о том, что обе стороны стремятся быть пунктуальными в
соблюдении норм международного морского права. «Если в недавнем прошлом,—
говорит офицер штаба отряда капитан 3 ранга Н. Федотов, — со стороны
командиров кораблей допускались факты несоблюдения этих норм, то в последнее время
случаев недопонимания не было. Более того, мы даже выполняем просьбы
американцев об установлении прямой связи, обмениваемся полезной информацией, что
способствует решению стоящих перед нами задач».
Движение навстречу, на уровне «командирского мостика», пробивающее себе
дорогу в отношениях между моряками, приветствуется личным составом. «Несколько
раз,~-делится впечатлениями фельдшер тральщика «Параван» старшина 1-й статьи
Е, Гришин,— мы встречались с американскими авианосцами, наблюдали полеты их
самолетов и вертолетов. Некоторые из вертолетов зависали над нами. Летчики
улыбались, размахивали руками, мы фотографировали друг друга. И в мыслях не
возникало, что мы можем быть врагами».
Вместе с тем я бы воздержался от идеализации позитивных сдвигов во
взаимоотношениях между советскими и американскими моряками, равно как и между
представителями других видов вооруженных сил. Что же касается флотов, то здесь я бы
выделил три момента, мешающих морякам понимать друг друга. Прежде всего
языковой барьер и ряд устаревших инструкций, регламентирующих поведение моряков
в той или иной ситуации. Во-вторых, очевидное превосходство американских ВМС
над ВМФ СССР, от которого США не собираются отказываться в обозримом будущем
и которое особенно наглядно проявляется в соотношении сил и возможностей в
районе Персидского залива. И в-третьих, высокая степень идеологической «обработанно-
сти» моряков, да и не только их, в духе недоброжелательства или, по крайней мере,
недоверия к противной стороне. И думаю, пройдет еще немало времени,
потребуется приложить еще немало усилий, прежде чем мы научимся понимать друг друга.
И потому, как мне представляется, надо использовать любую благоприятную
возможность, в том числе и в районе Персидского залива, чтобы сделать еще один шаг
навстречу друг другу.
2. В НЕБЕ НАД ЗАЛИВОМ
Авиагруппа, может быть, слишком громкое, но тем не менее верное название
для трех вертолетов Ка-25 в противолодочном и спасательном вариантах,
базирующихся на кораблях отряда ВМФ в районе Персидского залива. Члены экипажей этих
вертолетов не могут не вызывать уважения. Это особые люди. Как и остальные
моряки, они терпеливо несут крест длительного океанского плавания.
«Заканчивается моя вторая боевая служба,— говорит старший авиационный
начальник отряда кораблей подполковник В. Ковдеев.— Она прошла легче, чем
первая. В прошлый раз я находился в зоне Персидского залива десять месяцев. На этот
раз меньше — около пяти. Что касается деятельности авиагруппы в этом районе, то
у нее есть свои особенности. Это удаленность от базовых аэродромов, постоянная
высокая боевая готовность, большая интенсивность полетов. Вертолет является
практически единственным средством, способным вести тактическую разведку в этом
районе, так как число наших кораблей здесь ограничено. Вертолеты летают по
нескольку раз в сутки, особенно сейчас, в условиях кризиса. Их задача —
классифицировать корабли в районе нахождения отряда»,
54
Каждая вахта в море — строгая проверка
мастерства корабельных специалистов
Фото П. Юрьева
Говоря об особенностях полетов
наших пилотов в районе Персидского
залива, сравнивая их работу с работой
летчиков тех стран, чьи корабли
стянуты в этот район и находятся рядом с
нашими, подполковник Еовдеев
сказал: «Малочисленность наших
кораблей не позволяет летчикам
расслабляться. Вся надежда только на себя.
Если у американцев и их союзников
здесь находится огромное количество
кораблей и они друг другу помогают,
могут сесть и к соседям, то у нас
такой возможности нет».
Подполковник Еовдеев знаком с
американскими летчиками. Он был у
них на корабле во время визита во
Владивосток летом 1990 г. Вместе с
сыном забирался в палубный
вертолет. И вынес из той встречи очень
хорошие впечатления.
Как и его коллеги по летной работе, наблюдая с высоты полета стянутые сюда
группировки кораблей и имея возможность реально оценить их мощь, подполковник
Ковдеев считает, что ситуация в регионе должна быть смягчена обоюдным
стремлением к установлению полного взаимопонимания.
3. «МОРСКАЯ СЛУЖБА ТЯЖЕЛА...»
Служба в Индийском океане уникальна. Пожалуй, никакой другой отряд
кораблей ВМФ не находится столь далеко и долго вдали от мест базирования. Нигде
корабли, рассчитанные на средние и северные широты, не подвергаются такому
длительному и интенсивному воздействию высоких температур и влажности, как здесь.
В отличие от ВМС западных стран, опирающихся в районе Персидского залива
на разветвленную береговую инфраструктуру, корабли отряда вынуждены полагаться
лишь на собственные силы. Практически пополнением запасов, организацией отдыха
личного состава они занимаются в море.
Как я ни пытался, однако так и не смог установить источник весьма
популярной на кораблях отряда фразы: «Морская служба тяжела, нам ее здесь сделали
невыносимой». Но даже если списать ее резкость на счет традиционной флотской
бравады, то и тогда нельзя полностью отрицать заключенный в ней здравый смысл. Ведь
ве случайно моряки кораблей отряда, еще недавно безмолвно переносившие тяготы
и лишения воинской службы, сегодня все чаще задают вопрос: соответствуют ли
условия, в которых они находятся, человеческим?
«Много проблем возникает у нас,— говорит флагманский врач подполковник
П. Фурса,— в связи с тем, что моряков отправляют в море и, как нам кажется,
забывают о них. Проблемы возникают всякий раз, когда в район Персидского залива,
отличающийся специфическим климатом, приходят корабли с малой автономностью
или же недостаточно приспособленные к работе в тропиках. Порой температура в
операционной достигает 50 градусов. Иногда не хватает пресной воды, а из-за
отсутствия холода в считанные дни портятся мясопродукты и зелень. Тральщик,
предназначенный для выполнения задач вблизи берега, проходит Тихий, Индийский
океаны, множество морей без врача на борту, не имея кондиционера, с запасом воды лишь
на пять суток. Попадая в тропики, люди заболевают, получают тепловые удары.
Личный состав на этих кораблях переносит нагрузки, которые в обычной земной
жизни человек даже не может себе представить. Мы находимся в море по 8—10
месяцев, хотя с точки зрения физиологии это ненормально и, я бы сказал, аморально
с точки зрения человечности. Достаточно сказать, что у нас в Индийском океане
риск заболеть нервно-психическими болезнями в 12 раз выше, чем на берегу».
Самый больной вопрос в море — отсутствие связи с родными и близкими, нн-
35
формационная изолированность. «Почта приходит крайне редко,— говорит
заместитель начальника штаба отряда капитан 2 ранга В. Поздняковский.— Часть
информационного голода удается компенсировать за счет радиотелефонных переговоров. Но
уровень развития связи, как говорится, оставляет желать лучшего». Мнение офицера
Поздняковского разделяют другие офицеры, в частности капитан 2 ранга
В. Шук. «Думаю,— говорит он,— необходимо больше проявлять заботы о людях,
выполняющих задачи в этих трудных условиях, обеспечивать своевременную доставку
почты. Отдельные корабли получают ее лишь через два-три месяца. А так хотелось
бы почитать свежие газеты, журналы. Не все сделано, чтобы принимать на наших
кораблях программы советского телевидения. Единственный источник информации —
Всемирная служба московского радио. Хотелось бы, чтобы личному составу чаще
предоставлялась возможность заходов в иностранные порты».
Говоря об условиях службы моряков в районе Персидского залива, нельзя не
сказать об обеспечении экипажей продуктами питания. Впрочем, куда бы корабли
ни направлялись — в Северную Атлантику или в район Индийского океана,—
разницы в рационе моряков обнаружить не удалось: та же свинина, те же серые
макароны. «Хорошо, что наши гражданские суда заходят в Объединенные Арабские
Эмираты, где покупают, в том числе и для нас, капусту и картофель»,— говорит офицер
штаба отряда капитан 2 ранга В. Каюров.
4. МОРЯК СОШЕЛ НА БЕРЕГ
Ветераны отряда по-доброму вспоминают время, когда их корабли в среднем
один раз в полтора месяца совершали заходы в порты стран Индийского океана.
География этих воспоминаний очень широка — от Мадагаскара до Сингапура. Сходя
на берег, говорили они, моряк знал, время у него будет, и потому посвящал его
Отдыху, экскурсиям, знакомству с достопримечательностями. Может, эти
воспоминания— тоска ветеранов по ушедшей молодости, ностальгия по минувшему, в котором
с годами видишь лишь хорошее? По крайней мере сегодня все обстоит иначе.
Район заходов советских кораблей ограничен северо-западной частью
Индийского океана. Это, как правило, порты Аден, Абу-Даби, реже другие. Собственно
деловой заход — это обычно два полных дня, если не считать день прибытия и день
убытия. Его цель — дать отдых кораблям и людям. Что получается на деле? На
деле — на один корабль за полгода приходится один деловой заход. Естественно,
вместо отдыха его личный состав на берегу думает больше о том, как разумнее
распорядиться полученной в местной валюте компенсацией за боевую службу. И здесь
речь уже не идет о созерцании местных достопримечательностей. К тому же весьма
сомнительна целесообразность схода на берег в черных суконных брюках и глухих
черных ботинках, когда температура воздуха в тени превышает 40 градусов. Наши
организованные, «тепло» одетые группы в любых южных портах — явление
экзотическое. Кстати, о порядке схода личного состава на берег в иностранном порту.
Строгая регламентация исключает здесь какую-либо свободу. Чего в этой заорганизо-
ванности больше: здравого смысла или инерции мышления застойного периода? Ведь
даже в стародавние времена, когда матрос и вовсе не принадлежал себе, он был
менее ограничен в выборе товарищей для схода на берег. Чего мы все еще боимся?
Пополнить ряды советских людей, желающих покинуть Родину? Знаю одно, если
такие и найдутся, ничем их не удержишь.
Личному составу наших кораблей в Индийском океане остается лишь с
завистью наблюдать за тем, как проводят досуг моряки западных флотов. «Я видел,—
говорит офицер штаба капитан 2 ранга В. Каюров,— как в Абу-Даби, где мы
стояли, пришел французский фрегат. К его морякам на следующий же день прилетел
самолет с женами. Они жили в гостинице и не считали деньги». «Нынешняя боевая
служба,— продолжает разговор капитан 2 ранга В. Поздняковский,— у меня
короткая— всего полгода. Максимальная по продолжительности была 11,5 месяца.
Однако о таких вопросах, как встречи с семьями, речь не идет. Впрочем, мы понимаем,
что в тех условиях и с теми возможностями, которыми располагает ВМФ,
обеспечить доставку семей сюда невозможно».
36
5. ПЛОХ ТОТ МАТРОС,
КОТОРЫЙ НЕ МЕЧТАЕТ...
То, что все больше молодых офицеров пишут рапорты с просьбой об
увольнении, и то, что все меньше старшин и матросов срочной службы изъявляют желание
стать офицерами,— звенья одной цепи. Побеседовав с моряками большого
противолодочного корабля «Адмирал Октябрьский» и тральщика «Параван», обнаружил, что
среди их сослуживцев не нашлось ни одного, кто бы решил стать офицером.
Действительно ли, перефразируя Суворова, о современном матросе можно сказать: «Плох
тот матрос, который не мечтает стать адмиралом»?
На вопрос, хотел бы он стать флотским офицером, старшина 1-й статьи А. Се-
лютин, не задумываясь, сказал: «Ни за что! Хотя до службы и хотел поступать в
военное училище». «Раньше офицер был личностью,— говорит старшина 2-й статьи
0. Старков.— Сейчас нет. Моряк видит: офицер все время на корабле: и когда
корабль в море, и когда в базе. Домой его не пускают почти так же, как и матроса
или старшину срочной службы. Короче, у него жизнь такая же, как у нас. Не
привлекает такая служба».
Действительно, все тяжелее становится морская служба. Сложны не только
многомесячные походы, но и рабочие будни моряков. Труд офицера становится все
более напряженным, требующим не только хорошей теоретической подготовки,
практических навыков, но и полнейшего самоотречения. Поэтому подлинным офицером я бы
назвал не просто человека в офицерских погонах, а воспитанного в духе
соответствующей идеологии. Только такой человек, по мнению командира корабля «Даурия»
капитана 2 ранга А. Пижина, способен самоотверженно трудиться 4—5 лет после
окончания училища, прежде чем стать настоящим профессионалом. Только такой
человек может преодолеть несоответствие между тем, к чему он себя готовил, и тем,
с чем приходится столкнуться на флоте. И отнюдь не самое неприятное —
необходимость брать на себя ремонт материальной части, проведение профилактических
мероприятий, которые оказываются не под силу вчерашним школьникам.
Немудрено, что офицеру при подобной загруженности редко приходится
задумываться о таких понятиях, как честь и достоинство. Он просто достойно и честно
выполняет свой долг перед Родиной. А уж о том, насколько адекватно, по
достоинству оценивает этот труд Родина, судят матросы, не желающие в силу этого
становиться офицерами.
6. НУЖНЫ ЛИ ФЛОТУ ЗАМПОЛИТЫ?
Кто-то сказал, что наша армия уникальна тем, что служит почти бесплатно. И
с этим нельзя не согласиться. Действительно, есть ли еще в мире страна, в которой
бы ратный труд ценился столь дешево? Тем не менее наша армия, несмотря на
тяготы и лишения, которые она непрерывно испытывает, сохраняет преданность народу
и верность долгу. И в этом, добавлю, немалая заслуга политработников.
Долгое время нехватка материальных средств на содержание личного состава
Вооруженных Сил компенсировалась моральным стимулированием воинов, их
соответствующим политическим ориентированием в атмосфере уважительного отношения
к защитникам Родины. Ответственными за морально-политическое состояние
военнослужащих, организаторами политико-воспитательной работы с момента создания
Вооруженных Сил были политработники. Сегодня можно услышать прямо
противоположные мнения о них. А что думают о замполитах на кораблях в районе
залива? Вот мнение командира корабля капитана 2 ранга А. Пяжина: «Есть ли нужда
в замполите? Представьте реакцию строевого начальника на крылатую фразу:
«Борис, ты не прав!» из уст подчиненного. Думаю, комментарии тут излишни. А ког#а
то же самое говорит заместитель по политчасти, то невольно задумываешься и
исправляешь свой промах. Кто, как не замполит, улавливает настроение экипажа?! С кем,
как не с ним, люди бывают особенно откровенны?! Кто, как не он, является
выразителем коллективного мнения?! А единство коллективного мнения — это показатель
сплоченности экипажа корабля».
37
Соглашаясь с мнением командира «Даурии», офицеры кораблей отряда ВМФ в
Индийском океане добавляли, что политработником человек должен становиться не
только по профессии, но и по призванию. Лишь в этом случае ов действительно
способен справляться с возлагаемыми на него обязанностями, получать удовлетворение
от общения с людьми, пользоваться действительным авторитетом. Ссылались аа
примеры комплектования кадров политработников в ВВС флота, отбирающихся из
наиболее авторитетных летчиков, командиров экипажей самолетов. Один из них —
подполковник В. Еовдеев.
«В течение двух лет,—говорит он,—после соответствующей подготовки мне
пришлось исполнять обязанности заместителя командира эскадрильи по
политической части. С одной стороны, эта работа пришлась мне по душе: интересная, живая,
постоянно с людьми, в заботах об их нуждах. Особенное удовлетворение получал,
когда удавалось помочь кому-то. Трудно очертить какие-то рамки в этой работе.
Многое делаешь по собственной инициативе. Кто, например, может регламентировать
помощь замполита семьям летчиков, находящихся в длительной командировке, в
организации новогоднего праздника. А работа с личным составом эскадрильи? И все
это наряду с выполнением обязанностей командира экипажа. То есть нагрузка была
— дай бог каждому. Но сейчас этот опыт работы с людьми, повышенная
требовательность к себе как летчику мне здорово пригодились».
7. ПО КОНТРАКТУ ИЛИ ПО ПРИЗЫВУ?
Вооруженные силы многих стран, руководствуясь принципом наибольшей
целесообразности, уже решили для себя проблему комплектования. В нашей же стране
все еще скрещивают копья представители различных направлений формирования
Вооруженных Сил будущего. Кто-то цепляется за старое, пытаясь совместить
несовместимое — вменить Вооруженным Силам в обязанность защиту Родины с
одновременным воспитанием самих защитников. Кто-то, совершенно оторванный от жизни,
строит безумные прожекты, над которыми посмеиваются не только умудренные и много
повидавшие офицеры, но и уже отслужившие установленный срок старшины и
матросы. С некоторыми из них мне удалось побеседовать во время командировки в район
Персидского залива.
«Сейчас для нас, как никогда, актуальна проблема боевой и технической
готовности, —говорит капитан 2 ранга В. Поздняковский.—Путей решения этой проблемы
несколько. Одна из них — повышение качества подготовки личного состава. А
объективные условия таковы, что даже уровень общеобразовательной подготовки
личного состава ниже того, который хотелось бы иметь. Во-вторых, его моральный
настрой на службу совсем не тот, к которому нас приучили пропагандистские клише
средств массовой информации. Большинство служит лишь потому, что есть
соответствующая статья закона. Как результат, немалая часть личного состава срочной
службы не может, да и не хочет поддерживать материальную часть на необходимом
уровне боевой готовности. Чтобы компенсировать этот недостаток, приходится
«вкалывать» офицерам».
Особенно большое беспокойство вызывает состояние обслуживания
радиоэлектронных средств на кораблях, считает капитан 2 ранга А. Гончар. «Сложность
радиоэлектронных средств,— говорит он,— требует высокоподготовленного личного состава.
Аналогичные вычислительные центры на предприятиях, в учреждениях,
исследовательских институтах обслуживают инженеры, работающие с этой техникой по 3—5
и более лет. Какой видится выход из положения? Необходима контрактная система.
Но заключать контракт надо с людьми, окончившими вуз или техникум и имеющими
определенный опыт практической работы. Второй путь — заключение контракта с
матросами, отслужившими срочную службу с обязательной последующей подготовкой
их в соответствующих учебных заведениях ВМФ. И третий путь — комплектование
мичманами и офицерами должностей, связанных с эксплуатацией сложной техники».
В существующих условиях мы не готовы, да и нет необходимости переходить на
100-процентный наем личного состава, считают офицеры отряда. Нам нужны
профессионалы, т. е. люди, которые не просто получают большие деньги, но знают свое
дело, свое заведование, знают, для чего и кому они служат, и готовы выполнить
38
В заданном районе
Фото К. Якубовского
поставленную задачу во что бы то ни стало. Поэтому, если сегодня из общей
численности экипажей кораблей мы имеем 35 процентов профессионалов — офицеров в
мичманов, то с учетом предложенного этот показатель должен увеличиться минимум
до 60 процентов. А остальной личный состав может призываться, как и раньше,
причем на более короткие сроки.
А вот мнение моряка, отслужившего установленный трехлетний срок службы
на флоте. «Матрос,— говорит И. Поляница,— должен быть заинтересован в качестве
несения службы. Чтобы материальная часть была исправна, моряк должен знать,
что это лично его заведование, а ве чье-то еще. Надо, чтобы он получал хорошие
деньги и чтобы была система штрафов. Почему бы не сделать свободный сход ва
берег в нерабочее время в военной или гражданской форме одежды?! Должны быть
и отпуска: один — обязательный и один — по поощрению. И чтобы кормили
нормально, по-человечески. И чтобы зарплата была рублей 500».
Характерно, что подавляющее большинство мнений кадровых военнослужащих
созвучно этому.
8. В ОТВЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ
Сложилось мнение, что моряки — абсолютно здоровые люди. Не случайна и
поговорка: «Море любит сильных». А сила в большинстве случаев ассоциируется со
здоровьем. Как это ни парадоксально, но моряки тоже болеют, в том числе и в дли*
тельном плавании в Индийском океане. Бывают случаи, когда без вмешательства
специалиста просто не обойтись. Несколько тысяч вылеченных больных, 1200
амбулаторных и 168 полостных операций за службу на счету флагманского врача отряда
подполковника П. Фурсы. «Выходя в море,—говорит он,—корабельный врач остается один
на один с жизнью человека. Зная, что помощь не придет, ов рассчитывает лишь ва
себя. Мне приходилось оперировать на буксире, в кают-компании на обычном столе,
без наркоза, с ассистентами из строевых офицеров. Приходилось в качку
привязываться к операционному столу, так как крен едва не достигал 40 градусов. И вы*
поднять при этом ювелирную работу».
Конечно, не всем удавалось помочь. Случались в Индийском океане и травмы,
и увечья, и гибель, которые невозможно было предотвратить. Что же удерживает
врача, человека в общем-то мирной профессии, в прошлом выпускника гражданского вуза,
в море? Об этом говорит сам подполковник Фурса: «Морское братство — это главная
ценность, которая дается за те лишения, что мы испытываем. И еще. Мне
приходилось бывать на гражданских судах, танкерах, которые мы проводили через
Персидский залив. Я видел, какими благодарными взглядами провожали моряки этих судов
наши корабли. Вот это-то и есть главная плата за нашу мужскую работу»,
39
О тех, кто выбирает небо
ТРЕТИЙ КОМАНДИР
Уровень летной подготовки корабельного летчика во
многом зависит от командира полка, где он в свое время
проходил переучивание. Первым этот полк возглавлял Ф. Мат-
ковский, потом Г. Ковалев, сейчас там Г. Бакулин. Интерес-
нейшей судьбы человек.
(Из разговора в кают-компании крейсера «Киев»
после разбора полетов. Средиземное море, апрель 1987 г.)
ОН ПРИЗЕМЛИЛСЯ недалеко от
пляж-а. Едва коснулся земли,
почувствовал резкую, пронизывающую все
тело боль. Вскоре к лежавшему летчику
подбежали несколько отдыхающих,
готовых оказать помощь. Пилот, сделав себе
обезболивающий укол, попросил его не
«кантовать». Мысленно определил
диагноз: «Что-то, наверное, с
позвоночником...»,
К сожалению, полковник Г. Бакулин
не ошибся. Потянулись мрачные
госпитальные дни. 40 суток Геннадий
Георгиевич лежал в одном положении, на
спине. Однажды, возможно, чтобы как-то
подбодрить больного, врач сказал:
«Ноги тебе сохраню, а вот о небе
позабудь...»
И это в неполные 38 лет.
Сообщение принял молча, даже в лице,
кажется, не изменился, а вот нервы
напряглись. Их не могли успокоить самые
дефицитные лекарства. Больше помогала
жена. Все 40 суток Лариса
Михайловна находилась рядом. Ее теплый, все
понимающий взгляд, тихие рассказы о
детях, гарнизонных новостях возвращали
Геннадия Георгиевича к жизни,
заставляли чувствовать, что он нужен и семье,
и друзьям. Когда отпускала боль, он
вновь и вновь «прокручивал» в памяти
все детали последнего полета.
...Группа корабельных самолетов
летела в зону для выполнения боевого
упражнения. Бакулин находился во второй
кабине одного из Як-38. Ничто,
казалось, не предвещало каких-либо
осложнений. Неожиданно машина потеряла
управление, сорвалась в штопор.
Дистанция между неуправляемой машиной
и морскими волнами с каждым
мгновением резко сокращалась. У пилотов
оставался один шанс —
катапультироваться, хотя при столь минимальном
запасе высоты рассчитывать на
нормальное приземление не приходилось. Чуда,
естественно, не произошло.
Авторитетная комиссия в качестве
одной из главных причин аварии
определила попадание самолета в спутную
струю от летящей впереди машины. В
данном выводе, как это из собственного
опыта знал Геннадий Георгиевич, было
немало и объективного, и
субъективного. Но чего-либо опровергать он не стал.
Да и ке в зтом, на его взгляд,
заключалось главное, а в том, что он, летчик-
инструктор, мог бы сделать, но не
сделал в данной ситуации?
Командир полка не искал оправданий
ни себе, ни подчиненному. Куда важнее
было понять причину ошибки человека
и несовершенства машины, чтобы
другие летчики не повторили ее. Ведь этот
корабельный самолет, насколько успел
Геннадий Георгиевич убедиться за
предыдущие 10 лет службы в морской
авиации, очень неохотно раскрывает свои
секреты. Видимо, потому и тянутся в
морскую авиацию, как правило, люди
ищущие, наделенные жаждой познания
и открытия. Собственно, такой путь
прошел и сам Бакулин.
Офицерскую службу начал в 1969 г.
в Забайкалье. За пять лет освоил
несколько типов самых современных по
тому времени истребителей, стал
командиром лучшего в части звена. Конечно,
подобный путь проходят многие
выпускники высших летных училищ. Чему тогда
удивляться? Все дело в том, что
Геннадий Георгиевич не имел тогда высшего
образования. Так уж сложилась его
летная судьба, что вместе с аттестатом
зрелости он получил удостоверение об
окончании школы пилотов ДОСААФ,
потом была годичная учеба в
авиационном центре того же общества и звание
младший лейтенант запаса. Но
буквально считанные недели продолжалась
гражданская вольница молодого
пилота. Неожиданно двадцатилетнему Баку-
лину настоятельно предложили идти
учиться в военное летное училище... по
сокращенной программе. Через год он
получил диплом летчика-техника. Таких
в полку были буквально единицы. Им
приходилось гораздо труднее, чем
летчикам-инженерам. Не всем летчикам-
техникам хватило настойчивости поднять
свои профессиональные знания до
уровня инженера. Целеустремленность и
удивительная трудоспособность вывели
старшего лейтенанта Бакулина в число
наиболее перспективных летчиков полка.
В 1974 г. офицера перевели в
Прикарпатье и назначили заместителем
командира эскадрильи мастеров боевого
применения. Служить в таком
подразделении и большая честь, и высокая
ответственность. Все летчики имели
квалификацию не ниже первого класса. Командо-
40
"
Не един десяток летчиков палубной авиации подготовил
ьсенныи летчик 1-го класса полковник Г. Бакулин
Фото П. Александрова
вал эскадрильей Б. Кушнирук (ныне
известный в ВВС генерал). Не затерялся
недавний забайкалец среди признанных
воздушных асов. Через год службы на
новом месте он был награжден орденом
«За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени, представлен на
более высокую должность. В это же
время в часть пришел запрос из
Москвы: подобрать наиболее подготовленных
летчиков для службы в корабельной
авиации. Брать только добровольцев. Таких
оказалось немало, и среди них —
Бакулин. Потом пошли различные
комиссии, собеседования. Список кандидатов
в «моряки» быстро сокращался. Баку-
лина пригласил на беседу старший
начальник.
— Геннадий Георгиевич, чего вам
здесь не хватает, чем обделены? — без
лишней дипломатии начал генерал. —
Такие летчики, как вы, нам и здесь
очень нужны. Через год-другой пойдете
в академию, потом — полк. А на флоте
придется начинать с нуля, время будет
упущено... Ну как, давать «отбой»
вашему рапорту? Это пока в моих силах.
Позже Бакулин не раз вспоминал про
себя тот разговор с генералом. Нет, он
не раскаивался в своем решении
перейти в морскую авиацию. Хотелось как
можно быстрее подняться в небо на
новом самолете, испытать и себя, и
машину. Но потянулись долгие недели
теоретических занятий. Да и начали учебу
с... вертолета. Объяснение старших
было примерно такое: корабельный летчик
должен быть универсалом, умеющим
подняться в воздух и выполнить
поставленную задачу на любом летательном
аппарате, имеющемся на борту. Далеко
не всех вчерашних
летчиков-истребителей, нризнанной элиты военной авиации,
устраивали подобные объяснения.
Требовалось большое терпение, чтобы не
сорваться, не предать свою мечту. У
Геннадия Георгиевича хватило воли,
чтобы за теми напряженными буднями
увидеть завтрашний праздник. 72
самостоятельных полета на Ка-25 совершил
Бакулин. Только со временем он понял,
насколько необходимы навыки,
приобретенные на вертолетах, особенно при
взлете с палубы и посадке на нее Як-38.
Вертикальные взлет, посадка...
Заставить повиноваться машину было
совсем непросто, но чертовски интересно.
Первое время даже ночью, просыпаясь,
невольно ловил себя на мысли, что во
сне снова летал. Такой это самолет. Им
нельзя «не заболеть», его нельзя не
полюбить. Чтобы испытать подобное
чувство, настоящему летчику совсем не
обидно все начать с нуля.
Первыми учителями Бакулина были
известные в авиационном мире летчики-
испытатели Герой Советского Союза В.
Хомяков, О. Кононенко, Ю. Митиков.
Особое чувство благодарности Геннадий
Георгиевич до сего дня испытывает к
местным, полковым
инструкторам-наставникам офицерам В. Кучуеву, Г.
Ковалеву, которые большое внимание
уделяли не только освоению элементов
боевого применения, отработке техники
пилотирования, но и учитывали уровень
подготовки обучаемого, его зтянутость
в полеты, индивидуальные особенности.
Многое перенял Бакулин из опыта
старших товарищей.
Как и в первые годы офицерской
службы Бакулин много уделяет
внимания самостоятельной подготовке —
основной «институт» летчика для
повышения технических знаний, углубляет
свои познания в вопросах баллистики и
метеорологии, высшей математики.
41
Столь упорное и постоянное стремление
офицера к расширению своего
профессионального кругозора и здесь не осталось
без внимания. Спустя два года после
«посвящения в моряки» Бакулина
назначают старшим штурманом полка.
Круг служебных обязанностей
значительно расширяется. На занятиях и
тренировках он постоянно напоминает:
ни небо, ни море ошибок не прощает, а
когда служишь им обоим — и спрос
вдвойне. В море нет ориентиров, как на
земле, доверяешь лишь приборам.
Одна надежда — корабельная палуба,
единственный кусочек тверди на
необозримом морском просторе. С него
взлетаешь, а выполнив задание, к нему
стремишься.
Старший штурман проявляет
строгость и непреклонность, проверяя
подготовку летчиков к полетам,
всесторонне анализирует причины предпосылок
к летным происшествиям. Приходит к
выводу, что корни многих ошибок
летчиков идут либо от излишней
самоуверенности, либо от неуверенности
офицеров в своих знаниях. Чувство
самоуверенности характерно для тех, кто
постарше, поопытнее. Они, в том числе
и офицеры-руководители, надеясь на
свои знания, порой формально
готовятся к полетам, пренебрегают тренажами
на авиационной технике, находя
оправдание: «занят был», «не нашел
времени» и т. п. Это со временем приводит
к ошибочным действиям в кабине,
значительным отклонениям в расчете на
посадку, ошибках при ее выполнении.
Подобное снижение требовательности к
себе приводит к дому, что они не
только роняют собственный авторитет, но и
не лучшим образом влияют на учебу,
летное становление молодых офицеров,
вольно или невольно расслабляют их,
дают повод при подготовке к полетам
чем-то поступиться. Старший штурман
не стеснялся вынести каждый такой
случай на обсуждение, не признавал в
этом деле никаких компромиссов.
Если же летчик проявлял
неуверенность, то Геннадий Георгиевич всякий
раз пытался тщательно разобраться в
характере подчиненного, выяснить
уровень его профессиональной подготовки.
Он стремился добиться, чтобы человек
свое чувство неуверенности не
прикрывал ложным стыдом, не боялся заявить
командиру о своих сомнениях.
Люди не похожи друг на друга. И не
всегда их способности и задатки зримы.
Порой поиск искорки в молодом
человеке стоит немалого труда, нервов. Еще
больший талант нужен, чтобы не дать
этой искорке погаснуть от холодного
ветра неудач, чтобы помочь ей
разгореться огнем вдохновения, без которого
корабельному летчику никак нельзя. В
памяти Бакулина не один случай, когда
внимание и дружеское участие более
опытного, умудренного помогали
младшему обрести необходимые навыки,
жизненную устойчивость, поверить в
свои силы.
...Лейтенант В. Колобов выполнял
полет с инструктором майором Бакулиным.
При заходе на посадку занятой
оказалась полоса — убирали севший перед
ними самолет, у которого «приварилось»
переднее колесо. Пришлось лететь на
запасной аэродром. Топлива было, что
называется, в обрез. Еще одно
испытание: замолчала радиостанция. Садились
без связи, стрелка топливомера
устойчиво показывала «О». Что и говорить, в
сложную ситуацию попал лейтенант. Не
все его действия были безупречными, но,
по мнению Бакулина, лейтенант вел себя
достаточно уверенно. А ошибки, которые
обнаруживались, шли от слабого знания
арматуры кабины самолета, от того, что
предварительную подготовку выполнял
не в полном объеме...
Все это было учтено при
планировании наземной индивидуальной учебы
молодого офицера, усилен контроль за
его работой на тренажерах... Сейчас
Колобов успешно служит в ВВС
Тихоокеанского флота, майор.
Растут, мужают в полетах молодые.
Не останавливаются в своем
профессиональном совершенстве их учителя и
воспитатели. Да иначе сегодня в морской
авиации никак нельзя.
Тридцатитрехлетнего майора Бакулина направляют в
Военно-морскую академию. Быстро
пролетели годы учебы. Геннадий
Георгиевич не только успешно освоил
программу, но и проявил такие способности к
научной работе, что ему было
предложено заняться исследовательской
деятельностью. Отказался. Возвратился к
прежнему месту службы и возглавил
полк.
А полк-то особенный, единственный на
все Вооруженные Силы. Первым его
командиром был офицер ф. Матковский.
За годы службы он освоил более 10
типов самолетов и вертолетов. Первым
поднял в небо Як-38 с палубы крейсера
«Киев», когда корабль находился в
дальнем походе. Сохранилось письмо того
времени, отправленное Феоктистом
Григорьевичем со Средиземного: «За нами
постоянно идет американский эсминец.
Самолеты облетывают крейсер по
десятку раз в день... Все гораздо сложнее, чем
казалось. Нужно иметь железные
нервы, чтобы тебя понимали и ты понимал
других».
На все хватало этого человека. И на
терпеливое обучение молодых летчиков,
и на активный отдых, и на постоянное
участие в художественной
самодеятельности. С юношеской увлеченностью
комполка исполнял популярные песни, а
также шуточные куплеты собственного
сочинения. Но небо, летная работа
всегда у него были на первом месте, целью
и смыслом его жизни. В историческом
формуляре части, которой командовал
Ф. Матковский. навечно записаны
слова; «Первым вылетел... Первым освоил...
Первым совершил посадку на палубу
авианесущего крейсера «Киев».
Вторым командиром полка
отечественных самолетов вертикального взлета и
посадки (СВВП) был майор Г, Ковалев
42
— ученик и личный друг Феоктиста
Григорьевича. Многое связывало этих двух
известных морских летчиков —
пионеров освоения палубного самолета. Вете- *
раны полка хорошо запомнили один из
эпизодов их летной биографии.
Подполковник Ф. Матковский и майор Г.
Ковалев облетывали учебную машину
(спарку). На высоте нескольких десятков
метров она неожиданно «клюнула»,
начала снижаться... Оценив ситуацию,
летчики пришли к выводу: посадка
по-самолетному отпадает. Казалось, выход
один — катапультироваться. Но тогда
не удастся установить причину «клевка»
и подготовка летчиков затормозится...
Надо было спасать машину. Матковский
и Ковалев приняли тогда единственно
правильное решение: произвести
посадку на бетонную полосу «по вертикали».
Требовалась ювелирная техника
пилотирования. Малейшая ошибка могла
привести к непоправимому. Летчики с
честью выдержали это испытание...
Хладнокровие, незаурядная воля, глубокое
знание техники определяли летный
талант Геннадия Лукича Ковалева, о чем
хорошо знали и подчиненные, и старшие
начальники. Он первым в авиации
Военно-Морского Флота совершил взлет и
посадку с палубы авианесущего крейсера
ночью.
Когда Г. Ковалева назначили на
более высокую должность, на свое место
он рекомендовал лучшего своего
ученика Г. Бакулина. Необходимо было не
только с достоинством продолжать дела
первых двух командиров, но и взять
новые высоты боевого мастерства.
Широк и многообразен круг
обязанностей командира полка морской
авиации. Но есть стержневой вопрос —
боевая учеба, ее эффективность и
качество. А если сказать более
конкретно — поражать цели внезапно, с первой
зтаки. Это одно из главных условий,
обеспечивающих успех в современном
бою.
Проанализировав несколько десятков
учебных боев, оцененных высшим
баллом, Бакулин заметил такую деталь:
некоторая часть из них была
растянута по времени. На первый взгляд
чистая случайность и ничего больше. Но
командир полка увидел в этом
упрощение и послабление боевой учебы. А
картина получалась примерно такая:
выйдя на самый ответственный участок
полета, летчик, избегая риска
промаха, уменьшал скорость сближения с
целью. С открытием огня не спешил.
Лишь только тогда, когда был убежден,
что очередь будет зачетной, нажимал на
гашетку... Нетрудно представить, какой
эффект был бы от подобной атаки, если
бы она выполнялась в настоящем бою.
Невольно возникал вопрос: можно ли
в таком случае говорить о том, что
летчик уничтожил цель с первой атаки?
Именно его и задал комполка офицерам
на очередном совещании. Бакулин
совсем не хотел кого-то обличать. Важно
было, чтобы люди поняли: корабельный
летчик — это истинный воздушный ас
в лучшем понимании этого слова. И
для него главное в атаке —* это внезап
ность, стремительность, неотразимость
Иначе нет настоящего тактичесь».
грамотного боя с сильным и опытным
противником, а есть лишь отработка
ведения огня по мишени. Опасно было к
другое: со временем такая условность
может войти у летчика в привычку, и
завтра он понесет ее на корабельную
палубу, а затем — подчиненным... Лет
чики правильно поняли озабоченность
командира. Было высказано немало
дельных предложений по затронутому
вопросу. В частности, многие говорили
о том, что внезапность атаки во многом
обусловливается и действиями расчета
командного пункта, тех, кто наводит
самолет на цель и обязан по мере
возможности обеспечить летчику тактическое
преимущество над противником,
исходя из конкретно сложившейся воз
душной и морской обстановки.
Разговор получился деловой, заинте
ресованный. Определил фронт
предстоящих работ для себя и Бакулин.
Используя опыт, приобретенный в
академии, передовых частях ВВС, где он
побывал в годы учебы, комполка решил
переоборудовать командный пункт
руководства полетами в дальней зоне.
Вскоре был определен объем работ,
составлены заявки на соответствующую
аппаратуру.
Геннадий Георгиевич не сомневался,
что такое предложение обязательно
будет поддержано старшим командиром.
Увы, генерал отказал.
— Не надо никакой
самодеятельности, — кратко резюмировал он, — все
как было, так и останется. Вопрос
закрыт.
Видно, пока не время. Но вскоре к
данному вопросу пришлось
возвратиться вновь. Произошло летное
происшествие, одной из причин которого было
отсутствие КП руководства полетами в
дальней зоне.
Бакулина пригласили в вышестоящий
штаб для объяснения. За столом сидели
два генерала. Тот, который отказал в
переоборудовании КП, и другой, из
Москвы. Немало критики услышал
комполка в свой адрес. Особенно возмущался
гость из столицы тем, что Бакулин не
смог проявить инициативу в
переоборудовании своего КП.
Этот упрек московский генерал
повторил еще несколько раз. Командир
полка, переминаясь с ноги на ногу,
молчал. Молчал и тот, кто в свое
время отверг его предложение.
— Так и ушел я тогда из кабинета,
обвиненный в безынициативности. — с
плохо скрываемой обидой проговорил
полковник Бакулин и, минуту-другую
подумав, продолжил: — Нет, не о
смелости надо было, наверное, вести
разговор, а об элементарном этикете и
человеческой порядочности. Как нам этого
порой недостает... Отсюда многие
наши неприятности.
Невольно подумалось: какие такие
неприятности могут быть у командира
полка, кроме служебных? Оказывается.
43
бывают, да еще и какие. ...Однажды в
кабинет офицера Бакулина прибывает
представитель политуправления флота
и кладет на стол толстый конверт с 30
страницами текста.
— Вот, Геннадий Георгиевич,
«телега» на вас пришла, прибыл
разбираться...
В каких грехах только не обвинялся
командир полка. И квартирами
спекулирует, и машины на сторону продает,
и дефицит в магазине берет с черного
хода, и любимчиков развел вокруг
себя...
— Оправдываться не буду, — только
и сказал Бакулин, — одно прошу:
соберите офицеров полка и все обсудите.
Несколько часов шло это необычное
собрание. Более сотни офицеров
всесторонне обсуждали содержание письма.
Ни одно обвинение не подтвердилось.
Тогда собравшиеся потребовали
объяснения у автора пасквиля. С места
поднялся подполковник. Ничего не мог
сказать, кроме того, что кто-то когда-
то ему говорил, где-то слышал и т. п.
В свое время он был понижен в
должности... Обиделся на весь белый свет.
Вот и собирают вместе с женой
«компромат» нротив тех, кто, по их мнению,
более удачлив. А то, что человек
всего себя отдает избранному делу,
трудится, как говорится, «с утра до
вечера и снова — до утра», это ими во
внимание не принимается.
Не скрою, когда мне стало известно
о том собрании офицеров, невольно
подумалось: надо ли писать об этом
эпизоде, ведь в биографии командира
полка есть столько интересных, во многом
поучительных фактов. Да и как-то не
принято о таком сообщать... Об этом
я прямо спросил самого Геннадия
Георгиевича.
— Право, не знаю, — после
продолжительного раздумья проговорил он, —
мы все нривыкли, что офицер — это
человек чести, высокого благородства.
Да так оно и есть на самом деле. Могу
назвать добрую сотню моих
сослуживцев, которые действительно таковыми
являются. Но слова, как говорится, из
песни не выбросишь... Нет-нет да и
попадаются вот такие, как этот
подполковник. Сколько нервов, здоровья они
портят и другим, да и себе... Одно
прошу, если будете писать, не
называйте фамилии, ведь на весь флот
прогремит... Признаюсь, жалко человека.
Так неожиданно Геннадий Георгиевич
блеснул еще одной гранью своего
сильного характера. Уступать слабому
могут действительно только люди
по-настоящему благородные, красивые и
притягательные своей мечтой. И этими
качествами, как мне показалось, офицер
Бакулин обладает в полной мере.
Убедительное тому подтверждение—вся его
служба. Взять, к примеру, тот же
случай, о котором шла речь выше, когда
после неудачного катапультирования он
получил сильное повреждение
позвоночника. После продолжительного лечения
в госпитале он на целый год был
отлучен от прле.тов. ^то это значит для
командира' * полка,.- люди, хоть немного
знакомые с военной авиацией, отлично
представляют. Другой, менее
целеустремленный человек, попав в подобную
ситуацию, подыскал бы себе место
поспокойнее, а возможно, и
поперспективнее. Другой, но не Бакулин. Только
жена Лариса Михайловна да дочери
знают, сколько пота ежедневно проливал
Геннадий Георгиевич, выполняя
множество физических упражнений,
рекомендованных врачами госпиталя. Через
год авторитетные медицинские светила
выносят свой вердикт: «Допускается к
полетам на всех типах летательных
аппаратов без ограничений».
Прокомандовав в общей сложности
шесть лет авиационным полком,
получив более высокую должность,
полковник Бакулин на 41-м году жизни решил
штурмовать очередной рубеж: добиться
разрешения летать на новом поколении
самолетов корабельной авиации —
современных истребителях МиГ-29, Су-27.
Едет в Москву, в ЦВНИАГ
(Центральный военный
научно-исследовательский авиационный госпиталь) и
получает допуск к полетам на МиГ-29 и
Су-27, но без права посадки на палубу
корабля. Но видя перед собой столь
страстную натуру, московские врачи
выдали морскому авиатору немало советов
и приглашение посетить их учреждение
ровно через год...
Не знаю, взлетит ли с трамплина
палубы авианесущего крейсера
полковник Бакулин (хочется искренне ему
этого пожелать), но твердо уверен в
другом: на самых современных
самолетах морской авиации еще долго, не
одно десятилетие, будут стартовать его
воспитанники. Им он передал не только
свое профессиональное мастерство, но и
свою любовь к корабельным самолетам.
В заключение еще раз перелистав
блокнот, где записаны многие встречи с
полковником Бакулиным, я как-то
невольно обратил внимание на
любопытную деталь. За год службы в эскадрилье
мастеров боевого применения в
Прикарпатье молодой летчик был удостоен
ордена. Форму морского авиатора
Геннадий Георгиевич носит без малого
полтора десятка лет. Успешно прошел все
служебные ступени, 6 лет командовал
полком, где было за это время
подготовлено большое число отличных
корабельных летчиков и — ни одного
ордена. Справедливо ли это? Знаю,
найдутся такие, кто, прочитав подобное
авторское отступление, криво улыбнется:
до чего дошел журналист, просит
награды для своего героя. Какая
нескромность! Да ничего я не прошу. И с
полковником Бакулиным мы об этом не
обмолвились ни единым словом.
Наверное, он сам будет очень удивлен,
прочитав такое послесловие. Но, право
же, есть над чем задуматься...
Капитан 1 ранга Я. ТАВРИЛЕНКО
44
ОБУЧЕНИЕ- И ВОСПИТАНИЕ
Военная реформа: политический аспект
ЧТО ПОКАЗАЛ ЭКСПЕРИМЕНТ
Полковник Н. КАРАСЕВ
начальник отдела общественных наук
Главного военно-политического управления
Вооруженных Сил СССР
НЕ ПРАВДА ЛИ, парадокс: с одной стороны, резко усилилась политизация
военнослужащих, возрос их интерес к политическим процессам, происходящим, в
нашей стране, а с другой — наблюдается охлаждение личного состава к различным
формам политподготовки. Хотя парадокс ли это? Ведь охлаждение к ней возникло
не вчера, а зрело по мере того, как ее содержание все больше отрывалось от
общественной практики, а формы становились шаблонными, что наносило и еще
наносит огромный вред всей системе политического образования в армии и на флоте.
Именно в этой связи Главное политическое управление Советской Армии и Военно-
Морского Флота приняло решение провести глубокий анализ системы политучебу в
войсках и на флотах. С этой целью с 1989 г. проводится научно-исследовательская
работа «Политподготовка-92». Головным ее исполнителем является Центр
исследований социальных и психологических проблем при ГлавПУРе. В этой работе активно
участвуют также Военно-политическая академия имени В. И. Ленина, ученые ряда
других вузов Министерства обороны.
При ее выполнении первые полгода ушли на изучение состояния
политического образования в войсках и на флотах, выработку предложений по его предстоящему
реформированию. В результате удалось синтезировать различные точки зрения и сфор:
мулировать принципиально новую концепцию.
В основе концепции три главные задачи.
Во-первых, формирование нового отношения слушателя к учебе за счет
творческого проведения занятий, так, чтобы они способствовали развитию
интеллектуальных способностей каждого, повышали информированность, стремление людей к
самообразованию.
Во-вторых, формирование нового типа руководителей групп политподготовки. Се*
годня — это зачастую не по собственному желанию назначенный офицер, не всегда
к тому же убежденный в необходимости изучения со слушателями именно данной
темы занятий и потому не испытывающий собственной потребности в ее глубоком
освоении. Отсюда — скучный и равнодушный «чтец» не очень занимательных
текстов из политических журналов. Задача же в том, чтобы руководитель группы
политучебы стал подлинным конструктором общественного мнения, влиял на аудиторию не
принуждением, а личной убежденностью, заинтересованностью, культурой я глубиной
знаний.
В-третьих, формирование качественно иного, чем прежде, стиля
взаимоотношений в учебной группе, основанного не на диктате преподавателя, а на его
сотрудничестве со слушателями. В принципе это условие выполнения и первых двух,
задач.
Читатель может заметить: все это хорошо и правильно, но как этого добиться
на практике? Думаю, что прежде всего каждому из пропагандистов следует
пересмотреть стиль своей работы, а политотделам — помочь в ознакомлении с ее новыми
формами. Как и прежде, ГлавПУР останется единым методическим центром
организации политической подготовки личиого состава войск и флотов. Однако при этом
намечено предоставить более широкие полномочия политорганам на местах, в том
числе и в определении текущих планов политучебы.
Как это может выглядеть на практике? Скажем, по рекомендациям ГлавПУРа,
пора изучать тему: «Демократизация советского общества». Но в частях и на кораб-
45
лях у слушателей возник острый интерес к проблеме перехода страны к рыночной
экономике, жизнедеятельности армии и флота в этих условиях. Правильно поступят
те командиры и политработники, которые организуют изучение темы, не спущенной
«сверху», а той, что живо интересует людей.
В перестройке организации политучебы новая концепция предусматривает
обязательное предоставление слушателям определенного времени для самостоятельной
подготовки в ходе каждого занятия. При этом имеется в виду создание учебных
троек, пар на самоподготовке. В эти тройки и пары желательно подбирать слушателей,
имеющих различные уровни подготовки: высокий, средний, низкий. Руководителям
групп не следует закреплять «тройки» как постоянный организационный элемент, а
формировать их, исходя из решаемых задач, с учетом желаний и симпатий.
Управление «тройками» в ходе занятий должно создавать атмосферу состязательности и
творчества. Считается оптимальным комплектование учебных г^упп, исходя из
боевого расчета, до 10—15 человек. Деление на «тройки» полезно еще и тем, что у
руководителя группы появляется не один, а несколько помощников.
Концепция предусматривает многообразие активных форм проведения занятий
(диалог, дискуссия, «пресс-конференция», «телемост», военно-политический
комментарий, семинар и т. д.). При этом выбор конкретных форм и методов проведения
занятий руководителем всякий раз проводится с учетом пожеланий слушателей.
Предлагается также принципиально изменить характер оценок. Вместо
традиционных намечается использовать такие оценки, как «отмечается в лучшую
сторону», «проявил себя хорошо», «показал слабую подготовленность». При этом должен
оцениваться не только учебный результат, достигнутый воином, как это чаще всего
практикуется, но и совокупность таких показателей, как проявление нравственных
качеств солдата или матроса в различных ситуациях, его отношение к учебе,
стремление к самосовершенствованию.
Таковы некоторые особенности новой концепции политподготовки. Для ее
практической апробации с 28 июня по 31 декабря 1990 г. в ряде соединений
Сухопутных войск, Ракетных войск стратегического назначения, Военно-Воздушных Силах,
в Войсках ПВО страны, на одном из соединений Северного флота проводился
широкий эксперимент.
Для его проведения были выбраны шесть частей, в каждой из которых выделено
5 экспериментальных групп: три — личного состава срочной службы, одна —
мичманов (прапорщиков) и одна — офицеров. Для сравнения результатов в этих же
частях были выбраны по три контрольных учебных группы.
С целью реализации задач эксперимента Центр исследования социальных и
психологических проблем при ГлавПУРе в соответствии с новой концепцией
политподготовки разработал и издал учебно-методические пособия, совместно с
командно-политическим составом частей (кораблей) подобрал руководителей групп и их
помощников, провел с ними почти 150 инструктивно-методических занятий, около 100
показных занятий.
Что показал эксперимент?
Во всех группах, где он проводился, отмечено повышение интереса
военнослужащих к политической учебе, улучшение организации учебно-воспитательного
процесса, оздоровление морально-психологической атмосферы. Если в воинской части
ПВО перед началом апробации новой модели обучения число слушателей, безразлично
или отрицательно относящихся к политзанятиям, составляло от 50 до 60% в каждой
группе, то к концу эксперимента их число сократилось почти вдвое. В воинской
части РВСН 95% военнослужащих срочной службы и 1&0% руководителей
экспериментальных групп дали положительную оценку замыслу эксперимента. В воинской
части ВВС 85% слушателей экспериментальных групп политзанятий заявили, что
занятия по новой модели позволяют лучше ориентироваться в политической
обстановке в стране и за рубежом. Во всех экспериментальных группах соединения
Северного флота возросла активность слушателей. Повысилась ответственность
руководителей групп политзанятий за объективность оценки слушателей.
Вместе с тем в контрольных группах уровень политучебы остается невысоким
или даже продолжает снижаться. С чем это связано? Зафиксированы контрастные
ориентации слушателей экспериментальных и контрольных групп. Если первые
излагают конструктивные предложения типа: «Приблизить отдельную тему к условиям
46
Занятия в группе политической учебы мичманов проводит
капитан-лейтенант О. Дьякин
Фото Ю. Пахомова
службы», предлагают конкретные пути улучшения методических пособий, то в
контрольных группах преобладают суждения другого рода: «Привлечь лекторов общества
«Знание», изменить тематику, не делать занятия скучными» и т. п.
Если говорить о содержании политучебы, то, как показал эксперимент,
устойчивый интерес у слушателей и руководителей вызывает раздел «Героическое
наследие: события и люди». Оправдало себя и включение в программу изучения
методического материала, связанного с обучением и воспитанием воинов. При апробации
на политических занятиях военнослужащих срочной службы положительные
результаты дало использование двух новых форм занятий: «Дискуссии на примере
нравственных ситуаций» из жизни воинского коллектива и «Военно-политический
комментарий» для анализа актуальных событий в стране и за рубежом.
Эксперимент вместе с тем показал, что кое-кто настолько привык к
существующей системе политподготовки, что даже не представляет возможности ее изменить. Не
случайно в начале эксперимента у большинства руководителей групп присутствовали
иронические оценки, недоверие и скепсис по поводу «затеи». В воинской части ВВС
некоторые штатные политработники заняли позицию сторонних наблюдателей,
вместо того чтобы внести свою лепту в организацию эксперимента.
Выявилось немало трудностей и в ходе обеспечения эксперимента. При
написании учебных пособий для офицеров, мичманов и прапорщиков не по всем темам
удалось определить оптимальный объем материала с учетом нормы времени и среднего
уровня подготовленности руководителей и слушателей. Оказалось, что далеко не все
офицеры могут организовать плановую самоподготовку солдат и матросов,
использовать активные формы общения со слушателями. Ряд руководителей
экспериментальных групп, ошибочно предположив, что новые учебные пособия избавляют их от
тщательной подготовки к занятиям, не сумели уйти от старых монологических форм
общения. С другой стороны, слушатели всех форм политической подготовки оказались
в первые дни эксперимента психологически не готовыми к проявлению собственной
активности на необычных для них занятиях.
Что же дальше?
В настоящее время итоги проведенной работы изучаются, вносятся необходимые
коррективы, а затем — вновь апробация идей в войсках и на флотах. Теперь уже в
более широком масштабе.
В 1991 г. научно-исследовательская работа «Политподготовка-92» в целом
должна быть завершена выработкой соответствующей директивы, на основе требований
которой будет в дальнейшем проводиться политическая подготовка всех категорий
личного состава армии и флота.
47
ВбСпитайие '"Историей:
УТРАЧЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ РОССИИ
В ДЕКАБРЕ прошлого года в журнале «Огонек» появилось письмо читателя
В. Жарикова, который писал, что горечь и обида овладевали им при
посещении Севастополя 1. Автора письма волновала судьба Владимирского собора.
У этого строения интересная судьба. Место его сооружения было указано
адмиралом М. И. Лазаревым. Здесь, в специально сделанном склепе, в 1851 г.
похоронили славного флотоводца, а через три года, 15 июля 1854 г., в разгар
Крымской войны состоялась официальная закладка собора. Несмотря на
создавшуюся обстановку, флотские строители успели до начала осады города вывести
фундамент, поднять стены и своды подвального этажа с цоколем. Во время
обороны Севастополя в нижнем помещении будущего храма состоялись
захоронения мужественных защитников Отечества — вице-адмирала В. А.
Корнилова, контр-адмирала В. И. Истомина, адмирала П. С. Нахимова. Это
общеизвестно. Но мало кто знает, что вдоль северной и южной стен собора
расположены могилы одиннадцати не менее славных защитников города: П. А. Карпова,
П. А. Перелешина, В. П. Шмидта и других.
«Вот уже 30 лет храм закрыт, — сетует В. Жариков. — Равнодушен к
судьбе покойных адмиралов и командующий Черноморским флотом. Военные моряки
забыли о флотской чести. Не приводят сюда новобранцев военного флота для
принятия присяги у могил великих моряков. О каком же нравственном
воспитании подрастающего поколения можно говорить, если в пыли и забвении под
ногами равнодушно шагающих людей лежат останки великих русских
флотоводцев? И никому нет до них дела».
Нельзя не согласиться с чувствами автора этого письма. Хотя насчет
равнодушия севастопольцев вопрос все-таки спорный.
В годы Великой Отечественной войны Владимирский собор был разрушен.
Вг© восстановление началось в 1966 г. Но специалисты творческой группы
Киевских республиканских научно-реставрационных производственных
мастерских особо не торопятся. Когда-то морской (!) собор ныне передан в ведение
Музея героической обороны и освобождения Севастополя, а у этого
учреждения и своих забот хватает, да и с финансами ой как не густо. И торчат в центре
города-героя серые стены Владимирского собора — блестящего творения
прославленного зодчего К. А. Тона — наглядным упреком и флоту, и городским
властям, и самим горожанам. А ведь средства на него в стародавние времена
собирали в «шапку по кругу». Адмиралы и офицеры, матросы и чины
российского флота, обыватели со всех уголков государства за честь считали, что в
строение этого храма вложены их рубли и копейки. Такова уж заведенная
надпими пращурами народная традиция: во благо Отечества сбор средств всем
миром...
Говоря о памятниках Севастополя, нельзя забывать и о безвозвратных
утратах, выпавших на долю цитадели Черноморского флота как в пору
социальной «культурной» революции, так и в огненные дни прошедшей войны.
Навсегда исчез памятник адмиралу П. С. Нахимову, созданный по проекту
генерал-лейтенанта А. А. Бильдерлинга, автора монумента героям
«Стерегущего», украшающего и поныне один из бульваров Ленинграда. Нет и следа от
памятника адмиралу М. П. Лазареву. Далеко не в первозданном состоянии
уникальная пирамидальная церковь Св. Николая Морского на Братском
кладбище. Да и внешний вид знаменитого памятника затопленным кораблям —
эмблемы города — оставляет желать лучшего.
«История, — писал Н. Карамзин, — завет предков потомству, дополнение,
изъяснение настоящего и пример будущего».
Воспитание же историей — процесс архиважный в наше неспокойное и
взрывное время, процесс бескомпромиссный и подвижнический, ибо в позна-
цт культурного наследия требуются приложение сил и средств, глубокое
овладение знаниями отечественной истории, осмысление ее.
В последнее время заметно усилилось стремление многих, и военных
моряков в частности, познать историческое прошлое. Об этом говорят письма,
приходящие в адрес «Морского сборника», и встречи с читателями. В какой-то
степени этому способствует поднятая три года назад на страницах флотского
журнала тема, обязанная приближению знаменательной даты, — 300-летию
создания российского регулярного военно-морского флота.
Сегодня моряки чаще и чаще обращают свое внимание к исторической
литературе, флотской беллетристике прошлого. Некоторые участвуют в интересной
поисковой и исследовательской работе по выявлению неизвестных и
малоизвестных сведений из летописи отечественного флота, забытых страниц из жизни его
лучших представителей, а также документальных фактов по переосмыслению
» Огонек,— 1990,— № 50.— С. 4.
48
тех или иных событий, тесно связанных с общественно-политической и боевой
деятельностью флота.
Так, например, капитан 3 ранга В. Овчинников с лейтенантских лет все
свое свободное время посвятил исследованию жизни и деятельности адмирала
Ф. Ф. Ушакова. Вопреки канонизированным сведениям ему удалось недавно
документально установить подлинное место и точную дату рождения флотоводца.
Офицер-североморец внес ценный вклад не только в историографию ВМФ, но и
в отечественную историю.
Письменные источники разных эпох, без сомнения, самый массовый
документальный элемент истории. Дополнением ему служат произведения
искусства, ваяния и зодчества. Батальные картины, маринистская живопись (хотя
последняя, ныне «не модная», в большинстве своем хранится в запасниках
музеев), к счастью, составляют немалую толику свидетельств прошлого. Этого
не сказать о монументальной скульптуре и архитектуре.
На Руси издревле существовал обычай увековечивать не столько людей,
сколько славные события, примечательные деяния времен и народов. Предметом
увековечения являлись храмовые строения — соборы, церкви, часовни. Об этом
говорят и Храм Василия Блаженного — Покровский сбор, воздвигнутый
Иваном Грозным в честь покорения Казанского ханства, и величественный храм
Христа Спасителя — памятник героизму русского народа в борьбе с
наполеоновским нашествием.
Из века в век свято сохранялась эта традиция и на флоте. Основатель его,
Петр I, своим распоряжением построил Пантелеймоновскую церковь на Соляном
дворе в Санкт-Петербурге, ознаменовывая золотыми куполами блестящие победы
российского флота при Гангуте и Гренгаме. Храм получил в народе название
Гангутской церкви, ставшей одним из первых памятников петровской эпохи, а
одновременно и памятником флотской доблести. Былая, деревянная, церковь не
сохранилась, но ее место достойно занял каменный храм с мемориальными
досками, рассказывающими потомкам о подвиге былого поколения. Однако одному
из последних, единственному в своем роде историческому и архитектурному
памятнику до нашего времени дожить было не суждено.
Слава российского флота рождалась на берегах Невы, здесь же она
бережно сохранялась. Об этом напоминают и расположенные совсем близко от Новой
Голландии Адмиралтейство, Гвардейский флотский экипаж, собор Николы
Морского и то место, где воды Ново-Адмиралтейского канала сливаются с ведами
Невы и где высился некогда белокаменный храм Христа Спасителя, назвадашй
в просторечии Спас-на-Водах — храм-памятник русским морякам, погибшим в
русско-японскую войну 1904—1905 гг. Построенный в 1912 г., он словно
заключил в себе напоминание о тех жертвах, понесенных Россией в далеком Японском
море. Их имена, отлитые в бронзовых досках, покоились внутри храма,
которому отдали частицу своего гения скульптор Б. Микешин, художники М.
Адамович, В. Васнецов, Н. Бруни. В 20-х годах уникальную постройку взорвали.
Такой же участи «удостоилась» и знаменитая Сухарева башня — первое
гражданское здание петровского возрождения — первое военно-морское учебное
заведение — Навигацкая школа. Не время стирало гордое прошлое, но люди.
В ноябрьские дни 1917 г. Петроградский исполнительный комитет Совета
рабочих и солдатских депутатов призывал народ:
«Граждане, старые хозяева ушли, после них осталось огромное наследство.
Теперь оно принадлежит всему народу... Граждане, берегите это наследство,
берегите картины, статуи, здания — это воплощение духовной силы вашей й
предков ваших... Граждане, не трогайте ни одного камня, охраняйте памятники,
здания, старые вещи, документы — все это ваша история, ваша гордость.
Пожните, что все это почва, на которой вырастает ваше новое народное искусство**.
Но вслед здравым словам появился на свет 12 апреля 1918 г. декрет СНК
«О памятниках Республики». Он зазвучал уже иначе:
«В ознаменование великого переворота, преобразившего Россию, Совет
Народных Комиссаров постановляет:
1. Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие
интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию
с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию
утилитарного характера.
2. Особой комиссии из народных комиссаров по просвещению и имуществ
Республики и заведующему Отделом изобразительных искусств при
Комиссариате просвещения поручается, по соглашению с художественной коллегией
Москвы и Петрограда, определить, какие памятники подлежат снятию.
3. Той же комиссии поручается мобилизовать художественные силы и
организовать широкий конкурс по выработке проектов памятников,
долженствующих ознаменовать великие дни Российской социалистической революции.
4. Совет Народных Комиссаров выражает желание, чтобы в день 1 мая
были уже сняты некоторые наиболее уродливые истуканы и поставлены первые
модели новых памятников на суд масс.
2 Историко-революционные памятники СССР: Краткий справочник.— М.:
Политиздат, 1972.— С. 4.
4 «Морской сборник» № 3 49
Km
ш
11
i
it
iH
i
И
J№
ж
1
1
5. Той же комиссии^ поручается сдешно
подготовить декорирование города в день 1 мая и замену
надписей, эмблем, названий улиц, гербов и т. п.
новыми, отражающими идеи и чувства революционной
трудовой России» 3.
По городам и весям грудами обломков
ознаменовалось «историко-воспитательное» мероприятие но-
вого правительства. Позднее будем охать и ахать,
искать виновных, плакать о потерянном безвозвратно,
а тогда...
На Адмиралтейской набережной вырваны с
корнем два памятника скульптора Л. Бернштама «Петр-
плотник» и «Царь спасает утопающих», и сегодня,
за знаменитым львом у Дворцового моста виднеется
унылое пятно одного из былых монументов.
Волна борьбы с «великодержавными сатрапами и
их приспешниками» набирала силу, гудя звоном
разбитого металла и грохотом падающих вековых
глыб, в Москве рушатся Красные ворота,
Триумфальная арка, Сухарева башня.
В 1927 г. в Ленинграде разбирают
уникальнейший памятник Славы, увековечивавший победу
русской армии и флота в войне с Турцией в 1877—
1878 гг. Огромную колонну создатели памятника
архитектор Д. Гримм и скульптор А. Шварц
«облицевали» 104 стволами полевых и корабельных
трофейных орудий, расположенных в шесть ярусов.
Верх коринфской капители венчала фигура Славы с
дубовым венком и пальмовой ветвью в руках. На
гранитном пьедестале были укреплены доски с
надписями, не только излагавшими краткую историю
войны, но и список армейских частей и кораблей,
принимавших участие в освобождении балканских
народов от оттоманского ига. Разобранный на части
памятник пошел на переплавку.
В Николаеве сломали детище А. Опекушина и
М. Микешина—монумент адмиралу А. С. Грейгу —
боевому командиру, участнику Архипелагской
экспедиции Г. А. Спиридова, командующему
Черноморским флотом, почетному члену Российской академии
наук. За ним последовал памятник герою-севасто-
польцу, защитнику города в годы Крымской войны,;
матросу 30-го флотского экипажа Шевченко...
Волна останавливается во Владивостоке, сделав
свое черное дело, сорвав с пьедестала фигуру
адмирала В. С. Завойко, возглавившего разгром
англофранцузского вторжения в 1854 г. в Петропавловск-
Камчатский. В 1945 г. на этот пьедестал ваятель
Л. Писаревский «вписал» скульптуру С. Лазо,
прикрепив к нему доску со словами руководителя
партизанских отрядов Приморья: «Вот за эту русскую
землю, на которой я сейчас стою, мы умрем, но не
отдадим ее никому». Эти же слова с честью и
достоинством мог произнести и адмирал В. С. Завойко —
заветы продолжаются, передаются поколениям. А
поколения?
Казалось бы, время низвержения памятников
истории закончилось. Но сегодняшние события в стране
говорят об обратном. То там, то здесь происходит
демонтаж монументов. И если когда-то их судьбу
вершили неразумность и слепая исполнительность
местных органов власти, то ныне жизнь свидетельств
прошлого решают сиюминутные амбиции.
Снимаются памятники вождям и событиям, рушатся
помпезные мемориалы, а в итоге стираются следы нашей
истории, значительный пласт нашей культуры и
бытия. И как обычно, в таких случаях подобные
мероприятия не обходятся без казусов.
Недавно, например, сессия Лазаревского
райсовета курортного местечка на Черноморском побережье
* Т а м ж е.~ С. 4—5.
Сухарева башня
Памятник Петру I ■ Петродворце
Чесменская церковь
50
утвердила решение о снятии памятника адмиралу
М. П. Лазареву и переносе его на родину моряка
вб Владимир. Наш читатель О. Николенко,
сообщивший об этом, пишет: «Вина» адмирала перед
депутатами заключается в том, что командующий
Черноморским флотом «был на Кавказе исполнителем
воли царского самодержавия в несправедливой
колониально-захватнической войне против коренных
жителей Причерноморья». Кто и где следующий?
Декларативность, фанфарность, неестественность
— никак не признаки патриотизма. Наше прошлое
— не раковая опухоль, подлежащая отрезанию, а
живая плоть и кровь современности. Патриотизм —
это айсберг, где верхушка современности
поддерживается подводным массивом истории.
В День Победы 9 мая весь наш народ, воины
Вооруженных Сил традиционно отдают почести
захоронениям тех, кто ценой своей жизни защитил честь
и независимость Отечества. Воинские и флотские
подразделения шефствуют над могилами павших в
годы Великой Отечественной войны. Своими силами
они устанавливают обелиски и памятники, в музеях
частей и кораблей бережно хранятся портреты
героев, описания их подвигов. Неоценимую
воспитательную и подвижническую роль в этой прочной
традиции играют ветераны. Их рассказы на встречах —
убедительная пропаганда воинского долга. И
все-таки есть во всем этом пробел, а вернее разрыв.
Забытыми остаются те, кто со времен петровских баталий
вьгпестовывал характер и мужество российского
моряка, кто закладывал основы могущества
российского военного флота.
Когда-то великий А. С. Пушкин писал:
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Бывая в Ленинграде, с чувством какой-то
гражданской задолженности уходишь с городских
кладбищ. В заброшенном состоянии захоронения
адмиралов А. С. Грейга и О. М. Дерибаса на Смоленском
лютеранском кладбище. На Смоленском
православном — в полуразрушенном виде надгробия адмирала
и кораблестроителя А. А. Попова, историка флота
Н. Г. Устрялова. Запущены могилы адмиралов А. П.
Авинова, Г. И. Невельского, К. Н. Посьета, Н. О.
Эссена на Новодевичьем кладбище. Не лучше
содержатся последние пристанища адмиралов В. Я.
Чичагова, А. Н. Сенявина, ф. ф. Матюшкина и многих
других флотоводцев в некрополе Александро-Нев-
ской лавры и Никольского кладбища. А ведь их
имена с гордостью произносятся во все времена. Такая
картина разорения и заброшенности старых могил
известных моряков, к сожалению, наблюдается в
Москве и Архангельске, Таллинне и Владивостоке,
Одессе и Севастополе — во всех городах, где
рядом плещут морские волны.
Так что же ждет через десятки лет ныне
почитаемые захоронения героев Великой Отечественной
войны? Забвение и запущенность, кощунственное
отношение?
Москву называют портом пяти морей. Хотя у
древней Белокаменной есть и другое имя — родина
отечественного регулярного военно-морского флота.
Здесь в государевом селе Измайлове на старом
льняном дворе юный Петр I нашел английский бот
— знаменитого «дедушку русского флота». На нем
он плавал по окрестным водоемам. Место это — ко-
Памятник Славы
Памятник адмиралу А. Грейгу
Церковь Слас-на-Водах
51
лыбель флота российского — сохранилось до" *ffeh$$*bj fepeivfemb Мкак
сохранилось и другое историческое место на левом берегу реки Яузы —- П^ёображен-
ское. Именно оно прославилось решением Боярской думы, собранной в летнего
дворце царем и вынесшей 4 октября 1696 г. лаконичный вердикт «Морским
судам быть».
Но не повезло Москве. Появилась в ней Флотская улица в 1964 г.,
да и то, если снестись на справочник «Имена московских улиц»,
«названа в честь речного флота как расположенная вблизи Химкинского
водохранилища». Тогда же в том же районе возникла улица Адмирала Макарова, а
через год прорезал южную часть города Нахимовский проспект. Вот, пожалуй, и
все флотские «достопримечательности» столицы. За три без малого века — ни
памятника, ни добрых почестей. Цари ставили монументы вблизи себя, моряки —
в приморских городах, а благодарные потомки забыли о первородстве военного
флота, сломали Сухареву башню, не удостоив город чести установить хотя бы
обелиск в память тысяч моряков, сошедших с кораблей и вставших на защиту
Москвы в грозный 1941 год.
До обидного забыты и те, кто служил и жил в столице, чей прах покоится
в ее земле. Это выдающиеся флотоводцы уже нашего дня — Н. Г. Кузнецов,
А. Г. Головко, Ф. В. Зозуля, В. Ф. Трибуц, И. С. Юмашев, другие видные и
заслуженные военные моряки. Их имена в названиях столичных улиц пока не
значатся.
Времени до знаменательной даты — 300-летия отечественного
военно-морского флота — остается не так уж и много. Конечно, найдутся горячие головы,
которые предложат свои грандиозные планы, как, например, восстановление
Сухаревой башни или какого-либо разрушенного до основания морского храма.
Потерянного не вернуть. И пускай вместо «новоделки» о них останется добрая
память в наших сердцах и душах. Но монумент в Москве в честь военного флота
поставить необходимо. И пусть пойдет по стране, по флотам и кораблям
испытанная веками «шапка по кругу», пусть она живым примером явит флотское
братство, близость и общность с народом. Пусть "флотские части, подразделения,
экипажи кораблей возьмут шефство над сохранившимися реликвиями былого,
совместно с музеями и местными краеведами выявят то, что мы называем
объемным словом — история.
Вольных средств у флота нет, как, впрочем, их нет и во всем государстве.
Но есть неумирающий, всеми ругаемый хозспособ. При определенной
деловитости, фантазии, рациональности он все-таки поможет разрешить важные
вопросы воспитания нынешнего поколения. Эта работа, без сомнения, увлечет людей,
приблизит их к истокам прошлого, поможет реально относиться к настоящему.
Инициативных людей на флоте не занимать. Именно они смогут
организовать Фонд празднества, выработать программу мероприятий. А «Морской
сборник», по старой традиции, предоставит свои страницы для объявлений и
информации об этом.
В. АРСЕНЬЕВ
НА
ЦВЕТНОЙ
ВКЛЕЙКЕ
На 4-й странице
помещена репродукция с картины
известного русского
художника-мариниста А.
Боголюбова (1824—1896 гг.) «Смотр
Балтийского флота».
Алексей Петрович
Боголюбов, внук А. Радищева,
родился в семье армейского
офицера. В семнадцать лет
окончил Морской кадетский
корпус, где усердно .
занимался живописью Служба
мичмана А. Боголюбова
началась в 1841 г. на 92-пу-
шечном корабле «Вола».
Однако талантливого
рисовальщика вскоре перевели
на бриг «Усердие»,
выполнявший в 1842 — 1844 гг.
гидрографические промеры
и описание берегов
Финского залива. Зарисовки А.
Боголюбова вошли в
навигационные пособия для
мореплавателей. Затем он служил
на паруснике «Император
Александр» и на пароходо-
фрегате «Камчатка», на
котором совершил переход из
Кронштадта к о. Мадера.
Среди участников этого
плавания находился президент
Петербургской академии
художеств герцог Лейхтен-
бергский, обративший
внимание на постоянно
рисующего лейтенанта и
порекомендовавший А. Боголюбову
серьезно заняться
живописью.
В 1850 г. офицер
поступил вольным слушателем в
Академию художеств и
закончил ее в 1853 г. с
Большой золотой медалью. Эта
награда давала выпускнику
право на трехлетнюю
командировку за счет академии в
Западную Европу для
совершенствования мастерства.
Пришлось расстаться с
флотской службой. Но
морской тематике А. Боголюбов
остался верен до конца
своих дней. Будучи
живописцем Главного морского
штаба, он создал великолепные
произведения искусства,
воплотив в них опыт
моряка и дарование художника.
Представляемая в
журнале картина написана в
1848 г., когда А. Боголюбов
еще служил на пароходо-
фрегате. На небольшом по
размерам полотне автор
сумел показать сценки из
жизни офицеров, членов
команды,
кадетов-практикантов и их воспитателей на
палубе «Камчатки». А уже
на этом фоне он изобразил
корабли Балтийского флота,
выстроившиеся в
кильватерную колонну...
Картина хранится в
Центральном военно-морском
музее.
52
ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЖИЗНЬ ОКЕАНА
ЧТО МОЖЕТ ФЛОТ?
Экологические последствия войн в Персидском заливе наглядно показывают
опасность загрязнения окружающей среды. Требуются решительные действия по
снижению вредных воздействий на природу. В полной мере это относится к
Военно-Морскому Флоту. Хотя в последние годы в ВМФ и принят ряд
организационных и технических мер, проблема остается весьма сложной.
Капитан 2 ранга В. МЯСНИКОВ
ПРЕЖДЕ считалось, что Мировой океан способен к самоочищению от
искусственного загрязнения, если давать ему время для «переваривания»
отходов цивилизации. Но, к сожалению, это было серьезным заблуждением. Сейчас
ученые утверждают, что океан не может справиться даже с каплей нефти и она
надолго остается в морской воде в нерастворенном состоянии. Легкие фракции
со временем испаряются, а тяжелые, с большим содержанием серы, металлов,
парафина, постепенно оседают на дно, поглощая из воды огромное количество
кислорода. Последствия этого особенно губительны для закрытых морей. Подсчитано, что
ежегодно только на Балтике в море сбрасывается до 100 тыс. т нефтепродуктов с
гражданских судов и военных кораблей, а их доля в общем загрязнении моря
составляет всего лишь менее 5 и 0,3% соответственно. Учитывая, что полный водообмен
в Балтийском море происходит лишь за 50—60 лет, уже сегодня содержание нефти
в воде на некоторых акваториях превышает норму на один-два порядка. Загрязнение
Балтики, особенно с суши, увеличившееся за последние двадцать лет в два-три
раза, привело к тому, что на глубинах более 70 м из обитавших там ранее 250 видов
живых организмов сейчас сохранилось только 30. Содержание ДДТ в печени
балтийской трески возросло в три раза, ртути — приближается к пределу, а в целом
количество пестицидов в тканях рыб увеличилось в два раза.
Особенно опасны крупные
катастрофы нефтеналивных судов, подобные
происшедшей в 1981 г. в порту
Клайпеда с английским танкером «Глобе
Асими». Из него вылилось в море 16,5
тыс. т мазута. В ликвидации
последствий катастрофы принимал самое
активное участие и Балтийский флот. Для
воздушной разведки движения
мазутных полей выделили самолет и
вертолет. На КП БФ и тыла флота
собирались и анализировались данные об
обстановке и регулярно передавались в
Клайпедский штаб ликвидации
последствий аварии, в который входил
представитель БФ. Вспомогательным судном
флота в район аварии срочно доставили
четыре нефтемусоросборщика.
Общими усилиями удалось собрать
8460 т мазута, а главное —
преградить путь мазутным полям в открытое
море. Правда, по данным авиационной
и морской разведки, два
незначительных ио размерам мазутных пятна ушли-
тат в сторону Финляндии. Но, видимо,
штормом они были развеяны на
большой площади, поскольку финские эко- установка стеклопластикового бокового
югическве службы не зарегистрировав ограждения
m
ли на своем побережье нефтяных загрязнений. Обвдк ущерб, который понесла наша
казна, тощ оценивался в 810 млн. руб. (с владельцев «Глобе Асими*» суд взыскал
всего чуть больше миллиона долларов). А чем измерить экологический вред?
С неожиданной стороны многолетнее загрязнение Балтики дало о себе знать
летом 1988 г. Тогда в проливной зоне и у юго-западного побережья Швеции
появился гигантский «ковер» из ядовитых водорослей «хризохромулина полилепсис»
шириной 10 км, длиной 200 км и толщиной 15 м, который под воздействием
течений двигался в центральную часть Балтийского моря со скоростью 25 км в сутки.
На своем пути мгновенно убявал все живое (отмечалась массовая гибель тюленей,
лосося). При этом одноклеточная водоросль-«убийца» размножалась с невероятной
быстротой — до трех объемов в сутки. А способствовали этому фосфорные и
азотистые соединения, попавшие в море со сточными водами.
Такова общая обстановка с загрязнением Балтики. Естественно, возникают
вопросы: а как дела у военных моряков? Насколько обоснованны претензии к ним в
сравнении с фактической долей их вредного воздействия на природу? Какие меры
принимают на флоте для решения экологических проблем?
В один из октябрьских дней прошлого года начальник Инспекции по охране
природной среды Балтийского флота капитан 2 ранга Н. Петров привез меня в
центральную часть Калининграда, на берег реки Преголи. Как раз мимо проходил
буксир, и от бурлившей за его кормой грязно-серой, почти непрозрачной воды
поднимались зловонные испарения.
— Это — мертвая река, — сказал Николай Васильевич. — Концентрации
вредных веществ в Преголи превышают допустимые нормы в десятки раз. Донный
грунт отравлен фенолом, тяжелыми металлами, сероводородом. Кроме сельс&йх
стоков с полей, основным загрязнителем Преголи являются два целлюлозно-бумажных
комбината.
На берегах Преголи нет воинских частей, а в ее устье военные корабли не
заходят. Тем не менее на Балтийском флоте, как и на всех других, действует система
экологического контроля и очистки акваторий, прилегающих к военно-морским
базам. Регулярно катера гидрографической службы флота обходят все гавани, где
дислоцируются боевые корабли и вспомогательные суда БФ. Собирают информафю
о степени загрязненности водной поверхности, на основе которой в гидрометцентре
флота составляются карты экологической обстановки. К сожалению, на многих
объектах БФ она далека от нормальной, и не только по вине военных моряков.
За несколько километров до бывшей дачи Геринга, где сейчас разместился
флотский госпиталь, уже чувствуешь неприятный запах. Оказывается, здесь вдоль
дороги проходит построенный еще немцами сточный канал из Калининграда в
Балтийское море. Когда смотришь на медленно текущую в выложенных кирпичом
берегах черную, пузырящуюся жижу и представляешь, что все это окажется в море,
становится страшно. Страшно и стыдно. В какой цивилизованной стране еще такое
возможно? Своими глазами видел, как в Стокгольмском порту и в самом центре
шведской столицы, в каналах у Королевского дворца, рыбаки удочками довили
полукилограммовых лещей...
— Но из Балтийска таких «рек» не вытекает, — «успокоил» Петров. — Там
давно работают очистные сооружения...
По моей просьбе мы встретились с начальником этих сооружений инженером-
экологом Еленой Кузнецовой. Разговор с нами она начала сразу с наболевшего:
не хватает диагностической аппаратуры, низкая зарплата у операторов, а объем
фактической работы превышает все нормы. Сооружения рассчитаны на полную
биологическую очистку 4600 м3 стоков в сутки, а очищать приходится около 5 тыс.
Строительство второй очереди мощностью 25 тыс. м3, к сожалению, остановилось
на «нулевом цикле». Так что и на флоте есть свои трудности в том, как снизить
количество вредных веществ, попадающих в море с береговых объектов.
На экологических картах всех пунктов базирования флота определены 25 точек
ежемесячного забора воды. Они находятся в самых неблагополучных местах, где с
борта гидрографического катера с трех уровней — с поверхности, с глубин 5 и 10 м
с помощью батометра берется вода для анализа в химической лаборатории. По эти
данным ведутся специальные графики. Б случаях обнаружения загрязнений ори*
шшаются срочные меры да уровде руководства флота,
54
Нередко командирам и начальникам |>азных степеней приходится расплачиваться
8а свою беспечность, что называется, наличными. К примеру, в 1988—1989 гг. за
загрязнение природной среды на Балтийском флоте к материальной ответственности
на общую сумму 2823 рубля привлечены 32 должностных лица. Однако процедура
эта долгая и сложная — надо писать немало бумаг в несколько инстанций. А
почему бы не наделить инспектора правом на прямые штрафные санкции? Скажем,
зафиксировал он разлив нефтепродуктов с какого-то корабля, тут же, на месте,
выписывает штрафной чек на имя командира корабля. Пусть этот штраф будет
сравнительно небольшим, допустим, рублей 50, но зато быстродействующим.
Все —- от матроса до адмирала,
с кем довелось беседовать на
экологические темы, выражали больше
озабоченности, чем оптимизма. Ибо
сделать еще предстоит очень много.
Взять ту же проблему нефтемусоро-
сборщиков (НМС). Из имеющихся на
флоте 14 ед. всего 2 — последнего
проекта, остальные — устаревшего
типа и могут работать только при
полном штиле. Требуется еще не
менее 3 НМС, 7 судов-сборщиков
льяльных и сточных вод, 4
технических танкера. Из-за нехватки
финансовых средств еще в 1984 г. бы- Идет учение по борьбе с аварийным раз*
ло заморожено строительство первой пивом нефтепродуктов
на флоте станции очистки балласт- Фото В. Данилова
ных и льяльных вод в Лиепае. А
пока они доставляются на станции, принадлежащие гражданским ведомствам, за что
Балтийский флот ежегодно выплачивает почти по 30 тыс. руб. При этом теряется
500—800 т котельного топлива на сумму 25—40 тыс. руб., еще в 20 тыс. руб.
обходится транспортировка загрязненных вод. В условиях грядущей рыночной
экономики это совершенно ненормальное явление. Очевидно, такую станцию
выгоднее построить в Балтийске.
Сепараторами и системами сбора и выдачи нефтесодержащих вод на БФ
оборудовано 95% боевых кораблей и вспомогательных судов. Однако пока только 10%
из них имеют импортные сепараторы, обеспечивающие очистку вод в соответствии
с Балтийской конвенцией 1974 г., т. е. до 15 мг нефтепродуктов на один литр
переработанной воды. Остальные плавают с нашими сепараторами, у которых степень
очистки ниже.
Для того чтобы закупить импортные сепараторы, нет валюты, а новые
отечественные конструкции не внедряются. В частности, сотрудник одной проектной
организации в Калининграде В. Колосов предлагает весьма эффективный корабельный
сепаратор. А поскольку в нынешних условиях не всегда имеет смысл держаться за
традиционных поставщиков, то почему бы не организовать производство
сепараторов с помощью зарубежных партнеров у нас, используя часть из тех 5 млрд. крон,
которые Швеция выделила в качестве помощи балтийским странам именно на
решение экологических проблем...
Помимо собственных забот флоту приходится все чаще заниматься решением
общих задач охраны природы на Балтике. К примеру, есть сведения, что во время
второй мировой войны гитлеровцы захоронили в южной части Балтийского моря
около 7 тыс. т мышьяка и 3 тыс. т иприта. Есть предположение, что в районе
Калининграда и Балтийска остались немецкие подземные склады химического оружия,
откуда почвенные воды могут вынести в Балтийское море смертоносный яд. В поиске
и ликвидации этих и других источников загрязнений участвуют и военные моряки.
Недавно группа ученых из Калининградского государственного университета под
руководством доктора геолого-минералогических наук, профессора Е. Краснова
успешно провела испытания уникальной аппаратуры, позволяющей получать на дисплее
четкое, устойчивое цветное изображение любых объектов, находящихся на
многометровых глубинах в земле или под водой. Кстати, испытания проходили на месте
55
бывшей полевой ставки Гитлера в районе Винницы. Все подземные пустоты,
укрытые значительным слоем металла и железобетона, аппаратура выявила с высокий
точностью и четкостью. Как представляется, флот должен проявить больший
интерес к судьбе этого изобретения. С его помощью можно обнаруживать не только
подземные склады оружия, но и экологически опасные грузы в трюмах затонувших
кораблей, мины, снаряды и другие объекты, находящиеся под водой.
Для поиска и подъема таких объектов на БФ созданы штатные формирования:
оперативный технический судоподъемный отряд, две группы по разделке судов, а в
Балтийске, Риге и Таллинне — нештатные группы. В их распоряжение выделены
водолазные боты и буксиры, плавкраны и противопожарные катера, водолазные
станции и агрегаты для подводной резки металла.
Так что же предстоит поднимать со дна этим отрядам?
Когда в 1989 г. впервые составлялся «План подъема затонувших судовых
объектов», таковых известно было 16. В результате поисковых работ обнаружено
еще 37. К 1 октября 1990 г. поднято и отправлено на разделку 33 объекта общим
водоизмешением 12 тыс. т, а также 28 тыс. ед. боезапаса с затонувших кораблей
военной поры. Главный инженер ПСС флота капитан 2 ранга А. Сенцов показал мне
огромную, в полстены, карту-схему судоподъема, на которой отмечены координаты
затонувших объектов, их тип, водоизмещение, глубина затопления, время
состоявшегося или планируемого подъема и т. д. На карте было видно, что работа ведется
по строгой системе, но при этом Сенцов посетовал:
— Водолазные работы по судоподъему не только опасны, но и очень
трудоемки. Достаточно сказать, что один погонный метр троса, с которым приходится
работать водолазу, весит 100 кг. Большинство затонувших объектов находится у
причалов, значит, использовать понтоны невозможно. Поэтому нам бы очень помогли
плавкраны грузоподъемностью до 500 т, а у нас на флоте даже «стотонников» нет...
Не хватает спасательных судов, специального оборудования. На нашем флоте около
60% спасательных судов выслужили свой срок. Своевременно поставить их в ремонт
нам тоже не удается, потому что судоремонтным предприятиям выгоднее брать
рыбацкие и торговые суда — больше платят...
А пока балтийцы делают все, что могут, сами. К примеру, заключили с местным
пароходством договор на аренду плавкрана типа «Магнус» (ФРГ), который способен
поднимать из воды до ее поверхности 800 т, а на стенку — 500 т. Только за один
месяц работы с этим краном спасатели подняли со дна моря семь объектов. Заключен
также договор с новым советско-итальянским предприятием «Си клин» («Чистое
море»). Итальянцы пообещали мощные крановые суда и новые технологии
судоподъема, но пока это только планы.
Отрадно, что флот проявляет инициативу, однако многие экологические проблемы
требуют решения на государственном и международном уровнях. Поэтому флотам
нужна значительно большая помощь, как от центральных органов ВМФ,
Министерства обороны, республик и Союза, так и от местных властей.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА. сточных вод и других вредных веществ
В статье капитана 2 ранга В. Мясникова или нарушения, допущенные из-за халат-
еще раз наглядно показано, насколько ности. Результаты инспектирования на
серьезная экологическая обстановка ело- местах показывают, что большинство
жилась в настоящее время на море и руководителей и специалистов озабочены
особенно в прибрежных водах. Приведен- складывающейся экологической обстанов-
ные автором балтийские факты можно кой, но ищут виновных на стороне, счи-
многократно умножить, добавив анало- тают, что кто-то другой должен прини-
гичные по Черному и Каспийскому мо- мать меры по сохранению природы. Что
рям, Тихому и Северному Ледовитому же касается оценки собственных дейст-
океанам. И хотя ВМФ. как видно на при- вий, то тут находится сразу же комплекс
мере Балтики, далеко не единственный и «объективных* оправдательных причин:
не определяющий источник загрязнения нехватка денежных средств, сил, време-
(его доля даже в районах крупных баз— ни и т. п. Мне же представляется, что на
Мурманск, Владивосток, Севастополь и порученном участке каждый должен
др. — не превышает 4%), это не может стремиться в первую очередь выполнять
служить основанием для самоуспокоения. свои обязанности по охране природной
К сожалению, не все еще всерьез осоз- среды и делать для этого все возможное,
нают, к каким тяжелым последствиям С января 1991 г. введены в действие
для природы и человека ведет вредное правила охраны природной среды в ВМФ
воздействие на окружающую среду, будь (ПОПС-9СН вместо существовавших ра-
то «узаконенный» сброс нефтепродуктов, нее Правил предотвращения загрязнения
56
моря с кораблей, судов и береговых
объектов ВМФ (ППЗМ-74). В новом
документе есть разделы, которых не было
в ППЗМ-74. Они регламентируют
вопросы охраны и рационального
использования земель, лесов, атмосферного воздуха
и животного мира. Раздел охраны и
рационального использования водных
ресурсов изложен более подробно и
широко. В правилах учтены современные
требования природоохранного
законодательства СССР и союзных республик,
международных соглашений по"
оборудованию кораблей, судов и береговых
объектов ВМФ техническими средствами
предотвращения загрязнения окружающей
среды. Отдельная глава ПОПС-90
определяет обязанности и ответственность
должностных лиц ВМФ по охране
природы. В приложениях к правилам даны
методики обследования объектов на их
соответствие требованиям ПОПС-90,
формы документов по планированию и
проведению природоохранной работы,
методические указания по наблюдению и
сбору информации по загрязненности вод,
земель, лесов и атмосферного воздуха.
Важнейшее значение сегодня
приобретают вопросы технического оснащения
флотов средствами предотвращения
загрязнения. Командованием ВМФ принят
в этом направлении ряд конкретных мер.
Так, комплексным планом
природоохранной работы в ВМФ на 1991 — 1995 гг.
предусматривается закупка у
промышленности более эффективных
корабельных средств по очистке льяльных и
сточных вод, переработке мусора;
планируется поставка новых нефтемусоро-
сборщиков, рейдовых судов— сборщиков
отходов, а также комплексных судов по
их переработке. К сожалению, наши
заявки на указанные суда и оборудование
удовлетворяются промышленностью
лишь на 50—80%, из-за
недостаточности выделенных ассигнований дефицит в
береговых природоохранных объектах
будет ликвидироваться медленно.
Поэтому сейчас надо искать возможности
повышения эффективности имеющихся
технических средств и совершенствовать
организацию работы по предотвращению
загрязнения окружающей среды.
Капитан 1 ранга О, ЛАВРЕНЮК,
начальник Инспекции охраны
природной среды ВМФ
Сообщаем подробности
«КИТ» НА ЛАДОГЕ
Специалисты ВМФ ведут работы на загрязненном радиоактивными
веществами опытовом судне «Кит», полузатопленном у одного из мелких
островов в Ладожском озере. По просьбе редакции об этом рассказывает
старший офицер по радиационной безопасности Химической службы ВМФ
капитан 1 ранга Г. Воробьев.
1/АК ИЗВЕСТНО, после появления
14 в США ядерного оружия в нашей
стране проводились интенсивные работы
по изучению его поражающих факторов
и возможных мер защиты. По архивным
документам установлено, что в 50-е
годы на Ладожском озере в районе,
удаленном от населенных пунктов, на
опытовом судне «Кит» проходили испытания
по определению воздействия
радиоактивных веществ на корабль. По
окончании испытаний часть загрязненного
радиоактивными материалами
оборудования, защитных средств была
уничтожена, а часть осталась на ОС «Кит».
В 1989—1990 гг. в связи с
обострением внимания общественности к
экологическим проблемам Ладожского озера
специалистами ВМФ произведено
тщательное обследование судна и района
вокруг него. По результатам
обследования принято решение поднять ОС и
убрать с Ладожского озера.
Опытовое судно «Кит», бывший
трофейный немецкий эсминец Т-12
(переименованный в ЭМ «Подвижный», а
затем в ОС «Кит», водоизмещение
1250 т, длина около 87 м, ширина —
8,7, осадка — 3 м), лежит на грунте.
Средняя и носовая части палубы скрыты
под водой. Поверхность корпуса и вода
внутри него загрязнены радиоактивными
веществами (превышение допустимых
норм в 10—50 раз). Уровни излучений
и загрязнений прилегающей островной
территории (за исключением отдельных
точек) и акватории находятся в пределах
фоновых значений.
В целом радиационная обстановка на
ОС «Кит» позволяет при соблюдении
установленных мер защиты произвести
подъем судна и его транспортировку. В
ходе подъема потребуется очистить от
радиоактивных веществ и удалить из
отсеков воду, мазут, масло и ил. Для
этого под руководством капитана 1
ранга В. Булыгина спроектирована и
изготавливается специальная установка для
сепарации нефтепродуктов и
ионообменной очистки откачиваемой из корпуса
судна воды.
Специалистами ВМФ разработан
технический проект подъема ОС «Кит»,
осуществляются подготовительные
организационно-технические мероприятия.
После подъема судна и выполнения всех
запланированных работ будет принято
решение о его дальнейшей судьбе. В
целом, по нашему мнению, принятые
меры исключают какое-либо серьезное
вредное воздействие на природу.
57
ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА
ОПТОЭЛЕКТРОНИКА НА КОРАБЛЯХ
Контр-адмирал Н. ДИРЕКТОРОВ,
кандидат технических наук
Капитан 1 ранга А. КАГАНОВИЧ,
кандидат технических наук
/^ЧСНОВНЫМ условием повышения качественных параметров вооружения и тех-
^ ники ВМФ является скорейшее внедрение в них новейших достижений научно-
технического прогресса. Одно из перспективных его направлений — оптоэлектроника,
которая дает значительный эффект в самых различных областях применения, в том
числе в корабельных радиоэлектронных средствах (снижение массы и габаритов
кабельных линий, повышение помехозащищенности и т. д.).
Так, например, в настоящее время за рубежом эксплуатируется порядка
полутора миллионов килохметров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), созданы
первые световодные трассы и в нашей стране. По данным иностранной печати, ВОЛС
прокладываются между береговыми объектами ВМС США, на кораблях, подводных
лодках и самолетах (на крейсерах УРО «Вэлли Фордж», «Мобил Бай», на
штурмовиках «Харриер» и т. д.). Причем в таких ВОЛС используются световоды с небольшим
удельным весом, малым выделением дыма и ядовитых газов при горении.
Разработка покрытий, выдерживающих нагрев до +200°С, позволила прокладывать ВОЛС
в местах тепловыделений и даже вблизи двигателей самолетов.
В нашей стране институтами АН СССР в теоретическом плане достигнуты
высокие результаты в области оптоэлектроники. Однако в промышленной их
реализации мы отстаем от развитых зарубежных государств. В частности, задерживается
создание отечественной элементной базы, преобразователей, уплотняющих и
коммутирующих устройств, удовлетворяющих корабельным требованиям.
Тем не менее проведенные у нас в начале 80-х годов испытания ВОЛС,
проложенной во внутренних помещениях корабля и по верхней палубе, выявили высокие
эксплуатационные характеристики. Достоверность информации составила величину,
близкую к единице, а изменение затухания сигнала в кабеле длиной 200 и 400 м —
доли и единицы процента соответственно за 1500 часов эксплуатации.
На одном из кораблей ВМФ испытана система связи, состоявшая из
центрального пульта управления, девяти соединительных кабелей и нескольких оптических
телефонных аппаратов. Питание на последние подавалось через фотоэлектрический
преобразователь света, принимаемого от полупроводникового лазера. Испытания
показали высокую надежность и работоспособность системы:
параметры оптического тракта обеспечили ее работу при средней глубине
модуляции 10—20% в диапазоне 300—3400 Гц;
соотношение «сигнал-шум» на частоте 1 кГц в линиях — более 45 дВ;
неравномерность амплитудно-частотных характеристик в диапазоне частот
300—3400 Гц — менее 3 дВ.
При этом массогабаритные характеристики системы связи по сравнению с
обычной уменьшились в три раза, а помехозащищенность увеличилась в несколько раз.
Соответствие достигнутых параметров заданным подтвердили и результаты
многолетней эксплуатации в условиях корабля системы волоконно-оптической
телефонной связи в составе пульта управления, пяти абонентских аппаратов, блоков
питания и сопряжения, а также ВОЛС.
В настоящее время находятся в опытной эксплуатации еще несколько образцов
техники с элементами оптоэлектроники.
Световодная цифровая система внутриобъектовой связи на 32 абонента с
гибким программным управлением от встроенной микроЭВМ. В состав системы входят:
блок централизованной коммутации, аппараты руководителя, секретаря и абонентов,
58
Рис. 1. Структурная схема оптоэлектрон-
ного телефонного аппарата: 1 —
оптический передатчик; 2 — микрофонный
усилитель; 3 — оптический приемник; 4 —
двухтактный усилитель; 5 — микротелефонная
трубка; 6 — блок питания; 7 —
микротелефонный шнур; 8 — номеронабиратель; 9 —
вывывное устройство
ttt i\
,u \
'ГГ У/
1
Рис. 2. Структурная схема световод ной
системы внутренней связи: 1 — блок местных
коммутаций; 2 — аппарат абонента; 3 —
аппарат старшего абонента; 4 — головные
телефоны; 5 — микрофон; 6 —
громкоговоритель; 7 — магнитофон
Применение световодных линий
решило* проблему электромагнитной
совместимости, сделав всю систему
нечувствительной к внешним помехам и
предотвратив наводки на близко
расположенную другую аппаратуру, а также
позволило в наибольшей степени
реализовать преимущества цифровых
методов передачи информации, и в
первую очередь метода передачи по
одному световоду речевой и текстовой
информации за счет широкополосности.
Объем коммутатора такой системы
в четыре раза меньше, чем в
аналогичных зарубежных системах, и в 12,6
раза меньше, чем в обычных
отечественных в пересчете на одного
абонента. Длина линий связи между
абонентами увеличивается в 5 раз.
Система может быть использована
как локальная и как подсистема
многофункционального комплекса связи.
Оптоволоконный телефонный
аппарат (рис. 1). Потребляет ток не
более 250 мА при напряжении питания
27 В. В микротелефонной трубке
применены оптоакустические и
акустические преобразователи. Подключается к
кабелю из двух оптических волокон и
четырех электрических жил. Удельные
потери мощности излучения в волокне
составляют в среднем 10 дБ/км,
диаметр световедущей жилы — 50 мкм,
числовая апертура — 0,2.
Аппаратура внутренней связи и
коммутации АВСК (рис. 2). Основной
особенностью АВСК является
применение в ней световодной элементной
базы, цифрового метода передачи
информации и радиально-кольцевой
структуры связи. Это позволяет не только повысить помехозащищенность информации,
уменьшить массогабаритные характеристики по сравнению с существующей аппаратурой
морской внутрикорабельной связи, но и расширить функциональные возможности
и универсальность применения АВСК на кораблях различного класса и других
специальных объектах.
С помощью такой аппаратуры можно организовать: связь внутри отдельных
групп по нескольку абонентов в каждой; связь между старшими абонентами групп;
выход старшего абонента на радиосредства; циркулярные виды передач;
громкоговорящую связь с постами и оповещение.
Применение микроЭВМ в аппаратуре дает возможность не только производить
коммутацию разговорных трактов, но и в зависимости от повреждений выбирать
оптимальные варианты построения системы, сохраняя ее работоспособность в
максимальной степени.
По сравнению с существующими аналогами в АВСК сокращается в 2—3 раза
количество прокладываемых кабелей, уменьшается в 5 раз их масса, повышается
надежность связи за счет высокой помехоустойчивости.
В настоящее время отечественной промышленностью разработаны и выпускаются
ц другие волоконно-оптические системы, аппаратурные комплексы, приборы, устрой-
59
ства, которые могут найти применение и в корабельной технике различного
назначения.
Например, волоконно-оптическая система сигнализации уровня жидкости
«Электроника ССЦЖ-1», которая может использоваться на кораблях во взрывоопасных
помещениях. Она состоит из датчика-сигнализатора уровня жидкости, световодного
кабеля с оптическими разъемами и оптоэлектронного модуля, где обрабатываются
сигналы от датчика. Погрешность измерения уровня жидкости +2 мм; напряжение
питания 15 В; сила тока 0,2 А.
Принцип действия системы основан на изменении оптических характеристик при
погружении датчика в жидкость.
В современных корабельных системах связи возрастает потребность в новых
видах информации. Наряду с обязательным осуществлением телефонной и
громкоговорящей связи между значительным числом абонентов, локализованных на
сравнительно небольшом пространстве корабля, в многофункциональных системах возникает
необходимость предоставления абонентам дополнительных видов информации:
телеграфия, передача данных и факсимильных сообщений, видеотелефония и телевидение.
Подобные локальные системы с применением ВОЛС создаются как в нашей стране,
так и за рубежом.
Для внедрения их на кораблях и судах уже разработан ряд технологических
процессов изготовления узлов монтажа оптических линий связи и передачи информации.
В частности, отработаны конструкция и технология: внутреннего монтажа
приборных шкафов различных систем с использованием типовых модулей внешней связи
БНК-3 «Просэм»; сращивания одиночного и многоволоконного кабелей; изготовления
разветвителей многожильных кабелей (муфты); прокладки ВОЛС через
водонепроницаемые переборки; крепления трасс оптических кабелей.
В целом комплекс выполненных теоретических и экспериментальных работ
позволяет перейти к широкому внедрению оптоэлектроники на суда и корабли ВМФ.
Это реальный путь повышения качественных параметров радиоэлектронного и других
видов вооружения, для чего необходимо принять все возможные меры по обеспечению
финансирования работ при общем сокращении ассигнований на нужды
Военно-Морского Флота.
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ
ВОЛС, предназначенная для связи удаленного видеотерминала с ЦВМ, была
представлена на выставке-ярмарке «Прогрессивные исследовательские и
конструкторские разработки в судостроении». Она может применяться в условиях
повышенного уровня электромагнитных помех, во взрыво- и пожароопасных
помещениях. Исключает возможность несанкционированного доступа к
передаваемой информации.
Представляет собой двухканальную ВОЛС, каждый из каналов которой
обеспечивает однонаправленную передачу информации. Связь осуществляется при
помощи оптических импульсов И К-диапазона. В состав линии входят два оптико-
электронных приемопередатчика и два волоконно-оптических кабеля.
Приемопередатчики яодключаются к разъемам ЦВМ и видеотерминалам, предназначенным
для присоединения штатной четырехпроводной линии связи, через которые,
кроме информационных сигналов, подается напряжение питания ВОЛС.
Технические характеристики: скорость обмена информацией 9600 бит/с;
максимальное удаление видеотерминала 2 км; напряжение питания +5 В;
максимальный ток потребления 150 мА; масса одного приемопередатчика без кабеля 0,15 кг;
габариты — 50 X 50 х 15 мм.
Адрес для запроса документации: 198188, Ленинград, ЦНИИ «Румб».
60
Забытая тема
ОБИТАЕМОСТЬ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК:
ОТ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ ДО...
[Л ЗОБРЕТАТЕЛИ первых подводных
* * судов были не слишком озабочены
тем, что сейчас мы называем
обитаемостью ПЛ. Но уже тогда
предпринимались попытки обеспечить людям,
находившимся в герметично закрывающемся
корпусе, хотя бы элементарные условия
для дыхания и выполнения простейших
действий по управлению подводной
лодкой.
Леонардо да Винчи в одном из своих
трудов упоминает об изобретенном им
особом веществе, обеспечивающем людям
свободное дыхание при плавании судна
под водой, однако никаких сведений по
составу этого вещества ученый не
оставил.
Самой интересной загадкой первых
подводных лодок, построенных
голландцем Дреббелем в 1620 г., является то,
каким образом регенерировался в них
воздух. Ведь 20 человек в течение
нескольких часов могли пробыть под водой
на глубине до 4,5 метра.
Оригинальным образом сумел
добиться очищения воздуха внутри своей
лодки и немецкий изобретатель Бауэр в
1855 г. Для этой цели он использовал
искусственный дождь из ситочных
отверстий горизонтальных труб, помещенных
внутри лодки. Бауэр утверждал, что
стоило в испорченную атмосферу лодки,
находящейся под водой, когда свечи уже
начинают гаснуть, пустить
искусственный дождь, как свечи снова начинали
гореть ярко, а люди имели возможность
оставаться в такой освеженной
атмосфере еще около 45 мин.
Во Франции в 1855 г. инженер Буше
разработал проект подводной лодки, в
котором предложил пропускать
забортную воду под большим давлением через
металлические пластинки с мелкими
отверстиями, а растворенный в ней воздух,
который, по мысли изобретателя, должен
был при этом выделяться, подавать в
лодку для дыхания экипажа.
Большой вклад в решение проблем
обитаемости внесли первые изобретатели
подводных лодок в России. Еще в 1829 г.
дворянин Минской губернии К. Чернов-
ский в своем проекте лодки предложил
для дыхания подавать по мере
необходимости сжатый воздух из специального
комплекта кожаных мешков. Второй
комплект предназначался для сбора и
удаления за борт испорченного воздуха.
Другим путем пошел военный
инженер генерал-адъютант К. Шильдер. В
Капитан 3 ранга П. ИЩЕНКО
1834 г. в Петербурге по его проекту
была построена подводная лодка, имевшая
для входа экипажа две башни. В крышке
передней башни была установлена
выдвижная вентиляционная трубя. Ею
можно было пользоваться и в погруженном
состоянии лодки.
Наибольшего успеха в решении
проблемы регенерации воздуха добился наш
выдающийся инженер и изобретатель С.
Джевецкий. В конце 70-х годов
прошлого века он построил подводную лодку,
на которой имелся компрессор с
приводом от гребного вала, засасывавший
испорченный воздух и прогонявший его
через раствор едкого натра,
поглощающего углекислоту. Для поддержания
постоянного состава воздуха по мере
надобности выпускался кислород из
специального баллона. Впоследствии этот
принцип регенерации воздуха получил
распространение на всех' подводных лодках
в России и за границей.
С развитием подводных лодок
возрастали и требования к их обитаемости. В
1906—1907 гг. офицерами-слушателями
и командирами подводных лодок
Учебного отряда подводного плавания в Либаве
был проведен ряд
научно-исследовательских работ, в том числе и в области
улучшения обитаемости ПЛ.
Определялись допустимая продолжительность
пребывания людей на подводной лодке,
влияние на их работоспособность вредных
примесей, содержащихся в воздухе» и
т. п.
Следует отметить, что на русских
подводных лодках, начиная с «Дельфина»
(1904 г.), условия обитаемости были
значительно лучше, чем на ПЛ других
стран. К примеру, на «Дельфине»
имелись электрический камбуз и запас
провизии в консервированном виде. На
«Акуле» (1909 г.) появились три
отдельные каюты для офицеров и
кают-компания. Благодаря размещению цистерн
главного балласта не внутри, а вне
прочного корпуса объем воздуха на наших
подводных лодках был больше, нежели,
скажем, на лодках американского
изобретателя Голланда.
Но несмотря на это, условия жизчи и
работы экипажей подводных лодок
продолжали оставаться очень и очень
нелегкими. В 1911 г. в статье
«Экспериментальный очерк исследования
тактических элементов подводной лодки»
лейтенант Поздеев писал: «Измученный и ус-
,61
Условия обитаемости на подводной лодке во многом зависят от того, как
работают начальники медицинской и химической служб корабля. Если у капитана
медицинской службы Ю. Топчия под личным наблюдением здоровье людей, то
у капитан-лейтенанта Ф. Маслакова — техника, контролирующая и
обеспечивающая поддержание заданным параметров воздушной среды и радиационной
безопасности.
Фото В. Натекина
тавший человек легко ошибается... и
нигде это обстоятельство не должно так
учитываться, как здесь. Малейшая
рассеянность, невнимание могут повлечь за
собой катастрофу, предупредить которую
бывает невозможно». И далеко не
случайно в первую мировую войну многие
командиры подводных лодок шли на
определенный риск, разрешая команде,
если позволяла обстановка, по нескольку
человек отдыхать на верхней палубе.
Интересные свидетельства того,
какими были условия обитаемости на
немецких подводных лодках в первую мировую
войну, оставил в своей книге «Шесть лет
под водой» И. Шпис — командир U-9.
«...Оборудование электрического
камбуза было очень примитивно:
электрические кастрюли и особенно сковорода ло-
стоянно выбывали из строя, и обед
зачастую готовился прямо на палубе на
керосинке. Лишь половина экипажа
имела постоянные койки; остальная же часть
личного состава, когда была свободна от
вахты, спала в подвесных койках.
Жилые помещения не были обшиты
деревом или пробкой, и поскольку воздух
при плавании под водой был пропитан
влагой, то вся сырость осаждалась на
подволоке и капала оттуда прямо в лицо
спящему».
Столь нелегкие условия жизни,
существовавшие на первых подводных
лодках, побуждали к активному поиску
решений проблем обитаемости. Особое
значение придавалось совершенствованию
систем вентиляции и очистки воздуха. В
частности, на американских подводных
лодках применялась мощная
нагнетательная вентиляционная система с
магистралью, проходившей ниже палубы по
корпусу для охлаждения воздуха
морской водой. Полная его замена
происходила в отсеках примерно за 30 минут.
На немецких ПЛ кислород в атмосферу
лодки добавлялся каждые 10 часов из
центрального баллона по идущим от
него в различные Помещения
распределительным трубкам. На английских
подводных лодках в то время пользовались
не кислородом, & сжатым воздухом,
хранившимся fc баллонах.
Большое внимание вопросам
обитаемости уделяли в 30-е годы советские
конструкторы подводных лодок. Наличие
тех или иных удобств для членов
экипажа определялось главным образом
водоизмещением подводной лодки. К
примеру, на лодках типа «М» («малютках»),
автономность которых не превышала
двух недель и была двухсменная вахта,
и поэтому не все матросы имели
индивидуальные койки. Значительно лучшей
обитаемостью обладали подводные
лодки типа «Д», и особенно крейсерские —
типа «К», начавшие вступать в строй
перед Великой Отечественной войной.
Здесь каждый офицер имел отдельную
каюту, матрос — отдельную койку.
Первые душевые появились именно на
«катюшах». Старшинская кают-компания —
тоже. Две вместительные холодильные
провизионки, совершенная по тому
времени система регенерации воздуха и
другие системы позволили довести
автономность подводных крейсеров до 50 суток.
Опыт второй мировой войны показал,
что достигнутый к тому времени уровень
обеспечения обитаемости на подводных
лодках не всегда удовлетворял
требованиям боевой обстановки. Специалисты
отмечали большую скученность личного
состава, повышенное содержание
углекислоты в воздухе, запахи топлива, ма-
щ^ ^амбуза. и сырой одежды,
отсутствий солнечного света, резкие колебания
давления в дизельных отсеках при
плавании под РДП. Не случайно один из
французских подводников вспоминал, что
были случаи, когда после боевого
похода каждый член экипажа ПЛ терял в
весе до 2 кг^ а после пяти
последовательных походов эффективность работы
экипажа резко снижалась. Матрос
гитлеровского подводного флота Г. Буш так
писал об этом: «Как бы ни были
трудны условия службы на подводных
лодках в первую мировую войну, они все же
кажутся относительно сносными, если их
сравнивать с теми, которые создавались
ко времени второй мировой войны.
...Громоздкие запасы провианта в
первые дни пребывания в море мешали
движению внутри лодки. Запах этого
провианта господствовал над всеми другими
запахами: затхлым подвальным запахом
трюмов, чадом от готовой пищи, запахом
одеколона, которым подводники смывают
с лица соль морской воды, смрадом от
отработанных газов, запахом уборной и
испарений грязных человеческих тел. Ну
и ко всему этому качка, непрерывная
тяжелая качка». Тот факт, что
немецкие подводные лодки по сравнению с
ПЛ других стран- имели худшую
обитаемость, признавал и гросс-адмирал Де-
ниц. Он отмечал, что они стремились
максимально использовать каждую
тонну водоизмещения для повышения
собственно боевых качеств лодки.
Наиболее интенсивное развитие
средства обеспечения обитаемости ПЛ
получили в послевоенный период, особенно
на атомных подводных лодках, где по
сравнению с дизель-электрическими
имеются большие возможности по
энергообеспечению, массе и габаритам
размещаемых технических средств. Для
хранения пресной воды и пищи ПЛ
оборудованы специальными емкостями —
цистернами и холодильными
«провизионными» камерами. Запасы пресной воды
могут пополняться с помощью
специальных установок, опресняющих морскую
воду. Приготовление пищи
осуществляется в специальных
помещениях—камбузах, оборудованных электроплитами,
моечными и другими устройствами.
Для поддержания нормального состава
воздуха по кислороду и удаления
двуокиси углерода (углекислого газа) на
атомных ПЛ имеются современные
автоматизированные системы
электрохимической регенерации воздуха и резервный
запас химических средств (на дизель-
электрических ПЛ остаются основными).
Кислород получают из воды в
электролизных установках и распределяют по
отсекам через автоматические
раздатчики. Двуокись углерода поглощается в
специальных аппаратах, из которых
периодически удаляется за борт.
Очистка воздуха отсеков от вредных
примесей, выделяемых человеком и
оборудованием, производится с помощью
фильтров со специальными
поглотителями, а также сжиганием окиси углерода и
некоторых других примесей.
Поддержание требуемых параметров
микроклимата на ПЛ по температуре и
влажности обеспечивается системами
вентиляции и кондиционирования. Они
работают в двух основных режимах:
вентилирование в атмосферу (в надводном
положении) — воздух из отсеков одними
вентиляторами удаляется, а другими
подается свежий воздух внутрь ПЛ;
вентилирование по замкнутому циклу (в
подводном положении), когда воздух
обрабатывается, как правило, поотсечно, в
кондиционерах и на фильтрах очистки.
Специфическими для атомных ПЛ
являются средства обеспечения
радиационной безопасности: автоматизированные
установки и набор стационарных и
переносных приборов для контроля за
радиоактивными излучениями и дозами
облучения личного состава; специальные
фильтры очистки воздуха от
радиоактивных веществ; системы и переносные
устройства для сбора и удаления
радиоактивных отходов.
Для жизнеобеспечения в аварийных
условиях на ПЛ предусмотрены
аварийные запасы воды, пищи, средств
регенерации, а также коллективные и
индивидуальные средства спасения людей.
Средства обеспечения обитаемости как
атомных, так и дизель-электрических
постоянно совершенствуются. В них
реализуются самые последние достижения
науки, техники и технологии. Отдельные
образцы оборудования сводятся в
комплексы, чтобы добиться комфортных
условий для членов экипажей. В разной
степени это воплощено в «зонах отдыха»
на атомных ПЛ, где имеются в
дополнение к обычным душевым бани —
«сауны», помещения для психологической
разгрузки с соответствующим
интерьером, игровыми автоматами,
видеотехникой и т. д.
Тем не менее, как отмечалось на IV
научно-практической конференции ВМФ
по обитаемости кораблей (апрель 1990 г.),
проблема сохранения здоровья
плавсостава еще не стала приоритетной,
медленно внедряются в практику
современные научно-технические разработки для
улучшения условий жизнедеятельности
моряков. На многих кораблях
неблагоприятные факторы (шум, вибрация,
электромагнитные излучения, вредные
примеси в воздушной среде и т. д.) не
отвечают возросшим медицинским
требованиям. Так, если уровень последних
принять за 100%, то на эксплуатируемых
ЙЛ они выполняются на 37—62%. На
конференции определены
первоочередные задачи по устранению имеющихся
недостатков и дальнейшему улучшению
условий обитаемости на кораблях ВМФ,
усилению контроля за ними и
совершенствованию технических средств.
Обстоятельный анализ и обсуждение путей
решения этих задач по каждому
направлению (регенерация и очистка воздуха,
радиационная безопасность, газовый
контроль, индивидуальные и коллективные
средства защиты людей, санитарно-бы-
товые устройства и т. д.) — темы для
отдельного разговора, в том числе и на
страницах «Морского сборника».
63
ПРОПАВШЕЙ
г. котов
\7 МУРЫМ весенним днем 1915 г. жители деревушки на восточном побе-
#../\ режье Англии увидели в море покачивающуюся на волнах подводную
лодку с черным крестом на борту...
Страх охватил людей. Неужели немцы собираются обстрелять мирную де*
ревню?! Но почему тогда никого нет на ее мостике?
Между тем лодка медленно приближалась к берегу. Никто не сомневался,
что с нее хотят высадить десант, и в ближайший порт было послано известие о
появлении вражеской подлодки. Пока англичане готовились к захвату субмарины,
прибой выбросил ее на берег. Но и после этого никто из подводников не вышел
наверх, ни одного звука не доносилось из корпуса.
Прибывшие специалисты Адмиралтейства попробовали открыть люки, но
ничего не вышло — все они оказались задраенными изнутри.
— Да ведь это — У-311 — вдруг вскрикнул какой-то офицер спасательной
партии, и многим вспомнилась разведывательная информация флота: германская
подводная лодка У-31 вышла в море в январе 1915 г. и на базу не вернулась.
Так как сведений о ее потоплении не поступало, следует считать У-31 пропавшей
без вести.
Как только в корпусе прорезали первое отверстие, раздался громкий хлопок
выброшенного повышенным давлением избытка воздуха.
В центральном посту, жилых отсеках и отдельных каютах лодки обнаружили
погибших подводников.
Но кто же тогда поднял лодку на поверхность, если на борту не оказалось
ни одного живого? И потом, почему лодка не всплыла раньше, в январе?
Разобраться в причинах трагедии поручили специально созданной комиссии. Она
тщательно изучила вахтенный журнал корабля, графики смен, положения тел
усопших, даже грунт на корпусе, а толкового объяснения случившегося не нашла,
пока не обнаружила, что кислородные баллоны пусты. Их вентили были открыты...
Вечный спаситель подводников — кислород оказался здесь причиной их
смерти. Произошло, по мнению комиссии, это примерно так...
У-31 получила задание патрулировать у восточного побережья Англии.
Подводная блокада Британских островов еще не началась, но предстоящие районы
боевых действий немецких подлодок уже изучались. У-31 несколько дней
дежурила на позиции. Потом командир решил дать усталому экипажу отдохнуть и
распорядился оставить в центральном посту двух вахтенных.
Лодка легла на грунт, экипаж спал, и вот тут произошла трагедия. В воздух
отсеков необходимо было время от времени добавлять кислород из специально
предназначенных баллонов. Кто-то из вахтенных, открыв в очередной раз вентили,
забыл закрыть их...
Несколько недель У-31 с мертвым экипажем на борту лежала на грунте.
Сжатый воздух, видимо, просачивался в цистерны главного балласта, то есть они
медленно продувались. Вот так и всплыла пропавшая без вести У-31.„
64
ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
ОГОНЬ ПРЕКРАЩЕН
(События и итоги февраля)
ВООРУЖЕННЫЕ силы стран антииракской коалиции в конце февраля
завершили проведение воздушной наступательной операции и приостановили
воздушно-наземную операцию против вооруженных сил Ирака, принудив
военно-политическое руководство Багдада принять продиктованные ему условия прекращения огня.
В феврале этого года военные действия на Аравийском п-ове развивались
следующим образом.
В течение всего месяца многонациональные силы продолжали воздушную
наступательную операцию. По мере разрушения стратегических объектов основные
усилия переносились на поражение группировок иракских сухопутных войск на всю
глубину их построения в южной части Ирака и в Кувейте, включая вторые
эшелоны и резервы.
Превосходство в воздухе, по сообщению союзного командования,
авиация завоевала уже в первые двое суток войны. Если в первый день боевых
действий авиация Ирака выполнила 116 боевых вылетов, а в остальные дни недели
по 30—40, то в первую декаду февраля она совершала лишь одиночные боевые
вылеты, а в период с 11 по 26 февраля полностью бездействовала. Нанесенное в
середине января поражение авиации и ПВО Ирака закреплялось последующими
ударами по аэродромам. По его оценке, уже в первой половине февраля количество
разрушенных железобетонных укрытий для самолетов Ирака возросло до 55% (327
из 594), а к концу месяца в воздушных боях и на аэродромах было уничтожено
свыше 100 самолетов. Около 150 самолетов Ирак вывел из войны, направив их на
«временную ссылку» в Иран, чтобы спасти от уничтожения.
В феврале продолжалось разрушение военной промышленности и военных
объектов Ирака. Для уничтожения подвижных пусковых установок РМД ежесуточно
совершалось 100—190 самолето-вылетов (3,7—7,2% от их общего числа), в
результате чего количество пусков ракет в феврале в сравнении с предыдущим месяцем
сократилось в 1,5 раза, и Ирак смог использовать менее 15% имевшихся у него
РМД. К середине февраля, после тридцати суток стратегических бомбардировок,
считалось, что военный потенциал Ирака снижен на 50%. С этого времени основные
усилия «воздушной кампании» начали смещаться на решение задач изоляции
района боевых действий.
Изоляция района боевых действий имела целью нанести
авиацией максимальные потери живой силе и ликвидировать возможно больший процент
военной техники и запасов материальных средств в южной части Ирака и в
Кувейте, а также решить задачи «задержки» и «иммобилизации» (уничтожение мостов
и наведенных переправ, транспортных путей и средств, складов ГСМ и др.).
По оценке командования многонациональных сил, удалось сократить подвоз
материальных средств в иракские войска на 90% и уничтожить более чем 125
складов ГСМ. Для выполнения задачи «уничтожения живой силы и военной
техники» в конце января выделялось 12—14%, в начале февраля —до 25%, в
середине февраля 30—43% всех вылетов. Изменение тактики нанесения воздушных
ударов (переход к мощным ударам по выявленным разведкой целям по площади в
несколько квадратных километров) привело к увеличению потерь иракцев в три
раза, и к началу воздушно-наземной операции в районе ее проведения было унич-
5 «Морской сборник» № 3 65
тожено около 40% танков, свыше 30.% бронетранспортеров и боевых машин
пехоты, до 50% артиллерии. Уровень решения основных задач стратегическими
бомбардировщиками к началу февраля представлен в таблице.
Задача
Нарушение системы
управления
Ликвидация ракетного
потенциала
Нанесение
ракетно-бомбовых ударов по
объектам разработки,
производства и хранения ОМП
Разрушение объектов
энергетики
Уничтожение мостов
Уровень ее решения
Уничтожено и повреждено 60%
пунктов управления
военно-политического руководства страны и свыше 75*
командных пунктов высшего и
среднего звена управления ВС Ирака
Уничтожено 100% стационарных и
значительное число мобильных
пусковых установок РМД
Уничтожено практически 100%
объектов
Выведено из строя до 90%
мощностей нефтеперерабатывающей
промышленности, свыше 25%
мощностей ТЭЦ
Разрушено 43 из 46 важнейших
мостов
Выделенное число
самолето-вылетов
Около 800
Около 1500 (в отдель
ные дни выделялось
до 30% всех самоле
то-вылетов)
Около 125
Около 800
Непосредственная авиационная поддержка войск осуществи
лялась в ходе воздушно-наземной операции самолетами и вертолетами ВВС, ВМС и
морской пехоты.
Как сообщило союзное командование, всего в ходе воздушнии наступательной
операции, продолжавшейся с 17 января по 28 февраля, авиация (около 2000
самолетов) выполнила свыше ПО тыс. вылетов (в том числе в феврале свыше 75 тыс.),
применила свыше 88 тыс. т авиационных боеприпасов по четырем тысячам
стационарных объектов и большому числу подвижных целей. Если в первые 6 суток
войны интенсивность полетов составляла 2 тыс. вылетов в сутки, то в последующем
в среднем по 2,7 тыс. Уровень боевых потерь (сбитых самолетов над территорией
Ирака и Кувейта) в целом за войну был один самолет на 3 тыс. вылетов. Около
86,5% всех вылетов приходилось на долю авиации США, 5%—Великобритании,
1,5%—Франции, 6,5%—Саудовской Аравии. Если в начальный период войны
для нанесения ударов выделялось 53% взлетавших самолетов, то с достижением
господства в воздухе эта цифра изменялась в большую сторону. В феврале усилия
авиации морской пехоты и палубной авиации сосредоточивались на решении
главным образом задач изоляции района боевых действий. Определенное внимание
уделялось боевому обеспечению своих ВВС и ВМС. Действия надводных сил
антииракской коалиции в Персидском заливе после нейтрализации в начале февраля
ВМС Ирака были направлены на уничтожение оставшихся боевых единиц флота,
противокорабельных ракет, береговой артиллерии, сил и средств ПДО, на борьбу
с минной опасностью. Как оказалось, наибольшую угрозу для кораблей союзников
в специфических условиях Персидского залива представили мины. Несколько сотен
их было обезврежено, но две мины вывели из строя американские корабли — вер-
толетоносец «Триполи» и крейсер «Принстон».
В середине февраля в Персидском заливе количество американских АУГ было
доведено до четырех (в Красном море осталось две АУГ), здесь же были развернуты
свыше 30 десантных кораблей США, однако от проведения морской десантной
операций командование ВМС отказалось, ограничившись демонстративными действиями.
Из всего сказанного очевидно: хотя воздушная наступательная операция
многонациональных сил во многом способствовала поражению Ирака, но сама по себе не
привела к выводу иракских войск из Кувейта. Для этого потребовалось
наступление сухопутных войск и наземных сил морской пехоты.
Воздушно-наземная операция, как отмечалось в иностранной печати, была
проведена сухопутными войсками коалиции и морской пехатой США при непосредствен-
66
ной авиационной поддержке за 100 часов (в период 4.00 24 февраля — 8.00
28 февраля 1991 г.).
Район проведения операции ограничивался на востоке побережьем Персидского
залива, с севера реками Шатт-эль-Араб и Евфрат, с запада рубежом Рафха — Эс-
Самава, с юга кувейтско-саудовской и иракско-саудовской границей. Ширина
полосы действий многонациональных сил составляла 500 км, глубина — 250 км.
На приморском направлении были сосредоточены саудовские, кувейтские и
американские сухопутные силы и западнее их — две экспедиционные дивизии морской
пехоты США; далее на запад вдоль кувейтско-саудовской границы размещались
саудовские, египетские и арабские группировки; западнее Кувейта — английская
бронетанковая дивизия и армейский корпус США; на крайнем левом фланге —
воздушно-десантный корпус США и две французские дивизии. Наименее боеспособные
дивизии Ирака были дислоцированы на юге, наиболее боеспособные — у побережья и
на севере Кувейта, а также южнее г. Басра. Группировка СВ Ирака насчитывала до
42 дивизий. Ввиду того что в ходе предыдущих действий 15—30% личного
состава и 30—50% боевой техники были уничтожены или выведены из строя, к
началу наземного наступления коалиционные войска имели полуторное превосходство
в силах.
Замысел операции, по сообщению командования межнациональных сил,
предусматривал окружение и разгром иракских войск в «котле» с охватом их справа
силами морской пехоты США и глубоким фланговым маневром слева силами скрытно
созданной танковой группировки США, Великобритании и Франции. На ВМС
возлагалась задача — демонстративной подготовкой крупной десантной операции сковать
на побережье Кувейта и Ирака часть иракских СВ. На авиацию ВВС, ВМС и
морской пехоты возлагались задачи изоляции района боевых действий и
непосредственной авиационной поддержки наступления.
Боевые действия на суше, как отмечалось в иностранной печати, начались
24 февраля на флангах, в остальных районах 25 февраля.
На приморском направлении две эдми США во взаимодействии с силами СВ
Саудовской Аравии, Кувейта и бригадой СВ США с минимальными потерями
прорвали оборону иракцев и к исходу четвертых суток вошли в столицу Кувейта.
На центральном направлении объединенные арабские силы наступали в юго-
западной, а затем в центральной части Кувейта.
На левом фланге, где наносился главный удар, англо-американо-французские
бронетанковые силы, действовавшие совместно с воздушно-десантными силами,
наступали в трех направлениях (Эс-Самава, Эн-Насирия, Басра); отрезав пути
отступления иракских войск к Багдаду вдоль правого берега р. Евфрат, развернулись на
восток; к исходу четвертых суток американцы замкнули кольцо окружения,
приступив к ликвидации окруженной группировки. По оценке американцев, к вечеру
27 февраля из 42 дивизий Ирака, находившихся в районе проведения операции,
были разгромлены 29, захвачено пленными 50 тыс. человек, уничтожено или
захвачено с начала войны 3008 танков (71% имевшихся), 1856 бронетранспортеров
и боевых машин пехоты (64%); 2140 орудий (69%); около 30% иракских солдат
дезертировали.
В период проведения наземной операции действия морской пехоты США,
находившейся на кораблях в море, ограничились высадкой на о. Файлака. Авиация
морской пехоты и палубная выполняла поставленные им ранее задачи. Надводные
корабли осуществляли огневое воздействие по силам противника на берегу.
Одновременно велись тральные работы, силы специальных операций обозначали подготовку
к проведению морской десантной операции на побережье Кувейта. По оценке
объединенного командования ВС США, окруженная полумиллионная армия Ирака к 28
февраля утратила почти всю военную технику, потеряв убитыми до 80 тыс.
человек и пленными около 70 тыс. Потери союзников убитыми, ранеными,
пропавшими без вести и пленными за всю войну не превысили одной тысячи человек.
При рассмотрении предварительных итогов войны на Ближнем Востоке
необходимо хотя бы кратко остановиться на системе боевого и тылового обеспечения
многонациональных сил.
Боевое обеспечение. Разведка велась шестью-семью американскими ИСЗ. С
67
этой целью авиапия межнациональных сил ежесуточно выполняла до 200
самолетовылетов (10—15% от всех вылетов)." Первоочередной их задачей считалась выдача
целеуказаний по РМД Ирака. При обнаружении пуска ракет средствами
космической разведки информация о времени и месте старта с точностью до нескольких
километров доводилась до пунктов управления средствами ПРО и авиации в срок до
пяти минут. При этом расчеты ЗРК «Пэтриот» имели не менее полутора минут на
подготовку к перехвату РМД, а пункты управления авиацией немедленно направляли
в район пуска ближайшее звено истребителей-бомбардировщиков. Результаты работы
инфракрасной техники считаются «фантастическими».
Маскировка. Эффективными оказались демонстративные действия.
Прикрываясь начатыми с января регулярными перемещениями войск к кувейтской границе,
командование коалиции осуществило скрытное сосредоточение крупной группировки
танковых и воздушно-десантных войск на левом фланге. Демонстративные действия
десантных кораблей в сочетании с дезинформацией о предстоящей операции по
высадке десанта сковали около 25% дивизий СВ Ирака на приморском направлении,
исключив их из участия в сражении на направлении главного удара.
Радиоэлектронная борьба. Сосредоточенная в зоне конфликта
крупная группировка самолетов РЭП/РЭБ ВВС, ВМС и морской пехоты, по его мнению,
полностью оправдала возлагавшиеся на нее надежды, нейтрализовав в первые часы
и сутки войны РЛС ПВО Ирака. Надежность электронного подавления была
продемонстрирована в первом ударе 17 января 1991 г., когда под прикрытием активных
и пассивных помех крылатые ракеты морского базирования «Томагавк» поразили
50, а следовавшие за ними самолеты-невидимки F-117 80 объектов. Новый элемент
РЭБ — разрушение телевизионных передающих центров и радиовещательных
станций.
Тыловое обеспечение имело ряд особенностей главным образом из-за удаления
от США и Европы театра военных действий. По оценке объединенного центрального
командования ВС США, задачи материального, транспортного, инженерного и других
видов тылового и специального технического обеспечения в кампании выполнены в
высшей степени успешно.
Итак активная часть наступления на Ирак, по-видимому, закончена.
Широкомасштабный военный полигон, на котором проверялись все достижения последних
15—20 лет в области военной техники и военной мысли, прекратил
функционирование.
Каковы же итоги войны? Освободив Кувейт от оккупации и захватив в южном
Ираке территорию площадью, превышающей два Кувейта, штыки межнациональных
сил вернули Кувейт в руки его эмира.
Ирак за свою агрессию против соседа лишился большей части наступательного
потенциала, утратив возможность вступить в ближайшее время в «ядерный клуб»,
и вынужден будет расплачиваться за причиненный Кувейту ущерб.
Для Кувейта такое освобождейие обернулось выводом из строя на 6—12 месяцев
нефтедобывающих сооружений, необходимостью тушить пожары скважин,
восстанавливать системы жизнеобеспечения своих граждан.
Израиль за свое неучастие в войне получил вознаграждение: один из двух
наиболее опасных для него противников обезврежен.
Для США эта короткая, малокровная и победоносная война за океаном стала
классическим образцом применения военной силы в районах их «жизненно важных
интересов» в рамках достижения «нового мирового порядка». Этот успех, по всей
видимости, позволит США закрепить свое влияние в странах Ближнего Востока. И
хотя они активно рекламируют начало вывода части своих войск из зоны
Персидского залива, однако заявлений о сроках их полного вывода и согласия на передачу
функций поддержания порядка в регионе межарабским контингентам войск пока не
последовало. Вполне вероятно, что их военное присутствие в даншш регионе будет
не только, сохранено на длительный период, но и усилено.
Участники коалиционной войны празднуют победу, однако, клубок
арабо-израильских проблем не распутан, путей политического решения палестинской проблемы
пока не найдено.
Б. МАРКЕЛЛ
68
АВИАНОСЦЫ ДО 2005 г.
Многие читатели просят нас рассказать о планах строительства и
использовании американских авианосцев. Выполняем их пожелания.
Подполковник в запасе А. ЕВСЕЕВ
В США составлен генеральный план
строительства и использования
многоцелевых авианосцев на период до
2005 г. (данные приведены в таблице).
Он разработан с учетом критерия
«стоимость — эффективность»,
оперативного использования и эксплуатации
кораблей в теченцз установленного срока их
службы (около 40 лет).
Указанный план, по мнению
командования ВМС, будет стабильным на
период до 1995 г., в последующем
потребует уточнения. Будут также
уточняться конкретные сроки капитального
ремонта и вывода кораблей из состава
ВМС. Авианосец «Форрестол» или
«Т. Рузвельт» после 1997 г.
планируется использовать в качестве учебно-
боевого корабля вместо учебного
авианосца «Лексингтон». Финансирование
постройки атомных авианосцев CVN-76
и CVN-77 предполагается начать с
1999 г.
ВМС США перешли на новый
порядок финансирования строительства
авианосцев, заключающийся в выделении
финансовых средств для постройки
сразу двух кораблей и начале их
строительства с интервалом в три года. По
заявлению помощника министра ВМС
по кораблестроению Э. Пайата, такой
порядок финансирования уже позволил
сэкономить значительные средства:
1,84 млрд. долларов при постройке
авианосцев «А. Линкольн» и «Д.
Вашингтон» (6,18 вместо 8,02 млрд.
долларов) и 1,44 млрд. долларов при
выделении в 1988 г. ассигнований на
постройку авианосцев «Д. Стеннис» и
«Юнайтед Стейтс». Закладка кораблей
с интервалом в три года обеспечит
установленное количество многоцелевых
авианосцев (15 ед.) в боевом составе
ВМС США.
тобой номер (гад
вступления • строй
1990 11991 [1992 119ЭЭ j 1994 |<935
1996 I 1997 I 199В | 1999 [ 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 [ 2005
СЛЕП - РАСШИРЕННЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПЯР - ПЕРЕЗАРЯДНА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
Генеральный план строительства и использования многоцелевых авианосцев ВМС США
69
По страницам иностранной печати
NAVAL WAR COLLEGE REVIEW
SUMMER
Представляем нашим
читателям журнал
«Нэвл Уорр Колледж
Ревью». Он основан в
1948 г. на базе Военно-
морского колледжа в
Ньюпорте, Род-Айленд.
Предназначен для офнцеров ВМС США, Журнал рассылается также в
государственные учреждения, некоторые библиотеки, научно-исследовательские центры,
распространяется за рубежом. Публикации в «Нэвл Уорр Колледж Ревью»
отражают научную и профессиональную деятельность слушателей
Военно-морского колледжа. Предпочтение отдается прежде всего тем материалам, которые
имеют интеллектуальную и литературную ценность, служат интересам военно-
морского ведомства и отвечают требованиям времени. Вашему вниманию
предлагается обзор некоторых статей из летней книжки издания за 1990 г.
ВОЗМОЖНАЯ ЦЕНА АВИАНОСЦЕВ:
СТРАТЕГИЯ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ ВМС США
ВОЕННО-МОРСКАЯ мощь всегда играла первостепенную роль в защите интересов
США как нации путешественников и мореплавателей. Моря, окружающие кон*
тинеит, являются естественным препятствием на пути неприятеля, но они же
соединяют нас с союзниками. Тик начинается статья М. Рэндола и У. Тиза. Далее в ней
подчеркивается, что в настодщее время на ВМС возложены четыре задачи, от
успешного выполнения которых зависит установление такого цорядка в мире, когда
американские ценности и институты здравствуют и процветают: сдерживание ядерной
войны, обеспечение свободы судоходства, защита береговой линии государстэа,
военно-морское присутствие в горячих точках планеты. Без достаточных сил немыслимо
выполнение этих задач. Однако содержание и особенно строительство таких сил
становится все более сложным и дорогостоящим дедом, особенно сейчас, когда на эти
цели выделяется все меньше средств из бюджета.
В течение десятилетия до конца 1970 г. тощий бюджет позволял содержать
силы флота на послевоенном уровне. При этом установленные сроки эксплуатации
кораблей были превышены. Ситуация изменилась с приходом к власти администрации
Р. Рейгана, когда развернулась невиданная со времен второй мировой войны
программа кораблестроения. Она получила мощный импульс в результате значительного
увеличения бюджетных ассигнований. Это была, по убеждению автора, вынужденная
мера в ответ на рост военно-морского могущества СССР и открывшийся доступ
режимов Ирака, Ирана и Ливии к современной технологии.
Успешно начатая программа, сокрушаются авторы, под угрозой фактического
срыва. В данной статье идет поиск выхода из создавшегося положения. Выход
видится прежде всего в создании нового класса авианосцев, что позволит в результате
экономии средств образовать новые структуры ВМС, в большей степени
приспособленные для выполнения столь сложных задач. Принципиально новый корабль по
размерам будет в два раза меньше авианосца класса «Нимиц». Предполагается
сосредоточить основные усилия на совершенствовании ВПП с целью усиления боевых
возможностей авианосца.
Серьезным основанием для переосмысления политики кораблестроения
послужили события, произошедшие в ноябре 1979 г., когда в Тегеране было захвачено
американское посольство, а командованием было принято решение направить в
Персидский залив авианосец «Мидуэй» и корабли сопровождения из западной части
Тихого океана. Концентрация двух АУГ у берегов Ирана нанесла ущерб американской
70
политике военно-морского присутствия в Средиземноморье и в районе Дальнего
Востока за счет оголеция данных регионов. Передислокация происходила в то время,
когда «Советы увеличили свою Средиземноморскую эскадру и ввели дополнительные
силы в западную часть Тихого океана, вызвав беспокойство союзников США».
Чем больше средств расходовалось на строительство крупных авианосцев, тем
меньше кораблей оставалось не только для обеспечения миссии флота, но и для
создания простого численного превосходства. Этими обстоятельствами во многом, как
считают авторы, и объясняется постепенное сокращение корабельного состава ВМС в
70-е годы. Ведь с введением в строй новых авианосцев приходилось выделять
значительную часть кораблей для эскорта. В результате ограничивались возможности
ВМС по выполнению задач патрулирования и военно-морского присутствия в районах
предполагаемых конфликтов. Принятие дополнительных обязательств в районе
Индийского океана привело к тому, что командование встало перед необходимостью
цродлить сроки боевого дежурства. Напряженная оперативная обстановка не
преминула сказаться на моральном духе экипажей, поставила под угрозу выполнение
программы рекрутирования, хорошо обученные и опытные военнослужащие отказывались
продлевать контракты.
Военные конфликты, приходят к заключению авторы статьи, чаще всего
вспыхивают в странах «третьего мира». Конфронтация между сверхдержавами вероятнее
всего именно в политически неустойчивых регионах мира. ВМС, как никакой
другой вид вооруженных сил, в наибольшей степени способны отвечать задачам
внешнеполитической деятельности администрации. Сейчас же эти способности весьма
ограничены. Положение, несомненно, изменится, если мы сделаем отступление от
прежде утвержденной программы и пойдем на разумное соотношение: 12 больших
авианосцев и 6 авианосцев класса «Уосп». Такое соотношение позволит
интенсифицировать кораблестроение, более эффективно вести боевые операции на передовых
рубежах в глобальной войне.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛОТА
В какой степени способно медицинское обеспечение ВМС повлиять на ход и
исход отдельной операции и даже всей кампании? Только ли с эвакуации раненых и
их лечения начинается миссия медицины? Имеет ли чисто медицинский аспект
боевого обеспечения прямое отношение к морально-политическому состоянию экипажей?
На эти и другие вопросы дает исчерпывающие ответы автор статьи кэптен
медицинской службы ВМС США Р. Хуцер, бросивший вызов самому Карлу фон Клаузевицу,
который в одном из своих трудов утверждал, что «медицинская служба касается лишь
небольшой части личного состава и поэтому оказывает незначительное влияние на
все остальные слагаемые боеспособности».
Времена великого стратега ушли в небытие, а возможности современного
оружия и боевой техники, оружия массового поражения несоизмеримы с военными
возможностями армии той эпохи. Нельзя же сравнить конный эскадрон и танковую
колонну. В те времена были редкостью и массовые вирусные заболевания,
характерные для нашего века. Но, как ни странно, удивляется автор, и в наше время
находятся военные руководители, искренне полагающие, что задача военного медика в
современной войне сводится к лечению раненых после боя. Именно в таком ключе,
что еще более удивительно, ведутся теоретические исследования в ряде медицинских
изданий.
Вопросы медицинского обеспечения, как это понимает кэптев Р. Хупер, должны
рассматриваться в непосредственной связи с выполнением боевой задачи. Лечение же
раненых имеет едва ли не второстепенное значение и зависит от конкретной
ситуации, складывающейся в ходе боевых действий. Автор приводит пример, когда
фрегат «Старк» подвергся ракетной атаке со стороны иракских ВМС. Начался пожар,
и фельдшер сосредоточил свои усилия на поддержании в состоянии
работоспособности тех, кто боролся с огнем и жестоко страдал в раскаленном, полном гари отсеке.
В это время матросам, получившим ожоги, была оказана лишь первичная помощь.
71
Прошло не менее полутора часов, прежде чем был доставлен доктор и заняяся
пострадавшими всерьез. Ситуация понятна: избери фельдшер иные приоритеты,
естественные в обычной атмосфере, на дне бы оказался весь экипаж.
Представьте себе, рассуждает автор, что еще задолго до принятия решения
экипаж авианосца во время стоянки в порту охватила эпидемия гриппа или личный
состав подводной лодки вышел из строя в результате пищевого отравления, а десант-
но-диверсионная группа ВМС заболела дизентерией. Эти и другие массовые
заболевания, когда медицина в одночасье оказывается бессильной, несомненно, приведут
к срыву боевого задания. Мероприятия превентивного характера, профилактика будут
иметь первостепенное значение. Оправданным шагом станет привлечение медицинских
специалистов к процессу планирования и разработке боевых операций, обеспечению
командования необходимой своевременной информацией. От их тесного
взаимодействия зависит успех операции.
Эффективное медицинское обеспечение повышает боевой дух и моральное
состояние экипажей, подчеркивает Р. Хупер. Известно, что процент лиц, повторно
заключающих контракт и проявляющих безоговорочную готовность вступить в боевые
действия, зависит во многом от состояния и возможностей медицинского обеспечения.
Некоторые исследователи утверждают, что морально-боевое состояние не самый
важный показатель в характеристике личного состава ВМС, поскольку экипаж вынужден
следовать туда, куда ему укажет командир. Р. Хупер опровергает это утверждение
как несостоятельное. В то время, когда ВМС Соединенных Штатов вовлечены во
многие конфликты и имеют обязательства перед союзниками, можно полагаться лишь
на опытный, хорошо обученный и преданный экипаж, чтобы оправдать надежды. Не
следует к тому же сбрасывать со счетов и то, что боевые корабли все чаще
привлекаются не только для выполнения отдельных миссий, но и для длительных кампаний.
Таким образом, резюмирует автор, медицинское обеспечение флота заключается
в оказании помощи командованию при выполнении боевой задачи путем сохранения
здоровья личного состава, повышения боевого духа, выполнения моральных
обязательств перед каждым членом экипажа. Далее кэптен Р. Хупер касается вопроса
готовности медицинских служб флота к военным действиям. Опираясь на конкретные
примеры, он приходит к выводу, что и на кораблях необходимо иметь как минимум
двух медиков: врача-офицера и фельдшера. Иначе в случае войны, как это имело
место во Вьетнаме, «мы вновь станем свидетелями массовых заболеваний и
неспособности оказать своевременную помощь военнослужащим, получившим ранения и
другие телесные повреждения».
«ИЗ МНОГИХ ЕДИНОЕ»1
Автор статьи, капеллан ВМС лейтенант-коммандер Р. Лесли, предпринимает
попытку изучить влияние религии на духовную жизнь личного состава, его морально-
политическое состояние. В поле зрения исследователя не только такие глобальные
аспекты проблемы, как «вооруженные силы, религия и политика; вооруженные
силы, религия и национальная безопасность», но и вопросы веротерпимости, быта.
По мнению Р. Лесли, религия является неотъемлемой частью духа
американской нации и оказывает воздействие на светские институты общества, такие, как
право и политика. Американскому социуму присущ уникальный феномен —
гражданская или культурная религия. Суть его состоит в том, что в основе общественного
эксперимента в США лежит фундаментальная идея равенства, братства, свободы,
справедливости, демократии и гуманизма, перекликающаяся с основными постулатами
христианского учения. Идея эта позитивна, поскольку, как утверждает автор,
«общие ценности объединяют Америку, несмотря на этнические, культурные и
мировоззренческие различия».
Вооруженные силы отражают эти различия, так как представляют общество в
миниатюре. С дней основания Соединенных Штатов в армии и на флоте вводится
1 «Из многих единое» (Epluribus unum) — девиз Соединенных Штатов Америки,
72
институт капелланов — священнослужителей в военной форме. В первые годы
федерации они представляли все главные (преимущественно христианские) конфессии.
Со временем их число возросло. В 80-е годы в ВМС официально регистрируется
иудейская, магометанская, баптистская, христианско-ортодоксальная и другие
общины. Всего же в военном ведомстве насчитывается 105 религиозных течений.
Америка — страна эмигрантов. Именно они принесли с собой на континент все
разнообразие мировой религиозной жизни. Число религиозных общин увеличилось также за
счет части приверженцев иудейства и христианства, которая порвала со своими
единоверцами, поддавшись модной волне увлечений т. н. нетрадиционными
вероисповеданиями.
В последние годы в связи с ростом потока переселенцев из Южной Азии и стран
Арабского Востока палитра религиозной жизни в военно-морских силах США
значительно обогатилась. Эти процессы, как полагает Р. Лесли, в перспективе создадут
на флоте весьма любопытную ситуацию. Ведь религия, что совершенно естественно,
оказывает самое непосредственное влияние на реальности классовые, этнические,
национальные и культурные. Уже сейчас, в условиях расцвета религиозного
плюрализма, вопросы, касающиеся взаимоотношений полов и рас, начинают принимать все
более выраженную религиозную окраску. Это объясняется, в частности, тем, что
большинство американских мусульман-суннитов — выходцы из Африки и стран
Арабского Востока, индуистов — из Южной Азии, все шаманисты — коренные жители
Аляски, и другие, каждый из которых по-своему относится к женскому началу в Боге.
Сюда следует добавить и строгую ориентацию некоторых вероисповеданий в
отношении соблюдения определенной диеты, поста, ношения предметов культа и т. п. В этих
условиях, подчеркивает автор, и младший командный состав, и офицеры обязаны
обладать элементарными сведениями о религиях, нравах и традициях народов, их
представляющих, уважать право каждого человека в военной форме исповедовать любую
религию. Игнорирующий эти требования не способен успешно выяснить отношения
между военнослужащими, поддерживать должный порядок и дисциплину.
Р. Лесли делится с читателями своим опытом. Когда ему пришлось служить в
качестве капеллана при штабе эскадры надводных кораблей, до него дошли
сведения, что на одном из фрегатов группа матросов-мусульман высказала пожелание
официально выполнять культовые предписания. После встречи с командиром корабля и
его помощником вопрос решился положительно, встречи единоверцев для совершения
намаза были включены в расписание религиозной программы. Инициативная группа
избрала своего лей-лидера (помощника капеллана), который затем получил
инструктаж и благословение имама местного отделения Мусульманской миссии США. А на
корабле был создан совет лей-лидеров, включивший представителей иудейской,
магометанской, католической, протестантской церквей, а также Церкви Христа и
Святого судного дня.
Р. Лесли убежден, что религиозный плюрализм делает интереснее и богаче
духовную жизнь флотских экипажей, позволяет разработать специальные экуменические
программы, для реализации которых привлекаются представители всех конфессий. Во
время совместных мероприятий, таких, например, как День благодарения и День
памяти доктора Мартина Лютера Кинга, пропагандируются общечеловеческие ценности,
личный состав призывают к терпимости.
По мнению капеллана, решая вопросы национальной безопасности, руководству
США непременно придется учитывать «обязательства перед гражданами в военной
форме не противиться их свободе духовного выбора».
Обзор подготовил подполковник Г. ИВАНОВ
Редакция журнала «Морской сборник» благодарит атташе
военно-морских и воздушно-морских сил при посольстве Соединенных Штатов Америки
в Советском Союзе капитана 1 ранга С. А. Йонова за предоставленную
возможность познакомить наших читателей с публикациями журнала «Нзвл
Уорр Колледж Ревью».
73
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
К 300-летию отечественного флота
РУССКИЙ ФЛОТ
В СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЕ
рЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА (1756—
^ 1763 гг.) была одной из самых
крупных, разорительных и кровавых
войн XVIII века. В ней участвовали две
враждебные группировки: с одной
стороны — Пруссия и Англия и с другой —
Россия, Франция, Австрия, Швеция и
ряд более мелких государств. Ведущая
роль в подготовке и начале войны
принадлежала прусскому королю
Фридриху II, стремившемуся упрочить
положение Пруссии в Европе.
Война началась в сентябре 1756 г.
вторжением прусских войск в Саксонию
и- в австрийские владения.
Россия вступила в Семилетнюю войну
веской 1757 г., хотя еще в марте 1756 г.
для общего руководства военными
действиями была образована «Конференция
высочайшего двора» во главе с
канцлером П. Бестужевым.
Стратегические планы России в войне
вытекали из общего направления ее
внешней политики в тот период. Смысл их
заключался в том, чтобы совместно с
союзными армиями разгромить военные
силы Пруссии, занять ее столицу Берлин
и важнейшие жизненные центры,
принудив Фридриха II к полной капитуляции.
В соответствии с общими целями
войны и той обстановкой, которая
сложилась на Балтийском морском театре,
определились и задачи русского флота —
путем активных действий в Датских
проливах не допустить английский флот в
Балтику. Лишь успешно решив эту
задачу, флот мог выполнять и другие:
осуществлять блокаду побережья " Пруссии
и оказывать поддержку своей
наступающей армии, т. е. непосредственно
участвовать в осаде и взятии приморских
крепостей и своевременно подвозить
подкрепления, вооружение, снаряжение и
продовольствие.
Главнокомандующим русскими
войсками был назначен генерал-фельдмаршал
С. Апраксин. Лишенный военных
талантов, но честолюбивый, он не являлся
подходящим лицом для такой роли.
Публикация взята из «Морского
сборника» Х° 11 — 12 за 1944 г.
Капитан Ф. КРИНИЦЫН
Согласно плану кампании на 1757 г.,
выйдя из Кронштадта и побывав в Либа-
ве, особый отряд 18 июня подошёл к
Мемелго. Корабли произвели
рекогносцировку неприятельских укреплений и
сделали промеры глубин. Корпус генерала
Фермора, выделенный для действий
против Мемеля и сФстбябшйй из 16 тыс.
солдат при 18 тяжелых орудиях,
подошел в это время к крепости и обложил
ее с севера и с востока.
Рано утроМ 20 июня корабли отряда
снялись t якоря й последовательно
вошли в залив Куриш-граф. Противник
открыл по ним огонь. В восьмом часу
утра «Элефант» поднял боевбй флаг.
Корабли встали на шпринг и
одновременно с сухопутными батареями начали
обстрел города.
В последующие дни бомбардировка
продолжалась с прежней силой, Стихая
только ночью. Враг нес большие
потери. Город был объят пламенем. Не
выдержав огня кораблей и сухопутных
батарей, 24 июня в 16 ч 00 мин
противник выкинул белый флаг.
Наш флот, состоявший из Ревельской
и Кронштадтской эскадр, нес блокаду
прусских берегов, по временам заходя в
Данциг1 для принятия продовольствия
и пресной воды. В 20-х числах июля
адмирал Мишуков получил рескрипт иМ-
ператрицы, в котором говорилось:
«Оставляя для блокирования приморских
прусских городов столько кораблей,
сколько по вашему рассмотрению
потребно, под командою нашего адмирала Мят-
лева, дабы он с ними продолжал
предписанным уже образом блокаду прусских
приморских городов, получая
дальнейшие наставления от нашего генерал-
фельдмаршала Апраксина, со всеми
прочими вы сами по получении сего имеете
к Карлскроне следовать... Буде нужда
настанет вам с шведскою эскадрою
соединиться и вам требование о том от
шведского двора пришлется, то вы часа
не упустите в назначаемое вам от швед-
1 Данциг в то время принадлежал
Польше, не участвовавшей в Семилетней
войне, но сочувственно относившейся к
России и ее союзникам.
74
екбго ж двора место идти, с его
эскадрою соединиться и во всем согласно с
оною действовать...» 2.
Адмирал Мишуков, оставив для
продолжения блокады эскадру из шести
линейных кораблей и фрегата под
начальством адмирала Мятлева, с остальными
кораблями вышел согласно полученному
предписанию.
Пребывание эскадры Мишукова в
районе Зунда продолжалось до середины
сентября, когда с наступлением осени
отпала угроза появления английских
кораблей. Крейсерская эскадра Мятлева,
проплавав до 4 сентября в районе Данцига,
Пиллау и Дагерорта, возвратилась в
Кронштадт, а на смену ей вышла Ре-
вельская эскадра из пяти кораблей и
фрегата под командованием
вице-адмирала Полянского. Последняя находилась
в море до наступления периода осенних
штормов и ушла в Ревель только в
конце октября.
Блокада прусских берегов имела
большое значение, так как в результате ее
прекратилась доставка морским путем
подкреплений, снаряжения и
продовольствия гарнизонам приморских городов
Восточной Пруссии (Кенигсберг, Фриш-
ген, Пиллау и другие), еще
находившихся в руках противника. В кампанию
этого года галерный флот, насчитывавший
41 вымпел, занимался перевозкой войск,
артиллерии и провианта для русской
армии, действовавшей в Восточной
Пруссии.
После занятия Мемеля войска
генерала Фермора успешно продвигались
вперед, заняв значительную часть
Восточной Пруссии. Были взяты крупные
города Гумбинен, Инстербург, Норденбург.
Противник отступал к Кенигсбергу.
Нагнав неприятеля, 19 августа русская
армия нанесла ему решительное поражение
при Гросс-Егерсдорфе, открыв себе
дорогу на Кенигсберг.
После этого сражения казалось, что
задача овладения территорией Восточной
Йруссии практически решена. Однако
вместо того, чтобы энергично
преследовать ошеломленного поражением
противника, не давая ему закрепиться на
новых рубежах, и форсировать наступление
на запад, т. е. на Кенигсберг и Фрид-
ланд, Апраксин сначала нерешительно
продвинулся в сторону Фридланда, а
затем с приближением осени не только
отказался от дальнейшего наступлений, но
и оставил занятую часть Восточной
Пруссии, уйдя с армией на зимние
квартиры к Мемелю. Недовольство
правительства таким решением привело к
снятию Апраксина с поста
главнокомандующего и замене его генералом Фермером,
от которого потребовали большей
активности. В результате уже 31 Декабря
1757 г. русские корпусы под
Начальством молодого генерала Румянцева (буь
дущего фельдмаршала) и генерала
Салтыкова выступили из Курляндии и уже
11 января заняли Кенигсберг, а к концу
месяца — всю Восточную Пруссию.
Фридрих И, успокоенный в свое время
уходом Апраксина и перебросивший
значительную часть войск для операций
против шведов в Померанию, оказался
не в состоянии противодействовать
сколько-нибудь значительными силами
русскому наступлению.
Задача флота в кампанию 1758 г.
сводилась к продолжению прежних
действий,
Ревельская эскадра (5 линейных
кораблей и 2 фрегата) под командованием
вице-адмирала Полянского вышла в
море 8 июня. Крейсируя в районе
Дагерорта и Готланда, она 7 июня соединилась
с подошедшей Кронштадтской эскадрой
(12 линейных, 3 бомбардирских корабля
и 3 фрегата). 9 июля на пути от
Готланда к Бернгольму к русскому флоту
присоединилась шведская эскадра в
составе шести линейных кораблей и трех
фрегатов. Соединенный флот под
командованием адмирала Мишукова
направился к Датским проливам, где
находился до 28 августа, ожидая появления
английской эскадры. Ожидания, однако,
были напрасны. Она не пришла как в
кампанию 1758 г., так и в последующие
годы войны. Английский флот был занят
борьбой с французскими морскими
силами в колониях. К тому же, как показал
ход событий, английское правительство
не желало из-за Пруссии вступать в
вооруженный конфликт с Россией.
Одновременно с действиями
Кронштадтской и Ревельской эскадр
отдельные корабли и небольшие отряды
непрерывно крейсировали вдоль побережья
Пруссии, блокировали устья рек и
захватывали неприятельские транспорты с
военным снаряжением й
продовольствием. Русская армия, продвигаясь в Глубь
неприятельской территории, могла быть
спокойна за свой правый фланг, так как
флот оставался хозяином в водах Бал-
тики.
В кампанию 1758 и 1759 гг. русские
войска нанесли пруссакам тяжелые
поражения. В кровопролитных сражениях
14 августа 1758 г. при Цорндорфе, 12
июля и 1 августа 1759 г. при Пальциге
и Куйнерсдорфе прусская армия, по
существу, была уничтожена.
После Пальцига прусский король в
письме к своему брату Генриху
признавал, что «осужденный в чистилище не
в худШем положений, нежели я... Мы
нйыДие, У которых все отнято»8.
А через 20 дней, потерпев новый
разгром при Куннерсдорфе, Фридрих II
совсем растерялся.
«Я несчастлив, что еще жив...— писал
ой своему министру Финкелыптейну.—
Из армии в 48 тыс. человек у меня не
остается и 3 тысяч. Когда я говорю это,
все бежит, и у меня уже больше нет
власти над этими людьми... Жестокое
несчастье, я его не переживу. Последствия
дела будут хуже, чем оно само. У меня
больше нет никаких средств, и, сказать
по правде, я считаю все потерянным...» 4.
2 Материалы для истории русского фло-
га.— Часть X.— СПб.. 1883.— С. 351—352,
8 Коробков Н. Семилетняя война.—
М.: Воениздат, 1940.— С. 222.
4 Там же.— С. 238.
75
цское море
-Укрепления противника
-Русские укрепления
-Морская блокада Кольберга
——-Перевозка продовольствия и
и боеприпасов
Позиция русских войск перед
Капитуляцией Кольберга
Совместные действия русской армии по овладению крепостью Кольберг. Август —
декабрь 1761 г.
Наступил 1760 г. — четвертый год
войны России с Пруссией.
Основная задача, поставленная перед
русской армией на этот год, заключалась
в том, чтобы нанести сокрушительный
удар по противнику. Для этого
предполагалось занять Померанию, большую
часть Бранденбурга, ударить по
Берлину и, сломив тем самым дальнейшее
сопротивление противника, принудить его
к полной капитуляции.
Выполнение этого плана потребовало
прежде всего взятия сильной приморской
крепости Кольберг, бывшей важнейшим
опорным пунктом противника в
Померании. Решение этой задачи поручалось
Балтийскому флоту и сухопутным
войскам, причем всю ответственность за
успешное проведение Кольбергской
операции Конференция возложила на флот.
Перед началом кампании флот
пополнился новыми кораблями. Вступили в
строй 100-пушечный корабль «Дмитрий
Ростовский», 80-пушечные «Андрей
Первозванный» и «Климент Папа Римский»,
два 66-пушечных, один 54-пушечный и
несколько мелких кораблей.
Кронштадтская эскадра состояла
теперь из 14 линейных и трех
бомбардирских кораблей, располагая в общей
сложности 1122 орудиями. Пополнилась и
Ревельская эскадра, включавшая 7
линейных кораблей и 3 фрегата, несших
464 орудия. Перед выходом в море обе
эскадры провели артиллерийские
стрельбы и парусные учения с целью
тренировки' рекрутов, пришедших служить на
корабли по осеннему набору.
Однако всех предписаний
Конференции Адмиралтейств-коллегия выполнить
не смогла, так как она не имела для
этого необходимых денежных средств.
На своем заседании 11 января 1760 г.
Адмиралтейств-коллегия решила донести
императрице, что «для заготовления на
10 тыс. человек морской провизии
потребно денежной казны до 18 тыс. руб.,
а на такие неположенные по
адмиралтейству расходы денег не определено».
Тяжелое состояние бюджета наряду с
другими недостатками привело к тому,
что Кронштадтская эскадра смогла
выйти в море лишь 25 июля. 29 июля
между Наргеном и Суропом она соединилась
с Ревельской эскадрой, вышедшей из
базы еще 8 июля. Дальше обе эскадры
следовали вместе, но из-за противного
ветра флоту пришлось задержаться в
районе Готланда, и к Кольбергу он пришел
только 15 августа.
После полудня 15 августа с
флагманского корабля была выслана для
разведки шлюпка под командой штурмана Сли-
зова. Утром 16 августа она вернулась, и
Слизов доставил сведения о
расположении вражеских береговых батарей и
других укреплений со стороны моря. Кроме
того, Слизов, сделав промеры, уточнил
наиболее удобные подходы к берегу и
определил места высадки десанта.
В этот же день по флоту был
объявлен приказ адмирала Мишукова об
осаде Кольберга. В приказе говорилось, что,
не дожидаясь подхода сухопутных войск,
флот должен начать бомбардировку
крепости. В первую очередь ставилась
задача уничтожения береговых батарей,
которые могли помешать высадке
десанта на берег, свозу артиллерии и
снаряжения.
76
Утром 17 августа бомбардирские
корабли «Самсон-», «Юпитер» и «Дондер»,
линейные корабли «Шлиссельбург» и
«Варахаил», 54-пушечный (без
названия), фрегаты «Россия», «Крейсер» и
32-пушечный (без названия) корабль под
общей командой главного артиллериста
флота Демидова снялись с якоря,
подошли ближе к берегу и заняли места по
диспозиции. В 12 ч 00 мин корабли
открыли огонь по береговым батареям и
по городу.
Кольберг являлся старинной
крепостью, неоднократно переходившей из рук
в руки*во время феодальных войн.
Город располагался на р. Персанте,
которая делила его на две неравные части:
большая часть города с цитаделью
находилась на правом берегу реки, а
меньшая и слабее укрепленная — на левом.
Крепость была* обнесена стеной
бастионного типа и рвами, наполненными водой.
Болотистый характер почвы на левом
берегу реки Персанте затруднял ведение
осадных работ. Гарнизон крепости
состоял из 700 человек регулярных войск,
усиленных местным ополчением. На
крепостных верках и батареях находилось
130 пушек и 14 мортир.
Войска, осадившие крепость с суши,
состояли из высаженного с кораблей
десанта численностью до 3 тыс. солдат и
матросов и отряда конницы (1300
драгун и казаков), присланного с Вислы.
Позднее из Пиллау прибыли небольшое
подкрепление и осадная артиллерия.
Основные силы десанта сосредоточь
лись на правом берегу р. Персанте. т. е.
против главных укреплений города.
Здесь же были развернуты траншейные
работы, установлены батареи, наведен
через р. Персанте мост, а на ее левом
берегу была установлена брешь-батарея
для обстрела юго-западной части города.
Осадой Кольберга сначала руководил
оберцейхмейстер Демидов, но затем за
допущенные ошибки он был снят и
заменен контр-адмиралом Мордвиновым.
Бомбардировка крепости с кораблей,
начатая 17 августа, продолжалась
ежедневно, часто не прекращаясь и ночью.
С 17 августа по 7 сентября были
выпущены сотни бомб и тысячи ядер. Частые
пожары, возникавшие от бомбардировок,
усугубляли тяжелое положение
осажденных. Десантные войска, обложившие
крепость, готовились к штурму. Но к
этому времени Фридрих II направил к
Кольбергу с других фронтов
значительные силы. Это заставило адмирала
Мишукова снять осаду города и принять
десант обратно на корабли.
10 сентября флот вместе со всеми
транспортами и 8 прусскими галиотами,
захваченными в устье р. Персанте,
снялся с якоря и взял курс к своим берегам.
Конференция была недовольна
результатами Кольбергской операции. В своем
указе от 7 ноября 1760 г. на имя Ад-
миралтейств-коллегии она отметила
следующее:
«...Адмирал Мишу ков... гораздо
излишне полагался, что и одним с моря
бомбардированием Кольберг к сдаче
принужден будет, и потому о высажении
людей на берег не с такою рсгностью
старался, с какою надлежало, и потому
целые два дня совсем напрасно
пропущены; а в таких случаях не только дни.
но и часы считаются... Командующий на
реке Висле генерал-поручик Мордвинов
не отправил туда в довольной скорости
требованной от него помощи» 5.
Хотя в Кольбергской операции не
была достигнута поставленная перед
флотом задача, русские офицеры, матросы
и солдаты сделали очень много. Оттянув
часть сил врага, содействовали
успешному наступлению русских войск генерала
Чернышева, которые, заняв
значительную часть Бранденбурга, в конце августа
переправились через р. Одер и начали
наступление на Берлин. Гарнизон и
власти Берлина, дезорганизованные
создавшимся положением, не выдержали и 28
сентября сдались на милость победителя.
Между тем Фридрих II, сняв с других
фронтов крупные силы, направил их на
выручку своей столицы. Командование
русской армии, получив сведения об этом
и не имея возможности оказать
существенную поддержку Чернышеву, решило
оставить Берлин.
В кампанию 1761 г. армии и флоту
пришлось решать в основном те же
задачи, что и в 1760 г. Взятие Кольберга
и занятие Померании осталось
первоочередной задачей, поскольку этим
определялась возможность соединиться со
шведами и начать совместное наступление
в глубь вражеской территории.
Военные действия сухопутных войск
в Померании начались в январе.
Отдельный корпус под командованием генерала
П. Румянцева был направлен против
Кольберга, у которого Фридрих II в
течение весны 1761 г. провел ряд
мероприятий по укреплению и усилению
крепости. Гарнизон ее был доведен до
4 тыс. человек, крепостная
артиллерия — до 140 орудий.
Учтя опыт предыдущей кампании,
флот подготовился к операции
несравненно лучше и вышел в море на
полтора месяца раньше. Командующим
флотом вместо адмирала Мишукова был
назначен вице-адмирал Полянский. 1 июля
флот подошел к Данцигу. Здесь были
исправлены повреждения в парусах и
рангоуте, пополнены запасы, погружена
осадная артиллерия. 21 июля, придя к
устью реки Рюгневальде, он отдал
якоря и начал высадку сухопутных войск
и выгрузку артиллерии с галиотов и
транспортов. Отсюда вице-адмирал
Полянский неоднократно посылал к
Кольбергу линейные корабли и фрегаты для
крейсерства и разведки.
Ввиду неблагоприятной погоды и
недостаточного количества плавсредств
высадка на берег очень затянулась и
закончилась только к 10 августа. Было
высажено около 6500 человек пехоты
при 42 орудиях. Кроме того,
вице-адмирал Полянский снял с кораблей
несколько 12- и 18-фунтовых пушек.
11 августа флот оставил устье реки
Рюгенвальде и направился к Кольбергу.
5 Материалы для истории русского
флота.— Часть X,— СПб.. 1883.— С. 548.
77
Через два дня он появился в виду
крепости и в 5 милях от нее на
пятисаженной глубине отдал якорь. Встав на
шпринг, корабли начали обстрел батарей
и города.
16 августа пришла на Кольбергский
рейд и присоединилась к флоту шведская
эскадра контр-адмирала Нильс-Силандер
Шольта, состоявшая из шести линейных
кораблей и трех фрегатов. До этого
шведские корабли несли крейсерство в
проливе Зунд и в устье реки Одер.
В последующие два дня обстрел
города и его укреплений продолжался с
неослабевающей силой. Бомбардирские
корабли приближались к берегу на
четырехсаженную глубину.
Тем временем к Кольбергу подошли и
основные силы осадного корпуса
генерала Румянцева.
19 августа вице-адмирал Полянский
съехал на берег для совещания с
Румянцевым и для личного осмотра места
высадки морского десанта в помощь
сухопутным войскам. Во главе морского
десанта был поставлен опытный морской
офицер капитан 1 ранга Григорий
Андреевич Спиридов — командир 80-пушеч-
ного корабля «Андрей Первозванный».
29 августа с помощью всех
имевшихся плавсредств (в том числе и шведских
барказов) были свезены на берег (близ
деревни Инкенгаген) 2012 человек
десантных войск вместе с вооружением,
снаряжением и продовольствием.
Артиллерия десанта состояла из 51 мортиры
и 19 пушек.
. Морской десант присоединился к
бригаде полковника Неведомского (из
осадного корпуса Румянцева). На
протяжении всей осады Кольберга он являлся
передовым отрядом русских войск,
осаждавших крепость.
Некоторым из морских офицеров во
время осады Кольберга пришлось
командовать подразделениями сухопутных
войск, и там они показали себя
умелыми военачальниками и прекрасными
организаторами. Так, гренадерская рота,
командиром которой был морской
офицер П. Пущин, считалась самым лучшим
подразделением среди гренадерских
частей осадного корпуса.
Между тем бомбардировка крепости с
каждым днем усиливалась. 24 августа
около 15 ч 00 мин линейные корабли
«Наталия», «Рафаил» и «Астрахань»
подошли ближе к берегу и открыли огонь
по прибрежным батареям противника. На
следующий день к ним присоединились
линейный корабль «Петр» и фрегат
«Архангел Михаил».
Наступление осени заставило флот
свернуть боевую деятельность. В войсках
Румянцева было оставлено 618 морских
офицеров и матросов. Многие из них
продолжали сражаться под стенами
крепости до тех пор, пока она не пала.
Беспрерывные штормы задержали
переход флота, и только в 20-х числах
октября он отдал якоря на Ревельском
рейде. Вскоре возвратились из-под
Кольберга и все остальные корабли.
Флот вынужден был покинуть Коль-
берг до его падения, однако его
систематическая бомбардировка крепости и
полевых укреплений ускорила
капитуляцию крепости, которая произошла 6
декабря.
Падение Кольберга решило исход
борьбы за Померанию в целом. Вскоре
она оказалась целиком в руках русских
войск. Обладание же Померанией
создавало благоприятную возможность для
нанесения окончательного удара по
Пруссии.
В начале 1762 г. положение Пруссии
оказалось чрезвычайно тяжелым. Ее
внутренние ресурсы иссякли, население
голодало. Армия в результате жестоких
поражений настолько ослабла и
морально разложилась, что уже не
представляла собой сколько-нибудь серьезную силу.
Большинство ее опытных генералов и
офицеров пало в сражениях. Положение
спасло лишь неожиданно сложившееся
благоприятное внешнее обстоятельство.
5 января 1762 г., в день опубликования
в Петербурге сообщения о взятии
Кольберга, умерла русская императрица
Елизавета Петровна и на престол вступил
Петр III6. В тот же день он послал
графа Гудовича к Фридриху II с извещением
о вступлении на престол и о своем на*
мерении установить вечную дружбу с
Пруссией.
Вскоре мир и дружественный союз
между Россией и Пруссией были
заключены. Петр III не только отказался от
всех территориальных приобретений, ко*
торые сделала Россия, но и превратился
в союзника и спасителя прусского
короля. На помощь пруссакам против
Австрии он послал корпус численностью
16 тыс. человек.
Политика Петра III вызывала
недовольство во всех слоях населения
страны. 28 июня произошел дворцовый
переворот. Петр III был свергнут с
престола, отвезен в Ропшу (под Петербургом)
и там убит. На престол вступила его
жена Екатерина II. Новая императрица
подтвердила мир с Пруссией, но
категорически отказалась от союза с ней.
С выходом России из этой войны
борьба продолжалась недолго. 3 ноября
было подписано перемирие между
Францией и Испанией с одной стороны и
Англией — с другой; 15 ноября — между
Францией и Пруссией, а 24 ноября —
между Пруссией и Австрией. 10
февраля 1763 г. в Париже был подписан
окончательный мир.
Семилетняя война в определенном
смысле явилась боевой школой для
русского военно-морского флота. В ее ходе
выросло то новое поколение русских
моряков, которое в последующие
десятилетия изумило весь мир своими
блистательными победами на Черном,
Балтийском и Средиземном морях.
Публикацию подготовил
В. ШЕРЕМЕТЬЕВ
• Петр III (1728—1762) — русский
император в 1761 — 1762 гг.. внук Петра I. сын
царевны Анны Петровны и герцога Карла
Фридриха Гольштейн-Готторпского. Глубо-
ко чуждый государственным интересам
России, вел антинациональную внешнюю
политику.
78
Событию 70 лет
КРОНШТАДТСКИЙ МЯТЕЖ:
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ
ОН РАЗРАЗИЛСЯ в конце февраля
— начале марта 1921 г. И сразу
же превратился в символ
контрреволюции. Такое представление о мятеже, по
сути, осталось господствующим и по сей
день. Насколько оно оправдано?
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Военное значение крепости Кронштадт,
основанной Петром I в 1703 г., всегда
было исключительным. При поддержке
батарей, расположенных на
близлежащих скалистых островах, фортов Сест-
рорецка и Лисьего Носа на северном
побережье залива, Ораниенбаума и
Красной Горки на южном, она фактически
контролировала морские подступы к
столице.
Население города составляло около
50 тысяч человек, из которых половина
— моряки и солдаты крепостного
гарнизона. Их всегда отличала высокая
боевая готовность — производная особого
положения на морском рубеже Родины.
Они традиционно представляли собой
элиту Балтийского флота. Кронштадтцы
лучше содержались и материально. Из-
за близости к Петербургу раньше других
войсковых соединений узнавали о
происходившем в общественно-политической
жизни столицы и страны в целом. Не
случайно кронштадтцы почти всегда
первыми оказывались в гуще событий,
нередко играя в них заметную роль.
Так было в дни 17-го. Именно
кронштадтские матросы оказались надежной
опорой и главным действующим лицом
Февральской, а затем и Октябрьской
революции. Их появление на фронтах
гражданской войны сразу же изменяло к
лучшему для Красной Армии положение
дел.
И вот теперь, в 21-м, когда, казалось,
главные трудности позади и можно
приступить к созданию того общества, где
каждый будет иметь возможность для
свободного развития духовных и
физических сил и способностей, Кронштадт
оказался в положении восставшей
крепости.
Что же изменилось и почему из
оплота революции Кронштадт превратился в
источник повышенной политической и
социальной опасности?
Я. ВАСЕЦКИП,
доктор исторических наук
НАЧАЛО
26 февраля 1921 г. «Петроградская
правда» — орган городского Совета
депутатов и губкома партии — вышла под
огромным заголовком: «Остерегайтесь
шпионов! Смерть шпионам!» После чего
сообщалось: «По улицам Петрограда
расхаживают подозрительные личности и
распространяют всяческие слухи. Среди
этих личностей есть просто болтуны,
досужие сплетники и т. п. Но есть также
и определенные шпионы. Достоверно
известно, что Англия, Франция, Польша и
др. имеют своих шпионов в Петрограде.
Цель... настроить на определенный лад
население Петрограда, создать панику,
посеять смуту, а затем использовать все
это в целях новой интервенции
(вмешательства) во внутренние дела России...
Всем быть на страже! Смерть шпионам!»
Подпись: «Военный Совет (Комитет
Обороны) Петроградского Укрепленного
района».
Совет этот, как, впрочем, и Петросо-
вет, возглавлял тогда соратник Ленина
Г. Зиновьев. Редактором «Петроградской
правды» был его шурин С. Закс-Гладнев.
Говорю это не ради того, чтобы
напомнить о вреде использования родственных
связей в служебных целях, а затем,
чтобы подчеркнуть: кронштадтский синдром
во многом обязан малокомпетентному
руководству таких, как Зиновьев.
Вот что по этому поводу писал
другой, также считавшийся тогда
соратником Ленина и стоявший во главе
Красной Армии, нарком по военным и
морским делам Л. Троцкий: «Свердлов
говорил мне: «Зиновьев — это паника». А
Свердлов знал людей. И действительно:
в благоприятные периоды, когда, по
выражению Ленина, «нечего было
бояться», Зиновьев очень легко взбирался на
седьмое небо. Когда же дела шли пло.
хо, Зиновьев ложился обычно на диван,
не в метафорическом, а в подлинном
смысле, и вздыхал. Начиная с
семнадцатого года, я мог убедиться, что средних
настроений Зиновьев не знал: либо
седьмое небо, либо диван» *•
1 Троцкий Л. Моя
Берлин. 1930,— С. 158.
жизнь.— Т. 2.—
Судя по развитию событий в
феврале— марте 1921 г., Зиновьев был «на
диване». И было от чего.
Пользуясь современной лексикой,
Петроград оказался не готов к зиме.
Топлива и электроэнергии едва хватало, чтобы
поддерживать угасавшее производство.
Продовольственные пайки неуклонно
уменьшались. Помощи ждать было
неоткуда. Москва, другие промышленные
районы были не в лучшем состоянии.
Помимо стужи и голода, сердца
петроградцев сжимались от сознания
безнадежности ситуации. В этих условиях
многое, если не все, зависело, как мы
говорим сегодня, от субъективного фактора:
умения руководства ободрить людей,
поддержать в них уверенность в себе,
дать верный ход мыслям и возможным
действиям. Ничего этого ни Зиновьев,
ни его окружение в силу своих деловых
качеств сделать не могли. Все свелось
к административной лихорадке.
Одно за другим следовали заседания
Петросовета, губкома, где вместо
анализа причин и следствий разразившейся
беды, изыскания мер выхода из кризиса
принялись бичевать «происки мирового
империализма». 26 февраля
выступивший на заседании Петросовета комиссар
Балтфлота Н. Кузьмин многословно и
красочно рассказал о срыве в
Кронштадте «плана наших врагов», который
«был хитро задуман». Хитрость состояла
в том, что «контрреволюционная
агитация» велась не только на заводах, но и
среди моряков.
Согласно отчету о заседании Совета
в «Петроградской правде» выступивший
вслед за ним Зиновьев привел
«распускаемые о Советской России нелепые
выдумки, и о восстаниях в центральных
частях Республики, о том, что в
Кронштадте якобы крупные недоразумения
и т. д. Распространение таких выдумок
является излюбленным приемом наших
врагов, капиталистов» 2.
Вернувшийся в Кронштадт Кузьмин
передал по телефону Зиновьеву, что,
мол^ все угомонилось. Группы вражеских
агитаторов, а они, по словам комиссара,
состояли главным образом из юнцов,
спекулянтов и праздношатающихся,
удалось нейтрализовать. В соответствии с
этой информацией Зиновьев в свою
очередь позвонил в Кремль, Ленину. Так в
правительство ушла первая ложь о
Кронштадте, но далеко не
единственная.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ
СООБЩЕНИЕ
3 марта в центральных газетах под
заголовком «Мятеж бывшего генерала
Козловского и корабля «Петропавловск»
сообщалось о волнениях в
Кронштадтской крепости, принятии моряками «чер-
носотенно-эсеровской резолюции», выхо-
2 Петроградская
февраля.
правда, — 1921.— 27
де на сцену группы бывшего генерала
Козловского, а ныне командующего
крепостной артиллерией с тремя
офицерами, которые «открыто выступали в ро-лй
мятежников» и «фамилии коих еще не
установлены». Сообщалось об аресте
ими комиссара Кузьмина и председателя
Кронштадтского Совета депутатов С.
Васильева, лругих должностных лип.
Из сообщения явствовало, что главной
причиной волнений послужила
подрывная деятельность внутренней и внешней
контрреволюции, в частности эсеров, за
спиной которых стояли французская
контрреволюция и бывший царский
генерал. Под сообщением, как и под
многими другими правительственными
извещениями той поры, стояли подписи:
«Председатель Совета Труда и Обороны
В. Ульянов (Ленин). Председатель
Реввоенсовета Республики Л. Троцкий».
Так страна узнала о Кронштадтском
мятеже.
Первым, кто сообщил в Москву о
происшедшем в Кронштадте, был все
тот же Зиновьев. От него и пошла
версия мятежа как заговора внешней и
внутренней контрреволюции.
Впоследствии официальная троцкист-
ско-зиновьевская версия о Кронштадте
углублялась и расширялась. Ленин
дополнил ее впоследствии рядом
экономических, социальных, политических
предпосылок мятежа, более учитывавших
реалии послевоенного кризиса страны.
Тем не менее акцент на
«иностранном происхождении» Кронштадта, не
говоря уже о его исключительно
контрреволюционном характере, остался
доминирующим в учебниках и тех редких
публикациях о мятеже, которые
увидели свет в нашей стране. Разумеется,
никто не упоминал о «первоисточнике»
— Зиновьеве и Троцком.
Ничего не говорится об этОхМ
первоисточнике и таким обычно
словоохотливым, комментатором серии «150 лет
фотографии», как Ю. Гаврилов, в его
фотоподборке по Кронштадтскому мятежу
в № 37 журнала «Огонек» за 1989 г.
И делается это неспроста. Ведь тогда
пришлось бы признать, что именно
троцкистско-зиновьевская, или
«кронштадтская», модель образа врага из
своих соотечественников, объяснявшая
возникавшие в обществе социальные
антагонизмы и конфликты происками
реакции и их разрешение путем насилия,
превратилась в официальную. Она
затем широко использовалась
сталинизмом.
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Она хорошо известна. 1 марта в
Кронштадте на Якорной площади
собралось около 15 тысяч матросов и
рабочих. Повод — прибытие в город для
переговоров всероссийского старосты
М. Калинина. Его сопровождали
Кузьмин и Васильев.
Попеременно, но равно безуспешно
все трое держали перед собравшимися
речь. Убедить морякон в неуместности
80
их выступления^ и прекратить «бузу» им
не удалось. Большинством голосов по
текущему моменту собрание приняло
резолюцию о перевыборах
кронштадтского Совета с участием всех, в том числе
анархистов и левых небольшевистских
партий, то есть эсеров и меньшевиков.
2 марта в Доме просвещения
собрались делегаты от кораблей, воинских
частей и профсоюзов, по двое от каждой
организации, а всего около 300 человек.
Особую активность в собрании, как и в
событиях вообще, проявили
представители линейных кораблей
«Петропавловск» и «Севастополь». Они-то, бывшие
в 1917 г. вместе с командой линкора
«Республика» главной опорой
большевиков, и стали закоперщиками
случившегося потом.
Попервоначалу собрание было
настроено незлобиво. Как в старую
революционную пору, хотели на митинге, всем
миром, разобраться, что к чему, и
попытаться договориться с властями. Ни о
каком восстании речи не шло. Однако
власти повели себя крайне
неуступчиво, а точнее — неразумно, как в самом
Кронштадте, так и особенно в
Петрограде, куда моряки также направили
евоих гонцов. В Петросовете их даже на
порог не пустили, не то чтоб
поговорить с ними по-людски.
Как ко всему этому могла отнестись
наэлектризованная слухами о грозящем
голоде, холоде и прочих отнюдь не
беспочвенных страхах «полундра»? Ясное
дело как: «Долой!» А тут еще случай
помог. В разгар споров в клубы
махорочного дыма в помещение Дома
просвещения влетел как ошпаренный
морячок с истошным криком: «Идут!» Мол,
на Кронштадт для усмирения «толпы»
идут курсанты военного училища. Хотя
позднее выяснилось, что это ложь,
известие взорвало собрание. Тут же
учредили Временный революционный
комитет, который к вечеру 2 марта взял
власть на месте в свои руки.
В состав ВРК вошло 14 человек.
Председателем стал старший писарь с
линкора «Петропавловск» Степан
Петриченко. Молодой парень, лет 26—28,
украинец, уже не первый год
служивший на флоте, беспартийный. Он был
смышлен, расторопен, знал братву не по
слухам. Недавно побывал в отпуске на
родной Полтавщине. Естественно, ему в
отличие от официальной власти,
скрывавшей происходящее в стране и
Петрограде, было что рассказать морячкам.
На Украине, в центральных губерниях
России, в Сибири, Поволжье, на
Северном Кавказе, Кубани — почти
повсеместно начались крестьянские бунты
против опостылевшей всем
продразверстки, В конце 1920 г. армия батьки
Махно на Екатеринославщине составила
40—50 тысяч бойцов. Близка к этой
численности была армия Антонова в
Тамбовско-Воронежском районе. Только
в Ишимском уезде -(Западная Сибирь)
повстанческая армия насчитывала 60
тысяч. Как следовало из
информационного отчета Кубано-Черноморского губ-
ком* РКП (б), весной 1921 г. в
губернии формировались аналогичные
повстанческие армии. Действовавшая в По-
" волжье «первая армия правды» Сапож-
кова насчитывала 1800 штыков, 900
сабель, 10 пулеметов, 4 орудия3. Бурлил,
достигнув критической «красной
отметки», крестьянский котел России.
Чего хотели? Проще сказать, чего не
хотели. «Губернскими председателями
губисполкомов сидят молодые люди,
которым вино власти бросается в голову,—
говорил Зиновьев, — и которым нужно
выполнить «моментально», и они режут
нас без ножа».
Это «резание» приняло массовый
характер среди крестьян, как и в рабочих
кругах, росло убеждение в том, что
Советскую власть пропили. Не случайно,
по свидетельству американской
анархистки Эммы Гольдман, на одном из
митингов того времени в Петрограде
рабочий заявил: «Всего лишь три года
назад Ленина, Троцкого, Зиновьева, да
и всех вас называли изменниками и
немецкими шпионами. Мы, рабочие и
матросы, спасли вас от правительства
Керенского. Именно мы поставили вас у
власти. Вы забыли об этом? Теперь вы
идете на нас с мечом. Помните, вы
играете с огнем, когда, полностью забыв
прошлое, повторяете ошибки и
преступления Временного правительства.
Берегитесь, чтобы такая же судьба не
постигла и вас» 4.
За их лозунгом: «За Советы без
коммунистов!» скрывалось чувство
обманутой надежды на свободу. Это чувство
и стало доминирующим в Кронштадте.
ПРОГРАММА
О ней почти полное представление да.
ет резолюция, принятая на собрании
1-й и 2-й бригад линейных кораблей:
1. Немедленно сделать перевыборы
Советов тайным голосованием. 2. Свободу
слова и печати для анархистов и левых
социалистических партий. 3. Свободу
собраний, профессиональных союзов и
крестьянских объединений. 4. Собрать
не позднее 10 марта 1921 г.
беспартийную конференцию Петроградской
губернии. 5. Упразднить всякие политотделы.
6. Немедленно снять все
заградительные отряды. 7. Упразднить
коммунистические боевые отряды во всех
воинских частях. 8. Дать полное право
действия крестьянам над всею землею так,
как им желательно, и другие 5.
Не знаю, как кому, а мне эта
программа представляется не столько
антисоветской, сколько популистской.
Она преследовала вполне конкретную,
не политическую, а
антибюрократическую цель: устранить те
многочисленные перегибы в деятельности местных и
военных властей, которые за годы
гражданской войны накопились и мешали
8 Геллер Михаил. Некрич Алек-
с а н д р. Утопия у власти. История
Советского Союза с 1917 года до наших дней.—
Лондон. 1986.— С. 107.
4 Кларк Р. Ленин Человек без маски.—
Выпуск второй.— М.. 1989.— С. 225—226.
6 Кронштадтский мятеж. Из дневника
политработника.— М.» 1921.— С. 42—43.
6 «Морской сборник» Jsfe 3
81
теперь нормальной жизнедеятельности
гарнизона и населения города.
Кого-то, может быть, смущает
требование упразднить политотдел. Но я
хочу подчеркнуть, что оно качественно
отличалось даже от современной
трактовки этого требования: деполитизации
Вооруженных Сил страны. Моряки
желали одного — упразднения
политотдела, скомпрометировавшего себя
никудышной работой в массах, в лице его
начальника троцкиста Э. Батиса и его
сподвижников. Ими были командующий
Балтфлотом и тоже троцкист Ф.
Раскольников, его жена Лариса Рейснер и
ее отец, бывший приват-доцент,
писавший по проблемам русской
государственности, М. Рейснер.
Эти люди не вникали в вопросы,
которые волновали тех, чьей политической
подготовкой им было поручено
заниматься. Вместо жизненных вопросов они
чаще проводили с ними занятия по эро-
гике эпохи рококо. Они не хотели да
и не могли разъяснить людям, искренне
не понимавшим этого, почему они
должны были служить, согласно теориям
Троцкого, «навозом» для мировой
революции.
Чтобы стало понятнее, что я имею в
виду, скажу несколько слов об этой
Ларисе, тем более что сегодня кому-то уж
очень хочется зачислить ее имя в
святцы русской революции. Это та самая
Рейснер, которая послужила
прообразом комиссара в «Оптимистической
трагедии» Вс. Вишневского. Он
познакомился с ней летом 1918 года подСвияж-
ском, где она, сопровождаемая
мичманом Раскольниковым, блистала в роли
первой леди в компании Троцкого.
Можно утверждать достоверно: жили они
тогда без стеснения в комфорте и
удобствах.
Об этом она с юной
непосредственностью рассказала в том же 18-м году в
письмах к родным в Москву: «Милые,
пишу спешно, из сумасшедшего дома.
Живы ли Вы? Завтра шлю Вам денег
и муки. Радости, писать письма очень
трудно. Днем работаю в штабе, ночью
с Федей (Раскольниковым.— Н. В.)
делаем безумные набеги миноносцев на их
флотилию (Федя командовал по
поручению Троцкого Волжской флотилией.—
Н. В.). Перетопили 3 парохода, две
баржи под самым носом у их батарей.
Научилась ездить верхом — целые дни не
схожу с лошади (привычка осталась
надолго, голодной зимой 1920—1921 гг.
она ездила в сопровождении поэта
Блока по пустынным улицам Петрограда.—
Н. В.). А в свободные часы на
роскошной царской «Межени», где ванны,
души, обеды, чистое белье, и стрельба
звучит, как сквозь сон» 6.
Что и говорить, для кого-то война —
голод, холод, смерть, страдания. А
кому-то она чуть ли не в наслаждение:
топят пароходы и баржи, катаются на
лошадках, высылают захваченные
деньги и провиант родственничкам. Чем же
« Рейснер Л. Избранное.— М.. 1965.—
С 514.
не жизнь? И отчего таким не совершать
революции? Подумаешь, народ. Главное,
чтоб собственная идея торжествовала, а
вместе с ней и плоть.
Логика борьбы, нагнетаемой отказом
властей от решения конфликта мирными
средствами (2 марта Петроградский
комитет обороны получил приказ о
подавлении назревавшего мятежа, 3 марта
Петроград и губерния были объявлены
на осадном положении, 4-го во дворце
Урицкого при стечении сотен людей
Петросовет объявил о необходимости
беспощадного подавления бунта в
Кронштадте), обусловила дальнейшее
ужесточение моряками своих требований.
Появились фактически ставшие уже
традиционными для таких явлений
лозунги «Вся власть Советам, а не
партиям!», «Да здравствует Красный
Кронштадт с властью Свободных Советов!»,
«Долой коммунистов!» и другие. К ним
добавился призыв к независимости
профсоюзов. 9 марта в № 7 газеты
«Известия» Кронштадтского Совета,
начавшей выходить с 3-го числа, писали:
«Только тогда Советская
Социалистическая Республика может быть сильна,
когда управление ею будет принадлежать
трудящимся классам в лице
обновленных профсоюзов».
Итожа программные требования крон-
штадтцев, можно сказать, что они не
были данью каким-то там эсеровско
меньшевистским установкам. Связь
между ними была. Это несомненно. Но це-
ли свержения Советской власти не
выдвигалось. «Свободные Советы»
отражали в глазах кронштадтцев падение не
самой власти, а всего лишь ее
авторитета из-за тех ошибок и просчетов,
которые допускались ее высшими и
местными представителями.
КРОНШТАДТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Она просуществовала недолго: со
2 по 18 марта. 3 марта «Петропавловск»
напечатал воззвание Ревкома. В нем
объявлялось о переходе власти к
временному Ревкому, о проведении
свободных выборов в Советы, выведению
страны из состояния разрухи.
Воззвание призвало питерский
пролетариат поддержать восставший
Кронштадт. Для разъяснения целей и
программы восставших из Кронштадта в
Петроград, а также по стране
направили десятки агитаторов. Ревком не раз
обращался с аналогичными призывами
к мировому пролетариату и народам
мира.
К сожалению для кронштадцев,
пролетарский мир слабо реагировал на их
горячие призывы встать с ними в один
ряд. Пожалуй, лишь однажды в «Иззе-
стиях» за 5 марта поместили сообщение
под заголовком «Привет Кронштадтскому
гарнизону»; «Радиостанцией линкора
«Петропавловск» получено радио из
Ревеля на имя Временного
Революционного Комитета — «привет доблестному
82
гарнизону Революционного Кронштадта,
свергнувшему власть насильников»7.
Это сообщение тут же было
расценено в Петрограде и Москве как
доказательство связи кронштадтцев с внешней
контрреволюцией. Другим аргументом в
пользу «продажности» Ревкома власти
объявили назначение 2 марта
командующим внешней обороной крепости
бывшего царского генерала Козловского.
Во-первых, телеграммы, которые
выдавали бы «секретные связи» с
заграницей, вряд ли печатали бы в открытом
издании. Во-вторых. Козловский также,
как и десятки других бывших офицеров
старой армии, служил к тому времени
в Красной Армии. Поэтому его с таким
же успехом можно было зачислить в
разряд контрреволюционеров, как,
скажем, генерала Брусилова или
полковника С. Каменева, являвшегося в то
время Главковерхом.
Значит ли это, что в Кронштадте не
существовало вообще никакой угрозы со
стороны подлинно антисоветских,
контрреволюционных сил? Нет, конечно, сами
лидеры восставших прекрасно понимали,
что мятежом способны воспользоваться
именно такие силы. И они об этом
также не раз открыто писали.
Так, например, в № 4 «Известий» за
б марта в передовой статье говорилось:
«Один неосторожный поворот штурвала,
и корабль с самым драгоценным
грузом, грузом социального строительства,
может сесть на скалу. Зорко охраняйте,
товарищи, штурвальный мостик — к
нему уже подбираются враги. Одна
ваша оплошность, и они вырвут у вас
штурвал и Советский корабль может
пойти ко дну, под злорадный хохот
царских лакеев и прислужников
буржуазии». И затем: «Вы воодушевлены
горячим стремлением восстановить
подлинную власть Советов и благородной
надеждой предоставить рабочему
свободный труд, крестьянину право
распоряжаться на своей земле, а они
надеждой восстановления царской нагайки и
генеральских привилегий» 8.
За все годы гражданской войны ни
одна партия, состоявшая в услужении
контрреволюции, не могла
«похвалиться» такой беззастенчивой демагогией.
Скорее всего, автор этой передовицы
все-таки писал искренне. Он
действительно не желал восстановления
царизма. Но не хотел и превращения
Советской власти в вульгарную разновидность
«советского самодержавия». Что ж его
за это осуждать?
Не случайно, скажем, в ходе
развернувшихся 3 марта и продлившихся
несколько дней ожесточенных споров
среди мятежников — поднимать или нет
вооруженной рукой соседние форты на
совместную борьбу — подавляющее
большинство рядовых и лидеров
восставших вопреки настояниям
Козловского и других офицеров высказалось
против такого шага.
г Кронштадтский мятеж. Из дневника
Политработника.— М., 1921,— С. 63.
*Та м ж ©,— С. 48.
Даже 9 марта, когда противостояние
между восставшими и властями
усилилось, что, естественно, выдвинуло в
первые ряды военных специалистов, а ими,
как и во всей Красной Армии, были
бывшие офицеры старой армии,
восставшие по-прежнему были убеждены в
чистоте своих намерений. 9 марта за
подписью Ревкома «Пролетариату всего
мира» они отправили радиограмму:
«Перед лицом пролетариата всего мира
заявляем: никакие белогвардейские
генералы нами не руководят, никаких
переговоров с Финляндией, ни о военной, ни
о продовольственной поддержке не было
и не могло быть...» И тут же следовало
такое признание: «Но если бы наша
борьба затянулась, мы, может быть, и
будем вынуждены обратиться к
внешней помощи...» 9.
Все это, может быть, и так. Но как же
тогда объяснить факт преследования
коммунистов? Да примерно той же
горячкой, которая и сегодня во многом
объясняет выпады против КПСС.
А именно: до сих пор наиболее
заметными у населения были коммунисты. Они
возглавляли борьбу и несли главную
тяжесть ответственности за строительство
Советской власти. После мятежа
взваливание всей ответственности за
перемену на коммунистов стало наиболее
понятным и выгодным населению. Лидеры
мятежа не замедлили этим
воспользоваться.
Тогда в Кронштадте, как, впрочем, и
сегодня в стране, все политические
партии — эсеров, меньшевиков, анархистов
и прочих, среди которых всякие лица:
и убежденные противники большевиков,
и примазавшиеся к ним, и откровенно
жуликоватые (опять-таки так же, как и
в наши дни) — выступили под флагом
беспартийности. Потому что самым
популярным, пользующимся доверием у
масс лицом стал «честный беспартийный
гражданин».
Это не замедлило сказаться на
положении дел в кронштадтской партийной
организации. Так же, как и сегодня, в
ней нашлось немало «крыс», которые
предпочли покинуть, как им казалось,
давший течь корабль. Хотя были и
такие, кто остался непоколебим в своих
убеждениях. Например, комиссар
Кузьмин, будучи арестован и брошен в тюрь*
му, мужественно сносил угрозы и
издевательства.
Но важно подчеркнуть, что даже
после принятия 10 марта Ревкомом
решения об аресте всех коммунистов
преследовалась не РКП(б) как политическая
партия, а ее конкретные представители.
Слабое утешение? Возможно. Однако
здесь речь идет не о чьем-то душевном
и физическом комфорте. Этот факт при
всей условности результата
свидетельствовал, что восставшие не рассматривали
РКП(б) как чужеродный элемент
«обновляемой» ими «политической систе»
мы».
Да, в Кронштадтском мятеже, как во
всяком бунте, было чрезвычайно мало
конструктивного. На это порожденная
9 Т а м ж е,— С. 61.
83
им «республика» и не претендовала. Но
она с очевидностью показала
тогдашнему руководству масштабы бедствия и
степень недовольства населения
происходившим не только в мелком
городишке, но и во всей стране.
8 марта, комментируя на X съезде
РКП(б) происходившее, Ленин прямо
заявил: «...Советская власть в силу
экономического положения колеблется»10.
Позднее он выразился еще откровеннее:
«Экономика весны 1921 года
превратилась в политику: «Кронштадт» п.
Почему же тогда партийное
руководство и лично Ленин проглядели
Кронштадт, совершенно превратно
истолковали его следствия, приняв чрезвычайно
жестокие меры для его подавления? Не
были приучены, точнее, за годы
гражданской войны, «белого» и «красного»
террора отвыкли вглядываться в
события. Такое острое ленинское оружие,
как ясность социального видения,
точность анализа и умение предугадать
перспективу, за эти тяжкие времена
притупилось. Ввела в заблуждение и
первоначальная дезинформация Зиновьева,
под влиянием которой была дана такая
поверхностная оценка взявшему власть
в Кронштадте Ревкому.
ШТУРМ
Он происходил в два захода. Первый
7—8 марта и второй — 16—18 марта.
5 марта около 13 часов, как всегда,
спецпоездом в Петроград прибыл
Троцкий в сопровождении Главкома С.
Каменева, начальника штаба Лебедева и
командующего Западным фронтом
М. Тухачевского.
Через час после прибытия Троцким
было отдано последнее предупреждение
гарнизону и населению Кронштадта и
мятежных фортов. Воспроизведу его
дословно, оно стоит того: «Рабоче-Кресть-
янекое правительство постановило:
вернуть незамедлительно Кронштадт и
мятежные суда в распоряжение Советской
Республики.
Посему приказываю:
всем, поднявшим руки против
социалистического отечества, немедленно
сложить оружие. Упорствующих
обезоружить и передать в руки советских
властей. Арестованных комиссаров и
других представителей власти немедленно
освободить.
Только безусловно сдавшиеся могут
рассчитывать на милость (подчеркнуто
мною. — Н. В.) Советской Республики.
Одновременно мною отдается
распоряжение подготовить все для разгрома
мятежа и мятежников вооруженной
рукой.
Ответственность за бедствия, которые
при этом обрушатся на мирное
население, ляжет целиком на головы
белогвардейских мятежников.
Настоящее предупреждение является
последним.
10 Ленин В. И. Полное собрание
сочинений.— Т. 43.— С. 25.
» Т а м ж е.— С. 387.
5 марта 1921 г. 14 час. Петроград».
Военным, конечно, виднее, но мне
кажется, что в таком заранее вызывающем
отрицательный ответ, буквально
рубящем сплеча, не оставляющем другой
стороне никакого выбора тоне редко кто
из военачальников обращался даже к
вражеской армии. Не забудем
отметить — и это не дежурный
сентиментализм — перед армией Троцкого —
Тухачевского были свои, пусть и
«несознательные» представители той самой
военно-морской и трудящейся массы,
ради которой совершалась та самая
революция, в предательстве которой они
теперь обвинялись. Спрашивается, кто же
из восставших смог бы принять
требования Троцкого, не поступившись при этом
элементарным человеческим
достоинством?
Ультиматум отпечатали в виде
листовки и с помощью авиации доставили
в Кронштадт. Комментируя это
событие, «Правда» писала под весьма
выразительным заголовком: «В
Кронштадте — мертво» буквально следующее:
«Вчера около трех часов дня наши
аэропланы разбрасывали над Кронштадтом
опубликованное уже нами
воззвание-ультиматум за подписью тов. Троцкого.
Аэроплан летал на высоте 500 метров.
По донесению летчиков, в городе тихо:
на улицах народа нет».
В этом же номере, но под другим
заголовком «Наше командование»
читатели извещались о том, что «для созда-г
ния единства в управлении всеми
вооруженными силами, мобилизованными в
связи с Кронштадтским мятежом, все
части и отряды сведены в одну армию,
командование которой возложено на
т. Тухачевского. Армия названа номером
славной Питерской армии, доблестно
защищавшей красный Питер от банд
Юденича» (речь шла о 7-й армии. —
Н. В.). Вот такие перепады: «краса и
гордость революции», величал Троцкий
кронштадтских моряков в июне—июле
1917 г. и «банды Юденича» — в 1921 г.
Троцкий не зря привез с собой
представителей высшего командования
Красной Армии. Подготовка штурма
крепости велась по всем правилам военной
науки. 7 марта в 18 часов 45 минут
дислоцировавшиеся в Сестрорецке и на
Лисьем Носу артиллерийские части
открыли огонь по Кронштадту. В
средствах массовой информации при
комментировании штурма сразу же, тем более
впоследствии, всячески создавался миф
о бескровном характере операции, в
ходе которой якобы никто не погиб и
ничто не пострадало. Думается, что этот
миф следует отнести на счет
бессовестности тех, кто его создавал. Совсем по-
другому начало боевых действий
оценили кронштадтские «Известия». 8 марта
они сообщали: «Стоя по колени в крови
рабочих, маршал Троцкий первым
открыл огонь по революционному
Кронштадту, восставшему против
самодержавия коммунистов, чтобы восстановить
настоящую власть Советов». Конечно,
нельзя не сделать скидку на излишнюю
взволнованность тона газеты, тем неме-
84
. £ <.>
18 марта 1921 г.: команда линкора «Севастополь» прекратила сопротивление
нее ее информация представляется
более близкой к действительности.
8 марта в дело были брошены
красноармейские части численностью в
25 тысяч человек. Закутанные белыми
простынями, они наступали по
открытому ледяному полю, без всякого
прикрытия. Опять-таки сказалась торопливость
Троцкого, непременно желавшего
предстать на X съезде победителем. Однако
штурм провалился. Восставшие отбили
наступление, заставив красноармейцев
понести немалые потери. К тому же
многие из наступавших перешли на
сторону мятежников. И это при том, что
основной контингент шедших на приступ
крепости состоял из воспитанников
школы красных курсантов. Этот факт
говорит о невысоком боевом духе армии.
Его пришлось поднимать тем, что в
боевые действия ввели делегатов X съезда
(около 300) и свежие подкрепления.
Численность штурмовавших увеличили
вдвое, до 50 тысяч человек.
16 марта новым артиллерийским
обстрелом Кронштадта начался его второй
штурм. Утром 17 марта пало несколько
мятежных фортов. 18 марта в 8 часов
утра, как сообщалось в «Правде»,
«Петропавловск» и «Севастополь», которые
вели обстрел наступавших, сдались.
В 11 часов утра Ревком мятежников и
генерал Козловский бежали из
Кронштадта. В 12 часов дня были
освобождены арестованные мятежниками
коммунисты. «Уличный бой в Кронштадте
продолжался несколько часов. К 4
часам дня весь Кронштадт был в наших
руках, за исключением района,
прилегающего к гавани, где стоял
«Петропавловск». Комендантом крепости
назначили П. Дыбенко.
С началом второго этапа штурма
Кронштадта Троцким было дано
интервью представителям иностранной
печати «О событиях в Кронштадте». В нем
он к тезису о происках внешней
контрреволюции добавил несколько новых
идей, в частности об изменении качества
личного состава крепости, появлении
среди моряков лиц враждебно
настроенных к Советской власти, что при пас^
сивности гарнизона и населения
облегчило «одурманивание» основной массы
восставших. Относительно того, какой
ценой достигается результат, Троцкий
заметил: «Если ликвидация
кронштадтского мятежа несколько затянулась, то
это объясняется тем, что при
проводимых нами мерах нам приходилось и
приходится не только оберегать от
излишних жертв наши части, но и
всячески щадить мирное население и не
участвующий в мятеже гарнизон
Кронштадта. Наши потери от кронштадтской
артиллерии до настоящего момента
совершенно ничтожны».
И здесь Троцкий был неискренен. Из
разных источников следует, что потери
правительственных войск составили'
700 человек убитыми и 2500 ранеными.
Мятежники потеряли 600 человек
убитыми, около 1000 ранеными и в плен
было взято 2500 человек. Большая
группа матросов (примерно 6—8 тысяч) во
главе с Петриченко ушла в Финляндию.
Там они находились в лагерях.
Впоследствии многие вернулись на Родину.
Относительно судьбы Петриченко
существует две версии. По одной он якобы сам
85
Следственная комиссия допрашивает пленных матросов
в 1929 г. вернулся в СССР. По
другой — в 1945 г. финские власти
выдали его советским. Но согласно обеим —
свою жизнь он закончил в заключении.
ВТОРОЙ ОРДЕН ТРОЦКОГО
В проведенном интервью Троцкого
есть положение, о котором нельзя йё
сказать. Вот оно: «До тех пор, пока JPoc-
сия окружена буржуазными странами,
в которых имеются могущественные
клики, не останавливающиеся ни перед чем
Для нанесения ударов рабочей
республике, — события, подобные крбнштадтеко-
му мятежу, совершенно неизбежны й
повторятся, вероятно, не раз и в
будущем».
На первый взгляд это положение
перекликается с мыслью Ленина,
высказанной им в речи на открытии X
съезда партии, о необходимости крепить
бдительность перед лицом многочисленных
внешних и внутренних врагов, которые
в любой момент готовы воспользоваться
слабостью РКП(б), чтобы отстранить ее
от власти. Но именно на первый взгляд.
Потому что Ленин, в отличие от ТрйЦ-
tfofo, все-таки не выводил прямой
зависимости антикоммунистических вЫ-
Сгуплений от наличия антисоветского
окружения. Казалось бы, мелочь, но
такая, от которой во многом зависела суЩ-
йостная оценка и самого Кронштадта, и
возможных негативных последствий
Кронштадтского мятежа для будущего
развития страны.
3 апреля в Петрограде на Дворцовой
площади Троцкий принимал парад в
честь героев Кронштадта. Его
самолюбие было удовлетворено: в числе более
чем 300 красноармейцев он был
награжден орденом Красного Знамени. Для
Троцкого это был второй орден —
случай по тем временам не столь уж и
частый. Слаб был на почести председатель
Реввоенсовета. Любил награждать,
одаривать всякими ценными и бесценными
подарками особо отличившихся, но й
Сам радовался как ребенок, когда
удостаивался аналогичного внимания.
Отсюда, наверное, и те несуразно
помпезные слова, которыми Троцкий
приветствовал участников парада:
«Небывалым героизмом, неслыханным в
военной истории подвигом (1) наши
курсанты и вдохновляемые ими
красноармейские части взяли штурмом
первоклассную морскую крепость. Вез
единого выстрела (!), по льду двигались,
погибали, побеждали и победили верные
революции сыны рабоче-крестьянской
России. Их не забудут трудящиеся
России и всего мира. Я верю, что никогда
никаких пятнышек не падет на это
знамя. И в часы трудные, когда мелькнет
в душе усталое сомнение, вы вспомните
Кронштадт и это знамя и бодро
пойдете вперед к победе».
Как видим, об этом сегодня не очень-
то вспоминают. А если и вспоминают, то
невольно задумываются — зачем? Ведь
геройство проявляли против своих и
Подвиги совершали в борьбе против таких
же матросов и солдат» как те, что тогда,
в далеком 21-м, слушали витийства
«пламенного трибуна революции». Кто-то
может подумать: времена меняются,
меняемся и мы вместе с ними. Нет. Не
годится здесь подобное оправдание. Не
оправдывать, а помнить, чтобы не
повторять, — такой подход, как мне
думается, более приемлем при оценках
братоубийственной гражданской войны.
86
Артурская эскадра под командой С, 0.
Макарова.— Роковой день 31 марта.— «Голова
пропала!»
П МАРТА «заслышали» японцев.
' С вечера миноносцы ходили в
море, но ничего не видели.
В тихую и ясную, хотя безлунную
ночь с 8 на 9 марта крепостные
прожекторы не раз что-то «нащупывали»
во тьме. Й первом часу ночи и около
4 ч утра батареи открывали огонь» но
не слишком оживленный. С моря им не
отвечали. В 5 ч 45 мин утра был
общий сигнал — «Развести пары во всех
котлах».
Около 7 ч утра, как только
позволила прибыль воды, эскадра начала
выходить из бассейнов. Легкие, т. е.
относительно мелкосидящие крейсера, —
впереди. Первым, конечно, «Новик» и с
ним миноносцы (эти — вне всякой
очереди, «по способности»), затем
остальные, начиная с ближайших к выходу. В
в ч 25 Мин, когда вышли мы («Диана»),
на внешнем рейде уже крейсеровали
«Аскольд» и «Баян».
Прямо на юге, очень далеко, милях в
10—12, чуть обрисовывались над
горизонтом трубы и мачты японцев. Можно
было, однако же, разобрать, что это
броненосцы и броненосные крейсера, двумя
отрядами приближавшиеся к
Порт-Артуру. На юго-востоке, много ближе,
виднелись «собачки». Впереди и около них
суетились отряды миноносцев. В
8 ч 45 мин броненосцы, приблизившись
миль на восемь, повернули на запад.
— Пошли за Лаотешань «бросать из-
Далека тяжелые предметы»6, —
смеялись на «Диане». — Не нарваться бы!
Кое-что уж ими приготовлено!..
Погода стояла великолепная. Ясное
нёбо; температура +2 1/2° R; ни волны,
ни зыби; чуть тянул слабый ветерок
от SW.
К 9 ч утра вся неприятельская эс-
каДра скрылась за горой Лаотешань.
Против входа остался только один
броненосный крейсер, очевидно, для
наблюдения за падением снарядов.
й Йосле бомбардировки 26 февраля по
эскадре распространился и пользовался
большим успехом экспромт, сказанный
одним из офицеров:
Не Ьнучно ль это? —
Сидеть И ждать,
Когда в тебя начнут бросать
Издалека тяжелые предметы...
Вл. Семенов. РАСПЛАТА.
Часть 1. Порт-Артур. Продолжение.
Главы I—IV см. в «Морском сборнике» №№ 1,
2 за 1991 г.
В 9 ч 35 мин броненосцы, как и
прошлый раз, начали свои рейсы к югу от
Лаотешаня, в определенном пункте
разряжая 12-дюймовки по Артуру. Надо
думать, они немало удивились,
убедившись, что этому занятию уже нельзя
предаваться безнаказанно. Им
отвечали. Стреляли из бассейнов «Ретвизан»,
«Пересвет» и «Победа». Наши имели
даже некоторое преимущество, потому
что японцы стреляли на ходу, по
площади» а у нас броненосцы стояли на
строго определенном месте и вели
перекидную стрельбу, как сухопутная
батарея, руководствуясь беспрерывными
указаниями с наблюдательных пунктов.
Около того же времени броненосные
крейсера неприятеля демонстративно
прошлись в виду нас, словно, вызывая
на бой, но мы, конечно, этого вызова не
приняли.
В 10 ч вышел на рейд
«Петропавловск» под флагом командующего
флотом. Заметив, что эскадра покидает
бомбардируемые бассейны, японцы
сосредоточили огонь на проходе. Снаряды
ложились очень хорошо. В 10 ч 20 мин
лихо, полным ходом, вышла «Полтава».
Два раза у самого ее борта
вздымались столбы брызг, дыма и осколков,
но, по счастью, не задело. В 10 ч
40 мин с Золотой Горы донеслись
раскаты «Ура!» — Семафором сообщали,
что, кажется, кому-то из японцев
попало 7. Это им, по-видимому, не
понравилось, и они, прекратив бомбардировку,
вышли из-за Лаотешаня, благоразумно
маневрируя вне обстрела крепостных
орудий.
Около 11 ч броненосные крейсера
неприятеля, явно задирая, подошли к
нам на дистанцию 57 кабельтовов. Их
было пять, а с нашей стороны — 2
броненосца, 1 броненосный крейсер и 2
легких» не считая «Новика» и
миноносцев. Адмирал повернул на них,
собираясь (или делая вид, что собирается)
отрезать их от главных сил.
В 11 ч 3 мин заговорили башни
«Петропавловска». Крейсера, даже не
пробуя отстреливаться, полным ходом
пошли на юг, к своим броненосцам, но те
вовсе не спешили к ним на помощь,
явно не желая входить в сферу огня
береговых батарей. Кстати, на подмогу
вышли «Севастополь», «Пересвет» и
«Победа». (Два последних были самые глубо-
7 Как выяснилось впоследствии,
броненосец <Фудзи» получил 12-дюймовый снаряд
в носовую башню,
87
косидящие и могли выходить только
близ момента полной воды).
Бомбардировка прекратилась;
неприятель решительно не желал подходить к
крепости, а потому в 11 ч 20 мин с
«Петропавловска» был сделан сигнал:
«Стоп машина. Команда имеет время
обедать».
— Наскочили с ковшем на брагу! —
С «Бородой» не очень-то
разгуляешься! — Не то, что раньше! — слышались
бодрые, веселые восклицания среди
матросов, подходивших к чарке...
Вечерняя полная вода приходилась
уже в темноте, а потому, ввиду явного
отступления неприятеля, адмирал
торопился теперь же ввести эскадру в
гавань. Около 12 ч 30 мин приказано
было войти «Пересвету» и «Победе». В то
же время, чтобы прикрыть этот маневр,
в котором, за дальностью, японцы не
могли быть уверены, остальные суда
смело пошли прямо на них; они же,
вероятно, полагая, что мы решились
принять поединок, стали уходить на юг,
как бы заманивая нас в открытое море.
С полчаса продолжалось это
преследование, а затем мы повернули обратно.
Первыми, пока еще не спала вода,
вошли «Севастополь», «Петропавловск» и
«Полтава», а затем — крейсера. В
3 ч дня мы уже стояли на своем месте,
в западном бассейне.
Это был своего рода tour de force: за
зремя одной полной воды эскадра не
только почти вся вышла в море, но
сделав кое-что, успела и войти снова в
гавань. Давно ли на один выход ее
требовалось две полных воды, т. е. почти
сутки!..
Среди личного состава господствовало
такое настроение, словно одержали
победу. Да и в самом деле: не была ли
это победа смелого духа, если не над
японцами, то над собственной
растерянностью и нерешительностью?..
В ночь на 11 марта временами
«слышали» телеграф японцев.
Предполагалось с рассветом послать крейсера на
разведку. У нас уже радовались и
мечтали, не посчастливится ли сцепиться с
какой-нибудь «собачкой», но в 4 ч утра
нашел туман, как молоко. На кабельтов
расстояния ничего не было видно.
Приходилось отложить всякую надежду на
какие бы то ни было активные действия.
К полудню несколько разъяснело, а
потом опять все заволокло. Зато 12 марта
выдался настоящий весенний день. В
тени +11° R.
В порту и на эскадре шла кипучая
деятельность. «Цесаревичу» наконец
приладили кессон и собирались
переводить его в Восточный бассейн, ближе к
мастерским. На «Ретвизане» благодаря
энергичной работе опытных водолазов
удалось временно пластырями заделать
и саму пробоину, и ее ответвления.
Вода была откачана, и он всплыл.
13 марта с утренней полной водой,
почти с рассветом, адмирал вывел всю
эскадру в море с целью.... (печальная
необходимость!) учить ее
маневрированию.^ Пошли на юг, несколько
склоняясь к западу и проделывая (довольно
плохо) различные эволюции. Порой
досадно было смотреть.
— Аргонавты!.. — ворчал старший
штурман...
В половине девятого увидели какие-
то суда, шедшие нам на пересечку
курсом на северо-запад, и вскоре опознали
в них 3 коммерческих парохода:
несколько отставши, шел четвертый. По
сигналу командующего «Аскольд» их
остановил и осмотрел. Оказалось —
почти порожние англичане, шедшие за
грузом в Ньючванг. Ничего
подозрительного. Отпустили с миром.
За время нашего «практического»
плавания «Амур» ходил ставить мины
куда-то по направлению к Талиенвану,
кажется, в бухту Меланхэ.
В ночь с 13 на 14 марта японцы
повторили свою попытку — запереть
вход в Порт-Артур. Началось в 2 ч
20 мин пополуночи. Та же картина, что
и прошлый раз, с тою лишь разницей,
что теперь никто не сомневался в
истинных намерениях приближающихся
пароходов, и сразу же огонь открылся
по всей линии. Правда, «Ретвизана» уже
не было на старом месте, но зато в
проходе стояли «Бобр» и «Гиляк», а из-
под Золотой Горы стреляла батарея
120-мм пушек, снятых с «Ангары».
Два заградителя выбросились на
берег под этой самой батареей. По пути
на эту пару произвел лихую атаку
сторожевой миноносец «Сильный»,
который, не обращая внимания на
сыпавшиеся градом наши же снаряды, почти в
упор выпустил свои мины. Хорошо, но
несчастливо, т. е. не причинив
пароходам таких повреждений, чтобы они
немедленно затонули, у одного из них,
например, был снесен взрывом почти весь
форштевень, а носовая переборка как-то
уцелела, и он продолжал идти вперед.
Другая пара заградителей шла
несколько левее. Один затонул, не доходя
маяка, а второй выскочил на берег как раз
на том месте, где так недавно стоял на
мели «Ретвизан».
Рассказывали, что было еще
несколько, что часть погибла на минах, часть
была утоплена артиллерийским огнем,
а остальные не выдержали и ушли в
море. Но к таким известиям надо было
относиться с осторожностью. В ночных
делах удивительно как много топят
неприятельских судов! И эта слабость —
общая. Вовсе не хвастают, а глубоко
убеждены, готовы идти хоть под
присягу...
С рассветом появилась на горизонте
японская эскадра, а в 6 ч 30 мин утра
«собачки» набрались такой
самоуверенности, что подошли довольно близко.
Стоило, однако, береговым батареям
хорошенько огрызнуться, чтобы они
немедленно удалились на приличную
дистанцию. В это время эскадра выходила
на рейд. Японцы могли на деле
убедиться, что вторая их попытка оказалась
такой же неудачной, как и первая.
Около 8 ч утра в боевом порядке
(«Петропавловск» — головным) мы уже
88
крейсировали по дуге от горы Белого
Волка к Крестовой горе, как бы
приглашая неприятеля подойти поближе, но
это, видимо, не входило в его расчеты.
Броненосцы и броненосные крейсера,
сопровождаемые «собачками» и
миноносцами, помаячив на горизонте до 9 7г ч
утра, скрылись на юго-восток. Не
пробовали ни вступить в бой, ни начать
бомбардировку. В ожидании их
возвращения стали на якорь, а после 2 ч дня
мирно вошли в бассейны.
В предупреждение новых попыток
заградить вход на внешнем рейде было
устроено два ряда бонов. Такие боны
или по крайней мере материалы для них,
конечно, должны были бы заготовляться
еще в мирное время. Теперь, ввиду
невозможности быстро подвезти все
необходимое, пришлось пользоваться тем,
что оказалось под руками, сделать хоть
что-нибудь, утешаясь слабой надеждой,
что в будущем, с улучшением
обстановки на театре военных действий, удастся
придать сооружению должную
солидность. Испытания, производившиеся под
непосредственным руководством самого
адмирала, дали не слишком блестящие
результаты. Небольшие пароходы (1000
—1500 т) с прямым, т. е.
перпендикулярным к поверхности воды,
форштевнем задерживались бонами; со
скошенным, наклонным вперед форштевнем —
перелезали через них, хотя и с трудом:
когда же пустили «Ангару» (11000 тонн
и форштевень скошенный), то она,
словно не заметив бонов, которые подмяла
под себя, с застопоренными машинами,
силой одной инерции дошла до самого
входа... Выяснилось, что, не пожалей
японцы 2—3 пароходов вроде нее, и они
могут запереть эскадру. Приходилось
изыскивать другие, более радикальные
средства.
Наибольшую опасность представляли
заградители, удачно — случайно или
намеренно — шедшие курсом, который
прямо, без всяких поворотов, вел их в
гавань. Даже подбитые, лишенные
возможности управляться и работать
машиной, они все же могли достигнуть
цели, как это показал пример «Ангары».
Опасность была серьезная, а потому, по
указанию адмирала, поперек этого
критического курса, к западу от
центральной линии (входной створ), под берегом
Тигрового полуострова были затоплены
пароходы Восточно-Китайской железной
дороги «Хайлар» и «Харбин», а к
востоку от нее, уступом, ближе ко входу —-
«Шилка». Таким образом на подходе по
створу надо было сначала держать
правее, потом свернуть влево, опять взять
вправо и только после этого ложиться
на обычный входной курс. Маневр —
ночью, в лучах прожекторов, под огнем
батарей и охранных судов — по
меньшей мере весьма затруднительный.
Кроме того, из-под Золотой Горы выступал
вновь образовавшийся риф —
затонувшие брандеры.
Оборона входа при посредстве
крейсеров и канонерок была усилена до
наивозможного предела. Брандер,
затонувший на отмели Маячной горы, почти на
том месте, куда 26 января выбросился
«Ретвизан», был утилизирован, как
подводный (а частью и надводный)
бруствер, за которым, вплотную к нему
ошвартовавшись, расположился «Гиляк».
Вместе с новыми прибрежными
батареями (из пушек «Ангары»),
находившимися от него вправо и влево, получалась
первая линия обороны; дальше, на
бочках, по правую и по левую стороны
пролива стояли канонерки — это вторая
линия; наконец, в глубине, имея под
своим огнем весь проход, «Аскольд» и
«Баян» — третья линия.
Для безопасности этих охранных
судов спешно сооружался «сетевой бон»,
т. е. бон с подвязанными к нему
железными сетями, который, будучи заведен
поперек узкого и мелководного входа,
представлял собою как бы занавес (от
поверхности воды и почти до дна),
непроницаемый для мин, выпущенных с
внешнего рейда.
Получались известия, что, потерпев
неудачу с брандерами старого образца,
японцы собираются зажечь самое море,
а именно: в разгар приливного течения
подвести ко входу, зажечь и взорвать
пароходы, налитые керосином, бензином
и т. п. снадобьями, горящими на
поверхности воды. Опять-таки^ были
произведены опыты, и оказалось, что в случае
такой затеи эскадре грозит немалая
опасность, .особенно если во время
прилива будет дуть хотя слабый южный
ветер. Немедленно же явились
изобретатели, предложившие проекты
несгораемых бонов, преграждающих течение
такой огненной реки (надо было
задержать только поверхностный слой).
Проекты рассматривались без замедления и
к осуществлению тех, которые
признавались наилучшими, приступали тотчас
же. Адмирал твердо держался своего
правила: «Не ошибается только тот, кто
ничего не делает. Лучше десять раз
начать сызнова, признав свою ошибку,
чем за все это время ничего не делать
и сидеть сложа руки в раздумье: как
бы сделать превосходнее? Le mieux c'esi
l'ennemie du blenl»
Между прочим была принята и такая
мера: суда, стоявшие в проходе для его
охраны, все были повернуты кормой в
море, держась с кормы надежными
швартовами за бочки на мертвых
якорях. В случае появления огненной реки
они должны были давать машинам
самый полный ход вперед, вследствие чего,
несомненно, получилось бы могучее
поверхностное течение в обратном
направлении. Было ли бы оно в состоянии
побороть силу приливного течения по
поверхности или нет? — It was the
question... Это можно было бы решить
только на деле, но, по мнению
адмирала, нельзя было пренебрегать никакой
мелочью, никаким самым слабым
шансом, раз являлась надежда, что он
может послужить нам на пользу.
Приступили к исправлению
броненосцев. Инженеры обещали к половине мая
«Цесаревича», а к июню «Ретвизана»
отделать заново. Даже пробитый негод-
89
ный кессон «Ретвизана» утилизировали,
починили, подрезали, подправили и
приспособили к «Севастополю», чтобы
исправить повреждения, полученные им
27 февраля при столкновении...
Почти ежедневно миноносцы на ночь
высылались в море не столько для
розысков неприятеля, который словно в
воду канул, как для практики, для
обучения их тому, чему давно следовало
Оы их выучить, готовясь к войне,..
Важно было то, что никто не сидел
сложа руки. Хорошее было время!...
Новый командующий обо всем
успевал вспомнить, обо всем подумать. Так,
между прочим были отменены все
церемонии. Не только при проезде
начальства мимо корабля, но даже и при
посещениях, работы не прекращались.
— Я не для парада приехал, а
посмотреть на дело в полном ходу. Вот,
Бог даст, кончится война, тогда
начнется настоящая служба, согласно
артикулу, а теперь не до того!.. — полушутя,
полусерьезно говорил адмирал.
Форма одежды была также упрощена
до крайних пределов. Универсальным
костюмом признавалась тужурка.
Правда, приказано было всегда быть, на
всякий случай, при оружии, но выбор его
вне строя предоставлялся собственному
усмотрению в зависимости от
обстоятельств — сабля, кортик, даже
винтовка, а лучше всего — хороший
револьвер, и не в кобуре на поясе, а просто в
кармане.
21 марта разыгрался
трагикомический эпизод. Среди бела дня, при
великолепной погоде, появился на горизонте
коммерческий пароход (без флага),
смело шедший прямо в Артур. Все только
радовались. Казалось очевидным, что он
везет нам какие-то припасы. Пароход,
подойдя к границе района действия
крепостных орудий, остановился, но затем,
вместо того чтобы, как полагалось,
подать условные сигналы, вступить в
переговоры с Золотой Горой, круто
повернул и пошел в море.., подняв японский
флаг! Раньше, чем дежурный крейсер
успел выйти из гавани и броситься за
ним в погоню, от него на горизонте
ретался только легкий дымок...
Эскадра была так настроена, что этот
случай «великолепного нахальства», ос-
тавшегоея безнаказанным, возбудил
только общее веселье и дал повод к
целому граду добродушных острот по
адресу «Бороды». Должно быть, также
почтительно-фамильярно пересмеивались
между собою солдаты старой гвардии
Наполеона, когда ему случалось не
попасть ногой в стремя.
— Говорят, «Дедушка» прямо
озверел! — Действительно — промазал! —
Это ли не обида? — Все предвидел,
везде задал ходу, всех расшевелил, и вдруг
— под самым носом!.. — И на старуху
бывает проруха!.. — зубоскалила
толпа, всегда счастливая, если ей удастся
подметить промах ее идола...
Приказано было впредь дежурному
крейсеру с рассвета и до наступления
темноты оставаться на внешнем рейде в
полной готовности дать ход. Конечно,
самое простое решение вопроса было —
держать дежурный крейсер на внешнем
рейде и день и ночь, производя смену
в зависимости от высоты воды, но, с
другой стороны, это значило бы
еженощно подставлять один из своих
крейсеров под атаки неприятельских
миноносцев. А крейсеров было не так
много...
Адмирал разрешил эту дилемму весь-
ми удачно. В промежутке между «Шил-
кой» и затонувшими японскими
брандерами, которые, как я уже говорил,
образовали собою риф, выступающий из-
под Золотой Горы, он затопил еще
пароход «Эдуард Барри». Получилось нечто
вроде мола, за которым на мертвых
якорях были поставлены бочки. К этим
бочкам носом и кормой швартовался
дежурный крейсер. Здесь, в значительной
степени огражденный от мин подводным
бруствером, он стоял, не ворочаясь, вне
зависимости от ветра и переменного при-
ливоотливного течения, бортом в море и
носом к единственному выходу из-за
нового мола, всегда готовый, смотря по
обстоятельствам, либо встретить
наступающего врага всей силой огня своей
артиллерии, либо, отдав швартовы,
преследовать его при отступлении. Это
было отлично придумано... Казалось бы
так просто, так естественно, а ведь вот
никому до сих пор не пришло в
голову!..
24 марта с Золотой Горы донесли о
появлении на горизонте «собачек». В
дежурстве на внешнем рейде держался
«Баян». Всем остальным крейсерам
приказано было развести пары, но выход не
состоялся. «Собачки» только показались
и сейчас же ушли. Погода портилась. 25
марта почти круглые сутки шел дождь,
а 26-го надвинулся густой туман.
Неприятеля не было ни видно, ни слышно.
27 марта в дежурстве была «Диана».
Весь день пробродили близ Артура,
высматривали, слушали.... — ничего!
28 марта погода окончательно
исправилась, и на 29-е был назначен выход в
море всей эскадры для крейсерства ц„.
обучения маневрированию.
Выход начался в 6 ч 30 мин утра, а
к 8 V» ч все уже были на рейде — 5
броненосцев, 4 крейсера и миноносцы. В
походном порядке, производя эволюции,
пошли в сторону Талиенвана. Чуть
тянул восточный ветерок. Небо — ясно.
Горизонт — чист; и, благодаря
прозрачности воздуха, видимость огромная.
Крейсера шли дозором. Напрасно,
однако, с наблюдательных постов,
устроенных под самым клотиком мачт (тоже по
недавнему распоряжению адмирала)
наблюдали окрестность самые опытные,
отличающиеся «морским глазом»
сигнальщики; напрасно минеры, не
отрывая уха от телефонной трубки, слуша*
ли, не начнет ли потрескивать
беспроволочный телеграф, — море было
совершенно пустынно. Очевидно, заслышав
про выходы эскадры, никто не находил
особого интереса прокладывать свой
курс поблизости от П.-Артура. Дойдя до
Талиенвана, описав затем круг к югу, в
4-м часу возвратились домой,
90
30 марта снова было наше дежурст-.
во. Около 10 ч вечера прибыл на
крейсер адмирал Макаров со своим штабом.
Если не считать мимолетного, даже
малодостоверного появления «собачек»
24 марта, прошло уже две недели,
как неприятель не проявлял никаких
признаков деятельности.
Это не могло не казаться
подозрительным, и в ночь с 30 на 31 марта
все исправные миноносцы были
высланы отрядом в дальнюю экспедицию —
осмотреть группу островов Эллиот,
находившуюся от Артура в расстоянии
60—70 миль, которую японцы, всего
вероятнее, могли избрать своей
временной базой. Согласно теоретическому
расчету, для выполнения задачи ночного,
темного времени было вполне
достаточно, но на всякий случай, если бы
пришлось запоздать и возвращаться уже
при свете дня, миноносцам было
обещано, что для прикрытия их с рассветом
выйдет в море им навстречу «Аскольд».
Последний был избран адмиралом во
избежание каких-либо недоразумений:
пять труб (единственные на всем
Востоке) лучше всякого сигнала давали
возможность опознать его хотя бы в
сумерках и даже ночью. Погода
разненастилась. Не то — мелкий дождь, не то —
изморось.
Только что адмирал успел обойти
батареи, бросив тут и там несколько лас»
ковых, пустых, но в боевой обстановку
так много значащих фраз команде,
застывшей на своих постах, — как «что-
то увидели»... Трудно сказать, что имен,
но, но несомненно в лучах прожектора
Крестовой горы обрисовывались силу»
ты каких-то судов... Направление было
от нас на SO 60°, а приближенное рао
стояние (принимая во внимание, что на*
иди прожекторы до них «не хватали», и
соображаясь с расстоянием до
Крестовой горы и направлением ее луча) око*
ло двух миль...
Особенно мешала разобрать, в чем
дело, сетка мелкого дождя, ярко
освещенная прожекторами... Казалось, что
подозрительные силуэты не то стоят
неподвижно, не то бродят взад и вперед
по одному и тому же месту.... Было
10 ч 20 мин вечера.
— Прикажете открыть огонь? —
спросил командир..,
— Эх!.. Кабы знать1 — досадливо
махнул рукой адмирал... — Вернее
всего — наши же!.. Не умеют ходить по
ночам!.. Отбились, растерялись... и
теперь толкутся около Артура! И своих
найти не могут, и вернуться не
решаются, чтобы за японцев не приняли!..
Чистое горе!.. — Но тотчас же, поборов
свою досаду, он добавил спокойным,
уверенным тоном: — Прикажите точно
записать румб и расстояние. На всякий
случай, если не наши, надо будет
завтра же с утра протралить это место. Не
набросали бы какой дряни...
Видение только мелькнуло и быстро
скрылось за сеткой дождя. В 10 ч
50 мин вечера к югу от нас,
приблизительно у горы Белого волка, раздалось
несколько пушечных выстрелов не то с
берега, не то с пары миноносцев,
охранявших южный бон.
Остальная часть ночи прошла
спокойно. Ничего не видели, да вряд ли и
могли бы что-нибудь видеть из-за ненастья.
В 4 ч 15 мин утра, чуть забрезжил
свет, адмирал со штабом уехал на
«Петропавловск». В то же время с востока
показался целый ряд дымков, — это
возвращались наши миноносцы после
удачно выполненной, но безуспешной
экспедиции, никого не найдя на рейдах
островов Эллиот, Возвращались, но, к
сожалению, не в полном составе.
Опасения адмирала оказались вполне
справедливыми — часть «отбилась и
растерялась»... Неожиданно в направлении
на юго-восток в дымке ненастного утра
(было уже 5 ч 25 мин утра)
замелькали огоньки; донеслись оттуда раскаты
выстрелов... Опознать сражающихся за
дальностью не было возможности...
Однако ясно было, что дерутся какие-то
мелкие суда, вероятно, миноносцы...
Конечно, мы («Диана») скорее всех могли
бы поспеть на выручку, но, оказывается,
адмирал, обещавший выслать крейсер,
непохожий ни на один из японских, не
хотел посылать «Дианы», так как ее
могли бы легко принять за «Ивате».,.
«Аскольд» почему-то не мог выйти
немедленно, а потому выслали «Баяна»,
(четырехтрубцьдй), подобного которому у
японцев тоже не было. На все эти
перемены и распоряжения ушло немало
драгоценного времени. Когда «Баян»
прошел в море, мы, думая, что про нас
просто забыли, не ожидая сигнала,
начали отдавать швартовы, чтобы идти за
ним. но, конечно, сильно опоздали. Он
был уже далеко впереди, когда мы
только еще выходили на свободную воду.
Как выяснилось впоследствии, наш
миноносец «Страшный» ночью,
отбившись от своих, в розысках за ними
встретил отряд японских миноносцев и
примкнул к ним. Японцы тоже не
заподозрили в нем неприятеля, и они
совместно бродили в окрестностях Артура
вплоть до рассвета. Тут недоразумение
обнаружилось, и завязался отчаянный
бой одного против шести. Бой грудь с
грудью, почти врукопашную...
Как ни спешил «Баян» на выручку
«одного из малых сил», он мог
только разогнать врагов, кружившихся
около места, где уже затонул «Страшный».
Японские миноносцы бежали на юг.
Поддерживаемые спасательными
поясами, цепляясь за всплывшие деревянные
обломки, остатки геройского экипажа
радостно приветствовали «свой»
крейсер... Но на смену бежавшим
миноносцам с юга полным ходом приближались
«собачки»...
Правда (скажут скептики),
броненосный крейсер — против четырех
легких... Однако (скажу я) четыре —
против одного...
«Баян», или его командир (корабль и
капитан — одно) ни мгновения не
колебался. Прикрыв, как стеной, своим
высоким бортом плавающие обломки, за
которые хватались утопающие, он
спустил шлюпки для их спасения, а сам,
91
стоя на месте, принял бой... Мы в то
время, глядя из-под Золотой Горы, не
понимали, в чем дело... Видим —
остановился... Захолонуло на сердце... —
Должно быть, подбита машина!.. —
Поспеем ли..? — Боже мой!.. Как
доставалось в эти минуты петербургскому
порту, строившему «Диану»!.. Ведь вместо
20 уз, по штату положенных, мы
давали едва 17!.. Подвернись в этот момент
самому молодому мичману самый
большой технический генерал — каких бы
горьких истин он ни наслушался!..
Мимо нас, обгоняя, как стоячего,
промчался «Новик», выскочивший из гавани...
Следом за ним шел «Аскольд»...
— Ишь, черти! Видно, что за
границей строились! Не то, что наша...
богиня!..
Но «Баян» уже возвращался.
«Собачки» его не преследовали. Они, видимо,
вовсе не желали приближаться к
береговым батареям на дистанцию их
выстрела. Было 7 ч 10 мин утра.
Миноносцы (шедшие с Эллиота) благополучно
вошли в гавань. В 7 ч 15 мин оттуда
вышел «Петропавловск». За ним —
«Полтава». «Баян» семафором,
сигналами и беспроволочным телеграфом
докладывал командующему о том, чему
был свидетелем. Он не был уверен, что
в горячке неравного боя успел
подобрать всех; может быть, и еще кто-нибудь
держится на обломках... Немедленно же
последовало приказание: «Быть в строю
кильватера. «Баяну» быть головным и
вести эскадру к месту. Всем —
смотреть за плавающими обломками».
Во время перестроения, пока мы,
застопорив машины, ждали очереди,
чтобы занять свое место в строю, мимо нас,
по правому борту, совсем близко
прошел «Петропавловск».
— Смирна-а! — пронеслось по
крейсеру.
Адмирал вышел на левое,
обращенное к нам крыло верхнего мостика. Он
был в пальто с барашковым
воротником; русая борода развевалась по ветру.
— Здорово, молодцы! — резко
отчеканивая каждый слог, раздался его
мощный голос.
— Здравия желаем, ваше
превосходительство! — как-то особенно дружно,
громко и радостно ответили с «Дианы».
— Дай Бог! В добрый час!
— Покорнейше благодарим, ваше...—
но вдруг уставом определенный
стройный ответ спутался, оборвался и
перешел в могучее «ypal»...
.Адмирал, уже ушедший было с крыла
мостика и скрывшийся за рубкой, опять
вернулся к поручню, снял фуражку и,
широко улыбаясь, махал ею.
__ ура! — гремело среди команды,
громоздившейся на плечи друг друга,
чтобы увидеть «Деда»... — Ура! —
кричали офицеры, забыв всякую
корректность, толкаясь среди матросов и
тоже размахивая фуражками.
Это был последний раз, что мы
видели нашего адмирала...
В моей книжке записано: 8 ч утра.
Идем курсом SO. Кильватер — «Баян»,
«Петропавловск», «Полтава». «Аскольд».
«Диана», «Новик».
Навстречу из мглы опять появились
«собачки», но уже предводимые двумя
броненосными крейсерами. Шли смело,
хотя и видели, что наш отряд сильнее.
Завязалась перестрелка с дальней
дистанции. В 8 ч 10 мин японцы круто
повернули и стали уходить на юг.
Наименьшее расстояние 50 кабельтовов. У
нас потерь не было. Некоторое время
кружились близ места гибели
«Страшного», высматривая, не увидим ли чего-
нибудь, но бесплодно. Мы были от
Артура приблизительно в 15 милях.
Привычный глаз мог различить, что
остальная эскадра выходит на внешний рейд.
В 8 ч 40 мин обрисовались во мгле
силуэты японских броненосцев.
Соединившись с броненосными крейсерами и
сопровождаемые «собачками», они
держали курс прямо на нас. Теперь
превосходство сил было уже на их стороне, и
притом почти вдвое.
Следуя за адмиралом, повернули к
Артуру и начали уходить. Японцы за
нами. Видимо, нагоняют. «Новик» и
миноносцы, пользуясь своим ходом,
вышли несколько вперед и влево. «Диана»
осталась концевым кораблем строя.
Признаюсь откровенно — положение было
довольно жуткое. Идем полным ходом,
а дистанция все уменьшается... В 9 ч
утра расстояние до головного японца
(кажется, «Миказа») всего 38 кабельтовов.
Наши кормовые шестидюймовки были
наведены... Ждали с «Петропавловска»
приказания: «открыть огонь...» — но
сигнала не было. Японцы тоже, словно
по уговору, не стреляли... В 9 ч 15 мин
вошли в район действия крепостных
орудий (6—7 миль), а в 9 ч 20 мин
неприятель, так и не сделав ни одного
выстрела, прекратил погоню и склонил курс к
западу... Расстояние начало
увеличиваться...
— Почему они не стреляли? —
недоумевали у нас. — «Диана»,
«Аскольд» — концевые — на 36
кабельтовов.
Около 9 ч 30 мин мы присоединились
к нашей эскадре, вышедшей тем
временем из гавани в полном составе
(конечно, кроме поврежденных кораблей).
Японцы медленно скрывались за горой
Лаотешань, как будто намереваясь
начать из-за него обычную бомбардировку.
Адмирал Макаров со своей стороны,
видимо, предполагал предпринять обычное
крейсерство по дуге от Белого волка к
Крестовой горе и обратно.
Гибель «Страшного», вызванный ею
спешный выход отдельных судов,
появление главных сил неприятеля, сбор
эскадры — все это как-то заслонило
события минувшей ночи, казавшиеся
такими мелкими. Ни сам адмирал, ни кто-
либо из окружающих его не вспомнили
о подозрительных силуэтах, смутно
виденных сквозь сетку дождя, озаренную
лучами прожекторов... А ведь эти
силуэты появились именно в вершинах
восьмерки, которую мы описывали при
нашем крейсерстве — восточнее
Крестовой горы и южнее горы Белого волка...
92
Потралить, поискать, «не набросали ли
какой дряни», — об этом словно
забыли...
— Комендорам остаться при
орудиях! Остальным — вольно! Из своих
плутонгов не уходить! — скомандовал я и
спустился на палубу. Здесь, стоя у
правой шестидюймовки носового плутонга,
я отдавал обычные распоряжения
старшему боцману, когда глухой,
раскатистый удар заставил вздрогнуть не только
меня, но" и весь крейсер. Словно где-то
близко хватили из двенадцати дюймовки.
Я с недоумением оглянулся... Удар
повторился еще грознее... Что такое?.. —
«Петропавловск!» «Петропавловск!..» —
как-то жалобно и беспомощно раздались
кругом разрозненные, испуганные
восклицания, заставившие
меня сразу броситься к
борту в предчувствии
чего-то ужасного... Я
увидел гигантское облако
бурого дыма (пироксилин,
минный погреб —
мелькнуло в мозгу) и в нем
как-то нелепо, наклонно,
повисшую в воздухе, не
то летящую, не то
падающую фок-мачту... Влево
от этого облака видна
была задняя часть
броненосца, совсем такая же,
как и всегда, словно там,
на носу, ничего не
случилось... Третий удар...
Клубы белого пара,
заслонившие бурый дым... —
Котлы!.. — Корма
броненосца вдруг стала
подниматься так резко и круто,
точно он тонул не носом, а
переломившись
посредине. На мгновение в
воздухе мелькнули еще работавшие винты...
Был ли новый взрыв? — не знаю... но
мне казалось, что эта, единственно
видимая за тучей дыма и пара, кормовая
часть «Петропавловска» вдруг словно
раскрылась, и какой-то ураган пламени
хлынул из нее, как из кратера вулкана...
Мне казалось, что даже несколько
мгновений спустя после того, как скрылись
под водой остатки броненосца, море еще
выбрасывало это пламя...
Никогда после сигнала — «Слушайте
все!» — не наступало на крейсере
такого глубокого безмолвия, как перед этим
зрелищем... Однако привычка — вторая
натура. Как старый штурман,
привыкший точно записывать моменты, я,
только что увидев взрыв, совершенно
машинально вынул часы и отметил в книжке:
«9 ч 43 мин взрыв «Петропавловска»,
а затем — «9 ч 44 72 мин — все
кончено»...
Не является ли такого рода, почти
бессознательная, деятельность спасением
для наших нервов, для нашего рассудка
в моменты жестоких ударов, жестоких
потрясений?.. По-видимому, младший
флагман, контр-адмирал кн. Ухтомский
верно оценил положение. В то время
как миноносцы и минные крейсера
бросились к месту гибели «Петропавловска»
Контр-адмирал
П. П. Ухтомский
в надежде спасти, кого можно, он,
словно ничего особенного не случилось,
сделал сигнал. «Быть в строю
кильватера. Следовать за мной» — и,
выйдя головным на своем «Пересвете»,
повел эскадру так же, как, бывало, ее
водил Макаров.
Командующий флотом погиб, в
командование вступил следующий по
старшинству! Le roi est mort, vive le roi! Это было
хорошо сделано и сразу
почувствовалось...
Как известно, из всего экипажа
«Петропавловска» спаслись только 7
офицеров (в том числе великий князь Кирилл
Владимирович) и 73 матроса.
В полном порядке, следуя за своим
адмиралом, эскадра совершила обычный
рейс под гору Белого
волка и начала
последовательный поворот на
обратный курс под
Крестовую гору. Суровая
тишина царила на крейсере, и
в этой тишине чуялась не
подавленность, не
растерянность, а вскипающий
могучий гнев,
всепоглощающая злоба к врагу за
его удачу, холодная
решимость бороться до
последнего. Без команды,
без сигнала все были на
своих местах, готовые к
бою.
В 10 ч 15 мин утра
«Пересвет» уже повернул
на обратный курс, когда
снова раздался глухой
удар минного взрыва, и
шедшая за ним «Победа»'
начала медленно
крениться... «Пересвет»
застопорил машины и бросился
влево... Строй спутался. Эскадра
сбилась в кучу... Внезапно со всех сторон
загремели выстрелы... Среди
беспорядочно столпившихся судов то тут, то,
там вздымались столбы брызг от
падающих снарядов... Снаряды свистели над
головой... Осколки шуршали в воздухе и
звякали о борт... Наш крейсер тоже
открыл какой-то бешеный огонь...
Я стоял на верхнем мостике со
старшим артиллеристом. Ошеломленные
неожиданностью, мы переглянулись,
словно не веря себе, словно пытаясь
взаимно проверить свои впечатления...
— Что такое? — спросил он...
— Что? Паника!.. — ответил я...
Больше разговоров не было. Мы оба
бросились вниз. На нижнем мостике,
при входе в броневую рубку я увидел
командира...
— Почему стреляют?
— Кто приказал?
— Остановите! Они с ума сошли!..
Кругом творилось что-то
невообразимое...
— Дробь! Играй дробь! — не своим
голосом ревел артиллерист,
выволакивая за шиворот на крыло мостика штаб-
горниста, забившегося куда-то в угол.;.
Неверный, дрожащий звук горна
пронесся над крейсером...
93
— Как играешь? Глотку
перехватило? — кричал я. — Еще! Труби без
конца! Пока не услышат!..
Звуки горна становились увереннее,
но на них не обращали внимания... Что-
то громыхнуло между трубами...
Впоследствии оказалось — свои же
угостили нас снарядом, по счастью разбившим
только подъемные тали барказа и не
причинившим никому серьезного
повреждения... Я побежал по батареям.
— Господа офицеры! Не позволяйте
стрелять! Гоните от пушек!..
Но слова не действовали на
комендоров, вцепившихся в свои орудия и
посылавших снаряд за снарядом без
прицела, куда-то, какому-то невидимому
врагу... Пришлось употреблять силу... И
право, странно, как грубым, физическим
воздействием можно образумить людей,
потерявших голову перед страхом
смерти...
Порядок был скоро восстановлен.
Пальба прекратилась. Опомнившаяся
команда с виноватым, смущенным
видом торопливо укладывала по местам
разбросанные койки и спасательные
пояса, прибиралась у орудий... Некоторые
робко и неуверенно пробовали
заговаривать с офицерами, пытались
оправдаться, объясняли, что «затмение» нашло..,
что кто-то «как крикнул, а за ним и
все»...
— В кого ты стрелял? В кого? Кто
тебе приказывал? — яростно наседал
артиллерийский кондуктор на комендора,
которого он только что силой оторвал от
орудия.
— Я — что ж?.. Видит Бог!.. Кабы
знать... обеспамятел — одно слово...
— Ведь ты без малого по «Аскольду»
жарил! Хорошо, коли пронесло... а то —
не дай Бог!..
— Не корите, Иван Трофимыч, сам
знаю... что уж!..
Без ложной скромности считаю
себя вправе отметить тот факт, что
«Диана» была одним из первых кораблей, на
которых прекратилась эта
беспорядочная, паническая стрельба по воде и по
воздуху. На многих других она
продолжалась еще несколько минут...
Из числа судов эскадры одни стояли
на месте, другие беспорядочно двигались
в разных направлениях, куда-то
ворочали, в тесноте ежеминутно угрожая друг
другу столкновением...
Почему японцы не воспользовались
этим моментом? Почему не атаковали
нас?.. Лишь немногие могли бы
отвечать им, тогда как они, сосредоточив
свой огонь на центре той нестройной
кучи, которую представляла собой эскадра,
били бы почти наверняка... Хорошо, что
не догадались или не решились, — это
был бы полный разгром!..
«Пересвет» поднял сигнал: «Войти в
гавань, начиная с броненосцев».
Было Ю ч 25 мин утра. Первой,
конечно, вошла поврежденная «Победа» под
своими машинами, только накренившись
на 5—6 градусов. Ей посчастливилось.
Взрыв мины пришелся под большой
угольной ямой, к тому же полной угля,
на толще которого и разрядилась вся
его сила. Если бы так же
посчастливилось «Петропавловску»!..
Вскоре после полудня мы уже стояли
на своем месте, в западном бассейне.
Несчастный день... Из семи
броненосцев, которыми мы располагали перед
началом войны, у нас оставалось только
три — «Пересвет», «Севастополь» и
«Полтава»... Но не в этом ослаблении
наших сил было горе... Пока эскадра
входила в гавань, пока еще не было
получено официального подтверждения, —
все, все от старшего до младшего, так
жадно вглядывались в каждый
поднимавшийся сигнал... У каждого в душе
еще теплилась слабая надежда, мечта,
которую он не решался даже высказать
громко...
— А вдруг спасен?..
И каждый трепетно ждал, не
разовьется ли на мачте одного из
броненосцев тот флаг, который так недавно,
так горячо мы приветствовали на мачте
«Новика», — флаг командующего
флотом!.. Нет...
Ужасный день!.. Никогда, ни до того,
ни после, в самых тяжелых условиях
войны, не приходилось переживать
такого чувства подавленности, такого
гнета невыразимого сознания
непоправимости разразившегося удара... Это было
общее настроение...
— Что вы ходите, как в воду
опущенный! — обратился я к старшему
боцману. — Ваше дело — подбодрить
команду, поддержать дух! А на вас —
лица нет! Стыдно! На войне нельзя без
потерь! Погиб броненосец, ослаблена
эскадра, — пришлют подкрепление!
Новую эскадру пришлют! Нельзя нос
вешать! Нельзя рук опускать!..
— Так точно, ваше
высокоблагородие... Без потерь нельзя... Оно конечно...
броненосец — что ж? — как-то
смущенно и неуверенно, пряча глаза, заговорил
боцман и вдруг, словно решившись
махнуть рукой на всякий этикет, резко
переменил тон. — Не то, ваше
высокоблагородие! Что броненосец? — Хоть бы
два! Да еще пару крейсеров на придачу!
Не то! — Голова пропала!.. Вот что!..
Почему оно, я как все прочие... —
голос его задрожал и оборвался...
Да. Этой мыслью были проникнуты
массы. Она овладела ими.
(Продолжение следует)
94
Из летописи отечественного кораблестроения
БРОНЕНОСЦЫ ДЛЯ ЭСКАДРЕННОГО БОЯ
р ДВА приступив к строительству кораблей для обороны на Балтийском и
^ Черном морях, в Морском министерстве начали думать о создании более
мощного флота, способного вести эскадренный бой. В отчете министерства за
1864 г. находим: «Единственным способом удержания за Россией подобающего
ей значения на море — представляется уделение Морскому министерству особых
денежных средств, которые дали бы возможность приступить к сооружению
броненосных мореходных фрегатов, не останавливая ни в коем случае
сооружение оборонительного флота».
По своей боевой мощи, мореходности и автономности, как считали
морские офицеры, только два корабля — обшитые броневыми плитами фрегаты
«Севастополь» и «Петропавловск» — могли вести боевые действия в открытом
море. Остальные корабли в лучшем случае годились для мирного плавания.
Поэтому в конце концов нашли средства на постройку новых броненосных
фрегатов «Князь Пожарский» и «Минин».
Первый (водоизмещение 4506 т, длина 83,1 м, ширина 14,9 м, углубление
6,48 м) заложили в конце 1864 г. и спустили на воду в августе 1867 г. Корпус
построили по клетчатой системе с двойным дном и водонепроницаемыми
переборками. Броню изготовили на Ижорском заводе. Толщина плит каземата
составляла 114 мм, а пояса— 102 мм. Они были уложены на тиковую подкладку
в два ряда. На фрегате установили восемь 203-мм орудий в каземате и два
152-мм орудия на поворотных платформах на верхней палубе. На корабле были
также орудия среднего и малого калибра. Имея один гребной винт, корабль
развивал скорость чуть более 10 уз.
После незначительных переделок летом 1873 г. фрегат вышел в
Средиземное море для практического плавания и для стационерной службы. «Князь
Пожарский» — первый русский броненосец, покинувший пределы Балтийского
моря. В 1875 г. он возвратился в Кронштадт для ремонта и доработок по
корпусу и механизмам. Подводную часть обшили деревом, покрытым сверху
цинковыми листами. Капитально отремонтировали машину, вместо прежних шести
установили восемь новых котлов. Тогда же на фрегате появилась вторая
дымовая труба. После всех переделок на испытаниях осенью 1877 г. фрегат
показал скорость 11,7 уз.
Фрегат «Минин» заложили в 1866 г. по тем же чертежам, что и
броненосец «Князь Пожарский». Однако в ходе его постройки в конструкцию дважды
вносились существенные изменения, в связи с чем он был спущен на воду
значительно позже своего собрата.
Броненосный крейсер «Минин». Водоизмещение 5740 т; длина 91,1 м; ширина 14,9 м;
осадка 6,58 м; скорость хода 13 уз; вооружение 4Х203-мм и 12><152-мм орудий
95
Замечательным образцом отечественного судостроения явился броненосец
«Петр Великий» (см. фото на 3-й с. обложки).
В 1876 г. в Англии были изданы справочные таблицы броненосцев всех
флотов мира. «Петр Великий» занимал в них первое место. Его заложили в
1869 г. как монитор и первоначально назвали «Крейсер», а 30 мая 1872 г.,
в день празднования 200-летия со дня рождения основателя Российского флота,
по Высочайшему повелению переименовали в броненосный корабль «Петр
Великий». В августе 1872 г. спустили на воду и перевели в Кронштадт для
достройки на плаву, обшивки бронею и установки артиллерии и машины.
Корпус был набран по клетчатой системе, имел двойное дно и
водонепроницаемые переборки. Форштевень и ахтерштевень отлили из пушечного металла.
От форштевня до бруствера сделали легкую металлическую надстройку, в
которой находились каюты и служебные помещения. Над бруствером возвышался
командирский мостик, где размещались штурманская рубка, шлюпки, выходили
дымовая труба и грот-мачта. Подводная часть была обшита двумя слоями
деревянной обшивки, покрытой медными листами, и имела боковые кили. По
сравнению с предшественниками «Петр Великий» имел куда более солидное
бронирование. Пояс по ватерлинии — 203—305 мм, бруствер и башни — 305—
356 мм, палуба — 64—76 мм. 12 паровых котлов и 2 машины обеспечили
кораблю на ходовых испытаниях скорость 12,35 уз.
К сожалению, после «Петра Великого» до 1885 г. броненосцы не строили
(и следующий за ним «Александр II» был далеко не лучшим). В этот период все
усилия сосредоточили на строительстве крейсеров. В Морском министерстве
тогда считали, что надо иметь четыре крейсерских отряда, включавших каждый
один корвет и два клиппера, с таким расчетом, чтобы один отряд находился в
базах Тихого океана, другой возвращался бы оттуда, третий шел бы туда и
четвертый — ремонтировался в Кронштадте после трехлетней службы на Тихом
океане. Разработка океанского крейсера была поручена контр-адмиралу А.
Попову. По его проекту в ноябре 1870 г. заложили фрегат «Генерал-Адмирал»
(водоизмещение 4604 т, длина 87 м, ширина 14,6 м, осадка 6,4 м), а месяцем
раньше такой же фрегат «Александр Невский», в 1874 г. переименованный в
«Герцог Эдинбургский». Первый корабль спустили на воду в сентябре 1873 г.,
а второй — в августе 1875 г. Толщина броневого пояса у обоих — 152 мм.
Артиллерия первого фрегата состояла из четырех 203-мм орудий, расположенных
в средней части судна, и двух 152-мм орудий — в носу и в корме на поворотных
платформах. На втором было десять 152-мм орудий: два на поворотных
платформах в носу и в корме и по четыре вдоль правого и левого бортов. Оба
корабля имели по одному гребному винту, первый имел скорость 13,6 уз, а
второй — 15,3 уз.
Таким образом, к 1878 г. Россия имела наряду с броненосцами береговой
обороны и мореходный броненосный флот, включавший корабли: «Петр
Великий», «Генерал-Адмирал». «Герцог Эдинбургский», «Минин», «Князь
Пожарский», «Севастополь» и «Петропавловск».
Капитан 1 ранга В. ДОЦЕНКО,
кандидат исторических наук
На 4-й странице
обложки изображено
экспедиционное судно «Па л лас» (рис.
А. Карелова).
Строилось у
Верхнеколымской крепости на реке
Ясашна корабельным
мастером А. Баковым
специально для Северо-восточной
географической и
астрономической экспедиции, которая
проводилась в 1785—
1793 гг. под руководством
капитан-поручика И.
Биллингса и при активном
участии лейтенанта Г. Са-
рычева. Экспедиция, как и
все северные и
северо-восточные экспедиции того
времени, имевшие цель
определить границы России и
присоединить к ней новые
земли, была объявлена
совершенно секретной.
Свое название судно
получило в честь русского
естествоиспытателя и
путешественника, члена
Петербургской академии наук
Петюа Палласа (1741 —
1811 гг.).
Судно спущено на воду
18 мая 1787 г. Отличалось
хорошей мореходностью и
остойчивостью. Длина 13.5 м,
ширина 4,5 м, глубина ин-
трюма 1,8 м. Штатного
вооружения не имелось.
...24 июня 1787 г. «Пал-
лас» под командованием
Биллингса и несколько
меньшее по размерам судно
«Ясашна» под
командованием Сарычева вышли из
устья Колымы в море.
Однако по намеченному
Биллингсом курсу на восток
из-за ледовой обстановки
пройти не удалось.
Мореходы трижды пытались,
выйдя из Колымы в Восточно-
Сибирское море, обогнуть
Чукотский п-ов, но из-за
тяжелых льдов смогли
продвинуться на восток лишь
немного далее мыса
Большой Баранов.
Потерпев неудачу, в
самый разгар полярного лета
суда вернулись в
Верхнеколымскую крепость.
Руководитель экспедиции,
обвинив в ошибках Сарычева,
покинул отряд и уехал в
Охотск.
В. Зауер, секретарь
Биллингса, в своей книге об
этом плавания. вышедшей
в Лондоне в 1802 г..
подчеркивал, что в то время,
когда главный командир
принял решение возвращаться,
Сарычев и другие офицеры
предлагали продолжать
плавание В частности, Сары,
чев считал возможным про.
извести опись берегов Чу.
котки на малых судах, но
Биллингс не внял его
доводам и настоял на своем
решении Неумелые и
нерешительные действия
руководителя этой экспедиции
впоследствии подверглись
критике и осуждению не
только со стороны ученых, но и
флотской общественности.
Биллингса обвинили в
плохом знании морского дела и
боязня риска.
Все перипетии
экспедиции Г. Сарычев описал в
своей книге «Путешествие
флота капитана Сарычева
по Северо-восточной части
Сибири. Ледовитому морю и
Восточному океану в
продолжении ось ми лет при
Географической и
Астрономической морской
экспедиции капитана Биллингса с
1785 по 1793 год»,
изданной в 1802 г. в Петербурге...
Судно «Паллас»
несколько лет использовалось как
посыльное, а в начале 90-х
годов XVIII в. было
разобрано.
96