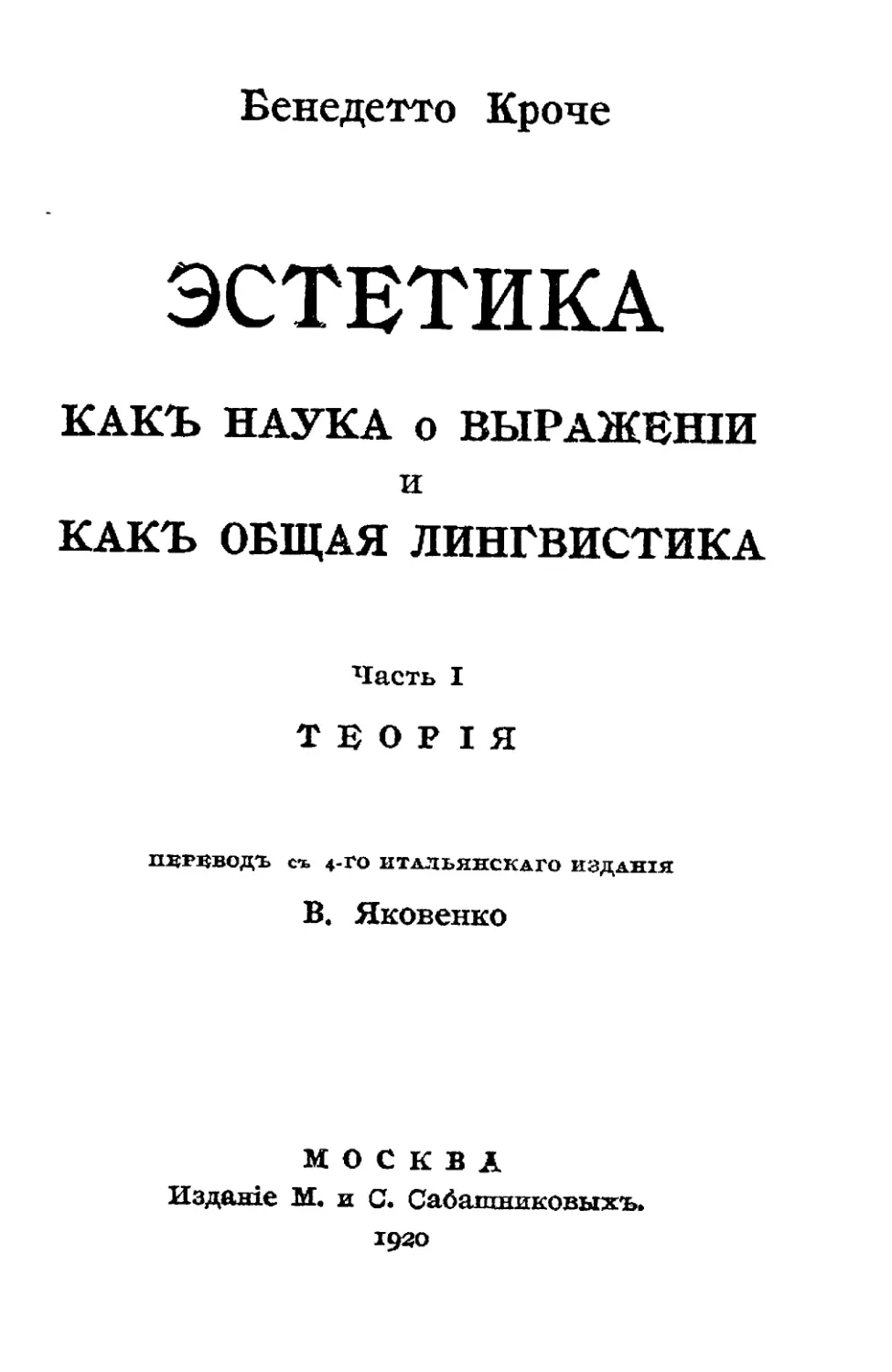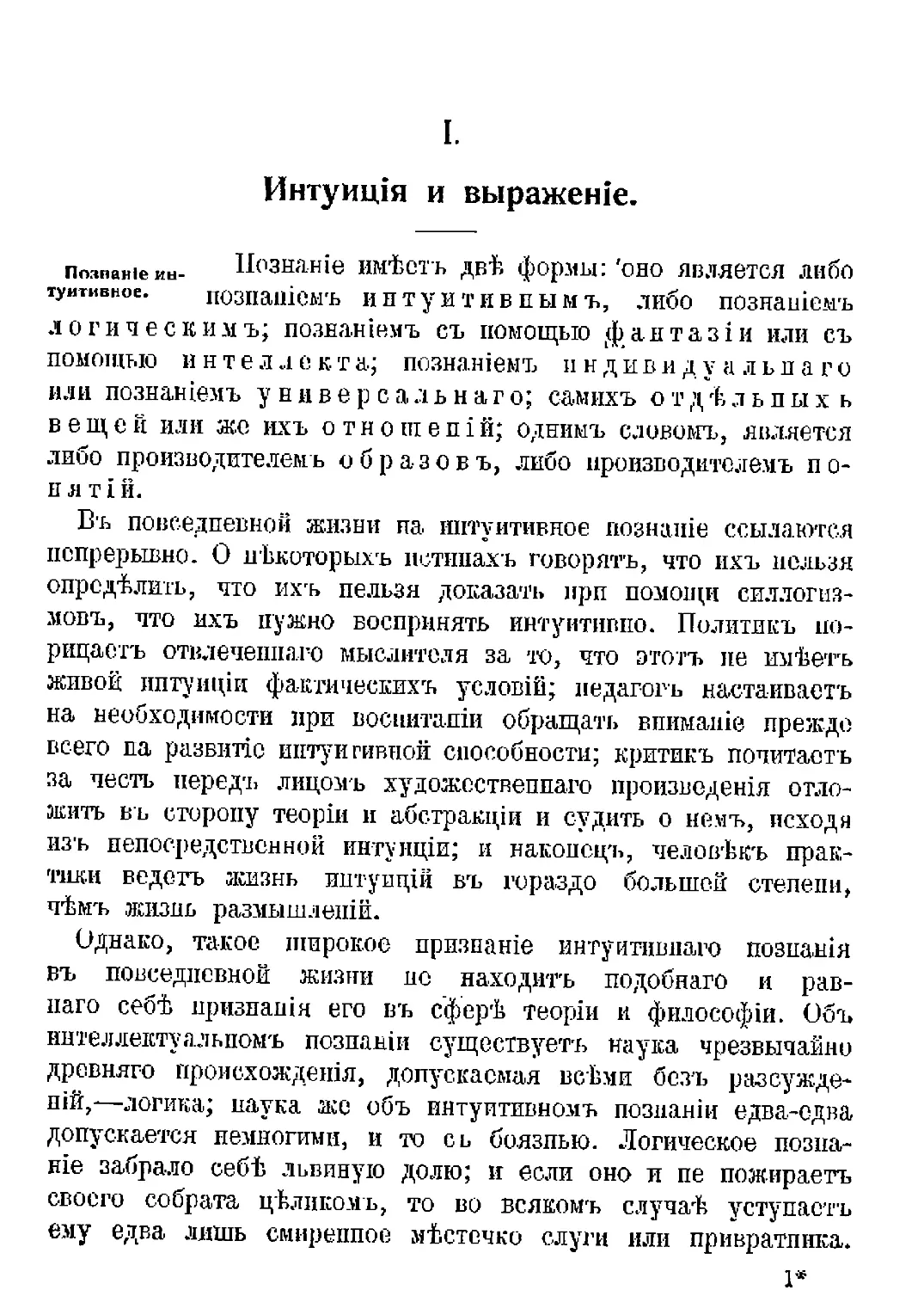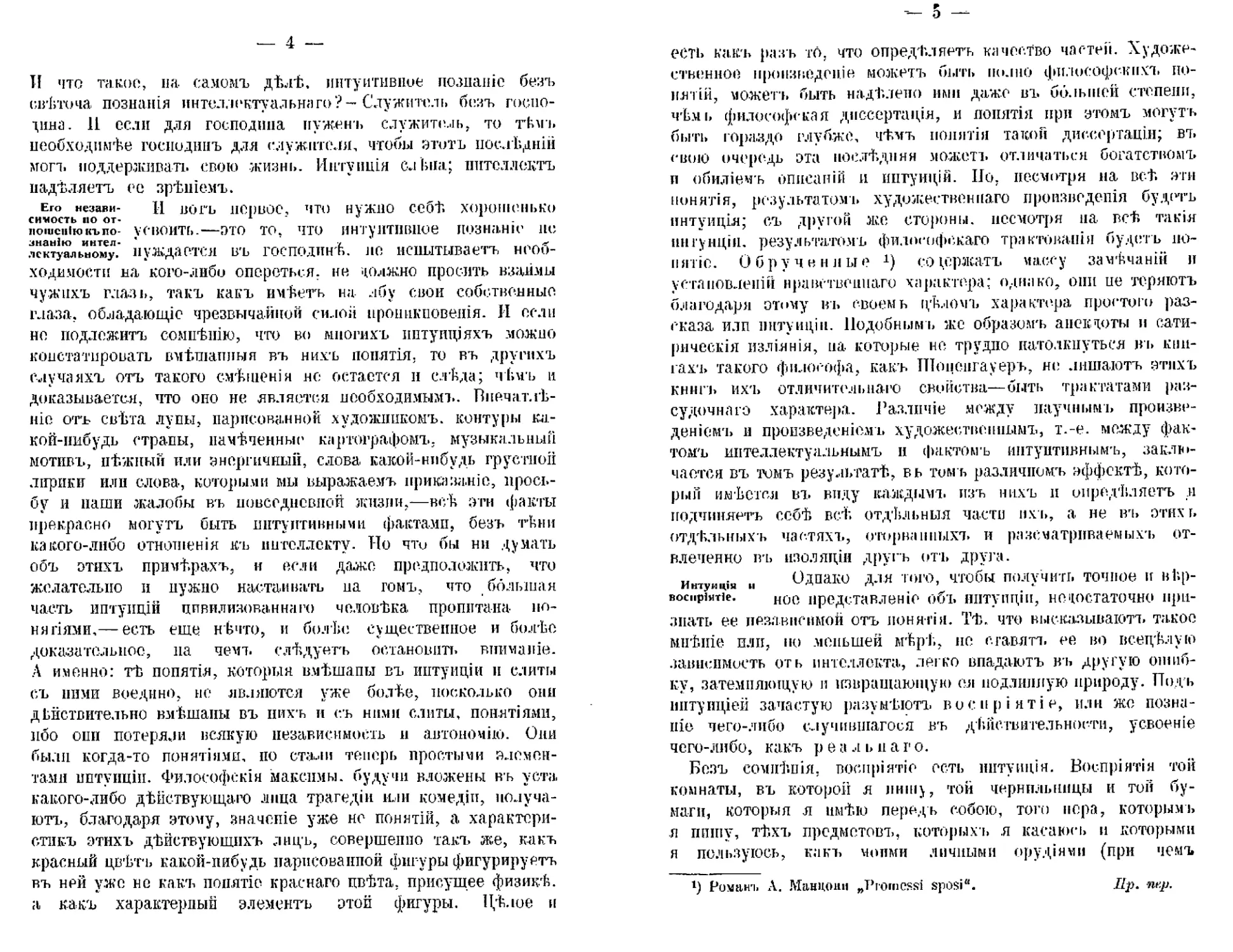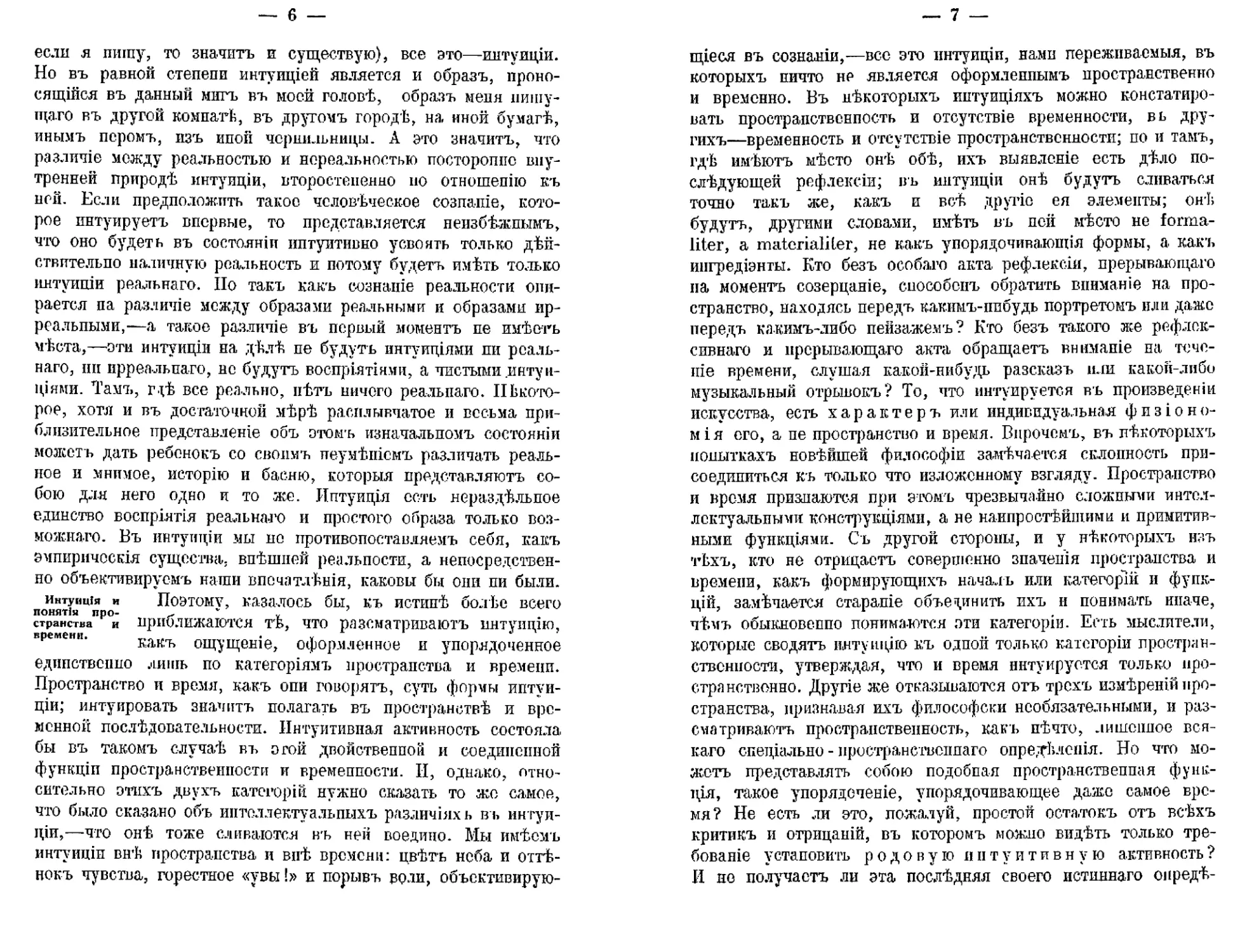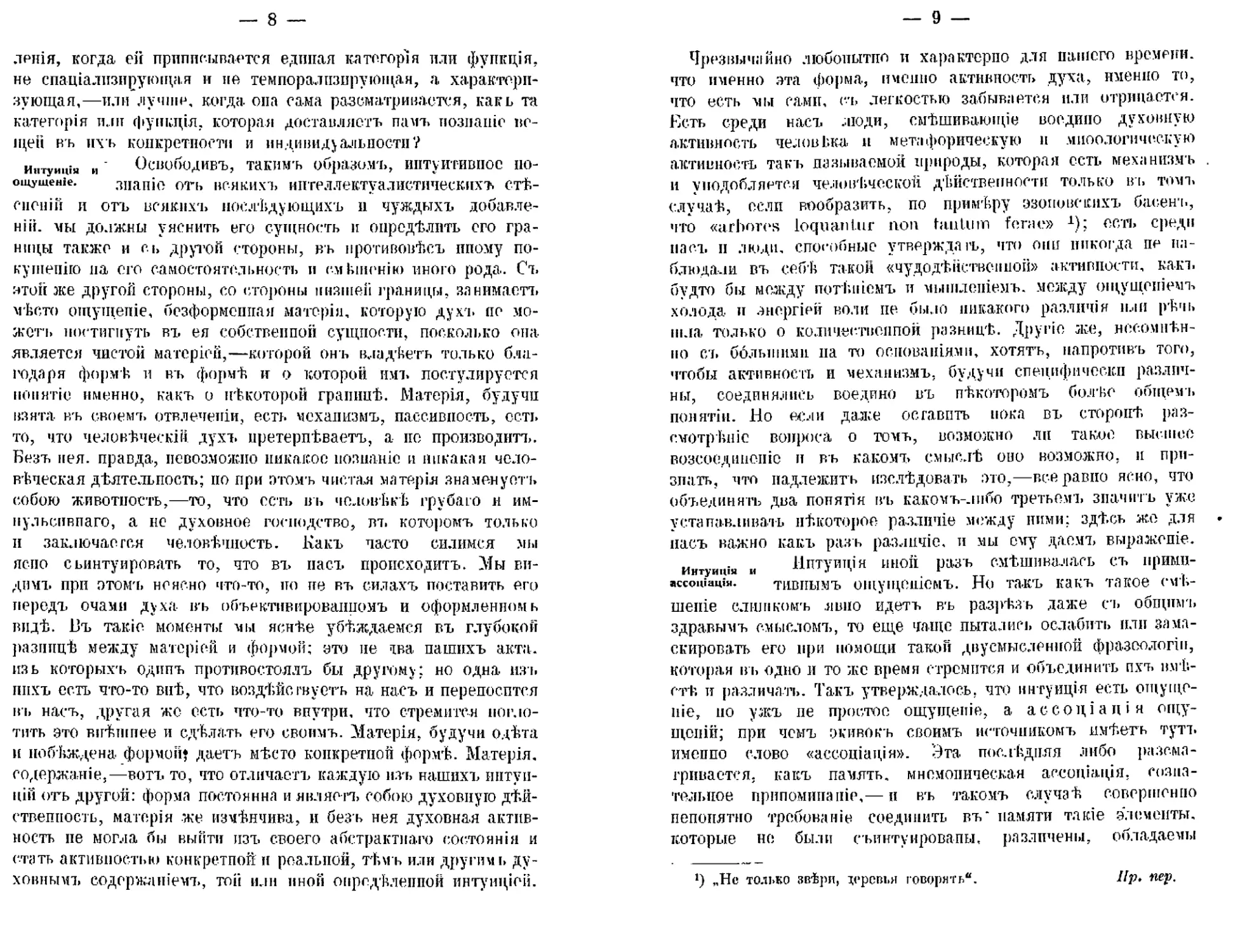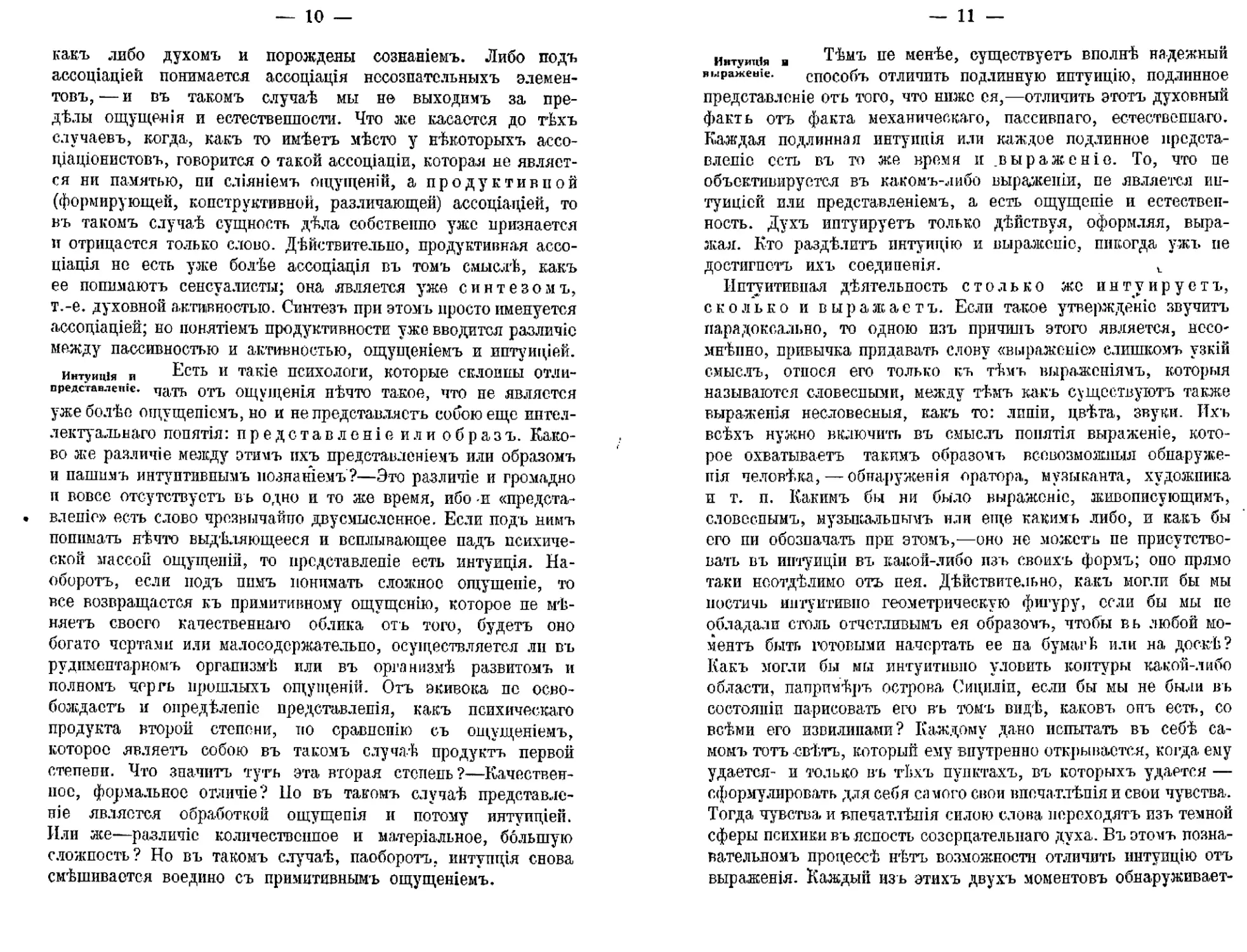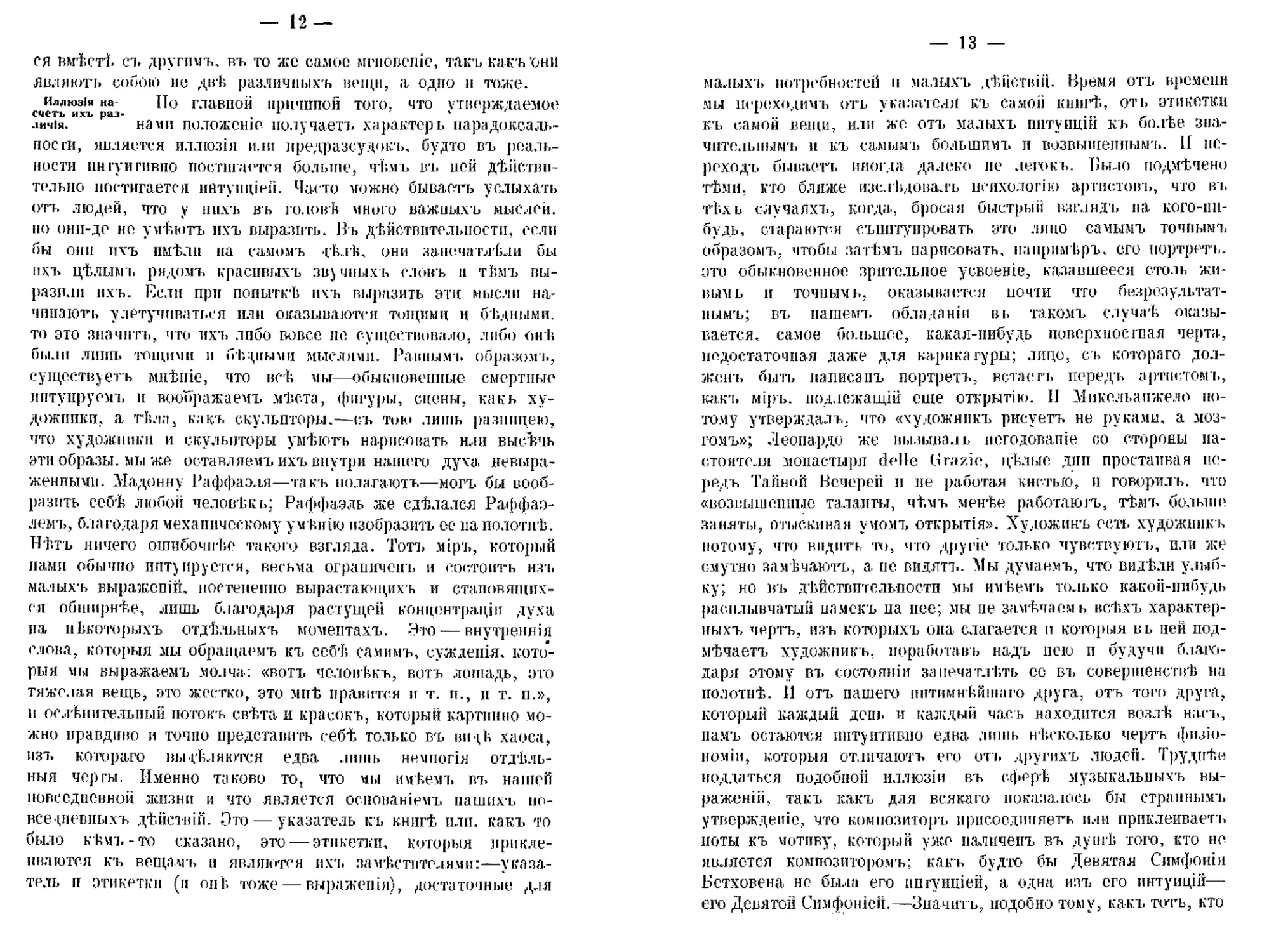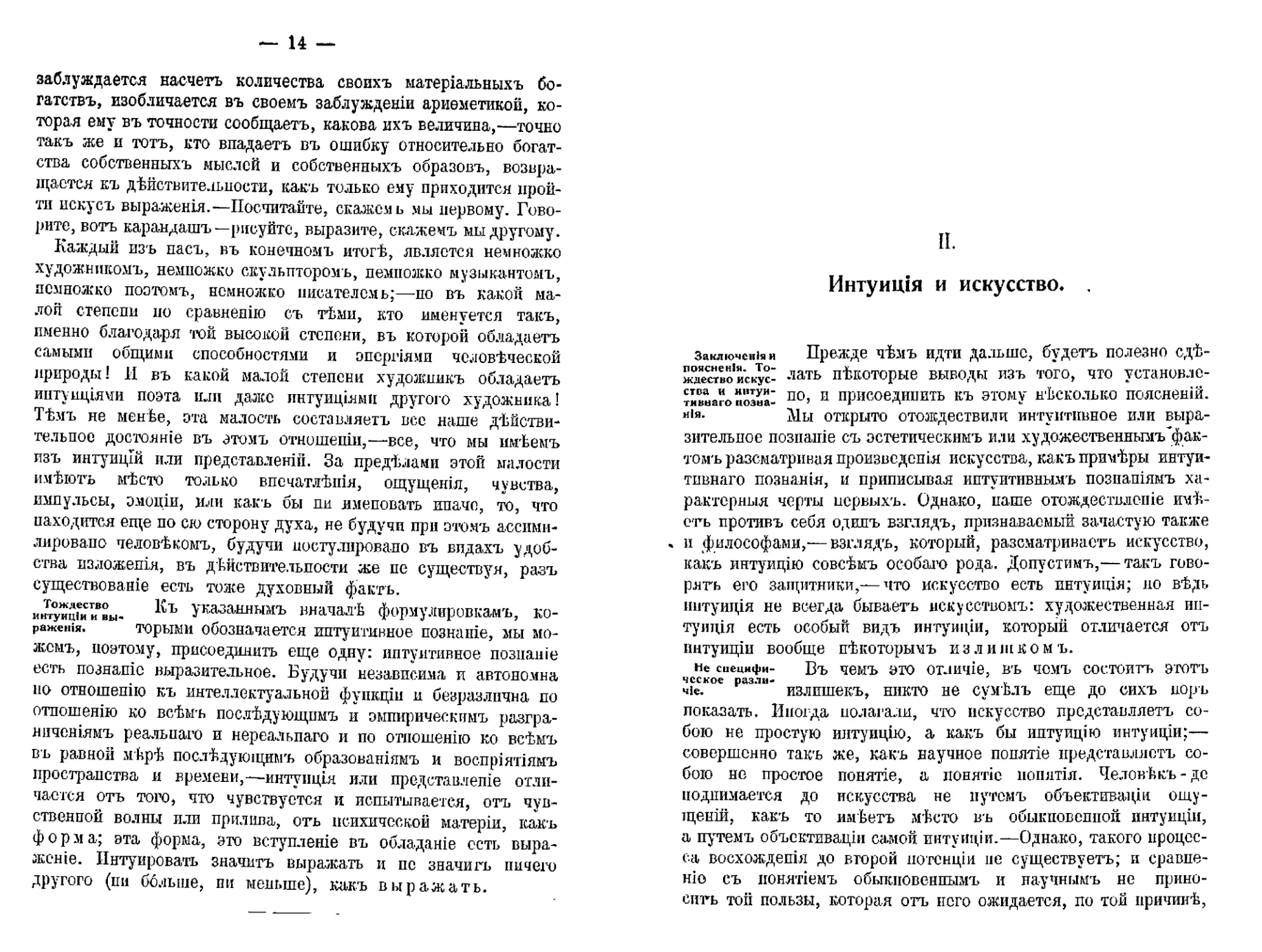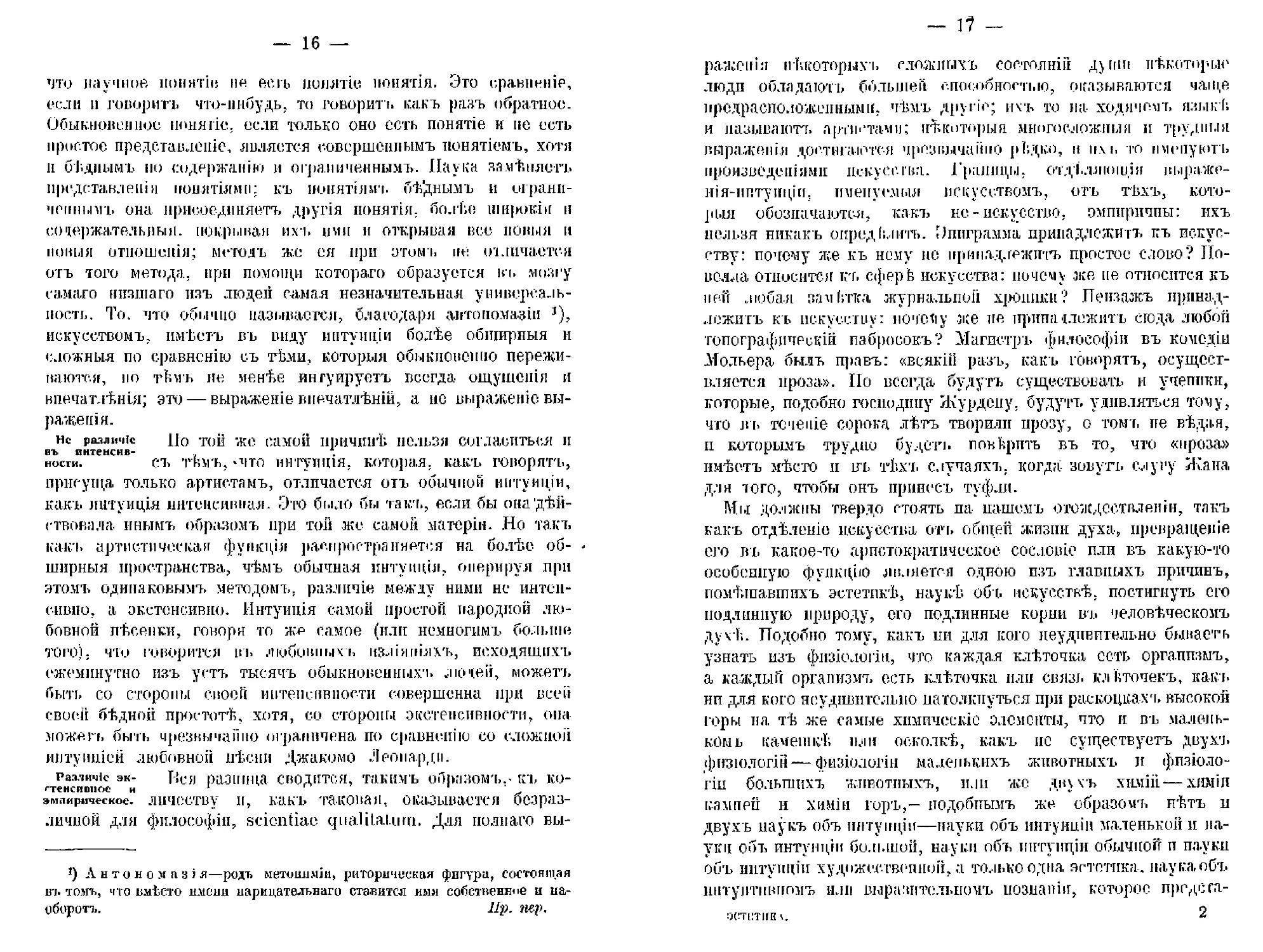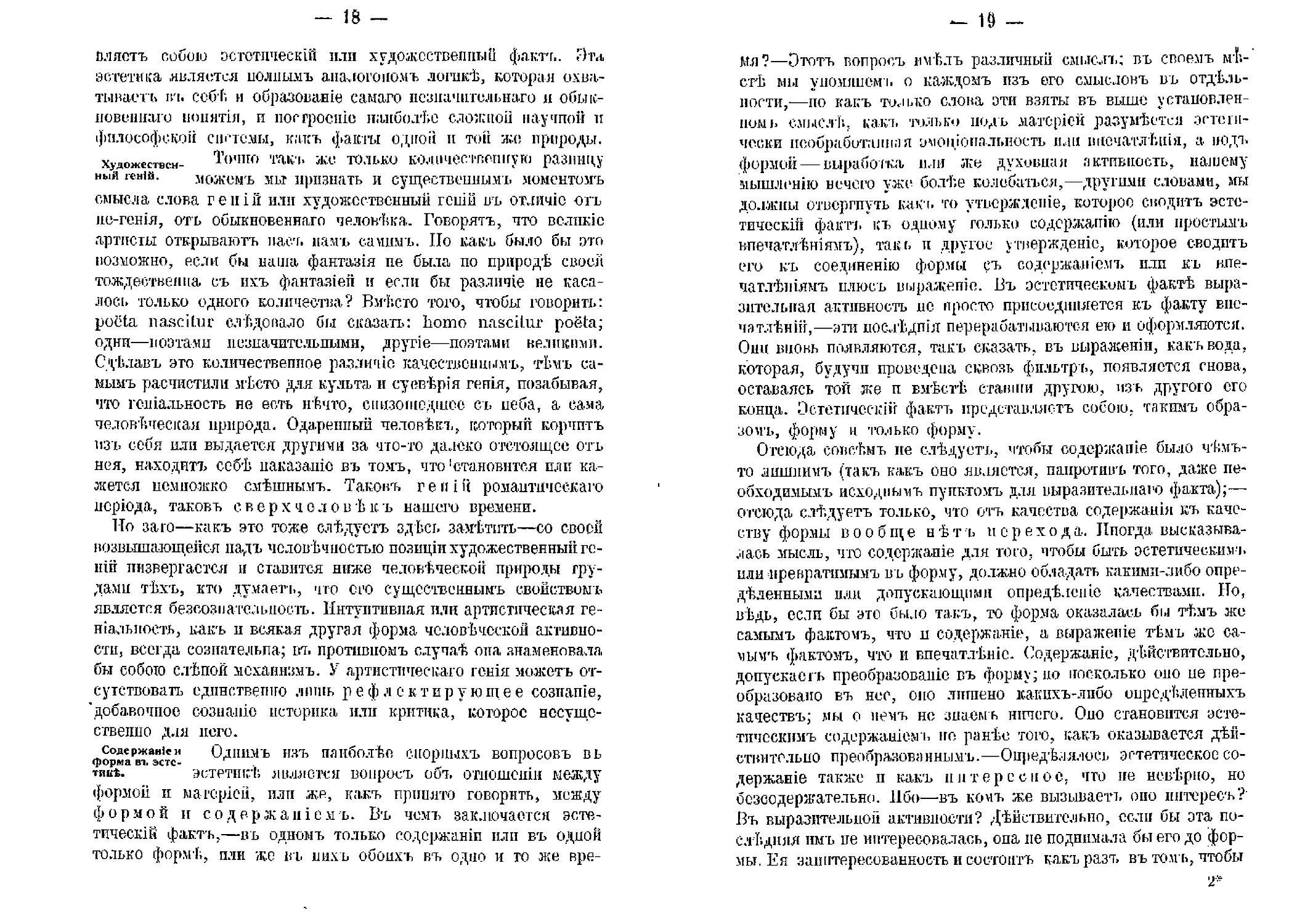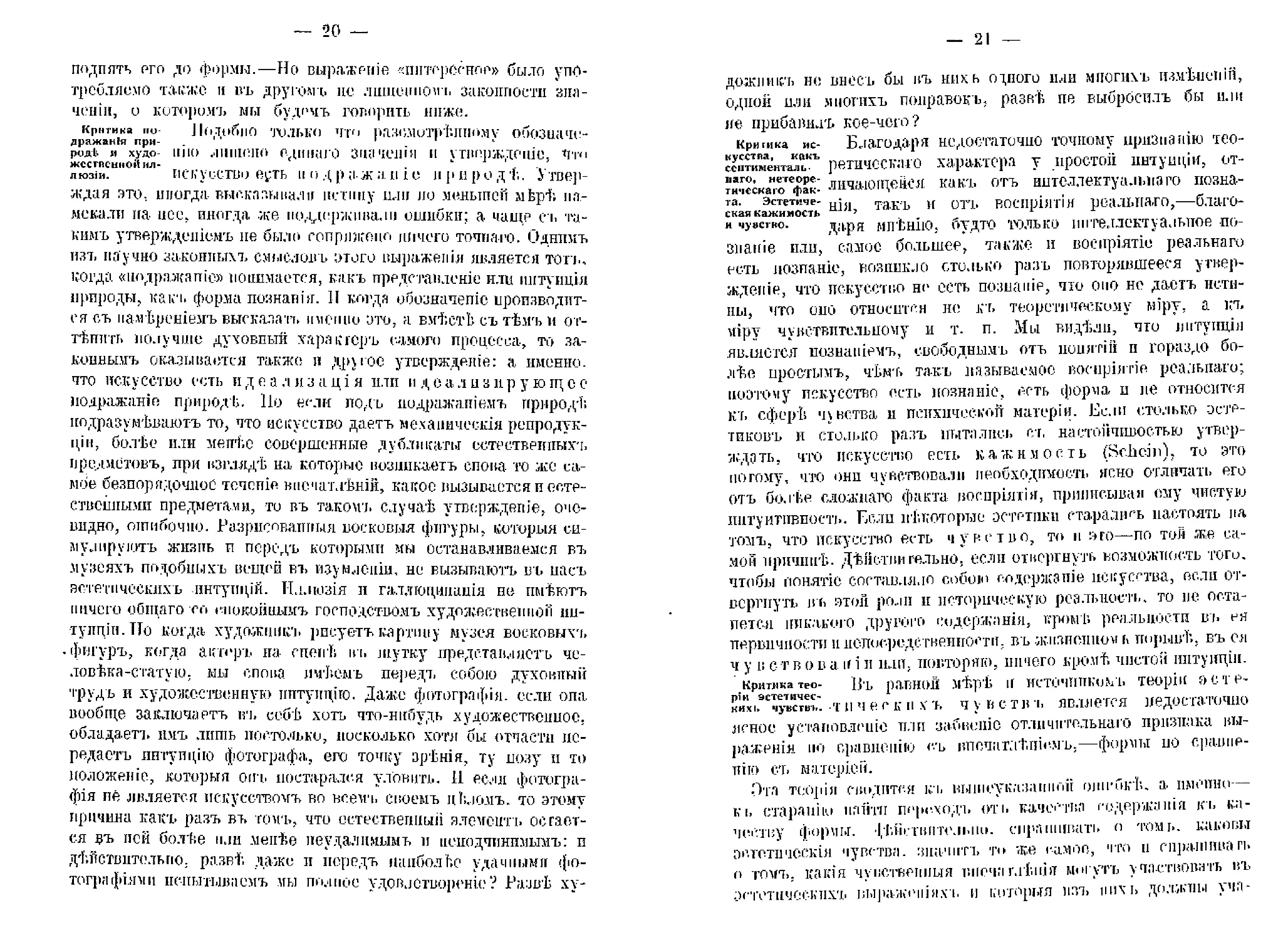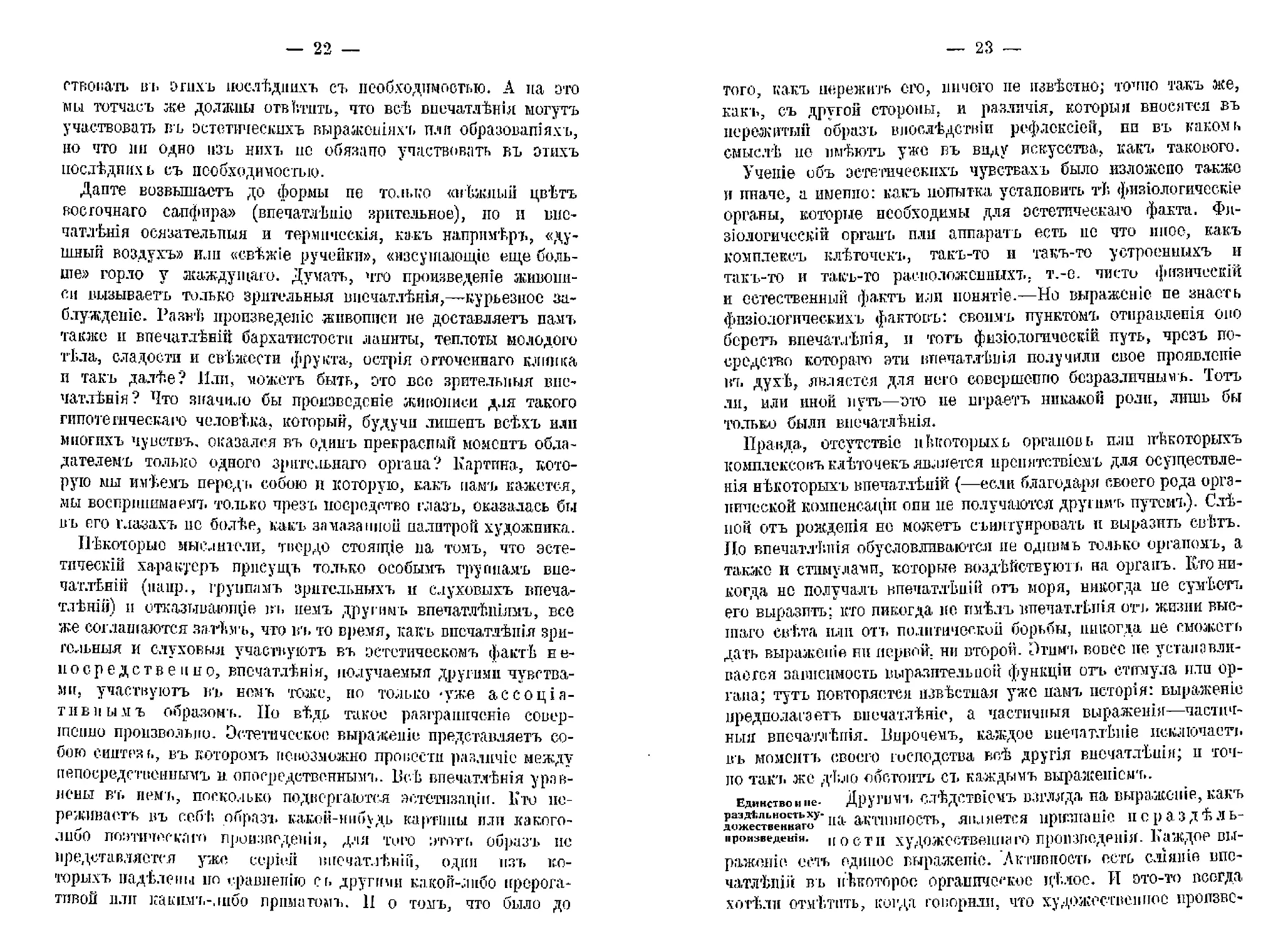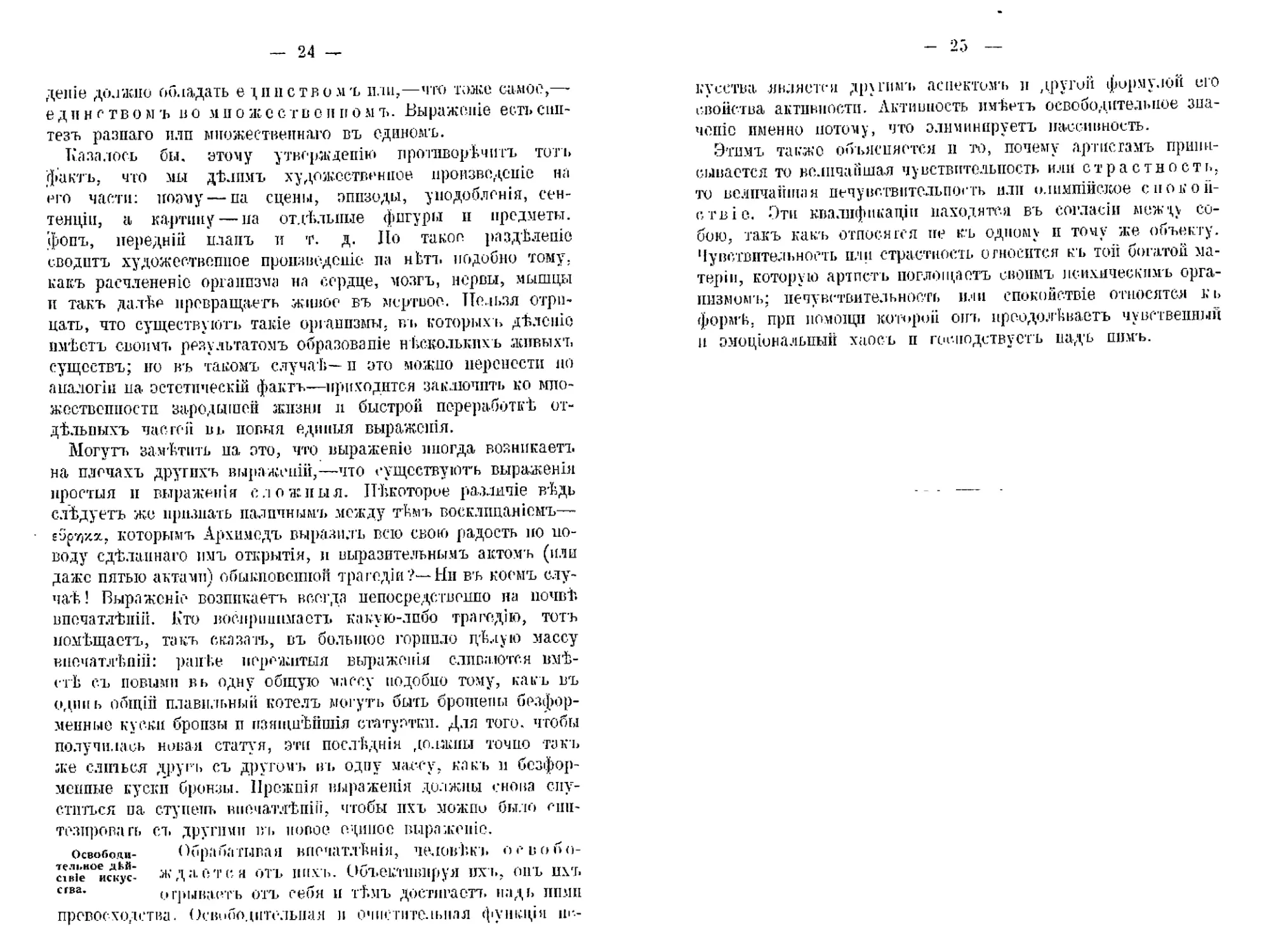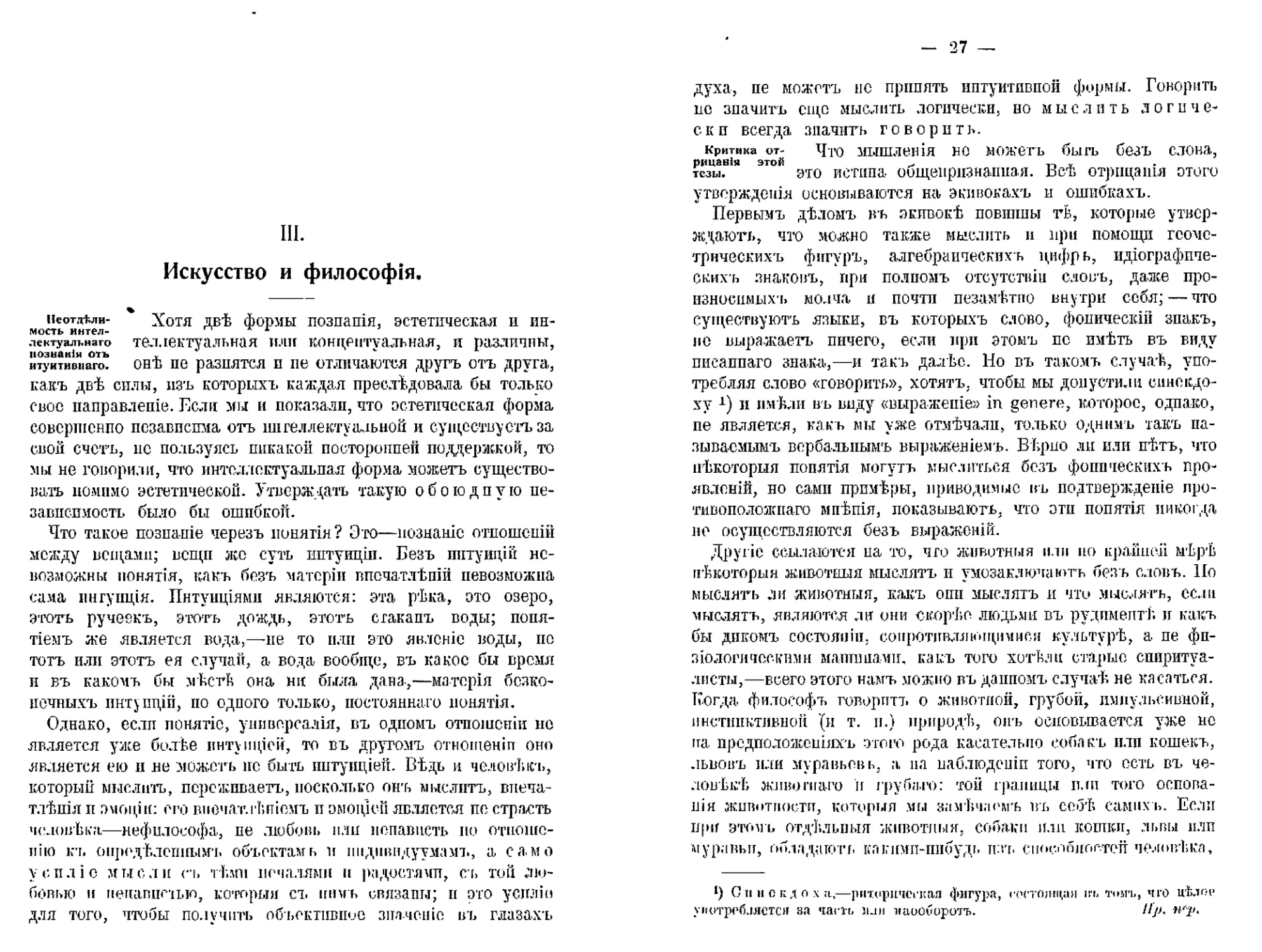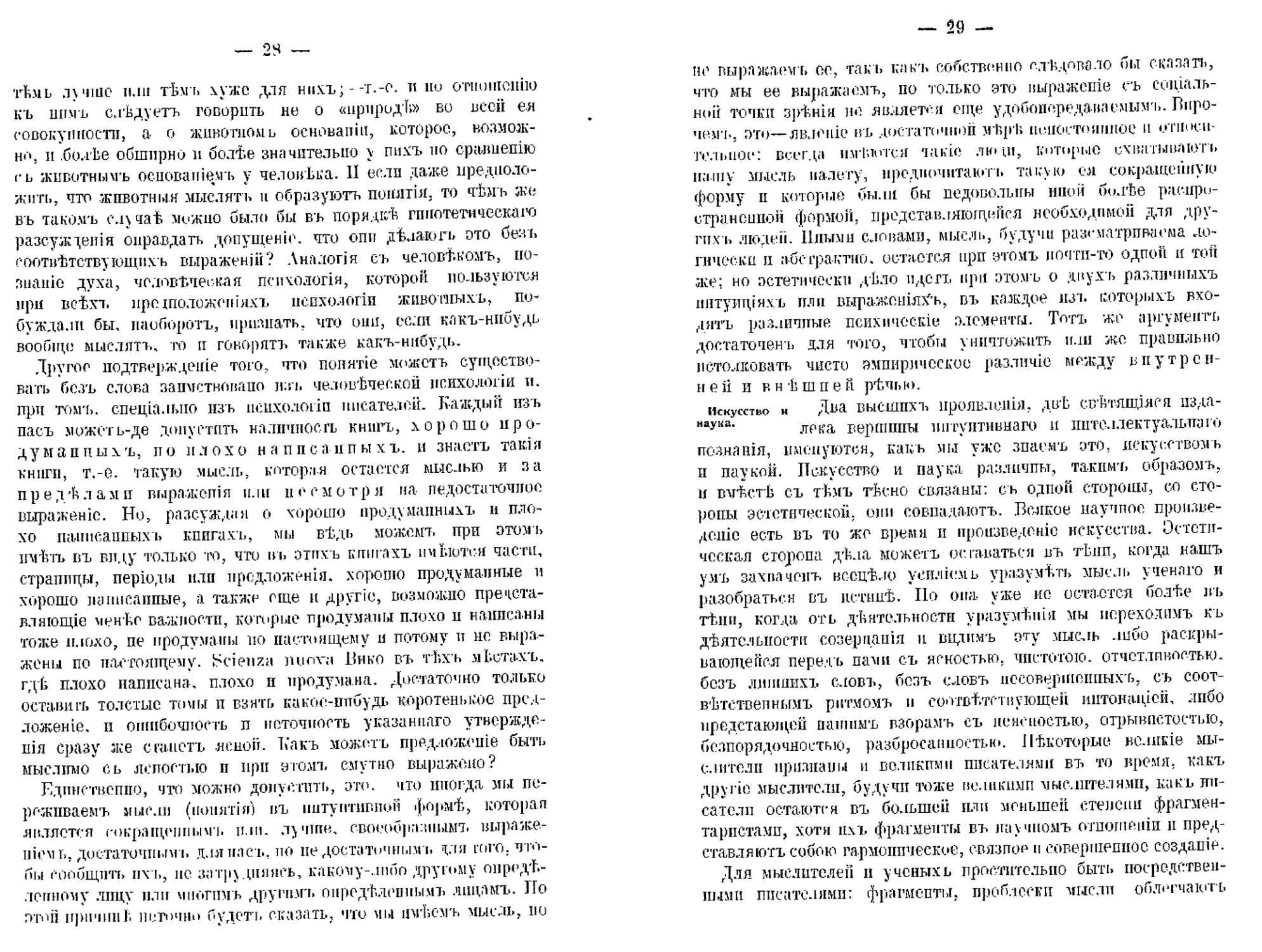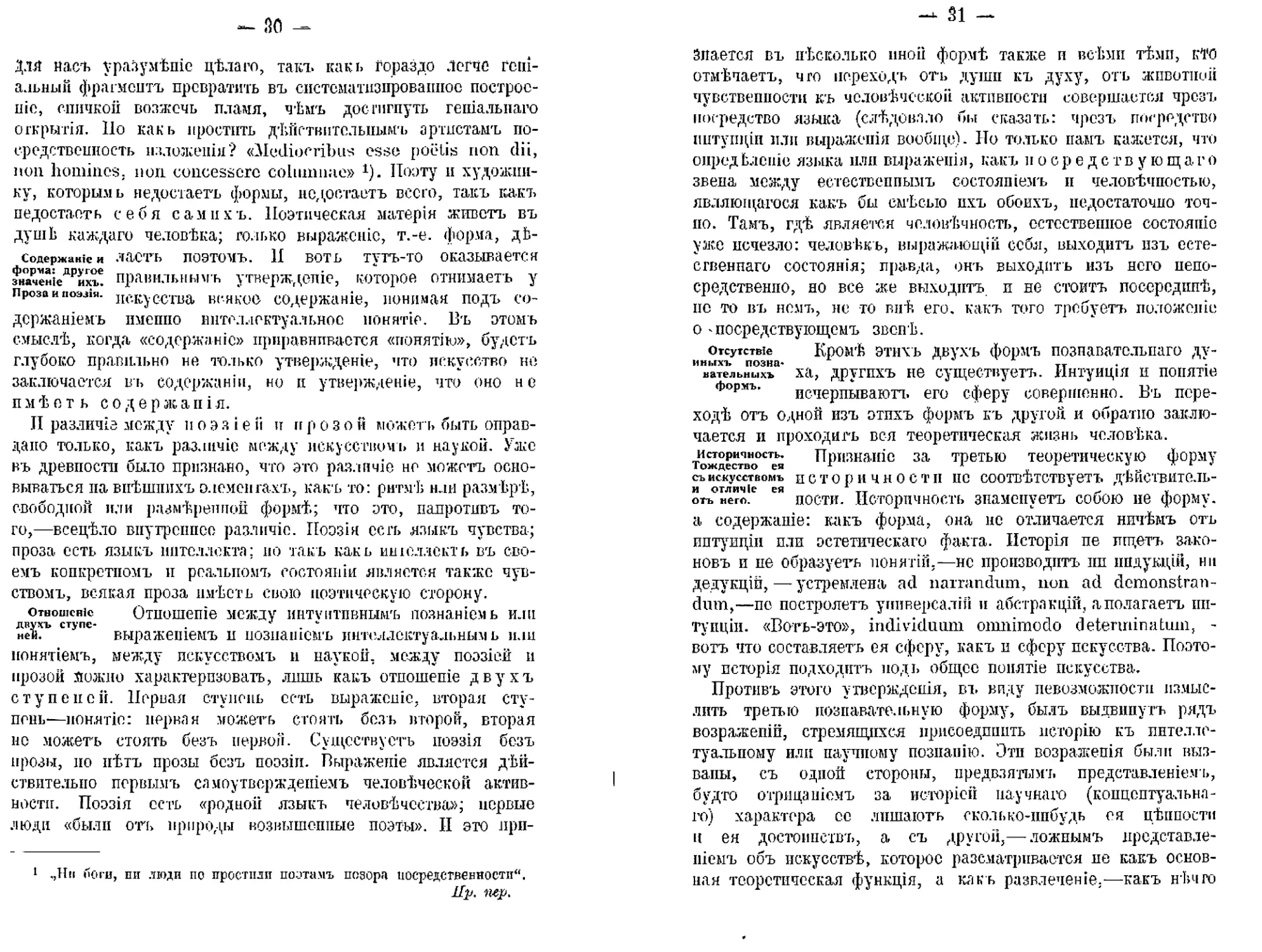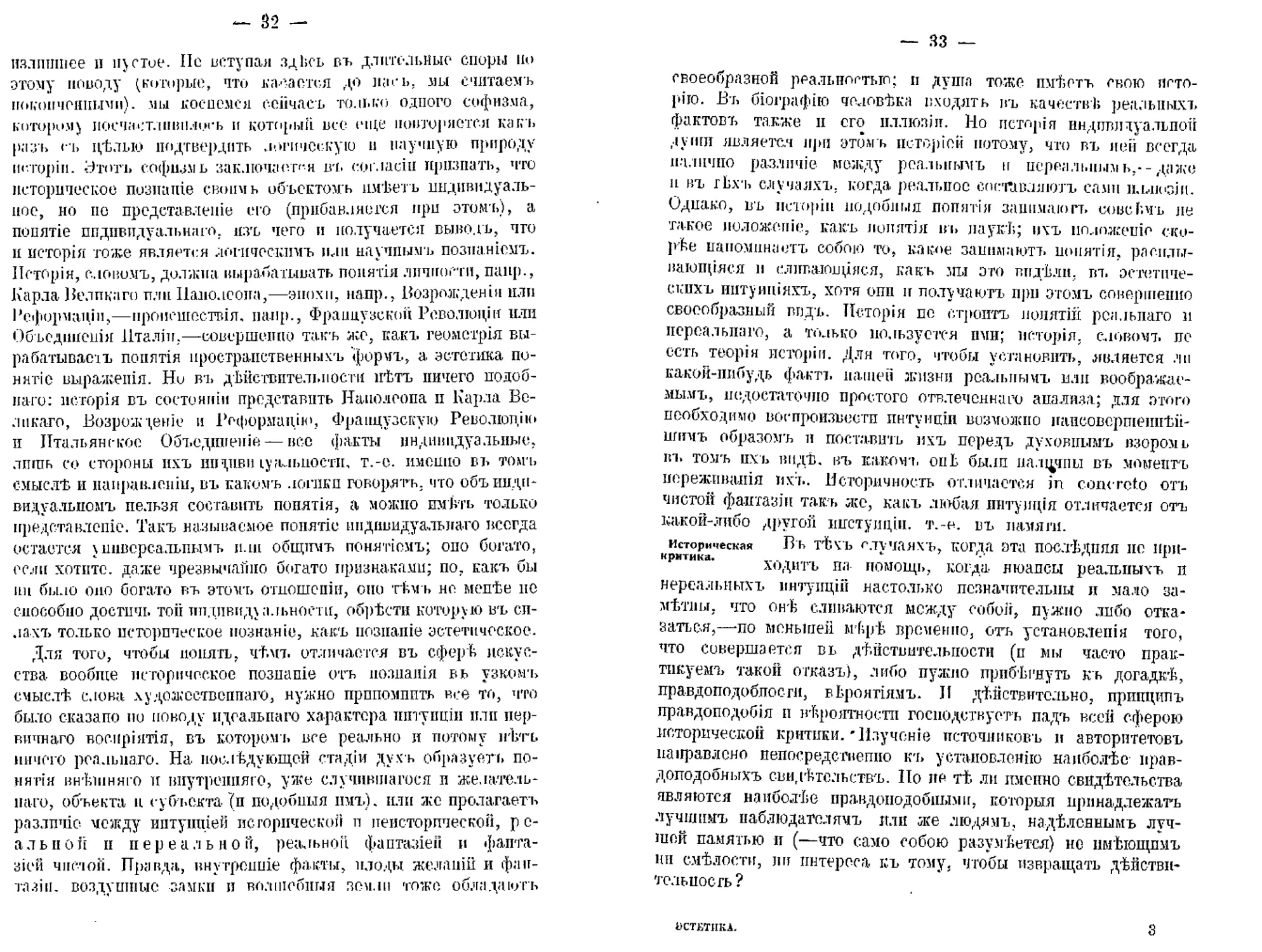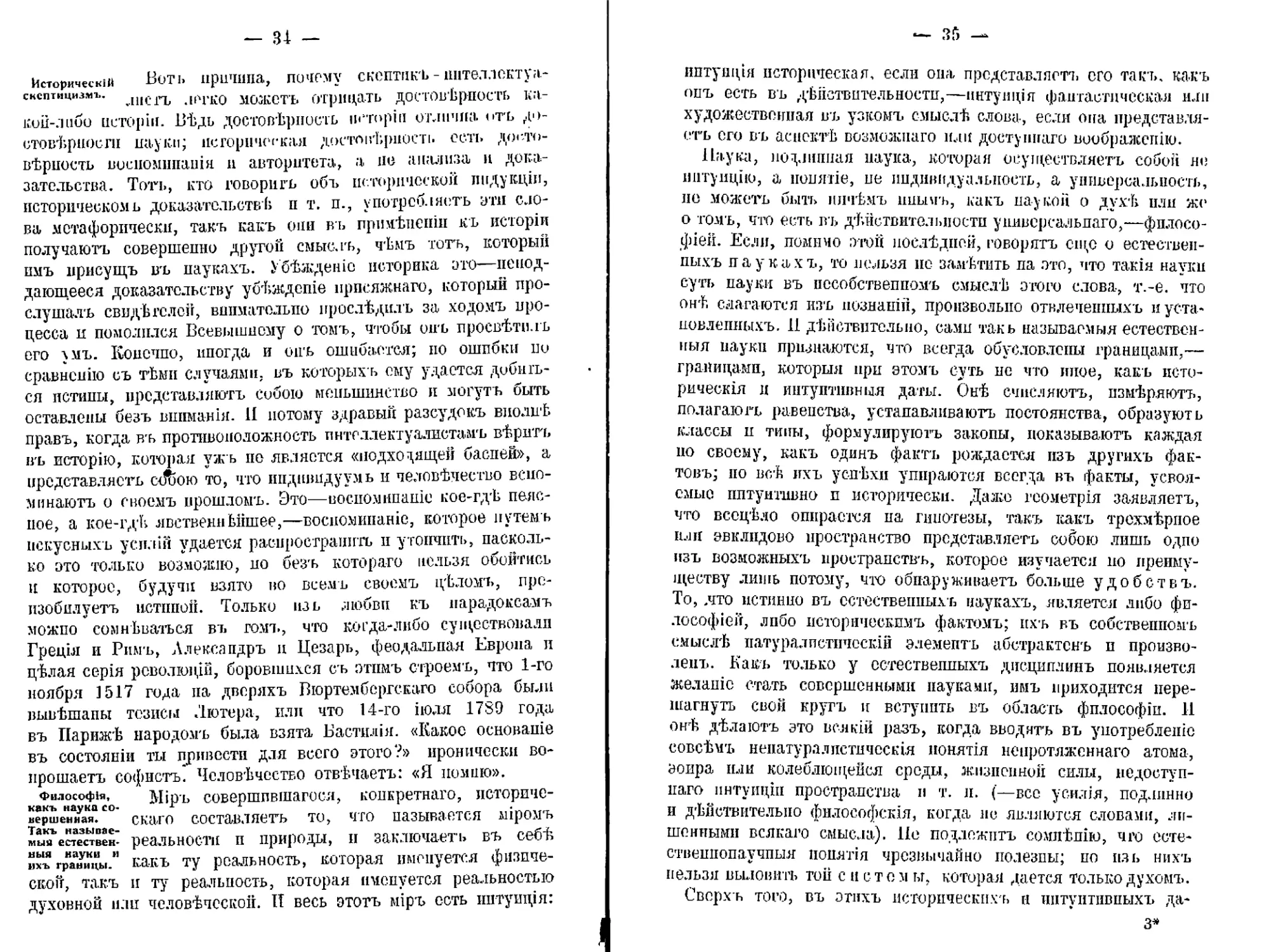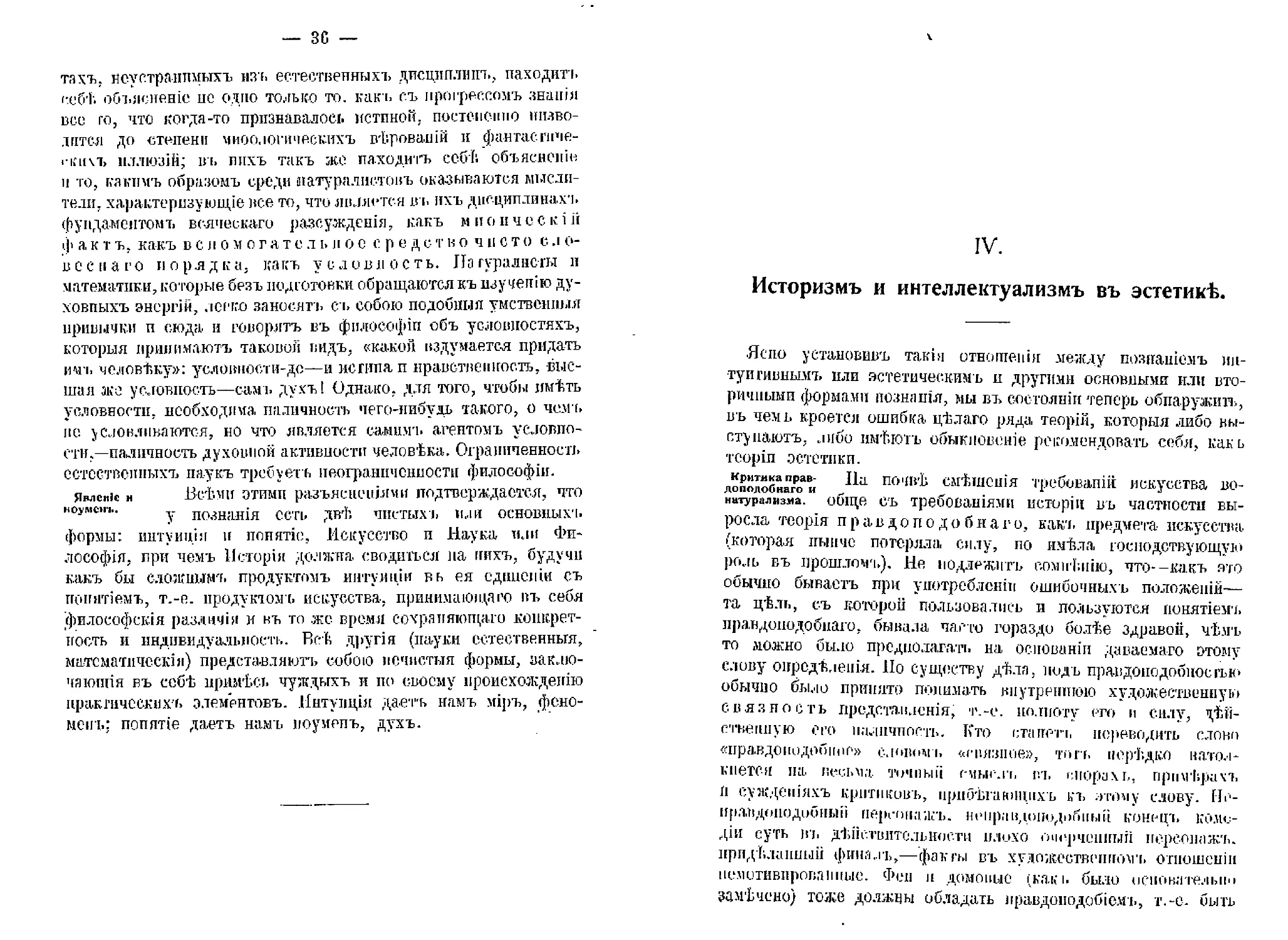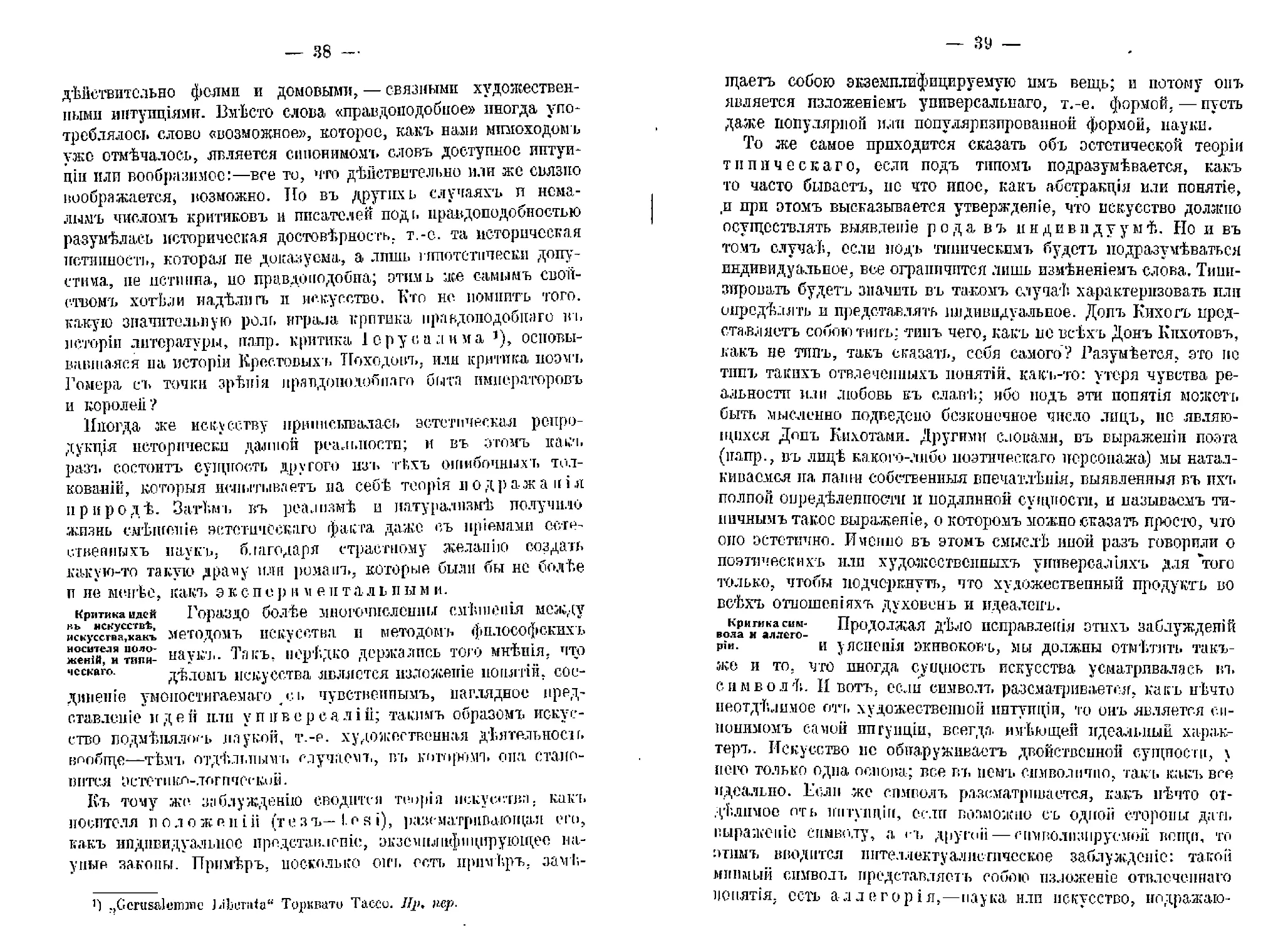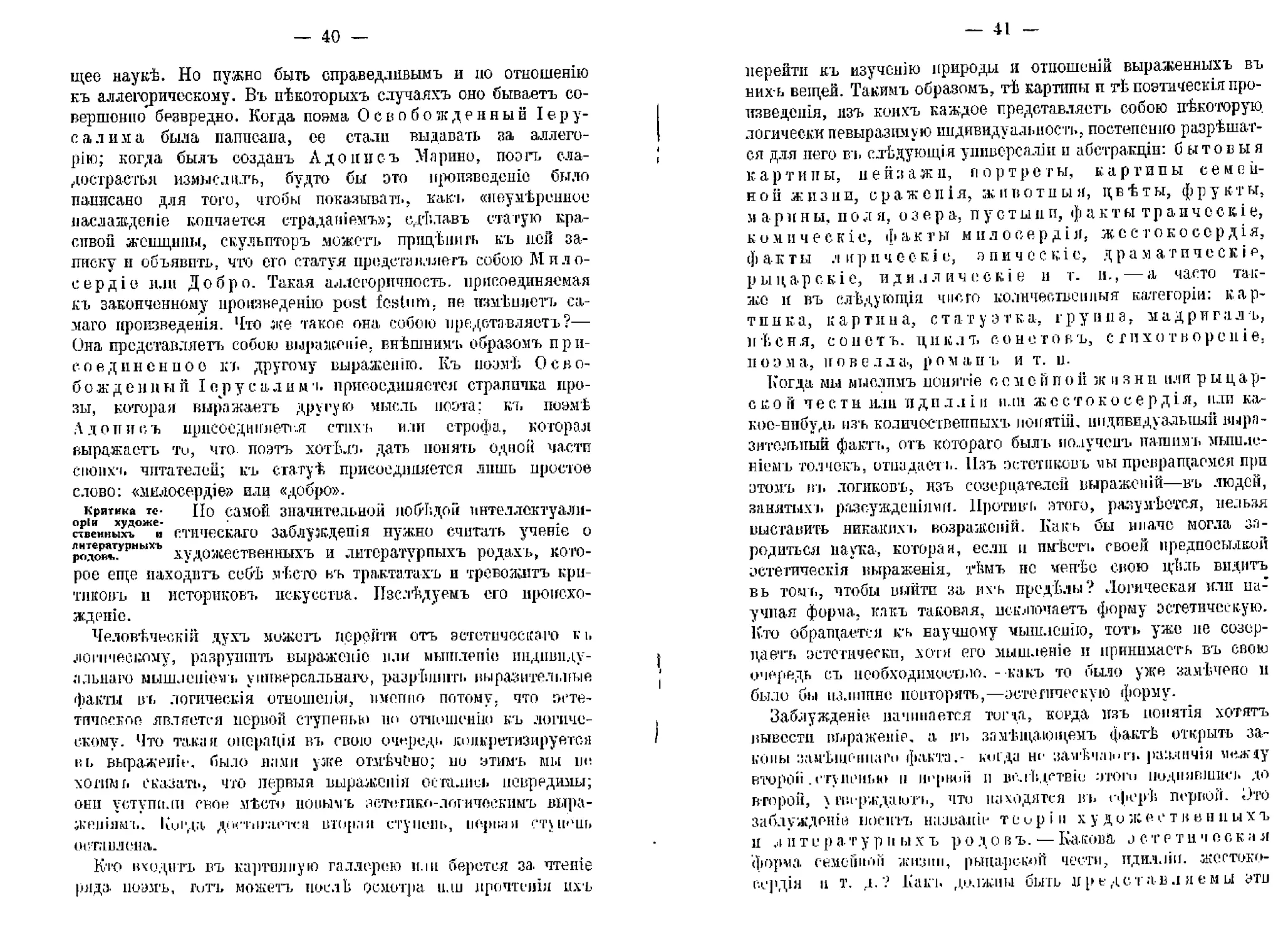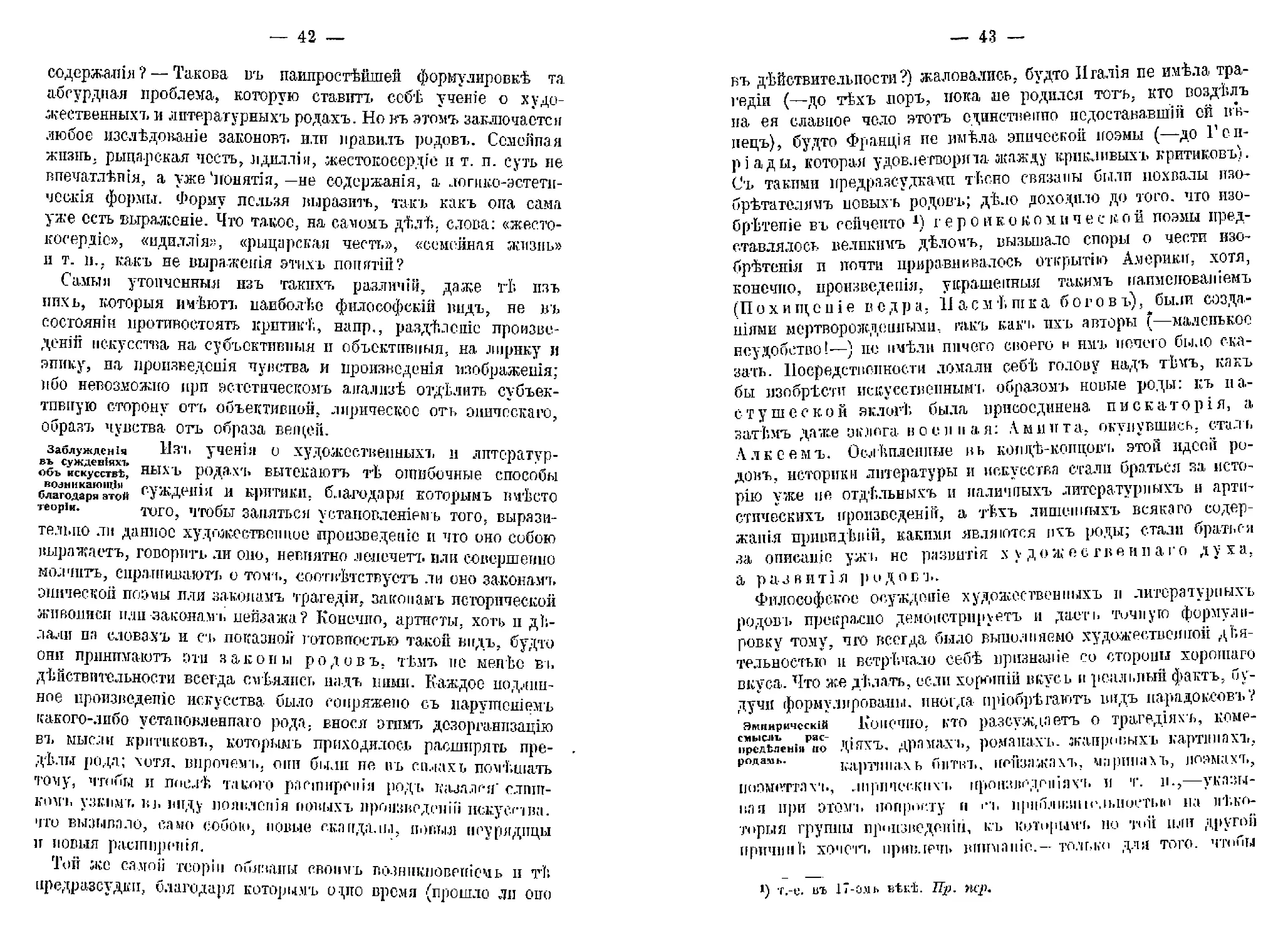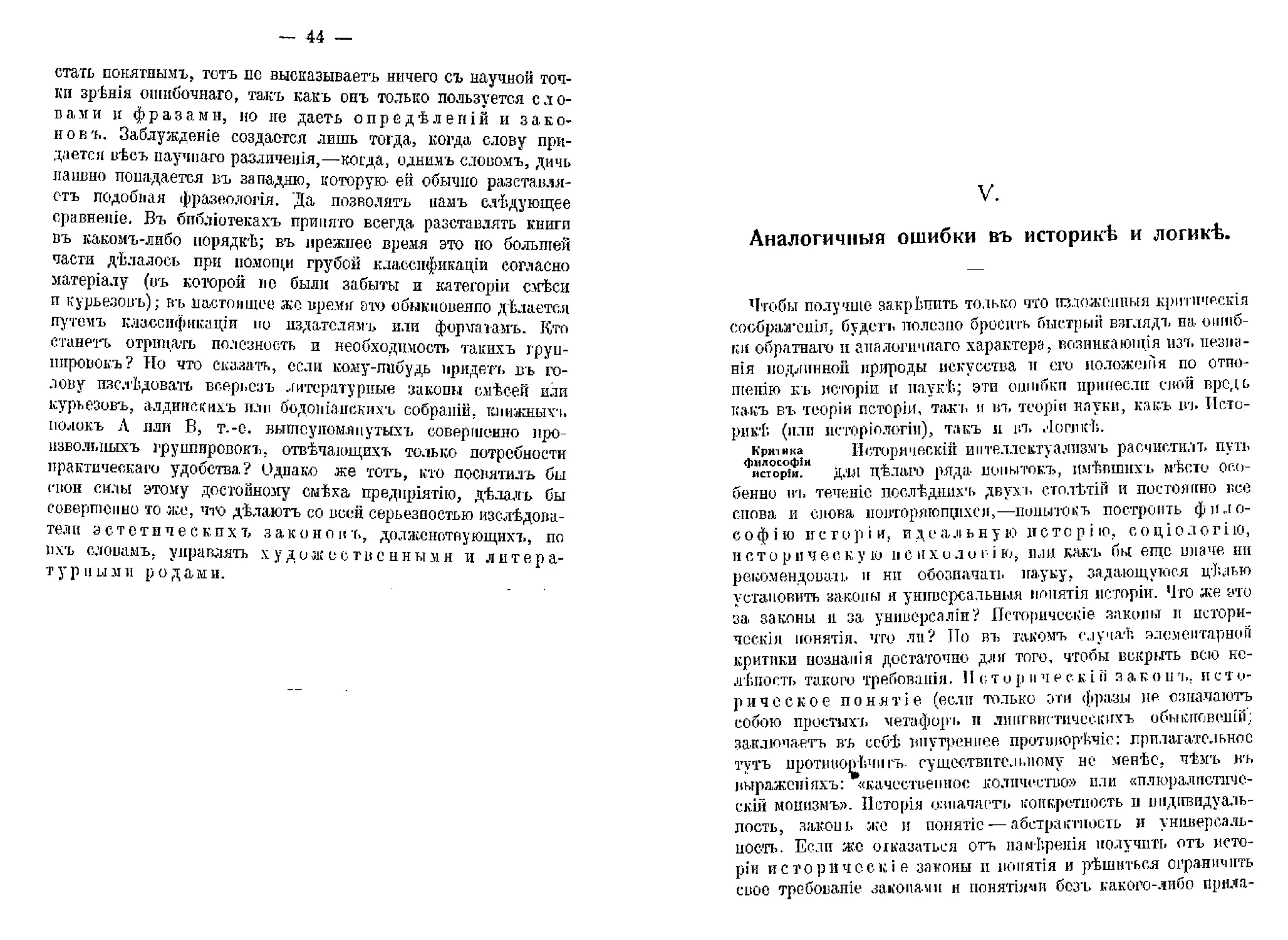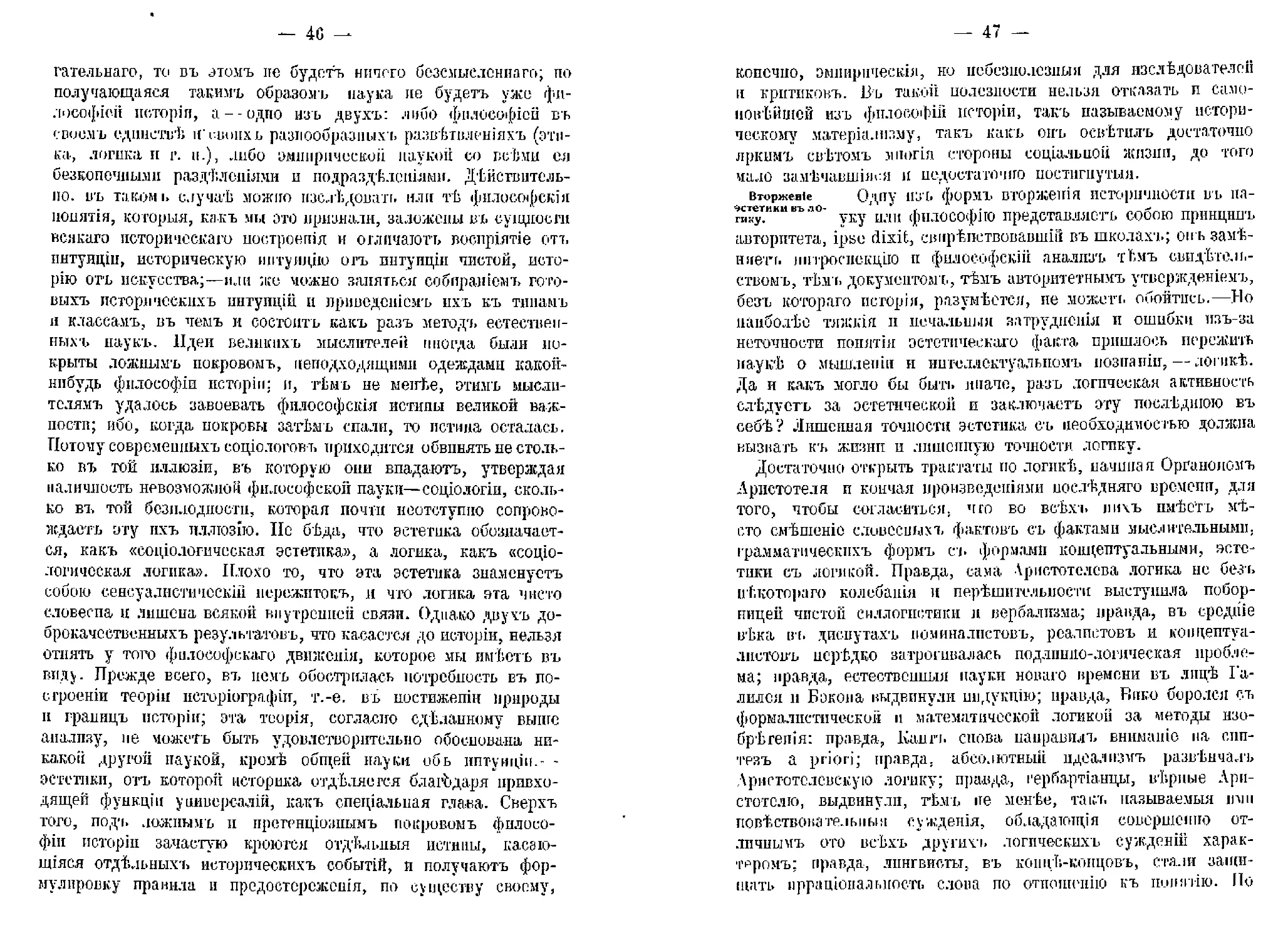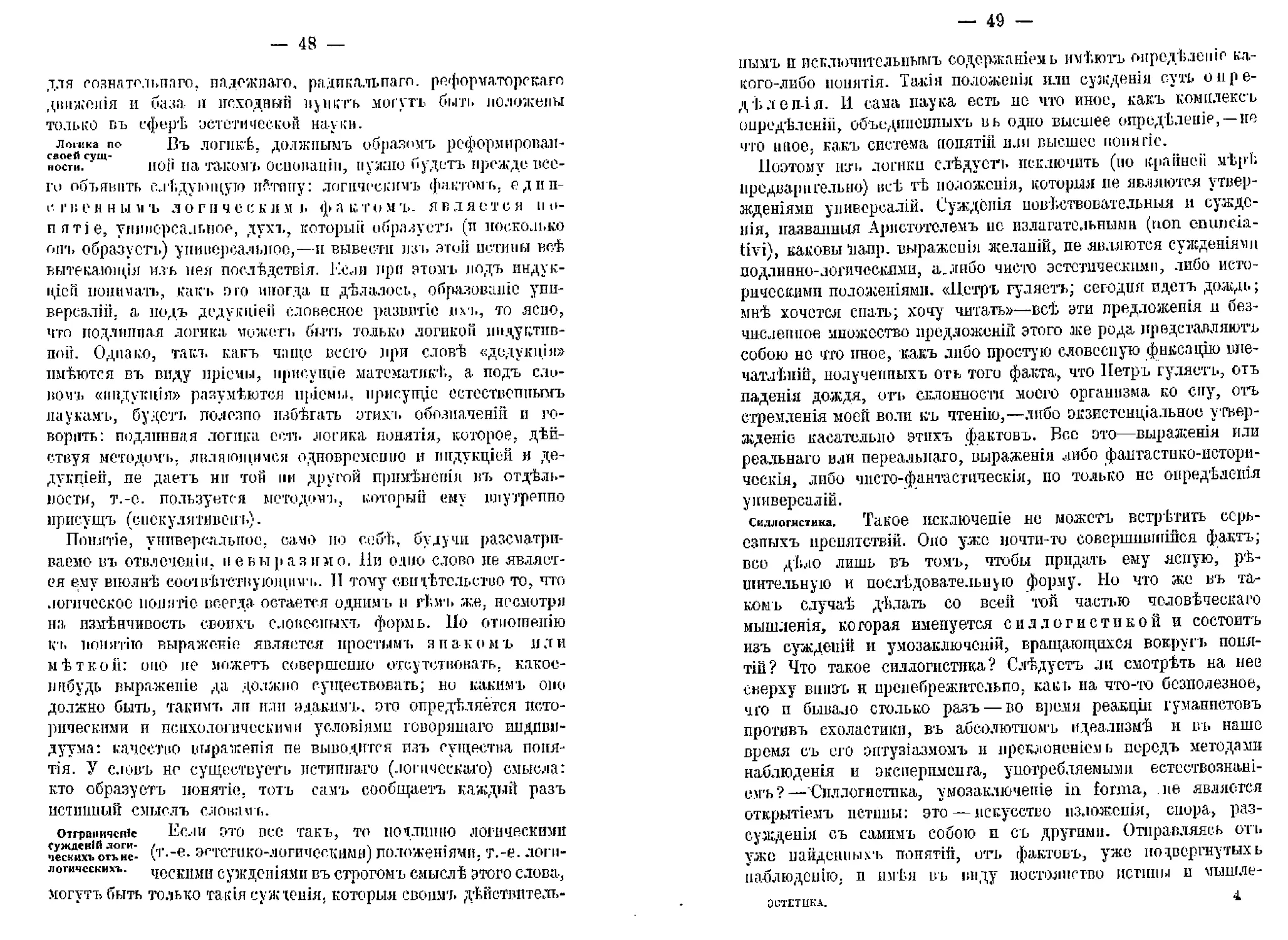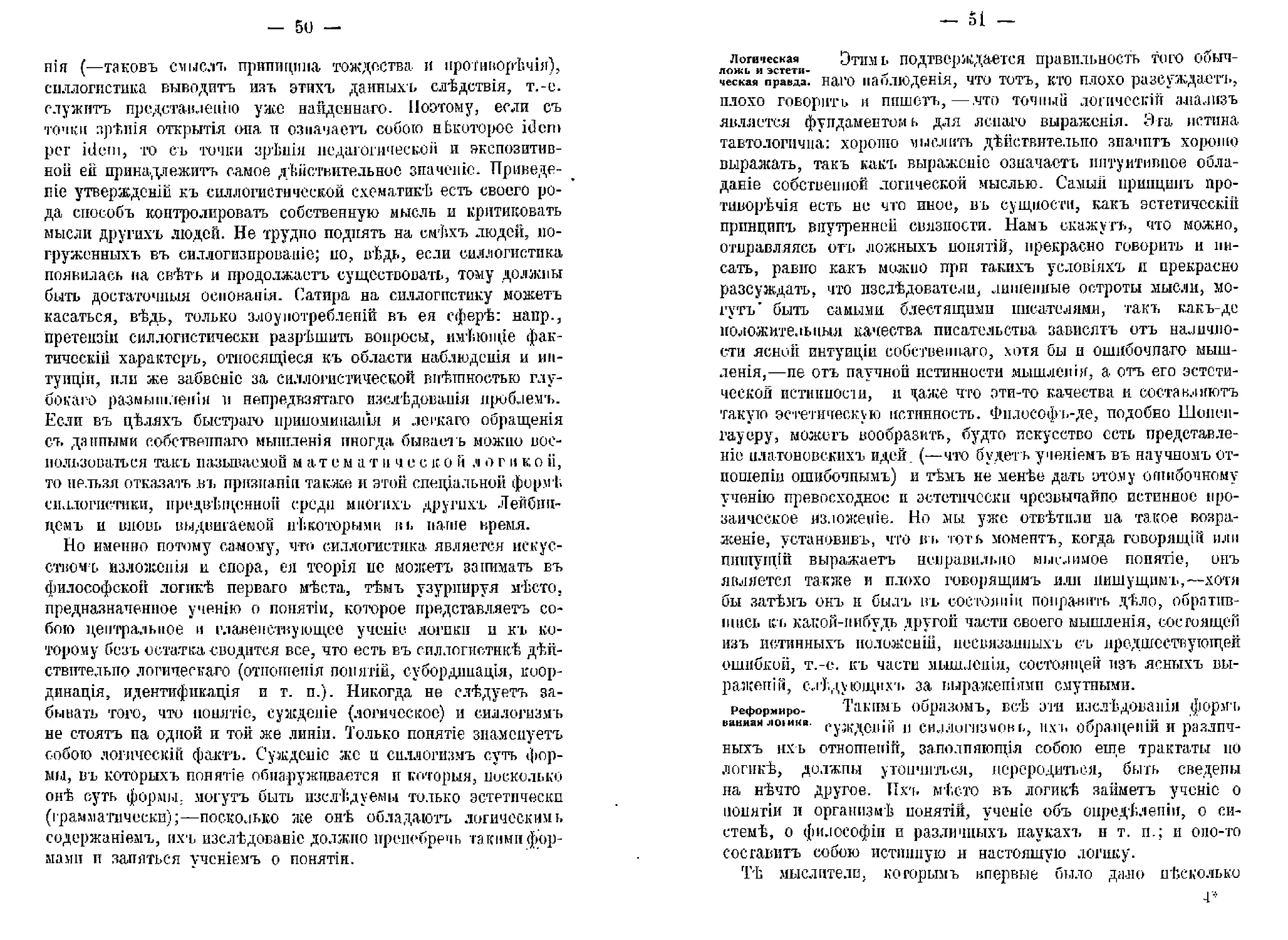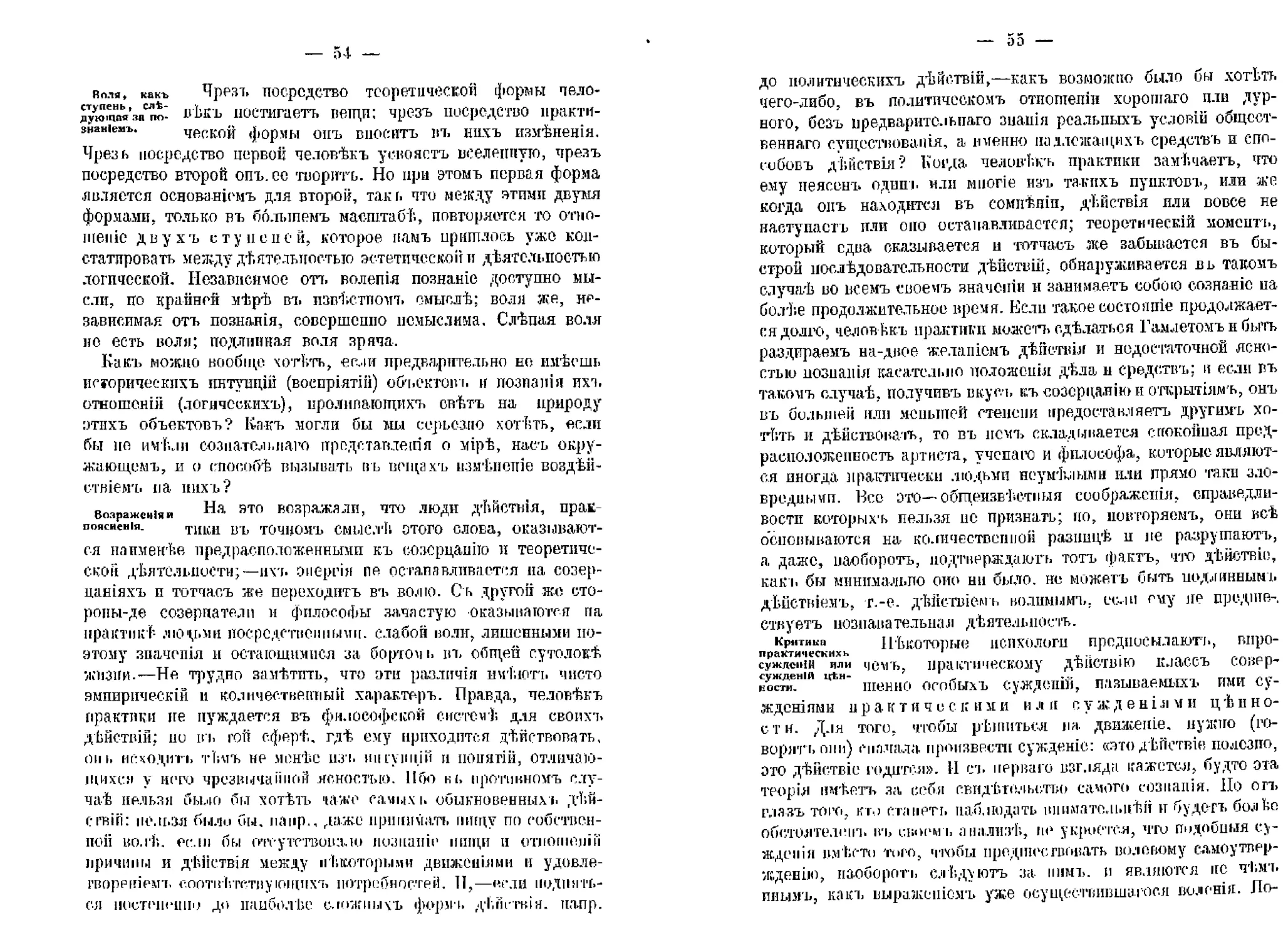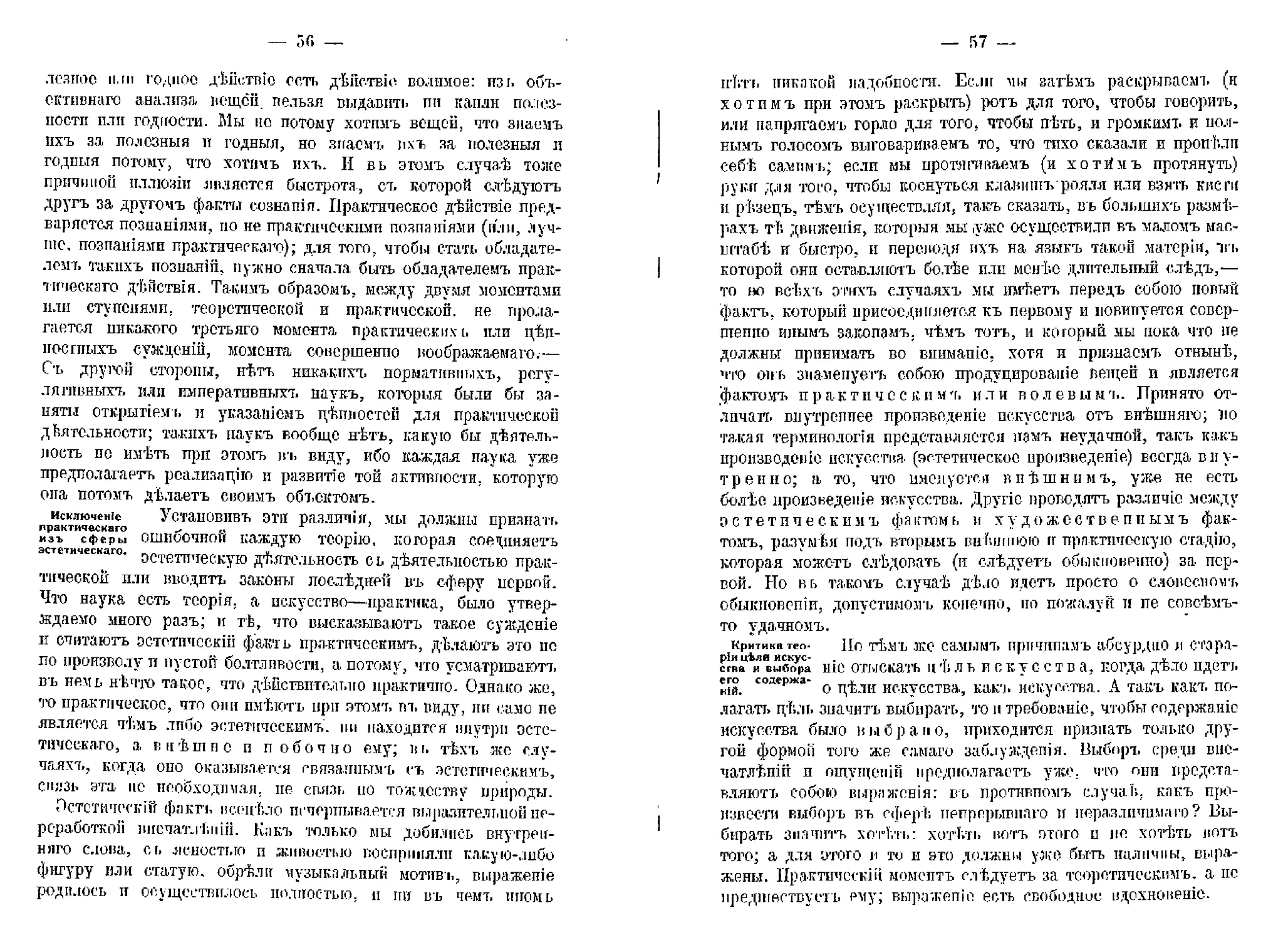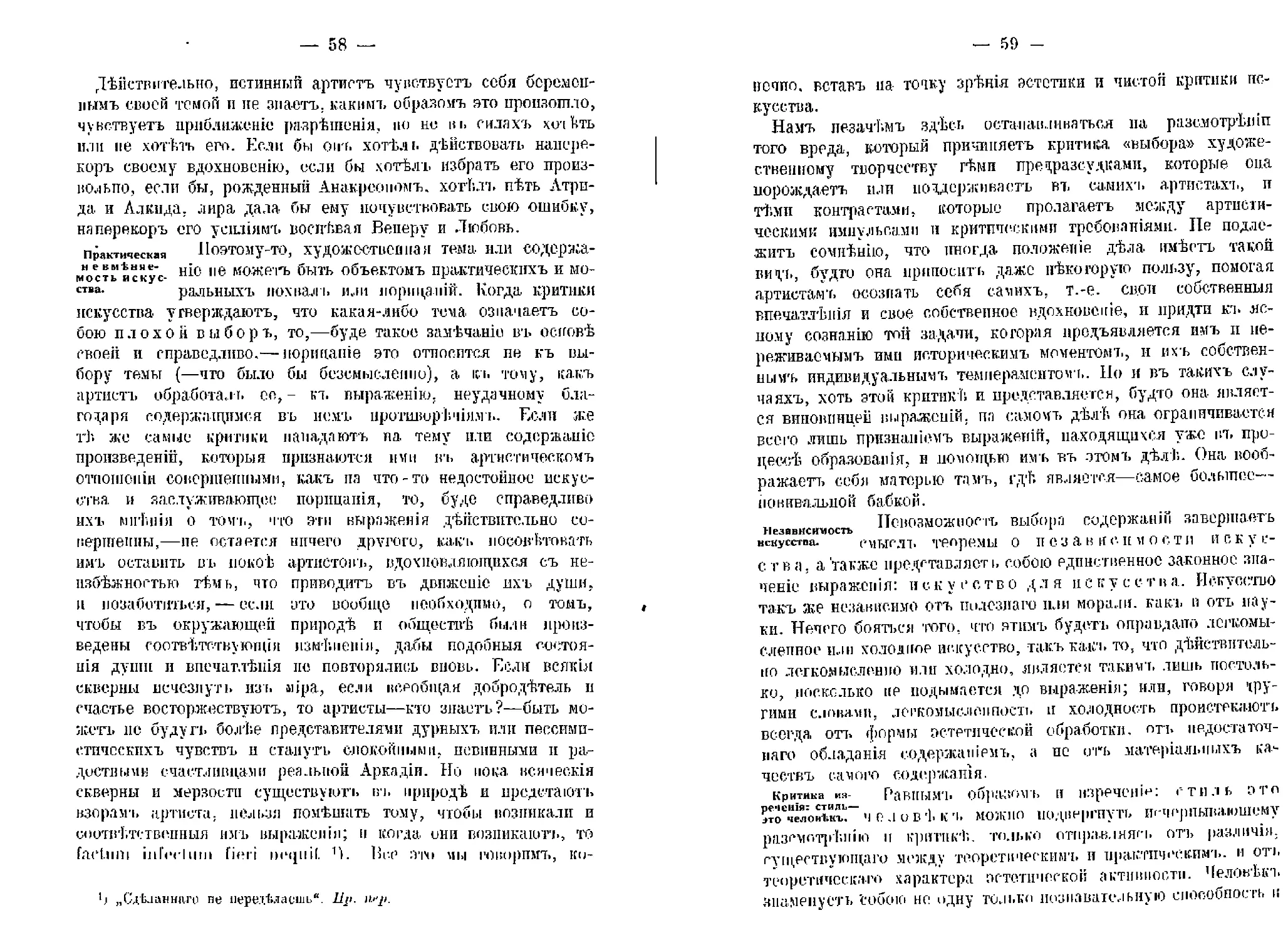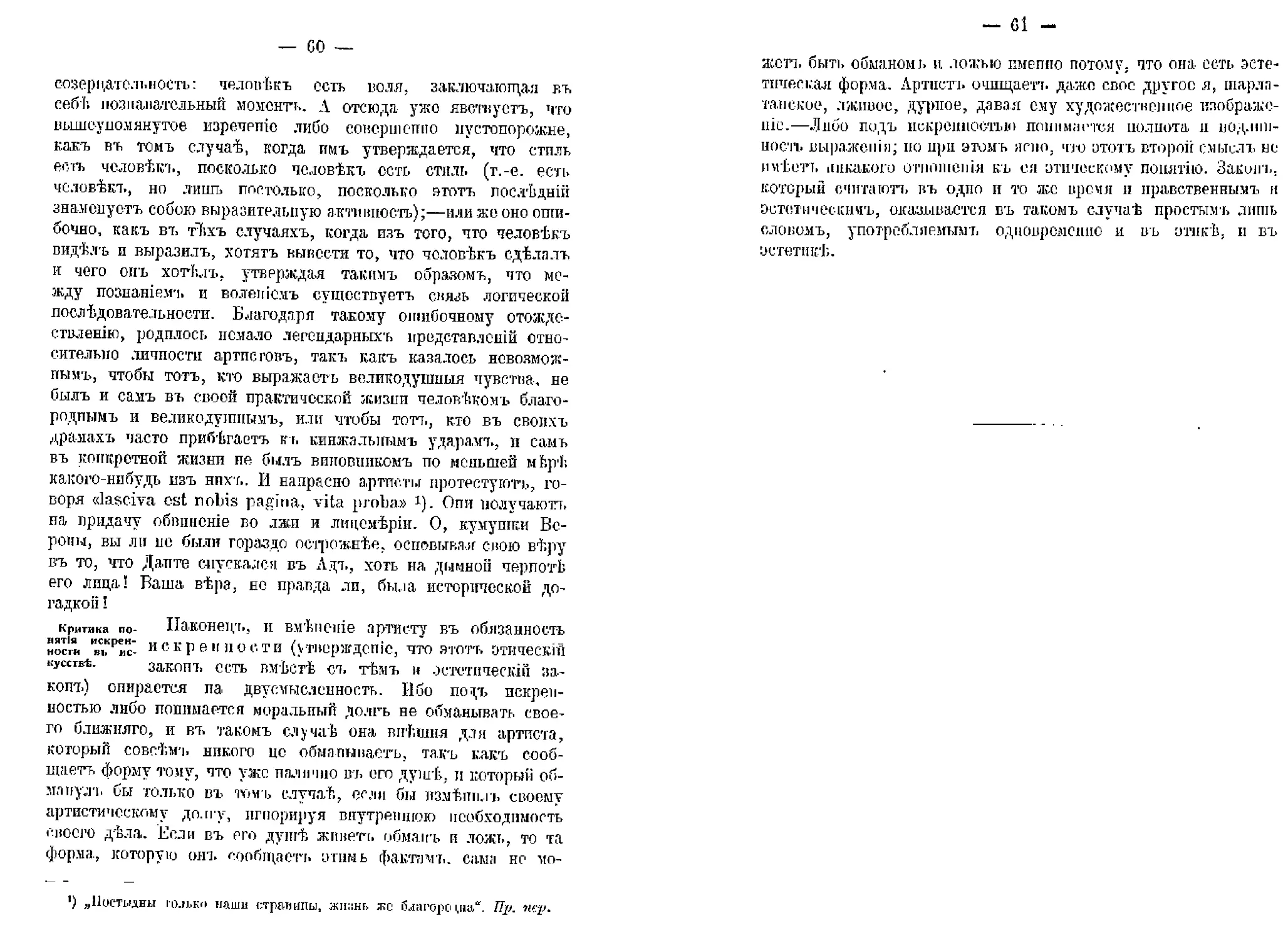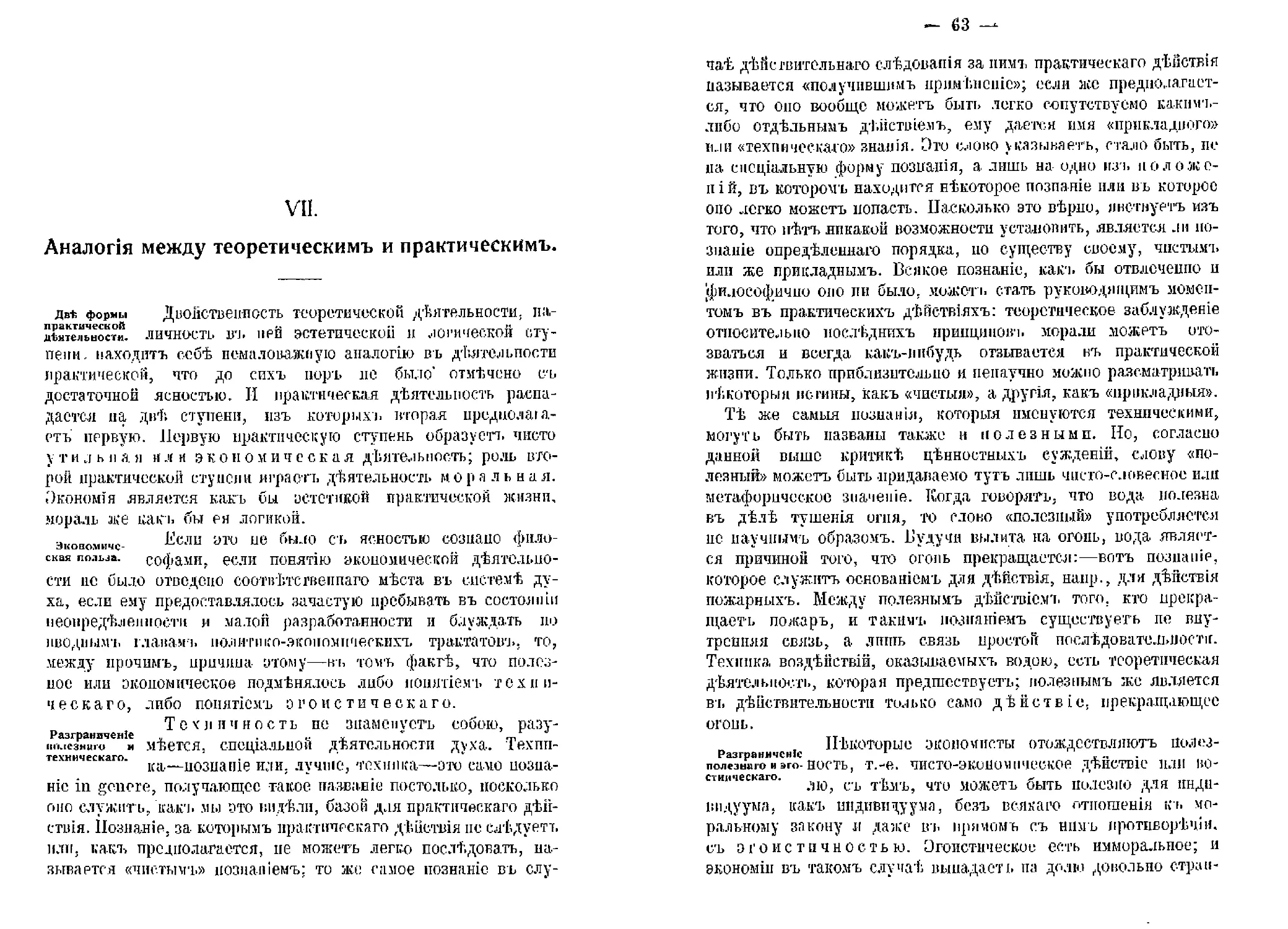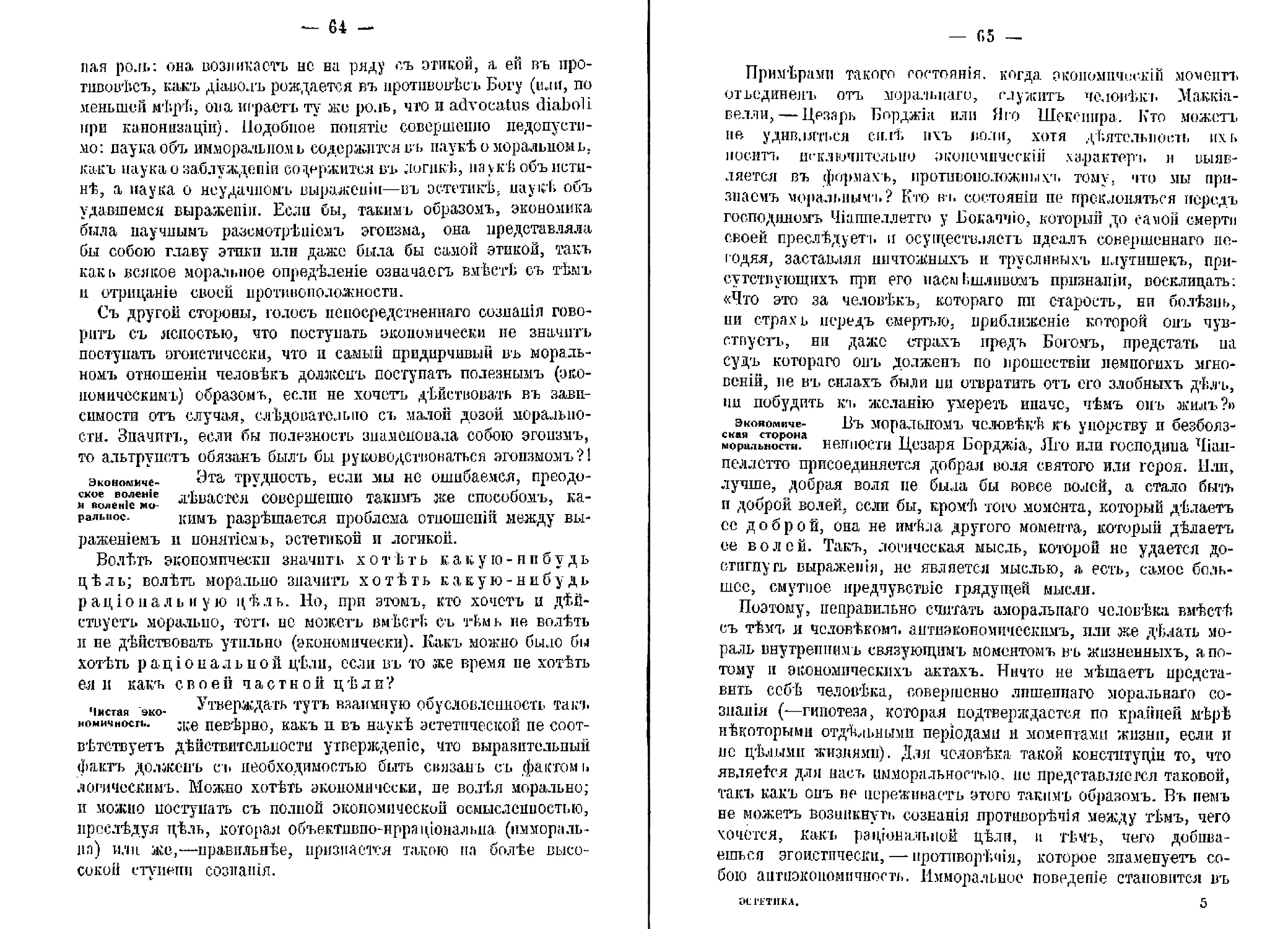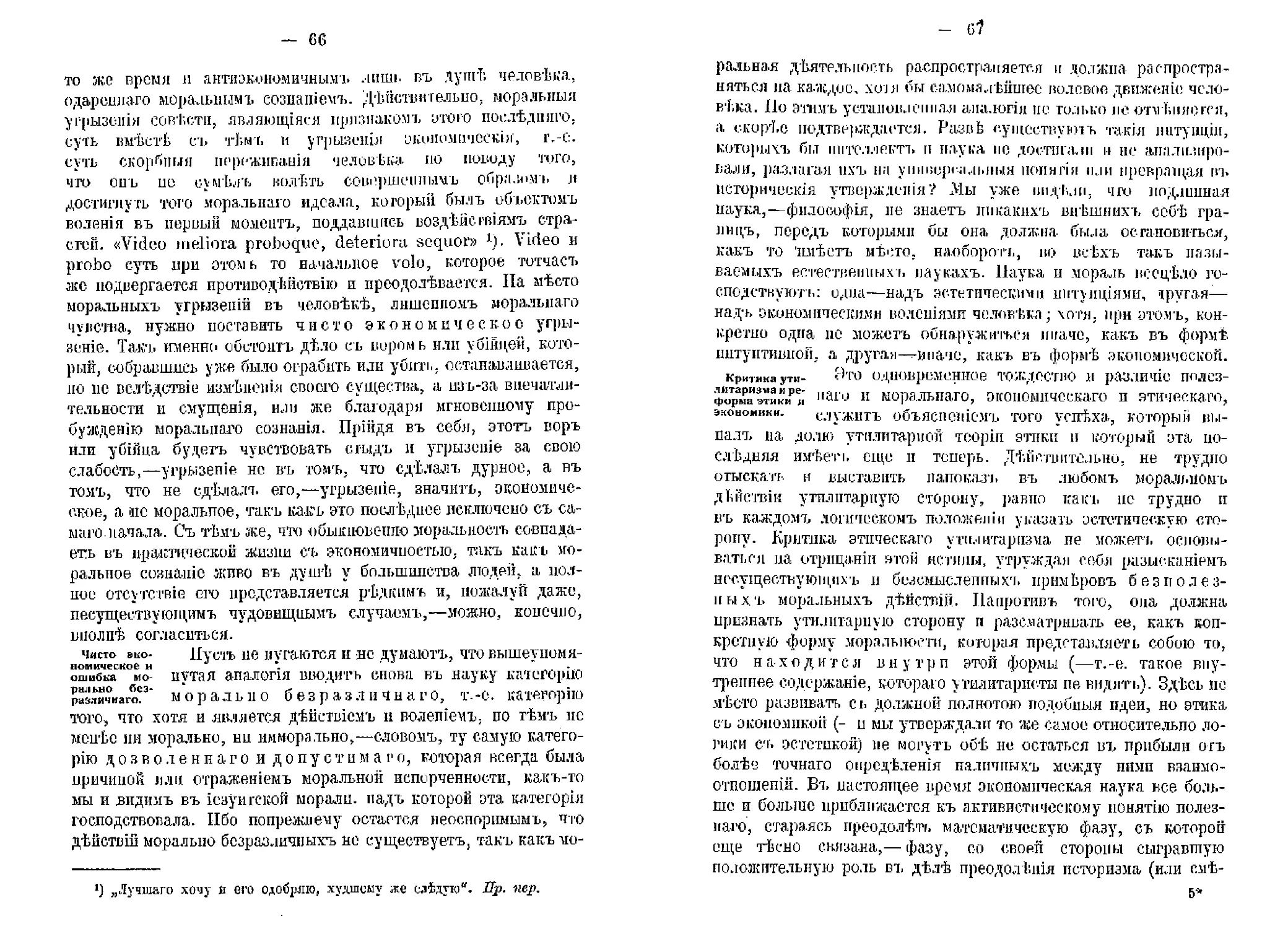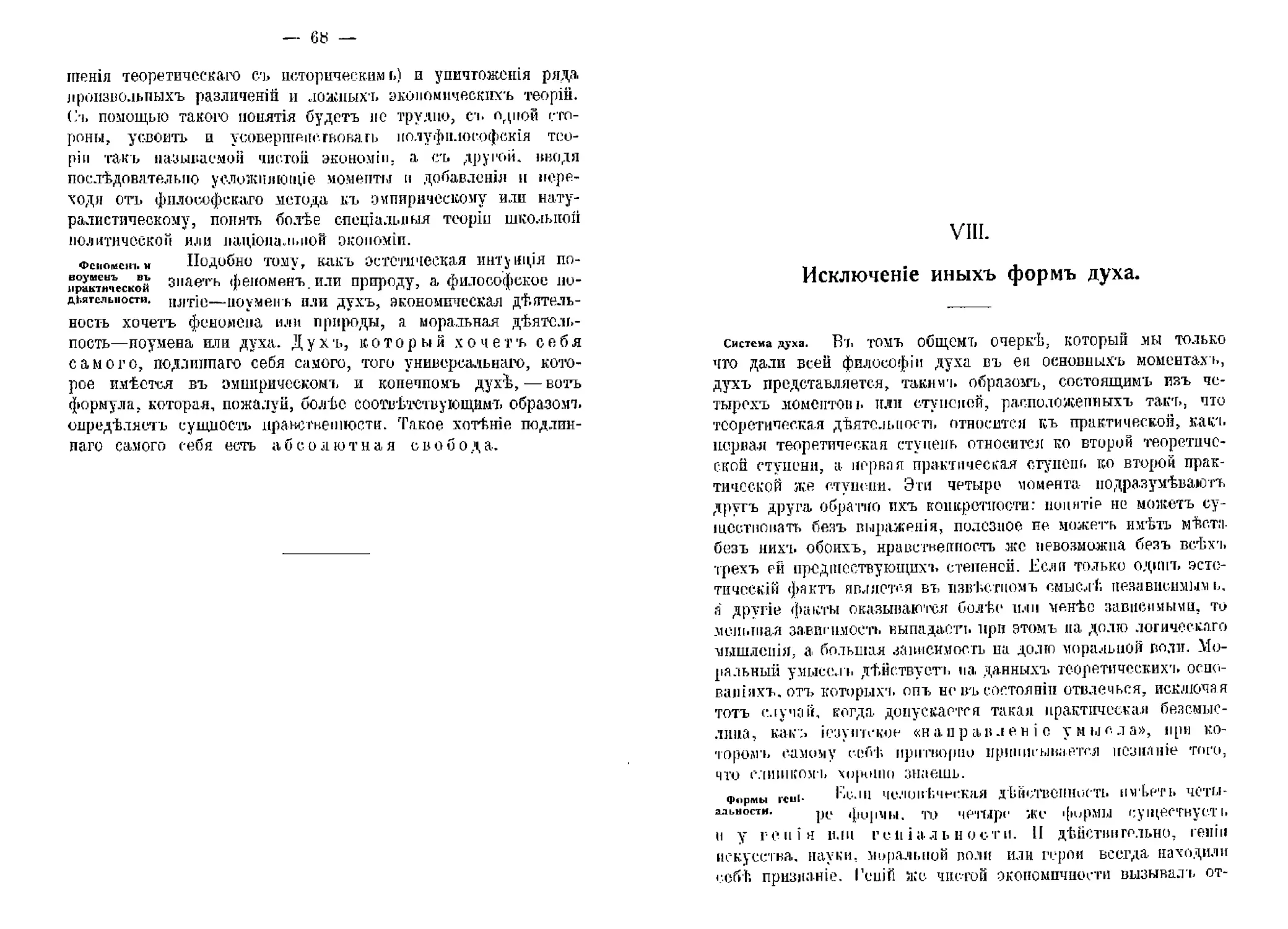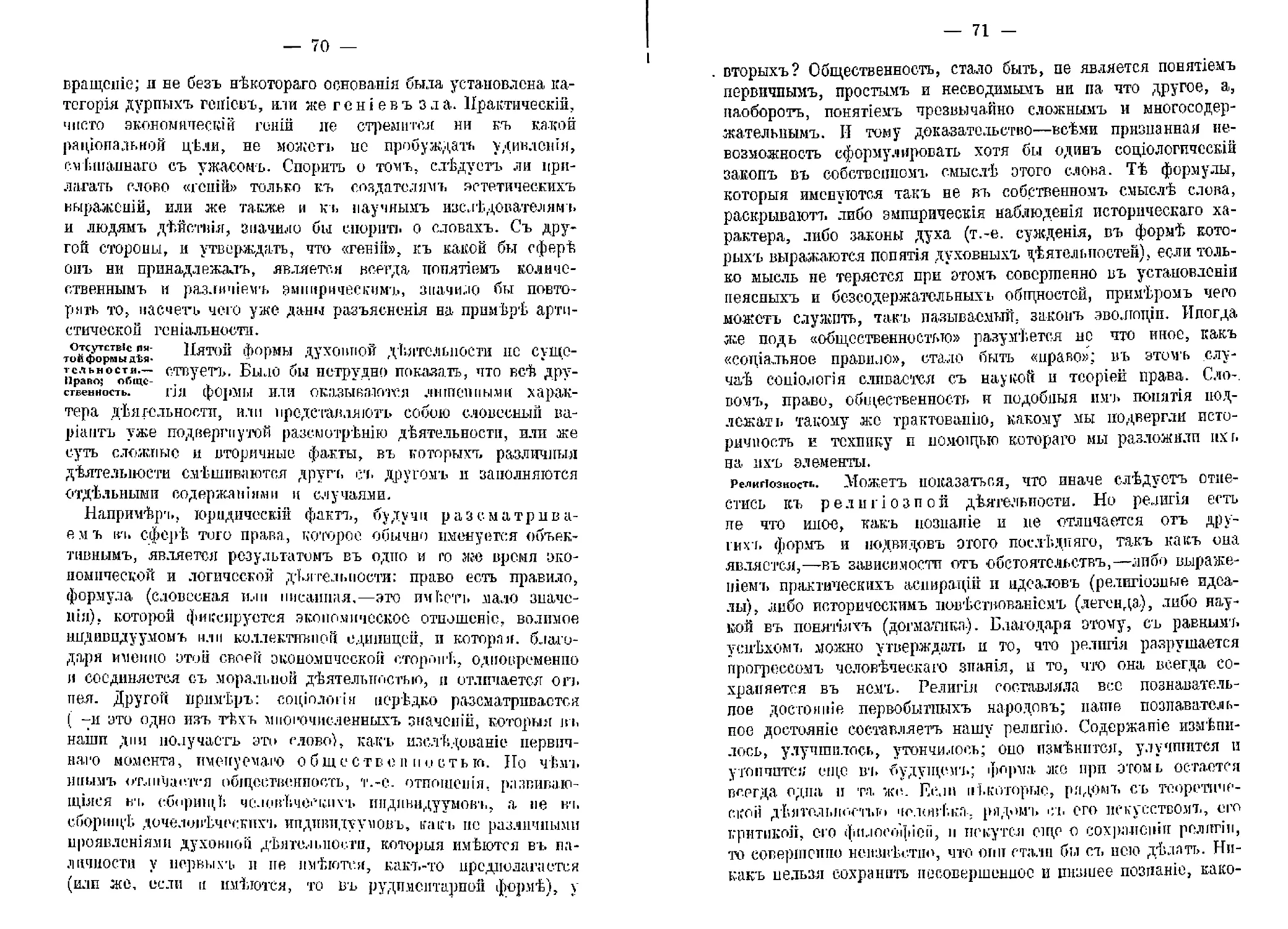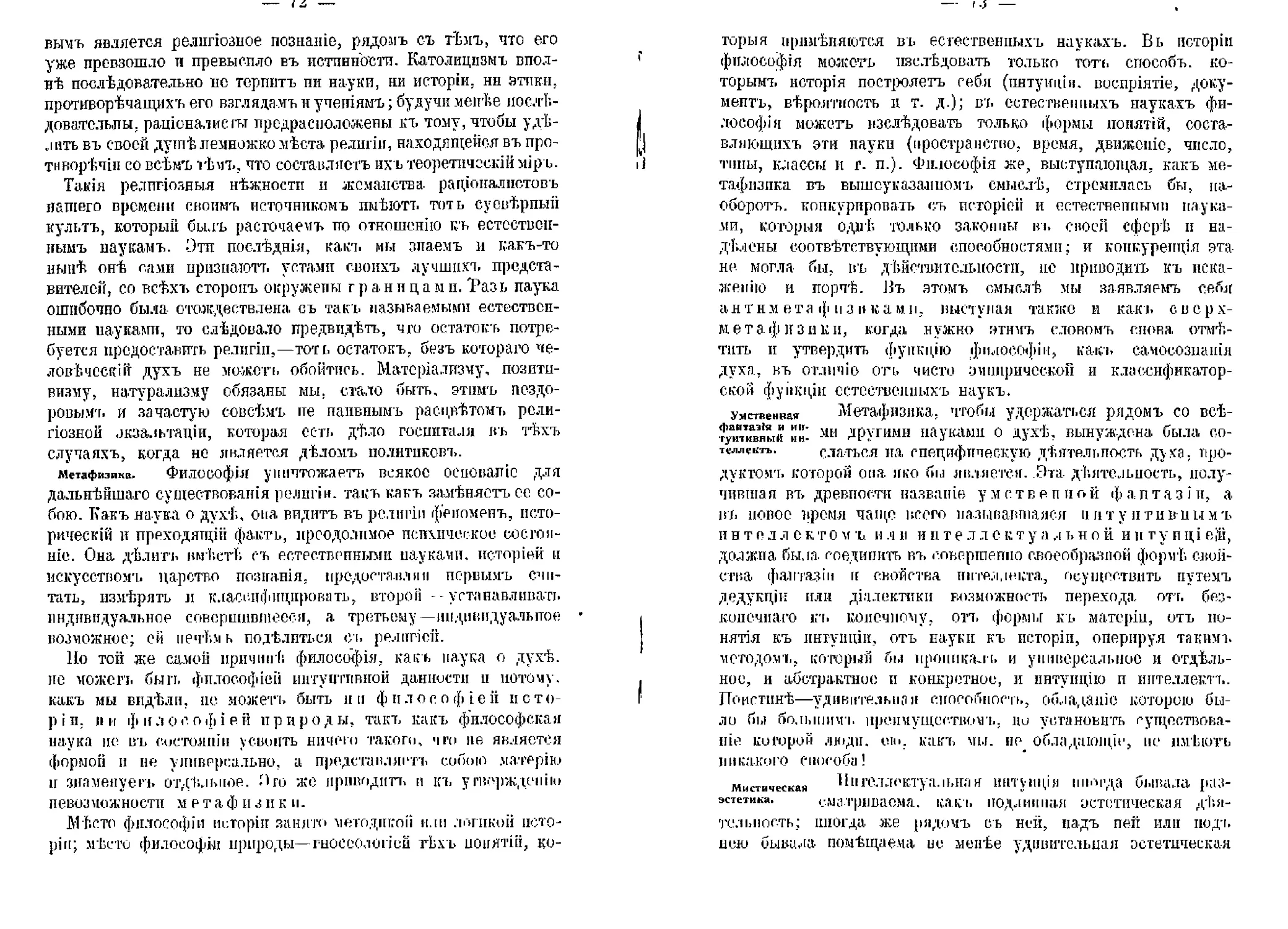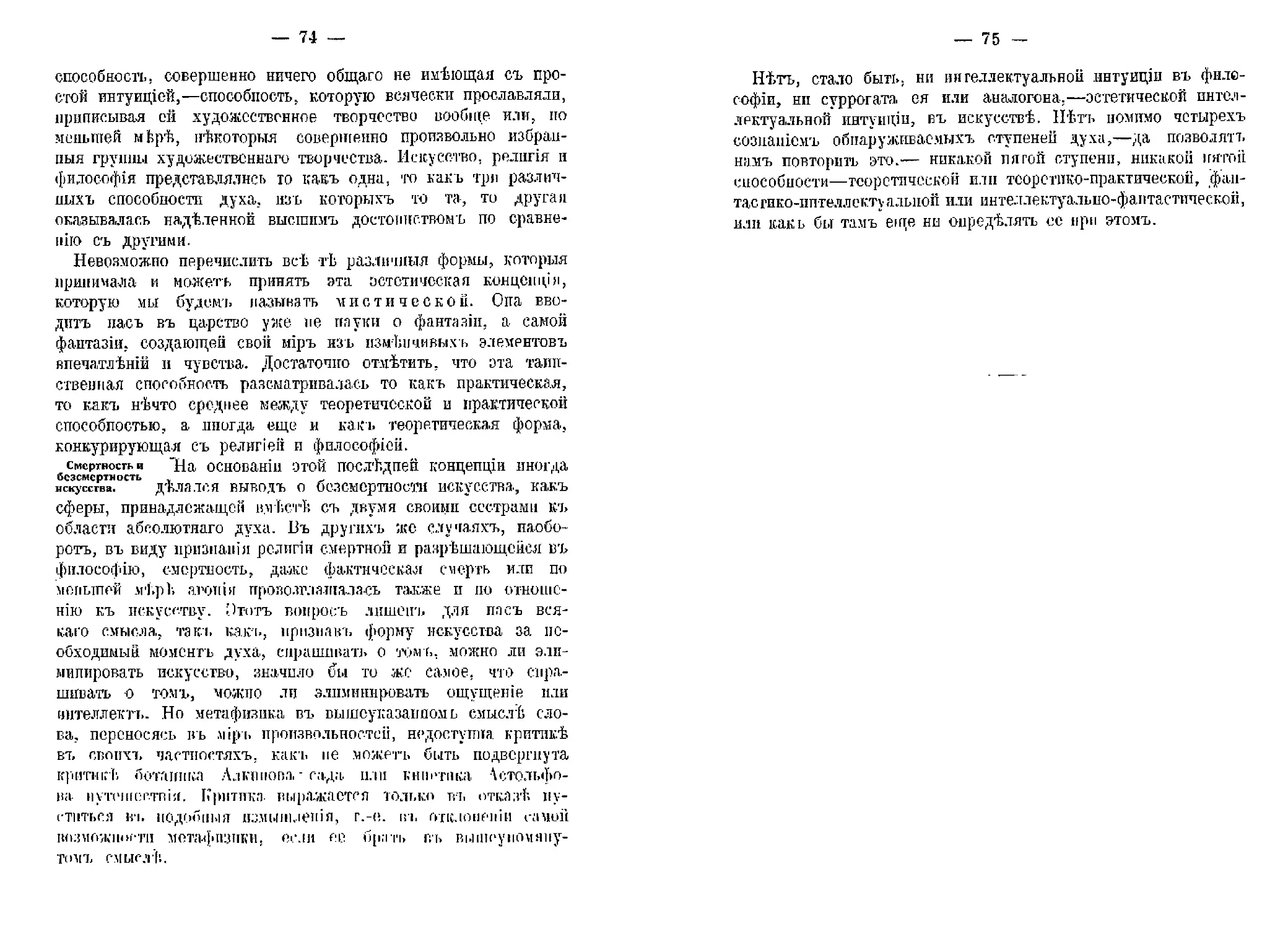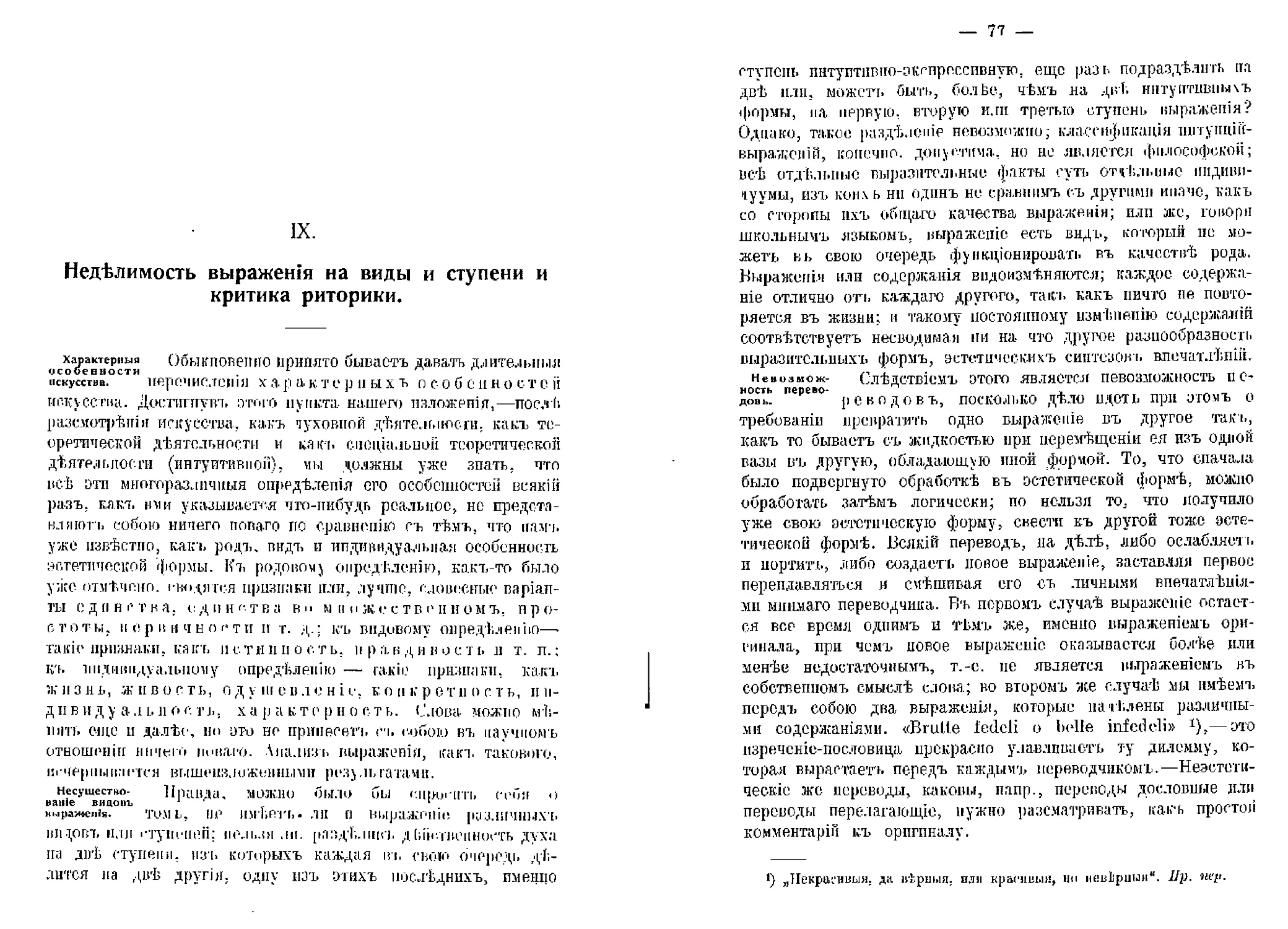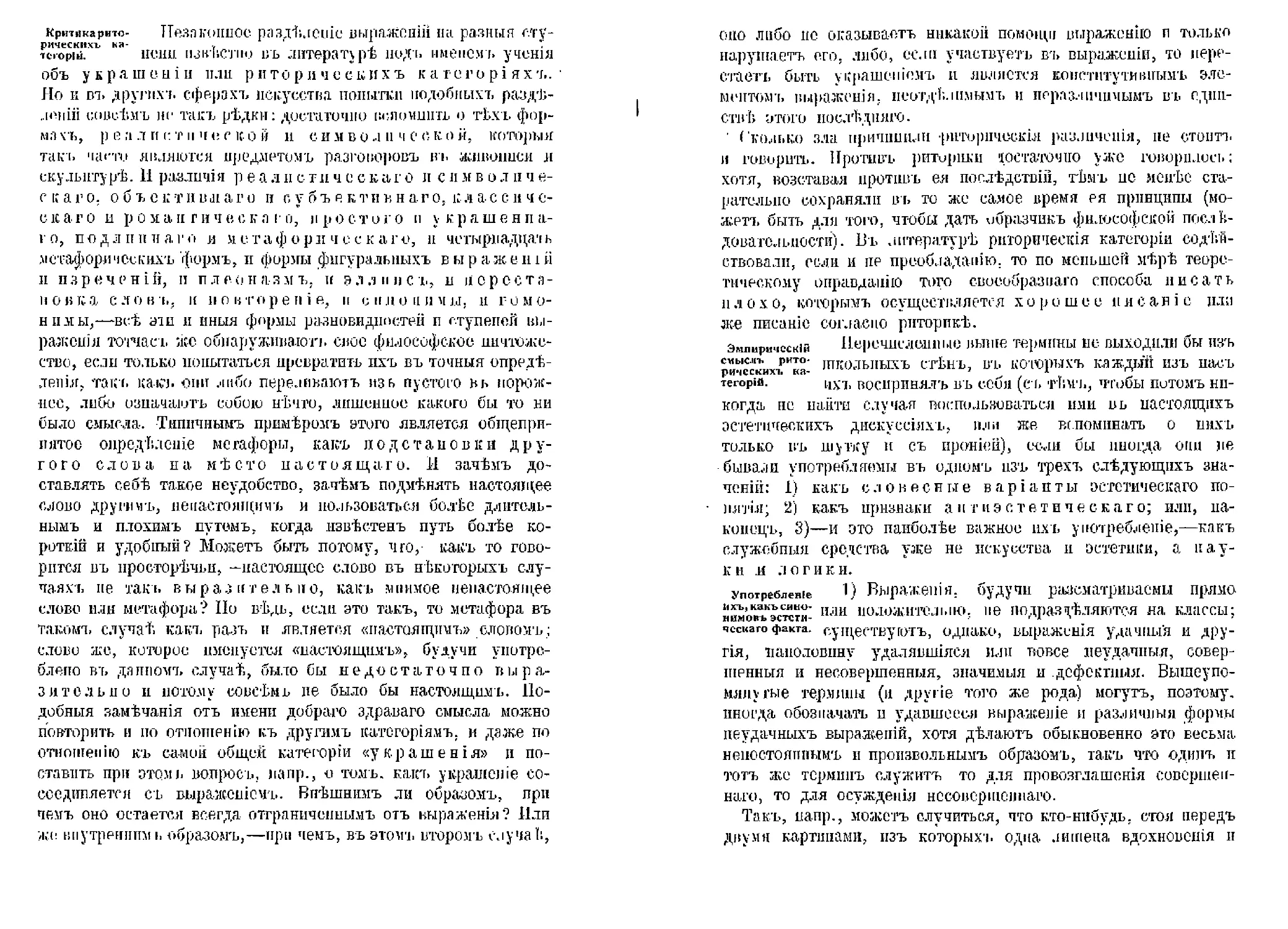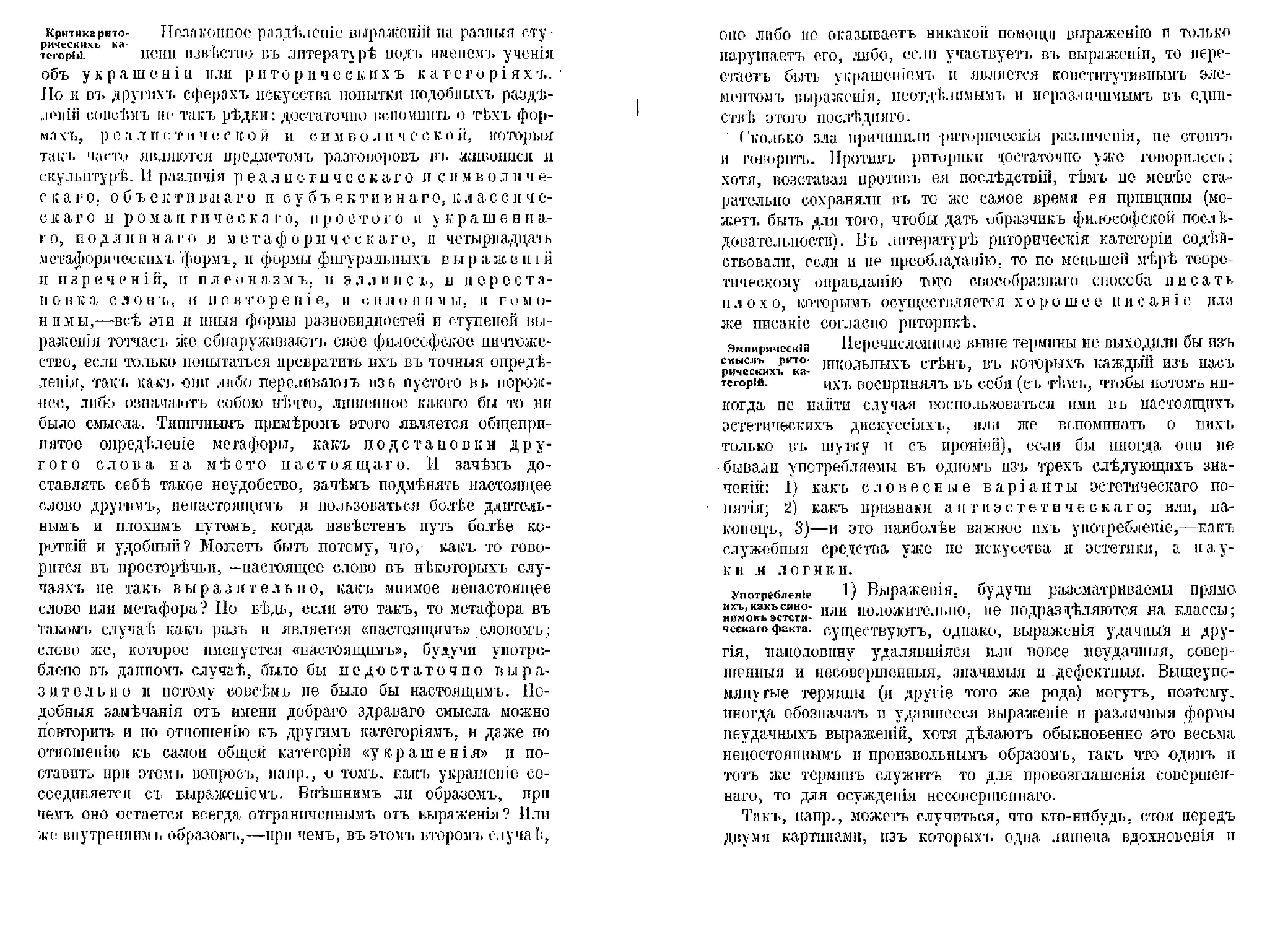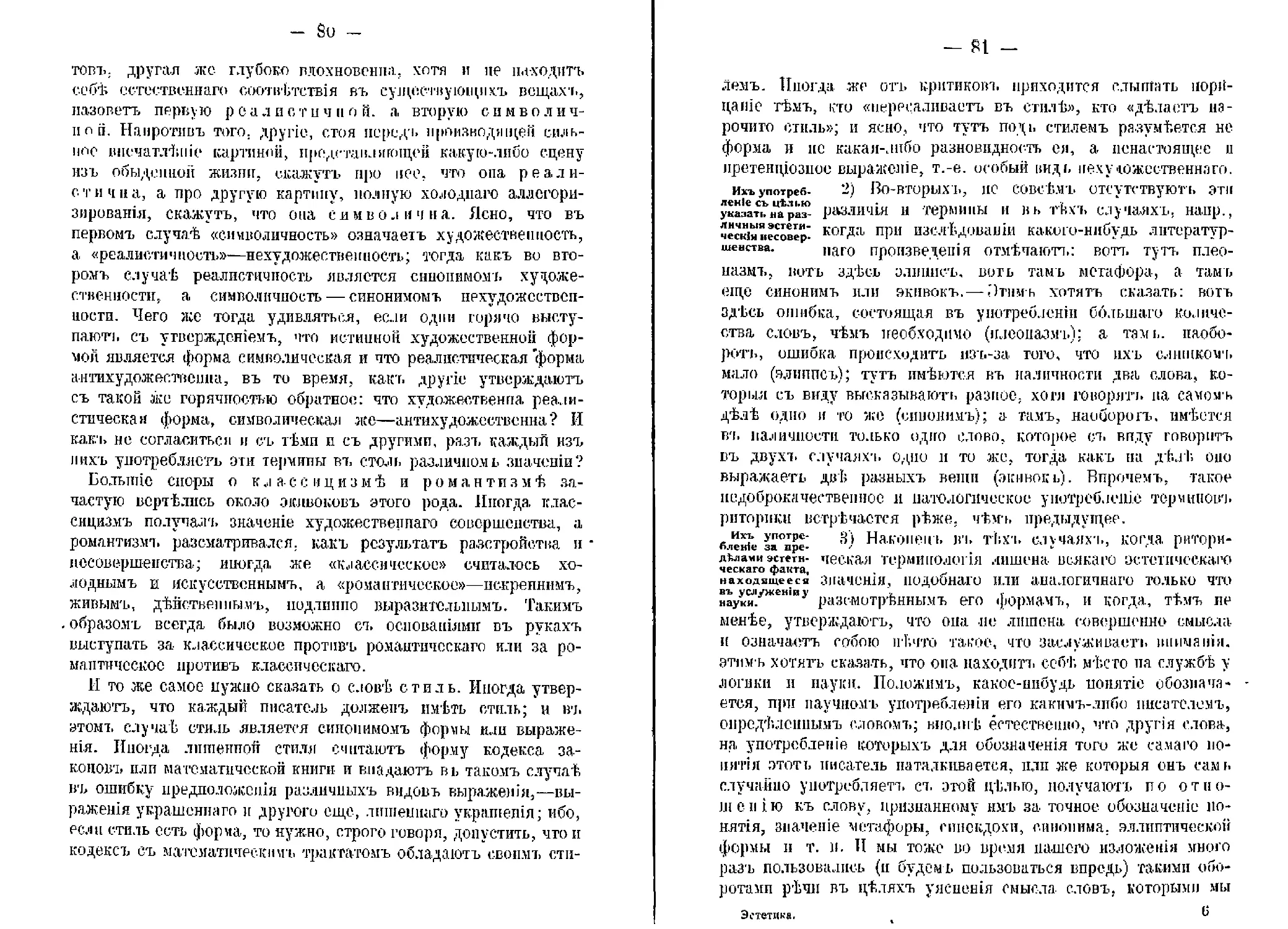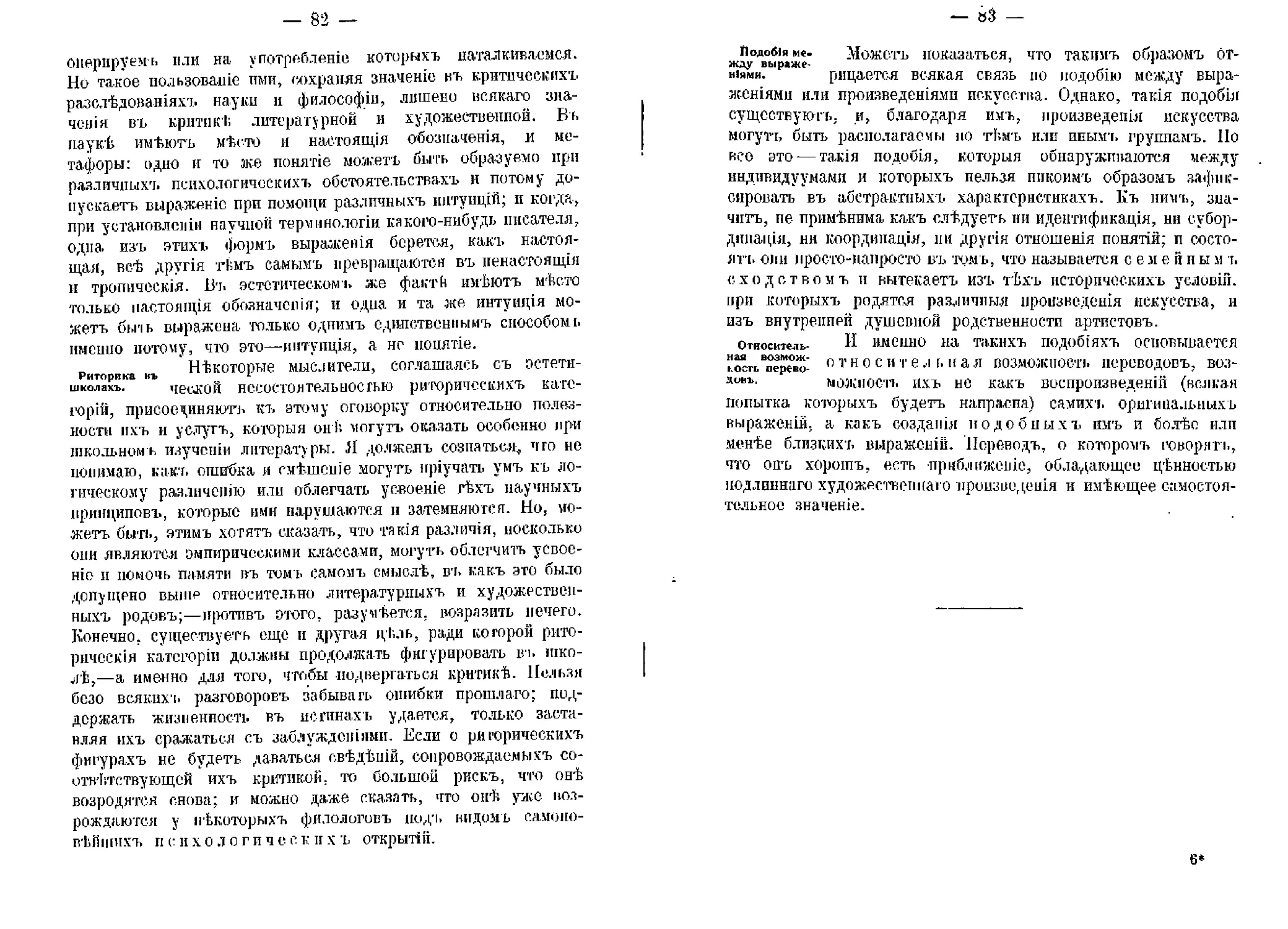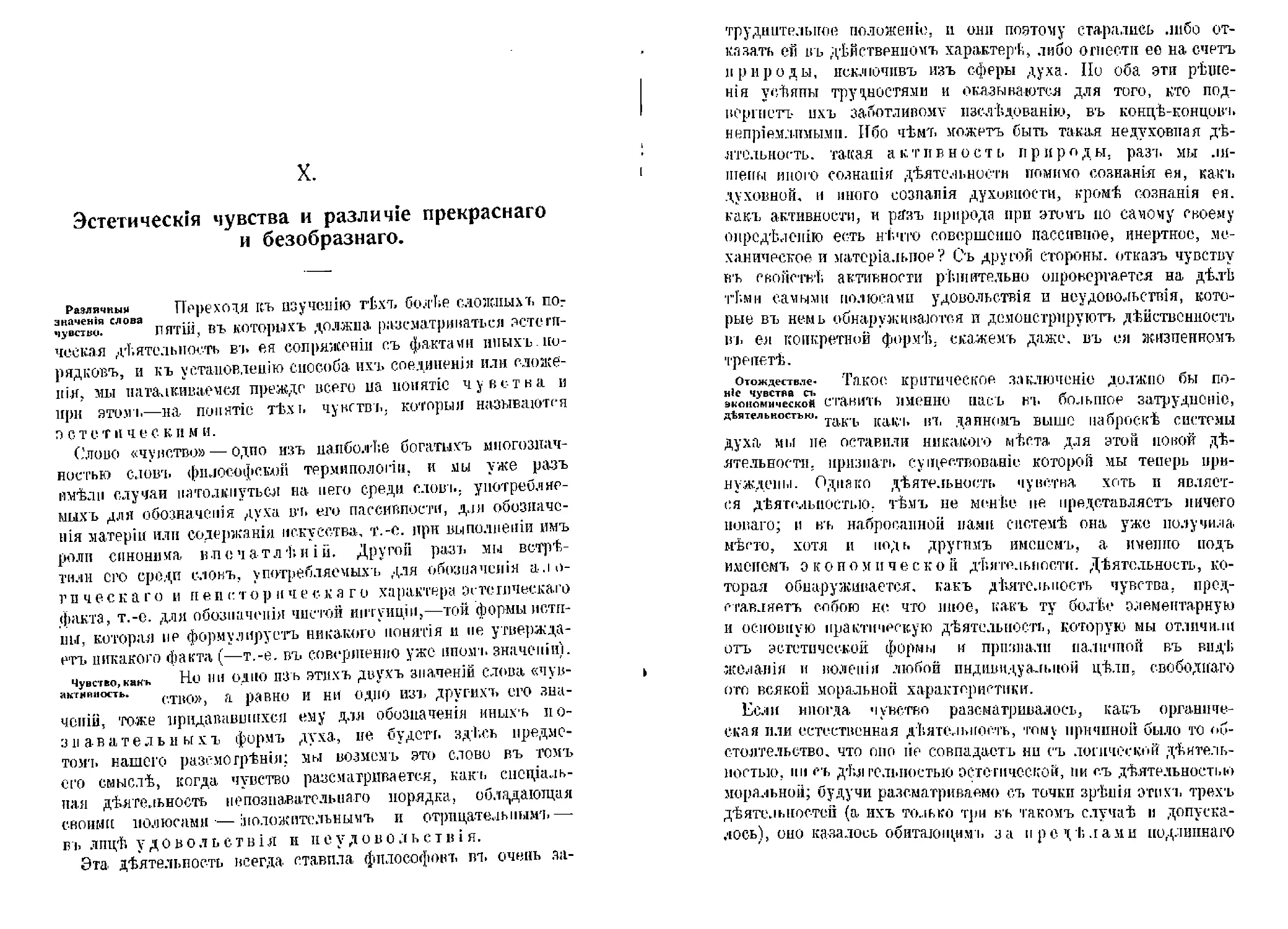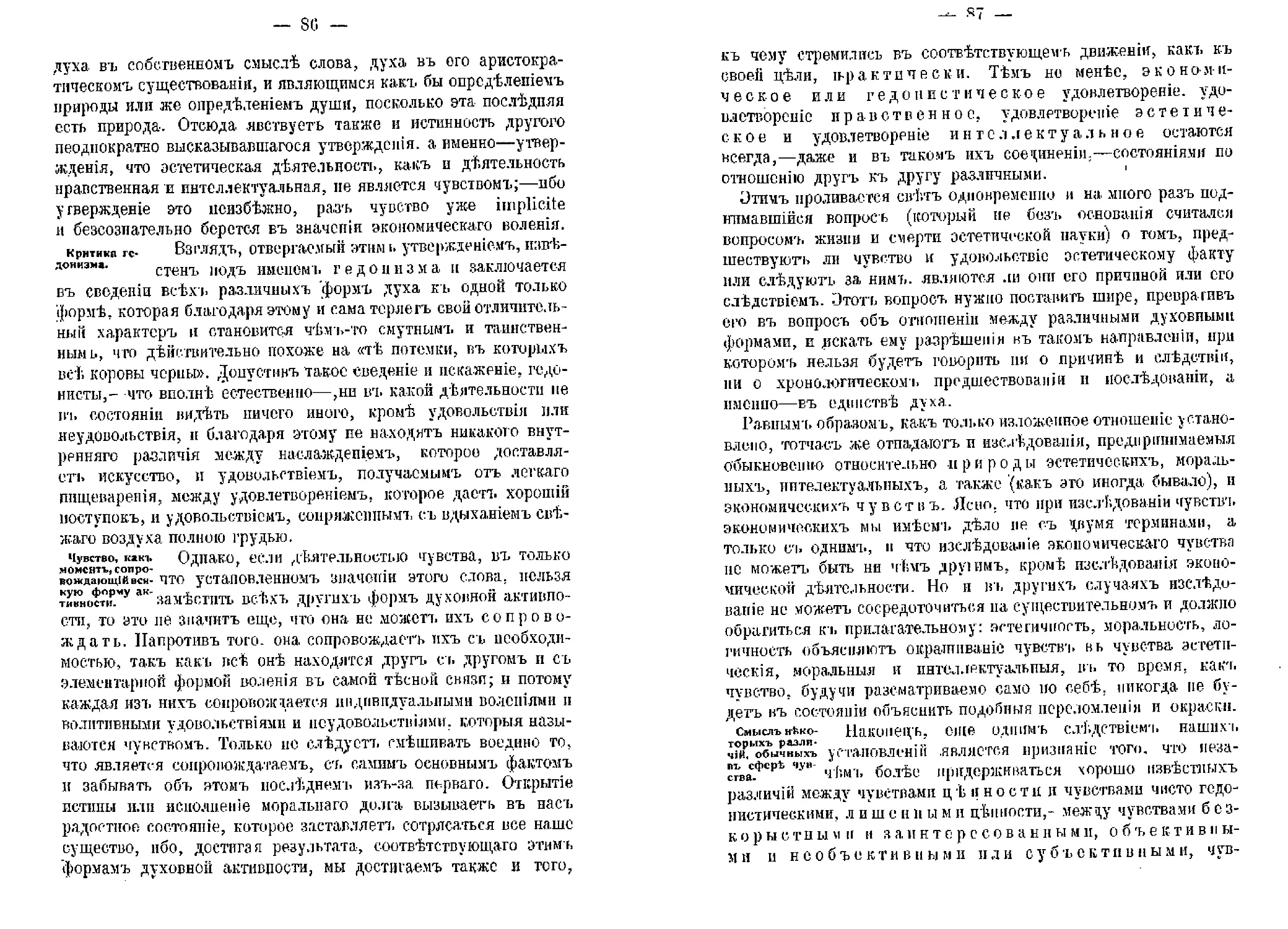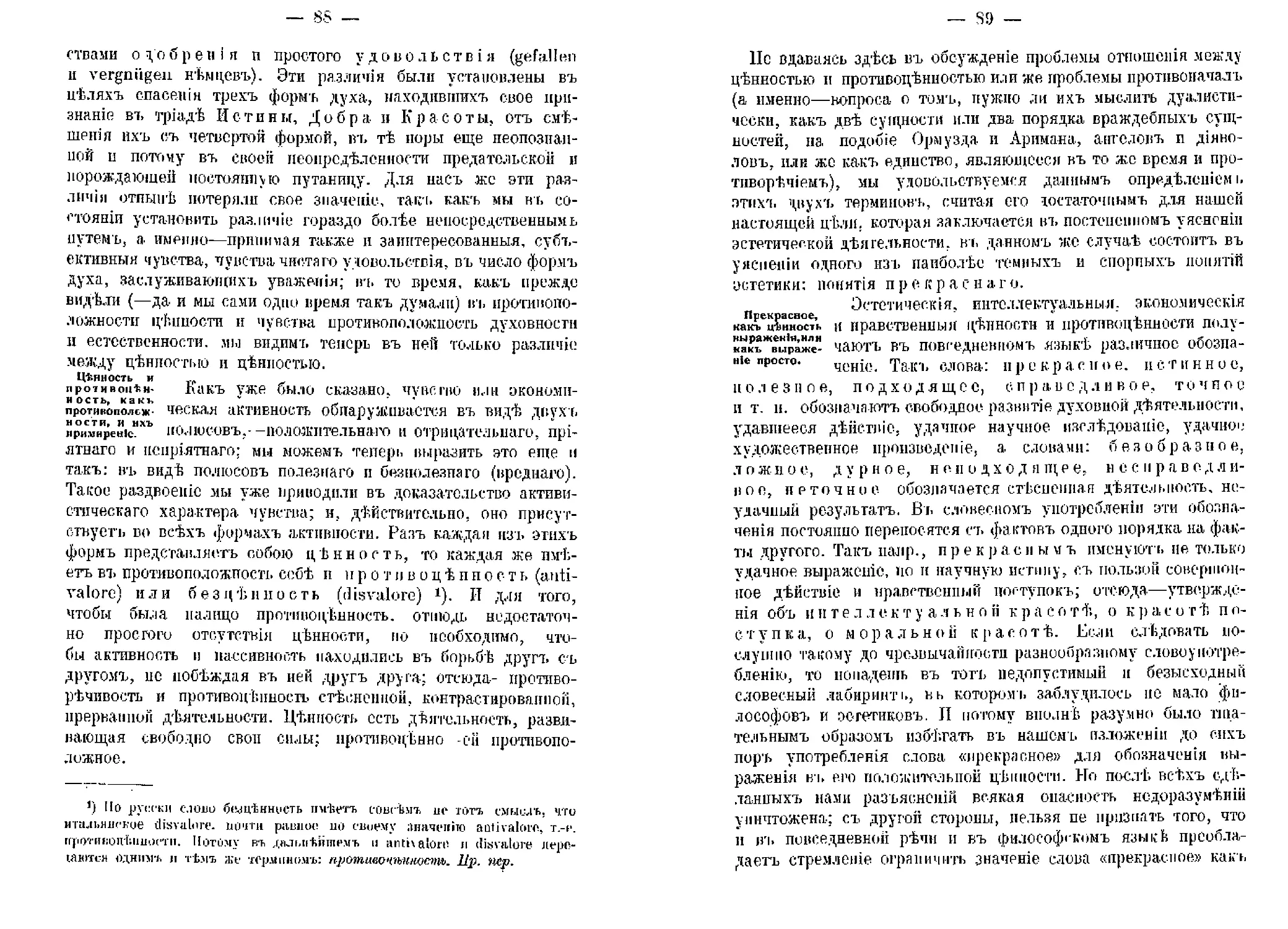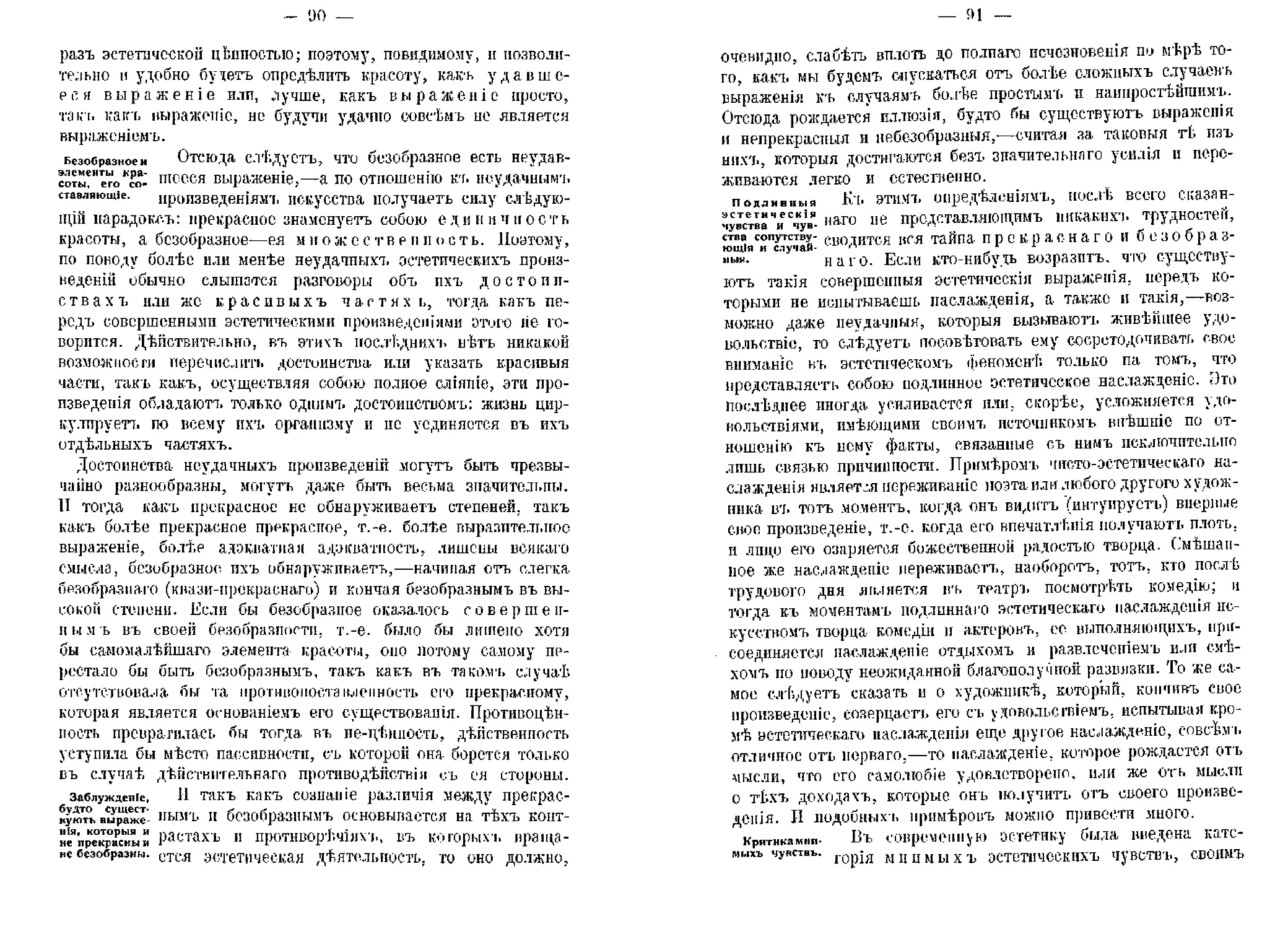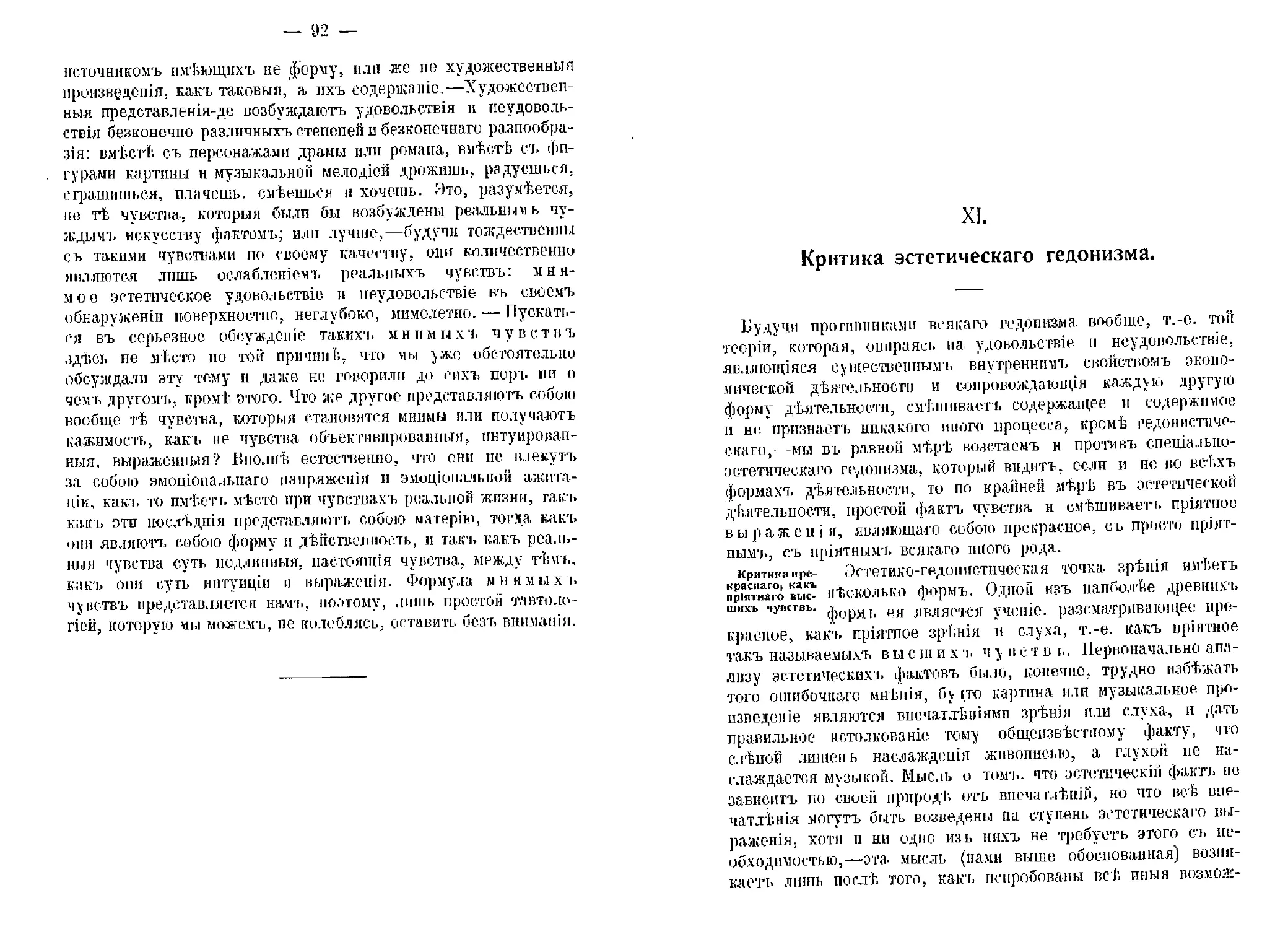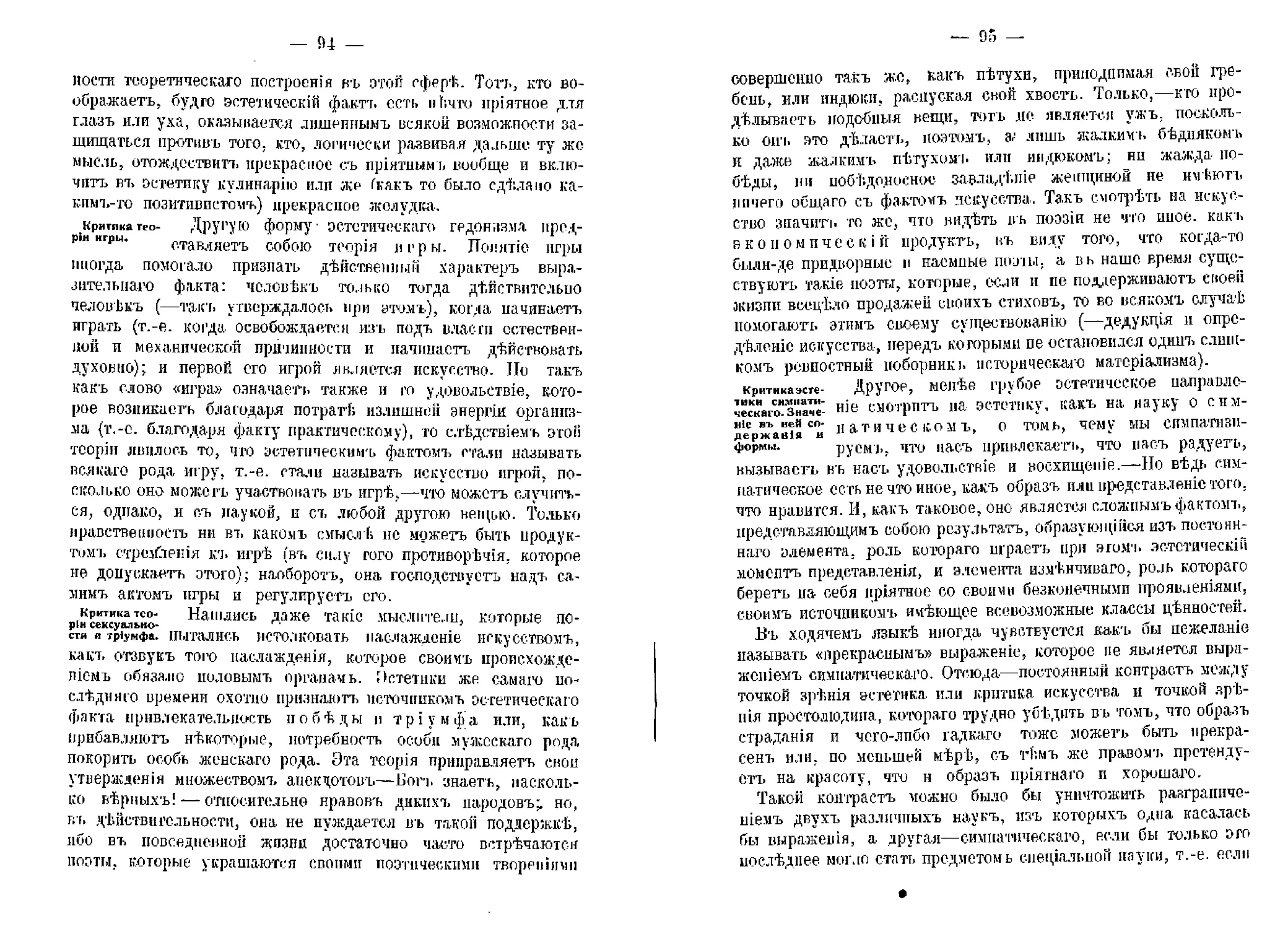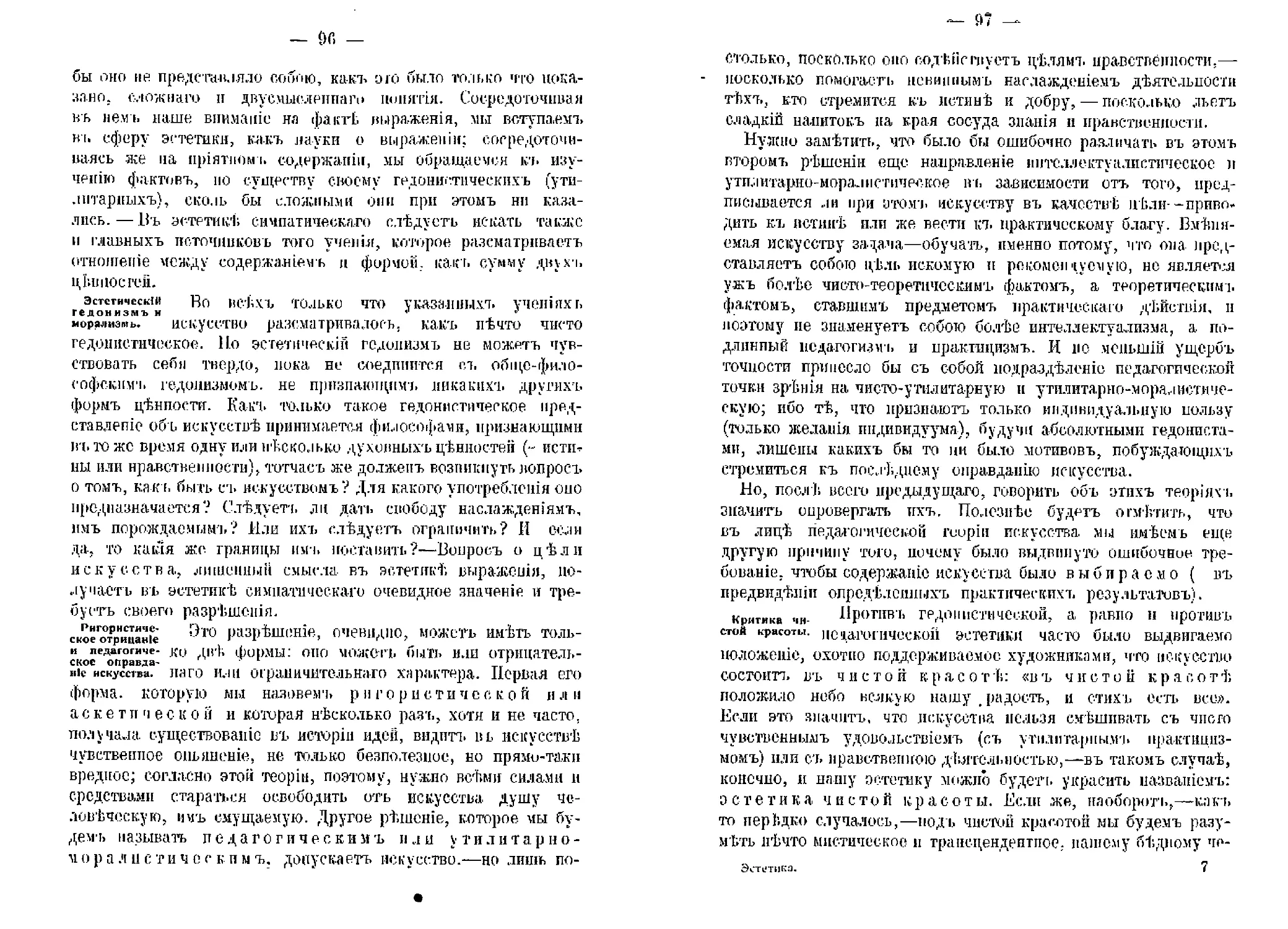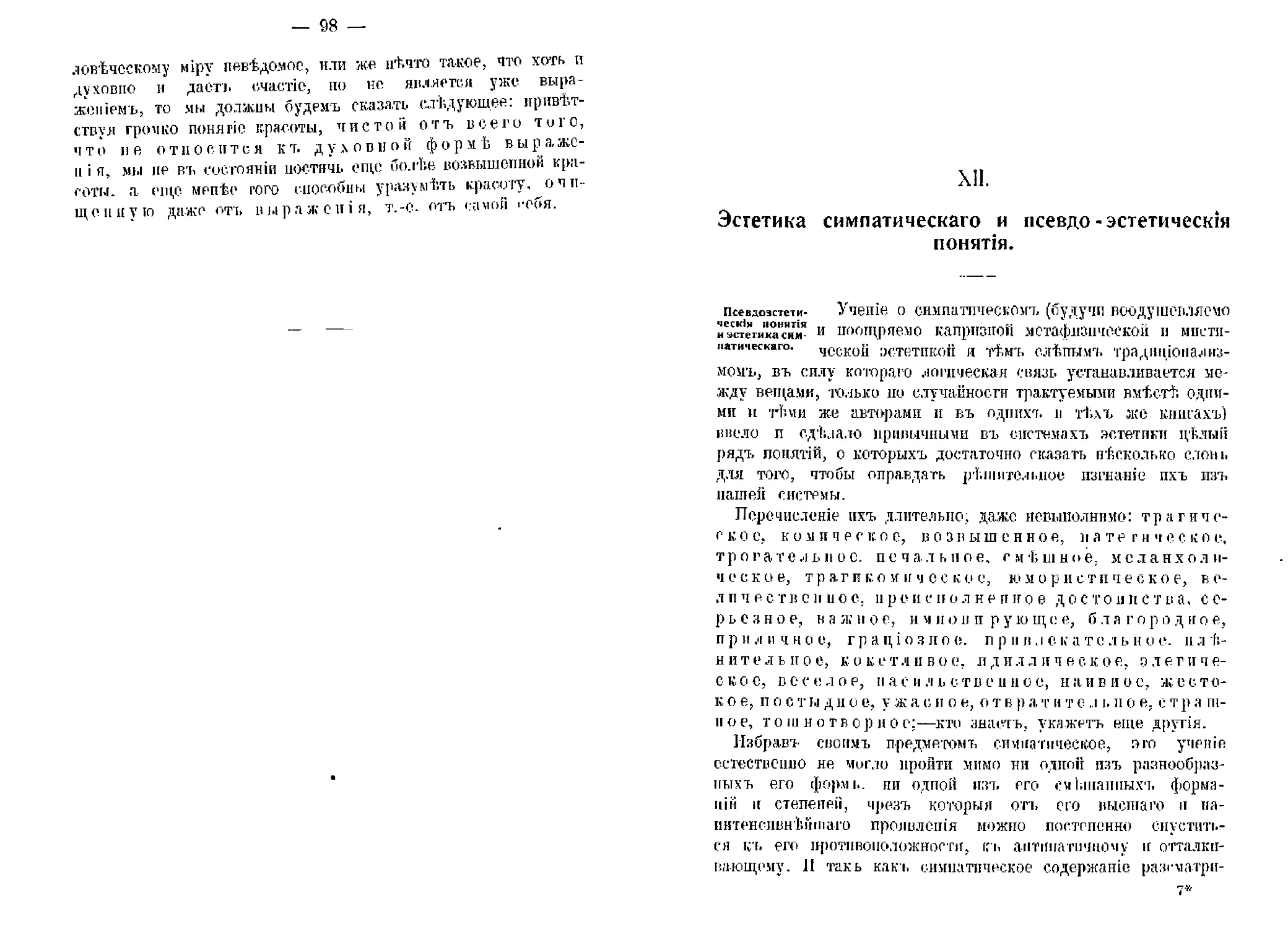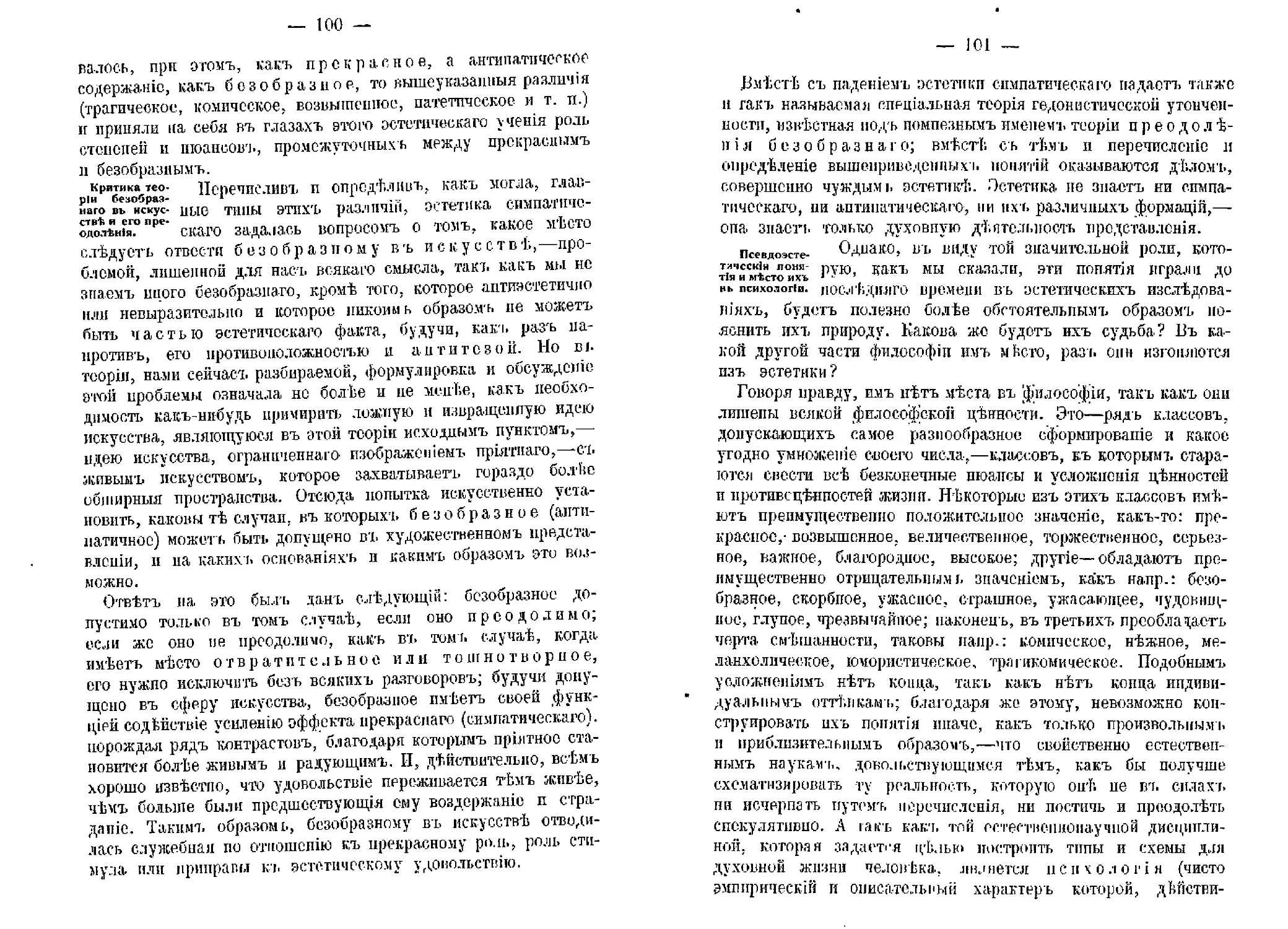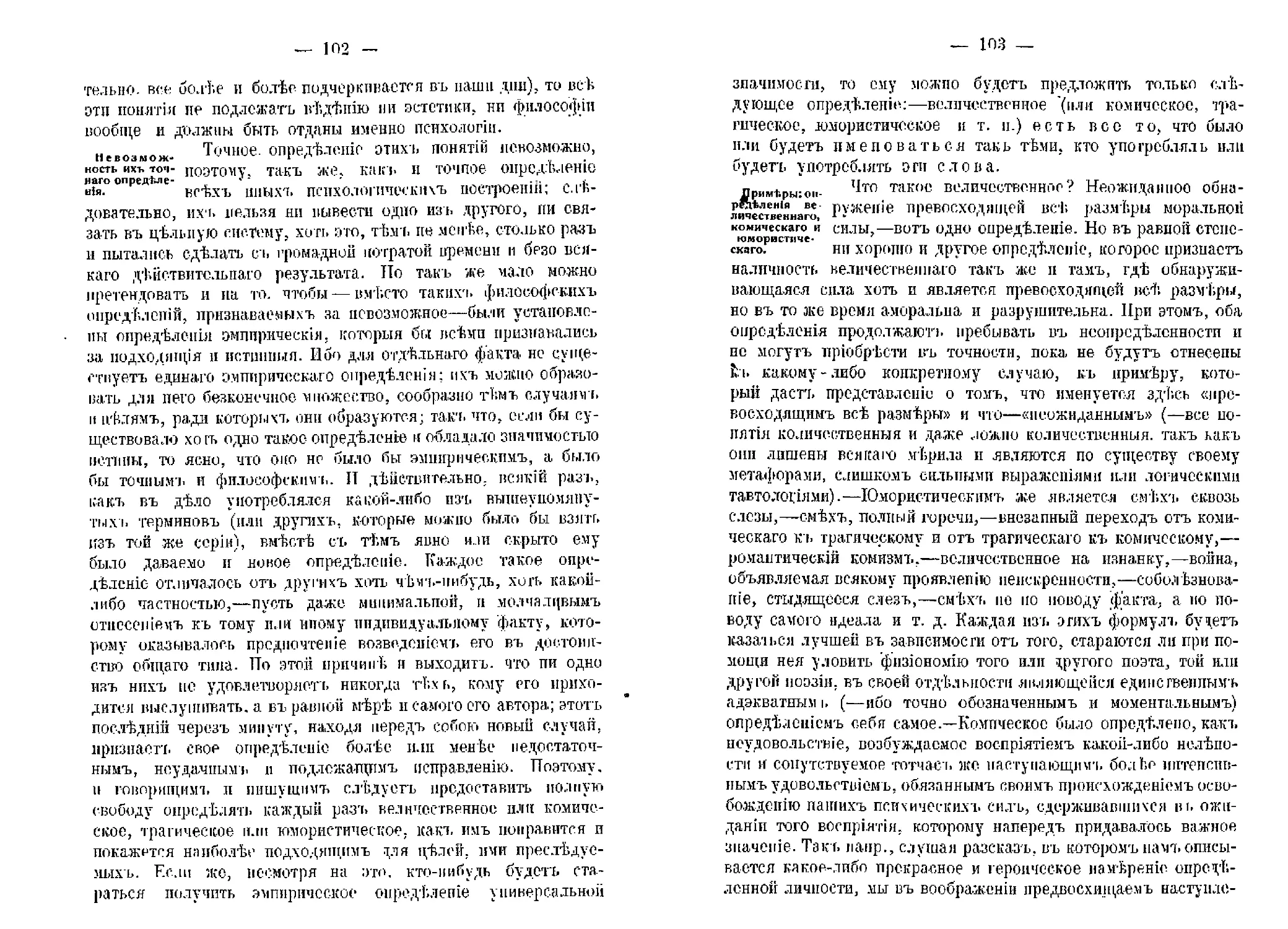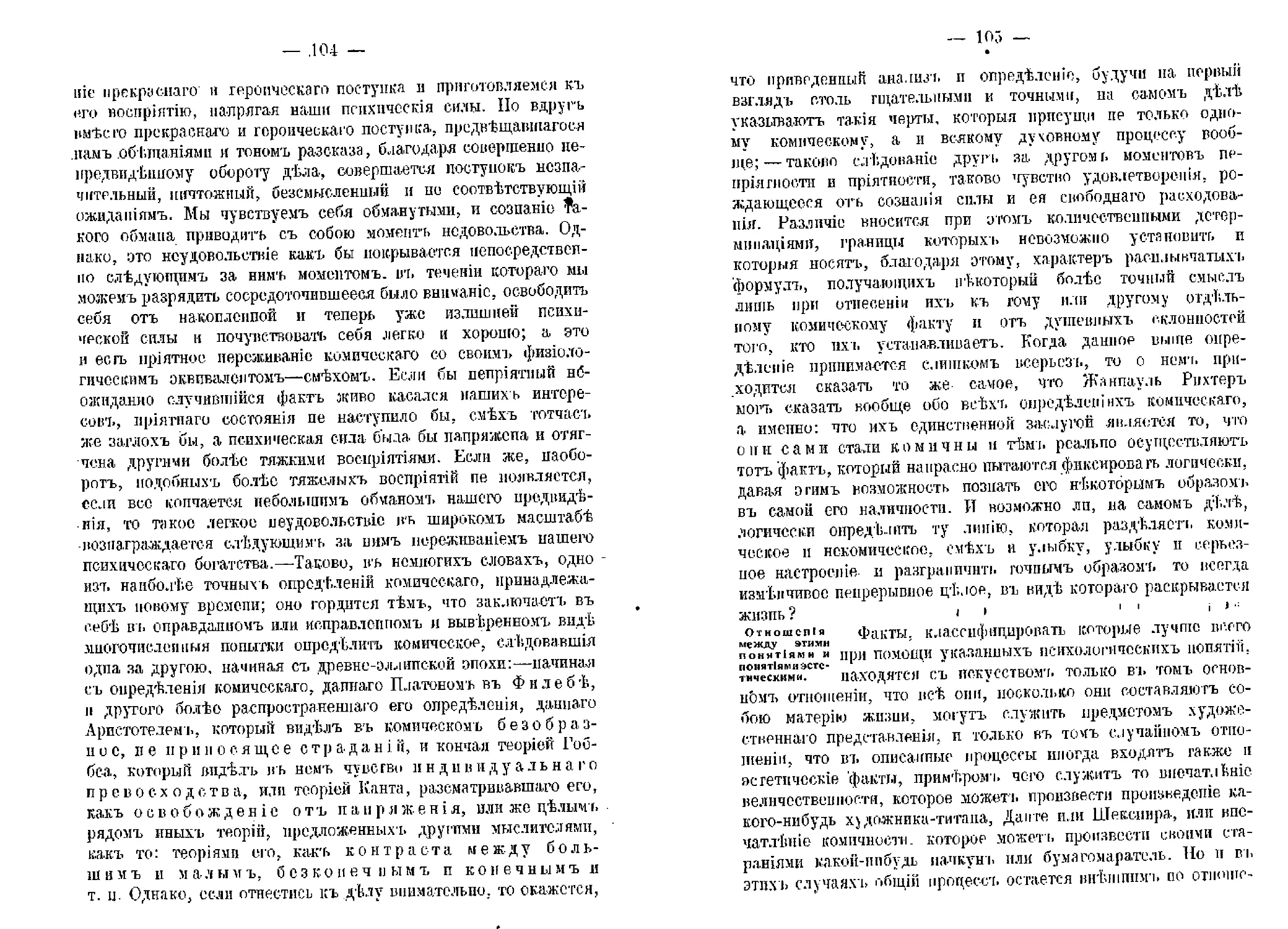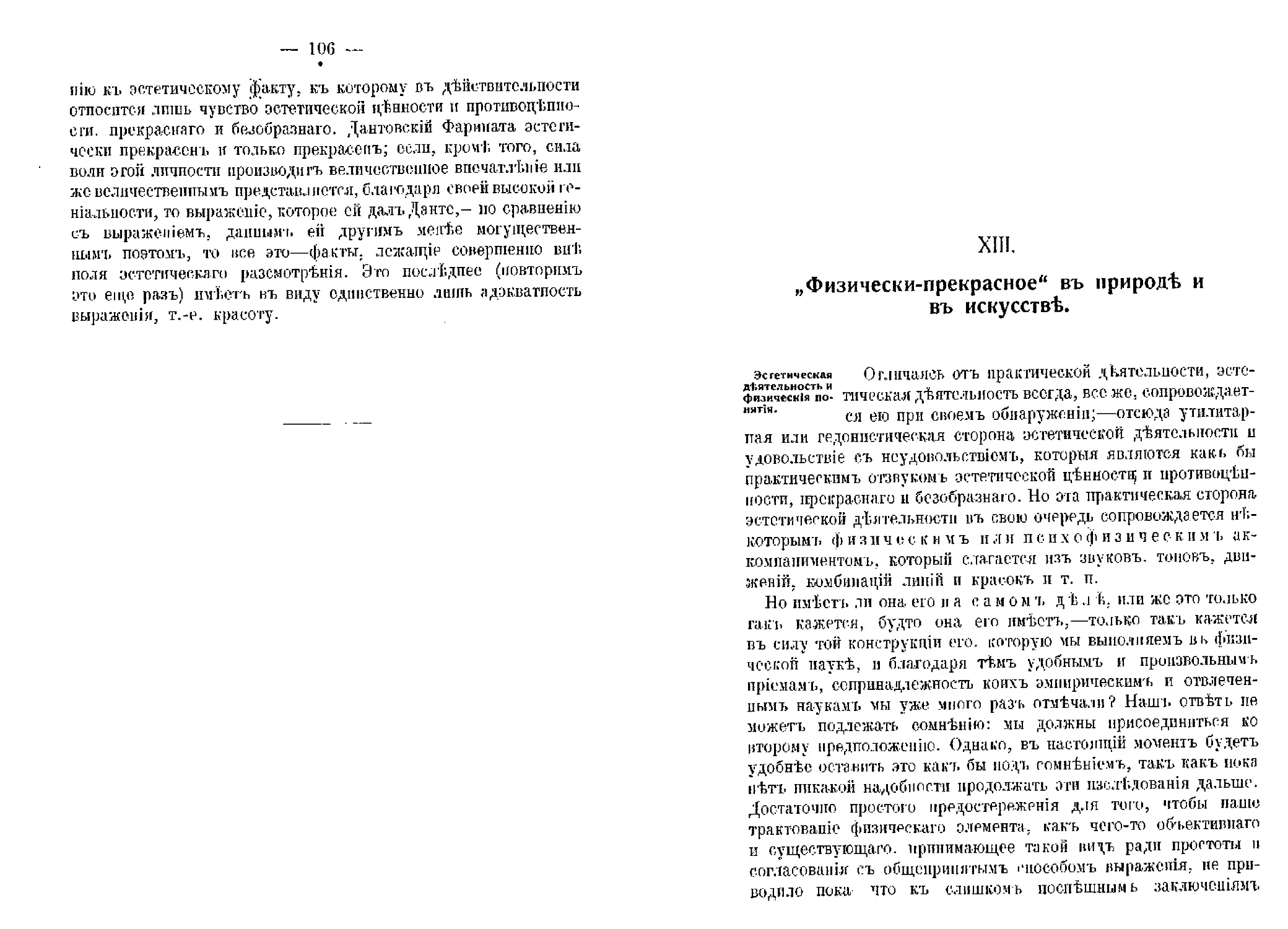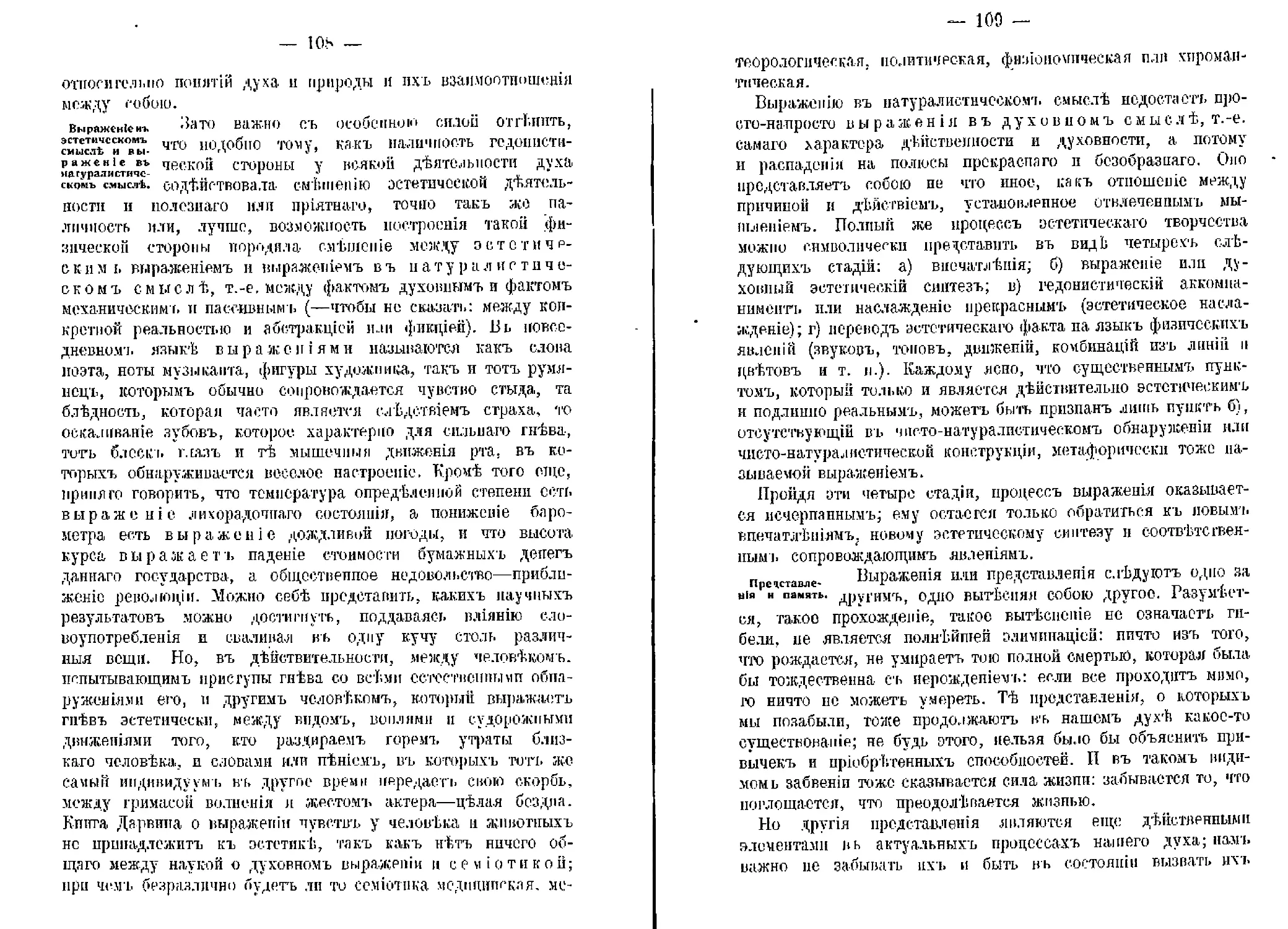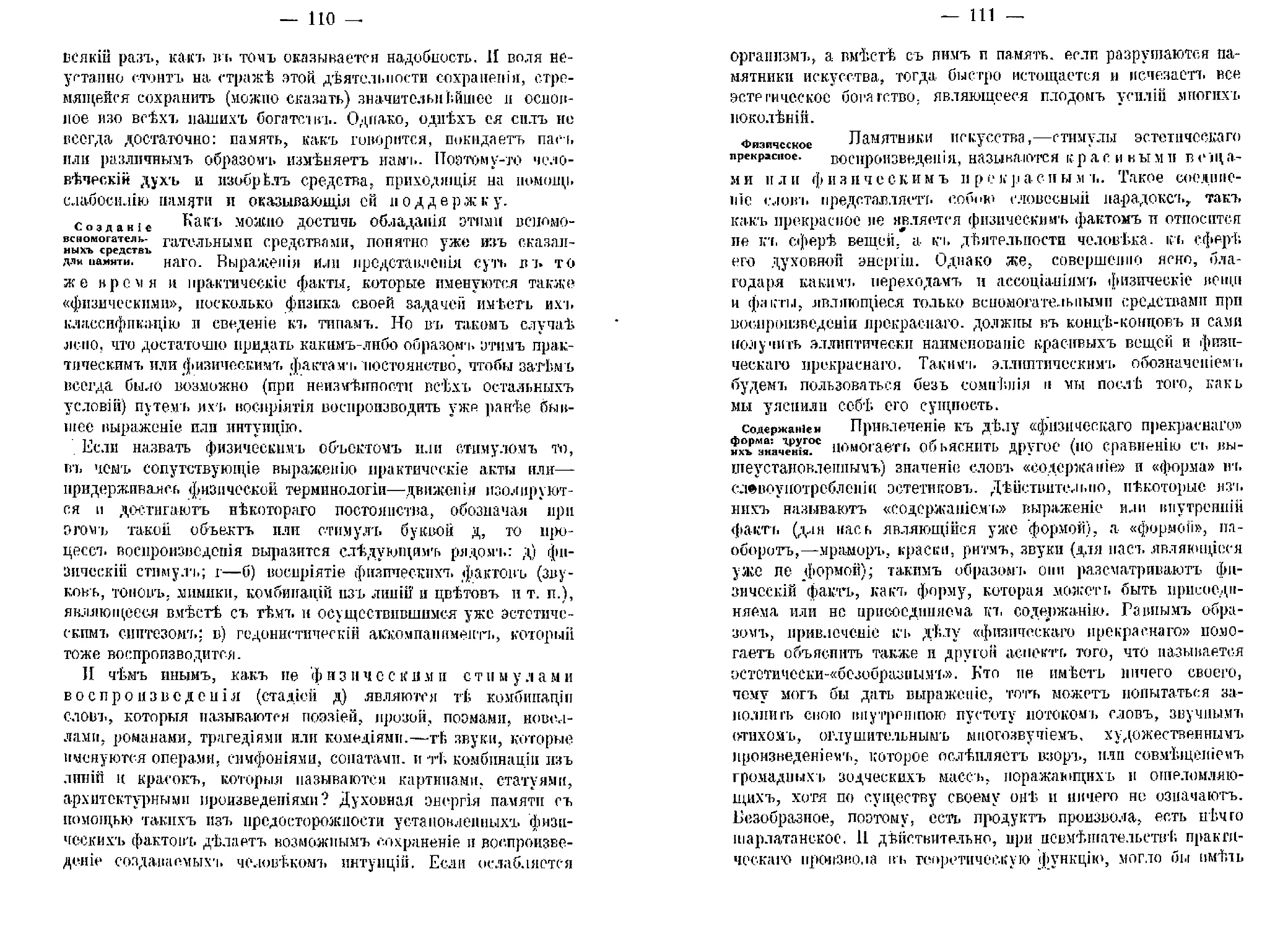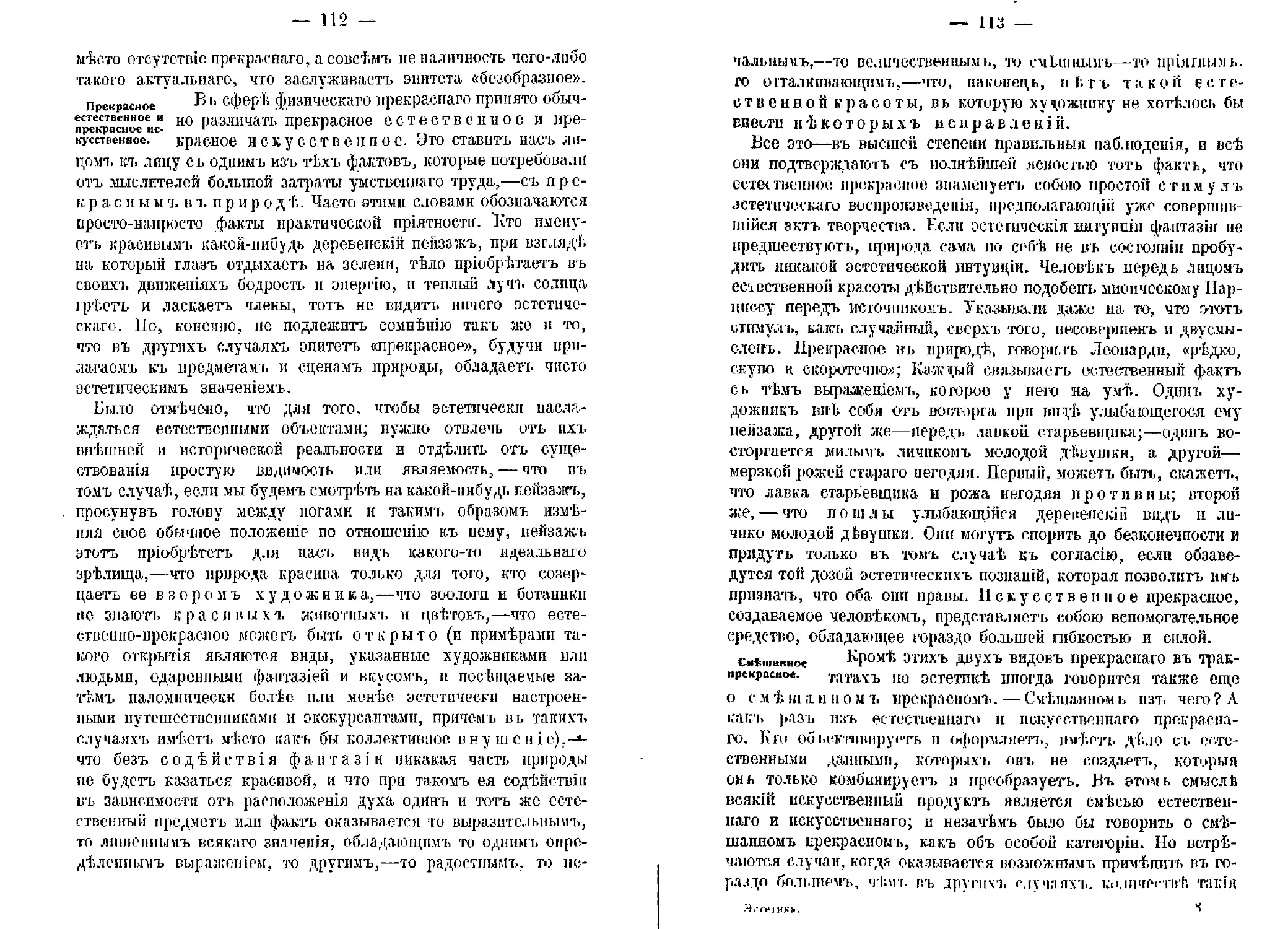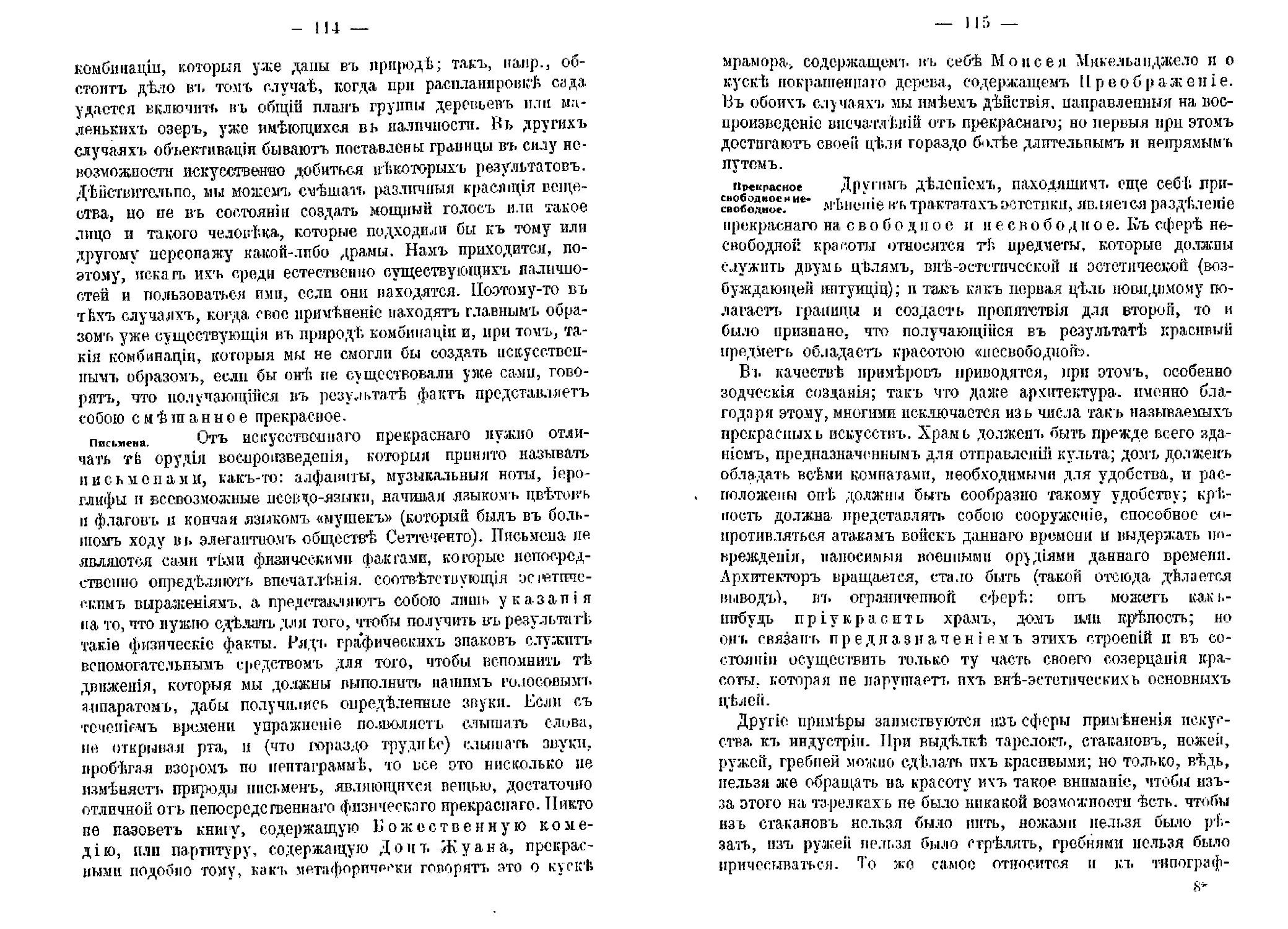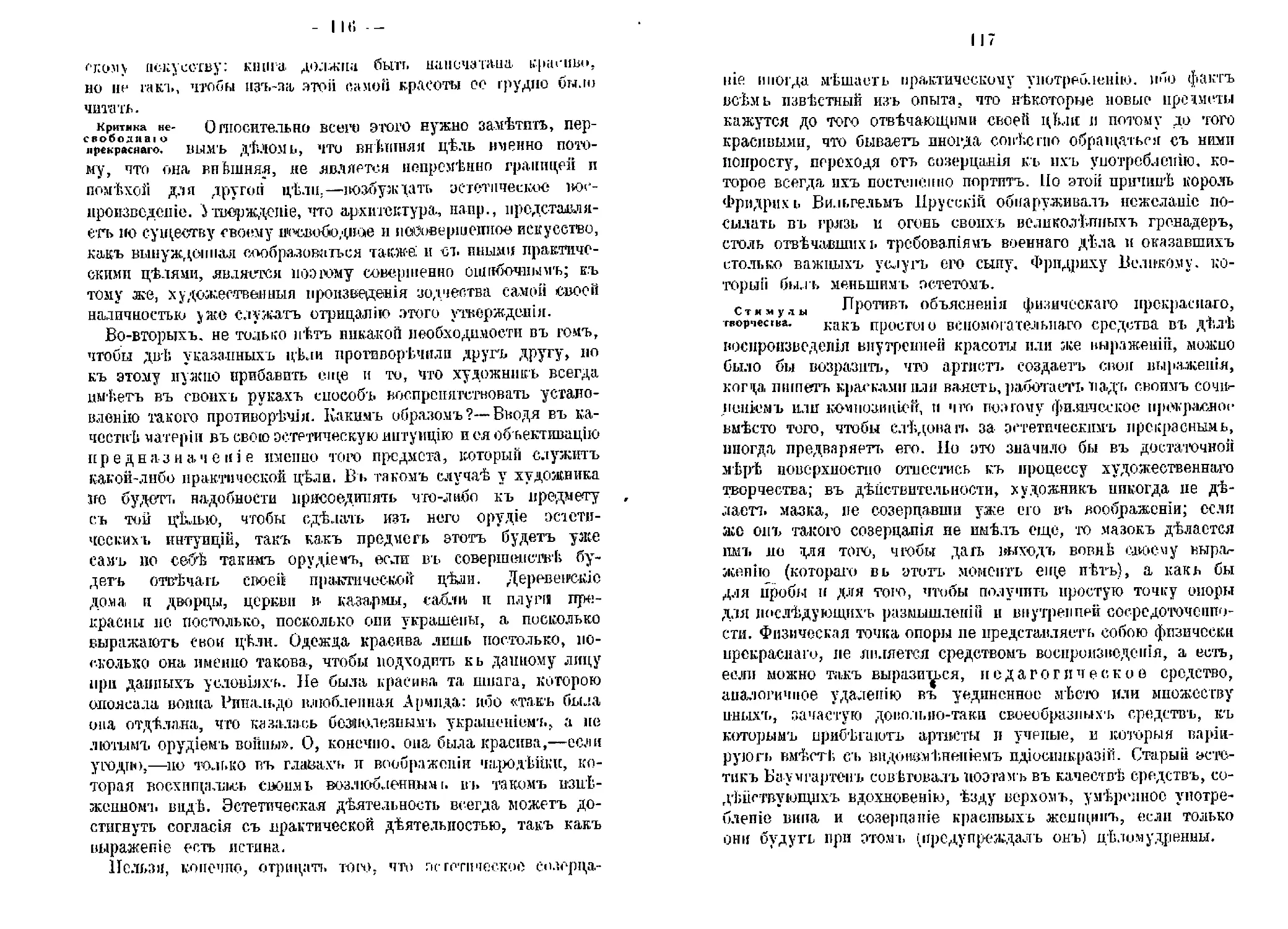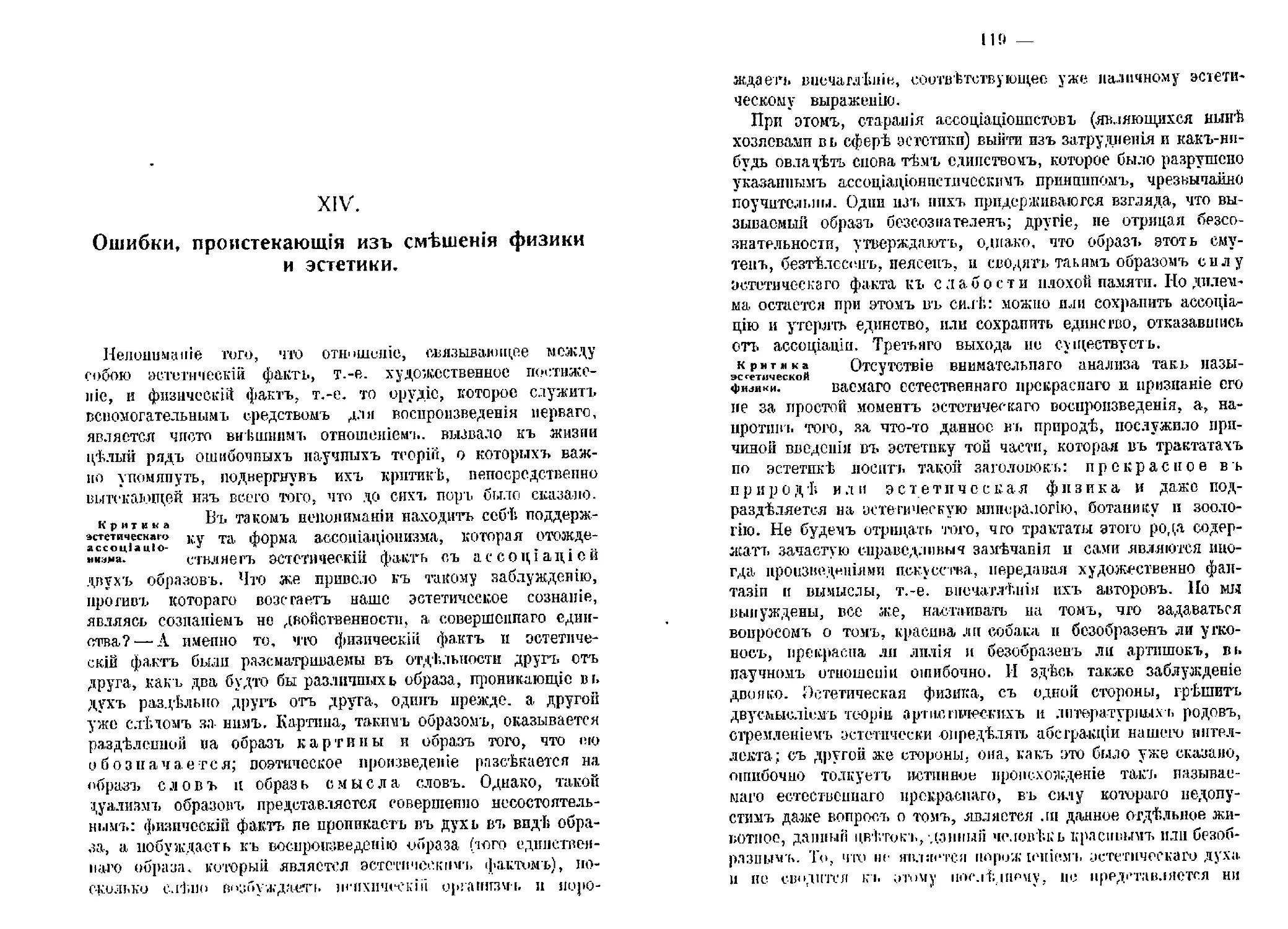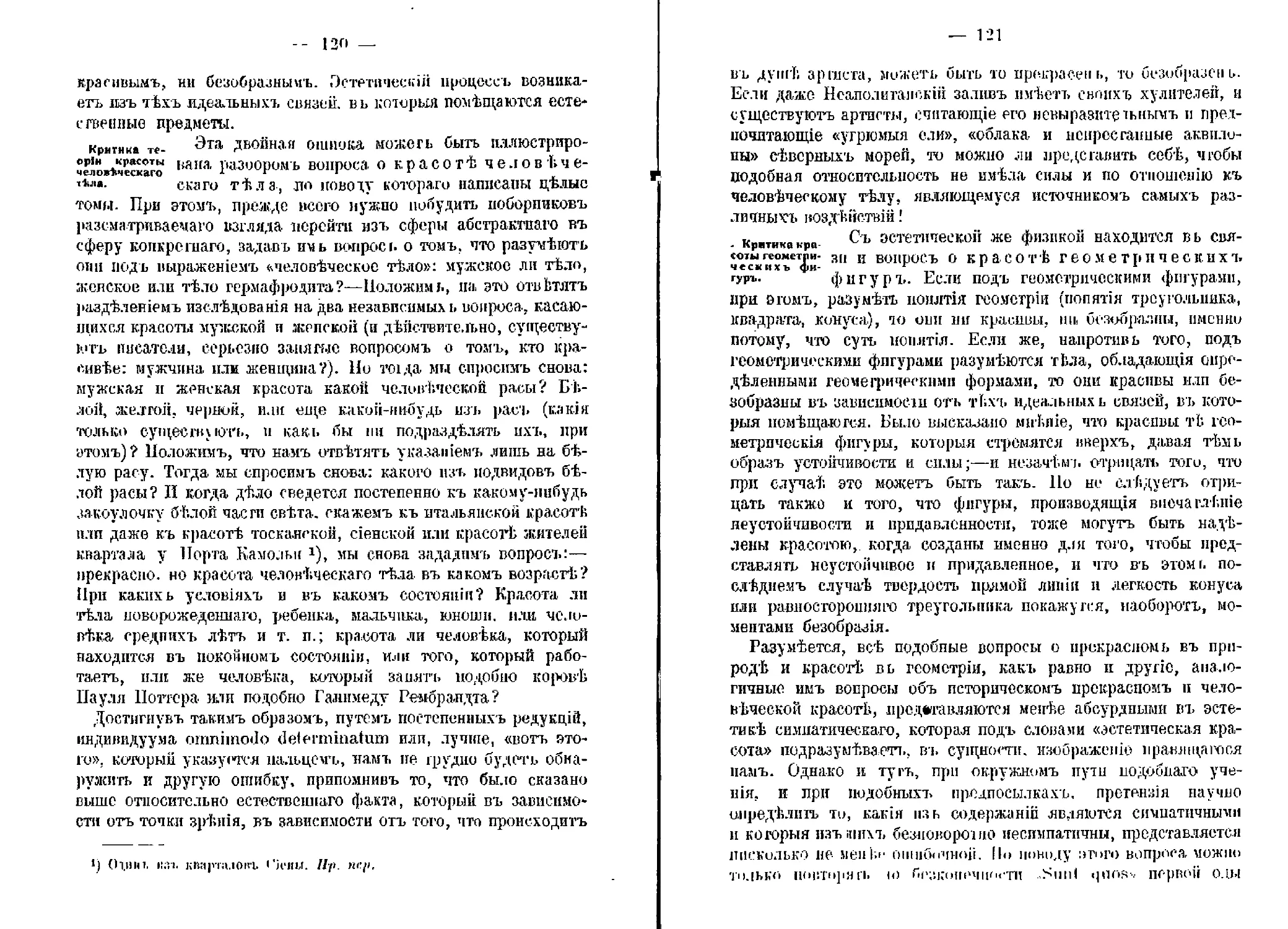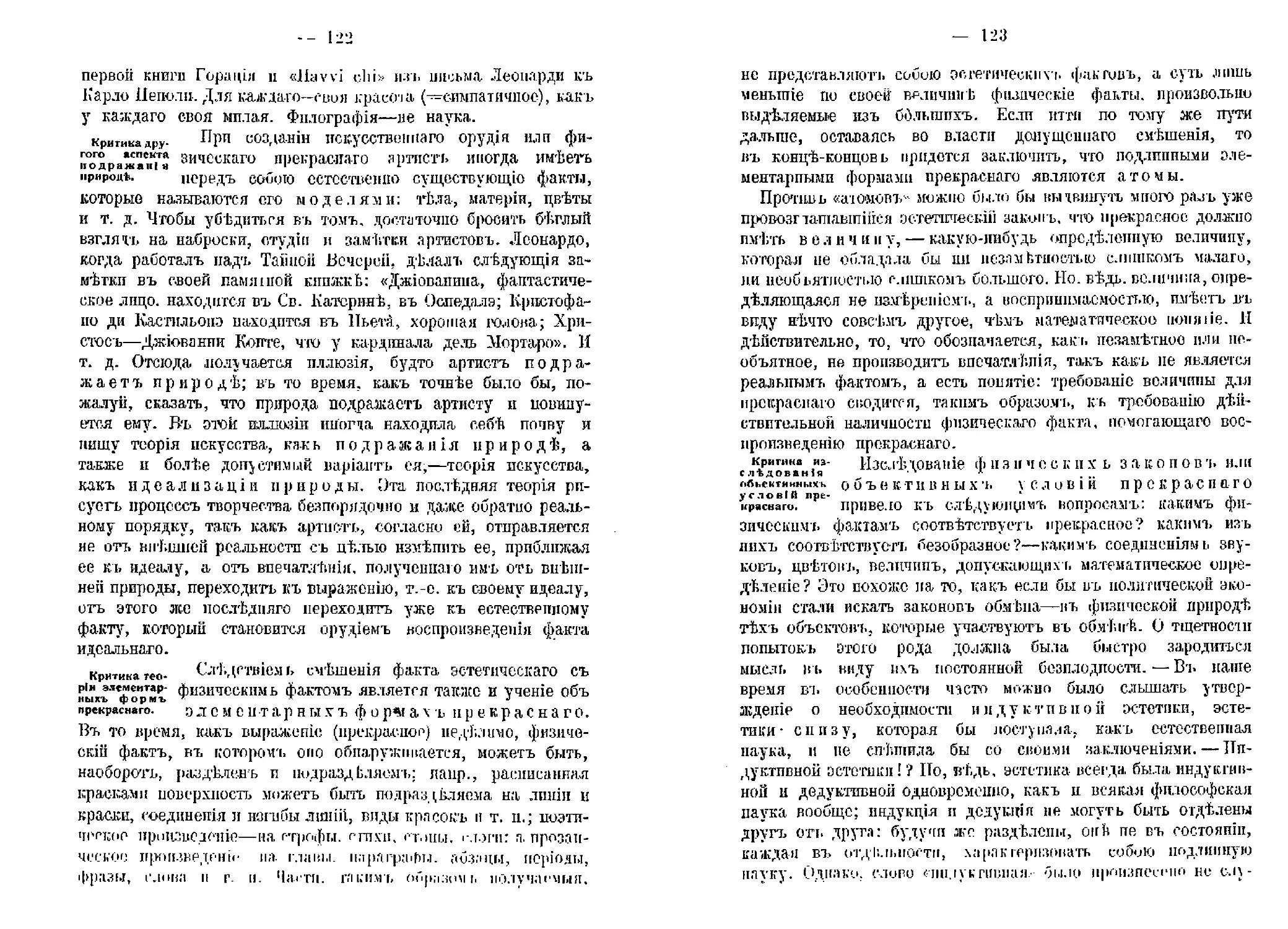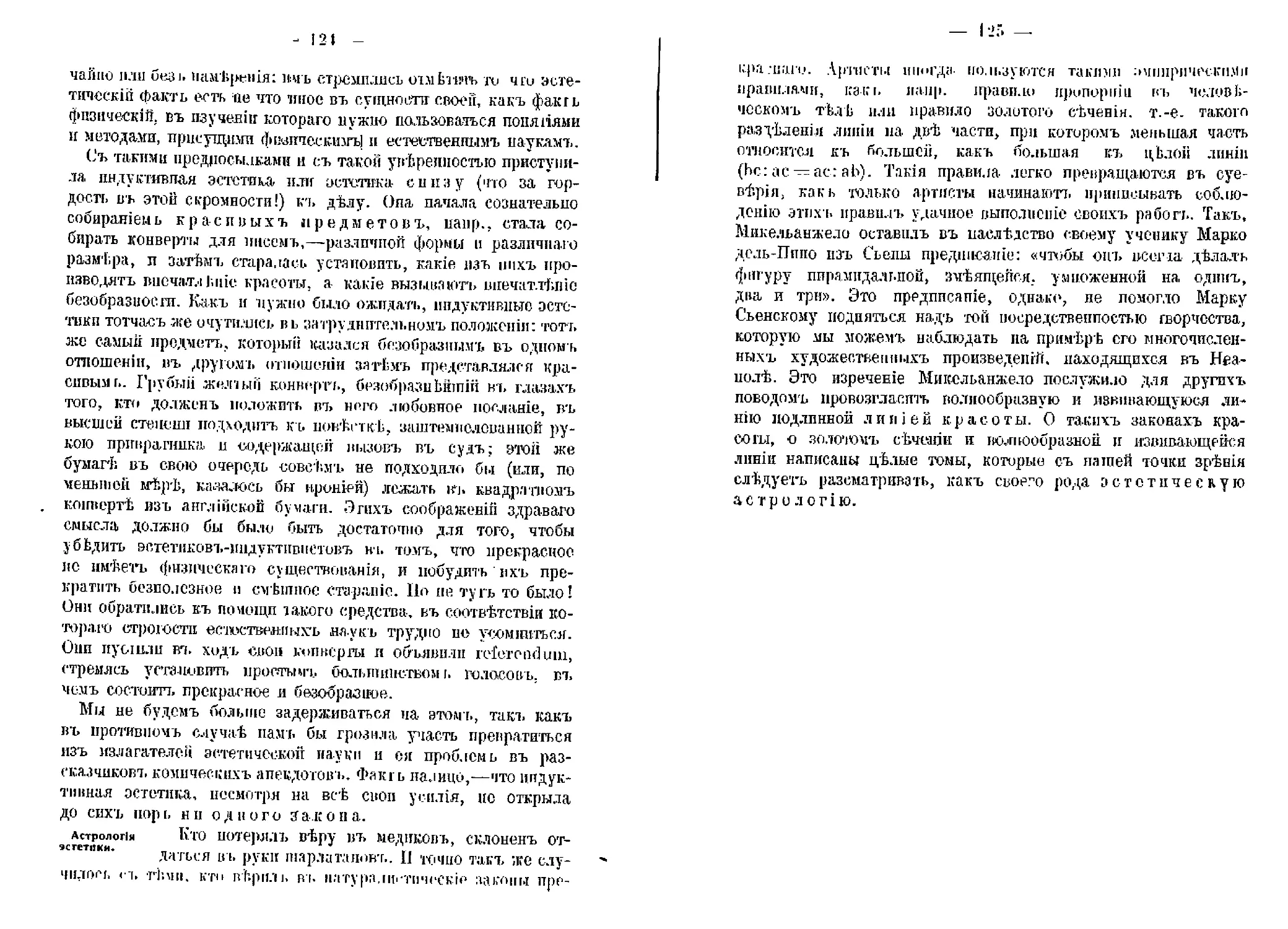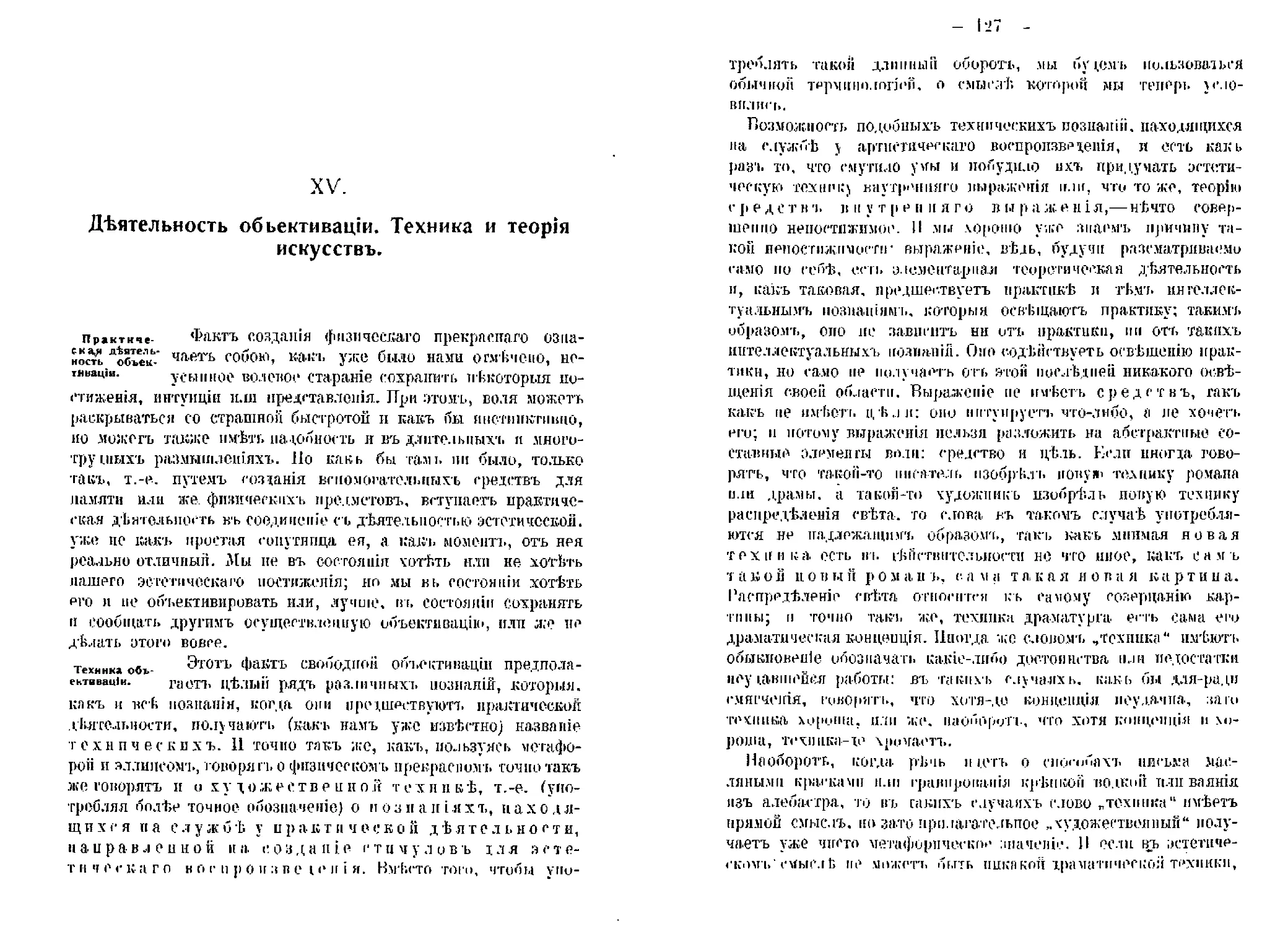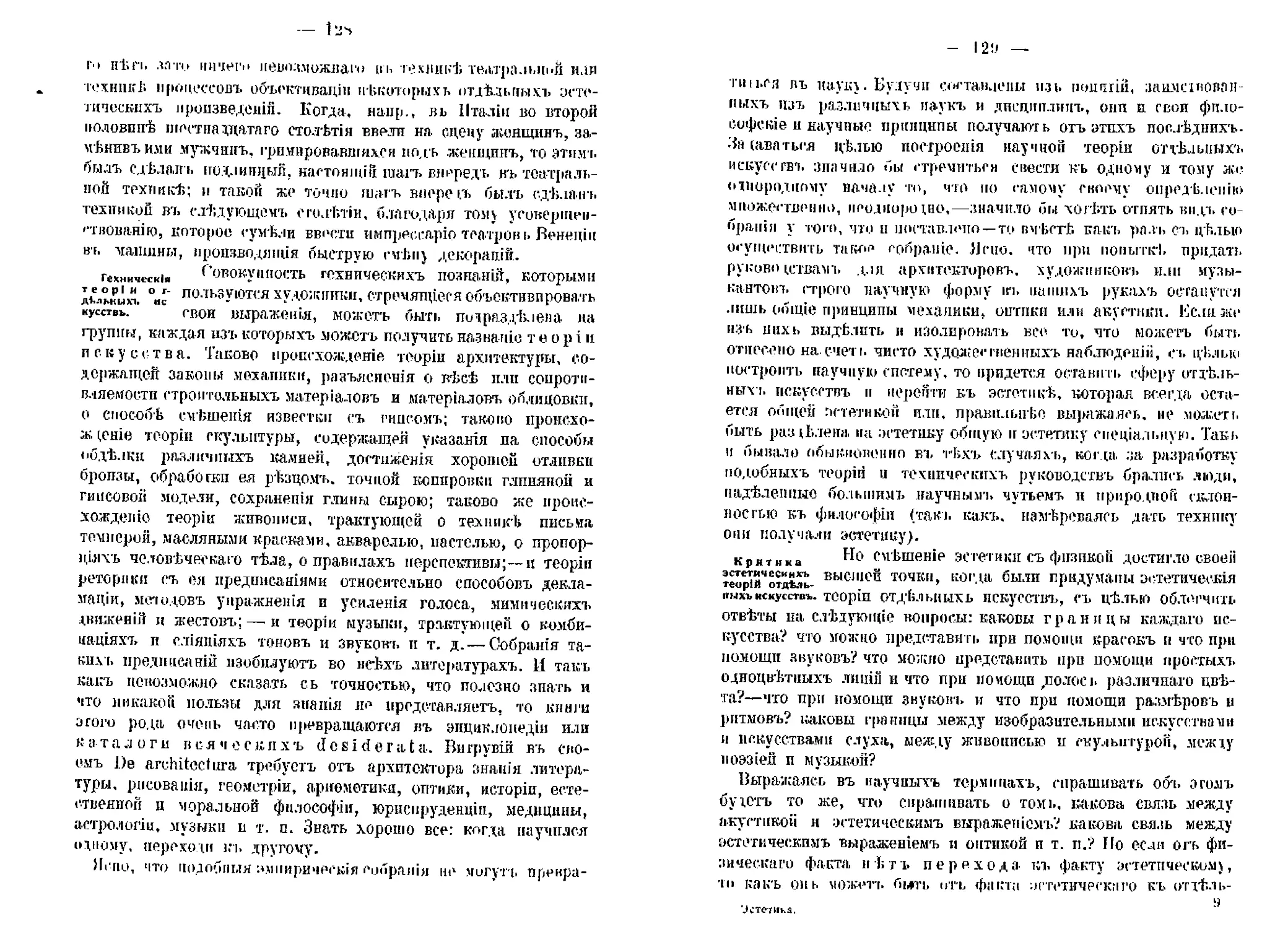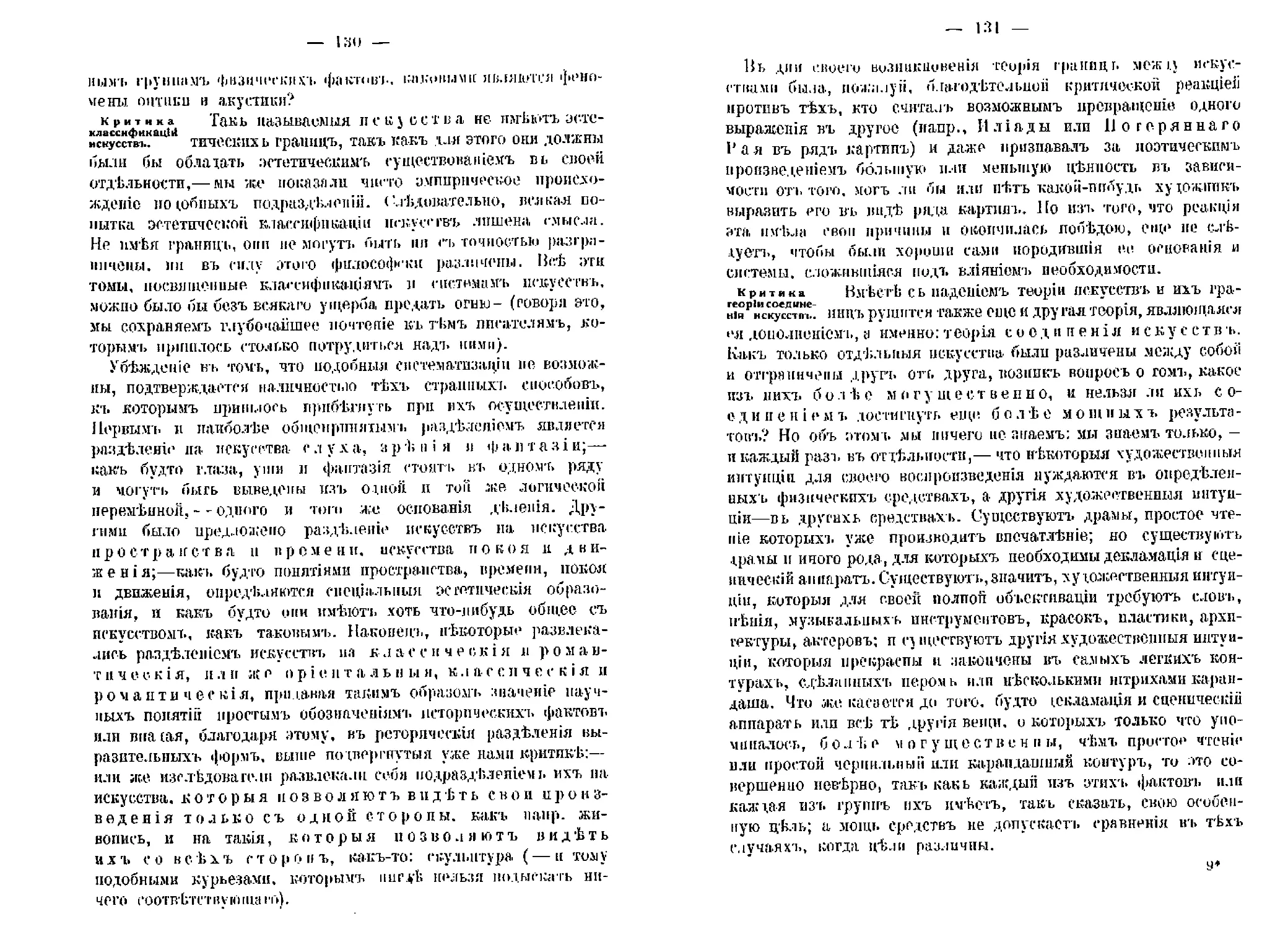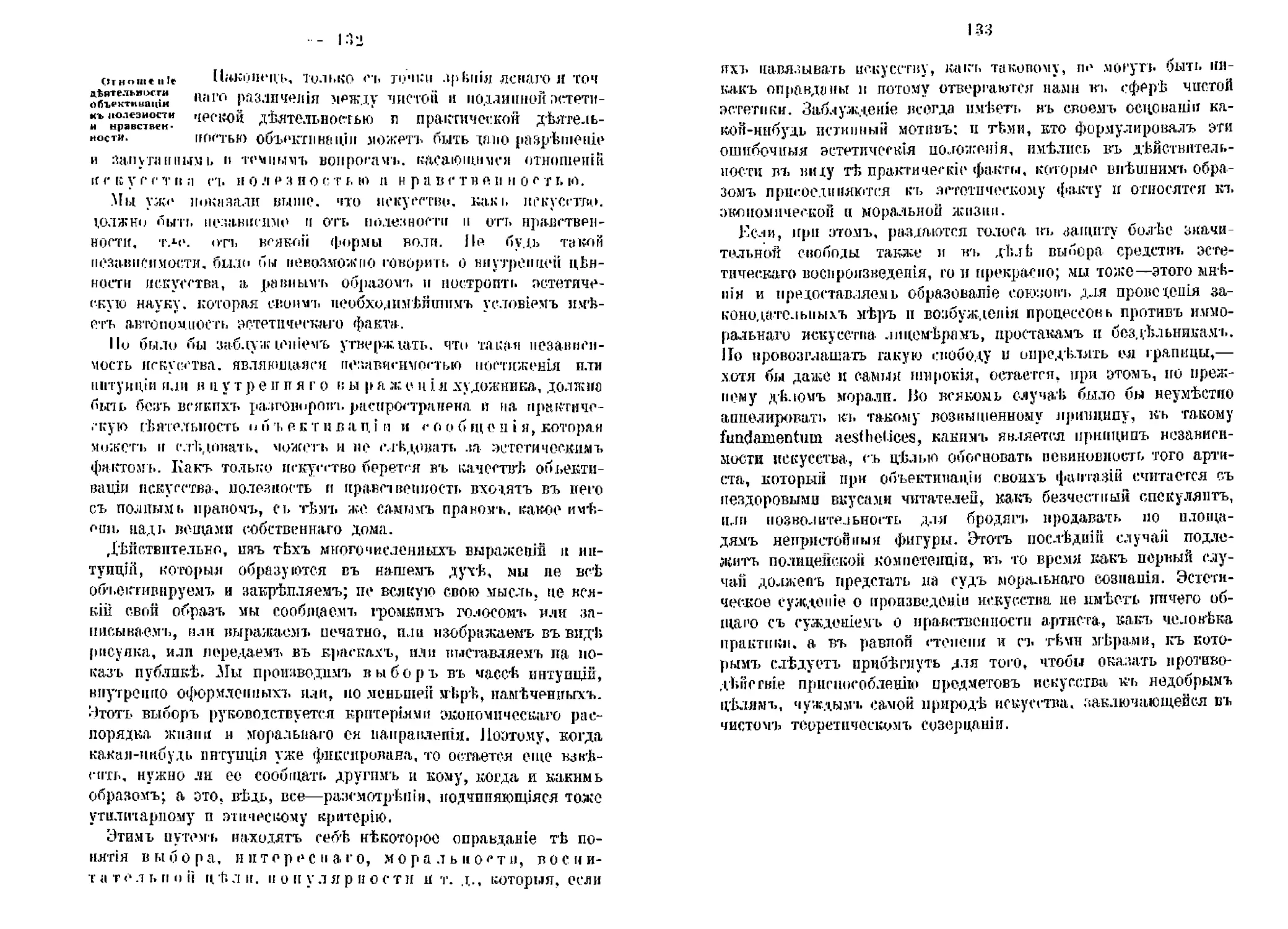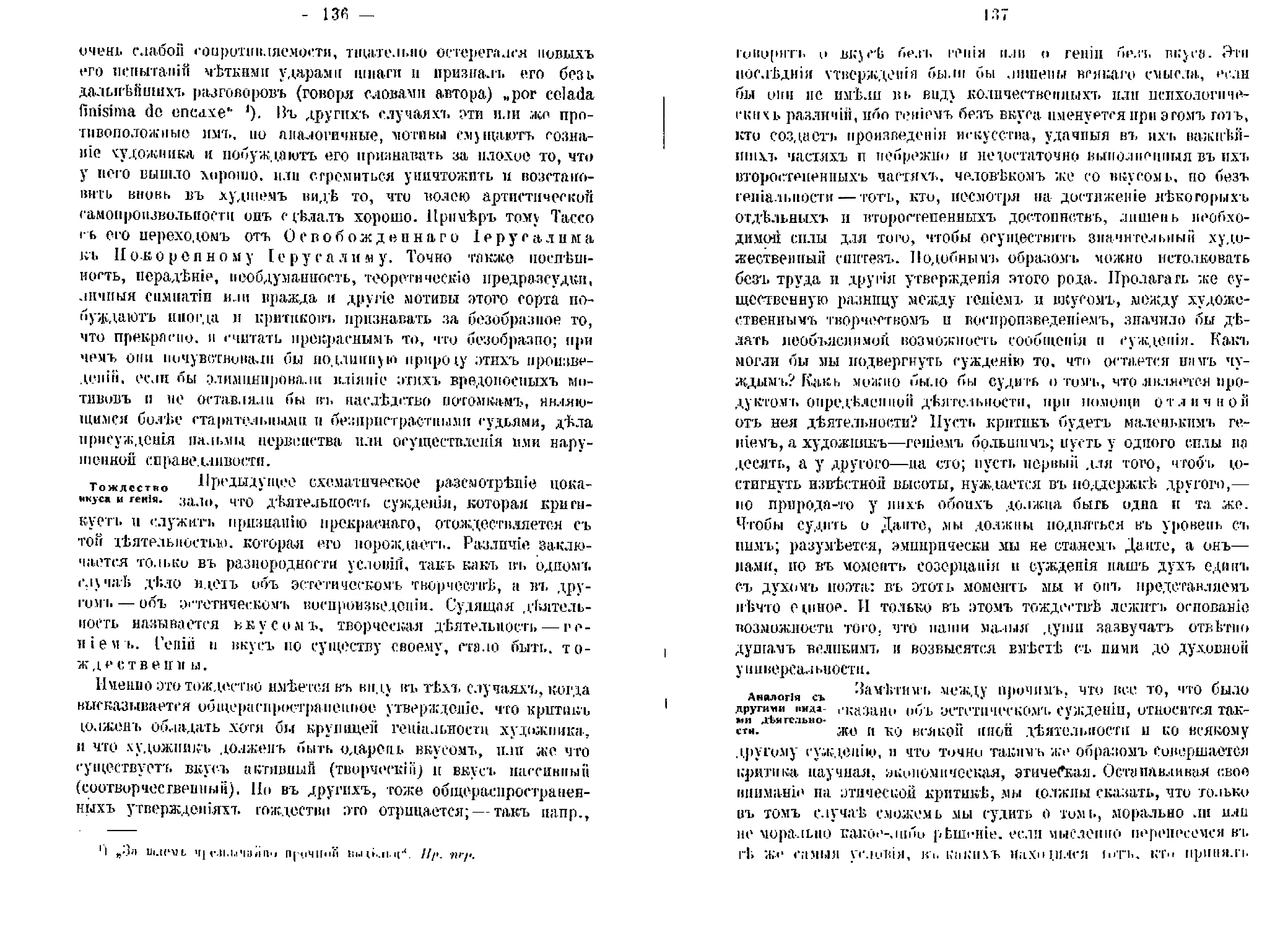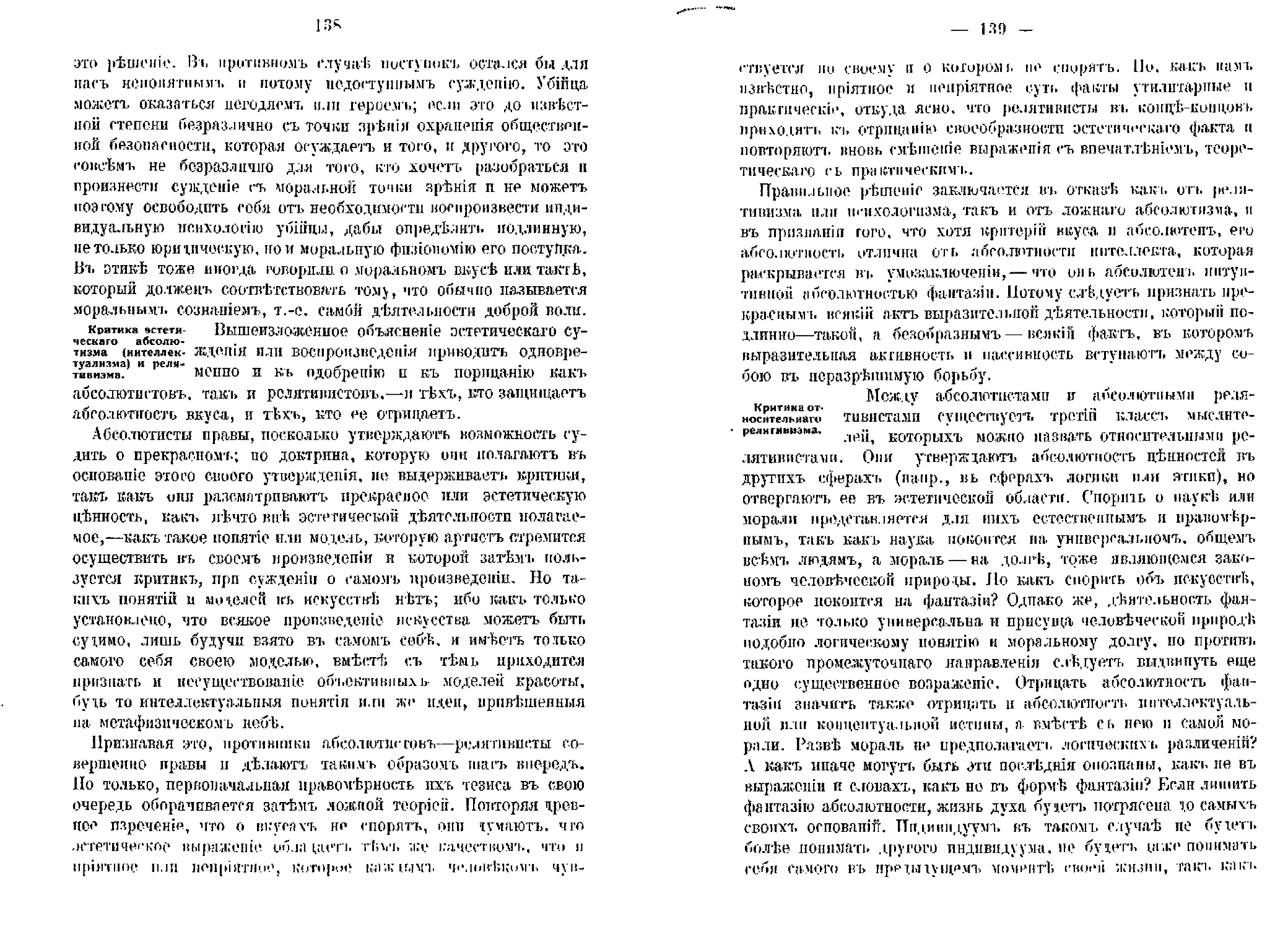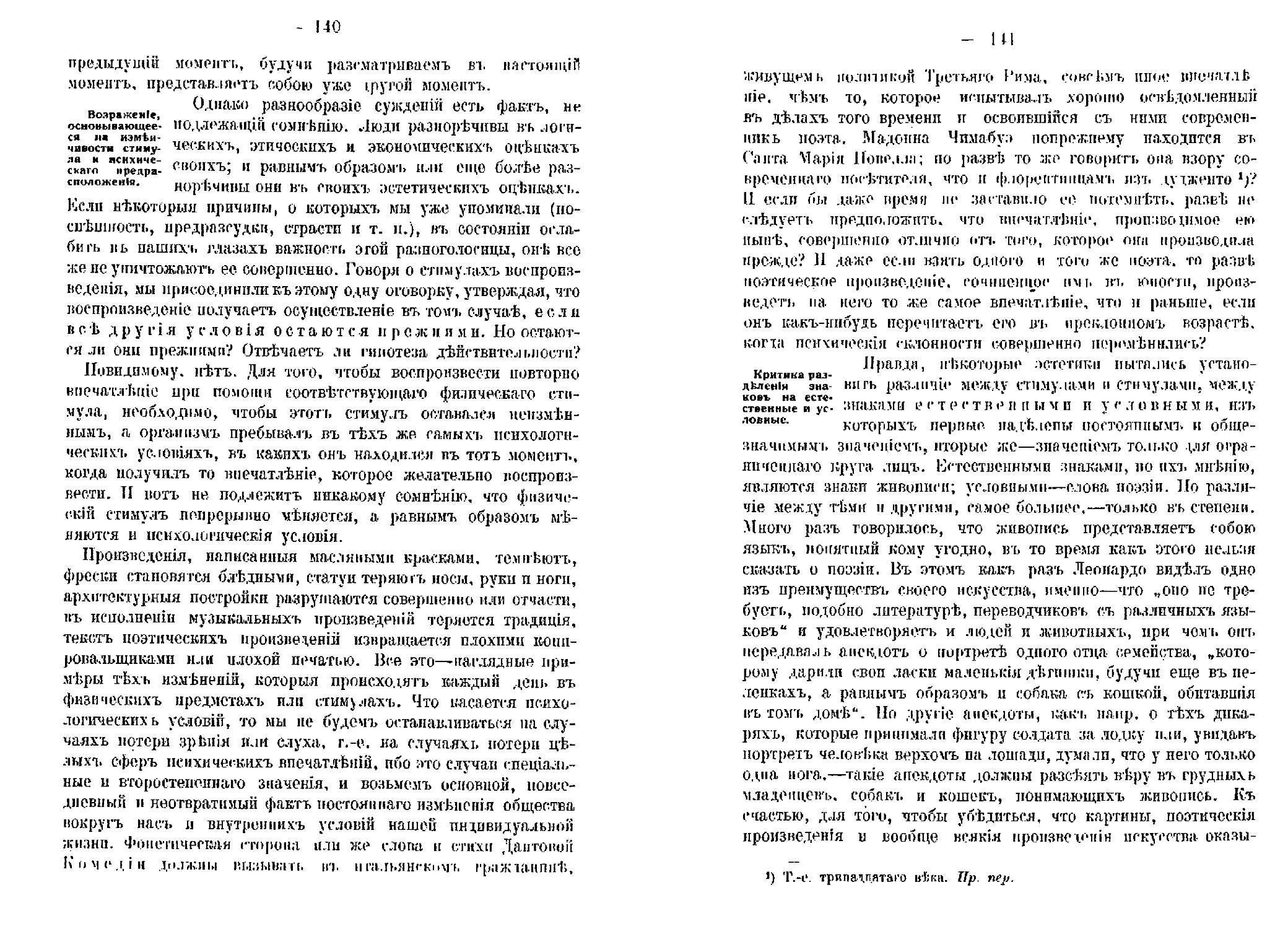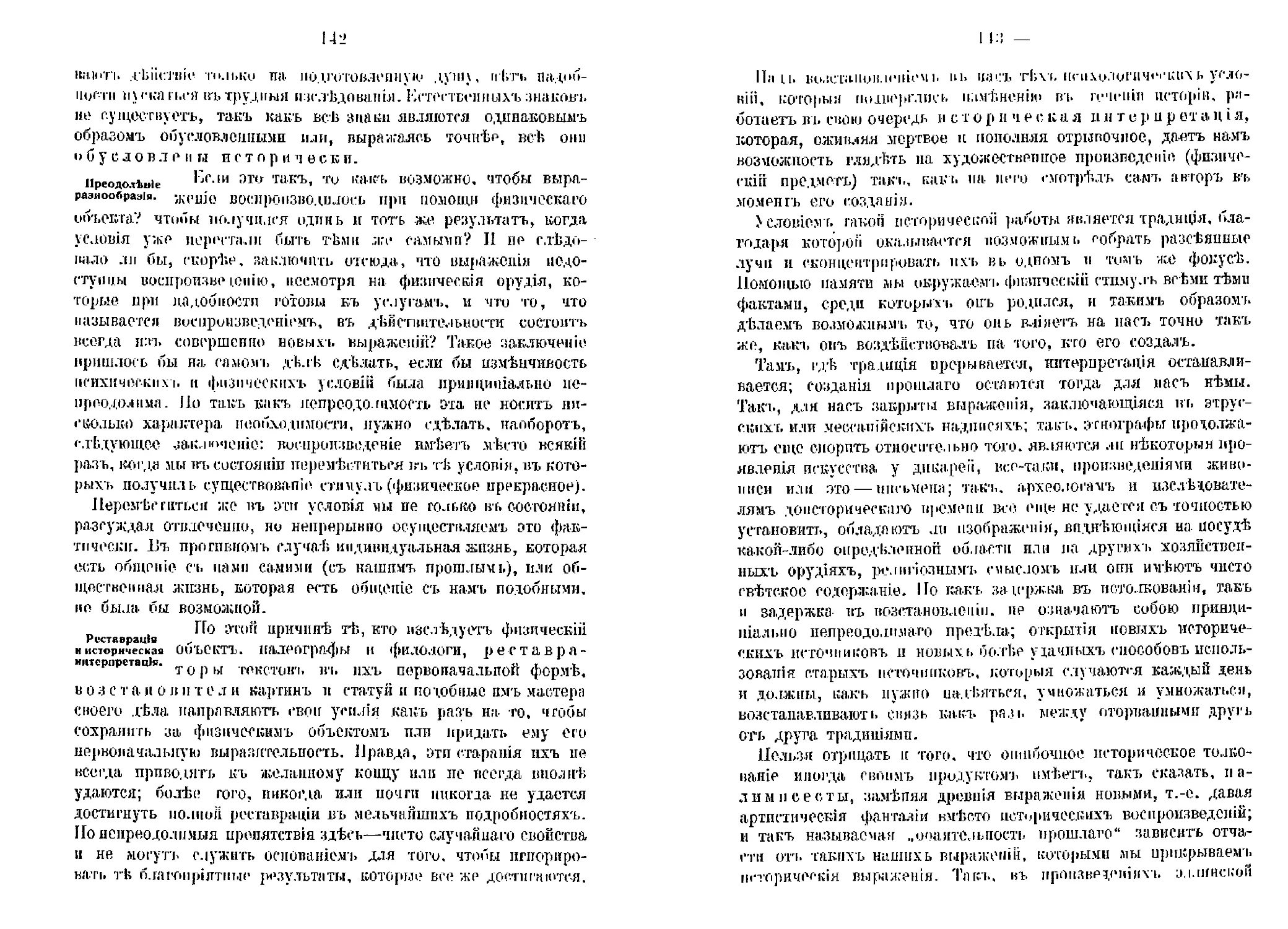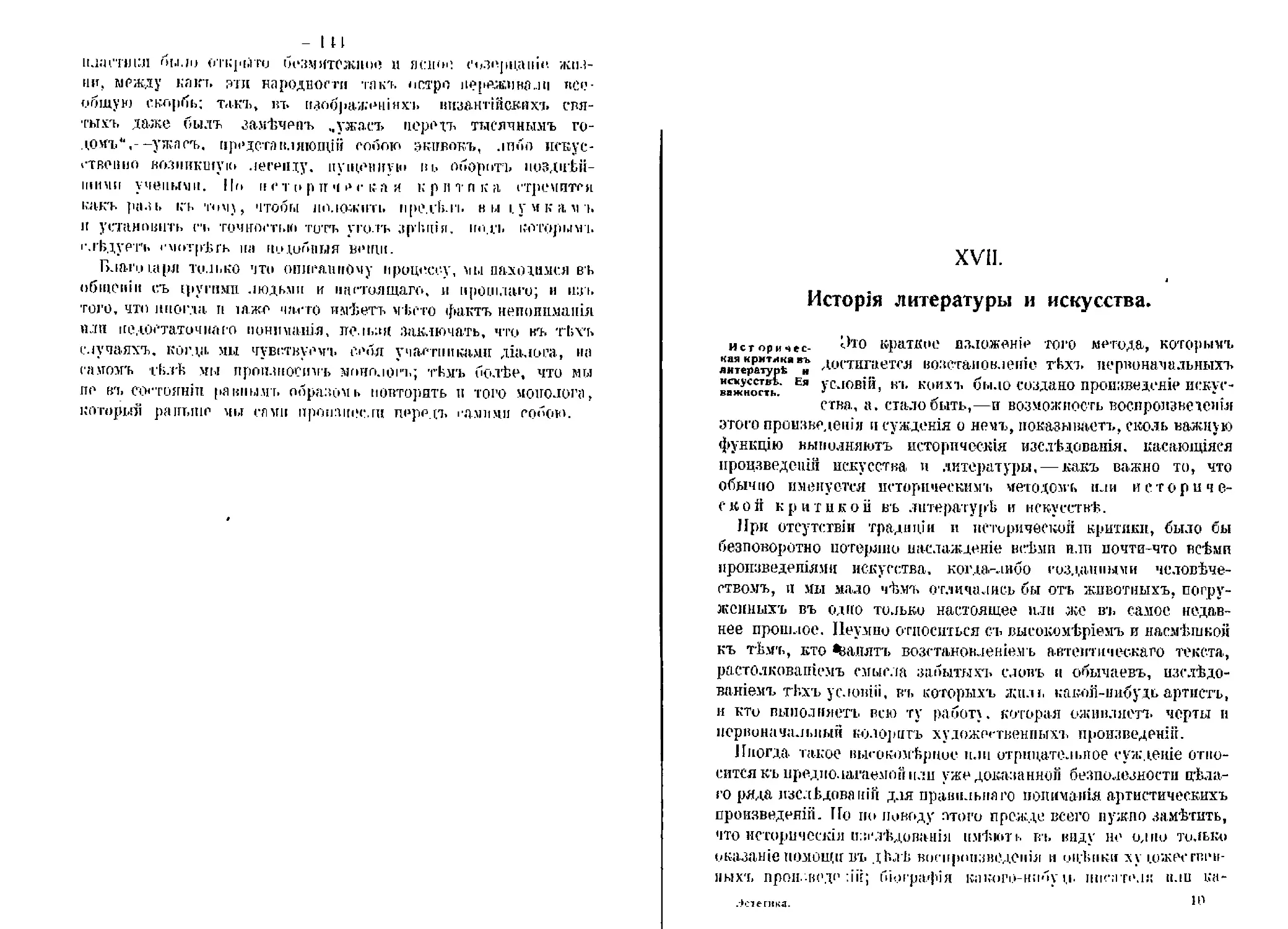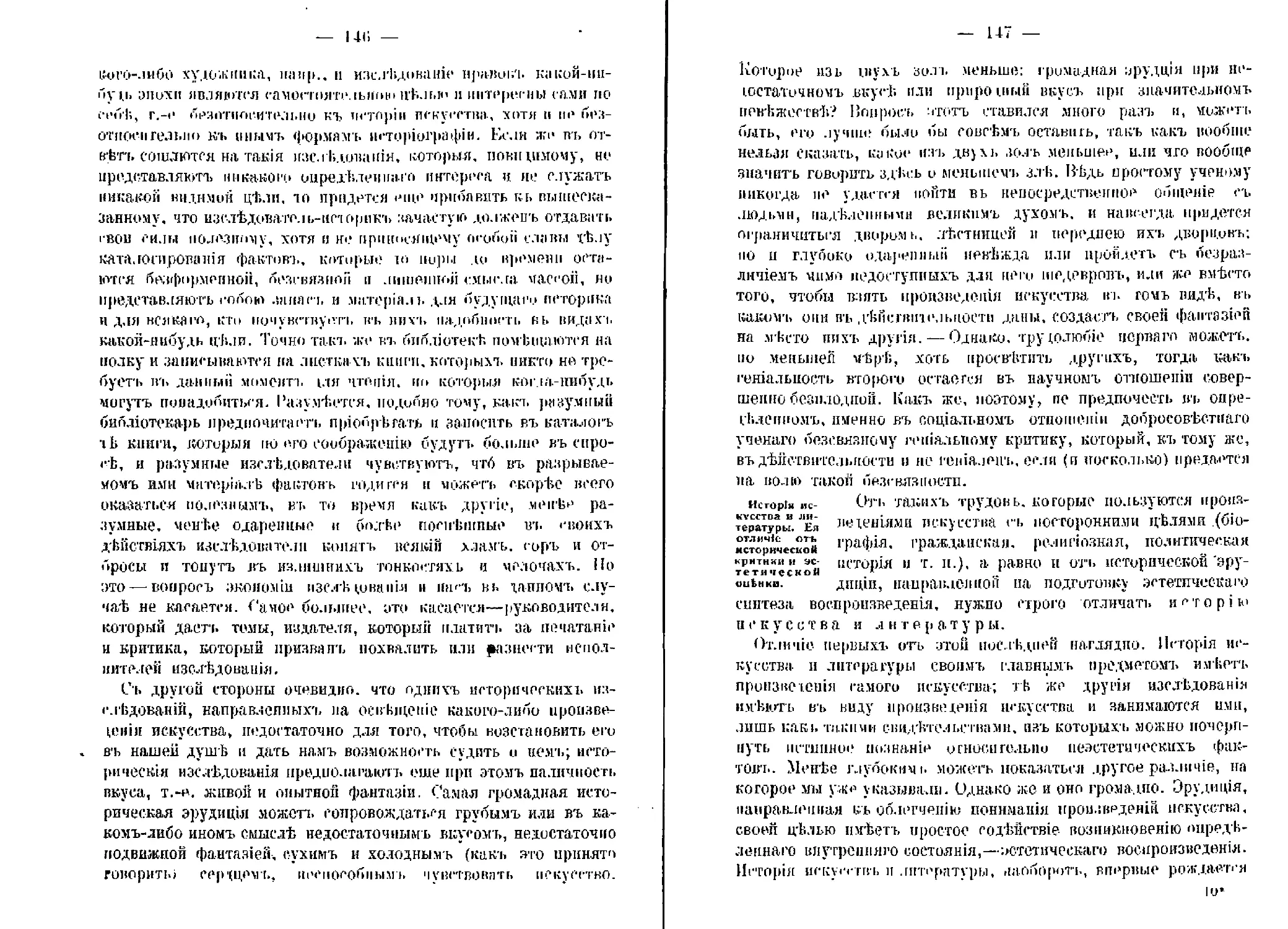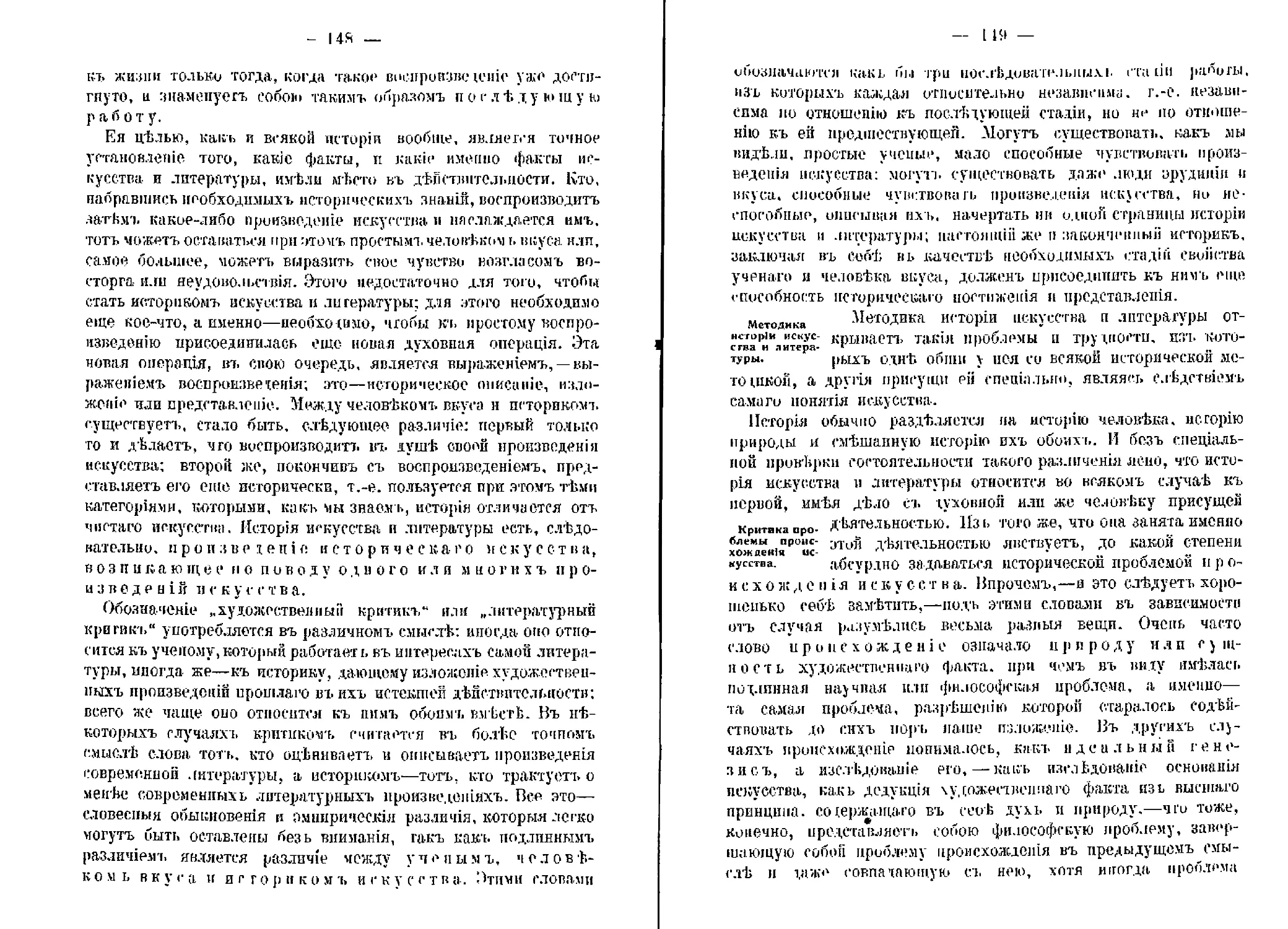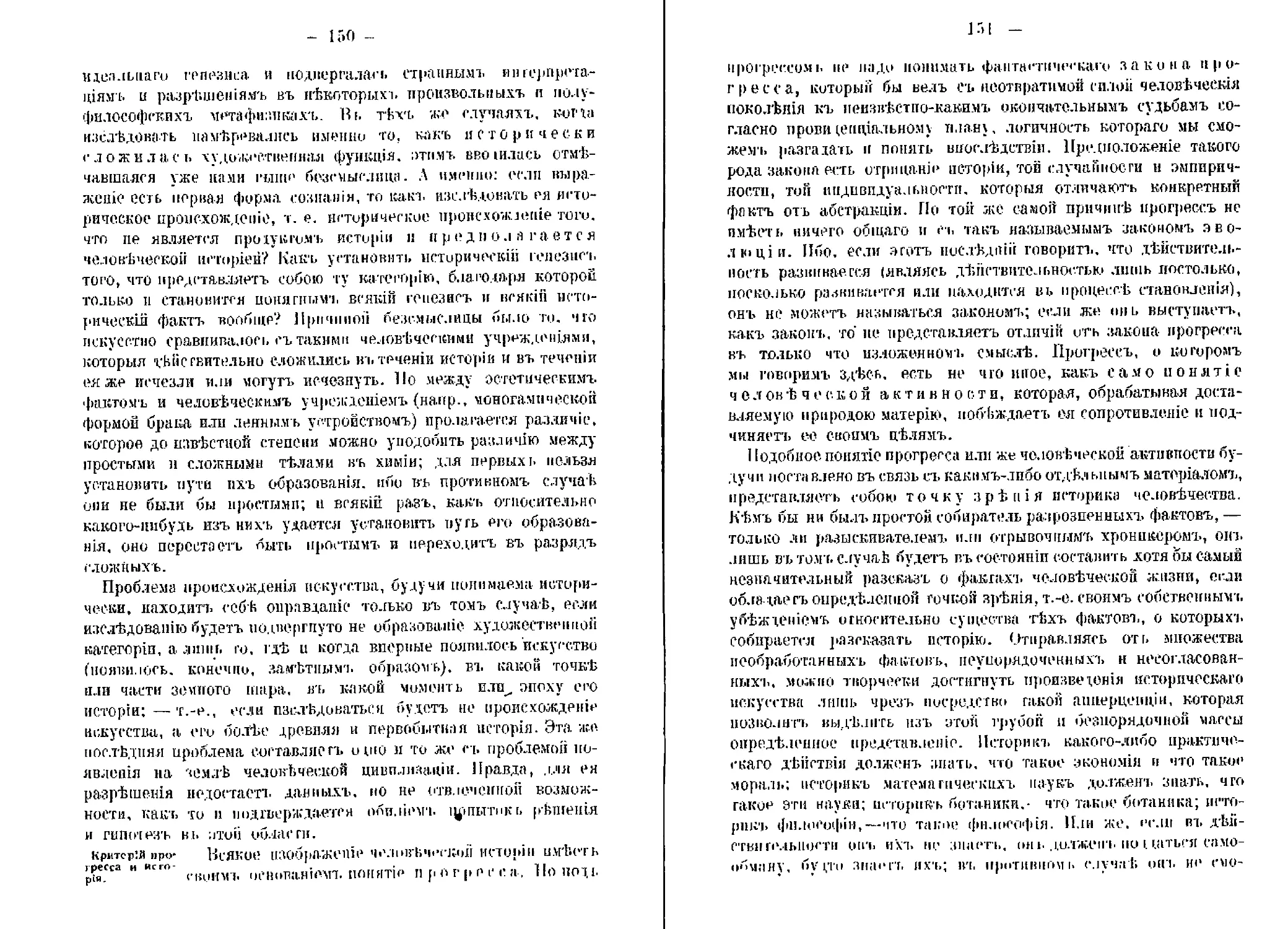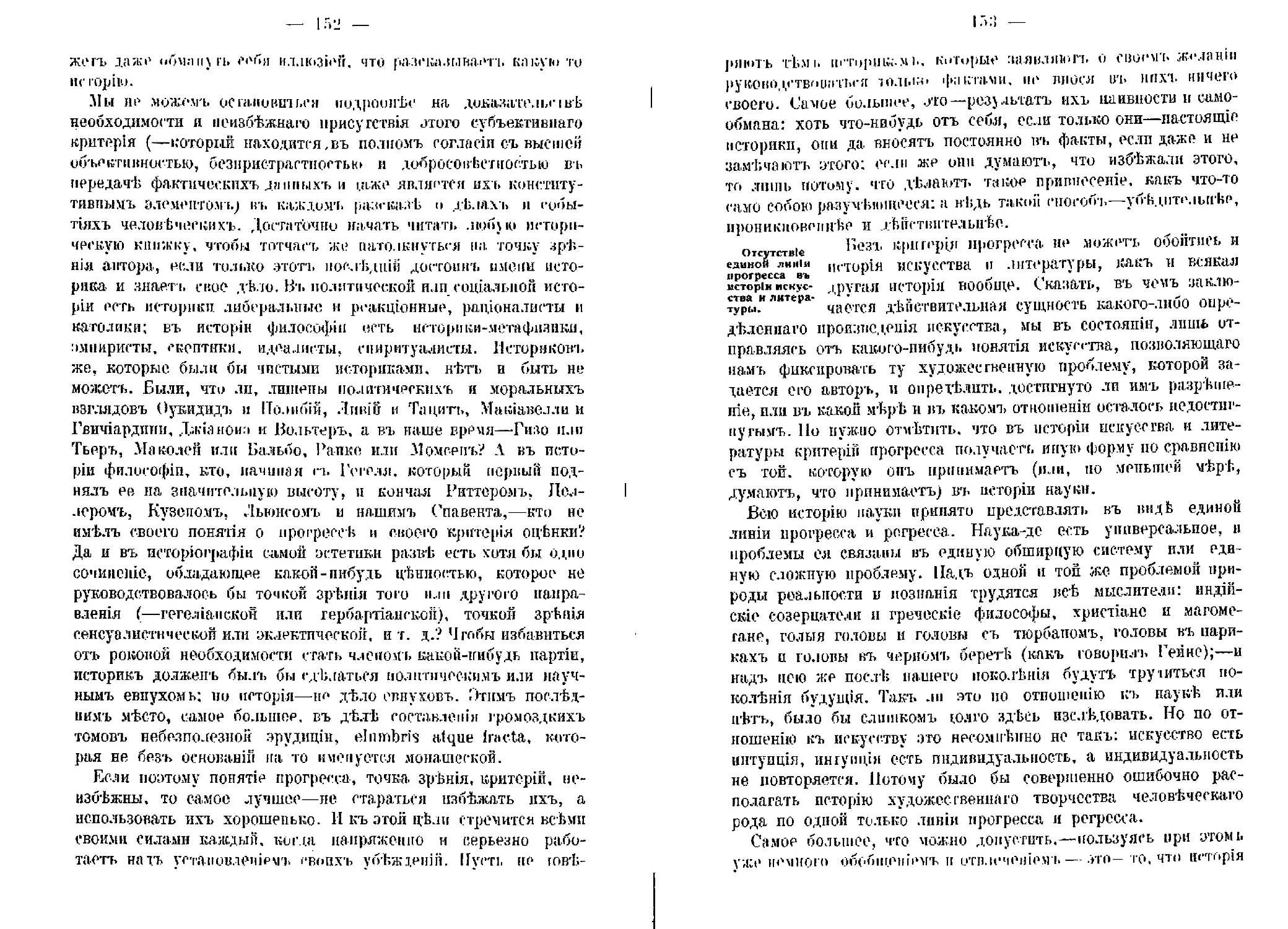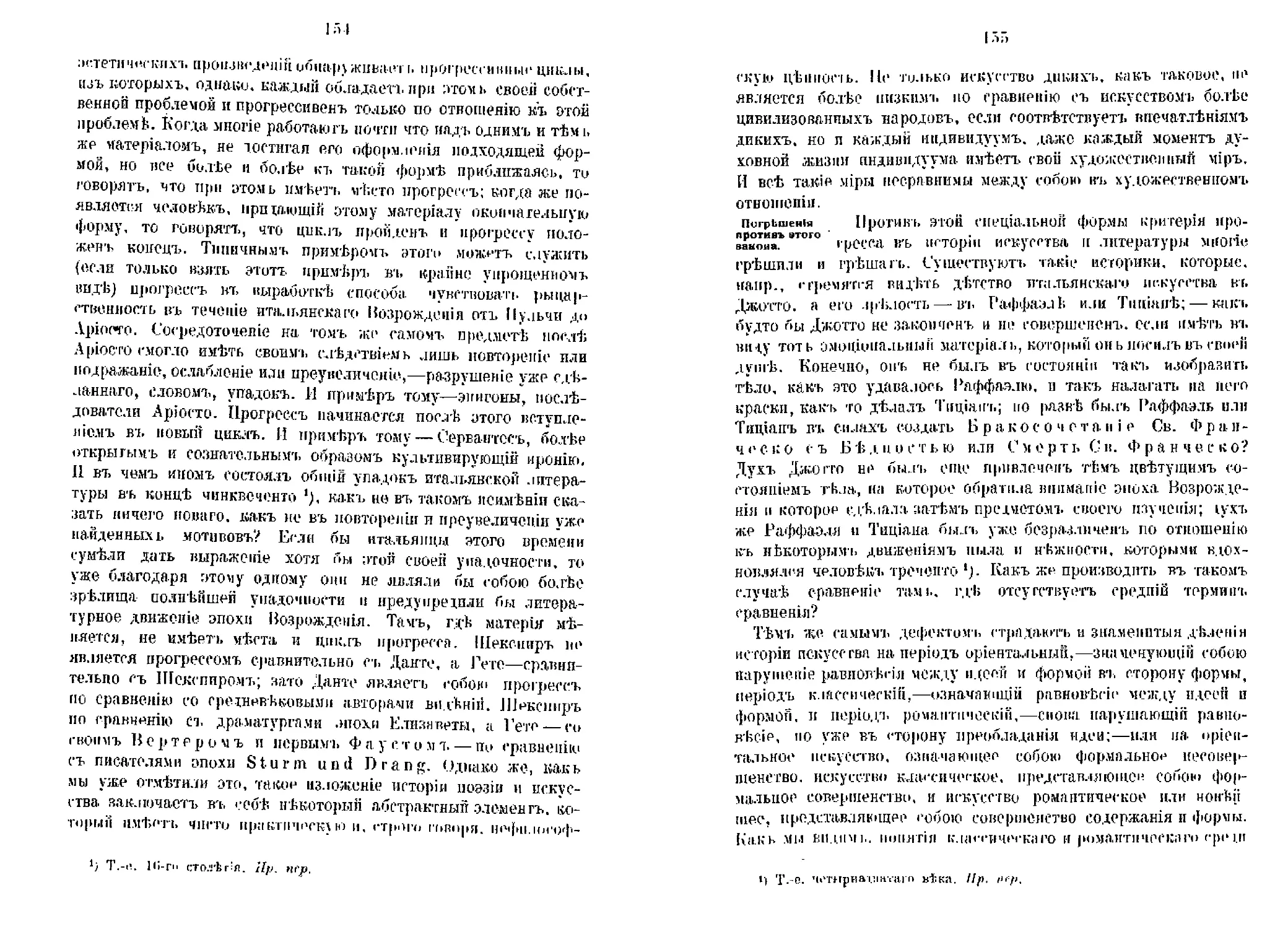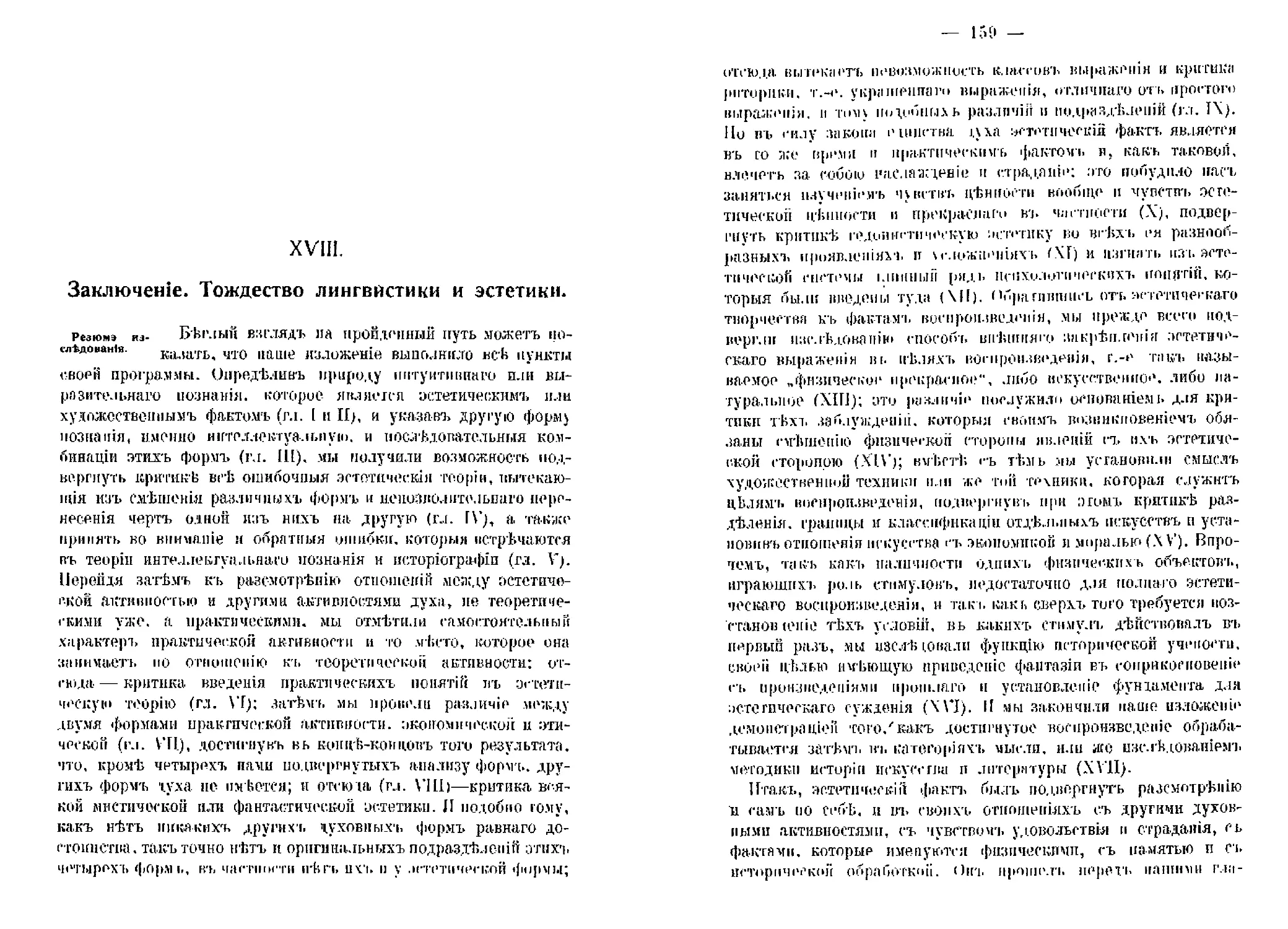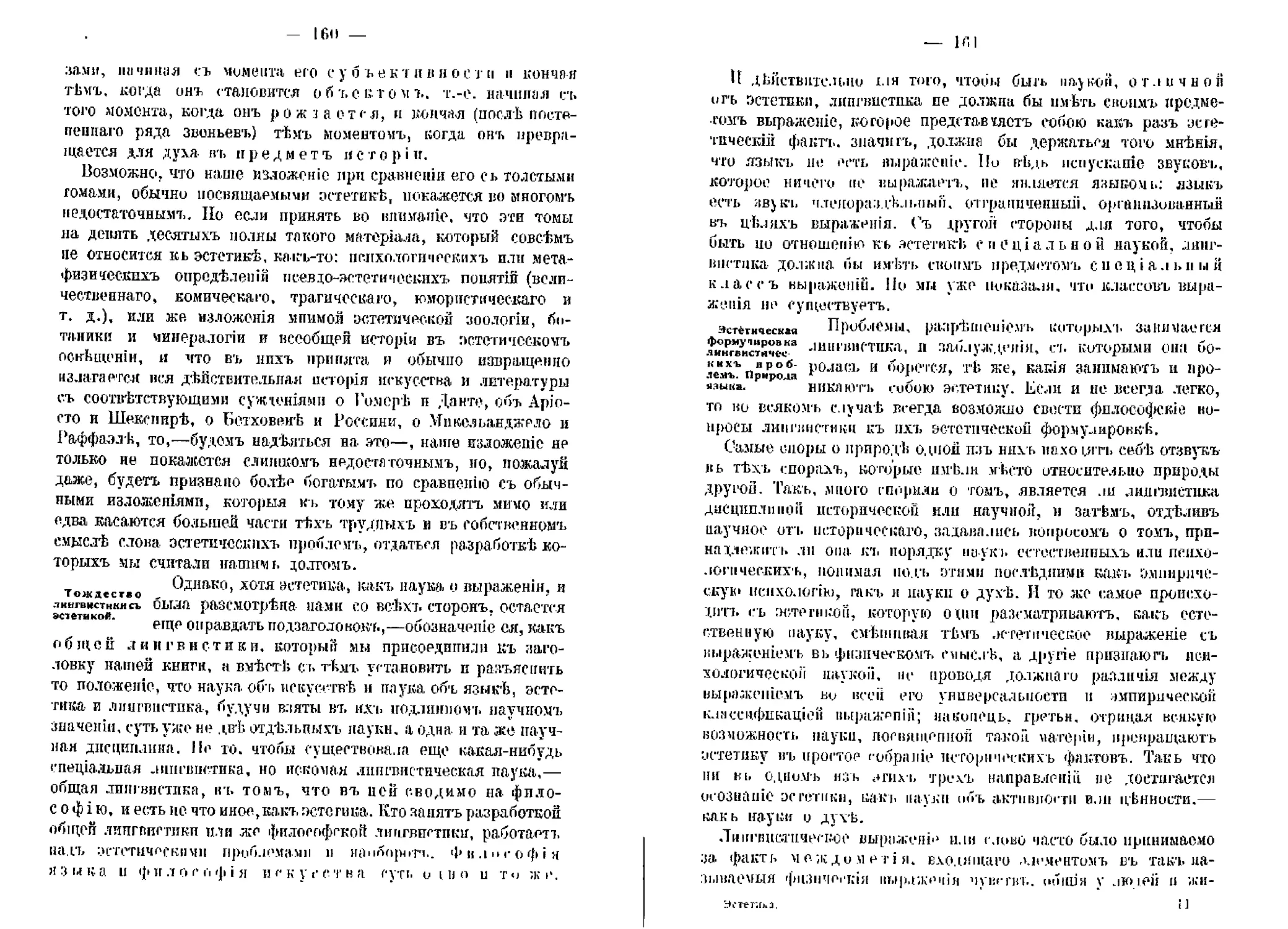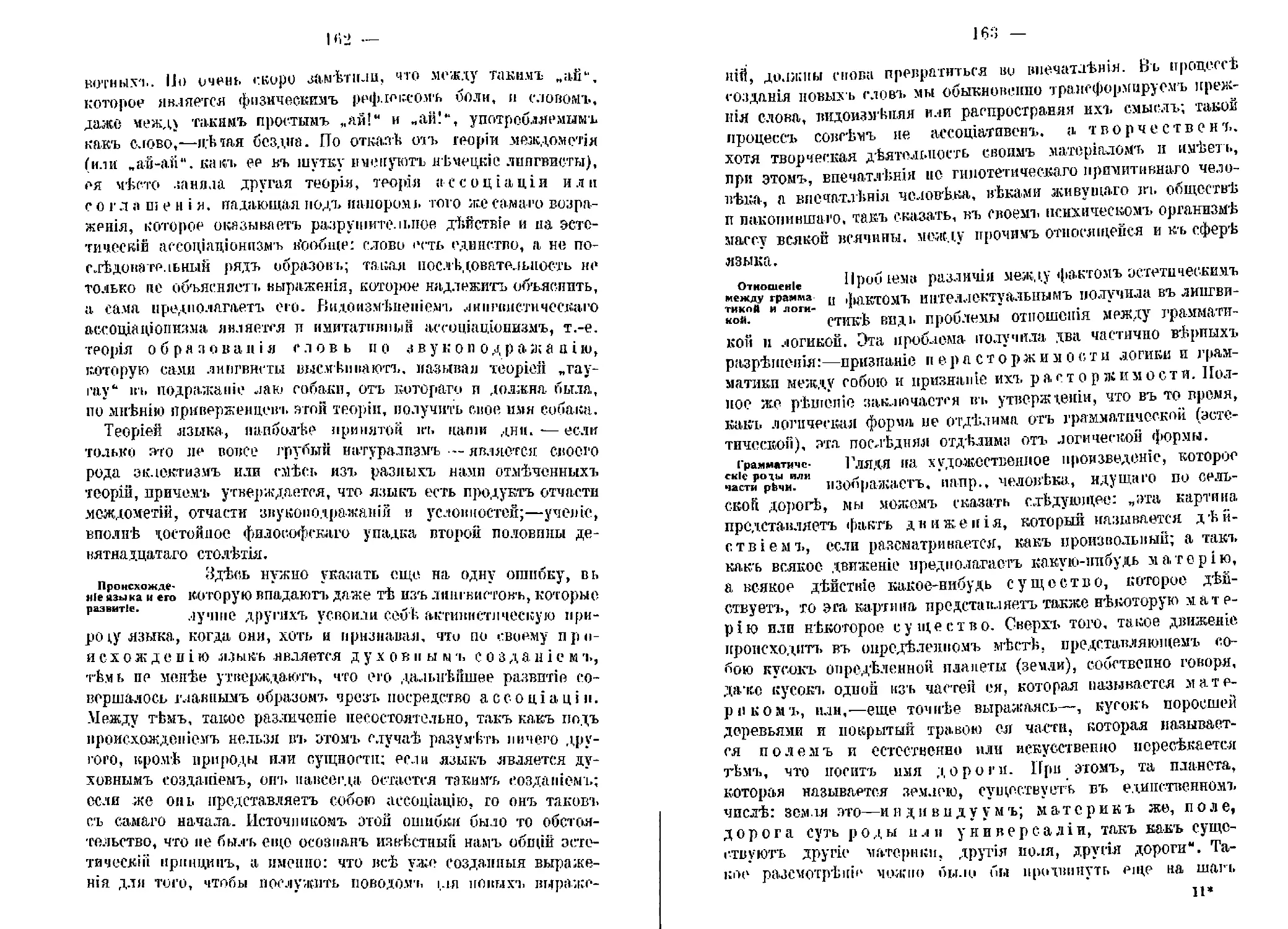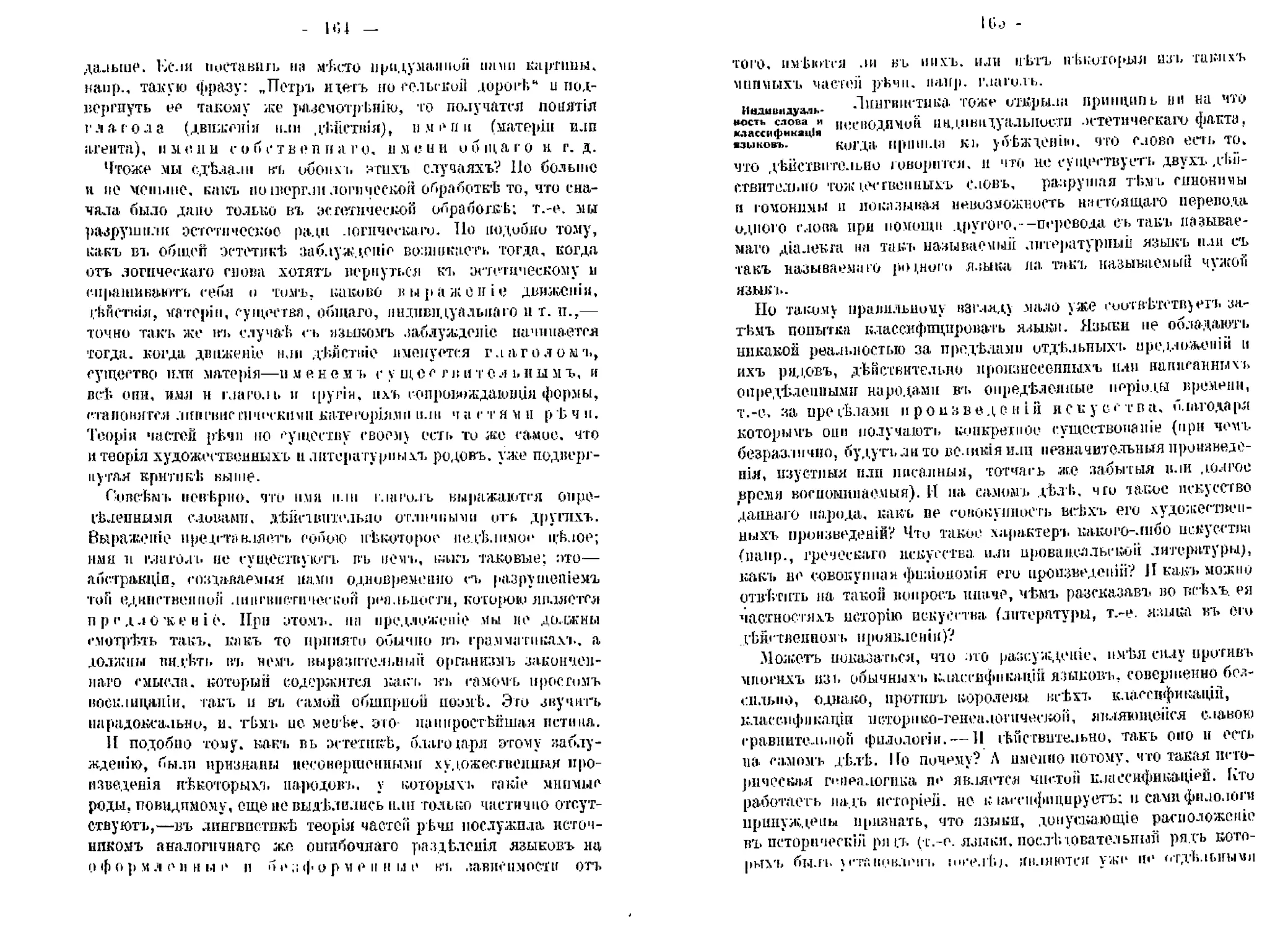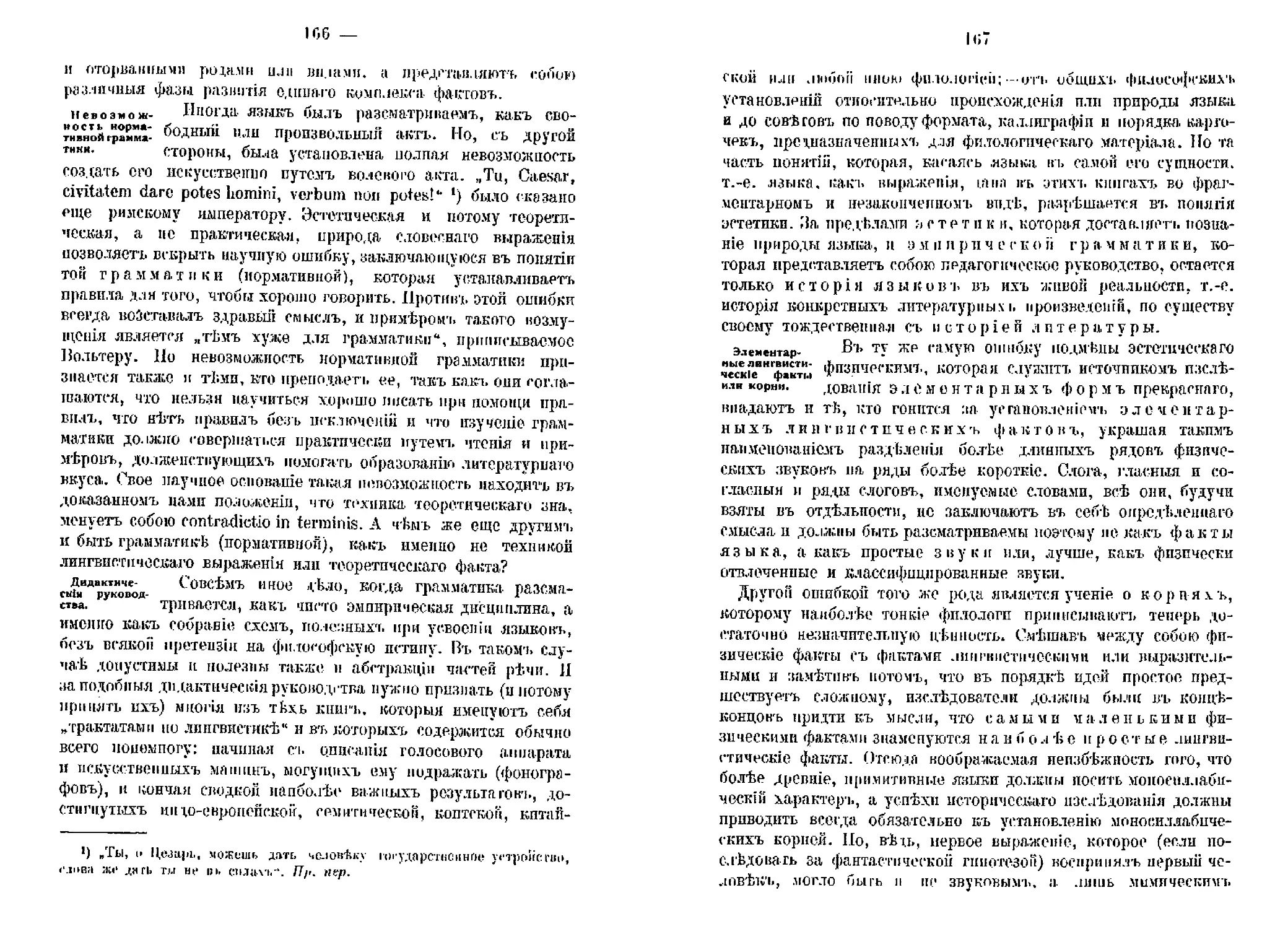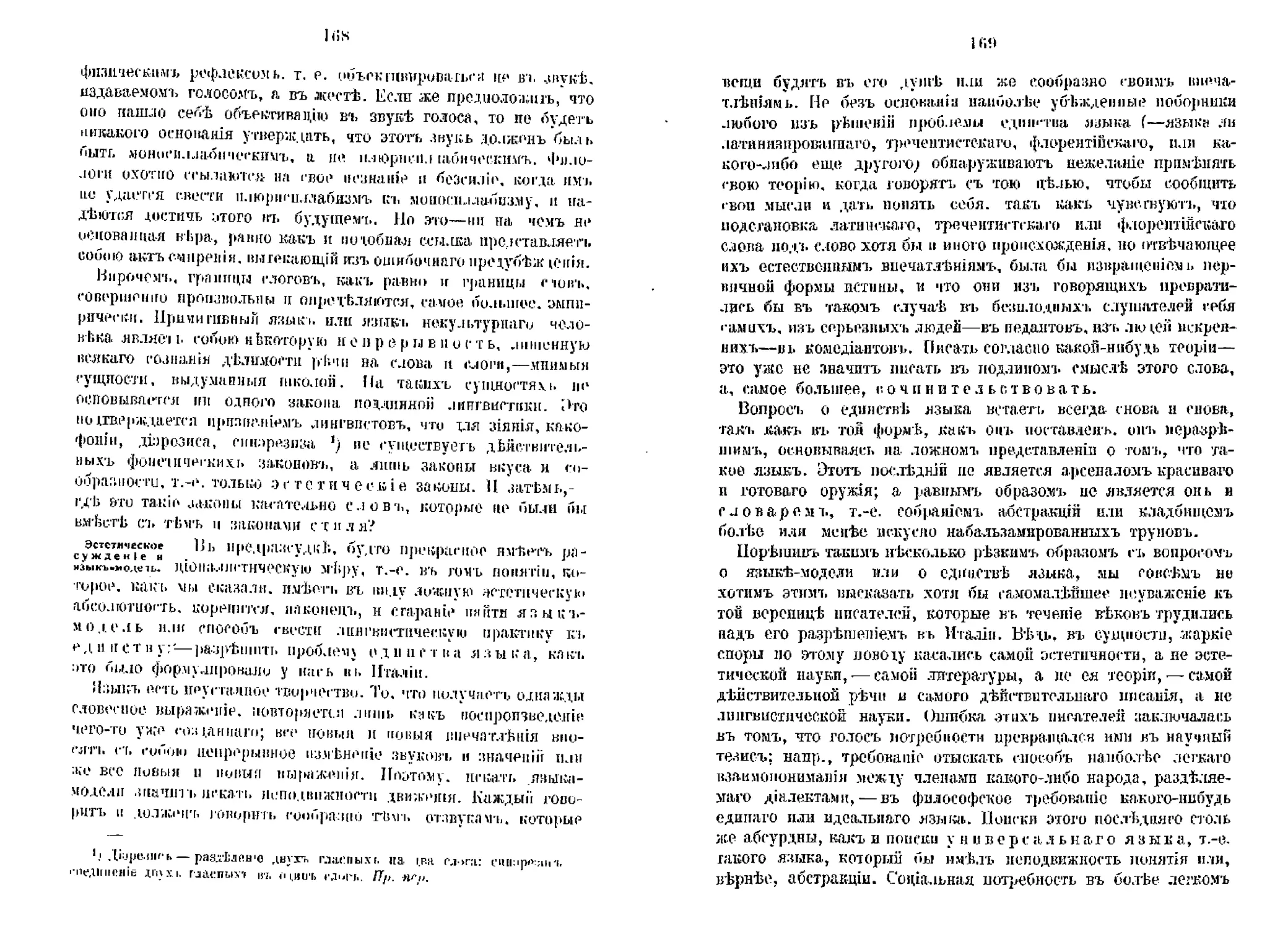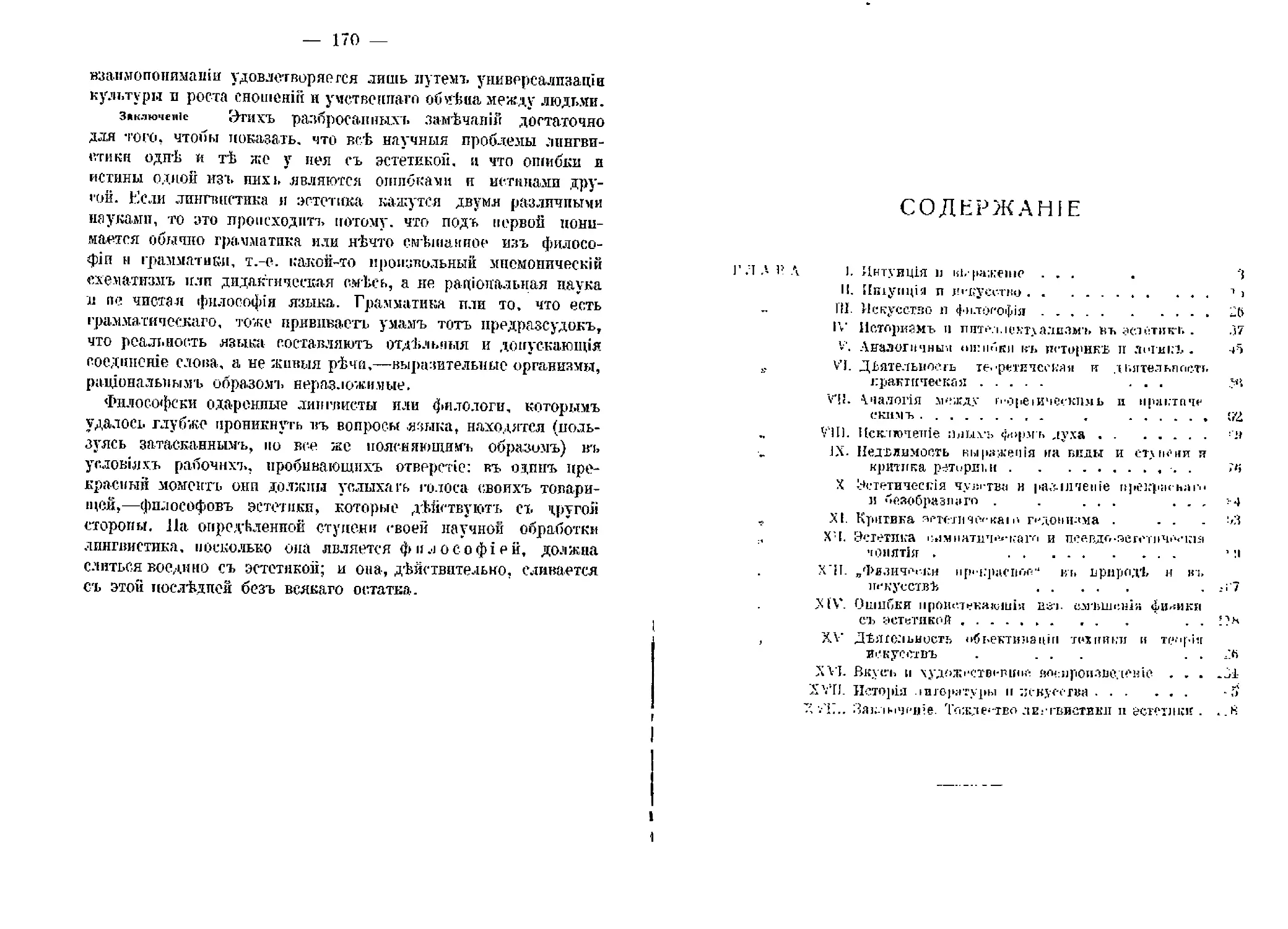Text
Бенедетто Кроче
ЭСТЕТИКА
КАКЪ НАУКА о ВЫРАЖЕНІИ
КАКЪ ОБЩАЯ ЛИНГВИСТИКА
Часть I
ТВ ОР ІЯ
ПЕРЕВОДЪ съ 4-ГО ИТАЛЬЯНСКАГО ИЗДАНІЯ
В. Яковенко
МОСКВА
Изданіе М. и О. Сабашниковыхъ.
1920
I.
Интуиція и выраженіе.
Познаніе ин- НоЗНЯ-НІе ИМѢСТЪ ДВѢ формы: 'ОНО ЯВЛЯеТСЯ Либо
туитивное. познаніемъ интуитивнымъ, либо познаніемъ
логическимъ; познаніемъ съ помощью фантазіи или съ
помощью интеллекта; познаніемъ индивиду а льва го
или познаніемъ универсальнаго; самихъ о г д ѣ льпых ь
вещей или же ихъ отношеній; однимъ словомъ, является
либо производителемъ образовъ, либо производителемъ п о-
п я т і й.
Въ повседневной жизни на интуитивное познаніе ссылаются
непрерывно. О нѣкоторыхъ истинахъ говорятъ, что ихъ нельзя
опредѣлить, что ихъ нельзя доказать нрп помощи силлогиз-
мовъ, что ихъ нужно воспринять интуитивно. Политикъ по-
рицаетъ отвлеченнаго мыслителя за то, что этотъ пе имѣетъ
живой интуиціи фактическихъ условій; педагогъ настаиваетъ
на необходимости при воспитаніи обращать вниманіе прежде
всего па развитіе интуитивной способности; критикъ почитаетъ
за честь передъ лицомъ художественнаго произведенія отло-
жить въ сторону теоріи и абстракціи и судить о немъ, исходя
изъ непосредственной интуиціи; и наконецъ, человѣкъ прак-
тики ведетъ жизнь интуицій въ гораздо большей степени,
чѣмъ жизнь размышленій.
Однако, такое широкое признаніе интуитивнаго познанія
въ повседневной жизни по находитъ подобнаго и рав-
наго себѣ признанія его въ сферѣ теоріи и философіи. Объ
интеллектуальномъ познаніи существуетъ наука чрезвычайно
древняго происхожденія, допускаемая всѣми безъ разсужде-
ній,—логика; паука же объ интуитивномъ познаніи едва-едва
допускается немногими, и то сь боязнью. Логическое позна-
ніе забрало себѣ львиную долю; и если оно и пе пожираетъ
своего собрата цѣликомъ, то во всякомъ случаѣ уступаетъ
ему едва лишь смиренное мѣстечко слуги или привратника.
1*
— 4 —
И что такое, на самомъ дѣлѣ, интуитивное познаніе безъ
свѣточа познанія интеллектуальнаго?- Служитель безъ госпо-
дина. 11 если для господина нуженъ служитель, то тѣмъ
необходимѣе господинъ для служителя, чтобы этотъ послѣдній
моп. поддерживать свою жизнь. Интуиція слЬііа; интеллектъ
надѣляетъ ее зрѣніемъ.
Его незави- Ц вОГЬ НСВВОС, ЧТО НУЖНО ССбѢ ХОроШСНЬКо
симость но от- і - і
ношенію къ по- усвоить.—это то, что интуитивное познаніе' не
лсктуальному. нуждается въ господинѣ, не испытываетъ необ-
ходимости на кого-либо опоротыя, не должно просить взаймы
чужихъ глазъ, такъ какъ имѣетъ на лбу свои собственные
глаза, обладающіе чрезвычайной силой проникновенія. И если
не подложитъ сомнѣнію, что во многихъ интуиціяхъ можно
констатировать вмѣшанныя въ нихъ понятія, то въ другихъ
случаяхъ отъ такого смѣшенія но остается и слѣда; чѣмъ и
доказывается, что оно не является необходимымъ. Впечатлѣ-
ніе отъ свѣта лупы, нарисованной художникомъ, контуры ка-
кой-нибудь страны, намѣченные* картографомъ, музыкальный
мотивъ, нѣжный или энергичный, слова, какой-нибудь грустной
лирики или слова, которыми мы выражаемъ приказаніе, прось-
бу и паши .жалобы въ повседневной жизни.—всѣ эти факты
прекрасно могутъ быть интуитивными фактами, безъ тѣни
какого-либо отношенія къ интеллекту. Но что бы ни думать
объ отихъ примѣрахъ, н если даже предположить, что
желательно и нужно настаивать на гомъ, что большая
часть интуицій цивилизованнаго человѣка пропитана по-
нятіями,— есть еще нѣчто, и болѣе существенное и болѣе
доказательное, на чемъ слѣдуетъ остановить вниманіе.
А именно: тѣ понятія, которыя вмѣшаны въ интуиціи и слитіи
съ ними воедино, не являются уже болѣе, нисколько они
дййствите.іьно вмѣшаны въ нихъ и съ ними слиты, понятіями,
ибо опп потеряли всякую независимость и автономію. Они
были когда-то понятіями, по стали теперь простыми элемен-
тами нптуиціп. Философскія максимы, будучи вложены въ уста
какого-либо дѣйствующаго лица трагедіи или комедіи, получа-
ютъ, благодаря этому, значеніе уже не понятій, а. характери-
стикъ этихъ дѣйствующихъ лицъ, совершенно такъ же, какъ
красный цвѣтъ какой-нибудь парпсоваппой фигуры фигурируетъ
въ ней уже не как'ь понятіе краснаго цвѣта, присущее физикѣ,
а какъ характерный элементъ этой фигуры. Цѣлое и
есть какъ разъ то. что опредѣляетъ качество частей. Художе-
ственное произведеніе можетъ быть полно философскихъ по-
нятій, можетъ быть надѣлено ими даже въ большей степени,
чѣмь философская диссертація, и понятія при этомъ могутъ
быть гораздо глубже, чѣмъ понятія такой диссо|)таціи; въ
свою очередь эта послѣдняя .можетъ отличаться богатствомъ
и обиліемъ описаній и интуицій. По. несмотря на всѣ эти
понятія, результатомъ художественнаго произведенія будетъ
интуиція; съ другой же стороны, несмотря на. всѣ такія
интуиція. результатомъ философскаго трактованія будетъ по-
нятіе. Обрученные А) со [оржатъ массу замѣчаній и
установленій нравственнаго характера: однако, они не теряютъ
благодаря этому въ своемь цѣломъ характера простого раз-
сказа илп интуиціи. Подобными же образомъ анекдоты и сати-
рическія изліянія, на. которые но трудно натолкнуться въ кни-
гахъ» такого философа, какъ ТПоііснгауеръ, не лишаютъ этихъ
книгъ ихъ отличительнаго свойства—быть трактатами раз-
судочнаго характера. Различіе между научнымъ произве-
деніемъ и произведеніемъ художественнымъ, т.-е. между фак-
томъ интеллектуальнымъ и фактомъ интуитивнымъ, заклю-
чается въ томъ результатѣ, вь томъ различномъ эффектѣ, кото-
рый имѣется въ виду каждымъ изъ нихъ и опредѣляетъ и
подчиняетъ собѣ всѣ отдѣльныя части ихъ, а. не въ этнхь
отдѣльныхъ частяхъ, оторванныхъ и разсматриваемыхъ от-
влеченно вгь изоляціи другъ отъ друга.
Интуиція и Однако ДЛЯ ТОГО, чтобы получить точное И Не-
воспріятіе. нос представленіе объ интуиціи, недостаточно при-
знать ее независимой отъ понятія. Тѣ. что высказываютъ такое
мнѣніе пли, но меньшей мѣрѣ, не ставятъ ее во всецѣлую
зависимость оть интеллекта., легко впадаютъ въ другую ошиб-
ку, затемняющую и извращающую ея подлинную природу. Подъ
интуиціей зачастую разумѣютъ воспріятіе, или же позна-
ніе чего-либо случившагося въ дѣйгшіггел ьногти, усвоеніе
чего-либо, какъ р е а л ь и а г о.
Безъ сомнѣнія, воспріятіе ость интуиція. Воспріятія той
комнаты, въ которой я пишу, той чернильницы и той бу-
маги, которыя я имѣю передъ собою, того пера, которымъ
я пишу, тѣхъ предметовъ, которыхъ я касаюсь и которыми
я пользуюсь, какъ моими личными орудіями (при чемъ
Романъ А. Манцонн „Рготсйяі 8р08і“. 11р. пер.
— 6 —
если я пишу, то значитъ и существую), все это—интуиціи.
Но въ равной степени интуиціей является и образъ, проно-
сящійся въ данный мигъ въ моей головѣ, образъ меня пишу-
щаго въ другой комнатѣ, въ другомъ городѣ, на иной бумагѣ,
инымъ перомъ, изъ иной чернильницы. А это значитъ, что
различіе между реальностью и нереальностью посторонне вну-
тренней природѣ интуиціи, второстепенно по отношенію къ
ней. Если предположить такое человѣческое созпапіе, кото-
рое пнтуируетъ впервые, то представляется неизбѣжнымъ,
что оно будете въ состояніи интуитивно усвоить только дѣй-
ствительно паличную реальность и потому будетъ имѣть только
интуиціи реальнаго. По такъ какъ с-ознапіе реальности опи-
рается па различіе между образами реальными и образами ир-
реальными,—а такое различіе въ первый моментъ не имѣетъ
мѣста,—-эти интуиціи на дѣлѣ не будутъ интуиціями пи реаль-
наго, ни ирреальнаго, но будутъ воспріятіями, а чистыми интуи-
ціями. Тамъ, гдѣ все реально, пѣтъ ничего реальнаго. Нѣкото-
рое, хотя и въ достаточной мѣрѣ расплывчатое и весьма при-
близительное представленіе объ этомъ изначальномъ состояніи
можетъ дать ребенокъ со своимъ неумѣніемъ различать реаль-
ное и мнимое, исторію и басню, которыя представляютъ со-
бою для него одно и то же. Интуиція есть нераздѣльное
единство воспріятія реальнаго и простого образа только воз-
можнаго. Въ интуиціи мы но противопоставляемъ себя, какъ
эмпирическія существа, внѣшней реальности, а непосредствен-
но объективируемъ наши впечатлѣнія, каковы бы они пи были.
Поэтому, казалось бы, къ истинѣ болѣе всего
приближаются тѣ, что разсматриваютъ интуицію,
какъ ощущеніе, оформленное и упорядоченное
единственно лишь по категоріямъ пространства и времени.
Пространство и время, какъ опи говорятъ, суть формы интуи-
ціи; интуировать значитъ полагать въ пространствѣ и вре-
менной послѣдовательности. Интуитивная активность состояла
бы въ такомъ случаѣ въ о гой двойственной и соединенной
функціи пространственное™ и временности. И, однако, отно-
сительно этихъ двухъ категорій нужно сказать то же самое,
что было сказано объ интеллектуальныхъ различіяхь въ интуи-
ціи,—что онѣ тоже сливаются въ ней воедино. Мы имѣемъ
интуиціи внѣ пространства и внѣ времени: цвѣтъ неба и оттѣ-
нокъ чувства, горестное «увы!» и порывъ воли, объективирую-
Интунція и
понятія про-
странства и
времени.
щіесл въ сознаніи,—все это интуиціи, нами переживаемыя, въ
которыхъ ничто нр является оформленнымъ пространственно
и временно. Въ нѣкоторыхъ интуиціяхъ можно констатиро-
вать простраііственпость и отсутствіе временности, вь дру-
гихъ—временность и отсутствіе пространствснности; по и тамъ,
гдѣ имѣютъ мѣсто онѣ обѣ, ихъ выявленіе есть дѣло по-
слѣдующей рефлексіи; въ интуиціи онѣ будутъ сливаться
точно такъ же, какъ и всѣ другіе ея элементы; онѣ
будутъ, другими словами, имѣть въ пой мѣсто не іогта-
іііег, а таісгіаіііег, не какъ упорядочивающія формы, а какъ
ингредіенты. Кто безъ особаго акта рефлексіи, прерывающаго
па моментъ созерцаніе, способенъ обратить вниманіе на про-
странство, находясь передъ какимъ-нибудь портретомъ или даже
передъ какимъ-либо пейзажемъ? Кто безъ такого же рефлек-
сивнаго и прерывающаго акта обращаетъ вниманіе па точе-
ніе времени, слушая какой-нибудь разсказъ или какой-либо
музыкальный отрывокъ? То, что интуируется въ произведеніи
искусства, есть характеръ или индивидуальная физіоно-
мія ого, а пе пространство и время. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ
попыткахъ новѣйшей философіи замѣчается склонность при-
соединиться къ только что изложенному взгляду- Пространство
и время признаются при этомъ чрезвычайно сложными интел-
лектуальными конструкціями, а не наипростѣйіпими и примитив-
ными функціями. Съ другой стороны, и у нѣкоторыхъ изъ
тЬхъ, кто не отрицаетъ совершенно значенія пространства и
времени, какъ формирующихъ началъ или категорій и функ-
цій, замѣчается стараніе объединить ихъ и понимать иначе,
чѣмъ обыкновенно понимаются эти категоріи. Есть мыслители,
которые сводятъ интуицію къ одной только категоріи прострин-
ствснности, утверждая, что и время интуируется только про-
странственно. Другіе же отказываются отъ трехъ измѣреній про-
странства, признавая ихъ философски необязательными, и раз-
сматриваютъ прострапственность, какъ нѣчто, лишенное вся-
каго спеціально - пространственнаго опредѣленія. Но что мо-
жетъ представлять собою подобная пространственная функ-
ція, такое упорядоченіе, упорядочивающее даже самое вре-
мя? Не есть ли это, пожалуй, простой остатокъ отъ всѣхъ
критикъ и отрицаній, въ которомъ можно видѣть только тре-
бованіе установить родовую интуитивную активность?
И не получаетъ ли эта послѣдняя своего истиннаго опредѣ-
— 8 —
лрнія, когда ей приписывается единая категорія или функція,
не спаціализирующая и не темпоралпзпруіощая, а характери-
зующая,—или лучше, когда опа сама разсматривается, какъ та
категорія или функція, которая доставляетъ памъ познаніе ве-
щей въ ихъ конкретности и индивидуальности?
интуиція и ' Освободивъ, такимъ образомъ, интуитивное по-
ощі-шеніе. знаніе отъ всякихъ иптеллектуалистическихъ стѣ-
сненій и отъ всякихъ послѣдующихъ и чуждыхъ добавле-
ній. мы должны уяснить его сущность и опредѣлить ого гра-
ницы также и с. ь друтой стороны, въ противовѣсъ иному по-
кушенію на ого самостоятельность и смкшенію иного рода.. Съ
этой же другой стороны, со стороны низшей границы, занимаетъ
мѣсто ощущеніе, безформенная матерія, которую духъ по мо-
жетъ постигнуть въ ея собственной сущности, посколько она-
является чистой матеріей,—кокорой онъ владѣетъ только бла-
годаря формѣ и въ формѣ и о которой имъ постулируется
понятіе именно, какъ о нѣкоторой границѣ. Матерія, будучи
взята въ своемъ отвлеченіи, есть механизмъ, пассивность, есть
то, что человѣческій духъ претерпѣваетъ, а по производитъ.
Безъ нея. правда., невозможно никакое познаніе и никакая чело-
вѣческая дѣятельность: по при этомъ чистая матерія знаменуетъ
собою животность,—то, что оси» въ человѣкѣ грубаго и им-
пульсивнаго, а но духовное господство, въ которомъ только
и заключается человѣчность. Какъ часто силимся мы
ясно сыінтуирова.ть то, что въ пасъ происходитъ. Мы ви-
димъ при этом'ь неясно что-то, по не въ силахъ поставить его
передъ очами духа въ объективированномъ и оформленномъ
видѣ. Въ такіе моменты мы яснѣе убѣждаемся въ глубокой
разницѣ между матеріей и формой; ото не ^ва нашихъ акта,
изь которыхъ одинъ противостоялъ бы другому: но одна, изъ
ппхъ есть что-то внѣ, что воздѣйствуетъ на насъ и переносится
въ насъ, другая же есть что-то внутри, что стреми гея погло-
тить это внѣшнее и сдѣлать его своимъ. Матерія, будучи одѣта
и побѣждена формой? даетъ мѣсто конкретной формѣ. Матерія,
содержаніе.—вотъ то, что отличаетъ каждую изъ нашихъ интуи-
цій оть другой: форма постоянна и являетъ собою духовную дѣй-
ственность, матерія же измѣнчива, и безъ нея духовная актив-
ность пе могла бы выйти изъ своего абстрактнаго состоянія и
стать активностью конкретной и реальной, тѣмъ или другимъ ду-
ховнымъ содержаніемъ, той или иной опредѣленной интуиціей.
— 9 —
Чрезвычайно любопытно и характерно для пашсго времени,
что именно эта форма., именно активность духа, именно то,
что есть мы сами, съ легкостью забывается или отрицается.
Есть среди насъ люди, смѣшивающіе воедино духовную
активность человѣка и метафорическую и миоологическую
активность такъ называемой природы, которая ость механизмъ .
и уподобляется человѣческой дѣйственности только въ тома,
случаѣ, если вообразить, по примѣру эзоповскихъ бакенъ,
что «агіютея Іоцшиііиг пои ѣшіінті Гегае» 1): ость среди
пасъ п люди, способные утверждать, что оіш никогда не на-
блюдали въ себѣ такой «чудодѣйственной» активности, какъ
будто бы между потѣніемъ и мышленіемъ, между ощущеніемъ
холода и энергіей воли пе было никакого различія или рѣчь
шла. только о количественной разницѣ. Другіе же, несомнѣн-
но съ большими па то основаніями, хотятъ, напротивъ того,
чтобы активность и механизмъ, будучи специфически различ-
ны, соединялись воедино въ нѣкоторомъ болѣе общимъ
понятіи. Но если даже оставить пока въ сторонѣ раз-
смотрѣніе вопроса о томъ, возможно ли такое высшее
возсоединеніе и въ какомъ смыслѣ оно возможно, и при-
знать, что надлежитъ изслѣдовать эго,—все ранію ясно, что
объединять два понятія въ какомъ-либо третьемъ значитъ уже
устанавливать нѣкоторое различіе между ними; здѣсь .же для
насъ важно какъ разъ различіе, и мы ему даемъ выраженіе,
интуиція и Интуиція иной разъ смѣшивалась съ примп-
ассоціація. ТИВІІЫМЪ ОЩуЩОНІСМЪ. Но ТОКЪ КЗ КЪ ТЯКОв СМѢ-
шепіе слишкомъ .явно идетъ въ разрѣзъ даже съ общимъ
здравымъ смысломъ, то еще чаще пытались ослабить или зама-
скировать его при помощи такой двусмысленной фразеологіи,
которая въ одно и то же время стремится и объединить пхъ вмѣ-
стѣ и различать. Такъ утверждалось, что интуиція есть ощуще-
ніе, по ужъ пе простое ощущеніе, а ассоціація ощу-
щеній; при чемъ экивокъ своимъ источникомъ имѣетъ тутъ
именно слово «ассоціація». 'Эта послѣдняя либо разсма-
тривается. какъ память, мнемоническая ассоціація, созна-
тельное припоминаніе,— и въ такомъ случаѣ совершенно
непонятно требованіе соединить въ' памяти такіе элементы,
которые не были съинтуировапы, различены, обладаемъ!
’) „Не только звѣри, деревья говорятъ". 11р. пер.
— 10 —
какъ либо духомъ и порождены сознаніемъ. Либо подъ
ассоціаціей понимается ассоціація несознательныхъ элемен-
товъ,— и въ такомъ случаѣ мы не выходимъ за пре-
дѣлы ощущенія и естественности. Что же касается до тѣхъ
случаевъ, когда, какъ то имѣетъ мѣсто у нѣкоторыхъ ассо-
ціаціонистовъ, говорится о такой ассоціаціи, которая не являет-
ся ни памятью, пи сліяніемъ ощущеній, а продуктивной
(формирующей, конструктивной, различающей) ассоціаціей, то
въ такомъ случаѣ сущность дѣла собственно уже признается
и отрицается только слово. Дѣйствительно, продуктивная ассо-
ціація не есть уже болѣе ассоціація въ томъ смыслѣ, какъ
ее понимаютъ сенсуалисты; она является уже синтезомъ,
т.-е. духовной активностью. Синтезъ при этомъ просто именуется
ассоціаціей; но понятіемъ продуктивности уже вводится различіе
между пассивностью и активностью, ощущеніемъ и интуиціей.
Интуиція и Есть и такіе психологи, которые склонны отли-
представлечіе. чать отъ ощуЩСНІЯ НѢЧТО ТаКОО, ЧТО Не ЯВЛЯСТСЯ
уже болѣе ощущеніемъ, но и не представляетъ собою еще интел-
лектуальнаго понятія: представленіе или образъ. Како-
во же различіе между этимъ ихъ представленіемъ или образомъ
и пашимъ интуитивнымъ познаніемъ?—Это различіе и громадно
и вовсе отсутствуетъ въ одно и то же время, ибо -и «предста-
вленіе» есть слово чрезвычайно двусмысленное. Если подъ нимъ
понимать нѣчто выдѣляющееся и всплывающее надъ психиче-
ской массой ощущеній, то представленіе есть интуиція. На-
оборотъ, если подъ ппмъ понимать сложное ощущеніе, то
все возвращается къ примитивному ощущенію, которое не мѣ-
няетъ своего качественнаго облика отъ того, будетъ оно
богато чертами или малосодержательно, осуществляется ли въ
рудиментарномъ организмѣ или въ организмѣ развитомъ и
полномъ чертъ прошлыхъ ощущеній. Отъ экивока не осво-
бождаетъ и опредѣленіе представленія, какъ психическаго
продукта второй степени, по сравненію съ ощущеніемъ,
которое являетъ собою въ такомъ случаѣ продуктъ первой
степени. Что значитъ тутъ эта вторая степень?—Качествен-
ное, формальное отличіе? Но въ такомъ случаѣ представле-
ніе является обработкой ощущенія и потому интуиціей.
Или же—различіе количественное и матеріальное, большую
сложность? Но въ такомъ случаѣ, наоборотъ, интуиція снова
смѣшивается воедино съ примитивнымъ ощущеніемъ.
— 11 —
интуиція и Тѣмъ не менѣе, существуетъ вполнѣ надежный
выраженіе. СПОСОбъ ОТЛИЧИТЬ ПОДЛИННУЮ ИНТУИЦІЮ, ПОДЛИННОе
представленіе отъ того, что ниже ея,—отличить этотъ духовный
факть отъ факта механическаго, пассивнаго, естественнаго.
Каждая подлинная интуиція или каждое подлинное предста-
вленіе есть въ то же время и .выраженіе. То, что пе
объективируется въ какомъ-либо выраженіи, пе является ин-
туиціей или представленіемъ, а есть ощущеніе и естествен-
ность. Духъ иптуируетъ только дѣйствуя, оформляя, выра-
жая. Кто раздѣлитъ интуицію и выраженіе, никогда ужъ пе
достигнетъ ихъ соединенія. ѵ
Интуитивная дѣятельность столько же интуируетъ,
сколько и выражаетъ. Если такое утвержденіе звучитъ
парадоксально, то одною изъ причинъ этого является, песо-
мнѣпно, привычка придавать слову «выраженіе» слишкомъ узкій
смыслъ, относя его только къ тѣмъ выраженіямъ, которыя
называются словесными, между тѣмъ какъ существуютъ также
выраженія несловесныя, какъ то: линіи, цвѣта, звуки. Ихъ
всѣхъ нужно включить въ смыслъ понятія выраженіе, кото-
рое охватываетъ такимъ образомъ всевозможныя обнаруже-
нія человѣка, — обнаруженія оратора, музыканта, художника
и т. п. Какимъ бы ни было выраженіе, живописующимъ,
словеснымъ, музыкальнымъ или еще какимъ либо, и какъ бы
его пи обозначать при этомъ,—оно не можетъ пе присутство-
вать въ интуиціи въ какой-либо изъ своихъ формъ; опо прямо
таки неотдѣлимо отъ пея. Дѣйствительно, какъ могли бы мы
постичь интуитивно геометрическую фигуру, сели бы мы пе
обладали столь отчетливымъ ея образомъ, чтобы вь любой мо-
ментъ быть готовыми начертать ее на бумагѣ или на доскѣ?
Какъ могли бы мы интуитивно уловить контуры какой-либо
области, папримѣръ острова Сициліи, если бы мы не были въ
состояніи нарисовать его въ томъ видѣ, каковъ онъ есть, со
всѣми его извилинами? Каждому дано испытать въ себѣ са-
момъ тотъ свѣтъ, который ему внутренно открывается, когда ему
удается- и только въ тѣхъ пунктахъ, въ которыхъ удается —
сформулировать для себя самого свои впечатлѣнія и свои чувства.
Тогда чувства и впечатлѣнія силою слова переходятъ изъ темной
сферы психики въ ясность созерцательнаго духа. Въ этомъ позна-
вательномъ процессѣ нѣтъ возможности отличить интуицію отъ
выраженія. Каждый изъ этихъ двухъ моментовъ обнаруживавъ-
— 12 —
ея вмѣстѣ съ другимъ, въ то же самое мгновеніе, такъ какъ они
являютъ собою не двѣ различныхъ вещи, а одно и тоже.
иллюзія на- По главной причиной того, что утверждаемое
счетъ ихъ раз- . х ’ '
линія. нами положеніе получаетъ характеръ парадоксаль-
посги, является иллюзія или предразсудокъ, будто въ реаль-
ности интуитивно постигается больше, чѣмъ въ вей дѣйстви-
тельно постигается интуиціей. Часто можно бываетъ услыхать
отъ людей, что у нихъ въ головѣ мною важныхъ мыслей,
но онп-де но умѣютъ ихъ выразить. Въ дѣйствительности, если
бы они ихъ имѣли на самомъ дѣлѣ, они запечатлѣли бы
ихъ цѣлыми рядомъ красивыхъ звучныхъ словъ и тѣмъ вы-
разили ихъ. Если при попыткѣ ихъ выразить эти мысли на-
чинаютъ улетучиваться или оказываются тощими и бѣдными,
то это значить, что ихъ либо вовсе по существовало, либо онѣ
были лишь тощими и бѣдными мыслями. Равнымъ образомъ,
существуетъ мнѣніе, что всѣ мы—обыкновенные смертные
иптупруемт» и воображаемъ мѣста, фигуры, сцены, какь ху-
дожники. а тѣла, какъ скульпторы,—съ тою лишь разницею,
что художники и скульпторы умѣютъ нарисовать или высѣчь
эти образы, мы же оставляемъ ихъ внутри нашего духа невыра-
женными. Мадонну Раффаэля—такъ полагаютъ—могъ бы вооб-
разить себѣ любоіі человѣкь: Раффаэль же сдѣлался Раффаэ-
лемъ, благодаря механическому умѣнію изобразить ее на. полотнѣ.
Нѣтъ ничего ошибочнѣе такого взгляда. Тота, міръ, который
нами обычно нитрируется, весьма ограниченъ и состоитъ изъ
малыхъ выраженій, постепенно вырастающихъ и становящих-
ся обширнѣе, лишь благодаря растущей концентраціи духа
па нѣкоторыхъ отдѣльныхъ моментахъ. Это — внутреннія
слова, которыя мы обращаемъ къ себѣ самимъ, сужденія, кото-
рыя мы выражаемъ молча: «вотъ человѣкъ, вотъ лошадь, эго
тяжелая вещь, это жестко, это мнѣ нравится и т. п., и т. п.»,
и ослѣпительный потокъ свѣта и красокъ, который картинно мо-
жно правдиво и точно представить себѣ только въ видѣ хаоса,
изъ котораго выдѣляются едва лишь немногія отдѣль-
ныя черты. Именно таково то, что мы имѣемъ въ нашей
повседневной жизни и что является основаніемъ нашихъ ио-
вседневныхъ дѣйствій. Это — указатель къ книгѣ илп. какъ то
было кѣмъ-то сказано, это — этикетки, которыя прикле-
иваются къ вещамъ и являются ихъ замѣстителями:—указа-
тель и этикетки (и опГ. тоже — выраженія), достаточные для
— 13 —
малыхъ потребностей и малыхъ дѣйствій. Время отъ времени
мы переходимъ отъ указателя къ самой книгѣ, оть этикетки
къ самой вещи, или же отъ малыхъ интуицій къ болѣе зна-
чительнымъ и къ самымъ большимъ и возвышеннымъ. II пе-
реходъ бываетъ иногда далеко пе легокъ. Было подмѣчено
тѣми, кто ближе изслѣдовалъ психологіи) артистовъ, что въ
тѣхь случаяхъ, когда, бросая быстрый взглядъ па кого-ни-
будь, стараются съіштунровать это лицо самымъ точнымъ
образомъ, чтобы затѣмъ нарисовать, напримѣръ, его портретъ,
это обыкновенное зрительное усвоеніе, казавшееся столь жи-
выми и точными, оказывается почти что безрезультат-
нымъ; въ пашемъ обладаніи вь такомъ случаѣ оказы-
вается, самое большее, какая-нибудь поверхностная черта,
недостаточная даже для карикатуры; лицо, съ котораго дол-
женъ быть написанъ портретъ, встасгь передъ артистомъ,
какъ міръ, подлежащій еще открытію. II АІике.чьанжело по-
тому утверждалъ, что «художникъ рисуетъ не руками, а моз-
гомъ»; Леонардо же вызывали негодованіе со стороны на-
стоятеля монастыря (іоііе (лгаяіе, цѣлые дни простаивая пе-
редъ Тайной Вечерей п не работая кистью, и говорилъ, что
«возвышенные таланты, чѣмъ менѣе работаютъ, тѣмъ больше
заняты, отыскивая умомъ открытія». Художинъ ость художникъ
потому, что видитъ, то, что другіе только чувствуютъ, пли же
смутно замѣчаютъ, а. пе видятъ. Мы думаемъ, что видѣли улыб-
ку; но въ дѣйствительности мы имѣемъ только какоп-іпібудь
расплывчатый намекъ па нее; мы не замѣна омь всѣхъ характер-
ныхъ чертъ, изъ которыхъ опа слагается и которыя вь ней под-
мѣчаетъ художникъ, поработавъ надъ пою и будучи благо-
даря этому въ состояніи запечатлѣть со въ совершенствѣ на
полотнѣ. 11 отт» нашего интимнѣйшаго друга, отъ того друга,
который каждый день и каждый часъ находится возлѣ нагъ,
намъ остаются интуитивно едва лишь нѣсколько чертъ физіо-
номіи, которыя отличаютъ его отъ другихъ людей. Труднѣе
поддаться подобной иллюзіи въ сферѣ музыкальныхъ вы-
раженій, такъ какъ для всякаго показалось бы страннымъ
утвержденіе, что композиторъ присоединяетъ или приклеиваетъ
йоты къ мотиву, который уже иаличепъ въ душѣ того, кто но
является композиторомъ; какъ будто бы Девятая Симфонія
Бетховена не была его интуиціей, а одна изъ его интуицій—
его Девятой Симфоніей.—Значитъ, подобно тому, какъ тотъ, кто
— 14 —
заблуждается насчетъ количества своихъ матеріальныхъ бо-
гатствъ, изобличается въ своемъ заблужденіи ариѳметикой, ко-
торая ему въ точности сообщаетъ, какова ихъ величина,—точно
такъ же и тотъ, кто впадаетъ въ ошибку относительно богат-
ства собственныхъ мыслей и собственныхъ образовъ, возвра-
щается къ дѣйствительности, какъ только ему приходится прой-
ти искусъ выраженія.—Посчитайте, скажемъ мы первому. Гово-
рите, вотъ карандашъ—рисуйте, выразите, скажемъ мы другому.
Каждый изъ насъ, въ конечномъ итогѣ, является немножко
художникомъ, немножко скульпторомъ, немножко музыкантомъ,
немножко поэтомъ, немножко писателемъ;—но въ какой ма-
лой степени по сравненію съ тѣми, кто именуется такъ,
именно благодаря той высокой степени, въ которой обладаетъ
самыми общими способностями и энергіями человѣческой
природы! И въ какой малой степени художникъ обладаетъ
интуиціями поэта или даже интуиціями другого художника!
Тѣмъ не менѣе, эта малость составляетъ все наше дѣйстви-
тельное достояніе въ этомъ отношеніи,—все, что мы имѣемъ
изъ интуицій или представленій. За предѣлами этой малости
имѣютъ мѣсто только впечатлѣнія, ощущенія, чувства,
импульсы, эмоціи, или какъ бы ни именовать иначе, то, что
находится еще по сю сторону духа, не будучи при этомъ ассими-
лировано человѣкомъ, будучи постулировано въ видахъ удоб-
ства изложенія, въ дѣйствительности же пе существуя, разъ
существованіе есть тоже духовный фактъ.
Тождество къ указаннымъ вначалѣ формулировкамъ, ко-
раженія. торыми обозначается интуитивное познаніе, мы мо-
жемъ, поэтому, присоединить еще одну: интуитивное познаніе
есть познаніе выразительное. Будучи независима и автономна
но отношенію къ интеллектуальной функціи и безразлична по
отношенію ко всѣмъ послѣдующимъ и эмпирическимъ разгра-
ниченіямъ реальнаго и нереальнаго и по отношенію ко всѣмъ
въ равной мѣрѣ послѣдующимъ образованіямъ и воспріятіямъ
пространства и времени,—интуиція или представленіе отли-
чается отъ того, что чувствуется и испытывается, отъ чув-
ственной волны или прилива, отъ психической матеріи, какъ
форма; эта форма, эго вступленіе въ обладаніе ость выра-
женіе. Пнтуировать значитъ выражать и не значить ничего
другого (ші больше, пи меньше), какъ выражать.
Интуиція и искусство.
Заключенія и ПреЖДб чѢ.МЪ ИДТИ ДаЛЬШС, будетъ ПОЛѲЗМО СДѢ-
адестІоискусЗ лать пѣкоторые выводы изъ того, что установле-
тивнаго нозна- П0’ И ПрИСОбДИПИТЬ КЪ ЭТОМѴ НѢСКОЛЬКО ПОЯСНѲНІЙ.
я,я- Мы открыто отождествили интуитивное или выра-
зительное познаніе съ эстетическимъ или художественнымъ"фак-
томъ разсматривая произведенія искусства, какъ примѣры интуи-
тивнаго познанія, и приписывая интуитивнымъ познаніямъ ха-
рактерныя черты первыхъ. Однако, наше отождествленіе имѣ-
етъ противъ себя одинъ взглядъ, признаваемый зачастую также
, и философами,-—взглядъ, который, разсматриваетъ искусство,
какъ интуицію совсѣмъ особаго рода. Допустимъ,— такъ гово-
рить его защитники,— что искусство есть интуиція; но вѣдь
интуиція не всегда бываетъ искусствомъ: художественная ин-
туиція есть особый видъ интуиціи, который отличается отъ
интуиціи вообще нѣкоторымъ и з л и іи к о м ъ.
Не сиецнфи- Въ ЧѲМЪ ЭГО ОТЛИЧІѲ. ВЪ ЧСМЪ СОСТОИТЪ ЭТОТЪ
чсское разли- „
чіе. излишекъ, никто не сумѣлъ еще до сихъ норъ
показать. Иногда полагали, что искусство представляетъ со-
бою не простую интуицію, а какъ бы интуицію интуиціи:—
совершенно такъ же, какъ научное понятіе представляетъ со-
бою не простое понятіе, а понятіе понятія. Человѣкъ-де
поднимается до искусства не путемъ объективаціи ощу-
щеній, какъ то имѣетъ мѣсто въ обыкновенной интуиціи,
а путемъ объективаціи самой интуиціи.—Однако, такого процес-
са восхожденія до второй потенціи не существуетъ; и сравне-
ніе съ понятіемъ обыкновеннымъ и научнымъ не прино-
сить топ пользы, которая отъ него ожидается, по той причинѣ,
— 16 —
что научное понятіе не есть понятіе понятія. Это сравненіе,
если и говоритъ что-шібудь, то говоритъ какъ разъ обратное.
Обыкновенное понятіе, если только оно есть понятіе и не есть
простое представленіе, является совершеннымъ понятіемъ, хотя
п бѣднымъ но содержанію и ограниченнымъ. Паука замѣняетъ
представленія понятіями: къ понятіями, бѣднымъ и ограни-
ченнымъ она. присоединяетъ другія понятія, болѣе широкій и
содержательныя. покрывая ихъ ими и открывая все новыя и
новыя отношенія; метолъ же ея при этомъ не отличается
отъ того метода, при помощи котораго образуется въ мозгу
самаго низшаго изъ людей самая незначительная универсаль-
ность. То. что обычно называется, благодаря антономазіи -1),
искусствомъ, имѣетъ въ виду иптуипіи болѣе обширныя и
сложныя по сравненію съ тѣми, которыя обыкновенно пережи-
ваются, по тіімъ не менѣе ингуируетъ всегда ощущенія и
впечатлѣнія; это — выраженіе впечатлѣній, а не выраженіе вы-
раженія.
Не различіе По ТОЙ ЖС СИМОЙ І1ІШЧШ1Ѣ ПСЛЬЗЯ СОГЛЭСПТЬСЯ И
въ интенсив-
ности. еъ Т'ВМЪ. 'ЧТО интуиція, которая, какъ говорятъ,
присуща только артистамъ, отличается отъ обычной интуиціи,
какъ интуиція интенсивная. Это было бы такъ, если бы она'дѣй-
ствовала инымъ образомъ при той же самой матеріи. Но такъ
какъ артистическая функція распространяете я на болѣе об- -
ширныя пространства, чѣмъ обычная интуиція, оперируя при
этомъ одинаковымъ методомъ, различіе между ними не интен-
сивно , а экстенсивно. Интуиція самой простой народной лю-
бовной пѣсенки, говоря то же самое (или немногимъ больше
ТОГО); что говорится въ любовныхъ изліяніяхъ, исходящихъ
ежеминутно изъ устъ тысячъ обыкновенныхъ» людей, можетъ
быть со стороны своей ннтепсивпости совершенна при вееіі
своей бѣдной простотѣ, хотя, со стороны экстенсивности, опа
можегі, быть чрезвычайно ограничена по сравненію со сложной
интуиціей любовной пѣсни Джакомо Леопарди.
Различіе эк- Вся разница сводится, такимъ образомъ.' къ ко-
'"генсипіюс и 3 '
эмпирическое, ліічс'ствѵ п? какъ таковая, оказывается оезраз-
личной для философіи, ясіспііас дчаіііаіііпі. Для полнаго вы-
*) Антономазія—родъ метониміи, риторическая фигура, состоящая
въ томъ, что вмѣсто имени нарицательнаго ставится имя собственное и на-
оборотъ. 11р. пер.
— 1? —
раженія нѣкоторыхъ СЛОЖНЫХЪ СОСТОЯНІИ ДуШІІ нѣкоторые
люди обладаютъ большей способностью., оказываются ча,ін,е
предрасположенными. чѣмъ другіе; ихъ то на ходячемъ языкѣ,
и называютъ артистами; нѣкоторыя многосложныя и трудныя
выраженія достигаются чрезвычайно рѣдко, и и.\і. то именуютъ
произведеніями искусства. Границы, отдѣляющія выраже-
нія-интуиціи, именуемыя искусствомъ, отъ тѣхъ, кото-
рыя обозначаются, какъ не - искусство, эмпиричны: икъ
нельзя никакъ опредѣлить. Эпиграмма принадлежитъ къ искус-
ству: почему же къ нему не принадлежитъ простое слово? Но-
велла относится къ сферѣ искусства: почему же не относится къ
пей любая замѣтка, журнальной хроники? .Пейзажъ принад-
лежитъ къ искусству: потопу -же не припаілежитъ сюда любой
топографическій пабросокъ? Магистръ философіи въ комедіи
Мольера былъ правъ: «всякій разъ., какъ говорятъ, осущест-
вляется проза». По всегда будутъ существовать и ученики,
которые, подобно господину Журдеиу. будутъ удивляться тому,
что въ теченіе сорока лѣтъ творили прозу, о томъ пе вѣдая,
п которымъ трудно будетъ повѣрить въ то, что «проза»
имѣетъ мѣсто и въ тѣхъ случаяхъ, когда- зовутъ слугу Жана,
для того, чтобы онъ принесъ туфли.
Мы должны твердо стоять па нашемъ отождествленіи, такъ
какъ отдѣленіе искусства отъ общей жизни духа, превращеніе
его въ какое-то аристократическое сословіе пли въ какую-то
особенную функцію является одною изъ главныхъ причинъ,
помѣшавшихъ эстетикѣ, наукѣ объ искусствѣ, постигнуть его
подлинную природу, его подлинные корни въ человѣческомъ
духѣ. Подобно тому, какъ ни для кого неудивительно бываетъ
узнать изъ физіологіи, что каждая клѣточка ость организмъ,
а каждый организма, есть клѣточка пли связь клѣточекъ, какъ
ни для кого неудивительно натолкнуться при раскоцкахч. высокой
горы па. тѣ же самые химическіе элементы, что и въ малень-
кой ь камешкѣ пли осколкѣ, какъ не существуетъ двухъ
физіологій—Физіологіи маленькихъ животныхъ и физіоло-
гіи большихъ животныхъ, или же двухъ ХИМІИ— химіи
камней и химіи горъ,— подобнымъ же образомч^ пѣтъ и
двухъ наукъ объ интуиціи—пауки объ интуиціи маленькой и на-
уки объ интуиціи большой, науки объ интуиціи обычной п па-уки
объ интуиціи художественной, а только одна, эстетика, наука объ
интуитивномъ или выразите;льномъ познаніи, которое предо га-
:)(!Ті:ТИЕ\. 2
- 18 -
влястъ собою эстетическій или художественный фактв. Эта
эстетика .является полнымъ аналоговомъ логикѣ, которая охва-
тываетъ іи. собѣ и образованіе самаго незначительнаго и обык-
новеннаго понятія, и построеніе наиболѣе сложной научной и
философской системы, какъ факты одной и той же природы,
художесгвсн- Точно такъ же только количествепную разницу
ный геній. можемъ мы признать и существеннымъ моментомъ
смысла слова геній или художественный геній въ окіичіе отъ
ис-генія, отъ обыкновеннаго человѣка. Говорятъ, что великіе
артисты открываютъ пасъ намъ самимъ. По какъ было бы это
возможно, если бы наша фантазія не была по природѣ своей
тождественна съ ихъ фантазіей и если бы различіе не каса-
лосі. только одного количества.? Вмѣсто того, чтобы говорить:
росіа паясііиг слѣдовало бы сказать: Ііото паасііпг роёіа;
одни—поэтами незначительными, другіе—поэтами великими.
Сдѣлавъ это количественное различіе качественнымъ, тѣмъ са-
мымъ расчистили мѣсто для культа, н суевѣрія генія, позабывая,
что геніальность не есть нѣчто, снизошедшее съ неба, а сама,
человѣческая природа. Одаренный человѣка,, который корчитъ
изъ себя или выдается другими за что-то далеко отстоящее отъ
нея, находитъ себѣ наказаніе въ томъ, что'становится ели ка-
жется немножко смѣшнымъ. 'Таковъ г е и і й романтическаго
періода, таковъ с в е р х ч е л о в ѣ к ъ нашего времени.
Но зато—какъ это тоже слѣдуетъ здѣсь замѣтить—со своей
возвышающейся надъ человѣчностью позиціи художественный ге-
ній низвергается и ставится ниже человѣческой природы гру-
дами тѣхъ, кто думаетъ, что его существеннымъ свойствомъ
является безсознательность. Интуитивная пли артистическая ге-
ніальность, какъ и всякая другая форма человѣческой активно-
сти, всегда сознательна; въ противномъ случаѣ опа. знаменовала
бы собою слѣпой механизмъ. У артистическаго генія можетъ от-
сутствовать единственно лишь р е ф л с к т и р у ю щ е е созпапіе,
'добавочное сознаніе историка или критика, которое несуще-
ственно для него.
Содержаніе и ОДНИМЪ ИЗЪ Наиболѣе СПОРНЫХЪ ВОПРОСОВЪ ВЬ
форма въ эстс- 1 1
тикѣ. эстетикѣ является вопросъ объ отношеніи между
формой и матеріей, или .же, какъ принято говорить, между
формой и содержаніемъ. Въ чемъ заключается эсте-
тическій фактъ,—въ одномъ только содержаніи или въ одной
только формѣ, пли же въ нихъ обоихъ въ одно и то же вре-
- 19 -
М.я?—Этотъ вопросъ имѣлъ различный смыслъ; въ своемъ мѣ-
стѣ мы упомянемъ о каждомъ изъ его смысловъ въ отдѣль-
ности,—по какъ только слова эти взяты въ выше установлен-
номъ смыслѣ, какъ только подъ матеріей разумѣется эстети-
чески необработанна я эмоціональность или впечатлѣнія, а подъ
формой — выработка или .же духовная активность, нашему
мышленію нечего уже болѣе колебаться,—другими словами, мы
должны отвергнуть какъ то утвержденіе, которое сводитъ эсте-
тическій фактъ къ одному только содержанію (или простымъ
впечатлѣніямъ), такь и другое утвержденіе, которое сводитъ
его къ соединенію формы съ содержаніемъ или къ впе-
чатлѣніямъ плюсъ выраженіе. Въ эстетическомъ фактѣ выра-
зительная активность не просто присоединяется къ факту впе-
чатлѣній,—эти послѣднія перерабатываются ето и оформляются.
Онн вновь появляются, такъ сказать, въ выраженіи, какъ вода,
которая, будучи проведена сквозь фильтръ, появляется снова,
оставаясь топ же и вмѣстѣ ставши другою, изъ другого сто
конца. Эстетическій фактъ представляетъ собою, такимъ обра-
зомъ, форму и только форму.
Отсюда совсѣмъ пе слѣдуетъ, чтобы содержаніе было чѣмъ-
то лишнимъ (такъ какъ оно является, напротивъ того, даже не-
обходимымъ исходнымъ пунктомъ для выразительнаго факта);—
отсюда слѣдуетъ только, что отъ качества содержанія къ каче-
ству формы вообще нѣтъ перехода. Ппогда высказыва-
лась мысль, что содержаніе для того, чтобы быть эстетическимъ
или нревратимымъ въ форму, должно обладать какими-либо опре-
дѣленными или допускающими опредѣленіе качествами. Но,
вѣдь, если бы это было такъ, то форма оказалась бы тѣмъ же
самымъ фактомъ, что и содержаніе, а выраженіе тѣмъ же са-
мымъ фактомъ, что и впечатлѣніе, ("одержаніе, дѣйствительно,
допускаетъ преобразованіе въ форму; но іюсколько оно не пре-
образовано въ нее, оно лишено какихъ-либо опредѣленныхъ
качествъ; мы о немъ не знаемъ ничего. Оно становится эсте-
тическимъ содержаніемъ по ранѣе того, какъ оказывается дѣй-
ствительно преобразованнымъ.—Опредѣлялось эстетическое со-
держаніе также и какъ интересное, что не невѣрно, но
безсодержательно. Ибо—въ комъ же вызываете оно интересъ?
Въ выразительной активности? Дѣйствительно, если бы эта по-
слѣдняя имъ пе интересовалась, опа не поднимала бы его до фор-
мы. Ея занитересованностыі состоитъ какъ разъ въ томъ, чтобы
2*
— 20 —
поднять его до формы.—Но выраженіе «интересное» было упо-
требляемо также и въ другомъ не лишенномъ законности впя-
ченіи, о которомъ мы будемъ говорить ниже.
Критика но- Подобію ТОЛЬКО ЧТО раЗікХЮТрѢіПІП.Ч V обоЗНЯПо-
дражанія при- 1 . ь .
рудѣ я худо- іиіо лишено единаго значенія и утвержденіе. Чти
люзіи. пску ссгво е^ть 11 о д р а- ж а и і е и р и р о д Т.. 5 твер-
ждая это, иногда-высказывали истину или по меныпеіі мЬрѣ на-
мекали па нее, иногда, -же- поддерживали ошибки; а чаще съ та-
кимъ утвержденіемъ пе было сопряжено ничего точнаго. Однимъ
изъ научно законныхъ смысловъ этого выраженія является тотъ,
когда, «подражаніе» понимается, какъ представленіе или интуиція
природы, какъ форма познанія. II когда обозначеніе производит-
ся съ намѣреніемъ высказать именно это. а вмѣстЬ съ тѣмъ и от-
тѣнить получше духовный характеръ самого процесса, то за-
коннымъ оказывается также и дрхгое утвержденіе: а именно,
что искусство есть и д е а л и з а ц і я пли и д о а л и з и р у ю іц е е
подражаніе природѣ. По если подъ подражаніемъ природѣ,
нодразумѣваютъ то, что искусство даетъ механическія репродук-
ціи, болѣе или менѣе совершенные дубликаты сстествеіпіых'і,
предметовъ, при взглядѣ на которые возникаетъ спона то же са-
мое безпорядочное теченіе впечатлѣній, какое вызывается и естр-
ствешіыми предметами, то въ такомъ случаѣ утвержденіе, оче-
видно, ошибочно. Разрисованныя восковыя фигуры, которыя си-
мулируютъ жизнь п породъ которыми мы останавливаемся въ
музеяхъ подобныхъ вещей въ изумленіи, не вызываютъ въ пасъ
эстетическихъ интуицій. Иллюзія л галлюцинація не- имѣютъ
ничего общаго со спокойнымъ господствомъ художественной ин-
туиціи. По когда художникъ рисуетъ картину музея восковыхч»
• фигуръ, когда актеръ па спепѣ въ шутку представляетъ че-
ловѣка-статую, мы снова имѣемъ передч. собою духовный
трудъ и художественную интуицію. Даже фотографія. если опа.
вообще заключаетъ нч» себѣ хоть что-нибудь художествеішос,
обладаетъ имъ лишь постолько, нисколько хотя бы отчасти пе-
редаетъ интуицію фотографа, его точку зрѣнія, ту позу и то
положеніе, которыя оігь постарался уловить. И если фотогра-
фія пё является искусствомъ во всем'і. своемъ цйломъ. то этому
причина какъ разъ въ томъ, что сстествегшыіі элементъ остает-
ся въ пси болѣе или менѣе пеудалпмымъ и ііенодчпнимымъ: п
дѣйствительно, развѣ .даже и передъ наиболѣе удачными '{ю-
тографіями испытываемъ мы полное удовлетвореніе? Развѣ ху-
дожниікь нс внесъ бы въ нихь одного или многихъ измѣненій,
одной или многихъ поправокъ, развѣ пе выбросилъ бы или
на прибавилъ кое-чего?
кринка ис- Благодаря недостаточно точному признанію тео-
кѵсстпа, какъ ".
ссптименталь. ретичсскаго характера у простои интуиціи, от-
т'нческа"оГ<фак- личаюгцейея какъ отъ интеллектуа.іьна го позна-
скаяк?ж^ость НІЯ> такъ И 0ТЪ ВОСІірІЯТІ Я рСаЛЬПАГО,—б.іагО-
н чувство. да.рЯ мнѣнію, будто только интеллектуальное по-
знаніе или, самое большее, также и воспріятіе реальнаго
есть познаніе, возникло столько разъ повторявшееся утвер-
жденіе, что искусство не есть познаніе, что оно не дастъ исти-
ны, что оно относится не къ теоретическому міру, а къ
міру чувствительному и т. и. Мы видѣли, что интуиція
является познаніемъ, свободнымъ отъ понятій и гораздо бо-
лѣе простымъ, чѣмъ такъ называемое воспріятіе реальнаго;
поэтому искусство есть познаніе, есть форма и пе относится
къ сферѣ ч\яства и пснхпчсскоп матеріи. Если столько эсто-
тиковъ и столько разъ пытались съ настойчивостью утвер-
ждать. что искусство есть кажимость {і>сЬсііі), то это
потому, что они чувствовали необходимость ясно отличать его
отъ болѣе сложнаго факта воспріятія, приписывая ему чистую
интуитивность. Если нѣкоторые эстетики старались настоять на
томъ, что искусство есть чувство, то и эго—по той же са-
мой причинѣ. Дѣйствительно, если отвергнуть возможность того,
чтобы понятіе составляло собою содержаніе искусства, если от-
вергнуть въ этой роли и историческую реальность, то пе оста-
нется никакого другого содержанія, кромъ реальности въ ея
первичности и испосредствеппостн, въ -жизнспном ь порывѣ, въ ея
ч у в ст в о в а. и і и илп, повторяю, ничего кромѣ чистой интуиціи.
Критика тео- Въ раВНОЙ М'ѢрѢ И ИСТОЧНИКОМЪ Теоріи О С Т В-
ріи эстетичес-
кихі. чувствъ, ти чег к и .ѵъ ч у в с тв ъ является недостаточно
ясное установленіе плп забвеніе отличительнаго признака вы-
раженія по сравненію съ впечатлѣніемъ.—формы но сравне-
нію съ матеріей.
Эта теорія сводится къ выіііеуказаніійп ошибкѣ, а именно—
кь старанію найти переходъ оті. качества содержанія къ ка-
честву формы. І,ѣш тіигге.іыіо. спрашивать о томь. каковы
эстетическія чувства, значить то же самое, что и спрашивать
о томъ, какія чувственныя тшеч.'і глѣнія могутъ участвовать въ
эстетическихъ выраженіяхъ и которыя изъ ппхь должны уча.'
— 22 —
ствовать въ эпіхъ послѣднихъ съ необходимостью. А на это
мы тотчасъ же должны отвѣтить, что всѣ впечатлѣнія могутъ
участвовать въ эстетическихъ выражоиіях’ь пли образованіяхъ,
но что ни одно изъ нихъ по обязано участвовать въ этихъ
послѣднихъ съ необходимостью.
Данте возвышаетъ до формы пе только «нѣжный цвѣтъ
восточнаго сапфира» (впечатлѣніе зрительное), по и впе-
чатлѣнія осязательныя и термическія, какъ напримѣръ, «ду-
шный воздухъ» или «свѣжіе ручейки», «изсушающіе еще боль-
ше» горло у жаждущаго. Думать, что произведеніе живопи-
си вызываетъ только зрительныя впечатлѣнія,—курьезное за-
блужденіе. Развѣ произведеніе живописи не доставляетъ намъ
также и впечатлѣній бархатистости ланиты, теплоты молодого
тѣла, сладости и свѣжести фрукта, острія отточеннаго клинка
и такъ далѣе? Или, можетъ быть, это все зрительныя впе-
чатлѣнія? Что значило бы произведеніе живописи для такого
гипотетическаго человѣка, который, будучи лишенъ всѣхъ или
многихъ чувствъ, оказался въ одинъ прекрасный моментъ обла-
дателемъ только одного зрительнаго органа? Картина, кото-
рую мы имѣемъ передъ собою и которую, какъ намъ кажется,
мы воспринимаемъ только чрезъ посредство глазъ, оказалась бы
въ его гладахъ по болѣе, какъ замазанной палитрой художника.
Нѣкоторые мыслители, твердо стоящіе па томъ, что эсте-
тическій характеръ присущъ только особымъ группамъ впе-
чатлѣній (папр., группамъ зрительныхъ и слуховыхъ впеча-
тлѣній) и отказывающіе въ немъ другимъ впечатлѣніямъ, все
же соглашаются затѣмъ, что въ то время, какъ впечатлѣнія зри-
тельныя и слуховыя участвуютъ въ эстетическомъ фактѣ не-
посредственно, впечатлѣнія, получаемыя другими чувства-
ми, участвуютъ въ номъ тоже, по только -уже ассоціа-
тивнымъ образомъ. По вѣдь такое разграниченіе совер-
шенно произвольно. Эстетическое выраженіе представляетъ со-
бою сиптезь, въ которомъ невозможно провести различіе между
непосредственнымъ и опосредственнымч.. Всѣ впечатлѣнія урав-
нены въ немъ, насколько подвергаются эстетизаціи. Кто пе-
реживаетъ въ себѣ, образъ какой-нибудь картины или какого-
либо поэтическаго произведенія, для того этотъ образъ не
представляется уже серіей іягечатлѣнііі, одни изъ ко-
торыхъ надѣлены но сравненію сь другими какой-либо прерога-
тивой или какимъ-либо приматомъ. 11 о томъ, что было до
— 23 —
того, какъ пережить ого, ничего пе извѣстно; топію такъ же,
какъ, съ другой стороны, и различія, которыя вносятся въ
пережитый образъ впослѣдствіи рефлексіей, ни въ какомь
смыслѣ не имѣютъ ужо въ виду искусства, какъ такового.
Ученіе объ эстетическихъ чувствахъ было изложено также
и иначе, а именно: какъ попытка установить тѣ физіологическіе
органы, которые необходимы для эстетическаго факта. Фи-
зіологическій органъ пли аппаратъ есть не что ипое, какъ
комплексъ клѣточекъ, такъ-то и такъ-то устроенныхъ и
такъ-то и такъ-то расположенныхъ, т.-е. чисто физическій
и естественный фактъ или понятіе.—Но выраженіе пе знаетъ
физіологическихъ фактовъ: своимъ пунктомъ отправленія оно
боретъ впечатлѣнія, и тотъ физіологическій путь, чрезъ по-
средство котораго эти впечатлѣнія получили свое проявленіе
въ духѣ, является для него совершеппо безразличнымъ. Тотъ
ли, или иной нутъ—это не играетъ никакой роли, лишь бы
только были впечатлѣнія.
Правда, отсутствіе нѣкоторыхъ органовъ или нѣкоторыхъ
комплексовъ клѣточекъ является препятствіемъ для осуществле-
нія нѣкоторыхъ впечатлѣній (—если благодаря своего рода орга-
нической компенсаціи они не получаются другимъ путемъ). Слѣ-
пой отъ рожденія но можетъ съиптуировать и выразить свѣтъ.
По впечатлѣнія обусловливаются ие однимъ только органомъ, а
также и стимулами, которые воздѣйствуютъ. на органъ. Кто ни-
когда но получалъ впечатлѣній отъ моря, никогда ие сумѣетъ
его выразить; кто никогда ко имѣлъ впечатлѣнія отч. жизни выс-
шаго свѣта пли отъ политической борьбы, никогда не сможетъ
дать выраженіе ни первой, ни второй. Этимъ вовсе ие устанавли-
вается зависимость выразительной функціи отъ стимула или ор-
гана; тутъ повторяется извѣстная уже иамч, исторія: выраженіе
предполагаетъ впечатлѣніе, а частичныя выраженія—частич-
ныя впечатлѣнія. Впрочемъ, каждое впечатлѣніе исключаетъ
въ МОМСИТ7» своего господства всѣ другія впечатлѣнія; и точ-
но такъ же дѣло обстоять съ каждымъ выраженіемъ.
Единство и не- Другимъ слѣдствіемъ взгляда. на выраженіе, какъ
дожественнагоУ’ па’ йКТН ШЮСТЬ, ЯІМ ЯИТСЯ НрИЗПЭШС II О р Я 3 Д Ѣ Л Ь-
нроизведенія. кости художествешія го произведенія. Каждое вы-
раженіе есть единое выраженіе. Активность есть сліяніе впе-
чатлѣній въ нѣкоторое органическое цѣлое. И это-то всегда
хотѣли отмѣтить, когда говорили, что художественное пролзве-
24 —
деліе должно обладать е і, пн стволъ пли,—что тоже самое,—
единство м ъ в о м и о ж с с т в с и и о м ъ. Выраженіе есть син-
тезъ разнаго илп множественнаго въ единомъ.
Казалось бы. атому утвержденію противорѣчивъ тотъ
фактъ, что мы дѣлимъ художественное произведеніе на
его части: поэму — па сцены, эпизоды, уподобленія, сен-
тенціи, а картину — на отдѣльные фигуры и предметы,
’фопъ, передній планъ и т. д. Но такое раздѣленіе
сводитъ художественное произведеніе, па нЬтт. подобно тому,
какъ расчлененіе организма на сердце, мозгъ, нервы, мышцы
и такъ далѣе превращаетъ живое въ мертвое. Нельзя отри-
цать, что существуютъ такіе организмы, въ которыхъ дѣленіе
имѣетъ своимъ результатомъ образованіе нѣсколькихъ живыхъ
существъ: но въ такомъ случаѣ— п это можно перенести но
аналогіи на. эстетическій фактъ—приходится заключить ко мно-
жественности зародышей жизни и быстрой переработкѣ от-
дѣльныхъ частей вь новыя единыя выраженія.
Могутъ замѣтить на это, что выраженіе иногда возникаетъ
на плечахъ другихъ выраженій,—что существуютъ выраженія
простыя и выраженія сложныя. Нѣкоторое различіе вѣдь
слѣдуетъ же признать паличнымъ между тѣмъ восклицаніемъ—
которымъ Архимедъ выразилъ всю свою радость по по-
воду сдѣланнаго имъ открытія, и выразительнымъ актомъ (или
даже пятью актами) обыкновенной трагедіи?—Ни въ коемъ слу-
чаѣ! Выраженіе возникаетъ всегда непосредственно на почвѣ
впечатлѣній. Кто воспринимаетъ какую-либо трагедію, тотъ
помѣщаетъ, такъ сказать, въ большое горипло цѣлую массу
впечатлѣній: ранѣе пережитыя выраженія сливаются вмѣ-
стѣ съ новыми вь одну- общую массу подобію тому, какъ въ
одішь общій плавильный котелъ могутъ быть брошены безфор-
менные куски бронзы и изящнѣйшія статуэтки. Для того, чтобы
получилась новая статуя, эти послѣднія должны точно такь
же слиться другъ съ другомъ въ одну массу, какъ и безфор-
менные куски бронзы. Прежнія выраженія должны снова спу-
ститься па. ступень ішечатлѣпііі, чтобы ихъ можпо было син-
тезировать съ другими въ новое единое выраженіе.
Освободи- Обрабатывая впечатлѣнія, человѣкъ огвобо-
телькое дкй- г,-
сівіе искус- .ЖДЯ. (!ТСЯ ОТЪ ІІИХЪ. ОоЪѲК'ГІІВИруЯ ИХЪ, ОНЪ ИХЪ
сгва’ о срываетъ отъ себя и тѣмъ достигаетъ падь ними
превосходства. Освободительная и очистительная функція ш--
кусства. является другимъ аспектомъ и другой формулой его
свойства активности. Активность имѣетъ освободительное зна-
ченіе именно потому, что элиминируетъ пассивность.
Этимъ также объясняется и то, почему артистамъ припи-
сывается то величайшая чувствительность или страстностг.,
'то величайшая нечувствительность или олимпійское спокой-
ствіе. Эти квалификаціи находятся въ согласіи меж чу со-
бою. такъ какъ относятся пе къ одному и тому же- объекту.
Чувствительность или страстность относится къ тоіі богатой ма-
теріи, которую артистъ поглощаетъ своимъ психическимъ орга-
низмомъ: нечувствительность или спокойствіе относятся кь
формѣ, прп помощи которой онъ преодолѣваетъ чувственный
и эмоціональный хаосъ и господствуетъ надъ нимъ.
III.
Искусство и философія
мость°интел" ХОТЯ ДВѢ формы ПОЗПЙПІЯ, ЭСТСТИЧвСКаЯ И ИН-
лектуальнаго теллектуальная или концептуальная, и различны,
итуитивпаго. онѣ пе разнятся и не отличаются другъ отъ друга,
какъ двѣ силы, изъ которыхъ каждая преслѣдовала бы только
свое направленіе. Если мы и показали, что эстетическая форма
совершенно независима отъ интеллектуальной и существуетъ за
свой счетъ, ис пользуясь никакой посторонней поддержкой, то
мы не говорили, что интеллектуальная форма можетъ существо-
вать помимо эстетической. Утверждать такую обоюдную не-
зависимость было бы ошибкой.
Что такое познаніе черезъ понятія? Это—познаніе отношеній
между вещами; вещи же суть интуиціи. Безъ интуицій не-
возможны понятія, какъ безъ матеріи впечатлѣній невозможна
сама интуиція. Интуиціями являются: эта рѣка, это озеро,
этотъ ручеекъ, этотъ дождь, этотъ стаканъ воды; поня-
тіемъ же является вода,—не то или это явленіе воды, по
тотъ нлп этотъ ея случай, а вода вообще, въ какое бы время
и въ какомъ бы мѣстѣ она ни была дана-,—матерія безко-
нечныхъ интуицій, по одного только, постояннаго понятія.
Однако, если понятіе, универсалія, въ одномъ отношеніи не
является уже болѣе интуиціей, то въ другомъ отношеніи оно
является ею и не можетъ по быть интуиціей. Вѣдь и человѣкъ,
который мыслить, переживаетъ, носколько онъ мыслитъ, впеча-
тлѣнія н эмоціи: ого впечатлѣніемъ п эмоціей является пе страсть
человѣка—нефилософа, не любовь пли ненависть по отноше-
нію къ опрідѣлегшым'ь объектами и индивидуумамъ, а са.мо
усиліе мысли гь тѣми печалями и радостями, съ той лю-
бовью и пеиавпсіью, которыя ст. пнмь связаны; и это усиліе
для того, чтобы получить объективное значеніе въ глазахъ
27 —
духа, не можетъ не принять интуитивной формы. Говорить
не значитъ еще мыслить логически, но м ы с л и т ь логи ч о
с к и всегда значить говорить.
критика от- Что мышленія не можетъ быть безъ слона,
ринанія этой п ѵ
тезы. это истина, оощепрнзнанная. Всѣ отрицанія этого
утвержденія основываются на экивокахъ и ошибкахъ.
Первымъ дѣломъ въ экивокѣ повинны тѣ, которые утвер-
ждаютъ, что можно также мыслить и при помощи геоме-
трическихъ фигуръ, алгебраическихъ цифрь, идіографпче-
скихъ знаковъ, при полномъ отсутствіи словъ, даже про-
износимыхъ молча и почти незамѣтно внутри себя; — что
существуютъ языки, въ которыхъ слово, фоническій знакъ,
не выражаетъ ничего, если при этомъ по имѣть въ виду
писаннаго знака,—и такъ далѣе. Но въ такомъ случаѣ, упо-
требляя слово «говорить», хотятъ, чтобы мы допустили синекдо-
ху і) и имѣли въ виду «выраженіе» іп депеге, которое, однако,
не является, какъ мы уже отмѣчали, только однимъ такъ на-
зываемымъ вербальнымъ выраженіемъ. Вѣрно ли или пѣтъ, что
нѣкоторыя понятія могутъ мыслиться безъ фоническихъ про-
явленій, но сами примѣры, приводимые въ подтвержденіе про-
тивоположнаго мнѣнія, показываютъ, что этн понятія никогда
не осуществляются безъ выраженій.
Другіе ссылаются на то, что животныя или по крайней мѣрѣ
нѣкоторыя животныя мыслятъ и умозаключи ютъ безъ словъ. По
мыслить ли животныя, кадіъ они мыслятъ и что мыслятъ, если
мысчтятъ, являются ли они скорѣе людьми въ рудиментѣ и какъ
бы дикомъ состояніи, сопротивляющимися культурѣ, а. пе фи-
зіологи четкими машинами, какъ того хотѣли старые спиритуа-
листы,—всего этого намъ можно въ данномъ случаѣ не касаться.
Когда философъ говоритт. о животной, грубой, импульсивной,
инстинктивной ‘(и т. и.) природѣ, онъ основывается уже но
на. предположеніяхъ этого рода касательно собакъ или кошекъ,
львовъ или муравьевь. а. па наблюденіи того, что есть въ че-
ловѣкѣ животнаго й грубаго: той границы пли того основа-
нія животности, которыя мы замѣчаемъ въ собѣ самихъ. Если
при этомъ отдѣльныя животныя, собаки или кошки, львы или
муравьи, об.іадатогь какими-нибудь илъ сиослбиос.тей человѣка,
*) Синекдохи,—риторическая фигура, с('("і,ошца>і въ томъ, чго цѣлое
употребляется за часть или иаооборотъ. Я/л
— 28 —
тѣмъ лхчіпе пли тѣмъ хуже для ннхъ; --т.-о. и но отшшіоиію
къ шімъ слѣдуетъ говорить не о «природѣ» во всей ея
совокупности, а о животномъ основаніи, которое, возмож-
но, и .болѣе обширно и болѣе значительно у пихъ но сравненію
съ животнымъ основаніемъ у человѣка. II если даже предполо-
жить, что животныя .мыслить и образуютъ понятія, то чѣм ъ же
въ такомъ сл\ чаѣ можно было бы въ порядкѣ гипотетическаго
разсужденія оправдать допущеніе, что опп дѣлаютъ это безъ
соотвѣтствующихъ выраженій? Аналогія съ человѣкомъ, по-
знаніе духа, человѣческая психологія, которой пользуются
при всѣхъ пре шоложопіяхъ психологіи животныхъ, по-
буждали бы, наоборотъ, признать, что они, если какъ-нибудь
вообще мыслятъ, то и говорятъ также какъ-нибудь.
Другое подтвержденіе того, что понятіе можетъ существо-
вать безъ слова заимствовано изъ человѣческой психологіи и.
при томъ, спеціально изъ психологіи писателей. Каждый изъ
пасъ можетъ-де допустить наличность книгъ, хорошо про-
дума и п ы х ъ, п о и л охо н а и и с а и и ы х ъ. и знаетъ такія
книги, т.-е. такую мысль, которая остается мыслью и за
предѣлами выраженія или несмотря на недостаточное
выраженіе. Но, разсуждая о хорошо продуманныхъ н пло-
хо панисаппыхъ книгахъ, мы вѣдь можемъ при этомъ
имѣть въ виду только то, что въ этихъ книгахъ имѣются части,
страницы, періоды пли предложенія, хорошо продуманные и
хорошо лаписанные, а также еще и другіе, возможно предста-
вляющіе менѣе важности, которые продуманы плохо и наииса.ны
тоже плохо, пе продуманы по настоящему и потому и ие выра-
жены по настоящему, ^сіепха тюѵа Вико въ тѣхъ мѣстахъ,
гдѣ плохо написана, плохо и продумана. Достаточно только
оставить толстые томы и взять какос-ппбудь коротенькое пред-
ложеніе, и ошибочность и неточность указаннаго утвержде-
нія сразу же сгинетъ ясной. Какъ можетъ предложеніе быть
мыслимо съ ясностью и при этомъ смутно выражено?
Единствеппо, что можно допустить, это. что иногда мы пе-
реживаемъ мысли (понятія') въ интуитивной формѣ, которая
является сокращеннымъ пли. лучше, своеобразнымъ выраже-
ніемъ, достаточнымъ для пасъ, по недостаточнымъ тля гого. что-
бы сообщить ихъ, ие затрудняясь, какому-либо другому опредѣ-
ленному ліщу или многимъ другимъ опредѣленныя!» лицамъ. ІГо
этой ііричішѣ неточно будетъ сказать, что мы имѣемъ мысль, по
— 29 —
не выражаемъ ее, такъ какъ собственно г-лѣдовало бы сказать,
что мы ее выражаемъ, по только это выраженіе съ соціаль-
ной точки зрѣнія не является еще удобопередаваемымъ. Впро-
чемъ. это—явленіе въ доска точной мѣрѣ непостоянное и относн-
те.пяюе: всегда имѣются такіе люці, которые схватываютъ
шину мысль налету, предпочитаютъ такую ея сокращенную
форму іі которые были бы недовольны мной болѣе раеііро-
странсіпіой формой, представляющейся необходимой для дру-
гихъ людей. Иліями словами, мысль, будучи разсматриваема ло-
гически и абстрактно. остается при этомъ почтп-то одпой и той
же; но эстетически дѣло идетъ при этомъ о двухъ различныхъ
интуиціяхъ пли выраженіямъ, въ каждое изъ которыхъ вхо-
дятъ различные психическіе элементы. Тотъ же аргументъ
достаточенъ для того, чтобы уничтожить или же правильно
истолковать чисто эмпирическое различіе между и нутро н-
н е й и внѣшне и рѣчью.
искусство и Два высшихъ проявленія, двѣ свѣтящіяся пзда-
науиа. лрка БерПІІШЬІ интуитивнаго и интеллектуальнаго
познанія, именуются, какъ мы уже знаемъ это, искусствомъ
и наукой. Искусство и паука различны, такимъ образомъ,
и вмѣстѣ съ тѣмъ тѣсно связаны: съ одпой стороны, со сто-
роны эстетической, они совпадаютъ. Всякое научное произве-
деніе есть въ то же время и произведеніе искусства. Эстети-
ческая сторона дѣла можетъ оставаться въ тѣни, когда нашъ
умъ захваченъ всецѣло усиліемъ уразумѣть мысль ученаго и
разобраться въ истинѣ. По опа уже не остается болѣе въ
тѣни, когда ось дѣятельности уразумѣнія мы переходимъ къ
дѣятельности созерцанія и видимъ эту мысль либо раскры-
вающейся передъ пами съ ясностью, чистотою, отчетливостью,
безъ липшихъ словъ, безъ словъ несовершенныхъ, съ соот-
вѣтственнымъ ритмомъ и соотвѣтствующей интонаціей, либо
предстающей паіпнмъ взорамъ съ неясностью, отрывистостью,
безпорядочностью, разбросанностью. Нѣкоторые великіе мы-
слители признаны и великими писателями въ то время, какъ
другіе мыслители, будучи тоже великими мыслителями, какъ пи-
сатели остаются въ большей пли меньшей степени фрагмен-
тарпстамп, хотя нхъ фрагменты въ научномъ отношеніи и пред-
ставляютъ собою гармоническое, связпое и совершенное созданіе.
Для мыслителей и ученыхъ простительно быть посредствен-
ными писателями: фрагменты, проблески мысли облегчаютъ
по —
Для насъ уразумѣніе цѣлаго, такъ какь гораздо легче гені-
альный фрагментъ превратить въ систематизированное построе-
ніе, спичкой возжечь пламя, чѣмъ достигнуть геніальнаго
открытія. Но какь простить дѣйствительнымъ артистамъ по-
средственность изложенія? «МеіІіоегіЪін евве роёііа гюп сііі,
пои Ьотіпез, пои сопсезвегс соіитпае» х). Поэту н художни-
ку, которымь недостаетъ формы, недостаетъ всего, такъ какъ
недостаетъ себя самихъ. Поэтическая матерія живетъ въ
душѣ каждаго человѣка; только выраженіе, т.-е. форма, дѣ-
содержаніе и ластъ поэтомъ. И воть тутъ-то оказывается
?наченіеДРихъ! правильнымъ утвержденіе, которое отнимаетъ у
проза и поэзія, искусства всякое содержаніе, понимая подъ со-
держаніемъ именно интеллектуальное понятіе. Въ этомъ
смыслѣ, когда «содержаніе» приравнивается «понятію», будетъ
глубоко правильно не только утвержденіе, что искусство но
заключается въ содержаніи, но и утвержденіе, что оно не
п м ѣ е т ь с о д е р ж а п і я.
II различіе между и о э з і е й и и р о з о и можеть быть оправ-
дано только, какъ различіе между искусствомъ л наукой. Уже
въ древности было признано, что это различіе не можетъ осно-
вываться па внѣшнихъ элементахъ, какъ то: ритмѣ или размѣрѣ,
свободной или размѣренной формѣ; что это, напротивъ то-
го,—всецѣло внутреннее различіе. Поэзія есть языкъ чувства;
проза есть языкъ интеллекта; но такъ какь иыіеллекть въ сво-
емъ конкретномъ и реальномъ состояніи является также чув-
ствомъ, всякая проза имѣсть свою поэтическую сторону.
отношеніе Отношеніе между интуитивнымъ познайіемь или
двухъ ступе- . * . ‘
ней. выраженіемъ и познаніемъ интеллектуальный ь или
понятіемъ, между искусствомъ и наукой, между поэзіей и
прозой Можно характеризовать, лишь какъ отношеніе двухъ
ступеней. Первая ступень есть выраженіе, вторая сту-
пень-понятіе: первая можеть стоять безъ второй, вторая
но можетъ стоять безъ первой. Существуетъ поэзія безъ
прозы, по пѣтъ прозы безъ поэзіи. Выраженіе является дѣй-
ствительно первымъ самоутвержденіемъ человѣческой актив-
ности. Поэзія есть «родной языкъ человѣчества»; первые
люди «были отъ природы возвышенные поэты». II это прп-
1 ,,Н» боги, пи .'поди по простили поэтамъ позора посредственности".
Ну, пеу.
31 -
Знается въ нѣсколько иной формѣ также и всѣми тѣми, кТО
отмѣчаетъ, что переходъ отъ души къ духу, отъ жпвотіюіі
чувственности къ человѣческой актпвіюстн совершается чрезъ
посредство языка (слѣдовало бы сказать: чрезъ посредство
пнтупціи пли выраженія вообще). Но только намъ кажется, что
оиред Ьлсніе языка или выраженія, какъ п о с р е д с г в у ю щ а г о
звена между естественнымъ состояніемъ п человѣчностью,
являющагося какъ бы смѣсью ихъ обоихъ, недостаточно точ-
но. Тамъ, гдѣ является человѣчность, естественное состояніе
уже исчезло: человѣкъ, выражающій себя, выходитъ изъ есте-
ственнаго состоянія; правда, онъ выходить изъ него непо-
средственно, но все же выходитъ и не стоитъ посерединѣ,
по то въ номъ, не то внѣ его. какъ того требуетъ положеніе
о 'Посредствующемъ звенѣ.
Отсутствіе Кромѣ ЭТИХЪ ДВуХ'Ь фОрМ'Ь ПОЗНаВЛТСЛЬПаГО ду-
мныхъ позна* * .
нательныхъ Хсі, ДрѴГПХЪ НѲ СущеСТВувТЪ. ІІНГуИЦІЯ Н ПОНЯТІИ
Формъ. исчерпываютъ его сферу совершенно. Въ пере-
ходѣ отъ одной изъ отпхъ формъ къ другой и обратно заклю-
чается и проходитъ вся теоретическая жизнь человѣка,
историчность. Признаніе за третью теоретическую форму
Тождество ея 1 л х "
съ искусствомъ ИСТО О И Ч Н 0 С Т II ПС Соотвѣтствуетъ дѢЙСТВИТОЛЬ-
и отличіе ея тт ” ѵ
отъ него. пости. Историчность знаменуетъ сооою не форму,
а содержаніе: какъ форма, она не отличается ничѣмъ отъ
интуиціи пли эстетическаго факта. Исторія пе ищетъ зако-
новъ и пе образуетъ понятій.—не производитъ пи индукцій, ни
дедукцій, — устремлена асі паггапсИші, пои асі сістопзігап-
сіит,—по построяетъ универсалій и абстракцій, аполагаетъ ин-
туиціи. «Вогь-это», ішііѵісіиііт оптітосіо деіегшіпаЬит, -
вотъ что составляетъ ея сферу, какъ и сферу искусства. Поэто-
му исторія подходитъ подъ общее понятіе искусства.
Противъ этого утвержденія, въ виду невозможности измыс-
лить третью познавательную форму, былъ выдвинутъ рядъ
возраженій, стремящихся присоединить исторію къ интелле-
туалыюму или научному познанію. Эти возраженія были выз-
ваны, съ одной стороны, предвзятымъ представленіемъ,
будто отрицаніемъ за исторіей научнаго (концептуальна-
го) характера ее лишаютъ сколько-нибудь ея цѣнности
ц ея достоинствъ, а съ другой,— ложнымъ представле-
ніемъ объ искусствѣ, которое разсматривается пе какъ основ-
ная теоретическая функція, а какъ развлеченіе,—какъ нѣчто
— 32 —
излишнее и пустое. По вступай здксь въ длительные споры по
этому поводу (которые, что касается до лась. мы считаемъ
покопченными), мы коснемся сейчасъ только одного софизма,
которому носч.четлнвплпгь и который все еще повторяется какъ
разъ <-ь цѣлью подтвердить логическую и научную природу
исторіи. Этотъ софизмъ заключи<тп-я въ согласіи признать, что
историческое познаніе свопмь объектомъ имѣетъ индивидуаль-
ное, но пе представленіе его (прибавляется при этомъ), а
понятіе индивидуальнаго, изъ чего и получается выводъ, что
и исторія тоже является логическимъ или научнымъ познаніемъ.
Исторія, словомъ, должна вырабатывать понятія личности, папр.,
Карла Великаго пли Наполеона,—эпохи, напр.. Возрожденія или
Реформаціи,—происшествія, наир., Французской Революціи или
Объединенія Италіи,—совершенно такъ же, какъ геометрія вы-
рабатываеіъ понятія пространственныхъ формъ, а эстетика по-
нятіе выраженія. Но въ дѣйствительности нѣтъ ничего подоб-
наго: исторія въ состояніи представить Наполеона п Карла Ве-
ликаго, Возрожденіе и Реформаціи’, Французскую Революціи»
и Итальянское Объединеніе — все факты индивидуальные,
ЛИШЬ СО СТОрОНЫ ІІХЪ ШЦИВИ іуаЛЬНОСТІІ, Т.-С. ИМСШІО ВЪ ТОМ'Ь
смыслѣ и направленіи, въ какомъ логики говорятъ, что объ инди-
видуальномъ нельзя составить понятія, а можно имѣть только
представленіе. Такъ называемое понятіе индивидуальнаго всегда
остается универсальнымъ или общимъ понятіемъ; опо богато,
если хотите, даже чрезвычайно богато признаками; по, какъ бы
пн было оно богато въ этомъ отношеніи, опо тѣмъ но мепѣе не
способно достичь топ индивидуальности, обрѣсти которую въ си-
лахъ только историческое познаніе, какъ познаніе эстетическое.
Для того, чтобы понять, чѣмъ отличается въ сферѣ искус-
ства вообще историческое познаніе отъ познанія въ узком'ь
смыслѣ слова художественнаго, нужно припомнить все то, что
было сказало по поводу идеальнаго характера интуиціи или пер-
вичнаго воспріятія, въ которомъ все реально и потому нѣть
ничего реальнаго. На послѣдующей стадіи духъ образуетъ по-
нятія внѣшняго и внутренняго, уже случившагося и желатель-
наго, объекта и субъекта'(п подобныя пмъ). или же прелагаетъ
различіе между интуиціей исторической п леисторпческой, ре-
альной п нереальной, реальной фантазіей и фанта-
зіей чистой. Правда, внутренніе факты, плоды желаній и фан-
тазіи. воздушные, замки и волшебныя земли тоже облагаютъ
1 < •
— 33 —
своеобразной реальностью; и душа тоже имѣетъ свою исто-
рію. Въ біографію человѣка входятъ въ качествѣ реальныхъ
фактовъ также и его иллюзіи. Но исторія индивидуальной
души является при этомъ исторіей потому, что въ неіі всегда
наличію различіе между реальнымъ и нереальнымъ.--даже
и въ гЕх'ь случаяхъ, когда реальное составляютъ сами иллюзіи.
Однако, въ исторіи подобныя понятія занимаютъ совсѣмъ не
такое положеніе, какъ понятія въ паукѣ»; ихъ полижете ско-
рѣе напоминаетъ собою то, какое занимаютъ понятія, расплы-
вающіяся и сливающіяся, какъ мы ото видѣли, въ эстетиче-
скихъ интуиціяхъ, хотя опн и получаютъ при этомъ совершенію
своеобразный видъ. Исторія по строитъ понятій реальнаго и
нереальнаго, а только пользуется ими; исторія, словомъ по
есть теорія исторіи. Для того, чтобы установить, является ли
какой-нибудь фактт. нашей жизни реальнымъ или воображае-
мымъ, недостаточно простого отвлеченнаго анализа; для «этого
необходимо воспроизвести интуиціи возможно наисовершенпѣіі-
шимъ образомъ и поставить ихъ передъ духовнымъ взоромъ
въ томъ пхъ видѣ, въ какомъ онѣ были ла.щчпы въ моментъ
переживанія ихъ. Историчность отличается іп. соштеі.о отъ
чистой фантазіи такъ же, какъ любая интуиція отличается отъ
какой-либо другой іпгстуиціи. т.-е. въ памяти.
историческая Въ тѣхъ случаяхъ, когда эта послѣдняя но при-
крнтика. ходитъ на помощь, когда нюансы реальныхъ и
нереальныхъ интуицій настолько незначительны и мало за-
мѣтны. что онѣ сливаются между собой, нужно либо отка-
заться,—-по меньшей мѣрѣ временно, отъ установленія того,
что совершается въ дѣйствительности (и мы часто прак-
тику емъ такой отказъ), либо нужно прибѣгнуть къ догадкѣ,
правдоподобноеги, вѣроятіямъ. II дѣйствительно, принципъ
правдоподобія п вѣроятности господствуетъ падъ всей сферою)
исторической критики.'Изученіе источниковъ и авторитетовъ
направлено непосредственно къ установленію наиболѣе прав-
доподобныхъ свидѣтельствъ. По не тѣ ли именно свидѣтельства
являются наиболѣе правдоподобными, которыя принадлежатъ
лучшимъ наблюдателямъ или же людямъ, надѣленнымъ луч-
шей памятью и (—что само собою разумѣется) не имѣющимъ
ни смѣлости, пи интереса, къ тому, чтобы извращать дѣйстви-
тельное гь ?
ЭСТЕТИКА.
3
— 34 —
Историческій Воть причина, почему скептикѣ - іштеллектуа-
сксптицизмъ. Л1ІСГЪ легко можетъ отрицать достовѣрность ка-
кой-либо исторіи. Вѣдь достовѣрпость исторіи отлична отъ до-
стовѣрносги науки; историческая достовѣрпость ость дог.то-
вѣріюсть воспоминанія и авторитета, а не анализа и дока-
зательства. Тотъ, кто говоритъ объ исторической индукціи,
историческомъ доказательствѣ и т. п., употребляетъ эти сло-
ва метафорически, такъ какъ они въ примѣненіи къ исторіи
получаютъ совершенно другой смыслъ, чѣмъ тотъ, который
имъ присущъ въ наукахъ. Убѣжденіе историка это—пепод-
дающееся доказательству убѣжденіе присяжнаго, который про-
слушалъ свидѣтелей, внимательно прослѣдилъ за ходомъ про-
цесса и помолился Всевышнему о томъ, чтобы онъ просвѣтилъ
его умъ. Конечно, иногда и онъ ошибается; но ошибки по
сравненію съ тѣми случаями, въ которыхъ ому удастся добить-
ся истины, представляютъ собою меньшинство и могутъ быть
оставлены безъ вниманія. И потому здравый разсудокъ вполнѣ,
правъ, когда въ противоположность интеллектуалистамъ вѣритъ
въ исторію, которая ужъ по является «подходящей басней», а
представляетъ сс&ою то, что индивидуумъ и человѣчество вспо-
минаютъ о своемъ прошломъ. Это—воспоминаніе кое-гдѣ неяс-
ное, а кое-гдѣ явственнѣйшее,—воспоминаніе, которое путемъ
искусныхъ усилій удается распространить и утончить, насколь-
ко это только возможно, по безъ котораго нельзя обойтись
и которое, будучи взято во всемъ своемъ цѣломъ, прс-
изобилуетъ истппоіі. Только изъ любви къ парадоксамъ
можпо сомнѣваться въ гомъ, что когда-либо существовали
Греція и Римъ, Александръ н Цезарь, феодальная Европа и
цѣлая серія революцій, боровшихся съ этимъ строемъ, что 1-го
ноября 1517 года на дверяхъ Вюртембергскаго собора были
вывѣшаны тезисы Лютера, илп что 14-го іюля 1789 года
въ Парижѣ народомъ была взята Бастилія. «Какое основаніе
въ состояніи ты привести для всего этого?» иронически во-
прошаетъ софиста. Человѣчество отвѣчаетъ: «Я помню».
ка^ъЛнауйі1со. Міръ совершпвшагос-я, конкретнаго, историче-
вершенная. скаго составляетъ то, что называется міромъ
Такъ назывэе-
мыя естествен- реальности п природы, и заключаетъ БЪ себѣ
ныя науки и •/
ихъ границы, какъ ту реальность, которая именуется физиче-
ской, такъ и ту реальность, которая именуется реальностью
духовной илп человѣческой. II весь этотъ міръ есть интуиція:
е*і) —л
интуиція историческая, если опа, представляетъ его такъ, какъ
онъ есть въ дѣйствительности,—интуиція фантастическая или
художественная въ узкомъ смыслѣ слова, если опа представля-
етъ его въ аспектѣ возможнаго или доступнаго воображенію.
Наука, подлинная наука, которая осуществляетъ собой не
интуицію, а понятіе, не индивидуальность, а универсальность,
по можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ наукой о духѣ пли же
о томъ, что есть въ дѣйствительности универсальнаго,—филосо-
фіей. Если, помимо этой послѣдней, говорятъ сіцс о естествен-
ныхъ паукахъ, то нельзя пе замѣтить па это, что такія науки
суть пауки въ несобственномъ смыслѣ этого слова, т.-е. что
онѣ слагаются изъ познаніи, произвольно отвлеченныхъ к уста-
новленныхъ. 11 дѣйствительно, сами такъ называемыя естествен-
ныя науки признаются, что всегда обусловлены границами,—
границами, которыя при этомъ суть не что иное, какъ исто-
рическія и интуитивныя даты. Онѣ счисляютъ, измѣряютъ,
полагаютъ равенства, устанавливаютъ постоянства, образуютъ
классы и типы, формулируютъ закопы, показываютъ каждая
по своему, какъ одинъ фактъ рождается изъ другихъ фак-
товъ; по всѣ ихъ успѣхи упираются всегда въ факты, усвоя-
емые интуитивно п исторически. Даже геометрія заявляетъ,
что всецѣло опирается па гипотезы, такъ какъ трехмѣрное
или эвклидово пространство представляетъ собою лишь одпо
изъ возможныхъ пространствъ, которое изучается но преиму-
ществу лишь потому, что обнаруживаетъ больше удобствъ.
То, .что истинно въ естественныхъ наукахъ, является либо фи-
лософіей, либо историческимъ фактомъ; ихъ въ собственномъ
смыслѣ натуралистическій элементъ абстрактенъ и произво-
ленъ. Какъ только у естественныхъ дисциплинъ появляется
желаніе стать совершенными пауками, имъ приходится пере-
шагнуть свой кругъ и вступить въ область философіи. И
онѣ дѣлаютъ это всякій разъ, когда вводятъ въ употребленіе
совсѣмъ непатуралпстнческія понятія «спротяженнаго атома,
эѳира пли колеблющейся среды, жизненной силы, недоступ-
наго интуиціи пространства и т. и. (—все усилія, подлинно
и дѣйствительно философскія, когда но являются словами, ли-
ше иными всякаго смысла). 11с подлежитъ сомнѣнію, что есте-
ствешюпаучпыя понятія чрезвычайно полезны; но пзь нихъ
нельзя выловить той с пстем ьг, которая дается только духомъ.
Сверхъ того, въ этихъ историческихъ и интуитивныхъ да-
3*
— 36 —
тахъ, лсустра-ппмыхъ изъ естественныхъ дисциплинъ, находитъ
г'.сб'Г. объясненіе но одно только то. какъ съ прогрессомъ знанія
все го, что когда-то признавалось истиной, постепенно низво-
дится до степени миѳологическихъ вѣрованій и фантаспіче-
• ки\ъ иллюзій; въ лихъ такъ же паходи'іт» себѣ объясненіе
и то, какимъ образомъ среди натуралистовъ оказываются мысли-
тели. характеризующіе все то, что является въ ихъ дисциплинахъ
фундаментомъ всяческаго разсужденія, какъ миѳическій
Ф а к т ъ. какъ в с л омогате л ь л о о с р е д с т во чисто с л о-
в ее наго порядка, какъ условность. На тура листы и
математики, которые безъ подготовки обращаются къ изученію ду-
ховныхъ энергій, легко заносить съ собою подобныя умственныя
привычки п сюда и говорятъ въ философіи объ условностяхъ,
которыя принимаютъ таковой видъ, «какой вздумается придать
ичъ человѣку»: условности-де—и истина п нравственность, выс-
шая же условность—самъ духъ! Однако, для того, чтобы имѣть
условности, необходима наличность чего-нибудь такого, о чемъ
не условливаются, но что является самимъ агентомъ условно-
сти,—наличность духовной активности человѣка. Ограниченность
естественныхъ паукъ требуетъ неограниченности философіи.
Явленіе и Всѣми этими разъясненіями подтверждается, что
ноуменъ. у ПОЗН.1НІЯ ссть ДВѢ ЧИСТЫХЪ ИЛИ ОСНОВНЫХЪ
формы: интуиція и понятіе. Искусство и Наука или Фи-
лософія. при чемъ Исторія должна, сводиться па нихъ, будучи
какъ бы сложными, продуктомъ интуиціи вь ея единеніи съ
понятіемъ, т.-е. продуктомъ искусства, принимающаго въ себя
философскія различія и въ то .же время сохраняющаго конкрет-
ность и индивидуальность. Всѣ другія (пауки естественныя,
математическія) представляютъ собою нечистыя формы, заклю-
чающія въ себѣ примѣсь чуждыхъ и по своему происхожденію
практическихъ элементовъ. Интуиція даегь намъ міръ, фено-
менъ; понятіе даетъ намъ неумелъ, духъ.
IV.
Историзмъ и интеллектуализмъ въ эстетикѣ.
Ясно установивъ такія отношенія между познаніемъ ин-
туитивнымъ или эстетическимъ и другими основными или вто-
ричными формами познанія, мы въ состояніи теперь обнаружить,
въ чемъ кроется ошибка цѣлаго ряда теорій, которыя либо вы-
ступаютъ. либо имѣютъ обыкновеніе рекомендовать себя, кань
теоріи эстетики.
критикаправ Па почвѣ смѣшенія требованій искусства во-
доподобнаго и . 1 •’
натурализма, ооще съ треоованіями исторіи въ частности вы-
росла теорія правдоподобна г о, какъ предмета искусства
(которая пыичс потеряла силу, по имѣла іоснодствующуь»
роль въ прошломъ). Не подлежитъ сомнѣнію, что--какъ это
обычно бываетъ при употребленіи ошибочныхъ положеній—
та цѣль, съ которой пользовались и пользуются понятіемъ»
правдоподобнаго, бывала часто гораздо болѣе здравой, чѣмъ-
то можно было предполагать на основаніи даваемаго этому
слову опредѣленія. По существу дѣла, подъ правдоподобностью
обычно было принято понимать ни утреннюю художественную
связность представленія, т.-е. полноту его и силу, дѣй-
ственную его наличность. Кто станетъ переводить слово
«ііравдонодобипе» словомъ «связное», топ. нерѣдко натол-
кнется па весьма, точный смыслъ въ шіорахь. примѣрахъ
И сужденіяхъ критиковъ, прибѣгающихъ къ этому слову. Не-
правдоподобный персонажъ, непрандоподпбпый конецъ коме-
діи суть въ дѣйствительности плохо очерченный персонажъ,
придѣланный финалъ,—факты въ художественномъ отношеніи
немотивированные. Феи л домовые (ка.кь было осііователык»
замѣчено) тоже должны обладать правдоподобіемъ, т.-е. быть
— 38 —
дѣйствительно феями и домовыми, — связными художествен-
ными интуиціями. Вмѣсто слова «правдоподобное» иногда упо-
треблялось слово «возможное», которое, какъ нами мимоходомъ
у.жо отмѣчалось, является синонимомъ словъ доступное интуи-
ціи илп вообразимое:—все то, что дѣйствительно или же связно
воображается, возможно. По въ другпхь случаяхъ и нема-
лымъ числомъ критиковъ и писателей поді. правдоподобностью
разумѣлась историческая достовѣрность, т.-с. та историческая
истинность, которая пе доказуема, а лишь гипотетически допу-
стима, не истинна, ио правдоподобна; этимь же самымъ свой-
ствомъ хотѣли надѣлить и искусство. Кто не помнитъ того,
какую значительную роль играла критика правдоподобнаго въ
исторіи литературы, папр. критика Іерусалима ’), основы-
вавшаяся па исторіи Крестовыхъ Походовч., или критика поэмъ
Гомера съ точки зрѣнія иряпдоіюлобнаго быта императоровъ
и королей?
Иногда же. искусству приписывалась эстетическая репро-
дукція исторически даяпой реальности; и въ этомъ какъ
разъ состоитъ сущность другого изъ тѣхъ ошибочныхъ тол-
кованій, которыя испытываетъ па себѣ теорія подражанія
природѣ. Затѣмъ въ реализмѣ и натурализмѣ получило
.жизнь смѣшеніе эстетическаго факта даже съ пріемами есте-
ственныхъ паукъ, благодаря страстному желанію создать
какую-то такую драму или ромаіп», которые были бы но болѣе
п не менѣе, какъ экспер и м е л та л ь п ы м и.
Критика идея Гораздо болѣе многочисленны смѣшенія между
искусства, какъ МРТОДОМЪ ИСКуССТВа II меТОДОМЪ фіІЛОСОфСКИХЪ
жегійТм типи- наукъ. Та къ, нерѣдко держались того мнѣнія. ЧТО
чсскаго. дѣломъ искусства является изложеніе понятій, сое-
диненіе умопостигаемаго с ь чувственнымъ, наглядное пред-
ставленіе идей или у п нв е реалій; такимъ образомъ искус-
ство подмѣпялоі-ь наукой, т.-р. художественная дѣятельности,
вообще—тѣмъ отдѣльнымъ случаомт., въ которомъ опа стано-
вится ЭСІ'СТІІІІ.О-ЛПГПЧОСКЧЙ.
Къ тому .же заблужденію сводится теорія шжусетв.і. какъ
носителя поло ж. е и і й (т е з ъ— I. о я і), разсматривающая его,
какъ индивидуальное представленіе, экземплііфіщнрующее на-
упые закопы. Примѣръ, іюсколько онъ ость примѣръ, эаміі-
Л „Ссгизаіетліс ЪіЬстіііа" Торквато Тассо. ІІр. пер.
— 39 —
щаетъ собою ѳкземп.іифицируемую имъ вещь; и потому онъ
является изложеніемъ универсальнаго, т.-е. формой.—пусть
даже популярной или популяризированной формой, науки.
То же самое приходится сказать объ эстетической теоріи
типическаго, если подъ типомъ подразумѣвается, какъ
то часто бываетъ, по что ипое, какъ абстракція или понятіе,
,и при этомъ высказывается утвержденіе, что искусство должно
осуществлять выявленіе рода въ индивиду у м ѣ. Но и въ
томъ случаѣ, если подъ типическимъ будетъ подразумѣваться
индивидуальное, все ограничится лишь измѣненіемъ слова. Типи-
зировать будетъ значить въ такомъ случаѣ характеризовать пли
опредѣлять и представлять индивидуальное. Допъ Кихогъ пред-
ставляетъ собою типъ: типъ чего, какъ по всѣхъ Донъ Кихотовъ,
какъ не типъ, такъ сказать, себя самого? Разумѣется, это по
типъ такихъ отвлеченныхъ понятій, какъ-то: утеря чувства ре-
альности или любовь къ славѣ.; ибо подъ эти понятія можетъ
быть мысленно подведено безконечное число лицъ, по являю-
щихся Допъ Кихотами. Другими словами, въ выраженіи поэта
(папр., въ лицѣ какого-либо поэтическаго персонажа) мы натал-
киваемся на паши собственныя впечатлѣнія, выявленныя въ ихъ
подпой опредѣленности и подлинной сущности, и называемъ ти-
пичнымъ такое выраженіе, о которомъ можно сказать просто, что
опо эстетично. Именно въ этомъ смыслѣ иной разъ говорили о
поэтическихъ или художественныхъ универсаліяхъ для ‘того
только, чтобы подчеркнуть, что художественный продуктъ во
всѣхъ отношеніяхъ духовенъ и идеаленъ.
критика сим- Продолжая дѣло исправленія этихъ заблужденій
вола и аллего- . 1 . ’
ріи. и уясненія экивоковъ, мы должны отмѣтить такъ-
же и то. что иногда сущность искусства, усматривалась іи.
символѣ. И вотъ, если символъ разсматривается, какъ нѣчто
неотдѣлимое отъ художественной интуиціи, то оиъ является си-
нонимомъ самой ппгуиціи, всегда, имѣющей идеальный харак-
теръ. Искусство вс обнаруживаетъ двойственной сущности, \
пего только одна, основа; все въ немъ символично, такъ какъ все
идеально. Если же символъ разсматривается, какъ нѣчто от-
дѣлимое лть интуиціи, если возможно съ одной стороны дать
выраженіе символу, а < ъ другой— символизируемой вещи, то
этимъ вводится интеллектуалистическое заблужденіе: такой
мнимый символъ представляетъ собою изложеніе отвлеченнаго
понятія, есть аллегорія,—наука нлп искусство, подражаю-
— 40 —
щее наукѣ. Но нужно быть справедливымъ и по отношенію
къ аллегорическому. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ оно бываетъ со-
вершенно безвредно. Когда поэма Освобожденный Іеру-
салима была паппсапа, ее стали выдавать за аллего-
рію; когда былъ созданъ Адонисъ Марино, поэтъ сла-
дострастья измыслилъ, будто бы это произведеніе было
написано для того, чтобы показывать, какъ «неумѣренное
наслажденіе кончается страданіемъ»; сдѣлавъ статую кра-
сивой женщины, скульпторъ можеть прицѣлить къ пей за-
писку и объявить, что его статуя представляетъ собою Мило-
сердіе или Добро. Такая аллегоричность, присоединяемая
къ законченному произведенію рові Іезіпт. не измѣняетъ са-
маго произведенія. Что же такое она собою представляетъ?—
Она представляетъ собою выраженіе, внѣшними, образомъ при-
соединенное къ другому выраженію. Къ поэмѣ Осво-
божденный Іерусалима, присоединяется стряпичка про-
зы, которая выражаетъ другую мысль поэта: къ поэмѣ
Л доп и съ ііріісосднігяеті-.я стихъ или строфа, которая
выражаетъ гто, что. поэтъ хотѣла, дать понять одной части
свопх'ь читателей; къ статуѣ присоединяется лишь простое
слово: «милосердіе» или «добро».
критика те- По самой значительной побѣдой интеллсктѵали-
оріи художе- ’ *
ственныхъ и стическаго заблужденія нужно считать ученіе о
литературныхъ
родовъ. художественныхъ и литературныхъ родахъ, кото-
рое еще находитъ себѣ мѣсто въ трактатахъ и тревожитъ кри-
тиковъ и историковъ искусства. Изслѣдуемъ его происхо-
жденіе.
Человѣческій духъ можетъ перейти отъ эстетическаго к ь
логическому, разрушить выраженіе или мышленіе индивиду-
альнаго мышленіемъ универсальнаго, разрѣшить выразительные
факты въ логическія отношенія, іімсгпю потому, что эсте-
тическое является первой ступенью по отношенію къ логиче-
скому. Что такая операція въ свою очередь коикретизнруется
вь выраженіе, было нами уже отмѣчено; но этимъ мы не
хогимг. сказать, что ле}івыя выраженія остались невредимы;
они уступили свое мѣсто новымъ эстетики-логическимъ выра-
женіямъ. Іімі'да. достигается вторая ступень, первая ст\ іюнь
оставлена.
Кто входитъ въ картинную галлерею и.іи берется за. чтеніе
ряда поэмъ, готъ можетъ нослЬ осмотра ц.ш прочтенія ихъ
— 41
перейти къ изученію природы и отношеній выраженныхъ въ
нихъ вещей. Такимъ образомъ, тѣ картипы п тѣ поэтическія про-
изведенія, изъ коихъ каждое представляетъ собою нѣкоторую,
логически невыразимую индивидуальность, постепенно разрѣшат-
ся для него въ слѣдующія универсаліи и абстракціи: бытовыя
картины, пейзажи, портреты, картины семей-
ной жизни, сраженія, животныя, цвѣты, фрукты,
м а р и н ы, п о л я, о з е р а. пустый и, ф а к т ы т р а и ч е с к і е,
комическіе, Факты милосердія, жестокосердія,
факты лирическіе, эпическіе, драматическіе,
рыцарскіе, идиллическіе и т. и., — а часто так-
же и въ слѣдующія чисто количественныя категоріи: кар-
тинка, картина, статуэтка, группа, мадригалъ,
пѣсня, сонетъ, цикла, сонетовъ, стихотвореніе,
поэма, новелла, романъ и т. и.
Когда мы мыслимъ понятіе с с м с й п о іі ж и з н и или р ы ц а р-
с к о й ч е с т и или и д п л л і и или .ж с с т о к о с е р д і я, пли ка-
кое-нибудь изъ количественныхъ понятій, индивидуальный выра-
зительный фактъ, отъ котораго былъ получена, папіи.чъ мышле-
ніемъ толчекъ, отпадаетъ. Изъ эстетиковъ мы превращаемся при
этомъ въ логиковъ, изъ созерцателей выраженій—въ людей,
занятыхъ разсужденіями. 1І])оггиіат. этого, разумѣется, нельзя
выставить никакихъ возраженій. Какъ бы иначе могла за-
родиться наука-, которая, если и имѣетъ своей предпосылкой
эстетическія выраженія, тѣмъ по менѣе свою цѣль видитъ
вь томь, чтобы выйти за ихъ предѣлы? Логическая или на-
учная форма, какъ таковая, исключаетъ форму эстетическую.
Кто обращается къ научному мышленію, тотъ уже не созер-
цаетъ эстетически, хотя его мышленіе и принимаетъ въ свою
очередь съ необходимостью, - какъ то было уже замѣчено и
было бы излишне повторять,—эстетическую форму.
Заблужденіе начинается тогда., когда изъ понятія хотятъ
вывести выраженіе, а. ігь замѣщающемъ фактѣ открыть за-
коны замѣшеннаго факта.- когда не замѣчаюсь различія между
второй. ггуні’ныо и цервой и вслѣдствіе ЭТОГо ПОДНЯВШИСЬ до
второй, \ іт.і-рждаютъ, что находятся въ сферѣ первой. і)то
заблужденіе носитъ названіи теоріи х у д о ж. е с т в е п п ы х ъ
и литературныхъ родовъ. — Какова эстетическая
форма семейной жизни, рыцарской чести, идилліи, .жестоко-
сердія и т. л.? Какъ должны быть представляемы атн
— 42 —
содержанія ? — Такова въ паипростѣйшей формулировкѣ та.
абсурдная проблема, которую ставитъ собѣ ученіе о худо-
жественныхъ и литературныхъ родахъ. Но къ этомъ заключаете и
любое изслѣдованіе законовъ или правилъ родовъ. Ссмейпая
жизнь. рыцарская честь, идиллія, .жестокосердіе и т. п. суть не
впечатлѣнія, а уже'понятія,—не содержанія, а логико-эстети-
ческія формы. Форму нельзя выразить, такъ какъ опа сама
уже есть выраженіе. Что такое, на самомъ дѣдѣ, слова: «жесто-
косердіе», «идиллія;?, «рыцарская честь», «семейная жизнь»
и т. и., какъ не выраженія этихъ понятіи?
Самыя утонченныя изъ такихъ различіи, даже тѣ изъ
пихь, которыя имѣютъ наиболѣе философскій видъ, не въ
состояніи противостоять критикѣ, напр., раздѣленіе произве-
деній искусства на субъективныя п объективныя, на лирику и
эпику, на произведенія чувства и произведенія изображенія:
ибо невозможно при эстетическомъ анализѣ отдѣлить субъек-
тивную сторону отъ объективной, лирическое оть эпическаго,
образтэ чувства оть образа вещей.
заблужденіе ІІз-і. ученія о художественныхъ и лптсратур-
об/исісусств’ѣ’ пыхъ родахъ вытекаютъ тѣ ошибочные способы
благодаря°"той сужденія и критики, благодаря которымъ вмѣсто
теоріи. того, чтобы запяться установленіемъ того, вырази-
тельно ли данное художественное произведеніе и что оно собою
выражаетъ, говорить ли оно, невнятно лепечетъ или совершенно
молчитъ, спрашиваютъ о томъ, соотвѣтствуетъ ли оно законамъ
эпической поэмы пли закопамъ трагедія, закопамъ исторической
живописи пли законамъ пейзажа? Конечно, артисты, хоть и дТі-
лали па словахъ и съ показной готовностью такой видъ, будто
они принимаютъ эти закопы родовъ, тѣмъ пе менѣе въ
дѣйствительности всегда смѣялись надъ шімп. Каждое подлин-
ное произведеніе искусства было сопряжено съ нарушеніемъ
какого-либо установленнаго рода, внося этимъ дезорганизацію
въ мысли критиковъ, которымъ приходилось расширять пре-
дѣлы {іода; хотя, впрочемъ, они были пе въ силахъ помѣшать
тому, чтобы и послѣ такого расширенія родъ казался’ слиш-
комъ узкимъ въ виду появленія новыхъ произведеній искусства,
что вызывало, само собой», новые скандалы, новыя неурядицы
и новыя расширенія.
Топ же самой теоріи обязаны своимъ вознпкповепіемь п тѣ,
предразсудки, благодаря которымъ одно время (прошло ли оно
— 43 —
въ дѣйствительности?) жаловались, будто Италія пе имѣла тра-
гедіи (—до тѣхъ поръ, пока не родился тотъ, кто воздѣлъ
на ея славное чело этотъ сдинстнеппо педостававшій сй вѣ-
нецъ), будто Франція пе имѣла эпической поэмы (—до Гел-
ріады, которая удовлетвори та жажду крикливыхъ критиковъ).
Съ такими предразсудками тѣсно связаны были похвалы изо-
брѣтателямъ новыхъ родовъ; дѣло доходило до того, что изо-
брѣтеніе въ сейчепто \) г е р о ико ко м и ч е с кой поэмы пред-
ставлялось великимъ дѣломъ, вызывало споры о чести изо-
брѣтенія и почти приравнивалось открытію Америки, хотя,
конечно, произведенія, украшенныя такимъ папмсповапіемъ
(П о х и щ, с н і е ведра, И а с м ѣ пі к а б о г о в ъ), были созда-
ніями мертворожденными, гакъ какъ ихъ авторы (—маленькое
неудобство!—) не имѣли ничего своего и нмъ нечего было ска-
зать. Посредственности ломали себѣ голову надъ тѣмъ, какъ
бы изобрѣсти искусственнымъ образомъ новые роды: къ па-
стушеской эклогѣ была присоединена писка торія, а
затѣмъ даже эклога военная: Лмипта, окунувшись, сталъ
Алкеемъ. Ослѣпленные вь копцѣ-копцов'і. этой идеей ро-
довъ, историки литературы и искусства стали браться за исто-
рію уже пе отдѣльныхъ и наличныхъ литературныхъ и арти-
стическихъ произведеній, а тѣхъ лишенныхъ всякаго содер-
жанія привидѣній, какими являются ихъ роды; стали браться
за описаніе ужъ не развитія художественнаго духа,
а р аз в и т і я р о д о в ъ.
Философское осужденіе художественныхъ и литературныхъ
родовъ прекрасно демонстрируетъ и дасті. точную формули-
ровку тому, чго всегда было выполняемо художественной дѣя-
тельностью и встрѣчало себѣ признаніе со стороны хорошаго
вкуса. Что же дѣлать, если хорошій вкусъ и реальный фактъ, бу-
дучи формулированы, иногда пріобрѣтаютъ видъ парадоксовъ?
эмпирическій Конечно, кто разсуждаетъ о трагедіяхъ, комр-
предьленія «о Діяхъ, драмахъ, романахъ. жанровыхъ картинахъ,
родамъ. каргпнахь битвъ, пейзажахъ, Маринахъ, поэмахъ,
іюэметт.іхъ, лирическихъ произведеніяхъ и т. и.,—указы-
вая при ЭТОМЪ ПОГІріи-.гу ГІ ГЪ іірпблпзіигльностью на нѣко-
торыя группы произведеній, къ которымъ по ’гоіі пли другой
причинѣ хочетъ привлечь вниманіе.—только для того, чтобы
1) т.-е. въ 17-э.ѵъ вѣкѣ. 27р. пср.
— 44 —
стать понятнымъ, тотъ по высказываетъ ничего съ научной точ-
ки зрѣнія ошибочнаго, такъ какъ онъ только пользуется сло-
вами и фразами, но пе даеть опредѣленій и зако-
новъ. Заблужденіе создастся лишь тогда, когда слову при-
дается вѣсъ научнаго различенія,—когда, однимъ словомъ, дичь
наивно попадается въ западню, которую- ей обычно разставля-
етъ подобная фразеологія. Да позволятъ намъ слѣдующее
сравненіе. Въ библіотекахъ принято всегда разставлять книги
въ какомъ-либо порядкѣ; въ прежнее время это по большей
части дѣлалось при помощи грубой классификаціи согласно
матеріалу (въ которой не были забыты и категоріи смѣси
и курьезовъ); въ настоящее же время это обыкновенно дѣлается
путемъ классификаціи но издателямъ или форматамъ. Кто
станетъ отрицать полезность и необходимость такихъ груп-
пировокъ? Но что сказалъ, если кому-пибудь придетъ въ го-
лову изслѣдовать всерьезъ литературные закопы смѣсей или
курьезовъ, алдинскихъ или бодоніанскихъ собраній, книжныхъ
полокъ А пли В, т.-е. вышеупомянутыхъ совершенно про-
извольныхъ группировокъ, отвѣчающихъ только потребности
практическаго удобства.? Однако же тотъ, кто посвятилъ бы
свои силы этому достойному смѣха предпріятію, дѣлалъ бы
совершенно то же, что дѣлаютъ со всей серьезностью изслѣдова-
тели эстетическихъ законовъ, долженствующихъ, по
вхъ словамъ, управлять х у д о ж е с т в с н н ы м и и л и т е р а-
турпымп родами.
V.
Аналогичныя ошибки въ историкѣ и логикѣ.
Чтобы получше закрѣпить только что изложенныя критическія
соображенія, будетъ полезно бросить быстрый взглядъ па ошиб-
ки обратнаго и аналогичнаго характера, возникающія изъ незна-
нія подлинной природы искусства и его іюложеіпя по отно-
шенію къ исторіи и паукѣ; эти ошибки принесли свой вредъ
какъ въ теорія исторіи, такъ и въ теоріи науки, какъ іи, Исто-
рикѣ (пли псторіологіи), такъ и въ Логикѣ.
Криінка Историческій интеллектуализмъ расчистилъ путь
философіи ѵ * ѵ а. ’
исторіи. для цѣлаго ряда попытокъ, имѣвшихъ мѣсто осо-
бенно вч> теченіе послѣднихъ двухъ столѣтіи и постоянно все
слова и снова повторяющихся,—попытокъ построить фило-
софію исторіи, идеальную исторію, соціологію,
историческую психологію, пли какъ бы еще иначе ни
рекомендовать и ни обозначать пауку, задающуюся цѣлью
установить закопы и универсальныя понятія исторіи. Что же ото
за законы и за универсаліи? Историческіе закопы и истори-
ческія понятія, что ли? По въ такомъ случаѣ элементарной
критики познанія достаточно для того, чтобы вскрыть всю не-
лѣпость такого требованія. Историческій за.коиъ; исто-
рическое понятіе (если только эти фразы не означаютъ
собою простыхъ четафорт, и лингвистическихъ обыкновеній;
заключаетъ въ себѣ внутреннее противорѣчіе: прилагательное
тутъ противорѣчивъ существительному не менѣе, чѣмъ въ
выраженіяхъ: «качественное количество» пли «плюралистиче-
скій монизмъ». Исторія означаетъ конкретность и іщдивидуаль-
лость, законъ же и понятіе — абстрактность и универсаль-
ность. Если же отказаться отъ намѣренія получить отъ исто-
ріи историческіе законы и понятія и рѣшиться ограничить
свое требованіе закопами и понятіями безъ какого-либо прила-
— 46 —
гательнаго, то въ этомъ пе будетъ ничего безсмысленнаго; по
получающаяся такимъ образомъ наука не будетъ уже фи-
лософіей исторіи, а--одно изъ двухъ: либо философіей въ
своемъ единствѣ іГг-воихь разнообразныхъ развѣтвленіяхъ (эти-
ка., логика и г. к.), либо эмпирической наукой со всѣми ея
безконечными раздѣленіями и подраздѣленіями. Дѣйствитель-
но. въ таком і> случаѣ можно изслѣдовать или тѣ философскія
понятія, которыя, какъ мы это признали, заложены въ сущности
всякаго историческаго построенія и отличаютъ воспріятіе отъ
интуиціи, историческую интуицію отъ интуиціи чистой, исто-
рію отъ искусства;—или же можно заняться собираніемъ гото-
выхъ историческихъ интуицій, и приведеніемъ ихъ къ тинамъ
и классамъ, въ чемъ и состоитъ какъ разъ метода, естествен-
ныхъ наукъ. Идеи великихъ мыслителей иногда были по-
крыты ложнымъ покровомъ, неподходящими одеждами какой-
нибудь философіи исторіи: и, тѣмъ не менѣе, этимъ мысли-
телямъ удалось завоевать философскія истины великой важ-
ности; ибо, когда покровы затѣмъ спали, то истица осталась.
Поточу современныхъ соціологовъ приходится обвинять не столь-
ко въ той иллюзіи, въ которую они впадаютъ, утверждая
наличность невозможной философской пауки— соціологіи, сколь-
ко въ той безплодности, которая почти неотступно сопрово-
ждаетъ эту ихъ иллюзію. По бѣда, что эстетика обозначает-
ся, какъ «соціологическая эстетика», а логика, какъ «соціо-
логическая логика». Плохо то, что эта эстетика знаменуетъ
собою сенсуалистическій пережитокъ, и чго логика эта чисто
словесна и лишена всякой внутренней связи. Однако двухъ до-
брокачественныхъ результатовъ, что касается до исторіи, нельзя
отпять у того философскаго движенія, которое мы имѣетъ въ
виду. Прежде всего, въ немъ обострилась потребность въ по-
строеніи теоріи исторіографіи, т.-е. въ постиженіи природы
и границъ исторіи; эта теорія, согласно сдѣланному выше
анализу, не можетъ быть удовлетворительно обоснована ни-
какой другой наукой, кромѣ общей науки обь интуиціи.- -
эстетики, отъ которой историка отдѣляется блаі’Ьдаря привхо-
дящей функціи универсалій, какъ спеціальная глава. Сверхъ
того, подъ ложнымъ и претенціознымъ покровомъ филосо-
фіи исторіи зачастую кроются отдѣльныя истины, касаю-
щіяся отдѣльныхъ историческихъ событій, и получаютъ фор-
мулировку правила и предостереженія, по существу своему,
— 47 —
конечно, эмпирическія, но небезполезныя для изслѣдователей
и критиковъ. Бъ такой полезности нельзя отказать п само-
новѣйшей изъ философій исторіи, такъ называемому истори-
ческому матеріализму, такъ какъ онъ освѣтилъ достаточно
яркимъ свѣтомъ многія стороны соціальной жизни, до того
мало замѣчавшіяся и недостаточно постигнутыя.
Вторженіе О'ШѴ ИЗЪ формъ ВТОрЖвПІЯ ИСТОрНЧНОСТИ ВЪ ПЯ-
гику. уку или философло представляетъ сооою принципъ
авторитета, ірье сііхіі, свирѣпствовавшій въ школах'ь; онъ замѣ-
няешь интроспекцію и философскій анализъ тѣмъ свидѣтель-
ствомъ, тѣмъ документомъ, тѣмъ авторитетнымъ утвержденіемъ,
безъ котораго исторія, разумѣется, не можетъ обойтись.—Но
наиболѣе тяжкія в печальныя затрудненія и ошибки изъ-за
неточности понятія эстетическаго факта, пришлось пережить
наукѣ о мышленіи и интеллектуальномъ познаніи,— логикѣ.
Да и какъ могло бы быть иначе, разъ логическая активность
слѣдуетъ за эстетической и заключаетъ эту послѣднюю въ
себѣ? Лишенная точности эстетика съ необходимостью должна
вызнать къ жизни и лишенную точности логику.
Достаточно открыть трактаты по логикѣ, начиная Органоломъ
Аристотеля и кончая произведеніями послѣдняго времени, для
того, чтобы согласиться, что во всѣхъ лихъ имѣетъ мѣ-
сто смѣшеніе словесныхъ фактовъ съ фактами мыслительными,
грамматическихъ формъ съ формами концептуальными, эсте-
тики съ логикой. Правда, сама Аристотелева логика не безъ
нѣкотораго колебанія и нерѣшительности выступила побор-
ницей чистой силлогистики и вербалпзма; правда, въ средніе
вѣка въ диспутахъ номиналистовъ, реалистовъ и концептуа-
листовъ нерѣдко затрогнвала.сь подлинно-логическая пробле-
ма; правда, естественныя пауки новаго времени въ лицѣ Га-
лилея и Бэкона выдвинули индукцію; правда, Вико боролся съ
формалистической и математической логикой за методы изо-
брѣтенія: правда, Канги, снова направилъ вниманіе па син-
тезъ а ргіогі; правда, абсолютный идеализмъ развѣнчалъ
Аристотелевскую логику; правда, герба.ртіанцы, вѣрные Ари-
стотелю, выдвинули, тѣмъ пе менѣе, такъ называемыя ими
повѣствовательныя сужденія, обладающія совершенно от-
личнымъ ото всѣхъ другихъ логическихъ сужденій харак-
теромъ: правда, лингвисты, въ копцѣ-копцовъ, стали защи-
щать ирраціональность слона по отношенію къ понятію. По
— 48 —
для сознательнаго, падежнаго, радикальнаго, реформаторскаго
движенія и база и исходный пунктъ могутъ быть положены
только въ сферѣ эстетгіческой науки.
логика по Въ логикѣ, должнымъ образомъ рсформнровап-
пости.' ііоіі на. такомъ основаніи, нужно будетъ прежде все-
го объявить слѣдующую и?-тяпу: логическимъ фактомъ, едпп-
огненнымъ логическими фактомъ, является по-
нятіе, универсальное, духъ, который образуетъ (и иосколько
онъ образуетъ) универсальное,—и вывести изъ этой истины всѣ
вытекающія изъ нея послѣдствія. Если при атомъ йодъ индук-
ціей понимать, какъ око иногда и дѣлалось, образованіе уни-
версалій. а подъ дедукціей словесное развитіе ихъ, то ясно,
что подлинная логика можетъ быть только логикой индуктив-
ной. Однако, такъ какъ чаще всего ври словѣ «дедукція»
имѣются въ виду пріемы, присущіе математикѣ, а подъ сло-
вомъ «индукція» разумѣются пріемы, присущіе естественнымъ
науками., будетъ полезно избѣгать этихь обозначеній и го-
ворить: подлинная логика есть логика понятія, которое, дѣй-
ствуя методомъ, являющимся одновременно и индукціей и де-
дукціей, ле даетъ ни той пн другой примѣненія въ отдѣль-
ности, т.-е. пользуется методомъ, который ему виутреппо
присущъ (снс-кулятивсіп.) -
Понятіе, универсальное, само но себѣ, будучи разсматри-
ваемо въ отвлеченіи, невыразимо. Ни одно слово не являет-
ся ему вполнѣ соотвѣіствуюнщмъ. И тому свидѣтельство то, что
логическое понятіе всегда- остается одними н гѣмъ же. несмотря
на измѣнчивость своихъ словесныхъ формь. Но отиоіпеіпю
ісь понятію выраженіе является простымъ я пакомъ или
мѣткой: оно не можетъ совершенно отсутствовать, какос-
іиібудь выраженіе да должно существовать; но какимъ оно
должно быть, такимъ ли или эдакимъ. это опредѣляется псто-
рпческими и психологическими условіями говорящаго индиви-
дуума: качество выраженія пе выводится изъ существа поня-
тія. У словъ не существуетъ истиннаго (логическаго) смысла:
кто образуетъ понятіе, тотъ самъ сообщаетъ каждый разъ
истинный смыслъ слонамъ.
Если это все такъ, то подлинно логическими
(т.-е. эстетико-логическими) положеніями, т.-е. логи-
ческими сужденіями въ строгомъ смыслѣ этого слова,
могутъ быть только такія сужденія, которыя своими. дѣйствптель-
Отграниченіе
сужденій логи-
ческихъ отъне-
логичсскихъ.
— 49 —
пымъ и исключительнымъ содержаніе!! ь имѣютъ опредѣленіе ка-
кого-либо понятія. Такія положенія или сужденія суть опре-
дѣленія. И сама паука есть ие что иное, какъ комплексъ
опредѣленій, объединенныхъ вь одно высшее опредѣленіе, —не
что иное, какъ система понятіи или высшее понятіе.
Поэтому изъ логики слѣдуетъ исключить (но крайней мѣрѣ
предварительно) всѣ тѣ положенія, которыя пе являются утвер-
жденіями универсалій. Сужденія повѣствовательныя и сужде-
нія, названныя Аристотелемъ не излагательными (пои епивсіа-
ііѵі), каковы ѣа-пр. выраженія желаній, пе являются сужденіями
подлинно-логическими, а.либо чисто эстетическими, либо исто-
рическими положеніями. «Петръ гуляетъ; сегодня идетъ дождь;
мнѣ хочется спать; хочу читать»—всѣ эти предложенія и без-
численное множество предложеній этого же рода представляютъ
собою но что иное, какъ либо простую словесную фиксацію впе-
чатлѣній, полученныхъ оть того факта., что Петръ гуляетъ, отъ
паденія дождя, отъ склонности моего организма ко сну, отъ
стремленія моей воли къ чтенію,—либо экзистенціальное утвер-
жденіе касательно этихъ фактовъ. Все это—выраженія или
реальнаго иля нереальнаго, выраженія либо фантастико-истори-
ческія, либо чисто-фантастическія, по только не опредѣленія
универсалій.
силлогистика. Такое исключеніе нс можетъ встрѣтитъ серь-
езныхъ препятствій. Оно ужо почти-то совершившійся фактъ;
все дѣло лишь въ томъ, чтобы придать ему ясную, рѣ-
шительную и послѣдовательную форму. Но что же въ та-
комъ случаѣ дѣлать со всей той частью человѣческаго
мышленія, которая именуется силлогистикой и состоитъ
изъ сужденій и умозаключеній, вращающихся вокругъ поня-
тій? Что такое силлогистика? Слѣдуетъ ли смотрѣть на нее
сверху внизъ и пренебрежительно, какъ па что-то безполезное,
чго п бывало столько ралъ — во время реакціи гуманистовъ
противъ схоластики, въ абсолютномъ идеализмѣ и въ наше
время съ его энтузіазмомъ и иреклоненіем ь породъ методами
наблюденія и эксперимента, употребляемыми естествознані-
емъ?— Силлогистика, умозаключеніе іп іогліа, .ие является
открытіемъ истины: это — искусство изложенія, спора, раз-
сужденія съ самимъ собою и съ другими. Отправляясь оть
уже найденныхъ понятій, оть фактовъ, уже подвергнутыхъ
наблюденію, л имѣя въ виду постоянство истины и мышле-
ЭСТЕТиКА.
4
— 50 —
пія (—таковъ смысля, припиципа тождества л противорѣчія),
силлогистика выводитъ изъ этихъ данныхъ слѣдствія, т.-е.
служитъ представѵіепію уже найденнаго. Поэтому, если съ
точки зрѣнія открытія она. и означаетъ собою нЬкоторое ібст
рсг ісіспі, то съ точки зрѣнія педагогической и экспозитив-
ной ей принадлежитъ самое дѣйствительное значеніе. Приведе-
ніе утвержденій къ силлогистической схематикѣ есть своего ро-
да способъ контролировать собственную мысль и критиковать
мысли другихъ людей. Не трудно поднять на смѣхъ людей, по-
груженныхъ въ силлогизироваиіе; но, вѣдь, если силлогистика
появилась на свѣтъ и продолжаетъ существовать, тому должны
быть достаточныя основанія. Сатира на силлогистику можетъ
касаться, вѣдь, только злоупотребленій въ ея сферѣ: напр.,
претензіи силлогистически разрѣшитъ вопросы, имѣющіе фак-
тическій характеръ, относящіеся къ области наблюденія и ин-
туиціи, пли же забвеніе за силлогистической внѣшностью глу-
бокаго размышленія и непредвзятаго изслѣдованія проблемъ.
Если въ цѣляхъ быстраго припоминанія и легкаго обращенія
съ даппымн собственнаго мышленія иногда бываетъ можно вос-
пользоваться такъ называемой м ат с м а т и ч е с к о и л о г и к, о іі,
то нельзя отказалъ въ призпапіи также и этой спеціальной формѣ,
силлогистики, предвѣіценной среди многихъ другихъ Лейбни-
цемъ и вновь выдвигаемой нѣкоторыми ль наше время.
Но именно потому самому, что силлогистика является искус-
ствомъ изложенія н спора, ея теорія пе можетъ занимать въ
философской логикѣ перваго мѣста, тѣмъ узурпируя мѣсто,
предназначенное ученію о понятіи, которое представляетъ со-
бою центральное и главенствующее ученіе логики и къ ко-
торому безъ остатка сводится все, что есть въ силлогистикѣ дѣй-
ствительно логическаго (отношенія понятій, субординація, коор-
динація, идентификація и т. и.). Никогда не слѣдуетъ за-
бывать того, что понятіе, сужденіе (логическое) и силлогизмъ
не стоятъ па одной и той же линіи. Только понятіе знаменуетъ
собою логическій фактъ. Сужденіе же п силлогизмъ суть фор-
мы, въ которыхъ понятіе обнаруживается и которыя, нисколько
онѣ суть формы. могутъ быть изслѣдуемы только эстетически
(грамматически);—посколько же онѣ обладаютъ логическими
содержаніемъ, ихъ изслѣдованіе должно пренебречь такими фор-
мами и запяться ученіемъ о понятіи.
— 51 —
логическая Этимь подтверждается правильность ТОГО ОоЫЧ-
лоиіь и эстети-
ческая правда. НЭ.1’0 ІІЙОЛЮДеНІЯ, ЧТО ТОТЪ, КТО ПЛОХО разсуждаетъ,
плохо говорить и пишетъ,—.что точный логическій анализъ
является фупдамептом ь для яснаго выраженія. Эта истина
тавтологична: хороню мыслитъ дѣйствительно значитъ хорошо
выражать, такъ какъ выраженіе означаетъ интуитивное обла-
даніе собственной логической мыслью. Самый принципъ про-
тиворѣчія есть не что иное, въ сущности, какъ эстетическій
принципъ внутренней связности. Намъ скажутъ, что можно,
отправляясь отъ ложныхъ понятій, прекрасно говорить и пи-
сать, равно какъ можно при такихъ условіяхъ и прекрасно
разсуждать, что изслѣдователи, лишенные остроты мысли, мо-
гутъ’ быть самыми блестящими писателями, такъ какъ-де
положительныя качества писательства зависятъ отъ налично-
сти ясной интуиціи собственнаго, хотя бы и ошибочнаго мыш-
ленія,—пе отъ паучноп истинности мышленія, а отъ его эстети-
ческой истинности, м даже что эти-то качества и составляютъ
такую эстетическую истинность. Фплософъ-де, подобно Шопен-
гауеру, можетъ вообразить, будто искусство ость представле-
ніе платоновскихъ идей. (—что будетъ ученіемъ въ научномъ от-
ношеніи ошибочнымъ) и тѣмъ не менѣе дать этому ошибочному
ученію превосходное и эстетически чрезвычайно истинное про-
заическое изложеніе. Но мы уже отвѣтили иа такое возра-
женіе, установивъ, что въ тоть моментъ, когда говорящій или
пишущій выражаетъ неправильно мыслимое понятіе, онъ
является также и плохо говорящимъ илп пишущимъ,—хотя
бы затѣмъ онъ и былъ въ состояніи поправить дѣло, обратив-
шись къ какой-нибудь другой части своего мышленія, состоящей
изъ истинныхъ положеній, несвязанныхъ съ предшествующей
ошибкой, т.-е. къ части мышленія, состоящей изъ ясныхъ вы-
раженій, слѣдующихъ. за выраженіями смутными.
рефо р и про- Такимъ образомъ, всѣ эти изслѣдованія формъ
ванная лоіика. Ру.ЖдС1(ій Ц СИЛЛОГИЗМОВЬ, ИХЪ обращеній И рЭЗЛИЧ-
ныхъ ихъ отношеній, заполняющія собою еще трактаты по
логикѣ, должны утончиться, переродиться, быть сведены
на нѣчто другое. ТТхъ мѣсто въ логикѣ займетъ ученіе о
понятіи и организмѣ понятій, ученіе объ опредѣленіи, о си-
стемѣ, о философіи и различныхъ наукахъ и т. п.; и опо-то
составитъ собою истинную и настоящую логику.
Тѣ мыслители, которымъ впервые было дало нѣсколько
4 4
52
почувствовать интимное отношеніе, существующее между эсте-
тикой и логикой, и которые влервью стали разсматривать
эстетику, какъ логику чувственнаго познанія, до-
вольствовались, лишь простымъ примѣненіемъ къ новой наукѣ
логическихъ категорій, говоря объ э с т е т ичес к ихъ по и я-
тіяхъ, эстетическихъ сужденіяхъ, эстетиче-
скихъ силлогизмахъ и т. п. Мы же, относясь съ мень-
шимъ суевѣріемъ къ нерушимости традиціонной или школьной
логики и будучи болѣе освоены съ природой эстетики, пред-
лагаемъ не примѣненіе логики къ эстетикѣ, а освобожденіе ло-
гики отъ эстетическихъ формъ, которыя, благодаря установле-
нію совершенно произвольныхъ и грубыхъ различій, привели
къ возникновенію несуществующихъ логическихъ формъ и ка-
тегорій.
Будучи подвергнута такой реформѣ, логика тЬзіъ по менѣе
всегда будетъ оставаться формальной, будетъ изслѣдо-
вать истинную форму пли активность мышленія,— понятіе, отвле-
каясь отъ отдѣльныхъ и частныхъ понятій. Старая логика не-
удачно именуется формальной; было бы лучше называть ее-
словесной или формалистической. Формальная ло-
гика должна вытѣснитъ логику формалистическую. II для этой
цѣли вс будетъ никакой надобности прибѣгать, какъ то дѣ-
лали другіе, къ помощи рейчіыіой или матеріальной логики,
которая является уже не наукой о мышленіи, а самимъ мыш-
леніемъ въ дѣйствіи,—уже не только логикой, но совокуп-
ностью и единствомъ философіи, въ которое включена также и
логика. Наука о мышленіи (логика) есть наука о понятіи по-
добно тому, какъ наука о фантазіи (эстетика) есть наука о
выраженіи. Въ проведеніи точнаго и детальнаго различія между
этими двумя областями заключается залогъ здороваго состоянія
обѣихъ наукъ !).
Мысли, высказанныя въ этой главѣ о логикѣ, будучи не всѣ вполнѣ
ясны и точны, должны быть уяснены и уточнены тѣмъ изложеніемъ, погорію
имъ дано во второмъ томѣ ЕіІозоГіа Неііо крігііо, посвященномъ логикѣ,
гдѣ вновь изслѣдовано различіе между предложеніями логическими и иреддіг-
жепіямв историческими и демонстрировало ихъ синтетическое единство.
(Нрим. къ 4-му изд.).
VI.
Дѣятельность теоретическая и дѣятельность
практическая.
Какъ было выше сказано, форма интуитивная и форма
интеллектуальная совершенно исчерпываютъ собою теоретиче-
скую область духа. Но до тѣхъ поръ, пока не установлены
съ полной ясностью отношенія между духомъ теоретическимъ и
духомъ практически и ъ, нельзя разсчитывать па совер-
шенное познаніе этихъ формъ и подвергнутъ критикѣ другой
рядъ ошибочныхъ эстетическихъ ученій.
водя. Практической формой или дѣятельностью являет-
ся воля. Мы беремъ здѣсь это слово не въ смыслѣ какой-
либо философской системы, для которой воля являлась бы осно-
вой вселенной, принципомъ вещей, подлинной реальностью; рав-
нымъ образомъ пе имѣемъ мы въ виду и того широкаго смысла,
который влагается въ это слово другими системами, пони-
мающими подъ волей энергію духа, духъ пли активность вооб-
ще, тѣмъ превращая каждый актъ человѣческаго духа въ актъ
воли. Ни такой метафизическій смыслъ, пи такое метафори-
ческое употребленіе, не является нашимъ. Какъ и по обще-
распространенному взгляду, воля представляется намъ духов-
ной дѣятельностью, отличной отъ чисто теоретическаго со-
зерцанія вещей и производящей пе позпа-пія, а дѣйствія.
И. правда, дѣйствіе иосто.шко .является дѣйствіемъ, посколь-
ко опо совершается по доброй волѣ. Равнымъ образомъ можно
было бы не напоминать о томъ, что съ научной точки зрЬиія въ
волѣ къ дѣйствію содержится такъ же и то, что въ про-
сторѣчіи именуется боздІіііствісмъ: воли къ сопротивленію, про-
тиводѣйствію, прометепческал воля, которая есть тоже дѣй-
ствіе вь своемъ родѣ.
54 —
Воля, какъ
ступень, слѣ-
дующая за по-
знаніемъ.
Чрезъ посредство теоретической формы чело-
вѣкъ постигаетъ вещи: чрезъ посредство практи-
ческой формы опъ вноситъ въ нихъ измѣненія.
Чре-зь посредство цервой человѣкъ усвояетъ вселенную, чрезъ
посредство второй опъ. ее творитъ. Но при этомъ первая форма
.является основаніемъ для второй, такь что между этими двумя
формами, только въ большемъ масштабѣ, повторяется то отно-
шеніе двухъ с т у и е н е й, которое намъ пришлось ужо кон-
статировать между дѣятельностью эстетической и дѣятельностью
логической. Независимое отъ волепія познаніе доступно мы-
сли, по крайней мѣрѣ въ извѣстномъ смыслѣ; воля же, не-
зависимая отъ познанія, совершенно немыслима. Слѣпая воля
не есть воля; подлинная воля зряча.
Какъ можно вообще хотѣть, если предварительно не имѣешь
историческихъ интуицій (воспріятій) объектовъ и познанія ихъ
отношеній (логическихъ), проливающихъ свѣтъ на природу
этихъ объектовъ? Какъ могли бы мы серьезно хотѣть, если
бы по имѣли сознательнаго представленія о мірѣ, насъ окру-
жающемъ, и о способѣ вызывать въ вещахъ измѣненіе воздѣй-
ствіемъ па нихъ?
Возраженія И ЭТ0 ВОЗрЯЖДЛИ, ЧТО ЛЮДИ ДѢЙСТВІЯ, ПраК-
поясиенія. тики въ точномъ смыс.тіі этого слова, оказывают-
ся наименѣе предрасположенными къ созерцанію и теоретиче-
ской дѣятельности;—ихъ энергія пе остапавливается па созер-
цаніяхъ и тотчасъ же переходитъ въ волю. Съ другой же сто-
ропы-де созерцатели и философы зачастую оказываются па.
практикѣ людьми посредственными. слабой воли, лишенными по-
этому значенія и остающимися за борточ ь въ общей сутолокѣ
•жизни.—Не трудно замѣтить, что эти различія имѣютъ чисто
эмпирическій и количественный характеръ. Правда, человѣкъ
практики не нуждается въ философской системѣ для своихъ
дѣйствій; ио въ гой сферѣ, гдѣ ему приходится дѣйствовать,
ои ь исходить тЬіъ не менѣе изъ интуицій и понятій, отличаю-
щихся у него чрезвычайной ясностью. Ибо ві> противномъ слу-
чаѣ нельзя было бы хотѣть чаже самы.х і. обыкновенныхъ дѣй-
ствіи: нельзя было бы, лаир., даже принимать пищу по собствен-
ной волѣ, если бы отсутствовало познаніе нищи и отношеній
причины и дѣйствія между нѣкоторыми движеніями и удовле-
твореніемъ соотвііі’ствуюіцпхъ потребностей. П,—если поднять-
ся постепенно до наиболѣе сложныхъ формъ дѣйствія. папр.
55 —
до политическихъ дѣйствій,—какъ возможно было бы хотѣть
чего-либо, въ политпческомт. отношеніи хорошаго или дур-
ного, безъ предварительнаго знанія реальныхъ условій общест-
веннаго существованія, а именно надлежащихъ средствъ и спо-
собовъ дѣйствія? Когда человѣкъ практики замѣчаетъ, что
ему неясенъ одинъ или многіе изъ такихъ пунктовъ, или .же
когда онъ находится въ сомнѣніи, дѣйствія или вовсе не
наступаетъ или оно останавливается; теоретическій моментъ,
который едва сказывается и тотчасъ же забывается въ бы-
строй послѣдовательности дѣйствій, обнаруживается вь такомъ
случаѣ во всемъ своемъ значеніи и занимаетъ собою сознаніе на
болѣе продолжительное время. Если такое состояніе продолжает-
ся долго, человѣкъ практики можс'гъ сдѣлаться Гамлетомъ и быть
раздираемъ на-двое желаніемъ дѣйствія и недостаточной ясно-
стью познанія касательно положенія дѣла и средствъ: и если въ
такомъ случаѣ, получивъ вкусъ къ созерцанію и открытіямъ, онъ
въ большей или мсиыпей степени предоставляетъ другимъ хо-
тѣть и дѣйствовалъ, то въ номъ складывается спокойная пред-
расположенность артиста, ученаго и философа, которые являют-
ся иногда практически людьми нсумѣльши или прямо таки зло-
вредными. Все это— общеизвѣстныя соображенія, справедли-
вости которых’Ь нельзя ие признать; по, повторяемъ, они всѣ
основываются на количественной разницѣ и пе разрушаютъ,
а, даже, наоборотъ, подтверждаютъ тотъ фактъ, что дѣйствіе,
какь бы минимально оно ни было, не можетъ быть подлиннымъ
дѣйствіемъ, г.-е. дѣйствіемъ водимымъ, если ему пе предше-,
етвуетъ познана тельная дѣятельность.
Критика Нѣкоторые психологи предпосылаютъ, впро-
практическихь і гп ’ 1
сужденіи или чемъ, практическому дѣйствію классъ СОВРр-
сужденій цѣн- ' г ..
кости. піенно осооыхъ сужденіи, называемыхъ ими су-
жденіями и р а к т и ч с с к и м и и л и с у ж д е н і я м и цѣпи о-
стн. Для того, чтобы рѣшиться па. движеніе, нужно (го-
ворятъ ои и) (•начала, произвести сужденіе: «это дѣйствіе полезно,
это дѣйствіе годится». И съ перваго взгляда кажется, будто эта
теорія нмѣет7> за себя свидѣтельство самого сознанія. Но огъ
глазъ того, кт.) стапеть наблюдать шіиматслыіѣп и будетъ болЬе
обстоятеленъ въ своемъ анализѣ, не укроется, что подобныя су-
жденія вмѣсто того, чтобы предшествовать волевому самоутвер-
жденію, наоборотъ слѣдуютъ за нимъ, и являются не чѣмъ
инымъ, какъ выраженіемъ уже осуществившагося полонія. По-
— 5С> —
лезпоо и.(іі годное дѣйствіе есть дѣйствіе водимое: изъ объ-
ективнаго анализа пещей, нельзя выдавить пи капли полез-
ности или годности. Мы но потому хотимъ вещей, что знаемъ
ихъ за полезныя и годныя, но знаемъ ихъ за полезныя и
годныя потому, что хотимъ ихъ. И вь этомъ случаѣ тоже
причиной иллюзіи .является быстрота, съ которой слѣдуютъ
другъ за другомъ факты сознанія. Практическое дѣйствіе пред-
варяется познаніями, но не практическими познаніями (или, луч-
ше. познаніями практическаго); для того, чтобы стать обладате-
лей. такихъ познаніи, нужно сначала быть обладателемъ прак-
тическаго дѣйствія. Такимъ образомъ, между двумя моментами
или ступенями, теоретической и практической, не прела-
гается никакого третьяго момента практически* ь пли цѣн-
ностныхъ сужденій, момента совершенно воображаемаго.—
Съ другой стороны, нѣтъ никакихъ нормативныхъ, регу-
лятивныхъ или императивныхъ паукъ, которыя были бы за-
няты открытіемъ и указаніемъ цѣнностей для практической
дѣятельности; такихъ паукъ вообще нѣтъ, какую бы дѣятель-
ность по имѣть при этомъ въ виду, ибо каждая паука уже
предполагаетъ реализацію и развитіе той активности, которую
опа потомъ дѣлаетъ своимъ объектомъ.
исключеніе Установивъ эти различія, мы должны признать
практическаго
изъ сферы ошиоочнои каждую теорію, когорая соечдняетъ
эстетическаго. 0СтетПтгеСКуЮ ДѢЛТСЛЬНОСТЬ СЬ ДѣятеЛЫІОСТЬЮ ПрЗК-
тической или вводитъ законы послѣдней въ сферу первой.
Что наука ость теорія, а искусство—практика, было утвер-
ждаемо много разъ; и тѣ, что высказываютъ такое сужденіе
и считаютъ эстетическій фактъ практическимъ, дѣлаютъ это по
по произволу и пустой болтливости, а потому, что усматриваютъ
въ немь нѣчто такое, что дѣйствительно практично. Однако же,
то практическое, что они имѣютъ при этомъ въ виду, ни само пе
является чѣмъ либо эстетическимъ, ни находится внутри эсте-
тическаго, а. внѣшне и побочно ему; вг. тѣхъ же слу-
чаяхъ, когда оно оказывается связаннымъ съ эстетическимъ,
связь эта. по необходимая, пе связь но тождеству природы.
Эстетическій фактъ всецѣло исчерпывается выразительной пе-
реработкой впечатлѣній. Какъ только мы добились внутрен-
няго слова, сь ясностью и живостью восприняли какую-либо
фигуру или статую, обрѣли музыкальный мотивъ, выраженіе
родилось и осуществилось полностью, и пи въ чемъ ппомь
— 57 —
пѣті. никакой надобности. Если мы затѣмъ раскрываемъ (и
хотимъ при этомъ раскрыть) ротъ для того, чтобы говорить,
или напрягаемъ горло для того, чтобы пѣтъ, и громкимъ и пол-
нымъ голосомъ выговариваемъ то, что тихо сказали и пропѣли
себѣ сампмь; если мы протягиваемъ (и хотймъ протянуть)
руки для того, чтобы коснуться клавишъ рояля или взять кисти
и рѣзецъ, тѣмъ осуществляя, такъ сказать, въ большихъ размѣ-
рахъ тѣ движенія, которыя мы уже осуществили въ маломъ мас-
штабѣ и быстро, и переводя ихъ на языкъ такой матеріи, чгі.
которой они оставляютъ болѣе пли менѣе длительный слѣдъ,-—
то во всѣхъ этихъ случаяхъ мы имѣетъ передъ собою новый
факта,, который присоединяется къ первому и повинуется совер-
шенно инымъ закопамъ, чѣмъ тотъ, и когорый мы пока что пе
должны принимать во вниманіе, хотя и признаемъ отнынѣ,
что онъ знаменуетъ собою продуцированіе вещей п является
фактомъ практическимъ или волевымъ. Принято от-
личать внутреннее произведеніе искусства отъ внѣшняго; но
такая терминологія представляется намъ неудачной, такъ какъ
произведеніе искусства (эстетическое произведеніе) всегда вііу-
т р е н п о; а то, что именуется впѣпіннм ъ, уж.е не есть
болѣе произведеніе искусства. Другіе проводятъ различіе между
эстетическимъ фяктомь и художественнымъ фак-
томъ, разумѣя подъ вторымъ внѣшнюю и практическую стадію,
которая можетъ слѣдовать (и слѣдуетъ обыкновенно) за пер-
вой. Но вь такомъ случаѣ дѣло идетъ просто о словесномъ
обыкновеніи, допустимомъ конечно, но пожалуй и пе совсѣмъ-
то удачномъ.
критика тео- Ио тѣмъ .же самымъ причинамъ абсурдно л ста па-
ріи цѣли искус- . ѵ
сгпа и выбора Н1С ОТЫСКИТЬ І( Ѣ ЛЬ И С К V С С Т В Д, КОРДЯ ДѢЛО ПДСТЪ
его содержа- ѵ " *
иій. о цѣли искусства, какъ искусства. А такъ какъ по-
лагать цѣль значитъ выбирать, то и требованіе, чтобы содержаніе
искусства было в ы б р а и о, приходится признать только дру-
гой формой того же самаго заблужденія. Выбора, среди впе-
чатлѣніи и ощущеній предполагаетъ уже, что они предста-
вляютъ собою выраженія: въ противномъ случаѣ, какъ про-
извести выборъ въ сферѣ непрерывнаго и неразличима со? Вы-
бирать значитъ хотѣть: хотѣть вотъ этого н не хотѣть вотъ
того; а для этого л то и это должны уже быта иалпчпы, выра-
жены. Практическій моментъ слѣдуетъ за теоретическимъ, а не
предшествуетъ иму; выраженіе есть свободное вдохновеніе.
— 58 —
Дѣйствительно, истинный артистъ чувствуетъ себя беремен-
нымъ своей темой и пе знаетъ, какимъ образомъ это произошло,
чувствуетъ приближеніе разрѣшенія, но не в і> силахъ х<л ѣть
или не хотѣть его. Если бы онъ хотѣли дѣйствовать напере-
коръ своему вдохновенію, если бы хотѣлъ избрать его произ-
вольно, если бы, рожденный Анакреономъ, хотѣла, пѣть Лтри-
да и Алкида, лира дала бы ему почувствовать свою ошибку,
наперекоръ его усиліямъ воспѣвая Венеру и Любовь.
Практическая 1ІОЭТОМу-ТО, ХуДОЖСК’ТВОІІ П3 Я Тема ИЛИ СОДСрЖЗ-
мость иску’с- н^° |іе М0же'І'ь быть объектомъ практическихъ и мо-
ства- ральныхъ похвалъ или порицаній. Когда критики
искусства утверждаютъ, что какая-либо тема означаетъ со-
бою плохой выборъ, то,—бу де такое замѣчаніе въ основѣ
своей и справедливо.— порицаніе это относится пе къ вы-
бору темы (—что было бы безсмысленно), а. къ тому, какъ
артистъ обработалъ со, - къ выраженію, неудачному бла-
годаря содержащимся въ немъ противорѣчіямъ. Если же
тѣ же самые критики нападаютъ па. тему пли содержаніе
произведеній, которыя признаются ими въ артистическомъ
отношеніи совершенными, какъ па что-то недостойное искус-
ства. и заслуживающее порицанія, то, буде справедливо
мхъ мнѣнія о томъ, что эти выраженія дѣйствительно со-
вершенны,—пе остается ничего дрѵгого, какъ посовѣтовать
имъ. оставить въ покоѣ артистовъ, вдохновляющихся съ не-
избѣжностью тѣмь, что приводитъ въ движеніе ихъ души,
іі позаботиться, — если это вообще необходимо, о томъ,
чтобы въ окружающей природѣ и обществѣ были произ-
ведены соотвѣтствующія измѣненія, дабы подобныя состоя-
нія души и впечатлѣнія по повторялись вновь. Если всякія
скверны исчезнуть изъ міра, если всеобщая добродѣтель и
счастье восторжествуютъ, то артисты—кто знаетъ?—быть мо-
жетъ не будутъ болѣе представителями дурныхъ или пессими-
стическихъ чувствъ и станутъ спокойными, невинными и ра-
достными счастливцами реальной Аркадіи. Но пока всяческія
скверны и мерзости существуютъ ігь природѣ и предстаютъ
взорамъ артиста, нельзя помѣшать тому, чтобы возникали и
соотвѣтственныя имъ выраженія; и когда они возникаютъ, то
Гасіііпі іпГееІит Гіегі інчрііі. гі. Вг.р пчч» мы говоримъ, ко-
',і „Сдѣланнап) не передѣлаешь". Ну.
— 59
псчпо. вставъ па- точку зрѣнія эстетики и чистой критики ис-
кусства.
Намъ пезачѣмъ здѣсь останавливаться на разсмотрѣнія
того вреда, который причиняетъ критика «выбора» художе-
ственному творчеству гѣмп предразсудками, которые она
порождаетъ или поддерживаетъ въ самихъ артистахъ, и
тѣми контрастами, которые прелагаетъ между артисти-
ческими импульсами и критическими требованіями. Пе подле-
житъ сомнѣнію, что иногда положеніе дѣла, имѣетъ такой
видь, будто она приносить даже нѣкоторую пользу, помогая
артистамъ осознать себя самихъ, т.-е. свои собственныя
впечатлѣнія и свое собственное вдохновеніе, и придти къ яс-
ному сознанію той задачи, которая предъявляется имъ л пе-
реживаемымъ ими историческимъ моментомъ, и ихъ собствен-
нымъ индивидуальнымъ темпераментомъ. Но и въ такихъ слу-
чаяхъ, хоть этой критикѣ и представляется, будто она являет-
ся виновпипеіі выраженій, па самомъ дѣлѣ она ограничивается
всего лишь признаніемъ выраженій, находящихся ужо въ про-
цессѣ образованія, и помощью имъ въ этомъ дѣлѣ.. Она. вооб-
ражаетъ себя матерью тамъ, гдѣ является—самое большее—
ііо вивалыюй бабкой.
независимость Псвозможвоеть выбора содержаній завершаетъ
нскусстпа. СМЫСЛЪ теоремы о п С 3 а в и г. и м о с т и и с к у с-
с тва. а также иредгтавляеть собою единственное законное зна-
ченіе выраженія: искусство для нскусстпа. Искусство
такъ же независимо отъ полезнаго пли морали, какъ и отъ пау-
ки. Нечего бояться того, что этимъ будетъ оправдано легкомы-
сленное или холодное искусство, такъ какъ то, что дѣйствитель-
но легкомысленно или холодно, является такимъ лишь постоль-
ко, носкслько не подымается до выраженія; или, говоря дру-
гими словами, легкомысленность и холодность проистекаютъ
всегда отт. формы эстетической обработки, отъ недостаточ-
наго обладанія содержаніемъ, а по егь матеріальныхъ ка-
чествъ самого содержанія.
Критика «я- Равпымт. образомъ и взречснін: стиль ото
реченія: Стилъ— 1
^то челонѣкъ. ч с* л о в ъ к ъ можно подвергнуть игчррпыпаіошему
разсмотрѣнію и критикѣ, только отпр.ъв.іяясі. отъ различія,
существующаго между теоретическимъ и пра.ктііческ.пм'і>. и отъ
теоретическаго характера эстетической активности. Человѣка,
знаменуетъ собою но одну только познавательную способность и
— 60 —
созерцательность: человѣкъ ость воля, заключающая въ
себѣ познавательный моментъ. А отсюда ужо явствуетъ, что
вышеупомянутое изреченіе либо совершенно ну стопорожне,
какъ въ томъ случаѣ, когда имъ утверждается, что стиль
есть человѣка., посколько человѣкъ ость стиль (т.-е. есть
человѣкъ, но лишь плстолько, посколько этотъ послѣдній
знаменуетъ собою выразительную активность);—или же оно оши-
бочно, какъ въ тѣхъ случаяхъ, когда изъ того, что человѣкъ
видѣлъ и выразилъ, хотятъ вывести то, что человѣкъ сдѣлалъ
и чего онъ хотѣлъ, утверждая такимъ образомъ, что ме-
жду познаніемъ и волей іемъ существуетъ связь логической
послѣдовательности. Благодаря такому ошибочному отожде-
ствленію, родилось немало легендарныхъ представленій отно-
сительно личности артистовъ, такъ какъ казалось невозмож-
нымъ, чтобы тотъ, кто выражаетъ великодушныя чувства, не
былъ и самъ въ своей практической жизни человѣкомъ благо-
роднымъ и великодушнымъ, или чтобы тотъ, кто въ своихъ
драмахъ часто прибѣгаетъ къ кинжальнымъ ударами», и самъ
въ конкретной -жизни не былъ виновникомъ по меньшей мЬрѣ
какого-нибудь изъ нпх г». И напрасно артисты протестуютъ, го-
воря «Іазсіѵа еві поѣів ра^іпа, ѵііа ргоЪа» *). Опи получаютъ
па придачу обвиненіе во лжи и лицемѣріи. О, кумушки Ве-
роны, вы ли ие были гораздо острожнѣе, основывая свою вѣру
въ то, что Данте спускался въ Адъ, хоть на дымной чернотѣ
его лица! Ваша вѣра, не правда ли, была исторической до-
гадкой I
критика по- Наконецъ, и вмѣненіе артисту въ обязанность
ности вСъРис- искренности (утвержденіе, что этотъ этическій
кусствѣ. закопъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и эстетическій за-
копъ) опирается па двусмысленность. Ибо поуь искрен-
ностью либо понимается моральный долгъ не обманывать свое-
го ближняго, и въ 'гакомъ случаѣ она внѣшня для артиста,
который совсѣмъ никого це обманываетъ, такъ какъ сооб-
щаетъ форму тому, что уже на*1...но въ его душѣ, и который об-
манулъ бы только въ томъ случаѣ, если бы измѣлилъ своему
артистическому долгу, игнорируя внутреннюю необходимость
своего дѣла. Если въ его душѣ живетъ обманъ и ложь, то та
форма, которую онъ сообщаетъ этимь фактамъ, сама не мо-
’) ,,Постыдны іо.іі>ко наши страницы, жизнь же благоро і,наЛ Пр. пер.
— 61 -
жстъ быть обманомъ и. ложью лмеппо потому, что она ость эсте-
тическая форма. Артистъ очищаетъ даже свое другое л, шарла-
танское, лживое, дурное, давая ему художественное изображе-
ніе.—Либо подъ искренностью понимается полнота и подлин-
ность выраженія; по при этомъ ясно, что этотъ второй смыслъ не
имѣетъ никакого отношенія къ ея этическому понятію. Заковъ,
который считаютъ въ одно и то же время и нравственнымъ и
эстетическимъ, оказывается въ такомъ случаѣ простымъ лишь
словомъ, употребляемымъ одновременно и въ этикѣ, и въ
эстетикѣ.
ѵп.
Аналогія между теоретическимъ и практическимъ.
двѣ формы Двойственность теоретической дѣятельности, па-
практической о «
дѣятельности, ЛИЧНОСТЬ ВТЬ НРЙ ЭСТеТИЧССКОИ И ЛОГИЧвСКОИ СТу-
пени, находитъ себѣ немаловажную аналогію въ дѣятельности
практической, что до сихъ поръ не было" отмѣчено съ
достаточной ясностью. И практическая дѣятельность распа-
дается па днѣ ступени, изъ которыхъ вторая предполага-
етъ первую. Первую практическую ступень образуетъ чисто
у т и л ь и а я и ли э к о н о м и ч е с к а я дѣятельность; роль вто-
рой практической ступени играетъ дѣятельность моральная.
Экономія является какъ бы эстетикой практической жизни,
мораль же какь бы ея логикой.
эковомичс- ^СЛП УТ0 Ее было съ ясностью сознано фило-
ская польза, софами, если понятію экономической дѣятельно-
сти не было отведено соотвѣтственнаго мѣста въ системѣ ду-
ха, если ему предоставлялось зачастую пребывать въ состояніи
неопредѣленности и малой разработанности и блуждать по
иводнымъ главамъ политико-экономическихъ трактатовъ, то,
между прочимъ, причина этому—въ томъ фактѣ, что полез-
ное или экономическое подмѣнялось либо понятіемъ техни-
ческаго, либо понятіемъ эгоистическаго.
„ 4 Т е х л и ч и о с ть пе зпамсиѵстъ собою, разѵ-
Разграниченіе ’ г ’’
полезною и мѣется. спеціальной дѣятельности дѵха.. Техпп-
техническаго.
ка—познаніе или, лучше, техника—это само незна-
ніе іп уснете, получающее такое названіе постолько, иосколько
оно служитъ, какъ мы это видѣли, базой для практическаго дѣй-
ствія. Познаніе, за которымъ практическаго дѣйствія не слѣдуетт,
или. какъ предполагается, не можеть легко послѣдовать, на-
зывается «чистымъ» познаніемъ: то же самое познаніе въ слу-
- 63 —
паѣ дѣйствительнаго слѣдованія за нимъ практическаго дѣйствія
называется «получившимъ примѣненіе»; если же предполагает-
ся, что оно вообще можетъ быть легко сопутствуемо какимъ-
либо отдѣльнымъ дѣйствіемъ, ему дается имя «прикладного»
или «техническаго» знанія. Это слово указываетъ, стало быть, не
на спеціальную форму познанія, а лишь на одно изъ ноложо-
п і й, въ которомъ находится нѣкоторое познаніе или въ которое
оно легко можетъ попасть. Насколько это вѣрно, явствуетъ изъ
того, что пѣтъ никакой возможности установить, является ли по-
знаніе опредѣленнаго порядка, но существу своему, чистымъ
или же прикладнымъ. Всякое познаніе, какгі. бы отвлеченно и
философично оно пи было, можеть стать руководящимъ момен-
томъ въ практическихъ дѣйствіяхъ: теоретическое заблужденіе
относительно послѣднихъ пршіцшюн'ь морали можетъ ото-
зваться и всегда какъ-нибудь отзывается въ практической
жизни. Только приблизительно и ненаучно можно разсматривать
нѣкоторыя логины, какъ «чистыя», а другія, какъ «прикладныя».
Тѣ же самыя познанія, которыя именуются техническими,
могутъ быть названы также и полезными. Но, согласно
данной выше критикѣ цѣнностныхъ сужденій, слову «по-
лезный» можетъ быть придаваемо тутъ лишь чисто-словесное или
метафорическое значеніе. Когда говорятъ, что вода полезна
въ дѣлѣ тушенія огня, то слово «полезный» употребляется
не научнымъ образомъ. Будучи вылита на огонь, вода являет-
ся причиной того, что огонь прекращается:—вотъ познаніе,
которое служитъ основаніемъ для дѣйствія, напр., для дѣйствія
пожарныхъ. Между полезнымъ дѣйствіемъ того, кто прекра-
щаетъ пожаръ, и таківгь познаніемъ существуетъ пе вну-
тренняя связь, а лишь связь простой послѣдовательности.
Техника воздѣйствій, оказываемыхъ водою, есть теоретическая
дѣятельность, которая предшествуетъ; полезнымъ же является
въ дѣйствительности только само дѣйствіе, прекращающее
огонь.
„ , Нѣкоторые экономисты отождествляютъ полез-
Разграннченіс 1
полезнаго и эго- НОСТЬ, Т.-е. ЧИСТО-ЭКОКОЧ НЧССКОе ДѢЙСТВІС ИЛИ ВО-
Стническаго. ,
лю, съ тѣмъ, что можетъ оыть полезно для инди-
видуума. какъ индивидуума, безъ всякаго отношенія къ мо-
ральному закону и даже въ прямомъ съ нимъ противорѣчіи,
съ эгоистичностью. Эгоистическое есть имморальное; и
экономіи въ такомъ случаѣ выпадаетъ па долю довольно стран-
— 64 -
пая роль: она возникаетъ не на ряду съ этикой, а ей въ про-
тивовѣсъ, какъ діаволъ рождается въ противовѣсъ Богу (или, по
меньшей мѣрѣ, опа играетъ ту же роль, что и асіѵосаіив (ІіаЬоІі
мри канонизаціи). Подобное понятіе совершенно недопусти-
мо: паука объ имморальномъ содержится въ наукѣ о моральномъ,
какъ наука о заблужденіи содержится въ логикѣ, наукѣ объ исти-
нѣ, а наука о неудачномъ выраженіи—въ эстетикѣ, наукѣ объ
удавшемся выраженіи. Если бы, такимъ образомъ, экономика
была научнымъ разсмотрѣніемъ эгоизма, она представляла
бы собою главу этики или даже была бы самой этикой, такъ
какъ всякое моральное опредѣленіе означаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ
и отрицаніе своей противоположности.
Съ другой стороны, голосъ непосредственнаго сознанія гово-
ритъ съ ясностью, что поступать экономически не значитъ
поступать эгоистически, что и самый придирчивый въ мораль-
номъ отношеніи человѣкъ долженъ поступать полезнымъ (эко-
номическимъ) образомъ, если не хочетъ дѣйствовать въ зави-
симости отъ случая, слѣдовательно съ малой дозой морально-
сти. Значитъ, если бы полезность знаменовала собою эгоизмъ,
то альтруистъ обязанъ былъ бы руководствоваться эгоизмомъ?!
экономиче- трудность, если мы не ошибаемся, преодо-
нКволен°ісемо- дѣвается совершенію такимъ же способомъ, ка-
ралыюс. кимъ разрѣшается проблема отношеній между вы-
раженіемъ и понятіемъ, эстетикой и логикой.
Болѣть экономически значить х о т ѣ т ь к а к у ю - п и б у д ь
цѣль; во лѣтъ морально значить хотѣть какую-нибудь
раціональную цѣль. Но, при этомъ, кто хочетъ и дѣй-
ствуетъ морально, тотъ не можетъ вмѣстѣ съ тѣмъ не волѣть
и пе дѣйствовать утпльно (экономически). Какъ можно было бы
хотѣть раціональной цѣли, если въ то же время пе хотѣть
ея и какъ своей частной цѣли?
чистая эко- Утверждать тутъ взаимную обусловленность такъ
иомичноегі.. зке невѣрно, какъ и въ наукѣ эстетической пе соот-
вѣтствуетъ дѣйствительности утвержденіе, что выразительный
фактъ долженъ съ необходимостью быть связанъ съ фактомъ
логическимъ. Можно хотѣть экономически, не волѣя морально;
и молено поступать съ полной экономической осмысленностью,
преслѣдуя цѣль, которая объективно-ирраціональна (иммораль-
но) пли же,—правильнѣе, признается такою па болѣе высо-
сокоіі ступени сознанія.
— 65 —
Примѣрами такого состоянія, когда экоиомпчос-кіГі моментъ
отъединенъ отъ моральнаго, служитъ человѣкъ Маккіа-
велли,— Цезарь Борджіа или Яго Шекспира. Кто можетъ
не удивляться силѣ ихъ воли, хотя дѣятельность ихь
носитъ исключительно экономическій характеръ и выяв-
ляется въ формахъ, противоположныхъ тому, что мы при-
знаемъ моральнымъ? Кто ні. состояніи пе преклоняться передъ
господиномъ Чіаппеллетго у Бокаччіо, который до самой смерти
своей преслѣдуетъ и осуществляетъ идеалъ совершеннаго не-
годяя, заставляя ничтожныхъ и трусливыхъ плутишекъ, при-
сутствующихъ при его насмѣшливомъ признаніи, восклицать:
«Что это за человѣкъ, котораго пи старость, ни болѣзнь,
ни страхъ передъ смертью, приближеніе которой онъ чув-
ствуетъ, ни даже страхъ предъ Богомъ, предстать па
судъ котораго онъ долженъ по прошествіи немногихъ мгно-
веній, ле въ силахъ были ии отвратить отъ его злобныхъ дѣлъ,
пи побудить къ желанію умереть иначе, чѣмъ онъ жилъ?»
экономиче- Въ моральномъ человѣкѣ къ упорству и безбояз-
моральности, неігностн Цезаря Ьорджіа, Яго или господина Чіаіі-
пеллстто присоединяется добрая воля святого или героя. Или,
лучше, добрая воля пе была бы вовсе волей, а стало быть
и доброй волей, если бы, кромѣ того момента, который дѣлаетъ
ее доброй, опа не имѣла другого момента, который дѣлаетъ
се волей. Такъ, логическая мысль, которой не удается до-
стигнуть выраженія, не является мыслью, а есть, самое боль-
шое, смутное предчувствіе грядущей мысли.
Поэтому, неправильно считать аморальнаго человѣка вмѣстѣ
съ тѣмъ и человѣкомъ аитиэкономическимъ, пли же дѣлать мо-
раль внутреннимъ связующимъ моментомъ в ь жизненныхъ, а по-
тому и экономическихъ актахъ. Ничто не мѣшаетъ предста-
вить собѣ человѣка, совершенно лишеннаго моральнаго со-
знанія (—гипотеза, которая подтверждается по крайней мѣрѣ
нѣкоторыми отдѣльными періодами и моментами жизни, если и
не цѣлыми жизнями). Для человѣка такой конституціи то, что
явдяеіея для насъ имморальностыо. не представляется таковой,
такъ какъ онъ не пережинаетъ этого такимъ образомъ. Въ немъ
не можетъ возникнуть сознанія противорѣчія между тѣмъ, чего
хочется, какъ раціональной цѣли, и тѣмъ, чего добива-
ешься эгоистически, — противорѣчія, которое знаменуетъ со-
бою аптпэкопомичность. Имморальное поведеніе становится въ
ЗДі'кТІІКА. 5
- 66
то же время и антііэкономичнымъ миші. въ душѣ человѣка,
одареннаго моральнымъ сознаніемъ. Дѣйствительно. моральныя
угрызенія совѣсти, являющіяся признакомъ итого послѣдняго,
суть вмѣстѣ съ тѣмъ и угрызенія икономическія’, г.-с.
суть скорбныя переживанія человѣка но поводу того,
что опь пе сумѣлъ волѣть совершеннымъ образомъ и
достигнуть того моральнаго идеала, который былъ объектомъ
воленія въ первый моментъ, поддавшись воздѣйствіямъ стра-
стей. «Ѵісіео шеііога ргоѣодие, сіеіегіога ясдиог» Ѵісіео и
ргоЬо суть ври этомь то начальное ѵоіо, которое тотчасъ
же подвергается противодѣйствію и преодолѣвается. Па мѣсто
моральныхъ угрызеній въ человѣкѣ, лишенномъ моральнаго
чувства, нужно поставить ч и сто экономиче с к о о угры-
зеніе. Такъ именно обстоитъ дѣло съ вором ь или убійцей, кото-
рый, собравшись уже было ограбить или убить, останавливается,
но по вслѣдствіе измѣненія своего существа, а изъ-за впечатли-
тельности и смущенія, или .же благодаря мгновенному про-
бужденію моральнаго сознанія. Прііідя въ себя, этотъ воръ
или убійца будетъ чувствовать стыдъ и угрызеніе за свою
слабость,—угрызеніе не въ томъ, что сдѣлалъ дурное, а въ
томъ, что не сдѣлала. его,—угрызеніе, значитъ, экономиче-
ское, а «по моральное, такъ какъ это послѣднее исключено съ са-
маго, начала. Съ тѣмъ же, что обыкновенію моральность совпада-
етъ въ практической жизни съ экономичностью, такъ какъ мо-
ральное сознаніе живо въ душѣ у большинства людей, а пол-
ное отсутствіе его представляется рѣдкимъ и, пожалуй даже,
несуществующимъ чудовищнымъ случаемъ,—можно, конечно,
вполнѣ согласиться.
Пусть не пугаются и не думаютъ, что вышеупомя-
нутая аналогія вводить снова въ науку категорію
морально безразличнаго, т.-е. категорію
Чисто эко-
номическое и
ошибка мо-
рально без-
различнаго,
того, что хотя и является дѣйствіемъ и волетемъ, по тѣмъ по
менѣе пи морально, пн имморально,—словомъ, ту самую катего-
рію дозволеннаго и д о п у с т и м а р о, которая всегда была
причиной или отраженіемъ моральной испорченности, какъ-то
мы и видимъ въ іезуитской морали, надъ которой эта категорія
господствовала. Ибо попрежнему остается неоспоримымъ, что
дѣйствій морально безразличныхъ но существуетъ, такъ какъ мо-
*) „Лучшаго хочу я его одобряю, худшему же слѣдую". 27р. пер.
- 6?
ральная дѣятельность распространяется и должна распростра-
няться на каждое, хопі бы самомалѣйшее волевое движеніе чело-
вѣка. По этимъ устапонлеііпэл аналогія не только лс отмѣнятся,
а скорѣе подтверждается. РазвЬ суінсс-твуюгь такія интуиціи,
которыкъ бы интеллектъ п паука не достигали и не анализиро-
вали, разлагая ихъ на универсальныя понятія или превращая въ
историческія утвержденія? Мы уже іиідѣлп. что подлинная
паука,-—философія, не знаетъ ли какихъ внѣшнихъ собѣ гра-
ницъ, передъ которыми бы она должна была осгановпться,
какъ то 'имѣетъ мѣсто, наоборотъ, но всѣхъ такъ назы-
ваемыхъ естественныхъ паукахъ. Паука и мораль всецѣло го-
сподствуютъ: одна—надъ эстетическими интуиціями, іругая—
падь экономическими волспіями человѣка; хотя, при этомъ, кон-
кретно одна по можетъ обнаружиться иначе, какъ въ формѣ
интуитивной, а другая—иначе, какъ въ формѣ экономической.
критика ути- Ято одновременное тождество и различіе пллез-
наго 11 моральнаго, экономическаго и этическаго,
экономики. служитъ объясненіемъ того успѣха, который вы-
палъ па. долю утилитарной теоріи этпкп и который эта по-
слѣдняя имѣете еще и теперь. Дѣйствительно, не трудно
отыскачъ и выставить напоказъ въ любомъ моральномъ
дѣйствіи утилитарную сторону, равно какъ по трудно и
въ каждомъ логическомъ положеніи указать эстетическую сто-
рону. Критика этическаго утилитаризма пе можетъ основы-
ваться на отрицаніи этой метилы, утруждая себя разысканіемъ
несуществующихъ и безсмысленны хгь примѣровъ безполез-
ныхъ моральныхъ дѣйствіи. Напротивъ того, она должна
признать утилитарную сторону п разсматривать ее, какъ кон-
кретную форму моральности, которая представляеть собою то,
что находится внутри этой формы (—т.-е. такое вну-
треннее содержаніе, котораго утилитаристы пе видятъ). Здѣсь пе
мѣсто развивать сь должной полнотою подобныя идеи, но этика
съ экономикой (- и мы утверждали то же самое относительно ло-
гики съ эстетикой) не могутъ обѣ не остаться въ прибыли отъ
болѣе точнаго опредѣленія паличныхъ между ними взаимо-
отношеній. Въ настоящее время экономическая наука все боль-
ше и больше приближается къ активистическому понятію полез-
наго, стараясь преодолѣть математическую фазу, съ которой
еще тѣсно связана,— фазу, со своей стороны сыгравшую
положительную роль въ дѣлѣ преодолѣти историзма (или смѣ-
5*
- бь —
тенія теоретическаго съ исторический і>) и уничтоженія ряда,
произвольныхъ различеній и ложныхъ экономическихъ теорій.
(?ь помощью такого понятія будетъ не трудно, съ одной сто-
роны, усвоить и усовершенствовать нолуфилософскія тео-
ріи такъ называемой чистой экономіи, а съ другой, вводя
послѣдовательно усложняющіе моменты и добавленія и пере-
ходя отъ философскаго метода къ эмпирическому или нату-
ралистическому, понять болѣе спеціальныя теоріи школьной
политической или національной экономіи.
Феноменъ и Подобно тому, какъ эстетическая интуиція по-
иракти^еской ЗІіаѲТЬ феПОМеНЪ.ИЛИ природу, а философское 110-
дьягслыюсти. іілтіс—ноуменъ или духъ, экономическая дѣятель-
ность хочетъ феномена или природы, а моральная дѣятель-
ность—ноумена или духа. Д у х ъ, к о т о р ы й хочетъ себя
самого, подлиннаго себя самого, того универсальнаго, кото-
рое имѣется въ эмпирическомъ и конечномъ духѣ, — вотъ
формула, которая, пожалуй, болѣе соотвѣтствующимъ образомъ
опредѣляетъ сущность нравственности. Такое хотѣніе подлин-
наго самого себя есть аб с. о лютная сво б о д а.
VIII.
Исключеніе иныхъ формъ духа.
Система духа. Въ ТОМЪ ОбЩСМЪ ОЧвркѢ. КОТОрЫЙ МЫ ТОЛЬКО
что дали всей философіи духа въ ея основныхъ моментахъ,
духъ представляется, такимъ образомъ, состоящимъ изъ че-
тырехъ моментовъ или ступеней, расположенныхъ такъ, что
теоретическая дѣятельность относится къ практической, какъ
первая теоретическая ступень относится ко второй теоретиче-
ской ступени, а- норная практическая ступень ко второй прак-
тической же ступени. Эти четыре момента подразумѣваютъ
другъ друга обратно ихъ конкретности: понятіе не можетъ су-
ществовать безъ выраженія, полезное не можетъ имѣть мѣста-
безъ нихъ обоихъ, нравственность же невозможна безъ всѣхъ
трехъ ей предшествующихъ степеней. Если только одинъ эсте-
тическій фактъ является въ извѣстномъ смыслѣ независимыми,
а другіе факты оказываются болѣе или менѣе зависимыми, то
мслі.піая зависимость выпадаетъ при этомъ на. долю логическаго
мышленія, а большая зависимость на долю моральной воли. Мо-
ральный умыселъ дѣйствуетъ па данныхъ теоретических'ь осно-
ваніяхъ, отъ которыхъ опъ не въ состояніи отвлечься, исключая
тотъ случай, когда, допускается такая практическая безсмыс-
лица, какъ іезуитское «направленіе умысла», при ко-
торомъ самому себѣ притворно приписывается познаніе того,
что слишкомъ хороню знаешь.
Формы гсиь Если человѣческая дѣйственность нмѣеть чсты-
алыюсти. ре формы, ТО ЧОТЫрг ЖС форМЫ суЩРСТВѴСТЬ
п у генія или геніальности. II дѣйствительно, геніи
искусства, науки, моральной воли или герои всегда, находили
<:сбѣ признаніе. Геній же чистой экономичности вызывалъ от-
— 70 —
вращеніе; я не безъ нѣкотораго основанія была установлена ка-
тегорія дурныхъ геніевъ, или же геніевъ зла. Практическій,
чисто экономическій геній не стремится ни къ какой
раціональной цѣли, не можетъ не пробуждать удивленія,
смѣшаннаго съ ужасомъ. Спорить о томъ, слѣдуетъ ли при-
лагать слово «геній» только къ создателямъ эстетическихъ
выраженій, или же также и къ научнымъ изслѣдователямъ
и людямъ дѣйствія, значило бы спорить о словахъ. Съ дру-
гой стороны, и утверждать, что «геній», къ какой бы сферѣ
онъ ни принадлежалъ, является всегда понятіемъ» количе-
ственнымъ и различіемъ, эмпирическимъ, значило бы повто-
рять то, насчетъ чего уже даны разъясненія на примѣрѣ арти-
стической геніальности.
Отсутствіе пя- ПЯТОЙ іѢорМЫ ДУХОВНОЙ ДѢяТСЛЫЮСТИ НС СѴЩ0-
той формы дЬя- [ ' ‘
тсльности.— ствуетъ. Было бы нетрудно показать, что всѣ дрѵ-
Прапо; обще- , ±
ственность. ГІЯ формы или оказываются лишенными харак-
тера дѣятельности, или представляютъ собою словесный ва-
ріантъ уже подвергнутой разсмотрѣнію дѣятельности, или же
суть сложные и вторичные факты, въ которыхч. различныя
дѣятельности смѣшиваются друга, съ другомъ и заполняются
отдѣльными содержаніями и случаями.
Напримѣрч,, юридическій факта., будучи р а з с м а тр и в а-
е м ъ на. сферѣ того права, которое обычно именуется объек-
тивнымъ, является результатомъ въ одно и го же время эко-
номической и логической дѣятельности: право есть правило,
формула (словесная или писанная,—это имѣете мало значе-
нія), которой фиксируется экономическое отношеніе, валимое
индивидуумомъ или коллективной единицей, и которая, благо-
даря именно этой своей экономической сторонѣ, одновременно
л соединяется съ моральной дѣятельностью, и отличается о га.
нея. Другой примѣръ: соціологія нерѣдко разсматриваете я
( -и это одно изъ тѣхъ мпоіючисленныхъ значеній, которыя въ
наши дни полу чаетъ это слово), какъ изслѣдованіе первич-
наго момента, именуемаго о б щ с с т в спи о с т ь ю. По чѣмъ
инымъ отличается общественность, т.-е. отношенія, развиваю-
щіяся вч. сборищѣ человѣческихъ индивидуумовъ, а не на,
сборищѣ дочеловѣчеекпха, индивидуумовъ, какъ пе различными
проявленіями духовной дѣятельности, которыя имѣются въ па-
лшшостп у первыхъ п не имѣются, какъ-то предполагается
(или же, если и имѣются, то въ рудиментарной формѣ), у
— 71
вторыхъ? Общественность, стало быть, пе является понятіемъ
первичнымъ, простымъ и несводимымъ ни па что другое, а,
наоборотъ, понятіемъ чрезвычайно сложнымъ и многосодер-
жательнымъ. II тому доказательство—всѣми признанная не-
возможность сформулировать хотя бы одинъ соціологическій
закопъ въ собственномъ смыслѣ этого слова. Тѣ формулы,
которыя именуются такъ не въ собственномъ смыслѣ слова,
раскрываюті, либо эмпирическія наблюденія историческаго ха-
рактера, либо законы духа (т.-е. сужденія, въ формѣ кото-
рыхъ выражаются понятія духовныхъ дѣятельностей), если толь-
ко мысль не теряется при этомъ совершенно въ установленіи
неясныхъ и безсодержательныхъ общностей, примѣромъ чего
можетъ служить, такъ называемый, законъ эволюціи. Ипогда
же подъ «общественностью» разумѣется не что иное, какъ
«соціальное правило», стало быть «право»; въ этомъ слу-
чаѣ соціологія сливается съ наукой и теоріей права. Сло-
вомъ, право, общественность и подобныя имъ понятія под-
лежать такому же трактованію, какому мы подвергли исто-
ричность и технику и помощью котораго мы разложили пхь
на ихъ элементы.
Религіозность. Можетъ показаться, что иначе слѣдуетъ отне-
стись къ религіозной дѣятельности. Но религія есть
пе что иное, какъ познаніе и не отличается отъ дру-
гихъ формъ и подвидовъ этого послѣдняго, такъ какъ она
является,—въ зависимости отъ обстоятельствъ,—либо выраже-
піемз, практическихъ аспирацій и идеаловъ (религіозные идеа-
лы), либо историческимъ повѣствованіемъ (легенда), либо нау-
кой въ понятіяхъ (догматика). Благодаря этому, съ равнымъ
усиѣхомзі можно утверждать и то, что религія разрушается
процессомъ человѣческаго знанія, и то, что она всегда со-
храняется въ немъ. Религія составляла все познаватель-
ное достояніе первобытныхъ народовъ; наше познаватель-
ное достояніе составляетъ нашу религію. Содержаніе измѣли-
лось, улучшилось, утончилось; оно измѣнится, улучшится и
утопчите,*; еще въ будущемъ; форма .же прп этомь остается
всегда одна и та. же. Если и І.которыс, рядомъ съ теоретиче-
ской дѣятельностью человѣка., рядомъ сі. ого искусствомъ, его
критикой, его фи..іоеб’фісіі, и пекутся еще о сохраненіи религіи,
то совершенно неизвѣстно, что ошт стали бы сч> нею дѣлать. Ни-
какъ нельзя сохранитъ несовершенное и шізіпее познаніе, како-
вымъ является религіозное познаніе, рядомъ съ тѣмъ, что его
уже превзошло и превысило въ истинности. Католицизмъ впол-
нѣ послѣдовательно не терпитъ пи науки, ни исторіи, ни этпкп,
противорѣчащихъ его взглядамъ я ученіямъ; будучи менѣе послѣ-
довательны, раціоналисты предрасположены къ тому, чтобы удѣ-
лить въ своей душѣ немножко мѣста, религіи, находящейся въ про-
тиворѣчіи со всѣмъ чѣмъ. что составляетъ ихъ теоретическій міръ.
Такія религіозныя нѣжности и жеманства раціоналистовъ
нашего времени своимъ источникомъ имѣютъ тоть суевѣрный
культъ, который былъ расточаемъ по отношенію къ естествен-
нымъ наукамъ. Эти послѣднія, какъ мы знаемъ и какъ-то
нынѣ онѣ сами признаютъ устами своихъ лучшихъ предста-
вителей, со всѣхъ сторонъ окружены границами. 'Разъ паука
ошибочно была отождествлена, съ такъ называемыми естествен-
ными пауками, то слѣдовало предвидѣть, чго остатокъ потре-
буется про доставить религіи.—тоть остатокъ, безъ котораго че-
ловѣческій духъ не можетъ обойтись. Матеріализму, позити-
визму, натурализму обязаны мы, стало быть, этимъ нездо-
ровымъ и зачастую совсѣмъ пе наивнымъ расцвѣтомъ рели-
гіозной экзальтаціи, которая есть дѣло госпиталя въ тѣхъ
случаяхъ, когда не является дѣломъ политиковъ.
метафизика. Философія уничтожаетъ всякое основаніе для
дальнѣйшаго существованія религіи, такъ какъ замѣняетъ ее со-
бою. Какъ наука о духѣ, она видитъ въ религіи феноменъ, исто-
рическій и преходящій факть, преодолимое психическое состоя-
ніе. Она дѣлить вмѣстѣ съ естественными пауками, исторіей и
искусствомъ царство познанія, предоставляя первымъ счи-
тать, измѣрять и классифицировать, второй --устанавливать
индивидуальное совершившееся, а третьему —индивидуальное
возможное; ей нечѣмь подѣлиться съ религіей.
По той же самой причинѣ философія, какъ паука о духѣ,
пе можетъ бып, философіей интуитивной данности п потому,
какъ мы видѣли, пе можетъ бытъ пи философіей исто-
ріи, ли философіей природы, такъ какъ философская
наука пе въ состояніи усвоить ничего такого, чго не является
формой и не универсально, а представляетъ собою матерію
и знаменуетъ отдѣльное. Пго же приводитъ и къ утвержденію
невозможности м е та ф и з и к и.
Мѣсто философіи исторіи занято методикой или логикой исто-
ріи; мѣсто философіи природы—гносеологіей тѣхъ понятій, ко-
— '3 —
торыя примѣняются въ естественныхъ наукахъ. Вь исторіи
философія можетъ изслѣдовать только тотъ способъ, ко-
торымъ исторія построяетъ себя (интуиція, воспріятіе, доку-
ментъ, вѣроятность и т. д.); въ естественныхъ паукахъ фи-
лософія можетъ изслѣдовать только формы понятій, соста-
вляющихъ эти науки (пространство, время, движеніе, число,
типы, классы и г. п.). Философія .же, выступающая, какъ ме-
тафизика въ вышеуказанномъ смыслѣ, стремилась бы, па-
оборотъ. конкурировать съ исторіей и естествеппыми паука-
ми, которыя однѣ только законны въ своей сферѣ и на-
дѣлены соотвѣтствующими способностями: и конкуренція эта
не могла бы, въ дѣйствительности, не приводить къ иска-
женію и порчѣ. ІдЪ этомъ смыслѣ мы заявляемъ себя
антим ета ф іі з н ка м и, выступая также и какъ сверх-
м. е та. ф и з и к и, когда нужно этимъ словомъ спона отмѣ-
тить и утвердить функцію философіи, какъ самосознанія
духа, въ отличіо оть чисто эмпирической и классифнкатор-
ской функціи естественныхъ наукъ.
умственная АІетафизика. чтобы удержаться рядомъ со всѣ-
^уит’ивдый ин- ми Другими пауками о духѣ, вынуждена была со-
теллектъ. слаться на. специфическую дѣятельность духа. про-
дуктомъ которой опа яко бы является. .Эта дѣятельность, полу-
чившая въ древности названіе умственной фантазіи, а
въ новое время чаще всего называвшаяся интуитивнымъ
пято л л о к. то м ъ и л и и и т е л л е к. т у а л ь н о й. и и ту и ці еІй,
должна была, соединитъ въ соверіпепио своеобразной формѣ свой-
ства фантазіи и свойства интеллекта, осуществить путемъ
дедукціи или діалектики возможность перехода отъ без-
конечнаго къ конечному, отъ формы къ матеріи, отъ по-
нятія къ интуиціи, отъ науки къ исторіи, оперируя такимъ
методомъ, который бы проникалъ и универсальное и отдѣль-
ное, и абстрактное и конкретное, и интуицію п интеллектъ.
Поистинѣ—удивительная способность, обладаніе которою бы-
ло бы большимъ преимуществомъ. но установить существова-
ніе которой люди, ею, какъ мы. не обладающіе, не имѣютъ
никакого способа’
мистическая Ни геллоктуа. іьна я интуиція ніігн’да бывала раз-
эстетика. сматривасма. какъ подлинная эстетическая дѣя-
тельность; иногда же рядомъ съ ней, надъ пей или подъ
нею бывала помѣщаема не менѣе удивительная эстетическая
— 74 —
способность, совершенно ничего общаго не имѣющая съ про-
стой интуиціей,—способность, которую всячески прославляли,
приписывая ей художественное творчество вообще или, по
меньшей мйрѣ, нѣкоторыя совершенно произвольно избран-
ныя группы художественнаго творчества- Искусство, религія и
философія представлялись то какъ одна, то какъ три различ-
ныхъ способности духа, изъ которыхъ то та, то другая
оказывалась надѣленной высшимъ достоинствомъ по сравне-
нію съ другими.
Невозможно перечислить всѣ тѣ различныя формы, которыя
принимала и можеть принять эта эстетическая концепція,
которую мы будемъ называть мистической. Опа вво-
дитъ пасъ въ царство уже не пауки о фантазіи, а самой
фантазіи, создающей свой міръ изъ измѣнчивыхъ элементовъ
впечатлѣній и чувства. Достаточно отмѣтить, что эта таин-
ственная способность разсматривалась то какъ практическая,
то какъ нѣчто среднее между теоретической и практической
способностью, а иногда еще и какь теоретическая форма,
конкурирующая съ религіей п философіей.
смертность и "На основаніи этой послѣдней концепціи иногда
безсмертность _
искусства. дѣлался выводъ о безсмертности искусства, какъ
сферы, принадлежащей вмѣстѣ съ двумя своими сестрами къ
области абсолютнаго духа. Въ другихъ же случаяхъ, наобо-
ротъ, въ виду признанія религіи смертной и разрѣшающейся въ
философію, смертность, даже фактическая смерть илп по
мопыпей .мѣрѣ агонія провозглашалась также и но отноше-
нію къ искусству. Втотъ вопросъ лишенъ для пасъ вся-
каго смысла, такъ какь, признавъ форму искусства за не-
обходимый моментъ духа, спрашивать о томъ. можно ли эли-
минировать искусство, значило бы то же самое, что спра-
шивать о томъ, можно ли элиминировать ощущеніе или
интеллекту.. Но метафизика въ вышеуказаппомь смыслѣ сло-
ва, переносясь въ міръ произвольностей, недоступна критикѣ
въ своихъ частностяхъ, какъ не можеть быть подвергнута
критикѣ ботаника Ллкішова - сада пли кинетика Астольфо-
на- путешествія. Критика- выражается только въ отказѣ пу-
ститься въ подобныя измышленія, г.-е. ігі. отклоненіи самой
возможности метафизики. если ее брать въ вышеупомяну-
томъ смыслѣ..
— 75 —
Нѣтъ, стало быть, ни интеллекту алъ ной интуиціи въ фило-
софіи, ни суррогата ея или аналогона.—эстетической интел-
лектуальной интуиціи, въ искусствѣ. Пѣтъ помимо четырехъ
сознаніемъ обнаруживаемыхъ ступеней духа,—да позволятъ
намъ повторить это.— никакой пятой ступени, никакой нятой
способности—теоретической или теоретико-практической, фаи-
тас гико-иптеллекту алыюй или интеллектуально-фантастической,
или какь бы тамъ еите ни опредѣлять се при этомъ.
IX.
Недѣлимость выраженія на виды и ступени и
критика риторики.
характерныя Обыкновенно принято бываетъ давать длительныя
особенности
искусства. перечисленія характерныхъ особенностей
искусства. Достигнувъ этого пункта нашего наложенія,—послѣ
разсмотрѣнія искусства, какъ духовной дѣятельности, какъ те-
оретической дѣятельности и какъ спеціальной теоретической
дѣятельности (интуитивной), мы должны уже знать, что
всѣ эти многоразличныя опредѣленія его особенностей всякій
разъ, какъ нми указывается что-нибудь реальное, не предста-
вляютъ собою ничего новаго по сравненію съ тѣмъ, что намъ
уже извѣстію, какь родъ, видя, и индивидуальная особенность
эстетической формы. Къ родовому опредѣленію, какъ-то было
уже отмѣчено. і-водятся признаки пли, лучше, словесные варіан-
ты единства, сдии^тва в>« множественномъ. про-
стоты. н о р в и ч н о е т и и т. д.: къ видовому опредѣленію—
такіе признаки, какъ и с т и п п о с т ь, п р а в д и в о с т ь в т. п.;
къ индивидуальному опредѣленію — гакіе признаки, какъ
ж и з и ь, ж и в о с ть, о д у іи с в л е н і с, к о и к р сти о с т ь, и и-
д и в и д у а л ь п о с гв. х а р а к т о р н о с т ь. Слова можно мѣ-
нять еще и далѣе, но это но принесетъ п, собою въ научномъ
отношеніи ничего новаго. Анализъ выраженія, какъ такового,
ііі черпывагтся вышеизложенными резу ль га гами.
Несущество- Правда. МОЖНО ОЫ.ІО бы С11 [Ю' - пть гг-бя о
ваніе вицопъ 1 1
выраженія. том нр юівоіъ. ли п выражг-піе различныхъ
віцовъ или і-тунічіегі: нельзя ли. раздѣливъ д[йіг.тг.енноеть духа
на днѣ ступени, изъ которыхъ каждая въ гною очередь дѣ-
лится на двѣ другія, одну изъ этихъ послѣднихъ, именно
— 77 —
ступень пнтуптпвпо-экепроссивную. еще разь подраздѣлить па
двѣ или, можетъ быть, болйе, чѣмъ на двѣ интуитивныхъ
формы, па. первую, вторую н.гп третью ступень выраженія?
Однако, такое раздѣленіе невозможно; классификація ивтупцій-
выражеііій, конечно, допустима, но не .является философской;
всѣ отдѣльные выразительные факты суть отцѣлыіые ипдивл-
'іуумы, изъ кон.хь нн одинъ не сравнимъ съ другими иначе, какъ
со стороны ихъ общаго качества выраженія; илп же, говори
школьнымъ языкомъ, выраженіе есть видь, который не мо-
жетъ нь свою очередь функціонировать въ качествѣ рода.
Выраженія или содержанія видоизмѣняются; каждое содержа-
ніе отлично отъ каждаго другого, такъ какъ ничто не повто-
ряется въ жизни; и такому постоянному измѣненію содержаній
соотвѣтствуетъ несводимая ни на что другое разнообразность
выразительныхъ формъ, эстетическихъ синтезовъ влечатлѣній.
невозмож- Слѣдствіемъ этого является невозможность И 0-
ность перево-
ДОВЬ. ре во до въ, посколько дѣло идетъ при этомъ о
требованіи превратить одно выраженіе въ другое такъ,
какъ то бываетъ съ жидкостью при перемѣщеніи ея изъ одной
вазы въ другую, обладающую иной формой. То, что сначала,
было подвергнуто обработкѣ въ эстетической формѣ, можно
обработать затѣмъ логически; по нельзя то, что получило
уже свою эстетическую форму, свести къ другой тоже эсте-
тической формѣ. Всякій переводъ, па дѣлѣ, либо ослабляетъ
и портитъ, либо создаетъ новое выраженіе, заставляя первое
переплавляться л смѣшивая его съ личными впечатлѣнія-
ми мнимаго переводчика. Въ первомъ случаѣ выраженіе остает-
ся все время однимъ и тѣмъ же, именно выраженіемъ ори-
гинала, при чемъ новое выраженіе оказывается болѣе или
менѣе недостаточнымъ, т.-с. пе является выраженіемъ въ
собственномъ смыслѣ слова; во второмъ же случаѣ мы имѣемъ
передъ собою два выраженія, которые па іѣдены различны-
ми содержаніями. «Вгиііе Іесісіі о Ъеііе іігЕсіІсІі» 1),— это
изреченіе-пословица прекрасно улавливаетъ ту дилемму, ко-
торая вырастаетъ передъ каждымъ переводчикомъ.—Неэстети-
ческіе же переводы, каковы, папр., переводы дословиые или
переводы перелагающіе, нужно разсматривать, какъ простои
комментарій къ оригиналу.
*) „Некрасивыя, да вѣрныя, или красивыя, іш иевЬриын". ІГр. пер.
Критикарито- Незаконное раздѣленіе выраженій па разныя с.тѵ-
-ісіорій. пени извѣстіи? въ литературѣ подъ именемъ ученія
объ украшеніи пли риторическихъ категоріяхъ.
Но к въ другихъ сферахъ искусства попытки подобныхъ раздѣ-
леніи совсѣмъ не такъ рѣдки: достаточно вспомнить о тѣхъ фор-
махъ, реалистической и символической, которыя
такъ часто являются предметомъ разговоровъ въ живописи и
скульптурѣ. 11 различія р е а л и с г и ч е с к а г о л с и м в о л и ч е-
с к а г о. о б ъ с к* т и в и а г о и с у б ъ е к т и в н а г о, к л а с с и ч с-
с к а. г о и р о м а и г и ч е с к а г о, л р о с т о г о и у к рашен п а-
то, подлиннаго и метафорическаго, и чегырпадца'іь
метафорическихъ формъ, и формы фигуральныхъ в ы р аж. е и і й
и изреченій, п плеоназмъ, и эллипсъ, и переста-
новка словъ, и повтореніе, и сіиюііпчы. и гомо-
ни:мы, —всѣ эш и иныя формы разновидностей и ступеней вы-
ражены тотчасъ же обнаруживаютъ свое философское ничтоже-
ство, если только попытаться превратить ихъ въ точныя опредѣ-
ленія, такъ какѣ, они либо переливаютъ изь пустого вь порож-
нее, либо означаютъ собою нѣчто, лишенное какого бы то ни
было смысла. Типичнымъ примѣромъ этого является общепри-
нятое опредѣленіе метафоры, какъ подстановки дру-
гого слова на мѣсто настоящаго. И зачѣмъ до-
ставлять себѣ такое неудобство, зачѣмъ подмѣнять настоящее
слово другимъ, ненастоящимъ и пользоваться болѣе длитель-
нымъ и плохимъ путемъ, когда извѣстенъ путь болѣе ко-
роткій и удобный? Можетъ быть, потому, чго,- какъ то гово-
рится въ просторѣчьи, —настоящее слово въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ пе такъ выразительно, какъ мнимое ненастоящее
слово или метафора? По вѣдь, если это такъ, то метафора въ
такомъ случаѣ какъ разъ и является «настоящимъ» словомъ;
слово же, которое именуется «настоящимъ», будучи употре-
блено въ даліюмт» случаѣ, было бы недостаточно выра,-
зитолыю и потому совсѣмъ не было бы настоящимъ. По-
добныя замѣчанія отъ имени добраго здраваго смысла можно
повторить и по отношенію къ другимъ категоріямъ, и даже по
отношенію къ самой общей категоріи «украшенія» и по-
ставить при этомъ вопросъ, мапр., о томъ, какъ украшеніе со-
сседипяется съ выраженіемъ. Внѣшнимъ ли образомъ, при
чемъ оно остается всегда отграниченнымъ отъ выраженія? Или
же внутреннимъ образомъ,—при чемъ, въ этомъ второмъ случа ѣ,
согласно риторикѣ.
Перечисленные выше термины не выходили бы изъ
школьныхъ стѣнъ, въ которыхъ каждый изъ насъ
ИХ7. воспринялъ въ себя (с ь тѣмъ, чтобы ПОТОМЪ НІІ-
случа-я воспользоваться ими вь настоящихъ
пли же вспоминать о вихъ
въ шутку и съ ироніей), сс-ли бы иногда они не
употребляемы въ одномъ изъ трехъ слѣдующихъ зна-
1) какъ с л о в есн ы е в а р і а и ты эстетическаго по-
2) какъ признаки а и г иэ с тетиче скаго; или, па-
оно либо по оказываетъ никакой помощи выраженію и только
нарушаетъ его. либо, если участвуетъ въ выраженіи, то пере-
стаетъ быть украшеніемъ и является коистнтутиіигымъ эле-
ментомъ выраженія, пеотд'Ѣ-іимымг, и неразличимымъ въ един-
ствѣ этого послѣдняго.
' Сколько зла причинили риторическія различенія, пе стоитъ
и говорить. Противъ риторики ’ірстаточіго уже говорилось;
хотя, возставая противъ ея послѣдствій, тѣмъ не менѣе ста-
рательно сохраняли въ то же самое время ея принципы (мо-
жетъ быть для того, чтобы дать образчикъ философской послѣ-
довательности). Въ литературѣ риторическія категоріи содѣй-
ствовали, если и не преобладанію, то по меньшей мѣрѣ теоре-
тическому оправданію того своеобразнаго способа писать
и л о х о, которымъ осуществляется х о р о ш с е и и с а и і е пли
же писаніе
Эмпирическій
смыслъ рито-
рическихъ ка-
тегорій,
когда не наити
эстетическихъ дискуссіяхъ,
только
бывали
чсній:
нятія;
конецъ, 3)—и это наиболѣе важное ихъ употребленіе,—какъ
служебныя средства уже не искусства и эстетики, а пау-
ки и логики.
употребленіе 1) Выраженія. будучи разсматриваемы прямо
ниміжь'эстстіі' или положительно, не подраздѣляются на классы;
ческа го факта, существу ГОТЪ, ОДЯаКО, Выраженія УДІІЧИЫЯ И Дру-
гія, наполовину удалявшіяся или вовсе неудачныя, совер-
шенныя и несовершенныя, значимыя и дефектныя. Вышеупо-
мянутые термины (и другіе того же рода) могутъ, поэтому,
иногда обозначать и удавшееся выраженіе и различныя формы
неудачныхъ выраженій, хотя дѣлаютъ обыкновенно это весьма,
непостояннымъ и произвольнымъ образомъ, такъ что одинъ и
тотъ же терминъ служитъ то для провозглашенія совершен-
наго, то для осужденія несовершеннаго.
Такъ, напр., можетъ случиться, что кто-нибудь, стоя передъ
двумя картинами, изъ которыхъ одна, лишена, вдохновенія и
Критикарито- Незаконное раздѣлеіііе выраженій па разныя СТѴ-
-ісіорій. пени извѣстно въ литературѣ подъ именемъ ученія
объ украшеніи или риторическихъ категоріяхъ.
Но и въ другихъ сферахъ искусства попытки подобныхъ раздѣ-
..юнііі совсѣмъ не такъ рѣдки: достаточно вспомнитъ о тѣхъ фор-
махъ, р е а л и г т и ч е е к о й и символической, которыя
такъ часто являются предметомъ разговоровъ въ живописи и
скульптурѣ. 11 различія р е а л и с г и ч е с к а г о и с и м ведиче-
скаго, о б ъ с к т и в и а г о и с у б ъ е к т и в н а г о, к л а- с с и ч с-
скаго и ромап гическа го, простого и украшенна-
го, подлиннаго и метафорическаго, и четырнадцать
метафорическихъ формъ, и формы фигуральныхъ в ы р аже и і іі
и изреченіи, и плеоназмъ, и эллипсъ, и и ер оста-
новка. словъ, и повтореніе, и синонимы, и гомо-
ни мы, —всѣ эли и иныя формы разновидностей и ступеней вы-
раженія тотчасъ же обпаружиналоп. свое философское ничтоже-
ство, если только попытаться превратить ихъ въ точныя опредѣ-
ленія, такъ какъ они либо переливаютъ изъ пустого вь порож-
нее, либо означаютъ собою нѣчто, лишенное какого бы то ни
было смысла. Типичнымъ примѣромъ этого является общепри-
нятое опредѣленіе метафоры, какъ подстановки дру-
гого слова на мѣсто настоящаго. И зачѣмъ до-
ставлять себѣ такое неудобство, зачѣмъ подмѣнять настоящее
слово другимъ, ненастоящимъ и пользоваться болѣе длитель-
нымъ и плохимъ путемъ, когда извѣстенъ путь болѣе ко-
роткій и удобный? Можетъ быть потому, чго,- какъ то гово-
рится въ просторѣчьи, —настоящее слово въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ не такъ выразительно, какъ мнимое ненастоящее
слово или метафора? По вѣдь, если это такъ, то метафора въ
такома. случаѣ какъ разъ и является «настоящимъ» словомч,;
слово же, которое именуется «иастю-ящимъ», будучи употре-
блено въ даипомт, случаѣ, было бы недостаточно выра-
зительно и потому совсѣмъ пе было бы настоящимъ. По-
добныя замѣчанія отъ имени добраго здраваго смысла можно
повторить и по отношенію к.ъ другимъ категоріямъ, и даже по
отношенію къ самой общей категоріи «украшенія» и по-
ставить при этомъ вопросъ, лапр., о томъ, какъ украшеніе со-
сссдипяется съ выраженіемъ. Внѣшнимъ ли образомъ, при
чемъ оно остается всегда отграниченнымъ отъ выраженія? Или
же внутреннимъ образомъ,—при чемъ, въ этомъ второмъ случаѣ,
согласно риторикѣ.
Перечисленные выше термины не выходили бы изъ
школьныхъ стѣнъ, въ которыхъ каждый изъ насъ
и\7. воспринялъ въ себя (съ тѣмъ, чтобы ПОТОМЪ НІІ-
случая воспользоваться шіи вь настоящихъ
П.ІІН же вспоминать о нихъ
въ шутку и съ ироніей), если бы иногда оіш ле
употребляемы въ одномъ изъ трехъ слѣдующихъ зна-
1) какъ с л о в е с н ы е в а р і а и т ы эстетическаго по-
2) какъ признаки а и г иэ с тетиче с-каго; или, па-
оио либо не оказываетъ никакой помощи выраженію п только
нарушаетъ его, либо, если участвуетъ въ выраженіи, то пере-
стаетъ быть украшеніемъ и является конститутивнымъ эле-
мептомъ выраженія, неотдѣлимымъ и неразличимымъ въ един-
ствѣ этого послѣдняго.
' Сколько зла причинили 'риторическія различенія, ие стоитъ
и говорить. Противъ риторики достаточно уже говорилось;
хотя, возставая противъ ея послѣдствій, тѣмъ ие менѣе ста-
рательно сохраняли въ то же самое время ея принципы (мо-
жетъ быть для того, чтобы дать образчикъ философской посл й-
доватслыіостіі). Въ литературѣ риторическія категоріи содѣй-
ствовали, если и не преобладанію, то по меньшей мѣрѣ теоре-
тическому оправданію того своеобразнаго способа писать
и л о х о, которымъ осуществляется х о р о ш е е н и с а и і с или
же писаніе
Эмпирическій
смыслъ рито-
рическихъ ка-
тегорій,
когда не наити
эстетическихъ дискуссіяхъ,
только
бывали
ченій:
нятія;
конецъ, 3)—и это наиболѣе важное ихъ употребленіе,—какъ
служебныя средства уже не искусства н эстетики, а нау-
к и и л о г и к и.
употребленіе 1) Выраженія, будучи разсматриваемы прямо-
нимовТэстстіі' пли положительно, не подраздѣляются на классы;
чсскаго факта. суЩвСТВуЮТЪ, ОДИП-КО, ВЫраЖСНІЯ уДсІЧіІЫЯ И Дру-
гія, наполовину удалявшіяся или вовсе неудачныя, совер-
шенныя и несовершенныя, значимыя и дефектныя. Вышеупо-
мянутые термины (и другіе того же рода) могутъ, поэтому,
иногда обозначать и удавшееся выраженіе и различныя формы
неудачныхъ выраженій, хотя дѣлаютъ обыкновенно это весьма
непостояннымъ и произвольнымъ образомъ, такъ что одинъ и
тотъ же терминъ служитъ то для провозглашенія совершен-
наго, то для осужденія нссовері псинаго.
Такъ, напр., можетъ случиться, что кто-нибудь, стоя передъ
двумя картинами, изъ которыхъ одна- лишена вдохновенія и
— би-
товъ; другая же глубоко вдохновенна, хотя и пе находитъ
собѣ естественнаго соотвѣтствія въ существующихъ вещахъ,
назоветъ первую р еа л и ст н ч и о й. а вторую спиво л ич-
поіі. Напротивъ того, другіе, стоя передъ производящей силь-
ное впечатлѣніе картиной, представляющей какую-либо сцену
изъ обыденной жизни, скажутъ про нее, что опа реали-
стична, а про другую картину, полную холоднаго аллегори-
зированія, скажутъ, что она символична. Ясно, что въ
первомъ случаѣ «символичность» означаетъ художественность,
а «реалистичность»—нехудожествеиность; тогда какъ во вто-
ромъ случаѣ реалистичность является синонимомъ художе-
ственности, а символичность — синонимомъ нрхудожсствсп-
ности. Чего же тогда удивляться, если одни горячо высту-
паютъ съ утвержденіемъ, что истинной художественной фор-
мой является форма символическая и что реалистическая 'форма
антихудожественна, въ то время, какъ другіе утверждаютъ
съ такой же горячностью обратное: что художественна реали-
стическа я форма, символическая же—антихудожественна ? И
какъ не согласиться и съ тѣмп и съ другими, разъ каждый изъ
лихъ употребляетъ эти термины въ столь различномъ значеніи?
Большіе споры о к л а- с с и ц и з м ѣ и р о м анти з м ѣ за-
частую вертѣлись около экивоковъ этого рода. Иногда клас-
сицизмъ получалъ значеніе художественнаго совершенства, а
романтизмъ разсматривался, какъ результатъ разстройства и
несовершенства; иногда же «классическое» считалось хо-
лоднымъ и искусственнымъ, а «романтическое»—искреннимъ,
живымъ, дѣйственнымъ, подлинно выразительнымъ. Такимъ
образомъ всегда было возможно съ основаніями въ рукахъ
выступать за классическое противъ романтическаго или за ро-
мантическое противъ классическаго.
И то же самое нужно сказать о словѣ стиль. Иногда утвер-
ждаютъ, что каждый писатель долженъ имѣть стиль; и въ
этомъ случаѣ стиль является синонимомъ формы или выраже-
нія. Иногда лишенной стиля считаютъ форму кодекса за-
коповъ илп математической книги и впадаютъ вь такомъ случаѣ
въ ошибку предположенія различныхъ видовъ выраженія,—вы-
раженія украшеннаго и другого еще, лишеннаго украшенія; ибо,
если стиль есть форма, то нужно, строго говоря, допустить, что и
кодексія съ математическимъ трактатомъ обладаютъ своимъ сти-
— 81 -
лемъ. Иногда же отъ критиковъ приходится слышать пори-
цаніе тѣмъ, кто «пересаливаетъ въ стилѣ», кто «дѣлаетъ на-
рочито стиль»; и ясно, что тутъ подъ стилемъ разумѣется не
форма и не какая-либо разновидность ея, а ненастоящее и
претенціозное выраженіе, т.-е. особый видь нехудожественнаго,
Ихъ употреб- 2) Во-вторыхъ, НС СОВСѢМЪ ОТСУТСТВУЮТЪ ЭТИ
указать'на^раз- РАЗЛИЧІЯ И ТСрМИНЫ И ВЬ ТѢХЪ СЛуЧаЯХЪ. ННПр.,
ческія несовер" К0ГДгь при изслѣдованіи какого-нибудь лптератур-
шенства. наго произведенія отмѣчаютъ: вотъ тутъ плео-
назмъ, нотъ здѣсь эллипсъ, вотъ тамъ метафора, а тамъ
еще синонимъ или экивокъ.— -')тпмь хотятъ сказать: вотъ
здѣсь ошибка, состоящая въ употребленіи большаго количе-
ства словъ, чѣмъ необходимо (плеоназмъ): а тамъ. наобо-
ротъ, ошибка, происходить изъ-за того, что ихъ елшнкомч.
мало (элиппсъ); тутъ имѣются въ наличности два слова, ко-
торыя съ виду высказываютъ разное, хотя говорятъ па самомъ
дѣлѣ одно и то же (синонимъ); а тамъ, наоборотъ, имѣется
вч. наличности только одно слово, которое съ виду говоритъ
бъ двухъ случаях'ь одно и то .же, тогда какъ па дѣлѣ, оно
выражаетъ двѣ разныхъ вещи (экивокъ). Впрочемъ, такое
недоброкачественное и патологическое употребленіе терминовъ
риторики встрѣчается рѣже, чѣмъ предыдущее.
ихъ употре- зі Наконецъ въ тѣхъ слѵчаях’ь, когда рнтори-
дѣлами эсгегн- ческая терминологія лишена- всякаго эстетическаго
ческаго факта,
находящееся значенія, подобнаго или аналогичнаго только что
науки'УЖСН,И> разсмотрѣннымъ СТО форМЯЧЪ, И КОГДЭ., тѣмъ НО
менѣе, утверждаютъ, что опа -не лишена, совершенно смысла
и означаетъ собою нѣчто такое, что заслуживаетъ вниманія,
этимъ хотятъ сказать, что оиа находитъ собѣ мѣсто па службѣ у
логики и пауки. Положимъ, какое-нибудь понятіе обознача-
ется, при научномъ употребленіи его какимъ-либо писателемъ,
опредѣленнымъ словомъ; вполнѣ естественно, что другія слова,
на употребленіе которыхъ для обозначенія того же самаго по-
нятія этотъ писатель наталкивается, пли же которыя онъ самъ
случайно употребляетъ съ этой цѣлью, получаютъ по отпо-
лі е и і ю къ слову, признанному имъ за точное обозначеніе по-
нятія, значеніе метафоры, синекдохи, синонима, эллиптической
формы и т. в. И мы тоже во время нашего изложенія много
разъ пользовались (и будемъ пользоваться впредь) такими обо-
ротами рѣчи въ цѣляхъ уясненія смысла словъ, которыми мы
Эстетика. .
— 82 —
оперируемъ пли на употребленіе которыхъ наталкиваемся.
Но такое пользованіе пми, сохраняя значеніе въ критическихъ
разслѣдованіяхъ науки и философіи, лишено всякаго зна-
ченія въ критикѣ литературной и художественной. Въ
наукѣ имѣютъ мѣсто и настоящія обозначенія, и ме-
тафоры: одно и то же понятіе можетъ быть образуемо при
различныхъ психологическихъ обстоятельствахъ и потому до-
пускаетъ выраженіе при помощи различныхъ интуицій; к когда,
при установленіи научной терминологіи какого-нибудь писателя,
одна изъ этихъ формъ выраженія берется, какъ настоя-
щая, всѣ другія гіімъ самымъ превращаются въ ненастоящія
и тропическія. Въ эстетическомъ же фактй имѣютъ мѣсто
только настоящія обозначенія; и одна и та же интуиція мо-
жетъ бы'іь выражена, только однимъ единственнымъ способомъ
пмеппо потому, что это—интуиція, а не понятіе.
риторика въ Нѣкоторые мыслители, соглашаясь съ эстетн-
школахъ. ческой несостоятельностью риторическихъ кате-
горій, присоединяютъ къ этому оговорку относительно полез-
ности ихъ и услугъ, которыя онѣ могутъ оказать особенно при
школьномъ изученіи литературы. Я долженъ сознаться, чго не
понимаю, какъ ошибка и смѣшеніе могутъ пріучатъ умъ къ ло-
гическому различенію или облегчать усвоеніе тѣхъ научныхъ
принциповъ, которые имя нарушаются п затемняются. Но, мо-
жетъ быть, этимъ хотятъ сказать, что такія различія, поскольку
они .являются эмпирическими классами, могутъ облегчить усвое-
ніе и помочь памяти въ томъ самомъ смыслѣ, въ какъ это было
допущено выше относительно литературныхъ и художествен-
ныхъ родовъ;—противъ этого, разумѣется, возразить нечего.
Конечно, существуетъ еще и другая цѣль, ради которой рито-
рическія категоріи должны продолжать фигурировать въ шко-
лѣ,—а именно для того, чтобы подвергаться критикѣ. Нельзя
безо всякихъ разговоровъ забывать ошибки прошлаго; под-
держать жизненность въ истинахъ удается, только заста-
вляя ихъ сражаться съ заблужденіями. Если о риторическихъ
фигурахъ не будетъ даваться свѣдѣній, сопровождаемыхъ со-
отвѣтствующей ихъ критикой, то большой рискъ, что онѣ
возродятся снова; и можно даже сказать, что онѣ уже воз-
рождаются у нѣкоторыхъ филологовъ подъ видомъ самоно-
вѣйшихъ психологическихъ открытій.
— «3 —
Подобія ме. Можетъ показаться, что такимъ образомъ от-
жду выраже- 1
ніями. рицается всякая связь по подобію между выра-
женіями или произведеніями искусства. Однако, такія подобія
существуютъ. и, благодаря имъ. произведенія искусства
могутъ быть располагаемы по тѣмъ или инымъ группамъ. По
все это — тажія подобія, которыя обнаруживаются между
индивидуумами и которыкъ нельзя пнкоимъ образомъ зафик-
сировать въ абстрактныхъ характеристикахъ. Къ нимъ, зна-
чить, пе примѣнима какъ слѣдуетъ ни идентификація, ни субор-
динація, ни координація, пи другія отношенія понятій; и состо-
ять они просто-напросто въ томъ, что называется с е м е й п ы м т.
сходствомъ и вытекаетъ изъ тѣхъ историческихъ условій,
при которыхъ родятся различныя произведенія искусства, н
изъ внутренней душевной родственности артистовъ.
относитель- И именно на такихъ подобіяхъ основывается
ная возмож-
ность перево-
довъ.
относите л г. и а я возможность переводовъ, воз-
можность ихъ не какъ воспроизведеній (всякая
попытка которыхъ будетъ напрасна) самихъ оригинальныхъ
выраженій, а какъ созданія подобныхъ имъ и болѣе пли
менѣе близкихъ выраженій. Переводъ, о которомъ говорятъ,
что онъ хорошъ, есть приближеніе, обладающее цѣнностью
подлиннаго художественнаго произведенія и имѣющее самостоя-
тельное значеніе.
6*
I
Эстетическія чувства и различіе прекраснаго
и безобразнаго.
Различныя Переходя КЪ ИЗуЧСПІЮ тѣхъ болѣе СЛОЖНЫХЪ ПО-
значенія слова '
чувство. лятш, въ которыхъ должна разсматриваться эстети-
ческая дѣятельность въ ея сопряженіи съ фактами иныхъ, по-
рядковъ, и къ установленію способа ихъ соединенія или сложе-
нія, мы наталкиваемся прежде всего на понятіе чувства и
при этомъ—на понятіе тѣхь чувствъ, которыя называются
о стетн чес ки м и.
Слово «чувство» — одно изъ наиболѣе богатыхъ многознач-
ностью словъ философской терминологіи, и мы уже разъ
имѣли случаи натолкнуться на него среди словъ, употребляе-
мыхъ для обозначенія духа въ его пассивности, для обозначе-
нія матеріи или содержанія искусства, т.-е. при выполненіи имъ
роли синонима, впечатлѣній. Другой разъ мы встрѣ-
тили его среди слонъ, употребляемыхъ для обозначенія а-.іо-
г н ч е с к а г о и и е и с т о р и ч е с к а г о характера эстетическаго
факта, т.-е. для обозначенія чистой интуиціи,—той формы исти-
ны, которая ие формулируетъ никакого понятія и не утвержда-
етъ никакого факта (—т.-е. въ совершенно уже иномъ значеніи).
Чувство, какъ Но ПИ ОДНО ИЗЪ ЭТИХЪ ДВУХЪ ЗПАЧСНІЙ СЛОВА «’ІѴВ-
актнпіюсть. а равно и ни одно изъ другихъ его зна-
ченій, тоже придававшихся ему для обозначенія иныхъ по-
з и а в а т е л ь и ы х ъ формъ духа, не будетъ здѣсь предме-
томъ нашего разсмотрѣнія: мы во.змемъ это слово въ томъ
его смыслѣ, когда чувство разсматривается, какъ спеціаль-
ная дѣятельность непознаватслыіаго порядка, обладающая
своими полюсами-—положительнымъ и отрицательнымъ —
въ лицѣ удовольствія и и о у д о в о л ь с т в і я.
Эта. дѣятельность всегда ставила философовъ въ очень эа-
трудшітелыгое положеніе, и они поэтому старались либо от-
казать ей въ дѣйственномъ характерѣ, либо о гнести ее на. счетъ
природы, исключивъ изъ сферы духа. По оба эти рѣше-
нія усѣяны трудностями и оказываются для того, кто под-
вергнетъ ихъ заботливому изслѣдованію, въ концѣ-концовъ
непріемл-имыми. Ибо чѣмъ .можетъ быть такая недуховная дѣ-
ятельность. такая активность природы, разъ мы ли-
шены иного сознаніи дѣятельности помимо сознанія ея, какъ
духовной, и иного сознанія духовности, кромѣ сознанія ея.
какъ активности, и ризъ природа при этомъ но самому своему
опредѣленію есть нѣчто совершенію пассивное, инертное, ме-
ханическое и матеріальное? Съ другой стороны, отказъ чувству
въ свойствѣ активности рѣшительно опровергается на дѣлѣ
тѣми самыми нолюсами удовольствія и неудовольствія, кото-
рые въ немь обнаруживаются и демонстрируютъ дѣйственность
въ ея конкретной формѣ, скажемъ даже, въ ея жизненномъ
трепетѣ.
Отождествле- Тя.КОС КрИТИЧОСКОе ЗЗК.ЛЮЧСНІО ДОЛЖНО бы ПО-
ніе чч'вствв ст» -
экономической ставить именно пасъ нъ большое затрудненіе,
дѣятельностью. ка|<,ь |{Ъ данН(іМЪ вышС набрОСКѢ СИСТСМЫ
духа мы не оставили никакого мѣста для этой повой дѣ-
ятельности. признать существованіе которой мы теперь при-
нуждены. Однако дѣятельность чувства хоть и являет-
ся дѣятельностью, тѣмъ не менѣе не представляетъ ничего
новаго; и въ набросанной нами системѣ она уже получила
мѣсто, хотя и поди другимъ именемъ, а именно йодъ
именемъ экономической дѣятельности. Дѣятельность, ко-
торая обнаруживается, какъ дѣятельность чувства, пред-
ставляетъ собою не что ииое, какъ ту болѣе элементарную
и основную практическую дѣятельность, которую» мы отличили
отъ эстетической формы и признали паличной въ видѣ
желанія и волеиія любой индивидуальной цѣли, свободнаго
ото всякой моральной характеристики.
Если иногда чувство разсматривалось, какъ органиче-
ская или естественная дѣятельность, тому причиной было то об-
стоятельство, что опо ііе совпадаетъ ни съ логической дѣятель-
ностью, ни съ дѣя і’слыюстыо эстетической, пи съ дѣятельностью
моральной; будучи разсматриваемо съ точки зрѣнія этикъ трехъ
дѣятельностей (а. ихъ только три нъ такомъ случаѣ и допуска-
лось), оно казалось обитающими за предѣлами подлиннаго
— 86 —
духа въ собственномъ смыслѣ слова, духа въ ого аристокра-
тическомъ существованіи, и являющимся какъ бы опредѣленіемъ
природы или же опредѣленіемъ души, посколько эта послѣдняя
есть природа. Отсюда, явствуетъ также и истинность другого
неоднократно высказывавшагося утвержденія, а. именно—утвер-
жденія, что эстетическая дѣятельность, какъ и дѣятельность
нравственная и интеллектуальная, пе является чувствомъ;—ибо
утвержденіе это неизбѣжно, разъ чувство уже ітпріісііе
и безсознательно берется въ значеніи экономическаго воленія.
критика гс- Взглядъ, отвергаемый этнм і. утвержденіемъ, извѣ-
доиизма. СТенъ йодъ именемъ г е д о и и з м а и заключается
въ сведеніи всѣхъ различныхъ формъ духа къ одной только
'формѣ, которая благодаря этому и сама теряетъ свой отличитель-
ный характеръ и становится чѣмъ-то смутными, и таинствен-
ными, что дѣйствительно похоже на «тѣ потемки, въ которыхъ
всѣ коровы черны». Допустивъ такое сведеніе и искаженіе, гедо-
нисты,- что вполнѣ естественно—,ни вт. какой дѣятельности пе
іи, состояніи видѣть ничего иного, кромѣ удовольствія или
неудовольствія, и благодаря этому пе находятъ никакого внут-
ренняго различія между наслажденіемъ, которое доставля-
етъ искусство, и удовольствіемъ, получаемымъ отъ легкаго
пищеваренія, между удовлетвореніемъ, которое даетъ хорошій
поступокъ, и удовольствіемъ, сопряженнымъ съ вдыханіемъ свѣ-
жаго воздуха полною грудью.
чувство, какъ Однако, если дѣятельностью чувства, въ только
моментъ,сопро- 7
воздающій вся- что установленномъ значеніи этого слова, нельзя
ти^ости.му ак замѣстить всѣхъ другихъ формъ духовной активно-
сти, то это пе значитъ еще, что она не .можетъ ихъ сопрово-
ждать. Напротивъ того, она сопровождаетъ ихъ съ необходи-
мостью, такъ какъ всѣ онѣ находятся другъ съ другомъ и съ
элементарной формой воленія въ самой тѣсной связи; и потому
каждая изъ нихъ сопровождается индивидуальными волспіями и
волптпвными удовольствіями и неудовольствіями, которыя назы-
ваются чувствомъ. Только не слѣдуетъ смѣшивать воедино то,
что является соировождатаемъ, съ самимъ основнымъ фактомъ
и забывать объ этомъ послѣднемъ изъ-за перваго. Открытіе
истины или исполненіе моральнаго долга вызываетъ въ насъ
радостное состояніе, которое заставляетъ сотрясаться все наше
существо, ибо, достигая результата, соотвѣтствующаго этимъ
формамъ духовной активности, мы достигаемъ также и того,
-- «7 —
къ чему стремились въ соотвѣтствующемъ движеніи, какъ къ
своей цѣли, іьр а к ти ч е с к и. Тѣмъ но менѣе, э к о н о-м- и-
ческое или гедонистическое удовлетвореніе, удо-
влетворовіе нрявственное, удовлетвореніе эстетиче-
с к о е и удовлетвореніе и н т е л л е к т у а л ь н о е остаются
всегда,—даже и въ такомъ ихъ соединеніи,-—состояніями по
отношенію другъ къ другу различными. '
Этимъ проливается свѣтъ одновременно и на много разъ под-
нимавшійся вопросъ (который не безъ основанія считался
вопросомъ жизни и смерти эстетической пауки) о томъ, пред-
шествуютъ ли чувство и удовольствіе эстетическому факту
или слѣдуютъ за нимъ, являются ли они его причиной или ого
слѣдствіемъ. Этотъ вопросъ нужно поставить шире, превративъ
ого въ вопросъ объ отношеніи между различными духовными
формами, п искать ему разрѣшенія въ такомъ направленіи, при
которомъ нельзя будетъ говоритъ пи о причинѣ и слѣдствіи,
пи о хронологическомъ предшествованіи и послѣдованіи, а
именно—въ единствѣ духа.
Равнымъ образомъ, какъ только изложенное отношеніе устано-
влено, тотчасъ же отпадаютъ и изслѣдованія, предпринимаемыя
обыкновенію относительно природы эстетическихъ, мораль-
ныхъ, иптелектуальпыхъ, а также (какъ это иногда бывало), и
экономическихъ чувствъ. Ясно, что при изслѣдованіи чувствъ
экономическихъ мы имѣемъ дѣло не съ двумя терминами, а
только съ однимъ, и что изслѣдованіе экономическаго чувства
ис можетъ, быть ни чѣмъ друіимъ, кромѣ изслѣдованія эконо-
мической дѣятельности. Но и въ другихъ случаяхъ изслѣдо-
ваніе не можетъ сосредоточиться па существительномъ и должно
обратиться к’іі прилагательному: эстетичность, моральность, ло-
гичность объясняютъ окрашиваніе чувствъ вь чувства, эстети-
ческія, моральныя и интеллектуальныя, въ то время, какъ,
чувство, будучи разсматриваемо само во себѣ, никогда пе бу-
детъ въ состояніи объяснить подобныя переломленія и окраски,
смыслънѣко- Наконецъ, еще однимъ слѣдствіемъ нашихъ
торьіхъ разли- .
чій. обычныхъ у становленій является признаніе того, что неза-
ства. чѣмъ оолѣе придерживаться хорошо извѣстныхъ
различій между чувствами цѣнности и чувствами чисто гедо-
нистическими, лише н и ы м и цѣнности,- ме.жцу чувствами б е з-
кор ы стны м и и з а.ннте р с сов а н н ы м и, о бъе к ти в и ы-
ми и необъективными пли субъективными, чув-
— 88 —
ствами о до б ренія п простого удовольствія (^еГаІІеп
и ѵег^піі^еи нѣмцевъ). Эти различія были установлены въ
цѣляхъ спасенія трехъ формъ духа., находившихъ свое при-
знаніе въ тріадѣ И с т и н ы, Добра- и К р а с о т ы, отъ смѣ-
шенія ихъ съ четвертой формой, въ тѣ поры еще неопознан-
ной и потому въ своей неопредѣленности предательской и
порождающей постоянную путаницу. Для насъ же эти раз-
личія отнынѣ потеряли свое значеніе, такъ какъ мы въ со-
стояніи установить различіе гораздо болѣе непосредственнымъ
путемъ, а. именно—принимая также и заинтересованныя, субъ-
ективныя чувства-, чувства чистаго удовольствія, въ число формъ
духа, заслуживающихъ уваженія; въ то время, какъ прежде
видѣли (—да- и мы сами одно время такъ думали) въ противопо-
ложности цѣнности и чувства противоположность духовности
и естественности, мы видимъ теперь въ ней только различи?
между цѣнностью и цѣнностью.
про-іивопѣн- Какъ ѵже было сказано, чѵнсгво или экономп-
противополеж- ческая активность обнаруживается въ видѣ двухъ
ири"иИреніснхъ полюсовъ,--положительнаію и отрицательнаго, прі-
ятнаго и непріятнаго: мы можемъ теперь выразить это еще и
такъ: въ видѣ полюсовъ полезнаго и безполезнаго (вреднаго).
Такое раздвоеніе мы уже приводили въ доказательство активи-
с-тпческаго характера- чувства; и, дѣйствительно, оно присут-
ствуетъ во всѣхъ формахъ активности. Разъ каждая изъ этихъ
формъ представляетъ собою цѣнность, то каждая же имѣ-
етъ въ противоположность себѣ и н р о т л в о ц ѣ и и о с т ь (апіі-
ѵаіоге) или безцѣнность Мщѵаіогс) 1). И для того,
чтобы была налицо противоцѣнность, отнюдь недостаточ-
но простого отсутствія цѣнности, по необходимо, что-
бы активность и пассивность находились въ борьбѣ другъ съ
другомъ, по побѣждая въ ней другъ друга; отсюда- противо-
рѣчивость и противоцѣпность стѣсненной, контрастированной,
прерванной дѣятельности. Цѣнность есть дѣятельность, разви-
вающая свободно свои силы; противоцѣнно -ей противопо-
ложное.
1) По русски слово безцѣнность имѣетъ совсѣмъ не тотъ смыслъ, что
итальянское ііінѵаіоге. почти равное во своему значенію аіііігаіого, т.-е.
иротиііоиіініюстн. Потому въ дальнѣйшемъ и апгпаіоге л (Ііяѵаіоге лере-
іаютс-я однимъ и тѣмъ же терминомъ: протшючѣіінусѵігі. 11р. пср.
— 89 —
Прекрасное,
какъ цѣнность
выраженія,или
какъ выраже-
ніе просто.
11с сдаваясь здѣсь въ обсужденіе проблемы отношенія между
цѣнностью и противоцѣнностыо или же проблемы противопачалъ
(а именно—вопроса о томъ, пужио ли ихъ мыслить дуалисти-
чески, какъ двѣ сущности или два- порядки враждебныхъ сущ-
ностей. па. подобіе Ормузда. и Аримана, ангеловъ п діяво-
ловъ, или же какъ единство, являющееся въ то же время и про-
тиворѣчіемъ), мы удовольствуемся даннымъ опредѣлсніем ь
□тиха, двухъ терминовъ, считая его достаточнымъ для нашей
настоящей цѣли, которая заключается въ постепенномъ уясненіи
эстетической дѣятельности, въ данномъ же случаѣ состоитъ въ
уясненіи одного изъ наиболѣе темныхъ и спорныхъ понятій
эстетики: понятія прекраснаго.
Эстетическія, интеллектуальныя, экономическія
и нравственныя цѣнности и протпвоцѣнности полу-
чаютъ въ повседневномъ .языкѣ различное обозна-
ченіе. Такъ слова: и р с к р а. с п о е. и с т и н н о е,
полезное, подходящее, справедливое, точи о о
и т. и. обозначаютъ свободное развитіе духовной дѣятельности,
удавшееся дѣйствіе, удачное научное изслѣдованіе, удачное
художественное произведеніе, а. словами: безобразное,
ложное, дурное, неподходящее, несправедли-
вое, неточно е обозначается стѣсненная дѣятельность, не-
удачный результатъ. Вь словесномъ употребленіи эти обозна-
ченія постоянно переносятся съ фа ктовъ одного порядка, на фак-
ты другого. Такъ папр., п р е к р а с и ы \і ъ именуютъ пе только
удачное выраженіе, по и научную истину, съ пользой совершоц-
іюе дѣйствіе и нравственный поступокъ; отсюда—утвержде-
нія объ и и т е л л е к т у а л ь н о іі к р а с с» т ѣ, о к р а с о г ѣ п о-
ступка, о моральной красотѣ. Если слѣдовать по-
слушно такому до чрезвычайности разнообразному словоупотре-
бленію, то ноііа-деіпь въ тотъ недопустимый и безысходный
словесный лабиринть, вь которомъ заблудилось не мало фи-
лософовъ и эстетиковъ. Л потому вполнѣ разумно было тща-
тельнымъ образомъ избѣгать въ нашемъ изложеніи до сихъ
поръ употребленія слова «прекрасное» для обозначенія вы-
раженія вь его положительной цѣнности. Но послѣ всѣхъ сдѣ-
ланныхъ нами разъясненій всякая опасность нодоразумѣиііі
уничтожена; съ другой стороны, нельзя пе признать того, что
и въ повседневной рѣчи и въ философскомъ языкй преобла-
даетъ стремленіе ограничить значеніе слова «прекрасное» какь
- УО —
разъ эстетической цішпос-тыо; поэтому, повидимому, и позволи-
тельно и удобно будетъ опредѣлить красоту, какъ удавше-
еся выраженіе или, лучше, какъ выраженіе просто,
такъ какъ выраженіе, не будучи удачно совсѣмъ но является
выраженіемъ.
Безобразное» Отсюда слѣдуетъ, что безобразное есть неудав-
соты?и™о*со- піссся выраженіе,—а по отношенію къ неудачнымъ
ставляющіе. произведеніямъ искусства получаетъ силу слѣдую-
щій парадоксъ: прекрасное знаменуетъ собою единичность
красоты, а безобразное—ея м и ож е с тв е и и о оть. Поэтому,
по поводу болѣе или менѣе неудачникъ эстетическихъ произ-
веденій обычно слышатся разговоры объ ихъ достоин-
ствахъ или же красивыхъ ч а с т я х ь, тогда какъ пе-
редъ совершенными эстетическими произведеніями этого не го-
ворится. Дѣйствительно, въ этихъ послѣднихъ нѣтъ никакой
возможности перечислить достоинства, или указать красивыя
части, такъ какъ, осуществляя собою полное сліяніе, эти про-
изведенія обладаютъ только однимъ достоинствомъ: жизнь цир-
кулируетъ по всему ихъ организму и пе уединяется въ ихъ
отдѣльныхъ частяхъ.
Достоинства неудачныхъ произведеній могутъ быть чрезвы-
чайно разнообразны, могутъ даже быть весьма значительны.
II тогда какъ прекргіеное не обнаруживаетъ степеней, такъ
какъ болѣе прекрасное прекрасное, т.-е. болѣе выразительное
выраженіе, болѣе адэкваіиая адекватность, лишены всякаго
смысла, безобразное ихъ обнаруживаетъ,—начиная отъ слегка
безобразнаго (квази-прокраснаго) и кончая безобразнымъ въ вы-
сокой степени. Если бы безобразное оказалось совершен-
нымъ въ своей безобразности, т.-е. было бы лишено хотя
бы самомалѣйшаго элемента красоты, оно потому самому пе-
рестало бы быть безобразнымъ, такъ какъ въ такомъ случаѣ
отсутствовала бы та противопоставленность его прекрасному,
которая является основаніемъ его существованія. Противоцѣн-
пость превратилась бы тогда въ пе-цѣнпость, дѣйственность
уступила бы мѣсто пассивности, съ которой она борется только
въ случаѣ дѣйствительнаго противодѣйствія съ ея стороны,
заблужденіе, И такъ на къ сознаніе различія между прекрас-
нуютъвы^же- пымъ и безобразнымъ основывается на тѣхъ конт-
неЯпр«Ірасн1и растахъ и противорѣчіяхъ, въ которыхъ враща-
нс безобразны. Стся эстетическая дѣятельность, то оно должно,
— 91
очевидно, слабѣть вплоть до полнаго исчезновенія по мѣрѣ то-
го, какъ мы будемъ опускаться отъ болѣе сложныхъ случаевъ
выраженія къ случаямъ болѣе простымъ и наинростѣйпіимъ.
Отсюда рождается иллюзія, будто бы существуютъ выраженія
и непрекраспыя и небезобразныя,—считая за таковыя тѣ изъ
нихъ, которыя достигаются безъ значительнаго усилія и пере-
живаются легко и естественно.
подливныя Къ этимъ опредѣленіямъ, послѣ всего сказан-
чуім*і",,исчувя- наго Ііе представляющимъ никакихъ трудностей,
»щіяСиП^учай- сводится вся тайпа- п р о к р а с н а Г О И б О 3 о б р а. 3-
“ь,я- наго. Если кто-нибудь возразитъ, что существу-
ютъ такія совершенныя эстетическія выраженія, передъ ко-
торыми не испытываешь наслажденія, а. также и такія,—воз-
можно даже неудачныя, которыя вызываютъ живѣйшее удо-
вольствіе, то слѣдуетъ посовѣтовать ему сосретодочивать свое
вниманіе въ эстетическомъ феноменѣ только па томъ, что
представляетъ собою подлинное эстетическое наслажденіе. Это
послѣднее иногда усиливается или, скорѣе, усложняется удо-
вольствіями, имѣющими своимъ источникомъ внѣшніе по от-
ношенію къ нему факты, связанные съ нимъ исключительно
лишь связью причинности. Примѣромъ чисто-эстетическаго на-
слажденія является переживаніе поэта или любого другого худож-
ника въ тотъ моментъ, когда, онъ видитъ (интуирустъ) впервые
свое произведеніе, т.-е. когда его впечатлѣнія получаютъ плоть,
и лице его озаряется божественной радостью творца, ('мѣшан-
ное же наслажденіе переживаетъ, наоборотъ, тотъ, кто послѣ
трудового дня является въ театръ посмотрѣть комедію; и
тогда къ моментамъ подлиннаго эстетическаго наслажденія ис-
кусствомъ творца комедіи и актеровъ, ее выполняющихъ, при-
соединяется наслажденіе отдыхомъ и развлеченіемъ или смѣ-
хомъ по поводу неожиданной благополучной развязки. То же са-
мое слѣдуетъ сказать и о художникѣ, который, кончивъ свое
произведеніе, созерцаетъ его съ удовольствіемъ. испытывая кро-
мѣ эстетическаго наслажденія еще другое наслажденіе, совсѣмъ
отличное отъ перваго.—то наслажденіе, которое рождается отъ
мысли, что его самолюбіе удовлетворено, или же оть мысли
о тѣхъ доходахъ, которые онъ получить отъ своего произве-
денія. II подобныхъ примѣровъ можно привести много.
Критика мни- Въ современна ю эстетику была. введена катс-
мыхъ чувствъ. ГОрія мнимыхъ эстетическихъ чувствъ, своимъ
— 92 —
источникомъ имѣющихъ не .форму, или же пе художественныя
произведенія; какъ таковыя, а ихъ содержаніе.—Художествен-
ныя представленія-до возбуждаютъ удовольствія и неудоволь-
ствія безконечно различныхъ степеней и безконечнаго разнообра-
зія: вмѣстѣ съ персонажами драмы или романа, вмѣстѣ съ фи-
гурами картины и музыкальной мелодіей дрожишь, радуешься,
страшишься, плачешь, смѣешься п хочешь. Это, разумѣется,
не тѣ чувства, которыя были бы возбуждены реальными чу-
ждымъ искусству фактомъ; или лучше,—будучи тождественны
съ такими чувствами по своему качеству, они количественно
являются лишь ослабленіемъ реальныхъ чувствъ: мни-
м о е эстетическое удовольствіе и неудовольствіе въ своемъ
обнаруженіи поверхностію, неглубоко, мимолетно.—Пускать-
ся въ серьезное обсужденіе такихъ мнимыхъ чувствъ
здѣсь не мѣсто по ток причниЬ. что мы уже обстоятельно
обсуждали эту тому и даже не говорили до сихъ поръ пи о
чемъ другомъ, кромѣ этого. Что же другое представляютъ собою
вообще тѣ чувства, которыя становятся мнимы пли получаютъ
кажимость, какъ не чувства объективированныя, интуировап-
ныя, выраженныя? Вполнѣ естественно, что они не влекутъ
за собою эмоціональнаго напряженія п эмоціональной ажита-
ціи, какъ го имѣетъ мѣсто при чувствахъ реальной жизни, гакъ
какъ эти послѣднія представляютъ собою матерію, тогда. какъ
они являютъ собою форму и дѣйственность, и такъ какъ реаль-
ныя чувства суть подлинныя, настоящія чувства, между тѣмъ,
какъ они суть интуиціи п выраженія. Формула мнимыхъ
чувствъ представляется намъ, поэтому, лишь простои тавтоло-
гіей, которую чы можемъ, пе колеблясь, оставить безъ вниманія.
XI.
Критика эстетическаго гедонизма.
Будучи противниками всякаго гедонизма вообще, т.-е. той
теоріи, которая, опираясь на удовольствіе и неудовольствіе,
являющіяся существеннымъ внутреннимъ свойствомъ эконо-
мической дѣятельности и сопровождающія каждую другую
форму дѣятельности, смѣшиваетъ содержащее и содержимое
и не. признаетъ никакого иного процесса, кромѣ гедонистиче-
скаго,- -мы въ равной мѣрѣ возстаемъ и противъ спеціально-
эстетическаго гедонизма, который видитъ, если и не во всѣхъ
формахъ дѣятельности, то по крайней мѣрѣ въ эстетической
дѣятельности, простой фактъ чувства, и смѣшиваетъ пріятное
выраженія, являющаго собою прекрасное, съ просто пріят-
нымъ, съ пріятнымъ всякаго ішого рода.
критика пре- Эстетико-гедонистическая точка, зрѣнія имѣетъ
пріятнаго выс- нѣсколько формъ. Одной изъ малболѣе древнихъ
шихъ чувствъ. форМЬ рЯ лвляетоя ученіе. разсматривающее пре-
красное, какъ пріятное зрѣнія и слуха, т.-е. какъ пріятное
такъ называемыхъ в ы с ш и х ъ ч у в с т в ь. Первоначально ана-
лизу эстетическихъ фактовъ было, конечно, трудно избѣжать
того ошибочнаго мнѣнія, бу (то картина или музыкальное про-
изведеніе являются впечатлѣніями зрѣнія пли слуха, и дать
правильное истолкованіе тому общеизвѣстному факту, что
слѣпой лишеііь наслажденія живописью, а глухой не на-
слаждается музыкой. Мысль о тома., что эстетическій факта, не
зависитъ по своей природѣ отъ впеча глѣній, но что всѣ впе-
чатлѣнія могутъ быть возведены па ступень эстетическаго вы-
раженія. хотя и ни одно изь нихъ не требуетъ этого съ не-
обходимостью,—эта. мысль (пами выше обоснованная) возни-
каетъ лишь послѣ того, какъ испробованы всѣ. иныя возмож-
— <Н —
ногти теоретическаго построенія въ этой сферѣ. Тотъ, кто во-
ображаетъ, будто эстетическій фактъ есть нкчго пріятное для
глазъ или уха, оказывается лишеннымъ всякой возможности за-
щищаться противъ того, кто, логически развивая дальше ту же
мысль, отождествитъ прекрасное съ пріятными вообще и вклю-
читъ въ эстетику кулинарію или же (какъ то было сдѣлано ка-
кпмъ-то позитивистомъ) прекрасное желудка.
Критика гео- ДРУ>’УЮ форму' ЭСТСТИЧССКаГО ГРДОНІІЗМЯ ІіреД-
ріи игры. ставляетъ собою теорія игры. Понятіе игры
иногда помогало признать дѣйственный характеръ выра-
зительнаго факта: человѣкъ только тогда дѣйствительно
человѣкъ (—такъ утверждалось при этомъ), когда начинаетъ
играть (т.-е. когда освобождается изъ подъ власти естествен-
ной и механической причинности и начинаетъ дѣйствовать
духовно); и первой его игрой является искусство. По такъ
какъ слово «игра» означаетъ также и го удовольствіе, кото-
рое возникаетъ благодаря потратѣ излишней энергіи организ-
ма (т.-е. благодаря факту практическому), то слѣдствіемъ этой
теоріи явилось то, что эстетическимъ фактомъ стали называть
всякаго рода игру, т.-е. стали называть искусство игрой, по-
сколько оно можетъ участвовать въ игрѣ,—что можетъ случить-
ся, однако, и съ наукой, и съ любой другою вещью. Только
нравственность ни въ какомъ смыслѣ но можетъ быть продук-
томъ стремленія къ игрѣ (въ силу гого противорѣчія, которое
не допускаетъ этого); наоборотъ, она господствуетъ надъ са-
мимъ актомъ игры и регулируетъ его.
критика тсо- Нашлись даже такіе мыслители, которые по-
рін сексуально- .
сти л тріумфа, пытались истолковать наслажденіе искусствомъ,
какъ отзвукъ того наслажденія, которое своимъ происхожде-
ніемъ обязано половымъ органамъ. Эстетики же самаго по-
слѣдняго времени охотно признаютъ источникомъ эстетическаго
факта привлекательность побѣды и тріумфа или. какъ
прибавляютъ нѣкоторые, потребность особи мужескаго рода
покорить особь женскаго рода. Эта теорія приправляетъ свои
утвержденія множествомъ анекдотовъ—Богъ знаетъ, насколь-
ко вѣрныхъ!-—относительно нравовъ дикихъ пародовъ;, но,
гы. дѣйствительности, она не нуждается въ такой поддержкѣ,
ибо въ повседневной жизни достаточно часто встрѣчаются
поэты, которые украшаются своими поэтическими твореніями
— 95 -
совершенно такъ же, какъ пѣтухи, приподнимая свой гре-
бень, или индюки, распуская свой хвостъ. Только,—кто про-
дѣлываетъ подобныя вещи, тотъ не является ужъ, посколь-
ко онъ это дѣлаетъ, поэтомъ, ай лишь жалкимъ бѣднякомъ
и даже жалкимъ пѣтухомъ или индюкомъ; ни жажда по-
бѣды, ни побѣдоносное завладѣніе женщиной ие имѣютъ
ничего общаго съ фактомъ искусства. Такъ смотрѣть на искус-
ство значитъ то же, что видѣть въ поэзіи не что иное, какь
в к о и о м и ч е с к і й продуктъ, въ виду того, что когда-то
были-де придворные и наемные поэты, а вь наше время суще-
ствуютъ такіе поэты, которые, если и пе поддерживаютъ своей
жизни всецѣло продажей своихъ стиховъ, то во всякомъ случаѣ
помогаютъ этимъ своему существованію (—дедукція и опре-
дѣленіе искусства, передъ которыми пе остановился одинъ слит-
комъ ревностный поборникъ историческаго матеріализма).
критикаэсге- Другое, мепѣе грубое эстетическое паправле-
ческагсъ Значе- СМОтріІТЪ Ііа ЭСТСТПКУ, КаКЪ На Ийуку О СНМ-
держ’анія Си 11 3 Т н 4 С С КО М Ъ, О ТОМЬ, Ч6МѴ МЫ СПМПаТИЗН-
Формы. русмъ, что» насъ привлекаетъ, что пасъ радуетъ,
вызываетъ въ насъ удовольствіе и восхищеніе,—Но вѣдь сим-
патическое есть не что иное1, какъ образъ или представленіе того,
что нравится. И, какъ таковое, оно является сложнымъ фактомъ,
представляющимъ собою результатъ, образующійся изъ постоян-
наго элемента, роль котораго играетъ при этомъ эстетическій
моментъ представленія, и элемента измѣнчиваго, роль котораго
берегъ на себя пріятное со своими безконечными проявленіями,
своимъ источникомъ имѣющее всевозможные классы цѣнностей.
Въ ходячемъ языкѣ иногда чувствуется какъ бы нежеланіе
называть «прекраснымъ» выраженіе, которое не является выра-
женіемъ симпатическаго. Отсюда—постоянный контрастъ между
точкой зрѣнія эстетика или критика искусства и точкой зрѣ-
нія простолюдина, котораго трудно убѣдить въ томъ, что образъ
страданія и чего-либо гадкаго тоже можеть быть прекра-
сенъ или. по меньшей мѣрѣ, съ ті;мъ же правомъ претенду-
етъ на красоту, что и образъ пріятнаго и хорошаго.
Такой контрастъ можно было бы уничтожить разграниче-
ніемъ двухъ различныхъ наукъ, изъ которыхъ одна касалась
бы выраженія, а другая—симпатическаго, если бы только эго
послѣднее могло стать предметомъ спеціальной пауки, т.-е. если
— ОС —
Во всѣхъ только что указанныхъ учеиіяхь
искусство разсматривалось, какъ нѣчто чисто
Но эстетическій гедонизмъ не можетъ чув-
іюка не соединится съ обще-фи.то-
не признающимъ никакихъ другихъ
бы оно не представляло собою, какъ ого было только что пока-
зано. сложнаго и двусмысленнаго понятія. Сосредоточивая
въ немъ наше вниманіе на фактѣ выраженія, мы вступа.емъ
въ сферу эстетики, какъ науки о выраженіи; сосредоточи-
ваясь же на пріятномъ содержаніи, мы обращаемся къ изу-
ченію фактовъ, по существу своему гедонистическихъ (ути-
литарныхъ), сколь бы сложными они при этомъ ни каза-
лись.— Въ эстетикѣ симпатическаго слѣдуетъ искать также
и главныхъ источниковъ того ученія, которое разсматриваетъ
отношеніе между содержаніемъ и формой.. какъ сумму двухч>
ціиліосген.
Эстетическій
гедонизмъ и
морализмъ.
гедонистическое.
ствовать себя твердо,
софекп\гі. гедонизмомъ.
формъ цѣнности. Какъ только такое гедонистическое пред-
ставленіе объ искусствѣ принимается философами, признающими
въ тоже время одну или нѣсколько духовныхъ цѣнностей исти-
ны или нравственности), тотчасъ же долженъ возникнуть вопросъ
о томъ, ка къ быть съ искусствомъ ? Для какого употребленія оно
предназначается? Слѣдуетъ ли дать свободу наслажденіямъ,
имъ порождаемымъ? Или ихъ слѣдуетъ ограничить? И если
да. то какія же границы имъ поста вить?—Вопросъ о цѣли
искусства., лишенный смысла въ эстетикѣ выраженія, по-
лучаетъ въ эстетикѣ симпатическаго очевидное значеніе и тре-
буетъ своего разрѣшенія.
Рнгорнстиче- зг0 разрѣшеніе, очевидно, можетъ имѣть толь-
ское отрицаніе 11 ’ н
и педагогиче- ко днѣ формы: ОПО МОЖСТ1. ОЫТЬ ИЛИ ОТрНЦЯТвЛЬ-
скос оправда-
иіе искусства, на го или ограничительнаго характера. Первая его
форма, которую мы назовемъ р и г о р и с т и ч е с к о й и л и
а с к е т и ч е с к о й и которая нѣсколько разъ, хотя и не часто,
получала существованіе въ исторіи идей, видитъ вь искусствѣ
чувственное опьяненіе, не только безполезное, но прямо-таки
вредное; согласно этой теоріи, поэтому, нужно всѣми силами и
средствами стараться освободить отъ искусства душу че-
ловѣческую. имъ смущаемую. Другое рѣшеніе, которое мы бу-
демъ называть педагогический ъ и л и у т и лита р н о -
м о р а л п с ти ч е с к и м ъ. допускаетъ искусство.—но лишь по-
97
столько, посколько опо содѣйствуетъ цѣлямъ нравственности.—
нисколько помогаетъ невиннымъ наслажденіемъ дѣятельности
тѣхъ, кто стремится къ истинѣ и добру, — посколько льетъ
сладкій напитокъ па края сосуда знанія и нравственности.
Нужно замѣтить, что было бы ошибочно различать въ этомъ
второмъ рѣшеніи еще направленіе интсллектуалистическос и
утилитарно-моралистическое въ зависимости отъ того, пред-
писывается ли при этомъ искусству въ качествѣ цѣли--приво-
дить къ истинѣ пли же вести къ практическому благу. Вмѣня-
емая искусству задача—обучатъ, именно потому, что опа пред-
ставляетъ собою цѣль искомую и рекомсн чуемую, не является
ужъ болѣе чисто-теоретическимъ фактомъ, а теоретическимъ
фактомъ, ставшимъ предметомъ практическаго дѣйствія, п
поэтому пе знаменуетъ собою болѣе интеллектуализма, а по-
длинный педагоги.?мъ и практицизмъ. И по меньшій ущербъ
точности принесло бы съ собой подраздѣленіе педагогической
точки зрѣнія на чисто-утилитарную и утилитарно-моралистиче-
скую; ибо тѣ, что признаютъ только индивидуальную пользу
(только желанія, индивидуума), будучи абсолютными гедониста-
ми, лишены какихъ бы то ни было мотивовъ, побуждающихъ
стремиться къ послѣднему оправданію искусства.
Но, послѣ всего предыдущаго, говорить объ этихъ теоріяхъ
значитъ опровергать ихъ. Полезнѣе будетъ отмѣтить, что
въ лицѣ педагогической теоріи искусства мы имѣемъ еще
другую причину того, почему было выдвинуто ошибочное тре-
бованіе. чтобы содержаніе искусства было в ы б и р а с м о ( въ
предвидѣніи опредѣленныхъ практическихъ результатовъ!.
Критика чн Противъ ГРДОИИСТИЧССКОЙ, а, раВІІО Н ПрОТИВЪ
стой красоты, лечагогической эстетики часто было выдвигаемо
положеніе, охотно поддерживаемое художниками, что искусство
состоитъ въ ч н стой к р а с о т ѣ: «в ъ чистой кра с о т ѣ
положило небо всякую нашу , радость, и стихъ есть все».
Если это значить, что искусства нельзя смѣшивать съ чисто
чувствсннььмъ удовольствіемъ (съ утилитарнымъ практициз-
момъ) пли съ нравственною дѣятельностью,—въ такомъ случаѣ,
конечно, и нашу эстетику можно будетъ украсить названіемъ:
э с т е т и к а чистой к. р а с о т ы. Если .же, наоборотъ,—какъ
то перЬдко случалось,—подъ чистой красотой мы будемъ разу-
мѣть нѣчто мистическое м трансцендентное, нашему бѣдному че-
Эстетмкз. <
ловѣческому міру невѣдомое, или же нѣчто такое, что хоть и
духовно и дастъ счастіе, по не является уже выра-
женіемъ, то мы должны будемъ сказать слѣдующее: привѣт-
ствуя громко понятіе красоты, чистой отъ всего того,
что не относится къ духовной формѣ выражс-
п і я, мы не въ состояніи постичь еще болѣе возвышенной кра-
соты. а еще мепѣе того способны уразумѣть красоту, о чи-
ще пну ю даже отъ выраженія. т.-с. отъ самой і-ебя.
хи.
Эстетика симпатическаго и псевдо - эстетическія
понятія.
Псевдоэстети-
ческія понятія
и эстетика сим-
патическаго»
Учепіе о симпатическомъ (будучи воодушевляемо
и поощряемо капризной метафизической и мисти-
ческой эстетикой и тѣмъ слѣпымъ традиціонализ-
момъ, въ силу котораго логическая связь устанавливается ме-
жду вещами, только по случайности трактуемыми вмѣстѣ одни-
ми и тЬѵіи же авторами и въ однихъ и тѣхъ же книгахъ)
ввело и сдѣлало привычными въ системахъ эстетики цѣлый
рядъ понятій, о которыхъ достаточно сказать нѣсколько слои»,
для того, чтобы оправдать рѣшительное изгнаніе пхъ изъ
пашей системы.
Перечисленіе ихъ длительно, даже невыполнимо: трагиче-
ское, комическое, возвышенное, патетическое,
трогательное, печальное, смѣшное, меланхоли-
ческое, трагикомическое, юмористическое, во-
л и ч е с г в с и и о с. и р с и с и о л н е и и о е д о с т о и и с т в а, с. е-
рьезное, важное, импонирующее, благородное,
приличное, граціозное, привлекательное, плѣ-
нительное, кокетливо!?, идиллическое, элегиче-
ское, веселое, па с и л ь с т в е и и о е, н а и в н о с, ж е с т о-
к о е, п о с т ы д и о е, у ж а с и о е, о т в р а. т и т о л ь п о е. с т р а гн-
ію е, тошнотворное:—кто знаетъ, укажетъ еще другія.
Избравъ своимъ предметомъ симпатическое, эго ученіе
естественно не могло пройти мимо ни одной изъ разнообраз-
ныхъ его фор.мь. ни одпой изъ его см Іиііапііых'і. форма-
ціи ц степеней, чрезъ которыя оть его высшаго и на-
интенсивнѣйіпаго проявленія можно постепенно спустить-
ся къ его противоположности, къ антипатичному и отталки-
вающему. И такь какъ симпатическое содержаніе разгматри-
7*
— 100 —
валось, при этомъ, какъ пре к р а с н о е, а антипатическое
содержаніе, какъ безобразное, то вышеуказанныя различія
(трагическое, комическое, возвышенное, патетическое и т. и.)
и приняли на себя въ глазахъ этого эстетическаго ученія роль
степеней и нюансовъ, промежуточныхъ между прекраснымъ
и безобразнымъ.
Ріи₽ИбХбйз- Перечисливъ п опредѣливъ, какъ могла, глав-
наго въ нскус- шло тины этихъ различій, эстетика симпатнчс-
ствѣ и его пре- * ' -
одолѣнія. скаго задалась вопросомъ о томъ, какое мѣсто
слѣдуетъ отвести безобразному въ искусствѣ, —про-
блемой, лишенной для насъ всякаго смысла, такт. какъ мы не
знаемъ иного безобразнаго, кромѣ того, которое антиэстетично
или невыразительно и которое никоим ь образомъ пе можетъ
быть частью эстетическаго факта, будучи, какь разъ на-
противъ, его противоположностью и антитезой. Но вь
теоріи, нами сейчасъ, разбираемой, формулировка и обсужденіе
этой проблемы означала не болѣе и не менѣе, какъ необхо-
димость какъ-нибудь примирить ложную и извращенную идею
искусства, являющуюся въ этой теоріи исходнымъ пунктомъ,—
идею искусства, ограниченнаго- изображеніемъ пріятнаго,—съ
живымъ искусствомъ, которое захватываетъ гораздо болѣе
обширныя пространства. Отсюда попытка искусственно уста-
новить, каковы тѣ случаи, въ которыхъ безобразное (анти-
патичное) можеть быть допущено въ художественномъ предста-
вленіи, и на какихъ основаніяхъ и какимъ образомъ это воз-
можно.
Отвѣтъ па это былъ данъ слѣдующій: безобразное до-
пустимо только въ томъ случаѣ, если оно преодолимо;
если же оно пе преодолимо, какъ вь томъ случаѣ, когда,
имѣетъ мѣсто отвратительное или тошнотворное,
его нужно исключить безъ всякихъ разговоровъ; будучи допу-
щено въ сферу искусства, безобразное имѣетъ своей функ-
ціей содѣйствіе усиленію эффекта прекраснаго (симпатическаго),
порождая рядъ контрастовъ, благодаря которымъ пріятное ста-
новится болѣе живымъ и радующимъ. И, дѣйствительно, всѣмъ
хорошо извѣстно, что удовольствіе переживается тѣмъ живѣе,
чѣмъ больше были предшествующія ему воздержаніе п стра-
даніе. Такимъ образомь, безобразному въ искусствѣ отводи-
лась служебная по отношенію къ прекрасному роль, роль сти-
мула пли приправы къ эстетическому" удовольствію.
101 —
Вмѣстѣ съ паденіемъ эстетики симпатическаго падаетъ также
и гакъ называемая спеціальная теорія гедонистической утончен-
ности, извѣстная подъ помпезнымъ именемъ теоріи п р е о д о л ѣ-
пія безобразнаго; вмѣстѣ съ тѣмъ и перечисленіе и
опредѣленіе вышеприведенныхъ понятій оказываются дѣломъ,
совершенно чуждыми эстетикѣ. Эстетика пе знаетъ ни симпа-
тическаго, пи антипатическаго, ни ихъ различныхъ формацій,—
опа знаетъ только духовную дѣятельность представленія.
псевдоэсте- Однако, въ виду той значительной роли, кото-
тлчсскія лоня- рѴЮ какъ мы сказали, эти понятія играли до
вь психологіи, послѣдняго времени въ эстетическихъ изслѣдова-
ніяхъ, будетъ полезно болѣе обстоятельнымъ образомъ по-
яснить ихъ природу. Какова же будетъ ихъ судьба? Въ ка-
кой другой части философіи имъ мйсто, разъ опн изгоняются
изъ эстетики ?
Говоря правду, имъ нѣтъ мѣста въ философіи, такъ какъ они
лишены всякой философской цѣнности. Это—рядъ классовъ,
допускающихъ самое разнообразное сформированіе и какое
угодно умноженіе своего числа,—классовъ, къ которымъ стара-
ются свести всѣ безконечные нюансы и усложненія цѣнностей
и нротивсцѣнпостей жизпи. Нѣкоторые изъ этихъ классовъ имѣ-
ютъ преимущественно положительное значеніе, какъ-то: пре-
красное,- возвышенное, величественное, торжественное, серьез-
ное, важное, благородное, высокое: другіе—обладаютъ пре-
имущественно отрицательнымъ значеніемъ, какъ напр.: безо-
бразное, скорбное, ужасное, страшное, ужасающее, чудовищ-
ное, глупое, чрезвычайное; наконецъ, въ третьихъ преобладаетъ
черта смѣшанности, таковы папр.: комическое, нѣжное, ме-
ланхолическое, юмористическое, трагикомическое. Подобнымъ
усложненіямъ нѣтъ конца, такъ какъ нѣтъ копца индиви-
дуальнымъ оттѣнкамъ; благодаря .же этому, невозможно кон-
струировать пхъ понятія иначе, какъ только произвольнымъ
и приблизительнымъ образомъ,—что свойственно естествен-
нымъ наукамъ, довольствующимся тѣмъ, какъ бы получше
схематизировать ту реальность, которую онѣ ие въ силахъ
пи исчерпать путемъ перечисленія, ни постичь и преодолѣть
спекулятивно. А гакъ какъ той естественнонаучной дисципли-
ной, которая задастая цѣлью построить типы и схемы для
духовной жизни человѣка, является психологія (чисто
эмпирическій и описателы'Ый характеръ которой, дѣйстви-
— 102
тельно. все.- болѣе и болѣе подчеркивается въ паши дни), то всѣ
эти понятіи пе подлежатъ вѣдѣнію пи эстетики, ни философіи
вообще и должны быть отданы именно психологіи.
невозмож- Точное, опредѣленіе ЭТИХЪ понятій невозможно,
ность ихъ точ- поэтому. ТИКЪ Жб. КИКЪ И ТОЧП06 Опредѣленіе
иаго опредѣле- - - х . .
«ія- всѣхъ нпыхъ психологическихъ построеніи; слѣ-
довательно, ихч> нельзя ни вывести одно изъ другого, пи свя-
зать въ цѣльную систему, хоть это, тѣмъ не менѣе, столько разъ
и пытались сдѣлать съ громадной потратой времени и безо вся-
каго дѣйствительнаго результата. Тіо такъ же мало можно
претендовать и па то. чтобы — вмѣсто таких'ь философскихъ
опредѣленій, признаваемыхъ за невозможное—были установле-
ны опредѣленія эмпирическія, которыя бы всѣми признавались
за подходящія и истинныя. Ибо для отдѣльнаго факта не суще-
ствуетъ единаго эмпирическаго опредѣленія; ихъ можно образо-
вать для пего безконечное множество, сообразно тѣмъ случаямъ
и цѣлямъ, ради которыхъ пни образуются; такъ что, если бы су-
ществовало хогь одно такое опредѣленіе и обладало значимостью
истины, то ясно, что оно не было бы эмпирическимъ, а было
бы точнымъ и философскимъ. ІТ дѣйствительно, всякій разъ,
какъ въ дѣло употреблялся какой-либо изъ вышеупомяну-
тыхъ терминовъ (пли другихъ, которые можно было бы взять
изъ той же серіи), вмѣстѣ съ тѣмъ явно или скрыто ему
было даваемо и новое опредѣленіе. Каждое такое опре-
дѣленіе от.шча.лось отъ Другихъ хоть чѣм'ь-пибудь, хоть какой-
либо частностью,—пусть даже минимальной, и молчаливымъ
отнесеніемъ къ тому или иному индивидуальному факту, кото-
рому оказывалось предпочтеніе возведеніемъ его въ достоин-
ство общаго типа. По этой причинѣ и выходитъ, что пи одно
изъ нихъ не удовлетворяетъ никогда тѣх ь, кому его прихо-
дится выслушивать, а въ равной мѣрѣ и самого его автора; этотъ
послѣдній черезъ минуту, находя передъ собою новый случай,
признаетъ свое опредѣленіе болѣе пли менѣе недостаточ-
нымъ, неудачными п подлежащимъ исправленію. Поэтому,
и говорящимъ и пишущимъ слѣдуетъ предоставить полную
свободу опредѣлять каждый разъ величественное пли комиче-
ское, трагическое или юмористическое, какъ имъ понравится и
покажется наиболѣе подходящимъ для цѣлей, ими преслѣдуе-
мыхъ. Если же, несмотря на это. кто-нибудь будетъ ста-
раться получить эмпирическое опредѣленіе универсальной
— іов —
зпачнмосги, то ему можно будетъ предложить только слѣ-
дующее опредѣленіе:—величественное '(пли комическое, іра-
гическое, юмористическое и т. и.) есть все то, что было
или будетъ именоваться такъ тѣми, кто употребляли или
будетъ употреблять эгп слова.
примѣры:оп- такос величественное? Неожиданное обна-
р&ѣленія ве луженіе превосходящей всѣ размѣры моральной
комическаго и силы,—вотъ одно опредѣленіе. Но въ равной стспс-
скаго. ни хорошо и другое опредѣленіе, когорос признаетъ
наличность величественнаго такъ же и тамъ, гдѣ обнаружи-
вающаяся сила хоть и является превосходящей всѣ. размѣры,
но въ то же время аморальна и разрушительна. При этомъ, оба
опредѣленія продолжаютъ пребывать въ неопредѣленности и
не могутъ пріобрѣсти въ точности, пока, не будутъ отнесены
йъ какому-либо конкретному случаю, къ примѣру, кото-
рый дастъ представленіе о томъ, что именуется здѣсь «пре-
восходящимъ всѣ размѣры» и что—«неожиданнымъ» (—все по-
нятія количественныя и даже ложно количественныя, такъ какъ
они лишены всякаі’О мѣрила и являются по существу своему
метафорами, слишкомъ сильными выраженіями или логическими
тавтологіями).—Юмористическимъ же является смѣхъ сквозь
слезы,— смѣхъ, полный горечи,—внезапный переходъ отъ коми-
ческаго къ трагическому и отъ трагическаго къ комическому,—
романтическій комизмъ,—величественное на изнанку,—война,
объявляемая всякому проявленію неискренности,—соболѣзнова-
ніе, стыдящееся слезъ,—смѣхъ по по поводу 'факта, а но по-
воду самого идеала и т. д. Каждая изъ эгихъ формулъ будетъ
казаться лучшей въ зависимости отъ того, стараются ли при по-
мощи нея уловить физіономію того или другого поэта, той или
другой поэзіи, въ своей отдѣльности являющейся единственнымъ
адэкватным і, (—ибо точно обозначеннымъ и моментальнымъ)
опредѣленіемъ себя самое.—Комическое было опредѣлено, какъ
неудовольствіе, возбуждаемое воспріятіемъ какой-либо нелѣпо-
сти и сопутствуемое тотчасъ же наступающимъ болЬо интенсив-
нымъ удовольствіемъ, обязаннымъ своимъ происхожденіемъ осво-
божденію нашихъ психическихъ силъ, сдерживавшихся іи, ожи-
даніи того воспріятія, которому напередъ придавалось важное
значеніе. Такъ ланр., слушая разсказъ, въ которомъ намъ описы-
вается какое-либо прекрасное и героическое намѣреніе опредѣ-
ленной личности, мы въ воображеніи предвосхищаемъ наступай-
— .104 —
піе прекраснаго и героическаго поступка и приготовляемся къ
его воспріятію, напрягая наши психическія силы. Но вдругъ
вмѣсто прекраснаго и героическаго поступка., предвѣщавшагося
.памъ обѣщаніями и тономъ разсказа, благодаря совершенно не-
мредвидѣішому обороту дѣла, совершается поступокъ незна-
чительный, ничтожный, безсмысленный и но соотвѣтствующій
ожиданіямъ. Мы чувствуемъ себя обманутыми, и сознаніе ка-
кого обмана приводитъ съ собою моментъ недовольства. Од-
нако, ото неудовольствіе какъ бы покрывается непосредствен-
но слѣдующимъ за нимъ моментомъ, въ теченіи котораго мы
можемъ разрядить сосредоточившееся было вниманіе, освободить
себя отъ накопленной и теперь уже излишней психи-
ческой силы и почувствовать себя легко и хорошо; а это
и еегь пріятное переживаніе комическаго со своимъ физіоло-
гическимъ эквивалентомъ—смѣхомъ. Если бы непріятный не-
ожиданно случившійся фактъ .живо касался нашихъ интере-
совъ, пріятнаго состоянія пе наступило бы, смѣхъ тотчасъ
же заглохъ бы, а психическая сила была бы напряжена и отяг-
чена другими болѣе тяжкими воспріятіями. Если же, наобо-
ротъ, подобныхъ болѣе тяжелыхъ воспріятій пе появляется,
если все кончается небольшимъ обманомъ нашего предвидѣ-
нія, то такое легкое неудовольствіе въ широкомъ масштабѣ
-вознаграждается слѣдующимъ за нимъ переживаніемъ нашего
психическаго богатства.—Таково, въ немногихъ словахъ, одно -
изъ наиболѣе точныхъ опредѣленій комическаго, принадлежа-
щихъ новому времени; оно гордится тѣмъ, что заключаетъ въ
себѣ въ оправданномъ или исправленномъ и вывѣренномъ видѣ
.многочисленныя попытки опредѣлить комическое, слѣдовавшія
одна за другою, начиная съ древне-эллипской эпохи:—начиная
съ опредѣленія комическаго, даннаго Платономъ въ Филебѣ,
н другого (болѣе распространеннаго его опредѣленія, даннаго
Аристотелемъ, который видѣлъ въ комическомъ безобраз-
ное, не при и о с я щ с е с т р а д а н і. й, и кончая теоріей Гоб-
бса, который видѣлъ въ немъ чувство индивидуальнаго
превосходства, или теоріей Канта, разсматривавшаго его,
какъ освобожденіе о т ъ п а н р я ж е н і я, или же цѣлымъ
рядомъ иныхъ теорій, предложенныхъ другими мыслителями,
какъ то: теоріями его, как'ь контраста между боль-
шимъ и малымъ, безконечнымъ п конечнымъ и
т. ц. Однако, если отнестись къ дѣлу внимательно, то окажется,
__ 105 _
что приведенный анализъ п опредѣленіе;, будучи на первый
взглядъ столь тщательными и точными, на самомъ дѣлѣ
указываютъ такія черты, которыя присущи не только одно-
му комическому, а и всякому духовному процессу вооб-
ще;—таково слѣдованіе другь за другомь моментовъ пе-
пріягиос.ти и пріятности, таково чувство удовлетворенія, ро-
ждающееся отъ сознанія силы и ея свободнаго расходова-
нія. Различіе вносится при этомъ количественными детер-
минаціями, границы которыхъ невозможно установить и
которыя лосятъ, благодаря этому, характеръ расплывчатыхъ
формулъ, получающихъ нѣкоторый болѣе точный смыслъ
лишь при отнесеніи ихъ къ тому или другому отдѣль-
ному комическому факту и отъ душевныхъ склонностей
того, кто ихъ устанавливаетъ. Когда данное выше опре-
дѣленіе принимаются слишкомъ всерьезъ, то о немч> при-
ходится сказать то же- самое, что Жанпауль Рихтеръ
могъ сказать вообще обо всѣхт» онрсдѣленінхъ комическаго,
а именно: что ихъ единственной заслугой является то, что
они сами стали комичны и тѣмъ реально осуществляюсь
тотъ фактъ, который напрасно пытаются фиксировать логически,
давая эгимъ возможность познать ого нѣкоторымъ образомъ
въ самой его наличности. И возможно ли, на самомъ дѣлѣ,
логически опредѣлить ту линію, которая раздѣляетъ коми-
ческое и нскомичсскос, смѣхъ н улыбку, улыбку и серьез-
ное настроеніе и разграничить точнымъ образомъ то всегда
измѣнчивое непрерывное цѣлое, въ видѣ котораго раскрывается
жизнь ? I > 11 і <
отношенія Факты, классифицировать которые- лѵчпіе всего
между этимн ' - 1 і яі
понятіями н при ПОМОЩИ ѴКЙЗаНІіЫХЪ ПСИХОЛОГНЧССКИХЪ ПОНЯТІЙ.
ПОНЯТІЯМИ ЭСТС-
тнчесхими. находятся съ искусствомъ только въ томъ основ-
нбмъ отношеніи, что всѣ они, посколько они составляютъ со-
бою матерію жизни, могутъ служить предметомъ художе-
ственнаго представленія, и только въ томъ случайномъ отно-
шеніи, что въ описаипые процессы иногда входятъ также и
эстетическіе факты, примѣромъ чего служитъ то впечатленіе,
величественности, которое можетъ произвести произведеніе ка-
кого-нибудь художника-титана, Данте или Шекспира, или впе-
чатлѣніе комичности. которое можетъ произвести своими сга-
раніями какой-нибудь пачкунъ или бумагомаратель. Но п въ
этихъ случаяхъ общій процессъ остается внѣшнимъ по отпоите-
— 106 —
•
пію къ эстетическому факту, къ которому въ дѣйствительности
относится лппіь чувство эстетической цѣнности и противоцѣпно-
сги. прекраснаго и безобразнаго. Дантевскій Фаримата эстети-
чески прекрасенъ и только прекрасенъ; если, кромѣ, того, сила
воли этой личности производитъ величественное впечатлѣніе или
же величественнымъ представляется, благодаря своей высокой ге-
ніальности, то выраженіе, которое ой далъ Данте,- по сравненію
съ выраженіемъ, даннымъ ей другимъ менѣе могуществен-
нымъ поэтомъ, то все это—факты, лежащіе совершенію внѣ.
поля эстетическаго разсмотрѣнія. Это послѣднее (повторимъ
это еще разъ) имѣетъ въ виду единственно лишь адэкватпость
выраженія, т.-е. красоту.
XIII.
„Физически-прекрасное" въ природѣ и
въ искусствѣ.
эстетическая Отличаясь отъ практической дкятельиости, эстс-
дѣятельность и .. х
Физическія «о- тнческая дѣятельность всегда, все же. сопровождает-
нятія.
ся ею при своемъ ооиаруженіи;—отсюда утилитар-
ная или гедонистическая сторона эстетической дѣятельности и
удовольствіе съ неудовольствіемъ, которыя являются какь бы
практическимъ отзвукомъ эстетической цѣнности и противоцѣи-
ности, прекраснаго и безобразнаго. Но эта практическая сторона
эстетической дѣятельности въ свою очередь сопровождается нѣ-
которымъ ф и з и ч е с к н м ъ и л и и с и х о ф и з и ч е с к и и ъ а к-
компапиментомъ, который слагается изъ звуковъ, тоновъ, дви-
женій. комбинацій линій и красокъ и т. п.
Но имѣетъ ли она. его на самомъ дѣл ѣ. или же это только
гакъ кажется, будто она его имѣетъ,—только такъ кажется
въ силу той конструкціи его. которую мы выполняемъ вь физи-
ческой наукѣ, и благодаря тѣмъ удобнымъ и произвольнымъ
пріемамъ, сопринадлежность коихъ эмпирическимъ и отвлечен-
пымъ наукамъ мы уже много разъ отмѣчали? Нашъ отвѣть пе
можетъ подлежать сомнѣнію: мы должны присоединиться ко
второму предположенію. Однако, въ настоящій моментъ будетъ
удобнѣе оставить это какъ бы подъ сомнѣніемъ, такъ какъ пока
нѣтъ пикакой надобности продолжать эти изслѣдованія дальше.
Достаточно простого предостереженія для того, чтобы пашс
трактованіе физическаго элемента, какъ чего-то об'ьективпаго
и существующаго, принимающее такой видъ ради простоты и
согласованія съ общепринятымъ гнособомъ выраженія, не при-
водило пока- что къ слишкомъ поспѣшнымь заключеніямъ
— ІОЬ —
относи голы іо понятій духа и природы и ихъ взаимоотношенія
между собою.
Выраженіемъ Зато ВЯЖНО СЪ ОСОбСПНОЮ СИЛОЙ ОТГѢіПІТЬ,
что подобію тому, какъ наличность гедописти-
иа^ралистич^ теСКОЙ СТОрОНЫ у ВСЯКОЙ ДѢЯТСЛЫЮСТИ ДѴХЯ
сномъ смыслѣ, содѣйствовала смѣшенію эстетической дѣятель-
ности и полезнаго или пріятнаго, точно такъ же на-
личность или, лучше, возможность построенія такой фи-
зической стороны породила смѣшеніе между эстетиче-
скимъ выраженіемъ и выраженіемъ въ натуралистиче-
скомъ смыслѣ, т.-е, между фактомъ духовнымъ и фактомъ
механическимъ п пассивнымъ (—чтобы не сказать: между кон-
кретной реальностью и абстракціей или фикціей). Вь повсе-
дневномъ языкѣ выраженіями называются какъ слова
поэта, ноты музыканта, фигуры художника, такъ и тотъ румя-
нецъ, которымъ обычно сопровождается чувство стыда., та
блѣдность, которая часто является слѣдствіемъ страха, то
оскаливаніе зубовъ, которое характерно для сильнаго гнѣва,
тотъ блескъ глазъ и тѣ мышечныя движенія рта. въ ко-
торыхъ обнаруживается веселое настроеніе. Кромѣ того оіце,
принято говорить, что температура опредѣленной степени есть
выраженіе лихорадочнаго состоянія, а пониженіе баро-
метра есть в ы р а ж е и і о дождливой погоды, и что высота
курса выражаетъ паденіе стоимости бумажныхъ денегъ
даннаго государства, а общественное недовольство—прибли-
женіе революціи. Можно себѣ представить, какихъ научныхъ
результатовъ можно достигнуть, поддаваясь вліянію сло-
воупотребленія и сваливая въ одну кучу столь различ-
ныя вещи. Но, въ дѣйствительности, .между человѣкомъ,
испытывающимъ приступы гнѣва со всѣми сстоствсішычп обна-
руженіями его, и другимъ человѣкомъ, который выражаетъ
гнѣвъ эстетически, между видомъ, воплями и судорожными
движеніями того, кто раздираемъ горемъ утраты близ-
каго человѣка, и словами или пѣніемъ, въ которыхъ тотъ же
самый индивидуумъ нъ другое время передаетъ свою скорбь,
между гримасой волненія и жестомъ актера—цѣлая бездна.
Книга Дарвина о выраженіи чувствъ у человѣка и животныхъ
не принадлежитъ къ эстетикѣ, такъ какъ нѣтъ ничего об-
щаго между наукой о духовномъ выраженіи и семіотикой;
при чемъ безразлично будетъ ли то семіотика медицинская, мс-
— 109 —
теорологическая. политическая, физіономическая пли хироман-
тическая.
Выраженію въ натуралистическомъ смыслѣ недостаетъ про-
сто-напросто выраженія въ духовномъ смыслѣ, м-
самаго характера дѣйственности и духовности, а потому
и распаденія на полюсы прекраснаго и безобразнаго. Оно
представляетъ собою пе что иное, какъ отношеніе между
причиной и дѣйствіемъ, установленное отвлеченнымъ мы-
шленіемъ. Полный же процессъ эстетическаго творчества
можно символически представить въ видЬ четырехъ слѣ-
дующихъ стадій: а) впечатлѣнія; б) выраженіе или ду-
ховный эстетическій синтезъ; в) гедонистическій аккомпа-
ниментъ или наслажденіе прекраснымъ (эстетическое насла-
жденіе); г) переводъ эстетическаго факта на языкъ физическихъ
явленій (звуковъ, тоновъ, движеній, комбинацій изъ линій и
цвѣтовъ и т. л.). Каждому ясно, что существеннымъ пунк-
томъ, который только и является дѣйствительно эстетическимъ
и подлинно реальнымъ, можетъ быть признанъ лишь пунктъ б),
отсутствующій въ чисто-натуралистическомъ обнаруженіи или
чисто-натуралистической конструкціи, метафорически тоже на-
зываемой выраженіемъ.
Пройдя эти четыре стадіи, процессъ выраженія оказывает-
ся исчерпаннымъ; ему остается только обратиться къ новымъ
впечатлѣніямъ, новому эстетическому синтезу н соотвѣтствен-
нымъ сопровождающимъ явленіямъ.
пречставле* Выраженія или представленія слѣдуютъ одно за
нія н память, другимъ, одно вытѣсняя собою другоо. Разумѣет-
ся, такоо прохожденіе, такое вытѣсненіе не означаетъ ги-
бели, не .является полнѣйшей элиминаціей: пичто изъ того,
что рождается, не умираетъ тою полной смертью, которая была
бы тождественна сь порожденіемъ: если все проходитъ мимо,
то ничто не можетъ умереть. Тѣ представленія, о которыхъ
мы позабыли, тоже продолжаютъ въ нашемъ духѣ какое-то
существованіе; не будь этого, нельзя было бы объяснить при-
вычекъ и пріобрѣтенныхъ способностей. II въ такомъ види-
момъ забвеніи тоже сказывается сила жизпи: забывается то, что
поглощается, что преодолѣвается жизнью.
Но .другія представленія являются еще дѣйственными
элементами вь актуальныхъ процессахъ нашего духа; намъ
важно не забывать ихъ и быть въ состояніи вызвать ихъ
— 110 —
всякій разъ, какъ въ томъ оказывается надобность. И воля не-
устанно стоитъ на. стражѣ этой дѣятельности сохраненія, стре-
мящейся сохранить (можно сказать) значительнѣйшее и основ-
ное изо всѣхъ нашихъ богатсівъ. Однако, однѣхъ ея силъ не
всегда достаточно: память, какъ говорится, покидаетъ пасъ
пли различнымъ образомъ измѣняетъ намъ. Поэтому-то чело-
вѣческій духъ и изобрѣлъ средства, приходящія на помощь
слабосилію памяти и оказывающія ей и о д д е р .ж к у.
созданіе Какъ можно достичь обладанія ЭТИМН ВОЮМО-
веномогатель- гательнымп средствами, попятно ѵж'; изъ сказан-
дли памяти. наго. Выраженія или представленія суть въ то
же время и практическіе факты, которые именуются также
«физическими», посколько физика своей задачей имѣетъ ихъ
классификацію и сведеніе къ типамъ. Но въ такомъ случаѣ
ясно, что достаточно придать какимъ-либо образомъ. этимъ прак-
тическимъ или физическимъ фактами, постоянство, чтобы затѣмъ
всегда было возможно (прп неизмѣнности всѣхъ остальныхъ
условій) путемъ ихъ воспріятія воспроизводитъ уже ранѣе быв-
шее выраженіе или интуицію.
Если назвать физическимъ объектомъ или стимуломъ то,
въ чемъ сопутствующіе выраженію практическіе акты или—
придерживаясь физической терминологіи—движенія изолируют-
ся и достигаютъ нѣкотораго постоянства, обозначая при
этомъ такой объектъ пли стимулъ буквой д, то про-
цессъ воспроизведенія выразится слѣдующимъ рядомъ: д) фи-
зическій стимулъ,; г—б) воспріятіе физпчеекпхч. фактовъ (зву-
ковъ, тоновъ, мимики, комбинацій изъ линій и цвѣтовъ и т. п.),
являюіцеес-я вмѣстѣ съ тѣмъ и осуществившимся уже эстетиче-
скимъ сшітезом'ь: в) гедонистическій аккомпанементъ, который
тоже воспроизводится.
И чѣмъ инымъ, какъ ие ’ф и з и ч с с к и м и с т п м у л а м и
воспроизведенія (стадіей д) являются тѣ комбинаціи
словъ, которыя называются поэзіей, прозой, поэмами, новел-
лами, романами, трагедіями или комедіями.—тѣ звуки, которые
именуются операми, симфоніями, сонатами, и тѣ. комбинаціи изъ
линій и красокъ, которыя называются картинами, статуями,
архитектурными произведеніями ? Духовная энергія памяти съ
помощью такихъ изъ предосторожности установленныхъ физи-
ческихъ» фактовъ дѣлаетъ возможнымъ сохраненіе и воспроизве-
деніе создаваемыхъ человѣкомъ интуицій. Если ослабляется
— 111
организмъ, а вмѣстѣ съ пнмъ п память, если разрушаются па-
мятники искусства, тогда быстро истощается и исчезаетъ все
эстетическое богатство, являющееся плодомъ усилій мпогихъ
поколѣній.
Физическое Памятники искусства,—стимулы эстетическаго
прекрасное. воспроизведенія, называются красивыми веща-
м и и л и ф и з и ч е с к и м ъ и р е к р а с и ы м ъ. Такое соедине-
ніе «ловъ представляетъ собою словесный парадоксъ,, такъ
какъ прекрасное пе является физическимъ фактомъ и относится
не къ сферѣ вещей, а- кч. дѣятельности человѣка. кі> сферѣ,
его духовной энергіи. Однако же, совершенно ясно, бла-
годаря какимъ переходамъ и ассоціаціямъ физическіе веіцп
и факты, .являющіеся только вспомогательными средствами при
воспроизведеніи прекраснаго, должны въ коннѣ-концовъ п сами
получить эллиптически наименованіе красивыхъ вещей и физи-
ческаго прекраснаго. Такнмч. эллиптическимъ обозначеніемъ
будемъ пользоваться безъ сомнѣнія н мы послѣ того, какъ
мы уяснили себѣ его сущность.
содержащей Привлеченіе къ дѣлу «физическаго прекраснаго»
ихъ знкченЫ?* ІЮМОГавТЪ ОбьЯСНИТЬ ДрѴГОС (іЮ СраВНёНІЮ СЪ ВЫ-
шеустановлеішымъ) значеніе словъ «содержаніе» и «форма» иъ
слевоу потребленіи эстетиковъ. Дѣйствительно, нѣкоторые язч.
инкъ называютъ «содержаніемъ» выраженіе или внутренній
фактъ (для иась являющійся уже формой), а «формой», на-
оборотъ,—мраморъ, краски, ритмъ, звуки (для пасъ .являющіеся
уже пе формой); такимъ образомъ они разсматриваютъ фи-
зическій фактъ, какъ форму, которая можетъ быть присоеди-
няема. или не присоединяема къ содержанію. Равнымъ обра-
зомъ, привлеченіе кч. дѣлу «физическаго прекраснаго» помо-
гаетъ объяснить также и другой а.споісгь того, что называется
эстстически-«бозобразііымъ». Кто пе имѣетъ ничего своего,
чему могъ бы дать выраженіе, тотъ можетъ попытаться за-
полнись спою внутреннюю пустоту потокомъ словъ, звучнымъ
отихомъ, оглушительнымъ многозвучіемъ, художественнымъ
произведеніемъ, которое ослѣпляетъ взоръ, или совмѣщеніемъ
громадныхъ зодческихъ массъ, поражающихъ и ошеломляю-
щихъ, хотя по существу своему онѣ и ничего не означаютъ.
Безобразное, поэтому, есть продуктъ произвола, есть пѣчго
шарлатанское. 11 дѣйствительно, при невмѣшательствѣ пракгп-
ческаі’О произвола въ теоретическую функцію, могло бы имѣть
— 112 —
мѣсто отсутствіе прекраснаго, а совсѣмъ не наличность чего-лпбо
такого актуальнаго, что заслуживаетъ эпитета «безобразное».
прекрасное К11 сферѣ физическаго прекраснаго принято обыч-
естественное и н0 различать прекрасное естественное и пре-
прекрасное ис- 1 і і *
кусственное. красное искусственное- Это ставить насъ ли-
цомч. къ лицу сь однимъ изъ тѣхъ фактовъ, которые потребовали
отъ мыслителей большой затраты умственнаго труда,—съ прс-
к р а- с и ы м ъ в ъ и р и р о д ѣ. Часто этими словами обозначаются
просто-наніюсто факты практической пріятности. Кто имену-
етъ красивымъ какой-нибудь деревенскій пейзажъ, при взглядѣ,
на который глазъ отдыхаетъ на зелени, тѣло пріобрѣтаетъ въ
своихъ движеніяхъ бодрость и энергію, и топлый лучъ солнца
грѣетъ и ласкаетъ члены, тотъ не видитъ ничего эстетиче-
скаго. Но, конечно, не подлежитъ сомнѣнію такъ же и то,
что въ другихъ случаяхъ эпитетъ «прекрасное», будучи врп-
лагасмъ къ предметамъ и сценамъ природы, обладаетъ чисто
эстетическимъ значеніемъ.
Было отмѣчено, что для того, чтобы эстетически насла-
ждаться естественными объектами, нужно отвлечь отъ ихъ
внѣшней и исторической реальности и отдѣлить отъ суще-
ствованія простую видимость или являемость, — что въ
томъ случаѣ, если мы будемъ смотрѣть на какой-нибудь пейзажъ,
просунувъ голову между ногами и такимъ образомъ измѣ-
няя свое обычное положеніе по отношенію къ нему, пейзажъ
этотъ пріобрѣтетъ для пасъ видъ какого-то идеальнаго
зрѣлища,—что природа красива только для того, кто созер-
цаетъ ее в з о р о м ъ х у д о ж н и к а,—что зоологи и ботаники
не знаютъ красивыхъ животных'і. и цвѣтовъ,— что есте-
ствешю-прскраспос можетъ бытъ открыто (и примѣрами та-
кого открытія являются виды, указанные художниками или
людьми, одаренными фантазіей и вкусомъ, и посѣщаемые за-
тѣмъ паломнически болѣе или менѣе эстетически настроен-
ными путешественниками и экскурсантами, причемъ вь такихъ
случаяхъ имѣетъ мѣсто какъ бы коллективное внушеніе).-4-
что безъ содѣйствія фантазіи никакая часть природы
ие будетъ казаться красивой, и что при такомъ ея содѣйствіи
въ зависимости отъ расположенія духа одинъ и тотъ же есте-
ственный предметъ или фактъ оказывается то выразительнымъ,
то лишеннымъ всякаго значенія, обладающимъ то однимъ опре-
дѣленнымъ выражепіем, то другимъ,—то радостнымъ, то не-
— 113 —
ч&льнычъ,—то величественныя ь, то смѣиіиымъ—то пріятнымъ,
го отталкивающимъ,—что, пакэпець, и ѣ г ъ такой есте-
ственной красоты, вь которую художнику не хотѣлось бы
ввести нѣкоторыхъ исправленій.
Все это—въ высшей степени правильныя наблюденія, и всѣ
они подтверждаютъ съ полнѣйшей ясностью тотъ фактъ, что
естественное прекрасное знаменуетъ собою простой стимулъ
эстетическаго воспроизведенія, вредполагаюмціі уже совершив-
шійся актъ творчества. Если эстетическія интуиціи фантазіи пе
предшествуютъ, природа сама по себѣ не въ состояніи пробу-
дить никакой эстетической интуиціи. Человѣкъ передъ лицомъ
естественной красоты дѣйствительно подобенъ ммонческому Нар-
циссу передъ ігсточникомъ. Указывали даже иа то, что этотъ
стимулъ, какъ случайный, сверхъ того, несовершенъ и двусмы-
сленъ. Прекрасное вь природѣ, говорилъ Леопарди, «рѣдко,
скупо и. скоротечно?); Каждый связываетъ естественный фактъ
сі. тѣмъ выраженіемъ, когороо у него на умѣ. Одгап. ху-
дожникъ внѣ собя отъ восторга при видѣ улыбающеюся ему
пейзажа, другой же—передъ лавкой старьевщика;—одинъ во-
сторгается милымъ личикомъ .молодой дѣвушки, а другой—
мерзкой рожей стараго негодяи. Первый, можетъ быть, скажетъ,
что лавка старьевщика, и рожа негодяя противны; второй
же, — что пошлы улыбающійся деревенскій видъ и ли-
чико молодой дѣвушки. Они могутъ спорить до безконечности и
придутъ только въ томъ случаѣ къ согласію, если обзаве-
дутся той дозой эстетическихъ познаній, которая позволитъ имъ
признать, что оба они правы. 11 ск.усствеппое прекрасное,
создаваемое человѣкомъ, представляетъ собою вспомогательное
средство, обладающее гораздо большей гибкостью и силой.
Смѣшанное Кромѣ этихъ двухъ видовъ прекраснаго въ трак-
ирекрасное. тагахъ но эстетикѣ иногда говорится также еще
о с м ѣ иі а н п о м ъ прекрасномъ. — Смѣшанной ь изъ чего? А
какъ разъ изъ естественнаго и искусственнаго прекрасна-
го. Кію объективируетъ и оформляетъ, имѣетъ дѣло съ есте-
ственными данными, которыхъ онъ не создаетъ, которыя
омь только комбинируетъ и прообразуетъ. Въ этомь смыслѣ
всякій искусственный продуктъ является смѣсью естествен-
наго и искусственнаго; и незачѣмъ было бы говорить о смѣ-
шанномъ прекрасномъ, какъ объ особой категоріи. Но встрѣ-
чаются случаи, когда оказывается возможнымъ примѣнить въ го-
раздо большемъ, чѣмъ въ другихъ случиях ь. ки.інчеетвѣ такія
.• <е і ик ь.
114 —
комбинаціи, которыя уже даны въ природѣ; такъ, папр., об-
стоитъ дѣло въ томъ случаѣ, когда при распланировкѣ сада
удается включить въ общій планъ группы деревьевъ пли ма-
ленькихъ озеръ, уже имѣющихся вь наличности. Въ другихъ
случаяхъ объективаціи бываютъ поставлены границы въ силу не-
возможности искусственно добиться нѣкоторыхъ результатовъ.
Дѣйствительно, мы можемч, смѣшать различныя красящія веще-
ства, но не въ состояніи создать мощный голосъ или такое
лицо и такого человѣка, которые подходили бы къ тому или
другому персонажу какой-либо драмы. Намъ приходится, по-
этому, искать ихъ среди естественно существующихъ налично-
стей и пользоваться ими, если они находятся. Поэтому-то въ
тѣхъ случаяхъ, когда свое примѣненіе находятъ главнымъ обра-
зомъ уже существующія въ природѣ комбинаціи и, при томъ, та-
кія комбинаціи, которыя мы не смогли бы создать искусствен-
нымъ образомъ, если бы онѣ пе существовали уже сами, гово-
рятъ, что получающійся въ результатѣ фактъ представляетъ
собою смѣшанное прекрасное.
письмена. Отъ искусственнаго прекраснаго нужно отли-
чать тЬ орудія воспроизведенія, которыя принято называть
письменами, какъ-то: алфавиты, музыкальныя ноты, іеро-
глифы и всевозможные псевдо-языки, начиная языкомъ цвѣтовъ
и флаговъ ц кончая языкомъ «мушекъ» (который былъ въ боль-
шомъ ходу въ элегантномъ обществѣ Сеітеченто). Письмена ие
являются сами тѣми физическими фактами, когорые непосред-
ственно опредѣляюсь впечатлѣнія, соотвѣтствующія эсі'нтичс-
екпмъ выраженіямъ, а представляютъ собою лишь указанія
на то, что нужно сдѣланъ для того, чтобы получить въ результатѣ
такіе физическіе факты. Рядъ графическихъ знаковъ служитъ
вспомогательнымъ средствомъ для того, чтобы вспомнить тѣ
движенія, которыя мы должны выполнить нашимъ голосовымъ
аппаратомъ, дабы получились опредѣленные звуки. Если съ
теченіемъ времени упражненіе позволяетъ слышать слова,
ие открывая рта, и (что гораздо труди Ье) слышать звуки,
пробѣгая взоромъ по пентаграммѣ, то все это нисколько ие
измѣняетъ природы письменъ, являющихся вещью, достаточно
отличной отъ непосредственнаго физическаго прекраснаго. Пикто
пе назоветъ кишу, содержащую Божественную коме-
дію, или партитуру, содержащую Донъ Жуана, прекрас-
ными подобно тому, какъ метафорически говорятъ это о кускѣ
115 —
мрамора- содержащсмъ въ себѣ Моисея Микельанджело и о
кускѣ покрашеннаго дерева, содержащемъ [I р е о б р а ж е н і е.
Въ обоихъ случаяхъ мы имѣемъ дѣйствія, направленныя на вос-
произведеніе впечатлѣній отъ прекраснаго; но первыя при этомъ
достигаютъ своей цѣли гораздо болѣе длительнымъ и непрямымъ
путемъ.
прекрасное ДрѴТІіЫЪ ДѢлСПІСМЪ, ПЯ-ХОДЯШИМЪ СЩб СвбѢ При-
сво«одное.и ие* .мѣнепіе въ трактатахъ эстетики, являеі ся раздѣленіе
прекраснаго на с в о б о д и о е и несвободное. Къ сферѣ не-
свободной красоты относятся тѣ предметы, которые должны
служить двумь цѣлямъ, внѣ-эстстпчсекой и эстетической (воз-
буждающей интуиціи); и такъ какъ первая цѣль повидимому по-
лагаетъ границы и создастъ препятствія для второй, то и
было признано, что получающійся въ результатѣ красивый
предметъ обладаетъ красотою «несвободной».
Въ качествѣ примѣровъ приводятся, при этомъ, особенно
зодческія созданія; такъ что даже архитектура, именно бла-
годаря этому, многими исключается изь числа такъ называемыхъ
прекрасныхъ искусствъ. Храмъ долженъ быть прежде всего зда-
ніемъ, предназначеннымъ для отправленіи культа; домъ долженъ
обладать всѣми комнатами, необходимыми для удобства, и рас-
положены онѣ должны быть сообразно такому удобству; крѣ-
пость должна, представлять собою сооруженіе, способное со-
противляться атакамъ войскъ даннаго времени и выдержать по-
врежденія, наносимыя военными орудіями даннаго времени.
Архитекторъ вращается, стало быть (такой отсюда дѣлается
выводъ), въ ограниченной сферѣ: опъ можетъ кажь-
пибудъ пріукрасить храмъ, домъ или крѣпость; но
онъ связанъ предназначеніемъ этихъ строеній и въ со-
стояніи осуществить только ту часть своего созерцанія кра-
соты, которая пе нарушаетъ ихъ внѣ-эететпческихъ основныхъ
цѣлей.
Другіе примѣры заимствуются изъ сферы примѣненія искус-
ства къ индустріи. При выдѣлкѣ тарелокъ, стакановъ, ножей,
ружей, гребней можно сдѣлать ихъ красивыми; но только, вѣдь,
нельзя же обращать на красоту ихъ такое вниманіе, чтобы изъ-
за этого на тарелкахъ пе было никакой возможности ѣсть, чтобы
изъ стакановъ нельзя было пить, ножами нельзя было рѣ-
зать, изъ ружей нельзя было стрѣлять, гребнями нельзя было
причесываться. То же самое относится и къ тнпограф-
8-
116
искусству: книга должна быть напечатана красиво,
но не гакъ, чтобы изъ-за этой самой красоты ее грудію было
читать.
критика не- Относительно всего этого нужно замѣтитъ, пер-
с в о б о д и а і о .
Прекраснаго. ВЫМЪ Д'ѢЛОМЬ, ЧТО ВНЪШНЯЯ Цѣль НМеННО ПОТО-
МУ, что она, внѣшняя, не является непремѣнно границей и
помѣхой для другой цѣли.—возбуждать эстетическое іюс-
иро изведеніе. > тіюрждеіііе, что архитектура., на-пр., представля-
етъ ію существу своему падю-бодное и пСАЗовершеииое искусство,
какъ вынужденная сообразоваться также: и съ пнымм практиче-
скими цѣлями, является поэтому совершенно ошибочнымъ; къ
тому же, художественныя произведенія зодчества самой своей
наличностью ужо служатъ отрицанію этого утвержденія.
Во-вторыхъ, не только пѣть никакой необходимости въ томъ,
чтобы двѣ указанныхъ цѣли противорѣчнли другъ другу, по
къ этому нужно прибавить еще и то, что художникъ всегда
имѣетъ въ своихъ рукахъ способъ воспрепятствовать устано-
вленію такого противорѣчія. Какимъ образомъ ?—Вводя въ ка-
чествѣ матеріи въ свою эстетическую интуицію и ея об ъективацію
и р е д н а з и а ч е и і е именно того предмета, который служитъ
какой-либо практической цѣли. Въ гакомъ случаѣ у художника
зге будетъ надобности присоединять что-либо къ предмету
съ той цѣлью, чтобы сдѣлать изъ него орудіе эстети-
ческихъ интуицій, такъ какъ предметъ этотъ будетъ уже
самъ по себѣ такимъ орудіемъ, если въ совершенствѣ бу-
детъ отвѣчать своей практической цѣли. Деревенскіе
дома, и дворцы, церкви в казармы, сабли и плуги пре-
красны но постолько, посколько опи украшены, а посколько
выражаютъ свои цѣли. Одежда красива лишь постолько, ни-
сколько она именно такова, чтобы подходить кь данному лицу
ііріі данныхъ условіяхъ. Не была Красина, та шпага, которою
опоясала воина Ринальдо влюбленная Арчи да: ибо «такъ была
она отдѣлана, что казалась безполезнымъ украшеніемъ, а не
лютымъ орудіемъ воины». О, конечно, опа была красива,—если
угодію,—но только въ гла&ахт. и воображеніи чародѣйки, ко-
торая восхищалась своимъ возлюбленным [. въ такомъ изнѣ-
женномъ видѣ. Эстетическая дѣятельность всегда можетъ до-
стигнуть согласія съ практической дѣятельностью, такъ какъ
выраженіе есть истина.
Нельзя, конечно, отрицать того, что эг готическое со.іорца-
ійе иногда мѣшаетъ практическому употребленію, ибо фактъ
всѣмъ извѣстный изъ опыта, что нѣкоторые новые пречисты
кажутся до того отвѣчающими своей цѣля и потому до того
красивыми, что бываетъ иногда совѣстію обращаться съ нимн
попросту, переходя отъ созерцанія къ ихъ употребленію. ко-
торое всегда ихъ постепенно портитъ. По этой причинѣ король
Фридрихъ Вильгельмъ Прусскій обнаруживалъ нежеланіе по-
сылать въ грязь и огонь своихъ великолѣпныхъ гренадеръ,
столь отвѣчавшихъ требованіямъ военнаго дѣла и оказавшихъ
столько важныхъ услугъ его сыпу, Фрпдриху Великому. ко-
торый был ь меньшимъ эстетомъ.
стимулы Противъ объясненія физическаго прекраснаго,
творчества. какъ простою вспомогательнаго средства въ дѣлѣ
воспроизведенія внутренней красоты пли же выраженій, можно
было бы возразить, что артистъ создаетъ свои выраженія,
когда пишетъ красками иля ваяетъ, работаетъ ладъ своимъ сочи>-
иеніемъ или композиціей, и что поэтому физическое іцюкраоноі-
вмѣсто того, чтобы слѣдовать за эстетическимъ прекраснымъ,
иногда предваряетъ его. Ио это значило бы въ достаточной
мѣрѣ поверхностно отнестись къ процессу художественнаго
творчества; въ дѣйствительности, художникъ никогда пе дѣ-
лаетъ мазка, не созерцавши уже его въ воображеніи; если
ікс оп'в такого созерцанія не имѣлъ еще, то мазокъ дѣлается
имъ но для того, чтобы дагь выходъ вовнѣ своему выра-
женію (котораго въ этотъ моментъ еще пѣтъ), а какъ бы
для пробы и для тою, чтобы получить простую точку опоры
для послѣдующихъ размышленій и внутренней сосредоточенно-
сти. Физическая точка опоры пе представляетъ собою физически
прекраснаго, пе является средствомъ воспроизведенія, а есть,
если можно такъ выразиться, педагогическое средство,
аналогичное удаленію въ уединенное мѣсто или множеству
нных'ь, зачастую довольно-таки своеобразныхъ средствъ, къ
которымъ прибѣгаютъ артисты л ученые, и которыя паріи-
руюгі» вмѣстѣ съ видоизмѣненіемъ идіосинкразій. Старый эсте-
тикъ Баумгартенъ совѣтовалъ поэтамъ въ качествѣ средствъ, со-
дѣйствующихъ вдохновенію, ѣзду верхомъ, умѣренное употре-
бленіе вина и созерцаніе красивыхъ женщинъ, если только
они будутъ при этомъ (предупреждалъ онъ) цѣломудренны.
XIV.
Ошибки, проистекающія изъ смѣшенія физики
и эстетики.
Непониманіе того, что отношеніе, связываиицее между
собою эстетическій фактъ, т.-е. художественное постиже-
ніе, и физическій фактъ, т.-е. то орудіе, которое служитъ
вспомогательнымъ средствомъ дли воспроизведенія перваго,
является чисто внѣшнимъ отношеніемъ. вызвало къ жизни
цѣлый рядъ ошибочныхъ научныхъ теорій, о которыхъ важ-
но упомянуть, подвергнувъ ихъ критикѣ, непосредственно
вытекающей изъ всего того, что до сихъ пора, было сказано,
критика Въ такомъ непониманіи находить себѣ поддерж-
а^соцТацТо^ КУ та Ф°Рма ассоніаціонизма, которая отожде-
ншма. стнляе гъ эстетическій фактъ съ а с с о ц і а ц і е й
двухъ образовъ. Что же привело къ такому заблужденію,
противъ котораго возстаетъ наше эстетическое сознаніе,
являясь сознаніемъ не двойственности, а совершеннаго един-
ства?— А именно то, что физическій фактъ п эстетиче-
скій фактъ были разсматриваемы въ отдѣльности другъ отъ
друга, какъ два будто бы различныхъ образа, проникающіе вь
духъ раздѣльно другъ отъ друга, одинъ прежде, а. другой
уже слѣтомъ за нимъ. Картина, такимъ образомъ, оказывается
раздѣленной на образъ картины и образъ того, что ею
обозначается; поэтическое произведеніе разсѣкается на
образа, словъ и образъ смысла, словъ. Однако, такой
дуализмъ образовъ представляется совершенно несостоятель-
нымъ: физическій фактъ, пе проникаетъ въ духъ въ видѣ обра-
за, а побуждаетъ къ воспроизведенію образа (того единствен-
наго образа, который является эстетическимъ фактомъ), по-
скольку слѣію возбуждаетъ ш-ихичгскііі организмъ и норо-
119 —
ждаетъ впечатлѣніе, соотвѣтствующее уже наличному эстета*
ческому выраженію.
При этомъ, старанія ассоціаціонпстовъ (являющихся нынѣ
хозяевами вь сферѣ эстетики) выйти изъ затрудненія и какъ-ни-
будь овладѣть снова тѣмъ единствомъ, которое было разрушено
указаннымъ ассоціаціонпстическимъ принципомъ, чрезвычайно
поучительны. Одни изъ нихъ придерживаются взгляда, что вы-
зываемый образъ безсознателенъ; другіе, пе отрицая безсо-
знательности, утверждаютъ, однако, что образъ этоть сму-
тенъ, безтѣлесенъ, неясенъ, и сводятъ такимъ образомъ силу
эстетическаго факта къ слабости плохой памяти. Но дилем-
ма остается при этомъ въ силѣ: можно или сохранить ассоціа-
цію и утерять единство, или сохранить единство, отказавшись
отъ ассоціаціи. Третьяго выхода не существуетъ.
критика Отсутствіе внимательнаго анализа такъ пазы-
эсгетической -
Физики. васмаго естественнаго прекраснаго и признаніе его
не за простой моментъ эстетическаго воспроизведенія, а, на-
противъ того, за что-то данное въ природѣ, послужило при-
чиной введенія въ эстетику той части, которая въ трактатахъ
по эстетикѣ носить такой заголовокъ: прекрасное въ
природѣ или эстетическая физика и даже под-
раздѣляется на эстетическую минералогію, ботанику п зооло-
гію. Не будемъ отрицать того, чго трактаты этого рода содер-
жатъ зачастую справедливыя замѣчанія и сами являются ино-
гда. произведеніями искусства., передавая художественно фан-
тазіи и вымыслы, т.-е. впечатлѣнія ихъ авторовъ. По мы
вынуждены, все же, настаивать на томъ, чго задаваться
вопросомъ о томъ, красива ли собака п безобразенъ ли утко-
носъ, прекрасна ли лилія и безобразенъ ли артишокъ, вь
научномъ отношеніи ошибочно. И здѣсь также заблужденіе
двояко. Эстетическая физика, съ одной стороны, грѣшить
двусмыслісмь теоріи артистическихъ и литературныхъ родовъ,
стремленіемъ эстетически опредѣлять абстракціи нашего интел-
лекта; съ другой же стороны, она, какъ это было уже сказано,
ошибочно толкуетъ истинное происхожденіе такъ называе-
маго естественнаго прекраснаго, въ силу котораго недопу-
стимъ даже вопросъ о томъ, является ли данное отдѣльное жи-
вотное, данный цвѣтокъ, данныя человѣкь красивымъ или безоб-
разнымъ. То, что не является порож іоніемъ эстетическаго духа,
и пе сводится къ этому іюе.іѣдппчу, не предотавляется ни
12П —
красивымъ, ни безобразнымъ. Эстетическій процессъ возника-
етъ изъ тѣхъ идеальныхъ связей, въ которыя помѣщаются есте-
сгвепныв предметы.
Критика те- ДВОЙНАЯ 01ШЮКЯ. МОЖСГЬ СЫТЪ ПЛЛЮСТрирО-
человѣческаго Ва,(А рУЗООрОМЪ ВОПрОСЯ О КрАСОТѢ ЧвЛОвѢчв-
і1ла- ска го тѣла, по поводу котораго написаны цѣлые
томы. При этомъ, прежде всего нужно побудить поборниковъ
разсматриваемаго взгляда перейти изъ сферы абстрактнаго въ
сферу копкрепіаго, задавъ имь вопросъ о томъ, что разумѣютъ
опи подъ выраженіемъ «человѣческое тѣло»: мужское ли тѣло,
женское или тѣло гермафродита?—Положимъ, на это отвѣтятъ
раздѣленіемъ изслѣдованія на два независимыхъ вопроса, касаю-
щихся красоты мужской и женской (и дѣйствительно, существу-
ютъ писатели, серьезно занятые вопросомъ о томъ, кто кра-
сивѣе: мужчина пли женщина?). Но тоіда мы спросимъ снова:
мужская и женская красота какой человѣческой расы? Бѣ-
лой, желтой, черной, или еще какой-нибудь изъ расъ (какія
только сущеегв\ іоть, и какъ бы пи подраздѣлять ихъ, при
этомъ)? Положимъ, что намъ отвѣтятъ указаніемъ лишь на бѣ-
лую расу. Тогда мы спросимъ снова: какого изъ подвидовъ бѣ-
лой расы? И когда дѣло сведется постепенно къ какому-нибудь
закоулочку бѣлой части свѣта, скажемъ къ итальянской красотѣ
пли даже къ красотѣ тосканской, сіенской или красотѣ жителей
квартала у Порта Камольк х), мы снова зададимъ вопросъ:—
прекрасно, но красота, человѣческаго тѣла, въ какомъ возрастѣ?
При какихь условіяхъ и въ какомъ состояніи? Красота ли
тѣла воворожедениаго, ребенка, мальчика, юноши, или чело-
вѣка среднихъ лѣтъ и т. п.; красота ли человѣка, который
находится въ покойномъ состояніи, или того, который рабо-
таетъ, или же человѣка, который запять подобно коровѣ
Пауля Поттера иля подобно Галимеду Рембрандта?
Достигнувъ такимъ образомъ, путемъ постепенныхъ редукцій,
индивидуума отпішобо (Іеіегіпіпаіит или, лучше, «вотъ это-
го». который указуі’тся пальцемъ, намъ не трудно будетъ обна-
ружить и другую ошибку, припомнивъ то, что было сказано
выше относительно естественнаго факта, который въ зависимо-
сти отъ точки зрѣнія, въ зависимости отъ того, что происходитъ
!) О1.ИН1. к;>і. кварталовъ Сіены. 11р. пе.р.
— 121
въ душѣ ар госта, можетъ быть то прснграсен ь, то безобразеи ь.
Если даже Неаполитанскій заливъ имѣетъ енпихъ хулителей, и
существуютъ артисты, считающіе его невыразительнымъ и пред-
почитающіе «угрюмыя ели», «облака- и ненрссгаішые аквило-
ны» сѣверныхъ морей, то можно ли представить себѣ, чтобы
подобная относительность не имѣла силы и по отношенію къ
человѣческому тѣлу, являющемуся источникомъ самыхъ раз-
личныхъ воздѣйствій
критика крП- Съ эстетической же физикой находится вь свя-
соты геометпи- зп и ВОПРОСЪ О КРИСОТѢ ГбОМеТрІІЧеСКИХЪ
ческихъ фи- г і і
отъ- фигуръ. Если подъ геометрическими фигурами,
при этомъ, разумѣлъ понятія геометріи (понятія треугольника,
квадрата, конуса), то они ни красивы, ни. безобразны, именно
потому, что суть понятія. Если же, напротивъ того, подъ
геометрическими фигурами разумѣются тѣла, обладающія опре-
дѣленными геомегрическимп формами, то они красивы нлп бе-
зобразны въ зависимости отъ тѣхъ идеальных ь связей, въ кото-
рыя помѣщаются. Было высказано мнѣніе, что красивы тЬ гео-
метрическія фигуры, которыя стремятся вверхъ, давая тѣмъ
образъ устойчивости и силы;—и незачѣмъ отрицать тою. что
при случаѣ это можетъ быть такъ. По не слѣдуетъ отри-
цать также и того, что фигуры, производящія впечатлѣніе
неустойчивости и придавленности, тоже могутъ быть надѣ-
лены красотою, когда созданы именно для того, чтобы пред-
ставлять неустойчивое и придавленное, и что въ этомъ по-
слѣднемъ случаѣ твердость прямой линіи и легкость конуса
или равносторонняго треугольника покажутся, наоборотъ, мо-
ментами безобразія.
Разумѣется, всѣ подобные вопросы о прекрасномъ въ при-
родѣ и красотѣ вь геометріи, какъ равно и другіе, анало-
гичные имъ вопросы объ историческомъ прекрасномъ и чело-
вѣческой красотѣ, представляются менѣе абсурдными въ эсте-
тикѣ симпатическаго, которая подъ словами «эстетическая кра-
сота» подразумѣваеть, въ сущности, изображеніе правящагося
намъ. Однако и тугъ, при окружномъ пути подобнаго уче-
нія, и при подобныхъ предпосылкахъ, претензія научно
опредѣлить то, какія нзь содержаніи являются симпатичными
и которыя изъіііихъ безповоротно несимпатичны, представляется
нисколько не меніи- оіпибочмоіі. По поводу этого вопроса можно
ТОЛЬКО повторять <<) бгзкіИІРЧШн-тП >41111 ЦІ1ОЗ'-- первой ОЛЫ
І22
первой книги Горація и «Ііаѵѵі с1н» изі. письма Леопарди къ
Карло Ііегюли-. Для каждаго—своя красоча (—симпатичное), какъ
у каждаго своя милая. Фплографія—не наука.
Критика дру- При созданіи ПСКуССТВеіІІіаГО ОруДІЯ НЛП фи-
подражаСиГя зическаго прекраснаго артистъ иногда имѣетъ
природѣ. передъ собою естественно существующіе факты,
которые называются его моделями: тѣла, матеріи, цвѣты
и т. д. Чтобы убѣдиться въ томъ, достаточно бросить бѣглый
взглядъ на наброски, студіи и замѣтки артистовъ. Леонардо,
когда работалъ ладъ Таііноіі Вечерей, дѣлалъ слѣдующія за-
мѣтки въ своей намятой книжкѣ: «Джіовапшіа, фантастиче-
ское лицо, находится въ Св. Катеринѣ, въ Оспедалэ; Кристофа-
по ди Кастильопэ находится въ ПьетА, хорошая голова; Хри-
стосъ—Д.жіоьанпи Конте, что у кардинала дель Мортаро». И
т. д. Отсюда .получается иллюзія, будто артистъ подра-
жаетъ природѣ; въ то время, какъ точнѣе было бы, по-
жалуй, сказать, что природа подражаетъ артисту и повину-
ется ему. Въ этой иллюзіи иногда на,ходила себѣ почву и
нишу теорія искусства, как ь п о д р а ж а и і я п р и р о д ѣ, а
также и болѣе допустимый варіантъ ея,—теорія искусства,
какъ идеализаціи природы. Зта послѣдняя теорія ри-
суетъ процессъ творчества, безпорядочно и даже обратно реаль-
ному порядку, такъ какъ артистъ, согласно ей, отправляется
не отъ внѣшней реальности съ цѣлью измѣлить ее. приближая
ее къ идеалу, а отъ впечатлѣнія, полученнаго имъ отъ внѣш-
ней природы, переходить къ выраженію, т.-е. къ своему идеалу,
отъ этого же послѣдняго переходить уже къ естественному
факту, который становится орудіемъ воспроизведенія факта
идеальнаго.
критика тео- Слѣдствіемь смѣшенія факта эстетическаго съ
иыхъ’’*форТмъ физическимъ фактомъ является также и ученіе объ
прекраснаго. э л с м о и т а р н ы х ъ ф о а х ъ прекраснаго.
Въ то время, какъ выраженіе (прекрасное) недѣлимо, физиче-
скій фактъ, въ которомъ опо обнаруживается, можетъ быть,
наоборотъ, раздѣленъ и подраздѣляемъ: яапр., расписанная
красками поверхность можетъ быть подраздѣляема на линіи и
краски, соединенія и изгибы лішііі, виды красокъ и т. и.; поэти-
ческое произведонір—на. строфы, сгпхп, стоны, і-лэги: а. прозаи-
ческое произведеніе па. главы, параграфы, абзацы, періоды,
Фразы, і'.кнлі п г. и. Части, га кичъ обрпзом і. получаемыя.
123
не представляютъ собою эстетическихъ фактовъ, а суть лишь
меныпіе по своей величинѣ физическіе факты, произвольно
выдѣляемые изъ большихъ. Если птгн по тому же пути
дальше, оставаясь во власти допущеннаго смѣшенія, то
въ концѣ-концов ь придется заключить, что подлинными эле-
ментарными формами прекраснаго являются атомы.
Противъ «атомовъ-- можно было бы вычвинуть много разъ уже
провозгтапіаыпіііся эстеппгескііі закопъ, что прекрасное должно
имѣть вели ч и и у, — какую-нибудь опредѣленную величину,
которая не обладала бы пи незамѣтностью слишкомъ малаго,
ни необъятностью слишкомъ большого. Но. вѣдь, величина,опре-
дѣляющаяся не измѣреніемъ, а воспринимаемостью, имѣетъ въ
виду нѣчто совсѣмъ другое, чѣмъ математическое иопяііе. II
дѣйствительно, то, что обозначается, какъ незамѣтное или не-
объятное, не производитъ впечатлѣнія, такъ какъ не является
реальнымъ фактомъ, а есть понятіе: требованіе величины для
прекраснаго сводится, такимъ образомъ, къ требованію дѣй-
ствительной наличности физическаго факта, помогающаго вос-
произведенію прекраснаго.
критика из- Изслѣдованіе ф иэ и ч е с к и х ь з а к о и о в ъ или
слѣдованія •' *
лбьсктииныхъ о б ъ е к т и в н ы х ’ь условій прекраснаго
условій пре- ' ,,
краснаго. привело къ слѣдующимъ вопросамъ: какимъ фи-
зическимъ фактамъ соотвѣтствуетъ прекрасное? какимъ изъ
нихъ соотвѣтствуетъ безобразное?—какимъ соединеніямъ зву-
ковъ, цвѣтовъ, величинъ, допускающих ъ математическое опре-
дѣленіе? Это похоже па то, какъ если бы въ политической эко-
номіи стали искать законовъ обмѣна—въ физической природѣ
тѣхъ объектовъ, которые участвуютъ въ обмѣнѣ. О тщетности
попытокъ этого рода должна была быстро зародиться
мысль въ виду ихъ постоянной безплодности.'—Въ наше
время въ особенности часто можно было слышать утвер-
жденіе о необходимости и и д у к тпвпо й эстетики, эсте-
тики- снизу, которая бы лосту пала, какъ естественная
паука, и пе спѣшила бы со своими заключеніями. — Ин-
дуктивной эстетики!? По, вѣдь, эстетика всегда, была индукгив-
ноЙ и дедуктивной одновременно, какъ п всякая философская
паука вообще; индукція п дедукція не могутъ быть отдѣлены
другъ отъ друга: будучи же раздѣлены, оий пе въ состояніи,
каждая въ отдѣльности, характеризовать собою подлинную
науку. Однако, слово <индуктивная- было произнесено не с-.п-
121
чайпо пли безъ намѣренія: нчъ стремились отмѣтишь го что эсте-
тическій фактъ есть пе что иное въ сущности своей, какъ фактъ
физическій, въ изученіи котораго нужно пользоваться понятіями
и методами, присущими феоическимъ| и естественнымъ наукамъ.
Съ такими предпосылками и съ такой увѣренностью приступи-
ла индуктивная эстетика или эстетика снизу (что за гор-
дость въ этой скромности!) къ дѣлу. Опа па,чала сознательно
собираніемъ красивыхъ предметовъ, иаир., стала со-
бирать конверты для писемъ,—различной формы и различнаго
размѣра, и затѣмъ старалась установить, какіе изъ пикъ про-
изводятъ впечатлѣніе красоты, а какіе вызываютъ впечатлѣніе
безобразноеги. Какъ и нужно было ожидать, индуктивные эсте-
тики тотчасъ же очутились въ затруднительномъ положеніи: тотъ
же самый предметъ, который казался безобразнымъ въ одномъ
отношеніи, въ другомъ отношеніи затѣмъ представлялся кра-
сивымъ. Грубый .желтый конвертъ, безобразнѣйшій въ глазахъ
того, кто долженъ положить въ него любовное посланіе, въ
высшей степени подходитъ къ повѣсткѣ, заштемпелеванной ру-
кою прпврагшіка н содержащей вызовъ въ судъ; этой же
бумагѣ въ свою очередь совсѣмъ не подходило бы (или, по
меньшей мѣрѣ, казалось бы ироніей) лежать въ квадратномъ
конвертѣ изъ англійской бумаги. Этихъ соображеніи здраваго
смысла должно бы было бытъ достаточно для того, чтобы
убѣдить эстетнковъ-шідуктпвистовъ нъ томъ, что прекрасное
не имѣетъ физическаго суіцестаованія, и побудить ихъ пре-
кратить безполезное и смѣшное стараніе. По пе тугъ то было!
Они обратились къ помощи такого средства, въ соотвѣтствіи ко-
тораго строгости естественныхъ наукъ трудно пе усомниться.
Они пус-шлп вч. ходъ свои конверты и объявили геіетопбипі,
стремясь установитъ простымъ болыпинством I. голосовъ, въ
чемъ состоитъ прекрасное и безобразное.
Мы не будемъ больше задерживаться на. этомъ, такъ какъ
въ противномъ случаѣ памъ бы грозила участь превратиться
изъ излагателей эстетической пауки и ея проблемъ въ раз-
сказчиковъ комическихъ анекдотовъ. Фактъ налицо,—что индук-
тивная эстетика, несмотря на всѣ свои усилія, пе открыла
до сихъ норь ни одного за-копа.
Астрологія Кто потерялъ вѣру въ медиковъ, склоненъ от-
эсгетпкя. даться въ руки шарлатановъ. II точно такъ же слу-
чилось < (. ті’.мн. кто вѣрилъ въ натуралистическіе законы пре-
кра :иаіч». Арпісты иногда- пользуются такими лмішрлческпмн
правилами. какъ яапр. правило пропорігііі въ человѣ-
ческомъ тѣлѣ или правило золотого сѣченія, т.-е. такого
раздѣленія линіи на двѣ части, при которомъ меньшая часть
относится къ большей, какъ большая къ цѣлой линіи
(Ьс: ас —ас: аЬ). Такія правила легко превращаются въ суе-
вѣрія; какъ только артисты начинаютъ приписывать соблю-
денію этихъ правилъ удачное выполненіе своихъ работъ. Такъ,
Микельанжело оставилъ въ наслѣдство своему ученику Марко
дсль-ІТппо изъ Сьеиы предписаніе: «чтобы оіп» вссгіа дѣлалъ
фигуру пирамидальной, змѣящейся, умноженной на одинъ,
два и три». Это предписаніе, однако, не помогло Марку
Сьенскому подняться надъ той посредственностью творчества,
которую мы можемъ наблюдать па примѣрѣ его многочислен-
ныхъ художественныхъ произведеній, находящихся въ Неа-
полѣ. Это изреченіе Микельанжело послужило для другихъ
поводомъ провозгласить волнообразную и извивающуюся ли-
нію подлинной линіей красоты. О такихъ законахъ кра-
соты, о золотомъ сѣченіи и волнообразной и извивающейся
линіи написаны цѣлые томы, которые съ пашей точки зрѣнія
слѣдуетъ разсматривать, какъ сворую рода эстетическую
астрологію.
XV.
Дѣятельность объективаціи. Техника и теорія
искусствъ.
Практнче- Фактъ созданія физическаго прекраснаго озиа-
ность д<)бъек- чаетъ собою, какъ уже было нами отмѣчено, не-
тнваціи. усыпное волевое стараніе сохранить нѣкоторыя по-
стиженія, интуиціи или представленія. При огонь, воля можетъ
раскрываться со страшной быстротой и какъ бы инстинктивно,
но можетъ также имѣть надобность и въ длительныхъ и много-
труі.пыхъ размышленіяхъ. Но какъ бы тамъ пи было, только
гакъ, т.-е. путемъ созданія вспомогательныхъ средствъ для
намяти или же. физическихъ предметовъ. вступаетъ практиче-
ская дѣятельность въ соединеніе сь дѣятельностью эстетической,
уже пе какъ простая еопутлпца ея, а какъ моментъ, отъ нря
реально отличный. Мы не въ состояніи хотѣть или не хотѣть
нашего эстетическаго постиженія; но мы вь состояніи хотѣть
его и не объективировать или, лучше, нъ состояніи сохранять
и сообщать другимъ осуществленную объективацію, или же нр
дѣлать этого вовсе.
техника объ Этотъ фактъ свободной объективаціи предпола-
екти націи. ГИОТЪ ЦѢЛЫЙ р.ЯДЪ РАЗЛИЧНЫХЪ ПОЗНАНІЙ, КОТОрЫЯ.
какъ и всѣ познанія, когда они предшествуютъ практической
дѣятельности, получаютъ (какъ намъ уже извѣстно) названіе
техническихъ. 11 точно такъ же, какъ, пользуясь метафо-
рой и эллипсомъ, говорятъ о физическомъ прекрасномъ точно такъ
же говорятъ и о х у д о ж е с тв е и п о й т е х п и к ѣ, т.-е. (упо-
требляя болѣе точное обозначеніе) о незнаніяхъ, находя-
щихся па службѣ у практической дѣятельности,
направленной па. созданіе стимуловъ для эсте-
тическаго н о г и р о и :$ п е і е н і я. Вмѣсто того, чтобы упѵ-
І 27
треб.іять такой длинный оборотъ, лы буцемъ пользоваться
обычной терминологіей, о смыслѣ которой мы теперь усло-
вились.
Возможность подобныхъ техническихъ познаній, находящихся
на службѣ у артистическаго воспроизведенія, и есть какь
разъ то, что смутило умы и побудило ихъ придумать эстети-
ческую технику внутренняго выраженія пли. что то же, теорію
с I» е д с т в ъ в н у т р е н и я г о в ы р а ж. е и і л,— нѣчто совер-
шенно непостижимое. II мы хороню уже знаем'ь причину та-
кой вепостижпмогпг выряженіе, вѣдь, будучи разсматриваемо
само по себѣ, есть элементарная теоретическая дѣятельность
и, какъ таковая, предшествуетъ практикѣ и тѣмъ интеллек-
туальнымъ познаніямъ, которыя освѣщаютъ практику; такимъ
образомъ, опо не зависитъ ни отъ практики, и и отъ такихъ
интеллектуальныхъ иозіінііііі. Оно со дѣйствуетъ освѣщенію прак-
тики, но само не по.іу чаетъ о сь я гой послѣдней никакого освѣ-
щенія своей области. Выраженіе не имѣетъ средствъ, гакъ
какъ ие имѣетъ цѣли: оно нптуирустъ что-либо, а не хочетъ
егэ; и потому выраженія нельзя разложить на абстрактные со-
ставные элементы воля: средство и цѣль. Если иногда гово-
рятъ, что такой-то писатель изобрѣлъ новую технику романа
или драмы, а такол-то художникъ изобрѣлъ новую технику
распредѣленія свѣта, то слова въ такомъ случаѣ употребля-
ются не надлежащимъ образом'ь, такъ какъ мнимая новая
техника, есть вь гѣіігтіпітсльиости не что нное, какъ самъ
т а к о и и о в ы и р о м а и ь, с а м а такая и о в а я к а р т и и а.
Распредѣленіе свѣта относится къ самому созерцанію кар-
тины; и точно такъ же, техника драматурга есть сама его
драматическая концепція. Иногда же словомъ ,техника" имѣютъ
обыкновеніе обозначать какіе-либо достоинства пли недостатки
и оу І.аві пойся работы: въ такііуь случаяхъ, какъ бы для-ради
смягченія, говорятъ, что хотя-де концепція неудачна, зато
техника, хороша, или же. наоборотъ, что хотя концепція и хо-
роша, техинка-де хромаетъ.
Наоборотъ, когда рѣчь и і.етъ о способахъ письма мас-
ляными красками или гравированія крѣпкой нодкоіі тілн ваянія
изъ алебастра, то въ такихъ случаяхъ слово гтехника11 имѣетъ
прямой смыслъ, но зато прилагательное „художественный" полу-
чаетъ уже чисто метафорическое значеніе. II если въ эстетиче-
скомъ' сѵыс.іГ» пе можетъ быть пика кой драматической техники,
— 1*2^
г» нѣгъ ла ги ничего невозможнаго ігь техникѣ театра.іьіп.й или
техникѣ процессовъ объективаціи нѣкоторыхъ отдѣльныхъ эсте-
тическихъ произведеніи. Когда, на-нр., въ Италіи во второй
половинѣ шестнадцатаго столѣтія ввели на сцену женщинъ, за-
мѣнивъ ими мужчинъ, гримировавшихся подъ женщинъ, то этимъ
былъ сдѣланъ подлинный, настоящій шагъ впередъ въ театраль-
ной техникѣ; и такой же точно шагъ внореіъ былъ сдѣланъ
техникой въ слѣдующемъ столѣтіи, благодаря тому усовершен-
ствованію, которое сумѣли ввести импресаріо театровъ Венеціи
въ машины, производящія быструю смѣну декорацій.
техническія СОВОКУПНОСТЬ ГОХНИЧбСКЯХЪ ПОЗЯаНІЙ, КОТОрЫМИ
теоріи о г- пользуются хѵ.дожіппш, стремящіеся объективировать
кусствъ. свои выраженія, можетъ быть подраздѣлена. на
группы, каждая изъ которыхъ можетъ получить названіе т е о р і и
искусства. Таково происхожденіе теоріи архитектуры, со-
держащей законы механики, разъясненія о вѣсѣ или сопроти-
вляемости строительныхъ матеріаловъ и матеріаловъ облицовки,
о способѣ смѣшенія известки съ гипсомъ; таково пронсхо-
ж і,еніе теоріи скульптуры, содержащей указанія па способы
обдѣлки различныхъ камней, достиженія хорошей отливки
бронзы, обработки ея рѣзцомъ, точной копировки глиняной и
гипсовой модели, сохраненія глины сырою; таково же проис-
хожденіе теоріи живописи, трактующей о техникѣ письма
темперой, масляными красками, акварелью, пастелью, о пропор-
ціяхъ человѣческаго тѣла, о правилахъ перспективы;--и теоріи
реторпки съ ея предписаніями относительно способовъ декла-
маціи, методовъ упражненія и усиленія голоса, мимическихъ
движеній л жестовъ; — и теоріи музыки, трактующей о комби-
націяхъ и сліяніяхъ тоновъ и звуковъ и т. д. — Собранія та-
кихъ предписаній изобилуютъ во всѣхъ литературахъ. 11 такъ
какъ невозможно сказать сь точностью, что полезно знать и
что никакой пользы для знанія не представляетъ, то книги
эгого рода очень часто превращаются въ энциклопедіи или
к а та л о г и в с я ч е с к. ихъ (I с а і <1 е г а і а. Ви грувіи въ сво-
емъ І)е агсЪііссІига требуетъ отъ архитектора знанія литера-
туры, рисованія, геометріи, ариѳметики, оптики, исторіи, есте-
ственной и моральной философіи, юриспруденціи, медицины,
астрологіи, музыки и т. п. Знать хорошо все: когда научился
одному, переходи къ другому.
Ясно, что подобныя з.мііиричѳгкія собранія не могутъ прекра-
129
тніься въ наукх. Будучи составлены изъ шшпіій, занмсіповав-
ішхъ илъ различныхъ наукъ и дисциплинъ, онп и свои фило-
софскіе и научные принципы получаютъ отъ этихъ послѣднихъ-
За (аватыя цѣлью построенія научной теоріи отѵѣльиыхъ
искусствъ значило бы строчиться снести къ одному и тому же
(инородному началу то, что но самому своему опредѣленію
множественно, нооднороіно,—значило бы хотѣть отпять видъ со-
бранія у того, что и поставлено —то вм ѣстѣ какъ разъ съ цѣлью
осуществить такое собраніе. Лено, что при попыткѣ придать
руковп іетвамъ для архитекторовъ, художниковъ и.ш музы-
кантовъ строго научную форму иъ ішпшхъ рукахъ останутся
лишь общіе принципы механики, оптики или акустики. Если же
изъ и ихъ выдѣлить и изолировалъ все то, что можетъ быть
отнесено на счетъ чисто художественныхъ наблюденій, съ цѣлью
построить научную систему, то придется оставить сферу отдѣль-
ныхъ искусствъ и перейти къ эстетикѣ, которая всегда оста-
ется общей эстетикой или, правильнѣе выражаясь, не можетъ
быть раздѣлена на эстетику общую и эстетику спеціальную. Такъ
и бывало обыкновенно въ тѣхъ случаяхъ, когда за разработку
подобныхъ теорій и техническихъ руководствъ брались люди,
надѣленные большимъ научнымъ чутьемъ и природной склон-
ностью къ философіи (такъ какъ, намѣреваясь дать технику
они получали эстетику).
критика Но смѣшеніе эстетики съ физикой достигло своей
эстетическихъ ВЫСШОЙ ТОЧКИ, КОГ Щ были ПрИДУМЛіІЫ ЭСТеТИЧОСКІЯ
теорій отдѣлъ- ’ 1 •
пыхъ искусствъ. теоріи ОТДѢЛЬНЫХЪ ИСКУССТВЪ, СЪ ЦѢЛЬЮ ОбЛОі’ЧНТЬ
отвѣты на слѣдующіе вопросы: каковы г р а н и ц ы каждаго ис-
кусства? что можно представить при помощи красокъ п что при
помощи звуковъ? что можно представить при помощи простыхъ
одноцвѣтныхъ линій и что при помощи діолось различнаго цвѣ-
та?—что при помощи звуковъ и что при помощи размѣровъ и
ритмовъ? каковы границы между изобразительными искусствами
и искусствами слуха, между живописью и скульптурой, межху
поэзіей и музыкой?
Выражаясь въ научныхъ терминахъ, спрашивать объ о томъ
бу хотъ то же, что спрашивать о томъ, какова связь между
акустикой и эстетическимъ выраженіемъ? какова связь между
эстетическимъ выраженіемъ и оптикой и т. п.? По если отъ фи-
зическаго факта нѣтъ перехода къ факту эстетическому,
то какъ онъ можетъ быть отъ факта эстетическаго къ отдѣль-
9
Эстетика.
ны.мъ группамъ физическихъ фактовъ, какшилми являются фено-
мены оптики н акустики?
критика Такъ называемыя и с к \ с с т в а не- имѣютъ эсте-
мскуссХ).. тических ь границъ, такъ какъ тля этого они должны
были бы обладать эстетическимъ существованіемъ вь своей
отдѣльности,— мы же показали чисто эмпирическое происхо-
жденіе подобныхъ подраздѣленій. (-.іѣдовательно, всякая по-
пытка эстетической класеш|лік.аціи искусствъ лишена, смысла.
Не имѣя границъ, они не могутъ быть ни гь точностью разгра-
ничены. ни въ силу этого философски различены. Всѣ этн
томы, ноевяіневиые классификаціямъ и систоламъ искусствъ,
можно было бы безъ всякаго ущерба предать огню- (говоря это,
мы сохраняемъ глубочайшее почтеніе къ тѣмъ писателямъ, ко-
торымъ пришлось столько потрудиться НаД'Ь ними).
Убѣжденіе въ томъ, что подобныя систематизаціи не возмож-
ны, подтверждается наличностью тѣхъ странныхъ способовъ,
къ которымъ пришлось прибѣгнуть при ихъ осуществленіи.
Первымъ и наиболѣе общепринятымъ раздѣленіемъ является
раздѣленіе на- искусства слуха, зрѣнія и фантазіи;—•
какъ будто глаза-, уши и фантазія стоять въ одномъ ряду
и могутъ быгь выведены изъ одной и тоіі .же логической
перемѣнной, - - одного и того же основанія дѣленія. Дру-
гими было предложено раздѣленіе искусствъ на. искусства
и р о с т р а и с т в а и в р с м е и и. искусства и о к о я и д н и-
женія;—какь будто понятіями пространства, времени, покоя
и движенія, опредѣляются спеціальныя эстетическія образо-
ванія, и какъ будто они имѣютъ хоть что-нибудь общее съ
искусствомъ, какъ таковымъ. Наконецъ, нѣкоторые развлека-
лись раздѣленіемъ искусствъ на к л а с с и ч е с к і я и р о м а н-
т и ч о с кія, и л и ж е о р і е и т а л ь н ы я, к л а с с и ч е с к і я и
романтическія, придавая такимъ образомъ значеніе науч-
ныхъ понятіи простымъ обозначеніямъ историческихъ фактовъ
или виа нія, благодаря этому, въ рсторлческіл раздѣленія вы-
разительныхъ формъ, выше подвергнутыя уже нами критикѣ:—
или же изслѣдователи развлекали себя подраздѣленіемъ ихъ на
искусства, которыя позволяютъ в и д ѣ т ь с в о и и р о п з-
веденія только съ одной стороны, какъ иапр. жи-
вопись, и на такія, которыя позволяютъ видѣть
и х ъ с о в с ѣ х ъ с т о р о и ъ, какъ-то: скульптура (— и тому
подобными курьезами, которымъ нигдѣ нельзя подыскать ни-
чего соотвѣтствую ша го).
131
Вь дни і’.іюсгѵ возникновенія теорія грапиць между искус-
ствами была, пожалуіі, благодѣтельной критической реакціей
противъ тѣхъ, кто считалъ возможнымъ превращеніе одного
выраженія въ другое (напр., Иліады или Потеряннаго
Рая въ рядъ картинъ) и даже признавалъ за поэтическимъ
произведеніемъ большую или меньшую цѣнность въ зависи-
мости отъ того. могъ ли бы или пѣтъ какой-ппбудь художникъ
выразить рго въ видѣ ряда картинъ. Но изъ того, что реакція
эта имѣла свои причины н окончилась побѣдою, еще пе слѣ-
дуетъ, чтобы были хороши сами породившія ее основанія и
системы, сложившіяся йодъ вліяніемъ необходимости.
критика Вмѣстѣ сь паденіемъ теоріи пскѵсствъ и ихъ гра-
георіи соедине-
нія искусствъ, ницъ рушится также еще и другая теорія, являющаяся
«*я дополненіемъ, а именно: теорія сое д и п е н ія искусствъ.
Какъ только отдѣльныя искусства были различены между собой
и отграничены другъ отъ друга, возникъ вопросъ о гомъ, какое
изъ нихъ б о. і ѣ о м о г у щ е с т вей и о, и нельзя ли ихъ с о-
с д и и е н і г м і. достигнуть еще б о л ѣ е м о іи и ы х ъ результа-
товъ? Но объ этомъ мы ничего незнаемъ: мы знаемъ только, —
«каждый разъ въ отдѣльности,— что нѣкоторыя художественныя
интуиціи для своего воспроизведенія нуждаются въ опредѣлен-
ныхъ физическихъ средствахъ, а другія художественныя интуи-
ціи—вь другихъ средствахъ. Существуютъ драмы, простое чте-
ніе которыхъ уже производитъ впечатлѣніе; но существу ютъ
драмы и иного рода, для которыхъ необходимы декламація и сце-
ническій аппаратъ. Существуютъ,значитъ, художественныя интуи-
ціи, которыя для своей полной объективаціи требуютъ словъ,
пѣнія, музыкальныхъ инструментовъ, красокъ, пластики, архи-
тектуры, актеровъ; п существуютъ другія художественныя интуи-
ціи, которыя прекрасны и закончены въ самыхъ легкихъ кон-
турахъ, сдѣланныхъ перомъ илп нѣсколькими штрихами каран-
даша. Что же касается до того, будто рекламація и сценическій
аппаратъ илп всѣ тѣ другія вещи, о которыхъ только что упо-
миналось, б о л ѣ о \і о г у щ е с т в е н и ы, чѣмъ простое чтеніе
или простой чернильный или карандашный контуръ, то лто со-
вершенно невѣрно, такъ какь каждый изъ этихъ фактовъ или
каждая изъ группъ нхъ имѣетъ, такъ сказать, свою особен-
ную цѣль; а мощь средствъ не допускаетъ сравненія въ тѣхъ
случаяхъ, когда цѣли различны.
У*
І’>2
Отношеніе ІІНКОИГЦ Ь, ТОЛЬКО СЪ ТОЧКИ Зр ЬііІЯ ЯСНЯГО И ТОЧ
олъіктив'ац™ различенія между ЧИСТОЙ и ПОДЛИННОЙ эстети-
къ полезности цеской дѣятельностью п практической дѣятель-
ы нравствек- г 1
«ости. пастью объективаціи можетъ быть дано разрѣшеніе
и запутапным і» и темнымъ вопросамъ, касающимся отношеніи
И Г к У Г- ( т || ;] ст. II о Л РЗПО С Т Г. (О II Н р <1 В С Т Н О II II О С Т I. |О.
Мы уже показали выше, что искусство, какь искусство,
должно быть незавіинмо и отъ полезности и отъ нравствен-
ности. тле. отъ всякоіі формы воли. Не будь такой
независимости, было бы невозможно говорить о внутренней цѣн-
ности искусства, а. равнымъ образомъ и построить эстетиче-
скую науку, которая своимъ необходимѣйшимъ условіемъ имѣ-
етъ автономность эстетическаго факта.
Но было бы заблуж іоніемъ утверж. іать. что такай независи-
мость искусства, являющаяся независимостью постиженія или
интуиціи пли в и у т р е п п я г о в ы р а ж о п 1 я художника, должна
быть безъ всякихъ разговоровъ распространена и на практиче-
скую гѣятелыгость объективаціи и с о о бщо и і я, которая
можетъ и слѣдовать, можетъ я по слѣдовать за эстетическимъ
фактомъ. Какъ только искусство берется въ качествѣ объекти-
ваціи искусства, полезность и нравственность входятъ въ него
съ полныяь правомъ, сь тѣмъ же самымъ правомъ, какое имѣ-
ешь падь вещами собственнаго дома.
Дѣйствительно, изъ тѣхъ многочисленныхъ выраженій и ин-
туицій, которыя образуются въ нашемъ духѣ, мы пе всѣ
объективируемъ и закрѣпляемъ; пе всякую свою мысль, пе вся-
кій свой образъ мы сообщаемъ громкимъ голосомъ или за-
писываемъ, или выражаемъ печатно, или изображаемъ въ видѣ
рисунка, или передаемъ въ краскахъ, или выставляемъ па по-
казъ публикѣ. Мы производимъ в ы б о р ъ въ массѣ интуицій,
впутрсипо оформленныхъ или, но меньшей мѣрѣ, намѣченныхъ.
Нтотъ выборъ руководствуется критеріями экономическаго рас-
порядка жизни и моральнаго ея направленія. Поэтому, когда
какая-нибудь интуиція уже фиксирована, то остается еще взвѣ-
сить, нужно ли ео сообщать другимъ и кому, когда и какимь
образомъ; а это, вѣдь, все—разсмотрѣнія, подчиняющіяся тоже
утилитарному п этическому критерію.
Этимъ путемъ находятъ себѣ нѣкоторое оправданіе тѣ по-
нятія выбора, интереснаго, моральности, воски-
т а т о л ь п о іі ц ѣ л и. и о н у л я р и о с т и и т. д., которыя, если
133
ихъ навязывать искусству, какь таковому, пс могутъ быть ни-
какъ оправданы в потому отвергаются нами въ сферѣ чистой
эстетики. Заблужденіе всегда имѣетъ въ споемъ основаніи ка-
кой-нибудь истинный мотивъ; и тѣми, кто формулировалъ эти
ошибочныя эстетическія положенія, имѣлись въ дѣйствитель-
ности въ виду тѣ практическіе факты, которые внѣшнимъ обра-
зомъ присоединяются къ эстетическому факту и относятся къ
экономической и моральной жизни.
Если, при этомъ, раздаются голоса въ защиту болѣе значи-
тельной свободы также и нъ дѣлЬ выбора средствъ эсте-
тическаго воспроизведенія, со и прекрасно; мы тоже—этого мнѣ-
нія и пре доставляемъ образованіе союзовъ для проведенія за-
конодательныхъ мѣръ и возбужденія процессовь противъ иммо-
ральнаго искусства лицемѣрамъ, простакамъ и бездѣльникамъ.
Но провозглашать гакую свободу и опредѣлять ея границы,—
хотя бы даже и самыя широкія, остается, при этомъ, но преж-
нему дѣломъ морали. Во всякомъ случай было бы неумѣстно
апііелировать къ такому возвышенному принципу, къ такому
Гип^ашепЬіш аезНіеІісез, какимъ является принципъ независи-
мости искусства, съ цѣлью обосновать невиновность того арти-
ста, который при объективаціи своихъ фантазій считается съ
нездоровыми вкусами читателей, какъ безчестный спекулянтъ,
или позволительность для бродягъ продавать по площа-
дямъ непристойныя фигуры. Этотъ послѣдній случай подле-
житъ полицейской компетенціи, въ то время какъ первый слу-
чай долженъ предстать на судъ моральнаго сознанія. Эстети-
ческое сужденіе о произведеніи искусства ие имѣетъ ничего об-
щаго съ сужденіемъ о нравственности артиста, какъ человѣка
практики, а въ равной степени и съ тѣми мѣрами, къ кото-
рымъ слѣдуетъ прибѣгнуть для того, чтобы оказать противо-
дѣйствіе приспособленію предметовъ искусства къ недобрымъ
цѣлямъ, чуждымъ самой природѣ искусства, заключающейся въ
чистомъ теоретическомъ созерцаніи.
XVI.
Вкусъ и художественное воспроизведеніе.
Эсіетнческое Когда ВССЬ ЭСТСТН’ІССКІЙ ПрОЦСССЪ ВПЛОТЬ 1,0 СП-
сужденіе. Его объеКТИВаіІІП ОГО ЗЯКОНЧСПЪ, КОГДа КраСШіОО ВЫ-
юждествеи- *•
ность съ эсте раж.еніе ОСуЩССТВЛСНО И З&КрѢіІЛСНО ВЪ КИКОМЪ-ЛІібО
произведи- опредѣленномъ физическомъ матеріалъ, то справіи-
«іемъ. шьется: что значитъ высказать относительно него
сужденіе? 13 оси ро извести его въ себѣ—отвѣчаютъ
какъ бы въ одипь голосъ художественные критики. Отлично!
Постараемся хорошенько осмыслить этотъ фактъ и представимъ
его съ этой цѣлью схематически.
Индивидуумъ А ищетъ выраженія для того впечатлѣнія, кото-
рое чувствуетъ или переживаетъ, но котораго онъ еще не выра-
зилъ. 11 вотъ оиъ пробуетъ различныя слова и фразы, могущія
ему дать искомое выраженіе, — то выраженіе, которое должно
существовать, но которымъ онъ еще не обладаетъ. Онъ про-
буетъ комбинацію іи и отвергаетъ ее, какъ неподходящую, не-
выразительную, недостаточную, безобразную; пробуетъ затѣмъ
комбинацію л—и съ тѣмъ же успѣхомъ. Онъ или совсѣмъ
не постигаетъ при этомъ или постигаетъ недо-
статочно ясно. Выраженіе еще ускользаетъ изъ его рукъ.
Послѣ цѣлаго ряда дальнѣйшихъ безплодныхъ попытокъ, путемъ
которыхъ оиъ то приближается къ своей цѣли, то снова, уда-
ляется отъ нея, онъ сразу образуетъ искомое выраженіе (такъ
что ему кажется, будто оно сложилось самопроизвольно), и—
Іих Гасіа езі. И вотъ онъ переживаетъ эстетическое удовлетво-
реніе или наслаждается прекраснымъ. Безобразное, сопрово-
ждавшееся соотвѣтствующимъ переживаніемъ неудовольствія,
было эстетической дѣятельностью, не достигавшей иреотолѣнія
135
препятствія; прекрасное есть выразительная дѣятельность, тор-
жествующая наконецъ побѣду.
Мы позаимствовали примѣръ изъ области слова, какъ наи-
болѣе доступной и близкой, такъ какъ если и не всѣ мы ри-
суемъ пли жпвописуоь, то всѣ мы говоримъ. Если теперь другой
ни иі виду умъ, пазовомъ его 13, долженъ будетъ высказать су-
жденіе объ этомъ выраженіи и установить, прекрасно ли оно
или безобразно, ему придется встать на точку зрѣнія
индивидуума А и повторить процессъ, пользуясь помощью
физическаго знака, созданнаго индивидуумомъ А. Если Л по-
стигъ сь подпои отчетливостью, то и В (вставь на его точку
зрѣнія) постигнетъ съ ясностью и почувствуетъ красоту создан-
наго выраженія, Если Л пе достигъ яснаго постиженія, то и В
не постигнетъ съ ясностью и вмѣстѣ съ А почувствуетъ
бблыпую или меньшую безобразность выраженія.
Могутъ замѣтить, что мы не приняли во вннма-
Невоэмож-. .
ность разно- ніе двухъ другихъ случаевъ: что Л постигъ і:ъ яс-
мыслія. костью, а В видѣлъ смутно; или же что А не до-
стигъ ясности, тогда какъ В имѣлъ отчетливое постиженіе.—Но
ни одинъ изъ этихъ случаевъ, строго говоря, невозможенъ.
Выразительная дѣятельность именно потому, что она.—дѣятель-
ность, являетъ собою не произволъ, а духовную необходимость;
и одну и ту же эстетическую проблему можно разрѣшить
однимъ только подходящимъ образомъ. Па- такое рѣшительно»?
утвержденіе нямъ возразить, что произведенія, которыя пред-
ставляются прекрасными художникамъ, иногда признаются за-
тѣмъ некрасивыми критикой, и, наоборотъ, произведенія, ко-
торыми художники были недовольны и которыя считали песонер-
шеппымн или неудачными, признаются критикой и прекрас-
ными. и совершенными. Но въ такихъ случаяхъ одна изъ сто-
ронъ заблуждаете и: пли критики, или артисты;— ииѵ г іа тѣ, ино-
гда .же другіе. Дѣйствительно, создатель выраженія не всегда
даетъ себѣ ясный отчетъ въ томъ, что происходитъ въ его душѣ.
Поспѣшность, тщеславіе, необдуманность, теоретическіе пред-
разсудки побуждаютъ вагъ говорить, а иногда почти-что и вѣ-
рить въ то, что наши произведенія прекрасны, хотя,—дай мы
себѣ дѣйствительный отчетъ о себѣ самихъ,— п мы увидали бы,
какъ они на самомъ дѣлѣ нехороши. Такъ, бѣдный Донъ-Ки-
хотъ, гладивъ гебѣ, какъ ѵоп., головное вооруженіе въ видѣ
шлема изъ напье-маяіл, которое при первой же пробѣ оказалось
136 -
очень слабой гоиротшмясмостн, тщательно остерегался новыхъ
его испытаній мѣткими ударами шпаги и призналъ его безъ
дальнѣйшихъ разговоровъ (говоря словами автора) „рог сеіаііа
Гшізіша бе епсахе” *). Въ другихъ случаяхъ эти или же про-
тивоположные имъ, по аналогичные, мотивы смущаютъ созна-
ніе художника и побуждаютъ его признавать за плохое то, что
у него вышло хорошо, илп стремиться уничтожить и возстано-
витъ вновь въ худшемъ видѣ то, что волею артистической
самопроизвольности опъ сдѣлалъ хорошо. Примѣръ тому Тассо
і ъ его переходомъ отъ Освобожденнаго Іерусалима
къ Покоренному Іерусалиму. Точно также поспѣш-
ность, нерадѣніе, необдуманность, теоретическіе предразсудки,
личныя симпатіи или вражда и другіе мотивы этого сорта по-
буждаютъ иногда и критиковъ признавать за безобразное то,
что прекрасно. и считать прекраснымъ то, что безобразно; при
чемъ оки почувствовали бы подлинную пркроіу этихъ произве-
деній, если бы элиминировали «ліяніе этихъ вредоносныхъ мо-
тивовъ и не Оставляли бы въ наслѣдство потомкамъ, являю-
щимся болѣе старательными и безпристрастными судьями, дѣла
присужденія пальмы первенства или осуществленія ими нару-
шенной справедливости.
Тождество Предыдущее схематическое разсмотрѣніе цока-
*ку«* и генія, зало, что дѣятельность сужденія, которая крити-
куетъ и служить признанію прекраснаго, отождествляется съ
той дѣятельностью, которая его порождаетъ. Различіе, заклю-
чается только въ разнородности условій, такъ какъ въ одномъ
случай дѣло идетъ объ эстетическомъ творчествѣ, а въ дру-
гой і. — объ эстетическомъ воспроизведеніи. Судящая дѣятель-
ность называется вкусомъ, творческая дѣятельность — ге-
ніемъ. Геній и вкусъ по существу своему, стало бытъ, то-
ж д₽ ствеп и ы.
Именно это тождество имѣется въ виду въ тѣхъ случаяхъ, когда
высказывается общераспространеиіюе утвержденіе, что критикъ
іолжент. обладать хотя бы крупицей геніальности художника,
и что художникъ долженъ быть одаренъ вкусомъ, илп же что
существуетъ вкусъ активный (творческій) и вкусъ пассивный
(соотворчесгвепныіі). Но въ другихъ, гоже общераспространен-
ныхъ утвержденіяхъ тождество это отрицается; — такъ напр.,
Ч „0'1 Иі.ІСѴІ. 41 <-.11.1.1 ЧіііІИч П| <іЧ 111.1 ІІ..ІІ-!(*. 77/'.
137
говоритъ і> вк\сѣ безъ генія И.1В о геніи белъ вкуса. «->і-іі
послѣднія утвержденія были бы лишены всякаго смысля., если
бы они не имѣли л». виду количественныхъ пли психологиче-
скнхь различіи, ибо геніемъ безъ вкуса именуется при эгомъ готъ,
кто создастъ произведенія искусства, удачныя въ ихъ важнѣй-
шихъ частяхъ и небрежно и недостаточно выполненныя въ ихъ
второстепенныхъ частяхъ, человѣкомъ же со вкусомъ, по безъ
геніальности — тотъ, кто, несмотря на достиженіе нѣкоторыхъ
отдѣльныхъ и второстепенныхъ достоинствъ, лишенъ необхо-
димой силы для того, чтобы осуществить значительный худо-
жественный синтезъ. Подобнымъ образомъ можно истолковать
безъ труда и другія утвержденія этого рода- Пролагагь же су-
щественную разницу между геніемъ и вкусомъ, между художе-
ственнымъ творчествомъ и восиропзведепіемъ, значило бы дѣ-
лать необъяснимой возможность сообщенія и сужденія. Какъ
могли бы мы подвергнуть сужденію то. что остается нямъ чу-
ждымъ? Какь можно было бы судись о томъ, что .является про-
дуктомъ опредѣленной дѣятельности, при помощи отличной
отъ нея дѣятельности? Пусть критикъ будетъ маленькимъ ге-
ніемъ, а художникъ—геніемъ большимъ; пусть у одного сплы на
десять, а у другого—па сто; пусть норный для того, чтобъ ю-
стигнуть извѣстной высоты, нуждается въ поддержкѣ другого,—
по природа-то у лихъ обоихъ должна быгь одна и та же.
Чтобы судить о Дайте, мы должны подняться въ уровень съ
ішмъ; разумѣется, эмпирически мы не станемъ Данте, а онъ—
нами, по въ моментъ созерцанія и сужденія нашъ духъ единъ
съ духомъ поэта- въ этоть моментъ мы и опъ представляемъ
нѣчто еціное. II только въ этомъ тождествѣ лежитъ основаніе
возможности того, что паши малыя души зазвучатъ отвѣтно
душамъ великимъ и возвысятся вмѣстѣ съ ними до духовной
универсальности.
Аналогія съ ЗамѢтНМЬ МСЖДу ПроЧПМЪ, ЧТО ВСС ТО, ЧТО біДЛО
другими вида- гказано объ эстетпческомч, сужденіи, относится так-
ми дѣятельно-
СТН. же и ко всякой и пои дѣятельности и ко всякому
другому сужденію, н что точно такимъ же образомъ совершается
критика научная, экономическая, этичеСѣая. Оста павлиная свое
вниманіе па этической критикѣ, мы іолжпы сказать, что только
въ томъ случаѣ сможемь мы судить о томь, морально ли или
не морально какое-либо рѣшеніе. если мысленно перенесемся вч.
гѣ же самыя условія, кі. кіікіічъ н.чХіи.нлея п>ть. ісг>« принялъ
13**
это рѣшеніе. Въ противномъ случаѣ поступокъ остался бы для
насъ непонятнымъ и потому недоступнымъ сужденію. Убійца,
можетъ оказаться негодяемъ или героемъ; если это до извѣст-
ной степени безразлично съ точки зрѣнія охраненія обществен-
ной безопасности, которая осуждаетъ и то со, и другого, то ото
совсѣмъ не безразлично для того, кто хочетъ разобраться и
произнести сужденіе съ моральной точки врѣнія и не можетъ
поэтому освободить себя отъ необходимости воспроизвести инди-
видуальную психологію убійцы, дабы опредѣлить подлинную,
не только юриіическую, пои моральную физіономію его поступка.
Въ этикѣ тоже иногда говорили о моральномъ вкусѣ или тактѣ,
который долженъ соотвѣтствовать тому, что обычно называется
моральнымъ сознаніемъ, т.-е. самой дѣятельности доброй воли.
критика »стети- Вышеизложенное объясненіе эстетическаго су-
ческаго абсолю-
тизма (ннтеллек- ЖДШНЯ ИЛИ ВОСПрОМЛіСДСНІЯ ирііВОДИТЪ ОДНОВрѲ-
туалнзма) и реля-
типизма. моппо и къ одоорешю п къ порицанію какъ
абсолютистовъ, такъ и релятивистовъ,—и тѣхъ, кто защищаетъ
абсолютность вкуса, и тѣхъ, кто ее отрицаетъ.
Абсолютисты правы, посколько утверждаютъ возможность су-
дить о прекрасномъ; по доктрина, которую опн полагаютъ въ
основаніе этого своего утвержденія, не выдерживаетъ критики,
такъ какъ они разсматриваютъ прекрасное или эстетическую
цѣнность, какъ нѣчто внѣ эстетической дѣятельности полагае-
мое,—какъ такое понятіе или модель, которую артистъ стремится
осуществить въ своемъ произведеніи и которой затѣмъ поль-
зуется критикъ, при сужденіи о гамомъ произведеніи. Но та-
кихъ понятій и моделей въ искусствѣ нѣтъ; ибо какъ только
установлено, что всякое произведеніе искусства можетъ быть
сухимо, лишь будучи взято въ самомъ собѣ, и имѣетъ только
самого себя своею моделью, вмѣстѣ съ тѣмь приходится
признать и несуществованіе объективныхъ моделей красоты,
будь то интеллектуальныя понятія или же идеи, привѣшенныя
па метафизическомъ небѣ.
Признавая это, противники абсолютистовъ—релятивисты со-
вершенно правы и дѣлаютъ такимъ образомъ шагъ впередъ.
Но только, первоначальная правомѣрность ихъ тезиса въ свою
очередь оборачивается затѣмъ ложной теоріей. Повторяя древ-
нее изреченіе, что о вкусахъ но спорятъ, оип іумаютъ. чго
эстетическое выраженіе ѵбла ціетъ тѣѵі. же качествомъ, что и
пріятное пли непріятно'’, которое кажіымъ человѣкомъ чув-
139
ствуется ли своему и о когиромь по смирятъ. По. какъ намъ
извѣстно, пріятное и непріятное суть ((анты утилитарные и
практическіе, откуда, ясно, что релятивисты въ коицѣ-коіщовъ
приходятъ къ отрицанію своеобразности эстетическаго факта и
повторяютъ вновь смѣшеніе выраженія съ впечатлѣніемъ, теоре-
тическаго сь практическимъ.
Правильное рѣшеніе заключается нъ отказѣ какь ось реля-
тивизма пли психологизма-, такъ и отъ ложнаго абсолютизма-, и
въ признаніи гого. что хотя критеріи вкуса и абсолютенъ, его
абсолютность отлична оть абсолютности интеллекта, которая
раскрывается въ умозаключеніи,— что онь абсолютенъ интуи-
тивной абсолютностью фантазіи. Потому слѣдуетъ признать пре-
краснымъ всякій актъ выразительной дѣятельности, который по-
длинно—такой, а безобразнымъ—всякій фактъ, въ которомъ
выразительная активность и пассивность вступаютъ между со-
бою въ неразрѣшимую борьбу.
Междѵ абсолютистамп и абсолютными ррля-
Критика от- *
носителыіак» тивіістами сущссі'вустъ третіи классъ М ЬГСЛНТР-
релятивизма. КОТОрЫХЪ МОЖНО паЗВЗТЬ ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ [10-
лятивистамп. Они утверждаютъ абсолютность цѣнностей въ
другихъ сферахъ (налір., вь сферахъ логики или этики), но
отвергаютъ ее въ эстетической области. Спориіь о наукѣ или
морали представляется для нихъ естественнымъ и правомѣр-
нымъ, такъ какъ наука покоится на- универсальномъ. общемъ
всѣмъ людямъ, а мораль — на долгѣ, тоже являющемся зако-
номъ человѣческой природы. По какъ спорить объ искусствѣ,
которое покоится на фантазіи? Однако же, дѣятельность фан-
тазіи не только универсальна и присуща человѣческой природѣ
подобно логическому понятію и моральному долгу, но противъ
такого промежуточнаго направленія слѣдуетъ выдвинуть еще
одно существенное возраженіе. Отрицать абсолютность фан-
тазіи значитъ также отрицать и абсолютность яігголлритуаль-
ной или концептуальной истины, а вмѣстѣ сь нрю и самой мо-
рали. Развѣ мораль нр предполагаетъ логическихъ различеній?
А какъ иначе могутъ быть эти послѣднія опознаны, какъ пе въ
выраженіи и словахъ, какъ но въ формѣ фантазіи? Если лишить
фантазію абсолютности, жизнь духа будетъ потрясена до самыхъ
своихъ основаній. Индивидуумъ въ такомъ случаѣ не будетъ
болѣе понимать другого индивидуума, пе будетъ щжс понимать
себя самого въ предыдущемъ моментѣ гвоен жизни, такъ какь
140
Возраженіе,
основывающее-
ся на измѣн-
чивости стиму-
ла и психиче-
скаго предра-
сположенія.
предыдущій моментъ, будучи разсматриваемъ въ настоящій
моментъ, представляетъ собою уже і.ругой моментъ.
Однако разнообразіе сужденій есть фактъ, не
подлежащій сомнѣнію. Люди разнорѣчивы въ логи-
ческихъ, этическихъ и экономическихъ оцѣнкахъ
своихъ; и равнымъ образомъ или сіцѳ болѣе раз-
норѣчивы они въ своихъ эстетическихъ оцѣнкахъ.
Если нѣкоторыя причины, о которыхъ мы уже упоминали (по-
спѣшность, предразсудки, страсти и т. и.), въ состояніи осла-
бить пь пашихъ глазахъ важность згой разноголосицы, онѣ все
же не уничтожаютъ ее совершенно. Говоря о стимулахъ воспроиз-
веденія, мы присоединили къ этому одну оговорку, утверждая, что
воспроизведеніе получаетъ осуществленіе въ томъ случаѣ, е с л и
и с ѣ д р у г і я условія остаются пре ж и и м и. Но остают-
ся ли онп прежними? Отвѣчаетъ ли гипотеза дѣйствительности?
Повидимому, нѣтъ. Для того, чтобы воспроизвести повторно
впечатлѣніе ирн помощи соотвѣтствующаго физическаго сти-
мула, необходимо, чтобы этотъ стимулъ оставался неизмѣн-
нымъ, а организмъ пребывалъ въ тѣхъ ж.е. самыхъ психологи-
чески къ условіяхъ, въ какихъ онъ находи лея въ тотъ моментъ,
когда получилъ то впечатлѣніе, которое желательно воспроиз-
вести. И вотъ не подлежитъ никакому сомнѣнію, что физиче-
скій стимулъ непрерывно мѣняется, а равнымъ образомъ мѣ-
няются и психологическія условія.
Произведенія, написанныя масляными красками, темнѣютъ,
фрески становятся блѣдными, статуи теряютъ носы, руки п ноги,
архитектурныя постройки разрушаются совершенно или отчасти,
въ исполненіи музыкальныхъ произведеній теряется традиція,
текстъ поэтическихъ произведеній извращается плохими копи-
ровальщиками или плохой печатью. Нее это—-наглядные при-
мѣры тѣхъ измѣненій, которыя происходятъ каждый день въ
физическихъ предметахъ или стимулахъ. Что касается психо-
логически* ь условіи, то мы пе будемъ останавливаться па слу-
чаяхъ потери зрѣнія или слуха., г.-е. на случаяхь потери цѣ-
лыхъ сферъ психическихъ впечатлѣній, ибо это случаи спеціаль-
ные и второстепеннаго значенія, и возьмемъ основной, повсе-
дневный и неотвратимый фактъ постояннаго измѣненія общества
вокругъ насъ и внутреннихъ условіи нашей индивидуальной
жизни. Фонетическая сторона или же слова и стихи Дантовой
Комедіи должны вызывать въ нга.тьянскілп. гражтанпнѣ.
1II
живущемь политикой Третьяго Рима, совсіімъ иное лпечатлЬ
ніе. чѣмъ то, которое испытывалъ хорошо освѣдомленный
въ дѣлахъ того времени и освоившійся съ ними современ-
никъ поэта. Мадонна Чимабуэ попрожирму находится въ
Санта Марія Нонел.ш; по развѣ то л:е говорить опа взору со-
временнаго посѣтителя, что и флорентинцамъ изъ дудженто
11 если бы даже время ле заставило се потемнѣть, развѣ не
слѣдуетъ предположить, что впечатлѣніе, производимое ею
нынѣ, совершенно отлично отъ того, которое она производила
прежде? 11 даже если взять одного и того же поэта, то развѣ
поэтическое произведеніе, сочиненное имь іи, юности, произ-
ведетъ па него то же самор впечатлѣніе, что и раньше, если
онъ какъ-нибудь перечитаетъ его въ преклонномъ возрастѣ,
когда психическія склонности совершенно перемѣнились?
Правда, нѣкоторые эстетики пытались уетано-
Критика раз-
дѣленія зна- влгь различіе между стимулами и стимулами, между
ковъ на есте-
ственные и ус- знака зги е г т е г т в е и и ы м и и у г л о в и ы зі и, н,ть
ловиыс. которыхъ первые надѣлены постояннымъ и обще-
значимымъ значеніемъ, иторые же—значеніемъ только для огра-
ниченнаго круга лицъ. Естественными знаками, по пхъ мнѣнію,
являются знаки живописи; условными—слова поэзіи. По разли-
чіе между тѣми и другими, самое большее.—только въ степени.
Много разъ говорилось, что живопись представляетъ собою
языкъ, попятный кому угодно, въ то время какъ этого нельзя
сказать о поэзіи. Въ этомъ какъ разъ Леонардо видѣлъ одно
изъ преимуществъ своего искусства, именно—что „опо не тре-
буетъ, подобно литературѣ, переводчиковъ съ различныхъ язы-
ковъ" и удовлетворяетъ и людей и животныхъ, при чо.згь оігь
переданал ь анекдотъ о портретѣ одного отца семейства, „кото-
рому дари ти свои ласки маленькія дѣгпшки, будучи еще въ пе-
ленкахъ, а равнымъ образомъ и собака- съ кошкой, обитавшія
въ томъ домѣ". Но другіе анекдоты, какъ ияир. о тѣхъ дика-
ряхъ, которые принимала фигуру солдата за лодку пли, увидавъ
портретъ человѣка верхомъ па лошади, думали, что у него только
одна нога.—такіе анекдоты должны разсѣять вѣру въ грудныхь
младенцевъ, собакъ и кошекъ, понимающихъ живопись. Къ
счастью, для тбі’о, чтобы убѣдиться, что картины, поэтическія
произведенія и вообще всякія нропзне очгін искусства оказы-
’) Т.-е. трппат.п.ятаі’0 вѣки. Пр. пер.
1-12
ваюті. а ѣіісгвіе только па но.і.го[ов.іениую душу, нѣтъ надоб-
ности н\гнаться въ трудныя изслѣдованія. Естественныхъ знаковъ
не существуетъ, такъ какъ всѣ знаки являются одинаковымъ
образомъ обусловленными или, выражаясь точнѣе, всѣ они
обусловлены исторически.
Иреодолѣвіе ^С’|и ЭТа такъ, 'Го 'ОНЛ. ВОЗМОЖНО, ЧТОбы ВЫрЛ-
разиоодраэія. -женіе воспроизводилось при помощи физическаго
объекта? чтобы получился одинь и тотъ же результатъ, когда
условія уже перестали быть тѣми .же самыми? II не слѣдо-
вало лн бы, скорѣе, заключить отсюда, что выраженія недо-
ступны воспроизве іонію, несмотря на физическія орудія, ко-
торые при надобности готовы къ услугамъ, и что то, что
называется воспроизведеніемъ, въ дѣйствительности состоить
всегда изъ совершенно новыхъ выраженій? Такое заключеніе
пришлось бы на. самомъ дѣлѣ сдѣлать, если бы измѣнчивость
психическихъ и физическихъ условіи была принципіально не-
преодолима. Но такъ какъ непреодолимость эта не носитъ ни-
сколько характера необходимости, нужно сдѣлать, наоборотъ,
с.гЬдуютее заключеніе: воспроизведеніе имѣетъ мѣсто всякій
разъ, кое,],а мы въ состояніи перемѣститься въ тѣ условія, въ кото-
рыхъ полумиль существованіе стимулъ (физическое прекрасное).
Перемѣститься же въ эти условія мы не только въ состояніи,
разсуждая отвлеченію, но непрерывно осуществляемъ это фак-
тически. Въ противномъ случаѣ индивидуальная жизнь, которая
есть общеніе съ иамн самими (съ нашимъ прошлымъ), или об-
щественная жизнь, которая есть общеніе съ намъ подобными,
но была бы возможной.
По этой причинѣ тѣ, кто изслѣдуетъ физическій
Реставрація _ 1
и историческая Ооъсктъ. палеографы и фи лологи, реставра-
ннтерпретація. т текСто!П, ВІ, пхъ пѳрВОИачаЛЫЮЙ формѣ,
в о з с т а и о в и т е л и картинъ п статуй и подобные имъ мастера
своего дѣла направляютъ свои усилія какъ разъ на. то, чтобы
сохранить за физическимъ объектомъ илп придать ему сто
первоначальную выразительность. Правда, эти старанія ихъ не
всегда приводятъ къ желанному концу или не всегда вполнѣ
удаются; болѣе того, никогда или почти никогда не удастся
достигнуть полной реставраціи въ мельчайшихъ подробностяхъ.
По непреодолимыя препятствія здѣсь—чисто случайнаго свойства
и не могутъ служить основаніемъ для того, чтобы игнориро-
вать тѣ благопріятные результаты, которые все же достигаются.
I 13 —
Паи. віыстаііѵнлепіемъ въ пасъ тѣхъ ш-ц.\ѵлмгиче"кігхь усло-
нііі, которыя подверглись измѣненію въ теченія исторіи, ра-
ботаетъ въ свою очередь и с т о р и ч е с к а я и н т е р и р ѳт «, ц і я,
которая, оживляя мертвое н пополняя отрывочное, даетъ намъ
возможность глядѣть на художественное произведеніе (физиче-
скій предметъ) такъ, какь на него смотрѣлъ самъ авторъ въ
моментъ его созданія.
Условіемъ такой исторической работы является традиція, бла-
годаря которогі окалывается возможными собрать разсѣянные
лучи и сконцентрировать ихъ вь одномъ и томъ же фокусѣ.
Помощью памяти мы окружаемъ физическій стимулъ всѣми тѣми
фактами, среди которыхъ онъ родился, и такимъ образомъ
дѣлаемъ возможнымъ то, что онь вліяетъ на пасъ точно такъ
же, какъ опъ воздѣйствовалъ па того, кто его создалъ.
Тамъ, гдѣ традиція прерывается, интерпретація останавли-
вается; созданія прошлаго остаются тогда для насъ нѣмы.
Таіп., для насъ закрыты выраженія, заключающіяся въ этрус-
скихъ или мѳс.саіііяскихь надписяхъ; такъ, этнографы продолжа-
ютъ еще спорпть относительно того, являются ли нѣкоторыя про-
явленія искусства у дикареіі, все-таки, произведеніями живо-
писи или это — письмена; такъ, археологамъ и изслѣдовате-
лямъ доисторическаго нремегш все еще не удается съ точностью
установить, обладаютъ ли изображенія, виднѣющіяся на посудѣ
какой-либо опредѣленной области или па другихъ хозяйствен-
ныхъ орудіяхъ, религіознымъ смысломъ или о пн имѣютъ чисто
свѣтское содержаніе. Но какъ задержка въ истолкованіи, такъ
и задержка въ возстановленіи, нр означаютъ собою принци-
піально непреодолимаго предѣла; открытія новыхъ историче-
скихъ нсто’иіиковъ и новыхъ болѣр удачныхъ способовъ исполь-
зованія старыхъ источниковъ, которыя случаются каждый день
и должны, какъ нужно надѣяться, умножаться и умножаться,
возстанавливаютъ связь какъ разъ между оторванными другъ
отъ друга традиціями.
Нельзя отрицать к того, что ошибочное историческое толко-
ваніе иногда сипимъ продуктомъ имѣетъ, такъ сказать, и а-
лимлсесты, замѣняя древнія выраженія новыми, т.-е. давая
артистическія фантазіи вмѣсто историческихъ воспроизведеній;
и такъ называемая ..ооаятсльпость прошлаго" зависитъ отча-
сти отъ такихъ нашихь выраженій, которыми мы прикрываемъ
щ-’юричоекія выраженія. Такъ, въ произведеніяхъ эллинской
-ІИ
пластики ныло открыто безмятежное и ясное созерцаніе, жиз-
ни. между какъ эти народности такъ остро пережинали нее-
общую скорбь; такъ, въ изображеніяхъ византійскихъ свя-
тыхъ даже былъ замѣченъ „ужасъ поретъ тысячнымъ го-
домъ",--ужасъ. представляющій собою экивокъ, либо искус-
ственно возникшую легенду, пущенную вь оборотъ позднѣй-
шими учеными. 11г» и г т <» р и ч е <• к а я к р и т и к а стремится
какъ разъ къ тому, чтобы положить предѣлъ вы і. у м к а м ъ
и установить сь точностью тотъ уголъ зрѣнія, индъ которымъ
і-Л'І>дуѳгь гмотрѣіь па подобныя вещи.
Благо і.аря только что описанному процессу, мы находимся въ
общеніи съ (ругпміі людьми и настоящаго, и прошлаго; и изъ
того, что нпогда. п іажо часто имѣетъ мѣсто фактъ непониманія
пли недостаточнаго пониманія, пельзя заключать, что нъ тѣхъ
случаяхъ, когда, мы чувствуемъ себя участниками діалога, на
самомъ тѣлѣ мы произносимъ монологъ; тѣмъ болѣе, что мы
по въ состояніи равнымъ образомь повторить и того монолога,
который раігт.піо мы сами произнесли передъ і,а.мнчи собою.
XVII.
Исторія литературы и искусства.
Историчес- ^'го краткое изложеніе того метода, которымъ
лнтела^ѵрь" Достигается возстановлеіпс тѣхъ первоначальныхъ
искусствѣ. Ея условій, ВЪ КОИХЪ бы.Ю СОЗДаНО ППОПЗВеДСНІе ИСКѴС-
ства, а. стало быть,—и возможность воспроизведенія
этого произведенія и сужденія о немъ, показываетъ, сколь важную
функцію выполняютъ историческія изслѣдованія, касающіяся
произведеніи искусства и литературы, — какъ важно то, что
обычно именуется историческимъ методомъ или историче-
ской критикой въ литературѣ и искусствѣ.
При отсутствіи традиціи и исторической критики, было бы
безповоротно потеряно наслажденіе всѣми или почти-что всѣми
произведеніями искусства, когда-либо созданными человѣче-
ствомъ, и мы мало чѣмъ отличались бы отъ животныхъ, погру-
женныхъ въ одно только настоящее или же іи. самое недав-
нее прошлое. Неумно относиться съ высокомѣріемъ и насмѣшкой
къ тѣмъ, кто •валять возстановленіемъ автеитическаго текста,
растолкованіемъ смысла забытыхъ словъ к обычаевъ, изслѣдо-
ваніемъ тѣхъ условій, въ которыхъ жп.н. какой-нибудь артистъ,
и кто выполняетъ всю ту работу. которая оживляетъ черты н
первоначальный колоритъ художественныхъ произведеній.
Иногда такое высокомѣрное пли отрицательное сужденіе отно-
сится къ предполагаемой пли уже доказанной безполезности цѣла-
го ряда изслѣдованій для правильна го пониманія артистическихъ
произведеній. По по поводу этого прежде всего нужно замѣтить,
что историческія изслѣдованія нмѣють въ виду не одно только
оказаніе помощи въ дйлѣ воснропзнедОнія и оцѣнки ху і.ожесгвгн-
ныхъ прон.-веде’.ій; біографія какого-иибу і,ь иисато.і;; н.ш ка-
.-Ісіегика.
— І-1Г. —
Кого-либо художника, наир.. и изслѣдованіе нравовъ какой-ни-
будь эпохи являются самостоятельною цѣлью и интересны сами по
себѣ, г.-г брзотііогительно къ пстсіріи искусства-, хотя « не без-
относительно къ инымъ Формамъ исторіографіи. Если жі* въ от-
вѣтъ сошлются на такія изслѣдованія, которыя, повидимому, не
представляютъ никакоі'о опредѣленнаго интереса и. яс служатъ
никакой видимой цѣли, то придется еще прибавить г;е» вышеска-
занному, что изслѣдоватр.іь-нс'іорнк'і» зачастую долженъ отдавать
свои силы полозітііму, хотя и не приносящему особой славы дѣлу
ката,гопірованія фактовъ, которые іо поры до времени оста-
ются безформенной, безсвязной и лишенной смысла, массой, но
представляютъ собою .нніягъ и матеріалъ для будущаго историка
и для нсякяі’О, кто почувствуетъ въ нихъ надобность вь видахъ
какой-нибудь цѣли. Точно такъ же нъ библіотекѣ помѣщаются на
полку и записываются на листкаѵь книги, которыхъ никто не тре-
буетъ въ данный моментъ гля чтенія, но которыя ког.іа-нибуді»
могутъ понадобиться. Разумѣется, подобно точу, какъ разумный
библіотекарь предпочитаетъ пріобрѣтать и заносить въ каталогъ
тѣ книги, которыя по его соображенію будутъ больше въ спро-
сѣ, и разумные изслѣдователи чувствуютъ, чтб въ разрывае-
момъ ими матеріалѣ фактовъ годи гея и можетъ скорѣе всего
оказаться полезнымъ, въ то время какъ другіе, менѣе ра-
зумные, менѣе одаренные и болѣе поспѣшные въ своихъ
дѣйствіяхъ изслѣдователи конягъ всякій хламъ, соръ и от-
бросы и тонутъ въ излишнихъ тонкостяхъ и мелочахъ. Но
это — вопросъ экономіи изслѣдованія и іши, вь таяномъ слу-
чаѣ не касается. Самое большее, это касается—руководителя,
который дастъ темы, издателя, который платитъ за печатаніе
и критика, который призванъ похвалить, или разнести испол-
нителей изслѣдованія.
Съ другой стороны очевидно, что однихъ историческихъ из-
слѣдованій, направленныхъ на освѣщеніе какого-либо цроизве-
іенія искусства, недостаточно для того, чтобы возстановить его
въ нашей душѣ и дать намъ возможность судить о немъ; исто-
рическія изслѣдованія предполагаютъ еще при этомъ наличность
вкуса, т.-е. живой и опытной фантазіи. Самая громадная исто-
рическая эрудиція можетъ сопровождаться грубымъ или въ ка-
комъ-либо иномъ смыслѣ недостаточнымъ вкусомъ, недостаточно
подвижной фантазіей, сухимъ и холоднымъ (какъ эго принято
говорить» сердцемъ, неспособнымъ чувствовать искусство.
147
Которое изъ двухъ золь меньше: громадная эрудідія при Ш‘-
юстаточномъ вкусѣ иди прііро іііыіі вкусъ при значительномъ
невѣжествѣ? Вопросъ этотъ ставился много разъ и, можетъ
быть, его лучше было бы совсѣмъ оставить, такъ какъ вообще
нельзя сказать, какое изъ двухъ золъ меньшее, или что вообще
значитъ говоритъ здѣсь о меньшемъ злѣ. Вѣдь простому ученому
никогда не удастся войти вь непосредственное общеніе съ
людьми, надѣленными великимъ духомъ, и навсегда, придется
ограничиться дворомъ. лѣстницей и переднею ихъ дворцовъ;
по и глубоко одаренный невѣжда или пройдетъ съ безраз-
личіемъ мимо недоступныхъ для него шедевровъ, или же вмѣсто
того, чтобы взять произведенія искусства нъ гомъ видѣ, въ
какомъ они въ дѣйствительности даны, создастъ своей фантазіей
на мѣсто пихъ другія. — Однако, трудолюбіе перваго можетъ,
по меньшей мѣрѣ, хоть просвѣтить другихъ, тогда, какъ
геніальность второго остается въ научномъ отношеніи совер-
шенно безплодной. Какъ же, поэтому, не предпочесть въ опре-
іѣлсішомъ, именно въ соціальномъ отношеніи добросовѣстнаго
ученаго безсвязному геніяльному критику, который, къ тому же,
въ дѣйствительности и не геніаленъ, если (и посколько) предается
на волю такой безсвязности.
исторы ие- Отъ такихъ трудов ь. когорые пользуются пропз-
терату рь"’’Ея веденіями вскусстна гі, посторонними цѣлями (біо-
нсторической ‘‘рафія. гражданская. религіозная, политическая
теѴя ческой ,и>т0РІЛ н Т. П-)« а РЗВНО И ОТЪ ИСТоріІЧССКОІі'ЭрУ"
ѵиѣнкв. днціп, наиравлеиной на подготовку эстетическаго
синтеза воспроизведенія, нужно строго отличатъ исторіи»
искусства и литературы.
Отличіе первыхъ оть згой послѣдней наглядно. Исторія ис-
кусства- и литературы своимъ главнымъ предметомъ имѣетъ
проіізвогенія гамого искусства; тѣ же другія изслѣдованія
имѣютъ въ виду произведенія искусства и занимаются ими,
лишь какъ такими еіщдѣтельствамн, изъ которыхъ можно почерп-
нуть истинное познаніе ѵпіосигелыю неэстети носкихъ фак-
товъ. Менѣе глубокимъ можетъ показаться другое различіе, на
когорое мы уже указывали. Однако же и оно громадно. Эрудиція,
направленная къ облегченію пониманія произведеній искусства,
своей цѣлью имѣетъ простое содѣйствіе возникновенію опредѣ-
леннаго внутренняго состоянія,—эстетическаго воспроизведенія.
Исторія искусствъ и литературы, наоборотъ, впервые рождается
іо*
- 14Я —
къ жизни только тогда, когда такое воспроизве о.чііе уже дости-
гнуто, и знаменуетъ собою такимъ образомъ послѣдующую
р а б о т у.
Ея цѣлью, какь и всякой исторіи вообще, является точное
установленіе того, какіе факты, и какіе именно факты ис-
кусства и литературы, имѣли мѣсто въ дѣйствительности. Кто,
набравшись необходимыхъ историческихъ знаній, воспроизводитъ
затѣмъ какое-либо произведеніе искусства и наслаждается имъ,
тотъ можетъ оставаться при этомъ простымъ человѣком ь вкуса илп,
самое большее, можетъ выразить свое чувство возгласомъ во-
сторга- или неудовольствія. Этого недостаточно для того, чтобы
стать историкомъ искусства и литературы; для этого необходимо
еще кое-что, а именно—необходимо, чтобы къ простому воспро-
изведенію присоединилась еще новая духовная операція. Эта
новая операція, въ свою очередь, является выраженіемъ, — вы-
раженіемъ воспроизве тенія; это—историческое описаніе, изло-
женіе или представленіе. Между человѣкомъ вкуса и историкомъ
существуетъ, стало быть, слѣдующее различіе: первый только
то и дѣлаетъ, чго воспроизводитъ къ душѣ своей произведенія
искусства; второй же, покончивъ съ воспроизведеніемъ, пред-
ставляетъ его еще исторически, т.-е. пользуется при этомъ тѣми
категоріями, которыми, какъ мы знаемъ, исторія отличается отъ
чистаго искусства. Исторія искусства п литературы есть, слѣдо-
вательно. іі р о и з в е генія и с т о р и ч е с к а г о и с к у с с т в а,
вози іі к а ю іц е е по поводу о д в о г о и л и ,м ц о г и х ъ п р о-
изведеній и с к у <• с т в а.
Обозначеніе „художественный критикъ" или „литературный
критикъ" употребляется въ различномъ смыслѣ: иногда оно отно-
сится къ ученому,который работаетъ въ интересахъ самой литера-
туры, иногда же—къ историку, дающему изложеніе художествен-
ныхъ произведеній прошлаго въ ихъ истекшей дѣпствптслыіостн:
всего же чаще оио относится къ нимъ обоимъ вмѣстѣ. Въ нѣ-
которыхъ случаяхъ критикомъ считается въ болѣе точномъ
смыслѣ слова тотъ, кто оцѣниваетъ и описываетъ произведенія
современной литературы, а историкомъ—тотъ, кто трактуетъ о
менѣе современныхъ литературныхъ произведеніяхъ. Все это—
словесныя обыкновенія и эмпирическія различія, которыя легко
могутъ быть оставлены безь вниманія, гакъ какъ подлиннымъ
различіемъ является различіе между ученымъ, человѣ-
комъ в к у с а и и г г о р и к о м ъ и с к у с с т в а. Этими словами
119 —
иОозшіЧііютсл какъ бы три песлѣдовательныхі- ста ііи работы,
изъ которыхъ каждая относительно независима, г.-о. незави-
сима по отношенію къ послѣдующей стадіи, но не по отноше-
нію къ ей предшествующей. Могутъ существовать, какъ мы
видѣли, простые ученые, мало способные чувствовать произ-
веденія искусства: могутъ существовать даже люди эрудиціи и
вкуса, способные чувствовать произведенія искусства, но не-
способные, описывая ихъ. начертать ни одной страницы исторіи
искусства и литературы; настоящій же и законченный историкъ,
заключая въ собѣ вь качествѣ необходимыхъ стадій свойства
ученаго и человѣка вкуса, долженъ присоединить къ нимъ еще
способность историческаго постиженія и представленія.
методика Методика исторіи искусства и литературы от-
сгаа'и"»итера- КРываетъ ТаКІЯ Проблемы И Тру ЩОСТИ, ИЗЪ КОТО-
ту₽ы. рыхъ однѣ общи у нея со всякой исторической ме-
то иікоіі, а другія присущи рй спеціально, являясь слѣдствіемъ
самаго понятія искусства.
Исторія обычно раздѣляется на исторію человѣка, исторію
природы и (‘мѣшанную исторію ихъ обоихъ. И безъ спеціаль-
ной провѣрки состоятельности такого различенія ясно, что исто-
рія искусства и литературы относится во всякомъ случаѣ къ
первой, имѣя дѣло съ духовной или же человѣку присущей
критика про- Дѣятельностью. Из ь того же, что она занята именно
блемы пронс- дѣятельностью явствуетъ, до какой степени
кусства. абсурдно задаваться исторической проблемой II р 0-
и е х о ж д е іі і я и с к у с с т в а. Впрочемъ,—и это слѣдуетъ хоро-
шенько себѣ замѣтить,—подъ этими словами въ зависимости
отъ случая разумѣлись весьма разныя вещи. Очень часто
слово п р о и с х о ж д е и і е означало и р и р о д у и ли су щ-
ность художественна го факта, при чемъ въ виду имѣлась
подлинная научная илп философская проблема, а именно—
та самая проблема, разрѣшенію которой старалось содѣй-
ствовать до сихъ поръ наше изложеніе. Въ другихъ слу-
чаяхъ происхожденіе понималось, какъ идеальный гене-
зисъ, а изслѣдованіе его, — какъ изслѣдованіе основанія
искусства, какь дедукція художественнаго факта изь высшаго
принципа, соіержаіцаго въ сеоѣ духъ и природу.—что тоже,
конечно, представляетъ собою философскую проблему, завер-
шающую собой проблему прой схожденія въ предыдущемъ смы-
слѣ и і,аже совпадающую съ нею, хотя иногда проблема
150 -
идеальнаго генезиса и подвергалась страннымъ интерпрета-
ціямъ и разрѣшеніямъ въ нѣкоторыхъ произвольныхъ и полу-
Философскихъ метафизикахъ. Вь тѣхъ же случаяхъ, копа
изслѣдовать намѣревались именно то, какъ исторически
сложилась художественная функція, этимъ ввоіилась отмѣ-
чавшаяся уже нами выше безсмыслица. Л именно: если выра-
женіе есть первая форма сознанія, то кань изслѣдовать ея исто-
рическое происхожденіе, т. е. историческое происхожлепіе того,
что не является продуктомъ исторіи и предполагается
человѣческой исторіей? Какъ установить историческій генезисъ
того, что представляетъ собою ту категорію, благодаря которой
только и становится понятнымъ всякій генезисъ н всякій исто-
рическій фактъ вообще? Причиной безсмыслицы было то. что
искусство сравнивалось съ такими человѣческими учрежденіями,
которыя дѣйствительно сложились ві.теченіи исторіи и въ теченіи
ея же исчезли или могутъ исчезнуть. По между эстетическимъ
•раитомъ и человѣческимъ учрежденіемъ (напр., моногамической
формой брака или леннымъ устройствомъ) прелагается различіе,
которое до извѣстной степени можно уподобить различію между
простыми и сложными тѣлами въ химіи; для первыхь нельзя
установить пути ихъ образованія, ибо въ противномъ случаѣ
они не были бы простыми; и всякій разъ, какъ относительно
какого-нибудь изъ нихъ удается установить путь ого образова-
нія, оно перестаетъ быть простымъ и переходитъ въ разрядъ
сложныхъ.
Проблема происхожденія искусства, будучи понимаема истори-
чески, находитъ себѣ оправданіе только въ томъ случаѣ, если
изслѣдованію будетъ подвергнуто не образованіе художественной
категоріи, а лишь го, гдѣ и когда впервые появилось искусство
('появилось, конечно, замѣтнымъ образомъ), въ какой точкѣ
пли части земного шара, въ какой моментъ п.та^ эпоху его
исторіи:—т.-р., если наслѣдоваться будетъ не происхожденіе
искусства, а. его болѣе древняя и первобытная исторія. Эта же
послѣдняя проблема, составляетъ о ню и то же съ проблемой по-
явленія на землѣ человѣческой цивилизаціи. Правда, для ея
разрѣшенія недостаетъ данныхъ, ко не {ітвлечеипоп возмож-
ности, какъ то и подтверждается обиліемъ црпытнкь рѣшенія
и гипотезъ нь этоіі области.
критерія про* Всякое изображеніе чі'.іі»вѣ,п,гк.оіі исторіи ц.ѵгѣеть
Рія. гноимъ основаніемъ понятіе прогресса, Но под і.
1л[
ирогрессомь не надо нотімать фантастическаго закона про-
гресса, который бы велъ съ неотвратимой силой человѣческія
поколѣнія къ яеизвѣстпо-какимъ окончательнымъ судьбамъ со-
гласно тірови(.еиціальному плану, логичность котораго мы смо-
жемъ разгадать и понять впослѣдствіи. Предположеніе такого
рода закона есть отрицаніе исторіи, той случайности и эмпирич-
ности, той индивидуальности. которыя отличаютъ конкретный
фактъ отъ абстракціи. По той же самой причинѣ прогрессъ не
имѣетъ ничего общаго и съ такъ называемымъ закономъ эво-
люціи. Ибо, если этотъ послѣдній говоритъ, что дѣйствитель-
ность разнннаегся (являясь дѣйствительностью лишь постолько,
посколько разнимается или находится вь процессѣ становленія),
онъ не можетъ называться закономъ; если .же шіь выступаетъ,
какъ закопъ, то не представляетъ отличій отъ закона- прогресса
въ только что изложенномъ смыслѣ. Прогрессъ, о которомъ
мы говоримъ здѣсь, есть не чго иное, какъ само понятіе
человѣческой активности, которая, обрабатывая доста-
вляемую природою матерію, побѣждаетъ ея сопротивленіе и под-
чиняетъ ее своимъ цѣлямъ.
Подобное понятіе прогресса или же человѣческой активности бу-
дучи поставлено въ связь съ какимъ-либо отдѣльнымъ матеріаломъ,
представляетъ собою точку зрѣнія историка человѣчества.
Кѣмъ бы ни былъ простой собиратель разрозненныхъ фактовъ,—
только ли разыскивателемъ или отрывочнымъ хроникеромъ, оісь
лишь въ томъ случаѣ будетъ въ состояніи составить хотя бы самый
незначительный разсказъ о фактахъ человѣческой жизни, если
обла гаетъ опредѣленной точкой зрѣнія, т.-е. своимъ собственнымъ
убѣжденіемъ относительно существа тѣхъ фактовъ, о которыхъ
собирается разсказать исторію. Отправляясь оть множества
необработанныхъ фактовъ, неупорядоченныхъ и несогласован-
ныхъ, молено творчески достигнуть произведенія историческаго
искусства лить чрезъ посредство такой апперцепціи, которая
позволитъ выдѣлить изъ этой грубой и безпорядочной массы
опредѣленное представленіе. Историкъ какого-либо практиче-
скаго дѣйствія долженъ знать, что такое экономія и что такое
мораль; историкъ математическихъ наукъ долженъ знать, чго
такое эти науки; историкъ ботаники,- что такое ботаника; исто-
рикъ философіи,—что такое философія. Или же. если вд> дѣй-
ствнгедыіогти овъ ихъ не знаетъ, инь долженъ по пятыя само-
обману, будто знаетъ ихъ; въ иротивпомь случаѣ онт. не гмо-
жегъ даже <ібм;іи) п. себя иллюзіей. что разсказываетъ какую то
НС І ОрІИ).
Мы не можомт. остановиться подроеиѣс на доказаісльсівѣ
необходимости я неизбѣжнаго присутствія этого субъективнаго
критерія (—который находится,въ полномъ согласіи съ высшей
объективностью, безпристрастностью и добросовѣстностью въ
передачѣ фактическихъ данныхъ и і,аже является ихъ конститу-
тивнымъ элементомъ) въ каждомъ разсказѣ о дѣлахъ и собы-
тіяхъ человѣческихъ. Достаточно начать читать люб\ю истори-
ческую книжку, чтобы тотчасъ же натолкнутыя на точку зрѣ-
нія ангора, если только этотъ послѣдній достоинъ имени исто-
рика и знаетъ свое дѣло. Въ политической или соціальной исто-
ріи есть историки, либеральные и реакціонные, раціоналисты и
католики; въ исторіи философіи есть нгторики-.мсгйфизйки,
эмпиристы, скептики, идеалисты, спиритуалисты. Историковъ
же, которые были бы чистыми историками, нѣтъ и быть не
можетъ. Были, что ли, лишены политическихъ и моральныхъ
взглядовъ Оукидидъ и Полибій, Ливій и Тацить, Макіавелли и
Гвичіардппи, Д.жіаноиэ и Вольтеръ, а въ наше время—Гизо или
Тьеръ, Маколей иля Бальбо, Рапке или Момсрпъ? А въ исто-
ріи философіи, кто, начиная съ Гегеля, который первый под-
нялъ ее на значительную высоту, и кончая Риттеромъ. Пел-
зеромъ, Кузеномъ, Льюисомъ и нашимъ Спавента,—кто не
имѣлъ своего понятія о прогрессѣ н своего критерія оцѣнки?
Да и въ исторіографіи самой эстетики развѣ есть хотя бы одно
сочиненіе, обладающее какой-нибудь цѣнностью, которое не
руководствовалось бы точкой зрѣнія того или другого напра-
вленія (—гргеліапской или гербартіанскоп), точкой зрѣнія
сенсуалистической или эклектической, и т. д.? Чтобы избавиться
отъ роковой необходимости стать членомъ какой-нибудь партіи,
историкъ долженъ былъ бы сдѣлаться политическимъ или науч-
нымъ евпухомь; но исторія—не дѣло евнуховъ. Птимъ послѣд-
нимъ мѣсто, самое большее, въ дѣлѣ составленія громоздкихъ
томовъ небезполезной эрудиціи, еІішіЬгіз аіцие іпісіа. кото-
рая не безъ основаній на то именуется монашеской.
Если поэтому понятіе прогресса, точка зрѣнія, критерій, не-
избѣжны. то самое лучшее—не стараться избѣжать ихъ, а
использовать ихъ хорошенько. II къ этой цѣли стремится всѣми
своими силами каждый, когда напряженно и серьезно рабо-
таетъ надъ установленіемъ своихъ убѣжденіи. Пусть но товѣ-
ряютъ тѣ.мь иі’ТирпКч. м ь. киторые заявляютъ о своемъ желаніи
руковгідгтвоіпгтьгя ;ольш> фактами, іір внося въ ипхъ ничего
своего. Самое большее, это—реЗ}льтатъ ихъ наивности и само-
обмана: хоть что-нибудь отъ себя, если только они—настоящіе
историки, они да. вносятъ постоянно въ факты, еслп даже и не
замѣчаютъ итого: если .же они думаютъ, что избѣжали этого,
то лишь потому, что дѣлаютъ такое привнесеніе, какъ что-то
само собою разумѣющееся: а вѣдь такой способъ—убѣдительнѣе,
проникновеннѣе и дѣйствительнѣе.
Отсутствіе Везъ критерія прогресса не можетъ обойтись и
единой линія исторія искусства и литературы, какъ и всякая
прогресса въ 1 * г '
исторіи искус- ,іпугая исторія вообще. Сказать, въ чемъ заклю-
ства и литера- * ’
туры. чается дѣйствительная сущность какого-лноо опре-
дѣленнаго произведенія искусства, мы въ состоянія, лишь от-
правляясь отъ какого-нибудь понятія искусства, позволяющаго
намъ фиксировать ту художественную проблему, которой за-
дается ого авторъ, и опредѣлить, достигнуто ли имъ разрѣше-
ніе, пли въ какой мѣрѣ и въ какомъ отношеніи осталось недостиг-
нутымъ. По нужно отмѣтить, что въ исторіи искусства и лите-
ратуры критерій прогресса получаетъ иную форму но сравненію
съ той. которую опъ принимаетъ (пли, по метгьпісй мѣрѣ,
думаютъ, что принимаетъ) въ исторіи науки.
Всю исторію науки принято представлять въ видѣ единой
линіи прогресса и регресса. Наука-дс есть универсальное, н
проблемы ея связаны въ единую обширную систему или еди-
ную сложную проблему. Надъ одной и той же проблемой при-
роды реальности и познанія трудятся всѣ мыслители: индій-
скіе созерцатели и греческіе философы, христіане и .магоме-
тане, голыя головы и головы съ тюрбаномъ, головы въ пари-
кахъ ц головы въ черномъ беретѣ (какъ говорилъ Гейне);—и
надъ нею же послѣ нашего поколѣнія будутъ труіиться по-
колѣнія будущія. Такъ .іи это по отношенію къ наукѣ или
нѣтъ, было бы слишкомъ толго здѣсь изслѣдовать. Но по от-
ношенію къ искусству это несомнѣнно не такъ: искусство есть
интуиція, ингуши» есть индивидуальность, а индивидуальность
не повторяется. Поточу было бы совершенно ошибочно рас-
полагать исторію художественнаго творчества человѣческаго
рода по одной только линіи прогресса и регресса.
Самое большее, что можно допустить,—пользуясь при этомь
уже немного обобщеніемъ п отвлеченіемъ — это— то, что исторія
15 1
эстетическихъ произведеній обнарѵжнваеть ирогрессиниыс циклы,
изъ которыхъ, однако, каждый обладаетъ при этомъ своея собст-
венной проблемой и прогрессивенъ только по отношенію къ этой
проблемѣ. Когда многіе работаютъ почти что надъ однимъ и тѣмь
же матеріаломъ, не достигая его оформленія подходящей фор-
мой, но все болѣе и болѣе къ такой формѣ приближаясь, то
говорятъ, что при этомъ имѣетъ мѣсто прогрессъ; когда же по-
является человѣкъ, придающій этому матеріалу окончательную
форму, то говорятъ, что циклъ пройденъ и прогрессу поло-
женъ конецъ. Типичнымъ примѣромъ этоіч» можетъ служить
(если только взять этотъ примѣръ въ крайне упрощенномъ
видѣ) прогрессъ въ выработкѣ способа чувствовать рыцар-
ственность въ теченіе итальянскаго Возрожденія отъ ІІу.іьчи д«>
Аріосто. Сосредоточеніе на томъ же самомъ предметѣ послѣ
Аріосто смогло имѣть своимь слѣдствіемъ лишь повтореніе или
подражаніе, ослабленіе или преувеличеніе,—разрушеніе уже сдѣ-
ланнаго, еловомъ, упадокъ. И примѣръ тому—эпигоны, послѣ-
дователи Аріосто. Прогрессъ начинается послѣ этого вступле-
ніемъ въ новый циклъ. И примѣръ тому — Сервантесъ, болѣе
открытымъ и сознатольнымт, образомъ культивирующій иронію.
II въ чемъ иномъ состоялъ общій упадокъ итальянской литера-
туры въ концѣ чинквеченто *), какъ не въ такомъ неимѣніи ска-
зать ничего новаго, какъ не въ повтореніи и преувеличеніи уже
найденныхъ мотивовъ? Если бы итальянцы этого времени
сумѣли дать выраженіе хотя бы этой своей упадочности, то
уже благодаря этому одному онн не являли бы собою болѣе
зрѣлища полнѣйшей упадочности и предупредили бы литера-
турное движеніе эпохи Возрожденія. Тамъ, гдѣ матерія мѣ-
няется, не имѣетъ мѣста и циклъ прогресса. Шекспиръ не
является прогрессомъ сравнительно ет. Ланге, а Гете—сравни-
тельно съ Шекспиромъ; зато Данте являетъ собою прогрессъ
по сравненію со средневѣковыми авторами видѣній. Шекспиръ
по сравненію съ драматургами эпохи Елизаветы, а Гете — со
своимъ Вертеромъ и первымъ Фа у сто.мт—щ» сравненію
съ писателями эпохи $ѣигш піні Г)гап". Однако же, какь
мы уже отмѣтили это, такое изложеніе исторіи поэзіи и искус-
ства заключаетъ въ себѣ нѣкоторый абстрактный элементъ. ко-
торый имѣетъ чисто практически ю и, строго говори, нефп.іогоф-
Т.-ч. Кі-пі стол'ѣгя. 11[>. пер.
155
скую цѣнной ь. Не только искусство дикихъ, какъ таковое, иг
является болѣе низкимъ но сравненію съ искусствомъ болѣе
цивилизованныхъ народовъ, если соотвѣтствуетъ впечатлѣніямъ
дикихъ, но л каждый индивидуумъ, даже каждый моментъ ду-
ховной жизни индивидуума имѣетъ своіі художественный міръ,
И всѣ такіе міры несравнимы между собою въ художественномъ
отношеніи.
Пигрьшеиія Противъ этой спеціальной формы критерія иро-
противъ итого
закона. ГрОСТ-Н 1ГБ ІИ'ТОрШ ИСКУССТВА ІГ .ІКТврНТурЫ МіГОПС
('рѣшили и грѣшатъ. Существуютъ такіе историки, которые,
маіір., стремятся видѣть дѣтство итальянскаго искусства въ
Джотто, а его зрѣлость—въ Г’аффаэд Ь или Тиціанѣ; — какъ
будто бы Джотто не законченъ и не совершененъ, если имѣть нъ
виду теть эмоціональный матеріалъ, который ои ь носилъ въ своей
душѣ. Конечно, онъ не былъ въ состояніи такъ изобразить
тѣло, какъ это удавалось Раффаэло, и такъ налагать па него
краски, какъ то дѣлалъ Тиціанъ; но развѣ былъ Раффаэль или
Тиціанъ въ силахъ создать Бракосочетаніе Св. Фран-
ческо съ Бѣдностью или Смерть Св. Франческо?
Духъ Джо сто не былъ еще привлеченъ тѣмъ цвѣтущимъ со-
стояніемъ тѣла, нн которое обратила вниманіе эпоха Возрожде-
нія и которое сдѣлала. затѣмъ предметомъ своего изученія; іухъ
ж.е Раффаэля и Тиціана былъ уже безразличенъ по отношенію
къ нѣкоторымъ движеніямъ ныла и нѣжности, которыми вдох-
новлялся человѣкъ треченто *,)- Какъ же производить въ такомъ
случаѣ сравненіе тамь. гдѣ отсутствуетъ средній терминъ
сравненія?
Тѣмъ же самымъ дефектомъ страдаютъ и знаменитыя дѣленія
исторіи искусства на періодъ оріентальный.—знаменующій собою
нарушеніе равновѣсія между идеей и формой въ сторону формы,
періодъ классическій,—означающій равновѣсіе между идеей и
формой, и періодъ романтическій,—снова нарушающій равно-
вѣсіе. но уже въ сторону преобладанія идеи;—или на оріен-
тальное искусство, означающее собою формальное несовер-
шенство. искусство классическое, представляющее собою фор-
мальное совершенство, и искусство романтическое или нонѣіі
ніес, представляющее гобою совершенство содержанія и формы.
Какь .мы вп.інм].. понятіи классическаго и романтическаго среі.н
Ч Т.-е. четнриа-оінѵаіл вѣка. Нр. /ч-р.
XVIII.
Заключеніе. Тождество лингвистики и эстетики.
Резюме из- БѢі’ЛЫН ВЗГЛЯДЪ НА ІірОНДРПНЫИ ІіуТЬ МОЖвТЪ 110-
слѣдованія. казать, что наше изложеніе выполнило всѣ пункты
своей программы. Опредѣливъ природу интуитивнаго пли вы-
разительнаго познанія, которое является эстетическимъ пли
художественнымъ фактомъ (гл. I и II), и указавъ другую форму
познанія, именно интеллектуальную, и послѣдовательныя ком-
бинаціи этихъ формъ (гл. Ш). мы получили возможность под-
вергнуть критикѣ всѣ ошибочныя эстетическія теоріи, вытекаю-
щія изъ смѣшенія различныхъ формъ и непозволительнаго пере-
несенія чертъ одной изъ нихъ на- другую (гл. IV), а также
принять во вниманіе я обратныя ошибки, которыя встрѣчаются
въ теоріи интеллектуальнаго познанія и исторіографіи (гл. V).
Перейдя затѣмъ къ разсмотрѣнію отношеніи между эстетиче-
ской активностью и другими активностями духа, пе теоретиче-
скими уже. а практическими, мы отмѣтили гамоіггояте.іыіый
характеръ практической активности и то мѣсто, которое она
занимаетъ но отношенію къ теоретической активности: от-
сюда — критика введенія практическихъ понятій въ эстети-
ческую теорію (гл. VI); затѣмъ мы провели различіе между
двумя «формами практической активности, экономической и эти-
ческое (гл. VII), достигнувъ вь коицѣ-коицовъ того результата,
что. кромѣ четырехъ нами подвергнутыхъ анализу форма., дру-
гихъ формъ духа не имѣется; и отсюда (гл. VI И)—критика вся-
кой мистической или фантастической эстетики. Л подобно юму,
какъ нѣтъ иикя-кнхъ другихъ духовныхъ формъ равнаго до-
стоинства. такъ точно нѣтъ и оригинальныхъ подраздѣленій апіхъ
четырехъ фор.мі,, въ частшнтн пѣгъ ихъ и у эстетической формы;
159 —
отсюда, вытекаетъ невозможность классовъ выраженія и критика
риторики, т.-е. у кра лимита г»» выраженія, отличнаго отъ простого
выраженія, и томч нот.о’иіыхь различій и подраздѣленій (гл. IX).
Но въ силу закона еіниства ідха огтотпчсекііі фактъ является
въ го же время п практическимъ фактомъ и, какъ таковой,
влечетъ за гобою і’ас.іяжі.еніе и страданіе; ото побудило насъ
заняться изученіемъ чувствъ цѣнности вообще и чувствъ ОС го-
тической цѣнности и прекраснаго въ частности (X), подвер-
гнуть критикѣ гедѵннгтпчогкую эстетику во вгѣхь ея разнооб-
разныхъ проявленіяхъ и м-ложіюніяхъ СХІ) и изгнать ил ь эсте-
тической системы ілиннып рядь психологи четкихъ понятіи, ко-
торыя были введены туда (ХИ). Ибрагпвпшсь отъ эстетическаго
творчества къ фактамъ воспроизведенія, мы прежде всего под-
вергли изслѣдованію способъ внѣшняго закрѣпленія эстетиче-
скаго выраженія іи. цѣляхъ воснронзврдевія, г.-е такъ назы-
ваемое „физическое прекрасное'*, либо искусственно»1. либо на-
туральное (ХІП); это различіе послужило оспованіемь для кри-
тики тѣхъ заблужденій, которыя своимъ возникновеніемъ обя-
заны смѣшенію физической стороны явленій съ нх'ь эстетиче-
ской стороною (XIV): вмѣстѣ. »-ь тѣ.мь мы установили смыслъ
художественной техники пли же тпіі техники, которая служитъ
цѣлямъ воспроизведенія, подвергнувъ при этомъ критикѣ раз-
дѣленія, границы и классификаціи отдѣльныхъ искусствъ п уста-
новивъ отношенія искусства съ экономикой и моралью (.X V). Впро-
чемъ, такъ какъ наличности однихъ физическихъ объектовъ,
играющихъ роль стимуловъ, недостаточно для полнаго эстети-
ческаго воспроизведенія, п такъ кякь сверхъ того требуется воз-
становіеиіе тѣхъ условій, вь какихъ стимулъ дѣйствовалъ въ
первый разъ, мы изслѣдовали функцію исторической учености,
своей цѣлью имѣющую приведеніе фантазіи въ соприкосновеніе
съ произведеніями прошлаго и установленіе фундамента для
эстетическаго сужденія (XVI). II мы закончили наше изложепі»'
демонстраціей того/какъ достигнутое воспроизведеніе обраба-
тывается затѣмъ нъ категоріяхъ мысли, или же изслѣдованіемъ
методики исторіи искусства п литературы (XVII).
Итакъ, эстетическій фактъ былъ подвергнутъ разсмотрѣнію
и самъ но себѣ. и въ евоііхч» отношеніяхъ съ другими духов-
ными активностями, съ чувствомъ удовольствія и страданія, съ
фактами, которые именуются физическими, съ памятью п съ
исторической обработкой. Оісь прошелъ переть нашими гла-
160 —
зами, пачііная съ момента его субъективности и кончая
тѣмъ, когда онъ становится объектомъ, т.-е. начиная съ
того момента, когда онъ рожзается, и кончая (послѣ посте-
пеннаго ряда звеньевъ) тѣмъ моментомъ, когда онъ превра-
щается для духа въ предметъ не то р і и.
Возможно, что наше изложеніе при сравненіи его сь толстыми
томами, обычно посвящаемыми эстетикѣ, покажется во многомъ
недостаточнымъ. По если принять во вниманіе, что эти томы
на донять десятыхъ полны такого матеріала, который совсѣмъ
пе относится кь эстетикѣ, какъ-то: психологическихъ или мета-
физическихъ опредѣленій псевдо-эстетическихъ понятій (вели-
чественнаго, комическаго, трагическаго, юмористическаго и
т. д.), или же изложенія мпимой эстетической зоологіи, бо-
таники и минералогіи и всеобщей исторіи въ эстетическомъ
освѣщеніи, и что въ нпхъ принята и обычно извращенно
излагается вся дѣйствительная исторія искусства и литературы
съ соотвѣтствующими сужденіями о Гомерѣ и Данте, объ Аріо-
сто и Шекспирѣ, о Бетховенѣ и Россини, о Микельанджело и
Раффаэлѣ, то,—будемъ надѣяться на это—, наше изложеніе не
только не покажется слишкомъ недостаточнымъ, но, пожалуй
даже, будетъ признано болѣе богатымъ по сравненію съ обыч-
ными изложеніями, которыя къ тому же проходятъ мимо или
едва касаются большей части тѣхъ трудныхъ и въ собственномъ
смыслѣ слова эстетическихъ проблемъ, отдаться разработкѣ ко-
торыхъ мы считали иашимь долгомъ.
Однако, хотя эстетика, какъ наука о выраженіи, и
Тождество ’ , «.
лингвистики съ оыла разсмотрѣна нами со всѣхъ сторонъ, остается
эстетикой. ещР 0 п раВдать по дзагол о вокъ,—обозначеніе ея, какъ
общей лингвистики, который мы присоединили къ заго-
ловку пашей книги, а вмѣстѣ съ тѣмъ установить в разъяснить
то положеніе, что наука объ искусствѣ и паука объ языкѣ, эсте-
тика и лингвистика, будучи взяты въ ихъ подлинномъ научномъ
значеніи, суть ужо не двѣ отдѣльныхъ, науки, а одна и та же науч-
ная дисциплина. Но то. чтобы существовала еще какая-нибудь
спеціальная лингвистика, но искомая лингвистическая паука,—
общая лингвистика, къ томъ, что въ ней сводимо на фило-
софію, и есть не что иное,какъ эстетика.. Кто занятъ разработкой
общей лингвистики или .же философской лингвистики, работаетъ
надъ эстетическими проблемами и ианборптч.. Философія
языка и философія искусства суть оіно и то же.
— 1Г, I
И дѣйствительно тля того, чтобы быть наукой, отличной
отъ эстетики, лингвистика пе должна бы имѣть своимъ прсдме-
•гозгь выраженіе, когорое представляетъ собою какъ разъ зсго-
тическій фактъ. значитъ, должна бы держаться того мнѣнія,
что языкъ не есть выраженіе. По вѣдь испусканіе звуковъ,
которое ничего не выражаетъ, не является явыкомь: языкъ
есть звукъ членораздѣльный. отграниченный, организованный
въ цѣляхъ выраженія. Съ другой стороны для того, чтобы
быть но отношенію къ эстетикѣ спеціальной наукой, линг-
вистика должна бы имѣть своимъ предметомъ спеціальный
классъ выраженій. По мы уже показали, что классовъ выра-
женія но существуетъ.
эстетическая Проблемы, разрѣшеніемъ которых'і. занимаегся
?ингвис"нчес-а лингвистика, II Заб.ІуЖДеиІЯ, СЪ КОТОрЫМН ОНИ 00-
кихъ ироб- роласъ и борется, тѣ же, какія занимаютъ и про-
ленъ. природа г 5, ’ ’ 1
языка. ника ютъ сіюою эстетику. Если и не всс'гза. легко,
то во всякомъ случаѣ всегда возможно свести философскіе во-
просы лингвистики къ ихъ эстетической формулировкѣ.
Самые споры о природѣ одной изъ нихъ ііахо і,ятъ себѣ отзвукъ
вь тѣхъ спорахъ, которые имѣли мѣсто относительно природы
другой. Такъ, много спорили о томъ, является ли лингвистика
дисциплиной исторической или научной, и затѣмъ, отдѣливъ
научное отъ историческаго, задавались вопросомъ о томъ, при-
надлежитъ ли она къ порядку наукъ естественныхъ или психо-
логическихъ, понимая подъ этими послѣдними какь эмпириче-
скую психологію, гакъ и науки о духѣ. И то же самое происхо-
дитъ съ эстетикой, которую о (пи разсматриваютъ, какъ есте-
ственную науку, смѣшивая тѣмъ эстетическое выраженіе съ
выраженіемъ вь физическомъ смыслѣ, а другіе признаютъ пси-
хологической наукой, не проводя должнаго различія между
выраженіемъ во всей его универсальности и эмпирической
классификаціей выраженій; наконецъ, третьи, отрицая всякую
возможность пауки, посвящрпноп такой матеріи, превращаютъ
эстетику въ простое собраніе историческихъ фактовъ. Такъ что
пи вь одномъ изъ эгихь трехъ направленій не достигается
осознаніе эстетики, какъ науки объ активности илп цѣнности,—
какь науки о духѣ.
Лингщимическое выраженіе или слово часто было принимаемо
за фактъ междометія. входящаго элементомъ въ такъ на-
зываемыя фнзіпгоі'кія выраженія чувствъ. общія у людей п жи-
іі
Эстетика.
1<І2 —
нотныхъ. Но очень скоро замѣтили, что между такимъ „ай“,
которое является физическимъ рефлексомъ боли, и словомъ,
даже межд\ такимъ простымъ „ай’“ и „ай!", употребляемымъ
какъ слово,—нѣтя бездна. ГГо отказѣ отъ теоріи междометія
(или „ай-ай". какъ ее въ шутку именуютъ нѣмецкіе лингвисты),
ея мѣсто заняла другая теорія, теорія ассоціаціи или
с о г л а ш е н і я. падающая подъ напоромъ того же самаго возра-
женія, которое оказываетъ разрушительное дѣйствіе и па эсте-
тическій ассоціаціонпзмъ в’ообще: слово есть единство, а не по-
с дѣдовательный рядъ образовъ; такая послѣдовательность не
только не объясняетъ выраженія, которое надлежитъ объяснить,
а сама предполагаетъ его. Видоизмѣненіемъ лингвистическаго
ассоціаціопизма является и нмитатпвный ассоціаціонизмъ, т.-е.
теорія образованія словь по звукоподражанію,
которую сами лингвисты высмѣиваютъ. называя теоріей „гау-
піу" въ подражаніе лаю собаки, отъ котораго и должна, была,
по мнѣнію приверженцевъ этой теоріи, получить свое имя собака.
Теоріей языка, наиболѣе принятой въ наши дни. •— если
только это пе вовсе грубый натурализмъ — является своего
рода эклектизмъ или смѣсь изъ разныхъ нами отмѣченныхъ
теорій, причемъ утверждается, что языкъ есть продуктъ отчасти
междометій, отчасти звукоподражаній н условностей;—ученіе,
вполнѣ достойное философскаго упадка второй половины де-
вятнадцатаго столѣтія.
Здѣсь нужно указать еще на одну ошибку, вь
яіе«зыка°Гего которую впадаютъ даже тѣ изъ лингвистовъ, которые
развитіе. ,.]уіц[іе другихъ усвоили собѣ активистлческую при-
роду языка, когда они, хоть и признавая, что по своему про-
и с х о ж д е п і ю .языкъ является духова ы м ъ с о з д а и і е м ъ,
тѣ.мь не менѣе утверждаютъ, что его дальнѣйшее развитіе со-
вершалось главнымъ образомъ чрезъ посредство ассоціаціи.
Между тѣмъ, такое различеніе несостоятельно, такъ какъ подъ
происхожденіемъ нельзя въ этомъ случаѣ разумѣть ничего дру-
гого, кромѣ природы или сущности; если языкъ является ду-
ховнымъ созданіемъ, опъ навсегда, остается такимъ созданіемъ;
если же оль представляетъ собою ассоціацію, го онъ таковъ
съ самаго начала. Источникомъ этой ошибки было то обстоя-
тельство, что не былъ еще осознанъ извѣстный намъ общій эсте-
тическій принципъ, а именно: что всѣ уже созданныя выраже-
нія для того, чтобы послужить ПОВОДОМЪ І.ЗЯ новыхъ выражо-
163 —
ніІІ, должны сноса превратиться во впечатлѣнія. Въ процессѣ
созданія новыхъ словъ мы обыкновенно трансформируемъ преж-
нія слова, видоизмѣняя или распространяя ихъ смыслъ; такой
процессъ совсѣмъ не ассоціативенъ, а творчественъ.
хотя творческая дѣятельность своимъ матеріаломъ и имѣетъ,
при этомъ, впечатлѣнія не гипотетическаго примитивнаго чело-
вѣка, а впечатлѣнія человѣка, вѣками живущаго въ обществѣ
и накопившаго, такъ сказать, въ своемъ психическомъ организмѣ
массу всякой всячины, между прочимъ относящейся и къ сферѣ
языка.
откошеніе Пробіеміі различія между фактомъ эстетическимъ
между грамма ц фактомъ интеллектуальнымъ получила въ липгви-
кой- стикѣ видь проблемы отношенія между граммати-
кой п логикой. Эта проблема получила два частично вѣрныхъ
разрѣшенія:—признаніе п е р а с т о р ж и м о с. т и логики и грам-
матики между собою и признаніе икъ расторжимости. Пол-
ное же рѣшеніе заключается въ утвержденіи, что въ то время,
какъ логическая форма не отдѣлима отъ і'рямматпческой (эсте-
тической), эта послѣдняя отдѣлима отъ логической формы.
грамматичс- Глядя на художественное произведеніе, которое
СКІе роды ИЛИ „ ' ,
части рьчи. изображаетъ. напр., человѣка, идущаго по сель-
ской дорогѣ, мы можемъ сказать слѣдующее: „эта картина
представляетъ фактъ движенія, который называется дѣй-
ствіемъ, если разсматривается, какъ произвольный; а такъ
какъ всякое движеніе предполагаетъ какую-нибудь матерію,
а всякое дѣйствіе какое-нибудь существо, которое дѣй-
ствуетъ, то эга картина представляетъ также нѣкоторую мате-
рію или нѣкоторое существо. Сверхъ того, такое движеніе
происходитъ въ опредѣленномъ мѣстѣ, представляющемъ со-
бою кусокъ опредѣленной планеты (земли), собственно говоря,
даже кусокъ одной изъ частей ея, которая называется мате-
рикомъ, или,—еще точнѣе выражаясь—, кусокъ поросшей
деревьями и покрытый травою ея части, которая называет-
ся полемъ и естественно или искусственно пересѣкается
тѣмъ, что носитъ имя дороги. При этомъ, та планета,
которая называется землею, существуетъ въ единственномъ
числѣ: земля это—и и д и в и д у у м ъ; материкъ же, поле,
дорога суть р од ы и л и у н и в е р с аліи, такъ какъ суще-
ствуютъ другіе матернин, другія поля, другія дороги". Та-
кое разсмотрѣніе можно было бы продвинуть еще на шагъ
И*
- пн —
дальше. Іюли иоставигь на мѣсто придуманной нами картины,
напр., такую фразу: „Петръ идетъ но сельской дороіѣ* и под-
вергнуть ее такому же разсмотрѣнію, то получатся понятія
глагола (движенія или дѣйствія), имени (матеріи илп
агента), имени собственнаго, имени общаго и г. д.
Чтоже мы сдѣлали въ обоихъ этихъ случаяхъ? По больше
м пе меньше, какъ поівергли логической обработкѣ то, что сна-
чала было дано только въ эстетической обработкѣ; т.-е. мы
разрушили эстетическое ради логическаго. Но подобно тому,
какъ въ общей эстетикѣ заблужденіе возникаетъ тогда, когда
отъ логическаго снова хотятъ вернуться къ эстетическому и
спрашиваютъ себя о томъ, каково выраженіе движеніи,
І.ѢЙСТКІ.Я, матеріи, существа, общаго, индивидуальнаго и т. п.,—
точно такъ же въ случаѣ гь языкомъ заблужденіе начинается
тогда, когда движеніе или дѣйствіе именуется глаголомъ,
существо или матерія—в м е н е и ъ с у щ о с г в и т о л ь и ы м ъ, и
всѣ они, имя и глаголь и іругіи, ихъ сопровождающія формы,
становятся липгвиспічічкпми категоріями или ч а < т я м п рѣ ч и.
Теорія частей рѣчи но существу своему ость то же самое, что
и теорія художественныхъ и литературныхъ родовъ. у.ж.е подверг-
нутая критикѣ выше.
Совсѣмъ невѣрно, что имя или глаголъ выражактся опро-
Гѣлепнымл словами, дѣйствительно отличными отъ другихъ.
Выраженіе представляетъ собою нѣкоторое недѣлимое цѣлое;
имя н глаголъ не существуютъ въ немъ, какъ таковые; ото—
абстракціи, создаваемыя иами одновременно съ разрушеніемъ
тоіі единственной лшігвіістігісскоп реальности, которою является
предложеніе. При этомъ, па предложеніе мы не до.джиы
смотрѣть такъ, какъ то принято обычно въ грамматикахъ, а
должны видѣть въ номъ выразительный организмъ закончен-
наго смысла, который содержится какъ въ гамомъ простомъ
восклицаніи, такъ и въ самой обширной поэмѣ. Это звучитъ
парадоксально, и. тѣмъ не менѣе, это- паи простѣйшая истина,
И подобно тому, какъ вь эстетикѣ, благо іаря этому заблу-
жденію, были признаны несовершенными художественныя про-
изведенія нѣкоторыхъ народовъ, у которыхъ такіе мнимые
роды, повидимому, еще не выдѣлились или только частично отсут-
ствуютъ,—въ лингвистикѣ теорія частей рѣчи послужила, источ-
никомъ аналогичнаго же ошибочнаго раздѣленія языковъ на
оформленные п безформенные ни. зависимости отъ
і 6.3 -
того, имѣются ли въ нихъ. или нѣтъ нѣкоторыя изъ такихъ
мнимыхъ частей рѣчи, нанр. глаголь.
Иидивндуаль- ЛіШГВШ'ТНКа ТОЖѴ ОТКрЫЛі! ПрИІІЦИПЬ НИ НИ ЧТО
ктасснфикяція "есводимой и н,і,и ни дуальности лстетическаго факта,
языковъ. когда, пришла кь убѣжденію, что слово есть то,
что дѣйспштельно говорится, и что не существуетъ двухъ дѣй-
ствительно тож іосгвенныхъ словъ, разрушая тѣмъ синонимы
и гомонимы и показывая невозможность настоящаго перевода
одного слона, прн помощи другого,--перевода сь такъ называе-
маго діалекта на такъ называемый литературный языкъ пли съ
такъ называемаго роі,ногч> языка, иа такъ называемый чужой
языки.
Но такому правильному взгляду .мало уже соотвѣтствуетъ за-
тѣмъ попытка классифицировать языки. Языки не обладаютъ
никакой реальностью за предѣлами отдѣльныхъ предложеній и
ихъ рядовъ, дѣйствительно произнесенныхъ или написанныхъ
опредѣленными народами въ опредѣленные періоды времени,
т.-е» за предѣлами произведеній искусства, благодаря
которымъ они получаютъ конкретное сушсствопаіііе (при чемъ
безразлично, будут-ь ли то великія или незначительныя произведе-
нія, изустныя пли писанный, тотчасъ .же забытыя пли долгое
время воспоминаемыя). И на самомъ дѣлѣ, чго такое искусство
даннаго народа, какъ пе совокупность всѣхъ его художествен-
ныхъ произведеній? Что такое характеръ какого-либо искусства
(папр., греческаго искусства или провансальской литературы),
какъ не совокупная физіономія его произведеній? Л какъ можно
отвѣтить на такой вопросъ иначе, чѣмъ разсказавъ во всѣхъ, ея
частностяхъ исторію искусства (литературы, т.-е. языка въ его
дѣйственномъ проявленіи)?
Можетъ показаться, что ото разсужденіе, имѣя силу просивъ
многихъ изь обычныхъ классификаціи языковъ, совершенно без-
сильно, однако, противъ королевы всѣхъ классификацій,
классификаціи потерико-генеалогической, являющейся славою
сравнительной филологіи. — II гЬисгвительно, такъ оно и ость
на самомъ дѣлѣ. I Го почему? А именно потому, что такая исто-
рическая гшіеалогпка пе является чистой классификаціей. Кто
работаетъ ладъ исторіей, но к кмѵифпцируетъ; и сами филологи
принуждены признать, что языки, допускающіе расположеніе
въ историческій ряі.ъ (т.-е. языки, послѣ і.оватслыгый рядъ кото-
рыхъ быль усті;[іі.чі.іГ’ігі, он-елѣі. являются уже не отдѣльными
166 —
и оторванными родами плі визами, а представляютъ собою
различныя фазы развитія единаго комплекса фактовъ.
невоэнож- Иногда языкъ былъ разсматриваемъ, какъ сво-
тнѴній ірамм*- Годный пли произвольный актъ. Но, съ другой
тнкн. стороны, была установлена полпая невозможность
создать его искусственно путемъ волевого акта. „Тц, Саеваг,
сіѵіШеш сіаге роіез Іютіг.і, ѵегЬшп пои роіе»!* *) было сказано
еще римскому императору. Эстетическая и потому теорети-
ческая, а по практическая, природа словеснаго выраженія
позволяетъ вскрыть научную ошибку, заключающуюся въ понятіи
той грамматики (нормативной), которая устанавливаетъ
правила для того, чтобы хорошо говорить. Противъ этой ошибки
всегда возставалъ здравый смыслъ, и примѣромъ такого возму-
щенія является „тѣмъ хуже для грамматики*, приписываемое
Вольтеру. Но невозможность нормативной грамматики при-
знается также и тѣми, кто преподаетъ ее, такъ какъ они согла-
шаются, что нельзя научиться хорошо писать при помощи пра-
вилъ, что нѣть правилъ безъ исключеній и что изученіе грам-
матики должно совершаться практически путемъ чтенія и при-
мѣровъ, долженствующихъ помогать образованію литературнаго
вкуса. Свое научное основаніе такая невозможность находитъ въ
доказанномъ нами положеніи, что техника теоретическаго зна,
менуетъ собою сопігайісііо іп іегпгіпіз. А чѣмъ же еще другимъ
и быть грамматикѣ (нормативной), какъ именно не техникой
лингвистическаго выраженія или теоретическаго факта?
дидактмче- Совсѣмъ иное дѣло, когда грамматика, разсма-
сыія руковод-
ства. триваетсл, какъ чисто эмпирическая дисциплина, а
именно какъ собравіе схемъ, полезныхъ при усвоеніи языковъ,
безъ всякой претензіи на философскую истину. Въ такомъ слу-
чаѣ допустимы и полезны также и абстракціи частей рѣчи. 11
за подобныя дидактическія руководства нужно признать (и потому
принять ихъ) многія изъ тйхь книгъ, которыя именуютъ себя
„трактатами ио лингвистикѣ" и въ которыхъ содержится обычно
всего понемпогу: начиная съ описанія голосового аппарата
и пскуествеішыхъ машинъ, могущихъ ему подражать (фоногра-
фовъ), п кончая сводкой наиболѣе важныхъ результатовъ, до-
стигнутыхъ нпхо-енропспской, семитической, коптской, кптай-
*) „Ты, і> Цезарю можешь дать человѣку гоі'ударспіСіінгц» устройство,
<-.и»ва же дзгі. т.м не і;і. счлачъ'*. Пр. пер.
167
ской или любой нною филологіей; — ѵтъ общихъ философскихъ
установленій относительно происхожденія пли природы языка
в до совѣтовъ по поводу формата, каллиграфія и порядка карго-
чокъ, предназначенныхъ для филологическаго матеріала. По та
часть понятій, которая, касаясь языка въ самой с-го сущности,
т.-е. языка, какь выраженія, іа на нъ утихъ книгахъ во фраг-
ментарномъ и незаконченномъ видѣ, разрѣшается въ попягія
устетики. За. предѣлами :> стет п к и, которая доставляетъ позна-
ніе природы языка, и ам и и рич е ско й грамматики, ко-
торая представляетъ собою педагогическое руководство, остается
только исторія языковъ въ ихъ живой реальности, т.-е.
исторія конкретныхъ литературных і. произведеній, по существу
своему тождественная сь исторіей литературы.
Элемеитар. Въ ТУ жр СЯМуЮ ОИПібку ПОДМѢНЫ ЭСТвТИЧССКаГО
чеекы"’ факты фпЗЯЧРСКИМЪ, КОТОрЯЯ СЛУЖИТЪ ИСТОЧНИКОМЪ ПЗС.1Ѣ-
илн корни. довапія э л е м о н т а р н ы х ъ Формъ прекраснаго,
впадаютъ и тѣ, кто гонится за установленіемъ элементар-
ны х ъ л и и г в и с т и ч е с к и х ъ ф а к т о в ъ, украша я такимъ
наименованіемъ раздѣленія болѣе длинныхъ рядовъ физиче-
скихъ звуковъ па ряды болѣе короткіе. Слога, гласныя и со-
гласныя и ряды слоговъ, именуемые словами, всѣ они, будучи
взяты въ отдѣльности, не заключаютъ въ себѣ опредѣленнаго
смысла и должны быть разсматриваемы поэтому ие какъ факты
языка, а какъ простые звуки или, лучше, какъ физически
отвлеченные и классифицированные звуки.
Другой ошибкой того же рода является ученіе о корняхъ,
которому наиболѣе тонкіе филологи приписываютъ теперь до-
статочно незначительную цѣнность. Смѣшавъ между собою фи-
зическіе факты съ фактами лингвистическими или выразитель-
ными и замѣтивъ потомъ, что въ порядкѣ идей простое пред-
шествуетъ сложному, изслѣдователи должны были въ концѣ-
концовъ придти къ мысли, что еамыми маленькимн фи-
зическими фактами знаменуются н а и б о я ѣ е и р о с т ы е лингви-
стическіе факты. Отсюда воображаемая неизбѣжность гого, что
болѣе древніе, примитивные языки должны носить моиоенллаби-
ческій характеръ, а успѣхи историческаго изслѣдованія должны
приводить всегда обязательно къ установленію моносиллабнче-
скихъ корней. Ио, вѣц», первое выраженіе, которое (если по-
слѣдовать за фантастической гипотезой) воспринялъ первый че-
ловѣкъ, .могло быть и пе звуковымъ, а лишь мимическимъ
1 бК
физическимъ рефлексомь. т. е. объективироваться ио въ звукѣ,
издаваемомъ голосомъ, а въ .жестѣ. Если же предположитъ, что
оно нашло себѣ объективацію въ звукѣ голоса, то пе будетъ
никакого основанія утверждать, что этотъ звукъ долженъ быль
быть моноеи.ілабіічегкимъ, а не ііліорнспл іабическимъ. Фило-
логи охотно ссылаются- на свое незнаніе и безсиліе, когда имъ
не удается свести н.іюрисііллабизмъ къ моносиллабизму, и на-
дѣются достичь этого въ будущемъ. Но это—ни на чемъ не
основанная вѣра, равно какъ и подобная сеы.іка представляетъ
собою актъ смиреніи, вытекающій изъ ошибочнаго нрсдубѣж тенія.
Впрочемъ, границы слоговъ, какъ равно и границы счовъ,
совершенно произвольны и опредѣляются, самое, большее, эмпи-
рически. Примитивный языкъ или языкъ некультурнаго чело-
вѣка. являеі ь собою нЬкоторую н е п р е р ы внесть, лишенную
всякаго сознанія дѣлимости рѣчи на слова, и слоги,—мнимыя
сущности, выдуманныя школой. Па такихъ сущностяхъ не
основывается ни одного закона подлинной лингвистики. Иго
подтверждается признаніемъ лингвистовъ, что для зіянія, како-
фоніи, діэрозиса, синэрезиза ’) не существуетъ дѣйствитель-
ныхъ фонетическихъ законовъ, а лишь законы вкуса и со-
образности, т.-е. только эстетическіе законы. П затѣмь,-
гдѣ ото такіе законы ісагательно словъ, которые не были бы
вмѣстѣ съ тѣмъ и законами с т и л я?
Эстетическое Вь Ире.ІрПЗСѴДКѣ, ОѴДТО ПреКрасіІОС ЛМѢеТЪ ра-
су ж де н I е н ,
яіыкъ.иодеіь. ніонімнетическую Мѣру, Т.-С. ВЪ ТОМЪ ПОНЯТІИ, КО-
•і’орое, какъ мы сказали, имѣетъ въ виду .южную эстетическую
абсолютность, коренится, нпконецт., и сгараніе пяйтн языкъ-
модель или способъ свести .тііні'кистпческую практику къ
е ,і, п и с. т в у:'—разрѣшить ироблечп о д и и г т в а я з ы к а, клкъ
это было формулировало у насъ нь Италіи.
Языкъ есть неустанное творчество. То, что получаетъ однажды
словесное выраженіе, повторяется лишь какъ воспроизведеніе
чего-то уже <‘оз і,аниаго; все новыя и новыя впечатлѣнія вно-
сятъ съ собою непрерывное измѣненіе звуковъ и значеній плн
же все новыя и новыя выраженія. Поэтому, искать языка-
модели значить искать не подвижности движенія. Каждый гово-
ритъ и долженъ говорить сообразно тѣмъ отзвукамъ, которые
,.1 .Ііирезись—раатілен'е двухъ гласньіхь па гея с,і >г"і: сиіі:ір»':дт.
і-педііінчііе діччх.і. гшпші въ іцтгі, глчгь. Пр. п^и.
1 ІИ»
вещи будятъ въ его душѣ или же сообразно своимъ виеча-
т.іѣніямь. Нр (5езъ основанія наиболѣе убѣжденные поборники
любого изъ рѣшеніи проблемы едінктва языка (—языка ли
латинизированнаго, тречентистскаго, флорентійскаго, или ка-
кого-либо еще другого; обнаруживаютъ нежеланіе примѣнять
гною теорію, когда говорятъ съ тою цѣлью, чтобы сообщить
свои мысли и дать понять себя, такъ какъ чувствуютъ, что
подстановка латинскаго, тречентигп-каго или флорентійскаго
слова подъ слово хотя бы и иного происхожденія, но отвѣчающее
ихъ естественнымъ впечатлѣніямъ, была бы извращеніемъ пер-
вичной формы истины, и что они изъ говорящихъ преврати-
лись бы въ такомъ случаѣ въ безилодііыхт. слушателей с-ебя
«•амихъ, изъ серьезныхъ людей—въ педантовъ, изъ лю ссіі искрен-
нихъ—вь комедіантовъ. Писать согласію какой-нибудь теоріи—
это уже не значитъ писать въ подлипомъ смыслѣ этого слова,
а, самое большее, с о ч п н и т е л ь с т в о в а т ь.
Вопросъ о единствѣ языка встаетъ всегда снова и снова,
такъ какъ въ той формѣ, какъ онъ поставленъ, опъ неразрѣ-
шимъ, основываясь на ложномъ представленіи о тодп., что та-
кое языкъ. Этотъ послѣдній не является арсеналомъ красиваго
и готоваго оружія; а равнымъ образомъ не является онь в
с л о в а р о м і., т.-е. собраніемъ абстракцій или кладбищемъ
болѣе или менѣе искусно набальзамированныхъ труповъ.
Порѣшивъ такимъ нѣсколько рѣзкимъ образомъ съ вопросомъ
о языкѣ-модели или о единствѣ языка., мы совсѣмъ не
хотимъ этимъ высказать хотя бы самомалѣйшее неуваженіе къ
той вереницѣ писателей, которые въ теченіе вѣковъ трудились
надъ его разрѣшеніемъ вь Италіи. Вѣдь, въ сущности, .жаркіе
споры по этому поводу касались самой эстетичности, а пе эсте-
тической науки, — самой литературы, а не ея теоріи, — самой
дѣйствительной рѣчи и самого дѣйствительнаго писанія, а не
лингвистической науки. Ошибка, этихъ писателей заключалась
въ томъ, что голосъ потребности превращался ими въ научный
тезисъ: напр., требованіе отыскать способъ наиболѣе легкаго
взаимопониманія между членами какого-либо народа, раздѣляе-
маго діалектами, — въ философское требованіе какого-нибудь
единаго пли идеальнаго языка. Поиски этого послѣдняго столь
же абсурдны, какъ и поиски у н иверса .инаго я з ы ка, т.-е.
гакого языка, который бы имѣлъ неподвижность понятія или,
вѣрнѣе, абстракціи. Соціальная потребность въ болѣе легкомъ
170 —
взаимопониманіи удовлетворяется лишь путемъ универсализаціи
культуры и роста сношеніи и умственнаго обмѣна между людьми.
заключеніе Этихъ разбросанныхъ замѣчаній достаточно
для того, чтобы показать, что всѣ научныя проблемы лингви-
стики однѣ и тѣ же у нея съ эстетикой, и что ошибки л
истины одной изъ пихь являются ошибками и истинами дру-
гой. Если лингвистика и эстетика кажутся двумя различными
науками, то ото происходитъ потому, что подъ первой пони-
мается обычно грамматика или нѣчто смѣшанное изъ филосо-
фіи н грамматики, т.-е. какой-то произвольный мнемоническій
схематизмъ или дидактическая смѣсь, а не раціональная наука
и пе чистая философія языка. Грамматика пли то, что есть
грамматическаго, гоже прививаетъ умамъ тотъ предразсудокъ,
что реальность языка составляютъ отдѣльныя и допускающія
соединеніе слова, а не живыя рѣчи,—выразительные организмы,
раціональнымъ образомъ неразложимые.
Философски одаренные лингвисты или филологи, которымъ
удалось глубже проникнуть въ вопросы языка, находятся (поль-
зуясь затасканнымъ, но все же поясняющимъ образомъ) въ
условіяхъ рабочихъ, пробивающихъ отверстіе: въ одинъ пре-
красный моментъ онп должны услыхать голоса своихъ товари-
щей,—философовъ эстетики, которые дѣйствуютъ съ другой
стороны. На. опредѣленной ступени своей научной обработки
лингвистика, посколько она является ф и л о с о ф і е й, должна
слиться воедино съ эстетикой; и она, дѣйствительно, сливается
съ этой послѣдней безъ всякаго остатка.
СОДЕРЖАНІЕ
1. Интуиція м ііЬ-раікеше ...
II. Интуиція л ні-дуесгво............................
III. Искусство и (І-н.тософія.........................
Г/ Иетлривмъ и интеллекту алв.змъ въ эсі йтикт» .
V1. Аналогичныя оігнпки въ историкъ п логикъ .
VI. ДЬяте.тьиое.гь теоретическая и дьятельплсть
кракпгіеская................. ...
Ѵ'Н. Аналогія между іт-ореіи'іегкпмь и ирактпче
(.Кимъ.............., . . ......
V III. Исключеніе іьш.ѵь формъ духа....................
IX. Недѣлимость выраженія на пилы и ступени я
критика реторю.н............................ .
X Эстетическія чузя-тва и различеніе в]н?кргньяз’і>
и бейобразпаго . . ... . . .
XI. Критика ягтепічі>'-каіо гедонизма . . . .
Х’І. Эстетика сим пати’іі'-'-кагп и пеевдл-эегетпЧіМ'Кія
чснятія . .........................
Х'Н. „Фи.зичог-ен прекрасное1* въ природѣ и въ
искусствѣ .............
XIV. Ошибки ироие.текаюшія іізъ вмѣшенія физики
съ эстетикой............................
XV Дѣятельность объективаціи техники и теорія
искусствъ . ... . .
XVI. Вкусъ и \удож»‘ств<-ри<к- илсмроилведевіо . . .
ХѴ'ГІ. Исторія литературы и -.лкуссгва...............
Ѵ.’і?.. Зяклі-ічічНе. Тп;кде--тЕо леггвпстикіі п естетикк .