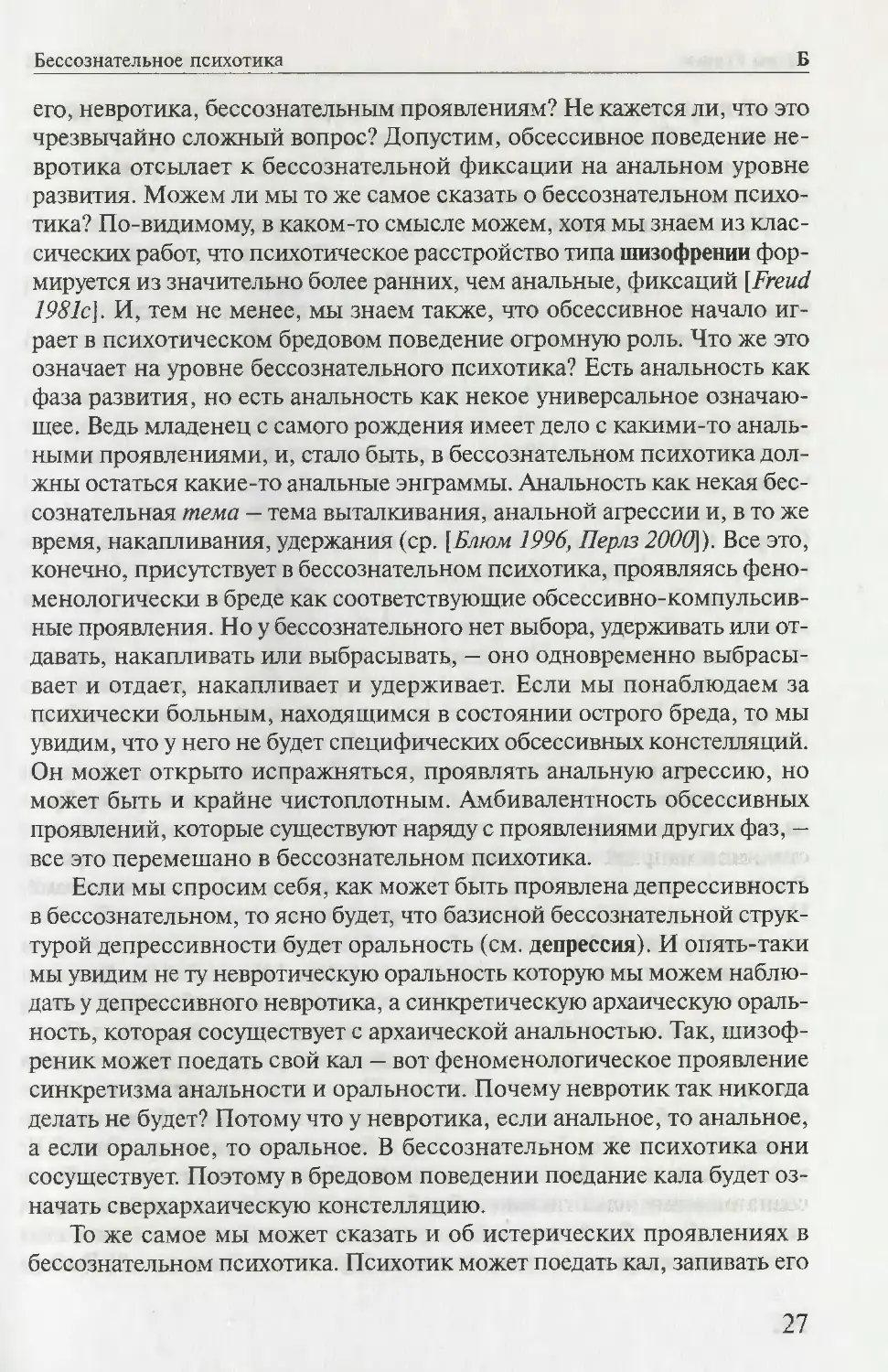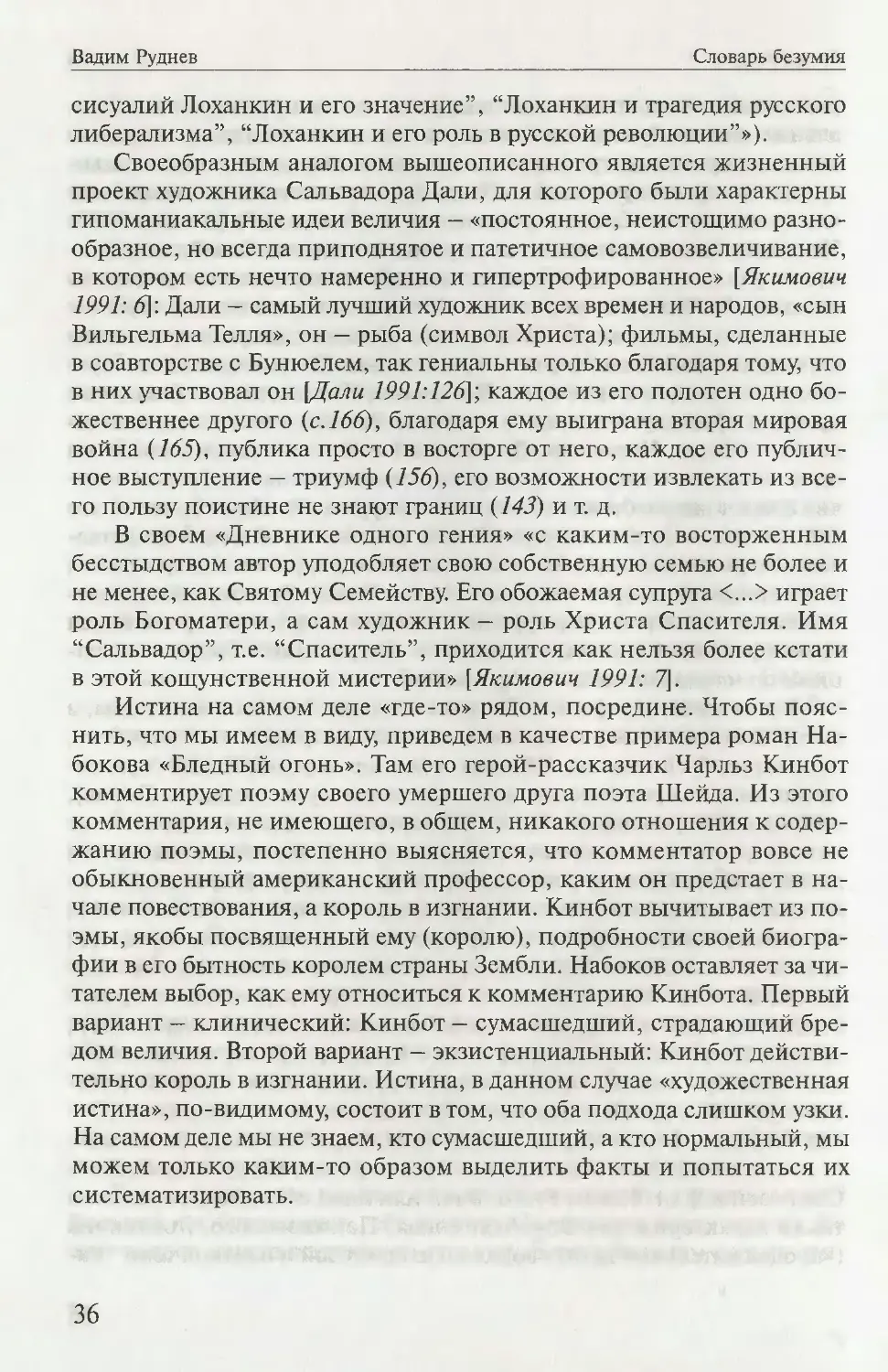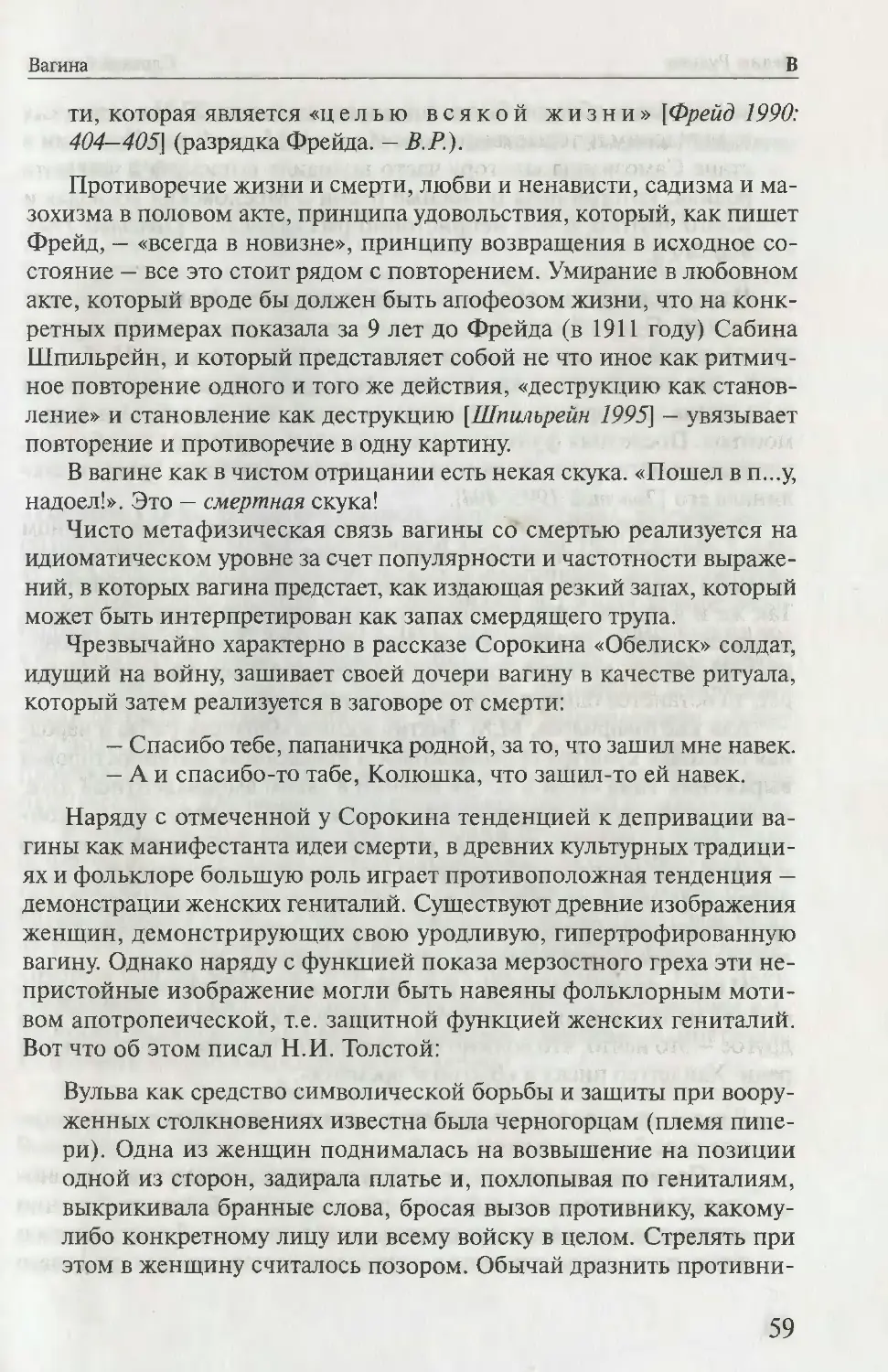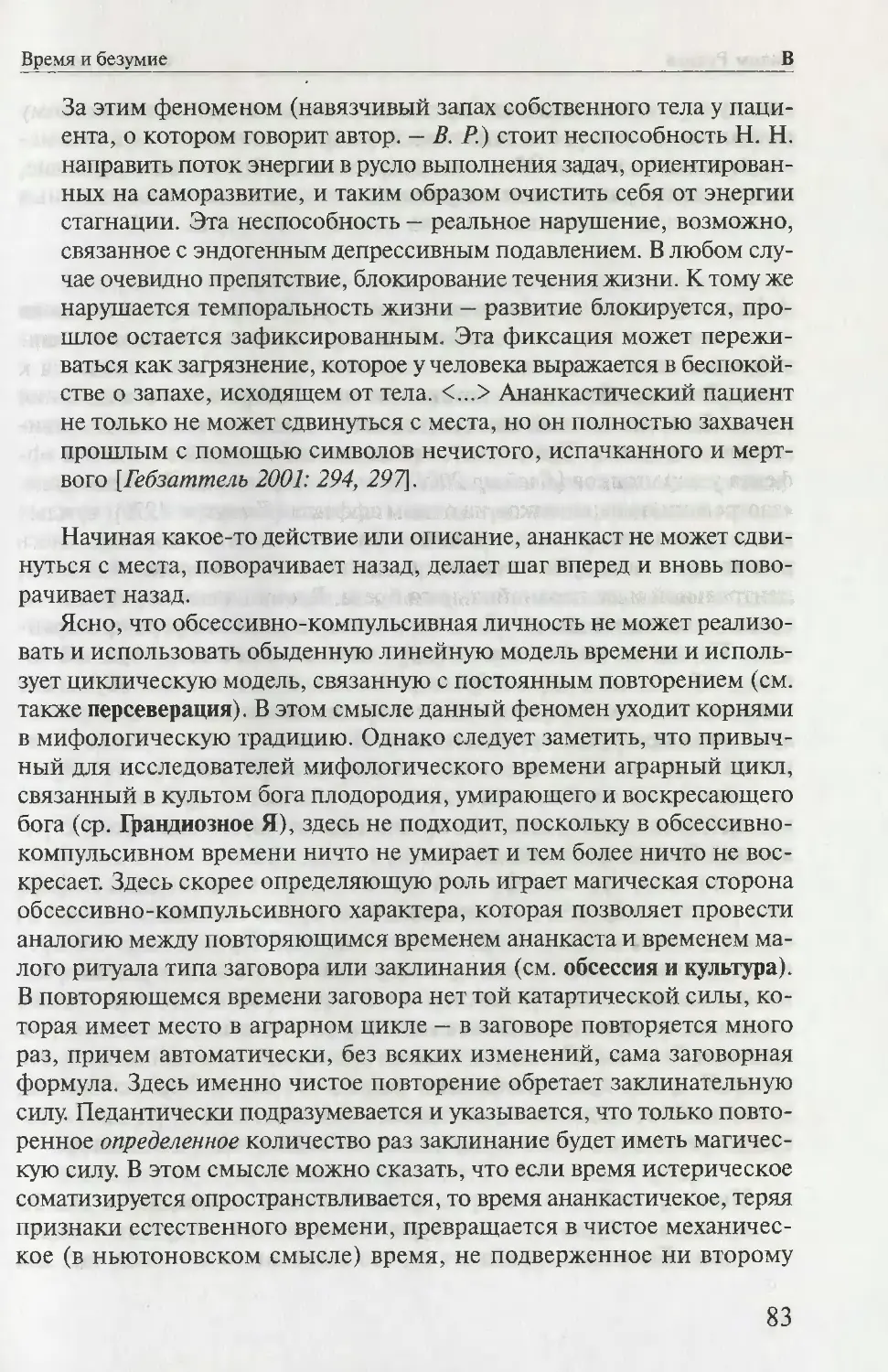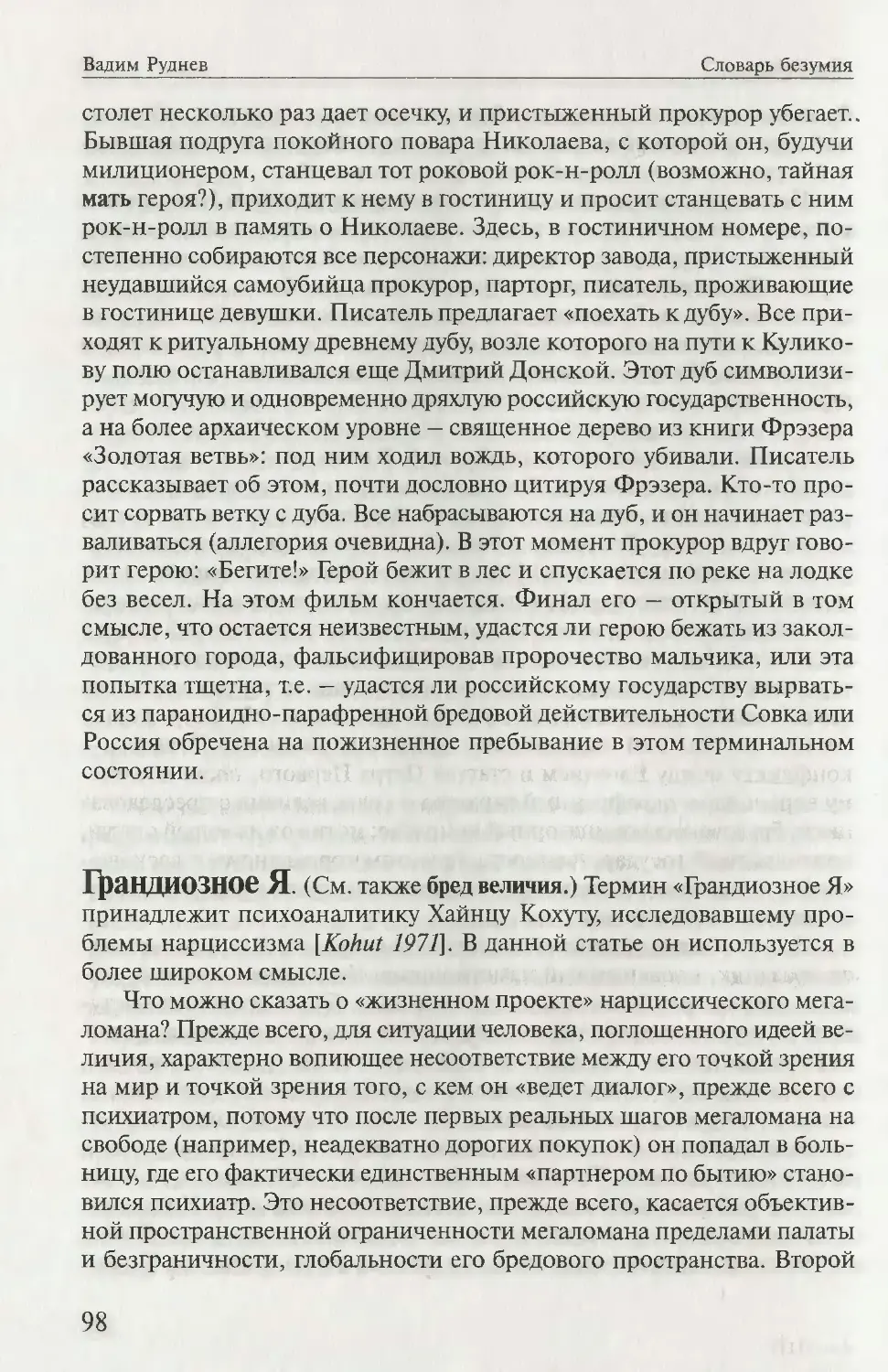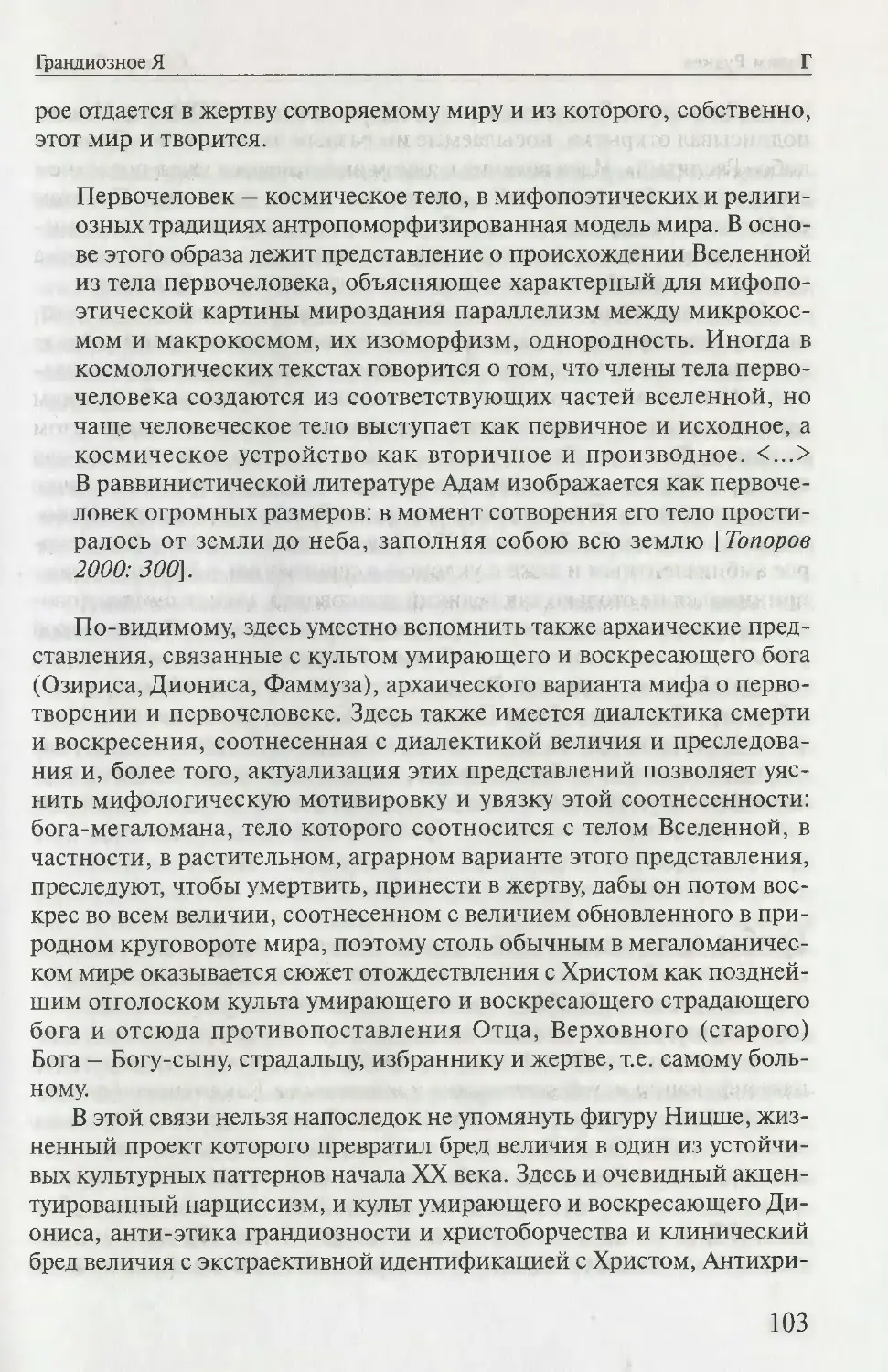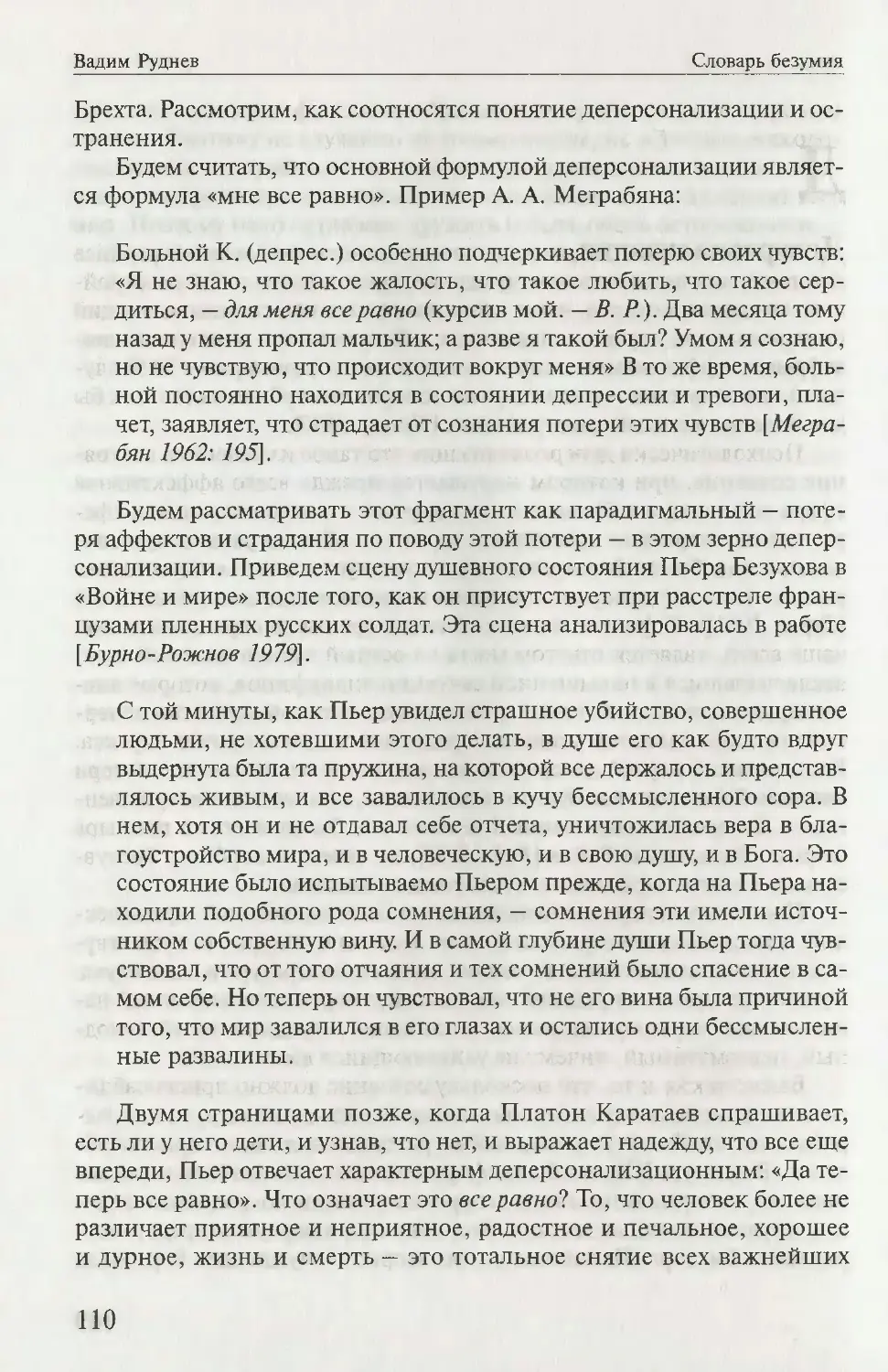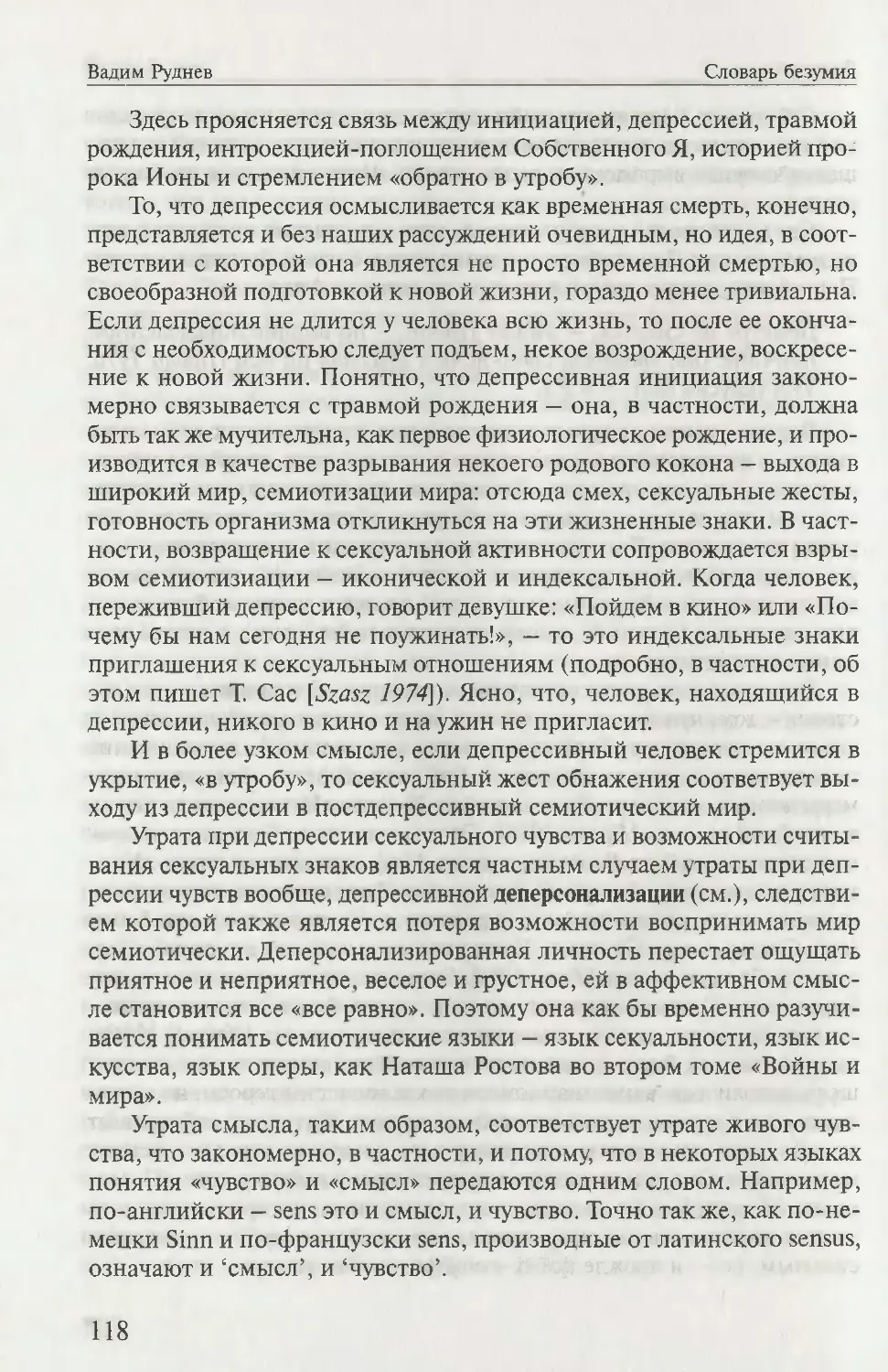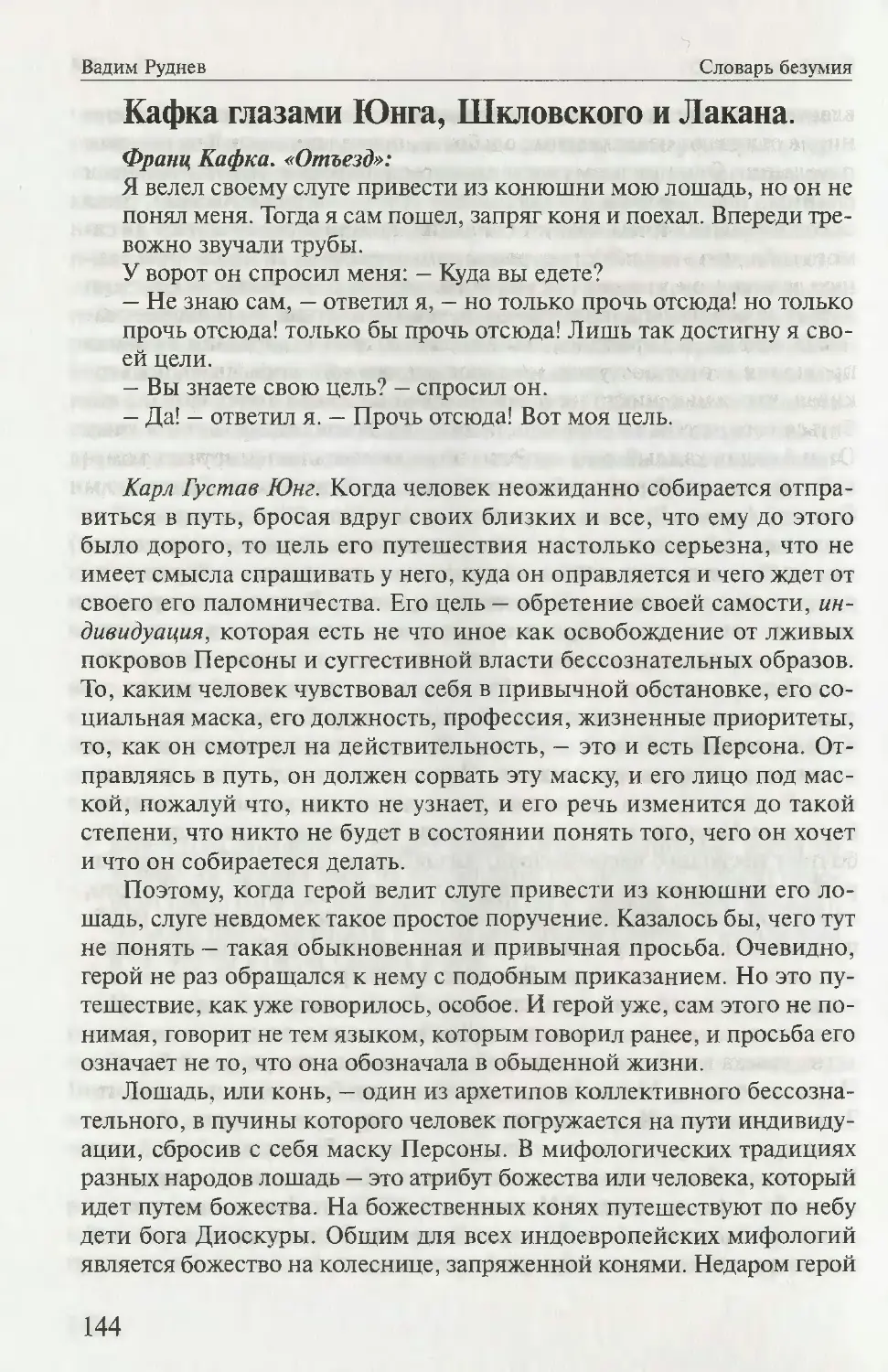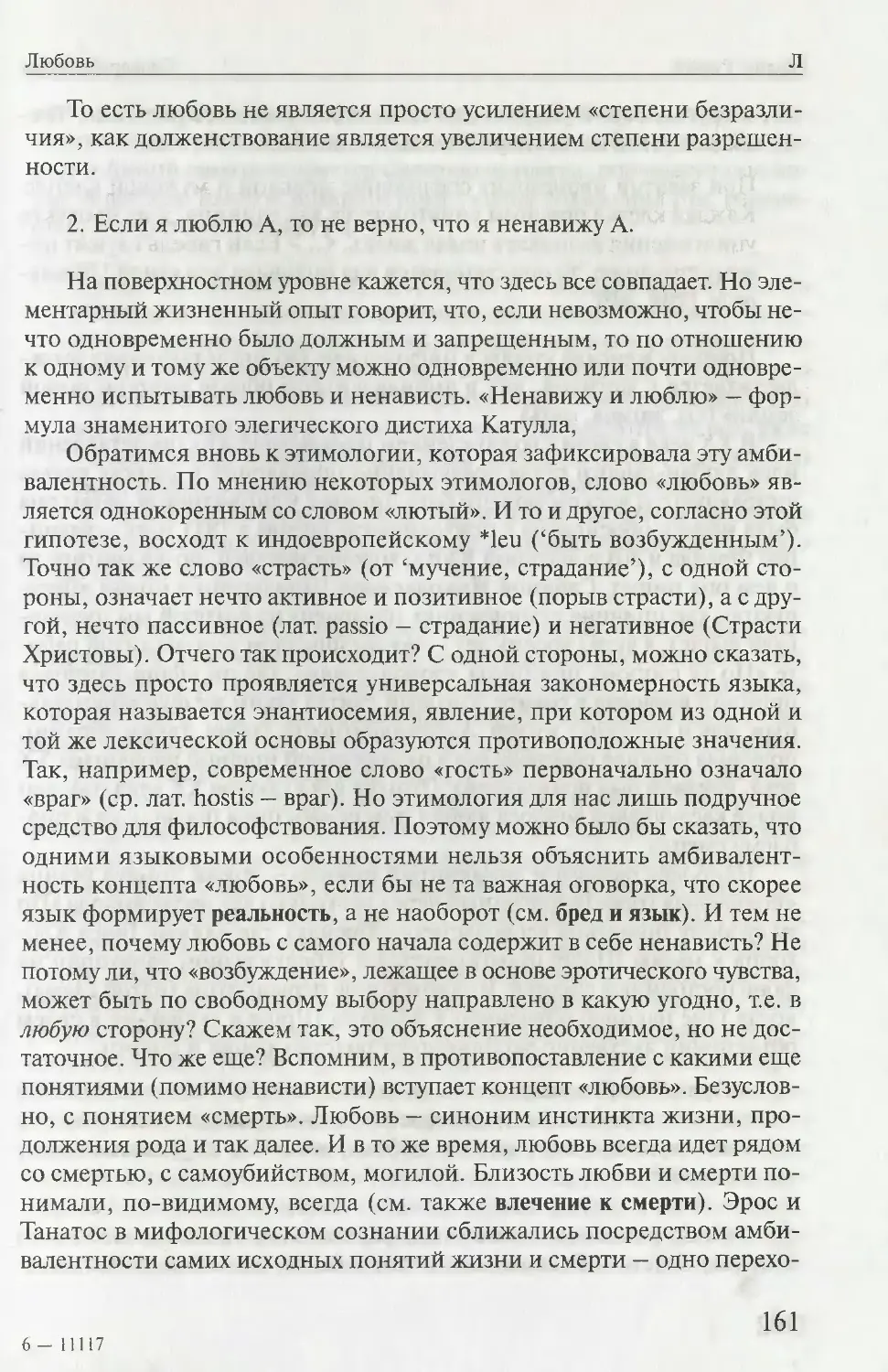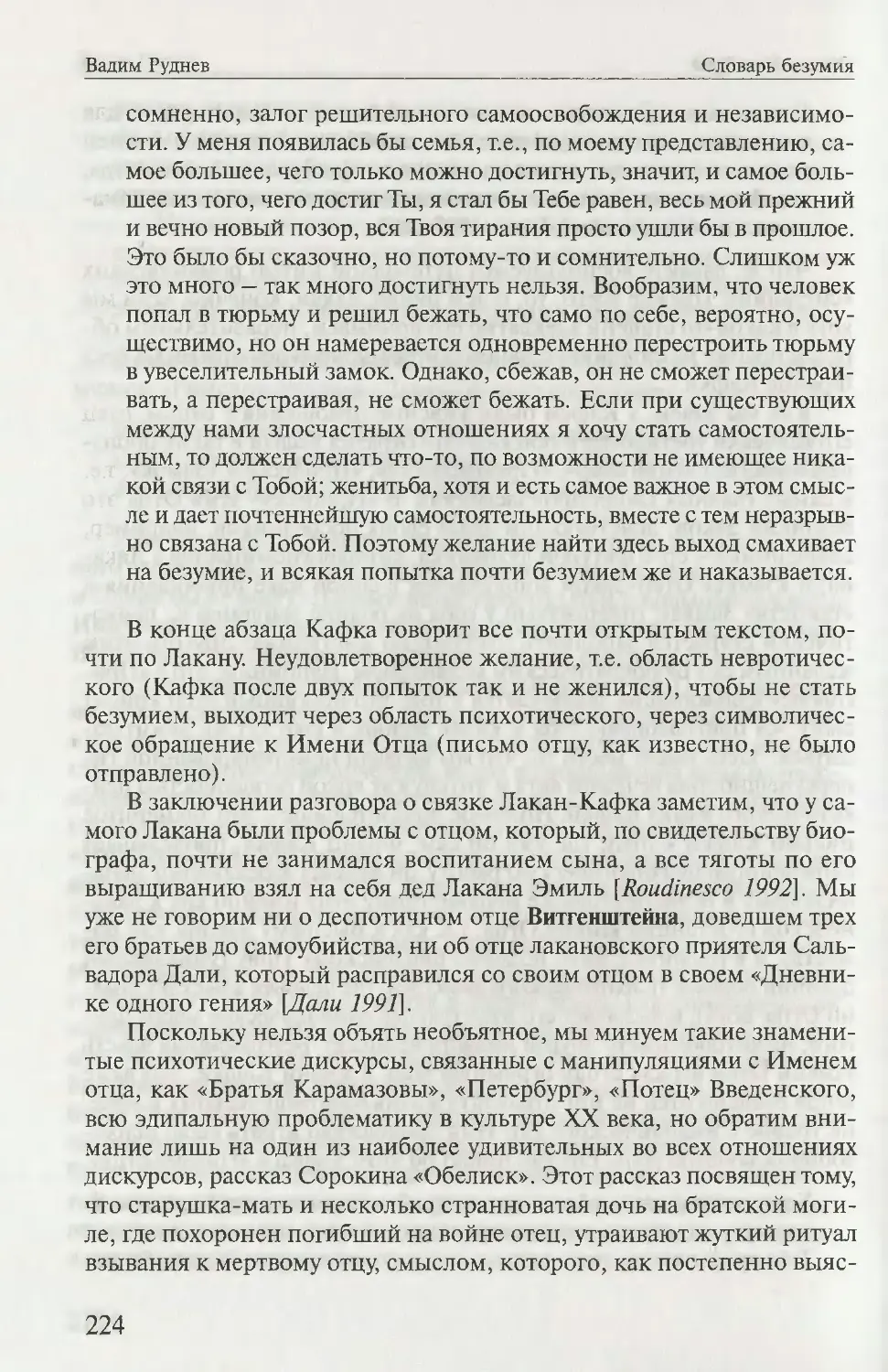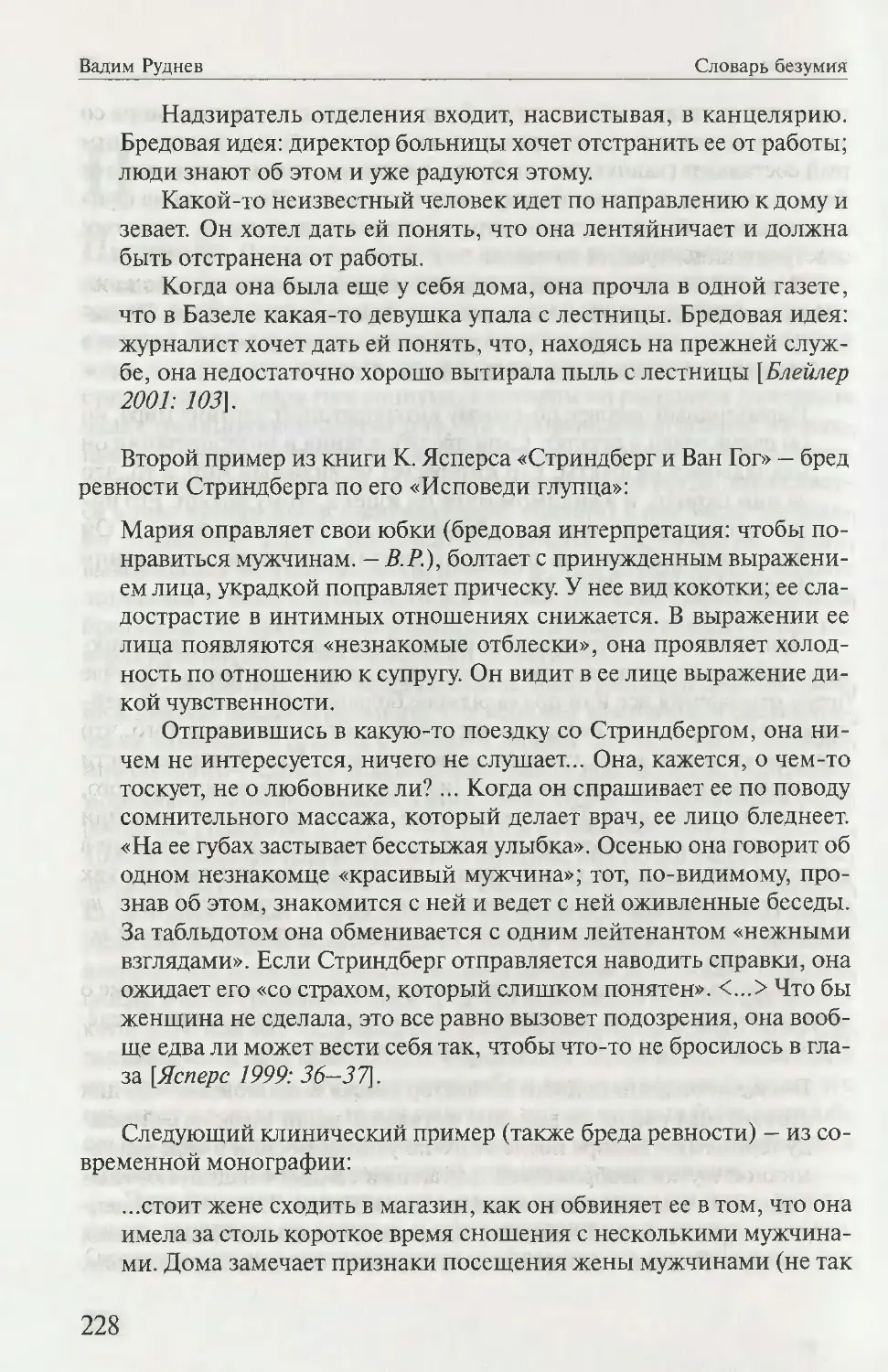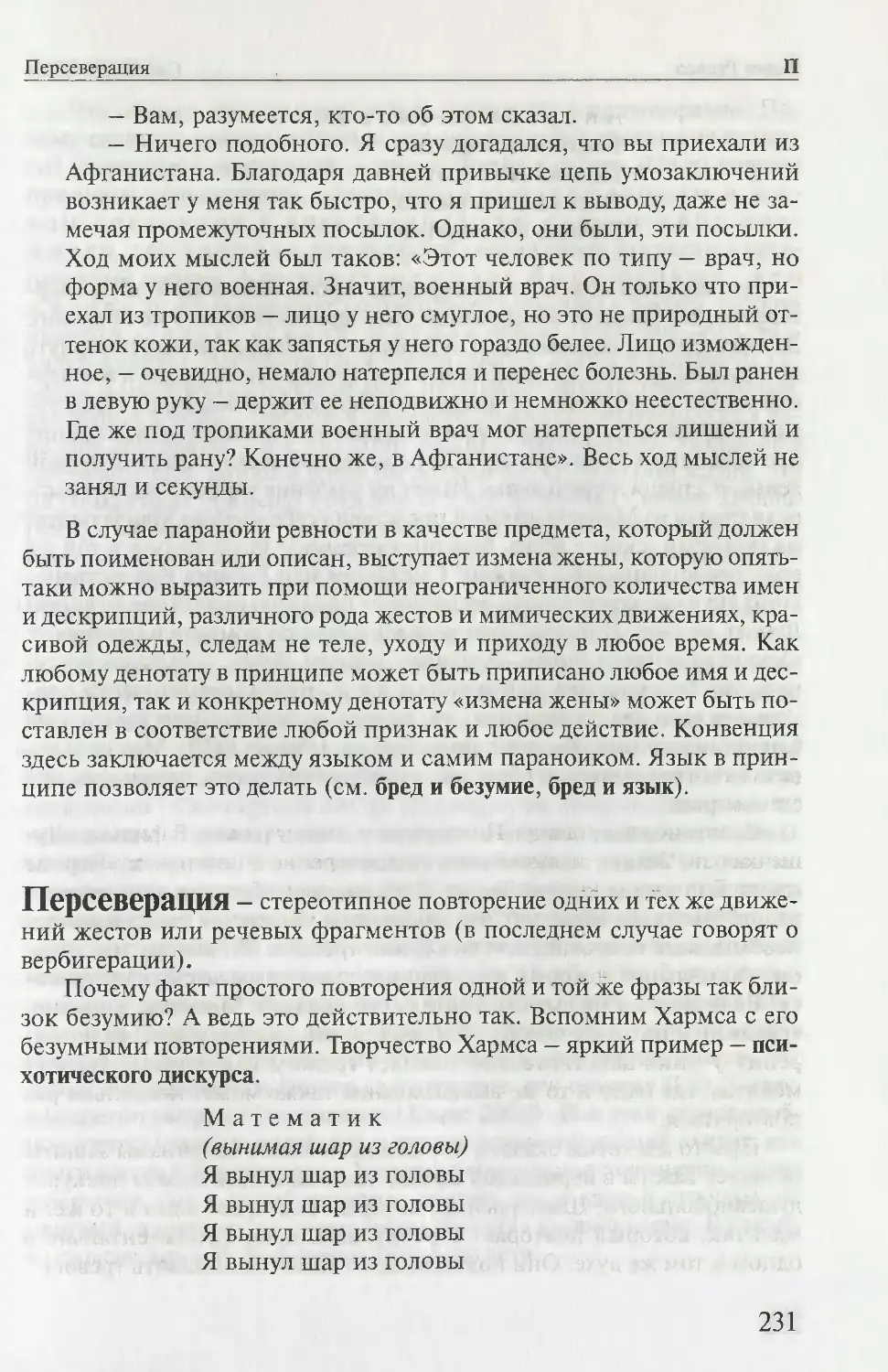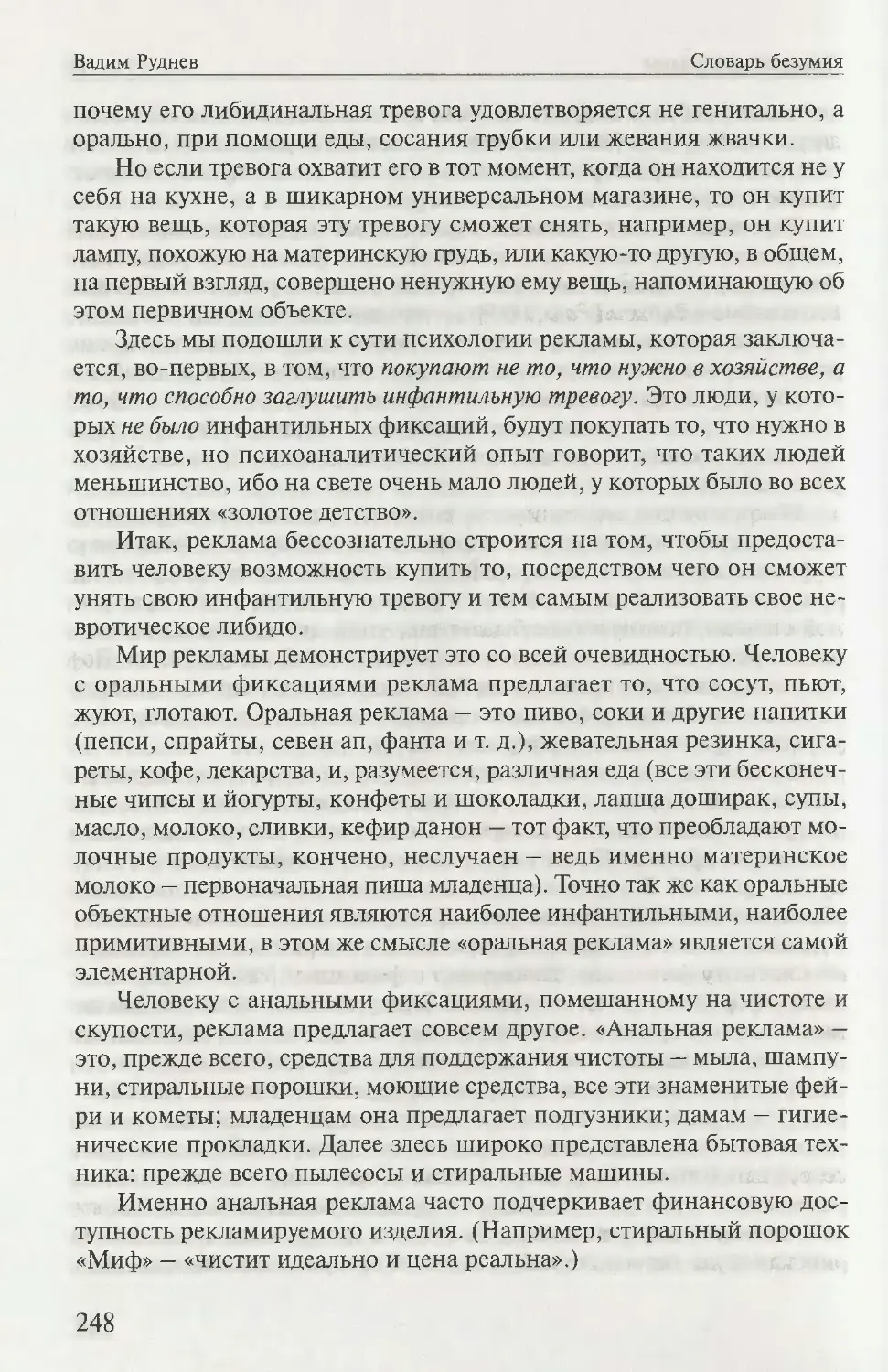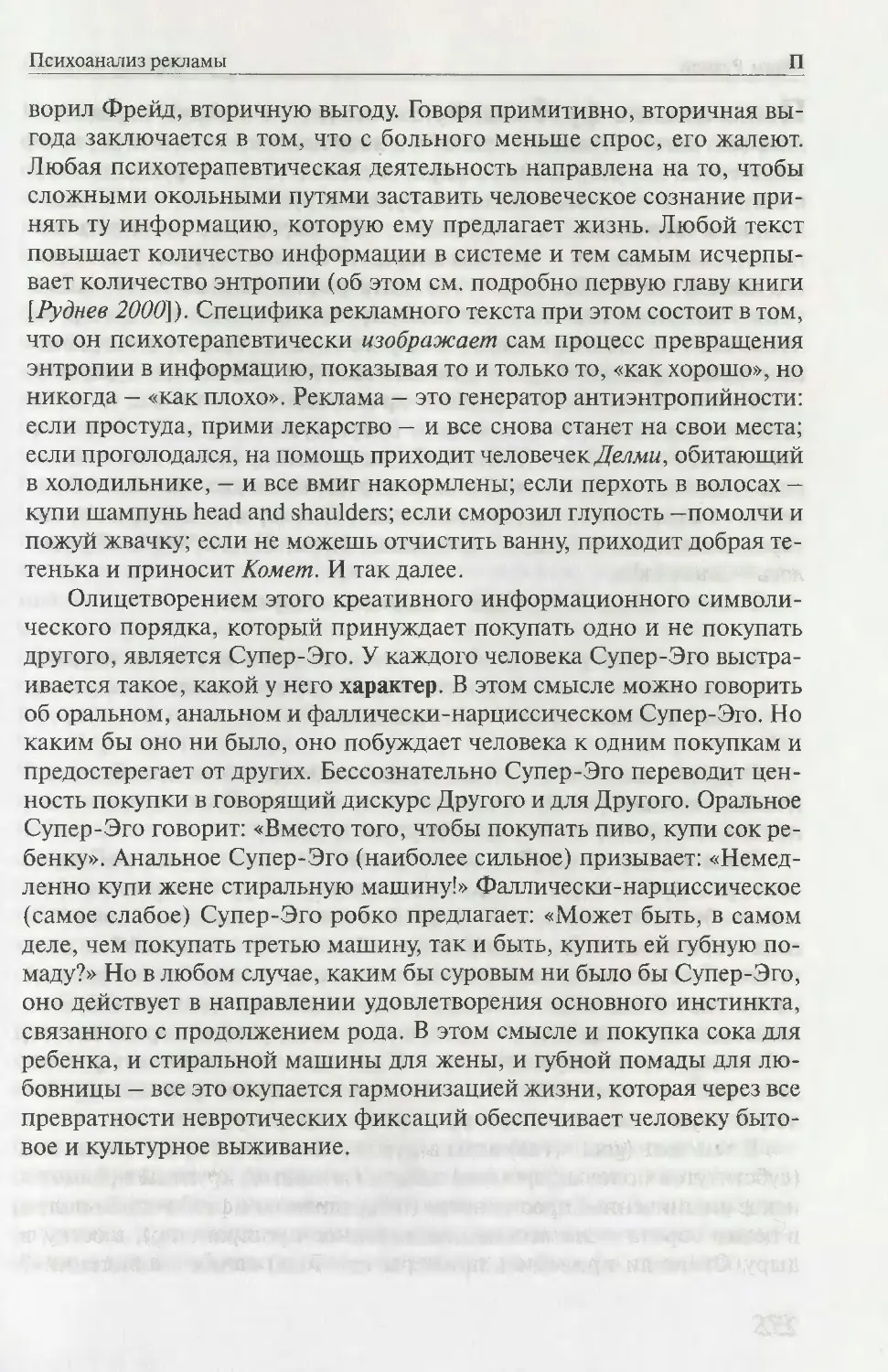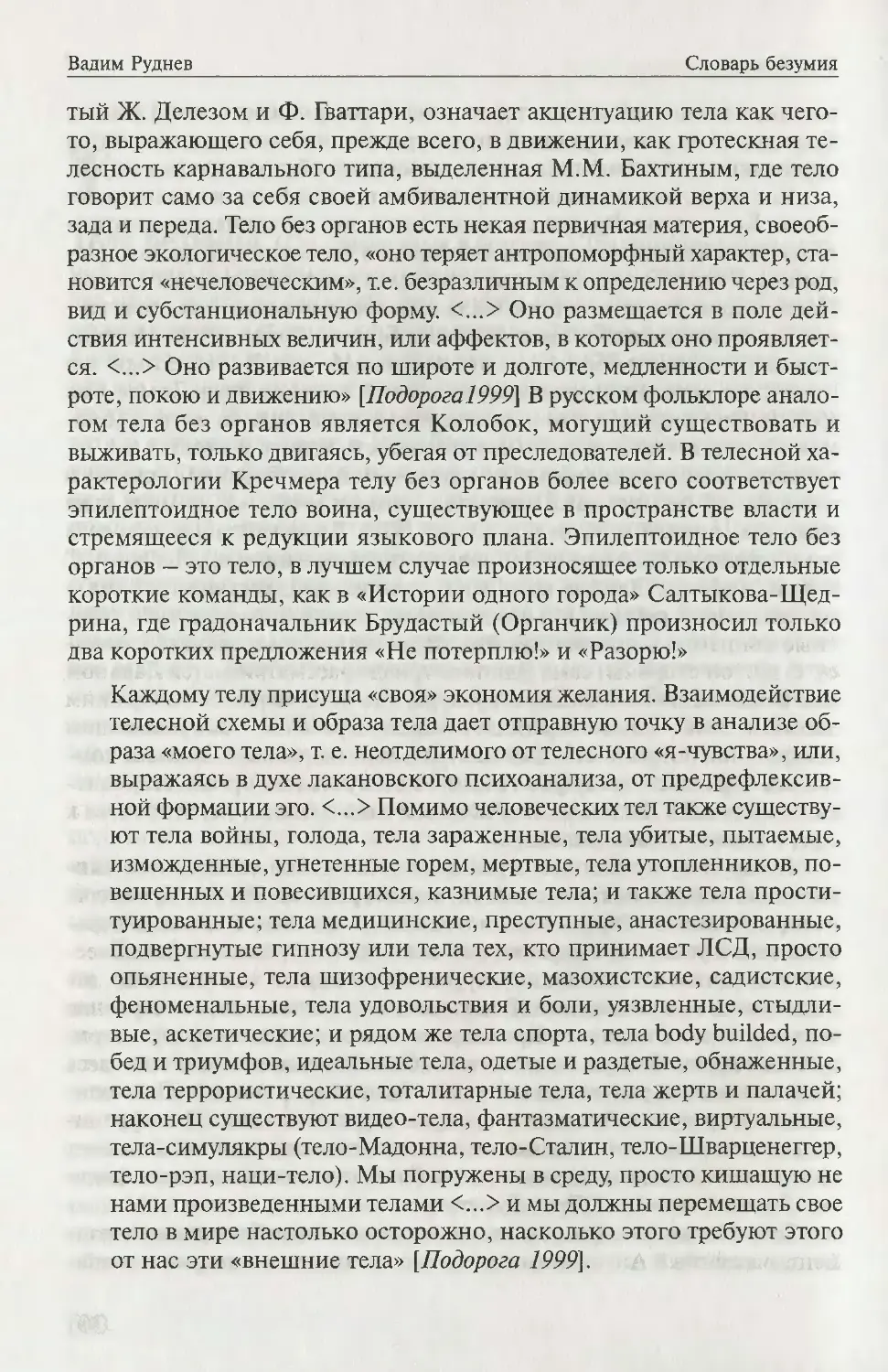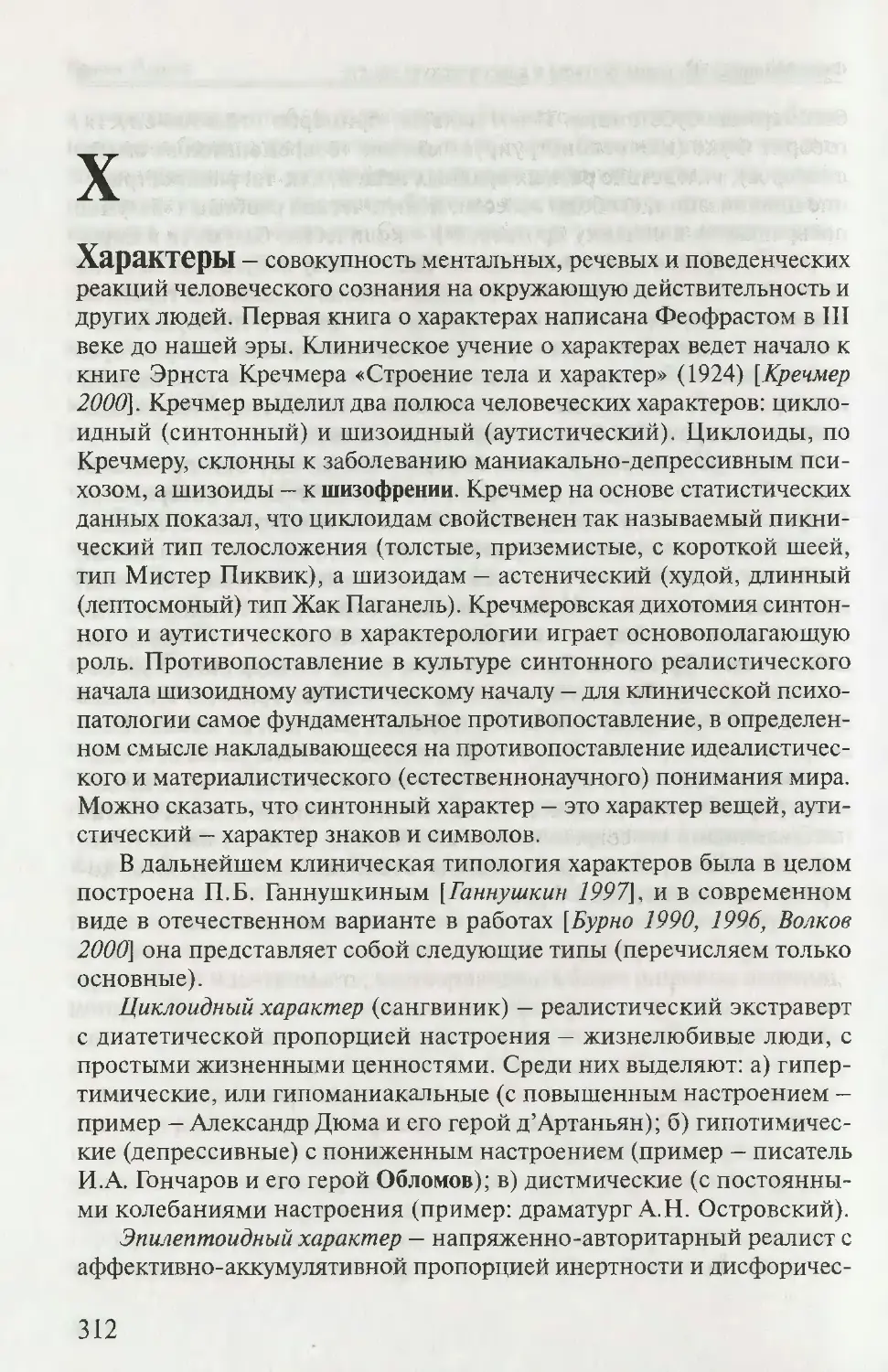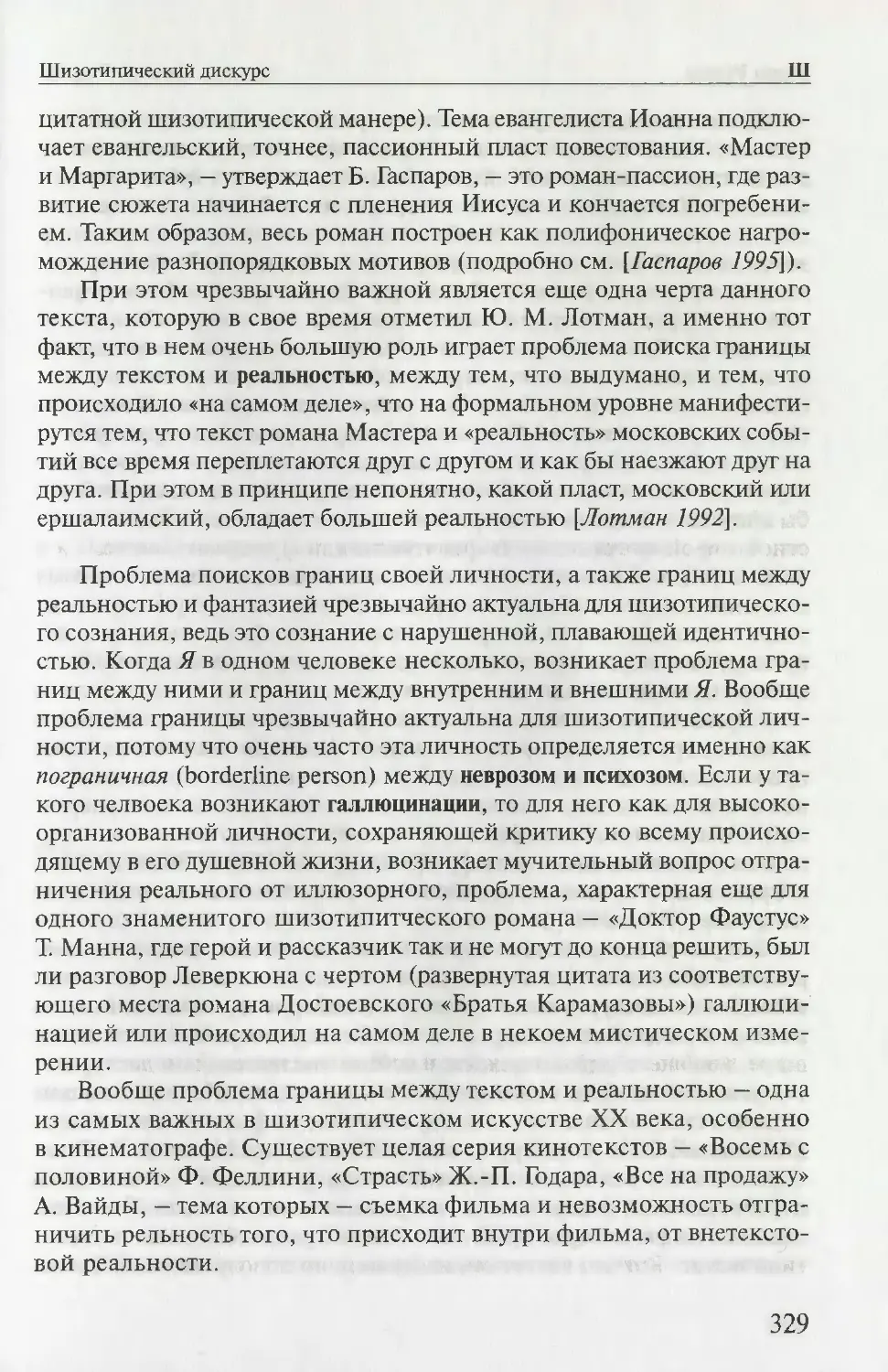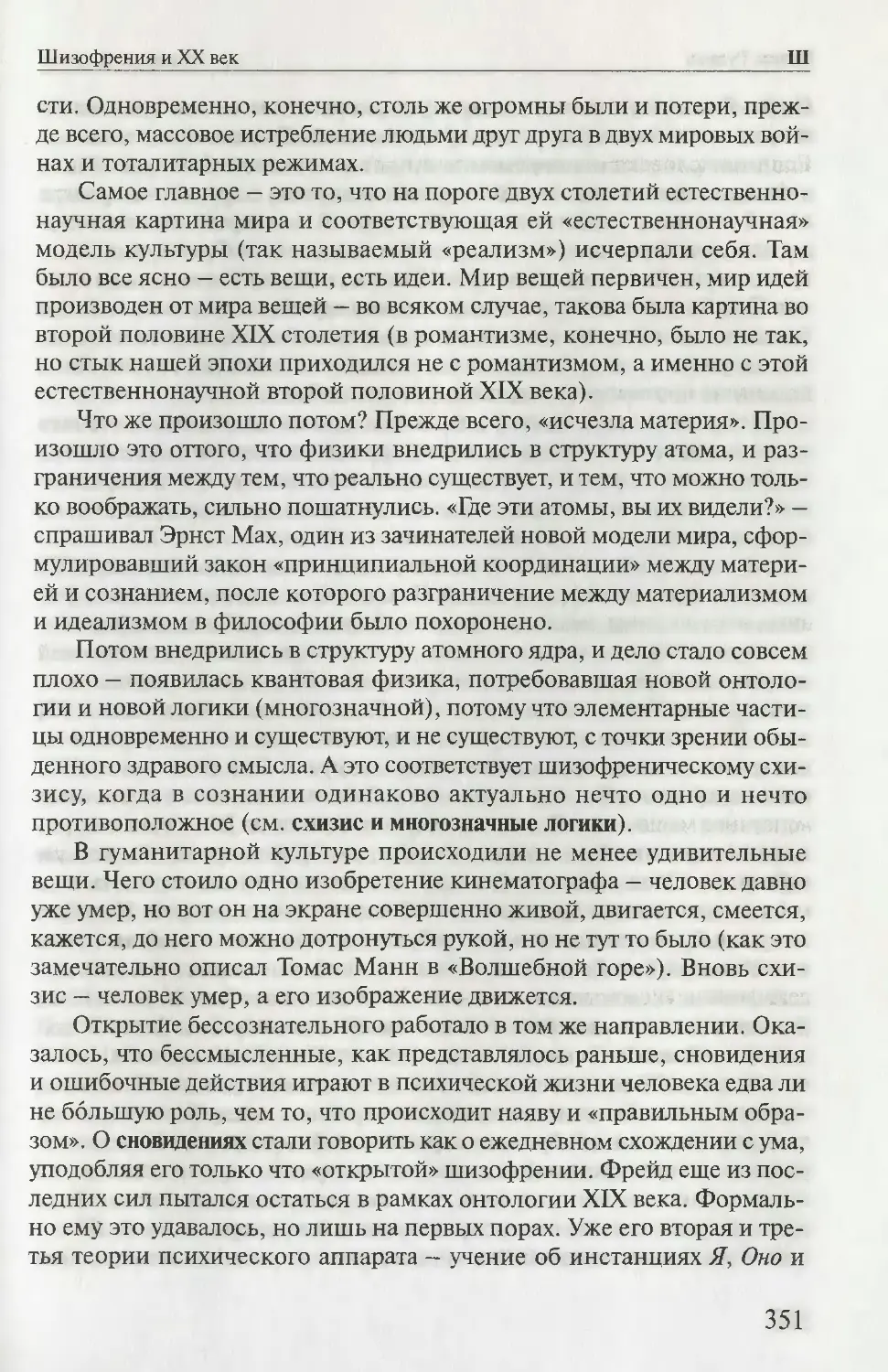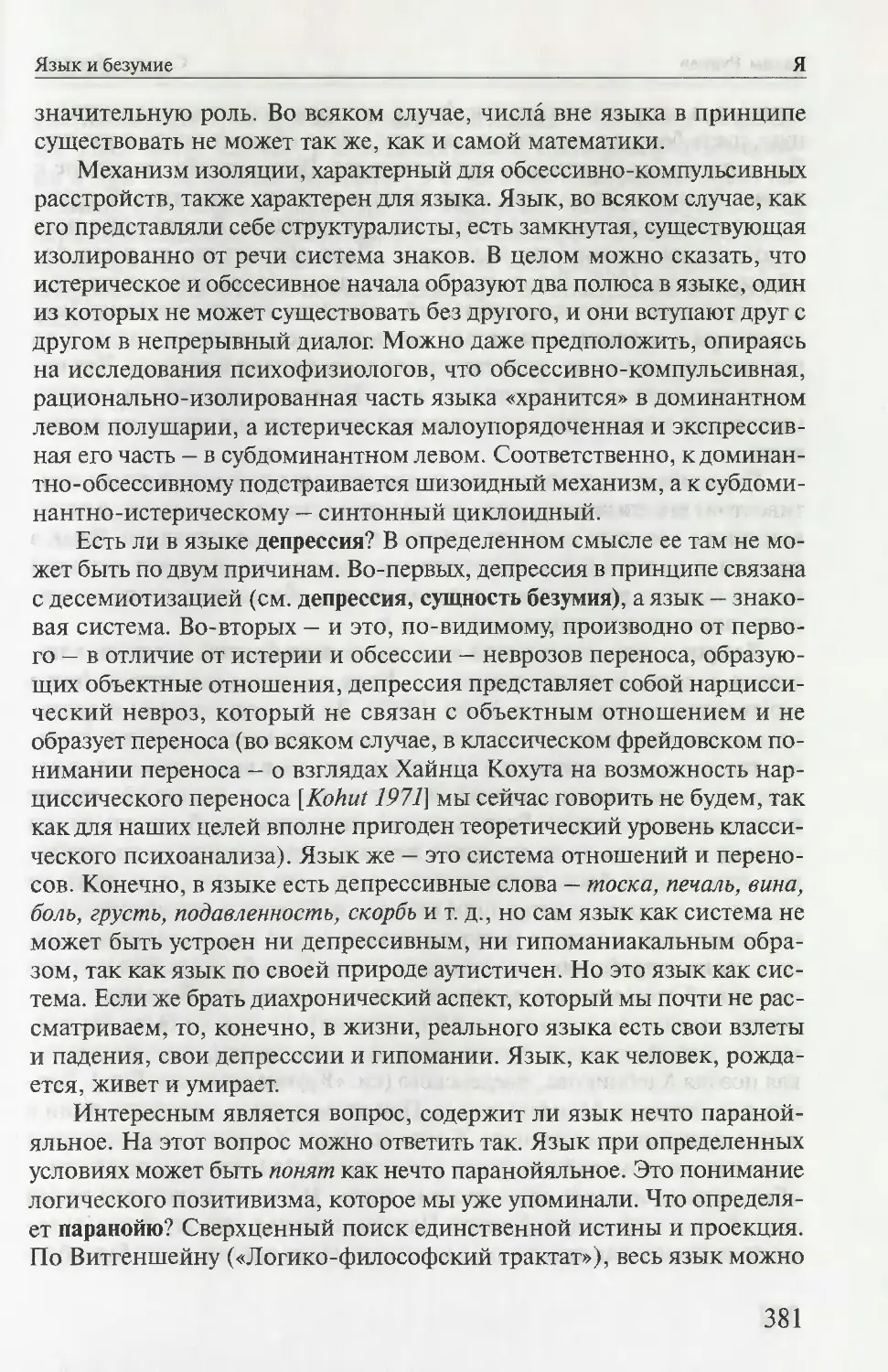Author: Руднев В.
Tags: физиотерапия радиотерапия другие терапевтические средства психотерапия трудотерапия философия психология
ISBN: 5-86375-061-8
Year: 2005
Text
Вадим Руднев
СЛОВАРЬ
БЕЗУМИЯ
КЛАСС
04-60
231
ГкадпМ Руднев
СЛОВАРЬ
БЕЗУМИЯ
Москва
Независимая фирма «Класс»
2005
УДК 615.851
ББК 53.57
Р 83
РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
2004
Руднев В.ПГ
Р83 Словарь безумия. - М.: Независимая фирма «Класс», 2005. - 400 с.
18ВМ 5-86375-061-8
«Словарь безумия», написанный российским философом, автором став¬
шего интеллектуальным бестселлером «Энциклопедического словаря XX
века», посвящен всестороннему освещению самых разных аспектов челове¬
ческого безумия — истерии, фобии, обсессии, депрессии, паранойе, шизоф¬
рении. Он подробно затрагивает такие проблемы, как этиология бреда и гал¬
люцинаций, сновидения, субличности, деперсонализация; проблему челове¬
ческого характера; взаимодействие с идеей безумия таких общефилософских
категорий, как язык, время, пространство, реальность, любовь. Психологи¬
ческой интерпретации подвергаются повседневные объекты - футбол, день¬
ги, реклама, грибы. Безумие рассматривается в широком контексте челове¬
ческой культуры, от которой оно неотделимо.
При этом в «Словаре безумия» применяются самые разные подходы и ме¬
тоды: клиническая и экзистенциальная психиатрия, классический психоана¬
лиз, характерология, аналитическая психология К.Г. Юнга, трансперсональ¬
ная психология С. Грофа, аналитическая философия Л. Витгенштейна, тео¬
рия речевых актов, семантика возможных миров, структурная лингвистика
и поэтика.
Книга будет интересна не только психологам, психиатрам, философам,
психотерапевтам, культурологам, но и всем интеллектуальным читателям, ин¬
тересующимся проблемами человеческой личности, а также всем любителям
интерактивного гипертекста.
Главный редактор и издатель серии Л.М. Кроль
Научный консультант серии Е.Л. Михайлова
Книга публикуется в авторской педакции
© 2005 В.П. Руднев
© 2005 Независимая фирма «Класс», издание, оформление
© 2005 Е.А. Кошмина, дизайн обложки
Исключительное право публикации на русском языке принадлежит издательству
«Независимая фирма «Класс». Выпуск произведения или его фрагментов без разреше¬
ния издательства считается противоправным и преследуется по закону.
Отдельные экземпляры книг серии можно приобрести в магазинах:
Москва: Дом книги «Арбат», торговые дома «Библио-Етобус» и «Молодая гвардия»,
магазин «Медицинская книга». Санкт-Петербург: Дом книги.
От автора
Нильс Бор когда-то произнес ставшие знаменитыми слова: «Мы все
знаем, что перед нами безумная теория, вопрос только в том, достаточ¬
но ли она безумна, чтобы быть истинной». И вот я тоже, сомневаюсь,
достаточно ли безумен этот словарь, чтобы быть в подлинном смысле
«Словарем безумия».
Великие безумцы всегда прокладывали новые пути в науке и куль¬
туре, и хотя сам по себе факт наличия безумия не подразумевает гени¬
альности, но наличие гениальности, в той или иной мере, всегда под¬
разумевает наличие безумия, как показал еще в XIX веке Чезаре Лом-
брозо в своем трактате «Гениальность и помешательство», а в XX веке
научно обосновал Эрнст Кречмер в книге «Гениальные люди».
Но этот словарь вовсе не о гениальных безумцах, вернее, не толь¬
ко о них. Хотя на его страницах возникают Франц Кафка, Людвиг
Витгенштейн, председатель дрезденского суда Даниэль Шрёбер, писа¬
тель Владимир Сорокин, художник Андрей Монастырский, его подлин¬
ными героями являются создатели психиатрии и психотерапии XX
века — Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, Эуген Блейлер, Эрнст Креч¬
мер, Людвиг Бинсвангер, Жак Лакан, Станислав Гроф, Рональд Лэйнг.
Этот список может показаться эклектичным. Он таковым и является
на самом деле. И это неслучайно.
У меня было много прекрасных учителей: мой отец, замечательный
филолог Петр Александрович Руднев; Юрий Михайлович Лотман, со¬
здавший целый научный мир, отчасти фантастический, но и облада¬
ющий чертами высшей реальности; Борис Михайлович Гаспаров, Вла¬
димир Николаевич Топоров, Марк Евгеньевич Бурно. Всё это разные
люди, и они научили меня очень разным вещам: структурной поэти¬
ке и семиотике, теории речевых актов и семантике возможных миров,
мотивному анализу и генеративной грамматике, лингвистике и мифо¬
логии, характерологии и психиатрии.
Так или иначе, в этой книге много имен и самых различных под¬
ходов. Среди них я хотел бы в двух словах очертить свой собственный
подход к изучению безумия.
Что такое безумие? В начале XXI века это равносильно вопросу,
что такое шизофрения? У человека может не быть бреда и галлюцина¬
ций, но, если он страдает шизофреническим расстройством любой
3
Вадим Руднев. Словарь безумия
тяжести, его характер будет состоять из осколков различных характе¬
ров — шизоидного, циклоидного, психастенического, истерического,
эпилептоидного, обсессивно-компульсивного (см. характеры). Все это
вместе создает уникальный шизофренический, или шизотипический,
характер (см.), но это не «оркестр без дирижера», как любил говорить
Блейлер о шизофрении, но сложнейшая симфония, которая тем, кто
плохо разбирается в музыке, может показаться бессмысленным набо¬
ром звуков.
Шизофрения, безумие - это, таким образом, не просто расщепле¬
ние Я, но расщепление Я на множество калейдоскопических осколков,
которые, если встряхнуть этот калейдоскоп, начинают светиться слож¬
нейшими узорами. Ошибка нормальных людей (если таковые на зем¬
ле еще остались) - это то, что они редко встряхивают характерологи¬
ческий калейдоскоп своих безумных друзей и знакомых. Поэтому так
часто безумные люди кажутся неинтересными, погруженными в себя,
«недоступными», как любила писать советская клиническая традиция.
«Словарь безумия» является попыткой постоянного встряхивания
этого безумного калейдоскопа. Поэтому здесь встречаются и сталки¬
ваются между собой самые различные психиатрические и не только
психиатрические традиции: классический психоанализ, аналитическая
психология Карла Густава Юнга, структурный психоанализ Жака Ла¬
кана, экзистенциальная психиатрия Людвига Бинсвангера, антипси¬
хиатрия Рональда Лэйнга и Грегори Бейтсона, трансперсональная пси¬
хология Станислава Грофа, теоретическая поэтика Виктора Шкловс¬
кого, теория речевых актов Джона Остина, семантика возможных
миров Яакко Хинтикки, модальная логика Георга фон Вригта, мифо¬
логические штудии Клода Леви-Строса и В. Н. Топорова, полубезум¬
ные концепции М.М. Бахтина и Людвига Витгенштейна.
Большую роль для становления моего лингвистически-семиоти-
ческого сознания применительно к психиатрии сыграла гипотеза со¬
временного английского психиатра Тимоти Кроу, в соответствии с ко¬
торой шизофрения — эта плата разумного человека как биологического
вида за обретение им уникального конвенционального языка и, — до¬
бавлю от себя - тем самым, за обретение культуры. В соответствии с
этим в «Словаре безумия» я отстаиваю взгляд, в соответствии с кото¬
рым безумие — это, прежде всего, болезнь языка, его неправильное ис¬
пользование, злоупотребление им (см., в первую очередь, статьи бред
и язык, язык и безумие, сущность безумия).
Познание человеческой культуры невозможно вне рамок безумия.
Поэтому «Словарь безумия» — младший брат «Энциклопедического
словаря культуры XX века», который был написан в 1997 году и сни¬
4
Предисловие
скал популярность среди читателей: он выдержал четыре издания (пос¬
леднее вышло в 2003 году).
«Словарь безумия» написан для того, чтобы читатель понял и по¬
любил безумие, без которого невозможно творчество, невозможна
культура и вся человеческая цивилизация. Но я предоставляю читате¬
лю решить, достаточно ли безумен «Словарь безумия».
Мне остается поблагодарить всех моих друзей, коллег и учителей,
которые на протяжении семи лет, за которые постепенно создаваясь эта
книга, так или иначе, поддерживали идеи, ставшие основой «Словаря
безумия» и, прежде всего, - профессора Марка Евгеньевича Бурно, на¬
учившего меня разбираться в человеческих характерах; моего друга
Александра Сосланда, с которым мы, гуляя по московским переулкам,
несколько лет обсуждали почти все написанное здесь; Вячеслава Цап-
кина, который во многом заставил меня поверить в себя как в фило¬
софа психопатологии; вдохновителя этого проекта, главного редакто¬
ра издательства «Класс» Леонида Кроля, который печатал мои книги
в своей замечательной серии; психотерапевта Павла Волкова, поддер¬
живавшего меня в трудную минуту; моего друга Алексея Плуцера-Сар-
но, чьи великолепные безумства часто заменяли мне клинический ма¬
териал; и, наконец, мою жену Татьяну Михайлову и дочь Асю (Татья¬
ну Михайлову-младшую), поддерживающих в нашем доме атмосферу
постоянного живого интеллектуального творчества.
Я желаю всем счастья.
В. Руднев
А
АПОЛОГИЯ ИСТерИИ. Больше всего в клинической психиатрии и ха¬
рактерологии не повезло истерикам: они капризны, вычурны, неглу¬
боки, позеры, в голове у них каша, они не могут отличить правды от
лжи и фантазии от реальности, хотят казаться больше, чем они есть, за¬
вистливы и ревнивы, не осознают своих ошибок, чрезмерно внушае¬
мы, врут и верят в то, о чем врут, и так далее [Ясперс 1997, Ганнушкин
1998, Леонгард 1989, Бурно, 1996, Волков 2000].
Все эти представления об истериках некритичны и несправедливы.
Рассмотрим, к примеру, парадигмальную фразу Карла Ясперса о том,
что истерик хочет казаться больше, чем он есть на самом деле. Вот уже
почти 90 лет эту фразу механически повторяют. Между тем, после 1913
года (когда была опубликована «Общая психопатология» Ясперса),
произошло столько интеллектуальных и всяких иных событий, что
пора бы сделать на это скидку и подумать, стоит ли некритически по¬
вторять сказанное так давно молодым ученым. Во-первых, для того
чтобы утверждать, что некто хочет казаться больше, чем он есть на са¬
мом деле, надо ясно понимать, что значит «быть на самом деле». Итак,
что же значит быть на самом деле? Положим, истерик на самом деле
глуп и неглубок, но ему хочется казаться умнее и глубже, чем он есть.
Но в каких единицах измеряется глупость и отсутствие глубины? Ос¬
мысленным может быть высказывание, в соответствии с которым Яс¬
персу кажется, что он, Ясперс, - достаточно умный и глубокий чело¬
век, что при этом помимо него существуют некоторые люди, которые
являются существенно менее умными и глубокими, чем сам Ясперс, и,
тем не менее, претендуют на то, чтобы казаться (т.е., собственно, по¬
лагать, что они суть) примерно такими же умными и глубокими, как
Ясперс, или даже еще умнее и глубже; на самом же деле поведение этих
людей выдает лишь необоснованную претензию быть таким же (или
более) умными и глубокими, как Ясперс, и такому достаточно умному
и глубокому человеку, как Ясперс, совершенно ясно, что подобные
люди лишь выдают себя за умных и глубоких, а на самом деле таковым
вовсе не являются. Нам кажется, что этот анализ может показать все,
что угодно, в частности, и отсутствие ума не только у истериков, но и
у Ясперса. То, что хочет сказать Ясперс, на самом деле выглядит так:
«Мне кажется (я убежден), что всем (некоторым) истерикам свой¬
ственно стремиться к тому, чтобы казаться больше, чем они есть». То
6
Апология истерии
А
есть данная фраза, которая выдает себя за некое доказательство, явля¬
ется лишь аксиомой. И самое удивительное, что Ясперс в этой фразе
попадается в сети собственной логической недобросовестности, пото¬
му что главным истериком оказывается он сам, ведь в конечном счете
это ему кажется, что он умнее истериков. Вот это как раз следует из его
фразы с очевидностью. Ведь если Ясперс не считает себя истериком, то,
стало быть, ему кажется, что он не истерик, и, стало быть, ему кажет¬
ся, что он лучше истериков, но если человеку свойственно казаться, а
не быть лучше, то, стало быть, он сам и есть истерик.
Фраза Ясперса исходит из презумпции, что быть — это безуслов¬
но лучше, чем казаться, иными словами, реальность (см.) лучше, чем
«фантазия». Однако опыт психотической культуры XX века (см. пси¬
хотический дискурс) удостоверяет, что фантазия, вымышленный мир,
нисколько не хуже, а чаше всего, гораздо лучше, чем так называемая
«реальность». Опыт психоделической культуры, сомнологическая ли¬
тература и живопись, психотический сюрреализм, шизофреническая
проза просто вопиют о том, что вымысел лучше реальности, да и ре¬
альности-то, если разобраться, никакой по-настоящему и нет.
Не большего стоит и пресловутое представление о демонстратив¬
ности истериков, «стремлении во что бы то ни стало обратить на себя
внимание окружающих» [Ганнушкин 1998:140\. Начнем с того, что это
стремление заложено у человека с рождения и играет огромную роль
на протяжении всей его жизни. Когда ребенок, «истерически» надры¬
ваясь, плачет, он действительно во что бы то ни стало хочет привлечь
к себе внимание матери (см. мать). Но для ребенка это стремление
привлечь к себе жизненно необходимо.
Трудно не согласиться с Александром Сосланном, когда он пишет
о том, что «само по себе стремление демонстрировать все, что угод¬
но, - безразлично, достоинства или недостатки, - является самодов¬
леющей фундаментальной потребностью человека. Эта потребность
лежит в основе многих феноменов его поведения, в то время как ущем¬
ление этой потребности является причиной самых разнообразных пси¬
хических расстройств и жизненных проблем. <...> Даже самый скром¬
ный и незаметный человек отчетливо и энергично демонстрирует свою
скромность и отлично знает, какое впечатление производит на других
это его представление» [Сосланд 1999: 340-341].
Можно предположить, что отрицательное отношение советских
психиатров к истерической яркости, демонстративности и театрально¬
сти было обусловлено выполнением социального заказа со стороны
советской идеологии, которая на всех этапах своей эволюции (кроме
нэпа) пропагандировала скромность, серые незаметные тона в одеж¬
7
Вадим Руднев
Словарь безумия
де, всячески порицала яркость в одежде и дизайне, отрицала важность
феномена рекламы (ср. психоанализ рекламы), для которой демонст¬
ративная яркость является, безусловно, сопсШю ыпе циа поп. Вспом¬
ним, как в советское время быть модно одетым считалось таким же
дурным тоном и полузапретным делом, как разговоры о сексе, что,
конечно, связано одно с другим, — вспомним запрет на демонстрацию
обнаженного тела (ср. тела безумия, эпилептоидное тело без органов) в
кино и театре да и живописи тоже. Простота, скромность и чувство
меры были главными лозунгами женской «моды» в советское время.
Даже эстрадная песня, которая также по определению должна быть
истеричной: вспомним хотя бы таких великих эстрадных певцов, как
Александр Вертинский и Эдит Пиаф, - в советское время «психасте-
низировалась», обретала несвойственные ей полутона и мягкую заду¬
шевность.
Почему же советская культура так не любила истерические прояв¬
ления яркости и театральности? Потому что она в этом справедливо
видела угрозу индивидуализма, эгоцентризма (еще одно «зловещее»
качество истерика), независимости от общего, стадного в поведении.
Истерическому человеку необходимо поклонение, он нуждается в
аудитории восторженных поклонников, но он никогда не потерпит ни
малейшего посягательства на свой Эго-авторитет, поэтому истерик в
принципе буржуазен. Поэтому не удалось справиться с Есениным, и
поэтому трудно в принципе представить себе на службе у Советской
власти короля Эго-истериков Игоря Северянина, который предпочел
прозябать в эмиграции, в Эстонии, причем почти без каких бы то ни
было поклонников.
Классический портрет истерика в русской литературе дал Лермон¬
тов, изобразив Грушницкого в «Герое нашего времени»:
Он только год в службе, носит, по особому роду франтовства, тол¬
стую солдатскую шинель. <...> Он закидывает голову назад, когда
говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правою опира¬
ется на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей,
которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, ко¬
торых просто прекрасное не трогает и которые важно драпируют¬
ся в необыкновенные чувства и исключительные страдания. Про¬
изводить эффект — их наслаждение; они нравятся романтическим
провинциалкам до безумия. <...> Грушницкого страсть была дек¬
ламировать: он закидывал вас словами. <...> Он не знает людей и
их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою.
Его цель - сделаться героем романа. Он так часто старался уверить
8
Апология истерии
А
других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное
каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился.
«<...> Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И
какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце
под толстой шинелью? <...> Он не знает, — прибавил Грушницкий
мне на ухо, сколько надежд придали мне эти эполеты... О эполе¬
ты, эполеты! ваши звездочки, путеводные звездочки... Нет! теперь
я совершенно счастлив». <...> За полчаса до бала явился ко мне
Грушницкий в полном сиянии армейского пехотного мундира. К
третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой
висел двойной лорнет; эполеты неимоверной величины были заг¬
нуты кверху в виде крылышек амура <...> Он смутился, покраснел,
потом принужденно захохотал...
Но действительно ли Грушницкий так ничтожен и плох, каким его
изображает Лермонтов глазами Печорина. Что дурного сделал Груш¬
ницкий? Да, он позволил втянуть себя в заговор, но раскаялся в этом
в сцене дуэли (ср. тезис Ганнушкина о том, что истерики никогда не
признают своей вины). Он действительно стрелял в безоружного Пе¬
чорина, но и сам выдержал выстрел Печорина. И, в конце концов,
именно Печорин убил безоружного Грушницкого, а не наоборот. Да,
действительно чувства Грушницкого к княжне Мэри вычурны в сво¬
их внешних проявлениях, но в отличие от козней Печорина намере¬
ния Грушницкого совершенно безобидны. В отличие от Печорина он
не замучил Бэлу, не нарушал покоя «честных контрабандистов» и не
вел себя по-хамски с Максимом Максимовичем.
Представим себе, что в истории русской культуры победила не эли¬
тарная тенденция, а массовая. Напомним, что советская культура
представляется сугубо элитарной, имперской культурой, а культура
начала века, когда огромные массы людей читали Бальмонта и Севе¬
рянина, была гораздо более демократичной и в этом смысле массовой.
Если бы в истории литературы победила не шизофреническая, а ис¬
терическая парадигма, то Мандельштама и других великих гениев со¬
знание публики автоматически зачислило бы в аутсайдеры и им вме¬
нилось бы в качестве недостатков то, чем при другом положении дел
восхищались, а именно: непонятность, невнятность, высокомерие к
читателю, излишняя «умность, которая иссушает стих», отсутствие
прямого яркого чувства, сексуальных тем и так далее. И в такой куль¬
туре невозможно было граничащее с издевательским «клиническое
описание» истерического характера, которое мы имеем в реальном по¬
ложении дел. В характерологических руководствах этой предположи¬
9
Вадим Руднев
Словарь безумия
тельной культуры было бы написано, что истерик это такой характер,
который на все отзывается наиболее живо, что его больше, чем других,
волнует прекрасное, что он обожествляет любовь и отношения с жен¬
щиной, что он обладает таким изысканным полетом воображения, что
порой путает мечту и фантазию с «так называемой реальностью». Что
истерическая женщина ярка, душевный мир ее богат, изыскан и эле¬
гантен, что она может быть капризной, как дитя, которым мы восхи¬
щаемся, она не прячет лицемерно свою красоту, а наоборот — предос¬
тавляет возможность каждому насладиться этим зрелищем. Мы можем
представить себе в такой культуре роман «Герой нашего времени», где
героем нашего времени будет Грушницкий, а Печорин будет описана
глазами Грушницкого (ср. Модальности).
По-видимому, наиболее объективное, внеоценочное качество,
которое отмечают у истериков, это чрезвычайно сильная способность
к вытеснению, как показал еще Фрейд в конце XIX века. Суть истери¬
ческого невроза, т.е. собственно истерии, заключается в том, что на¬
несенная человеку психическая травма вытесняется и конвертируется
(отсюда название - «конверсионная истерия») в некое подобие сома¬
тического симптома — паралич или парез различных частей тела, оне¬
мение (мутизм), истерическую слепоту или глухоту, застывание всего
тела (псеводокататонию), различные тики, заикание, особенности по¬
ходки, головные боли, рыдания, анестезию кожных покровов, хрони¬
ческую рвоту, писчий спазм, истерическую беременность (знаменитый
случай Анны О., описанный Й. Брейером) и многое другое (подробнее
см., например, [Якубик 1982]).
В описании знаменитого «случая Доры» Фрейд рассказывает о воз¬
никновении у пациентки мутизма в те моменты, когда господин К., в
которого она была влюблена, уезжал и «говорить было не с кем», зато
она полностью сохраняла способность писать, которой широко пользо¬
валась, пиша господину К. длинные письма [Фрейд 1998с].
Подобно тому как обсессивный невроз коренится в анальной фик¬
сации, т.е. когда ребенок в прегенетальной стадии развития задержи¬
вает стул (из чего потом может вырасти анально-садистический харак¬
тер), истерический невроз, по мнению психоаналитиков, коренится в
следующей прегенитальной стадии психосексуального развития -
уретральной, причем, если с обсессией связана задержка стула, то с
истерией наоборот недержание мочи (на этом подробно останавливал¬
ся Фрейд, анализируя случай Доры).
Чрезвычайно интересно, что, как отмечает Геральд Блюм, урет¬
ральное «разрешение струиться» может потом вытесниться и сублими¬
роваться в истерическую слезливость [Блюм 1996:124].
10
Апология истерии
А
Истерия играет особую роль в психоанализе, поскольку в нем осо¬
бую роль играет понятие вытеснения, одно из главных открытий
Фрейда. В этом смысле, поскольку вытеснение и конверсия в истерии
выступают нагляднее всего, наиболее элементарно и фундаментально,
она была наиболее успешно излечиваемой. Неслучайным представля¬
ется также то, что огромное число истерических неврозов пришлось
именно на тот период, когда делали свои открытия Ж.-М. Шарко,
Й. Брейер и Фрейд. Заслугой Брейера и Фрейда было то, что они по¬
няли, что истерия это не только не притворство, как думали многие
психиатры в XIX веке, что истерический симптом - это как бы немая
эмблема, смысл которой в том, чтобы обратить внимание окружающих
на то, что мучает невротика. Эта концепция была развита в книге од¬
ного из представителей антипсихиатрического направления в психи¬
атрии 1960—1970-х годов Томаса Саса «Миф о психическом заболева¬
нии», где он писал, что истерический симптом - это некое сообщение,
послание на иконическом языке, направленное от невротика его близ¬
кому или психотерапевту, послание, которое содержит сигнал о помо¬
щи. Так, если человек не может стоять и ходить (астазия-абазия), то
это является сообщением: «Я ничего не могу сделать, помоги мне»
[5да?г 1974]. И в этом смысле, с точки зрения Т. Саса, задача психоте¬
рапевта не в том чтобы «вылечить больного», а в том чтобы прочесть
послание истерика, перекодировать, реконверсировать его из икони-
ческого континуального языка истерии в обычную дискретную кон¬
венциональную разговорную речь. (Нечто подобное, хотя с иных по¬
зиций предлагал В. Франкл в духе своей знаменитой парадоксальной
интенции, когда предложил парню, который мочился в постель, за¬
ключить с ним пари, сумеет ли он мочиться еще больше, после чего
недуг прекратился [Франкл 1990].)
Б
Безумие и реальность. Как неоднократно повторялось многи¬
ми авторами, сущность безумия (см.) состоит в отказе от реальности и
тем самым семиотики, поскольку реальность насквозь семиотична (см.
реальность). Реальность — это нечто внешнее, психика — это нечто
внутреннее. Психотик путает внутреннее и внешнее. Например, он
свои внутренние квазивосприятия воспринимает как внешние и отно¬
сится к ним, как к объективной реальности. Примерно так говорят о
человеке, утратившем способность к тестированию реальности. На¬
пример, он видит дерево и говорит: «Я вижу дерево». Мы говорим ему:
«Это дерево существует только в твоем внутреннем восприятии». На
это он может нам возразить: «Хорошо, допустим мое дерево — галлю¬
цинация, но разве не все деревья существуют только тогда, когда вы на
них смотрите или когда вы о них думаете?» В случае с деревьями мы
еще можем как-то отмахнуться от этого человека, обвинив его в наи¬
вном берклианстве. Но в квантовой физике, например, объект действи¬
тельно существует, только когда его воспринимают. Бор и Гейзенберг,
объяви они в XIX веке свои принципы познания физического мира,
попали бы прямиком в сумасшедший дом. (ср. также бред и язык).
Почему бы вообще не предположить, что не существует единой
фундаментальной реальности, которая была бы общей для сангвини¬
ка, истерика, ананкаста, параноика и шизофреника, а взамен этого
предположить, что для каждой из этих групп имеется своя реальность,
специально приспособленная для сангвиника, истерика, ананкаста и
шизофреника? Как изменится наша онтология, если мы примем такое
предположение? Как изменится наше понимание характеров, неврозов
и психических расстройств? Я думаю, что мы смогли бы постулировать
нечто вроде множества возможных миров для каждого характера или
расстройства и приняли бы при этом, что, хотя эти миры и пересека¬
ются, но при этом нет такого маркированного мира, который в стан¬
дартной семантике возможных миров называется действительным ми¬
ром (см., например, [Хинтикка 1980]). Или мы бы приняли более со¬
ответствующее здравому смыслу допущение, что такой маркированный
действительный мир существует, и он является миром гипотетически
нормального человека, а поскольку не существует абстрактных нор¬
мальных людей, лишенных какого бы то ни было характера, мы за дей¬
ствительный мир могли бы принять мир синтонного человека, т.е. сан-
12
Безумие и реальность
Б
гвника-циклоида (см. характеры). Чем будут отличаться один от другого
эти миры, или реальности, и будет ли в них нечто общее? И почему бы
не принять вслед за этим, что не характер или психическое расстрой¬
ство делают тот или иной мир таким, а не иным, но что, наоборот, есть
в каком-то смысле объективно существующие миры-реальности санг¬
виника, депрессивного человека, шизоида и т. д. И что не шизоид или
депрессивный создает на самом деле единую на всех реальность такой,
какой она ему кажется, а что наоборот человек, попавший в определен¬
ный психический мир самим фактом попадания в этот мир становит¬
ся сангвиником, депрессивным, параноиком, психотиком и т. д. То есть
тогда мы не будем говорить, что человек, заболевший депрессией, на¬
чинает субъективно видеть мир в черных красках, начинает испытывать
чувство вины и тоски и т. д., но вместо этого скажем, что имеется мир,
фундаментальными свойствами которого является переживание чув¬
ства вины, мрачность, подавленность и т. д. тех индивидов, которые в
этом мире пребывают, и что иначе такой мир бы просто не мог бы су¬
ществовать. И тогда мы не стали бы говорить, что психотик-шизофре-
ник «практикует» пресловутый отказ от реальности, но что человек по
тем ли иным причинам вошел в особую шизофреническую реальность,
которая очень сильно отличается от других психических миров-реаль¬
ностей. (Другой вопрос, почему или зачем он туда вошел.)
В этом случае, человека который переживает ощущение психичес¬
кого автоматизма, галлюцинации, бред преследования т. п. в том же духе,
мы будем просто инструктировать, что в том мире, в котором он ока¬
зался, все это в порядке вещей, и теперь, если он хочет в этом мире
продолжать существовать, то мы дадим ему нечто вроде путеводителя
по шизофренической реальности, где будут, например, разделы «пара¬
нойяльная стадия», «параноидная стадия», «парафренный мир», «ка¬
татонический мир», «гебефренический мир» и т. д.
Как же могли бы выглядеть эти различные миры-реальности, если
бы мы захотели гипотетически их построить? Истерический мир выг¬
лядел бы, очевидно, следующим образом (ср. апология истерии). Веро¬
ятнее всего, он походил бы на театр. В нем люди произносили бы мо¬
нологи или разговаривали друг с другом как будто перед незримой пуб¬
ликой. Другой вопрос, из кого состояла бы эта публика: из таких же ли
истериков (но истерики — плохие зрители) или из других характеров,
но тогда в истерический мир актеров нужно было бы встроить идеаль¬
ный, скажем, обсессивно-компульсивный мир зрителей. Оставим пока
эту проблему. Помимо театральности истерического мира это был бы
мир, где господствовало бы вытеснение, где говорили бы что-то, что
совершенно не подразумевало бы подтверждения этого в будущем. Да¬
13
Вадим Руднев
Словарь безумия
вать обещания в таком мире было бы бесполезным делом - они не вы¬
полнялись бы по определению. Люди в этом мире действовали бы ис¬
ключительно импульсивно. В истерическом мире невозможен был бы
институт брака, но детей бы в этом мире, тем не менее, рожали в из¬
бытке, так как представить себе истериков, пользующихся противоза¬
чаточными средствами, практически невозможно. В этом мире не раз¬
вивалась бы наука, но активно развивалось бы искусство, особенно
театральное, живопись и поэзия. Вероятно, Платон имел в виду имен¬
но поэтов-истериков, когда призывал изгнать их из своего идеального
Государства. Впрочем, что же это было бы за истерическое государство,
даже трудно себе вообразить. Вероятно, какое-то очень примитивное.
Или истерики жили бы в подчинении у каких-то других характеров, на¬
пример, у эпилептоидов, которые только и делали бы, что занимались
государствостроительством. В истерическом мире было бы много прав,
но практически не было бы никаких обязанностей. Это был бы мир
сплошного удовольствия. Однако следует иметь в виду, что для того
чтобы осуществлять удовольствие истерически, необходимы другие
миры, в частности, обсессивно-компульсивный (см. обессия и культу¬
ра). Понятно, что женщинам нужны мужчины и наоборот. Иначе ни¬
какой мир не мог бы продолжаться.
Как же выглядел бы этот дружественный, визави, мир обсессивно-
компульсивный? В нем царил бы педантизм. Здесь все было бы под¬
чинено исключительной порядочности, и каждое произнесенное слово
своевременно реализовалось бы в дело. Это был бы мир выполненных
обещаний и исправно исполняемых обязанностей - деонтический мир
(см. модальности). Однако выполнить данное слово легко, но дать его
чрезвычайно трудно. Обсессивно-компульсивный мир весь состоял бы
из развилок. В нем по улицам ходили бы бабы с пустыми и полными
ведрами специально для того, чтобы знать, как людям путешествовать,
бегали бы в изобилии черные кошки, продавались бы и везде были бы
расставлены деревянные предметы, чтобы можно было по ним стучать.
Улицы, конечно, в таком мире носили бы не названия, а номера. По¬
дозреваю, что и людям давали бы цифровой код вместо имени, вооб¬
ще слово редуцировалось бы до числа, потому что число гораздо точ¬
нее (см. обсессия и число). В этом мире господствовала бы описатель¬
ная наука - статистика и теория вероятности, но ни искусства, ни
теоретических наук в нем не было бы. Если бы не живущие по сосед¬
ству истерички, то обссесивный мир очень скоро прекратил бы свое
существование, так как обсессивно-компульсивному субъекту свой¬
ственно бежать от любви и вообще от всяких импульсивных отноше¬
ний (ср. любовь). Хотя и истерики бы тоже не помогли. Тут развивал¬
14
Безумие и реальность
Б
ся бы вечный конфликт между Татьяной и Онегиным, который не за¬
канчивался бы ничем. Государственность ананкастов представляла бы
собой гипертрофированную чиновничью машину, но командовать в
этом государстве пришлось бы призвать варяга-эпилептоида (ср. эпи-
лептоидное тело без органов) или лучше авторитарного шизоида (см.
характеры), так как ни один ананкаст не взял бы на себя ответствен¬
ность быть президентом своего государства.
Как бы мог выглядеть мир шизоидов? В нем все было бы подчи¬
нено рациональному аутистическому порядку. Здесь все было бы под¬
чинено какой-то высшей разумной религии, возможно, обожествлен¬
ной науке. Возможно, что браки здесь совершались бы по точному
расчету и детей воспитывали ли бы в соответствии с последним сло¬
вом науки. Секс здесь четко отличался бы от любви, любовь - от се¬
мьи, а семья — от государства. Государственность была бы стройной и
развитой, гегельянско-платонической. Поэтов бы скорее всего из него
изгнали, но прозаиков бы оставили, таких прозаиков, как, например,
Борхес, прозаиков-шизоидов. Улицы в этом мире были бы пустынны,
так как все сидели бы по своим домам, занимались теоретической фи¬
зикой и лишь изредка раз в год собирались бы на научные симпозиу¬
мы, на которых решали бы в очередной раз, как жить дальше, потому
что жить шизоидам было бы трудно: жажда познания - эпистемичес-
кий мир — переполняла бы его обитателей, но мало кто захотел бы
здесь заботиться о хлебе насущном.
При дистимическом биполярном расстройстве, когда депрессия
перемежается гипоманией, имеется такая же соответствующая пере¬
межающаяся реальность. Потому и человек, находящийся в нормаль¬
ном неизмененном состоянии, не может понять, прочувствовать со¬
стояние человека, находящегося в глубокой депрессии. Кажется, что
реальность одна. Он говорит ему: «Посмотри, как светит солнце, ка¬
кие зеленые деревья, посмотри на светлый прекрасный мир любви.
Все твои трудности пройдут, трудности есть у всех людей. Но они пре¬
одолимы». Так говорить депрессивному человеку бесполезно, потому
что это разговор людей, находящихся в разных возможных мирах. Со¬
ответственно, когда депрессивный пытается объяснить нечто подоб¬
ное обыкновенному человеку, не психотерапевту и не человеку, бывав¬
шему в этом состоянии, то это тоже разговор из разных миров на раз¬
ных языках. Когда депрессивному человеку говорят, чтобы он пошел
погулял, отвлекся чем-нибудь, помыл бы посуду, то тем самым не при¬
нимают в расчет, что в его мире, откуда исходит депрессивное стра¬
дание, нет ни прогулок, ни отвлечений, ни посуды. И если депрессив¬
ный человек соглашается помыть посуду (и тем самым посуда появ¬
15
Вадим Руднев
Словарь безумия
ляется в его мире), то это значит, что он одной гранью своей личнос¬
ти перешел в мир здорового человека, где есть посуда, прогулки, по¬
ловые акты, чтение книг, прослушивание концертов и многое другое,
что депрессивному человеку недоступно, потому что в его мире это¬
го всего просто нет.
Почему мы считаем, что экономичнее говорить, что в его мире все¬
го этого нет, чем просто, что это ему недоступно? Ведь «реальность»,
вещи — остаются теми же самыми. Но это заблуждение - считать, что
вещи сохраняют свою стабильность в разных мирах. На каком-то
очень формальном уровне, карандаш остается карандашом для всех
миров психических расстройств, кроме, вероятно, шизофреническо¬
го. Шизофреник может и формально не признать карандаш каранда¬
шом, а сказать, что это «острый пенис» или что-нибудь еще, «застыв¬
шая змея», например; и это не будет метафорой. Вспомним, что для
параноика, паранойяльного ревнивца, например, все вещи начинают
как бы сворачиваться в одну вещь, так сказать, «Вещь Ревности». Все
вещи будут означать одно и то же, они будут различными смыслами
одного и того же значения «жена изменяет» (см. паранойя). Точно так
же при депрессивной утрате все веши, связанные с утраченным объек¬
том любви, прежде всего, будут означать не то, что они обозначают для
обыкновенного человека. Они будут напоминать об утрате: «Вот этим
карандашом она писала то-то и то-то»; «Вот на этом стуле она сиде¬
ла, когда я подошел к ней»; «Вот из этой чашки она пила...».
Возникает вопрос — а хорошо ли это, что реальность облегает
психопатологию, что было бы, если бы реальность оставалась ригид¬
ной и была действительно для всех одна. Если бы на депрессивного
так же ослепительно светило солнце, как на гипоманиакального.
Если бы истерику так же, как и ананкасту, попадались на каждом
шагу черные кошки, хотя они ему совершенно не нужны. И если бы
ананкаст не сумел бы, наоборот, нигде найти тех знаков, на которые
он мог бы опереться для того, чтобы принять решение? Возможен ли
был бы вообще бред, если бы вещи не захотели бы повиноваться бре¬
довому сознанию? Я думаю, что, если бы реальность была бы неэла¬
стичной, то люди бы просто погибали. Не было бы никаких психи¬
ческих расстройств, но увеличилось бы количество странных смер¬
тей — смертей от психических заболеваний. То есть психотик не смог
бы экстраецировать реальность, не смог бы переживать галлюцина¬
ции, слышать голоса просто потому, что реальность была бы одна на
всех. Если в этой реальности не принято слышать голосов, значит,
никакой сумасшедший их слышать не будет. Что произойдет с пси-
хотиком в этом случае? Я думаю, что он просто умрет, так как у него
16
Безумная семиотерапия
Б
не останется никаких механизмов защиты (см. характеры и механиз¬
мы защиты). А невротики, которые не смогут интроецировать и про¬
ецировать, отрицать и идентифицировать, потому что ригидная ре¬
альность не будет давать им делать этого, лишившись своих механиз¬
мов защиты, закономерно перейдут в психотиков и тоже умрут. Я
думаю, что и нормальные люди не смогли бы жить в такой реально¬
сти, потому что нормальным людям тоже необходимо время от вре¬
мени для разрядки испытывать невротические, психопатические и
даже психотические реакции. Если ригидная реальность не будет
давать им возможности этого делать, они тоже будут погибать.
Получается, что если на реальность смотреть реалистично — как
на нечто, что гибко, эластично приспосабливается к психопатологии,
то тем самым придется принять, что в самой реальности заложена
психопатология. Но как же может быть иначе! Ведь это мы сами при¬
думали себе реальность, по своему образу и подобию. А наш образ и
наше подобие - это образ и подобие безумного человека, «больного
животного», по выражению Ницше. Поэтому я не думаю, что все, что
здесь написано, просто игра слов. Мне кажется, что так оно все и есть
на самом деле. Реальностей столько же, сколько психопатологий, и
реальности сами психопатологичны. Этот вывод может показаться
неутешительным, но на самом деле для людей, страдающих психичес¬
кими расстройствами, это может быть единственным и надежным
спасением.
Безумная семиотерапия (см. также сущность безумия). Если ис¬
ходить из того, что безумие это утрата контакта с семиотической ре¬
альностью или искажение этого контакта, другими словами, если бе¬
зумие - это утрата семиотики, то любая психотерапия вольно или не¬
вольно будет стараться эту семиотику субъекту вернуть. Откуда она
может взяться? В принципе любой диалог с пациентом, сколь бы раз¬
рушенным ни был бы пациент, это уже оперирование знаками и, ста¬
ло быть, формирование определенных семиотических паттернов. В
этом смысле, если больной шизофренией страдает развитой продуктив¬
ной симптоматикой — бредом и галлюцинациями, то ясно, что бессмыс¬
ленно и бесполезно разубеждать его в существовании или актуально¬
сти этих асемиотических объектов. Гораздо осмысленней придать им
семиотический статус.
Но как придать семиотический статус тому, что этого статуса по
определению лишено? Один из путей - это попытаться проникнуть
17
Вадим Руднев
Словарь безумия
в десемиотизированный мир больного и подорвать его изнутри (слу¬
чай, подобный тому, который описан П.В. Волковым [Волков 2000].
Другой путь может заключаться в том, чтобы попытаться поставить
пациента лицом к лицу с его десемиотизированным объектом и тем
самым семиотизировать его. Например, если пациент страдает пара¬
ноидным бредом преследования, то, если постараться показать ему
четкий, живой и тем самым семиотический образ-симулякр пресле¬
дователя, то это может выбить из болезни ее самое фундаментальное
свойство - десемиотизированность. Как же может быть представлен
семиотический образ преследователя? Допустим, если пациент боит¬
ся, что его преследуют спецслужбы с целью выуживания у него цен¬
ных сведений или для того чтобы добиться с ними сотрудничества,
то возможным путем семиотерапии будет дезактуализация, обесце¬
нивание преследующего объекта путем прямого представления его в
виде образа-симулякра пациенту.
На это можно возразить, что так можно окончательно запугать и
без того наполненного страхом пациента. Но здесь можно сыграть в
своеобразную психодраматическую игру, объяснив пациенту, исполь¬
зуя частично методы когнитивной терапии, что в обстановке совер¬
шенной безопасности, под защитой больничных стен или кабинета
психотерапевта ему может быть предоставлена возможность встре¬
титься, например, с представителем спецслужб и сказать им начис¬
тоту все, что он о них думает. Если психика пациента не полностью
разрушена (например, он находится на паранойяльной стадии бре¬
да преследования), то можно предложить ему вообразить, что он раз¬
говаривает с представителем спецслужб в лице самого психотерапев¬
та. Если же пациент не сможет пойти на такое, не поверит в истин¬
ность этого варианта или просто не поймет того, что ему говорят, так
как сам регистр воображаемого у него разрушен, то можно предло¬
жить ему встретиться с «настоящим» представителем спецслужб, роль
которого может сыграть ассистент психотерапевта или другой психо¬
терапевт, или какой-либо более продвинутый больной, если речь идет
о более или менее групповом варианте психотерапии.
Каким мог бы быть диалог между пациентом и воображаемым или
симулятивным «настоящим» преследователем, и что мог бы дать этот
диалог? Попробуем смоделировать фрагмент такого диалога и посмот¬
реть, что из этого получится.
Врач (пациенту). Сейчас сюда войдет представитель ФСБ, пол¬
ковник Такой-то и вы сможете ему изложить ваши претензии, а он
вам — свои. Вы согласны поговорить с ним?
18
Безумная семиотерапия
Б
Пациент. Какие у меня гарантии, что вы меня не обманывае¬
те, и я не буду тотчас же схвачен?
Врач. У дверей будут стоять два санитара из тех, кому вы безус¬
ловно доверяете, они будут обеспечивать вашу безопасность.
Пациент. Это будут В. и К.? Тогда я согласен. Пусть входит пол¬
ковник Такой-то.
Входят полковник и два санитара.
Врач (полковнику) Господин полковник, мы решили устроить
вам встречу с господином Н., чтобы все ваши разногласия были
улажены и противоречия устранены.
Полковник. Да, меня предупредили об этом. Я готов вести пе¬
реговоры с господином Н.
Пациент {врачу). Я бы хотел убедиться, что настоящее лицо есть
действительно полковник Р. и что он обладает соответствующими
полномочиями.
Полковник показывает пациенту свое «удостоверение» и назы¬
вает ему тех бредовых представителей ФСБ, с которыми пациент
общался галлюцинаторно.
Пациент {удовлетворен осмотром). Итак, вы хотите что бы я со¬
трудничал с вами?
Полковник {уклончиво, но вместе с тем твердо) Некоторые
люди из нашего ведомства непременно этого хотели бы, но я при¬
шел сюда, чтобы поговорить с вами лично и заручиться вашим доб¬
ровольным согласием на сотрудничество с нами.
Пациент. А если я не дам согласия?
Полковник. В этом случае я уполномочен вести переговоры о
том, чтобы преследования с вас были сняты.
Пациент. На каком же основании? После стольких месяцев
преследования теперь они будут сняты! Так я вам и поверил!
Покловник. Дело в том, господин Н., что руководство нашей
организации пришло к выводу, что только добровольное согласие на
сотрудничество с вашей стороны, не затрагивающее вопросов ва¬
шей совести, может сделать это сотрудничество эффективным. В
противном случае ваше сотрудничество нам не нужно.
Пациент. Хорошо. Если я дам согласие, что я должен буду де¬
лать?
Полковник. Прежде всего, вы должны будете закончить курс
лечения во вверенном доктору Б. отделении, а затем вам будет дано
соответствующее задание. Но не раньше, чем доктор Б. подтвер¬
дит, что ваше состояние позволяет вам осуществлять полноценное
сотрудничество.
19
Вадим Руднев
Словарь безумия
Врач. Это может быть не ранее, чем через три месяца. Если вы
согласны, то представители этой организации в течение трех ме¬
сяцев не станут вас беспокоить.
Полковник торжественно кивает головой.
Пациент. Хорошо. Я согласен.
Такой разговор может на три месяца выбить почву из-под персе-
куторной галлюцинаторной активности пациента, а потом перегово¬
ры могут быть продолжены, если в этом будет необходимость. Но не
исключено, что за истекший период психическое состояние пациен¬
та будет настолько улучшено, что необходимость в этом отпадет.
Как может происходить семиотическая терапия острых параной¬
яльных состояний, которые как раз характеризуются повышенной се-
миотичностью (см. паранойя)? Например, при остром бреде ревности
все предметы и вся окружающая обстановка ассоциируется с изменой
жены. В этом случае необходимо распылить узкий семиотизиро-
ванный мир пациента, создать ему расширенную сеть альтернативных
возможных миров. Поскольку убеждать пациента в том, что жена ему
на самом деле не изменяла, не имеет никакого смысла, возможно, сто¬
ит попытаться в духе парадоксальной интенции Виктора Франкла, а
также провокационной терапии Фрэнка Фарелли сыграть с пациентом
ряд сцен, доводящих идею измен жены до абсурда, показав ему, что
весь мир изменяет ему с женой.
В идеале врач может предложить пациенту психодраматически
представить, что сам врач тоже изменяет ему с женой, когда она при¬
ходит навестить пациента, или врач даже может рискнуть и «признать¬
ся» в том, что он действительно спал с женой пациента. Попробуем
смоделировать фрагмент подобной сессии.
Врач. Как вы себя чувствуете?
Пациент (с гневом). Как я могу себя чувствовать, когда во всем
я вижу что эта сука мне изменяет!
Врач. Неужели во всем? Ну, например, в этой пепельнице?
Пациент. Что? В пепельнице???
Врач. Да, эта пепельница вам ничего не напоминает?
Пациент. Здесь окурки! (Торжествующе) Они курили вместе!!
Неужели она добралась сюда?
Врач. Вы так полагаете?
Пациент. Разумеется, она же чуть ли ни каждый день сюда при¬
ходит ко мне. Ясно теперь, откуда такая заботливость. Она здесь
встречается со своим любовником. Ничего себе, хорошо устрои¬
лась.
20
Безумная семиотерапия
Б
Врач. Но как же она могла попасть в мой кабинет?
Пациент. Как? И вы спрашиваете как? Это я вас должен спро¬
сить, как моя жена и ее любовник могли забраться в ваш кабинет?
Врач. Но ключ от кабинета есть только у меня.
Пациент. Что же это значит??
Врач (задумчиво). Вам лучше знать. Если вы во всем подозре¬
ваете вашу жену...
Пациент. Доктор, и в самом деле, если ключ от кабинета есть
только у вас, и моя жена встречалась здесь со своим любовником...
Врач. А окурки неопровержимо свидетельствуют об этом ...
Пациент (ошеломленно). Да, окурки...
Врач. То это значит...
Пациент (с напряженной тревогой). Что это значит?
Врач (задумчиво). Ну, подумайте хорошенько, что это может
значить?
Пациент. Я ... не знаю.
Врач. Не знаете?
Пациент. Не знаю.
Врач. А если подумать хорошенько?
Пациент. Неужели...?? Не могу поверить...
Врач. Но ведь вы сами утверждаете, что она изменяет вам со
всеми подряд. Почему я должен быть и исключением?
Пациент. Как?? и вы доктор??!!
Врач. Я тоже человек. А она так привлекательна...
Пациент. Я не верю... вы, доктор?.. Это невозможно!!!
Врач. Что же тут не возможного? Ключ у меня одного. Она при¬
ходит к вам, как вы сами знаете, почти каждый день и, заметьте,
во время моего дежурства, и вот мы тут запираемся в кабинете... и...
Пациент (разражается нецензурной бранью). Убью, убью стерву!!
И с вами тоже, доктор?? Нет, это невозможно.
Доктор. Повторяю, здесь нет ничего невозможного. Не более
невозможно, чем, как вы говорите, она способна удовлетворить
полк солдат. А мне нужно гораздо меньше.
Пациент. Ну, стерва! (С зарождающимися ростками сомнения.)
Нет, доктор, вы меня разыгрываете.
Врач. Только и у меня и дел, что вас разыгрывать. Может быть,
это вы сами себя разыгрываете? Может быть, вы сами разыгрыва¬
ли себя, когда утверждали, что ваша жена спит с вахтером и на¬
чальником охраны вашего офиса?
Пациент. Нет, ну, доктор. Но вы совсем другое дело... Я... нет,
ну какая стерва!
21
Вадим Руднев
Словарь безумия
Врач. Почему я должен быть исключением? Я что, по-вашему,
импотент? Говорите, я импотент, по-вашему, или нет? Что вы мол¬
чите? Вы что, считаете меня импотентом??
Пациент {смущенно). Нет, доктор, ну что вы! Конечно, я так не
считаю.
Врач. А если я не импотент, почему я, по-вашему, не в состоя¬
нии удовлетворить вашу жену?
Пациент {окончательно сбитый с толку). Нет, доктор, ну, я не
знаю. Ну, если она вам так понравилась...
Врач {бодро). Понравилась-понравилась!
Пациент. Доктор, как вы могли?
Врач. А что ж, я хуже вахтера? Что я, хуже вашего начальника
охраны? Отвечайте, я хуже вашего начальника охраны?
Пациент. Нет, что вы, доктор, конечно, вы лучше.
Врач. Ну, и что вы думаете по этому поводу.
Пациент (с сомнением) Какая же!.. Нет, доктор, я думаю, что вы
все-таки меня разыгрываете.
Врач. С какой целью?
Пациент. Ну, я не знаю.
Врач. А вы подумайте, подумайте. Вы мне тут наплели, что
ваша жена изменяет вам с младшим медицинским персоналом и с
главврачом...
Пациент {растерянно). С главврачом?.. Я, мне кажется, этого не
говорил.
Врач. Как, уже забыли? Разве вы мне вчера не доказывали с пе¬
ной у рта, что она изменяет вам с главврачом?
Пациент {растерянно). Я не помню.
Врач. Так кто тут кого разыгрывает? Отвечайте, вы действи¬
тельно поверили, что я спал с вашей женой?
Пациент. Я? Нет, ну что вы, доктор!
Врач. А с главврачом?
Пациент (с сомнением). Мне кажется, я не говорил про глав¬
врача.
Врач. Значит, с главврачом нет?
Пациент {совершенно сбитый с толку). С главврачом нет.
Врач. И со мной нет?
Пациент {увереннее). И с вами нет
Врач. А с начальником охраны? Отвечать быстро!
Пациент. Не знаю.
Врач. А кто будет знать? Вы думаете, они признаются сами,
если мы их спросим?
22
Бессознательное психотика
Б
Пациент. Так вы думаете, что и с начальником охраны она не?..
Врач. А сами вы как думаете?
Пациент. Да я думаю, что... что это...
Врач. Что это все ваши домыслы, как и про вахтера, как про
актера Театра на Таганке...
Пациент. Не знаю.
Врач. Подумайте хорошенько. Давайте рассуждать логически.
Если вы признаёте, что ваша жена спала с актером Театра на Та¬
ганке, вам придется признать, что она спала и со мной тоже. Вы
обвиняете меня в том, что я спал с вашей женой?
Пациент (в ужасе). Нет, доктор, что вы!
Врач. Тогда вам придется отказаться от ваших идей, что ваша
жена вам изменяет. У вас прекрасная жена. Перестаньте ее мучить
вашей ревностью.
Пациент {плачет). Да, Лёля, как я перед ней виноват!..
Как видим, сочетание парадоксальной интенции с агрессией в духе
провокационной терапии постепенно зарождает сомнение в душе па¬
циента, и ему приходится признать, что если жена не изменяла ему с
врачом, то, стало быть, скорее всего она вообще ему не изменяла, и па¬
циент с паранойяльной позиции переходит на депрессивную, впервые
ощутив чувство вины, возможно, перед вообще невиновной женой.
Бессознательное психотика. При неврозах между сознатель¬
ным и бессознательным выстраиваются регулярные пути сообщения,
в первую очередь, вытеснение и сопротивление. Психотику некуда вы¬
теснять и нечему сопротивляться. Он сам вытеснен куда-то, неизвес¬
тно куда. Вообще у него никаких механизмов защиты не осталось. Ни
изоляции, ни интроекции, ни проекции (см. характеры и механизмы
защиты). Только расщепление и экстраекция (см. галлюцинации). Мож¬
но сказать, что этот единственный регулярный механизм защиты пси¬
хотика, экстраекция, имеет место между бессознательным психотика
и утерянной реальностью. То есть если непсихотик защищается тем,
что сбрасывает из Я в Оно, из сознательного в бессознательное, то па¬
радоксальным образом психотик защищается, вбрасывая из своего
оголенного «бессознательного» в утерянную «реальность», т.е. он гал¬
люцинирует и бредит.
Чтобы нащупать, что такое бессознательное психотика, восполь¬
зуемся бытовым выражением «бессознательное состояние» - это как
бы состояние, при котором человек находится в своем бессознательном.
23
Вадим Руднев
Словарь безумия
Он не «помнит себя», т.е. у него в данный момент отсутствует Соб¬
ственное Я. Речь может, например, идти о сильном опьянении. Что
делает человек, когда он сильно пьян? Он ведет себя подобно психо-
тику. Он может либо просто оцепенеть, заснуть - это состояние будет
подобно кататонии (ср. «Золотой век» и кататония»). Он может начать
хихикать, неумно шутить, кривляться, приставать к женщинам, т.е.
вести себя гебефренически (см. «Елизавета Вам»). Но он может вести
себя подобно параноидному психотику - кого-то обличать, проявлять
агрессивность или, наоборот, испуг. Вот у этого человека, не помня¬
щего себя, бессознательное будет как будто вывернуто наружу. Все вы¬
тесненные в его обычное «трезвое» бессознательное комплексы — сек¬
суальный, властный, любой другой, - они как раз в таком состоянии
вылезут наружу, и ему уже некуда и нечего будет вытеснять, у него не
будет в этом состоянии цензуры и сопротивления. И об этом челове¬
ке можно будет сказать, что он отказался от реальности, если под ре¬
альностью понимать общественные нормы и запреты, он не тестиру¬
ет реальность, но одновременно он переполнен Реальным (в смысле
Жака Лакана [Лакан 1998]), он переполнен своим Оно, которое и есть
синоним лакановского Реального. И такой человек будет практичес¬
ки не способен к переносу — тоже важная черта психотика. Предста¬
вим себе человека, который в таком пьяном, «бессознательном состо¬
янии» пришел к психоаналитику. Разве он способен будет отожде¬
ствить его с фигурами матери, отца и т. д.? Он может его принять за
кого-то другого галлюцинаторно, за того же отца, но это не будет пе¬
реносом, потому что перенос устанавливается между сознательным и
бессознательным, а у этого человека на данный период как бы отсут¬
ствует сознательное.
Подумаем над словами Лакана о том, что «бессознательное струк¬
турировано как язык» [Лакан 1995]. Мы представили образ бессозна¬
тельного психотика, как некоторое состояние после языка (см. сущ¬
ность безумия). Но похоже ли бессознательное психотика на бессозна¬
тельное невротика? Во многом они должны быть антиподами друг
друга. Как же структурировано бессознательное психотика и структу¬
рировано ли оно вообще как-нибудь? Язык невротика и язык психо¬
тика структурированы по-разному. В центре языка невротика безус¬
ловно лежит Собственное Я, его эгоцентрическая позиция, и, как счи¬
тал Эмиль Бенвенист, с которым Лакан был знаком, язык вообще
«вертится» вокруг Я. «Я» — это его главная ось и опора [Бенвенист
1972]. Речь начинается с говорящего. Я — это тот, кто говорит «Я».
Поэтому если нет Я, то нет и речи о речи. А кто говорит в речи психо¬
тика? В речи психотика говорит Оно. Как же говорит Оно, какова
24
Бессознательное психотика
Б
структура его речи? Это бессознательный и значит безличный дискурс.
Стемнело. Смеркается. А как же психотик Блейлера говорил: «Я такой
же человек, как все» и «Я не такой человек, как все» [Блейлер 1993] (см.
также схизис и многозначные логики)? Это Оно говорит: «Ты такой же
человек как все, ты не такой человек, как все». «Это не Я говорю, это
Оно говорит вместо меня», - как будто хочет сказать психотик.
В чем же особенность бессознательного как языка Другого у пси¬
хотика? В том, что Другой психотика — это он сам и есть. Это его эк-
страективный персонаж, который галлюцинаторно ему что-то говорит
или внушает, непосредственно внедряясь в его мысли. Бессознатель¬
ное психотика обнажено, так как он сам находится в бессознательном
состоянии, в «состоянии бессознательного». И вот, находясь в состо¬
янии бессознательного, психотик разговаривает с Собой-Другим впол¬
не «запанибрата». Что ему еще и остается, если у него нет больше Соб¬
ственного Я? В бессознательном невротика дискурс Другого спрятан,
потому что на первом месте у невротика стоит пусть искаженное, но
достаточно полноценное Собственное Я. В бессознательном психоти¬
ка Другой разговаривает сам с собой, сам с Собой-Другим, который
встал на место исчезнувшего Я. Произошла диссоциация, и теперь они
вдвоем беседуют, и эта беседа изображается в культуре XX века, обо¬
значенная термином «поток сознания». Правильнее было бы назвать
этот тип дискурса «потоком бессознательного», потому что там как раз
Другой разговаривает с Другим, ибо в шизофреноподобных текстах
модернизма XX века Собственного Я как раз и нет, да откуда ему и
взяться, если это шизофренический или, в крайнем случае, шизотипи-
ческий дискурс?
В этом смысле характерен дискурс романа Саши Соколова «Шко¬
ла для дураков», где его герой все время разговаривает со своим от¬
коловшимся, диссоциированным Другим, обращаясь к нему, сорев¬
нуясь с ним, интригуя против него, ревнуя его к своей (т.е. к их обо¬
их) возлюбленной. То, что это два равноправных Других, как раз и
говорит о том, что это психоз. Нет того, чтобы одно было Я, а дру¬
гое — Другой. Они оба Другие по отношению друг к другу, потому что
они оба не Я, а Оно.
Понимание бессознательного Лаканом как внутреннего диалога
многое смещает в нашем понимании психоза. Получается, что природа
психоза тоже диалогическая. Бред — это не монолог, это бесконечный
диалог Другого с Другим, тот самый индивидуальный язык Витгенш¬
тейна, который не является языком в семиотическом смысле [Витген¬
штейн, 1994], потому что здесь нет экстериоризованной коммуника¬
ции. Бред — это разговор двух Других (ср. бред и речевой акт). И не¬
25
Вадим Руднев
Словарь безумия
важно, что один из них (генетически бывший Собственным Я)‘ это,
как правило, преследуемый, а психотический Другой - это пресле¬
дователь. Не будем забывать, что речь идет о расколовшемся, диссоц¬
иированном мире, где нет целостных объектов. Поэтому, когда Ев¬
гений в «Медном всаднике» Пушкина говорит статуе Петра: «Ужо
тебе!», - он это говорит самому Себе как Другому и бежит он от са¬
мого Себя-Другого (ср. бред преследования). Пока человек может бе¬
седовать с реальным Другим на уровне сознания, в то время как его
бессознательное беседует с каким-то другим Другим, то психоза не
произойдет. Психоз наступает тогда, когда бессознательное психоти-
ка вырывается наружу, и асимметрия между двумя собеседниками -
бывшим Собственным Я и Другим — стирается. Теперь это оба не¬
собственных Не-Я, это оба Других разговаривают на внутреннем
языке.
Итак, бредовое бессознательное - это диалог. Поэтому психотик
никогда не бывает внутренне одиноким, он окружен внутренними пер¬
сонажами, например, архетипами Юнга. Они все разные, и они гово¬
рят друг с другом, они — враги или друзья, по большей части, конеч¬
но, враги, но важно при этом то, что традиционное монологическое
понимание психоза, свойственное клинической психиатрии, оказыва¬
ется неадекватным.
Необходимо при этом различать бред и бессознательное психотика.
Бред — это феноменология; то, что нам представлено; то, что мы мо¬
жем наблюдать. Бессознательное психотика, хотя мы и говорим о нем,
что оно вывернуто наружу, это надо понимать все же в метафизическом
смысле. Бессознательное, каким бы оно ни было — психотическим или
невротическим, - феноменологически нам не дано и не может быть
наблюдаемо. Поэтому стоит сравнить те параметры, которые мы вы¬
деляем в качестве определяющих бред, и посмотреть, как они прояв¬
ляются в бессознательном психотика. Я говорю, соответственно, об
обсессивно-компульсивном, сверхценном, депрессивном и демонст¬
ративном компонентах. Бессознательное — это структура, которая
формируется в качестве резервуара для того, что не может быть пред¬
ставлено в сознательном. Могут ли быть представлены в сознательном
обсессивно-компульсивные проявления? Безусловно, могут! Они про¬
являют себя феноменологически как соответствующе симптомы, но
как симптомы чего-то бессознательного. Чего же, например? Допустим,
бредящий персеверирует, навязчиво повторяет одно и то же, какие-то
стереотипные движения (см. персеверация). О чем это может свидетель¬
ствовать на уровне его бессознательного, и как это различается с соб¬
ственно обсессивными проявлениями невротика в противоположность
26
Бессознательное психотика
Б
его, невротика, бессознательным проявлениям? Не кажется ли, что это
чрезвычайно сложный вопрос? Допустим, обсессивное поведение не¬
вротика отсылает к бессознательной фиксации на анальном уровне
развития. Можем ли мы то же самое сказать о бессознательном психо¬
тика? По-видимому, в каком-то смысле можем, хотя мы знаем из клас¬
сических работ, что психотическое расстройство типа шизофрении фор¬
мируется из значительно более ранних, чем анальные, фиксаций [Ргеий
1981с]. И, тем не менее, мы знаем также, что обсессивное начало иг¬
рает в психотическом бредовом поведение огромную роль. Что же это
означает на уровне бессознательного психотика? Есть анальность как
фаза развития, но есть анальность как некое универсальное означаю¬
щее. Ведь младенец с самого рождения имеет дело с какими-то аналь¬
ными проявлениями, и, стало быть, в бессознательном психотика дол¬
жны остаться какие-то анальные энграммы. Анальность как некая бес¬
сознательная тема — тема выталкивания, анальной агрессии и, в то же
время, накапливания, удержания (ср. [Блюм 1996, Перлз 2000]). Все это,
конечно, присутствует в бессознательном психотика, проявляясь фено¬
менологически в бреде как соответствующие обсессивно-компульсив-
ные проявления. Но у бессознательного нет выбора, удерживать или от¬
давать, накапливать или выбрасывать, — оно одновременно выбрасы¬
вает и отдает, накапливает и удерживает. Если мы понаблюдаем за
психически больным, находящимся в состоянии острого бреда, то мы
увидим, что у него не будет специфических обсессивных констелляций.
Он может открыто испражняться, проявлять анальную агрессию, но
может быть и крайне чистоплотным. Амбивалентность обсессивных
проявлений, которые существуют наряду с проявлениями других фаз, —
все это перемешано в бессознательном психотика.
Если мы спросим себя, как может быть проявлена депрессивность
в бессознательном, то ясно будет, что базисной бессознательной струк¬
турой депрессивности будет оральность (см. депрессия). И опять-таки
мы увидим не ту невротическую оральность которую мы можем наблю¬
дать у депрессивного невротика, а синкретическую архаическую ораль¬
ность, которая сосуществует с архаической анальностью. Так, шизоф¬
реник может поедать свой кал — вот феноменологическое проявление
синкретизма анальности и оральности. Почему невротик так никогда
делать не будет? Потому что у невротика, если анальное, то анальное,
а если оральное, то оральное. В бессознательном же психотика они
сосуществует. Поэтому в бредовом поведении поедание кала будет оз¬
начать сверхархаическую констелляцию.
То же самое мы может сказать и об истерических проявлениях в
бессознательном психотика. Психотик может поедать кал, запивать его
27
Вадим Руднев
Словарь безумия
мочой и при этом победоносно демонстрировать свои половые орга¬
ны или зад. Он может одновременно плакать и смеяться, уретральная
квази-истеричность будет присутствовать здесь как часть архаической
констелляции (ср. апология истерии).
И, наконец, сверхценность, которая характеризует паранойяльный
уровень. Для психотика все сверхценно, и все будет точно так же сопря¬
жено в единой архаической картине. И его испражнения, и его мастур¬
бация, и нелепая горделивая поза, и моча, и слезы, и все остальное -
все для него будет иметь важнейшую ценность. Поэтому психотики
одновременно могут делать в штаны, не замечая этого, мочиться и что-
то равнодушно жевать. Но стоит акцентировать внимание на каком-
либо одном из этих компонентов, и он, по закону архаической парти-
ципации [Леви-Брюль 1994\, станет вдруг ни с того ни с сего сверхзна¬
чимым, сверхценным.
Неверно, что бессознательное психотика — это выжженная земля.
Скорее, оно напоминает поле битвы. На этом огромном поле, напоми¬
нающем поле Курукшетра из «Бхагават-Гиты», бьются Оно и Сверх-Я.
За что они бьются? За наследство умершего Собственного Я. При по¬
мощи какого оружия они сражаются? Я подозреваю, что в ход здесь
ищут модальности (см.). Но как же модальности присутствуют в бессоз¬
нательном, если в нем все так синкретизировано и, главное, десемио-
тизировано? Ведь модальности семиотичны. Как же представлены мо¬
дальности в бессознательном психотика?
Возьмем деонтические модальности. Что должно, что запрещено
и что разрешено в бессознательном психотика? Возьмем картину бре¬
да преследования. Здесь запрещено быть в покое и должно быть в по¬
стоянном напряжении, так как повсюду психотика преследуют враги.
Враги — это элементы бреда. Что им соответствует в бессознательном?
Наверное, архаические родители, вернее, их «плохие части». С ними
должно бороться. Они должны быть побеждены. Это шизоидно-пара¬
ноидные остатки младенческих позиций (см. [Кляйн 2001]). Кто это
диктует, что должно бороться против осколков плохих объектов? Арха¬
ическое Супер-Эго! Ведь в бессознательном психотика может быть
только кляйнианское архаическое, доэдипово Супер-Эго. Вот оно и ко¬
мандует. Оно повелевает и запрещает. Что оно запрещает? Оно запре¬
щает расслабляться. А разрешает ли оно что-нибудь? Разрешение
предполагает выбор. Есть ли выбор в бессознательном психотика? У
меня складывается впечатление, что о выборе, применительно к бес¬
сознательному психотика и вообще бессознательному говорить не при¬
ходится. (Если Фрейд справедливо утверждал, что бессознательное ни¬
когда не говорит «нет», то о каком выборе может быть речь?) Выбор
28
Бессознательное психотика
Б
между чем и чем? Только между «должно» и «запрещено», а это не
выбор. Тут уже все расписано, все «схвачено». «Разрешено» — это се¬
миотическая модальность. Выбор - главная презумпция семиотики. В
постсемиотическом хаосе безумия (см. сущность безумия) все расчис¬
лено до последнего порядка. Все враги, всех надо убивать. Все разру¬
шилось. Какие тут могут быть разрешения? На войне ничего не раз¬
решено, есть только «должно» и «нельзя».
Что касается аксиологической шкалы: хорошее (ценное) — плохое
(неценное) и безразличное, - то среднего члена (безразличного) ко¬
нечно, не существует. Только хорошее и плохое. Скорее, здесь только
плохое. Или только хорошее. Только плохое — при бреде преследова¬
ния, и только хорошее - при бреде величия. Нет целостного объекта с
присущими ему как хорошими, так и плохими чертами. Это краски
мирного времени. Здесь же все окрашено в черно-белые цвета. В. Тэхкэ
писал, что шизофренический психоз начинается тогда, когда утрачи¬
вается образ «абсолютно хорошего объекта» [Тэхкэ 2001]. Он имел в
виду явно параноидную стадию шизофрении. На парафренном уровне
все снова хорошее. Но переход от параноидного плохого к парафрен-
ному хорошему совершается без посредства медиации. Враги унич¬
тожаются, но враги — это по сути все люди. Их может уничтожать не
сам психотик, как у Шрёбера, где людей умерщвлял Бог (потому что
шреберовский Бог не умел общаться с живыми).
Что мы видим в плане эпистемических модальностей? Известное —
неизвестное — полагаемое. Конечно, никаких «полагаемых» здесь не
может быть. Либо известно, либо неизвестно. Либо враги, либо даже
не друзья, нет, скорее, отколовшиеся остатки материнских и отцовс¬
ких позитивных интроектов. Они присутствуют в бессознательном
психотика на вторых ролях и едва ли имеют там большое значение.
«Полагать» может только невротическое сознание. Да и пограничные
пациенты всегда знают точно: этот плохой, этот хороший. Пропози¬
циональные установки - удел невротического, то есть, по сути, здо¬
рового сознания.
То, что мы воспринимаем как систему модальностей, в архаичес¬
ком сознании, скорее всего, представляло собой одну супермодаль¬
ность. Эпистемическое, аксиологическое, деонтическое, алетическое
начала сливались в одно: то, что известно, то и хорошо, то и должно,
то и необходимо; то, что неведомо, - то дурно, запретно, невозможно,
и поэтому не существует вовсе. Возникновение сюжета и, стало быть,
невротического сознания, связано с распадом этого модального син¬
кретизма, что становится возможным с появлением абстрактного но-
минативно-аккузативного предложения, где четко противопостав¬
29
Вадим Руднев
Словарь безумия
ляются субъект и объект, знак и денотат, текст и реальность (см. так¬
же [Степанов 1985, Руднев 2000]).
Бред ВелИЧИЯ. (См. также Грандиозное Я.) Наиболее частым забо¬
леванием, при котором встречается бред величия, является шизофре¬
ния, чаще всего ее последняя парафренная стадия. В отличие от про¬
грессивного паралича, при котором этот синдром, как правило, име¬
ет место, при шизофрении бред величия часто может сочетаться с бредом
преследования. Особенностью бреда величия при шизофрении являет¬
ся также и то, что больной отчасти может наблюдать его со стороны
(феномен двойной ориентации, или «двойной бухгалтерии», по выра¬
жению Э. Блейлера [Блейлер 1993]), что, по-видимому, исключено при
прогрессивном параличе, поскольку там бред величия всегда сочета¬
ется со слабоумием. Шизофренический бред величия может быть в до¬
статочной степени систематизирован и нарративно сложен, но чем
ближе к исходу болезни, тем в большей степени бредовое творчество
оскудевает [Рыбальский 1993] и принимает характер однообразных сте¬
реотипных высказываний [Юнг 2000].
Приведем фрагменты обширного описания конкретного случая
шизофренического бреда величия, принадлежащего знаменитому рус¬
скому психиатру XIX в. В. X. Кандинскому.
Больной вдруг стал бредить тем, что он производит государствен¬
ный переворот в Китае, имеющий целью дать этому государству евро¬
пейскую конституцию. Долинин был, конечно, не один; существова¬
ла целая партия, в число членов которой входило много просвещенных
мандаринов из государственных людей Китая и высших начальников
флота и армии. Больной чувствовал себя тем более способным на роль
главного руководителя переворота, что он находился в духовном обще¬
нии с народом и мог непосредственно знать нужды и потребности раз¬
ных классов общества. В народе, двигавшемся по улице перед окнами
квартиры его, Долинин видел представителей разных общественных
фракций; эти депутаты поочередно вступали своими умами в общение
с умом Долинина и таким путем выражали свои политические требо¬
вания <...> Надо отметить, что в это время, кроме дара, так сказать,
всезнания и всеслышания (через таинственное общение с умами мно¬
жества людей), у Долинина был и дар всевидения. Ходя по своим ком¬
натам из утла в угол и почти не видя предметов, находившихся у него
30
Бред величия
Б
под носом (потому что внимание было всецело занято вещами отдален¬
ными и грандиозными), больной внутренне видел все, что в те дни будто
бы творилось в столице Китая [Кандинский 1952: 97—98].
Мы будем называть базовое отождествление, которое лежит в ос¬
нове бреда величия, т.е. построение типа «Я — это X» (Я — Иисус Хрис¬
тос, Я - испанский король, Я - Сократ, Я - вице-король Индии и т. п.),
экстраективной идентификацией. Это понятие, которое мы вводим в
качестве развития введенного термина «экстраекция» (психотический
механизм защиты, суть которого состоит в том, что внутренние пси¬
хологические содержания переживаются субъектом как внешние фи¬
зические явления, якобы воспринимающиеся одним или сразу не¬
сколькими органами чувств - экстенсионально это совпадает с иллю¬
зиями и галлюцинациями (см.) разной природы). Экстраективная
идентификация это такое состояние сознания субъекта, при котором
его Собственное Я переживается как неотъемлемо присущее объектив¬
но не присущему ему имени или дескрипции, такое состояние, когда
субъект субъективно, в бредовом смысле, «превращается в другого че¬
ловека», несопоставимо более высокого по социальному рангу, и пы¬
тается вести себя так, как если бы он был этим человеком.
После отказа от реальности, являющегося необходимым условием
психоза [Ггеий 1981а], сознание субъекта затопляется символическим.
То, что было раньше воображаемым у невротика, становится символи¬
ческим у психотика. Помимо прочего, это означает, что картина мира
психотика становится берклианской, его реальность — это реальность
его субъективных ощущений и языка, на которым он говорит об этих
ощущениях, причем языка особого, лишенного сферы референции к
внешнему миру (Даниэль Шрёбер, автор «Мемуаров нервнобольного»,
называл этот язык «базовым языком» — [Ргеид 1981с]). До тех пора пока
сознание психотика не дошло до полного разрушения, до слабоумия,
Я в его мире еще удерживается, но особенностью этого психотическо¬
го Я является акцентуация, утрирование тех свойств, которые прису¬
ще любому Я как центру высказывания в обычном языке. Что же это
за особенности?
В любом языке, в котором в принципе есть «Я», «Я» — это говоря¬
щий. Говорящий «присваивает» себе то, что он произносит, в опреде¬
ленном смысле он присваивает себе весь язык [Бенвенист 1974:296], но
поскольку для психотика язык и мир совпадают, то тем самым можно
сказать, что психотическое «Я» присваивает себе весь мир. Отсюда ста¬
новится ясным логическое обоснование перехода от интроективной
31
Вадим Руднев
Словарь безумия
невротической идентификации к экстраективной психотической. Если
невротик говорит «Я — Наполеон» («Мы все глядим в Наполеоны»), то
это означает отождествление имен на уровне интенсионала. На экстен¬
сиональном уровне это означает всего лишь «Я похож на Наполеона.
Говорящий «Я - Наполеон» на уровне интроективной идентификации,
отдает себе отчет в том, что на самом деле он — не Наполеон, а Такой-
то с таким-то именем и такой-то биографией. Психотик, говорящий
«Я — Наполеон», подразумевает тождество объектов на уровне экстен-
сионалов (но это для него то же самое, что для невротика тождество
имен на уровне интенсионалов). Особенностью мышления психотика
является то, что для него различие между значением и референцией
(фундаментальное различие в языке, в котором в принципе есть пози¬
ция говорящего [Оите 1951, Хинтикка 1980, Степанов 1985]), между
фрегевским смыслом и денотатом, это различие пропадает. Язык пси¬
хотика - это первопорядковый язык. В нем все высказывания суще¬
ствуют на одном уровне. Психотический язык не признает иерархии и
стало быть, является не логическим, а мифологическим, т.е., строго
говоря, уже не языком, а языком=реальностью. Для мифологического
языка=реальности как раз характерны однопорядковость и отождеств¬
ление имен, понимаемых как имена=объекты. Ср.:
Мифологическое описание принципиально монолигвистично —
предметы этого мира описываются через такой же мир, по¬
строенный таким же образом. Между тем немифологическое
описание определенно полилингвистично - ссылка на метаязык
важна именно как ссылка на и н о й язык <...>. Соответственно и
понимание в одном случае [немифологическом. - В. Р.] так или
иначе связано спереводом (в широком смысле этого слова),
а в другом же [мифологическом. — В. Р.] — с узнаванием,
отождествлением [Лотман-Успенский 1992: 3<?].
Однопорядковость языка при экстраективной идентификации ска¬
зывается, в частности, в том, что в речи мегаломана, по-видимому, ис¬
ключены пропозициональные установки. Во всяком случае, трудно
представить в такой речи высказывания типа Я полагаю, что я Напо¬
леон - или Мне кажется, что я Наполеон — или даже Я убежден, что я
Наполеон.
Можно предположить, что клинический мегаломан («прогрессив¬
ный паралитик» или парафреник) теряет способность логически реп¬
резентировать свою субъективную позицию как говорящего, так как
в последнем случае ему пришлось бы разграничивать значение и ре-
32
Бред величия
Б
ференцию, т.е. тот факт, что он о чем-то говорит, и содержание того,
о чем он говорит, — с референцией к внешнему миру, поскольку имен¬
но это различие между внешним миром (областью экстенсионалов) и
говорением о внешнем мире (областью интенсионалов) в данном слу¬
чае и утрачивается. Истинность того, что говорится в мегаломаничес-
ком высказывании, не подлежит верификации и гарантируется самим
фактом говорения. Поэтому языковые возможности классического
психотерапевтического воздействия на такое сознание также утрачи¬
ваются, поскольку психотерапия, даже поддерживающая психотера¬
пия пограничных пациентов психотиков (см. [Кернеберг 1998]), состо¬
ит в обмене мнениями (т.е. пропозициональными установками), во
всяком случае, в попытке такого обмена. Единственная возможность
психотерапевтического воздействия на такого пациента это принятие
однопорядковой мифологичности его языка. В этом смысле показате¬
лен пример пограничных пациентов американского психолога Дона
Джексона, который в разговоре с пациентом, считавшим себя богом
и вообще отказывавшимся от коммуникации, добился успеха (некото¬
рой заинтересованности со стороны пациента), когда не только при¬
знал, что он бог, но передал ему больничный ключ как знак его боже¬
ственных полномочий [Вацлавик—Бивин—Джексон 2000: 282—283].
Если то же самое переложить на язык семантики возможных ми¬
ров, то можно сказать, что говорящий является прагматической рефе¬
ренциальной точкой отсчета, служащей пересечением возможных ми¬
ров [Золян 1991]. Другими словами, когда говорящий отождествляет
себя с другим объектом (в данном случае неважно, интроективно или
экстраективно, интенсионально или экстенсионально), он присваива¬
ет себе вместе с именем (и телом) весь возможный мир этого объек¬
та - его биографию, его родственников, его книги и подвиги. (Как
остроумно заметил Борхес, каждый повторяющий строчку Шекспира,
тем самым превращается в Шекспира.)
Это особое положение Я на пересечении возможных миров весьма
ясно выразил Г. Р. Державин в оде «Бог»:
Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю
Я царь — я раб — я червь — я Бог!
33
2-11117
Вадим Руднев
Словарь безумия
Но почему паралитик и парафреник отождествляют себя именно
с великими людьми, в чем смысл и этиология этого величия, которое
носит опять-таки сугубо символический характер, так как пациент,
чем большее величие он выказывает, тем в более плачевном состоянии
он объективно находится?
Отчасти ответить на этот вопрос может помочь рассмотрение ди¬
намики хронического шизофренического бреда.
Принято различать три стадии такого бреда: паранойяльную, па¬
раноидную и парафренную [Рыбальский 1993].
Для паранойяльной стадии характерен бред отношения, суть кото¬
рого состоит в том, что больному кажется, что вся окружающая дей¬
ствительность имеет непосредственное отношение к нему. Вот пример
из «Общей психопатологии» Карла Ясперса:
Больной заметил в кафе официанта, который быстро, вприпрыж¬
ку пробежал мимо; это внушило больному ужас. Он заметил, что
один из его знакомых, ведет себя как-то странно, и ему стало не по
себе; все на улице переменилось, возникло чувство, что вот-вот что-
то произойдет. Прохожий пристально на него взглянул: возможно,
это сыщик. Появилась собака, которую словно загипнотизировали;
какая-то механическая собака, изготовленная из резины. Повсю¬
ду так много людей; против больного явно что-то замышляется. Все
щелкают зонтиками, словно в них спрятан какой-то аппарат [Яс¬
перс 1994:136].
Главными защитными механизмами при бреде отношения являет¬
ся проекция и проективная идентификация.
На параноидной стадии бред отношения перерастает в бред пресле¬
дования. Психологическая мотивировка этого перехода достаточно
прозрачна. «Если все обращают на меня внимание, следят за мной, го¬
ворят обо мне, значит, им что-то от меня нужно, значит, меня хотят в
чем-то уличить, возможно, убить и т. д.». На стадии бреда преследо¬
вания нарастает аутизация мышления, но внешний мир еще каким-то
образом существует, однако это настолько враждебный, страшный,
преследующий мир, что лучше бы его вовсе не было. На стадии пре¬
следования главными защитными механизмами является экстраекция
(бредово-галлюцинаторный комплекс) и проективная идентификация
(например, отождествление психиатра с преследователем).
Чем мотивируется переход от идеи преследования к идее величия?
Больной как будто задает себе вопрос: «За что меня преследуют?» На
этот вопрос можно ответить по-разному. Если в больном сильно деп¬
34
Бред величия
Б
рессивное начало, то он может подумать, что его преследуют за те (ре¬
альные или воображаемые) грехи, которые он совершил, и чувство
вины, которое гипертрофируется при депрессии, приведет его к выво¬
ду, что его преследуют за дело. Тогда бред преследования перерастает
или совмещается с бредом греховности, вины и ущерба [Блейлер 1993].
Но может быть и другая логика, противоположная. Она будет разви¬
ваться у больного с гипоманиакальными или нарциссическими уста¬
новками. Он будет рассуждать так. «Меня преследуют потому, что я так
значителен, так велик, меня преследуют, как всегда преследуют гени¬
ев, великих людей, как фарисеи преследовали Иисуса Христа, как пре¬
следовали политические враги Цезаря или Наполеона, как бездарные
критики преследуют великого писателя. Значит, я и есть великий че¬
ловек — Иисус, Наполеон, Достоевский». И в тот момент, когда эта
идея заполняет сознание, бред преследования сменяется бредом вели¬
чия (параноидная стадия сменяется парафренной). Ничего, что за это
надо расплатится полной утратой хоть каких-то проблесков представ¬
лений о реальном мире. Не жалко такого мира, раз он так враждебен
и так ничтожен по сравнению со «Мной». Таким образом, главным ме¬
ханизмом защиты на парафренной стадии является экстраективная
идентификация (при том, что важность экстраекции — бредово-галлю¬
цинаторного комплекса — сохраняется).
В романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» есть глава, в
которой бухгалтер Берлага, чтобы избежать неприятностей на работе,
симулирует бред величия. Объявив себя вице-королем Индии (что, ко¬
нечно, является реминисценцией к «Запискам сумасшедшего» Гоголя),
он попадет в сумасшедший дом. На первый взгляд, кажется, что этот
эпизод не имеет никакого отношения к общему движению смысловых
линий романа. Однако, реконструируя его мотивную разработку, мож¬
но видеть, что мотив величия пронизывает оба романа. Остап Бендер,
хрестоматийный литературный пример гипоманиакального характера,
чрезвычайно склонен к квазиэкстраективным симулятивным иденти¬
фикациям. Он — сын лейтенанта Шмидта (ср. бред знатного проис¬
хождения, один из вариантов бреда величия), великий комбинатор,
гроссмейстер, миллионер, граф Монте-Кристо, дирижер симфоничес¬
кого оркестра, кавалер ордена Золотого руна, он готов объявить рели¬
гиозную войну Дании, наделяет себя нЬлепым сочетанием имен (Ос¬
тап Сулейман Берта-Мария Бенбер-бей); Воробьянинова он называ¬
ет гигантом мысли и отцом русской демократии, Шуру Балаганова -
Спинозой и Жан-Жаком Руссо. В той или иной степени идеи величия
также характерны для Воробьянинова, Паниковского, Лоханкина
(«продолжительные думы сводились к приятной и близкой теме “Ва-
2*
35
Вадим Руднев
Словарь безумия
сисуалий Лоханкин и его значение”, “Лоханкин и трагедия русского
либерализма”, “Лоханкин и его роль в русской революции”»).
Своеобразным аналогом вышеописанного является жизненный
проект художника Сальвадора Дали, для которого были характерны
гипоманиакальные идеи величия - «постоянное, неистощимо разно¬
образное, но всегда приподнятое и патетичное самовозвеличивание,
в котором есть нечто намеренно и гипертрофированное» [Якимович
1991: б]: Дали — самый лучший художник всех времен и народов, «сын
Вильгельма Телля», он — рыба (символ Христа); фильмы, сделанные
в соавторстве с Бунюелем, так гениальны только благодаря тому, что
в них участвовал он [Дали 1991:126]; каждое из его полотен одно бо¬
жественнее другого (с. 166), благодаря ему выиграна вторая мировая
война (165), публика просто в восторге от него, каждое его публич¬
ное выступление — триумф (156), его возможности извлекать из все¬
го пользу поистине не знают границ (143) и т. д.
В своем «Дневнике одного гения» «с каким-то восторженным
бесстыдством автор уподобляет свою собственную семью не более и
не менее, как Святому Семейству. Его обожаемая супруга <...> играет
роль Богоматери, а сам художник - роль Христа Спасителя. Имя
“Сальвадор”, т.е. “Спаситель”, приходится как нельзя более кстати
в этой кощунственной мистерии» [Якимович 1991: 7\.
Истина на самом деле «где-то» рядом, посредине. Чтобы пояс¬
нить, что мы имеем в виду, приведем в качестве примера роман На¬
бокова «Бледный огонь». Там его герой-рассказчик Чарльз Кинбот
комментирует поэму своего умершего друга поэта Шейда. Из этого
комментария, не имеющего, в общем, никакого отношения к содер¬
жанию поэмы, постепенно выясняется, что комментатор вовсе не
обыкновенный американский профессор, каким он предстает в на¬
чале повествования, а король в изгнании. Кинбот вычитывает из по¬
эмы, якобы посвященный ему (королю), подробности своей биогра¬
фии в его бытность королем страны Зембли. Набоков оставляет за чи¬
тателем выбор, как ему относиться к комментарию Кинбота. Первый
вариант - клинический: Кинбот - сумасшедший, страдающий бре¬
дом величия. Второй вариант - экзистенциальный: Кинбот действи¬
тельно король в изгнании. Истина, в данном случае «художественная
истина», по-видимому, состоит в том, что оба подхода слишком узки.
На самом деле мы не знаем, кто сумасшедший, а кто нормальный, мы
можем только каким-то образом выделить факты и попытаться их
систематизировать.
36
Бред и речевой акт
Б
Бред И речевой акт (См. также безумие и язык, бред и язык.) Яв¬
ляется ли бред, коль скоро он есть некая разновидность жизни, тем
самым и «формой жизни», т.е. «языковой игрой» в том значении, ко¬
торые придал этим терминам Витгенштейн в «Философских исследо¬
ваниях» [ШЩетШп 1967\1 Что характеризует языковую игру или со¬
вокупность языковых игр как форм жизни? Прежде всего, наличие
языка (не индивидуального, или внутреннего) и некоторых правил, по
которым можно отличить одну языковую игру от другой? Аналогич¬
ным является вопрос о том, является ли бредовое высказывание рече¬
вым актом в том смысле, который придают этому термину Дж. Остин
и его последователи [Остин 1999]? Что касается соотношения индиви¬
дуального и социального в языковом статусе бреда, то вопрос здесь ре¬
шается аналогично вопросу о сновидениях (см.), который в традиции
аналитической философии решается следующим образом. Сновиде¬
ния сами по себе не являются языковой игрой, поскольку не облада¬
ют семиотическим статусом, но рассказы о сновидениях являются
языковой игрой и, соответственно, речевыми действиями [Малкольм
1993]. Применительно к бреду вопрос этот несколько видоизменяется,
так как бредовое восприятие часто бывает одновременным по отноше¬
нию к бредовому выказыванию, т.е. человек может свидетельствовать
о своем бреде непосредственно в момент нахождения в бреде и «про¬
изводства» бреда, в то время как применительно к сновидениям это не¬
возможно. То есть человек не может сказать: «В данный момент мне
снится то-то и то-то», в то время как бредящий вполне может сказать:
«В данный момент я вижу то-то и то-то и чувствую то-то и то-то» (гал¬
люцинаторные голоса; каких-то людей, замышляющих недоброе; ка¬
кую-то силу, отнимающую или навязывающую ему мысли). Бредящий
может высказать свою убежденность в том, например, что в данный
момент он чувствует, что все вокруг обращают на него внимание или
что он убежден в том, что жена изменяет ему с ротой солдат (см. бе¬
зумная семиотерапия, паранойя). То есть течение бреда может быть од¬
новременным свидетельству об этом течении.
Но существуют ли правила бредовых языковых игр? Это вопрос
непростой. Напрашивается отрицательный ответ, в соответствии с ко¬
торым в бреде (как и в сновидениях) возможно все, что угодно, поэто¬
му ни о каких правилах не может быть и речи. Но это не совсем так.
Первое и главное правило бредовой языковой игры заключается в том,
что бредящий в своих высказываниях должен находиться фундамен¬
тально за пределами бытовой реальности. При этом ясно, что в речи
больного бредовые высказывании могут сочетаться с не бредовыми.
Так, условно говоря, больной может сначала сказать: «Я — Наполеон»,
37
Вадим Руднев
Словарь безумия
а потом: «Пойду поставлю чайник» — и после этого действительно пой¬
ти и поставить чайник. И ясно, что второе высказывание не будет
иметь отношения к тому, что он считает себя Наполеоном. Итак, бре¬
довое высказывание — это такое высказывание, которое говорит не о
реальном мире, а о вымышленном бредовом мире (это, опять-таки,
«идеальный» случай, например, случай параноидной шизофрении).
Есть ли какие-либо еще правила бредовых языковых игр? Ну, напри¬
мер, если человек страдает преимущественно бредом преследования, его
высказывания будут касаться преследования. Если же он начнет выска¬
зываться в том духе, что он является самым исключительным челове¬
ком на свете, то это может означать переход к бреду величия (соответ¬
ственно, к другой языковой игре), но это высказывание может быть и
включенным в бред преследования с идеями величия. А могут ли иметь
место более жесткие ограничения? Могут. Так, бредовый ревнивец
практически никогда не будет высказываться в духе бреда величия,
хотя может высказываться в духе бреда преследования (теоретически
можно предположить, что ревнивца, по его мнению, станут преследо¬
вать любовники его жены; невозможность же высказываний в духе
бреда величия при бреде ревности будет обусловлена его депрессивной
окраской, в то время как для бреда величия необходима экспансивная,
гипоманиакальная окраска).
Итак, бредовые языковые игры и бредовые речевые акты, похоже,
существуют. И их разграничение соответствует разграничениям тема¬
тических аспектов бреда. Если у человека ипохондрический бред, он
будет говорить о своих недугах (а не о преследовании), если это рев¬
нивец, он будет устраивать слежки, допросы, обыски и т. д. (все это эк¬
сплицитные языковые игры). Человек, страдающий бредом Котара,
будет говорить об уничтожении своих внутренностей или всего мира.
Человек, страдающий бредом обнищания, будет говорить об обнища¬
нии (а не о богатстве, и уюе уегза). Здесь как будто все более или ме¬
нее ясно. Но имеется ли какая-то особенность у бредовых языковых
игр, или они фундаментально совпадают с обыденными жизненными
языковыми играми?
Первое и главное отличие заключается в том, что бредовые рече¬
вые акты, как правило, неуспешны. Если человек говорит «Я буду уби¬
вать детей по одному в день», то в подавляющем большинстве случа¬
ев ясно, что он этого делать не будет, т.е. его речевой акт будет не ус¬
пешен. Если человек говорит, что он — Матерь Божья, то его речевой
акт по определению не успешен. Если человек утверждает, что его пре¬
следуют инопланетяне, ФСБ и масоны, которые передают по элект¬
рическим каналам прямо ему в мозг угрожающую информацию, то
38
Бред и речевой акт
Б
этот речевой акт тоже не будет успешным в том смысле, что мы не
поверим этому человеку. В каком-то плане это будет напоминать рече¬
вой акт неуспешного вранья, когда нормальный человек, увлекшись
рассказом, начинает «перебирать в своем вранье через край», откро¬
венно «гонит пургу», или, как говорили в XIX веке, «льет пули».
Однако бредовое высказывание наряду с неуспешностью может
быть и гиперуспешным. Например, в случае безумного маньяка, кото¬
рый заявляет, что будет убивать по одному ребенку в день, существует
вероятность, что он выполнит свою угрозу, и его речевой акт мы тог¬
да вынуждены будем признать гиперуспешным. Диалектика неуспеш¬
ное™ и гиперуспешности речевых актов играет большую роль в бре¬
довом мире произведений Кафки (см.). Наиболее хрестоматийный
пример можно видеть в рассказе «Приговор», когда немощный старик-
отец говорит сыну: «Я приговариваю тебя к смертной казни водой» —
и сын, ни слова не говоря, бежит и топится в реке.
Но если все обстоит так, если бред образует обычные или почти
обычные, во всяком случае, эксплицитные языковые игры и речевые
акты, то что же позволяет нам говорить о том, что бред, безумие, на¬
ходится за пределами обыденной жизненной семиотики (ср. сущность
безумия)? Здесь следует вновь подчеркнуть различие высказываний о
бреде от самого бреда. Говоря о речевых актах и языковых играх, мы
говорили о бредовых высказываниях. Но и здесь не все так просто, как
этот может показать первоначальный анализ. В чем, например, отли¬
чие таких речевых актов, как —
(1) Меня преследуют инопланетяне, ФСБ и масоны, которые мне
вкладывают в мозг мысли и передают информацию, слышимыми
только мной голосами
и
(2) Пойду поставлю чайник, —
даже если предположить, что человек, произнесший фразу (2), не вы¬
полнил своего намерения и не поставил чайник, а скажем, увлекся
разговором по зазвонившему в этот момент телефону? В чем отличия
высказываний:
(3) Этот человек в черном хочет меня убить (как бредового па¬
ранойяльного высказывания)
и
(4) Этот человек в черном хочет меня убить (как небредового
высказывания человека, которого действительно преследуют и
хотят убить)?
39
Вадим Руднев
Словарь безумия
Будем также различать паранойяльные речевые акты и параноидные
речевые акты (ср. паранойя). Первые формально могут ничем не отли¬
чаться от обыденных речевых актов, как мы это видим в примерах (3)
и (4). В паранойяльных речевых актах денотат формально присутствует
(субъект действительно видит человека в черном, и мы можем это под¬
твердить, так как тоже видим его). Вторые уже чисто формально от¬
личаются от бытовых речевых актов, поскольку при параноидных со¬
стояниях больной апеллирует к несуществующим в реальности экст-
раективно-галлюцинаторным псевдоденотатам (см. галлюцинации),
как в примере (1) и в примере (3), если его понять не паранойяльно, а
параноидно, т.е. если человек в черном - это галлюцинация.
Отличие параноидных высказываний от обыденных очевидно.
Здесь разграничение идет по наличию или отсутствию реальных дено¬
татов. Отличие паранойяльных высказываний от обыденных гораздо
менее очевидно, так как в обоих случаях речь идет о реально существу¬
ющих денотатах. Итак, чем же отличаются друг от друга фразы (3) и
(4)? Как мы отличим, действительно ли субъекта преследует человек
в черном или у субъекта паранойяльный бред, а человек в черном про¬
сто идет мимо по своим делам? В этом случае семантических отличий
не существует и возможны только прагматические. Мы можем проана¬
лизировать ситуацию и решить, какова степень вероятности того, что
этого человека действительно преследуют, и какова вероятность того,
что он психически болен. В более сложном случае нам придется иметь
дело и с тем и с другим, т.е. человек может быть психически больным
параноиком, и, в то же время, его могут реально преследовать и хотеть
убить, и именно благодаря этим реальным преследованиям он и зара¬
ботал паранойю. (Точно так же как наличие бреда ревности совершен¬
но не гарантирует от того, что жена действительно не изменяет.)
И все же семантические различия, хотя и достаточно тонкие, объек¬
тивно существуют между паранойяльным и не паранойяльным выс¬
казываниями. Здесь надо различать денотативную семантику и смыс¬
ловую семантику. С точки зрения денотативной семантики эти фразы
действительно на чисто семантическом уровне (не привлекая прагма¬
тики) невозможно разграничить. С точки зрения смысловой семанти¬
ки их разграничение возможно. В паранойяльном случае фраза «Этот
человек в черном хочет меня убить» является семантически сверхцен¬
ной, т.е. она категориально содержит в себе ложную посылку. В слу¬
чае не-паранойяльной фразы, означающей реальное преследование,
фраза не содержит, вернее, может не содержать сверхценной ложной
посылки. Наличие этой сверхценной посылки может быть дезавуиро¬
вано путем логического анализа, например, мы можем спросить у
40
Бред и язык
Б
субъекта, допускает ли он возможность, что его убежденность в том,
что человек в черном его преследует, может быть поколебленной, что
он в данном случае ошибается. Обычно параноик, которого на самом
деле никто не преследует, ни за что не признает возможности того, что
он может ошибаться, - в этом и будет состоять категориальная лож¬
ная сверхценная посылка. И напротив, человек, которого действитель¬
но преследуют, в принципе может, если он еще держит себя в руках и
психически вменяем, допустить, что он ошибается, и хотя его действи¬
тельно преследуют, в данном случае он может ошибаться, и человек в
черном просто идет по своим делам. «В моем положении, - скажет
нормальный субъект, которого действительно преследуют, - естествен¬
но, что мне повсюду, в каждом человеке, мерещится убийца, но, ко¬
нечно, в каждом конкретном случае я могу ошибаться». Здесь важно
словоупотребление «конкретный случай». Для параноика «конкретных
случаев» в определенном смысле не существует, поскольку для него
каждый случай является репрезентантом одного-единственного Слу¬
чая - будь то преследование, измена или отношение, - и каждое со¬
бытие является для него репрезентантом большого прагмасемантичес-
кого События. Если человек в черном пройдет мимо, это может слу¬
жить для нормального субъекта косвенным доказательством того, что
он ошибся. Для параноика это не будет доказательством — он станет
уверять, что убийцу просто спугнули и что тот будет вновь поджидать
его за ближайшим поворотом.
БрвД И ЯЗЫК. Как показал, в частности, Т. Кроу [Стой 1997\ (см. так¬
же язык и безумие), шизофрения - это болезнь языка, порча языка, зло¬
употребление языком. Что все-таки первично: аффект (эмоция) или
язык? Об этом раздумывали еще философы и ученые конца XIX века.
В частности, был спор между Дарвином и Уильямом Джеймсом. Дар¬
вин считал, что эмоция первична, а язык вторичен. Уильям Джеймс
был убежден, что язык (там шла речь о языке тела, о жестах и мимике,
но это все равно невербальная семиотика) первичен, а эмоция, аффект
является реакцией на языковой раздражитель. В отличие от Дарвина
Джеймс исходил из диалогической модели языка. По Дарвину ситуа¬
ция такая: «Я испытываю боль и потом уже кричу “Ай, как больно!”
Или вижу что-то приятное, и у меня появляется счастливый смех или
слова «Ах, как хорошо!». Джеймс считал, что ситуацию надо рассмат¬
ривать более широко. Сначала я испытываю какой-то семиотический
г„ российская
Г ° СЛДА РСТБЕННАЯ
библиотека
2004
41
Вадим Руднев
Словарь безумия
стимул, потом появляется эмоциональная реакция. (Подробнее о по¬
лемике Дарвина и Джеймса см. в книге [Крейдлин 2002]).
Мне говорят: «Ты больше ни на что не способен». Мне делается
душевно больно. Что здесь первично? Здесь первичен языковой сти¬
мул, слова, о том, что «я — плохой». Я реагирую депрессией на слова.
Но это могут быть и не слова. Это может быть не вербальный, но все
равно семиотический стимул. Я увидел раздавленную кошку, и мне
сделалось тоскливо. «Раздавленная кошка» - языковой стимул. Мне
сама реальность (см.) сказала: «Ты видишь раздавленную кошку». Или
просто светит солнышко, и я улыбаюсь. Я получаю сообщение от ре¬
альности: «Какая хорошая погода» - в ответ изменяется моя эмоция.
Это соответствует гипотезе лингвистической относительности Э.Сэпи-
ра—БЛ.Уорфа: не реальность строит язык, но язык строит реальность
[Уорф 1962]. Язык первичен. Но он первичен в прагматическом смыс¬
ле. В онтологическом смысле между языком и реальностью, между ре¬
чью и эмоцией существует «принципиальная координация» (выраже¬
ние Эрнста Маха).
Бред это прежде всего измененный, трансгрессивный, диссоции¬
рованный язык. Говорить, что измененный язык бреда вторичен по
сравнению с эмоциональными и интеллектуальными причинами воз¬
никновения бреда, это все равно, что говорить, что при нормальном
творчестве, например, в литературе, первичны образы, а слова и пред¬
ложения вторичны. Эта точка зрения была, как кажется, навсегда в
серьезной науке отброшена формалистами (прежде всего, в «Теории
прозы» Шкловского [Шкловский 1925]. Только отсталая и идеологичес¬
ки ангажированная Советская наука продолжала утверждать, что в ли¬
тературе важнее и фундаментальнее образы. Так и советская психиат¬
рия утверждала примерно то же самое применительно к психозу, что
вульгарное социологическое литературоведение — применительно к
литературе.
Но сам факт изменений в языке при бреде, слава Богу, признает¬
ся не только Лаканом (см. например [Лакан 1997]), но и советской
школой. Так, автор монографии «Бред», вышедшей, впрочем, уже пос¬
ле перестройки, в 1993 году, М. И. Рыбальский пишет, что «к объек¬
тивным признакам бреда можно отнести», в частности:
подозрение в особом смысле и значении каждого вопроса, реплик,
высказывания врача, выдерживание длительной паузы между воп¬
росом врача и своим ответом, нередко отказ от ответа на вопросы
(даже элементарные, например, о возрасте; разные, а иногда про¬
тиворечивые по содержанию ответы на один и тот же вопрос;
42
Бред и язык
Б
особенности мышления и речи (витиеватость высказываний),
склонность к паралогическим повторениям, употребление неоло¬
гизмов — использование известных слов в ином, необычном
смысле, соединение нескольких слов в одно, применение несу¬
ществующих слов и словосочетаний, а также символических вы¬
ражений;
особенности письма и рисунков - измененный вычурный по¬
черк, нелепое расположение письма - писание столбцами, в раз¬
ных направлениях, разными чернилами, цветными карандашами;
бредовое шифрованное содержание писем; непонятные рисунки,
иногда бредовые пояснения к ним, гротесковые, абсурдные выс¬
казывания [Рыбальский 1993: 140\.
Можно сказать, что при бреде речь первична, но первична речь не
самого пациента, а речь Другого. Это соотносится и с концепцией
Уильяма Джеймса, и с лингвистическим структурным психоанализом
Лакана. Речь Другого порождает бред Я. В этом смысле речь Другого
первична, аффект пациента вторичен по отношению к речи Другого,
а речь самого пациента вторична по отношению к его аффекту.
Когда мы сомневаемся в том, что психическая болезнь (прежде
всего, шизофрения) — это болезнь языка, т.е. не только выражающа¬
яся в порче и злоупотреблением языком, но произошедшая в резуль¬
тате злоупотреблении языком по отношению к субъекту, будущему
шизофренику, со стороны шизофеногенного окружения, так вот ког¬
да мы сомневаемся в этом, мы представляем себе язык по-структу-
ралистски, как некую аутистическую систему иерархически упорядо¬
ченных уровней — язык по Ф. де Соссюру и Л. Ельмслеву. Но если
представить себе язык так, как представляли его себе поздний Вит¬
генштейн и аналитические философы, представители теории речевых
актов, Дж. Остин, Дж. Серль и их последователи, как представляет
его себе язык автор позднейшей коммуникативной концепции «язы¬
кового существования» Борис Гаспаров, то нам многое станет яснее
и многие сомнения отпадут. Если язык - это не абстрактная систе¬
ма уровней, а нечто живое, система «коммуникативных фрагментов»
[Гаспаров 1996], то становится понятным, как язык может вызывать
психическое заболевание. Когда Грегори Бейтсон формировал свою
концепцию двойного послания [Бейтсон 2000], лингвистика была
уже постструктуралистской, уже были сформулированы идеи поздне¬
го Витгенштейна и Остина, главная книга которого называется «Как
производить действия при помощи слов?» [Остин 1999]. Здесь в од¬
ном уже названии явственно содержится посылка, соответствующая
43
Вадим Руднев
Словарь безумия
лингвистическому релятивизму, гипотезе лингвистической относи¬
тельности. Язык формирует реальность, а не наоборот.
От того, как говорят с младенцем, говорят в самом широком
смысле (кормление и пеленание - это тоже «разговор», как правило,
сопровождающийся словами, которые, как считается, младенец еще
не понимает), так вот от того, как с младенцем говорят, зависит, ка¬
ким он будет в психическом смысле. В первый год жизни ему могут
«наговорить» шизофрению, во втором полугодии первого года — на
«депрессивной позиции» (по Мелани Кляйн) - маниакально-депрес¬
сивный психоз [Кляйн 2001]. Потом, если он проходит эти стадии, он
все больше крепнет, и психоз грозит ему все меньше. Но когда его на¬
чинают слишком рьяно приучать к туалету (тоже, между прочим, при
помощи языка), он может заболеть обсессивно-компульсивным не¬
врозом. А если его ругают на более поздней стадии за то, что он мо¬
чится в постель, это может впоследствии привести к истерии (см. апо¬
логия истерии). Как ни крути, а любое психическое заболевание — не¬
вроз или психоз — зависит от того, как с ребенком общаются в
первые годы его жизни.
Удовлетворяет ли такой панлингвистический, или пансемиотичес¬
кий взгляд здравому смыслу? Что же такое бред с точки зрения здра¬
вого смысла? Это некоторое расстройство интеллекта, т.е. сознания,
в результате которого появляются ложные представления, нелепые с
точки зрения здравого смысла, но для больного обладающие непоко¬
лебимой степенью достоверности (в общем случае). Вследствие этого
расстройства сознания, в целом до сих пор непонятного по своей при¬
роде, появляются искажения в речевой деятельности, деформация
речи вплоть до полного ее перерождения в бредовый «язык», совер¬
шенно недоступный для понимания. Вот примерно так рисует карти¬
ну бреда обыденный здравый смысл. Бред — расстройство сознания,
а изменения языка суть следствия расстройства сознания. Но что же
такое сознание? Из чего оно состоит? Это память, интеллектуальные
способности, т.е. способности отличать действительное от вымышлен¬
ного, плохое от хорошего, полезное от вредного, правое от левого,
большое от малого, высокое от низкого, свое от чужого; ориентация в
пространстве и во времени, понимание того, что может быть, и того,
что невозможно, и т.д. (ср. модальности). Это способность к некоторым
мыслительным действиям — чтению, письму, счету. К высказыванию
суждений и выведению умозаключений из этих суждений. Теперь
спросим себя, возможно ли все это вне языка, помимо языка? Что та¬
кое память, как не существующие в сознании слова и предложения,
блоки предложений о прошлом. Что такое способность отличать дей¬
44
Бред и язык
Б
ствительное от вымышленного? Можно ли отличить действительное
от вымышленного, не обладая языком?
Допустим, перед человеком стоит чашка, а рядом на картине на¬
рисована такая же чашка. Что позволяет ему отличить подлинную
чашку от нарисованной? Как мы вообще представляем себе этот про¬
цесс отличия подлинного от вымышленного? Допустим, ребенок или
какой-то недоразвитый субъект отличается плохой или еще не сфор¬
мировавшейся способностью отличать подлинное от мнимого. Как мы
будем обучать его этой способности? Мы поставим перед ним чашку
и рисунок или цветную фотографию, изображающую чашку, и скажем
ему: «Вот, смотри, какая из этих двух чашей настоящая, а какая нена¬
стоящая?» Что должен будет сделать субъект? Он должен будет отве¬
тить на вопрос, сказать, что вот эта чашка настоящая, а эта нарисо¬
ванная. Это будет ответ нормального человека. Но для того чтобы эта
ситуация была возможна, необходимы речевые действия.
А что может ответить на вопрос об отличии настоящей чашки от
нарисованной или сфотографированной психически больной человек?
Он может сказать: «Обе чашки настоящие» или «Это не чашки, это
рука Всевышнего отечество спасла». Или он может сказать: «Нет, я не
чашка, я нарисован на другой картинке». В любом случае и нормаль¬
ный ответ, и ответ психически больного будет подразумевать какие-то
речевые действия. Но в первом случае это будет правильное с точки
зрения здравого смысла использование языка, а во втором случае это
будет испорченное употребление языка. Так никто не говорит в нор¬
мальной жизни (см.), что обе чашки, и фарфоровая, и нарисованная, —
настоящие.
Но можно возразить, что ведь дело не в том, что он говорит, а в том,
что за этим стоит искаженное мышление, невозможность определить,
чтб настоящее, а что мнимое. Ну, и в чем состоит эта способность? Она
кроется в сфере значений. Чашка, нарисованная или сфотографиро¬
ванная на бумаге, и чашка, сделанная из фарфора, это вещи. Вещи су¬
ществуют помимо языка. Значения, денотаты — отдельно, а то, что их
обозначает, знаки, — отдельно. Но здесь мы опять приходим к путани¬
це. Вещи, конечно, существуют. Но они существуют только потому, что
мы можем сказать, что они существуют. И чашка, и фарфор, и фото¬
графия, и бумага, и «вещи», и «существует» - все это слова.
Могут ли существовать вещи помимо слов? Как же это можно себе
представить, что существует чашка, но не существует слова «чашка» и
не существует слова «существует»? Я не представляю, как бы это было
возможно. Мы просто зачарованы мнимой автономностью вещей, ко¬
торые мы сами сделали и которым сами дали названия.
45
Вадим Руднев
Словарь безумия
Это все равно, что проблема реализма в искусстве. Как отличают
реализм в литературе от не-реализма (экспрессионизма, сюрреализма
и т. д.)? Реализм, говорят, изображает вещи и факты так, как они суще¬
ствуют в действительности.
«Он вошел в комнату» — это реализм, а «Он влетел в комнату на
крыльях, подобно ангелу» — это фантастика. Но ведь в обоих случаях
говорится о вещах, которые не происходили в действительности, если
мы говорим о художественной литературе. Тогда возразят, что первая
фраза изображает положение вещей, которое в принципе возможно в
реальности, а вторая фраза - положение вещей, которое невозможно
в действительности с точки зрения здравого смысла. То есть, в сущно¬
сти, вторая фраза есть не что иное, как бред. Но разве бреда не суще¬
ствует в действительности? Разве мы не знаем психически больных,
которые видят влетающих в комнату ангелов? Да, они нам рассказы¬
вают об этом. Так, стало быть, вторая фраза тоже отражает некоторый
опыт, но только различие между первой и второй фразой заключается
в том, что, если первая фраза отражает опыт обыденного, нормально¬
го использования языка, то вторая фраза отражает опыт неправильно¬
го, измененного использования языка. И то и другое — реализм.
Бред преследования - является самым распространенным и
универсальным видом бреда и, соответственно, идея преследования —
самой частой в большой психиатрии. То есть безумный в наиболее
стандартном обыденном представлении — это человек, страдающий
именно бредом преследования, некто, трясущийся от непонятного
страха, забивающийся в угол от ужаса. Приводим классическое опи¬
сание бреда преследования из знаменитого руководства Э. Блейлера:
Больные чувствуют, что и предметы, и люди, окружающие их, ста¬
ли какие-то неприветливые («стены в моем собственном доме хо¬
тели меня сожрать»). Затем они вдруг делают открытие, что опре¬
деленные люди, делают им или другим людям знаки, касающиеся
больных. Кто-то покашлял, чтобы дать знать, что идет онанист,
убийца девушек; статьи в газетах более чем ясно указывают на
больного; в конторе с ним плохо обращаются, его хотят прогнать,
ему дают самую трудную работу, за его спиной над ним издевают¬
ся. В конце концов, всплывают целые организации, созданные ай
Бос, «черные евреи», франкмасоны, иезуиты, социал-демократы;
они повсюду ходят за больным, делают ему жизнь невозможной,
46
Бред преследования
Б
мучают его голосами, влияют на его организм, терзают галлюци¬
нациями, отнятием мыслей, наплывом мыслей [Блейлер 1993: 77].
Мы можем сказать, что универсальность идей преследования обус¬
ловлена тем, что вообще всякая душевная болезнь, всякая паранойя,
всякая шизофрения универсальны, что человек тем и отличается от не-
человека, что обладает возможностью время от времени сходить с ума
(по формулировке Ю. М. Лотмана [Лотман 1996\), или же что, соглас¬
но гипотезе современного английского психиатра, весь вид Ьото
8ар1епз заплатил за свою исключительность тем, что шизофрения яв¬
ляется его сШГегепВа зресШса, отличающая его от других видов [Сгом>
1997\. Что же это за особенность? Это способность говорить (см. так¬
же язык и безумие, бред и язык) - вербальный (конвенциональный)
язык. При этом брешь между означаемым и означающим, между тем,
что сказано, и тем, как об этом сказано, тем, что сказанное в прин¬
ципе может быть неверно понято, отличает язык человека от языка
животных и сигнализирует о том, что печальные литеры 8СН начер¬
таны на лбу нашего вида с самого начала его существования.
Приведем пример из книги Рональда Лэйнга «Расколотое Я»:
У параноика есть особые преследователи. Кто-то действует против
него. Существует заговор с целью похитить его мозг. В стене его
спальни спрятана некая машина, испускающая излучение, размяг¬
чающее мозг, или пропускающая через него во время сна электри¬
ческие заряды. Личность, которую я описываю, ощущает на дан¬
ной фазе, что ее преследует самое реальность. Мир — такой, какой
он есть, другие люди — такие, какие они есть, представляют собой
опасность [Лэйнг 1995: 78\.
В этом примере важны не бредово-галлюцинаторные приспособ¬
лении, которые мы встретим на страницах любого клинического опи¬
сания бреда преследования (и функция которых проинтерпретирова¬
на в работе [Сосланд 2001]). Для нас здесь важна сама эта неопределен¬
ность и универсальность преследующей среды. Не масоны, не КГБ, не
дворник и управдом, не евреи, не американские шпионы, но весь мир
в целом преследует этого человека. Универсальная персекуторная тре¬
вога господствует в экстраективном бреде. Какая-то особая персеку¬
торная среда - все вызывает тревогу у преследуемого. Это очень хо¬
рошо показано в работе П. В. Волкова, когда больная, страдающая
парафренным бредом, идет по улице и фактически все, что она видит
и слышит вокруг, воспринимается ею как нечто, тревожно угрожаю¬
щее ей:
47
Вадим Руднев
Словарь безумия
Однажды, после того как Света побывала у меня в гостях, я вышел
проводить ее. Как только мы вышли, я почувствовал в ней расте¬
рянность. Она, попросив разрешения, взяла меня под руку, и мы
пошли бродить по... «психотической» улице. Свинцовое небо от¬
ражалось в зеркалах луж, кружил осенний лист, сырой ветер нео¬
жиданно оскорблял пощечинами, протяжно и надрывно выли
электрички. Больная, как несчастный маленький котенок, жалась
к моему плечу, и ее растерянность была в унисон с печальной ги¬
белью лета. Но скоро мне стало ясно, что ее состояние не было
реакцией на осеннюю уличную тоску — это был страх. Сирена ма¬
шины заставляла вздрагивать, и она спрашивала, не чувствую ли
я, что этот звук относится к нам. Нас обогнал мрачный человек,
круто обернулся и пошел дальше. Больная вздрогнула и спросила:
«Неужели он мог обернуться просто так?» Рядом быстро проехала
черная «Волга». «Почему она так быстро мчалась и почему ехала по
улице, по которой так редко ездят автомобили?» - испуганно ска¬
зала она. <...> У звука сирены, взгляда мрачного человека, неожи¬
данного появления черной «Волги» как будто были невидимые для
меня щупальца, которые проникали в ее тело <...> Мир ее бредо¬
вого восприятия как бы являл собой ужасного осьминога, безжало¬
стно запустившего свои щупальца в ее душу [Волков 2000: 478—479].
Чем обусловлена универсальность и фундаментальность преследо¬
вания, персекуторной тревоги - вот что нас интересует в первую оче¬
редь. И каким образом, говоря словами Р. Лэйнга, «Я» может «развоп-
лотиться, чтобы переступить пределы этого мира»?
На первый вопрос можно ответить, призвав на помощь идеи Ме¬
лани Кляйн о двух фундаментальных позициях в младенческом разви¬
тии - «шизоидно-параноидной» и «депрессивной». В обоих случаях
младенец взаимодействует с одним и тем же первичным объектом —
материнской грудью. Суть шизоидно-параноидной позиции заключа¬
ется в том, что младенец, которого мать на некоторое время оставила
без внимания, воспринимает этот временный период как нечто уни¬
версальное, он воспринимает теперь материнскую грудь как абсолют¬
но плохую, преследующую субстанцию, которая хочет его уничтожить.
Почему младенец так думает, почему он не может просто подождать?
По реконструкции Мелани Кляйн, младенец на этой стадии не пони¬
мает, что та грудь, которая его кормила, и та, которая его теперь пре¬
следует, это одна и та же грудь. Он расщепляет их на две субстанции -
абсолютно хорошую, которую он идеализирует, и абсолютно плохую,
которую он обесценивает.
48
Бред преследования
Б
Вот как сама Мелани Кляйн пишет об этом:
Первыми преследующими объектами <...> являются «плохая»
грудь матери и «плохой» пенис отца. Страх преследования отно¬
сится также к взаимодействию внутренних и внешних объектов.
Эти тревоги, первоначально сфокусированные на родителях, на¬
ходят выражение в ранних фобиях и оказывают сильное влияние
на отношение ребенка к родителям. Как персекуторная, так и деп¬
рессивная тревога коренным образом содействует возникновению
конфликта, вытекающего из Эдиповой ситуации, а также оказы¬
вают влияние на либидинозное развитие [Кляйн 2001: 320].
Таким образом, преследование заложено в человеческом развитии
с самого раннего детства. Те, кто проходит депрессивную позицию,
избавляются от него; те, кто по каким-то причинам ее не проходят, т.е.
не формируют идеи о целостном объекте, у которого есть и хорошая
и плохая стороны (в этом осознании целостности объекта — суть де¬
прессивной позиции и ее продвинутость по сравнению с шизоидно¬
параноидной позицией, по Мелани Кляйн), вновь регрессируют на
шизоидно-параноидную позицию, и именно такого рода субъекты
могут потом стать шизофрениками.
Итак, в концепции Мелани Кляйн мы имеем «первичное пресле¬
дование» на шизоидно-параноидной позиции, когда объект разделен
на два — абсолютно хороший и абсолютно плохой, — затем следует по¬
стдепрессивное совмещение плохого и хорошего, а затем может быть
два пути. Первый — удачное преодоление депрессивной позиции, суть
которой в формировании концепции целостного объекта, могущий со¬
четать в себе хорошие и плохие черты. Второй — неудачный, неопре¬
одоление депрессивной позиции, депрессивной инициации (см. де¬
прессия) и как следствие этого - регрессия к шизоидно-параноидной
позиции: формирование шизофренической личности. Здесь-то и воз¬
никает образ преследователя, подлинного преследователя, не того пер¬
вичного, состоящего из расщепившихся «осколков» материнской гру¬
ди, но преследователя, существующего уже на фоне сформировавше¬
гося целостного образа личности.
Подлинная персекуция складывается из двух компонентов — это
паранойя плюс депрессия. Человек на паранойяльной стадии делает
большой шаг по направлению по ту сторону границ реальности, он
предельно символизирует все объекты, причем придает им одно значе¬
ние, именно то, что они все являются признаком какого-либо отно¬
шения к нему лично. Депрессия отбрасывает эту семиотичность. Она
как бь! говорит: «Нет, никаких знаков не существует; то, что ты при¬
49
Вадим Руднев
Словарь безумия
нимал за знаки, это вещи; то, что ты принимал за символ присталь¬
ного отношения к тебе, это не символ — это реальная вещь». И эта
реальная вещь и есть преследователь. Он выходит из реальности в пси¬
хоз посредством преодоления знаковости, превращения паранойяль¬
ных знаков в запредельные экстраективные вещи. Это уже не знаки.
Галлюцинации - не знаки, они воспринимаются не как символы чего-
то или кого-то, а как сами эти кто-то и что-то. Вот почему так важна
депрессия в формировании шизофренического персекуторного мыш¬
ления.
Откуда же берется преследователь, из каких образов он материа¬
лизуется? Таких образов, кляйнианских первичных объектов, немно¬
го, в сущности, всего три: мать, отец и сам субъект. Человеку достаточ¬
но в подходящий момент посмотреть на себя в зеркало - и образ пре¬
следователя готов. Вот он, самый страшный преследователь, само Я,
преследующее аНег е§о. Р. Лэйнг пишет по этому поводу:
У игры с зеркалом могут быть своеобразные варианты. Болезнь у
одного человека началась совершенно явно, когда он взглянул в
зеркало и увидел там кого-то другого (по сути — свое собственное
отражение) - «его». «Он» должен был стать его преследователем в
параноидальном психозе. «Он был подстрекателем заговора с це¬
лью его убить (т.е. пациента), а он пациент должен был «стрелять
в «него»» (в свое отчужденное «я») [Лэйнг 1995:124\.
Преследователь как часть отколовшейся самости Я может прини¬
мать другие обличья, но может и выступать как преследующее второе
«Я», как это показано в романе-исповеди шизофреника «Школа для
дураков» Саши Соколова, где второе «Я» неотступно следит за героем
и старается навредить ему.
Цель этого преследования — уничтожение одного Я другим, т.е.
это не что иное как персекуторный, шизофренический вариант деп¬
рессивного суицида. Это еще одно косвенное подтверждение депрес¬
сивной основы шизофренического персекуторного бреда (в мировой
литературе наиболее яркий пример — суицид, совершаемый Лужи¬
ным, осознавшим, что он проиграл в параноидной схватке с неведо¬
мым шахматным преследователем, - «Защита Лужина» Набокова).
Здесь, по-видимому, следует сделать несколько замечаний, касаю¬
щихся этиологии и психодинамики бреда преследования. Поскольку
мать и материнская грудь являются первыми и наиболее фундамен¬
тальными объектами, активно фигурирующими к тому же на шизоид¬
но-параноидной, младенческой стадии развития, то логично предпо-
50
Бред преследования
Б
дожить, что преследование со стороны матери, Ужасной Матери (как
в психоделических трансперсональных видениях пациентов С. Грофа
[Гроф 1992]), является наиболее регрессивно-архаическим и в этом
смысле наиболее фундаментальным.
Здесь необходимо разобраться в том, как нам интерпретировать
соотношение ролей отца и матери в образовании психоза. Как нам
соотнести «материнские» концепции психоза (такие, как кляйнианс-
кая и бейтсоновская) и «отцовские» концепции, принадлежащие Фрей¬
ду и Лакану. Существует ли «шизофреногенный отец», и какую роль он
играет в психозе? Факты и интерпретации свидетельствуют о том, что
отец может быть как преследователем, так и защитником преследуе¬
мого.
Лакан в основополагающей статье «О вопросе, предваряющем лю¬
бой возможный подход к лечению психоза» писал:
Для возникновения психоза необходимо, чтобы исключенное
(уетооГеп), т. е. никогда не приходившее в место Другого Имя Отца
было призвано в это место для символического противостояния
субъекту.
Именно отсутствие в этом месте Имени Отца, образуя в озна¬
чаемом пустоту, и вызывает цепную реакцию перестройки озна¬
чающего, вызывающую, в свою очередь, лавинообразную катас¬
трофу в сфере воображаемого, катастрофу, продолжающуюся до
тех пор, пока не будет достигнут уровень, где означаемое и озна¬
чающее уравновесят друг друга в найденной бредом метафоре
[Лакан 1997: 127].
Можно сказать, что наше государство прошло все три стадии раз¬
вернутого шизофренического бреда. Первый период, ленинский, -
паранойяльный. Ленин - параноик, но без бреда преследования. Его
конек - идея отношения: все имеет отношение к нему, он всем инте¬
ресуется, во все сует нос, за все в ответе, но без какой бы то ни было
депрессии; с некоторой экспансией, но слабоумие является лишь под
конец жизни, когда за дело берется человек, находящейся на парано¬
идной стадии; он, так сказать, вовремя забирает эстафету. Сталин —
это параноидная стадия — с галлюцинациями, со всем драматизмом,
присущим тому периоду, с его героизмом и жестокостью. Брежнев —
это третья, парафренная стадия: слабоумие и бред величия — «Широ¬
ко шагает Азербайджан» — грудь, усыпанная орденами и золотыми
звездами, виртуальное завоевание полмира и разваливающаяся на гла¬
зах вместе с бессильным и слабоумным вождем страна.
51
в
«В Чаще» (шизотипическиймир). (См. также шизотипический харак¬
тер, шизотипический дискурс.) Сюжет знаменитого рассказа Акутага-
вы, известного также по кинематографической версии Акиры Куроса¬
вы («Росёмон»), заключается в следующем. В лесу находят труп уби¬
того самурая. Далее следуют три версии его смерти. Первая история
рассказывается на допросе разбойником Тадземару, вторая — женой
убитого мужчины на исповеди в церкви, третья исходит из уст духа
убитого самурая через прорицательницу.
Разбойник сознается в том, что это он убил мужчину. Он, по его
словам, сначала хотел только завладеть его женой. Но после того, как
он сделал это, изнасилованная женщина сказала, что мужчины долж¬
ны биться между собой, и она уйдет с тем, кто останется жив. Разбой¬
ник убивает самурая в честном поединке, а женщина убегает.
Далее следует исповедь женщины, которая признается, что это она
убила своего мужа. После того, как разбойник изнасиловал ее, муж,
привязанный к дереву, стал смотреть на нее с таким презрением, что
она в отчаянии схватила кинжал и воткнула ему в сердце. Разбойник
же убежал.
Дух умершего мужчины излагает третью версию, которая заключа¬
ется в том, что после того, как разбойник овладел его женой, он стал
ее уговаривать уйти с ним и стать его женой, на что женщина согла¬
силась, но потребовала, чтобы разбойник сначала убил ее мужа. Бла¬
городный разбойник с негодованием отказался сделать это, оттолкнул
женщину и освободил самурая, и тот покончил с собой от позора, вон¬
зив кинжал себе в грудь.
Субмир разбойника - это субмир эпилептоидной личности, како¬
вой и следует быть разбойнику. Это агрессивный, похотливый, смелый
и грубый человек, добивающийся своего силой (см. эпилептоидное тело
без органов, эпилептоидный дискурс). Вот что он рассказывает о себе:
Я встретил этого мужчину и его жену вчера, немного позже полу¬
дня. От порыва ветра шелковое покрывало как раз распахнулось,
и на миг мелькнуло ее лицо. На миг - мелькнуло и сразу же снова
скрылось — и, может быть, отчасти поэтому ее лицо показалось
мне ликом бодисатвы. И я тут же решил, что завладею женщиной,
хотя бы пришлось убить мужчину. Вам кажется это страшно? Пу¬
52
«В чаще» (шизотипический мир)
В
стяки, убить мужчину - обыкновенная вещь! Когда хотят завла¬
деть женщиной, мужчину всегда убивают. Только я убиваю мечом,
что у меня за поясом, а вот вы все не прибегаете к мечу, вы убива¬
ете властью, деньгами, а иногда просто льстивыми словами. Прав¬
да, крови при этом не проливается, мужчина остается целехонек —
и все-таки вы его убили. И если подумать, чья вина тяжелей —
ваша или моя — кто знает?! (Ироническая усмешка.)
Разбойник не только сам эпилептоид, но в его рассказе и женщи¬
на выступает как агрессивная, смелая, напряженная личность:
Она сняла свою широкополую шляпу и, не отнимая у меня руки,
пошла в глубь рощи. Но когда мы пришли и тому месту, где к де¬
реву был привязан ее муж, едва она его увидела, как сунула руку
за пазуху и выхватила кинжал. Никогда еще не приходилось мне
видеть такой необузданной, смелой женщины. Не будь я тогда
настороже, наверняка получил бы удар в живот. От этого-то я увер¬
нулся, но она ожесточенно наносила удары куда попало.
Эпилептоидом в рассказе разбойника становится и его соперник:
Мужчина с искаженным лицом выхватил тяжелый меч и сразу же,
не вымолвив ни слова, яростно бросился на меня. Чем кончился
этот бой, незачем и говорить. На двадцать третьем взмахе мой меч
пронзил его грудь. На двадцать третьем взмахе - прошу вас, не
забудьте этого! Я до сих пор поражаюсь: во всем мире он один двад¬
цать раз скрестил свой меч с моим.
Субмир жены убитого мужчины - истерический (см. апология
истерии), в ее рассказе все выглядит по-иному. Она действует под вли¬
янием истерического импульса и демонстративности. Для нее прежде
всего важно мнение Другого: не то, что ее изнасиловал разбойник, а
то, что это произошло на глазах ее мужа, и то, как он к этому относит¬
ся. Ее рассказ все время прерывается истерическими рыданиями.
Когда я пришла в себя, того мужчины в синем уже не было. И
только к стволу криптомерии по-прежнему был привязан мой
муж. С трудом поднимаясь с опавших бамбуковых листьев, я при¬
стально смотрела ему в лицо. Но взгляд его нисколько не изменил¬
ся. Его глаза по-прежнему выражали холодное презрение и зата¬
енную ненависть. Не знаю, как сказать, что я тогда почувствова¬
ла... и стыд, и печаль, и гнев... Шатаясь, я поднялась и подошла
к мужу. «Слушайте! После того, что случилось, я не могу больше
53
Вадим Руднев
Словарь безумия
оставаться с вами. Я решила умереть. Но... но умрете и вы. Вы
видели мой позор. После этого я не могу оставить вас в живых».
Вот что я ему сказала, как ни было это трудно. И все-таки муж
по-прежнему смотрел на меня с отвращением. Сдерживая волне¬
ние, от которого грудь моя готова была разорваться, я стала искать
его меч. <...>
Почти в беспамятстве я глубоко вонзила кинжал в его грудь
под бледно-голубым суйканом. Кажется, тут я опять потеряла со¬
знание. Когда, очнувшись, я оглянулась кругом, муж, по-прежне¬
му связанный, уже не дышал. Сквозь густые ветви криптомерий,
сплетенные со стволами бамбука, на его бледное лицо упал луч
заходящего солнца. Подавляя рыдания, я развязала веревку на тру¬
пе. И потом... что стало со мной потом? Об этом у меня нет сил
говорить. Что я ни делала, я не могла найти в себе силы умереть.
Я подносила кинжал к горлу, я пыталась утопиться в озере у под¬
ножья горы, я пробовала... Но вот не умерла, осталась живой, и
этим мне не приходится гордиться. (Грустная улыбка.) Может
быть, милосердная, сострадательная богиня Каннон отвернулась
от такого никчемного существа, как я. Но что же мне делать, мне,
убившей своего мужа, обесчещенной разбойником, что мне де¬
лать? Что мне... мне... (Внезапные отчаянные рыдания.) (Курсив
мой. - В. Р.)
Субмир убитого мужчины — шизоидный (см. характеры). Для него
прежде всего важен самурайский кодекс чести. Ему не жалко изнаси¬
лованной жены, он испытывает к ней презрение и ненависть. Для него
важно только то, что она запятнала его и свою честь. Даже разбойник
в его рассказе выглядит более благородным по сравнению с потеряв¬
шей честь женщиной, которая для него больше не существует. И соб¬
ственная жизнь после такого позора для него невозможна - он убивает
себя. Заканчивается рассказ сугубо аутистической картиной с элемен¬
тами галлюцинации:
Наконец я с трудом отделил свое измученное тело от ствола. Пе¬
редо мной блестел кинжал, оброненный женой. Я поднял его и од¬
ним взмахом вонзил себе в грудь. Я почувствовал, как к горлу под¬
катил какой-то кровавый клубок, но ничего мучительного в этом
не было. Когда грудь у меня похолодела, кругом стало еще тише.
О, какая это была тишина! В этой горной роще не щебетала ни
одна птица. Только на стволах криптомерий и бамбука горели пе¬
чальные лучи закатного солнца. Но и они понемногу меркли. Уже
54
«В чаще» (шизотипический мир)
В
не видно стало ни деревьев, ни бамбука. И меня, распростертого
на земле, окутала глубокая тишина. И вот тогда кто-то тихонько
подкрался ко мне. Я хотел посмотреть, кто это. Но все кругом за¬
стлал сумрак. И кто-то... этот кто-то невидимой рукой тихо вынул
кинжал у меня из груди. В тот же миг рот у меня опять наполнил¬
ся хлынувшей кровью. И после этого я навеки погрузился во тьму
небытия.
Что же все-таки здесь произошло? По каким законам живет ши¬
зотипический мир (см. шизотипический дискурс), и в чем его отличия
от шизофренического мира, а в чем сходства?
Сходство одно, но самое главное — схизис (см. схизис и многознач¬
ные логики). Одновременно и то, и другое. А в данном случае - и тре¬
тье. Когда-то Е. М. Мелетинский в книге «Поэтика мифа» писал, что
в мифологическом мышлении господствует конъюнктивная логика
[.Мелетинский 1976\. То есть не «либо А, либо не А» (дизъюнкция, за¬
кон исключенного третьего), а «и А, и не А» («дождь идет, и дождь не
идет»). Вот это и есть самое главное в шизотипическом мышлении —
конъюнкция там, где должна быть дизъюнкция. Многозначность вме¬
сто бинарности.
Различие же главное в том, что в шизотипическом мире в отличие
от шизофренического нет ни бредово-галлюцинаторного комплекса,
ни гебоидности, ни фундаментальных моторно-двигательных дефор¬
маций. Этот мир неврозоподобен или психопатоподобен. В данном
случае, пожалуй, даже последнее. Все герои психопатичны — т.е. агрес¬
сивны, несдержанны в своих желаниях и стремлениях.
При этом в принципе они вроде бы в живут в реальном мире, а не
в бредово-галлюцинаторном. Но схизис является границей между дву¬
мя мирами. Один шаг — и сознание окажется уже в шизофреническом
пространстве (см. шизофренический дискурс).
И еще одно свойство шизотипического мира. Применительно к
нему нельзя задать вопрос: «Так кто же все-таки на самом деле убил это¬
го человека?» В подобном мире сразу встает встречный вопрос: «С чьей
точки зрения?» Как у шизотиписта несколько личностей в одной, так
и в шизотипическом мире несколько истин в одной, и все равноправ¬
ны. С точки зрения разбойника убил он, с точки зрения женщины —
она, с точки зрения мужчины — он сам покончил с собой. Просто со¬
бытия не существует — всегда должен быть наблюдатель, свидетель
события, и его, свидетеля, прагматическая точка зрения онтологизи-
руется - и именно в этой онтологизации прагматической мно¬
гозначности и состоит суть шизотипического мира.
55
Вадим Руднев
Словарь безумия
Вагина. (См. также фаллос.) Концепт ‘вагина’ играет в культуре го¬
раздо более скромную роль по сравнению с ее У1$-а-у1$ в силу ориенти-
рованости человеческой культуты маскулинно и тем самым фаллоцен-
трично. Если о фаллосе написаны тысячи страниц психоаналитичес¬
кой прозы, то вагине уделено довольно мало места. В хрестоматийном
«Словаре по психоанализу» Лапланша и Понталиса есть статья «фал¬
лос», но нет статьи «вульва» или «вагина» [Лапланш—Понталис
1996\. У Лакана есть знаменитое изречение, что женщины не сущест¬
вует, что она просто симптом мужчины. Примерно то же самое мож¬
но сказать о вагине. В определенном смысле вагина это чистое отсут¬
ствие, Ничто, определяемое лишь по отношению к фаллосу. (Ср. в
этом плане обсценное выражение, употребляемое в ответ на вопрос
«Где?» - «Где-где, в п...е!». Что означает — нигде.) В раннем возрасте
девочки, по данным психоаналитиков, считают не то, что у них при¬
сутствует какой-то особенный половой орган, но что у них нет по ка¬
кой-то причине пениса. То есть вагина это отсутствие пениса, который
вызывает зависть. «Зависть к пенису» - одно из важнейших понятий
женского психосексуального развития. Вот что пишут по этому пово¬
ду уже упоминавшиеся нами французские психоаналитики Ж. Лап-
ланш и Ж.-Б. Понталис:
Зависть к пенису — главный элемент женской сексуальности и пру¬
жина ее диалектики. Зависть к пенису возникает при обнаружении
анатомического различия между полами: девочка чувствует себя
ущемленной по сравнению с мальчиком и стремится иметь пенис
(комплекс кастрации); позже, во время Эдиповой стадии, эта за¬
висть к пенису принимает две производные формы: желание иметь
пенис внутри себя (чаще всего в форме желания иметь ребенка);
желание наслаждаться пенисом в коитусе [Лапланш—Понталис
1996: 141].
Почему складывается такое положение вещей, такая несправедли¬
вость, только ли потому, что все мужское, агрессивное, выпуклое гла¬
венствует в нашей культуре? Сторонники неофрейдизма считают, что
именно так оно и есть. Вот что, например, говорит в связи с этим Ка¬
рен Хорни (в интерпретации американского психоаналитика Гераль¬
да Блюма):
Согласно ее точке зрения специфическое воздействие условий
культуры порождают особое качество у мужчин и женщин. Жела¬
ние обладать пенисом или быть мужчиной может выражать стрем¬
56
Вагина
В
ление иметь качества, которые в нашей культуре считаются муж¬
скими: сила, мужество, независимость, успех, сексуальная свобо¬
да, право выбора партнера [Блюм 1996: 128]
Нам кажется, что дело не только в этом. Само устройство женского
полового органа, его феноменология (в медицинском значении это¬
го слова) подразумевает подчиненную его роль в культуре (возможно,
только в западной культуре). Главное в женском половом органе — это
нечто негативное — вместилище, отверстие, пустота, скважина. Это
вместилище для пениса, которое само по себе не может играть ника¬
кой роли. Отсюда и прозрачная этимология слова *пихда, нечто, во что
пихают, что заполняют. Вагина — это, по сути, дыра, и фольклор под¬
тверждает это. Ср. армейскую поговорку «Солдат без бирки, что п... без
дырки». Дырка, таким образом, это нечто вроде удостоверения лично¬
сти, паспорта. Эта дырка — результат кастрации. Согласно представ¬
лению девочек, пенис у них был, но его отрезали. Должен он быть так¬
же и у матери (и с точки зрения девочек, и с точки зрения мальчиков) -
обнаружение его отсутствия ведет либо к сильной фрустрации, либо к
фантазиям о том, что пенис находится у матери внутри.
При этом в фольклоре подчеркивается и гиперболизируется размер
этой дыры, она становится неправдоподобно огромной — больше ва¬
ленка, больше кадушки, больше ведра. В вагину может заехать мото¬
цикл, «Москвич», трактор.
Особенно это подчеркивается в частушках:
Подтяну ремень потуже,
Поищу п... поуже,
А то у милочки моей,
Шире тещиных дверей.
На себя сама
Я удивилася:
П... слопала арбуз —
Не подавилася.
При этом интересны две особенности. Первая — это то, что ваги¬
на ассоциируется со ртом (это явление параллелизма между лицом и
материально-телесным низом хорошо известно: рот - это сублимация
вагины и анального отверстия, нос и глаза — корреляты пениса): она
поглощает все подряд, как прожорливый рот: и второе —что это не
просто прожорливая пасть, это агрессивная зубастая пасть, уа§та
бепШа, которая может сама стать кастратором — откусить пенис.
57
Вадим Руднев
Словарь безумия
Милка храбрая
Мне попалася.
Куплю намордник на и...,
Чтоб не кусалася.
Что же символизирует вагина-дыра? Если ответить на это одним
словом, этот ответ будет — смерть. Обыденные обеденные речевые
употребления подтверждают эту идею. Главный дериват слова «п...» —
п...ец - означает «смерть, конец, провал какого-либо дела». Не менее
частое выражение «накрыться п...ой» означает примерно то же самое.
Очень часто с вагиной связаны разрушительные, деструктивные
действия, в частности, битье-избиение: навешать п...лей, отп...ить, п...
путь, п...ячить или просто — дать (получить), вломить и т. д. п...ы:
Вообще с вагиной, как правило, связанны некие неприятные дей¬
ствия, например, ложь или болтание чепухи — п...ёж.
Но почему концепт вагины связан со смертью и вообще с чем-то
неприятным? Чтобы разобраться в этом, надо проанализировать пси¬
хоаналитическую феноменологию полового акта. В половом акте че¬
ловек получает не только удовольствие. Он растрачивает себя, в част¬
ности, утрачивает свое семя. Поэтому половой акт, особенно у невро¬
тиков, представляется как нечто деструктивное. Погружение в вагину
мылится как смерть, потому что для того, чтобы вновь родиться, по
мифологическим представлениям, нужно сначала умереть. Вагина по¬
этому играет роль входа в могилу, обитель смерти, которая чревата
рождением. Бахтин когда-то интерпретировал выражение «Пошел ты
в задницу» или «Пошел ты в п...у» как ритуальное пожелание смерти-
возрождения [Бахтин 1965\. Поэтому выражение «Пошел ты в п...у»
звучит гораздо сильнее, чем «Пошел ты на хуй». Последнее осмысля¬
ется лишь как унизительное приглашение к гомосексуальному акту,
первое — как пожелание смерти.
То, что половой акт повторяется, лишь усиливает его связь с «вле¬
чением к смерти», учением позднего Фрейда которое он разработал в
труде «По ту сторону принципа удовольствия». Почему, согласно по¬
зднему Фрейду повторение (см. персеверация) имеет отношение к
смерти?
Навязчивое повторение, — пишет Фрейд в «По ту сторону принци-
паудовольствия», — соотносится со «стр емлением в живом
организме к восстановлению какого-либо преж¬
него состояния», что является «выражением косности в орга¬
нической жизни». А поскольку «н е ж и в о е было раньше,
чем живое», то это повторение соответствует влечению к смер¬
58
Вагина
В
ти, которая является «целью всякой жизни» \Фрейд 1990:
404—405] (разрядка Фрейда. — В.Р.).
Противоречие жизни и смерти, любви и ненависти, садизма и ма¬
зохизма в половом акте, принципа удовольствия, который, как пишет
Фрейд, — «всегда в новизне», принципу возвращения в исходное со¬
стояние — все это стоит рядом с повторением. Умирание в любовном
акте, который вроде бы должен быть апофеозом жизни, что на конк¬
ретных примерах показала за 9 лет до Фрейда (в 1911 году) Сабина
Шпильрейн, и который представляет собой не что иное как ритмич¬
ное повторение одного и того же действия, «деструкцию как станов¬
ление» и становление как деструкцию [Шпильрейн 1995] - увязывает
повторение и противоречие в одну картину.
В вагине как в чистом отрицании есть некая скука. «Пошел в п...у,
надоел!». Это — смертная скука!
Чисто метафизическая связь вагины со смертью реализуется на
идиоматическом уровне за счет популярности и частотности выраже¬
ний, в которых вагина предстает, как издающая резкий запах, который
может быть интерпретирован как запах смердящего трупа.
Чрезвычайно характерно в рассказе Сорокина «Обелиск» солдат,
идущий на войну, зашивает своей дочери вагину в качестве ритуала,
который затем реализуется в заговоре от смерти:
— Спасибо тебе, папаничка родной, за то, что зашил мне навек.
— А и спасибо-то табе, Колюшка, что зашил-то ей навек.
Наряду с отмеченной у Сорокина тенденцией к депривации ва¬
гины как манифестанта идеи смерти, в древних культурных традици¬
ях и фольклоре большую роль играет противоположная тенденция —
демонстрации женских гениталий. Существуют древние изображения
женщин, демонстрирующих свою уродливую, гипертрофированную
вагину. Однако наряду с функцией показа мерзостного греха эти не¬
пристойные изображение могли быть навеяны фольклорным моти¬
вом апотропеической, т.е. защитной функцией женских гениталий.
Вот что об этом писал Н.И. Толстой:
Вульва как средство символической борьбы и защиты при воору¬
женных столкновениях известна была черногорцам (племя пипе-
ри). Одна из женщин поднималась на возвышение на позиции
одной из сторон, задирала платье и, похлопывая по гениталиям,
выкрикивала бранные слова, бросая вызов противнику, какому-
либо конкретному лицу или всему войску в целом. Стрелять при
этом в женщину считалось позором. Обычай дразнить противни¬
59
Вадим Руднев
Словарь безумия
ка подобным образом был зафиксирован в начале XVII в. у русских
голландским путешественником Исааком Массой: под Кромами в
стане Самозванца «на гору часто выходила потаскуха в чем мать
родила, которая пела поносные песни о Московских воеводах и
много другого, о чем непристойно рассказывать» [Толстой 1995:
494-495].
Итак, здесь можно обозначить амбивалентость функции женских
гениталий. С одной стороны, вагина — это смерть и несет смерть, с
другой стороны, в магических ритуалах, как отмечает тот же Н. И. Тол¬
стой, она используется как целительное средство, как средство для
вызывания плодородия и отпугивания грома, как своеобразный гро¬
моотвод. Последняя функция осуществлялась подобным же образом:
женщина выставляла обнаженные гениталии навстречу грому и зак¬
линала его [ Толстой 1995: 494].
Здесь, конечно, важно, что сама смерть, особенно, в фольклорном
сознании это нечто амбивалентное. В аграрной циклической модели
времени смерть — это залог рождения, а рождение чревато смертью.
Так же и в нашем случае: сперматозоид умирает и приносит взамен
ребенка — смерть рождает жизнь. Как сказано в «Евангелии от Иоан¬
на»: «Истинно, истинно говорю: если упавшее в землю зерно не ум¬
рет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода».
Как уже говорилось, М.М. Бахтин в книге «Франсуа Рабле и народ¬
ная смеховая культура средневековья и Ренессанса» интерпретировал
выражения типа «Иди в п...у!» именно в таком амбивалентном духе:
«Умри, чтобы потом возродиться» [Бахтин 1965]. В этом смысле кон¬
цепт вагины в культуре означает не только смерть как чистое ничто, но
и смерть как вечную женственность, как залог плодородия (см. также
любовь). В каком-то смысле, если угодно, вагина — это Персефона,
древнегреческая богиня, которая половину жизни проводила под зем¬
лей, в царстве мертвых Аида, а другую половину — на земле.
И еще одно роднит вагину и смерть - их непристойность. Говорить
о сексе непристойно, и говорить о смерти тоже непристойно: и то и
другое - это нечто, что должно быть сокрыто, не должно быть фактом
речи. Хайдеггер писал в «Бытии и времени»:
Люди дают право, и упрочивают искушение, прятать от себя са¬
мое свое бытие к смерти.
Прячущее уклонение от смерти господствует над повседневно¬
стью так упрямо, что в бытии-друг-с-другом «ближние» именно
«умирающему» часто еще втолковывают, что он избежит смерти и
тогда сразу снова вернется в успокоенную повседневность своего
60
«Винни Пух»
В
устраиваемого озабочением мира. ОЛюди озабочиваются в
этой манере постоянным успокоением насчет смерти [Хайдеггер
1997: 253].
Именно нарушение запрета на непристойность речевой деятель¬
ности, посвященной сексу и смерти, делает слово «вагина» гораздо
более неприличным, чем остальные матерные слова. В сущности,
«вагина» — это самое непристойное слово русского языка. Как писал
Людвиг Витгенштейн в «Логико-философском трактате»: «О чем не¬
возможно говорить, о том следует молчать». Уж не пизде ли посвя¬
щена эта знаменитая максима?
«Винни Пух». В этой безобидной, на первой взгляд, детской «саге»
об игрушечных животных, написанной в середине 1920-х годов, в эпо¬
ху расцвета европейско-американскаого модернизма, можно обнару¬
жить крайне любопытные вещи. Персонажи ВП живут крайне безо¬
бидной инфантильной жизнью в Лесу: пьют чай, обедают, ходят в го¬
сти, лазят на деревья, собирают шишки и желуди, сажают цветы,
пишут стихи, посылают друг другу послания, охотятся за воображае¬
мыми лютыми зверями и при этом постоянно разговаривают. Между
тем подобно внешне безобидному и безоблачному детству, которое
проникнуто, как показал психоанализ, напряженной сексуальной жиз¬
нью, весь текст ВП проникнут изображением детской сексуальности.
В классическом труде «Анализ фобии пятилетнего мальчика»
3. Фрейд проанализировал сексуальный невроз пятилетнего мальчи¬
ка Ганса, страдающего навязчивой фобией — боязнью больших белых
лошадей [Фрейд 1990с]. Обратим внимание на устойчивую связь меж¬
ду детской сексуальностью и воображаемыми животными-монстрами,
которые снятся мальчику или которых он выдумывает. Речь идет,
прежде всего, о придуманной мальчиком сцене между «большим жи¬
рафом», олицетворяющем отца, и «измятым жирафом», олицетворя¬
ющем мать и ее половые органы (ср. вагина).
Вспомним, какую большую роль в ВП играют вымышленные,
виртуальные животные-монстры: \Уоо/1е, НеГШшпр (Слонопотам),
Визу Васкзоп (Щасвирнус), 1а§и1аг. То, что эти вымышленные живот¬
ные имеют агрессивный характер, что они полны, по словам Поро¬
сенка, Враждебных Намерений, не вызывает сомнений. Ниже мы
покажем, что они обладают сексуальным, анально-фаллическим ха¬
рактером.
61
Вадим Руднев
Словарь безумия
История с НеГЫитр’ом начинается с того, что Кристофер Робин
сам подбрасывает эту идею Пуху и Поросенку (реальному Кристофе¬
ру Милну (род. в 1920 г.) было примерно столько же лет, сколько
фрейдовскому Гансу, когда А. Милн писал «Винни Пуха»), НеГЫитр
предстает как некая загадка, некая неразрешенная проблема. Что
такое НеГЫитр? Безусловно, что-то большое (как слон - е1ерЬапГ),
агрессивное, дикое и необузданное. Его надо поймать, обуздать. Это
пока все, что мы о нем знаем, так как его на самом деле никто не
видел. Здесь на помощь вновь приходит работа Фрейда о Гансе, где
обсуждается немецкое слово ЬитрГ (ср. НеГЫитр), обозначающее
экскременты, нечто вроде “какашка, колбаска”, анальный замести¬
тель мужского полового органа. Аналогия между ЬитрГ и НеГЫитр
поддерживается тем, что в английском языке слово 1итр означает
“глыба, ком, огромный кусок, большое количество, куча, чурбан,
обрубок, опухоль, шишка”. Итак, НеГЫитр — это нечто огромное,
набухшее, набрякшее, короче говоря, это фаллос (см.). Мысль пой¬
мать НеГЫитр’а завладевает Пухом и Поросенком всецело. Они ре¬
шают вырыть яму, чтобы НеГЫитр угодил в нее. Пух и Поросенок
символически разыгрывают здесь половой акт. Отношения между
ними латентно сексуальные, они все время падают друг на друга (см.
ниже). Пух — активное, мужское начало, Поросенок - очень малень¬
кое и слабое, трусливое животное, полностью лишенное мужских при¬
знаков, в одном месте своей книги мемуаров сын А. Милна Кристо¬
фер Мили (прототип Кристофера Робина) написал о своей игрушке -
прототипе Поросенка (Р1§1еГ) - зйе: она [МИпе 1976: 132]. По сути,
Р1§1еГ — хрюшка, Хрюша - это недоразвившаяся девочка.
Индикатором сексуальности Пуха выступает мед, при упоминании
о котором (в Западню решили положить мед для привлечения НеГГа-
1шпр’а) Пух впадает в состояние, близкое к сексуальной ажитации, и
говорит следующее:
«И я пошел бы за ним», говорит Пух взволнованно, «только очень
осторожно, чтобы не спугнуть, и я настиг бы Банку Меду и преж¬
де всего облизнул бы по краешку, притворяясь, как будто там ни¬
чего нет, знаешь ли, а потом я бы еще погулял и вернулся и стал
бы лизать-лизать до самой середины банки, а потом » (здесь и
далее «Винни Пух» дается в переводе автора словаря по книге [Вин¬
ни Пух и философия обыденного языка 2000]).
Потом события развиваются следующим образом. Пух и Поросенок
расходятся по домам, но Пух не может уснуть, томимый голодом. При¬
62
(Винни Пух»
В
дя в кладовую, он не понимает, куда девался мед. Мысль о Нейа1итр’е
вытеснялась у него из сознания - он отнес мед в Западню, но забыл об
этом. После этого, когда в состоянии быстрого сна Пуха НеЯа1шпр съе¬
дает его мед у него на глазах, Пух бежит к яме и лезет головой в банку
с медом, в результате надевает ее на голову и не может снять (мотив-
ная перекличка с главой, в которой он пролезает в нору к Кролику, но,
наевшись, т. е. символически «забеременев», не может вылезти обрат¬
но (подробнее о связи этого мотива с родовой травмой см. ниже). Тем
самым Пух превращается в Нейакштр’а, за коего его и принимает По¬
росенок, который, увидев все это, в ужасе убегает. Итак, НеГЫитр
предстает как сексуальный соперник или субститут Пуха, поедающий
его священную пищу, в которого Пух символически превращается, от¬
ведав пищи, оскверненной им. Для Поросенка этот страшный и агрес¬
сивный фаллос — Не#а/шпр (еще одна символическая этимология этого
слова) является одновременно привлекающим и отталкивающим (страх
дефлорации):
Что такое был этот Нейакштр?
Был ли он Свиреп?
Приходил ли он на свист?
И как он приходил?
Нежен ли он вообще с Поросятами?
Если он нежен с Поросятами, то Смотря с Какими Поросятами?
История с Нейайлпр’ом репродуцируется в главе «Снова Нейа-
1итр» (в переводе Бориса Заходера эта глава отсутствует), где Пух, идя
по Лесу, падает в яму прямо на Поросенка. Вот как это выглядит:
«Пух», пропищал голос.
«Это Поросенок», нетерпеливо закричал Пух.
«Ты где?»
«Внизу», говорит Поросенок действительно довольно нижним го¬
лосом.
«Внизу чего?»
«Внизу тебя. Вставай!»
Оказавшись в яме, Пух и Поросенок тут же вспомнили НейаШтр’а
и поняли, что попали в Западню.
Вторым латентным сексуальным соперником Пуха выступает ос¬
лик И-Ё (ослик; у Заходера - Иа-Иа), его полная противоположность
в характерологическом плане (см. ниже). В главе «День рождения» По¬
росенок и Пух должны подарить И-Ё подарок. Пух решает подарить
горшок с медом, но по дороге съедает мед. Таким образом, Пух дарит
63
Вадим Руднев
Словарь безумия
И-Ё пустой горшок из-под меда, т.е. «обессемененный» пустой фал¬
лос. Что же делает Поросенок, испытывающий к И-Ё определенного
рода сексуальное влечение? Поросенок решает подарить И-Ё воздуш¬
ный шар - упругий символ беременности, элемент архаического «за¬
бытого языка» [Рготт 1956\. Однако бессознательная боязнь беремен¬
ности заставляет его порвать шар, который превращается в мокрую
тряпку. Таким образом, Пух приносит И-Ё в подарок пустой горшок,
а Поросенок - порванный воздушный шарик. Казалось бы, это сим¬
волизирует полный сексуальный крах. Однако И-Ё находит выход в
символической мастурбации - он всовывает порванный шарик в пу¬
стой горшок, вынимает и всовывает обратно.
В 1929-м году вышла книга Отто Ранка «Бая Тгаита с!е§ ОеЪшТ»
(«Травма рождения») [Капк 1929], после которой неортодоксальный
психоанализ перенес главный акцент с травм раннего детства и детс¬
кой сексуальности на самую главную травму в жизни человека — трав¬
му его появления на свет.
В первой книге «Винни Пуха» перинатальные переживания, расска¬
занные на символическом языке, играют не меньшую роль, чем вытес¬
ненная детская сексуальность. Уже во второй главе Пух лезет в нору
Кролика и наедается там до такой степени, что не может вылезти об¬
ратно. Еда является для Пуха наслаждением, что неоднократно подчер¬
кивается. Таким образом, легко дающееся наслаждение символизиру¬
ет зачатие, а его трудные последствия — родовую травму. В соответст¬
вии с концепцией С. Грофа, время нахождения плода в чреве делится
на четыре периода, которые он называет Четырьмя Базовыми Пери¬
натальными Матрицами. В каждой из этих предродовых фаз плод мо¬
жет получить тяжелую травму, которую он вторично переживает в
виде невроза, психоза или депрессии на протяжении своей взрослой
жизни [Гроф 1992]. Предродовой и родовой процессы сопровождают¬
ся чувством удушья, тесноты, отчаяния и ужаса. Перенося травмати¬
ческие воспоминания человека еще дальше, в трансперсональную
сферу, Гроф порывает с представлением, в соответствии с которым
сознание человека отождествляется с его мозгом (так же, как неда¬
лекие персонажи «Винни Пуха» неадекватно отождествляют созна¬
ние Пуха с его «мозгами»). Застряв в кроличьей норе, Пух испыты¬
вает и тесноту, и удушье (не может вздохнуть как следует), и отчая¬
ние; и даже его фразеология становится близкой к грофовской - он
просит друзей, чтобы они читали ему книгу, «которая поддержала бы
Медведя, которого заклинило в Великой Тесноте» (курсив мой. —
В.Р.). Ср. у Грофа:
64
«Винни Пух»
В
Перинатальное развертывание часто ассоциируется и с разнооб¬
разными трансперсональными элементами - такими, как архети¬
пические видения Великой Матери или Ужасной Богини-Матери,
Ада, Чистилища, Рая или Царства Небесного [Гроф 1992: 80].
Характерно также, что родившийся (и переживший это состояние
вновь под воздействием холотропного дыхания или ЛСД-терапии) чув¬
ствует себя радостно и беззаботно, как ни в чем не бывало:
Он чувствует себя свободным от тревоги, депрессии и вины, ис¬
пытывает очищение и необремененность в отношении самого
себя, других или существования вообще. Мир кажется прекрас¬
ным местом, и интерес к жизни отчетливо возрастает [Гроф 1992:
101].
Именно так чувствует себя Пух, когда его наконец вытаскивают из
норы:
...благодарно кивнув друзьям, он продолжает свою прогулку по
Лесу, гордо хмыкая про себя.
Еще один перинатальный опыт описывается в главе «Кенга», где
Кролик разрабатывает план похищения Бэби Ру, в результате чего По¬
росенок, который замещает Ру в кармане (животе) Канги, пережива¬
ет не только муки плода в чреве (когда его страшно трясет во время
прыжков Кенги) и не только травму рождения в виде мнимого Бэби
Ру, но также и издевательский, травестийный обряд инициации, ког¬
да Кенга, чтобы отомстить похитителям, притворяется, что не замечает
подмены: моет «новорожденного», кормит его рыбьим жиром. В довер¬
шение этой травестийной инициации Поросенка, неузнанного Кри¬
стофером Робином, так как он непривычно чистый (ведь он как зано¬
во родился), нарекают новым, чужим именем - Генри Путль. В конце
книги «Дом в Медвежьем Углу» Поросенок переживает подлинное
перерождение. Когда ветер сваливает дом Сыча и они все оказыва¬
ются погребенными в этом старом чреве, Поросенок просовывается
в узкую щель почтового ящика и, освободившись и чувствуя радость
освобождения, тем самым спасает остальных. При этом он освобож¬
дается, по Грофу, от комплекса неполноценности, тревожности и де¬
прессии.
Последний раздел психологии, который буквально просится быть
примененным к «Винни Пуху» - это характерология. Характеры (см.)
в «Винни Пухе» удивительно выпукло и четко очерчены: Пух жизне-
65
3-11117
Вадим Руднев
Словарь безумия
радостен, добродушен и находчив, Поросенок тревожен и труслив,
И-Ё мрачен и агрессивен, Кролик авторитарен, Сыч оторван от дей¬
ствительности и погружен в себя, Тиггер добродушно-агрессивен и
хвастлив, Ру все время обращает на себя внимание. Как описать эти
характеры на языке характерологии Э. Кречмера, П.Б. Ганнушкина и
М.Е. Бурно?
Пух представляет собой выразительный пример циклоида-сштви-
ника, реалистического синтонного характера, находящегося в гармо¬
нии с окружающей действительностью: смеющегося, когда смешно, и
грустящего, когда грустно. Циклоиду чужды отвлеченные понятия. Он
любит жизнь в ее простых проявлениях — еду, вино, женщин, веселье,
он добродушен, но может быть недалек. Его телосложение, как пра¬
вило, пикническое - он приземистый, полный, с толстой шеей. Все это
очень точно соответствует облику Пуха — страсть к еде, добродушие и
великодушие,полная гармония с окружающим и даже полноватая ком¬
плекция. Интересно, что знаменитые циклоиды - герои мировой ли¬
тературы в чем-то фундаментально похожи на Пуха: Санчо Панса,
Фальстаф, Ламме Гудзак, мистер Пиквик [Бурно 1990].
Поросенок — пример психастеника, реалистического интроверта,
характер которого прежде всего определяется дефензивностью, чув¬
ством неполноценности, реализующимся в виде тревоги, трусливо-на¬
пряженной неуверенности, тоскливо-навязчивого страха перед буду¬
щим и непрестанного пережевывания событий прошлого. Мысли пси¬
хастеника всегда бегут впереди действий, он анализирует возможный
исход событий и всегда в качестве привилегированного рассматрива¬
ет самый ужасный. В то же время, он чрезвычайно совестлив, стыдится
своей трусости и хочет быть значительным в глазах окружающих, для
чего прибегает к гиперкомпенсации. Психастеник имеет лептосомное
телосложение — маленький, «узкий». Таков Поросенок - вечно трево¬
жен, ожидает опасностей от Больших Животных и стыдится своей бо¬
язни, ему кажется, что надо предупредить своим поведением эти над¬
вигающиеся опасности, всегда готов спасовать, но, поддержанный
другими, в трудную минуту может проявить чудеса храбрости, как это
и происходит с ним в конце книги.
Сыч противоположен первым двум персонажам своей ярко выра¬
женной аутистичностъю, замкнутостью на себя и своем внутреннем
мире, полным отрывом от реальности; построением имманентной гар¬
монии в своей душе. Это свойство шизоида, замкнуто-углубленной
личности. Сыч находится в мире гармонии «длинных слов», которые
никак не связаны с моментом говорения, в мире прагматически пус¬
ты. Он отгорожен от мира как будто стеклянной оболочкой. Мир ка-
66
«Винни Пух>
В
жется ему символической книгой, полной таинственных значений: он
отрывает у И-Ё хвост, думая, что это дверной колокольчик; во время
бури любуется на свой почтовый ящик (в который он до этого бросал
письма, написанные самому себе) название дома («Ысчовник»), на¬
писанное им самим на доске, для него важнее самого дома.
И-Ё прежде всего обращает на себя внимание своим постоянным
мрачным настроением. Психиатр бы сказал, что он страдает тяжелой
эндогенной депрессией, которая всецело овладевает личностью и уп¬
равляет поведением. В таких случаях характер может деформировать¬
ся и приобретать противоречивое сочетание характерологических
радикалов. Так, с одной стороны, И-Ё агрессивен и казуистичен, с дру¬
гой, — оторван от окружающего. Первое составляет существенное
свойство эпилептоида - напряженно-авторитарного характера, вто¬
рое - шизоида. Но настоящей авторитарности, так же, как и подлин¬
ного символической аутистичности мы не наблюдаем у И-Ё. Он убеж¬
ден, что все безнадежно плохо и все плохо к нему относятся, но в глу¬
бине души он достаточно тонок и даже, скорее, добр, особенно это
видно в конце книги. Он может изощренно издеваться над собеседни¬
ком, но при этом в глубине души чувствовать к нему расположение.
Таковы его отношения с Поросенком. В психопатологии такое поло¬
жение вещей называется шизотипическим характером (см.).
Кролик - для него наиболее характерна авторитарность, стремле¬
ние подчинить себе окружающих, сочетающаяся у него с комплексом
неполноценности и механизмом гиперкомпенсации в качестве спосо¬
ба его преодоления Такую личность называют дефензивно-эпилептоид-
ной (ср. Иудушка Головлев). Это напряженно-авторитарный субъект,
реалистический, но не тонкий, его самая сильная сторона - органи¬
заторские способности, самая слабая - неискренность и недалекость.
Имманентный внутренний мир его практически пуст, для удовлетво¬
рения социально-психологических амбиций ему необходимы люди.
Так, Кролик, особенно во второй части «Винни Пуха», стремится все
время что-то организовывать и кем-то командовать. Иногда ему это
удается, чаще же попадает впросак, так как в силу отсутствия глуби¬
ны и тонкости недооценивает своих партнеров.
Тиггер — в обрисовке его характера подчеркнуты незрелость (юве-
нилъноспгъ) и демонстративность - свойства истерика. Он стремит¬
ся обратить на себя внимание, неимоверно хвастлив, совершенно не
в состоянии отвечать за свои слова. Этим он напоминает Хлестакова
и Ноздрева, но в целом он, конечно, не психопат и его главный ради¬
кал, так же как и у Пуха, сангвинический с гипоманиакальным укло¬
ном.
з*
67
Вадим Руднев
Словарь безумия
Ру характеризуется примерно теми же свойствами, что и Тиггер, —
все время стремится обратить на себя внимание, крайне эгоцентричен
и гипертимичен, но в целом, очевидно, будущий циклоид.
Витгенштейн Людвиг (1889—1951). Великий австрийский
философ, «самый умный человек XX века», как его называли, был од¬
ним из самых удивительных чудаков и безумцев, каких только знал
свет.
На протяжении всей жизни - в письмах и разговорах с друзьями —
Витгенштейн часто говорил о двух вещах: о том, что он боится сойти
с ума (в старости это сменилось боязнью интеллектуального творче¬
ского бесплодия: «Оно пришло!» - с ужасом говорил он в таких слу¬
чаях), и о том, что в первую половину своей жизни он почти постоянно
находился на волоске от самоубийства. Так, в письме другу он писал,
что пошел на фронт в 1914 году для того, чтобы умереть в бою, на¬
столько его жизнь была невыносимой.
С юности Витгенштейн готовился к смерти, но все же он избежал
самоубийства и прожил полноценную творческую жизнь, полную нео¬
жиданных событий и интеллектуальных поворотов. Именно на эти
события и повороты стоит посмотреть под углом зрения того, как Вит¬
генштейн единоборствовал со смертью и как он ее побеждал.
До приезда в Кембридж в 1911 году его депрессия носила, как
можно предположить, нерасщепленный характер, ему было тягост¬
но жить, хотелось умереть отчасти из-за того, что жить было тягост¬
но, отчасти из-за того, что соблазняющий пример братьев, покончив¬
ших с собой, был налицо. Однако Витгенштейн справился.
В Кембридже олицетворением Супер-Эго для Витгенштейн стал,
конечно, Бертран Рассел, который отнесся к нему вначале неодобри¬
тельно, но со временем полюбил его и стал восхищаться им все боль¬
ше и больше. Витгенштейн же относился к своему наставнику черес¬
чур требовательно, укорял его за малейшие просчеты, позволял себе
критиковать его работы. Главным камнем преткновения в их совмест¬
ной работе был критика Витгенштейном расселовской теории типов.
Но все это было вполне естественно, ведь Рассел был живым челове¬
ком, а Витгенштейн страдал гипертрофированной честностью и стрем¬
лением говорить все прямо в лицо. Возможно, он относился к Расселу
проективно, т.е. именно как к своему Супер-Эго. Когда идеал проявлял
себя как обычный человек, Эго Витгенштейна проявляло недовольство.
Усиленные занятия и переутомление привели к новой вспышке де¬
68
Витгенштейн Людвиг
В
прессии, неуравновешенности, тяге к самоубийству, влечению к смер¬
ти. В наибольшей степени в этой ситуации пострадал Рассел. Он вспо¬
минает:
Однажды я сказал ему «Ты думаешь о логике или о своих грехах?»
«О том и о другом», ответил он и продолжал свои расхаживания.
Мне не хотелось думать, что наступает время для сна, так как мне
казалось вполне вероятным, что, покинув меня, он наложит на
себя руки.
Вообще все последнее полугодие в Кембридже Витгенштейн чув¬
ствовал себя очень плохо и все время говорил о смерти.
Из дневника его друга Дэвида Пинсента:
Он болезненно боится умереть, прежде чем разрешит теорию ти¬
пов (логическая теория Рассела, основной пункт их разногласий с
Витгенштейном и прежде чем напишет всю свою работу так, что¬
бы она звучала внятно для мира и принесла некоторую пользу на¬
уке Логике. Он уже много написал, и Рассел обещал опубликовать
работу, если он умрет. — Но он уверен, что то, что он уже написал,
не достаточно хорошо, чтобы абсолютно точно представить его
подлинные методы мышления и т. д., - которые имеют большую
ценность, чем конечные результаты. Он всегда говорит, что он
определенно умрет в течение четырех лет — но сегодня речь шла
уже о двух месяцах (17 сентября 1913 года).
Ночью он опять говорил о своей смерти, что он на самом деле
боится не смерти, но панически беспокоится о том, чтобы не про¬
жить оставшуюся часть жизни впустую. Все это покоится на его аб¬
солютной уверенности, что он скоро умрет — но я не вижу никаких
очевидных причин, почему бы ему не прожить еще долгое время.
Но бесполезно даже пытаться рассеивать эту его обеспокоенность
и убежденность. Ничего не поможет — он просто ненормальный (20
сентября 1913).
В сентябре 1914 года Витгенштейн пошел добровольцем на фронт
с сознательной установкой умереть на поле боя от невыносимости деп¬
рессии и бессознательной установкой вылечиться от нее — своеобраз¬
ной шоковой терапией. Это было первым Большим бегством от сво¬
боды. От невыносимой свободы несчастного сознания, которая изле¬
чивается резким сужением канала информации, сужением до режима
«жизнь-смерть». Терапия в целом была успешной, Витгенштейн обрел
новый духовный опыт.
69
Вадим Руднев
Словарь безумия
Личность Витгенштейна крайне противоречива. Она состоит как
будто из осколков разных характеров. Витгенштейн то замкнут и по¬
гружен в себя (шизотимная установка), то наоборот общителен и мил
(сангвиническая установка), то проявляет подозрительность и упрям¬
ство (паранойяльная установка), то кается в грехах (психастеническая
установка), то агрессивен, то педантичен, то вдруг бросает все и уст¬
ремляется навстречу новым авантюрным проектам. Он настолько пер¬
фекционист, что в зрелом возрасте не может довести до конца свою
главную книгу, и в этом его сходство с Кафкой (конечно, не только в
этом) - неуспешность оборачивается гиперуспешностью: незакончен¬
ная книга «Философские исследования» оказывается одной из главных
философских книг второй половины XX века (так же, как романы
Кафки). Эта парадоксальная осколочность, мозаичность конституции
в сочетании с тяжелыми депрессиями позволяет говорить о шизоти-
пическом строении психики Витгенштейна (см. шизотипический ха¬
рактер), т.е. таком латентном практически бездефектном неврозопо¬
добном (малопрогредиентном) развитии шизофрении, при котором
схизис проявляется не в виде клинического расщепления внутри лич¬
ности, но скорее в виде таких парадоксов и противоречий, часть ко¬
торых мы описываем в жизни Витгенштейна. (Противоречие кроется
в самом облике Витгенштейна. С одной стороны, маска трагической
серьезности и невозмутимости, запечатленная на всех или почти всех
фотографиях (Витгенштейн напоминает здесь знаменитого комика
Бастера Китона, проделывавшего свои трюки с невозмутимым выра¬
жением лица; с другой стороны, постоянное глумление (над Расселом,
над членами Венского кружка) и макабрический эпистолярный юмор.)
В литературе, описывающей шизотипический, или «полифоничес¬
кий», характер [Бурно 1996, Добролюбова 1996, Волков 2000], считает¬
ся, что особенностями этого типа личности, являются непонятность,
загадочность, трогательная чудаковатость/чудесность. Остановимся
подробнее на этих чрезвычайно важных для шизотипической лично¬
сти осколках.
Прежде всего, это обсессивность (см. характеры, обсессия и число,
обсессивный дискурс). Обсессивным в жизни Витгшенштейна являет¬
ся навязчивое повторение одного и того же сценария, основные мани¬
фестации которого мы уже разобрали. Схема сценария такая: Витген¬
штейн занимается чем-то чрезвычайно важным и существенным - ис¬
следует филосфские проблемы логики, читает лекции в
Кембриджском университете. Потом вдруг это ему надоедает, и он в
пространственном и аксиологическом смысле (см. модальности) пере¬
мещается на совершенно другую территорию - уезжает из Вены и ста¬
70
Витгенштейн Людвиг
В
новится деревенским учителем, уезжает из Англии в СССР с намере¬
нием там остаться и стать рабочим. Тем не менее, вскоре это ему тоже
надоедает, и он, вкусив этой редуцированной в социальном смысле
жизни, возвращается назад и принимается за новое серьезное дело.
Много рассказов сохранилась также о чудачествах и капризах Вит¬
генштейна. Когда Витгенштейна выжили из деревенской школы (дело
закончилось судом и медицинским освидетельствованием, так как его
обвиняли в избиении учеников), он не сразу вернулся в Вену. Судеб¬
ный процесс и унижения, связанные с ним, сделали для него невоз¬
можным появление в обществе. В Англию он тоже на мог сразу поехать
в таком состоянии. Он поступил все с той же степенью максимализ¬
ма, на которую всегда был способен. Он решил сделаться монахом. К
счастью, настоятель монастыря, к которому Витгенштейн обратился,
был настолько умен, что отговорил его от этого шага, сказав, что те
мотивы, которыми он руководствуется, не соответствуют критериям
хорошего послушника. В качестве альтернативы Витгенштейн устро¬
ился садовником в монастыре в Хюттельдорфе, неподалеку от Вены.
И эта работа хорошо на него психотерапевтически повлияла, так что
в конце лета он уже почувствовал себя способным вернуться в Вену.
Оксфордский философ Джон Мэббот вспоминает, что, когда он
приехал (в середине 1930-х годов) на конференцию, он увидел в хол¬
ле моложавого человека с рюкзаком, в шортах и рубашке с открытым
воротом. Никогда раньше не видев Витгенштейна и приняв его за сту¬
дента, приехавшего на каникулы, он сказал ему: «Боюсь, что здесь со¬
бираются философы». На что Витгенштейн ответил: «Я боюсь того же
самого».
Живя в Кембридже, Витгенштейн был членом Клуба Моральных
наук, вел там ожесточенные дискуссии и время от времени закатывал
скандалы. Один из наиболее известных связан с знаменитым впослед¬
ствии философом, в прошлом членом Венского логического кружка,
автором теории фальсификационизма Карлом Поппером. В середине
1940-х годов Поппер был приглашенным лектором в Кембридже. Од¬
нажды на заседании Клуба он предложил вопрос «Существуют ли фи¬
лософские проблемы?», и хотя вопрос был вполне в духе Витгенштей¬
на, Поппер согласно легенде высказал его в такой жесткой форме, что
спровоцировал Витгенштейна на вспышку гнева. Как рассказывал сам
Поппер в своих воспоминаниях, они играли в покер и он сказал что-
то, касающееся валидности моральных правил. Витгенштейн, держа
карты в руках, потребовал, чтобы Поппер привел хотя бы один при¬
мер морального правила. Поппер ответил: «Не угрожать приглашен¬
ным лекторам колодой карт». Витгенштейн взорвался и покинул по¬
71
Вадим Руднев
Словарь безумия
мещение. Все были на стороне Поппера. Рассел сказал Витгенштей¬
ну, что он сам затеял эту свару [Мопк 1991: 495].
Чрезвычайно интересна также история работы Витгенштейна в
лондонском госпитале. На протяжении первых лет мировой войны
1939—1945 годов Витгенштейн, будучи в Кембридже, не находил себе
места от того, что он не может найти никакой работы, помимо акаде¬
мической. Шла война, Лондон бомбили немцы, и преподавать фило¬
софию в этой ситуации ему казалось особенно бессмысленным.
Официально должность Витгенштейна в госпитале называлась «ап¬
течный носильщик» (сИкрешагу ройег): в его обязанности входило раз¬
носить лекарства из больничной аптеки по палатам.
Работая санитаром, Витгенштейн продолжал оставаться филосо¬
фом. По свидетельству жены его начальника Джона Райла, он разно¬
сил лекарства по палатам, а затем советовал пациентам не принимать
их. Когда руководителя Витгенштейна по аптечным делам через мно¬
го лет спросили, помнит ли он знаменитого философа, он сказал: «Ко¬
нечно, отлично помню. Он пришел к нам работать и, проработав три
недели, пришел ко мне и объяснил, как лучше организовать место. Ви¬
дите ли, это был человек, который привык думать» [Мопк: 433].
На новый 1942 год Джон Райл решил выполнить наконец обеща¬
ние, данное им своей жене, и привезти Витгенштейна к ним в дом в
Сассекс. К счастью для биографов Витгенштейна, в это время в доме
был 15-летний сын Райлов, Энтони, который оставил интересные за¬
писи о необычном госте:
Папа и еще один австрийский (?) профессор по имени Винкенш-
тейн (спеллинг?) появились в 7.30. Папа скорее усталый. Винк
ужасно странный — не слишком хорошо говорит по-английски.
Мы провели весь день в спорах — он невозможный человек.
Каждый раз, когда ты говоришь что-нибудь, он говорит: «Нет-нет,
дело не в этом». Может, для него дело не в этом, а для нас в этом.
Слушать его утомительно. После чая я показывал ему местность
вокруг дома, а он наставлял меня в том, чтобы я был добр с неча¬
стными маленькими детьми (беженцами, которых мать Энтони
разместила у себя дома. — В.Р.).
Была ли в Витгенштейне загадочность? Пожалуй, самым загадоч¬
ным было то, что, с одной стороны, он видится совершенным психом,
невыносимым «сумасшедшим профессором» (см.), непредсказуемым
человеком не от мира сего, но, с другой стороны, он представляется
(не только нам, но и практически всем его мемуаристам, знавшим его
72
Влечение к смерти и Штирлиц
В
лично) человеком чрезвычайно ясного ума, мудрым, добрым и пре¬
красным.
Влечение к смерти и Штирлиц. Когда мы думаем и говорим
о феномене влечения к смерти, то, во всяком случае, на бытовом уровне
мы воспринимаем то, что скрывается за этими словами, как нечто не
то чтобы аксиологически негативное, но безусловно непродуктивное и
печальное. Мы готовы принять влечение к смерти как негативный член
оппозиции «инстинкт жизни/инстинкт смерти», так как понимаем, что
без второго невозможно первое. Но при этом мы думаем, что именно
инстинкт жизни создает, строит, пишет, ваяет — произведения искус¬
ства, дворцы и скульптуры, книги, новые технологии. Мы готовы при¬
нять влечение к смерти в мифологическом духе как умирание-рожде¬
ние (т.е. в духе раннего психоанализа (Сабина Шпильрейн). Наконец
мы (иногда и, как правило, не для себя) готовы принять влечение к
смерти как идею геройской гибели за идеал, что согласно Гегелю и
Александру Кожеву и отличает человека от животного (т.е. не только
осознание своей смертности, но готовность к добровольному принятию
смерти). Но мы совершенно не готовы признать, что влечение к смер¬
ти управляет нашим повседневным бытовым поведением, нашими по¬
ступками, мыслями и эмоциями и что, более того, вся культура не мо¬
гла бы возникнуть без влечения к смерти и построена именно на нем.
Последнее утверждение не следует понимать так, что, с одной сторо¬
ны, влечением к смерти живет культурная элита, оставляющая после
себя мертвые произведения искусства, науки и философии, а влечени¬
ем к жизни - простой народ, занимающийся воспроизведением по¬
томства. Не хотим мы также сказать и того, что культура покоится на
влечении к смерти вследствие ее сублимативного характера, т.е. что
влечение к смерти — просто сублимированное творческое либидо, ли¬
шенное обыденных сексуальных проявлений и их следствий.
Все, кто хорошо знает основополагающий в данном случае текст
Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия», знает также и то, что
это один из наименее похожих на обычный четкий стиль Фрейда тек¬
стов (возможно, именно это позволило Жаку Деррида построить свою
деконструкцию психоанализа именно на этом произведении Фрейда -
см. главу «Страсти по Фрейду» в книге [ИеггШа 1980]) и что сама кон¬
цепция влечения к смерти изложена основоположником психоанали¬
за в каком-то смысле неуверенно, и, более того, до сих пор можно ска¬
зать, что развитого учения о влечении к смерти не существует (см.,
73
Вадим Руднев
Словарь безумия
например, [Лапланш—Понталис 1996\. Тем не менее, на основе исход¬
ного текста Фрейда можно выделить два типа влечения к смерти: «ак¬
тивный» и «пассивный». Об активном писала еще в 1911 г. Сабина
Шпильрейн [Шпильрейн 1994\. Это стремление человека ко всяческого
рода деструкции. (Эрик Фромм построил на этой основе свою концеп¬
цию некрофильского характера [Фромм 1992], к которой мы еще вер¬
немся.) Для нас важнее в данном случае «пассивный» тип влечения к
смерти, который, как пишет Фрейд, заключается «в стремлении в жи¬
вом организме к восстановлению какого-либо прежнего состояния,
которое под влиянием внешних препятствий живое существо принуж¬
дено было оставить, в некотором роде органическая пластичность,
или — если угодно, выражение косности в органической жизни» [Фрейд
1990а: 404].
Итак, влечение к смерти второго типа — это некое затухание орга¬
нического, стремление к превращению биологического в механичес¬
кое, что и есть смерть. Последнее имеет уже непосредственное отно¬
шение к культуре.
Мы имеем в виду пример противопоставления личной органичес¬
кой смерти неорганическому бессмертию, воплощенному в предметах
искусства, науки и проч. Особенно наглядно это пассивное влечение
к смерти мы наблюдаем в тяге к масштабному строительству и архи¬
тектуре - от египетских пирамид до Беломорканала. Смерть тысяч
людей при строительстве этих объектов, так называемая «строитель¬
ная жертва», обеспечивает неорганическое (механическое) бессмертие
культуры:
Я жалкий раб царя и жребий мой известен.
Как утренняя тень, исчезну без следа.
Меня с лица земли века сотрут, как плесень,
Но не исчезнет след упорного труда.
И вечность простоит близ озера Мерида
Гробница царская, святая пирамида.
(В. Я. Брюсов. «Египетский раб»)
Противопоставление деструкция/стагнация, соответствующая оп¬
позиции двух типов влечения к смерти, уже почти непосредственно
подводит нас к теме Штирлица - это противопоставление сталинско-
гитлеровского тоталитаризма (активный тип влечения к смерти — вре¬
мя действия фильма: май 1945) брежневскому ползучему посттотали¬
таризму (пассивный тип влечения к смерти и время создания и пер¬
вых показов фильма «Семнадцать мгновений весны» по советскому
телевидению: август 1973).
74
Влечение к смерти и Штирлиц
В
Брежневское время и сама фигура Брежнева несут в себе явные
черты пассивного влечения к смерти. Эту эпоху можно назвать эпохой
механического редукционизма. Сама фигура вождя с выскакивающи¬
ми вставными челюстями, полуразвалившегося автомата («работающе¬
го на батарейках», по известному анекдоту тех лет), бормочущего по
бумажке заученные, десемантизированные слова, также носила чисто
механический характер. Механическое чтение газет с «нулевыми но¬
востями» и смотрение таких же нулевых новостей по телевизору. Даже
репрессии носили механизированный характер — диссидентов не
уничтожали и чаще сажали не в лагеря, а в психушку, где старались
превратить их в сумасшедших, т.е. редуцировать в механическом смыс¬
ле - интеллектуально «дебиологизировать». Страх в обществе - живое
витальное чувство - сменился равнодушием к происходящему, как
будто бы все реальные биологические и социальные процессы были в
СССР приостановлены.
Проект пассивного сосуществования с пассивным влечением к
смерти в брежневскую эпоху был противопоставлен проекту активно¬
го противостояния пассивному влечению к смерти. Первый проект это
проект внутреннеэмигрантский, второй проект - это проект диссиден¬
тский (второй член оппозиции «пассивное/деструктивное»). Не нам и
не теперь судить людей 1970-х—1980-х годов, но рискнем высказать
мысль, что конформистский внутреннеэмигранский проект внешнего
непротивления пассивному влечению к смерти представляется нам в
большей мере состоявшимся и успешным, чем проект диссидентский.
Или, точнее говоря, внутреннеэмигрантский проект был более адеква¬
тен тому времени, поскольку он именно в силу своей конформности
позволял развивать фундаментальную культуру в советском государ¬
стве, в то время как диссидентский проект этому противился. То есть
диссидентский проект исходил из противодвижения «смертью за
смерть», а внутреннеэмигрансткий — исходил из идеи подводного те¬
чения одолевания пассивной смерти пассивной жизнью. И, конечно,
внутренних эмигрантов было больше, чем диссидентов, ибо что для
того чтобы быть внутренним эмигрантом, нужно гораздо меньше му¬
жества. Поэтому сознанию среднего интеллигента внутренний эмиг¬
рант - профессор Ю.М. Лотман, лингвист Вяч. Вс. Иванов, компози¬
тор Альфред Шнитке, поэт Давид Самойлов, пианист Святослав Рих¬
тер - были ближе и ценнее, чем диссиденты — академик А.Д. Сахаров,
А.И. Солженицын, В.В. Буковский — потому что внутренний эмигрант,
не смотря на свой конформизм, чаще всего минимальный, давал ин¬
теллигенции, оторванной от западной культуры, то, что ей более всего
было необходимо, чтобы она чувствовала себя интеллигенцией, — ин¬
75
Вадим Руднев
Словарь безумия
теллектуальную пищу и, что, может быть, даже главнее, ощущение, что
мы вопреки всему живем духовной жизнью. Диссиденты же просто го¬
ворили - вы все трусливое стадо, что, конечно, было, по большому
счету справедливо, хотя и обидно.
Этот фильм имел такой ошеломляющий успех потому, что в нем
был показан внутренний эмигрант, живущий среди чужих, сделавших¬
ся наполовину своими и противостоящий активному (впрочем, уже не
особенно активному) влечению к смерти погибающей гитлеровской
Германии весны 1945 года. В этом фильме был показан двойной стан¬
дарт внутреннего эмигранта. Внутренний эмигрант и шпион всегда
живут по двойному стандарту. Один стандарт — для своих, другой — для
чужих.
То есть и внутренний интеллигент, и шпион живут «по лжи», а
ложь как оппозиция истине соответствует в определенном смысле
смерти не в её оппозиции к жизни, но, так сказать, смерти во имя жиз¬
ни. Вот это сопротивостояние внутреннего эмигранта и шпиона, про¬
артикулированное в фильме о Штирлице наиболее ярко и талантли¬
во, и сделало этот фильм шедевром. Можно даже сказать так, что это
фильм о трагедии русской внутренней эмиграции, не знающей, что
скоро будет перестройка и поэтому уже почти готовой к тому, чтобы
полностью раствориться в лояльном отношении к власти, т.е. в духов¬
ном смысле умереть. Так и Штирлиц возвращается в Берлин только
для того, чтобы погибнуть «со своими», т.е. с немцами - задание бле¬
стяще выполнено, с рациональной точки зрения в Берлине его ничто
не удерживает. Но Россия стала чужой, так же как внутреннему эмиг¬
ранту стала чужой демократия. Пассивная установка на смерть превра¬
щается в активную. (В интервью, данном в начале 1990-х годов Лео¬
ниду Парфенову, Татьяна Лиознова подтвердила, что, по ее режиссер¬
ским представлениям, Штирлиц, вернувшись в Берлин, должен был
непременно погибнуть.)
Но подойдем к делу с другой стороны. Фрейд, анализируя фено¬
мен влечения к смерти, писал, как известно, что в его основе лежит
принцип навязчивого повторения, который реализуется и в психоана¬
литической практике, когда пациент вместо того, чтобы вспомнить и
осознать травматическую ситуацию, навязчиво репродуцирует ее, осу¬
ществляя перенос травмообразующего персонажа на личность анали¬
тика. В обыденной жизни навязчивые повторения осуществляются в
склонности к бытовым ритуалам, к повторениям одних и тех же фраз,
чтению одних и тех же книг, смотрению одних и тех же фильмов.
Фрейд связывает навязчивое повторение с влечением к смерти по¬
тому, что организм обнаруживает здесь «влечение к прежнему состоя¬
76
Влечение к смерти и Штирлиц
В
нию», т.е. к смерти, потому что «неживое было раньше, чем живое»
[Фрейд 1990а: 404—405]. В этом смысле любой религиозный обряд, ко¬
торый Фрейд связывал с неврозом навязчивых состояний, также об¬
служивает влечение к смерти.
Эрик Фромм в книге о Гитлере приводит сон Альберта Шпеера,
гитлеровского министра промышленности:
Приносят венок, Гитлер направляется к первой стороне зала, где
расположен еще один мемориал, у подножия которого уж лежит
множество венков. Он встает на колени и начинает петь скорбную
песнь в стиле грегорианского хорала, где постоянно повторяются
нараспев слова «Иисус Мария». Вдоль стен длинного и вытянуто¬
го вверх мраморного зала тянутся бесчисленные мемориальные
доски. В убыстряющемся темпе Гитлер возлагает к ним венок за
венком, которые все время подает ему адъютант. Песня становит¬
ся все более монотонной, ряд досок кажется бесконечным [Фромм
1992: 12].
Здесь наряду с безусловным навязчивым повторением ритуала по¬
клонения смерти присутствует нечто вроде повторяющихся кадров
(сон, как известно, в начале века прочно ассоциировался с кинематог¬
рафом; незаметное для зрителя повторение кадра - основная техноло¬
гическая идеологема производства и проката фильма). Таким образом,
весна 1945 года в Берлине, время и место действия нашего фильма, -
это тотальная атмосфера, можно сказать, безудержного влечения к
смерти. Достаточно вспомнить реализацию этого влечения — коллек¬
тивные самоубийства в бункере — самого Гитлера, Евы Браун, Геббель¬
са, его жены и убийства их шестерых детей.
Но еще при жизни Гитлера ему во всем виделась смерть и ее атри¬
буты. Шпеер вспоминает:
Если на столе появлялся мясной бульон, я мог быть уверен, что он
заведет речь о «трупном чае»; по поводу раков он всегда рассказы¬
вал историю об умершей старушке, тело которой родственники
бросили в речку в качестве приманки для этих животных; увидев
угря, он объяснял, что они лучше всего ловятся на дохлых кошек
[Фромм 1992: 80].
Вот в какой атмосфере был вынужден работать Штирлиц весной
1945 года в Берлине.
Однако мы не ответили на вопрос, как влечение к смерти, выра¬
жающееся, в частности, в навязчивом повторении, связано с массовой
77
Вадим Руднев
Словарь безумия
культурой. Самым непосредственным образом. Первое - в плане син¬
таксиса массового дискурса, который повторяется от одного текста к
другому в зависимости от жанра. Когда кинематограф осознал эту осо¬
бенность, появились откровенные повторения прошлых сюжетов, пе¬
реживаемых в качестве настоящих, — римейки. Второе — в плане се¬
мантики. Массовый фильм всегда строится примерно по одному и
тому же семантическому принципу. Третье — в плане прагматики; здесь
существенным является стремление к повторному появлению в разных
фильмов одного и того же актера. Когда кинематограф осознал эту
особенность, появились сериалы. Сериалы, которые бесконечное ко¬
личество раз повторяются на экранах телевизоров.
Но почему все это выражает влечение к смерти?
Чтобы попытаться ответить на этот сложный вопрос, мы выска¬
жем, на первый взгляд, парадоксальное утверждение, что одним из
проявлений влечения к смерти массовой культуры XX века является
реклама (ср. психоанализ рекламы). Чаще всего, мы видим рекламу по
телевизору, когда она неожиданно врывается в нарратив, прерывает его
и своей пустотой (своей поверхностью, симулятивной не-связаннос-
тью с товаром — большинство зрителей воспринимает рекламу как
помеху, совершенно бесцеремонно навязанную и все время повторяю¬
щуюся (навязчивое повторение), как напоминание о том, что фильм
вообще кончится (в конце, как правило, тоже реклама). Реклама — это
своеобразное тетеШо топ, напоминание о конце, причем, если на
поверхности реклама рекламирует жизнь, то в глубине она симулятив-
на, по меньшей мере лжива и пуста - т.е. рекламируется ничто, смерть.
Реклама - это чиста форма, притворяющаяся жизненной формой -
типичное для XX века сооружение. Это симулякр товара, а не сам то¬
вар, т.е. нечто мертвое.
Время и безумие.
1. Шизоидное и циклоидное время (см. также характеры). Сравним два
стихотворных текста, первый из которых принадлежит Державину, а
второй Тютчеву:
Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
78
Время и безумие
В
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.
Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них.
Эти два стихотворения во многом похожи. В обоих идет речь о кон¬
це времени. Но Державин и Тютчев стоят на противоположных пози¬
циях. С точки зрения первого текста в конце времен наступает тоталь¬
ное разрушение. С точки зрения второго текста конец времени — это
скорее час подведения итогов развитию мира, которые предстоит под¬
вести Божеству. Первое время можно назвать естественнонаучным,
энтропийным, второе - семиотическим, эсхатологическим. В первом
мире, мире вещей, все разрушается, во втором мире, мире знаков, вре¬
мя является лишь видимостью, «подвижным образом вечности» (Пла¬
тон) - здесь в любом событии созидается Божья Воля. В этом смысле
время реальности и время текста направлены в противоположные сто¬
роны (подробно об этом см. первую главу книги [Руднев 2000]).
В первом стихотворении идея направления задана в образе реки
времен, это как бы «стрела времени», как назвал ее Артур Эддингтон.
Во втором случае тоже дан образ воды, но эта вода скорее обволаки¬
вает мир, это скорее океан, а не река. Мировосприятие, выраженное
в первом стихотворении, таким образом, историческое, а во втором си¬
стемно-философское.
Интересно при этом, что именно Державин, который не верит в
целесообразность, осмысленность движения по времени, говорит о зна¬
ковых образованиях. Он понимает: что производится посредством
«лиры и трубы» — искусство — долговечнее «народов, царств и царей»,
но и этому не сохраниться в вечности, поскольку вечность мыслится
как полный распад и хаос.
Тютчев жил после открытия второго закона термодинамики (кото¬
рый и дал толчок определению направления естественнонаучного вре¬
мени сначала Л. Больцманом, а затем в XX веке Г. Рейхенбахом [Рей-
хенбах 1962]). Поэтому он мыслит в энтропийных терминах, говоря о
«составе частей», который изменится, придет в равновероятное состо¬
яние. Но несмотря на эту видимость разрушения окончательное сло¬
во принадлежит Божеству, которое в состоянии запустить этот «боль¬
79
Вадим Руднев
Словарь безумия
шой круг» времени заново. Отсюда и образ океанических вод, ассо¬
циирующихся в нашем коллективном бессознательном с рождением
и родами (ср. [Кёйпер 1986]).
Восприятие мира, характерное для циклоидной конституции,
сродни естественнонаучному времени, а восприятие мира, характер¬
ное для шизоида, сродни эсхатологическому времени. Что позволяет
нам утверждать это? Циклоид живет в гармонии с обыденным вне¬
шним миром, поэтому естественно предположить, что его восприятие
времени это восприятие стихийно естественнонаучное. Шизоид жи¬
вет в гармонии со схематическими, философски окрашенными кон¬
цепциями бытия. Представление о целесообразности временного по¬
тока и даже, более того, о кажимости, внешней видимости времени,
за которой скрывается вечность, должно ему быть ближе. Да и сфор¬
мировалась эта концепция в кругу шизоидно мыслящих философов,
прежде всего Блаженного Августина, учение которого о Граде Божи¬
ем положило начало той концепции направления времени, которую
мы называем эсхатологической. Осмысленность и финальность эсха¬
тологического времени, его отчетливо выраженный семиотический
характер соответствует семиотической реальности, в которой живет
шизоидный индивид: реальность - знаковая система, за каждой вещью
скрывается символ (см. реальность). И наоборот неосмысленность и
детерминизм ественнонаучного времени соответствуют той вещной
неосмысленное™, незнаковости мира, в котором живет циклоид-сан-
гвинк. В книге [Руднев 2002] нами показано, что обессмысленность
внешнего мира — семиотическая основа депрессии (см.). С известной
долей вероятности это представление можно перенести и на циклоид¬
ный характер в целом - поскольку гипомания, как известно, являет¬
ся лишь обратной стороной депрессии.
Приводим пример экзистенциального описания депрессивного
переживания времени, принадлежщий Юджину Минковскому:
Каким точно было переживание времени у этого пациента и как
оно отличалось от нашего? Его представления довольно точно
можно описать следующим образом: он переживал дни монотон¬
но и однообразно. Он знал, что время идет и, хныкая, жаловался,
что «прошел еще один день». По мере того как проходил день за
днем, он заметил в них определенный ритм: по понедельникам
чистят серебро, по средам садовник подстригает газон и т. д. Все
это лишь дополняло содержимое отходов, которые были его нака¬
занием и единственной связью с миром. Не было никакого дей¬
ствия или желания, которое, исходя из настоящего, достигало бы
80
Время и безумие
В
будущего, занимая скучные, однообразные дни. Каждый день раз¬
дражал монотонностью тех же слов, тех же жалоб, пока не терял¬
ся смысл их продолжения. Таковым было для него течение време¬
ни [Минковски 2001: 243].
Далее автор продолжает: «Однако наша картина все еще неполна.
В ней отсутствует один существенный элемент: будущее было заблоки¬
ровано (курсив автора. — В. Р.) неминуемостью ужасных разрушительных
событий (курсив мой. - В.Р.)» [Там же: 244].
2. Истерическое время (см. также апология истерии). Поскольку исте¬
рики близки гипертимным циклоидам (гипоманиакам), то и отноше¬
ние к будущему у них во многом сходное — неопределенное и беззабот¬
ное. Гораздо сложнее истерическое отношение к прошлому. Его спе¬
цифика в том, что применительно к истерику есть как бы два прошлых
времени — объективное и субъективное. Первое это то, которое было
на самом деле, второе — то, каким субъекту хотелось бы, чтобы оно
было. Поразительная особенность истерической личности к вытесне¬
нию позволяет ей замещать и изменять в своем сознании крупные и
мелкие блоки прошлого и заменять их другими, более или менее вы¬
думанными. Истерикам —
все время приходится латать дыры, нанесенные при столкновении
с действительностью, с помощью лживых «историй», заменяющих
истинные события; они предают забвению неприятные случаи и
происшествия, связанные, прежде всего с чувством собственной
вины и неправоты; и, в конце концов, происходит отрицание не¬
удобной и неприятной необходимости нести отчет за свое поведе¬
ние или уклонение от такой необходимости. К этим людям особен¬
но применимо выражение Ницше: «“Я это сделал”, - говорит моя
память. “Я не мог этого сделать”, — говорит моя совесть и остает¬
ся неумолимой. И память уступает» [Риман 1998: 248].
В соответсвии с ранней теорией истерической конверсии забытое
травматическое воспоминание, например, пощечина, данная субъек¬
ту, соматизируется в истерический симптом, например, в невралгию
лицевого нерва [Брилл 1999]. Однако уже в 1920 году в работе о Че-
ловеке-Волке, Фрейд приходит к выводу, в соответствии с которым
травматическое переживание, например, знаменитая «первосцена», не
вспоминается реально, а конструируется задним числом, «паЬ1га§Исй»
81
Вадим Руднев
Словарь безумия
[Фрейд 1996\. Лакан, радикализуя мысль Фрейд, говорил, что травма
формируется не из прошлого, а из будущего.
Обобщая истерическое отношение к феномену времени, можно
процирировать поэтического короля истериков Игоря Северянина:
В былом - ошибка. В былом - ненужность.
В былом - уродство. Позор — в былом.
В грядущем - чувства ее жемчужность,
А в настоящем - лишь перелом.
3. Обсессивно-компулъсивное время (см. также обсессия и число, обсессия
и культура). Обсессивно-компульсивный характер во многом является
не просто противоположным истерическому, а как бы его оборотной
стороной. В случае обсессивно-компульсивном вытесненное преобра¬
зуется в навязчивое повторение символического ритуала. Истерик за¬
меняет или фальсифицирует вытесненный травматический фрагмент
прошлого. Ананкаст преобразует его в навязчивое непонятное действие
или состояние мысли. Если в случае истерического невроза мы имеем
отказ и фальсификацию прошлого, то в случае обсессивно-компуль-
сивного невроза имеет место символическое повторение прошлого. В
случае истерии имеет место отказ от прошлого, в случае навязчивого
невроза - решительный отказ от будущего. Особенностью обсессивно-
компульсивного поведения и восприятия реальности является непрео¬
долимая трудность, связанная со становлением во времени.
Общим следствием такой склонности, - пишет Ф. Риман, - явля¬
ется стремление все оставить по-прежнему. Изменение привычно¬
го состояния напоминает о преходящем, об изменчивости, кото¬
рую личность с преобладанием навязчивостей (обсессивные) хоте¬
ли бы по возможности уменьшить. <...>
Когда что-либо изменяется, они расстраиваются, становятся
беспокойными, испытывают страх, пытаются отделаться от изме¬
нений или ограничить их, а если они происходят - помешать им.
Они противостоят тем изменениям, которые с ними происходят,
занимаясь при этом сизифовым трудом, так как все мы находим¬
ся в потоке событий, «все течет и все изменяется» в непрерывном
возникновении и исчезновении, и никто не может остановить этот
процесс [Риман 1998: 166-167\.
Еще более выразительно с экзистенициально-клинической пози¬
ции пишет об обсессивно-компульсивном восприятии времени В. фон
Гебзаттель в статье «Мир компульсивного»:
82
Время и безумие
В
За этим феноменом (навязчивый запах собственного тела у паци¬
ента, о котором говорит автор. — В. Р.) стоит неспособность Н. Н.
направить поток энергии в русло выполнения задач, ориентирован¬
ных на саморазвитие, и таким образом очистить себя от энергии
стагнации. Эта неспособность — реальное нарушение, возможно,
связанное с эндогенным депрессивным подавлением. В любом слу¬
чае очевидно препятствие, блокирование течения жизни. К тому же
нарушается темпоральность жизни - развитие блокируется, про¬
шлое остается зафиксированным. Эта фиксация может пережи¬
ваться как загрязнение, которое у человека выражается в беспокой¬
стве о запахе, исходящем от тела. <...> Ананкастический пациент
не только не может сдвинуться с места, но он полностью захвачен
прошлым с помощью символов нечистого, испачканного и мерт¬
вого [Гебзаттелъ 2001:294, 297\.
Начиная какое-то действие или описание, ананкаст не может сдви¬
нуться с места, поворачивает назад, делает шаг вперед и вновь пово¬
рачивает назад.
Ясно, что обсессивно-компульсивная личность не может реализо¬
вать и использовать обыденную линейную модель времени и исполь¬
зует циклическую модель, связанную с постоянным повторением (см.
также персеверация). В этом смысле данный феномен уходит корнями
в мифологическую традицию. Однако следует заметить, что привыч¬
ный для исследователей мифологического времени аграрный цикл,
связанный в культом бога плодородия, умирающего и воскресающего
бога (ср. Грандиозное Я), здесь не подходит, поскольку в обсессивно-
компульсивном времени ничто не умирает и тем более ничто не вос¬
кресает. Здесь скорее определяющую роль играет магическая сторона
обсессивно-компульсивного характера, которая позволяет провести
аналогию между повторяющимся временем ананкаста и временем ма¬
лого ритуала типа заговора или заклинания (см. обсессия и культура).
В повторяющемся времени заговора нет той катартической силы, ко¬
торая имеет место в аграрном цикле — в заговоре повторяется много
раз, причем автоматически, без всяких изменений, сама заговорная
формула. Здесь именно чистое повторение обретает заклинательную
силу. Педантически подразумевается и указывается, что только повто¬
ренное определенное количество раз заклинание будет иметь магичес¬
кую силу. В этом смысле можно сказать, что если время истерическое
соматизируется опространствливается, то время ананкастичекое, теряя
признаки естественного времени, превращается в чистое механичес¬
кое (в ньютоновском смысле) время, не подверженное ни второму
83
Вадим Руднев
Словарь безумия
началу термодинамики, как время циклоида, ни эсхатологическому
становлению, как время шизоида, и в определенном смысле не име¬
ющее начала и конца. Обсессивная мысль и компульсивное действие,
можно сказать, автоматически раскачиваются, как маятник сломанных
часов, которые показывают всегда одно и то же время.
4. Паранойяльное и шизофреническое время. В той мере, в какой паранойя
существует как самостоятельная болезнь, а не стадия в развитии ши¬
зофрении, можно сказать, что восприятие времени здесь сводится к
нулю. Даже не обсессивно-компульсивное повторение — становления
нет вообще, нет и самой идеи хоть какого-то изменения, течения, дви¬
жения по времени. Происходит это из-за необычайной стойкости аф¬
фекта у параноиков [Блейлер 2001] или, по выражению К. Леонграда,
«застреванию» параноиков на одном аффекте [Леонгард 1979], чуждых
всякому движению и становлению. Развиваться и повторяться здесь
решительно нечему, все сведено к одной точке - сверхценной идее,
центральной идее паранойяльного бреда. Время параноику просто не
нужно - он живет вне его. Зато очень сильно развита сфера простран¬
ства. Параноик замечает все вокруг, хотя все свидетельствует об од¬
ном — об измене в случае бреда ревности, о том, что все обращают
внимание на меня при сенситивном бреде отношения, что все пресле¬
дуют меня при бреде преследования. Параноик никак не может опе¬
реться на время, но он очень сильно опирается на пространство. Чрез¬
вычайно часты случаи, когда параноики убегают от преследователей,
меняют место жительства или просто путешествуют, как Руссо, стра¬
давший бредом преследования (см.).
Напротив, при шизофрении (конечно, при параноидной ее фор¬
ме с развитым бредом и галлюцинациями) время становится одной из
самых главных категорий. Но что это за время? Прежде всего это вре¬
мя асемиотическое, так как при остром психозе связи с реальностью
полностью или почти теряются, и все «вокруг» состоит из одних только
означающих, при стремлении к полному уничтожению денотатов (см.
сущность безумия). Зато означающих очень много, и они делают, что
хотят. И время при шизофрении делает, что хочет. Оно нелинейно,
многослойно, прошлое перепутывается с настоящим и будущем - т.е.
со временем происходит примерно то же самое, что в сновидении.
84
Иногда, особенно в острых фазах болезни, наблюдается как бы
временная «буря», прошлое бурно смешивается с будущим и насто¬
ящим. Больной переживает то, что было много лет назад так, как
Время и безумие
В
если бы это происходило сейчас; его мечтания о будущем стано¬
вятся реальным настоящим; вся его жизнь - прошлая, настоящая
и будущая — как бы концентрируется в одной точке (Ге1е§сорш§ —
по терминологии экзистенициальной психиатрии) [Кемпинский
1998: 220-221].
Интересно, что примерно то же самое происходило в психодели¬
ческих экспериментах Грофа, когда испытуемый психотизировался
при помощи ЛСД или холотропного дыхания:
В одно и то же время могут возникать сцены из разных историчес¬
ких контекстов, они могут выглядеть значимо связанными между
собой по эмпирическим характеристикам. Так, травматические пе¬
реживания из детства, болезненный эпизод биологического рожде¬
ния и то, что представляется памятью трагических событий из пре¬
дыдущих воплощений, могут возникнуть одновременно как части
одной сложной эмпирической картины. <...> Линейный временной
интервал, господствующий в повседневном опыте, не имеет здесь
значения, и события из различных исторических контекстов появ¬
ляются группами, если в них присутствует один и тот же тип силь¬
ной эмоции или интенсивного телесного ощущения. <...> время
кажется замедленным или необычайно ускоренным, течет в обрат¬
ную сторону или полностью трансцендируется и прекращает тече¬
ние [Гроф 1992: 35].
Отрицание линейного временного порядка, хронологии, выраже¬
но устами героя-шизофреника в романе С. Соколова «Школа для ду¬
раков» (см.):
Мне представляется, у нас с ним, со временем, какая-то неразбе¬
риха, путаница, все не столь хорошо, как могло бы быть. Наши ка¬
лендари слишком условны и цифры, которые там написаны, ни¬
чего не означают и ничем не обеспечены, подобно фальшивым
деньгам. Почему, например, принято думать, будто за первым ян¬
варя следует второе, а не сразу двадцать восьмое. Да и могут ли
вообще дни следовать друг за другом, это какая-то поэтическая
ерунда — череда дней. Никакой череды дней нет, дни приходят
когда какому вздумается, а бывает, что и несколько сразу.
г
Галлюцинации. То, что галлюцинации выполняют функцию меха¬
низма защиты, т.е., прежде всего, понижения тревоги, разумеется, не
новость. (Ср., например: «... прежде всего, существование стремится
избежать экзистенциальной тревоги. Галлюцинации - это тоже форма
попытки избежать этой тревоги» [Бинсвангер 1999]). Наша цель состо¬
ит в том, чтобы, встроив этот феномен в систему учения о механизмах
защиты, постараться лучше понять его феноменологию и попытаться
построить метапсихологическую теорию его функционирования. С
этой целью мы вводим термин экстраекция. Мы будем понимать под
экстраекцией сугубо психотический механизм защиты, суть которого
состоит в том, что внутренние психологические содержания пережива¬
ются субъектом как внешние физические явления, якобы воспринима¬
ющиеся одним или сразу несколькими органами чувств (зрительные,
слуховые (в частности, вербальные), тактильные, обонятельные обма¬
ны), локализующиеся либо во внешнем пространстве (в экстрапроек¬
ции), что касается прежде всего истинных галлюцинаций; либо во
внутреннем телесном пространстве, «в голове» (в интрапроекции) -
здесь речь идет прежде всего о зрительных и слуховых обманах («голо¬
сах»), которые наблюдаются при псевдогаллюцинациях В.Х. Кандин¬
ского и психических (ложных) галлюцинациях Ж. Байарже (подробно
типологию обманов см. [Рыбальский 1983]).
Разграничение экстраекции и проекции представляется первооче¬
редной задачей прежде всего потому, что на первый взгляд кажется,
будто экстраекция есть лишь продолжение, своего рода материализа¬
ция проекции или даже просто ее разновидность. Многие психиатры,
по-видимому, так и считали и продолжают считать. Например, ранний
К. Г. Юнг в книге «Психология йетепИа ргаесох» 1907 года пишет:
«Галлюцинацию можно определить как простую проекцию наружу
психических элементов» [Юнг 2000:97]. Мы постараемся показать, что
это не так.
Прежде всего, «области интересов» проекции и экстраекции не
совпадают экстенсионально. Если проекция характерна и для невро¬
зов, и для пограничных состояний, и для психозов, то экстраекция это
сугубо психотический вид защиты, она может иметь место при шизоф¬
рении, алкогольных психозах, эпилепсии, аменции Т. Мейнерта, ин¬
волюционных пресенильных и сенильных, а также органических
86
Галлюцинации
Г
психозах, связанных с мозговыми травмами, при маниакальной фазе
маниакально-депрессивного психоза (см. [Ясперс 1997, Блейлер 1993,
Рыбальский 1993]).
Можно сказать, что экстраекция и проекция соотносятся пример¬
но так же, как психоз и паранойя. Или, дополняя приблизительную
схему Шандора Ференци (мы имеем в виду его статью «Ступени раз¬
вития чувства реальности» [Ференци 2000]), можно сказать, что линия
«невроз — паранойя - психоз» соответствует линии «интроекция -
проекция - экстраекция».
Защитная функция экстраекции, блокирующей шизопорождаю¬
щее послание, проявляется в том, что она является противовесом
неразрешимой жизненно-коммуникативной задаче и в каком-то смыс¬
ле защитой более эффективной, чем паранойя, гебефрения и катато¬
ния. В каком же смысле?
По-видимому, в том, что экстраекция в большей степени позволяет
субъекту сохранно существовать в некоем законченном мире, пусть и
психотическом. Недаром говорят о «галлюцинаторном рае», которо¬
го, по словам Блейлера, может достичь только талантливый шизофре¬
ник. В определенном смысле таким раем была психотическая систе¬
ма президента дрезденского суда Даниэля Шрёбера, которую он по-
своему связно и логично описал в своих мемуарах. Подобным раем
является любая эзотерическая мистическая система, например мета-
историческая концепция Даниила Андреева, описанная им в «Розе
мира». В каком-то смысле Даниил Андреев говорит здесь на «базовом
языке», слова и пропозиции которого ему сообщили галлюцинаторные
голоса и силы. Ното погтаНз (выражение Вильгельма Райха) не в со¬
стоянии понять до конца дискурс Даниила Андреева, когда тот, ссы¬
лаясь на свое знание, полученное при помощи псевдогаллюцинаций,
пишет нечто вроде: «И тогда наконец третий уицраор испустил дух».
Но при этом важно, что галлюцинаторная система не только не вос¬
препятствовала личностной сохранности Даниила Андреева, но, воз¬
можно, обеспечила ему эту сохранность в его нелегкой жизни (советс¬
кая тюрьма и ссылка).
То же самое можно сказать и о случае Боэция («Утешение Фило¬
софией»), Если этот случай действительно имел место, то это была эк¬
страекция, которая послужила медиативным снятием неразрешимого
жизненного противоречия.
Тем временем, пока я в молчании рассуждал сам с собою и
записывал стилем на табличке горькую жалобу, мне показалось,
что над моей головой явилась женщина с ликом, исполненным до¬
стоинства, и пылающими очами, зоркостью своей далеко пре¬
87
Вадим Руднев
Словарь безумия
восходящими человеческие, поражающими живым блеском и не¬
исчерпаемой притягательной силой; хотя была она во цвете лет,
никак не верилось, чтобы она принадлежала к нашему веку. Труд¬
но было определить и ее рост, ибо казалось, что в одно и то же
время она и не превышала обычной человеческой меры, и теменем
касалась неба, а если бы она подняла голову повыше, то вторглась
бы в самое небо и стала бы невидимой для взирающих на нее лю¬
дей [Боэций 1990].
Сначала галлюцинация явилась перед философом зрительно, за¬
тем она заговорила с ним на «базовом языке» (базовом в том смысле,
что он не касался повседневной жизни и ее кажущихся противоречий).
По-видимому, ситуация экстраективного «утешения Философией»
является достаточно универсальной в мировой культуре. Еще один яр¬
кий пример - «Бхагаватгита». Предводителю пандавов Арджуне, фру-
стрированному «двойным посланием»: с одной стороны, долг кшатрия
повелевает сражаться, с другой, противники - ближайшие родствен¬
ники, кузены, — является бог Кришна и в длительной беседе (состав¬
ляющей содержание поэмы) снимает все противоречия.
Об «утешении галлюцинацией» и о нахождении ее по ту сторону
логики проницательно писал уже Альфред Адлер в 1912 году в статье
«К теории галлюцинаций»:
И только там, где «Я» извлекается из общества и приближается к
изоляции, - в мечте, в которой стремятся к победе над всеми ос¬
тальными, в смертельной, изнемождающей неопределенности,
возникающей у путника в пустыне, когда в мучительной медлен¬
ной гибели сама собой рождается приносящая утешение фата-мор¬
гана, в неврозе и в психозе, у изолированных, борющихся за свой
престиж людей, — зажимы ослабевают, и душа, словно в опьяне¬
нии, с экстатическим пылом вступает на путь ирреального, лишен¬
ного общности, строится другой мир, в котором галлюцинация
играет огромную роль, поскольку логика не столь существенна
[Адлер 1995: 90].
Но даже когда галлюцинация не утешает, а угрожает, что чаще все¬
го и бывает при параноидной шизофрении, она все равно в каком-то
смысле является защитой против хаоса распада личности. Так Л. Бин-
свангер, анализируя случай Лолы Фосс, пишет, что когда у пациент¬
ки начался бред, она справлялась с ним легче, чем когда она существо¬
вала в пограничном состоянии, потому что последняя ситуация была
более стабильной альтернативой реальному миру.
88
Галлюцинации
Г
В книге «Психология шизофрении» Антон Кемпинский пишет:
Главной чертой шизофренической космологии является фантасти¬
ка и магия <...>. Шизофренический мир наполняют таинственные
энергии, лучи, силы добрые и злые, волны, проникающие в чело¬
веческие мысли и управляющие человеческим поведением. В вос¬
приятии больного шизофренией все наполнено божеской или дья¬
вольской субстанцией. Материя превращается в дух. Из человека
эманируют флюиды, телепатические волны. Мир становится полем
битвы дьявола с богом, политических сил или мафии, наделенных
космической мощью. Люди являются дубликатами существ, живу¬
щих на других планетах, автоматами, управляющими таинственны¬
ми силами [Кемпинский 1998:135\.
Даже если в самой галлюцинации нет ничего чудесного, например,
больной видит просто какие-то узоры на стене, которых объективно
не существует, то сама идея восприятия того, чего нет, носит алетичес-
кий характер (см. модальности), так как с обыденной точки зрения
«этого не может быть». Более того, можно сказать, что в обыденной
жизни сфера экстраекции - это единственное место (и время), когда
вообще возможно проявление чудесного. Можно даже высказать пред¬
положение, что идея чудесного в принципе могла возникнуть только
потому, что люди время от времени сходили с ума (по аналогии с иде¬
ей Н. Малкольма о том, что понятие сновидения (см.) могло возник¬
нуть только потому, что люди время от времени рассказывали друг
другу свои сновидения [Малкольм 1993]). В принципе, правда, можно
сказать и наоборот: что сны и безумие могли возникнуть только как
вместилища чудесного. Об этом сказано у Достоевского словами Свид¬
ригайлова, который был галлюцинантом:
Привидения - это, так сказать, клочки и отрывки других миров,
их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, по¬
тому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало
быть, должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для
порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился земной порядок в орга¬
низме, тотчас и начинается сказываться возможность другого
мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим ми¬
ром больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и перей¬
дет в другой мир.
Так или иначе, экстраективное отношение к миру совершенно яв¬
ственно окрашено в алетический модальный план, т.е. экстраективный
89
Вадим Руднев
Словарь безумия
мир — это алетический нарративный мир. Главной характеристикой
этой модальности в высказывании является смена оператора «невоз¬
можно» на оператор «возможно».
Можно сказать даже, что в обыденном сознании понятие «невоз¬
можное», с одной стороны, и «галлюцинация» и «бред», с другой, яв¬
ляются синонимами. Когда человек сталкивается с чем-то необычным,
он говорит: «Это невозможно, бред какой-то!» Столкновение с чудес¬
ным настолько сращено с идеей экстраекции, что, когда человек не
готов к встрече со сверхъестественным, он интерпретирует происхо¬
дящее с ним экстраективно. В этом плане характерно место в романе
«Мастер и Маргарита», когда Воланд спрашивает Мастера, верит ли
тот, что перед ним действительно дьявол: «— Приходится верить, —
сказал пришелец, но, конечно, гораздо спокойнее было бы считать вас
плодом галлюцинации».
В принципе, в экстраективном алетическом мире господствует
полный логический разнобой, отсутствие действия фундаментальных
законов бинарной логики: объект может не быть тождественным са¬
мому себе, двойное отрицание - не быть эквивалентным утвержде¬
нию, а 1ег1шт - баШг, что и соответствует идее шизофренического рас¬
щепления, которое имплицирует продуцирование противоречивых
высказываний (знаменитый пример Блейлера, когда больной произ¬
носит одно за другим два противоречивых высказывания «Я такой же
человек, как и все» и «Я не такой человек, как все» [Блейлер 1993] \ см.
также схизис и многозначные логики).
Это торжество паралогики в экстраективном сознании закономер¬
но в том смысле, что такому сознанию теперь уже нет нужды бояться
противоречивых посланий шизофреногенных родственников (с другой
стороны, наверное, можно сказать, что эта паралогичность в какой-то
мере есть результат воздействия этих посланий; мысль о том, что ши¬
зофреника делает таким его ближайшее социальное окружение - ро¬
дители и родственники, - высказывал уже В. Райх, и она стала одной
из самых важных для представителей антипсихиатрии - Р. Лэйнга,
Г. Бейтсона, Т. Саса [.Лэйнг 1995, Бейтсон 2000, 5х.азт. 1974\).
«Гамлет». Герой одноименной трагедии Шекспира, прежде всего,
предстает перед зрителем как ярко выраженный представитель психа¬
стенического характера (см. характеры), нерешительный, полный тре¬
вожных сомнений. Именно этим можно объяснить мотивировку его
нерешительности в деле убийства Клавдия (о мотивах нерешительно¬
90
«Гамлет»
Г
сти Гамлета см. сводку критических мнений в книге [Выготский
1968]), так как он склонен сомневаться не столько в истинности гал¬
люцинации, сколько в том, не была ли она дьявольским попущением.
Рефлексия, тревожные сомнения, интровертированность Гамлета,
яснее всего проявляется в типичном для психастеника амбивалентно-
сомневающемся отношении к смерти (хотя Гамлету несомненно при¬
суще влечение к смерти). Его сомнения, не свойственные для челове¬
ка его времени, — что будет после смерти, «Какие сны в том вечном
сне приснятся/Когда покров земного чувства снят» - выражены в зна¬
менитом монологе «Быть или не быть»:
Кто б согласился,
Кряхтя, под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться?
Так малодушничает наша мысль
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика,
Так погибают замыслы с размахом,
Вначале обещавшие успех,
От долгих отлагательств.
(Здесь и далее перевод Б. Пастернака)
Ср. также следующий фрагмент его монолога, где он противопос¬
тавляет свою пассивность истерическому энтузиазму актера (ср. апо¬
логия истерии):
Что он Гекубе? Что ему Гекуба?
А он рыдает. Что б он натворил,
Будь у него такой же повод к мести,
Как у меня? Он сцену б утопил
В потоке слез.
А я,
Тупой и жалкий выродок, слоняюсь
В сонливой лени и ни о себе
Не заикнусь, ни пальцем не ударю
Для короля, чью жизнь и власть смели
Так подло. Что ж, я трус?
91
Вадим Руднев
Словарь безумия
Чрезвычайно характерна также психастеническая деперсонализа¬
ция Гамлета и его нетерпимое отношение к противоположному — ис¬
терическому — типу реагирования, с показом своих чувств, рыданий и
тому подобного. Об этом он заявляет уже в первых своих словах в пье¬
се, как будто цитируя Ясперса, писавшего о том, что истерику хочет¬
ся не быть, а казаться [Ясперс 1994\.
Королева
Что ж кажется тогда
Столь редкостной тебе твоя беда?
Гамлет
Не кажется, сударыня, а есть.
Мне «кажется» неведомы. Ни этот
Суровый плащ, ни платья чернота,
Ни хриплая прерывистость дыханья,
Ни прочие свидетельства страданья
Не в силах выразить моей души.
Вот способы казаться, ибо это
Лишь действия, и их легко сыграть,
Моя же скорбь чуждается прикрас
И их не выставляет напоказ.
Точно так же у него вызывает гнев и негодование истерическая де¬
монстративная реакция Лаэрта, когда тот падает на гроб Офелии:
Я знать хочу, на что бы ты решился?
Рыдал? Рвал платье? Дрался? Голодал?
Пил уксус? Крокодилов ел? Все это
Могу и я. Ты слезы лить пришел?
В могилу прыгать, мне на посмеянье?
Живым зарытым быть? Могу и я.
В том то и дело, что не может, в этом-то его трагедия. Но, в то же
время, Гамлета нельзя считать в полной мере психастеником. Его ма¬
нипулирование актерами и реакцией короля заставляет подумать о том,
что это более сложный, возможно, шизотипический характер, отягощен¬
ный депрессией, скорее всего, имеющей не чисто реактивную этиоло¬
гию, и безумием, тоже носящим не вполне реактивный характер.
Вопрос о симулятивности безумия Гамлета требует особого рас¬
смотрения. Его реакция на галлюцинацию, призрак отца, была слож¬
ной. С одной стороны, он действительно решил притвориться безум¬
92
«Гамлет»
Г
ным, чтобы вуалировать свои действия. С другой стороны, он посте¬
пенно вовлекается в свое безумие. Так, если с Полонием он явно при¬
творяется, то, разговаривая с Офелией, он серьезен и в то же время
схизоподобно произносит то «Я тебя любил когда-то», то «Я не любил
тебя». Впрочем, и в разговоре с Полонием, пусть не всерьез, он все же
навязывает ему свои парейдолии, свойственные для галлюцинанта
ощущения:
Гамлет
Видите вы вон то облако в форме верблюда?
Полоний
Ей-богу, вижу, и действительно, ни дать ни взять - верблюд.
Гамлет
По-моему, оно смахивает на хорька.
Полоний
Правильно, спина хорьковая.
Гамлет
Или как у кита.
Полоний
Совершенно как у кита.
Можно предположить, что в психопатической натуре Гамлета име¬
лась изначальная эндогенная склонность к психотическому восприя¬
тию мира, которая актуализировалась благодаря галлюцинации (ха¬
рактерно, что если в начале пьесы галлюцинацию отца Гамлета видят
все присуствующие в сцене персонажи, то в сцене разговора с матерью,
когда входит признак отца, мать не видит его, т.е. это настоящая, под¬
линная зрительная галлюцинация одного Гамлета, а не коллективное
видение призрака.)
Депрессивное восприятие мира Гамлетом ясно видно из следующе¬
го прозаического монолога:
Мне так не по себе, что этот цветник мироздания, земля, кажется
мне бесплодною скалою, а этот необъятный шатер воздуха с не¬
приступно вознесшейся твердью, этот, видите ли, царственный
свод, выложенный золотой искрой, на мой взгляд — просто-напро¬
сто скопление вонючих и вредных паров.
Гамлет явно смотрит на мир через «серые очки», как это свойствен¬
но депрессивному человеку.
Чрезвычайно важно, что фигура Гамлета и его действия и размыш¬
ления по ходу пьесы обусловлены тем, что он находится в эпицентре
93
Вадим Руднев
Словарь безумия
последствий сильного Эдипова комплекса. Впервые это заметил еще
Фрейд, который объяснял медлительность Гамлета тем, что он не мо¬
жет поднять руку на заместителя своего отца, ощущая комплекс вины
за вожделение к матери [Фрейд 1991] (см. также мать). С другой сторо¬
ны, есть все снования полагать, что Эдипов комплекс Гамлета носит
негативный характер, т.е. он явно отождествляет себя с отцом, носящим
такое же имя (т.е. отец в прямом и переносном смыслах представляет
собой для него Имя Отца, носящее, согласно Лакану, психозогенный
хаарктер [Лакан 1997]) и ненавидит мать за то, что она «изменила» отцу
сразу после его смерти. Во всяком случае, его отношение к матери мож¬
но считать амбивалентным, что тоже подразумевает скорее истинное
психотическое состояние, нежели симулятивное. Любовь к отцу и
отождествление с ним смещается в ненависть к заместителям отца, к
отцовским фигурам в пьесе, причем не только к Клавдию, но и к По¬
лонию, над которым он больше всех издевается, несмотря на то что его
возлюбленная Офелия сходит с ума именно вследствие смерти отца
(Полония), что позволяет говорить о том, что в ее случае имеет место
женский положительный Эдипов комплекс, или, комплекс Электры,
если воспользоваться термином Юнга.
«Город Зеро». Этот фильм Карена Шахназарова, вышедший на эк¬
раны в конце 80-х годов, был одним из первых и самых удачных пе¬
рестроечных художественных осмыслений советской эпохи в тогда еще
советском кинематографе. За основу здесь была взята модная тогда
свой новизной и дозволенностью сюрреалистическая (шизофреничес¬
кая по своему существу) кинематографическая техника на манер по¬
зднего Бунюэля. Сталинско-брежневский мир здесь изображен как
параноидно-парафренный бредовый мир. Параноидная стадия отно¬
сится к сталинской атмосфере (господствующее настроение — бред
преследования), парафренная (терминальная) стадия - к брежневской
атмосфере (господствующее настроение — бред величия на фоне угаса¬
ющего сознания и слабоумия). При этом субъектом бредово-галлю¬
цинаторного комплекса является не отдельное сознание главного ге¬
роя, который лишь наблюдает за происходящим, а целое сообщество
города, символизирующего советский сталинско-брежневский мир.
Герой фильма, инженер (почти «землемер» — см. Кафка), приез¬
жает в командировку в некий город. Первое, что он видит, зайдя в
предбанник директора завода, это совершенно голую секретаршу, не¬
возмутимо печатающую на машинке, — намек на булгаковскую Гел¬
94
«Город Зеро>
Г
лу. Ассоциации с «Мастером и Маргаритой» встречаются в фильме
и дальше. Роман Булгакова во многом служит здесь не столько смыс¬
ловой реминисценцией, сколько технической отсылкой к традиции
отечественного шизотипического письма (см. шизотипический дис¬
курс). Когда, оправившись от шока, герой указывает директору на то,
что его секретарша — голая, директор, нехотя проверив, подтвержда¬
ет, что это действительно так. При этом он выражает не удивление и
не возмущение, а легкую озадаченность, которая сменяется равноду¬
шием (атмосфера, которая господствует в диегезисе фильма и в даль¬
нейшем; ср. психотический дискурс); здесь, конечно, источником
является невозмутимость героев Кафки, которую они сохраняют,
сталкиваясь с экстраординарными или фантастическими явлениями
(например, Грегор Замза, не выражающий особого удивления, а ско¬
рее легкую озабоченность и досаду, когда обнаруживает, что превра¬
тился в насекомое — рассказ «Превращение»),
Командировка оказывается бессмысленной - тот вопрос, за кото¬
рым приехал герой, оказался директору совершенно неизвестным, ге¬
роя совершенно не ждали не смотря на то, что он посылал телеграм¬
му, извещавшую о его приезде, но и это тоже не вызывает у директора
удивления. Таким образом, герой может уезжать домой в Москву. Пе¬
ред отъездом он решает пообедать в ресторане. Он обедает, сидя в пус¬
том зале. Официант спрашивает, что он будет на десерт. Он отвечает,
что ничего. Тем не менее, в конце обеда официант подкатывает к его
столику тележку с вазой, накрытой салфеткой. Когда салфетка откры¬
вается, на ней оказывается торт, представляющий собой копию голо¬
вы героя (вновь булгаковский мотив — отрезанная голова Берлиоза).
Когда же герой в ужасе спрашивает, что это значит, официант спокой¬
но отвечает ему, что это специально для героя испеченный торт - по¬
дарок местного повара (официант просит героя не беспокоиться - в
счет торт не входит). Герой возмущенно отказывается есть свою голо¬
ву (ср. У Мандельштама в «Стихах о неизвестном солдате»:
И сознанье свое заговаривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем!
Тогда официант укоризненным тоном просит отведать хотя бы ку¬
сочек, так как в противном случае, как он утверждает, повар покончит
с собой. Возмущенный этой бессмыслицей герой встает, резко пово¬
рачивается и собирается выйти из ресторана, но в это время раздает-
95
Вадим Руднев
Словарь безумия
ся выстрел, и возле противоположной стены падает человек в повар¬
ском халате и колпаке с зажатым в руке пистолетом. Повар выполня¬
ет свою угрозу.
После посещения следователя герой с облегчением едет на стан¬
цию, чтобы поскорее уехать из безумного города, но оказывается, что
билетов на поезд нет. Тогда он берет такси и идет на другую станцию.
Шофер завозит его в какую-то глушь, где нет никакой станции. В ра¬
стерянности герой бредет (‘бред’ происходит от слова «брести»), куда
глаза глядят, и попадает в расположенный на отшибе от города крае¬
ведческий музей. Экспозиция музея представляет собой восковые фи¬
гуры, связанные с историей города и Советского Союза, - фигуры мо¬
лодого Сталина, поднимающего тост за свободу, Кагановича, Хруще¬
ва. Среди прочего там есть и фигура некоего милиционера Николаева,
который впервые в городе станцевал в начале 60-х годов рок-н-ролл,
за что был выгнан из милиции и из комсомола. Этот Николаев и ока¬
зывается поваром, застрелившимся несколько часов назад. Рядом с
музеем живут какие-то люди. Директор музея отводит его к ним, и,
пока взрослые выходят в другую комнату, их сын, 10-летний мальчик,
вдруг говорит герою: «Вы никогда не уедете из этого города, вы будет
похоронены на местном кладбище, я вижу надпись на вашей моги¬
ле...». Но герой уже за этот день привыкает ко всему и почти не удив¬
ляется. Теперь он стремится только к одному - уехать как можно бы¬
стрее из безумного города. Но не тут-то было.
Что заставляет называть изображенный здесь мир параноидно-па-
рафренным? Ну, бредово-галлюцинаторный параноидный комплекс
здесь как будто налицо. Все эти голые секретарши, отрубленные голо¬
вы, возвещающие будущее мальчики, характерная для бреда невозмож¬
ность управлять миром. В дальнейшем вводится и мотив преследова¬
ния: героя отчасти подозревают в убийстве (оказывается, что это было
убийство, а не самоубийство) повара Николаева (к тому же получает¬
ся, что герой, как свидетельствует надпись на фотографии, найденной
в бумагах повара, на которой изображен он: «Дорогому отцу от сына
Махмуда», оказывается в этом мире не кто иной, как сын повара Ни¬
колаева Махмуд. Парафренический мотив величия брежневского типа
видится в монументальной экспозиции краеведческого музея, восковые
фигуры которого одновременно исполнены величия и беспомощнос¬
ти — они застыли в одном движении. Явная гордость директора музея
историей города и богатой экспозицией, также добавляет тему величия.
Экзистенциальный смысл этого сна наяву (герой, впрочем, так до
конца фильма остается в совершенно не замутненном сознании) — в
96
: Город Зеро>
Г
бредовом озарении познания абсурдного величия истории собствен¬
ной страны и тайной и, с точки зрения параноидного сознания жите¬
лей города, явно подлинной биографии самого себя.
После того, как устанавливается связь между поваром Николаевым
и героем, которая состоит в том, что герой оказывается тайным сыном
Николаева (что, герой, естественно, отрицает), его не выпускают из
города. Прокурор произносит длинную речь, как будто не имеющую
отношения к делу. Речь посвящена геополитическим проблемам, в ча¬
стности, идее величия и особой исторической миссии российского
государства. Именно поэтому, — заключает неожиданно прокурор, -
герой обязан остаться в городе и, главное, если его спросят, не отри¬
цать, что он сын повара Николаева Махмуд. (Имя Махмуд, возмож¬
но, связано с татаро-монгольской темой. В речи прокурора звучит ев¬
разийский мотив о том, что Россия исполнила свою всемирную исто¬
рическую миссию, служа непереходимой границей и, в то же время,
медиатором между Востоком и Западом, в частности, остановив тата¬
ро-монгольское нашествие.) Именно такое положение вещей мы на¬
зываем параноидно-парафренным миром. Существует некая сакраль¬
ная тайна, кроющаяся в величии государства в его непонятной связи с
судьбой отдельного человека, который вынужден подчиняться и пре¬
терпевать преследования для того, чтобы сохранить эту таинственную
связь с величием государства, в идеале — принести себя ему в жертву
(мотив, восходящий несомненно к «Медному всаднику» Пушкина —
конфликту между Евгением и статуей Петра Первого, также носяще¬
му параноидно-парафренный характер — связь величия с преследова¬
нием, бредово-галлюцинаторный комплекс; мотив оживающей статуи,
воплощающей государственность, при этом корреллирует с восковы¬
ми фигурами вождей, застывшим в акте свершения великих дел в крае¬
ведческом музее города).
Далее события развиваются следующим образом. В городе готовит¬
ся праздник, посвященный памяти повара Николаева, который ког¬
да-то впервые станцевал в городе рок-н-ролл. Герою предстоит высту¬
пить с вступительным словом о своем отце. Здесь намечаются две по¬
литических линии в идеологической элите города: с одной стороны,
парторг и прокурор, настроенные на сохранение старых порядков, и,
с другой стороны, полуспившийся писатель-демократ, который и ус¬
траивает праздник рок-н-ролла, знаменующий победу демократии и
ориентацию на Запад. Прокурор недоволен этим праздником, ведь это
именно он более двадцати лет назад выгнал милиционера Николаева
из комсомола за то, что тот публично станцевал рок-н-ролл. В знак
протеста прокурор выходит на сцену и пытается застрелиться. Но пи-
4-11117
97
Вадим Руднев
Словарь безумия
столет несколько раз дает осечку, и пристыженный прокурор убегает..
Бывшая подруга покойного повара Николаева, с которой он, будучи
милиционером, станцевал тот роковой рок-н-ролл (возможно, тайная
мать героя?), приходит к нему в гостиницу и просит станцевать с ним
рок-н-ролл в память о Николаеве. Здесь, в гостиничном номере, по¬
степенно собираются все персонажи: директор завода, пристыженный
неудавшийся самоубийца прокурор, парторг, писатель, проживающие
в гостинице девушки. Писатель предлагает «поехать к дубу». Все при¬
ходят к ритуальному древнему дубу, возле которого на пути к Кулико¬
ву полю останавливался еще Дмитрий Донской. Этот дуб символизи¬
рует могучую и одновременно дряхлую российскую государственность,
а на более архаическом уровне - священное дерево из книги Фрэзера
«Золотая ветвь»: под ним ходил вождь, которого убивали. Писатель
рассказывает об этом, почти дословно цитируя Фрэзера. Кто-то про¬
сит сорвать ветку с дуба. Все набрасываются на дуб, и он начинает раз¬
валиваться (аллегория очевидна). В этот момент прокурор вдруг гово¬
рит герою: «Бегите!» Герой бежит в лес и спускается по реке на лодке
без весел. На этом фильм кончается. Финал его — открытый в том
смысле, что остается неизвестным, удастся ли герою бежать из закол¬
дованного города, фальсифицировав пророчество мальчика, или эта
попытка тщетна, т.е. — удастся ли российскому государству вырвать¬
ся из параноидно-парафренной бредовой действительности Совка или
Россия обречена на пожизненное пребывание в этом терминальном
состоянии.
Грандиозное Я. (См. также бред величия.) Термин «Грандиозное Я»
принадлежит психоаналитику Хайнцу Кохуту, исследовавшему про¬
блемы нарциссизма [КокиI 1971]. В данной статье он используется в
более широком смысле.
Что можно сказать о «жизненном проекте» нарциссического мега¬
ломана? Прежде всего, для ситуации человека, поглощенного идеей ве¬
личия, характерно вопиющее несоответствие между его точкой зрения
на мир и точкой зрения того, с кем он «ведет диалог», прежде всего с
психиатром, потому что после первых реальных шагов мегаломана на
свободе (например, неадекватно дорогих покупок) он попадал в боль¬
ницу, где его фактически единственным «партнером по бытию» стано¬
вился психиатр. Это несоответствие, прежде всего, касается объектив¬
ной пространственной ограниченности мегаломана пределами палаты
и безграничности, глобальности его бредового пространства. Второй
98
Грандиозное Я
Г
тип несоответствия касается собственности. На словах мегаломан мог
обладать огромными состояниями, увеличивающимися раз от разу. Ре¬
ально, по видимому, он уже не обладал ничем, так как над ним учиня¬
ли опеку. Третье несоответствие касается противопоставления реальной
немощи паралитика или парафреника и его бредовой мощи - интел¬
лектуальной, физической, политической или военной.
У пациентки раннего К.Г. Юнга, портинхи, во всяком случае, на
первый взгляд, уже практически вообще не было никакого жизненного
проекта, поскольку она стала в значительной степени дементна и ее
высказывания носили характер повторяющихся стереотипий. Вот один
из образцов ее речепроизводства:
Я величественнейшее величие - я довольна собой — здание клуба
«2иг р1айе» — изящный ученый мир — артистический мир — одежда
музея улиток — моя правая сторона — я Натан мудрый (мшзе) — нет
у меня на свете ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер — сиро¬
та (\Уа18е) — я Сократ - Лорелея - колокол Шиллера и монопо¬
лия — Господь Бог, Мария, Матерь Божья - главный ключ, ключ
в небесах — я всегда узакониваю книгу гимнов с золотыми обреза¬
ми и Библию — я владетельница южных областей, королевски
миловидна, так миловидна и чиста - в одной личности я совме¬
щаю Стюарт, фон Муральт, фон Планта - фон Кугель - высший
разум принадлежит мне <...> — это жизненный символ — я созда¬
ла величайшую высшую точку — я видела книгу страшно высоко
над городским парком, посыпанную белым сахаром — высоко в
небе создана высочайшая высшая точка - нельзя найти никого,
кто бы указал на более могущественный титул [Юнг 2000:124\.
Не будет преувеличением сказать, что тело больной в ее фантази¬
ях это тело, которое совпадает с миром и всеми его обитателями (ср.
тела безумия). И, пожалуй, именно в этом смысл верховной божествен¬
ности так, как она ее понимает. Отметим также, с какой легкостью па¬
циентка отождествляет себя с разными персонажами — она одновре¬
менно и Бог, и дева Мария. «Фон Стюарт» — еще один предмет отож¬
дествления — это, как выясняется в дальнейшем анализе, королева
Мария Стюарт, которой отрубили голову.
Случай доктора Йозефа Менделя, описанный Ясперсом, во мно¬
гом непохож на случай портнихи Юнга, прежде всего тем, что здесь нет
никакого намека на слабоумие ни до, ни после, ни во время психоза.
Больной обладал утонченным интеллектом. Будучи юристом, он ув¬
лекся философией, читал Кьеркегора, Больцано, Рикерта, Гуссерля и
Бренатно. Его психоз носил характер религиозного бреда с идеями ве¬
4*
99
Вадим Руднев
Словарь безумия
личия, но не полного, тотального величия. Суть его бредового сюже¬
та заключался в том, что он должен был каким-то образом освободить
человечество, наделить его бессмертием. С этой целью Верховный,
Старый Бог сделал его Новым Богом и для придания ему силы он все¬
лил в его тело тела всех великих людей и богов. Это вселение и было
кульминацией психотической драмы:
Сначала для увеличения его силы Бог переселился в него и вместе
с ним весь сверхъестественный мир. Он чувствовал, как Бог про¬
никал в него через ноги. Его ноги охватил зуд. Его мать пересели¬
лась. Все гении переселились. Один за другим. Каждый раз он чув¬
ствовал на своем собственном лице определенное выражение и по
нему узнавал того, кто переселялся в него. Так, он почувствовал, как
его лицо приняло выражение лица Достоевского, затем Бонапар¬
та. Одновременно с этим он чувствовал всю их энергию и силу.
Пришли Д’Аннунцио, Граббе, Платон. Они маршировали шаг за
шагом, как солдаты. <...>. Но Будда не был еще внутри него. Сей¬
час должна была начаться борьба. Он закричал: «Открыто!» Тотчас
же он услышал, как одна из дверей палаты открылась под ударами
топора. Появился Будда. Момент «борьбы или переселения» длился
недолго. Будда переселился в него» [Ясперс 1996:195-196].
Настоящий случай интересен тем, что он как бы приоткрывает
механизм возникновения Грандиозного Я или, по крайней мере, один
из возможных механизмов - представление о чисто физическом «пе¬
реселении» в тело больного тел великих людей и Богов, чтобы потом
можно было сказать «Я - такой-то», чего, впрочем, больной не гово¬
рит, поскольку его бред не является типичным бредом величия. Отме¬
тим также еще два важных момента. Первый заключается в том, что
несмотря на то, что благодаря двойной ориентации больной, по-ви¬
димому, сохранял сознание своего «Я», его уникальности, вероятно,
понимая, что несмотря на все переселения он остается доктором Йо¬
зефом Менделем, пусть даже ему приходится выступать в роли «Нового
Бога», несмотря на это так же, как и в случае пациентки Юнга, даже в
еще большей степени, больной отождествляет свое тело и свое «Я» с
телами и «Я» (сознаниями) всех переселившихся в него людей и всей
вселенной:
При всех этих процессах его «Я» больше не было личным «Я», но
«Я» было наполнено все вселенной. <...> Его «Я» было здесь, как
прежде, не индивидуальным «Я», но «Я» = все, что во мне, весь
мир» [Ясперс: 198, 202].
100
Грандиозное Я
Г
Второй важный момент заключался в представлении о том, что Бог
(«Старый Бог», «Верховный Бог») лишен обычных для верующего или
богослова черт — всемогущества, всеведения и нравственного совер¬
шенства. Этот Бог несовершенен. Этот Бог «ведет половую жизнь»,
Богу можно досаждать, чтобы он «уступил», как-то на него воздейство¬
вать, у него меньше власти, чем у дьявола, его можно было «назначать
властвовать», как на должность.
Все это напоминает знаменитый «случай Шрёбера» (см.), одно из
ключевых положений системы которого, заключалось в том, что Бог
очень плохо разбирается человеческих делах, в частности, не понимает
человеческого языка (об этом аспекте подробно см. [Лакан 1997]).
Шрёбер был посредником между Богом и людьми. В сущности, в его
системе, которая была настолько сложной, что ее невозможно подве¬
сти под какую бы то ни было классификацию, основной мегаломани-
ческий компонент заключался в том, что Шрёбер считал себя един¬
ственным человеком оставшимся в живых для того, чтобы вести пере¬
говоры с Богом, тогда как все другие люди были мертвы. Он должен
был спасти человечество. Для этого ему было необходимо превратить¬
ся в женщину (т.е. пожертвовать своей идентичностью), чтобы стать
женой Бога (в этом, собственно, и был своеобразный элемент величия
в системе Шрёбера).
И второй характерный момент, заключающийся в том, что бредо¬
вые пространственные перемещения Шрёбера позволяют сказать, что
его тело, как и тело «стандартного мегаломана», становится равным
вселенной. Это замечает Элиас Канетти, говоря о Шрёбере, что
в космосе, как и в вечности, он чувствует себя, как дома. Некото¬
рые созвездия и отдельные звезды: Кассиопея, Вега, Капелла, Пле¬
яды - ему особенно по душе, он говорит о них так, как будто это
автобусные остановки за углом. <...> Его зачаровывает величина
пространства, он хочет быть таким же огромным, покрыть его це¬
ликом. <...> О своем теле Шребер пишет так, как будто это миро¬
вое тело (курсив автора. — В. Р.) [Канетти 1997: 465].
Почему же так важно, что при бреде величия тело больного вос¬
принимается им как равное Вселенной? Чтобы ответить на этот воп¬
рос, необходимо затронуть последнюю проблему: почему бред величия
так тесно связан со слабоумием?
Движение от бреда отношения к бреду величия и последующему
слабоумию можно рассматривать как инволюцию личности, поэтому
выражение «впасть в детство» в качестве синонима слабоумия является
101
Вадим Руднев
Словарь безумия
неслучайным. Но если так, если шизофреник движется в своем «раз¬
витии» в обратную сторону, то аналог «величия» должен отыскаться в
каких-то феноменах раннего детства. Это, безусловно, так и есть. Речь
идет о феномене «всемогущества» младенца, о котором впервые ярко
написал Шандор Ференци в связи с интерпретацией им феномена об-
сессивного «всемогущества мысли» в статье «Ступени развития чувства
реальности» (1913):
Но если уже в утробе матери человек живет и душевной жизнью,
пусть бессознательной, <...> то он должен получить от такого сво¬
его существования впечатление, что он всемогущ. Ведь что такое
«всемогущ»? Это ощущение, что имеешь все, что хочешь, и боль¬
ше желать уже нечего.
Следовательно, «детская иллюзия величия» насчет собственно¬
го всемогущества по меньшей мере не пустая иллюзия; ни ребенок,
ни невротик с навязчивыми состояниями не требуют от действи¬
тельности ничего невозможного, когда не могут отказаться от
мысли, что их желания должны исполняться; они требуют лишь
возвращения того состояния, которое уже было когда-то, того
«доброго старого времени», когда они были всесильны [Ференци
2000: 51].
Переводя эти положения на более обыденный язык, можно вспом¬
нить сопоставление, принадлежащее Эугену Блейлеру, который срав¬
нивает мегаломана с ребенком, скачущим на деревянной лошадке и
воображающим, что он генерал («мальчик изживает свое инстинктив¬
ное стремление к могуществу и борьбе, прыгая верхом на палочке с
деревянной саблей в руках» [Блейлер 2001: 180]).
Инфантильное всемогущество связано с нарциссизмом, инфан¬
тильной эротической обращенностью на себя, формированием нар-
циссического Грандиозного «Я», для которого характерно чувство соб¬
ственного величия и превосходства [КокШ 1971].
Вспомним теперь характерное для рассмотренных случаев пред¬
ставление о теле мегаломана как о мировом теле, т.е. репродукции
мифологической идеи тождества микрокосма и макрокосма.
Космогоничность разобранных выше примеров позволяет выдви¬
нуть гипотезу, в соответствии с которой мегаломанический сюжет с
телом, отождествляемым со всеми великими людьми и всей Вселен¬
ной, является проигрыванием сюжета первотворения, и, соответствен¬
но, мегаломаническое «грандиозное тело», равное всей Вселенной, —
это тело первочеловека, из которого творится макрокосм, тело, кото¬
102
Грандиозное Я
Г
рое отдается в жертву сотворяемому миру и из которого, собственно,
этот мир и творится.
Первочеловек — космическое тело, в мифопоэтических и религи¬
озных традициях антропоморфизированная модель мира. В осно¬
ве этого образа лежит представление о происхождении Вселенной
из тела первочеловека, объясняющее характерный для мифопо¬
этической картины мироздания параллелизм между микрокос¬
мом и макрокосмом, их изоморфизм, однородность. Иногда в
космологических текстах говорится о том, что члены тела перво¬
человека создаются из соответствующих частей вселенной, но
чаще человеческое тело выступает как первичное и исходное, а
космическое устройство как вторичное и производное. <...>
В раввинистической литературе Адам изображается как первоче¬
ловек огромных размеров: в момент сотворения его тело прости¬
ралось от земли до неба, заполняя собою всю землю [Топоров
2000:300].
По-видимому, здесь уместно вспомнить также архаические пред¬
ставления, связанные с культом умирающего и воскресающего бога
(Озириса, Диониса, Фаммуза), архаического варианта мифа о перво-
творении и первочеловеке. Здесь также имеется диалектика смерти
и воскресения, соотнесенная с диалектикой величия и преследова¬
ния и, более того, актуализация этих представлений позволяет уяс¬
нить мифологическую мотивировку и увязку этой соотнесенности:
бога-мегаломана, тело которого соотносится с телом Вселенной, в
частности, в растительном, аграрном варианте этого представления,
преследуют, чтобы умертвить, принести в жертву, дабы он потом вос¬
крес во всем величии, соотнесенном с величием обновленного в при¬
родном круговороте мира, поэтому столь обычным в мегаломаничес-
ком мире оказывается сюжет отождествления с Христом как поздней¬
шим отголоском культа умирающего и воскресающего страдающего
бога и отсюда противопоставления Отца, Верховного (старого)
Бога - Богу-сыну, страдальцу, избраннику и жертве, т.е. самому боль¬
ному.
В этой связи нельзя напоследок не упомянуть фигуру Ницше, жиз¬
ненный проект которого превратил бред величия в один из устойчи¬
вых культурных паттернов начала XX века. Здесь и очевидный акцен¬
туированный нарциссизм, и культ умирающего и воскресающего Ди¬
ониса, анти-этика грандиозности и христоборчества и клинический
бред величия с экстраективной идентификацией с Христом, Антихри-
103
Вадим Руднев
Словарь безумия
том и Дионисом. В момент начала острого психоза в 1889 году Ницше
подписывал открытки, посылаемые им разным людям, либо «Дионис»
либо «Распятый». Идеи величия в явном виде имеются уже в последнем
его трактате «Еззе Ьото» («Се, человек!» — слова, сказанные Пилатом
об Иисусе): Ницше называет себя самым мудрым, свои книги самы¬
ми великими, говорит, что при встрече с ним «лицо каждого человека
проясняется и добреет», называет себя Антихристом и Дионисом.
Наше последнее замечание будет касаться интерпретации того,
почему стандартным персонажем обыденных представлений о бреде
величия является Наполеон. Дело в том, что негативное представле¬
ние о Наполеоне как о холодном грандиозном нарциссе, бездушном
завоевателе и т. д., представление, впитанное русским интеллигентом
из романа Толстого «Война и мир», является далеко не типичным для
культуры XIX века, когда формировались обыденные представления о
«мании величия». В эпоху романтизма, особенно, после смерти Напо¬
леона на острове Св. Елены в 1821 году, отношение к нему было ско¬
рее амбивалентным и даже с уклоном в героизацию - Наполеон вос¬
принимался не столько как великий полководец, но как творец ново¬
го мира, человек, отдавший себя в жертву покорению Французской
революции, как человек, преследуемый бездарными врагами, которые
после победы над ним при Ватерлоо установили полицейский режим
в Европе («Европа в рубище Священного Союза», по выражению Ман¬
дельштама), и умерший, как мученик, в изгнании. В свете всего сказан¬
ного именно такая амбивалетность, соотносимая с диалектикой кос¬
могонического творения и жертвы, и позволила имени Наполеона
стать нарицательным символом Грандиозного Я.
Грибы. Как известно, грибы используются в качестве галлюциноге¬
нов. Неплохо бы понять, что представляют собой эти таинственные бе¬
зумные существа. Грибы — чрезвычайно разветвленное и загадочное
царство, играющее в природе и культуре очень большую и весьма про¬
тиворечивую роль. Дело в том, что грибы находятся в биологической
классификации между растениями и животными. Как пишет современ¬
ный миколог (микология — наука о грибах - от древнегреческого
тусоз — ‘гриб’) Юрий Дьяков, когда Карл Линней создавал свою зна¬
менитую классификацию, грибы вместе с некоторыми другими орга¬
низмами он поместил в категорию, которой дал название «хаос» [Дья¬
ков 1997]. В самом деле, грибы ведут прикрепленный образ жизни, как
растения, их клетки покрыты оболочками, как у растений, но в состав
104
Грибы
Г
оболочек входит хитин, который есть у животных, но у растений от¬
сутствует.
Существует, наверное, лишь одна особенность грибов, которая от¬
личает их как от растений, так и от животных, — осмотрофный способ
питания — это означает, что грибы питаются, всасывая питательные
вещества из окружающей среды. Осмотрофный .способ питания нало¬
жил существенный отпечаток на морфологию и физиологию грибов.
Тело большинства грибов представлено грибницей, состоящей из
сильно разветвленных нитей. Такое строение позволяет грибу макси¬
мально оккупировать все на свете для извлечения из этого всего пи¬
тательных веществ.
В качестве источников энергии грибы должны усваивать сложные
органические соединения, которые вследствие большой молекулярной
массы не могут проходить в клетку через клеточные покровы. Поэто¬
му грибы выделяют в окружающую среду ферменты, которые разруша¬
ют высокомолекулярные полимеры до отдельных кирпичей — т.е. грибы
активно разрушают другие организмы.
Грибы являются самой большой группой в растительном мире, как
насекомые в животном мире. Но из полутора миллионов расчетных ви¬
дов грибов описано всего 69 тысяч.
Огромное число видов грибов находится в постоянных симбиоти¬
ческих связях с растениями. Некоторые грибы питаются «трупами»
растений, оставляя трупы животных бактериям. Большая группа гри¬
бов питается навозом животных, содержащим не переваренные рас¬
тительные остатки. Почти исключительно грибы участвуют в разложе¬
нии мертвой древесины.
Но не все грибы - вегетарианцы. Некоторые из них поражают икру
и рыбную молодь, нанося большой вред рыбному хозяйству. Есть ви¬
ды, питающиеся почвенными беспозвоночными (амебами). Большая
группа грибов паразитирует на насекомых. Многие грибы паразити¬
руют на других грибах
Грибы могут формировать гигантские клоны, превышающие про¬
тяженностью все другие организмы на земле как в пространстве, так
и во времени. Например, в лесных почвах США было подсчитано, что
один индивидуум осеннего опёнка распространялся на площади в не¬
сколько гектар, имел вес грибницы 10 тонн и возраст около 1500лет,
т. е. — это самый большой и самый старый организм на Земле.
Древние связи грибов с древесными растениями привели к воз¬
никновению у грибов уникального комплекса ферментов, разру¬
шающих древесные полимеры: целлюлозу и лигнин. Не будь грибов,
леса до макушек были бы покрыты мертвыми ветками, т.е. грибы -
105
Вадим Руднев
Словарь безумия
важнейшие санитары леса. Но поскольку из мертвой древесины дела¬
ют дома, фонарные столбы, железнодорожные шпалы и т.д., древораз¬
рушающие грибы наряду с полезной экологической функцией нано¬
сят огромный урон цивилизации.
Вот какие это противоречивые персонажи грибы — и пользы от них
много и вреда. А мифологические народные представления о грибах
еще более сложны, запутанны и загадочны. Автору энциклопедической
статьи о грибах академику В.Н. Топорову приходилось наблюдать, ка¬
кой атмосферой таинственности окружена тема грибов даже в подмос¬
ковных деревнях: на невинные вопросы о грибах ему приходилось выс¬
лушивать отповеди со стороны старух, а иногда и женщин помоложе,
которые квалифицировали интерес к грибам как проявление испорчен¬
ности и даже бесстыдства. С чем же связана эта таинственность?
Прежде всего, грибы могут в народном сознании отождествляться
с женщинами и с мужчинами. «Женские» грибы в народе называют
губы. «Мужские» грибы имеют явственный фаллический облик - длин¬
ная толстая ножка и выпуклая шляпка; «женские» грибы имеют корот¬
кую ножку и вогнутую шляпку. Соответственно, первые и вторые ас¬
социируются с мужским и женскими гениталиями (ср. фаллос, вагина).
Некоторым грибам приписывается волшебная эротическая сила. Они
возбуждают чувственность. В романе Томаса Манна «Волшебная гора»
психоаналитик Кроковский говорит о сморчке, «в латинском названии
которого фигурирует эпитет шрисйсиз (‘бесстыдный, неприличный’ —
В.Р), видом своим он напоминает о любви, а запахом о смерти. Дело в
том, что, когда с колокольчатой шапки трисНсш’а стекает покрываю¬
щая ее зеленая липкая слизь, от него, как это ни странно, исходит силь¬
нейший трупный запах. А у простонародья гриб этот до сих пор почи¬
тается средством, возбуждающим половое влечение». Связь любви и
смерти, которая является основной в идеологии этого романа, прояв¬
ляется в народных приметах о грибах, в частности, в том, что считает¬
ся, что в год, когда рождается много мальчиков и собирается большой
урожай грибов, по народным представлениям, будет война. Существу¬
ет старинная русская сказка о войне грибов, когда гриб-боровик созы¬
вает все грибы на войну, грибы по различным поводам отказываются.
Лишь грузди, «дружные ребята, пошли на войну».
Отождествление мальчик=гриб=фаллос проявляется в народных
загадках о грибах. «Мальчик с пальчик, беленький балахончик, крас¬
ная шапочка»; «маленький удаленький сквозь землю прошел — крас-
ну шапочку нашел»; но, с другой стороны, есть загадка и о грибе—дев¬
ке: «На лесной полянке красуется Татьянка - алый сарафан, белые
крапинки» (мухомор). В народе мужские и женские грибы могут на¬
106
Грибы
Г
зываться мужским и женским именами — матрена, акуля, арина, дуня,
с одной стороны, и васюха, иванчик, с другой.
Существует кетское предание-миф о превращении фаллосов в гри¬
бы. Прежде бабы (возникшие из земли брошенной богом Есем левой
рукой вправо) и мужики (из земли, брошенной Есем правой рукой
налево) жили розно. Фаллосы росли в лесу, куда бабы ходили по мере
надобности. Одной из них надоело ходить в лес, она вырвала фаллос
и принесла его в чум. Далее рассказывается, как в результате одного
приключения обладателем фаллоса оказался мужик, а фаллосы в лесу
захирели и превратились в грибы; их едят русские, у кетов же они вы¬
зывают рвоту.
Другой круг мотивов связан с идеей рождения грибов от грома и
грозы. В.Н. Топоров видит в этом связь грибов с богом-громовержцем,
верховным богом многих религий, начиная с древнегреческого Олим¬
па. Грибы, по этим представления, — дети грома [Топоров 1979, 2000].
Известна примета, что грибы хорошо растут после дождя. По народ¬
ным представлениям, они растут не от дождя, а от грома. Их рождает
фомовержец. В этой связи интересно происхождение поговорки «Пос¬
ле дождичка в четверг». Что будет после дождичка в четверг и почему
именно в четверг? Ясно, что после дождичка вырастут фибы, а в чет¬
верг потому, что четыре - это число громовержца и вообще основопо¬
лагающее число в любой мифологии — (четыре стороны света, четыре
времени года, четыре мифологических цвета и т. д.).
В этом смысле фибы — божественной природы. Их называют «бо¬
жественными пальцами». Поэтому фибы дают не только эротическую,
но и магическую силу. Отсюда та таинственность, которая связана с
фибами в народе. Поклонники Карлоса Кастанеды и его учителя дона
Хуана знают о галлюциногенной силе фибов. Но не только индейцы,
но и сибирские шаманы использовали фибы как источник магичес¬
кой силы. (Отражение магии грибов мы неожиданно находим в сказ¬
ке Льюиса Кэрролла про Алису в стране чудес, когда гусеница дает
Алисе гриб, от которого, если откусишь с одной стороны, то станешь
больше, а откусишь с другой, станешь меньше.)
По реконструкции российских этномикологов В.Н Топорова и
Т.Я. Елизаренковой, именно из грибов изготовлялся древний мифо¬
логический божественный напиток сома, дающий бессмертие и бо¬
жественную силу. Это дает параллель к роли вина в культуре, кото¬
рое, как известно, изготовляется при помощи брожения дрожжево¬
го фибка.
Наконец очевидна также связь гриба и мирового древа, универ¬
сальной мифологической модели Вселенной, о чем свидетельствуют
107
Вадим Руднев
Словарь безумия
древние картины и фрески, изображающие грибы рядом с мировым
древом. Поэтому не случайно не только поэты, но и ученые-миколо¬
ги считают, что грибы — это главные персонажи в истории цивилиза¬
ции, и следует всерьез опасаться, что они в конце концов захватят весь
мир. Поэтому надо с грибами дружить и быть очень осторожными.
д
Деперсонализация, или психическая анестезия (апазгеыа рзусЫса
с1о1огоза), или психическое отчуждение, представляет собой расстрой¬
ство сознания, которое, чаще всего, выступает как сопровождающий
синдромом при других психических заболеваниях - эпилепсии, ши¬
зофрении, аффективном психозе и очень часто (примерно в 70 % слу¬
чаев) при депрессии — в этих случаях говорят коморбидных (т.е. как бы
две болезни в одной) расстройствах [Нуллер 1997].
Психологически деперсонализация это такое измененное состоя¬
ние сознание, при котором нарушается прежде всего аффективная
сфера сознания, а в более тяжелых случаях и интеллектуальная сфе¬
ра, человек перестает чувствовать то, что он обычно раньше чувство¬
вал при подобных обстоятельствах, и чувствует то, чего не чувствовал
раньше (потому деперсонализацию называют еще дезориентацией
[Бурно 1981]). С физиологической точки зрения деперсонализация,
чаще всего, является ответом мозга на острый эмоциональный шок,
заключающемся в повышенной секреции эндорфинов, которые ане¬
стезируют сознание. С точки зрения поведенческой стратегии депер¬
сонализация является мощным средством защиты против стресса.
Классический случай деперсонализации, когда человек после потери
внезапной близкого как будто «окаменевает», становится «бесчувствен¬
ным». Деперсонализированный человек как бы одевается в панцырь
(термин Вильгельма Райха [Райх 1999]) из своего «скорбного бесчув¬
ствия»; вместе с аффектами в нем угасают желания.
Поскольку деперсонализация может быть длительной, хроничес¬
кой, и поскольку ею страдали многие деятели культуры, то существу¬
ет деперсонализационная живопись, музыка, литература и даже наука.
Существует даже в определенном смысле деперсонализационный на¬
циональный характер, например, английский - традиционный, холод¬
ный, невозмутимый, ничему не удивляющийся джентльмен.
Важно также и то, что поскольку сознание должно приспосабли¬
ваться к измененному деперсонализацией взгляду на мир, то оно вы¬
рабатывает особые стратегии, особые риторики для такого приспособ¬
ления. В культуре XX века было сформулировано, по крайней мере, два
понятия, которые описывали деперсонализационно-подобные явле¬
ния в художественных текстах. Это, конечно, в первую очередь, «ост-
ранение» Виктора Шкловского и, во-вторых, «очуждение» Бертольда
109
Вадим Руднев
Словарь безумия
Брехта. Рассмотрим, как соотносятся понятие деперсонализации и ос-
транения.
Будем считать, что основной формулой деперсонализации являет¬
ся формула «мне все равно». Пример А. А. Меграбяна:
Больной К. (депрес.) особенно подчеркивает потерю своих чувств:
«Я не знаю, что такое жалость, что такое любить, что такое сер¬
диться, - для меня все равно (курсив мой. — В. Р.). Два месяца тому
назад у меня пропал мальчик; а разве я такой был? Умом я сознаю,
но не чувствую, что происходит вокруг меня» В то же время, боль¬
ной постоянно находится в состоянии депрессии и тревоги, пла¬
чет, заявляет, что страдает от сознания потери этих чувств [Мегра-
бян 1962:195\.
Будем рассматривать этот фрагмент как парадигмальный - поте¬
ря аффектов и страдания по поводу этой потери — в этом зерно депер¬
сонализации. Приведем сцену душевного состояния Пьера Безухова в
«Войне и мире» после того, как он присутствует при расстреле фран¬
цузами пленных русских солдат. Эта сцена анализировалась в работе
[Бурно-Рожнов 1979].
С той минуты, как Пьер увидел страшное убийство, совершенное
людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг
выдернута была та пружина, на которой все держалось и представ¬
лялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора. В
нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера в бла¬
гоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в Бога. Это
состояние было испытываемо Пьером прежде, когда на Пьера на¬
ходили подобного рода сомнения, - сомнения эти имели источ¬
ником собственную вину. И в самой глубине души Пьер тогда чув¬
ствовал, что от того отчаяния и тех сомнений было спасение в са¬
мом себе. Но теперь он чувствовал, что не его вина была причиной
того, что мир завалился в его глазах и остались одни бессмыслен¬
ные развалины.
Двумя страницами позже, когда Платон Каратаев спрашивает,
есть ли у него дети, и узнав, что нет, и выражает надежду, что все еще
впереди, Пьер отвечает характерным деперсонализационным: «Да те¬
перь все равно». Что означает это все равно? То, что человек более не
различает приятное и неприятное, радостное и печальное, хорошее
и дурное, жизнь и смерть — это тотальное снятие всех важнейших
110
Деперсонализация
д
жизненных оппозиций. Таково феноменологическое обоснование
деперсонализации, в свое время, проделанное А. М. Пятигорским
[Пятигорский 1965]. Суть этого обоснования состоит в том, что со¬
стояние, при котором сознанию все «все равно», есть мифологичес¬
кое состояние, поскольку миф, по Леви-Стросу, есть механизм сня¬
тия всех оппозиций и, прежде всего, важнейшей, инвариантной всем
остальным, оппозиции между жизнью и смертью [Леви-Строс 1983].
В этом плане ясно, почему деперсонализация это не только болезнен¬
ный симптом, но и мощная защита от реальности, анестезия, пусть
и скорбная. Страдающий деперсонализацией попадает в особый
мифологический мир, основными чертами которого является отсут¬
ствие логического бинарного мышления (все — равно). Конечно, это
особый, «тусклый мир». Но если спросить, что двигало развитием
русской литературы XIX на пути от раннего романтизма, через по¬
здний романтизм (традиционно - реализм), к модернизму, то мож¬
но ответить, что это был все больший отказ от классицистического
в широком смысле дихотомического мышления к такому положению
вещей, когда «все равно». Если психоз и шизофрения как орудия эс¬
тетики сразу же выводили текст за рамки «реалистического» дискур¬
са, то мифологическая деперсонализация делала это исподволь, из¬
нутри. Почему «Горе от ума» — это еще не произведение XIX века в
полном смысле этого слова? Потому что оно построено по классици¬
стическим канонам. И там нет деперсонализации. Чацкий перепол¬
нен аффектами. Второе великое произведение русской литературы
XIX века, «Евгений Онегин» Пушкина, — это по существу роман о де¬
персонализации.
Нет: рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум;
Как СЫЫ-НагоЫ, угрюмый, томный
В гостиных появлялся он;
Ни сплетни света, ни бостон,
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный,
Ничто не трогало его,
Не замечал он ничего.
В этот неудачный момент появляется Татьяна, которая находится
в состоянии вполне оживленном. Она наталкивается на эту живую ста¬
тую и в результате деперсонализируется сама. От «скорбного бесчув¬
ствия» Онегин убивает Ленского, от скорбного бесчувствия Татьяна
111
Вадим Руднев
Словарь безумия
выходит замуж. Но тут они меняются местами: Онегин путешествует,
его душа оживляется и, приехав в Петербург, он видит совершенно
новую Татьяну. Анестезирующее отчуждение понадобилось Татьяне,
чтобы пережить утрату Онегина и выжить в ненавистной ей роли хо¬
зяйки светского салона. И далее вся русская литература о лишних лю¬
дях — это повествования о людях с померкшими аффектами. Деперсо¬
нализация в русской литературе — это борьба с наивным романтизмом
с его аффектацией, пусть даже в эту аффектацию входит холодность и
мрачность.
Виктор Шкловский в «Теории прозы» писал:
Приемом искусства является прием «остранения» вещей и прием
затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу вос¬
приятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоце¬
лей и должен быть продлен [Шкловский 1925: 13].
Наиболее известный пример — Наташа Ростова в театре:
На сцене были ровные доски по середине, с боков стояли краше¬
ные картины, изображавшие деревья, позади было протянуто по¬
лотно на досках.
В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых
юбках. Одна очень толстая, в шелковом белом платье, сидела осо¬
бо на низкой скамейке, к которой был приклеен сзади зеленый
картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою песнь, де¬
вица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел муж¬
чина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах, и стал
петь и разводить руками. Мужчина в обтянутых панталонах про¬
пел один, потом пропела она. Потом оба замолчали, загремела
музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом
платье, очевидно ожидая опять также, чтобы начать свою партию
вместе с нею. Они пропели вдвоем, а все в театре стали хлопать и
кричать, а мужчины и женщины на сцене, которые изображали
влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться.
Деперсонализация-остранение похожа на то, как будто сознание,
которое все это воспринимает, разучилось понимать язык оперы, как
будто для него это не язык, а реальность, причем какая-то нелепая, по-
лубредовая реальность.
Но, пожалуй, самое главное, что деперсонализация как явление
речевой деятельности предполагает усреднение — чувственное и ин¬
112
Деперсонализация
д
теллектуальное — человек перестает чувствовать различие между хо¬
рошим и дурным поступком, должным и запрещенным (см. модаль¬
ности), т.е. он перестает понимать языковые конвенции; ему стано¬
вится аффективно непонятно этические, деонтические, эстетические
реакции других людей. Это проявляется в том, что устойчивые язы¬
ковые конвенции разрушаются. На уровне речевой деятельности это
соответствует тому, что речь, в первую очередь, удлиняется. Наташа
Ростова в принципе прекрасно знала значение слова ‘опера’, знала
правила этой языковой игры. В момент деперсонализации слово
‘опера’ потеряло свое значение, поэтому происходящее на сцене она
стала описывать нелепым остаточным языком, в котором отсутству¬
ет идиоматика оперной языковой игры. Деперсонализационная ней¬
трализация («Мне все равно, что А, что Б») привела к тому, что ус¬
ловный диегезис оперы стал описываться на более фундаментальном
языке Реального, и именно это привело к удлинению описания, по¬
скольку оно перестало быть интегрированным в целостный гештальт
‘оперы’ со свойственной ему идиоматикой и метафорикой, с опер¬
ной терминологией.
Поскольку Толстой был руссоистом, деперсонализация, разру-ша-
ющая конвенции («общественный договор»), была для него благом.
Поэтому у Толстого человек, слишком хорошо разбирающийся в кон¬
венциях, обречен. Так, Андрей Балконский погибает оттого, что стыд¬
но бояться смерти (эпизод с гранатой в третьем томе). Пьер Безухов
все время действует ошибочно и выживает, потому что живет аффек¬
том, сердцем. Князь Балконский все делает правильно, но погибает,
потому что живет умом, который понимает, что «все условно».
Видимо, Толстой был первым, кто понял, что такие, кажущиеся
сугубо «естественными» вещи, как сфера живого аффекта, целиком
построены на конвенциях. Поэтому он так ненавидел секс, что не мог
понять, где кончаются конвенции и начинается деперсонализирован¬
ное, «звериное», «все равно».
Секс для Толстого ужасен своим переходом за семиотическое, за
конвенции. Это как бы оборотная сторона языка — мужик, бормочу¬
щий над железом бессмысленные французские слова. Если бы Толстой
дожил до «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейда, он оценил
бы идею влечения к смерти как предел деперсонализации и предел ос-
транения.
В статье «Тристрам Шенди» и теория романа» Шкловский писал:
По существу своему искусство внеэмоционально... Искусство без¬
жалостно и внежалостно, кроме тех случаев, когда чувство состра¬
113
Вадим Руднев
Словарь безумия
дания взято как материал для построения. Но и тут, говоря о нем,
нужно рассматривать его с точки зрения композиции, точно так
же, как нужно, если вы желаете понять машину, смотреть на при¬
водной ремень, как на деталь машины, а не рассматривать его с
точки зрения вегетарианца.
По воспоминаниям Л. Я. Гинзбург, Тынянов говорил, что для
Шкловского литература устроена так же, как автомобиль. Таким об¬
разом, можно сказать, что «остранение», поэтика деперсонализации
могла быть обнаружена у Льва Толстого именно Шкловским и имен¬
но потому, что сам Шкловский разрабатывал то, что можно назвать
«деперсонализацией поэтики». Литературное произведение предстает
у Шкловского как нечто отчужденное и остраненное. Никаких при¬
вычных образов, никакой научной «лирики». Он бравирует тем, что
рассматривает литературу как сумму приемов, т.е. тем самым лиша¬
ет ее того измерения, которое Достоевский устами подпольного че¬
ловека иронически называл «высоким и прекрасным». В сущности,
Шкловский рассматривает литературу точно так же, как Наташа Ро¬
стова смотрит оперу. Он как будто не понимает, что перед ним «пре¬
красное». Вот эта позиция непонимания была началом теоретичес¬
кой поэтики как подлинной науки. Это была наука деперсонализа¬
ции. По этому пути шли тогда очень многие. В первую очередь,
конечно, следует назвать создателя морфологии сказки В. Я. Проп¬
па, а также формалистов Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума и мно¬
гих других ученых этого направления. Но позиция Шкловского была
самой радикальной, недаром именно он был знаменем нового на¬
правления. И именно поэтому Толстой был любимым объектом на¬
учных манипуляций Шкловского - от толстовских фрагментов «Те¬
ории прозы» 1925 года, замечательной книги 1928 года «Матерьял и
стиль в романе льва Толстого «Война и мир»» [Шкловский 1928\ до по¬
здней ЖЗЛ’вской биографии Толстого.
Толстой оказался зеркалом русского формализма. Почему же для
того, чтобы поэтика стала подлинной наукой, понадобилась деперсо¬
нализация?
Представим себе хирурга, который, глядя на рану человека, кото¬
рую ему предстоит зашить, начинает рыдать, заламывать руки, гово¬
рить: «Какой ужас!», «Я этого не перенесу!» и т. д. Для того чтобы сде¬
лать операцию, хирург должен деперсонализироваться по отношению
к пациенту. Именно поэтому и поэтика должна была деперсонализи¬
роваться, чтобы добиться тех блестящих результатов, которых она до¬
билась в 1920-е, а затем в 1960-1970-е годы.
114
Депрессия
д
Депрессия. (См. также депрессия и психоанализ.) При депрес¬
сии мир теряет всякую ценность, и, соответственно, жизнь теряет вся¬
кий смысл. Об утрате смысла как специфическом депрессивном фе¬
номене писал В. Франка:
...пациенту, страдающему эндогенной депрессией, его психоз ме¬
шает увидеть какой-либо смысл в своей жизни, пациент же, стра¬
дающий невротической депрессией, мог получить ее из-за того, что
не видел смысла в своей жизни [Фракнл 1990: 89].
При депрессии происходит десемиотизация реальности: практи-
ческеи все элементы реальности теряют смысл. Но десемиотизирован-
ная реальность вообще перестает быть реальностью, поскольку реаль¬
ность это и есть в принципе семиотическое образование: чтобы вос¬
принимать вещи как вещи, нужно владеть языком вещей (см. реальность),
т.е. вещь, не воспринятая знаково, вообще, строго говоря, не может
быть никак воспринята - для того чтобы воспринять вещь «стол», не¬
обходимо знать слово «стол», понимать его смысл; собака, которая
смотрит на стол, в человеческом смысле не воспринимает вещь «стол».
В чем же конкретно проявляется десемиотизация реальности при
меланхолии? Для депрессивоного человека мир прежде всего теряет
интерес, поскольку депрессивная личность полностью сосредоточива¬
ется на интроецированном потерянном объекте любви и на своей фан-
тазматической вине перед ним. Этот единственный объект и облада¬
ет повышенной ценнностью для меланхолика. Ценностью, но не зна¬
ковостью, поскольку этот объект помещается где-то внутри, как бы
проглоченный целиком, непереваренный (понимание интроекции как
псевдометаболизма было подробно обосновано Ф. Перлзом в книге
«Эго, голод и агрессия»:
«Эго», построенное из содержаний, из интроекций, есть конгло¬
мерат — чужеродное тело внутри личности — так же как и совесть
и утраченный объект при меланхолии. В любом случае мы обна¬
руживаем в организме пациента инородный, неассимилированный
материал [Перлз 2000: 172].)
Однако при депрессии интроекция может не ограничиваться «по¬
глощением утраченного объекта любви». Здесь может иметь место и
часто действительно имеет место нечто противоположное, хотя его
тоже можно обозначить как своеобразную разновидность интроекции.
Это интроецирование самого депрессивного Я, отгораживание от мира
115
Вадим Руднев
Словарь безумия
в некую непроницаемую среду, в некий депрессивный кокон. В этом
смысле Я выступает не как сосуд, не как субъект интроекции, но как
интроецируемый объект. Наиболее ясным невротическим прообразом
того, о чем мы говорим, является известное уже классическому пси¬
хоанализу (в особенности, после книги О. Ранка [Капк 1929]) стрем¬
ление вернуться обратно в материнскую утробу, поскольку, как писал
Фрейд в «Торможении, симптоме и страхе», травма рождения это не
просто травма, но это травма утраты питающей безопасной среды
[Ргеий 1981Ъ]. То есть можно сказать, что депрессивная реакция «на¬
зад в утробу» является репаративным стремлением возместить утрачен¬
ный объект любви, понимаемый архаически как некая защитная обо¬
лочка. Так депрессивный человек часто заворачивается с головой в
одеяло, чтобы не видеть и не слышать потерявшего всякий смысл и
ценность мира и погружается в депрессивную спячку, прообразом ко¬
торой является пребывание в утробе матери.
Эта тормозная, изолирующая депрессивно-интроективная реак¬
ция на травму, своеобразный эскапизм, анализируется Э. Фроммом
на примере истории пророка Ионы, который не хотел подчиниться
воле Бога и взять на себя миссию пророка в Ниневии (уклонение от
социальных обязанностей - один из характерных признаков депрес¬
сии), после чего он изолировал себя, уплыв на корабле; потом, ког¬
да сделалась буря, он лег в трюм и заснул, а когда матросы выброси¬
ли его в море, его поглотила огромная рыба (в русском традицион¬
ном переводе — кит) [Рготт 1956]. Это пребывание во чреве кита —
прообраз депрессивного стремления уйти от мира, который потерял
смысл.
На другом языке примерно ту же проблематику отсутствия инте¬
реса к миру и поглощения Я исследует В.Я. Пропп в работе «Ритуаль¬
ный смех в фольклоре». Речь здесь идет о сказке про царевну-несмея-
ну. Царевана не смеется, у нее депрессия, — ее надо рассмешить. Для
этого надо сделать непристойный эротический жест — актуализировать
и семиотизировать мир вокруг депрессивного человека, что и делает
принц. Царевна смеется, что является семиотическим показателем ее
готовности к сексуальным отношениям, т.е. к возвращению интереса
к актуальному миру и своим женским социальным обязанностям. Дру¬
гой вариант сказки: рука царевны обещана тому, кто узнает ее приме¬
ты (сексуальные, конечно) — т.е. нечто, также семиотическое в прин¬
ципе. Принц или другой герой обманом заставляет принцессу подни¬
мать платье все выше и выше, пока она ему не показывает свой
половой орган (сказка об этом последнем умалчивает, но Пропп счи¬
тает, что это вполне очевидно) [Пропп 1976].
116
Депрессия
д
Отсутствие смеха чрезвычайно характерно для картины депрессив¬
ной личности, так же как и потеря интереса к сексуальности (являю¬
щаяся частным выражением депрессивной потери интереса вообще ко
всему).
Связь депрессии с отсутствием смеха становится очевидной при
интерпретации Проппом отсутствия смеха у богини Деметры, матери
Персефоны, заключенной в подземное царство Аида.
Деметра не смеется, - пишет Пропп, — по вполне определенной
причине: она потеряла свою дочь и грустит по ней [Пропп 1976:
199] (крусив мой. - В.Р.).
В этом смысле депрессия закономерно толкуется как временная
смерть, а ее завершение — как возвращение к жизни, сопровождаемое
смехом, т.е. как воскресение. Отсюда закономерна постановка вопро¬
са о том, что депрессия каким-то важным образом соотносится с об¬
рядом инициации. При традиционной инициации человек также дол¬
жен последовательно претерпеть потери любимых объектов (прежде
всего родителей и ближайших родственников), а затем вообще «поте¬
рять» весь мир (инициируемого удаляют в лесной дом), а потом вре¬
менно потерять жизнь.
При этом одна из распространенных форм обряда инициации со¬
стояла в том, что посвящаемый как бы проглатывался чудовищем и
вновь им извергался. Вариантом этого поглощения было зашивание
посвящаемого в шкуру животного (см., в частности, обширные при¬
меры этого в знаменитой монографии Проппа «Исторические корни
волшебной сказки» [Пропп 1986]). Этот мотив также был широко про¬
иллюстрирован Отто Ранком в статье «Миф о рождении героя», в ко¬
торой приводятся обширные данные о мифологических персонажах,
которых после рождения мать закрывает в сосуд, корзину или бочку
(ср. «Сказку о царе Салтане» Пушкина) и отсылает от его от себя, на¬
пример, бросает в море [Ранк 1998]. Этот жест, как можно видеть, ам¬
бивалентен. С одной стороны, укрытие, сосуд, бочка - все это симво¬
лы утробы (море, вода — символы околоплодных вод [Кейпер 1986]),
т.е. ребенка как будто возвращают в состояние плода, чтобы он про¬
шел символическое инициационное рождение и стал героем, но в этом
жесте есть и другая, противоположная сторона. Мать (см.) отбрасывает
от себя дитя, тем самым создавая у него комплекс утраты — основу
меланхолии. Она тем самым моделирует своему ребенку, говоря в тер¬
минах Мелани Кляйн, «депрессивную позицию», которая играет роль
инициационного испытания, пройдя через которое герой сможет стать
сильным, т.е. - и прежде всего - обходиться без матери.
117
Вадим Руднев
Словарь безумия
Здесь проясняется связь между инициацией, депрессией, травмой
рождения, интроекцией-поглощением Собственного Я, историей про¬
рока Ионы и стремлением «обратно в утробу».
То, что депрессия осмысливается как временная смерть, конечно,
представляется и без наших рассуждений очевидным, но идея, в соот¬
ветствии с которой она является не просто временной смертью, но
своеобразной подготовкой к новой жизни, гораздо менее тривиальна.
Если депрессия не длится у человека всю жизнь, то после ее оконча¬
ния с необходимостью следует подъем, некое возрождение, воскресе¬
ние к новой жизни. Понятно, что депрессивная инициация законо¬
мерно связывается с травмой рождения - она, в частности, должна
быть так же мучительна, как первое физиологическое рождение, и про¬
изводится в качестве разрывания некоего родового кокона - выхода в
широкий мир, семиотизации мира: отсюда смех, сексуальные жесты,
готовность организма откликнуться на эти жизненные знаки. В част¬
ности, возвращение к сексуальной активности сопровождается взры¬
вом семиотизиации - иконической и индексальной. Когда человек,
переживший депрессию, говорит девушке: «Пойдем в кино» или «По¬
чему бы нам сегодня не поужинать!», — то это индексальные знаки
приглашения к сексуальным отношениям (подробно, в частности, об
этом пишет Т. Сас [Удал: 1974}). Ясно, что, человек, находящийся в
депрессии, никого в кино и на ужин не пригласит.
И в более узком смысле, если депрессивный человек стремится в
укрытие, «в утробу», то сексуальный жест обнажения соответвует вы¬
ходу из депрессии в постдепрессивный семиотический мир.
Утрата при депрессии сексуального чувства и возможности считы¬
вания сексуальных знаков является частным случаем утраты при деп¬
рессии чувств вообще, депрессивной деперсонализации (см.), следстви¬
ем которой также является потеря возможности воспринимать мир
семиотически. Деперсонализированная личность перестает ощущать
приятное и неприятное, веселое и грустное, ей в аффективном смыс¬
ле становится все «все равно». Поэтому она как бы временно разучи¬
вается понимать семиотические языки - язык секуальности, язык ис¬
кусства, язык оперы, как Наташа Ростова во втором томе «Войны и
мира».
Утрата смысла, таким образом, соответствует утрате живого чув¬
ства, что закономерно, в частности, и потому, что в некоторых языках
понятия «чувство» и «смысл» передаются одним словом. Например,
по-английски - кепз это и смысл, и чувство. Точно так же, как по-не¬
мецки 8тп и по-французски зепз, производные от латинского зепзиз,
означают и ‘смысл’, и ‘чувство’.
118
Депрессия
д
Получается своебразная картина. Для того чтобы уметь восприни¬
мать мир как исполненный смысла и прочитывать его послания, надо
обладать чувствами. Одной интеллектуальной способности не доста¬
точно. При депрессии изменения происходят именно в сфере чувств,
эмоций — и мир десемиотизируется, теряет смысл, превращается в бес¬
смысленный конгломерат. По-видимому, для каждого человека осмыс¬
ленность мира в очень большой степени обусловлена присутствием
самой главной вещи и самого главного смысла - объекта любви. Ког¬
да этот объект утрачивается, то смысл и с ним весь мир разрушаются.
Когда человек вылечивается от депрессии, он становится готов к но¬
вой любви и, соответственно, к восстановлению осмыленности окру¬
жающего мира.
Можно сказать, вспоминая фрегевское противопоставление меж¬
ду смыслом и денотатом [Фреге 1977], что депрессивный человек, ко¬
нечно, различает значение (денотат) высказывания, но ему становит¬
ся безразличным его смысл, т.е. он в состоянии различать истинность
и ложность высказываний. Например, он наверняка понимает, что
высказывание (примененное к нему самому) «Я человек» истинно, а
высказывание «Я рыба» — ложно. Другое дело, что смысл, содержание
(интенсионал), этих высказываний ему безразличен. В этом плане ему
все равно, человек он или рыба, хотя он безусловно понимает, что пер¬
вое истинно, а второе ложно. В случае шизофрении (т.е. когда не озна¬
чаемое подавляет означающее, а означающее подавляет означаемое)
все происходит наоборот. То есть шизофреник в параноидно-бредовом
состоянии не сможет правильно разграничивать истинностное значе¬
ние высказываний, но зато для него чрезвычайно актуальным будет их
смысл. То есть он может счесть высказывание «Я человек» ложным, а
«Я рыба» истинным — он может считать себя рыбой. Он может считать
истинными оба высказывания, поскольку шизофренику закон исклю¬
ченного третьего не писан. И наконец оба высказывания могут пока¬
заться ему ложными, ведь он может вообразить, что он ни человек, ни
рыба, а бабочка (в духе «Чжуан-цзы») или ветка жасмина (в духе «Шко¬
лы для дураков» Соколова). Именно вследствие этой редукции истин¬
ностных значений при шизофрении нагрузка на смысл будет гораздо
большей, чем при нормальном мышлении. Высказывание «Я рыба»
может породить у шизофреника самые причудливые ассоциации, на¬
пример, что он Христос, потому что символ Христа — рыба. Или что
он маленькая рыбка, которую преследует огромная рыба. Или, наобо¬
рот, что он и есть эта огромная рыба.
Депрессивный же человек почти начисто лишен фантазии. Даже в
психотическом состоянии (если это МДП, а не шизофрения) его бред
119
Вадим Руднев
Словарь безумия
будет семиотически (вернее сказать, семантически, потому что в пси¬
хотическом мире уже нет семиотики (см. сущность безумия), посколь¬
ку нет знаконосителей) чрезвычайно скудным. Этот бред будет повер¬
нут всегда в сторону умаления — ему будет казаться, что он совсем
нищий, что он виноват перед всем миром и т. д. Пациент Блейлера,
депрессивный психотик, говорил: «Каждый глоток воды, что я пью,
украден, а я столько ел и пил» [Блейлер 1993:387\. Здесь обращают на
себя внимание три вещи. Первое — отчетливо оральный характер это¬
го высказывания. Второе - это его повернутость в сторону умаления,
уничтожения: он выпивает, интроецирует воду, которую он до этого
крал, т.е. он отнимает воду у других. Умаление вещества соответствует
умалению знаковости. Третья особенность высказывания блейлеровс-
кого пациента — это его универсальность. Каждый глоток украден. Эта
особенность чрезвычайно характерна для депрессивного мышления.
Все плохо, все ужасно, все кончено, весь мир — это юдоль скорби. Все
окрашено в мрачные тона. Ничто не радует (ничто — это «все» с логи¬
ческим оператором отрицания) (вспомним Онегина: «Ничто не трога¬
ло его/Не замечал он ничего». Отсюда же деперсонализированное «все
равно». В этой депрессивной универсальности тоже кроется антисеми-
отизм. Потому что, если все одинаково, все окрашено одним и тем же
цветом, когда что ни скажешь, все будет восприниматься как плохое,
то это и означает, что нет семиозиса. Потому что семиозис предпола¬
гает хотя бы два знака — плюс или минус, да или нет, хорошее или пло¬
хое. А для депрессивного человека существует только плохое. Депрес¬
сивный как будто каждой фразе приписывает квантор всеобщности.
И другая логическая особенность депрессивного мышления — это
его нетранзитивность (может быть, Фрейд бессознательно это и имел
в виду, говоря об отсутствии переноса при меланхолии (см. депрессия
и психоанализ)). Мы имеем в виду, что меланхолик не говорит «Я хочу
того-то» или «Я должен делать то-то», он говорит «Я виноват», «Мне
плохо», «Я плохой», «Все ужасно», «Мир отвратителен». В этом смысле
можно сказать, что вместе со знаками для меланхолика теряют цен¬
ность и объекты вообще, поскольку единственный любимый объект
утрачен и он (субъект) сам в этом виноват, потому что он - плохой.
Депрессия и психоанализ. Изучение депрессии (меланхолии)
в психоаналитической литературе имеет достаточно необычную судь¬
бу. Первым (во всяком случае, первым настолько значительным, что
с него можно начинать «историю вопроса») текстом о депрессии была
120
Депрессия и психоанализ
д
статья Фрейда «Скорбь и меланхолия», опубликованная в 1917 году.
Главная мысль этой статьи заключалась в том, что меланхолик интро-
ецирует утраченный объект любви и отождествляет себя с ним и далее
начинает ругать и обвинять себя, тем самым, ругая и обвиняя этот
утраченный объект любви за то, что тот его покинул [Фрейд 1994].
Эта статья была написана за три года до «Я и Оно», т.е. до форми¬
рования так называемой второй фрейдовской теории психического ап¬
парата, поэтому в ней Фрейд еще не говорит от противопоставлении
Я и Сверх-Я при меланхолии. Однако уже в статье 1923 года «Невроз
и психоз» он отчетливо формирует свое понимание отличия трех ти¬
пов душевных заболеваний — трансферентных неврозов (в сущности,
истерии, обсессии и фобии), нарциссических неврозов (прежде всего,
меланхолии) и психозов. Понимание это очень простое и ясное. Фрейд
пишет:
Невроз перенесения соответствует конфликту между Я и Оно, нар-
циссический невроз - конфликту между Я и Сверх-Я, а психоз —
конфликту между Я и внешним миром [Ггеис! 1981:138]
Итак, место утраченного объекта любви занимает теперь более аб¬
страктное понятие Сверх-Я. В сущности, в этом маленьком фрагмен¬
те содержится вся фрейдовская теории депрессии. Сверх-Я давит на Я:
до тех пор, пока Я сопротивляется и защищается, депрессия проходит
в невротическом регистре, если же Сверх-Я одерживает победу над Я,
то начинается психоз.
Однако прежде чем обратиться к рассмотрению дальнейших пси¬
хоаналитических текстов, посвященных изучению меланхолии, зада¬
димся все-таки вопросом, почему депрессия в течении 20 лет практи¬
чески не привлекала психоаналитиков (характерно, что в классичес¬
ком психоаналитическом словаре Лапланша и Понталиса вообще нет
статьи «депрессия» (или «меланхолия»), а есть лишь статья «невроз
нарциссический» [Лапланш-Понталис 1996]). В определеннном смыс¬
ле ответ содержится уже в вышеприведенной формулировке Фрейда.
Депрессия — это «нарциссический невроз», т.е. в нем либидо направ¬
лено на Собственное Я и поэтому такой нарциссический объект не ус¬
танавливает переноса. А если он не устанавливает переноса, то его
нельзя подвергать психоаналитическому лечению. Так считал Фрейд.
Дальнейшее развитие психоаналитической теории и практики пока¬
зало, что он был неправ и что даже тяжелый пограничный нарциссизм
образует перенос, но только перенос особого свойства. Это показал
Хайнц Кохут [Коки!1971]. Вообще эта формулировка — нарциссичес-
121
Вадим Руднев
Словарь безумия
кий невроз - указывает только на интроекцию как основной механизм
защиты, т.е., если реконструировать то, что Фрейд хотел сказать этим
различием между неврозом отношения и нарциссическим неврозом,
то сущность отличия в том, что истерия и обсессия (любимые Фрей¬
дом неврозы отношения) используют так называемые зрелые механиз¬
мы защиты, т.е. механизмы, действующие между сознанием и бессоз¬
нательным, а именно: вытеснение и изоляцию, а меланхолия исполь¬
зует интроекцию, которая является более архаическим механизмом
защиты, так как она действует между Я в целом и внешним миром (что
в большей степени приближает депрессию к психозам).
Однако вернемся к фрейдовской статье 1917 года, в которой есть
одно, на первый взгляд, малозаметное, но, в сущности, достаточно
поразительное предложение, которое, может быть, прольет свет на то,
почему депрессией так мало занимались на заре психоанализа.
Наш материал, — пишет Фрейд после оговорки, что вообще непо¬
нятно, что можно ообозначить под понятием меланхолии, и что
под этим понятием обычно объединяют разнородные явления, —
ограничивается небольшим числом случаев, психогенная природа ко¬
торых не подлежит никакому сомнению. Таким образом, мы с са¬
мого начала отказываемся от притязаний на универсальность на¬
ших результатов и утешаем себя тем соображением, что с помощью
современных исследовательских средств мы едва ли сможем обна¬
ружить что-нибудь, что было бы не типично если не для целого
класса поражений, то уж хотя бы для маленькой их группы [Фрейд
1994: 252] (курсив мой. — В.Р.)-
Что нас поражает в этом фрагменте? То, что из слов Фрейда явству¬
ет, что случаев меланхолии в его практике было совсем немного. То
есть речь идет, конечно, не о тех случаях, когда люди лежат в больни¬
це, не о маникально-депрессивном психозе — их тогда психоанализ не
лечил и не рассматривал. Речь идет именно о «нарциссическом невро¬
зе», о той депрессии, которой в современном мире страдает огромное
количество людей.
Итак, по-видимому, невротическая депрессия, «астено-депрессив-
ный синдром», была для начала века явлением нетипичным. Здесь мы
вступаем в увлекательную область истории болезней: чем болели люди,
чем они не болели и как эти болезни назывались (ср. Фуко «Истории
безумия»). Как уже говорилось, главными неврозами классического
психоанализа были истерия и обсессия. Истерички охотно рассказы¬
вали о своих проблемах, образовывали бурный перенос и легко из¬
122
Депрессия и психоанализ
д
лечивались. Обсессивные невротики оказывали большее сопротивле¬
ние, но перенос также устанавливали и также излечивались.
Почему истерия и обсессия были так популярны и, по-видимому,
реально распространены, а меланхолия нет? Мы можем только выс¬
казать гипотезу. Истерия и обсессия — это «викторианские» неврозы.
Они возникли и были отмечены вниманием психоанализа в эпоху
больших сексуальных ограничений. Женщина любит женатого мужчи¬
ну, возникает запрет, который ведет в невротическому симптомообра-
зованию. В результате она не может ходить или говорить, или слепнет,
или с ней происходит масса других, не менее интересных вещей. Муж¬
чина любит замужнюю женщину, возникает запрет, который ведет к
симптомообразованию. Женщины легче забывают - у них происходит
вытесение и конверсия в псевдосоматический симптом. Мужчина за¬
бывает труднее, поэтому у него образуются навязчивые мысли или дей¬
ствия, в которых он избывает свою «викторианскую» травму. Или же,
как это описано в случае Доры, мужчина прикоснулся к женщине сво¬
им эректированным членом, после чего у нее от ужаса начались исте¬
рические ощущения в области горла [Фрейд 1998с].
Сейчас, после нескольких сексуальных революций, эти истории
воспринимаются с улыбкой. И действительно, многие отмечали, что к
середине века истерия пошла на спад и во второй полвине XX столе¬
тия чуть ли вообще не исчезла (т.е. опять-таки из малой, амбулаторной
психиатрии). Женщин перестали шокировать мужские болты, замуж¬
ние дамы стали наиболее увлекательным объектом желания. Да, дей¬
ствительно, запреты XX век отменил, но зато он навел страх и ужас, в
нем было две мировых войны, полная смена культурных парадигм,
тоталитаризм, геноцид и терроризм. Поэтому в XX веке главными пси¬
хическими расстройствами стали не истерия и обсессия, а депрессия и
шизофрения. По всей видимости, главным событием, резко увеличив¬
шим количество депрессивных расстройств, была первая мировая вой¬
на (неслучайно Фрейд пишет свою работу о меланхолии в разгар этого
страшного для Европы события).
Если верно, что главное в этиологии депрессии — это «утрата лю¬
бимого объекта», то в результате первой мировой войны был утрачен
чрезвычайно важный объект — уютная довоенная Европа, в которой
самым страшным событием в жизни была не газовая атака и не ото¬
рванные ноги, а ситуация, когда слишком пылкий обожатель невзна¬
чай прикоснется к даме своим жезлом (отчего она потом долго и тяж¬
ко болеет).
Но помимо утраты идеологической, которая породила целую вол¬
ну культурных деятелей, отразивших это положение вещей с утрачен¬
123
Вадим Руднев
Словарь безумия
ным довоенным житьем — их называли «потерянным поколением», —
утраты были и в прямом смысле: на первой мировой войне погибли
миллионы людей — жены остались без мужей, дети без отцов и матери
без сыновей.
И вот на этом фоне уже вполне объяснимо и закономерно началось
некое оживление в психоаналитическом изучении депрессии.
Следующим этапом стала работа Карла Абрахама 1924 года, в ко¬
торой он связал депрессию с оральной фиксацией. В соответствии с
этой гипотезой депрессия связана с ранним болезненным отлучением
младенца от груди и является переживанием именно этой наиболее
ранней и фундаментальной потери, и затем всякая другая потеря (раз¬
лука, смерть близкого человека) переживается как репродукция ранней
травмы. По-видимому (если это так), этим также отчасти объясняется
то, почему депрессиями не занимались в классические времена «фрей¬
дизма», т.е. в начале XX века. Сосредоточенность на эдипальных кон¬
фликтах не позволяла вскрыть причину этого расстройства, которое,
если был прав Абрахам и его последователи, коренится в доэдиповых
архаических травмах раннего младенчества.
Итак, важнейшим концептом в абрахамовском понимании депрес¬
сии стало понятие утраты объекта любви, спроецированной на ран¬
нюю младенческую утрату материнской груди. Таким образом, если
классический психоанализ, немеющий дело с трансферентными не¬
врозами, можно назвать «отцовским» психоанализом, поскольку в
центре его находятся Эдипов комплекс и комплекс кастрации, связан¬
ные прежде всего с фигурой отца, то психоанализ депрессии - это «ма¬
теринский анализ».
М. Пруст со свойственной ему тонкостью и глубиной изобразил в
своем первом романе депрессивное переживание маленького героя при
разлуке с матерью каждый вечер и важность запечатления знака люб¬
ви — поцелуя — как компенсации этой ежевечерней утраты:
Я не спускал глаз с мамы - я знал, что мне не позволят досидеть
до конца ужина и что, не желая доставлять неудовольствие отцу,
мама не разрешит мне поцеловать ее несколько раз подряд, как бы
я целовал ее у себя. Вот почему я решил, — прежде чем в столовой
подадут ужин и миг расставанья приблизится, — заранее извлечь из
этого мгновеннного летучего поцелуя все, что в моих силах: выб¬
рать место на щеке, к которому я прильну губами, мысленно под¬
готовиться, вызвать в воображении начало поцелуя с тем, чтоб уж
потом, когда мама уделит мне минутку, всецело отдаться ощуще¬
нию того, как мои губы касаются ее губ - так художник связанный
124
Депрессия и психоанализ
д
кратковременностью сеансов, заранее готовит палитру и по памя¬
ти, пользуясь своими эскизами, делает все, для чего присутствие
натуры необязательно.
Следующий важнейший вклад в изучение депрессии был сделан
Мелани Кляйн, выдвинувшей гипотезу о двух фундаментальных «по¬
зициях» раннего младенчества: параноидно-шизоидной позиции (ко¬
торая проявляется в течение первых трех месяцев жизни младенца) и
депрессивной, которая проявляется от трех до шести месяцев. Зерном
концепции Кляйн было в некотором смысле позитивное отношение
к депрессивной позиции, осознание того, что если на предшествую¬
щей стадии младенец воспринимал хорошие и плохие стороны мате¬
ринской груди («плохая сторона» — это, например, тот факт, что грудь
не всегда появляется по первому требованию младенца) как разные
объекты (первая вызывала абсолютную любовь, вторая — абсолютную
ненависть), то, находясь на депрессивной позиции, младенец выучи¬
вался понимать, что плохие и хорошие стороны являются двумя сто¬
ронами одного объекта, т.е. именно на этой стадии мать начинала вос-
приматься им как целостный объект.
При этом, если с точки зрения Мелани Кляйн, на параноидной
стадии исчезновение груди интерпретируется ребенком как исчезно¬
вение и полная потеря мира, то, находясь на депрессивной позиции,
он ощущает скорбь и стремится восстановить разрушенный вследствие
исчезновения материнской груди мир путем интроекции ее образа. К
тому же теперь ребенок реагировал на потерю груди не паранойяльно¬
проективно, а депрессивно-интроективно, т.е. не посредством ненави¬
сти, а посредством вины, он считал, что «сам виноват» в том, что мать-
=грудь исчезла. Чувсто вины за потерю, по мнению Мелани Кляйн,
является наиболее универсальным концептом при меланхолии [Кляйн
2001] и более зрелым, чем паранойяльное чувство ненависти. (Если пе¬
рефразировать эту идею на обыденном языке, то в принципе более зре¬
лым является чувствовать свою вину и связанную с ней ответствен¬
ность за что-либо, чем при тех же условиях стремиться «свалить все на
другого» (обыденный коррелят проекции).)
Вот что пишет сама Мелани Кляйн по поводу всего этого:
Всякий раз, когда возникает печаль, нарушается ощущение надеж¬
ного обладания любимыми внутренними объектами, т. к. это
воскрешает ранние тревоги, связанные с поврежденными и унич¬
тоженными объектами, с разбитым вдребезги внутренним миром.
Чувство вины и тревоги - младенческая депрессивная позиция -
125
Вадим Руднев
Словарь безумия
реактивируются в полную силу. Успешное восстановление внеш¬
него любимого объекта, о котором скорбел ребенок и интроекция
которого усиливалась благодаря скорби, означает, что любимые
внутренние объекты реконструированы и вновь обретены. Следо¬
вательно, тестирование реальности, характерное для процесса
скорби, является не только средством возобновлений связи с вне¬
шним миром, но и средством воссоздания разрушенного мира.
Скорбь, таким образом, включает в себя повторение эмоциональ¬
ных ситуаций, пережитых ребенком с депрессивной позиции. На¬
ходясь под давлением страха потери любимой им матери, ребенок
пытается решить задачу формирования и интегрирования внутрен¬
него мира, постепенного создания хороших объектов внутри себя
[Кляйн 2001: 314].
Здесь чрезвычайно важно то, что при депрессии сохраняется, а на
депрессивной позиции, в сущности, начинается тестирование реально¬
сти, т.е. разграничение внутреннего и внешнего миров. Отсутствие это¬
го разграничения — признак психоза, т.е., по Мелани Кляйн, наиболее
ранняя позиция младенца по отношению к груди — соотносится с пси¬
хотическим воспрятием, а более зрелая депрессивная позиция ближе к
невротическому восприятию. Первая соотносится с шизофренией, вто¬
рая - с МДП. Вторая лучше, чем первая, своей большей связью с ре¬
альностью и позитивным прогнозом (успешное прохождение депрес¬
сивной позиции, по Мелани Кляйн, гарантирует нормальное развитие
в дальнейшем).
Е
«Елизавета Вам» (гебефренический мир). В этой пьесе
Хармса все начинается с бреда преследования:
Елизавета Вам. Сейчас, того и гляди, откроется дверь, и они
войдут... Они обязательно войдут, чтобы поймать меня и стереть с
лица земли. (Тихо.) Что я наделала! Что я наделала! Если б я толь¬
ко знала... Бежать? Эта дверь ведет на лестницу, а на лестнице я
встречу их. В окно? (Смотрит в окно.) У-у-у! Высоко... Мне не
прыгнуть. Ну, что же мне делать? Э, чьи-то шаги. Это они. Запру
дверь и не открою. Пусть стучат, сколько хотят.
Почему мы убеждены, что здесь речь идет о бреде преследования,
а не о реальном преследовании? Тем более, что после монолога герои¬
ни за дверью действительно появляются преследователи. Здесь, как и
в психиатрии, вопрос решается в общем контексте того, что происхо¬
дит, как ведет себя сознание героя. Происходящие далее события убеж¬
дают, в том, что этот контекст в основном бредовый.
Почему политическое объяснение происходящего в пьесе являет¬
ся недостаточным? Можно ведь сказать, что Хармс отражает реальную
сталинскую эпоху, когда за дверью действительно появлялись пресле¬
дователи и уводили людей в тюрьму или на расстрел. Потому что ре¬
альность и сознание связаны координативной связью, взаимозависи¬
мы. Как известно, Сталин сам страдал (под конец жизни вполне экс¬
плицитно) бредом преследования. Можно предположить, что все,
происходящее в стране в 30-е и 40-е годы, было проекцией его соб¬
ственных бредовых констелляций. Это во-первых. Во-вторых, сами
реальные преследования могли провоцировать у людей обострение
бредовых идей преследования. В этом смысле персекутивно настроен¬
ная психика Хармса была настроена синтонно окружающей действи¬
тельности. Кто знает, если бы он жил во второй половине XIX века,
может быть, его сознание пошло бы по другому пути, скажем, по ис¬
терическому!
Ситуация обыкновенного ареста, если так ее понимать, ретарди-
руется прениями у двери между преследователями и героиней. Она
вступает с ними в пререкания, в частности, говорит, что у них нет со¬
вести. Последняя реплика заводит гебефренический механизм пове-
127
Вадим Руднев
Словарь безумия
дения всех героев, основной механизм пьесы. (Гебефрения — разно¬
видность шизофрении, при которой актуализируется дурашливое, ре¬
бячливое поведение; кривляние, глумление над другими). Вместо того
чтобы активно действовать, преследователи неожиданно обижаются на
слова Елизаветы Вам о том, что у них нет совести, и вступают между
собой в перепалку.
Второй: Как это нет совести? Петр Николаевич, она говорит, что
у нас нет совести.
Елизавета Бам:У вас-то, Иван Иванович, нет никакой сове¬
сти. Вы просто мошенник.
Второй: Кто мошенник? Это я? Это я мошенник?
Первый: Ну, подождите, Иван Иванович. Елизавета Вам, при¬
казываю...
Второй: Нет, Петр Николаевич, это я, что ли мошенник?
После этого Елизавета Вам также начинает вести себя нелогично
с обыденной точки зрения. Она открывает дверь. Но с психотической
точки зрения здесь как раз все логично. Елизавета Вам, заведя идио¬
тическую перепалку между преследователями и внеся тем самым в их
ряды раскол, понимает, что теперь они ей не страшны. И действитель¬
но, теперь все три персонажа начинают разговор на гебефреническом
языке. Петр Николаевич икает в знак сигнала страже, потом зачем-то
ломает тумбу. Елизавета Вам провоцирует их на повторение этих бес¬
смысленных действий, тем самым отвлекая их от основной миссии.
Эта гебефреническая персеверация (см.) заходит так далеко, что далее
один из преследователей, Петр Николаевич, «становится на четверень¬
ки и лягается одной ногой», т.е. как бы превращается в собаку. Елиза¬
вета Вам зовет родителей, чтобы они насладились представлением.
Она уже совсем не боится.
Елизавета Вам: Да ведь это прелесть как хорошо. (Кричит.)
Мама! Пойди сюда. Фокусники приехали. Сейчас придет моя
мама. Познакомьтесь, Петр Николаевич, Иван Иванович. Вы что-
нибудь нам покажете?
Иван Иванович: С удовольствием.
Таким образом, гебефрения выступает как механизм защиты от
параноида, от бреда преследования. Время от времени герои, правда,
вспоминают, что они пришли затем, чтобы убить Елизавету Вам, но
атмосфера гебефренического абсурдно-дурашливого поведения все
128
^Елизавета Бам» (гебефренический мир)
Е
время отвлекает их. Петр Николаевич начинает эротические игры с
Елизаветой Бам, называя ее незабудкой, героиня отвечает ему тем же,
называя его тюльпаном (фаллос) и предлагая встать на четвереньки.
Появляется отец Елизаветы Бам, который не одобряет эту сцену — эле¬
менты Эдипова треугольника (мать также присутствует на сцене). Ге¬
рои дурачатся, поют песенки, выкрикивают бессмысленные предло¬
жения, идут по грибы. Потом, правда, начинается дуэль между Петром
Николаевичем и Папашей, который хочет защитить жизнь и честь сво¬
ей дочери. Но и дуэль принимает шутовской характер.
Каким же образом в этом дурашливом абсурдном мирке вызре¬
вает постепенно серьезное экзистенциальное измерение? Поначалу
ведь создается впечатление, что все герои живут в одном веселом
бедламе, где все беззаботно веселятся. Но, тем не менее, защитный
характер этого кривляния очевиден. Герои пытаются выстраивать
какие-то смыслоподобные констелляции. Они - «партнеры по бы¬
тию» несмотря на то, что это бытие такое странное. Недаром влюб¬
ленный в Елизавету Бам Иван Иванович дает реплику «Говорю, что¬
бы быть» (ср. бред и язык). Пока продолжаются разговоры, пусть бес¬
смысленные, герои живы, жива и Елизавета Бам. Какой-то смысл все
же проступает. Иван Иванович рассказывает о том, как он жил в до¬
мике с тараканами (возможно, намек на баньку с тараканами Досто¬
евского — символ вечности для Свидригайлова, который страдал бре¬
дом и галлюцинациями), и его посетила галлюцинация - он увидел
Елизавету Бам.
Иван Иванович:И вижу: дверь открыта, а в дверях стоит ка¬
кая-то женщина. Я смотрю на нее в упор. Она стоит. Было доста¬
точно светло. Должно быть, дело близилось к утру. Во всяком слу¬
чае, я видел хорошо ее лицо. Это была вот кто. (Показывает на
Елизавету Бам.) Тогда она была похожа...
Закрывают друг друга
В с е : На меня!
Иван Иванович: Говорю, чтобы быть.
Елизавета Бам: Что вы говорите?
Иван Иванович: Говорю, чтобы быть. Потом, думаю, уже по¬
здно. Она слушает меня. Я спросил ее, зачем она это сделала. Она
говорит, что подралась с ним на эспадронах. Дрались честно, но
она не виновата, что убила его. Думай, зачем ты убила Петра Ни¬
колаевича?
5-11117
129
Вадим Руднев
Словарь безумия
Ситуация на некоторое время становится более серьезной. Обви¬
нение в том, что Елизавета Вам убила Петра Николаевича, несмотря
на все безумие - ведь получается, что Петр Николаевич сам пришел
ее арестовывать за то, что она его убила, — хотя бы отчасти мотивиру¬
ет преследование Елизаветы Вам со стороны этих персонажей. В то же
время, происходит как бы прорастание бреда Елизаветы Вам в бред
Ивана Ивановича. Почему сказано, что они закрывают друг друга?
Между ними явно какая-то тайна, и Елизавета Вам не так уж невинов¬
на, как кажется на первый взгляд, и все это придуривание не такое уж
безобидное. Все как будто прикрывают взаимную вину друг друга. Ср.
следующий стихотворный монолог Петра Николаевича после того, как
его «убивает» на дуэли Папаша:
Я пал на землю, поражен.
Прощай, Елизавета Вам.
Сходи в мой домик на горе
И запрокинься там.
И будут бегать по тебе
И по твоим рукам
Глухие мыши, а затем
Пустынник таракан.
Ты слышишь колокол звенит
На крыше - бим и бам,
Прости меня и извини,
Елизавета Бам.
Здесь оказывается, что эротическая драма существует не только
между Елизаветой Бам и Иваном Ивановичем, но и между ней и Пет¬
ром Николаевичем («И запрокинься там») и притом гораздо более се¬
рьезная. Видимо, она его убила из-за каких-то любовных дел. Может
быть, он ее приревновал к Ивану Ивановичу. Преследователи, таким
образом, оказываются соперниками. Все серьезно. Придуривание при¬
крывает глубокие драмы, которые, возможно, никогда не происходи¬
ли между персонажами, но могли происходить, и это придает смысл
всему происходящему. Неожиданно Петр Николаевич в сознании Ма¬
маши оказывается ее сыном (т.е. братом Елизаветы Бам! Здесь уже
попахивает инцестом), и Мамаша скорбит о его «смерти» так, что «схо¬
дит с ума», что и констатирует Елизавета Бам. На этом заканчивается
центральная, гебефреническая часть пьесы, и все начинается сначала.
Вновь преследование. Елизавета Бам говорит те же слова, что в пер¬
вой сцене. Здесь все исключительно серьезно. Елизавета Бам «обви¬
130
«Елизавета Вам» (гебефренический мир)
Е
няется в убийстве Петра Николаевича Крупернак» (серьезность при¬
дает хотя бы произнесение его фамилии). Петр Николаевич — ему
принадлежат последние слова пьесы - торжественно выводит Елиза¬
вету Вам:
Петр Николаевич: Елизавета Вам, вытянув руки и потушив
свой пристальный взор, двигайтесь следом за мной, храня суста¬
вов равновесие и сухожилий торжество. За мной.
Медленно уходят.
Здесь трагизм достигает накала произведений Кафки.
5*
3
«Золотой век» и кататония. При кататонической шизофрении
сознание и поведение человека регрессирует, можно сказать, до стадии
животного. Речь его редуцируется, он либо от страха и ужаса застыва¬
ет в неподвижности, либо наоборот приходит в страшное возбуждение.
То есть фундаментальные параметры кататонии — сугубо моторно-дви¬
гательные. Общаться с таким человеком невозможно. Трудно предста¬
вить себе и мир такого сознания, поскольку, как писал Витгенштейн,
внутренние состояния требуют внешних критериев [\\Ш§еп81ет 1967].
Таким внешним критерием, прежде всего, является речь пациента, ко¬
торой при кататонии он практически лишается вовсе.
Тем не менее, в одном из самых знаменитых кино-шедевров XX
века — «Золотом веке» Бунюэля - строится именно кататонический
мир с отдельными параноидными включениями.
Действие фильма начинается на некой скалистой местности.
Первые кадры - агрессивный бой скорпионов - сразу задают «жи¬
вотную» парадигму восприятия того, что будет происходить в филь¬
ме. Следующие кадры показывают плохо одетого человека с ружь¬
ем, который медленно бредет по острову. Он то и дело застывает в
неподвижности, движения его замедленны и неуклюжи. Он видит
перед собой застывшую группу католических первосвященников в
тиарах. Они сидят под скалой в полной неподвижности, видно толь¬
ко, как шевелятся их губы, речь невнятна. Человек с ружьем мед¬
ленно, спотыкаясь, подходит к дому, где живут такие же оборван¬
ные люди, бандиты. Они еле передвигаются, то и дело привалива¬
ясь к стене, кто-то из них на костылях. Лица у них представляют
усталые застывшие гримасы. Пришедший что-то рассказывает о
виденном. Вожак вяло говорит: «Тогда к оружию». Бандиты нехотя
встают и, неуклюже спотыкаясь, еле бредут по острову, все время
норовя упасть и застыть в неподвижности. Один из них вообще от¬
казывается встать с постели. Когда предводитель шайки говорит
ему: «Но все же мы идем туда», — тот отвечает бредовой фразой: «Но
у вас есть аккордеон, гиппопотамы, ключи, развевающиеся знаме¬
на... и щипцы».
Бандиты идут по острову, падают, застывают в неподвижности.
Вожак добредает до того места, где в неподвижности застыла группа
священников, и тоже застывает на месте.
132
«Золотой век» и кататония
3
К острову подплывают лодки. Из них высаживаются люди, их дви¬
жения, напротив, энергичны и суетливы. Это наступление цивилиза¬
ции. Эти люди пришли, чтобы заложить город Рим. Невдалеке видны
первосвященники — эта группа уже превратилась в скелеты — похоже,
они так и сидели в неподвижности, пока не умерли и не превратились
в скелеты, только их облачение сохранилось нетронутым.
Среди шума и суеты подготовки к закладке города раздается
вопль — толпа расступается, и мы видим двух лежащих на земле лю¬
дей, — мужчину и женщину, - которые судорожно сцепились в объя¬
тьях. Услышанный крик был возгласом страсти. Тем не менее, их
дружно разнимают. Они судорожно рвутся друг другу, протягивая
руки, их лица напряжены и застыли в страстной гримасе. Такими они
будут на протяжении всего фильма.
Следующий кадр - неподвижное (как будто от страстного жела¬
ния) лицо героини, смонтированное с унитазом. Мы видим нечто
бурлящее наподобие вулканической лавы. Раздается звук спускаемо¬
го бочка, и зритель понимает, что героиня сидит на унитазе, и ее вы¬
ражение лица — это выражение испражняющегося, тужащегося чело¬
века, а то, что мы приняли за вулканическую лаву, - это спускаемые
фекалии.
Здесь можно подвести первые итоги. Мир, отторженный от циви¬
лизации (бандиты и влюбленная пара) показан кататонически, через
двигательно-моторный код. Это почти животные инстинкты и почти
животная страсть. Мир цивилизованных людей включает нормальную
речь и нормальную моторику. Противопоставление цивилизованного
поведения и морали полуживотному, но искреннему поведению — ос¬
нова художественной идеологии фильма.
Героя уводят двое людей. Он в застывшей позе позволяет тащить
себя за руки. Вдруг раздается лай собачки. При виде собачки герой
резким движением вырывается из рук преследователей, подбегает к
собачке и пинает ее ногой.
Мэр возбужденно произносит речь, на плиту закладывают лепешку
цемента — символ будущего города, — которая также напоминает фе¬
калии, - и она тут же застывает.
Мотив статуи (в контексте фильма — безусловно кататонический
символ неподвижности) проходит по всему фильму. Мы видим застыв¬
шую архитектуру Рима. Показываются статуи — одна, другая, третья.
Человек медленно идет по улице и вяло пинает ногой скрипку, как
консервную банку - первое параноидное включение - их будет мно¬
го. Мимо статуи в плоском головном уборе какого-то, очевидно, отца
города проходит человек, на голове у которого плоский камень, напо¬
133
Вадим Руднев
Словарь безумия
минающий головной убор статуи. Кататоническое начало все время
переплетается с параноидным.
Героя ведут по городу - все напоминает ему о возлюбленной, он
страстно смотрит, останавливаясь, на фотографию в витрине, которая
напоминает ему лицо возлюбленной (оно тут же галллюцинаторно по¬
является на экране, застывшее в страстной томительной позе; она ле¬
жит, откинувшись, на диване).
Между тем в доме героини идут приготовления к светскому рауту.
Мать разговаривает с героиней. Та предлагает заменить оркестр попу¬
гаем. Героиня идет в спальню, но опять застывает. На ее кровати ле¬
жит огромная корова, звеня колокольчиком, привязанным к ее шее.
Героиня с застывшим лицом досадливо выпроваживает корову из
спальни, не обнаруживая при этом никакого удивления (характерная
для психотического мира деталь (ср. невроз и психоз)). Потом она снова
застывает, рассеянно чистит ногти пилочкой. Мимо дома проводят ее
возлюбленного. Ее лицо озарятся радостью, хотя она его и не видит.
Информация в этом фильме проходит помимо визуальных и аудиаль-
ных каналов - путем магнетической передачи энергии, что и логично
в психотическом мире с параноидным началом. Долгий кадр — застыв¬
шее страстное лицо героини, смотрящей на небо с облаками (сцена на¬
поминает картину Магритта). Она в истоме ложится на диван. Героя
продолжают вести двое мужчин по городу. Мимом проходит слепой
старичок в темных очках. Герой вдруг вырывается от преследователей
со словами: «С меня хватит. Вы не знаете, с кем имеете дело». Он по¬
казывает им диплом, данный ему какой-то международной ассоциа¬
цией.
Герой подзывает такси, но, увидев слепого старика, подбегает ему
и с силой пинает его ногой в грудь, так что тот отскакивает. После
этого герой садится в машину и уезжает.
В доме героини собираются гости. Картины светского приема. По¬
среди гостиной, как бы сквозь нее, проезжает телега, запряженная ло¬
шадью, и на ней мужики медленно пьют из бутылок. Этого, естествен¬
но, никто не замечает.
Рядом на поляне отец играет с мальчиком. Отец собирается на охо¬
ту, у него в руках ружье. Мальчик, играя, выбивает у отца что-то из рук
и бежит по лугу, кувыркаясь в траве, как зверек. Глаза отца наливают¬
ся ненавистью. Он вскидывает из ружья и стреляет в сына — тот под¬
скакивает и застывает, как добитый зверек.
В гостиную входит герой, он хочет кинуться к героине, на лице
которой застыло восторженное выражение, но светские приличия это¬
го не позволяют. Он вынужден любезно разговаривать с пожилой и не¬
134
«Золотой век» и кататония
3
красивой матерью героини. Она нечаянно проливает вино из рюмки
ему на рукав. В бешенстве герой вскакивает и отвешивает ей пощечи¬
ну. Его оттаскивают. На лице героини застыл восторг.
Герой из-за портьеры наблюдает застывшим взором за героиней.
Он жестом намекает ей, чтобы она вышла в парк. Аллея в парке. На
переднем плане каменная ваза. В глубине парка статуя. Герои броса¬
ются друг другу в объятья, неуклюже обнимаются на фоне статуи. Они
тянутся друг к другу, но статуя как будто своей неподвижностью ско¬
вывает их движения — у них ничего не получается.
Оркестр начинает играть. Дирижер энергично жестикулирует па¬
лочкой. Взгляд героя застыл на каменной ступне статуи. Играет музы¬
ка, дирижер в экстазе жестикулирует руками. Герои пытаются неуклю¬
же обниматься, падают под ноги статуи.
Подходит слуга и невозмутимо просит героя к телефону. Тот с до¬
садой уходит. Героиня в застывшей позе лижет большой палец ноги
статуи. Герой разговаривает по телефону с министром внутренних дел,
который обвиняет его в том, что он убийца. Герой в ярости швыряет
трубку и вырывает провод. Следующий кадр — министр прилип к по¬
толку, как муха.
Героиня прилипла губами к ноге статуи. Герой возвращается — мед¬
ленные неуклюжие объятья, застывшие взгляды. Голос героя: «Не ше¬
велись!» Экстаз в оркестре. Голос героини: «Как же долго я тебя ждала!
Какое счастье убить своего ребенка!» Крупным планом обезображен¬
ное, в крови, лицо героя. Голос героини: «Любовь моя!»
В это время дирижер в отчаянии бросает палочку и, обхватив го¬
лову руками, медленно бредет, спотыкаясь, в парк. Героиня подбегает
к нему и целует, прилипая к его телу. Герой в ярости. Застыл от ревно¬
сти, обхватив голову руками. Спотыкаясь, идет к дому. Бросается нич¬
ком в постель. Потом в ярости потрошит подушку, вытряхивая из нее
перья. Забрасывает перьями комнату. Открывает окно и под аккомпа¬
немент барабанного боя выбрасывает в окно статую, огромный плуг,
горящую сосну и католического священника, который после падения
вскакивает и, как зверек, убегает.
Последняя сцена фильма, не имеющая никакого отношения к
предшествующему действию, возвращает мотивно к началу фильма.
Из замка, где проходили, как сказано в титрах, сексуальные оргии,
медленно выходит человек с застывшей гримасой сладострастия и при
этом похожий на Христа. Медленно, переваливаясь, из дома выходят
другие люди; спотыкаясь, идут по мосту. Из дома выбегает девушка и
падает. Человек с лицом Христа подхватывает ее и уносит в дом. Раз¬
дается вопль. Человек тут же выходит из дома, но уже без бороды.
135
Вадим Руднев
Словарь безумия
Последний кадр фильма — католический крест во весь экран, на ко¬
тором развеваются меха, символ мазохизма (намек на роман Леопольда
Захер-Мазоха «Венера в мехах»).
Здесь надо уточнить намеченное противопоставление между, с од¬
ной стороны, замедленным кататоническим движением и неподвиж¬
ностью и резким возбужденным движением, соответствующим при¬
родному животному поведению и, с другой стороны, нормальным дви¬
жением, свойственным цивилизованному культурному миру. На самом
деле все сложнее. Статуя — кататонический символ, но принадлеж¬
ность культурного мира. По-видимому, кататоническая реакция в мире
этого фильма возникает при столкновении сексуального желания, ес¬
тественного животного поведения, с объектами цивилизации, либо ес¬
тественно неподвижными, как статуи, либо так же естественно и гра¬
циозно движущимися, как цивилизованные люди (раскланивания и
рукопожатия на светском приеме, дирижирование оркестром).
Но конфликт между цивилизованной моралью и животной страс¬
тью заключается в том, что они начинают интерферировать, что созда¬
ет параноидный эффект (корова в спальне, повозка с мужиками в го¬
стиной). Статуя не позволяет героям отдаться страсти, заражая их сво¬
ей неподвижностью. Дирижер, наэлектризованный непонятно как
дошедшей до него любовной игрой героев, не может больше осуществ¬
лять грациозных движений музыканта, он бросает музыку ради при¬
родной любовной страсти. Герой в ярости выкидывает в окно непод¬
вижные предметы культуры — статую, плуг, католического епископа.
Природное и культурное начала взаимно уничтожают друг друга. В ка¬
татоническом мире невозможно осуществление страсти — она обраща¬
ется в застылость — возможно лишь осуществление бессильной ярос¬
ти, направленной на мешающую природной любви культуру и осуще¬
ствляющейся в возбужденной кататонической агрессии.
Кататонический «скульптурный миф» Бунюэля противопоставлен
«гипоманиакальному» скульптурному мифу оживающей статуи у Пуш¬
кина. В «Каменном госте», «Медном всаднике» и «Золотом петушке»
мертвое, застывшее изваяние оживает и мстит герою. У Бунюэля, на¬
оборот, статуя своей застылостью заражает, кататонизирует героев и,
тем самым, также губит их, не давая им возможности для моторной
разрядки. При этом в маниакально-депрессивном мире Пушкина па¬
раноидно-галлюцинаторный эффект служит фундаментальной сюжет¬
ной функции — статуя оживает и убивает. В шизофреническом мире
Бунюэля параноидный эффект имеет лишь вспомогательную функцию
медиации между кататонической этологией животного начала и нор¬
мальным, цивилизованным моторно-двигательным этосом.
136
и
Иудушка ГоЛОВЛеВ. (См. также эпилептоидный дискурс.) Счита¬
ется, что роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» явля¬
ется мрачной сатирой, в которой обличается - только вот непонятно
что: авторитарность и стяжательство героев, лесть и подлость Иудуш¬
ки Головлева, пустившего по миру собственную мать, сама смерть,
поскольку это произведение, в сущности, посвящено, одиночеству и
смерти (подзаголовок романа - «История умертвий», т.е. «умираний»)?
Действительно, в романе все неприятно и неприглядно. Однако в от¬
ношении его героев все обстоит не так просто. Проективный механизм
эпилептоидного творчества позволяет посмотреть на него через более
тонкую призму объектных отношений. Если Салтыков-Щедрин и хо¬
тел обличать Иудушку, акцентуируя в нем собственные неприятные
эпилептоидные черты, подобно тому, как это сделал Гоголь, карикатур¬
но изобразивший Плюшкина, который вовсе не так уж плох (ср. ста¬
тью В. Н. Топорова «Апология Плюшкина» [Топоров 1995а]), то бессоз¬
нательно он во многом оправдал его. История Порфирия Головлева и
его матери Арины Петровны это история неудавшегося архаизирован¬
ного (т.е. берущего корни в инфантильном общении между матерью и
младенцем) диалога двух эпилептоидных тел (см. эпилептоидное тело
без органов) — традиционного грузного, тяжеловесного, авторитарно¬
го тела матери и редуцированного тела гиперсоциального эпилептои-
да сына с компенсирующей эту редуцированность гипертрофирован¬
ной «пустой» (в смысле Лакана), т.е. невротической (психопатической)
симптоматической речью, в которой означающее перевешивает и по¬
давляет означаемое.
Арина Петровна Головлева предстает в первой главе романа как
традиционное грузное и авторитарное эпилептоидное тело с тяжелой
властной речью, как «эпилептоидогенная мать», как бы отрывающая
от своего тела куски (выражение из романа — «выбросить кусок», т.е.
отдать непослушным сыну или дочери негодную часть состояния с
тем, чтобы уже потом иметь право о них не заботиться) — этот персо¬
наж уже проигран в русской литературе в образах купчих А. Н. Остро¬
вского, прежде всего Кабанихи (см. [Руднев 2001]).
Арина Петровна - женщина лет шестидесяти, но еще бодрая и
привыкшая жить на всей своей воле. Держит она себя грозно; еди-
137
Вадим Руднев
Словарь безумия
нолично и бесконтрольно управляет обширным головлевским
имением, живет уединенно, расчетливо, почти скупо <...> вообще
имеет характер самостоятельный, непреклонный и отчасти строп¬
тивый, чему, впрочем, немало способствует и то, что во всем голов-
левском семействе нет ни одного человека, со стороны которого
она могла бы встретить себе противодействие.
Этот человек, однако, находится. Это ее сын Порфирий. Как уже
говорилось, в противоположность обычному эпилептоидному телу, в
частности, в противовес своей маменьке, Порфирий Головлев, он же
Иудушка, беспрерывно говорит. Причем его речь воспринимается ок¬
ружающими как неприятная, загадочная, назойливая ненужная и
страшная. «Страшно, когда человек говорит, и не знаешь, зачем он го¬
ворит, что говорит и кончит ли когда-нибудь» - говорит о нем пле¬
мянница Аннинька.
Между тем, речь Иудушки, если ее рассмотреть с психодинамичес¬
кой точки зрения, вполне осмысленна и понятна.
Вот его первый монолог по приезде в деревню для того, чтобы су¬
дить пропившего выброшенный маменькой «кусок» брата Степку-бал-
беса:
Если вы позволите мне, милый друг маменька, выразить свое мне¬
ние, - сказал он, - то вот оно в двух словах: дети обязаны пови¬
новаться родителям, слепо следовать указаниям их, покоить их в
старости — вот и все. Что такое дети — милая маменька? Дети — это
любящие существа, в которых все, начиная от них самих и кончая
последней тряпкой, которую они на себе имеют, - все принадле¬
жит родителям. Поэтому родители могут судить детей; дети же
родителей никогда. Обязанность детей - чтить, а не судить. Вы
говорите: судите меня с ним! Это великодушно, милая маменька,
велли-ко-лепно! Но можем ли мы без страха даже подумать об
этом, мы, от первого дня рождения облагодетельствованные вами с
головы до ног? Воля ваша, но это святотатство, а не суд! ... Вы —
мать, вам одним известно, как с нами, вашими детьми поступать.
Заслужили мы — вы наградите нас, провинились - накажите. Наше
дело повиноваться, а не критиковать. Если б вам пришлось даже
и переступить, в минуту родительского гнева, меру справедливос¬
ти - и тут мы не смеем роптать, потому что пути провидения скры¬
ты от нас (курсив мой. — В.Р.).
Подчеркнутая фраза содержит ключ к латентному смыслу этого
монолога. Это — страх перед авторитарной матерью, которая с младен¬
138
Иудушка Головлев
И
чества этот страх безусловно взращивала. Можно сказать, используя
психоаналитический язык Мелани Кляйн, что в диалектике двух фун¬
даментальных «позиций» младенца по отношению к матери (собствен¬
но, к материнской груди) - более архаической агрессивной «шизоид¬
но-параноидной» и более зрелой «депрессивной» [Кляйн 1997, 2001] —
Иудушка в отличие от других братьев и сестер сохраняет эту примитив¬
ную шизоидно-параноидную установку агрессивного страха и защиты
перед матерью, которая разбрасывает куски своего тела-состояния,
чтобы потом их вновь поглотить, как она собирается уже сейчас погло¬
тить несчастного Степку-балбеса. Речь Иудушки продиктована страхом
перед угрожающим сверхценным объектом, и при этом речь и действие
поляризуются. В его словах акцентируется полное принятие матери, на
деле же он единственный из детей, кто противостоит ее умерщвляющей
установке и в результате единственный, кому удается переиграть и пе¬
режить ее.
Больше всего Иудушка боится слов проклятия со стороны матери,
которое безусловно является метафорой символической кастрации
(термин Лакана). Поэтому речь Иудушки направлена на то, чтобы
сбить с толку, запутать следы, просимулировать восприятие матери как
«хорошего объекта». Но, в сущности, нельзя сказать, что Иудушка
только ненавидит мать и желает ей зла, что он законченный негодяй
и монстр. Его речь имеет защитную функцию. В сущности, он хотел
бы быть хорошим, если бы это было возможно, и хотел бы видеть хо¬
рошей мать.
Трагедия Иудушки - это одиночество редуцированного эпилеп-
тоидного тела, которое в результате логики эпилептоидного дискурса
уничтожило остальные тела. Его речь - в каком-то смысле не простая
формальность, не стереотипное лицемерие. Ему действительно не хо¬
телось, чтобы ограбленная им маменька уезжала от него. И тем ме¬
нее ему хотелось бы, чтобы от него уезжала любимая «племяннушка»,
его сексуальные притязания к которой, в сущности, тоже происхо¬
дят из страха одиночества. Так, не смея озвучить своих желаний,
Иудушка пишет Анниньке записку, своеобразное признание в люб¬
ви, в котором его задний, нечистый, смысл компенсируется трога¬
тельной робостью и искренним желанием дружбы и хоть какого-то
подобия общения:
Порфирий Петрович остановился и замолчал. Некоторое время он
семенил ногами на одном месте и то взглядывал на Анниньку, то
опускал глаза. Очевидно, он решался и не решался что-то выска¬
зать.
139
Вадим Руднев
Словарь безумия
— Постой-ка, я тебе что-то покажу! — наконец решился он и,
вынув из кармана свернутый листок почтовой бумаги, подал его
Анниньке, - на-тко, прочти!
Аннинька прочла:
«Сегодня я молился и просил Боженьку, чтобы он оставил мне
Анниньку. И Боженька мне сказал: возьми Анниньку за полнень¬
кую талийцу и прижми к своему сердцу».
Несомненно, что эта речь выстрадана и искренна. Скоре всего,
Иудушка действительно «молился и просил Боженьку». В конце рома¬
на они с Аннинькой действительно соединяются в некоем зловещем
подобии духовного союза. Они сидят по вечерам вместе и напивают¬
ся. Аннинька растравляет его душу, обвиняя его в смерти всех род¬
ственников. Финал романа неожидан для сатиры. В Иудушке просы¬
пается совесть; Аннинька и он после Пасхи примиряются и искренне
прощают друг другу обиды, после чего Порфирий Петрович наконец
принимает в свою душу «депрессивную позицию» по отношению к
мертвой уже маменьке - замученный чувством вины перед нею, он
ночью идет к ней на могилу и там замерзает до смерти.
Таким образом, пафос романа Салтыкова несомненно не в обли¬
чении, но, скорее, в показе того, что эпилетпоидное психопатическое
сознания не способно жить созидательной целостной жизнью, как
писал Людвиг Бинсвангер, «неспособно безмятежно пребывать среди
вещей» [Бинсвангер 1999: 219]. Программа, жизненный проект, зало¬
женный в эпилептоидном человеке, направлен не на созидание, а на
агрессию, на уменьшение мира вокруг, что ведет с неумолимой логи¬
кой к аутодеструкции в качестве логического завершения этой про¬
граммы.
к
Кафка. Судя по всему, один самых великих писателей XX века стра¬
дал так называемой простой шизофренией (зсйугойеша мтр1ех). При
этом течении болезени практически не бывает продуктивной симпто¬
матики (бреда, галлюцинаций), но прежде всего меняются особеннос¬
ти речевого поведения человека (см. также язык и безумие, бред и язык,
бред и речевой акт). Вся творческая судьба великого безумца XX века
Франца Кафки (включая его жизнь, как она засвидетельствована в до¬
кументах, письмах и биографических материалах) могла бы рассмат¬
риваться как цепь неуспешных речевых актов: в детстве и юности за¬
висимость от грубого брутального отца порождает невозможность ос¬
вободиться и зажить самостоятельной жизнью — все попытки сделать
это тщетны; не получается обеспечить себе свободу, обеспечить воз¬
можность для спокойного творчества — самого главного, что было в его
жизни; попытки жениться несколько раз срываются; все три романа
остаются недописанными; «Письмо Отцу» - неотправленным; люби¬
мая женщина (Милена Есенская) — потерянной; все творчество кажет¬
ся неудавшимся — Кафка завещает Максу Броду уничтожить все его
рукописи. Однако и эта последняя воля не выполняется.
Но, вглядевшись внимательней, можно увидеть, что эта неуспеш-
ность достигается Кафкой как будто специально, он будто нарочно
стремится к ней (об успешности/неуспешности речевых актов см. [Ос¬
тин 1999]). Говоря серьезно, никто не мешал ему уехать из дома отца и
жить одному, никто не мог помешать ему, взрослому человеку, женить¬
ся. Всякий раз он отказывается от брака без каких-либо видимых при¬
чин. Он мог бы послать письмо отцу по почте, однако он делает все воз¬
можное, чтобы письмо в руки отца не попало — он отдает его матери с
просьбой передать письмо отцу (ср. с просьбой Максу Броду уничто¬
жить рукописи), отлично понимая, что мать этого никогда не сделает.
Что же в результате? Болезненный ипохондрик, неуверенный в
себе, хоть и вполне благополучный чиновник, тихий еврей из Праги,
вечно больной и недовольный жизнью, становится после смерти вели¬
чайшим писателем XX века, кумиром культуры этого столетия. Кажу¬
щаяся неуспешность во время жизни оборачивается гипер-успешнос-
тью после смерти.
Прежде чем перейти к анализу художественного творчества Каф¬
ки, вкратце обрисуем тот культурный фон, который окружал его твор¬
141
Вадим Руднев
Словарь безумия
чество. Это австрийский экспрессионизм, наследие австро-венгерско¬
го модерна. Смысл экспрессионизма и основная его характерная чер¬
та состоит в том, что он гипертрофирует системность, но при этом ис¬
кажает элементы системы, обостряя знаковый характер этой систем¬
ности). Разупорядочение мира у Кафки происходит не от нарушения
норм, а от слишком усердного их выполнения. У Кафки всегда главен¬
ствует некий высший Закон, проявления которого носят хотя часто
неожиданный, но всегда строго детерминированный характер. Изоб¬
ражение искаженных речевых действий — одна из характерных особен¬
ностей прозы Кафки. Причем эти искажения идут именно по тем ли¬
ниям, которые знакомы нам по жизни автора. Либо это неуспешность
самых элементарных речевых действий, когда человек говорит что-то
другому, а тот ему не отвечает, либо наоборот, когда самые невероят¬
ные речевые акты становятся гиперуспешными (ср. бред и язык).
Так, в рассказе «Приговор» дряхлый, немощный отец вдруг кричит
(неизвестно из-за чего) своему сыну: «Я приговариваю тебя к казни —
казни водой» - и сын после этого немедленно бежит топиться. И в том
и в другом случае подчеркивается, артикулируется сама сущность ре¬
чевого акта, анатомируется его структура.
Своеобразным памятником неуспешности/гиперуспешности рече¬
вого поведения является знаменитое «Письмо Отцу», в котором Каф¬
ка, с одной стороны, показывает, что отец своими «ораторскими мето¬
дами» воспитания: руганью, угрозами, злым смехом — добивался обрат¬
ного тому, чего хотел от сына, превращая его в запуганное и зависимое
существо.
Мне было страшно, - пишет Кафка отцу, - например, когда ты
кричал «Я разорву тебя на части», хотя я и знал, что ничего ужас¬
ного после слов не последует (ребенком я, правда, этого не знал),
но моим представлениям о твоем могуществе соответствовала вера
в то, что ты в силах сделать и это.
Но, с другой стороны, Кафка признает, что именно таким, каким
он вырос - запуганным, вечно боящимся отца, никуда не годным, -
он обязан этому воспитанию, которое в этом смысле было успешным.
Возможно, если бы не отец, то Кафка женился бы, сделал карьеру,
меньше страдал психически и не так рано бы умер. Но тогда, возмож¬
но, он не написал бы «Замка».
Именно структуру этого последнего произведения определяет ди¬
алектика неуспешности и гиперуспешности. С одной стороны, чинов¬
ники Замка (Сордини, Сортини, Кламм, Мом, Эрлангер, Бюргель)
принадлежат к высшей упорядоченной и упорядочивающей структуре
142
Кафка
К
власти — отсюда их страшное высокомерие. С другой стороны, чинов¬
ников отличают неадекватные слабости, проявляющиеся в их речевом
поведении. Они при всем своем высокомерии робки, нерешительны и
ранимы. Так, Сортини вначале пишет грубую записку Амалии, где в
оскорбительных тонах требует свидания, но при этом он злится на са¬
мого себя, что эта слабость отрывает его от работы. Написав агрессив¬
ную записку, он уезжает (в сущности, убегает). Эта записка Сортини
влечет за собой цепь неуспешных речевых действий. Амалия рвет за¬
писку, а семья, испугавшись такой дерзости, тщетно добивается у Замка
прощения за этот поступок, но замок в прощении отказывает, подчер¬
кивая, что семью никто ни в чем не обвинял; семья хочет хотя бы до¬
биться того, чтобы ей определили вину, но Замок отказывает и в этом.
Отец Амалии каждый день выходит на дорогу и пытается вручить кому-
либо из чиновников просьбу о прощении, но безуспешно. Брат оскор¬
бленной Амалии Варнава, устроившись на работу в Замок, подходит то
к одному, то к другому из слуг с рекомендательной запиской, но слуги
не слушают его, пока один из них не вырывает записку у Варнавы из
рук и не рвет ее в клочья. Даже давая поручения Варнаве, ему вручают
какие-то явно старые ненужные письма, а он, получив их, вместо того,
чтобы сразу отдавать по назначению, медлит и ничего не предприни¬
мает. Кламм, один из самых могущественных персонажей романа, во
всем, что касается главного героя К., проявляет робость и уступчивость.
Когда землемер отбивает у Кламма Фриду, тот сразу пасует, не делая
попыток ее вернуть или наказать. Чиновники и их секретари не толь¬
ко амбициозны, но и чрезмерно впечатлительны, нервны и излишне
болтливы. Бюргель, к которому землемер К. попадает ночью случайно,
болтает несколько часов подряд, пытаясь при помощи болтовни бо¬
роться с бессонницей и не давая уснуть землемеру. Но К. вместо того,
чтобы воспользоваться беззащитностью Бюргеля, сам засыпает. Вооб¬
ще землемер в плане речевого поведения являет собой полную проти¬
воположность чиновникам. Для него характерна не неуспешность, а
скорее тернистый путь к гиперуспеху. Те речевые действия, которые
даются легко, его не интересуют. Для него важны только те речевые
акты, успеха в которых можно добиться лишь путем упорной борьбы.
По свидетельству Макса Брода, роман должен был кончиться тем, что
Замок принимает К., когда тот находится на пороге смерти. Вот еще
один пример неуспешности-гиперуспешности. Если уподобить Замок
Царствию небесному (о многочисленных мифологических интерпрета¬
циях «Замка» см. в книге [Мелетинский 1976]), то финал является ал¬
легорией отпущения грехов перед смертью, в преддверии ахронной
жизни в семиотическом обратном времени.
143
Вадим Руднев
Словарь безумия
Кафка глазами Юнга, Шкловского и Лакана.
Франц Кафка. «Отъезд»:
Я велел своему слуге привести из конюшни мою лошадь, но он не
понял меня. Тогда я сам пошел, запряг коня и поехал. Впереди тре¬
вожно звучали трубы.
У ворот он спросил меня: - Куда вы едете?
- Не знаю сам, — ответил я, — но только прочь отсюда! но только
прочь отсюда! только бы прочь отсюда! Лишь так достигну я сво¬
ей цели.
- Вы знаете свою цель? - спросил он.
- Да! - ответил я. — Прочь отсюда! Вот моя цель.
Карл Густав Юнг. Когда человек неожиданно собирается отпра¬
виться в путь, бросая вдруг своих близких и все, что ему до этого
было дорого, то цель его путешествия настолько серьезна, что не
имеет смысла спрашивать у него, куда он оправляется и чего ждет от
своего его паломничества. Его цель — обретение своей самости, ин-
дивидуация, которая есть не что иное как освобождение от лживых
покровов Персоны и суггестивной власти бессознательных образов.
То, каким человек чувствовал себя в привычной обстановке, его со¬
циальная маска, его должность, профессия, жизненные приоритеты,
то, как он смотрел на действительность, — это и есть Персона. От¬
правляясь в путь, он должен сорвать эту маску, и его лицо под мас¬
кой, пожалуй что, никто не узнает, и его речь изменится до такой
степени, что никто не будет в состоянии понять того, чего он хочет
и что он собираетеся делать.
Поэтому, когда герой велит слуге привести из конюшни его ло¬
шадь, слуге невдомек такое простое поручение. Казалось бы, чего тут
не понять - такая обыкновенная и привычная просьба. Очевидно,
герой не раз обращался к нему с подобным приказанием. Но это пу¬
тешествие, как уже говорилось, особое. И герой уже, сам этого не по¬
нимая, говорит не тем языком, которым говорил ранее, и просьба его
означает не то, что она обозначала в обыденной жизни.
Лошадь, или конь, — один из архетипов коллективного бессозна¬
тельного, в пучины которого человек погружается на пути индивиду-
ации, сбросив с себя маску Персоны. В мифологических традициях
разных народов лошадь — это атрибут божества или человека, который
идет путем божества. На божественных конях путешествуют по небу
дети бога Диоскуры. Общим для всех индоевропейских мифологий
является божество на колеснице, запряженной конями. Недаром герой
144
Кафка глазами Юнга, Шкловского и Лакана
К
слышит призывные звуки трубы, которые не слышны его слуге, оста¬
ющемся в старом обыденном мире. Это божественная труба Господа,
звуками которой ангел призывает его и подбадривает на его нелегком
пути.
Но конь, которого оседлал герой, это еще и жертвенный конь, при¬
носимый в жертву устроению нового большого мира. Недаром «Бри-
хадараньяка-упанишада» начинается многозначительными словами:
«Не правда ли, мир подобен жертвенному коню!» Герой приносит свой
малый космос в жертву большому божественному космосу, с которым
он будет равен, когда пройдет страшный путь обряда инициации. Он
подобен Парсифалю, отправляющемуся на поиски священного Граа¬
ля, которого на пути ждут немалые приключения.
Кого же он оставляет дома, что это за персонаж, который задает
ему каверзные, но ненужные уже вопросы, кто этот фамулус, который
сопровождаает его до ворот дома, держась за стремя его лошади? Это
не что иное как Тень героя. Тень - чрезвычайно опасная сущность, и
герой совершенно правильно делает, стараясь перед дорогой освобо¬
диться от свой Тени, этой опасной и каверзной спутницы, от которой
можно ждать столь многих неприятностей, которая будет тянуть его
домой, к привычному очагу, потому что она не разделяет его стремле¬
ния к освобождению от ложных покровов Персоны. Другое дело —
лошадь — это его Анима. Вот кто будет его верным спутником, вот кого
он берет с собой в свою долгую дорогу, вот кто будет поддержкой и
опорой в пути, женское земное начало, которое он берет с собой. Ани¬
ма понимает тайный язык, которым герой заговорил со слугой-Тенью,
чтобы испытать его. Слуга не понял его потому, что слуга-Тень — это
слуга дьявола, который не понимает языка тех, кто встал на путь бо¬
жественной индивидуации.
Важно также и то, что перед тем, как сесть на лошадь, герой от¬
правляется в конюшню. Это архетипическая пещера, куда герой спус¬
кается за своей Анимой. Такие архетипические образы часто видятся
в сновидениях. Необходимо обращать внимание на такие сновидения,
они призывают нас к новому пути. Ведь то, что происходит с героем,
и есть сновидение. И это очень важное сновидение. Пусть не смуща¬
ет, что в сновидении все не так, как в обычной жизни, - что люди го¬
ворят невпопад, а слуги не понимают своих хозяев.
На самом ли деле мы хозяева в собственном доме? Ни жена, ни
дети не сопровождают странника. Мужское и женское сливаются в
одно в начале божественного пути. Герой становится божественным
андрогином, все мирское ему теперь чуждо и непонятно, ведь не толь¬
ко слуга не понимает героя, но и герой перестает понимать слугу.
145
Вадим Руднев
Словарь безумия
Куда же отправляется герой - в Индию или в Китай, в Индонезию
или к индейцам Пуэбло, чтобы набраться у них восточной мудрости?
Он не знает сам. Дорога и Анима укажут ему верное направление. Ге¬
рой — представитель не мыслительного, интуитивного типа, он экст¬
раверт, поэтому он устремлен не вовнутрь себя, а вовне, в предстоящую
дорогу. Его главная цель — освободиться от оков домашнего очага, от
ложных покровов Персоны.
Когда герой говорит: «Прочь отсюда!», — он тем самым намекает,
что путь его лежит через смерть. «Прочь» — это прочь от жизни — ког¬
да все пропадает из виду. Но смерть не является целью. Она, как бу¬
меранг, возвращается в другой жизни, в другом воплощении. Но пока
герой только вышел из дому. Он полон решимости. Прочь отсюда, из
ложного мира пустых идентификаций. В путь, каким бы долгим он ни
было! Пожелаем ему мужества в его нелегкой дороге.
Виктор Шкловский. Работа искусства сводится к накоплению но¬
вых приемов расположения и обработки словесных материалов. Если
бы мы имели дело с обыкновенным рассказом, то его завязка — отъезд
из дома - вполне традиционная и нормальная завязка, известная еще
фольклору: «герой уезжает из дома», отлучка, - выглядела бы совсем
не так. Было бы сказано, что за героем из дому «гурьбой выбежали
дети», что жена с «заплаканным лицом молча глядела ему вслед» и так
далее. Слуга, разумеется, тоже вел бы себя совершенно иначе.
У Кафки обычно бывает все наоборот. Если слуга - то он только
мешает, если есть письмо, то оно не отсылается по месту назначения,
если герою говорят самую важную новость, за которой он охотился на
протяжении всего повествования, он в эту самую минуту, когда ему эту
новость готовы сообщить, засыпает. Таков один из приемов обновле¬
ния словесного материала, создания художественной формы, отталки¬
вающейся от старых, изживших себя форм.
Основным приемом искусства является остранение вещей и
затруднение формы, увеличивающих трудность и долготу восприятия.
В данном случае писатель действует тем способом, что напротив рас¬
сказывает все предельно коротко. Нет никаких обычных в таких слу¬
чаях зачинов — «В погожий апрельский денек, когда солнце едва выг¬
лянуло из-за деревьев, я велел старому слуге Василию вывести из ко¬
нюшни мою лошадь»... и так далее. Все здесь предельно лаконично, и
именно это производит эффект формальной новизны. Этот основной
прием разворачивается и далее. В оболочке привычных вопросно-от¬
ветных форм диалога мы на самом деле здесь диалога не видим. Эта
146
Кафка глазами Юнга, Шкловского и Лакана
К
вопросно-ответная форма не заполнена содержанием. Собеседники
друг друга не слышат, а если и отвечают, то невпопад и как-то стран¬
но. Между ними отсутствуют привычные жанрово обусловленные свя¬
зи — если слуга, то должен выполнять приказания и т. д. В сущности,
рассказ который мы имеем, это не что иное как очередная версия «Дон
Кихота» (и тем самым рыцарского романа). Отважный (безумный) ге¬
рой выезжает из дома в поисках подвигов. Его оруженосец (слуга) сле¬
дует за ним. Здесь опять пустотный поворот приема. Санчо Панса из
добродушного и верного слуги, следующего повсюду за своим госпо¬
дином, превращается в какое-то колючее ироническое существо, ко¬
торое не только не желает следовать за своим господином, но еще за¬
дает какие-то высокомерные вопросы.
В сущности, то, что предлагает здесь Кафка, это антисказка. Герой
уезжает из дома, после этого он должен встретить волшебное животное,
которое подарит ему чудесную вещь, потом появится волшебный лес,
избушка на курьих ножках и т. п. Здесь же начало сразу переходит в
конец, хотя значительность происходящего предполагает в качестве
возможного развития событий и лес, и бабу Ягу, и золотые яблоки.
Кафка использует здесь прием отсутствия формы. Тут нет
ни привычных в искусстве мотивов ложного узнавания или ошибки,
нет любви, преступлений, нет тайны. Вернее тайна есть, но она фор¬
мируется на отсутствии тайны в обычном смысле этого слова.
Основные частные приемы здесь — напряжение и сжатие формы.
Хотя в определенном смысле рассказ Кафки можно назвать и тради¬
ционным. Так, для образования сюжета необходимы действие и про¬
тиводействие, что мы имеем здесь налицо в конфликте между героем
и слугой. По сути дела, слуга -это не только Санчо Панса, но и док¬
тор Ватсон, «постоянный дурак», который нужен только для того, что¬
бы было кому рассказывать свои хитроумные версии и было кому со¬
вершать ошибки. Эта функция слуги здесь налицо в виде неумелого
противодействия герою.
Новелла с отрицательным концом — тоже не новинка. Здесь искус¬
ство действует, как язык. Допустим, если форма родительного падежа
слова стол имеет окончание —а, то в именительном падеже никакого
окончания вообще нет. Но это отсутствие окончания и есть окончание
именительного падежа у существительных мужского рода. Этим прие¬
мом умело пользуется Кафка.
Загадка, присутствующая в рассказе, как и всякая загадка, не про¬
сто параллелизм с выпущенной второй частью, а игра с возможностя¬
ми провести несколько параллелей. Так возможно несколько мотиви¬
ровок внезапного отъезда героя — срочное, не терпящее отлагательств
147
Вадим Руднев
Словарь безумия
дело, внезапное немотивированное желание либо сумасшествие. Мо¬
тив трубы дает также множественную мотивировку. Возможно, эго
спутники издалека зовут героя поторопится, возможно, герой просто
помешанный, и звук трубы ему чудится, или наконец это некая поту¬
сторонняя труба, которая свои призывом переводит действие в совер¬
шенно иной, мистический план. Все три версии существуют одновре¬
менно.
Античная драма заканчивалась последними словами героя, кото¬
рые назывались гнома. Это была ударная концовка, пуант текста,
она встречается и у Софокла, и у Еврипида. В «Горе от ума» Чацкий
кричит «Карету мне, карету», в нашем рассказе герой повторяет
«Прочь отсюда!» Как видим, различия между традиционным и нова¬
торским в искусстве имеют относительный характер.
Жак Лакан. Каждый из вас, если его спросить, что стоит в центре
этого рассказа, наверняка скажет, что это диалектика раба и господи¬
на. Правильно, но в чем состоит эта диалектика, к чему она приводит,
и, главное, в чем коренятся ее истоки? Вот на этот вопрос вам будет
ответить трудненько. Истоки этой диалектики — в Отце, да-да, в Имени
Отца. Вы спросите, где же здесь отец, ни о каком отце ничего не го¬
ворится? Но нельзя все принимать за чистую монету.
Роман Якобсон, мой близкий друг, говорил, мне, что, если хочешь
понять один маленький текст, надо держать в голове все тексты. У Каф¬
ки, если вы читали Кафку, а если не читали, то надеюсь, что прочтете
в ближайшее время, символ Отца имеет всегда огромное значение. Воп¬
рос, куда бежит герой в разбираемом нами тексте, непрост. Но я думаю,
ответ таков: он бежит от отца. Это как бы продолжение или фрагмент,
расширение, известного рассказа того же автора «Приговор», когда сын
разговаривает с немощным отцом. Но отец только кажется немощным.
На самом деле он, как никогда, преисполнен символической Власти,
он по-прежнему является Господином и спокойно отправляет сына на
смерть. Вот и теперь сын бежит навстречу смерти.
Здесь мы подходим к истинной подоплеке диалектики раба и Гос¬
подина, как она раскрывается в этом тексте. Почему слуга и Господин
меняются местами? Потому что бывший Господин теперь находится в
руках куда более могущественного Господина, абсолютного Господи¬
на, имя которому Смерть, и слуга является лишь отображением в Дру¬
гом символического коррелята этой навязчивой охваченности смер¬
тью, одержимости смертью. И не только смертью, но и психозом как
ирреальным проводником смерти. Разорванная цепочка означающих,
148
Кафка глазами Юнга, Шкловского и Лакана
К
которая явным образом имеет здесь место, невозможность коммуни¬
кации и набирающая силу за текстом метафора Отца — все свидетель¬
ствует о психозе.
Что такое психоз? Это желание, которое не может быть удовлетво¬
ренно в Другом. Это нехватка бытия, хватившая через край. При этом
надо помнить, что суть психоза не в потере реальности, как думают те,
кто читал Фрейда слишком поверхностно: психоз состоит в той силе,
которая вызывается к жизни на месте этой зияющей дыры в реально¬
сти, в той силе, которая заступает место реальности.
Состояние субъекта зависит от того, что происходит в Другом. Что
же там происходит? То, что там происходит, артикулировано как дис¬
курс. Это бессознательное. Оно артикулировано как дискурс Другого.
Бессознательное никогда не молчит и не говорит «нет», как любил по¬
вторять Фрейд. Почему в данном случае бессознательное в лице слу¬
ги говорит «нет»? На самом деле оно говорит «Да!». Когда слуга спра¬
шивает «Куда вы едете?», - он тем самым восполняет желание своего
господина как нехватку в другом. «Куда вы едете?» означает «Как бы
я хотел отдать концы вместе в сами, но извините, я еще не закончил
своих земных дел».
Человеческое бытие нельзя постичь вне безумия, но диалектика
безумия как смерти символизации в Другом подразумевает, как на грех,
что спятил герой, а психические разрушения происходят в слуге —
аутизм демонстрирует и неадекватные вопросы задает не кто иной, как
слуга. Потому что у Кафки Символическое всегда на службе у Реаль¬
ного. Вся эта чиновничья и судейская шатия — просто символические
прислужники смерти как абсолютного Реального.
При этом не следует упускать из виду важность автоматического
повторения при психозе. Возможно, эта сцена, которая изображена в
рассказе, повторяется изо дня в день. Каждое утро субъект выходит из
дома, заставляет слугу выводить из конюшни лошадь (и слуга именно
поэтому уже не реагирует на все это, так как он знает, что за всем этим
последует), потом он выводит коня, едет за ворота, а потом возвраща¬
ется, и на следующий день все начинается сызнова как ни в чем не
бывало. Сейчас он говорит «Прочь отсюда!», а через полчаса, как ми¬
ленький, прискачет обратно. В этом, я убежден, состоит как раз важ¬
ная особенность сексуального. Не думайте, что сексуальное - в изоб¬
ражении постельных сцен, а что жизнь — это прекрасная богиня, явив¬
шаяся на свет, чтобы произвести в итоге прекраснейшую из всех форм,
будто есть в жизни хоть малейшая способность к свершениям и про¬
грессу. Жизнь — это опухоль и плесень, и характерно для нее, о чем
писали многие и до Фрейда, не что иное как склонность к смерти.
149
Вадим Руднев
Словарь безумия
«Кругом возможно Бог» - поэма-мистерия Александра Введен¬
ского (см. также психотический дискурс). Есть поэзия, не только не
принимающая мира и не только его отвергающая, но диссоциирующа¬
яся с ним — это шизофреническая поэзия. Мы говорим, что такая по¬
эзия не просто отвергает реальность, потому что в ней реальности по
сути дела уже нет, она уже была когда-то раз и навсегда отвергнута.
Поэтому мы говорим здесь о диссоциации с миром. В такой поэзии
события «происходят» в бредовом мире. И поэтому ее тема — это,
прежде всего, смерть и то, что будет после смерти, ведь такое созна¬
ние и живет после смерти, психической смерти [Тэхкэ 2001].
В начале поэмы Введенского следует диалог между персонажем
Эф., будущим Фоминым, и Девушкой. Речь идет о предстоящей каз¬
ни, на которую они отправляются смотреть, о том, что там будут от¬
резать головы, о том, что Эф, снимает и надевает свою голову каждый
день (характерная для шизофреников диссоциация между головой и
остальным телом - см. например [Лоуэн 1999]; впрочем, ему ее скоро
вообще отрубят), о Боге и о времени. Весь этот диалог вводит наибо¬
лее характерные для всей поэмы и для всего творчества Введенского
темы смерти, Бога и времени. Смысл этого фрагмента в том, что смерть,
по мнению девушки, отнимает у человека все имена и дескрипции (ср.
субличности):
Девушка
Мужчина пахнущий могилою,
уж не барон, не генерал,
ни князь, ни граф, ни комиссар,
ни Красной армии боец,
мужчина этот Валтасар,
он в этом мире не жилец.
Во мне не вырастет обида
На человека мертвеца.
Я не Мазепа, не Аида,
А ты не видящий своего конца
Идем со мной
Эф
Пойду без боязни
Смотреть на чужие казни.
В сцене казни поражает, что казнить действительно собирались
вроде бы не его, во всяком случае, там, на месте казни, упоминаются
«Приговоренные». Однако толпа набрасывается именно на Эфа и от¬
150
«Кругом возможно Бог»
К
рывает ему голову. Он теряет жизнь и обретает (вопреки мнению де¬
вушки) имя — Фомин.
Л.Ф. Кацис в контексте пасхальной символики рассматривает эту
сцену как сцену казни Иисуса [Кацис 2001]. Что может дать патогра¬
фический и философский анализ помимо этой, видимо, правильной и
закономерной ассоциации?
В приведенном фрагменте делается совершенно правильное и не¬
тривиальное по тем временам философское заключение о том, что
если при жизни человека можно поименовать разными именами и
дескрипциями, то после смерти он их теряет. Это связано с теорией
субличностей. Человек при жизни может быть кем угодно — врачом,
отцом, «Красной армии бойцом», комиссаром, рецидивистом; после
смерти он теряет все эти субличности, он становится только одним -
покойником.
Утверждению о том, что только живой человек обладает многими
субличностями-именами, диссоциативно противоречат в поэме три
факта. Первое — это то, что девушка тут же называет мертвеца Валта¬
саром. Ну, это понятно и может быть рационализировано как имя ва¬
вилонского царя, которому на пиру предсказана была гибель Вавило¬
на (т.е. девушка, называя мертвеца Валтасаром, продолжает осуществ¬
лять свою пророческую функцию). Второе это то, что Фомин, когда
ему говорят, что он умер, протестует, заявляя: «Я жив, я родственник».
Правильно, раз родственник, то жив. Потому что «родственник» - это
одна из многочисленных социальных субличностей живого человека.
И третье и самое главное — это то, что, претерпев смерть, главный ге¬
рой не теряет, а приобретает имя. Все это позволяет рассмотреть ре¬
зультат казни не как настоящую, а как временную смерть, своеобраз¬
ную инициацию-к-смерти, результатом которой является преображе¬
ние, «повзросление» инициируемого и наречение его новым именем.
В этом смысле до смерти-инициации Фомин был социально пуст,
поэтому вместо имени у него был только инициал Эф, ассоциирую¬
щийся с пустотами-отверстиями на деке струнных музыкальных ин¬
струментов, которые называются «эфы».
Но не будем забывать, что перед нами диссициированный мир.
Поэтому здесь появляются какие-то немотированные персонажи, на¬
пример, Воробей, который поет гимн миру и богам. Затем появляют¬
ся «коровы они же быки». По поводу последних Л. Кацис остроумно
замечает, что «коровы они же быки», т.е. ни коровы, ни быки - это
волы. Это вместе с нелепым голосом, который говорит «Коровы не
пейте во время холеры квас» увязывается с агитационной поэзий Ма¬
яковского. Если оставаться на патографической точке зрения, то «ко¬
151
Вадим Руднев
Словарь безумия
ровы они же быки» это бредовый схизис (одновременно одно и проти¬
воположное), а голоса носят галлюцинаторный характер. Но можно
возразить, почему бессмысленное это обязательно бред? Не обязатель¬
но. Но на это указывает и сам текст поэмы, где про главного героя вре¬
мя от времени говорится, что он сумасшедший: «Шел сумасшедший
царь Фомин...»; «Н о с о в. Фомина надо лечить. Он сумасшедший, как
ты думаешь?»; «Н о с о в. Ты бедняга не в своем уме». Поэтому, опира¬
ясь даже на текст, а не только на явно бредовый антураж, можно ска¬
зать, что речь идет не об обыкновенной смерти, а о психической смер¬
ти, т. е. о психозе (см. невроз и психоз). Интересно в этой связи не толь¬
ко то, что Фомин называется сумасшедшим, но и то, что он называется
царем. Ведь персонаж Царь появляется в начале сцены казни и руко¬
водит ею. Здесь несомненно прав Л. Кацис, осмысляющий сцену каз¬
ни как Страсти Христовы. Уточняя его совершенно, на мой взгляд,
бесспорную позицию, можно сказать, что казнящий Царь это Бог
Отец, обрекающий Своего Сына на позорную и тяжкую смерть (ср.
евангельское «Боже, зачем ты меня покинул»), казнимый же царь — это
Бог-Сын Иисус Христос. Интерпретация Страстей Христовых в терми¬
нах инициации умирающего и воскресающего бога не в новость. Но и
психоз можно рассматривать как временную смерть-инициацию, после
которой последует выздоровление-к-новой-жизни. Многие психиат¬
ры-философы, в частности, экзистенциалисты, склонны рассматри¬
вать психоз как некое инициальное освобождение, высвобождение
творческой энергии (см., например, [Гроф 1992]).
После того как Фомин «расписывается в своем отчаянном поло¬
жении и с трудом бежит» (как обычно и бывает в сновидении, повсед¬
невном корреляте бреда), появляется новый символический персонаж,
который лейтмотивом проходит через всю мистерию.
Бесплотный
Садится час на крышку гроба,
Где пахнет тухлая фигура,
Вторая тысяча волов
Идет из города особо.
Удел твой глуп
Фомин, Фомин.
Вбегает мертвый господин
(Они кувыркаются).
Кто же этот мертвый господин, который все время вбегает и в кон¬
це поэмы «молча удаляет время» (последние слова мистерии) (см. так¬
152
'Кругом возможно Бог»
К
же схизис и многозначные логики)? Помня пассионную (это ведь не
карнавал, а скорее пассион - Страсти Господни) интерпретацию по¬
эмы, можно высказать гипотезу, что вбегающий мертвый господин это
и есть Бог. Кто же еще может «удалить время»? Это может сделать
только Бог. Кроме того, в самом заглавии поэмы содержится намек,
что Бог — кругом, повсюду, а мертвый господин только и делает, что
все время вбегает, все время крутится на протяжении всей поэмы вок¬
руг персонажей. (Представление о Боге как о подвижном бегающем,
«скачущем» существе представлено в реплике Девушки, которая гово¬
рит Эфу: «А знаешь, Бог скачет вечно».) Мертвый Бог — это умерший
Бог безумного Ницше, или обезумевший вместе с остальными персо¬
нажами обэриутовский Бог-Отец. «Они кувыркаются» (так он них
сказано в поэме) с Богом-Сыном Фоминым — что ж, это подходящее
занятие для двух спятивших Богов!
В одной из следующих сцен, где появляется престарелая Венера,
происходит дальнейшее движение в сторону инволюции, все большей
регрессии. Венера напоминает уже не привлекательную женщину, а
скорее сказочную Бабу Ягу. Тем не менее, она предлагает, должно быть,
по привычке, себя Фомину:
Давай, давай мы ляжем на кровать
И будем сердце открывать.
Здесь подключается еще одна инфантильная фиксация. Кастриро¬
ванный Фомин, как видно по логике развития бреда, регрессирует с
фаллической стадии на анальную. Провозвестником этого является
обсессия, которая аранжирует монолог Венеры, где через каждую стро¬
фу четыре раза повторяется сакраментальная фраза «Вбегает мертвый
господин». Под кастрационные слова Венеры: «Тебе надо штаны спу¬
стить и отрезать то, чего у тебя нет» (высказывание в духе Лакана: на¬
личие фаллоса предполагает его отсутствие [Лакан 2001]) Фомин про¬
износит следующий монолог, свидетельствующий о его решительном
переходе на анальную фазу восприятия женщины, что не мешает ему
продолжать поиски Бога, «искать пути Господни»:
Фомин
Я вижу женщина цветок
Садится на ночную вазу,
Из ягодиц ее поток
Иную образует фазу (т.е. анальную фазу, даже сам герой это
понимает. — В. Р.)
153
Вадим Руднев
Словарь безумия
Нездешних свойств.
Я полон снов и беспокойств.
Гляжу туда,
Но там звезда («звезда бессмыслицы», венчающая финал
поэмы: «Горит бессмыслицы звезда»; она же, по-видимо-
му, и Вифлеемская. — В.Р.).
Появляется новый персонаж — Женщина, к которой Фомин от¬
крыто обращается как к матери («О женщина! о мать!») и которая го¬
ворит, что ее голос унесен ангелами на небо, как цветы в начале по¬
эмы. В свете этого можно попытаться сформулировать в лакановской
концептуальной перспективе понимание того, что такое Бог для Вве¬
денского в этой поэме. Бог - это главное бессмысленное универсаль¬
ное означающее, коим, по Лакану, является, конечно, Фаллос. Мерт¬
вый господин — это и есть универсальный Фаллос-Логос. Отсутствие
оного у Фомина знаменует то, что он еще не нашел Бога. Здесь появ¬
ляется следующий персонаж по фамилии Носов, но это явно псевдо¬
ним, потому что Носов произносит фразу, из которой ясно, что он
являет собой главное божество советского Олимпа - В. И. Ленина (еще
один мертвый к тому времени господин):
Носов
Важнее всех искусств
Я полагаю музыкальное.
(Парафраз ленинской фразы: «Из всех искусств для нас
важнейшим является кино»).
Появление Ленина-Носова генерализует бредовую ситуацию, как
это обычно и бывает на параноидной стадии шизофрении. Появляют¬
ся н а р о д ы, которые намерены «землю мерить и мерцать». Намере¬
ния «мерить землю» — тоже обсессивное, т.е. анальное по своей при¬
роде. В этом смысле понятно, почему в конце монолога о народах го¬
ворится:
Тут в пылающий камин
вдруг с числом вошел Фомин.
Число — универсальное означающее обсессивного дискурса (см.
также обсессия и число). Однако процесс измерения земли самим на¬
родами осмысливается как патологический, чреватый соответствую¬
щими санкциями:
154
«Кругом возможно Бог»
К
Народы
В этом зеркале земля
отразилась как змея.
Ее мы будем изучать.
При изучении земли,
иных в больницу отвезли,
в сумасшедший дом.
Однако Фомин дезавуирует рационально-обсессивное изучение
земли как слишком материалистическое, не ведущее к постижению
Бога.
РечьФомина
Господа, господа,
Все предметы, всякий камень,
Рыбы, птицы, стул и пламень,
Горы, яблоки, вода,
Брат, жена, отец и лев,
Руки тысячи и лица,
Войну, и хижину, и гнев
Дыхание горизонтальных рек
Занес в свои таблицы неумный человек.
Осуждение позитивистского обсессивно-компульсивного изуче¬
ния мира Фомин подкрепляет авторитетом самого Бога:
Царь мира Иисус Христос
Не играл ни в очко, ни в штосс.
(Ср. приписываемое Эйнштейну высказывание «Бог не
играет в кости.)
Финал поэмы в соответствии с логикой постепенной регрессии
понижает уровень осмысления мира с анальной обсессивно-компуль-
сивной на оральную фазу:
Лежит в столовой на столе
Труп мира в виде крем-брюле.
Иные дураки сидят
Тут занимаясь умноженьем (обсессивно-компульсивное,
уже отвергнутое начало. — В. Р.)
Другие принимают яд.
155
Вадим Руднев
<...>
Воробей летит из револьвера
И держит в клюве кончики идей.
Словарь безумия
Оральная стадия — самая ранняя, первая после рождения, поэто¬
му мир окончательно меркнет, в последний раз «вбегает мертвый гос¬
подин и молча удаляет время». Этим ахронным раем, или адом, закан¬
чивается мистерия Введенского.
«Курочка Ряба».
Жили-были дед да баба, и была у них курочка ряба. Снесла курочка
яичко: яичко не простое, золотое. Дед бил, бил - не разбил; баба
била, била — не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула: Яич¬
ко упало и разбилось. Дед и баба плачут; курочка кудахчет: «Не
плачь, дед, не плачь, баба. Я снесу вам яичко другое, не золотое -
простое».
Почему дед и баба не могли разбить золотое яичко, а маленькая
мышка, вильнув хвостом, сбила его со стола, и оно упало и разбилось?
Почему плачут дед с бабой, ведь мышка добилась именно того, чего не
могли добиться они сами? В чем утешение от того, что курочка сне¬
сет простое яйцо, а не золотое, они ведь радовались золотому?
Зигмунд Фрейд. Напомню, как в известной русской сказке про вол¬
шебную курицу, которая приносит золотые яйца, парадоксальным
образом маленькая мышь, взмахнув хвостом, разбивает подаренное
курицей яйцо, в то время как сильные старуха и старик этого сделать
не могут. Этот парадокс полностью снимается, если прибегнуть к на¬
шей сексуальной теории неврозов. Старик и старуха сексуально не¬
мощные — волшебная курица приносит им в яйце символического
ребенка, но они не могут разбить, т.е., вероятно, оплодотворить его. Но
этим мы объясняем лишь полдела: именно, почему старик и старуха
не могли разбить яйцо. Вторая половина вопроса - почему его удалось
разбить мышке, остается не объясненной. В нашем труде о сновиде¬
ниях мы составили список сексуальных символов мужского органа,
среди которых есть и хвосты. Секрет мыши, таким образом, состоит в
том, что она является обладателем предмета, которого уже в полном
смысле не имеет старик, т.е. эректированного органа. Именно это
156
‘Курочка Ряба»
К
позволяет мыши разбить, т.е. символически оплодотворить яйцо. (О
сексуальной природе мыши и ее мощи можно прочесть в сочинениях
Вундта и Фрэзера.)
Жак Лакан. Теперь я хочу обратить ваше внимание на одну русскую
сказку. Это сказка о курочке Рябе, которая снесла деду и бабе золотое
яичко. Они не смогли разбить его, но рядом бежала мышка, она виль¬
нула хвостиком, и яичко разбилась вдребезги. Однако вместо того,
чтобы радоваться, старик и старуха горько плачут. Утешая их, куроч¬
ка обещает в дальнейшем снеси им обыкновенное яйцо. Вот и вся
сказка. Я думаю, тут должны возникнуть вопросы. Кое-кто может
слишком поспешно сказать, что золотое яйцо - это Реальное. Лучше
давайте подумаем, почему, когда яйцо разбилось, старик и старуха зап¬
лакали. Здесь важно не просто, что яйцо разбилось, а кто его разбил,
т.е., называя вещи своими именами, если вашу невесту дефлорировал
«чужой дядя», то как раз тут впору заплачешь. На мышку с ее малень¬
ким, но торчащим фаллическим хвостиком, обратил внимание уже
Фрейд. Золотое яйцо - это недоступный объект желания. Видимо, оно
внутри было полое. Интерсубъективность наших персонажей схлест¬
нулась на этом яйце. Старик и старуха буквально стукнулись лбами
друг об дружку, когда пытались разбить его. Чего они хотели — наслаж¬
дения или ребенка, Дюймовочку или мальчика-с-пальчика (этими ис¬
кусственными детьми из пробирки так богат фольклор!)? Может быть,
они заплакали оттого, что мышка, разбив яйцо, дезавуировало пусто¬
ту желания? Яйцо — это симптом, а курочка - Супер-Эго. Супер-Эго
снесло симптом — чего еще от него и ждать! Тогда получается, что
мышка — это Ид, хтоническая сторона бессознательного. Разруши¬
тельная, деструктивная сила. Так что Реальное — это как раз мышка.
Символический порядок Курочки разбивается хвостиком, ведущим в
бездну Реального. Яйцо - это бесконечное означающее. Симптом все¬
гда воспроизводим, да будет вам известно. На этом построен универ¬
сальный принцип автоматического повторения. Я думаю, Курочка об¬
манывала старика и старуху, и следующее яйцо было тоже золотым.
Супер-Эго умеет нести только золотые яйца.
ТА. Михайлова. Если мы вдруг задумаемся, что же конкретно в рус¬
ском языке значит слово «пестрый» («рябой»), то скорее всего поймем,
что дать ему точное определение очень трудно. Пестрый — это много¬
цветный, цветастый, яркий... Но не просто «яркий», потому что яркое
сочетание цветов — это совсем не всегда «пестрое». Но «пестрый» — это
157
Вадим Руднев
Словарь безумия
и крапчатый, рябой, в меленький такой рисуночек, который и опи-
сать-то трудно, покрытый пятнышками... К тому же «пестрое» — это
всегда не только цвет, не только то, что мы видим. Пестрое мы слы¬
шим в нестройном шуме, лязге, криках. Пестрое мы ощущаем в нео¬
жиданности жизненных перемен, смене впечатлений, путешествиях,
мелькании пейзажа за окном вагона, в толпе карнавала, в лицах, чув¬
ствах, в новых увлечениях и связях. Пестрое - это сама Жизнь, если
она движется, и самое последнее ее событие - Смерть. И поэтому все
пестрое одновременно — страшит и манит, пугает и притягивает. Пес¬
трое - это Эрос и Танатос, вместе взятые, со всеми вытекающими от¬
сюда лингвистическими, психофизиологическими, фольклорными,
литературными и иными последствиями.
На психику пестрое сочетание цветов, особенно если оно движет¬
ся, мелькает, воздействует одновременно возбуждающе (отчасти - и
сексуально) и пугающе, вызывая чувство тревоги и даже страха. При¬
чем человек здесь - не единственный, кто испытывает это магическое
и странное воздействие пестроты. Пестрая окраска животных далеко
не всегда является мимикрией, т.е. попыткой спрятаться среди листвы,
на дне пруда, посреди болота и так далее. Иногда цветная пестрота
может служить оружием - так, например, яркие круглые пятна на кры¬
льях бабочек не привлекают птиц, а наоборот — отпугивают, потому
что кажутся им глазами какого-то страшного большого зверя.
Устрашающее воздействие пестроты широко использовалось и ди¬
карями как своего рода боевая раскраска, призванная напугать, оттол¬
кнуть противника, вызвать у него чувство тревоги и неуверенности в
себе.
Вообще же в фольклоре образ пестрого связан скорее с миром
смерти и Иного мира. Как пестрые описываются обычно хтоничес-
кие существа - жабы, лягушки, змеи. Пестрота птицы - признак, ко¬
торый относит ее в разряд классификаторов с негативным смыслом.
Например, в литовских поверьях считается, что если вокруг дома
летал зяблик — дом сгорит, а рябая кукушка вообще предстает как
вестница из Иного мира, оповещающая о близкой смерти, в тради¬
ции польской аналогичные функции исполняет «рябой соколик» -
вестник смерти и проводник в Иной мир. Знаменитая «курочка Ряба»
из русской сказки - образ, по сути, не только загадочный, но и страш¬
ный, осмысляемый как постоянная связь с потусторонним миром мра¬
ка. Пестрая скотина в народных верованиях прочно ассоциируется с
богом грома. Ср., например, литовская примета: «Если белая коро¬
ва приведет стадо домой, завтра будет хорошая погода, а если пест¬
рая — будет дождь». И, наконец, с пестротой ассоциируется образ
158
«Курочка Ряба»
К
чёрта, что проявляется и в его эвфемистических наименованиях «пе¬
стрый».
Обращает на себя внимание следующий момент: в сказке в вари¬
анте Афанасьева ничего не говорится о том, что владельцы курицы, дед
и баба, сами пытались разбить яйцо. Зато говорится, что снесенное
курицей яйцо оказалось странным на вид - «пестро, востро, костяно,
мудрено». Случайно разбитое мышью, оно, как можем мы предполо¬
жить, не только утратило свою основную функцию — быть предназна¬
ченным для еды — но, видимо, явило собой нечто страшное внутри, от¬
чего произошла и соответствующая реакция действующих лиц сказки.
В обеих версиях, прозаической и поэтической, говорится, что окон¬
чательным результатом является уничтожение самим священником
священных книг («поп все книги сжег»).
На уровне реконструкции прото-сюжета предания нами может
быть предложена следующая версия: пугающее содержание странно¬
го яйца (нечто драконовидное?) могло быть воспринято как наказание
за использование «неправильных» книг. Но в таком случае в какой же
среде подобный сюжет мог возникнуть и какие книги могли быть со¬
чтены столь «неправильными», что за их использование могла быть
послана эта кара? Как можно предположить, сюжет подобного рода
мог появиться прежде в старообрядческой среде, а «неправильными»
книгами, подлежащими уничтожению, должны были быть никониан¬
ские тексты — новые переводы Священного Писания.
Как известно, Афанасьев в основном собирал свои предания в Во¬
ронежской губернии, в которой к середине XIX века старообрядческих
общин уже не осталось. Однако, сам сюжет, как видно из текста, уже
в достаточной степени лишенный логики нарратива, мог сохранить¬
ся от более раннего времени.
Дед попросил курочку Рябу снести обыкновенное яйцо, но она не
поняла его. Тогда дед сам пошел на конюшню, оседлал старуху и по¬
ехал. «Куда вы едете?» - спросила Курочка и показала золотое яичко.
«И при луне мне нет покоя», — подумал дед. Они долго и безуспешно
пытались разбить яйцо. «Что они делают?» — спросила мышка. «Они
пытаются повернуть время вспять, но Супер-Эго их против этого
протестует», — ответила Курица. «Не пытайся меня перехитрить», —
сказала мышка и слегка дернула хвостиком. Яичко упало и разбилось.
«Пилите, Шура, оно золотое», - съязвила старуха и залилась слезами.
Дед вторил ей старческим тенорком. Курочка Ряба бегала за мышкой,
пытаясь клюнуть ее в хвост.
л
Любовь. Слова «любовь» и «любой» с точки зрения истории язы¬
ка являются родственными. Любой (любый), первоначально означа¬
ло ‘любимый’, затем — выбранный по желанию, затем ‘кто угодно’ и
наконец просто ‘всякий другой’. Данная этимология манифестиру¬
ет одно из наиболее важных свойств концепта ‘любовь’ — свободную
произвольность и непредсказуемость. Любовь, какой бы она ни была,
платонической, несчастной, земной или небесной, направленной к
противоположному полу, к детям или к Богу, — в этом смысле (как
факт произвольного выбора с непредсказуемыми последствиями)
всегда противопоставлена норме (ср. нормальная жизнь). Отсюда лю¬
бовь как проявление аксиологической модальности (см.) (отдр. греч.
ах18 — ценность) противопоставлена долженствованию как прояв¬
лению деонтической модальности (беоп^ок - норма). Смысл этого
противопоставления, прежде всего, проявляется в том, что аксиоло¬
гическое «Я хочу» направлено к любому, а деонтическое «Ты дол¬
жен» — к каждому. При этом тот факт, что на поверхности и аксио¬
логия, и деонтика в качестве модальностей (т.е. способов отношения
высказывания к реальности) строятся изоморфно в виде трехчлена
«+», «—», «О»:
Я люблю Мне безразлично Я ненавижу
Я должен Мне разрешено Мне запрещено, —
на глубине оказывается лишь подчеркивающим фундаментальные
различия.
Основные законы логики норм суть следующие:
1. Если я должен А, то тем самым мне разрешено А.
2. Если я должен А, то тем самым не верно, что мне запрещено А.
3. Если мне разрешено А, то не верно, что мне запрещено А.
4. Если мне разрешено А, то либо я должен А, либо я не должен А.
Посмотрим, работают ли эти законы применительно к логике люб¬
ви. Нет, не работают.
1. Если я люблю А, то не верно, что я безразличен к А.
160
Любовь
Л
То есть любовь не является просто усилением «степени безразли¬
чия», как долженствование является увеличением степени разрешен-
ности.
2. Если я люблю А, то не верно, что я ненавижу А.
На поверхностном уровне кажется, что здесь все совпадает. Но эле¬
ментарный жизненный опыт говорит, что, если невозможно, чтобы не¬
что одновременно было должным и запрещенным, то по отношению
к одному и тому же объекту можно одновременно или почти одновре¬
менно испытывать любовь и ненависть. «Ненавижу и люблю» — фор¬
мула знаменитого элегического дистиха Катулла,
Обратимся вновь к этимологии, которая зафиксировала эту амби¬
валентность. По мнению некоторых этимологов, слово «любовь» яв¬
ляется однокоренным со словом «лютый». И то и другое, согласно этой
гипотезе, восходт к индоевропейскому *1еи (‘быть возбужденным’).
Точно так же слово «страсть» (от ‘мучение, страдание’), с одной сто¬
роны, означает нечто активное и позитивное (порыв страсти), а с дру¬
гой, нечто пассивное (лат. ра$зю — страдание) и негативное (Страсти
Христовы). Отчего так происходит? С одной стороны, можно сказать,
что здесь просто проявляется универсальная закономерность языка,
которая называется энантиосемия, явление, при котором из одной и
той же лексической основы образуются противоположные значения.
Так, например, современное слово «гость» первоначально означало
«враг» (ср. лат. Ьозйз — враг). Но этимология для нас лишь подручное
средство для философствования. Поэтому можно было бы сказать, что
одними языковыми особенностями нельзя объяснить амбивалент¬
ность концепта «любовь», если бы не та важная оговорка, что скорее
язык формирует реальность, а не наоборот (см. бред и язык). И тем не
менее, почему любовь с самого начала содержит в себе ненависть? Не
потому ли, что «возбуждение», лежащее в основе эротического чувства,
может быть по свободному выбору направлено в какую угодно, т.е. в
любую сторону? Скажем так, это объяснение необходимое, но не дос¬
таточное. Что же еще? Вспомним, в противопоставление с какими еще
понятиями (помимо ненависти) вступает концепт «любовь». Безуслов¬
но, с понятием «смерть». Любовь — синоним инстинкта жизни, про¬
должения рода и так далее. И в то же время, любовь всегда идет рядом
со смертью, с самоубийством, могилой. Близость любви и смерти по¬
нимали, по-видимому, всегда (см. также влечение к смерти). Эрос и
Танатос в мифологическом сознании сближались посредством амби¬
валентности самих исходных понятий жизни и смерти - одно перехо-
6-11117
161
Вадим Руднев
Словарь безумия
дит в другое. Зерно умирает для того, чтобы родилось растение. Точ¬
но так же при зачатии сперматозоид и яйцеклетка погибают:
При зачатии происходит соединение женской и мужской клеток.
Каждая клетка при этом уничтожается как единица, и из продукта
уничтожения возникает новая жизнь. <...> Если гибель служит но¬
вому созданию, то она становится для индивида желанной [Шпилъ-
рейн 1994: 208].
Поэтому женская утроба в мифологических представлениях отож¬
дествляется с могилой, как в амбивалентном образе «матери сырой
земли» (см. вагина, мать).
В XX веке в связи с возрождением мифологических представлений
идея любви-смерти стала чрезвычайно популярной в рамках культа
умирающего и воскресающего бога Диониса у символистов, затем она
была научно обоснована в психоанализе: сперва в 1911 году — учени¬
цей Фрейда и возлюбленной Юнга, хорошо знавшей, по-видимому, то
о чем она пишет, Сабиной Николаевной Шпильрейн в статье «Дест¬
рукция как причина становления» (фрагмент из которой мы цитиро¬
вали выше), а через восемь лет - самим Фрейдом в знаменитой рабо¬
те «По ту сторону принципа удовольствия», где он сформулировал
принцип влечения к смерти, который считал таким же фундаменталь¬
ным, как и инстинкт жизни. Амбивалентность любви, таким образом,
получила научное обоснование в рамках самой мощной парадигмы XX
века, каковой был психоанализ. Отныне вся культура XX века, так или
иначе касающаяся вопроса любви, тем самым была посвящена и про¬
блеме смерти.
Наиболее ранний и знаменитый пример - роман Томаса Манна
«Волшебная гора» (написанный через несколько лет после выхода «По
ту сторону принципа удовольствия» Фрейда), где любовь Ганса Кас-
торпа к мадам Шоша разыгрывается в туберкулезном санатории на
фоне постоянных смертей. В самом конце первого тома (пятой главы),
когда Ганс наконец объясняется Клавдии Шоша в любви, он в своем
объяснении явственно эксплицирует родство любви и смерти:
— О, любовь, ты знаешь... тело, любовь, смерть — они — одно. Ибо
тело — это болезнь и сладострастие, и оно приводит к смерти, оба
они - чувственны, смерть и любовь, вот в чем их ужас и великое
волшебство.
Гораздо раньше и значительно радикальнее связывал любовь со
смертью Толстой. Радикальнее в том смысле, что он понимал плот¬
162
Любовь
Л
скую любовь как насильственную смерть, как убийство подлинной бо¬
жественной любви. В «Анне Карениной» начало любви между Вронс¬
ким и Анной символизируется смертью человека, попавшего под по¬
езд. А вот как Толстой интерпретирует сцену сближения (он, разуме¬
ется, говорит — падения!) героев:
Он же (Вронский. — В. Р.) чувствовал то, что должен чувствовать
убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. Это тело, лишен¬
ное им жизни, была их любовь, первый период их любви. Было
что-то ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, за что
было заплачено этой страшною ценой стыда. Стыд перед духовною
наготою своей давил ее и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужас
убийцы перед телом убитого, надо резать на куски, прятать это
тело, надо пользоваться тем, что убийца приобрел убийством.
И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на
это тело и тащит, и режет его, так он покрывал поцелуями ее лицо
и плечи.
Поздний Толстой парадоксально лишает любовь ее амбивалентно¬
сти, разводя собственно любовь как нечто божественное и похоть (или,
если говорить на нейтральном языке, сексуальность). Как и в случае
с остранением (см. деперсонализация), он тем самым показывает из¬
нанку любви, оставляя в стороне, отбрасывая ее позитивную сторону.
Все же мы не до конца поймем причину того, почему в сексуаль¬
ности объединяются любовь и ненависть, жизнь и смерть, если не зат¬
ронем традиционную проблематику, связанную с детской сексуально¬
стью. Для грудного ребенка мир естественным образом ограничивается
двумя людьми — матерью (см.) и отцом. Это даже не два человека, а два
противоположных символа, две половинки мира. К матери ребенок
чувствует любовь естественно, поскольку она кормит его и заботится
о нем, поддерживая в нем жизнь. Отец отбирает часть материнской
любви себе, поэтому ребенок естественным образом чувствует к нему
ревность и враждебность и, как конечный результат, желание устра¬
нить соперника. Таким образом, ненависть и желание убийства сопро¬
вождает чувство любви с самого нежного возраста. Потом, правда, ре¬
бенок (хотя и далеко не каждый) преодолевает любовь к матери и не¬
нависть к отцу в тот момент, когда он переносит свои эротические
чувства за пределы семьи, влюбляется в кого-то другого. Но опыт, при¬
обретенный в младенчестве, остается на всю жизнь, в особенности,
если человек, о котором идет речь, является невротиком (а таких лю¬
дей в XX веке большинство). И этот опыт в той или иной мере управ¬
6*
163
Вадим Руднев
Словарь безумия
ляет его эротическим поведением. Он (она) проецирует на любовь к
своему партнеру свою прошлую инфантильную любовь к матери (а
заодно и ненависть к отцу — вот в чем причина амбивалентности). Вот
почему почти всегда в любовном акте видится нечто неприличное,
нестерпимое и позорное (здесь говорит ужас перед инцестом). Мы не
случайно употребили слова «переносит» и «проецирует». Здесь мы
сталкиваемся с тем, что практически всякое любовное чувство явля¬
ется переносом (трансфером) и проекцией инфантильной любви к
матери. Понятие трансфера, ключевое в классическом психоанализе,
чрезвычайно важно при обсуждении логики любви.
Вскрытый психоанализом факт, что любящий любит, в сущности,
не того, кого, как ему кажется, он любит, чрезвычайно сильно связы¬
вает феномен любви с принципами художественного повествования,
в том числе, конечно, и драматургии. Любовь всегда развертывается
как некая художественная композиция с экспозицией, завязкой, куль¬
минацией и развязкой. Недаром про двух людей, которых связывают
интенсивные любовные отношения, говорят: «У них роман». Трансфе-
рентный механизм любви как ошибки, обмана, наваждения чрезвы¬
чайно родственен наиболее фундаментальному принципу наррации —
композиционному построению цш рго §ио (одно вместо другого),
ошибки. Практически любой сюжет, связанный с изображением люб¬
ви, представляет собой в той или иной степени сюжет ошибки: «Ро¬
мео и Джульетта», «Тристан и Изольда», «Декамерон», «Комедия оши¬
бок», «Коварство и любовь», «Дон Жуан».
Проанализируем вкратце хотя бы последний пример (подробно о
логико-лингвистических основаниях сюжета цш рго цио см. [Руднев
2000]). В кульминации маленькой трагедии Пушкина «Каменный
гость» дон Туан признается доне Анне, что он не Диего де Кальвадо, а
убийца ее мужа Командора дон Туан. И что же? Дона Анна сперва не¬
годует, но несколько искусственно, «для виду», через несколько минут
она уже готова принять дон Гуана, убийцу мужа. Отчего? Оттого, что
их отношения носят амбивалентный и трансферентный характер. Дон
Альвар, Командор, для дон Гуана - это проекция «мертвого отца»,
воплощения Закона (т.е. нормы, чего-то противоположного любви);
соответственно, дона Анна для дон Гуана - проекция матери. Любовь
к матери запретна и карается смертью со стороны Отца-Закона, что и
происходит при развязке (см. также [Ермаков 1998]). Влечение к смер¬
ти, к мертвому, очевидна у обоих персонажей — они и знакомятся-то
на могиле дона Альвара. Весь их короткий «роман» — это реализация
влечения к смерти (обоим надоела такая полужизнь-полусмерть: доне
Анне - каждодневное поклонение мертвому мужу, дон Гуану — каждо¬
164
Любовь
Л
дневный разврат). Любовь к доне Анне подводит смертную черту и на¬
вязчивому, полуханжескому «монашеству» доны Анны, и безрадост¬
ным приключениям дона Гуана. Торжество любви оказывается торже¬
ством смерти. Формальное, композиционное яш рго яио акцентирует
момент истины: дона Анна понимает, что ее ненависть к убийце мужа
была неискренней, а дон Гуан — что его любовные подвиги носили
компульсивный характер, что на самом деле он готов любить не «лю¬
бую», а только одну. Но это осознание истины оказывается смертонос¬
ным. Удивительно, что здесь Пушкин проникает в самую суть фено¬
мена невроза: его защитную функцию. Обсессивное поведение геро¬
ев в прошлом защищало их от чего-то гораздо более разрушительного.
В случае дона Гуана — от психоза (ведь, строго говоря, диалог со ста¬
туей Командора — это галлюцинация), в случае доны Анны — от при¬
знания, что ненавидела она на самом деле не дона Гуана, а мужа, от
которого ее избавил дон Гуан. И в обоих случаях - от инцеста: дона
Гуана — с символической матерью, доны Анны - с убийцей дон Аль-
вара т.е. (на эдиповском языке ) - с сыном.
м
МАТЬ - первый объект в жизни ребенка и, по-видимому, первое
слово, которое произносит в своей жизни человека. (Согласно иссле¬
дованиям Р. О. Якобсона, звук м по чисто физиологическим причинам
первым произносится в младенчестве и последним забывается при
афазии [Якобсон 1985\). Таким образом, мать - это не только первый,
но и последний объект в жизни человека. Ср. частую в нарративном
искусстве фигуру солдата, умирающего на поле боя со словом «мама»
на устах.
В сущности, в самом начале психосексуального развития младен¬
ца для него существует не сама мать целиком, а материнская грудь как
источник первичного наслаждения пищей, ассоциирующаяся также в
невротическом сознании с фаллосом (молоко=сперма) [Фенихель 2004\.
Позднее ребенок осуществляет фантазматическое представление, на¬
деляющее мать фаллосом, находящимся, якобы, у нее внутри тела [Ла¬
кан 1997\.
Так уж случилось, что роль матери в психоанализе была осознана
позже роли отца, что объясняется тем, что стадии психосексуального
развития младенца, на которые регрессирует больной шизофренией и
маниакально-депрессивным психозом, стали вовлекаться в психоана¬
лиз позднее. Согласно воззрениям Мелани Кляйн, с самого начала не
только мать как первичный объект, но и материнская грудь наделена
амбивалентностью — грудь может быть как хорошей, так и плохой.
«Хорошая грудь» — та, которая дает молоко, «плохая грудь» — та, ко¬
торая запаздывает или вовсе не дает молока. В соответствии с этим на
«шизоидно-параноидной позиции» мать и материнская грудь расщеп¬
ляются на хорошую, целебную, и плохую части, и последняя играет
фундаментальную роль в ранних младенческих идеях преследования
(см. также бред преследования). Лишь позднее, в возрасте около года,
на позиции, которую Мелани Кляйн назвала депрессивной, ребенок
становится в состоянии формировать целостные объекты (см. также
депрессия), и таким первым целостным объектом становится мать, и
ее хорошая и плохая части объединяются уже в достаточно сложный
диалектический образ, наделенный как положительными, так и отри¬
цательными чертами. Эта амбивалентная диалектика образа матери, в
сущности, сохраняется у человека на всю жизнь.
166
Мать
М
Фигура матери, конечно, имеет важнейшее значение для развития
ребенка. От того, какой была мать ребенка — заботливой, ласковой,
теплой, защищающей или, наоборот, раздражительной, фрустрирую-
щей, суровой и т. д., зависит, будет ли развитее ребенка нормальным
или у него сформируется в будущем невроз или скорее даже психоз (см.
невроз и психоз), потому что психоз формируется на более ранних ста¬
диях развития ребенка именно тогда, когда мать играет в его жизни
гораздо более важную роль, чем отец (см. отец - Имя Отца). Впрочем,
и в формировании неврозов мать может играть решающую роль, если
роль отца на этом этапе не становится определяющей. Например,
мать, а не отец может осуществлять функцию приучения к туалету с
присущими этому мероприятию фрустрациями, ведущими к анальной
фиксации и затем к обсессивно-компульсивному неврозу или соответ¬
ствующему характеру [Фрейд 1998а].
Тем не менее, именно при формировании психозов, как считает¬
ся в психоаналитической традиции и не только в ней, мать играет ре¬
шающую роль (если придерживаться воззрения на формирование пси¬
хоза именно в раннем детстве, а не генетически, как считает традици¬
онная психиатрия). В этом плане следует вспомнить концепцию
шизофреногенной матери, посылающей ребенку двойное послание,
как эта идея сформулирована в трудах Грегори Бейтсона. Двойное по¬
слание — это фрагмент коммуникации между матерью и сыном или до¬
черью, которое имеет противоречивое значение и поэтому, по мнению
автора этой концепции, формирует или подстегивает психотическую
реакцию. Приведем знаменитый фрагмент классической работы Бей¬
тсона, где приводится пример двойного послания, идущего от шизоф¬
реногенной матери:
Молодого человека, состояние которого заметно улучшилось пос¬
ле острого психотического приступа, навестила в больнице его
мать. Обрадованный встречей, он импульсивно обнял ее, и в то же
мгновение она напряглась и как бы окаменела. Он сразу убрал
руку. «Разве ты меня больше не любишь?» - тут же спросила мать.
Услышав это, молодой человек покраснел, а она заметила: «Доро¬
гой, ты не должен так легко смущаться и бояться своих чувств».
После этих слов пациент был не в состоянии оставаться с матерью
более нескольких минут, а когда она ушла, он набросился на сани¬
тара и его пришлось фиксировать [Бейтсон 2000:243].
В то же время, есть все основания полагать, что не столько при
шизофрении, где, в частности, по мнению Лакана, играет роль преж¬
167
Вадим Руднев
Словарь безумия
де всего отец, вернее в терминологии Лакана, Имя Отца, сколько при
маниакально-депрессивном психозе, фигура матери играет решающую
роль. Если принять психоаналитическую концепцию этиологии деп¬
рессии как феномена первичной утраты объекта [Фрейд 1994] (см. деп¬
рессия и психоанализ), то, поскольку этим объектом является мать, ее
роль в формировании депрессии не подлежит сомнению. Когда мать
резко покидает ребенка, уходит, бросает его, уделяет ему недостаточ¬
но внимания, все это и приводит к оральной депрессивной фиксации.
Ср. диалог пациента и психотерапевта из нашей книги [Руднев 2005]:
Пациент. А имеет ли смысл вообще задаваться вопросом, откуда
берется депрессия?
Автор. Почему же нет. Психоаналитики считают, что депрессивные
состояния возникают, вернее, берут начало в раннем детстве — от
оральной депривации на ранней младенческой стадии, когда мать
отнимает от вас грудь, куда-то внезапно уходит или что-то подоб¬
ное в таком духе.
П. Я вспоминаю случай. Конечно, мне уже тогда было года три, а
то и четыре, когда я заснул днем рядом с мамой, а проснулся — ее
нет рядом, она ушла. Я очень плакал. Но потом она вернулась и
принесла мне такие очень вкусные круглые сухарики. Сейчас та¬
ких нет.
Автор. Это было для вас очень травматическим событием?
П. Да, очень травматическим. (Пауза.) Вы полагаете, что мои от¬
ношения с г-жой С. - это репродукция отношений с матерью? А
где же сухарики?
Автор. Да, сухариков она вам не принесла. И не принесет. Ваши
отношения с женщинами вообще складываются по анаклитичес-
кому типу, вы ищете опоры, в то время как вы сами должны быть
опорой, интеллектуальной, духовной порой во всяком случае. То
есть это не значит, что вы должны мыть посуду и колоть дрова.
Но...
П. Понимаю. Неужели я всю жизнь отрабатываю эти сухарики?
Мне кажется, нужно написать книгу о том, как я всю жизнь отра¬
батываю сухарики.
В этом диалоге затронут еще один важнейший аспект отношений
человека с матерью - трансферентный. Не говоря уже о том, что фи¬
гура матери постоянно оживает в переносе на психоаналитическом
сеансе (подробно см. непревзойденное руководство Ральфа Ромео
Гринсона [Гринсон 2003]), помимо этого можно сказать, что в жизни
168
Мать
М
мужчины фактически каждый новый женский объект является репро¬
дукцией фигуры матери и, стало быть, носит в той или иной мере
трансферентный характер. Любовь к матери как к первому и главно¬
му объекту в жизни человека не может победить и пересилить любовь
ни к какой другой женщине. Вот почему очень часто, особенно при не¬
вротическом или психотическом развитии любая сексуальная связь
для мужчины может оцениваться как инцестуальная, а первичная ар¬
хаическая амбивалентность (любовь-ненависть) как к матери, так и к
ее трансферентным заместителям, может сохраняться на всю жизнь.
Нет нужды говорить, что роль матери не уступает роли отца при
развитии Эдипова комплекса. При позитивном его развитии мальчик
вожделеет к матери, при негативном, моноэротическом — хочет устра¬
нить ее; у девочек, наоборот, при позитивном Эдиповом комплексе
мать становится соперницей в любви к отцу, при негативном — объек¬
том любви. По мнению Фрейда, изложенном в «Толковании сновиде¬
ний» сюжет «Гамлета», в частности, медлительность главного героя,
опосредована тем, что Гамлет втайне вожделеет к своей матери Герт¬
руде и ощущает комплекс вины к отцу и, стало быть, и его заместите¬
лю Клавдию, что и заставляет его тормозить мщение [Фрейд 1991]. Это
очень хорошо показано в американском фильме «Гамлет» с Мэлом Гиб¬
соном в главной роли, где разговор матери с Гамлетом превращается,
по сути, в сексуальную сцену.
Фигура матери как нечто инцестуозно-устрашающее, как уафпа
беШа1а (см. также вагина) может сохраняться у человека, особенно, у
психотика, на всю жизнь. Вот что пишет о Жаке Лакане его биограф
Элизабет Рудинеско:
В этом семейном романе доминация матерей всегда представала
как причина уничтожения или ослабления функции отца. Что ка¬
сается женской сексуальности, то Лакан после своих встреч с Ба-
таем и чтением Мадам Эдварды рассматривал ее теоретически как
нечто отвратительное, как черную дыру, как предмет, «оснащен¬
ный» крайней оральностью, как непознаваемую субстанцию: Ре¬
альное, но устроенное иначе. В марте 1955 года в ошеломляющей
лекции, посвященной знаменитому сну Фрейда об Ирме, рассказ
Фрейда он интерпретировал соответствующим образом, отожде¬
ствляя «раскрытый рот» Ирмы с зиянием промежности, откуда
появлялась страшная голова Медузы. И потом, уже в 1970 году,
желая сжать в одной фразе весь ужас, который внушали ему мате¬
ри, и все отвращение, которое он испытывал перед животной при¬
родой метафоры орального таинства, он заявил: «Огромный кро¬
169
Вадим Руднев
Словарь безумия
кодил, в пасти у которого вы находитесь — это и есть мать. И никто
не знает, что может взбрести ему в голову в ближайшую минуту:
он может просто взять и захлопнуть пасть. В этом и состоит вели¬
чайшее желание матери» [КоиШпезсо 1987].
Чрезвычайно важен образ матери в фольклорно-мифологической
и религиозной традиции, который имеет непосредственное отношение
к психопатологии и психоаналитическому пониманию этой фигуры.
Так, в христианстве чрезвычайно фундаментальным является культ ма¬
донны (в католической традиции) и Богородицы (в православии). При
этом в мифологически-языческом осмыслении фигуры Богородицы
она отождествляется с матерью сырой землей (см., например, роман
Достоевского «Бесы») и с ритуально-мифологическом совокуплением
с ней, приносящем урожай. То же самое происходит при отождеств¬
лении матери с Родиной («Родина-мать зовет!») и с городом (Ср. вы¬
ражение «Киев - мать городов русских). В «Слове о полку Игореве»
князю Святославу снится сон, в котором, по нашей реконструкции
[Руднев 2004], половцы насилуют Киев, русскую Родину-мать (ср. так¬
же этимологию выражения «Ёб твою мать» [Успенский 1996]). По сви¬
детельству Светония, Цезарю накануне неудавшегося переворота при¬
снилось, что он насилует свою мать, что было истолковано жрецами
как доброе предзнаменование, в том смысле, что он овладеет матерью-
Римом (см. также [Руднев 2000]).
МодаЛЫЮСТИ. (См. также характеры и модальности, галлюцинации,
нормальная жизнь). Модальности - универсальные характеристики
высказываний о мире. По нашему мнению, это шесть категорий:
1. Информация о том, является ли содержание высказывания не¬
обходимым, возможным или невозможным, т.е. алетическая модаль¬
ность (была выделена уже Аристотелем).
2. Информация о том, содержит ли высказывание аксиологичес¬
ки позитивно или негативно окрашенные сведения, т.е. аксиологичес¬
кая модальность (подробно см. [Ивин 1971]).
3. Информация о том, содержат ли высказывания некую норму или
ее нарушение, т.е. нечто разрешенное, запрещенное или должное, -
деонтическая модальность (подробно см. [Вригт 1986а]).
4. Информация о том, является ли содержание высказывания из¬
вестным, неизвестным или полагаемым, — т.е. эпистемическая модаль¬
ность (подробно см. [Нтйкка 1962]).
170
Модальности
М
5. Информация о том, содержит ли высказывание сведения, каса¬
ющиеся того, что описываемое в нем событие происходило в прошлом,
происходит в настоящем или будет происходить в будущем — т.е.
темпоральная модальность (подробно см. [Рпог 1960]).
6. Информация о том, содержит ли высказывание сведения о
принадлежности его субъекта к одному актуальному пространству с
говорящим (здесь), к разным пространствам (там) или нахождении его
за пределами пространства (нигде) - т.е. пространственная модаль¬
ность (подробно см. [Руднев 2000]).
1. Алетическая модальность содержит три члена: возможно, невоз¬
можно (не верно, что возможно) и необходимо (не верно, что возмож¬
но не). Традиционно алетические модальности трактуются чисто логи¬
чески. То есть, например, необходимость понимается как априорная,
логическая необходимость (2x2=4), а невозможность — как логическая
невозможность (2x2=3). Однако применительно к художественному
высказыванию мы считаем уместным ввести понятие психологической
необходимости и психологической невозможности. Пример психоло¬
гически необходимого высказывания: «Человек рождается от двух лю¬
дей». Пример психологически невозможного высказывания: «Человек
рождается от заговора».
Как правило, в качестве алетическо-нарративной модальности слу¬
жит нарушение психологической необходимости, т.е. то, что называ¬
ется чудом. Чудо по своей природе имеет не логический, а чисто пси¬
хологический характер. Вот что писал по этому поводу Витгенштейн в
«Лекции об этике» 1929 года:
...Все мы знаем, что в обычной жизни называется чудом, это, оче¬
видно, просто событие, подобного которому мы еще никогда не
видели. Теперь представьте, что такое событие произошло. Рас¬
смотрим случай, когда у одного из вас вдруг выросла львиная го¬
лова и начала рычать. Конечно, это была бы самая странная вещь,
какую я только могу вообразить. И вот, как бы то ни было, мы дол¬
жны будем оправиться от удивления и, вероятно, вызвать врача,
объяснить этот случай с научной точки зрения и, если это не
принесет потерпевшему вреда, подвергнуть его вивисекции. И куда
тогда должно будет деваться чудо? Ибо ясно, что когда мы смотрим
на него подобным образом, все чудесное исчезает, и то, что мы обо¬
значаем этим словом, есть всего лишь факт, который еще не был
объяснен наукой, что опять-таки означает, что мы до сих пор не
преуспели в том, чтобы сгруппировать этот факт с другими факта¬
ми в некую научную систему [Витгенштейн 1989:104—105].
171
Вадим Руднев
Словарь безумия
2. Аксиологическая модальность содержит также три члена: цен¬
ное (хорошее, позитивное), антиценное (дурное, негативное) и
нейтральное (безразличное).
Пример аксиологически позитивного высказывания: «А женился
на Б.» Конечно, с точки зрения, например, С, влюбленного в Б, это,
скорее, аксиологически негативное высказывание. Подобная релятив¬
ность характерна для аксиологической модальности в принципе. Все¬
гда следует спрашивать: хорошо с чьей точки зрения, для кого? Пример
аксиологически негативного высказывания: «А развелся с Б.». Для С,
влюбленного в Б, это высказывание может быть аксиологически пози¬
тивным или аксиологически нейтральным (например, ему может быть
уже к этому времени все равно). Пример аксиологически нейтрального
высказыания: «А шел по улице». В принципе можно представить себе
контексты, в которых и это высказывание будет выступать как пози¬
тивное или как негативное. Например, если по сюжету А угрожает Б,
то появление А на улице может быть аксиологически негативным для
Б. В этом случае в данном высказывании возможно перераспределение
интонации (или изменение порядка слов). Или если С влюблен в А, то
появление А на улице может быть с точки зрения С аксиологически
позитивным.
Ясно также, что любое высказывание вообще является аксиологи¬
чески определенным — т.е. либо позитивным, либо негативным, либо
безразличным. Поэтому любая из остальных модальностей включает в
себя в явном или скрытом виде аксиологию. Наиболее важным пред¬
ставляется выявление изоморфизма в структуре каждой модальности.
Так, например, наиболее ясным представляется родство между аксио¬
логией и деонтикой, т.е. между ценностью и нормой (см. также [Вригт
1986а]). Три члена деонтической модальности: должное на одном по¬
люсе, запрещенное на противоположном и разрешенное в качестве
среднего медиативного члена - накладываются на трехчлен «хорошее»,
«дурное» и «безразличное»: должное соответствует хорошему, запре¬
щенное - дурному, разрешенное - безразличному. Например: «Рас¬
кольников убил старуху».
Это одновременно и нарушение запрета (преступление), и этичес¬
ки дурной поступок. Но убийство (объективное преступление) может
быть оценено аксиологически позитивно. Так, террористические акты
народовольцев вызывали порой сочувствие в русском обществе. Здесь
действует принцип аксиологического релятивизма (обусловленного
прагматически).
Пример деонтического позитивного высказывания: «Солдат вы¬
полнил приказ». Здесь опять-таки сопровождающая деонтику аксио¬
172
Модальности
М
логическая позитивность может быть прагматически релятивизована
и оценена как негативная (например, если выполнение приказа было
связано с насилием). Напряжение (в смысле [Выготский 1965]) меж¬
ду негативной деонтикой и позитивной аксиологией (а также уюе уегеа)
является основой сюжета «трагедии чувства и долга», парадигма
которой была заложена, как можно предположить, Софоклом в «Ан¬
тигоне».
Пример деонтически нейтрального высказывания, в котором
содержится описание разрешенного действия: «А шел по улице».
4. Эпистемическая модальность также содержит три члена: зна¬
ние—незнание—полагание. Пример эпистемически позитивного вы¬
сказывания: «А узнал, что он получил состояние». Знание всегда в
каком-то смысле позитивно, так как знание - это исчерпание энтро¬
пии. Но подобно тому, как низкий уровень энтропии может повлечь
за собой дальнейшее резкое повышение уровня энтропии, так знание
может повлечь за собой целую цепь негативных последствий. Так,
например, происходит, когда Эдип узнает, что он все-таки убил свое¬
го отца и женился на своей матери (т.е. узнает, что человек, которого
он убил на дороге, был Лай, его отец, а его жена, царица Фив, Иокас-
та, была его матерью). Поэтому знание, узнавание в сюжете может
быть окрашено ярко негативно.
Неведение также является мощным двигателем сюжета. В том же
сюжете «Эдипа» Эдип по неведению женится на Иокасте. Мягким
вариантом незнания является ложное полагание. Так, когда Гамлет за¬
калывает Полония, спрятавшегося за портьерой, то он делает это,
ошибочно полагая, что за портьерой скрывается король Клавдий.
Временная модальность содержит также три члена — прошлое, на¬
стоящее и будущее. Надо сказать, что время становится активной
нарративной модальностью лишь в XX веке с появлением общей
теории относительности и связанными с ней идеями релятивности
времени-пространства. Примерно в эту культурную эпоху становит¬
ся популярным сюжет путешествия по времени, одним из зачинате¬
лей которого был Герберт Уэллс. Сюжеты, связанные с путешествием
по времени, являются, таким образом, не чисто темпоральными, а
темпорально-алетическими, так как в них происходит нечто психоло¬
гически невозможное, с точки зрения обыденных представлений. До
этого время как имплицитная модальность играло гораздо более пас¬
сивную роль в сюжете или могло не играть ее вовсе, как, например, в
греческом романе, одном из первых образцов беллетристики в со¬
временном смысле. Время было фиктивным, практически таким, ка¬
173
Вадим Руднев
Словарь безумия
ким оно является в физике Ньютона, т.е. обратимым и симметричным.
Поэтому в таких произведениях, как, например, «Эфиопика» Гелиодо-
ра или «Дафнис и Хлоя» Лонга может пройти много лет, и это никак
не отражается на возрасте героев — времени фактически нет (эту осо¬
бенность греческого романа впервые проанализировал М. М. Бахтин
[Бахтин 1976]).
Пространство как модальность не рассматривалось в модальной
логике. Забегая вперед, мы можем сказать, что пространственная мо¬
дальность в сочетании с эпистемической дает наиболее сильный
интригообразующий сюжет детективного или ситуативно-комедийно¬
го плана. Так, например, анализируя пространственное положение
дел в высказывании «Когда дым рассеялся, на площадке никого не
было», мы бы сказали, что герой перешел из пространства «там» в
пространство «нигде». Если бы перед нами был авантюрный, детек¬
тивный или ситуативно-комический сюжет, то писатель мог бы вос¬
пользоваться тем, что знание есть всегда скрытое полагание, и тогда
могло бы оказаться, что Грушницкий не погиб, а спрятался в скалах,
а потом стал мстить Печорину. В истории массовой литературы имен¬
но подобный случай сыграл весьма позитивную роль в судьбе одного
из наиболее знаменитых героев беллетристики начала XX века -
Шерлока Холмса. Так, в новелле «Последнее дело Холмса» профессор
Мориарти убивает Холмса, сбрасывая его со скалы. Этим должна была
закончиться жизнь великого сыщика и оборваться серия рассказов о
нем. Однако читатели были возмущены смертью Шерлока Холмса. И
вот в этой ситуации, являющейся тем редким случаем, когда прагма¬
тика внешняя, жизненная, и прагматика художественная встречаются
лицом к лицу (и между ними не проложить и острия бритвы), Конан-
Дойль решил оживить Шерлока Холмса. Сделать это оказалось очень
просто. В следующей новелле «Пустой дом» рассказывается о том, что
Холмс лишь притворился погибшим, а на самом деле, скрывшись в
скалах, остался невредим.
Обобщая сказанное о нарративных модальностях, можно отметить
две особенности того понятия, которое мы называем сюжетом. Первая
особенность заключается в том, что сюжет возникает и активно дви¬
жется, когда внутри одной модальности происходит сдвиг от одного
члена к противоположному (или хотя бы к соседнему): невозможное
становится возможным (алетический сюжет); дурное оборачивается
благом (аксиологический сюжет); запрет нарушается (деонтический
сюжет); тайное становится явным (эпистемический сюжет); прошлое
становится настоящим (темпоральный сюжет); «здесь» превращается
в «нигде» и обратно (пространственный сюжет).
174
Модальности
М
В заключении разговора о модальностях дадим краткое описание
сюжета трагедии Шекспира «Гамлет». Ясно, что подобная схема будет
носить более или менее субъективный характер, в зависимости от того,
с какой подробностью членить сюжет на мотивы и каким мотивам
придавать большее или меньшее значение. В любом случае это описа¬
ние следует рассматривать лишь как иллюстрацию.
Последовательность сюжетных мотивов «Гамлета» Шекспира:
1. Появление призрака отца Гамлета — алетический мотив.
2. Призрак открывает Гамлету тайну убийства и призывает к мще¬
нию - эпистемическо-деонтический мотив.
3. Гамлет притворяется сумасшедшим — пространственно эписте-
мический мотив.
4. Он отдаляет от себя Офелию — пространственно-аксиологичес¬
кий мотив.
5. По ошибке он убивает Полония — мотив, сочетающий в себе
пространственную, аксиологическую, эпистемическую и деонтичес¬
кую модальности.
6. Гамлет устраивает Клавдию «мышеловку», инсценируя при по¬
мощи бродячих актеров сцену убийства короля - наиболее сильный
эпистемический мотив во всей трагедии — кульминация.
7. Король отсыпает Гамлета в Англию и пытается руками Розен-
кранца и Гильденстерна убить его — пространственно-эпистемически-
аксиологически-деонтический мотив.
8. Гамлет перехватывает письмо Клавдия, подменяет его и тем са¬
мым выпутывается из ловушки, одновременно отомстив своим друзь-
ям-предателям — эпистемически-пространственно-аксиолошчески-де-
онтический мотив (зеркальное отражение предыдущего мотива).
9. Офелия тем временем кончает с собой - аксиологический мотив.
10. Король вторично пытается убить Гамлета, используя намерение
Лаэрта отомстить Гамлету за сестру — аксиологически-деонтический
мотив.
10. Королева по ошибке выпивает яд из кубка, предназначенного
Гамлету — эпистемически-аксиологический мотив.
11. Лаэрт ранит Гамлета отравленным клинком - аксиологически-
деонтический мотив.
12. Гамлет убивает короля — аксиологически-деонтический мотив.
13. Гамлет умирает - аксиологический мотив.
14. Появляется наследник Фортинбрас - пространственно-деонти¬
ческий мотив.
175
Вадим Руднев
Словарь безумия
Монастырский Андрей — лидер российского художественного
авангарда 1970-х гг. В своем романе «Каширское шоссе» отразил опыт
заболевания острой формой параноидной шизофрении.
Влияние психопатологических концепций на художественное
творчество и художественный опыт в XX веке - явление вполне обыч¬
ное. Достаточно вспомнить то огромное влияние, которое оказал пси¬
хоанализ на сюрреалистов. Русский концептуализм развивался в этом
смысле в неблагоприятной среде, поскольку никакая или почти ни¬
какая живая научно-философская традиция не могла повлиять в ту
эпоху на художника, мыслящего философски (исключением, может
быть, служат фигуры А. М. Пятигорского и М. К. Мамардашвили,
знакомство со знаменитым диалогом которых «Три беседы о метатео¬
рии сознания» в случае Монастырского весьма вероятно).
В этой ситуации психологическо-философской депривации
1980-х годов для большого числа русских интеллектуалов вообще и, в
частности для философской линии русского концептуализма стал
большую роль играть опыт восточных эзотерических философских
теорий и практик — от обычного интеллигентского увлечения хатха-
йогой до достаточно углубленного изучения и, главное, применения
таких текстов и систем, как санкхья, буддизм, суфизм, дао, дзэн, «Ал¬
мазная праджняпарамита сутра», «Бхагават-Гита» и «Книга перемен»
(И-Цзин). К художественному осмыслению реальности в концептуа¬
лизме брежневской и постбрежневской эпох восточный опыт притя¬
гивала связь этих концепций и практик с идеей измененных состоя¬
ний сознания или, если говорить проще, с идеей психопатологии, или,
если еще проще, с идеей безумия.
Нельзя было практиковать И-Цзин или дзэн, сидя за письменным
столом. Следующий по этому пути в определенном смысле сходил с
накатанных бытовых советских поведенческих стереотипов и, тем са¬
мым, в той или иной мере, сходил и с ума. Это хронологически совпа¬
дало с распространением психоделических опытов С. Грофа в США, но
гораздо более важно то, что еще это совпадало с фигурой советского
диссидента (в самом широком смысле этого слова), который в те годы
мыслился чаще не в уголовных терминах, как при Сталине, а в психи¬
атрических. Уделом среднего диссидента 1970-1980-х годов была ско¬
рее не тюрьма, а психушка. Вот примерно в таком культурно-истори¬
ческом контексте проходили знаменитые «поездки за город», реализо¬
вавшие наиболее утонченное и глубокое ответвление российского
концептуализма — творчество Андрея Монастырского и его друзей.
В чем был смысл поездок за город, переезда из города на природу
для совершения акций? Наиболее ясно А.М. отвечает на этот вопрос
176
Монастырский Андрей
М
в предисловии к пятому тому книги «Поездки за город». Суть его
объяснений представляется следующей. Город - слишком семиотизи-
рованная среда, он перегружен знаками. Для того чтобы пережить
новый духовный опыт, опыт пустоты (шуньяты), необходимо покинуть
семиотически перенасыщенную, загрязненную знаками среду и пере¬
меститься в среду, предельно десемиотизированную. Отсюда, как пра¬
вило, наиболее естественное пространство для проведения акций А. М.
и его друзей - это открытое поле, т.е. пространство, лишенное каких
бы то ни было привычных городских «инсигний».
Содержание романа «Каширского шоссе» (пребывание в сумас¬
шедшем доме) можно рассматривать как некое продолжение или при¬
ложение к загородным прогулкам, их акцентуацию и доведение их
эстетики до логического завершения.
Повышенно семиотизированное восприятие действительности,
представление о том, что реальность, эта в принципе знаковая систе¬
ма, — это шизоидно-паранойяльное представление. И напротив, пред¬
ставление о том, что реальность лишена знаковой ценности — это ти¬
пичное представление депрессивного сознания (см. депрессия, сущ¬
ность безумия). Если перевести эти психиатрические термины в
историко-культурный контекст, то это будет означать, что обычный
художественный опыт XX века, опыт повышенной семиотизирован-
ности, «городской опыт» — это шизоидно-паранойяльный опыт, опыт
же депрессивного человека — это, условно говоря, опыт художника-
реалиста, среднего русского «передвижника» XIX века, который ратует
за то, что реальность есть то, что она есть. Парадоксальным образом
поездки загород — это поездки в поисках утраченного реализма. Об
этом пишет сам А. М. в рассуждении о реалистическом пейзаже как
акте умерщвления природы. Природа умерщвляется в том смысле, что
она десемиотизируется, овеществляется, для того чтобы посмотреть на
нее пустым мертвым взглядом, полить ее мертвой водой депрессии с
тем, чтобы потом оживить ее живой водой постшизофренического аб¬
сурда.
Но для чего нужно это бегство от шизоидно-паранойяльного со¬
знания брежневского мегаполиса в «наполненную пустотой» депрес¬
сию? Почему так важна депрессия в осмыслении художественного
опыта типа опыта Монастырского? Потому что депрессия (см.) - это
всегда инициация. Это временная смерть на пути к новой жизни, пу¬
стота, чреватая новыми смыслами. Недаром участники этих акций так
часто лежат на поле в ямах (инициационных могилах).
Но вот что получается. Когда нет сбалансированности между зна¬
ками и вещами — а именно это, по-моему, одна из важнейших художе¬
177
Вадим Руднев
Словарь безумия
ственных проблем и акций А. М. и вообще искусства XX века, — то
путь от перенасыщенности знаками к чистому смыслу через его отсут¬
ствие — действительно единственно возможный путь.
Почему так важно здесь безумие? На этот вопрос можно ответить,
только попытавшись понять, какой смысл вкладывал А. М. и его кол¬
леги в свои загородные прогулки. В самом общем плане смысл этот
состоял в том, чтобы не что-то изобразить, а чтобы каким-то образом
изменить свое состояние сознания, увидеть и почувствовать мир по-
другому, уйти из «согласованного транса» так называемой реальности
в мир самонаблюдения и самоосмысления в духе Г. И. Гурджиева и
Ч. Тарта. Для этого в акциях А.М. использовались различные «психо¬
техники». Их можно назвать техниками, направленными на укрыва¬
ние главного события.
Как правило, никто из участников акций, связанных с загородны¬
ми прогулками, не знал, что, собственно, им предстоит делать, и, в
общем, так и не узнавал; ключевая фраза в эстетике этих мероприятий:
«В то время, когда все смотрят в одну сторону, главное событие проис¬
ходит в другом месте». Но что это за главное событие, сказать невоз¬
можно. В сущности, никакого события вообще не нужно, нужно толь¬
ко его ожидание и переживание его совершения где-то здесь, рядом.
Такая феноменология предполагает, ясное дело, принципиальную не-
единичность интерпретации того, что происходило, и небинарность
логического обоснования того, что происходило. Событие складывает¬
ся, во-первых, из документов, свидетельствующих об этом событии
(ср. важность документации в советском бюрократическом быту: «Нет
документа, нет и человека»), и, во-вторых, из принципиальной
логической несводимости этих свидетельств к какому-то одному ис¬
тинному свидетельству. Поэтому каждая акция невозможна без ее опи¬
сания-свидетельства разными участниками, описания того, что они
видели, или, как правило, того, чего они не видели, того, что они пе¬
реживали. Как правило, это были крайне неприятные переживания,
связанные с сыростью, холодом и другими неудобствами (инициация
и должна быть неприятной и даже мучительной (см., например, [Пропп
1986])). Мы видим это из описаний того, что они делали, а они, как
правило, ничего особенного не делали — лежали в сырой яме, курили,
пили портвейн и болтали о каких-то пустяках.
Результатом этого бессмысленного, в общем, времяпрепровожде¬
ния было, как явствует из свидетельств, ощущение пересмотренное™
бытия под знаком его отчужденное™ — например, люди вокруг превра¬
щались в кукол. То есть происходил процесс, как будто бы обратный
тому, чему учит «нормальный» поиск смысла в духе, скажем, экзистен¬
178
Монастырский Андрей
М
циальной гуманистической феноменологии, например, Виктора Фран-
кла, — обретению чего-то позитивного и целостного. Здесь, наоборот,
имело место ощущение подлинности неприятного, подлинности неук-
рывательства от мира, шизофренизация как момент истины.
Тема шизофрении как чего-то позитивного и шизофреника как
более в определенном смысле продвинутой личности начинает звучать
с 1960-х годов в русле направления к западной психологии, известно¬
го как «антипсихиатрия» и представленного такими именами, как Ро¬
нальд Лэйнг, Грегори Бейстон, Томас Сас и отчасти Станислав Гроф.
Суть этого нового понимания шизофрении и ее «носителя» заключа¬
ется в том, что шизофреник — это не больной («психическая болезнь»,
как утверждает Т. Сас, это вообще миф; его ключевая книга так и на¬
зывается «Миф о психическом заболевании» [б'даг 1974]), это человек,
который говорит на принципиально другом языке (по сравнению с
Ьото погтаПз, по ироническому выражению Вильгельма Райха) и, со¬
ответственно, по-другому строит свой мир. Нужно не лечить шизоф¬
рению, а попытаться изучить этот непонятный для «нормального че¬
ловека» язык. По-видимому, эксперименты Монастырского и его кол¬
лег, происходившие в социальном пространстве противоположной
направленности: есть нормальные советские люди (ср. понятие «нор¬
мы» у Сорокина), а есть противники советской власти, которые яв¬
ляются психически больными (здоровый человек не может быть про¬
тивником советской власти, это слишком нелепо!), — типологически
подхватывали этот западный опыт, помноженный на восточную тради¬
цию, которой были в высшей степени не чужды Лэйнг и Гроф.
Эта психотическая эстетика имела также богатую отечественную
традицию в лице обэриутов и чинарей (прямых предшественников
концептуализма) - Д. Хармса, Л. Липавского, Я. Друскина и особен¬
но А. Введенского (см. «Кругом возможно Бог»). Что очень важно и что
приближает обэриутов к акциям Монастырского? Это две вещи - от¬
сутствие стремления к успешности как наиболее фундаментальной
категории обычного эстетического опыта и стремления к счастью как
фундаментальной категории обыденного этического опыта. И в том,
и в другом случаях подразумевается, что противопоставление счастли¬
вого и несчастливого состояний сознания (в духе восточных практик)
снимается, нейтрализуется в никаком состоянии, в ничто М. Хайдегге¬
ра, поскольку именно в таком состоянии можно пережить принципи¬
ально несводимое к счастливому или несчастливому состоянию совет¬
ское или любое другое бытие. Поэтому психическая болезнь, больни¬
ца, безумие в эстетике Монастырского перестают быть чем-то плохим
или чем-то хорошим и приобретают черты инструментальности: это
179
Вадим Руднев
Словарь безумия
способ, посредством которого можно достичь состояния «ни-чтойно-
сти» и пустоты. И одновременно - это второе, что роднит Монастыр¬
ского с обэриутами. — искание ничто есть в то же время искание Бога.
Но это особый психотический лакановский Бог-Отец (см. Отец — Имя
Отца) [Лакан 1997], который не приносит счастья и успокоения, но
который необходим для того, чтобы сделать эстетическую и бытовую
деятельность (в тех ли инфантильно-эстетических ее рамках, которые
предлагают поездки за город, напоминающие среди прочего советские
военные игры типа «Зарница» или «Орленок»: там тоже все собирают¬
ся, куда-то идут и чего-то ищут (пересечение психотической и детской
эстетик мы также находим у обэриутов), или в тех сугубо клинических
рамках, которые разворачиваются на страницах романа «Каширское
шоссе») осмысленной в том — абсурдно-постшизофреническом —
смысле, который освобождает от советского паранойяльно-шизо¬
идного знакового пространства, отраженного, например, на картинах
Булатова, но освобождает не неким наивно-позитивным образом, но
погружая в нечто, в общем-то, еще более неприятное и страшное, но
зато понимаемое и воспринимающееся как истинное и божеское.
Но вообще Бог — крайне амбивалентный персонаж в «психотичес¬
кой эстетике» Монастырского. Его актуализация в «Каширском шос¬
се» задается метафорикой бреда отношения:
Подходя к подъезду, она, помню, многозначительно сказала мне,
отвечая на мой вопрос, зачем она чуда идет: «По делам отца». Я это
понял, разумеется, в мистическом смысле, т.е. по делам Бога-Отца
или что-то в этом роде, хотя и знал, что она пытается устроить вы¬
ставку своего покойного отца-художника.
В психозе, согласно Лакану, фигура Отца актуализируется почти
автоматически как неотъемлемая его часть. Шизофренический психоз
это вообще отцовское помешательство, а маниакально-депрессивный
психоз — материнское, так как основано па депривации груди и кор¬
мления, согласно концепции Мелапи Кляни.
Отец нужен психотику как точка опоры, обретя которую, он мо¬
жет перевернуть весь свой мир. «Перевернуть» — имеется в виду и пря¬
мом смысле: как инверсия двоичных противопоставлений. И посколь¬
ку мир психотика-шизофреника амбивалентен в том значении этого
слова, которое задолго до М.М. Бахтина ввели в психиатрию 3. Фрейд
и Э. Блейлер, то Бог-Отец - это некий необходимый психотический
собеседник, на которого можно опереться, которому можно пожало¬
ваться и действиями которого можно объяснить все творящиеся во¬
180
Монастырский Андрей
М
круг безумного человека безобразия, но которого можно, выражаясь
кощунственным в данном случае языком самого А. М, и послать на хуй.
(«Аллилуйя» рифмуется у Монастырского с «какого хуя».) И это не
простое обывательское богохульство и не обыкновенное шизофрени¬
ческое расщепление. В свете хрестоматийного дзэнского слогана «Убей
Будду!» акциональное богохульство приобретает дополнительное эсте¬
тическое измерение, становится неким вызовом «экстравагантного»
сознания (термин Людвига Бинсвангера), направленным на высшее
экзистенциально-мифологическое панибратство безумного художника
с божеством. «По делам Отца» — это значит на пути к самопознанию,
где хороши все средства, в том числе, богохульство и надругательство
над святынями.
Бог Монастырского находится не наверху, как обычно, а где-то на
том же уровне, что и уровень сознания, с ним диалогизирующего, но
где-то вдали. Его почти не видно, но это, безусловно, самый главный
участник акции, может быть, это сам Монастырский. В принципе,
участники акции видят, что он там где-то стоит, что он есть, что его
даже как-то в общих чертах можно разглядеть. Но он с таким же успе¬
хом может исчезнуть и больше никогда не появиться. В этом адогма-
тичность акций Монастырского. Шизофрения почти всегда адогма-
тична, поскольку, хотя прогноз считается всегда неблагоприятным, но
самое «веселое» (в смысле Ницше — «Веселая наука») в этой болезни
заключается в том, что никогда не знаешь, что будет дальше — через
год, через два часа, через минуту. Человек вдали, этот «Бог на час», по¬
этому не может служить гарантом стабильности мира или хотя бы его
осмысленности, но он может служить гарантом хотя бы чего-нибудь.
н
Невроз и психоз. (См. также шизофрения, бред преследования,
бред и язык). Невроз понимается в психоанализе как патологическая
реакция на вытесненное в бессознательное влечение, которое не мог¬
ло осуществиться, так как противоречило бы принципу реальности.
При неврозе Я отказывается принять мощный инстинктивный
импульс со стороны Оно <...> и защищается от Оно с помощью ме¬
ханизма подавления» [Ргеис11981: 214].
При психозе напротив происходит прежде всего разрыв между Я и
реальностью, в результате чего Я оказывается во власти Оно, а затем
возникает состояние бреда, при котором происходит окончательная
потеря реальности и Я строит новую реальность в соответствии с же¬
ланиями Оно [Ргеиб 1981а] .
В эту ясную концепцию Фрейда Лакан вносит существенные
уточнения, как всегда, рассматривая их лишь как прояснения мыс¬
лей самого Фрейда. В одном из семинаров цикла 1953/54 года, посвя¬
щенного работам Фрейда по технике психоанализа, Лакан говорит:
В невротическом непризнании, отказе, отторжении реальности мы
констатируем обращение к фантазии. В этом состоит некоторая
функция, зависимость, что в словаре Фрейда может относиться
лишь к регистру воображаемого. Нам известно, насколько изменя¬
ется ценность предметов и людей, окружающих невротика - в их
отношении к той функции, которую ничто не мешает нам опреде¬
лить (не выходя за рамки обихода) как воображаемую. В данном
случае слово воображаемое отсылает нас, во-первых, к связи
субъекта с его образующими идентификациями <...> и, во-вторых,
к связи субъекта с реальным, характеризующейся иллюзорностью
(это наиболее часто используемая грань функции воображаемого).
Итак <...>, Фрейд подчеркивает, что в психозе ничего подоб¬
ного нет. Психотический субъект, утрачивая сознание реальности,
не находит ему никакой воображаемой замены. Вот что отличает
его от невротика.
В концепции Фрейда необходимо различать функцию вообра¬
жаемого и функцию ирреального. Иначе невозможно понять, по¬
чему доступ к воображаемому для психотика у него заказан.
182
Невроз и психоз
Н
Что же в первую очередь инвестируется, когда психотик ре¬
конструирует свой мир? - Слова. <...> Вы не можете не распознать
тут категории символического.
Структура, свойственная психотику, относится к символичес¬
кому ирреальному или символическому, несущему на себе печать
ирреального» [Лакан 1998:157—158].
Если в двух словах подытожить рассуждения Лакана, можно ска¬
зать, что при неврозе реальное подавляется воображаемым, а при пси¬
хозе реальное подавляется символическим. Символическое для Лака¬
на это синоним слова «язык». Другими словами, если невротик, фан¬
тазируя, продолжает говорить с нормальными людьми на общем
языке, то психотик, в процессе бреда, инсталлирует в свое сознание
какой-то особый, неведомый и непонятный другим людям язык (сим¬
волическое ирреальное).
Итак, для нас в понятии невроза будет самым важным то, что это
такое психическое расстройство, при котором искажается, деформи¬
руется связь воображаемого, фантазий больного, с реальностью. Так,
например, у больного депрессией, протекающей по невротическому
типу, будет превалировать представление о том, что весь мир — это
юдоль скорби, страдающий клаустрофобией будет панически бояться
лифтов, метро, закрытых комнат и т. д., страдающий неврозом навяз¬
чивых состояний будет, например, мыть десятки раз в день руки или
все подсчитывать (см. обссесия и число). Но при этом - и это будет
главным водоразделом между неврозами и психозами - в целом не¬
смотря на то, что связь с реальностью у невротика деформирована, при
этом символические отношения с реальностью сохраняются, т.е. не¬
вротик говорит с нормальными людьми на их языке и может найти с
ними общий язык. Так, например, депрессивный больной-невротик в
целом не склонен будет думать, что мир объективно является юдолью
скорби, он будет сохранять критическую установку по отношению к
своему воображаемому, т.е. будет осознавать, что это его душевное со¬
стояние окрасило его мысли о мире в такой безнадежно мрачный
цвет. Так же и больной клаустрофобией понимает, что его страх зак¬
рытых пространств не является универсальным свойством всех людей,
таким, например, каким является страх человека перед нападающим
на него диким животным. Страдающий клаустрофобией понимает, что
страх перед закрытыми пространствами — это проявление его болез¬
ненной особенности. И даже обсессивный невротик не думает, что
мыть руки как можно больше раз в день или все подсчитывать — это
нормальная, присущая каждому человеку особенность.
183
Вадим Руднев
Словарь безумия
Психоз же мы понимаем, как такое душевное расстройство, при
котором связь между сознанием больного и реальностью полностью
или почти полностью нарушена. Проявляется это в том, что психотик
говорит на своем «языке» (ср. такое понятие у позднего Лакана, как
1а1ап§а§е - «ляля-язык»), никак или почти никак не соотносимом с
языком нормальных в психическом отношении людей (т.е., как гово¬
рит Лакан, у психотика нарушена связь между символическим и реаль¬
ным). Психотик, который слышит голоса, нашептывающие ему бред
величия или наоборот насмерть пугающие, преследующие его, психо¬
тик, видящий галлюцинации или же просто плетущий из своих мыслей
свой бред, психотик безнадежно потерян для реальности. В его языке
могут быть те же слова, которые употребляют другие люди (а может он
и выдумывать новые слова или вообще говорить на придуманном язы¬
ке), но внутренняя связь его слов (их синтаксис), значения этих слов
(их семантика) и их соотнесенность с внеязыковой реальностью (праг¬
матика) будут совершенно фантастическими. Заметим, что психоз —
это вовсе не обязательно бред в классическом смысле, как в «Запис¬
ках сумасшедшего» Гоголя. И депрессия, и клаустрофобия, и обсес-
ссивное расстройство могут проходить по психотическому циклу. До¬
статочно депрессивному больному объективизировать свои мысли о
том, что мир - это юдоль скорби, страдающему клаустрофобией по¬
лагать, что весь мир боится лифтов и закрытых дверей, а обсессивно-
му пациенту быть уверенным, что все люди должны непременно десят¬
ки раз в день мыть руки, и все трое становятся психотиками.
Невроз и психоз — понятия, родившиеся в XIX веке (термин пси¬
хоз ввел в 1845 году немецкий психиатр Вильгельм Фейхтерлебен; не¬
вроз- в 1877 году шотландский врач Уильям Каллен) и получившие
широчайшее распространение в XX веке благодаря развитию клини¬
ческой психиатрии и психоанализа. По сути дела, это понятия, опре¬
деляющие специфику культуры XX века. Мы не выскажем никакой
неожиданной мысли, утверждая, что любой художник (или даже уче¬
ный) практически всегда невротик или психотик. Целебный невроз
творчества - результат сублимационной актуализации вытесненных
влечений. Особенно это верно для XX века, когда каждый третий че¬
ловек — невротик и каждый десятый — психотик. В этом смысле мож¬
но даже сказать, что с логической точки зрения любой создатель ху¬
дожественного произведения - психотик, а его текст - психотический
бред. Ведь в любом художественном тексте рассказывается о событи¬
ях никогда не случавшихся, но рассказывается так, как будто они име¬
ли место (см. психотический дискурс)
184
Ноги
Н
Ноги. (См. также психоанализ футбола.) Мотив ноги является одним
из определяющих в рассказе Джерома Сэлинджера «Хорошо ловится
рыбка-бананка». Чисто статистически это слово здесь очень часто упо¬
требляется. Уже в первой части оно встречается четыре раза («— Да,
мамочка, а ему все равно, — сказала дочь и закинула ногу за ногу»;
«— Вся, мамочка, вся, с ног до головы»; « — Ты же знаешь Симора, -
сказала дочь и снова скрестила ножки»; «— Слушаю, мамочка! — она
переступила с ноги на ногу»). На это можно было не обратить внима¬
ния, но во второй части, по объему примерно равной первой (прибли¬
зительно по шесть страниц каждая) слова нога, ножка, ступня и щи¬
колотка употреблены 16 раз. Вот эти контексты:
Выбравшись на волю, Сибилла стремглав добежала до пляжа, по¬
том свернула к Рыбачьему павильону. По дороге она остановилась,
брыкнула ножкой мокрый, развалившийся дворец из песка и скоро
очутилась далеко от курортного пляжа.
— Мой папа завтра прилетит на ариплане! — сказал Сибилла,
подкидывая ножкой песок.
— Только не мне в глаза, крошка! - сказал юноша, придерживая
Сибиллину ножку.
Сибилла ткнула ногой надувной матрасик, который ее собеседник
подложил под голову вместо подушки.
— Сибиллочка, — сказал он, — ты очень красивая. Приятно на тебя
смотреть. Расскажи мне про себя. — Он протянул руки и обхватил
Сибиллины шиколотки.
Он выпустил ее ножки, скрестил руки и прижался щекой к право¬
му локтю.
Он вдруг вскочил на ноги и взглянул на океан.
Она пробежала несколько шажков, подхватила левую ступню ле¬
вой же рукой и запрыгала на одной ножке.
Сибилла выпустила ступню.
— А я люблю жевать свечки, — сказала она наконец.
— Это все любят, — сказал ее спутник, пробуя воду ногой.
Он взял в руки Сибиллины щиколотки и нажал вниз.
Юноша вдруг схватил мокрую ножку Сибиллы — она свесила ее с
плотика - и поцеловал пятку.
185
Вадим Руднев
Словарь безумия
И, наконец, финальный эпизод в лифте, который оправдывает
задним числом внимание ко всем предыдущим контекстам:
В подвальном этаже - дирекция отеля просила купальщиков
подниматься наверх только оттуда — какая-то женщина с намазан¬
ным цинковой мазью носом вошла в лифт вместе с молодым че¬
ловеком.
- Я вижу, вы смотрите на мои ноги, - сказал он, когда лифт
подымался.
- Простите, не расслышала, — сказала женщина.
- Я сказал: вижу, вы смотрите на мои ноги.
- Простите, но я смотрела на пол! — сказала женщина и отвер¬
нулась к дверцам лифта.
- Хотите смотреть на мои ноги, так и говорите, - сказал мо¬
лодой человек. — Зачем это вечное притворство, черт возьми?
- Выпустите меня, пожалуйста! - торопливо сказал женщина
лифтерше.
Дверцы лифта открылись, и женщина вышла, не оглядываясь.
- Ноги у меня совершенно нормальные, не вижу никакой при¬
чины, чтобы так на них глазеть, — сказал молодой человек.
Можно подумать, что именно этот абсурдный эпизод побудил Си¬
мора к самоубийству: контраст между откровенным и невинным, хотя
и явно эротически окрашенным общением с Сибиллой, когда можно
хватать за ноги и бросать ногами песок в глаза, а не только на них гла¬
зеть, и репрессивным культурным поведением взрослых. В чем же
смысл мотива ноги, и при чем здесь рыбка-бананка? Ясно, что ноги
(ножки) связаны с сексуальностью, — для того, чтобы это понять, до¬
статочно вспомнить «Евгения Онегина». Ясно также, что у рыбы нету
ног, а между тем эпизод с пещерой и бананами носит отчетливо сек¬
суально-фрейдистский характер.
В литературе существует знаменитый текст, связывающий ноги с
рыбьим хвостом. Это «Русалочка» Андерсена. Страшная и постоянная
боль в ногах — для русалочки плата за любовь принца, вернее, даже за
секс с принцем. Ноги, таким образом, - это вполне естественный сим¬
вол, объединяющий секс и смерть и - шире - разрушение, дест¬
рукцию [Шпильрейн 1995]. Человек стал человеком, когда он начал
ходить на ногах, но именно ноги остались наиболее животной, «ин¬
стинктивной» частью человеческого тела — в противоположность ру¬
кам. Руки могут как разрушать, так и созидать, ноги — только разру¬
шать.
186
Ноги
Н
Лишь в нескольких областях культуры ноги связаны с определен¬
ными созидательными антиэнтропийными действиями: в танце и ба¬
лете, в спорте и боевых искусствах (особенно, восточных), а также на
войне. Связь этих культурных языковых игр с эросом и танатосом не¬
сомненна. При этом война через марш и парад связана с танцем и
балетом — наиболее непосредственными телесными сублиматами
сексуальности. В рассказе Сэлинджера мотив ног дан подспудно, во¬
сточным путем «непроявленного смысла» (термин поэтики «Дхвань-
ялока») — так он подводит к финалу рассказа о смерти как замести¬
теле любви:
Он посмотрел на молодую женщину — та спала на одной из кро¬
ватей. Он подошел к своему чемодану, открыл его и достал из-под
груды рубашек и трусов трофейный пистолет. Он достал обойму,
посмотрел на нее, потом положил обратно. Он взвел курок. Потом
подошел к пустой кровати, сел, посмотрел на молодую женщину,
поднял пистолет и пустил себе пулю в правый висок.
Кажется, что финал амбивалентен в плане того, какую версию, за¬
падную или восточную, выбрать. Вероятно, в данном случае мотивы,
как ни странно, совпали. С одной стороны, нервозность, нетерпимость
героя к компромиссам репрессивной культуры, с другой - действие,
эмблематично-абсурдное, по дзенскому рецепту: хочешь застрелить¬
ся — стреляйся на здоровье; в общем, все пути к постижению истины
хороши.
Примерно так мы понимаем рассказ Сэлинджера. В дальнейшем
мы будем преимущественно говорить о ногах вообще.
Вернемся к андерсеновской Русалочке. Что здесь самое важное? Не
то, что ноги Русалочка получает просто в обмен на любовь принца.
Она могла бы завоевать его любовь другими, чисто русалочьими спо¬
собами — заманить, утянуть за собой и т. п. Ноги Русалочке нужны
были для того, чтобы стать человеком или хотя бы чем-то вроде чело¬
века. Ведь ноги определяют человека как вид (ср. старое определение
человека как двуногое животное, лишенное перьев). Но при этом ноги —
символ человеческого страдания, страдания неполного выхода из жи¬
вотного царства. Ноги не просто выделяют человека из мира живот¬
ных. Ноги амбивалентны.
Бесперое двуногое животное, животное разумное, стоит обеими
ногами на земле. Ноги поэтому — своеобразное шетепЮ топ. Руса¬
лочка вместе с хвостом утратила бессмертие. Итак, ноги не просто
связаны с сексом, они связаны с человеческим сексом. Ноги в соот¬
187
Вадим Руднев
Словарь безумия
несенности с руками — это образ человеческого секса. Они в каком-
то смысле - продолжение половых органов. Долгое время в культу¬
рах, ориентированных на мировые религии, был запрет показывать
женские ноги. Представим себе некий усредненный эпизод из како¬
го-нибудь романа XIX века, когда герой счастлив лишь оттого, что
ему удается мельком увидеть из-под длинного плаща маленькую уз¬
кую полоску ноги любимой женщины, когда она, например, садит¬
ся в карету.
Но более того, ноги не только связаны с сексом, они в опреде¬
ленном смысле являются олицетворением и метонимией бессозна¬
тельного.
Глупо спрашивать, есть ли бессознательное у животных, когда для
людей его придумали немногим более ста лет назад. Но бессознатель¬
ное есть именно то, что есть ноги: то, что не замечают, в то время как
оно самое главное. (В этом плане не случаен мотив ног прохожих, ко¬
торые видят жители полуподвалов, — например, в «Мастере и Марга¬
рите». Подвал - одна из распространенных метафор бессознательного.)
Мы не замечаем ног при ходьбе, если только они не болят, как у Руса¬
лочки. Так же здоровые люди не задумываются о глубинах своей пси¬
хики. Бессознательное так же, как и ноги, - это то животное начало,
которое есть только у человека. Это то природное, которое существует
лишь на фоне культурного. Поэтому очень важно, что в рассказе Сэ¬
линджера ноги даны именно подводным течением, они символизиру¬
ют бессознательные импульсы героя — его тягу к культурно нерепрес¬
сивному сексу, к сексу с шестилетней девочкой, как ни странно это
звучит. Обычный секс для него «обезножен», как рыбка-бананка. Это
Русалочка, которая раздумала становиться человеком. Ноги постоян¬
но присутствуют в бессознательном Симора, поэтому он все время
подспудно обращает внимание на ножки девочки и несколько раз её за
них хватает. Но когда ему лишь кажется, что на его ноги смотрит взрос¬
лая женщина, этого достаточно, чтобы этот пусть странный эрос по¬
беждался обыкновенным танатосом. «Секс — либо радость, либо ад».
Вероятно, все-таки ад. И, конечно, естественно, что ноги актуализи¬
руются нерепрессивно в связи с фигурой ребенка, существа еще не
вполне культурно оформленного, еще, так сказать, не твердо стояще¬
го на ногах. Конечно, залепить песку в глаза ножкой - это не то же са¬
мое, что ударить ногой по одному месту, но что-то в этом тоже есть.
В архаическом сознании ноги - это то, что связано с идеей авто-
хтонности человека, вырастающего ногами из земли. Поэтому Эдип
прозван толстоногим, поэтому у него акцентуирован мотив ног; он, по
мнению К. Леви-Стросса, вырос из земли, и весь Эдипов комплекс -
188
Ноги
Н
это загадка на тему: человек рождатся от одного или от двух [Леви-
Строе 1983)1 А желание убить отца и жениться на матери — это уже
позднейшая постмифологическая стадия осмысления Эдипова комп¬
лекса.
Между прочим, загадка Эдипова Сфинкса — тоже про ноги: эта за¬
гадка определяет сущность человека через ноги, т.е. через прямохож¬
дение. Какое существо, спрашивает Сфинкс, сначала ходит на четы¬
рех, потом на двух, а после этого на трех? На четырех конечностях
ходит ребенок, по сути еще звереныш. Старик ходит с палкой, меди¬
тативно усредняющей двух- и четырех-конечность.
Отсюда же (только более позднего происхождения) хромота Люци¬
фера. Как у Русалочки боль в ногах — плата за человеческий секс, так
у дьявола хромота - стигмат того, что он указал людям путь сексуаль¬
ного (неавтохтонного) развития. Это и был его бунт, за что его повер¬
гли на Землю, и он охромел. Хромота в культуре отныне — стигмат дья¬
вола, но не столько самого дьявола, сколько дьявольской власти, по¬
хоти, причем не праздничной, но мрачной, греховной, овеянной
смертностью, смертью. Ведь за то, что люди научились производить
себе подобных, они были опять-таки лишены бессмертия. Так хромо¬
ножка Марья Тимофеевна Лебядкина у Достоевского все время твер¬
дит, что Богородица - это мать сыра земля, а Ставрогина называет
князем, и он и есть князь тьмы, Антихрист. Достоевский вообще лю¬
бил эту тему. В «Идиоте» Лебедев рассказывает, как некто похоронил
свою ногу и на могиле воздвиг памятник с надписью: «Здесь покоит¬
ся нога надворного советника такого-то».
В «Бесах» мотив покалеченной женской ноги как сексуальной ак¬
центуации проводится в стихах капитана Лебядкина:
Краса красот сломала член
И интересней втрое стала...
Затем этот же мотив в более умеренном регистре повторен в «Бра¬
тьях Карамазовых», в стихах Ракитина, посвященных г-же Хохлако-
вой, повредившей ногу:
Эта ножка, эта ножка.
Ножка, вспухшая немножко.
Устами Лебядкина Достоевский с прозорливостью предвестника
Фрейда рассуждает о женских ногах, подчеркивая уникальность это¬
го явления как присущего только человеку: ноги сильны тем, что они
189
Вадим Руднев
Словарь безумия
между собой скрывают. Хромота или усекновение одного из членов
акцентирует, раскрывает это таинство промежности, выводит его в
сферу пусть неприличного, но публичного дискурса.
Усекновение или деформация одной из ног как чрезвычайно силь¬
ная и смертная сексуальная акцентуация характерны для культурной
феноменологии ноги, начиная с фольклорной традиции гротескного
тела бабы Яги, как его рисует В. Я. Пропп в своей знаменитой книге.
Баба Яга-костяная нога есть одновременно апофеоз смерти и уродли¬
вой гротескной женственности, доведенной до абсурда, до разложения.
Пропп также сравнивает Ягу с Эмпусой, стерегущей преддверия Аида:
«Как женщина, она обладает одной железной ногой и одной ногой из
ослиного помета. Обращаясь женщиной, она сохраняет какие-то при¬
знаки ослиной природы. Эта нога бескостна. Здесь можно усмотреть
другую форму отмершей, а именно разложившейся ноги. Такая фор¬
ма не чужда и русской сказке: «...Одна нога говенна, другая наземна»
[Пропп 1986: 71]».
Другой фольклорный образ - медведь на липовой ноге — весьма
своеобразно и точно эксплуатируется С. Соколовым в «Школе для ду¬
раков» (см.): медведь идет на липовой ноге, производя загадочный ма¬
гический звук «скирлы» — это скрипит его протез, но одновременно
это скрипит кровать, потому что «скирлы» на психотическом языке ге¬
роя «Школы для дураков» означает половой акт, а медведь на липовой
ноге символизирует тотальную жуткость, непонятность и неотвязность
идеи полового акта для подростка.
Ясно, что тотемный медведь на липовой ноге-фаллосе олице¬
творяет амбивалентное отношение подростка к непонятному фе¬
номену половой жизни, он как будто предчувствует, что сексуальность
попахивает смертью - недаром его учитель Павел Петрович Норвегов
влюблен в мертвую девочку (и сам учитель, впрочем, тоже уже мерт¬
вый!) Розу Ветрову.
Связь ноги с сексом и смертью чрезвычайно характерным образом
показана Л.Н. Толстым в «Войне и мире», в частности в сцене, где Ана-
толю Курагину ампутируют ногу (что является субститутом кастрации
за грех умыкания Наташи Ростовой, причем происходит это на глазах
у обманутого жениха Андрея Болконского), и Анатоль при этом кри¬
чит, «как женщина»: «Оооооо!» - и просит показать ему отрезанную
ногу (такой, я бы сказал, метонимический нарциссизм). Менее откро¬
венно, но не менее интересно мотив ноги как метонимии эроса-тана-
тоса фигурирует в повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильча», ког¬
да слуга из любви к умирающему и страдающему барину часами дер¬
жит в руках его ноги, поднятые таким образом, что больной в этой позе
190
Нормальная жизнь
Н
почти не чувствует боли. Последний пример, который мы приведем
в силу его яркости и показательности — «Облако в штанах» Маяковс¬
кого, где говорится, что поэт будет беречь тело возлюбленной, как сол¬
дат-калека бережет единственную ногу.
В «Золушке» нога здесь продолжает быть связанной с сексуально¬
стью и при этом почти не связана со смертью, и даже наоборот — с
преодолением смерти как энтропии: обладание именно такой, малень¬
кой, может быть, самой маленькой ногой является символом сексуаль¬
ного успеха и власти. В данном случае эта позитивность ноги подкреп¬
лена чисто культурным мотивом волшебной обуви. Возможность на¬
тянуть башмачок на ногу здесь выступает как сексуальный субститут.
Строго говоря, прозвище Золушка нельзя не связать со смертью, тле¬
ном, что, впрочем, неудивительно, так как Золушка принадлежит к
медиативным персонажам, исполняет роль трикстера, посредника
между жизнью и смертью. Мотив подбора обуви в культуре обладает
чертами универсальности, выступая, по-видимому, как устойчивый
брачный тест (ср. черевички, которые кузнец должен достать невесте
с царской ноги в «Ночи перед рождеством» Гоголя).
Еще один пример - «Стойкий оловянный солдатик». Вновь Ан¬
дерсен. На этот раз герой застывает на одной ноге, в этой напряженно¬
сексуальной позе, олицетворяющей терпение и верность своей любви
к балерине, картонная фигурка которой также застыла в неподвижном
танце на одной ноге. Ситуация трагически амбивалентная: балерина
сгорает в печке, так сказать, в огне любви оловянного солдатика.
И наконец — «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого и харак¬
терная поздняя частушка, как нельзя более точно вырисовывающая
именно тот аспект, о котором мы говорим:
У Бориса Полевого
Нету члена полового.
Позитивность идеи отъема ног, замены их протезами, а затем, так
сказать, полета на новых советских ногах, сексуально элевируется че¬
рез танец — исцеленный Мересьев еще и пляшет на своих протезах,
исполняет, так сказать, танец любви к Родине и партии — высоко суб¬
лимированная сексуальность.
Нормальная ЖИЗНЬ. Подобно тому, как нормальная жизнь не мо¬
жет быть понята вне безумия (Лакан), точно так же безумие не может
быть понятно вне рамок нормальной жизни. Но что такое нормальная
жизнь, и существует ли она? И, если она существует, какими парамет-
191
Вадим Руднев
Словарь безумия
рами она измеряется, что такое психология (или все же психопатоло¬
гия?) нормальной жизни? Что такое норма применительно к психичес¬
кой жизни человека? Норма неуловима именно потому, что она норма,
а не отклонения от нее. Тем не менее, у нас есть кое-какие ориентиры.
Норма — это нечто среднее, не экстравагантное, торжество здравого
смысла, «безмятежное пребывание среди вещей» (Л. Бинсвангер), и,
стало быть, гармония между вещами и словами, между фактами и вы¬
ражающими их высказываниями, между означаемым и означающим.
Нормальная жизнь может быть определена как тяготение к усред¬
ненным показателям модальных операторов (см. модальности). Допус¬
тим, если мы возьмем модальность нормы, деонтическую, которая со¬
стоит из трех членов: должно - разрешено — запрещено, — то идея за¬
ключается в том, что нормальная жизнь будет тяготеть к среднему
члену, к «разрешено». Это не означает, что в нормальной жизни не де¬
лают того, что запрещено, и того, что должно. Вопрос в другом: нор¬
мальная жизнь тяготеет к среднему полюсу, даже если он трудно до¬
стижим. Безумная жизнь тяготеет к экстравагантности, т. е. к проти¬
воположным полюсам. Опять-таки это не означает, что безумный
человек никогда не делает того, что разрешено, а поступает только так,
как должно (с его безумной точки зрения) или совершает только зап¬
рещенные с общепринятой точки зрения поступки. Речь идет лишь о
тяготении, некоей фундаментальной тенденции.
Если мы возьмем аксиологическую модальность (хорошо — безраз¬
лично — плохо), то здесь мы будем наблюдать ту же тенденцию. Безум¬
ные и пограничные личности будут тяготеть к идеализации и к обес¬
цениванию - это их специфические механизмы защиты, в то время
как нормальные люди будут видеть в разных предметах и объектах как
хорошую, так и плохую стороны (в психоаналитической концепции
развития Мелани Кляйн на шизоидно-параноидной стадии ребенок
видит «хорошую» и «плохую» грудь как разные объекты, на более зре¬
лой депрессивной стадии он воспринимает мать как целостного чело¬
века с присущими ему положительными и отрицательными чертами
[Кляйн 2001]). Примерно ту же тенденцию мы будем наблюдать при¬
менительно к эпистемическим модальностям (известно - полагаемо -
неизвестно): безумные будут тяготеть к тенденции обладания полным
знанием (сверхценным, бредовым) или полной неизвестностью (на¬
пример, пугающая неизвестность при бреде преследования), нормаль¬
ные будут довольствоваться чем-то средним между знанием и незна¬
нием - полаганием. Для речи безумного человека не характерна сама
синтаксическая конструкция с глаголами типа полагать, думать, до¬
пускать, казаться). Ср. искусственность предложений:
192
Нормальная жизнь
Н
* Я полагаю, что я — Наполеон.
* Мне кажется, что меня преследуют масоны.
Эксцессивность и генерализованность эпистемической сферы бе¬
зумного имплицируют полную уверенность в происходящем. После¬
днее, разумеется, не означает того, что нормальные люди всегда в чем-
то сомневаются. Существует множество фактов, которые все люди в
обыденной жизни точно знают или точно не знают. Например, мы точ¬
но знаем, что у нас есть руки и ноги, нам даже не приходит в голову
сомневаться в этом. Напротив, безумный человек, психотик, вполне
может утверждать, что у него нет рук или головы, что он вообще не
человек, а стена, как в примере Лэйнга, когда девушка-шизофренич¬
ка говорит: «Я стена. Девушке трудно быть стеной» [Лэйнг 1995].
Та же тенденция едва ли не в большей мере справедлива для алети-
ческих модальностей (необходимо - возможно - невозможно). Жизнь
нормального человека протекает по преимуществу в сфере возможно¬
го. Жизнь психотика тяготеет к противоположным полюсам. С ним
происходят бредово-галлюцинаторные чудеса, т.е. нечто невозможное
с позиции здравого смысла. С другой стороны, то, что для нормально¬
го человека представляет сферу возможного, для психотика может быть
необходимой истиной. Например, для ревнивца такой необходимой
истиной может быть тот факт, что жена ему изменяет, для преследуе¬
мого — что его преследуют, для парафреника - что он Мессия, — и т. п.
Особую группу составляют модальности времени и пространства.
Они были выделены в качестве логических модальностей позже дру¬
гих (темпоральные модальности описал Артур Прайор [Рпог 1957],
спациальные модальности впервые описаны нами в книге [Руднев
1996]) и обладают специфическими особенностями. Модальности вре¬
мени могут быть рассмотрены двояко 1) как трехчлен «прошлое — на¬
стоящее — будущее»; 2) как трехчлен «тогда - сейчас — потом». Для
нормального человека характерно находиться в настоящем, в «сейчас».
Поиски утраченного прошлого или попытки заглянуть в будущее суть,
как правило, признаки невротического или пограничного мышления.
Что касается психотического, в частности, шизофренического созна¬
ния, то общепринятым является мнение, что оно живет вне времени,
во всяком случае, вне того времени, в котором дни следуют в общем
порядке один за другим (см. например [Кемпинский 1998]\ о невроти¬
ческом и психотическом времени также см. время и безумие). Про¬
странственный модальный трехчлен состоит из элементов «там -
здесь — нигде». Подобно тому, как нормальный человек склонен нахо¬
диться в настоящем, он точно так же стремится быть «здесь», т. е. его
7-11117
193
Вадим Руднев
Словарь безумия
физическое местоположение стремится совпадать с психическим. От¬
клонения от этого в ту или другую сторону — признаки невротических
расстройств. Например, психастеник может телом находиться здесь, а
мыслями «там», где-то в другом месте, о котором он думает (см. про¬
странства безумия). Психотики часто в бреду строят особое бредовое
пространство, которое не совпадает с обыденным пространством здесь,
могут психологически (а им может казаться, что и физически) нахо¬
диться где-то совершенно в другом месте. Точно так же безумный че¬
ловек, шизофреник, может быть убежден в том, что он не находится
нигде, т.е., что он мертв (см. психическая смерть).
Нормальная жизнь предполагает модальности с маленькой буквы,
а безумная жизнь - модальности с большой буквы. Например, «хоро¬
шо поужинать» — это аксиологическая модальность с маленькой бук¬
вы, а «спасти человечество» — это аксиологическая модальность с
большой буквы. Последнее не означает, разумеется, что все харизма¬
тические лидеры, общественные и церковные реформаторы, которые
заняты спасением человечества, автоматически являются безумцами.
Однако нормальными их тоже не назовешь. Как правило, это либо
невротические, либо пограничные параноики, т.е. находятся, как и
практически все великие люди (см. например [Кречмер 1999]), на пол¬
дороги между психической нормой и безумием.
Итак, нормальная жизнь - в некоей сбалансированности, семи¬
отической нейтральности, ненапряженном взаимодействии между
языком и реальностью.
В чем же проявляется семиотическая нейтральность? Она там, где
нет преобладания означающего над означаемым, как при большинстве
неврозов и психопатий, или нет, наоборот, преобладания означаемого
над означающим, как при депрессии, и не в исчезновении означающе¬
го вовсе, как при острых психозах. Все это не значит, что при нормаль¬
ной жизни не может быть эксцессов, подразумевающих тот или иной
семиотический сбой, — более того, нормальная жизнь, конечно, пол¬
на таких эксцессов. Нормальная жизнь — это не только вставать по
утрам, чистить зубы, идти на работу, обедать, гулять с ребенком, рас¬
сказывать анекдоты, смотреть новости по телевизору. Такие эксцессы,
как смерть и болезни, влюбленность, развод, рождение детей, автока¬
тастрофа, в определенном смысле входят в нормальную жизнь, во вся¬
ком случае, они не подразумевают, могут не подразумевать психичес¬
ких аномалий. И при любом таком обыденном эксцессе, будь то круп¬
ный семейный скандал или даже смерть ребенка, не будет превышения
означающего над означаемым и наоборот. Для иллюстрации этого срав¬
ним, например, нормальную ревность и патологическую сверхценную
194
Нормальная жизнь
Н
ревность или бред ревности. При бреде ревности (как и при любом
паранойяльном расстройстве — см. паранойя) множества смыслов кру¬
тятся вокруг одного значения — измены и всего того, что ей содействует.
При нормальной ревности этого семиотического сдвига не происходит.
Муж просто приревновал жену к какому-то конкретному человеку, на¬
пример, к сослуживцу. Жена может отрицать или не отрицать справед¬
ливость этой ревности, но в этом случае не будет места семиотическо¬
го смещения в сторону одного значения, вокруг которого вертятся
смыслы. Нормальная, не сверхценная и не бредовая ревность не будет
подразумевать видение в каждом объекте — подъезжающей машине (это
любовник поехал), портрете Бетховена (изменяет с музыкантом), кон¬
фетной обертке, найденных в кармане пальто жены (любовник пода¬
рил) сверхценных смыслов. Но тогда получается, что норма, какой бы
интенсивности в своих проявлениях она ни достигала, все равно будет
оцениваться чисто негативно. Нет сверхценности, нет навязчивости,
нет демонстративности. Или все это есть, но в каких-то слишком ма¬
лых для патологии, скажем, для психопатии, проявлениях.
Описать, что такое нормальная жизнь может нам помочь такое в
высшей степени сомнительное понятие вульгарной эстетики, как реа¬
лизм. Что такое реализм? «Это такое искусство, — говорили советские
учебники, — которое адекватно отражает реальность». Говоря серьезно,
такое положение вещей невозможно, потому что любое искусство со
своей точки зрения адекватно отражает реальность. Но реализм, так,
как его понимает вульгарная эстетика, это то, что отражает нормаль¬
ную жизнь нормальным языком, языком средней нормы. Чем реализм
в искусстве, скажем, рассказ Тургенева (притом, что у позднего Турге¬
нева есть и заведомо нереалистические рассказы (см. книгу В.Н. Топо¬
рова «Странный Тургенев» [Топоров 1998])), отличается от не-реализ-
ма, скажем, романа Джойса тем, что в его текстах, в предложениях, со¬
ставляющих его тексты, нет или, как правило, нет семиотических
сбоев, преобладания плана выражения над планом содержания, озна¬
чающего над означающим, или наоборот. Модернистское искус¬
ство, напротив, построено на преобладании в большинстве случаях
означающего над означаемым, на избытке означающего, или в более
редких случаях на избытке означаемого. В реалистическом искусстве
средней нормы высказывания построены так, что они стремятся копи¬
ровать повседневную нормальную жизнь. Это означает, что они пост¬
роены так, как строятся нормальные высказывания повседневной речи.
«Он вышел из-за стола». «Каждый день они гуляли в парке». Любая
синтаксическая, семантическая или прагмасемантическая акцентуиро-
ванность будет говорить о том, что это искусство отклоняется от реа-
т
195
Вадим Руднев
Словарь безумия
лизма (при всей, повторяю, условности этого термина). «Убирайся вон,
подлый изменник!» — вскричал маркиз». Эта фраза своей демонстра¬
тивностью будет напоминать об истерии. «Ровно без четырех минут
восемь, как только здание банка закрылось и двое прохожих заверну¬
ли за угол улицы, Иван Иванович три раза вдохнул, сделал четыре ко¬
ротких шага и произнес ...» - эта фраза своей педантичностью будет
напоминать об обсессивно-компульсивном расстройстве (ср. обсессия
и число). «Облака, как огненные шары, напоминающие о бесконечном
божественном промысле, проплывали над ним, подобно небесным
гигантам». Эта фраза своей символичностью будет напоминать о ши¬
зоидном характере. «Выстрел... он как будто подвернулся, и в то же
время подумалось ему, никогда... как в последний раз в жизни, на пе¬
редний край». Структура этой фразы: разорванность, произвольность
ассоциаций — напоминает о шизофрении.
Но здесь встает два вопроса. Первый заключается в том, означает
ли все сказанное, что реализм это норма. Второй заключается в том,
что, получается, модернизм или любые его элементы будут соответство¬
вать в таком случае психической патологии. Я думаю, что это не совсем
так. Любое искусство будет напоминать о патологии и ассоциировать¬
ся с патологией. Подлинное искусство — это в принципе сублимация
психической патологии в той или иной мере. В этом смысле реализм
уже не как рабочий условный термин, взятый из советского учебника,
но как действительное литературное направление (допустим, что такое
существовало), т.е. хронологически тот тип искусства, который начал¬
ся после кризиса раннего романтизма и закончился с началом симво¬
лизма, тоже подразумевает психическую патологию в том смысле, что
в нем есть определенный семиотический сбой, а именно преобладание
означаемого над означающим. Если взять, например, русскую нату¬
ральную школу 1840-х годов как первую реалистическую реакцию рус¬
ской литературы на романтизм, то здесь, прежде всего, обратит на себя
внимание редукция сюжетно-фабульного начала в прозе и редукция
стиля в поэзии, т.е., говоря в целом, редукция смысла. Это характерно
для депрессии. Действительно, лучшие произведения этого так называ¬
емого реализма изображают депрессию («Обломов» Гончарова (см.),
романы Тургенева, Флобера, Золя), а представители этого направления,
как правило, страдали циклоидным биполярным расстройством. Реа¬
лизм же в «кухонном» смысле, как средняя норма языка, не является
искусством с большой буквы, относится к сфере массовой культуры.
Массовая культура, как правило, и является коррелятом психической
нормы в искусстве.
о
«Облако в штанах». В этой поэме Маяковского чрезвычайно
отчетливо проявляются черты обсессивного дискурса (см.), как и во¬
обще в поэзии Маяковского. Это, прежде всего, нагромождение чи¬
сел (см. обсессия и число), причем это, как правило, мегаломанически
огромные числа, достаточно вспомнить название одной из его поэм -
«150 000 000». Ср. также следующие контексты:
Он раз к чуме приблизился троном, / смелостью смерть поправ, -
/ я каждый день иду к зачумленным / по тысячам русских Яфф! /
Мой крик в граните времен выбит / и будет греметь и гремит, / от¬
того, что в сердце выжженном, / как Египет, / есть тысяча тысяч
пирамид! («Я и Наполеон»); Там / за горами / горя / солнечный
край непочатый. / За голод, / за мора море / шаг миллионный / пе¬
чатай! («Левый марш»); берет, как гремучую в 20жал / змею двухем-
троворостую («Стихи о советском паспорте»); Стотридцатимилли¬
онною мощью / желанье лететь напои! («Летающий пролетарий»);
это сквозь жизнь я тащу / миллионы огромных чистых Любовей / и
миллион миллионов маленьких грязных любишек («Облако в шта¬
нах»); О, если б нищ был! / Как миллиардер! / Что деньги душе? /
Ненасытный вор в ней. / Моих желаний разнузданной орде / не
хватит золота всех Калифорний («Себе, любимому...»); Любовь
мою, / как апостол во время оно, / по тысячи тысяч / разнесу до¬
рог («Флейта-позвоночник»); Я солдат в шеренге миллиардной.
(«Ужасающая фамильярность»); В сто сорок солнц закат пылал
(«Необычайное приключение...»); Я никогда не знал, что столько
тысяч тонн / в моей легкомысленной головенке («Юбилейное»);
наворачивается миллионный тираж. / Лицо тысячеглазого треста
блестит (« Четырехэтажная халтура»); Эти слова приводят в движе¬
ние / тысячи лет миллионов сердца. («Разговор с фининспектором
о поэзии»),
В случае Маяковского можно сказать, что все эти тысячи и мил¬
лионы, выражая, с одной стороны, мощь габаритов и влечений поэта,
обсессивно эту мощь регулируют. С другой стороны, обыгрывание
огромного числа в поэтическом сознании Маяковского безусловно
представляет собой обсессивно-компульсивный способ гиперсоциаль¬
197
Вадим Руднев
Словарь безумия
ной конформности. Маяковского можно назвать не только «ассени¬
затором и водовозом, революцией организованным и призванным»,
как он сам себя назвал, точно акцентуировав анально-обсессивный ас¬
пект своего характера, его можно назвать также главным бухгалтером
пролетарской революции, ведь все эти огромные числа, как правило,
обозначают, если воспользоваться советским штампом, многомиллион¬
ную массу» советских людей. «150 000 000» — это тогдашнее население
России, равное, по Маяковскому, числу его читателей и соавторов. То
есть числовая обсессия Маяковского представляется неким ритуаль¬
но-мифологическим отождествлением его большого тела с коллектив¬
ным телом народа (см. тела безумия, эпилептоидное тело без органов),
т.е., говоря на мифопоэтическом метаязыке, слиянием микрокосма и
макрокосма.
Образ собственного тела чрезвычайно важен для Маяковского, и
его поэтика тела также вписывается в поэтику обсессивного дискур¬
са. Рассмотрим в этом плане поэму «Облако в штанах». Помимо оби¬
лия чисел это прекрасное стихотворение о любви наполнено странны¬
ми мотивами, один из которых, навязчиво повторяющийся, хотя и
варьирующий, можно инвариантно обозначить как мотив «выворачи¬
вания наизнанку». Приведем наиболее яркие фрагменты, связанные с
манифестацией этого мотива:
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.
Я сам
Глаза наслезенные бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев Бурлюк.
198
«Облако в штанах»
О
а я человек, Мария,
простой,
выхарканный чахоточной ночью
в грязную руку Пресни.
В этих примерах нечто либо выплевывается, выхаркивается, выб¬
левывается изо рта или глаза, либо — более сложно — внутреннее вы¬
ходит из внешнего, и они меняются местами. Наша гипотеза состоит
в том, что здесь анальный комплекс вытеснен и замещен орально-ви-
зуально-аудиальными (в конце поэмы появляется еще и ухо) символа¬
ми. Как нам кажется, здесь произошло обратное тому, что имеет место
в бахтинско-раблезианском карнавальном мироощущении, когда при
инверсии бинарных противопоставлений голову заменяет зад [Бахтин
1965]. В стихотворении Маяковского все происходит наоборот: зад,
анальная сфера, заменяется головой и отверстиями в голове — ртом,
глазами (которые интерпретируются именно как отверстия), ноздрями
и ушами. Происходит это в точном соответствии с учением Фрейда об
анальном характере, когда инфантильная анальная эротика вытесня¬
ется, табуируется и замещается прямо противоположными содержани¬
ями. То есть анальный характер - это болезненно чистоплотный, боя¬
щийся загрязнения [Фрейд 1998а], а именно таким и был Маяковский -
«Певец кипяченой и ярый враг волы сырой». Анальная эротика заме¬
щается образами и мотивами, связанными по контрасту с головой, но,
тем не менее, в мотиве «выворачивания наизнанку» анальность прогля¬
дывает чрезвычайно явственно. Обычно человек говорит, что его вы¬
вернуло наизнанку, либо когда его сильно вырвало, либо когда у него
был сильный понос. В любом случае речь идет о чем-то непристойном
и при этом как будто не имеющим к эротической сфере никакого от¬
ношения. Заметим, что Маяковский со свойственной эму смелостью
великого экспериментатора широко применяет здесь характерные для
семантики выворачивания ходовые, неходовые и придуманные им «вы-
глаголы» (термин М. А. Кронгауза [Кронгауз 1998]), актуализирующие
действие выворачивания. Глаголы эти встречались уже и в приведенных
выше примерах:
а себя, как я, вывернуть не можете; выбрасывается, как голая про¬
ститутка; Выскочу! (четырехкратно повторенное); душу вытащу,
выхарканный чахоточной ночью...
Но таких примеров в «Облаке в штанах» (как и вообще в стихах
Маяковского) гораздо больше:
199
Вадим Руднев
Словарь безумия
Кто-то из меня вырывается упрямо; о том, что горю, в столетии
выстони; выхаркнула давку на площадь; как двумя такими выпеты,
Я выжег души, где нежность растили; Почти окровавив исслезен-
ные веки, / вылез, / встал, / пошел; я ни на что б не выменял-, гром
из-за тучи, зверея, вылез, громадные ноздри задорно высморкал-,
Земле, / обжиревшей, как любовница, / которую вылюбил Рот¬
шильд!; В улицах / люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,
/ высунут глазки; вылезу грязный (от ночевок в канавах); сахарным
барашком выглядывал в глаз; Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал, что у каждого есть голова, — отчего ты не выдумал, чтоб
было без мук целовать, целовать, целовать?
Кажется, нет сомнения, что приведенные фрагменты представ¬
ляют любовный дискурс в анальной аранжировке. Это становится
тем более очевидно, что в «Облаке в штанах» присутствует и идея за¬
пора:
Улица муку молча перла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились застрявшиие поперек горла
пухлые Гах] и костлявые пролетки.
Грудь запешеходили.
Чахотки площе
Город дорогу мраком запер.
Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насев.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!
Как уже говорилось применительно к первым примерам, и здесь
верх и низ меняются: зад становится головой, анус — горлом.
Наконец, в стихотворении присутствуют также образы, которые
вполне однозначно опознаются как образы гниения еды в переполнен¬
ном кишечнике:
лопались люди,
проевшись насквозь,
200
«Облако в штанах»
О
и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
животина старых котлет
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея —
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется — «борщ».
Прямая кишка, — пишет Геральд Блюм, — является экскреторным
полым органом. Как экскреторный орган она способна нечто из¬
гонять; как полый орган она может подвергаться стимуляции ино¬
родным телом. Мужская тенденция представлена первой функци¬
ей, женская - второй [Блюм 1996: 108].
Мы приводили примеры на первую функцию, но есть в поэме при¬
меры и на вторую, когда нечто инкорпорируется во что-то:
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз
глазами в сердце въелась богоматерь
Видишь — натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!
Кажется, цитированные строки
Всемогущий, ты выдумал пару рук, сделал, что у каждого есть го¬
лова, - отчего ты не выдумал, чтоб было без мук целовать, цело¬
вать, целовать? -
содержат ключ к приведенным мотивам и отчасти разгадку самой по¬
эмы. В сущности, получается, что поэт спрашивает Бога, зачем он
придумал то, что потом Лакан назовет символической кастрацией, в
соответствии с которой человек тем отличается от животного, что не
может без разбору заниматься «любовью с любыми» (хотя историчес¬
ки это и однокоренные слова - см. любовь). То, что произошло с ге¬
201
Вадим Руднев
Словарь безумия
роем поэмы «Облако в штанах», можно назвать «комплексом Дон
Жуана», который также будучи обсессивно-комульсивным, коллекци¬
онировал любовные победы, как и герой «Облака в штанах», говоря¬
щий о себе, что он «сквозь жизнь тащит миллионы огромных чистых
Любовей и миллион миллионов маленьких грязных любят» (характер¬
но и само наличие и масштаб чисел!), но подлинная любовь к доне
Анне так поразила его своей единственностью, что он не смог ее пе¬
режить. Агрессивный герой Маяковского предпочитает не умирать
сам, а по примеру героев последней поэмы Блока «Двенадцать» пус¬
титься в богоборческий разбой, который носит, впрочем точно такой
же симулятивно-сексуальный характер:
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!
В довершение картины представим себе на мгновение чисто визу¬
ально образ, который лежит в названии поэмы. Что такое в свете все¬
го сказанного «облако в штанах»? Кажется, не может быть никаких
сомнений - это зад.
«Обломов». (См. также депрессия.) Проблема реализма в искусст¬
ве тесно связана с проблемой депрессивного взгляда на мир. Основ¬
ным пафосом и сутью художественного реализма, как он зародился в
1940-х годах в рамках натуральной школы, было изображение реаль¬
ности такой, какова она есть, без обычных условностей искусства, т.е.
наименее семиотизированно.
Ранний русский реализм («физиологический очерк» - характерен
этот редукционистский термин) изображал мир, пытаясь отказаться от
романтических и вообще акцентуированно литературных художествен¬
ных штампов - занимательности, увлекательной интриги, жесткого
распределения ролей героев, ярких описаний и стилистической мар¬
кированности. Реализм изображал мир тусклым и неинтересным, та¬
ким, каким видит его человек, находящийся в депрессии.
202
«Обломов»
О
Если говорить о культурно-психологических аналогиях, то можно
сказать, что реалистическая депрессия в искусстве была реакцией на
утрату ценностей предшествующего литературного направления
(последнее наиболее ясно показал Гончаров в «Обыкновенной исто¬
рии».) Романтизм был первой — материнской - школой зрелой русской
литературы XIX века (характерна орально-садистическая (по Абраха¬
му) интерпретация Пушкиным в письме П.А. Вяземскому критики
последним старшего и главного русского романтика В. А. Жуковско¬
го — «Зачем кусать груди кормилицы, только потому, что зубки проре¬
зались?») (ср. мать).
Парадигмальным в этом смысле текстом русской литературы яв¬
ляется роман о депрессивном Илье Ильиче Обломове, русском Илье
Муромце, который тридцать лет и три года сидел на печи, но так и не
сумел встать с нее, так сказать, обломался.
Самое ценное, что Гончаров изображает генезис обломовского ха¬
рактера в самом раннем детстве героя, в знаменитом сне Обломова.
Прежде всего, здесь бросается в глаза ярко выраженная оральная
фиксация всех героев, населяющих Обломовку:
Но главной заботою была кухня и обед. Об обеде совещались це¬
лым домом; и престарелая тетка приглашалась к совету. Всякий
предлагал свое блюдо: кто суп с потрохами, кто лапшу или желу¬
док, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу. <...>
Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Об-
ломовке. Какие телята утучнялись там к годовым праздникам! Ка¬
кая птица воспитывалась! Сколько тонких соображений, сколько
знания и забот в ухаживании за нею! Индейки и цыплята, назна¬
чаемые к именинам и другим торжественным дням, откармлива¬
лись орехами; гусей лишали моциона, заставляли висеть в мешке
неподвижно за несколько дней до праздника, чтоб они заплыли
жиром. Какие запасы там были варений, солений, печений! Ка¬
кие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обло-
мовке! <...>
Обед и сон рождали неутомимую жажду. Жажда палит горло;
выпивается чашек по двенадцати чаю, но это не помогает: слышит¬
ся оханье, стенанье; прибегают к брусничной, к грушевой воде, к
квасу, а иные и к врачебному пособию, чтоб только вылить засуху
в горле.
Вторая, очень важная характеристика обломовского житья это ее
асемиотичность, природность и тотальное сопротивление всему ког¬
203
Вадим Руднев
Словарь безумия
нитивно-эпистемическому - обломовцы практически ничего не чита¬
ют, не выписывают газет, ничего не хотят знать о большом мире. Ав¬
тор ироничесчки обосновывает это положение вещей в качестве некой
«синтонной» идеологии.
Оттого и говорят, что прежде крепче был народ.... Да, в самом деле
крепче, прежде не торопились объяснять ребенку значения жизни
и приготовлять его к ней как к чему-то мудреному и не шуточно¬
му; не томили его над книгами, которые рождают в голове тьму
вопросов, в вопросы гложут ум и сердце и сокращают жизнь.
Характерен в этом плане эпизод с письмом, которое приходят в
Обломовку и которое несколько дней не решаются раскрыть, потом
читают настороженно всей семьей, потом решают, что надо бы на него
ответить, но после забывают об этом и так и не отвечают. Точно так же
относится выросший Обломов к знанию:
Серьезное чтение утомляло его. Мыслителям не удавалось расше¬
велить в нем жажду к умозрительным истинам.... Если давали ему
первый том, он по прочтении не просил второго, а приносили —
он медленно прочитывал.
Потом уж он не осиливал и первого тома...
Интересно, что Гончаров, вполне в духе идей Мелани Кляйн отме¬
чает важность младенческих впечатлений от окружающей жизни, фор¬
мирующей его жизненные стереотипы:
А кто знает, как рано начинается развитие умственного зерна в
детском мозгу? Как уследить за рождением в младенческой душе
первых понятий и впечатлений?
Может быть, когда дитя еще едва выговаривает слова, а может
быть, еще вовсе не выговаривало, даже не ходило, а только смот¬
рело на все тем пристальным немым взглядом, который взрослые
называют тупым, и уж видело и угадывало значение и связь явле¬
ний окружающей его сферы, да только не признавалось в этом ни
себе, ни другим.
Время в романе «Обломов», в частности, самим Обломовым пред¬
ставляется как время нарастания энтропии и распада (см. время и бе¬
зумие):
Но дни шли за днями, годы сменялись годами, пушок обратился
в жесткую бороду, лучи глаз сменились двумя тусклыми точками,
204
Обсессивный дискурс
О
талия округлилась, волосы стали немилосердно лезть, стукнуло
тридцать лет, а он и на шаг не подвинулся ни на каком поприще и
все еще стоял у порога своей арены, там же, где был десять лет
назад.
В своей исповеди Штольцу эту энтропийную картину Обломов
реализует в метафоре угасания.
Нет, жизнь моя началась с погасания; ... С первой минуты, когда
я осознал себя, я почувствовал, что я уже гасну. Начал гаснуть я над
писанием бумаг в канцелярии; гаснул потом, вычитывая в книгах
истины, с которыми не знал, что делать в жизни, гаснул с прияте¬
лями, слушая толки, сплетни, передразнивание, злую и холодную
болтовню, пустоту, глядя на дружбу, поддерживаемую сходками без
цели, без симпатии; гаснул и губил силы с Миной; платил ей боль¬
ше своего дохода и воображал, что люблю ее; гаснул в унылом и
ленивом хождении по Невскому проспекту ... гаснул и тратил по
мелочи жизнь и ум...
Чрезвычайно интересно, и то, что Гончаров (который сам был деп¬
рессивным человеком), явно почувствовал интроективные корни деп¬
рессии, что явствует из следующего фрагмента:
А между тем он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в
могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть, теперь уже
умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы, а давно бы пора
этому золоту быть ходячей монетой (курсив мой. - В. Р.)
Подобно другим героям депрессивно-реалистической русской про¬
зы — Онегину, Печорину, Бельтову, Гагину, Рудину, Базарову — Обло¬
мову не удалось через любовь к женщине преодолеть депрессию и ре¬
ализовать свои экзистенциальные возможности. Золото навсегда ос¬
талось в недрах горы.
ОбсеССИВНЫЙ ДИСКурС. (Для понимания данной статьи будет
лучше, если предварительно прочесть статью Обсессия и число.) Рас¬
смотрим особенности обсессивного дискурса на материале романа
Юрия Олеши «Зависть». В двух эпизодах этого текста, первый из ко¬
торых (начало романа) вводит главного героя, Андрея Бабичева, гла¬
зами его приживала Кавалерова, имеет место то, что можно назвать об-
сессивной проекцией. Бабичев глазами Кавалерова дается как гений
205
Вадим Руднев
Словарь безумия
числа, «управитель» нового мира, его «главный бухгалтер». Соответ¬
ственно первые 15 страниц романа, с самого начала и до изобретения
Бабичевым новой колбасы, переполнены числами:
В нем весу шесть пудов; Он спустился вниз (на углу магазин) и
притащил целую кучу: двести пятьдесят граммов ветчины ... четы¬
ре яблока, десяток яиц и мармелад «Персидский горошек»; Растет
его детище «Четвертак» - будет дом-гигант, величайшая столовая,
величайшая кухня. Обед из двух блюд будет стоить четвертак. ...
Тысячу кухонь можно считать покоренными. Кустарничанью,
восьмушкам, бутылочкам он положит конец; Он, как факир, пребы¬
вает в десяти местах одновременно; Товарищу Проскудину! Обер¬
тки конфет (12 образцов) сделайте соответственно покупателю;
Товарищу Фоминскому! прикажите, чтоб в каждую тарелку перво¬
го (и 50- и 70-копеечного обеда) клали кусок мяса; В девять часов
утра он приехал с картонажной фабрики. Приема ждало восемь че¬
ловек; В четыре двадцать он уехал на заседание в Высший Совет
Народного Хозяйства; Слушайте, Кавалеров! Мне будут звонить из
Хлебопродукта. Пусть позвонят два-семьдесят три-ноль пять, доба¬
вочный шестьдесят два', две недели тому назад он подобрал меня,
пьяного, у порога пивной; Тридцать пять копеек такая колбаса - вы
знаете, это даже невероятно.
Смысл нагромождения чисел двоякий. С одной стороны, он зна¬
менует мегаломанические проекты хозяина мира Андрея Бабичева,
понятые через обсессивную завесу сознания автора, который занима¬
ет амбивалентную позицию. С другой стороны, число оборачивается
своей негативной стороной, показывая несостоятельность (в том чис¬
ле, и сексуальную) Кавалерова. Так, огромная столовая будущего
(«Четвертак»), где любой обед стоит четвертак, во сне Кавалерова обо¬
рачивается мизерной суммой, которую ему предлагает проститутка.
Сексуальный подтекст здесь не случаен, поскольку колбаса помимо
всего прочего символизирует, конечно, и сексуальную мощь Андрея
Бабичева. Ср.:
Бабичев, получив в руки отрезок этой кишки, побагровел, даже
застыдился сперва, подобно жениху, увидевшему, как прекрасна
его молодая невеста и какое чарующее впечатление производит она
на гостей.
Однако Андрей Бабичев - это лишь всего Бог Отец, креатор и ста¬
билизатор нового мира. Истинный сексуальный герой и антагонист
206
Обсессивный дискурс
О
Кавалерова по борьбе за девушку Валю - Володя Макаров, вратарь
футбольной сборной. В футбольном эпизоде, где окончательно развен¬
чивается Кавалеров (см. также психоанализ футбола), - вновь нагне¬
тание чисел:
Двадцать тысяч зрителей переполнили стадион. Огромное количе¬
ство народа распирало стадион. Валя помещалась над ним, наи¬
скосок, метрах в двадцати. Группа немцев - одиннадцать человек -
сияла в зелени. Игра продолжается девяносто минут с коротким
перерывом на сорок пятой минуте. Володя схватывал мяч в таком
полете, когда это казалось математически невозможным; За де¬
сять минут до перерыва он вырвался к правому краю; Все тысячи
в эту минуту, насколько могли, одарили Кавалерова непрошеным
вниманием.
Заметим, что само увлечение игрой в футбол человеком обсессив-
но-компульсивного склада можно объяснить тем, что эта игра в очень
большой степени организуется идеей числа - количество игроков, два
тайма по 45 минут и, главное, конечно, счет забитых голов (страстное
увлечение футболом прослеживается по дневникам Олеши на протя¬
жении всей его жизни).
В рассматриваемом эпизоде нашу гипотезу подтверждает также и
то, что футбол аранжируется словами, связанными с магией и матема¬
тикой. Вновь имеет место обсессивная проекция автора на действия
Володи и Бабичева. Володя, сексуальный фаворит, ловит мяч, когда
это «математически невозможно», Андрей Бабичев, хозяин мира и
повелитель чисел, бросает мяч с трибуны и этим действием «магичес¬
ки расковывает поле».
Значительный вклад в формирование поэтики психотического
обсессивного дискурса русской литературы внесло творчество Дани¬
ила Ивановича Хармса. Как и другие обэриуты и чинари, а также их
предшественник Велимир Хлебников, Хармс чрезвычайно серьезно
относился к понятию числа. Он писал: «Числа — такая важная часть
природы! И рост и действие — все число. <...> Число и слово — наша
мать». Хармс написал несколько философских трактатов о числах:
«Измерение вещей», «Нуль и ноль», «Поднятие числа», «Одиннадцать
утверждений Даниила Ивановича Хармса» и другие. В прозе и поэзии
Хармса обсессивный дискурс строится либо при помощи нагромож¬
дении чисел, либо при помощи навязчивого повторения одной и то же
фразы, либо на том и другом вместе. Интересно, что Хармс с успехом
207
Вадим Руднев
Словарь безумия
применял психотический обсессивный дискурс в своих детских сти¬
хах, печатавшихся в журнале «Чиж». Это знаменитые тексты: «Иван
Топорыжкин пошел на охоту», «Сорок четыре веселых дрозда» и, ко¬
нечно, стихотворение «Миллион»:
Шел по улице отряд — / сорок мальчиков подряд: / раз, / два, / три,
/ четыре, / и четырежды четыре, / и четыре на четыре, / и еще по¬
том четыре...
К этому тексту комментатор стихов Хармса делает следующее при¬
мечание:
На рукописи Хармс сделал арифметические расчеты. Против пер¬
вой строфы: 4+16+16+4=40; против третьей: 4+16+56+4=80; про¬
тив пятой: 4+16+416+600+800 000=801 040.
В чем смысл «прививания» ребенку психотической реальности?
Примерно в это же время или чуть раньше Анна Фрейд писала, что
внушение маленьким детям отрицания реальности (составляющего,
согласно Фрейду, существо психоза — см. невроз и психоз) чрезвычай¬
но часто встречается в родительской практике, когда, например, ма¬
ленькому ребенку говорят: «Ну, ты стал совсем взрослый, такой же
большой и умный, как папа» [Фрейд Анна 1999]. Вообще навязчивое
повторение одной и той же фразы, что так любят дети, по-видимому,
играет в их жизни позитивную роль. Это связано, в частности, с фе¬
номеном «отсроченного управления»:
Тревога, возникшая в результате травмирующего события, в пос¬
ледующем регулируется настойчивым повторением изначальной
ситуации. Цель состоит во взятии эмоционального состояния под
контроль. Ребенок, засвидетельствующий напугавшее его событие,
в последующем неистово настаивает, чтобы отец описывал детали
сцены вновь и вновь. Таким образом, как представляется, он вов¬
лекает отца в процесс разрыва беспокоящей условной связи. По¬
вторение рассказа дает возможность ребенку пережить тревогу в
присутствии вселяющего уверенность взрослого. Каждое повторе¬
ние служит уменьшению степени тревоги, связанной с ситуацией,
пока необходимость в подобном управлении наконец не отпадает
[Блюм 1996: 117].
Некоторые тексты Хармса, построенные на навязчивом повторе¬
нии, ретардирующем становление сюжета, что напоминает разверты¬
208
Обсессивный дискурс
О
вание темы в музыкальном произведении, представляют собой несом¬
ненные художественные шедевры обсессивного дискурса. Напомним
такой текст:
Дорогой Никандр Андреевич,
получил твое письмо и сразу понял, что оно от тебя. Сначала по¬
думал, что оно вдруг не от тебя, но как только распечатал, сразу по¬
нял, что от тебя, а то, было, подумал, что оно не от тебя. Я рад, что
ты уже давно женился, потому что, когда человек женится на том,
на ком он хотел жениться, то значит, он добился того, чего хотел.
И вот я очень рад, что ты женился, потому что, когда человек же¬
нится на том, на ком он хотел, то, значит, он добился того, чего
хотел. Вчера я получил твое письмо и сразу подумал, что это пись¬
мо от тебя, но потом подумал, что кажется, что не от тебя, но рас¬
печатал и вижу — точно от тебя.
В чем смысл этого «задержанного становления»? Чтобы попытать¬
ся ответить на этот вопрос, вспомним еще один текст Хармса с навяз¬
чиво повторяемыми фразами. Это очень известный текст — «Пушкин
и Гоголь», сценка, где Пушкин все время спотыкается об Гоголя, а Го¬
голь об Пушкина. В этом тексте вообще никакого становления нет.
Время останавливается. Смысл этой временной остановки проясняет¬
ся, если вспомнить концепцию обсессии, принадлежащую В. фон Геб-
заттелю, который пишет, в частности, «о мизафобических расстрой¬
ствах как о результате «остановки течения внутреннего становления»,
когда «загрязнение» понимается через метафору «заболачивания» («как
в пруду, лишенном проточной воды») [Гебзаттель 2001]). То есть за¬
щитная функция обсессии состоит в том, что она останавливает (или
замедляет) время, то страшное для невротика и психотика энтропий¬
ное время реальности, в котором все пожирается, говоря словами Дер¬
жавина, «жерлом вечности», время распада и хаоса (см. время и безу¬
мие). В обычном непатологическом сознании энтропийное время,
переживание которого в той или иной степени все равно мучительно -
ведь любая жизнь заканчивается смертью, - ретардируется некими
приметами вечности, т.е. человек либо своими трудами, смысл кото¬
рых в увековечении его личности, старается повернуть время вспять,
в сторону исчерпания энтропии, либо эсхатологизирует время, т.е.
опять-таки предает ему некую осмысленность (так поступает религи¬
озное сознание). Обсессивное сознание этого не может, оно просто
останавливает время, зацикливает его в прямом смысле этого слова,
т.е. сгибает «стрелу времени» в круг, повторяющийся цикл. Ср. в мис¬
209
Вадим Руднев
Словарь безумия
терии другого обэриута Александра Введенского «Кругом возможно
Бог» ключевую и также несколько раз повторяющуюся фразу «Вбега¬
ет мертвый господин».
Наш краткий очерк поэтики обсессивного дискурса в русской ли¬
тературе нельзя закончить, не обратив внимание на творчество после¬
днего великого русского писателя XX века, который не только подвел
итог всей русской литературе большого стиля, но и в определенном
смысле — всей литературе Нового времени. Анально-садистический
компонент присутсвует в дискурсе Владимира Сорокина в квазинату-
ралистическом виде и, пожалуй, в большей степени, чем у какого-либо
другого писателя. Однако следует помнить, что дискурс Сорокин явля¬
ется лосшпсихотическим (см. психотический дискурс), т.е. его вектор
направлен не «прочь от реальности», к бредовому символическому язы¬
ку, как у писателя-психотика периода серьезного модернизма, как,
например, у Кафки или Платонова, а «прочь от затасканной литератур¬
ной реальности советской эпохи» к постмодернистскому языку, мате¬
риалом для которого служит не реальность, а этот самый вчерашний
язык советской литературы. Для Сорокина это, прежде всего, язык «ре¬
алистической» советской и — шире - вообще русской прозы.
Классические произведения Сорокина обычно строятся так, что их
поначалу бывает трудно отличить от реалистического дискурса сред¬
него советского писателя, однако в какой-то момент происходит нео¬
жиданное и резкое вторжение бреда, аранжированного при помощи
приема, который можно назвать гиперобсессией. Так, например, в
центре романа «Очередь», представляющего собой бесконечный поли¬
лог людей, стоящих в советской очереди неизвестно за чем, воспроиз¬
водится перекличка. Эта перекличка занимает в романе порядка 30
страниц:
Микляев! / Я! / Кораблева! / Здесь! / Викентьев! / Я! Золота¬
рев! / Я! / Буркина! / Здесь мы! / Кочетова! / Я! / Ласкаржевский! /
Я! / Бурмистрова! / Я!» и так далее.
В чем смысл этой пост-гиперобсессии? Деконструкция Сороки¬
ным соцреалистического дискурса состоит в гротескном подражании
ему, доводящим его основные параметры: пресловутый «реализм», ха¬
рактерную соцреалистическую сердечность и задушевность — до абсур¬
да. Одновременно эта деконструкция является и обсессивной защитой
от кошмара соцреалистической «реальности», которая преследовала
советского интеллигента из всех возможных тогда средств массовой
коммуникации и дестабилизировала его сознание при помощи всех
возможных бытовых речевых жанров: очередей, бань, парикмахерских,
210
Обсессия и культура
О
собраний, учительских, месткомов и т. п. Подобно тому, как в приве¬
денной выше цитате из книги Геральда Блюма, ребенок, чтобы избыть
травматическую ситуацию, навязчиво повторяет ключевую фразу из
травматической сцен, Сорокин повторяет фрагмент советского дис¬
курса, либо исковерканный до неузнаваемости, либо просто абсурд¬
но удлиненной до размеров «самой реальности», которой, как, впро¬
чем, он знает, вообще не существует за пределами языка.
В романе «Роман» Сорокин производит гораздо более сложную
художественную задачу деконструкции классического русского рома¬
на XIX века. Финал «Романа», построенного в целом на цитатах-общих
местах из классического русского романа толстовско-тургеневского
типа, заключается в том, что обезумевший главный герой романа Ро¬
ман в прямом и символическом смысле уничтожает этот симпатичный,
но насквозь литературный мир, а затем и себя самого. Сделано это
опять-таки при помощи гиперобсессии:
Роман сел на пол. Роман обнюхивал свои ноги. Роман стал на ко¬
лени. Роман засунул два пальца в задний проход. Роман обнюхи¬
вал пальцы. Роман плакал. Роман хлопал себя по щекам. Роман лег
на пол. Роман лизал пол. Роман полз по полу. Роман дергался.
Роман мастурбировал. Роман встал. Роман бил руками по члену.
Роман сел на пол. <...> Роман пошевелил. Роман дернулся. Роман
застонал. Роман пошевелил. Роман дернулся. Роман качнул. Роман
пошевелил. Роман застонал. Роман вздрогнул. Роман дернулся.
Роман пошевелил. Роман дернулся. Роман умер.
По-видимому, смысл пост-обсессивного дискурса Сорокина в про¬
тивопоставлении реалистического, приятного, дистиллированного,
«нормального» мира советской литературы (ср. нормальная жизнь)
фантастическому, страшному, безумному, агрессивному, анально-сади¬
стическому, но, по мнению автора, адекватному в художественном
смысле изображению постпсихотического постмодернистского мира.
ОбсеССИЯ И культура. (См. также обсессия и число, обсессивный
дискурс.) Зигмунд Фрейд связывал невроз навязчивых состояний с си¬
стемой табу, запретов, сопровождающихся ритуальными действиями
(он даже возводил к архаическим нормам табу систему придворного
этикета [Фрейд 1998: 64\), а также с магией (идея «всемогущества мыс¬
лей). Обобщая эти параллели, Фрейд в принципе называет обсессию
«карикатурой на религию» [Там же: 95[.
211
Вадим Руднев
Словарь безумия
Известно, что число в принципе играет огромную роль в архаичес¬
кой культуре. В обобщающей статье, посвященной этой проблеме,
В.Н. Топоров пишет следующее:
Роль числовых моделей в архаических культурах многими своими
чертами напоминала ту, которую играют математические теории в
развитии науки нового времени. Однако для числовых моделей в
архаических культурах характерна гораздо большая обнаженность,
подчеркнутость целевой установки, <...> это объясняется тем, что
архаичных традициях числа могли использоваться в ситуациях,
которым придавалось сакральное «космизирующее» значение. Тем
самым числа становились образом мира (цпа§о типсй) и отсюда -
средством его периодического восстановления в циклической схеме
развития, для преодоления деструктивных хаотических тенденций»
[Топоров 1980: 5] (курсив мой. - В.Р.).
Уже из приведенной цитаты ясно, что число в архаическом коллек¬
тивном сознании играло сходную роль с той, которое оно играет при
обсессии, а именно роль наложения дискретного космогонического
культурного кода, преодолевающего континуальный хаос изначально¬
го, довербального, хаотического мира (аналога понятия «Реального» у
Лакана). Отсюда следует, что прямым аналогом индивидуального об-
сессивного сознания является ритуально-мифологическое космогони¬
ческое сознание, которое играет также функцию невротической защи¬
ты от страха перед «желанием Другого» (в данном случае, конечно,
архаического божества).
Можно с большой вероятностью предположить, что праисточни-
ками обсессивного дискурса являются ритуально-мифологические
тексты, цель которых — изменить порядок в мире от хаоса к космосу,
от изначальной энтропии к наибольшей информации, т.е. ту же цель,
которую, как было предположено выше, преследует обсессия. Мы
приведем фрагмент древнеиндийского космогонического гимна, по¬
священного созданию богом первочеловека Пуруши (создание тела, по
ритуально-мифологической логике, отождествляется с созданием
мира - универсальный постулат об эквивалентности микро- и макро¬
косма (тот же самый вывод, был сделан нами на примере обсессивной
поэмы Маяковского «Облако в штанах»):
Из чего сделали Человеку
Обе лодыжки внизу, обе коленные чашечки вверху?
Разведя обе ноги, куда же приставили их?
А состав обоих колен: Кто же осмыслил это?
212
Обсессия и культура
О
Четырехчастный с приставленными
концами соединяется <...>
Кто просверлил семь отверстий в голове:
Оба уха, обе ноздри, оба глаза и рот? —
Благодаря величию победы которых во многих местах
Четвероногие, двуногие идут [своим путем] <...>
Восьмиколесная, девятивратная,
Неприступная крепость богов
Далее следует механическое повторение:
Благодаря кому покрыл он эту землю?
Благодаря кому объял он небо?
Благодаря кому следует он за Парджаньей?
Благодаря кому - за прозорливой сомой?
Благодаря кому — жертва и вера?
Благодаря кому в нем установлен разум?
[ Топоров 1993: 26-29].
В данном тексте налицо все признаки обсессивного дискурса —
скопление чисел, «педантическое» перечисление событий и навязчи¬
вое повторение одного и того же слова. Ясно также, что, поскольку
первотворение регулярно повторяется в ритуале, в ритуально-мифо-
логическом сознании имеет место темпоральная циклизация, останов¬
ка времени, направленная на борьбу с хаотическим энтропийным про¬
фанным временем тотального распада, который мыслится как распад-
разложение тела первочеловека, стабильность и целостность которого
и призван поддерживать ритуал.
Однако помимо универсального космогонического первотекста,
функциональная общность которого с обсессией как преодолением
коллективного невроза, кажется, не вызывает сомнения, в архаичес¬
ком сознании существует более частный «прием» и соответствующий
этому «приему» тип дискурса, направленный на изменение мира от
неблагоприятного хаотического состояния (например, болезни) к бла¬
гоприятному, более упорядоченному состоянию (например, к выздо¬
ровлению). Речь идет о заговорах и заклинаниях, цель которых как раз
и состоит в том, чтобы при помощи магии воздействовать на мир со¬
ответствующим образом. В этом смысле заговор и заклинание безус¬
ловно представляют собой разновидности обсессивного дискурса в
фольклорном сознании. Ср. следующие примеры:
213
Вадим Руднев
Словарь безумия
О мати, царица Соломин, наведи своих тридевять (т.е. 27. - В.Р.)
слуг и тридевять прислужников и тридевять верных рабов, и всех
своих двенадцать дочерей с пилами, с терпугами, с могучими и
сильными, большими молотками, и с вострыми великими булатны¬
ми мечами <...> и во все ея семьдесять жил, и во все ея семъдесять
составов, в ручное, в головное, в становое и в подколеночное...
Эти девять сильны против девяти ядов.
Змей заполз, убил он человека;
тогда Бодан взял девять веток славы,
так поразил он змея, что тот разбежался на девять [частей].
Это противостоит боли, поражает яд,
это сильно против тридцати трех,
против руки врага и внезапного приступа,
против колдовства мелкой нечисти.
Теперь эти девять трав сильны против девяти
убегающих от славы
[Топорова 1996:145].
К большинству текстов заговоров и заклинаний, как правило, при¬
лагается инструкция: повторить столько-то раз (как правило, 3, 9, 12,
27 и даже 729; о магии числа в заговорах подробно см. также [Топо¬
ров 1969, Лекомцева 1993]). При этом надо помнить, что произносит¬
ся заговор человеком, который приведен в особое измененное состо¬
яние сознания, которое близко к состоянию обсессивного невроза хотя
бы уже тем, что такой человек повторяет формулу заговора или за¬
клинания. При этом он прямо в соответствии с формулой Лакана «ста¬
вит себя на место Другого», на которого направлен заговор.
В христианской традиции на место заговора становится молитва,
для которой характерны, по меньшей мере, повторение и перечисле¬
ние. Такой феномен, как Иисусова молитва, или «молитва странника»,
представляет собой бесконечное количество раз повторяемую форму¬
лу «Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Очень силь¬
но как в формальном, так и в функциональном плане напоминает об-
сессию институт наложения епитимьи, когда человеку за некую про¬
винность предписывается большое число раз повторять одну и ту же
молитву или много раз переписать один и тот же фрагмент священно¬
го писания (ср. в советской садистической школьной практике: учи¬
тель заставляет многократно переписывать один и тот же текст конт¬
рольной работы или диктанта в качестве наказания за плохую успе¬
ваемость).
214
Обсессия и число
О
Культура как система навязанных людьми самим себе запретов не¬
сомненно в определенном смысле функционально представляет собой
огромную обсессию, особенно, если иметь в виду концепцию К. Леви-
Строса, понимавшего культуру как наложение дискретного измерения
на континуальную реальность, то именно так, как мы понимаем обсес¬
сию, как некую навязчивую упорядоченность, цель которой избавит¬
ся от страха перед хаосом «реального». В этом смысле ритуально-ми¬
фологический космогенез, строящий циклически повторяющееся вре¬
мя, сакрализующий природный астрономический цикл, превращая его
в аграрный цикл, а этот последний в культ умирающего и воскресаю¬
щего бога, из которого рождается современная христианская религия,
все это носит характер обсессивного макродискурса, обсессивной ис¬
торической драмы (термин Св. Августина).
ОбсеССИЯ И ЧИСЛО. Понятие обсессии, или невроза навязчивых
состояний, объединяет собой, по крайней мере, три идеи:
1. Собственно невроз навязчивых состояний (2тап§зпеиго8е), при
котором человек повторяет некоторые, самому ему непонятные фраг¬
менты речи или совершает как будто навязанные ему извне действия
для того, чтобы понизить тревогу (Ап§81), причиной которой является
вытесненное благодаря своей невозможности с точки зрения принци¬
па реальности, а затем замещенное, чаще всего, запретное сексуальное
желание. Наряду с истерией удачное лечение обсессивного невроза уже
в начале XX века принесло психоанализу огромную популярность.
Причина такого успеха заключалась в том, что обсессивный невроз был
ярким случаем невроза отношений (ведь сама психоаналитическая
практика подразумевает диалог между пациентом и аналитиком, т.е.
некое отношение): обсессивный невротик, отметая желание, ставит
себя тем самым на место желаемого объекта, Другого. Пользуясь тер¬
минологией Лакана, можно сказать, что
невротик навязчивых состояний - это человек, который ставит
себя на место другого, на то место, откуда можно действовать, не
рискуя встретиться со своим собственным желанием. Именно по
этой причине невротик изобретает ряд ритуалов, навязываемых
самому себе правил. Именно по этой причине принудительным
образом упорядочивает он свою жизнь. Такой человек постоянно
откладывает принятие решений, дабы избежать возможного рис¬
ка и неопределенности, связанной с желанием другого, с желани¬
215
Вадим Руднев
Словарь безумия
ем символического порядка, а также с желанием конкретного дру¬
гого, субъекта противоположного пола [Салецл 1999: 24].
2. Обсессивно-компульсивный, или анальный, характер (или пе¬
дантический, ананкастический характер). Фрейд связал этот тип ха¬
рактера с анальной фиксацией, т.е. с вытесненным и замещенным
после инфантильного периода детским стремлением к задерживанию
испражнений на анально-садистической стадии развития. Вот что
пишет Фрейд об этом характере:
Люди, которых я хотел бы описать, выделяются тем, что в их ха¬
рактере обнаруживается, как правило, присутствие следующих
трех черт: они очень аккуратны, бережливы и упрямы [Фрейд
1998а: 184\.
При этом, согласно Фрейду, аккуратность, боязнь загрязнения,
педантичность и добросовестность связаны с анальной сферой по кон¬
трасту, упрямство связано с инфантильным упрямством ребенка, не
желающего расстаться с фекалиями, которые он рассматривает как
нечто ценное, а страсть к деньгам (см. психология денег) опять-таки
связана с анальной сферой через идею отождествления кала с сокро¬
вищем - отсюда связь анального характера с деньгами и — шире - с
приобретательством и коллекционированием.
Первая черта обсессивных заключается в том, что, в сущности, вся
их жизнь строится на системе запретов или, выражаясь точнее, на
системе по преимуществу запретительных норм (см. модальности): не
касаться того или иного предмета, не выполнив предварительно неко¬
его бессмысленного ритуала, не идти по улице, пока не сложишь циф¬
ры на номере проезжающего автомобиля, возвращаться назад, если на¬
встречу идут с пустым ведром, и так далее. С этим же связаны такие
бытовые («в здоровой внимательно-тревожной жизни»[Дурно 1999:68\)
проявления обсессии, как плевки через левое плечо, постукивание по
дереву и даже «ритуал помахать в окно рукой близкому человеку на
прощание» [Там же]. Эту черту Фрейд закономерно связывал с систе¬
мой табу традициональных народностей.
Вторая обсессивная черта была названа Фрейдом «всемогуществом
мыслей». Фрейд описывал ее следующим образом:
Название «всемогущество мыслей» я позаимствовал у высокоин¬
теллигентного, страдающего навязчивыми представлениями боль¬
216
Обсессия и число
О
ного, который, выздоровев благодаря психоаналитическому лече¬
нию, получил возможность доказать свои способности и свой ум.
Он избрал это слово для обозначения всех тех странных и жутких
процессов, которые мучили его, как и всех, страдающих такой же
болезнью. Стоило ему подумать о ком-нибудь, как он встречал уже
это лицо, как будто вызвал его заклинанием; стоило ему внезапно
справиться о том, как поживает какой-нибудь знакомый, которо¬
го он давно не видел, как ему приходилось услышать, что тот
умер... [Фрейд 1998: 107\.
Фрейд связывает явление «всемогущества мыслей» при обсессии
с архаической магией, при которой сама мысль или соприкосновение
с каким-либо предметом вызывает, например, смерть человека, на
которого направлено магическое действие.
3. Навязчивое повторение — феномен, выделенный Фрейдом в
работе «По ту сторону принципа удовольствия», - заключается в том,
что субъект в процессе психоаналитического сеттинга, вместо того
чтобы вспомнить реальную травму, повторяет ее, разыгрывая это по¬
вторение перед аналитиком (т.е. идея навязчивого повторения тесно
связана с идеей переноса, что опять-таки понятно, поскольку сама
идея навязчивости реализуется только в виде отношения к Другому,
см. выше). Для навязчивого повторения, по Фрейду, характерно так¬
же то, что повторяются отнюдь не самые приятные события жизни
субъекта, т.е. навязчивое повторение не следует принципу удоволь¬
ствия и поэтому тесно связано с идеей «возвращения к прежнему со¬
стоянию», т.е. оно является одной из манифестаций влечения к смерти
[Фрейд 1990Ъ).
Исходя из фундаментального принципа структурного психоанали¬
за Лакана, в соответствии с которым любое патопсихологическое со¬
держание проявляется прежде всего в речи пациента [Лакан 1994],
можно предположить, что обсессивность, понимаемая по преимуще¬
ству как обсессивная речь (или — более широко — как обсессивное
речевое действие), имеет определенные устойчивые особенности. Так,
по мнению Лакана,
обсессивная речь всегда подразумевает значение, которое отчаян¬
но стремится прикрыть желание; иначе говоря, невротик с навяз¬
чивыми состояниями говорит и думает на принудительный манер
ради того, чтобы избежать встречи с собственным желанием [Са-
лецл 1999: 26].
217
Вадим Руднев
Словарь безумия
Сравним три фрагмента:
(1)
Расходы после смерти на похороны
Катерины 27 флор.
2 фунта воска 18 — « —
катафалк 12 — « —
За вынос тела и постановку креста 4 - « -
4 священникам и 4 клеркам 20 — « —
колокольный звон 2 — « —
могильщикам 16 — « —
за разрешение, властям 1 — « —
Сумма 100 флор.
Прежние расходы:
доктору 4 флор.
сахар и 12 свечей 12 — « —16 — « —
Итого 116 флор.
(2)
1. 8.15 Воскресенье... купался 3-ий раз. Папа, Эрнст и я купа¬
лись после катания на лодке 4-ый раз. Гебхард слишком разог¬
релся..
2. 8.15 Понедельник... вечером купался 5-й раз...
3. VIII. Вторник... купался 6-ой раз...
6. VIII. Пятница... купался 7-ой раз... купался 8-ой раз...
7. VIII. Суббота... до обеда купался 9-й раз...
8. VIII. ...купался 10-ый раз...
9. VIII. До обеда купался 11 -ый раз, после этого купался 12-ый
раз...
12. VIII. Играл, потом купался 13-й раз...
13. VIII. Играл, потом купался 14-ый раз...
16. VIII. Затем купался 15-ый и последний раз»
(3)
В день двенадцатилетия революции я задаю себе вопрос о
себе самом. <... >
Мне тридцать лет. Когда произошла революция, мне было
восемнадцатью <...>
Сорок лет чужой судьбы - как это много!
218
Обсессия и число
О
Сколько лет Достоевскому? вот он сидит на портрете, по¬
кручивая хвостик бороды, плешивый, с морщинами, похожи¬
ми на спицы, - сидит во мраке минувшей судьбы как в нише.
Сколько лет этому старику?
Под портретом написано, в каком году запечатлен, высчи¬
тываю — выходит, старику сорок лет.
Какой емкий срок, какая глубокая старость — сорок лет До¬
стоевского!
Между тем, мне только девять осталось до сорока. Тридцать
один собственный год — как это мало.
Все три фрагмента взяты из дневниковых записей, т.е. того типа
дискурса, который наиболее непосредственно отражает душевную
жизнь автора этих записей. Первый фрагмент взят из книги 3. Фрейда
«Леонардо да Винчи: Воспоминания детства» [Фрейд 1998Ъ: 252]. Запись
представляет собой финансовый отчет Леонардо о похоронах матери.
Обсессивный педантизм и скупость, как полагает Фрейд, скрывают в
данном случае вытесненное инцестуальное желание Леонардо по отно¬
шению к матери. В той же книге Фрейд приводит финансовые выклад¬
ки, которые Леонардо делает применительно к расходам на любимых
учеников, что, по мнению Фрейда, явилось замещением вытесненных
гомосексуальных наклонностей великого художника.
Второй фрагмент представляет собой отрывок из подросткового
дневника будущего рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Гиммлер, со¬
гласно Эриху Фромму, из книги которого взят это фрагмент [Фромм
1998:399], представляет собой злокачественный анально-садистичес¬
кий характер, своими рекордами как в купании, так и в массовых
убийствах, прикрывавший свой комплекс неполноценности. «Он вел
свой дневник, - пишет Фромм, - так, как однажды велел делать отец,
и чувствовал угрызения совести, если хоть день пропускал» [Там же:
400].
Этот принцип «ни дня без строчки» был, как известно, характерен
и для автора третьего фрагмента, русского писателя Юрия Карловича
Олеши. Во всяком случае, именно так В. Б. Шкловский назвал книгу
дневников Олеши, которая публиковалась под этим названием через
несколько лет после смерти автора, действительно любившего это ла¬
тинское изречение («Ми11а сйез $те Нпеа»),
В приведенном выше фрагменте страх перед старостью, характер¬
ный для обсессивно-компульсивных, который можно представить как
вытеснение желания быть молодым, противоречащего принципу реаль¬
ности, обсессивно аранжируется в виде сопоставлений возрастов раз¬
219
Вадим Руднев
Словарь безумия
личных людей и событий. Эти особенности характерны для дневников
Олеши в целом: он либо постоянно сравнивает свой возраст с возрас¬
тами других людей или событий по принципу «Когда такому-то было
столько-то (или когда в таком-то году произошло то-то), мне было
столько-то», либо просто навязчиво повторяет фразу «Я родился в 1899
году». Итак, один из величайших гениев Европы, отвратительный зло¬
дей и тончайший прозаик, творец удивительных метафор. Что общего
мы находим во всех трех фрагментах? Беглого взгляда достаточно, что¬
бы видеть: судя по приведенным фрагментам, обсессивный дискурс
организуется в первую очередь числом и перечислением. Можно ли ска¬
зать, что в этом есть нечто неожиданное? И да, и нет. С одной сторо¬
ны, идея многократного повторения, организующая любую обсессию,
связь с магией, о которой писал Фрейд, идея денег и накопительства,
ведущая к анальной фиксации, и, наконец, тот факт, что многие навяз¬
чивости связаны с числом напрямую, т.е. либо строятся на повторении
определенного числа, либо на счете. Так, например, в работе П.В. Вол¬
кова описывается обсессия, строящаяся на числе 3 и представлении,
что Бог представляет собой педантичного бухгалтера, подсчитывающе¬
го хорошие и дурные поступки человека [Волков 1992]. Часто приводят¬
ся примеры обсессий, при которых человек складывает автомобильные
номера. Часто обсессивно-компульсивный невротик просто считает
вслух. Чрезвычайно важной обсессивной особенность является коллек¬
ционирование, что тоже достаточно ясно связано с идеей числа.
Вообще обсессивное сознание все время что-то считает, собствен¬
но, все подряд: количество прочитанных страниц в книге, количество
птиц на проводах, пассажиров в полупустом вагоне метро, автомоби¬
лей по мере продвижения по улице, сколько человек пришло на док¬
лад и сколько статей опубликовано, сколько дней осталось до весны
и сколько лет до пенсии.
С другой стороны, как будто существуют обсессии, которые, на
первый взгляд, никак не связаны с идеей числа, например, так назы¬
ваемые обсессии «злодейского содержания», когда человек чувствует
непреодолимое желание кого-то ударить или даже убить. Но и здесь
налицо действие, которое обязательно должно повторяться большое
число раз. Обсессия не происходит однажды или эпизодически, она
должна повторяться регулярно.
М.Е. Бурно в одной из своих ранних работ, посвященной клини¬
ческому описанию больного с огромным количеством симптомов и в
том числе обсессией «зловещего содержания», приводит характерный
эпизод. Когда однажды к этому больному в палату пришел врач, боль¬
ной почувствовал непреодолимое желание ударить врача. Тогда он
220
Отец — Имя Отца
О
выбежал из палаты в коридор, подбежал к телефону и начал судорож¬
но набирать первый попавшийся номер и только после этого успоко¬
ился [Бурно 1981].
Число дает иллюзию управления страхом, возникающим вслед¬
ствие невротического подавления желания. Обсессивное повторение
вытесняет, «заговаривает» страх. Страх, тревога, представляют собой
нечто аморфно-континуальное, можно даже сказать - энтропийное.
Многократное повторение, наиболее фундаментальной экспликаци¬
ей которого является число, накладывает на эту континуальную амор¬
фность некую дискретную определенность, исчерпывает болезненную
энтропию некой, пусть невротически организованной, информацией,
причем информацией в точном, формально-математическом, бессо¬
держательном значении этого слова, той безликой цифровой компь¬
ютерной информацией, которая измеряется количеством битов.
Отец — ИМЯ Отца. Мы можем сопоставить невротический пси¬
хоанализ Зигмунда Фрейда и психотический психоанализ Жака Лака¬
на (ср. невроз и психоз). Поиски утраченного желания - постоянный
лейтмотив произведений Фрейда. Фрейд — это, так сказать, психоана¬
литический Пруст. Лакан же — психоаналитический Кафка. К нему так
же, как и к Кафке, бессмысленно предъявлять претензии в том, что
«ничего не понятно». Можно лишь попытаться научиться говорить на
его языке, т.е. самому сделаться психотиком (распространенный прием
в психотерапии — принять на время бред психотика и следовать ему, а
затем попытаться подорвать его изнутри)
Кажущаяся неожиданной близость Лакана и Кафки прояснится,
если мы посмотрим, как понимал Лакан сущность психоза не с точки
зрения означающего, а с точки зрения означаемого, т.е., попросту го¬
воря (хотя меньше всего к Лакану подходит именно это выражение),
отчего, по мнению Лакана, человек впадает в психоз. В статье «О воп¬
росе, предваряющем любой возможный подход к лечению психоза»
Лакан пишет:
Для возникновения психоза необходимо, чтобы исключенное
(уепгоЛеп), т. е. никогда не приходившее в место Другого, Имя
Отца было призвано в это место для символического противосто¬
яния субъекту.
Именно отсутствие в этом месте Имени Отца, образуя в озна¬
чаемом пустоту, и вызывает цепную реакцию перестройки означа¬
221
Вадим Руднев
Словарь безумия
ющего, вызывающую, в свою очередь, лавинообразную катастро¬
фу в сфере воображаемого — катастрофу, которая продолжается до
тех пор, пока не будет достигнут уровень, где означаемое и озна¬
чающее уравновесят друг друга в найденной бредом метафоре.
Но каким образом может субъект призвать Имя Отца в то един¬
ственное место, откуда Оно могло явиться ему и где его никогда не
было? Только с помощью реального отца, но необязательно отца
этого субъекта, а скорее Не(коего) отца» [Лакан 1997: 126-127].
Давайте попробуем понять, что означает «Имя отца». В так назы¬
ваемом «Римском докладе» Лакан говорит следующее:
Именно в имени отца следует видеть носителя символической фун¬
кции, которая уже на заре человеческой истории идентифицирует
его лицо с образом закона [Лакан 1995: 48].
Имя Отца, по-видимому, это нечто вроде Тотема, первого и глав¬
ного слова языка, т.е. Бога («Вначале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог»). Почему же не просто Отец с большой буквы, а
Имя Отца? Потому что имя это и есть слово, символическое, суть Бога,
Бога-Отца, того, к кому обращены слова «Да святится Имя Твое».
Если попытаться объяснить, каким образом Имя Отца связано с
возникновением психоза, то, вероятно, можно сказать так. Посколь¬
ку Имя Отца это символическая первооснова бытия, а при психозе
страдает именно Символическое, то для возникновения психоза необ¬
ходимо, чтобы у человека что-то не ладилось с Отцом, ну, например,
он был атеистом и никогда не думал о Боге, т.е., как говорит Лакан,
«Имя Отца было исключено из места Другого». И вот, реагируя на ка¬
кую-то травму, субъект вдруг призывает Имя Отца, например, начи¬
нает веровать в Бога, но поскольку он, мягко говоря, нездоров, или в
терминах Лакана, в его сознании происходит «цепная реакция в сфе¬
ре означающих», т.е. все жизненные смыслы, установки и ценности
путаются, то Имя Отца является в форме бреда, как символическая
основа этого бреда. Ну, например, когда пушкинского Евгения пресле¬
дует Медный всадник, то это как раз Имя Отца, но только в варианте
бреда преследования. Возможно присвоение Имени отца — тогда это
будет мегаломания, как у Поприщина, который апроприировал себе
звание испанского короля (см. бред величия). А может быть и гораздо
более обыденный вариант, например, психоз девушки, не знавшей по
той или иной причине в детстве отцовской ласки, который вырастает
на почве нераздельной любви к двоюродному дяде. Лакан сам пишет
в связи с этим следующее:
222
Отец — Имя Отца
О
Для женщины, которая только что родила, это будет супруг, для
кающейся в грехе — духовник, для влюбленной девушки — «отец
молодого человека», но так или иначе эта фигура возникает всегда,
и найти ее легче всего, воспользовавшись путеводной нитью рома¬
нических «ситуаций» [Лакан 1997: 127\.
Что ж, давайте воспользуемся путеводной нитью романических
«ситуаций». Прежде всего, то, о чем пишет Лакан, конечно, если мы
хоть в какой-то степени адекватно его понимаем, поразительным об¬
разом похоже на ситуацию главного литературного психотика XX века
Франца Кафки.
Как мы знаем, у Кафки были ужасные отношения с отцом, отец
его всячески третировал и обижал. Это отразил Кафка в таких произ¬
ведениях, как «Приговор», «Превращение», «Процесс» и «Замок», т.е.
в самых главных своих произведениях. В «Процессе» Имя Отца это
безликий Закон, действующий через своих посредников, например,
священника — ср. с фигурой духовника, которая упоминается у Лака¬
на; в «Замке» Отец-Закон воплощается в самой идее приобщения к
«таинству Замка»; отвергнутый у себя на родине землемер К. психо-
тически старается заполнить пустующую инстанцию Другого этим
желанным ему бюрократическим механизмом. Напомним, что в «При¬
говоре» кульминация заключается в том, что немощный отец кричит
сыну: «Я приговариваю тебя к казни водой» и сын тут же бежит то¬
питься. Здесь имеет место то, что мы назвали немотивированной ги-
персупешностью речевого акта и что служит яркой особенностью пси¬
хотического языка Кафки. Но самое поразительное - это знаменитое
письмо Кафки к отцу, где уже он сам, Франц Кафка, проделывает
сложнейшую психологическую работу, он взывает к реальному, нена¬
видящему и отчасти столь же ненавистному отцу именно как к лака-
новской субстанции Имени Отца, т.е. как к Высшему Закону, как Бо¬
жеству, и в прениях с ним, подобно библейскому Иову (уникальный
древний образец психотического дискурса, где человек взыскует Име¬
ни Отца-Бога), и вызывает его в пустующее символическое место Дру¬
гого, на которое никто другой попасть не может. Безграничная власть
Имени Отца играла столь огромную роль в жизни Кафки, что даже
когда реально отец не мог отравлять жизнь биографическому Кафке,
на уровне Символического Его Имя продолжало играть свою психо¬
зопорождающую роль. Вот как пишет об этом Кафка в «Письме отцу»:
Хочу попробовать объяснить подробнее: когда я предпринимаю
попытку жениться, две противоположности в моем отношении к
Тебе проявляются столь сильно, как никогда прежде. Женитьба, не-
223
Вадим Руднев
Словарь безумия
сомненно, залог решительного самоосвобождения и независимо¬
сти. У меня появилась бы семья, т.е., по моему представлению, са¬
мое большее, чего только можно достигнуть, значит, и самое боль¬
шее из того, чего достиг Ты, я стал бы Тебе равен, весь мой прежний
и вечно новый позор, вся Твоя тирания просто ушли бы в прошлое.
Это было бы сказочно, но потому-то и сомнительно. Слишком уж
это много - так много достигнуть нельзя. Вообразим, что человек
попал в тюрьму и решил бежать, что само по себе, вероятно, осу¬
ществимо, но он намеревается одновременно перестроить тюрьму
в увеселительный замок. Однако, сбежав, он не сможет перестраи¬
вать, а перестраивая, не сможет бежать. Если при существующих
между нами злосчастных отношениях я хочу стать самостоятель¬
ным, то должен сделать что-то, по возможности не имеющее ника¬
кой связи с Тобой; женитьба, хотя и есть самое важное в этом смыс¬
ле и дает почтеннейшую самостоятельность, вместе с тем неразрыв¬
но связана с Тобой. Поэтому желание найти здесь выход смахивает
на безумие, и всякая попытка почти безумием же и наказывается.
В конце абзаца Кафка говорит все почти открытым текстом, по¬
чти по Лакану. Неудовлетворенное желание, т.е. область невротичес¬
кого (Кафка после двух попыток так и не женился), чтобы не стать
безумием, выходит через область психотического, через символичес¬
кое обращение к Имени Отца (письмо отцу, как известно, не было
отправлено).
В заключении разговора о связке Лакан-Кафка заметим, что у са¬
мого Лакана были проблемы с отцом, который, по свидетельству био¬
графа, почти не занимался воспитанием сына, а все тяготы по его
выращиванию взял на себя дед Лакана Эмиль [ КоисИпеасо 1992]. Мы
уже не говорим ни о деспотичном отце Витгенштейна, доведшем трех
его братьев до самоубийства, ни об отце лакановского приятеля Саль¬
вадора Дали, который расправился со своим отцом в своем «Дневни¬
ке одного гения» [Дали 1991].
Поскольку нельзя объять необъятное, мы минуем такие знамени¬
тые психотические дискурсы, связанные с манипуляциями с Именем
отца, как «Братья Карамазовы», «Петербург», «Потец» Введенского,
всю эдипальную проблематику в культуре XX века, но обратим вни¬
мание лишь на один из наиболее удивительных во всех отношениях
дискурсов, рассказ Сорокина «Обелиск». Этот рассказ посвящен тому,
что старушка-мать и несколько странноватая дочь на братской моги¬
ле, где похоронен погибший на войне отец, утраивают жуткий ритуал
взывания к мертвому отцу, смыслом, которого, как постепенно выяс-
224
Отец — Имя Отца
О
няется, является своеобразный рапорт о неукоснительном исполнении
завета, который дал отец, уходя на фронт. Завет же этот заключался в
том, чтобы мать должна была делать «отжатие говн своих», а дочь этот
«сок» пить, кроме того (это выясняется чуть позднее), перед уходом на
фронт отец зашил дочери гениталии. Этот ритуал, исполняемый на
символическом психотическом языке, с употреблением виртуозных
обсценных выражений, повторяется каждый год, после чего мать с
дочерью спокойно садятся в автобус, уезжают к себе в деревню и жи¬
вут там своей жизнью.
Пример этот, кажется, не нуждается в комментарии, но мы еще не
закончили с Именем Отца. Вспомним, что русский футуризм прохо¬
дил под лозунгом свержения Отца русской поэзии — формула «Сбро¬
сим Пушкина с корабля современности». Это было осквернением свя¬
тыни с тем, чтобы потом ретроактивно воззвать к ней. Маяковский в
поздние годы утверждал, что все время про себя твердит пушкинские
строки «Я утром должен быть уверен, Что с вами днем увижусь я».
Наконец (не пора ли покончить с Именем Отца?) вся «классичес¬
кая» советская действительность 1930—1980-х годов проходит в режи¬
ме отторжения от реального отца и психотического поклонения Име¬
ни Отца, роль которого играют Ленин и Сталин (по-видимому, в этом
состоит психотическая специфика любого развитого тоталитаризма).
Культ Сталина и Ленина в их «единосущности» («Сталин - это Ленин
сегодня») не мог рикошетом не порождать враждебности рядового
советского гражданина к собственному отцу, потенциальному врагу
народа. Родной отец воспринимался не как отец, а, скорее, как отчим.
<...> Для чего нужен отец, если есть Сталин? - думал (или мог думать)
советский ребенок. Действительность не давала ему никакого ответа,
кроме того, что он был прав и что этот квази-отец действительно ни-
зачем не нужен, что от него один вред. Ведь есть настоящий Отец —
Сталин, и этого вполне достаточно для того, чтобы быть счастливым.
А если так, то в лагерь ложного отца! Вот одно из объяснений того, что
так легко было расправиться с отцами в 1930-е годы.
Советские люди и их вождь постоянно жили в ножницах двух про¬
тивоположных маний - преследования и величия. С одной стороны,
кругом шпионы, враги народа, врачи-убийцы, с другой, советский
народ — самый счастливый в мире, советская страна — самая большая
и богатая, а Сталин - самый мудрый и добрый. Это была психотичес¬
кая реальность (на чередование бреда преследования и бреда величия как
закономерное проявление психоза указывает, автор одного из самых
знаменитых в XX веке руководств по психиатрии Эуген Блейлер [Блей-
лер 1993]).
8-11117
п
Паранойя. Паранойяльный бред занимает промежуточное положе¬
ние между большим психозом типа шизофрении и классическим невро¬
зом вроде обсессии. С одной стороны, паранойяльный бред — это на¬
стоящий бред, т.е. такое положение вещей в сознании, когда картина
мира, которую это сознание продуцирует, фундаментально не соответ¬
ствует картине мира того социума, в котором он находится (говоря на
языке традиционной психиатрии, это «неправильное, ложное мышле¬
ние»), С другой стороны, главной чертой паранойяльного бреда, отде¬
ляющего его практически от всех остальных видов бреда, заключает¬
ся в том, что бредовой (неправильной, ложной) в нем является толь¬
ко основная идея, посылка. Остальное содержание бреда,
выводящееся из этой посылки, обычно в этом случае бывает вполне
логичным и даже подчеркнуто логичным (поэтому паранойяльный
бред называют систематизированным и интерпретативным) и, как го¬
ворят психиатры, «психологически понятным».
Так, например, при паранойяльном бреде ревности ложной явля¬
ется главная посылка больного, что жена ему постоянно и системати¬
чески изменяет чуть ли не со всеми и подряд. Все остальное в поведе¬
нии больного - слежка за женой, проверка ее вещей, белья, гениталий,
устраивание допросов и даже пыток с тем, чтобы она призналась (под¬
робно см. [ Терентьев 1991]), — все это логически вытекает из посылки.
То есть поведение параноика хотя и странно, но оно логически не чуж¬
до здоровому мышлению в отличие, скажем, от поведения шизофрени¬
ка, который может утверждать, что он является одновременно папой
римским и графом Монте-Кристо, что его преследуют инопланетяне,
которые при помощи лучей неведомой природы вкладывают ему свои
мысли в мозг. Паранойяльный бред тем отличается от шизофреничес¬
кого, что в нем нет экстраекции и экстраективной идентификации (см.
галлюцинации, бред величия), т.е. у бредящего параноика не бывает гал¬
люцинаций и он не отождествляет себя с другим людьми. Если же это
начинает происходить, то это означает, что перед нами была параной¬
яльная стадия шизофренического психоза, и теперь она переходит в
параноидную стадию, для которой характерна экстраекция.
Этот феномен интересен тем, что он очерчивает границы, отделя¬
ющие психоз от не-психоза и подчеркивающие сущность психоза.
Основное отличие параноика от шизофреника заключается в том, что
226
Паранойя
П
параноик разделяет одну и ту же фундаментальную картину мира со
здоровыми людьми, не сходясь с ними только в одном пункте, кото¬
рый составляет главную мысль бреда, например, измена жены или тот
факт, что евреи добиваются мирового господства. Но, сохраняя фун¬
даментально общую картину мира со здоровыми людьми, параноик
заостряет, акцентуирует ее черты.
Паранойяльное сознание интересно тем, что оно предельно заос¬
тряет, карикатуризирует семиотичность мира здоровых людей. По на¬
шему мнению, специфическая гротескная семиотичность является
главной отличительной чертой паранойи. Ср.:
Параноидный человек по-своему интерпретирует картину мира, но
он очень точен в деталях. Свои предубеждения и интерпретации он
накладывает на факты. Его интересует не видимый мир, а то, что
за ним скрыто, и в видимом мире он ищет к этому ключи. Его ин¬
тересуют скрытые мотивы, тайные дели, особое значение и т. п. Он
не спорит с обычными людьми о фактах; он спорит о значении
фактов [Шапиро 2000: 58\.
Практически во всех проявлениях окружающей жизни параноик-
мономан видит знаки того, что имеет отношение к его бреду. В случае
бреда отношения все или подавляющее большинство элементов дей¬
ствительности вокруг больного воспринимаются как знаки того, что
все думают о нем и все свидетельствуют о нем. При бреде ревности
практически все в поведении жены (или мужа) являются знаками того,
что она (он) изменяет. При эротомании, напротив, все в поведении
объекта является знаковыми свидетельствами того, что он влюблен в
субъекта (отсюда такие характерные для параноиков выражения, как
красноречивый взгляд, многозначительная улыбка, прозрачный жест, не
оставляющий ни какого сомнения кивок головой, слишком понятное за¬
мешательство и т. п.)
Приведем известные клинические примеры, свидетельствующие о
повышенно-знаковом восприятии мира при паранойяльном бреде.
Первый пример из Э. Блейлера — бред отношения:
В начале болезни пациентки пастор сказал в проповеди: «Со дня
Нового года у меня не выходит из головы: паши новь, не сей меж¬
ду терниями». Вскоре после этого по улицам носили в виде масле¬
ничной шутки изображение прыгающей свиньи с надписью: «Вы¬
ступление знаменитой наездницы мадам Дорн» (Пот — по-немец¬
ки — терний). Тогда пациентке стало ясно, что люди поняли намеки
пастора. Свинья - намек на то, что больная была «непорядочной».
227
Вадим Руднев
Словарь безумия
Надзиратель отделения входит, насвистывая, в канцелярию.
Бредовая идея: директор больницы хочет отстранить ее от работы;
люди знают об этом и уже радуются этому.
Какой-то неизвестный человек идет по направлению к дому и
зевает. Он хотел дать ей понять, что она лентяйничает и должна
быть отстранена от работы.
Когда она была еще у себя дома, она прочла в одной газете,
что в Базеле какая-то девушка упала с лестницы. Бредовая идея:
журналист хочет дать ей понять, что, находясь на прежней служ¬
бе, она недостаточно хорошо вытирала пыль с лестницы [Блейлер
2001: 103].
Второй пример из книги К. Ясперса «Стриндберг и Ван Гог» — бред
ревности Стриндберга по его «Исповеди глупца»:
Мария оправляет свои юбки (бредовая интерпретация: чтобы по¬
нравиться мужчинам. - В.Р.), болтает с принужденным выражени¬
ем лица, украдкой поправляет прическу. У нее вид кокотки; ее сла¬
дострастие в интимных отношениях снижается. В выражении ее
лица появляются «незнакомые отблески», она проявляет холод¬
ность по отношению к супругу. Он видит в ее лице выражение ди¬
кой чувственности.
Отправившись в какую-то поездку со Стриндбергом, она ни¬
чем не интересуется, ничего не слушает... Она, кажется, о чем-то
тоскует, не о любовнике ли? ... Когда он спрашивает ее по поводу
сомнительного массажа, который делает врач, ее лицо бледнеет.
«На ее губах застывает бесстыжая улыбка». Осенью она говорит об
одном незнакомце «красивый мужчина»; тот, по-видимому, про¬
знав об этом, знакомится с ней и ведет с ней оживленные беседы.
За табльдотом она обменивается с одним лейтенантом «нежными
взглядами». Если Стриндберг отправляется наводить справки, она
ожидает его «со страхом, который слишком понятен». <...> Что бы
женщина не сделала, это все равно вызовет подозрения, она вооб¬
ще едва ли может вести себя так, чтобы что-то не бросилось в гла¬
за [Ясперс 1999: 36—37].
Следующий клинический пример (также бреда ревности) - из со¬
временной монографии:
...стоит жене сходить в магазин, как он обвиняет ее в том, что она
имела за столь короткое время сношения с несколькими мужчина¬
ми. Дома замечает признаки посещения жены мужчинами (не так
228
Паранойя
П
лежат спички, сигареты). Следит за ней, прячась возле проходной
предприятия, где она работает; проверяет ее белье, осматривает
тело, половые органы, когда жена моется, обвиняет ее в том, что
она «замывает следы». Не выпускает жену ни на шаг из квартиры,
ревнует ее буквально ко всем мужчинам. <....>
«Вспоминал», что жена была беременна от другого парня, с ко¬
торым встречалась до замужества, находил уши у детей такими же,
как у того парня [Терентьев 1991: 162].
В своем поведении параноик, особенно патологический ревнивец,
уподобляется детективу - он следит за женой, устраивает ей допросы,
ведет протокол следствия, т.е. играет в «языковую игру» повышенной
степени семиотичности. Фактически мир для этого человека представ¬
ляет собой послание, адресованное ему одному. Причем смысл этого
послания уже заранее ему известен. Все свидетельствует об одном и
том же.
Когда параноик читает газету или слушает радио и вычитывает и
выслушивает там что-то о себе и когда шизофреник делает то же са¬
мое, разница в том, что параноик читает реальные знаки, но прочи¬
тывает все в своем духе. Для параноидного шизофреника реальный
источник информации это только повод, «пенетративный» канал
связи [Сосланд 2001]. Он может быть и реальным, и галлюцинатор¬
ным.
Паранойяльный бред интересен тем, что здесь, может быть, в пос¬
ледний раз, больной еще пытается говорить на языке, общем для него
и мира. С параноиком уже нельзя спорить о том, действительно ли
значит что-либо данный ему знак или нет, но, во всяком случае, по¬
нятным является, на какой элемент реальности он указывает: на улыб¬
ки, пятна на белье, многозначительные взгляды - формально-фено¬
менологически они действительно существуют в реальности для дру¬
гого лица.
Паранойя стоит где-то рядом с обсессией. Попробуем понять их
различие, рассмотрев случай, в котором имеет место и то и другое. Это
случай из книги Э. Блейлера «Аффективность, внушение, паранойя»,
где рассказывается о переплетчике, который был протестантом, но
женился на католичке, не посоветовавшись со своим пастором. Пос¬
ле этого у него начался бред отношения. Он думал, что все смотрят на
него и осуждают за недостаточное уважение к окружающим. Тогда он
стал со всеми подчеркнуто вежливым. Он стал отдавать поклоны. Он
кланялся всем подряд на улице. Утром он вставал, кланялся своей жене
и говорил ей: «Здравствуйте, мадам Мейер!» В больнице он все время
229
Вадим Руднев
Словарь безумия
кланялся и извинялся. В то же самое время, как подчеркивает Блей-
лер, он сам осознавал бессмысленность своих поклонов [Блейлер 2001]
(что обычно считается особенностью обсессии). В этом примере содер¬
жание бреда — это паранойя, сверхценное ощущение центрированно¬
сти всех на Собственном Я, но выражением его является обсессия, на¬
вязчивые компульсивные поклоны. Кроме того, здесь есть элементы
депрессии — чувство вины перед окружающими, ощущение своей «пло-
хости» и суицидальные попытки. Более того, здесь есть элементы и
истерии (деиксомании, по А. Сосланду [Сосланд 1999]), поскольку само
тело больного, сгибающееся в поклоне, становится иконическим вы¬
ражением идеи почтительности.
Почему мы говорим, что паранойяльное восприятие мира конвен¬
ционально? Разве для параноика совершенно не существенно, есть ли
какая-то хотя бы тень соответствия между тем элементом реальности,
который он считывает как знак, и фактом, подтверждения которого он
ищет?
Чтобы пояснить нашу мысль, вспомним рассказ Т.К. Честертона
«Сапфировый крест». Отец Браун оставляет сыщику Валентэну следы
своего передвижения по городу с грабителем Фламбо: он разбивает
стекло в ресторане, меняет ярлыки у овощей в зеленной лавке, вылива¬
ет на стенку суп. Здесь формально присутствуют какие-то иконичес-
кие знаки — разбитое стекло, пятно от супа на стене. Но их икони-
ческая и метонимическая природа не важна. Важно просто привлечь
внимание сыщика чем-то необычным, все равно, чем. Поэтому, в сущ¬
ности, это квазиконическая пропозиция, смысл которой «Я был здесь,
и можно узнать, куда я последую дальше». Примерно так же происхо¬
дит и считывание знаков при паранойе. В каком-то смысле параноик
рассматривает весь мир как огромное истерическое тело, на котором
разными почерками, на разных языках, при помощи разных знаковых
систем написано одно и то же.
Направленность параноика на истину хорошо видна на примере
«здорового» паранойяльного мышления, которое является предметом
профессиональной гордости сыщиков и частных детективов. Вспом¬
ним, например, знаменитый фрагмент из повести А. Конан-Дойля
«Этюд в багровых тонах», когда Шерлок Холмс впервые объясняет
Ватсону свою удивительную способность из внешности человека или
предмета черпать огромное количество информации:
Наблюдательность - моя вторая натура. Вы, кажется, удивились,
когда при первой встрече я сказал, что вы приехали из Афганис¬
тана?
230
Персеверация
П
- Вам, разумеется, кто-то об этом сказал.
— Ничего подобного. Я сразу догадался, что вы приехали из
Афганистана. Благодаря давней привычке цепь умозаключений
возникает у меня так быстро, что я пришел к выводу, даже не за¬
мечая промежуточных посылок. Однако, они были, эти посылки.
Ход моих мыслей был таков: «Этот человек по типу — врач, но
форма у него военная. Значит, военный врач. Он только что при¬
ехал из тропиков - лицо у него смуглое, но это не природный от¬
тенок кожи, так как запястья у него гораздо белее. Лицо изможден¬
ное, — очевидно, немало натерпелся и перенес болезнь. Был ранен
в левую руку - держит ее неподвижно и немножко неестественно.
Где же под тропиками военный врач мог натерпеться лишений и
получить рану? Конечно же, в Афганистане». Весь ход мыслей не
занял и секунды.
В случае паранойи ревности в качестве предмета, который должен
быть поименован или описан, выступает измена жены, которую опять-
таки можно выразить при помощи неограниченного количества имен
и дескрипций, различного рода жестов и мимических движениях, кра¬
сивой одежды, следам не теле, уходу и приходу в любое время. Как
любому денотату в принципе может быть приписано любое имя и дес¬
крипция, так и конкретному денотату «измена жены» может быть по¬
ставлен в соответствие любой признак и любое действие. Конвенция
здесь заключается между языком и самим параноиком. Язык в прин¬
ципе позволяет это делать (см. бред и безумие, бред и язык).
Персеверация — стереотипное повторение одних и тех же движе¬
ний жестов или речевых фрагментов (в последнем случае говорят о
вербигерации).
Почему факт простого повторения одной и той же фразы так бли¬
зок безумию? А ведь это действительно так. Вспомним Хармса с его
безумными повторениями. Творчество Хармса - яркий пример - пси¬
хотического дискурса.
Математик
(вынимая шар из головы)
Я вынул шар из головы
Я вынул шар из головы
Я вынул шар из головы
Я вынул шар из головы
231
Вадим Руднев
Словарь безумия
АндрейСеменович
Положь его обратно.
Положь его обратно.
Положь его обратно.
Положь его обратно.
Что мы здесь можем констатировать, кроме «обсессии» (см.) и «пер¬
северации»? Простое обозначение этих терминов ничего не объяснит.
Да, обсессия, да, персеверация. А дальше что? Вопрос можно повернуть
по-другому. Можно ли представить повторение без обсессии и без пер¬
северации, повторение, не имеющее отношения к безумию? Предста¬
вим себе человека, который ходит по комнате, сочиняя стихи, и бубнит
про себя одну и ту же строчку: «Сегодня дурной день», «Сегодня дурной
день», «Сегодня дурной день». Имеет ли значение тот факт, что мы выб¬
рали строку из Мандельштама и представил себе именно Мандельшта¬
ма (который, скорее всего, был шизофреник)? Разве нельзя в той же
роли представить себе, скажем, Смелякова или Роберта Рождественс¬
кого? Но разве советскость обеспечивает гарантию отсутствия безумия?
Думаю, что нет. И потом, если человек ходит по комнате и повторяет:
«Хорошая девочка Лида», «Хорошая девочка Лида», - пытаясь нащу¬
пать, как будет дальше, найти рифму и т. д., то это автоматически под¬
ключает, если не персеверацию, то, во всяком случае, обсессию (поэзия
в принципе сродни обсессии; подробно см. [Руднев 2002]). Может быть,
не стоит отмахиваться от обсессии, а наоборот подумать, какую роль она
здесь играет?
Вспомним пословицу «Повторенье - мать ученья». В фильме «Ду¬
шечка», по Чехову, мальчик учит стихотворение и повторяет: «Вороне
где-то Бог послал кусочек сыру». Есть ли здесь обсессия или персеве¬
рация? Что такое обсессия? Это навязчивые мысли или высказывания,
необходимые невротику для снижения тревоги. Но почему мы дума¬
ем, что мальчик, который учит стишок, тем самым не снижает трево¬
гу? Ведь если он не выучит, учитель его накажет. Мальчик, конечно,
тревожится по этому поводу. Получается, что он самим фактом повто¬
рения-учения действительно снимает тревогу, как снимает тревогу
молитва, где одно и то же высказывание также может несколько раз
повторяться.
Просто мы хотим сказать, что патологические механизмы защиты
не менее важны в нормальной жизни, чем в патологическом дискурсе
душевнобольного. Шизофреник, который повторяет одно и то же, и
мальчик, который повторяет строчку, действуют фундаментально в
одном и том же духе. Они повторением пытаются понизить тревогу.
232
Персеверация
П
Что общего имеют между собой повторение и противоречие? По¬
чему, согласно позднему Фрейду, повторение имеет отношение к смер¬
ти? Навязчивое повторение, — пишет Фрейд в работе «По ту сторону
принципа удовольствия», — соотносится со «стремлением в жи¬
вом организме к восстановлению какого-либо пре¬
жнего состояния», что является «выражением косности в орга¬
нической жизни». А поскольку «неживо е было раньше, чем
ж и в о е », то это повторение соответствует влечению к смерти, которая
является «целью всякой жизни» [Фрейд 1990Ь: 404-405] (раз¬
рядка Фрейда). Противоречие жизни и смерти, любви и ненависти, са¬
дизма и мазохизма в половом акте, принципа удовольствия, который,
как пишет Фрейд, - «всегда в новизне», принципу возвращения в ис¬
ходное состояние, — все это стоит рядом с повторением. Умирание в
любовном акте, который вроде бы должен быть апофеозом жизни, что
на конкретных примерах показала за 9 лет до Фрейда Сабина Шпиль-
рейн, и который представляет собой не что иное как ритмичное повто¬
рение одного и того же действия, «деструкцию как становление» и ста¬
новление как деструкцию [Шпильрейн 1994] - увязывают повторение и
противоречие в одну картину (см. также влечение к смерти, любовь).
Шизофреник повторяет одну и ту же фразу или две противополож¬
ных по значению фразы. Можно сказать, что он демонстрирует этим
готовность к смерти. Но причем тут готовность к смерти? — «Я такой
же человек, как вы». «Я не такой человек как вы». «Я такой же чело¬
век, как вы». «Я не такой человек, как вы». Что он этим хочет сказать?
По-видимому, то, что ему уже все равно (мифологическое снятие
оппозиций [Пятигорский 1965]). Шизофреник деперсонализирован по
отношению к жизни, поэтому ему все равно (см. деперсонализация).
Можно ли сказать, что в половом акте повторение как бы отсоединя¬
ется от принципа удовольствия и, с одной стороны, входит с ним в
противоречие, а с другой, тем самым это противоречие снимает? Где
здесь «все равно»? Человек, готовый к оргазму, в каком-то смысле уже
не владеет собой, он готов отдать себя, убить в себе себя. В этом смыс¬
ле — «все равно». У Введенского в мистерии «Кругом возможно Бог»
(см.) есть замечательная, навязчиво повторяющаяся и заканчивающая
поэму строка: «Вбегает мертвый господин/и молча удаляет время». Эта
поэма вся посвящена смерти (в частности, как показал Л.Ф. Кацис,
конкретно смерти Маяковского [Кацис 2001]). И в этой схизоподоб-
ной строке (даже не подобной, а просто осуществляющий схизис, как
почти всегда у Введенского и Хармса) совмещаются повторение и про¬
тиворечие. Он, с одной стороны, вбегает, но, с другой стороны, он
мертвый, и поэтому он самим актом вбегания удаляет время. В каком-
то смысле это есть философия полового акта.
233
Вадим Руднев
Словарь безумия
Понять в каком-то смысле значит — умереть для живой жизни,
разъять гармонию, как труп, «умереть, уснуть». Шизофрения лишь за¬
остряет то, что лежит в основании жизни и смерти - повторение и
противоречие. В этом когнитивная ценность шизофрении, ее эписте¬
мологическое торжество над нормой.
Когда нормальный человек говорит «Я пошел в кино» и идет в
кино или когда он говорит девушке «Давай поужинаем вместе» (что
означает приглашение к половому акту [Зтт 1974]), то эпистемоло¬
гически ничего особенного не происходит. Нет повторения и нет про¬
тиворечия. Просто пошел в кино. Просто пошли поужинали, потом
потрахались и уснули. И вот вбегает мертвый господин и говорит: «Я
такой же человек, как вы, и я не такой человек, как вы». И это действи¬
тельно так. Он действительно такой же человек, как они, потому что
он тоже хотел бы пойти в кино и потрахаться с девушкой. Но он не
такой человек, как они, потому что никто его уже не пустит в кино и
не даст девушку. Да и ему самому это все уже не нужно.
Почему именно повторение снижает тревогу? Тревога подразуме¬
вает боязнь какого-то неопределенного события. Какого-то одного собы¬
тия. Повторение - это умножение определенности. Тогда непонятна
роль противоречия. Допустим, если бы он повторял «Я такой же чело¬
век, как вы», «Я такой же человек, как вы» ..., то он этим как бы «за¬
говаривал» тревогу (заговор и обсессия связаны довольно тесно - см.
обсессия и культура). Но зачем же тогда он не просто повторяет одно
и то же, если предположить, что этого достаточно для снижения тре¬
воги, для умножения определенности? Но это обсессивному невротику
достаточно. У него нет схизиса. Он не будет разделять амбивалентно¬
го убеждения шизофреника, оно ему будет чуждо. «Я такой же чело¬
век, как вы» - «Я не такой человек, как вы». Здесь ведь наоборот по¬
вышается, умножается неопределенность. «Я хочу есть, я не хочу есть».
Обыденный бытовой вопрос: «Так хочешь есть или нет?» — здесь ни к
чему бы не привел.
Возможно ли, чтобы ананкаст повторял: «Я хочу есть, я хочу есть,
я хочу есть» и при этом бы не ел? А чтобы он тогда делал? Зачем ему
повторять фразу именно о еде, если он на самом деле не хочет или,
вероятно, скорее, не может есть? Он может заставлять себя хотеть есть,
это было бы вполне в духе обсессивно-компульсивной психопатии.
Допустим, этот человек привык ужинать ровно в шесть часов. А тут его
тошнит. Болит живот. Но его ананкастическая сущность все равно го¬
ворит ему, что надо есть, потому что уже шесть часов. Тревога нарас¬
тает. Живот болит. Он даже не может подумать о еде. И вот он повто¬
ряет: «Я хочу есть, я хочу есть, я хочу есть», - заговаривает себя. Есть
234
Пространства безумия
П
он от этого не захочет, и живот не пройдет, но тревога может снизить¬
ся. А что же шизофреник? Хочет он есть или нет? Предположим, он
находится в фон-вригтовском «состоянии дождя» [Вригт 1986] (когда
непонятно, то ли дождь идет, то ли не идет; и вроде идет, и вроде как
не идет - см. схизис и многозначные логики). То есть он и хочет, и не
хочет есть. Тогда он будет повторять: «Я такой же человек как вы, я не
такой человек, как вы».
Подумаем о связи бинарной логики (истинно V» ложно) с уровнем
эдипального треугольника, с «нормальным» невротическим уровнем
объектных отношений. Бинаризм отступает в сторону логической
многозначности при регрессии в область доэдиповых отношений,
пограничную или недифференцированную область «базисного дефек¬
та», если воспользоваться выражением М. Балинта [Балинт 2002]). На
эдипальном уровне господствует субъект и два первичных объекта —
отец и мать, - один из которых — образец для подражания (для девоч¬
ки — мать, для мальчика — отец) и одновременно соперник по любви
к другому объекту, другой - объект любви (для мальчика при позитив¬
ном Эдиповом комплексе - мать, для девочки - отец). Соответствен¬
но, если один объект идеализируется, то другой обесценивается. На
уровне логики этому соответствуют значения истинности и ложности.
Например, мать — «абсолютно хороший объект» (истинность), отец —
«абсолютно плохой объект» (ложность). При регрессии на уровень ба¬
зисного дефекта остается субъект и один объект, как правило, мать. И
тут проявляется «схизис», амбивалентность матери, которая делится на
«плохую» и «хорошую» «части» («хорошую» и «плохую грудь», если го¬
ворить о «шизоидно-параноидной позиции» в соответствии с учени¬
ем Мелани Кляйн [Кляйн 2001]). При этом «хороший» и «плохой» ас¬
пекты матери-груди как бы пульсируют: накормила, так хорошая;
ушла, так сразу стала плохая. При подобном положении вещей закон
исключенного третьего не действует.
Пространства безумия. Как связаны три феномена - язык,
психическая болезнь и пространство болезни (см. также язык и безу¬
мие, бред и язык)? Что такое пространство болезни? Например, стиг¬
мы на теле истерика или утраченный объект при меланхолии. Истери¬
ческие стигмы - всегда здесь, утраченный объект неизвестно где, он
далеко, «там или нигде» (см. также модальности).
Во всех механизмах защиты имеет место пространственное переме¬
щение (см. характеры и механизмы защиты). Например, при идеализа¬
235
Вадим Руднев
Словарь безумия
ции и обесценивании мир делится на две части - хорошую и плохую,
но они могут потом меняться местами. Можно ли здесь обойтись без
языка и без пространственной организации? Например, сын на Эди¬
повой стадии, боясь кастрации, формирует по отношению к отцу ре¬
акцию: он перестает его ненавидеть и желать ему смерти, а вместо этого
начинает его страстно любить. Есть ли здесь пространственные пере¬
мещения? В узком смысле нет, но в широком — есть. Переход от одно¬
го эмоционального полюса на другой. Есть еще такой замечательный
механизм защиты, как отреагирование (отыгрывание вовне). Здесь
проигрывается некоторое действие, замещающее то, что субъекту пред¬
ставляется необходимым защитить. Наконец, при сублимации очевид¬
но и языковое, и пространственное движение — сублимация это семи-
отизация и одновременнно возвышение.
При истерии пространство болезни — на самом теле субъекта: оне¬
мение, комок в горле, парестезии и парезы, астазия-абазия, контрак¬
туры и прочее (см. апология истерии). А где язык? Язык пропадает,
иконизируется. Вместо языка «говорит» пространство симптома. Если
человек не может ходить, он этим как бы говорит: «Посмотрите, как
я беспомощен, я даже не могу ходить».
А если не истерия, а истерическая психопатия? Тогда пространство
болезни — это некая сцена в зрительном зале, и язык — это роль, ко¬
торую играет истерик. В любом случае при истерии язык находится там
же, где пространство, и оба они находятся «здесь» по отношению к
субъекту.
При обсессии симптом может находиться как «здесь», так и «там».
При фобии - только «там». Если симптом фобии возникает «здесь», то
это приводит к невротическому взрыву. Например, когда агарофобик
попадает на открытое пространство и, наоборот, клаустрофобии - в
закрытое. И языку здесь особенно делать нечего. Здесь может иметь
место только животный крик и бегство из этого пространства.
Отношение обсессии к пространству и языку намного сложнее.
Симптоматический объект может находиться и «здесь», и «там». В за¬
висимости от того, какой это объект, благоприятный или неблагопри¬
ятный, отношение к нему может вызвать либо фобическую реакцию,
либо наоборот реакцию удовлетворения. Если пробежала черная кош¬
ка, ананкаст может повернуть назад, если баба с полными ведрами, то
пойдет вперед. В этом отношении поведение обсессивного человека
будет напоминать поведение играющего в игру «лестницы и змеи».
Если лестницы - то значительный шаг вперед, если змеи, то назад.
Самое неприятное, когда ни лестниц, ни змей, когда надо решать са¬
мостоятельно - идти или поворачивать назад. Ананкаст все время на¬
236
Пространства безумия
П
ходится в ситуации витязя на распутье. Направо пойдешь — полцар¬
ства найдешь, налево пойдешь — коня потеряешь.
Каким образом пространство при паранойе отличается от тех же
параметров при обсессии? Если при обсессии есть выбор между бла¬
гоприятным и неблагоприятным, то при паранойе этого выбора прак¬
тически уже нет - все знаки считываются как крайне неблагоприятные.
У параноика — в центре находится Я, а симптом — это все пространство
вокруг Я. Все пространство вокруг параноика носит симптомообразу¬
ющий характер. Так, например, при бреде ревности практически все
вокруг свидетельствует об изменах жены (см. например [ Терентьев
1991]).
Логика депрессии. Пространства наоборот очень мало. Практичес¬
ки в семиотическом смысле оно стремится к нулю. Потому что оно
обессмыленно. Вещи есть, но они не имеют никакого смысла. Все пло¬
хо. Все плохо, потому что ничего нет. Потому что нет самого главно¬
го, от чего произошла депрессия. Нет мамы (см. мать). Или объекта,
заменяющего маму. Мамы нет - он интроецировал ее в себя. Он -
сосуд, в котором находится мама. Неожиданно мы приходим к идее,
что пространство депрессии довольно сложно устроено, оно включа¬
ет в себя внутреннее и внешнее. Внутреннее скрыто во внешнем.
Бывает, что, наоборот, он себя превращает в скрываемый объект,
когда он накрывается одеялом с головой. В этом случае он находится
в маме, а не мама в нем. Он вновь плод в ее утробе. Нет никаких зна¬
ков, никаких смыслов, пространство — предельно тесное и беззнако¬
вое. Иногда он зовет: «Мама!» Это минимальный артикулированный
языковой жест депрессивного человека. Он никогда не зовет папу. Это
у шизофреников, как считал Лакан, дела - с папой [Лакан 1997], у
депрессивных - с мамой (ср. Отец — Имя Отца).
Что происходит с пространством при шизофрении? Возьмем, напри¬
мер, шизофренический бред преследования. Здесь усиливается то же
самое, что имеет место при паранойе. Все пространство вокруг враж¬
дебное и однознаковое, т.е. свидетельствует об одном: о том, что повсю¬
ду враги. Но при паранойе, если преследование, то преследование, если
отношение, то отношение. Бред систематизирован и имманентно по¬
нятен, и, соотвественно, знаки и означающие пространства - хоть и
нелепые, но мотивированные логикой паранойяльного бреда. При
шизофрении сейчас может быть бред преследования, через две мину¬
ты бред величия, через полчаса какой-нибудь другой бред с богатыми
галлюцинациями. Что такое экстраективное шизофреническое про¬
странство? Что такое шизофренический язык? С семиотической точ¬
ки зрения они вырождены, их как бы нет (см. сущность безумия). Но,
237
Вадим Руднев
Словарь безумия
тем не менее, шизофреники галлюцинирует. Точно так же можно
сколько угодно говорить о семиотической неопределенности сновиде¬
ний, но при этом каждый день видеть яркие сны.
При шизоидной психопатии пространство — это пространство
мысли и текста. Вернее, можно сказать так, что при шизоидии все про¬
странство делится на две половины - горнюю и дольнюю. Горнее, выс¬
шее пространство - это то, где обитают мысль и Бог, дольнее — это при¬
зрак мира несущественных и призрачных симулякров. Ср. у Тютчева:
Как дымный столп светлеет в вышине! -
Как тень внизу скользит, неуловима!..
«Вот наша жизнь, - промолвила ты мне, -
Не светлый дым, блестящий при луне,
А эта тень, бегущая от дыма...»
Текст для шизодида расположен в нижнем пространстве, потому
что других способов фикисировать мысль не существует, но устремлен
в горнее пространство. Точно так же, живя в энтропийном времени
мира, он устремлен в информативное время текста (см. время и безу¬
мие, шизотипическое время).
При эпилептоидной психопатии пространство - это расчищенный
для отправления властных функций плац, где маршируют солдаты,
поле, на котором можно развернуть битву, империя, которой можно
управлять. Эпилептоидное пространство транспарентно, во всяком
случае, авторитарный субъект стремится к тому, чтобы сделать его
прозрачным для отправления властных полномочий (см. эпилептоид-
ный дискурс, эпилептоидное тело без органов).
Психастеническое пространство миниатюрно, оно во многом было
бы похоже на депрессивное пространство с тем лишь различием, что
депрессивный субъект может не рефлексировать, а иногда просто не
может рефлексировать, психастеник же рефлексирует по определению.
Психастеническое пространство это пространство рефлексии. Не ут¬
роба, но скорее комната Раскольникова, тесная, но достаточная для
того, чтобы можно было рефлексировать. В большом разомкнутом
пространстве психастеническая мысль теряется, поэтому она любит
укромные уголки.
В чем особеннность шизотипического пространства (см. шизотипи-
ческий характер)? На этот вопрос трудно ответить, не вспомнив о за¬
гадочном, причудливом и синтетическом характере шизотипического
расстройства. Свою речь шизотипический субъект может начать теп¬
ло и спокойно, как циклоид, продолжить ярко и образно, как истерик,
и закончить точно и робко, как анакаст. Соответственно, шизотипи¬
238
Пространства безумия
П
ческая личность может выступать и на истерической сцене, и в обсес-
сивно-компульсивном ритуальном «капище», и в психастеническом
закоулке, и на эпилептоидной площади, окруженная народом, и в
обширном паранойяльном пространстве, и даже в экстраективном
шизофреническрм псевдопространстве.
Мы не поймем загадочного языка и причудливых поведенческих
установок шизотипической личности, если и не будем помнить о ее
синкретической природе. Именно синкретической, а не синтетичес¬
кой, поскольку суть шизотипического расстройства в том, что шизоф¬
ренический схизис звучит здесь приглушенно, но вполне отчетливо.
Именно он дает возможность проявляться внутри одной личности та¬
кой богатой палитре языковых, пространственных, временных и ло¬
гических установок. Если шизофреника сранивают с оркестром без
дирижера, то шизотиписта можно сравнить с оркестром, исполняю¬
щим сложнейшую симфонию Шенберга или Штокгаузена, которая не
сведующему в музыке может показаться оркестром без дирижера.
Главное отличие шизотипической личности от шизофренической в
том, что в первой внутренний шизоид внимательно следит за внутрен¬
ним сангвиником, внутренний анакаст - за внутренним истериком,
психастеник — за эпилептоидом и заодно параноиком, и все вместе они
следят за тем, как бы не сойти с ума, т.е. не превратиться в настоящего
шизофреника-психотика, не трансгрессировать в то пространство, где
уже никто ни за кем не следит.
Особенность языковой деятельности шизотипической личности,
это направленность на языковую деятельность (ср. шизотипический
дискурс). В этом ее родственность шизофрении, родственность, обус¬
ловленная автологичностью шизофренической речи. Но в отличие от
шизофреника шизотипист говорит не на «базовом» бредовом языке, а
в каком-то смысле на нормальном, но суть этого разговора - разговор
на языке - о языке. В этом смысле каждый шизотипист - потенциаль¬
ный Витгенштейн и Лакан. Конечно, если человек, страдающий ши-
зотипическим расстройством, интеллектуально и эмоционально не
развит, мы с трудом заметим у него эту особенность, но все же обра¬
щенность к речи ради речи есть у любого «шизо-» - будь то даже при¬
митивная стереотипия или персеверация безнадежно деградировавшего
парафреника.
То же самое мы можем сказать относительно шизотипического
пространства. Если оно так разнородно, то единственный выход —
обыгрывать эту разнородность, говорить о пространстве. В этом смыс¬
ле каждый шизотипист — потенциальный Магритт и Дали, картины ко¬
торых посвящены обсуждению свойств и природы пространства, так
239
Вадим Руднев
Словарь безумия
же как и любой фильм в фильме и текст в тексте посвящены обсужде¬
нию природы и свойств соответствующего типа искусства (см. шизоти-
пический дискурс).
В шизотипической культуре XX века так и происходит - полимор-
фность текста порождает метатекстовость — цитаты и реминисценции,
неомифологизм, множественнсть смыслов, временную и простран¬
ственную изощренность, поливерификационизм, глубинную и прин¬
ципиальную несводимость к чему-то единому, будь то время, про¬
странство, язык, логика и вся структура дискурса в целом.
Психическая смерть. (См. также влечение к смерти.) Приведем
пример из книги П.В. Волкова:
Пациент уверен, что он уже мертв. Все попытки врача разубедить
его заканчиваются неудачей. И это, несмотря на то, что врач ссы¬
лается на температуру тела пациента, на его дыхание и т. д. Нако¬
нец, он обращается к пациенту: «Скажите, пожалуйста, течет ли в
трупах кровь?» Пациент: «Конечно, нет». Врач берет заранее при¬
готовленную иглу и наносит ею укол в руку пациента. Появляется
кровь. Врач: «Ну, что вы теперь скажете?» Пациент: «Я ошибался.
В трупах течет кровь» [Волков 2000: 385\.
Интересно, а что врач хотел, чтобы больной обнял его и восклик¬
нул: «Доктор, теперь я понимаю, что я жив»? «В трупах течет кровь. В
трупах не течет кровь». Сегодня не течет, завтра потечет. Какое это
имеет значение? Большая посылка, малая посылка, разве это имеет
отношение к тому факту, в котором я убежден: «Я мертв! МЕРТВ, хотя
я дышу, смотрю, осязаю и т. д.». Неужели врач сомневается в том, что
больной не может, не состоянии отличить формально живого от мерт¬
веца? Он говорит о своем ощущении мертвенности, он заявляет о сво¬
ей фундаментальной экзистенциальной метафоре. Он «психически
мертв» (выражение Вейкко Тэхке применительно именно к дедиффе-
ренцированным глубоким психотикам; ср.: «катастрофичность пред-
психотической тревоги дедифференцированности <...> заканчивает¬
ся утратой переживания Собственного Я (т. е. субъективной психичес¬
кой смертью)» [ Тэхке 2001:324\). Когда И.С. Тургенев пишет в финале
романа «Отцы и дети» о Павле Петровиче Кирсанове: «Да он и был
мертвец!», - то имеется в виду именно психическая (в данном случае,
скорее, психологическая) смерть. Поразительно другое: что пациент
240
Психическая смерть
П
сам заявляет о своей психической смерти. Как бы из глубины своей
смерти свидетельствует о ней. Конечно, это глубоко истинное и дос¬
товерное свидетельство о собственной психической смерти не поверя¬
ется никаким Аристотелем или даже фон Вриггом (ср. схизис и мно¬
гозначные логики). Уместно ли здесь: «Я мертв, и я не мертв»; «Я ни
мертв, не ни мертв»? Нет, не уместно. Это уже постсшшс, если так
можно выразиться. Вспомним также многочисленные рассказы, ког¬
да психический больной перед смертью приходит в себя и начинает
нормально соображать и разговаривать. Например, больной пролежал
в глубокой кататонии (ср. «Золотой век» и кататония) несколько десят¬
ков лет и перед смертью вдруг сказал врачу: «Ну, вот доктор, так вся
жизнь и прошла!»
Пациент, которому указали на то, что у мертвецов не течет кровь,
а у него течет, заявил, что он ошибался, думая, что у мертвецов не те¬
чет кровь. В чем логический механизм признания этой ошибки? Рань¬
ше он склонен был полагать, что у мертвецов не течет кровь. Значит
ли это, что он был убежден, что у него тоже не течет кровь? Это не
очевидно. Просто для него фундаментальность аксиомы, в соответ¬
ствии с которой он мертвец, настолько незыблема, что ее не могут
поколебать никакие доказательства противного. Точно так же можно
ему сказать: «Разве мертвецы говорят?» — «Конечно, нет, доктор». —
«Но ведь вы только что говорили». — «Да, это было мое заблуждение,
мертвецы говорят». Просто он каждый раз убеждается, что делить со¬
вокупный опыт с нормальными - это заблуждение, ошибка. Мертвецы
могут говорить, сочинять стихи, ходить на балы и спать с маркизами,
как в стихотворении Блока:
Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться,
Но надо, надо в общество втираться,
Скрывая для карьеры лязг костей.
Мертвый — не тот, кто чего-то не может, мертвый - это тот, у ко¬
торого отсутствует осознание своей самости, Собственного Я; и если
он заявляет об этом, то он «выполняет» это какими-то фрагментиро¬
ванным осколками своей личности, как мистер Вольдемар в финале
рассказа Эдгара По: «Да потому что я умер, умер к чертовой матери!»
Недавно я разговаривал с М. Этот совершенно с виду здоровый
человек со слезами сообщил мне, что чувствует себя частично мерт¬
вым. Причем это не метафора. Он стал говорить, что думает об этом
как ученый. Что какая-то невидимая часть его тела умерла, и люди
пока не видят этого. Но они могут вскоре и догадаться. «И что же, —
241
Вадим Руднев
Словарь безумия
спросил я, — будет, если они догадаются?» — «Да не знаю, — ответил
М. - Как-то ведь стыдно». И процитировал те же стихи Блока про
мертвеца. М. преподал мне урок практической постшизофрении. Счи¬
тать его сумасшедшим я никак не могу. Хотя определенные параной¬
яльные заморочки имеются. Так, он говорил, что, может быть, Н. хо¬
чет его убить, ну, т.е. как бы извести, чтобы занять его место. В карти¬
не мира М. занимает большое место обсессивно-компульсивный
комплекс всевластия мысли (см. обсессивный дискурс), мистический
элемент: все эти вампиры, Дракулы, Банши и т. д. Человек просто се¬
рьезно относится к своей работе. И действительно, можно ли продук¬
тивно заниматься Дракулой, не веря в вампиров и оживших мертве¬
цов?
Живые спят. Мертвец встает из гроба
И в банк идет, и в суд идет, в Сенат...
Подумаем о примере, когда больного спрашивают, указывая на
какого-то человека: «Кто это?» — «Это Иван Иванович» — «Но ведь
Иван Иванович высокий». — «Да, высокий». — «А этот человек низень¬
кий». — «Да, низенький». — «Как же вы говорите, что это Иван Ива¬
нович?» — «Ну, это Иван Иванович — и все!» Это все равно, что мега¬
ломану, который утверждает, что он Наполеон (см. бред величия), ска¬
зать: «Но ведь Наполеон давно умер и похоронен на острове Святой
Елены, как же вы говорите, что вы Наполеон, и в то же время стоите
здесь живой и невредимый?» На что больной может сказать: «Что вы,
доктор, это только видимость. На самом деле я давно мертв». Можно,
конечно, сказать, что доктор и больной используют разные языки, но
это вовсе не означает, что больной не может говорить на языке док¬
тора. Вспомним о характерной способности шизофреников к «двой¬
ной бухгалтерии», в частности, к диссимуляции, как в старом детском
анекдоте, когда сумасшедший идет по больничной дорожке и тащит за
собой консервную банку. Подходит доктор и, делая вид, что гладит
собаку, говорит: «Ну что, как ваша Жучка?» - «Да какая же это, Жуч¬
ка, доктор, - спокойно отвечает больной, - это обыкновенная консер¬
вная банка». - «Пора выписывать», - думает озадаченный доктор и
уходит. Сумасшедший наклоняется к консервной банке и, поглаживая
ее, говорит: «Смотри, Жучка, как мы его обманули». Шизофреники,
таким образом, прекрасно понимают язык нормальных, в частности,
авторитарный «язык доктора», но этот язык для них в принципе по¬
верхностный, неистинный, профанный. Используя его, можно обма¬
нуть доверчивого врача и добиться для себя какой-то выгоды. Но ис¬
тина для шизофреника невыразима на языке здоровых.
242
Психическая смерть
П
Р. Лэйнг в своей книге «Расколотое Я» рассказывает такой случай.
Больные спокойно сидят и разговаривают в палате. Входит доктор.
Больные сразу принимают нелепые позы и начинают говорить на вы¬
чурном «шизофреническом языке».
Большая часть шизофрении, пишет Лэйнг, - это просто бессмыс¬
лица, отвлекающие маневры, продолжительное торможение про¬
цесса, чтобы сбить опасных людей со следа, чтобы вызвать у дру¬
гих скуку и ощущение тщетности. Шизофреник часто делает дура¬
ка из самого себя и из врача. Он играет в сумасшедшего, чтобы
любой ценой избежать возможной ответственности хотя бы за одну
понятную мысль или намерение. <...> Это дает потрясающее под¬
тверждение заявлению Юнга, что шизофреник перестает быть
шизофреником, когда встречает кого-то, кто, по его ощущениям,
его понимает. Когда это происходит, большая часть причуд, кото¬
рые воспринимаются за «признаки болезни», просто испаряются
[Лэйнг 1995: 175-175\.
Заметим при этом, что шизофрения - это гораздо более серьезная
вещь, чем «амбивалентность», «фершробен», «процесс» и даже «голо¬
са» и «бред преследования». Шизофрения - это «невозможность безмя¬
тежно пребывать среди вещей» [Бинсвангер 1999:219]. Потому что мо¬
жет не быть ни галлюцинаций, ни фершробен, ни ярко выраженного
дефекта, а может быть только одно: девушка хочет похудеть, но не мо¬
жет себя пересилить и, наоборот, слишком много ест - «случай Элен
Вест», «простая» шизофрения (ксЫгорйгеша 8шр1ех) [Бинсвангер 2001].
И в вот этом случае говорится, что человек не может безмятежно пре¬
бывать среди вещей, что он задает жесткие альтернативы своего пове¬
дения, взнуздывает себя: либо страшно худеть, либо наоборот нажи¬
раться. И это и есть шизофрения. И именно это было осознанно эк¬
зистенциалистами как нечто более важное, чем «голоса» и «бред
преследования».
Что тогда вообще такое психоз? Мы говорим, что психоз - это
отказ от реальности, отсутствие проверки реальности. Но где же тогда
психоз в случае Элен Вест, которая просто хотела похудеть? Но все-
таки она не просто хотела похудеть. О ней говорится, что она чувство¬
вала себя «ареной сил, которые действуют помимо ее воли». Где же в
этом случае зерно психоза, шизофренического психоза. В чем его суть?
Можно сказать, что в этом случае не было развитого яркого психоза,
что это было неврозоподобное течение процесса («полиморфный не¬
врозоподобный процесс», так его определил Л. Бинсвангер). В таком
243
Вадим Руднев
Словарь безумия
случае что же - психоз? Тогда мы возвращаемся к традиционным гал¬
люцинациям и бреду, которых в их обычном виде не было у Элен Вест,
хотя Бинсвангер и говорит об амбивалентной бредовой идее похуде¬
ния и обжорства. Что вообще пишет Бинсвангер о шизофреническом
процессе своей пациентки?
Итак, шизофренический процесс — это главным образом процесс
экзистенциального опустошения или обеднения, в смысле возраста¬
ющего затвердевания («коагуляции») свободного «я» до состояния
бесконечно несвободного («не независимого»), самоотчужденного
объекта. Он может быть понят только с этой точки зрения. Ши¬
зофреническое мышление, речь, поведение — только частичные
феномены этого базового процесса. Экзистенциальное опустоше¬
ние или обеднение, как нам уже известно, не что иное, как мета¬
морфоза свободы в компульсию, вечности — в темпоральность
(Шелер), бесконечности — в конечность [Бинсвангер 2001: 485]
(курсив мой. - В.Р.)
Итак, психоз — это экзистенциальное опустошение Я до самоот-
чужденого объекта. «Я» становится самоотчужденным объектом. Это
написано очень красиво. Но претендует ли это на какой-либо, пусть
даже экзистенциальный, клиницизм? Все-таки был ли у Элен Вест
«отказ от реальности», или потеря тестирования реальности, когда она
набрасывалась, как зверь, на пищу и пожирала ее на полу? Как, напри¬
мер, тебе вот такое место у Бинсвангера:
Картина жертвы убийцы — это картина убитого существования
Элен; сцена убийства, которое заставляет содрогнуться, — это при¬
ем пищи. Ее привязанность к пище, которая сильнее, чем разум и
воля, и которая управляет ее жизнью и превращает эту жизнь в
пугающую сцену опустошения, представляет ее обжорство. Нигде
она не выражает свой модус существования лучше и глубже, чем в
этой метафоре. Как и в случае с убийцей, Элен чувствует себя вы¬
ключенной из всей реальной жизни, отторгнутой от людей, полно¬
стью изолированной [Бинсвангер 2001: 422].
С одной стороны, он говорит об Элен как о «выключенной из всей
реальной жизни, отторгнутой от людей, полностью изолированной», но,
с другой стороны, это есть ее «модус существования». Психоз — это
«оторванный от реальности» «модус существования». Вот как понима¬
ет психоз дазайн-анализ. Нет ли здесь чего-то чуть-чуть противоречи¬
244
Психоанализ рекламы
П
вого или скорее даже фальшивого? Вспомни, как обескуражила тебя
статья Карла Роджерса об Элен Вест, где он говорит, что «два мудрых
доктора» — Блейлер и Бинсвангер — пришли к выводу, что Элен непре¬
менно покончит с собой, если ее отпустить, и после этого благополуч¬
но ее выписали, и она действительно покончила с собой едва ли не
через три дня [Роджерс 1993]. (Просто врачи-убийцы!) Получается па¬
радоксальная вещь — классическая экзистенциальная психиатрия была
не клиент-центрированной. Красивая метафора и убедительная статья
для Л. Бинсвангера, похоже, важнее реальной человеческой жизни.
Для Рональда Лэйнга это уже не так.
ПсИХОанаЛИЗ рекламы. Представим себе, что нам нужно купить
бутылку подсолнечного масла. Цены настолько мало различаются, что
вряд ли именно они влияют на выбор. На выбор повлияет прежде все¬
го то (и согласитесь, что, в сущности, эффект рекламы состоит имен¬
но в этом), какова форма бутылки, что нарисовано и написано на эти¬
кетке и что по телевизору говорили по этому поводу.
Как известно, один из наиболее универсальных приемов психоана¬
литической психотерапии состоит в свободном ассоциировании. Что
бы вы сказали, если бы вас спросил психоаналитик: «Почему же вы
выбрали именно эту бутылку, только отвечайте первое, что вам при¬
дет в голову, и не смущайтесь, каким бы шокирующим оно бы вам ни
показалось? И вот первое, что вам приходит, это фраза вроде «Это
бутылку можно засунуть в задницу».
После эмоционального шока психоаналитик вам объяснит, что
здесь ничего страшного нет. Просто, значит, в нижней части вашего
бессознательного прорвалась анальная фиксация.
Фиксацией в психоанализе называется такое положение вещей,
когда поведение взрослого человека, невротика, сохраняет бессозна¬
тельную память о детской психической травме или, в целом, о том пе¬
риоде его психического развития в детстве, когда был перенесен и не
был пережит, завершен некий травматический опыт.
Наиболее важными из этих периодов, или стадий, психосексуаль¬
ного развития являются самые ранние, так называемые догениталь-
ные стадии, когда ребенку от одного до четырех лет. «Догенитальные»
означает, что в центре психосексуального переживания ребенка явля¬
ется не гениталии, как у взрослых, а какие-то другие объекты. Психо¬
анализ выделяет три таких стадии. Первая называется оральной, она
соответствует тому периоду, когда младенца кормят грудью (см. также
245
Вадим Руднев
Словарь безумия
мать). На этой стадии весь мир, все удовольствия и неудовольствия,
все влечения сосредоточиваются на материнской груди (ребенок дру¬
гих объектов просто не знает), а основной опыт, основное объектное
отношение - это сосание и покусывание (один из учеников Фрейда,
Карл Абрахам, считал, что покусывание следует выделить в особую
подстадию, орально-садистическую, когда у ребенка вырастают зубы;
подробнее о зубах см. ниже). Главное действие и защита на оральной
стадии это инкорпорация или интроекция, т.е. поглощение. Бытовы¬
ми проявлениями орального объектного отношения является репро¬
дукции действий сосания и покусывания, а именно (и это уже очень
близко к нашей теме) — навязчивое стремление все время есть (були¬
мия), курение, жевание жвачки, лузгание семечек.
Вторая стадия психосексуального развития называется анальной.
Анальная фаза гораздо более сложна и амбивалентна по сравнению с
оральной. Она связана с периодом от двух до трех лет, когда ребенка
приучают к туалету. На этой стадии в объектном мире ребенка появ¬
ляется первая вещь, которая, с одной стороны, связана с ним, а с дру¬
гой, может быть отделена от него, и он это видит и может решать, от¬
давать этот объект или задерживать его в своем теле. Этот объект —
фекалии. И вот эта двойственность, возможность выбора: отдавать или
удерживать - составляет сущность анального эротизма и делает этот
этап чрезвычайно важным и драматичным в формировании личнос¬
ти. Фекалии - это первый дар, которым ребенок может щедро одарить
взрослых (поэтому, когда ребенок стремится обмазать кого-то своим
калом, он этим хочет именно одарить, т.е. это позитивное действие),
а может наоборот его «зажилить». Ребенок, который выбирает второй
путь, страдает запорами - на все уговоры взрослых отдать то, чем он
обладает, он отвечает упрямым отказом.
Люди со стойкой анальной фиксацией, обладающие анальным
характером, как его навал Фрейд в статье «Характер и анальная эро¬
тика» [Фрейд 1998\, отличаются тремя свойствами - патологической
чистоплотностью (по контрасту), педантизмом и упрямством. Особен¬
ностью их объектных отношений является склонность к навязчивым
повторениям - обсессиям и компульсиям (см. обсессия и число).
Третья стадия психосексуального развития называется фалличес-
ки-нарциссической. На этой стадии (ребенку здесь 3-4 года) впервые
сексуальным объектом предметом ценности становятся гениталии, их
разглядывание, гордость от обладания ими, зависть к отцу, что у него
такой большой фаллос (у девочек в принципе зависть к лицам проти¬
воположного пола оттого, что они обладают этим органом, — так на¬
зываемая зависть к пенису (РешзпеШ). На фаллическо-нарциссичес-
246
Психоанализ рекламы
П
кой стадии ребенок впервые осознает все свое тело целиком и наслаж¬
дается своим телом (так называемы первичный нарциссизм). Для этой
стадии также характерен страх потерять этот самый ценный объект,
фаллос (см.) — знаменитый страх кастрации.
Взрослый человек с сильными фаллически-нарциссическими фик¬
сациями, о котором говорят, что он обладает фаллически-нарцисси-
ческим характером (этот характер был выделен учеником Фрейда
Вильгельмом Райхом [Райх 1999]), — это человек, который наслажда¬
ется собой и своим телом, стремится покрасоваться своим телом, хо¬
рошо и дорого одеваться, это человек хвастливый и самоуверенный, но
в глубине души наполненный затаенным страхом, идущим от инфан¬
тильного страха кастрации (выразительное описание этого характера
см. также в книге американского психоаналитика Геральда Блюма
[Блюм 1996]).
И вот, конечно, мы понимаем, что все эти стадии, несмотря на то,
что они играют огромную роль в формировании личности (ведь уже к
3—4 годам личность человека практически полностью сформирована),
присутствуют в той или иной мере в каждом человека, хотя и в различ¬
ной степени, потому что не бывает так, чтобы на одних стадиях раз¬
витие проходило совсем гладко и только на одной были трудности. По-
видимому, наиболее правильным будет сказать, что у одного человека
в той или иной мере преобладает оральное начало, у другого анальное,
у третьего фаллически-нарциссическое.
В свете всего сказанного о психосексуальном развитии задумаем¬
ся теперь над вопросом о том, чего человек вообще хочет от жизни, чем
диктуются те или иные его поступки. Почему один человек делает одно
и не делает другого? Почему он, в частности, покупает одно и не по¬
купает другого? В определенном смысле это зависит от того, какое
объектное отношение, какая фиксация преобладает в нем вообще или
в данный момент. Человеку нужно каким-то образом хотя бы на вре¬
мя снять эту фиксацию, потому что с фиксацией связан душевный
дискомфорт, невротическая тревога. Если у человека оральная фикса¬
ция, то самый простой способ ее снять это - поесть. Но дело ведь тут
не в том, что человек хочет поесть, что он вдруг неожиданно и немо¬
тивированно хочет поесть. И, поев, он утоляет не голод, а свою тре¬
вогу. У «нормального» человека с «генитальным» характером тревога
удаляется тогда, когда удовлетворяется его половое влечение, либидо,
сексуальный голод. Но у невротического орального человека либидо
развивалось странно, он в каком-то фундаментальном смысле остал¬
ся младенцем, которого почему-то лишили материнской груди. Мате¬
ринская грудь для него осталась главным сексуальным объектом. Вот
247
Вадим Руднев
Словарь безумия
почему его либидинальная тревога удовлетворяется не генитально, а
орально, при помощи еды, сосания трубки или жевания жвачки.
Но если тревога охватит его в тот момент, когда он находится не у
себя на кухне, а в шикарном универсальном магазине, то он купит
такую вещь, которая эту тревогу сможет снять, например, он купит
лампу, похожую на материнскую грудь, или какую-то другую, в общем,
на первый взгляд, совершено ненужную ему вещь, напоминающую об
этом первичном объекте.
Здесь мы подошли к сути психологии рекламы, которая заключа¬
ется, во-первых, в том, что покупают не то, что нужно в хозяйстве, а
то, что способно заглушить инфантильную тревогу. Это люди, у кото¬
рых не было инфантильных фиксаций, будут покупать то, что нужно в
хозяйстве, но психоаналитический опыт говорит, что таких людей
меньшинство, ибо на свете очень мало людей, у которых было во всех
отношениях «золотое детство».
Итак, реклама бессознательно строится на том, чтобы предоста¬
вить человеку возможность купить то, посредством чего он сможет
унять свою инфантильную тревогу и тем самым реализовать свое не¬
вротическое либидо.
Мир рекламы демонстрирует это со всей очевидностью. Человеку
с оральными фиксациями реклама предлагает то, что сосут, пьют,
жуют, глотают. Оральная реклама — это пиво, соки и другие напитки
(пепси, спрайты, севен ап, фанта и т. д.), жевательная резинка, сига¬
реты, кофе, лекарства, и, разумеется, различная еда (все эти бесконеч¬
ные чипсы и йогурты, конфеты и шоколадки, лапша доширак, супы,
масло, молоко, сливки, кефир данон - тот факт, что преобладают мо¬
лочные продукты, кончено, неслучаен — ведь именно материнское
молоко - первоначальная пища младенца). Точно также как оральные
объектные отношения являются наиболее инфантильными, наиболее
примитивными, в этом же смысле «оральная реклама» является самой
элементарной.
Человеку с анальными фиксациями, помешанному на чистоте и
скупости, реклама предлагает совсем другое. «Анальная реклама» —
это, прежде всего, средства для поддержания чистоты — мыла, шампу¬
ни, стиральные порошки, моющие средства, все эти знаменитые фей-
ри и кометы; младенцам она предлагает подгузники; дамам - гигие¬
нические прокладки. Далее здесь широко представлена бытовая тех¬
ника: прежде всего пылесосы и стиральные машины.
Именно анальная реклама часто подчеркивает финансовую дос¬
тупность рекламируемого изделия. (Например, стиральный порошок
«Миф» — «чистит идеально и цена реальна».)
248
Психоанализ рекламы
П
Следует помнить также, что существуют объектные отношения,
являющиеся в определенном смысле медиативными между оральным
и анальным комплексами. Прежде всего, это не что иное, как зубы.
Зубы расположены во рту, но вырастают они у ребенка только к кон¬
цу первого года; ими можно не только жевать, но и кусать (отсюда и
особое название субстадии — орально-садистическая). Но зубы также
связаны с идеей анальности. Вместе с зубами в психосексуальной ин¬
фантильной жизни появляется характерная для анального отношения
амбивалентность: можно отдать, а можно и захватить. Зубы вообще
довольно универсальная вещь - они также связаны и фаллически-нар-
циссическим началом. С одной стороны, зубами можно откусить, т.е.
кастрировать. В архаических мифологиях, дублирующих онтогенез,
существует представление о кастрирующем зубастом женском половом
органе уафпа ЗеШаШ. С другой стороны, зубы связаны и с идеей нар¬
циссизма — ослепительная соблазняющая улыбка, демонстрирующая
стройный ряд белых зубов (ее так и называют - рекламной улыбкой).
Поэтому неудивительно, что зубы в рекламе играют такую большую
роль. И в этом смысле реклама зубной пасты одновременно является
и оральной (нечто, что располагается во рту), и анальной (идея чис¬
тоты).
Наконец человеку с фаллически-нарциссическим характером, ко¬
торый невротически удовлетворяет свое либидо, демонстрируя красоту
своего тела, реклама предлагает совсем другое. Прежде всего, это мод¬
ная одежда, в которой можно покрасоваться, далее это косметика, вся¬
ческие кремы, губные помады, шампуни (шампуни одновременно вы¬
полняют две функции - красоты и чистоты, поэтому они относятся
сразу к двум психосексуальным сферам, что очень выгодно для рекла¬
мы: не купит фаллический человек, так купит анальный). Фаллической,
конечно, является реклама роскошных автомобилей, эквивалентов че¬
ловеческого тела, да к тому же еще ярко выраженной фаллической
формы.
Теперь надо сделать следующий логический шаг. Конечно, удов¬
летворение инфантильных невротических либидинальных влечений
является необходимым для невротического человека, но не достаточ¬
ным. Какими бы инфантильными фиксациями ни обладал человек,
каким бы невротиком он ни был, ему все равно хочется удовлетворить
свое либидо обычным генитальным путем. И утоление тревоги, свя¬
занной с фиксированными инфантильными объектными отношени¬
ями в очень сильно степени расчищает такой личности дорогу к основ¬
ному инстинкту. После того, как оральный человек наглотался пива и
нажевался жвачки, анальный вычистил квартиру, а фаллически-нар-
249
Вадим Руднев
Словарь безумия
циссический примерил новую дубленку, только после этого, не рань¬
ше, такой человек сможет попытаться удовлетворить свои генитальные
потребности. Поэтому от анального педанта бессмысленно требовать
исполнения супружеских обязанностей, пока вы не вымыли посуду. А
фаллически-нарциссической женщине необходимо сказать, как она
прекрасно выглядит, какие у нее замечательные духи, какое у нее ве¬
ликолепное платье, а потом уже приглашать ее в койку. С оральным
человеком проще всего - его надо, как это зафиксировано и в фольк¬
лоре, сначала накормить, а потом уже и спать положить.
И вот реклама - и это, пожалуй, самое удивительное, - понимает
важность того, что человек покупает что-то не просто для того, чтобы
исчезла невротическая тревога, но для того, чтобы путем снятия этой
тревоги расчистить себе путь к самому главному в жизни, к нормаль¬
ному эротическому контакту. Поэтому реклама всячески подчеркива¬
ет, что приобретение данного товара не просто понизит тревогу после
покупки, она подчеркивает то, что будет после этого. «Свежее дыха¬
ние облегчает понимание» - вот наиболее лапидарная и исчерпываю¬
щая формула того, о чем мы говорим. В соответствии с этим принци¬
пом покупка Неаё апс! зйаиШегз не просто сделает твои волосы чисты¬
ми (анальная функция) и красивыми (фаллически-нарциссическая
функция), но, главное, тебя после этого будут любить все девушки.
Покупка жвачки не только удовлетворяет оральную проблематику, но
и делает людей, которые жуют одну и ту же жвачку, ближе друг другу.
(«После того, как вы перекусили, надо позаботиться о свежести вашего
дыхания, особенно если вы так близки друг другу».) Точно так же на¬
питок Севен Ап не только утоляет жажду, но является медиатором в эро¬
тическом контакте. Из этой же серии реклама про кофе Маккона, си-
мулятивное отсутствие которого в ресторане и наличие дома у мужчи¬
ны облегчает будущий любовный контакт.
Если постараться обобщить все сказанное, перейдя с психоанали¬
тического языка на кибернетический, то можно сказать, что всякое
позитивное действие направлено на то, чтобы передать в систему не¬
которое количество информации, повысить количество гармонии, по¬
рядка и тем самым понизить количество энтропии, хаоса. Любой не¬
вротический механизм является контр-информативным, поскольку он
производит сбои в работе организма, работает на разрушение, а не на
созидание, на повышение хаоса, энтропийного начала. Кибернетичес¬
кий механизм невроза состоит в том, что человек, будучи не в состоя¬
нии усвоить и переработать ту, может быть, слишком сложную для него
информацию, которую ему предлагает жизнь, реагирует регрессивно¬
инфантильным повышением энтропии, но получает при этом, как го¬
250
Психоанализ рекламы
П
ворил Фрейд, вторичную выгоду. Говоря примитивно, вторичная вы¬
года заключается в том, что с больного меньше спрос, его жалеют.
Любая психотерапевтическая деятельность направлена на то, чтобы
сложными окольными путями заставить человеческое сознание при¬
нять ту информацию, которую ему предлагает жизнь. Любой текст
повышает количество информации в системе и тем самым исчерпы¬
вает количество энтропии (об этом см. подробно первую главу книги
[Руднев 2000]). Специфика рекламного текста при этом состоит в том,
что он психотерапевтически изображает сам процесс превращения
энтропии в информацию, показывая то и только то, «как хорошо», но
никогда - «как плохо». Реклама - это генератор антиэнтропийности:
если простуда, прими лекарство — и все снова станет на свои места;
если проголодался, на помощь приходит человечек Да/ши, обитающий
в холодильнике, — и все вмиг накормлены; если перхоть в волосах —
купи шампунь Ьеаб апб зЬаиЫегз; если сморозил глупость —помолчи и
пожуй жвачку; если не можешь отчистить ванну, приходит добрая те¬
тенька и приносит Комет. И так далее.
Олицетворением этого креативного информационного символи¬
ческого порядка, который принуждает покупать одно и не покупать
другого, является Супер-Эго. У каждого человека Супер-Эго выстра¬
ивается такое, какой у него характер. В этом смысле можно говорить
об оральном, анальном и фаллически-нарциссическом Супер-Эго. Но
каким бы оно ни было, оно побуждает человека к одним покупкам и
предостерегает от других. Бессознательно Супер-Эго переводит цен¬
ность покупки в говорящий дискурс Другого и для Другого. Оральное
Супер-Эго говорит: «Вместо того, чтобы покупать пиво, купи сок ре¬
бенку». Анальное Супер-Эго (наиболее сильное) призывает: «Немед¬
ленно купи жене стиральную машину!» Фаллически-нарциссическое
(самое слабое) Супер-Эго робко предлагает: «Может быть, в самом
деле, чем покупать третью машину, так и быть, купить ей губную по¬
маду?» Но в любом случае, каким бы суровым ни было бы Супер-Эго,
оно действует в направлении удовлетворения основного инстинкта,
связанного с продолжением рода. В этом смысле и покупка сока для
ребенка, и стиральной машины для жены, и губной помады для лю¬
бовницы - все это окупается гармонизацией жизни, которая через все
превратности невротических фиксаций обеспечивает человеку быто¬
вое и культурное выживание.
Вадим Руднев
Словарь безумия
Психоанализ футбола. Футбол это игра, в которую играют но¬
гами (см. ноги). Странность того, что ноги используются в игре, при¬
чем в самой популярной игре мира, состоит в том, что функция ноги
в отличие и в противоположность функции руки состоит не в созида¬
нии, не в творчестве, а в разрушении. (Ср. выражение «попирать но¬
гами»; символ смерти — «ногами вперед»). Человек без руки — это про¬
сто калека, человек без ноги - это гипертрофированный сексуальный
урод. Вспомним соколовскую интерпретацию сказки о медведе на
липовой ноге, зловещее скирлы которого служит герою напоминани¬
ем о скрипе кровати во время полового акта (см. «Школа для дураков»),
В этом смысле нога в футболе противостоит голове, которая
является, прежде всего, конечно, субститутом и аналогом самого
мяча. И вот здесь самое главное. Отождествление мяча с головой иг¬
рока (головой, как и ногами, можно играть) приводит нас к архаичес¬
кой игре с отрубленными головами, даже, скорее, мозгами врагов, ко¬
торой забавлялись древние ирландцы. Игра, кстати, так и называ¬
лась — Ъгаш-ЪаШ.
В саге «Смерть Конхобара» говорится следующее:
Был в то время у уладов обычай вынимать мозг из головы каждого
мужа, убитого ими в поединке. Мозг этот смешивали потом с из¬
вестью и делали из него крепкий шар...
Отрубленная голова - символ лишения мощи и силы противника —
и можно сколько угодно протестовать против «панпсихоаналитизма»,
но, кажется, ясно, что это субститут кастрации.
Но зачем играть отрубленной головой? В данном случае очевидно,
что игра в футбол очень похожа на сексуальную игру. Интересно в этом
плане объяснение того, почему футбол возник в Англии. Конец XIX
века — викторианство, когда женщине было неприлично вообще дви¬
гаться в постели во время полового акта — она должна была лежать на
спине тихо и спокойно. Расцвет и одновременно закат английского
национального характера - чопорность, замкнутость, порядочность,
«обсессивность-компульсивность». И вот здесь-то и возникает футбол,
где играют ногами. Ясна отчетливая сублимативная функция футбо¬
ла в эпоху с эксплицитно репрессированной сексуальностью.
В чем цель (§оа1 — гол) игры в футбол? В том, что при помощи ног
(субститутов половых органов) забить (затащить) круглый предмет в
некое ограниченное пространство (по сравнению с футбольным полем
в целом ворота — это весьма ограниченное пространство), в сетку, в
дыру. Стоит ли приводить примеры из «Толкования сновидений»?
252
Психоанализ футбола
П
Итак, игра в футбол воспроизводит половой акт, где нога играет роль
фаллоса, мяч — спермы, а ворота — вагины. Роль женщины, которая
оплодотворятся этим попаданием в цель, играет, конечно, мать-сыра-
земля. Но мы рассмотрели проблему, связывающую футбол и сексуаль¬
ность, лишь на уровне первой топики Фрейда (противопоставления
инстанций сознательного и бессознательного).
Для того же, чтобы, например, интерпретировать такую важную
фигуру в футболе, как вратаря, защитника ворот, цензора, противосто¬
ящего удовлетворению желания игроков (судья следит за соблюдени¬
ями правил, но не препятствует желанию, он вмешивается, только ког¬
да что-то происходит неправильно — судья это Отец, функция которо¬
го состоит в регуляции половой жизни как жизни социальной, в
направлении ее в разумное русло [Лакан 1997]), так вот для того, что¬
бы объяснить в психоаналитических терминах функцию вратаря, пер¬
вой топики не достаточно. Здесь нам уже понадобится вторая — «Я и
Оно» [Фрейд 1990с1[. Понятное дело, что Я это обычный игрок, цель
которого добиться удовлетворения, Оно — это мяч, воплощающий са¬
мое либидо, а вот вратарь - это Супер-Эго, субстанция, мешающая
удовлетворению, желания, получению удовольствия от забивания гола.
(Да и какое же удовольствие, когда нет препятствия?) Если игрок,
прежде всего, думает о себе, об удовлетворении своего желания, то вра¬
тарь, прежде всего, думает о команде. Противопоставление Е§о-игро-
ка и 8 иреге§о-голкипера показано в футбольном эпизоде романа Ю.
Олеши «Зависть», где немецкий форвард Гецке противопоставлен со¬
ветскому вратарю Володе. «Володе был важен общий ход игры, общая
победа исход, Гецке стремился лишь к тому, чтобы показать свое искус¬
ство». При этом важно, что матч происходит на фоне сексуальной ат¬
мосферы отношений Кавалерова и Вали. Характерно, что, когда мяч,
попадая на трибуну, падает прямо к ногам Кавалерова, тот даже не на¬
ходит в себе сил, чтобы поднять его и бросить обратно на поле, чем
символизирует свою сексуальную несостоятельность в глазах Вали.
Особая роль вратаря, хранителя, держателя цели (§оа1кеерег) оли¬
цетворяется в том факте, что он один имеет право брать мяч в руки (по
сути дела мять, сжимать его — ср. этимологию слова ‘мяч’ — оно про¬
исходит от слова ‘мять’), (ср. также «игру» Гамлета с черепом Йорика -
тема соотнесенности сакрального и профанного, жизни и смерти в фут¬
боле, которая всплывет ниже), т.е., по сути, мастурбировать им, осуще¬
ствляя функцию сдерживания сексуальной деструкции, введение ее в
разумный принцип реальности. (Ребенок, живущий по принципу удо¬
вольствия, при обучении игры в футбол, долго не может понять, поче¬
му же его нельзя брать руками — это же так удобно, так приятно.)
253
Вадим Руднев
Словарь безумия
Чтобы закончить с Фрейдом, рассмотрим в этой связи и третью
топику — противопоставление инстинкта жизни и влечения к смерти
[Фрейд 1990а].
Очевидно, что Супер-Эго-вратарь, с одной стороны, противосто¬
ит разрушительному желанию противника, т.е. стоит на страже жиз¬
ни. Но, с другой стороны, ведь удовлетворение желания направлено в
сторону продолжения жизни («оплодотворения» ворот) поэтому, вра¬
тарь («привратник») одновременно защищает жизнь своей команды и
приближает смерть противоположной.
Психоаналитический смысл заразительности футбола — в его суб-
лимативности. Мужчина так любит играть, а еще больше смотреть
футбол по телевизору (расслабленными после работы, развалившись,
в отработанных уже нашей рекламой кресле и тапках), потому что ус¬
тал, а так хочется «впарить» и, конечно, в первую очередь, в «чужие
ворота». В этом основной смысл игры — борьба за что? За женщину?
Скорее, за невозможность избыточного желания, о котором так мно¬
го твердили Жак Лакан и Славой Жижек [Лакан 1998; Жижек 1999].
Футбол это тот самый непристойный объект желания, о котором го¬
ворит С. Жижек в книге «Возвышенный объект идеологии». Отчего же
непристойный? Оттого, что смотреть футбол непристойно. Это назы¬
вается вуаеризм: смотреть, как другие впаривают.
Все же необходимо разобраться с феноменологией мяча и головы.
Ведь ясно, что это субститутивные объекты, о чем мы уже говорили,
ссылаясь на древних ирландцев. Голова, конечно, тоже имеет непри¬
стойную символизацию: недаром головой, как и ногами, можно отби¬
вать мяч. Но дело не только в этом. Мяч как сгусток сексуальности и
голова как сгусток интеллектуальности порождает интересные парал¬
лели. Скажем, параллель между футболом и шахматами. Нет, кажет¬
ся, более противоположных видов спорта. В футболе подвижно тело
и почти не участвует голова. В шахматах неподвижно тело и подвиж¬
ны мозги. Это не значит, конечно, что в футболе не надо соображать.
Но только не головой. (Как и в любви, разумеется.)
Здесь как будто не хватает одного звена, которое должно было бы
вывести рассуждения о футболе из чисто психоаналитической пробле¬
матики. Что же это за звено? Рассмотрим пространство футбола. Здесь
ясно прочерчиваются оппозиции: маленького, круглого и объемного
меча, с одной стороны, и большого, прямоугольного и плоского поля,
с другой. Ворота выполняют, как и положено подобным объектам,
медиативную функцию: они не такие большие, как поле, покрыты
сеткой, но прямоугольные. Итак, по прямоугольному полю движутся
одушевленные объекты, которые, при помощи нехитрых ухищрений,
254
Психоанализ футбола
П
пытаются ногами вкатить маленький круглый предмет в прямоуголь¬
ное отверстие. Не замечается ли здесь чего-либо странного? Стран¬
ность в том, что, в сущности, пространство футбола двумерно. Удар
вверх практически не функционален, удар вниз практически невозмо¬
жен (разве только что опять-таки головой). Но ведь мы живем в трех¬
мерном мире. Что дает футболу трехмерность? Земля и небо. И мяч.
И голова.
Футбол в отличие от хоккея, баскетбола и волейбола играется на
траве, под открытым небом. Поэтому его пространство, будучи плос¬
ким, одновременно является безгранично открытым. Мяч, в принци¬
пе, может улететь, куда угодно. Улететь и не вернуться. Его могут заб¬
рать зрители в качестве сувенира, он может проколоться обо что-ни¬
будь и, наконец, просто пропасть в небе.
В этом смысле отождествление мяча с головой, которое так утон¬
ченно чувствовали лучшие русские поэты, писавшие про футбол, кос-
мизируется.
Мандельштам, стихотворение «Футбол», как всегда у этого поэта,
странное:
Телохранитель был отравлен
В неравной битве занемог,
Обезображен, обезглавлен
Футбола толстокожий Бог.
Должно быть, так толпа сгрудилась,
Когда, мучительно-жива,
Не допив кубка, покатилась
К ногам тупая голова?
Неизъяснимо лицемерно -
Не так ли кончиком ноги
Над теплым трупом Олоферна,
Юдифь, глумились и враги?
Итак, футбольный мяч коннотирует отрубленной голове (Иоанна
Крестителя - к теме страсти добавляется христианская тема мук тела
и духа, стало быть, и Христа; Олоферна - к теме секса добавляется
тема предательства и войны, - конечно, футбольное поле ассоцииру¬
ется с полем битвы - это очевидно; всем мифологическим яблокам,
вместе взятыми, и еще, самое главное, Земному Шару). Футболист бе¬
жит по горизонтальному полю с мячом и целью забить гол, «впарить»,
а по вертикали совершается совсем другой брак, брак между Земным
Шаром и небом, между Вселенной и ее Творцом.
255
Вадим Руднев
Словарь безумия
Еще более странно стихотворение Заболоцкого, которое тоже на¬
зывается «Футбол». Оно довольно большое (56 строк), поэтому мы не
имеем возможности здесь полностью его процитировать. В этом сти¬
хотворении бег героя-форварда оборачивается избиением его против¬
никами, отравлением, и, конечно, обезглавливанием. При этом мяч
явно превращается в Земной Шар. И эта триада: мяч — голова — Зем¬
ной Шар - безусловно определяет глубинную семантику этого текста
о футболе, смысл которого, как мне кажется, в том, что бег форварда
по горизонтали на пути к победе, к осуществлению желания, совер¬
шенно поверхностен, а наиболее важно то, что происходит по верти¬
кали, где микрокосм, профанное (мяч), соединяется с сакральным
макрокосмом (Земной Шар) при помощи негативной медиации обез¬
главливанием.
То, что мы называем футболом, таит какую-то чрезвычайно арха¬
ическую и значимую ритуально-мифологическую жертву, которая,
разумеется, имеет сексуальный характер, но главная семантема кото¬
рой — это утверждение неделимой сферической космической уплот¬
ненности, стабильности через разрыв единичного тела, через неудов¬
летворенность избыточной непристойности желания. То, что мяч про¬
никает в ворота, безусловно важно, но то, что форвард оказывается
козлом отпущения, важнее, чем забивание мяча в ворота; космичес¬
кое совокупление его головы с головой Земли — это, пожалуй, самое
важное.
Поэты подчеркивают в футболе не отвагу и силу, а что-то совсем
противоположное: то что, видимо, и было вначале - некую важнейшую
архаическую жертву, где определяющую роль играла отрубленная голо¬
ва и смысл которой, как мы только можем догадываться, далеко выхо¬
дит за пределы демонстрации мощи и победы над противником, этот
смысл гораздо более широк и космологичен. Это какие-то магические
жертвенные манипуляции с Земным Шаром, со всей Вселенной.
ПСИХОЛОГИЯ Денег. Считается что, ранний большевизм позаим¬
ствовал свою идеологию в первоначальном христианстве и что одной
из ключевых черт этой идеологии был аскетизм и, в частности, без¬
условно отрицательное отношение к деньгам. В первоначальном
христианстве не было такой институции, как церковь. Считается, что
это именно церковь строит храмы и собирает церковную подать. Иисус
же ничего такого не завещал, он призывал к бескомпромиссной ни¬
щете. Но так ли это?
256
Психология денег
П
Вспомним под этим углом зрения Священное Писание — и мы
увидим, что это собрание историй, в которых, как ни странно, одну из
главных ролей играют деньги. Притча о зарытых талантах. Хозяин там
наказывает раба за то, что тот не пустил деньги в рост. История с трид¬
цатью сребренниками. Эпизод, который обычно называют «динарий
кесаря». (Мф, гл. 22, ст. 15 и далее): фарисеи, стараясь подставить
Иисуса, задают ему вопрос: следует ли платить подать кесарю?
18. Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, ли¬
цемеры? 19. Покажите Мне монету, которою платится подать. Они
принесли Ему динарий. 20. И говорит им: чье это изображение и
надпись? 21. Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак, отдай¬
те кесарево кесарю, а Божие Богу. 22. Услышавши это, они удиви¬
лись и, оставивши Его, ушли.
Вместо простодушия и нонконформизма фарисеи наткнулись на
тонкого дипломата. То, что деньги — это плохо, что они постыдная
вещь и о них вообще не надо говорить, их не надо зарабатывать в боль¬
ших количествах и т. д., все это пошло, конечно, от большевиков. Но
каковы исторические корни этого взгляда? Можно с уверенностью
сказать, что это не христианство, скорее уж гностицизм или крайние,
нигилистические проявления католичества - нищенствующие мона¬
шеские ордена.
Здесь уместно вспомнить, что деньги в психоаналитической тради¬
ции прочно связываются с испражнениями (известный пример Фрей¬
да о том, что медвежатник на месте вскрытого сейфа оставляет «кучу»
в качестве эквивалента украденного; так же известная латинская пого¬
ворка поп о1еГ ресиша — деньги не пахнут — связана с тем же комплек¬
сом проблем - она приписывается римскому императору Веспасиану
Флавию, введшему плату за пользование общественными сортирами).
Теперь сопоставим две вещи: три стадии детской сексуальности в пси¬
хоанализе (оральная, анальная и фаллическая) (см. также психоанализ
рекламы) и три общественно-экономические формации у Маркса (фе¬
одализм, капитализм и социализм (коммунизм)). Как известно, у боль¬
шевиков была популярной идея перехода из феодализма в социализм,
минуя капитализм, т.е. минуя анальную стадию - деньги.
В сущности, советская власть стремилась, чтобы денег вообще не
было или чтобы они были чисто номинально. В действительности это¬
го почти удалось достигнуть. Советские деньги были игрушечными. Их
нельзя было конвертировать. Простой обмен валюты был в советское
время тяжким уголовным преступлением.
257
9-11117
Вадим Руднев
Словарь безумия
Идеал был утопический - стремились к тому, чтобы деньги исчез¬
ли вообще. К этому подталкивал и собственный опыт, который гово¬
рил, что деньги не нужны. Воспоминания о Сталине и Молотове сви¬
детельствуют о том, что они подолгу вообще не видели денег. Это была
утопическая реальность. В утопии нет никаких денег. Как, например,
нет, никаких денег в «Винни Пухе». Они там совершенно не нужны.
Ослик собирает свой чертополох прямо у себя перед домом, так же как
Поросенок - свои желуди. Мед же и сгущенное молоко для Винни
Пуха поставляются из спецраспределителя Кристофера Робина.
В сущности, безденежный социалистический мир со всеми его рас¬
стрелами, тюрьмами, гулагами, презумпцией виновности и прочей реп¬
рессивной арифметикой был таким же инфантильным, как мир «Вин¬
ни Пуха». Мы так же ходили в друг к другу в гости, так же застревали в
норе у Кролика, так же пытались похудеть, читали неразборчивые по¬
слания, открывали Северный Полюс. Славная была жизнь. И, конеч¬
но же, вспоминая латинскую паремию, — деньгами тут и не пахло.
Поэтому, вступив в капиталистическую стадию своего переношен¬
ного развития, мы оказались совершенно беспомощными перед их
красотой и мощью. Большие деньги мы восприняли в фольклорном
духе как некое чудо. (Недаром первые архитектурные проекты домов
новых русских напоминали либо кафкианские замки, либо сказочные
теремки.) Как с чудом с ними и стали обращаться. Поэтому у нас так
легко пошли финансовые пирамиды.
Русские в массе своей никогда не понимали позитивной и антиэн-
тропийной, созидающей сущности денег, воспринимая их как гнетущее
число (ср. обсессия и число), от которого надо поскорее избавиться,
отсюда это сравнение денег с грязью, выражение «сорить деньгами».
По-видимому, отчасти это связано с недостатком индивидуализма и
рационализма в русском национальном характере (Георг Зиммель, ав¬
тор фундаментальной «Философии денег», считал, что деньги как со¬
циальный концепт связаны позитивной связью именно с индивидуаль¬
ностью и рациональностью [5тте11971] .)
Однако не большевики виноваты в том, что русские деньги име¬
ют столь плачевную судьбу. Виновата в этом великая русская литера¬
тура XIX века. Как писал Дмитрий Галковский в «Бесконечном тупи¬
ке», русская литература обладала двумя фундаментальными свойства¬
ми: креативностью и револютативностью, т.е. все, что происходило на
страницах русской прозы, воплощалось в жизнь, но воплощалось в
утрированной карикатурной форме [Галковский 1997].
Можно с уверенностью говорить, что русские писатели вменили
русскому сознанию, как минимум, пять злокачественных идей, связан-
258
Психология денег
П
ных с отрицательным отношением к деньгам и составляющих то, что
можно назвать эксмеркантилистским комплексом:
1) Деньги как объект частичного фетишистского влечения, невро-
тизирующие субъекта и препятствующие нормальному гени¬
тальному развитию либидо.
2) Деньги как эксконсьюмеристский объект, т.е. объект, полно¬
стью выключенный из товарного обращения и содержащийся
втайне у частного лица и, таким образом, не приносящий ни¬
какой пользы обществу.
3) Деньги как форинизированный объект, т.е. объект, апроприи-
рованный лицами некоренной национальности и, тем самым,
ослабляющий экономику государства.
4) Деньги как объект анально-обсессивно-садистического крими¬
нализирующего перверсного влечения, т.е., иначе говоря, - где
деньги, там убийство и насилие.
5) Деньги как инструмент крезиализации субъекта, т.е. человек,
у которого много денег, непременно сойдет с ума, если вовре¬
мя не одумается и не раздаст их нищим.
Одним из парадигмальных в плане философии эксмеркантилиза-
ции художественных текстов русской литературы является трагедия
Пушкина «Скупой рыцарь». Барон — «рыцарь первоначального накоп¬
ления», но это накопление не служит никаким социальным целям. В
сущности, Барон — перверт-фетишист:
Я каждый раз, когда хочу сундук
Мой отпереть, впадаю в жар и трепет...
Какое-то неведомое чувство...
Нас уверяют медики: есть люди,
В убийстве находящие приятность.
Когда я ключ в замок влагаю, то же
Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая в жертву нож: приятно
И страшно вместе.
('Отпирает сундук.)
Вот мое блаженство! —
для которого накопление денег служит исполнению его садистических
фантазий:
Тут есть дублон старинный... вот он. Нынче
Вдова мне отдала его, но прежде
у*
259
Вадим Руднев
Словарь безумия
С тремя детьми полдня перед окном
Она стояла на коленях, воя.
Шел дождь, и перестал, и вновь пошел,
Притворщица не трогалась; я мог бы
Ее прогнать, но что-то мне шептало,
Что мужнин долг она мне принесла
И не захочет завтра быть в тюрьме. —
и паранойяльного бреда о тотальной власти над миром:
Я свистну, и ко мне послушно, робко
Вползет окровавленное злодейство,
И руку будет мне лизать и в очи
Смотреть, в них знак моей читая воли.
Мне все послушно, я же - ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознанья... (Смотрит на свое золото.)
В фигуре Барона Пушкин воплотил свой инфантильный страх
перед неизбежным наступлением капитализма. Он противопоставил
Барону его сына Альбера. Это шизонарцисс, начитавшийся Бодрий-
ара и полагающий поэтому, что деньги представляют собой лишь
средство для бесконечного избыточного потребления, но при этом
жестко фиксированный на эдипальной стадии и предпочитающий
смерть отца эфемерной надежде получить состояние законным по¬
рядком.
Наконец, в пьесе изображен также и третий, объективно говоря,
наиболее адекватный тип отношения к деньгам, искаженный Пушки¬
ным в форинизационном духе: субъектом наиболее нормального от¬
ношения к деньгам как средству обмена является «проклятый жид,
почтенный Соломон», который к тому же подогревает в рыцаре Аль-
бере его эдипальные инстинкты, подговаривая его отравить Барона.
Таким образом, в пьесе реализованы четыре элемента эксмеркантили-
сткого комплекса — деньги как частичный фетишистский объект, ан-
тиконсьюмеристский объект, форинизированный объект и кримина-
лизирущий анально-садистический объект.
Пятый элемент этой эксмеркантилистской пентады Пушкин реа¬
лизовал в повести «Пиковая дама». В этом произведении шизофрени¬
ческая амбивалентность героя, заставляющая его все время вставать
перед выбором, каким путем реализовать свое либидо - анально-са¬
дистическим или генитальным — толкает его сначала на путь анально¬
260
Психология денег
П
садистической акцентуации — Германн в тот момент, когда он должен
выбрать, куда идти: направо к Лизе или налево к старухе, уверенно
идет к старухе. Беспрецедентный субъективизм русского писателя
выразился в самой постановке вопроса о том, что необходим выбор
между деньгами и женщиной. На самом деле здесь нет никакой про¬
блемы: надо было спокойно забрать у старухи бабки, а потом вернуться
к Лизе. Непонимание этого ведет к острому психотическому состоя¬
нию, бредовым представлениям и необратимому шизофреническому
дефекту.
Теперь вернемся к нашему первоисточнику и посмотрим, как с
деньгами управлялись в старые добрые времена. Цитата будет длин¬
ной, но поучительной:
...человек, <...> отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих
и поручил им имение свое: и одному дал он пять талантов, друго¬
му два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился.
Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело (здесь и
далее курсив мой. — В.Р.) и приобрел другие пять талантов; точно
так же и получивший два таланта приобрел другие два; получивший
же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро гос¬
подина своего. По долгом времени, приходит господин рабов тех
и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов
принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты
дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них. Господин его
сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен,
над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. По¬
дошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два
таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. Гос¬
подин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты
был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина
твоего. Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я
знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и соби¬
раешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой
в земле; вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый
раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не
рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим,
и я, придя, получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него та¬
лант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему
дается и преумножится, а у неимеющего отнимется и то, что име¬
ет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач
и скрежет зубов...» (Мтф., 25, 14-30).
261
Вадим Руднев
Словарь безумия
Повторяя уже сказанное, советский народ был почти лишен вла¬
стью анальной фазы развития и практически полностью — Эдиповой
фазы. Это было насильственным отлучением от обучения основам
власти и, в частности, власти денег. Практически лишенный капита¬
листической агрессивности анальной фазы и наделенный лишь атро¬
фированной инкубаторской сексуальностью, советский народ всту¬
пил в денежную эпоху совершенно незрелым, с несформировавши-
мися, невыстроенными символическими отношениями, «лицом к
лицу с Реальным» [Лакан 1998]. Представьте себе ребенка, отнятого
от материнской груди и помещенного в некую, асоциальную искус¬
ственную среду. После того, как он вырос биологически, его вдруг
вынимают из этой среды и помещают в обычный социум. Ясно, что
у такого индивида шансы выжить гораздо меньше, чем у нормально¬
го ребенка, прошедшего анальную фазу, Эдипов комплекс, выстроив¬
шего и сформировавшего символические отношения с реальностью.
Современная Россия, конечно, больше напоминает первого ребенка.
ПсИХОТИЧеСКИЙ дискурс (См. также невроз и психоз, шизоф¬
ренический дискурс.) Говоря о психотическом дискурсе, мы будем
прежде всего обращать внимание не на план содержания, а на план
выражения, не на означаемое, а на означающее. То есть для нас бу¬
дет важен переход «психотического» из психопатологии в эстетику.
Как же форма художественного произведения может соответствовать
психотическому началу? Для этого нужно, чтобы в ней символичес¬
кое подавляло реальное, чтобы художник придумал свой особый
язык, аналог психотического бреда, понятный ему одному. В наибо¬
лее явном виде такой язык придумывали футуристы, Хлебников,
Бурлюк, Крученых. В этом языке были искажены и сломаны и син¬
таксис, и семантика, и прагматика. Это был психотический дискурс
в наиболее сильном смысле. Примеров мы в данном случае приво¬
дить не будем, так как они очевидны. Гораздо более тонкие вещи
проделывали с языком обэриуты, прежде всего, Хармс и Введенский.
Тонкость была в том, что они монтировали свой психотический язык
из осколков обыденного языка, поэтому они, особенно Хармс, мог¬
ли работать даже на игровом поле детской литературы или литерату¬
ры, притворяющейся детской:
Как-то бабушка махнула
и тотчас же паровоз
262
Психотический дискурс
П
детям подал и сказал:
пейте кашу и сундук.
Утром дети шли назад
сели дети на забор
и сказали: вороной
поработай, я не буду,
Маша тоже не такая
как хотите может быть
мы залижем и песочек
то что небо выразило.
Однако для образования психотического дискурса не обязательно
коверкать слова или придумывать новые слова, как это делали футу¬
ристы, или деформировать сочетания слов, как в вышеприведенном
примере. Достаточно нарушить соотношение между словами (предло¬
жениями) и их восприятием, т.е. деформировать прагматику дискур¬
са (в чем, напомним, состоит суть авангарда). Так, например, посту¬
пает Хармс в классическом тексте «Вываливающиеся старухи»:
Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна,
упала и разбилась.
Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на раз¬
бившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из
окна, упала и разбилась.
Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом
пятая.
Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и
я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому по¬
дарили вязаную шаль.
Здесь не нарушены ни синтаксис, ни сочетания слов, ни поверх¬
ностная семантика. Тем не менее, это бредовый психотический дис¬
курс. И впечатление бреда создается - это очень существенная черта
психотического дискурса — оттого, что у героя не вызывает никакого
удивления факт последовательного выпадения из окна одной за дру¬
гой шести старух, и даже наоборот, ему эти наблюдения за выпадаю¬
щими старухами в конце-концов надоедают.
Рассмотрим более сложные примеры. Сравним следующие три
фрагмента:
(1) Глядя мечтательно в ту бескрайность туманов, государственный
человек из черного куба кареты, вдруг расширился во все стороны
и над ней воспарил; и ему захотелось, чтоб вперед пролетела ка¬
263
Вадим Руднев
Словарь безумия
рета, что проспекты летели навстречу — за проспектом проспект,
чтобы вся сферическая поверхность планеты оказалась охвачен¬
ной, как змеиными кольцами, черно-серыми домовыми кубами;
чтобы вся проспектами притиснутая земля, в линейном космичес¬
ком беге пересекла бы необъятность прямолинейным законом;
чтобы сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью про¬
спектов, в мировые бы ширилась бездны плоскостями квадратов
и кубов: по квадрату на обывателя, чтобы...
(2) Но если дядя Гэвин и прятался где-то в овражке, Гауну ни разу
не удалось его поймать. Более того: и дядя Гэвин ни разу не пой¬
мал там Гауна. Потому что если бы моя мама когда-нибудь узна¬
ла, что Гаун прячется в овражке за домом мистера Сноупса, думая,
что там прячется и дядя Гэвин, то, как мне потом говорил Гаун,
неизвестно, что бы она сделала с дядей Гэвином, но то, что она
сделала бы с ним, Гауном, он понимал отлично. Хуже того: вдруг
мистер Сноупс узнал бы, что Гаун подозревал дядю Гэвина в том,
что он прячется в овражке и следит за его домом. Или еще хуже:
вдруг весь город узнал бы, что Гаун прячется в овражке, подозре¬
вая, что там прячется дядя Гэвин.
(3) Роман вышел из церкви и подошел к дому Степана Чернова.
Роман вошел в дом Степана Чернова. Роман нашел труп Степана
Чернова. Роман разрубил брюшную полость трупа Степана Черно¬
ва. Роман взял кишки Степана Чернова. Роман вышел из дома Сте¬
пана Чернова и пошел к церкви. Роман вошел в церковь. Роман
положил кишки Степана Чернова рядом с кишками Федора Косо-
рукова. Татьяна трясла колокольчиком. Роман вышел из церкви и
пошел к трупу Саввы Ермолаева. Роман нашел труп Саввы Ермо¬
лаева. Роман разрубил брюшную полость трупа Саввы Ермолаева.
Роман вынул кишки из брюшной полости трупа Саввы Ермолае¬
ва. Роман взял кишки Саввы Ермолаева и пошел к церкви. Роман
вошел в церковь. Роман положил кишки Саввы Ермолаева рядом
с кишками Степана Чернова. Татьяна трясла колокольчиком.
В первом фрагменте (речь идет о романе Белого «Петербург») бред
Аполлона Аполлоновича Аблеухова обусловлен тем, что этот герой —
параноидноподобный ананкаст, т.е., с одной стороны, болезненно пе¬
дантичный человек (например, все полки в гардеробе он велел проин¬
дексировать - А, В, С) (ср. обсессия и число), а с другой стороны, бо¬
лезненно тщеславный, страдающий бредом величия. И вот его бред как
264
Психотический дискурс
П
раз сочетает геометричность его характера и манию величия — он хо¬
чет вобрать в себя весь макрокосм, но, в то же время, построить его в
виде правильных геометрических линий. Этому последнему геометри-
чески-психотическому желанию в плане означаемого соответствует
психотическое означающее, болезненная и с точки здравого смысла
достаточно нелепая идея автора романа записывать весь дискурс мет¬
рически правильными периодами, как правило, анапестом. Надо ска¬
зать, что геометрический бред Аблеухова опосредован не только его
личностными качествами, но особенностями главного героя романа,
города Санкт-Петербурга, и порожденного им так называемого петер¬
бургского мифа и петербургского текста. Главной идеей петербургско¬
го мифа была вполне психотическая идея; в соответствии с ней Петер¬
бург — это город-призрак, который в одночасье появился и в одноча¬
сье пропадет. Главной идеей петербургского текста была идея, что это
город, в котором невозможно жить, который с необходимостью бла¬
годаря своему болезненному климату, как природному, так и психоло¬
гическому, ведет к болезням, в частности, к психическим; см., напри¬
мер, [ Топоров 1995]. Неслучайно наиболее значимые петербургские
тексты это тексты, рассказывающие о психозах - «Медный всадник»
и «Пиковая дама» Пушкина, «Двойник» и «Господин Прохарчин» До¬
стоевского (вспомним, кстати, что кульминационная сцена «Петер¬
бурга» Белого - это психоз одного из главных героев террориста Дуд¬
кина, когда к нему в гости приходит Медный всадник: одновременно
это, конечно, реминисценция и из «Каменного гостя»).
Следующий фрагмент демонстрирует такой тип художественного
дискурса, который мы называем психозоподобным. Здесь изображают¬
ся люди вполне нормальные, но все они одержимы какой-то навязчи¬
вой идеей, которая на перекрестке означаемого и означающего дает
нечто весьма похожее на психотический дискурс. Это роман Фолкне¬
ра «Город», одно из самых теплых, «некровожадных» его произведе¬
ний — вторая часть трилогии о Сноупсах. Его главный отрицательный
герой Флем Сноупс одержим идеей натурализации в городе Джеффер¬
соне (не так уж, кстати, далеко от навязчивого стремления землемера
К. натурализоваться в Замке), его племянник Минк на протяжении 35
лет сидит в тюрьме, одержимый идеей мести Флему за то, что тот не
помог ему в трудную минуту. Положительные же герои Гэвин Стивенс,
Чарльз Маллисон, и В. К. Рэтлиф одержимы идеей слежки за Сноуп-
сами, которых Флем навязчиво тянет за собой из деревни в город с
целью их искоренения.
И вот эта навязчивость, неотступность всех действий, даже если
она не связана со слежкой за Сноупсами в плане означающего в вы¬
265
Вадим Руднев
Словарь безумия
шеприведенном отрывке соответствует особому синтаксису, как бы
нагнетающему эту навязчивость и сверхценность - один следит за дру¬
гим, другой за первым, а может быть, в этот момент за ними следит тот,
за кем следят они оба. При этом имена дяди и племянника Гэвин/Гаун,
т.е. того, кто, следит, и того, за кем следят, настолько похожи, что они
путаются, как путаются тот, кто следит, и тот, за кем следят.
Эта паранойяльная упертость характерна для героев практически
всех романов Фолкнера — «Свет в Августе», «Осквернитель праха»,
«Авесалом! Авесалом!». Особо надо сказать о романе «Звук и ярость».
Он одновременно является и меньше, и больше, чем психотическим.
Психопатологический «клиницизм» падает от первой части к после¬
дней: идиот Бенджи, шизофреник Квентин, здоровый в узком психи¬
атрическом смысле эпилептоид Джейсон и наконец - в четвертой ча¬
сти гармонизирующий голос автора. Однако все три первых части в
равной мере являются психотическими, так как представляют разго¬
вор на придуманном языке, которого никто не слышит и никто не
понимает, и это в равной мере относится и к Бенджи, и к Квентину, и
к Джейсону.
Последний фрагмент взят из романа Владимира Сорокина «Ро¬
ман». Как мы все помним, почти все произведения этого автора стро¬
ятся однообразно - сначала следует «советскоподобный» дискурс (в
«Романе» это русскоподобный дискурс), затем разверзается некая про¬
пасть и начинается бред. Надо сказать, что здесь самым закономерным
образом Сорокин является последователем Кафки, классические вещи
которого, такие, например, как «Приговор» или «Сельский врач»,
строятся именно таким образом. Только у Кафки фоновым является,
так сказать, «буржуазный дискурс». Поскольку бредовость приведен¬
ного фрагмента в плане означаемого сомнений не вызывает, то обра¬
тимся сразу к означающему. Здесь интересно ярко выраженное мат¬
ричное построение, которое является знаком измененного состояния
сознания. В данном фрагменте первое предложение почти полностью
повторят структуру восьмого, третье — девятого, четвертое — десятого
и т. д. Это повторяется на протяжении нескольких десятков страниц.
Один исследователь творчества Сорокина уподобил подобные пас¬
сажи из «Романа» примерам клинических описаний из «Половой пси¬
хопатии» Р. Крафт-Эбинга. Это было бы правильно, если бы текст
Сорокина был классическим психотическим дискурсом. Но это не
совсем так. Формула классического психотического дискурса такая:
символическое подменяет Реальное (см. невроз и психоз). Но о каком
Реальном может идти речь в искусстве конца XX века! Не станем за¬
бывать, что Сорокин все-таки представитель постмодернизма, пусть
266
Психотический дискурс
П
даже в таких его крайних проявлениях. Суть текстов Сорокина, как и
любого постмодернизма, в том, что первичным материалом для худо¬
жественной обработки, является не Реальное, а Воображаемое, не не¬
посредственно взятая реальность, а предшествующая литературная
традиция - у Сорокина советский или русский дискурс. И психоз воз¬
никает не на фоне Реального, а на фоне этого первичного Вообража¬
емого, психоз подавляет не Реальное, мы такого уже давно не знаем,
а Воображаемое. Будем называть подобного рода построения постпси¬
хотическим дискурсом.
В качестве еще одного пограничного в этом плане художественного
феномена можно привести роман Бориса Виана «Сердцедер». Здесь
имеет место характерное для классического психотического дискурса
нарушение обычных психологических мотивировок и отсутствие удив¬
ления по поводу удивительного и чудесного. Герой наблюдает, как кре¬
стьяне казнят животных, следит за распродажей стариков. Кюре на
мессе выступает вроде языческого жреца-насылателя дождя, Герой,
«абсорбируя ментальность черного кота», сам приобретает повадки
кота — начинает ловить мышей, чесать за ухом, у него обостряется слух
и обоняние. Мать, чтобы с детьми ничего не случилось, запирает их в
клетки. Чудесное становится психологической нормой. Однако и здесь
явственно проступают постпсихотические черты. Хотя повествование
в целом экзистенциально-трагично, но в позиции автора проглядывает
некая циническая ирония, которая опять-таки заставляет вектор, иду¬
щий от Символического к Реальному, останавливаться на Воображае¬
мом.
р
Реальность. Поскольку понятие реальности играет фундаменталь¬
ную роль при изучении неврозов и психозов, главным фактором кото¬
рых является отказ от реальности (см. также безумие и реальность),
имеет смысл изложить наше понимание того, что такое реальность.
Разложим для этого слово реальность на семантические составляю¬
щие. Итак, реальность это:
(1) совокупность всего, что существует;
(1.1) совокупность всего, что существует независимо от человечес¬
кого сознания;
(1.2) совокупность всего материального.
Чрезвычайно большие сложности связаны с понятием существо¬
вания. Сложности эти можно в двух словах описать так.
Глагол «существовать» существует одновременно в двух функциях -
как предикат и как квантор — а именно квантор существования. Когда
мы говорим, что, например, «существует много интересных вещей», то
мы используем это понятие в его кванторном значении, как бы припи¬
сывая его всему высказыванию и забывая о его предикативном значе¬
нии. Но тот факт, что высказывание «Не существует многих интерес¬
ных вещей», — т.е. отрицание этого предыдущего высказывания дела¬
ет предложение бессмысленным, позволяет задуматься о том, является
ли вообще существование обычным предикатом. Б. Рассел предложил
остроумное решение этого вопроса - считать, что «существование» это
свойство не высказывания, а пропозициональной функции.
Но тогда остается еще такой парадокс: например, когда мы гово¬
рим, что «ведьм не существует», то мы высказываем нечто вроде: «Су¬
ществуют такие ведьмы («существовать» как квантор), которые не су¬
ществуют (существовать как предикат)».
Этот парадокс можно разрешить при помощи различных логичес¬
ких процедур. Например, при помощи расселовской теории дескрип¬
ций, но он продолжает существовать психологически в виде максимы:
«Как же это не существует, если про него можно сказать, что оно не
существует. Если бы оно не существовало вовсе, то не о чем было бы
вообще говорить». Стало быть, оно как-то существует в моем созна¬
нии и в сознании окружающих, в воображении, в некоем «третьем
мире».
268
Реальность
Р
Мы говорим, что Шерлок Холмс никогда не существовал, но это
значит, что любое высказывание о нем не должно иметь смысла. Од¬
нако мы интуитивно прекрасно чувствуем, что высказывание: «Шер¬
лок Холмс жил на Бейкер-стрит» в каком-то смысле истинно, а фраза
«Шерлок Холмс был женат» или «Шерлок Холмс прекрасно играл на
виолончели» в каком-то смысле ложна. Они истинны и ложны в воз¬
можном мире рассказов Конан-Дойля и разговоров вокруг этих рас¬
сказов [ \Уоос1ч 1974\. Но раз возможны эти разговоры вокруг несуще¬
ствующих рассказов, значит, в каком-то смысле, говоря, что Шерлок
Холмс не существует, мы каким-то образом производим насилие над
нашим языком, «злоупотребляем» (пизше) им.
Таким же парадоксопорождающим является слово «всё». Когда мы
говорим, что реальность — это «все существующее», то мы, тем самым,
косвенным образом вообще даем понять, что «не-существующее» —
это «не-все». «Все, что существует, — реально. Все, что не существует, —
не реально». Мы уже показали парадоксальность второй фразы, кото¬
рая может означать только следующее: «Для каждого индивида (т.е. для
всех индивидов) истинным является то, что он является не существу¬
ющим, и это и есть нереальное».
Итак, разграничить реальное и вымышленное по признаку суще¬
ствования оказывается очень трудно. И здесь можно говорить, ско¬
рее, о некоем «совокупном опыте» восприятия реального и вымыш¬
ленного.
Второй признак - независимость реальности от сознания. Здесь
все тоже очень не просто. На протяжении тысячелетий конкурируют
две противоположных философских традиции — объективно-матери¬
алистическая и субъективно-идеалистическая. Первая придерживается
тезиса о независимости реальности от сознания, вторая говорит, что
только сознание реально или наоборот, что реальной является реаль¬
ность, к которой неприменимо понятие существования или несуще¬
ствования и которая противопоставлена эмпирическому опыту.
Феноменологическому сознанию человека конца XX века трудно
представить, что нечто может существовать помимо чьего-либо созна¬
ния (тогда кто же засвидетельствует, что это нечто существует?)
Третье свойство реальности — это ее материальность. Представля¬
ется, что здесь дело обстоит так же сложно, как и с независимостью от
сознания. Думается, что невозможно представить себе как неоформ¬
ленную незнаковую материю (так сказать, просто материю в чистом
виде), так и нематериализованного каким-либо образом знака (план
выражения для функционирования знака не менее важен, чем план
содержания). Феноменологически противоречиво говорить, что «этот
269
Вадим Руднев
Словарь безумия
камень лежал на земле тысячи лет», и, стало быть, есть материя. Но,
возможно, тогда не было слова «камень»? Можем ли мы себе предста¬
вить, что нечто неназванное лежит (но тогда ведь могло не быть и сло¬
ва «лежит»!), просто каким-то образом субзистирует на неназванной
земле (ср. бред и язык)? Можно сказать, что идея о том, что камни су¬
ществовали тысячи или миллионы лет, принадлежит каким-то опреде¬
ленным языковым играм (например, археологии), но отнюдь не всем
играм. В философской языковой игре конца XX века очень трудно
представить себе нечто материальное само по себе и само для себя, не
связанное со своим семиотическим субстратом.
И опять-таки нельзя сказать, что вымышленное — это всегда нема¬
териальное. Шерлок Холмс не существует, пишет американский фи¬
лософ Барри Миллер, потому что он «онтологически неопределен, мы
не знаем, сколько у него было волос на голове и что он ел на завтрак»
[МШег 1985]. Но я могу на это возразить, что не знаю количества во¬
лос на голове Барри Миллера и тоже никогда с ним не завтракал.
Но Шерлока Холмса в принципе, с необходимостью нельзя при¬
гласить на завтрак, а Барри Миллера теоретически можно.
Но если детям приглашают на Рождество или на Новый год Деда
Мороза и Снегурочку, разве можно после этого говорить, что Дед
Мороз и Снегурочка не принадлежат каким-то образом реальности?
Человек, которому внушили, что Шерлок Холмс — реальное лицо,
вполне мог бы пригласить Шерлока Холмса на обед. И Шерлок Холмс
мог бы прийти к нему на обед не менее реальный, чем Дед Мороз или
Санта Клаус, например, в виде одетого Шерлоком Холмсом актера.
Мне кажется, полагать, что нечто существует реально, равносиль¬
но тому, чтобы полагать, что некто полагает, что нечто существует.
Поэтому бессмысленно говорить, что ведьм не существует, и средне¬
вековая культура коренным образом заблуждалась относительно их су¬
ществования. Быть может, пройдет несколько тысяч лет, и люди сочтут
разумным сомневаться в существовании холодильников, а существо¬
вание ведьм станет совершенно очевидным.
Можно сказать, что для людей почему-то важно, чтобы что-то счи¬
талось вымышленным, а что-то оставалось реальным. Вероятно, по¬
тому, что вымышленное - это более просто организованное, им легче
манипулировать. Вымысел - это упрощенная, «креолизованная» ре¬
альность.
Мне представляется, что реальность есть не что иное, как знаковая
система, состоящая из множества знаковых систем разного порядка,
т.е. настолько сложная знаковая система, что ее средние пользователи
воспринимают ее как незнаковую [Руднев 2000]. Но реальность не мо¬
270
Реальность
Р
жет быть незнаковой, так как мы не можем воспринимать реальность,
не пользуясь системой знаков. Поэтому нельзя сказать, что система
дорожной сигнализации - это знаковая система, а система водоснаб¬
жения — незнаковая. И та и другая одновременно могут быть рассмот¬
рены и как системы вещей, и как системы знаков.
По нашему мнению, специфика понятия реальности как раз состо¬
ит в том, что в ней имеется огромное количество различных знаковых
систем и языковых игр разных порядков и что они так сложно пере¬
плетены, что в совокупности все это (реальность) кажется незнаковым.
При этом для человеческого сознания настолько важно все делить на
два класса - на вещи и знаки, на действительное и выдуманное, что
ему (сознанию) представляется, что это деление имеет абсолютный он¬
тологический характер.
Но мы не хотим сказать, что понимание реальности как семиоти¬
ческой системы, подразумевает, что реальность - это нечто кажущее¬
ся, «нереальное». Утверждать это — значило бы просто повторять иде¬
алистическую философию. Что же нового дает такой подход, в соответ¬
ствии с которым реальность понимается как знаковая система? Прежде
всего, такое понимание подразумевает правомерность подхода к реаль¬
ности, как к другим знаковым системам, — естественному языку и «вто¬
ричным моделирующим системам». Мы хотим представить, как мож¬
но изучать повседневную реальность, находясь внутри нее.
Представим себе поездку в поезде. Слышится стук колес, пассажир
думает о чем-то своем или читает какую-то книгу, в соседнем купе пла¬
чет ребенок, слышится разговор соседей, но речь их непонятна (они
говорят, кажется, по-эстонски), по радио передают популярную мело¬
дию; пассажир видит в зеркале свое отражение, другие соседи едят, кто-
то храпит, за окном сменяются пейзажи. Вот примерно такова наша
модель реальности. Это принципиально многоканальное сообщение,
многое из которого воспринимающему совершенно не нужно, и поэто¬
му он не обращает внимания на семиотичность львиной доли сигналов,
а воспринимает их как нечто незнаковое, как помехи.
Другой пример. Человеку, находящемуся в депрессии или в состо¬
янии бреда преследования, мир вокруг представляется ужасным. Такова
его реальность. Психотик-параноик идет по улице и отовсюду ему уг¬
рожает смертельная опасность. Проходящий человек как-то странно
посмотрел (следят!), из-за угла вынырнула машина (ведь все подстро¬
ено, надо быть начеку!), дорожки специально не посыпаны песком
(ясно, ведь все сговорились!). Эта «прогулка по психотической улице»
взята нами из исследования современно психотерапевта [Волков 2000].
Для подобного сознания реальность такова, какой она ему кажется.
271
Вадим Руднев
Словарь безумия
Стабильность улицы, по которой идет такой человек, будет заключать¬
ся не в ее материальных качествах, которые как раз будут меняться, а
в семиотических, в том, что это улица Малая Никитская или Сивцев
Вражек.
Рассмотрим теперь еще более простую ситуацию - поездку в трам¬
вае. Ясно, что при этом что-то можно делать, а чего-то нельзя, а что-
то обязательно нужно. Например, обязательным считается брать би¬
лет, можно сидеть или стоять, но нельзя, скажем, лежать. Вот мы опи¬
сали поездку в трамвае с точки зрения деонтической модальности (см.
модальности). Можно также представить себе удачную и неудачную
поездку в трамвае (здесь будет задействована аксиологическая модаль¬
ность). С точки зрения эпистемики, чтобы поехать на трамвае, нужно
знать номер маршрута, направление и пункт конечной остановки.
Неведение или неполное знание может привести к ошибочным дей¬
ствиям. С точки зрения темпоральной ясно, что нужно более или ме¬
нее знать расписание (хотя бы тот факт, что ночью трамваи не ходят).
С точки зрения пространства важно, откуда, куда и с какой скоростью
едет трамвай. Наконец с точки зрения алетики понятно, что на трам¬
вае невозможно пересечь Ламанш. Актуализировав нарративные мо¬
дальности применительно к такому небольшому отрезку повседневной
реальности, как поездка на трамвае, можно выстроить нечто вроде
модального нарративного дискурса, но уже не вымышленного, а по¬
вседневно-реального. Вот конфигурация, которую можно охарактери¬
зовать как «удачная поездка»: пассажир вошел с задней двери, уступил
место старушке (деонтика), народу было мало, пассажиры не толка¬
лись и не переругивались (аксиология), трамвай шел быстро и ни разу
в дороге не сломался (пространство), пассажир, о котором идет речь,
сел на свой маршрут и доехал благополучно до своей остановки (эпи-
стемика), трамвай не опаздывал (время) и никаких чудес не случилось,
трамвай не превратился в «заблудившийся трамвай» (алетика).
А вот неудачная в модальном плане поездка: пассажир ждал трам¬
вая полчаса, вагон был битком набит людьми, поэтому билет взять
не удалось, тем не менее, вскоре появился контроллер и пассажиру
пришлось заплатить штраф, всю дорогу он ехал стоя, трамвай два
раза сходил с рельс, водитель не объявлял остановок вовсе или объяв¬
лял так, что ничего нельзя было понять, и поэтому пассажир понял,
что едет в совершенно неизвестном ему направлении, когда было уже
поздно.
Так средний человек проживает практически всю свою жизнь, не
замечая, что он существует в повышенно и напряженно семиотизиро-
ванном континууме.
с
Сновидение. Самое главное в сновидении — нейтрализация вы¬
мышленного и реального. Текст и реальность могут переходить одно в
другое, т.е. обладают свойством нейтрализации. Причем нейтрализа¬
ция эта может проходить как по тексту, так и по реальности. Нейтра¬
лизацией по реальности мы называем такой случай, когда происходя¬
щее в тексте (например, на сцене) воспринимается так, как будто оно
происходит в реальности. Ганс Рейхенбах в книге «Направление вре¬
мени» приводит такой пример:
В кинематографической версии «Ромео и Джульетты» была пока¬
зана драматическая сцена. В склепе лежит безжизненная Джульет¬
та, а Ромео, который считает, что она умерла, поднимает кубок с
ядом. В этот момент из публики раздается голос: «Остановись!»
Мы смеемся над тем, кто, увлекшись субъективными пережива¬
ниями, забыл, что время в кино нереально и является только раз¬
вертыванием изображений, отпечатанных на киноленте [Рейхенбах
1962: 2Я
Нейтрализацией по тексту мы называем ситуацию, когда происхо¬
дящее в реальности воспринимается человеком как текст, как игра.
Так, в «Герое нашего времени» Грушницкий затевает шутовскую дуэль,
чтобы поставить в унизительное положение Печорина. Но Печорин
узнает о готовящемся розыгрыше, и в ловушку попадает сам Грушниц¬
кий. Думая, что участвует в разыгранной дуэли, он ведет себя беспеч¬
но, но дуэль оказывается настоящей, и Грушницкий погибает.
Мы получим те же два типа нейтрализации, если вместо текста
подставим сновидение. Сновидение и реальность также могут нейтра¬
лизоваться. Человек во сне склонен думать, что все происходящее
происходит наяву, на самом деле, но потом оказывается, что он про¬
сто спал и видел это во сне. Это нейтрализация по сновидению. Ней¬
трализация по реальности, напротив, предполагает, что человеку ка¬
жется, что он спит, в то время как все происходит в реальности. Так у
Достоевского в повести «Дядюшкин сон» престарелый князь вначале
наяву делает предложение молодой героине, но затем все убеждают
его, что это ему только приснилось.
Но в художественном вымысле вымышленные объекты закрепле¬
ны вполне материальными сущностями - знаками: словами и предло¬
273
Вадим Руднев
Словарь безумия
жениями в литературе, красками в живописи, живыми актерами и
реквизитом в театре, изображением на пленке в кино.
В сновидении этих знаков нет. Во всяком случае, нам неизвестна
и непонятна их природа. Сновидение семиотически неопределенно.
Из каких субстанций ткется его канва? Из наших мыслей, фантазий,
образов. Но это не знаки. Мы не можем определить частоту мысли,
скорость фантазии или весомость образа в физических единицах из¬
мерения. Сновидение — не разновидность текста, оно находится на
границе между текстом и реальностью.
Мы можем выделить в рассказанном сновидении новеллу, ее сю¬
жет, композицию, мотивы и их различное проведение в тексте, мифо¬
логические архетипы, но при этом мы не должны забывать, что сно¬
видение - это особый вид творчества, направленный на обмен инфор¬
мацией между сознанием и бессознательным. Выявить механизм этого
обмена и характер этой информации — одна из важных задач психо¬
кибернетического исследования сновидений.
Сон метафорически связан со смертью: умерший — это тот, кто
«спит вечным сном» или «как убитый»; значение «покой» связано как
со сном (почивать), так и со смертью (почить). Сон метонимически
связан с любовью: для сна и для любви отведено одно и то же место и
время; любовь - это «сладостный сон». Тема любви и смерти не мо¬
жет, таким образом, не играть главенствующей роли в сновидении,
поскольку само сновидение является метафорой смерти и метоними¬
ей любви.
Пространство является наиболее маркированной характеристикой
сновидения. Когда мы говорим о моделировании сновидения, то не¬
обходимо помнить, что спящий, прежде всего, лежит неподвижно с
закрытыми глазами, как мертвец или как человек после сойиз’а. Про¬
странство, как мне кажется, потому играет в сновидении столь реша¬
ющую роль, что это пространство любви и смерти. Что же это за про¬
странство? Прежде всего, это пространство «материально-телесного
низа» [Бахтин 1965], узкий «коридор» [Моуди 1991] (вагина, ср.), в
который проталкивается умерший (фаллос). Это ощущение тесноты,
узости и необходимости проникнуть в это узкое тесное пространство,
чтобы «овладеть» им, есть необходимое условие осуществления ми¬
фологических актов любви и смерти (Лев Толстой не читал трудов док¬
тора Моуди, однако и у него в «Смерти Ивана Ильича» это проталки¬
вание, протискивание имеет место: «Он хотел сказать: “Прости”, но
сказал: “Пропусти”»). Любовь и смерть тесно связаны своей онтоло¬
гической амбивалентностью. Материально-телесный низ, уиКа и апш,
символизируют землю и языческую преисподнюю, функция которой —
274
Сновидение
С
сперва умерщвление, а потом воскресение (ср. в Евангелии о зерне,
которое, если не умрет, останется одно, а если умрет, то принесет мно¬
го плода). То же самое в акте сойш’а, овладении землей. Попрание,
истаптывание, погружение в лоно земли, ритуальное умирание приво¬
дит в принципе к рождению новой жизни.
Это нелегко дающееся, по-видимому, человеческому сознанию
мифологическое тождество любви и смерти реализуется в сновидении.
В фильме Кокто «Орфей» Смерть в образе влюбленной в героя прекрас¬
ной женщины приходит к нему по ночам и смотрит на него спящего.
Я попытаюсь конкретизировать эти замечания на примере цикла
снов Ю. К. (см. Приложение к данной статье), присланных в 1992 году
по почте в Институт сновидений и виртуальных реальностей. Карти¬
на первого «кадра» сновидения 1 представляется в этом плане весьма
богатой и интересной. «Героиня» стоит на лестнице. Наверху библио¬
тека имени Ленина, внизу снуют машины. Прежде всего, посмотрим
на то, как пространство верха соотносится с пространством низа.
Верх
Низ
библиотека машины
неподвижное движущееся
единое
каменное
духовность
знание
множественное
металлическое
бездуховность
сила, агрессия
При этом верх и низ нейтрализуются по признаку «живое / мерт¬
вое», противопоставляясь как единый член с признаком «мертвое»
мечущейся между ними живой героине.
Итак, наверху величественный храм знаний, увенчанный именем
вождя (Ю.К. - профессиональный библиотечный работник; скорее
всего, библиотека Ленина - одно из мест ее службы) это храм - убе¬
жище, правда, с некоторым уклоном в мертвую духовность по-совет¬
ски. Внизу агрессивные механические объекты, контакт с которыми
страшен, но, по-видимому, неизбежен, во всяком случае, если нужно
перейти через дорогу - не век же торчать на лестнице. Фрейд одно¬
значно связывает лестницу с половым актом [Фрейд 1991], В.Н. Топо¬
ров - с экзистенциальным моментом выбора, перехода из одного про¬
странства в другое [ Топоров 1995].
275
Вадим Руднев
Словарь безумия
Одна машина отделяется от других, въезжает на лестницу, прогла¬
тывает героиню и перемалывает ее своими лопастями. Последняя реп¬
лика этого абзаца: «Понимаю: смерть, темнота». Но это, конечно, не
только смерть, но и половой акт, показанный инверсивно. Машина,
безусловно, имеет агрессивно-фаллический характер, однако она же
символизирует и вульву с разверстой пастью, куда погружается тело
героини и в которой оно затем деструктурируется. Тот факт, что здесь
имеет место половой акт, помимо фрейдовских ассоциаций, мотивно
поддерживается другими снами этого цикла.
Так, в сне 2 «большое блестящее оружие» и «рога» на касках сол¬
дат (тоже механическое, металлическое и агрессивное) имеет безуслов¬
но сексуальный характер, тем более, что затем следует договор о сово¬
куплении с солдатом как плата за жизнь.
Инициальной мифологической смерти также соответствует расчле¬
нение тела на части, о чем любил писать Бахтин [Бахтин 1965]. По¬
добно смерти, половой акт в сновидениях Ю.К. также мыслится как
распадение и упрощение. Он представляется чем-то механическим в
принципе, отсюда и символика машины и огнестрельного оружия.
Такое моделирование интимных отношений прослеживается и в дру¬
гих снах цикла.
Плотская любовь явно представляется Ю.К. в ее снах как нечто
пустое, мертвенное и механическое, равнозначное, скажем так, смер¬
ти души. Физическая близость кажется ей обманом и предательством
по отношению к высокой духовности (к тому, символом чего являет¬
ся библиотека). Сновидение путем пространственной инициации вы¬
являет ее представления, безусловно, развенчивает их и в каком-то
смысле обучает ее адекватной оценке себя и своих представлений о
мире.
Посмотрим, что происходит дальше. Второй кадр: темнота сменя¬
ется светом. Реализуется классическая схема из книги Моуди: из тем¬
ного и тесного пространства любви - смерти она выходит на широкий
«реанимационный» простор. При этом мизансцена почти повторяет
мизансцену первого кадра. Только вместо библиотеки — холм-чистили¬
ще, а вместо машин — поднимающиеся по холму души умерших. Чис¬
тилище во многом служит аналогом библиотеки - своеобразной усы¬
пальницы идей (ср. аналогичную философию библиотеки у Эко и Бор¬
хеса). Люди одеты в серую мешковину. Похоже, как будто это монахи.
Но, если вспомнить Фрейда, то, конечно, это никакие не монахи.
Смысл этого мизансценического повторения, как мне кажется, в сле¬
дующем. Сексуальные испытания, через которое Ю.К. должна пройти,
хоть она и не хочет этого, простираются и на этот период после смер¬
276
Сновидение
С
ти. Два человека с фаллическими свечами отделяются от толпы (как
раньше от машин отделяется одна машина - повторяется именно этот
глагол «отделяется») и подходят к ней. Сексуальное начало «сансари-
чески» преследует ее и после инициационной смерти. Двое со свечами
зовут ее вновь приобщиться к смерти-очищению через секс. Но она
отвергает этот путь, который кажется ей слишком механическим и не¬
достойным, разрушительным. Она ссылается на деструкцию своего
тела, как будто говоря: «Посмотрите, к чему это приводит!». И тут вы¬
явлено самое главное в этом сновидении. Она слишком привязана к
своему телу, она отождествляет свое тело со своей сущностью - поэто¬
му она говорит: «Меня нет — я поломанные кости и грязное тряпье».
Деструкция (дефлорация?) пугает ее. От толпы идущих в чистилище
душ ее отделяет невидимый барьер, как будто она заколдована, осквер¬
нена и поэтому, как ей кажется, не может следовать за всеми в чисти¬
лище. Это и приводит ее к фрустрации — «опять одна и ничья часть», -
которой и заканчивается сновидение.
Итак, сон пытается скорректировать ее сознание, но она слишком
привязана к своему телу и своей ментальности. Последним фактором
обусловлено то, что она все время высказывает некие эпистемически
окрашенные суждения, которые сон тут же опровергает. Она думает о
машинах: «Не могут же они меня достать», и тут же одна из машин
въезжает на лестницу и поглощает ее. Она говорит после этого: «По¬
нимаю: смерть, темнота», и тут же появляется свет. В финале сна она
говорит: «Неужели это проклятье одиночества и здесь, опять одна и
ничья часть». Следующий сон опровергает и это суждение. В этом вто¬
ром сне, с одной стороны, ситуация во многом повторяется, во вся¬
ком случае, повторяются ее отдельные узлы: толпа обреченных на
смерть, механическое сексуальное начало в образе солдат в касках с
рогами и большим блестящим оружием, которые ведут толпу, очевид¬
но, на расстрел (рога здесь помимо сексуального смысла имеют еще
метафорическое значение: враги — «животные» с рогами — ведут «ста¬
до» людей — достаточно утонченная, хотя и типичная для сновидения
инверсия). Но, с другой стороны, по сравнению с первым сном здесь
все наоборот. Если в первом сне Ю.К. не может приобщиться к тол¬
пе, к духовной, так сказать, смерти, то здесь, напротив, она стремит¬
ся спастись от смерти (и тем самым вырваться из толпы) любой ценой.
Сновидение как будто говорит ей: ты ненавидишь или презираешь
секс и считаешь, что не можешь очиститься. Так вот тебе, пожалуйста,
выбирай. И она действительно предпочитает грязное совокупление с
вражеским солдатом в каске с рогами - только бы избежать смерти.
Сновидение будит в ней здоровую эгоистическую реакцию, и не на¬
277
Вадим Руднев
Словарь безумия
прасно. Солдат режет колючую проволоку садовыми ножницами
(вновь символическая деструкция-дефлорация), и они через темную
«моудианско»-«фрейдистскую» трубу-коридор попадают в грязную
зловонную землянку бахтинского материально-телесного низа. Здесь
сновидение перескакивает на десяток часов вперед, и мы видим, как
она пытается отмыться под рукомойником и затем, посулив солдату
нечто раблезианское, устремляется вверх по трубе, к свету. Но не тут-
то было, наверху ее поджидают солдаты, чтобы «добить» — и кажется,
что все вновь может повториться сансарически. «Уж давно бы отмучи¬
лась», — сетует Ю.К., но опять она оказывается неправа. Главное ис¬
пытание впереди. Она вдруг вспоминает о детях, что надо спасать де¬
тей. И тут она делает то, чему, как кажется, и хочет научить ее снови¬
дение. Она бросает свое тело. Она перестает отождествлять себя со
своим телом. Теперь она практически неуязвима. Надо только спасти
детей. Дети оказываются яйцом, лейтмотивной вариацией той неви¬
димой оболочки, которая не пропускала ее к душам умерших в первом
сне. Теперь она сама стала душой, и оболочка-яйцо осязаема и тяже¬
ла. Ее надо отнести куда-то, к другим душам, спасти.
Итак, вместо деструкции тела - оставление тела. Теперь последнее
испытание - черный ажурный мост, через который надо пройти и
пронести детей. Это, конечно, вариант лестницы между библиотекой
и машинами, но это лестница без ступеней, ибо сексуальное испыта¬
ние позади, сапоги солдат топают где-то за спиной, но догнать уже не
могут; она добегает до толпы, и толпа, сомкнувшись, принимает ее.
Черный мост - переправа в загробный мир. Но, по мифологической
логике сновидения, выполнение задачи, прохождение испытания пу¬
тем жертвы невинностью и чистотой, осознанием неважности телесно¬
го, что является результатом этого испытания, возвращает ей вместе
с приобщением к толпе, т.е. вместе со смертью, ощущение своей лич¬
ности и целостности, т.е. возрождает ее: «Проклятье кончилось, мне
не нужно быть ничьей частью, не нужно ни к кому лепиться. Я сама
целое».
Итак, вся обучающая процедура сна проходит в резко маркирован¬
ном пространстве: на лестнице, между библиотекой и машинами, на
холме перед чистилищем, в толпе, темной трубе и зловонной землян¬
ке, на черном ажурном мосту и опять в толпе. И это пространство яв¬
ляется пространством смерти, понимаемой позитивно-ритуально, бу¬
дучи проведенным через пространство плотской любви. Таким образом,
сон — в числе прочего — это процесс обучения смерти, своеобразный
танатологический аутотренинг. Как и миф, сон учит, что каждый раз,
когда человек погружается в женское лоно, - это безусловно нечто
278
Сновидение
С
весьма родственное смерти и именно как к смерти (символической
смерти) к этому надо относиться. Но как погружение в лоно чревато
новым рождением, так и за смертью последует возрождение. Не следует
только слишком большого значения придавать своему телесному «я» и
слишком чопорно относиться к проявлениям грубой сексуальности.
Также он учит здоровому эгоизму, который оборачивается истинной
жертвенностью и предостерегает от излишней этической избиратель¬
ности, ведущей к ложному отождествлению себя со своим телом и, тем
самым, к духовному омертвлению.
Приложение
Сновидения Юлии К.
1. Стою на лестнице, ведущей к библиотеке Ленина. Лестница
высокая, и я наверху, как на острове, вокруг несутся машины, страш¬
но, но думаю: «Не могут же они меня достать. Я наверху, а они вни¬
зу», и вдруг одна из них отделяется, заезжает на лестницу, накрывает
меня и, коверкая какими-то железными лопастями, съезжает вниз.
Понимаю: смерть, темнота.
Становится светло, источника света нет, свет мягкий, как в сумер¬
ках. Внизу холм, покрытый густой рыжей травой, наверху идет беско¬
нечная вереница людей, в руке по свечке. В чистилище идут. Они оде¬
ты в серые мешковины, а я лежу грудой рваных костей и кровавого
тряпья. Тени-люди смотрят на меня с осуждением. Хочу сказать: «Как
же мне пойти за вами, меня нет — я поломанные кости и грязное тря¬
пье». Но от вереницы отделяются двое, подходят, протягивают горя¬
щие свечи и встаю и иду, пытаюсь встать с ними, к ним в эту очередь,
а она окружена чем-то невидимым и это не пробить, сквозь это не
пройти. Иду какое-то время рядом, но встать с ними не могу и думаю:
«Неужели это проклятье одиночества и здесь, опять одна и ничья
часть».
2. Лето, жаркий, желтый день. Огромную толпу голых людей гонят
по дороге военные в касках с рогами. У них сытые породистые лица,
они высокие, хорошо, чисто одетые, у них большое блестящее оружие.
Они гонят нас убивать. Один из солдат дает мне понять, что могу спа¬
стись, и понимаю, какой ценой. «Лучше быть грязной, но живой, чем
чистой, но мертвой», как потом разобраться со своей совестью, знаю.
Отмоюсь, отмолю. Киваю солдату. Он достает садовые ножницы и
режет колючую проволоку, тянущуюся вдоль дороги, и мы уходим. По
трубе попадаем в землянку. В липкую грязь с цыганским грязным тря¬
пьем на лежанке.
279
Вадим Руднев
Словарь безумия
Такой грязи и нищеты не бывает, но мы там. Наутро моюсь под
дачным рукомойником, собираю тряпье, чтобы прикрыться, а эта
сытая рожа смотрит брезгливо и что-то думает про себя. «Что смот¬
ришь?» — говорю. Хотела бы видеть, как бы ты обосрался, если бы тебя
вели умирать. А, что тут. Свободна, повернулась и пошла наверх. Вы¬
лезаю из трубы, а там ослепительный белый свет, и вокруг дыры сто¬
ят эти в касках с рогами. Вот, думаю, сделки с совестью как проходят.
Сейчас бы уже отмучилась со всеми, а теперь они будут меня одну ле¬
ниво добивать. Вдруг вспоминаю, что дома у меня остались дети. Ос¬
тавляю им тело и несусь домой, нужно спешить, они скоро поймут, что
тело — без души, догонят и отберут детей. Влетаю в дом, а двое детей,
огромное, длинное яйцо, заворачиваю в тряпку и тащу. Это страшная
тяжесть, но я тащу и тащу, обрывая руки, слышу за собой топот сапог,
и вдруг невиданной красоты черный ажурный мост, не через что, че¬
рез серый воздух, бегу по нему наверх, он без ступеней, горбатый, они
тоже уже на мосту, но множество людей искрой высыпают и заполня¬
ют мост, их сжимают, а меня пропускают. Они со своим оружием бес¬
помощны, а я свободна, спасена. Толпа приняла меня. Проклятие
кончилось, мне не нужно быть ничьей частью, не нужно ни к кому
лепиться, я сама — целое.
Субличности — представление о том, что в психике человека име¬
ется несколько функциональных «частей», проявляющих относитель¬
ную самостоятельность.
Когда говорят, что у каждого человека есть определенный харак¬
тер, то все обычно понимают, что это утверждение является чрезвычай¬
ным упрощением реального положения вещей. В действительности,
конечно, каждый человек в той или иной мере проявляет черты мно¬
гих или даже всех (правда, всех мы наверно не знаем) характеров. Как
писал еще в начале прошлого века голландский психиатр Йельгерсма,
«каждый человек немного меланхолик, немного маньяк, немного ис¬
терик, параноик или психастеник» [Ганнушкин 1997: 334\.
Чрезвычайно распространенным в западной психотерапевтической
традиции является понятие субличности. Считается, что почти каждая
психотерапевтическая школа сформировала свое понятие о сублично¬
стях, только назвала их по-разному. У Фрейда это Я, Сверх-Я и Оно, у
Юнга — архетипы: Тень, Персона, Анима, и т. д., у Берна — взрослый,
ребенок и родитель, у Перлза - 1орёо§ и 6о\упс1о§ (собака сверху и со¬
бака снизу), в НЛП это просто называется словом «части»; существует
280
Субличности
С
представление о «внутренних объектах», о «воображаемых объектах»,
«состояниях идентичности», «малых сознаниях « возможных я» и т. д.
[Яотп 1991]. Но представление о субличностях, или субстанциях лич¬
ности [Сосланд 1999], ничего общего не имеет с понятием мозаическо¬
го шизотипического характера, поскольку считается, что субличности
есть у каждого человека, в то время как мозаический характер имеет
место только при определенных психических заболеваниях, причем
довольно серьезных [Бурно 1996]. Роберто Ассаджиоли, которому, ве¬
роятно, принадлежит термин «субличность», писал по этому поводу:
Наиболее общие и очевидные субличности отражают ситуативные
роли, которые мы играем в своей жизни сейчас или играли в про¬
шлом, — ребенок, друг, любовник, родитель, учитель, доктор или
офицер [Ассаджиоли 2000: 50].
Однако вспомним высказывание голландского психиатра, проци¬
тированное нами в начале статьи, о том, что «каждый человек немно¬
го меланхолик, немного маньяк, немного истерик и немного парано¬
ик». Здесь не имеется в виду мозаический шизотипический характер,
скорее, материал его для возникновения. Но, во всяком случае, это
представление может служить мостом между западной психотера¬
певтической и отечественной клинической традициями. В каком-то
смысле мы можем приравнять «куски характеров», «радикалы», к суб¬
личностям.
В этом плане представления о субстанцях личности, субличностях,
комплексах, частях и в их числе модель мозаического шизотипическо¬
го характера становятся как нельзя более актуальными. По-видимому,
в каждом случае можно говорить не об одном характере, а о некоем
диалоге минимум двух характеров внутри одной личности, один из
которых является доминатным, а другой субдоминантным. Исходя из
более или менее стандартного понимания того, что собой представля¬
ют в прагмасемиотическом смысле левое и правое полушарие (см.,
например, обобщающую работу [Деглин-Балонов-Долинина 1983]),
можно сказать, что в целом доминантным является шизоидный харак¬
тер как функция рационального доминантного левого полушария, а
субдоминантным циклоидный характер как функция субдоминантно¬
го образного правого полушария, что лишний раз показывает большую
важность для нашего сознания всего того, что начинается корнем
«шизо-».
Когда мы думаем о людях, мы оперируем именами и дескрипция¬
ми. Мы говорим «Это - истеричка», «Он - законченный шизоид». Или
281
Вадим Руднев
Словарь безумия
просто: «Это — Маша» или «Это — скверный человек», или «Этот че¬
ловек - настоящий Дон Жуан». Кажется, что это очень просто. Но для
того чтобы это стало просто, языковая эволюция должна была пройти
десятки тысяч лет своего развития. Предложения вроде «Маша - исте¬
ричка» и «Николай - эпилептоид» принадлежат так называемому ак-
кузативно-номинативному синтаксическому строю, где четко разгра¬
ничены позиции субъекта, объекта и предиката [Степанов 1985, Руднев
2000]. Но этот строй возник всего несколько тысяч лет назад. Эволю¬
ция языка началась с использования выражений, которые трудно на¬
звать словами или предложениями, где субъект, предикат и объект не-
расчленены - так называемый инкорпорирующий строй, в котором
отдельных актантных понятий «Маша», «истерик» или «ананкаст»,
конечно, не существовало [Лосев 1982].
В определенный период своего развития язык позволил людям на¬
зывать друг друга различными именами и обозначать различными
дескрипциями. Лишь в определенный период стало возможным (и
язык стал активно использовать эту возможность), чтобы одного и
того же человека стало можно называть «папа», «ваше превосходитель-
тсво», «действительный статский советник», «господин министр»,
«милашка», «Николай Иванович» и так далее. Последнее есть не что
иное как модель субличностей. Для того чтобы сказать, что у чело¬
века много субличностей, язык должен предоставить такую возмож¬
ность. И он ее предоставляет. Более того, такое положение вещей,
при котором человека можно назвать только одним именем или обо¬
значить одной дескрипцией, в речевой практике не существует. Один
раз позволив называть и обозначать, язык делает это принудительно.
Человек не может быть только отцом и никем больше. Он не может
быть только начальником управления, даже если он всю жизнь про¬
работал начальником управления. Он еще будет для кого-то соседом,
для кого-то негодяем, для кого-то любимым, для кого-то старым
другом Колькой и т. д.
Итак, идея множественной субличностной конституции заложена
в самом языке. Поэтому сказать, что Маша — истеричка, и этим все
сказано, так же смешно, как сказать Николай Михайлович — педераст,
и к этому нечего больше добавить. Все это еще раз склоняет к выводу,
что мультихарактерологическая модель личности является гораздо
более адекватной, чем представление об одном характере. Характер -
это скорее некая абстракция, атом для построения большого количе¬
ства конфигураций. Значит ли это, что наличие мозаического харак¬
тера ничего общего не имеет с тяжелыми психическим заболевания¬
ми и, в частности, с развитием шизотипической личности?
282
Субличности
С
Для того чтобы как-то продвинуться в решении этот вопроса, мы
позволим себе усомниться в том, что модели субличностей так уже не
имеют ничего общего с характерологическими клиническими моделя¬
ми. Это так же неверно, как и мнение, в соответствии с которым кли¬
ническая психиатрическая характерология, основанная на идеях Эрнс¬
та Кречмера, не имеет ничего общего с психоаналитической харак¬
терологией. И вот мы можем сказать, что большинство систем сублич¬
ностных концептов построены изоморфно следующим образом. Име¬
ется некая доминирующая субличность («собака сверху», по выраже¬
нию Фрица Перлза) и некая подчиненная субличность («собака сни¬
зу»), а также субличность, которая находится посредине и носит
нейтральный характер. Главная борьба задушу человека разворачива¬
ется между полярными инстанциями, между Сверх-Я и Оно, между Ре¬
бенком и Взрослым, между Символическим и Реальным и так далее.
И вот, если мы возьмем за основу вторую топику Фрейда — разгра¬
ничение инстанций Сверх-Я и Оно с нейтральным Я, находящимся
посередине, — то традиционно выделяемые в отечественной литерату¬
ре характеры можно расположить следующим образом:
шизоиды ананкасты психастеники
циклоиды истерики эпилептоиды
Верхняя строка - это характеры, регулирующиеся рациональнос¬
тью. Нижняя строка, характеры, регулирующиеся влечениями. При
этом шизоиды противопоставлены циклоидам по параметру «реалис¬
тический - аутистический», ананкасты — истерикам по параметру
«дискретно-культурный - континуально-природный», и психастени¬
ки - эпилептоидам по параметру «дефензивный - авторитарный». Эта
классификация характеров интересна тем, что она тесно соотносится
со второй теорией психического аппарата, принадлежащей 3. Фрей¬
ду. Можно заметить, что верхняя строка - это, так сказать, Супер-Эго¬
характеры (управляемые рациональностью), а нижняя строка — это
Ид-характеры (управляемые влечениями).
Действительно, шизоиды, ананкасты и психастеники живут ра¬
зумом, а циклоиды, истерики и эпилептоиды — чувством. (Соответ¬
ственно при желании их можно распределить по левому и правому
полушариям.) Но Супер-Эго и Ид есть у каждого человека. В соот¬
ветствии с этим у каждого человека должно быть минимум два харак¬
тера. Супер-Эго может быть сильным и слабым, так же как сильной
и слабой может быть сфера влечений. Но одно невозможно без дру-
283
Вадим Руднев
Словарь безумия
того. Поэтому в принципе у личности с сильным Супер-Эго — т.е. у
шизоида, компульсивного или психастеника, должно быть вступаю¬
щее с ним в диалог или борьбу Ид, соответственно — циклоидное,
истерическое или эпилептоидное начала. А поскольку Супер-Эго-ха-
рактеры и Ид-характеры являются не родственными друг другу (см.
об этом шизотипический характер), то это ведет к тому же выводу, что
в каждом человеке кроется шизотипический аспект. При этом шизо¬
идное Супер-Эго вовсе необязательно будет брать своего Ид-контра¬
гента по стрелке вниз. Шизоид, как известно, может быть человеком
с сильными авторитарными влечениями (эпилептоподобный). Анан-
каст чаще всего дублируется с истериком, что было замечено еще
Фрейдом, наблюдавшим у человека попеременно невроз навязчивых
состояний и истерию. Психастеник, человек с наиболее слабыми,
жухлыми влечениями, тем не менее, может быть внешне циклоидо¬
подобным.
Однако может быть и так, что доминантный и субдоминантный
характер оба будут взяты из строки сверху или из строки снизу. Напри¬
мер, у обссесивного (обсессивноподобного) шизоида доминантным
будет шизоидный характер, а субдоминантным — обсессивно-ком-
пульсивный. Такие люди почти начисто лишены сильных влечений,
которые, во всяком случае, не играют в их жизни почти никакой роли.
Таким был Кант, как известно, не знавший вообще женщин, таким
был Витгенштейн (у которого, правда, шизоидно-обсессивная основа
была осложнена депрессивным и паранойяльным компонентами - в
этом смысле Витгенштейн был, конечно, типичной мозаической ши-
зотипической личностью). Такие люди живут только чистой рацио¬
нальностью и духовностью. Но есть и противоположные конституции,
состоящие только из Ид-характеров, например, циклоидопобные ис¬
терики или истероподобные эпилептоиды (яркая иллюстрация — рим¬
ский император Нерон). Эти люди наоборот живут, прежде всего,
мощными, ничем не регулируемыми (особенно, если в их руках власть)
влечениями, духовно-рациональное начало у них не развито, это как
бы люди без Супер-Эго. Вернее, роль Супер-Эго у них играют доми¬
нантные характеры, например, у истероподобного эпилептоида его
своеобразное Супер-Эго будет носить характер авторитарности, на¬
правленный на других людей. У истероидного циклоида суррогатом
Супер-Эго будет служить сангвинический «принцип удовольствия»,
которому будут подчинены его влечения.
Мы имеем ценное свидетельство Юнга, всю жизнь, с раннего дет¬
ства, наблюдавшего у себя два соответствующих субличностных на¬
чала:
284
Сумасшедший профессор
С
В глубине души я всегда знал, что во мне два человека. Один был
сыном моих родителей, он ходил в школу и был глупее, ленивее,
неряшливее многих. Другой, напротив, был взрослый - даже ста¬
рый — скептический, недоверчивый, он удалился от людей [Юнг
1994: 54\.
Вот яркий пример равноправных Супер-Эго- и Ид-субличностей.
Эти Я № 1 и № 2, как он их называл, проходили через всю жизнь
Юнга.
Сумасшедший профессор. Ответ на вопрос, почему гениаль¬
ность практически всегда в той или иной степени сочетается с безуми¬
ем, повышенный творческий интеллект - с психическими отклонени¬
ями, всерьез волновал психологов и психиатров от Чезаре Ломброзо до
Эрнста Кречмера. Такого же рода вопрос возникает применительно к
русской, в частности, советской, культуре XX века: почему в русском
сознании профессор почти всегда дурак, идиот, скоморох, с презри¬
тельным прозвищем «профессор кислых щей», один из любимых героев
анекдотов наряду со Штирлицем, Вовочкой, евреем, Чапаевым и т. д.
Ответ на этот вопрос мог бы звучать так. Потому что герой анекдота —
это всегда медиатор, «трикстер», т.е. посредник между жизнью и смер¬
тью, сочетающий в себе парадоксально несоединимые черты двух по¬
люсов? С одной стороны, профессор является медиатором между вла¬
стью знания и невежеством студентов, с другой стороны, между поли¬
тической властью, делегировавшей ему полномочия внедрять в души
простецов идеологию, которую сам профессор, чаше всего, не разделя¬
ет, и конкретной личностью.
Профессор, каким он видится в советском фольклоре и массовом
искусстве, для того, чтобы отмазаться от внедрения идеологии в голо¬
вы студентов, но и самому остаться невредимым, а заодно и преподать
студентам, хотя бы слегка и тайком, подлинное знание, бессознатель¬
но применяет стратегию идиота, чудака не от мира сего, который если
и скажет что не так, то ему простительно — «витает в облаках, ученый!»
Он, скорее всего, понимает, осознает свою идиотическую стратегию,
играя этим на понижение и заставляя аудиторию, с одной стороны, не
воспринимать его слишком всерьез, а с другой, говоря ей такие вещи,
которые и позволено говорить только идиоту, шуту. Сумасшедший
профессор своим идиотизмом страхует себя от власти и делает это
многочисленными способами.
285
Вадим Руднев
Словарь безумия
Вспомним медицинский анекдот 70-х годов (сам факт, что анек¬
дот расцвел именно в эту эпоху, конечно неслучаен — можно думать,
что знаменитый идиотизм Брежнева носил во многом такой же симу-
лятивно-стратегический характер, задавая тем самым тон всей эпохе).
Итак, анекдот:
Профессор, сидя за кафедрой, демонстрирует студентам продолго¬
ватый предмет.
Профессор: М-мм, в руках у меня мужской половой член.
Тревожный шепот из аудитории: Профессор, но это же сосиска.
Профессор: М-да. Итак, в руках у меня мужской половой орган.
Нарастающий гул: Профессор: Это сосиска.
Профессор: М-да, сосиска, позвольте, а что же я съел за завтраком?
В чем смысл стратегии профессора из этого анекдота? По-видимо-
му, в том, чтобы обезопасить себя на тот случай, если его обвинят,
скажем в «растлении молодежи». Он, как художественный критик в
книге Фрейда об остроумии, не говоря прямо, указывает на зазор меж¬
ду означающим и означаемым: я демонстрирую, одно, подсовывая
вместо этого другое, вы же можете думать, все что вам угодно, в меру
вашей испорченности - или сообразительности.
Об осмысленности стратегии профессора-идиота говорит случай,
приводимый Ю.М. Лотманом о математике Л.П. Чебышеве:
На лекцию ученого, посвященную математическим основам рас¬
кройки платья, явилась непредусмотренная аудитория: портные,
модные барыни... Однако первая же фраза лектора: «Предположим
для простоты, что человеческое тело имеет форму шара» - обрати¬
ло их в бегство. В зале остались лишь математики, которые не на¬
ходили в таком начале ничего удивительного. Текст «отобрал» себе
аудиторию, создав ее по образу и подобию своему [Лотман 1992:
161].
Надо сказать, что фигура самого Ю.М. Лотмана, великого учено¬
го, жившего и профессорствовавшего в 60-е — 90-е годы, сама являла
собой ярчайший пример стратегии конформного идиотизма. Призна¬
ваясь в своей последней книге, что фигура сумасшедшего тесно свя¬
зана со сценой, с театральностью [Лотман 1993] (все верно: кафедра
неотъемлемый атрибут профессора), Лотман создавал вокруг себя яр¬
чайшим образом декорированное театральное пространство, начинав¬
шееся с его собственного хабитуса: гипертрофированными усами на
тщедушном теле карлика (что было, конечно, невольным подражанием
Эйнштейну.
286
Сумасшедший профессор
С
Советская литература знает, по-видимому, лишь одного профессо¬
ра, которого нельзя назвать идиотом, это профессор Преображенский,
герой «Собачьего сердца» М.А. Булгакова. Прямота и вменяемость
Преображенского, его храбрость и открытость объясняются, по-види-
мому, его старорежимной стратегией независимости от власти и чув¬
ством собственного достоинства, отсутствием страха перед властью
(его прямой литературный предок — профессор Николай Степанович
из «Скучной истории» Чехова). Кроме того, профессор Преображен¬
ский застрахован знакомством с высшими партийными лидерами, ко¬
торым он оказывает интимные услуги. Да и стихия страха еще не зах¬
лестнула интеллигенцию.
Прямой противоположностью профессора Преображенского был
профессор Персиков, герой «Роковых яиц» того же автора, ученый,
пошедший на компромисс с большевиками, самый вид которого воп¬
лощал собой парадигму профессора-идиота:
Говорил скрипучим тонким квакающим голосом и среди других
странностей имел такую: когда говорил что-либо веско и уверен¬
но, указательный палец правой руки превращал в крючок и щурил
глазки. А так как он говорил всегда уверенно, и эрудиция в его
области у него была всегда совершенно феноменальная, то крючок
очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора
Персикова. А вне своей области, т. е. зоологии, эмбриологии, ана¬
томии, ботаники и географии, профессор Персиков почти ничего
не говорил.
Газет профессор Персиков не читал, в театр не ходил, а жена
профессора сбежала от него с тенором оперы Зимина в 1913 году,
оставив ему записку такого содержания:
«Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои ля¬
гушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них».
По-видимому, в 1930-е годы выделилось три типа профессора-
идиота. Первый - искренние застрельщики новой науки. Среди них
были и откровенно злокозненные клинически фигуры, такие, как
Лысенко, Мичурин, но были и амбивалентные, такие, как Марр и
Бахтин (справедливости ради — первый был академиком, второй умер
доцентом).
Идиотизм Марра и Бахтина - в их учениях, которые носят не толь¬
ко психотический характер (будучи не менее благодатным материалом
для психоаналитика, чем знаменитые мемуары сумасшедшего предсе¬
дателя дрезденского сената Даниэля Шребера, которые внимательно
287
Вадим Руднев
Словарь безумия
изучали Фрейд и Лакан), но и просто идиотский. Трудно поверить, что
Марр мог сам всерьез верить, что все слова всех языков мира произош¬
ли от четырех корней 8АЬ, ВЕК, КЖ, К08. Скорее, в своей, пусть
поневоле гениально оформленной идее во всем угодить советской вла¬
сти, он старался не соглашаться с буржуазным языкознанием во всем.
Если нормальная индоевропеистика утверждала, что сначала был один
праязык, который потом стал распадаться на национальные языки, то
Марр утверждал противоположное — языков было много, потом они
соединились в один — а уж потом (вследствие порчи) — распались. И
это притом, что самые безумные, самые идиотские его идеи потом,
через десятки лет, стали подтверждаться. Так, например, пресловутая
теория четырех элементов поразительным образом напоминала учение
о структуре генетического кода (подробно об этом см. статью [Гамк-
релидзе 1997]).
То же и с Бахтиным. В стремлении встраиваться в новую, больше¬
вистскую науку он выдвигал концепции, которые не учитывали почти
никаких фактов, что, в первую очередь, касается его концепции исто¬
рического развития литературы. Так мог поступать именно идиот. Но
Бахтин не был идиотом, он был великим ученым, просто мозг поневоле
работал в нужном направлении. Кстати, вторичная идиотизация идей
Бахтина о хронотопе, карнавализации, полифонии и диалогическом
мышлении, имевшая место в конце 1970-х, а в особенности в 1980-е и
90-е годы, с одной стороны, славянофилами типа В. Кожинова, а с дру¬
гой, «провинциальной филологией», тоже весьма любопытный факт. То
же самое можно сказать и о поздних «идеях» А.Ф. Лосева. Автору слова¬
ря довелось увидеть Алексея Федоровича летом 1973 года на даче - он
вел себя, как положено профессору-идиоту, каким он изображался в
советском кино: рассеянный, с полубезумной улыбкой, не отвечающий
на вопросы, говорящий невпопад и т. д. Между тем, в том, что было
«можно», в те же годы и даже позже Лосев писал вполне вменяемые
работы, например, по историческому синтаксису. Кстати, в духе Марра.
Второй тип — это наиболее интересный, амбивалентный идиот,
внутренний эмигрант по идеологии. Он не только представляется
глупцом, но иногда и сам глумится. Таким был, например, Виктор
Борисович Шкловский. Рассказывали, что, когда в 1947 году на засе¬
дании Союза Писателей громили М. Зощенко, Шкловский, бывший
формалист и безусловный поклонник затравленного писателя, громил
Зощенко наравне со всеми. Когда потрясенный писатель подошел к
Шкловскому и сказал ему: «Виктор Борисович, как же так? Ведь вы
раньше меня хвалили!», Шкловский, ничуть не смутившись, отвечал:
«Что я, попугай, чтобы повторять одно и то же!»
288
Сумасшедший профессор
С
Третий тип - это «упертый диссидент», он наименее распростра¬
нен и овеян героическим нимбом. У кого поднимется язык назвать
идиотом А.Д. Сахарова, но безусловно и для него идиотическое пове¬
дение было свойственно (идиотичность — в самой прямоте «говоряще¬
го царям с улыбкой истину», - потом ему подражал в 1995 году, во
время Чеченской войны, С.А. Ковалев в своих беседах с Ельциным).
Так или иначе, профессор-идиот в репрессивном сообществе яв¬
ляется посредником между истиной, которую он в себе несет, и влас¬
тью, которая ему угрожает. Эта позиция между истиной и адом дик¬
тует сумасшедшему профессору не только его поведенческую страте¬
гию, но и саму форму, в которую облекается знание, преподносимое
им под маской шутовского кривляния в аудиторию и в печать и неред¬
ко потом оказывающееся знанием пророческим, что и нормально для
дурака-юродивого в русском понимании этого слова.
Можно спросить: а почему Гуссерль так себя не вел? Почему ни¬
чего неизвестно о чудачествах Фрейда? Разве и они не были посред¬
никами, и разве они не испытывали давления со стороны власти?
Психолог и психиатр ответили бы, что талантливый человек, даже если
он в обществе проявляет себя чрезвычайно благопристойно и не по¬
зволяет себе никаких чудачеств в присутствии даже самых близких
людей, по одному своему статусу в обществе и по своей психической
конституции, так или иначе, будет проявлять себя необычным обра¬
зом. По-видимому, здесь все зависит от характера. Открытые люди
вроде Витгенштейна (см.) или Шкловского проявляли свой идиотизм
на людях, люди скрытные могли делать все, что угодно, но при плот¬
но закрытых дверях.
Бывало так, что современники, знавшие ученого только в офици¬
альном общении или не знавшие вовсе, боготворили его как идеаль¬
ного человека, Человека с большой буквы. Знавшие его ближе: студен¬
ты, ученики и близкие — видели его склонность к глумливости, чуда¬
чества, мелкую мстительность, порой даже известную тупость при
общении. Другой известный русский ученый (попила хиШ ос!ю$а) имел
страсть рассказывать о своих встречах с великими людьми — Ландау,
Пастернаком, Ахматовой. Со временем список имен расширялся
вглубь времен. Оказалось, что профессор мальчиком видел Маяковс¬
кого, потом Блока, дальше уже за него продолжали устные пародис¬
ты, рассказывая от лица ученого о его встречах с Пушкиным и Екате¬
риной Великой.
И, тем не менее, самое главное противоречие, которое делает на¬
шего профессора сумасшедшим и идиотом, это не противоречие по¬
литического или социально-психологического свойства. Я думаю, мы
10-11117
289
Вадим Руднев
Словарь безумия
не ошибемся, если скажем, что первым знаменитым сумасшедшим
профессором в Европе Нового времени был не кто иной, как доктор
Иоганн Фауст, фигура которого настолько важна для понимания по¬
следующей интеллектуальной культуры, что О. Шпенглер назвал всю
европейскую культуру Нового времени фаустианской. Трагедия Фау¬
ста (не гетевского, а Фауста народных книг) состояла в том, что он не
мог выбрать между знанием и верой, между Богом и дьяволом. Тщес¬
лавие и гордыня попустительствовали ему во всех его чудачествах и
глумлениях над людьми, о которых рассказано в легендах о нем.
В этом смысле фигура «сумасшедшего профессора» поистине тра¬
гична, как трагичная судьба любого гения в том смысле, который это
слово приобрело в постсредневековой культуре. Само существование
интеллектуала в христианской Европе было отмечено противоречи¬
ем — интеллектуал не может не творить, придумывать и изобретать, но,
в то же время, он понимает: что бы он ни делал, он делает это поне¬
воле в угоду дьяволу. Любое знание приближает Апокалипсис, по¬
скольку всякое знание небогоугодно. Что уж там говорить о Витген¬
штейне и Хайдеггере, если об этом уже задумывались такие чистые
души, как Святой Августин и Фома Аквинский. Но интеллектуал не
мог не творить, потому что интеллектуалом его создал Бог, стало быть,
его небогоугодная деятельность - часть Божьего промысла. В XX веке
произошла секуляризация, и место Бога заняла Власть. В сущности,
профессор Преображенский ничем не лучше профессора Персикова.
Первый пересаживал дамам обезьяньи яичники, второй - изобретал
огромные яйца. И то и другое — занятие богомерзкое. Но поскольку
оба профессора — атеисты, то здоровый цинизм Филиппа Филиппо¬
вича приятен своей независимостью (он сам себе и Бог: захотел - со¬
здал, захотел — уничтожил). Персиков - в плену у власти, поэтому он
отвратителен.
СуЩНОСТЬ безуМИЯ. В чем сущность безумия? В несоответствии.
В несоответствии чему? Реальности или здравому смыслу. Реальности
здравого смысла. В чем состоит сущность здравого смысла? Можно
сказать, что здравый смысл — в соответствии вещей знакам. В гармо¬
нии между вещами и знаками. Безумие наступает тогда, когда соотно¬
шение между знаками и вещами искажается, как правило, в сторону
знаков, но не обязательно. «Это стол». Для нормального человека,
«безмятежно пребывающего среди вещей» [Бинсвангер 1999], здесь нет
никакой проблемы. Это стол — на нем можно обедать. Или писать,
290
Сущность безумия
С
если это письменный стол. Вещь соответствует своему значению. При
безумии, или психическом расстройстве, соотношение между вещью
столом и значением столом искажается. Как писал Лакан, в речи не¬
вротика означающее преобладает над означаемым. Но может быть и
наоборот. Например, при депрессии вещи обессмысливаются. Стол
лишается своего значения. То есть человек понимает, что стол — это тот
предмет, за которым едят или пишут, но ему не хочется есть и тем бо¬
лее писать. Стол не нужен. Происходит рассогласование вещи и ее
значения в данном случае в пользу вещи.
Что происходит при других расстройствах, например, при истерии?
При истерии вообще все вещи деактуализируются, и процесс семиози-
са переходит на собственное тело субъекта. Об этом писал Томас Сас
(Згазг). У истеричного отнимаются руки и ноги, он не может говорить.
У него какие-то парезы, онемения членов или, наоборот, истошный
крик и плач. И все это имеет определенное значение: «Обратите на
меня внимание», «Помогите мне» 1974]. Или при истерической
конверсии невралгия лицевого нерва становится индексальным мето¬
нимическим знаком ранее полученной пощечины (пример Абрахама
Брилла [Брилл 1999]). То есть искажение семиозиса происходит по
двум направлениям. Первое — это перенесение его с внешнего мира на
собственное тело. И второе — иконизация или, вернее, индексация
знаков. Невозможность нормально говорить о вещах. Истерическая
поза — это когда все тело становится знаком — «обратите на меня вни¬
мание, я самый интересный, значительный». И сама речь тоже икони-
зируется в р5еобо1о§1а рЬамахиса. Важно не то, что Хлестаков врет, а
то, что содержание его вранья — возвеличивание собственной лично¬
сти и обращение на себя внимания.
Рассмотрим, какие имеет особенности семиотизация при обсес-
сивно-компульсивном неврозе. Здесь, в противоположность истерии,
знаковость переходит с собственного тела на внешний мир. Предме¬
ты деиконизируются, конвенциализируются или индексируются. В
чем особенность мышления компульсивного человека? В том, что он
все время видит во всем знаки: благоприятные или неблагоприятные.
Мир полон примет. Пустое ведро или полное — это значит: можно
идти или нельзя. Это означает, в частности, что семиотика обсессив-
но-компульсивного носит деонтический характер, существует в ре¬
жиме «можно», «нельзя» или «должно», в то время как истерическая
семиотика существует в аксиологическом режиме «хорошо», «плохо»,
«безразлично» [см. модальности].
Семиотика обсессивно-компульсивного сознания имеет много
вещей, но мало значений. В сущности, все сводится к двум значени-
10*
291
Вадим Руднев
Словарь безумия
ям: «благоприятно» и «неблагоприятно». Не противоречит ли это по¬
ложению Лакана о преобладании у невротика означающего над озна¬
чаемым? Здесь как будто бы наоборот - означаемых много, означаю¬
щих же в пределе всего два - «можно» или «нельзя», и при этом пре¬
имущественно с уклоном в «нельзя».
Оба типа невроза связаны с избеганием осуществления желания,
но обсессивно-компульсивный это делает напрямую, путем механиз¬
ма защиты изоляции аффекта (как установил Фрейд в работе «Тор¬
можение, симптом и страх» [Ргеий 1981Ь\), в то время как истеричес¬
кий механизм защиты — вытеснение — работает в режиме наращива¬
ния аффекта. При этом обсессивный изолирует из вещи в событие
(пустое ведро — никуда не пойду), а истерик вытесняет из события в
вещь (дали по роже — невралгия лицевого нерва).
Что происходит при паранойе, родство которой с неврозом навяз¬
чивых состояний показал, в частности, Л. Бинсвангер? Логика Бин-
свангера такая. Как навязчивая идея переходит в сверхценную? На
анализе случая Лолы Фосс [Бинсвангер 1999] он показывает, что, если,
при обсессии еще существует выбор — «благоприятно» или «небла¬
гоприятно», можно выходить на улицу или лучше оставаться дома, то,
когда навязчивая идея переходит в сверхценную, альтернатива унич¬
тожается. При сверхценной идее, т.е. при зарождающемся паранойяль¬
ном бреде - преследования, отношения, борьбы, ревности или лю¬
бовном - семиотическая альтернатива уничтожается в сторону не¬
благоприятного члена. Допустим, при обсессии полное ведро — к
удаче, пустое — к неудаче. При формировании паранойяльного созна¬
ния и полное, и пустое ведро начинают обладать одинаково угрожа¬
ющим значением. Положим, если мы имеем дело с паранойяльным
бредом преследования, то полное ведро может означать, что враги
хотят утопить субъекта в воде. Пустое ведро может означать при этом,
что его хотят замучить жаждой. То есть, в сущности, при множестве
денотатов - ведер, кошек, портретов и всех прочих вещей - и мно¬
жестве смыслов все имеет одно значение: каждая вещь, каждый
смысл указывают на то, что враги хотят уничтожить субъекта (при
бреде преследования). Или при бреде ревности каждая вещь будет сви¬
детельствовать только об одном — об измене жены. Например, если
ревнивец-параноик видит стол, он может подумать: «Она мне изме¬
няла с ним под столом». Если он увидит кошку, он может подумать:
«Она похотлива, как кошка». Если он видит карандаш, это может
вызвать у него ассоциации с длинным фаллосом соперника, и он
подумает, что его предпочли другому оттого, что у того длиннее фал¬
лос, чем у самого субъекта. Таким образом, у вещей, которые прак¬
292
Сущность безумия
С
тически как самостоятельная ценность в таком сознании уничтоже¬
ны, могут быть разные смыслы: стол символизирует соитие под сто¬
лом, кошка — похотливость, карандаш - длину члена, но значение
всегда будет одно, все смыслы будут свидетельствовать о том, что
жена изменяет.
При переходе к шизофрении все знаковые системы распадаются,
при параноидной шизофрении нет ни знаков, ни вещей, одни голые
смыслы, в этом и состоит пресловутый отказ психотика от реально¬
сти. Смыслы возникают из ничего, как при бредово-галлюцинатор¬
ном комплексе, когда субъект (переставший в точном смысле быть
субъектом, так как нормальный субъект —это субъект знаковый) ви¬
дит и слышит то, чего нет, и разговаривает на языке, который не
имеет для окружающих никакого значения. При паранойе смысло-
образование отталкивается от вещей, пусть не имея с ними ничего
общего, при параноидной шизофрении вещи уже не нужны. Проме¬
жуточный случай, когда шизофреник с параноидным (уже не пара¬
нойяльным!) бредом преследования вычитывает из газет, выслуши¬
вает из сообщений по радио и высматривает из телевидения некие
угрожающие послания о себе, имеет переходный характер в семиоти¬
ческом смысле, как имеет переходный характер феномен иллюзии в
галлюцинаторном мышлении. Когда параноик говорит, что жена под
этим столом занималась любовью с соперником, он все же видит
реальный стол и отталкивается от него. При параноидном бреде нет
даже тех наводящих фраз, от которых надо отталкиваться. Этих фраз
вообще может не быть, они уже не нужны. Преследователь возника¬
ет из ничего, из воздуха — голос в акустической галлюцинации, при¬
зрак в визуальной галлюцинации и т. д. Когда в примере К. Ясперса
человек видит двух закутанных в плащи людей и говорит, что это
Шиллер и Гете [Ясперс 1997], то не принципиально, иллюзорное это
восприятие или галлюцинаторное. Там могли стоять какие-то люди,
но могло и никого не быть. Знаковая система шизофренику не нуж¬
на. Вернее, не нужна знаковая система, строящаяся на внешних зна-
коносителях. В этом хоть и набившая оскомину, но все же остающа¬
яся верной аналогия между психозом и сновидением. Там тоже нет
знаконосителей во внешней сновидцу системе вещей. Там тоже зна¬
ковые системы плетутся из неведомых субстанций. Таким образом,
верным остается тезис о том, что в сновидении каждую ночь человек
временно погружается в безумие.
Возвращаясь к разговору о сущности безумия как несоответствии
здравому смыслу, можно теперь определить задним числом сущность
здравого смысла. Здравый смысл — это сбалансированная семиотика,
293
Вадим Руднев
Словарь безумия
наделяющая внешние вещи внутренним значением, и безмятежное
существование среди этих вещей (Л. Бинсвангер), знаков и значений.
Приближение к безумию — неврозы и психопатии, - как мы видели,
искажают соотношение между вещами, знаками и их значениями, но
все же сохраняют само фундаментальное отношение знак — вещь -
значение, пусть даже в таком предельно деструктивном в семиотичес¬
ком плане и редуцированном формате, как при паранойе. В этом
смысле сущность безумия можно определить как отсутствие знаковых
систем, опирающихся на внешние денотаты, в сознании субъекта и как
разрушение тем самым субъекта в общепринятом смысле.
В случае неврозов или даже паранойи мы можем не соглашаться с
интерпретацией вещей, фактов и событий, которые предлагает невро¬
тик или параноик. Но сами эти вещи, факты и события мы можем
наблюдать. В случае шизофренического психоза мы не только не мо¬
жем принять значение бредово-галлюцинаторных вещей, фактов и
событий, но мы не можем их наблюдать, потому что, с нашей точки
зрения, их вообще не существует.
Конечно, возможны случаи так называемой двойной ориентации,
или «двойной бухгалтерии» (Э. Блейлер), когда мир шизофреника раз¬
деляется на два — на психотический и обыденный, и он может суще¬
ствовать то в одном, то в другом мире, переходя из одного в другой (как
правило, психотический мир им будет восприниматься как более ис¬
тинный). В этом случае контакт с психотиком возможен, так как по
мере его участия в обыденном мире он будет пользоваться обыденной
семиотикой, а, переходя в психотический мир, будет переходить на
другой, трансгрессивный обыденной семиотике язык.
Но существует еще другая трудность. Далеко не всегда шизофре¬
ники, пусть даже полностью существующие в вымышленном бредово¬
галлюцинаторном мире, придумывают для него специфический язык.
Формально психотик может говорить на обыденном языке. Он может
рассказывать психиатру о бредовых событиях, о том, например, что его
преследуют инопланетяне в случае бреда преследования, или о том,
что он Иисус Христос в случае бреда величия. В этом случае нельзя
сказать, что субъект полностью находится за пределами обыденного
языка. Предположим, что человек говорит: «Меня преследуют ино¬
планетяне». В этом случае данное высказывание скоре не бессмыслен¬
но, а ложно.
В чем различие между просто ложным высказыванием, скажем,
истерическим враньем или просто «практическим» враньем, враньем
в практических целях, и формально произнесенном на обыкновенном
языке бредовым высказыванием?
294
Сущность безумия
С
В случае обыкновенного вранья, даже если предположить, что сам
говорящий верит в то, что он говорит, он отсылает нас к какому-то
возможному миру, в котором его выказывание в принципе могло бы
быть истинным. В случае бредово-галлюцинаторного высказывания
отсылка к такому миру невозможна, если мы, скажем, в принципе не
верим, что инопланетяне существуют. Бредовое высказывание встра¬
ивается в целостную бредовую концепцию, или бредовую систему;
обьщенное вранье встраивается в обыденный мир как его возможный
вариант.
В этом смысле бредовое высказывание ближе художественному
высказыванию, в котором знаки также не подкреплены реальными
денотатами.
«Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова». В этом
случае художественное высказывание не есть ложь, потому что оно не
встраивается в систему высказываний об обыденном мире, но встра¬
ивается в систему художественного мира, где все или большинство
высказываний лишены денотатов, так как за пределами художествен¬
ного мира «Пиковой дамы», если судить его с точки зрения обыден¬
ного мира, на самом деле не существует ни Нарумова, ни Германна, ни
старухи графини, ни Лизы, ни графа Сен-Жермена (подробно см.
[Руднев 2000\). В этом близость бредового высказывания художествен¬
ному высказыванию и близость бреда в целом художественному твор¬
честву, о чем неоднократно писали психиатры (см., например, [Рыбаль¬
ский 1993]). Различие при этом только в том, что для писателя, кото¬
рый не является безумным, мир обыденности и мир художественного
дискурса четко разделяются, и он понимает, что говорит о несуществу¬
ющих вещах. В случае бреда имеет место фанатичная убежденность в
реальности того, о чем говорится, если об этом вообще говорится. Не
может быть бреда, в реальности которого пациент сомневается.
В этом случае встает вопрос о тех вырожденных квазизнаковых
системах, о которых говорят, скажем, психоаналитики, прежде всего,
о символах сновидения. Здесь ведь так же, как в случае бреда, имеют
место значения, которые не подкреплены никакими знаками. Если
даже говорящий увидел во сне обыкновенную кошку, то на самом деле
никакой кошки здесь не существует. В этом смысле сновидение бли¬
же к бреду, чем к художественному произведению, так как, строго го¬
воря, увиденная во сне кошка не является знаком, поскольку у нее нет
знаконосителя в отличие, скажем, от кошки, нарисованной на холсте,
какой бы вымышленной она ни была.
Сновидческие знаки и символы становятся таковыми только в том
случае, когда сновидец рассказывает кому-то свой сон, т. е. переводит
295
Вадим Руднев
Словарь безумия
свой бредоподобный сновидный язык на язык обычной семиотики.
Как остроумно писал ученик Витгенштейна Норман Малкольм, если
бы люди не рассказывали другу другу своих снов, то понятие снови¬
дения вообще не возникло бы, так как понятие сновидения производ-
но не от самих сновидений, которые семиотически неопределенны, а
от рассказов о сновидениях [Малкольм 1993\.
Схизис И многозначные ЛОГИКИ. В своем знаменитом «Руко¬
водстве по психиатрии» Эуген Блейлер пишет:
Благодаря шизофреническому дефекту ассоционных путей стано¬
вится возможным существование в психике противоречий, кото¬
рые вообще говоря исключают друг друга. Любовь и ненависть к
одному и тому же лицу могут быть одинаково пламенны и не вли¬
яют друг на друга (аффективная амбивалентность). Больному в
одно и то же время хочется есть и не есть; он одинаково охотно
исполняет то, что хочет и чего не хочет (амбивалентность воли,
двойственность тенденции — амбитенденция); он в одно и то же
время думает: «я такой же человек, как вы» и «я не такой человек,
как вы». Бог и черт, здравствуй и прощай для него равноценны и
сливаются водно понятие (умственная амбивалентность) [Блей¬
лер 1993: 312].
Можно ли себе представить, чтобы «здравствуй и прощай» были
«равноценны»? Видимо, имеется в виду, не равноценны, а равнознач¬
ны. Он подходит к врачу и говорит ему: «Здравствуйте, господин док¬
тор!», на что доктор отвечает: «Здравствуйте, господин №>. И больной
тут же говорит: «Прощайте, господин доктор!» Потом, подождав секун¬
ду, он опять говорит: «Здравствуйте, господин доктор!» Если бы не
было повторения первой фразы, можно было бы подумать, что они
просто встретились на секунду и тут же попрощались. Представим
себе, что сумасшедший временно выздоровел; он идет по улице и
встречает того доктора, у которого лежал в больнице. Он говорит ему:
«Здравствуйте, господин доктор!» и снимает шляпу. Врач отвечает:
«Здравствуйте, господин №> и тоже приподнимает шляпу. Но посколь¬
ку оба они торопятся, то N тут же говорит: «Прощайте, господин док¬
тор!», и они откланиваются.
В чем же состояло безумие в первом случае? В самом факте по¬
вторения первой фразы? Конечно, можно представить себе, что боль¬
ной издевается над доктором, просто симулирует. Но это доказыва¬
296
Схизис и многозначные логики
С
ет только, что он правильно симулирует. Но я все равно не понимаю,
что значит здесь «шизофренический дефект ассоционных путей»,
благодаря которому, согласно Блейлеру, противоречия становятся
возможны. Почему, если у человека расстроены ассоциации, он дол¬
жен повторять «Здравствуйте, доктор» и «Прощайте доктор»? Веро¬
ятно, имеется в виду, что у человека с нормальными ассоциациями
встреча с человеком ассоциируется с приветствием, а расставание -
с прощанием, а у шизофреника все спуталось в один клубок, у него
появился «комплекс» (это словечко придумали Э. Блейлер с К.Г. Юн¬
гом («Психология бетеШта ргаесох» [Юнг 2000]). У него приветствие
оторвалось от ситуации встречи, но не оторвалось от своего семан¬
тического контрагента - от прощания. То есть у него не расстройство
ассоциаций, а другое направление ассоциаций. Не от семантики к
соответствующей прагматической ситуации и обратно, а от одной се¬
мантике к другой, в данном случае противоположной. У этого сумас¬
шедшего другая языковая игра, он играет в игру, в которой, если
произносишь «плюс», после этого надо произнести «минус». Потом
можно опять «плюс». Здесь не расстройство, а перестройка ассоци¬
аций. Семантика становится самодовлеющей. И в этом смысле су¬
масшедший по-своему говорит вполне логично.
Вероятно, можно сказать, что имеется не привативная, а градуаль¬
ная оппозиция от здорового к больному, ровно так же, как противо¬
поставление истинного ложному бинарной логики можно градуиро¬
вать, введя многозначное исчисление, где будут иметь смысл понятия
«и истинно, и ложно» и «ни истинно, ни ложно».
Последнее обстоятельство хорошо видно на примере «Я такой же
человек, как вы» и «Я не такой человек, как вы». Здесь я вообще не
вижу никакого схизиса. Существует континуум пересечений тех состо¬
яний, в которых один человек - такой же, как другой, и тех, в кото¬
рых он не такой же, и в этом смысле и то и другое может быть спра¬
ведливо. Вообще в нормальной обыденной разговорной речи зачастую
не действует закон исключенного третьего, в ней возможны объектив¬
но противоречивые высказывания. Бинарная пропозициональная ло¬
гика неадекватна такому материалу. Для его анализа необходима мно¬
гозначная логическая система. Ср. с четырехзначной логикой Г. фон
Вригта. Так, например, фон Вригг рассматривает противоречивое выс¬
казывание «Дождь одновременно идет и не идет» в рамках строящей¬
ся им четырехзначной логики:
Рассмотрим процесс, такой, например, как выпадение дождя. Он
продолжается некоторое время, а затем прекращается. Но пред-
297
Вадим Руднев
Словарь безумия
положим, что это происходит не внезапно, а постепенно. Пусть
р ~р иллюстрирует, что на определенном отрезке времени вна¬
чале определенно идет дождь (р), а между двумя этими времен¬
ными точками находится «переходная область»,-когда может па¬
дать небольшое количество капель — слишком мало для того, что¬
бы заставить нас сказать, что идет дождь, но слишком много для
того, чтобы мы воздержались от утверждения, что дождь опреде¬
ленно закончился. В этой области высказывание р ни истинно,
ни ложно. <...> Можно, однако, считать, что дождь еще идет до
тех пор, пока падают капли дождя, а можно считать, что дождь за¬
кончился, если падают только редкие капли дождя. Когда ситуа¬
ция рассматривается с таких точек зрения, промежуточная об¬
ласть перехода или неопределенности включается и в дождь и в
не-дождь, причем выпадение дождя отождествляется с положени¬
ем, когда отсутствует невыпадение дождя, а невыпадение дождя —
с положением, когда не идет дождь. Тогда вместо того, чтобы го¬
ворить, что в этой области ни идет, ни не идет дождь, следовало
бы сказать, что в данной области и идет дождь, и не идет дождь
[Вригт 1986: 566—567].
Таким образом, можно сказать, что говорящий, что он «такой же
человек, как вы» и «не такой человек, как вы», применяет четырех¬
значную логику.
1. Истинно. Я такой же человек, как вы.
2. Ложно. Я не такой человек, как вы.
3. И истинно, и ложно. Я такой же человек, как вы, и я не такой
человек, как вы.
4. Ни истинно, ни ложно. Я ни такой же человек, как вы, ни не та¬
кой человек, как вы.
Значит ли это, что шизофреник Блейлера в своей амбивалентной
фразе не сказал ничего особенного? Что он просто, как мы, когда в
повседневной речи на вопрос, идет ли дождь, отвечаем: «Да он и идет,
и не идет», — апеллирует к более адекватной контексту многозначной
логике? Что же это за контекст? Предположим, врач ему говорит: «Вы,
господин К, — особенный человек, к вам нельзя подходить с общими
мерками». На что больной отвечает: «Нет, господин доктор, я такой же
человек, как вы». Потом он, подумав, говорит: «Нет, я не такой чело¬
век, как вы, я гораздо менее образован». - «Ну что вы, не преувели¬
чивайте», - вежливо отнекивается доктор. «Да, вы правы», - говорит
298
Схизис и многозначные логики
С
больной, - «конечно, я такой же человек, как вы, ведь все люди в
принципе одинаковы». Здесь явно не получается шизофренического
контекста. Для того чтобы появился контекст безумия, нужно, чтобы
больной просто повторял: «Я такой же человек, как вы», «Я не такой
человек, как вы». И такой контекст — персеверация, — конечно, впол¬
не возможен. Но вопрос состоит в том, имеет ли значение в этом по¬
вторении противоречивость этих двух высказываний? Ведь он с таким
же успехом мог бы повторять: «Я такой же человек, как вы», «Все люди
братья». И в данном случае «логичность» перехода от первой фразы ко
второй не снимает безумности контекста, потому что любая фраза,
автоматически повторяемая много раз, по всей видимости, всегда бу¬
дет означать, что у говорящего не все дома.
т
Тела безумия. (См. также язык и безумие.) Традиционный «основ¬
ной вопрос философии»: что первично — бытие или сознание, уже сто
лет назад исчез из западной философии после того, как произошло
«исчезновение материи», когда физики внедрились в структуру атома.
Единственной данностью для преодолевшей догму материализма/иде-
ализма западной аналитической философской традиции стал челове¬
ческий язык. Во многом на месте противопоставления духа и материи
встала оппозиция Языка и Тела. Вначале ученые-философы, предста¬
вители логико-философских школ, пытались уничтожить метафизи¬
ку и построить идеальный язык, лишенный двусмысленностей и ше¬
роховатостей. Это была стадия логического позитивизма. После того,
как Курт Гёдель доказал теорему о неполноте дедуктивных систем, в
соответствии с которой любая дедуктивная система или неполна, или
противоречива, от идеи идеального языка отказались. Аналитическая
философия языка начала рассматривать естественный язык, «оставляя
все как есть». Особенно преуспели в этом поздний Витгенштейн и так
называемая «теория речевых актов» Джона Остина. Эти философские
парадигмы уже с 1970-х годов активно использовались отечественны¬
ми учеными под прикрытием лингвистики. Но теперь настало время
по-новому осмыслить наследие венцев и оксфордских аналитиков. Ка¬
кую роль язык играет в нашей общественной жизни? В частности, в
политике и бизнесе? Как знание об устройстве языка, знание о том,
«как производить действия при помощи слов» (название основопола¬
гающей книги Дж. Остина [Остин 1999]) поможет нам при построении
новой философской мысли и нового гражданского общества?
Если западная философия языка развилась под эгидой лингвисти¬
ки, то семиотика и структурализм у нас были отечественные, так на¬
зываемая московско-тартуская школа. Это направление не могло на¬
звать себя философией, оно скрывалось под маской литературоведе¬
ния, поэтики и междисциплинарных исследований. Основные тезисы
этого направления мысли: любая целостность структурно-организова-
на, структура имеет иерархической строение. Реальность (см.) есть
сложнейшая знаковая система, состоящая из множества разнопоряд¬
ковых знаковых систем, иконических, конвенцинальных, индексаль-
ных. Мир можно читать, как открытую книгу. Теперь эти тезисы мож¬
но распространять не только на художественный текст и абстрактные
области теории культуры, но экстраполировать его в область чистой
300
Тела безумия
Т
мысли, а также в область истории, политики и общественной жизни.
Возродится ли отечественный структурализм и как он видоизменится
под влиянием изменившихся идеологических обстоятельств в мире?
Как известно, психоанализ развился прежде всего из анализа ис¬
терии. Концепция Фрейда состояла в том, что истерические симпто¬
мы на теле пациента являются конверсией вытесненной травмы. На¬
пример, у человека развилась истерическая невралгия лицевого нерва.
Психоанализ показал, что это была вытесненная пощечина, получен¬
ная им от женщины (пример Абрахама Брилла [Брилл 1999]). Истери¬
ческое тело, таким образом, — это говорящее тело. В 1960-е годы это
отчетливо эксплицировал американский антипсихиатр Томас Сас
(Вгазг). Он утверждал, что истерическая стигма, будь то мутизм (оне¬
мение) или астазия-абазия (невозможность ходить и стоять) и т. д.,
является неконвенциональным иконическим сообщением криком о
помощи: «Я не могу даже двигаться, помоги мне!», «Я не могу даже
говорить, помоги мне!» и т. д. [Згазг 1974]. Диалектика языка и тела
демонстрирует понимание Эдипова комплекса, например, Лаканом. С
одной стороны, Эдипов комплекс - это взаимодействие трех тел —
матери, отца и ребенка и в его динамике задействованы сугубо теле¬
сные концепты - соответственно, страх кастрации и зависть к пени¬
су. С другой стороны, сама Эдипова триада рассматривается Лаканом
как некая лингвистическая структура, где отец является говорящим
законом, мать - олицетворением желания, а ребенок - вопрошающим
сексуальной потребности. Сам центральный «персонаж» Эдипова ком¬
плекса — фаллос — из сугубо телесного сексуального органа становит¬
ся в концепции Лакана универсальным означающим, т.е. относится к
сфере языка (Символического).
По другому пути пошла в развитии диалектики языка и тела кли¬
ническая психиатрия, в частности, характерология Эрнста Кречмера,
который в книге «Строение тела и характер» вычленил три типа стро¬
ения тела и увязал их с характерами человека (см.): толстый пикничес¬
кий тип (циклоид-сангвиник), худой лептосомный тип (шизоид), ат¬
летический тип (эпилептоид); искаженное диспластическое строение
тела, согласно концепции Кречмера и его последователей, характери¬
зует шизофреническую конституцию. Соотношение языка и тела здесь
соотносится как редукция тела у шизоида в сторону языка (Символи¬
ческого) и редукция языка в сторону тела у сангвиника. Шизофрени¬
ческое молчаливое (в частности, кататоническое) тело также может
говорить свои телесным языком, что блестяще показал в своем филь¬
ме «Золотой век» (см.) Луис Бунюэль.
Тело без органов (см. также эпилептоидное тело без органов), кон¬
цепт, введенный Антоненом Арто в его «театре жестокости» и разви¬
301
Вадим Руднев
Словарь безумия
тый Ж. Делезом и Ф. Гваттари, означает акцентуацию тела как чего-
то, выражающего себя, прежде всего, в движении, как гротескная те¬
лесность карнавального типа, выделенная М.М. Бахтиным, где тело
говорит само за себя своей амбивалентной динамикой верха и низа,
зада и переда. Тело без органов есть некая первичная материя, своеоб¬
разное экологическое тело, «оно теряет антропоморфный характер, ста¬
новится «нечеловеческим», т.е. безразличным к определению через род,
вид и субстанциональную форму. <...> Оно размещается в поле дей¬
ствия интенсивных величин, или аффектов, в которых оно проявляет¬
ся. <...> Оно развивается по широте и долготе, медленности и быст¬
роте, покою и движению» [Подорога1999\ В русском фольклоре анало¬
гом тела без органов является Колобок, могущий существовать и
выживать, только двигаясь, убегая от преследователей. В телесной ха¬
рактерологии Кречмера телу без органов более всего соответствует
эпилептоидное тело воина, существующее в пространстве власти и
стремящееся к редукции языкового плана. Эпилептоидное тело без
органов — это тело, в лучшем случае произносящее только отдельные
короткие команды, как в «Истории одного города» Салтыкова-Щед¬
рина, где градоначальник Брудастый (Органчик) произносил только
два коротких предложения «Не потерплю!» и «Разорю!»
Каждому телу присуща «своя» экономия желания. Взаимодействие
телесной схемы и образа тела дает отправную точку в анализе об¬
раза «моего тела», т. е. неотделимого от телесного «я-чувства», или,
выражаясь в духе лакановского психоанализа, от предрефлексив-
ной формации эго. <...> Помимо человеческих тел также существу¬
ют тела войны, голода, тела зараженные, тела убитые, пытаемые,
изможденные, угнетенные горем, мертвые, тела утопленников, по¬
вешенных и повесившихся, казнимые тела; и также тела прости¬
туированные; тела медицинские, преступные, анастезированные,
подвергнутые гипнозу или тела тех, кто принимает ЛСД, просто
опьяненные, тела шизофренические, мазохистские, садистские,
феноменальные, тела удовольствия и боли, уязвленные, стыдли¬
вые, аскетические; и рядом же тела спорта, тела Ьоёу ЪшЫеб, по¬
бед и триумфов, идеальные тела, одетые и раздетые, обнаженные,
тела террористические, тоталитарные тела, тела жертв и палачей;
наконец существуют видео-тела, фантазматические, виртуальные,
тела-симулякры (тело-Мадонна, тело-Сталин, тело-Шварценеггер,
тело-рэп, наци-тело). Мы погружены в среду, просто кишащую не
нами произведенными телами <...> и мы должны перемещать свое
тело в мире настолько осторожно, насколько этого требуют этого
от нас эти «внешние тела» [Подорога 1999].
ф
Фаллос. (См. также вагина.) Фаллос в определенном смысле явля¬
ется самым важным объектом в жизни человека, начиная с самого ран¬
него детства, а также в истории человеческих отношений, культуре, на¬
уке, искусстве и философии — и, соответственно, самым важным сло¬
вом в языке (даже если оно реально не произносится).
Одним из важнейших открытий психоанализа было обнаружение
нескольких фундаментальных фактов относительно предмета нашего
исследования. Дело в том, что, как было показано Фрейдом, малень¬
кий ребенок, будь то мальчик или девочка, полагает, что все люди на¬
делены или должны быть наделены фаллосом. В 1908 году в статье «О
теории инфантильной сексуальности» Фрейд писал:
Уже в детстве пенис является ведущей эрогенной зоной и главным
автоэротическим объектом, причем оценка его роли у мальчика
вполне логично связана с невозможностью представить себе чело¬
века, подобного себе, но лишенного этого важного органа» [цит по:
Лапланш—Понталис 1988:198]', курсив мой. — В.Р.).
Итак, мальчик не в состоянии представить, что у кого-то нет пе¬
ниса, и понятно, что он есть у отца. Следующий важнейший шаг —
это фантазматическое наделение матери воображаемым фаллосом.
При этом, когда ребенок обнаруживает, что на самом деле у матери
нет фаллоса, это становится одной из страшных невротических травм
его детства. Потому что, когда обнаруживается, что у кого-то его нет,
это может означать только, что он раньше он был и его за какую-то
провинность ликвидировали. Отсюда берет начало самый универ¬
сальный страх в жизни человека — страх кастрации и комплекс, свя¬
занный с ним.
А как же девочки? У них ведь реально нет пениса. Согласно пси¬
хоаналитическим воззрением маленькая девочка не знает, что у нее
есть влагалище и считает свои основным половым органом клитор,
в котором - отчасти справедливо - видит недоразвившийся малень¬
кий пенис. Поэтому одним из самых и важных и тягостных пережи¬
ваний инфантильной сексуальности у девочки является зависть к
мужчине как обладателю большого пениса, или зависть к пенису
(РетзпеМ).
303
Вадим Руднев
Словарь безумия
Зависть к пенису, - пишет американский психоаналитик Геральд
Блюм, — возникает, когда девочка замечает анатомическое отличие
в гениталиях. Она не только чувствует, что ей хотелось бы обладать
пенисом, но, вероятно, предполагает, что имела и лишилась его. В
ее глазах обладание пенисом создает преимущество по сравнению
с клитором в мастурбации и мочеиспускании. Параллельно возни¬
кает мысль об отсутствии пениса как результата наказания, заслу¬
женного или незаслуженного [Блюм 1996:126\.
Комплекс кастрации и зависть к пенису являются универсальны¬
ми проявлениями человеческой сексуальности и всей психической
жизни, мотивировкой многих поступков на протяжении всей жизни.
Даже психоаналитическое вмешательство не может устранить эти два
фундаментальных невротических переживания.
Никакой завершенный психоанализ, — писал Жак Лакан, — не ус¬
траняет последствий комплекса кастрации в бессознательном муж¬
чины и зависти к пенису в бессознательном женщины» [Лакан
1997: 137].
Почему же все-таки страх потерять пенис и зависть из-за его от¬
сутствия является таким универсальным, почему он страшнее даже
страха смерти. Откуда берется комплекс кастрации?
На первый вопрос Фрейд ответил в одной из своих поздних работ,
где он, опираясь на воззрения одного из своих учеников, Отто Ранка,
создателя теории «травмы рождения» [Капк 1929], пишет, что страх
потерять член связан с первоначальным страхом, сопровождающим
появление человека на свет. Ведь при этом происходит отделение тела
ребенка от тела матери. Маленькое тело ребенка, отделяющееся от
места, где должен находиться фаллос, отождествляется в бессознатель¬
ном человека с самим пенисом [Ргеиё 19816]. (Для женщины отожде¬
ствление пениса с ребенком связано с фантазией о том, что у нее в теле
находится пенис-ребенок, что служит манифестаций желания коиту¬
са (первоначально, на Эдиповой стадии, — с отцом, обладателем боль¬
шого пениса) и желания иметь настоящего ребенка).
Таким образом, формируется главное отождествление — отожеств¬
ление фаллоса с его обладателем, с субъектом. Фаллос — это человек.
Более того, фаллос это не просто человек, фаллос - это «я сам», или,
как говорят психоаналитики, «Собственное Я». Поэтому утрата фалло¬
са равнозначна утрате собственной идентичности, собственного 8е1Ь§1,
а это страшнее смерти, потому что при своей смерти человек не при¬
304
Фаллос
Ф
сутствует, а уничтожение «собственного я» (реально представляющее
собой психоз, утрату связи с реальностью) переживается им как ужа¬
сающая катастрофа (см. психическая смерть).
На второй вопрос (хронологически он был поставлен первым):
откуда возникает комплекс кастрации? - Фрейд ответил уже в 1905
году в знаменитой работе о маленьком Гансе («Анализ фобии пятилет¬
него мальчика» [Фрейд 1990с]), где показывается, что страх кастрации
является реакцией на Эдипов комплекс (инфантильное желание сек¬
суального контакта с матерью и устранения отца как мешающего этому
контакту). В более поздней работе «Достоевский и отцеубийство»
Фрейд пишет по тому поводу:
В определенный момент ребенок начинает понимать, что попыт¬
ка устранения отца как соперника угрожала бы ему кастрацией.
Стало быть, из-за страха кастрации, т.е. в интересах сохранения
своего мужского начала, ребенок отказывается от своего желания
обладать матерью и устранить отца [Фрейд 19944: 288].
Фантазматическая угроза кастрации служит для преодоления Эди¬
пова комплекса, но при этом может приводить к невротическим по¬
следствиям, в частности, к фобиям, как это и случилось с героем фрей¬
довской работы о пятилетием Гансе, который боялся, что большая
белая лошадь (которую он бессознательно отождествлял с отцом, по¬
тому что у лошади большой пенис) откусит ему член [Фрейд 1990Ь].
После прохождения Эдипова комплекса у ребенка начинается так
называемая фаллическая стадия развития, когда центром его внимания
становится собственный член (у девочки - клитор) и формируется фун¬
даментальное противопоставление фаллоса и пениса, которое пора
разъяснить. Под словом ‘пенис’ — в психоанализе понимается мужской
половой орган в его физиологическом значении, тогда как ‘фаллос’ это
некий универсальный символический объект, играющий важнейшую
роль в человеческой жизни - его наличие или отсутствие, как пишут
французские психоаналитики Ж. Лапланш и Ж.-Б. Понталис, «превра¬
щает анатомическое различие в главный критерий классификации
человеческих существ, поскольку для каждого субъекта это наличие
или отсутствие не простая данность, а проблематический результат
внутри- и внесубъектного процесса, связанного с принятием субъек¬
том своего пола» [Лапланш—Понталис 1996: 549]. Жак Лакан говорит
о фаллосе как об универсальном «означающем желания» универсаль¬
ной симтоматической метке, все время напоминающей о том, что в
этом плане у человека с самого начала существуют проблемы. Эти
305
Вадим Руднев
Словарь безумия
проблемы Лакан, обобщая психоаналитическое учение о комплексе
кастрации, назвал символической кастрацией. Под символической ка¬
страцией Лакан понимал такое положение вещей, когда вследствие
экстракорпорального развития человека (что мы обычно называем
более привычным нам словом «культура») человеческое тело из чис¬
то физиологического инструмента отправлений физиологических
потребностей сделалось неким признаком, или, как говорят психо¬
аналитики, симптомом универсальной нехватки удовлетворенности в
сексуальном объекте. Произошло это потому, что, став человеком —
именно в этот момент, так сказать, пенис превратился в фаллос, -
человек перестал подобно животному сугубо физиологически удовлет¬
ворять свой сексуальный голод с первым попавшимся объектом про¬
тивоположного пола. Человеку стало не все равно, с каким объектом
иметь сексуальные отношении (как любил говорить Ю.М. Лотман,
феномен культуры заключается в том, что оппозиция мужчина У8 жен¬
щина сменяется оппозицией «только этот» ук «только эта» [Лотман
1978]). Именно эту невозможность иметь сексуальные отношения с
кем попало Лакан и называет символической кастрацией. Говоря обы¬
денным языком, это соответствует тому, что в человеческой жизни по¬
является такой феномен, как любовь, выражающийся в стремлении
наделить свой сексуальный объект сверхценными свойствами. А по¬
скольку реальный объект всегда разочаровывает в этом стремлении
субъекта идеализировать его, то и обнаруживается, как говорит Лакан,
«нехватка в другом», и фаллос является драматическим символом,
универсальным означающим этой нехватки (подробно эта концепции
Лакана изложена также в книге философа из Любляны Ренаты Салецл
[Салецл 1999]).
Другими словами, человек в своих сексуальных отношениях отли¬
чается от животного тем, что для него как (форма) начинает преобла¬
дать над что (содержанием). В этом смысле важно не наличие боль¬
шого пениса, а обладание огромным Фаллосом.
ФиЛОСОфиЯ И паранойя. (См. также паранойя.)
С некоторой смелостью можно утверждать, — писал Фрейд, — что
истерия представляет собой карикатуру на произведение искусст¬
ва, невроз навязчивости - карикатуру на религию, параноический
бред - карикатурное искажение философской системы [Фрейд
1998: 95].
306
Философия и паранойя
Ф
Соотнесенность истерии и искусства (иконичность плюс аксиоло-
гичность) так же, как обсессии и религии (повторение и мистика),
понятна. Все же слишком сильным кажется соотнесение паранойи и
философии. Более привычным кажется представление, что философ
это шизоид. Но во время написания книги «Тотем и табу» такого по¬
нятия, как шизоид, не было. Его позже ввел Эрнст Кречмер в книге
«Строение тела и характер». Слово же «паранойя», как оно употреб¬
ляется Фрейдом в работе о случае Шребера [Ргеий 1981], по экстенси-
оналу скорее соответствует тому, что в нынешней терминологии назы¬
вают параноидной шизофренией. Во всяком случае, хотя бредовая
система Шребера носила связный и внутренне логичный характер, но
она вся основана не на бытовой семиотике, как классическая крепе-
линовская паранойя, а на галлюцинациях — общении с божественны¬
ми лучами, разговорах с Богом и т. д. То есть, в сущности, говоря о
родстве паранойи и философии, Фрейд, видимо, имел в виду параной¬
яльноподобное стремление философа строить систему знаков, мало
считающуюся с реальным положением вещей в угоду заранее сформу¬
лированной концепции. Сам Фрейд с гордостью считал себя не фило¬
софом, а ученым, занимающимся концептуализацией конкретных ве¬
щей, т.е., по-нашему, шизоидной семиотизацией реальности.
Но на самом деле не существует принципиальной разницы между
гуманитарной наукой и философией. И, если рассматривать такие
жесткие философские системы, как, например, систему витгенштей-
новского «Логико-философского трактата», то там действительно есть
элементы паранойяльное™: имеется одна главная мысль=посылка,
что «все, что может быть сказано, должно быть сказано ясно, а о чем
невозможно говорить, о том следует молчать». И вокруг этой мысли,
которая сама по себе, конечно, спорна (и впоследствии была опровер¬
гнута самим поздним Витгенштейном), закручивается дальнейшая
«бредовая фабула»: учение о взаимном соответствии предметов, поло¬
жений вещей и фактов, с одной стороны, и имен, элементарных про¬
позиций и пропозиций с другой; толкование логических пропозиций
как тавтологий; выведение общей формы предложения из тотального
отрицания всех предложений; отказ в существовании этике, которая
«невыразима», и т. д.
Конечно, «Трактат» полностью не укладывается в паранойяльную
парадигму. Мистические его идеи - обсессивны, а наиболее шокиро¬
вавшая логиков мысль, что не надо ничего говорить, надо молчать —
интроективна, депрессивна, т. е. антисемиотична (что не удивитель¬
но, так как во время написания «Трактата» Витгенштейн страдал тя¬
желейшей суицидальной депрессией [МсОитпез 1989]). Но характер¬
307
Вадим Руднев
Словарь безумия
но также и то, что попытка Рассела шизоидизировать «Трактат» в сво¬
ем предисловии к его английскому изданию, придать ему стандартную
форму нормальной «математической философии», встретила у Витген¬
штейна протест, так как вместе с водой Рассел выкидывал из ванны ре¬
бенка. «Трактат» был интересен именно своей нестандартностью, па-
ранойяльностью. Но тогда за эту паранойяльность зацепились Мориц
Шлик и его друзья из Венского кружка и сделали из этой моноидеи
целое философское направление, которое носило подлинно параной¬
яльный характер: есть только предложения опыта, «протокольные
предложения», цель философии — верификация, постоянная провер¬
ка того, истинны эти предложения или ложны, а если не то и не дру¬
гое, то они бессмысленны. Такая жандармская суперпаранояйльная
философия продержалась недолго. В ее недрах зародилась антипара-
нойяльное направление, которое говорило, что не истинность правиль¬
ного является критерием хорошей теории, а ложность неправильного
(фальсификационизм Карла Поппера). Позднее и эта версия показа¬
лась слишком жесткой. Последним жестким паранойяльноподобным
течением в философии, взыскующим истины, был структурализм, осо¬
бенно в его отечественном, «остзейском» (тартуском) изводе.
Пол Фейерабенд в книге «Против метода» смешал все карты, про¬
возгласив, что самая лучшая теория - эклектическая, анархистски не
подчиняющаяся никаким жестким правилам. Так в философию при¬
шел постмодернизм, мягкий вариант шизофренической постсемио¬
тической идеологии. Это был действительно конец традиционной се¬
миотики и философской паранойи, так как истину стало искать не¬
модным, основные задачи стали заключаться в проблеме письма, в
сущности, рефлексии над невозможностью семиотики.
Можно сказать в этом смысле, что первым философом-постмодер-
нистом был Д. Шребер с его «Мемуарами нервнобольного». Слово
«шизоанализ» у Ж. Делеза и Ф. Гваттари появилось, конечно, неслу¬
чайно. Принципиальная не только неверифицируемость, но просто
нечитабельность, непонятность, запутанность мысли и терминологии,
постулирование принципиальной невозможности разграничить знаки
и вещи, кризис самого понятия реальности (понятие «Реального» у
Лакана совершенно не соответствует традиционному структуралистс¬
кому понятию семиотической реальности; последнему скорее соответ¬
ствует понятие «Воображаемого») — все это говорит о том, что моде¬
лью философии стала не паранойя, а шизофрения.
Появление антипсихиатрического направления в психотерапии
1960-х годов, основным пафосом которого стала мысль, что шизофре¬
ники не просто тоже люди и к ним надо относиться, как к людям, но
308
Фуко Мишель. «История безумия в классическую эпоху»
Ф
что шизофреники в каком-то смысле гораздо лучше не-шизофреников,
окончательно реабилитировало шизофреническое мышление, узакони¬
ло его как некую конструктивную альтернативу «устаревшему» пара¬
нойяльному философствованию, ищущему «какую-то там истину».
Поворот к «здоровой паранойяльности» наметился в последнее де¬
сятилетие в связи с кризисом шизофренической постмодернистской
идеологии. Этот возврат к традиционным ценностям — понятию ис¬
тины, разграничению знака и денотата, реабилитации понятия реаль¬
ности — позволяет наконец упокоиться духу Фрейда и Витгенштейна,
всегда ратовавших за ясность и внятность научно-философского дис¬
курса.
Фуко Мишель — «История безумия в классическую
ЭПОХУ» (статья написана в соавторстве с Катей Бубенцовой). Ты го¬
воришь, что эта книга [Фуко 1997] переведена идеально, и что пере¬
водчице надо поставить памятник. Я не согласен с этим. Посмотри
на сам перевод заглавия книги. Что значит «в классическую эпоху»?
Это французу понятно, что «классическая эпоха» - это XVII век,
эпоха Декарта, рационализма, эпоха классицизма. Конечно, перево¬
дить название этой книги как «История безумия в эпоху классициз¬
ма» нелепо, потому что понятия классицизма и классической эпохи
не полностью совпадают. Я просто хочу сказать, что перевод книги
с нерешенной проблемой в самом заглавии не может вызывать пол¬
ного доверия.
Теперь ты говоришь: «Фуко не прав, когда он считает, что безумие
было изобретено лишь в XVII веке и что вместе с названиями болезней
были изобретены сами болезни». То же самое относительно Фуко ут¬
верждает и Зинаида Сокулер в своем предисловии к книге. Но откуда
вы это взяли? Ничего он такого не утверждает. Однако если бы утвер¬
ждал, то я бы с ним полностью согласился. Но Фуко хоть и пост-, но
все же структуралист. Для него наиболее важными являются понятия
системы, социального контекста. И вот единственное, что он говорит,
это то, что понятие безумия очень сильно менялось вместе с измене¬
нием этого контекста. Вот, в сущности, и все. А остальное - лишь под¬
робности.
И эти подробности есть та философия, которой ты не находишь в
книге Фуко. Ты говоришь: «Что это за книга? О чем она? Это что —
история медицины? Но для этого там слишком много метафизики; а
для того, чтобы это была философия, метафизики слишком мало». Тут
309
Вадим Руднев
Словарь безумия
я отчасти готов с тобой согласиться. Но вспомни, что эта книга была
написана более сорока лет назад, в 1961 году. Вспомни также, что ис¬
тория медицины, а уж тем более история психопатологии — сложней¬
шая область науки. Но книга Фуко не тем интересна, что он первым
написал историю безумия. Она интересна и уникальна именно тем,
что не поймешь, где здесь история культуры, а где философия. То есть,
другими словами, в ней нет четкой границы между тем, что думает
Фуко по поводу безумия, и тем, что, как он полагает, опираясь на до¬
кументы, было на самом деле. Недаром поэтому наиболее интересный
прием здесь — незакавыченное рассуждение какого-нибудь медика или
мудреца XVII или XVIII века: непонятно, кто говорит, Фуко или его
герои. По сути, это первый опыт деконструкции предмета исследова¬
ния, напоминающий такие шедевры, как, например, «Почтовая от¬
крытка» Деррида [ ОегпОа 1980].
Ты спросишь, в чем же конкретно состоит фукианская философия
безумия? Мне кажется, что ее квинтессенция - в следующем суждении
Фуко: «Впадая в безумие, человек впадает в свою истину, — что явля¬
ется способом целиком быть этой истиной. Но равным образом и ут¬
ратить ее». Что значит, что, впадая в безумие, человек впадает в свою
истину? Прежде всего, то, что он оказывается как бы в полноте своих
доселе скрытых или прикрытых особенностей (например, «выводит на
поверхность мир дурных наклонностей»). Но безумец, будучи самоот-
чужден, не в состоянии удержать в себе истину о самом себе и в резуль¬
тате теряет ее. Вся история безумия, по Фуко, это история утраты и
обретения безумием самого себя. В ренессансную эпоху безумие раз¬
гуливает среди людей, как равное им (отсюда ключевой герой — Дон-
Кихот). В эпоху барокко безумие самоизолирует себя на «Корабле ду¬
раков», плывущем к землям обетованным. В «классическую эпоху»
безумие, наконец, насильно изолируют. Но эта изоляция безумия в
XVII веке носила такой «синкретический» характер, что безумие по¬
теряло свою идентичность, растворившись в более широком явлении,
которое Фуко называет «неразумием». Конкретно это означает, что в
одном и том же месте изолировали всех тех, кто вел себя «неразумно»,
а именно: венерических больных, безбожников, либертинов (т. е. лиц,
находившихся «в состоянии зависимости, при которой разум превра¬
щается в раба желаний и прислужника любви»), мошенников, «калек
и преступников», «старых прях», «дурочек с физическими изъянами и
уродствами», «неблагодарных сыновей», «отцов-расточителей», «взрос¬
лых и малолетних паралитиков».
При этом (тут уместно твое первое возражение) безумие не счи¬
тали «душевной болезнью». Душа не может быть безумной — ведь это
310
Фуко Мишель. «История безумия в классическую эпоху»
Ф
бессмертная субстанция. И вот дальше, примерно столетие спустя,
говорит Фуко (или реконструирует мнение «современников» своего
дискурса), вследствие разных вредных вещей, как-то: распростране¬
ние цивилизации, свободы совести, политической свободы («безумие
превращается в изнанку прогресса») — количество безумцев в Евро¬
пе резко возросло. Люди впервые по-настоящему испугались безумия
и, самое главное, поняли, что изоляция отнюдь не является гарантом
защиты от безумия, поскольку в изоляторах «разум и неразумие сме¬
шивались и переплетались», энергетически засоряя весь город, гро¬
зя безумием всему городу. Тогда люди поняли, что безумие надо не
изолировать, а уничтожить — т.е. вылечить. Так на смену надзирате¬
лю пришел врач. Так безумие обрело самое себя.
Теперь рассмотрим вопрос, который нас мучает при прочтении
книги Фуко, но который, повторяю, его практически не интересовал.
Вопрос заключается в следующем: «Название вещи появляется вмес¬
те с вещью, или вещь может существовать задолго до своего названия,
пребывая не названной (см. также бред и язык)? Другими словами,
применительно к безумию, можем ли мы говорить, что Гёльдерлин был
шизофреником, а Нерон — истерическим психопатом, в то время как
понятия шизофрении не было даже во времена Гельдерлина, а уж по¬
давно во времена Нерона не знали ни что такое истерик, ни что такое
психопат? С метафизической точки зрения, конечно, не можем. Если
вещь не названа, ее нет. Она есть до тех пор, пока она названа. С экс¬
периментальной точки зрения наверно можем. Всегда забавно проде¬
монстрировать, что ты умнее. Но та колонна великих психов, с четко
поставленными им современными диагнозами, не будет иметь ниче¬
го общего с «безумием, пребывающим в истине», с тем безумием, ко¬
торому посвящена книга Фуко.
X
Характеры — совокупность ментальных, речевых и поведенческих
реакций человеческого сознания на окружающую действительность и
других людей. Первая книга о характерах написана Феофрастом в III
веке до нашей эры. Клиническое учение о характерах ведет начало к
книге Эрнста Кречмера «Строение тела и характер» (1924) [Кречмер
2000]. Кречмер выделил два полюса человеческих характеров: цикло¬
идный (синтонный) и шизоидный (аутистический). Циклоиды, по
Кречмеру, склонны к заболеванию маниакально-депрессивным пси¬
хозом, а шизоиды — к шизофрении. Кречмер на основе статистических
данных показал, что циклоидам свойственен так называемый пикни¬
ческий тип телосложения (толстые, приземистые, с короткой шеей,
тип Мистер Пиквик), а шизоидам — астенический (худой, длинный
(лептосмоный) тип Жак Паганель). Кречмеровская дихотомия синтон-
ного и аутистического в характерологии играет основополагающую
роль. Противопоставление в культуре синтонного реалистического
начала шизоидному аутистическому началу — для клинической психо¬
патологии самое фундаментальное противопоставление, в определен¬
ном смысле накладывающееся на противопоставление идеалистичес¬
кого и материалистического (естественнонаучного) понимания мира.
Можно сказать, что синтонный характер - это характер вещей, аути¬
стический - характер знаков и символов.
В дальнейшем клиническая типология характеров была в целом
построена П.Б. Ганнушкиным [Ганнушкин 1997], и в современном
виде в отечественном варианте в работах [Бурно 1990, 1996, Волков
2000] она представляет собой следующие типы (перечисляем только
основные).
Циклоидный характер (сангвиник) — реалистический экстраверт
с диатетической пропорцией настроения — жизнелюбивые люди, с
простыми жизненными ценностями. Среди них выделяют: а) гипер¬
тимические, или гипоманиакальные (с повышенным настроением -
пример - Александр Дюма и его герой д’Артаньян); б) гипотимичес-
кие (депрессивные) с пониженным настроением (пример - писатель
И.А. Гончаров и его герой Обломов); в) дистмические (с постоянны¬
ми колебаниями настроения (пример: драматург А.Н. Островский).
Эпилептоидный характер — напряженно-авторитарный реалист с
аффективно-аккумулятивной пропорцией инертности и дисфоричес-
312
Характеры
X
кой агрессивности. Характер, свойственный военным, полицейским,
полководцам и некоторым политикам (маршал Жуков, Борис Ель¬
цин, генерал Лебедь). Нечастый пример эпилептоида в литературе —
М. Е. Салтыков-Щедрин (см. эпилептоидное тело без органов). Два ва¬
рианта эпилептоидного характера: а) эксплозивный, грубый (чехов¬
ский унтер Пришибеев) и дефензивный, утонченный (гиперсоциаль¬
ный) (Иудушка Головлев). Прямота эксплозивного противопоставля¬
ется здесь льстивой лицемерной угодливости дифензивного (Иудина
маска).
Психастенический характер — тревожно-сомневающийся реалист-
интроверт, типичный русский интеллигент — А. П. Чехов, Булат Окуд¬
жава, в литературе — Гамлет, профессор Николай Степанович из «Скуч¬
ной истории» Чехова, Червяков из его рассказа «Смерть чиновника».
Истерический характер — демонстративный. Сочетание яркой
вычурности, чувственности и, как правило, отсутствия глубины. Ин¬
фантильность. В русской литературе пример великого истерика — Бу¬
нин. В литературе — Грушницкий (см. апология истерии), Хлестаков,
Настасья Филипповна из «Идиота» Достоевского.
Ананкаст (обсессивно-компулъсивный), — педантический характер,
во многом антагонист истерика. Человек сверхпунктуальный, но не¬
решительный, страдает навязчивыми представлениями. «Немецкий
характер». Пример — Юрий Олеша (см. обсессивный дискурс), в лите¬
ратуре Акакий Акакиевич, Каренин (обсессивный шизоид).
Каждый характер соотносится с определенным психическим рас¬
стройством, но сложным образом. Эпилептоид-психопат уже не ста¬
нет эпилептиком. У ананкаста, скорее всего, не будет острых обсессив-
ных неврозов. В этом смысле характер - это невроз, растянувшийся на
всю жизнь.
Шизоид, аутистический интроверт, замкнуто-углубленный харак¬
тер, психестетическая пропорция гиперчувствительности (сензитивно-
сти) и бесчувственности - люди схематического теоретического мыш¬
ления; это практически все классические философы (Кант, Гегель),
многие писатели (Фолкнер, Гессе) и музыканты-интеллектуалы (Бах,
Бетховен).
Если циклоидный характерологический полюс обеспечивает жиз¬
ненную сторону в культуре, то шизоидный — его духовно-интеллек¬
туальную.
Характеров в чистом виде не существует. Всегда следует выделять
ядро и напластования. Поэтому обычными являются сочетания вро¬
де «психастеноподобный шизоид» или «истероподобный сангвиник».
Однако иногда вычленить один ведущий радикал невозможно. Это
313
Вадим Руднев
Словарь безумия
происходит в тех случаях, когда человек перенес или в нем в латент¬
ном виде содержится какое-то серьезное психическое заболевание. В
этих случаях личность состоит как бы из осколков различных харак¬
теров. Например, страдавший эпилепсией Достоевский сочетал в себе
черты эпилептоидной эксплозивности и истерической надрывности.
Таких людей называют мозаиками. В XX веке в связи с огромным (в
частности, и культурным) значением шизофрении (см. также шизофре¬
ния и XX век) все большую роль приобретал особый тип мозаики на
основе малопрогредиентной (вялотекущей) шизофрении, которую
решили выделять в отдельный характер — шизотипический характер. В
нем как будто одновременно или один за другим звучат различные
радикалы. Огромное число деятелей культуры XX века это мозаики-
полифонисты — Людвиг Витгенштейн, М. А. Булгаков, Поль Сезанн,
Сальвадор Дали, Луюс Бунюэль, Франц Кафка, Милорад Павич, Жак
Лакан, Карл Густав Юнг, Фриц Перлз.
Здесь возникает теоретическая проблема. В западной психиатри¬
ческой модели считается, что человек с любым характером может су¬
ществовать в трех регистрах — невротическом, пограничном и психо¬
тическом. Полифонический же характер (если это действительно ха¬
рактер) в принципе тяготеет к пограничному регистру.
Зачем нужно знание характеров? Диагностическая цель — знание
характера позволяет применять определенные психотерапевтические
приемы и техники. Философская цель. Характер — это нечто вроде
возможного мира в философии. Определенная сетка, через которую
человек смотрит на реальность. Характерологическая патография -
описание биографии человека или продуктов его творчества с харак¬
терологической точки зрения.
Проблема «плохих» и «хороших» характеров. Для современного
отечественного психиатра-клинициста - хороши (удобны в общении,
психотерабильны, легко вступают в альянс, благодарны) циклоиды и
психастеники, неудобны — истерики и эпилептоиды; ананкасты и
шизоиды занимают среднее место.
Западная психоаналитически ориентированная характерологичес¬
кая модель во многом отличается от отечественной (см. [Лоуэн 1994,
МакВильямс 1998]). Ее главное отличие - характер не дается от при¬
роды, как считает клиническая психиатрическая традиция, а форми¬
руется в результате фиксации на определенной стадии психосексуаль¬
ного развития.
Характер и нация — доминантный характер есть у каждого наро¬
да: типичный немец — ананкаст, типичный русский - психастеник
(депрессивный), типичный японец - шизоид, типичный америка¬
314
Характеры и механизмы защиты
X
нец - эпилептоид, поляк - истерик, итальянец - гипертимический
сангвиник.
Преобладание одного радикала в той или иной культурной тради¬
ции — синтонно-сангвинической в Древней Греции, эпилептоидной —
в Риме, шизоидной в Средневековой Европе - позволяет говорить об
определнных корреляциях характера и культуры.
Проблема «мужских» и «женских» характеров - традиционно счи¬
тается, что женские характеры тяготеют к природно-синтоннному
полюсу (циклоид, истерик), а мужские к культурно-аутистическому
(ананкаст, шизоид). Этим объясняется, в частности, тот факт, что куль¬
тура носит по преимуществу мужской характер.
Характер и функциональная асимметрия полушарий мозга. Левое —
доминантное, абстрактное шизоидное; правое - субдоминантное, ци¬
клоидное. Из чего следует, что абстрактное начало важнее. Тимоти
Кроу, современный английский психиатр, считает, что вообще язык
(функция левого, доминантного полушария) автоматически на генно¬
мутационном уровне приводит к шизофрении как специфической бо¬
лезни Ьошо 8ар1епа [Сгом> 7997].
Характер и язык (см. также язык и безумие). Можно ли по тому, как
человек говорит или пишет, определить его характер. Примеры. Пере¬
груженный абстрактной лексикой и сложными синтаксическими кон¬
струкциями язык шизоида и язык синтонного человек, тяготеющий к
конкретной лексике и простому синтаксису. Язык истериков (преоб¬
ладание эмоционального начала) и язык ананкастов (преобладание
рационалистически-схематического начала).
Характер и творчество. Человек производит творческие продукты,
на которых лежит отпечаток его психической конституции. Глядя на
картину, прочитав роман или музыкальную пьесу (в сложных случаях
это может быть несколько текстов), можно определить характер (пси¬
хическую конституцию) их автора, т. е. лучше в клиническом патогра¬
фическом и философском смысле понять и оценить этого автора (см.
апология истерии, обсессивный дискурс, эпилептоидный дискурс, шизо-
типический дискурс).
Характеры И механизмы защиты. (См. также характеры и мо¬
дальности.) Под механизмами защиты в психоанализе понимаются оп¬
ределенные ментальные акты, направленные на то, чтобы путем транс¬
портировки в бессознательное определенных психических содержаний
сознание (Эго) справлялось с травматической ситуацией, связанной с
315
Вадим Руднев
Словарь безумия
угрозой, идущей от реальности (первичные зашиты) или от Супер-Эго
(вторичные защиты).
Со времен знаменитой книги Анны Фрейд, выделившей десять
механизмов защиты, и исследований Мелани Кляйн, добавившей к
этому списку проективную идентификацию, их количество неудержи¬
мо росло и к настоящему времени исчисляется несколькими десятка¬
ми (см. например [Мак-Вильямс 1998, Никольская-Грановская 2000\.
Мы выберем из них те шесть, которые в наибольшей степени, с
нашей точки зрения, подходят к выделяемым нами шести конститу¬
циям (см. характеры), а именно: вытеснение, изоляцию, отрицание,
интроекцию, проекцию и идентификацию.
Уже исходя из работ 3. Фрейда и Й. Брейера об истерии, можно с
уверенностью говорить, что основным (доминантным) видом защиты
Эго для истерика является вытеснение. Истерик вытесняет травму в
бессознательное и замещает ее конверсионным псевдо-соматическим
симптомом.
Ананкаст замещает травму навязчивым действием, которое повто¬
ряется бесконечное число раз, осуществляя защитный механизм изо¬
ляции от остальных мыслей и поступков в некой герметической маги¬
ческой среде, пригодной для отправления ритуалов и других оккульт¬
ных действий [ГгеиВ 1981Ь], например, в ситуации заговора или
заклинания, когда субъект выходит на некое отграниченное открытое
пространство («чистое поле») и, изолируясь от повседневной жизни и
используя технику навязчивого повторения, произносит определенное
число раз предусмотренные ритуальные формулы (см. обсессивный
дискурс.) Эта характерная для невроза навязчивых состояний и обсес-
сивно-компульсивной конституции в целом эксклюзия, выключен-
ность из процесса обыденной жизни, обеспечивает обсессивному Эго
защиту от страхов внешнего мира. Эго как будто очерчивает вокруг
себя магический круг, изолирующий его от внешнего мира (ср. обсес-
сия и культура).
Все остальные корреляции механизмов защиты с определенными
психическими конституциями менее очевидны и требуют обоснова¬
ния. Как нам кажется, для шизоида основным механизмом защиты
является отрицание, подобно тому, как отрицание реальности (фрей¬
довское Уегйдй без Кеа1йа1 (отказ от реальности) [Ггеис! 1981а]), — ос¬
нова любого, аутистического по самой своей сути, психоза, прежде
всего, конечно, шизофренического. У шизотимной личности отрица¬
ние выступает как защита Эго против угрожающей реальности, что
проявляется в эпистемическом отрицании, но, если так можно выра¬
зиться, не самой реальности, как это происходит при психотической
316
Характеры и механизмы защиты
X
реакции, а онтологичеческо-эпистемических квинтессенций реально¬
сти, ее материальности и независимости от сознания. Поэтому идеа¬
лизм является естественным философским проявлением неклиничес¬
кого шизотимного мышления. Разве не отрицанием реальности в
широком смысле является знаменитый ответ Гегеля на претензии к его
системе, что она не во всем соответствует действительности: «Тем хуже
для действительности»? В неклинических непсихотических проявле¬
ниях отрицание у шизоида проявляется также в идее предпочтения
некоему объективному факту, оценке и или построению своих интро-
вертированных аутистических ценностей.
Каковым является доминантный механизм защиты психастени¬
ка? Очевидно, что это интроекция, т.е. принятие чего-то внешнего за
что-то внутреннее, «проглатывание» неприятного и обидного (ср. вы¬
ражение «проглотить обиду», которое идеоматически выражает суть
интроективной защиты). Порождая постоянное чувство вины и ак¬
центуированную совестливость, психастеник защищает свое Эго от
тревоги.
Напротив, для эпилептоида (мы в определенном смысле включа¬
ем сюда и неклинического параноика) характерен противоположный
механизм защиты - проекция, принятие чего-то внутреннего за что-то
внешнее («вымещение на другом», «перекладывание с больной голо¬
вы на здоровую»), экстериоризация своих аффэктивно-эмоциональ-
ных блоков. В этом смысле хорошо видно, как экстравертный эпилеп-
тоид и интровертный психастеник отличаются друг о друга.
Для циклоида мы считаем доминантным механизмом защиты
идентификацию. Циклоид — наиболее общительный тип личности,
наиболее альтруистичный, он с легкостью идентифицируется с дру¬
гим, принимая на себя заботу другого (со всей убедительностью об
этом писал Эрнст Кречмер в «Строении тела и характере» [Кречмер
2000: 105-109]). Ср. описание защитной идентификации циклоида
в книге П.В. Волкова:
В рассказе А.П. Чехова «Душечка» изображена духовно несложная
синтонная женщина. На том основании, что она бывает разной с
разными людьми, как бы теряя себя, ее нельзя отнести к истери¬
ческим натурам. Душечка противоположна истеричке. Последняя
хочет быть в центре внимания и чтобы события вращались вокруг
нее. Душечка в центр внимания ставит другого человека и раство¬
ряется в заботах о нем, не ожидая наград и похвалы. Она беспо¬
мощна перед своей глубинно-эмоциональной потребностью всем
телом и душой служить близкому человеку. При этом она теряет
317
Вадим Руднев
Словарь безумия
себя как независимая личность. Но не жалеет об этом нисколько -
ведь как своей независимостью поможешь мужу? Ее любовь по-
матерински хлопотливая, абсолютно здешняя и находит свое выс¬
шее развитие в маленьком мальчике. Жить для себя она не умеет
[Волков 2000: 225].
Отличие синтонной идентификации от психастенической интро-
екции в том, что первая нерефлексивна и нетревожна, в то время как
вторая сопровождается постоянной работой сознания по самообвине¬
нию. Психастеник все время стремится брать на себя вину другого,
поскольку сам чувствует себя перед всеми виновным. Наиболее яркий
пример - динамика отношений между князем Нехлюдовым и Катю¬
шей Масловой в романе Толстого «Воскресение». Формально Нехлю¬
дов не виноват в том, что Катюша стала проституткой, но душевно он
чувствует себя безусловно виновным, и, чтобы избыть тревогу за чув¬
ство вины, он интроецирует ситуацию, в которой оказывается Катю¬
ша, и готов разделить с ней несправедливо понесенное ею наказание.
Психастеническая интроекция всегда драматична и часто трагична,
синтонная идентификация безмятежна и носит жизнестойкий и свет¬
лый характер независимо от того, насколько адекватной она являет¬
ся. Так, синтонный мистер Пиквик идентифицируется с интересами
негодяя Джингля, а синтонный д’Артаньян провозглашает принцип
идентификации мушкетеров друг с другом главным принципом жиз¬
ни: «один за всех, все за одного».
(Если воспользоваться историко-культурной аналогией, идея об¬
щества синтонных людей, как кажется, легла в основу коммунистичес¬
кой утопии. Коммунистическое общество это такое, к котором каждый
в силу внутренней потребности во главу угла вставит интересы друго¬
го. Но поскольку люди по большей части не синтонны, то в реально¬
сти эта модель из чистой, светлой идентификации превратилась в тра¬
гическую интроективно-проективную динамику агрессий и жертв, как
это было при сталинизме.)
Подобно модальностям и характерам (см. также субличности) меха¬
низмы защиты во многом построены изоморфно. В каждом случае
нечто (аффект) как бы «берется» из какого-то «места» в сознании, и
далее с ним производится некое действие.
При истерическом вытеснении нечто «берется» и убирается из па¬
мяти сознания, а на ее место ставится истерический симптом.
При обсессивной изоляции нечто в сознании «берется» и изолируется
от других элементов сознания, и с этим изолированным элементом
производится некая интеллектуальная или поведенческая работа.
318
Характеры и механизмы защиты
X
При шизоидном отрицании нечто в сознании «берется» и наличие
его отрицается, а на его «место» ставится нечто противоположное.
При психастенической интроекции нечто «берется» из места, нахо¬
дящегося вне сознания, и переносится в некое место, находящееся
внутри сознания.
При эпилептоидной проекции нечто «берется» из некоего места
внутри сознания и переносится в некое место вне сознания.
При циклоидной идентификации нечто, находящееся за пределами
сознания, «берется» и рассматривается как одновременно принадле¬
жащее пространству внутри и вне сознания.
Разумеется, механизмы защиты не прикреплены намертво к опре¬
деленной конституции хотя бы потому, что в реальной жизни чистых
характеров практически не существует - у шизоида почти всегда есть
нечто обсессивно-компульсивное; циклоида, в особенности, гиперти¬
мического, легко спутать с истериком; ананкаст во многом пересека¬
ется с психастеником и так далее.
Вытеснение для шизоидов и обсессивных не характерно - эти все
держат в голове. Для циклоидов оно вполне характерно — особенно,
как уже говорилось, гипертимичных, истероподобных. Но не для всех.
Для эпилептоидов - нет, им не нужно вытеснять в бессознательное то,
что они с успехом проецируют вовне. Для психастеников тоже нет —
им мешает вытеснять интроекция: если доминанта характера чувство
вины, то какое уж тут вытеснение.
Изоляция. Для обсессивноподобных шизоидов безусловно харак¬
терна. Изолировав, легче отрицать — за ненадобностью. Для истери¬
ков тоже может быть характерна в виде «зацикленности» на определен¬
ном психическом содержании, при том что аранжировка этой изоля¬
ции, конечно, будет не обсессивная. Для циклоидов, безусловно, нет —
они слишком вовлечены в реальность. Впрочем, при депрессиях опре¬
деленные содержания могут изолироваться, но это уже будут, по на¬
шей номенклатуре, психастеноподобные, тревожно-рефлексивные
люди, которые, конечно, изолируют вовсю, поскольку вообще похо¬
жи на обсессивно-компульсивных. Эпилептоидам особенно изолиро¬
вать нечего, для этого, как минимум, нужна интроверсия. Здесь же аф¬
фект сначала просто подавляется, а потом выплескивается на окружа¬
ющих.
Отрицание. Истерики по-своему отрицают — самим фактом вытес¬
нения, отрицают то, что вытеснено («Я этого не делал», «Я так бы
никогда не сказал»). Но это отрицание не реальности в целом, а бо¬
лее камерное, и окрашено оно не эпистемически, а эмоционально¬
аксиологически. Циклоиды отрицают в меру своей истероподобнос-
319
Вадим Руднев
Словарь безумия
ти. Психастеники не отрицают — болезненно совестливые и честные.
То же самое, как ни странно, эпилептоиды — практически не лгут. Для
подлинных ананкастов отрицание не характерно — иначе они слились
бы с шизоидами. Реальность для ананкаста имеет большую ценность —
как предмет для ритуальных манипуляций, но не отрицания. Пожалуй,
самая большая трагедия этих людей в том и состоит, что они не могут
забыть (вытеснить) или отвергнуть.
Проекция. Шизоиды могут, особенно авторитарные. Истерики
могут: во всех своих бедах винить других. Психастеники, понятно,
никогда. Циклоиды, так же, как истерики, могут проецировать, а мо¬
гут и не проецировать. (Вероятно, скорее гипоманиакальные в силу
своей истероподобности, а не депрессивные в силу их психастенопо-
добности.) Насколько мы понимаем ананкастов, они не склонны к
проекции, так как их стремление к упорядоченности, педантизм, не
распространяется на другого.
Интроекция. Шизоды могут — психастеноподобные. Циклоды
тоже — депрессивные. Эпилептоиды, естественно, никогда. Истери¬
ки — нет, зачем «брать в голову», когда можно с легкостью вытеснить
и забыть. Ананкасты могут, те, которые похожи на психастеников,
тревожные, дефензивные.
Идентификация. Шизоид, в сущности, может, но не с человеком,
а скорее с абстракцией, со своей философской системой, например,
и это, конечно, не та идентификация. Психастеник может, если ему
надо на кого-то опереться, т.е. если он больше похож на циклоида, а
не на ананкаста. Истерик не может, в этом главная трагедия этого
характера — выразительный поиск объекта желания и невозможность
его принять, разве что в романтической фантазии, там идентифика¬
ция возможна, но эфемерна в силу своей литературности («Вообра¬
жаясь героиней / Своих возлюбленных творцов, / Клариссой, Юли¬
ей, Дельфиной, / Татьяна в глубине лесов / Одна с опасной книгой
бродит»), Ананкаст тоже не может, он трагически разобщен даже с
собственной навязчивостью, понимая ее чуждость. У эпилептоида
если и возможна идентификация, то проективная, т.е. отождествле¬
ние своих спроецированных неприятных черт с какой-то личностью.
В «Мастере и Маргарите» изображено, как поэт Рюхин проективно
идентифицируется с памятником Пушкину на Тверском бульваре.
Впрочем, проективная идентификация особого характерологическо¬
го значения не имеет, так как является чрезвычайно примитивной
психотической защитой, имеющей место, прежде всего, при тяжелых
пограничных и психотических расстройствах (подробно см. [Кернберг
1998, 2000]).
320
Характеры и модальности
X
Характеры И модальности. Каждый характер как тип психоло¬
гической реакция на реальность должен определенным образом соот¬
носиться с определенной модальностями (см.) как речевыми реакцией
на реальность. По-видимому, каждый характер по-разному работает с
разными типами реальности.
Проще всего показать, как противоположные характеры работа¬
ют с противоположными модальностями на примере таких характе¬
ров, как истерик и ананкаст. Истерик — в принципе аксиологический
характер. Это означает, что для него прежде всего важно его желание
и оценка им действительности с точки зрения его желания как «хо¬
рошей, «плохой» или «безразличной». Напротив, деонтическая мо¬
дальность в принципе не характерна для истерика, который практи¬
чески не знает, что означает должно, запрещено или разрешено. Конеч¬
но, это не значит, что истерики сплошь и рядом нарушают запреты
и никогда не делают того, что должно. Но если представить себе си¬
туацию, что два человека - истерик и ананкаст — куда-то спешат и
останавливаются на перекрестке, а светофор показывает красный
свет (предположим, машин при этом нет), то ясно, что, скорее, имен¬
но истерик рискнет перебежать улицу на красный свет, а ананкаст
этого не сделает, ибо доминантная модальность ананкаста — это де¬
онтическая модальность.
Ананкаст всегда делает то, что должно, и практически никогда не
делает того, что запрещено. И напротив, аксиологическое измерение
практически незначимо для ананкаста, вернее аксиологическое для
него включено в деонтическое («сейчас я должен расслабиться», «я дол¬
жен немного развлечься»), так как вся его деятельность направлена на
снижение тревоги путем совершения навязчивых действий, произне¬
сения навязчивых высказываний и отправления навязчивых ритуа¬
лов — тут не до удовольствия. Итак, истерик — это аксиологический
характер, а обсессивно-компульсивная личность - это деонтический
характер. Сравним несколько высказываний в свете вышеприведенных
рассуждений.
(1) Я всегда делаю то, что хочу.
(2) Садитесь, пожалуйста.
(3) Точность — вежливость королей.
(4) Но я другому отдана и буду век ему верна.
(5) Можно изменять жене сколько угодно, главное, чтобы она не
догадалась.
(6) Я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я.
(7) Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя.
321
11-11117
Вадим Руднев
Словарь безумия
Фразы (1) и (5) можно охарактеризовать как сугубо истерические
высказывания. Ананкаст вряд ли станет произносить такие фразы.
Фразы (2) и (3) напротив сугубо этикетно-ананкастические — истерик
вряд ли их произнесет. С фразами (4), (6) и (7), цитатами из «Евгения
Онегина», дело обстоит сложнее (достаточно подробно конфликт меж¬
ду Онегиным и Татьяной как конфликт между ананкастом и истерич¬
кой разобран в главе «Поэтика навязчивости» книги [Руднев 2002]).
Наиболее простой в этом смысле является фраза (7), ее произносит
Онегин, вразумляя Татьяну в IV главе романа. Здесь имеет место от¬
каз от аксиологии, бегство от губительного для ананкаста и его кон¬
ституции желания (об обсессивном бегстве от желания, в духе идей
Жака Лакана, см. также [Салецл 1999]). В дальнейшем развитии свое¬
го вразумляющего дискурса Онегин произносит знаменитое «Учитесь
властвовать собою», - деонтическое наставление, следовать которому
истеричка опять же в силу своей конституции не может. Но, как изве¬
стно, в финале пушкинского романа, позиции героев противополож¬
ным образом меняются. Онегин влюбляется в Татьяну, и аксиологичес¬
кая фраза «Я утром должен быть уверен...» принадлежит ему. Однако
она является аксиологической лишь на поверхности. На глубине за ней
кроется обсессивно-компульсивная тяга к навязчивому повторению -
он каждое утро должен быть уверен, что увидится с Татьяной. К тому
же Онегин дает волю своим чувствам лишь в тот момент, когда Татья¬
на уже «другому отдана» и поэтому вполне безопасна. Видеть каждый
день, вздыхать, — в сущности, ничего истерического здесь нет. Инте¬
ресно также утверждение Татьяны «Но я другому отдана / И буду век
ему верна». Это, безусловно, деонтическое высказывание: нельзя на¬
рушать запрет. Но в этой псевдообсессивной максиме сквозит чисто
истерическое желание отомстить - «вот когда я была моложе и лучше,
чего же вы тогда смотрели». Роман не закончен: и мы не знаем, оста¬
нется ли верна Татьяна своему генералу или ее изречение — лишь пу¬
стая истерическая фраза «на публику».
Как же соотносятся истерик и ананкаст с другими модальностя¬
ми? Например - с эпистемической. Они соотносятся чрезвычайно
интересным образом. Как известно, истерик любит врать, т. е., говоря
в эпистемических терминах, выдавать известное за неизвестное и уюе
уегза. Здесь напомним, что фундаментальной с точки зрения фило¬
софии текста, особенностью сюжетного построения является так на¬
зываемое эпистемическое цш рго цио [Руднев 1996, 2000]. Сюжет в
сильном смысле, т.е. сюжет «с интригой» (сюжет авантюрного ро¬
мана, комедии, детектива, триллера) замешан на обмане, вранье
или эпистемической ошибке, на некоем ложном знании, когда на
322
Характеры и модальности
X
место одного эпистемического оператора ставится противополож¬
ный.
Ананкаст относится к знанию чрезвычайно добросовестно и осто¬
рожно. Знание для него — это, прежде всего, точное позитивное зна¬
ние. Лучше всего, если оно будет подкреплено цифрами. Поэтому
ананкаст — прекрасный бухгалтер или председатель счетной комиссии,
но он не может быть президентом, у него почти полностью отсутству¬
ет воля к власти без подчинения кому-либо (ср. анализ характера Гим¬
млера в книге Фромма «Анатомия человеческой деструктивности»
[Фромм 1998]).
В том, что касается алетических модальностей, истерики и обсес-
сивно-компульсивные также составляют полярную противополож¬
ность. Для истерика в принципе все возможно, поскольку большая
часть из того, что он говорит, совершается в его фантазиях, в сфере
воображаемого (комплекс барона Мюнхаузена или Хлестакова). Для
ананкаста сфера невозможного, мистического, чудесного является
интимно-важнейшей, составляя один из противоположных членов
обсессивной пропорции. С одной стороны, ананкаст разделяет, что все
рационально, но, тем не менее, неотъемлемой чертой его конституции
является вера во всевозможные приметы, суеверия, могущество риту¬
альных действий, одним словом, в то, что Фрейд в книге «Тотем и
табу» назвал «всевластием мыслей»: обсессивные полагают, что меж¬
ду ними и реальностью существует мистическая связь. Например, сто¬
ит обсессивному человеку подумать о смерти своего знакомого, как тот
на следующий же день умирает [Фрейд 1998]. В этом нет ничего от
истерической фантазии, поскольку ритуализованное суеверие, экста¬
тическая религиозность обсессивной личности не имеет ничего обще¬
го с враньем, скорее это ближе к паранойяльным проявлениям, но все
же отличается от них, как отличается навязчивая идея от сверхценной
(в первом случае действует механизм изоляции, а во второй — проек¬
ции (см. характеры и механизмы защиты).
В плане представлений о пространстве и времени истерик и анан¬
каст также противоположны (см. время и безумие). Педантизм ананка¬
ста (например, появление в положенное время в положенном месте)
противостоит капризной изменчивости истерика. Сфера ананкаста
точность; сфера истерика — свобода.
Ананкаст, как правило, помнит прошлое до мелочей и так же, до
мелочей, планирует будущее, истерик, как известно со времен Брейе-
ра и Фрейда, вытесняет прошлое, перекраивает его по своему усмот¬
рению и может существовать адекватно своей конституции только
здесь и сейчас.
323
II*
Вадим Руднев
Словарь безумия
Посмотрим теперь, как работает с модальностями циклоид. В пла¬
не алетического, чудесного, циклоид может быть как равнодушным к
нему, так и «по-народному» верующим (ср. рассказ о сангвинике Лю¬
тере, запустившем чернильницей в черта), т.е. эта модальность не яв¬
ляется доминантной для циклоида. В плане деонтики циклоиды так¬
же могут проявлять себя по-разному, можно представить себе законо¬
послушного («ананкастоподобного») циклоида с достаточно сильным
Супер-Эго, а можно представить вполне и свободолюбивого («истеро-
подобного»), особенно среди гипертимных (гипоманиакальных) цик-
лоидов, например, Фальстаф в интерпретации К. Леонгарда [Леонгард
1989] или тот же Сирано де Бержерак), с сильными влечениями, с раз¬
витой сферой Ид. Таким образом, деонтика также не является доми¬
нантным признаком циклоида. Что же касается аксиологии, то здесь
можно сказать, что для циклоида безусловно важны ценности, оцен¬
ки, хорошее и плохое. Здесь он похож на истерика, хотя отношение к
ценностям выражаются у него, конечно, по-другому, по-циклоидно-
му полнокровно. Циклоид просто склонен наслаждаться жизнью, и
этим все сказано, в то время как истерик делает из своего наслажде¬
ния мучение и себе и другому (подробно см. [Салецл 1999]). Так или
иначе, аксиология безусловно является для циклоида доминантной по¬
зитивной модальностью. К эпистемической проблематике, как кажет¬
ся, циклоид равнодушен. Мы редко встретим среди циклоидов знаме¬
нитых ученых и практически не встретим философов (об этом писал
уже и сам Кречмер). Таким образом, эпистемика является для цикло¬
идной личности доминантной модальностью скорее со знаком минус.
В пространстве и времени циклоид чувствует себя, как дома. Ни
прошлое, ни будущее не являются для него психологической пробле¬
мой, никакой темпорально-спациальной акцентуации мы у циклоидов
не наблюдаем. Это - недоминантные модальности.
Рассмотрим теперь психастенический характер, как он описан
П.Б. Ганнушкиным и М.Е. Бурно. Алетическое психастенику чуждо в
силу его пусть интровертной, но безусловной реалистичности. В этом
его характернейшее отличие от мистически настроенного ананкаста.
Можно с определенной долей уверенности утверждать, что психасте¬
ники равнодушны к религии. Таким образом, алетика для психастени¬
ческой конституции — не доминантная модальность. Напротив, деон¬
тика является для психастеника чрезвычайно мучительной проблемой.
«Правильно ли я поступил?» «Должен ли я это сделать?» «Имею ли я
право так сказать?» (говоря обобщенно, «Кто виноват?» и «Что де¬
лать?» как два парадигмальных психастенических вопроса классичес¬
кой русской культуры) — суть характернейшие высказывания русско¬
324
Характеры и модальности
X
го интеллигента-психастеника. То есть в отличие от ананкаста и эпи-
лептоида, для которых закон есть нечто незыблемое, психастеник под¬
вергает его, как и все остальное, разъедающей рефлексии. Поэтому не
будет преувеличением сказать, что деонтика является для психастени¬
ка доминантной модальностью со знаком минус. То же самое можно
отнести к сфере аксиологии. Психастеник не то чтобы равнодушен к
наслаждению, но для него это также является предметом постоянной
рефлексии. «Вот я сейчас сижу в теплой комнате, а голодные дети...»
«Вот у нас все хорошо, а в Чечне убивают людей». И так далее. Акси¬
ология - модальная доминанта психастеника со знаком минус. То же
самое эпистемика. Сомнение - в принципе эпистемическая категория.
Психастеник, как правило, ни в чем не уверен, всегда во всем сомне¬
вается - именно поэтому он хороший ученый, особенно, в области
естественных наук (Дарвин), экспериментатор.
Время и пространство для психастеника - также мучительная пси¬
хологическая проблема. Он всегда находится не там и не тогда, где и
когда находится его тело. В противоположность истерику и циклоиду
психастеник никогда не существует здесь и теперь. И в этом плане он
ближе обссесивно-компульсивному. Во время разговора он думает о
прошлом или будущем, мысленно находясь в одном месте, думает о
другом. Пространство и время доминантны для психастеника со зна¬
ком минус.
Эпилептоид. К сверхъественному, как правило, равнодушен, ре¬
алист. Деонтика для эпилептоида - самое важное, его напряженная
авторитарность покоится на соблюдении нормы для себя и, прежде
всего, для других (комплекс Кабанихи). В этом принципиальное от¬
личие эпилептоида от ананкаста, который не авторитарен и вменя¬
ет норму только себе. Так или иначе, деонтика для эпилептоида —
безусловно, доминантная модальность со знаком плюс. В плане ак¬
сиологии, по-видимому, наиболее правильным было бы сказать, что
существуют эпилептоиды с сильными страстями и эпилептоиды-
фанатики и аскеты. Таким образом, аксиология не может быть рас¬
смотрена как доминантная модальность эпилептоида. Эпистемичес¬
кая сфера исчерпывается для эпилептоида тем, что он всегда «знает,
как надо», и никогда ни в чем не сомневается. Сочетание экстравер¬
сии и реалистичности (не-аутистичности - ср. ниже о шизоиде),
прямота и отсутствие интеллектуальной глубины и тонкости не по¬
зволяют эпилептоиду делать открытия и строить новые теории. Эпи¬
стемика, таким образом, — безусловно, слабая сторона этой консти¬
туции. Пространство и время, как кажется, для эпилептоида не пред¬
ставляют чего-либо характерного.
325
Вадим Руднев
Словарь безумия
И, наконец, шизоид. Алетическая сфера позитивна. Среди шизо¬
идов — великие церковные и религиозные деятели, такие, например,
как Кальвин, церковные философы (Августин, Фома). Деонтика ко¬
леблется в зависимости от того, в какую сторону поворачивается ши-
зотимный характер - психастено- или ананкастоподобную - в сторону
минуса или плюса, что в итоге дает ноль. По отношению к ценностям
шизоиды могут вести себя по-разному — от сильного «аутистическо¬
го» сладострастия или эстетства до полной аксезы и равнодушия к
прекрасному. Эпистемика — самая сильная позитивно окрашенная
модальность шизоида, — как правило, творческого человека, интеллек¬
туала, — писателя, ученого, философа. Время и пространство — доста¬
точно позитивные и точные категории для шизоида, но в отличие от
ананкаста они приобретают для него аутистический характер: Кант —
априорные категории чувственности. Все философы времени и исто¬
рии от Августина и Вико до Бергсона, Бердяева, Рейхенбаха и Тойн¬
би - шизоиды. В обыденной жизни шизоид хорошо ориентируется в
пространстве и времени (хотя понимает их на аутистический манер) -
в этом его близость ананкасту, с которым у него вообще много пере¬
сечений.
ш
Шизотипический дискурс. (См. также шизотипический харак¬
тер.) В сущности, шизотипический дискурс описан очень хорошо.
Объективно наибольший вклад в его изучение сделали русские ученые
школы К. Ф. Тарановского, исследовавашие поэтику цитат и реминис¬
ценций в русской литературе, особеннно поэзии XX века, прежде всего
Мандельштама [ Тагапо\$ку 1976\. Ибо наиболее простой и очевидный
аналог характерологической мозаики — мозаика осколков цитат, ког¬
да текст представляет собой систему отсылок к другим текстам более
ранним, мифологическим или литературным, или текстам того же ав¬
тора. Это традиция, начатая Достоевским, канонизированная Джой¬
сом и дошедшая до наших дней в текстах С. Соколова и В. Сорокина.
В пределе шизотипический дискурс строится просто как кластер из об¬
рывков цитат. Ср. характерный фрагмент из «Школы для дураков»:
И тогда некий речной кок дал ему книгу: на, читай. И сквозь хвою
тощих игл, орошая бледный мох, град запрядал и запрыгал, как се¬
ребряный горох. Потом еще: я приближался к месту моего назна¬
чения - все было мрак и вихорь. Когда дым рассеялся, на площад¬
ке никого не было, но по берегу реки шел Бураго, инженер, нос¬
ки его трепал ветер. Я говорю только одно, генерал: что, Маша,
грибы собирала? Я часто гибель возвещал одною пушкой вестовою.
В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один мо¬
лодой человек. А вы — говорите, эх, вы-и-и! А белые есть? Есть и
белые. Цоп-цоп, цайда-брайда, рита-умалайда-брайда, чики-ума-
чики-брики, рита-усалайда. Ясни, ясни на небе звезды, мерзни,
мерзни, волчий хвост!
Здесь обрывки цитат закономерно превращаются в шизофреничес¬
кий словесный салат, так как это повесть о мальчике-шизофренике,
страдающем среди прочего раздвоением личности. Точно так же как
зыбки границы между шизотипическим и шизофреническим сознани¬
ем, так же они подвижны между шизотипическим и шизофреническим
дискурсом.
Другой необычайно яркий пример подобного рода макароничес¬
кого шизотипического дискурса представляет собой поэзия Льва Ру¬
бинштейна, строящаяся из фрагментов, речевых осколков, взятых из
327
Вадим Руднев
Словарь безумия
разных реальностей, сиутаций или возможных миров. В качестве ил¬
люстрации приведу несколько строк-карточек из хрестоматийного
стихотворения этого замечательного поэта, которое называется «По¬
явление героя»:
— Ну что я вам могу сказать?
- Он что-то знает, но молчит.
- Не знаю, может, ты и прав.
— Они полезней, и вкусней.
- У первого вагона в семь.
— Там дальше про ученика.
— Пойдемте. Я как раз туда.
Особую роль в исследовании шизотипического дискурса сыграла
работа Бориса М. Гаспарова о «Мастере и Маргарите», в которой было
показано, что пучки цитат-мотивов располагаются на разных уровнях
структуры художественого дискурса, образуя запутанную нелинейную
модель художественного сознания - явный аналог полисемиотической
модели шизотипического сознания, которую мы пытаемся обрисовать
в статье Шизотипический характер. Б. М. Гаспаров показал, что, «дер¬
нув за ниточку» в одном месте текста булгаковского романа, мы начи¬
наем распутывать неимоверной длины мотивный клубок. Так, напри¬
мер, один из главных героев романа Иван Бездомный обладает целым
пучкои интертекстовых двойников, задаваемых его именем и фамили¬
ей - поэты Демьян Бедный, Андрей Безыменский, евангелист Иоанн,
Иванушка-дурачок - все это существует в читательском восприятии
этого героя примерно так же, как осколки характеров сосуществуют в
одной личности шизотипического человека. Каждый мотив ведет за
собой раскрытие других мотивов. Аналогия с Иванушкой-дурачком
обусловлена тем, что клиника профессора Стравинского, куда попадает
с шизофреническим шубом Иван Бездомный, представляет собой не¬
что вроде волшебного заколдованного замка, а сама фамилия Стравин¬
ского ассоциируются со знаменитым композитором и его сочинения¬
ми на руские народные темы - «Весна священная», «Свадебка», «Пет¬
рушка», «История солдата» (последняя, кстати, написана в такой же
328
Шизотипический дискурс
Ш
цитатной шизотипической манере). Тема евангелиста Иоанна подклю¬
чает евангельский, точнее, пассионный пласт повестования. «Мастер
и Маргарита», - утверждает Б. Гаспаров, — это роман-пассион, где раз¬
витие сюжета начинается с пленения Иисуса и кончается погребени¬
ем. Таким образом, весь роман построен как полифоническое нагро¬
мождение разнопорядковых мотивов (подробно см. [Гаспаров 1995]).
При этом чрезвычайно важной является еще одна черта данного
текста, которую в свое время отметил Ю. М. Лотман, а именно тот
факт, что в нем очень большую роль играет проблема поиска границы
между текстом и реальностью, между тем, что выдумано, и тем, что
происходило «на самом деле», что на формальном уровне манифести-
рутся тем, что текст романа Мастера и «реальность» московских собы¬
тий все время переплетаются друг с другом и как бы наезжают друг на
друга. При этом в принципе непонятно, какой пласт, московский или
ершалаимский, обладает большей реальностью [Лотман 1992].
Проблема поисков границ своей личности, а также границ между
реальностью и фантазией чрезвычайно актуальна для шизотипическо-
го сознания, ведь это сознание с нарушенной, плавающей идентично¬
стью. Когда Л в одном человеке несколько, возникает проблема гра¬
ниц между ними и границ между внутренним и внешними Я. Вообще
проблема границы чрезвычайно актуальна для шизотипической лич¬
ности, потому что очень часто эта личность определяется именно как
пограничная (ЬогйегНпе решоп) между неврозом и психозом. Если у та¬
кого челвоека возникают галлюцинации, то для него как для высоко¬
организованной личности, сохраняющей критику ко всему происхо¬
дящему в его душевной жизни, возникает мучительный вопрос отгра¬
ничения реального от иллюзорного, проблема, характерная еще для
одного знаменитого шизотипитческого романа — «Доктор Фаустус»
Т. Манна, где герой и рассказчик так и не могут до конца решить, был
ли разговор Леверкюна с чертом (развернутая цитата из соответству¬
ющего места романа Достоевского «Братья Карамазовы») галлюци¬
нацией или происходил на самом деле в некоем мистическом изме¬
рении.
Вообще проблема границы между текстом и реальностью — одна
из самых важных в шизотипическом искусстве XX века, особенно
в кинематографе. Существует целая серия кинотекстов — «Восемь с
половиной» Ф. Феллини, «Страсть» Ж.-П. Годара, «Все на продажу»
А. Вайды, — тема которых — съемка фильма и невозможность отгра¬
ничить рельность того, что присходит внутри фильма, от внетексто¬
вой реальности.
329
Вадим Руднев
Словарь безумия
Другим важнейшим риторическим приемом шизотипического ис¬
кусства XX века является такое построение дискурса, при котором он
делится на несколько частей (инстанций, текстовых субличностей),
каждая из которых излагает свою версию тех событий, которые про-
изшли в реальности текста. Наиболее известные тексты этой традиции
это рассказ «В чаще» Акутагавы (и фильм А. Куросавы «Расёмон», сде¬
ланный по нему) и роман У. Фолкнера «Шум и ярость». В современ¬
ной литертуре самый яркий текст такого рода, конечно, — «Хазарский
словарь» М. Павича. Во всех этих случаях текст делится на несколько
частей и в каждой излагается версия событий, противоречащая сосед¬
ней. На чьей стороне правда, так и остается неизвестным. В шизоти-
пическом расколотом мозаическом сознании происходит примерно то
же самое. Есть правда шизоида, есть правда ананкаста, есть правда ис¬
терика, но нет одной-единственной истины, на которую можно было
бы опереться. В этом и большое достоинство шизотипической лично¬
сти, которой не грозит стать фанатиком или фундаменталистом, и в
этом ее большое несчастье, так как она постоянно находится в вечных
сомнениях самого глобального порядка. Обычно ее не устраивают даже
такие элегантные своей толерантностью философские идеи, как, на¬
пример, философское расширение принципа дополнительности Ниль¬
са Бора или еще что-нибудь в таком роде.
Огромную роль в акгуализиации и апологии шизотитипического
начала сыграл, конечно, в этом смысле феномен постмодернизма,
провозгласивший в качестве одной из своих антидогм принципиаль¬
ное отсутствие истины и лишь возможность бесконечных интерперта-
ций. (Аналогом постмодернизма в психологии бьшо движение анти¬
психиатрии, объявившее шизофреническое сознание не болезненным,
а другим и даже лучшем по сравнению с сознанием Ьото погтаИх — см.
например [Лэйнг 1995].)
Вопрос об исторических корнях шизотипического дискурса, кото¬
рый мы традиционно ставим в такого рода исследованиях (в основе
обсессивного дискурса лежит традиция заговоров и заклинаний; в ос¬
нове истерического дискурса - свадебные и погребальные плачи,
шире, вообще обряды перехода; в основе эпилептоидного дискурса -
героический эпос) не вызывает особых трудностей. Источником ши¬
зотипического сознания является, конечно, мифологическое созна¬
ние, как оно бьшо реконтруировано в XX веке, прежде всего К. Леви-
Стросом с его учением о мифологическом бриколаже - осколочном
перебрасывании и переливания мифологических мотивов. Такое по¬
нимание мифа, которое предлагает Леви-Строс, - безусловно, шизо-
типическое. Вот что пишет он, например, по поводу мифа об Эдипе:
330
Шизотипический характер
Ш
Наш метод избавляет нас от поисков перовначального или под-
линнного варианта, что служило до сих пор одной из основных
трудностей при изучении мифологии. Мы, напротив, предлагаем
определять миф как совокупность всех его вариантов. Говоря ина¬
че, миф остается мифом, пока он воспринимается как миф. Мы
проиллюстировали это нашим толкованием мифа об Эдипе, кото¬
рое можно соотнести и с фрейдистской его формулировкой, ко¬
торое вполне может быть приложено и к этой последней. Конеч¬
но, проблема, для которой Фрейд избрал «Эдипову» терминоло¬
гию, не есть проблема альтернативы между автохтонностью и
двуполым воспроизведением (по Леви-Стросу, это основная про¬
блема архаического мифа об Эдипе. - В.Р.), но его проблема при¬
водит к вопросу: как двое могут породить одного? Почему у нас не
один родитель, а мать и еще и отец? Итак, мы можем отнести ги¬
потезу Фрейда заодно с текстом Софокла к числу версий мифа об
Эдипе. Их версии заслуживают не меньшего доверия, чем более
древние и, на первый взгляд, более «подлинные» [.Леви-Строс 1983:
194\.
Нет нужды говорить, что подобно тому, как в шизотипическом
сознании могут сочетаться обсессивно-компульсивное, истерическое
и эпилептоидное начала, миф может в себя инкорпорировать загово¬
ры и заклинания, обряды перехода и героический эпос.
ШиЗОТИПИЧеСКИЙ характер. (См. также характеры.) Смешан¬
ными (мозаическими) характерами обладают люди, имеющие серьез¬
ные психические расстройства — органические психопаты, эндокрин¬
ные (т.е. конституциональные гомосексуалисты), эпилептики и мало¬
прогредиентные шизофреники, или, по-другому, люди, обладающие
шизотипическим расстройством (считается, что у острых шизофрени-
ков-психотиков характера уже нет - он пропадает, будучи загорожен
«психотической занавеской»). В дальнейшем мы будем говорить толь¬
ко о смешанных характерах людей, обладающих шизотипическим рас¬
стройством.
По мнению М.Е. Бурно и его учеников [Бурно 1996, Волков 2000,
Добролюбова1996\, малопрогредиентные шизофреники обладают мно¬
жественными, мозаическим, или полифоническим, характером. Это
означает, что у одного человека может быть несколько характероло¬
гических доминант, что в одних обстоятельствах он может проявлять
331
Вадим Руднев
Словарь безумия
себя как шизоид, в других - как циклоид, в третьих - как истерик. На¬
пример, он будет гостеприимным радушным хозяином, всегда готовым
по-веселиться, но, когда гости уходят, он замыкается в себе и обдумы¬
вает решение сложнейших математических проблем или же, наоборот,
идет и декламирует стихи перед толпой. Или же человек в одних об¬
стоятельствах ведет себя, как психастеник - тихий застенчивый, интел¬
лигентный, а в других, как эпилептоид - грубый, властный и прямо¬
линейный. В сущности, в этом множестве радикалов и проявляется ха¬
рактерологическое объяснение схизису (см. схизис и многозначные
логики). То есть противоречия, в которых живет шизотипический че¬
ловек, объясняются характерологически. Например, как ананкаст он
всегда точно приходит на свидание, но, будучи в то же время истери¬
ком, он может взять и не прийти вовсе, что для истинного ананкаста
практически невозможно.
Здесь, по-видимому, следовало бы ввести разграничение, которо¬
го сих пор, кажется, никто не производил. Необходимо разграничить
родственные и не родственные характеры. Этот термин — «родствен¬
ный» - мы взяли из теории музыки. Там родственными тональнос¬
тями называют тональности, которые отличаются на один знак по¬
вышения или понижения тона, т.е. на один диез или бемоль при клю¬
че. Например, до мажор и соль мажор - родственные тональности.
При переходе из одной тональности в другую внутри музыкального
произведения (транспонирования) в классической музыке использо¬
вались прежде всего родственные тональности, чтобы не создавать
сильного диссонанса.
Примерно таким же образом можно разграничить родственные и
не родственные психические конституции, т.е. характеры. Например,
давно известно, что шизоид и ананкаст очень часто сочетаются в од¬
ном человеке (один из самых выдающихся примеров - Иммануил
Кант), у них много общего. Тогда об этом человеке говорят, что это
обсессивно-компульсивный шизоид. В художественной литературе
это, например, муж Анны Карениной Алексей Александрович, у ко¬
торого шизоидные черты — глубина и замкнутость сочетаются с обсес-
сивно-компульсивными чертами - в частности, педантизмом, кото¬
рый в конце романа закономерным образом перерастает в мистицизм
(характерный для ананкастов). Шизоидный характер также является
родственным психастеническому. И тот и другой — интроверты. По¬
этому в диагностической практике часто применяется выражение
«психастеноподобный шизоид». Правда, между этими радикалами
существует и некоторое напряжение. Истинный психастеник являет¬
ся реалистом, шизоид — всегда аутист. Родственными являются также
332
Шизотипический характер
Ш
циклоид и истерик. Истероподобный циклоид - жизнерадостный
враль — Фальстаф, Ноздрев. В них сочетаются черты диатетической
пропорции настроения и истерической пропорции вытеснения и
позы. Так вот, эти родственные характеры не создают, так сказать, ши-
зотипического диссонанса, т. е. обсессивный шизоид и истероподоб¬
ный циклоид могут не быть шизотипическим личностями. Здесь, вы¬
ражаясь словами Ганнушкина, имеет место «химическое соединение»
различных радикалов, а не их «физическая смесь», которая наблюда¬
ется в случае мозаических характеров [Ганнушкин 1997: 221].
Но существуют и не родственные конституции. Например, цикло¬
ид и шизоид. Или истерик и ананкаст, или психастеник и эпилепто-
ид. Я думаю, можно сказать, что степень шизотипичности определя¬
ется и количественно — тем, сколько характеров задействовано в че¬
ловеке, и качественно — что это за характеры. Например, если человек
одновременно является веселым, приветливым и жизнерадостным (т.е.
циклоидом-сангвиником), но при этом все время говорит, что против
него все настроены и со всеми судится, т. е. проявляет одновременно
черты циклоида и параноика и отчасти истерика (предположим, ему
доставляет удовольствие выступать в суде, и он с удовольствием пере¬
сказывает друзьям о своих сутяжнических подвигах), то этот человек,
скорее всего обладает шизотипической конституцией.
Но не всегда наличие более чем двух радикалов означает наличие
шизотипической структуры личности. Например, человек может про¬
являть в равной мере циклоидные, эпилептоидные и истерические
реакции (он человек настроения, любит поесть и выпить, любит при¬
хвастнуть и встать в позу, при этом в нем развита агрессивность — он
с легкостью может влезть в драку) и при этом не быть шизотипичес¬
кой личностью. Потому что циклоид, истерик и эпилептоид — род¬
ственные характеры, т.е. циклоид может одновременно быть автори¬
тарным (эпитимным) и истероподобным.
Помимо родственности / неродственности характеры группируют¬
ся еще и по-другому. Для того чтобы понять, как именно, нам необ¬
ходимо обратиться к совершенно другой научной традиции. Дело в
том, что представление о смешанном мозаическом характере не встре¬
чается в западных работах по психопатологии и психотерапии, его нет
и в западной психиатрии. Когда налицо некоторое шизофреническое
или истерическое расщепление личности на две или более самостоя¬
тельных субстанции, здесь обычно говорят о диссоциативной, или
множественной личности. В широком смысле диссоциированными
называют те части личности, которые как будто приобретают опреде¬
ленную самостоятельность и не отвечают друг за друга. В узком смыс¬
333
Вадим Руднев
Словарь безумия
ле диссоциативной, или множественной, личностью называют такую
личность, у которой развито несколько субличностей, и при этом мо¬
жет иметь место такое положение вещей, что, в то время когда дей¬
ствует одна личность, другая об этом ничего не знает.
Нечто подобное Карл Густав Юнг уже в своей в своей первой кни¬
ге 1907 года называл «отщепленными комплексами», т. е. частями лич¬
ности, которые под действием травмы как бы начинают жить самосто¬
ятельной жизнью [Юнг 2000: 56].
В каком-то смысле мы можем приравнять «куски характеров», «ра¬
дикалы», к субличностям. Чтобы понять, в каком именно смысле, мы
должны здесь выдвинуть следующую гипотезу. Тот факт, что в каждой
личности возможно в принципе наличие нескольких характеров, ин¬
станций или субличностей, является необходимой предпосылкой для
самой возможности серьезного психического заболевания вроде ши¬
зофрении или эпилепсии и, тем самым, возникновения осколочного
мозаического характера. Здесь важно несколько положений, которые
помогут обосновать эту гипотезу.
Шизофрения - болезнь языка, причем именно человеческого язы¬
ка, поэтому каждый человек в каком-то смысле потенциальный ши¬
зофреник (см. также бред и язык, язык и безумие). Это положение, в
соответствии с которым шизофрения является неотъемлемой принад¬
лежностью вида Ьото $ар1епз, было обосновано в исследованиях анг¬
лийского психиатра 1990-х годов Тимоти Кроу, показавшим, что «ши¬
зофренический ген» универсален для человека в силу межполушарной
асимметрии его мозга и уникального конвенционального языка, свой¬
ственного только людям [Сгоу> 1997\. Впрочем, мнение, в соответствии
с которым шизофрения присуща человеку изначально, высказывалось
с самого начала введения этого термина. Это мнение, в частности,
высказал в 1914 году П.Б. Ганнувшкин в словах, что «...каждый из нор¬
мальных людей немного шизофреник» [Ганнушкин 1997:334\. «Можно с
твердостью настаивать, - продолжал далее Ганнушкин, — что основы
шизофренических механизмов <... > совершенно так же заложены в
обычной, нормальной психике, как и основы маниакальных, парано¬
ических и других комплексов, рудименты шизофренической психики
можно без особого труда обнаружить у каждого» [Ганнушкин 1997:334\.
Способность сходить с ума, быть безумным, таким образом, зако¬
номерно заявляется как привилегия только разумного животного
(мысль, высказываемая не раз Ю.М. Лотманом). К тому же как будто
неизвестно, чтобы шизофрения была зафиксирована у животных, даже
высших, да и как она может быть зафиксирована, если эта болезнь,
прежде всего, связана с нарушениями речи и искажениями семиоти¬
334
Шизотипическое время
Ш
ческого восприятия реальности и возможна только на фоне семиоти¬
ческого восприятия реальности. Но раз так, то «шизофренический
характер», «шизофреническая конституция» (выражение Ганнушкина)
в определенном смысле становится такими же разумными словосоче¬
танием, как истерический характер, обсессивно-компульсивный ха¬
рактер и т. д. и становятся с ними в определенном смысле в один ряд.
Хотя, с другой стороны, последнее не совсем верно, потому что, если
принять гипотезу о мозическом строении шизотипического характера,
то получатся, что это характер второго порядка, характер, состоящий
из характеров. Однако, учитывая отрицательное отношение шизофре¬
нического сознания к теории логических типов [Бейтсон 2000], этот
вопрос можно счесть спорным и оставить для будущего рассмотрения.
Шизотипическое время. (См. также время и безумие, шизоти-
пический характер, шизотипический дискурс.) Характеризуя шизоти¬
пическое растройство личности, А. Бек и А. Фримен говорят, что
наиболее замечательной его особенностью является «причудливость
когнитивной сферы» [Бек-Фримен 2002]. В соответствии с этим ши¬
зотипическое сознание строит причудливые модели времени. В сущ¬
ности, шизотипическое время во многом по своей причудивости и
богатству похоже на шизофреническое время. Не будем забывать, что
шизотипическое было выделено из шизофренического совсем недав¬
но. Но наиболее важной отличительной особеннностью здесь явля¬
ется то, что, какими бы причудливыми, сложными, многомерными,
параллельными не были шизотипические темпоральные построения,
они все же так или иначе отталкиваются от исходных линейных мо¬
делей — энтропийной или эсхатологической (см. время и безумие), в
то время как шизофренические представления о времени ни с чем не
соотносятся, будучи вполне самодостаточными. Шизотипическое
время при этом лишь похоже на асемиотическое шизофреническое
время, будучи семиотически чрезвычайно сильно нагруженным.
Наиболее просто и примитивно сказать об определяющей осо¬
бенности шизотипичского представления о времени можно, вспомнив
от том, что шизотипическая конституция носит синкретический ха¬
рактер, включая в себя все остальные конституции в качестве радика¬
лов. В соответствии с этим шизотипическое построение времени ис¬
пользует на правах «строительных материалов» все или большинство
типов невротического или психопатического времени, которые разо¬
браны в статье Время и безумие. Для иллюстрации шизотипического
335
Вадим Руднев
Словарь безумия
временного построения мы расссмотрим один из самых популярных
культовых фильмов конца XX века — «Беги, Лола, беги». Герой Мен¬
яй потерял мешок с деньгами, который он должен передать боссу. У
него есть двадцать минут на то, чтобы достать сто тысяч марок, иначе
его убьют. Он звонит своей возлюбленной Лоле, и она начинает бе¬
жать. Сначала она просто выбегает из дому, потом она бежит к своему
отцу-банкиру просить у него денег, но он отказывает ей. В это время
Менни грабит банк, но тут полиция его убивает. Однако время возра-
щается вспять к тому моменту, когда Лола выбегает из дому. Она опять
бежит к отцу и под дулом пистолета заставляет дать ей деньги, затем
она благополучно втречается с Менни, но тут убивают ее. Время опять
возращается к исходной точке. Лола бежит, она не застает отца в офи¬
се, вбегает в здание казино и за несколько минут чудесным образом
выигрывает 100 тысяч марок. В это время Менни находит бродягу,
который украл у него пакет с деньгами, и все заканчивается хорошо.
Практически мы тут видим совмещение почти всех возможных
представлений о времени. Каждый эпизод имеет линейную развертку.
Его можно понять и как циклоидное энтропийное время, особенно,
неудачные первые два, и как шизоидное телеологическое - Лола бе¬
жит для того, чтобы спасти во чтобы то ни стало Менни. В то же вре¬
мя, неудачный вариант прошлого тут же подменяется, фальсифици¬
руется новым вариантом — истерическое время. При этом происходит
автоматическое повторение эпизодов без каких бы то ни было, во вся¬
ком случае, на первый взгляд, видимых признаков становления - это
обсессивно-компульсивное время. Течение событий два раза прерыва¬
ется двумя эпизодами из прошлого, когда Менни и Лола лежат в кро¬
вати и мирно беседуют о любви — это психастеническое время воспо¬
минаний. В то же время, время для Лолы, одержимой одной сверхцен¬
ной идеей достать деньги, парадоксальным образом вообще перестает
существовать — это черта паранойяльного сознания.
Но какие бы вычурные временные построения не придумывал ши-
зотипический дискурс, все равно остается отталкивание от нормального
обыденного времени. Вообще время - одна из самых главных тем в
культуре и искусстве XX века. Первыми здесь выступили Джеймс
Джойс и Марсель Пруст. Джойс наложил обыденный день дублинского
еврея Леопольда Блума на время возвращения Улисса на Итаку; Пруст
мифологизировал (гиперболизировал) невротически-психастеничес-
кую ностальгию по прошлому. Можно предположить, что это было
весьма актуально в начале XX века, когда люди отчаянно тосковали по
старым добрым верменам. Поэтому и гиперпсихастенический проект
Пруста имел такой успех.
336
Шизотипическое время
Ш
Несколько по-иному вопрос был поставлен и решен в «Волшебной
горе» Томаса Манна, романе о времени, как он сам его называл. В са¬
мой структуре романа нет шизотипических временных сдвигов, но, тем
не менее, это неомифологическое произведение, анализирующее про¬
блему как бы языком XIX века, что в принципе характерно для Томаса
Манна. Ганс Касторп попадает на волшебную гору, где сакраменталь¬
ные семь лет подготавливают его к поданному началу XX века, к пер¬
вой мировой войне. При этом в его «герметической педагогике» изуча¬
ются все достижения начала XX века — психоанализ, релятивистские
теории, политические проблемы и бытовые технические реалии вплоть
до кинематографа и граммофона. При этом Ганс Касторп ассоцииру¬
ется с мифологическим простаком, симплициссимусом и одновремен¬
но с вагнеровским Тангейзером, находящемся в плену на волшебной
горе у Венеры [Мелетинский 1976] — т.е. эффект наложения обыденного
малого времени на большое мифологическое и здесь имеет место.
Обратимся к тому, как в начале века поступала со временем фило¬
софия. Можно сказать, что это был бум на философию времени, ко¬
торое в XIX века практически не изучалось. А. Бергсон и Э. Гуссерль
построили теории внутреннего времени. Ф. Брэдли и Дж. МакТаггарт
построили теории, отрицающие объективность феномена времени.
Джон Уильям Данн построил многомерную модель времени. На ней
необходимо остановиться подробнее, так как она имеет явный шизо-
типический характер и к тому же стала парадигмообразующей для
многих дальнейших феноменов XX века.
Есть два наблюдателя, говорит Данн. Наблюдатель 2 следит за на¬
блюдателем 1, находящимся в обычном четырехмерном пространствен¬
но-временном континууме. Но сам этот наблюдатель 2 тоже движется
во времени, причем его время не совпадает со временем наблюдателя
1. То есть у наблюдателя 2 прибавляется еще одно временное измере¬
ние, время 2. При этом время 1, за которым он наблюдает, становится
пространственно-подобным, т.е. по нему можно передвигаться, как по
пространству, — в прошлое, в будущее и обратно, подобно тому как в
семиотическом времени текста можно заглянуть в конец романа, а по¬
том перечитать его еще раз. Далее Данн постулирует наблюдателя 3,
который следит за наблюдателем 2. Континуум этого последнего на¬
блюдателя будет уже шестимерным, при этом необратимым будет лишь
его специфическое время 3; время 2 наблюдателя 2 будет для него про¬
странственно-подобным. Нарастание иерархии наблюдателей и, соот¬
ветственно, временных изменений может продолжаться до бесконеч¬
ности, пределом которой является Абсолютный наблюдатель, движу¬
щийся в абсолютном Времени, т.е. Бог [Данн 2000].
337
12-11117
Вадим Руднев
Словарь безумия
Интересно, что, согласно Данну, разнопорядковые наблюдатели
могут находиться внутри одного сознания, проявляясь в особых состо¬
яниях сознания, например, во сне. Так, во сне, наблюдая за самим
собой, мы можем оказаться в собственном будущем, тогда-то мы и
видим пророческие сновидения. Теория Данна является синтетической
по отношению к линейно-эсхатологической и циклической моделям,
т.е. шизотипической. Серийный универсум Данна - нечто вроде сис¬
темы зеркал, отражающихся друг в друге. Вселенная, по Данну, -
иерархия, каждый уровень которой является текстом по отношению к
уровню более высокого порядка и реальностью по отношению к уров¬
ню более низкого порядка.
Концепция Данна оказала существенное влияние на культуру XX
века, в частности, на творчество X. Л. Борхеса, каждая новелла кото¬
рого, посвященная проблеме времени и соотношению текста и реаль¬
ности, закономерно дешифруется серийной концепцией Данна, кото¬
рую Борхес хорошо знал. Так, в новелле «Другой» старый Борхес встре¬
чает себя самого молодым. Причем для старика Борхеса это событие,
по реконструкции Борхеса-автора, происходит в реальности, а для
молодого — во сне. То есть молодой Борхес во сне, будучи наблюдате¬
лем 2 по отношению к самому себе, переместился по пространствен¬
но-подобному времени 1 в свое будущее, где встретил самого себя ста¬
риком, который, будучи наблюдателем 1, спокойно прожил свой век во
времени 1. Однако молодой Борхес забывает свой сон, поэтому, когда
он становится стариком, встреча с самим собой, путешествующим по
его времени 1, представляется для него полной неожиданностью.
В системе Данна чрезвычайно важно постулирование наблюдате¬
ля, Другого. Наблюдатель — важнейший компонент квантновой тео¬
рии Вернера Гейзенберга. Другой - наиболее важная категория психо¬
анализа Жака Лакана. Почему наблюдатель и Другой суть шизотипи-
ческие категории? Ответ понятен. Шизотипический характер имеет
мозаическую структуру, состоит из нескольких субхарактеров. Если это
характеры типа шизоидного, психастенического или истерического (а
в больших культурных проектах XX века участововали, конечно, лич¬
ности с развитым шизоидным радикалом), то ясно, что когда одна
часть личности что-то делает или говорит, то другая за ней наблюда¬
ет. Это создает во временных шизотипических построениях (столь
популярных в XX веке сюжетах путешествий в будущее и прошлое —
от Герберта Уэллса до Бредбери и Стругацких и далее) особый пара¬
докс, который состоит в том, что наблюдатель самим своим прису-
ствием необратимо изменяет картину прошлого или будущего и этим
создает двойную идентичность во времени.
338
Шизотипическое время
Ш
В качестве наиболее простого примера всего того, что сказано о
наблюдателе, истине и временных потоках приведем рассказ Борхеса
«Тема предателя и героя». Историк Райен исследует события важней¬
шего восстания. Руководитеь этого восстания Килпатрик - признан¬
ный вождь народа и герой. Но восставшим ясно, что кто-то из них
предатель. Один из них с неопровержимостью доказывает, что преда¬
телем является сам руководитель восстания Килпатрик. Тогда восстав¬
шие, чтобы не смущать народ, решают сохранить официальный ста¬
тус предателя как героя. Они разыгрывают восстание, где весь город
становится театром, и Килпатрик умирает мученической смертью ге¬
роя. В заключение Райен, который не осмеливается вскрыть истину,
пишет биографию Килпатрика как героя, и под конец ему приходит в
голову, что и его историческое исследование было запланировано кем-
то заранее. Здесь шизоидное телеологическое понимание времени и
истории побеждает естественнонаучное «циклоидное».
Представление о том, что у одного события могут быть нсколько
параллельных течений времени с разными исходами (вспомним
фильм «Беги Лола, беги»), было научно зафиксированно в особой ло¬
гической дисциплине 1970-х годов — семантике возможных миров,
где подразумевается, что можно математически построить некий
кластер течений событий, «мировых линий», одна из которых доста¬
точно условно называется «действительным миром» [Хинтикка 1980).
За пятьдесять лет до этого Акутагава в рассказе «В чаще» (см.) (бо¬
лее известном по фильму Акиры Куросавы «Расёмон») построил ту же
самую временную схему.
Еще один пример — роман В.В. Набокова «Бледный огонь». Здесь
имеется поэма Шейда и комментарий к ней, который пишет друг
Шейда преподаватель литературы Кинбот. Постепенно из этого ком¬
ментария выясняется, что Кинбот является королем в изгнании некой
вымышленной страны Зембли, и вся поэма - не что иное, как коммен¬
тарий к его (Кинбота) жизни в качестве короля. При этом остается так
и не ясным, является ли Кинбот параноиком, вычитывающим из по¬
эмы то, чего там нет (см. паранойя), подобно тому, как при бреде от¬
ношения параноики вычитывают из газет события, связанные, по их
мнению, с ними, или действительно его жизнь зашифрована в поэме -
паранойяльная и шизоидная версии оказываются равноправными.
Третий пример — «Хазарский словарь» Милорада Павича, в цент¬
ре которого факт принятия хазарами новой веры — православной, ис¬
ламской или иудейской. Причем православные источники словаря ут¬
верждают, что хазары приняли православие, исламские — ислам, а
иудейские — иудаизм.
12*
339
Вадим Руднев
Словарь безумия
Одним из шизотипических символов XX века в его отношениях со
временем является кинематограф, который обладает способностью
показывать все возможные временные конфигурации, показывать
прошлое и будущее, как настоящее, в виде квазиреалистической кар¬
тинки, реалистически-подобно рассказывать о путешествиях в про¬
шлое и будущее, визуализировать и истерическое желание заменить
прошлое, и психастеническую ностальгию по прошлому, показывать
одно и то же течение времени как детерминистское и как телеологи¬
ческое. Таким шизотипическим кинематографическим символом он-
тошения XX века со временем может служить фильм Андрея Тарков¬
ского «Зеркало», где прошлое, настоящее и будущее оживают в виде
воспоминаний и фантазий главного героя в нелинейном перемешива¬
ющемся порядке. При этом в противоположность шизофреническому
временному хаосу за этой нелинейностью памяти встает вполне отчет¬
ливая (телеологически-шизоидная, конечно, по своей сути) временная
линия исторической судьбы России.
В заключение можно сказать, что шизотипический человек хотя и
принимает идею простого линейного времени, в обыденном или энт¬
ропийном, или культурно-эсхатологическом варианте, он, тем не ме¬
нее, не может жить и воспринимать мир по законам такого времени —
они ему не интересны в силу «причудливости» его когнитивной сфе¬
ры и неадекватны той культурной реальности, в которой он должен
пребывать. Находясь зачастую на границе между здоровьем и болез¬
нью, между неврозом и психозом, он склонен воспринимать время так¬
же как некую пограничность, трансгрессивность, некую экзистенци¬
альную черту, за которой его ждет либо вечное блаженство, либо адс¬
кие муки. И путь к этой черте лежит не по прямой линии, но по
многомерному, параллельно развивающемуся, возвращающемуся на¬
зад и забегающему вперед причудливому временному континууму.
ШиЗОфрвНИЧеСКИИ дискурс. В этой статье мы попытаемся по¬
казать, что «психотическое», безумие, шизофрению, бред и тому подоб¬
ное уместно и единственно непротиворечиво с точки зрения филосо¬
фии XX века и рассматривать не как феномены сознания, а как фено¬
мены языка (см. также язык и безумие, бред и язык). Это значит, что мы
будем отстаивать точку зрения, в соответствии с которой в XX веке
«сойти с ума» это одно и то же, что перейти с одного языка на другой,
обратиться к особой языковой игре, или целой семье языковых игр
(см. бред и речевой акт).
340
Шизофренический дискурс
Ш
Для того чтобы разобраться в этой проблеме и посмотреть, как
устроены различные психотические языки, мы решили провести сам
по себе в некотором смысле психотический эксперимент, суть которо¬
го заключалась в том, что мы взяли некий художественный текст, за¬
ведомо не психопатический и даже по преимуществу не невротичес¬
кий (хотя, по-видимому, таких не бывает) и затем переделали в шизоф¬
ренический. Для того чтобы с подобным текстом легко было работать,
ясно, что он должен быть небольшим. Для того же, чтобы он, хотя бы
на первый взгляд, казался не относящимся к сфере художественной
патопсихологии, ясно, что это, скорее всего, должно быть произведе¬
ние XIX века и, в третьих, желательно, конечно, чтобы это был хрес¬
томатийно известный текст. Мы выбрали следующий:
Л. Н. Толстой
Косточка
(Быль)
Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали
на тарелке. Ваня никогда не ел слив и все нюхал их. И очень они ему нра¬
вились. Очень хотелось съесть. Он все ходил мимо слив. Когда никого не
было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом
мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу.
За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну
сливу?» Все сказали: «Нет». Ваня покраснел, как рак, и тоже сказал:
«Нет, я не ел».
Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это не хорошо; но
не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и кто не умеет
их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь».
Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко».
И все засмеялись, а Ваня заплакал.
Мы не могли не начать с того, чтобы не посмотреть морфологию
этого текста, оставив его нетронутым хотя бы внешне. Картина, пред¬
ставившаяся нашему взору, была достаточно красочной и оставляла
всякие иллюзии по поводу того, что может быть «здоровый» художе¬
ственный текст. «Косточка», прежде всего, представляет собой полную
развертку Эдиповой ситуации. Авторитарная (фаллическая, шизофре-
ногенная мать), слабый, пытающийся при помощи лжи навести поря¬
док отец, угрожающий кастрацией-смертью, мальчик Ваня, судя по
всему 3—5 летней, и его желание съесть сливу как желание инцеста с
матерью. Сливы, «этот смутный объект желания», — часть матери — ее
341
Вадим Руднев
Словарь безумия
грудь — ее половые органы, к которым Ваня принюхивается (копро-
фагия). Сливы — это, по этимологии, нечто сияющее. Бедный Ваня.
Ананкастическая мать «сочла сливы» и «сказала отцу». И хотя реаль¬
но Ваня не ел косточку, но страх символической смерти-кастрации
гораздо сильнее реального поступка. Заметим, что для отца важна
именно не слива, а косточка. Плохо есть тайком сливы (плохо желать
матери) но проглотить косточку - это уже страшно, потому карается
смертью. Именно поглощение косточки воспринимается как инцест.
Проглатывание в мифологической традиции играет огромную роль. От
проглатывания чего-либо родились многие мифологические герои:
так, Кухулин рождается от того, что его мать выпила воду с насекомым.
Конечно, чрезвычайно важно, что рассказ называется не «Слива», а
«Косточка», потому что косточка — это то, что содержит в себе семя.
Проглотив косточку, Ваня совершил бы символический обряд сово¬
купления с матерью, более того, оплодотворения матери. (Характер¬
но, что Ваня сначала покраснел - стыд за инцест, а потом побледнел -
страх кастрации.)
Мифология косточки — кости — зерна — зернышка — семечка дает
обширный интертекстуальный контекст, связывающий поведение
Вани с известным комплексом, связанным с работой Фрейда «По ту
сторону принципа удовольствия», с комплексом эроса-танатоса, кото¬
рому почему-то в свое время не дали имени собственного. Назовем его
«комплексом Персефоны».
В гомеровском гимне «К Деметре» рассказывается о том, как
Персефона вместе с подругами играла на лугу, собирала цветы. Из
расселины земли появился Аид и умчал Персефону на золотой ко¬
леснице в царство мертвых <...>. Горевавшая Деметра (мать Пер¬
сефоны. - В.Р.) наслала на землю засуху и неурожай, и Зевс был
вынужден послать Гермеса с приказанием Аиду вывести Персефо¬
ну на свет. Аид отправил Персефону к матери, но дал вкусить ей
насильно зернышко граната, чтобы она не забыла царство смерти
и снова вернулась к нему. Деметра, узнав о коварстве Аида, поня¬
ла, что отныне ее дочь треть года будет находиться среди мертвых,
а две трети с матерью, радость которой вернет земле изобилие [Ло¬
сев 1991: 438].
В тексте Толстого «Косточка» содержится и идея первородного
греха - слива как плод с древа познания добра и зла, но также и ми¬
зансцена тайной вечери. — Один из вас съел сливу — один из вас пре¬
даст меня. — Нет, я выбросил косточку за окошко. (Не я ли, Господи?)
342
Шизофренический дискурс
Ш
Что такое косточка? Косточка — это семя плода. То есть то, что
кто-то из вас, дети, возжелал тела матери своей, это нехорошо, но это
не беда, беда в том, что в сливах есть косточки, т. е. отец боится сим¬
волического инцеста и карает за него даже не кастрацией, а просто
смертью. За поедание плодов с древа познания добра и зла (т. е. того,
что можно и того, что нельзя, — и в этом весь поздний Толстой) вер¬
дикт один: изгнание из Рая, т. е. смертность. Видно, и Толстому в
детстве что-то такое померещилось, а потом в 1970-е годы настоль¬
ко отозвалось, что он отказался от секса вообще (мало ли что!?)
В русской литературе косточка как элемент «комплекса Персефо-
ны», амбивалентно объединяющего любовь и смерть, присутствует,
например, в рассказе Пушкина «Выстрел»: («...видя предметом внима¬
ния всех дам, и особенно самой хозяйки...»), «он стоял под пистоле¬
том, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки,
которые долетали до меня».
Вишневая косточка играет такую же роль в одноименном расска¬
зе Юрия Олеши. Там герой зарывает в землю вишневую косточку —
символ неразделенной любви, - чтобы на этом месте выросло вишне¬
вое дерево любви разделенной. В рассказе же Олеши «Любовь» таким
символом выступает абрикосовая косточка (сам абрикос напоминает
герою ягодицы). В «Трех толстяках» Суок рассказывает наследнику
Тутти (Суок замещает куклу, в которую он влюблен и которая оказы¬
вается его сестрой — мотив инцеста) о том, как она насвистывала вальс
на двенадцати абрикосовых косточках.
Этот приблизительный и намеренно эскизный «психоанализ» мы
провели лишь для того, чтобы показать, как много можно «вытащить»
из такого, казалось бы, невинного текста, - поскольку мы намерены
«вытащить» из него гораздо больше.
Данная процедура, которую мы намереваемся проделать с «былью»
Толстого, на первый взгляд, напоминает пародию, однако фундамен¬
тально она противоположна пародии, так как последняя заостряет в
тексте то безусловное, что в нем есть, наша же методика препариро¬
вания показывает то, чего в тексте безусловно нет, но могло бы быть
при определенных условиях.
«Косточка-2» (шизофренический дискурс)
Мать купила слив, слив для бачка, сливокупание, отец, я слышал
много раз, что если не умрет, то останется одно, Ваня никогда сливо-
пусканья этого, они хотели Васю опустить, им смертию кость угрожа¬
ла, я слышу слив прибоя заунывный, очень хотелось съесть, съесть, очень
343
Вадим Руднев
Словарь безумия
хотелось, съесть, съесть, лежали на тарелке, съесть, тех слив, маму-
лечка, не перечтешь тайком, деткам, мама, дай деткам, да святит¬
ся Имя Отца, он много раз, много раз хотел, съесть, съесть, хотел
съесть, мать купила слив для бачка, а он хотел съесть, съесть, со¬
жрать, растерзать, перемолола ему косточки, а тело выбросили за
окошко, разумеется, на десерт, после обеда, сливокопание, мальчик съел
сливу, слива съедена мальчиком, сливой съело мальчика, слива разъела
внутренности мальчика, кишки мальчика раздуло от запаха сливы, он
нюхал их, а они нюхали его, надобно вам сказать, что в сливе заложе¬
но все мироздание, и потому, если ее слить тайком, перед обедом, ког¬
да в горнице никого, а косточку выбросить за окошко ретроактивно,
это тело матери, и все нюхал-нюхал, но не удержался, и все сказали,
нет, сказали, нет, слив больше нет, отец заботливо, что если ненаро¬
ком, но все казали, что слив больше нет, как рак за обедом, мать про¬
дала отцу несколько слив, перед обедом сочла детей, видит, одного нет,
она сказала отцу, отец покраснел, как рак, я косточки выбросил в от¬
хожее место, в конце концов, одним больше, одним меньше, все засме¬
ялись, засмеялись, засмеялись, тут все, доктор, засмеялись, просто все
обсмеялись, чуть с кровати не упали, а Ваня заплакал.
Мы не должны переоценивать результаты нашего эксперимента,
но, тем не менее, из проведения его явствует, что как бы ни различа¬
лись поверхностные психические структуры высказывания, все равно
сохраняется одна и та же глубинная структура, тема дискурса: покуп¬
ка слив как попытка соблазнения матерью Вани, желание Ваней ма¬
тери-сливы, съедание сливы как нарушение запрета на инцест - ра¬
зоблачение и месть отца. А раз так, раз любая глубинная структура из¬
начально безразлична к тому, является ли высказывание нормальным
или патологичным, то концепция безумия может быть не только фу-
кианской (безумие распространяется и дифференцируется по мере
распространения соответствующих понятий и социальных институ¬
ций), но и уорфианской: мы видим какое-то девиационное поведение
и даем ему название.
Неизменной остается композиция произведения, выраженная
формулой, которую мы приводили выше: покупка слив как попытка
соблазнения матерью Вани, желание Ваней матери-сливы, съедание
сливы как нарушение запрета на инцест — разоблачение и месть отца.
Ответить на вопрос, меняется ли сюжет дискурса при переходе к
изображению разных типов сознания, невозможно - у дискурса нет
сюжета, последовательность событий является квазипоследовательно¬
стью — мы можем начать с того, что Ваня выбросил косточку в окно,
344
Шизофрения
Ш
а закончить тем, что сливы лежали на тарелке, и от этого ничего не из¬
менится, потому что мир это не последовательность событий, а сис¬
тема событий, потому-то и сюжет, якобы регистрирующий эту отсут¬
ствующую последовательность событий, совершенно не нужен.
Шизофрения (см. также шизофрения и XX век) — главное психи¬
ческое заболевание XX века. Это заболевание настолько сложное и
разнообразное, что однозначно определить его невозможно. Уникаль¬
ность и особое положение шизофрении показывает хотя бы то, что,
если паранойя каким-то образом связана с обсессивно-компульсивным
неврозом, а маниакально-депрессивный психоз - с депрессией как не¬
врозом, то никакого аналога шизофрении в сфере малой психиатрии
подыскать невозможно.
По-видимому, шизофрению, паранойю, и маниакально-депрес¬
сивный психоз можно разграничить следующим образом. При пара¬
нойе бред центрируется вокруг Я, при шизофрении Я расщепляется
или становится равным всему универсуму, генерализуется. Шизофре¬
нический бред — это бред о мире, в то время как паранояйльный бред
всегда индивидуален. При маниакально-депрессивном психозе нет той
генерализованное™, харизматичности, онтологичности и апокалип-
тичности, которые так характерны для шизофрении. То есть при па¬
ранойе Я— центр бреда, при шизофрении Я — расщепляется на пас¬
сивно-активные трансформации (т. е. «я бью» становится неотличи¬
мым от «меня бьют» и от «мной бьют»), Я— смешивается с миром. При
маниакально-депрессивном психозе Я как субъект - активно (это род¬
нит МДП с паранойей), но как агент Я — пассивно (это роднит МДП
с шизофренией, хотя никаких трансформаций здесь, конечно, не про¬
исходит).
Важнейшим признаком шизофрении, как пишет Блейлер, являет¬
ся расстройство ассоциаций. «Нормальные сочетания идей теряют
свою прочность, их место занимают всякие другие. Следующие друг за
другом звенья могут, таким образом, не иметь отношения одно к дру¬
гому» [Блейлер 1993:305\. Ясно, что данная особенность является од¬
ной из наиболее четких при определении и вычленении шизофрени¬
ческого дискурса.
Ср. пример шизофренической речи из книги [Кемпинский 1998].
Больная, находившаяся в состоянии спутанности, на вопрос: «Где
пани сегодня была?» отвечала: «Имела, а не была... Спрашивали
345
Вадим Руднев
Словарь безумия
меня, чтобы пошла и сегодня к оптыде оптре птрыфифи, а мне
тоже там. Разве доктор... Но нет, нам... Как же с ним... Это было
неинтересно с теми. Какое-то молочко, молочко и яблоки, кажет¬
ся, что-то, какое-то, яблоки, яблоки, вместе соединенные, ну а
больше всего боюсь то...» —
с фрагментом из сорокинской «Нормы»:
Бурцов открыл журнал:
- Длронго наоенр крире качественно опное. И гногрпно номе¬
ра онаренр прн от оанренр каждого на своем месте. В орнрпнре
лшон щоароенр долг, говоря раоренр ранр. Вот оптернр рмиапин
наре. Мне кажется оенрнранп оанрен делать...
Он опустился на стул.
Александр Павлович поднял голову:
— Онранпкнр вопросы опренпанр Бурцов?
Следующая особенность шизофрении по Блейлеру - неустойчи¬
вость аффектов. Например, то, что у здорового человека вызывает ра¬
дость, у шизофреника вызывает гнев, и наоборот (паратимия). Аффек¬
ты теряют единство. «Одна больная убила своего ребенка, которого она
любила, так как это был ее ребенок, и ненавидела, так как он проис¬
ходил от нелюбимого мужа; после этого она неделями находилась в
таком состоянии, что глазами она в отчаянии плакала, а ртом смея¬
лась» [Блейлер: 312].
Важнейшей особенностью шизофрении является аутизм.
Шизофреники теряют контакт с действительностью <...>.
Больная думает, что врач хочет на ней жениться. Ежедневно он ее
в этом разубеждает, но это безуспешно. Другая поет на концерте в
больнице, но слишком долго. Публика шумит; больную это мало
трогает; когда она кончает, она идет на свое место вполне удовлет¬
воренная [Блейлер: 314].
Не менее важна шизофреническая амбивалентность, неподчине¬
ние мышления шизофреника законам бинарной логики. Больной мо¬
жет в одно то же время думать — «я такой же человек, как и вы» и «я
не такой человек, как вы» [Блейлер: 312] (см. также схизис и многознач¬
ные логики).
Шизофреники испытывают широкий спектр разного рода галлю¬
цинаций — слуховые, зрительные, осязательные, обонятельные и вку¬
совые.
346
Шизофрения
Ш
Остановимся также на речевых признаках шизофрении, которые
помогут нам «синтезировать» шизофренический дискурс (см.); (см. так¬
же язык и безумие, бред и язык). Это перескакивание с темы на тему:
«Слова не связываются в предложении; иногда больной громким го¬
лосом пропевает их, повторяя один и тот же фрагмент мелодии» [Кем-
пинский 1998: 33\. Хаотичность, бесцельность речи, производные от
нарушения нормального действия ассоциаций. «Словесный салат», -
феномен, при котором «речь состоит из отдельных, не связанных в
предложение слов, представляющих, главным образом, неологизмы и
персеверирующие высказывания или окрики или даже отдельные сло¬
ги» [Кемпинский: 39]. Персеверация — автоматическое бессмысленное
повторение какого-либо движения или слова - вообще крайне харак¬
терна для шизофрении. Это связано с так называемым синдромом
Кандинского-Клерамбо, или «синдромом психологического автома¬
тизма», одного из наиболее фундаментальных феноменов при образо¬
вании шизофренического бреда. Для наших целей в синдроме Кандин¬
ского-Клерамбо важно отметить следующую его важнейшую черту —
вынужденность, отчужденность мышления от сознания субъекта, как
будто его сознанием кто-то управляет [Рыбальский 1983: 72]. (А. Кем¬
пинский справедливо связывает психический автоматизм шизофрени¬
ков с автоматическим письмом сюрреалистов — сюрреалистический
дискурс — ярко выраженный психотический дискурс.)
Наконец, укажем важнейшие тематические особенности шизо¬
френического бреда: представление об увеличении и уменьшении
собственного тела, превращение в других людей, в чудовищ и неоду¬
шевленные предметы; транзитивизм, например, — представление, в
соответствии с которым, в тело или сознание субъекта кто-то входит;
представление о лучах или волнах, пронизывающих мозг (так, гово¬
рящие лучи, которые передают субъекту божественную истину, —
один из ключевых образов знаменитых психотических мемуаров
Шребера, исследованных Фрейдом и Лаканом). Чрезвычайно харак¬
терна при шизофрении гипертрофия сферы «они» и редукция сфе¬
ры «я» - «ты» — «мы», что позволяет говорить о десубъективизации
и генерализации шизофренического мира. В этическом плане важ¬
но отметить альтруизм шизофреника, его стремление к правде [Кем¬
пинский: 162, 165].
В онтологическом плане шизофреник смешивает прошлое и на¬
стоящее, «здесь» и «там», в качестве завершения течения болезни его
могут настигнуть полнейшие хаос и пустота.
Мы слышим непривычную речь и определяем ее как речь сумас¬
шедшего. При этом у нас нет никаких гипотез относительно того, что
347
Вадим Руднев
Словарь безумия
происходит у этого человека в сознании — и, поскольку глубинная
структура безразлична к тому, патологическим или нормальным явля¬
ется дискурс, а последнее проявляется только на уровне поверхност¬
ной структуры, то, стало быть, безумие — это просто факт языка, а не
сознания (ср. бред и язык, язык и безумие).
Но что же получается, значит, настоящие шизофреники, которые
лежат в больнице, - это не сумасшедшие: научите их говорить пра¬
вильно - и они будут здоровыми? Именно так. Но беда в том, что на¬
учить их нормально говорить невозможно. Значит, они все-таки сумас¬
шедшие. И тогда получается, что сумасшедший это тот, кто не умеет
нормально говорить. Это, конечно, скорее, точка зрения аналитичес¬
кой философии безумия (если бы таковая существовала).
Но мы не правы, когда противопоставляем «биологический» пси¬
хоанализ и «структурный» психоанализ. Мать и отец в Эдиповом ком¬
плексе - это языковые позиции. Мать - источник потребности - а
затем желания. Отец - Закон (недаром говорят: буква закона - одно
из излюбленных словечек Лакана - «Инстанция буквы в бессознатель¬
ном»).
Когда мы противопоставляем психическое заболевание, экзоген¬
ное, например, травматический невроз или пресинильный психоз,
эндогенному, то мы думаем об эндогенном, генетически обусловлен¬
ном заболевании как о чем-то стопроцентно-биологическом, забывая,
что генетический код - это тоже язык, и стало быть, эндогенные за¬
болевания также носят знаковый характер.
Но покинем хотя бы на время ортодоксальную стратегию анали¬
тической философии и предположим, что каждая языковая игра так
или иначе связана, условно говоря, с биологией. Чем более примитив¬
на в семиотическом смысле языковая игра, тем явственнее ее связь с
биологией. Когда человеку больно, он кричит и стонет, когда ему хо¬
рошо, он улыбается. Это самая прямая связь с биологией. Наиболее
явственное усложнение подобной связи - конверсия. Например, когда
убивают христианского мученика, он улыбается.
Более сложные опосредования: как связана с биологией лекция
профессора? Можно сказать, что у профессора природная «биологи¬
ческая» тяга читать лекции. Так же, как у вора — воровать и у убийцы —
убивать. Но все равно здесь связь с биологией более опосредованна,
чем желание алкоголика напиваться, или наркомана - колоться.
Из этих различных опосредованностей между речевыми действи¬
ями и биологией и состоит, в сущности, человеческая культура. Куль¬
тура — это система различного типа связей между биологией и знако¬
вой системой. Если бы все типы связей были бы одними и теми же,
348
Шизофрения
Ш
то никакой культуры вообще не было. Например, если бы черный цвет
однозначно во всех культурах означал траур и мы связали бы это с тем,
что черное наводит тоску, и проделали бы соответствующие тесты, ко¬
торые подтвердили бы это наше наблюдение, то в этом случае элими¬
нировалось бы противопоставление между теми культурами, у которых
черный цвет действительно означает траур, и теми, у которых траур¬
ный цвет — белый, т. е. подобные культуры просто в таком случае не
считались бы культурами.
Поэтому неверно противопоставлять «биологизатора» Фрейда
«лингвисту» Лакану. В этом смысле Лакан вовсе не лукавил, когда го¬
ворил, что он не придумывал ничего нового, а просто договаривал то,
чего Фрейд не договорил.
Мы говорим о шизофрении как об объективном психическом за¬
болевании, как о состоянии сознания. Но можно ли называть Гельдер¬
лина шизофреником, если термин «шизофрения» был изобретен че¬
рез много лет после его смерти?
Кажется, что можно сказать: «Достоевский никогда не ездил на
БМВ». На самом деле эта фраза прагматически бессмысленна, пото¬
му что к ней невозможно подобрать актуального контекста употребле¬
ния. Чем же тогда она отличается от предложения «Во времена Дос¬
тоевского не было автомобилей»? Тем, что последняя фраза может
иметь какой-то приемлемый контекст.
Мы можем сказать: «Во времена Гельдерлина не было слова “ши¬
зофрения”, но если подбирать современный эквивалент к тем симп¬
томам, которые проявлялись у Гельдерлина, то понятие “шизофрения”
к нему подойдет больше всего». Что неправильного в таком рассужде¬
нии? Уверены ли мы, что симптомы такой сложной болезни, как ши¬
зофрения, существуют изолированно от того культурного и социаль¬
ного контекста, при котором это слово возникло? Разве мы не согла¬
симся с тем, что шизофрения — это болезнь XX века, но не потому, что
ее так назвали в XX века, а скорее, потому, что она чрезвычайно харак¬
терна для самой сути XX века, и потому-то ее и выделили и описали
только в XX веке. (См. шизофрения и XX век.) То есть слово «шизоф¬
рения» появилось до того, как появилась болезнь шизофрения.
Но пример с Гельдерлином не вполне показателен, это все-таки
поэт, каким-то образом причастный культурным ценностям XX века
(хотя бы тем, что его психическую болезнь задним числом назвали
шизофренией). Но что, если сказать, например, что у вождя племени
на острове Пасхи обнаружилась шизофрения? Нелепость этого приме¬
ра с очевидностью доказывает нашу правоту: что понятие шизофрении
в очень большой степени является культурно опосредованным.
349
Вадим Руднев
Словарь безумия
Сложнее обстоит с типологией характеров, идущих от Э. Крейме¬
ра. Характер - совокупность каких-то чисто физиологических и пси¬
хологических, соматических характеристик. И все же мы считаем не¬
правильным говорить, что Юлий Цезарь был эпилептоид, а Фома Ак¬
винский — шизоид-аутист. Потому же, почему не является истинным
предложение «Достоевский никогда не ездил на БМВ». Нет, так ска¬
зать, оперативного повода, чтобы назвать Аквинского шизоидом. Тог¬
да так не говорили. Нет слова — нет и характера.
В своей книге «Язык и мышление» Хомский писал:
Нормальное использование языка носит новаторский характер в
том смысле, что многое из того, что мы говорим в ходе нормаль¬
ного использования языка, является совершенно новым, а не по¬
вторением чего-либо слышанного раньше и даже не является чем-
то «подобным» по «модели» тем предложениям и текстам, которые
мы слышали в прошлом» [Хомский 1972: 23].
В свете вышеизложенных размышлений о языковом происхожде¬
нии шизофрении более чем уместным будет закончить словами авто¬
ра фундаментального труда «Бред», профессора М. И. Рыбальского:
Таким образом, бред может и должен рассматриваться как прояв¬
ление патологического творчества [Рыбальский 1993: 551.
Шизофрения И XX век. Вопрос о том, почему культура XX века
«заболела» шизофренией, в определенном смысле можно рассматривать
как один из ключевых в исследовании философии безумия. Вообще
«философия безумия» и «культура XX века» это во многом синонимы.
Так почему это произошло? Что-то накопилось в истории Ьото 8ар1епз,
и эта болезнь из маргинальной стала центральной. В каком-то смыс¬
ле можно представить себе творчество Ньютона вне его шизофрении,
но творчество Кафки, Лакана, Бунюэля и даже Эйнштейна невозмож¬
но рассматривать вне их шизофренических или шизотипических рас¬
стройств. Почему так произошло, как будто запрос на шизофрению
пришел одновременно и в культуру, и в психиатрию?
Важно ведь не только то, что появилась и стала актуальной новая
болезнь, которая чисто статистически захватила и области культуры.
В каком-то смысле в XX веке добились огромных позитивных резуль¬
татов, небывалых результатов именно благодаря этой шизофренично-
350
Шизофрения и XX век
Ш
сти. Одновременно, конечно, столь же огромны были и потери, преж¬
де всего, массовое истребление людьми друг друга в двух мировых вой¬
нах и тоталитарных режимах.
Самое главное — это то, что на пороге двух столетий естественно¬
научная картина мира и соответствующая ей «естественнонаучная»
модель культуры (так называемый «реализм») исчерпали себя. Там
было все ясно - есть вещи, есть идеи. Мир вещей первичен, мир идей
производен от мира вещей — во всяком случае, такова была картина во
второй половине XIX столетия (в романтизме, конечно, было не так,
но стык нашей эпохи приходился не с романтизмом, а именно с этой
естественнонаучной второй половиной XIX века).
Что же произошло потом? Прежде всего, «исчезла материя». Про¬
изошло это оттого, что физики внедрились в структуру атома, и раз¬
граничения между тем, что реально существует, и тем, что можно толь¬
ко воображать, сильно пошатнулись. «Где эти атомы, вы их видели?» -
спрашивал Эрнст Мах, один из зачинателей новой модели мира, сфор¬
мулировавший закон «принципиальной координации» между матери¬
ей и сознанием, после которого разграничение между материализмом
и идеализмом в философии было похоронено.
Потом внедрились в структуру атомного ядра, и дело стало совсем
плохо - появилась квантовая физика, потребовавшая новой онтоло¬
гии и новой логики (многозначной), потому что элементарные части¬
цы одновременно и существуют, и не существуют, с точки зрении обы¬
денного здравого смысла. А это соответствует шизофреническому схи-
зису, когда в сознании одинаково актуально нечто одно и нечто
противоположное (см. схизис и многозначные логики).
В гуманитарной культуре происходили не менее удивительные
вещи. Чего стоило одно изобретение кинематографа — человек давно
уже умер, но вот он на экране совершенно живой, двигается, смеется,
кажется, до него можно дотронуться рукой, но не тут то было (как это
замечательно описал Томас Манн в «Волшебной горе»). Вновь схи¬
зис — человек умер, а его изображение движется.
Открытие бессознательного работало в том же направлении. Ока¬
залось, что бессмысленные, как представлялось раньше, сновидения
и ошибочные действия играют в психической жизни человека едва ли
не большую роль, чем то, что происходит наяву и «правильным обра¬
зом». О сновидениях стали говорить как о ежедневном схождении с ума,
уподобляя его только что «открытой» шизофрении. Фрейд еще из пос¬
ледних сил пытался остаться в рамках онтологии XIX века. Формаль¬
но ему это удавалось, но лишь на первых порах. Уже его вторая и тре¬
тья теории психического аппарата - учение об инстанциях Я, Оно и
351
Вадим Руднев
Словарь безумия
Сверх-Я и постулирование наряду с инстинктом жизни влечение к
смерти —полностью разрушали представления обыденной психологии.
Если на человека одновременно в противоположных направлениях
действуют две силы (с одной стороны, влечения, с другой — нормы; с
одной стороны, - инстинкт жизни, с другой, - смерти), то здесь так¬
же можно говорит о психологическом схизисе, хотя Фрейд, вероятно,
не отдавал себе в этом отчета. Но Юнг уже отдавал в этом полный от¬
чет. Сам будучи шизофреником, он постулировал мир коллективного
бессознательного, который он наводнил архетипами, так что психика
как здорового, так и больного человека стала описываться им как в
принципе противоречивая, шизофреноподобная.
Искусство очень быстро улавливало новые открытия. Наиболее
эксплицитно психоанализ изучали сюрреалисты, применявшие метод
свободных ассоциаций и автоматическое письмо. В результате художе¬
ственные миры, которые они строили на своих картинах, фактически
были мирами душевных заболеваний.
Музыка, которая ближе к математике и, стало быть, физике, в XX
веке тоже стала шизофренической. Говоря о близости математике и фи¬
зике, я имею в виду неклассические их формы, потребовавшие для сво¬
его осуществления новых языков, непонятных для представителей
«нормальной науки» и воспринимающихся как в определенном смыс¬
ле безумные. Также новые языки потребовались для музыки начала XX
века. Классическая «естественная» диатоническая система гармонии,
построенная на противопоставлении мажора и минора, к концу XIX
века исчерпала себя, как исчерпало себя позитивистское естествен¬
нонаучное мышление. Нововенская школа Арнольда Шенберга постро¬
ила искусственный музыкальный язык, игнорировавший обыденную
гармонию. Этот язык своей искусственностью и непонятностью во
многом напоминает бредовый язык больного шизофренией. Подобно
тому как бредовое построение требует для понимания особого навы¬
ка психиатра, так же особого навыка требовало восприятие языка до¬
декафонии, «композиции на основе двенадцати соотнесенных тонов».
Эта музыкальная система строилась следующим образом. Вместо тра¬
диционной «естественной» гаммы («естественной» в кавычках, пото¬
му что привычная для европейского музыкального уха диатоническая
гармония тоже была искусственно построена в эпоху барокко, толь¬
ко более постепенно) брался искусственный звукоряд из 12 неповто¬
ряющихся звуков (серия), и далее он повторялся, варьируя только по
строгим законам контрапункта, т. е. последовательность могла быть
прямой, ракоходной, инверсированной и инверсированно-ракоход-
ной. Кроме того, можно было начинать последовательность от любой
352
Шизофрения и XX век
Ш
ступени хроматического звукоряда, что давало еще 12 вариантов В ре¬
зультате в ортодоксальной додекафонии использовалось всего 48
(4x12) серий. Нечего и говорить, что впечатление от этой музыки, по¬
лучившей широкое распространение, было психотически жутким и
тревожно мистическим.
По другому пути пошли последователи Густава Малера, Игоря
Стравинского и Пауля Хиндемита, создавшие так называемую систе¬
му неоклассицизма. Их музыкальный язык строился как коллаж ци¬
тат из различных опусов и музыкальных систем прошлого и настояще¬
го. В результате, подобно речи шизофреника, структура музыкально¬
го опуса представляла собой «звуковой салат» (ср. понятие «словесный
салат», имеющий место при некоторых формах шизофрении). Такая
музыка также отражала неклассическую и в целом психотическую или
околопсихотическую (шизотипическую) реальность новой культуры.
В литературе аналогом неоклассицизма был неомифологизм. Во¬
обще в XX веке естественнонаучная позитивистская идея эволюции
сменилась идей вечного повторения (Ф. Ницше, П.Д. Успенский).
Близость повторяющегося мифа о вечном возращении к шизофрении
с ее мифологическим уклоном (в параноидной форме) и тяготением к
повторению речевых отрезков и фрагментов поведения (персеверация)
достаточно очевидна. Подобно нарушениям ассоциативных рядов в
речи, которое Э. Блейлер считал главной особенностью шизофрении,
и созданию причудливых ассоциативных рядов («комплексов», как на¬
зывал их ранний К.Г. Юнг), литературный дискурс стал строиться как
цепь мифологических ассоциаций, которые были далеки обыденному
пониманию того, что такое литература, и далеки от того, как пони¬
малась литература в Х?Х веке (Достоевский может здесь рассматри¬
ваться как главный предтеча художественной поэтики XX века). Ли¬
тературное произведение стало коллажом цитат и реминисценций —
это относилось к поэтике символизма и акмеизма, сюрреализма и экс¬
прессионизма, к неомифологическим романам Дж. Джойса, Тома¬
са Манна, М.А. Булгакова, А. Платонова - вплоть до Дж. Апдайка,
Дж. Фаулза, С. Беккета, Э. Ионеско, А. Роб-Грийе, отчасти позднего
В.В. Набокова, Умберто Эко, Милорада Павича, С. Соколова. В. Со¬
рокина То же самое относится и к кинематографу XX столетия —
фильмы «авторского» кино часто строятся как система неомифологи-
ческих цитат и реминисценций, недоступных обыкновенному зрите¬
лю, как недоступен обывателю шизофренический бредовый язык (см.
также шизотипический дискурс).
Наряду с литературой и искусством шизотипическое мышление
сыграло решающую роль в философии (Витгеншетейн, Хайдеггер,
353
Вадим Руднев
Словарь безумия
постмодернисты - здесь неслучайно самоназвание «шизоанализ» у
Ж. Делеза и Ф. Гваттари) и в психологии и психотерапии - главные
персонажи здесь К.Г. Юнг, Ф. Перлз, Мелани Кляйн, Жак Лакан -
представители шизотипического мышления. В их построениях и тера¬
пии большую роль играет вымышленная реальность, будь то архети¬
пы у Юнга, гештальт у Перлза, «шизоидно-параноидная позиция» у
Мелани Кляйн, «Реальное» у Лакана.
Особую роль в XX веке сыграло творчество Ф. Кафки. Примени¬
тельно к нему сложность состоит в том, что его нельзя отнести ни к
одной из описанных форм шизофрении (гебефренической, параноид¬
ной, кататонической). Как правило (за исключением таких текстов,
как «Превращение»), в текстах Кафки нет выраженного параноидно¬
галлюцинаторного бредового начала. Тем не менее, мир его произве¬
дений чрезвычайно странный — безусловно, это шизофренический
мир. Как кажется, применительно к Кафке и его творчеству имеет
смысл говорить о зсЫгорЬтеша $ипр1ех (простой шизофрении), особен¬
ность которой в отсутствии продуктивной симптоматики - прежде
всего, бреда и галлюцинаций — и преобладании негативных симпто¬
мов - усталости, депрессии, ипохондрии, характерной шизофреничес¬
кой опустошенности.
Принято считать, что творчество Кафки отразило грядущий тота¬
литаризм с его иррациональностью и мистикой. Последнее не так уж
далеко от действительности, если понимать это не вульгарно-социо¬
логически. Сам феномен специфического тоталитарного сознания,
присущий XX веку, это шизофренический феномен. Лучше всего это
понял Джордж Оруэлл. Его концепт доиЫе-Шткт§ — двоемыслие, -
который он вводит в романе «1984», т. е. такое положение вещей, ког¬
да человек говорит или думает одно, а подразумевает противополож¬
ное, есть ничто иное как квинтэссенция схизисного характера тотали¬
тарного мышления (как выразил это Оруэлл в другом романе — «Скот¬
ный двор»: «Все звери равны между собой, но некоторые звери более
равны, чем другие»).
Шизофрения — отказ от реальности, который, см. сущность безу¬
мия, состоит в отказе от семиотического осмысления вещей и знаков,
в трансгрессивной позиции по отношению ко всему семиотическому.
Парадоксально при этом, что семиотика как наука о знаках и знако¬
вых системах актуализировалась именно в XX веке. Но это парадокс
чисто внешний. Когда знаки стали исчезать, потребовалось их обосно¬
вать; когда граница между знаками и не-знаками обострилась, пона¬
добилось понять, что такое знаковые системы. Во многом семиотика,
структурализм, логический позитивизм, математическая логика, ки¬
354
Шизофрения и XX век
Ш
бернетика были также рационалистическим заслоном против шизоф¬
рении, попыткой при помощи пусть логического, но все-таки позити¬
вистски, причем обостренно позитивистски окрашенного научного
мышления, противопоставить логику шизофреническому мифотвор¬
честву. Попытки эти были неудачными — они оборачивались своей
противоположной стороной - на оборотной стороне панлогицизма
зияла иррационалистическая шизофреническая дыра. Это была ясно
уже из «Логико-философского трактата» Витгенштейна (см. также фи¬
лософия и паранойя), где панлогическое мышление объявляется неспо¬
собным решать важнейшие жизненные проблемы, ответ на которые —
мистическое молчание, своеобразная метафизическая кататония. Де¬
ятельность Венского логического кружка, унаследовавшего идеи ран¬
него Витгенштейна, в основе которой лежала попытка построить иде¬
альный язык и защититься от шизофренической метафизики, увенча¬
лась тем, что Курт Гёдель доказал теорему о неполноте дедуктивных
систем, которая резко ограничивала сферу применения логического
дедуктивного мышления. Принцип верификационизма сменился поп-
перовским принципом фальсификационизма. Карл Поппер, наслед¬
ник Венских идей, считал, что проверкой истинности теории являет¬
ся, в сущности, ее ложность - это уже, фактически, схизоподобный
принцип. Развитие математики и математической логики привело к
созданию интуиционизма и многозначных логик, о связи которых с
идеей схизиса см. схизис и многозначные логики.
Так или иначе, но ближе к концу второй половины XX века, вмес¬
те с кризисом так называемого «модернистского» мышления и с при¬
ходом постмодернизма, шизофреническая направленность культуры
стала себя исчерпывать, и на смену культурной шизофрении пришла
постшизофрения, т. е., в сущности, актуализация шизотипического
начала в культуре (см. шизотипический дискурс, шизотипический харак¬
тер). Для постшизофрении как нового переходного постмодернистско¬
го культурного проекта не характерна та катастрофичность и болезнен¬
ность, которой характеризовалось модернистское шизофреническое
мышление. Отчаянные поиски границ реальности, отказ от которой
знаменует шизофренический психоз, сменился тезисом о том, что все
реальности равноправны — апофеозом этого в логике была так назы¬
ваемая семантика возможных миров, разновидность модальной логи¬
ки, зародившаяся в конце 1960-х годов, основным тезисом которой
был тезис, в соответствии с которым действительный мир - это лишь
один из возможных миров. Этим тезисом был снят болезненный по¬
иск границ реального мира. Если миров много, то существовать в том
или ином мире, психотическом или каком-то другом, не так страшно.
355
Вадим Руднев
Словарь безумия
В настоящее время широкое распространение концепта «виртуальные
реальности» еще более усилило тенденцию к нестрашному, а то и уве¬
селительному путешествию в психозоподобные миры. Распростране¬
ние персональных компьютеров с виртуальными играми окончатель¬
но дезавуировало миф об ужасе психотического.
Если в настоящее время считается, что каждый сотый человек на
земле -шизофреник, то можно смело предположить, что каждый деся¬
тый страдает в той или иной мере шизотипическим расстройством
личности (см. шизотипический характер), а среди людей, работающих
в сфере культуры, пожалуй, каждый третий. Большой шизофреничес¬
кий проект культуры XX века можно считать завершенным. Если воз¬
вращаться к вопросу о причинах его возникновения, то ответ может
быть сформулирован в рамках циклической модели культурного разви¬
тия, например, парадигмы Д. Чижевского, в соответствии с которой,
культурные циклы развиваются в двухтактном ритме — вначале культу¬
ра актуализирует все рациональное, все позитивное, потом, когда со¬
держательные аспекты исчерпываются, на смену приходит формализм,
иррационализм и мистика. Так чередовались рациональный Ренессанс
и иррациональное барокко, рациональный классицизм и иррациональ¬
ный романтизм, наконец, позитивистская реалистическая культура XIX
века и иррациональная шизофреническая модернистская культура XX
века. Уникальность ближайшего к нам культурного проекта можно
объяснить «аберрацией близости» (термин Л. Гумилева), в соответствии
с которой все близкое кажется более значительным. Если отбросить
аберрацию близости, то окажется, что в конце концов Иероним Босх
был не менее безумным, чем Сальвадор Дали.
По-видимому, в соответствии с этой логикой впереди нас ждет
новый рационалистический ренессанс.
«Школа ДЛЯ ДураКОВ» - роман С. Соколова (см. также шизоти¬
пический дискурс), в котором изображено сознание мальчика, страда¬
ющего шизофренией, в частности, бредом двойника, с которым он
вступает в бесконечные прения, в частности, соревнование за вирту¬
альную возлюбенную Бету Аркадьевну, учительницу литературы.
Наиболее важным для развития сексуальной темы Соколовского
романа является эпизод (или воспоминание о нем, что в «Школе для
дураков» фактически одно и то же), когда герой, тогда еще безымян¬
ный, срывает речную лилию Нимфея Альба и с ним происходит ряд
значительных и катастрофических событий. Во-первых, он, как он сам
356
Школа для дураков»
Ш
говорит, «частично исчезает» в эту лилию и отчасти становится ею. Во
всяком случае, он принимает ее латинское название в качестве своего
имени (теперь он так себя называет — Нимфея). Во-вторых, он сходит
с ума, начиная страдать раздвоением личности, и его на время по¬
мещают в клинику. Но это лишь наиболее поверхностные следствия ак¬
та срывания цветка. По сути же, этот акт имеет глубочайшее, сугубо
символическое значение. Срывая цветок, мальчик вступает в контакт
с миром природы и миром вещей. Это вмешательство в природу при¬
водит к катастрофическим последствием (вспомним сказку «Аленький
цветочек», где происходит примерно то же самое). Источник этой ка¬
тастрофы в том, что символически срывание цветка, этот грубый, аг¬
рессивный контакт с природой, есть не что иное, как сексуальный акт,
причем не просто сексуальный акт, а нарушение девственности мира
природы. Не забудем, что дословно срывание цветка девственности —
бейогасю ущцпйаГез — есть не что иное, как акт дефлорации. Сердце¬
виной катастрофы, связанной с поруганием природы, становится об¬
реченность на виртуальный секс, страсть без страсти, вечное хождение
по девяти кругам ада неразделенной любви к учительнице со всеми
сопутствующими мучениями и выдуманными фантастическими исто¬
риями на эту тему.
В этом плане заставляет обратить на себя внимание слово «конст¬
риктор», которое употребляется в романе несколько раз в значении
«кондуктор» и «контролер». В этом парасемантичеком поле располо¬
жено, разумеется, и слова «компостер» и, естественно, слово «конст¬
руктор». Прежде всего, слово «констриктор» является частью слова
«боа-констриктор» — названия огромной змеи, т. е., в соответствии с
взглядами 3. Фрейда, изложенными им в «Толковании сновидений»,
чего-то гиперфаллического. Кондуктор отрывает билеты, а контролер
следит, чтобы пассажиры пробивали билеты компостером. В обоих слу¬
чаях символически воспроизводится акт дефлорации: разрываемый
кондуктором билет, пробиваемые компостером дырки в билете. То есть
на языке «школьного» психоанализа, употребляя это слово, Нимфея
репродуцирует акт срывания лилии и одновременно осуществляет
подавленные гиперсексуальные фантазии, в которых он выступает как
сексуальный супермен. Все это тоже дается непрямо. Так, например,
играя в шахматы, он придумывает фаллическую фигуру «конеслон» и
говорит, что «конеслон вошел в его сны, как входит в кожаную перчат¬
ку мужской кулак» (курсив мой. - В. Р.). Характерно, кстати, что, меч¬
тая о сексуальных отношениях с учительницей Ветой Аркадьевной,
Нимфея совершенно явственно отдает себе отчет в том, что у нее «до
него» были мужчины, т.е. речь явно не идет о дефлорации - эта теме
357
Вадим Руднев
Словарь безумия
для него запретна. Более того, советуясь с учителем Павлом Петрови¬
чем по поводу того, как ему быть, не имея никакого опыта сексуаль¬
ных отношений с женщинами, он предполагает, что до (виртуальной)
свадьбы с Бетой Аркадьевной, он должен иметь связь с какой то опыт¬
ной женщиной, «лучше всего, если это будет вдова». При этом, когда
для своего педофила учителя он придумывает девочку из класса, Розу
Ветрову, в этой ситуации четко артикулируется акт будущей дефлора¬
ции.
«О Роза, скажет учитель, белая Роза Ветрова, милая девушка, мо¬
гильный цвет, как хочу я нетронутого тела твоего», (курсив мой. -
В. Р.) Знающих содержание романа не должен смущать эпитет «могиль¬
ный». Роза Ветрова умерла еще прежде, чем родиться. В романе есть
эпизод, когда Нимфея просит у матери денег на венок для умершей
девочки из класса. Эта девочка, по версии Нимфеи, так долго болела,
что никто в классе вообще ее никогда не видел, только на фотографии.
И вот несколько позже, рассуждая об этой девочке, Нимфея
предполагает, что, скорее всего, именно она и была Розой Ветровой,
но, может быть, и не она. Здесь, в соответствии с онтологическим
критерием Уилларда Куайна, в виртуальном контексте невозможно
установить идентичность индивида или сосчитать количество инди¬
видов [0ш'ле 1951].
Вернемся к констриктору. Здесь актуализируется еще один важ¬
ный контекст, контекст несбывшихся социальных надежд родителей
и учителей учащихся спецшколы. Всем ученикам спецшколы внуша¬
ют, что они должны хорошо учиться, чтобы впоследствии «стать ин¬
женерами» (совсем не виртуальная примета классического брежнев¬
ского времени). При этом в одном из эпизодов романа произносится
сентенция, в соответствии с которой ученики школы для дураков
никогда не станут инженерами, потому что они все «ужасные дураки».
И вот констриктор — это как бы неполучившийся конструктор (устой¬
чивое советское сочетание «инженер-конструктор»). В контексте же
предшествующего анализа можно сказать, что констриктор — это
кастрированный, лишенный производительной интеллектуальной
силы, неполноценный, сошедший с ума конструктор. Характерно, что
идея «кастрированности» в слове «констриктор» проводится на гра¬
фическо-фонетическом уровне. Буква «у» по своим очертанием -
фаллическая, буква «и» может быть прочитана как две ноги с отсут¬
ствующим фаллосом. Сама фонетическая характеристика этих звуков
показательна: низкий звук «у», при произнесении которого губы
«фаллически» вытягиваются в трубочку, и высокий «и», при произне¬
сении которого губы поджимаются (низкий голос — признак муже¬
358
«Школа для дураков»
Ш
ственности, высокий голос — у кастратов). Эти рассуждения о звуках
можно было бы счесть произвольными и надуманными, если бы не
тот факт, что тема звука, связанная с сексуальностью, является одной
из ключевых в романе, ведет, так сказать, одну из главных партий в
нем. Дело в том, что, будучи сексуально несостоятельным, герой, ес¬
тественно, обращает повышенное внимание на все то, что связано с
сексуальностью он следит за тем, как мать (см.) изменяет отцу с его
учителем музыки, пишет повышенно сексуальные рассказы, переска¬
зывает слухи о том, как его соседка Шейна Соломоновна Трахтенберг
(в пансексуальном контексте эта фамилия становится неприличной)
изменяет своему мужу с одноруким (ср. далее о медведе на липовой
ноге) управдомом Сорокиным. Но поскольку отличительной чертой
Нимфеи как личности является то, что он воспринимает реальность
не глазами, как большинство остальных людей, а по преимуществу
ушами (ср. роль слуховых галлюцинаций при шизофрении), что каким-
то образом связано, с одной стороны, с его болезнью, а с другой - с
его избранностью (само название «Школа для дураков» расшиф¬
ровывается в конце романа как обозначение жанра: аналогия со
Школой игры на фортепиано и т. п., а тема звука и шума является
ключевой, и даже, более того, навязчивой в романе), то и половой акт
для него - это прежде всего нечто не визуальное, но аудиальное. Он
не подсматривает за половыми актами других людей, а подслушива¬
ет их (как скрипит кровать, какие вздохи и стоны раздаются и т. п.),
т. е. для него характерен так сказать, не вуаеризм, а «аудиэризм».
Ключевую роль в сексуальных переживаниях Нимфеи играет сказ¬
ка о медведе на липовой ноге. Звук «скирлы», который издает липо¬
вый протез медведя, однозначно ассоциируется с половым актом, и
поэтому эта сказка невыносима для Нимфеи. Почему же одноногий
медведь с липовым фаллическим протезом так безусловно связывает¬
ся с сексом? Этот медведь есть тотемный отец, прокурор, к которому
Нимфея испытывает хрестоматийную здипальную ненависть. Медведь
со своим протезом, скрипя - скирлы-скирлы, подбирается к постели
матери. От этого звук так и невыносим, и оттого так запомнилась бол¬
товня старух соседок о систематических изменах Шейны Трахтенберг
с одноногим управдомом Сорокиным. Но при чем же здесь одноно-
гость и однорукость?
Клод Леви-Строс, по-своему интерпретировавший миф об Эдипе,
обратил внимание на этимологию имен Эдип, Лай и Лабдак (отец
Лая): Эдип означает — толстоногий, Лай — левша, Лабдак — хромой.
Леви-Строс связывает это с тем, что первоначально архаический миф
об Эдипе был посвящен вовсе не кровосмешению (в архаическом об¬
359
Вадим Руднев
Словарь безумия
ществе кровосмешение такая же обычная вещь, как и отцеубийство),
но разрешению мучившей первобытного человека идеи о том, как
рождается человек. Поврежденность конечности отсюда интерпрети¬
руется как след древнего представления, в соответствии с которым че¬
ловек рождается автохтонно, вырастает из земли и при этом повреж¬
дает себе конечности [Леви-Строс 1983].
Дети как объект изображения и поклонения, которыми наполнена
литература XIX века (Багров-внук, маленький Илюша Обломов, Нико-
ленька Иртенев, «мальчики» в «Братьях Карамазовых», Оливер Твист,
маленький Домби и так далее), в литературе XX века из объекта изоб¬
ражения превращаются в ее субъект, начиная с первого романа-эпопеи
Пруста, «Шума и ярости» (несмотря на то что Бенджи Компсону 33
года, его сознание дано как сознание маленького ребенка) и «Осквер¬
нителя праха» У. Фолкнера и кончая Дж. Сэлинджером и X. Кортаса¬
ром. Происходит это потому, что тема семьи (и тем самым идеи связи
секса с деторождением) отходит в XX веке на периферию. Это связано
с - или, может быть, наоборот, с этим связано изобретение и массовое
распространение противозачаточных средств. (Если бы у Маргариты
Николаевны из знаменитого романа М. А. Булгакова были дети, то она
не стала бы ведьмой.) И поскольку секс и деторождение в XX веке были
разведены, то именно поэтому XX век «придумал» секс и педофилию
как феномены культуры. И неважно, кого считать отцом сексуальной
революции в европейской и российской словесности: Отто Вайнинге-
ра, В.В. Розанова - важно, что в XIX веке подросток мог только пла¬
тонически любить взрослую женщину, если, конечно, не деконструи-
ровать XIX век в духе XX (тогда наиболее близким предшественникам
«Школы для дураков» будет «Первая любовь» «странного Тургенева»
[Топоров 1998]). В конце XX века подросток, обкуренный травой и об-
читанный погаными журнальчиками, не станет вздыхать и охать над
предметом своей любви, а пойдет и мирно («легко») сделает ему хоро¬
шее «скирлы». Саша Соколов показал тип сознания, переходный между
этими двумя. С одной стороны, герой «Школы для дураков» уже почти
готов пойти и оттрахать Бету Аркадьевну, во всяком случае, сама эта
идея не вызывает у него протеста. Но он еще не набрался той постмо¬
дернистской легкости, которая, снявши мучительную модернистскую
оппозицию реального и виртуального, дала бы, тем самым, ему в ру¬
ки бодрийаровско-жижековскую гиперреальность, которая не знает ни
совести, ни пощады. Новое время — новые сказки: не старинная тем¬
ная сказка про медведя на липовой ноге, а детский анекдот про Машу
и маленького Мишутку, который, заметив Машу у себя в кровати, го¬
ворит Медведю и Медведице: «Ладно, гасите свет, утром разберемся!»
360
Шрёбер Даниэль
Ш
Шрёбер Даниэль. Осенью 1884 года председатель дрезденского
суда, кандидат в депутаты Рейсхатга, один из отцов города, Даниель
Шребер, психически заболел. У него был бред преследования. В каче¬
стве преследователя выступал его лечащий врач доктор Флешиг. В 1893
году приступ психоза повторился, и теперь бред Шребера приобрел
чрезвычайно, с одной стороны, систематизированную, а, с другой,
причудливую форму. Теперь Шребер выяснял свои взаимоотношения
с самим Богом, который, по его мнению, уничтожил все человечество,
и для того чтобы спасти его, Шреберу предстояло превратиться в жен¬
щину и заключить брак с Богом. К началу нового века Шребер оправ¬
ляется от острого состояния и начинает писать свои знаменитые «Ме¬
муары нервнобольного», которые были опубликованы в 1903 году. А в
1910 году уже известный всему миру основатель психоанализа пишет
по мемуарам Шребера большую работу «Психоаналитические замет¬
ки об автобигорафическом изложении случая паранойи (бетепДа
рагапоЫез)» (опубликована в 1911 г.) [Ргеис/ 1981с]. Эта работа, как
часто бывает у Фрейда, занимающая по объему нечто среднее между
большой статьей и маленькой книгой (5 печатных листов) и известная
более как «Случай Шребера», нарушает традицию Фрейда, который в
других больших четырех разборах клинических случаев (Дора, малень¬
кий Ганс, человек-крыса и человек-волк) имеет дело с собственным
клиническим материалом. Почему Фрейд взялся анализировать мему¬
ары Шребера? Потому что эта книга представляет собой поистине клад
для исследователя психопатологических механизмов личности. Во
многом это вообще уникальный случай в истории европейской куль¬
туры, когда человек, почти полностью сохраняя критику, подробней¬
шим образом описывает свою чрезвычайно запутанную и увлекатель¬
ную бредовую систему (в отличие, скажем, от Даниила Андреева, чья
«Роза мира» с клинической точки зрения также является бредовым по¬
строением, но автор не относился к своему писанию критически). В
«Случае Шребера» Фрейд делает два больших теоретических открытия.
Во-первых, он связывает паранойю с гомосексуализмом, и, во вторых,
дает знаменитую формулу паранойяльной проекции (Я люблю тебя.
Ты не любишь меня. Поэтому я ненавижу тебя).
Чем случай Шребера привлек Лакана? По-видимому, тем же са¬
мым, чем и Фрейда. А именно, тем, что здесь имеет место разверну¬
тая речь самого больного. («Чего бы не добивался психоанализ — сре¬
да у него одна: речь пациента» — один из главных методолоческих
принципов Лакана, изложенный им в «Римском докладе» [Лакан
1995]). Вся речь Шребера, в которой означающее полностью подми¬
361
Вадим Руднев
Словарь безумия
нает под себя означаемое, — что обычно и бывает, по Лакану, при пси¬
хозах, - построена как беспрерывный его диалог доктором Флешигом,
с Богом и, в первую очередь, с божественными лучами. В работе «О
вопросе, предваряющем любой возможный подход к лечению психо¬
за» [Лакан 1997\ Лакан отчетливо фундирует эту «лингвистическую»
(можно даже сказать «структуралистскую) установку Шребера, кото¬
рый пишет: «Не забудьте, что природа лучей такова, что они должны
говорить». Заостряя мысль Фрейда о потере реальности при психозе,
Лакан пишет далее, что «проблема, как указывал и сам Фрейд, состо¬
ит не в самой потере реальности, а в силе, вызывающей к жизни то,
что заступает на ее место», т. е. силе психотической (символической,
по мнению Лакана) картины реальности - бредово-галлюцинаторного
комплекса. Следует, по-видимому, добавить, что фрейдовский диагноз,
данный им Шреберу — «паранойяльная деменция», не является обще¬
принятым с современной точки зрения. По-видимому, здесь речь идет
о систематизированном (причем, очень может быть, что систематизи¬
рованном самым Шребером уже задним числом, паЬ1га§НсЬ, как лю¬
бил говорить Фрейд) параноидно-шизофреническом бреде) (см. так¬
же бред величия).
э
Эпилептоидное тело без органов. (См. также Иудушка Го¬
ловлев, тела безумия, эпилептоидный дискурс.) «История одного горо¬
да» Салтыкова-Щедрина представляют собой чрезвычайно глубокий
художественный анализ эпилептоидного дискурса, не смотря на то,
что основные черты этого анализа - гротеск и редукция. Все потреб¬
ности человека в масштабах глуповской историографии редуцируют¬
ся к трем темам: 1) власть - подчинение - насилие; 2) сексуальная
потребность; 3) потребность в еде. Поскольку глуповский дискурс
посвящен проблемам истории, то первая тема разработана с наиболь-
ше подробностью.
Основная художественная проблема «История одного города» в
рамках эпилептоидной проблематики — это постепенная редукция
эпилептоидной речи к животному крику, редукция человеческого тела
к автомату и параллельная первым двум редукция властного жеста к
простому истреблению всего вокруг, в том числе к самодеструкции.
Концепция человеческой речи, которая развертывается в «Исто¬
рии одного города» - это концепция востребуемой, но не предостав¬
ляемой речи. Глуповские градоначальники не хотят вступать в диалог
с обывателями, их речь, до тех пор пока она вообще имеет место, это
либо речь в принципе недиалогическая, либо вовсе отказ от речи как
чего-то, на что можно ответить тоже речью, а не простым подчинени¬
ем. Можно сказать, что Щедрин здесь чрезвычайно глубоко и тонко
уловил одну из сердцевин авторитаризма - невозможность диалоги¬
ческого контакта между властителем и обывателем. Характерна сцена,
когда глуповцы просят градоначальника поговорить с ними, объяснить
им суть происходящего, но он не хочет и не может этого сделать:
Между тем новый градоначальник оказался молчалив и угрюм.
<...> Градоначальник безмолвно обошел ряды чиновных архистра¬
тигов, сверкнул глазами, произнес: «Не потерплю!» — и скрылся в
кабинет. <...> Как ни воспламенились сердце обывателей по слу¬
чаю приезда нового начальника, но прием расхолодил их.
— Что ж это такое! — фыркнул — и затылок показал! нетто мы
затылков не видали! а ты по душе с нами поговори! ты лаской-то,
лаской-то пронимай! ты пригрозить-то пригрози, а потом и по¬
милуй!
363
Вадим Руднев
Словарь безумия
В соответствии с этой логикой затрудненности диалога власти с
населением по причине эпилептоидной акцентуации этой власти, наи¬
более приемлемыми формами общения становятся краткие восклица¬
ния («Не потерплю!» и «Разорю!» - два выражения, которыми пользо¬
вался градоначальник Брудастый (Органчик), а также императивы.
Поскольку эпилептоидная личность сильна не в разговоре, а в прямом
действии, то императив, как правило, направленный не от слова к сло¬
ву, а от слова к действию — «Кругом!» «Пошел вон!» «Всем встать!», -
становится наиболее приемлемой и адекватной формой общения при
отправлении властных полномочий помимо прямого действия, кото¬
рое выражается в практике непосредственного обращения к телу, т.е. в
сечении. Ср. описание сражения двух враждующих градоначальниц и
обмен императивными формулами:
Произошло сражение; Ираидка защищалась целый день и целую
ночь, искусно выставляя вперед пленных казначея и бухгалтера.
— Сдайся! - говорила Клемантинка.
— Покорись, бесстыжая! да уйми своих кобелей! — храбро от¬
вечала Ираидка.
Императив выступает также как властное упреждение речи подчи¬
ненного:
Но не успел он еще порядком рот разинуть, как бригадир, в свою
очередь гаркнул:
— Одеть дурака в кандалы!
Попытка диалога между обывателями-глуповцами и градоначаль¬
никами, ни к чему не приводящая, выражается тоже в основном в
обмене императивными конструкциями:
Они нередко ходили всем обществом на градоначальнический двор
и говорили Бородавкину:
— Развяжи ты нас, сделай милость! укажи нам конец!
— Прочь, буяны! — обыкновенно отвечал Бородавкин.
— Какие мы буяны! знать, не видывал ты, какие буяны быва¬
ют! Сделай милость, скажи!
Но Бородавкин молчал, Почему он молчал? потому ли, что
считал непонимание глуповцев не более как уловкой, скрывающей
упорное противодействие, или потому, что хотел сделать обывате¬
лям сюрприз, — достоверно определить нельзя <...> Всякий адми¬
нистратор непременно фаталист и твердо верует, что, продолжая
364
Эпилептоидное тело без органов
Э
свой административный бег, он в конце концов все-таки очутит¬
ся лицом к лицу с человеческим телом (т.е. с телесным наказани¬
ем — В.Р.). Следовательно, если начать предотвращать эту неиз¬
бежную развязку предварительными разглагольствованиями, то не
значит ли это еще больше растравлять ее и придавать ей более оже¬
сточенный характер? Наконец каждый администратор добивает¬
ся, чтобы к нему питали доверие, а какой наилучший способ вы¬
разить это доверие, как не беспрекословное исполнение того, чего
не понимаешь?
Угрюм-Бурчеев на протяжении нескольких страниц повествования
несколько раз произносит только дно слов, императив «Гони!» как
непосредственное побуждение к действию, направленному на то, что¬
бы остановить течение реки, стихии, не подчиняющейся приказам
начальства:
— Гони! - скомандовал он будочникам, вскидывая глазами на ко¬
лышущуюся толпу.
Сурово выслушивал Угрюм-Бурчеев ежедневные рапорты де¬
сятников о числе выбывших из строя рабочих и, не дрогнув ни
одним мускулом, командовал:
- Гони!
В сфере письменной речи выражением этой императивной уста¬
новки как непосредственного побуждения к действию и регламента¬
ция этого действия становится навязчивое писание законов градона¬
чальником Беневоленским, законов, регламентирующих тотально все
сферы жизни обывателей вплоть до еды, спанья и печения пирогов:
1. Всякий да печет по праздникам пироги, не возбраняя себе
таковое печение и в будни.
2. Начинку всякий да употребляет по состоянию. Тако: поймав
в реке рыбу — класть; изрубив немелко скотское мясо - класть же;
изрубив капусту - тоже класть. Люди неимущие да кладут требу¬
ху. <...>
3. По положении начинки и удобрении оной должным числом
масла и яиц, класть пирог в печь и содержать в вольном духе, до¬
коле не зарумянятся.
4. По вынутии из печи всякий да возьмет в руку нож и, выре¬
зав из середины часть, да принесет оную в дар.
5. Исполнивший сие да яст.
365
Вадим Руднев
Словарь безумия
Здесь важно отметить, что императив есть непосредственное вы¬
ражение деонтической ориентированности эпилептоидного сознания,
т.е. ориентированности на норму и, прежде всего, норму, предназна¬
ченную для другого (см. модальности, модальности и характеры).
Впрочем, Угрюм-Бурчеев, доводящий всякую тенденцию до логи¬
ческого абсурда, и в этом аспекте, в аспекте деонтики, поступает точ¬
но так же. Теряя способность к управлению людьми, он начинает от¬
давать команды-императивы самому себе и самого себя подвергать
телесным наказаниям:
В заключение по три часа сутки маршировал во дворе градоначаль¬
нического дома, один, без товарищей, произнося самому себе ко¬
мандные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взыска¬
ниям и даже щпицрутенами (причем бичевал себя не притворно,
как предшественник его Грустилов, а «по точному разуму законов»,
прибавляет летописец).
Невозможность речи далее выражается в ее преображении в живот¬
ный крик и чисто механическое бессмысленное движение тела в про¬
странстве:
Как ужаленный бегал он по городу и кричал криком. <...>
Кричал он во всякое время, и кричал обыкновенно. «Столько
вмещал он в себе крику, — говорит по этому поводу летописец, —
что от оного многие глуповцы и за себя, и за детей навсегда испу¬
гались.»
Через месяц Бородавкин вновь созвал обывателей и вновь закри¬
чал. Но едва успел он произнести два первых слога («об оных, стыда
ради, умалчиваю», оговаривается летописец), как глуповцы опять рас¬
сыпались, не успев даже встать на колени.
У Угрюм-Бурчеева речь превращается в примитивное животное
мычание:
Вдруг он пронзительно замычал и порывисто повернулся на каб¬
луке.
Редуцированность речи или полная невозможность ее приводит к
тому, что героям «Истории одного города» приходится прибегать к
прямым телесным практикам. Со стороны администраторов это преж¬
де всего сечение обывателей, со стороны бунтующих обывателей это
сбрасывание виновных «с раската» или утопление в реке.
366
Эпилептоидное тело без органов
Э
Однако этими бытовыми насильственными практиками все не
ограничивается.
Эпилептоидное тело — это особое тело, это тело воина, полковод¬
ца, полицейского. Это не говорящее, а действующее тело по преиму¬
ществу. Этот тело, которое выступает как выраженное, прежде всего,
внешними показателями — битьем, ходьбой, бегом. Внутренняя жизнь
такого тела гораздо менее важна - солдат не должен жаловаться на
внутренние недомогания, должен стойко претерпевать все физические
тяготы больших походов — недоедание, недосыпание, отсутствие сек¬
суальных контактов.
В сущности, эпилептоидное тело поэтому стремится к тому, что¬
бы стать сугубо внешним телом, неким действующим автоматом, кук¬
лой (как назвал щедринских героев один из немногих достойных ис¬
следователей его поэтики В. В. Гиппиус) или «телом без органов», если
говорить языком Ж. Делеза и Ф. Гваттари. Это механизированное тело,
оживленный автомат, особенностью которого является соотношение
головы и туловища, причем голова как та часть, которая обычно свя¬
зывают с сознанием (когда ребенок отрывает голову у куклы, он, по-
видимому, стремится проникнуть в тайну сознания), обычно отсека¬
ется и обнаруживается ее механический или неорганический характер
(голова губернатора Брудастого представляла собой примитивный
музыкальный инструмент — органчик, а голова майора Прыща оказа¬
лась фаршированной трюфелями).
Ключевым эпизодом в идеологии тела без органов в «Истории
одного города» является эпизод оживания оловянных солдатиков,
участвующих в карательных экспедициях градоначальника Боро¬
давкина.
И вдруг он остановился, как пораженный, перед деревянными
солдатиками.
С ними происходило что-то совсем необыкновенное. Глаза их,
доселе неподвижные, вдруг стали вращаться и выражать гнев; усы,
нарисованные вкривь и вкось, встали на свои места и начали ше¬
велиться; губы, представлявшие тонкую розовую черту, которая от
бывших дождей почти уже смылась, оттопырились и изъявили на¬
мерение нечто произнести. Появились ноздри, о которых прежде
и в помине не было, и начали раздуваться и свидетельствовать о
нетерпении.
— Что скажете, служивые? - спросил Бородавкин.
— Избы... избы... ломать! — невнятно, но как-то мрачно произ¬
несли оловянные солдатики.
367
Вадим Руднев
Словарь безумия
Характерно, что оловянные солдатики оживают именно как эпи-
лептоидные тела без органов, и речь их - характерное сочетание им¬
перативного выражения с деструктивным содержанием.
Деструкция одних эпилептоидных тел другими в сатире Салтыко¬
ва-Щедрина - естественное следствие концепции тел без органов.
Агрессивное авторитарное тело-автомат может быть нацелено только
на уничтожение такого же тела-автомата, причем отчленение головы
в качестве основной части этого механизма выступает как необходи¬
мая и достаточная часть этой агрессивной практики. Таковы особен¬
ности эпилептоидного дискурса «Истории одного города».
ЭпИЛеПТОИДНЫЙ дискурс. (См. также Иудушка Головлев, эпи-
лептоидное тело без органов.) Эпилептоидами называют напряженно¬
авторитарных людей, для которых характерны следующие ментальные
характеристики: прямолинейность и вязкость мышления, дисфория -
т.е. болезненная раздражительность и агрессивность, тяготение к вла¬
сти и всему, что связано с властью (тип эпилептоида-полководца и
политика), к насилию, стремление решать проблемы силовым путем
(тип эпилептоида-воина), к наведению порядка тоже силовым путем
(тип эпилептоида-полицейского). Особенностями эпилептоидов так¬
же считаются склонность к образованию сверхценных идей (что род¬
нит их с параноиками (см. паранойя)) и мощные сексуальные влече¬
ния (что роднит их с циклоидами (см. характеры)) (подробно см. [Бур¬
но 1990, 1996]).
Эпилептоиды могут быть эксплозивными (взрывчатыми) и дефен-
зивными, грубыми и уточенными. В последнем случае авторитарная
телесность грубого эксплозивного эпилептоида, для которого харак¬
терна угрюмая неразговорчивость, стремление к действию, сменяется
редукцией телесного начала и, наоборот, лицемерным велеречием.
Пример грубого эпилептода-эксплозива - гоголевский Держиморда
или чеховский унтер Пришибеев, который склонен во все вокруг вме¬
шиваться, во всем видеть непорядок и крамолу. При этом изъясняет¬
ся он преимущественно на языке императивных команд: «Народ, рас¬
ходись, не толпись!» Пример утонченного эпилептоида-дефензива -
Иудушка Головлев (см.), который склонен к гипертрофии речевой де¬
ятельности (в противоположность эпилептоиду-эксплозиву, который
неразговорчив), направленной на то, чтобы заманить речевого парт¬
нера в ловушку (о манипулятивных стратегиях эпилептоидов см. [Вол¬
ков 2000]).
368
Эпилептоидный дискурс
Э
Эпилептоидный характер так же, как и истерический, является
«плохим характером». Обычно авторы клинических описаний эпилеп-
тоида (П.Б. Ганнушкин, К. Леонгард, М.Е. Бурно, П.В. Волков) опи¬
сывают его с плохо скрываемой неприязнью. Смысл этой неприязни
в том, что эпилептоид — это в подавляющем числе случаев не интел¬
лигент, человек идеологически чуждой тому, кто его описывает. К
мрачному, подозрительному, угрюмому, напряженному человеку, ко¬
нечно, и объективно трудно относиться эмпатически.
Описывая эпилептоида, психолог описывает характер, с которым
он в принципе не способен себя отождествить, даже в большей степе¬
ни, чем с истериком (см. апология истерии), который часто бывает ин¬
теллигентным. В этом смысле можно сказать, что язык эпилептоида и
язык психолога, описывающего эпилептоида, — это совершенно разные
языки. Интеллигент-психолог никогда не станет выяснять какие бы то
ни было проблемы при помощи кулаков, тогда как для напряженно¬
авторитарного человека прямолинейного эксплозивного типа это
обычное дело. Невозможность понять эпилептоида изнутри, «вчувство¬
ваться в него», если использовать несколько старомодную терминоло¬
гию, во многом обесценивает клинические описания этого характера,
во всяком случае, делает их несопоставимыми с клиническими описа¬
ниями шизоида или психастеника, с которыми психолог отождествляет
себя с легкостью и с радостью, потому что это «интеллигентные харак¬
теры». Отношение «психолог — эпилептоид» сродни отношению «пси¬
хиатр - шизофреник», как оно рисуется в антипсихиатрической тради¬
ции 1960-х годов, в работах Р. Лэйнга, Т. Саса, Г. Бейтсона. Психиатр
и шизофреник - это существа, которые говорят на разных языках. Для
того чтобы понять шизофреника, нужно не травить его лекарствами, но
пытаться понять его язык, встать на его позицию. Поясняя такой
взгляд, Лэйнг, например, приводит ситуацию из психиатрического ру¬
ководства Э. Крепелина, когда Крепелин демонстрирует студентам
больного шизофреника и тот протестует против того, чтобы его рас¬
сматривали, как нечто, с чем невозможен диалог, как вещь. Но протест
этот, выраженный на шизофреническом бредовом языке, воспринима¬
ется психиатром как нечто бессмысленное, как лишнее доказательство
того, что сумасшедший - это сумасшедший [Лэйнг 1995\.
Американская и немецкая традиция (за исключением Э. Кречме-
ра) вообще не выделяют эпилептоидную конституцию, они ее как бы
вообще не замечают. Эпилептиоды имеются только в российской и
французской’характерологических типологиях. Объяснение этому
можно найти в том, что эпилептоид и в масштабе целой националь¬
ной психиатрической традиции это в экзистенциальном смысле Дру-
13-11117
369
Вадим Руднев
Словарь безумия
гой: прямолинейный, агрессивный, тупой, авторитарный, безинтел-
лектуальный, как бы и не человек вовсе. Но не для американца и
немца, у которых в их культурном характерологическом наследстве
агрессивность, авторитарность и прямолинейность не являются бе¬
зусловно негативными признаками, как для русского и француза.
Американцы ценят прямолинейность как выражение искренности и
делового духа, они ценят авторитарность как проявление принципа
буржуазно-демократической соревновательности: побеждает тот, кто
сильнее. Для немца традиция милитаристского насилия являются ис¬
торически чем-то вполне органичным и позитивным, поэтому агрес¬
сивность и любовь к насильственному наведению порядка для него
вряд ли являются негативными чертами. Поэтому американская и
немецкая традиции те признаки, которые составляют ядро эпилеп-
тоидной конституции, распределяют по другим характерам: любовь
к порядку отдается ананкасту, авторитарность — шизоиду, сверхцен¬
ные идеи - параноику, агрессивность - социопсихопату (последние
в американской традиции выполняют роль «плохого характера» (см.,
например [МакВильямс 1998, Кернберг 2000]).
Поэтика насилия: Кондратий Рылеев. «Думы». Уже в первом из по¬
мещенных в каноническое собрание стихотворных произведений Ры¬
леева тексте, послании «К временщику», обнажены и заострены прак¬
тически все главные черты эпилетоидного дискурса, характерные для
такого рода поэзии:
Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в важный сан пронырствами злодей\
Ты на меня с презрением взираешь
И в грозном взоре мне свой ярый гнев являешь!
Твоим вниманием не дорожу, подлец-,
Из уст твоих хула - достойных хвал венец!
Тема этого стихотворения — обличение, его основной тон — суро¬
вый бескомпромиссный тон прямолинейного укора. Герой, к которо¬
му обращено стихотворения (граф Аракчеев, который, видимо, был из¬
любленным объектом для эпилептоидных обличений в стихах и про¬
зе; ср. «Историю одного города» Салтыкова-Щедрина) обвиняется в
тех свойствах, которые противоположны эпидептоидному идеалу: че¬
стности и прямоте, служению на благо родине — в льстивости, ковар¬
стве, хитрости, агрессивной авторитарности, надменности, гневу.
370
Эпилептоидный дискурс
Э
Вероятно, можно сказать, что подобный портрет — великолепная
сублимативная проекция неприятных черт самого эпилептоида. Про¬
екция —эпилептоидный механизм защиты (подробно см. характеры и
механизмы защиты). Неважно, каким бьш на самом деле биографичес¬
кий Рылеев - наш тезис состоит в том, что характерологически мар¬
кированный дискурс художественными средствами отражает важней¬
шие черты данного экзистенциального проекта, а эпилептоидный
проект — это пропорция между прямолинейностью и хитростью;
скромностью и властолюбием. В данном случае эти черты проектив-
но поляризуются. Одним полюсом наделяется временщик, другой
полюс — простой нравственный человек, служащий родине герой-ти-
раноборец (далее в стихотворении временщику противопоставляется
Цицерон, спасший Рим от заговорщика Каталины).
Сам жанр, который ввел и канонизировал Рылеев в русской ли¬
тературе, — «дума», - ассоциируется с тяжелым, вязким и угрюмым
размышлением. Так оно и есть на самом деле. Думы - это своеобраз¬
ные нарративные стихи, своего рода баллады на исторические темы.
Основная их тема - это, с одной стороны, мужество, героизм, отва¬
га хороших персонажей и злоба, предательство, коварство плохих, с
другой.
Слова «грозный», «злобный», встречающиеся уже в стихотворении
«Временщику», можно рассматривать как верный лексический маркер
эпилептоидного дискурса наряду с «мрачный, «тоскливый», «угрю¬
мый», «гневный», «дикий» «суровый». Действительно, «Думы» Рыле¬
ева написаны именно в этом лексическом ключе:
Питая мрачный дух тоской // В отчаяньи, в тоске, печальный
и угрюмый // Так в грозной красоте стоит Седой Эльбрус в тумане
мглистом // И пред Леоновой столицей Раскинул грозный стан //
Мечи сверкнули в их руках - И окровавилась долина, И пала гроз¬
ная в боях, Не обнажив мечей, дружина // Лишь Игорев синел кур¬
ган, Как грозная громада // И всюду грозные бегут За ним убитых
братьев тени // Вещала - и сверкнул в очах Негодованья пламень
дикий // И начал князя прославлять И грозные его перуны // «Го¬
тов!» - князь русский восклицает // И, грозный, стал перед бой¬
цом... Кавдыгая с лютым мщенье, И Узбека грозный меч // Блещет
гнев во взоре диком, Злоба алчная в чертах // И, трепету невольно
предан он.
Характерен своеобразный мрачный эпилептоидный пейзаж как
проекция душевного строя, господствующего в этих текстах. Обычно
13*
371
Вадим Руднев
Словарь безумия
этот пейзаж начинает почти каждую думу, задавая соответствующий
аффективный тон всему дискурсу:
Осенний ветер бушевал,
Крутя дерев листами,
И сосны древние качал
Над мрачными холмами.
На этом мрачном природном фоне происходят столь же мрачные
события. Характерными для эпилептоидного дискурса являются аф¬
фективно окрашенные восклицания и вопрошания как выражения
идеи обличения, устрашения или авторитарного призыва к действию,
как правило, к убийству врагов:
Погибель хищнику, друзья!
Пускай падет он мертвый!
Его сразит стрела моя,
Иль все мы будем жертвой!
Пусть каждого страшит закон!
Злодейство примет воздаянье!
А вот результаты этих деяний: картины поля сражений, усеянные
трупами врагов:
Валились грудами тела <...>
И поле трупами покрыли.
И кровь полилася, напенясь, рекой.
Покрылись телами поля и равнины.
Бой кончен - и Глинский узрел на равнине
Растерзанных трупы и груды костей.
Но мало того, не просто трупы, но отрезанные руки и головы: мо¬
тив расчленения, в частности, усекновения головы (см. эпилептоидное
тело без органов):
Упал — и стал курган горою...
Мстислав широкий меч извлек
И, придавив врага пятою,
Главу огромную отсек.
Тут слышен копий треск и звуки,
Там сокрушился меч о меч.
Летят отсеченные руки,
И головы катятся с плеч.
372
Эпилептоидный дискурс
Э
Этот беглый анализ позволяет сделать два вывода. Первый. Тексты
Рылеева устроены почти как массовые фольклорные тексты. Второй.
Прочитав эти тексты под характерологическим углом зрения, можно
несколько по-иному, чем в романтической советской парадигме, уви¬
деть один из литературных истоков первого этапа русского освободи¬
тельного движения.
Исторические корни эпилептоидного дискурса очевидны и прозрач¬
ны. Это героический эпос, воспевающий воинскую силу, подвиги бо¬
гатырей и героев, культ эпилептоидного тела, поэтикой которого
опять-таки является насилие, гнев, злоба, коварство, диалектика пре¬
данности и предательства. На уровне языкового выражения это импе¬
ративные поношения, выражения агрессии. Здесь, поскольку мы вновь
оказываемся на достаточно примитивном архаическом уровне эстети¬
ческого сознания, картина будет более или менее та же, что нами
продемонстрирована на примере «Дум» Рылеева. Вот фрагменты, взя¬
тые из первой песни «Илиады» в переводе Н. И. Гнедича:
Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал:
Многие души могучие славных героев низринул
В мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным
Птицам окрестным и псам (совершалася Зевсова воля)
Слово скончавши, воссел Фесторид; и от сонма воздвигся
Мощный герой, пространно-властительный царь Агамемнон,
Гневом волнуем; ужасной в груди его мрачное сердце
Злобой наполнилось...
В духе эпилептоидной поэтики в богатырском эпосе совершается
и прямая деструкция тел, расчленение, отламывание рук и ног, выка¬
лывание глаз, отрубание голов. Вот, например, как расправляется Илья
Муромец с Калином-царем в одном из вариантов былины:
Тут Илья взял — сломал ему белы руки,
Еще сломал собаке резвы ноги,
Другому татарину он сильному
Сломал ему белы руки,
Выкопал ему ясные очи.
Но это, конечно, мелочи по сравнение с тем, что вытворяют Ку-
хулин и другие герои ирландского эпоса «Похищение быка из Ку-
альнге»:
373
Вадим Руднев
Словарь безумия
В самый центр войска врубился Кухулин и окружил его огромным
валом трупов. <...> и обезглавленные тела ирландцев теснились
вокруг Кухулина шея к шее, пята к пяте. Так трижды объехал он
вокруг войска, оставляя за собой полосу шириной в шесть трупов,
так что трое ногами упирались в шеи троих.
С этими словами нанес Кухулин Этаркумулу удар муадалбейм
в самое темя и до пупка разрубил его тело. Поперек пришелся вто¬
рой удар Кухулина, и три обрубка разом рухнули на землю.
В XX веке круг сомкнулся, и жесткая поэтика фольклорно-эпичес¬
кого эпилептоидного дискурса возвратилась в массовую культуру - в
жесткий детектив Дэшила Хемита, в массовый исторический роман и
кинематограф насилия — крутой боевик, триллер. Примеры приводить
нет надобности - достаточно включить телевизор.
я
«Я слово позабыл, что я хотел сказать...» (См. также ши-
зотипический дискурс.) Строка «В сухой реке пустой челнок плывет» из
стихотворения Мандельштама «Я слово позабыл, что я хотел сказать»,
пожалуй, одна из самых характерных в шизотипичсеких стихах заме¬
чательного русского поэта. Творчество Мандельштама изучалось ин¬
тенсивно и чрезвычайно плодотворно в 1970—19800-е годы, и сейчас
мы хотим показать его патографическую подоплеку.
Первым эту строку проанализировал Г. С. Померанц в статье с ха¬
рактерным названием «Басё и Мандельштам». Вот что он писал о ней,
анализируя стихи Мандельштама как заведомо алогичные в духе дзен-
ского коана:
Мандельштам описывает абсолютное слово негативно, отрицая
все возможные предикаты, не давая о нем никакой информации
или сталкивая их в алогичных нелепых сочетаниях <...> В этом
стихе мы ощущаем не столько чувственно осязаемые образы,
сколько разрыв между ними, паузы между словами, ритмические
интевалы, в которых всплывает дух целого, невыразимого ника¬
кими нагромождениями частностей. То, что описывается, толь¬
ко поплавки, колебания, которые намекают на какое-то скрытое
незримое течение. Прямой переклички с Басе здесь нет, но мож¬
но говорить о русском эквиваленте того, что японцы называют
«югэн» (простого по форме намека на непостижимую тайну)»
[Померанц 1970: 200].
Возможно, такая интерпретация в определенном смысле верна, но
она делает этот текст очень похожим на поэтическое шизоидное вы¬
сказывание, а это, конечно, не так. Это полное боли и отчаяния сти¬
хотворение о смерти и поэтическом бесплодии. К тому же Г.С. По¬
меранц не отметил, что «пустота» очень важное слово в дзенско-
даосской традиции. Она исходная основа всего. В «Дао-де-дзине»
говорится: «Дао пусто, поэтому его и можно наполнить, поэтому оно
и есть все».
Итак, это стихотворение о смерти, — «чертог теней», «стигий¬
ская нежность», «стигийское воспоминание». Здесь появляется тема
Стикса — реки мертвых, на которой переправляются души умерших
375
Вадим Руднев
Словарь безумия
в царство Аида. На это впервые обратил внимание Омри Ронен
[Копеп 1976]. Пустой челнок - это лодка Харона, которая перево¬
зит по пустой мертвой реке души умерших. Вот еще одна интерпре¬
тация.
Из этой интерпретации следует, что челнок движется не вдоль, а
поперек реки. Это подключает другое значение слова «челнок» -
ткацкое:
На перламутровый челнок
Натягивая шелка нити,
О пальцы гибкие, начните
Очаровательный урок.
И я люблю обыкновенье пряжи:
Снует челнок, веретено жужжит.
Челнок - это инструмент, при помощи которого подается попереч¬
ная нить (уток) на продольную основу станка, что и создает ткань.
Челнок, рождающий ткань, ассоциируется у Мандельштама с идеей
языковой ткани, что, как мы увидим, чрезвычайно важно для этого
текста. Другие тексты Мандельштама подтверждают это понимание. В
предисловии к «Разговору о Данте» сказано:
Надо перебежать через всю ширину реки, загроможденную подвиж¬
ными и разноутремленными китайским джонками — так создается
смысл поэтической речи, его, как марштрут, нельзя восстановить
при помощи опроса лодочников.
Они не расскажут, как и почему мы перепрыгиваем с джонки
на джонку.
Поэтическая речь есть ковровая ткань, имеющая множество
текстильных основ. <...>
Она прочнейший ковер, сотканный из влаги, — ковер, в кото¬
ром струи Ганга, взятые как текстильная основа, не смешиваются
с пробами Нила и Евфрата.
Поэтическая речь, — говорит Мандельштам в самом начале
«Разговора о Данте», — есть скрещенный процес, и складывается
он из двух звучаний. Первое из этих звучаний - это слышимое и
ощущаемое нами изменение орудий поэтической речи <...>.
Поэтическая речь, или мысль, лишь чрезвычайно условно мо¬
жет быть названа звучащей, потому что мы слышим в ней скре¬
щивание двух линий, из которых одна, взятая сама по себе, аб¬
376
«Я слово позабыл, что я хотел сказать...»
Я
солютно немая, а другая, взятая вне орудийной метаморфозы,
лишена всякой значительности и всякого интереса и поддается
пересказу.
Получается, что в контексте размышлений Мандлеьштама о по¬
эзии пустой челнок, двигающийся по сухой реке, это как бы сло¬
мавшийся ткацкий станок поэзии, работающей вхолостую - основ¬
ная тема стихотворения, вспомним «Я слово позабыл, что я хотел
сказать». Что же это за слово? Возможно, это слово «смерть». Но я
думаю, что это просто «слово». В смысле «вначале было Слово». И
вот это как если бы Бог забыл Слово, которое было вначале, из
которого он творил мир. Слово — это в каком-то смысле и есть наш
челнок. Поэт описывает то, как он не может разродиться языко¬
вым высказыванием, т. е. все это стихотворение — прежде всего, о
языке.
Нас поэтому не должно удивлять и напрашивающаяся психоана¬
литическая ассоциация: пустой челнок — это фаллос, который «снует»
по вагине, тема оплодотворения-бесплодия продолжается и на этом
уровне, причем оплодотворения мнимого, мертвого - забвение слова
соотносится с сексуальной несостоятельностью.
Итого пять смыслов пустого челнока, плывущего в сухой реке.
Шизоидный дзенский, «в стиле коана»; депрессивно-танатологичес¬
кий — челнок это лодка Харона, перевозящая души умерших. «Цикло¬
идный», «реалистический» - ткацкий - челнок это инструмент, опло¬
дотворяющий основу. Уже специфически шизотипический — челнок
символ забытого слова - не могущей родиться поэтической речи. На¬
конец истерический — в смысле навязываемого недостижимого жела¬
ния: фаллос, (не)оплодовторяющий женщину.
Шизотитичность пространства этого текста сказывается в том, что
оно как бы смешанное, такое же, многослойное, как сам образ челно¬
ка. С одной стороны, пустота — это возможность быть наполненным.
Это позитивная сторона. Во вторых, это символ смертности - это не¬
гативная сторона. В третьих, все вместе парадоксально: как может
плыть пустой или не пустой челнок по сухой реке? В четвертых, образ
ткацкого челнока создает перекрестную ассоциацию. В пятых, фаллос,
движущийся по вагине. И наконец, и самое главное, это пустое про¬
странство, как свидетельствует сам поэт, есть пространство языка как
скрещивающегося процесса. (Кстати, слова «текст» и «ткань» про¬
изошли от одного корня.) Трудно представить себе это все как суще¬
ствующее одновременно, но в этом и состоит прелесть шизотипичес-
кой поэзии.
377
Вадим Руднев
Словарь безумия
Язык и безумие. (См. также бред и язык.) Согласно гипотезе со¬
временного английского психиатра Тимоти Кроу Ьото 8ар1еп§ запла¬
тил за свою уникальность шизофренией, специфической человеческой
болезнью [Сгом> 1997\. В соответствии с этой гипотезой человеческое
безумие опосредовано наличием развитого конвенционального языка.
И подобно тому, что каждый человек - немного истерик, немного
ананкаст, немного циклоид, шизоид, параноик и шизофреник, о чем
писал еще П.В. Ганнушкин [Ганнушкин 1997\, так и каждый язык и
язык в целом содержит в себе все эти виды психопатологии с преоб¬
ладанием тех или иных в конкретных языках.
Язык истеричен. Что определяет истерию? Конверсия, вытеснение,
демонстративность, иконизация (отелеснивание знака), р«еис1о1о§1а
ГаЩазйса. Начнем с последнего как с самого очевидного. Можно ли
было бы человеку врать, если бы он не обладал языком? Ответ очеви¬
ден. Истина и ложь - понятия языка. Возможность говорить о том, что
не соответствует действительности, предоставляется языком в самых
широких пределах. Истина - островок в море вранья, если перефра¬
зировать слова Уилларда Куайна [Оите 1851]. Создан ли язык для то¬
го, чтобы передавать истинную информацию, неизвестно, но уж что-
что, а дезинформировать он мастер. А как понимать истерическую ико-
низацию в языке? Ну, во-первых, об этом писал еще Р.О. Якобсон в
замечательной статье «В поисках сущности языка», где приводятся при¬
меры того, как чисто релятивные грамматические категории иконизи-
руются. Например, как правило, прилагательные положительной, срав¬
нительной и превосходной степени распределяются соответственно по
длине. Слово «длинный» короче слова «длиннее», а слово «длинней¬
ший» - самое длинное [Якобсон 1983]. Вообще вся конвенциональ-
ность языка как принцип является абстракцией. По ассоциации с каж¬
дым словом, будь то конкретное или абстрактное, в сознании говоря¬
щего и слушающего встает какой-то икон. Слова отелесниваются в их
речевом использовании.
Демонстративность также заложена в языке. Само понятие рито¬
рики как возможности украшать речь фигурами и тропами говорит
о том, что язык приспособлен к тому, чтобы быть демонстративным,
ярким, пышным, вызывающим, кричаще-пестрым. Вообще преобла¬
дание в языке означающего над означаемым (закон Лакана, сформу¬
лированный им для симптоматической невротической речи) делает
язык в принципе языком-невротиком. Не может быть такого поло¬
жения вещей, чтобы означаемых было больше, чем означающих, что¬
бы вещей было больше, чем слов. Слов всегда больше, чем вещей.
Одна вещь может быть обозначена многими словами. Забегая вперед,
378
Язык и безумие
Я
в пределе — в шизофренической модели языка и в поэзии — всеми
словами.
Конверсия - это метафора и метонимия, об универсальности ко¬
торых опять-таки писал Якобсон и (под его влиянием) Лакан. Когда
мы говорим, например, «оболочка языка», то мы тем самым отелесни-
ваем язык и конверсируем понятие из предметного мира на абстракт¬
ный объект. И, наконец, вытеснение. Об этом еще сто лет назад пи¬
сал Фрейд в «Психопатологии обыденной жизни»: когда одно слово
вытесняется другим. Да и вообще психические механизмы защиты (см.
характеры и механизмы защиты) — это элементы языка. Разве можно
вытеснять, отрицать, проецировать, расщеплять, идеализировать,
обесценивать и т. д. вне языка?
В еще большей степени язык является обсессивно-компульсив-
ным. Что определяет обсессию? Повторение, педантизм, число (см.
обсессия и число), бинарность семиотического предпочтения, мисти¬
ка, всевластие мысли, изоляция. Повторение - характерная особен¬
ность как речи, так и языка (ср. персеверация). Все повторяется, все
воспроизводится многие десятки тысяч раз: словоформы, граммати¬
ческие и словообразовательные парадигмы, фонемы. Только семанти¬
ка и прагматика менее воспроизводимы, хотя и здесь существуют по¬
вторяющиеся стереотипы. «Педантизм» - характерная особенность
фонологии и грамматики языка. Здесь по большей части все упорядо¬
ченно в стройные ряды парадигматических словообразовательных
форм и грамматических категорий. Фонемные ряды образуют строй¬
ные квадраты дифференциальных признаков. Конечно, есть и исклю¬
чения. Как говорил Витгенштейн, наш язык похож на большой город -
наряду со стройными проспектами в нем есть кривые улочки и захо¬
лустные тупики [ ШЩепз1ет 1967\. Роль этих последних выполняют
грамматические исключения. Лексика, конечно, тоже значительно
менее упорядочена, чем грамматика и фонология. Еще менее педан¬
тична семантика. Обсессивно-компульсивно настроенные логические
позитивисты — ранний Витгенштейн и философы Венского кружка —
старались положить конец этим неряшливостям языка и построить
идеальный логический язык, упорядочив и семантику тоже. Такой
искусственный язык оказался возможен, но он совершенно не подхо¬
дит для поэзии - для этого необходима живая неупорядоченная исте¬
рическая стихия, о которой мы уже писали выше.
Бинарность обсессивно-компульсивной семиотики - стояние на
развилке благоприятного и неблагоприятного — также отражена в
языке. Во-первых, большинство их того, как устроена структура язы¬
ка, устроено по принципу бинарности. Это, прежде всего, касается
379
Вадим Руднев
Словарь безумия
фонологических оппозиций. Гласный - согласный, глухой — звонкий,
твердый - мягкий. В свое время Р.О. Якобсон с американскими кол¬
легами построил совершенно обсессивную универсальную фонологи¬
ческую систему, состоящую из 12 признаков, которая описывала фо¬
нологии всех существующих языков. Путь бинарных семиотических
развилок представляют собой синтаксис и семантика. Здесь строят¬
ся различные графы, или деревья, построенные по принципу бинар¬
ных развилок. Подлежащее - сказуемое, определение — подлежащее,
обстоятельство — сказуемое и т. д. В семантике то же самое. Одушев¬
ленное - неодушевленное, человек - нечеловек, женщина - мужчи¬
на, женатый - неженатый: это семантическое дерево слова «холос¬
тяк» — хрестоматийный пример генеративной семантики. Здесь надо
оговориться, что в XX веке структура языка строилась так, как были
утроены мозги его исследователей-лингвистов, именно они, шизоид¬
ные ананкасты, приписали структуре языка такой педантический по¬
рядок. В недавнее время была предпринята попытка представить
структуру языка принципиально по-иному, не обсессивно-компуль-
сивно. Речь идет о книге Бориса Гаспарова «Лингвистка языкового
существования», где автор пытается разрушить обсессивный орднунг
и навязать свою модель, гораздо более раскованную [Гаспаров 1996].
Но характерно, что никто из лингвистов не поддержал эту модель в
силу ее экзотичности. И она, несмотря на свое остроумие и ориги¬
нальность, осталась маргинальной.
Мистика и всемогущество мысли неотделимы от языка, хотя Вит¬
генштейн и считал, что подлинная мистика сродни молчанию. Но ему
же принадлежит афоризм о том, что «мысль это осмысленное выска¬
зывание», т.е. мысли без языка не может быть. Поэтому мистическое
измерение реализуется именно через язык - в системе заговоров, зак¬
линаний и прочих обсессивно-компульсивных магических практик
(см. обсессивный дискурс, обсессия и культура). Стоит вспомнить хотя
бы магический квадрат, состоящий из слов, которые можно читать по
всем направлениям. Вот наиболее известный пример:
ЗАТОК
А К Е Р О
Т Е N Е Т
О Р Е К А
К О Т А 8
(Дословный перевод — «Сеятель Арепо трудится, не покладая рук».)
Роль числа в языке достаточно велика. По крайней мере, существу¬
ет целая грамматическая категория числительных, играющая в языке
380
Язык и безумие
Я
значительную роль. Во всяком случае, числа вне языка в принципе
существовать не может так же, как и самой математики.
Механизм изоляции, характерный для обсессивно-компульсивных
расстройств, также характерен для языка. Язык, во всяком случае, как
его представляли себе структуралисты, есть замкнутая, существующая
изолированно от речи система знаков. В целом можно сказать, что
истерическое и обссесивное начала образуют два полюса в языке, один
из которых не может существовать без другого, и они вступают друг с
другом в непрерывный диалог. Можно даже предположить, опираясь
на исследования психофизиологов, что обсессивно-компульсивная,
рационально-изолированная часть языка «хранится» в доминантном
левом полушарии, а истерическая малоупорядоченная и экспрессив¬
ная его часть - в субдоминантном левом. Соответственно, к доминан-
тно-обсессивному подстраивается шизоидный механизм, а к субдоми-
нантно-истерическому — синтонный циклоидный.
Есть ли в языке депрессия? В определенном смысле ее там не мо¬
жет быть по двум причинам. Во-первых, депрессия в принципе связана
с десемиотизацией (см. депрессия, сущность безумия), а язык - знако¬
вая система. Во-вторых - и это, по-видимому, производив от перво¬
го — в отличие от истерии и обсессии — неврозов переноса, образую¬
щих объектные отношения, депрессия представляет собой нарцисси-
ческий невроз, который не связан с объектным отношением и не
образует переноса (во всяком случае, в классическом фрейдовском по¬
нимании переноса - о взглядах Хайнца Кохута на возможность нар-
циссического переноса [Коки11971] мы сейчас говорить не будем, так
как для наших целей вполне пригоден теоретический уровень класси¬
ческого психоанализа). Язык же — это система отношений и перено¬
сов. Конечно, в языке есть депрессивные слова — тоска, печаль, вина,
боль, грусть, подавленность, скорбь и т. д., но сам язык как система не
может быть устроен ни депрессивным, ни гипоманиакальным обра¬
зом, так как язык по своей природе аутистичен. Но это язык как сис¬
тема. Если же брать диахронический аспект, который мы почти не рас¬
сматриваем, то, конечно, в жизни, реального языка есть свои взлеты
и падения, свои депресссии и гипомании. Язык, как человек, рожда¬
ется, живет и умирает.
Интересным является вопрос, содержит ли язык нечто параной¬
яльное. На этот вопрос можно ответить так. Язык при определенных
условиях может быть понят как нечто паранойяльное. Это понимание
логического позитивизма, которое мы уже упоминали. Что определя¬
ет паранойю? Сверхценный поиск единственной истины и проекция.
По Витгеншейну («Логико-философский трактат»), весь язык можно
381
Вадим Руднев
Словарь безумия
свернуть в одну-единственную фразу, которая и содержит единствен¬
ную, пусть бессодержательную, истину: «Дело обстоит так то и так то».
Для того чтобы обосновать этот результат, Витгенштейн поистине с
паранойяльным упорством применяет к корпусу пропозиций одну-
единственную логическую операцию - отрицание. В результате чего
и получается искомое высказывание «Дело обстоит так-то и так-то»
[Витгенштейн 1958]. Такое «параноидно-шизоидное» понимание язы¬
ка (отрицание — фундаментальный механизм защиты шизоида (см.
характеры и механизмы защиты)) продержалось довольно долго, а во
многих теоретических представлениях господствует и поныне. Что ка¬
сается паранойяльной проекции, то в «Трактате» содержится недвус¬
мысленное понимание высказывания как проекции языка на реаль¬
ность.
Паранойяльному логико-позитивистскому пониманию языка про¬
тивостоит его шизотипическое постмодернистское понимание, в соот¬
ветствии с которым язык это система цитат разных порядков. Язык в
принципе должен быть шизотипичен, так как он содержит осколки
всех остальных радикалов — истерического, обсессивно-компульсив-
ного, шизоидного, циклоидного и т. д.
Вопрос о том, содержится ли в языке шизофрения, является клю¬
чевым, так как, согласно гипотезе Т. Кроу, именно язык заразил Ьото
«ар1еп8 этой болезнью (см. [Сгом> 1997]). Да, в определенном и доста¬
точно сильном смысле язык является шизофреническим образовани¬
ем, так как в нем содержатся все потенциальные высказывания, в ча¬
стности, прямо противоположные друг другу — т. е. схизис (см. схизис
и многозначные логики). Вторая шизофреническая особенность языка
состоит в том, что он не содержит жестких ограничений на то, чтобы,
все, что угодно, было поименовано всем, чем угодно; т. е. язык не
только не сопротивляется порождению избыточно метафорических
высказываний, которые могут восприниматься как бессмысленные,
но и своим устройством способствует этому. Если бы язык был устроен
так, как об этом мечтали логические позитивисты (т. е. без многознач¬
ности, омонимии и исключений из правил), на нем не были бы воз¬
можны шизофренические высказывания, в частности, шизофреничес¬
кая поэзия Хлебникова, Введенского (см. «Кругом возможно Бог»), Хар¬
мса или позднего Мандельштама. При этом уровень метафоризации в
языке является неконечным. Когда-то Ноам Хомский смоделировал
ставшую хрестоматийной фразу в качестве образца бессмысленности —
«Бесцветные зеленые идеи яростно спят». Но через некоторое время
другой философ языка, Хилари Патнем, показал, что эту фразу мож¬
но представить как вполне осмысленную. Идеи вполне могут быть бес¬
382
Язык и безумие
Я
цветными, при этом они могут быть «зелеными» — в смысле незрелы¬
ми. Идеи могут «спать», т. е. бездействовать, быть неиспользованны¬
ми и при этом «спать» «яростно», т. е. их неиспользование носит ак¬
тивный, агрессивный характер. По-видимому, любое кажущееся, на
первый взгляд, бессмысленным бредовое шизофреническое высказы¬
вание при желании может быть таким же или сходным образом рас¬
шифровано как вполне осмысленное, просто повышенно метафори¬
ческое.
Литература
Адлер А. К теории галлюцинаций // Адлер А. Практика и теория индивиду¬
альной психологии. М., 1995.
Ассаджиоли Р. Самореализация и психиологические нарушения // Духовный
кризис: Когда преобразование личности становится кризисом / Под ред.
С. Грофа и К. Гроф. М., 2000.
Балинт М. Базисный дефект: Терапевтические аспекты регрессии. М., 2002.
Бахтин М.М. Франсуа Рабле и народная смеховая культура средневековья и
Ренессанса. М., 1965.
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1976.
Бейтсон Г. Экология разума: Избранные статьи по антропологии, психиатрии
и эпистемологии. М., 2000.
Бек А., Фримен А. (ред.) Когнитивная психотерапия расстройств личности.
СПб., 2002.
Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
Бинсвангер Л. Введение в ВсЫгорЬгеше // Бинсвангер Л. Бытие-в-мире: Из¬
бранные статьи. М., 1999.
Бинсвангер Л. История болезни Лолы Фосс // Там же, 1999а
Бинсвангер Л. Экстравагантность // Там же, 19996
Бинсвангер Л. Случай Элен Вест: Антропологически-клиническое исследова¬
ние // Экзистенциальная психология. М., 2001.
Блейлер Е. Руководство по психиатрии. М., 1993.
Блейлер Э. Аффективность, внушение, паранойя. М., 2001.
Блюм Г. Психоаналитические теории личности. М., 1996.
Боэций. «Утешение Философией» и другие трактаты. М., 1990.
Брилл А. Лекции по психоаналитической психиатрии. Екатеринбург, 1998.
Бурно М.Е. К уточнению клинического понятия «психастеническая психопа¬
тия» (Краткая история и современное состояние вопроса) // Журнал не¬
вропатологии и психиатрии имени С.С. Корсакова, т. ЬХХГУ, вып. 11,
1974.
Бурно М.Е. Вопросы клиники и психотерапии алкоголизма и неврозов. (Эмо¬
ционально-стрессовая терапия). М., 1981.
Бурно М.Е. Трудный характер и пьянство. Киев, 1990.
Бурно М.Е. О характерах людей. М., 1996.
Бурно М.Е. Сила слабых (психотерапевтическая книга). М., 1999.
Бурно М.Е., Рожнов В. Е. Учение о бессознательном и клиническая психоте¬
рапия: Постановка вопроса // Бессознательное, т. 2. Тбилиси, 1978.
Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Психология межличностных коммуни¬
каций. СПб., 2000.
Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М., 1972.
Винни Пух и философия обыденного языка. М., 2000.
384
Литература
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958.
Витгенштейн Л. Лекция об этике // Даугава, 2, 1989.
Витгенштейн Л. Лекции и беседы об эстетике, психологии и религии. М.,
1999.
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат» с параллельными философ¬
ско-семиотическими комментариями В.П. Руднева // Логос, 1, 3, 8,
1999а.
Волков П.В. Навязчивости и «падшая вера» // МПЖ, 1, 1992.
Волков П.В. Разнообразие человеческих миров. Руководство по профилакти¬
ке душевных расстройств. М., 2000.
Вригт Г. фон. Логико-философские исследования. М., 1986.
Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965.
Галковский Д. Бесконечный тупик. М., 1997.
Гамкрелидзе Т.В. Р.О. Якобсон и проблема изоморфизма между генетическим
кодом и семиотическими системами // Материалы международного кон¬
гресса «100 лет Р. О. Якобсону». М., 1996.
Ганнушкин П.Б. Избранные труды. М., 1998.
Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. М., 1995.
Гаспаров Б.М. Язык, память, образ: Лингвистика языкового существования.
М., 1996.
Гебзаттель В. фон. Мир компульсивного // Экзистенциальная психология.
М., 2001.
Гринсон Р.Р. Техника и практика психоанализа. М., 2003.
Гроф С. За пределами мозга: Рождение, смерть и трансценденция в психоана¬
лизе. М., 1992.
Дали С. Дневник одного гения. М., 1991.
Данн Дж. У. Эксперимент со временем. М., 2000.
Деглин В.Д., Балонов Л.Я., Долинина И.Б. Язык и функциональная асимметрия
мозга // Учен. зап. Тартуского ун-та. Труды по знаковым системам, т. 16,
1983.
Добролюбова Е. А. Шизофренический «характер» и терапия творческим само¬
выражением // Психотерапия малопрогредиентной шизофрении. М.,
1996.
Дьяков Ю. Т. Грибы и их значение в жизни природы и человека // Соросовс-
кий образовательный журнал, № 3, 1997.
Ермаков И. Д. Психоанализ литературы: Пушкин; Гоголь; Достоевский. М.,
1998.
Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999.
Золян С. Т. Семантика и структура художественного текста. Ереван, 1991.
Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. М.,
1971.
Ивин А. А. Основания логики оценок. М., 1971.
Исследования в области балто-славянской духовной культуры: Заговор. М.,
1993.
Иванов В.В. Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем. М., 1978.
Карнап Р. Значение и необходимость: Исследование по семантике и модаль¬
ной логике. М., 1959.
Канетти Э. Масса и власть. М., 1997.
385
Вадим Руднев. Словарь безумия
Кандинский В.Х. О псевдогаллюцинациях. М., 1952.
Кастанеда Г.-Н. Художественный вымысел и действительность // Логос, 3
(13), 1999.
Кацис Л. «Кругом возможно Бог» А. Введенского (Попытка разгерметиза¬
ции, или еще раз о «гибели Маяковского как литературном факте») //
Кацис Л. Русская эсхатология и русская литература. М., 2000.
Кемпинский А. Психология шизофрении. М., 1998.
Кёйпер Ф.Б.Я. Космогония и зачатие // Кёйпер Ф.Б.Я. Труды по ведийской
мифологии. М., 1986.
Кернберг О. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях. М., 1998.
Кернберг О. Тяжелые личностные расстройства: Стратегии психотерапии. М.,
2000.
Кляйн М. Зависть и благодарность. М., 1997.
Кляйн М. и др. Развитие в психоанализе. М., 2001.
Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика. М., 2002.
Кречмер Э. Строение тела и характер. М., 1994.
Кречмер Э. Об истерии. Спб., 1996.
Кречмер Э. Гениальные люди. М., 1999.
Кронгауз М. А. Приставки и глаголы в русском языке: Семантическая грам¬
матика. М., 1998.
Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995.
Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после
Фрейда. М., 1997.
Лакан Ж. Семинары. Кн. 1. Работы Фрейда по технике психоанализа (1953/
54). М., 1998.
Лакан Ж. Бессмысленное и структура Бога // Метафизические исследования,
14, 2000.
Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. М., 1996.
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1994.
Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983.
Лекомцева М. И. Семиотический анализ одной инновации в латышских заго¬
ворах // Исследования в области балто-славянской духовной культуры:
Заговор. М., 1993.
Леонгард К. Акцентуированные личности. К., 1989.
Лосев А.Ф. О пропозициональных функциях древнейших лексических струк¬
тур // Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф: Труды по языкознанию. М., 1982.
Лосев А.Ф. Персефона // Мифологический словарь. М., 1991.
Лотман Ю.М. Динамические механизмы знаковых систем // Труды по знако¬
вым системам, вып. 463, 1978.
Лотман Ю.М. Избранные статьи в 3 т. Таллинн, 1992.
Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1993.
Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М., 1996.
Лотман Ю.М., Успенский Б. А. Миф — имя — культура // Лотман Ю.М. Избр.
статьи в 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992.
ЛоуэнА. Физическая динамика структуры характера. М., 1996.
Лоуэн А. Предательство тела. Екатеринбург, 1999.
Льюис Д. Истинность в вымысле //Логос, 3 (13), 1999.
Людвиг Витгенштейн: Человек и мыслитель / Сост. В. Руднев. М., 1994.
386
Литература
Лэйнг Р. Расколотое «Я». СПб., 1995.
Малкольм Н. Состояние сна. М., 1993.
Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. М., 1998.
Меграбян А.А. Деперсонализация. Ереван, 1962.
Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976.
Минковски Ю. Случай шизофренической депрессии // Экзистенциальная
психология. М., 2001.
Моуди Р. Жизнь после жизни. М., 1991.
Никольская И.М., Грановская Р.М. Психологическая защита у детей. СПб.,
2000.
Нуллер Ю.Л. Депрессия и деперсонализация: Проблемы коморбидности //
Депрессии и коморбидные расстройства / Под. ред. А.Б. Смулевича, М.,
1997.
Остин Дж. Как производить действия при помощи слов? // Остин Дж. Из¬
бранное. М., 1999.
Перлз Ф. Любовь, голод и агрессия. М., 2000.
Подорога В.А. Тело-без-органов // Подорога В.А. Словарь аналитической ан¬
тропологии // Логос, 2, 1999.
Подорога В.А. Картография тела // Там же, 1999а.
Померанц Г.С. Басе и Мандельштам // Теоретические проблемы изучения
литератур Дальнего Востока. М., 1970.
Похищение быка из Куальнге. М., 1985.
Пропп В.Я. Морфология сказки. М., 1969.
Пропп В.Я. Ритуальный смех в фольклоре // Пропп В.Я. Фольклор и действи¬
тельность. М., 1976.
Пропп В.Я. Эдип в свете фольклора // Там же, 1976а.
Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.
Пятигорский А. М. Некоторые общие замечания о мифологии с точки зрения
психолога // Труды по знаковым системам, вып. 181, 1965.
Райх В. Анализ характера. М., 1999.
Ранк О. Миф о рождении героя // Между Эдипом и Озирисом: Становление
психоаналитической концепции мифа. Львов; М., 1998.
Рассел Б. Мое философское развитие //Аналитическая философия / Под ред.
А.Ф. Грязнова. М., 1993.
Рейхенбах Г. Направление времени. М., 1962.
Риман Ф. Основные формы страха: Исследование в области глубинной пси¬
хологии. М., 1999.
Роджерс К. Элен Вест и одиночество // Московский психотерапевтический
журнал, 3, 1993
Руднев В. Морфология реальности: Исследование по «философии текста». М.,
1996.
Руднев В. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. И. М.,
2000.
Руднев В. Метафизика футбола: Исследования по философии текста и пато¬
графии. М., 2001.
Руднев В. Характеры и расстройства личности: Патография и метапсихология.
М ., 2002.
Руднев В. Тайна курочки Рябы: Безумие и успех в культуре. М., 2004.
387
Вадим Руднев. Словарь безумия
Руднев В. Диалог с безумием: Аналитическая философия личностных рас¬
стройств. М., 2005 (в печати).
Рыбальский М.Н. Иллюзии и галлюцинации: Систематика, семиотика, нозо¬
логическая принадлежность. М., 1983.
Рыбальский М.И. Бред: Систематика, семиотика, нозологическая принадлеж¬
ность бредовых, навязчивых, сверхценных идей. М., 1993.
Салецл Р. (Из)вращения любви и ненависти. М., 1999.
Сосланд А.И. Фундаментальная структура психотерапевтического метода, или
Как создать свою школу в психотерапии. М., 1999.
Сосланд А. И. Что годится для бреда? // Московский психотерапевтический
журнал, 1, 2001.
Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. М., 1985.
Степанов Ю.С. Индоевропейское предложение. М., 1989.
Терентьев Е.И. Бред ревности. М., 1991.
Толстой Н.И. Гениталии // Славянские древности: Этнолингвистический сло¬
варь под ред. Н.И Толстого. М., 1995.
Топоров В.Н. К реконструкции индоевропейского ритуала и ритуально-поэти¬
ческих формул (на материале заговоров) // Учен. зап. Тартуского ун-та.
Труды по знаковым системам, т. 4, 1969.
Топоров В.Н. Семантика мифологических представлений о грибах // Ва1сашса:
Лингвистические исследования. М., 1979.
Топоров В.Н. О числовых моделях в архаических текстах // Структура текста.
М., 1980.
Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в
фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988.
Топоров В.Н. Об индоевропейской заговорной традиции (избранные главы) //
Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Заговор.
М., 1993.
Топоров В.Н. О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схема¬
ми мифологического мышления («Преступление и наказание») // Топо¬
ров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопо¬
этического. М., 1995.
Топоров В.Н. Вещь в антропоцентрической перспективе (Апология Плюшки¬
на) // Там же, 1995а.
Топоров В.Н. Странный Тургенев. М., 1998.
Топоров В.Н. Грибы // Мифы народов мира, т. 1. М., 2000.
Топоров В.Н. Первочеловек // Там же, т. 2. М., 2000Ь.
Топоров В.Н. Пуруша // Там же, 2000с.
Топорова Т.В. Язык и стиль древнегерманских заговоров. М., 1996.
Тэхке В. Психика и ее лечение. М., 2001.
Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лин¬
гвистике, вып. 2. М., 1962.
Успенский Б. А. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии
//Анти-мир русской культуры: Язык. Фольклор. Литература. М., 1996.
Фенихель О. Психоаналитическая теория неврозов. М., 2004.
Ференци Ш. Теория и практика психоанализа. М., 2000.
Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.
Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика, вып. 8. М., 1977.
388
Литература
Фрейд Анна. Эго и механизмы защиты // Анна Фрейд. Теория и практика дет¬
ского психоанализа. Т. 1. М., 1999.
Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции. М., 1989.
Фрейд 3. Психопатология обыденной жизни // Фрейд 3. Психология бессоз¬
нательного. М., 1990.
Фрейд 3. По ту сторону принципа удовольствия // Там же 1990а.
Фрейд 3. Анализ фобии пятилетнего мальчика // Там же, 1990b.
Фрейд 3. Я и Оно // Там же, 1990с.
Фрейд 3. Толкование сновидений. Ереван. 1991.
Фрейд 3. Скорбь и меланхолия // Фрейд 3. Художник и фантазирование. М.,
1994.
Фрейд 3. Жуткое // Там же, 1994а.
Фрейд 3. Достоевский и отцеубийство // Там же, 1994b.
Фрейд 3. Случай Человека-Волка (Из истории одного детского невроза) //
Человек-Волк и Зигмунд Фрейд. К., 1996.
Фрейд 3. Тотем и табу: Психология первобытной культуры и религии. М., 1998.
Фрейд 3. Характер и анальная эротика // Фрейд 3. Тотем и табу. М., 1998а.
Фрейд 3. Леонардо да Винчи. Воспоминания детства // Там же, 1998b.
Фрейд 3. Фрагмент анализа истерии (История болезни Доры) // Фрейд 3.
Интерес к психоанализу. Ростов-на-Дону, 1998с.
Фромм Э. Адольф Гитлер: Клинический случай некрофилии. М., 1992.
Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1998.
Фуко М. История безумия в классическую эпоху. М., 1997.
Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1994.
Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. В.В. Бибихина. М., 1997.
Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования. М., 1980.
Холмогорова А. Б. Психотерапия шизофрении за рубежом // Психологическое
консультирование и психотерапия. М., 1998.
Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972.
Шапиро М. Невротические стили. М., 2000.
Шкловский Б. Теория прозы. М., 1925.
Шкловский Б. Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М.,
1928.
Шпильрейн С. Деструкция как причина становления // Логос, 5, 1994.
Юнг К. Г. Воспоминания. Сновидения. Размышления. Киев, 1994.
Юнг К. Г. Психология dementia ргаесох // Юнг К. Г. Работы по психиатрии:
Психогенез умственных расстройств. СПб., 2000.
Якимович А. Сюрреализм и Сальвадор Дали // Дали С. Дневник одного гения.
М., 1991.
Якобсон Р.О. В поисках сущности языка // Семиотика. М., 1983.
Якобсон Р.О. Труды по языкознанию. М., 1985.
Якобсон Р.О. Работы по поэтике. М., 1987.
Якубик А. Истерия: Методология. Теория. Психопатология. М., 1982.
Ясперс К. Избранные труды по психиатрии. Т. 1.2. М., 1996.
Ясперс К. Общая психопатология. М., 1997.
Crow Т. Is schizophrenia the price that Homo sapiens pais for language? // Schizo¬
phrenia Research, 28, 1997.
Bartley W. Wittgenstein. L., 1973.
389
Вадим Руднев
Словарь безумия
Derrida J. La carte postale. De Socrates a Freud et au-dela. P., 1980.
Freud S. Neurosis and psychosis // Freud S. On psychopathology. N. Y., 1981.
Freud S. The Loss of reality in neurosis and psychosis // Freud S. On psychopa¬
thology. N. Y„ 1981a
Freud S. Inhibitions, symptom and enxiety // Freud S. Ibid, 1981b.
Freud S. Psychoanalytic notes on an autobiographical account of a case of paranoia
(dementia paranoides) // Freud S. Case Histories. II. N.-Y., 1981c.
Fromm E. The Forgotten language. N.Y., 1956.
Hintikka J. Knowledge and belief. Dordrecht, 1962.
Kohut H. The Analysis of Self: A Systematic approach to the psychoanalytic
treatment of narcissistic personality disorders. N.-Y., 1971
McGuinnes B. Wittgenstein: A Life. Ox., 1989.
Miller B. Could any fictional character ever be actual? // The Southern journal of
philosophy, 23, 1985.
Milne C. The Enchanted places. L, 1976.
Monk R. Wittgenstein. L., 1991.
Prior A. N. Time and modality. Ox., 1960.
Quine W. V. 0. From a logical point of view. Cambr. (Mass.), 1951.
Rank 0. Das Trauma der Geburt und seine Bedeutung fur Psychoanalyse. Leipzig,
1929.
Ronen O. The dry river and the black ice: Anamnesis and amnezia in Mandelstam’s
poem «Ja slovo pozabyl, cto ja hotel skazat’ // Slavica Hierosolumitana, v. 1,
1976.
Roudinesco E. Jacques Lacan: Esquisse d’un systeme de pensee. Paris, 1992.
Rowan J. Subpersonalities: The People inside us. L.; N.Y., 1991.
Szasz Th. The Myth of mental illness. N.-Y., 1974.
Taranovsky K. Essays on Mandels’tam. The Hague, 1976.
Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Cambr., 1967.
Woods J. The Logic of fiction. The Hague; P., 1974.
Zimmel G. The Philosophy of money. L., 1971.
Содержание
3 От автора
6 Апология истерии
12 Безумие и реальность
17 Безумная семиотерапия
23 Бессознательное психотика
30 Бред величия
37 Бред и речевой акт
41 Бред и язык
46 Бред преследования
52 «В чаще»
56 Вагина
61 «Винни Пух»
68 Витгенштейн Людвиг
73 Влечение к смерти и Штирлиц
78 Время и безумие
86 Галлюцинации
90 «Гамлет»
94 «Город Зеро»
98 Грандиозное Я
104 Грибы
109 Деперсонализация
115 Депрессия
120 Депрессия и психоанализ
127 «Елизавета Бам»
132 «Золотой век» и кататония
13 7 Иудушка Головлев
141 Кафка
144 Кафка глазами Юнга, Шкловского и Лакана
150 «Кругом возможно Бог»
156 «Курочка Ряба»
160 Любовь
166 Мать
170 Модальности
176 Монастырский Андрей
182 Невроз и психоз
185 Ноги
391
Вадим Руднев
Словарь безумия
191 Нормальная жизнь
197 «Облако в штанах»
202 «Обломов»
205 Обссесивный дискурс
211 Обсессия и культура
215 Обсессия и число
221 Отец — Имя Отца
226 Паранойя
231 Персеверация
235 Пространства безумия
240 Психическая смерть
245 Психоанализ рекламы
252 Психоанализ футбола
256 Психология денег
262 Психотический дискурс
268 Реальность
273 Сновидение
280 Субличности
285 Сумасшедший профессор
290 Сущность безумия
296 Схизис и многозначные логики
300 Тела безумия
303 Фаллос
306 Философия и паранойя
309 Фуко Мишель. «История безумия в классическую эпоху»
312 Характеры
315 Характеры и механизмы защиты
3 21 Характеры и модальности
327 Шизотипический дискурс
331 Шизотипический характер
335 Шизотипическое время
340 Шизофренический дискурс
345 Шизофрения
350 Шизофрения и XX век
356 «Школа для дураков»
361 Шрёбер Даниэль
363 Эпилептоидное тело без органов
368 Эпилептоидный дискурс
375 «Я слово позабыл, что я хотел сказать...»
378 Язык и безумие
384 Литература
392
Интернет-магазин
Психология
и психотерапия
X
«У Кроля»
т
ш
э
сэ
Книги
5
Г\
Видеокассеты
5
§
Аудиокассеты
29
29
Тренинги
В
Консультации
■Э
§
Для начала несколько тезисов, которые легко проверить.
29
Мы занимаемся психологией и психотерапией очень давно (и даже
Я
ас
сами признаем, что достигли в этих областях ощутимых успехов).
29
Путешествие по Интернету, психологическим центрам и книжным
29
Л
магазинам навело нас на мысль, что психология и психотерапия
Л
по-прежнему пользуются любовью людской.
а
Море... Образовалось огромное море информации!
И к сожалению «воды» в нем все прибывает...
ь-<
О
Вот тут мы и подумали, что будет правильным решением
привлечь наши профессиональные ресурсы для оценки
•
Н-1 •
различных предложений на качество, и помочь сформировать
Ю
•
рынок гарантированно хорошего психологического
и психотерапевтического продукта.
со
ТЗ
•
Мы выступаем гарантами качества!
С
Всё очень просто:
Вы заполняете форму - Мы исполняем заказ.
кго11лд15р.ги
5
Длительные
С
обучающие (сШ/Ш
<Е
с.
ш
программы
О
V
ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
5
• ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
• ПСИХОДРАМА
5
• ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ
• НЕЙРО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
5
• ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ И ТЕРАПИЯ
• ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКУЮ ПСИХОТЕРАПИЮ
о
• ЮНГИАНСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
с
о
X
• СИСТЕМНАЯ СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ
Любую из этих программ Вы можете заказать в Ваш город, и наши тренеры
зг
в течение двух или трех пет будут приезжать к Вам 3 раза в год. А для этого
Уш>
Вам нужно набрать группу людей (около 20 человек), разделяющих Ваши
С
интересы и готовых учиться методу или самосовершенствоваться. Группа
>5
о
оплачивает работу тренера, его проезд, питание и проживание, а также
Ваши организационные усилия.
X
Выступая координатором учебной программы, Вы получаете не только
>х
систематизированные знания и отточенные навыки, но и возможность:
ш
• учиться, не отрываясь от дома,
ш
• создать в своем городе круг профессиональной поддержки,
ш
• дополнительно заработать,
и
• получить льготы на обучение по другим программам.
X
Если у Вас в городе набирается несколько "заинтересованных" лиц, но для
>5
целой группы их недостаточно, звоните нам - вместе мы найдем решение,
О
потому что в других местах наверняка есть люди с аналогичной ситуацией.
С2
И даже если Вы в своем городе единственный житель, заинтересованный в
О
с
таком обучении, проявляйте свой интерес активно - возможно, в почти
укомплектованной группе именно Вас не хватает, чтобы начать работать.
Программы адресованы как специалистам в области помогающих профес-
л
сий (психологам, врачам, педагогам, социальным работникам), так и любозна-
Сш
тельным и заинтересованным в благополучии семьи, близких и коллег.
■а
Приглашаем Вас присоединиться к сообществу профессионалов.
«Л
1—
обученных по международным стандартам и уверенно чувствующих
5
себя в психотерапии.
и
(095) 924 1807, 924 1776
5
\ллу\улд15р.ги Е-таИ: хд18р@1д15р.ги
Психодрама
Длительная программа
с Екатериной МИХАЙЛОВОЙ
Создатель психодрамы Дж. Морено задумывал ее как
систему ролевой игры, отражающую внутренний мир
человека и социальное поведение. Сегодня
психодраматические техники успешно используются не
только в медицине: весь ролевой тренинг, все игровые
подходы в педагогике выросли из классической
психодрамы. Правильно используя ее элементы, можно
лечить, учить, воспитывать и стимулировать личностный
рост. Можно обнаруживать внутренние конфликты
и тут же работать с ними, моделировать будущее,
оплакивать утраты и открывать в себе новые возможности.
Это - солидный метод, имеющий, как полагается, историю,
теорию и модификации, а также традиции и четкие
"цеховые" стандарты. Но одновременно - очень живой
метод, требующий от профессионала спонтанности,
творческой изобретательности, здравого смысла,
чувства трагического и чувства юмора,
часто - всего сразу.
В ПРОГРАММЕ:
• Психодраматический букварь: рабочие понятия и базо¬
вые техники психодраматической практики.
• Структура психодраматической сессии: разогрев, стадия
действия, завершение.
• Сеттинг и терапевтический контракт в психодраме.
• "Виньетки" и полная психодраматическая сессия.
Программа рассчитана на врачей, психологов, педагогов, тренеров
корпораций, социальных работников. В зависимости от состава
учебной группы возможно усиление акцента на терапевтическом,
обучающем или супервизорском использовании метода.
(095) 924 1807, 924 1776
ил/тлдгзр.ги Е-таП: 1д15р@1д1зр.ги
5
Психологическое
Л"
консультирование
С.
ш
- Почему человек имеет два уха и один рот?
- Потому что нам надлежит слушать в два раза больше, чем говорить.
О
и
(из Талмуда).
и
с
Консультирование - один из основных инструментов
чр
в области интеллектуальных технологий. Консультативная
практика применяется: в организациях, в медицине и психотерапии,
в образовании, в кадровой и менеджерской работе. В настоящее время
2»
в каждой из этих областей накоплен значительный потенциал знаний
о
и опыт практического использования различных техник
с;
консультирования, который может быть полезен для специалистов
О
других сфер практики.
X
Целями данной программы является обучение основам
шйЬ
и
психологического консультирования и освоение наработанных в
с
различных областях практики консультационных методов и техник.
>5
О
ПРОГРАММА состоит из 7 циклов, каждый из которых может быть заказан
X
в любом сочетании или самостоятельно:
ш
• Основы психологического консультирования.
СЕ
• Семейное консультирование.
ш
• Методы действия в консультировании.
X
• Гештальт-консультирование.
• Психоаналитическое консультирование.
>х
• НЛП в консультировании.
О
• Консультирование и супервизия.
«а
О
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
с
1. Вы можете заказать один цикл программы для ознакомления
с основами метода.
71
а
2. Мы предоставляем возможность модификации представленной
1-
31
программы под задачи заказчика.
3. Вы можете купить подробное описание программы.
При последующем заказе программы стоимость описания будет
»-
исключена из оплаты тренинга.
Н-
и>
I
(095) 924 1807, 924 1776
X
у\л/\пулд18р.ги Е-таИ: 1д1зр@1д18р.т
Психология
5
для жизни
X
а
Тренинг - это игра, « })
в которую играют взрослые люди,
1С
чтобы выиграть в жизни.
—1
Чем отличается общение в тренинговой группе , что в нем особенного,
■о
чего нельзя найти в семье или компании друзей?
1Е
Группа - едва ли н единственное место, где люди действительно друг
3
другу интересны, смотрят и слушают с вниманием. Здесь можно наконец
сосредоточиться на себе и чувствовать себя удобно, потому что все дру-
о
гие тоже пришли за этим. Более того, группа - это место, где разные
а
люди помогают друг другу думать о себе, о своих чувствах и желаниях.
О
ТРЕНИНГИ «ВЫХОДНОГО дня»
Я у себя одна! Здесь каждая женщина сможет узнать о себе и о своей
х
жизни - настоящей, прошлой, будущей - множество секретов, сможет
т
решить для себя множество важных вопросов.
Сундук с наследством. Это не вызывание духов, это - работа с памятью
т
и фантазиями о прошлом, которые есть у каждого.
Танец женской души. Через движение, голос и танец Вы познакомитесь
со многими проявлениями мудрой Первозданной Женщины, которая жи-
X
О
5<
вет внутри каждой из вас, узнаете дорогу к своему источнику творчества.
Тренинг женского легкомыслия. Секреты обаяния, любви к своему телу
3
и душе - все, что нужно именно Вам, чтобы чувствовать себя Настоящей
П
5
Женщиной.
X
Про деньги. «Деньги - это пятая стихия, созданная цивилизацией для
О
овладения природой. Как и все стихии, деньги вне добра и зла и при
3
этом вечно творят и то, и другое» - Магистр социологии Маменто Мани.
О
ДЛИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ
“1
5
Семейный альбом. Нам часто говорят, что мы похожи на кого-то из род-
X
ственников. А хотим ли мы повторять судьбу своих предков?
5
Я - женщина. Самым восхитительным, тем, кто любит, учит, воспитывает,
3
лечит, делает дом домом... Вам, женщины. Три часа каждую неделю -
г\
время только для себя и своих потребностей.
X
«Управление своей жизнью. Тренинг самодостаточности». Тренинг
для тех, кто хочет ощутить перемены в жизни, кому интересно научиться
X
О
взаимодействовать с собой, с другими людьми и окружающим миром,
т
кому нужны его собственные способности и замыслы.
■о
0 наших программах и расписании тренингов:
тЫ
3
(095) 924 1807,924 1776
м\л/\ллглд18р.ги Е-таП: 1дх5р@1д1$р.ги
5
X
г*
м
СИ
<м
с*
Чтобы персонал
приносил прибыль,
его надо обучать
Уважаемые господа!
Центр обучения персонала «КЛАСС», успешно работающий
на рынке тренинговых услуг с 1992 года, предлагает Вам программы
обучения Ваших сотрудников.
Центр входит в десятку лучших тренинговых компаний страны
и известен как компания, в которой работают тренеры высочайшего
класса. Мы работали с такими компаниями, как Лукойл, Дизель,
Эйвон, Ризолит, Межкомбанк, Межпромбанк, Промрадтехбанк,
Мосбизнесбанк, банк "Зенит", Шелл, Ксерокс, компания "Нестле",
Хенкель, БНЬ, Ист-Лайн, "Московские окна", "Первая тренинговая
компания", Межпромбанк, Бритиш Петролеум, Химпромресурс,
М-видео, Проплекс и др.
МАСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ: "Эффективное совещание", "Умейте управлять
конфликтами!", "Успешные переговоры", "Навыки успешного секретаря",
"Практические навыки менеджера", "Ситуационное руководство и
лидерство", "Как сделать команду командой?", "Новые технологии
оценки персонала", "Управление персоналом: мотивирование, поощре¬
ние, наказание, увольнение", "Аттестация сотрудников".
ИСКУССТВО ПРОДАЖ: "Прямые продажи по телефону", "Продажа мечты",
"Успешные продажи страховых услуг", "Навыки эффективных продаж"
(продвинутый курс).
ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ: "Мастер-класс телефонного общения "ГОВОРИТЕ!",
"Как оценить партнера и извлечь из этого выгоду?1', "Эффективная
коммуникация", "Управление контактом в деловом общении", "Искусство
презентации. Самопрезентация", "Пришел! Увидел! Убедил!" - навыки
внушения в бизнесе.
РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ: "Маркетинг как инструмент успешного бизнеса",
"Эффективные техники воздействия в рекламе".
ЭФФЕКТИВНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: "Сам себе органайзер", "У1Р- имидж",
"Стрессменеджмент", "Тайм-менеджмент".
ЭКСКЛЮЗИВ: ТРЕНИНГ ТРЕНЕРОВ, "Диагностика основных проблем органи¬
зации", "Как устроиться на хорошую работу?", "Психологическая
безопасность в бизнесе", "НЛП в бизнесе", "Психоанализ как тайное
орудие начальника", Клуб менеджеров по персоналу и тренеров
"КЛАСС".
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЫ ГОТОВЫ СОЗДАТЬ
ПРОГРАММУ, В КОТОРУЮ ВОЙДУТ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ ТЕМ.
Подробную и более полную информацию о работе Центра
Вы можете узнать, посетив нашу страницу в Интернет:
Шр://у\гутлд1зр.ги/р*с/тат/
Тренинг
тренеров
Уважаемые господа!
Мы предлагаем программу, которая поможет подгото¬
вить Вашего специалиста к самостоятельной работе
по обучению сотрудников.
Информация о программе
Результатом пятнадцатидневного курса становится умение самостоятельно
разрабатывать и проводить тренинги любой тематики, используя при этом
весь возможный инструментарий профессионала. По окончании программы
каждому участнику выдается Сертификат.
I цикл. «ИЗ ПУНКТА А В ПУНКТ Б» - карта будущего тренинга
Еще до встречи с тренинговой группой тренер должен понять и помочь сфор¬
мулировать запрос. Понимание цели, возможности ее достижения, своей пози¬
ции и ролей - еще одна из задач этого цикла. Работа над соответствием формы
предъявления и содержания будет моделироваться в фрагментах тренинга
«Искусство презентации». На этом цикле мы займемся умением сформировать
учебную группу, понять ожидания участников, «разогреть» их для работы.
II цикл. ЧТО ПОНАДОБИТСЯ «НА МАРШРУТЕ» -
снаряжение и инструментарий тренера.
Этот цикл посвящен умению подбирать и конструировать отдельные упражне¬
ния для тренинга. Участники получат немало готовых техник, наберут в свои
«рюкзаки» много новых и полезных инструментов. Умение модифицировать уп¬
ражнения «под задачу» будет рассмотрено на модели тренинга «Техника про¬
даж». В процессе работы будут созданы условия для роста креативности уча¬
стников, рассмотрены «крупным планом» возможности работы с инструкцией,
временем, пространственной организацией интерактивных техник.
III цикл. ПОДВОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ИЛИ ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР?
(стратегии и техники управления групповым процессами).
Конструирование упражнений и управление групповым процессом - две сто¬
роны одной медали, а мастерство тренера, его квалификация заключаются в
том, как эти две стороны соотносятся, взаимно учитывают друг друга. Возмож¬
ности воздействия на групповые процессы будут рассмотрены на модели тре¬
нинга «Командообразование». Участники смогут рассмотреть множество тех¬
ник работы с групповой динамикой в группах разного состава и формата.
IV цикл. ПО СХЕМЕ, ПО ЗВЕЗДАМ, ПО КОМПАСУ...
(ориентиры планирования и оценки тренинга)
На этом цикле участники смогут увидеть общую картину создания и проведе¬
ния тренинга, опробовать отдельные фрагменты в тренерской позиции и полу¬
чить обратную связь. Будут рассмотрены различные варианты завершения
тренинга и подходы к оценке его результатов. Отдельное место в цикле займет
выбор стиля работы, его «привязки» к цели тренинга, корпоративной культу¬
ре, особенностям групп, индивидуальному почерку тренера.
V цикл. ГЛУБОКАЯ РАЗВЕДКА:
полный «технологический цикл» тренинга.
Участники заключительного цикла смогут создать и опробовать программу соб¬
ственного тренинга по выбранной им тематике.
Шр://утшлд18р.ги/р*с/тап1/
«О
Ш
О
го
В. П. Руднев
СЛОВАРЬ БЕЗУМИЯ
Редактор В. Шухмин
Ответственная за выпуск И. Тепикина
Компьютерная верстка А. Масаев
Главный редактор и издатель серии Л. Кроль
Научный консультант серии Е. Михайлова
Изд. лиц. № 061747
Гигиенический сертификат
№ 77.99.6.953.П. 169.1.99. от 19.01.1999 г.
Подписано в печать 10.11.2004 г.
Формат 60x88/16. Гарнитура Ньютон. Печать офсетная.
Уел. печ. л 25. Уч.-изд. л. 22,4. Тираж 2000 тыс. экз.
Заказ № 11117
М.: Независимая фирма «Класс», 2005. - 400 с.
103062, ул. Покровка, д. 31, под. 6.
Е-таИ: щ1зр@ цЦзр.га
1п1ете1: Ьир://\у\у\у. 1§1 зр.ги
18ВЫ 5-86375-061-8 (РФ)
Отпечатано в ППП «Типография НАУКА»
121099, Москва, Шубинский пер., 6.
Вадим Руднев
СЛОВАРЬ БЕЗУМИЯ
Вадим Руднев — филолог, философ, семиотик, доктор филологических
наук, ученик Ю.М. Лотмана, Б.М. Гаспарова и В.Н. Топорова. Автор вось¬
ми книг: «Морфология реальности», «Винни Пух и философия обыден¬
ного языка», «Прочь от реальности», «Энциклопедический словарь куль¬
туры XX века», «Метафизика футбола», «Божественный Людвиг: Витген¬
штейн — формы жизни», «Характеры и расстройства личности», «Тайна
Курочки Рябы: Безумие и успех в культуре».
Что такое безумие? Это не оркестр без дирижера, как любил говорить
Блейлер о шизофрении, но сложнейшая симфония, которая тем, кто плохо
разбирается в музыке, может показаться бессмысленным набором звуков.
Безумие — это не просто расщепление «Я», но расщепление «Я» на мно¬
жество калейдоскопических осколков, которые, если встряхнуть калейдо¬
скоп, начинают светиться сложнейшими узорами. Ошибка нормальных
людей, если таковые на земле еще остались, состоит в том, что они редко
встряхивают характерологический калейдоскоп своих безумных друзей и
знакомых. «Словарь безумия» является попыткой хорошенько встряхнуть
этот безумный калейдоскоп.
Вадим Руднев
13ВЫ 5-86375-061-8
независимой фирма
105062, Москва, ул. Покровка, д. 31, под. 6‘
(095) 917 8291, 917 8020, 917 8028